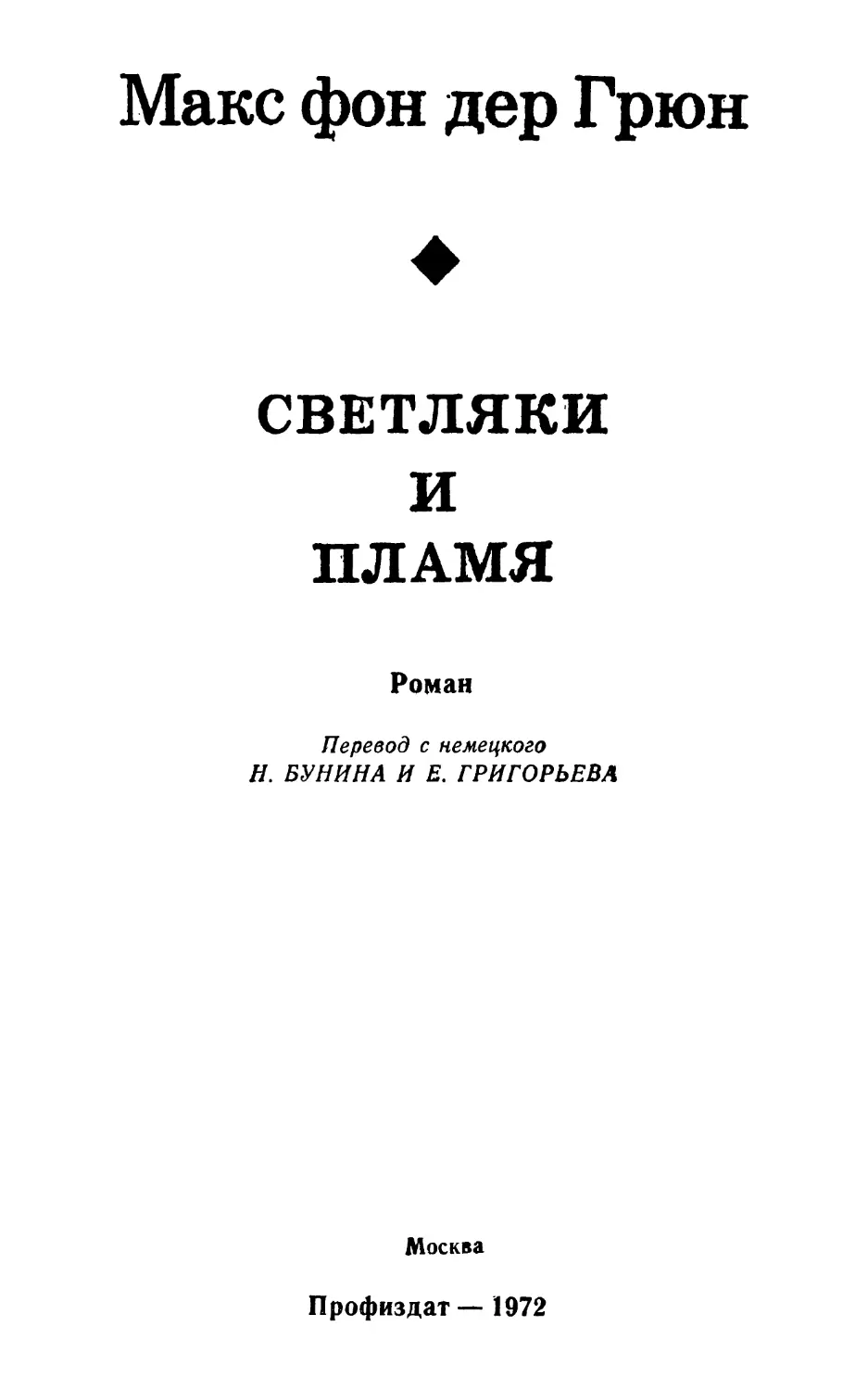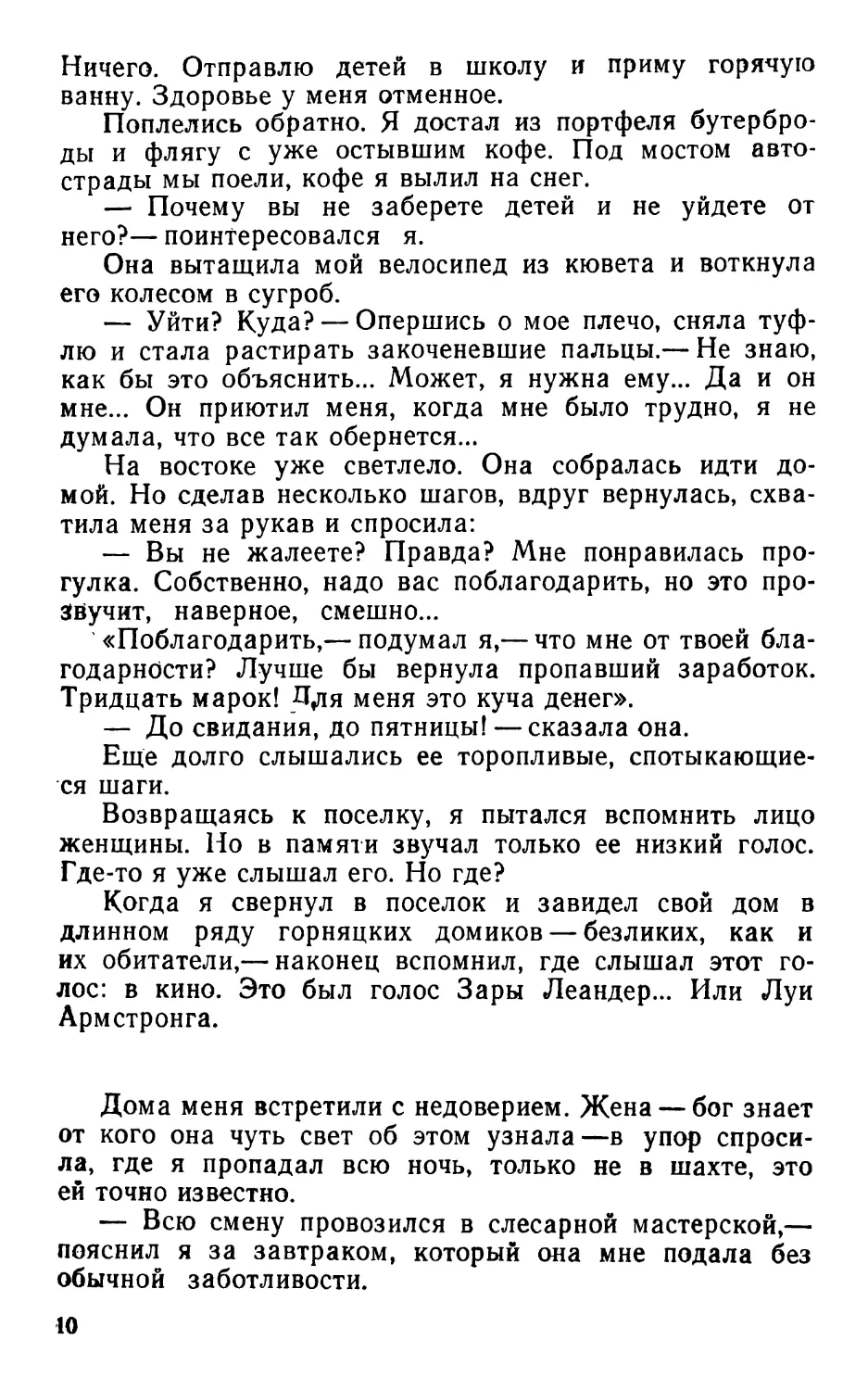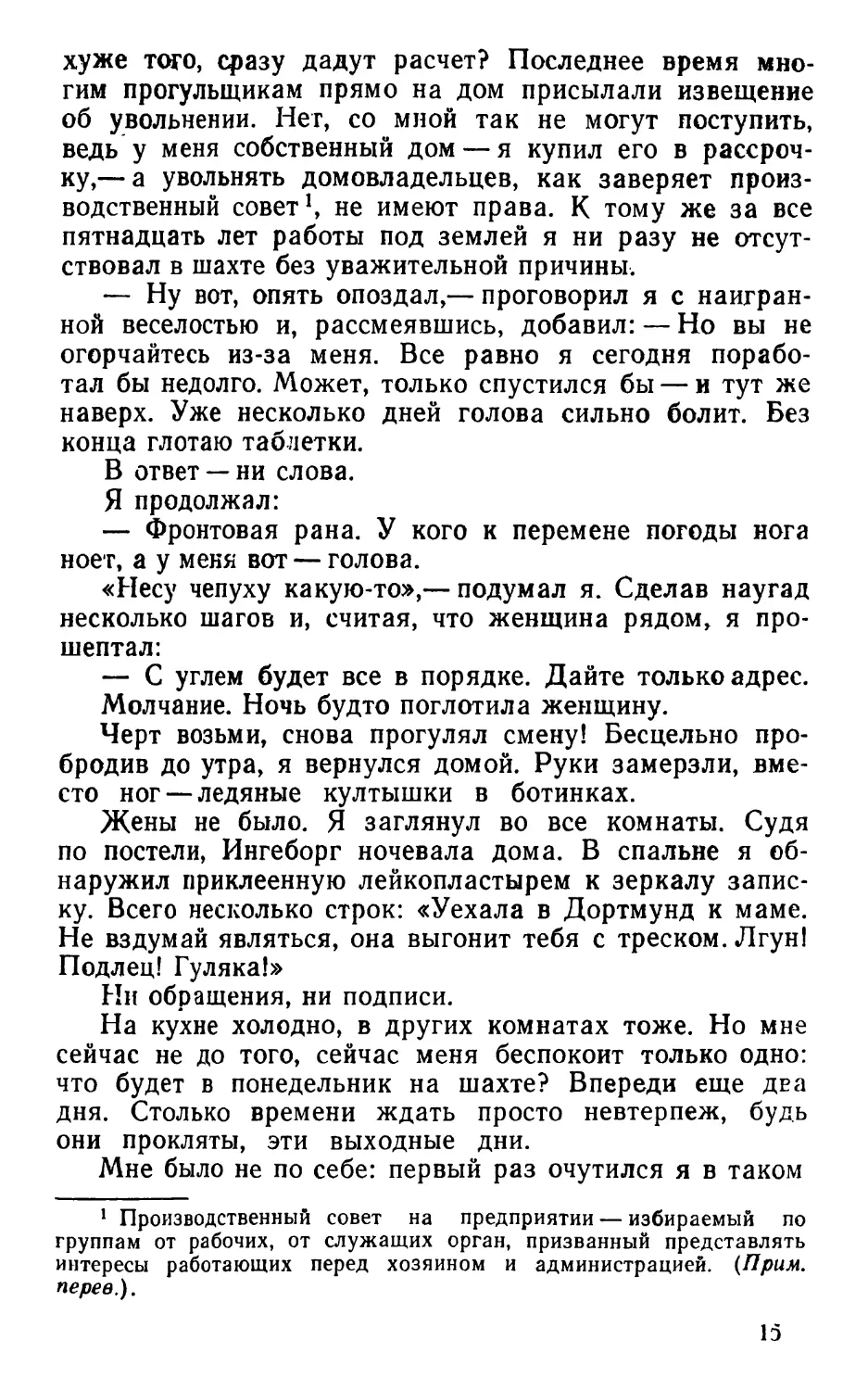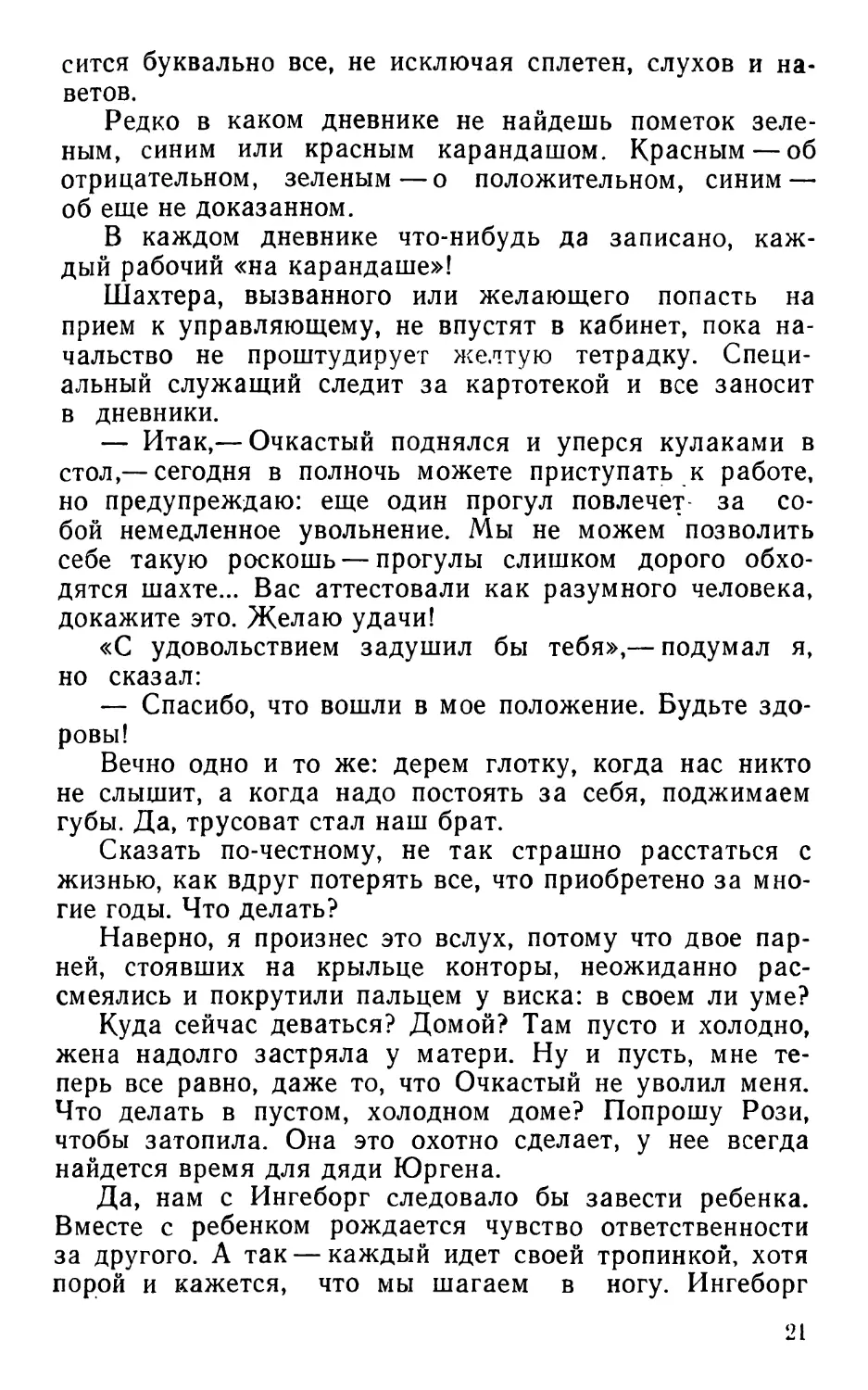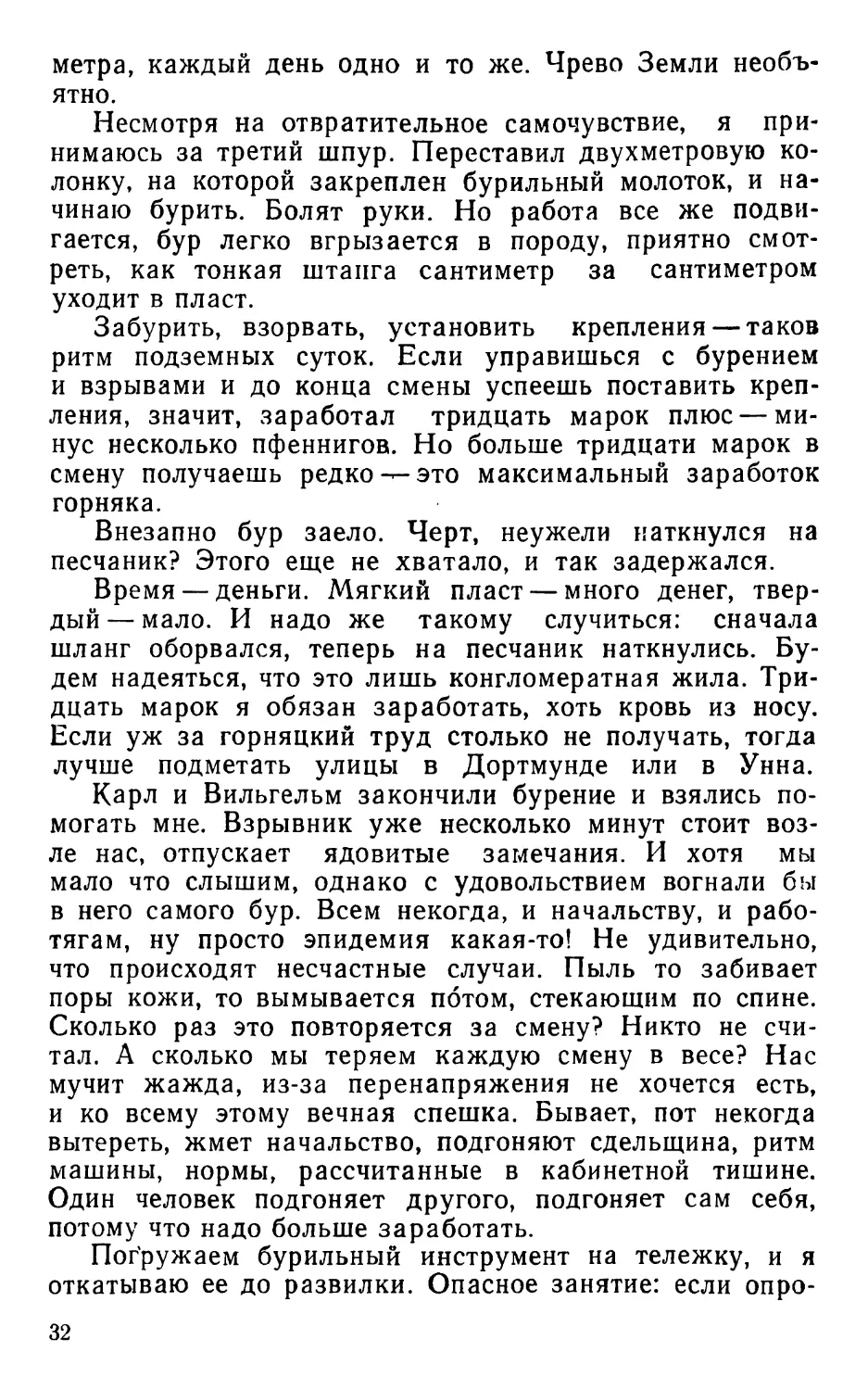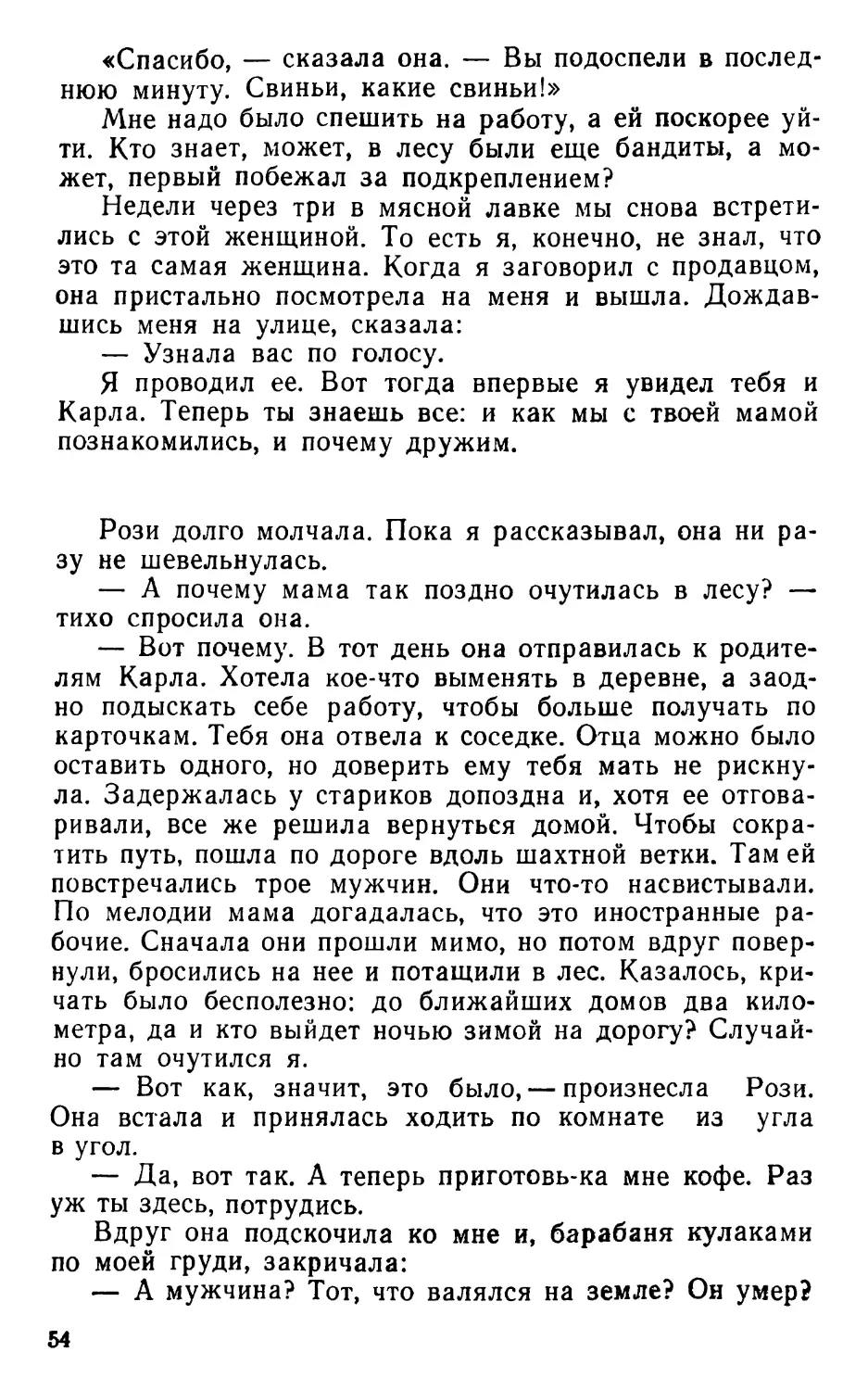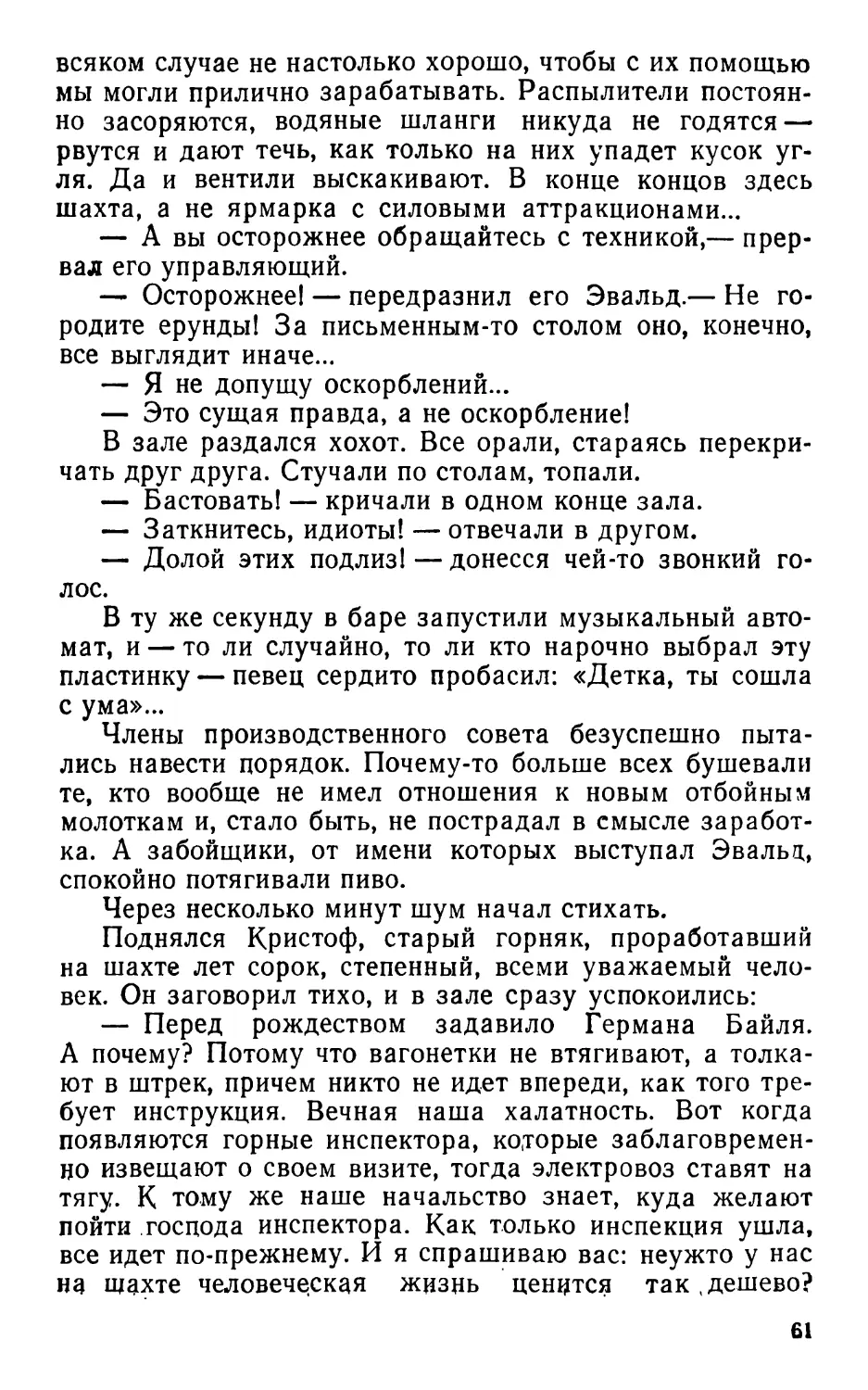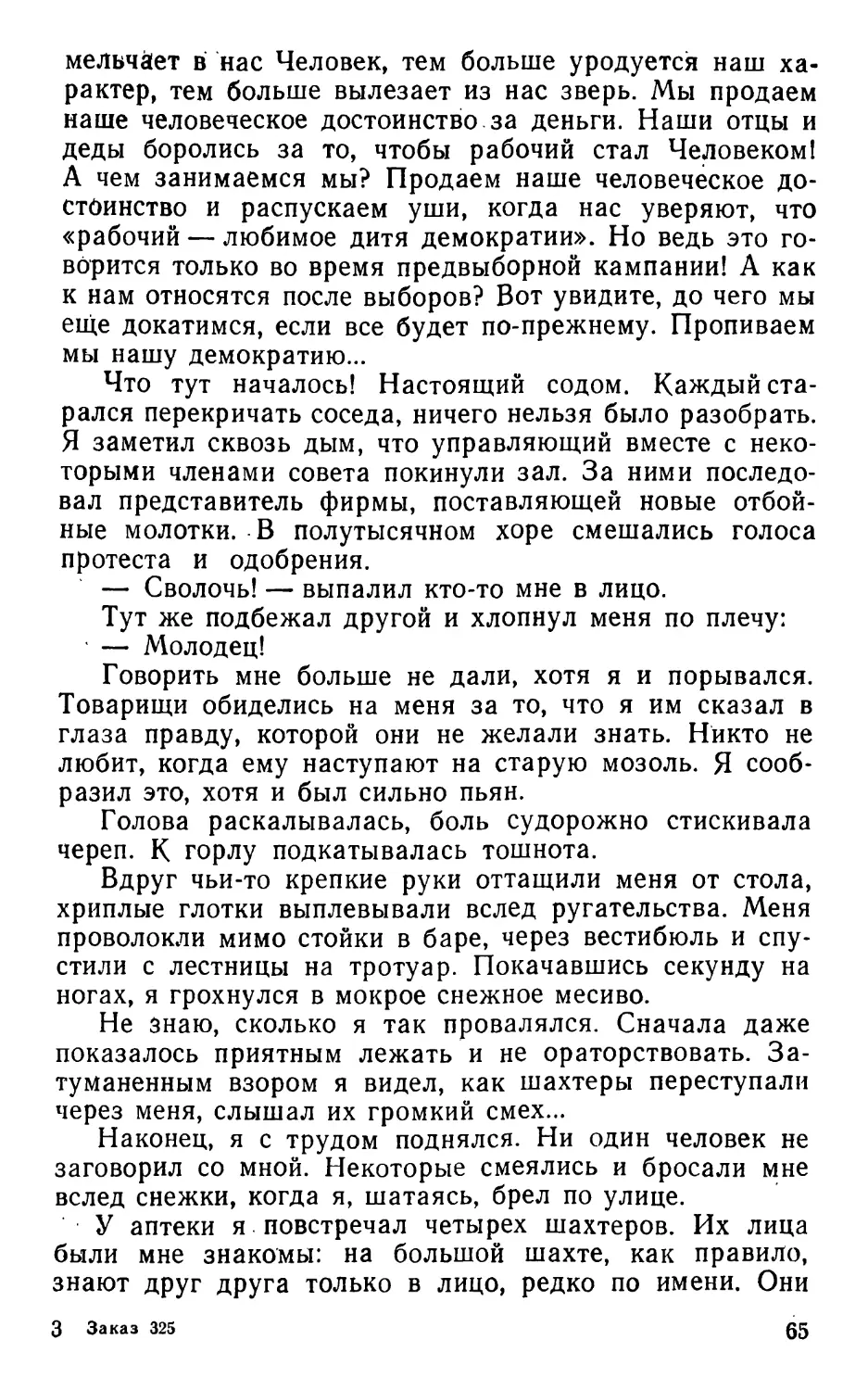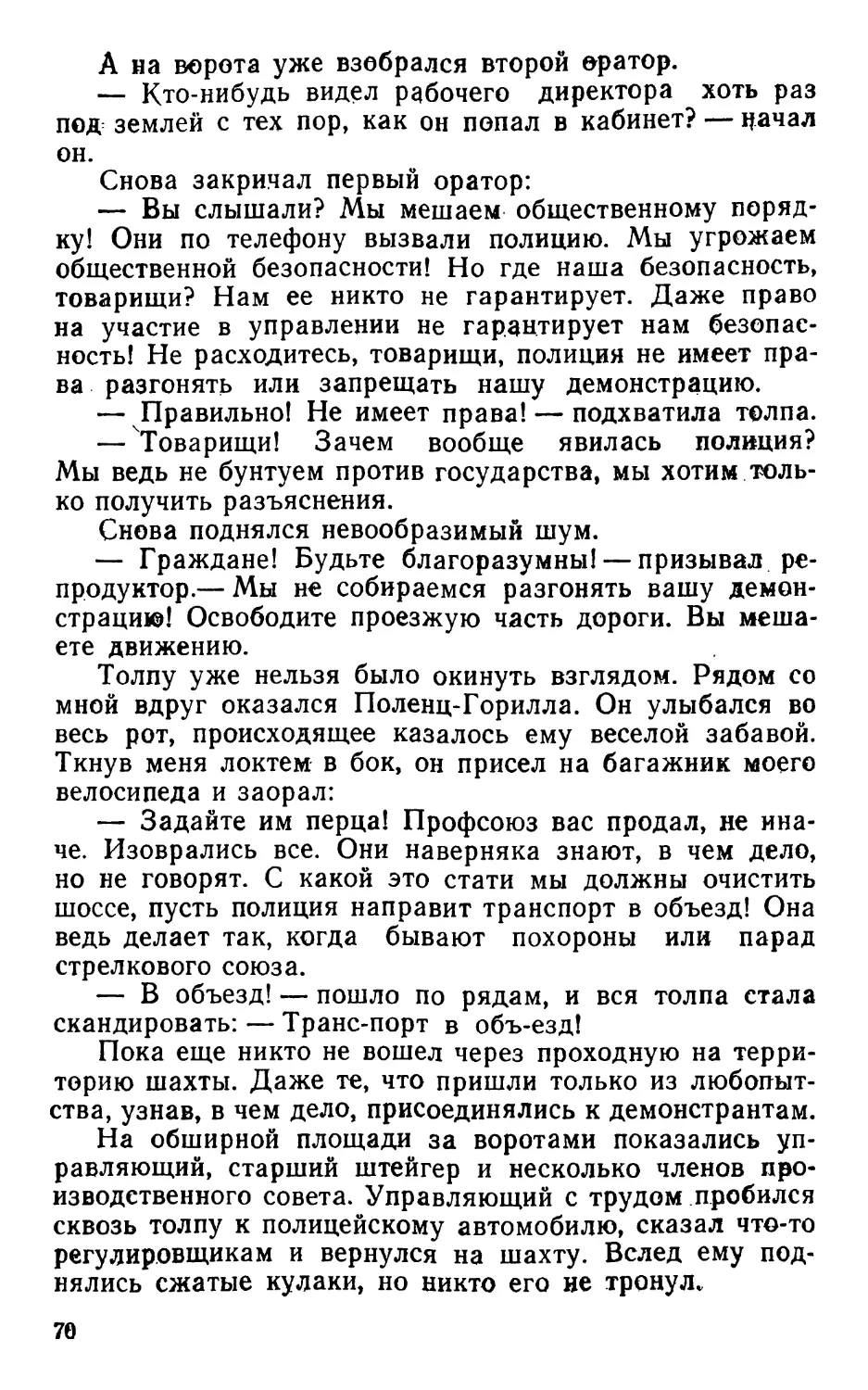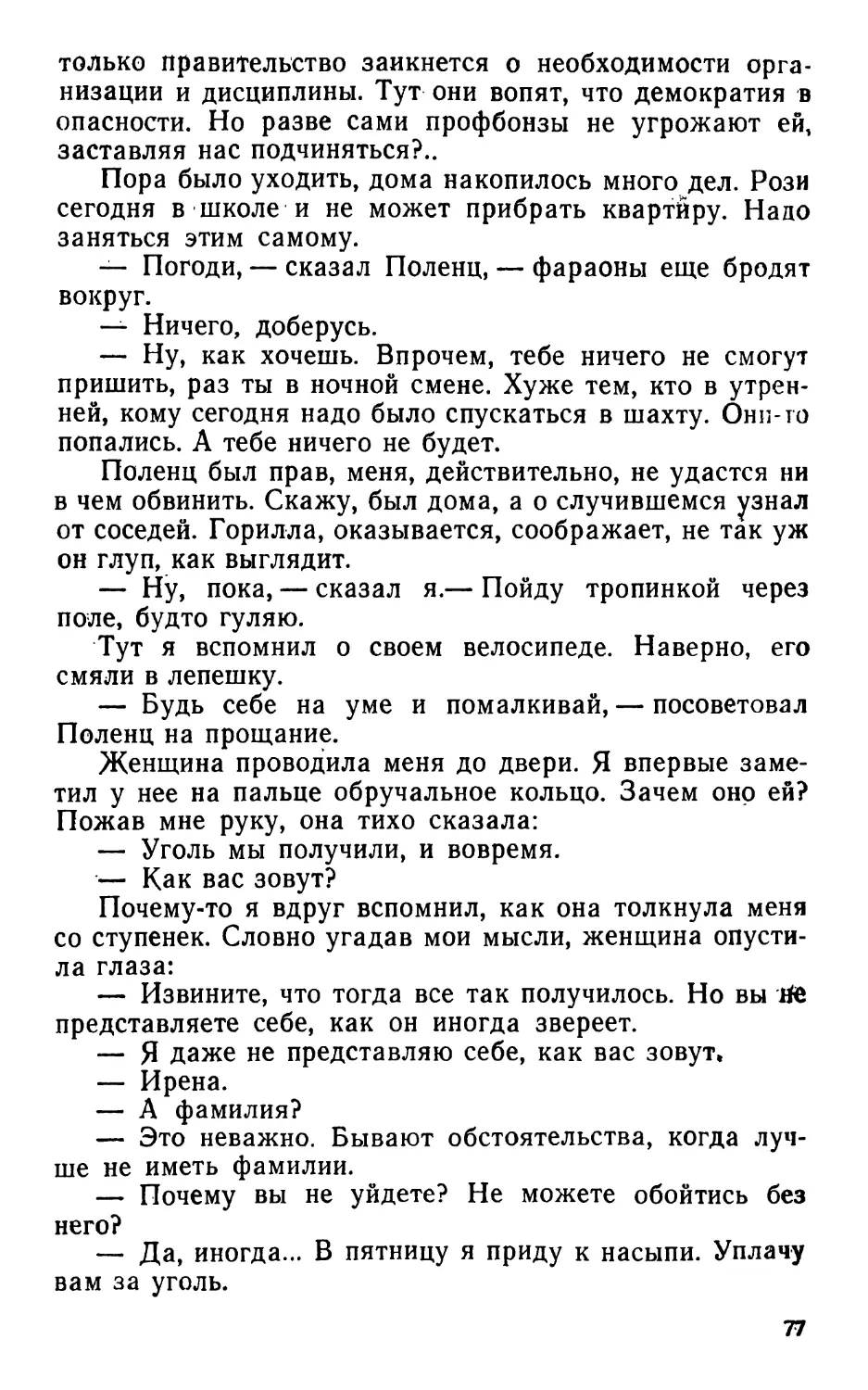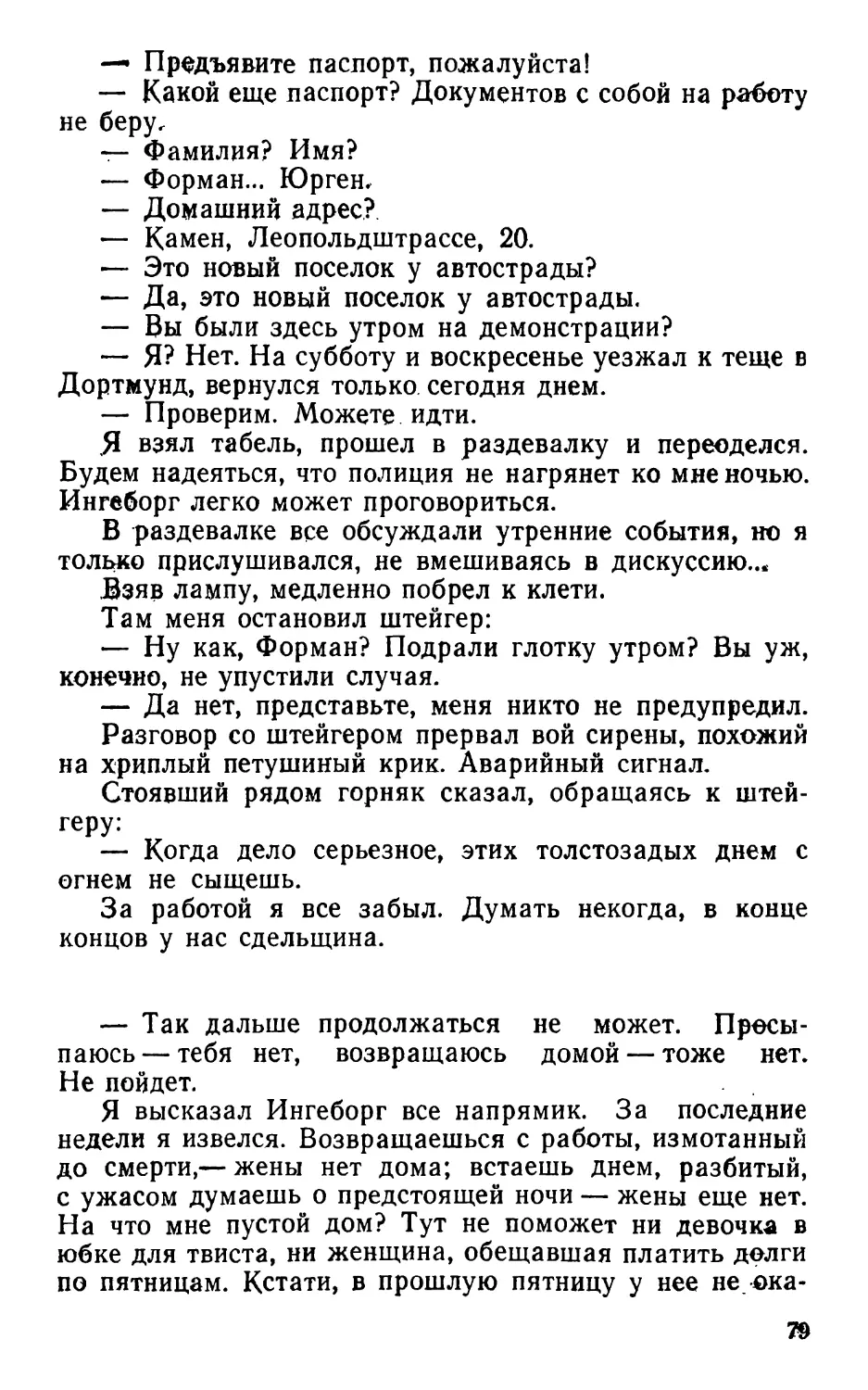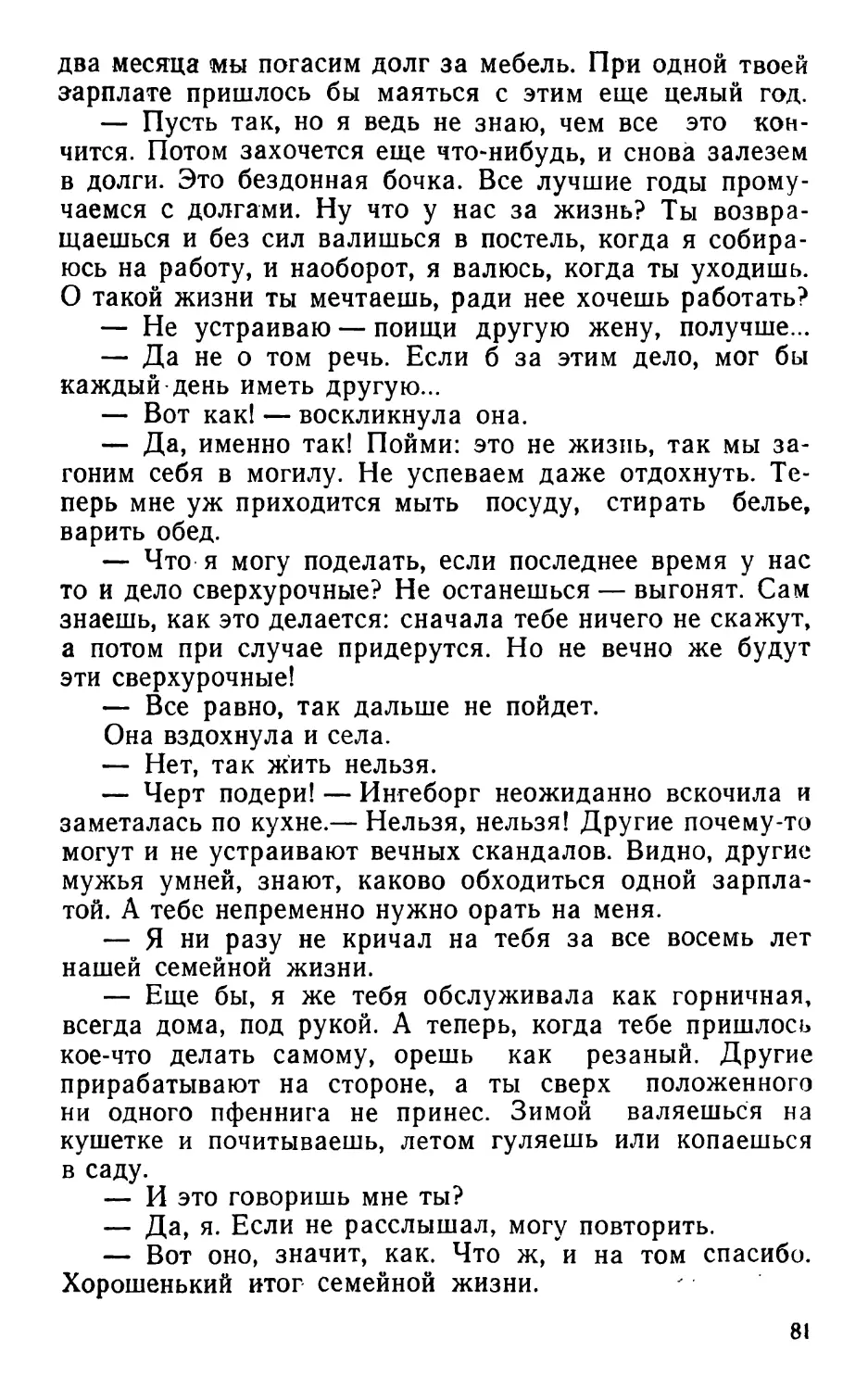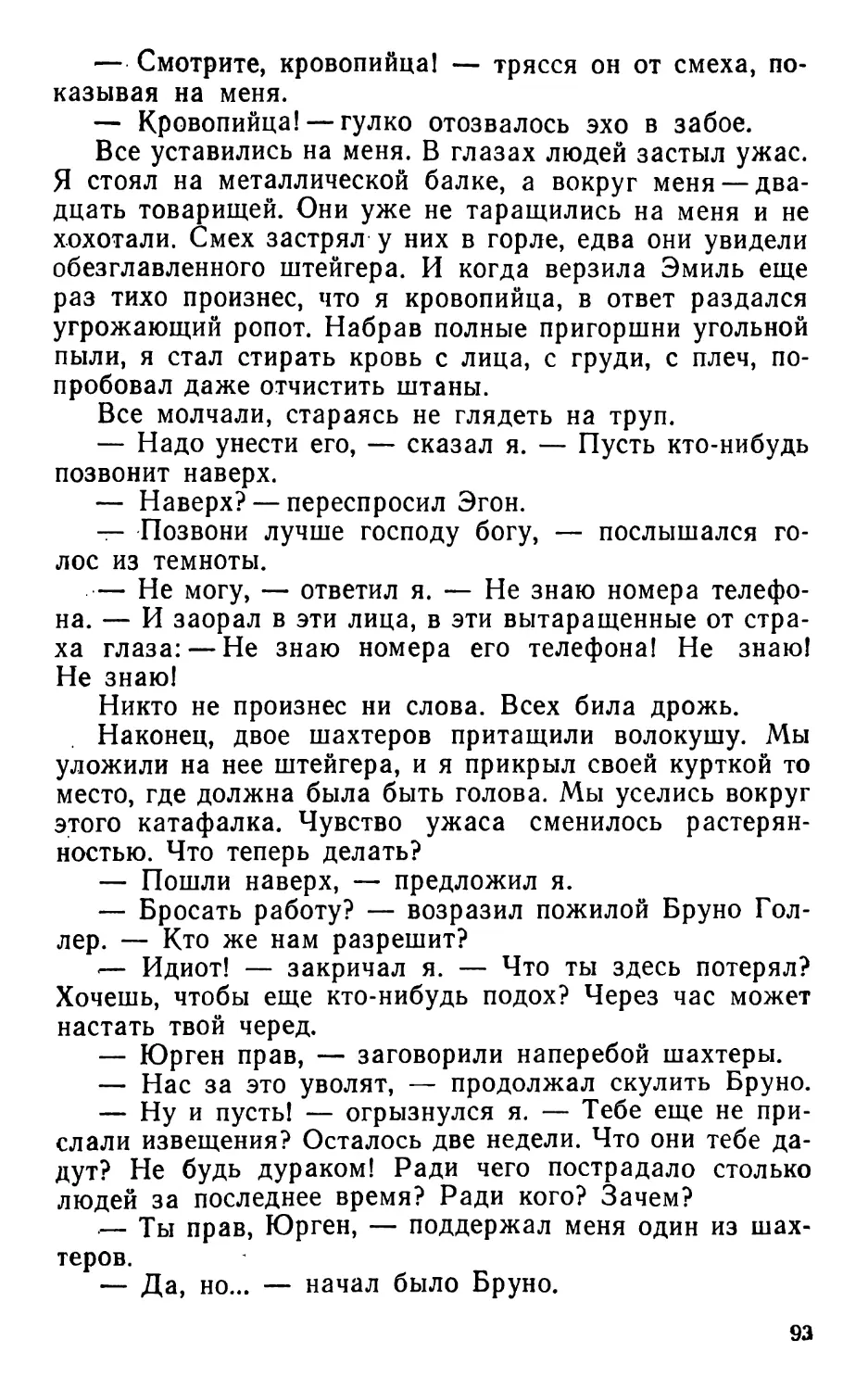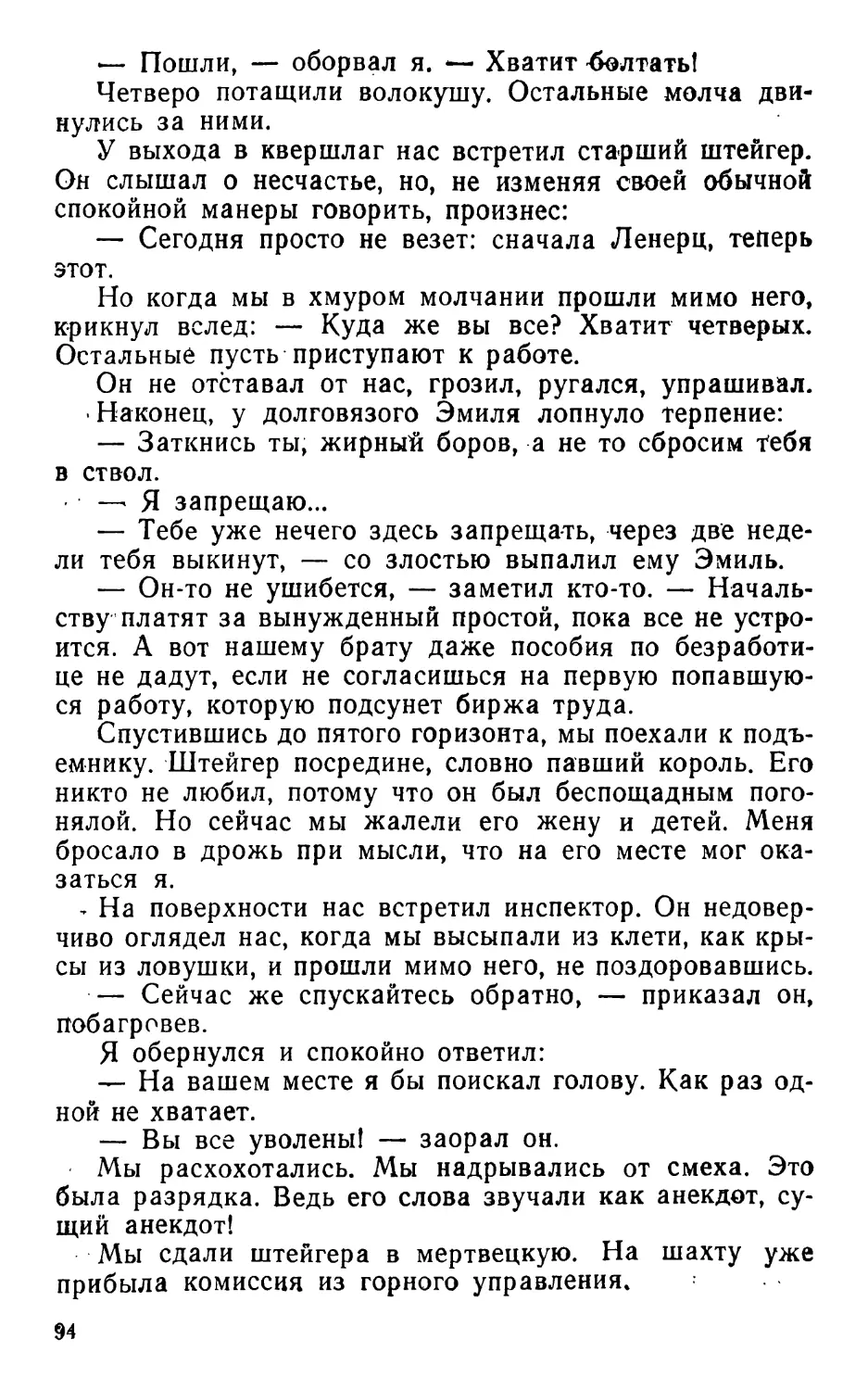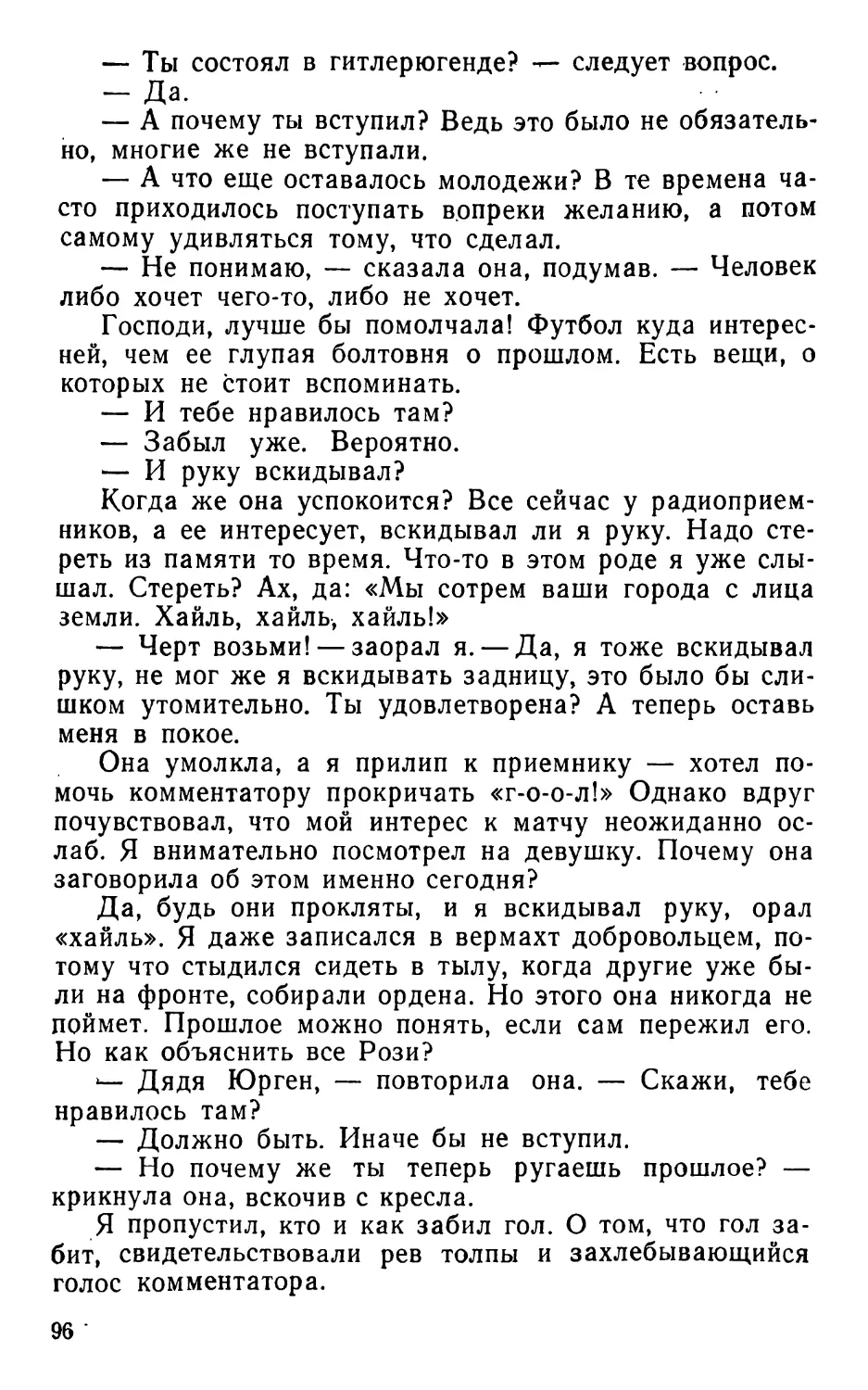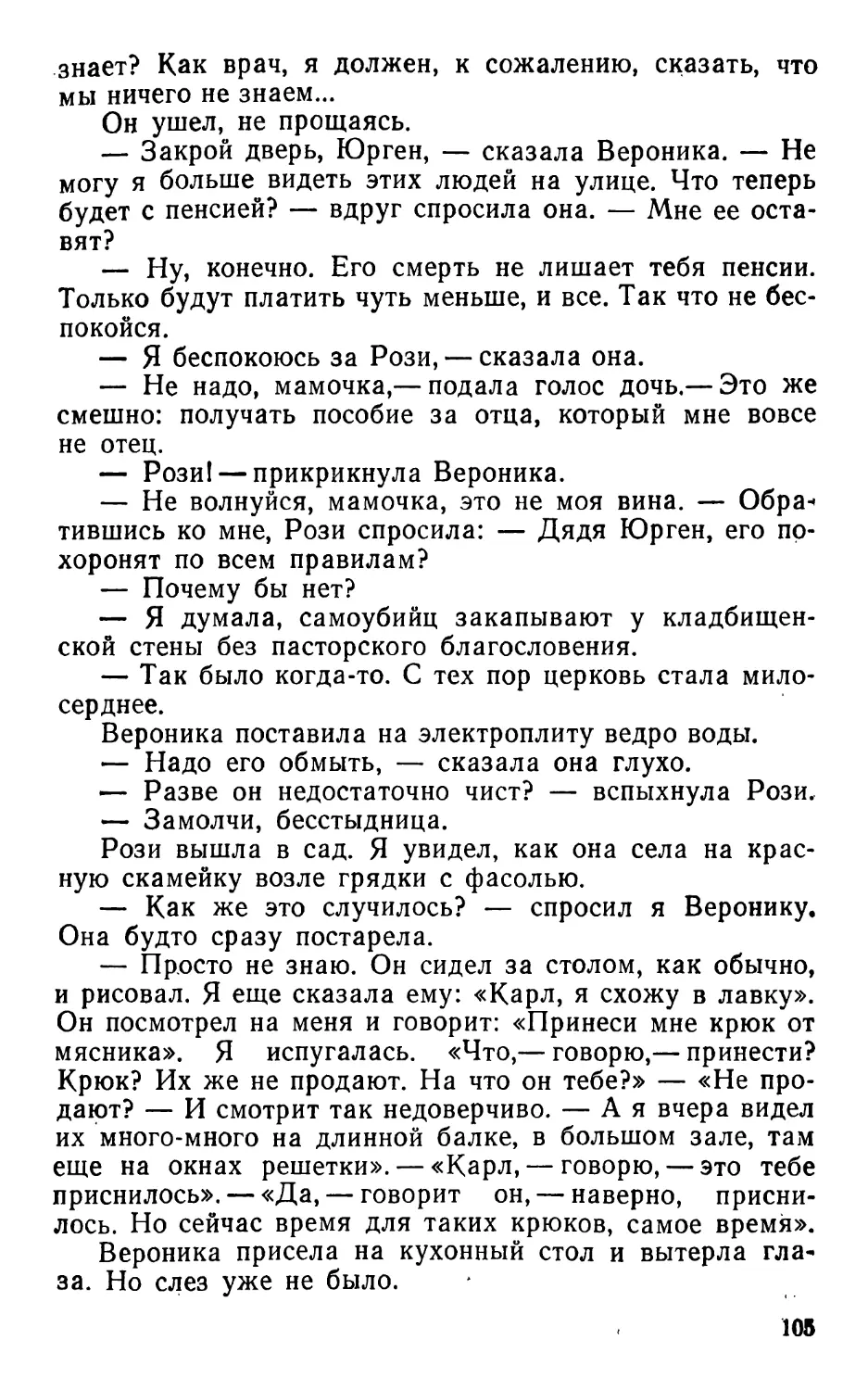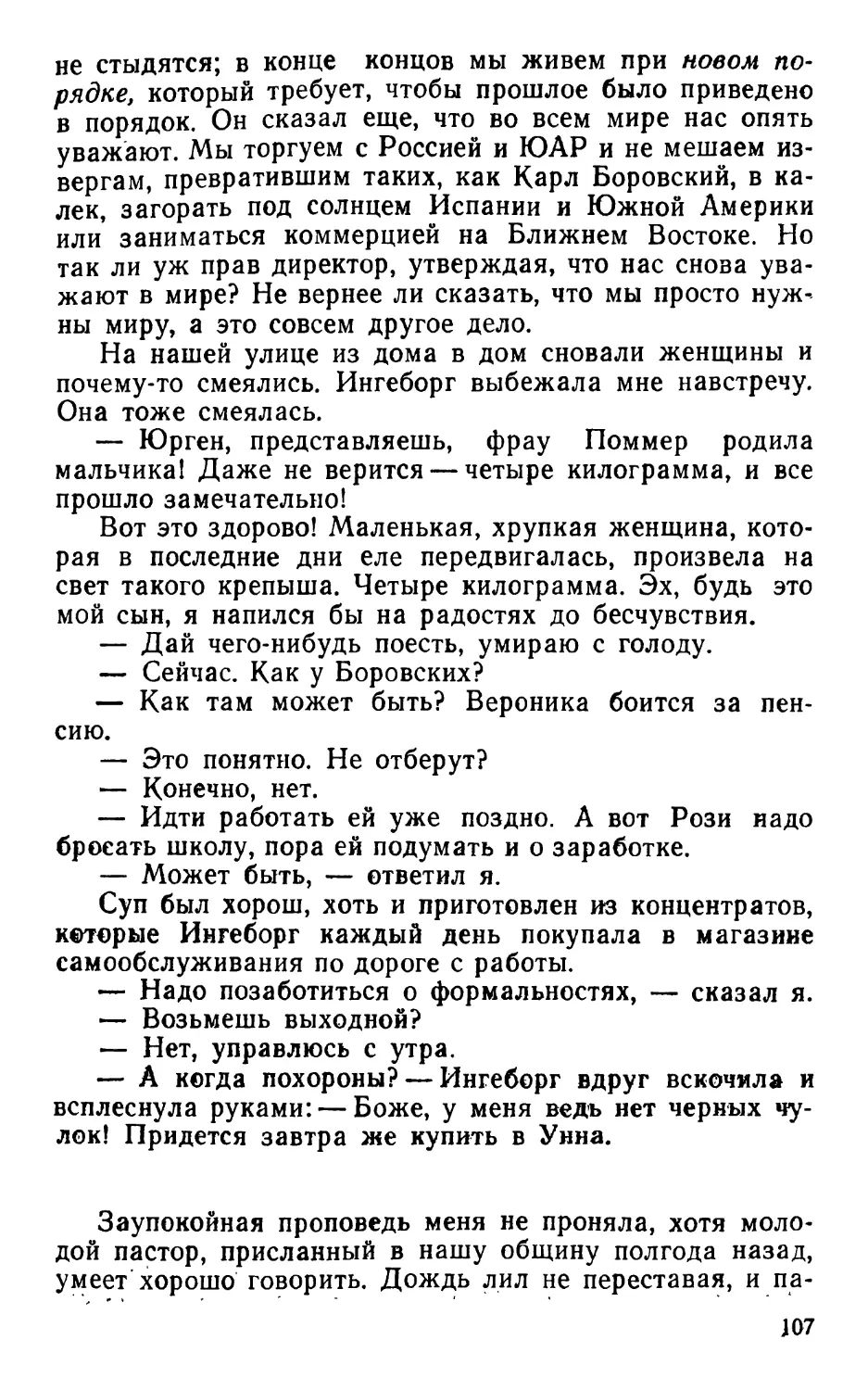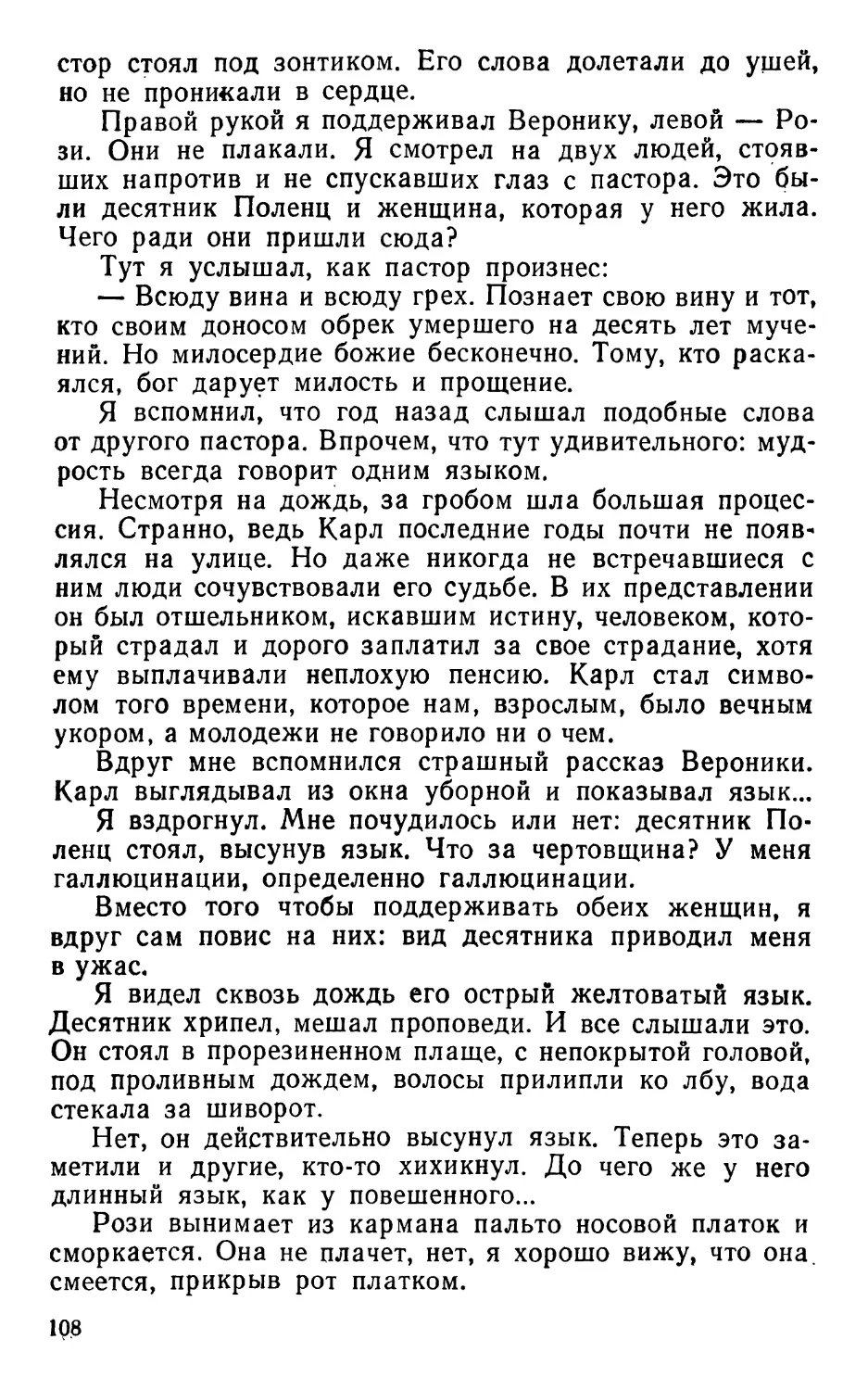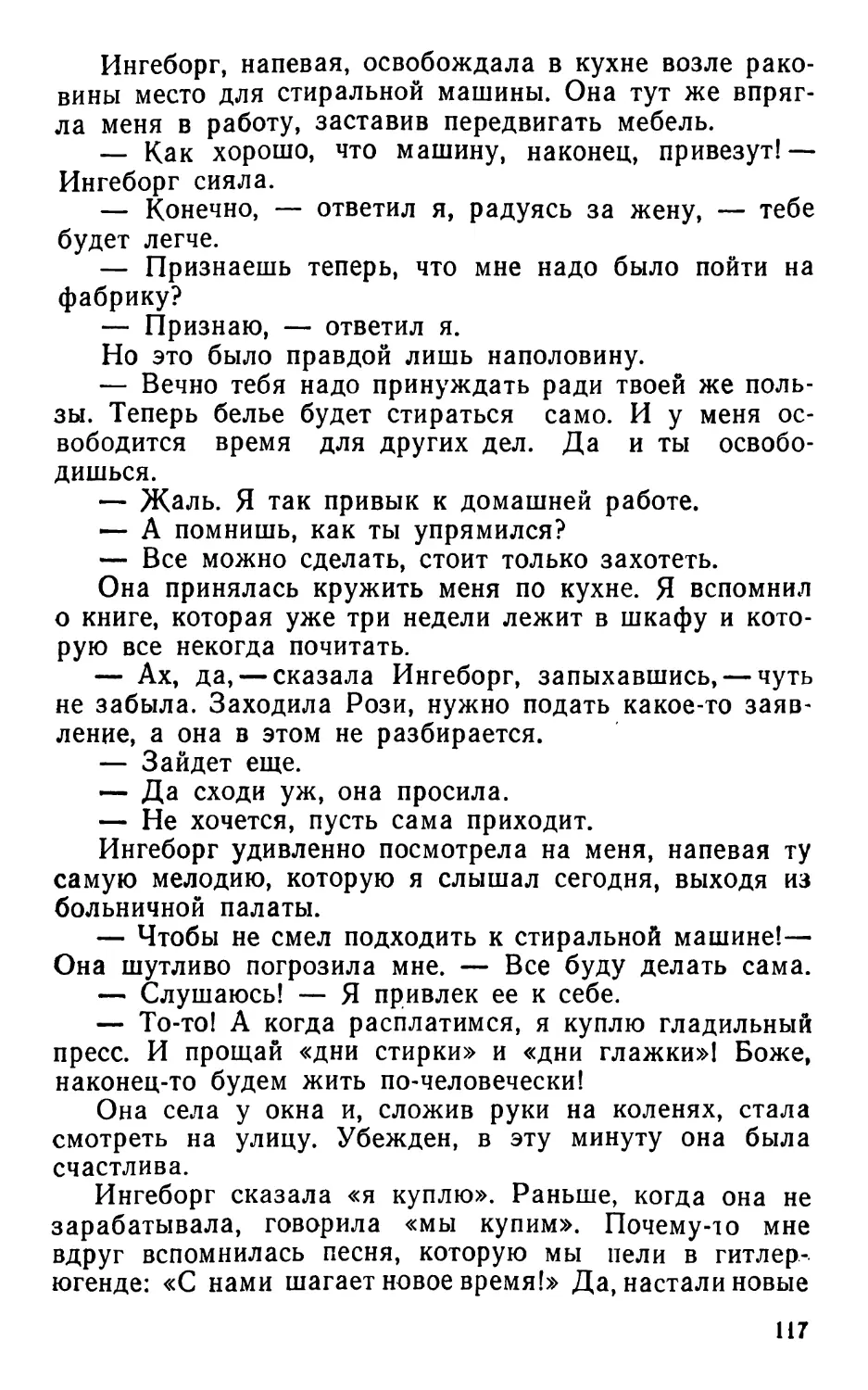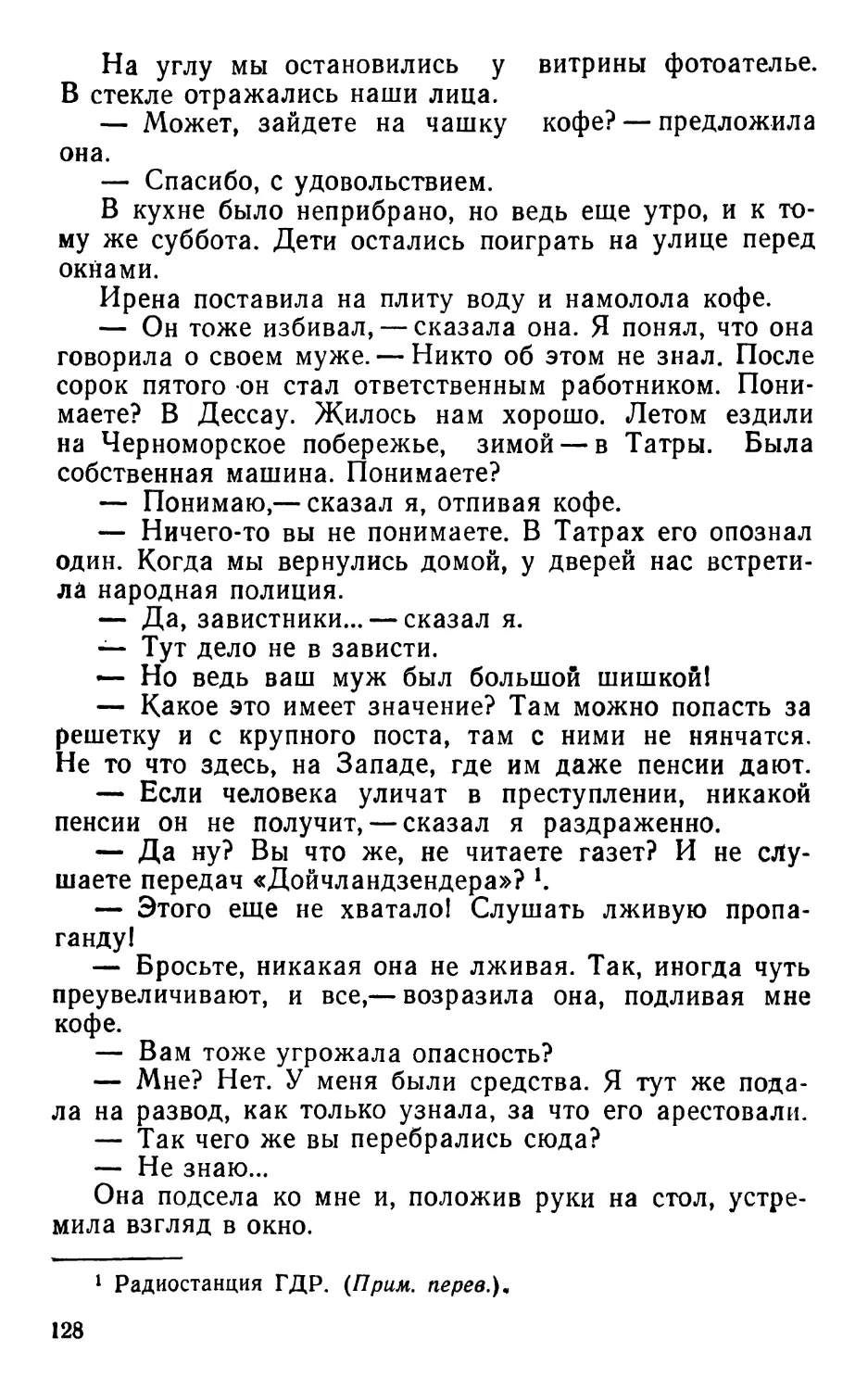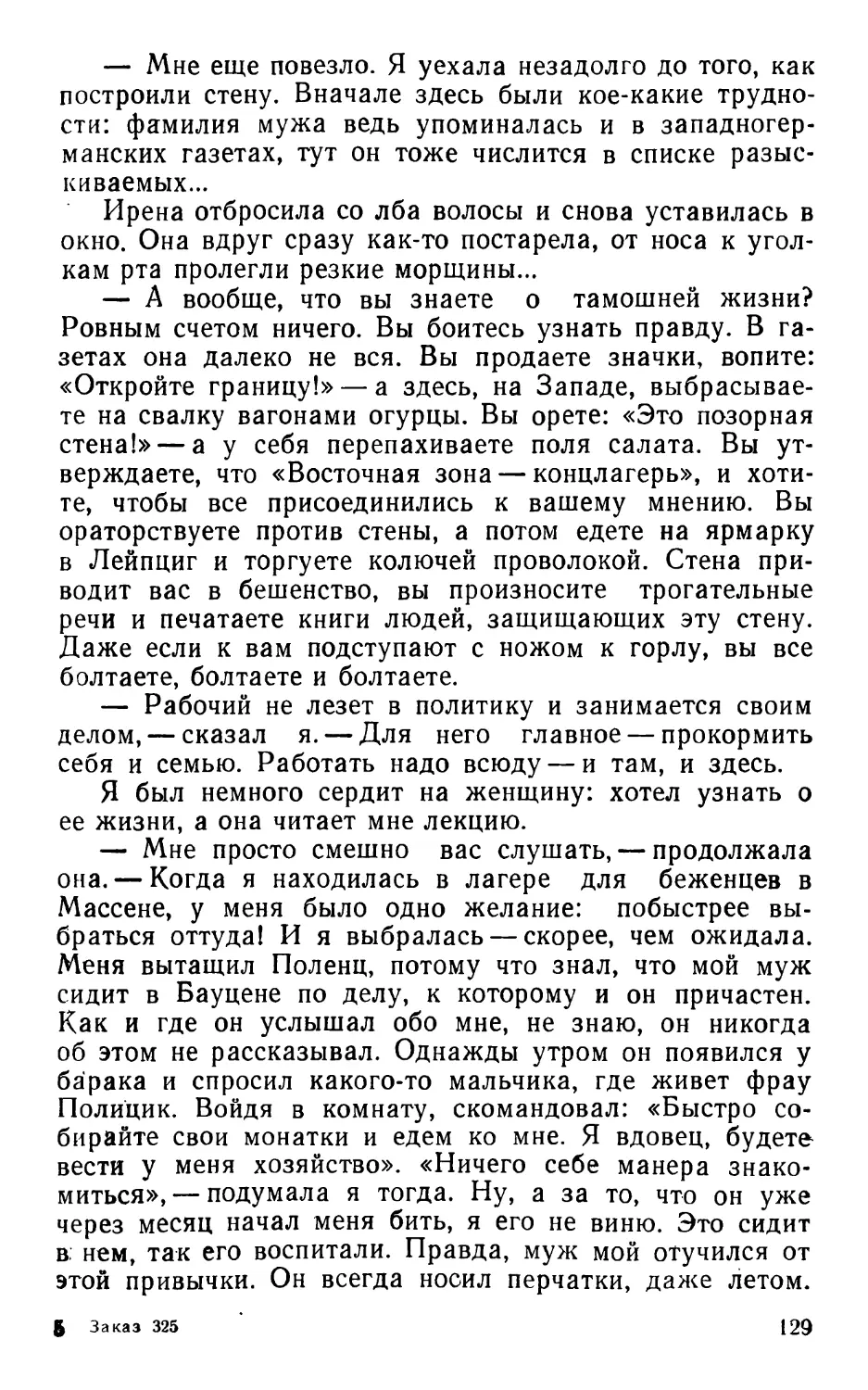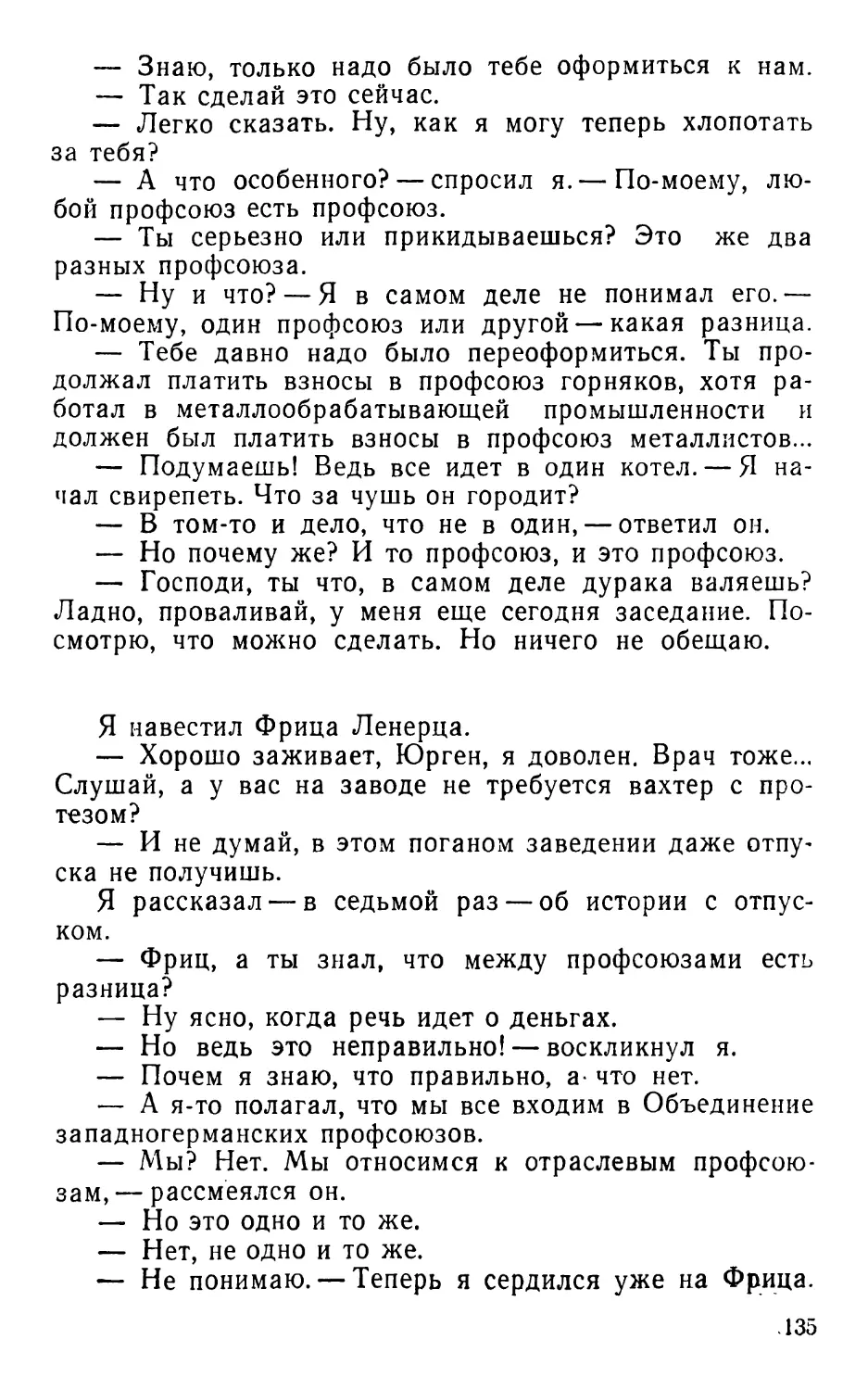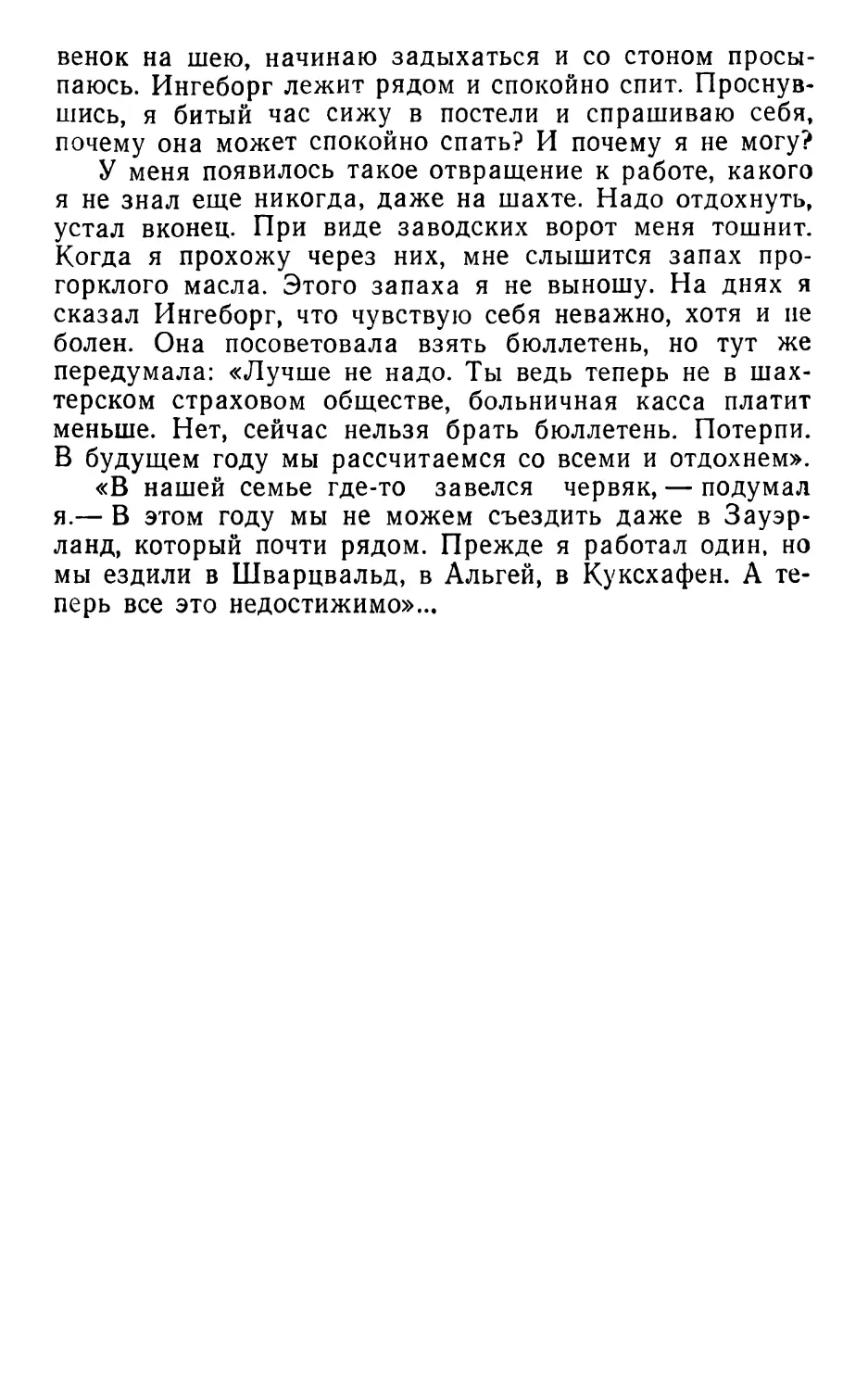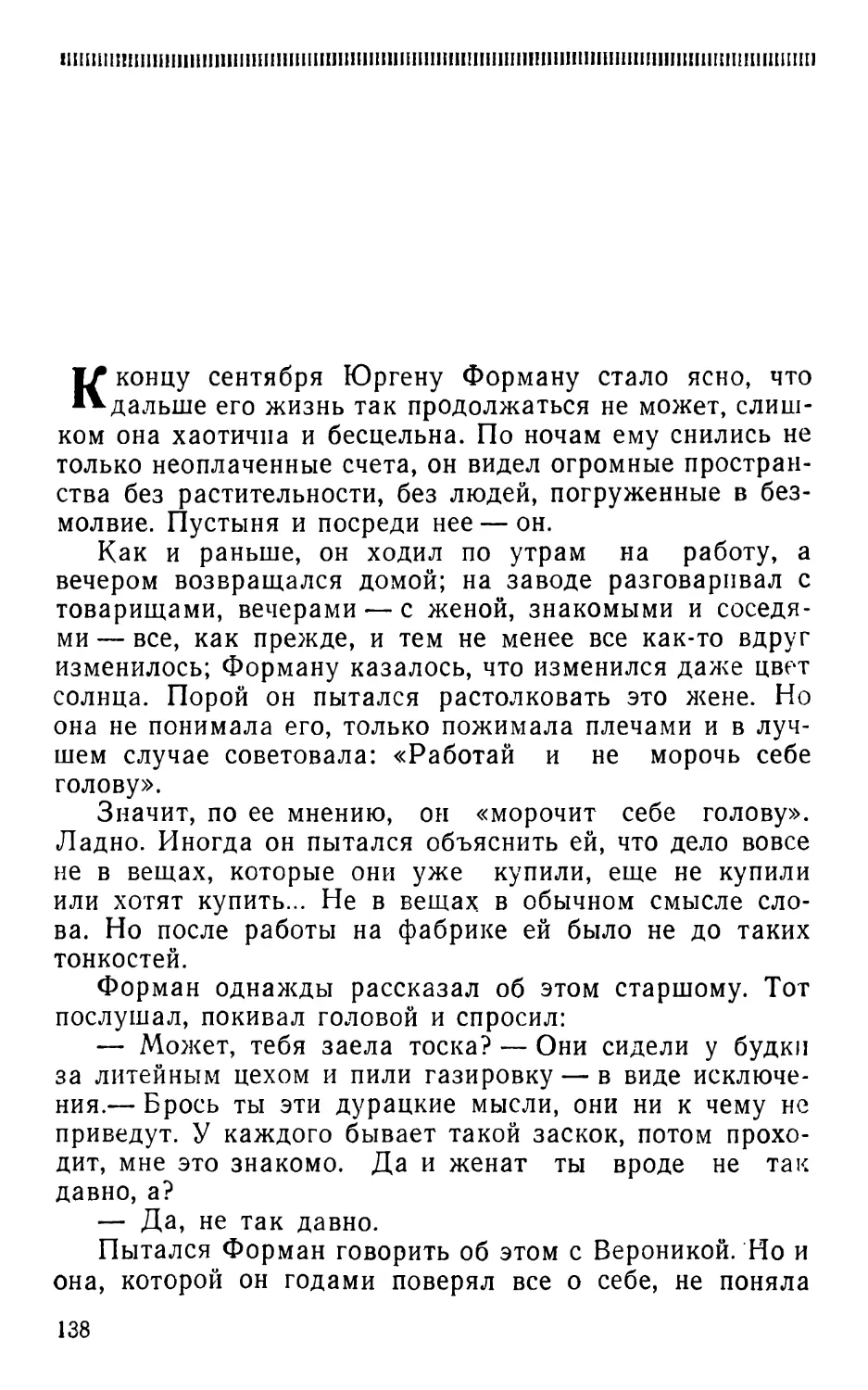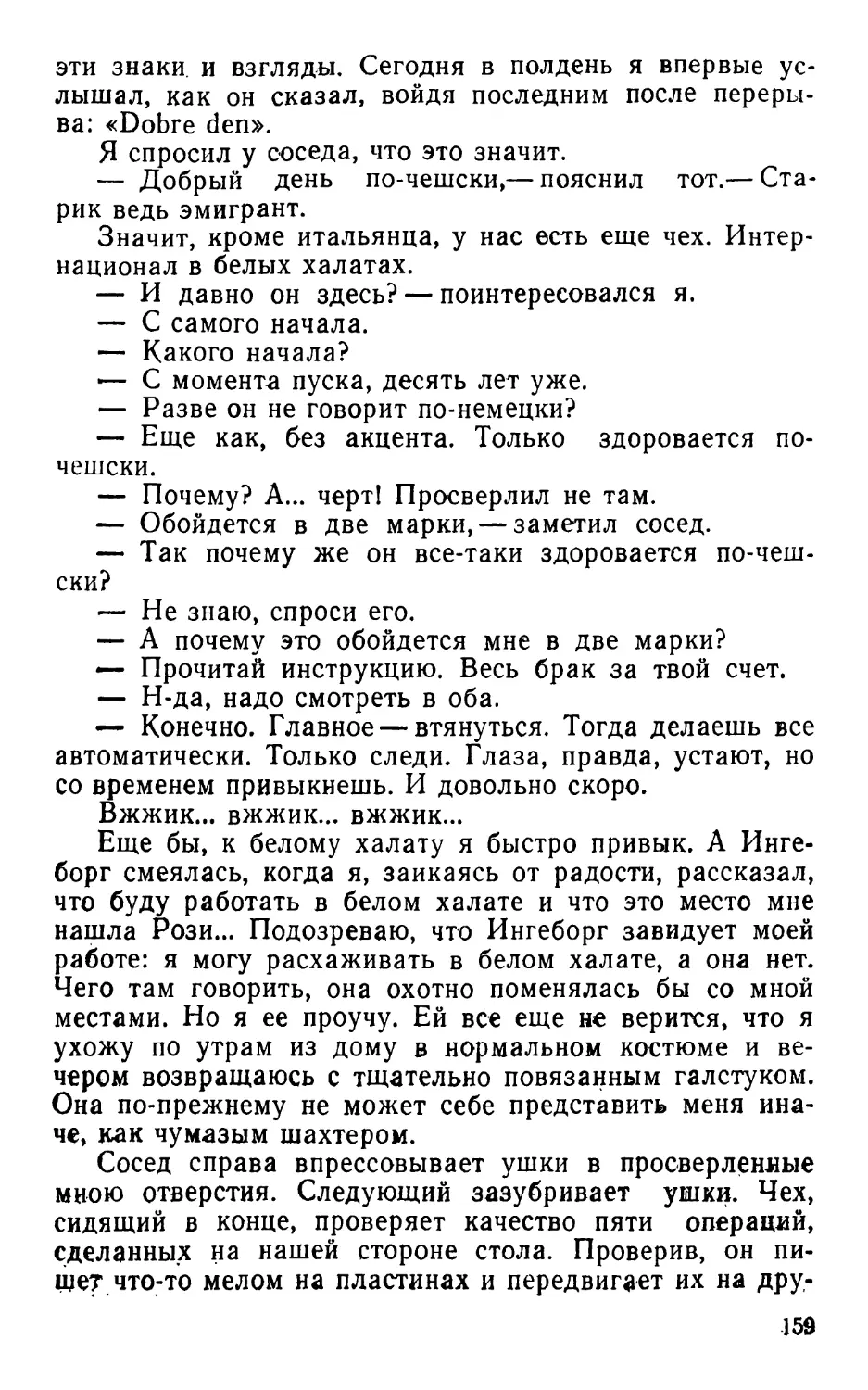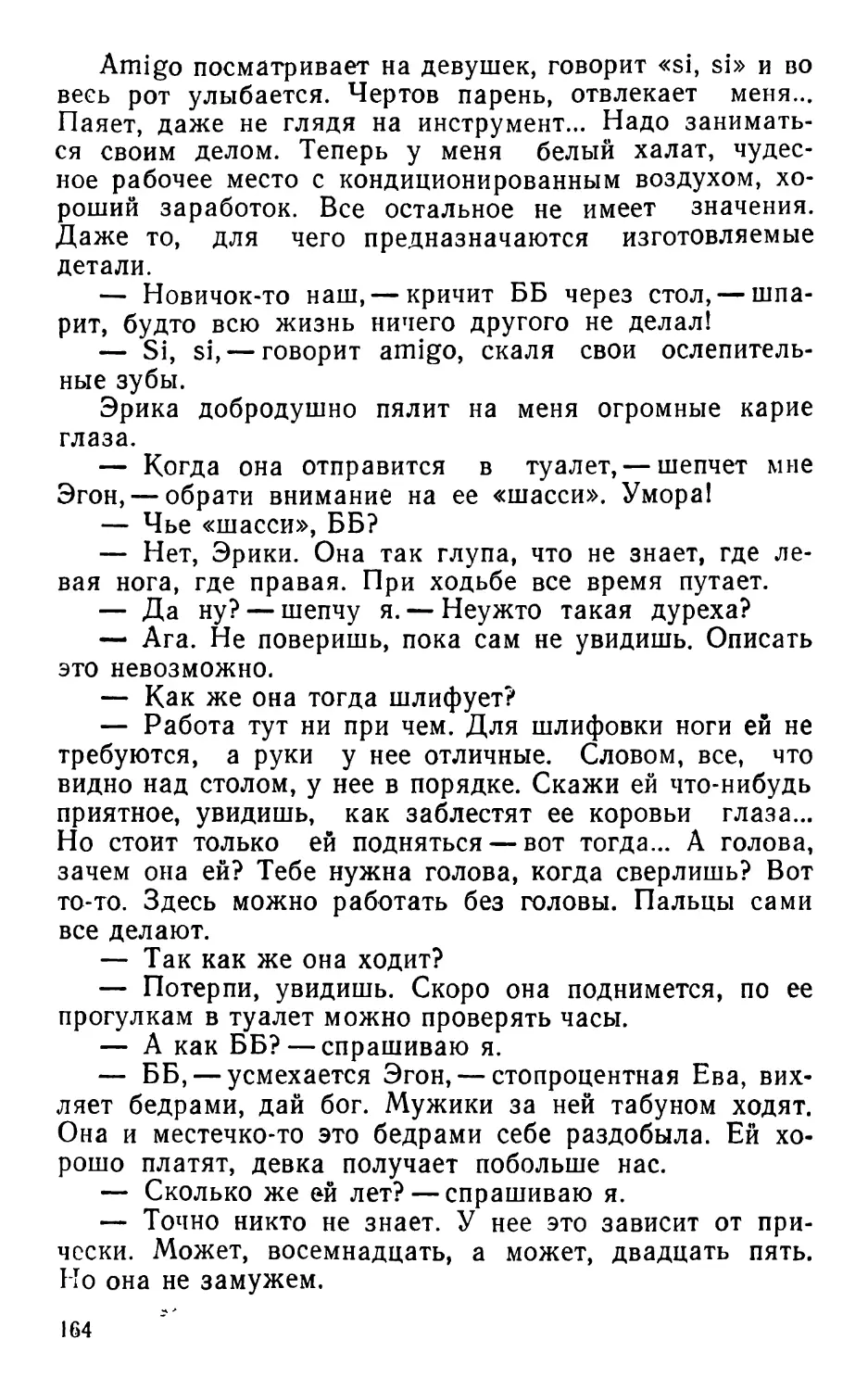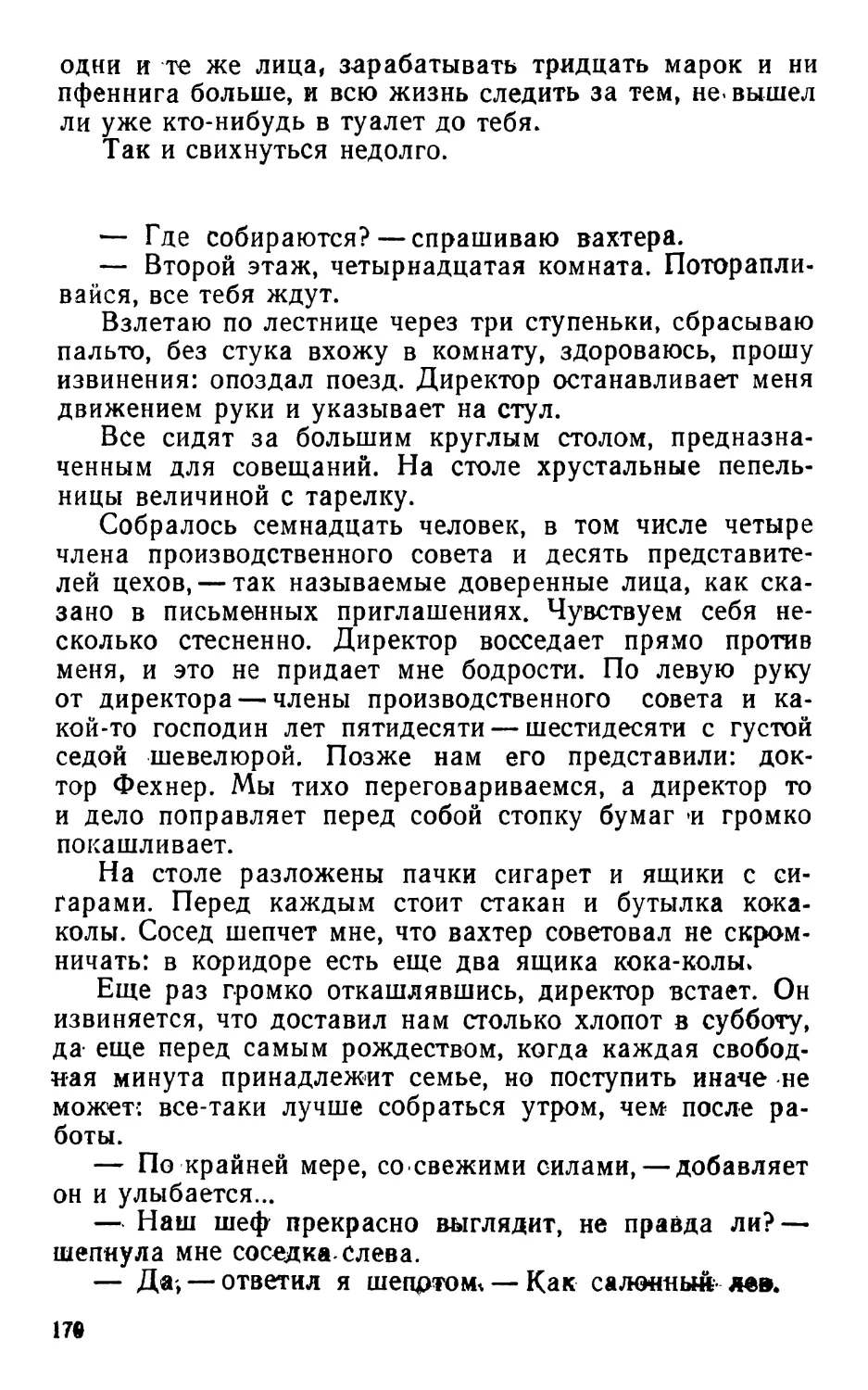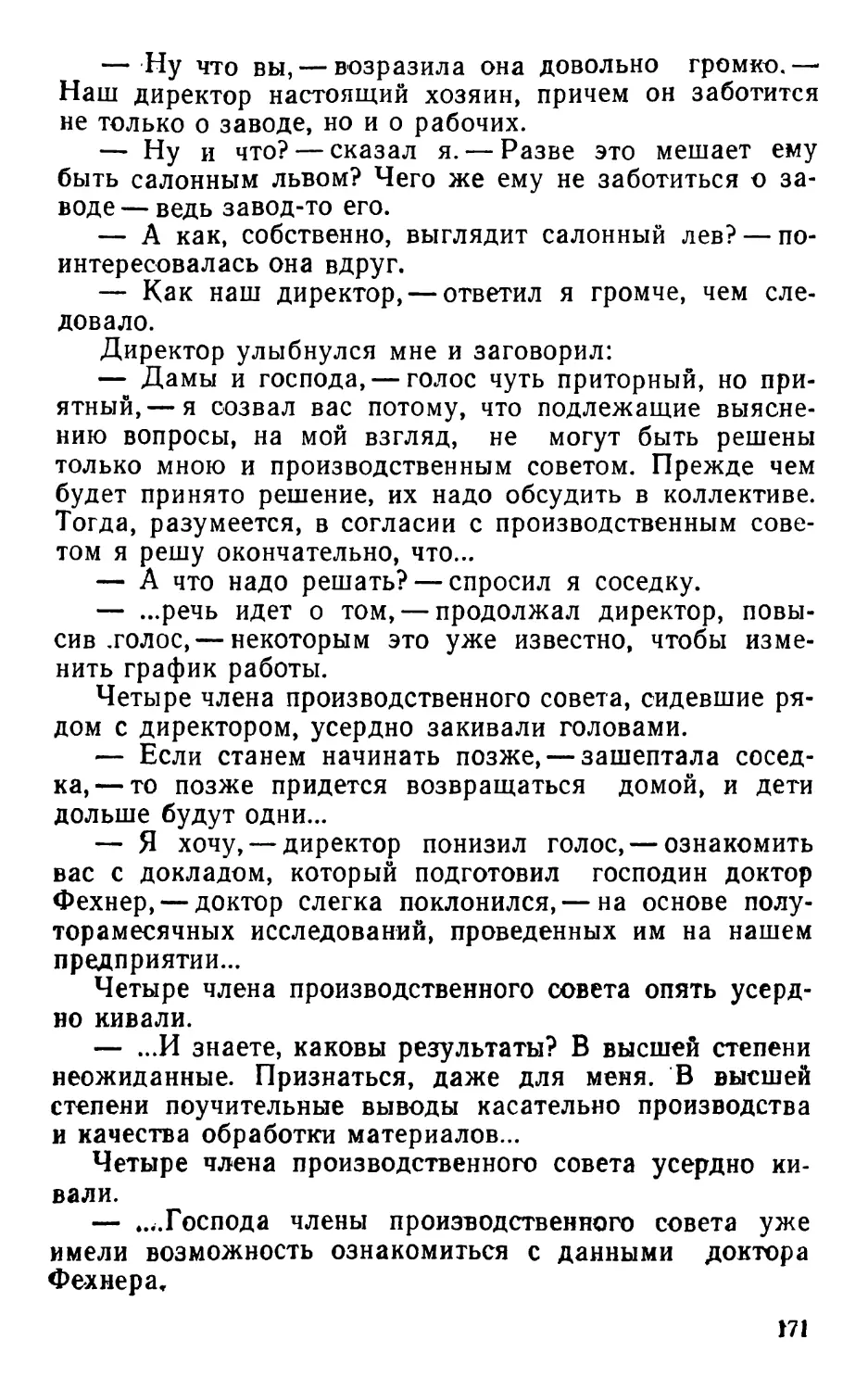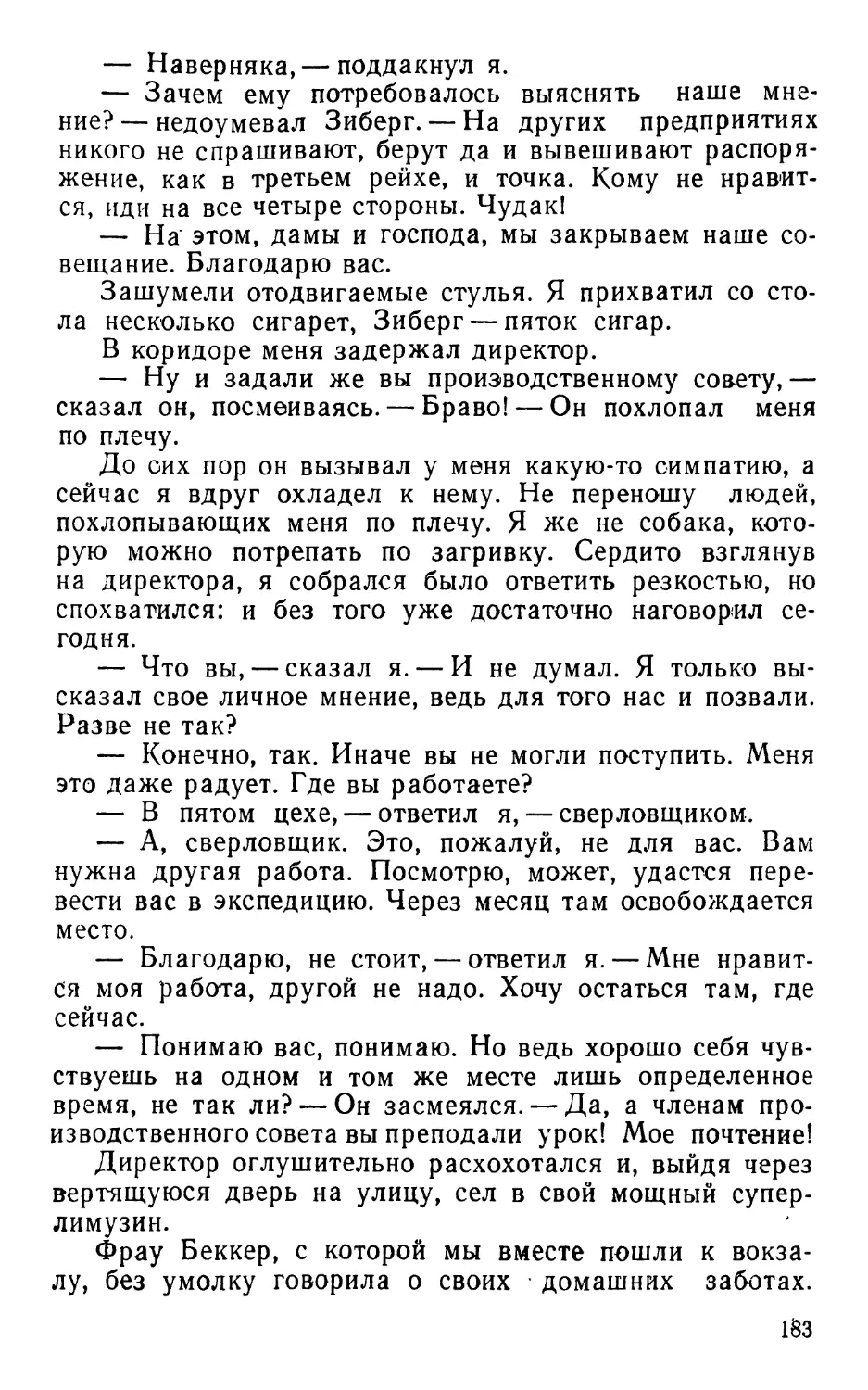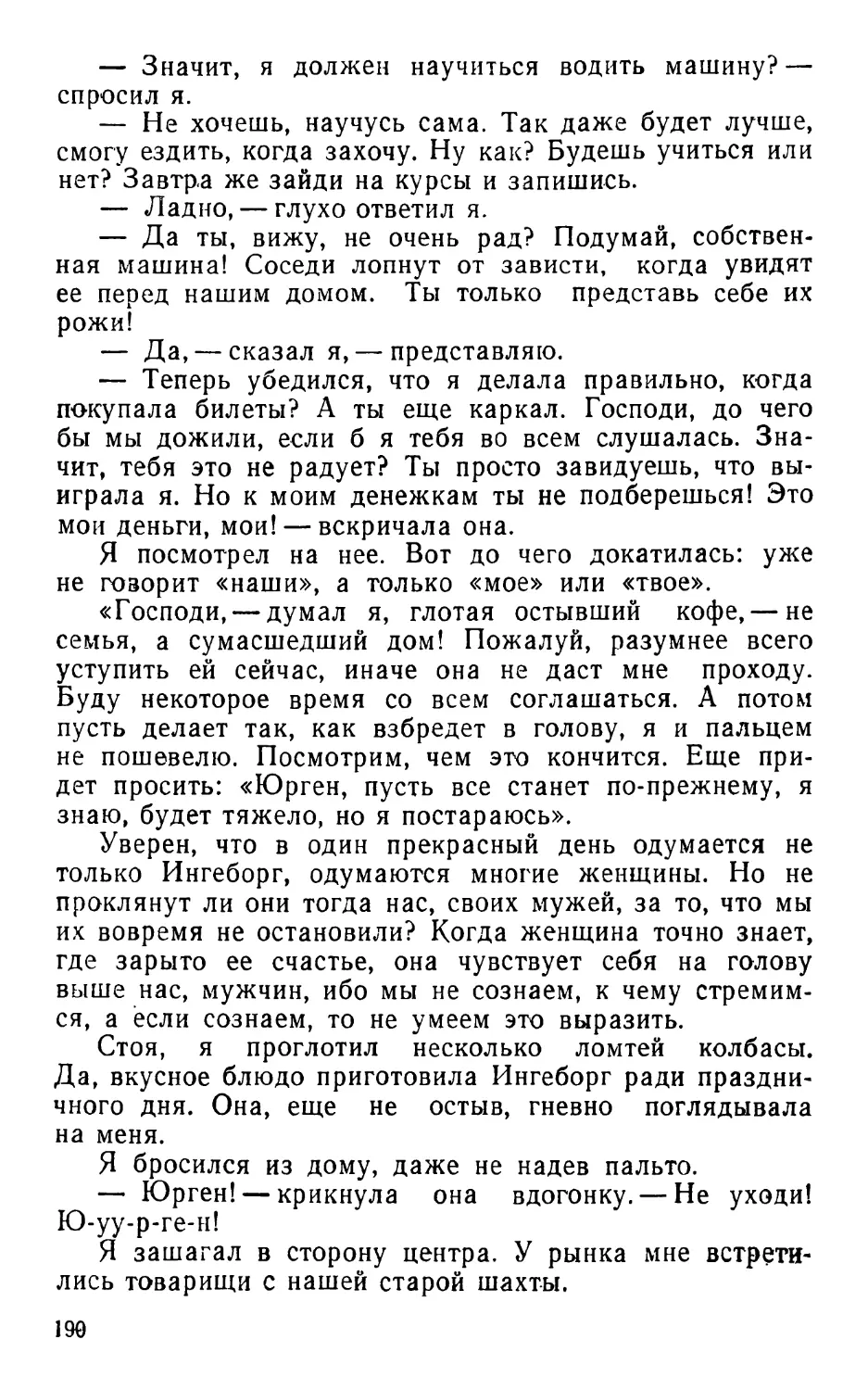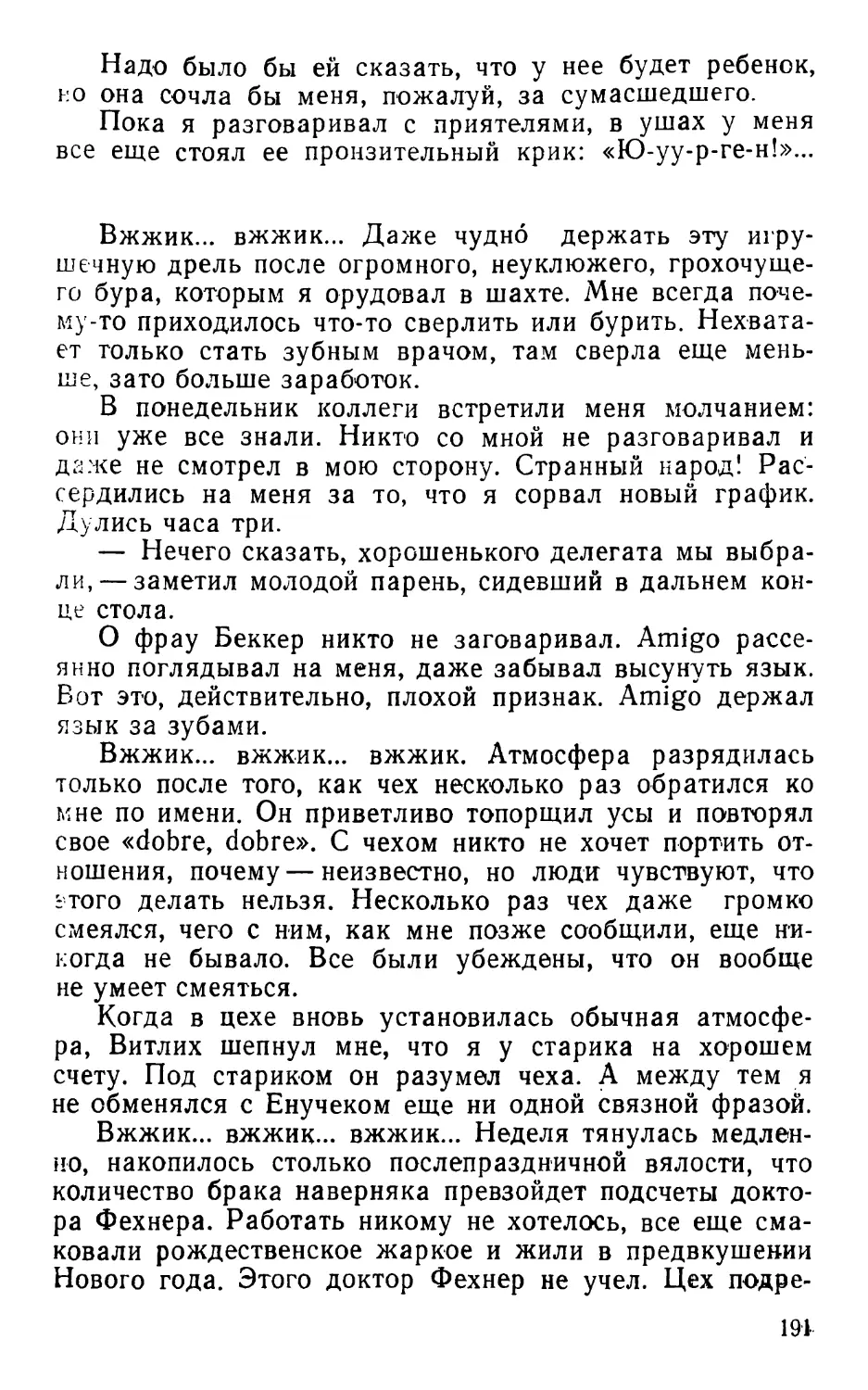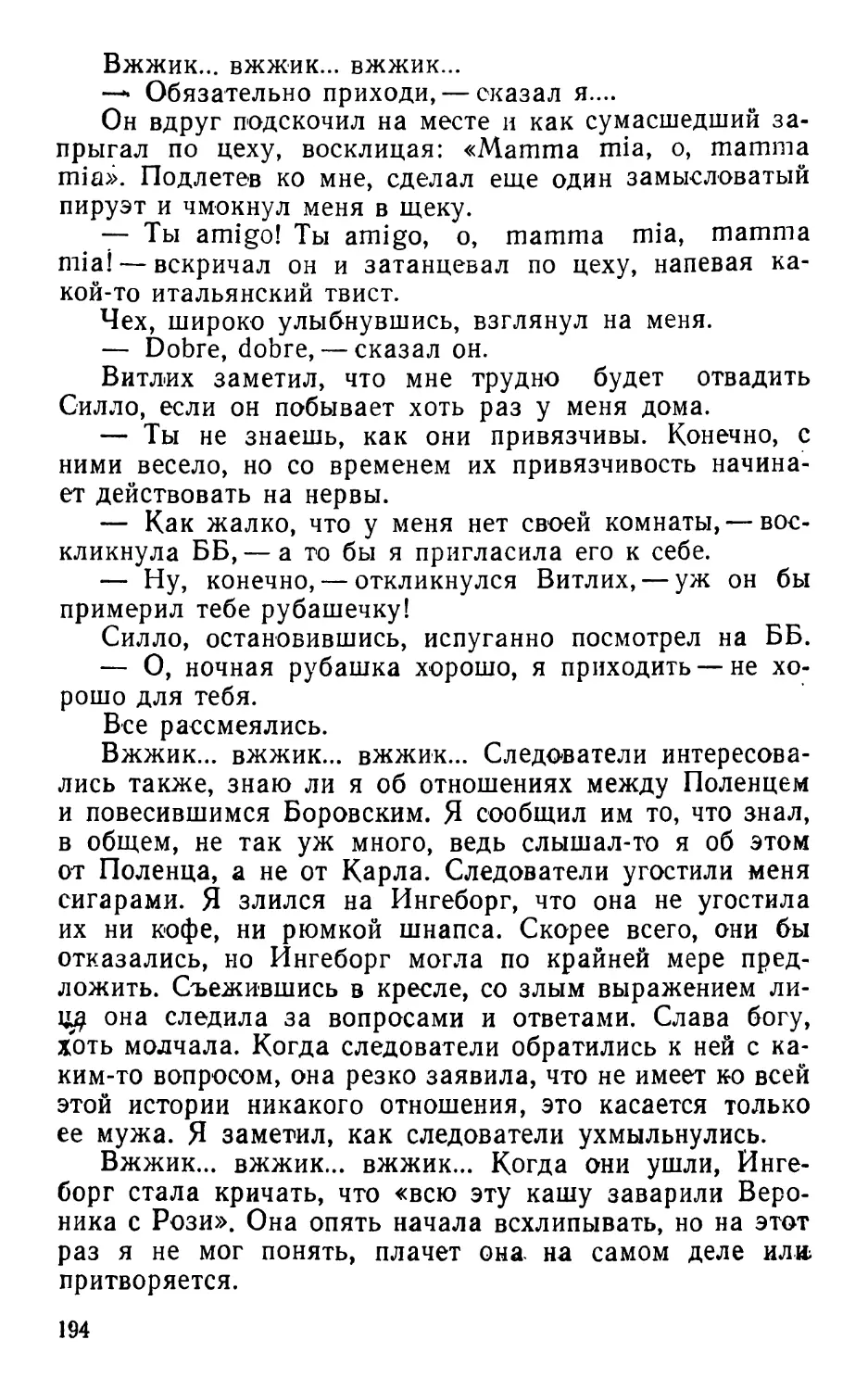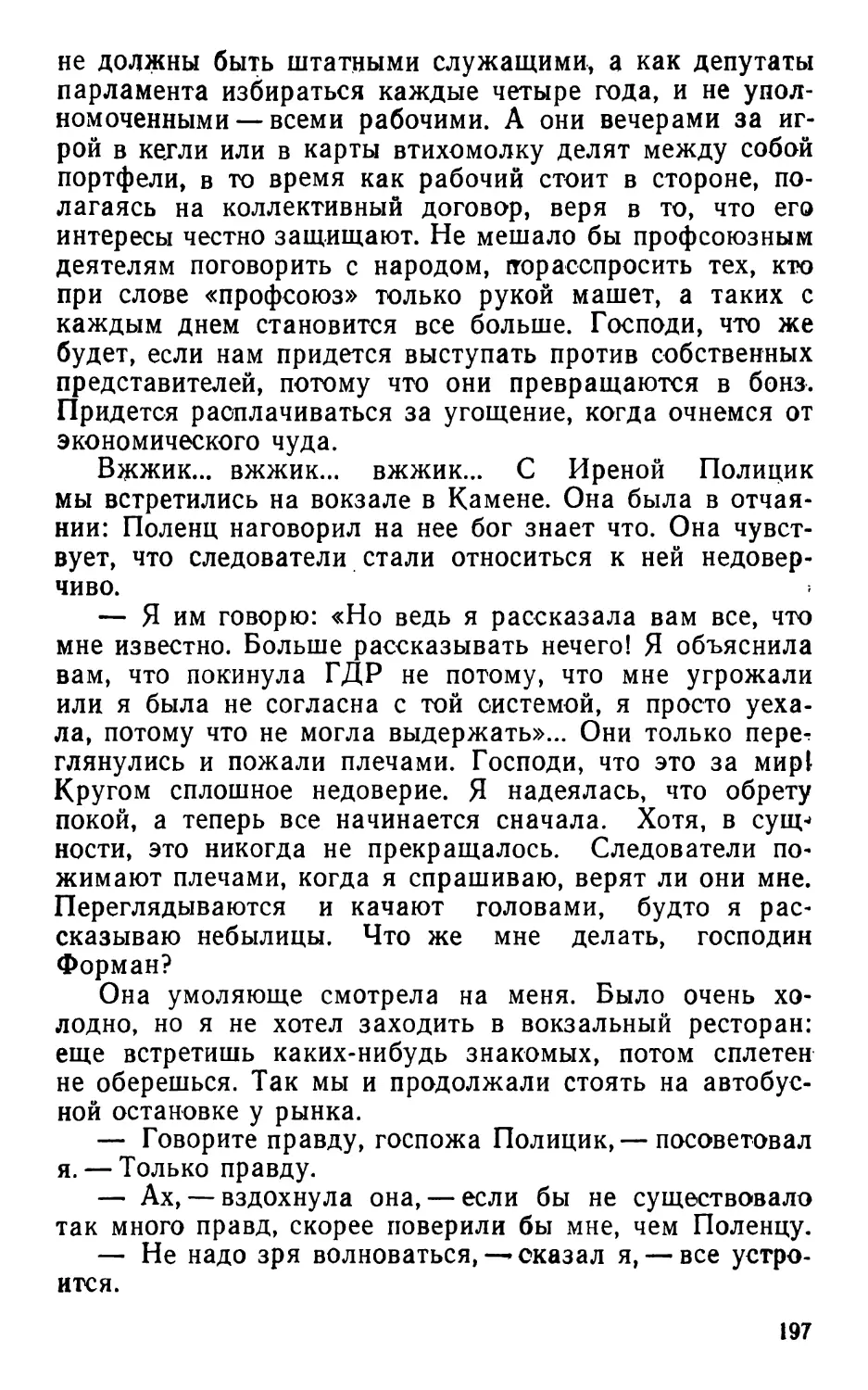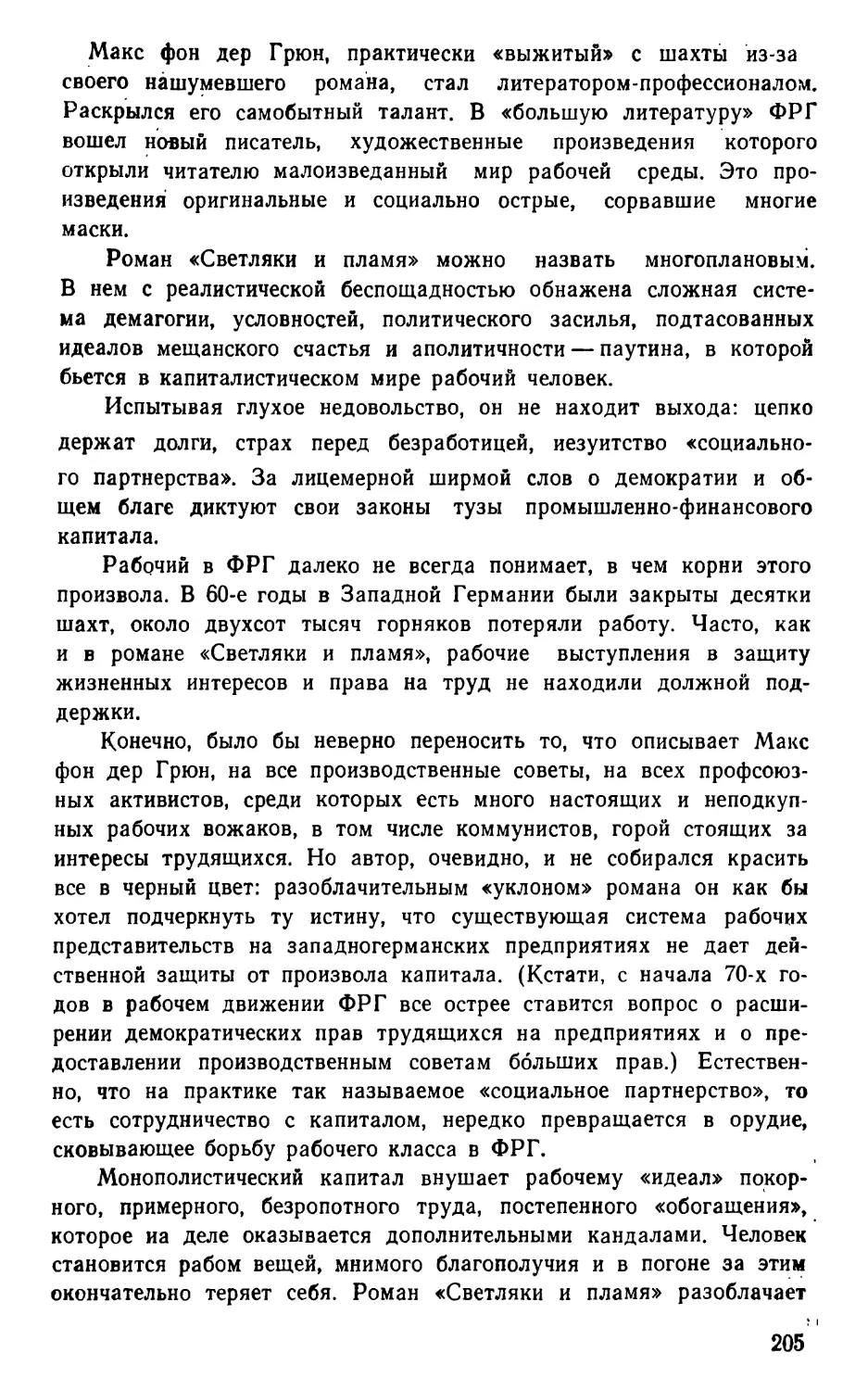Текст
Max von der Grün
IRRLICHT
UND
FEUER
Roman
Recklinghausen, Paulus
1968
Макс фон дер Грюн
СВЕТЛЯКИ
и
ПЛАМЯ
Роман
Перевод с немецкого
Н. БУНИНА И Е. ГРИГОРЬЕВА
Москва
Профиздат— 1972
ШШШМИ ШШД|ШишииШШ1Ш1и11Ш1ПШии ШИПИ! и
Уважаемый читатель!
Мой роман «Светляки и пламя» вышел в 1963 году.
С тех пор его перевели на четырнадцать языков и даже
экранизировали (в ГДР). Фильм демонстрировался во
многих европейских странах.
Книгу я писал с 1959 по 1962 год, когда работал
еще горняком на одной из шахт в Рурской области.
Жилось мне тогда нелегко: первая рабочая смена — под
землей, на километровой глубине, вторая — за
письменным столом, дома. Каждую свободную минуту
проводил за рукописью.
Признаться, я не ожидал, что книга будет иметь
успех. Ее широко обсуждали рабочие, студенты, пресса.
Одни приняли роман почти с восторгом, другие
встретили в штыки — дело доходило до личных оскорблений.
Я не сомневаюсь, что моя книга вызовет немало
вопросов и у советского читателя, чем-то не удовлетворит
его, не ответит в полной мере на все вопросы, которые
возникнут у него после прочтения романа.
Все эти годы я не раз спрашивал себя: почему
мнения о книге столь противоположны?
Разумеется, автору трудно давать оценку
собственному произведению. Но, вероятно, сохраняющийся
интерес к моему роману объясняется тем, что он развеял
миф о нашей свободе, разоблачил на примере судьбы
героев романа проводимую предпринимателями
политику «умиротворения», вскрыл изощренность методов
эксплуатации в капиталистическом обществе.
В книге поставлен вопрос не только о свободе
человека вообще, но и о свободе рабочего в частности.
После бесконечных обсуждений романа в ФРГ, и
особенно за границей, мне стало ясно, что многих проблем
я коснулся в нем лишь вскользь, мои суждения о
социальных взаимосвязях основывались тогда на
следствиях, а не на причинах.
Что ж, писателю не всегда удается ответить на
поставленные вопросы или разрешить поднятые
проблемы, но он может приоткрыть завесу, сделать тайное
явным так, что это уже само по себе окажет влияние на
сознание людей...
Роман «Светляки и пламя» вызвал немало протестов.
Протестовали, естественно, те, кого книга больше всего
затронула: во-первых, промышленники, во-вторых,
профсоюзные боссы, которым явно пришлось не по нраву,
что я изобразил их не такими, какими они кажутся
самим себе и какими хотели бы выглядеть...
Протесты промышленников начались еще до выхода
романа в свет, при опубликовании отрывков из него.
В итоге мне пришлось дважды предстать перед судом.
И только после того как эти процессы я и мой
издатель выиграли, роман «Светляки и пламя» смог выйти
из печати...
Некоторые критики упрекали меня, что я написал
«роман фактов». Что ж, такие люди, как герой романа
Юрген Форман, его жена Ингеборг и женщина, в
которую Форман был влюблен, существуют
действительно не только в моем романе, таких, как они, в нашей
стране сотни тысяч. Только у многих из них нет
политического самосознания, они не представляют себе,
насколько зависят от прихотей тех, кто их продает и
покупает, словно вещи...
У нас литературу часто упрекают в пассивности,
бездействии, говорят, что она тратит все силы на
формалистические забавы, доводит словесные изощрения до
курьеза, не обращая внимания на содержание и смысл.
Что ж, это бывает и, наверное, еще не раз повторится.
Сам я не поклонник подобных развлечений и культа
формы ради формы. Я думаю, что язык литературного
произведения должен соответствовать его содержанию,
тем проблемам, которые ставит перед собой и читателем
автор. Только так писатель может стать понятным
широкой общественности. Тот, кто выражается непонятно^
не поймет мира, в котором живет.
С тех пор как я начал писать, я стал более
внимательно приглядываться к окружающему миру, более
критически относиться к словам наших политиков и
хозяев страны, я уже не довольствуюсь следствиями,
а ищу причины. За эти годы я пришел к глубокому
убеждению, что социализм — единственная общественная
формация, при которой человек остается человеком и
сохраняет свое достоинство, где никакому меньшинству
не позволят эксплуатировать людей ради прибыли. И это
мое убеждение не поколеблется оттого, что и в
социалистических странах есть недостатки. Но они не
должны обескураживать. Напротив, должны мобилизовывать
для достижения намеченной цели.
Мир встал на путь социализма. Свидетельство тому —
возбуждение, охватившее молодежь не только моей
страны, но и многих других капиталистических стран,
молодежь, которая не принимает более на веру все,
что ей внушают апостолы политики «умиротворения»,
и отметает прочь словесную шелуху, прикрывающую
пустоту и лживость.
Однако думать, что все сможет измениться в один
миг, значит, питать иллюзии. Нельзя забывать: у
капиталистической системы и ее предшественников было в
распоряжении две тысячи лет, чтобы утвердиться и
настолько усовершенствовать формы эксплуатации, что
иная наивная душа и впрямь верит, что живет в
гуманные времена. Такую систему в два счета не изменишь!
Можно считать, будет уже кое-что достигнуто, если у
рабочего пробудится самосознание, если сильных мира
сего охватит тревога, ибо тревога породит
неуверенность, а неуверенность выдаст их слабые стороны...
Макс фон дер Грюн
lIllIllIlllIlllllIIIIIlIIIllIIIIIIlIIlIIIIllIIllllllIllllillllllllllllllllllllllllllllKlllllllIllllllllIIlIlllIllllIlllIlV
Ночь была холодной и ясной. Уже много месяцев
подряд моя смена начиналась в полночь. Как я
ненавидел этот поздний час и эту смену! До шахты четыре
километра по шлаковой дороге вдоль железнодорожной
ветки, хочешь не хочешь — крути педали и зимой и
летам. Ух, как я ненавидел эти ночные часы! Все, что
днем прячется, в полночь вылезает наружу. Когда едешь
на работу ночью, видишь изнанку жизни.
Надо поднажать. Без двадцати двенадцать, а
впереди еще треть пути.
Неожиданно от железнодорожной насыпи
отделилась фигура. Я инстинктивно нащупал в правом
кармане нож, который всегда ношу при себе с одной
послевоенной ночи, и соскочил с велосипеда. В разрывах
облаков показалась луна, и я увидел перед собой женщину.
— Что вы здесь делаете? — спросил я хриплым
голосом.
— Меня выгнал муж,— ответила она, ухватившись
за руль моего велосипеда.
— Поссорились?
— Как вам сказать... Он всякий раз, когда
напьется, грозит свернуть мне шею. Бывает, что и поколотит,
но чаще я успеваю убежать.
«Надо ехать,— подумал я,— а то опоздаю».
— Ничего, обойдется,— сказал я незнакомке.
Такое случалось и у наших соседей. В поселке
ничего не скроешь, блоха чихнет — и то слышно. А вообще
не мое это дело: свои собаки грызутся — чужая не
мешай.
— Он уже, наверно, успокоился,— предположил я.—
Ступайте-ка домой, а не то простудитесь.
Я обратил внимание на ее туфли. Для такой
погоды они явно не годились.
— Боюсь,— промолвила она,— он изобьет меня.
«Надо спешить,— подумал я,— опоздаю к смене!»
— Может, проводите меня? — вдруг попросила
женщина.
— Я ведь вас не знаю.
Она погладила холодный металл руля:
— Разве это сейчас так важно?
— Что мне у вас делать, все равно я ничем не могу
помочь. А потом, ваш муж еще вообразит невесть что,
когда увидит нас вместе. Вам же будет хуже.
— Я вас и не зову к себе.
«Пора, опаздываю»,— подумал я.
— Не могу,— резко ответил я, теряя терпение,
и убрал с руля ее руку.
— Только пока темно,— умоляла она.— К утру мне
уже надо быть дома: дети в восемь отправляются в
школу. Только пока темно. Ну, пожалуйста!
«А смена вот-вот начнется!» — подумал я.
— Пройдемся назад по этой дороге,— уговаривала
она, — у поселка повернем обратно, и пока дойдем
снова сюда, наступит утро.
— Откуда это вам так точно известно?
— Я часто брожу здесь, почти каждую пятницу,
когда у мужа получка. Налижется, а потом колотит или
выгоняет, если сама не убегу...
«Ну, хватит,— подумал я,— опаздываю!»
— Летом еще куда ни шло, но зимой...
— Я ни разу не встречал вас,— заметил я,— хотя
езжу здесь вот уже скоро год.
— Верно. Я как завижу вас издалека, прячусь в
кювете или за кустами.
Часы на колокольне пробили полночь. Двенадцать
глухих ударов. Все-таки опоздал! Однако я почему-то
не разозлился. Лишь мельком подумал о неприятностях,
которые ждут меня завтра на шахте, .да о тридцати
марках потерянного заработка.
— Ладно уж,— сказал я,— пошли прогуляемся по
вашему маршруту.
Я спрятал велосипед в кювет, и мы двинулись по
дороге. Шли молча, поеживаясь от холода. Снег
поскрипывал под ногами, луна была такой же белой, как снег.
— Ноги промочила,—вздохнула женщина, когда мы
добрались до окраины поселка.—Снег попал в туфли.
9
Ничего. Отправлю детей в школу и приму горячую
ванну. Здоровье у меня отменное.
Поплелись обратно. Я достал из портфеля
бутерброды и флягу с уже остывшим кофе. Под мостом
автострады мы поели, кофе я вылил на снег.
— Почему вы не заберете детей и не уйдете от
него?— поинтересовался я.
Она вытащила мой велосипед из кювета и воткнула
его колесом в сугроб.
— Уйти? Куда? — Опершись о мое плечо, сняла
туфлю и стала растирать закоченевшие пальцы.— Не знаю,
как бы это объяснить... Может, я нужна ему... Да и он
мне... Он приютил меня, когда мне было трудно, я не
думала, что все так обернется...
На востоке уже светлело. Она собралась идти
домой. Но сделав несколько шагов, вдруг вернулась,
схватила меня за рукав и спросила:
— Вы не жалеете? Правда? Мне понравилась
прогулка. Собственно, надо вас поблагодарить, но это
прозвучит, наверное, смешно...
«Поблагодарить,— подумал я,— что мне от твоей
благодарности? Лучше бы вернула пропавший заработок.
Тридцать марок! Д«ля меня это куча денег».
— До свидания, до пятницы! — сказала она.
Еще долго слышались ее торопливые,
спотыкающиеся шаги.
Возвращаясь к поселку, я пытался вспомнить лицо
женщины. Но в памяти звучал только ее низкий голос.
Где-то я уже слышал его. Но где?
Когда я свернул в поселок и завидел свой дом в
длинном ряду горняцких домиков — безликих, как и
их обитатели,— наконец вспомнил, где слышал этот
голос: в кино. Это был голос Зары Леандер... Или Луи
Армстронга.
Дома меня встретили с недоверием. Жена — бог знает
от кого она чуть свет об этом узнала—в упор
спросила, где я пропадал всю ночь, только не в шахте, это
ей точно известно.
— Всю смену провозился в слесарной мастерской,—
пояснил я за завтраком, который она мне подала без
обычной заботливости.
10
Ингеборг не представляет себе, в чем конкретно
заключается моя работа. Она не знает, что подземного
рабочего никогда не переведут на поверхность,— разве
что временно, по предписанию врача. Тем не менее, судя
по ворчливым репликам, подозрительность ее не
рассеялась.
С какой стати приходят ей в голову всякие
несуразные мысли? За восемь лет супружеской жизни я ни
разу не дал ей ни малейшего повода. Да и зачем мне
это нужно? Ведь я люблю ее. Да, да, спустя восемь лет
по-прежнему люблю. Мне нравится, как она просто себя
держит, как ходит, смеется, мне хорошо, когда она
рядом. Ее достоинство еще и в том, что она не мешает
мне думать, хотя находится тут же, в комнате. Ну,
и кроме всего, она умеет экономно хозяйничать.
В понедельник пришлось расхлебывать кашу.
Началось с того, что мне не выдали табельный номерок. Один
начальник посылал меня к другому, другой — к
третьему. А так как ночью в конторе начальства меньше, чем
днем, то оно выполняет свои обязанности гораздо
строже. Наконец, в десять минут первого я вошел в клеть.
Но под землей было не легче: штейгер язвил, товарищи
зубоскалили. В довершение всего и работа не ладилась.
«Что это со мной стряслось?» — недоумевал я...
Так или иначе, понедельник был испорчен. Вторник
обещал быть несколько лучше, хотя бы потому, что
штейгер записал мне пропущенную смену в счет
отпуска. Но клянчить пришлось долго.
Жена все еще дулась на меня. Во вторник утром,
когда я, усталый и разбитый, вернулся домой, она даже
не соизволила подать мне завтрак. Только пробурчала
из спальни:
— Мне нездоровится, приготовь себе что-нибудь сам.
Я разозлился. Наверно, было бы все-таки лучше,
если б у нас был ребенок.
Надо сказать, что случается, когда мое душевное
равновесие зависит от погоды. В голове, у шрама на
левом виске, который достался мне от Великой
Германии, периодически что-то стучит и ноет. При перемене
погоды эта тупая боль беспощадно набрасывается на
меня. Я становлюсь капризным, избегаю людей и с
молчаливой покорностью поддаюсь недугу и
раздражению.
U
В эти непогожие дни я неотвязно думал о пятнице.
Не о прошлой — о следующей. Правда, мне казалось
невероятным, чтобы та женщина появилась на прежнем
месте. Тем не менее я решил ехать на работу кружным
путем — по шоссе.
Но вот пятница подкралась. Ночь на этот раз была
безлунной, вокруг — кромешная тьма. Лишь огни
шахтных построек светились за маленьким леском...
К счастью, улицы пусты. Стало холодно. Ну и пусть:
под землей мы холода не ощущаем, дома тоже тепло —
уголь нам, слава богу, экономить не приходится...
На развилке, где надо было сворачивать с шоссе
на шлаковую дорогу, я почему-то затормозил и сошел с
велосипеда. А когда, ругая себя за дурацкую заминку,
собрался было ехать дальше, вдруг почувствовал, как
меж лопаток поползли мурашки: эта женщина была
здесь.
— Вот и я, добрый вечер! — послышался ее голос.—
Прошла немного вам навстречу, чтобы вы не опоздали
на работу, как в тот раз.
«Как в тот раз». Это звучало так, будто у нас с ней
было общее прошлое.
Я расхохотался. На меня напал такой приступ
смеха, что я даже выпустил из рук велосипед и, корчась
от смеха, схватился за бока. Глядя на меня, женщина
тоже засмеялась, хотя не понимала причины моего
веселья.
Да я и сам ничего не понимал.
— Пошли,— сказал я, немного успокоившись.
Велосипед я вел за руль, и мы молча шагали
рядом. Как и в тот раз, у моста автострады мне
захотелось есть. Я остановился, протянул женщине половину
завтрака, и мы поели, молча, как и тогда.
Потом я сказал, что заметно похолодало: надо же
было как-то начать разговор, ведь в сегодняшней встрече
в отличие от прошлой уже не было ничего внезапного.
Мы оба ощущали какую-то неловкость, вероятно,
оттого, что всю неделю думали об этой встрече,
понимали, что следовало бы ее избежать, и все-таки не
избежали, потому что в душе стремились к ней.
— Ну как, сегодня было мирно? — спросил я просто
так, чтобы сказать что-нибудь. Я не знал, о чем
говорить, но молчание угнетало.
12
■ ■■— Не стала ждать, пока дойдет до ругани и
драки,— ответила она.— Сбежала сразу, как пришел.
Конечно, опять нахлестался.
— Как это он, интересно, выдерживает?
— Если бы только выпивал, еще ничего, а то
хлещет без всякой меры, до беспамятства. И ведь сам
знает, что силы уже не те, а все равно отказывать себе
не хочет. Правда, когда трезвеет, случается, хнычет,
как малое дитя, и во всем кается. Но потом наступает
очередная пятница.
— Откуда же у него берутся деньги?
— Он десятник, зарабатывает хорошо. Но все равно
приходится экономить. Правда, мне с детьми хватает.
Что поделаешь: когда у мужчины тяжелая работа,
нельзя его так уж прижимать.
— Работа у всех тяжелая,— возразил я.
Мы пошли дальше. Я не знал, о чем еще говорить.
Она, вероятно, тоже не знала. Лица ее я до сих пор не
сумел разглядеть. Мы казались друг другу призраками.
Я знал лишь ее голос, и теперь мне захотелось
увидеть лицо. Остановившись, я схватил ее за руку. Она
попыталась высвободиться, но в конце концов я привлек
ее к себе. Она порывисто дышала мне в лицо...
— Не надо,— прошептала она,— не надо...
— Да я и не думал...
Усилившийся ветер разогнал облака. Показались
звезды, необычно яркие и большие.
— Вот такое небо в тропиках,— произнес я, лишь бы
что-нибудь сказать.
— Чем дольше смотришь, тем больше, кажется,
видишь звезд,— откликнулась женщина. Она обогнала
меня.— В детстве мать говорила нам, что каждая
звезда— это душа умершего и светит она для кого-нибудь
из живых. Смешно, чего только не рассказывают
детям!
— Да, времена меняются,— заметил я.— Нынче дети
спрашивают, сколько летит ракета до той или другой
планеты. Теперь можно побывать наяву в сказках
наших матерей.
Я был раздражен, угрюм, злился на себя за этот
идиотский разговор и вдобавок страшно мерз.
— Ночью опять будет очень холодно,— сказала
женщина.— С этими морозами просто беда, угля осталось
13
ведер пятнадцать. Ненадолго хватит. А уголь опять
подорожал.
— Могу подбросить,— предложил я,— стоит лишь
сказать шоферу, который мне его возит»
— Да? В самом деле?
— Скажите только адрес.
— Ну, конечно...
Из-за леса донеслись три глухих удара — били
церковные часы. Без четверти двенадцать, значит, время
еще есть. Примерно в ста метрах от нас задние ворота
шахты. На худой конец можно пройти и здесь...
Ни с того ни с сего опять пришла в голову мысль,
что нам с Ингеборг следовало бы завести детей. Без
них в семье всегда разлад, каждый живет сам по себе.
— Так как же насчет адреса? — напомнил я.
—- А у вас не будет неприятностей? Вдруг кто-
нибудь...'
— Нет. Мне полагается в год четыре тонны, а я пока
взял только одну.
— Ах, вот как. Тогда другое дело...
— Говорите адрес.
Лишь сейчас я сообразил, что спрашиваю ее об этом
уже в третий раз.
— Ладно,— только и ответила она.
Взглянув на звезды, я вспомнил, что в детстве мне
часто хотелось сосчитать их все до одной. Я начинал
отсчитывать от фабричной трубы, конька крыши или
горы, вздымавшейся тенью в небе. Помню, как-то раз
точно угорелый примчался к отцу и сообщил, что в небе
висит четыреста двадцать звезд — настолько я преуспел
в арифметике. В награду мне лишь досталась оплеуха
за то, что долго торчал на улице.
Вдруг мне почудились чьи-то шаги. Зашуршал шлак,
хрустнула ветка, послышалось прерывистое дыхание.
«Чепуха, — подумал я, — это, наверно, завел свою
песню вентилятор на шахтном дворе». Я заговорил было,
повернувшись в ту сторону, где по моему
предположению находилась женщина. И в этот момент с
колокольни донесся первый из двенадцати ударов. Я еще успел бы
пройти через задние ворота, но почему-то не двинулся
с места, словно остолбенел. Меня вдруг бросило в жар.
Опять пропустил смену, опять предстоит неделя, полная
неприятностей. А вдруг пригрозят увольнением или,
14
хуже того, сразу дадут расчет? Последнее время
многим прогульщикам прямо на дом присылали извещение
об увольнении. Нет, со мной так не могут поступить,
ведь у меня собственный дом — я купил его в
рассрочку,— а увольнять домовладельцев, как заверяет
производственный совет1, не имеют права. К тому же за все
пятнадцать лет работы под землей я ни разу не
отсутствовал в шахте без уважительной причины.
— Ну вот, опять опоздал,— проговорил я с
наигранной веселостью и, рассмеявшись, добавил: — Но вы не
огорчайтесь из-за меня. Все равно я сегодня
поработал бы недолго. Может, только спустился бы — и тут же
наверх. Уже несколько дней голова сильно болит. Без
конца глотаю таблетки.
В ответ —ни слова.
Я продолжал:
— Фронтовая рана. У кого к перемене погоды нога
ноет, а у меня вот — голова.
«Несу чепуху какую-то»,— подумал я. Сделав наугад
несколько шагов и, считая, что женщина рядом, я
прошептал:
— С углем будет все в порядке. Дайте только адрес.
Молчание. Ночь будто поглотила женщину.
Черт возьми, снова прогулял смену! Бесцельно
пробродив до утра, я вернулся домой. Руки замерзли,
вместо ног —ледяные култышки в ботинках.
Жены не было. Я заглянул во все комнаты. Судя
по постели, Ингеборг ночевала дома. В спальне я
обнаружил приклеенную лейкопластырем к зеркалу
записку. Всего несколько строк: «Уехала в Дортмунд к маме.
Не вздумай являться, она выгонит тебя с треском. Лгун!
Подлец! Гуляка!»
Ни обращения, ни подписи.
На кухне холодно, в других комнатах тоже. Но мне
сейчас не до того, сейчас меня беспокоит только одно:
что будет в понедельник на шахте? Впереди еще два
дня. Столько времени ждать просто невтерпеж, будь
они прокляты, эти выходные дни.
Мне было не по себе: первый раз очутился я в таком
1 Производственный совет на предприятии — избираемый по
группам от рабочих, от служащих орган, призванный представлять
интересы работающих перед хозяином и администрацией. (Прим.
перев).
15
положении. Первый раз испугался, что могу потерять
место, заработок. Столько вещей куплено в рассрочку,
месяц прошел — плати. Надо возвращать ссуду,
полученную на строительство дома; электричество, вода —за
все это тоже надо платить. К концу месяца набирается
куча долгов.
О жене я почти не думал. Если и вспоминал, лишь
изредка. Она поступила просто смешно. А вот для
начальства надо придумать какое-то правдоподобное
объяснение...
Как же объяснить прогул? Сказать правду — лопнут
от смеха и назовут вралем. А если и поверят, то не
поймут. Так как же объяснить, почему я не явился и в эту
пятницу? И как убедить, что это больше не повторится?
Что, если взять больничный лист? Дело несложное:
у горняка всегда найдется какая-нибудь болячка.
Врачи это знают, как знают и то, что людям иногда просто
хочется отдохнуть денек-другой. Некоторые называют
это симуляцией, но они не понимают нас.
Пожалуй, это выход, объяснение прозвучит
убедительно. Однако против такого выхода имелись
основательные возражения: нужны деньги, долги напоминают
о себе — надо платить. Куплены в рассрочку диван и
кресла, это удовольствие обошлось в восемьсот марок.
Вероятно, они с Ингеборг были не в своем уме, когда
подписывали кредитный лист. Чертов агент, задурил
голову своей болтовней. Может, штейгер еще раз
запишет прогул в счет отпуска? Он ведь хорошо ко мне
относится. Вот только бы товарищи не начали зубоскалить.
Этого я боюсь, у меня еще не настолько задубела
шкура, не могу я спокойно выслушивать крепкие словечки.
Было уже часа четыре, когда я очнулся от
беспокойного сна. Все еще лежа в постели, стал размышлять
о том, как образумить Ингеборг и выманить ее из
Дортмунда. Решил рассказать жене без утайки все как было,
не прибавляя и не убавляя.
Приехав в Дортмунд, я понял, что выложить
Ингеборг правду нельзя: то, что произошло, настолько
нелепо, что и мужчина не поверил бы. Чего уж ожидать
от женщины, тем более такой, как моя жена.
Я медленно брел по вечернему городу. Спешить не-
16
куда. Прошелся по Ганзаштрассе, долго рассматривал
витрины универмага «Альтгоф», в Ганзейском павильоне
поглазел на канцелярские товары, полюбовался
красными гвоздиками, полыхавшими в цветочной лавке.
Потом какое-то время стоял у деревянного забора, за
которым строился новый городской театр, смотрел на
проезжавшие автомобили.
Боже мой, чего только не строят в Дортмунде, даже
городской театр. А сколько уже понастроено — новые
заводы, тысячи квартир, повсюду широкие улицы. Да,
Дортмунд производит впечатление. Следов войны почти
не осталось, просто поразительно. А с тех пор как здесь
открыли выставку садоводства, в городе полно цветов
и зелени.
Уже поздно вечером я завернул в переулочек, где
жила моя теща. Нерешительно нажал кнопку звонка.
— Это он,— донесся из-за двери шепот тещи.—
Открой уж.
В дверях показалась жена.
— Входи. Поздновато явился. Скорее заходи, дует!
Что, заспался небось?
Когда я вошел в кухню, теща поздоровалась со мной
кивком головы и тут же исчезла. Ингеборг поставила
на стол один прибор.
— Мы уже поели, — сказала она, — мог бы приехать
раньше.
Радио передавало местные новости, но я толком
ничего не расслышал из-за канарейки, которая шумела в
клетке на шкафу.
— Хочешь пива? — спросила Ингеборг.
Я покачал головой. Все же она принесла стакан и
бутылку, и я с жадностью выпил.
В ожидании неизбежного вопроса я ломал себе
голову, пытаясь найти связь между милостивой встречей
и гневной запиской, оставленной в спальне. Уж не
постаралась ли тут теща?
— У тебя есть деньги? — поинтересовалась Ингеборг.
Я взглянул на нее.— В понедельник срок уплаты.
Пятьдесят шесть марок.
«Будто сам не помню,— подумал я,— рад бы не
вспоминать, да приходится».
— Найдутся,— ответил я, подсчитывая в уме, какие
еще расходы предстоят до следующей получки.
17
— Мама советует переночевать здесь. Вернемся
завтра вечером, спешить некуда.
«Что верно, то верно, — подумал я. — Спешить
некуда. Но вот ребенка нам следовало бы завести».
— Конечно, оставайтесь,— раздался голос тещи.
Улыбаясь, она вошла в кухню и протянула мне пачку
сигарет.— Вы так редко бываете у меня вместе.
Мы молча сидели за столом и слушали радио, ни
дать ни взять — образец семейного мира и благополучия.
Но во мне опять зашевелился страх: что, если я потеряю
работу? И зачем только я, идиот, поехал в Дортмунд?
Ингеборг сама бы вернулась в понедельник. Неужто
нет?
Ссора вспыхнула внезапно. Не знаю, из-за чего.
Просто началась — и все тут. Теща бросилась между
нами, заклинала, ломала руки, рыдала, кричала
истошным голосом. Не уйди я вовремя, наверняка озверел бы
и избил обеих.
Что еще там было, не помню. Я метался по городу,
не разбирая дороги. На Гильтропском валу остановился
посреди перекрестка, с тротуара мне кричали, машины
сигналили, визжали тормоза, шоферы ругались и
обзывали меня болваном. Тогда я кинулся в какой-то проулок
между Хёвельпфорте и пивоварней Риттера и в конце
концов оказался на вокзале.
Взял пива, глушил его стакан за стаканом. Через
час мысли начали путаться, а когда поднялся, ноги
заплетались. Будто в тумане, плавали передо мной
предметы, покачивались входившие и выходившие люди.
Меня это забавляло.
Вывеска «Почта» смутно напомнила мне о том, что
в понедельник — срок очередного взноса, что тяжело
доставшиеся денежки сожрет эта ненасытная
рассрочка. Но сейчас мне было плевать даже на долги. Все
опротивело. Хотелось плевать на прохожих: чего они
таращатся на меня, как на падаль?
Прочь, бежать куда глаза глядят. Может, в ночной
бар? Нет, для бара не хватит денег. Значит, куда-нибудь
еще. Но куда? Я пьян, нализался, как свинья. И меня
неудержимо влекло все дальше. Перейти улицу я не
мог — движение было чересчур оживленным. Я побрел
по тротуару. Под железнодорожным мостом меня
стошнило.
18
■— Вот вам рабочий! —сказал кто-то, проходя.
Так и двинул бы этого типа по морде. Откуда он
знает, что я рабочий, а не служащий или чиновник?
Спотыкаясь, я пересек Штайнплац и завернул в
темный переулок, в темный дом.
Вот так оно и получается. Пятнадцать лет ты честно
и аккуратно делаешь свое дело, и все тобой довольны.
А затем вдруг твоя репутация летит к черту, и только
потому, что ты два раза без уважительной причины не
явился на работу. Три тысячи коллег начинают смотреть
на тебя с недоверием, как бы оценивая и взвешивая
случившееся. Да, человеческим слабостям нет места на
современном промышленном предприятии. Там не
только хронометрируют производительность труда, но
калькулируют и психологию.
Пятнадцать лет гнул я спину под землей и не
испытывал отвращения к своей работе. Воспринимал ее как
неизбежное зло, утешаясь тем, что сотням тысяч
горняков приходится вкалывать так же. И все-таки каждый
день мне бывало не по себе, когда я напяливал в
душной раздевалке вонючую робу. Годами я носил в
сердце защитный панцирь и убеждал себя: мой дорогой, ты
же сам этого захотел, польстившись на высокий
заработок. А теперь делать нечего, устраивайся, как умеешь.
Правда, богатое воображение несколько облегчало
мне жизнь. С годами я взрастил в себе двух Адамов:
один из них автоматически выполнял работу, другой
начинал жить, когда за ним закрывались ворота шахты и
он шел домой. Хозяева и не подозревают, что мы,
рабочие, носим в себе двух Адамов.
В понедельник незадолго до полуночи я с тяжелым
чувством приехал на шахту. Хотел взять свой табельный
номерок, но оказалось, что он изъят. Меня уведомили,
что во вторник к восьми утра мне надлежит явиться к
управляющему...
Я стоял у навеса для велосипедов, не зная, как быть.
«Дело дрянь,— думал я,— теперь можно ждать всего».
Во вторник утром мне стало окончательно ясно, что
я ненавижу свою работу, ненавидел ее всегда, потому
19
что ненавидел восседавшего напротив меня за
письменным столом высокого, жирного, очкастого типа,—
этакий параграф закона во плоти. Пока я мямлил что-то
в свое оправдание, он глазел на меня, как рыболов на
дергающийся поплавок.
Потом я умолк, ожидая, что скажет он. Руки я
заложил за спину, вытянуть их по швам не рискнул: чего
доброго, надоумлю ввести новое правило. Рукам сейчас
делать нечего, разве что, будь на то моя воля, удавить
этого типа или хорошенько вздуть его. Я
сосредоточенно смотрел в окно, разглядывая четыре шкива,
вращающиеся на башенном копре, и прислушивался к гулу
шахтного вентилятора, расположенного почти у самого
входа в контору. Он вытягивал загрязненный воздух из
подземных лабиринтов и нагнетал туда свежий.
Очкастый спросил, чем я занимался обе пятницы и
что намерен делать дальше.
— В первую пятницу у меня был отпуск...
— Но штейгер записал его задним числом, не
согласовав со мною. Пришлось утвердить...
Меня не покидало желание придушить этого типа.
Ну и дела, шахтное начальство уже суется даже в
такую ерунду: подумаешь, один день отпуска! Так у
штейгеров мало-помалу совсем отберут права и
превратят их в обыкновенных погонял. Глядишь, пройдет год-
два, они станут рассуждать, как мы, горняки, уже
давно рассуждаем: после нас хоть потоп...
— Если бы трудовой дневник не говорил в вашу
пользу, я уволил бы вас без промедления!
Ах да, «трудовой дневник». Есть такая штука, есть.
Картотека преступника, следственное дело, уголовный
розыск — вот что такое эти дневники. В этом кондуите
отмечается каждый шаг рабочего как на предприятии,
так и вне его. Кроме анкетных данных, в трудовом
дневнике регистрируется каждый подъем из шахты до
окончания смены, каждое опоздание, каждая
пропущенная смена. Записывается, когда ушел в отпуск, когда
вернулся, взял ли его целиком или по частям.
Заносится оценка качества работы шахтера, а также
сведения о том, строптив он или послушен, охотно ли
соглашается на сверхурочную работу, не спал ли когда в
шахте, платит ли по исполнительному листу, если
таковой имеется. В эту желтую тетрадку аккуратно вно-
20
сится буквально все, не исключая сплетен, слухов и
наветов.
Редко в каком дневнике не найдешь пометок
зеленым, синим или красным карандашом. Красным — об
отрицательном, зеленым—о положительном, синим —
об еще не доказанном.
В каждом дневнике что-нибудь да записано,
каждый рабочий «на карандаше»!
Шахтера, вызванного или желающего попасть на
прием к управляющему, не впустят в кабинет, пока
начальство не проштудирует желтую тетрадку.
Специальный служащий следит за картотекой и все заносит
в дневники.
— Итак,— Очкастый поднялся и уперся кулаками в
стол,— сегодня в полночь можете приступать к работе,
но предупреждаю: еще один прогул повлечет за
собой немедленное увольнение. Мы не можем позволить
себе такую роскошь — прогулы слишком дорого
обходятся шахте... Вас аттестовали как разумного человека,
докажите это. Желаю удачи!
«С удовольствием задушил бы тебя»,— подумал я,
но сказал:
— Спасибо, что вошли в мое положение. Будьте
здоровы!
Вечно одно и то же: дерем глотку, когда нас никто
не слышит, а когда надо постоять за себя, поджимаем
губы. Да, трусоват стал наш брат.
Сказать по-честному, не так страшно расстаться с
жизнью, как вдруг потерять все, что приобретено за
многие годы. Что делать?
Наверно, я произнес это вслух, потому что двое
парней, стоявших на крыльце конторы, неожиданно
рассмеялись и покрутили пальцем у виска: в своем ли уме?
Куда сейчас деваться? Домой? Там пусто и холодно,
жена надолго застряла у матери. Ну и пусть, мне
теперь все равно, даже то, что Очкастый не уволил меня.
Что делать в пустом, холодном доме? Попрошу Рози,
чтобы затопила. Она это охотно сделает, у нее всегда
найдется время для дяди Юргена.
Да, нам с Ингеборг следовало бы завести ребенка.
Вместе с ребенком рождается чувство ответственности
за другого. А так — каждый идет своей тропинкой, хотя
порой и кажется, что мы шагаем в ногу. Ингеборг
21
говорит, что нам еще столько всего надо приобрести,
а ребенок — самое дорогостоящее приобретение. Может
быть, она и права. Но ведь ребенок не вещь!
Задумавшись, я машинально пошел к пивной — одной
из тех, где прежде нашему брату шахтеру отпускали в
долг до получки. Нынче этого не дождешься!
Неожиданный порыв ветра сорвал у меня с головы
шапку. Я спокойно взирал, как она покатилась по земле.
Эх, если бы вот так же отделаться от всех
неприятностей!
Постоянная гостья пустой пивной — сестрица-скука.
Чертова зануда! Я прогнал ее, выцеживая стакан за
стаканом и набивая музыкальный автомат монетами.
Раз десять я прослушал песенку «Горячий песок»,
которую исполняет Саша Дистель под гитару.
Удивительно, до чего ненасытной может быть маленькая щель в
музыкальном ящике.
«Черт возьми,— размышлял я под блеяние сладкого
голоса,— какому-то очкастому типу позволено
отмахнуться от человека, и только потому, что тот две
пятницы подряд не был на работе. Наверно, этот лицемер
тоже выставляет на рождество свечи в окнах, чтобы мы
не забывали о наших «братьях» в Западном Берлине» К
Сколько отметок на картонной подставке? Шесть?
Неужто столько выпил? Обсчитывает? А может, и
столько. Неохота связываться с этим верзилой за стойкой,
выпитого все равно не измеришь.
А вот и солнце выползло. Этого еще не хватало!
Убирайся прочь, пусть будет дождь, пусть рушатся копры
и трубы. Эх, если бы этот проклятый мир развалился,
и я мог бы остаться один... совсем один!.. Да, хороши
деревья за окном, хороши. Весной здесь красота:
каштаны с розовыми свечками, раскидистый клен,
устраивайся под ним, пей холодное пиво... Чудесное местечко...
Кто это? Не может быть... Она! Моя знакомаяГ
Я поспешно встал, опрокинув недопитый стакан,
кликнул хозяина и бросил на столик деньги, прямо в
лужицу пива.
Потом выскочил из пивной, побежал следом. Догнал
ее, но не смог выговорить ни слова. Только положил ей
1 Такие «демонстрации солидарности» устраивались в ФРГ по
призыву всякого рода реваншистских организаций. (Прим. перев.)ч
22
на плечо руку. Она обернулась, и глаза ее вспыхнули.
Кажется, она испугалась.
— Я заметил вас из окна пивной,— произнес я,
отдышавшись.— Доброе утро. Вот сюрприз! Не думал, что
снова доведется встретиться.
— Что вам нужно? — вскрикнула она.
Никакого сомнения: голос Зары Леандер.
— Вот как, вы меня не узнаете? Уже забыли про
наши ночные встречи? Конечно, мы виделись только
ночью, но все-таки виделись. Я сразу узнал вас. По
походке. А теперь и по голосу. У вас прекрасный голос.
Странно, даже в темноте походка запомнилась,
а лицо — нет.
Она сбросила с плеча мою руку:
— Вы слишком много выпили, путаете меня с кем-то.
Она дрожала, взгляд ее лихорадочно обшаривал
улицу.
— Я провожу вас немного,— сказал я.— Ну, как дела
дома? Все в порядке? Тихо? Ах да, конечно, до
пятницы, я и забыл. Если бы получку давали раз в месяц,
было бы лучше и для вас, и для него. А как с углем?
Могу подбросить, только дайте адрес. Кстати, вашему
мужу не обязательно знать, откуда уголь, скажете, что
купили, а деньги оставите в сумочке. Только давайте
адрес...
— Вы что, с ума сошли? Оставьте меня в покое!
Вам же говорят, я не та, за кого вы меня принимаете.
Тут я разозлился, потому что сквозь строгие,
красивые черты ее лица проступил очкастый лик того
человека, который двумя часами раньше говорил о моем
будущем, как о надоевшем ему старом пиджаке.
— Значит, не хотите вспомнить о пятницах? Вы...
вы... просто стерва...— задохнулся я,— настоящая стерва!
— Я не та, с кем вы устраиваете ночные свидания
или что-то в этом духе. Я фрау По...
— Кто, кто? — я схватил ее за руку и повернул к
себе. Глаза ее забегали из стороны в сторону.
Женщина оцепенела от страха.
— У меня нет времени. Пустите! Я позову на
помощь!..
Неужто в самом деле ошибся? Нет, тысячу раз нет!
Но почему она не признает меня? Почему? Я обалдело
смотрел ей вслед. «Удавить бы их одной петлей, —
23
подумал я вдруг, — и эту бабу, и очкастого дылду,
который оглядывал меня, словно барана, решая, годен я
на убой или еще нет».
Конечно, это она. Голос Зары Леандер, походка... Но
больше всего убеждали меня в этом ее глаза,
испуганные, затравленные.
Я кинулся за женщиной следом. Видимо, она
услышала мой топот, потому что прибавила шагу. На углу
я все же догнал ее.
— Дайте же адрес, завтра пришлю вам уголь! —
прохрипел я.
— Отстаньте, вы пьяны! Я вас не знаю, никогда не
видела, и я не та, за кого вы меня принимаете.
— Вы фрау По... А как дальше? Черт возьми, да
не разыгрывайте из себя невинного ангелочка!
— Убирайтесь! Я позову полицию! — крикнула она
и топнула ногой прямо по луже.
Я отстал.
Черные тучи за шахтными копрами доползли до
середины неба, налетел ветер, и завеса косого дождя
опустилась над поселком.
Пойти домой? Или догнать эту женщину?
На землю обрушился ливень. Водосточные трубы
клокотали, как сифоны, у обочин тротуаров бурлили ручьи.
Пока я торчал под дождем, как афишный столб,
женщина завернула у аптеки за угол. Я решил еще раз
догнать ее. Изредка оглядываясь, она торопливо шла
метрах в ста впереди меня вдоль грязновато-красных
домов и вдруг исчезла, будто сквозь землю провалилась.
Что за чертовщина!
Гадая, куда она девалась, я крутился на одном
месте, не обращая внимания на дождь. Две первые
буквы ее фамилии я знаю, остальные выясню — это уж
точно.
На улицу выскочила собака и с бешеным лаем
бросилась на меня, пытаясь вцепиться в штанину. Я стал
отгонять ее пинками, но она еще больше рассвирепела.
Эта тварь начинала действовать мне на нервы.
Тогда я замер на месте и поманил ее. Она вдруг
притихла и, поджав хвост, удрала.
«Что, если зайти в адресный стол,— подумал я,—
и просмотреть фамилии, начинающиеся на «По»? Вряд
ли таких много. А можно выдать себя за представителя
24
какой-нибудь фирмы и звонить у дверей, где есть
табличка с фамилией, начинающейся на «По». Чепуха!
Кажется, открылись все шлюзы неба. Ливень
обрушился с такой силой, что капли, ударяясь о землю,
подпрыгивали, прежде чем слиться в ручьи. Я укрылся под
навесом на крыльце первого попавшегося дома, но это
не помешало мне промокнуть до нитки. Опять
появилась собака и, повизгивая, забегала перед домом. Ей,
видно, хотелось ко мне, но она не очень доверяла
нашему перемирию.
Внезапно дверь отворилась, и я чуть не упал
навзничь, но как-то удержался, схватившись за
женщину, которая стояла на пороге. Я увидел ее лицо и
расширенные от ужаса глаза. Это была она.
— Вы?!
— Да, я,— сказал я, оторопев от неожиданности.
— Вам нельзя здесь оставаться,— прошипела она.—
Уходите!
— Разве можно выгонять человека в такой потоп!
— Меня это не касается. Убирайтесь... Быстро... Ну!
Я оторопело посмотрел на дверную табличку:
«Виктор Поленц».
Ага, теперь адресный стол не понадобится. Впервые
за эти дни я ощутил нечто вроде удовлетворения.
Женщина толкнула меня, и я, пролетев две
ступеньки, упал возле водослива, куда устремлялись
бурлящие ручьи. Дверь захлопнулась.
Когда я поднялся, рядом увидел пса. Я протянул
руку, он позволил себя погладить.
Дождь барабанил по окнам, стенам и мостовой.
В конце концов я снова забрался под навес — куда еще
деться? — и отжал куртку и штаны. Пес, повизгивая,
жался к моим ногам. Ощущение довольства
улетучилось, я казался себе жалким бродягой. Хотелось есть,
и в довершение всего давало себя знать выпитое
натощак пиво. Возможно, я был пьян и не сознавал этого.
Холод пробирал до костей. Неужели не будет конца
проклятому ливню? Сколько еще придется торчать здесь?
Да, а где я оставил велосипед? На шахте или, может
быть, у трактира?
Тут я опять почувствовал, что валюсь навзничь, и
хотел было обругать эту бабу, но, обернувшись, увидел
перед собой здоровенного мужчину. Настоящего гиганта.
25
— Гоп-ля*ля! — сказал он и засмеялся. На
огромном туловище торчала удивительно маленькая голова.
Шеи не было. «Забавное явление», — подумал я.
— Да вы промокли насквозь, входите! — пригласил он.
Я стал отказываться, но он втащил меня в
прихожую. Собака вбежала за мной и с визгом запрыгала
вокруг гиганта. От него разило пивом, но он, кажется,
был трезв.
— Зачем вам мокнуть? Переждите, рано или
поздно дождь кончится... Бедная собачонка, совсем замерзла.
— Кто мог ожидать, что так испортится погода,—
сказал я.
— А теперь вообще все случается неожиданно.
Входите, жена высушит ваши вещи.
— Нет, нет, спасибо, не беспокойтесь. Столько
хлопот... Вот пережду ливень и пойду. Я живу неподалеку.
— Заходите, заходите.
Гигант подталкивал меня перед собой. Я ничего не
мог поделать. Он был силен, как горилла, и не хотел
слушать никаких возражений.
В кухне я встретился с ней. Заметно испугавшись,
она тем не менее оглядела меня с ног до головы и
громко расхохоталась.
— Не вижу, что тут смешного,— проворчал Горилла.
Женщина тотчас смолкла.— Свари ему кофе. Мне тоже.
Пришлось снять куртку. Женщина принесла плечики
и повесила куртку над печкой, где уже сушилось
детское платье. Собака легла у порога, женщина стала
молоть кофе. Горилла уткнулся в утреннюю газету, а я
протянул ноги к печке, чтобы обсохли брюки.
— Какой породы? — спросил мужчина, выглянув
из-за газеты.
— Не знаю.
— Как же так? Хозяин и не знает, что у него за
собака?
— Хозяин? — удивился я.— А я думал, это ваша.
— Так значит, не ваша?
Горилла поднялся, схватил пса за шиворот и
выбросил в окно.
— Что ты делаешь! — крикнула женщина.
— Заткнись,— буркнул он.— Позаботься лучше о
кофе. Где это видано, чтобы держать в квартире чужую
дворняжку.
26
«Интересно, — подумал я, — что бы он сделал, если
бы вместо дворняги оказалась овчарка». Что за
чепуха лезет в голову!
Пробило одиннадцать. Мы выпили кофе. Я
чувствовал себя уже лучше, кофе согрел меня, разогнал пив-
пой туман. Все постепенно прояснилось — и окружающие
предметы, и мысли.
Дождь понемногу стихал. В кухне посветлело, где-то
на цементном небе выползло солнце.
— На стройке сейчас дело дрянь, — произнес
Горилла, лениво перелистывая газету.
— Вы работаете под открытым небом? —
поинтересовался я. — Каменщик?
Кажется, женщина что-то мне говорила о его работе.
Впрочем, нет. Она сказала только, что у мужа получка
каждую пятницу. Значит, он не на шахте: мы-то
получаем деньги раз в декаду.
— Я десятник. Нашу лавочку прикрыли. В такую
слякоть полагается греть зад у печки. Только
разведешь раствор — тут снег или дождь. Слишком много
простоев. А вообще-то неплохо и полентяйничать недель-
ку-другую. Деньги все равно платят.
— Конечно, — поддакнул я. — А вот для шахты
погода не имеет значения, под землей всегда одно и то же:
ни дождя, ни снега, ни солнца.
— Хотите еще кофе? — спросила женщина.
Она подошла к столу и улыбнулась.
— Черт побери! — Горилла стукнул по столу. — Вечно
эти твои дурацкие вопросы! Понятно, он хочет еще.
Горилла опять уткнулся в газету. Женщина
испуганно съежилась и взяла мою чашку. Руки у нее дрожали,
от былой приветливости не осталось и следа. Она
смотрела на меня сердито, вероятно, потому, что я
дал ее мужу повод сорвать на ней злость. Она
выглядела сейчас какой-то слабой, совсем не такой, как
при наших ночных встречах, тогда я даже
восхищался ею.
— Господи! — вздохнула она. — Кончилось молоко.
— А что у тебя, собственно, есть в доме? — Горилла
снова ударил по столу. — Вечно чего-нибудь не хватает,
за каждой ерундой надо в лавку бегать.
— Я сегодня еще не выходила за покупками, —
сказала она тихо.
27
— А где ты была час назад? У своей любимой
сестрицы? Вот и отправляйся теперь. Чем ты только
занимаешься целый день? Язык чешешь?
— Не беспокойтесь, — вмешался я. — Мне больше
нравится кофе без молока.
— Вздор! Пусть принесет!
— Но ты ведь тоже пьешь черный кофе! —
крикнула она.
— Убирайся! — Он указал ей на дверь.
Женщина выбежала. Горилла не спеша
перелистывал газету и что-то бурчал себе под нос. Потом вдруг
улыбнулся во весь рот и зевнул.
Я внимательно разглядывал его. Судя по
взъерошенным волосам, он сегодня еще не причесывался.
Лицо его, несмотря на крохотную голову, не казалось
детским. Вероятно, из-за носа и глаз: нос был с
горбинкой и слишком крупный, а глаза поблескивали
бесцветно и холодно. Когда Горилла разговаривал, на
лбу у висков то вспухали, то опадали желваки
величиной с большую монету. Голова, словно шарик, лежала
на широких плечах. В распахнутом вороте рубахи
виднелась волосатая грудь. Да, такого испугаешься!
Кухня была обставлена так же, как тысячи других
кухонь в тысячах рабочих квартир, без особого вкуса,
но не без уюта. Несмотря на утренний час, здесь было
чисто. Развешанные детская одежда и спецовка
хозяина, требовавшая починки, не портили впечатления. На
буфете лежали школьные тетради и несколько дешевых
ковбойских романов.
Вернулась хозяйка с банкой молока.
— У вас дневная смена? — спросила она. Быстро
пробив два отверстия в крышке банки, она поставила
ее на стол.
Я налил себе молока и подвинул банку хозяину.
— Не надо, я пью черный кофе, — проворчал он.
— Нет, ночная. Весь год, — ответил я женщине.
— Да ведь это каторжная смена! — буркнул Горилла.
— Пожалуй. Особенно если ходишь в ночь не одну-
две недели.
— А сейчас вы с работы? — поинтересовалась
женщина и пристально поглядела на меня.
-Да.
Горилла быстро перелистал газету.
28
— Сигареты принесла? — резко спросил он.
— Сигареты? Я думала...— она опять задрожала.
— Думала! Уж ты придумаешь. Сейчас же принеси,
мигом. Вот проклятье, за каждой ерундой она должна
специально бегать.
Я протянул ему сигареты.
— Эти не курю!—отказался он и крикнул жене
вдогонку: — Погляди, собака еще там?
— Не видела!
— Да у тебя, наверно, бельмо на глазу! — Он
грузно опустился на стул и снова занялся газетой.
— Так,— сказал я,— куртка почти сухая. Пойду, а то
в сон клонит. Брюки тоже подсохли. Минут за
пятнадцать доберусь, у меня велосипед.
Я оделся. Протянул хозяину руку, но он, не
замечая ее, буркнул:
— Не жалейте времени на сон.
Вероятно, он даже не понял, что произнес какие-то
слова.
Сквозь цементно-серые тучи прорвались первые
солнечные лучи, осветили дома и людей. Две девочки
прошли мимо меня, скрылись за дверью. Их дети.
Вернулись из школы.
Я медленно побрел по стиснутой унылыми
кирпичными домами улице и на углу опять неожиданно
столкнулся с этой женщиной.
— Могли бы посушиться еще.
— Если бы вы не вытолкали меня под дождь, я бы
промок меньше.
— Господи, да поймите же, он убьет меня, если
узнает.
— А что он может узнать?
— О той ночи, в пятницу.
— Подумаешь, составил вам компанию и больше
ничего.
— Но он же не знает, что я брожу по окрестностям.
Думает, что пошла к сестре. Она живет в другом
конце поселка.
— Неужели он ни разу не справлялся у нее?
— Она знает, что ответить, не выдаст.
— В пятницу придете?
— Может быть.. Точно не знаю. Пожалуй... Да,
лучше, если не приду. Сейчас он ходит отмечаться на бир-
29
жу, в понедельник там дают пособие. В этот день
большинство пивных закрыто. А добравшись домой, он уже
никуда не выходит.
— Так вот, значит, какой у вас муж,— сказал я,
глядя в сторону.
— Да, нет... Хотя... Нет...
— Что нет?
— Он мне не муж. Мы только живем вместо,
понимаете, он заботится обо мне и о детях.
Она покраснела и смутилась»
— Вы вдова?
— В общем, да... Мой муж далеко. Очень далеко.
Туда нельзя попасть. Бауцен, на самом краю света...
— А это не рискованно? Соседи, сплетни...
— Почему? — Она в упор посмотрела на меня.—
Надо же как-то жить. Прежде было совсем иначе...
Формально я снимаю у него квартиру.
Мне вспомнились женщины, которые, узнав, что их
мужья пали на поле чести за Адольфа, народ и
отечество, первое время чуть с ума не сходили от горя,
а спустя месяц обзаводились новым дружком.
— Если не трудно, вы все-таки пришлите уголь.
Теперь вам адрес известен.
— Ладно, сегодня же скажу шоферу... А почему вы
убежали в прошлую пятницу? Даже не попрощались.
— Да вот... вспомнила, что надо кое-что сделать...
Кстати, у пивной стоит ваш велосипед — и не на замке.
Сегодня мы бурим шпуры. Аппарат Шмидта
всасывает пыль в металлический резервуар. Хорошо, что есть
еще изобретатели, которые заботятся не только о
технике. Не будь этого аппарата, мы становились бы к
сорока пяти годам инвалидами, с забитыми и
разъеденными рудничной пылью легкими.
Бурим трое. В уши врывается монотонный вой.
Вокруг все грохочет, трясется, скрежещет, свистит, шипит.
На несколько часов мы глохнем. Объясняемся только
жестами.
Всего надо пробурить девять шпуров, каждый
глубиной в два метра.
На каждого из нас — три шпура. Я чуть отстал,
работа не идет, потому что мысли далеко от инструмен-
30
та, который у меня в руках. Это плохо. Сбиваюсь с
нужного направления, и только крепкий тычок под
ребра, полученный от Карла, напоминает мне, что нельзя
позволять мыслям сверлить голову, когда сверлишь
породу. События последних дней выбили меня из
равновесия. Да и чувствую я себя неважно, болит голова,
покалывает в спине.
• Проклятье! Что случилось? Оглушительное шипение,
свист, крики! Чего это Карл так разорался?
Вот что — сорвало всасывающий шланг! Сжатый
воздух ударил по стенам, взвихрив пыль. Шланг
извивается, как змея.
Бежать! Шланг ведь может переломать кости, а то
и убить, если удар придется в подбородок или в висок.
Толкая друг друга, мы кинулись к резервуару, но в
туче пыли ничего нельзя разглядеть. Тогда я помчался
в штрек, метров на двести назад, к запорной задвижке,
и перекрыл подачу сжатого воздуха.
Постепенно шипение стихло, и пыль стала пушисто
оседать. Когда я вернулся в забой, Карл с Вильгельмом
уже возились у вентиля, пытаясь насадить сорванный
шланг, и беспрерывно сыпали ругательствами. Еще бы,
время идет, а наша работа рассчитана до минуты. Вот-
вот появится взрывник, у него тоже день расписан по
часам и минутам. Все должно быть сделано так, как
определили в своих кабинетах господа калькуляторы,
хотя они часто забывают, что машине легче соблюдать
график, чем человеку.
— Только этого не хватало, ведь к четырем часам
я вызвал взрывника, вот дьявольщина! — ругался
Карл.— Оставаться на сверхурочные сегодня никак
нельзя, штейгер опять разорется.
Карл заводился все больше, и ремонт шланга из-за
этого только затягивался.
Половина третьего. Значит, в запасе еще полтора
часа. Пожалуй, успеем, если опять что-нибудь не
стрясется. Карл и Вильгельм, наконец, справились со
шлангом, я сбегал в штрек и открыл задвижку. Воздух
зашипел, и, когда я вернулся в забой, ребята уже
бурили.
Мы сверлим чрево Земли. Под угрозой могучих
каменных стен каждый день вгрызаемся на два метра в
пласт, и этому не видно конца. Каждый день на два
31
метра, каждый день одно и то же. Чрево Земли
необъятно.
Несмотря на отвратительное самочувствие, я
принимаюсь за третий шпур. Переставил двухметровую
колонку, на которой закреплен бурильный молоток, и
начинаю бурить. Болят руки. Но работа все же
подвигается, бур легко вгрызается в породу, приятно
смотреть, как тонкая штанга сантиметр за сантиметром
уходит в пласт.
Забурить, взорвать, установить крепления — таков
ритм подземных суток. Если управишься с бурением
и взрывами и до конца смены успеешь поставить
крепления, значит, заработал тридцать марок плюс —
минус несколько пфеннигов. Но больше тридцати марок в
смену получаешь редко —это максимальный заработок
горняка.
Внезапно бур заело. Черт, неужели наткнулся на
песчаник? Этого еще не хватало, и так задержался.
Время — деньги. Мягкий пласт — много денег,
твердый— мало. И надо же такому случиться: сначала
шланг оборвался, теперь на песчаник наткнулись.
Будем надеяться, что это лишь конгломератная жила.
Тридцать марок я обязан заработать, хоть кровь из носу.
Если уж за горняцкий труд столько не получать, тогда
лучше подметать улицы в Дортмунде или в Унна.
Карл и Вильгельм закончили бурение и взялись
помогать мне. Взрывник уже несколько минут стоит
возле нас, отпускает ядовитые замечания. И хотя мы
мало что слышим, однако с удовольствием вогнали бы
в него самого бур. Всем некогда, и начальству, и
работягам, ну просто эпидемия какая-то! Не удивительно,
что происходят несчастные случаи. Пыль то забивает
поры кожи, то вымывается потом, стекающим по спине.
Сколько раз это повторяется за смену? Никто не
считал. А сколько мы теряем каждую смену в весе? Нас
мучит жажда, из-за перенапряжения не хочется есть,
и ко всему этому вечная спешка. Бывает, пот некогда
вытереть, жмет начальство, подгоняют сдельщина, ритм
машины, нормы, рассчитанные в кабинетной тишине.
Один человек подгоняет другого, подгоняет сам себя,
потому что надо больше заработать.
Погружаем бурильный инструмент на тележку, и я
откатываю ее до развилки. Опасное занятие: если опро-
32
кинется, придется возиться — и притом бесплатно—
целую смену, пока приведешь все в порядок.
Взрывник принимается за дело. Достал забоечные
патроны. Вскоре из шпуров повисли красные провода,
это напоминает кабельный распределитель. С помощью
трехметровых штанг мы осторожно, как пекарь
сажает в печь булки, закупориваем шпуры, проталкиваем
к патронам «пыжи» — свернутую в «колбаски» глину.
Затем взрывник соединяет все провода.
Сколько я ни наблюдал за его манипуляциями, для
меня и по сей день остается загадкой, каким образом
ему удается навести в этой путанице порядок и
избежать несчастья. Я вывинчиваю из кровли висячую
лампочку, собираю разбросанный инструмент и отношу все
в безопасное место.
Наконец, взрывник подключает провода к машинке-
детонатору. Он выбрал позицию метрах в пятидесяти
от забоя, а мы отошли подальше, к запорной задвижке.
Там забились в ниши. Излишняя осторожность не
помешает, чем черт не шутит — бывает, куски угля летят
даже за угол.
Мы молча стоим в укрытии.
Наконец, сигнал тревоги — взрывник кричит «Горит!
Горит!»
Секунды напряженного ожидания. И вот гора
содрогнулась. Задрожала крепь, деревянная и
металлическая, вздрогнули мы. Пронесло! Слава богу!
После взрыва мы сели завтракать. Бутерброды,
холодный кофе. Время есть, пока из забоя вытянет
серные газы, пройдет минут двадцать. Карл включил
вентиляторы на полную мощность, они завертелись, как
бешеные. Туча пыли, смешанной с ядовитыми парами,
окутала забой. От сладковатого чада защекотало в
носу...
Мимо нас прошел взрывник.
— Содержание газа проверил, забой чист, можете
приступать,— буркнул он. За плечами у него звякали
два жестяных ящика из-под взрывчатки. Их стук еще
долго раздавался в штреке.
— Эх, ребята,—вздохнул Карл,—не знаю, как вам,
а мне так неохота работать. Последние дни ломает
всего. Верно, простыл, погода-то дурацкая. Старуха
гонит к врачу. А что мне это даст? Через три дня пошлют
2 Заказ 325 33
на повторный медосмотр в Хамм, а там сочтут
симулянтом, если ничего не смогут обнаружить. Просидишь
три часа ради двух минут, которые тебе уделит врач.
Разве при таких порядках вылечишься?..
Мы пошли в забой.
При взрыве куски угля долетели до буровой
тележки. Но в общем взорвано хорошо, ничего не
повреждено, все стойки новой крепи на месте, затяжки тоже
целы. Такую работу мы любим, график не нарушен.
Значит, будут деньги — тридцать марок за смену.
Мы укрепили несущие стойки, положили рельсовый
верхняк, причем без всяких подмостей, — на груде угля
стоять куда удобнее. Действовать тут надо быстро,
смекалисто, чтобы сэкономить время. У каждого свои приемы.
Утренняя смена откатит гору угля—двадцать тонн;
дневная поставит стойки, укрепит потолок и стены. А там
опять ночная смена. Карл, Вильгельм и я снова
пробурим девять шпуров и отобьем уголь. Все
взаимосвязаны, словно зубчатые колеса в передаче. Стоит
одному звену выпасть, как нарушается весь цикл и не
ладится работа, настроение, падает заработок.
Сегодня нам еще повезло: со шлангом справились,
и тридцать марок будут наши. Мы хорошо сработались,
но это еще не все решает. Две другие смены,
утренняя и дневная, должны действовать так же слаженно,
иначе все полетит к черту.
В половине седьмого смена закончилась. Мы
вытерли с лица пот и грязь, вытряхнули спецовки и не спеша
направились в квершлаг, а оттуда — в коренной штрек.
— Вчера у меня был судебный исполнитель,—
сообщил Карл.— Наклеил свой ярлык на новый кухонный
шкаф.
— Как же это так? — спросил я.
— Да ведь я прошлым летом купил телевизор, ну и
не рассчитал со взносами. Когда брал шкаф, думал,
обернусь, а после того несчастного случая, сам знаешь, три
месяца не работал. Вот так и получилось. Сначала
прислали напоминание, потом предписание о платеже,
а вчера заявился этот господин.
— Не горюй,— посочувствовал Вильгельм.— Ко мне
он в прошлом году тоже наведывался.
— Дело не в шкафе,— огрызнулся Карл.— Жена от
злости зашлась. Машину судебного исполнителя знает
34
ведь каждый на улице. Как появится, все следят из-за
штор: к кому? А жена как нарочно хвасталась перед
соседками, что за все платит наличными. Черт, до чего ж
неприятно! Нет, лучше ничего не покупать в рассрочку.
— Так-то оно так,— заметил Вильгельм,— да всякий
раз попадаешься на эту удочку. А что делать? Копить?
Ни черта не выходит, пробовал. Только соберешь
несколько сотен, что-нибудь подвернется, и плакали твои
денежки.
— Верно,— согласился Карл.— Слишком мало
зарабатываем, в этом все дело. От получки до получки не
хватает.
— Нет,— возразил я,— зарабатываем-то мы
достаточно. Только если сказать по совести, нам хочется
слишком многого сразу.
— Заткнулся бы. Разве покупаем то, что не
нужно?—Карл рассердился.— Стиральную машину надо?
Надо. Телевизор? Надо! А мопед? Ты что, хочешь всю
жизнь топать на работу пешком или ездить на
велосипеде? Пока доберешься до шахты, язык высунешь. Нет,
Юрген, не в этом дело. Слишком дорого все, слишком
много дерут торгаши. Ты вот послушай: сосед купил
автоматическую стиральную машину, стоит она две
тысячи, а он получил ее по знакомству за тысячу
четыреста, прямо от оптовика. На разницу мог
бы взять еще и холодильник. По какому праву они
столько дерут?
— Тут должно вмешаться государство,— заметил я.
— Государство? — закричал Карл.— Так оно же само
зарабатывает на этом. Чем больше
торговцев-посредников, тем больше налогов!
— Как бы там ни было, радуйся, что мы живем не в
Восточной зоне,— сказал, обращаясь ко мне, Вильгельм.
— Почему? И ты веришь этой брехне? —
взорвался я. —Обычная пропаганда. Прожужжали все уши
насчет золотого Запада, многие прежде верили и
переходили сюда. Правда, кое-кому из них сунули такие
подачки!.. Есть тут один, на соседней улице. Не поверишь,
чего только у него нет. Я пятнадцать лет вкалываю и
половины того не нажил... Может, скажешь, свободу
у нас нашел? А у нас с тобой она есть? Работай и
помалкивай, не то документы в зубы — и топай на все
четыре стороны, вот тебе наша свобода!
2* 35
:— Верно,— сказал Карл и хлопнул Вильгельма по
шгечу.— Ребята, ну и хохотал я, когда судебный
исполнитель ушел. Ярлык-то наклеил на неоплаченный шкаф.
Конфисковал, называется.
, Мы рассмеялись.
— Теперь,— проговорил сквозь смех Карл,— не
хватает только* чтобы прислали судебный лист на оплату
шкафа.
Из боковых штреков плыли огоньки. Шахтеры
выбирались из подземного лабиринта в откаточный штрек
к поезду. Струя ледяного воздуха пронизывала
насквозь. Ветер дул с такой яростью, что приходилось
отворачивать лицо, чтобы не задохнуться. На
восьмисотметровой глубине чувствовалось, какая температура на
поверхности. Сегодня наверняка лютая стужа.
Мы только теперь поняли, как дьявольски устали.
Едва уселись в крытый, защищенный от ветра
вагончик и поезд тронулся, мы тут же заснули. Невзирая на
тряску и грохот, спали, пока не доехали до шахтного
ствола, так крепко, что нас пришлось будить.
У ствола обошлось без толкотни. В восемь утра
наверх поднимается только пятьдесят человек. Пятьдесят
почерневших изнуренных людей, едва не засыпающих
на ходу, голодных, и главное, так истосковавшихся по
дневному свету, что кажется, они погибнут, если сейчас
же не выберутся наверх.
Мы вошли в клеть. Сквозняк пробирал до костей,
сопротивляться ему уже не было сил, и мы покорно
дрожали от холода.
Поднявшись, я постоял несколько минут в крытом
переходе, соединяющем верхнюю площадку ствола с
душевой. На дворе за ночь выпало много снега.
Я не торопился. Да и куда? С тех пор как жена
перебралась в Дортмунд, в квартире стало холодно и
неуютно. Попрошу Рози истопить в кухне и гостиной
печи, Что ей стоит забежать к нам по дороге в
школу? Кофе опять придется варить самому, а когда
варишь сам, да еще на скорую руку, вкус у него уже
не тот. Десятнику Поленцу куда легче. Он может
неделями сидеть, задрав ноги, почитывать газету и
говорить всякие гадости своей жене-квартирантке.
В раздевалке я не спеша скинул робу, радел
деревянные сандалии, взял мыло «Рейноль», мочалку и про-
36
шлепал в душевую. Горячая вода била по кафелю и
голым телам. Поначалу даже дух захватило. Какое же
это блаженство для измученного, продрогшего горняка!
Под горячим душем он снова становится человеком.
С мокрых тел стекают черные ручьи. Пещерный Адам
меняет кожу.
Каждый моется по-своему. Один начинает с головы,
другой —с пяток, третий — с шеи. Довольно занятная
картина, когда видишь белое тело с черной головой.
Сегодня почему-то никто не крикнул мне:
— Юрген, снимай свитер!
Что поделаешь, я очень волосатый и, входя в
душевую, обычно скребу ногтями волосы на груди.
Здесь, не стесняясь друг друга, моются сотни
голых мужчин — отцы, сыновья, дяди, племянники и
братья. Помнится, несколько лет назад один
парнишка после своего первого рабочего дня вошел в душевую
в трусах. Он стеснялся. Ну и досталось же бедняге! Еще
бы, невероятный случай: горняк под душем — и в
трусах! В конце концов кто-то сорвал их с него. Он вопил,
призывая на помощь, но все только смеялись. Хохот
грянул еще сильнее, когда несчастный предстал перед
всеми голым...
— Бинокль! Дайте бинокль! — кричал кто-то.— Ни
черта не видно!
Мне было искренне жаль беднягу. Такое сразу
разносится. Через сутки об этом случае знали все,
включая управляющего. Парнишку так и прозвали Девицей.
Вскоре после случившегося Девица уволился с нашей
шахты, где ему не давали прохода, и устроился на
другую. Рассказывали, что там он в первый же день
появился в душевой без трусов. Значит, понял, что гор*
няк горняка не должен стыдиться.
Перед дверью по щиколотку лежал снег, в
квартире было холодно. В кухне от немытой посуды пахло
кислятиной. Пока варился кофе, я обнаружил, что
домашние запасы продовольствия почти иссякли.
Придется днем идти за покупками. Топить не стану, улягусь
сразу в постель. Хорошо, что хоть не надо экономить
угэль. Попрошу Рози заняться печами.
Перед сном почитал газету. Как нарочно, первой
37
попалась статья о повышении цен на молоко: литр стал
дороже на шесть пфеннигов, и не просто так, а на
основе чего-то.
Экономическое чудо дает нам все: благосостояние
в рассрочку, собственный дом и долги, работу и угрозу
увольнения, жен-квартиранток и десятников без шеи.
Дверь открыла Рози. Мне нравится эта девочка. Уже
много лет она моя любимица, наверно, потому, что у
меня самого детей нет, а с ее матерью нас связывает
давняя дружба. Рози исполнилось семнадцать. Она
умна, сообразительна и любит пококетничать. Таких
теперь называют тинэйджерами. Девочка регулярно
читает «Твен» и отдает должное этому журнальчику. Но
джинсов не носит и под Брижитт Бардо не
причесывается. Она трезво смотрит на жизнь, знает цену
деньгам и не строит иллюзий — желания и стремления у нее
самые обычные. Правда, она мечтает когда-нибудь
пережить «приключение» с мужчиной, с настоящим, и
частенько говорит мне, что не прочь побывать на «оргии».
Это слово она вычитала в иллюстрированном журнале,
однако смысла его себе не представляет. Иногда над ее
коленками дразняще покачивается колокол из трех-четы-
рех нижних юбок.
— Только бы не увидела мама,— сказала мне по
этому поводу Рози,— она ведь так старомодна. А папа
ничего не имеет против, он только говорит: «Ветер, как
это прекрасно! Столько ветра!»
Сейчас Рози носит узкие юбки: они удобнее для
твиста.
Каждое утро она едет электричкой в дортмундскую
торговую школу, часам к трем возвращается и сразу
садится за учебники. Если не придираться к словечку
«оргия», от которого она не может отделаться и
которое преследует ее даже во сне, Рози — обыкновенная
девушка, скромная и трудолюбивая. Соседские парни
ходят за ней хвостом, с мопедами и без них. Ей это
нравится. «Значит, во мне что-то есть»,— говорит она
убежденно. О том, чтобы иметь прочную привязанность,
она и не думает — не потому, что против, а потому, что
школа наряду с «оргией» занимает все ее время и
помыслы.
38
— Дядя Юрген! Наконец-то пожаловал!
Рози повертелась передо мной и спросила, идет ли
ей новый пуловер.
— Хорошо, очень хорошо. Только, кажется,
размером меньше чем следует.
— Ну и что? Так и должно быть. Иначе не
выделяется грудь.
— Разве она обязательно должна выделяться?
— Что я слышу! Да ты никак вступил в «Армию
спасения»?1
— Пока нет,— ответил я, рассмеявшись,— просто
поумнел.
— Ну да! За две-то недели? Быстро у тебя
получается!
Мать Рози, Вероника, сидела на кухне и вязала.
Сдвинув очки на кончик носа, кивнула мне:
— Карл в гостиной.
— Как он себя чувствует?
— Так себе. Погода, сам знаешь, какая. Но пока он
не жалуется. Опять рисует, целую неделю.
— А что он рисует сейчас? — поинтересовался я.
Вероника тихо рассмеялась:
— Делит мир.
— Это что-то новое. Обычно он рисовал заборы.
И давно?
— Три дня. Иди, сам посмотришь. Рози, приготовь
дяде Юргену кофе.
— Мамочка, он с большим удовольствием выпьет
пива.
— Я сказала: кофе. Сама знаю, что ему пить!
Рози пожала плечами и принялась хлопотать у
плиты. Я прошел в гостиную. Карл сидел за круглым
столом и, сдвинув скатерть, малевал акварельными
красками на большом листе бумаги.
— А, гости!—воскликнул он.— Мне даже снилось
сегодня, что кто-то придет, но кто — так и не понял.
Ведь оберштурмбаннфюрер давно умер. Он посещал
меня регулярно. В какой это было комнате: в
четырнадцатой... или в пятнадцатой?
— Карл, оберштурмбаннфюрера убило бомбой.
1 «Армия спасения» — реакционно-филантропическая
организация. (Прим. перев.),
39
— Конечно, конечно... Как твоих родителей. Раз —
и нет!
— Да, так же, как их. Только отец мой был
шофером грузовика, а не оберштурмбаннфюрером.
— Но оберштурмбаннфюрер тоже сидел в
грузовике.
— Как поживаешь, Карл? Болит?
— Господи, о господи! Ты знаешь, Юрген, я тут
запутался. Это адская работа, помоги мне. Господи, о
господи!
— Разумеется, помогу. Что ты рисуешь?
— Я не рисую, я делю мир.
— Как же ты это делаешь?
— Очень просто. Как ты мог забыть — не понимаю.
Я же тебе объяснял когда-то. Гляди: красная — это
Европа, ее отдают русским. Синяя —Америка, пусть
берут америкашки. Желтая — Азия, пойдет китайцам.
Черная—Африка, это арабам.
— Но ведь арабы не черные.
— Да? Значит, я ошибся. Ладно, еще не поздно,
пусть ее забирают готтентоты.
— Ты забыл Австралию, Карл.
— Что я, дурак, по-твоему? Ее я про запас
оставил, тут дело особое. Видишь, черно-белая, полосатая —
это Австралия. Здесь будет колония для преступников.
Жителей эвакуируют в другие части света, а
преступников свезут туда.
— Важных или всех подряд?
— Самых важных. Политиканов, атомщиков,
промышленников и... Нет, достаточно.
— Это было бы неплохо, Карл, но, я думаю, что
не все согласятся с таким решением.
— Обязательно согласятся. Я провел
предварительные переговоры. Завтра у меня соберутся президенты,
я уже велел Веронике расстелить перед домом ковер.
Мы ведь не дикари какие-нибудь... Ковер у крыльца
произведет впечатление, а? В общем, завтра выясним
все детали.
— Они прибудут самолетом?
— А ты думал, поездом? Ясно, на «штукасе»... ииииу-
ииииу... Помнишь, как он воет? Вот будет забава! Пусть
соседи рты разинут, а то они считают, что я не в своем
уме.
40
— Нет, Карл, соседи так не думают, ты это просто
вообразил себе. Где же будут садиться самолеты?
— Где? Конечно, на лугу, за лесом. Коров оттуда
придется убрать... в хлев или на бойню. Что такое
коровы, когда мы делим мир!
— А какую ты получишь должность?
— Об этом уже договорились: я стану канцлером
Австралии. И я уже придумал, что делать: заложу по
всей стране шахты и загоню всю банду под землю.
Господи, о господи, вот будет праздник!
— Что же они будут добывать?
— Камень. Только камень. А его там предостаточно.
Скажи-ка, Юрген, Австралия большая? Больше
Дортмунда?
— Гораздо больше,— ответил я, проглотив засевший
в горле комок.
— Это хорошо. Значит, можно заложить много
шахт.
— А что ты будешь делать с добытым камнем?
— Тоже учтено. Построим дамбу — от Австралии до
Южного полюса, через океан.— Он впился в меня
нетерпеливым взглядом.— Думаешь, не получится?
— Задача нелегкая, это должна быть очень
длинная дамба, Карл.
— Ничего, преступников хватит.
— А зачем тебе Южный полюс?
— Соорудим там всемирное кладбище. Во всех
странах кладбища будут ликвидированы, их перепашут и
засеют пшеницей.
— Но на Южном полюсе трупы не сгниют,—
возразил я.
— Именно это и нужно, чтобы воскреснуть. Как же
ты воскреснешь, если сгнил? Прежде... Ну, тогда люди
не знали об этом, а теперь есть Южный полюс. Я что-то
читал, погоди-ка. Впрочем, нет.
— Это действительно хорошая идея. И откуда они
у тебя только берутся, идеи, я бы ни за что не
додумался.
— Еще бы! Ты ведь не бывал там, где я. Но ты
меня понимаешь, Юрген, ты единственный, кто меня
понимает. А знаешь, для тебя тоже найдется
должность. Ну, конечно! Что, если тебе стать председателем
всемирного профсоюза? Для начала кое-какой капи-
41
тал будет тебе, само собой, предоставлен, немного
выделю я. Но только так, как задаток... — Он
показал на тумбочку у окна. — Там у меня достаточно
капитала.
Я знал, что в тумбочке хранилась его одежда узника
концлагеря.
— Вот увидишь, я везде понастрою концлагеря,
везде, и каждого, кто туда попадет, прикажу кастрировать,
а на спине выжечь надпись.
— Какую надпись, Карл?
— Ты же знаешь. — Он испуганно огляделся и,
вздрогнув, прошептал мне на ухо: — «Каждому свое...».
— Правильно!—воскликнул я и хлопнул себя по
лбу.— Ты же мне об этом недавно рассказывал.
— Недавно? В самом деле? Не говори так громко,
они подслушивают за дверью. Даже ночью, когда все
спят: вдруг кто-нибудь заговорит во сне? Но я не
выйду из барака.
— Они больше не стоят за дверью, Карл, их
больше нет.
— Тсс! Все равно кто-нибудь да подслушивает, если
они не в черной форме, так в другой. Они только
сменили одежду. И оберштурмбаннфюрер с ними...
Впрочем, нет, его убило. Бомбой, как и твоих родителей.
А надпись была ведь над воротами? Ну, конечно, над
воротами. Такие большие, огромные ворота. В них
можно было только войти. Над воротами было
написано: «Каждому свое...». Я читал эту надпись дважды в
день, потому что мы выходили на работу в
каменоломню. А когда вечером возвращались, пели песню.
Что же мы пели? А, вспомнил: хорал, его сочинил
оберштурмбаннфюрер. Ловкий был парень, на все руки
мастер. И стихи сочинял, и музыку. На обратном пути мы
всегда пели хорал. Начинался он так: «Адольф Гитлер
ниспослан богом, аллилуйя, его министры — двенадцать
апостолов». Затем надо было пропеть «аллилуйя»
двенадцать раз. Красивая песня, Юрген, очень красивая, но
под нее плохо маршировать. У ворот нам приказывали
задрать головы... Наверху — метровые буквы. Кто не
поднимал голову, того вздергивали на крюк. Над
воротами.
— Ладно, Карл,— прервал я его. Господи, только бы
перестал, я уже слышал все это тысячу раз!
42
— Юрген, по команде «Смотри вверх!» мы
поднимали голову, а по команде «Три-четыре!» читали вслух:
«Каждому свое...». Громко.
Наконец-то Рози принесла кофе. Она улыбнулась
мне и сказала:
— Папе сегодня опять лучше, это потому, что ты
пришел, при тебе он веселеет. Приходи почаще.
Сегодня он читал газету. Понимаешь?.. Как только найдет
что-нибудь про убийства и войну, говорит:
«Австралия». Когда читает про Америку, говорит «bye-bye»1,
если про Россию — «ньет», а если про Францию, то
произносит мое имя.
— Твое имя? Не может быть!
— А что? Это же вполне естественно.
— Чего вы там шепчетесь за моей спиной, вечно у
вас секреты!—^крикнул Карл.— Господи, о господи, что
за молодежь! Но у вас ничего не получится, поняли?
Рози выйдет замуж за нового президента Европы.
— Пап, я думала, что президентом станет дядя Юр-
ген.
— Нет, он недостаточно красный.
— Вот как? Так пусть покраснеет побольше, это и
не плохо и не сложно.
Карл Боровский уже не слушал, что говорила дочь.
Склонившись над бумагой, он рисовал черное пятно и
проводил по нему белые полоски.
Я не спеша попивал кофе и был доволен, что Карл
молчит, слава богу.
Время от времени у него капало из носу. Капли
падали на бумагу, и он размазывал их вместе с краской.
Вошла Вероника и включила телевизор.
— Курс кройки и шитья для домохозяек,— пояснила
она.
— Чему тебе учиться, ты и так все умеешь,—
сказал я.
— Благодарю. Я только кажусь такой рядом с
мужем. Он стал совершенно идиотом, Юрген. Вчера был
трудный день, он без конца хныкал. Посылали за
тобой, но у вас дома никого не было. Разве Ингеборг в
Дортмунде?
1 Скороговорка, означающая по-английски «До свидания».
(Прим. перев.).
43
Пришлось рассказать ей обо всем, что произошло со
мной за последнее время, начиная с той ночной встречи.
Не упомянул я только о темном переулке в Дортмунде,
куда я завернул под конец: тут она не поняла бы меня.
В остальном же ничего не скрыл.
Вероника взглянула на Карла, тот заснул над
своими рисунками.
Рози рассмеялась:
— Какой ужас! Дядюшка Юрген на скользкой
дорожке. Вот это да! Я начинаю проникаться к тебе
почтением. Скажи, она хорошенькая? Как ее фамилия —
Поленц? Ах нет, это фамилия десятника. Выходит, ты
не знаешь ее фамилии. Жалко.
— Помолчи ты, девчонка! — прикрикнула на дочь
Вероника.
— Что такое? — встрепенулся Карл.— Прибыли
президенты?— Он растерянно оглянулся по сторонам. Из
угла его рта стекала слюна. Вероника вытерла ему
губы.— Разве их еще нет? Чертова погода, наверно, не
могут приземлиться. Господи, о господи!
— Что же ты теперь собираешься делать? —
спросила меня Вероника.
Она все еще красива. Есть такие женщины, которые,
несмотря на трудную жизнь, не теряют с годами
привлекательности.
Во время войны Карл писал в шахте мелом на
вагонетках: «Да здравствует Москва! Гитлер — грязная
свинья!» Карл никогда не был коммунистом, но он не
выносил Гитлера. Терпеть не мог коричневых.
Он настолько увлекся своим занятием, что перестал
обращать внимание на предупреждения тех, кто знал
автора надписей. И только посмеивался: надо же как-то
вытравлять коричневый цвет!
Через две недели после появления первой надписи
два агента в штатском арестовали его прямо в
раздевалке. Ему разрешили помыться, а то еще испачкает
сиденье автомобиля, в котором его увозили, разрешили
съесть бутерброды и допить кофе. Брать с собой
фляжку запретили; один из агентов сказал Карлу, что она
ему больше не потребуется.
О Карле долго ничего не было слышно. Попытки
Вероники навести справки ни к чему не приводили;
всюду, куда бы она ни приходила, только пожимали пле-
44
чами. А Карл тем временем сидел в городской тюрьме
в Амберге. Позже его перевели в концлагерь, над
воротами которого были укреплены метровые буквы. Все
это без суда и следствия.
Незадолго до окончания войны Карл вернулся. Еще
до ареста его тело было все в черно-зеленых рубцах—·
следы работы в шахте. А после концлагеря оно
выглядело так, будто по нему молотили цепом. У Карла
появились странности: каждую неделю он разрабатывал
новый план завоевания мира и составлял точное
расписание побед пролетариата. Как-то я сказал ему, что
пролетариата больше нет, ибо у каждого рабочего
сейчас есть приличная квартира, а вскоре будет и
автомобиль. Карл был поражен.
— Разве больше нет бедняков? — спросил он.
— Конечно, есть,— ответил я,— но об этом нельзя
говорить вслух. Предпринимателям и профсоюзам
такие разговоры не нравятся.
— И бесправных тоже нет?
Я промолчал.
Иногда Карл разговаривает вполне нормально, и я
начинаю сомневаться, болен ли он на самом деле.
Потом снова наступают дни, когда он топает ногами,
кричит, валяется на полу и вздрагивает всем телом, словно
его бьют. Неделю-другую почти ничего не ест и не
пьет, только лежит и часами рыдает без слез. Но
самое страшное, когда он молится, потому что его
молитвы— ругательства и проклятия...
Но такие приступы случаются редко, в последнее
время их вовсе не было. Это просто счастье для
Вероники и Рози, а то они очень нервничают, понимая, что
ничем не могут помочь Карлу. Ложиться в больницу
или в приют Карл ни за что не хочет. «Они меня там
кастрируют!» — вопит он и прячется на чердаке или за
диваном.
Вероника и сама против больницы. Но местные
власти уже не раз пытались отправить Карла в
психолечебницу. Не удивительно, что в сорок пять лет у Вероники
седые волосы. Однажды я тоже посоветовал ей всерьез
подумать над тем, чтобы устроить Карла в больницу:
ведь он проживет еще лет тридцать, потому что,
несмотря ни на что, организм у него крепкий и сердце
совершенно здоровое. «Знаю,— ответила она.— Можешь
46
не объяснять. Но ведь в жизни за все надо
расплачиваться».
На улице повалил снег.
— Ты разве не поедешь за Ингеборг? — спросила
Вероника.
— Не знаю. А ты что посоветуешь?
— Советовать? Тебе? И не подумаю. Но попытаться
ты должен. Ведь вы ладили друг с другом. Ингеборг
всегда была такой спокойной, рассудительной. Не
понимаю, как она могла потерять голову от ревности, не
поговорив с тобой и ничего не выяснив.
— Ладно, в следующую субботу привезу ее или
напишу ей, что очень жалею о происшедшем.
— Я поеду с тобой! — воскликнула Рози.
По-видимому, ей наша семейная ссора казалась комичной.
Вероника влепила дочери пощечину. Рози бросилась
на кухню.
— Напрасно,— заметил я.— Она уже не маленькая.
— Не твое дело. Глупая девчонка, совсем не умеет
себя вести. И нечего за нее заступаться каждый раз.
— Она растет без отца. Надо же на это делать
скидку.
— С ней надо быть построже, и все. А тебе я вот
что скажу: заводи-ка детей, тогда многое будет
по-другому. Без детей жизнь пуста.
— Ингеборг говорит, что дети нынче не в моде...
Карл изрисовал уже шестой лист.
— Иногда за день расходует бумаги на целых две
марки,— сказала Вероника.
— Другие тратят по две марки на пиво, не считая
сигарет.
— Но и зарабатывают.
— Кто бы жаловался, только не ты. На пятьсот
марок пенсии можно жить, да еще при такой дешевой
квартире. Я вношу в месяц восемьдесят марок, а ты —
только тридцать пять.
— У нас старый дом.
— Зато площадь больше.
— У тебя нет детей. Ты не представляешь себе,
сколько уходит на Рози и ее учение.
— Есть семьи,— возразил я,— в которых по шестеро
детей и всем надо ходить в школу.
— Ты бы уж помолчал! — рассмеялась Вероника,—
46
Эх, Юрген, что бы мы делали без тебя, совсем бы
скисли. Да, чуть не забыла: заходил Бауман. Помнишь,
был такой в здешнем комитете ХДС? 1 Кто он сейчас,
толком не знаю: не то страховой инспектор Общества
по уходу за могилами павших в войну, не то деятель
в каком-то союзе...
— Бауман? Что его принесло? Действительно, он
был в комитете ХДС, а когда-то прежде — в окружном
руководстве нацистов. Эти типы, хоть на четвереньках,
да проползут...
— Дай досказать. Несколько месяцев назад я
подала прошение об увеличении пенсии. Сам понимаешь, на
учебу Рози уходит куча денег, и Карлу нужна особая
диета. Бауман болтал сначала о том о сем, а потом
заговорил о милости. Пояснил, что пятьсот марок,
которые мы получаем,— это милость: ведь если
разобраться, нам не полагается ни пфеннига, поскольку Карл
действовал из чистого озорства, а не по политическим
убеждениям. Мол, если бы Карл попробовал сейчас
написать что-нибудь подобное о членах правительства,
его бы тоже арестовали. Это нужно учитывать и не
предъявлять слишком больших требований. По его
словам, Карла справедливо арестовали не только по
тогдашним, но и по нынешним законам.
— Вот сволочь! — возмутился я.— Неужели ты не
осадила его?
— Я только ответила, что пенсию мы получаем не за
то, что Карл сидел, а за то, что его сделали калекой.
Рози распахнула дверь и сказала: «Выход здесь.
Убирайтесь!» Она еще спросила, какая партия послала его:
коричневая, черная или, может быть, его привела к нам
совесть? А потом пригрозила, что подаст на него в суд.
Он тут же заюлил, завертелся: ради бога, не надо
устраивать шума, им движет только совесть, он просто
решил посетить всех несчастных, получающих пенсии в
результате таких вот случаев. Он еще раз повторил,
что руководствовался исключительно совестью, потому
что из-за прошлого, как он считает, пострадали более
или менее все— одни морально, другие физически.
ι ХДС — Христианско-демократическии союз — в те годы
правящая партия ФРГ, представляющая интересы монополистического
капитала и милитаристских сил. (Прим. перев.).
— Это у него-то совесть!..— воскликнул я.— А что
сказал Карл по поводу его визита?
— Не помню... Ах, да, часа через три он
поинтересовался, кто приходил, и сказал, что это чудесный
человек, надо записать его фамилию, так как нужен еще
кандидат на пост министра по вопросам культуры в Китае.
Мне было совсем не до смеха, но тут и я не
выдержала, расхохоталась.
Вероника предложила мне поужинать, это было
кстати: дома, кроме хлеба и маргарина, ничего не
оставалось. Мы перешли в кухню. Карл опять заснул.
— После ужина Рози приберет у тебя.
— Сам управлюсь.
— Не сомневаюсь. Но мне хочется, чтобы ты с ней
поговорил.— Вероника подошла ко мне вплотную и
настойчиво повторила: — Ты должен с ней поговорить!
— О чем?
— Скажи ей, кто ее настоящий отец.
— К чему вдруг такая спешка? Мы же договорились,
что скажем, когда ей исполнится восемнадцать.
— По уму ей все двадцать пять. Пусть узнает
сейчас, пока не рассказали соседи.
— Ладно, будь по-твоему... Хотя я считаю, что еще
рано. В общем, мне это не по душе.
— Лучше, если скажешь ей ты, а не я. Тебя она
слушается.
Было уже семь часов, на улице стемнело. Вероника
накрыла на стол. Карл с нами ужинать не захотел.
Проснувшись, он в седьмой раз принялся рисовать
Австралию...
Когда вернулась Рози — ее посылали за пивом,— мать
сказала ей, чтобы она пошла со мной и прибрала в моей
квартире...
На улице шел пушистый снег. Потеплело. Светились
неоновые рекламы. Рози, как обычно, взяла меня под
руку. Только сейчас я заметил, что она на голову ниже
меня.
Не сговариваясь, мы решили сделать крюк по
городу. Около ратуши стоял невероятный шум: десятка
полтора парней на мопедах гоняли по улице, приставали к
девушкам. Из транзистора ревел голос Криса Хоуленда...
Один из парней окликнул Рози. Я поинтересовался,
кто это.
— Из нашего класса, — ответила она. — Мечтает
поехать корреспондентом куда-нибудь за границу.
— В таком случае ему не следовало бы тратить
время попусту.
— Нельзя же день и ночь учиться, — возразила
Рози, — да еще когда такой снег. — Она прижалась ко
мне.
— Я полагал, что вы не склонны к романтике.
— Дядя Юрген, ну при чем тут снег и романтика?
Мы молча продолжали путь. Хотелось бы прочесть ее
мысли. Но может, она и не думала ни о чем серьезном,
завороженная множеством витрин?
А работать она умела. Это она сразу доказала, как
только мы вошли ко мне в квартиру. Пока я размышлял,
с чего начать разговор, она вымыла грязную посуду,
убрала в кухне, привела в порядок спальню,
перестелила постель и вытерла пыль.
В кухне и гостиной потрескивал огонь, стало уютней.
Правда, чтобы побыстрее растопить печи, Рози
истратила целый тюбик мастики для натирки полов.
Дороговато, конечно, все-таки марка восемьдесят за тюбик, но
стоит ли жалеть, в квартире стало так тепло.
Закончив уборку, Рози устроилась в кресле и
уткнулась в книгу.
— Мне надо с тобой поговорить, — начал я.
Она даже не подняла глаз:
·— Что ж, валяй. Я не сомневалась, что меня
послали сюда не для уборки. Речь пойдет обо мне?
— И о тебе.
— Хватит крутить, дядя Юрген. Выкладывай.
-— Речь пойдет о твоем отце.
— О папе?
— Нет, об отце.
Я подошел к креслу и встал позади Рози.
— Значит, тебе известно, что папа не мой отец?
Растерявшись, я невольно положил руку ей на
плечо и даже не заметил, как она прижалась к ней щекой.
— Откуда ты знаешь? — спросил я. — Кто тебе
сказал?
— Давно знаю.
— Соседи рассказали?
49
— Да, но уже после того, как я сама узнала.
Посмотрела метрику и сделала кое-какие подсчеты. Целую
ночь не спала, гадала, кто мой настоящий отец, а потом
бросила думать об этом.
— Ну, знаешь, у меня просто камень с сердца
свалился!
— Слишком много церемоний, дядюшка Юрген. —
Привстав на колени, она обхватила спинку кресла. —
Конечно, хочется знать, кто мой отец... Ты-то знаешь, у
мамочки от тебя секретов нет.
— Я его лично не знал, да он и не живет здесь.
— Кто же он все-таки? — Рози опять опустилась в
кресло.
— Он француз. Был военнопленным, работал в
усадьбе, где сейчас опытная сельскохозяйственная станция.
Твоя мать тоже работала там, когда отец, то есть Карл,
был в концлагере... Всех женщин, у которых не было
детей, посылали на работу. Ты и не представляешь,
какое тяжелое было время. Все голодали.
— Он был красивый?
Я украдкой покосился на Рози. Вот уж не думал, что
она так все воспримет. А ведь я полагал, что хорошо
знаю ее.
— Кажется, он был очень интересным мужчиной. Я
его даже в глаза не видел. Я тогда был в Италии...
— Разве мама не знает, где он живет? А Пьер или
Луи, как его там зовут, он-то знает, что у него есть дочь?
— Его зовут Гастон, и живет он в Ангулеме.
— Где это?
— Недалеко от Бордо.
Она снова принялась перелистывать книгу, изредка
поглядывая через открытую дверь на кухню, куда я
отправился, чтобы приготовить себе бутерброды на работу.
Кроме хлеба и маргарина, нашлось немного ливерной
колбасы.
Потом Рози подошла ко мне и спросила:
— А как воспринял это папа, когда вернулся из
лагеря? Ведь мне было уже два года.
— Не обратил внимания. Первые два года Карл жил
как тень. Наверно, даже не сознавал, что он больше не
в лагере.
— Но почему он произносит мое имя, когда читает
в газете про Францию?
56
— Кто его знает, Рози. Трудно объяснить. Может,
случайно. У него многое бывает случайным.
— Не верю я в случайности, вы все недооцениваете
папу. Я часто наблюдаю за ним, он понимает больше,
чем вы думаете. Он в своем уме и многое знает. Иногда
мне кажется, что он только притворяется.
— Ты думаешь?
— Еще вопрос, дядя Юрген: как ты познакомился с
мамой? Как вы подружились?
— Почему ты не спросишь об этом маму?
— Пробовала, но она ничего не рассказывает.
— Ну, как обычно знакомятся! Перекинутся словом-
другим, потом появляется взаимная симпатия и так
далее.
— Так-так, значит, тоже не хочешь рассказывать.
Или, может, забыл.
— Ну да, уж точно не помню.
Конечно, я помнил все, что случилось той ночью. Все
до малейших подробностей. Такое не забывается.
— Надо подложить угля в печку, — сказал я.
Рози удержала меня за руку. Глядя снизу вверх, она
провела пальцем по моему шраму на лбу.
— Разве это с войны? — спросила она.— Мама
говорила, что ты вернулся невредимым.
— Она хотела сказать, что не инвалидом...
Я прошел в гостиную, попросил Рози сварить кофе и
наполнить им фляжку.
— Успеется, — сказала она. — Сначала ответь. Раз
уж начал, давай до конца. — Она снова уселась в кресло
и стала перелистывать книгу. — Ну, я слушаю.
И я рассказал, как познакомился с ее матерью.
— Это случилось вскоре после войны, тебе тогда
было три года. Настроение у всех было подавленное. На
фирму, где я раньше работал конторским учеником и
мечтал стать прокуристом, я не вернулся. Поступил на
шахту. Мои отец с матерью погибли во время бомбежки
в Дортмунде.
Горняков тогда называли становым хребтом нации.
Сейчас, правда, мы всего только копчик, но тогда были
хребтом, этого не отнимешь. Нас обхаживали, мы
получали по карточкам самые большие пайки, молоко, спе-
циальные пакеты с продуктами, сигареты, шнапс. А пять
тонн причитавшегося нам угля стоили больше пяти тонн
крупных ассигнаций. По тем временам горнякам жилось
хорошо, нам все завидовали. Разумеется, о трудностях
нашей работы никто не упоминал. Говорили только о
том, какие деньги мы зарабатывали... Не представляю,
сколько бы я получал в конторе фирмы. В свое время я
ушел оттуда, потому что мне не терпелось надеть
мундир и пойти сражаться за фюрера, народ и отечество.
О том, что этот мундир запятнан позором и кровью, я
узнал позднее, после плена.
Была зима сорок седьмого года. Кажется, случилось
это в феврале, но я могу и ошибиться, ведь столько лет
прошло. Помню только — всюду голод, драгоценности
меняют на хлеб. В поселке было много поляков, их
пригнали сюда на работу еще в начале войны. Жили они
в бывшем лагере для восточных рабочих. Но уже не
работали...
Мне часто приходилось выходить в ночную смену.
Если подсчитать, то, пожалуй, из каждых четырех смен три
я работал в ночную. Как и сейчас, я ездил на
велосипеде вдоль шахтной железнодорожной ветки. Был у меня
старый карбидный фонарь, его подарил мне сосед, а
карбид я доставал на шахте. Тогда мы все доставали на
шахте: гвозди, доски, смазочное масло, медные обрезки.
Выносили под полой — опыт-то ведь был, армия и плен
оказались в таких делах хорошей школой. Надо было
жить, каждый выкручивался, как мог. А кто в те
времена не воровал? Начальство тащило по-крупному,
грузовиками, а мы по мелочам, да и то дрожа от страха.
Беспокойное было время. Некоторые иностранные
рабочие не желали возвращаться домой. Они часто
занимались грабежом. Мы, шахтеры, ездили поэтому на работу
только группами, человек по пять, по десять.
Но той ночью я ехал один. Кстати, в те времена за
насыпью рос небольшой лесок. Потом его вырубили,
расширили территорию шахты. Теперь там горы штыба. Так
вот, доехал я до того места, где недавно повстречал
жену Поленца, и мне вдруг показалось, что на дороге
мелькнула чья-то тень. Немного погодя из леса донесся
крик. Голос был женский, это я точно расслышал, так
пронзительно может кричать только женщина,
напуганная до смерти.
52
Я спрыгнул с велосипеда. Моросил дождь.
Промерзшая земля от дождя тут же покрывалась скользкой
ледяной коркой. По правде говоря, я и сейчас не знаю,
почему остановился. Может, испугался, не помню. Короче,
стою, затаив дыхание. И снова ясно слышу крик:
«Спасите! Спасите!» Женский голос.
С войны у меня остался складной нож. Я сумел
сохранить его даже в плену. Выхватив нож из кармана, я
раскрыл его и, как сумасшедший, бросился вверх по
насыпи. Наверху между рельсами остановился:
соображаю, куда двинуться. Слышу опять крики. Женщина
кричала еще громче, еще отчаяннее.
Бросаюсь в лес, лезу напролом. Было страшно, даже
нож в руке не избавлял от страха. Признаться, сейчас
я думаю, меня тогда подгонял только страх. В темноте
с разбегу наскочил на дерево, упал оглушенный, вскочил
и опять побежал.
Услышав иностранную речь, я насторожился. А
женщина все кричит.
Они заметили меня раньше, чем я их. Вероятно, я
орал во всю глотку, чтобы женщина услышала меня.
Двое прыгнули ко мне, но я увернулся. Один проскочил
мимо, а другого я, наверно, полоснул ножом. Он
заскулил как собака и побежал из леса к дороге. Темно,
кроме теней, ничего не различишь: что дерево, что куст, что
человек — одни тени.
Тот, что проскочил мимо, снова кинулся на меня. Но
я уже был наготове и двинул его изо всей силы в пах.
Сапоги на мне были солдатские, редко я слышал, чтобы
мужчина так орал от боли. Тут я заметил еще две тени:
мужчину, навалившегося на женщину. Я схватил
камень — как он мне подвернулся ночью в лесу, на
мерзлой земле, не знаю. В общем, камень был у меня в
руке, и я со всего размаху ударил им насильника по
затылку. Услышал только хруст, будто стекло раздавил.
Ужас!
Тот, кому я двинул между ног, опять бросился на
меня, но женщина — она все еще лежала на земле —
успела крикнуть: «Берегись!»
Я хотел ударить его еще раз, но он сбежал. Другой,
которого я стукнул по голове, не шевелился.
Женщина с трудом поднялась. Я не мог ей помочь,
выдохся вконец,
53
«Спасибо, — сказала она. — Вы подоспели в
последнюю минуту. Свиньи, какие свиньи!»
Мне надо было спешить на работу, а ей поскорее
уйти. Кто знает, может, в лесу были еще бандиты, а
может, первый побежал за подкреплением?
Недели через три в мясной лавке мы снова
встретились с этой женщиной. То есть я, конечно, не знал, что
это та самая женщина. Когда я заговорил с продавцом,
она пристально посмотрела на меня и вышла.
Дождавшись меня на улице, сказала:
— Узнала вас по голосу.
Я проводил ее. Вот тогда впервые я увидел тебя и
Карла. Теперь ты знаешь все: и как мы с твоей мамой
познакомились, и почему дружим.
Рози долго молчала. Пока я рассказывал, она ни
разу не шевельнулась.
— А почему мама так поздно очутилась в лесу? —
тихо спросила она.
— Вот почему. В тот день она отправилась к
родителям Карла. Хотела кое-что выменять в деревне, а
заодно подыскать себе работу, чтобы больше получать по
карточкам. Тебя она отвела к соседке. Отца можно было
оставить одного, но доверить ему тебя мать не
рискнула. Задержалась у стариков допоздна и, хотя ее
отговаривали, все же решила вернуться домой. Чтобы
сократить путь, пошла по дороге вдоль шахтной ветки. Там ей
повстречались трое мужчин. Они что-то насвистывали.
По мелодии мама догадалась, что это иностранные
рабочие. Сначала они прошли мимо, но потом вдруг
повернули, бросились на нее и потащили в лес. Казалось,
кричать было бесполезно: до ближайших домов два
километра, да и кто выйдет ночью зимой на дорогу?
Случайно там очутился я.
— Вот как, значит, это было, — произнесла Рози.
Она встала и принялась ходить по комнате из угла
в угол.
— Да, вот так. А теперь приготовь-ка мне кофе. Раз
уж ты здесь, потрудись.
Вдруг она подскочила ко мне и, барабаня кулаками
по моей груди, закричала:
— А мужчина? Тот, что валялся на земле? Он умер?
54
— Мужчина?
— Ну да! Что стало с ним, ты его убил?
— Не знаю, Рози. Надеюсь.
— Надеешься?! Да как ты... — Заметив мой
недоуменный взгляд, тихо добавила: — Что за человек он
был? Ты об этом не подумал?
— В то время каждый думал только о себе. А я
подумал еще и о твоей матери.
Она пристально посмотрела на меня:
— А если бы ты знал, что убил его, ты пошел бы с
повинной в полицию?
— Нет! Можешь падать в обморок: нет и еще раз
нет! На войне мы видели вещи пострашнее, людей
убивали просто так, ни за что...
Неожиданно Рози бросилась ко мне, обняла за шею
и расплакалась.
Я дал ей выплакаться.
Потом она так же неожиданно поцеловала меня.
Смутившись, я поспешил в чулан, вытащил велосипед и
поехал на работу.
В зале собралось семьсот горняков. Уже при входе
я почувствовал, как накалена атмосфера. Под потолком
сизой тучей висел табачный дым. Была странная для
производственного собрания тишина. Обычно перед
отчетными докладами и сообщениями специалистов стоял
гул, как в турбинном зале.
Но сегодня семьсот горняков будто набрали в рот
воды. Слышалось только сдержанное покашливание да
робкое шарканье ног. То тут, то там вспыхивала спичка.
Кельнеры в белых кителях сновали меж столов
неслышно. Молчал даже музыкальный автомат в баре перед
входом в зал. А ведь обычно его без конца заводят те,
кто презирает собрания, утверждая, что толку от них
все равно никакого.
Усевшись на свободное место за одним из длинных
столов в середине зала, я спросил у соседа, отчего так
тихо. Он молча приложил палец к губам: мол, потерпи,
узнаешь.
Шахтеры одеты по-воскресному. Многих можно
узнать разве что по голосу. Мы не привыкли видеть друг
друга в праздничных костюмах.
55
Курильщики вместо обычных трубок и сигарет
посасывают тридцати — сорокапфенниговые сигары.
Женатые почти все нацепили обручальные кольца. Кое-кто
даже потягивает вино вместо пива. В воскресенье
горняки живут по принципу: лопни, но держи фасон.
Что же, собственно, здесь происходит? Тишина
тревожила. Необычно большое число собравшихся
свидетельствует о том, что надвигается беда. По посещаемости
собраний обычно можно судить о положении на шахте:
много пришло народу — дела плохи, мало — значит, все
благополучно. Когда разразился угольный кризис и
шахтеры стали получать уведомления об увольнении, зал
собраний не мог вместить всех желающих. Потом, когда
времена изменились, из трех тысяч человек являлось
только сто — сто пятьдесят, в основном те, кто искал
предлога улизнуть из дому в пивную, не вызывая
упреков жены...
Наконец, поднялся председатель производственного
совета. Он попросил нас встать, чтобы почтить
память товарищей, погибших в результате несчастных
случаев. Не могу понять, зачем каждый раз устраивают
этот спектакль? Ведь в минуту молчания, ей-богу, никто
не думает ни об умерших, ни о собственной смерти. Да и
к чему думать? В шахте погибают не причастившись,
единственное милосердие — мгновенность смерти.
Потом председатель зачитал отчетный доклад, и я
почувствовал, что дело неладно. Сегодня седьмое апреля,
первый квартал закончился всего неделю назад. А члены
производственного совета и служащие конторы не так
уж сильны в статистике, чтобы за шесть дней подвести
итоги. Но, с другой стороны, цифры приведены вроде бы
верные. Странно!..
В зале по-прежнему тишина. Кашляют осторожно,
прикрывая рот платками. Одни сидят, уставившись на
членов президиума, другие разглядывают сквозь дым
потолок, третьи с повышенным интересом наблюдают за
тающей в кружках пеной.
Число несчастных случаев в нашей шахте, отметил
докладчик, несколько превысило среднюю цифру по
шахтам всей Рурской области; добыча угля за смену
возросла на восемьдесят килограммов на каждого горняка;
в предстоящем отпускном сезоне опять предвидятся
туристские поездки в Верхнюю Баварию и в Тевтобургский
56
лес. Председатель строжайшим образом предупредил,
чтобы мы не продавали на сторону свой «угольный
паек»; если кто не использует его, может сдать шахте
по сорок марок за тонну. Учитывая, что за последнее
время отмечались случаи, когда шахтеры продавали свой
уголь посторонним лицам, дирекция оповещает: отныне
будут устраиваться периодические проверки, и всякое
нарушение инструкции повлечет за собой немедленное
увольнение.
В зале послышался ропот.
Затем выступил представитель фирмы, у которой
наша шахта приобрела сотню отбойных молотков.
Четыре лавы уже получили их. Представитель долго
толковал, как надо обращаться с инструментом, и подчеркнул
огромное значение этих молотков. Семьдесят процентов
рудничной пыли, сказал он, смачивается благодаря
вмонтированному в молоток пневматическому оросителю.
Таким образом, опасность заболевания силикозом
становится значительно меньше. Новый молоток можно
сравнить с аппаратом Шмидта, который уже много лет с
успехом используется в подготовительных выработках.
— А силикоз по-прежнему существует! — выкрикнул
кто-то.
Докладчик, не обратив внимание на реплику,
спокойно закончил речь, начиненную множеством технических
терминов.
Председатель поблагодарил его за «содержательные
сведения и разъяснения», хотя большинство слушателей
ничего или почти ничего не поняли. Но разве в этом
дело: докладчик заработал гонорар, а мы выслушали
полагающуюся по программе лекцию специалиста.
Один из членов производственного совета объявил
следующий пункт повестки дня: «Разное». Он
предупредил, чтобы выступали только с «дельными»
предложениями, которые могут принести «настоящую пользу»
предприятию и шахтерам. А что под этим
подразумевается, не пояснил. Значит, любое предложение могло быть
«дельным и полезным».
В зале опять зашумели. Все поспешили допить пиво
и тут же заказали еще. Кельнер получал деньги сразу,
не делая отметок на картонных кружках. Поэтому я не
знал, сколько выпил. Кажется, немало, мысли и язык
ворочались туго.
Б7
Но вот поднялся Эвальд Тюллер, бригадир в лаве
Рётгерсбанк, где работает двадцать восемь забойщиков
с новыми молотками.
— Что происходит с нашими заработками? — спросил
Эвальд.— Мы не знаем, сколько получим за март.
Сегодня седьмое апреля, а штейгер ничего не говорит.
Ссылается на то, что ведомости еще не утвердил управляющий.
Я и мои товарищи хотим знать, сколько мы заработали.
Это наше законное право, и я не понимаю, почему
заработок надо сначала утверждать...
— Заработки всегда сначала утверждаются! —
прервал его управляющий.
— Ого! — откликнулись в зале.
— Ничего не имею против,— спокойно продолжал
Эвальд Тюллер,— но мы хотим знать, сколько заработали
в прошлом месяце. Задержка, видимо, из-за этих
молотков с оросителями, про которые нам здесь только что
говорили, будто это не молотки, а чудо?
— Ближе к делу! — перебил его управляющий. Он
поднялся как бы из вежливости, но на самом деле,
наверно, хотел рассмотреть выступавшего. Никогда не
угадаешь, что у Очкастого на уме.
— Давай, Эвальд! — подбадривали из зала.—
Выложи им все...
— Тихо! — одернули из президиума.
— У нас,— продолжал Эвальд,— в прошлом месяце
двадцать восемь часов не было воды. Мы простояли три
с половиной смены. Будет ли оплачен простой?
— А при чем тут вода? — выкрикнул управляющий.
— То есть как при чем? — Эвальд возмутился. Даже
сквозь клубы дыма было заметно, как он побагровел.—
Вы не хуже нас знаете, что молоток работает только
при одновременной подаче воды и воздуха. Без воды он
не действует. Значит, вина не наша. А штейгер заявил,
что он не признает вынужденный простой.
За председательским столом оживленное
перешептывание. Слово берет управляющий:
— Ваши данные о двадцати восьми часах, или трех
с половиной сменах, не верны, тут есть одна деталь.
Вы сами сказали, что эти часы набрались за весь
месяц, следовательно, на каждую смену приходится от
одного до двух часов. Во время простоя вы могли делать
что-либо еще, поверьте, уж я в этом разбираюсь. Можно
58
было, например, заняться креплением или другой
работой, для которой не нужны молотки.
Он уже разглядел Тюллера и сел, теперь не
обязательно было быть вежливым.
— Неверно! — воскликнул Эвальд.— В том-то и дело,
что мы не могли заниматься другой работой. Воду не
подавали либо в начале смены, когда надо рубить уголь,
либо в конце, после крепежных работ, когда полагается
обрубать выступы в кровле.
Зал опять загудел. Послышались выкрики, кто-то
затопал ногами.
— Чепуха! — вскричал управляющий.— Ребячество,
а не серьезный разговор! — Правой рукой он
придерживал очки, левой — рубил воздух.
Напряжение, сдерживаемое больше часа,
выплеснулось наружу. Поднялся страшный гвалт. Члены
производственного совета вскочили с мест и, надрываясь,
призывали к тишине.
— Заткнитесь! — отвечали им.— Вы только
пресмыкаетесь перед шефом да пьянствуете с ним втихомолку!
— Тихо! Успокойтесь!
— Ничего себе производственный совет, который не
поддерживает горняков! — крикнул мой сосед.— Вот,
оказывается, кого мы выбрали!
Топот. Свист. Гогот. Крики кельнерам: «Еще пива!»
Наконец, Эвальд смог продолжать:
— Друзья, то, что здесь обсуждается, требует
спокойного делового подхода...
— А разве управлякшпй говорит по-деловому? —
прервал его голос из зала. Или правы наши чистюли,
члены производственного совета? Да они же пьют с
шефом! Разве они посмеют сказать против него хоть слово?
Он их всех купил за бутылку пива!
В зале послышалось шумное одобрение.
— Члены производственного совета — дурачье! —
надрывался мой сосед.— Дурачье...
— Управляющий сказал, что мы ленимся...—
продолжал Эвальд.
— Морду ему за это расквасить! — послышался
призыв.— Всыпь ему!
— Я считаю, господин управляющий,— Эвальд
сохранял спокойствие, и в зале стали успокаиваться,— я
считаю, что любую новинку надо как следует опробовать,
50
прежде чем внедрять. У новых отбойных молотков не
должно быть «детских болезней», это лишает нас
заработка. В конце концов никто не вправе требовать, чтобы
новинки испытывались за наш счет. Ведь шоферу
разрешают выезд только если машина в полной исправности.
Но раз существуют такие правила для них, то для работ
под землей они еще нужнее, черт возьми! Мы не
подопытные кролики!..
— Дураки — вот мы кто! — рявкнул мой сосед.—
Набитые дураки, все терпим да терпим.
— Мы благодарны,— говорил Эвальд,— за каждый
механизм, облегчающий труд и сохраняющий здоровье.
Но не такими средствами. Мы не согласны оплачивать
испытание новинок из своего кармана...
— Почему мне не доложили об этом? — резко
спросил управляющий. При этом он и не подумал встать.
— Не доложили?! — крикнул Эвальд.— Да мы
каждый день докладывали о безобразии с молотками и
штейгеру, и дежурному технику, и старшему штейгеру.
Но если это правда, что шахта будет платить за молотки
только когда их опробуют, тогда все ясно. Ясно, что
платить за эту доводку придется нам. И не удивительно,
господин управляющий, что вам не доложили. Ведь вы
сами отдали такое распоряжение...
— Кто распускает эти слухи? Кто? Вы отвечаете за
свои слова?
— Кто? Да все говорят — в шахте, дома, в лавках.
О таком зря не стали бы болтать, дыма без огня не
бывает.
— Я это расследую.— Управляющий поднялся,
потянулся за пальто к вешалке, стоявшей позади президиума.
— Это ваше дело! — резко заметил Эвальд.— Но мы
хотим знать о наших заработках. Нас интересуют наши
деньги, а не ваши расследования. Давно известно, какой
от них толк: виноват всегда шахтер!
— Я не допущу вымогательств! — Управляющий
стукнул кулаком по столу.
— Никто не собирается у вас вымогать, мы только
отстаиваем наше право, и все. Мы не собираемся дарить
вам ни одного пфеннига и знаем, что вы не подарите
нам даже сотой доли его. Мы не хотим быть
подопытными кроликами. Спору нет, молотки эти хороши, когда
действуют. Но в том-то и дело, что они не действуют, во
60
всяком случае не настолько хорошо, чтобы с их помощью
мы могли прилично зарабатывать. Распылители
постоянно засоряются, водяные шланги никуда не годятся —
рвутся и дают течь, как только на них упадет кусок
угля. Да и вентили выскакивают. В конце концов здесь
шахта, а не ярмарка с силовыми аттракционами...
— А вы осторожнее обращайтесь с техникой,—
прервал его управляющий.
— Осторожнее! — передразнил его Эвальд.— Не
городите ерунды! За письменным-то столом оно, конечно,
все выглядит иначе...
— Я не допущу оскорблений...
— Это сущая правда, а не оскорбление!
В зале раздался хохот. Все орали, стараясь
перекричать друг друга. Стучали по столам, топали.
— Бастовать! — кричали в одном конце зала.
— Заткнитесь, идиоты! — отвечали в другом.
— Долой этих подлиз! — донесся чей-то звонкий
голос.
В ту же секунду в баре запустили музыкальный
автомат, и — то ли случайно, то ли кто нарочно выбрал эту
пластинку — певец сердито пробасил: «Детка, ты сошла
с ума»...
Члены производственного совета безуспешно
пытались навести порядок. Почему-то больше всех бушевали
те, кто вообще не имел отношения к новым отбойным
молоткам и, стало быть, не пострадал в смысле
заработка. А забойщики, от имени которых выступал Эвальд,
спокойно потягивали пиво.
Через несколько минут шум начал стихать.
Поднялся Кристоф, старый горняк, проработавший
на шахте лет сорок, степенный, всеАми уважаемый
человек. Он заговорил тихо, и в зале сразу успокоились:
— Перед рождеством задавило Германа Байля.
А почему? Потому что вагонетки не втягивают, а
толкают в штрек, причем никто не идет впереди, как того
требует инструкция. Вечная наша халатность. Вот когда
появляются горные инспектора, которые
заблаговременно извещают о своем визите, тогда электровоз ставят на
тягу. К тому же наше начальство знает, куда желают
пойти господа инспектора. Как только инспекция ушла,
все идет по-прежнему. И я спрашиваю вас: неужто у нас
нэ щэхте человеческая жизнь ценится так,дешево?
61
Почему начальство позволяет себе нарушать технику
безопасности, лишь бы в порядке была бухгалтерия и
добыча?
— Погоди! — прервал Кристофа кто-то из членов
производственного совета.— Водители электровозов
получили категорическое указание втягивать поезда в
штрек. Так почему же они не выполняют его? Почему
толкают вагонетки? Да потому, что так легче, не надо
долго маневрировать! Потому что, выполняя инструкцию,
надо потрудиться!
— Чепуха! — крикнул я, вскакивая с места. Это
произошло так неожиданно, что я сам испугался
собственной выходки. Сквозь сизый туман на меня уставились
глаза — любопытные и удивленные.— Брехня! Каждый
дрожит за свое место. Надеется, что если станет
угождать штейгеру, не будет повода выгнать его с шахты или
перевести на более тяжелую и менее выгодную работу.
Вот почему нарушаются инструкции...
Я чувствовал себя отвратительно, к горлу подступала
тошнота, мучила изжога. Хотелось сесть, но в зале
раздались голоса:
— Давай еще!
— Скажи все!
— Дай им прикурить!
И я продолжал, чувствуя, как хмель ударил в
голову:
— Каждый из нас может выбрать одно: либо
молчать и приносить домой получку, либо возмущаться.
Нам очень хотелось бы возмущаться, потому что не
возмущаться существующими условиями нельзя. Но мы
держим язык за зубами: деньги-то зарабатывать надо.
Мы хотим жить, и жить хорошо. В каждом из нас сидит
маленький бунтарь, но он почему-то молчит. Перевелись
бунтари в нашей стране, их встретишь теперь разве что
за столиком в пивной. Мы ничего больше не решаем
сами, все решают налоги. Кому не хочется иметь
квартиру? А еще лучше — собственный домик. С садиком
или, на худой конец, с балконом. А уж если сад, то с
лужайкой, как у генерального директора. На полу, в
комнатах — ковры. Почему бы и нет? Линолеум
слишком прохладен. Хочется иметь телевизор — футбол-то
смотреть мы любим. Нужна и стиральная машина. Наши
жены тоже работают, чтобы приобрести все эти вещи,
62
не торчать же им субботу и воскресенье у корыта? Ну, и
венец всему — машина. Тот, кто ездит на работу на
велосипеде, либо идиот, либо пролетарий, а пролетариев
теперь не осталось, их ведь уничтожили еще в третьем
рейхе...
Я залпом осушил кружку пива. Вот это закатил
речугу! Не будь я под мухой, никогда бы не произнес этих
слов, да еще на многолюдном собрании. Но на сердце
у меня было легко: прорвалось копившееся годами
озлобление. Конечно, я был пьян, но когда же, как не под
пьяную руку, высказать все, что наболело?
Вопреки моему ожиданию аплодисментов не
последовало. В ответ на мою путаную пьяную речь послышались
ворчание и приглушенный смех. Кто-то даже призывал
заткнуть мне глотку. Но я уже завелся. Шлюзы, долго
сдерживавшие во мне протест и возмущение, внезапно
открылись. Я не мог не высказаться, какая-то сила
толкала меня. Что бы мне ни угрожало, я был обязан
выпалить все в лицо этим дрожащим за свое благополучие
трусам — и тем, что сидели за столом президиума, и тем,
что были в зале. Я даже слегка прослезился. Это,
конечно, пиво было виновато.
— ...Вот поэтому-то мы и не рыпаемся,— продолжал
я.— Мы уже не бунтуем, как этого требует долг
человека и рабочего. Мы требуем, протестуем и боремся только
по указке профсоюза, даже если сами не видим на то
причины. Но профсоюз знает ее, и точка, он определяет,
когда нам надлежит быть недовольными, и лучше нас
видит, когда наше терпение истощается. Не дай бог,
если один, два, пять или десять человек не вовремя
возмутятся какой-либо несправедливостью или непорядками
на производстве. Тут уж профсоюз встанет им поперек
дороги. Еще бы, он считает, что такая стихийная
забастовка незаконна, а незаконная забастовка есть
несправедливость по отношению к обществу. Вот так-то!
Теперь меня вдруг поддержали. Все наперебой стали
кричать, что я верно говорю, что надо хоть раз выложить
правду-матку!
Члены производственного совета — их было
шестеро — разом вскочили с мест, заорали, замахали руками.
— Предатель! — бросил мне председательствующий.
Горняки в карман за словом не полезли:
— А ты кто? Вылизываешь задницу начальству!
63
Кто-то из членов совета крикнул, что меня надо
исключить из профсоюза, таким типам, как я, нет места
среди сознательных рабочих. Я, мол, подстрекатель,
подрывной элемент. Мне бы, дескать, благодарить
профсоюз за то, что я имею работу и отпуск, а не наносить
предательский удар в спину. Председательствующий,
словно на дебатах в бундестаге, отчаянно тряс
колокольчиком, будто от этого зависела судьба всей страны.
Наконец, тишина восстановилась.
Все уселись. Остались стоять только я и председатель.
Не повышая голоса, он заявил, что мое выступление
выходят за рамки рабочего собрания, что это анархизм в
наихудшем виде. Я кляузник и вдобавок, кажется, пьян.
А цель у меня, видимо, только одна: возмутить
спокойствие и сорвать с трудом достигнутый на нашем
предприятии социальный мир.
Члены совета и управляющий зааплодировали.
Семьсот шахтеров молча продолжали потягивать пиво.
— Его наверняка подослали из Восточной зоны! —
пропищал чей-то голосок.
Все расхохотались. Послышались возгласы:
— Продолжай, Юрген!
•— Вправь им мозги!
— Давай, жми!
Я' был пьян, ненавидел Очкастого, презирал членов
производственного совета и проклинал свою работу.
Но особенно я презирал членов совета, которые
пьянствовали с управляющим и доносили ему все, что
узнавали'от слепо доверявших им шахтеров. Кроме того, я
захмелел от собственной речи. Моя смелость возрастала
пропорционально количеству выпитого пива и слов,
которые я выкрикивал в клубы табачного дыма. Я
продолжал:1
— Мы позволяем издеваться над собой потому, что
печемся только о своем материальном благополучии.
Пообещай нам кто сумму, гарантирующую пожизненное
благополучие, мы позволим выпороть себя розгами.
Мы помалкиваем даже, когда начальство обзывает нас
дерьмом и идиотами, будто так и положено. Не понимаю,
неужели нельзя разговаривать иначе? Мы ругаемся друг
с другом на потеху тем, кто наживается на нашем труде.
Да, нам приходится зарабатывать деньги. Но чем
больше йы зарабатываем, тем больше тратим и тем больше
64
мельчает в нас Человек, тем больше уродуется наш
характер, тем больше вылезает из нас зверь. Мы продаем
наше человеческое достоинство за деньги. Наши отцы и
деды боролись за то, чтобы рабочий стал Человеком!
А чем занимаемся мы? Продаем наше человеческое
достоинство и распускаем уши, когда нас уверяют, что
«рабочий — любимое дитя демократии». Но ведь это
говорится только во время предвыборной кампании! А как
к нам относятся после выборов? Вот увидите, до чего мы
еще докатимся, если все будет по-прежнему. Пропиваем
мы нашу демократию...
Что тут началось! Настоящий содом. Каждый
старался перекричать соседа, ничего нельзя было разобрать.
Я заметил сквозь дым, что управляющий вместе с
некоторыми членами совета покинули зал. За ними
последовал представитель фирмы, поставляющей новые
отбойные молотки. В полутысячном хоре смешались голоса
протеста и одобрения.
— Сволочь! — выпалил кто-то мне в лицо.
Тут же подбежал другой и хлопнул меня по плечу:
— Молодец!
Говорить мне больше не дали, хотя я и порывался.
Товарищи обиделись на меня за то, что я им сказал в
глаза правду, которой они не желали знать. Никто не
любит, когда ему наступают на старую мозоль. Я
сообразил это, хотя и был сильно пьян.
Голова раскалывалась, боль судорожно стискивала
череп. К горлу подкатывалась тошнота.
Вдруг чьи-то крепкие руки оттащили меня от стола,
хриплые глотки выплевывали вслед ругательства. Меня
проволокли мимо стойки в баре, через вестибюль и
спустили с лестницы на тротуар. Покачавшись секунду на
ногах, я грохнулся в мокрое снежное месиво.
Не знаю, сколько я так провалялся. Сначала даже
показалось приятным лежать и не ораторствовать.
Затуманенным взором я видел, как шахтеры переступали
через меня, слышал их громкий смех...
Наконец, я с трудом поднялся. Ни один человек не
заговорил со мной. Некоторые смеялись и бросали мне
вслед снежки, когда я, шатаясь, брел по улице.
У аптеки я повстречал четырех шахтеров. Их лица
были мне знакомы: на большой шахте, как правило,
знают друг друга только в лицо, редко по имени. Они
3 Заказ 325 65
потащили меня в пивную, усадили за столик- и етали
угощать пивом. Они пили за мое здоровье и наперебой
разъясняли мне, что и как будет сделано, чтобы на
следующих выборах я прошел в. производственный совет.
Говорили, что уверены: уж я-то сумею постоять за себя и
никогда не стану гнуть спину перед начальством.
Один из этих парней жил в нашем поселке, его я
тоже знал, только в лицо. Ведь в рабочем поселке, как и
на большом предприятии, знают друг друга только так,
познакомиться ближе нет времени.. Не знал я. его имени,
но в конце концов это ли важно? На шахте он
числится под номером, в поселке живет на такой-то улице,
в доме тоже под номером. А для меня, он безымянный
шахтер; и, сдается мне, мы вообще неплохо чувствуем
себя в безымянном мире, иначе что-нибудь
предприняли бы.
Этот парень из, поселка посадил меня потом к себе
в машину, которую вел, как бог, хотя выпил не меньше
меня. У своего дома он поставил машину в гараж. Потом
мы зашли в соседнюю пивную,, ели шашлыки, жареных
польских петушков — за укрепление польско-германского
взаимопонимания — и опять пили. Я мельком вспомнил
о предстоящих платежах по рассрочкам* но только
мельком: подумаешь, рассрочки, пусть взыскивают деньги
через суд, черт с ними.
Мы разговаривали шумно, с азартом и
убежденностью пьяных забулдыг. Устав кричать, выпили водки.
Она помогла на какое-то время забыть, что мы по частям
продаем свое человеческое достоинство, по частям
оплачиваем купленное в кредит...
Сколько времени я ворочаюсь, отгоняя тяжелые
мысли? Смутно припоминаю, что после вчерашнего
собрания был поход по пивным. Те четверо пили за меня
как за будущего члена производственного совета, даже
не поинтересовавшись моим мнением на этот счет.
А потом? Черт побери, что было потом? Пивная уже
закрывалась, когда я заметил в дверях Рози. Она
подошла, решительно схватила меня за рукав и потащила за
собой. Кажется, она что-то говорила — нет, ругалась.
Никогда бы не подумал, что она это умеет. И как
виртуозно ругалась!
66
Я вдруг почувствовал, что за мной наблюдают. Или
померещилось спьяну? Ну да, это Рози. Дверь спальни
широко открыта, и я вижу Рози у кухонной плиты.
Она процеживает кофе. Почему она не в школе? Сегодня
же понедельник! Или еще воскресенье?
Рози подходит ко мне:
— Вставай. Кофе готов, ты ведь любишь его горячим.
Она раздвигает занавески и смотрит в окно.
— Как ты седа попала?
— Вставай, — повторяет она.
Мы молча пьем кофе. На столе лежит газета. Значит,
все-таки понедельник.
— Почему ты не в школе?
— Прогуливаю. У нас сегодня контрольная. Не хочу
схватить двойку.
— Не схватишь!
— Очень даже схватишь, когда надо заботиться о дя-
дюшке^пропойце.
—· Отправляйся домой, я хочу побыть один.
■-— Сначала вымою посуду. В кухне воняет
кислятиной. Потом с тебя причитается восемнадцать марок за
продукты — я кое-что купила. Счет на буфете. Записывай
расходы, пока не помиришься со своей женушкой.
—· Иди домой!
— В кармане пиджака у тебя двадцать марок.
Забираю; На остаток сбегаю в кино.
— Ладно. Только уходи.
Она вымыла посуду, подкинула угля в печки и,
попрощавшись, вышла...
Фриц Ленерц постучал палкой в окно моей спальни.
— Вставай! Едем на шахту!
-^ Сейчас, ночью? Зачем?
— Какая, к черту, ночь! Уже пять утра. Собирайся.
Проведем демонстрацию!
— Демонстрацию? Для чего?
— Не теряй времени! Пошли!
В самом деле, было уже пять часов. На востоке
поднималось белесое солнце, гребни холмов Зауэрланда
окутывал туман. Я быстро оделся, вытащил велосипед,
и мы отправились. Вскоре нас набралась уже целая
колонна велосипедистов. Мы ехали, почти не разговари-
з* -67
вая, растянувшись друг за другом по узкой, дорожке,—
длинная, темная цепочка на фоне разгорающейся зари.
Дорогой я узнал, зачем мы так рано едем и для чего
устраивают демонстрацию. Было решено блокировать
входные ворота и никого не пускать под землю, пока
производственный совет и дирекция не соизволят
разъяснить сообщение воскресной газеты о том, что
закрывается наша шахта.
Оказывается, вчера Фриц Ленерц, с которым в
обычное время можно было говорить лишь о футболе и о
команде «Шальке», встретился с несколькими друзьями.
Они тут же решили уговорить всех, кого только удастся
застать дома, не приступать в понедельник к работе.
У ворот шахты уже собрались сотни горняков, а
народ все прибывал и прибывал. Многих мужчин и женщин
я видел впервые, они не работали у нас на шахте.
к Поначалу все было относительно тихо, но постепенно
монотонный гул перерос в громкий ропот. Многие не
понимали, для чего их вызвали. Расспрашивали соседей,
и каждый выкладывал свои собственные соображения.
Возле меня вдруг появился Карл, из нашей смены.
— Вот гады! — заорал он.— Читал? Закрывают
шахту, и все тут! Видал, как это просто делается? Раз, два—и
готово. Не успеешь оглянуться, тебя выбросят на улицу!
Прошло полчаса, а люди все прибывали.
Уннское шоссе, ведущее к шахте, было блокировано
двухтысячной толпой, машинами, мотоциклами,
велосипедами. Маршрутный автобус полз как черепаха, с
трудом прокладывая себе дорогу. Шофер давал громкие
гудки, но люди расступались неохотно, грозили шоферу
кулаками, а тот высовывал в ответ язык. Пассажиры
смеялись, воспринимая все как дорожное развлечение:
утром скучно ехать на работу.
Неожиданно кто-то вскарабкался на ворота. Солнце
ярко осветило фигуру человека.
— Товарищи! — крикнул он.— Ведь мы читали
воскресную газету. Нашу шахту собираются закрыть с
первого июня!
Многотысячный хор гневно загудел.
— Товарищи! Надо выяснить, так это или не так.
Послушаем, что скажет управляющий. До тех пор за
работу браться не будем.
— Давай его сюда! — требовала толпа,
68..
«Надо привезти Ингеборг домой,— подумал я,—
нечего ей делать в Дортмунде. Если шахту закроют, я
некоторое время буду без работы. А проклятые долги
останутся. И чего мы с ней ссоримся? Все оттого,
наверно, что у нас нет детей. Впрочем, Ингеборг в какой-fo
мере права: нам еще столько нужно приобрести, тут не
до детей. Эти чертовы рассрочки, как репей — смахнешь
со штанины, цепляются к рукаву».
— Товарищи! — продолжал оратор.— Почему молчит
профсоюз? Почему молчат управляющий и дирекция?
Есть же у нас, черт подери, право участвовать в решений
таких вопросов или нет?! Разве наши представители
дали согласие закрыть шахту? Если дали, то плюем мы
на такое право!
Кто-то крикнул:
— Да все они одним миром мазаны!
Гул возмущения нарастал, заглушая оратора. Когда
чуть стихло, он продолжал:
— Товарищи! Нам по закону дано право на
соучастие в управлении. Ведь наш коллега Гейнц Браун
заседает в наблюдательном совете. Пусть он объяснит,
почему закрывают шахту: по экономическим соображениям
или, может, потому, что акционеры уже не ждут больших
дивидендов. Почему он нам ничего не сказал, почему
газета знает, а три тысячи рабочих не знают?..
В толпе раздались реплики:
— Этот Браун разъезжает в «мерседесе» и чихал на
наши заботы!
— Жалованье ему идет, чего ж не выпить с
начальством!
— А что скажет рабочий директор?
Что тут началось! Этого «рабочего директора» — так
называли представителя шахтеров по трудовым
вопросам в дирекции — терпеть не могли. Во время угольного
кризиса он услужливо подписывал предлагаемые
администрацией увольнения, даже не проверяя, насколько
они обоснованы. Все кричали, перебивая друг друга.
Неожиданно в ревущую толпу въехал белый
«фольксваген» с укрепленным на крыше репродуктором.
— Освободите проезжую часть! — рявкнул
репродуктор.— Освободите! Вы задерживаете движение!
Трое полицейских-регулировщиков вышли из машинй
и стали уговаривать шахтеров разойтись.
"69
А на ворота уже взобрался второй оратор.
— Кто-нибудь видел рабочего директора хоть раз
под землей с тех пор, как он попал в кабинет? — цачал
он.
Снова закричал первый оратор:
— Вы слышали? Мы мешаем общественному
порядку! Они по телефону вызвали полицию. Мы угрожаем
общественной безопасности! Но где наша безопасность,
товарищи? Нам ее никто не гарантирует. Даже право
на участие в управлении не гарантирует нам
безопасность! Не расходитесь, товарищи, полиция не имеет
права разгонять или запрещать нашу демонстрацию.
— Правильно! Не имеет права! — подхватила толпа.
— Товарищи! Зачем вообще явилась полиция?
Мы ведь не бунтуем против государства, мы хотим
только получить разъяснения.
Снова поднялся невообразимый шум.
— Граждане! Будьте благоразумны! — призывал
репродуктор.— Мы н€ собираемся разгонять вашу
демонстрацию! Освободите проезжую часть дороги. Вы
мешаете движению.
Толпу уже нельзя было окинуть взглядом. Рядом со
мной вдруг оказался Поленц-Горилла. Он улыбался во
весь рот, происходящее казалось ему веселой забавой.
Ткнув меня локтем в бок, он присел на багажник моего
велосипеда и заорал:
— Задайте им перца! Профсоюз вас продал, не
иначе. Изоврались все. Они наверняка знают, в чем дело,
но не говорят. С какой это стати мы должны очистить
шоссе, пусть полиция направит транспорт в объезд! Она
ведь делает так, когда бывают похороны или парад
стрелкового союза.
— В объезд! — пошло по рядам, и вся толпа стала
скандировать: — Транс-порт в объ-езд!
Пока еще никто не вошел через проходную на
территорию шахты. Даже те, что пришли только из
любопытства, узнав, в чем дело, присоединялись к демонстрантам.
На обширной площади за воротами показались
управляющий, старший штейгер и несколько членов
производственного совета. Управляющий с трудом пробился
сквозь толпу к полицейскому автомобилю, сказал что-то
регулировщикам и вернулся на шахту. Вслед ему
поднялись сжатые кулаки, но никто его не тронул.
7Θ
Полицейские решили прорваться через плотно
сбившуюся толпу. Взревел мотор, взвыла сирена, но люди
по-прежнему стояли стеной, и машина не двинулась
с места.
— Ваш управляющий сказал,— пробасил
репродуктор,— чтобы вы приступили к работе. Тот, кто не
послушается, будет немедленно уволен.
— Почему он сказал это полиции, а не нам? —
повернулся ко мне Карл.
— Вероятно, потому,— ответил я,— что у полиции
ecfb репродуктор.
— Подгонять нас у него хватает голоса,— возразил
Карл.
— Если вы немедленно йе очистите шоссе,-^
прогремел репродуктор,—мы вызовем по радио подкрепление!
Конец фразы едва удалось разобрать. Все снова
разбушевались, кричали, размахивали кулаками. В какой-то
момент, как это бывает на стадионе, толпа навалилась
яа полицейскую машину. Из репродуктора неслись
заклинания, но их не слушали.
Возбуждение нарастало. Оба оратора на воротах что-
то кричали в толпу, но никто никого не слушал и не
хотел ничего слушать.
" — "Надо опрокинуть эту дурацкую машину! — сказал
Поленц.
Не успел он это произнести, как машину перевернули.
Под напором толпы несколько человек оказались
прижатыми к кузову, других подмяло машиной. К воплям
гнева примешались крики боли...
Загудела сирена. От деревни и со стороны Унна
показались белые и зеленые полицейские машины,
подъехали два водомета. Репродуктор потребовал прекратить
демонстрацию. В толпу брызнула струя воды.
Все поначалу восприняли это как забаву. Но потом
сообразили, что дело принимает серьезный оборот.
Полицейские стали хватать людей и заталкивать их в
зеленый автобус. Толпа рассвирепела, весь гнев ее был
обращен теперь против полиции: «Какого черта ее сюда
вообще принесло, мы только решаем здесь свои
проблемы, не восстаем же против властей».
Полетели камни. Что ж, если нас поливают водой,
почему бы нам не ответить камнями? Сначала бросали
беспорядочно, а аатем все точнее и точнее. На водометы
71
и поваленную машину обрушился град камней.
Толпа, казалось, срывала накопившуюся ярость на белой
машине, хотя ни одного полицейского в ней уже не
было.
Теперь люди горланили просто потому, что им
хотелось поорать. Из подленького чувства страха я не кричал
вместе со всеми. Не то чтобы я боялся полицейских,
зеленого автобуса или увольнения — нет. Я вдруг
испугался смелости толпы, частицей которой был сам, испугался
ее безрассудства, ибо никто не знал, что и как надо
делать. Все словно кинулись вслед за вожаком стада,
кинулись слепо, не рассуждая, но никто не знал, где
этот вожак. Вот так мы и стояли на шоссе — стадо
блеющих овец. Ворота шахты заперты, в дверях проходной
опущена решетка. Мы оказались отрезанными со всех
сторон. Даже если кто и захотел бы приступить к работе,
идти ему было некуда.
Неожиданно полиция уехала.
— Дали мы им прикурить, а? — крикнул Фриц Ле-1
нерц.— Даже полиция смылась!
— Маловато еще получили! — заметил Поленц.
Он по-прежнему восседал на моем багажнике.
— Фриц,— спросил я,— а что дальше?
— Дурацкий вопрос! Мы же добились, чего хотели.^—
Он посмотрел на меня с победоносным видом.
— Добились? Чего ж мы добились? Чего мы,
собственно, хотим добиться?
— Ну, разъяснений, закроют шахту или нет! —
ответил Фриц.
— Так что же, закроют?,
— Конечно!
-- Откуда ты знаешь?
— Чего проще — господа-то молчат.
Та-ти-та-ти... та-ти... та-ти-та-ти-та-ти..,
Опять полицейские сирены. Толпа замерла.
Вернулись. Уннское шоссе перегородили два грузовика, с
которых быстро соскочили полицейские. Дорогу, ведущую
в поселок, перекрыли пожарные машины.
Три тысячи мужчин и женщин стояли молча. Никто
не двинулся с места. Перевернутая машина белела в
толпе, словно туша убитого зверя. На шахтном дворе в
нескольких метрах от ворот встали цепью служащие
охраны, держа руку на кобуре. Неужели пистолеты заря-
72
жены? Да нет, они не станут стрелять. Если шахту за-
кроют, они тоже останутся без работы, разделят нашу
судьбу; И потом управляющий не может отдать
приказание открыть огонь: что было бы, если бы каждый
управляющий мог отдавать такие приказы, когда рабочие
требуют всего-навсего разъяснений?
— Что делать? — тихо спросил Фриц Ленерц.—
Нельзя же просто стоять.
— Разумеется, можно! — громко возразил Поленц.
— Держаться! Ни с места! — побежал по рядам
шепот.
Когда он достиг тех, кто находился возле
опрокинутого автомобиля, какой-то шахтер взобрался на кузов и
громко крикнул:
— Всем оставаться на месте!
Тишина становилась мучительной, мне она причиняла
почти физическую боль. Другим, вероятно, тоже, потому
что никто не знал толком, что произойдет и как себя
вести. Но придет же когда-нибудь конец молчаливому
выжиданию! Мы либо сдадимся, либо начнется схватка...
Цепь полицейских не трогалась с места. Пожарники
быстро и бесшумно раскатывали шланги.
— Немедленно очистить дорогу! — скомандовал
репродуктор зеленого «фольксвагена».
Толпа стояла безмолвно и неподвижно.
— Если через три минуты проезд не будет
освобожден, пожарные начнут действовать!
Толпа стояла безмолвно и неподвижно. Струйки воды
стекали из брандспойтов в канаву, пока еще никому не
причиняя боли. Пока!..
— Две минуты!
Три тысячи мужчин и женщин стояли безмолвно и
неподвижно. Только Поленц заерзал на багажнике.
— Пошли,— шепнул он,— пора смываться.
— Заткнись,— цыкнул на него Ленерц.
Никогда в жизни я еще не чувствовал такого
напряжения. Что будет? Откроет ли полиция огонь?
Профсоюз, наверное, снова бросит нас на произвол судьбы.
Нарушение уличного порядка — на это не отвечают
стрельбой. Но... Но что, если это нарушение расценят
как выступление против безопасности государства? Что
тогда? Станут стрелять?
— Последняя минута!
73
Толпа стояла безмолвно и неподвижно. Из
наконечников брандспойтов стекали струйки воды, но· они пока
никому не причиняли боли. Пока!...
Женщины заволновались, робко поглядывали на
мужчин, но не решались раскрыть рот.
— Тридцать секунд!
Десятник Поленц соскочил с багажника и помчался
вверх по откосу железнодорожной насыпи, крича и
ругаясь. Несколько человек оглянулись на него, и через
мгновение почти вся толпа уже смотрела на бегущего.
Еще два или три человека бросились вслед за ним, потом
десятки, сотни — вся толпа пришла в движение;
• Я стоял как оглушенный и глядел на бегущих. Вверху
на насыпи они растянулись длинной вереницей,
казавшейся издали на фоне голубого утреннего неба
движущимся забором с частыми просветами. Толпа накатилась
на меня, вырвала из рук велосипед, потащила вверх на
гребень насыпи, через рельсы, затем вниз по откосу к
небольшому ручью Зезеке и вынесла на шахтерские
садовые участки и засеянные поля.
На бегу я почему-то вспомнил о Наполеоне и его
драпающей армии. Смешно. Но мы-то бежали не из
Горящей Москвы и не через Березину. Мы бежали от
страха перед собственной смелостью, бежали, не выдержав
напряжения. Мы неслись через маленький ручеек Зезеке,
впадающий у Люнена в речку Липпе. Мы не были
разбиты, ибо вообще не сражались, а струйки из
брандспойтов так и не причинили никому боли. Собравшись
продемонстрировать свою силу, мы бежали, прежде чем дело
дошло до драки. Мы не имели никакого представления
о том, что делаем. Мы были поистине жалки, и громкие
слова только подчеркивали это. Смешно. Мы могли бы
узнать, закроют шахту или нет, в производственном
совете или у управляющего. Может быть, на черной доске
уже висело соответствующее объявление. Но никто не
успел прочесть его.
Вокруг тяжело пыхтели бегущие. Женщины ахали,
охали и проклинали мужчин, которые втянули их в эту
историю. Я бежал, не зная куда. Через некоторое время
я поравнялся с Ленерцем и Гориллой — почти у того
места, где когда-то выручал Веронику.
— Пошли ко мне,— сказал десятник.
— К тебе? Ах ты сволочь! Если бы ты не сорвался,
74
победили бы мы, а не полиция! — крикнул Ленерц &
бешенстве.
— Что ж ты убежал ео всеми, герой? — пропыхтел
Поленц.
— Убежал, убежал! Да меня толпа потащила! Если
бы не ты, никто бы не сошел с места.— Фриц сжал
кулаки.
г- Мое дело сторона, я ведь не из вашей компании.
— Не из нашей? Так какого дьявола ты приперся к
нам да еще орал во всю глотку?
— Катись ты к... — огрызнулся Поленц и свернул в
сторону.
— Идем,— крикнул он мне на ходу.—
Позавтракаешь у нас.
Я согласился, хотя мне было совестно перед Фрицем.
Не следовало бы оставлять его. Тем не менее я ушел с
Поленцем. Мы не спеша брели по поселку·
— Как тебя звать? — спросил Поленц.
•— Юрген.
— А меня Виктор.
Сегодня при свете солнца улица выглядела куда
приятней, чем в прошлый раз, когда я стоял здесь под
дождем, рядом со скулящей собакой.
Когда мы вошли в кухню, моя ночная знакомая
сначала побледнела, потом покраснела. Она казалась
приветливей, чем в тот раз, даже протянула мне, улыбаясь,
руку, но я все же чувствовал ее скованность. Похвалив
Виктора за то, что он пригласил меня зайти, она·
поинтересовалась, как это мы так быстро добрались домой,
ведь полиция патрулирует по всему поселку.
— Откуда ты знаешь? Уж не бегала ли к шахте? —
повысил голос Виктор.
— Что ты! Я только...
— Значит, все-таки бегала.— Он замахнулся на нее.
— Да нет же, нет! Мне обо всем полчаса назад
рассказала соседка.
— Ладно, хватит болтать. Мы еще не завтракали.
Давай кофе!
Поленц занялся газетой, а я стал наблюдать за
женщиной. Детей дома не было, вероятно, они в школе.
Заметив мой взгляд, она тоже стала посматривать на меня
и, наконец, улыбнулась. Некоторое время мы
беседовали глазами, потом она заговорила о всякой всячине, о
76
погоде, затянувшейся зиме, о том, что в саду нельзя
работать, земля еще слишком сырая.
Кофе был крепкий, булочки свежие и пышные.
Несмотря на множество морщинок, придававших ей
строгий вид, женщина была привлекательна. Не будь
морщинок, она выглядела бы совсем молодо. Но самым
привлекательным был ее голос — низкий, грудной.
— Как думаешь, что теперь будет? — спросил,
чавкая, Виктор.
— Ничего особенного. Мы же действовали законно.
— Законно? Это вам еще разъяснят полиция и
профсоюз, особенно профсоюз.
— Ну, прочтут мораль, и все.
— Держи карман шире! Уж если профсоюзники
сейчас не хотят ввязаться, то вряд ли они потом полезут за
вас в драку.
— К черту! — вспылил я.— Для чего тогда
существует профсоюз, если он не будет помогать нам в трудном
положении?
— Для чего? Чтобы властвовать! Да они, браток,
хотят через ваши головы вести борьбу за власть с
правительством и предпринимателями. Скажи мне,
зеркальце, в ответ, кого в стране сильнее нет?..
— Если на то пошло, не зеркальце, а я скажу тебе:
мы куда сильнее,— вставила женщина. .
— А ты помолчи! — рявкнул на нее Виктор.
Я выпил еще чашку кофе и съел булочку. Пока
женщина подавала на стол, мы опять поговорили с ней
взглядами. Грубости Виктора, кажется, не производили
на нее впечатления, должно быть, она и не к такому
привыкла.
— Ты, наверно, слыхал, — сказал Поленц, — что
теперь творится на строительстве? Профсоюзные вожаки
вбили себе в голову, что организованные рабочие
должны получать большой отпуск. А остальные — страдай.
Требуют, чтобы мы бастовали ради этого. А что мы
теряем заработок, никому дела нет...
— Все новшества поначалу натыкаются на
сопротивление, — вставил я.
Поленц вскочил с места и стукнул кулаком по столу:
— Черт возьми! Разве рабочий до вступления в
профсоюз не был рабочим? «Организация, дисциплина!»
А сами вожаки лезут из кожи вон и орут «караул!», как
76
только правительство заикнется о необходимости
организации и дисциплины. Тут они вопят, что демократия в
опасности. Но разве сами профбонзы не угрожают ей,
заставляя нас подчиняться?..
Пора было уходить, дома накопилось много дел. Рози
сегодня в школе и не может прибрать квартиру. Надо
заняться этим самому.
— Погоди, — сказал Поленц, — фараоны еще бродят
вокруг.
—- Ничего, доберусь.
— Ну, как хочешь. Впрочем, тебе ничего не смогут
пришить, раз ты в ночной смене. Хуже тем, кто в
утренней, кому сегодня надо было спускаться в шахту. Они-го
попались. А тебе ничего не будет.
Поленц был прав, меня, действительно, не удастся ни
в чем обвинить. Скажу, был дома, а о случившемся узнал
от соседей. Горилла, оказывается, соображает, не так уж
он глуп, как выглядит.
— Ну, пока, — сказал я.— Пойду тропинкой через
поле, будто гуляю.
Тут я вспомнил о своем велосипеде. Наверно, его
смяли в лепешку.
— Будь себе на уме и помалкивай, — посоветовал
Поленц на прощание.
Женщина проводила меня до двери. Я впервые
заметил у нее на пальце обручальное кольцо. Зачем оно ей?
Пожав мне руку, она тихо сказала:
— Уголь мы получили, и вовремя.
— Как вас зовут?
Почему-то я вдруг вспомнил, как она толкнула меня
со ступенек. Словно угадав мои мысли, женщина
опустила глаза:
— Извините, что тогда все так получилось. Но вы Не
представляете себе, как он иногда звереет.
— Я даже не представляю себе, как вас зовут»
— Ирена.
— А фамилия?
— Это неважно. Бывают обстоятельства, когда
лучше не иметь фамилии.
— Почему вы не уйдете? Не можете обойтись без
него?
— Да, иногда... В пятницу я приду к насыпи. Уплачу
вам за уголь.
77
Дорогой я думал о том, что опять пропущу смену,
если* Ирена придет в пятницу. Авось трава не будет
такой сырой, а земля — холодной, как в ту ночь.
Через два часа я беспрепятственно добрался до дома.
Там меня ждал сюрприз: вернулась жена, и с ней
приехала теща. Обе занимались уборкой квартиры.
Ингеборг бросилась мне на шею:
— Слава богу, что ты пришел. Я так беспокоилась,
все уже вернулись, только Мюллера арестовали.
Пришлось еще раз позавтракать. Хотя сделал я это
без всякого удовольствия. Едва теща отправилась в
магазин, Ингеборг взволнованно сообщила, что устроилась
работать на машиностроительный завод в Унна.
■—•Знаешь, только на полдня — с семи до двух.
Ты все равно в ночной смене, не успеешь проснуться, как
я уже вернусь и все успею сделать.
— Так-так, значит пойдешь работать?
Подобная перспектива, казалось, должна была
настроить меня на счастливый лад. Вот теперь мы
заживем, наконец-то и в нашем доме произойдет
экономическое чудо. Раз женщина работает, благополучие
немецкой семьи гарантировано. Муж и жена, оба работают,
оба зарабатывают. Но не обременительно ли такое
счастье?
Вечером я отправился на шахту, взяв велосипед
Ингеборг. Выехал чуть пораньше, чтобы незаметно
поискать свой велосипед: вдруг цел? По пути присмотрел
местечко, где в пятницу Ирена могла бы оплатить долги.
Потом вспомнил, что у Рози остался ключ от нашей
квартиры. Только бы не вздумала явиться рано поутру,
а то не миновать скандала с Ингеборг. Женам не
нравится, когда в их отсутствие другие женщины помогают
их мужьям по хозяйству. Но мать Рози, конечно, уже
знает о возвращении Ингеборг. Вероника
сообразительна. Сумела же избежать неприятностей, хоть и жила
с французским военнопленным, пока муж сидел в
концлагере. А в те времена это было не просто.
Велосипеда своего я, конечно, не обнаружил. На
площади перед воротами не было ни души, и ничто не
напоминало о том, что сегодня утром здесь бушевала
трехтысячная толпа. Разбитую полицейскую машину убрали.
У проходной дежурили двое полицейских. Они
остановили меня.
78
— Предъявите паспорт, пожалуйста!
— Какой еще паспорт? Документов с собой на работу
не беру.
— Фамилия? Имя?
— Форман... Юрген.
— Домашний адрес?
— Камен, Леопольдштрассе, 20.
— Это новый поселок у автострады?
— Да, это новый поселок у автострады.
— Вы были здесь утром на демонстрации?
— Я? Нет. На субботу и воскресенье уезжал к теще в
Дортмунд, вернулся только сегодня днем.
— Проверим. Можете идти.
Я взял табель, прошел в раздевалку и переоделся.
Будем надеяться, что полиция не нагрянет ко мне ночью.
Ингеборг легко может проговориться.
В раздевалке все обсуждали утренние события, но я
только прислушивался, не вмешиваясь в дискуссию..*
Взяв лампу, медленно побрел к клети.
Там меня остановил штейгер:
— Ну как, Форман? Подрали глотку утром? Вы уж,
конечно, не упустили случая.
— Да нет, представьте, меня никто не предупредил.
Разговор со штейгером прервал вой сирены, похожий
на хриплый петушиный крик. Аварийный сигнал.
Стоявший рядом горняк сказал, обращаясь к
штейгеру:
— Когда дело серьезное, этих толстозадых днем с
огнем не сыщешь.
За работой я все забыл. Думать некогда, в конце
концов у нас сдельщина.
— Так дальше продолжаться не может.
Просыпаюсь— тебя нет, возвращаюсь домой — тоже нет.
Не пойдет.
Я высказал Ингеборг все напрямик. За последние
недели я извелся. Возвращаешься с работы, измотанный
до смерти,— жены нет дома; встаешь днем, разбитый,
с ужасом думаешь о предстоящей ночи — жены еще нет.
На что мне пустой дом? Тут не поможет ни девочка в
юбке для твиста, ни женщина, обещавшая платить долги
по пятницам. Кстати, в прошлую пятницу у нее не. ока-
залось денег, а трава была чересчур сырой и земля
холодной. К тому же не хотелось опять прогуливать смену,
хотя сейчас это уже не имело бы значения.
—' Не ори, соседям не обязательно слышать каждое
слово.
— Плевать, пусть слушают! Плевать мне и на твои
деньги, мне от них не легче.
— Ишь какой! А кто уплатил очередные взносы, кто
заплатил маляру, кто купил продукты на пасху? Я! Все
на мои деньги.
— Не городи чепуху!
— Чепуху? Если хочешь знать, несчастных грошей,
которые ты приносишь, ни на что не хватает...
— Вот тебе на! Все время хватало, а теперь вдруг
перестало хватать!
— Да, хоть наизнанку вывернись, не хва-та-ет! Когда
в последний раз у вас повышали зарплату? Когда? Два
или три года назад. А ты зайди в лавку, посмотри —все
дорожает со дня на день. В газетах об этом не прочтешь.
— Это уж от меня не зависит...
Ингеборг рассвирепела:
— А что мы приобрели за эти годы? Почти ничего.
Посмотри-ка на других: чего у них только нет! Даже в
автомобилях разъезжают. А мы? Полеживаем да время
понапрасну тратим. Никак тебе не вдолбишь, что
каждую минуту надо использовать с толком. Другие давно
это сообразили.
— Ну и что? Они ведь почти ничего не едят.
Посмотри на иных мужчин — на ладан дышат, тряхнешь — и
рассыплются. И это ты называешь «использовать с
толком»?
— Ты-то уж, конечно, ни в чем себе не откажешь,
ты ведь особенный.
— Да, я могу обойтись без автомобиля и не
бахвалиться перед соседями, — вскричал я.
— Не ори. Небось сам бы с удовольствием сел за
руль.
— Одно дело хотеть, а другое мочь, — тихо сказал
я, надеясь, что мягкость тона подействует на нее.—
Пойми же, мы не можем пуститься в авантюру, которая
закабалит нас на многие годы.
— Но я подсчитала, что все получится, если я
тоже буду работать. Смотри, как хорошо выходит. Через
80
два месяца мы погасим долг за мебель. При одной твоей
зарплате пришлось бы маяться с этим еще целый год.
— Пусть так, но я ведь не знаю, чем все это
кончится. Потом захочется еще что-нибудь, и снова залезем
в долги. Это бездонная бочка. Все лучшие годы
промучаемся с долгами. Ну что у нас за жизнь? Ты
возвращаешься и без сил валишься в постель, когда я
собираюсь на работу, и наоборот, я валюсь, когда ты уходишь.
О такой жизни ты мечтаешь, ради нее хочешь работать?
— Не устраиваю — поищи другую жену, получше...
— Да не о том речь. Если б за этим дело, мог бы
каждый день иметь другую...
— Вот как!—воскликнула она.
— Да, именно так! Пойми: это не жизнь, так мы
загоним себя в могилу. Не успеваем даже отдохнуть.
Теперь мне уж приходится мыть посуду, стирать белье,
варить обед.
— Что я могу поделать, если последнее время у нас
то и дело сверхурочные? Не останешься — выгонят. Сам
знаешь, как это делается: сначала тебе ничего не скажут,
а потом при случае придерутся. Но не вечно же будут
эти сверхурочные!
— Все равно, так дальше не пойдет.
Она вздохнула и села.
— Нет, так жить нельзя.
— Черт подери! — Ингеборг неожиданно вскочила и
заметалась по кухне.— Нельзя, нельзя! Другие почему-то
могут и не устраивают вечных скандалов. Видно, другие
мужья умней, знают, каково обходиться одной
зарплатой. А тебе непременно нужно орать на меня.
— Я ни разу не кричал на тебя за все восемь лет
нашей семейной жизни.
— Еще бы, я же тебя обслуживала как горничная,
всегда дома, под рукой. А теперь, когда тебе пришлось
кое-что делать самому, орешь как резаный. Другие
прирабатывают на стороне, а ты сверх положенного
ни одного пфеннига не принес. Зимой валяешься на
кушетке и почитываешь, летом гуляешь или копаешься
в саду.
— И это говоришь мне ты?
— Да, я. Если не расслышал, могу повторить.
— Вот оно, значит, как. Что ж, и на том спасибо.
Хорошенький итог семейной жизни.
81
— Ты, вероятно, нравишься себе в такой роли. А ты
подумал, что будет с нами после первого июня? Ведь
вас всех уволят.
— В Рурской области не останешься без работы·
Ее тут сколько угодно.
— Да, но другие уже подыскали себе место. А ты,
конечно, воображаешь, что кто-то придет и скажет:
«Господин Форман, мы припасли для вас самую лучшую
должность». Жди, жди, пока все хорошие места
расхватают. Впрочем, тебе безразлично. Что может быть
грязнее шахтерской работы? Наверно, опять устроишься на
шахту, только километров за тридцать от дома.
— Не твоя забота.
— Почему же не моя? Твой заработок принадлежит
и мне, стало быть, моя забота.
— Не беспокойся, найду что-нибудь подходящее.
До закрытия шахты больше месяца. За это время межно
многое сделать.
— Подумаешь, месяц! Один взнос за квартиру, два
по рассрочкам — и пусто. Все тебе надо вдалбливать.
— Позаботилась бы лучше о доме. У меня осталась
одна чистая рубаха, и та не поглажена.
г— Не могу же я в конце концов разорваться на
части. Вот купим стиральную машину...
— Ну, разумеется, а к ней еще гладильный пресс и
посудомойку, наймем горничную и няню и, наконец,
.купим автомобиль, чтобы тебе не вставать рано к автобусу
и скорее возвращаться домой. Впрочем, няня нам не
нужна.,
— Й слава богу! Такого глупца, как ты, я еще не
видывала. Неужели у тебя совсем нет честолюбия?
— На что оно мне?
— Почему после войны ты не вернулся на прежнюю
работу? Мог бы стать уже главным бухгалтером или
доверенным фирмы. Так нет же, тебе захотелось на шахту,
польстился на дурацкие пайки и дармовой уголь.
— В то время это было совсем не глупо. С пайками
и углем многие сумели перебиться. Ты, наверно, уже
забыла, сколько стоила тогда тонна угля. Не меньше...
— Опять завел старую дурацкую пластинку. Брось!
— Ладно. Но если я, по-твоему дурак, как же фирма
возьмет меня к себе доверенным?
— С тобой невозможно разговаривать.
82
—» Да, в таком духе невозможна.— Я встал,
собираясь уйти.
— Как бы там ни было, работу я не брошу. Хочу
получить, наконец, что-нибудь от жизни и не трястись над
каждым пфеннигом. Если вечно скаредничать, не
заметишь, как и состаришься.
— Черт возьми, чего же ты, собственно, хочешь? —
вскричал я.
— Не притворяйся. Ты просто не хочешь признать,
что твоего заработка на все не хватает. Ты меня хорошо
понимаешь. Даже очень хорошо.
— Ладно, сдаюсь. Попробуем, пусть будет по-твоему.
— Что? Я не ослышалась? — Ингеборг подошла ко
мне. — Тут, наверное, что-то не так. Хитришь?
— Ну чего тебе надо? — взорвался я.— То
недовольна, что я против твоей работы. Согласился — опять не
так, хитрю. Свихнулась ты, что ли, на своей фабрике?
— Ты что-то от меня скрываешь.
— Ничего. Посмотрю, как ты будешь жить
по-новому, изматываться и стареть. Отныне я буду спокойно
взирать на то, как мы будем приобретать одно за
другим, пока не приобретем все, что ты считаешь нужным.
Хотел бы я только знать, кому это все достанется?
— Ты думаешь, у нас не будет детей?
— Кто-то здесь, кажется, заговорил о детях? —
воскликнул я.
— Я, я заговорила! — Ингеборг схватила тарелку,
собираясь трахнуть ее об пол.
— А ты подсчитала, сколько тебе будет лет, когда мы
все приобретем и захотим, наконец, ребенка?
— Ну и подлец же ты!
— Это не подлость, а правда,— спокойно возразил я.
В комнату неожиданно влетела Рози.
— Дядюшка Юрген! — задыхаясь, проговорила
она. — Пойдем скорее. Мама не знает, что делать. Папе
очень плохо.
— Сейчас!
— Иди, иди! — истерически закричала Ингеборг и с
размаху швырнула тарелку на пол. По кафельному полу
разлетелись осколки. — Для чужих у тебя всегда
находится время!
— Тетя Ингеборг, ну, прошу вас,— взмолилась Рози.
.— Идите! Идите! Не хочу вас больше видеть...
S3
Карл Боровский лежал ничком на ковре, широко
раскинув руки и ноги, словно его привязали. Он
беспрерывно кричал, стонал и всхлипывал. В бессвязных звуках,
вылетавших из его горла, уже не было ничего
человеческого.
Вероника стояла у стола, беспомощно заломив руки:
— Юрген! Боже мой! Это невыносимо. Что делать?
Позвать врача? В больнице он умрет. Сил больше нет
слушать этот вой.
Мать и дочь смотрели на меня, словно на
волшебника, Способного исцелить все болезни. Неожиданно мне
пришла в голову хорошая мысль.
— Рози, — тихо попросил я, — принеси из сарая
старую плетку.
Девушка с ужасом взглянула на меня.
— Быстрей делай, что говорит Юрген! — крикнула
сквозь слезы Вероника и вышла вслед за дочерью.
Слышать, как воет Карл, было и впрямь невыносимо.
Мороз подирал по коже. Я отвернулся. Помню, на
фронте одного ранило в живот, он кричал точно так же.
Какими мы были тогда юнцами — мы испугались его
крика и удрали.
Но где же Рози? Хоть бы плетка нашлась.
Наконец-то пришла!
Скинув пиджак, я схватил плетку. При первом ударе
женщины вздрогнули и заплакали. Я изо всей силы
хлестал по ножке стола, стараясь бить как можно быстрее.
Плетка со свистом рассекала воздух. Карла я и не
думал трогать. Главное, чтобы он слышал свист и удары.
Одновременно я считал вслух:
— Раз... два... три... четыре... привет от фюрера...
шесть... семь... восемь... девять... привет от фюрера...
одиннадцать... двенадцать... тринадцать... четырнадцать...
привет от фюрера... шестнадцать... семнадцать...
восемнадцать... девятнадцать... привет от фюрера... двадцать
один... двадцать два... двадцать три... двадцать четыре...
хайль Гитлер!
О чудо! После пятнадцатого удара Карл стал
спокойнее. Крики перешли в бормотание, тихое
всхлипывание. При двадцать пятом ударе Карл замер. Теперь он
лежал неподвижно, как труп.
'— Помогите перенести его на диван. Быстрей! Теперь
уж он проспит несколько часов,
84
Мы подняли его и уложили на диван. Карл стонал,
как от сильной боли.
— Во-о-ды> — пролепетал он.
Вероника, разжав ему губы, влила в рот воды, и Карл
заснул. Через несколько секунд он храпел как человек,
наконец-то дорвавшийся после тяжкой работы до
желанного отдыха.
Я так вспотел, что рубашка прилипла к телу.
— Спасибо, Юрген, — сказала Вероника, взяв в обе
ладони мою руку, которая еще недавно держала плетку.
— Не за что. Если припадок повторится и меня не
будет дома, сделай то же самое. Запомни: после
десятого удара самое главное — громко считать, он тогда
уже не слышит свиста плетки, только голос и счет.
Спрячь плетку подальше, чтобы он ее не увидел.
— Может, все-таки отправить его в больницу? —
спросила Вероника.
— Не надо, он не болен.
— А что, если поместить его в психиатрическую
клинику? — предложила Рози.
— Он не сумасшедший.
— Что же с ним тогда, если он и не болен и не
сумасшедший? — спросила Вероника. — Здоровым ведь
его не назовешь?
— Да, он не здоров. Но от своей болезни должен
вылечиться сам, тут мы ничем ему не поможем.
— Что это за болезнь? — спросила Вероника.
— Она у него еще с той поры. Из концлагеря.
— Может, ему положена большая пенсия? —
Взглянув на меня, Вероника прижала руки к груди.
— Деньгами его не вылечишь, нет, только не
деньгами.
Кругом незнакомые лица. Я едва узнал помещение.
В кабинетах большие окна, коридоры устланы
ковровыми дорожками. Куда ни посмотришь, все перестроено по
новомодному. В сопровождении посыльного, одетого в
полосатый костюм с галстуком, я прошел через большой
зал машинописного бюро и поднялся на второй этаж в
приемную, где стояли стулья и кресла с красной обивкой,
стальными .ножками и подлокотниками и где мой
провожатый любезно предложил мне заполнить карточку.
85
Я быстро заполнил голубой листок, где, впрочем, не
спрашивалось о цели визита. Посыльный передал листок
секретарше, та прочла, положила в зеленую папку и,
приветливо улыбаясь, предложила мне присесть: возможно,
придется немного подождать.
За большим окном, по которому карабкались
зеленые вьюнки, виднелся сквер. Роскошный газон,
выкрашенные в красный цвет скамейки, как бы спрятанные в
нишах кустов, декоративные растения и цветущие
японские вишни, оранжевые песчаные дорожки, которые
подметал старичок инвалид. Чертовски чисто — ни клочка
бумаги. Отгородившаяся от внешнего мира и живущая
сама по себе тишина. Да н тут, в приемной, машинка
секретарши шумела не больше, чем мой дорожный
будильник нз тумбочке у кровати.
Конечно, здесь можно работать и оставаться при этом
человеком — не человекоподобным существом, которое
среди пыли и грохота с яростным рычанием бурит и
взрывает чрево Земли. Здесь не пахнет пропитанными
потом шахтерскими робами.
— Господин Кайзер просит вас зайти, —
сказала-секретарша.
Она даже не употребила слово «директор». Вот как
здесь идут в ногу со временем. С тех пор как я ходил
тут в учениках, мечтая когда-нибудь стать
доверенным лицом, изменилась не только обстановка, но и тон
обращения.
Значит, господин Кайзер стал директором. Я сразу
увидел, что он не узнал меня, хотя прежде мне часто
приходилось иметь с ним дело. Он не вспомнил меня и
после, когда я сказал, что был здесь учеником. Сколько
же времени пролетело?
— К делу, господин Форман. — Директор взглянул
на ручные часы.
О боже! Ко всему прочему, тебя здесь величают
«господином». До чего ж приятно, что ты не просто
безымянная рабсила номер такой-то, а «господин Форман»...
Я изложил хорошо упитанному господину Кайзеру все,
что у меня было на сердце: что шахта закрывается, что
я не подыскал пока другой работы и зашел сюда узнать,
не могу ли оказаться полезным. Ведь когда-то я начинал
здесь учеником. Пожалуй, мне легко было бы освоиться...
Плотная фигура господина Кайзера за большим пиеь-
66
менным столом стала почему-то увеличиваться в объеме.
Господи, неужели я сказал что-нибудь не так?
— Как вы себе это представляете; господин
Форман? — тихо спросил он.
Нет, я не сказал ничего такого, директор был
по-прежнему исключительно любезен.
— Я думал, может быть...
— Как вы сказали, когда вы ушли из нашей фирмы?
— В сорок третьем, господин директор.
— В армию, не так ли?
— Да, добровольно. К сожалению.
— Почему, к сожалению? — Он повысил тон.
—Сейчас уже незачем стыдиться того, что вы добровольцем
защищали свое отечество.
— Я и не стыжусь, — пробормотал я, видя по его
лицу, что мои шансы уплывают.
— Ну, вот и хорошо. В сорок третьем, значит. Н-да.
А теперь шестьдесят второй.
·— Так точно, — поддакнул я.
— Почему же, вернувшись из плена, ведь вы были в
плену? Да? Так я и думал. У русских?
— Нет, у янки.
— Ну, вам здорово повезло. Я был у русских. Но все
это дело прошлого. Теперь русские — наши клиенты.
Странно устроен мир. Что я хотел сказать? Ах, да.
Почему вы сразу не вернулись к нам? Мы брали всех,
кто прежде работал в фирме. Разве вам отказали?
— Нет-нет, господин директор, так уж получилось.
Времена были трудные, а я остался один. Родители
погибли в сорок четвертом при бомбежке. На шахте
давали большой паек, топливо...
— Ясно.
— Все собирался зайти к вам й справиться, не
примут ли меня обратно. Но знаете, как бывает, получил
квартиру от шахты и застрял.
— Ясно.
— Ну, а теперь вот шахту закрывают, я и подумал...
— Ясно, — господин Кайзер поднялся. — Я пока не
вижу, что для вас можно сделать. Поинтересуйтесь в
отделе по найму. Весьма сожалею.
Я тоже встал.
—- Впрочем, подождите, я дам вам записку.
Пройдите туда, они наверняка что-нибудь вам подберут. Води-
ЗУ
тельские права у вас,есть? Нет? Жаль, нам как раз
нужны шоферы. Есть также должность на складе. Не
помню, какое там жалованье, кажется, две шестьдесят
в час. Все это вы узнаете в отделе найма, на первом,
этаже.
— Господин директор, — пролепетал я, чувствуя
себя все ничтожнее, — я думал, что здесь, в конторе...
Он добродушно рассмеялся, вышел из-за стола и
обнял меня за плечи:
— Дорогой мой, вы же сами понимаете, что это
невозможно. С сорок третьего до шестьдесят второго —
сейчас другие времена...
— Да, конечно, понимаю.
— Вы, безусловно, найдете работу на нашем
предприятии, у нас достаточно вакантных мест, где вы сможете
зарабатывать не хуже, чем на шахте. Для нас дело чести
помочь вам, раз вы были здесь в учениках.
— Я только подумал.., — пробормотал я.
— Понятно, понятно.
Вошла секретарша,
— Господин Бауэр, представитель фирмы «Лигу»
ждет в приемной.
— Пригласите! — пробасил директор.
— Благодарю вас,— сказал я.— Извините, что отнял
у вас время.
— Ничего, ничего, мой дорогой. Ко мне вход
свободный. Спуститесь этажом ниже, там вам дадут работу.
Мне показалось, что он рассмеялся мне вслед, когда
я вышел из кабинета. Никакого господина Бауэра из
фирмы «Лигу» в приемной не было, впрочем, от
волнения я мог и не заметить его.
Дома все было без перемен. Ингеборг, как обычно,
нет, кровати не застелены, на кухне немытая посуда,
всюду пыль. Я постоял на кухне у окна. Поглядел в
садик. Среди молодой рассады цветов пробивалась трава.
Придется сегодня же прополоть. На будущий год засею
половину участка травой, возиться с садом некому:
Ингеборг на фабрике, а мне в свободное время приходится
мыть посуду, готовить обед и стирать. Правда, при
наших заработках мы можем позволить себе роскошь -г
покупать консервы. Разогреть их — минутное дело. По
возможности не буду утруждать себя домашним хрзяйт.
ством..«
88
Этой"-машине- я никогда не доверял. Холодный и
скользкий, как рыба, струг скользит взад и вперед вдоль
забоя, и втулка, на которой вращается треугольный зуб,
поблескивает под лучами наших ламп. Струг всегда
подкарауливает нас, хотя его удается обуздать, заковать в
цепи, но горе, если он вырвется, тогда на его пути
слышатся крики боли и ужаса.
Мы ненавидим эту машину. Мы награждаем ее
плевками, ругаем на чем свет стоит и проклинаем от страха.
Это повторяется каждый день перед началом работы. Но
какое великолепное зрелище — струг во всем своем
могуществе! И какая пытка иметь с ним дело. Он не дает
ни секунды на размышление и с издевкой скрипит
цепями: давай... давай... давай...
Это не машина, это чудовище. К чему оно здесь? Для
чего?
Вдоль двухсотпятидесятиметрового забоя шипят
двадцать пять оросителей, сбивая водяным дождем облака
угольной пыли. И все-таки пыль окутывает нас, когда
вырубленный уголь сыплется на ленту конвейера.
Для чего этот струг? Непонятно.
Его установили, когда уже было известно, что шахту
закроют. Израсходовали пятьдесят тысяч марок только
на установку. Сама же машина, как говорят, стоит
полтора миллиона. Все расходы полностью взяла на себя
фирма, которая изготовила струг и захотела испытать его
у нас. Если машину удастся применить и для добычи
других полезйых ископаемых, не только угля, ее можно
будет экспортировать, в ЮАР. Осуждайте сколько вам
угодно расовую политику, но только чтобы это не
отражалось на торговле. Ведь торговля — наше чудо, а без
чуда мы не можем существовать.
Расплачиваются за это в конечном счете рабочие, и
притом своей кровью. Кто сказал, что время кровавых
пошлин прошло? Нет, оно не кончилось в 1945 году.
Теперь их взимают с нас, как с подопытных кроликов
экспортной экономики, которая больше всего боится
отстать от времени.
Прошло четыре недели с тех пор, как установили
струг, а на его счету уже двадцать пять раненых,
причем семеро из них покалечены на всю жизнь. Ровно
месяц назад объявили о предстоящем закрытии шахты и
тех, кто не нашел пока работы в другом месте, перевеАи
89
в забои, где словно в предчувствии смертельной агонии
устроили последний бессмысленный аврал.
Управляется струг при помощи цепей. Я мчусь по
забою, дергая или придерживая эти проклятые цепи
изо всех сил, чтобы струг работал «по инструкции».
Сквозь пыль вижу товарищей, которые ставят крепления
и дробят отбойными молотками слишком большие
глыбы.
Ох, эта пыль! Она забивает горло, одолевает
тошнота. Но надо терпеть, струг движется... Я за ним.
Главное —. делать все по инструкции. От этого
зависят добыча и безопасность, жизнь и здоровье.
Хочется пить. Фриц Ленерц подменит меня в конце забоя. Во
фляжке еще остался кофе. Черт! Осторожней! На
направляющих цепях держится не только струг, но и
наша жизнь.
Еще двадцать метров. Тогда можно попить. Там Фриц
и фляжка с кофе. Попью и отдохну.
Зачем такая гонка, господи, зачем? Шахту все равно
закроют. Зачем напоследок это живодерство?
Слава богу, конец забоя. Выключаю струг.
— Отдыхай! Мой черед, — кричит Фриц.
Бросаюсь к фляжке, в ней меньше половины.
Проклятье! Какой подлец высосал кофе? Ведь до конца
смены еще три часа. Опрокинув в себя остаток, облизываю
горлышко пустой фляги.
Фриц хватает цепи: струг переключается на
движение в обратном направлении. Пробный запуск.
Порядок.
Пока струг, вгрызаясь в уголь, пройдет весь забой
туда и обратно, у меня выкраивается получасовой
перерыв. Пот струится по лицу. Рубаха прилипла к телу.
Кожа зудит. Это от пыли. Хотя пот и выполаскивает ее, она
снова въедается в кожу.
Эх, нет нынче Пилата, чтобы он воскликнул:
«Взгляните! Се человек!» Мы живем в век гуманности. Но
каждое столетие считалось веком гуманности. Мы
работаем, не разгибая спины, и стреляем. Стреляли-то во
все времена, но никогда еще так не вкалывали. Наш век
безлик, и мы сами безлики. Вместо одухотворенных лиц
у нас рожи или просто белые пятна. Мы надрываемся
без души и без радости, ибо в наше время есть все. Нет
только Пилата. Он умер.
90
Мои размышления прервал сильный толчок
конвейера. Треск. Скрежет железа по железу. Струг остановился.
Таращу глаза в темноту. Что там случилось? Не все ли
равно, у меня еще полчаса отдыха. Крики в забое. Пыль
улеглась. Что же там такое?
Кто-то пыхтя пробегает мимо.
— Юрген! Давай за носилками! Быстрей!
— Что случилось?
— Фриц!
— Что с Фрицем?
— Носилки, идиот! Носилки! Понял?
Я побежал вслед за человеком. Сто метров, двести.
Когда же конец этому проклятому забою?
Наконец, мы нашли носилки.
— Фрицу ногу перебило. Колено вдребезги, —
сообщил мне, задыхаясь, шахтер.
— Как же это?
Мчимся обратно. Хрипим. Обливаемся потом.
Страшно за Фрица.
Вот и он. Стонет. Двое шахтеров накладывают ему
на ногу шину. Фриц жалобно стонет и плачет, как
ребенок.
— Какой толк от вашей шины? — орет кто-то. — Там
же все размозжило!
— Заткнись!—-рявкнул я на него. — Взяли.
Осторожней, сволочи, осторожней!
Раздался какой-то животный стон. Слава богу, Фриц
потерял сознание.
Не успели четверо шахтеров уйти с носилками к
подъемнику, как штейгер с двумя слесарями занялся
ремонтом струга. Через полчаса все было в порядке.
— Теперь уж Фриц наверху, — говорю я.
— Внимание! Подать воздух, — рычит штейгер.
И вот с шипением пошел воздух, из опрыскивателей
брызнул душ, загремели цепи, загрохотал конвейер,
струг врубился в угольную стену.
— Давай! Хватит прохлаждаться! За работу!
Проклятая горячка. Только и слышишь: «Давай,
давай!» В плену нам говорили «let's go»1, но тогда мы
были пленными. А сейчас? Кому какое дело до ноги Фрица.
Эка невидаль — разбито колено! Всего лишь неболь-
1 Пошел! (ангя.)ч
91
ш-ая заминка в точно запланированном процессе
добычи.
Подумать только, ведь на месте Фрица мог оказаться
я. Инвалид в тридцать с небольшим лет! Слава богу, что
не я. Не я! Пока что не везет другим.
Что за дьявольщина! Со стругом творится что-то
неладное. Одна цепь висит свободно, другая натянута до
предела. Только бы пронесло!
— Ах ты скотина! — орет штейгер. Он бежит вместе
со мной вслед за стругом. :
Вот оно! Опять!..
Над головой что-то просвистело, ударившись о стену.
Визг, дикий вскрик! Всего секунда, даже доля секунды.
Потом странный звук, будто собака разгрызла кость.
Что такое?
— Юрген! Юрген!
Кто так дико орет? Может, вышибло водяной
вентиль? Я весь мокрый, с лица капает. Прямо на руки. Что
это за вода? Какая-то сладковатая, липкая, густая,
теплая. Откуда взялась эта вода?
— Юрген! Юрген! — надрывается чей-то голос.
— Остановите конвейер! Остановите конвейер! Эй,
сволочи, остановите же!
Что это там... катится?.. Голова! Голова! Наверно, у
меня галлюцинации. Или я спятил. Но там
действительно катится... голова.
И я мгновенно все понял. Сорвавшаяся цепь струга,
просвистев надо мною, срезала голову штейгеру, который
шел в двух метрах позади. Она скатилась на конвейер,
а то, что мне показалось водой, было кровью. Фонтан
крови обезглавленного штейгера хлестал мне в лицо.
— Да остановите конвейер! Ради всех святых,
остановите конвейер! Там же голова! Голова! — несся
истошный крик.
Но никто не остановил конвейер. Все оцепенели от
ужаса. А голова перекатывалась и перекатывалась по
длинному конвейеру, и ее уносило все дальше. Она
попадет в одну из вагонеток, а на поверхности
кто-нибудь выловит ее на сортировочной ленте или в чанах
углемойки.
Один из шахтеров, осветив меня лампой, вдруг
дико захохотал. На его безумный смех сбежались все, кто
был в забое.
92
— Смотрите, кровопийца! — трясся он от смеха,
показывая на меня.
— Кровопийца! — гулко отозвалось эхо в забое.
Все уставились на меня. В глазах людей застыл ужас.
Я стоял на металлической балке, а вокруг меня —
двадцать товарищей. Они уже не таращились на меня и не
хохотали. Смех застрял у них в горле, едва они увидели
обезглавленного штейгера. И когда верзила Эмиль еще
раз тихо произнес, что я кровопийца, в ответ раздался
угрожающий ропот. Набрав полные пригоршни угольной
пыли, я стал стирать кровь с лица, с груди, с плеч,
попробовал даже отчистить штаны.
Все молчали, стараясь не глядеть на труп.
— Надо унести его, — сказал я. — Пусть кто-нибудь
позвонит наверх.
— Наверх? — переспросил Эгон.
— Позвони лучше господу богу, — послышался
голос из темноты.
— Не могу, — ответил я. — Не знаю номера
телефона. — И заорал в эти лица, в эти вытаращенные от
страха глаза: — Не знаю номера его телефона! Не знаю!
Не знаю!
Никто не произнес ни слова. Всех била дрожь.
Наконец, двое шахтеров притащили волокушу. Мы
уложили на нее штейгера, и я прикрыл своей курткой то
место, где должна была быть голова. Мы уселись вокруг
этого катафалка. Чувство ужаса сменилось
растерянностью. Что теперь делать?
— Пошли наверх, — предложил я.
— Бросать работу? — возразил пожилой Бруно Гол-
лер. — Кто же нам разрешит?
<— Идиот! — закричал я. — Что ты здесь потерял?
Хочешь, чтобы еще кто-нибудь подох? Через час может
настать твой черед.
— Юрген прав, — заговорили наперебой шахтеры.
— Нас за это уволят, — продолжал скулить Бруно.
— Ну и пусть! — огрызнулся я. — Тебе еще не
прислали извещения? Осталось две недели. Что они тебе
дадут? Не будь дураком! Ради чего пострадало столько
людей за последнее время? Ради кого? Зачем?
— Ты прав, Юрген, — поддержал меня один из
шахтеров.
— Да, но... — начал было Бруно.
93
*~ Пошли, — оборвал я. — Хватит болтать!
Четверо потащили волокушу. Остальные молча
двинулись за ними.
У выхода в квершлаг нас встретил старший штейгер.
Он слышал о несчастье, но, не изменяя своей обычной
спокойной манеры говорить, произнес:
— Сегодня просто не везет: сначала Ленерц, теперь
зтот.
Но когда мы в хмуром молчании прошли мимо него,
крикнул вслед: — Куда же вы все? Хватит четверых.
Остальные пусть приступают к работе.
Он не отставал от нас, грозил, ругался, упрашивал.
; Наконец, у долговязого Эмиля лопнуло терпение:
— Заткнись ты, жирный боров, а не то сбросим гебя
в ствол.
—Я запрещаю...
— Тебе уже нечего здесь запрещать, через две
недели тебя выкинут, — со злостью выпалил ему Эмиль.
— Он-то не ушибется, — заметил кто-то. —
Начальству платят за вынужденный простой, пока все не
устроится. А вот нашему брату даже пособия по
безработице не дадут, если не согласишься на первую
попавшуюся работу, которую подсунет биржа труда.
Спустившись до пятого горизонта, мы поехали к
подъемнику. Штейгер посредине, словно павший король. Его
никто не любил, потому что он был беспощадным пого-
нялой. Но сейчас мы жалели его жену и детей. Меня
бросало в дрожь при мысли, что на его месте мог
оказаться я.
- На поверхности нас встретил инспектор. Он
недоверчиво оглядел нас, когда мы высыпали из клети, как
крысы из ловушки, и прошли мимо него, не поздоровавшись.
— Сейчас же спускайтесь обратно, — приказал он,
побагровев.
Я обернулся и спокойно ответил:
— На вашем месте я бы поискал голову. Как раз
одной не хватает.
— Вы все уволены! — заорал он.
Мы расхохотались. Мы надрывались от смеха. Это
была разрядка. Ведь его слова звучали как анекдот,
сущий анекдот!
Мы сдали штейгера в мертвецкую. На шахту уже
прибыла комиссия из горного управления» :
94
Взяв в раздевалке сигареты, мы вышли на воздух,
уселись на скамейках у цветочной клумбы, разбитой
перед слесарной мастерской, и закурили. В конторе был
переполох. Но нас это не трогало. Мы свое дело сделали,
оторванная, голова поставила точку в конце той главы
нашей жизни, к которой, написав ее, мы уже потеряли
всякий интерес.
— Юрген правильно сделал, — сказал Эмиль. —
Оставаться внизу было незачем.
— Конечно, Юрген прав, — подтвердили остальные.
— Нам бы и не разрешили продолжать работу в этом
забое, — сказал я.
— А Фриц-то собирался через две недели устроиться
шофером в Дортмунде на пивном заводе.
— Да, теперь у него култышка вместо ноги, —
вздохнул Эмиль. — Наверно, врачи уже ампутировали ее.
Проклятая машина!..
Вернувшись в раздевалку, мы приняли душ. Понача^
лу думали, что перекроют воду, но обошлось.
Потом мы разъехались по домам, В моем садике за
ночь распустились тюлышны.
Ингеборг поехала с матерью в Дортмунд. Сказала,
что взяла трехдневный отпуск без сохранения
содержания. Зачем — не объясняла, а спрашивать я не стал.
С тех пор как она поступила на работу, мы почти не
разговариваем. Отдыхаем от разговоров.
Несмотря на вечерний час, на улице светло и тепле.
Рядом сидит Рози и без умолку болтает. От нечего
делать. Лучше уж убралась бы. Так хочется послушать
передачу из Чили.
Эта девушка интересуется всем, кроме футбола. Хоть
бы испарилась, так нет же — сидит и мелет языком.
Сняла туфли и устроилась в кресле, как дома. Будто не
понимает, что я хочу послушать репортаж о футбольном
матче. Я всегда рад ей, но, по правде говоря, она чае*
тенько является в самое неподходящее время. Уж не
решила ли, что может вечно торчать тут, поскольку
помогала мне по хозяйству, когда Ингеборг отсиживалась
в Дортмунде? Вот теперь Рози добралась до политики.
Этого еще не хватало! Рассуждать о политике, когда вся
страна переживает игру в Чили.
— Ты состоял в гитлерюгенде? — следует вопрос.
— Да.
— А почему ты вступил? Ведь это было не
обязательно, многие же не вступали.
— А что еще оставалось молодежи? В те времена
часто приходилось поступать вопреки желанию, а потом
самому удивляться тому, что сделал.
— Не понимаю, — сказала она, подумав. — Человек
либо хочет чего-то, либо не хочет.
Господи, лучше бы помолчала! Футбол куда
интересней, чем ее глупая болтовня о прошлом. Есть вещи, о
которых не стоит вспоминать.
— И тебе нравилось там?
— Забыл уже. Вероятно.
— И руку вскидывал?
Когда же она успокоится? Все сейчас у
радиоприемников, а ее интересует, вскидывал ли я руку. Надо
стереть из памяти то время. Что-то в этом роде я уже
слышал. Стереть? Ах, да: «Мы сотрем ваши города с лица
земли. Хайль, хайль, хайль!»
— Черт возьми! — заорал я. — Да, я тоже вскидывал
руку, не мог же я вскидывать задницу, это было бы
слишком утомительно. Ты удовлетворена? А теперь оставь
меня в покое.
Она умолкла, а я прилип к приемнику — хотел
помочь комментатору прокричать «г-о-о-л!» Однако вдруг
почувствовал, что мой интерес к матчу неожиданно
ослаб. Я внимательно посмотрел на девушку. Почему она
заговорила об этом именно сегодня?
Да, будь они прокляты, и я вскидывал руку, орал
«хайль». Я даже записался в вермахт добровольцем,
потому что стыдился сидеть в тылу, когда другие уже
были на фронте, собирали ордена. Но этого она никогда не
поймет. Прошлое можно понять, если сам пережил его.
Но как объяснить все Рози?
*■— Дядя Юрген, — повторила она. — Скажи, тебе
нравилось там?
— Должно быть. Иначе бы не вступил.
— Но почему же ты теперь ругаешь прошлое? —
крикнула она, вскочив с кресла.
Я пропустил, кто и как забил гол. О том, что гол
забит, свидетельствовали рев толпы и захлебывающийся
голос комментатора.
96 ·
— У меня есть пластинка с записью речи Гитлера в
Шпортпаласте 1, — сказала Рози. — Там стоял такой же
рев.
— Да заткнись же ты, наконец! Из-за тебя все
прослушал!
— Дядя Юрген! Неужели это так важно? Завтра
прочтешь в газете.
Не понимаю, как можно в ее возрасте не любить
футбол?
— Все-таки ответь мне, — продолжала она свой
допрос. — Почему ты сейчас против того, что было? Мне
это очень важно знать...
— Потому, что кое-чему научился — в армии, в
плену и позже, — сказал я, убедившись, что дослушать
репортаж не удастся.
— А тогда все были «за?»
— Не то чтобы «за», но все способствовали.
Вынуждены были способствовать, если не...
— Но многие не согласились, предпочли
эмигрировать.
— Да, но целый народ не может эмигрировать, —
сказал я раздраженно. — А теперь оставь меня,
пожалуйста, в покое.
— А юристы тоже способствовали? — Снова
устроившись в кресле, Рози болтала ногами.
— Послушай, девочка. С законниками я не имел
никакого дела, твой отец тоже, хоть он и сидел за колючей
проволокой. Такой маленький человек, как я, а тогда я
был еще школьником и учеником в конторе, не мог знать,
что творилось за кулисами. Но полагаю, что если все
способствовали, то и законники — тоже.
— Знаешь, наш учитель рассказывал недавно —
постой, как это он выразился? — а, вспомнила: «Всеобщее
недовольство привело Адольфа к власти, законодатели
помогли ему остаться у руля. Закон санкционировал его
власть». Это верно?
— Спроси учителя. Ему лучше знать. Только странно,
что он так открыто высказывается. Не боится
последствий, что ли?
1 «Спортивный дворец» в Берлине, где Гитлер часто выступал
с речами. (Прим. перев.).
4 Заказ 325 97
— Каких последствий? — удивилась Рози. — Ведь он
же прав!
— Прав или неправ — мне нет до этого дела.
Спроси кого-нибудь из тех, кто тогда Гитлеру помогал. Их
предостаточно вокруг, в судах и других заведениях.
— Значит, получается, что у каждого рыльце в
пушку?
— Возможно. В то время были даже священники,
которые подписывались «Хайль Гитлер!»
Она хотела выключить радио, но в эту секунду
забили второй гол. Я вскочил с воплем:
— Го-о-о-л!
— Ведешь себя как глупый мальчишка! — крикнула
она. — Какой-то дурацкий гол приводит тебя в восторг.
Ты, наверно, с таким же восторгом орал «хайль!» Не
удивительно, что тот, усатый, делал с вами все, что
хотел. Вы были обыкновенным стадом.
— Тебе этого не понять, Рози. Как-нибудь позже
объясню все.
— Когда? — Она поднялась и внимательно
поглядела на меня. — Ты уже год назад обещал это сделать.
Сколько же можно тянуть? Боюсь, что когда я стану
достаточно взрослой, чтобы понять, ты окажешься
слишком старым, чтобы объяснить.
Рози надела пальто.
— Проводишь меня?
— Да, пойду выпью пива.
Тут мне почему-то вспомнилось, как я где-то кричал,
что мы пропьем нашу демократию.
Около пивной я остановился...
— Подумай, пожалуйста, о том, — сказала Рози, —
что я достаточно взрослая и хочу все узнать именно от
тебя, потому что ты сам все видел и делал, от тебя, а не
из газет...
Рози зашагала по улице, а я вошел в пивную. У
стойки я увидел долговязого Эмиля.
— Был у Ленерца в больнице? — спросил он.
— Да, раза три.
— Он все еще не свыкся со своей судьбой, —
вздохнул Эмиль.— Бедняга! Надо же, чтоб именно его
зацепила эта проклятая машина.
— А кого бы следовало зацепить? — спросил я.
— Ну, конечно, того, кто распорядился установить ее.
98
— А ты слушал репортаж? — спросил я. И как это
Эмиль может говорить о Фрице, когда только что вся
ФРГ сходила с ума, болея за свою сборную.
— Какой репортаж?
— Ты что, с луны свалился? Да ведь мы играли с
Чили!
— И что, наши выиграли?
— Ну и чудак! Все переживают, а он преспокойно
сидит и лакает пиво.
— Знаешь, мне пришлось сменить работу. На заводе
в Унна что-то не того. Представляешь, они проверяют,
кто сколько сидит в сортире. Если дольше десяти минут,
вычитают из зарплаты. Со мной у них это дело не
прошло. Не на таковского напали.
— Да, — машинально ответил я, думая все еще о
матче. Кажется, те четверо в углу разговаривают о
футболе?
— Сейчас я устроился на строительстве дороги, —
продолжал Эмиль. — Рурская автострада.
Те четверо и в самом деле беседовали о футболе, я
слышал обрывки фраз.
— Три марки в час, для начала неплохо, — сказал
Эмиль. — А сколько ты получаешь на заводе?
— Я? Кажется, две семьдесят.
Четверка в углу «громила» команду Чили.
— Не так уж плохо, детей у тебя нет, жена тоже
работает. Куда ты только деваешь деньги?
— Выплачиваю долги по рассрочкам. — Я залпом
осушил кружку.
Четверо в углу заспорили.
— Долги, у тебя? Да кто тебе поверит? При двух-то
работающих?
— Нет, я оклеиваю стены пятидесятимарковыми
купюрами.
— Брось трепаться! Ну, а как работа?
— Сойдет. Но бывает лучше.
-*- На шахте было не так уж плохо, верно, Юрген?
— Конечно. Каждый день горячий душ, волосы
лезут. Но сама работенка была ничего.
— Нас утром возят в автобусе, — сказал Эмиль. —
Забирают прямо у дома. А вечером доставляют обратно.
Все удовольствие — три марки в неделю. Недорого.
За столам в углу поднялся такой гвалт, что я сам
4* 99
себя уже не слышал. «Пожалуй, зайду еще к Веронике,—
подумал я, — посмотрю, что там делается. Интересно,
Рози уже пришла? Надо было проводить ее. Но нельзя
же в конце концов рассуждать о политике, когда идет
футбольный матч».
— Ну, пока, Эмиль, я пошел.
— Уже? Подожди, я угощаю. Эти в углу сейчас
вцепятся друг другу в волосы. Потеха!..
У Вероники горел свет. Она сидела в кресле и
вязала.
— Вот это сюрприз, — удивилась она. — Уж не
заблудился ли ты?
— Требовалась разрядка.
— Воображаю!
Знала бы она, какие вопросы задает ее дочь во
время футбольных матчей! Почему я, видите ли, вскидывал
руку?
— Карл уже спит?
— Только что лег. Представь себе, он тоже слушал
репортаж, а когда зрители орали, вскакивал,поднимал
правую руку и говорил: «Встань, Вероника! Выступает
фюрер».
— Ну, а как он вообще?
— Вполне спокоен. Рисует мало. Плетку с тех пор так
и не пришлось использовать. Зато хожу теперь в
городскую библиотеку, таскаю ему книги с картинками.
Сидит и разглядывает.
— Какие книги?
— Любые. Главное, чтобы с картинками.
— А где Рози? Спит?
— Нет, пошла в кино. На последний сеанс.
— Ты просматриваешь ее школьные задания? У
меня создается впечатление, что она запустила учебу.
— Что ты, наоборот. Она так старается. Целые дни
сидит над книгами... Когда приезжает Ингеборг?
— Обещала во вторник.
Поболтав еще с полчаса, я ушел. Решил побродить
по улицам, настроение было какое-то бесшабашное. Во
всех трактирах сегодня пьянствовали, еще бы — мы
выиграли. Не войну — хоть футбольный матч. Выиграли!
Хотелось горланить и плясать прямо на улице...
100
Едва Ингеборг устроилась на фабрику, как стала
проявлять самостоятельность. Не советуясь со мной,
покупает все, что ей вздумается, и ставит меня перед
свершившимся фактом.
А ведь если разобраться, то в ее заработок входит и
мой труд — тот самый дополнительный, который
возложен теперь на меня: мытье посуды, уборка,
приготовление пищи. Да, да, частью своего заработка она обязана
моей домашней работе. Когда мы поженились — с тех
пор прошло восемь лет, — у нас почти ничего не было.
Мы рассчитывали на годы вперед, сколько получим
денег, сколько уйдет на жизнь, сколько останется, и
все-таки, черт возьми, были довольны.
Теперь же все переменилось, в том числе и моя
работа. Теперь у меня есть солнце, свежий воздух и нет
ночных смен. Но старому горняку вроде меня не так
просто привыкнуть к более легкой профессии. Почему-то я
все жду гудка, чтобы скорее пойти домой.
На товарном складе металлоизделий я освоился
довольно быстро и с работой, и с коллегами. По
обращению и манере разговаривать грузчики от шахтеров
ничем не отличаются. Зато начальство...
Под землей мы с непосредственным начальником
действовали сообща, тянули одну лямку. Как и мы, он был
таким же грязным, пропотевшим и изнуренным, да и
ругался так же.
Тут по-другому. От рабочего начальник отличается
чистым костюмом и галстуком: на самом производстве
его редко встретишь, а если уж он и заглянет, то
мимоходом и вечно с какой-нибудь бумажкой в руке —
наблюдает за выполнением графика.
Прослышав, что на складе собираются установить
магнитный кран, вся наша бригада — тридцать душ —
забеспокоилась. Кран заменит двадцать грузчиков —
значит, оставят десять. Разумеется, каждому хотелось
остаться: во-первых, потому, что работу нашу тяжелой не
назовешь, а во-вторых, она не поддается строгому учету.
Да и вообще, какой уж там тяжелый физический труд
возле подъемного крана!
Наш старшой, симпатичный лысый дядя, любил
поворчать, но был справедлив. Он казался бы еще
симпатичней, не рази от него с самого утра пивом. Я спросил
его, кто из нас останется.
101
— Не тужи о ййцах, пока курица их не снесла, —
ответил он.— Придет время, узнаешь.
— Что мы тогда будем делать?
— Как, брат, все сложится, пока и в дирекции не
знают.
Мы грелись на июньском солнышке возле штабеля
рельсов и завтракали. Здесь мало кто приносил с собой
фляжку с кофе. Обычно посылали мальчишку-ученика
в буфет за пивом или газировкой. Но каждый день
этого себе не позволишь — накладно.
Сосед справа подтолкнул меня локтем.
— Завтра шахтеры голосуют, бастовать или нет, —
сказал он с набитым ртом. — Но тебе на это уже
начхать. Верно?
— Никакой забастовки не будет, — сказал я.
— А я думаю, будет, — заметил старшой. — Пока
шахтовладельцы не распродадут несбытый уголь.
— Нет,— возразил я.— Уже сколько раз дело до
этого доходило. А чем кончалось? Компромиссом. Просто
надо пошуметь, чтобы общественность узнала, что щах-
тер будет получать на пять пфеннигов больше, а
торговцы успели сориентироваться. Все рассчитано.
— Вот, вот, — согласился сосед. — Как только речь
заходит о том, чтобы прибавить рабочему самую
малость, поднимают крик. А другие прикарманивают
миллионы, и никто ни гу-гу.
— Ну, положим, дадут эту десятипроцентную
надбавку,— сказал я. — А что она значит? Даже вместе с
ней не выйдет и трех марок в час.
— Трех марок не выйдет? — переспросил старшой.-—
Да, тут почешешься: меньше трех марок!
— Не в этом суть! — вмешался в разговор молодой
студент — он учился на инженера и проходил у нас
практику. — Все не так уж плохо, если мы еще можем
бастовать и высказываться как угодно. Вспомните тех,
кто за Эльбой. У нас хоть существует свобода.
Кое-кто перестал жевать от изумления. Все
уставились на студента, словно он говорил по-китайски.
Пожилые рабочие рассмеялись.
— Эх ты, цыпленок, — пробурчал старшой. —
Говоришь о свободе, будто на нее можно что-то купить... Да
понимаешь ли ты, сколько здесь закорючек? Скажем,
если государство не укладывается в бюджет, оно повышает
102
налоги или там почтовые, железнодорожные,
телефонные тарифы — всего не перечтешь. А если моя жена не
укладывается в наш домашний бюджет, то нам
приходится экономить, и я уже не могу себе позволить две
бутылки пива и две пачки сигарет в день. А если мы
собрались в отпуск, значит, должны еще от чего-то отказаться.
Понял? Это тоже свобода. Одна для толстого кошелька,
другая — для тощего.
— Чепуха, господин Майнке! — воскликнул, краснея,
молодой человек. — Ведь государство — это и мы с
вами, а не только двадцать министров.
— Да ну? Перед выборами мы действительно
государство. Когда надо покорно идти на убой и когда дела
за наш счет выправлять — тоже государство! Магазины
потребительской кооперации принадлежат профсоюзам,
мы — члены профсоюза, значит, магазины принадлежат
нам. Ты это хотел сказать, детка? Шахтер под землей
не зарабатывает даже трех марок в час, но зато он —
государство. И в нашем государстве для всех
существует прогресс и свобода, и все мы счастливы оттого, что
нам разрешают подрать глотку и побастовать... Эх ты,
сопляк!
Наш старшой никогда еще не произносил таких
длинных речей. Я был поражен. Мне нравился наш
ворчливый, немногословный старик. Правда, зря он взялся
наставлять студента, все равно тот ни черта не понял...
Вечером, возвращаясь домой, я вдруг почувствовал
какую-то непривычную подавленность. Может быть, от
голода: днем я съел всего два бутерброда, а в столовую
не пошел. Увидев на нашей улице людей, стоявших
группами и перешептывавшихся, я испугался. Многие
смотрели мне вслед, я чувствовал на себе их взгляды.
В дверях меня встретила заплаканная жена.
Я прислонил велосипед к стене.
— Ингеборг, что случилось?
г— Карл, — вымолвила она. — Карл Боровский...
— Что с ним? Опять припадок?
— Он повесился, — прошептала Ингеборг и
заплакала навзрыд.
Меня словно ударили обухом по голове. Не говоря
ки слова, я сел на велосипед и помчался к Веронике.
юз
У старого кирпичного домика собралась толпа. Дверь
была распахнута.
— Господин Форман, — обратилась ко мне какая-то
женщина, — это ужасно!
— Да, — сказал я,— да.
Вероника сидела в кресле. Когда я вошел, она лишь
устало повернула ко мне голову, а Рози подбежала и
заплакала.
Карл лежал в соседней комнате на раздвинутом
столе. Рот у него был заклеен пластырем.
Врач уже собирался уходить.
— Да, господин Форман, кто бы мог подумать? —
вздохнул он. — Все усилия оказались напрасными.
— Вероятно, в больнице этого бы не допустили,—
процедил я сквозь зубы.
— Рано или поздно это случилось бы, — возразил
врач. — А что касается больницы, то, поверьте моему
опыту, там не лучше. К тому же, по теперешним
законам он не был опасен для окружающих, а прежние
законы уже не действуют.
— Неужели разница между ними так велика? —
спросил я.
Врач с сожалением посмотрел на меня и присел за
кухонный стол написать свидетельство о смерти.
— Полиция уже была, этого не избежишь, таков
порядок,— с тяжелым вздохом сказал он, вставая. Как бы
извиняясь, развел руками и с горькой улыбкой
добавил: — Люди вроде него считаются прокаженными в
любом обществе, в любом.
— Неправда, — возразил я. — Ведь он хотел только
жить, работать и ухаживать за своим садиком, больше
ничего.
Но врача уже не было в кухне. Он прошел к
умершему — вероятно, что-то забыл там — и, снова
вернувшись, обратился к Веронике:
— В больнице ему, конечно, не дали бы
разрисовывать столько бумаги, а его молитвы и проклятия hhkîo
не стал бы слушать. Там строгий порядок. Без
дисциплины никак нельзя. Ему не разрешили бы делить мир,
назначать министров и сажать самолеты на лугу за
лесом. Мы не знаем, что происходило в его затемненном
сознании. Не исключено, что это — он покрутил
обрывком веревки — всего лишь последнее звено цепочки... Кто
104
знает? Как врач, я должен, к сожалению, сказать, что
мы ничего не знаем...
Он ушел, не прощаясь.
— Закрой дверь, Юрген, — сказала Вероника. — Не
могу я больше видеть этих людей на улице. Что теперь
будет с пенсией? — вдруг спросила она. — Мне ее
оставят?
— Ну, конечно. Его смерть не лишает тебя пенсии.
Только будут платить чуть меньше, и все. Так что не
беспокойся.
— Я беспокоюсь за Рози, — сказала она.
— Не надо, мамочка,— подала голос дочь,— Это же
смешно: получать пособие за отца, который мне вовсе
не отец.
— Рози! — прикрикнула Вероника.
— Не волнуйся, мамочка, это не моя вина. —
Обратившись ко мне, Рози спросила: — Дядя Юрген, его
похоронят по всем правилам?
— Почему бы нет?
— Я думала, самоубийц закапывают у
кладбищенской стены без пасторского благословения.
— Так было когда-то. С тех пор церковь стала
милосерднее.
Вероника поставила на электроплиту ведро воды.
— Надо его обмыть, — сказала она глухо.
— Разве он недостаточно чист? — вспыхнула Рози.
— Замолчи, бесстыдница.
Рози вышла в сад. Я увидел, как она села на
красную скамейку возле грядки с фасолью.
— Как же это случилось? — спросил я Веронику,
Она будто сразу постарела.
— Просто не знаю. Он сидел за столом, как обычно,
и рисовал. Я еще сказала ему: «Карл, я схожу в лавку».
Он посмотрел на меня и говорит: «Принеси мне крюк от
мясника». Я испугалась. «Что,— говорю,— принести?
Крюк? Их же не продают. На что он тебе?» — «Не
продают? — И смотрит так недоверчиво. — А я вчера видел
их много-много на длинной балке, в большом зале, там
еще на окнах решетки». — «Карл, — говорю, — это тебе
приснилось». — «Да, — говорит он, — наверно,
приснилось. Но сейчас время для таких крюков, самое время».
Вероника присела на кухонный стол и вытерла
глаза. Но слез уже не было.
105
— Потом я ушла. В лавке у меня на душе вдруг
стало так тревожно, не передать словами. Знаешь, так
бывает, когда ночью идешь одна через лес. Я бросила все
и побежала домой. Карл сидел за столом и рисовал.
«Принесла крюк?» — спрашивает. Я говорю: «Нет,
нигде не продают». А он опять: «Но мне обязательно
нужен крюк, в третьем зале есть свободное место». — «В
каком зале?» — спрашиваю. — «В третьем, —
повторяет он. — Ты же знаешь, в восьмом блоке». — «Да», —
говорю, чтобы успокоить его. Что он имел в виду? Но в
ту минуту, Юрген, я по-настоящему испугалась. Мне бы
остаться, а я опять пошла в лавку. Надо было еще
зайти к сапожнику, потом купить Рози тетрадей, а Карлу
бумаги. Пока ходила туда-сюда, забыла о страхе.
Примерно через час, а то и больше вернулась домой. Вижу,
Карла за столом нет. Тут у меня сердце оборвалось.
Позвала— ни звука. Заглянула в спальню —нет. В
подвал, на чердак — нет. Поискала в саду — нет. И вот,
перед тем как снова войти в дом случайно посмотрела
вверх, на окно уборной... и... там был Карл... Он
показывал мне язык...
— Не надо, мамочка, не надо! — воскликнула Рози,
входя на кухню. — Он умер. Не рассказывай
подробностей. Не надо! — Рози разрыдалась.
— Вечером зайду, — сказал я. — А то поесть еще не
успел.
— Поможешь мне уладить формальности, Юрген? —
спросила Вероника.
— Не беспокойся, все сделаю.
Толпа на улице поредела. Я медленно крутил педали
и думал об изречении, которое часто повторял Карл:
«Каждому свое». Бедняга, несколько лет он делил
земной шар, кричал и стонал в припадках, бредил, молился,
преклонив колена на острых поленьях в углу комнаты.
Молодой и отчаянный парень, он написал некогда на
вагонетке мелом: «Гитлер — грязная свинья!», получил от
государства «свое» и нес его, не жалуясь, все эти долгие
годы. Когда его избавили от колючей проволоки и
побоев и привезли домой, он нашел там дочь. Не жизнь, а
черт знает что! Может, Веронике теперь станет легче?
Она заслужила покой.
Жизнь продолжается, и каждый получает «свое».
Директор фирмы ведь сказал мне, что прошлого теперь уже
№6
не стыдятся; в конце концов мы живем при новом
порядке, который требует, чтобы прошлое было приведено
в порядок. Он сказал еще, что во всем мире нас опять
уважают. Мы торгуем с Россией и ЮАР и не мешаем
извергам, превратившим таких, как Карл Боровский, в
калек, загорать под солнцем Испании и Южной Америки
или заниматься коммерцией на Ближнем Востоке. Но
так ли уж прав директор, утверждая, что нас снова
уважают в мире? Не вернее ли сказать, что мы просто
нужны миру, а это совсем другое дело.
На нашей улице из дома в дом сновали женщины и
почему-то смеялись. Ингеборг выбежала мне навстречу.
Она тоже смеялась.
— Юрген, представляешь, фрау Поммер родила
мальчика! Даже не верится — четыре килограмма, и все
прошло замечательно!
Вот это здорово! Маленькая, хрупкая женщина,
которая в последние дни еле передвигалась, произвела на
свет такого крепыша. Четыре килограмма. Эх, будь это
мой сын, я напился бы на радостях до бесчувствия.
— Дай чего-нибудь поесть, умираю с голоду.
— Сейчас. Как у Боровских?
— Как там может быть? Вероника боится за
пенсию.
— Это понятно. Не отберут?
— Конечно, нет.
— Идти работать ей уже поздно. А вот Рози надо
бросать школу, пора ей подумать и о заработке.
— Может быть, — ответил я.
Суп был хорош, хоть и приготовлен из концентратов,
которые Ингеборг каждый день покупала в магазине
самообслуживания по дороге с работы.
— Надо позаботиться о формальностях, — сказал я.
— Возьмешь выходной?
— Нет, управлюсь с утра.
— А когда похороны? — Ингеборг вдруг вскочила и
всплеснула руками: — Боже, у меня ведь нет черных
чулок! Придется завтра же купить в Уина.
Заупокойная проповедь меня не проняла, хотя
молодой пастор, присланный в нашу общину полгода назад,
умеет хорошо говорить. Дождь лил не переставая, и па-
J07
стор стоял под зонтиком. Его слова долетали до ушей,
но не проникали в сердце.
Правой рукой я поддерживал Веронику, левой — Ро-
зи. Они не плакали. Я смотрел на двух людей,
стоявших напротив и не спускавших глаз с пастора. Это
были десятник Поленц и женщина, которая у него жила.
Чего ради они пришли сюда?
Тут я услышал, как пастор произнес:
— Всюду вина и всюду грех. Познает свою вину и тот,
кто своим доносом обрек умершего на десять лет
мучений. Но милосердие божие бесконечно. Тому, кто
раскаялся, бог дарует милость и прощение.
Я вспомнил, что год назад слышал подобные слова
от другого пастора. Впрочем, что тут удивительного:
мудрость всегда говорит одним языком.
Несмотря на дождь, за гробом шла большая
процессия. Странно, ведь Карл последние годы почти не
появлялся на улице. Но даже никогда не встречавшиеся с
ним люди сочувствовали его судьбе. В их представлении
он был отшельником, искавшим истину, человеком,
который страдал и дорого заплатил за свое страдание, хотя
ему выплачивали неплохую пенсию. Карл стал
символом того времени, которое нам, взрослым, было вечным
укором, а молодежи не говорило ни о чем.
Вдруг мне вспомнился страшный рассказ Вероники.
Карл выглядывал из окна уборной и показывал язык...
Я вздрогнул. Мне почудилось или нет: десятник
Поленц стоял, высунув язык. Что за чертовщина? У меня
галлюцинации, определенно галлюцинации.
Вместо того чтобы поддерживать обеих женщин, я
вдруг сам повис на них: вид десятника приводил меня
в ужас.
Я видел сквозь дождь его острый желтоватый язык.
Десятник хрипел, мешал проповеди. И все слышали это.
Он стоял в прорезиненном плаще, с непокрытой головой,
под проливным дождем, волосы прилипли ко лбу, вода
стекала за шиворот.
Нет, он действительно высунул язык. Теперь это
заметили и другие, кто-то хихикнул. До чего же у него
длинный язык, как у повешенного...
Рози вынимает из кармана пальто носовой платок и
сморкается. Она не плачет, нет, я хорошо вижу, что она.
смеется, прикрыв рот платком.
108
Господи, что здесь происходит? Ингеборг тоже еме-
ется, прижав к губам платок, причем смеется до слез.
Кто ее не знает, может подумать, что она плачет.
Господи, рехнулись они все, что ли? Ведь хоронят Карла!
Неужели его смерть не стоит слез? Однако участники
траурной церемонии в самом деле украдкой хихикают и
посмеиваются, глядя на десятника Поленца, которого здесь
вряд ли кто знает. Язык у него совсем вывалился изо
рта. Поленц застонал.
Вероника подходит к куче мокрой земли, берет
лопату и трижды бросает на гроб комки красно-коричневой
грязи; потом кладет лопату на землю, хочет отойти и,
подняв глаза, вдруг видит перед собой десятника.
Пошатнувшись, она вскрикивает. Кричит!
Тут десятник валится головой вниз, прямо на гроб.
От глухого стука все вздрагивают. Вероника падает в
обморок. И вместо приглушенного смеха и хихиканья
раздается многоголосый вопль ужаса. Ад разверзся.
Дождь хлещет. Десятник лежит на гробу, дрыгает
ногами и кричит. В могилу никто не хочет спускаться,
боятся испачкать костюм.
— Как это случилось? — спрашивает меня пастор.
— Не знаю, господин пастор, может, он потерял
сознание.
— Да нет. Он же кричит. Это крепкий мужчина.
Пастор, могильщик и я спрыгиваем в могилу, чтобы
вытащить десятника.
— Осторожней, — предупреждает могильщик, —
стенки могут обвалиться, все размокло. Вот проклятие!
И это называется июнь!
Поленц без сознания. Выглянув из могилы, я вижу,
как четверо мужчин несут Веронику к подрулившей
машине.
— В могиле не ругаются, — осаживает могильщика
пастор.
— Осторожно! Обвалится земля! — кричит
могильщик.
Мы поднимаем Поленца. В это время у края могилы
появляется Ирена. Приоткрыв рот, она судорожно
сжимает обеими руками зонтик. Пастор вылезает из могилы
и тащит Поленца за руки, а мы с могильщиком
подпихиваем его снизу. Наконец, все наверху. А дождь
хлещет и хлещет.
109
— Отойдите от края! — рявкает могильщик на
Ирену. — Земля размокла, может каждую секунду
обвалиться. Знаете, — обращается он ко мне. —жена все
время топит. Это называется июнь! Без печки в комнате не
усидишь. Осторожней! Сказано же вам отойти, черт
возьми! — набрасывается он снова на Ирену.
— Боже, что у вас с таларом *, господин пастор! —
охает пожилая женщина.
— Ничего,— отвечает он,— есть еще один.
— А ты на кого похож! — качает головой Ингеборг,
оглядывая меня с ног до головы.
— Ступай домой, Ингеборг, у тебя туфли полны
воды.
Подъехала машина скорой помощи, санитары
занялись Поленцем.
— Кто бы мог подумать, — обратился ко мне
пастор. — Что с ним произошло? Вы его знаете?
— Да, немного. Он десятник в одной строительной
фирме в Дортмунде.
Громко разговаривая и жестикулируя, люди стали
расходиться. Некоторые посмеивались.
— Я хотел еще спросить, — продолжал пастор,—
десятник знал усопшего?
— Нет.
— Почему же он пришел на похороны? — Пастор
остановился и пристально посмотрел мне в лицо.
— Сам удивляюсь, — ответил я.
— Наверное, он все-таки знал покойника.
Мы двинулись далъЩе.
— Возможно,— согласился я,— но маловероятно.
Иначе мне было бы известно об этом.
— У меня такое чувство, — пастор снова
остановился, — будто этого человека — как его зовут? Поденц?—
будто этого человека я уже где-то видел.
Когда мы подошли к моему дому, я предложил
пастору:
— Может, выпьем рюмочку-другую шнапса? Говорят,
чудесно действует...
— Кажется, вспомнил, где я встречал десятника, —
сказал пастор. — Да, точно... До свидания, — и он
поспешно ушел.
1 Талар — облачение лютеранского пастора. (Прим. перев.),
ш
— Не похороны, а настоящий театр! — повторяла Ин-
геборг, озабоченно расхаживая из кухни в комнату и
обратно. — Что мне делать с костюмом, он совершенно
испорчен, хоть выбрасывай. Ведь это твой свадебный
костюм.
— Да вычистишь как-нибудь.
— Ничего уже с ним не сделаешь, пропал!
— Пастор перепачкался еще больше, — заметил я.
— Но ему-то не придется покупать талар, спишут за
счет накладных расходов. А тут, полюбуйся-ка, на
каждом колене по дырке!
— Надо сходить к Рози и Веронике.
— Ты в своем уме? Сначала обогрейся, а то
придется еще бюллетень брать. Вот, выпей кофе. Ты не смеешь
сейчас болеть, в субботу нам привезут стиральную
машину, первый взнос четыреста марок... А эта дура баба
какова — тоже чуть не свалилась! Точно коза ошалелая,
могильщик ей сто раз говорил, чтобы отошла от края.
Она не с этим пришла, что упал в яму? Может, жена
его?
— Нет.
— Чего же она там стояла и пялилась?
— Все там стояли и пялились, — ответил я.
Кофе бы крепкий, сладкий и очень горячий. Мне
стало легче.
— Нет, ты погляди на костюм. Свинство! Тебе
непременно надо было туда лезть, будто без тебя обойтись
не могли. А для чего пастор и могильщик? Собственно
говоря, Вероника должна была бы заплатить за костюм.
— Ну при чем тут Вероника, Ингеборг?
— При том! Меня просто бесит. Почему ты ее всегда
защищаешь? Меня — так никогда!
— Раз ты злишься, значит, неправа.
— Правда глаза колет! Ты этого не замечаешь, но
Боровские всегда у тебя были на первом месте, а уж
потом я...
— Это твоя фантазия.
— Не понимаю, зависишь ты, что ли, от этих баб?
— Позаботиться о них — мой долг.
— Ну и отправляйся к ним! — закричала она.
Схватив на кухне тарелку, Ингеборг трахнула ее об
пол у моих ног. Осколки разлетелись по всей комнате.
Потом выбежала на улицу, хлопнув дверью.
Ш
Я переоделся и ушел. Было около восьми вечера. Со
стороны Дортмунда надвигалась черная туча. Опять
будет ливень. Вот так июнь — верно говорил могильщик.
Рози сидела за столом и готовила уроки.
— Где мать? — спросил я.
— В больнице, — ответила Рози, не поднимая головы.
— Час от часу не легче! Что с нею стряслось?
— Врач сказал, нервный шок. Придется полежать
недели две-три.
— Ну и денек! — вздохнул я.
— Как это ты еще решился прийти! — процедила
Рози, складывая в портфель тетради и книги.
— Не язви, ты же видела, как я перепачкался.
— Ах, такой хороший костюм!
— Перестань! — оборвал я ее и тихо спросил: — Ты
знаешь этого человека?..
— Который высовывал язык? Господи, как я
смеялась! Хорошо, что шел дождь и у меня был большой
носовой платок. Даже тряслась от смеха... Нет, я его не
знаю.
— Он никогда не бывал у вас?
— Нет, а почему это тебя интересует?
— Страшный он человек.
— Значит, ты его знаешь?
— Да, это десятник Поленц.
— Поленц? А, это ты с его женой прогуливался по
ночам...
— Да.
— Та самая женщина, которая...
— Да, она.
— Странно. Почему же он явился на похороны папы?
— Я тоже хотел бы это знать.
— Во всяком случае, не из любви к тебе. И
вдобавок он пришел без шляпы. — Она рассмеялась.
— Конечно, он пришел не из-за меня, — сказал я.
— Навести маму.
— Завтра после работы заеду.
— И потом... Не приходи, пожалуйста, ко мне, пока
нет мамы. А то пойдут разговоры.
— Как хочешь.
— В поселке любят чесать языки.
112
— Одной тебе будет трудновато. Приходи к нам
ужинать, если надумаешь.
— Спасибо. Не надумаю. Твоя супруга слишком
часто ошибается, подсчитывая плату за стол. В кафе
дешевле.
— Дело твое.
— Вот именно, — сказала Рози, открывая мне дверь.
Едва я вернулся домой и включил радио, чтобы
послушать репортаж о велогонке «Тур де Франс», как
раздался нерешительный звонок.
— Кто бы это мог быть? — удивилась жена. —
Неужто Рози? Сиди, я открою.
— Не беспокойся. — Я поднялся и пошел к двери.
— Скажи этой бесстыднице, чтобы шла спать! —
крикнула вдогонку Ингеборг.— И вообще, ей работать
пора, а не висеть на шее у матери. Уже достаточно
взрослая!
Открыв дверь, я обомлел. Передо мной стояла Ирена.
— Он просил вас зайти к нему завтра в больницу,—
тихо произнесла она.
— Хорошо.
— Он лежит в двести четвертой палате на втором
этаже.
— Хорошо.
— Ему нужно срочно вас видеть,
— Хорошо.
— Не забудьте: срочно.
— Хорошо.
— Спокойной ночи.
Она ушла, растворившись во тьме. Дождь лил как из
ведра.
— Кто это? — спросила Ингеборг.
— Жена того человека, который свалился в могилу.
— Что-о?!
---Да. Просила, чтобы я завтра навестил ее мужа.
Он срочно хочет меня видеть.
— Что им от тебя нужно?
— А кто их знает. Понятия не имею. И не спрашивай.
Ингеборг замолчала, но я все время чувствовал на
себе ее взгляд. Она долго не могла заснуть. Мне тоже
не спалось.
113
Войдя в палату, я сначала не узнал Поленца. За
ночь лицо его осунулось, резко выступили скулы. Он еле
слышно подозвал меня и попросил сесть поближе,
сказав, что ему надо многое мне сообщить.
— Мы не одни, — с трудом выдавил он, — я вынуж^
ден говорить тихо.
В палате, кроме него, было еще семь человек —
молодых и пожилых; один из них, парень с загипсованной
ногой, прыгал от кровати к кровати. В углу попискивал
транзистор.
— Я экзекутор, я избивал плеткой,— произнес вдруг
Поленц после нескольких ничего не значащих фраз.
— Не понимаю.
— Я же говорю: стегал людей на «козле».
— На каком «козле»?
— На «козле» для порки. Я по службе был
экзекутором.
Постепенно я начал понимать. Я еще ничего не знал,
но уже догадывался.
— В двенадцатом блоке. Политзаключенные.
— А где?
Яг наконец, все понял.
— Где? Ах, это было так давно. Старая история,
понимаете, очень старая. Над воротами...
— Я знаю, что там было написано.
— Он рассказывал обо мне?
— Никогда не говорил.
— Но он не знал, что я живу по соседству. Года три
назад мы повстречались на улице. Он плелся по
тротуару, ни на кого не глядя, а я ехал мимо на велосипеде.
Я сразу узнал его. И он, не поворачивая головы, сказал:
«Полли, считай громче. Еще громче». Так они меня
звали в лагере — Полли. Вот тут я понял, что он меня
узнал.
Стены палаты не рухнули, оконная рама не
покачнулась, все осталось на своих местах. Парень с
загипсованной ногой стучал ею в такт танцевальной мелодии. С
улицы доносились звонки трамваев.
Так вот почему Карл хотел, чтобы на лугу за лесом
приземлились самолеты. Вот почему!
— Вы не здешний? — Неожиданно для себя я
перешел снова на «вы».
— Нет, из Оппельна,
114
— А женщина, которая у вас живет?
— Тоже оттуда, Она приехала два года назад из
Восточной Германии.
— Вы были знакомы с ней раньше? — продолжал я
допытываться.
— Нет. Мы живем вместе. Она мне нужна. Я ей
тоже. Впрочем, она знает все. Почти все.
— Почти? — Я взглянул на него, и мне показалось,
что он отвечает слишком медленно.
— Ее мужу дали двадцать лет. Он сидит в тюрьме,
в Бауцене.
Загипсованная Нога подцепил костылем стул и
задвинул его между двух кроватей. Началось сражение
в карты.
— Ну, а что дальше? Зачем вы меня звали и для чего
вы все это рассказываете?
— Не знаю. Вот вчера, когда меня привезли, знал.
— Если вы думаете, что я передам все фрау
Боровской, то ошибаетесь. Это вы должны сделать сами.
— Ничего не нужно ей передавать, и так
неприятностей хватает. Я жалею уже, что рассказал. Затмение
какое-то нашло. К чему копаться в прошлом, настоящее
от этого не станет лучше, оно и без того тяжело...
Людей такие признания тоже не сделают лучше... ни
их... ни закон... ни государство... ни... Да что там... Все
пакость.
— Фрау Боровская, — сказал я, — лежит в этой же
больнице. У нее нервный шок.
Загипсованная Нога блефовал. Оба лежачих
размышляли, на чем бы его подловить. Конечно, у него было
преимущество: он сидел выше и мог заглядывать в карты
соседей...
— Охотно вы это делали, тогда?
— Охотно? — Его глазки забегали по сторонам. —
Сейчас} уже не помню, это было так давно. Тогда
делали много такого, что в то время считалось нормальным,
а сейчас —нет. Не возьмись я за это, взялись бы
другие, а меня бы самого разложили на «козле». Каждой
боялся, каждый, даже начальник лагеря. Он еще больше
других, боялся даже попросить, чтобы его перевели на
другую службу. Вот как было. Нельзя к этому
подходить с сегодняшней меркой. Чтобы понять, нужна мерка
вчерашняя.
115
Я подумал: «С какой «меркой» делал Карл сначала
надписи на вагонетках, а потом это самое, с веревкой?»
— Ничем не могу вам помочь, — сказал я.
— Мне и не нужна ваша помощь. — Он
высокомерно посмотрел на меня. — Смешно даже подумать,
чтобы я стал просить вас о помощи, именно вас.
— Тогда я пошел, — сказал я, поднимаясь,
— А хорош был вчера ливень, правда?
— Да, — кивнул я, — хорош.
По радио передавали «Час немецкого шлягера».
Владелец транзистора прибавил звук.
— Пойду к фрау Боровской, — сказал я.
Поленц уставился в окно, хотя там ничего нельзя
было разглядеть. Дождь лил ручьями. Вот так июнь!
Я медленно направился к двери. Загипсованная Нога
играл ва-банк. Проходя, я увидел, что у него тройка и
три туза. «Бомба». Конечно, он выиграет, он наверняка
видел карты соседей.
Ингеборг не спрашивала о больнице, и я не стал
ничего рассказывать. Она даже не поинтересовалась, о чем
я беседовал с пастором, которого встретил случайно на
улице. Пастор приветливо поздоровался и спросил,как
поживает мой костюм. Его талар при стирке расползся
на куски.
Я рассказал пастору о том, что узнал в больнице.
-—Десятник, однако, — добавил я, — не хочет идти в
полицию с повинной.
— Господин Форман, — задумчиво произнес пастор,—
а зачем он туда пойдет? Вы думаете, ему хочется сесть
в тюрьму? Вы бы на его месте пошли в полицию?
Сначала надо найти тех, кто отправил Карла Боровского в
лагерь. Я имею в виду прокурора и судью.
— Ни прокурора, ни судьи он в глаза не видел,—
сказал я.
— Ах, вот как, значит... Что творилось, что творилось,
даже не верится! Все равно, может быть, еще найдут
доносчика.
— Теперь? Через двадцать лет?
— Возможно, — сказал он и пошел дальше,
погруженный в свои мысли. Через несколько шагов он
обернулся и помахал мне рукой.
116
Ингеборг, напевая, освобождала в кухне возле
раковины место для стиральной машины. Она тут же
впрягла меня в работу, заставив передвигать мебель.
— Как хорошо, что машину, наконец, привезут! —
Ингеборг сияла.
— Конечно, — ответил я, радуясь за жену, — тебе
будет легче.
— Признаешь теперь, что мне надо было пойти на
фабрику?
— Признаю, — ответил я.
Но это было правдой лишь наполовину.
— Вечно тебя надо принуждать ради твоей же
пользы. Теперь белье будет стираться само. И у меня
освободится время для других дел. Да и ты
освободишься.
— Жаль. Я так привык к домашней работе.
!— А помнишь, как ты упрямился?
— Все можно сделать, стоит только захотеть.
Она принялась кружить меня по кухне. Я вспомнил
о книге, которая уже три недели лежит в шкафу и
которую все некогда почитать.
— Ах, да, — сказала Ингеборг, запыхавшись, — чуть
не забыла. Заходила Рози, нужно подать какое-то
заявление, а она в этом не разбирается.
— Зайдет еще.
— Да сходи уж, она просила.
— Не хочется, пусть сама приходит.
Ингеборг удивленно посмотрела на меня, напевая ту
самую мелодию, которую я слышал сегодня, выходя из
больничной палаты.
— Чтобы не смел подходить к стиральной машине!—
Она шутливо погрозила мне. — Все буду делать сама.
— Слушаюсь! — Я привлек ее к себе.
— То-то! А когда расплатимся, я куплю гладильный
пресс. И прощай «дни стирки» и «дни глажки»! Боже,
наконец-то будем жить по-человечески!
Она села у окна и, сложив руки на коленях, стала
смотреть на улицу. Убежден, в эту минуту она была
счастлива.
Ингеборг сказала «я куплю». Раньше, когда она не
зарабатывала, говорила «мы купим». Почему-то мне
вдруг вспомнилась песня, которую мы пели в гитлер-
югенде: «С нами шагает новое время!» Да, настали новые
117
времена. Правда, выглядело это несколько иначе, чем в
песне, но все равно, времена эти, наконец, настали.
Ночью я почти не спал. Надвинувшийся с востока
дождь барабанил в окна. Он не прекратился и утром,
когда я уезжал на работу. Вот так июнь!
В обеденный перерыв мне пришли в голову странные
мысли. Вообще в последнее время я стал размышлять.
Прежде я жил сегодняшним днем, хорошо ли, плохо ли
делал свое дело, ходил, когда приглашали, на выборы.
Выбирал в бундестаг, в ландтаг, в муниципальные
органы, в производственный совет, в правление кассы.
Правда, мне редко приходилось видеть на трибуне
кандидатов, которым я отдавал голос. От этого тупеешь.
Часто опускались руки: большинство почему-то голосует
не за ту партию, за которую голосовал ты.
Странные все-таки существа люди. Еще много лет
назад один человек, не коммунист, будучи в здравом уме
и твердой памяти, писал на вагонетках мелом, что
Гитлер— грязная свинья. А сейчас в начальных школах и
гимназиях некоторые учителя, тоже в здравом уме и
твердой памяти, утверждают, что историческую картину
исказили, ибо, во-первых, Адольф любил свою овчарку
так, как можно любить только человека; во-вторых,
баловал Еву Браун; в-третьих, не пил, не курил, был
вегетарианцем и жил по-спартански. Поистине выдающаяся
личность!
Нет, что мы все-таки за люди...
Другой человек добровольно пошел в экзекуторы,
будучи убежден, что не возьми он плетку, на его место у
«козла» встал бы кто-нибудь еще. Эти «кто-нибудь еще»
всегда находятся...
Или вот женщина, родившая ребенка от француза,
в то время когда ее муж лежал на «козле» и экзекутор
считал до двадцати пяти. Этой женщине я пришел на
помощь, когда на нее напали трое мужчин, сами
побывавшие в неволе. Случай или судьба, что тогда ночью в
лесу я нашел на промерзшей земле камень. Один из
троих больше не встал, а я теперь возмущаюсь десятником,
который не хочет явиться с повинной в полицию. Может
быть, Поленц тоже действовал в порядке самообороны?..
Есть еще девушка, любопытная, немного взбалмош-
118
ная и завороженная словечком «оргия», девушка,
которая пристает ко мне с вопросом, почему я вскидывал
руку... И женщина, которая живет у экзекутора. Ее мужа
на двадцать лет посадили в тюрьму в Бауцене, три года
он уже отсидел. От нее я ждал платы за уголь...
Наконец, есть моя собственная жена, которая
меняется с каждым днем и пытается вдолбить мне, что
«жить» — значит быть «не хуже других»... Да, как же
это мы пели? «С нами шагает новое время...» Ну, вот и
дождались его, только не знаем, останется оно или опять
сгинет...
Старшой хлопнул меня по плечу. Бутылка из-под
газировки упала и разбилась, я очнулся от раздумий.
— Юрген! — вскричал он. — Ты посмотри на кран!
Хорош?
— Хорош,— согласился я.— Раз — и пять тонн на-
гора. Отличная штука!
— А вы все ругаете инженеров, — вставил студент-
практикант. — Смотрите, какую машину они построили.
Специально для вас, чтоб вам было легче.
— Чудеса, а не кран! — продолжал восторгаться
старшой, влюбленно озирая высокую башню.
Вдруг меня осенило: надо искать другую работу!
Какой-то голос твердил: здесь мне нечего оставаться.
Лучше пойти на стройку или на завод в Мендене. Только
прочь отсюда! Завыла сирена. Я вскочил и помчался в
заводоуправление.
— Эй, Форман! — закричал вдогонку старшой, —
Куда ты? Перерыв кончился.
— Увольняться! — крикнул я.
— Ты что, сготц?
— Да!
Но в конторе я вспомнил о стиральной машине,
первом взносе и прочих рассрочках.
— Извините, — сказал я девушке, спросившей, что
мне угодно. — Ошибся дверью.
— Бывает, — засмеялась она. —Туалет в следующем
коридоре.
На обратном пути я встретил старшого. Он шел мне
навстречу.
— Ты что, действительно?.,
m
— Да нет, пошутил.
— А я уж подумал... У тебя был такой вид, что...,Не
дури. Не хотелось бы терять такого надежного рабочего.
Недоволен заработком?
— А кто им доволен?
— В пятницу поговорю с директором. Чтоб
прибавил тебе двадцать пфеннигов в час. Ты этого
заслуживаешь.
Двадцать пфеннигов? Я прикинул: в день на марку
шестьдесят* больше, значит, в обед смогу брать бутылку
пива, ходить в столовую и заказывать что-нибудь сверх
обычной жратвы. Но, честно говоря, здешняя работа и
обстановка мне не нравились. Здесь все не так. В
шахте, конечно, были и пыль, и опасность, и пот, и ругань.
Но там товарищество ценилось превыше всего. После
смены под горячим душем мы сбрасывали с себя
шахтерскую шкуру и шли домой как бы заново рожденными.
А здесь моешь после работы только лицо и руки и
выходишь из заводских ворот таким же, каким вошел в них
утром. Понимаю, это глупо, но бывают дни, когда меня
тянет назад, под землю, хоть я и знаю, что там мы были
всего-навсего табельными номерами и пешками...
Вероника и десятник лежали в одной больнице, в
одном ее крыле, хотя были людьми разных миров. После
дождливого июля, сменившего ливневый июнь, наступил
август. Вероника лежала этажом выше десятника, но
окна у обоих выходили на юг. Два этажа. Два мира. И
тут свой порядок. Я больше не навещал ни ее, ни его.
Десятник меня не звал, а идти самому не было ни
малейшего желания. Веронике я как-то принес свежие
голландские помидоры и пачку дешевых романов. Я
терпеть не мог эти книжонки, а она читала их с
удовольствием.
Зато к Фрицу Ленерцу я ходил каждую пятницу
после работы, прихватывал с собой бутылку пива и две
пачки сигарет. Хоть он и говорил всякий раз, что ему не
нужно, я видел, он в душе был доволен. Его не слишком
баловали: жена Фрица была известной скупердяйкой.
Пока я час-другой сидел у его кровати, он строил
планы на будущее. Что ни пятница — новый план, один
другого поразительнее. Фриц был уверен, что найдет
120
работу: устраиваются же другие люди без ног, на
костылях или протезах.
— Конечно, — отвечал я ему, — каждый человек
пригодится.
В последнее время он мечтал о должности швейцара
или ночного сторожа при какой-нибудь конторе, где
нечего красть.
— Только бы подобрали мне хороший протез,—
повторял он. — Куплю себе мопед, теперь есть такие
приспособления, что можно ездить с негнущейся ногой.
Даже разрешено полицией...
Что я мог ему на это ответить? Только поддакивал:
— Конечно, Фриц, конечно.
А что еще можно было сказать? Не объяснять же
ему, что любое предприятие возьмет скорее итальянца,
испанца, грека или турка, чем калеку-немца. Ведь
калеке все равно пришлось бы платить полную ставку.
Фриц — хороший парень, зачем его расстраивать?
Газеты, которые я приносил, Фриц в поисках
подходящих объявлений прочитывал от корки до корки.
— Рано или поздно что-нибудь найду, — говорил он.
— Конечно, — отвечал я, — сможешь работать и без
ноги. Наверняка.
Однажды на улице я встретил Рози, она
возвращалась из Дортмунда. Ее сопровождал какой-то молодой
человек, и они о чем-то спорили. Минут пять я
незаметно следовал за ними, потом нагнал и окликнул Рози. Оба
испуганно оглянулись. Молодой человек быстро
распрощался и свернул в первый же переулок.
— Со школой покончено, дядя Юрген, — сообщила
Рози. — Я так рада! Послушаешь моих сверстников,
сколько они уже зарабатывают, сама себе кажешься
человеком второго сорта. На следующей неделе экзамены,
сдам и — конец.
— Куда же думаешь устраиваться?
— Уже договорилась в одном месте — в страховой
конторе в Дортмунде.
— Сколько?
— Для начала двести восемьдесят.
— Не густо, но ничего.
— Мне хватит. По крайней мере на наряды. Все-таки
маме будет легче. Если еще год или два покормит мена,
121
тряпками я себя обеспечу. А потом, — добавила она
многозначительно, — в будущем году хочу поехать в
отпуск, вот тогда мне понадобится куча денег.
— На юг Франции? — спросил я.
— Как ты хорошо меня знаешь! Именно!
— К чему это, Рози? Зачем ты гонишься за
прошлым? Оставь его в покое. Ничего тебе это не даст. А я-то
думал, что ты умеешь рассуждать трезво.
— Именно поэтому я и хочу познакомиться с
прошлым. Ну скажи: можем ли мы жить без прошлого?
— Лучше 6bï его никогда не было, — вздохнул я·
— Ты имеешь в виду историю в лесу?
— И ее тоже.
Мы на мгновение посмотрели друг другу в глаза. Она
поняла, что я имел в виду прошлое вообще.
— Мама знает его адрес, — произнесла Рози, когда
мы подошли к окраине поселка. — Ангулем не так уж
велик. Далековато, правда. Адресный стол там, наверное,
есть, а по-французски объяснюсь. Учила все-таки.
За последний месяц девушка явно повзрослела: ни
свитера в обтяжку, ни краски на ресницах.
— Будем надеяться, — тихо сказал я, — что Фран-*
ция тебя не разочарует.
Рози промолчала. А может, не расслышала? Как раз
проезжал грузовик.
— Перестань, дядя Юрген, — сказала она. — Я
отлично понимаю, что он уже не тот молодой красавец,
которого знала мама, и что у него, наверно, куча детей и
неряха жена и натощак он пьет аперитив. Я же не
связываю с ним никаких надежд.
— Ты меня неправильно поняла Рози. Я хотел
сказать— пусть он продолжает для тебя жить таким,
каким его создало твое воображение. Оставь все как есть,
зачем разрушать то, что ты придумала?
Она молча взяла меня под руку, и мы зашагали по
поселку.
Вот и выборы в ландтаг. Из-за них мы с Ингеборг
крепко повздорили. Собираясь воскресным утром на
избирательный участок, мы, как всегда в таких случаях,
часа два искали пригласительные открытки. Жена
обвиняла в неаккуратности меня, а я — ее.
Наконец, открытки нашлись в банке из-под кофе.
№
— Итак, поддержим старика Конрада1, — сказала
Ингеборг, открывая дверь.
— При чем тут Конрад? Не понимаю. Какое
отношение он имеет к выборам в ландтаг? Сегодня голосуют
не за него.
— Но за его партию,— возразила жена.
— Кто тебе внушил эту чепуху?
— Ах, вот что! Если мой выбор не совпадает с
твоим, значит, это чепуха?
— Ты просто ограниченная женщина! — вырвалось
у меня.
— А ты идиот!
Я вздрогнул. Она еще никогда меня так не обзывала.
Нет, это не Ингеборг, это все фабрика. Чем дольше она
там работает, тем вульгарнее становятся ее выражения*
Постепенно выяснилось, какая у них там обстановочка:
в понедельник девушки и женщины рассказывают о
своих воскресных похождениях, и наибольшим авторитетом
пользуется та, которой есть о чем порассказать. Вот так
же было и у нас, когда мы защищали фатерланд:
хвастовство и действительность, переплетаясь,
укладывались в понятие героизма. Сомнительный героизм!
Иногда мне кажется, что многие женщины идут
работать, только чтобы вырваться из четырех стен. Иначе
и не объяснишь, почему это делают те, у которых мужья
получают по восемьсот—девятьсот марок в месяц.
Ингеборг приносит домой анекдоты, похабнее которых я не
слыхал даже в шахте. Она рассказывает мне их по
ночам в постели, и мне делается стыдно за нее, хотя я
молча все выслушиваю. И смеяться не хочетея. А Ин-
геборг хохочет. Но после таких анекдотов я чувствую,
что не могу лежать с ней в одной постели, да еще
обнявшись.
— Ты будешь голосовать так, ка« я! — заявил я
решительно.
Ингеборг ^рассмеялась.
— Подумаешь, «акая важная персона! Прошли
времена, -когда ты мог приказывать. Уплыли раз и
навсегда.
— Неужели ты не в состоянии рассуждать
разумно? — тихо спросил я.
.Имеется в виду Конрад Аденауэр. (Прим. перев.),
123
— Именно я и рассуждаю разумно. С тех пор, как
пошла работать. Только теперь у меня открылись глаза.
Господи, что за жалкую жизнь я вела раньше!
Бывали минуты, когда я начинал ее ненавидеть,
готов был ее избить. Тогда я спрашивал себя: люблю ли
я еще жену? Нет, прежней любви уже не было и в
помине. Раньше каждый день казался праздником. А
теперь — одни будни.
— Ты не будешь голосовать за этих католиков из
ХДС! — прикрикнул я.
— Перестань, наконец! — раздраженно ответила
она. — У тебя нет собственного мнения, ты говоришь с
чужих слов. Вбили себе в голову: оппозиция! — и дерете
глотку... Я хочу, чтобы нам и дальше жилось хорошо,
понимаешь? Чтобы я могла покупать, что мне
вздумается, чтобы мне никто не указывал, что я могу и должна
покупать. Хочу, чтобы все оставалось так, как сейчас.
До тебя это еще не дошло?
— Кто тебе только рассказывает эти сказки?
— Эти сказки рассказывают на фабрике умные люди,
у которых побольше мозгов, чем у нас с тобой, и которые
смотрят дальше завтрашнего дня. Там все так говорят.
На том разговор наш и окончился.
Вечером в пивной я поделился с соседом у стойки
своими неприятностями. Он, не раздумывая, посоветовал:
— Всыпь ей как следует. Бабы иначе не понимают.
Если сейчас стерпишь, через год вообще не пикнешь.
В эти дни я много работал у себя в садике... Во мне
вдруг пробудилась любовь к этому клочку земли. После
сильных дождей сорняки росли быстро и буйно, но прот
полка доставляла мне удовольствие. Я мог подолгу сто-»
ять и любоваться шпорником, пурпурными мальвами,
пестрым львиным зевом и роскошным ковром
«хрустальной травки». Пьянея от аромата и красок, я погружался
в размышления. О своей семейной жизни, работе, о том,
что было и что будет, о заработке, о прошлом десятника,
о Веронике и ее французе. Потом мысли перескакивали
к Рози, и я с облегчением думал о том, что жизнь у нее
более или менее налаживается. Но всякий раз я
возвращался к отправной точке: моей собственной семейной
жизни.
124
Да, теперь мы с женой работали оба, и домашние
дела стали для нас обузой, потому что мы брались за них
уже усталыми. Не оставалось времени даже на то,
чтобы на часок прилечь и подремать. Мы делали все
автоматически, словно следуя некоему распорядку, и хоти
как-то справлялись, счастливы не были.
Вот уже полгода, как мы оба работаем, но разве мы
стали богаче? У нас появилось больше вещей, мы лучше
питаемся и выпиваем ежедневно две-три бутылки пива.
Да, можем себе это позволить. В доме теперь больше
комфорта, но и больше долгов по рассрочкам. Подводить
баланс избегаем: страшно. Делаем вид, что все в
порядке. Надеемся, что как-нибудь обойдется, даже если в
один прекрасный день нагрянет судебный исполнитель,—
а он непременно нагрянет! Что ж, теперь это не позор-
Среди моих новых товарищей есть такие, которые даже
похваляются, что судебный исполнитель бегает к ним с
утра до вечера. Правда, долги от этого не уменьшаются.
Мы больше не едим маргарина, на стол подается только
сливочное масло, мясо почти каждый день. Я здорово
поправился, даже животик появился. Ингеборг
потешается надо мной. Конечно, если не считать долгов, мы
живем хорошо. Но зато лишились свободного времени. Нам
уже не хватает его друг для друга, для товарища, для
соседа. Некогда жить. Барабанный ритм с утра до ночи
подгоняет нас.
Нет, я солгал бы, сказав, что счастлив или доволен
тем, как все сложилось за последние полгода. Если меня
спросят, чего же я хочу, я не смогу ответить. Ясного
представления о будущем нет. Я не хочу расстаться с
тем, что нами заведено, однако знаю, что это скажется
роковым образом на нашем будущем. Вернуться к
прежней жизни? Когда считал каждую марку, прикидывал,
выпить ли еще пива, выкурить еще сигарету или нет?
Этого я тоже не хочу. Значит, пусть все остается как
сейчас? Не знаю.
Может, стоит разок стукнуть кулаком по столу или
влепить Ингеборг затрещину, чтобы образумилась? Но
что это даст? Удерет к матери в Дортмунд и распишет
меня таким извергом, хуже не бывает. Работу она
найдет и в Дортмунде. А мне что же — начинать все
сначала, после восьми-то лет семейной жизни? С ума сойти!
Лучше уж тянуть лямку дальше. Рано или поздно всему
125
приходит конец. Недавно, во время очередного
воскресного наезда тещи, я слышал, как она втолковывала
Ингеборг:
— Ты не обязана давать деньги на хозяйство, для
этого есть муж. Твой заработок принадлежит тебе
одной, и то, что ты приобретаешь на свои деньги,
принадлежит только тебе, его это не касается.
А я еще считал тещу разумной женщиной. Уж не
перепадает ли ей из заработка моей жены? Кто знает!
На территории нашей бывшей шахты строят какой-
то крупный завод. В последнюю субботу июля я поехал
посмотреть, что там делается. Говорили, в тот день
должны взорвать обе стометровые трубы, и для этого
прибыла специальная полицейская часть из
Дюссельдорфа.
Когда я приехал, труб уже не было. Два огромных
«пальца», словно поднятых в присяге, больше не
вздымались к небу. Я опоздал. Не было уже и нашей
раздевалки с душевой. Стальной каркас шахтного
подъемника еще стоял, но четыре больших колеса уже
демонтировали. На месте бывшего склада, где хранился
крепежный лес, выросли здания цехов. Строительные ра^
боты не прекращались и в субботу. Да, должно быть,
здесь неплохо зарабатывают. Господи, как тут все
изменилось!
Неожиданно я увидел ее. Держа за руки двух мило
одетых девочек, она смотрела, как работает экскаватор.
Я незаметно подошел сзади.
— До чего же здесь все переменилось, просто не
верится,—сказал я.
— Еще не так переменится, — ответила она, не обо>
рачиваясь. Значит, давно приметила меня.
К стройплощадкам я испытываю необъяснимое вле-
че-ние. Могу часами стоять и смотреть, как меняется
картина прямо на глазах.
Девочки робко оглянулись на меня и, встретив мой
взгляд, тут же уткйулись лицом в юбку матери.
Мне очень хотелось поговорить с этой женщиной,
которую звали Ирена и которая заплатила за уголь
деньгами. Особенно хотелось вновь услышать ее низкий
грудной голос.
— Он уже вернулся домой? — спросил я, зная, что
Поленц еще в больнице.
— Нет, пока лежит.
— И долго ему еще лежать?
— Спросите у него сами. Он стал разговорчивым
после тех похорон.
Я хотел дать девочкам по монетке на мороженое, но
женщина сказала, что они уже ели мороженое.
— Он сказал мне, —начал я, —что вы знали.., ну...
вы меня понимаете...
— Ну и что? Что вы, собственно, хотите? —
Обернувшись, она в упор посмотрела на меня. Девочки не
сводили с нее глаз. — Пойдемте, дети, пора домой, —
сказала она.
Я последовал за ними, хотя видел, что ей этого не
хочется...
Она не сбавляла шага до самой площади, что была у
ворот бывшей шахты, где когда-то мы перевернули
полицейскую машину. Стройные ноги. Опрятно и просто
одета. Девочки то и дело порывались отбежать, но она
ловила их за руки и строго выговаривала.
По площади мы пошли рядом. В здании бывшей
проходной теперь разместилась контора строительной
фирмы. Движение по шоссе на Унна текло
беспрепятственно. Господи, как быстро меняется жизнь! Даже трудно
себе представить, что я пятнадцать лет подряд входил
и выходил через эти ворота...
В газетах писали, что шахту затопят. Вместе с
механизмами и прочим оборудованием. Миллионные
ценности останутся под землей, ntîo расходы по
демонтированию и подъему их на поверхность превысили бы
выручку от продажи материалов. Локомотивы,
электрооборудование, рельсы, вагонетки и многое другое так и
останутся там.
Господи, если бы «ам разрешили поднять все это
самим, какие были бы деньги! Шахтовладельцы, конечно,
сразу в сторону: зачем им все вытаскивать, да еще за
свой счет, когда правительство платит компенсацию.
Оно даже оплатило закладку нового шахтного ствола.
Денежки налогоплательщиков приказали долго жить.
Сначала правительство заплатило за сооружение
нового шахтного ствола, теперь оно платит за его
затопление. Ну и логика! Шахта умирает, наша шахта. :.iS
m
На углу мы остановились у витрины фотоателье.
В стекле отражались наши лица.
— Может, зайдете на чашку кофе? — предложила
она.
— Спасибо, с удовольствием.
В кухне было неприбрано, но ведь еще утро, и к
тому же суббота. Дети остались поиграть на улице перед
окнами.
Ирена поставила на плиту воду и намолола кофе.
— Он тоже избивал, — сказала она. Я понял, что она
говорила о своем муже. — Никто об этом не знал. После
сорок пятого он стал ответственным работником.
Понимаете? В Дессау. Жилось нам хорошо. Летом ездили
на Черноморское побережье, зимой — в Татры. Была
собственная машина. Понимаете?
— Понимаю,— сказал я, отпивая кофе.
— Ничего-то вы не понимаете. В Татрах его опознал
один. Когда мы вернулись домой, у дверей нас
встретила народная полиция.
— Да, завистники... — сказал я.
— Тут дело не в зависти.
— Но ведь ваш муж был большой шишкой!
— Какое это имеет значение? Там можно попасть за
решетку и с крупного поста, там с ними не нянчатся.
Не то что здесь, на Западе, где им даже пенсии дают.
— Если человека уличат в преступлении, никакой
пенсии он не получит, — сказал я раздраженно.
— Да ну? Вы что же, не читаете газет? И не
слушаете передач «Дойчландзендера»? *.
— Этого еще не хватало! Слушать лживую
пропаганду!
— Бросьте, никакая она не лживая. Так, иногда чуть
преувеличивают, и все,— возразила она, подливая мне
кофе.
— Вам тоже угрожала опасность?
— Мне? Нет. У меня были средства. Я тут же
подала на развод, как только узнала, за что его арестовали.
— Так чего же вы перебрались сюда?
— Не знаю...
Она подсела ко мне и, положив руки на стол,
устремила взгляд в окно.
1 Радиостанция ГДР. (Прим. перев.)щ
128
— Мне еще повезло. Я уехала незадолго до того, как
построили стену. Вначале здесь были кое-какие
трудности: фамилия мужа ведь упоминалась и в
западногерманских газетах, тут он тоже числится в списке
разыскиваемых...
Ирена отбросила со лба волосы и снова уставилась в
окно. Она вдруг сразу как-то постарела, от носа к
уголкам рта пролегли резкие морщины...
— А вообще, что вы знаете о тамошней жизни?
Ровным счетом ничего. Вы боитесь узнать правду. В
газетах она далеко не вся. Вы продаете значки, вопите:
«Откройте границу!» — а здесь, на Западе,
выбрасываете на свалку вагонами огурцы. Вы орете: «Это позорная
стена!» — а у себя перепахиваете поля салата. Вы
утверждаете, что «Восточная зона — концлагерь», и
хотите, чтобы все присоединились к вашему мнению. Вы
ораторствуете против стены, а потом едете на ярмарку
в Лейпциг и торгуете колючей проволокой. Стена
приводит вас в бешенство, вы произносите трогательные
речи и печатаете книги людей, защищающих эту стену.
Даже если к вам подступают с ножом к горлу, вы все
болтаете, болтаете и болтаете.
— Рабочий не лезет в политику и занимается своим
делом, — сказал я. — Для него главное — прокормить
себя и семью. Работать надо всюду — и там, и здесь.
Я был немного сердит на женщину: хотел узнать о
ее жизни, а она читает мне лекцию.
— Мне просто смешно вас слушать, — продолжала
она. — Когда я находилась в лагере для беженцев в
Массене, у меня было одно желание: побыстрее
выбраться оттуда! И я выбралась — скорее, чем ожидала.
Меня вытащил Поленц, потому что знал, что мой муж
сидит в Бауцене по делу, к которому и он причастен.
Как и где он услышал обо мне, не знаю, он никогда
об этом не рассказывал. Однажды утром он появился у
барака и спросил какого-то мальчика, где живет фрау
Полицик. Войдя в комнату, скомандовал: «Быстро
собирайте свои монатки и едем ко мне. Я вдовец, будете
вести у меня хозяйство». «Ничего себе манера
знакомиться»,— подумала я тогда. Ну, а за то, что он уже
через месяц начал меня бить, я его не виню. Это сидит
в нем, так его воспитали. Правда, муж мой отучился от
этой привычки. Он всегда носил перчатки, даже летом.
б Заказ 325 " 129
— Может, теперь его самого избивают в Бауцене,—
вставил я и тут же пожалел о сказанном, увидев, как
вздрогнула Ирена.
— Я вышла из лагеря, — продолжала вспоминать
она, — но мне скоро захотелось обратно. Не потому, что
Поленц был жесток со мной, нет, он бывал добрым и
заботился о детях. Дело в том, что я не могу здесь
прижиться. Многие тут рассуждают о тамошней жизни так,
будто живут не в Германии, а на каком-нибудь
тропическом острове. Видеть это больно. Вы знаете, в лавках
я все время встречаю людей, которые жалеют меня — не
из-за Поленца, а потому, что я приехала оттуда. Еще
кофе?
Я выпил залпом четвертую чашку и собрался
уходить: ее слова начинали действовать мне на нервы.
— Вы только посмотрите на этих женщин в
поселке,— продолжала Ирена.— Они часами стоят на улице
и болтают. Я чувствую на себе их взгляды, вижу, как
они шушукаются, когда я прохожу мимо, — не о том, что
я живу у Поленца, тут всякое можно предположить,— а
о том, что я прилично одета, что смеюсь. По их мнению,
это мне не дозволено, я всегда должна ходить в
траурном платье и со скорбью на лице.
— Но это же чепуха! В каком поселке люди не
заглядывают друг другу в кастрюли!
— Там на это нет времени...
— Так и сидели бы там, черт подери! — закричал я
и вскочил со стула. — Зачем приехали, если здесь вам
все не по нраву?
Я ушел, хлопнув дверью...
Управляющий уставился на меня сквозь толстые
стекла очков. В таких очках люди выглядят зловеще.
Голова его двигалась взад и вперед, как у черепахи во
время еды. Вот она спряталась меж двух стопок
скоросшивателей на письменном столе. Стопки были придавлены
образцами деталей и причудливыми отливками.
Когда я вошел, девушки машинистки окинули меня
быстрым взглядом. Нерешительно подойдя к столу, я
осмотрелся. Черт возьми, неужто на этом предприятии
нельзя поговорить с человеком наедине? Вечно вокруг
посторонние.
130
— Так вы хотите получить отпуск? — спросил меня
управляющий с таким удивлением, словно я просил у
него тысячу марок аванса.—А вас внесли в список
отпускников?
— Нет, конечно. Я здесь работаю всего три месяца.
— Вот как! — воскликнул он. — Тогда вам отпуск не
положен.
— Но у меня есть право на отпуск. Я перешел сюда
с шахты, а там я в этом году еще не брал отпуска.
Машинистки поглядывали на меня и хихикали. Я
начал злиться.
— Говорите, перешли с шахты? Хорошо. Но вы
должны были своевременно подать заявление об
отпуске.— Управляющий уткнулся в бумаги, давая понять,
что аудиенция окончена.
— На шахте я просил отпуск с пятнадцатого
августа.
— Дорогой мой, нас шахта не интересует. — Он
поднялся.
— Но меня интересует мой отпуск! — Я невольно
повысил голос.
Теперь уже все повернулись в мою сторону. Я готов
был провалиться сквозь землю, потому что стоял у всех
на виду, и это приводило меня в бешенство. Блеснув
толстыми стеклами очков, управляющий опустил
голову и полистал бумаги.
— Что вам еще угодно? — спросил он.
От ярости у меня тряслись руки. Просто свинство,
как здесь обращаются с людьми. А я-то думал, что на
этом предприятии почувствую себя, наконец, человеком.
Видно, ошибся. На шахте мы были контрольными
номерками, а тут номерками по списку в алфавитном
порядке. Вот и вся разница.
Ни слова не говоря я вышел. Вдогонку мне
раздался громкий смех. Перепрыгивая через три ступеньки,
я поднялся этажом выше и вбежал в приемную. За
бесшумной машинкой восседала черноволосая
секретарша с прической знаменитой кинозвезды.
— Будьте добры, доложите обо мне господину
директору!— выпалил я.
— По какому вопросу?
— Насчет отпуска.
-— Вас включили в список отпускников?
δ* 131
— Включили, но не здесь.
— Сожалею, но в таком случае господин директор
вас не примет.
— Что это значит? — с раздражением спросил я.
— Успокойтесь, пожалуйста. Отпуск
предоставляется только по списку. Кто не подал заявления, сам
виноват. Господин директор не делает исключений никому..·
,— Но я...
— У вас умер кто-нибудь из родных?
— Нет.
— Свадьба? Крестины?
— Нет.
— Тогда придется подождать.
— До каких пор?
— Пока не пройдет отпускной сезон, не раньше
середины октября. Насколько мне известно, список
составлен до конца октября.
— На что мне отпуск в ноябре?
Не отвечая, она принялась печатать дальше, словно
меня и не было.
— Что за безобразие, черт возьми! — заорал я и
ударил кулаком по круглому столику, предназначавшемуся
для посетителей. — Есть тут хоть какая-нибудь
справедливость? Или надо сперва нацепить галстук, чтобы с
тобой прилично обращались? Я требую лишь то, что
мне положено, и больше ничего, ровным счетом ничего.
— Не орите! — вскочила секретарша.
Обитая клеенкой дверь отворилась, и в приемную
вышел директор. Удивленно подняв брови, он смотрел то
на меня, то на девушку. Секретарша открыла было рот,
но он знаком остановил ее и обратился ко мне:
— В чем дело?
Заикаясь и дрожа от ярости, я все объяснил ему.
— Весьма сожалею, — сказал он, — тут я ничем не
могу помочь. Расписание отпусков всегда составляется
в феврале. Кто не записался своевременно, должен
ждать. Этим списком предприятие руководствуется в
летние месяцы. В конце концов не могут же все идти
в отпуск летом.
— Но на шахте я подал заявление об отпуске с
пятнадцатого августа, и мое право на него сохраняется и на
другом предприятии. Так объяснили нам, когда
закрывали шахту.
132
— Право —да, но не срок.
— Ну и порядочки! — воскликнул я.
Он взглянул на меня с холодной улыбкой и исчез в
своем кабинете.
Я медленно пошел вниз по лестнице, размышляя, что
бы еще предпринять. Внизу мне повстречался наш
старшой.
— Эй, ты что здесь делаешь в рабочее время? —
удивился он.
— Прогуливаюсь.
— А ну, мигом на место, сукин сын! — заорал он.
До чего ж хочется съездить ему по багровой морде.
Да как это он, сам рабочий, смеет орать на другого
рабочего!
— Поцелуй меня в зад! — огрызнулся я и прошел
мимо него в дверь с табличкой: «Производственный
совет». Там я в четвертый раз рассказал о своем деле.
— Да, не повезло тебе, — ответил дежурный член
совета. — Менять работу в середине года невыгодно, с
отпуском получается морока. Н-да, ничего не поделаешь,
придется тебе подождать. Как раз по вопросу отпусков
у нас заключено специальное соглашение с
администрацией. Пока оно в силе, мы обязаны его придерживаться.
— Ждать! Ждать! Будьте вы прокляты! — возразил
я. — Какое мне дело до ваших специальных
соглашений. Мне положен отпуск — дайте его! Поменьше
пьянствуйте с начальством, тогда не будет специальных
соглашений. В конце концов вы должны отстаивать наши
интересы. Вы для нас, а не наоборот.
— Но не для твоего дурацкого отпуска! — Член
совета вскочил на ноги. — А ну, марш отсюда! Зайдешь,
когда научишься себя вести. Здесь тебе не шахта!
На мгновение я даже лишился дара речи.
— Слушай ты, холуй, —тихо сказал я, —на шахте
мы такого просто удавили бы.
Через час старшой вернулся на склад и стал рядом
со мной, наблюдая за работой крана. Я был занят
смазкой. Он хлопнул меня по плечу, я поднял глаза. Он был
очень бледен.
— Послушай, —произнес он.— Должен тебе сказать,
что так со мной еще никто не разговаривал. Если еще
133
раз позволишь себе такое, я пожалуюсь, и ты вылетишь
с работы...
— Отойди, — спокойно сказал я, — мешаешь.
Пожилой рабочий, с которым я поделился в
обеденный перерыв своей незадачей, сказал, что тут ничего nt
поделаешь, я бьюсь головой о стену. Надо спросить в
профсоюзе, посоветовал он, может, там помогут.
— В профсоюзе? — переспросил я. — Спасибо,
дружище, это мысль.
После работы я отыскал комитет профсоюза. Там
уже собирались уходить, надевали шляпы, запирали
ящики письменных столов. Председатель все же принял
меня, правда неохотно, он то и дело поглядывал на
часы, пока я — уже в который раз — излагал свое дело.
Моя речь раз от разу становилась все длиннее.
Поначалу я укладывался в несколько секунд, теперь уже мне
понадобилось минут пять.
— Жена не больна? — спросил он.
— Жена? Нет. — Его вопрос удивил меня.
— Может, дети больны?
— У меня их нет.
— Как нет?
— Да так. — Я начал злиться.
— Может, у самого что-нибудь со здоровьем не в
порядке? — продолжал он выспрашивать.
— Совершенно здоров, — ответил я.
— Н-да, хотел бы тебе помочь, дорогой мой, но не
смогу. Мы не вправе вмешиваться во внутренние дела
предприятия, если только ты не подашь жалобу в суд,
который занимается разбором трудовых конфликтов.
Сам понимаешь, нельзя же требовать: вынь до положь
тебе отпуск. Ничего не получится. В конце концов
должен быть порядок, иначе до чего мы докатимся? Но
ты все-таки оставь свой членский билет. Посмотрю, что
можно сделать. Я знаю председателя вашего совета,
поговорю с ним. Но обещать ничего не обещаю.
Я протянул ему билет. Он хотел было положить его
в стол, но, всмотревшись, вдруг удивился:
— Да ведь ты состоишь не в нашем профсоюзе, а в
профсоюзе горняков!
— Ну и что? — Я тоже удивился. — Разве это
преступление? Три месяца назад я сменил работу. Нашу
шахту задраили, ты же знаешь.
134
— Знаю, только надо было тебе оформиться к нам.
— Так сделай это сейчас.
— Легко сказать. Ну, как я могу теперь хлопотать
за тебя?
— А что особенного? — спросил я. — По-моему,
любой профсоюз есть профсоюз.
— Ты серьезно или прикидываешься? Это же два
разных профсоюза.
— Ну и что? — Я в самом деле не понимал его.—
По-моему, один профсоюз или другой — какая разница.
— Тебе давно надо было переоформиться. Ты
продолжал платить взносы в профсоюз горняков, хотя
работал в металлообрабатывающей промышленности и
должен был платить взносы в профсоюз металлистов...
— Подумаешь! Ведь все идет в один котел. — Я
начал свирепеть. Что за чушь он городит?
— В том-то и дело, что не в один, — ответил он.
— Но почему же? И то профсоюз, и это профсоюз.
— Господи, ты что, в самом деле дурака валяешь?
Ладно, проваливай, у меня еще сегодня заседание.
Посмотрю, что можно сделать. Но ничего не обещаю.
Я навестил Фрица Ленерца.
— Хорошо заживает, Юрген, я доволен. Врач тоже...
Слушай, а у вас на заводе не требуется вахтер с
протезом?
— И не думай, в этом поганом заведении даже
отпуска не получишь.
Я рассказал — в седьмой раз — об истории с
отпуском.
— Фриц, а ты знал, что между профсоюзами есть
разница?
— Ну ясно, когда речь идет о деньгах.
— Но ведь это неправильно! — воскликнул я.
— Почем я знаю, что правильно, а· что нет.
— А я-то полагал, что мы все входим в Объединение
западногерманских профсоюзов.
— Мы? Нет. Мы относимся к отраслевым
профсоюзам,— рассмеялся он.
— Но это одно и то же.
— Нет, не одно и то же.
— Не понимаю. — Теперь я сердился уже на Фрица.
.135
— Я и сам не понимаю, но тебе, Юрген, не стоит
ломать над этим голову.
Но я хочу разобраться. Как же тогда с меня брали
взносы, раз шахты уже нет?
В, коридоре я спросил у дежурной медсестры, как
себя чувствует господин Поленц.
— Поленц? Его вчера выписали.
— Уже? — поразился я.
Сестра удивленно посмотрела на меня.
«А может, и Веронику выписали?» — подумал я.
— Что вам еще угодно? — спросила, улыбаясь,
сестра.
Черт, почему сегодня каждый спрашивает, что мне
еще угодно?
По пути домой я решил заглянуть в пивной бар,
который, как я слышал, открылся на главной улице.
Проплутав полчаса в поисках нового здания, я наконец
обнаружил этот бар в подвале старого дома. Народу
было полно. Музыкальный автомат не умолкал. Я пропил
последние пять марок.
Домой вернулся «под градусом». Ингеборг забегала
из комнаты в комнату, хлопая дверьми.
— Пропивает деньги, когда нам нужен сейчас
каждый пфенниг! Ты что, с ума сошел?
— С ума? — бормотал я. — Ах, как это было бы
прекрасно.
— Да ты в самом деле спятил, совсем не думаешь о
доме.— Она резко поставила тарелку, суп выплеснулся
на чистую скатерть. Ну и, конечно, я оказался
виноватым в том, что придется ее стирать.
— Радуйся, — сказал я. — По крайней мере будет
работа для твоей стиральной машины.
— Не считая того, что надо еще сушить, крахмалить
и гладить! — Она зло сверкнула глазами. — Иди спать!..
От долгов по рассрочкам никуда не денешься. Я
обязан помнить о них и платить вовремя. Иногда эти долги
мне даже снятся. Я нанизываю их подряд, большие и
малые, на перлоновый шнурок в виде гирлянды и
связываю концы шнурка. Но как только хочу надеть этот
136
венок на шею, начинаю задыхаться и со стоном
просыпаюсь. Ингеборг лежит рядом и спокойно спит.
Проснувшись, я битый час сижу в постели и спрашиваю себя,
почему она может спокойно спать? И почему я не могу?
У меня появилось такое отвращение к работе, какого
я не знал еще никогда, даже на шахте. Надо отдохнуть,
устал вконец. При виде заводских ворот меня тошнит.
Когда я прохожу через них, мне слышится запах
прогорклого масла. Этого запаха я не выношу. На днях я
сказал Ингеборг, что чувствую себя неважно, хотя и не
болен. Она посоветовала взять бюллетень, но тут же
передумала: «Лучше не надо. Ты ведь теперь не в
шахтерском страховом обществе, больничная касса платит
меньше. Нет, сейчас нельзя брать бюллетень. Потерпи.
В будущем году мы рассчитаемся со всеми и отдохнем».
«В нашей семье где-то завелся червяк, — подумал
я.— В этом году мы не можем съездить даже в Зауэр-
ланд, который почти рядом. Прежде я работал один, но
мы ездили в Шварцвальд, в Альгей, в Куксхафен. А
теперь все это недостижимо»...
IIUiIÎiniIIIIIllIlIIÎIiniIiniIIIIlIIIIIIIIlIlIinHIiIilIIilHIIIIllIIIiniIIHIlIHÎIIIiniIlHlIIIIIinilIIlHIilIII]
К концу сентября Юргену Форману стало ясно, что
дальше его жизнь так продолжаться не может,
слишком она хаотична и бесцельна. По ночам ему снились не
только неоплаченные счета, он видел огромные
пространства без растительности, без людей, погруженные в
безмолвие. Пустыня и посреди нее — он.
Как и раньше, он ходил по утрам на работу, а
вечером возвращался домой; на заводе разговаривал с
товарищами, вечерами — с женой, знакомыми и
соседями — все, как прежде, и тем не менее все как-то вдруг
изменилось; Форману казалось, что изменился даже цвет
солнца. Порой он пытался растолковать это жене. Но
она не понимала его, только пожимала плечами и в
лучшем случае советовала: «Работай и не морочь себе
голову».
Значит, по ее мнению, он «морочит себе голову».
Ладно. Иногда он пытался объяснить ей, что дело вовсе
не в вещах, которые они уже купили, еще не купили
или хотят купить... Не в вещах в обычном смысле
слова. Но после работы на фабрике ей было не до таких
тонкостей.
Форман однажды рассказал об этом старшому. Тот
послушал, покивал головой и спросил:
— Может, тебя заела тоска? — Они сидели у будки
за литейным цехом и пили газировку — в виде
исключения.— Брось ты эти дурацкие мысли, они ни к чему не
приведут. У каждого бывает такой заскок, потом
проходит, мне это знакомо. Да и женат ты вроде не так
давно, а?
— Да, не так давно.
Пытался Форман говорить об этом с Вероникой. Но и
она, которой он годами поверял все о себе, не поняла
138
его. Вероника объясняла его неудовлетворенность все
возрастающей отчужденностью Ингеборг.
— Вам нужны дети, Юрген, — решила она, — тогда
все наладится.
Форман смиренно вздохнул:
— Прежде легко было завести ребенка. А теперь?
У нее в голове только одно: купить или не купить, вот
у соседей есть, а у нас нет. Ну, как я могу спать с такой
женой, которая больше ни о чем не думает?
— Тебе надо с ней не только спать, — прикрикнула
Вероника, — но и детей вырастить. Может, ей
лучше бросить работу? Сейчас это, конечно, трудно сделать
она уже вошла во вкус: что ни говори, независимая
женщина. Ладно, оставь ее в покое, пусть
перебесится.
— Поговори как-нибудь с ней, пожалуйста.
— Нет, Юрген, я не могу это сделать за тебя, ты
мужчина. Я только все испорчу. Ведь она ревнует тебя
ко мне, хотя я ей почти в матери гожусь.
— До чего же все это тяжело, — вздохнул Форман.—
Особенно разговоры.
Ушел он подавленный...
Вечера становились длиннее. Отпуск Форману все же
дали. На он отказался, пошел к заведующему кадрами
и подал заявление об уходе с пятнадцатого октября.
— Что за причина? — удивленно спросил тот.— Не
нравится у нас? Недовольны заработком?
— Увольняюсь — и точка, — ответил Форман.—
Запишите: с пятнадцатого.
Он по очереди оглядел девушек — сотрудниц отдела,
но увидел вместо лиц маски.
— Чудак, — проговорил заведующий, когда Юрген
вышел.
Девушки хихикнули.
— Да ты спятил, — буркнул старшой, узнав, что
Юрген уволился. — За три месяца до рождества?
Думаешь, на новом месте тебе дадут рождественское
пособие? Держи карман шире. — Посопев, он спросил: —
Куда же устраиваешься?
— Пока не знаю, — ответил Юрген.
— Что-о? Увольняешься, не подыскав работы?
Ш
Ты что, сдурел, браток? Отказываться в наше время
от верного дела! Да у тебя, наверно, винтики
разболтались.
— Иди ты! — огрызнулся Юрген. — В конце концов
мои винтики. Пусть лучше разболтаются, чем
проржавеют.
Десятник Виктор Поленц вернулся домой «под
мухой». Сильно пьян он не был, но пивом от него разило.
Тяжело плюхнувшись на стул, он начал брюзжать по
поводу обеда. Затем выругал детей, которые расшумелись
в кухне, и, наконец, затеял с Иреной спор из-за нитки,
прилипшей к краю тарелки. Ирена сначала молча
наблюдала за ним, потом стала огрызаться, парируя все его
вздорные обвинения. Поленц был поражен. Прежде она
терпеливо сносила все: и его колкости, и нападки, и
дурное настроение.
— Можешь возвращаться в лагерь, ты мне больше
не нужна, — тихо заметил он, прервав Ирену. — Буду
жить один.
С бельем в руках она обернулась и замерла, раскрыв
рот. Девочки вскочили с пола и спрятались за мать.
— Когда прикажешь убираться? — спросила она.
— Когда? — машинально повторил Поленц,
углубившись в газету. — По мне, хоть сейчас. А хочешь, так
завтра.
«Лучше завтра, — тут же подумал он. — Утром она
сварит мне еще разок кофе».
— Хорошо, — сказала она.
— Я же не изверг, чтобы выгонять тебя на ночь
глядя. Да и соседям будет меньше пищи для болтовни.
— Значит, завтра, — повторила она.
— Да!—закричал он. — Завтра!
— А почему так, ни с того ни с сего? — спросила она,
обняв плачущих девочек.
— Почему, почему... Неужто на все нужна причина?
Ты мне опротивела, любой человек когда-нибудь
надоедает. Вот так надоедает! — Он провел ребром ладони
по горлу.
— Почему это я тебе вдруг надоела? Разве я не
терпела все твои выходки? Ты меня ругал, бил, издевался,
ты...
s'
140
Он расхохотался. Девочки забились за кухонный
шкаф и хныкали:
— Мама, мама...
— Она терпела! — закричал Поленц. — Мой хлеб,
мои деньги, мою квартиру, мою постель и мою доброту —
вот что ты терпела, больше ничего...
— И твои кулаки!
— Заткнись, чертова потаскуха, а то поддам на
прощание! — заорал он, зверея.
Сосед постучал в стену.
— Катитесь вы!.. — Поленц трахнул кулаком по
стене. Скомкав газету, он стал топтать ее ногами.
Ирена стояла, оцепенев. Она порывалась что-то
сказать, но не могла выговорить ни слова. Потом кинулась
в спальню, сняла со шкафа два чемодана и прибежала
назад в кухню. Поставив чемоданы на пол у плиты, она
принялась кидать в них все подряд: платья, простыни,
детское белье, не успевшее высохнуть после стирки.
Девочки вышли из своего убежища и прижались к матери.
Заложив руки за спину, Поленц вышагивал по кухне.
Время от времени он искоса посматривал на чемоданы,
словно желая проверить, не прихвачено ли что-нибудь
из его добра. Потом остановился, подошел к окну,
прислушался к шуму на улице.
— Дождь, — глухо сказал он.
С улицы донесся детский плач. Поленц принялся
ругать родителей, бросивших ребенка без присмотра.
— Дождь пошел сильнее, — сказал он.
Внезапно обернувшись и посмотрев на чемоданы, он
сорвал с вешалки ремень и замахнулся на Ирену. Она
замерла. Но в ту секунду, когда ремень уже взвился над
нею, показала Поленцу язык. Ирена высовывала его все
больше, больше, пока не закашлялась.
Отступив на несколько шагов, Поленц выронил
ремень и разинул рот.
— Не надо! — закричал он. — Нет! Ради бога, не
надо!
Поленц рванул дверь. Ирена, стоя между чемоданами,
продолжала показывать язык. Поленц выскочил на улицу
и бросился бежать.
— Не-ет! Не надо! Не на-а-а-а-до! — ревел он что
есть мочи.
Вскоре его крик затих вдали.
141
В доме семнадцать по Хойграбен наступила тишина»
Вернувшись часов в десять вечера, с всклокоченными
волосами, без пиджака, Поленц нашел входную дверь
распахнутой. Комнаты были пусты.
Что-то бормоча себе под нос, он огляделся. Потом
бросился ничком на кушетку и заплакал.
Новое место и заработок Юрген Форман получил на
большом стройучастке между Унна и Дортмундом, где
расширяли Рурскую автостраду. Он полагал, что, кроме
работы и денег, найдет здесь и удовлетворение. Но,
как и прежде, дни тянулись серые и вялые. Правда,
порой однообразие нарушалось. Например, в дождь, когда
все сбегались в бараки и часок-другой болтали о чем
угодно или спорили о политике. Если погода не
улучшалась, всех развозили по домам на автобусах фирмы.
Юрген увидел новых людей, услышал новые голоса,
узнал об их взглядах на работу и деньги, хотя, по
существу, эти люди с их взглядами мало чем отличались от
других. И все-таки он чувствовал себя здесь лучше, чем
на заводе, новая его работа чем-то напоминала
шахтерскую. Однако душевного покоя Форман и тут не нашел-
Утром он нехотя садился в автобус и ехал на
стройучасток, вечером, не столько усталый, сколько подавленный,
возвращался в свои четыре стены...
Ворчание жены пробуждало его вечерами от грез. Ин-
геборг изо дня в день неустанно напоминала, за что
придется платить в ближайшем и отдаленном будущем.
Она уже три недели подряд обедала в фабричной
столовой. Он прихватывал на работу бутерброды и термос.
Каждый день Ингеборг ругала жратву в столовке, хотя
другие женщины были очень довольны; Юрген же
ругался потому, что не получал горячего обеда. Еще
Ингеборг злилась, что в квартире холодно: Юрген теперь
возвращался с работы позднее жены, и топить было некому.
Он кричал на нее, упрекая, что она сама стремилась к
такой жизни.
В редкие часы покоя Форман честно признавался
себе, что прорехи в семейном бюджете, возникшие из-за
его беспечности и неуравновешенности, прикрываются
заработком жены. «Ну и что такого, — рассуждал он,—
прежде все лежало на мне, считали каждый пфенниг,
142
который приносил домой я, а теперь в семье
зарабатывают двое, не все ли равно, кто заткнет дырки».
Ингеборг не упускала случая подчеркнуть свою роль.
Ее монологи, подкрепленные цифрами, Юрген выслушивал
за редкими совместными завтраками или ужинами.
Каждое утро она словно намазывала свою роль ему на хлеб,
доказывая, что семена достатка могут взойти только на
почве ее заработка. Она не заговаривала ни. о
рассрочках, ни о долгах, гирлянду которых так часто во сне
сплетал Юрген. Она говорила только о заработанных ею
деньгах да о новых приобретениях, рисуя розовые
картины будущего.
Форман работал на стройке не слишком старательно,
но и не спустя рукава. Как и все, он бросал в перерыв
инструмент и, как все, возвращался в барак за десять
минут до конца рабочего дня. Как все, он выпивал
ежедневно свою бутылку пива и вместе с другими ругал то,
что было ему не по душе.
На стройке он встретился с Бруно Голлером, своим
бывшим товарищем по шахте. Голлеру стукнуло уже
пятьдесят шесть. Ему было поручено следить за
исправностью мелких механизмов, топить и прибирать в
бараках, доставлять пиво, сигареты, хлеб и сосиски.
Остальное время он сидел в будке прораба и, посасывая
трубку, читал газету.
— Сейчас я живу прилично, — рассказывал он
Форману.— Так хорошо мне на шахте никогда не было.
А я еще не хотел с нее уходить, помнишь? Конечно,
когда проработаешь тридцать с лишним лет на одном
месте, побаиваешься перемен. Но все сошло благополучно.
Особенно если учесть мой возраст. Кто бы еще меня
взял — предприятиям нужна только молодежь. Да и
силикоз у меня. Просто чудо, что нашел здесь местечко.
— А какая у тебя пенсия? — поинтересовался Юрген.
— Пока, до шестидесяти пяти лет, триста пятьдесят
марок. Маловато. Не проживешь.
— Да, не густо. Но ведь тебе не обзаводиться
хозяйством. Можно все проедать.
— Как бы не так. Старуха целый год пилит меня:
захотелось ей стиральную машину. Настоялась, говорит,
над корытом, поясницу ломит.
— Понятно, — кивнул Юрген.
— Но машина стоит две тысячи марок, а я не Крез.
143
— Покупай в рассрочку.
— Нет уж, хватит! Один раз связался, потом ночей
не спал. Больше я на это не клюну.
...Форман обслуживал бетономешалку. Работала она
тихо, только мотор подвывал, как ветер в камине. Во
всяком случае, думать не мешала. Всем, кто интересовался,
Форман отвечал, что работенка ничего, только от
цемента щекочет в носу и в глотке. Платили здесь больше, чем
на заводе, а на заводе он получал в последнее время
больше, чем на шахте. У него создалось впечатление, что
чем легче работа, тем выше заработок.
Конечно, без пыли и грязи и тут не обходилось. А в
отличие от шахты на стройке не было комфортабельных
душевых. Но зато здешняя грязь не была такой жирной...
Можно было отмыться дома, хотя жена и ругалась: «С
шахты, по крайней мере, ты приходил домой чистый».
Вероника и Рози были рады, что он так быстро нашел
работу. Рози даже высказала предположение, что дядя
Юрген, пожалуй, теперь надолго обоснуется на стройке.
— И не мечтай, — ответил он. — Я ищу такую работу,
где с утра до вечера можно разгуливать в белом халате.
— В белом? У нас все ходят в цветных, — сказала
Рози. — Говорят, это повышает интерес к работе. А
потом, белый халат надо стирать куда чаще, чем цветной.
— Подумаешь, — отмахнулся Юрген.
— Подумай, подумай, — не отставала девушка,—
ведь жене придется каждую неделю его стирать,
крахмалить и гладить.
Юрген посмотрел на нее. Рози не улыбалась. Юрген
повернулся к телевизору.
— Но разве ты не согласна с тем, — сказал он,
помолчав,— что в белом халате приятнее ходить, чем в
застиранной спецовке?..
Неделю назад Виктор Поленц явился в лагерь Мас-
сен'и направился к дому, где когда-то жила Ирена.
Кого бы он ни спрашивал о ней, все в ответ только
пожимали плечами. Поленц бродил по лагерю, заглядывал в
окна. Ирены не было.
Во двор въехал зеленый «фольксваген» и,
развернувшись, остановился возле школы. Молодой парень помог
вылезти одноногому инвалиду. Опираясь на костыли, тот
144
неуверенно двинулся к зданию. Поленц вспомнил: после
демонстрации у шахты он бежал вместе с этим парнем
и Форманом через железнодорожное полотно к угольным
складам.
Он окликнул инвалида. Фриц Ленерц повернул
голову и тотчас узнал человека, который тогда первым
поднял панику и побежал. Сморщившись как от зубной
боли, Ленерц сказал своему спутнику:
— Недурственное начало. Первым, кого я здесь
вижу, оказался этот негодяй.
Поленц направился ему навстречу.
— Быстро тебя залатали! — воскликнул он. — Уже из
больницы? Черт подери, и уже нашел работу?
— Что тебе надо? Проваливай! — отрезал Ленерц.
— Я ищу тут одну женщину, но не могу найти.
— Зайди в контору и спроси...
Ленерц запрыгал на костылях к дверям школы.
— Возьмут ли еще меня? — сказал он своему
спутнику. Это был его племянник. — Сторож сторожем, да
одна нога все-таки не две.
— Все будет в порядке, дядя Фриц, они ведь тебе
написали такое любезное письмо.
Поленц собрался было следовать за ними, но тут на
площади показалась Ирена с девочками.
— Да вот же они! — воскликнул Поленц и радостно
поспешил навстречу троице.
Ирена узнала его, лишь когда он, тяжело дыша,
остановился рядом.
— Ирена! — осклабился он, протягивая руку.
От изумления она онемела. Девочки вскрикнули и
бросились прочь.
— На помощь! Спасите! — закричала Ирена, придя
в себя.
Распахнулись окна, из дверей высыпали любопытные,
подбежали игравшие во дворе дети. Услышав крики,
Ленерц обернулся и понял, в чем дело.
— Беги туда, — прохрипел он племяннику. —
Быстрее! Эта свинья что-то замышляет.
— Но, дядюшка...
— Беги, малыш! Этот гад весной сорвал нам
демонстрацию.
Ленерц заковылял вслед за племянником. Костылями
он пользовался еще неумело.
6 Заказ 325 145
— Бейте <его! —кричал Ленерц на ходу. — Бейте эту
сволочь!
Собралась толпа. Еще бы! Чрезвычайное
происшествие, нарушено привычно-спокойное течение жизни.
Вокруг Поленца и Ирены сомкнулось кольцо.
— Расступись!—орал Ленерц. — Дайте пройти!
Люди расступились, пропустив человека на костылях.
В кругу оказались четверо: Ирена, десятник и Ленерц с
племянником.
— Я хочу, чтобы она вернулась домой! — обратился
Поленц к собравшимся, указывая на Ирену.
— Он бил меня и выгнал ночью из дому!—в
отчаянии крикнула Ирена. — Он вышвырнул меня с детьми в
дождь на улицу!
— Это неправда! Она сама сбежала!
— Нет, правда! Он был капо в концлагере, этот
изверг!
Ленерц взмахнул костылем и ударил десятника, но
попал не по голове, а в плечо. Оба упали.
— Я хочу, чтобы она вернулась! — кричал десятник.
Несколько человек помогли Ленерцу встать, подали
ему костыли. Десятник, продолжавший барахтаться в
луже, решил в последний раз попытать счастья.
— Она вовсе не беженка!—завизжал он.—Ее
подослали из Восточной зоны, я точно знаю!
Толпа сомкнулась теснее, все молча смотрели на
Ирену.
— Ложь! — воскликнула Ирена.
— Этот негодяй предал вас во время демонстрации,—
поддержал Ирену Ленерц. — Он веех натравливал друг
на друга!
кольцо сжалось еще теснее. В-адрес Пояенца
послышались угрозы.
— Она восточная агентка!—орал десятник.— У нее
куча денег, я сам видел. Она отнимает у вас пособие,
разыгрывая из себя беженку.
— Не слушайте этого гада! — вмешался Ленерц.—
Он сорвал демонстрацию и подговаривал »ас'бить
полицейских.
Десятник поднялся. Дико озираясь, «он «друг шатнул
к Ирене, и не успели люди опомниться, как он ударил
ее по лицу. Ленерц опять взмахнул костылем, он попал
в бросившегося на помощь Ирене нлем-янввдш. ^
Мб
не разобравшись, кто прав, кто виноват, навалилась на
них. Женщину и Ленерца вытащили из круга, и все с
яростью обрушились на десятника. Поленц визжал и
отбивался, пытаясь вырваться.
Из близлежащей казармы подоспело несколько
солдат. Проложив себе путь в центр круга, они отбросили
разъяренных людей и вытащили Поленца.
— Что вы делаете! — кричал унтер-офицер. — Вы же
убьете его!
— Он был капо в концлагере! — крикнул кто-то.
— В гитлеровском концлагере!
— Это правда? — спросил унтер-офицер.
Поленц не мог выговорить ни слова. Он хрипло
дышал, сплевывая кровь. В груди у него свистело.
От здания школы подбежал пожилой мужчина.
— Я позвонил в полицию, сейчас приедут! —
сообщил он.
Затормозив на полной скорости, перед толпой
остановился полицейский автомобиль. Полицейские
опросили собравшихся и, составив протокол, забрали
Поленца.
О случае в лагере для беженцев Юрген Форман
узнал в понедельник на работе. Все вокруг говорили о
полицейской облаве в Гамбурге 1. Разгорелась дискуссия,
и в связи с гамбургскими событиями зашла речь оо
аресте в лагере Массен.
— Он был тоже десятником,—сказал Форман
своему десятнику.
— Не все же десятники были
нацистами,-—раздался голос.
— Тот, кого взяли в Массене, не нацист, ой был
капо в концлагере.
— Да, но у нацистов, — заметил Форман.
— А кого арестовали в Гамбурге?1—спросил Бруно
Голлер. — Тоже нацистов?
— Нет, — пояснил прораб, — просто неподходящих.
— Неподходящих? — удивился Гэллер, — 3ta что,
такая партия?
1 Имеется в виду налет полиции на редакцию журнала
«Шпигель». (Прим: перев).
147
— Нет, — сказал прораб, — если б такая была, ее
бы давно запретили.
По утрам стало заметно холоднее. Начали
поговаривать о прекращении работ до весны. Форман
предусмотрительно подмешивал в бетон антифриз.
Чувствительные к морозу строительные детали днем и ночью
обогревались коксовыми печками.
Фирма обязалась выполнить подряд в срок. Прораб
и инженеры изо дня в день внушали рабочим, что
фирма обанкротится, если сроки не будут выдержаны. Но
рабочих это не беспокоило, с ними ведь сроки не
согласовывали. Они работали более или менее в темпе и
между делом до хрипоты спорили о футболе.
Но в тот понедельник в перерывы говорили только о
событиях в Гамбурге. Все распалились настолько, что
побросали инструмент, наскакивали друг на друга, как
петухи. Юрген сказал, что знал одного человека, которого
в свое время арестовали прямо на работе:
— Теперь он умер. Повесился.
— А что он натворил? — поинтересовался прораб.
— Ничего особенного. Сказал вслух, что Гитлер —
грязная свинья.
— Ах, вот оно что, — сказал прораб. — Это
произошло тогда... Ну, тогда вытворяли всякое.
— А сейчас? — крикнул кто-то. — Чего только не
позволяют себе некоторые!
Этот возглас взбудоражил всех. Переругались даже
друзья. Послышались возгласы: «Нацисты!» в адрес тех,
кто одобрял аресты в Гамбурге, а те в свою очередь
кричали: «Коммунисты!» Прорабу с трудом удалось
заставить людей разойтись.
Получив в пятницу жалованье, Форман поехал с
несколькими товарищами в Унна. Они попросили шофера
автобуса не развозить их по домам, а доставить в пивную
у Нового рынка. Расположившись у стойки и потягивая
пиво, завели разговор о политике, заработках и
надвигающейся зиме. На картонных кружочках подсчитывали,
какое им дадут пособие по безработице за вынужденный
простой, хватит ли его на жизнь и останется ли на
субботние выпивки.
Бруно Голлер радовался зиме, как ребенок.
-*- Наконец-то можно будет отдохнуть, — говорил
он, — вытянуть ноги и погреть зад у печки,
148
Десятки лет ему не удавалось это сделать: на
шахте, что лето, что зима — все одно.
— Хорошо строителям — каждый год
дополнительный отпуск,— продолжал Бруно. — Зимы-то не
избежишь. Была бы только похолоднее да снегу побольше.
Тогда и дома посидишь, и внука на санках покатаешь.
Ну, что я теряю? Пенсия есть, да еще пособие по
безработице. Нам со старухой хватит.
— Да, если уж заново родиться, то сразу
пенсионером, — вздохнул Эмиль.
— Утром спишь, — продолжал Голлер, — не надо
думать о будильнике, выскакивать из постели, натыкаться
спросонья на шкаф. Господи, не жизнь, а малина. Не
спеша, с толком читаешь газету, спокойно пьешь кофе.
Прямо как генеральный директор. Братцы! Впереди
холодная зима! Вот счастливое время!
— А уголь? — спросил Форман.
— Да, это, конечно, вопрос особый. Всю жизнь я не
заботился об угле и дровах. Понадобится — скажешь
шоферу, и готово, с доставкой на дом. А теперь все
кончилось, будь оно проклято. Теперь раскошеливайся, сто
марок за тонну, прошу покорно! А прежде — шесть
марок за доставку, и точка. Жена стонет: кошелек на
глазах тощает.
— У каждой медали две стороны, — изрек Форман.
Голлер опрокинул шестую рюмку «вахольдера» и
проворчал, что покупают же другие уголь по
спекулятивным ценам и не мрут с голоду.
— Спекулятивные цены! Слыхал? А горы угля лежат
нераспроданными! — воскликнул Эмиль.
— Ну, до этого мы своим воробьиным умишком не
допрем, — сказал Форман. — Это не по нашей части.
— Отчего же? — возразил Эмиль.
— Оттого, что рабочие для такой коммерции
слишком честны да не слишком умны, — заметил кто-то.
В семь вечера стали расходиться. Многие спешили к
телевизору. Сегодня обещали веселую передачу.
Форман постоял еще немного и залпом осушил два
стакана пива. Но пить уже не хотелось. В пивной
должна быть компания, иначе не получишь никакого
удовольствия.
Через полчаса он поднялся. На улице было темно,
фонари не горели. Форман медленно побрел к центру,
149
разглядывая витрины и мысленно покупая вещи,
которые были ему совсем не нужны...
Сначала он намеревался сразу пойти домой, но
потом передумал и завернул к Веронике. Нажав кнопку
звонка, не отнимал руки, пока ему не открыли. На
пороге стояла Рози. Прежде чем Форман успел раскрыть
рот, девушка сказала:
— Только что от нас ушла твоя жена...
— Тебе померещилось, — выдохнул он и, отстранив
девушку, вошел в гостиную.
— Чего это вы сегодня разыскиваете друг друга? —
рассмеялась Вероника.
Форман опустился в кресло.
— Неужели Ингеборг была здесь? — спросил он.
— Она ушла несколько минут назад, — ответила
Вероника.— Искала тебя.
— Странно, — буркнул Форман...
— Мы удивились, когда она вдруг пришла, —
продолжала Вероника. — Ведь уже несколько месяцев не
заходила к нам. В чем мы перед ней провинились — не знаю.
Ворвалась в квартиру, спросила, где ты...
— А потом?
— Потом выпила чашку кофе, вернее, потребовала
ее, и сказала, что она так и думала: тебя здесь нет.
— А дальше?
— Дальше села смотреть телевизор и хохотала до
упаду.
— А потом?
— А потом, а потом... Господи, с ума сойдешь от
этих «потом». Потом ушла домой. Разве ты ее не
встретил по дороге?
— Нет, не встретил.
— Значит, она пошла по Гайергассе, —
предположила Вероника.
— Возможно, — Форман поднялся, собираясь
уходить.
— Погоди, дядя Юрген, — остановила его Роэи.—
Присядь, мне надо с тобой посоветоваться. Это очень
важно. Я хочу знать твое мнение. Только начистоту 1
— Что-нибудь стряслось?— Форман переводил
взгляд с матери на дочь.
— Одна моя подружка по работе снимает в
Дортмунде большую комнату всего за сто марок. В комнате
150
есть ниша с кухонным очагом. Ну, и зовет меня к себе.
Во-первых, ей это выгоднее — платить половину.
Во-вторых, она говорит, что устала от одиночества, хочет,
чтобы кто-нибудь был рядом, иначе скоро задохнется в
четырех стенах. А выходить по вечерам одной, говорит,
небезопасно.
— Ну и что?
— Мама против. Я сказала, что буду приезжать
домой в пятницу и оставаться до понедельника. Ведь
каждую неделю буду дома... Почти каждую. Но она и
слушать не хочет. Вот подсчитай сам. Плата за квартиру
пятьдесят марок, а столько же я трачу на проездные
билеты да кое-какую еду. Но зато экономия времени.
Сам знаешь, каково вставать чуть свет, а с работы
нестись на вокзал, ждать поезда, пока не отмерзнут ноги.
Ужас!.. Вечно ездить туда-сюда, держать в голове
расписание, бояться, что опоздаешь, а потом прятать глаза
от сослуживцев и выслушивать колкости: «Ах, фрейлейн
Рози соблаговолила пожаловать...» Не очень-то приятно
слушать такое. Поезда уже теперь ходят с опозданием,
а что будет в январе и феврале? Даже подумать
страшно. Лучшие часы проходят в поездах, на вокзалах, в
дикой спешке...
— Да, — согласился Форман. — Я за то, чтобы ты
перебралась в Дортмунд. Это ты хорошо придумала.
Каждый день делать два конца убийственно. Вот если
бы ты поселилась одна, я бы еще сомневался, А так —
нет. Сколько лет подруге?
.— Двадцать два.
— Юрген! — взмолилась Вероника. — И ты заодно с
ней? Хочешь, чтобы я осталась в пустом доме?
Конечно, вы очень рассудительны. Но поймите же, семья на
рассудке не строится! Я-то что буду делать? Карла
больше нет. Может, я стала лишней? Или нужна,
только, чтобы стирать белье?
— Могла бы сдать верхние комнаты, — посоветовал
Форман.
-ч- Да ты в своем уме? Только этого мне
недоставало;
г— А что, мам, это идея. Дом не опустеет, рядом с
тобой будут люди. Честное слово* это выход из
положений* А я могу ночевать у тебя в спальне, когда буду
приезжать.
151
— Нет, — возразила Вероника. — Из этого ничего не
выйдет. Кто знает, что за людей пустишь в дом.
— Жильцов ты сама выберешь,— сказал Форман.
— Конечно, мама. Кто тебе понравится, того и
пустишь. Сдай с пансионом. Днем жилец на работе, зато
по вечерам не придется сидеть одной. А в конце месяца
извольте денежки.
— У меня есть кое-кто на примете, — сказал
Форман.
— Кто? — в один голос произнесли мать и дочь.
Рози вскочила и хлопнула себя по лбу.
— Знаю, дядя Юрген, знаю! — вскричала она. — Та
женщина! Да? Ну, с которой ты ходил на полуночные
свидания!
— Да, — подтвердил Форман. — Она и две ее дочки.
— Нет! Ни за что! — воскликнула Вероника и
забегала по комнате из угла в угол. — И не уговаривайте.
Двое детей в доме и эта женщина? Нет уж. С детьми
одно беспокойство, я хочу тишины.
— А ты все-таки попробуй, — сказал Форман. — Не
упрямься. Не будет же Рози вечно держаться за твою
юбку. Садись, хватит бегать, — Юрген обнял ее и
ласково потрепал по плечу. — Ну, соглашайся!
— Нет, нет и нет! Не смеет она уехать, раз я не
хочу! В конце концов есть закон, дающий мне право, ведь
есть такой закон!
— Успокойся, Вероника. Неужели ты думаешь
удержать Рози с помощью закона?
— Мама, дядя Юрген прав.— Рози подошла к
матери и с нежностью в голосе добавила: — Я тогда не
поеду в Ангулем. Обещаю тебе.
— Правда, детка? Даешь слово? — Веронику словно
подменили.
— Даю, — ответила Рози. — Ну зачем мне это?
— Вот именно, девочка незачем, — рассмеялась
Вероника.— Я ведь с самого начала тебе это твержу.
Форман собрался домой. Подойдя к двери, обернулся:
— Я поговорю на днях с фрау Полицик. Она
наверняка мечтает выбраться из лагеря. Думаю, что они
снимут обе комнаты.
— Но только после Нового года! — крикнула ему
вдогонку Вероника. — Надо убрать, переставить мебель...
Рози помахала ему рукой.
162
Окна гостиной были освещены. Форман осторожно
повернул ключ, снял пальто и ботинки и, тихо ступая,
вошел в комнату. Ингеборг в ночной рубашке сидела па
диване и слушала радио. Она бросила на мужа быстрый
взгляд и подобралась, как кошка перед прыжком.
— Где ты шлялся? — прошипела она. — Опять деньги
транжирил?
— Я был у Вероники.
— Врешь! — Она топнула ногой и повысила голос.—
Врешь! Я тоже была там.
— Знаю. Я пришел сразу после тебя. А теперь
оставь меня в покое. Уже поздно. Я устал, как собака.
В начале декабря на стройке был последний рабочий
день. Фирма объявила всех уволенными. Из-за морозов
и снега работы прекратились...
В полдень все собрали инструмент и двухчасовой
выпивкой в рабочем бараке отметили конец сезона, в
котором, несмотря на дождливое лето, заработали
хорошо. Поднимали тосты в честь зимы...
Выпили еще по бутылке за наступающий Новый год
и за то, чтобы опять собраться всем вместе.
— Будут же в конце концов достраивать Рурскую
автостраду, — сказал Эмиль.
Все разошлись. Форман отправился пешком в лагерь
для беженцев.
Прогулка доставила ему удовольствие.
Остановившись на вершине холма, он долго любовался равниной,
в белом наряде расстилавшейся перед ним. Справа
виднелся Унна, слева впереди — Камен, еще дальше —Берг-
камен и даже трубы Пелькума и Хамма. А совсем
вдали в красноватой дымке за частоколом труб начинались
предместья Дортмунда. «С годами все это срастется и
один город, — думал. Форман, — полей не останется.
Ужас! Но тогда меня, наверно, уже не будет на свете».
В Массене он спросил какого-то мальчугана, где
найти фрау Полицик. Мальчик проводил его и получил за
труды марку.
Она жила на втором этаже. Форман постучал раз,
другой. Никто не ответил. Тогда он тихо толкнул дверь,
она отворилась. Посреди комнаты на стуле стояло
пластмассовое корыто, Ирена стирала белье. Несмотря на
153
приоткрытое окно, è комнате было дымно. Обе девочки
сидели на полу у печи, листали какую-то книгу.
— Добрый день, — поздоровался Форман.
Все трое уставились на него.
— Ах, — вымолвила Ирена, и белье выпало у нее из
рук*
— Я должен вам кое-что сообщить,— сказал Форман.
Ирена вытерла передником свободный стул.
— Насчет Поленца? — испуганно спросила она,
покосившись на девочек.
— Нет. С этим все кончено.
— К сожалению, только начинается, — возразила
Ирена. — Меня уже дважды вызывали в полицию.
Придется, видно, еще не раз ходить туда, так мне сказали.
А что я могу сообщить им нового?
Форман рассказал ей о квартире Вероники.
— Вы видели эту женщину и ее дочь. На похоронах.
— Ах, это они? — вздохнула Ирена. — Да, с того дня
все и началось. — Она вытерла руки.
— Началось? — удивился Форман. — А я полагал,
что тогда все кончилось.
— Нет. Именно началось.
— Ну, так как же с квартирой?
— Спасибо, комнаты я сниму. Отсюда надо
выбираться. Вначале мне казалось, что теперь будет здесь
хорошо, но я ошиблась. Когда я жила у Поленца, мне
было тошно и от соседей, и от всего вокруг. Я все равно
сбежала бы, даже если бы он меня и не выгнал. А
сейчас я сыта здешней обстановкой и здешними обиТа'теля-
ми, сыта по горло. К тому же у нас только одна
комната: й живем, и стираем, и спим, и готовим уроки — все
в ней. Вот видите, ничем я не довольна...
—■ Понятно... Ну что же, квартиру, значит, вы берете.
О деньгах сами договоритесь с хозяйкой.
— Хорошо, только спросите ее, может, она
согласится полдня присматривать за детьми, тогда я смогла 6μ
работать. А то из-за пособия все на тебя косятся.
— Чепуха.
— Нет, не чепуха. Недавно в лавке я слышала, как
две женщины говорили, будто мы живем за счет
налогов, которые платят их мужья. Сама себе начинаешь
казаться чуть ли не преступницей оттого, что тебя се-
держит государств«.
154
— Не думал я, что вы такая чувствительная.
Намыкались вроде бы достаточно.
— Знаете, чем: больше мотаешься, тем становишься
чувствительнее, — сказала она. — Хуже всего, когда к
тебе лезут с жалостью. Можно прийти в отчаяние, по*
верьте мне.
— Думаю, что Вероника согласится присматривать
за вашими детьми. Время у нее есть. Дочь ее будет жить
в Дортмунде, нашла там комнату.
— Спасибо, что вспомнили обо мне, — сказала
Ирена, провожая Формана вниз. — Я знала, вы заглянете.
— Это все из-за угля, — пошутил я. — Ведь вы
были моим должником. Теперь мы квиты.
Она рассмеялась и словно сразу помолодела.
— Ах, господин Форман, мы всегда были квиты.
Вечером он рассказал Веронике о разговоре с Иреной.
— Не обижай ее, — попросил он, — и подумай насчет
детей. Нелегко так мыкаться женщине, а о детях и
говорить нечего. Надо помочь им. Детишки совсем запуганы.
— Уж не влюблен ли ты в эту женщину? — спросила
Вероника.
— Еще чего скажешь? Я уже вышел из того
возраста. Теперь у меня другие заботы.
— Да, кстати, Рози нашла тебе работу. Какой-то
чистенький завод, неподалеку от Вестфаленхалле К Она
сама тебе расскажет. Там работает жених ее подруги,
платят прилично, принимают и без квалификаций,
новички проходят обучение на месте. Да, еще она сказала,
что на этой работе можно носить белый халат. Не
понимаю, что она имеет в виду.
— Чего там не понимать. Работают в белых
халатах, и все. Что же, неплохо, тогда я перебьюсь зиму.
— А я думала, тебе хотелось отдохнуть, — сказала
она. — Пособие-то будешь получать.
— Передумал. Ничего в этом хорошего нет. Сидеть
и ничего не делать надоест. Тоска замучает. Ведь
работаешь не только ради денег. Недовольство бывает
оттого, что работа не дает удовлетворения, тогда
трудишься по необходимости. Наверно, можно обойтись и
без работы, если есть чем заполнить жизнь. Но у меня
ее зап©лнитъ нечем.
11 Спортивный и выставочный зал в Дортмунде. (Прим. перев.)%
155
— Ну и чего бы тебе хотелось?
— Не знаю. На душе беспокойно оттого, что я уже
не ломаю себе голову перед сном, как раньше. Ни одной
мысли в котелке. Даже не ворочаюсь, лежу, как мешок.
И вокруг все пусто. Вот почему мне обязательно надо
работать. Я не выдержал бы целую зиму без работы...
Есть такое словцо, только я не помню его...
— Что за словцо? — удивленно спросила она.
— Понимаешь... как оно называется, ну, то самое,
что заполняет человека... Мне легче бы стало, ей-богу,
если бы я знал это словцо. Не могу вспомнить, будь
оно проклято!
— Слушай, а может твоя жена тоже страдает от
этого? Потому и пошла работать? Может, и у нее на душе
муторно, как у тебя? Мне кажется, она не находит
себе места. Что-то у вас не ладится. Сами вы этого не
понимаете, но она чувствует, что так продолжаться не
может. Только не знает, что делать. Ей надо помочь, а
ты махнул на нее рукой, пусть, мол, сама
выкарабкивается, как знает. Может, вам надо завести ребенка,
чтобы ваша жизнь стала полнее. Наверно, эго и есть твое
«проклятое словцо». У вас, Юрген, слишком много
времени. Поверь мне, я так рада, что у меня есть Рози.
И она тоже имеет право жить и радоваться, верно?
— Конечно, надо завести ребенка. Но как сказать
Ингеборг?
— А ей и не надо об этом говорить, — улыбнулась
Вероника.
Форман, подхватив Веронику, закружился с ней по
комнате.
— Вот увидишь, — сказал он, смеясь, — скоро у
меня будет сын, скоро у меня будет сын!
И, продолжая пританцовывать, выбежал на улицу.
Итак, у меня новая работа. Физически самая легкая
из всего, что я делал. Но станет ли и моя жизнь легче?
Не знаю.
Вжжик... вжжик... вжжик...
Прежде всеко я обратил внимание на человека,
работающего напротив, — итальянца с кудрявой черной
шевелюрой. Он часто, вернее, непрерывно смеялся —то
глядя на кого-нибудь, то про себя. Но не его смех при-
156
влек мое внимание, а манера высовывать язык. Как
только у итальянца было какое-нибудь затруднение, он
тут же высовывал язык.
Господи, что за язык! В жизни таких не видал. Он
мог достать им кончик носа. Все утро, насколько
позволяла работа, я наблюдал за итальянцем и установил:
если кончик языка высунут налево, это означает
смущение, если направо — радость.
Перед концом смены я впервые улыбнулся ему,
широко, как и он. Итальянец сказал «si, si» *,
высунул кончик языка направо и заразительно
рассмеялся...
Наверно, он чудесный парень, раз умеет так
заразительно, по-детски смеяться. Сколько ему на вид? Лет
двадцать пять? Возможно, хотя определять возраст у
этих смуглых брюнетов — дело нелегкое.
Вжжик... вжжик... вжжик...
У, черт! Осторожнее!
Слева мне подают пластмассовую пластину. Я
обслуживаю маленькую дрель, почти игрушечную. В
заранее размеченных местах пластины сверлю пятнадцать
отверстий, каждое диаметром в три миллиметра. Если
дрель и сверло в порядке, все идет как по маслу.
Вжжик — и готово.
Следующее отверстие: вжжик—и готово.
Пластина, пятнадцать раз «вжжик», напротив —
симпатичная улыбка итальянца, его «si, si», мелькающий
кончик языка: налево — смущение, направо — радость.
А может, наоборот?
Черт, надо быть внимательней! Но итальянец
отвлекает меня. Лучше бы сидеть рядом с ним, а не
напротив. Другие на это уже не обращают внимания,
привыкли.
Поначалу я опасался, что мои огрубевшие руки не
справятся с такой филигранной работой, но через
несколько часов дело пошло. Захотел — и удалось. А как
же иначе? Рабочий все сумеет, если захочет. На рынке
спроса и предложений особенно носом не покрутишь.
Лопай что дают. Правила игры не тобой придуманы.
Тйое дело получше смотреть, как управиться, вот и все.
Вжжик... вжжик... вжжик...
1 Да, да (итал.),
157
Я был так рад вновь почувствовать силу собственной
воли. Ощущение это опьяняло меня. Я должен был
справиться с новым делом — и справился. Всю свою жизнь,
кроме недолгого ученичества в конторе, мне приходилось
только долбить, ворочать и поднимать тяжести. И вот
я держу эту игрушечную дрель. Она почти исчезает в
моей лапище.
Иногда я боюсь раздавить пластину, а прежде мы
боялись, как бы нас самих не раздавило обвалом. Надо
во что бы то ни стало удержаться здесь. Платят
прилично, сижу в белом халате. Он повелевает моей волей,
воля — руками, а от рук зависит заработок. Счастье!
Самое настоящее. Я был так доволен собой, что мог бы
горланить об этом с утра до вечера. Многие боятся
перехода от привычного, грубого и тяжелого труда к
легкому, в белом халате. Но мне этот прыжок удался.
Я это понял после того, как совершил его.
Со страхом вошел я неделю назад в этот цех, где
мне предстояло пройти испытание. Все вокруг
уставились на меня, перешептываясь: «Новичок... новичок...»
Экзамен прошел удовлетворительно, и я мог
приступать. Господи! Как же мне повезло! Хороший заработок,
белый халат!
Вжжик... вжжик... вжжик... Здорово получается.
Наконец-то я больше не чумазый шахтер, не грузчик
и не дорожный рабочий. После смены я теперь вешаю
белый халат на гвоздь и отправляюсь домой в чистом
костюме. Могу даже галстук носить. Ну разве это не
счастье? Я набрался храбрости, прыгнул — и вот я на
другом берегу. Все оказалось куда проще, чем я мог
подумать. Вот оно, великое счастье, которым я бредил
последний год. Наконец-то я пристал к берегу...
берегу... берегу...
В чистом цехе, в белом халате я сижу на стуле с
пенопластовым сиденьем. За огромными окнами бурлит
промышленный город. Руки чуть покрываются пылью
из-под сверла. Но стоит хлопнуть в ладоши, и тонкая
пыль слетает. А потом такой славный малый работает
напротив!
Через три места от меня восседает хмурый усач.
Ему лет пятьдесят, а то и больше. Целыми днями он
не произносит ни слова. А когда хочет что-то сказать,
делает знак рукой или бросает взгляд, и все понимает
15а
эти знаки и взгляды. Сегодня в полдень я впервые
услышал, как он сказал, войдя последним после
перерыва: «Dobre den».
Я спросил у соседа, что это значит.
— Добрый день по-чешски,— пояснил тот.—
Старик ведь эмигрант.
Значит, кроме итальянца, у нас есть еще чех.
Интернационал в белых халатах.
— И давно он здесь? — поинтересовался я.
— С самого начала.
— Какого начала?
— С момента пуска, десять лет уже.
— Разве он не говорит по-немецки?
— Еще как, без акцента. Только здоровается по-
чешски.
— Почему? А... черт! Просверлил не там.
— Обойдется в две марки, — заметил сосед.
— Так почему же он все-таки здоровается
по-чешски?
— Не знаю, спроси его.
— А почему это обойдется мне в две марки?
— Прочитай инструкцию. Весь брак за твой счет.
— Н-да, надо смотреть в оба.
— Конечно. Главное —втянуться. Тогда делаешь все
автоматически. Только следи. Глаза, правда, устают, но
со временем привыкнешь. И довольно скоро.
Вжжик... вжжик... вжжик...
Еще бы, к белому халату я быстро привык. А Инге-
борг смеялась, когда я, заикаясь от радости, рассказал,
что буду работать в белом халате и что это место мне
нашла Рози... Подозреваю, что Ингеборг завидует моей
работе: я могу расхаживать в белом халате, а она нет.
Чего там говорить, она охотно поменялась бы со мной
местами. Но я ее проучу. Ей все еще не верится, что я
ухожу по утрам из дому в нормальном костюме и
вечером возвращаюсь с тщательно повязанным галстуком.
Она по-прежнему не может себе представить меня
иначе, как чумазым шахтером.
Сосед справа впрессовывает ушки в просверленные
мною отверстия. Следующий зазубривает ушки. Чех,
сидящий в конце, проверяет качество пяти операций,
сделанных на нашей стороне стола. Проверив, он пи-
щет что-то мелом на пластинах и передвигает их на дру-
159
гую сторону стола, где сидит amigo lt итальянец. Там
тоже делают пять операций, а в конце стола сидит
другой контролер. Он перепроверяет чеха и то, что сделали
пять рабочих, сидящих против нас. Потом нашу
продукцию перевозят в другой цех.
Когда я рассказал Ингеборг про мою работу, я
заметил, что она не обрадовалась. Только пожала
плечами и скривила губы, будто сочла все это недостойным.
— Поживем — увидим! — сказала она. — Посмотрим,
сколько ты там выдержишь.
Вжжик... вжжик... вжжик...
— Что мы, собственно, изготовляем? — спрашиваю я
соседа.
— Не знаю, — говорит он. — Я здесь недавно.
— Сколько?
— Полгода. Для чего это делается, меня не
интересует. Главное — хорошо платят. Я впрессовываю ушки
в отверстия. Если ты хорошо сверлишь и равномерно
даешь мне пластины, то и у меня все нормально, и
ушки получаются красивые. А на красивых ушках Эмиль,
он рядом со мной, вырежет красивые зубцы. Вот и весь
секрет нашей работы. А остальное тебя не касается,
так что не ломай голову. Следи только за тем, что
делают перед тобой и после тебя. Все остальное ерунда.
Вжжик... вжжик... вжжик...
— Конечно, — говорю я, — это все существенно
упрощает дело. Но когда ты новичок, хочется знать
поподробнее, что к чему.
— Понятно, понятно, — говорит он. — Только лучше
не надо. А то начнешь переживать из-за этих
подробностей и напортачишь. Так что знай свое — сверли, а я
буду впрессовывать.
— Как тебя зовут? —спрашиваю.
— Меня? Эгон... Эгон Витлих. Живу в Брамбауэре.
— Это где дорога на Люнен?
— Точно. Езжу трамваем, остановка почти у самой
двери.
— Тебе хорошо, а я вот трачу на дорогу больше
часа.
— Привыкнешь, — засмеялся он. — Человек ко всему
привыкает.
1 amigo — искаженное amico, друг, приятель (итал.)<
160
Вжжик... вжжик... вжжик...
— По-моему, Эгон, все-таки надо знать, для чего
ты работаешь. Вот, скажем, на шахте мы знали, что
рубаем уголек и что он используется для разных нужд;
на заводе я знал, что из стальных балок, которые я
грузил, построят мост или каркас небоскреба; на
стройке я знал, что через год или два по новой
автостраде помчатся машины... А здесь я сверлю дырки и
не знаю зачем. Не пойму, для чего это
предназначается.
— Чепуха. Тебе надо только знать, что ты сверлишь
их для меня, чтобы я мог впрессовать ушки. Зачем
тебе знать весь процесс?
— Господи, да затем, что это интересно!
— Чушь! Ты сверлишь, я впрессовываю, Эмиль
зазубривает, итальяшка паяет, Эрика шлифует, а ББ
полирует.
— ББ? — спрашиваю я. — Это кто?
— Вон та, на углу. Глянь-ка на прическу. Так ее у
нас и зовут: ББ — Брижитт Бардо. Волосы, глаза,
бедра, ну и, конечно, грудь — потрясающие, а? Если
настоящая ББ вздумает остричься наголо, наша первая
собезьянничает. А вообще она девка как девка, даже
старательная.
Вжжик... вжжик... вжжик...
— В общем, работаем в электропромышленности? —
спрашиваю я.
— Видишь ли, — отвечает он, — что это такое на
самом деле, никто толком не знает. Мы считаемся... как
это... заводом-поставщиком. Радиоприемников мы не
делаем, телевизоров и магнитофонов тоже... Так что надо
бы спросить шефа.
— Но куда-то наша продукция идет? — говорю я.
— Так ведь электропромышленность до черта вещей
изготовляет. — Он рассмеялся.
— А шеф сюда заглядывает?
— За полгода, что я здесь, видел его всего один раз.
Он больше разъезжает на машине.
— Слушай, — говорю я в шутку, — а может, мы
изготовляем атомные боеголовки?
— Вряд ли они из пластмассы, а впрочем, кто их
знает, вполне возможно. Ты брось эти дурацкие
вопросы. Зарабатываем хорошо, не надрываемся, да и обста-
161
новка приятная. Никто не орет, друг дружке не
мешают, а переживать нет времени — норма подгоняет.
Вжжик... вжжик... вжжик...
Я должен просверлить семьдесят пластин, в
каждой — по пятнадцать отверстий. Всего, значит, семьдесят
на пятнадцать... Так... семьдесят на десять это
семьсот... семьдесят на пять — триста пятьдесят... итого —
тысяча пятьдесят. Черт возьми, многовато. За восемь
часов просверлить тысячу пятьдесят отверстий!
Многовато, даже очень. А если хоть раз просверлю
неправильно, вычтут две марки. Только за одну
неправильно сделанную дырочку! Ужас как много. А если
вдруг испорчу пять пластин, то заработаю всего
двадцать марок, десять же вычтут, не моргнув глазом.
Средний мой заработок—тридцать марок за смену. На
шахте мне платили тридцать марок за девять шпуров,
пробуренных в пласте двухметровой толщины. На
складе металлоизделий я получал за погрузку
десяти—^двадцати тонн стали двадцать пять марок. На стройке за
сорок замесов бетона — двадцать восемь марок в дець.
А здесь — тридцать. Чудно: чем легче работа, тем
больше денег, чем тяжелее — тем меньше. Теперь у меня
есть доказательства. А может, это зависит от самих
людей, раз они не способны на легкую работу? Эх,
разобраться бы мне в этом раньше! Прошляпил, дурак! А то
ведь годами мучаешься, обливаешься потом и
получаешь то же, что и здесь, где только сидишь и сверлишь
и после смены не надо лезть под душ. Повязал галстук
и едешь домой. Эх, знать бы это раньше!
Вжжик... вжжик... вжжик...
Эгону Витлиху за впрессовку тысячи пятидесяти
ушек платят тридцать марок, Эмилю за насечку —
тридцать марок, Эрике, наверное, тоже тридцать за
шлифовку, ББ— марок тридцать за полировку, amigo —
тридцать за пайку, чеху —марок тридцать пять за
контроль, а тому, что на другом конце стола, —не меньше
сорока за контроль над контролем. Вот оно как.
А Рози ведь не обещала мне ничего особенного.
«Дядя Юрген,—сказала она,—я нашла тебе место,
работу, о которой ты давно мечтал: легкая, белый *а-
лат, почти никакой грязи. Цех с кондиционированным
воздухом. Завод в Дортмунде, неподалеку от полидей-
президиума. Придется только ездить с йересад.адми>>,,
162
«Не беда, — сказал я ей, — ради белого халата я
готов ездить куда угодно».
Вжжик... вжжик... вжжик...
Надо дьявольское внимание, чтобы не просоерлить
мимо отметины... Две-три испорченных пластины в
день — и нет смысла работать. С таким же успехом
можно наняться подметальщиком улиц в Камене или
Унна. Уж легче ничего быть не может, ведь мимо не
прометешь.
Amigo опять меня отвлекает... Мой дорогой amigo,
с удовольствием смотрел бы на тебя целый день, если
бы за это не приходилось расплачиваться.
— Эй! — Эгон толкает меня в бок. — Отстаешь. У
тебя всегда должно быть в запасе пять-шесть готовых
пластин. А иначе остановится весь поток. Ты у нас
ключевая фигура. Пока меняешь сверло, уходит масса
времени.
Чех уставился на меня, лицо его мрачнеет, он
хлопает в ладоши. Все смотрят в мою сторону. Господи, но
это же не катастрофа, предприятие от этого не
обанкротится.
— Быстрей! — прикрикивает Эмиль, а чех вторично
хлопает в ладоши.
Черт, как назло сверло сломалось! Пластина
трескается— слишком резко рванул дрель. Проклятие!
Главное сейчас — сохранять спокойствие, показать
всем, что можешь справиться со своей задачей даже
при аварии. Пусть все видят, что я не психую.
Эгон помогает мне вставить новое сверло.
— Расколотую пластину припрячем, — шепчет он.
— Не надо, —возражаю я.—1 У меня в запасе два
дня для чудачеств без вычетов. Испытательный срок
кончается послезавтра.
— Не очень-то полагайся на это. Так всегда говорят
начинающим, а в получку увидишь, 4to двух марок как
Не бывало. Ты здесь никому не верь, кругом
мошенники, каждый только о своем кошельке и думает...
— Чего ж ты мне сейчас помогал? —спрашиваю я.
— Потому что я тоже о своем кошельке думаю. Тут
тебе никто не поможет, даже производственный совет.
Вжжик... вжжик... вжзКик...
Все опять идет как по маслу. На поволноваться
пришлось.
163
Amigo посматривает на девушек, говорит «si, si» и во
весь рот улыбается. Чертов парень, отвлекает меня...
Паяет, даже не глядя на инструмент... Надо
заниматься своим делом. Теперь у меня белый халат,
чудесное рабочее место с кондиционированным воздухом,
хороший заработок. Все остальное не имеет значения.
Даже то, для чего предназначаются изготовляемые
детали.
— Новичок-то наш, — кричит ББ через стол, —
шпарит, будто всю жизнь ничего другого не делал!
— Si, si, — говорит amigo, скаля свои
ослепительные зубы.
Эрика добродушно пялит на меня огромные карие
глаза.
— Когда она отправится в туалет, — шепчет мне
Эгон, — обрати внимание на ее «шасси». Умора!
— Чье «шасси», ББ?
— Нет, Эрики. Она так глупа, что не знает, где
левая нога, где правая. При ходьбе все время путает.
— Да ну? — шепчу я. — Неужто такая дуреха?
— Ага. Не поверишь, пока сам не увидишь. Описать
это невозможно.
— Как же она тогда шлифует?
— Работа тут ни при чем. Для шлифовки ноги ей не
требуются, а руки у нее отличные. Словом, все, что
видно над столом, у нее в порядке. Скажи ей что-нибудь
приятное, увидишь, как заблестят ее коровьи глаза...
Но стоит только ей подняться — вот тогда... А голова,
зачем она ей? Тебе нужна голова, когда сверлишь? Вот
то-то. Здесь можно работать без головы. Пальцы сами
все делают.
— Так как же она ходит?
— Потерпи, увидишь. Скоро она поднимется, по ее
прогулкам в туалет можно проверять часы.
— А как ББ? — спрашиваю я.
— ББ, — усмехается Эгон,—стопроцентная Ева,
вихляет бедрами, дай бог. Мужики за ней табуном ходят.
Она и местечко-то это бедрами себе раздобыла. Ей
хорошо платят, девка получает побольше нас.
— Сколько же ей лет? — спрашиваю я.
— Точно никто не знает. У нее это зависит от
прически. Может, восемнадцать, а может, двадцать пять.
Но она не замужем.
164
Над входом висят большие электрические часы. Без
четверти три. Скоро кончается смена, как здесь
говорят,— «конец рабочего дня». Забавно. Просверлил я
тысячу пятьдесят отверстий или нет? Не знаю, как
проверить. Учитывает кто-нибудь нашу работу или нет?
А может, нас надувают? Нет, на этом предприятии
царит порядок, все точно учитывается без весов и
счетчиков. Перед чехом конторская книга. Время от
времени он что-то туда записывает. Возможно, это и есть учет.
— С новичка сегодня магарыч! — кричит на весь цех
ББ.
Все кивают. Чех произносит «ano!», amigo говорит
сначала «да», а потом «si, si».
— А итальянец пьет пиво? — спрашиваю я Эгона.
— Лакает все подряд, — усмехается Эгон. — А в
общем, он малый что надо. Всем бы такими быть. По
воскресеньям обедает у моих родителей. Шутник, всегда в
хорошем настроении. Ни разу еще не видел его в
плохом...
— Как его зовут?
— Мы зовем его Силло, а вообще-то он Сиаджилло.
— Так как же насчет магарыча? — напоминает
Эрика. Ее коровьи глаза просительно смотрят на меня.
— Согласен, — отвечаю я. — Ставлю. Только не
тащите меня в самый дорогой ресторан.
— Мы идти в «Мюнхнер левенброй»! — предлагает
amigo.
— А он неплохо болтает по-немецки, — говорю я
Эгону.
— Еще как. Болтает свободно, а понимает еще
лучше. Но если чего не захочет понять... Хоть на куски его
режь — не поймет, и все. Когда ему велят заняться
другой работой, он просто заявляет: «Nix capito». Хитрюга.
— А чем знаменит «Мюнхнер левенброй»?
— Amigo любит туда ходить. Там играет трио,
молоденькие девушки.
Но вот поднялась Эрика. Боже мой! До чего может
человек измениться! Пока сидит—милейшая девушка.
А сейчас смотреть страшно. Краб! Передвигается она,
как краб, впрочем, нет, скорее, как черепаха, да, именно
черепаха... Поглядывая вслед Эрике, Силло широко
улыбается.
—- Bravissimo, si, si! — говорит он мне.
165
— Но танцевать она умеет, будь спокоен, — говорит
Эгон. — Тут она знает, где левая, где правая. Не умеет
только ходить. А так у нее вроде бы все на месте...
Над голубой дверью звонит зуммер, а под
электрочасами мигает зеленая лампочка. Выключаем
механизмы, инструмент, материалы оставляем на столе. Все
спешим. Моем руки — это все, что требуется здесь после
работы. Я тщательно повязываю галстук. На улице ББ
цепляет меня под руку. Трамваем добираемся по Гил^
тропвалла, дальше идем пешком. Все в сборе, только
оба контролера не примкнули к компании.
Я так и не понял, почему именно меня выдвинули
представителем нашего цеха на совещание, которое
состоится в субботу.
— Почему меня? — спросил я своих новых коллег
накануне.— Ведь я всего несколько дней как на заводе·
— Именно поэтому, — ответили мне. — Ты здесь
недавно и сможешь судить беспристрастно. К тому же ты
умеешь выступать, а мы нет.
— Но мне не хочется наживать неприятности перед
рождеством.
— Не бойся, — успокоила меня ББ, — никаких
неприятностей не будет. Послушай, что предложит директор,
выскажись «за», и дело в шляпе.
— Si, si, — сказал amigo и заулыбался.
Итак, завтра совещание. Пока известно лишь, что
его созывает сам директор. Нам хотят предложить новый
график работы. Почему так вдруг, никто не знает, даже
чех. Кроме четырех членов производственного совета,
избрали еще по одному делегату от всех десяти* цехов.
Моего согласия и не спрашивали. Amigo сказал «si, si»,
чех — «dobre, dobre». На том и порешшж
Мне что-то не по себе в шкуре делегата. К ч*шу
затеяли эту комедию — совещание о том, когда начинать
и когда кончать работу? Почему оно замечено на
субботу— понятно: иначе пришлось бы стшата» людей е
производства. Но зачем директору понадобилось
спрашивать нас? Пусть он решает это сам...
На улице пятнадцать градусов М0рша. А в цех<е Oura*·
годаря кондиционированному воздуху двадцать градусов
тепла.
— Мы на тебя надеемся! — крикнула ББ.— Если
предложат начинать позже, соглашайся, не
задумываясь. Для меня рано вставать просто мука.
Эта девушка нравится мне все больше и больше. ББ
не только умеет вихлять бедрами. Она всегда
приветлива и готова прийти на помощь. Правда, глуповата,
но, видно, так и надо. Не представляю себе ББ
образованной. Она обязательно должна быть с глупцой.
Мы разговариваем, не отрываясь от работы. Через
месяц я смогу, наверно, сверлить пластины вслепую,
руки сами все делают, и еще остается время
перекинуться словечком с соседом.
Серьезные разговоры, особенно о политике, здесь
редкость, не то что на шахте, на складе металлоизделий
или на стройке. Здесь все больше намеки, шуточки. Оно
и не удивительно при такой легкой работе. К серьезным
разговорам ни у кого нет охоты, и меня, пожалуй,
сочли бы за чудака, заведи я такую беседу.
И все же я нашел, к чему придраться: на новой
работе при всех ее достоинствах я не могу повысить свой
заработок, а мне вдруг захотелось получать больше.
Мы ограничены в заработке, поскольку являемся лишь
колесиками, связанными друг с другом. И хотя от этих
«колесиков» зависит ход всего огромного механизма, тем
не менее мы вращаемся с определенной скоростью, в
заранее намеченном темпе.
Даже если бы я захотел, мне нельзя работать
быстрее колченогой Эрики — нарушится весь ритм. Увы, я
всего лишь колесико, которое обязано вращаться не
слишком быстро и не слишком медленно, и темпом этого
вращения определяется мой заработок. И точно так же
один цех связан с другим. За восемь часов я
просверливаю семьдесят пластин. Я мог бы просверлить
больше и тем самым больше заработать, но от меня этого
не требуется. Частенько я укрываюсь в одном местечке,
чтоб^г выкурить сигарету и отключить^ от суматох«.
Смотрю в окно на падающий снег, гадаю, будет ли но-,
йью мороз, и прикидываю, сколько угля потребуется на
неделю.
Вжжик... вжжик... вжжик...
И так тысячу пятьдесят раз за смену. Если бы не
шутки* да смешки; свихнуться можно. Если ёы не бт-
товня и перекуры, все было бы до зевоты скучно и ёдно-
167
образно. И хотя мы орудуем инструментом и
механизмами, по сути дела, сами превратились в инструменты и
механизмы.
— Скажи там, чтобы рабочий день начинали
попозже,— посоветовал Эгон Витлих. — Встаешь чуть не
ночью, кому это надо.
Все поддержали ?гона. Только чех промолчал.
— Утром всегда устал, si, si, — сказал amigo.
ББ, Эрика и женщина, сидящая с краю, тоже были за
то, чтобы начинать работу позже. Эта женщина сидит
на той же стороне стола, что и я, и мне ее не видно.
— Все равно ложишься поздно, — обратилась она ко
мне, — поэтому никогда не высыпаешься. И вообще, я
за то, чтобы время от времени нам меняться местами,
а то уж очень все однообразно.
В ответ на их доводы я киваю головой. Лично мне
все равно, когда начинать. Так или иначе, смену
отрабатывать надо. Но их единодушие облегчает мне дело.
Раз все требуют начинать позже — значит, за это и
буду голосовать. Плохо, конечно, что совещание
устраивают в субботу, но всем участникам заплатят по
двадцать марок. Куплю Ингеборг чулки. А что еще можно
подарить ей на рождество?..
Вжжик... вжжик... Сверление, впрессовка, шлифовка,
полировка, насечка ушек — все сливается в мешанину
звуков, похожую на шум летнего дождя. Иногда мы
целый час работаем молча, а потом все наперебой галдим.
Но о чем можно говорить восемь часов подряд, если
уже на второй-третий день знаешь о соседях все, вернее,
все, о чем человек рассказывает, что делает на работе?
О личной жизни здесь тоже не принято говорить. Эта
тема запретная.
Для себя я все-таки нашел лазейку, позволяющую
нарушить сонное однообразие: поднажав, просверливаю
десяток пластин в запас и выхожу из цеха, если только
кто-нибудь меня не опередил. Есть строгая инструкция,
запрещающая покидать цех двум рабочим сразу. Стоя
в коридоре, я клюю носом или курю, а то иду во двор
поразмять ноги и глотнуть свежего воздуха.
Вжжик... вжжик... ББ съязвила, что у меня, видно,
понос, но она сказала это не со зла.. Жаль, что нельзя
выходить вдвоем. Я спросил Витлиха о причине
запрета.
168
—^ Из-за шашней, — убежденно ответил
он.—-Слишком много парочек в коридоре. Дирекция хочет это
пресечь.
Вжжик... вжжик... Меня согревает мысль, что через
девять месяцев я стану отцом. Я только и думаю о
ребенке, особенно во время работы, выбираю ему имя, что
ни час—новое. Когда этот день наступит, выставлю
нашему цеху ящик пива. Но пока молчок, а то они девять
месяцев не дадут мне покоя с этим ящиком. Ингеборг
ничего мне еще не сказала — четыре недели не прошли.
Как она все воспримет? Я немного побаиваюсь: что там
ни говори, а появление ребенка в семье на девятом
году супружества — обстоятельство довольно необычное.
С Рози мы изредка встречаемся на вокзале и
вместе едем домой. Мы всегда так рады друг другу, словно
не виделись год. Полчаса можно спокойно поболтать —
пятнадцать минут в поезде и столько же по дороге от
вокзала до дома. Теперь я понимаю, почему Рози хочет
совсем перебраться в Дортмунд. Столько времени
уходит каждый день на езду, вечно спешишь, вечно
боишься опоздать и считаешь секунды. Рози теперь не надо
хлопотать по дому. А мне приходится чистить
картофель, помогать Ингеборг при уборке. Она возвращается
с фабрики до того усталая, что спокойно взирает на
грязь в доме. А прежде возмущалась каждым
пятнышком.
Но уборка — еще полбеды. Хуже, что Ингеборг то
и дело заводит свою любимую пластинку: «Если бы ты
побольше зарабатывал, мне не надо было бы ходить на
фабрику».
К сожалению, она не добавляет при этом: «Если бы
я была поскромнее и не выдвигала столько требований,
могла бы сидеть дома и заниматься хозяйством».
Утешаю себя тем, что скоро появится ребенок и ей
придется сидеть дома, хочет она того или нет.
Теща предложила мне обедать у нее в получасовой
перерыв: от завода до ее квартиры всего пять минут
хода. Я отказался. После того разговора тещи с
Ингеборг, который я подслушал, она стала мне чужим
человеком.
Вжжик... вжжик... Каждый день, каждый час,
неделю за неделей одно и то же. В дрожь кидает, как
подумаешь, что всю жизнь придется «вжжикать», видеть
169
одни и те же лица, зарабатывать тридцать марок и ни
пфеннига больше, и всю жизнь следить за тем, не* вышел
ли уже кто-нибудь в туалет до тебя.
Так и свихнуться недолго.
— Где собираются? — спрашиваю вахтера.
— Второй этаж, четырнадцатая комната.
Поторапливайся, все тебя ждут.
Взлетаю по лестнице через три ступеньки, сбрасываю
пальто, без стука вхожу в комнату, здороваюсь, прошу
извинения: опоздал поезд. Директор останавливает меня
движением руки и указывает на стул.
Все сидят за большим круглым столом,
предназначенным для совещаний. На столе хрустальные
пепельницы величиной с тарелку.
Собралось семнадцать человек, в том числе четыре
члена производственного совета и десять
представителей цехов, — так называемые доверенные лица, как
сказано в письменных приглашениях. Чувствуем себя
несколько стесненно. Директор восседает прямо против
меня, и это не придает мне бодрости. По левую руку
от директора — члены производственного совета и
какой-то господин лет пятидесяти — шестидесяти с густой
седой шевелюрой. Позже нам его представили:
доктор Фехнер. Мы тихо переговариваемся, а директор то
и дело поправляет перед собой стопку бумаг »и громко
покашливает.
На столе разложены пачки сигарет и ящики с
сигарами. Перед каждым стоит стакан и бутылка кока-
колы. Сосед шепчет мне, что вахтер советовал не
скромничать: в коридоре есть еще два ящика кока-колы.
Еще раз громко откашлявшись, директор встает. Он
извиняется, что доставил нам столько хлопот в субботу,
да еще перед самым рождеством, когда каждая
свободная минута принадлежит семье, но поступить иначе не
может: все-таки лучше собраться утром, чем после
работы.
— По крайней мере, со свежими силами, — добавляет
он и улыбается...
—Наш шеф прекрасно выглядит, не правда ли? —
шепнула мне соседка слева.
— Да, — ответил я шепртом^ — Как салонный-
17*
— Ну что вы, — возразила она довольно громко,—
Наш директор настоящий хозяин, причем он заботится
не только о заводе, но и о рабочих.
— Ну и что? — сказал я. — Разве это мешает ему
быть салонным львом? Чего же ему не заботиться о
заводе— ведь завод-то его.
— А как, собственно, выглядит салонный лев? —
поинтересовалась она вдруг.
— Как наш директор, — ответил я громче, чем
следовало.
Директор улыбнулся мне и заговорил:
— Дамы и господа, — голос чуть приторный, но
приятный,— я созвал вас потому, что подлежащие
выяснению вопросы, на мой взгляд, не могут быть решены
только мною и производственным советом. Прежде чем
будет принято решение, их надо обсудить в коллективе.
Тогда, разумеется, в согласии с производственным
советом я решу окончательно, что...
— А что надо решать? — спросил я соседку.
— ...речь идет о том, — продолжал директор,
повысив .голос,— некоторым это уже известно, чтобы
изменить график работы.
Четыре члена производственного совета, сидевшие
рядом с директором, усердно закивали головами.
— Если станем начинать позже, — зашептала
соседка,— то позже придется возвращаться домой, и дети
дольше будут одни...
— Я хочу, — директор понизил голос, — ознакомить
вас с докладом, который подготовил господин доктор
Фехнер, — доктор слегка поклонился, — на основе
полуторамесячных исследований, проведенных им на нашем
предприятии...
Четыре члена производственного совета опять
усердно кивали.
— ...И знаете, каковы результаты? В высшей степени
неожиданные. Признаться, даже для меня. В высшей
степени поучительные выводы касательно производства
и качества обработки материалов...
Четыре члена производственного совета усердно
кивали.
— «...Господа члены производственного совета уже
имели возможность ознакомиться с данными доктора
Фехнера,
m
Четыре члена производственного совета усердно
кивали.
— Совершенно верно, — вымолвил один из них.—
Потрясающе!
Директор зачитал длинный доклад, пестревший
цифрами, которые невозможно было уловить на слух, не
говоря уже о том, чтобы в них разобраться. О
сигаретах и кока-коле позаботились, а вот положить перед
нами карандаш и листок бумаги не подумали. Директор
читал все быстрее и невнятнее, словно про себя. Цифры,
иностранные слова, наборы технических терминов
пролетали мимо ушей, проходили мимо сознания.
Директор сделал передышку.
— Что все это значит по-немецки? — спросил я,
пока он набирал воздух.
Четыре члена производственного совета сердито
посмотрели на меня. Директор оглядел всех, словно
очнувшись от сна.
— Да, конечно, — сказал он и вкратце изложил суть
дела.
Исследования доктора Фехнера показали, что
качество работы до девяти часов утра очень низкое: чуть
ли не половина деталей поступает с недоделками, если
не с явным браком. После девяти часов качество резко
улучшается, брака по вине рабочих почти не бывает, во
всяком случае, процент его не превышает нормы...
— Итак, я подчеркиваю, — продолжал директор,—
с шести тридцати до девяти часов утра бывает
больше всего брака. А ведь это почти треть рабочего
времени.
— Чем вы это объясняете? — неожиданно для себя
спросил я.
Это получилось как-то нечаянно, и я смутился.
Члены производственного совета нахмурились. Чтобы
скрыть^смущение, я закурил сигарету.
Директор улыбнулся.
— Минуточку терпения, — сказал он.
Члены производственного совета сердито смотрели
на меня. Тот, что сидел рядом с директором, заметил,
обращаясь ко мне: -
— Не надо перебивать.
Директор улыбнулся:
— Мне понятно нетерпение.
172
— Извините, — сказал я. — Как-то сорвалось с языка.
— Ничего, ничего, — директор снова улыбнулся.—
А теперь самое главное. — Он выбрал несколько
листков, поднес их к глазам, поправил галстук, некоторое
время читал про себя, а затем произнес в напряженной
тишине: — Доктор Фехнер обнаружил, что особенно
недоброкачественной бывает работа в те дни, когда
накануне вечером телевизионные передачи оканчиваются
позже двадцати трех часов. Таким образом,
телевидение, а точнее, продолжительность передач отражается
на качестве работы. Я уже говорил, что для меня это
было в высшей степени поразительным выводом... Вы
вправе, дамы и господа, усомниться в том, что я сказал,
но доктор Фехнер тщательно зафиксировал все данные.
Итак, причина ясна...
Четыре члена производственного совета повернулись
к директору и усердно закивали.
— ...А последствия? Последствия — это сонливость,
нервозность, усталость, медлительность...
— Я и без телевизора подремываю иногда за
работой, —: шепнул я соседке.
— В итоге, — продолжал директор, —
недоброкачественная работа. Вы понимаете, что предприятие не может
себе позволить с финансовой точки зрения совершать
такие промахи длительное время, конкуренция слишком
велика, а то, что в интересах предприятия, в
конечном счете и в интересах каждого рабочего. Разве не
так?..
Теперь уже закивали многие.
«— Следует добавить, что доктор Фехнер проводил
свои исследования по часовому графику, точно
сопоставляя их с программами телепередач.
.— Каждый вечер приходится стирать и гладить,—
зашептала соседка, — все равно раньше одиннадцати не
управляешься.
— У меня вообще нет телевизора, — громко
произнес я.
Директор улыбнулся:
— У меня тоже.
Члены производственного совета сердито посмотрели
в мою сторону.
— ...Поэтому, — продолжал директор, — я хочу
внести следующее,,,
173
Он действительно вызывает симпатию, голос,
правда, немного приторный, но приятный.
— ...следующее предложение, которое технически
легко осуществить, потому что наше предприятие работает
в одну смену и не зависит от различных факторов
времени. Итак, с первого января мы будем начинать не в
шесть тридцать, а в восемь часов утра.
Главный инженер уточнил:
— С восьми до двенадцати и с двенадцати тридцати
до шестнадцати тридцати.
— Тем самым мы избежим указанных доктором Фех-
нером недостатков, и всем это, как я надеюсь, пойдет
на пользу.
— Господи, — громко сказала моя соседка, —
неужели придется возвращаться так поздно! Дома куча дел,
и дети так долго будут одни...
— Постойте, постойте, — прервал ее член
производственного совета, восседавший по левую руку от
директора.— Если это вас не устраивает, оставайтесь дома.
Производство есть производство. Что бы получилось,
если бы предприятие ориентировалось на каждого
работника и его домашние заботы. Это же...
— Что вы говорите, господин Борман? — вспылила
женщина. — Разве я с работой плохо справляюсь? А вы
хотите выставить меня за ворота. Ведь это... нет, да
это же...
— Не волнуйтесь, дорогая фрау Беккер, — мягко
произнес директор и рассмеялся. — Этого господин
Борман не имел в виду. Он хотел сказать только, что
личные интересы необходимо подчинять благу всего
предприятия, это же само собой разумеется.
— Вовсе это само собой не разумеется,.— выпалил я.
Все с ужасом уставились на меня. Член
производственного совета Борман встал и поправил
галстук.
— Дамы и господа, — произнес он торжественно,—
вы слышали сообщение господина директора. Он
сделал его на основании исследований господина доктора
Фехнера. Мы, члены производственного* совета,,
можем от себя только добавить; так оно и есть» Именно
так.
Остальные трое согласно· кивал».
— А теперь я предлагаю закончить..,
174
— Почему?—воскликнул я.—'Мы ведь только
начали!
Директор громко рассмеялся.
Что тут смешного? Он, наверно, считает меня
чудаком.
— ...предлагаю закончить, — продолжал Борман,
бросив на меня сердитый взгляд, — и принять решение
о том, что с первого января вводится такой распорядок
рабочего времени, какой предложил руководитель
предприятия.
— А кривая производительности учитывалась при
составлении нового графика? — спросил я.
— Что, что? — переспросил Борман.
— Пожалуйста, повторю, — сказал я, поднявшись.—
Ты, значит, считаешь, что нам следует сейчас же решить:
с первого января начинаем работу в восемь.
— Конечно, — вскипел Борман. — Какие тут
могут быть еще разговоры! — Он презрительно махнул
рукой.
Остальные трое кивали.
— А я-то думал,— воскликнул я, — что нас собрали
здесь для обсуждения. Выходит, проще было остаться
дома.
— Господа, господа! — вмешался директор. — Не
горячитесь, прежде всего спокойствие.
— Чего тут обсуждать? — выкрикнул Борман, теперь
он по-настоящему обозлился. — Кому нужна
бесполезная болтовня!
— К чему тогда вообще это совещание, если нас не
хотят выслушать, — сказал я раздраженно. ·—Почему
бы просто не вывесить на доске объявлений приказ?
Я бы куда с большей пользой провел свободное время.
Господин директор сам сказал, что он хотел бы принять
решение не единолично и не по согласованию с одним
производственным советом, а еще и выслушать мнение
коллектива. Зачем же ни с того «и с сего такая
спешка?...
— Постойте, постойте, — прервал меня директор.—
Разумеется, мы собрались, чтобы все могли
высказаться. Вы знаете, я всегда за демократию. Поэтому мне
важно знать ваше мнение. Правильно, конечно, и то, что
мы не можем равняться на каждого в отдельности, это
тоже ясно...
175
— Совершенно верно! — воскликнул. Борман,
бросив на меня торжествующий взгляд. — Полностью
согласен.
— ...однако по возможности мы хотим достичь
совместного решения. Я всегда стремился к тому — и это
знают те, кто работает здесь с самого начала, — чтобы
на моем заводе была демократическая атмосфера,
чтобы каждый имел возможность высказаться.
— И все-таки, — возразил я, — результаты
исследований доктора Фехнера вызывают у меня сомнения...
— Вздор, глупости! — послышались возгласы.
— Это невероятно! — воскликнул один из членов
производственного совета.
— ...Нельзя выдавать телевидение за пугало,
виноватое во всем. А выяснил ли вообще доктор Фехнер,
у кого из рабочих есть телевизоры? У меня, например,
нет. У госпожи Беккер и у господина директора — тоже.
А сколько таких? Это ведь немаловажно для
исследования...
— Разумеется, это выяснено! — воскликнул главный
инженер.
— Извините, — сказал я, — но я не могу припомнить,
чтобы меня опрашивали. Так каков же результат?
— Минуточку, — сказал инженер, поспешно листая
бумаги.— Вот, нашел. Телевизоры есть у немногим
более половины работников нашего предприятия.
— Вот как, —сказал я,—~ значит, только у
половины? А другой половине тоже вменяют в вину
«последствия». Меня крайне удивляет, как доктор Фехнер мог
прийти к такому выводу. Он утверждает, что в
недоброкачественной работе с утра повинно телевидение, а
потом выясняется, что телевизоры есть только у
половины рабочих. Может, доктор Фехнер предполагает, что
остальные смотрят у соседей? Странно...
— Что странно? — спросил Борман.
— Даже очень странно, — продолжал я.— Ведь
тогда все исследование доктора Фехнера вызывает
сомнение.
— Это просто наглость! — воскликнул Борман. — Как
ты смеешь подвергать сомнению результаты
исследований ученого?
— А вот так, — сказал я, — подвергаю, и все. У меня
своя голова на плечах. Или я не имею на это права
176
только потому, что я не ученый? Возьмем простой
пример: у меня и у госпожи Беккер нет телевизоров, и тем
не менее мы приступаем каждое утро к работе, признаю
это, усталыми, недостаточно собранными. Возможно, что
в результате мы работаем не так тщательно, как надо,
хотя мне не в чем себя упрекнуть...
— Мне тоже не в чем! — подтвердила соседка.
— ...значит, причины нужно искать в чем-то другом.
Я лично думаю, что это причины самые обычные,
человеческие. Да, господа, обычные, человеческие, — тихо, с
расстановкой повторил я. — То, что человек бывает
усталым даже после семи часов сна, то, что иногда он
рассеян, все это нормально и естественно. Ни один человек
не бывает изо дня в день в одинаковом состоянии.
Одинаково работает только машина, пока не сломается.
Я сел.
— Продолжайте, пожалуйста, — сказал директор, —
'я вижу, вам еще что-то хочется сказать!
— Да, — ответил я, — я хотел бы сказать еще кое-
что. Если станем начинать позже, не надо будет раньше
ложиться спать. Будем дольше сидеть вечерами, зная,
что утром можно поваляться лишний часок.
Послышался одобрительный гул.
Главный инженер и доктор Фехнер беспокойно
заерзали на стульях.
— Ведь речь идет только о готовой продукции,—
заметил доктор Фехнер.
— Нет! — решительно возразил я. — В первую
очередь речь идет о рабочем и о том, что можно и чего
нельзя от него требовать.
— Из-за чего вы так волнуетесь? — продолжал
доктор Фехнер. — В известном смысле вы, конечно, правы.
Но дело не должно страдать ни в коем случае.
Члены производственного совета опять закивали.
— Если страдает рабочий оттого, что ему
предъявляют невозможные требования, тут начинает страдать
и дело! — воскликнул я. — Если известно, в чем зло, не
надо усугублять его.
— Правильно, господин Форман, согласен с вами,—
улыбнулся директор. — Конечно, речь идет о рабочем,
ему же в конце концов, жить по новому расписанию...
— И трудиться, — добавил я.
Члены производственного совета расхохотались, слов-
7 Заказ #5 177
но я сострил. Дело стало принимать плохой оборот. Ведь
меня отрядили сюда представлять интересы нашего
цеха, а я вдруг смекнул, что отстаиваю свои собственные.
Но что поделаешь, если приходится обороняться от
четырех усердно кивающих членов производственного
совета, улыбающегося директора и этого непогрешимо
самоуверенного доктора Фехнера.
— Короче, — тут я постучал пальцем по столу и
глотнул кока-колы, — короче, так мы ни к чему не
придем. Если я правильно понял господина директора, он,
будучи под впечатлением доклада доктора Фехнера,
собрал нас, желая установить новый график рабочего
дня. Он собрал нас, как я понимаю, не для того, чтобы
сообщить нам о введении нового распорядка, а для
того, чтобы выслушать наше мнение. Итак, мы должны
сказать, за что мы. Раз уж я взял слово...
— То будешь трепаться без конца! — крикнул
Борман и заискивающе улыбнулся директору, ожидая €го
одобрения.
— ...взял слово, то хотел бы добавить следующее:
доклад доктора Фехнера, конечно, интересный, но не
настолько, чтобы как по команде тут же вводить новый
распорядок. Не такой уж безупречный доклад, в нем
есть ошибки и не учтено многое, имеющее огромное
значение для правильности картины. Поэтому я против
того, чтобы начинать смену позже...
— Это возмутительно! — заерзали члены
производственного совета.
Директор сохранял полное спокойствие.
— ...При всем моем уважении к господину доктору
я -сомневаюсь в правильности результатов. В такого
рода исследованиях все зависит обычно от исходной
точки. Доктор Фехнер взял за исходную точку телевидение
и строит на этом свои доказательства...
— Уж не собираешься ли ты указывать ученому, что
ему брать за исходную точку? — в бешенстве вскричал
Борман.
— Нет, не собираюсь, я хочу лишь кое-что уточнить.
Директора все это явно забавляло. Мне показалось,
он терпеть не может доктора Фехнера и не так уж
всерьез относится к затее с новым расписанием.
— У половины рабочих нет телевизоров, —
повторил я.
178
^— Смени пластинку! — крикнул Борман и со смехом
добавил словами рекламы: — Передохни и выпей кока-
колы!
Все расхохотались, директор громче всех. Борман
просиял от удовольствия.
— У нас с фрау Беккер нет телевизоров, —
продолжал я, не обращая внимания на смех, — и тем не менее
до девяти утра мы допускаем какие-то ошибки.
Посмотрите, что получается практически: у фрау Беккер
четверо детей, при теперешнем графике она возвращается
домой в четыре часа и, таким образом, может еще
много сделать по хозяйству. По новому графику она будет
возвращаться домой не раньше шести, у нее почти не
останется времени зайти в магазин, а с домашними
делами она будет возиться до поздней ночи. Где же тут,
спрашивается, выход из положения?
— Фрау Беккер — исключительный случай!
—воскликнул Борман.
— Согласен, что исключительный, — сказал я, — а
вы подсчитали, сколько у нас таких исключительных
случаев? Я точно не знаю, я вижу только, как после
работы из заводских ворот выходит много женщин,
большей частью семейных. Есть у них телевизор или нет,
это роли не играет. Так что, если разобраться, новый
график ничего не решит.
— Зато исчезнет брак! — крикнул Борман.
Остальные трое закивали в знак согласия.
— Поймите же, господа! — продолжал я. —
Качество работы зависит не от того, раньше или позже мы
начинаем смену, а от каждого человека в отдельности,
от его внутреннего состояния.
Набычившись, Борман хрипло спросил, кончил <ли я.
Остальные члены производственного совета уставились
в окно. Директор улыбнулся. У доктора Фехнера
'потухла сигара, и он пытался раскурить ее с безучастной,
почти скучающей миной на лице.
— Я за то, чтобы голосовать, — сказал директор.—
Сам я, разумеется, не приму участия. Кто за новый
распорядок, прошу поднять руки.
Члены производственного совета вскинули руки,
прежде чем директор успел договорить. К ним
присоединились еще трое доверенных лиц/Четырнадцать
голосов разделились семь на семь.
7* 179
- Значит, fifty-fifty *, — засмеялся директор. — Что
же будем делать?
— Прежде всего надо заткнуть рот некоторым
умникам,— сказал Борман, показывая в мою сторону.
— Разрешите мне сказать? — спросил я.
— Замолчи, — крикнул Борман. — Ты уже наговорил
достаточно глупостей. Хватит. Всякому терпению есть
предел.
— Во многих местах собираются перенести начало
работы на более раннее время, — сказал я тихо, после
того как директор поощрил меня движением руки.—
Например, там, где начинали в семь или восемь,
будут теперь начинать в шесть или семь. Чем это
вызвано? Тоже исследованиями, которые провели коллеги
доктора Фехнера. Я не вижу для нас особых
оснований.
— А бракованная продукция? — выкрикнул Борман.
— А кто может поручиться, что при более позднем
начале работы она станет лучше? — парировал я.— Ведь
это все предположения!
— Верно! — сказал один из трех доверенных,
голосовавших за новый график.
— Доктор Фехнер, — продолжал я, — упустил из
виду, что мы не часы и не машины, которые можно
отрегулировать и пустить. Он забыл, что мы люди. Люди со
своими мыслями, настроениями, и вот именно это,
настроение, влияет порой на работу. Мы, люди, являемся
главным фактором, а не какие-то придуманные
программы и. исследования. Надо исходить от нас, рабочих, а
не из того, что хочется или не хочется
предпринимателю.
Директор улыбался. Доктор Фехнер выудил из
ящичка очередную сигару.
— Раз уж мы продаем свою рабочую силу предпри*
нимателю, ему приходится рисковать и считаться с тем,
что, ;кроме ног и рук, у нас есть голова и душа и что
за стенами предприятия мы живем другой жизнью,
нашей настоящей, которую мы вынуждены каждый день
лемать, приспосабливать к искусственным законам
предприятия. Не всякому удается это сделать в ту
секунду, когда он отмечается в проходной. Еще никто не
1 Поровну (англ.).
180
запатентовал способа перестраиваться по звонку, точно
так же, как восьмого мая сорок пятого года не веемы
стали сразу демократами.
— Не отвлекайся!—прервал меня Борман. —
Нельзя же перестраиваться по три часа в день.
— Я и не отвлекаюсь. В конце концов не мы живем
для предприятия, а оно существует благодаря нам.
Весьма сожалею, что должен напомнить об этом
именно на таком предприятии, как наше, но для меня это
вопрос принципиальный.
— Но мы живем благодаря предприятию! — Борман
вскочил.
— Нет, коллега Борман, — спокойно сказал я, —ты
заблуждаешься. Продавая свою рабочую силу, мы
получаем возможность существовать, а не жить. ^Кизнь,
дорогуша, это совсем другое, и каждый живет по-
своему.
— Ты просто болтун! — вскричал Борман.— Что ты
суешься? Не о том разговор!
— Давайте проголосуем еще раз, — вмешался
директор.—Кто против более позднего начала работы?
Прошу поднять руки.
Мы, десять делегатов, подняли руки.
— А члены производственного совета
воздерживаются?— спросил, улыбаясь, директор.
— Нет! — воскликнул Борман. — Мы голосуем за
новый график.
— Итак, господа, — произнес директор, — даже если
бы каждый член производственного совета располагал
двумя голосами, результат был бы десять против
восьми. Сожалею. Что будем делать? У кого есть
предложения?
— Этот вопрос относится в первую очередь к
компетенции руководства предприятия и производственного
совета» — высказался Борман.
— Нет, нет, дорогой, — возразил с улыбкой
директор,— мне кажется, это дело всего коллектива, и
хорошо, что мы тут собрались.
— Правильно! — воскликнул я.
— Но для чего тогда нужен производственный
совет?— спросил Борман.
, —Для чего? Для чего? Для чего? — эхом
откликнулась троица.
181
— Об этом, господа, вам надо спрашивать не
меня,— ответил директор не без иронии. — Я совет не
учреждал и не выбирал...
Было заметно, что эти слова доставляют ему
удовольствие. Все рассмеялись, даже члены
производственного совета.
— Совет нужен, чтобы представлять интересы
рабочих, — сказала моя соседка.
— Не только, фрау Беккер, не только, — возразил
директор.
— Но я впервые вижу, чтобы производственный
совет выступал против интересов коллектива, — сказал
старик Зиберг, сидевший рядом со мной. Он выпил уже
три бутылки кока-колы.
— Гнусная клевета! — вскричал Борман.
— Это неслыханно! Неслыханно! Неслыханно! —
закудахтала троица.
— Мы руководствовались только пожеланиями
коллектива,— продолжал Борман, — ибо все рабочие хотят
начинать позже, да, да. Кого я ни спрашивал в цехах, все
говорили: позже! Как можно позже! Никто не
высказывался за сохранение нынешнего графика. Вы позволили
этому типу...
— Полегче, дружок! — крикнул я. — Без
оскорблений!
— ...обвести себя вокруг пальца и проголосовали
против собственных убеждений. К черту! Раз вы не
знаете, чего хотите, расхлебывайте сами!..
— Тише, тише, господа, — воскликнул директор, не
улыбнувшись, — не надо волноваться! Спокойствие
прежде всего. Дамы и господа, я хочу внести компромиссное
предложение, — он опять заулыбался. — Отложим пока
этот вопрос. Я поручу доктору Фехнеру провести на
основе его данных еще одно исследование, которое займет
месяца полтора-два. Параллельно другой специалист
исследует этот же вопрос на иной основе, независимо
от доктора Фехнера. А результаты мы сопоставим.
Соберемся снова, скажем, в середине или в конце марта
и тогда уже примем окончательное решение. Согласны?
Все закивали, в том числе и члены
производственного совета.
— Шеф не скупится,— заметила соседка. — Специа-?
листы наверняка обходятся недешево.
162
— Наверняка, — поддакнул я.
— Зачем ему потребовалось выяснять наше
мнение? — недоумевал Зиберг. — На других предприятиях
никого не спрашивают, берут да и вывешивают
распоряжение, как в третьем рейхе, и точка. Кому не нравит-
ся, иди на все четыре стороны. Чудак!
— На этом, дамы и господа, мы закрываем наше
совещание. Благодарю вас.
Зашумели отодвигаемые стулья. Я прихватил со
стола несколько сигарет, Зиберг — пяток сигар.
В коридоре меня задержал директор.
— Ну и задали же вы производственному совету, —
сказал он, посмеиваясь. — Браво! — Он похлопал меня
по плечу.
До сих пор он вызывал у меня какую-то симпатию, а
сейчас я вдруг охладел к нему. Не переношу людей,
похлопывающих меня по плечу. Я же не собака,
которую можно потрепать по загривку. Сердито взглянув
на директора, я собрался было ответить резкостью, но
спохватился: и без того уже достаточно наговорил
сегодня.
— Что вы, — сказал я. — И не думал. Я только
высказал свое личное мнение, ведь для того нас и позвали.
Разве не так?
— Конечно, так. Иначе вы не могли поступить. Меня
это даже радует. Где вы работаете?
— В пятом цехе, — ответил я, — сверловщиком.
— А, сверловщик. Это, пожалуй, не для вас. Вам
нужна другая работа. Посмотрю, может, удастся
перевести вас в экспедицию. Через месяц там освобождается
место.
— Благодарю, не стоит, — ответил я. — Мне
нравится моя работа, другой не надо. Хочу остаться там, где
сейчас.
— Понимаю вас, понимаю. Но ведь хорошо себя
чувствуешь на одном и том же месте лишь определенное
время, не так ли? — Он засмеялся. — Да, а членам
производственного совета вы преподали урок! Мое почтение!
Директор оглушительно расхохотался и, выйдя через
вертящуюся дверь на улицу, сел в свой мощный
суперлимузин.
Фрау Беккер, с которой мы вместе пошли к
вокзалу, без умолку говорила о своих домашних заботах.
183
Меня вдруг охватило недоброе предчувствие. Я не мог
отделаться от мысли, что директор пригласил
представителей цехов лишь для того, чтобы столкнуть их с
производственным советом. Если выяснится, что это так,
надо будет в следующий раз голосовать заодно с
членами совета.
По дороге фрау Беккер накупила полную сумку
продуктов. Я помог ей донести их до вокзала. Она жила в
Лютгендортмунде.
— Эти вечные поездки, господин Форман, так
изматывают,— жаловалась она. — Дома ничего не успеваешь,
а ведь надо подготовиться к рождеству. В этом году
даже ни разу не делала большой уборки, просто руки * не
доходят. Муж возвращается не раньше восьми, работает
во вторую смену.
— Кому вы это рассказываете, фрау Беккер, моя
жена тоже работает. Мне эта песенка знакома.
До поезда оставалось полчаса. Мы выпили по
стакану пива.
— На одно мужнино жалованье не проживешь,
господин Форман. Он получает пятьсот пятьдесят марок.
Четверо детей. Восемьдесят пять марок за квартиру,
потом за воду, уборку мусора, уголь. И сверх всего четыре
голодных рта, которые день ото дня становятся
прожорливее, аппетит у них такой, что просто страшно.:. Об
одежде уж не говорю... А пойдешь в магазин — ста
марок как не бывало.
— Да, конечно, — вздохнул я.
— Муж собирался купить себе костюм на
рождественское пособие, но ничего не получается. Детям
нужна обувь.
— Да, конечно. Скажите, фрау Беккер, что вы
думаете о сегодняшнем совещании? Мне все это не очень
нравится.
— Что думаю? Ничего. — Она рассмеялась. —Члеяы
производственного совета еще раз продемонстрировали,
как надо быть паинькой перед шефом. Да они иначе и
не могут.
— Почему не могут? В конце концов...
— Бросьте, господин Форман. Двое из них
построили себе недавно новые домики возле Хоэнзибурга. Шеф
дал им беспроцентную ссуду. Как же им выступать
против него?
184
— Не может быть. Да это же... Что ж вы их тогда
выбрали?..
— Выбрали! Господи, да вы же знаете, как это
проворачивают. У них глотка здоровая. А насчет ссуды
знает один старый Енучек и больше никто.
— Чех из нашего цеха?
— Ну да. Только он помалкивает. Он знает все, что
творится за кулисами.
— Кто он такой? — поинтересовался я. — Мне
кажется, он пользуется на заводе большим влиянием.
— Влиянием? Нет, он только все знает. Видите ли,
отец нашего шефа служил когда-то доверенным фирмы
Енучека в Чехословакии.
— Что вы говорите! Значит, наш шеф...
— Да, он из судетских немцев. А у Енучека прежде
был в Хебе завод электрооборудования, довольно
большой. Наш шеф был там учеником, а его отец —
доверенным.
— Как же Енучек попал сюда?
— Точно не знаю. Должно быть, он сотрудничал с
нацистами. Говорят, после войны его разыскивало
чехословацкое правительство, и он долго скрывался в
Нюрнберге, пока шеф не вызволил его оттуда. Енучек
продал ему свои патенты, и шеф открыл производство здесь,
в Дортмунде. Тогда он и взял к себе старика.
— Вот оно что. Только зачем Енучеку работать, он
мог бы жить на свой капитал. Денег у него, наверно,
хватает.
— Видно, тут дело не чисто. Говорят, будто шеф
шантажировал Енучека: грозил выдать его чехам, если
тот не выложит патенты.
— Чепуха, шеф совсем не производит такого
впечатления. Он выглядит очень обходительным человеком.
— Выглядит! Пока дело не коснется его кошелька,
он, может, и порядочный. А вообще, ну их, пусть
делают, что хотят. Для меня главное—получить свои
деньги. Раз старый Енучек действительно занимался тем, о
чем говорят, так ему и надо. Если суд не может
разыскать эту сволочь, пусть судьба отомстит ему.
«Господи, — думал я, — мир стал так тесен, но
почему-то для подобных людей он все еще чересчур
велик».
— Они живучи как кошки, — сказала фрау Бек-
*··. 185
кер. — Что Енучек, что наш шеф — все они выходят
сухими из воды. Куда бы жизнь их ни швырнула, они
всегда приземляются на четыре лапы.
— Да, конечно.
Мы пошли к поездам. Я направился на третью, а
она на шестую платформу. Я хотел было спросить у
фрау Беккер, что изготовляют на нашем заводе, но она
уже поднялась по лестнице на переход.
Я чувствовал себя несчастным. Собирался отстаивать
Мнение коллектива цеха, а отстоял только собственное.
Что я скажу людям в понедельник?
В передней пахло жареной рыбой. «С картофельным
салатом, наверно, — подумал я. — Вот заладила — рыба
да рыба, знает же, что я терпеть ее не могу».
Ингеборг сидела в кухне у плиты, склонив голаву.
Она плакала.
Я испугался, увидев ее такой жалкой. Я ждал чего
угодно — приступа бешенства, истерики, ругани, но
только не тихого всхлипывания. Ингеборг была похожа на
обиженного ребенка.
В то же время я почувствовал облегчение: наконец-
то она узнала, что станет матерью. Мне захотелось
объяснить ей, почему нам необходим ребенок, но я не
находил слов, только молча стоял перед ней и мялся,
перекладывая берет из руки в руку.
— Ингеборг, дорогая, разреши объяснить тебе, ну,
пожалуйста...
Вот тут-то она пустилась в рев. Я переступал с ноги
на ногу, как провинившийся школьник, и разглядывал
носки своих ботинок, ожидая чуда, которое вызволило
бы меня из неприятного положения.
Наконец, она подняла голову и посмотрела на меня
долгим взглядом, словно не понимая, откуда я взялся.
Я хотел заговорить, но ничего не получалось. Так я и
стоял, переминаясь, как вдруг Ингеборг бросилась мне
на шею. Она плакала, смеялась и топала ногами по
кафельному полу.
С души у меня свалился камень. «Слава богу, —
подумал я, — слава богу, она примирилась, не сердится на
меня, даже радуется, свыклась с мыслью об этом.
Быть может, она все время мечтала о ребенке, а я,
186
дурак, придавал значение ее отказам. Как можно
заблуждаться, как мы мало знаем друг друга».
Разжав объятия, она потащила меня в гостиную и
выдвинула ящик, где лежали ножи и вилки. Движения
ее были торопливы, она тяжело дышала.
Выхватив из ящика желтый листок бумаги, Ингеборг
помахала им у меня перед носом и затанцевала по
комнате. Потом остановилась и снова сунула мне под нос
желтую бумажку.
— Знаешь, что это? — спросила она, переводя дух,
— Нет, — растерянно ответил я.
Впрочем, я видел, что это лотерейный билет.
— Я выиграла пять тысяч! Ты понимаешь? Пять
тысяч! Пять!..
Я оцепенел. Все поплыло у меня перед глазами.
— Ну что ты стоишь, как пень? Делай что-нибудь,
бей посуду, пляши, рычи, прыгай в окно, стукни меня·,
если хочешь. Только не топчись на месте!
Я не двигался.
— Все еще не дошло?
— Нет, — глухо ответил я.
— Я еще вчера хотела сказать тебе, что совпали
пять цифр, но решила подождать, пока не узнаю, сколь*
ко выиграла.
— Да, — пробормотал я, — конечно.
— Разве ты не заметил вчера, как я нервничала?
Даже подала на стол горячую воду вместо кофе.
— Да, конечно.
«Болван,— подумал я с тоской.— А я-то объяснял
ее вчерашнюю нервозность совсем по-иному. Так вот
почему она сейчас плакала, смеялась и душила меня в
объятиях. Какой же я болван!.. А я-то думал... Значит,
она еще не догадывается о ребенке? Вот это хуже
всего. Сказать ей сейчас? Нет, невозможно. Она превра*
тится в фурию. Значит, всему причиной лотерейный
билет!»—Я был невероятно разочарован.
Ингеборг усадила меня в кресло, стащила с меня бе-
тинки, подала шлепанцы и дымящийся кофе. Она была
сейчас прежней Ингеборг далеких месяцев нашего
безоблачного счастья. Постепенно и меня начала согревать
мысль о пяти тысячах, я с уважением поглядывал на
желтый листок, лежавший передо мной на столе. Пять
тысяч. Уйма денег.
187
Усевшись ко мне на колени, Ингеборг целовала меня
и говорила нежнос+и, которых я не слышал уже много
лет.
— Ну,— сказал я,— теперь все заботы побоку.
Такое облегчение, 'будто я только что из-под душа.
Господи, Ингеборг, вот счастье!
В душе я просил у нее прощения: ведь я часто
ругал ее за то, что она тратилась по пятницам на
лотерею.
Я не узнавал свою жену, она помолодела и вела
себя, как шаловливая девчонка. Вспомнив, что я еще не
обедал, она забегала между кухней и гостиной,
принесла мне газету и спросила:
— Рыбы не хочешь? Нет? Ну и хорошо, я
приготовила тебе жареной колбасы.
Появляясь в гостиной, она всякий раз целовала меня
и говорила мне «дорогой». Давно я уже не слышал
этого слова. Я был как во сне: понимал, что происходит,
но не успевал переварить.
! Ингеборг то и дело хватала со стола билет и
смотрела на эту мятую бумажку, как мать на
новорожденного, с огромной нежностью и не вполне еще веря, что
это попискивающее существо целиком принадлежит ей.
«Господи, — думал я, — что будет, когда она узнает, что
ждет ребенка. Дрожь берет при одной мысли об этом.
Но теперь, — утешал я себя, — она уж так не
рассердится, раз есть деньги».
— Теперь мы можем жить без забот, — сказал я.—
Наконец-то, прямо не верится.
— Да, дорогой, наконец-то.
— Сначала оплатим все долги, и еще останется.
Боже мой, Ингеборг, не думать ни о взносах, ни о
судебном исполнителе... И покупать без всяких рассрочек. Да
я готов бежать на улицу и орать от счастья, пусть меня
забирает полиция...
Ингеборг медленно вышла из кухни и, сделав
неестественно большие глаза, тихо спросила:
— Что ты говоришь? Что?! — вскричала она вдруг,
побагровев.
Я поднялся.
— Что с тобой, Ингеборг?
— О чем ты говоришь? Платить долги? Да ты что,
сдурел?
188
Это было настолько неожиданно, что я снова
опустился в кресло.
— Послушай, Ингеборг!..
— Молчи! Неужели ты всерьез полагаешь, что я
растранжирю свои денежки на долги? Такую уйму
денег! Долги заплатим и без этих пяти тысяч. У тебя
котелок варит или нет? С такой суммой надо сразу
приобретать что-то стоящее, иначе деньги в миг разойдутся.
И не заметишь, как останешься на бобах.
— Послушай, Ингеборг, если мы развяжемся с
долгами, то будем спать спокойно.
— Если ты плохо спишь, обратись к врачу. Я даже
согласна, чтобы ты взял бюллетень. Теперь мы можем
позволить себе отдохнуть недельку-две.
Я сидел ошеломленный. Ее шаловливость как ветром
сдуло, лицо опять приняло хмурое выражение,
появившееся с тех пор, как она устроилась на фабрику.
Я поднялся. Передо мной лежал желтый листок,
доставивший мне минутное счастье. Теперь он, этот
проклятый листок, грозил еще глубже затянуть нас в
долги. Что случилось с Ингеборг, что ее ослепило? С
каждым днем она становится все более чужой, единственная
надежда на ребенка. Еще не рожденного ребенка! Когда
он появится, она уже не сможет сторониться меня, ведь
наш ребенок будет такой же частицей меня, как и ее.
Мне не терпится услышать его писк, увидеть первые
мокрые пеленки. Я захотел проверить, не совпадают ли
цифры на проклятом билете с какими-нибудь датами
в нашей жизни, и взял его в руки. Но Ингеборг
бросилась ко мне и, выхватив листок, спрятала в вырез
платья.
— Не трогай! — вскричала она. — Это мое. Я куплю
автомобиль, а ты получишь права.
Лицо ее перекосила гримаса.
— Постой, Ингеборг, дай объяснить...
— Твоя болтовня мне надоела! Я сыта ею по горло!
Ты отсталый, примитивный человек. Ты неудачник!
Живешь мечтами и наслаждаешься. Доволен сегодняшним
днем и не думаешь о том, что будет завтра. Ты не
можешь очнуться даже сейчас, когда слышишь и видишь,
что твоя жена выиграла пять тысяч марок. Ты просто
осел!
Господи, что с ней стало1
189
— Значит, я должен научиться водить машину? —
спросил я.
— Не хочешь, научусь сама. Так даже будет лучше,
смогу ездить, когда захочу. Ну как? Будешь учиться или
нет? Завтра же зайди на курсы и запишись.
— Ладно, — глухо ответил я.
— Да ты, вижу, не очень рад? Подумай,
собственная машина! Соседи лопнут от зависти, когда увидят
ее перед нашим домом. Ты только представь себе их
рожи!
— Да, — сказал я, — представляю.
— Теперь убедился, что я делала правильно, когда
покупала билеты? А ты еще каркал. Господи, до чего
бы мы дожили, если б я тебя во всем слушалась.
Значит, тебя это не радует? Ты просто завидуешь, что
выиграла я. Но к моим денежкам ты не подберешься! Это
мои деньги, мои! — вскричала она.
Я посмотрел на нее. Вот до чего докатилась: уже
не говорит «наши», а только «мое» или «твое».
«Господи, — думал я, глотая остывший кофе, — не
семья, а сумасшедший дом! Пожалуй, разумнее всего
уступить ей сейчас, иначе она не даст мне проходу.
Буду некоторое время со всем соглашаться. А потом
пусть делает так, как взбредет в голову, я и пальцем
не пошевелю. Посмотрим, чем это кончится. Еще
придет просить: «Юрген, пусть все станет по-прежнему, я
знаю, будет тяжело, но я постараюсь».
Уверен, что в один прекрасный день одумается не
только Ингеборг, одумаются многие женщины. Но не
проклянут ли они тогда нас, своих мужей, за то, что мы
их вовремя не остановили? Когда женщина точно знает,
где зарыто ее счастье, она чувствует себя на голову
выше нас, мужчин, ибо мы не сознаем, к чему
стремимся, а если сознаем, то не умеем это выразить.
Стоя, я проглотил несколько ломтей колбасы.
Да, вкусное блюдо приготовила Ингеборг ради
праздничного дня. Она, еще не остыв, гневно поглядывала
на меня.
Я бросился из дому, даже не надев пальто.
— Юрген! — крикнула она вдогонку. — Не уходи!
Ю-уу-р-ге-н!
Я зашагал в сторону центра. У рынка мне
встретились товарищи с нашей старой шахты.
190
Надо было бы ей сказать, что у нее будет ребенок,
но она сочла бы меня, пожалуй, за сумасшедшего.
Пока я разговаривал с приятелями, в ушах у меня
все еще стоял ее пронзительный крик: «Ю-уу-р-ге-н!»...
Вжжик... вжжик... Даже чудно держать эту
игрушечную дрель после огромного, неуклюжего,
грохочущего бура, которым я орудовал в шахте. Мне всегда
почему-то приходилось что-то сверлить или бурить.
Нехватает только стать зубным врачом, там сверла еще
меньше, зато больше заработок.
В понедельник коллеги встретили меня молчанием:
они уже все знали. Никто со мной не разговаривал и
даже не смотрел в мою сторону. Странный народ!
Рассердились на меня за то, что я сорвал новый график.
Дулись часа три.
— Нечего сказать, хорошенького делегата мы
выбрали,— заметил молодой парень, сидевший в дальнем
конце стола.
О фрау Беккер никто не заговаривал. Amigo
рассеянно поглядывал на меня, даже забывал высунуть язык.
Вот это, действительно, плохой признак. Amigo держал
язык за зубами.
Вжжик... вжжик... вжжик. Атмосфера разрядилась
только после того, как чех несколько раз обратился ко
мне по имени. Он приветливо топорщил усы и повторял
свое «dobre, dobre». С чехом никто не хочет портить
отношения, почему — неизвестно, но люди: чувствуют, что
стого делать нельзя. Несколько раз чех даже громко
смеялся, чего с ним, как мне позже сообщили, еще
никогда не бывало. Все были убеждены, что он вообще
не умеет смеяться.
Когда в цехе вновь установилась обычная
атмосфера, Витлих шепнул мне, что я у старика на хорошем
счету. Под стариком он разумел чеха. А между тем я
не обменялся с Енучеком еще ни одной связной фразой.
Вжжик... вжжик... вжжик... Неделя тянулась
медленно, накопилось столько послепраздничной вялости, что
количество брака наверняка превзойдет подсчеты
доктора Фехнера. Работать никому не хотелось, все еще
смаковали рождественское жаркое и жили в предвкушении
Нового года. Этого доктор Фехнер не учел. Цех подре-
191
мывал, порой лень было раскрыть рот. Только ББ не
поленилась сообщить, что ей подарили прозрачную
ночную рубашку розового цвета. Витлих тут же выразил
готовность помочь ей примерить обновку. ББ, не
удостоив его ответом, посмотрела на меня и покраснела.
Скоро опять праздник, и все ждут его, хотя четыре
рождественских дня прошли тоскливо. В сочельник мы
с Ингеборг зажгли на елке свечи. Я листал подаренную
ею книгу с иллюстрациями, а она весь вечер записывала
в толстую тетрадь многочисленные суммы. Я не
проявлял любопытства к ее записям: надо же хоть рождество
провести «гармонично». Часам к десяти жену разморило,
она зевнула и, прихватив с собой гроссбух, легла спать.
Гроссбух и утром лежал у нее под подушкой.
Это было самое тоскливое рождество в моей жизни.
В дрмии и то бывало веселее. Там мы хоть острили, как
висельники, и мечтали о конце войны.
Вжжик... вжжик... вжжик... Оба следователя,
явившиеся ко мне позавчера по делу Поленца, вели себя
вежливо. Правда, они задали мне несколько странных
вопросов, не имевших к Поленцу никакого отношения.
Ингеборг, конечно, перепугалась и устроила мне потом
сцену. Она, оказывается, предвидела, к чему приведет
знакомство с такими людьми, как Поленц.
— Никто не знает, уголовники они или политические.
Как только перейдут границу, все кричат, что их
преследовали: еще бы, беженцам дают пособие, и
немалое.— Ингеборг разошлась. — Тут целый год тянешь
лямку и отказываешь себе во всем, а эти «бедняги» уже
через месяц-другой живут припеваючи. И что теперь
скажут соседи, ведь они знают, что приходили из
полиции.
Она даже всплакнула, и мне показалось, что слезы
были искренние.
Вжжик... вжжик... вжжик... Тысяча пятьдесят раз
в день, и за это тридцать марок. Легкая работа, но
именно потому, что она легкая, и потому, что я лишь
колесико среди колесиков, обязанное вращаться в
соответствии с тем, как хозяин завел и отрегулировал весь
механизм, я нахожу, что в ней нет ничего прекрасного;
тот, кому она досталась, скорее достоин сожаления.
Слава богу, amigo опять заулыбался, и настроение в це*
хе поднялось.
192
Вжжик... вжжик... вжжик... Я рассказал
следователям все, что знал о Поленце и госпоже Полицик, и даже
то, о> чем только догадывался. Я старался припомнить
все как можно точнее, особенно тот разговор с
Поленцем, которому следователи, по-видимому, придавали
большое значение. Они попросили меня зайти после
Нового года подписать протокол, дело, мол, неспешное,
следствие только началось, в Восточной зоне тоже
собирают материалы... До чего же они вежливо
разговаривают. Поразительно.
Вжжик... вжжик... вжжик...
— Теперь ты связался еще и с полицией на нашу
голову,— всхлипывала Ингеборг.
В полицейских она видит олицетворение зла,
особенно, если они в штатском.
Вжжик... вжжик... вжжик... Послезавтра Новый год.
Не знаю еще, как выберусь из старого. По радио опять
выступают с громкими речами, из года в год одно и то
же. Хоть бы кто-нибудь из этих политиков сказал:
«Дорогие люди! Напейтесь допьяна! Кто знает, сможете ли
вы это сделать завтра»... Нет, никто так не скажет, ибо
это непопулярно, а что непопулярно, то подрывает
репутацию или по меньшей мере карьеру.
Двадцать марок, полученных за субботнее заседание,
я придержал для себя: надо же в конце концов иметь
карманные деньги, под Новый год они быстро
уплывают. А что, если купить детское приданое? Скажем,
пеленки или ползунки?
Вжжик... вжжик... вжжик. Неожиданно меня осенило.
— Силло,— спросил я amigo, — что ты делаешь на
Новый год? Поедешь домой, в Реджо?
Он уставился на меня.
— В Реджо? No, no, nix. Реджо далеко, много денег.
Я остаюсь здесь, в лагере. Пить, спать, кино.
— И прогулки по вокзалу, — добавил я, смеясь.
Он тоже рассмеялся.
— Силло, — сказал я, — а не хочешь ли провести два
дня у меня? Переночуешь, места достаточно. Жена
будет рада. Ну как?
Вжжик... вжжик... вжжик... Amigo бросил работу и
восторженно посмотрел на всех. Потом заерзал на
стуле, вскочил и, воздев руки, весело закричал:
— Я должен... должен... приходить... к тебе...
193
Вжжик... вжжик... вжжик...
—* Обязательно приходи, — сказал я....
Он вдруг подскочил на месте и как сумасшедший
запрыгал по цеху, восклицая: «Mamma mia, о, mamma
mia>>. Подлетев ко мне, сделал еще один замысловатый
пируэт и чмокнул меня в щеку.
— Ты amigo! Ты amigo, о, mamma mia, mamma
mia! — вскричал он и затанцевал по цеху, напевая
какой-то итальянский твист.
Чех, широко улыбнувшись, взглянул на меня.
— Dobre, dobre, — сказал он.
Витл-их заметил, что мне трудно будет отвадить
Силло, если он побывает хоть раз у меня дома.
— Ты не знаешь, как они привязчивы. Конечно, с
ними весело, но со временем их привязчивость
начинает действовать на нервы.
— Как жалко, что у меня нет своей комнаты, —
воскликнула ББ, — а то бы я пригласила его к себе.
— Ну, конечно, — откликнулся Витлих, — уж он бы
примерил тебе рубашечку!
Силло, остановившись, испуганно посмотрел на ББ.
— О, ночная рубашка хорошо, я приходить —не
хорошо для тебя.
Все рассмеялись.
Вжжик... вжжик... вжжик... Следователи
интересовались также, знаю ли я об отношениях между Поленцем
и повесившимся Боровским. Я сообщил им то, что знал,
в общем, не так уж много, ведь слышал-то я об этом
от Поленца, а не от Карла. Следователи угостили меня
сигарами. Я злился на Ингеборг, что она не угостила
их ни кофе, ни рюмкой шнапса. Скорее всего, они бы
отказались, но Ингеборг могла по крайней мере
предложить. Съежившись в кресле, со злым выражением ли-
ц$ она следила за вопросами и ответами. Слава богу,
хоть молчала. Когда следователи обратились к ней с
каким-то вопросом, она резко заявила, что не имеет ко всей
этой истории никакого отношения, это касается только
ее мужа. Я заметил, как следователи ухмыльнулись.
Вжжик... вжжик... вжжик... Когда они ушли,
Ингеборг стала кричать, что «всю эту кашу заварили
Вероника с Рози». Она опять начала всхлипывать, но на этот
раз я не мог понять, плачет она на самом деле или
притворяется.
194
— Эти бабы со скуки не знают, что выдумать! —
вопила она. — От них можно ждать любой гадости!
Вжжик... вжжик... вжжик... Лучше бы она составила
список долгов. Но она боится увидеть сумму, которая
получится. Наконец-то нам вручили под расписку
требование о немедленной уплате ста сорока шести марок.
Ингеборг перепугалась, а я обрадовался. Может, хоть
судебный исполнитель образумит ее, все-таки ей будет
стыдно, если он к нам нагрянет. Однако вечером она
заявила, что погасит этот мелкий должок за счет своего
рождественского пособия. Она успокоилась и пришла
в хорошее расположение духа. Должно быть, такие
случаи ее только чуть встряхивают, а потом она опять
принимается за старое. Окати я ее ведром ледяной воды,
она, пожалуй, только удивилась бы, отфыркалась
и спросила: «Почему не теплой»?
Вжжик... вжжик... вжжик... Не знаю, что и делать,
новая беда. Квартира у нас собственная, на улицу нас
выставить не могут, но сейчас, когда я больше не
работаю на шахте, угольная компания потребовала вернуть
ссуду в пять тысяч марок, которую мне тогда выдали
на строительство. Они, конечно, понимают, что никто не
выложит им пять тысяч наличными, поэтому придумали
хитрый способ: с первого января взимать по сто
двадцать марок в месяц. Куча денег, а месяц проходит
быстро. В уведомлении, которое нам вручили под
расписку, было сказано, что в случае неуплаты нас выселят.
Так компания зарабатывает денежки. Да я бы плюнул
на эту квартиру, но где сейчас найдешь другую? А
потом, сколько собственных средств мы в нее вложили...
Вжжик... вжжик... вжжик... На этой работе есть
время подумать. При желании можно было бы даже
установить подставку для книги и читать. Руки все делают
автоматически.
Вжжик... вжжик... вжжик... У amigo все еще
торжествующее выражение лица. Он будто хочет сказать:
«Смотрите, я тоже человек, а не какой-нибудь
замарашка-итальянец. Я тоже буду встречать Новый год в
семье».
Вжжик... вжжик... вжжик... Следователи спрашивали
меня, не говорил ли когда-нибудь Боровский о
Поленце? Я отвечал отрицательно, удивляясь, что они без
конца повторяют один и тот же вопрос. И еще они спро-
195
сили, не подозреваю ли я, кто мог тогда донести на
Карла.
— Нет, — сказал я, — подозрений у меня нет, но по:
лавина людей на шахте знала, что надписи делал Карл.
Его предупреждали, а он делал свое, как непослушный
ребенок. Но почему вас это интересует? — спросил я.—
Ведь это не имеет к Поленцу никакого отношения, он
•жил в то время в Оппельне.
■■■— Конечно, конечно,— ответили они,— мы просто так
поинтересовались.
Вжжик... вжжик... вжжик... Вот уже несколько дней
подряд ББ многозначительно улыбается мне, а когда
наши взгляды встречаются, она смущается, краснеет и
принимается за работу как одержимая. Надо будет
спросить ее, в чем дело. Может, у нее неприятности и
ей хочется посоветоваться со мной?
Вжжик... вжжик... вжжик... Amigo никак не
успокоится. От радости он даже забывает о работе. Чех его
одергивает, но это мало помогает. Amigo носится по
цеху и целуется со всеми, кто попадется на пути.
— О, mamma mia, mamma mia! — восклицает он.—
О, amigo Юрген!
Вжжик... вжжик... вжжик... После Нового года нам
выдадут халаты пастельных тонов. Этим, вероятно, мы
обязаны доктору Фехнеру: он говорил, что нежные тона
повышают работоспособность. Людям вроде доктора
Фехнера приходят в голову какие-то странные идеи.
Будем расхаживать, как попугаи. Но вообще идея
занятная, а то уж слишком мрачно у нас в цехе. У
каждого будет халат определенного цвета, позже выдадут
запасной, чтобы халаты можно было менять...
Вжжик... вжжик... вжжик... Все время вспоминаю
тех четырех членов производственного совета. Такие
деятели оказывают плохую услугу профсоюзу,
начинаешь подозревать его в продажности. Чего доброго,
настанет пора, когда придется выступать уже не против
предпринимателя, а против своего собственного
профсоюза... Наши представители что-то уж очень раскоман-
довались, они еще отделываются отговорками, что
заботятся о нашем же благе, но кто поручится, что не о
своем? Они превращаются в бюрократов... Им вообще не
приходит в голову, что за письменный стол их усадили
только временно. Пожалуй, профсоюзные представители
196
не должны быть штатными служащими, а как депутаты
парламента избираться каждые четыре года, и не
уполномоченными— всеми рабочими. А они вечерами за
игрой в кегли или в карты втихомолку делят между собой
портфели, в то время как рабочий стоит в стороне,
полагаясь на коллективный договор, веря в то, что его
интересы честно защищают. Не мешало бы профсоюзным
деятелям поговорить с народом, порасспросить тех, кто
при слове «профсоюз» только рукой машет, а таких с
каждым днем становится все больше. Господи, что же
будет, если нам придется выступать против собственных
представителей, потому что они превращаются в бонз.
Придется расплачиваться за угощение, когда очнемся от
экономического чуда.
Вжжик... вжжик... вжжик... С Иреной Полицик
мы встретились на вокзале в Камене. Она была в
отчаянии: Поленц наговорил на нее бог знает что. Она
чувствует, что следователи стали относиться к ней
недоверчиво.
— Я им говорю: «Но ведь я рассказала вам все, что
мне известно. Больше рассказывать нечего! Я объяснила
вам, что покинула ГДР не потому, что мне угрожали
или я была не согласна с той системой, я просто
уехала, потому что не могла выдержать»... Они только neper
глянулись и пожали плечами. Господи, что это за мир1
Кругом сплошное недоверие. Я надеялась, что обрету
покой, а теперь все начинается сначала. Хотя, в сущ*
ности, это никогда не прекращалось. Следователи
пожимают плечами, когда я спрашиваю, верят ли они мне.
Переглядываются и качают головами, будто я
рассказываю небылицы. Что же мне делать, господин
Форман?
Она умоляюще смотрела на меня. Было очень
холодно, но я не хотел заходить в вокзальный ресторан:
еще встретишь каких-нибудь знакомых, потом сплетен
не оберешься. Так мы и продолжали стоять на
автобусной остановке у рынка.
— Говорите правду, госпожа Полицик,— посоветовал
я. — Только правду.
— Ах, — вздохнула она, — если бы не существовало
так много правд, скорее поверили бы мне, чем Поленцу.
— Не надо зря волноваться,— оказал я, — все
устроится.
197
Я легонько похлопал ее по плечу и зашагал домой.
Ирена догнала меня и схватила з,а руку.
— Постойте, — умоляла она, — ради бога, не
уходите! Мне нужно выговориться, не могу же я рассказывать
об этом детям.
Ее низкий голос привлекал внимание. Прохожие
оборачивались на нас. Ее горячность смущала меня.
— Только бы, наконец, вырваться из Массена, —
продолжала она,— не зависеть от этого пособия, всякий раз
тебе дают его как милостыню. Начать бы работать,
жить по-человечески, зарабатывать своими руками.
Тогда совсем иначе относишься и к людям и к государству,
в котором живешь... Надеюсь, госпожа Боровская
поможет мне.
—» Конечно, — сказал я. — Она добрая и
хозяйственная женщина, позаботится о ваших дочках.
Вжжик... вжжик... вжжик... Господи, неужели мне
придется всю жизнь провести в этом помещении?
Каждое утро натягивать голубой, красный, желтый или зе**
леный халат, брать в руки дрель и сверлить в пластине
пятнадцать отверстий, так и не зная, для чего это
делается... Каждый день одно и то же, те же движения*
тот же монотонный шум в цехе. Пальцы и руки живут
сами по себе, голова — сама по себе, а цех — сам по
себе. Человек перестает быть единым целым. При такой
работе он начинает делиться на части: голова,
туловище, руки. Восемь часов эти части существуют врозь, по
окончании работы постепенно срастаются и только на
улице превращаются снова в единое целое.
Не всегда удается собрать их сразу. Нередко голова
продолжает часами жить сама по себе. А утром — то
же самое, только наоборот. Неужели такова уж наша
жизнь, что левая рука не знает, что делает правая? Или,
может, не хочет знать? Это хорошо видишь, когда
наблюдаешь за ББ и Эрикой. Они работают как
одержимые, аккуратно, добросовестно и быстро. Но их глаза
блуждают по цеху, не воспринимая людей и предметы;
И мысли девушек тоже, наверное, уносятся далеко-
далеко, за Рурскую автостраду, через холмы Зауэрлан*
да и Рурскую долину к высоким гребням
Доломитовых гор или к садам на берегу озера Гарда... Ну что,
это за жизнь? Не два. же человека живут в одном
теле!
198
Вжжик... вжжик... вжжик... По дороге с вокзала я
часто встречаю теперь молодого пастора, который
помогал мне когда-то вытаскивать из могилы Поленца.
Мы останавливаемся поболтать о погоде, о неожиданных
холодах или о нехватке угля, хотя его полным-полно на
складах. Пастор ни разу не пригласил меня зайти в
церковь, он никогда не заговаривает об этом, а когда
я спрашиваю, откуда он идет, отвечает:
— Из общины, она велика и глуха.
Звучит оригинально. На днях он поинтересовался,
как мне живется, как работается на новом месте. Что я
мог ему сказать? Сказал, что сегодня было как вчера,
а завтра будет как сегодня. Он удивленно посмотрел на
меня, кашлянул и что-то пробормотал. Прощаясь,
заметил:
— Ну да, если жить только буднями, один день
всегда похож на другой.
Вжжик... вжжик... вжжик... Странные слова он
говорит. Впрочем, я тоже иногда вижу странные вещи,
особенно, когда лежу на диване и вглядываюсь в
абстрактный рисунок обоев. Вижу, как вдруг проступают
картины. Огромная гора человеческих тел. Из этой горы
вырывается множество огоньков, каждый огонек горит
там, где у человека сердце. Эти огоньки разгораются в
гигантское пламя, оно поднимается все выше и выше
над дымящими городами, и в его ослепительном жаре
угасают светляки огнедышащей индустрии...
Вжжик... вжжик... вжжик... Через четверть часа
рабочий день кончится, и — опять три выходных. Жалею,
что пригласил Силло, не удастся подремать после обеда
и почитать книгу, которая ждет меня в шкафу. Черт,
не надо было приглашать, не будет теперь покоя. А
может, и хорошо, что пригласил, узнаю, как он живет,
только буднями или чем-нибудь еще, почему ему удается
всегда быть веселым. Быть может, узнаю его мир — не
тот, в котором он работает, а тот, в котором живет.
И еще, возможно, узнаю, как у него обстоит дело с
головой и руками на работе: существуют они врозь или
вместе, и не кажется ли ему, что восемь часов подряд
в нем живут два человека. На шахте во мне тоже было
два Адама, но там один сменял другого: один Адам был
под землей, а другой — на поверхности. Вместе они
никогда не встречались. Спрошу, доволен ли Силло своей
199
судьбой... Хоть он и говорит, что в Реджо вечное
солнце, но ведь одним солнцем сыт не будешь...
Вжжик... вжжик... вжжик... Было уже поздно, я
собирался спать, когда раздался звонок. Пришел Фриц
Ленерц. Он так и не получил места вахтера в Массене
и устроился табельщиком на соседней шахте.
— Спокойная работа, — сказал он. — Знаешь, я не
захотел оставаться в Массене. Не потому, что работа
там была труднее. Не хотелось видеть эту другую
Германию.
— А сейчас? — спросил я.
— Сейчас?— Он рассмеялся. — Сейчас я вижу нашу
Германию сквозь немытые стекла проходной будки.
Понимаешь, там все ходят, все, кто был начальником во
время войны и избивал русских пленных стальными
тросами. Они выкручивали русским уши. Да, тогда была
ночь, немилосердная ночь. После войны повыгоняли
тех, у кого был членский билет нацистской партии.
Многие, может, ничего и не делали такого, вступили в
партию, чтобы семье было что жрать. Но других,
которые не состояли тогда в партии, не выгнали, они так
и остались штейгерами, фарштейгерами, бригадирами...
А ведь как они измывались над русскими
военнопленными, обращались с ними будто со скотиной, да что
там, со скотиной обращаются лучше.
— Фриц, — сказал я. — Что ты мучишь себя
воспоминаниями? Это было так давно, что непохоже на правду.
— Нет, не говори, я-то вижу, как сейчас они идут
через проходную. Не бочком, нет. Подняв голову, как
добропорядочные граждане. Но под курткой у каждого
кусок стального троса, они-то не знают об этом, а я
знаю. Дай им волю, они и нас изобьют. Я видел
однажды, как били русского, хотел вмешаться, но фарштейгер
только глянул на меня и сказал: «В лагерь захотел?
Саботажник!» А нынче, попомни мои слова, как только
изменится положение на рынке труда, они скажут: «Ну,
если вы не желаете...» Методы остались прежними, люди
те же. С ума можно сойти. Всякую мелюзгу с
нацистскими билетами посажали за решетку, они, мол, если
не активно, так пассивно помогали режиму. А что
творили всякие начальники? Они хоть и не были членами
партии, зато активно помогали режиму. Но их не
судили, и никто не заикается об этом, они, мол, выполняли
200
свой долг, народ им благодарен за то, что получал уголь
в трудное время. О стальных тросах никто уже не
вспоминает. Я готов проломить им башку, когда вижу, как
они подкатывают в своих лимузинах к воротам и так
вот, небрежно, пальцем, командуют мне: открывай,
мол... В душе они остались коричневыми.
Я спросил Фрица, почему он разглядел это только
теперь.
— Понимаешь, — сказал он, — я все время был под
землей. Там забываешься. А теперь, теперь их лица
освещает не тусклый огонек шахтерской лампочки, а
солнце, вот черты и проступают резче...
— Что же ты собираешься делать?
— А ничего. Уже ничего не поделаешь, Юрген, все
списано за давностью. Если попробуешь вытащить их
на свет, тебя в лучшем случае осмеют. Потребуют
доказательств. А у меня доказательств нет, есть лишь то, что
я видел сам или слышал от других. Но бывшие
мучители среди нас.
Было уже поздно, когда Фриц собрался уходить.
— Юрген, — сказал он в дверях, — до чего мы
докатились, чем все это еще кончится?
Вжжик... вжжик... вжжик... У моей жены долги плюс
мечты о том, что с приобретением машины все
изменится. Ирена Полицик мечтает о работе, она верит, что,
получив работу, снова станет человеком. А некоторые
думают, что смогут стать людьми, если не будут
работать. Вот и попробуй тут разберись. Вероника
беспокоится за дочь и уже думает о детях чужой женщины,
которых ей отныне будет дозволено опекать, чтобы
чужая женщина могла устроиться на работу и снова
стать человеком. Карл Боровский заботился о разделе
мира, а потом взял и повесился. А может, он только и
мечтал о смерти? У Рози все заботы и мечты связаны
с новой жизнью в городе. Поленц озабочен сейчас тем,
как обелить себя и очернить других, и мечтает о жизни
не за решеткой. Директор обеспокоен браком в
утренние часы и мечтает ввести новый график, чтобы
избежать убытков. Члены производственного совета
беспокоятся о восьми тысячах марок, которые им ссудили
на домики, и, вероятно, мечтают списать этот долг. Мне
не дает покоя однообразие моей жизни и мечта о
ребенке..,
201
Вжжик... вжжик... вжжик... Молодому пастору легко
рассуждать, его жизнь не монотонна, и правая рука его
всегда знает, что делает левая, он и его профессия —
единое целое.
Вот и звонок. Конец. Три дня отдыха.
Обмениваемся рукопожатиями, желаем друг другу
счастливого Нового года и расходимся.
Чех подает мне руку, но не произносит «dobre».
Странно.
Я объясняю Силло, как ему добраться ко мне. Он
благодарит, не жалея слов и жестов, и я уже не
раскаиваюсь, что пригласил его.
ББ улыбается мне, краснеет и уходит, покачивая
бедрами.
Эрика старается ступать правильно, но это ей не
удается.
Я медленно бреду по городу, голова и тело опять
едины.
У витрин универмага «Витгоф» останавливаюсь и
разглядываю детские коляски и цены. Да, недешево. Но
ничего!
За окном вагона падает густой снег. Колеса
постукивают: вжжик... вжжик... вжжик...
ОБ АВТОРЕ
В одном из западногерманских журналов роман «Светляки и
пламя» печатался недельными порциями под названием «После нас
хоть потоп». Действительно, отчаяние и безразличие нередко
охватывают людей, перемалываемых безжалостными жерновами
капиталистической эксплуатации. Многие страницы книги и впрямь звучат
безысходно. Однако издатели журнала вряд ли стремились
подчеркнуть эту сторону произведения. Скорее то была попытка
перелицевать на свой лад его социально-политический смысл. «После
меня хоть потоп»... Несложная философия жизни ограниченных,
безответственных существ. А отсюда логически вытекает и
философия эксплуататоров: «Знай свой шесток» или даже — «Каждому
свое».
Подобные сентенции неизменно определяют в капиталистическом
обществе отношение к человеку труда — высокомерие, прикрытое
лицемерием. И по сей день здесь все еще приходится убеждать, что
рабочий — не бездушный робот, он Человек, страдающий и
тупеющий от бесправия и потогонной системы, но никогда н« теряющий
теплящегося в сердце огонька надежды на счастье, справедливость,
человеческое достоинство.
«Светляки и пламя» — второе произведение Макса фон дер
Грюна, писателя необычной судьбы. Дворянская приставка «фон»
досталась ему от дальних предков. Сам же он выходец из трудовой
семьи. Отец его был сапожником, погиб в гитлеровском концлагере
Дахау. Безусым юношей Макс попал на фронт, затем в плен. После
войны стал забойщиком на шахте в Руре, тринадцать лет
проработал под землей.
203
Испытывая влечение к литературе, Макс фон дер Грюн вошел
в любительский кружок рабочих прозаиков и поэтов, возглавленный
директором дортмундской библиотеки Фрицем Хюзе. Членов
кружка, известного как «Группа-61», или «Дортмундская группа»,
объединяло общее стремление — писать о человеке труда, о рабочей
жизни. Здесь, в кружке, Макс фон дер Грюн познакомил товарищей
со своей первой повестью из шахтерской жизни «Люди во тьме
двойной ночи».
Главный герой этого произведения забойщик Станислаус Гу-
балек противопоставлен студенту-богослову, стажирующемуся на
шахте в качестве будущего «попечителя шахтерских душ». В
повести отчетливо прозвучали социальные проблемы, и этим она резко
выделилась из общего потока «горняцкой» литературы.
Но первое произведение рабочего-писателя, продолжавшего
трудиться в шахте, опубликованное в 1962 году, осталось почти
незамеченным прессой. Зато роман «Светляки и пламя» сразу стал
сенсацией. Этому способствовал разразившийся вокруг романа
скандал. С одной стороны, книга не понравилась некоторым тогдашним
профсоюзным боссам описанием поведения тех членов
производственных советов, которые вершат политику, пресловутого «социаль^
ного партнерства». С другой стороны — предприниматели
«обиделись», раздраженные показом подлинной капиталистической
действительности.
Когда в январе 1964 года я впервые встретился с Максом фой
дер Грюном, он, вспоминая о том времени, заметил: «Со мной
не особенно церемонились. Промышленники прямо пригрозили: «В
один прекрасный день мы с вами сочтемся». Я всегда думал, что
нет ничего опаснее профессии горняка, а теперь убедился, что
писать у нас тоже небезопасно».
Мы сидели в маленькой квартирке писателя. Он тогда жил
точно в таком же, как в романе, рабочем поселке близ Дортмунда.
Неподалеку находилась шахта, к которой вела точно такая же, как в
романе, железнодорожная насыпь; точно так же выглядела улица с
рядами одинаковых серых домов и крохотными пятачками-садиками.
Передо мной сидел коренастый мужчина с приветливым лицом,
на котором выделялись живые серые глаза под густыми, чуть
рыжеватыми бровями. Весь его облик, узловатые трудовые руки,
открытая манера разговаривать выдавали в нем рабочего человека,
такого же, как герои его романа, обитатели соседних домов. Лишь
одно отличало его дом от других горняцких жилищ, в
которых мне приходилось бывать. Это — обилие книг. Они заполнял»
стеллажи и стол в комнате, превращенной в писательский
кабинет.
204
Макс фон дер Грюн, практически «выжитый» с шахты из-за
своего нашумевшего романа, стал литератором-профессионалом.
Раскрылся его самобытный талант. В «большую литературу» ФРГ
вошел новый писатель, художественные произведения которого
открыли читателю малоизведанный мир рабочей среды. Это
произведения оригинальные и социально острые, сорвавшие многие
маски.
Роман «Светляки и пламя» можно назвать многоплановым.
В нем с реалистической беспощадностью обнажена сложная
система демагогии, условностей, политического засилья, подтасованных
идеалов мещанского счастья и аполитичности — паутина, в которой
бьется в капиталистическом мире рабочий человек.
Испытывая глухое недовольство, он не находит выхода: цепко
держат долги, страх перед безработицей, иезуитство
«социального партнерства». За лицемерной ширмой слов о демократии и
общем благе диктуют свои законы тузы промышленно-финансового
капитала.
Рабочий в ФРГ далеко не всегда понимает, в чем корни этого
произвола. В 60-е годы в Западной Германии были закрыты десятки
шахт, около двухсот тысяч горняков потеряли работу. Часто, как
и в романе «Светляки и пламя», рабочие выступления в защиту
жизненных интересов и права на труд не находили должной
поддержки.
Конечно, было бы неверно переносить то, что описывает Макс
фон дер Грюн, на все производственные советы, на всех
профсоюзных активистов, среди которых есть много настоящих и
неподкупных рабочих вожаков, в том числе коммунистов, горой стоящих за
интересы трудящихся. Но автор, очевидно, и не собирался красить
все в черный цвет: разоблачительным «уклоном» романа он как бы
хотел подчеркнуть ту истину, что существующая система рабочих
представительств на западногерманских предприятиях не дает
действенной защиты от произвола капитала. (Кстати, с начала 70-х
годов в рабочем движении ФРГ все острее ставится вопрос о
расширении демократических прав трудящихся на предприятиях и о
предоставлении производственным советам больших прав.)
Естественно, что на практике так называемое «социальное партнерство», то
есть сотрудничество с капиталом, нередко превращается в орудие,
сковывающее борьбу рабочего класса в ФРГ.
Монополистический капитал внушает рабочему «идеал»
покорного, примерного, безропотного труда, постепенного «обогащения»,
которое на деле оказывается дополнительными кандалами. Человек
становится рабом вещей, мнимого благополучия и в погоне за этим
окончательно теряет себя. Роман «Светляки и пламя» разоблачает
205
одну из самых хитросплетенных притч пресловутого
западногерманского «экономического чуда», показывает его подоплеку и
социально-политические последствия.
Герой романа Юрген Форман ищет не легкой жизни, не легкого
труда, а справедливости и уважения к рабочему человеку. Он
работает сначала на шахте, затем на заводе, на строительстве,
наконец, на фабрике, где, кажется, достиг желаемого: он на «чистой»,
хороша оплачиваемой работе, среди хороших товарищей. Но и
здесь Форман видит и понимает, что рабочий лишен возможностей
проявить себя, лишен уважения, подлинно человеческого
отношения к себе. Опять тупик, опять заколдованный круг —
заколдованный круг капиталистического общества, не допускающего ничего
иного.
«В конце концов все упирается в общество,— говорил мне
Макс фон дер Грюн. — Общество, в котором живет Юрген Форман,
давит и закабаляет человека труда, и я не собирался делать из
этого тайны. Я считаю, что никто из писателей не вправе уходить
от социальных и политических проблем. Они окружают нас, и, если
не бежать от правды, нельзя иначе побудить людей к мысли об
их активной роли в жизни и об их гражданской ответственности
за будущее».
Социальные и политические проблемы, о которых говорил
писатель, поставлены и в его рассказах, сборник которых вышел в
1965 году, и в его романе «Два письма Поспишилу» (1968 год),
главным героем которого стал тоже рабочий-электрик Пауль Поспи-
шил, от лица которого и ведется повествование.
В этом романе Макс фон дер Грюн продолжает свою
тему. Он продолжает ее, откликаясь на острые политические вопросы
развития ФРГ, и в своей первой пьесе «Чрезвычайное
положение». То же можно сказать и о написанных им в последние годы
нескольких телевизионных пьесах, например «Конец работы»,
«Пересменка», новой книге «Когда гаснут огни». Сейчас писатель
работает над большим романом, посвященным, как и все предыдущие
произведения, проблемам людей труда.
Политическая злободневность — одна из примечательных черт
творчества западногерманского писателя. Предупреждающе звучит
его голос против любых проявлений нацистского прошлого, которые
все еще дают себя знать, и в существовании НДП, и в вылазках
правоэкстремистских групп, в реваншистской пропаганде землячеств.
Произведения писателя срывают рекламный лак с жизни
западногерманских трудящихся, показывают ее изнанку. И тем не
менее роман «Светляки и пламя» звучит в конечном счете
жизнеутверждающе. Несправедливости, порожденной капиталом, жестокой,
206
ломающей людей эксплуатации, целям буржуазной реакции Макс
фон дер Грюн противопоставляет стремление к правде,
неистребимую внутреннюю силу рабочих, которая рано или поздно
воспылает ярким светом. Вспомним символический сон героя романа:
«Огромная гора человеческих тел. Из этой горы вырывается множество
огоньков, каждый огонек горит там, где сердце. Эти огоньки
разгораются в гигантское пламя, оно поднимается все выше и выше над
дымящими городами»...
И в самом деле, нет ничего могущественнее соединенного жара
сердец и воли рабочего класса, в бурном клокотании которого в
нашу эпоху куется новый облик жизни и мира.
Евгений Григорьев
Издательство ВЦСПС, Профиздат —
ул. Кирова, 13.
Макс фон дер Грюн. СВЕТЛЯКИ И
ПЛАМЯ. Роман. Пер. с нем. М.,
Профиздат, 1971.
208 стр.
Г.92
Редактор Д. М. Хвостова
Художник В. И. Чистяков
Худ. редактор А. П. Ε ρ а с о в
Техн. редактор Л. Н. Лялина
Подп. к печати 3/1II 1972 г.
Бумага тип. № 1 84Х1087з2=6,5 п. л.
(Усл. 10,92 л.) Уч.-изд. .10,84 л.
Тираж 75.000 экз. Цена 67 коп. Зак. 325
Объявлено в Тематическом плане Проф-
издата.
1-я типография Πрофиздата, Москва,
Крутицкий вал, 18t