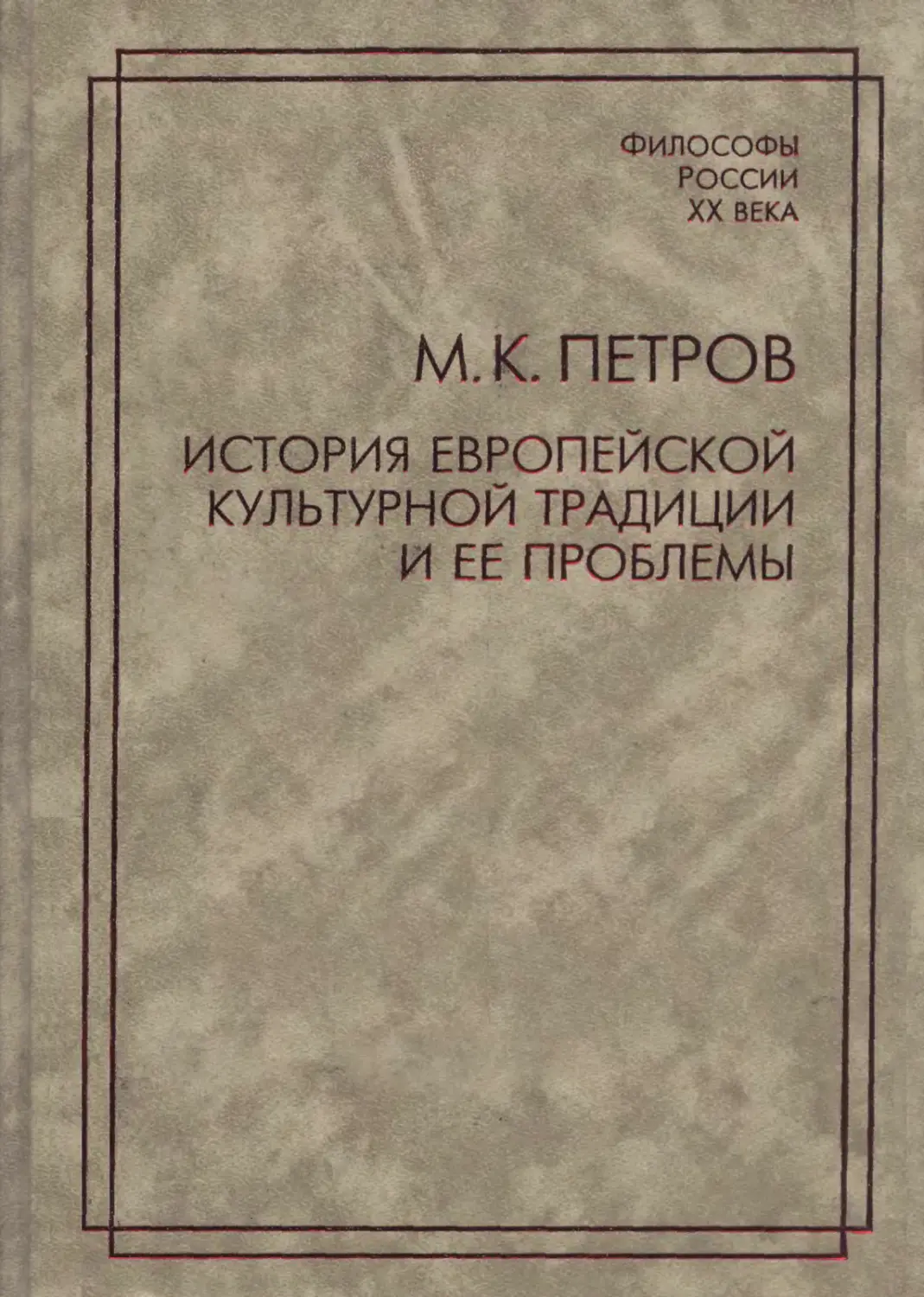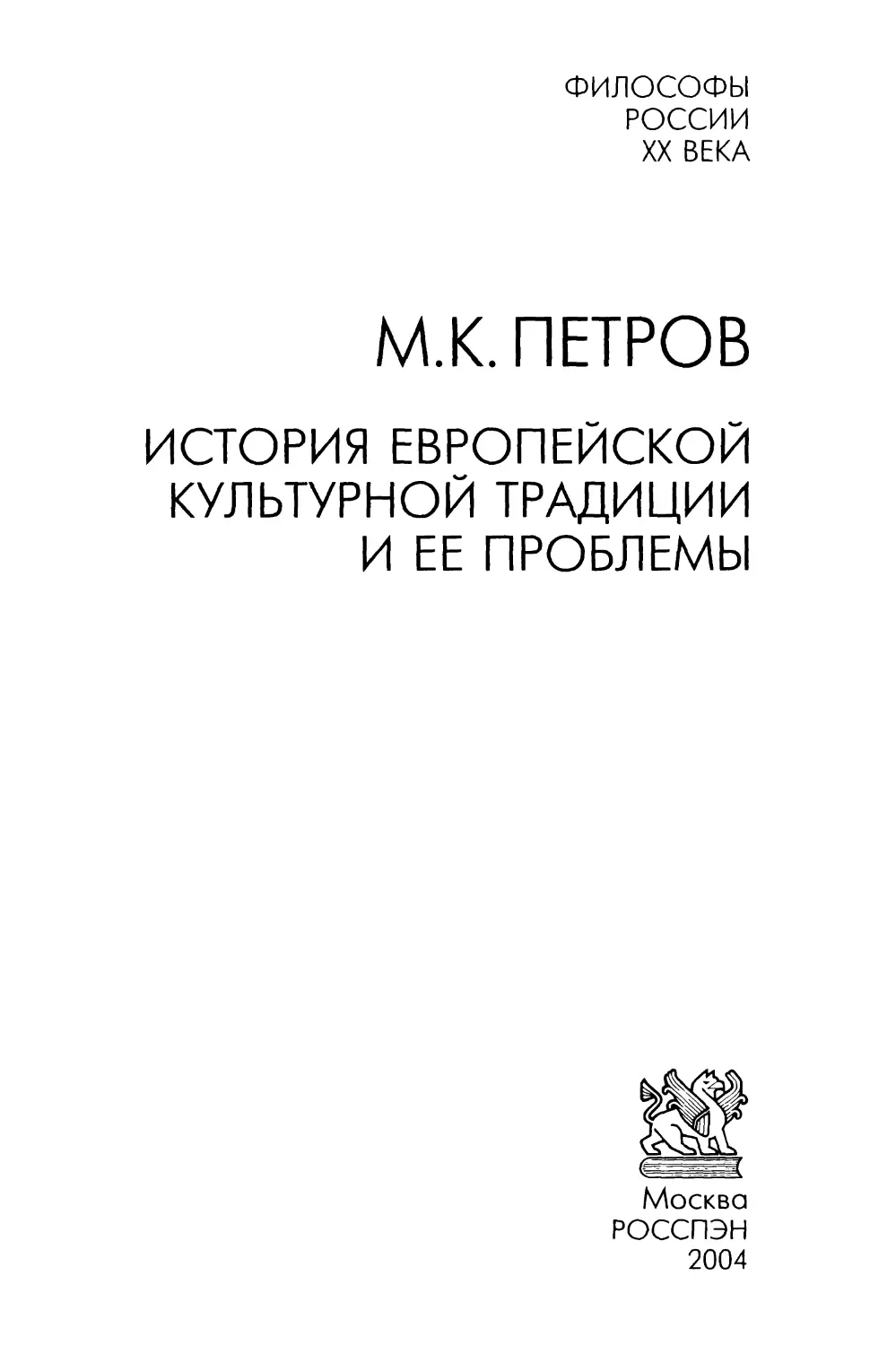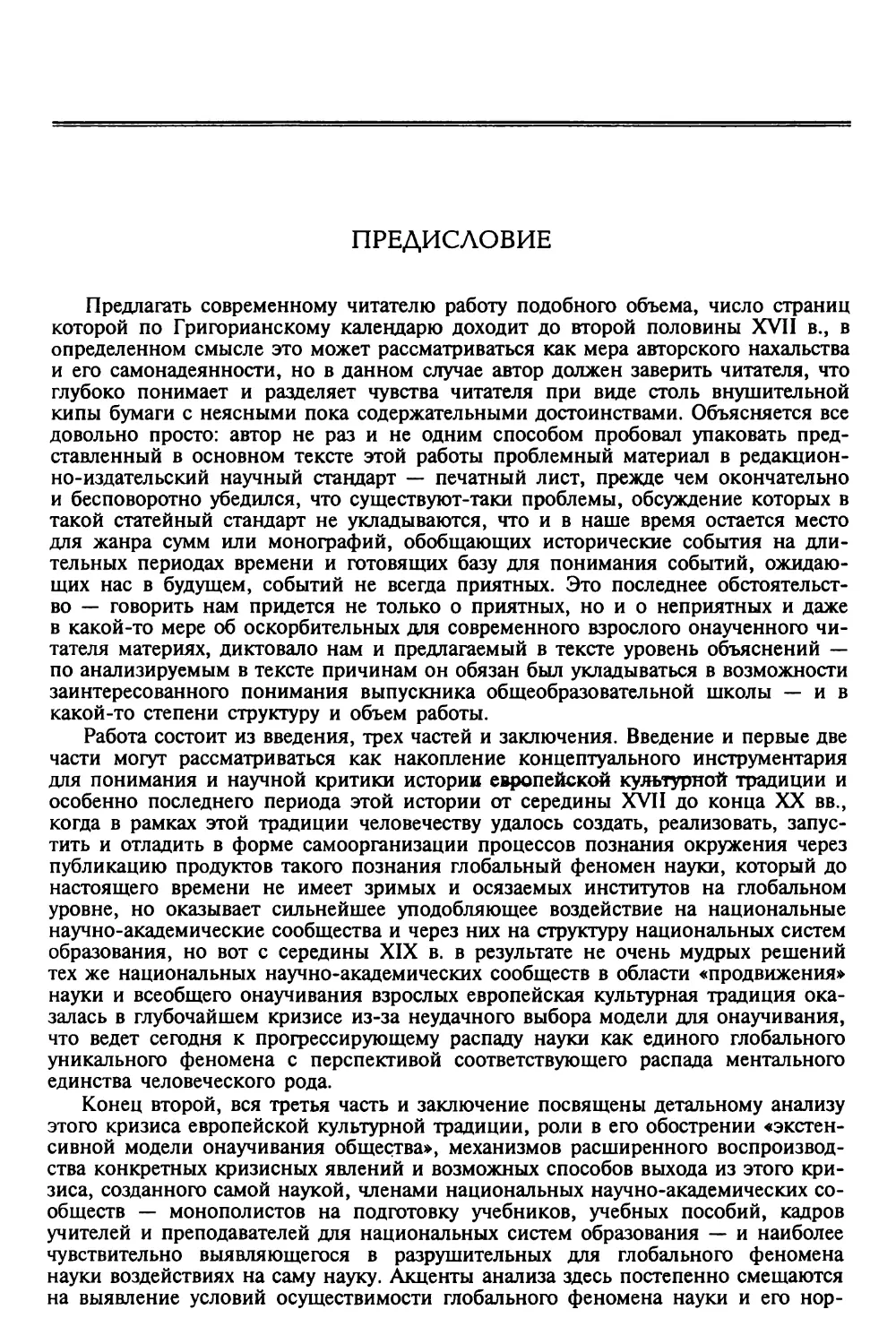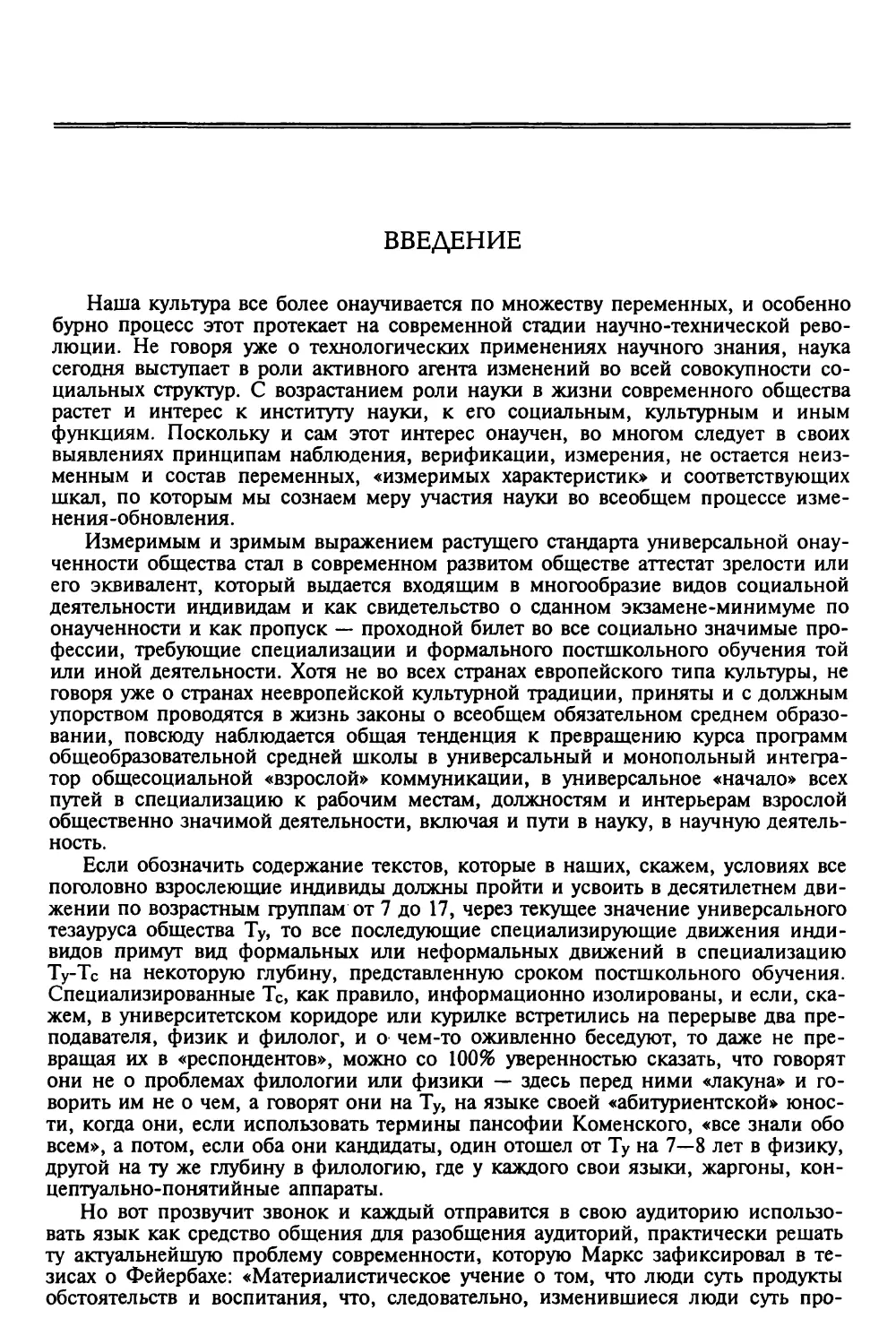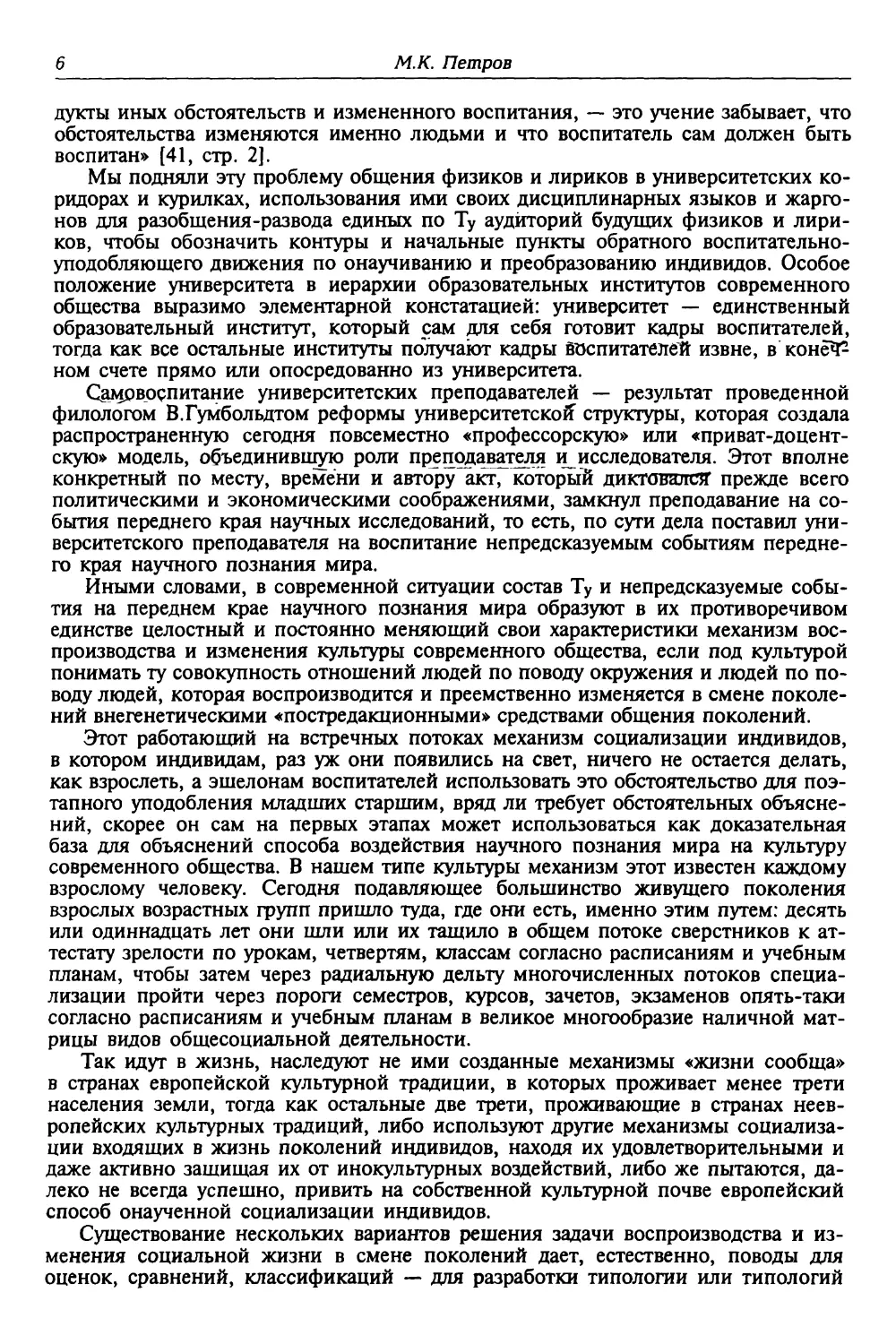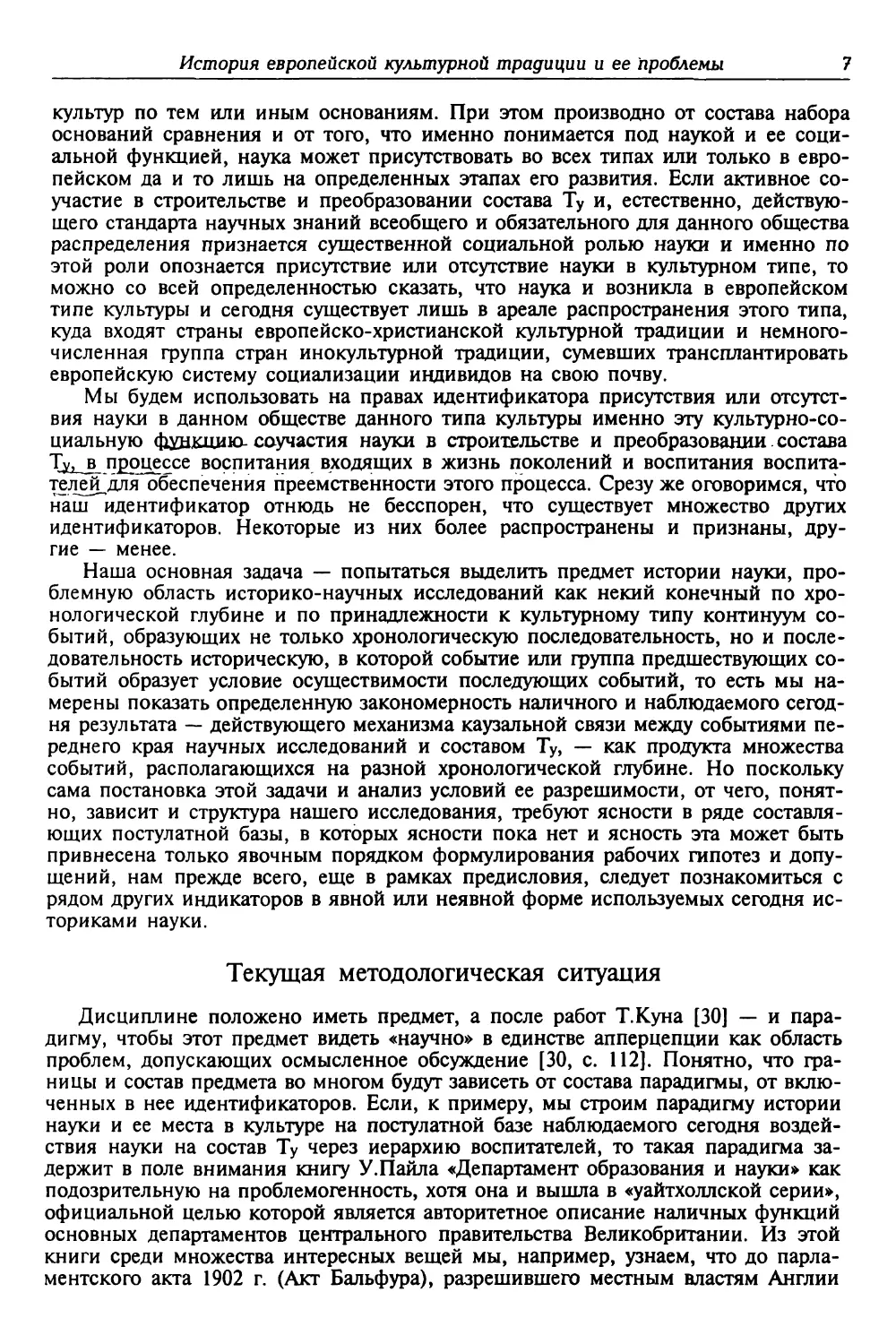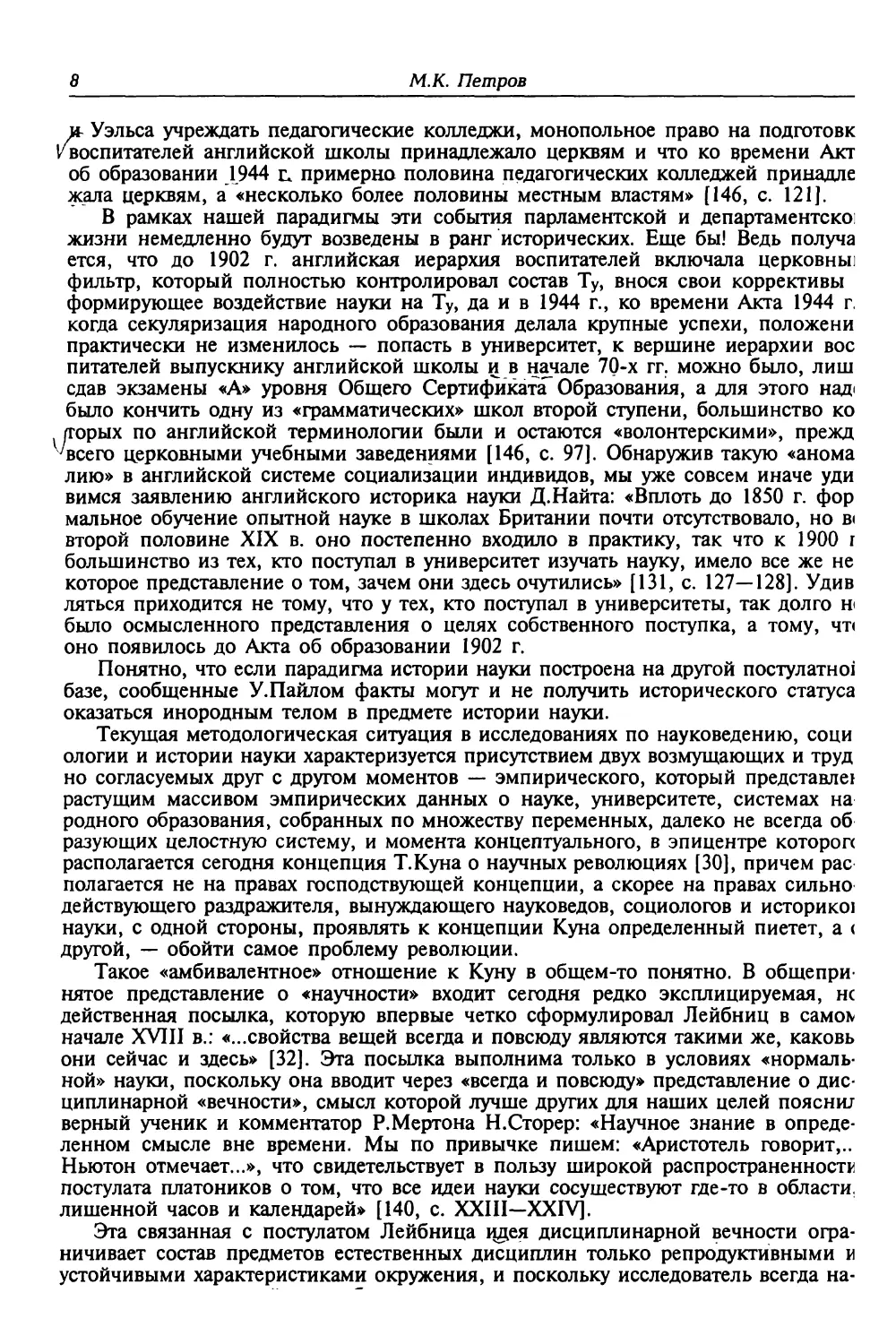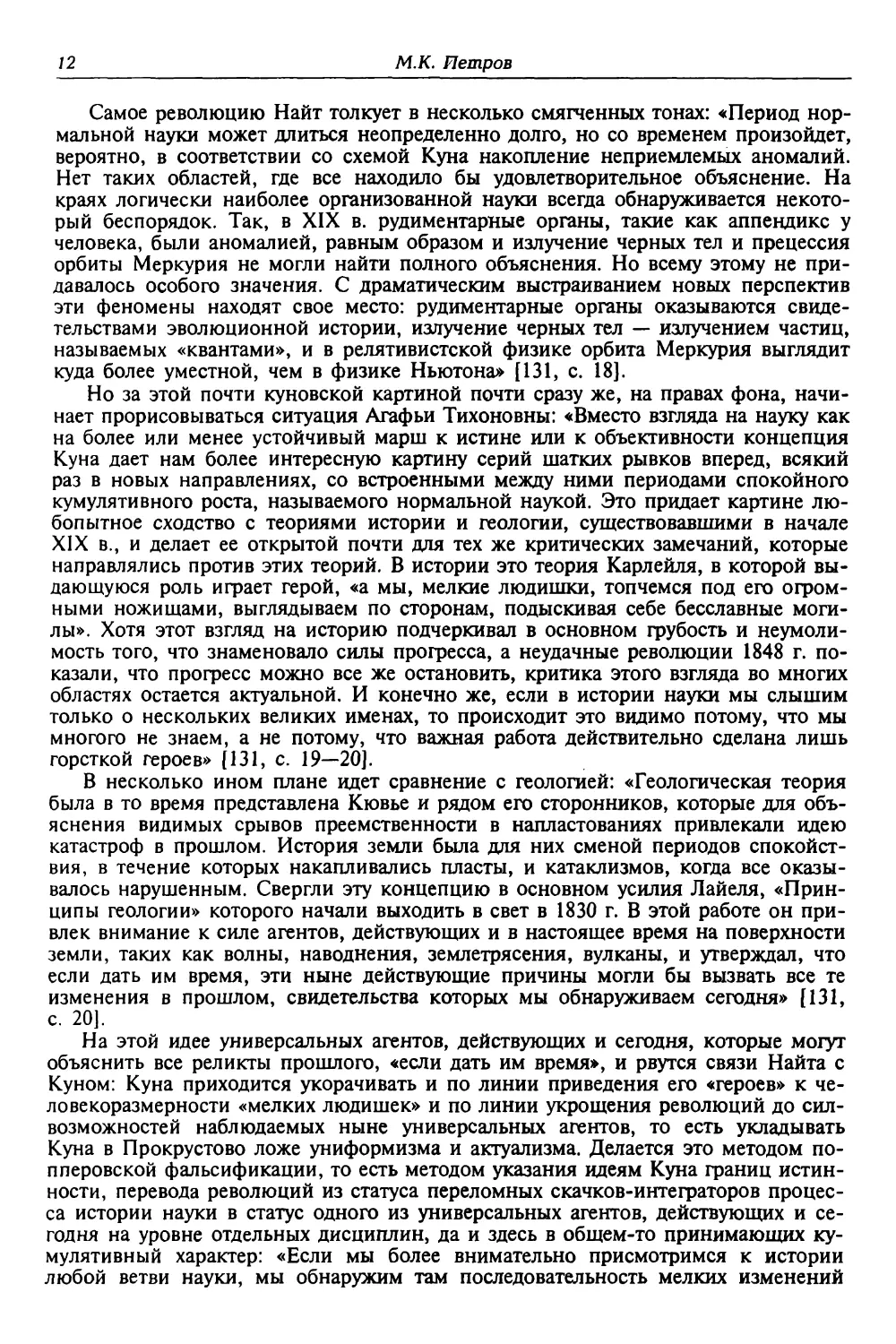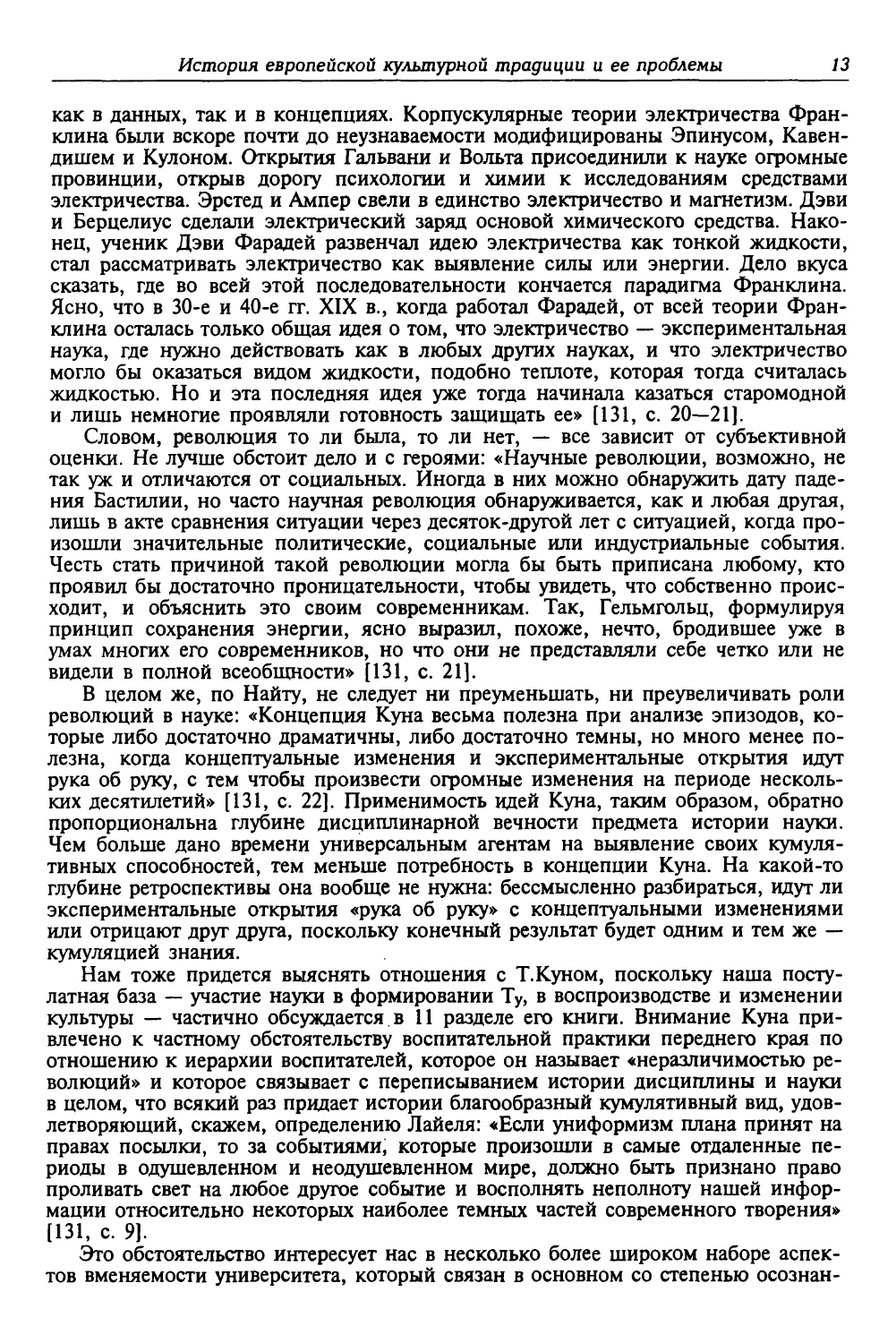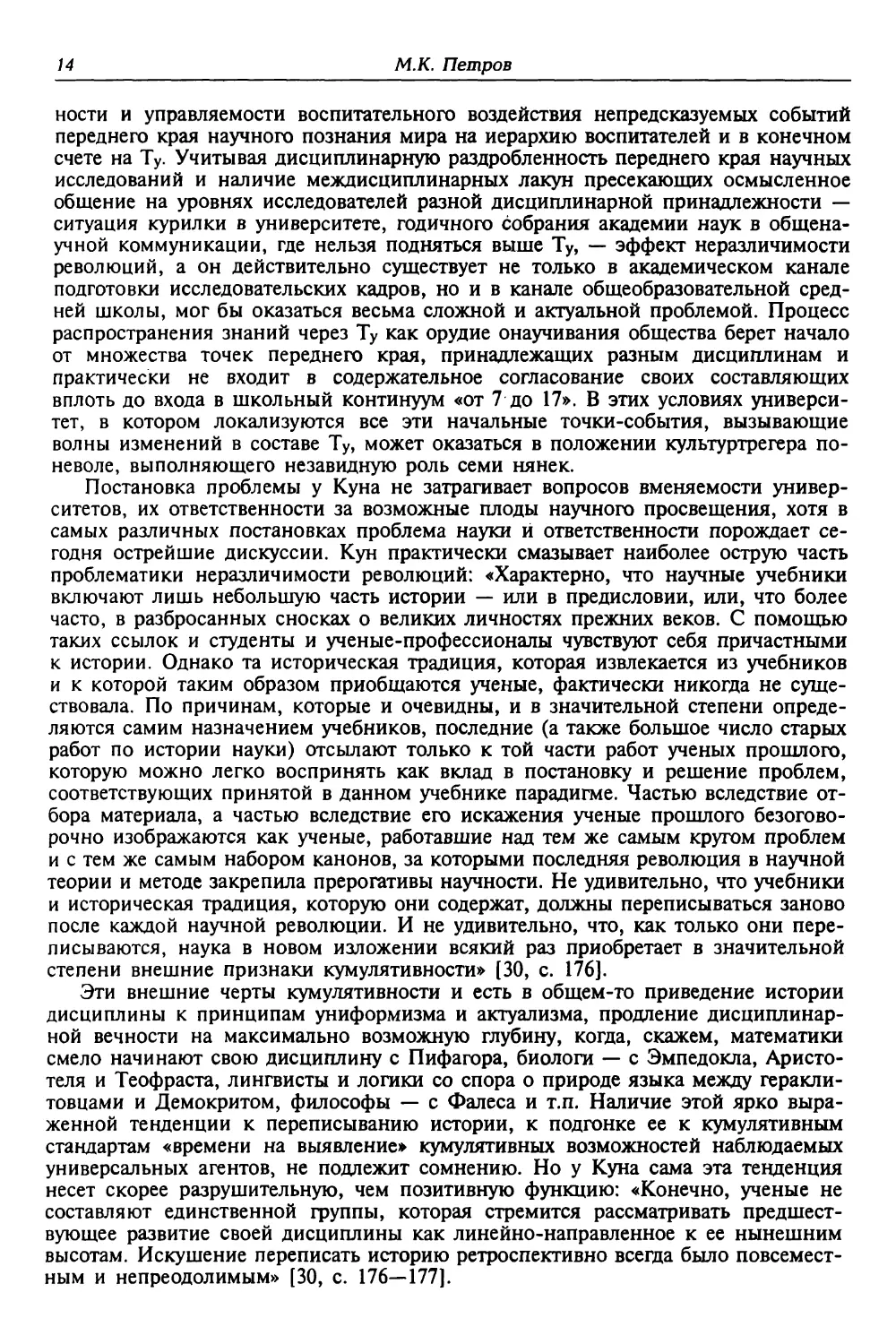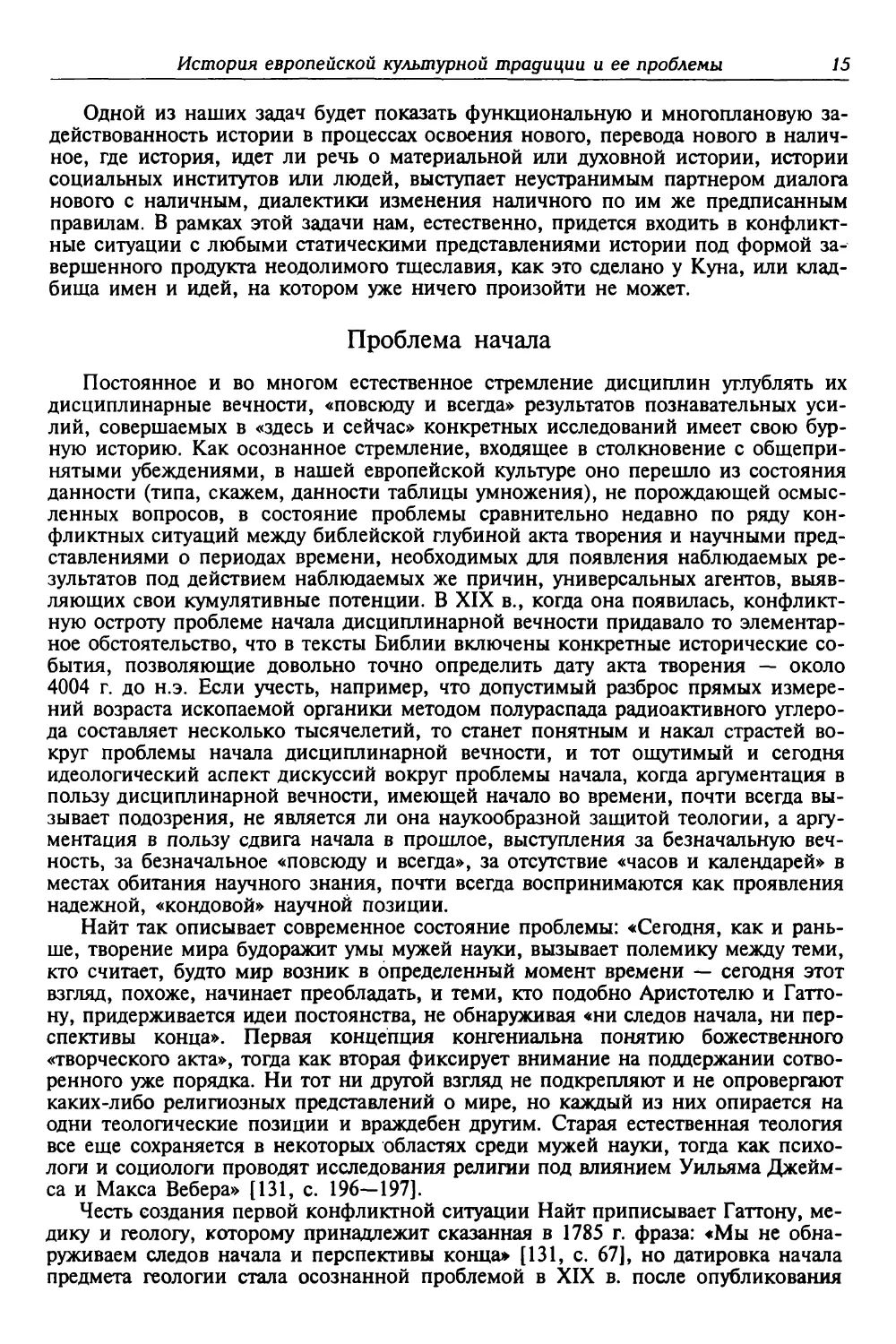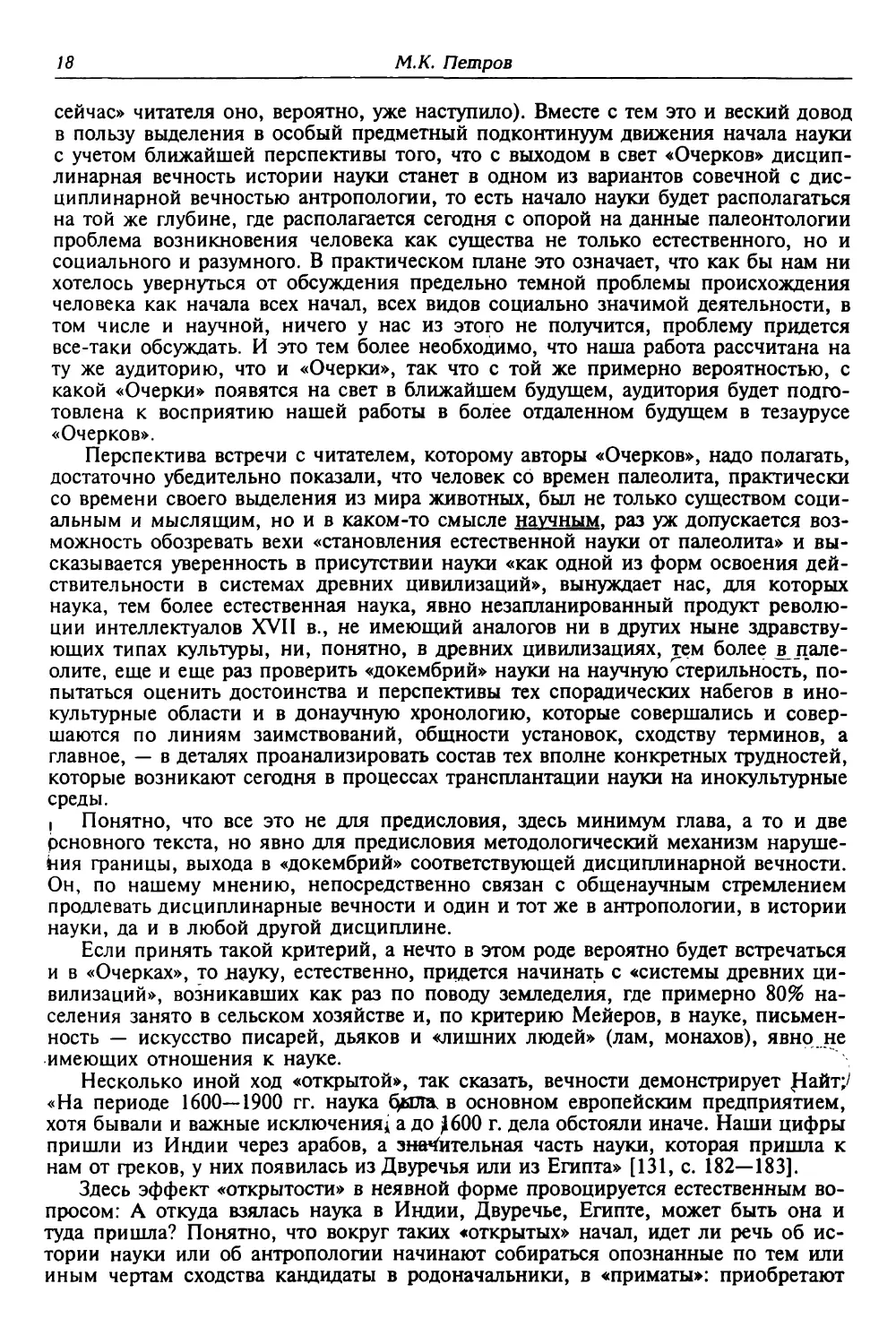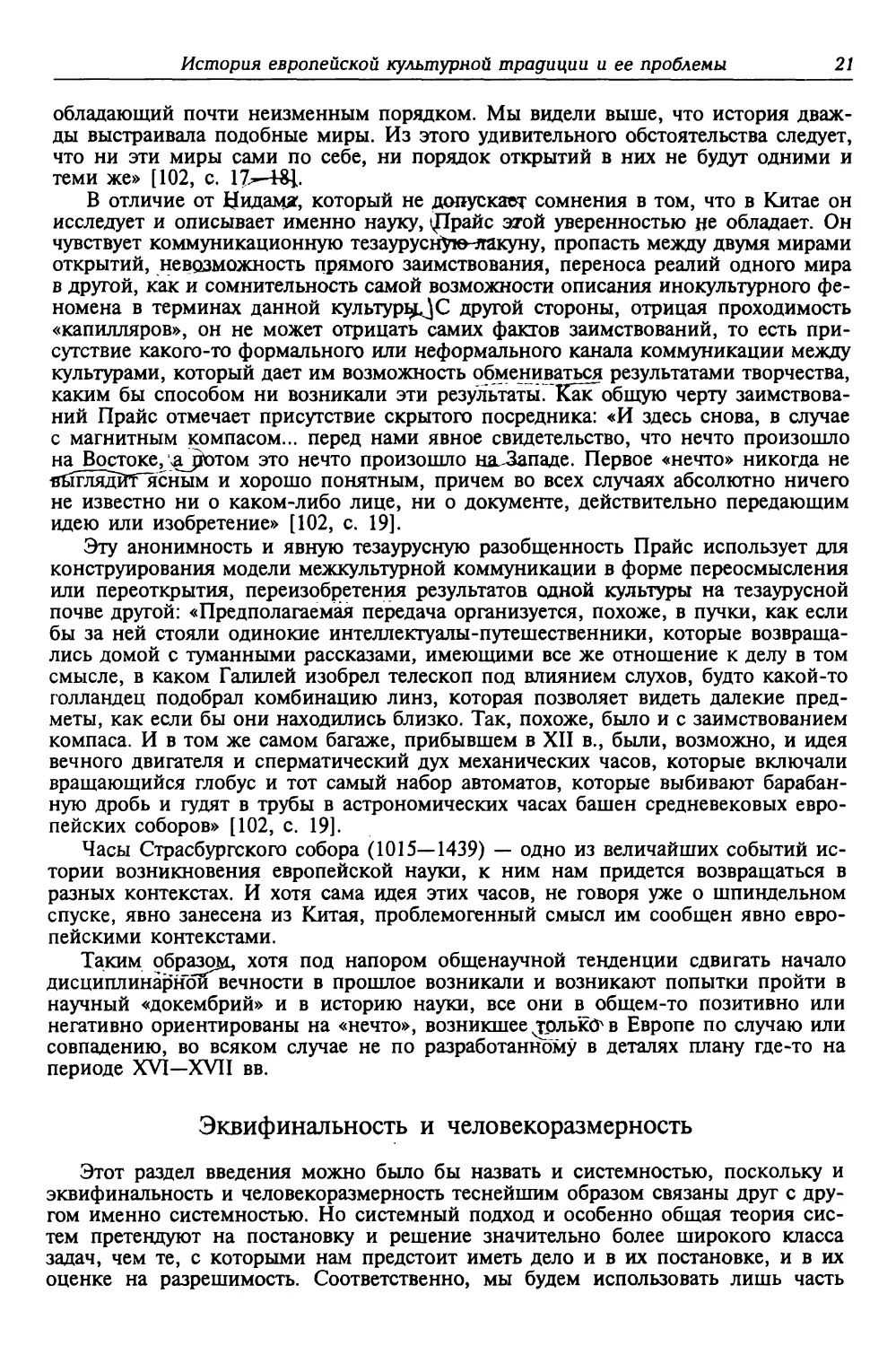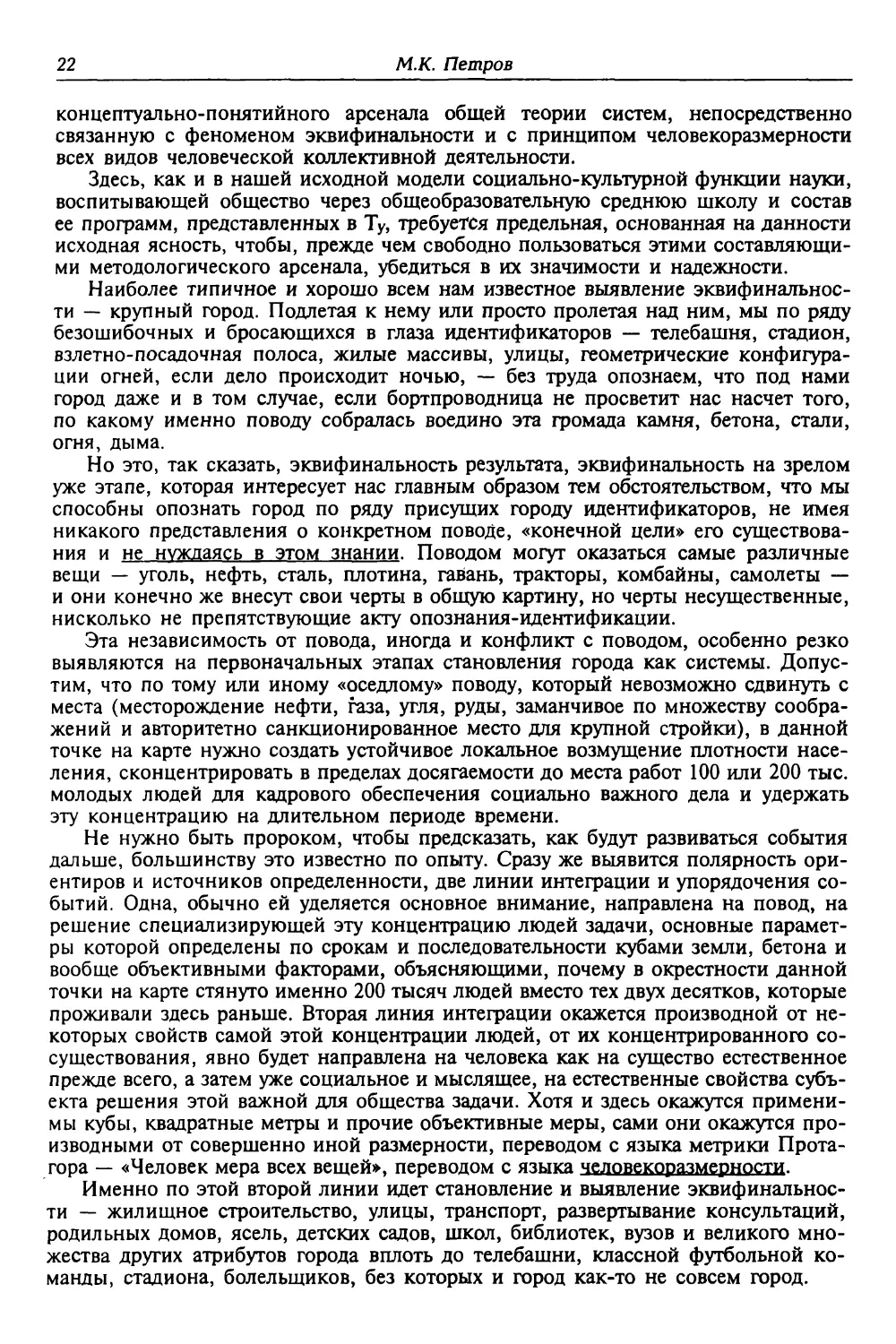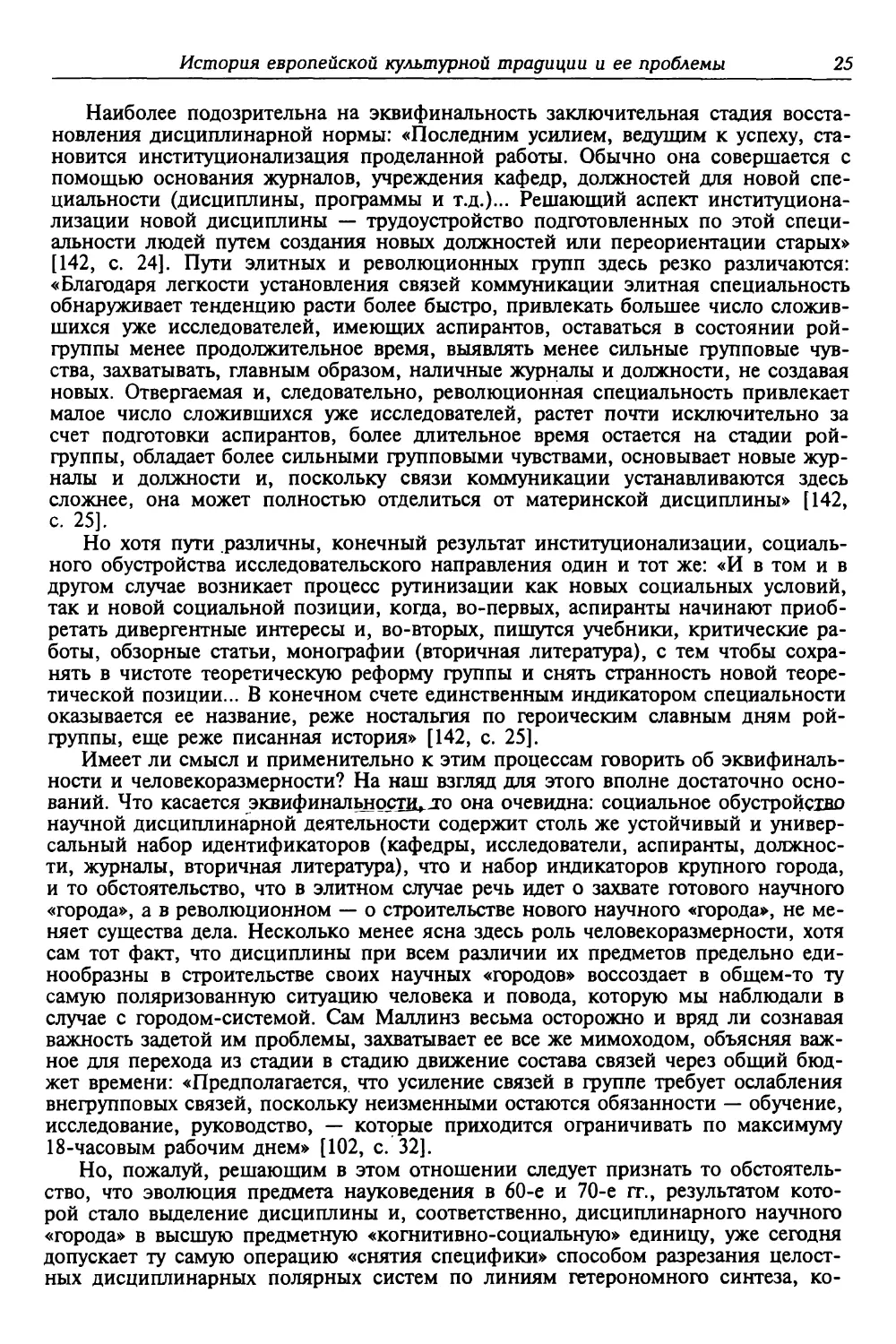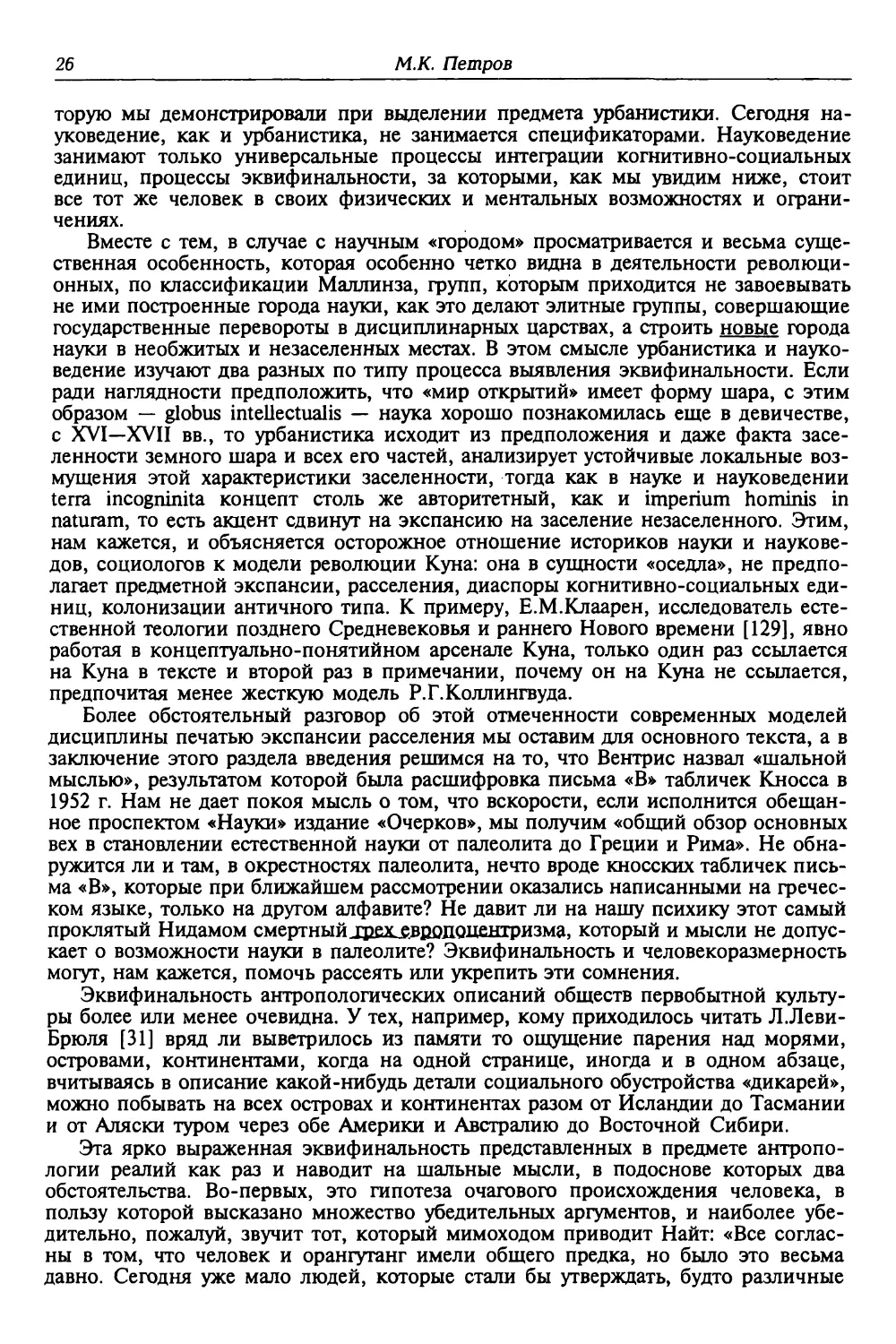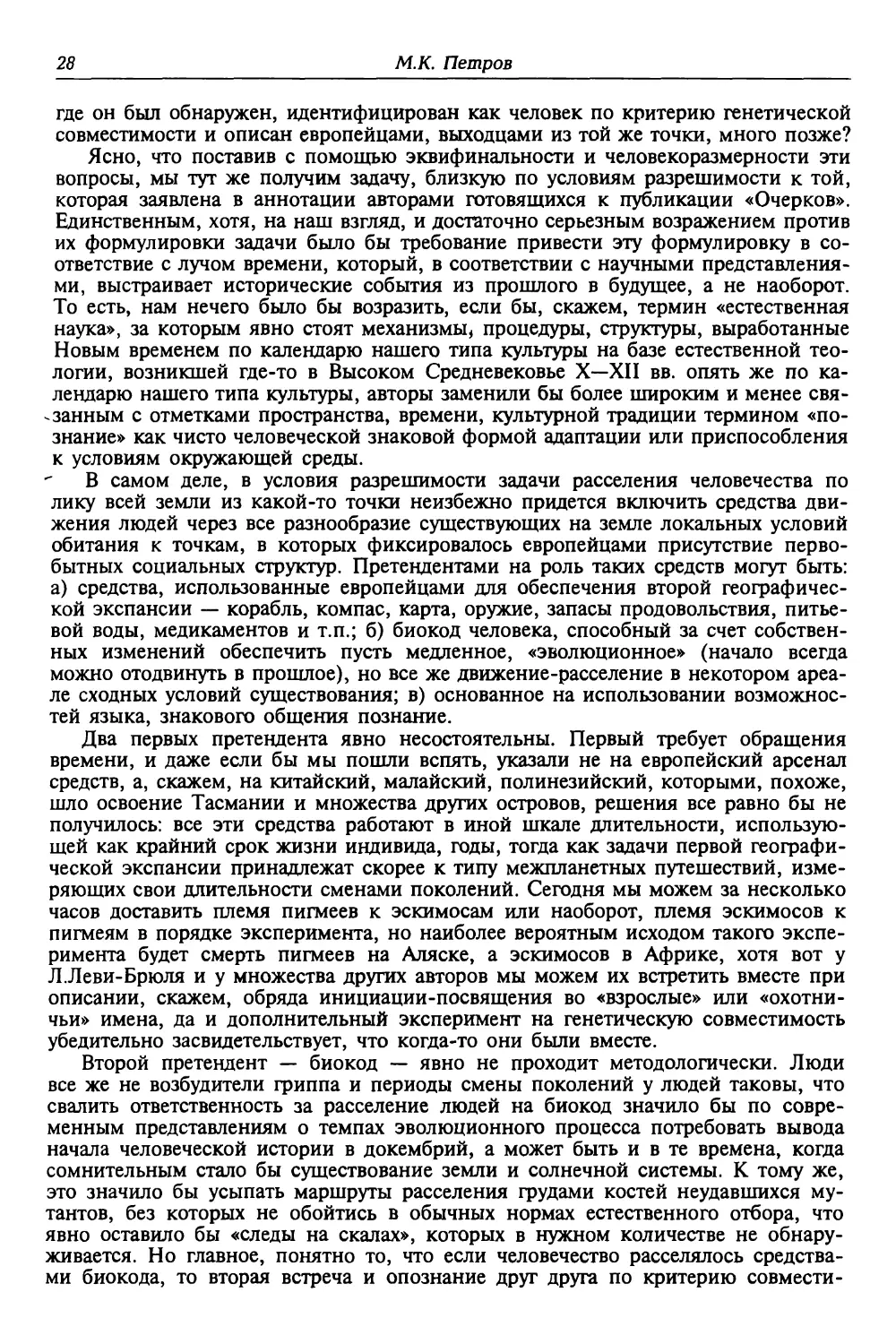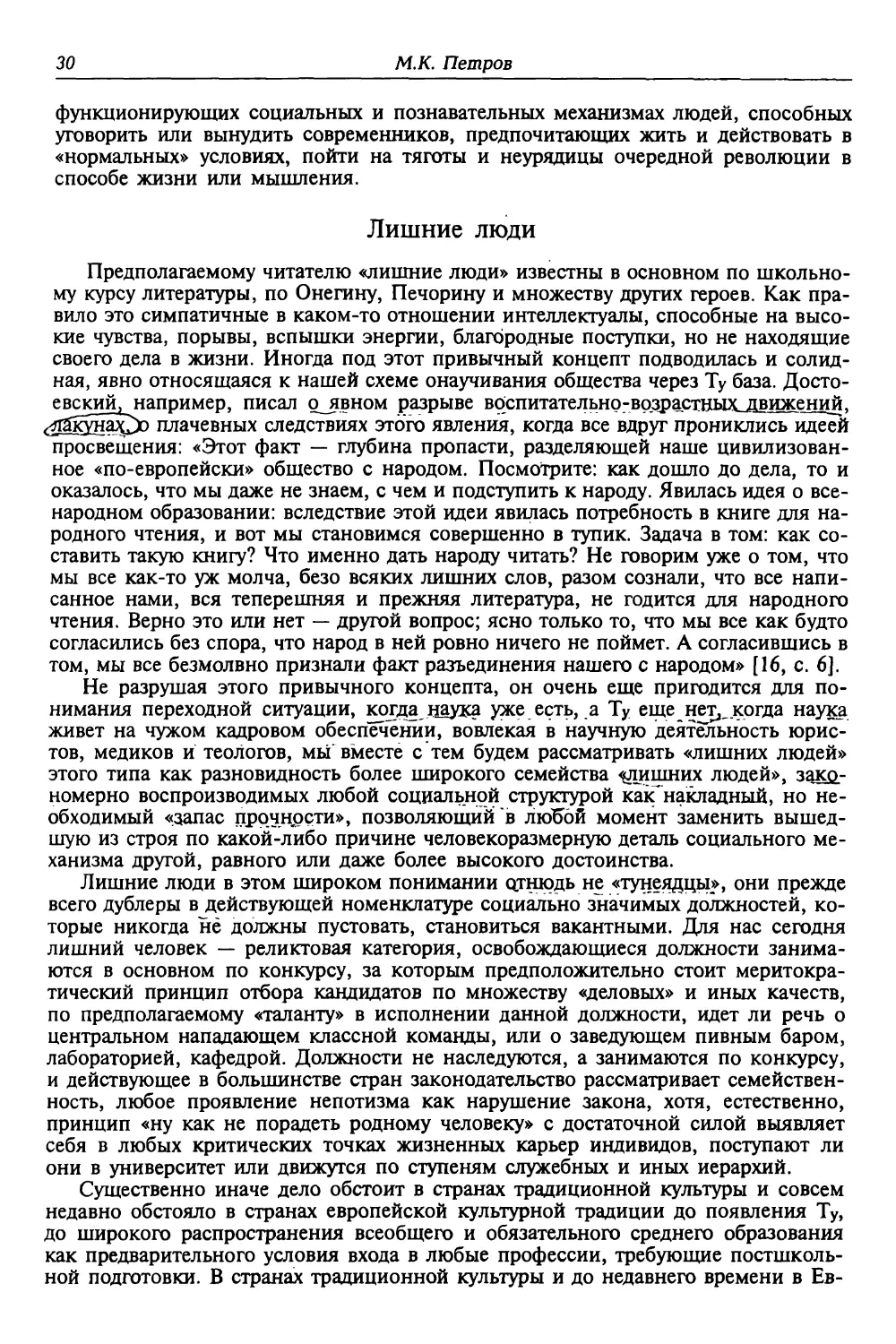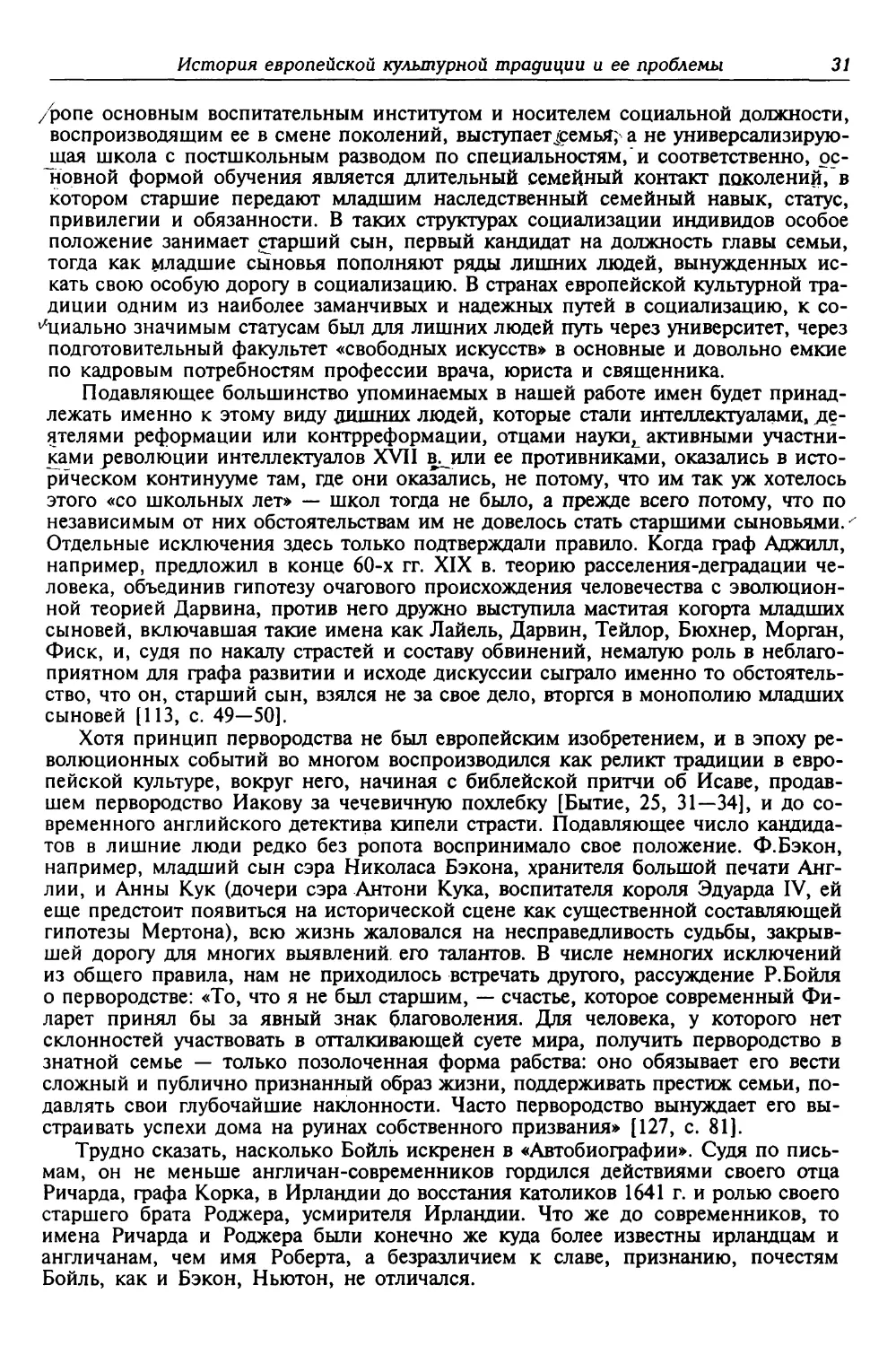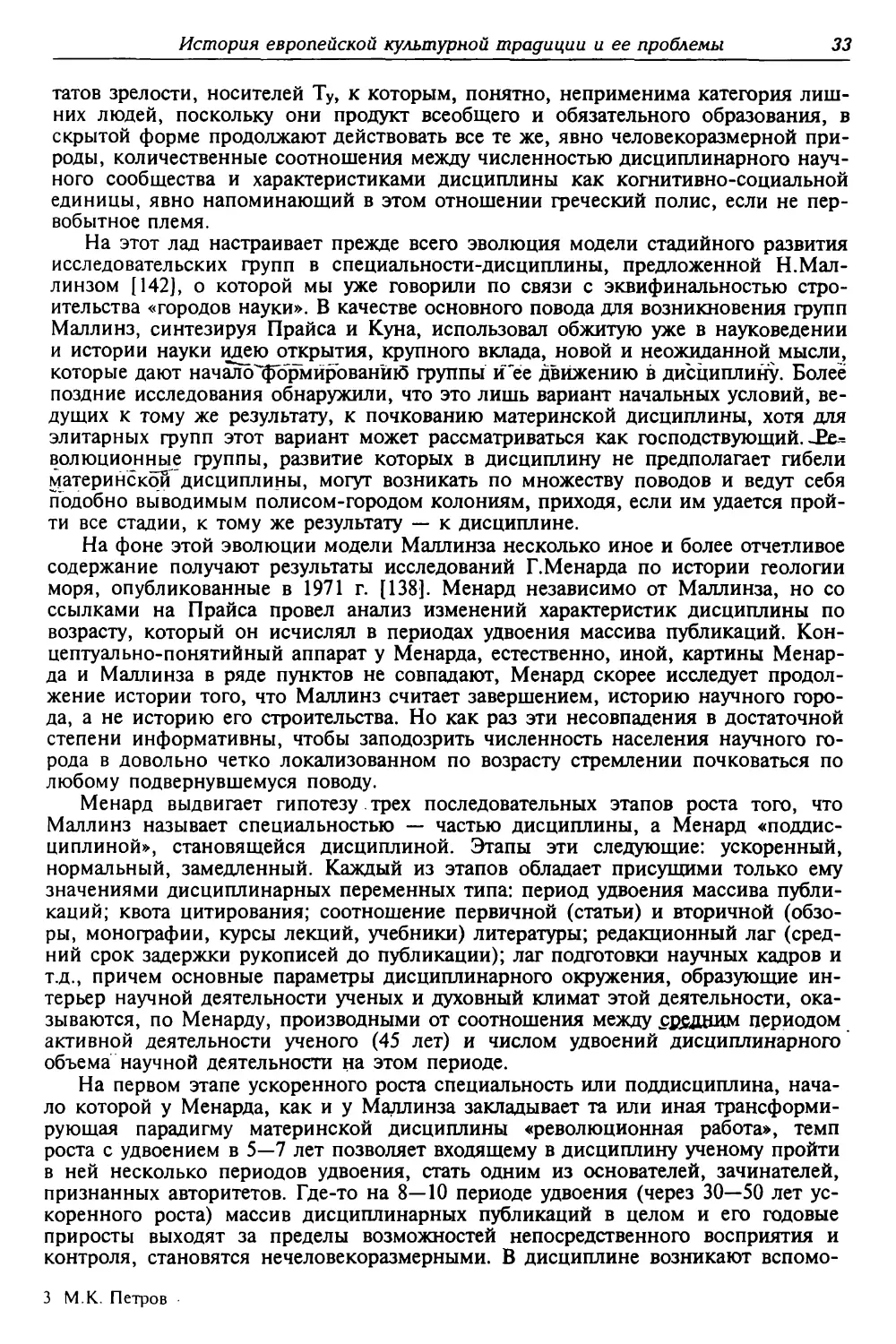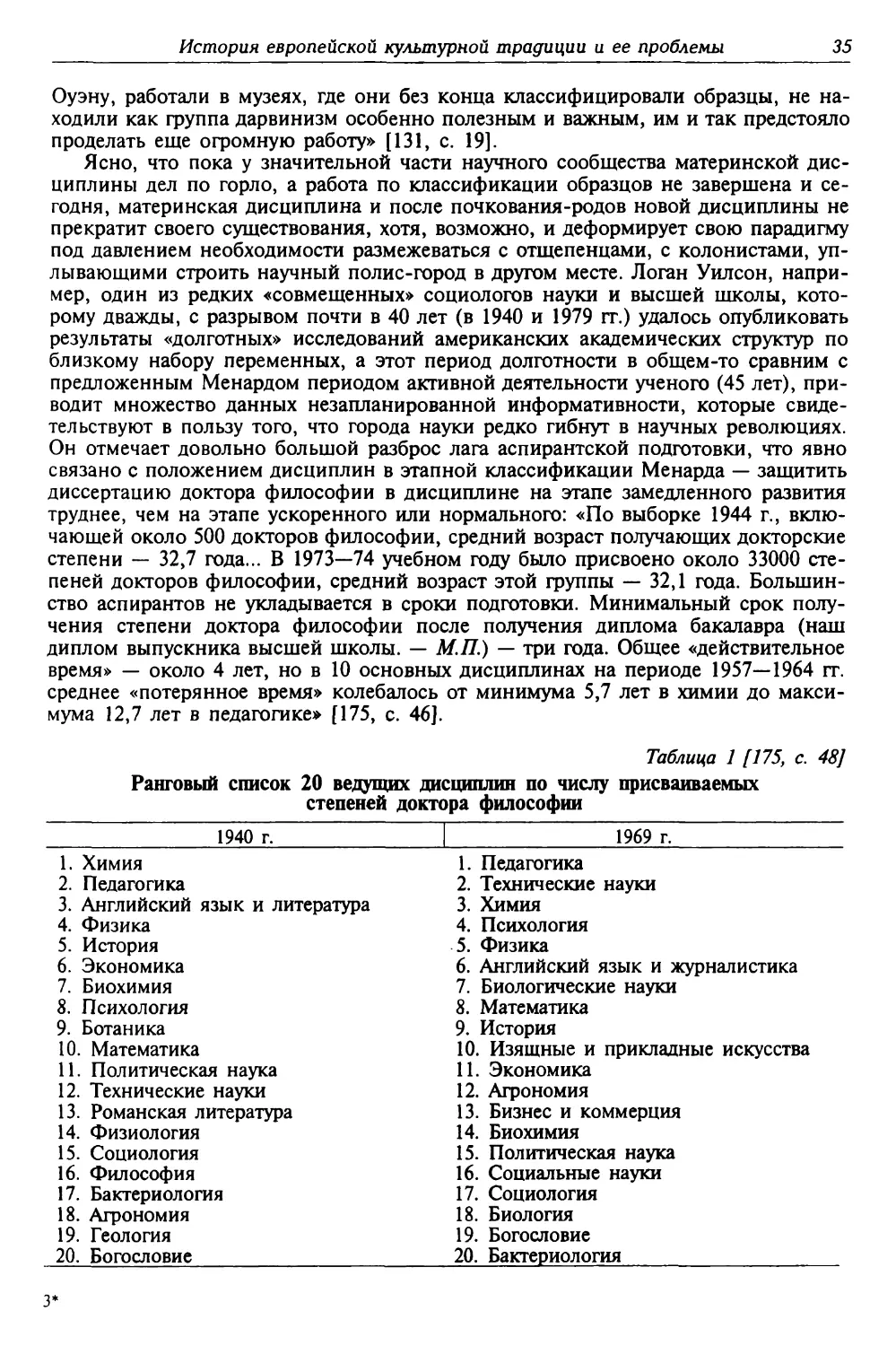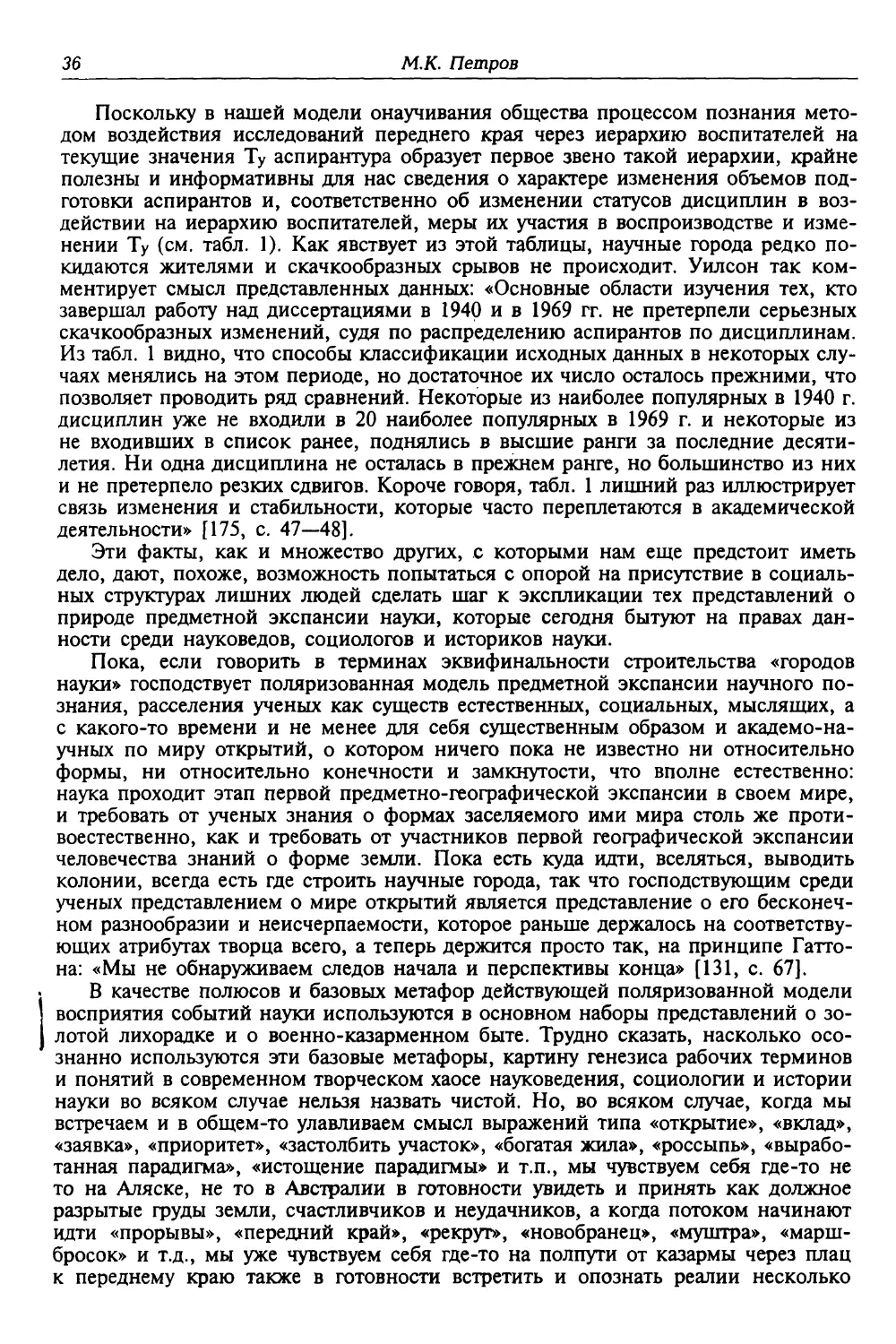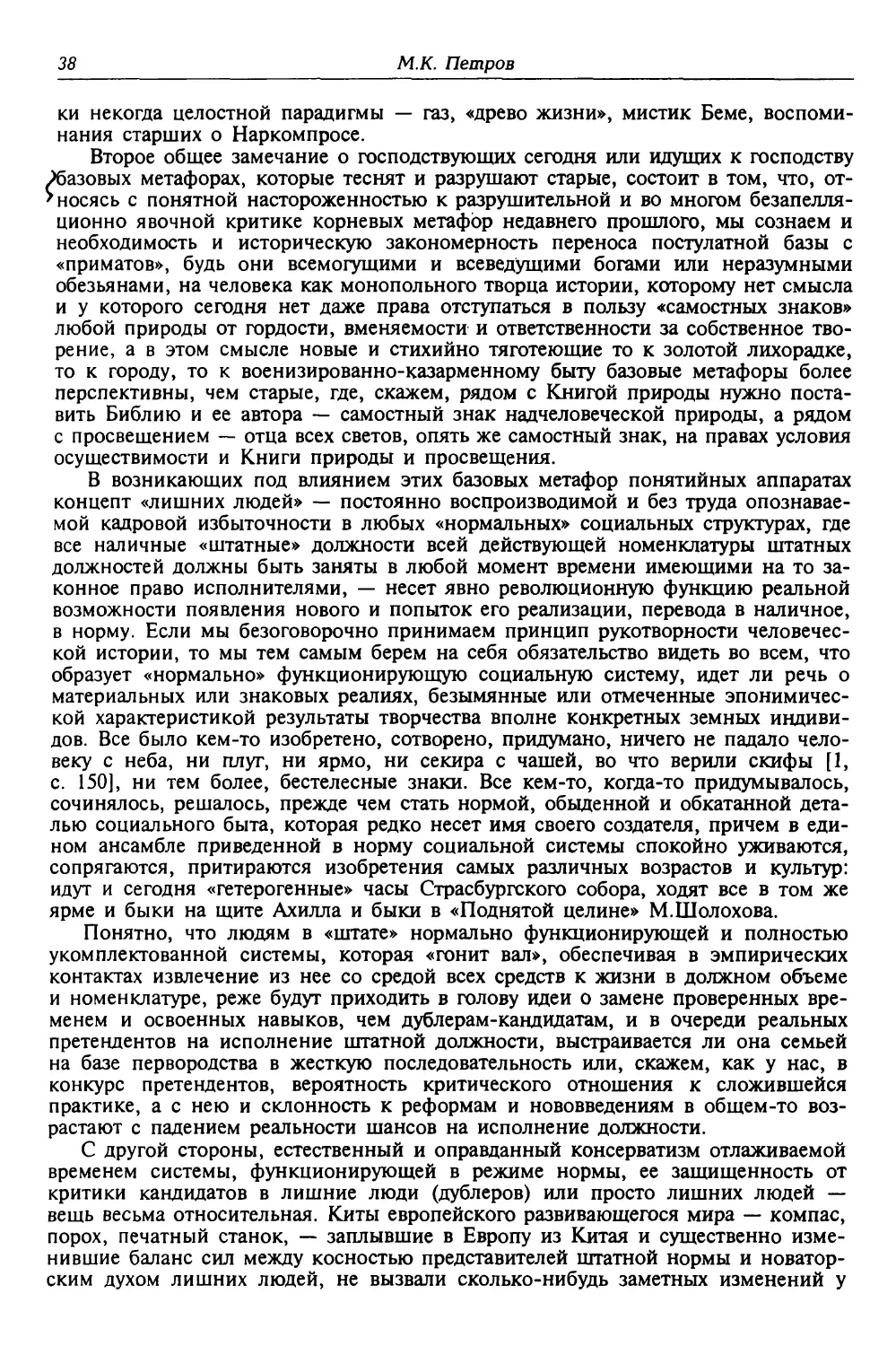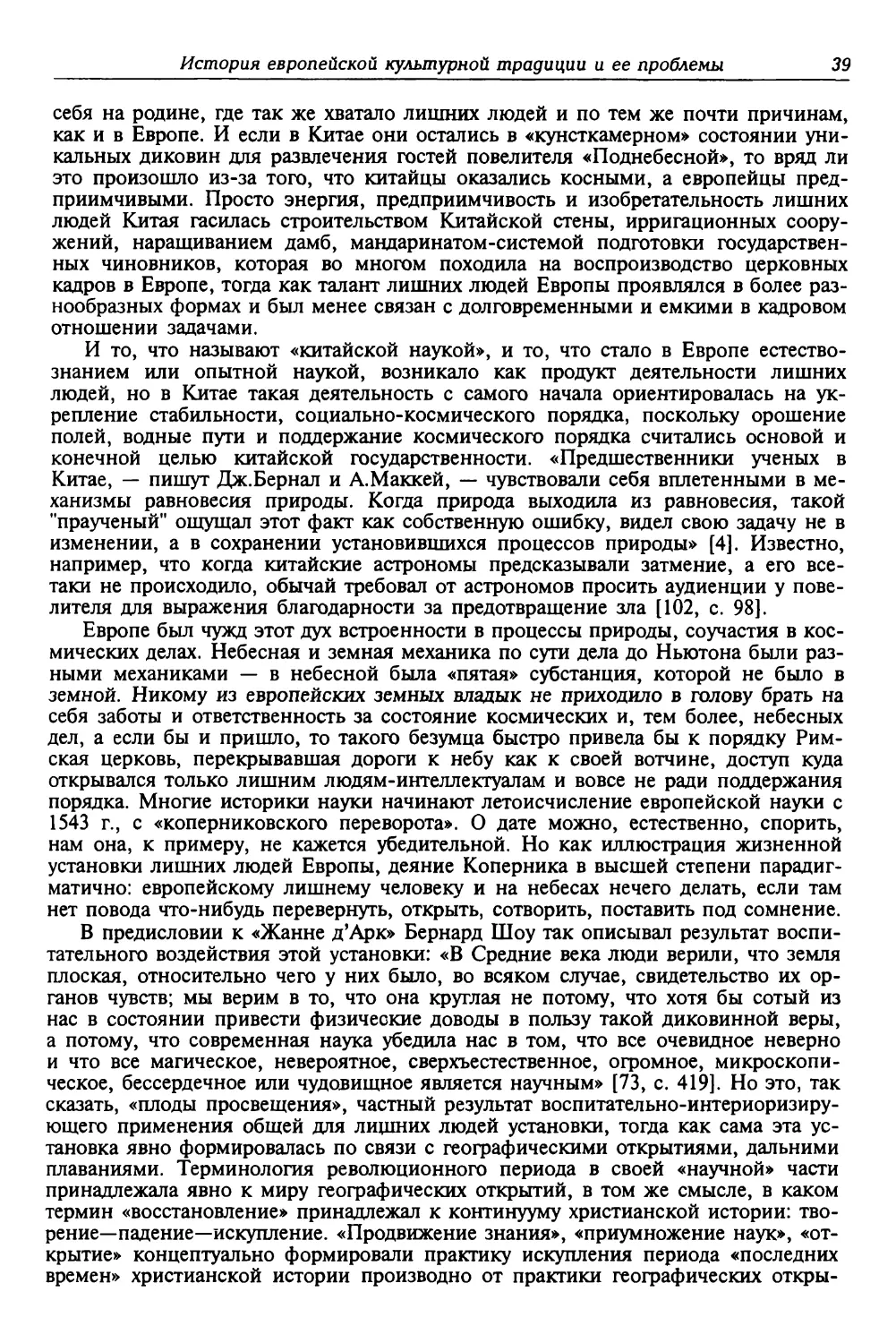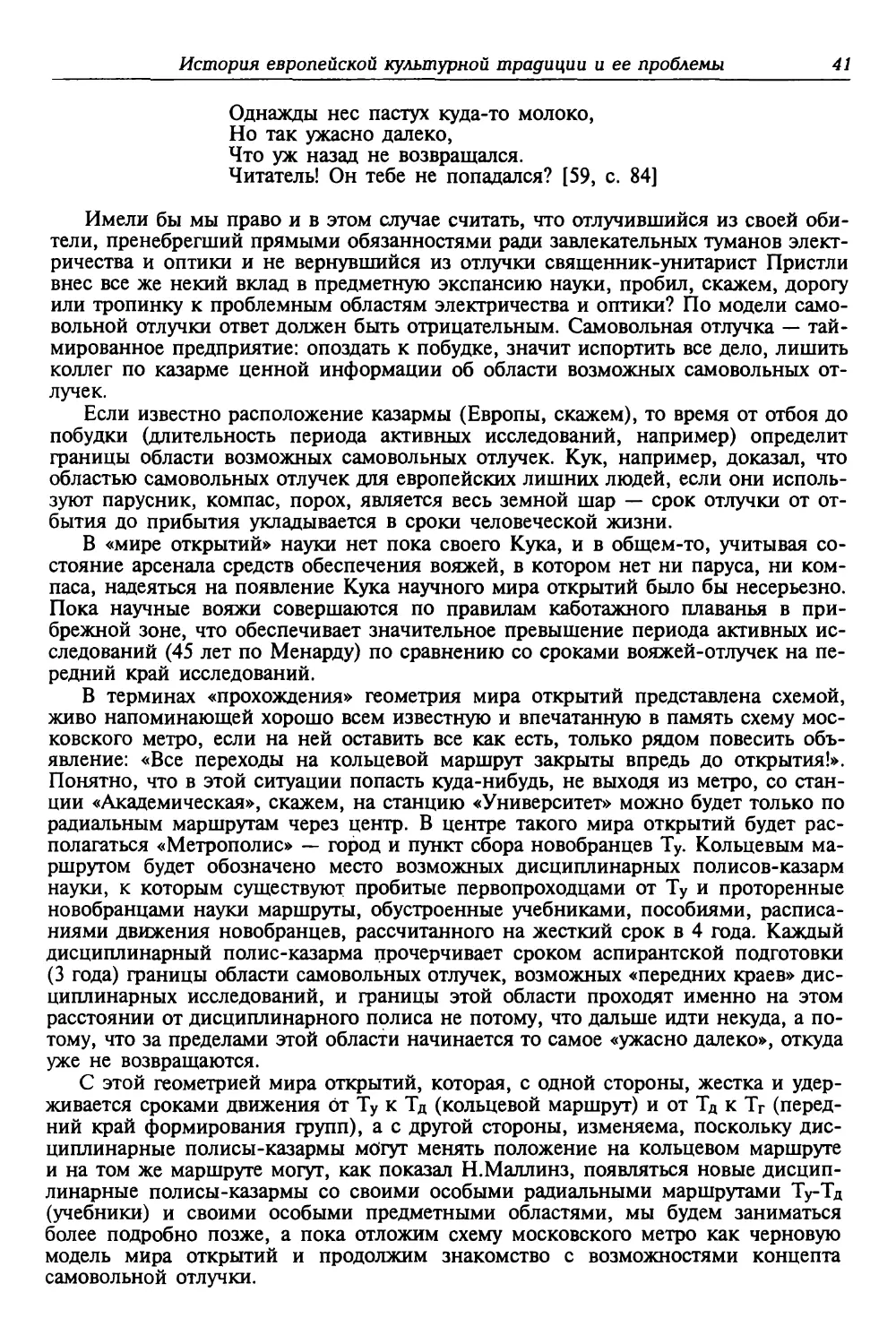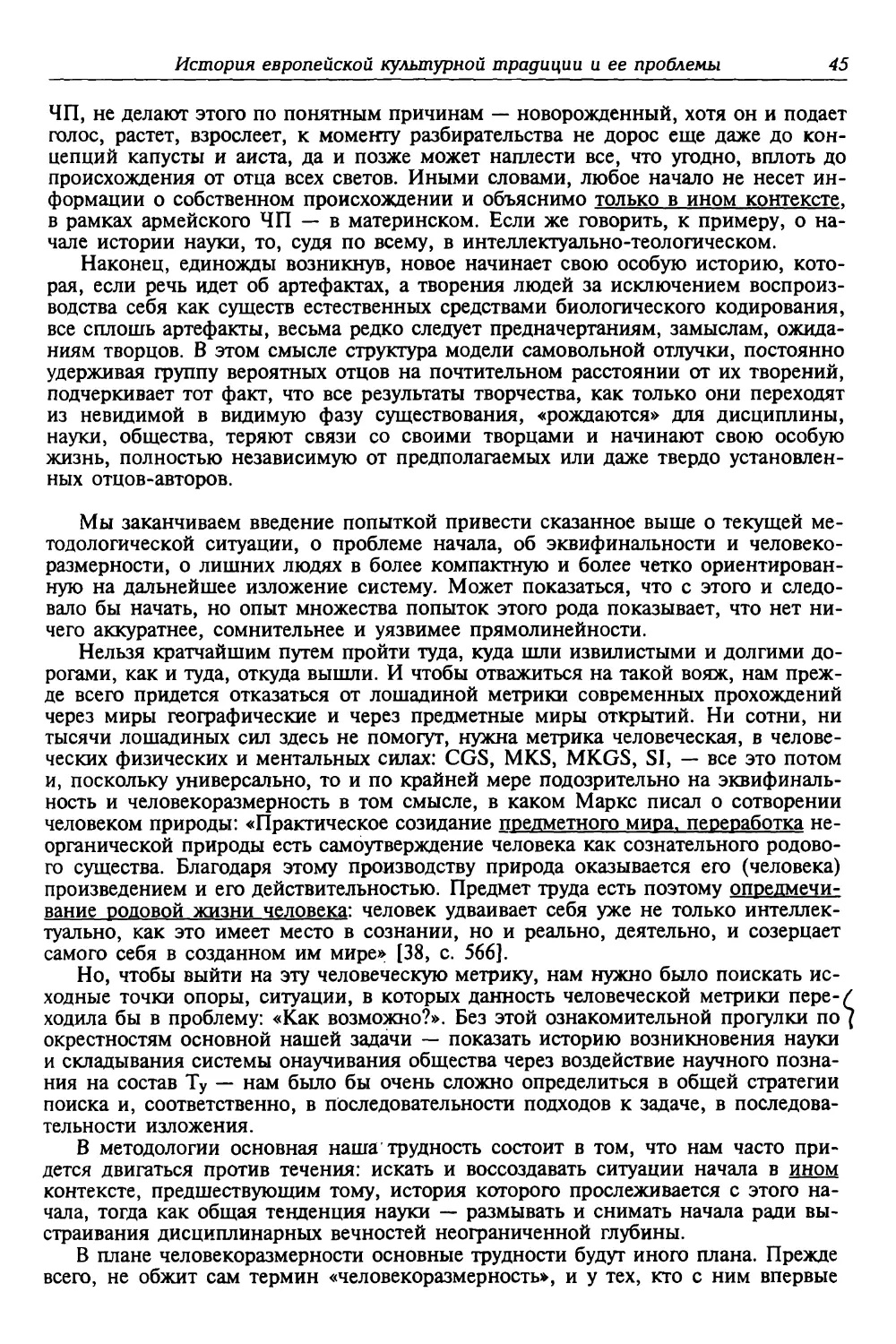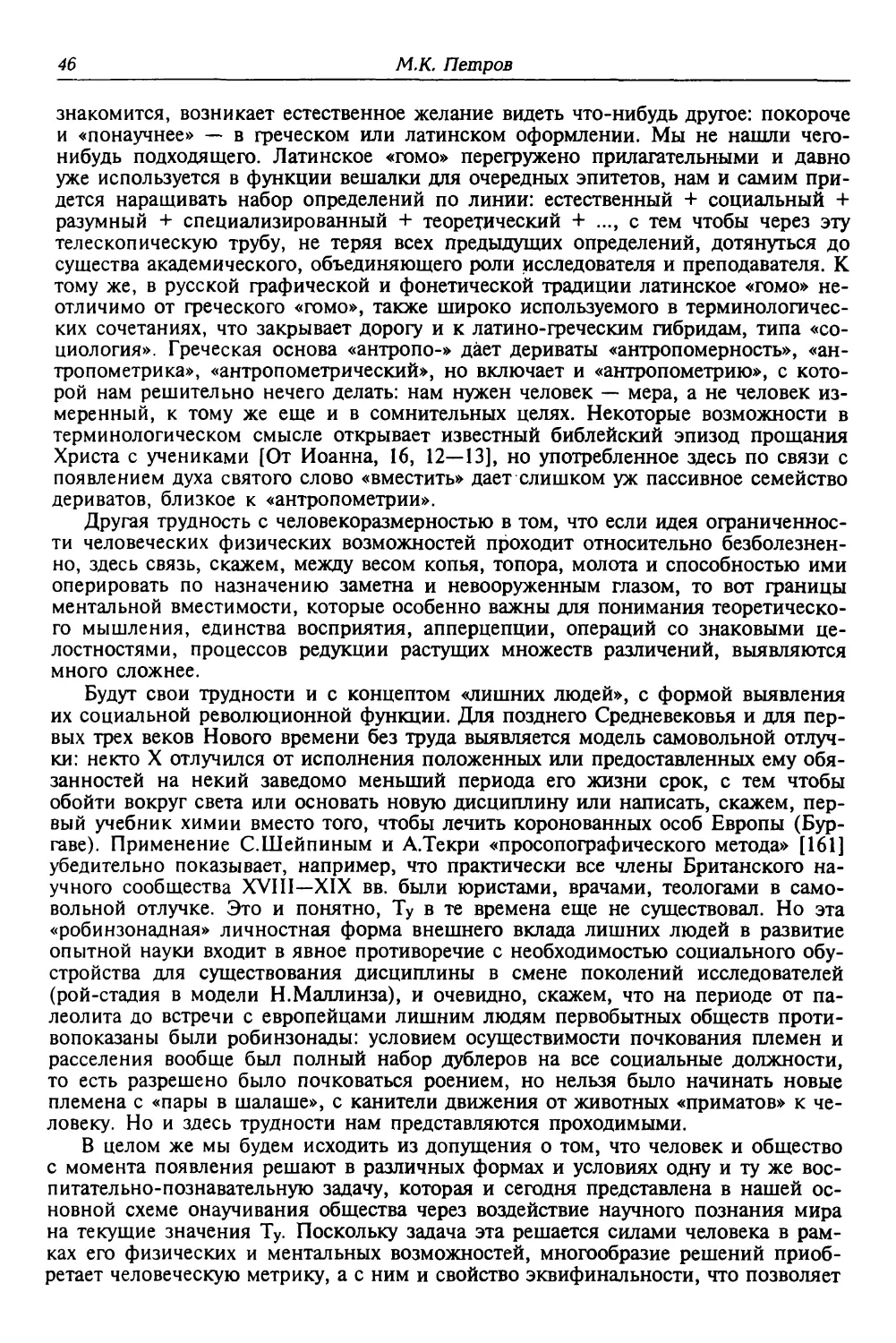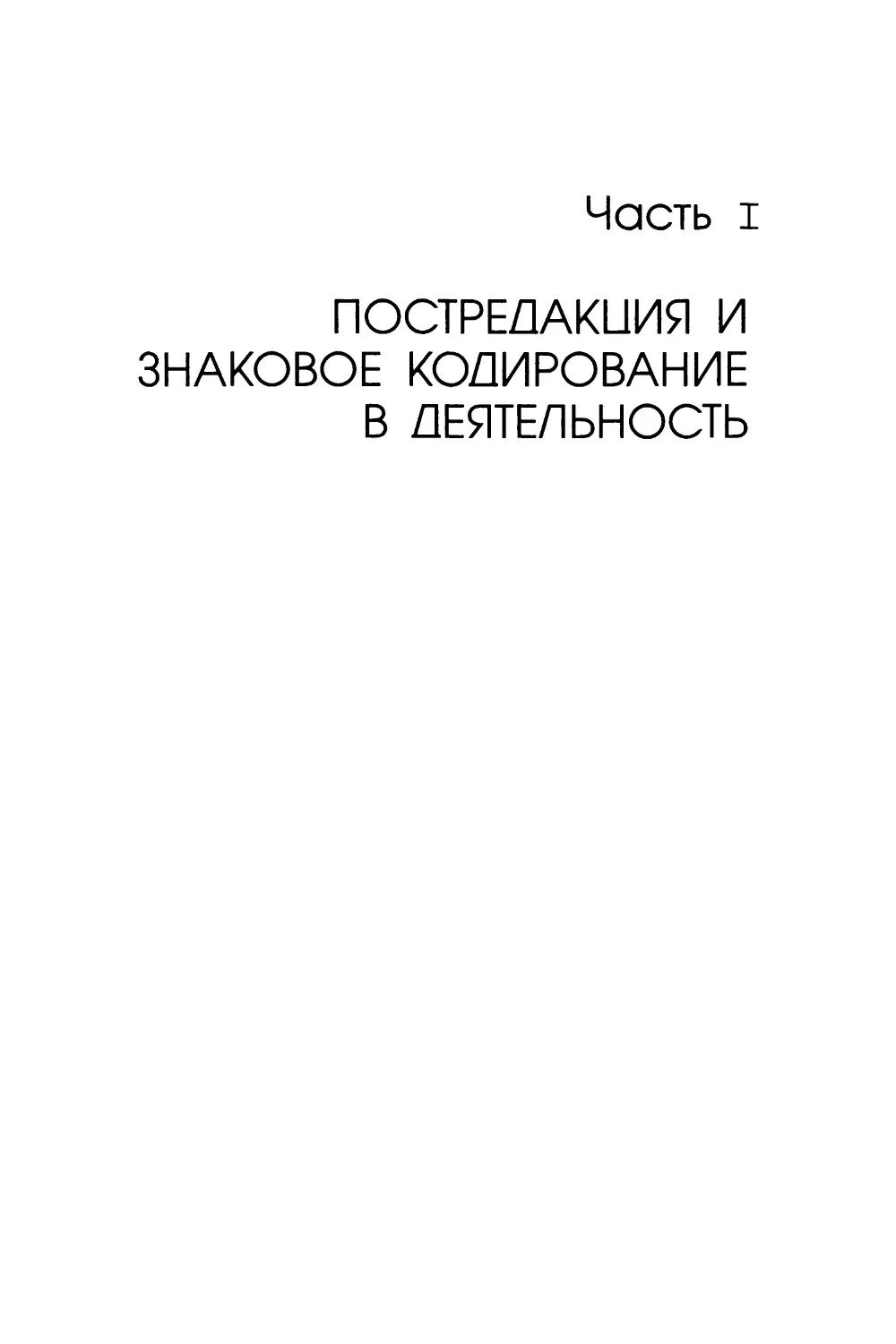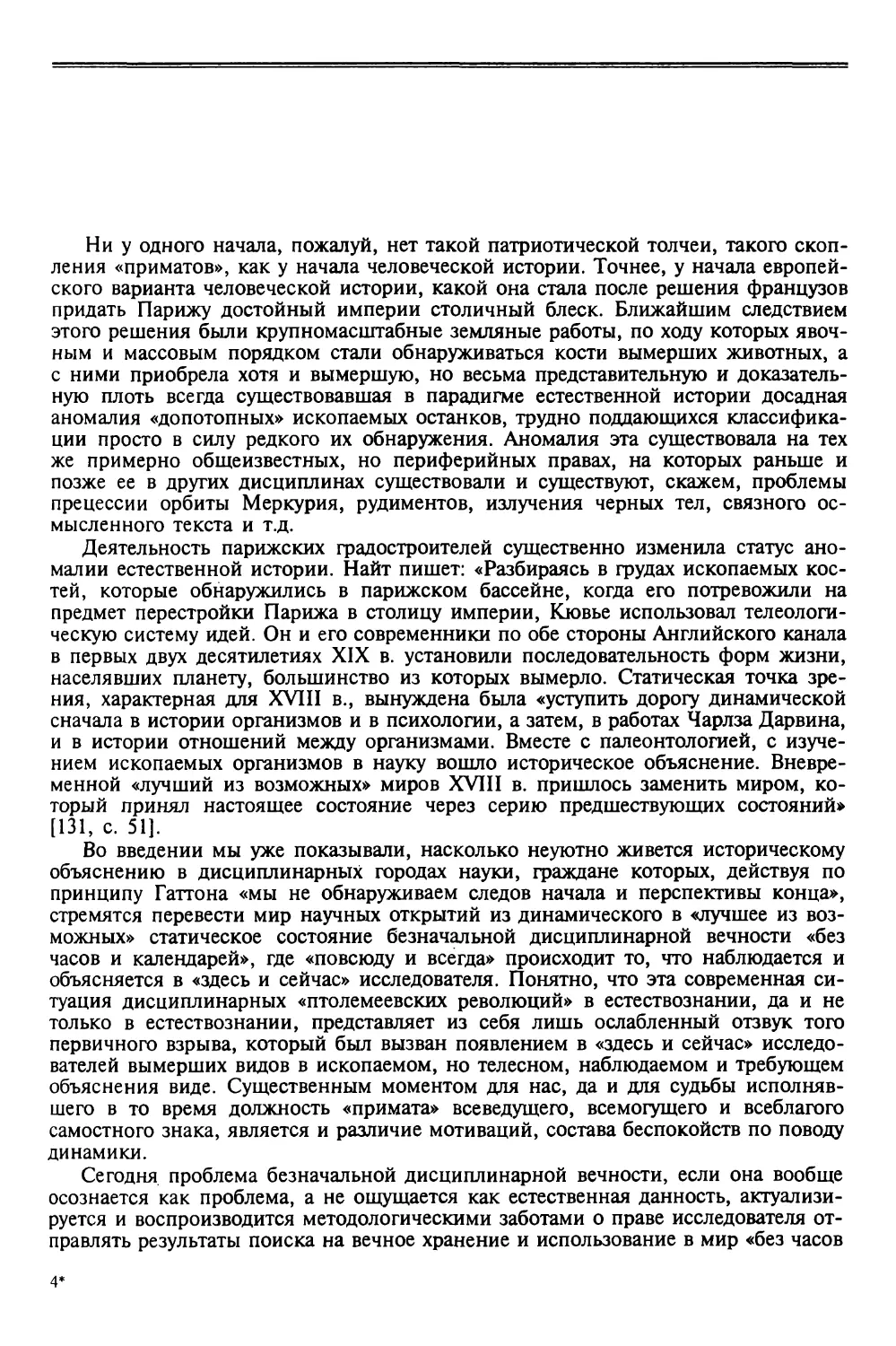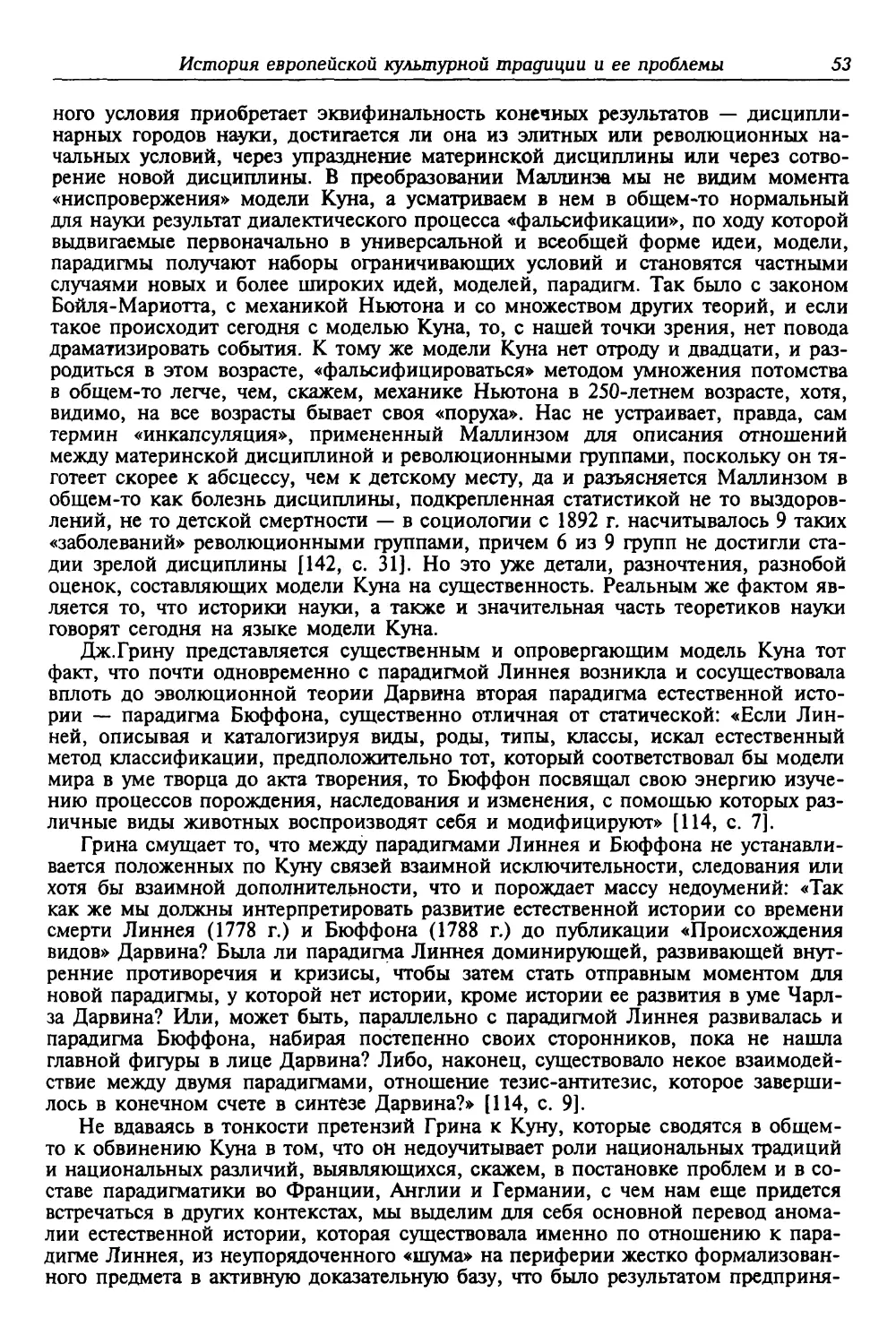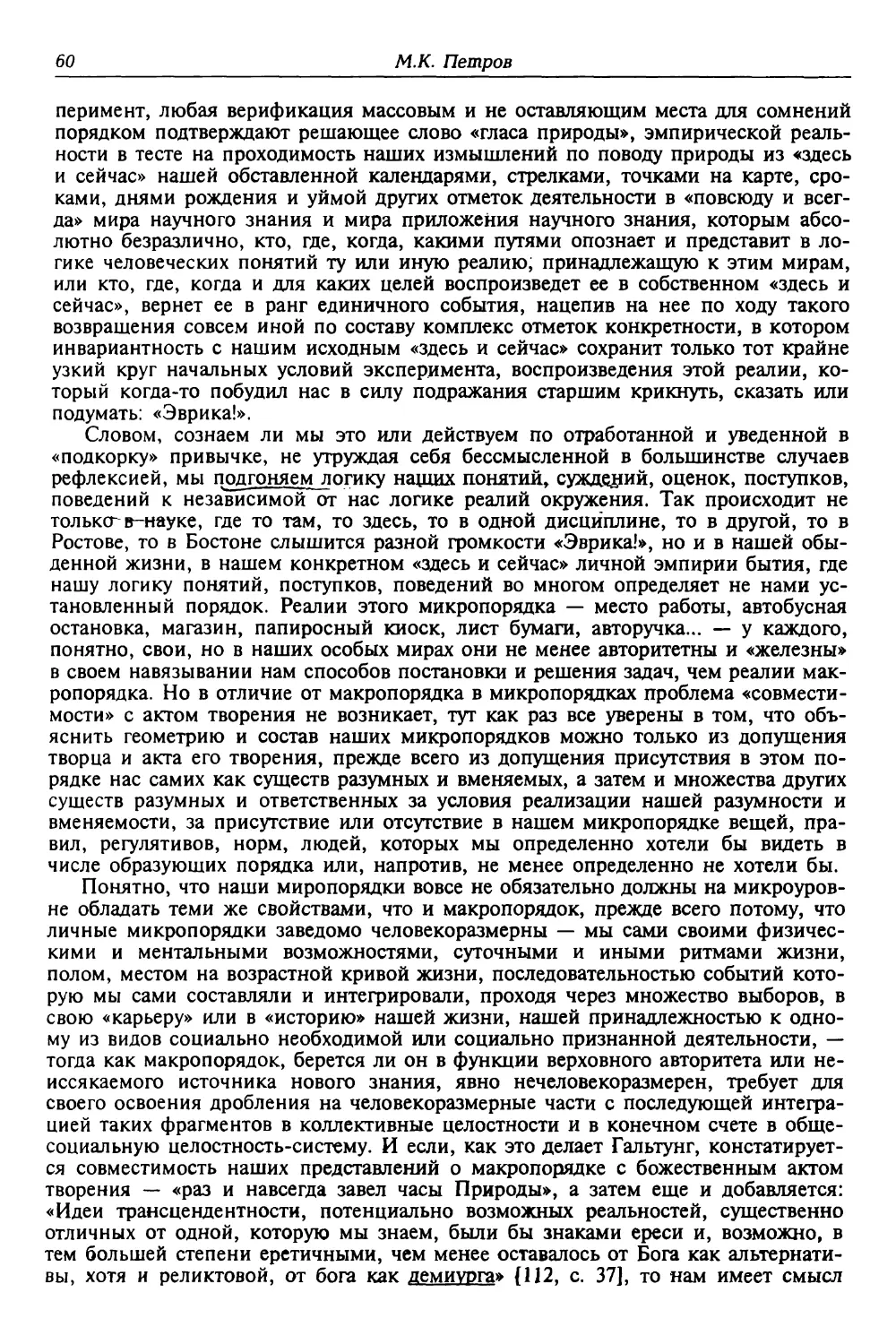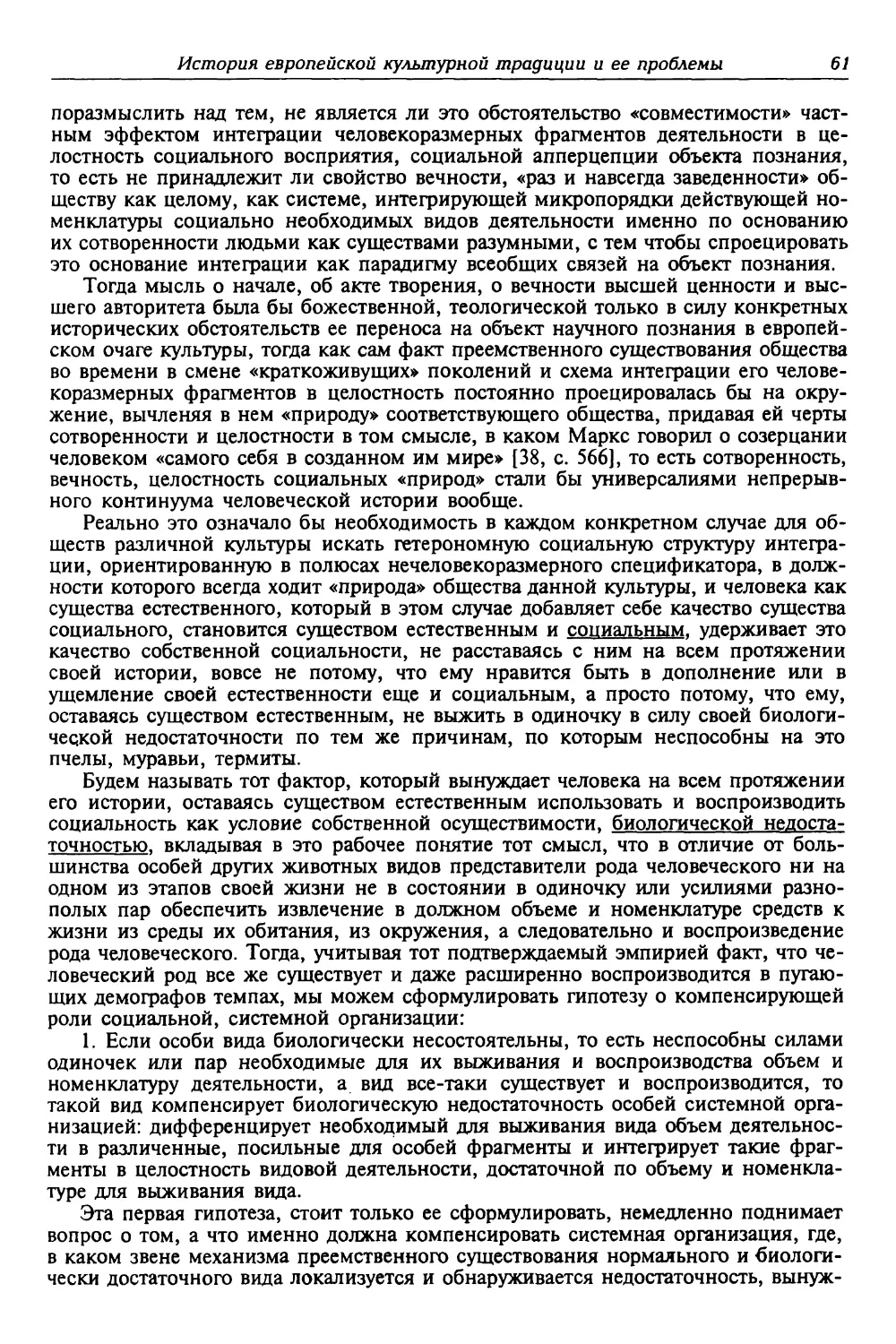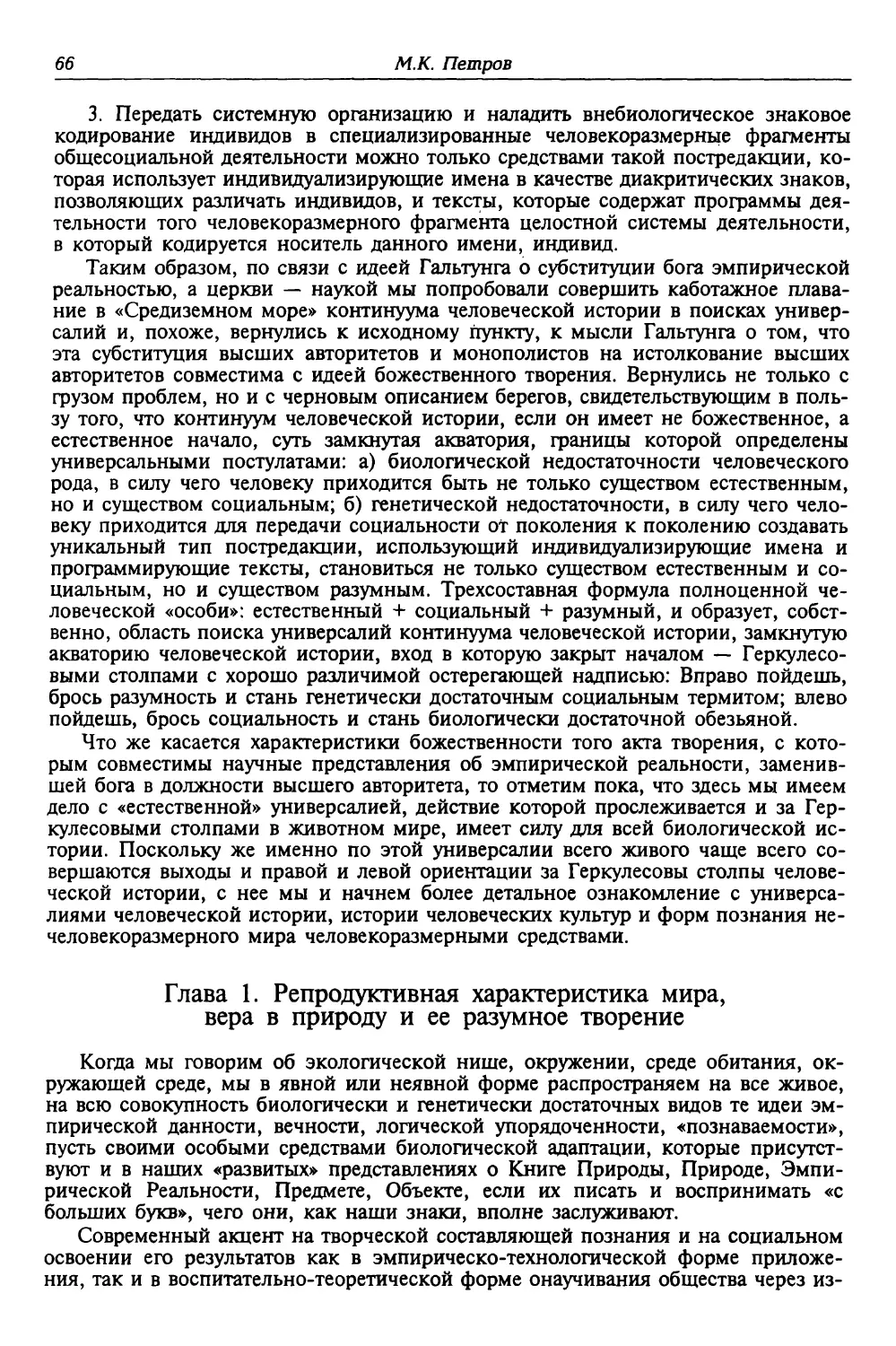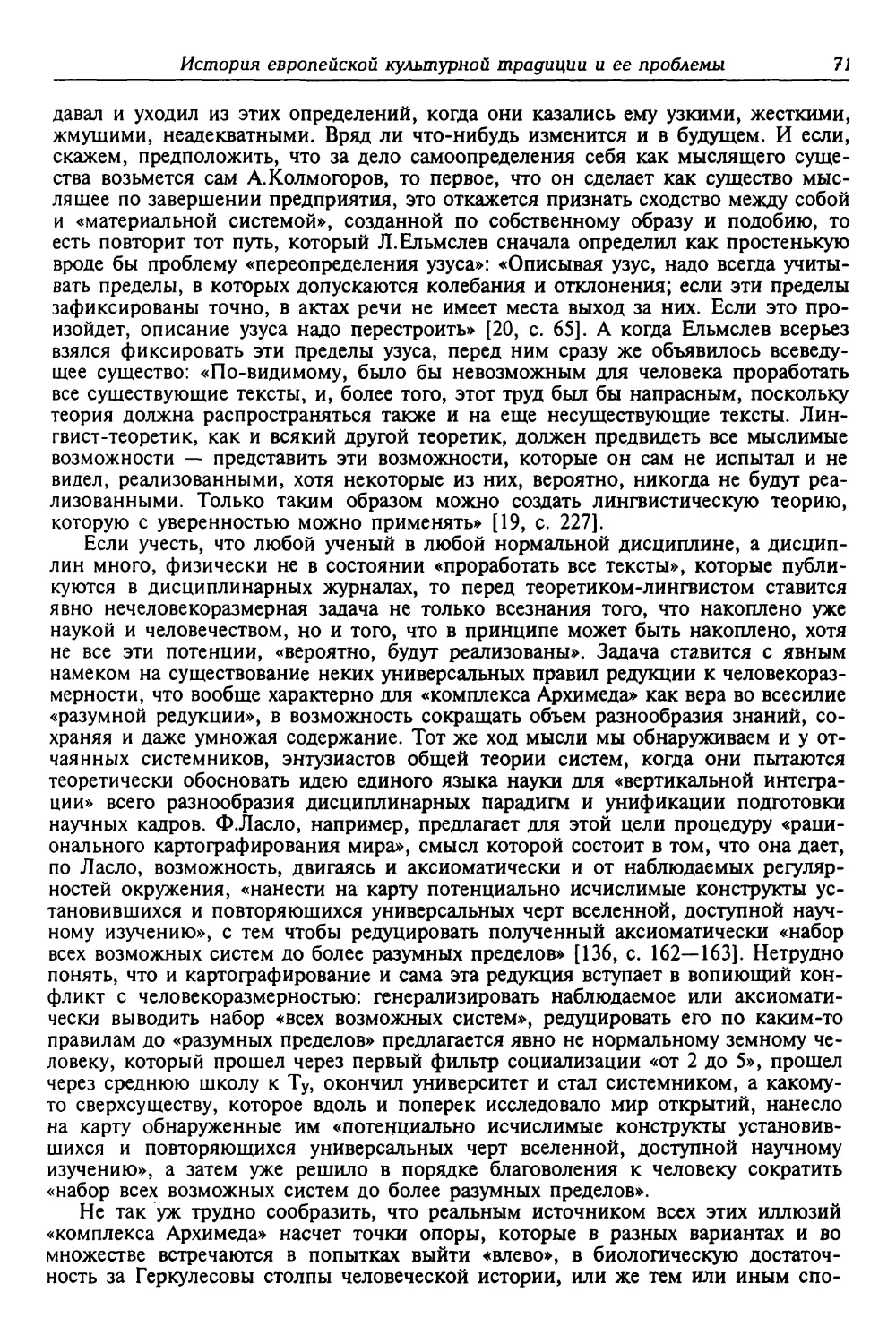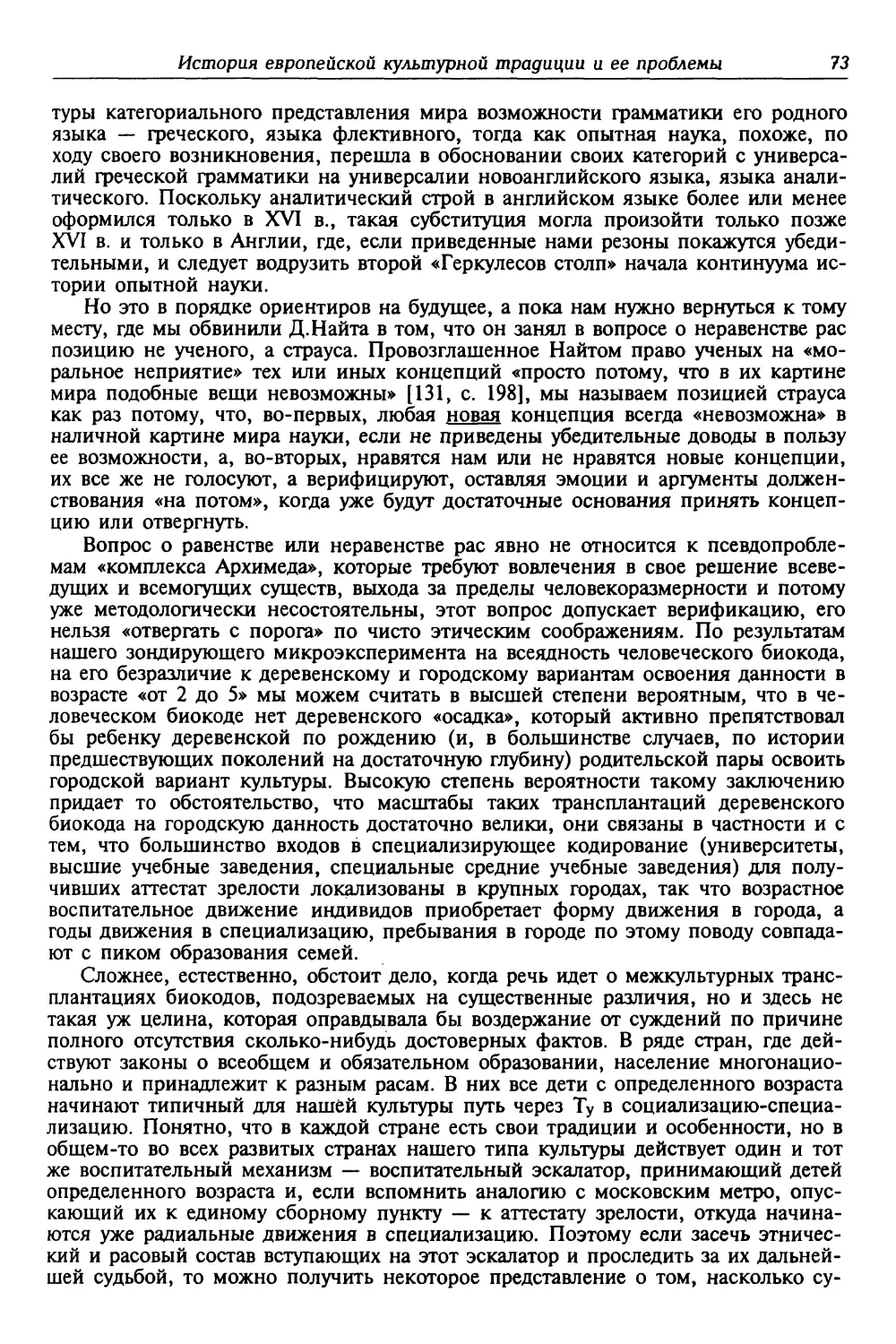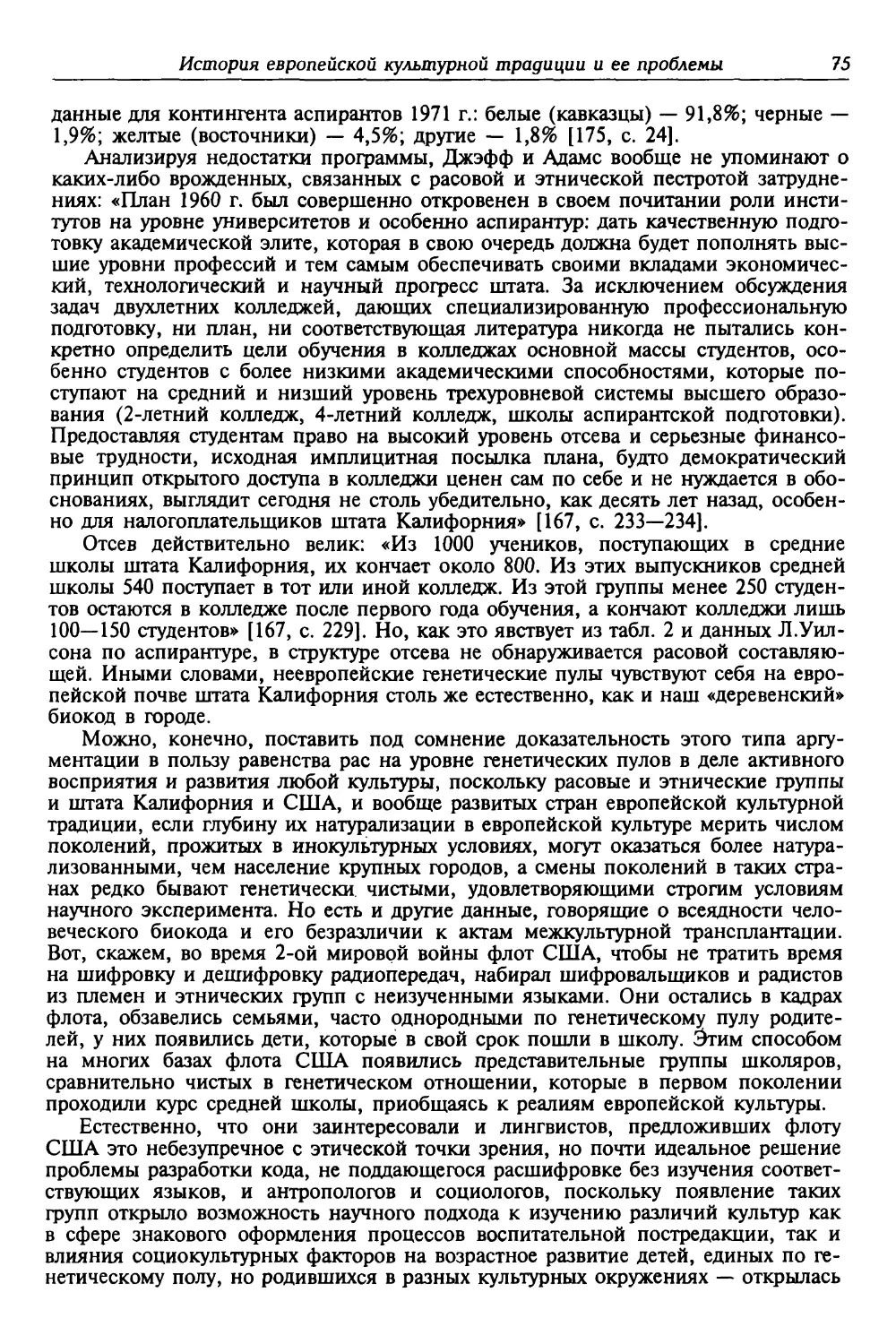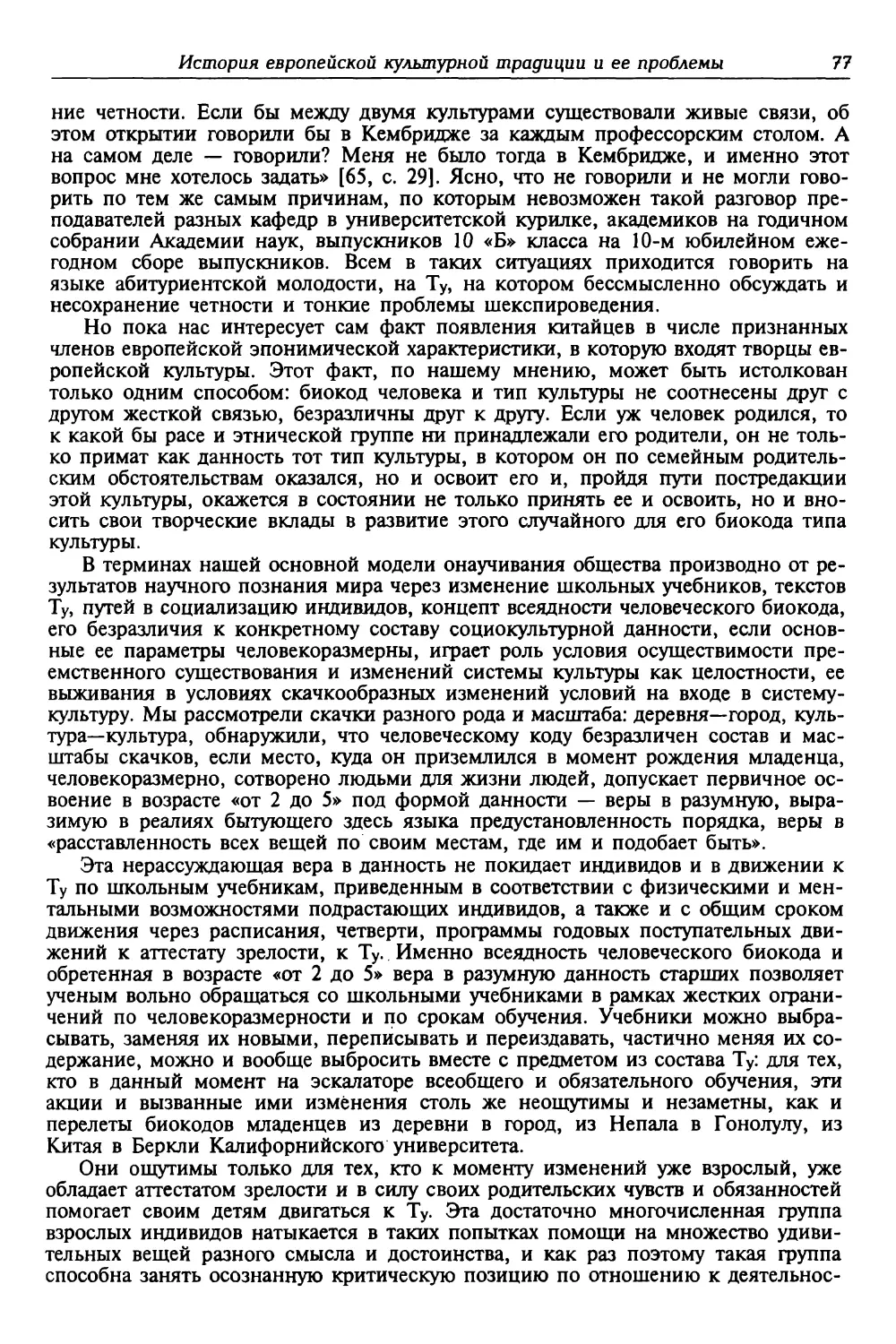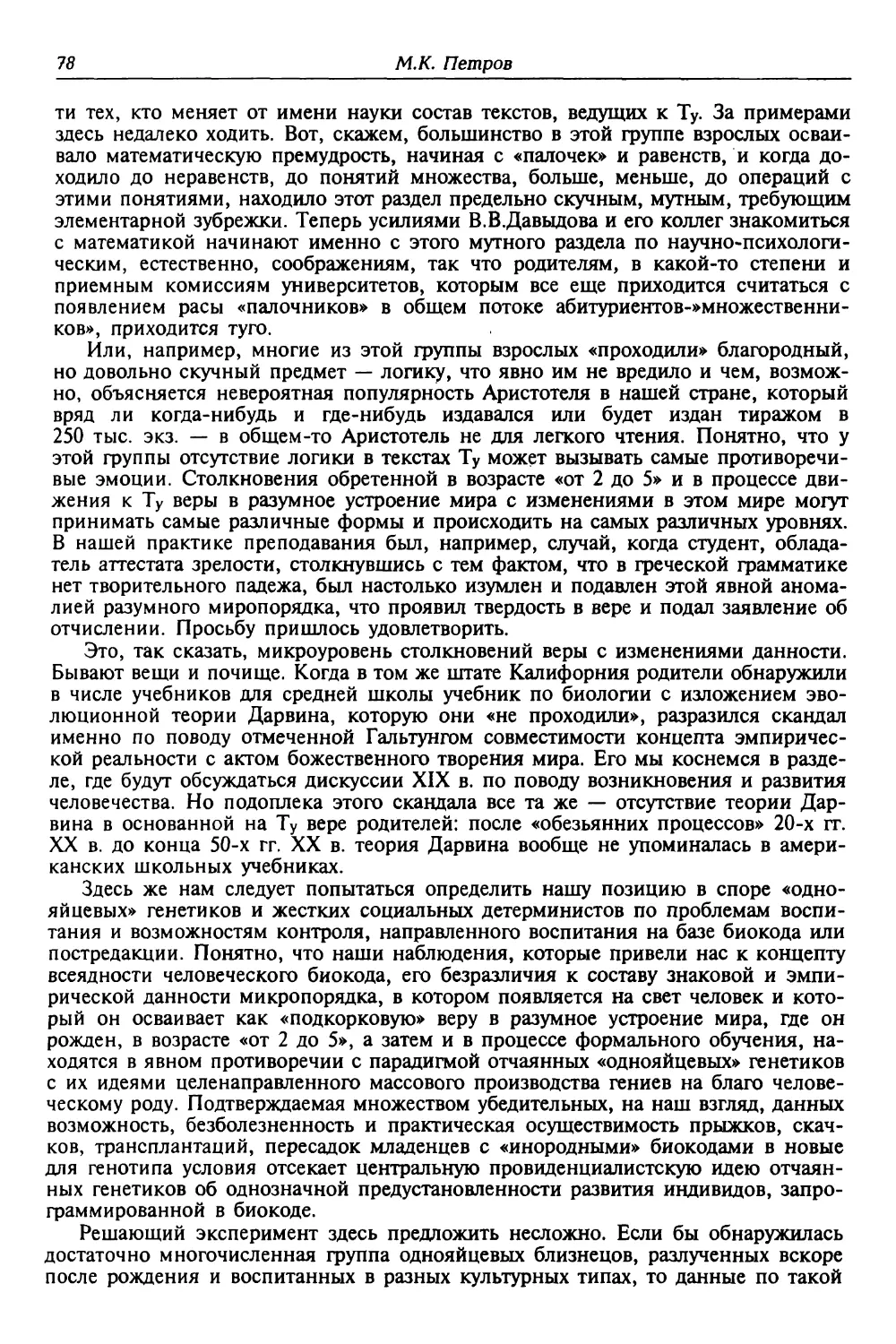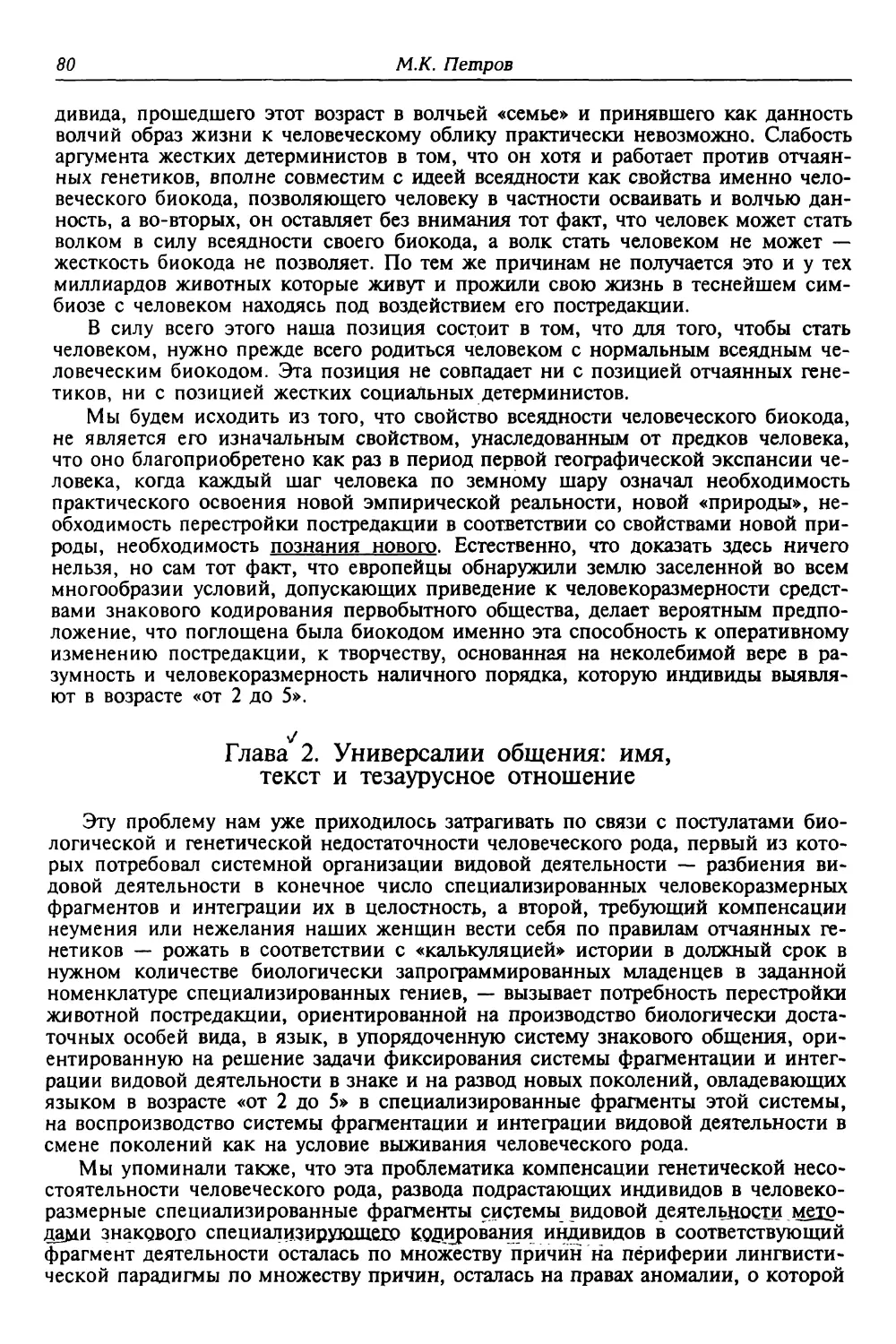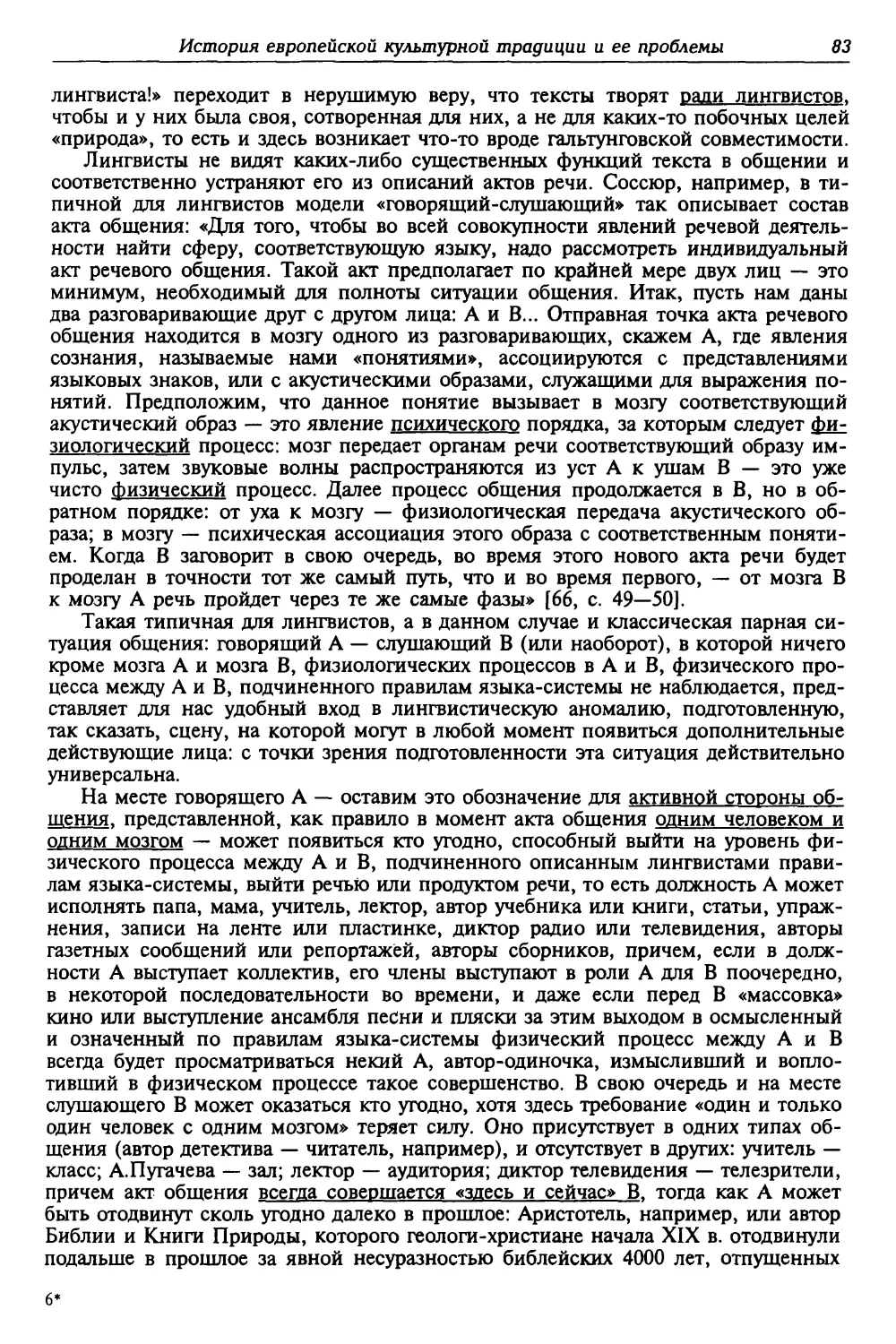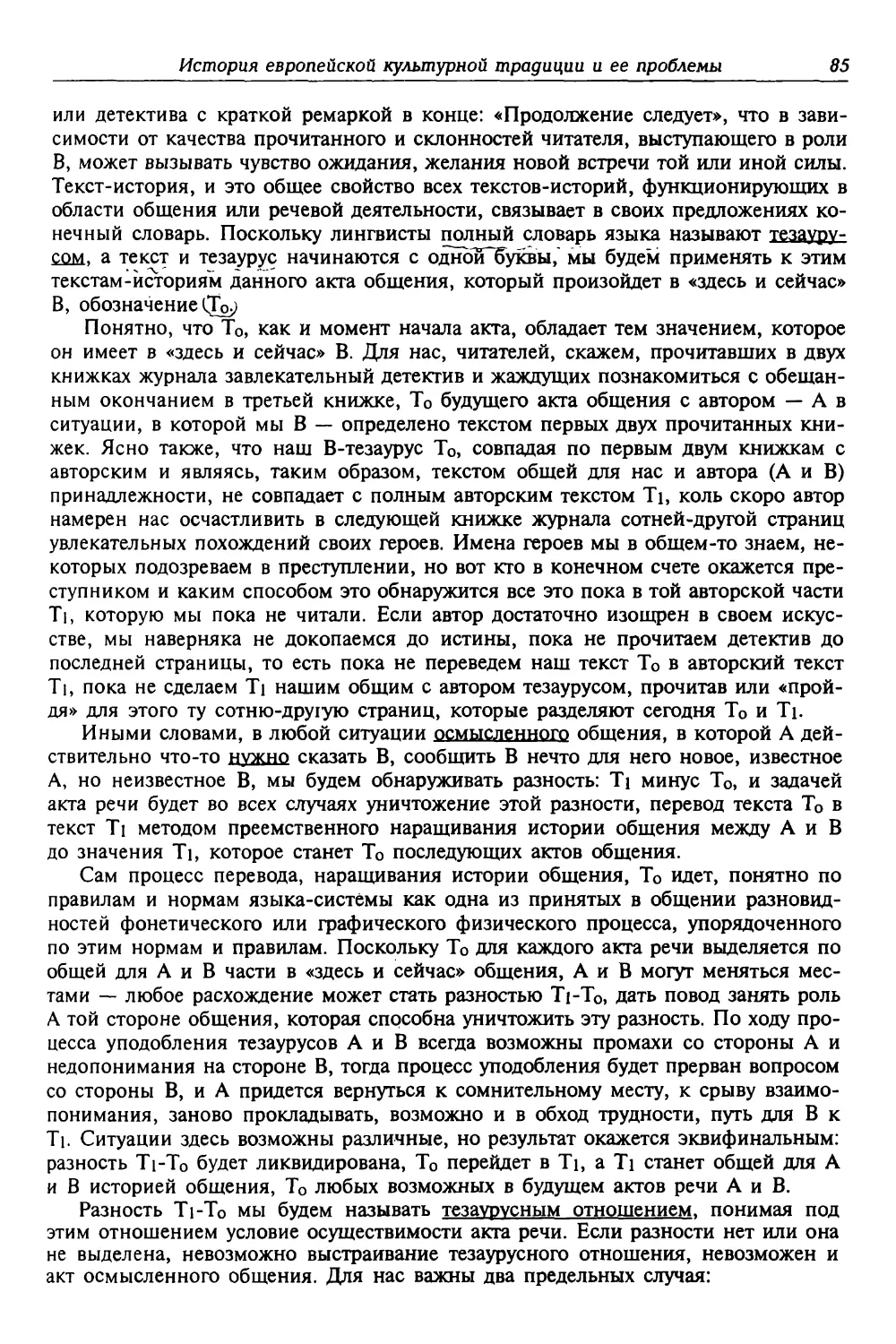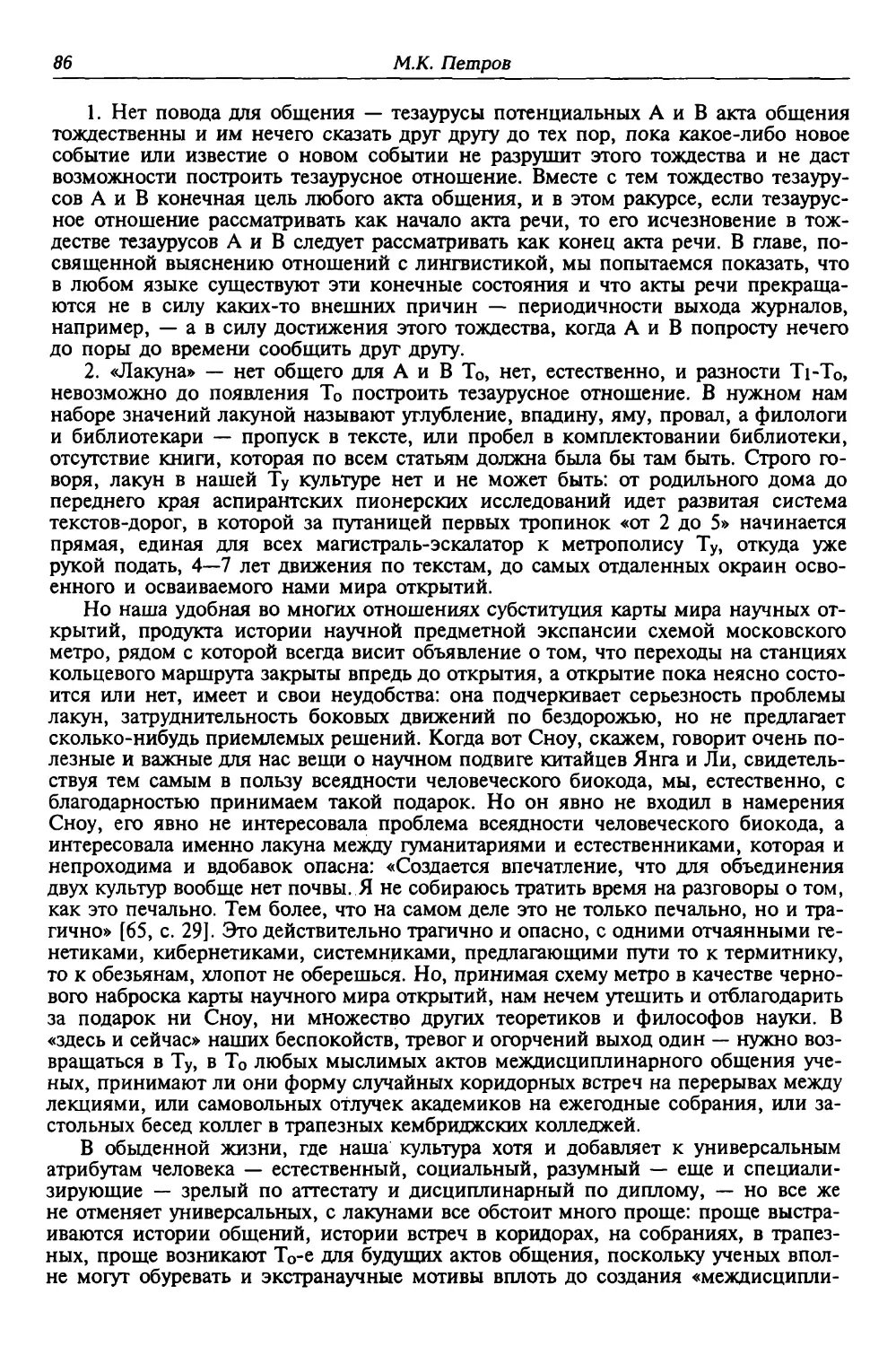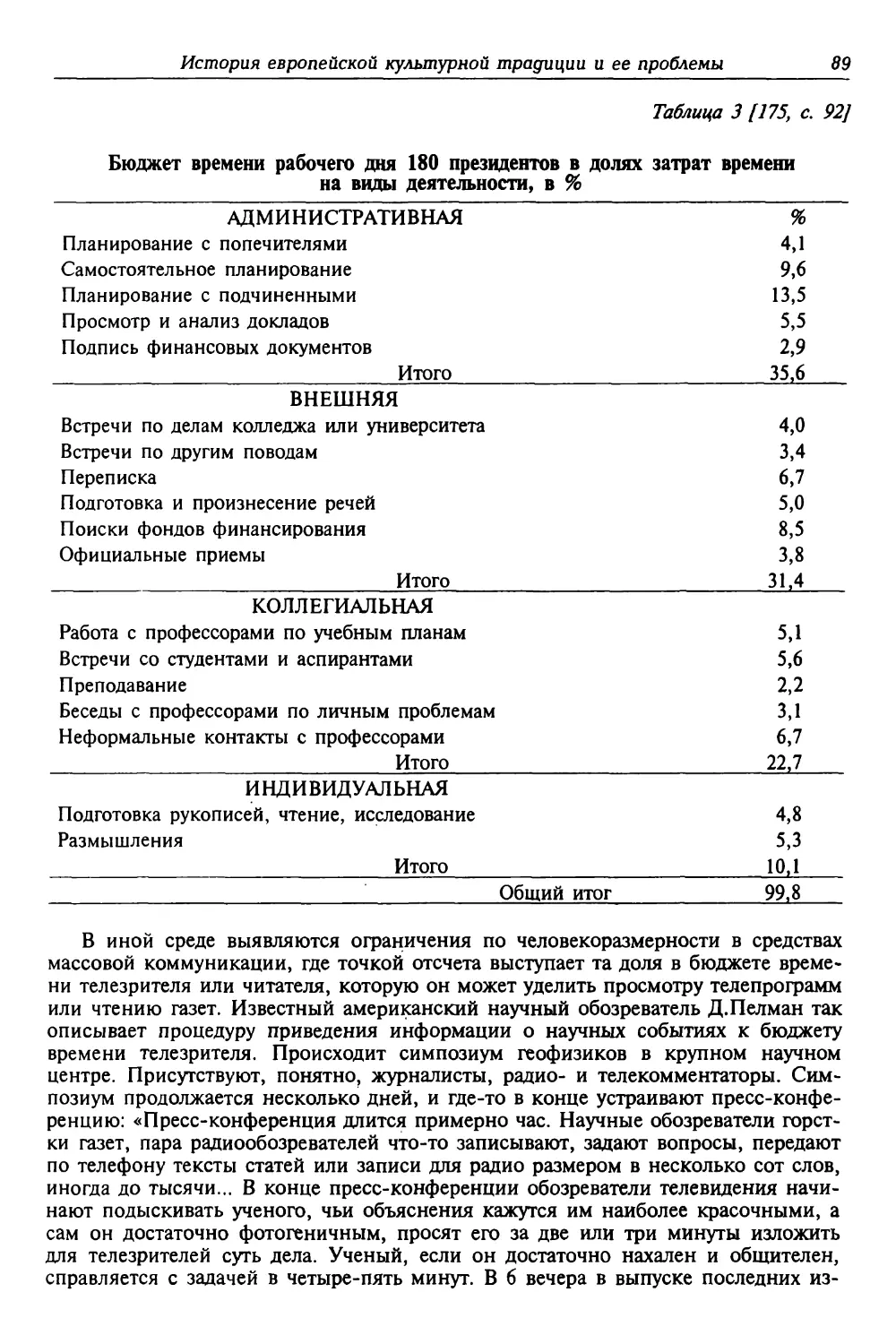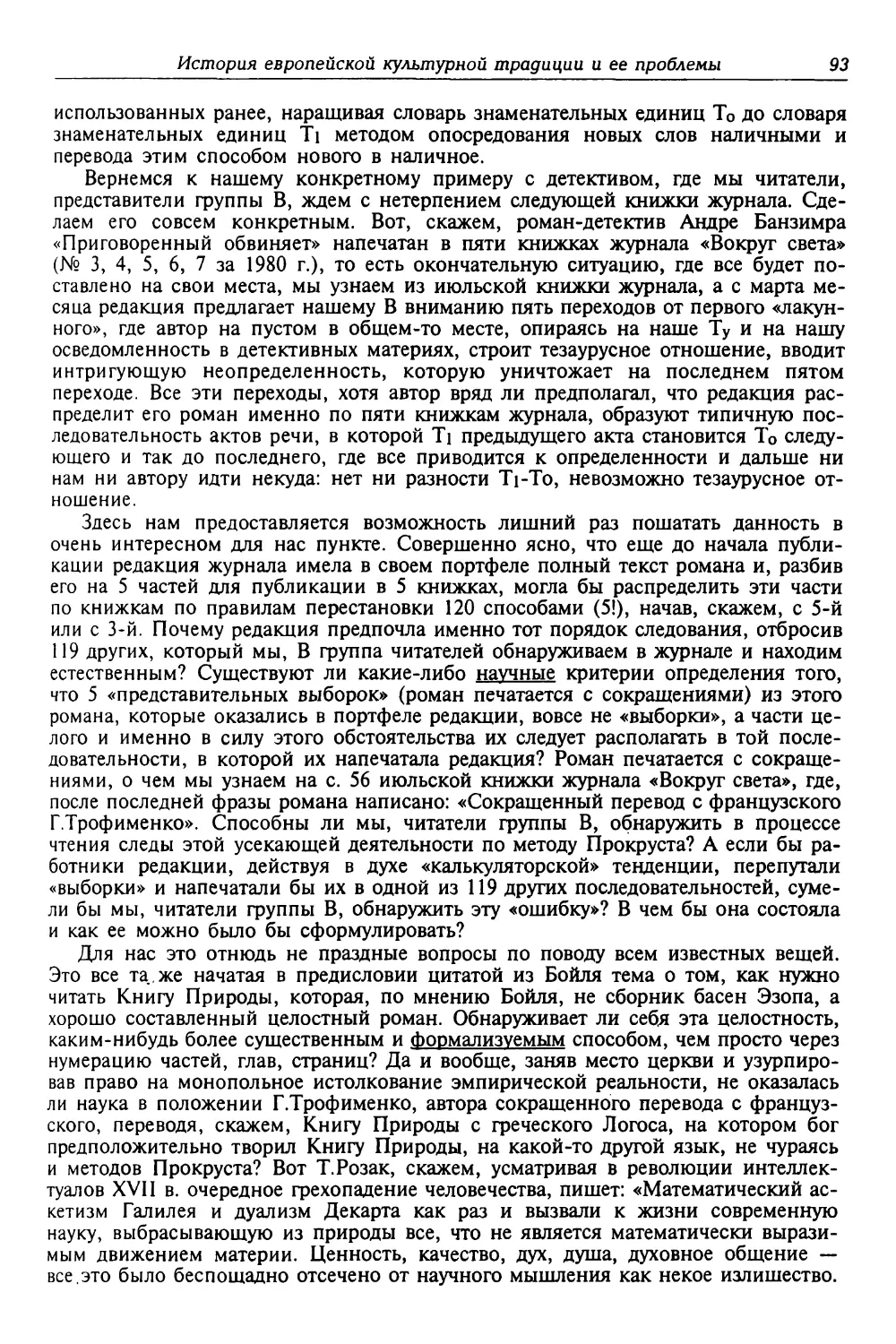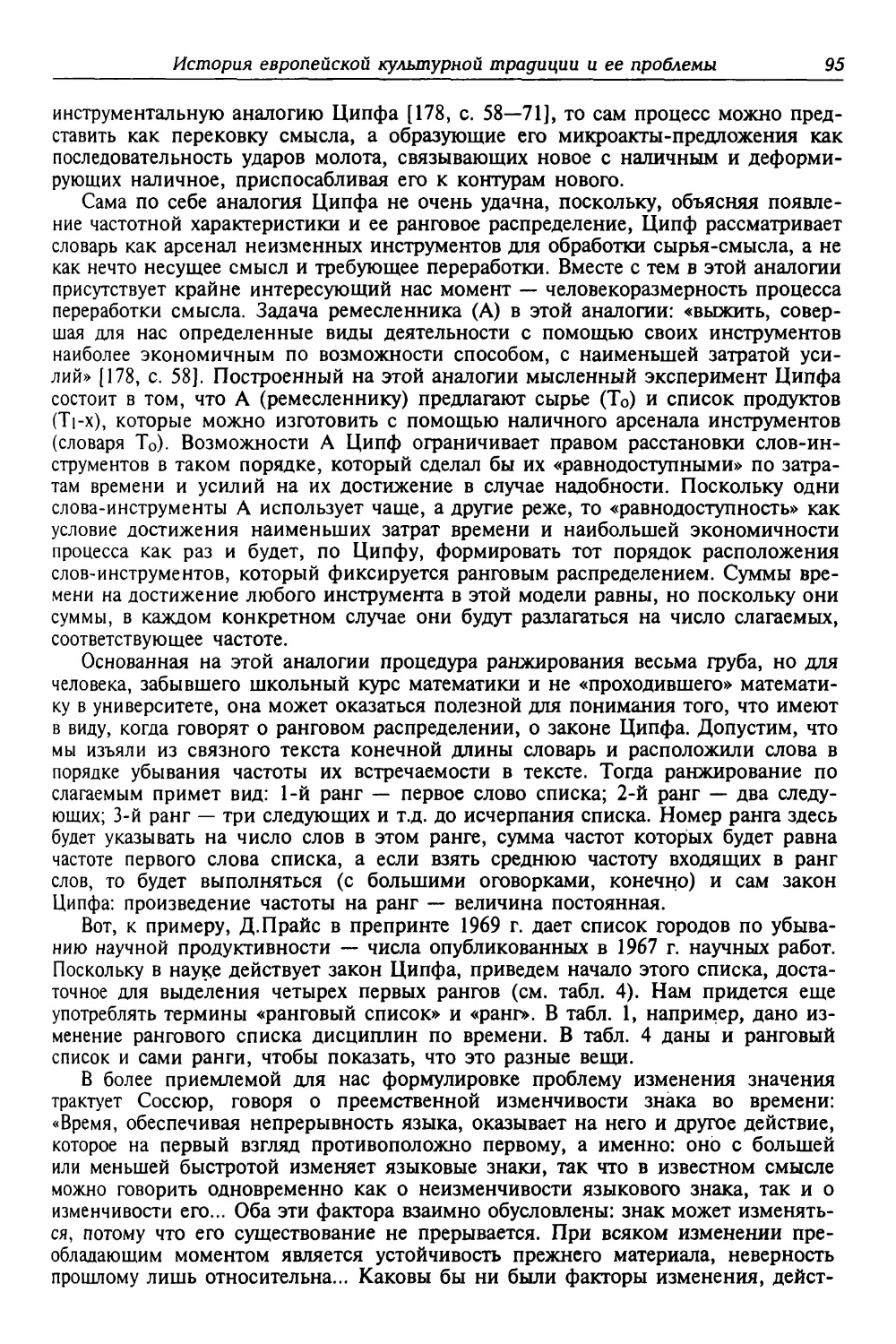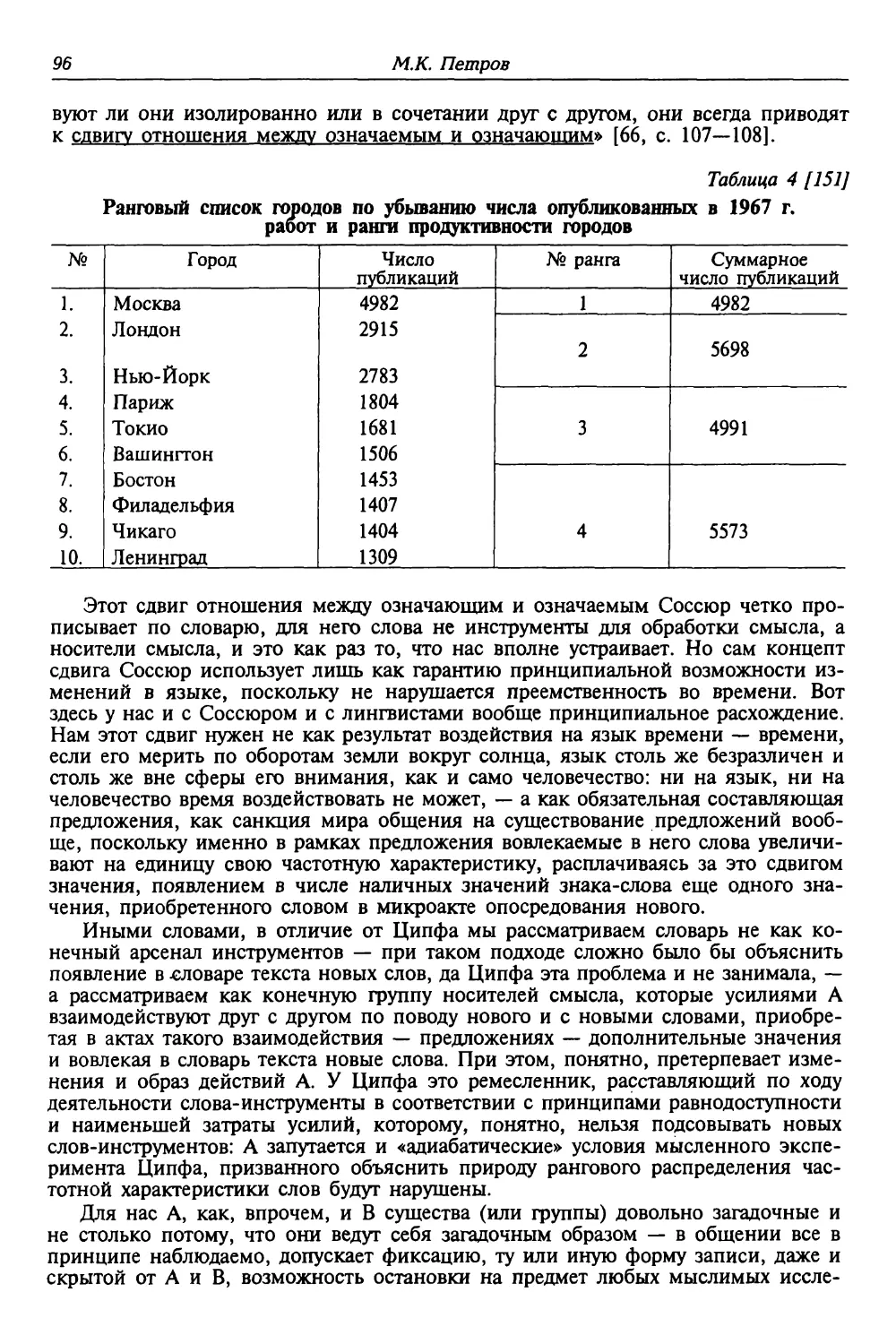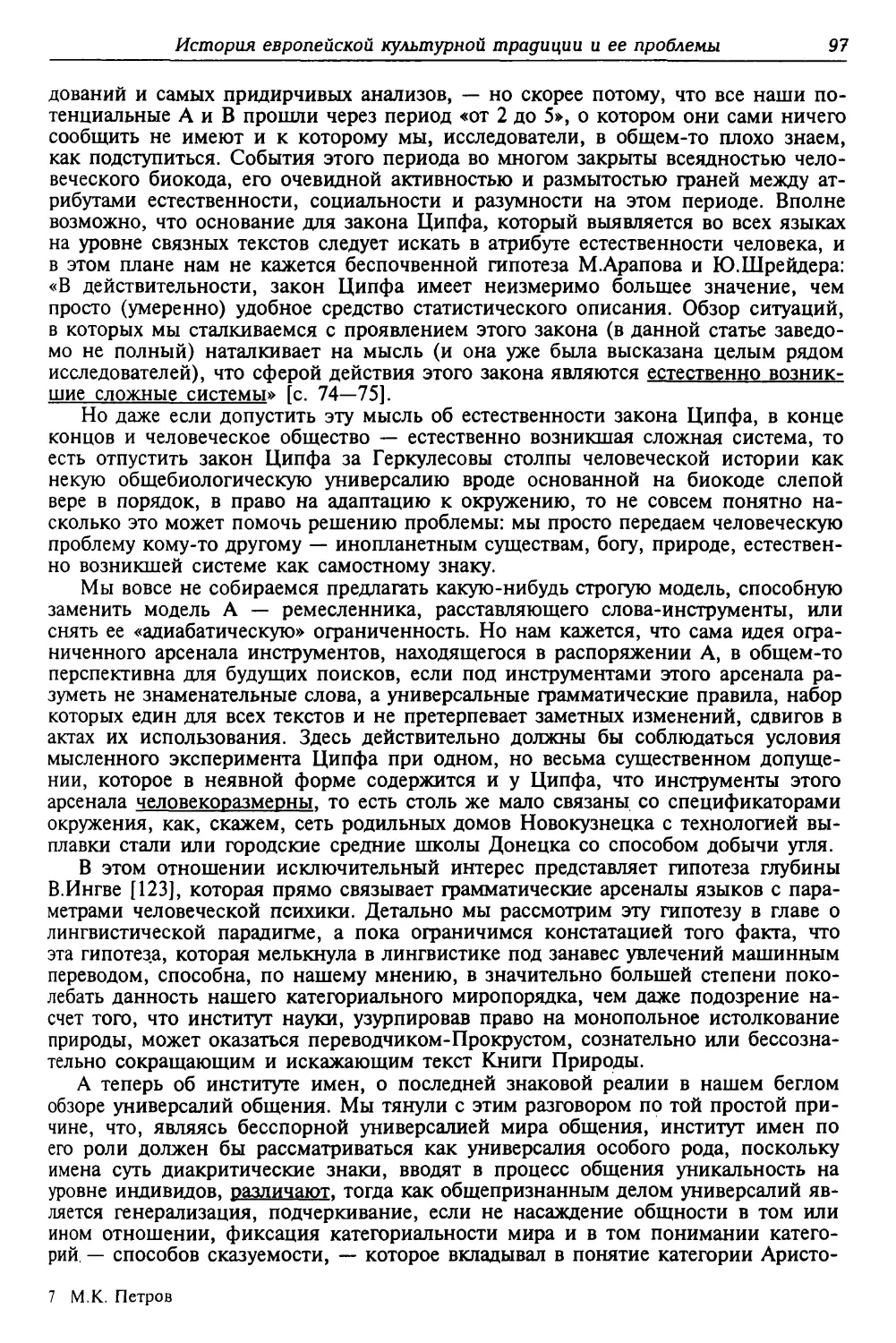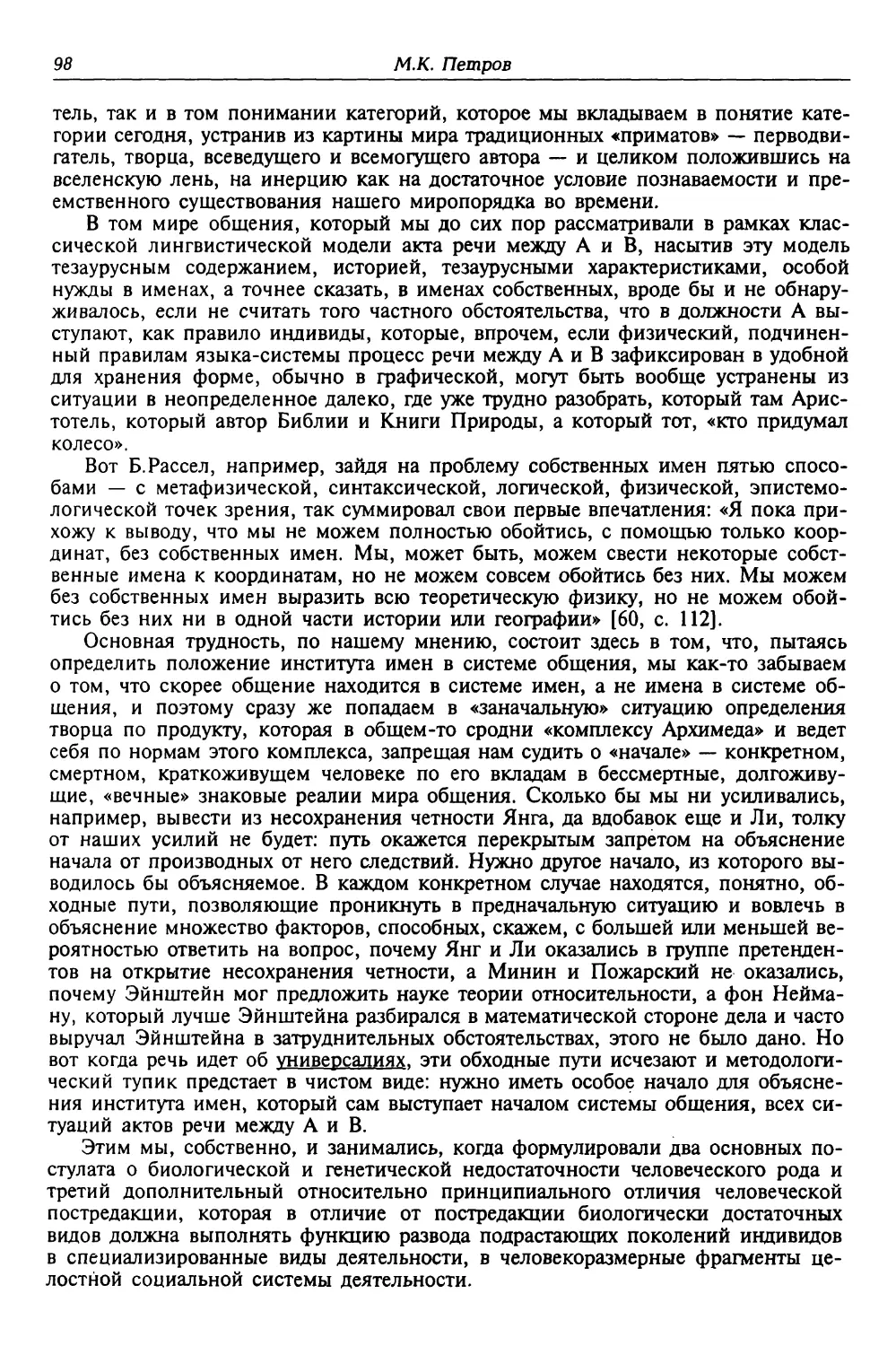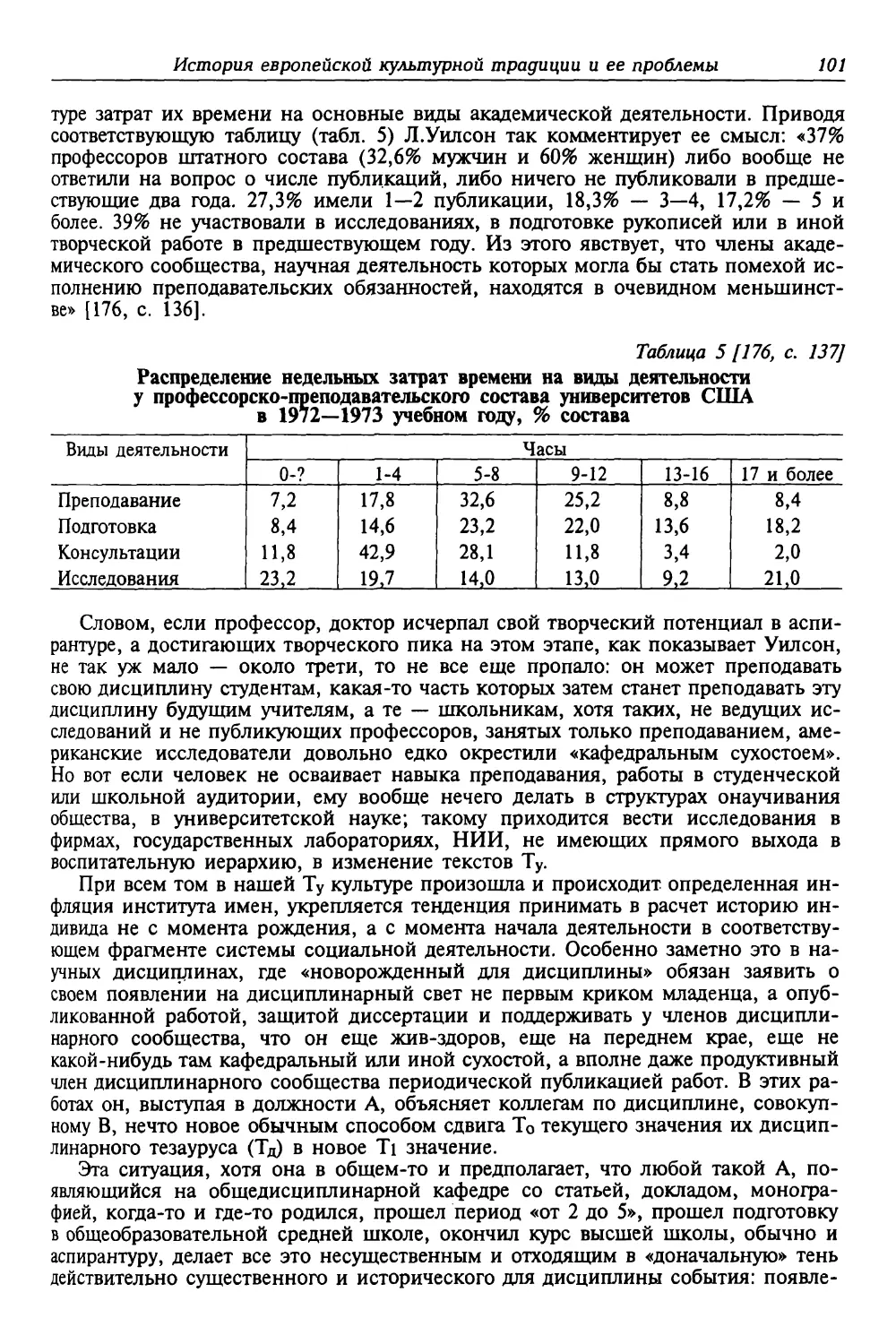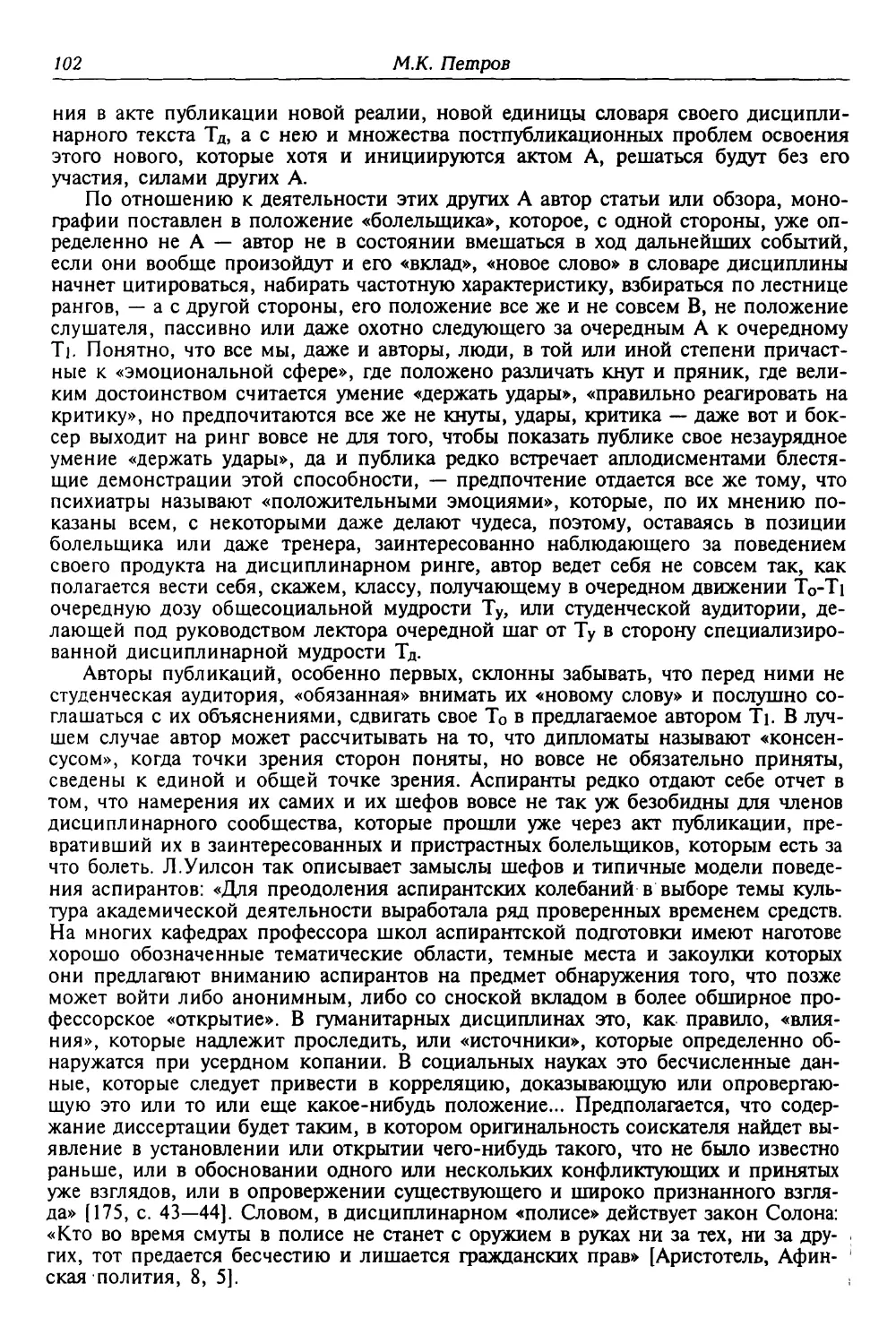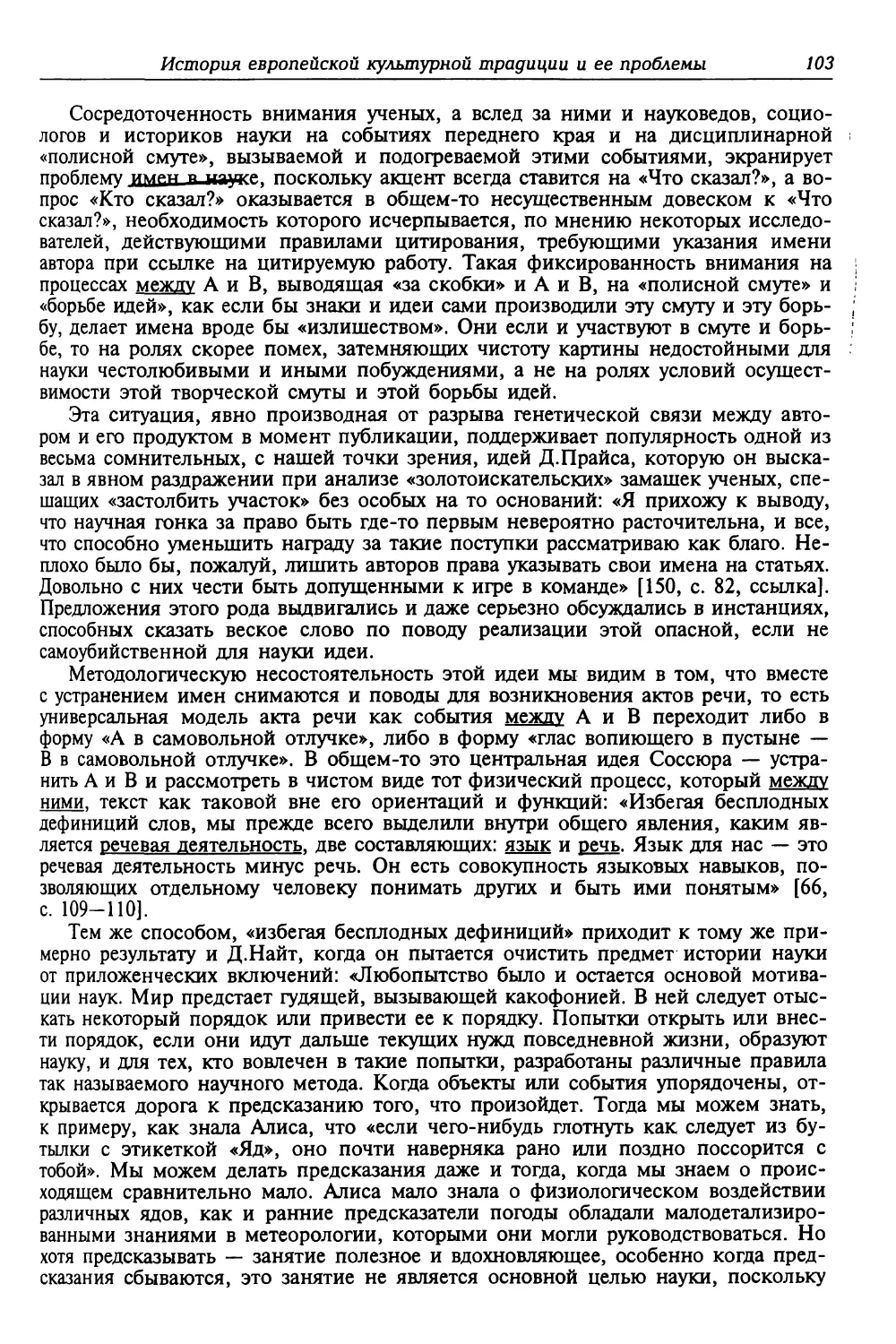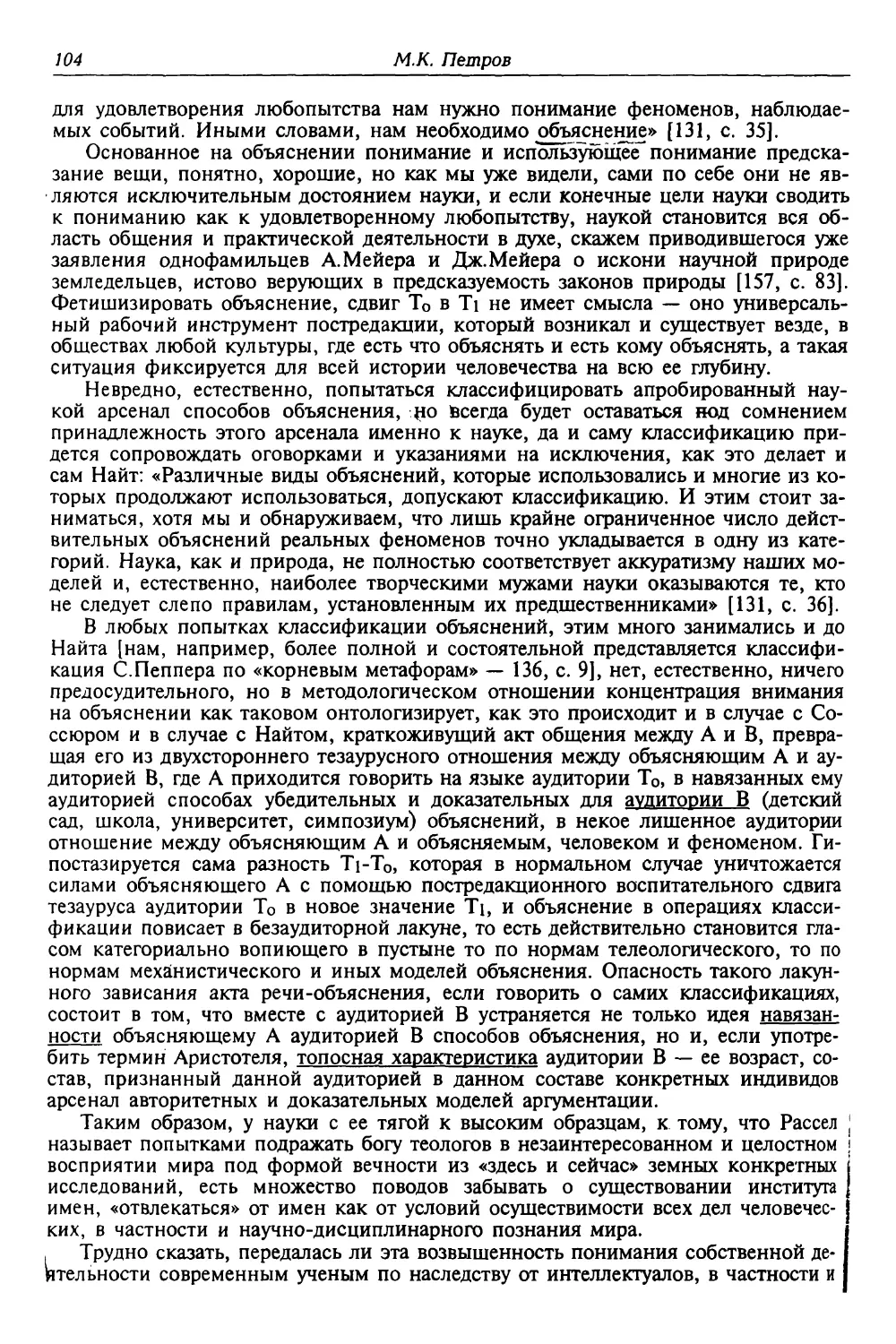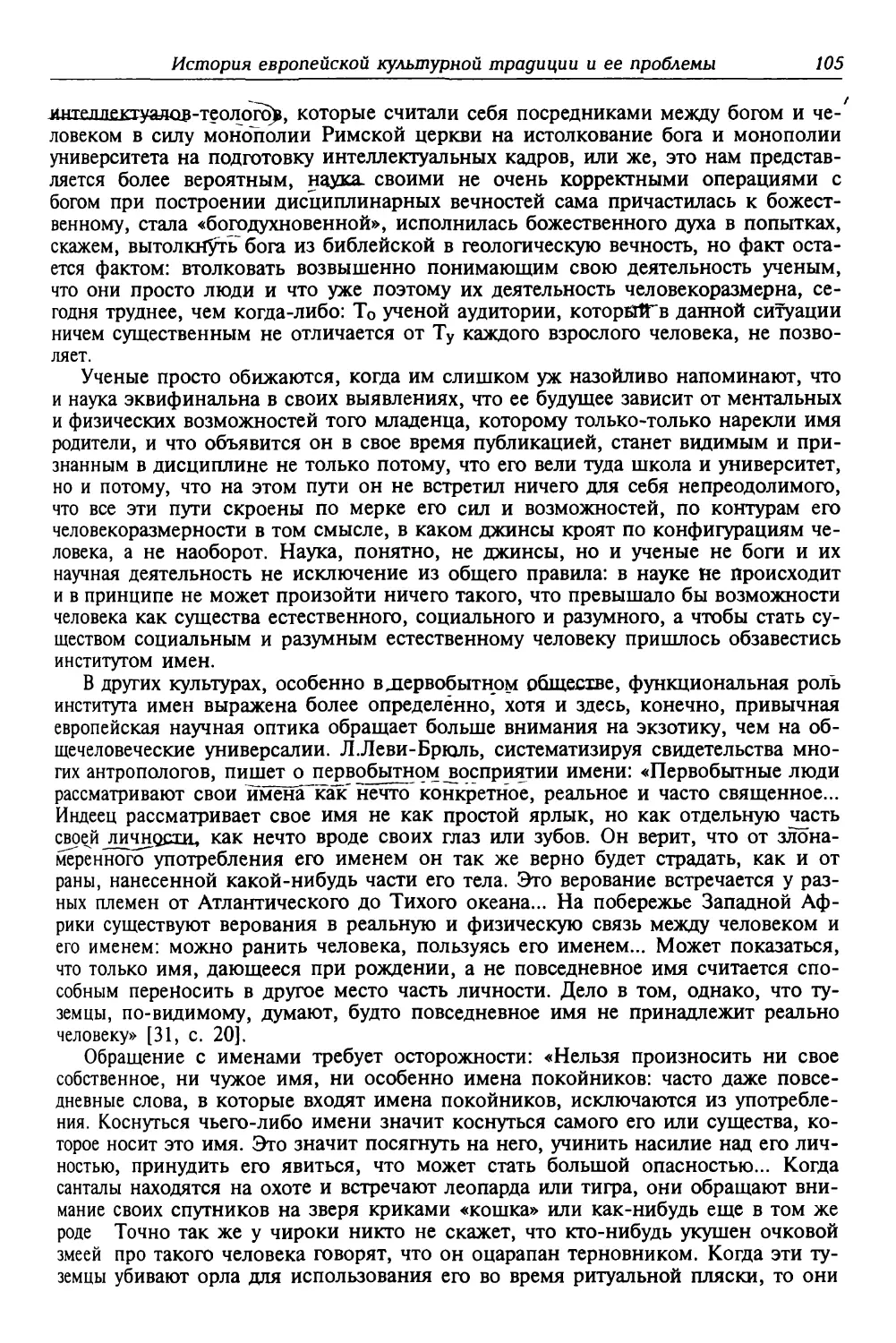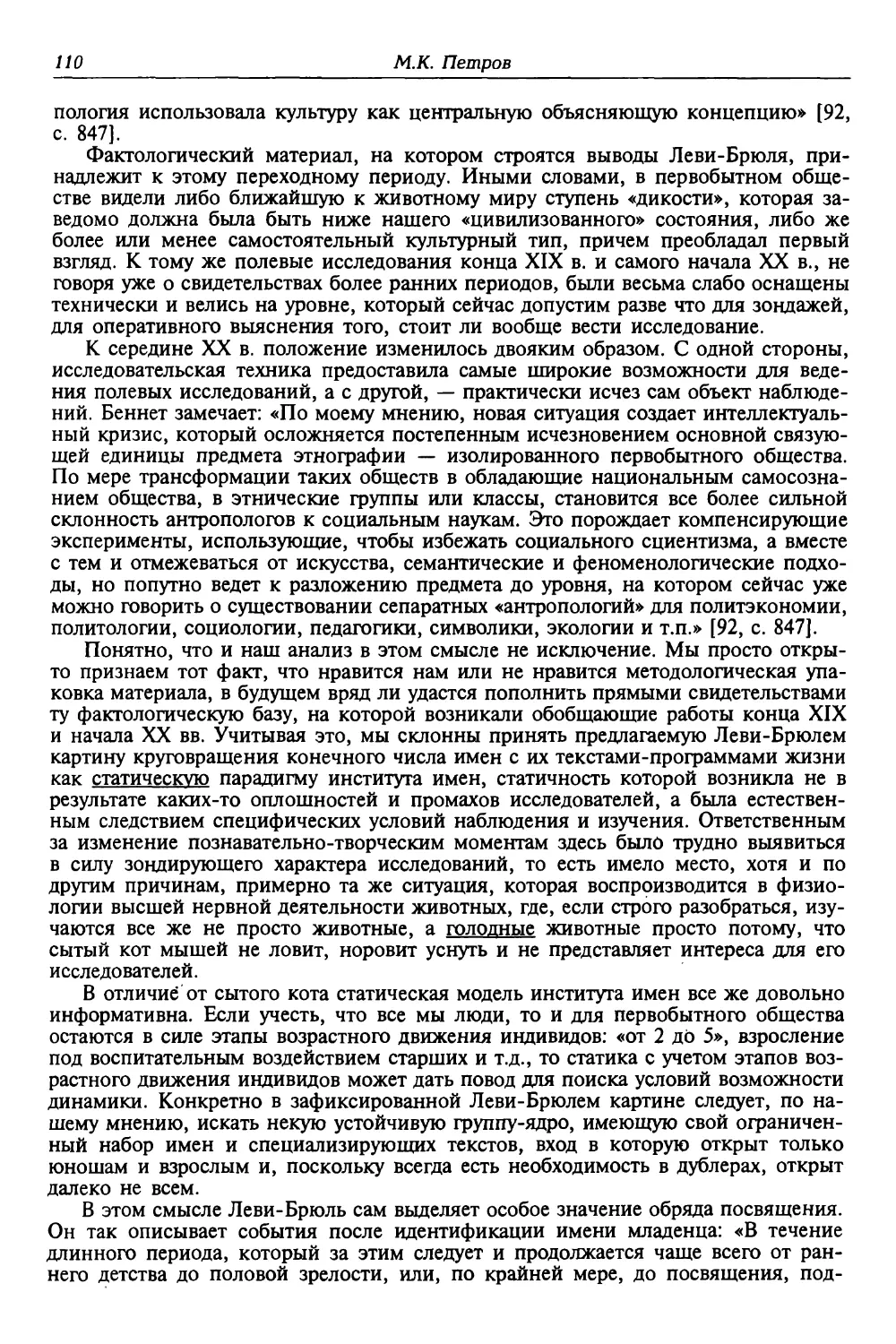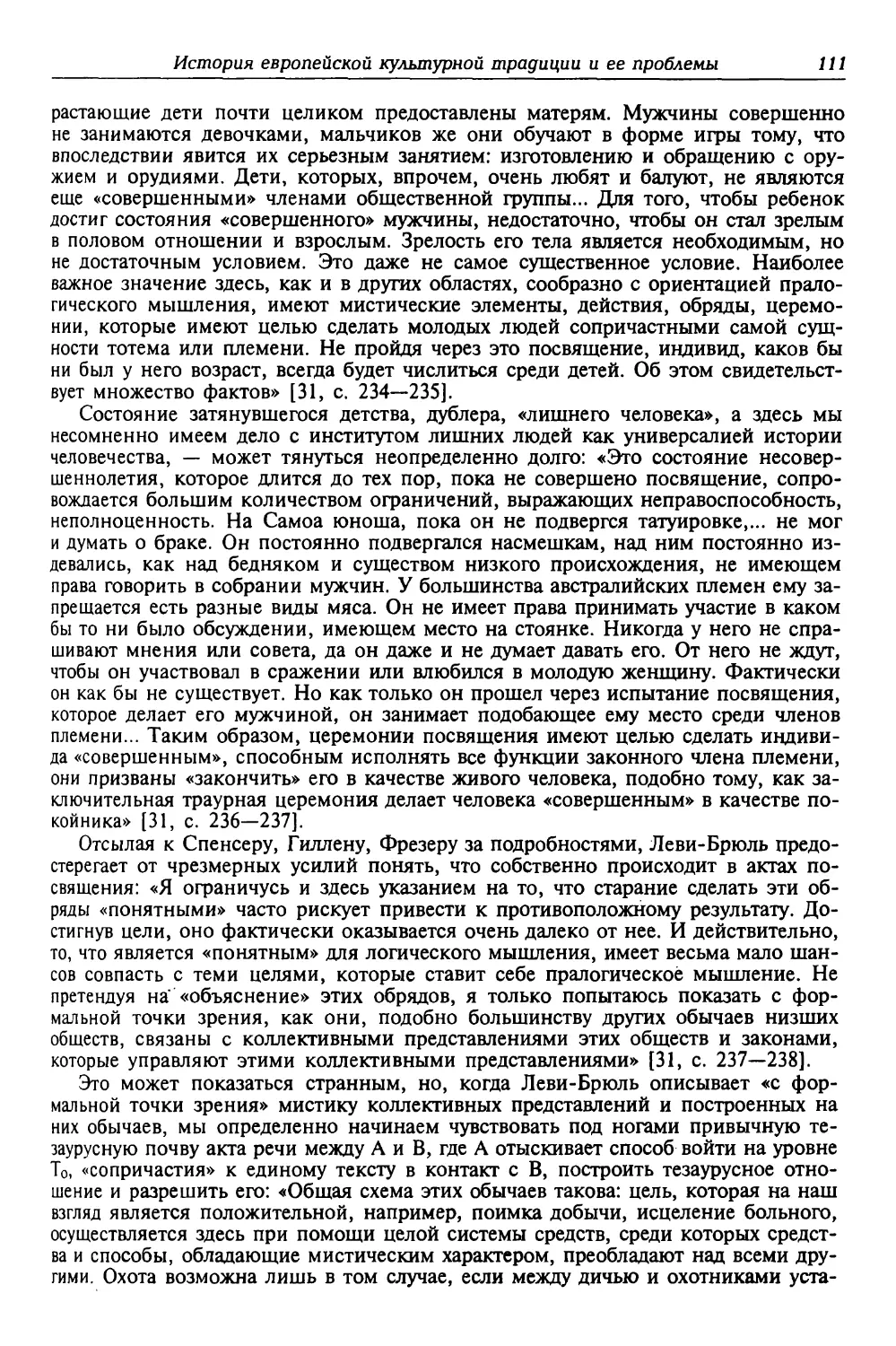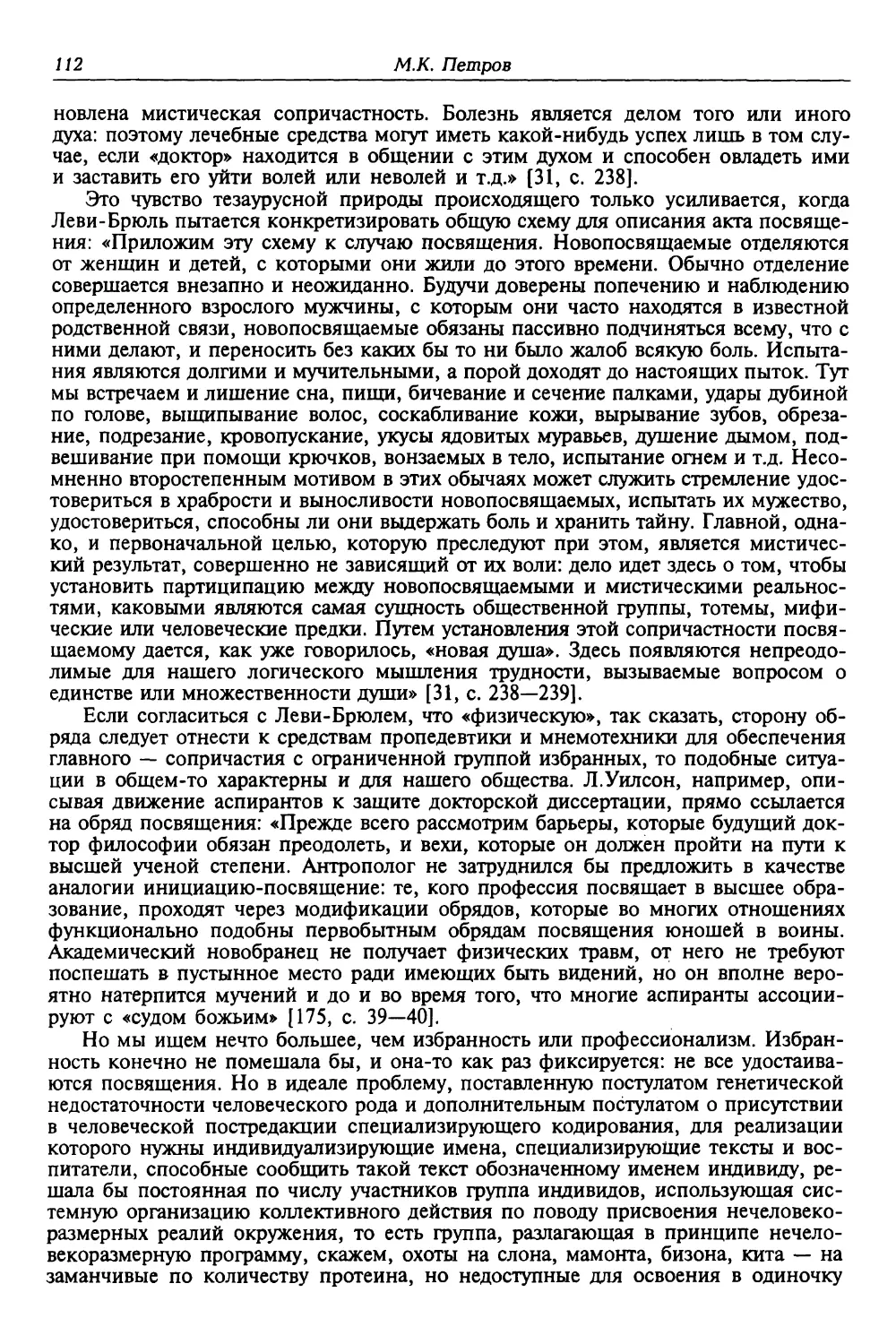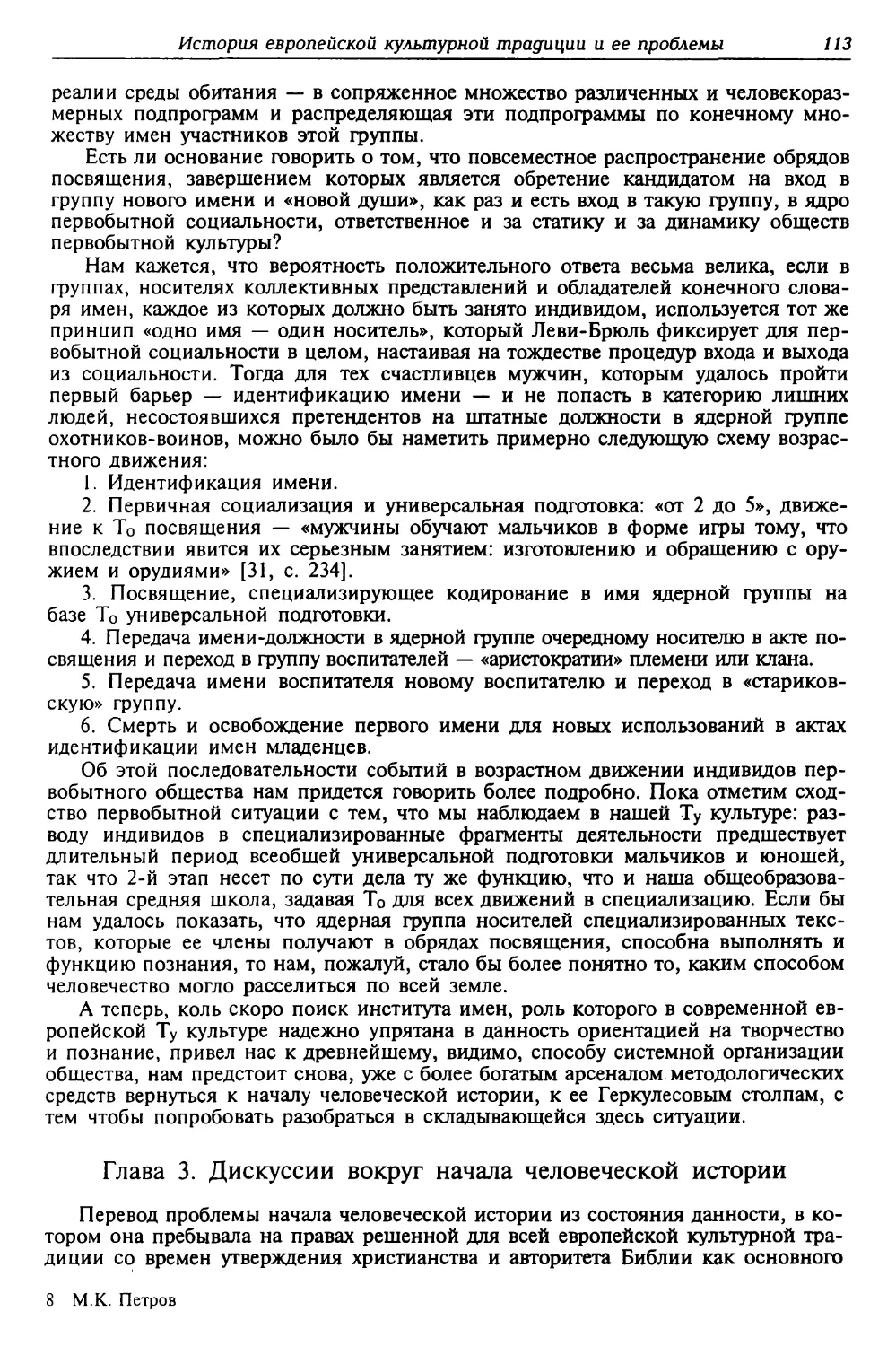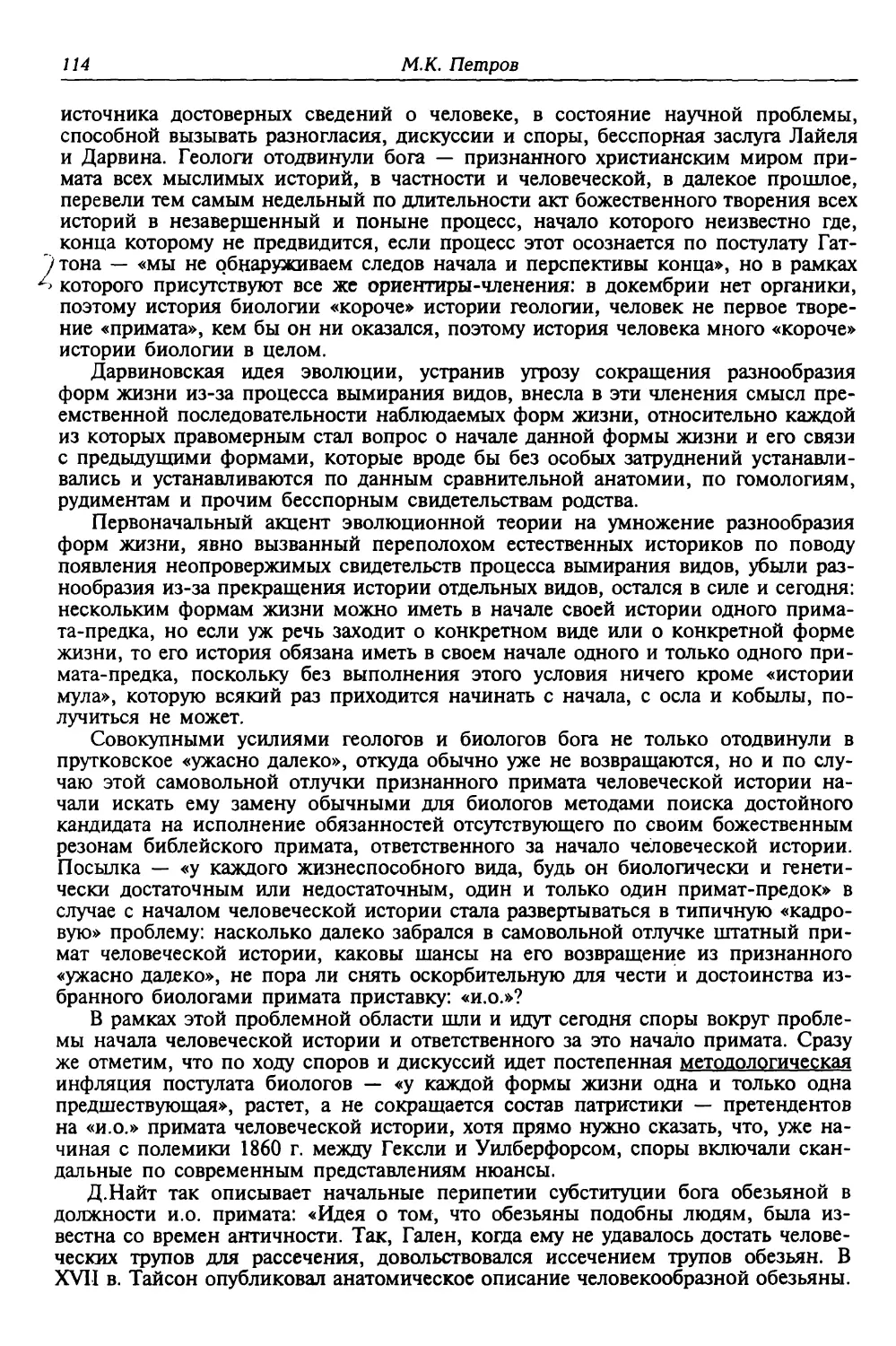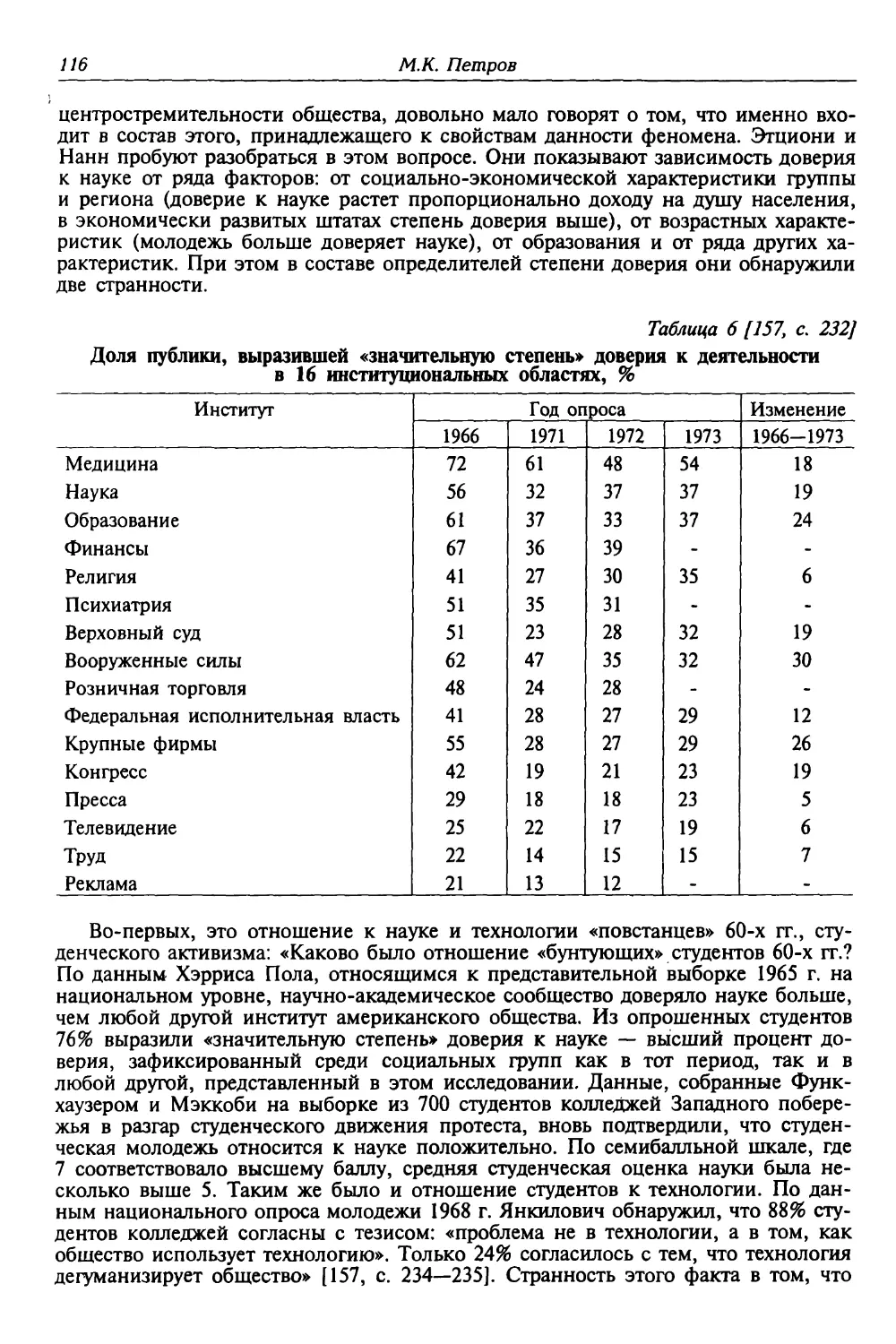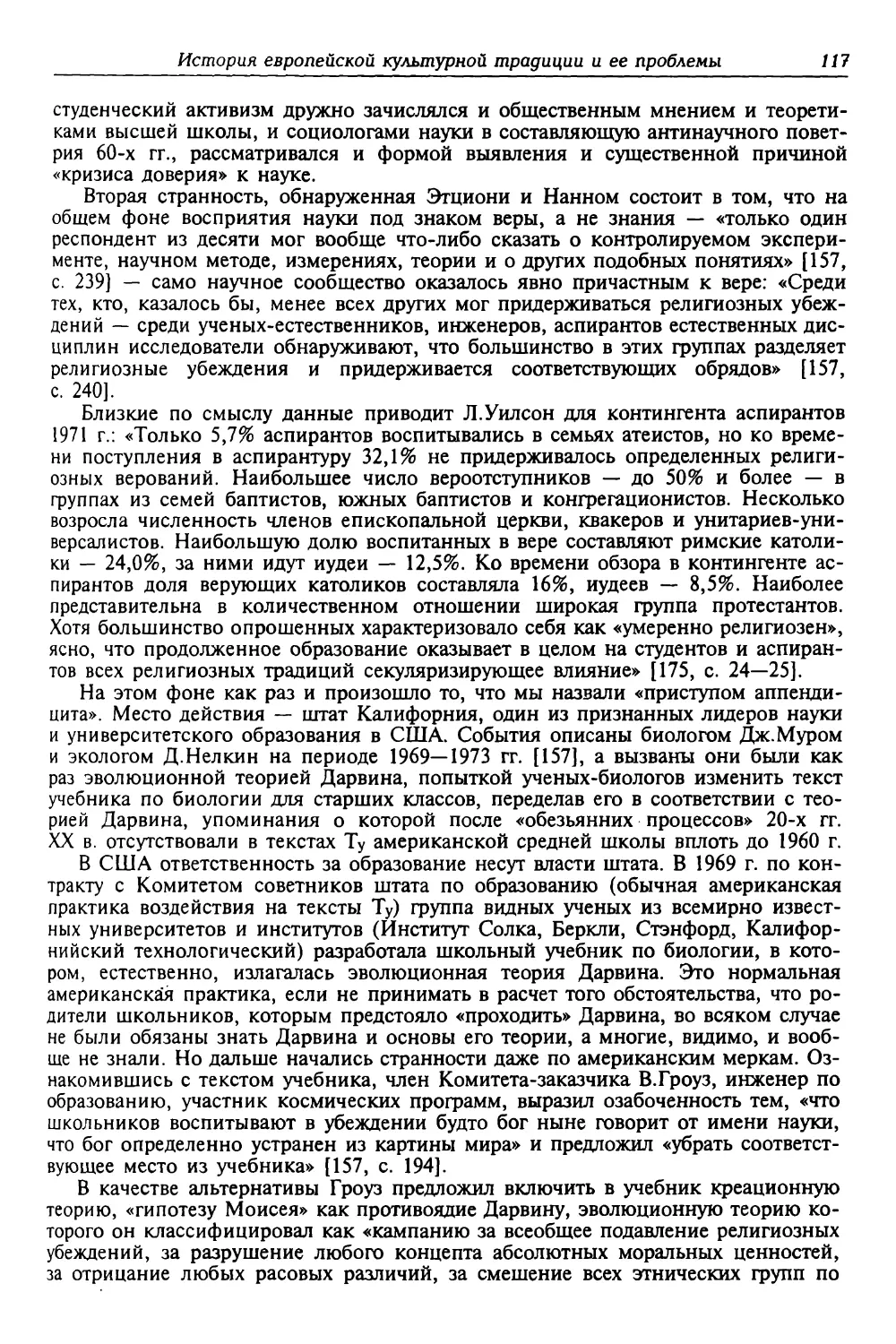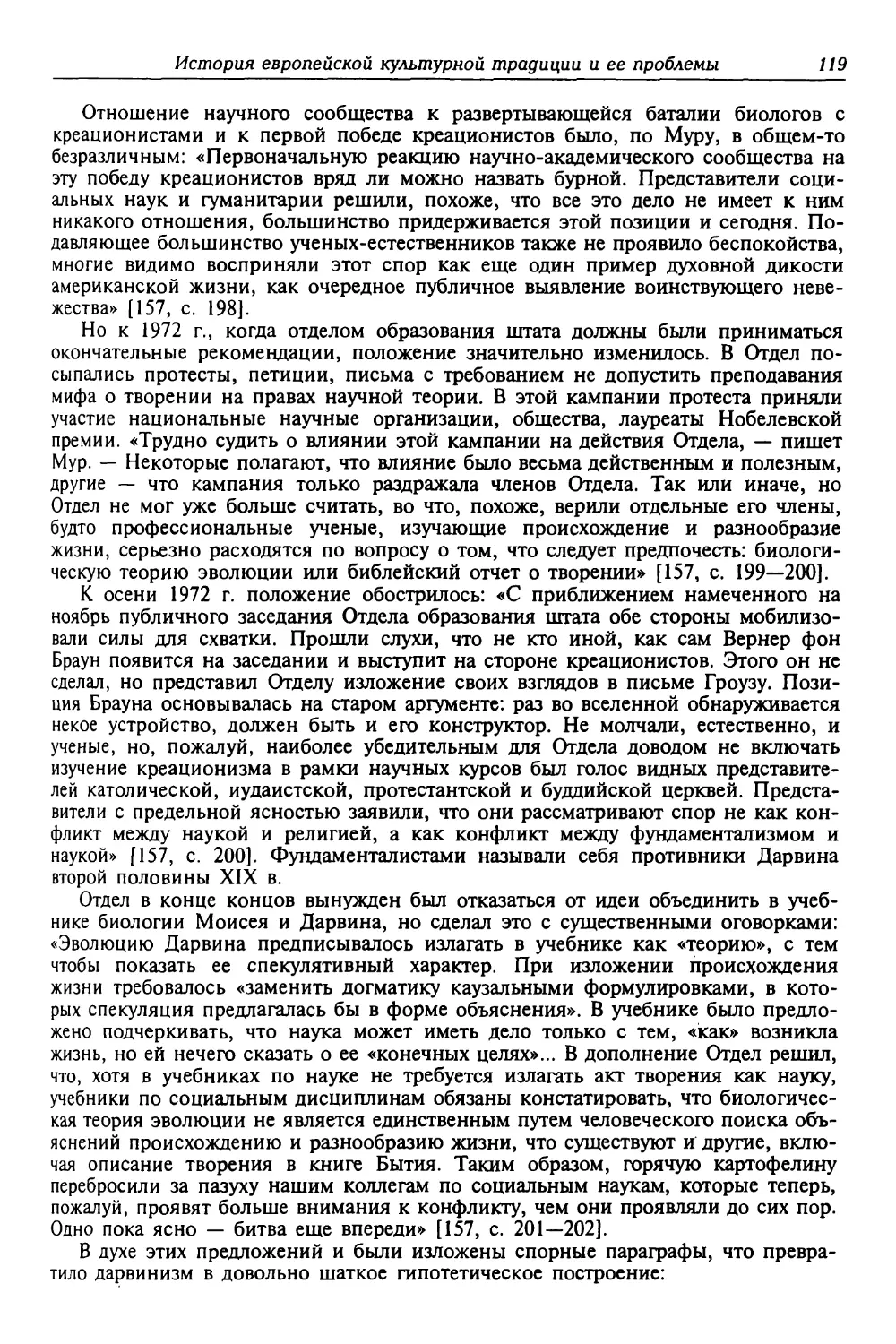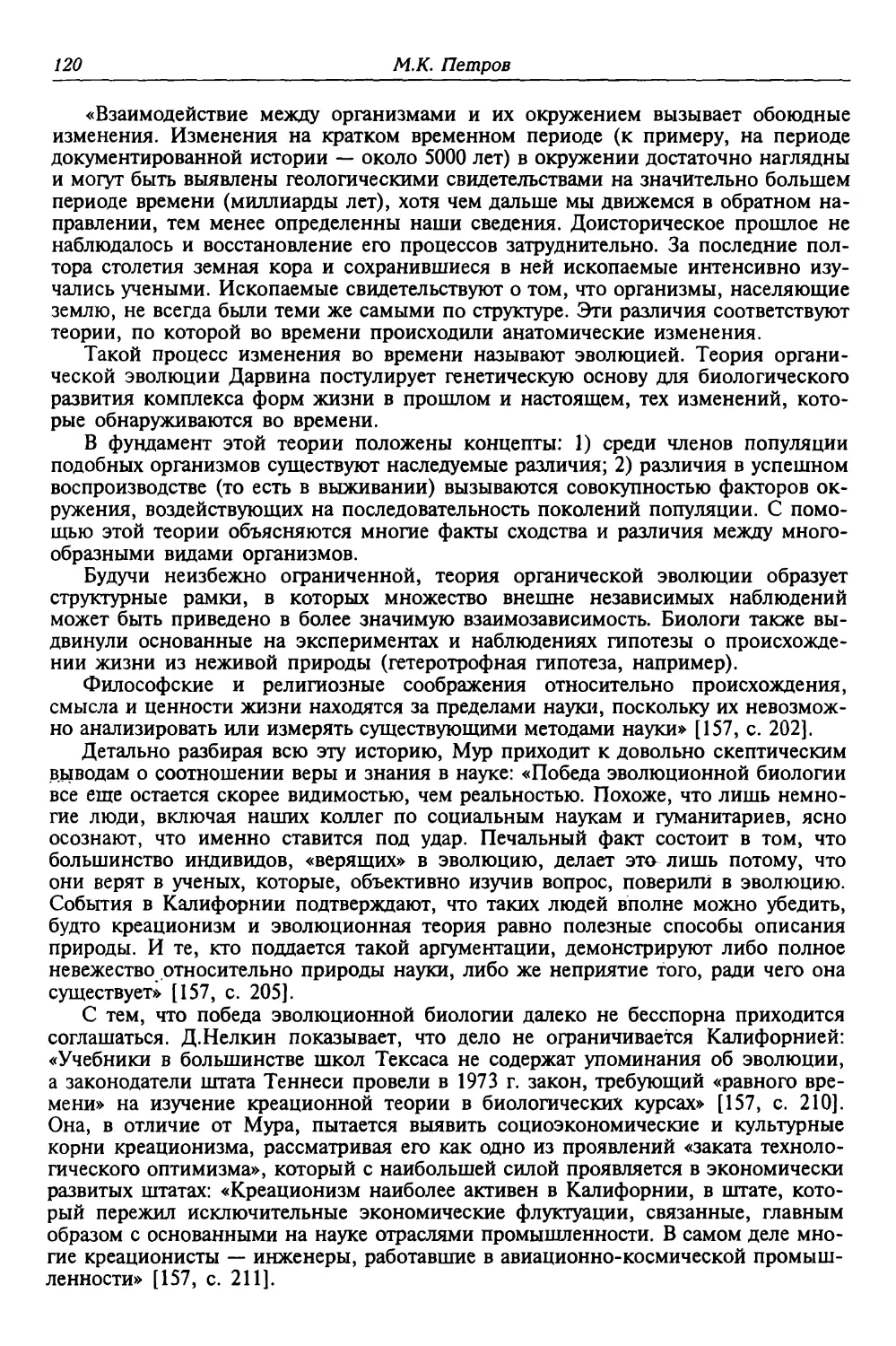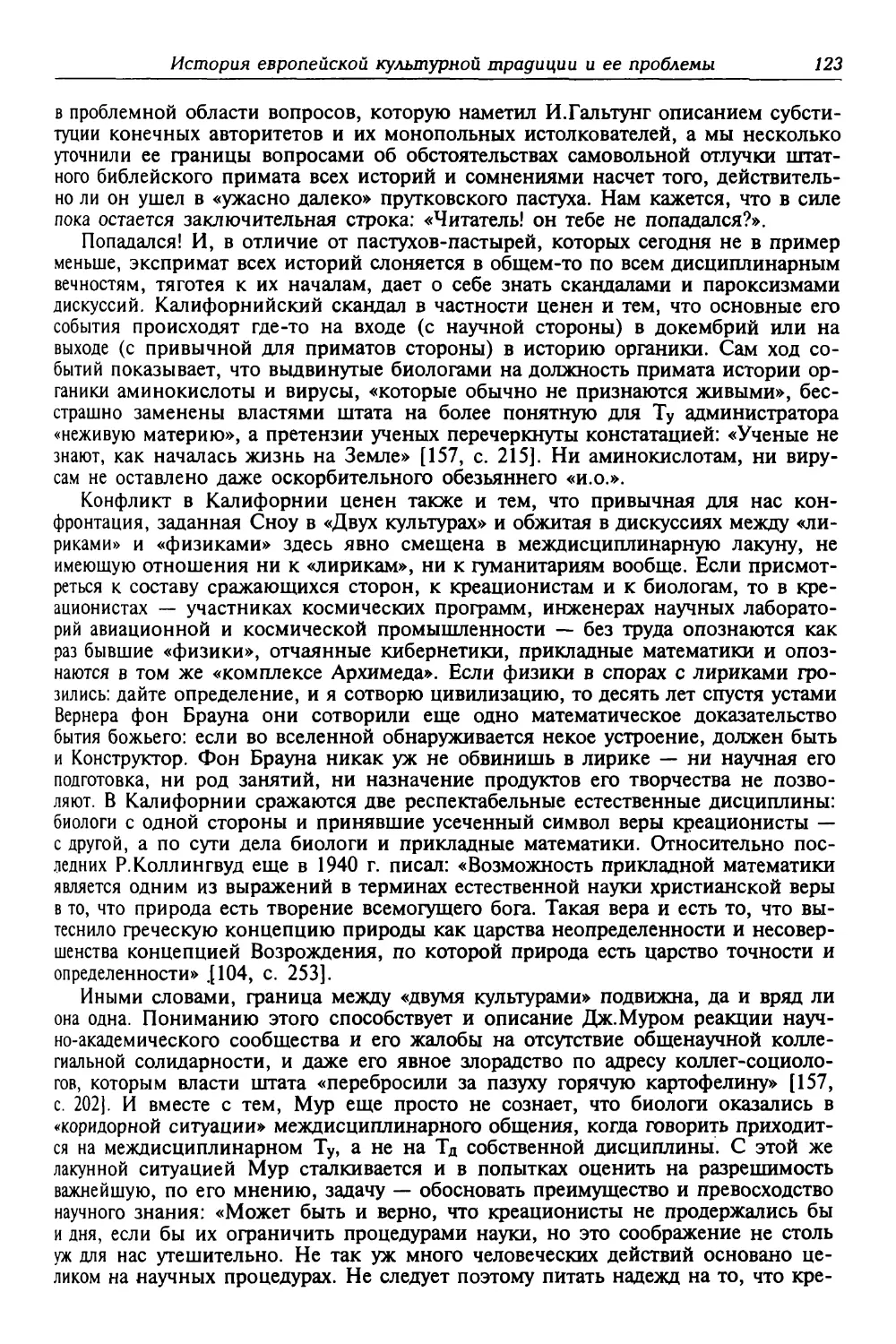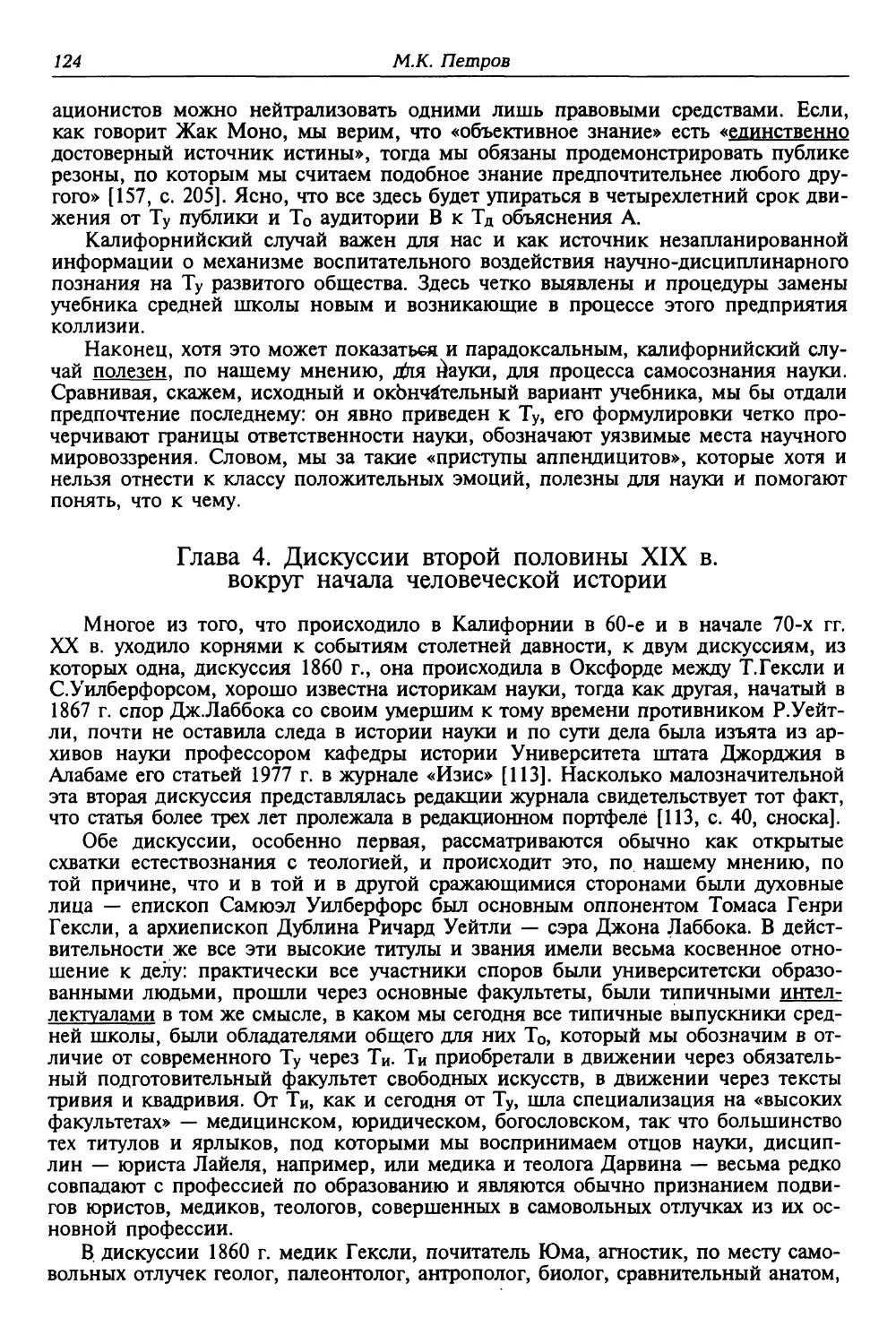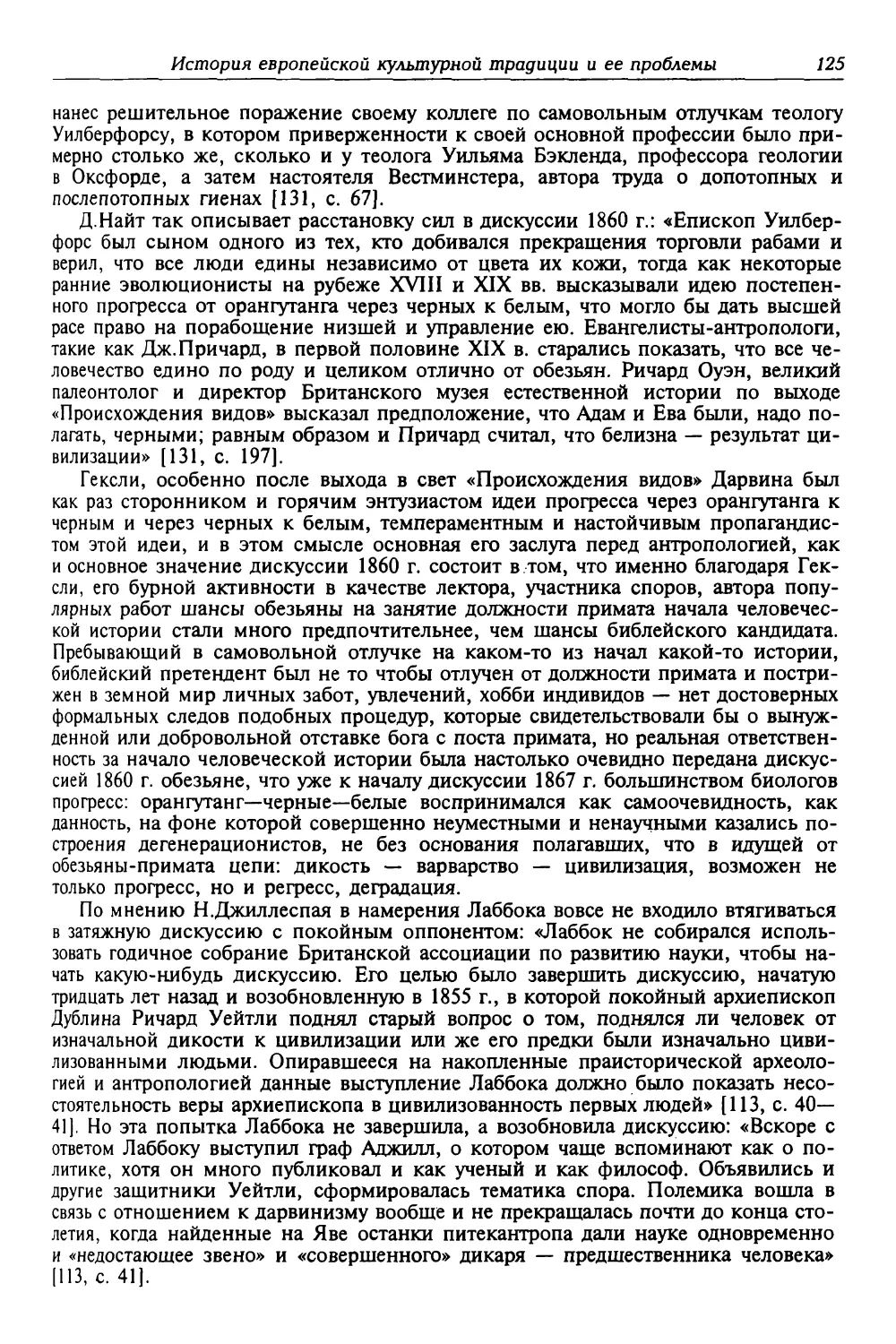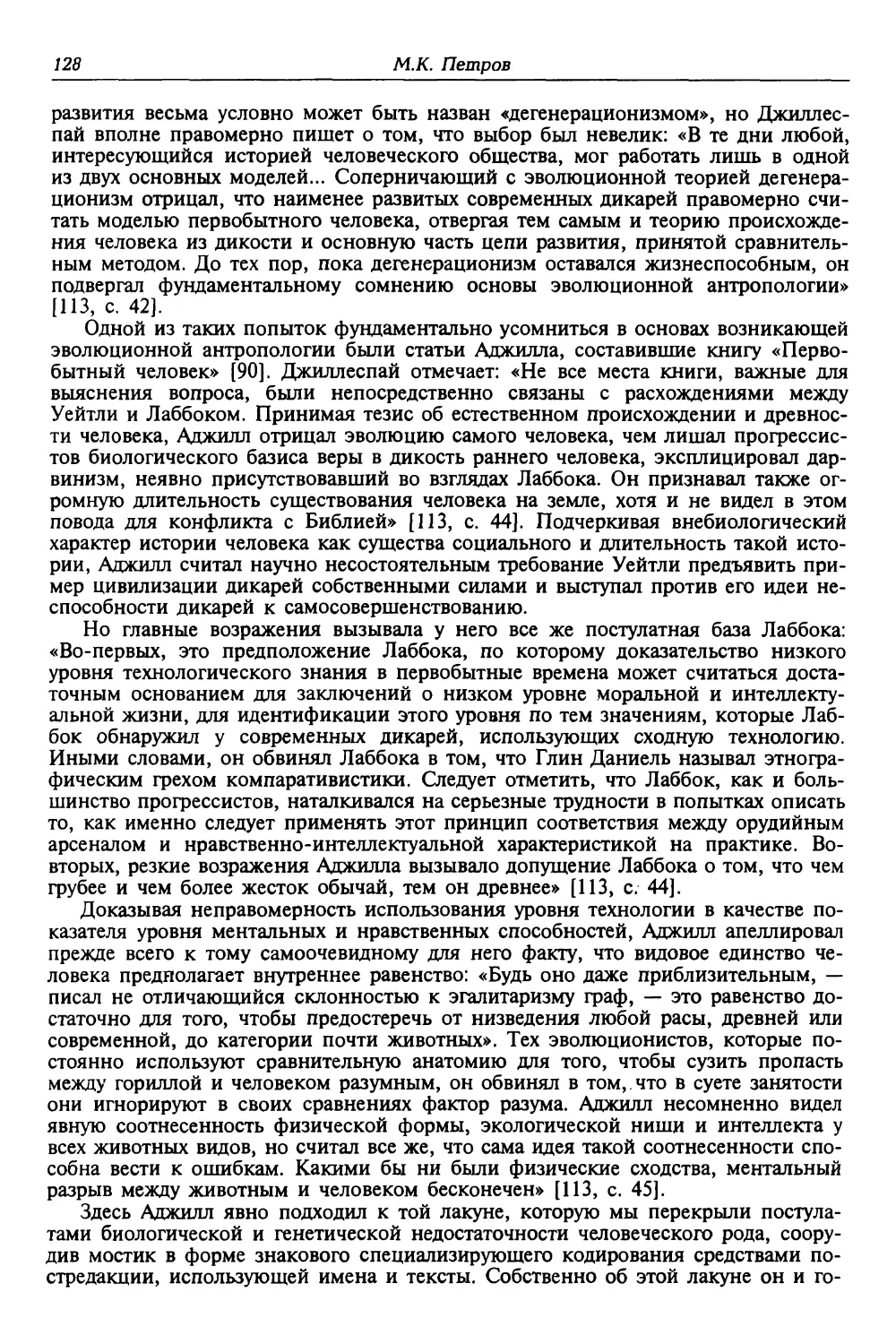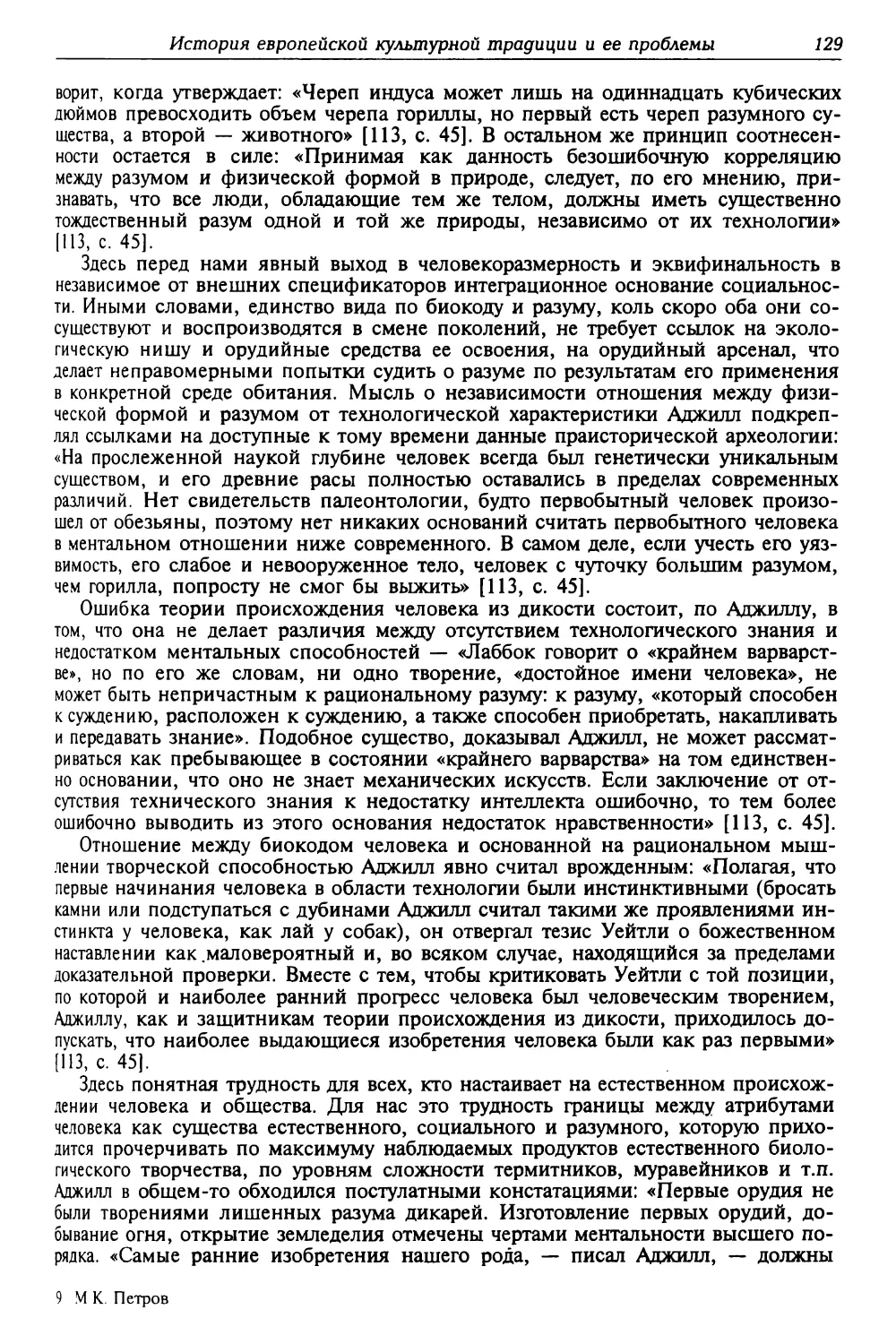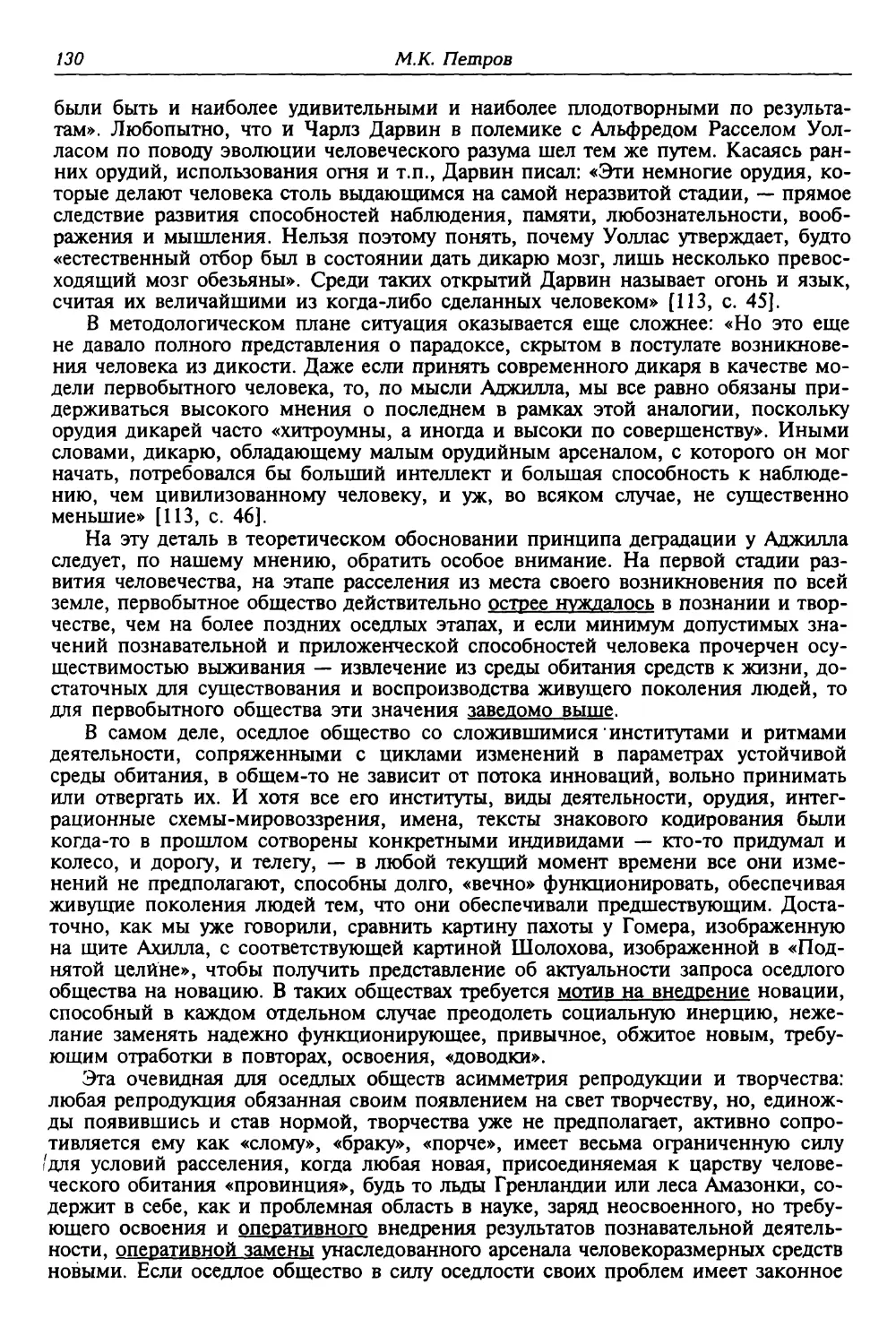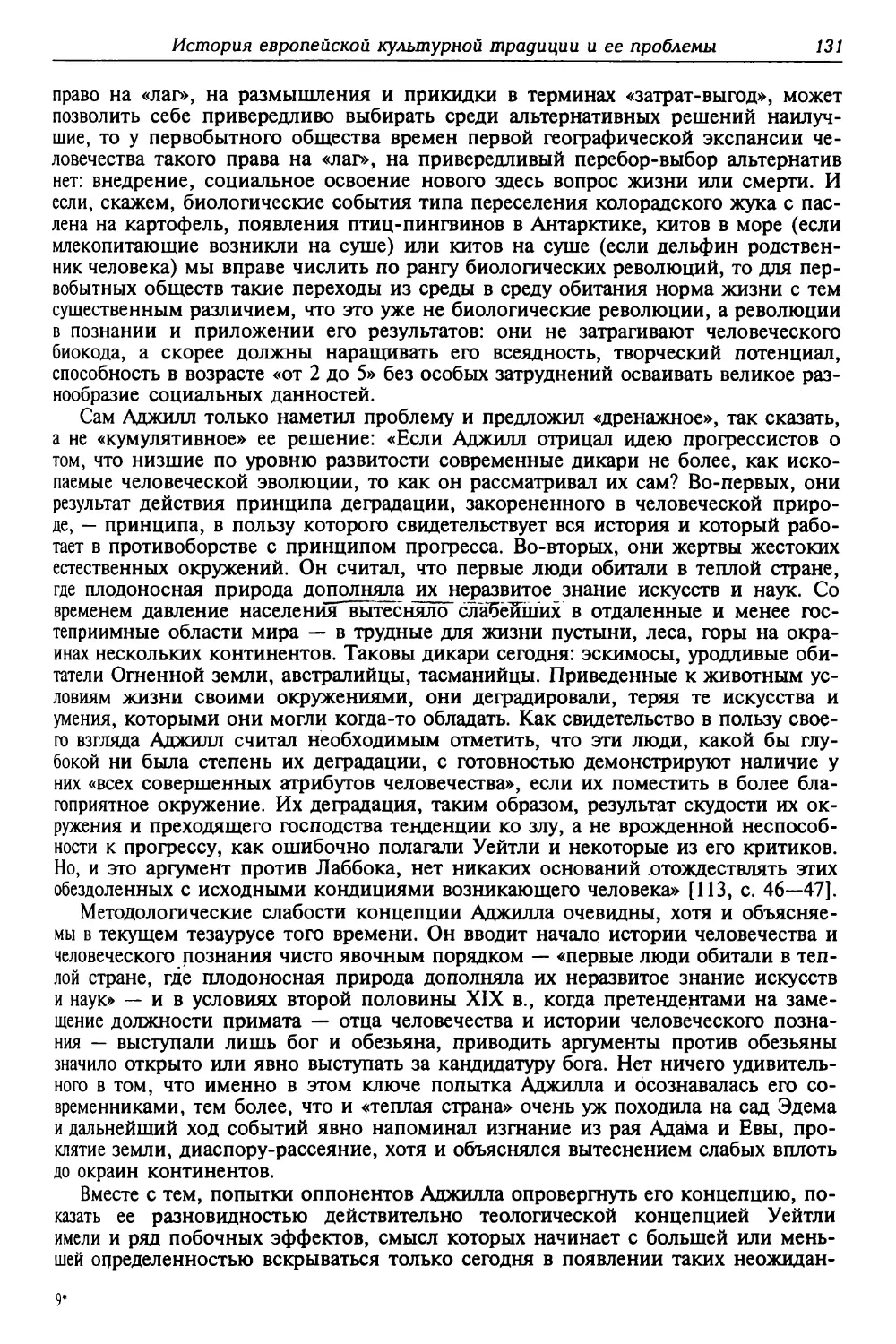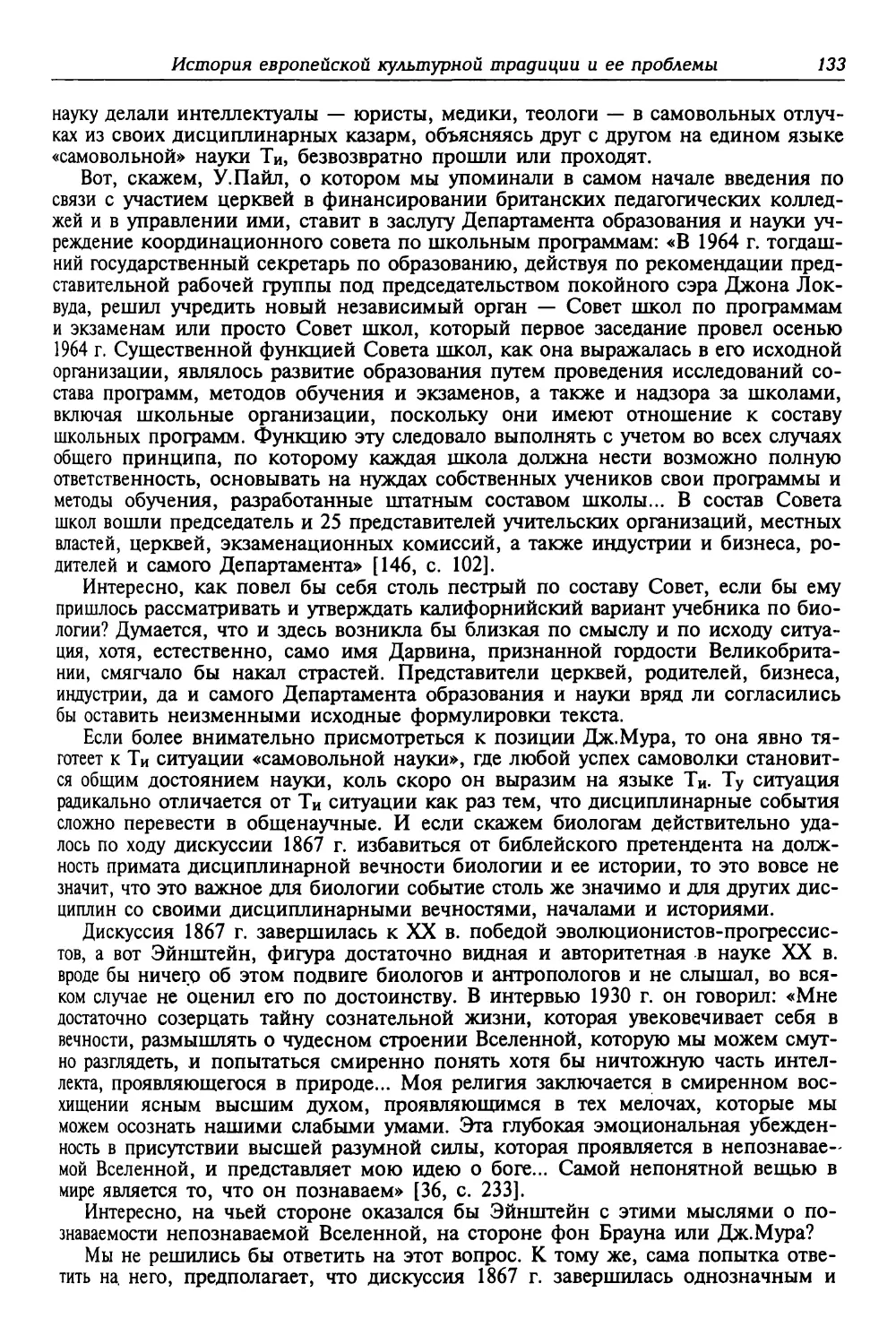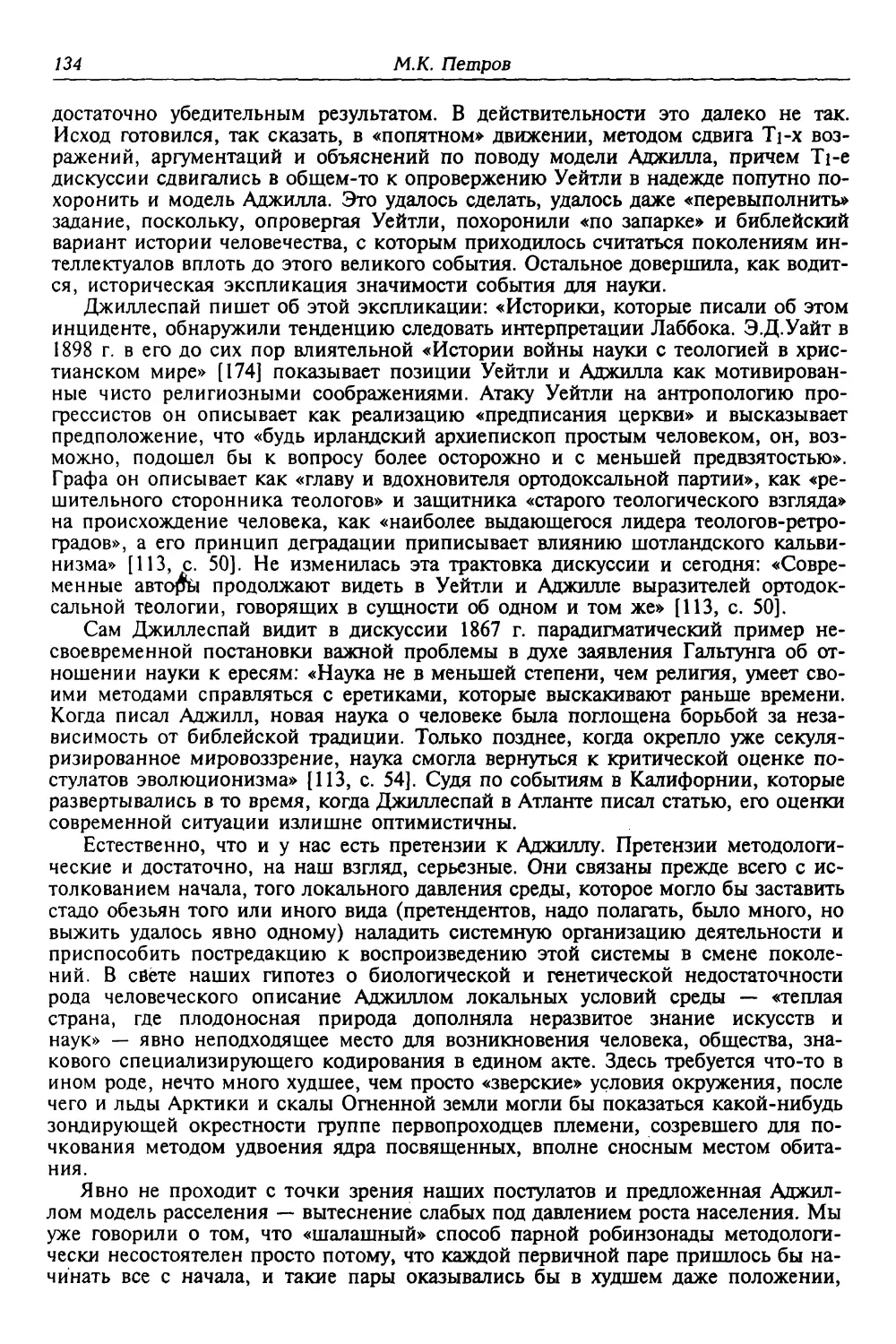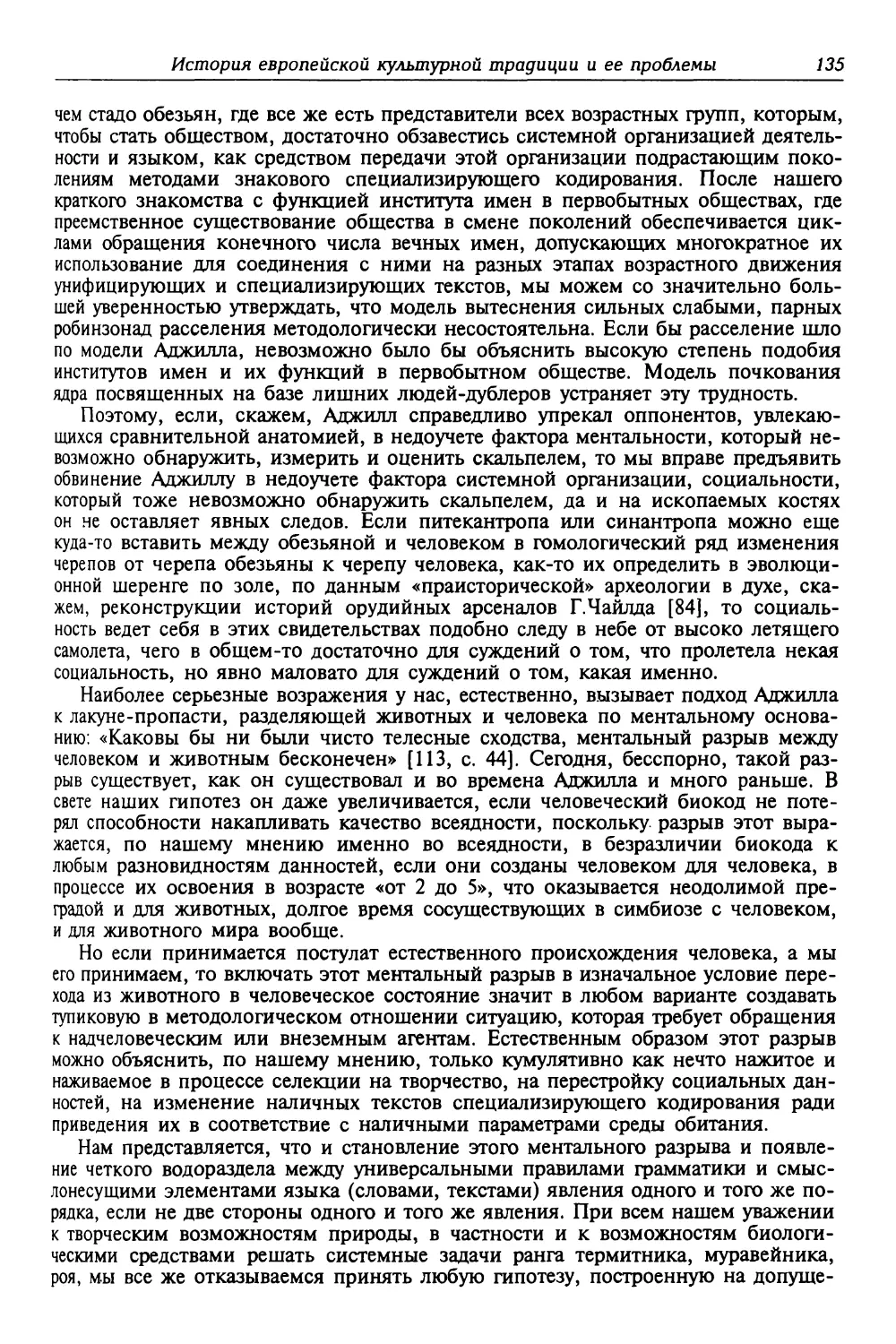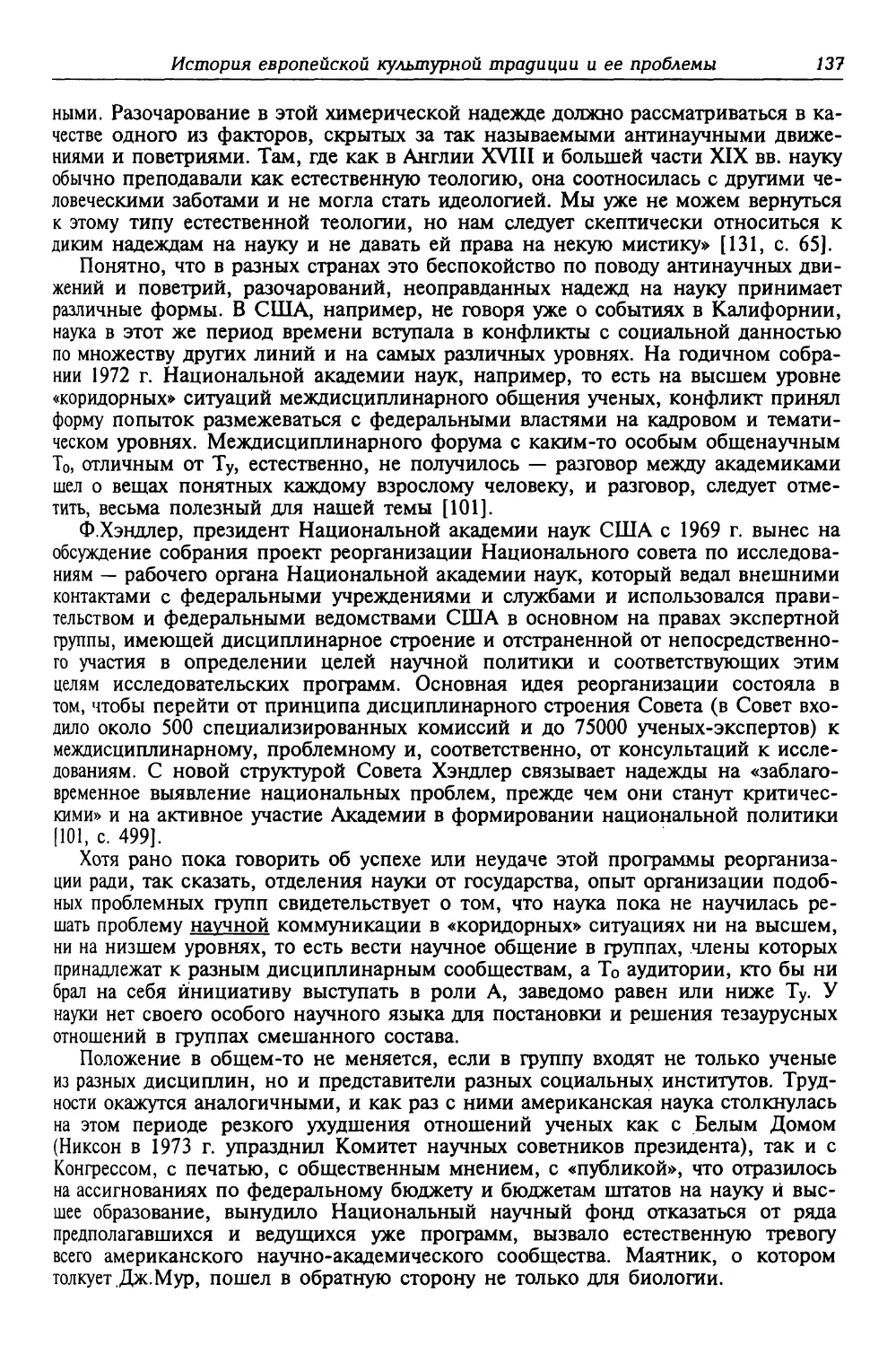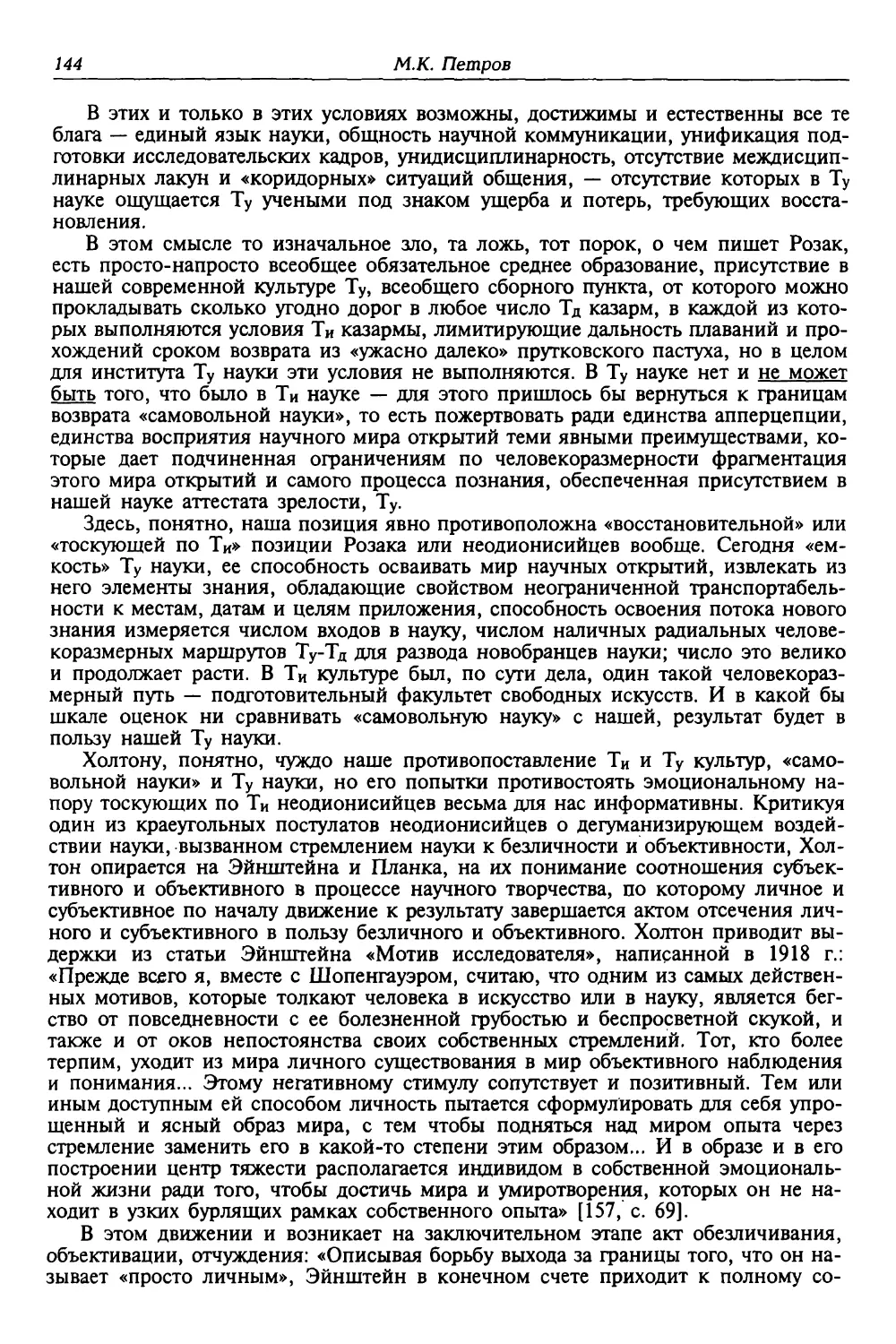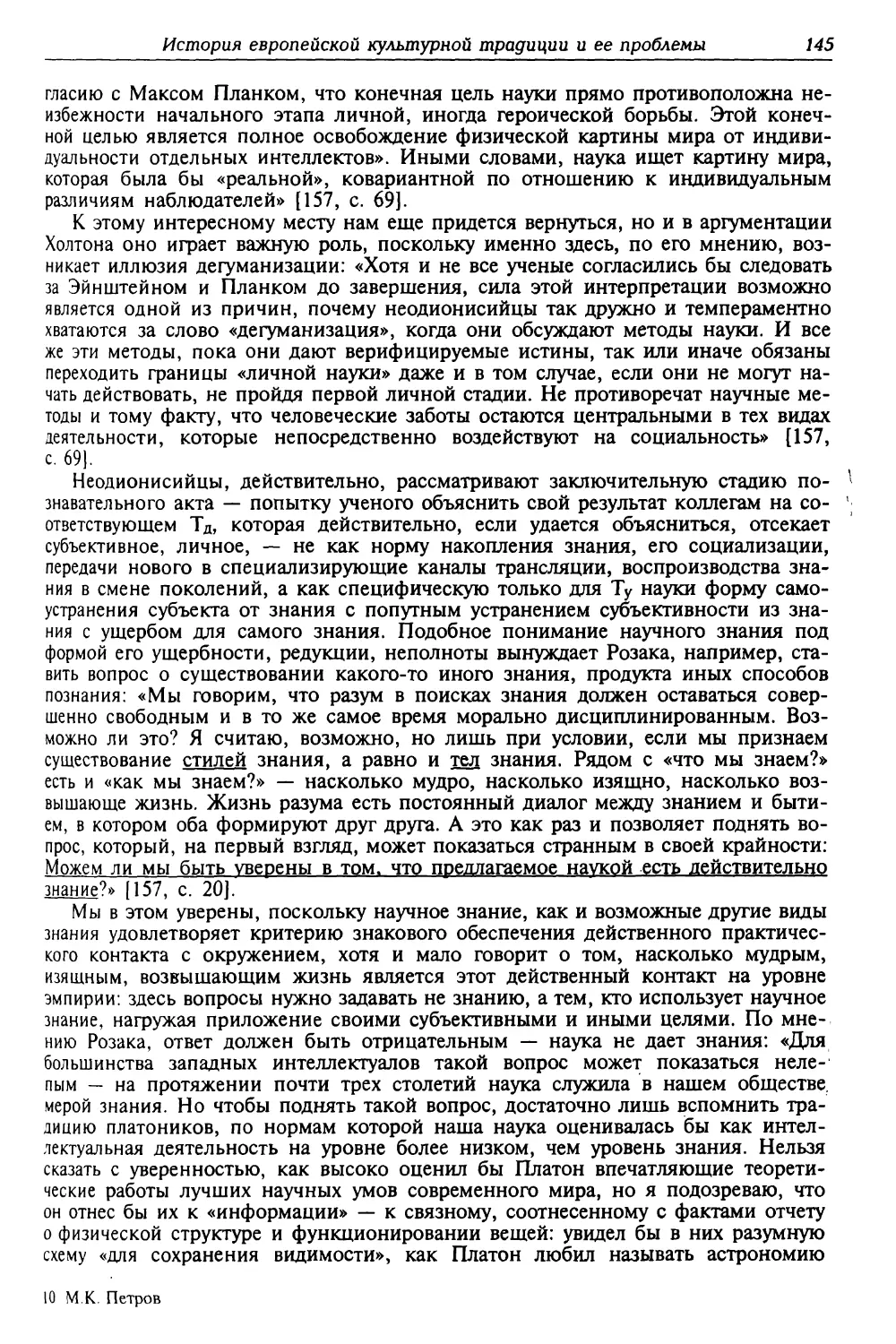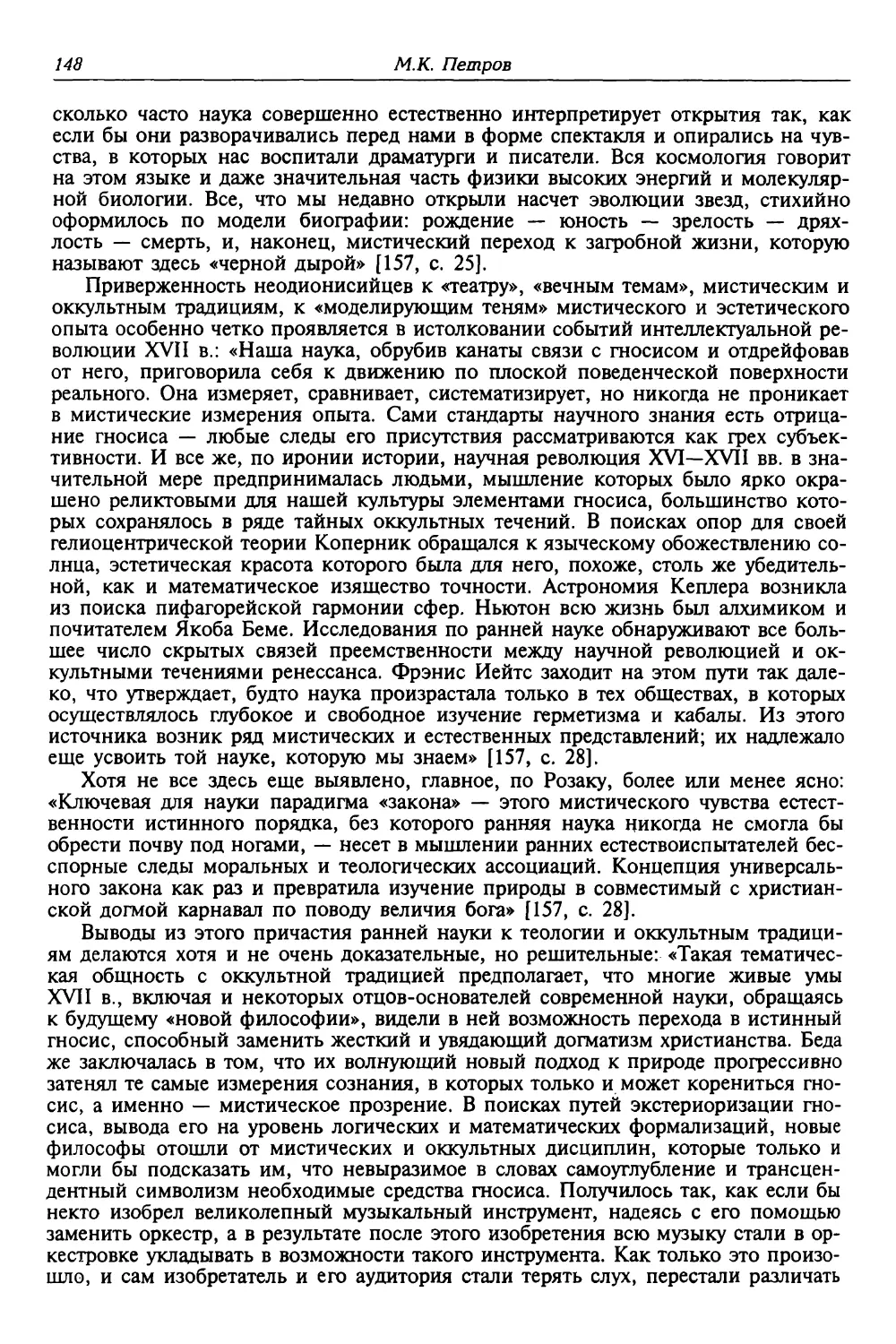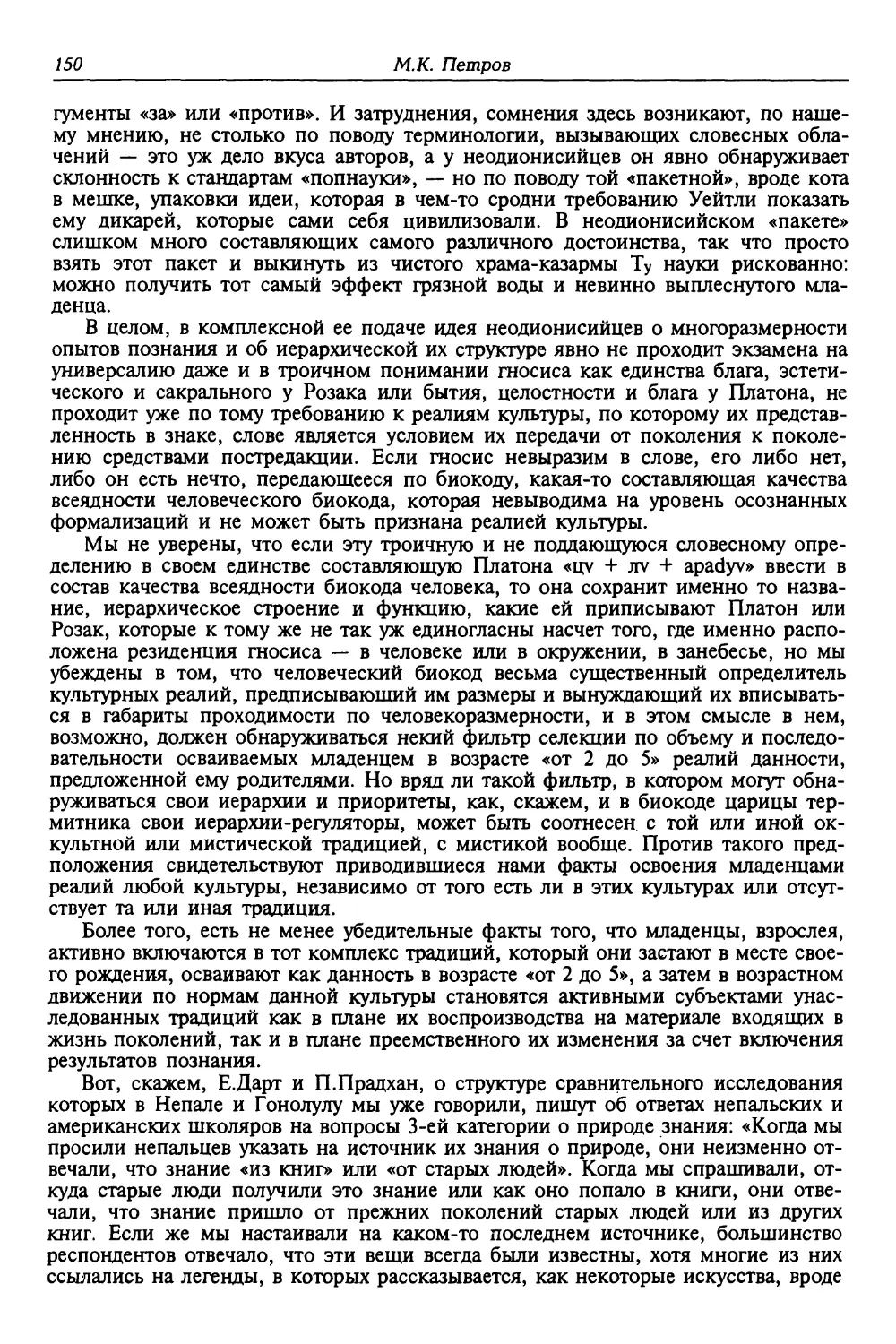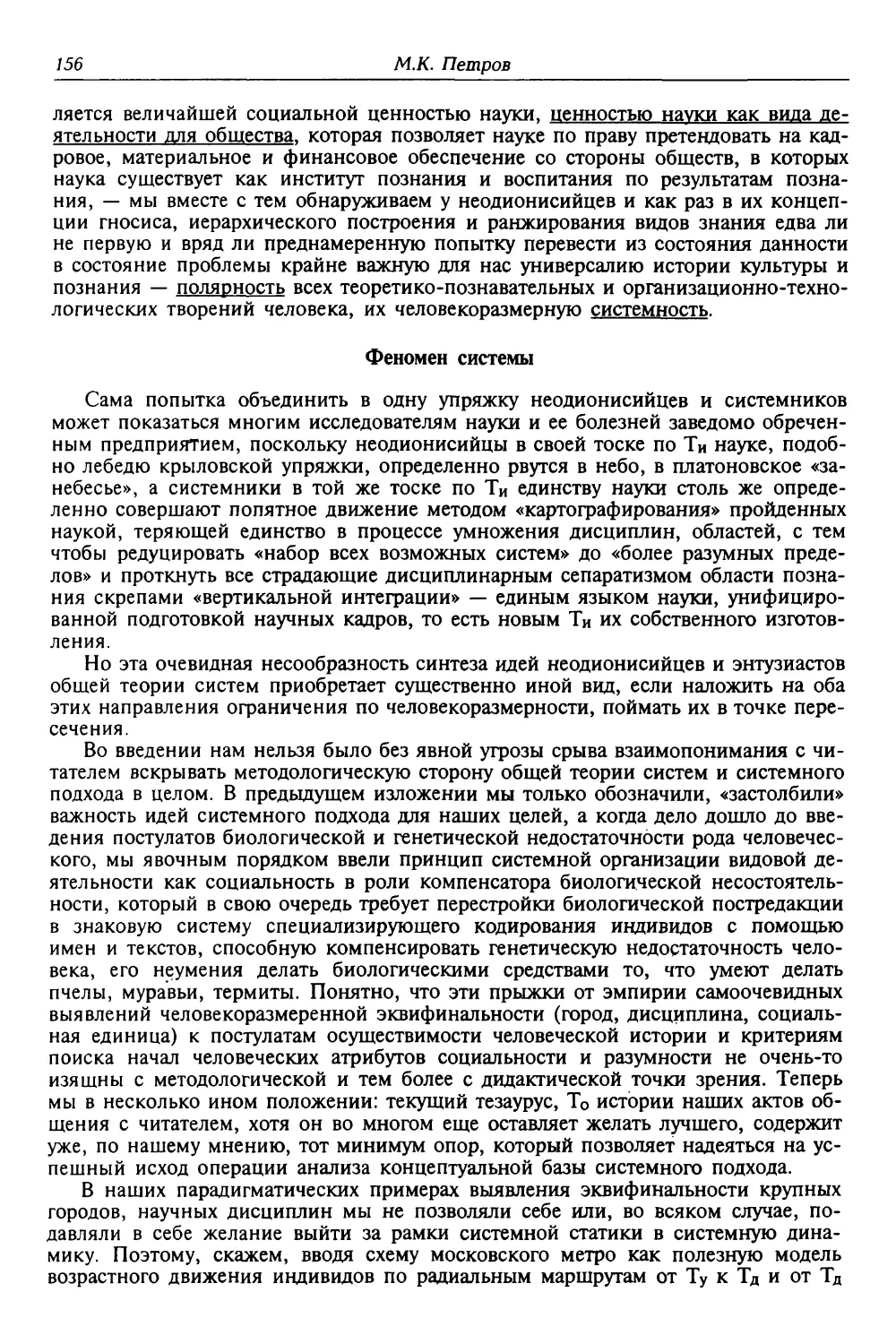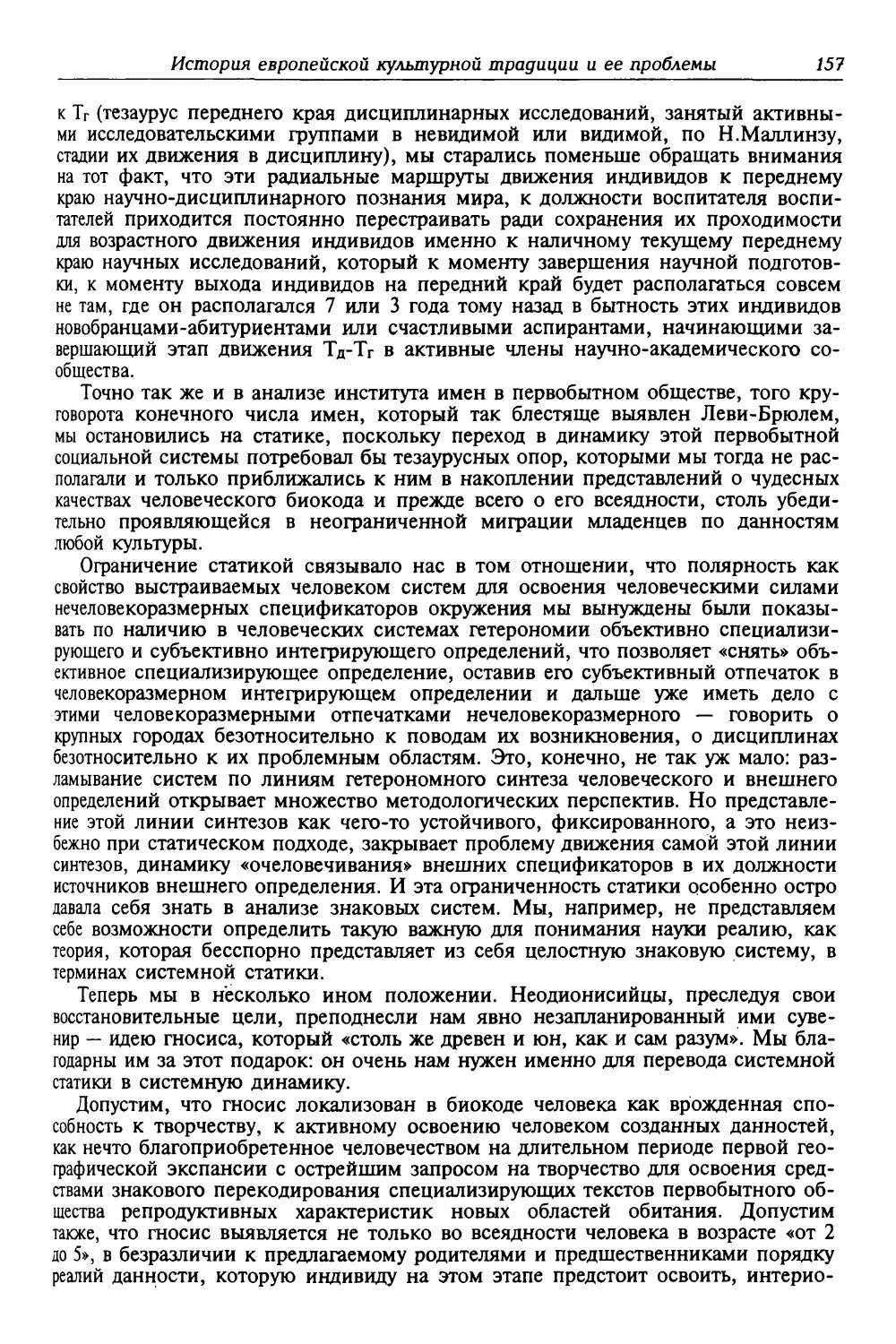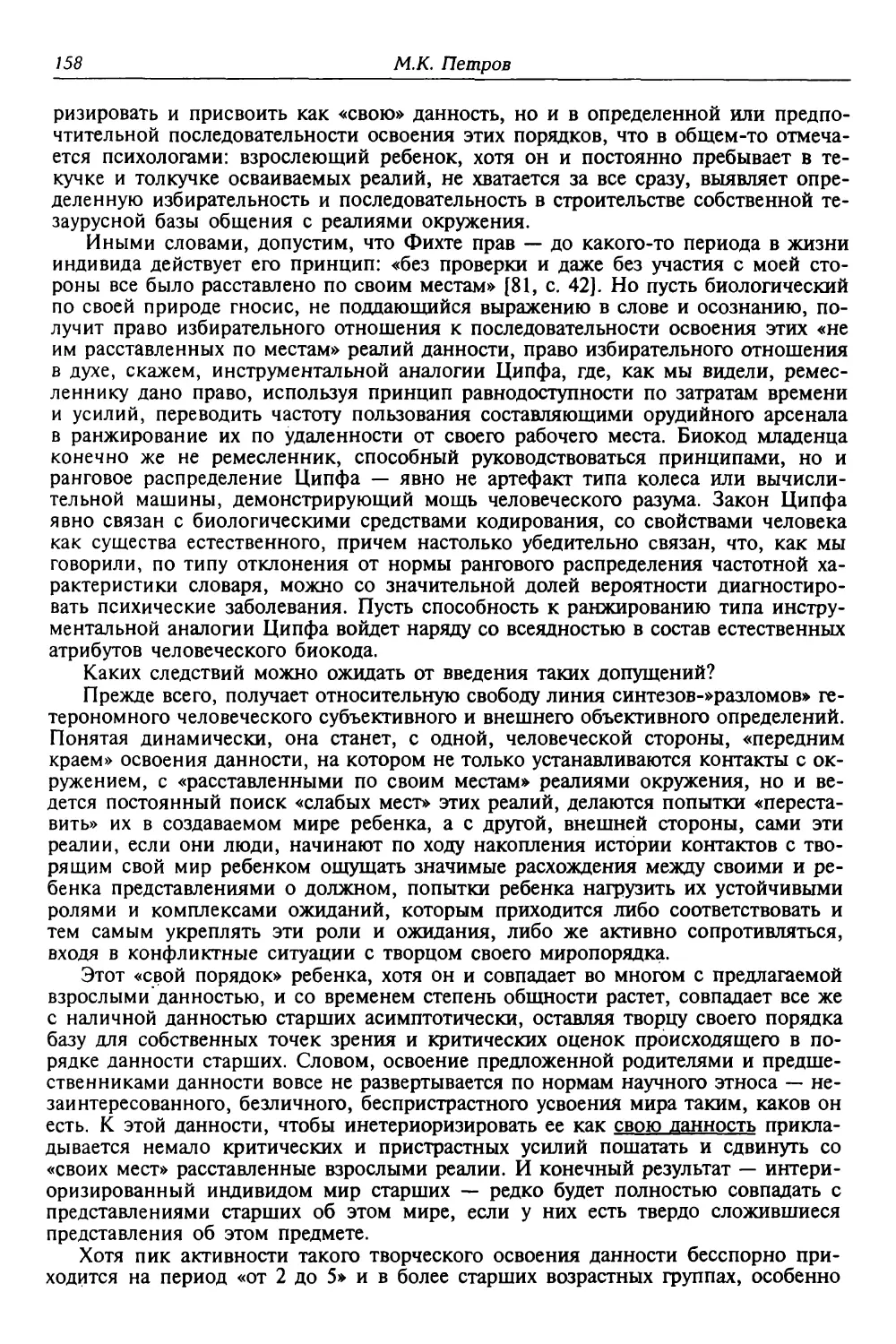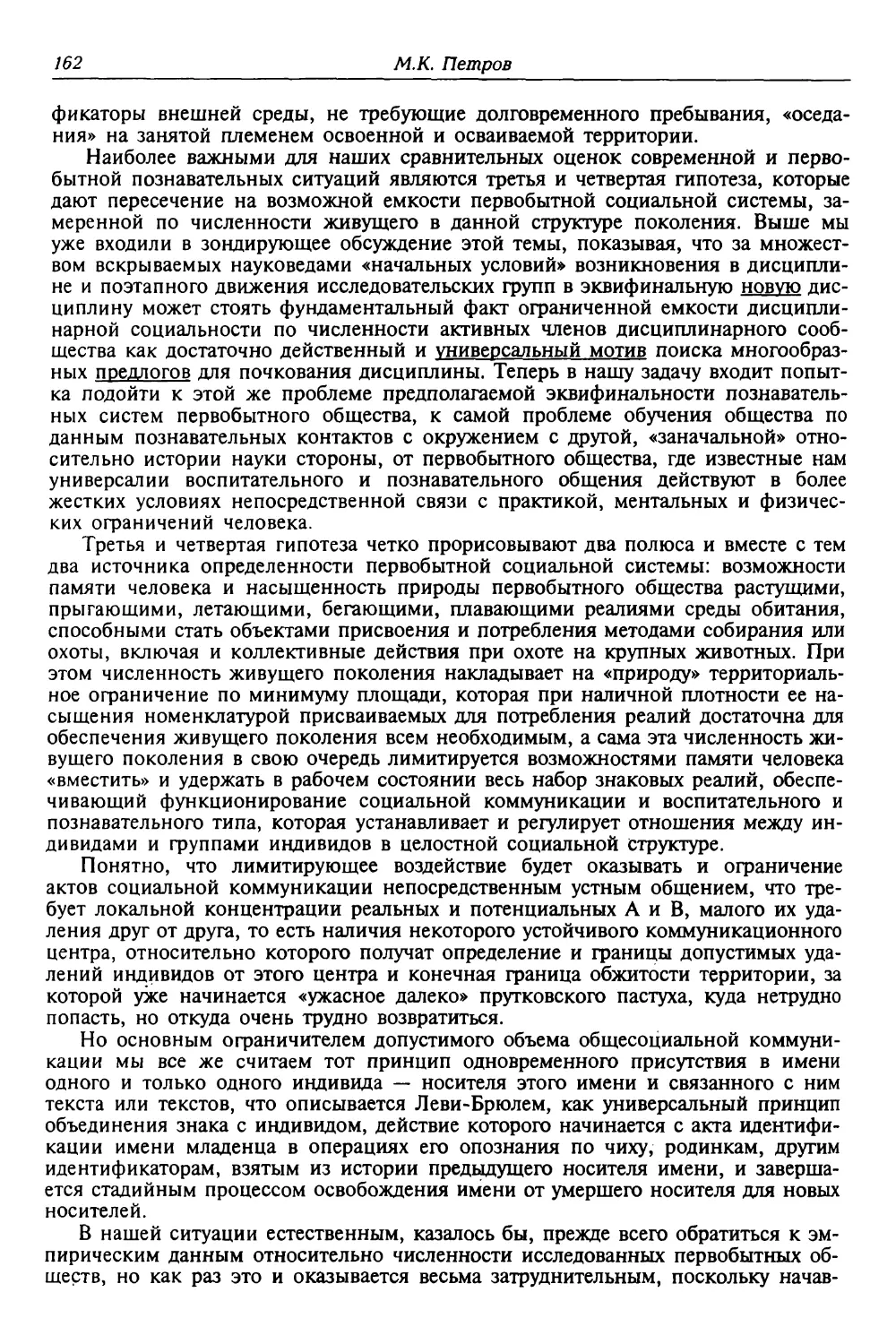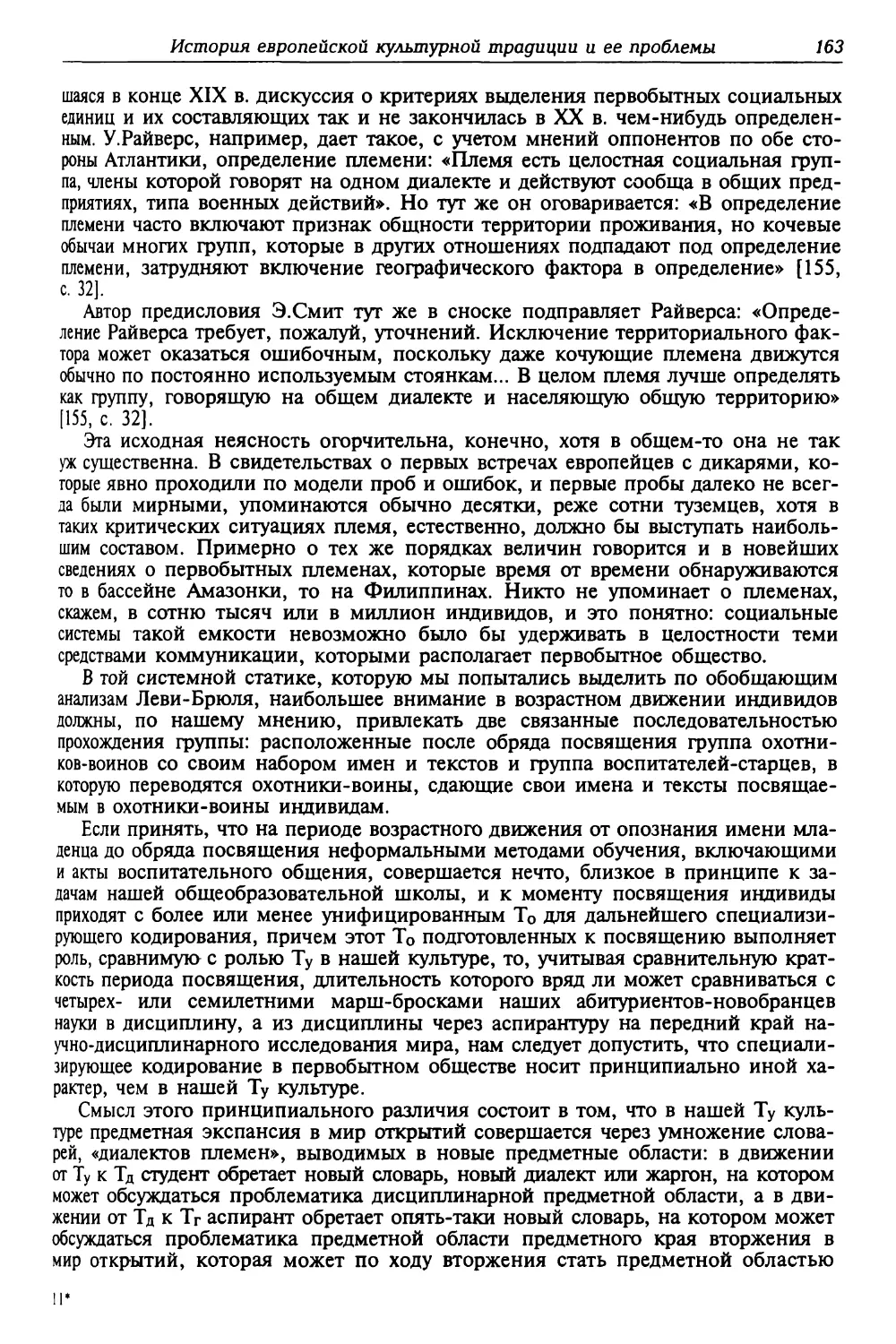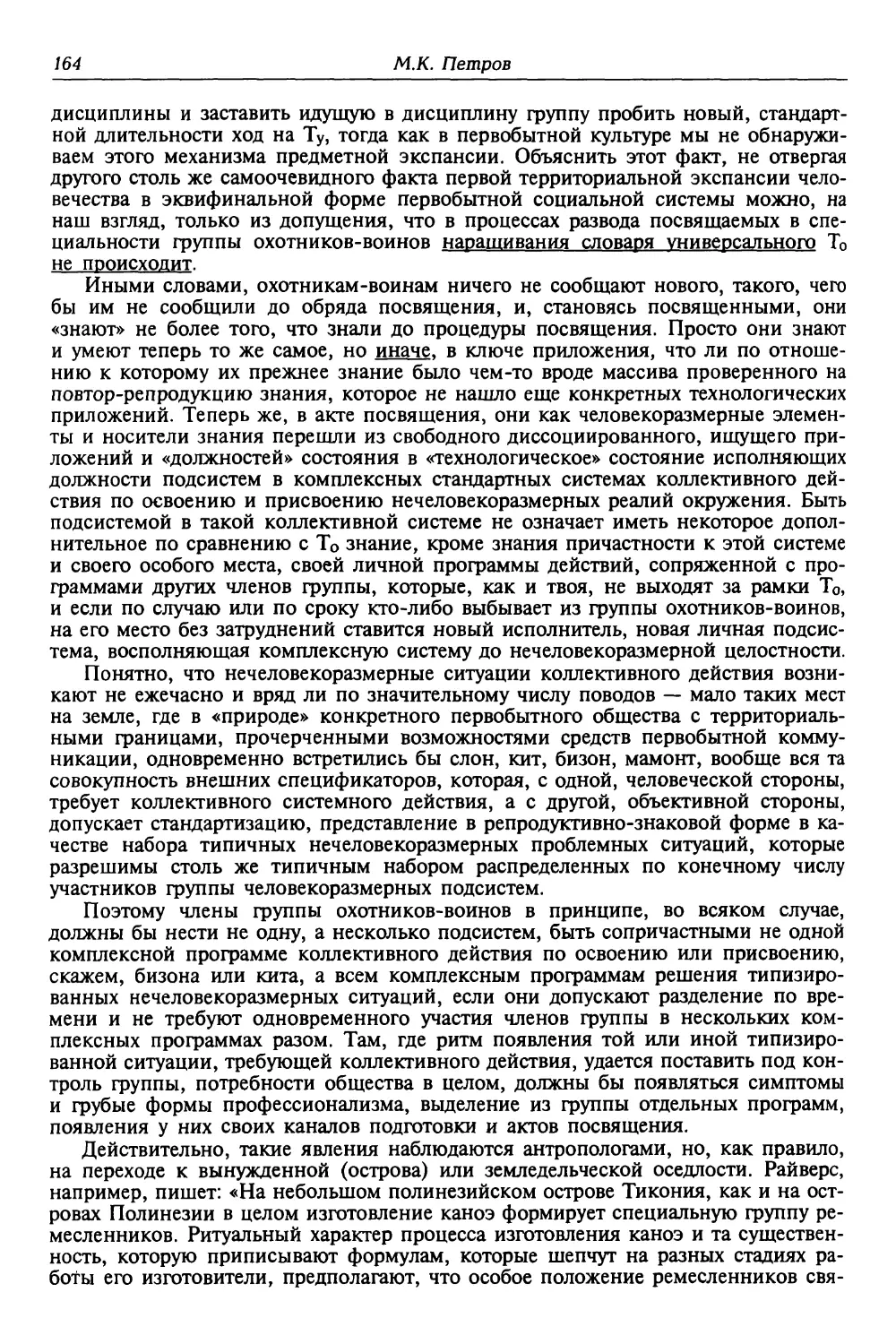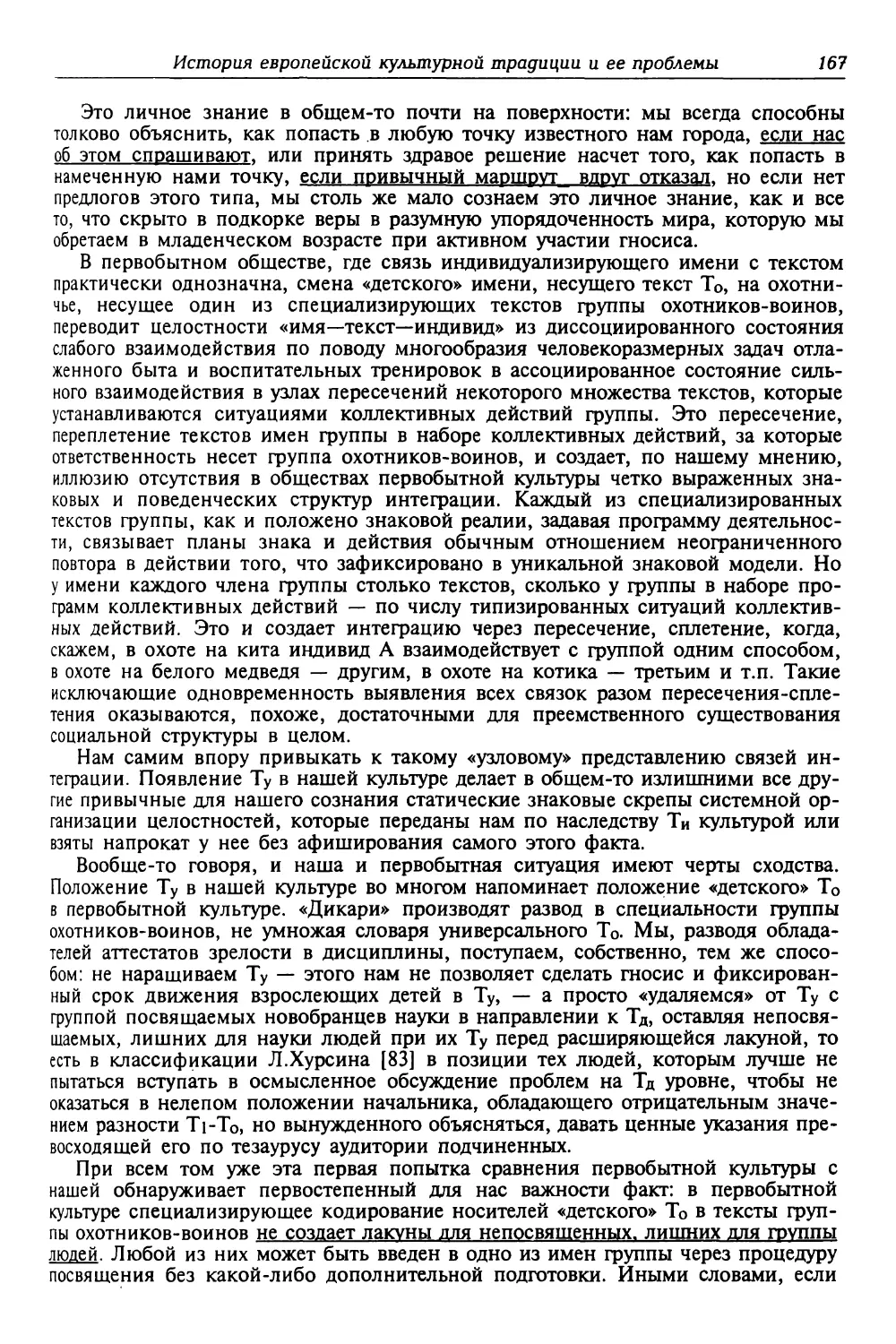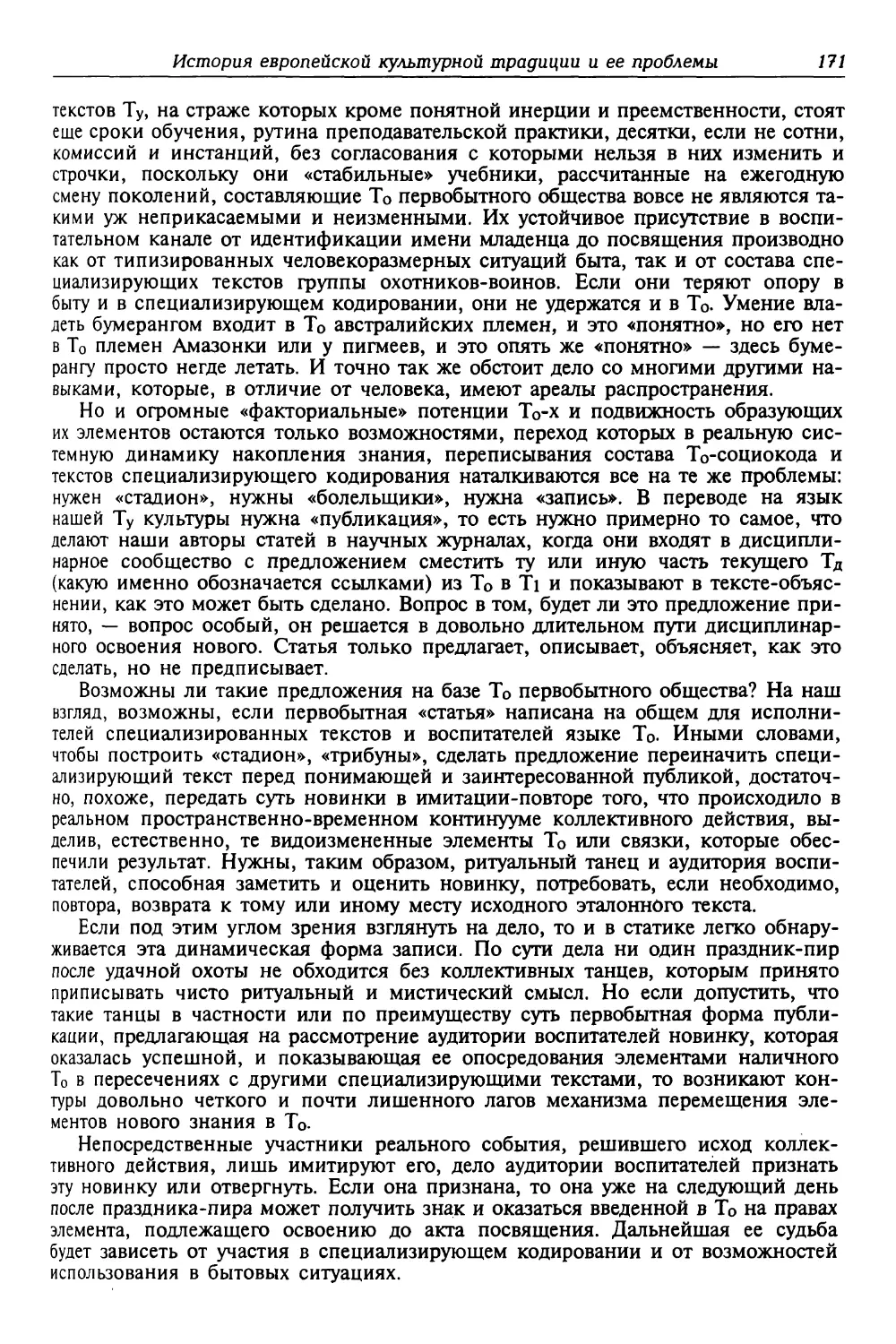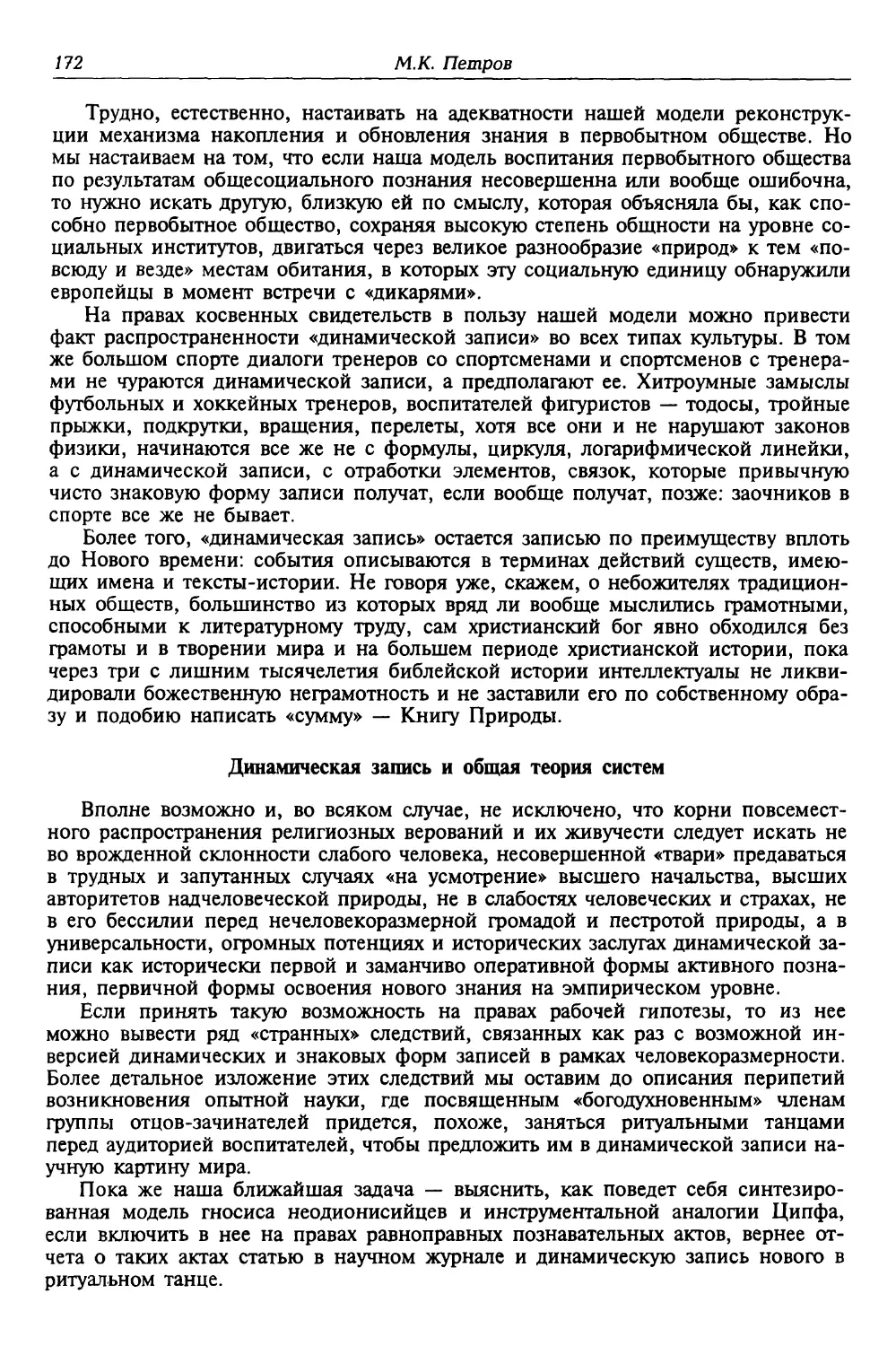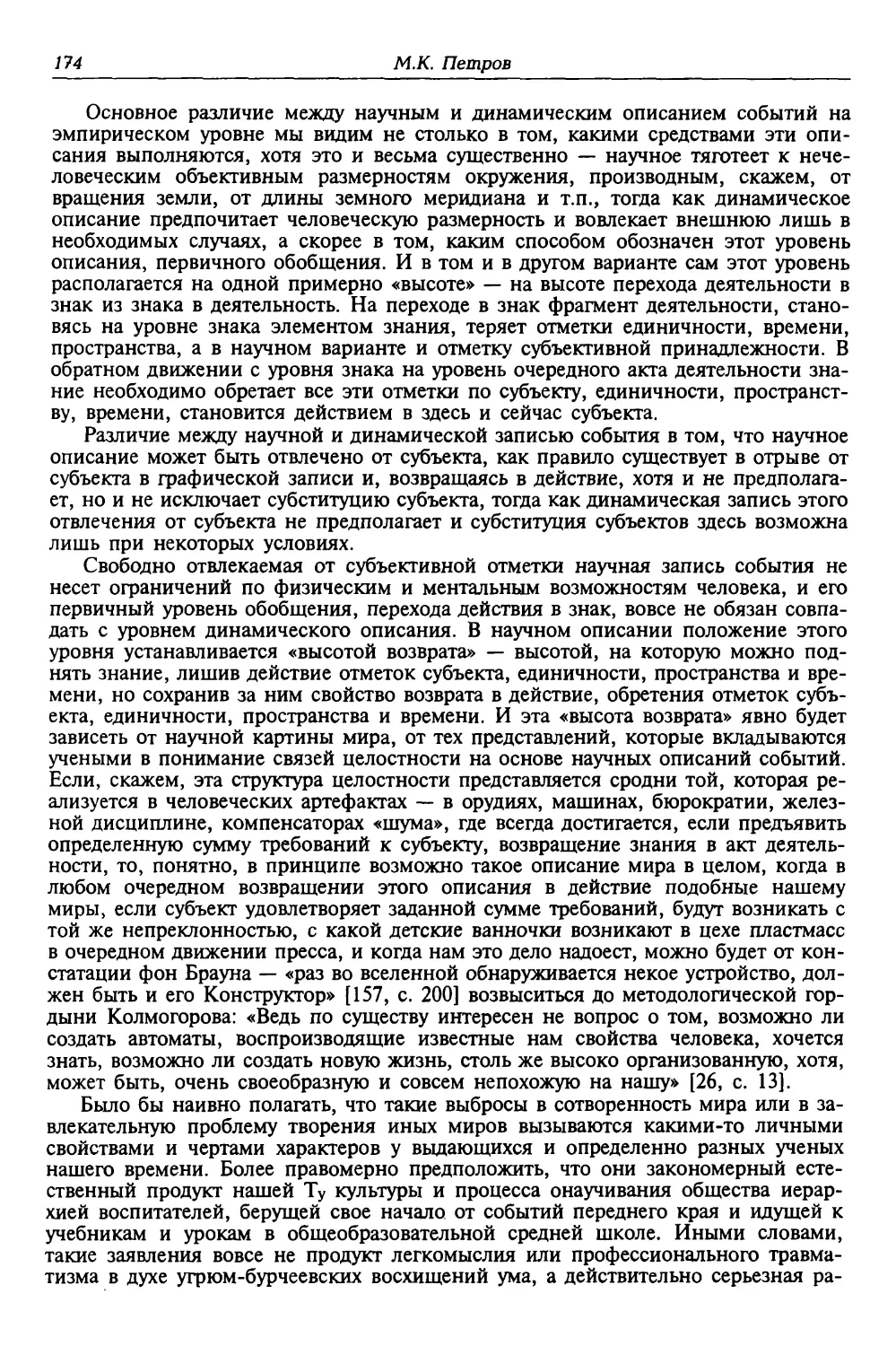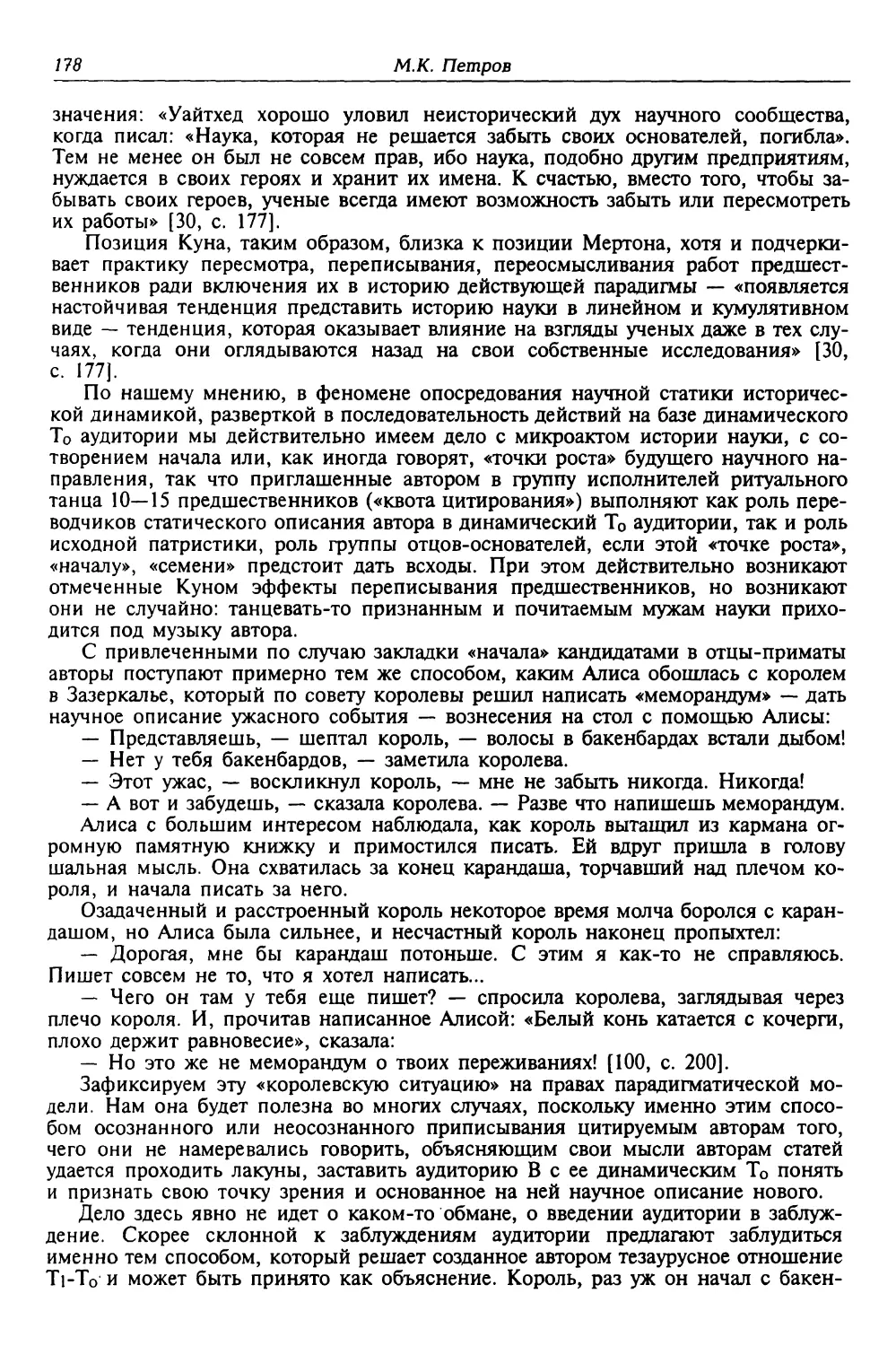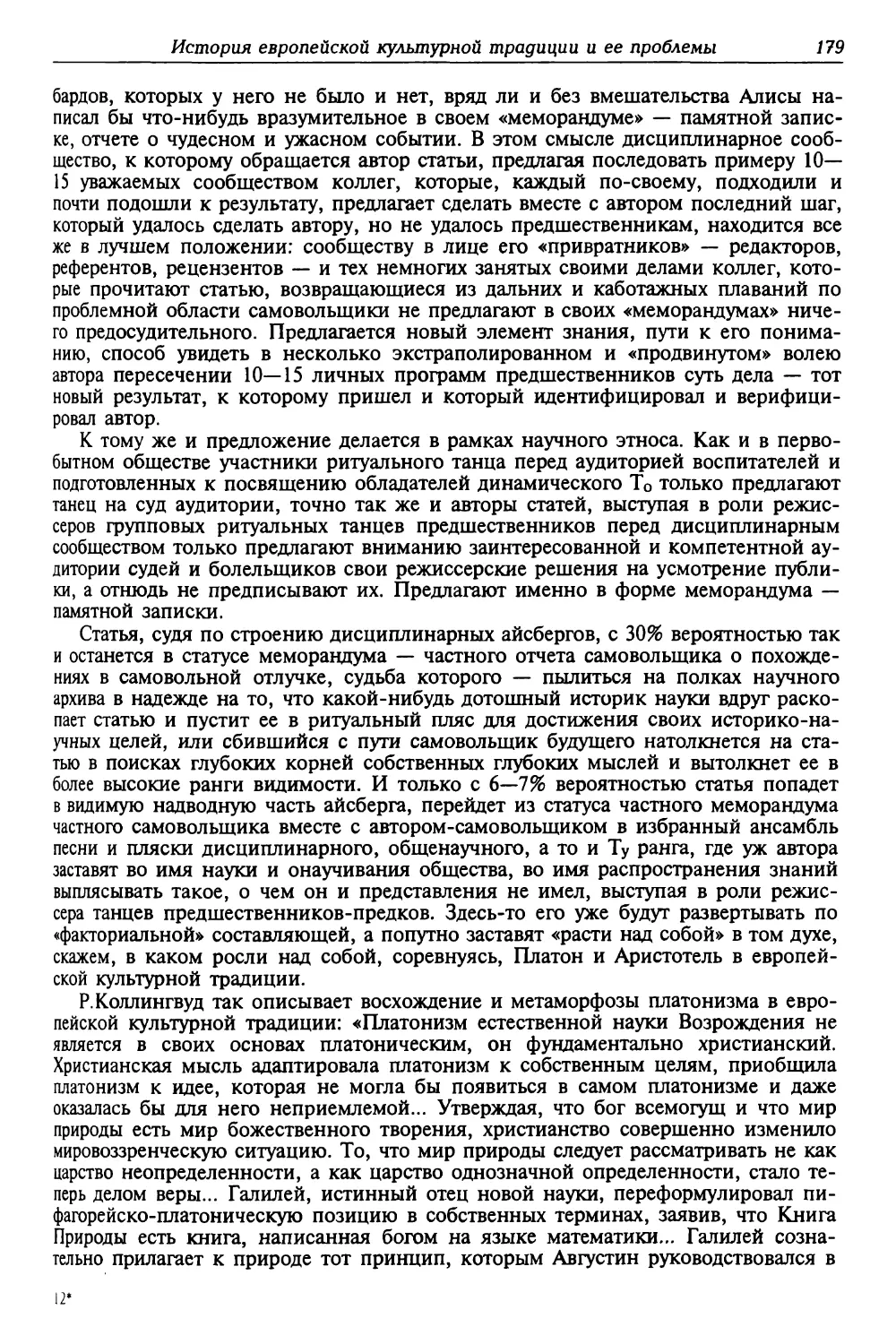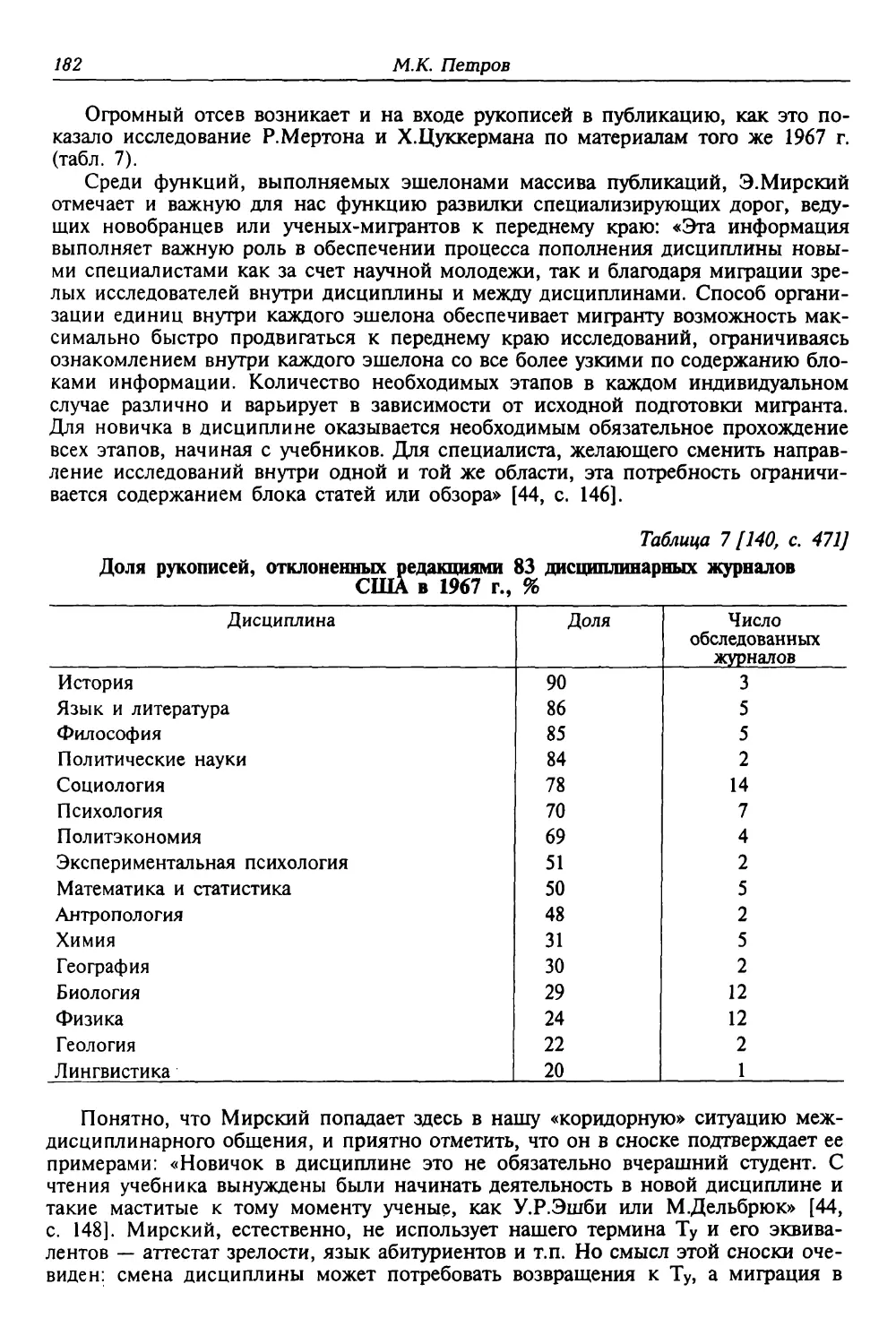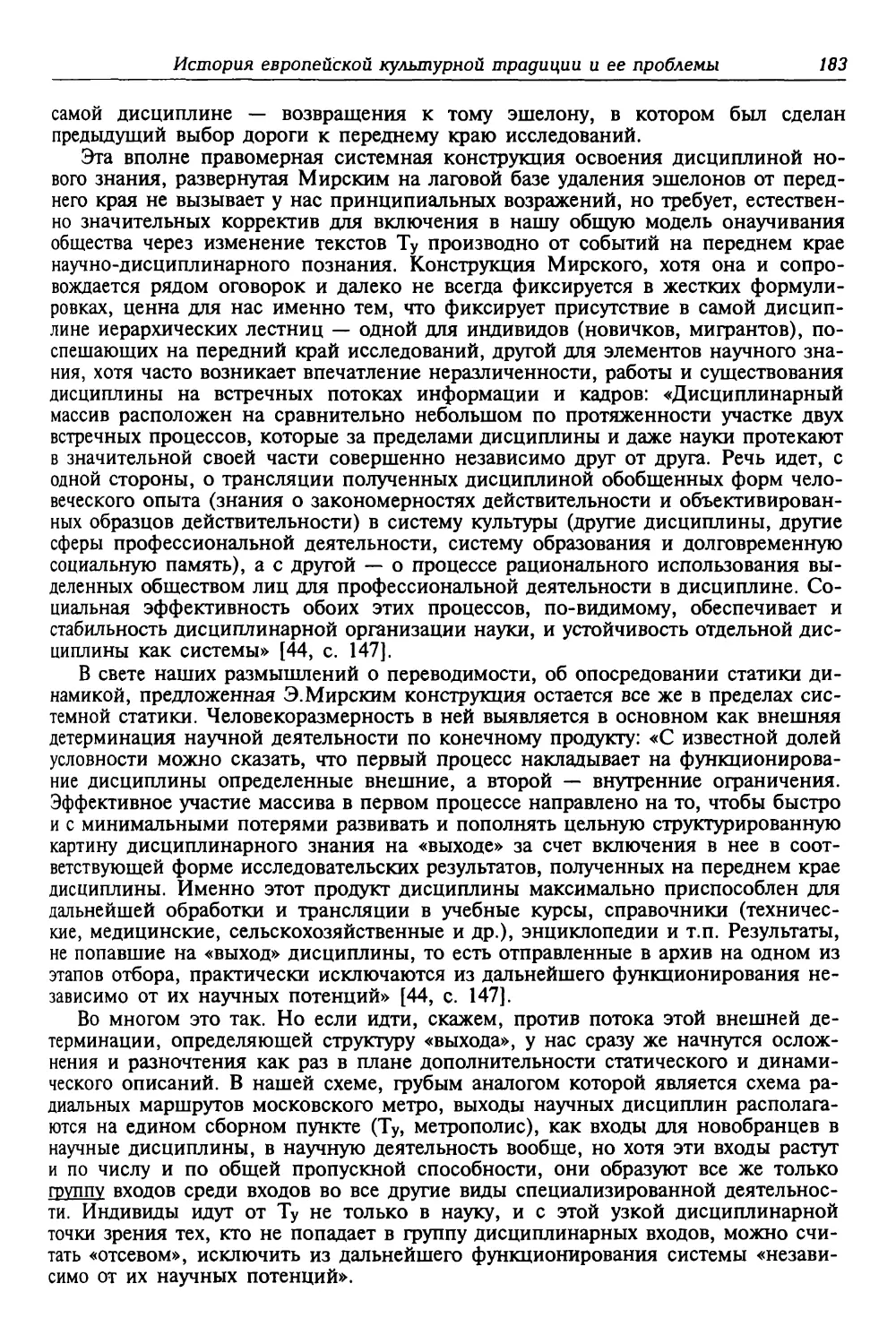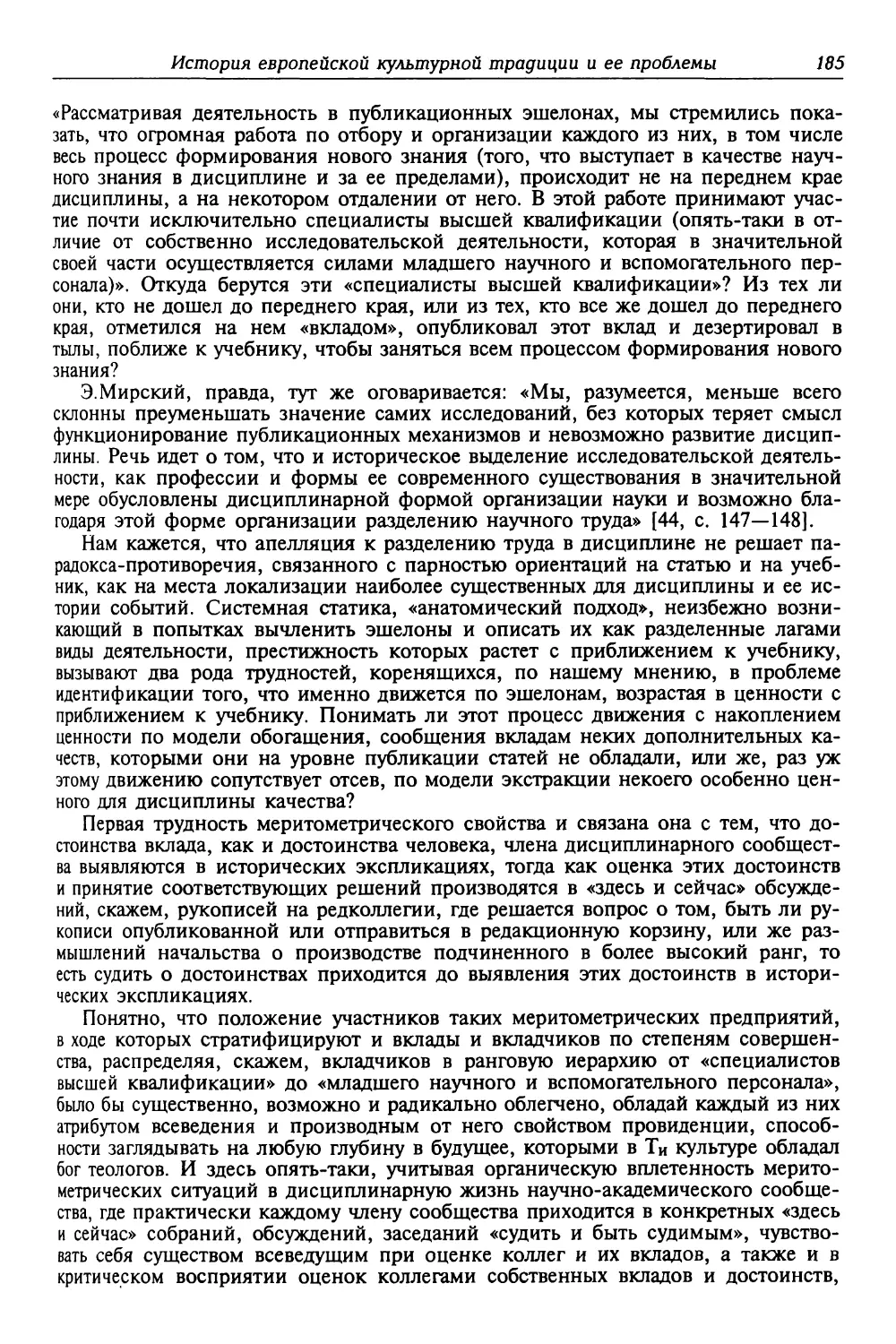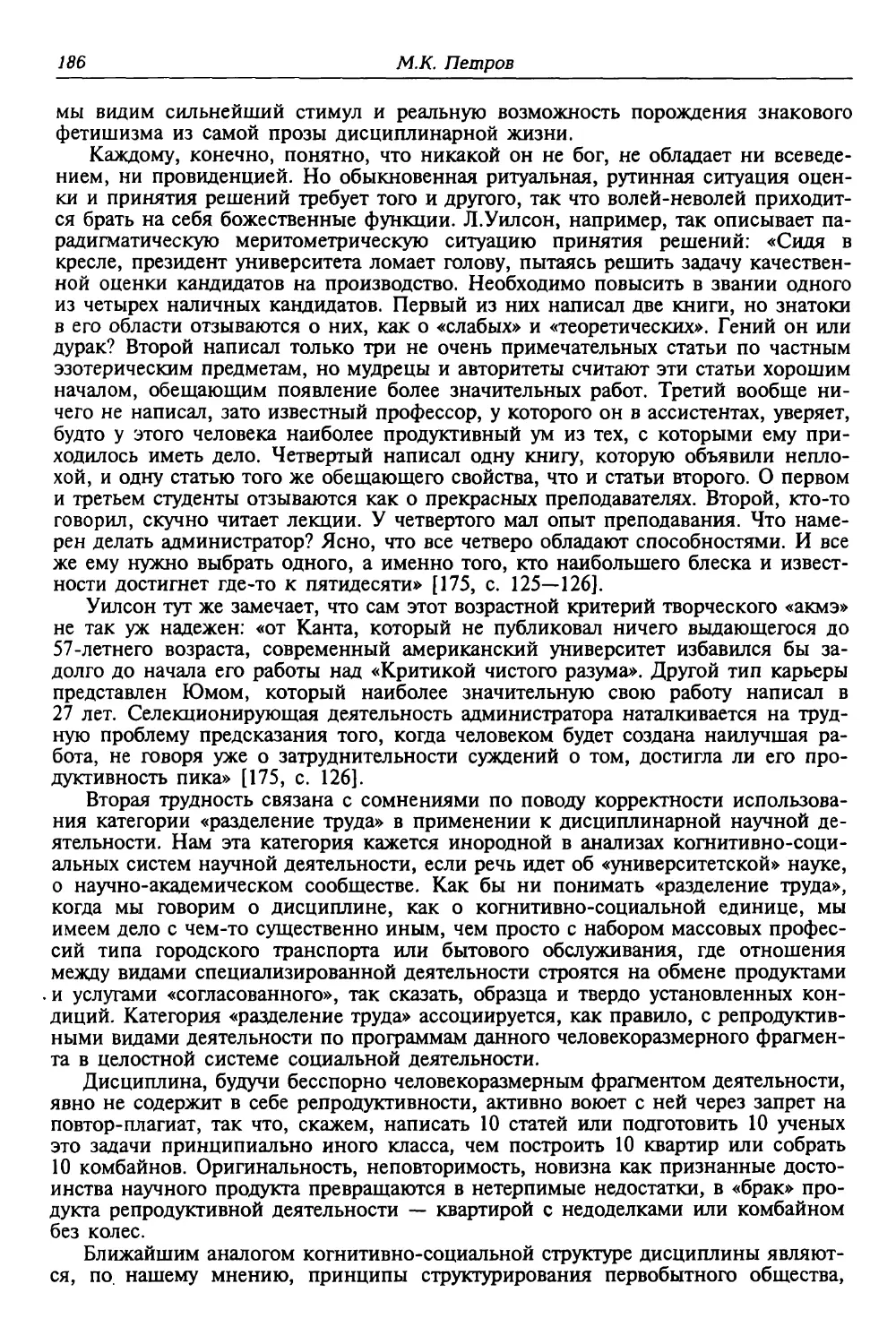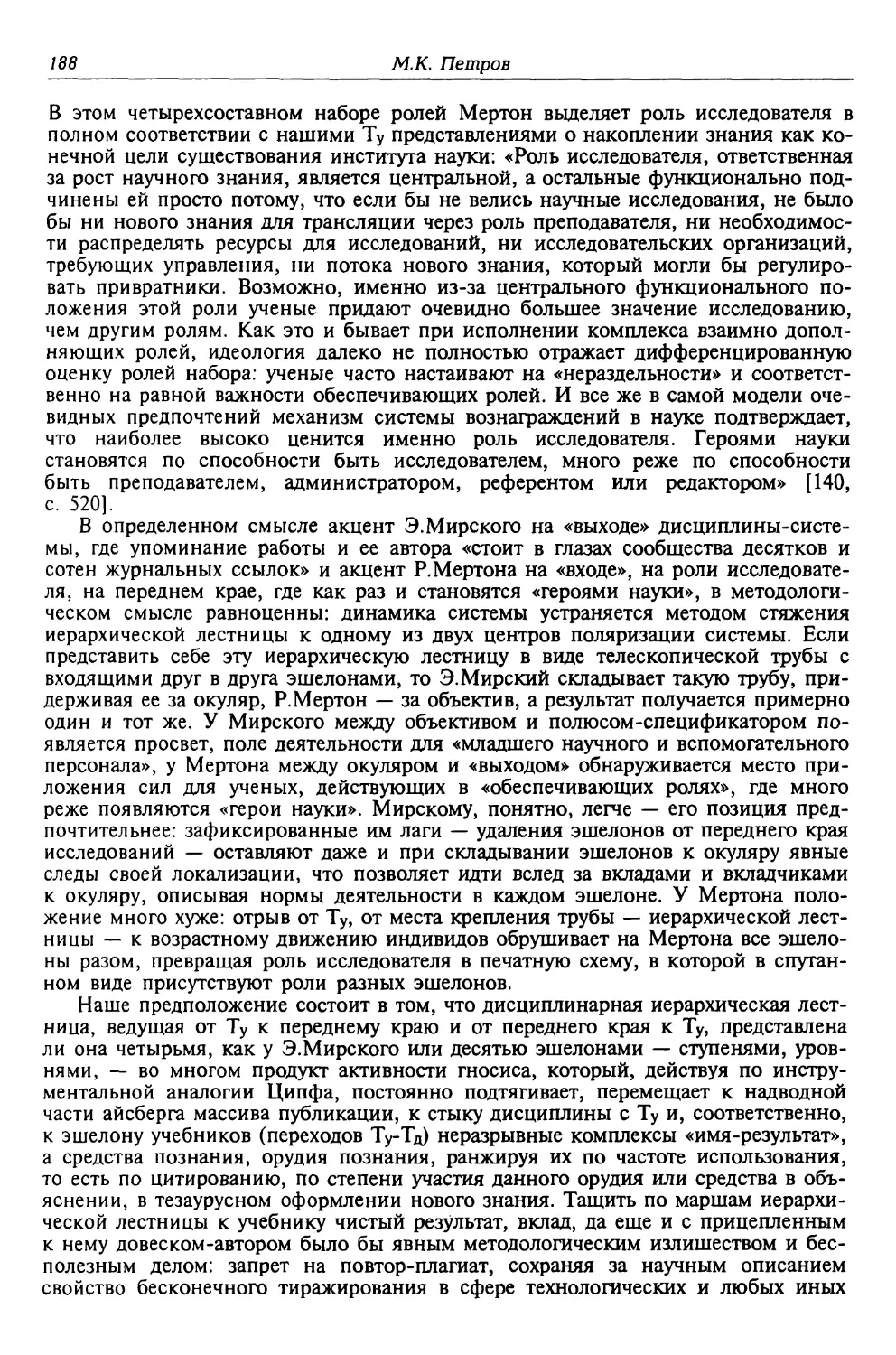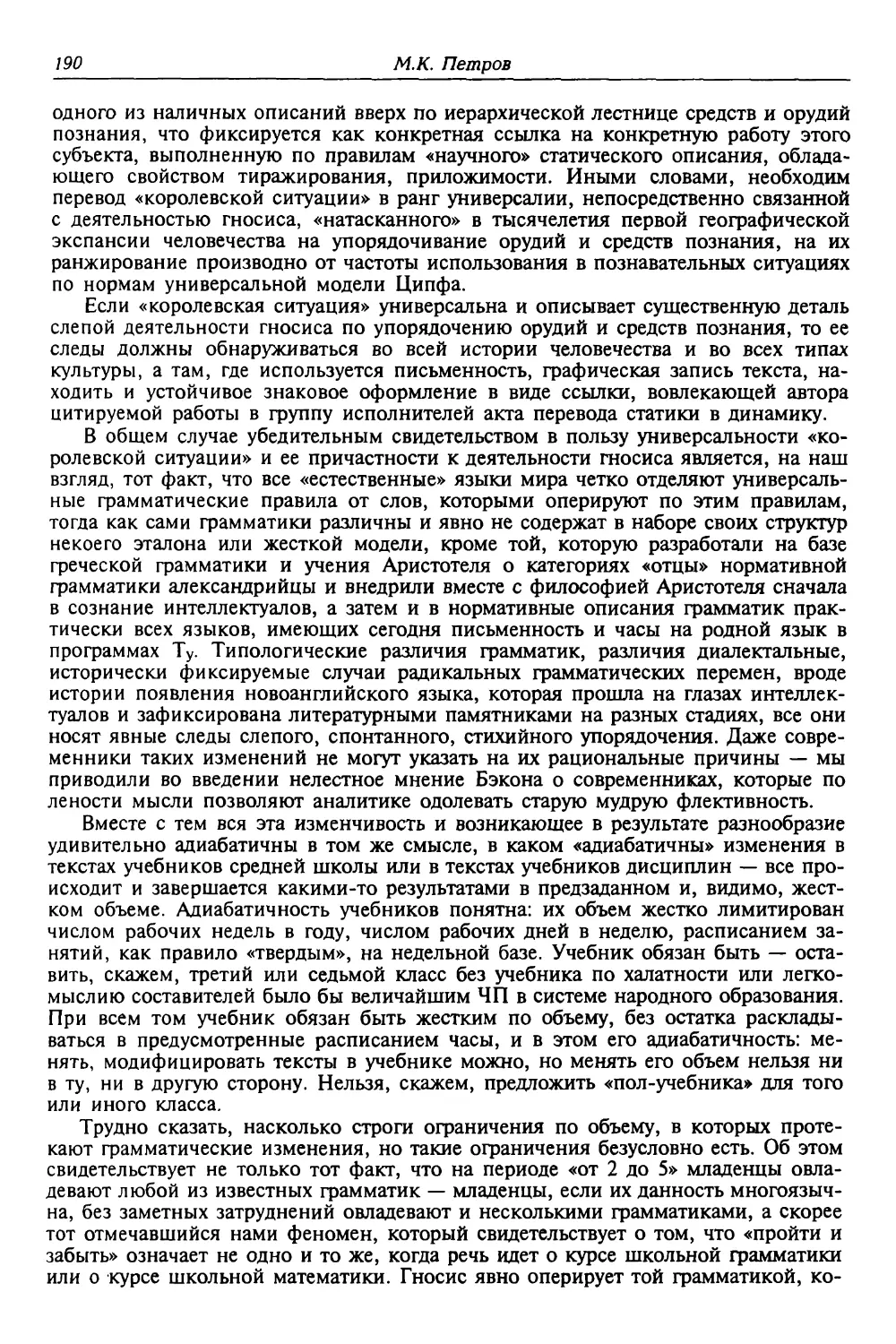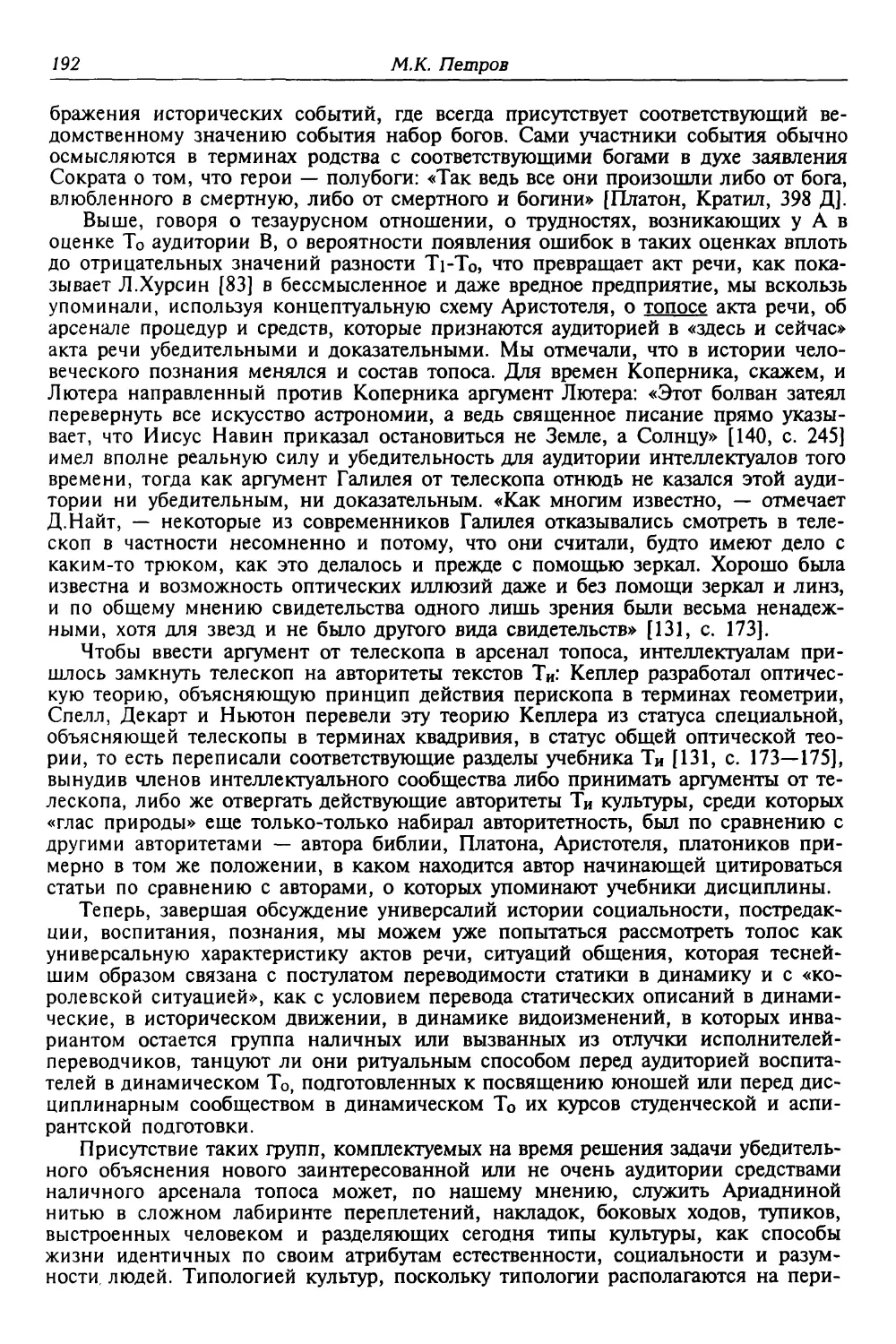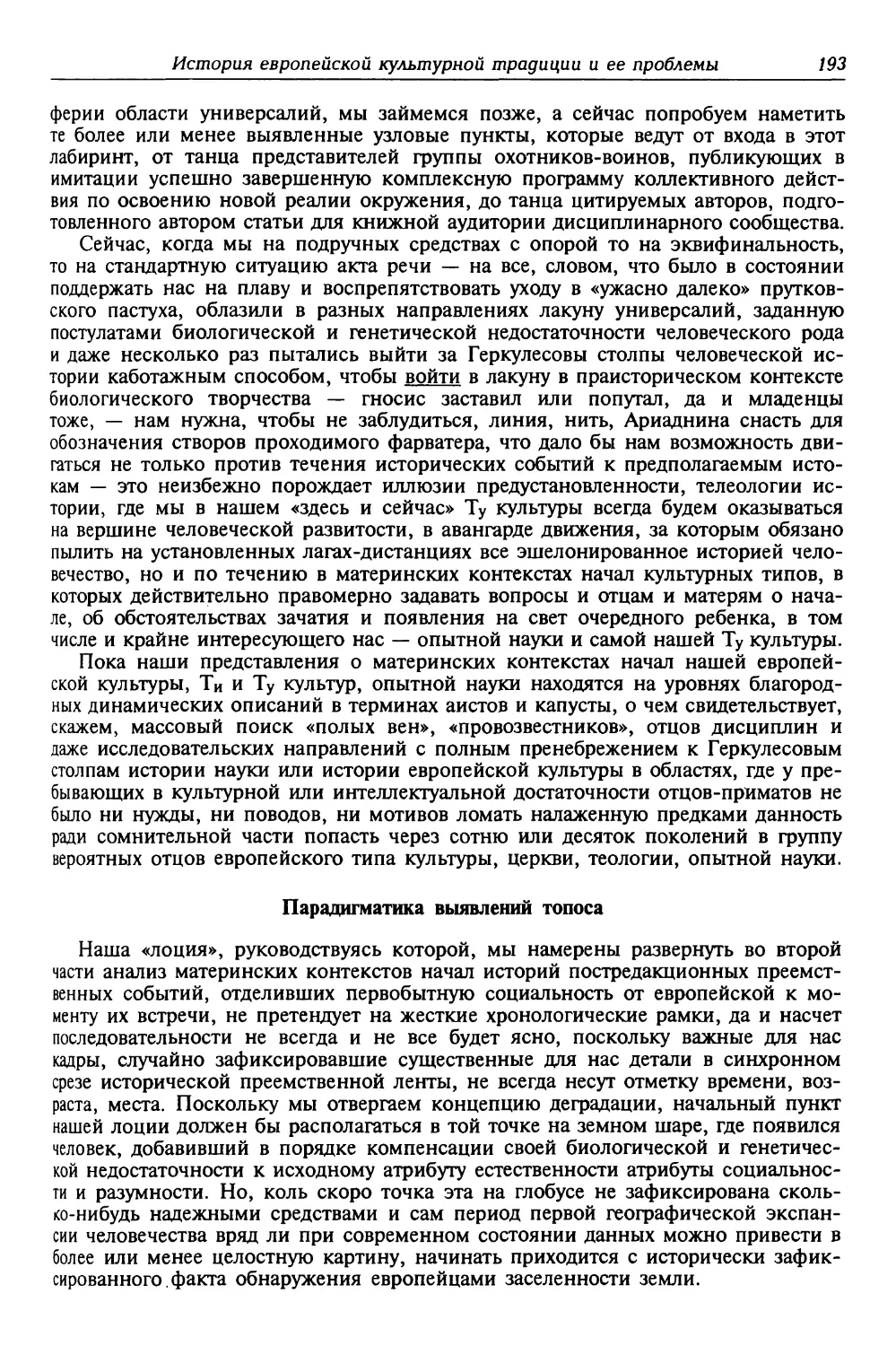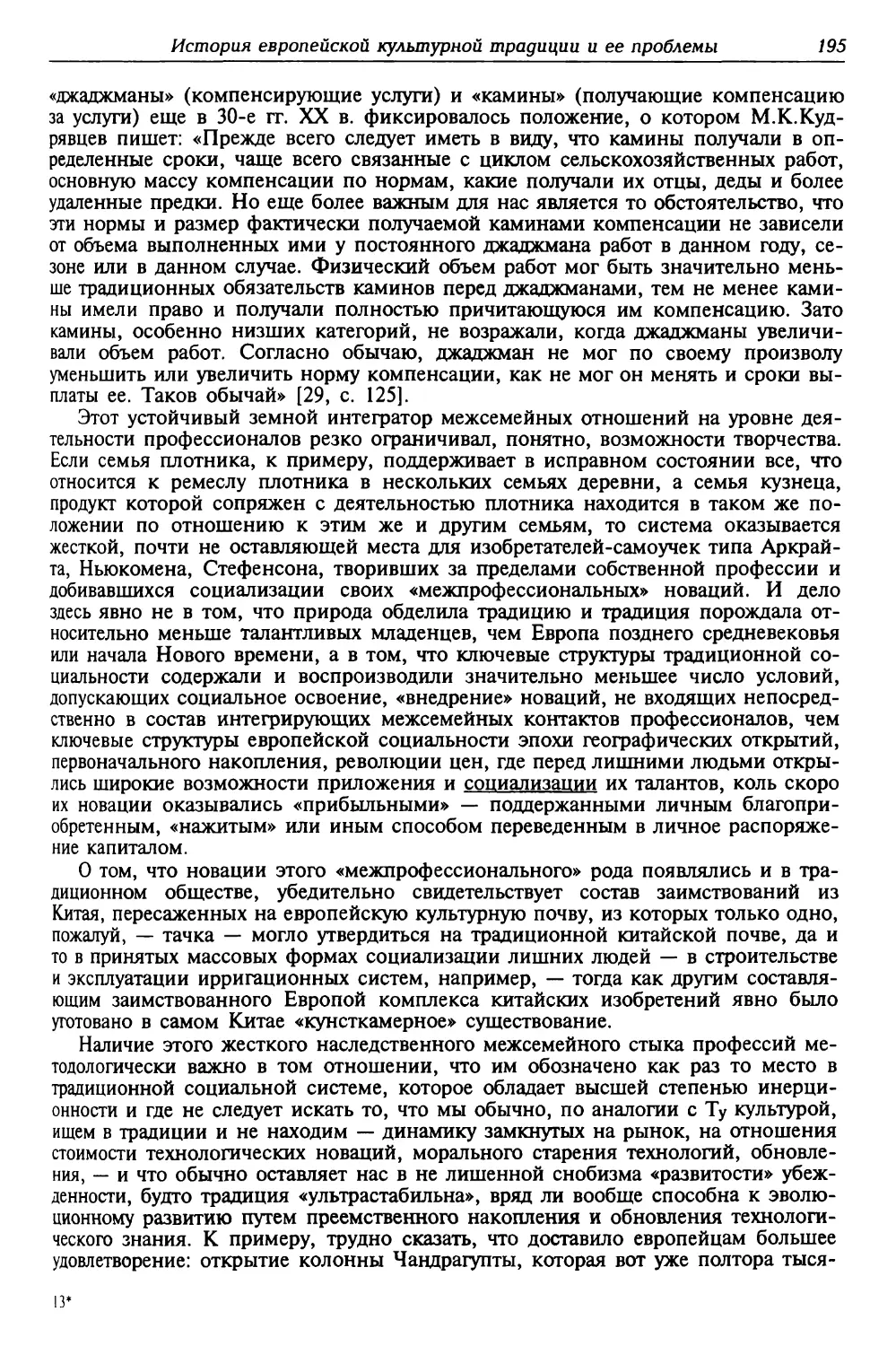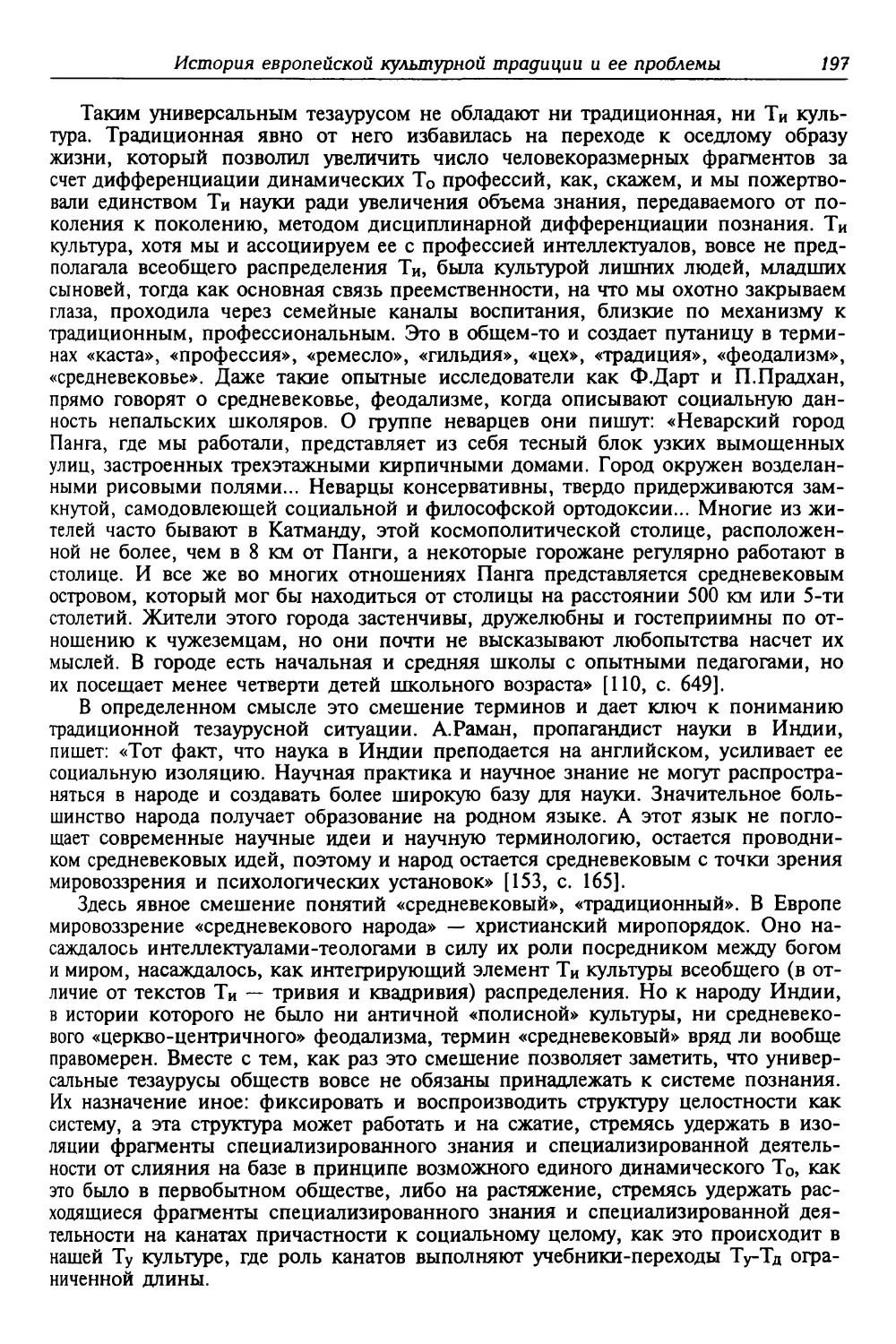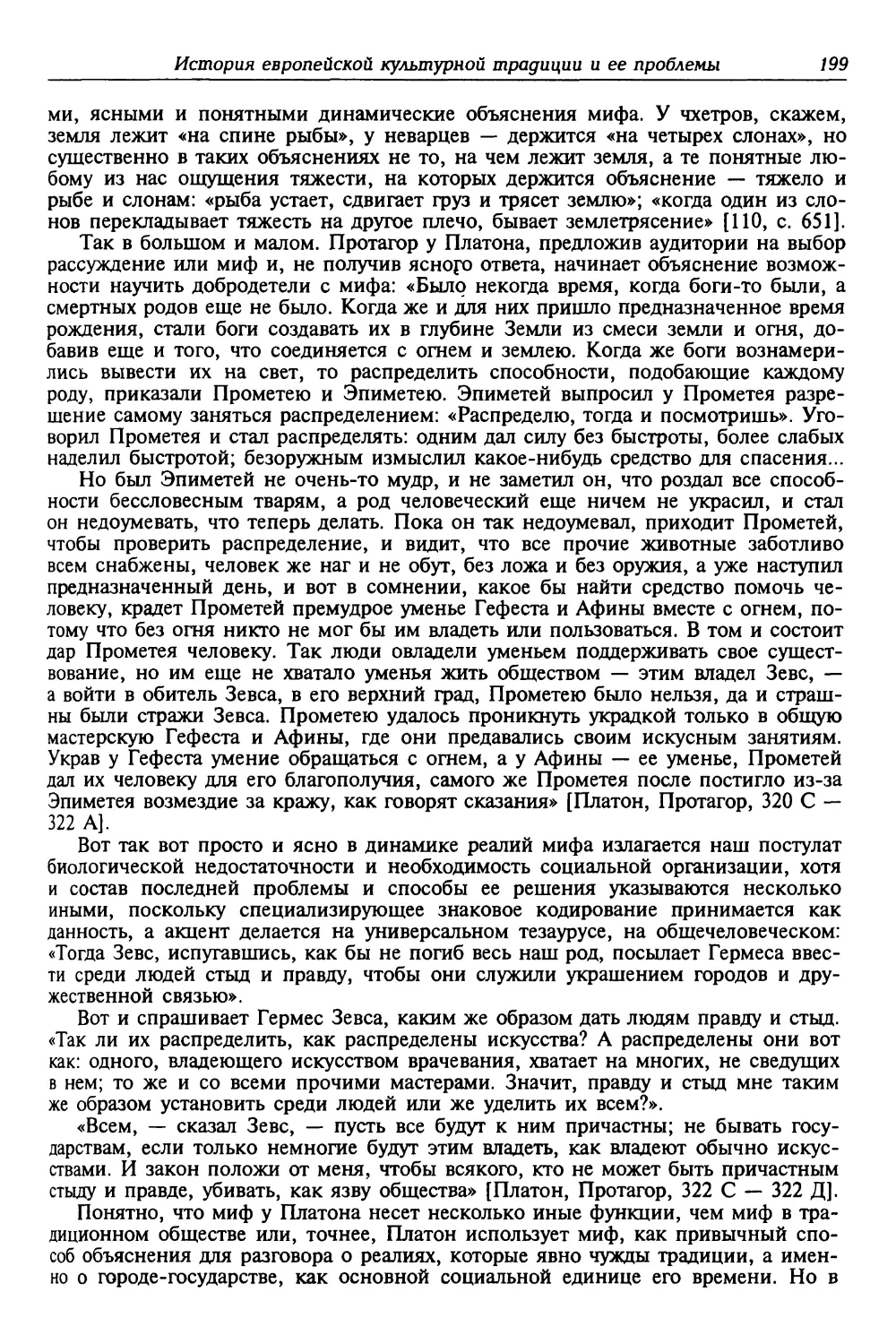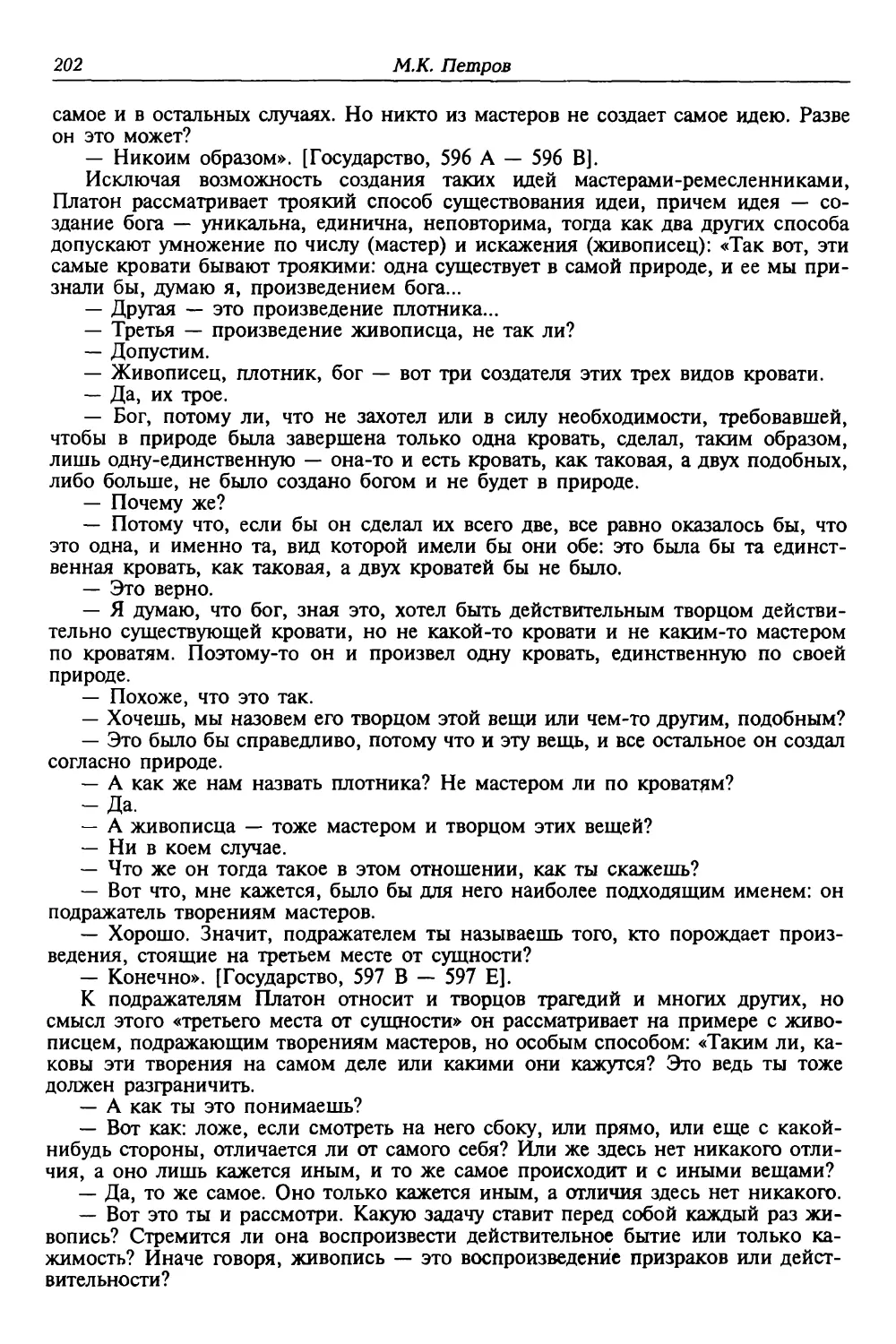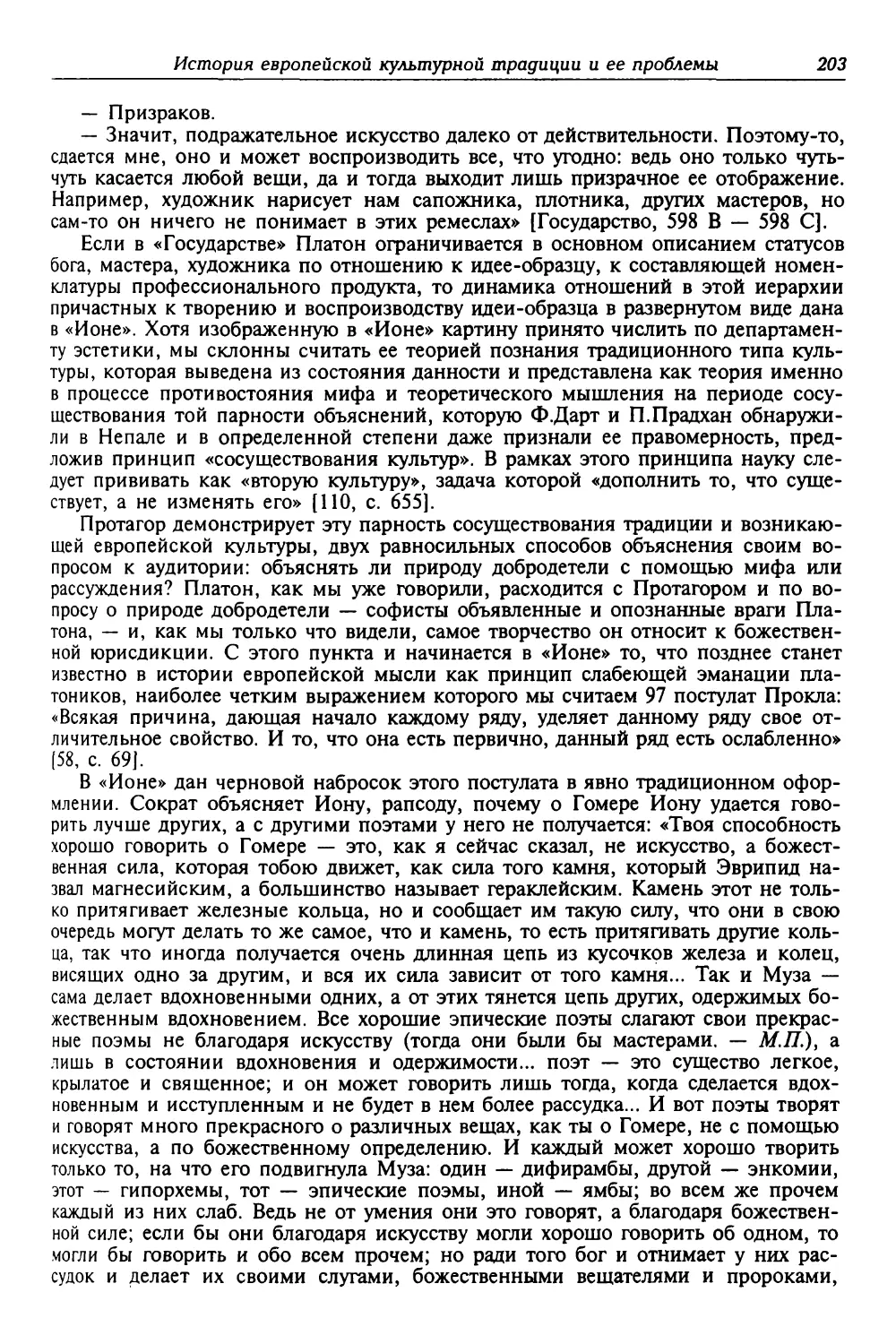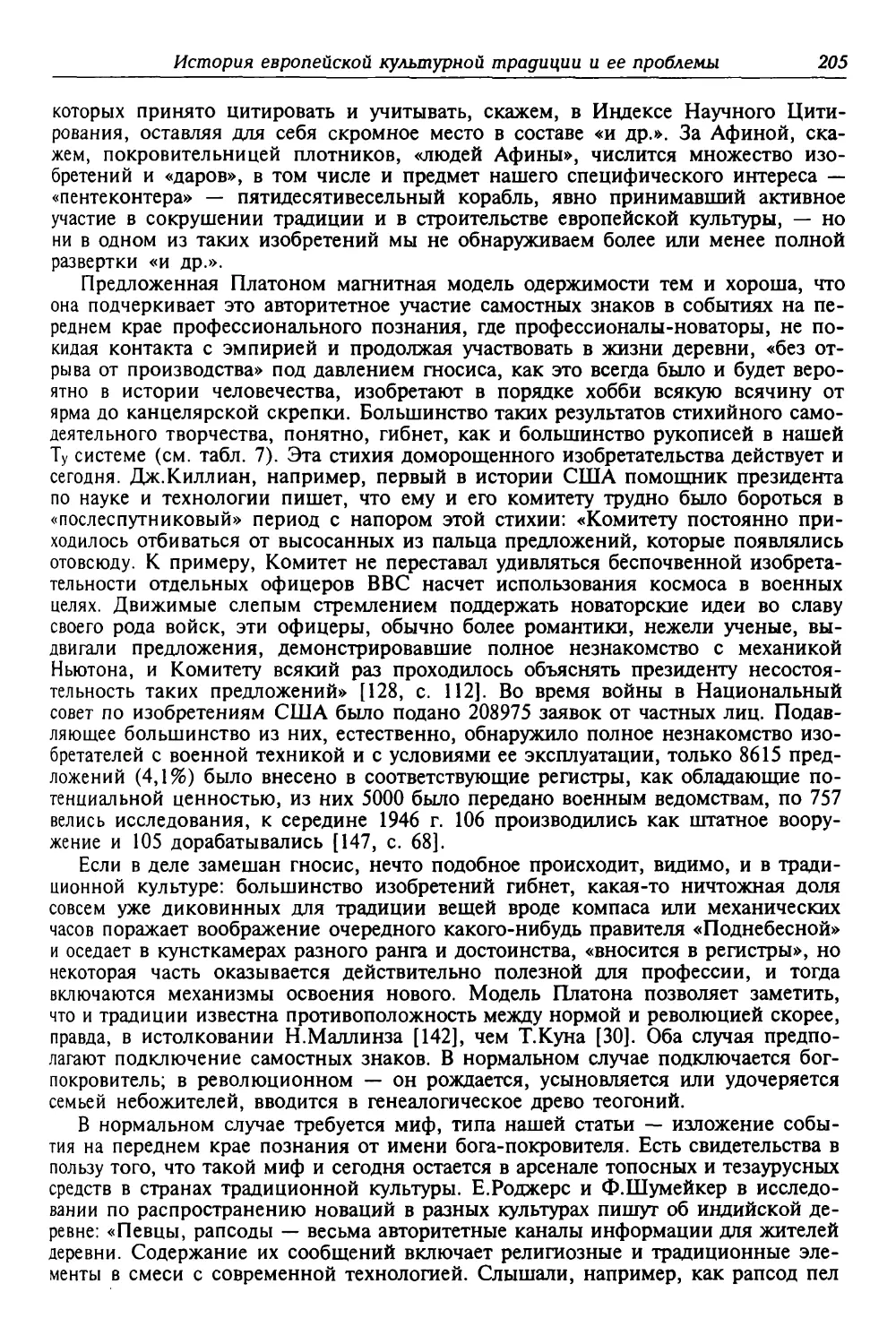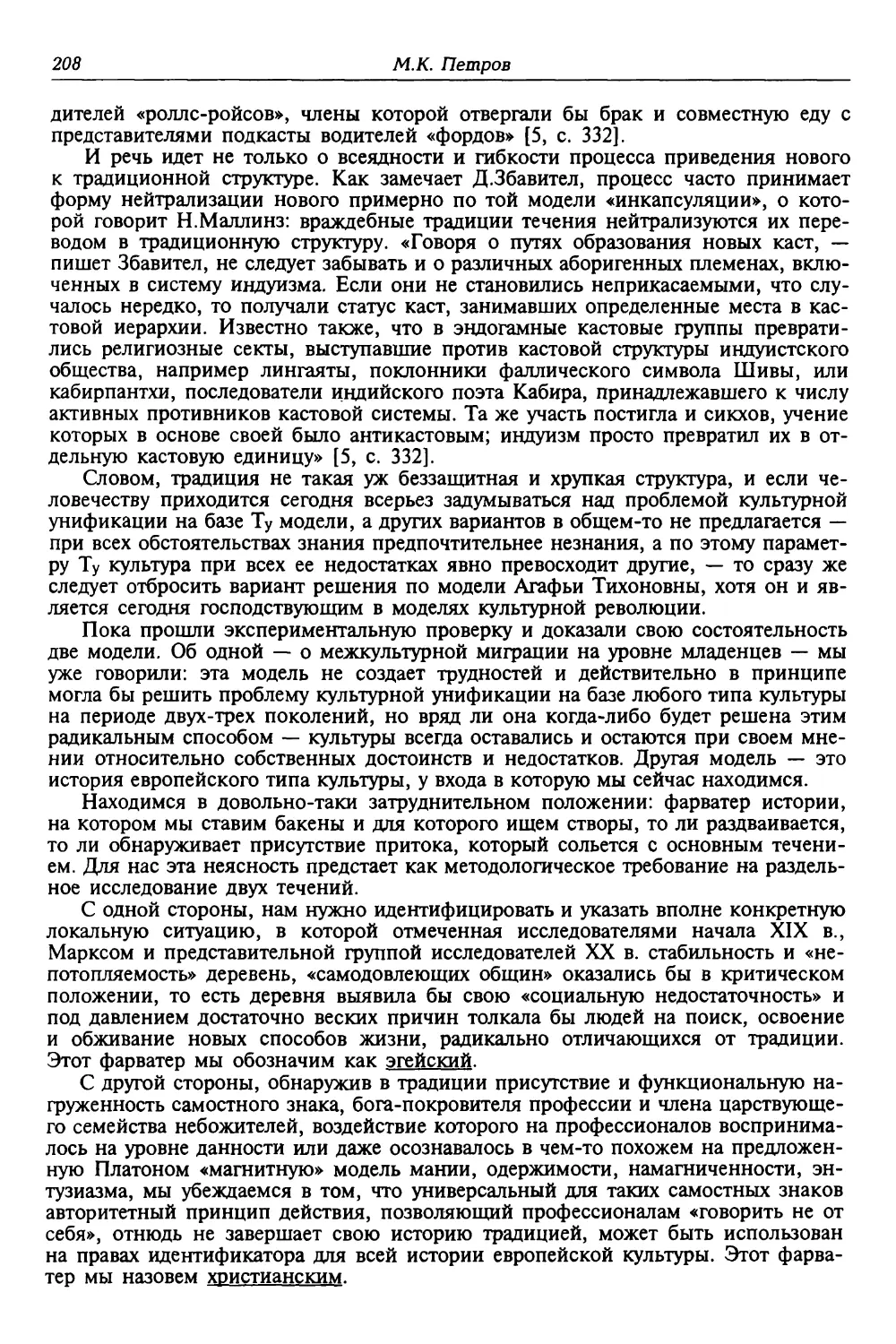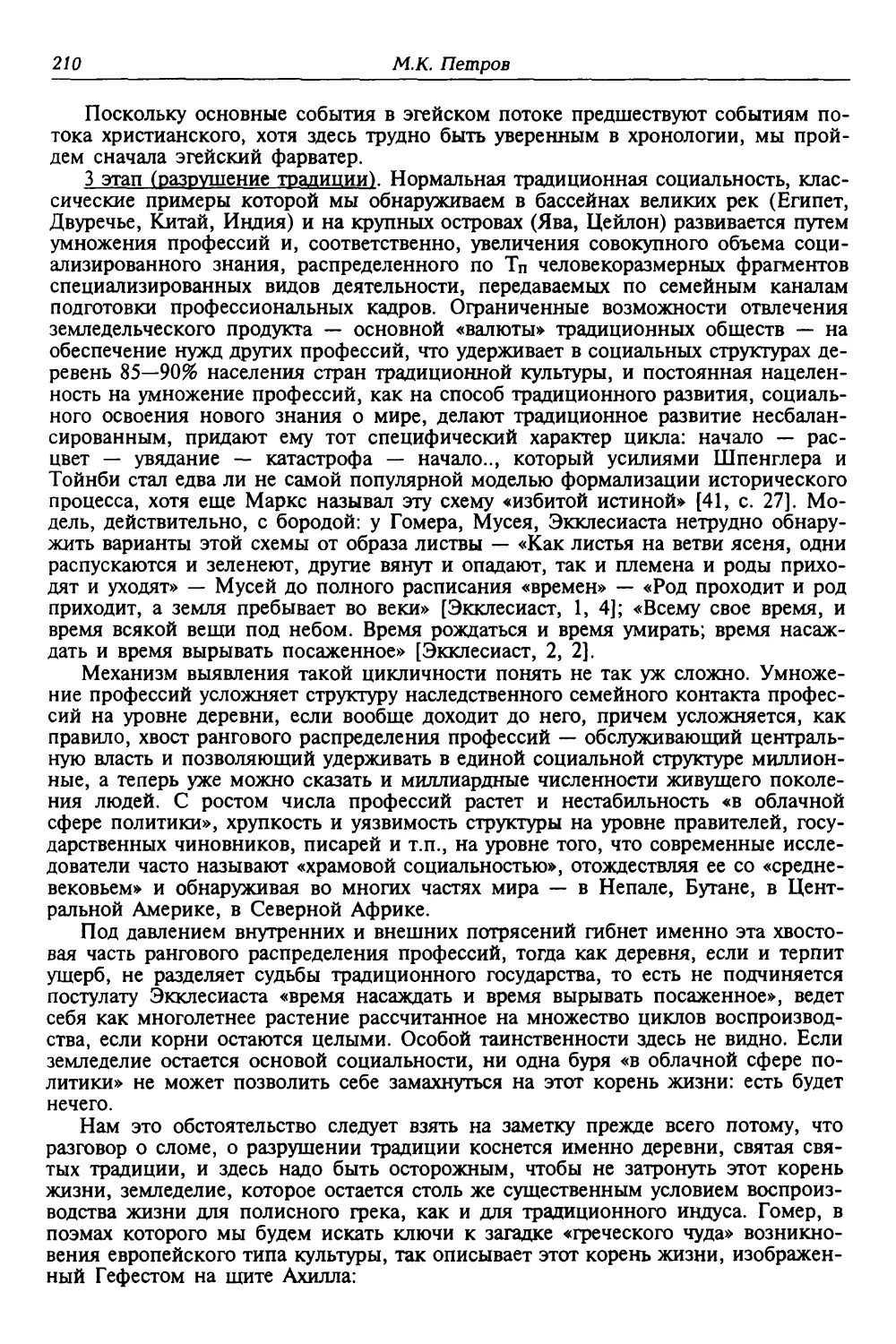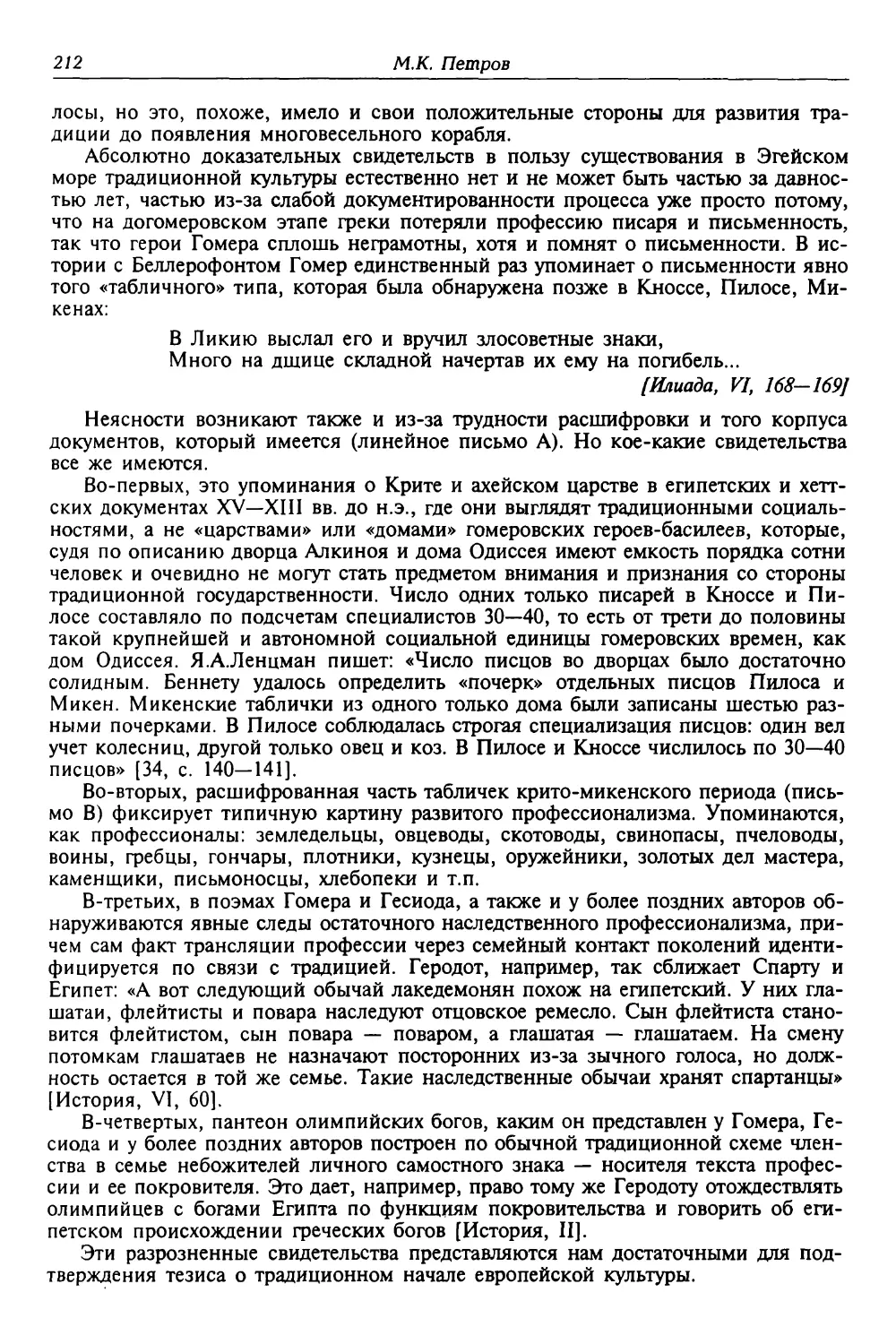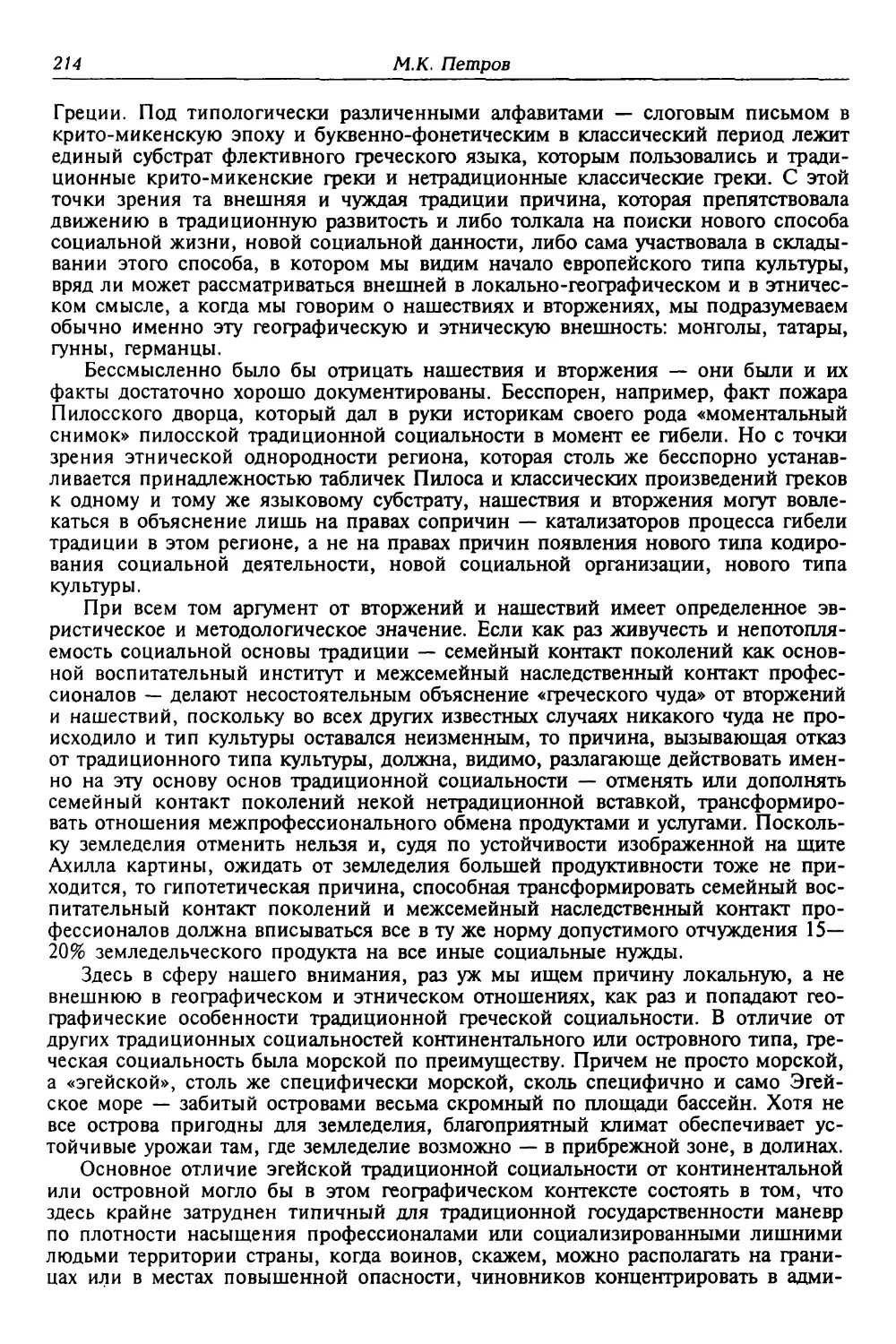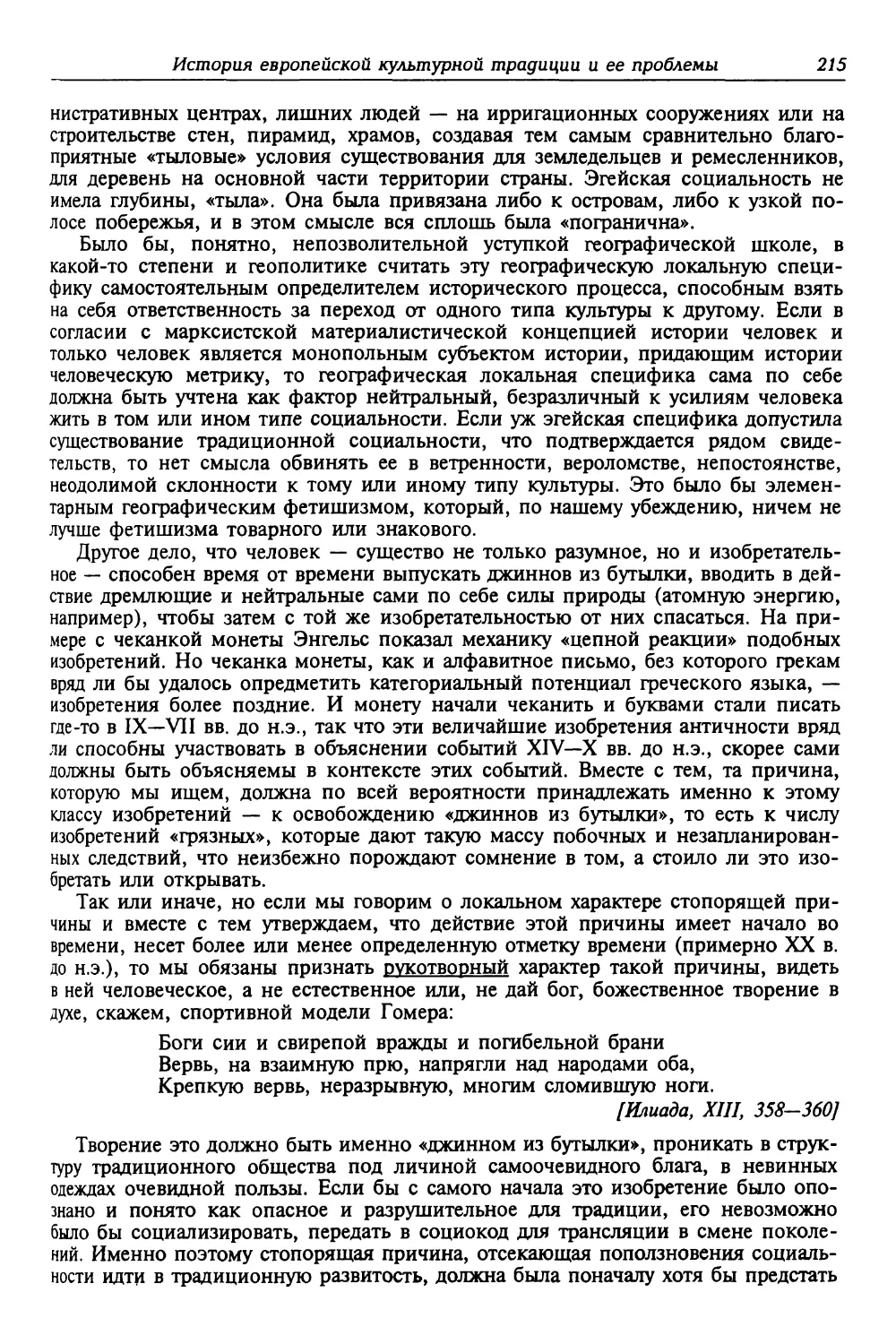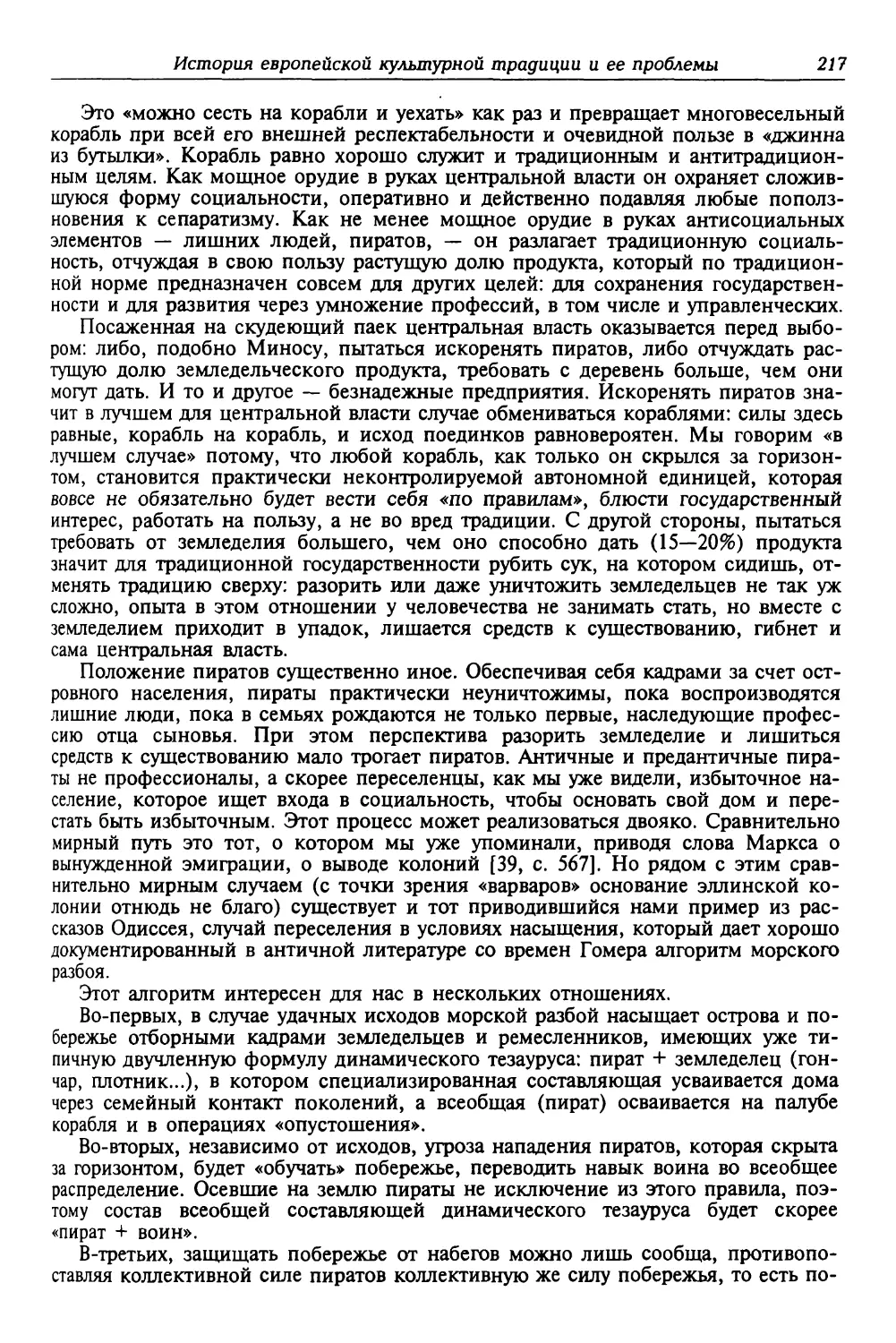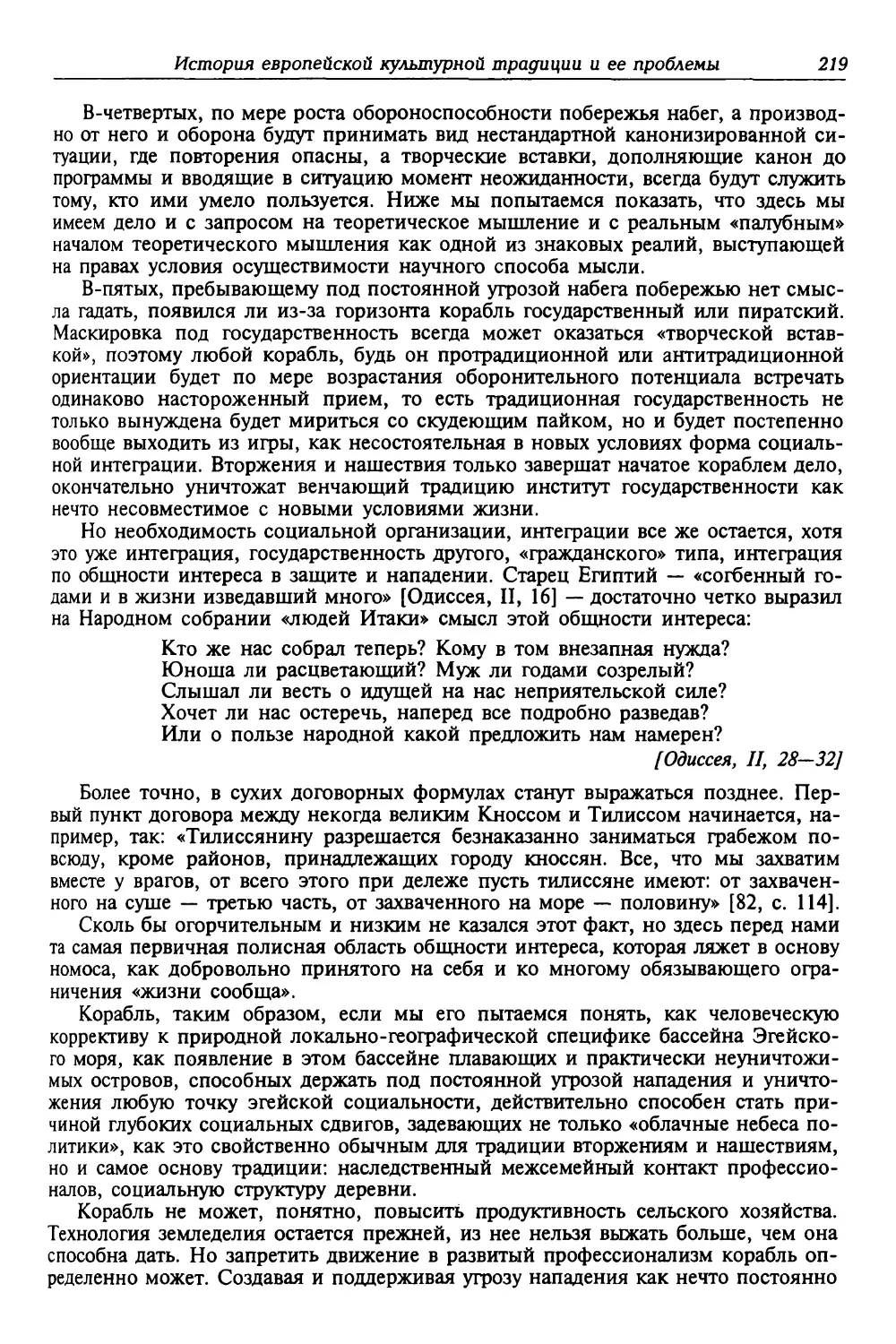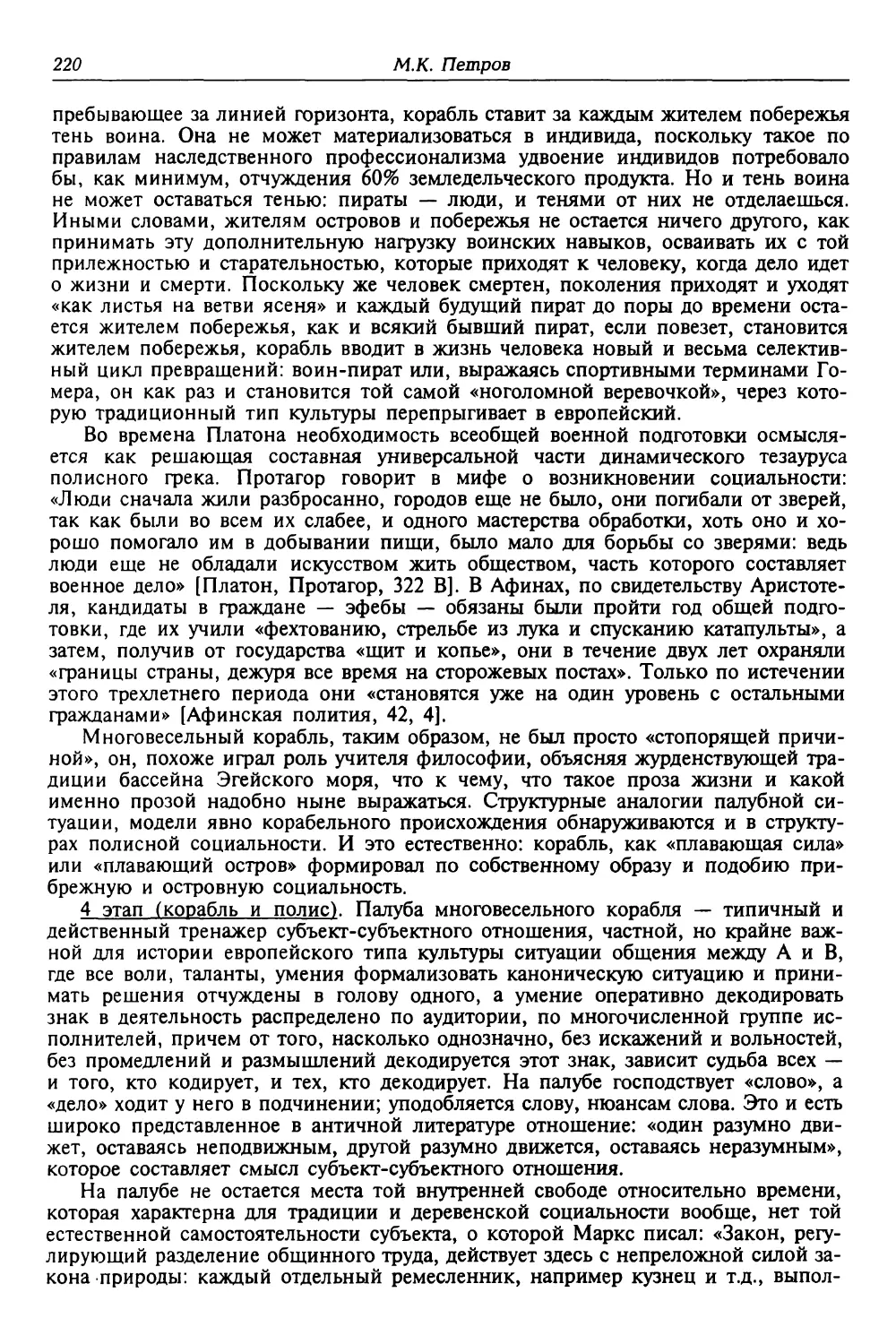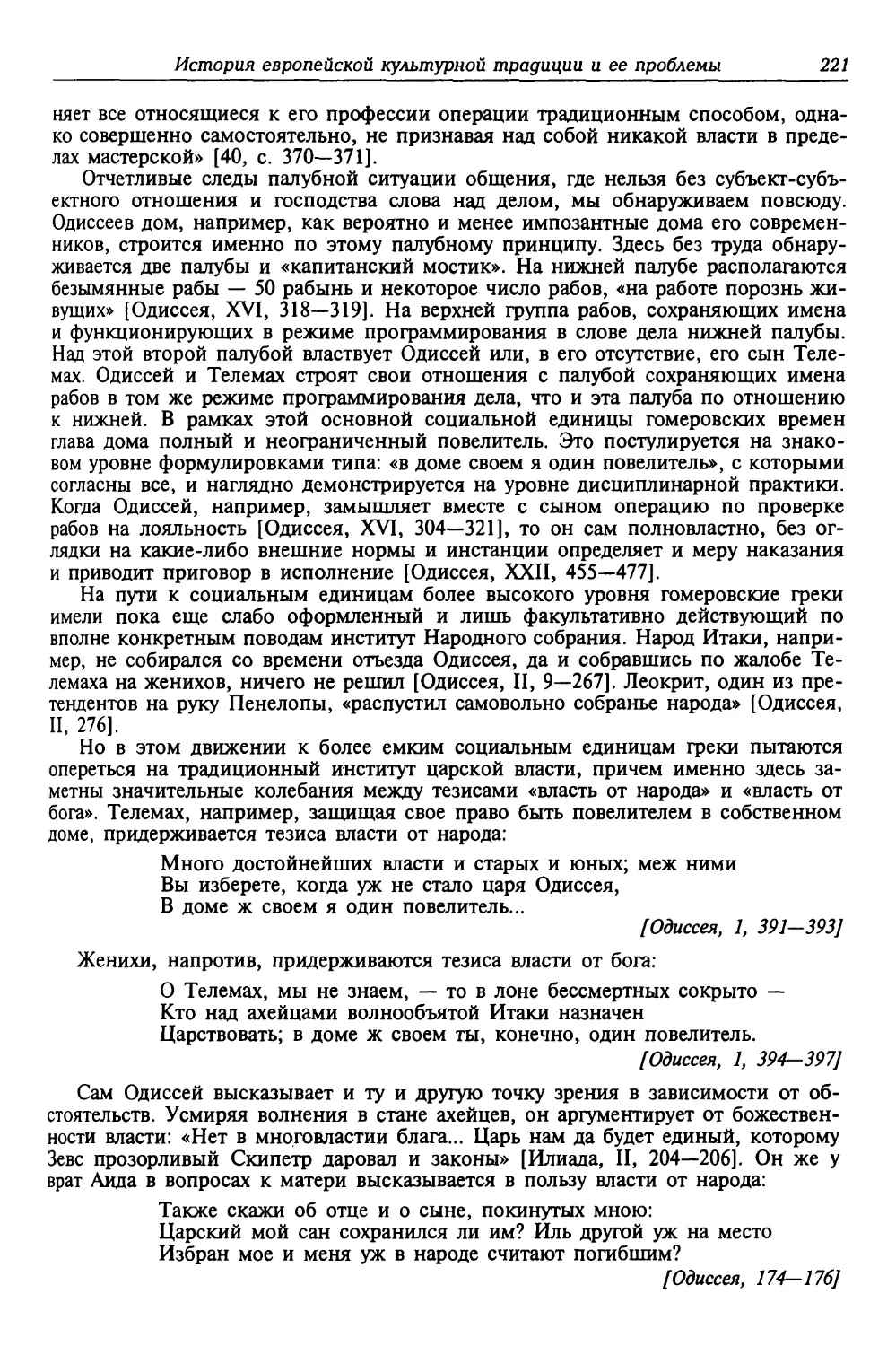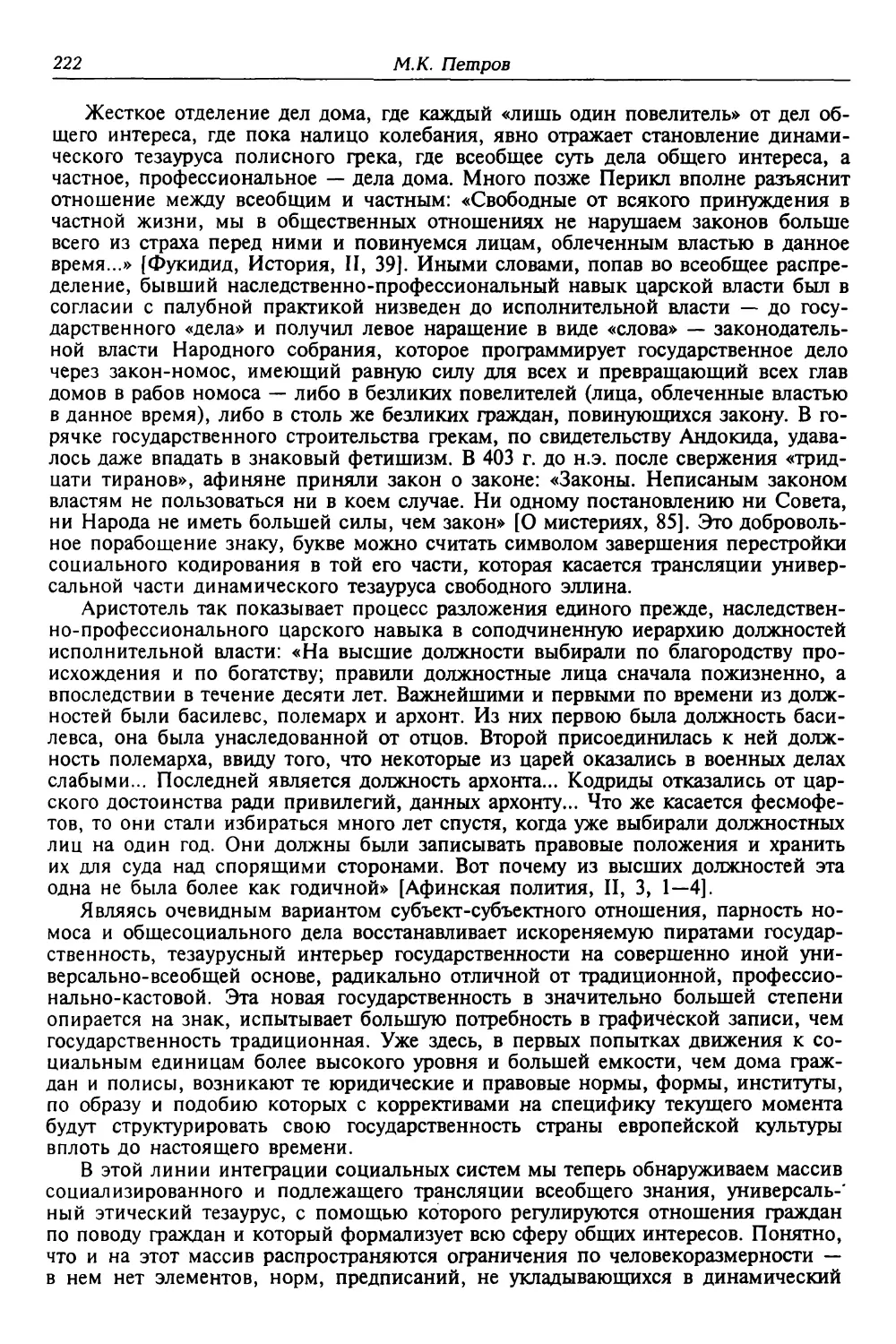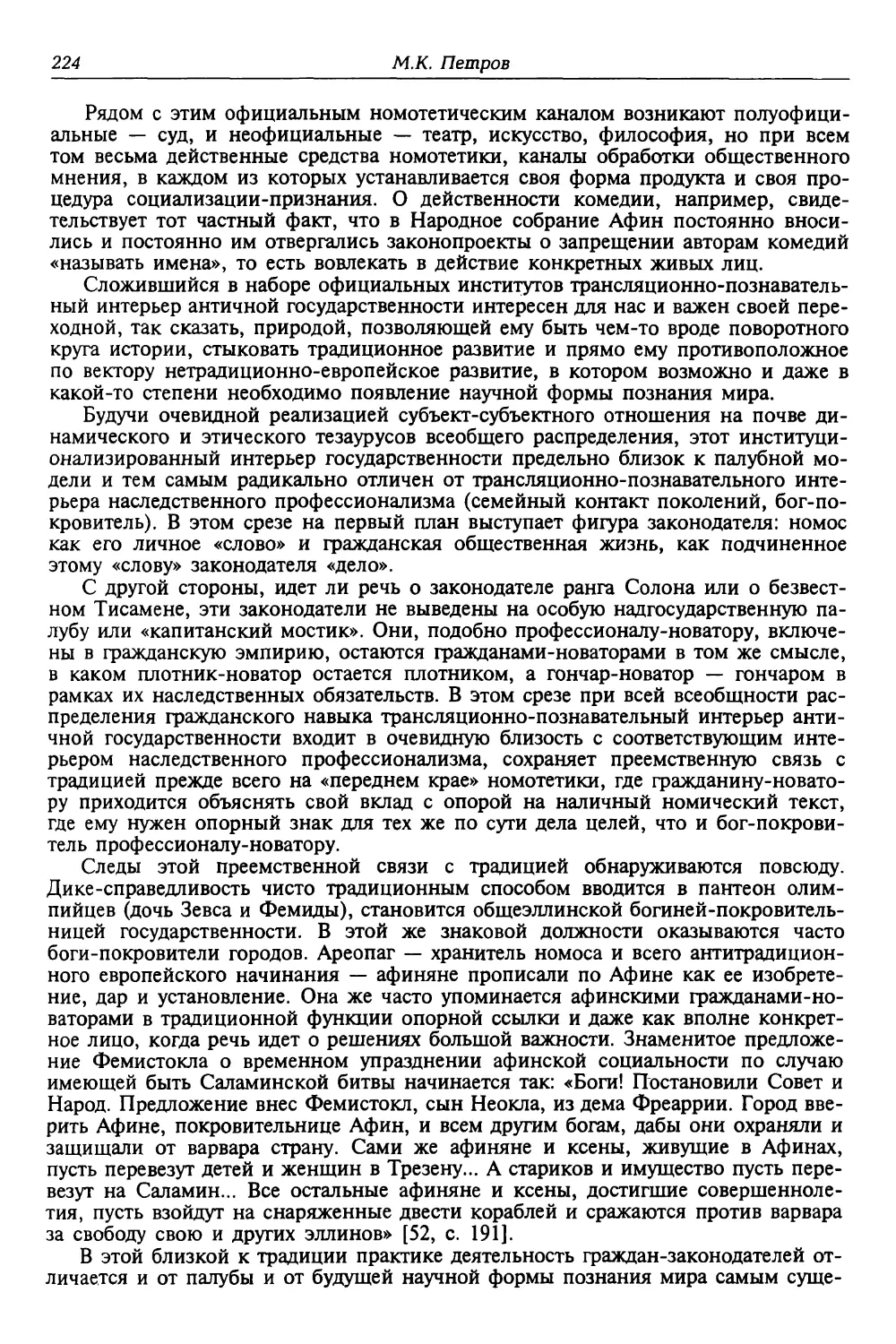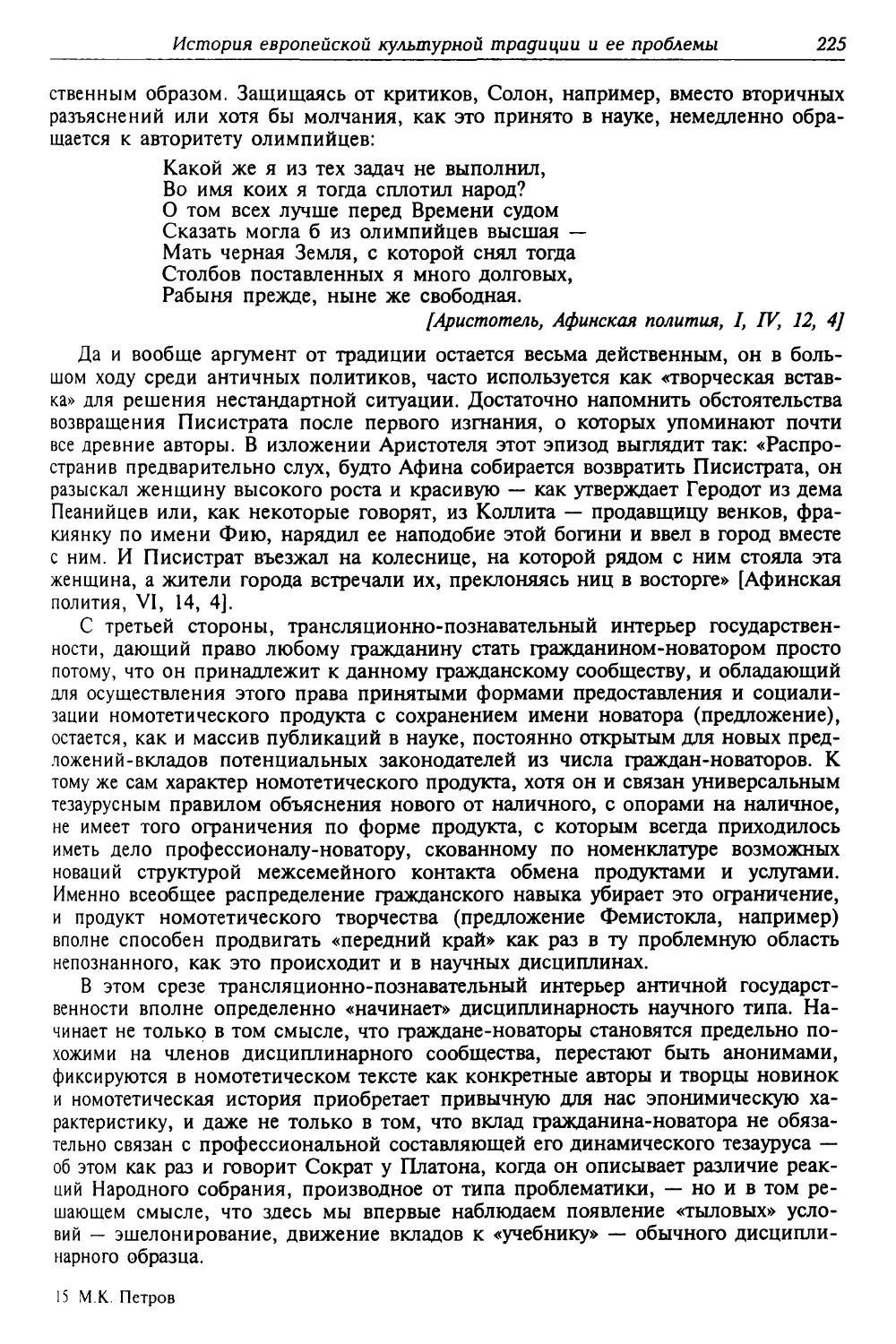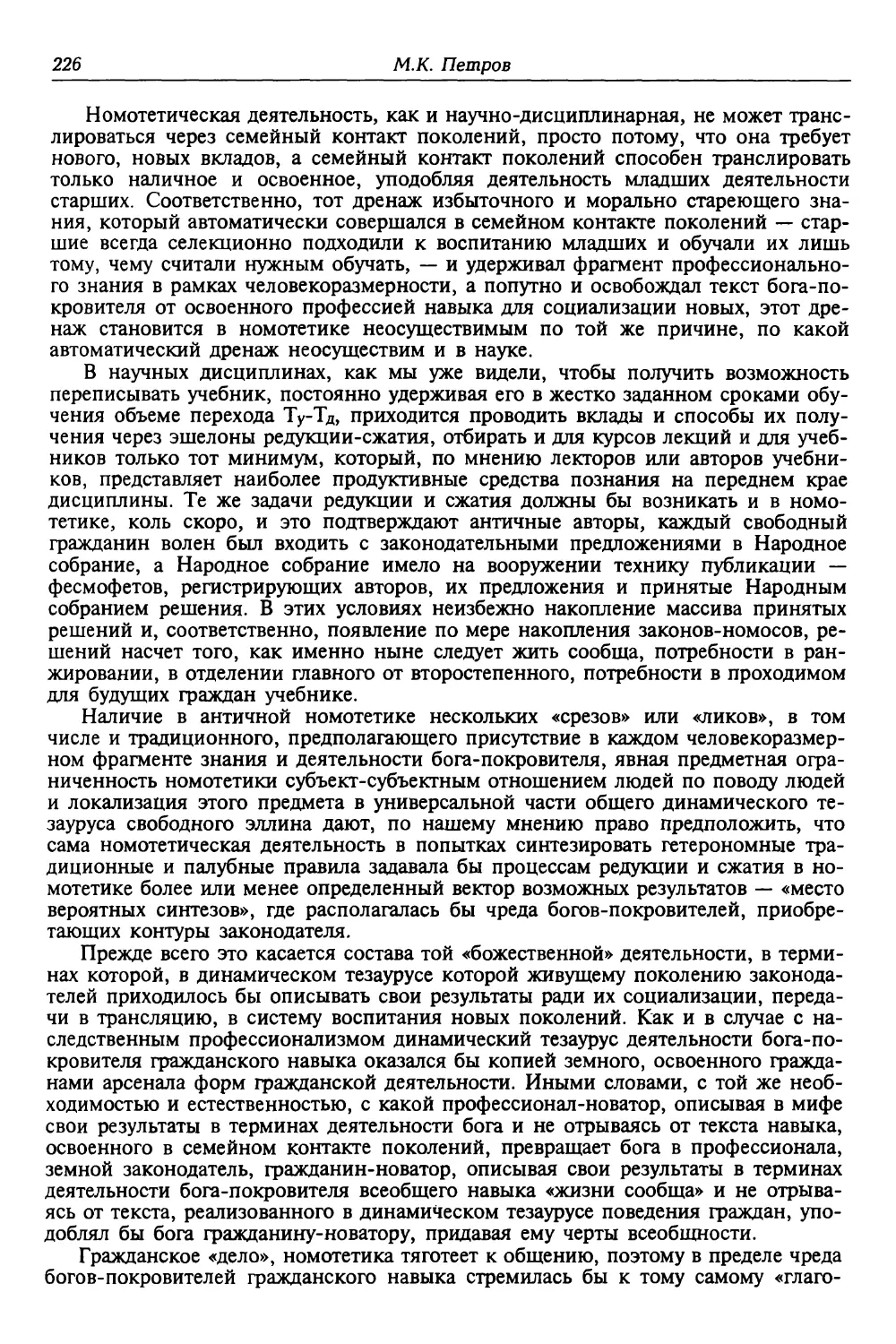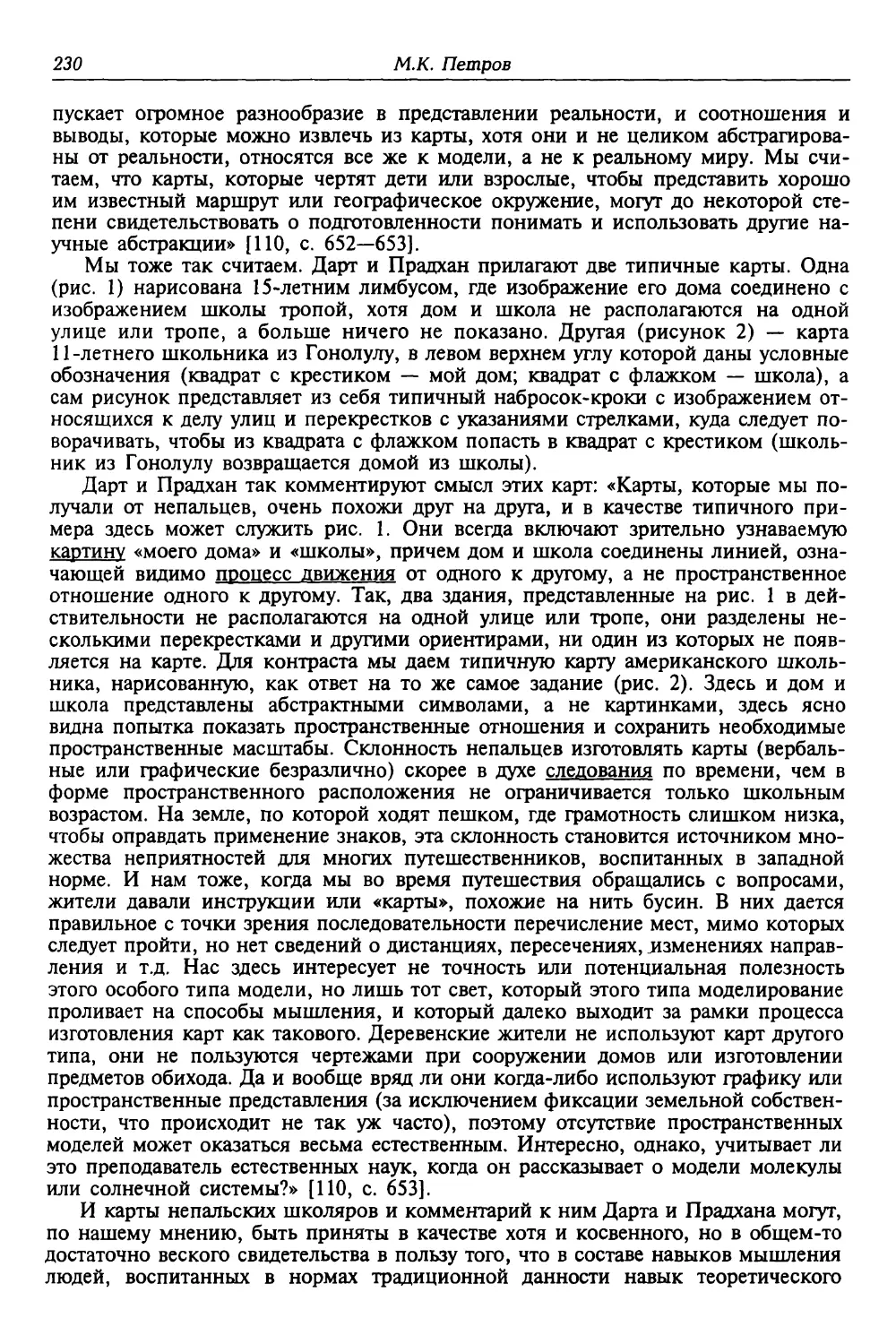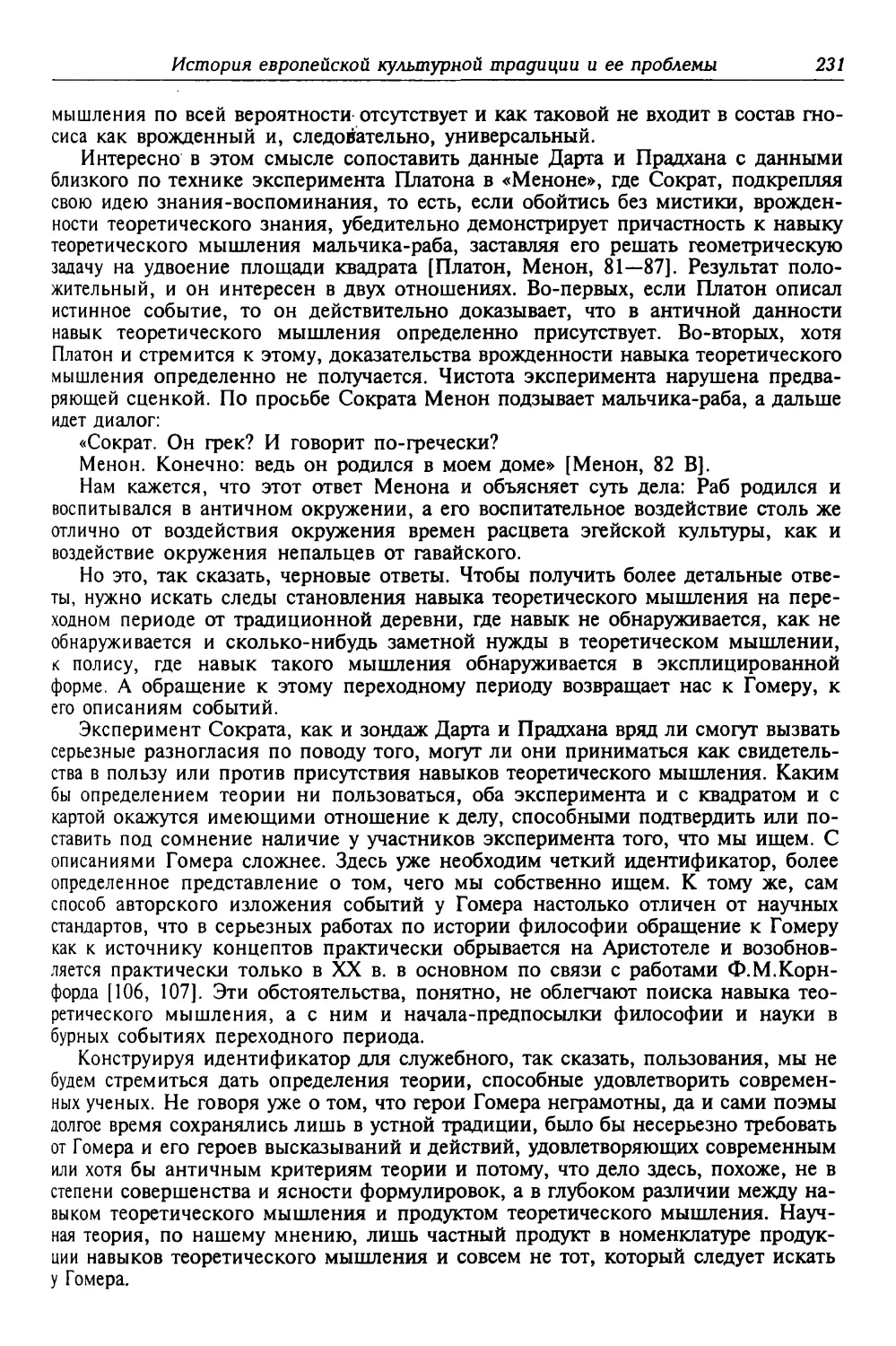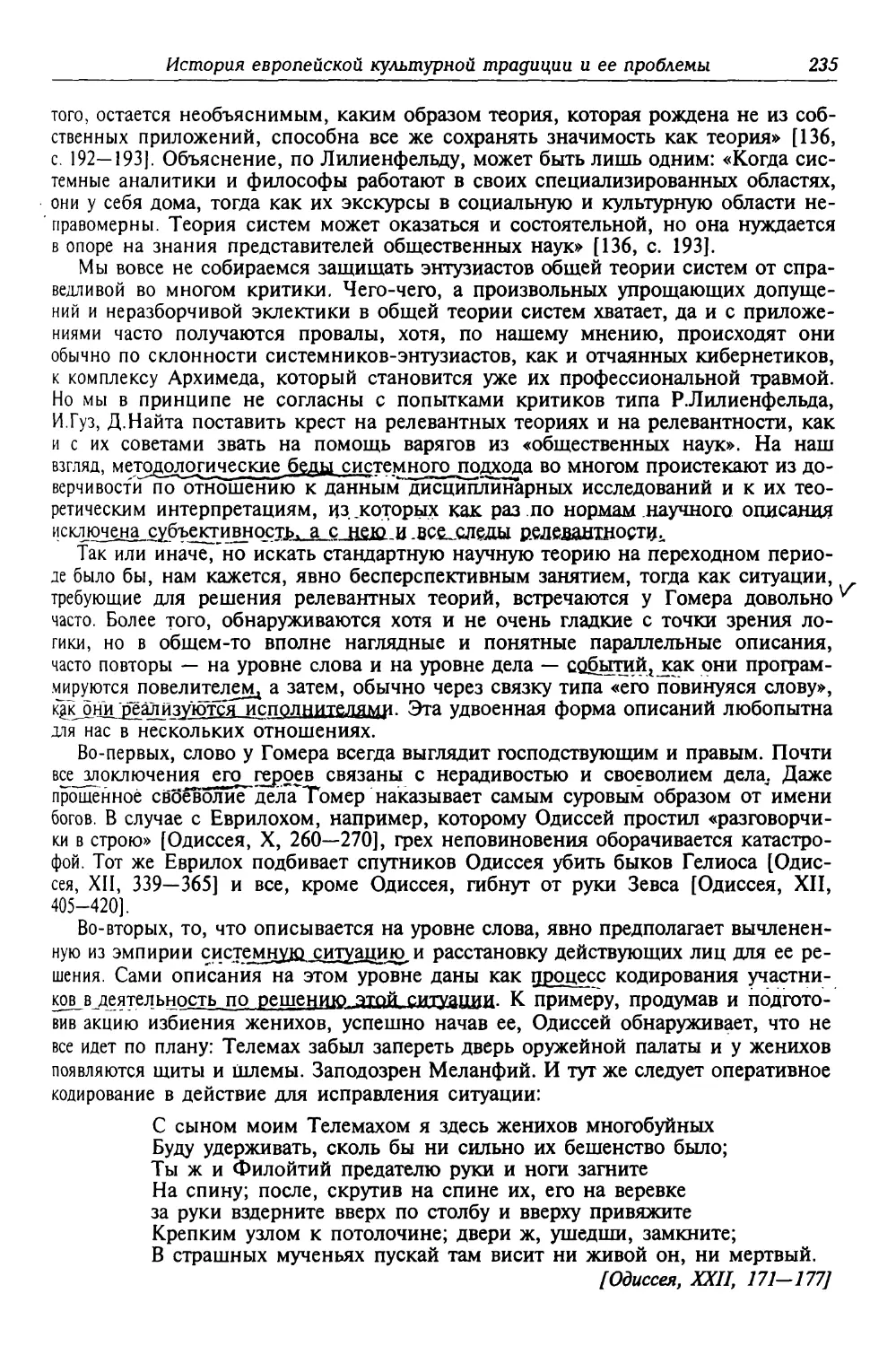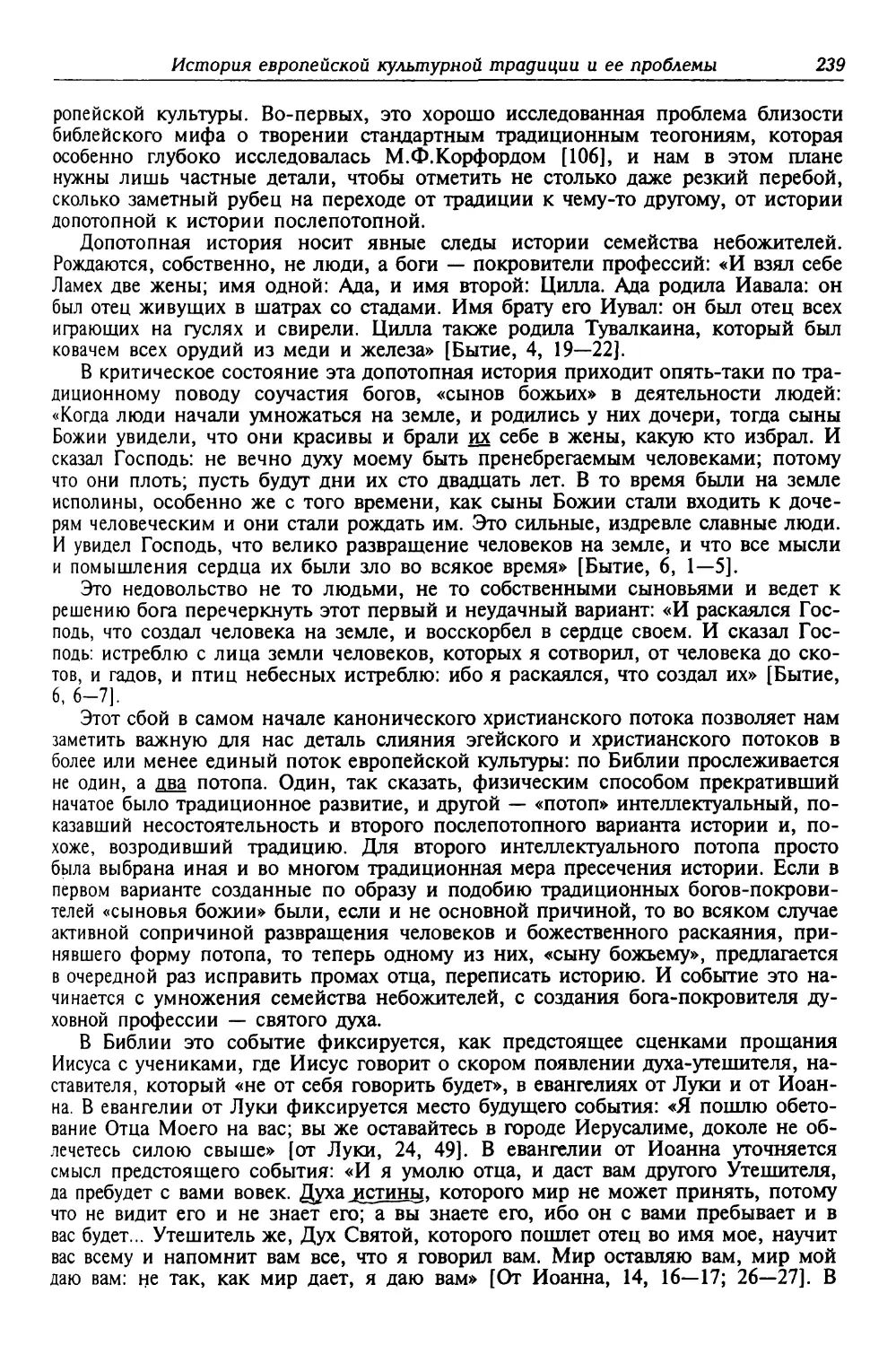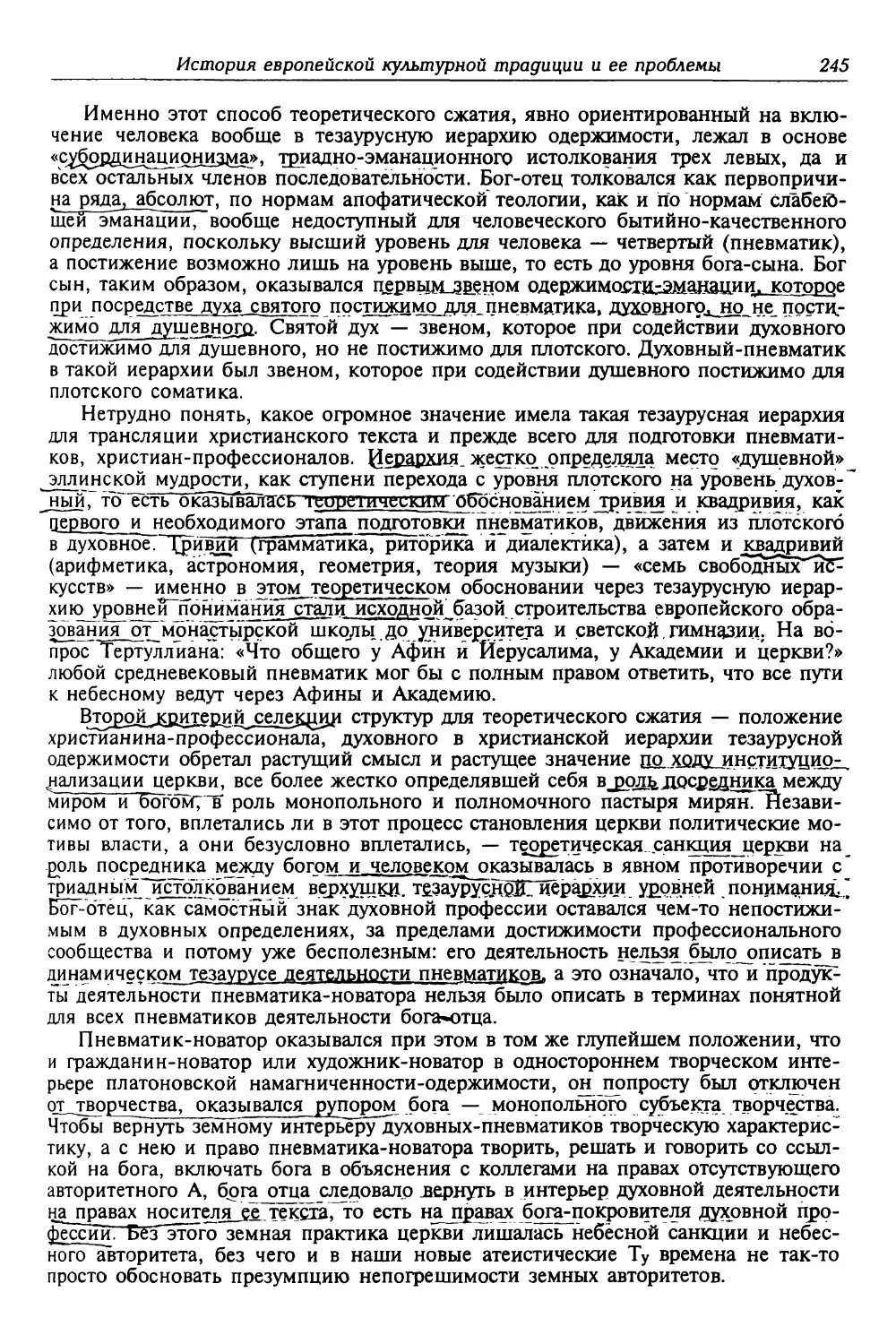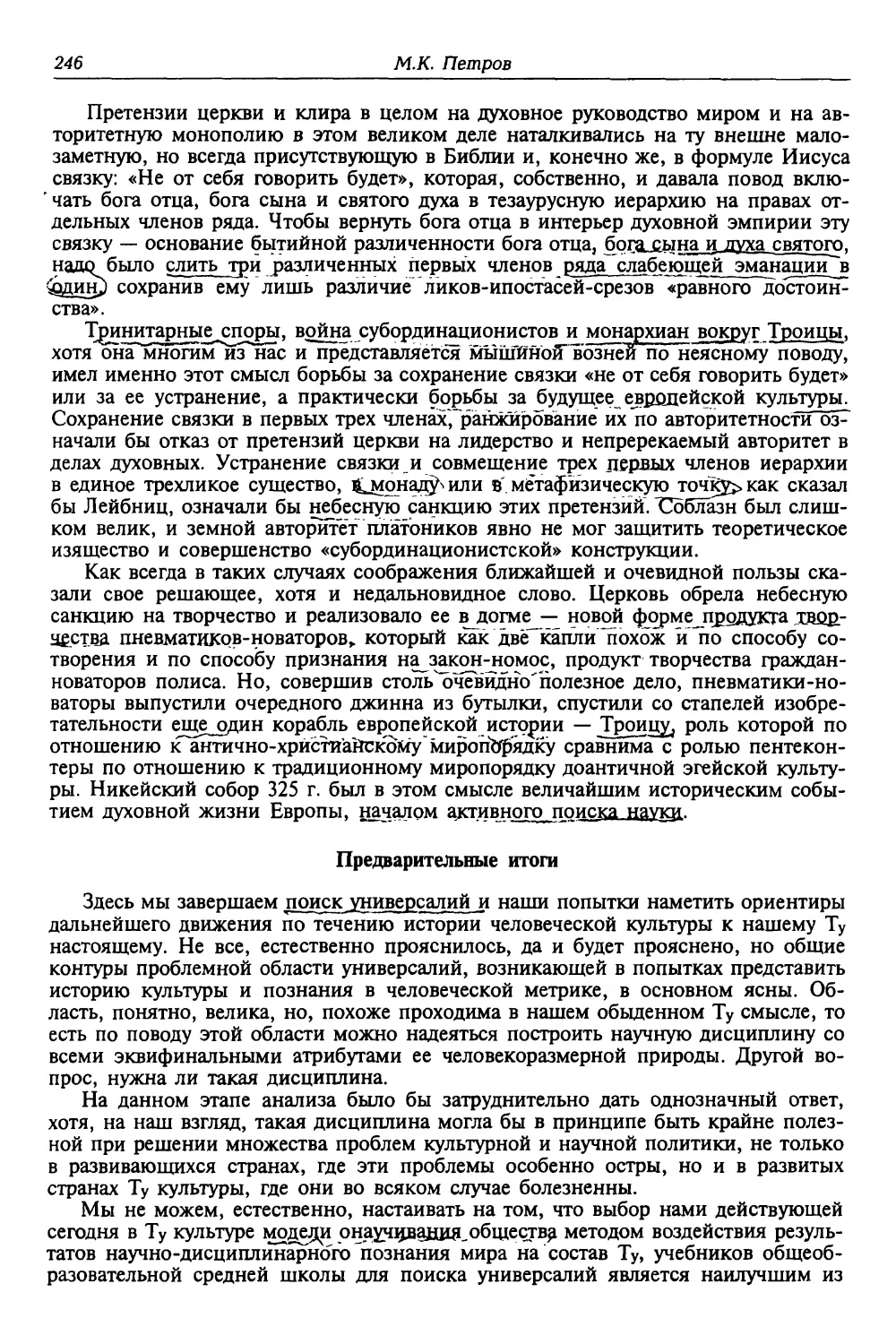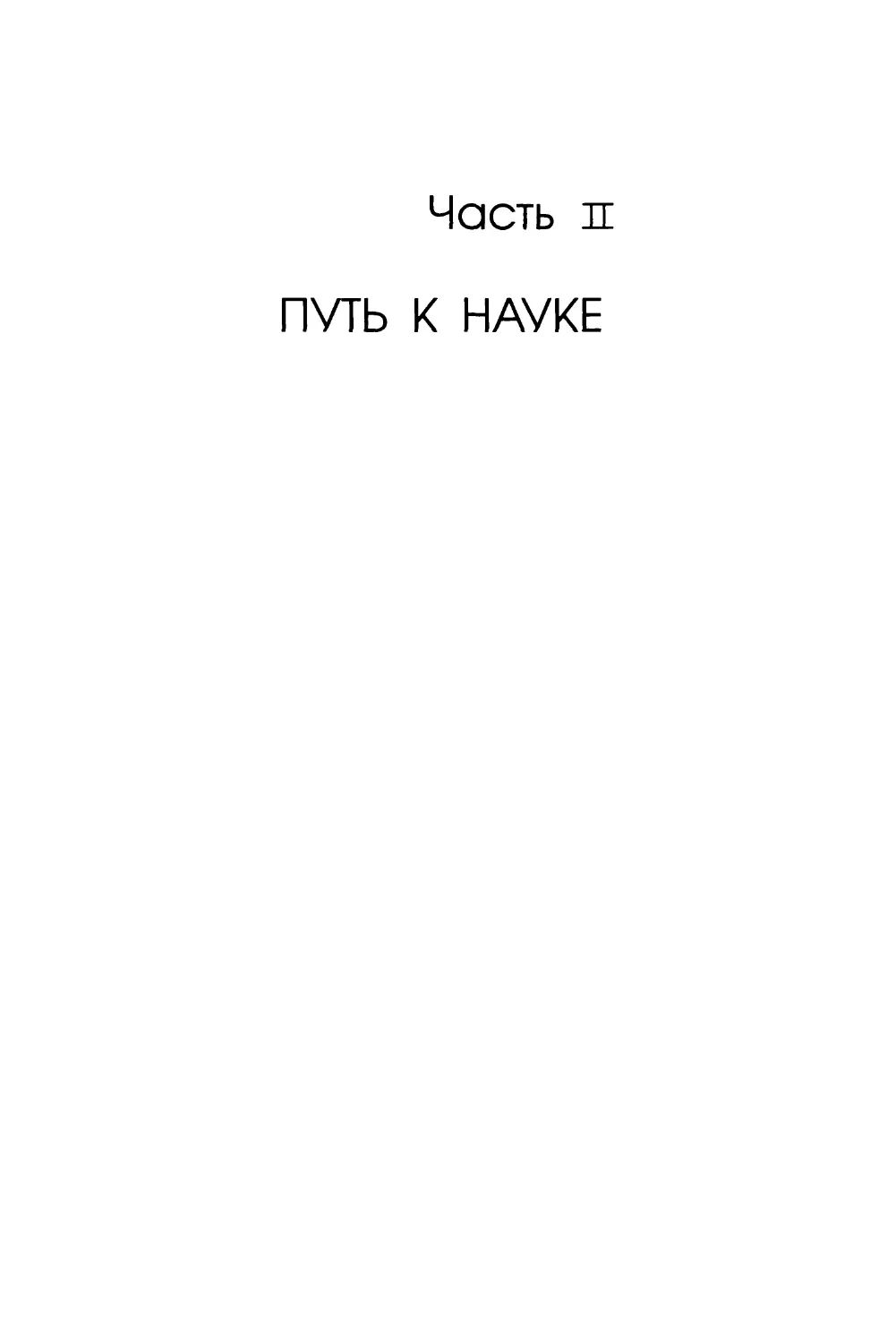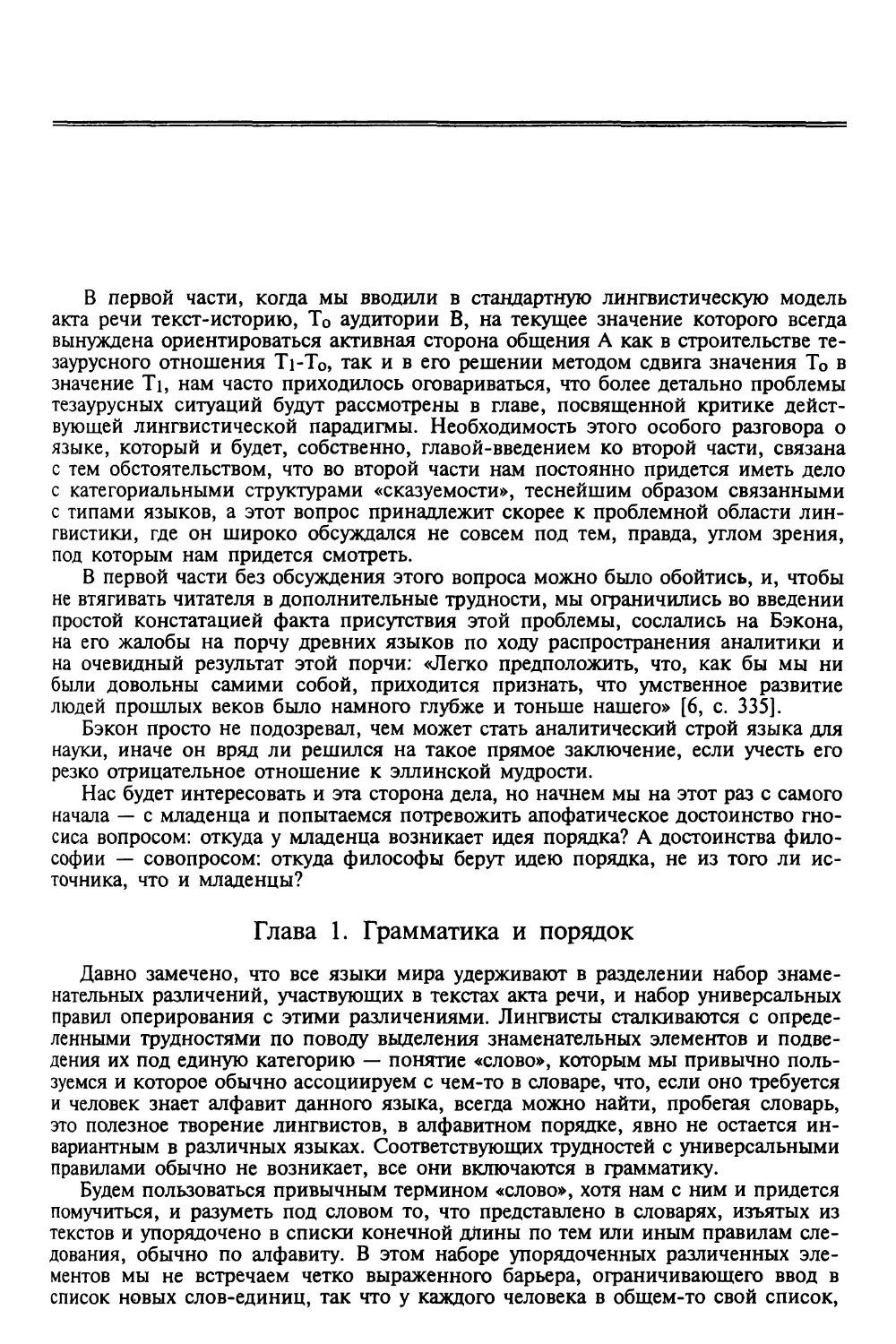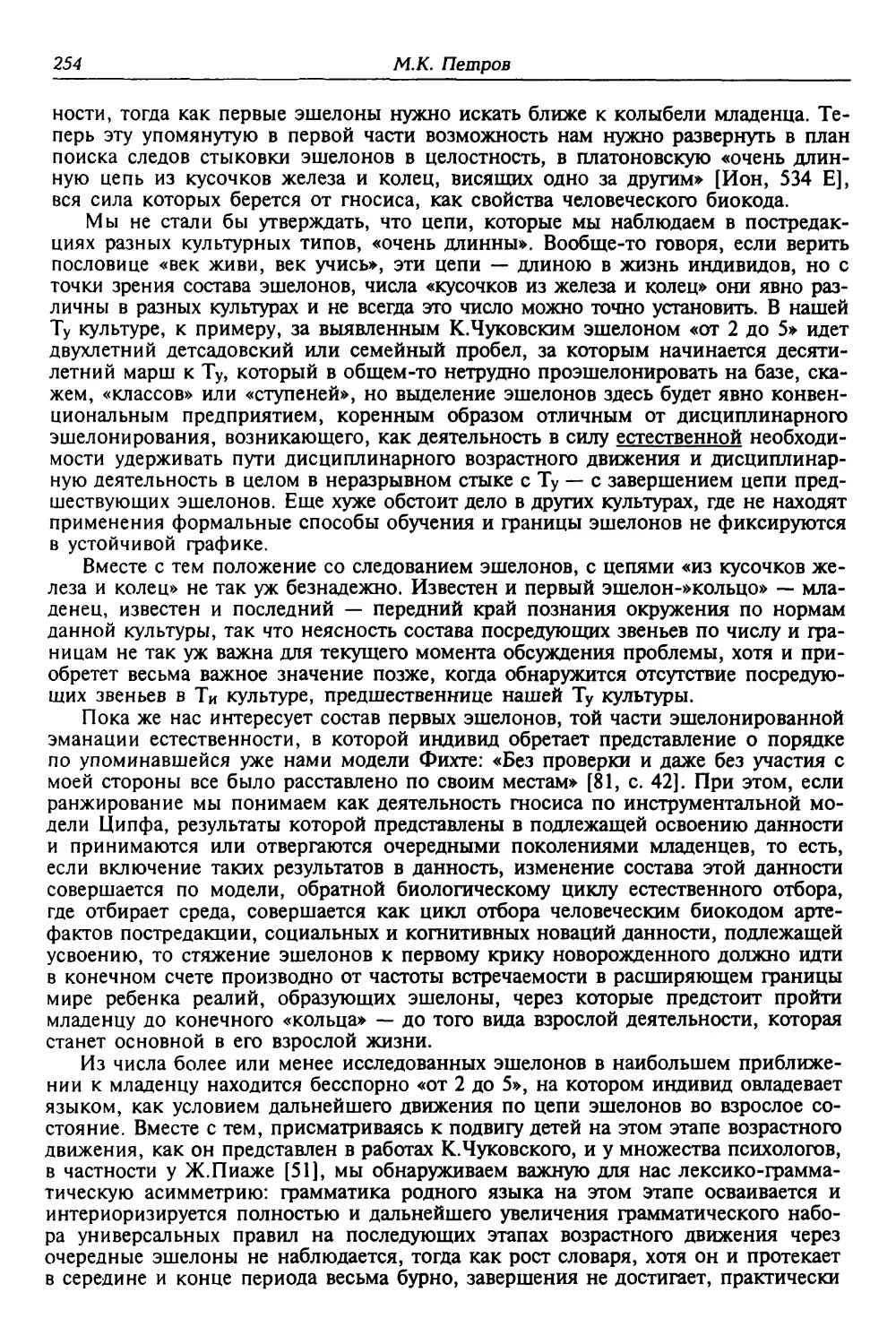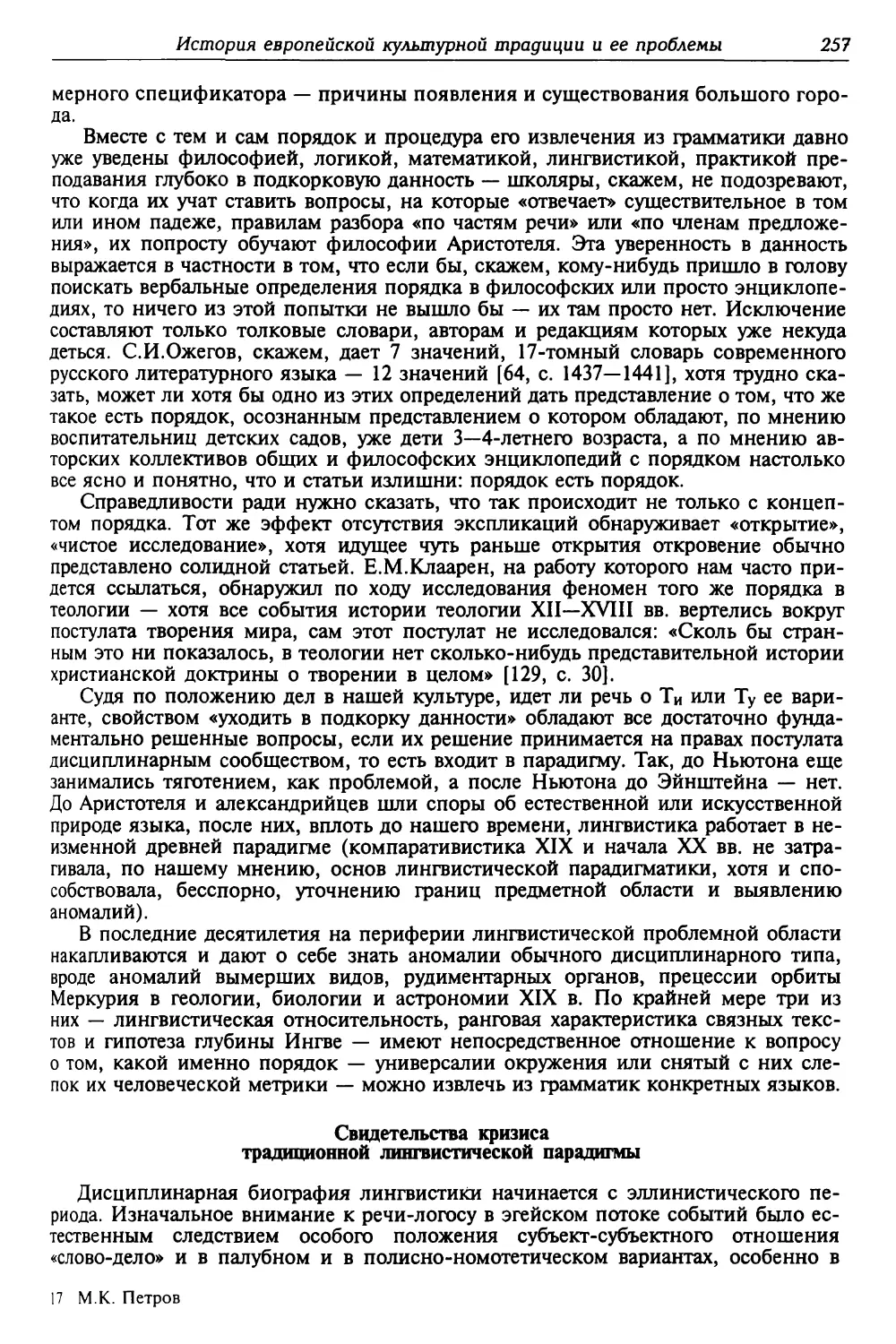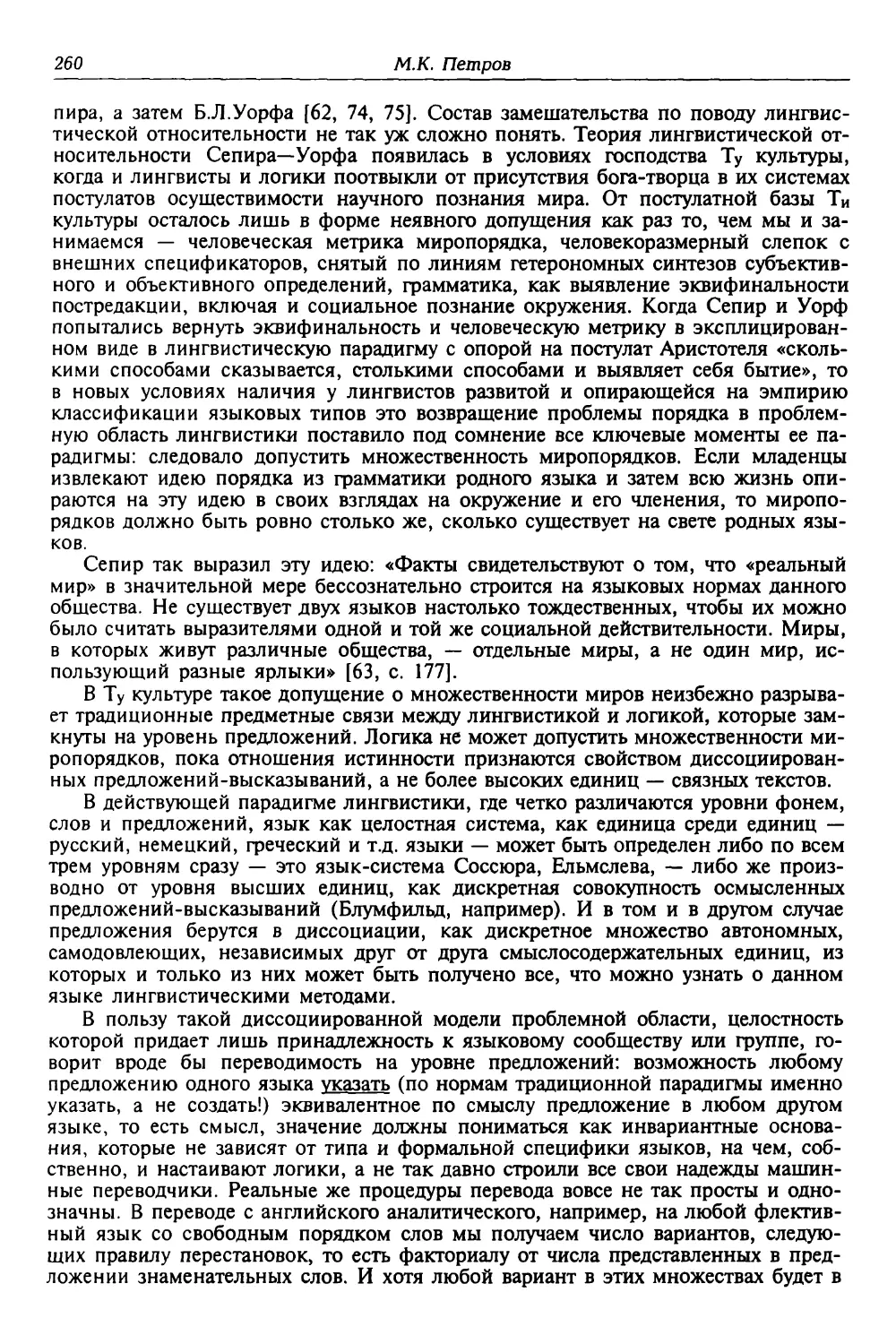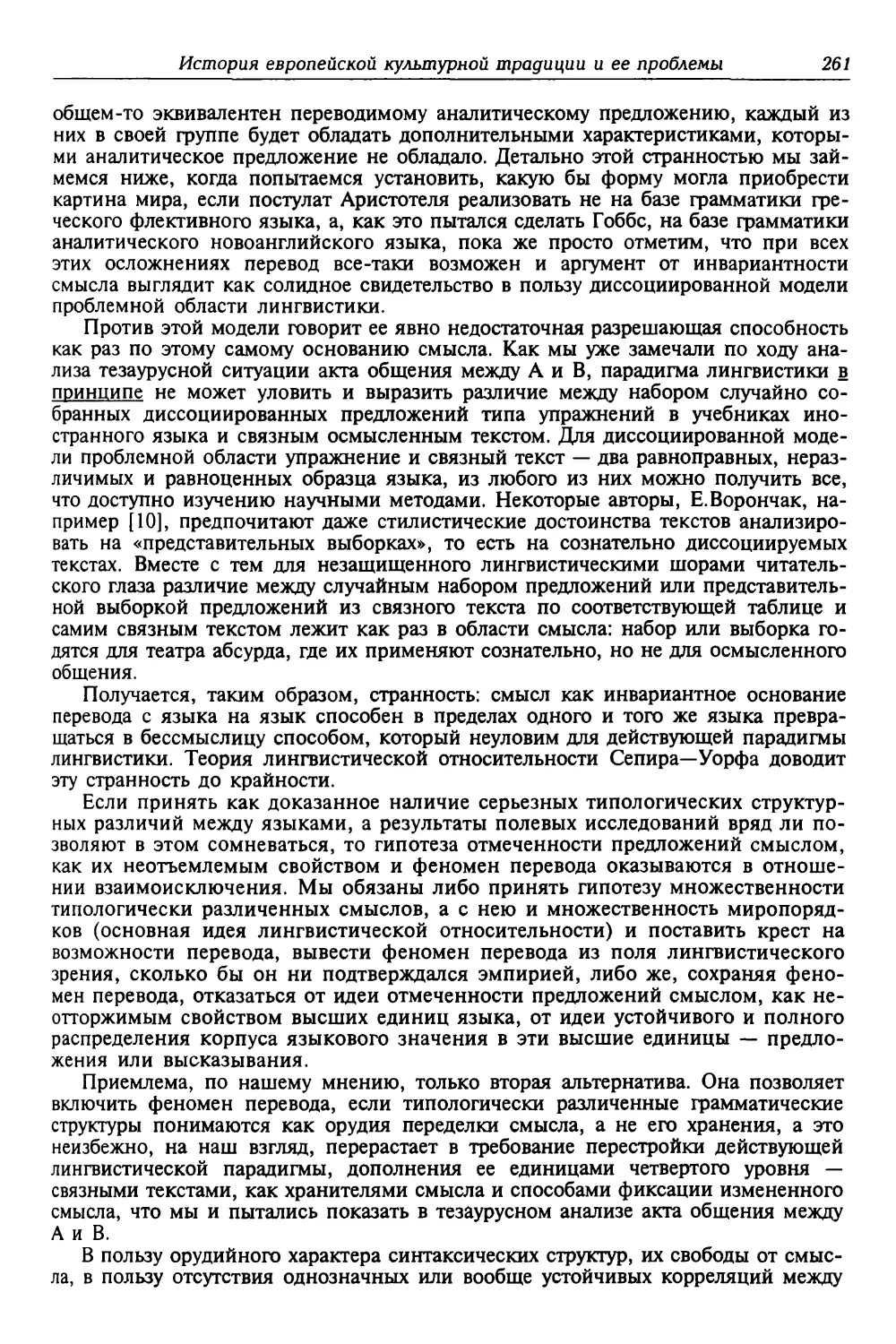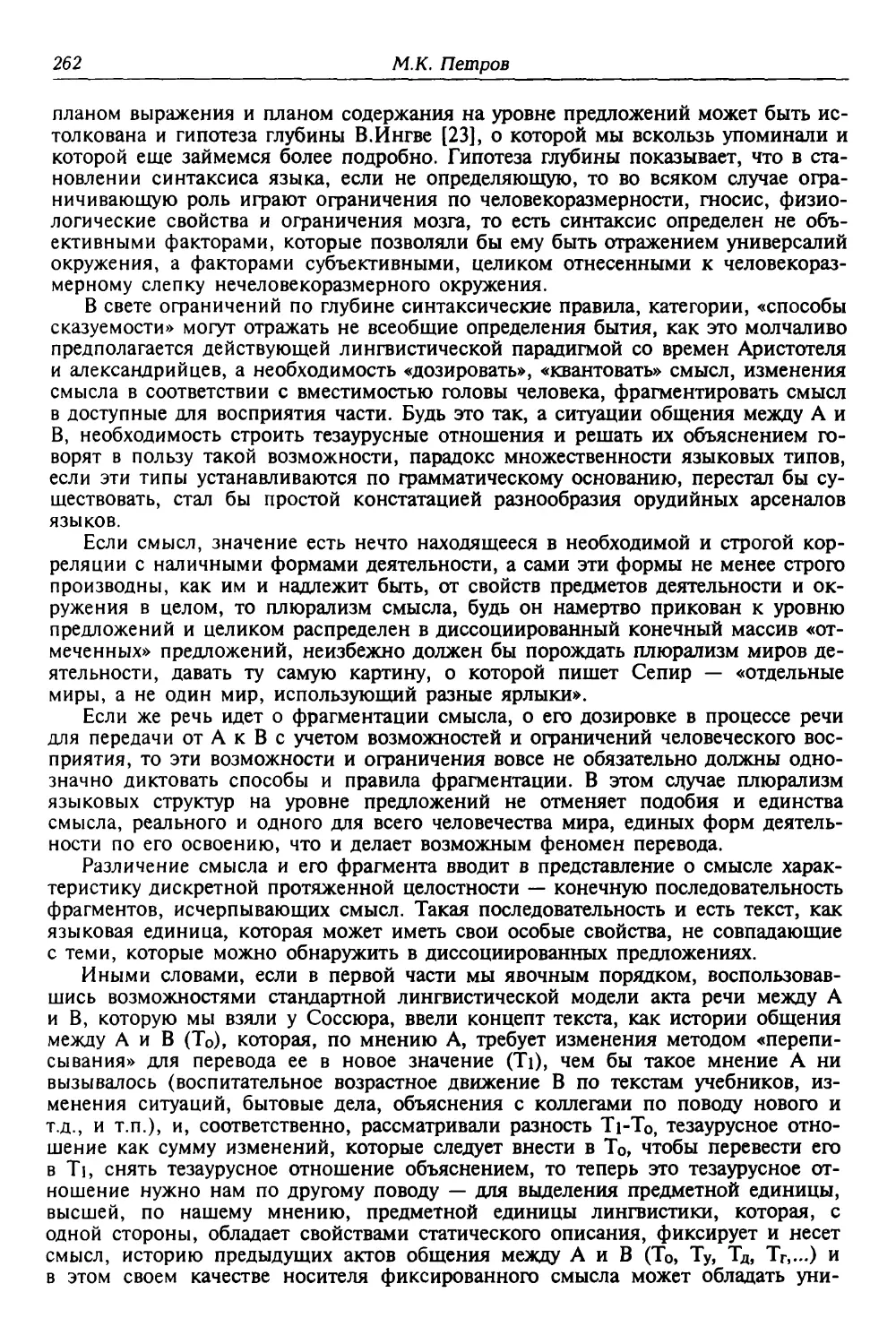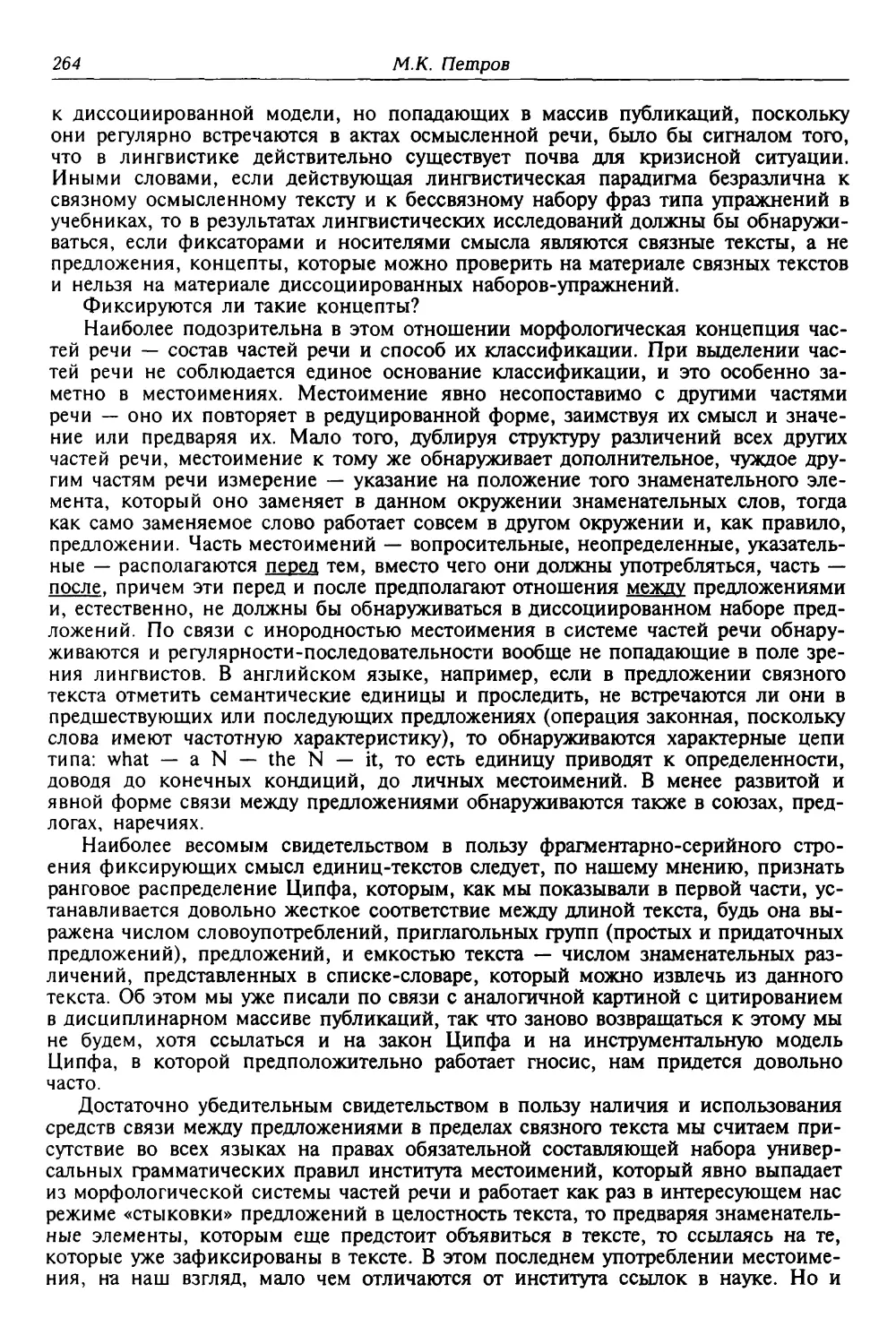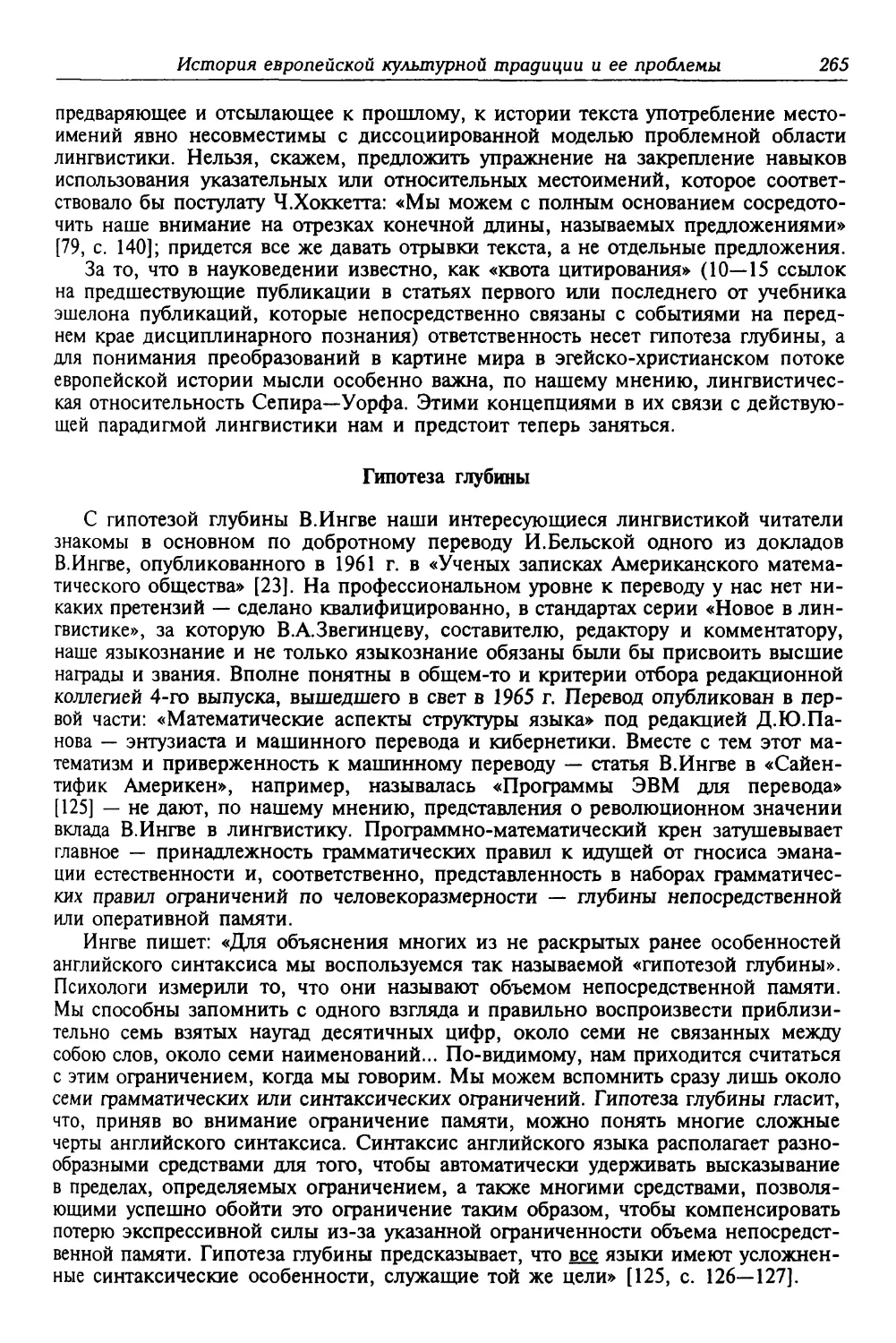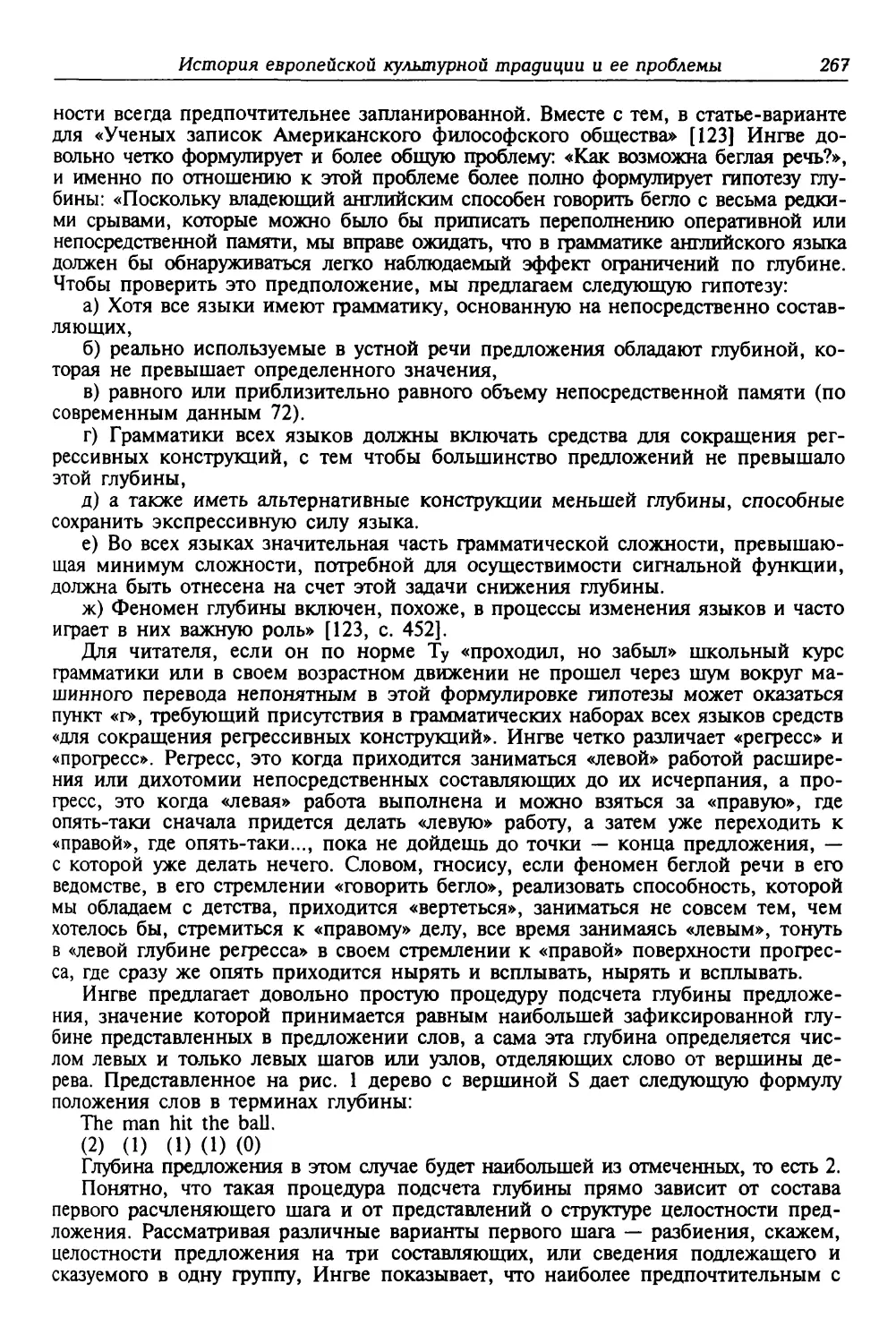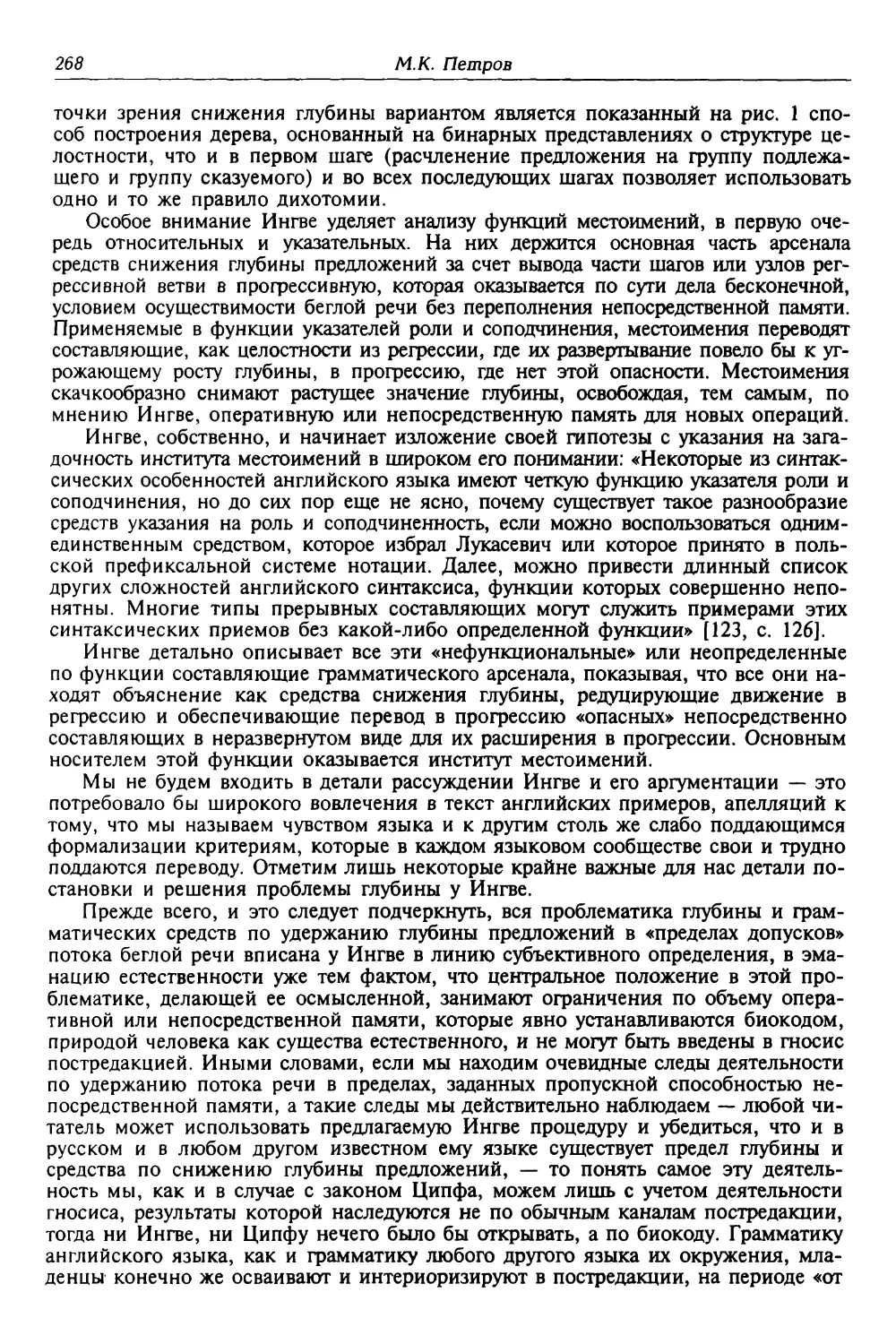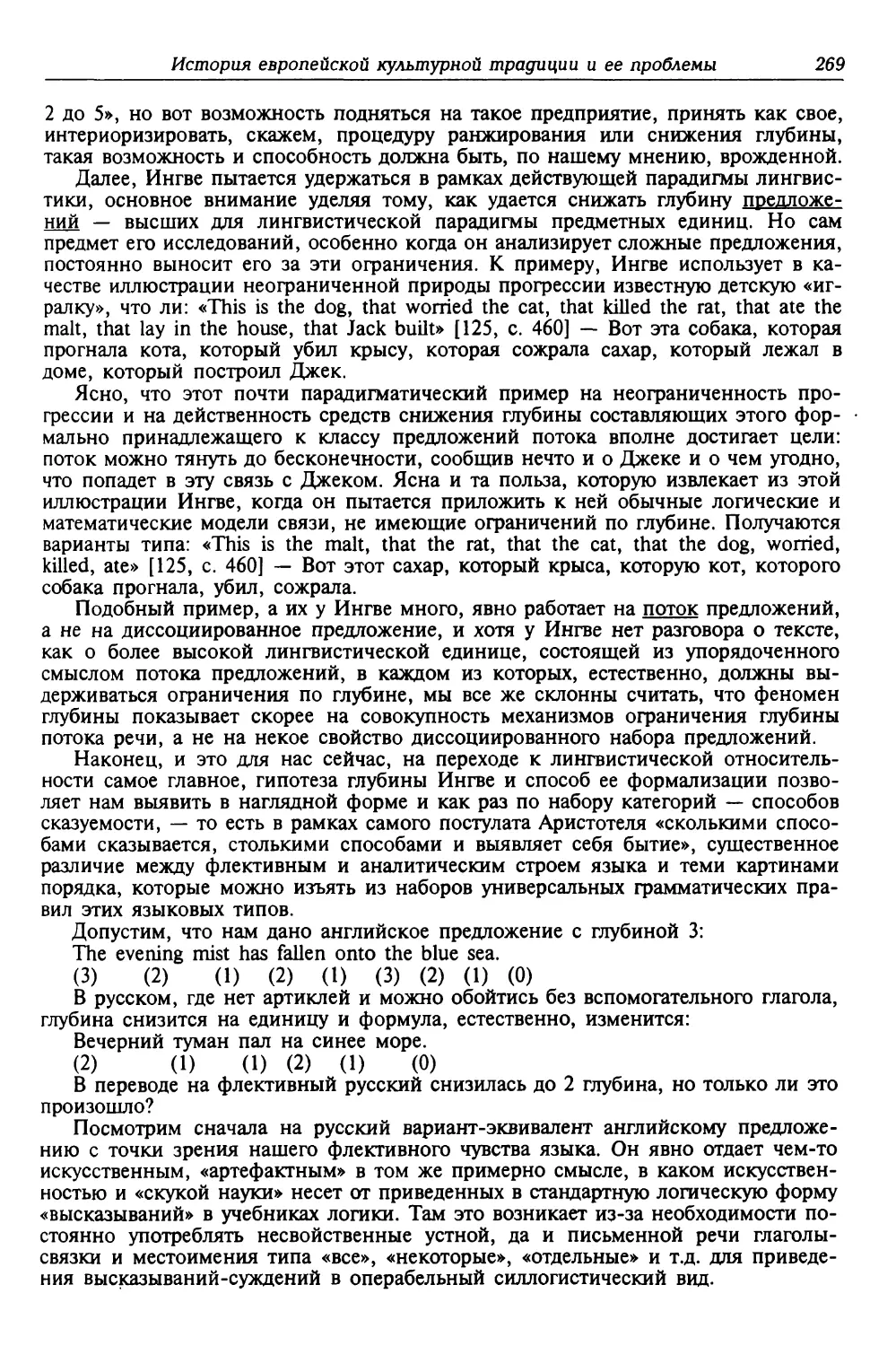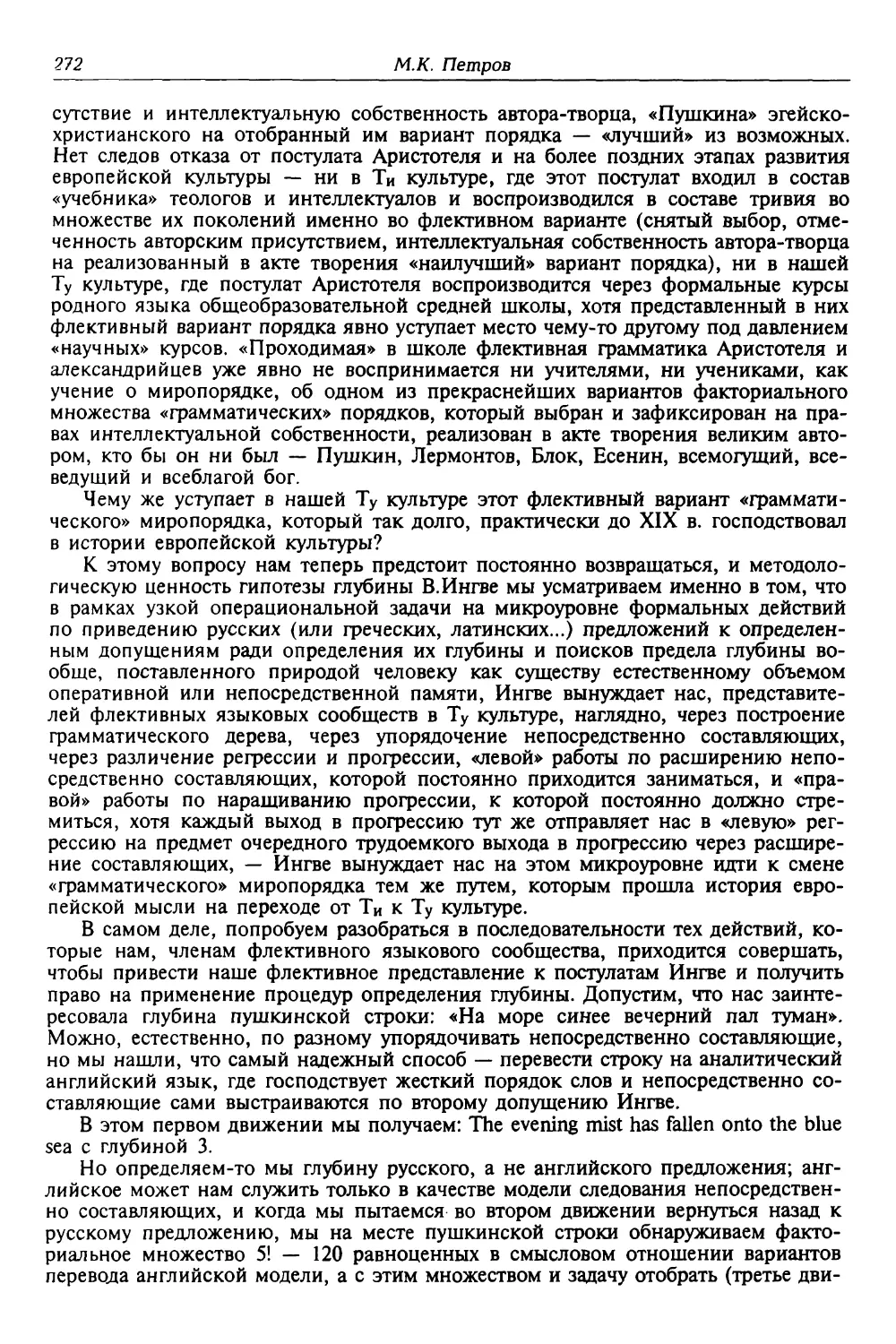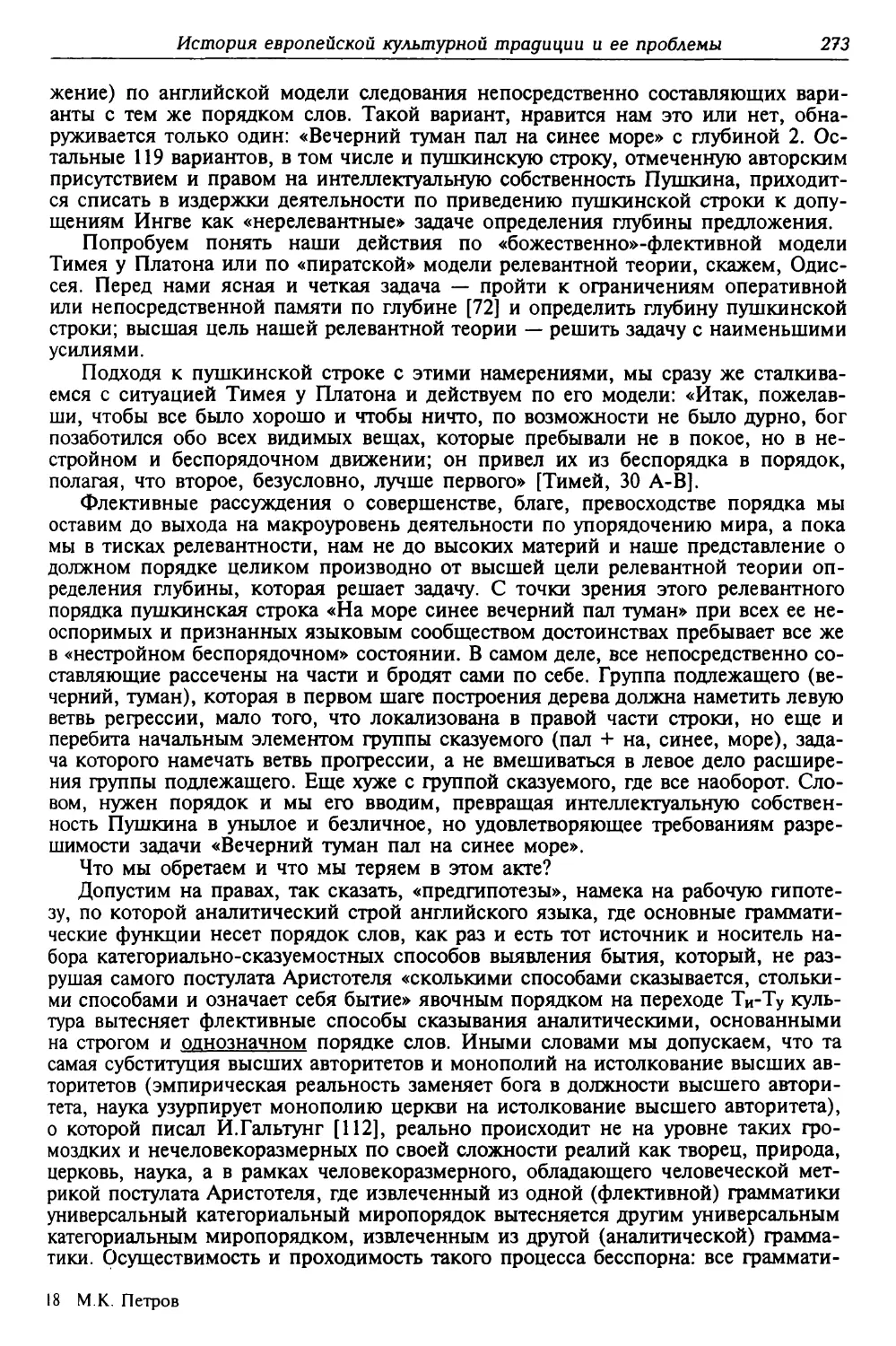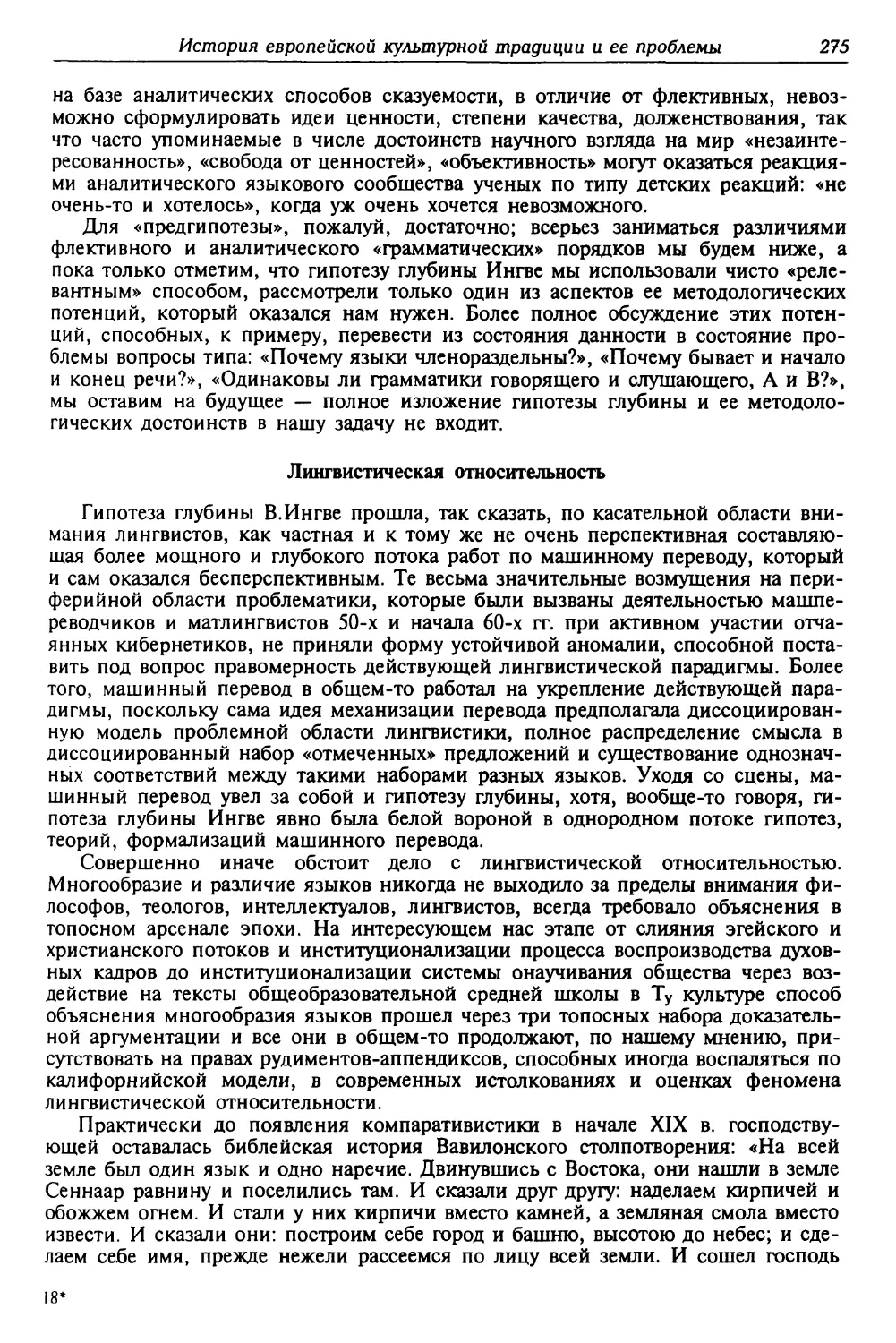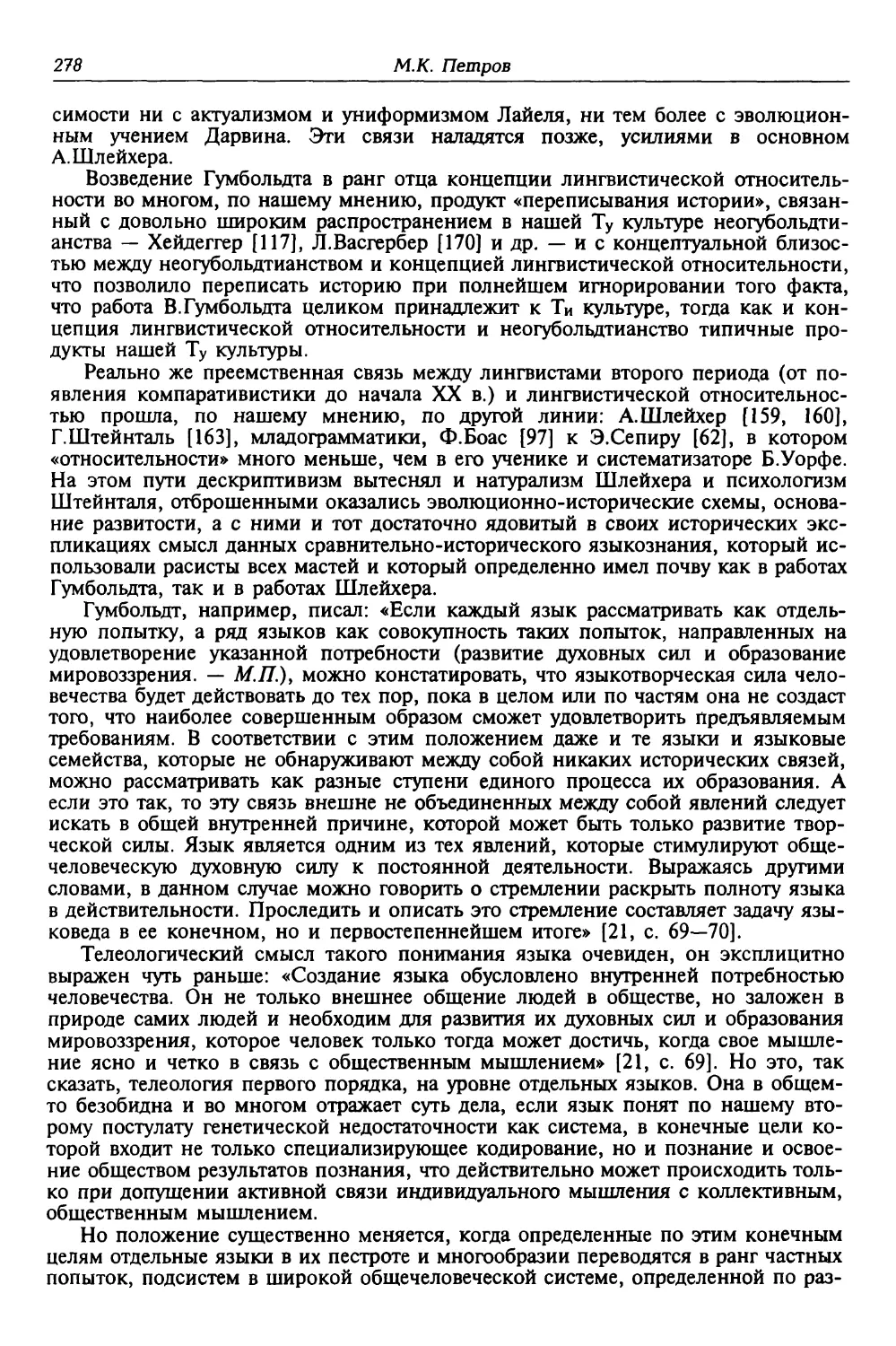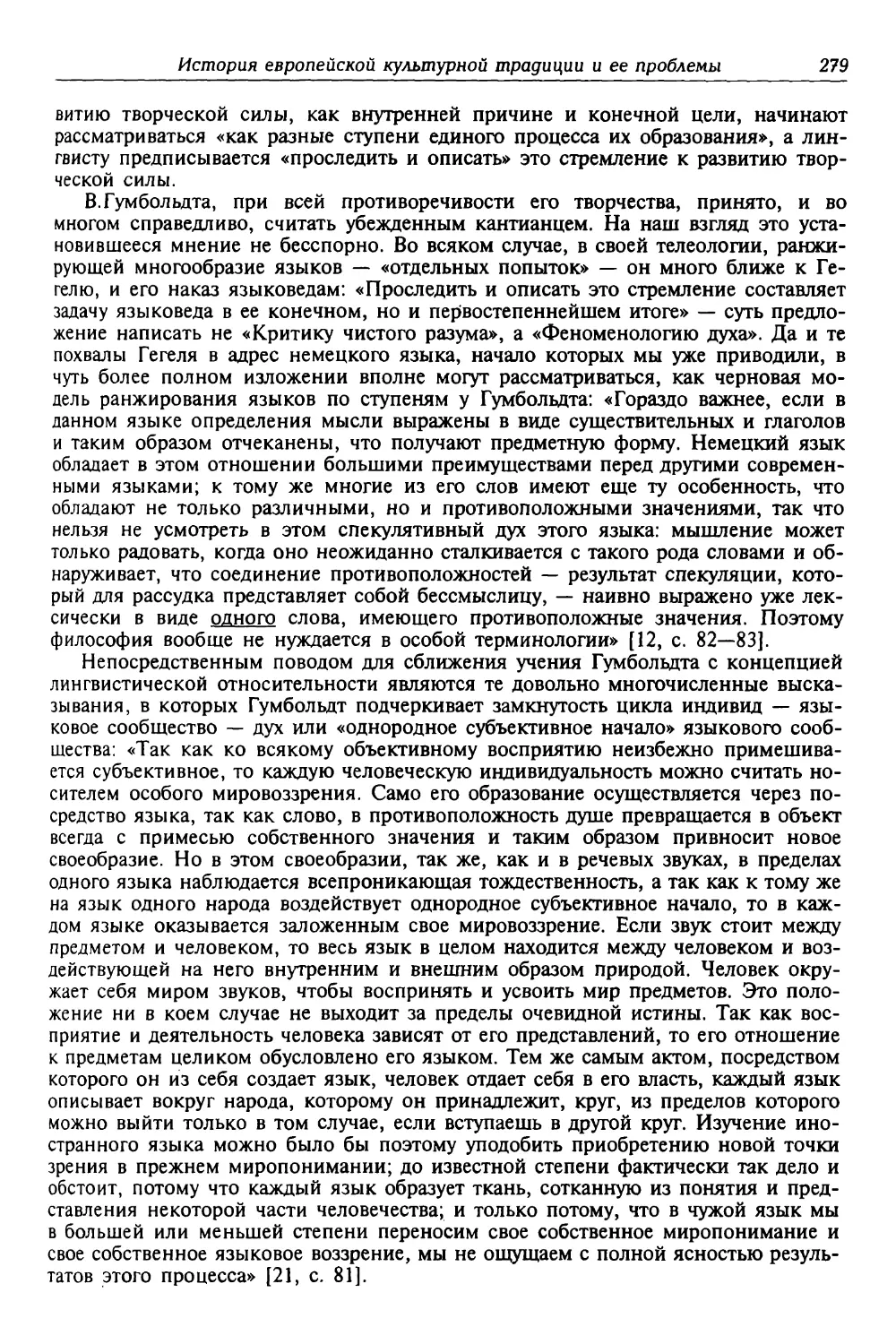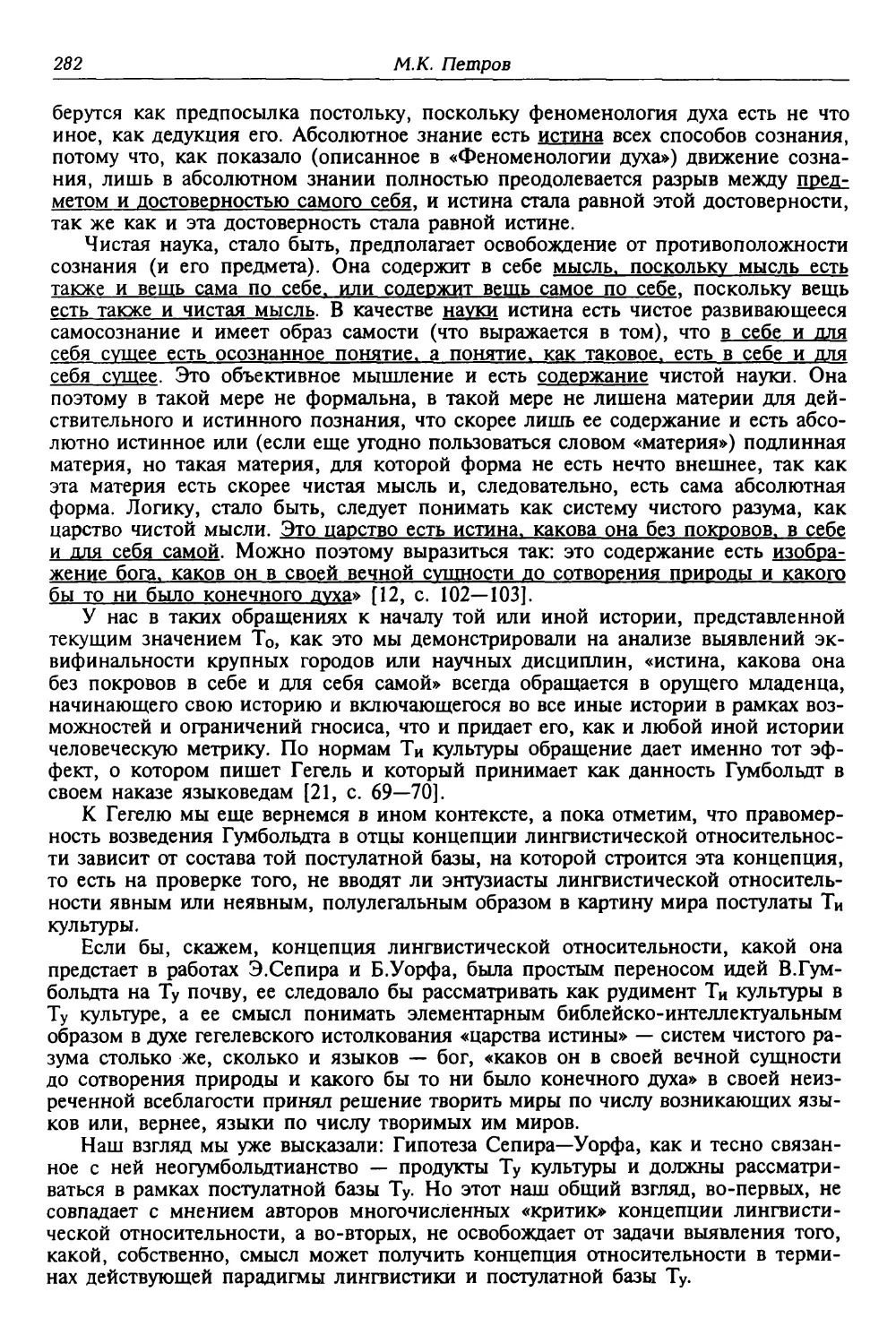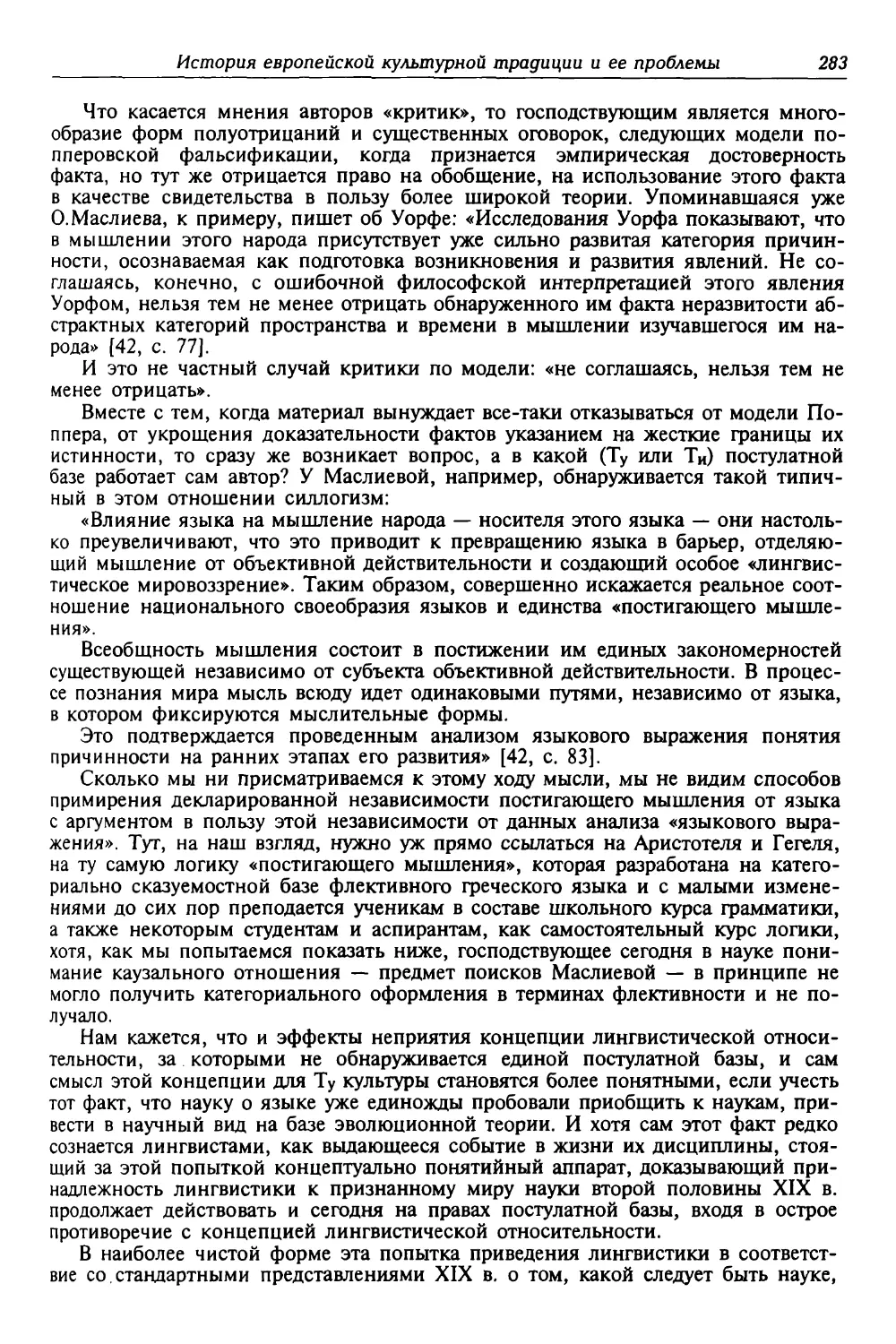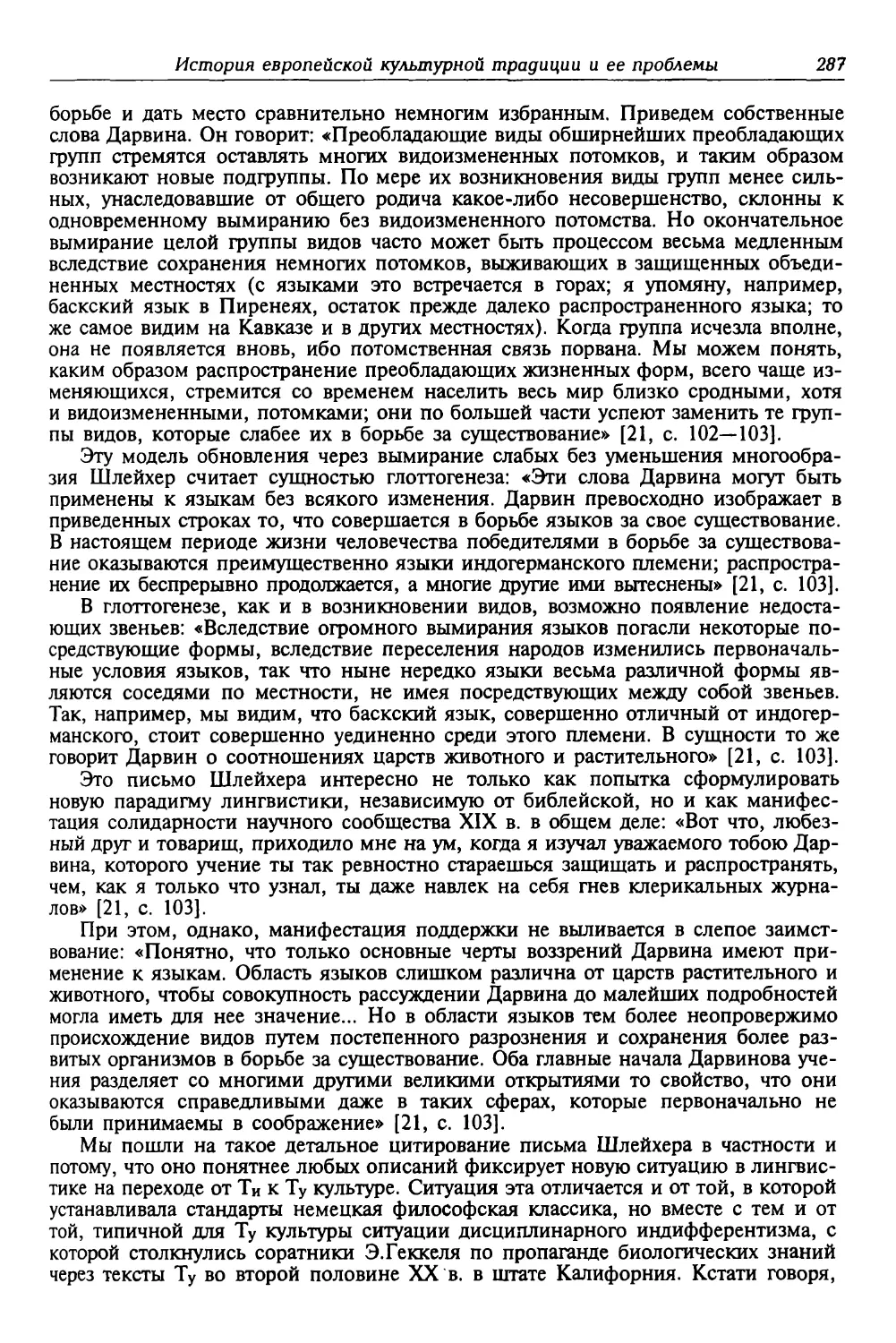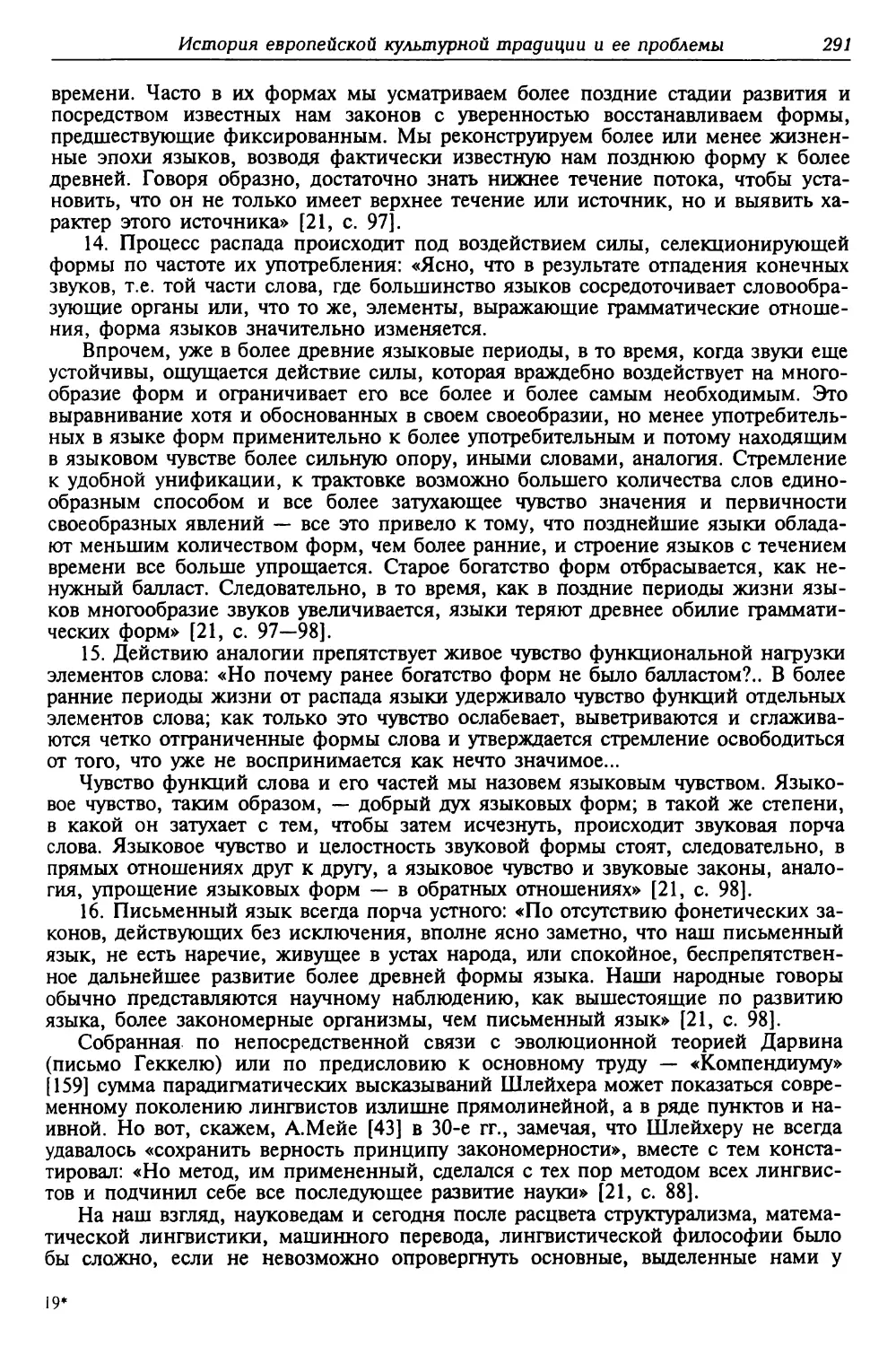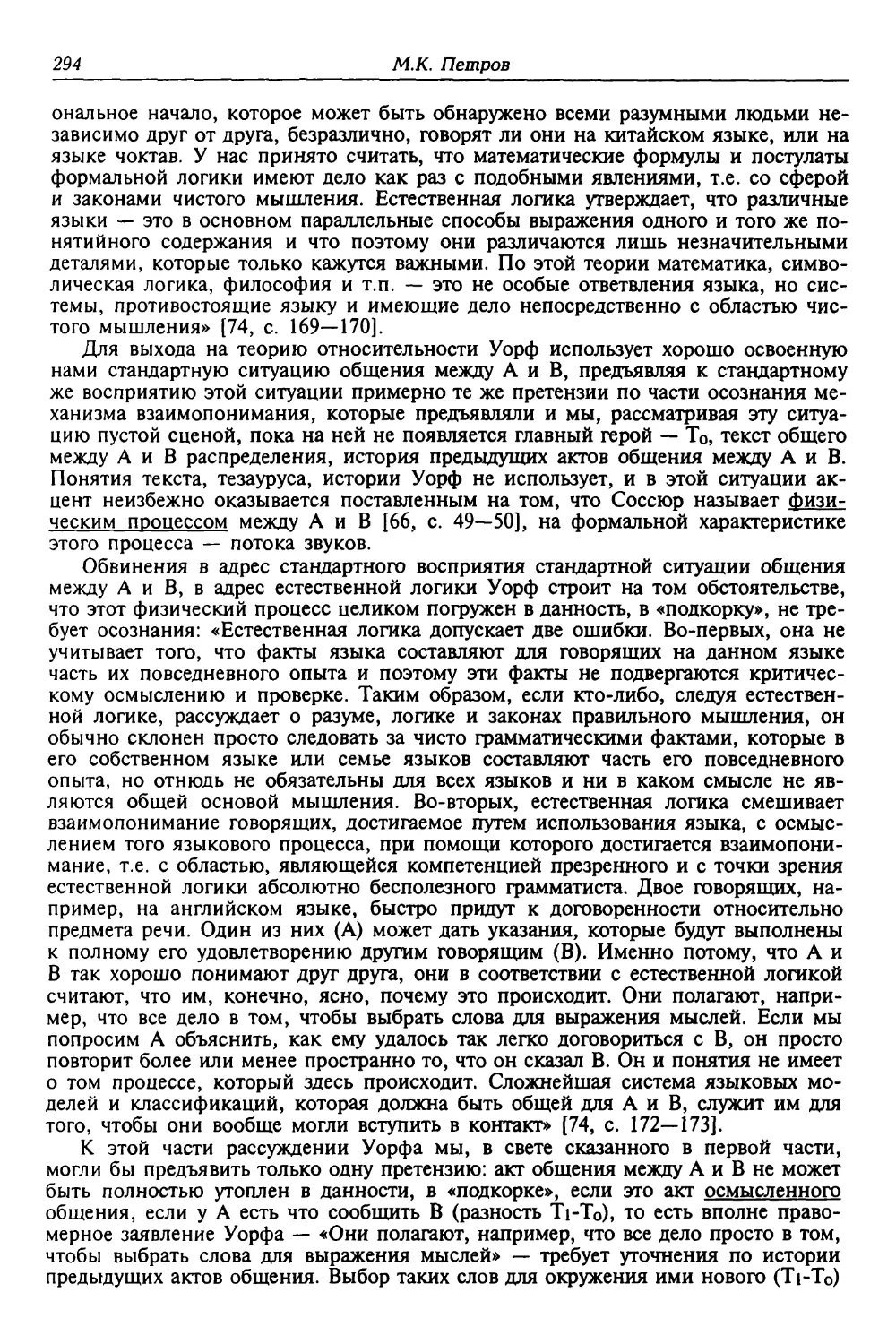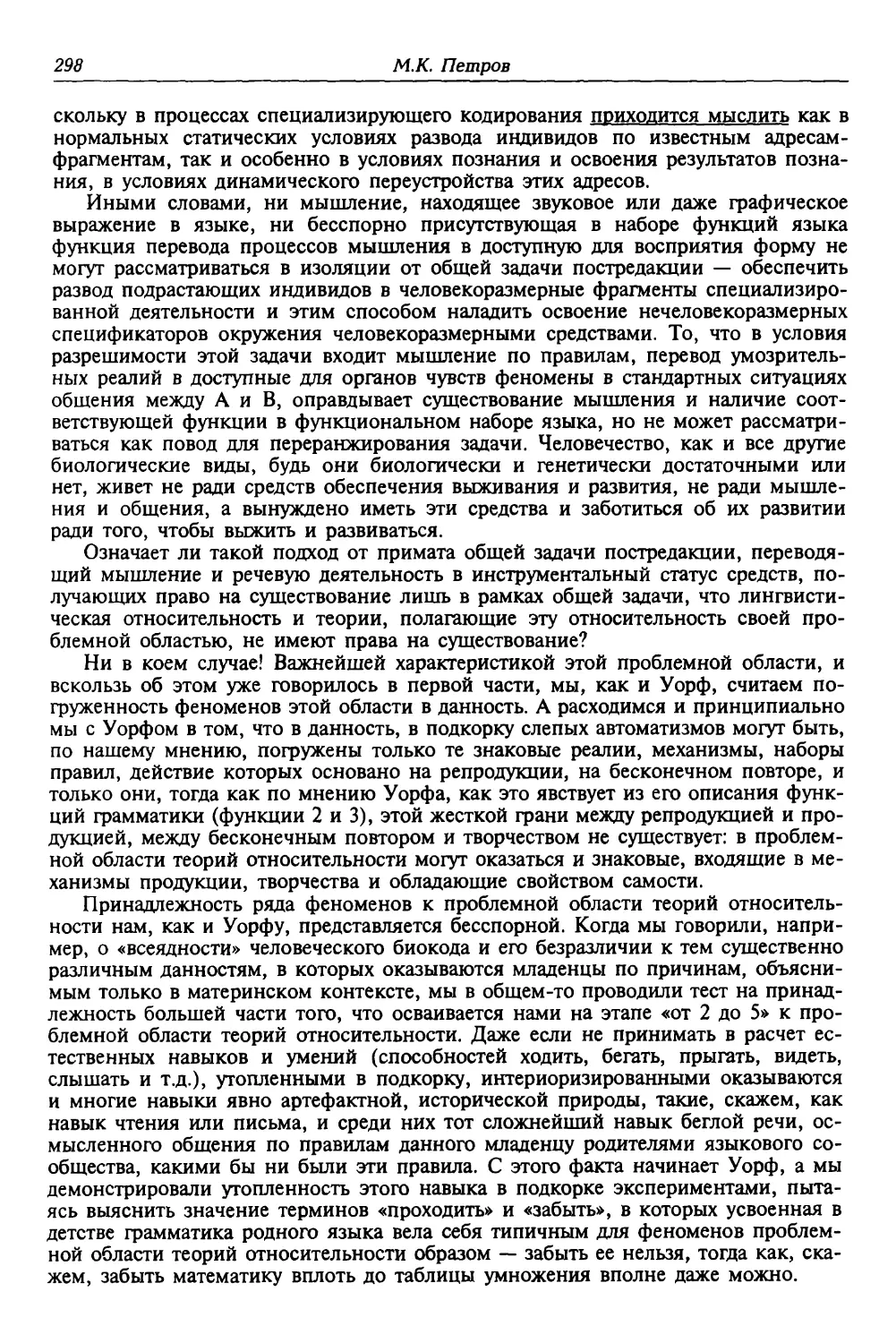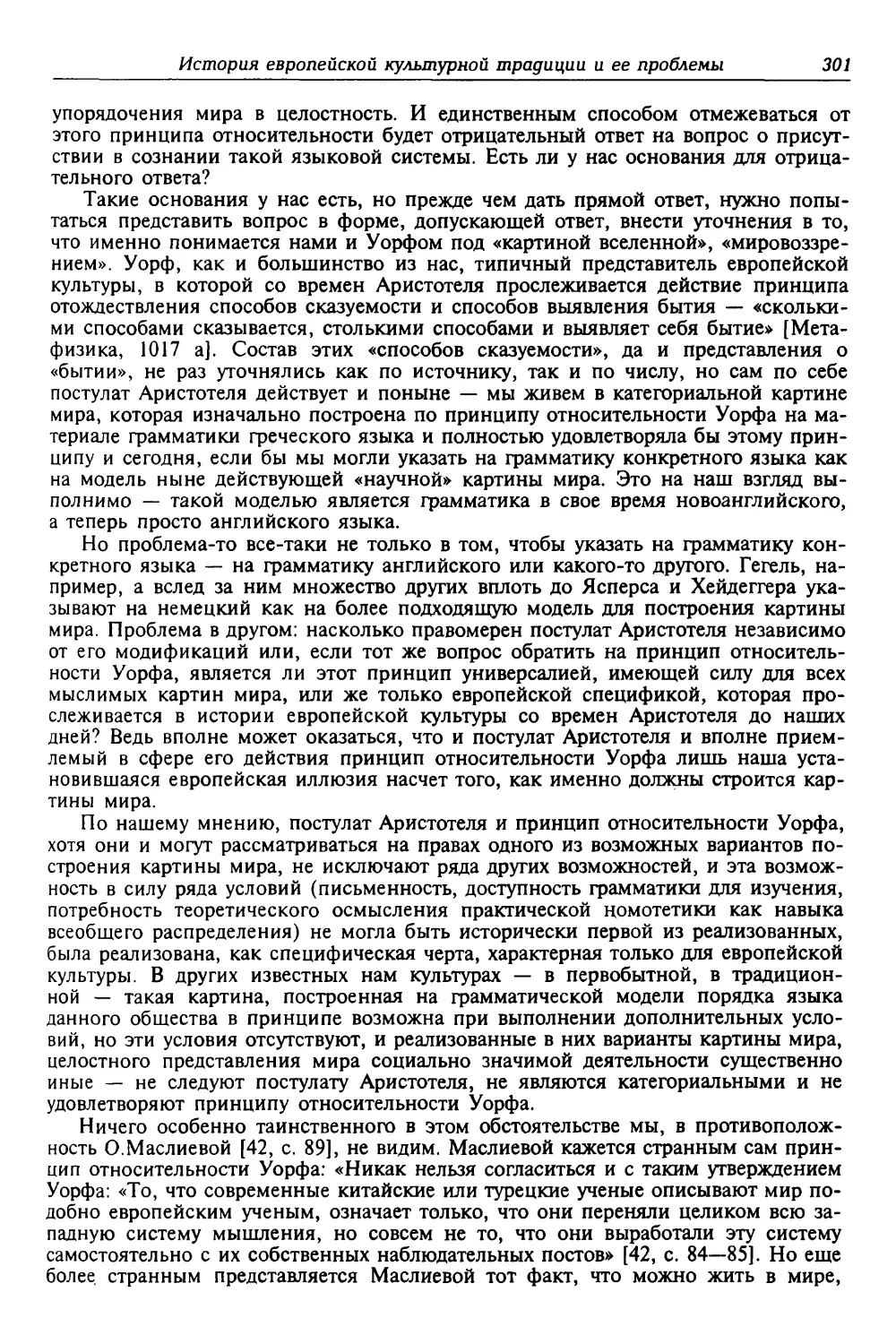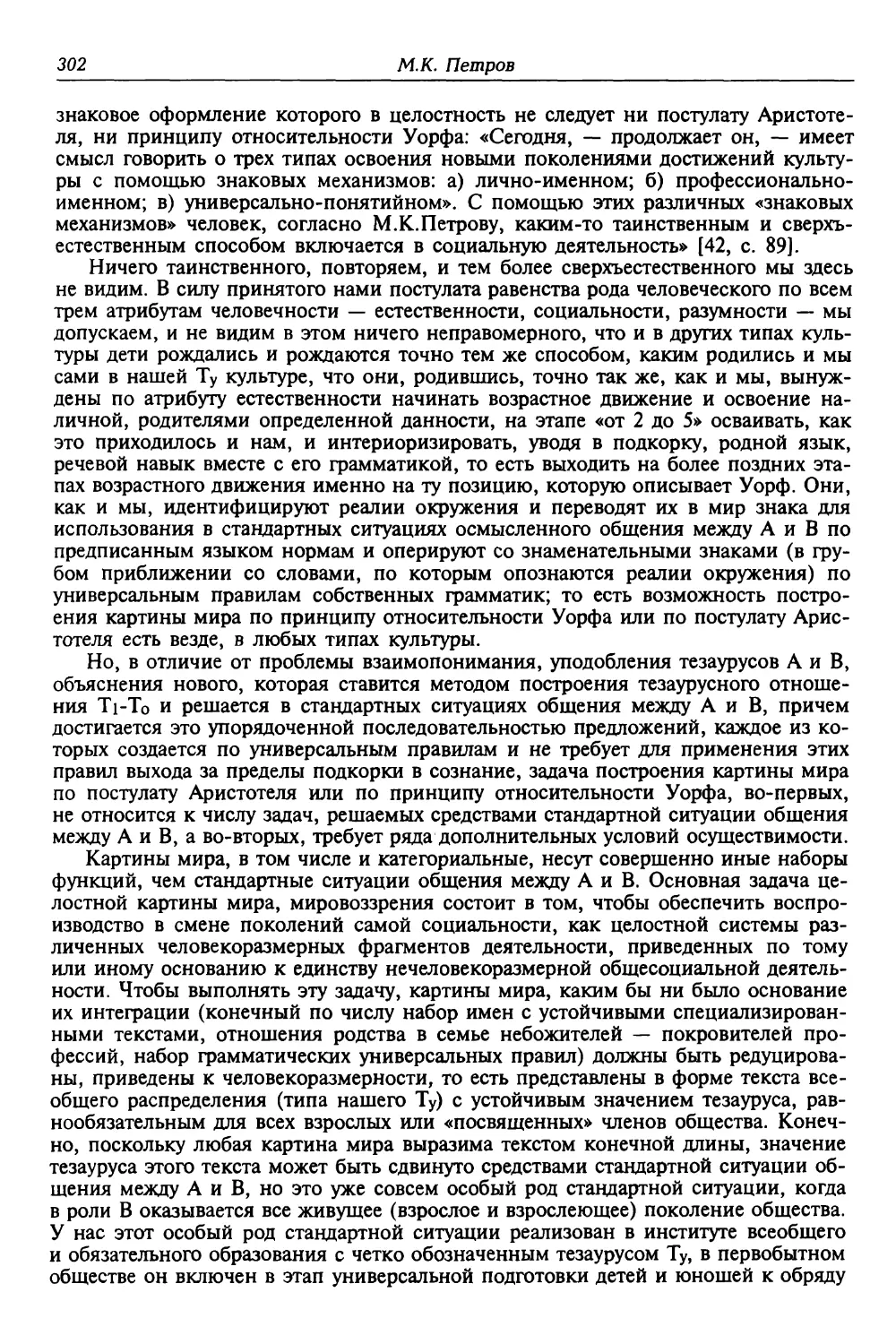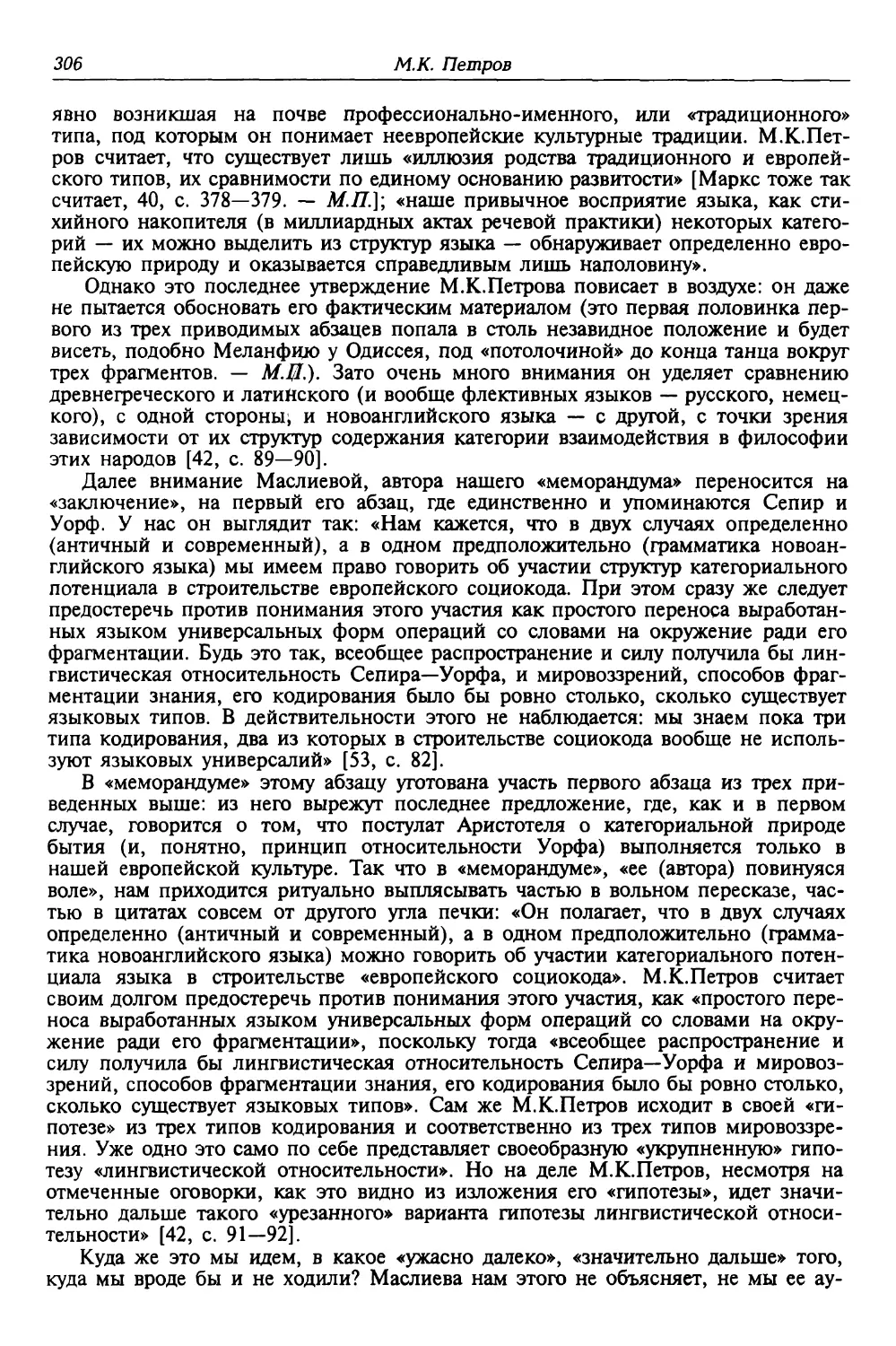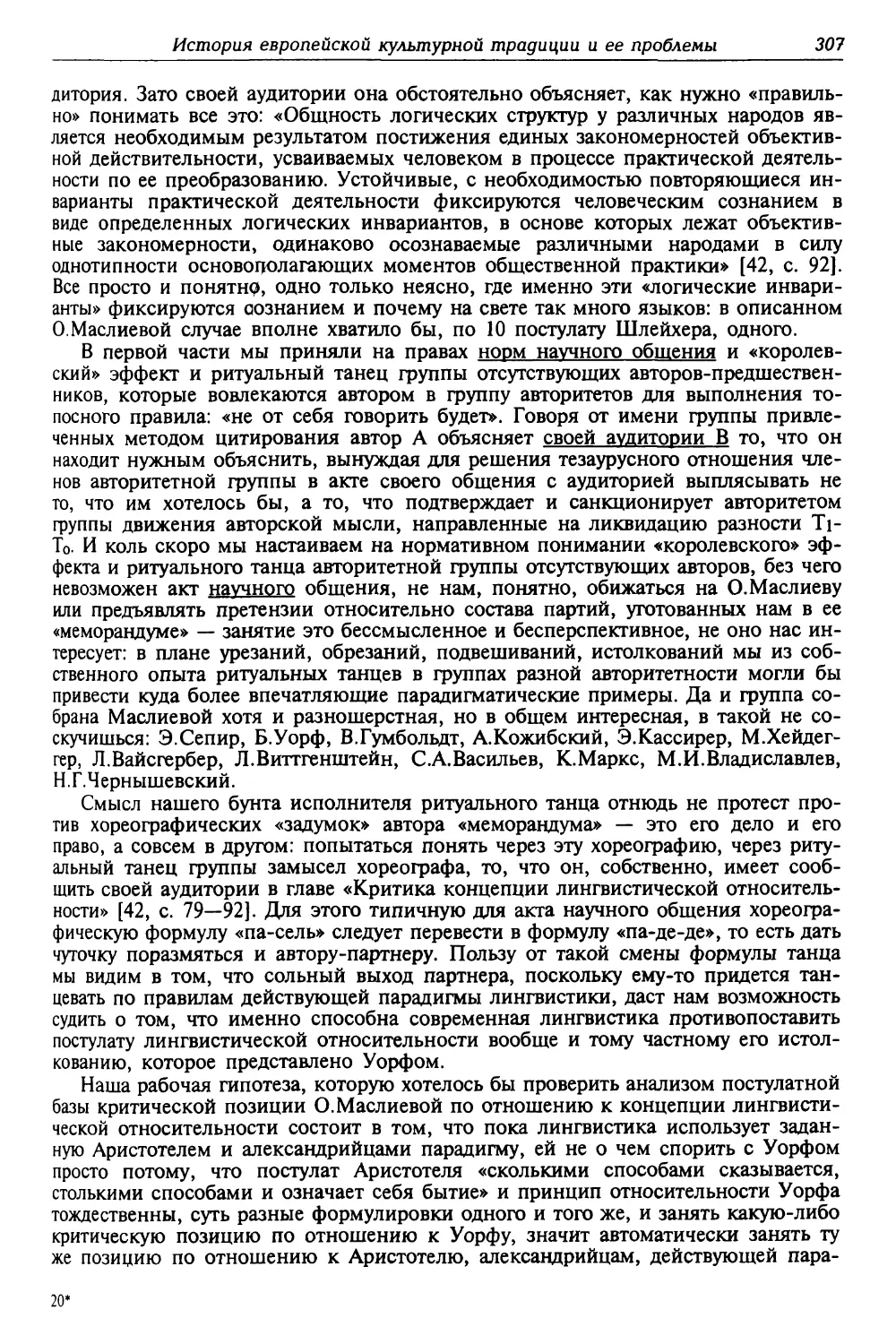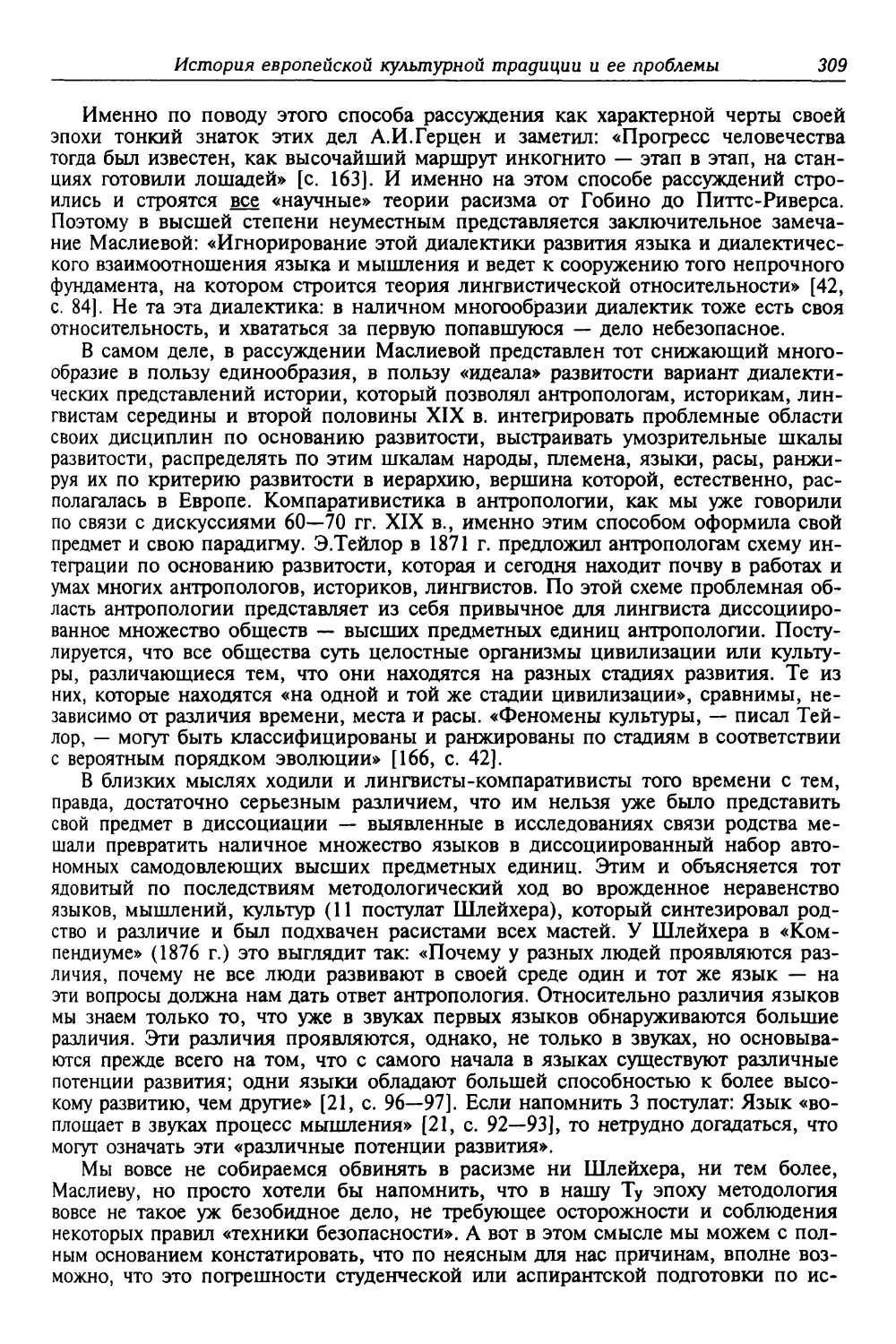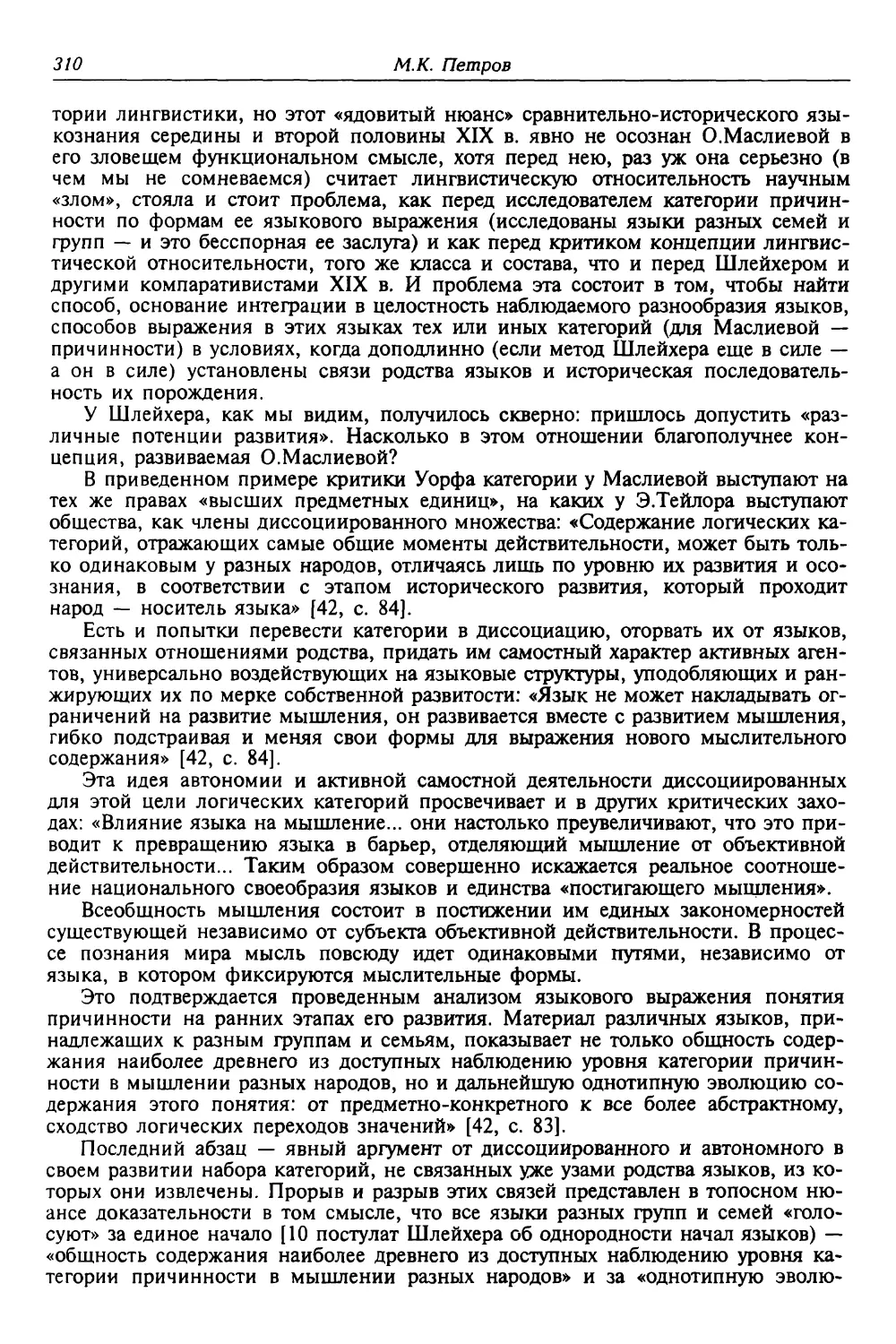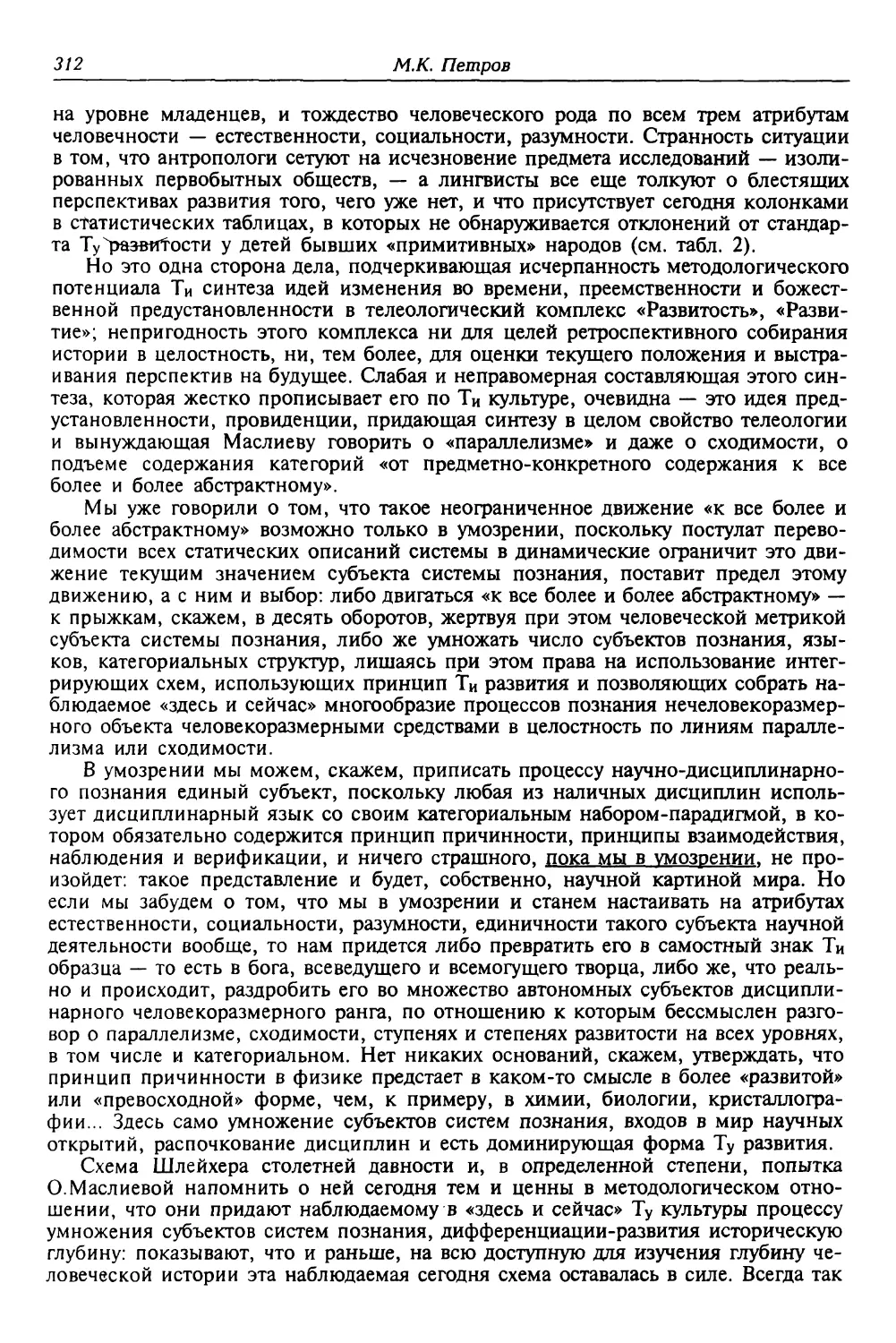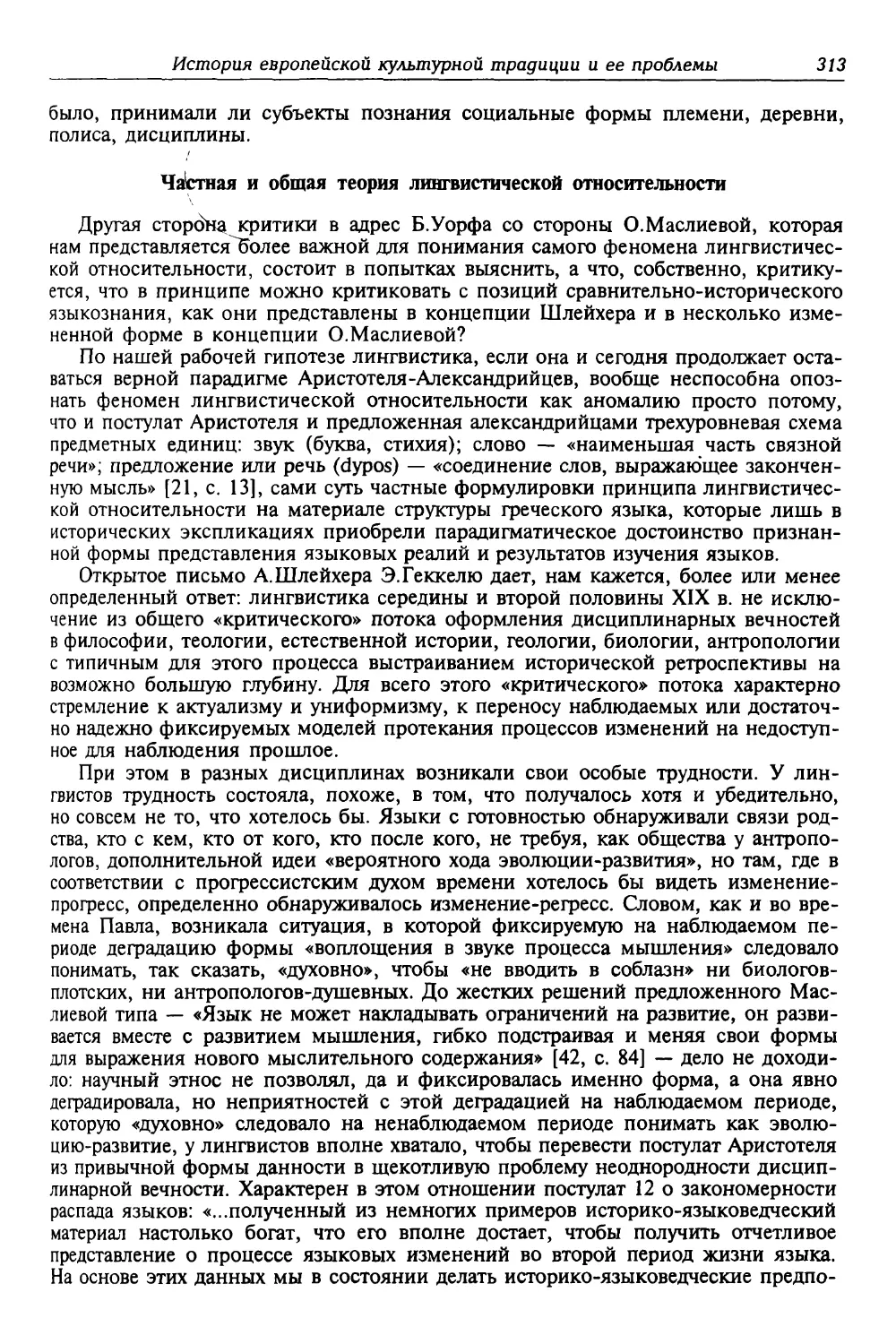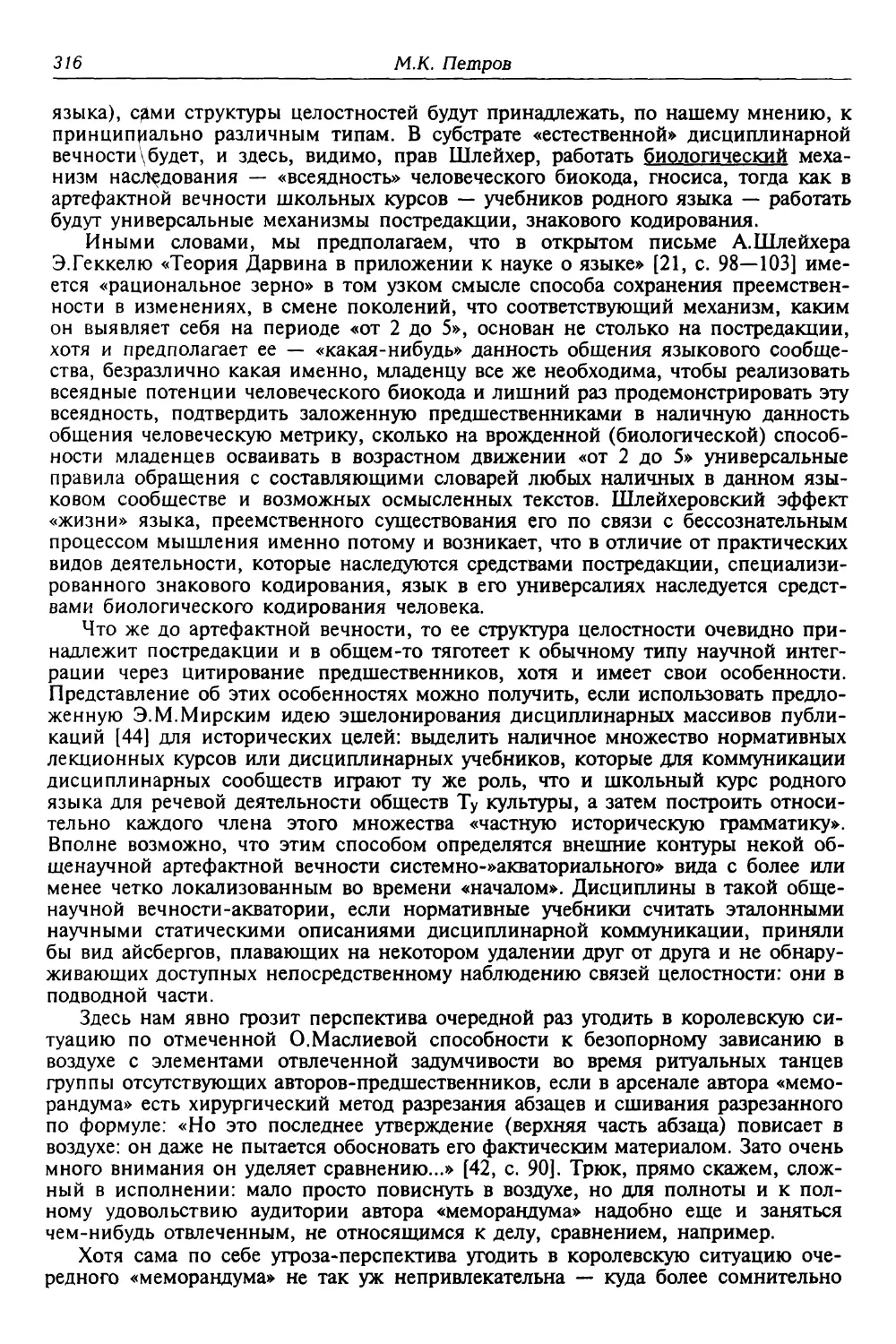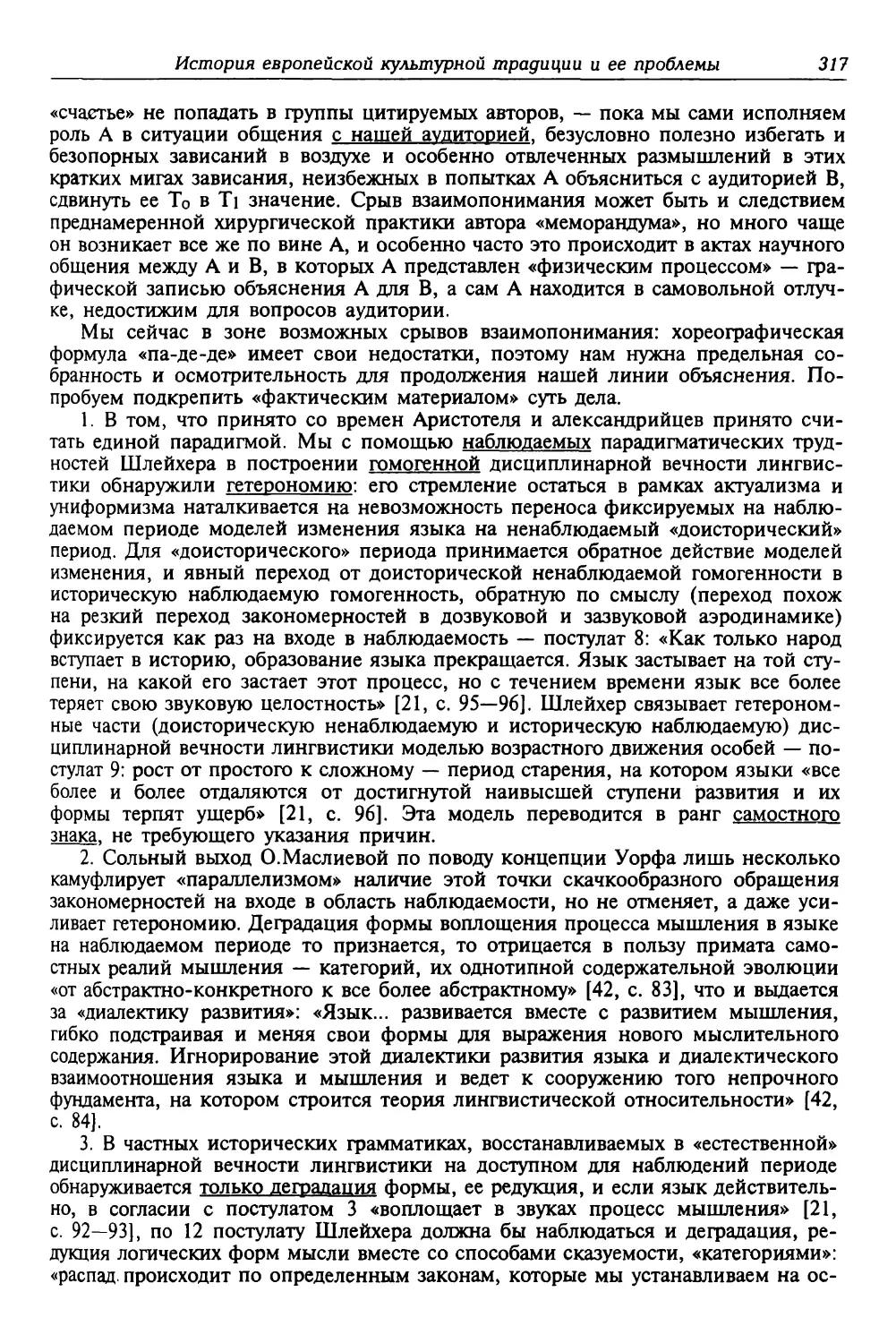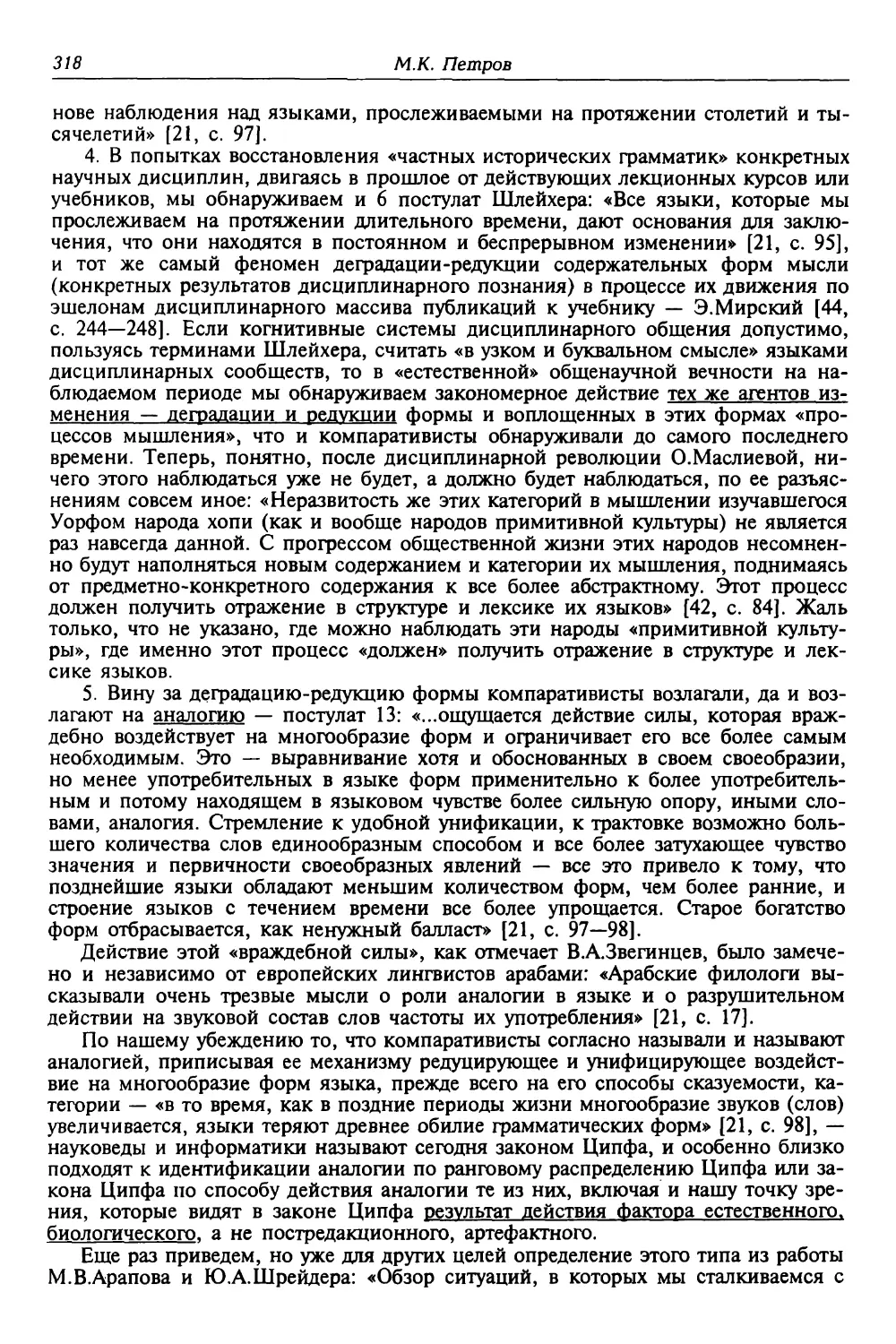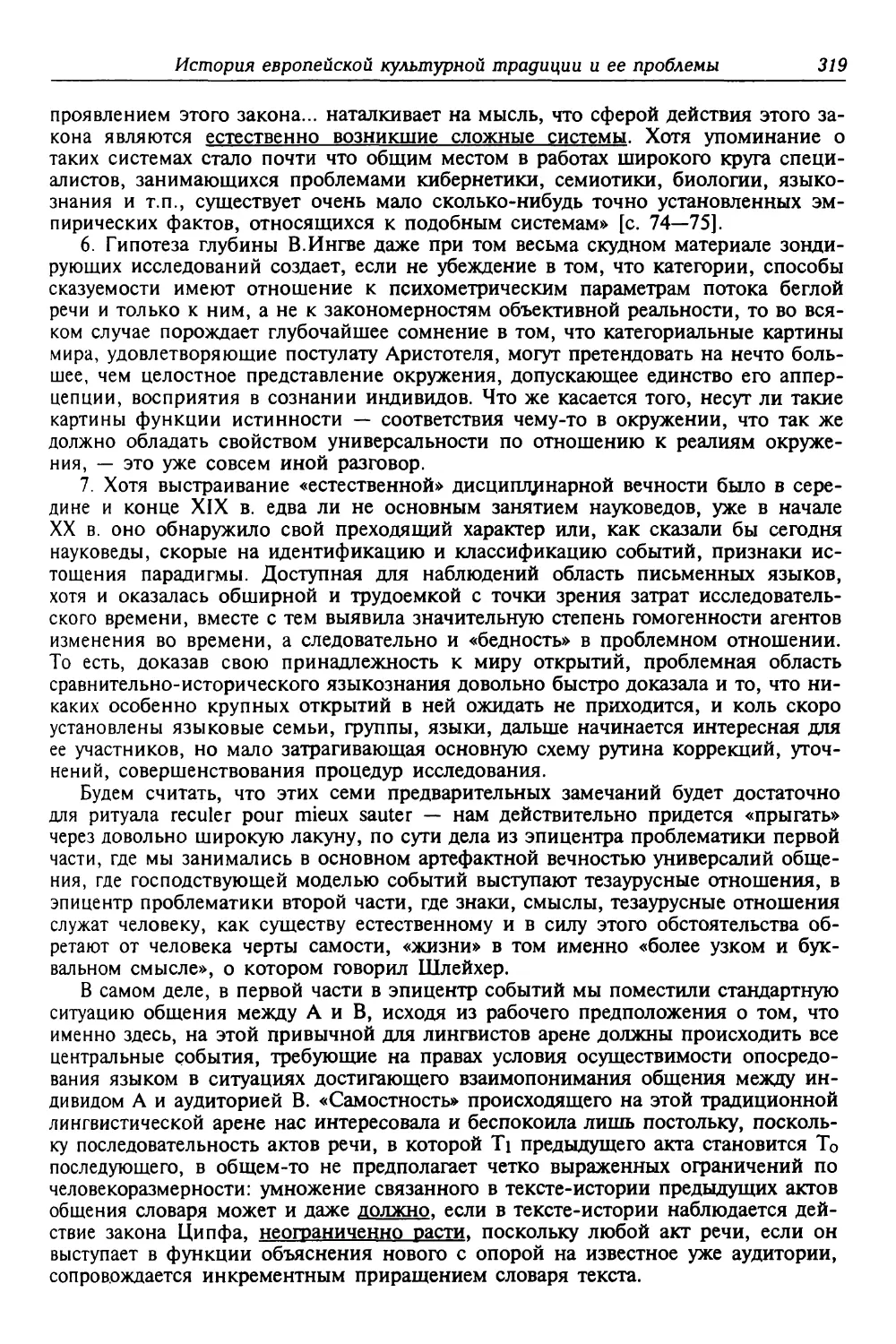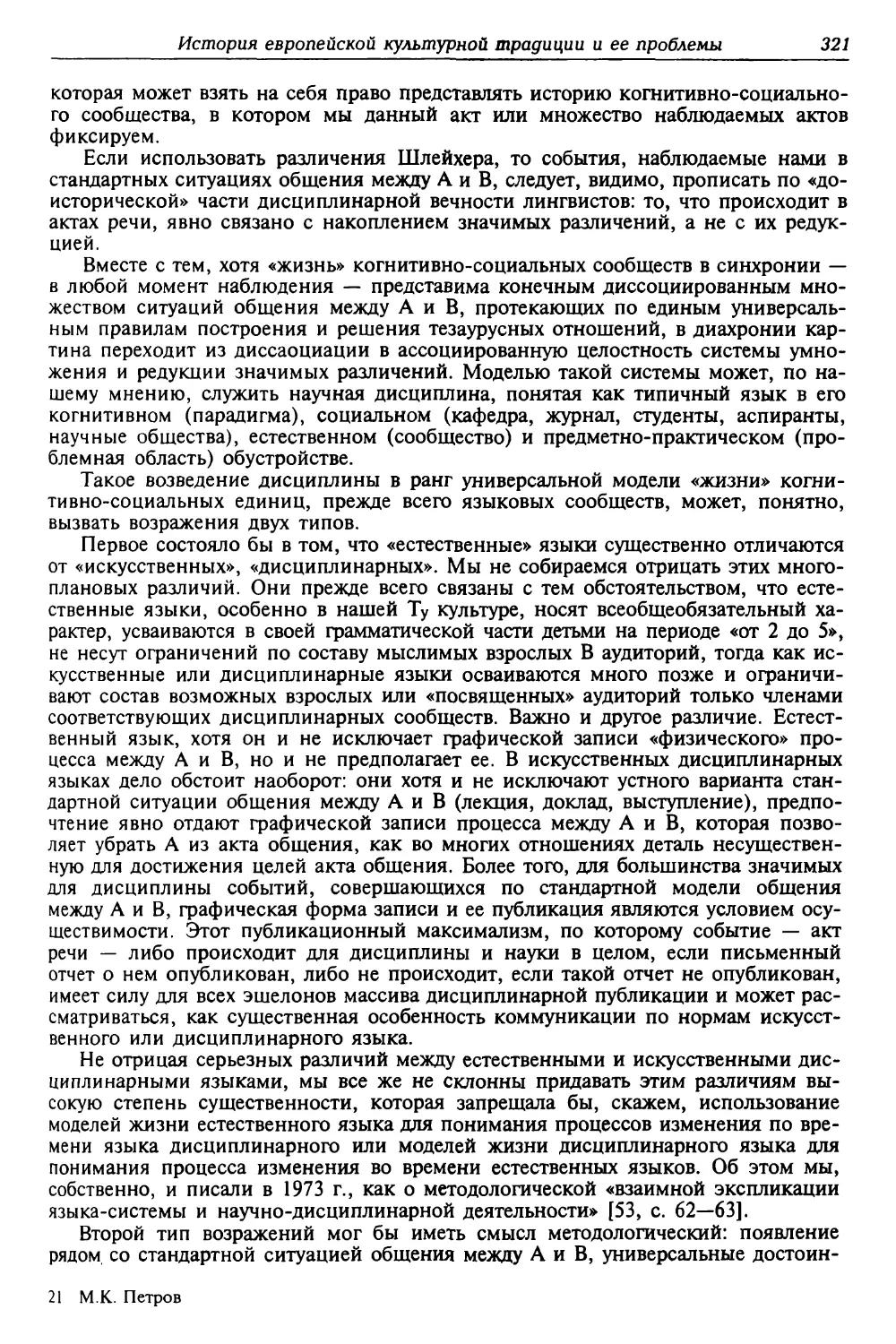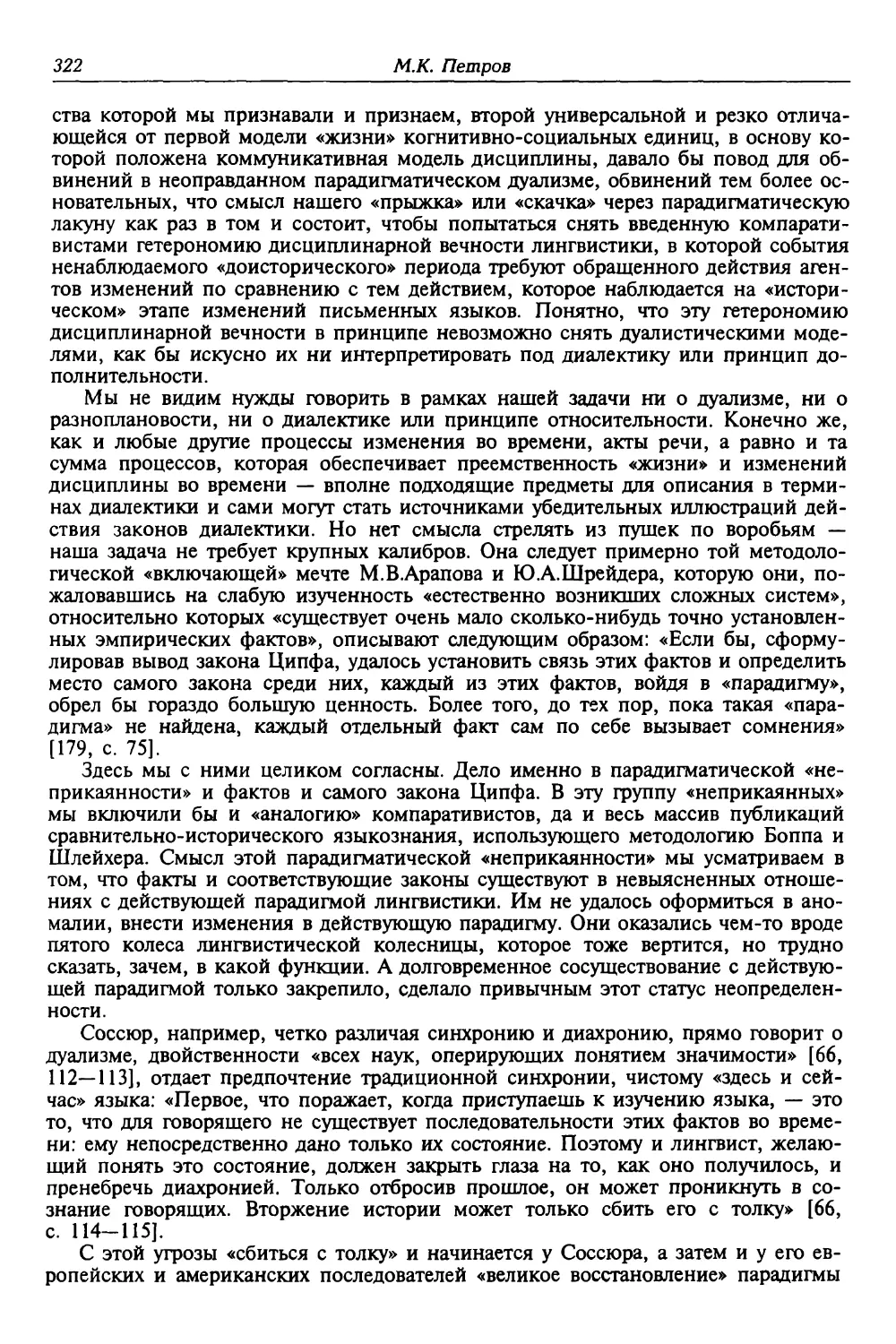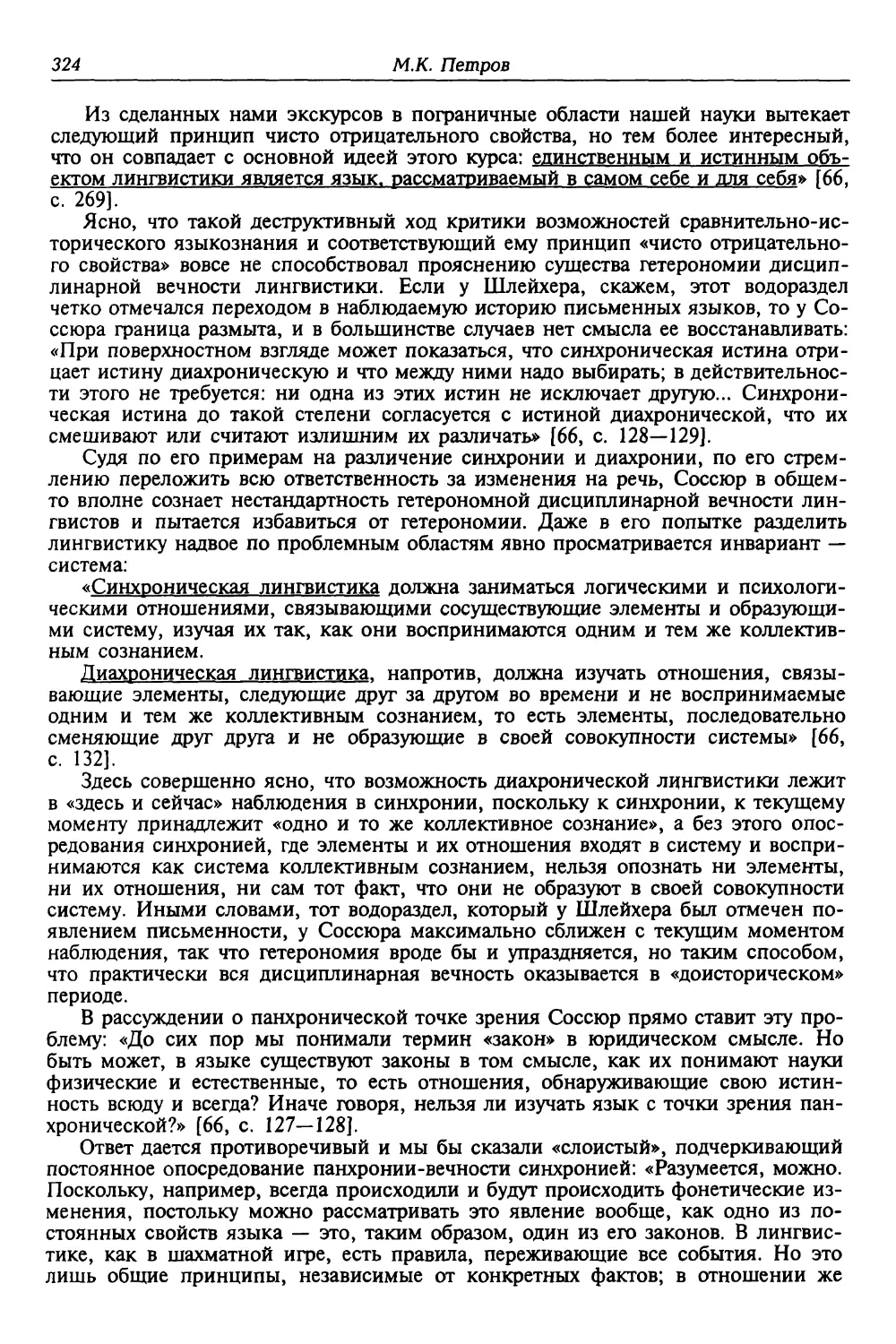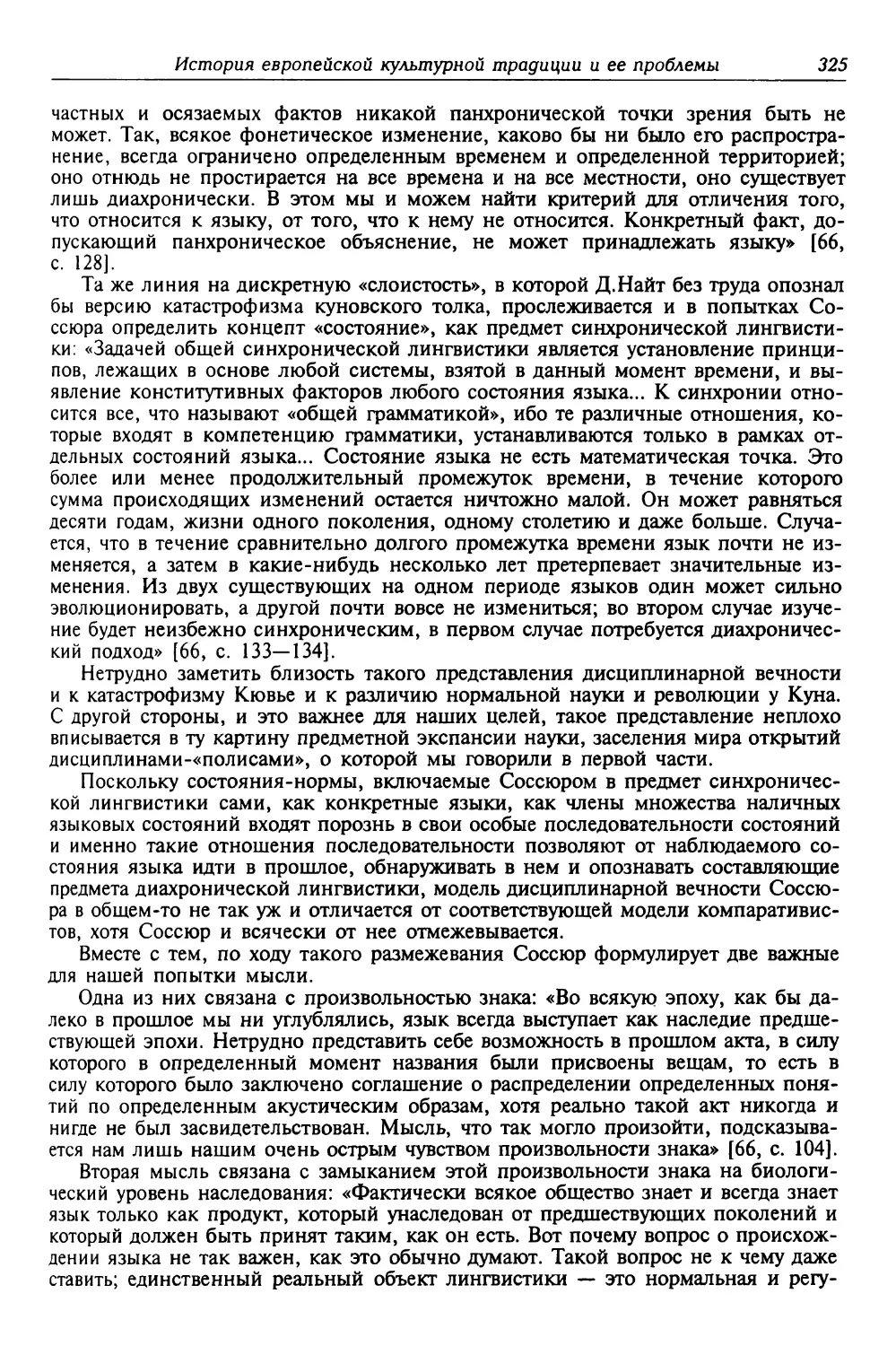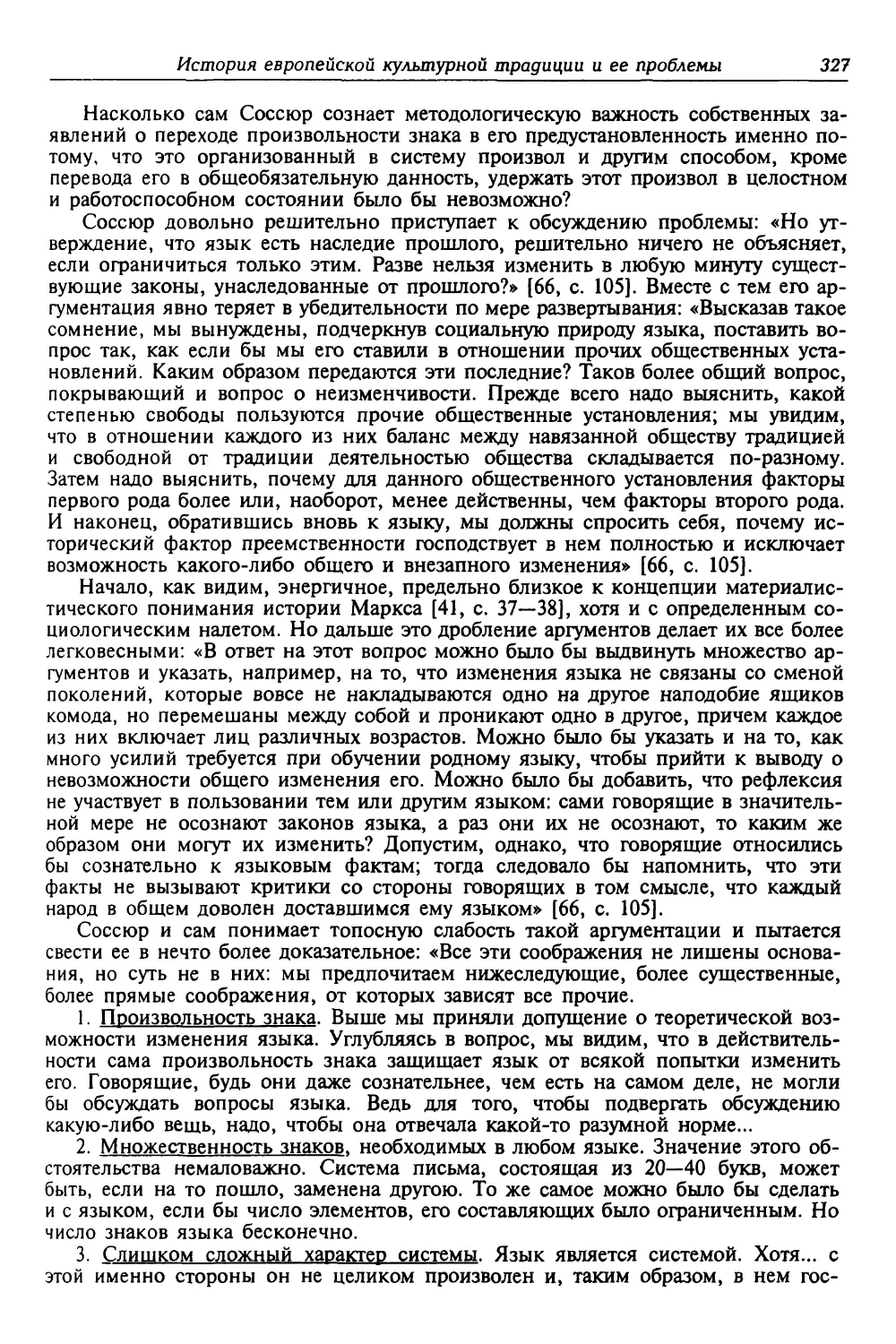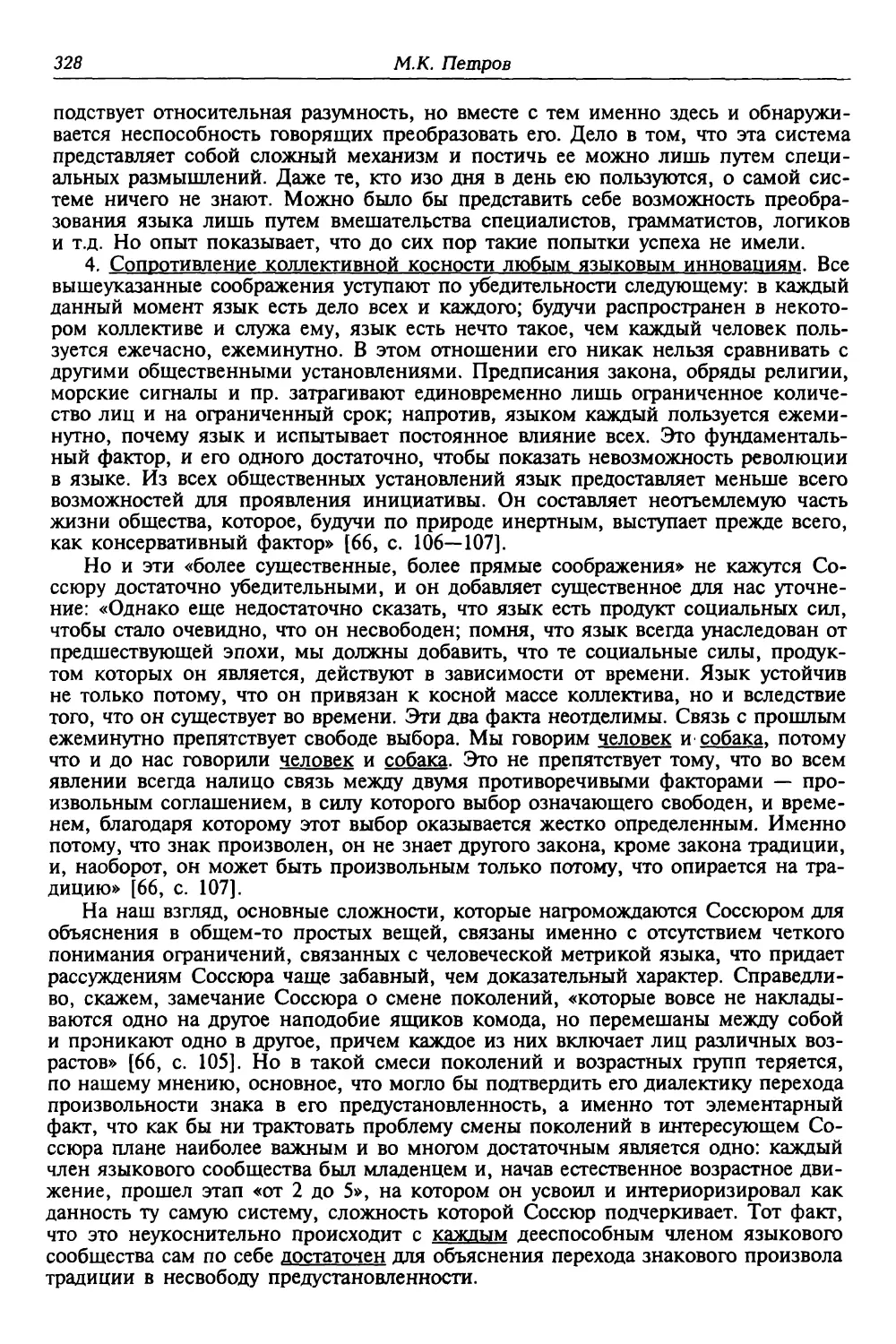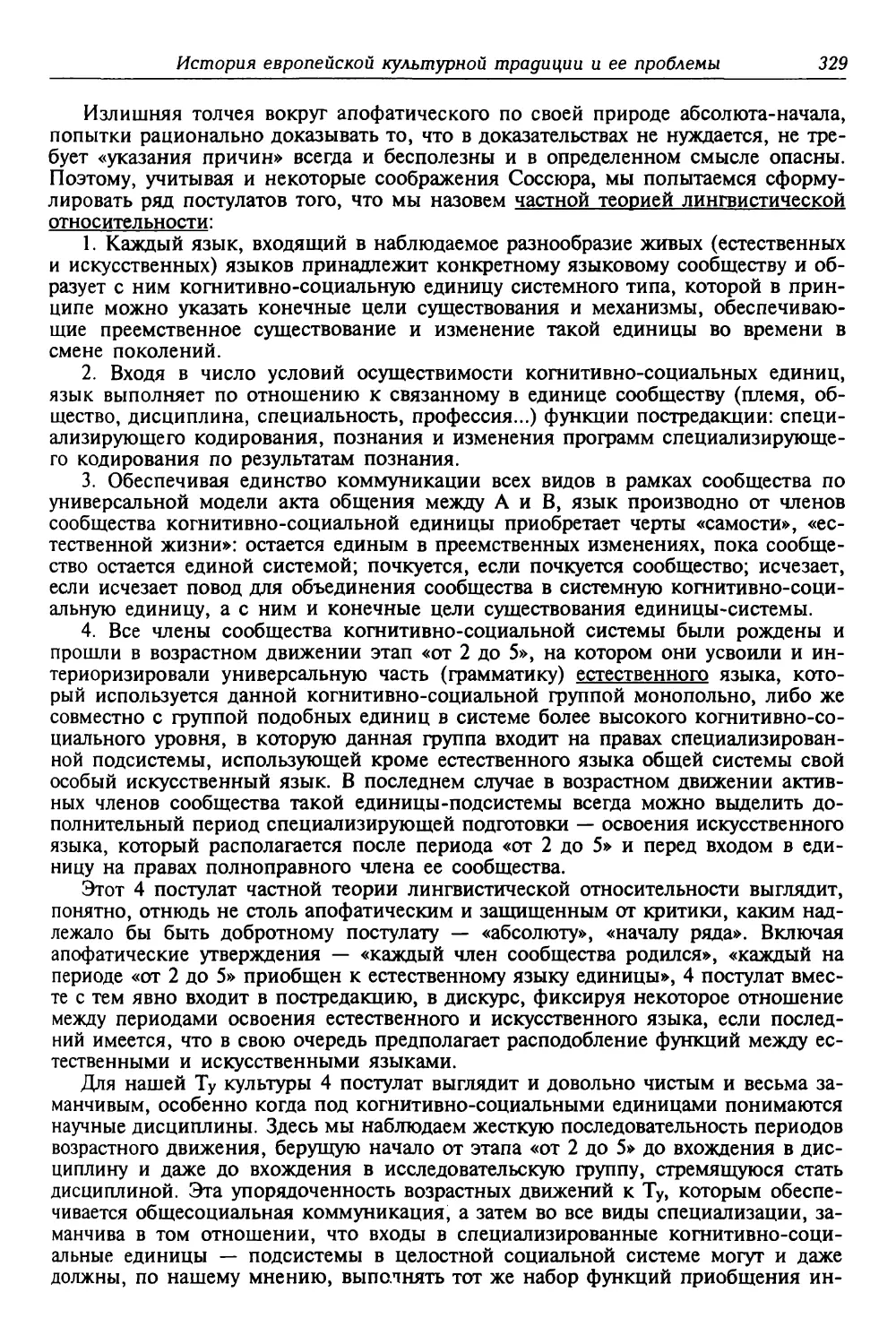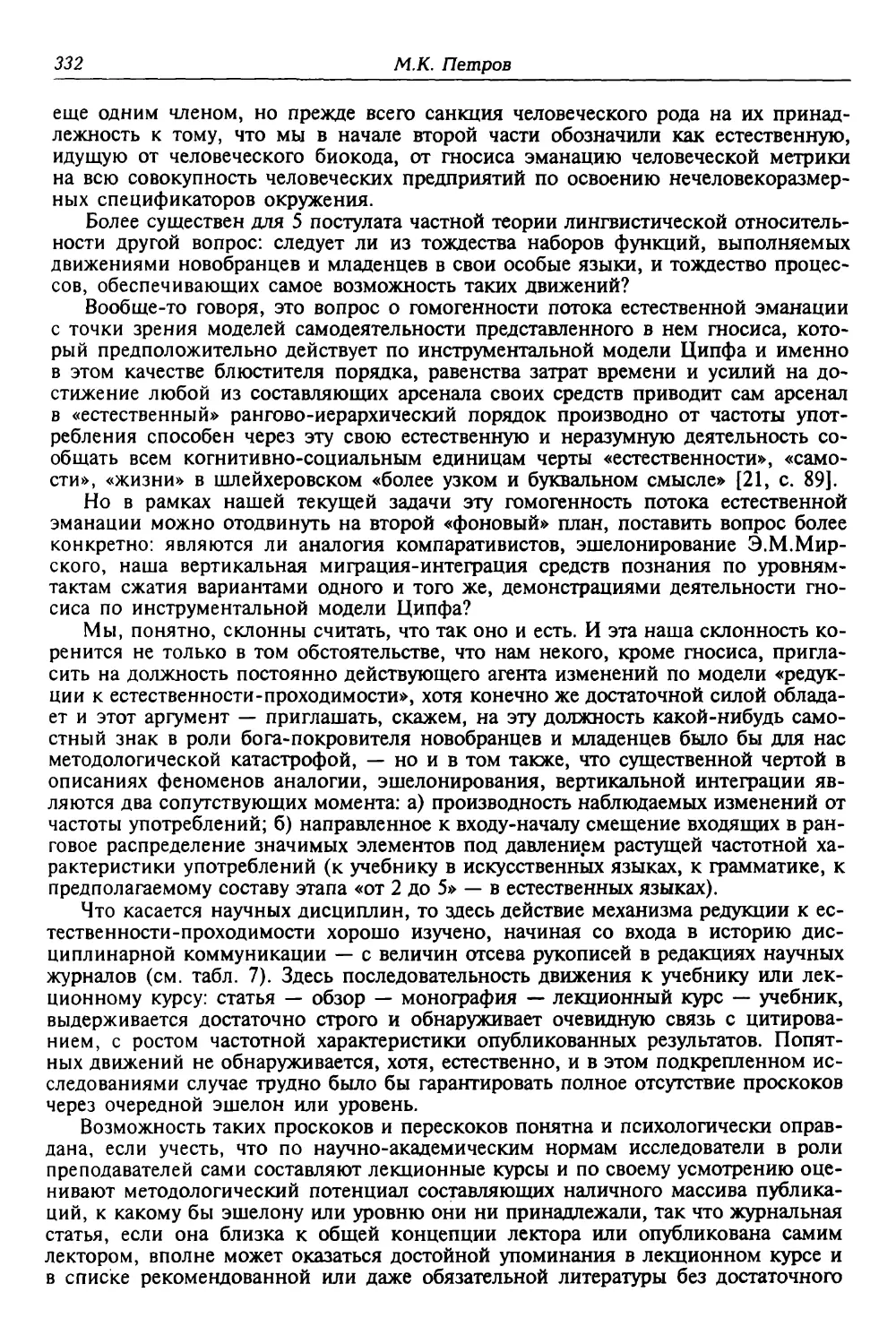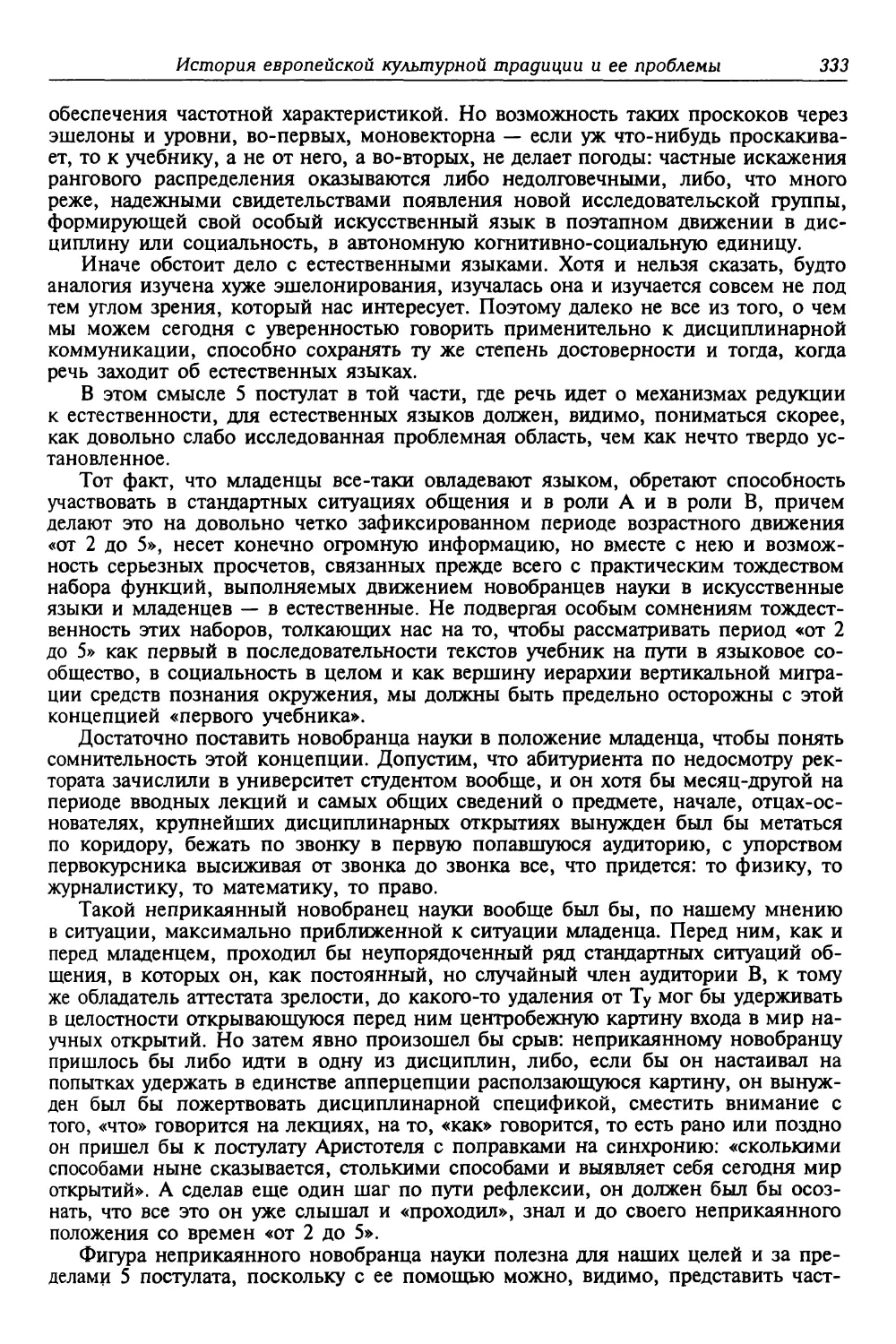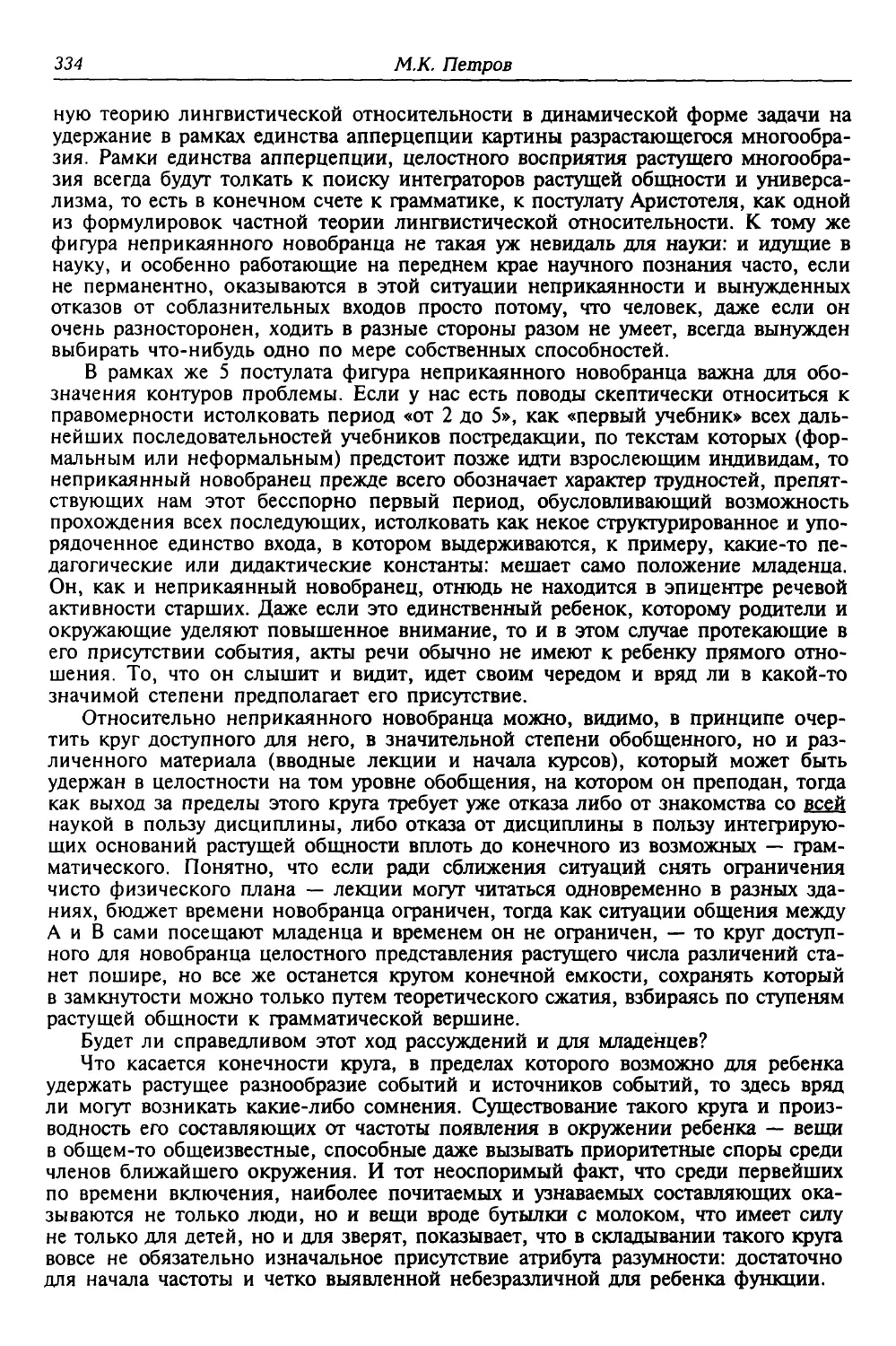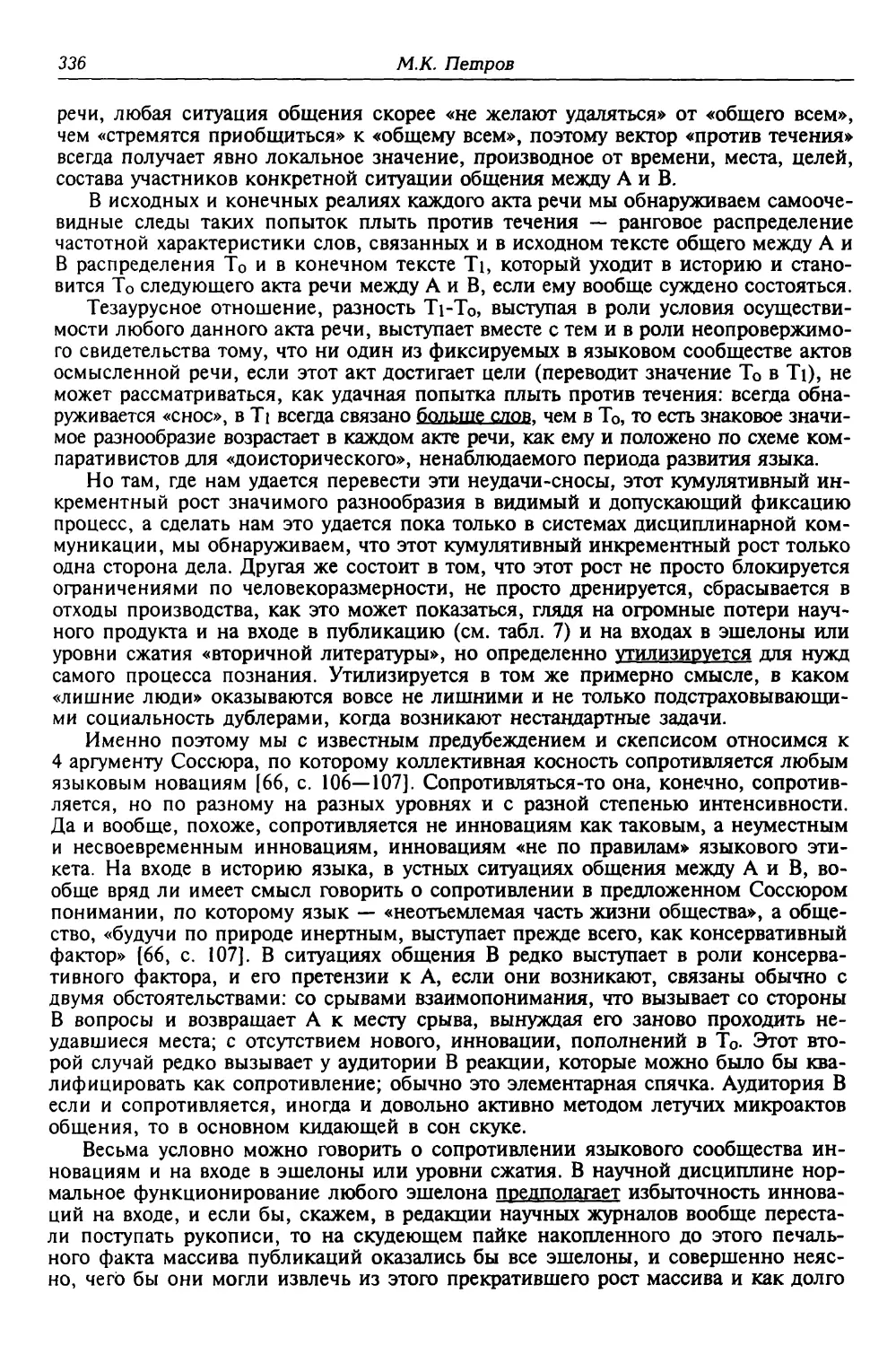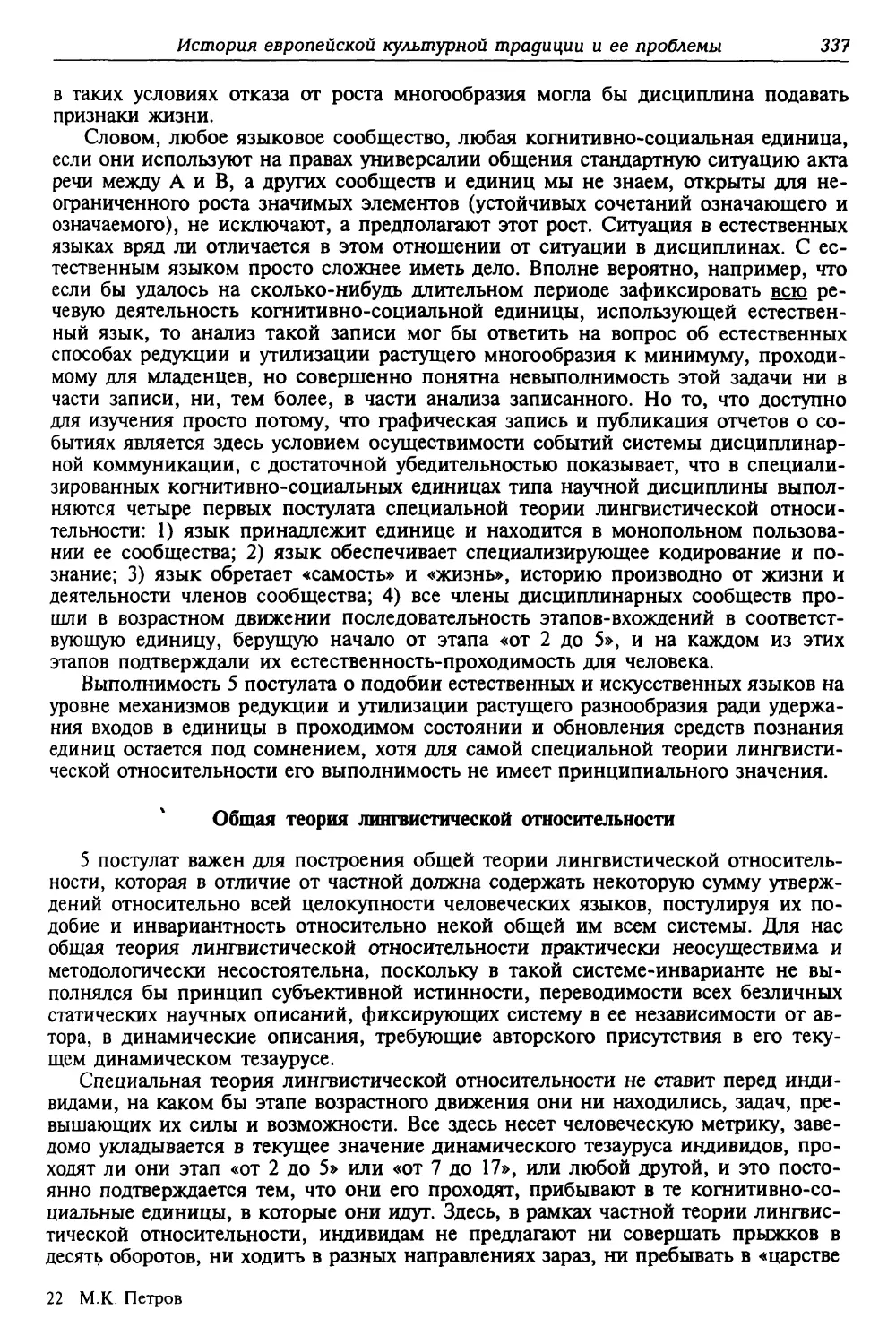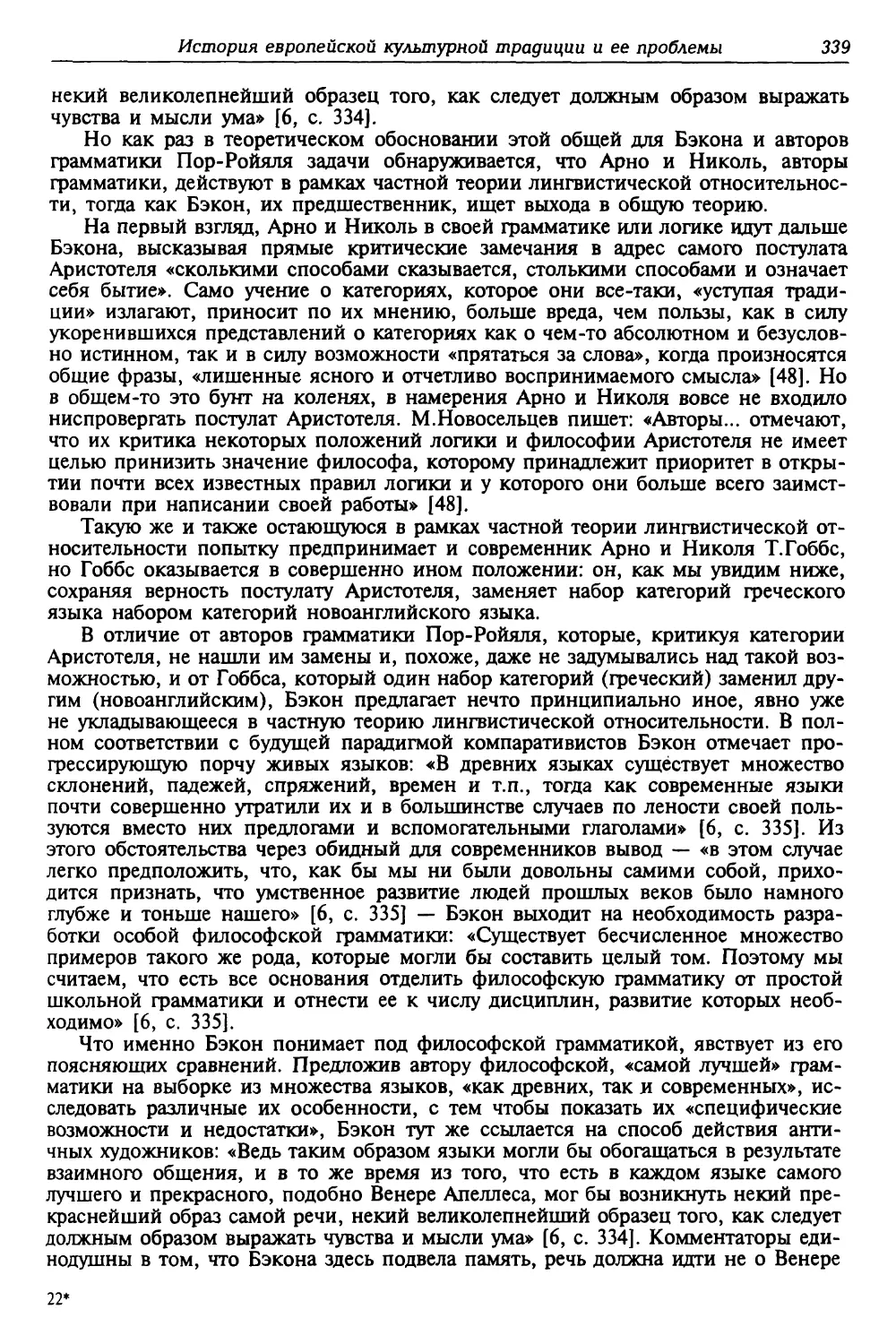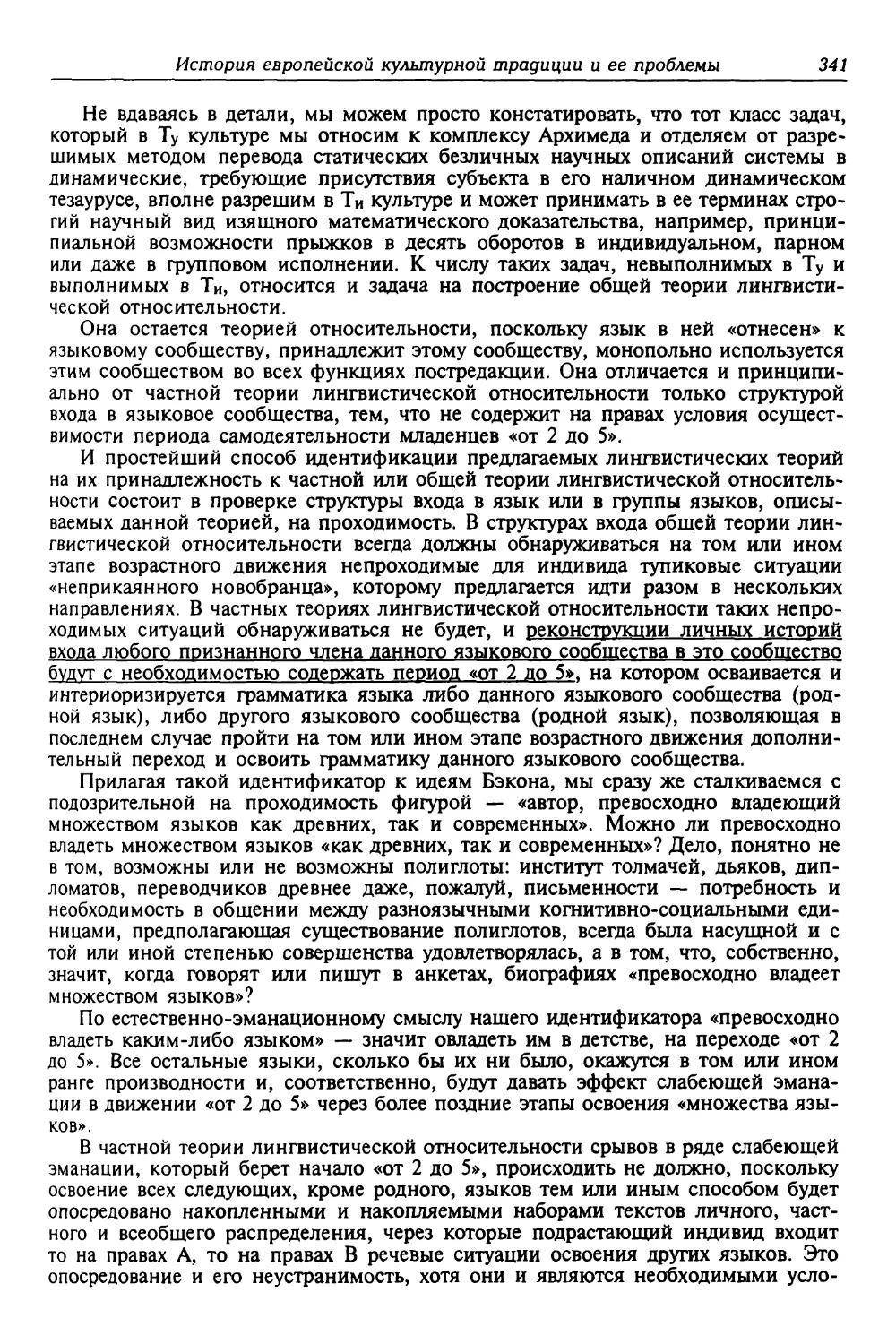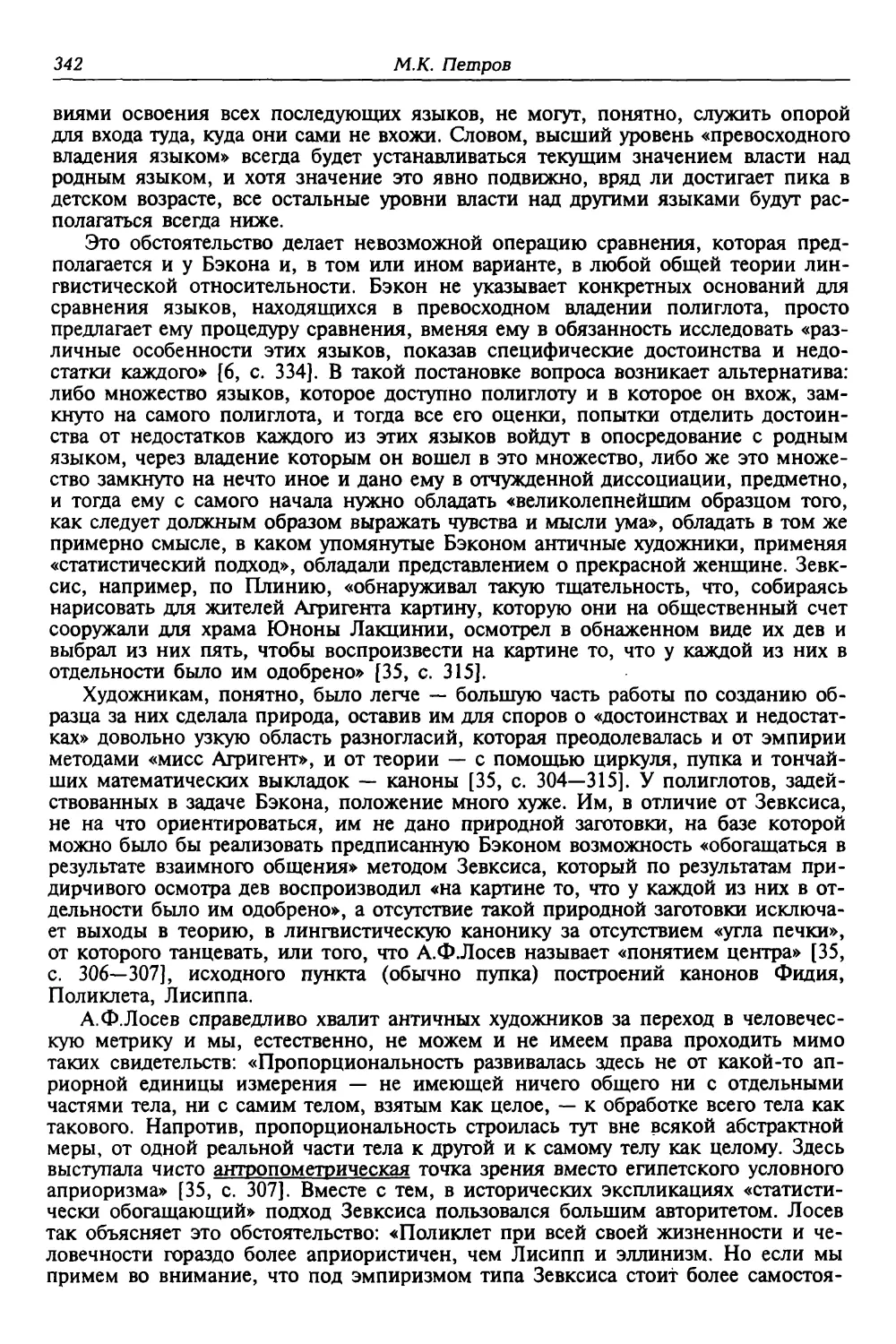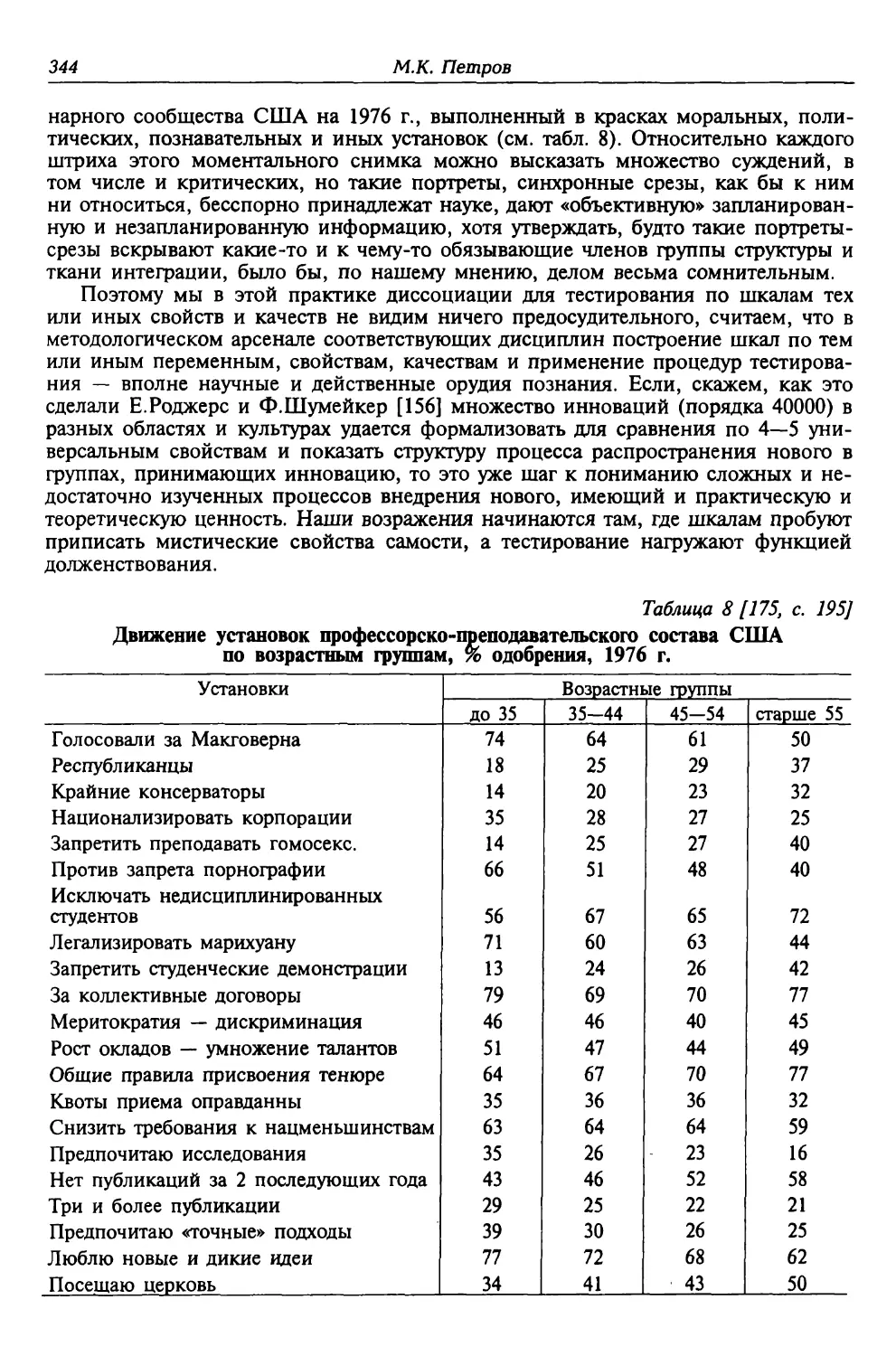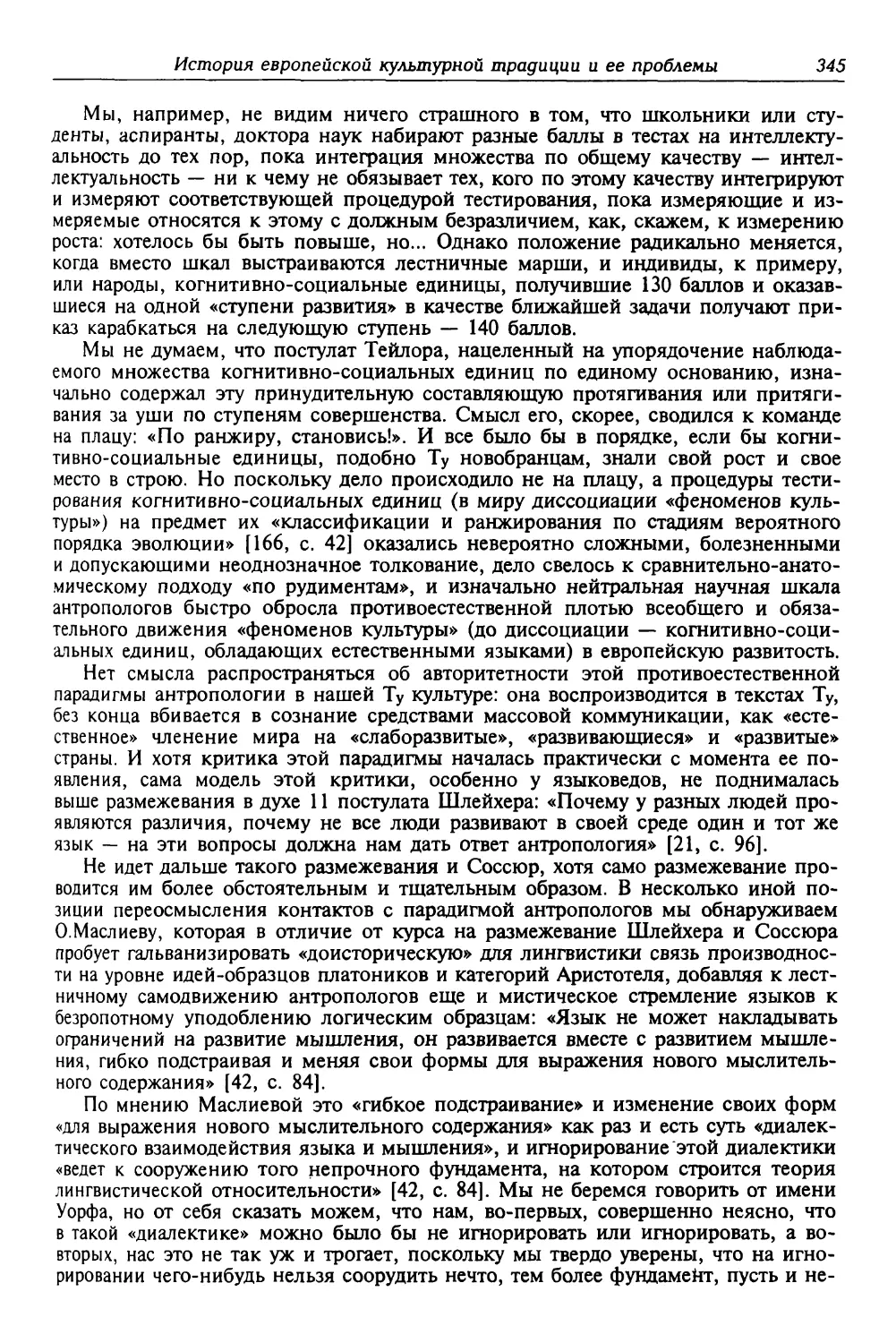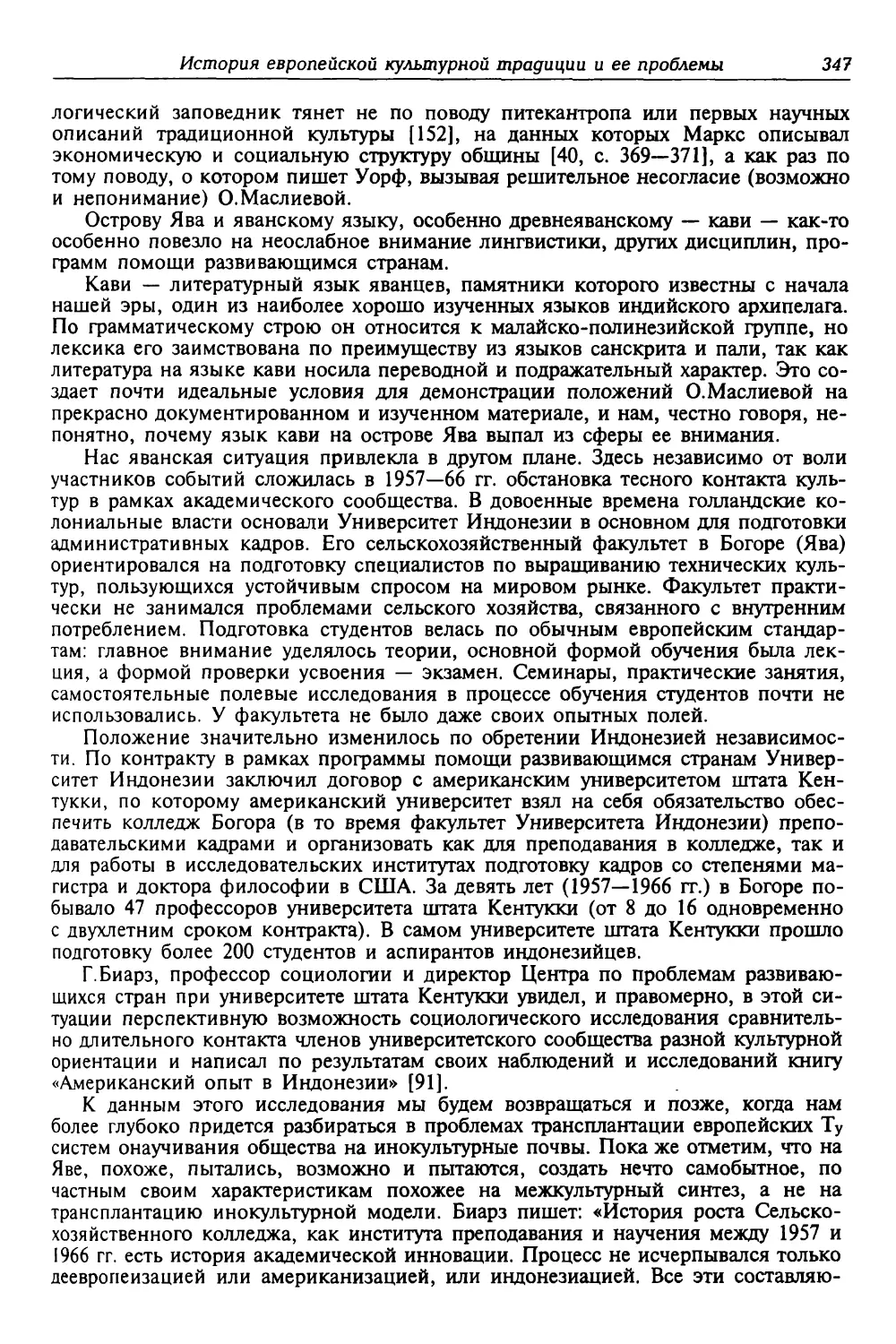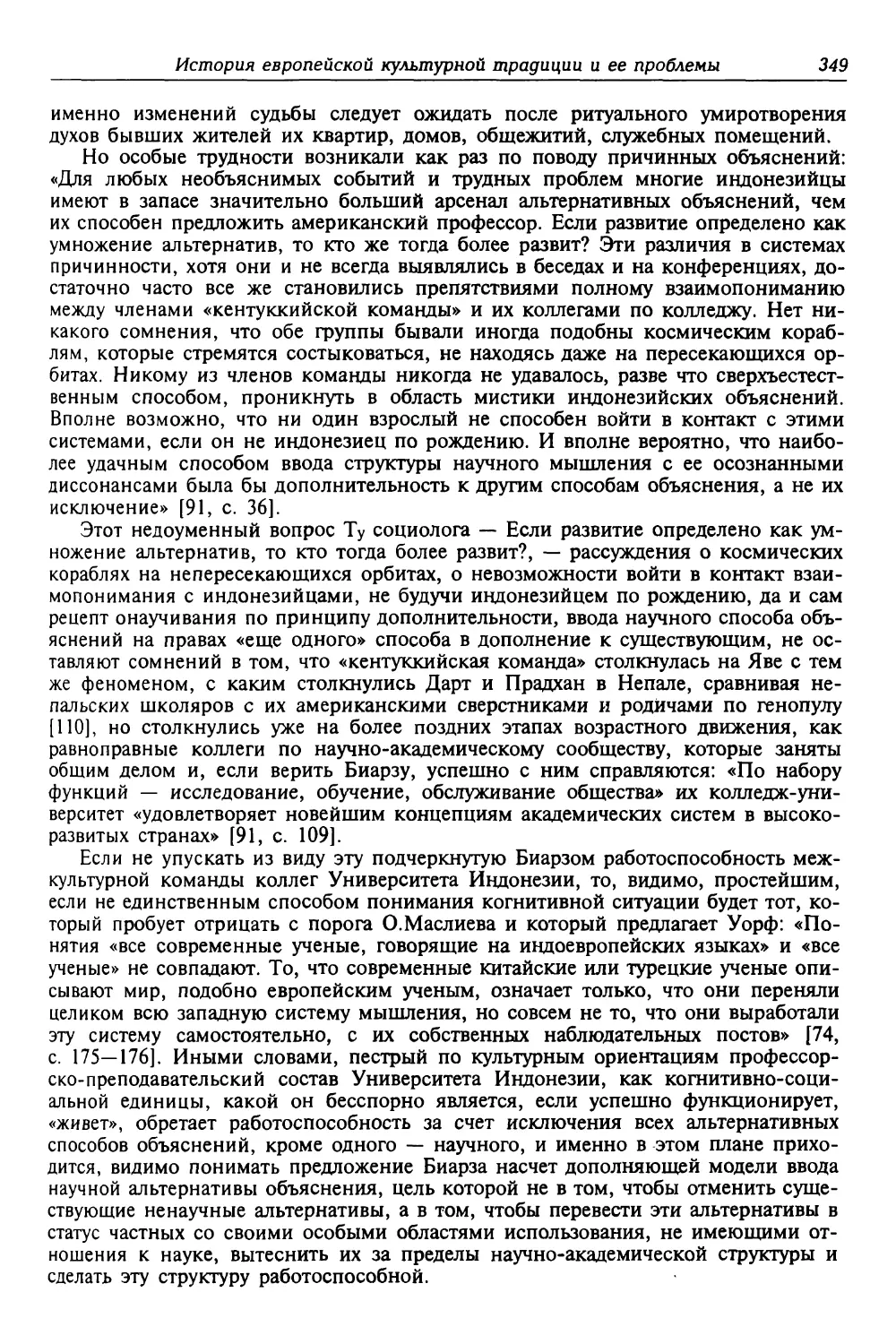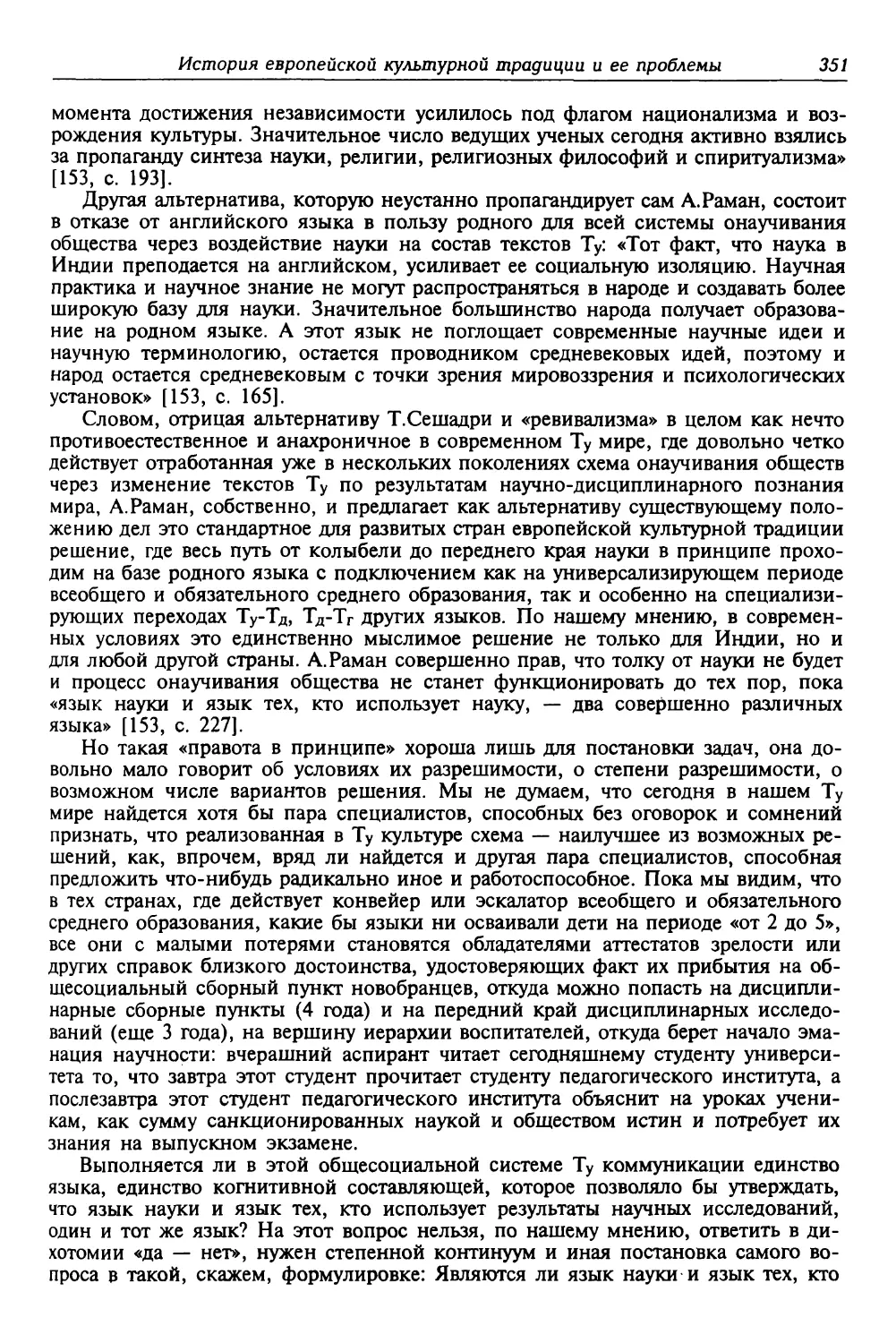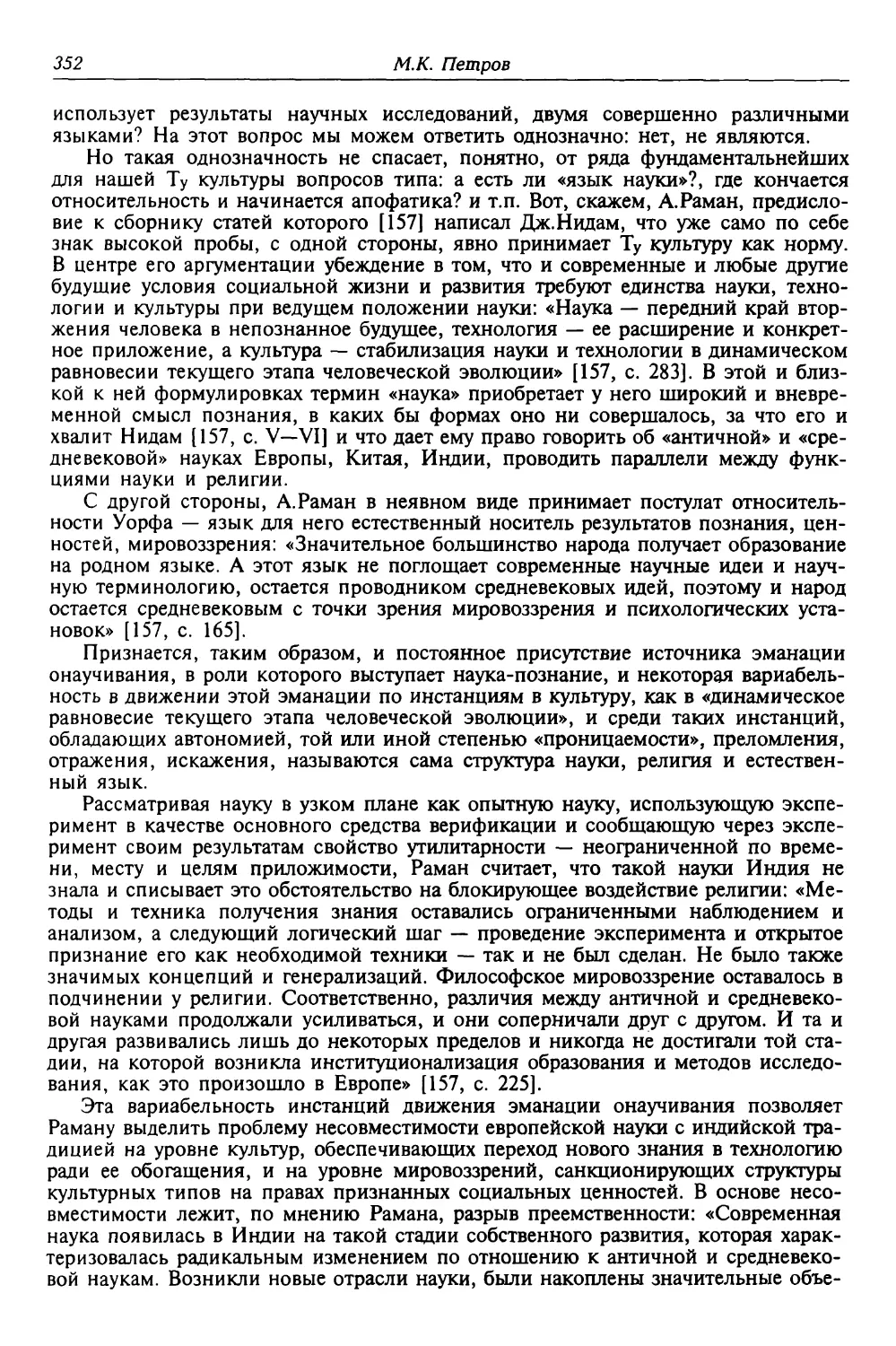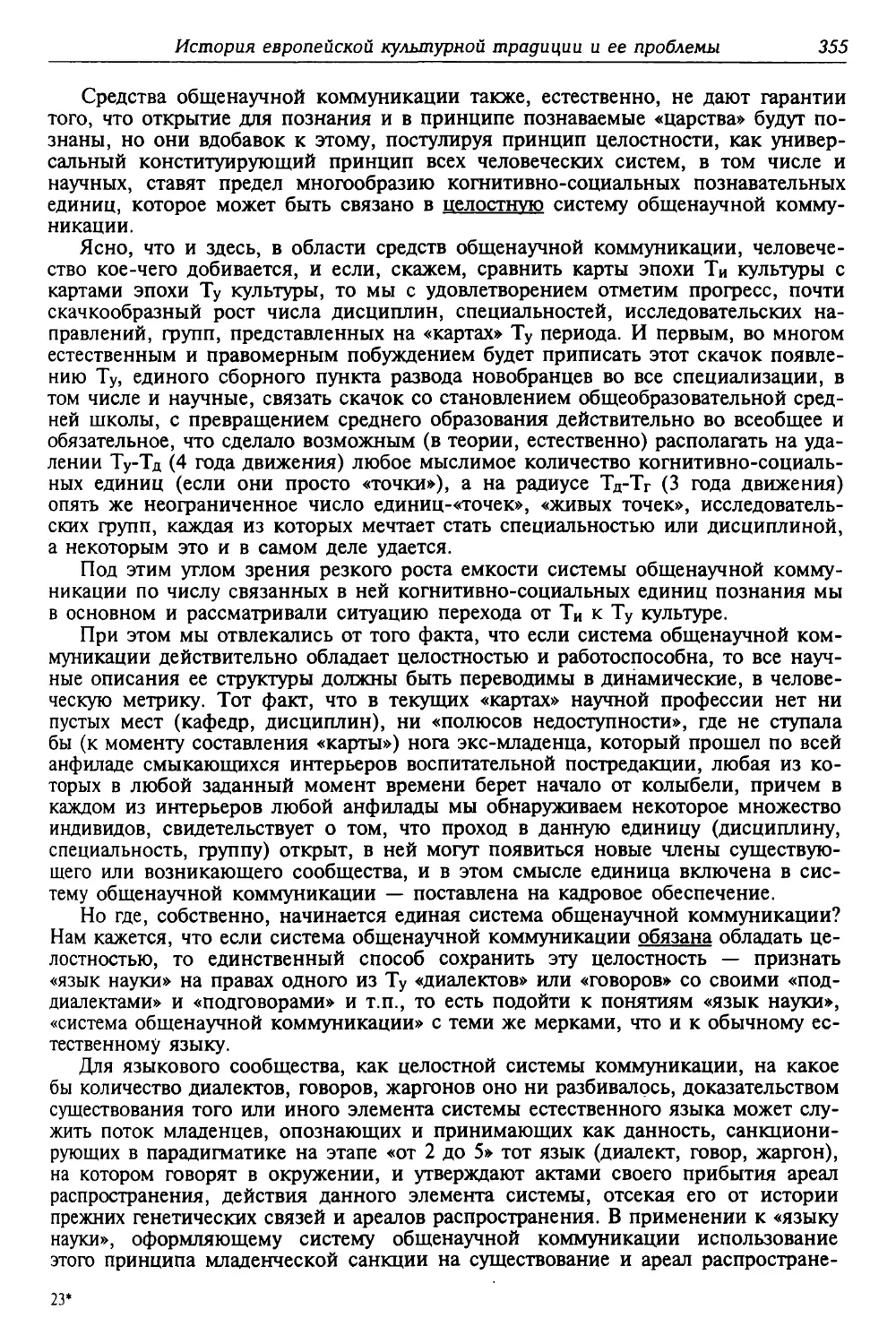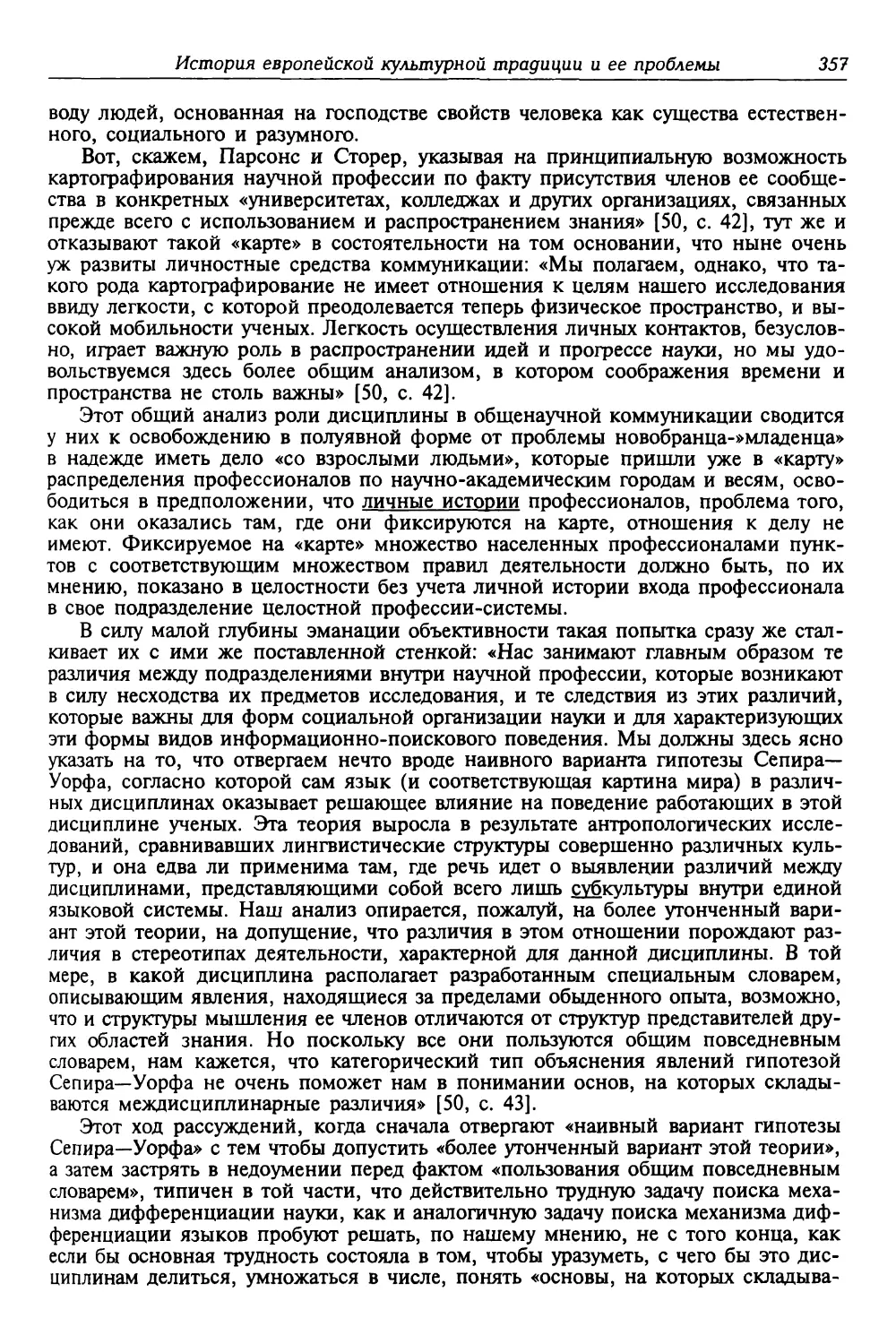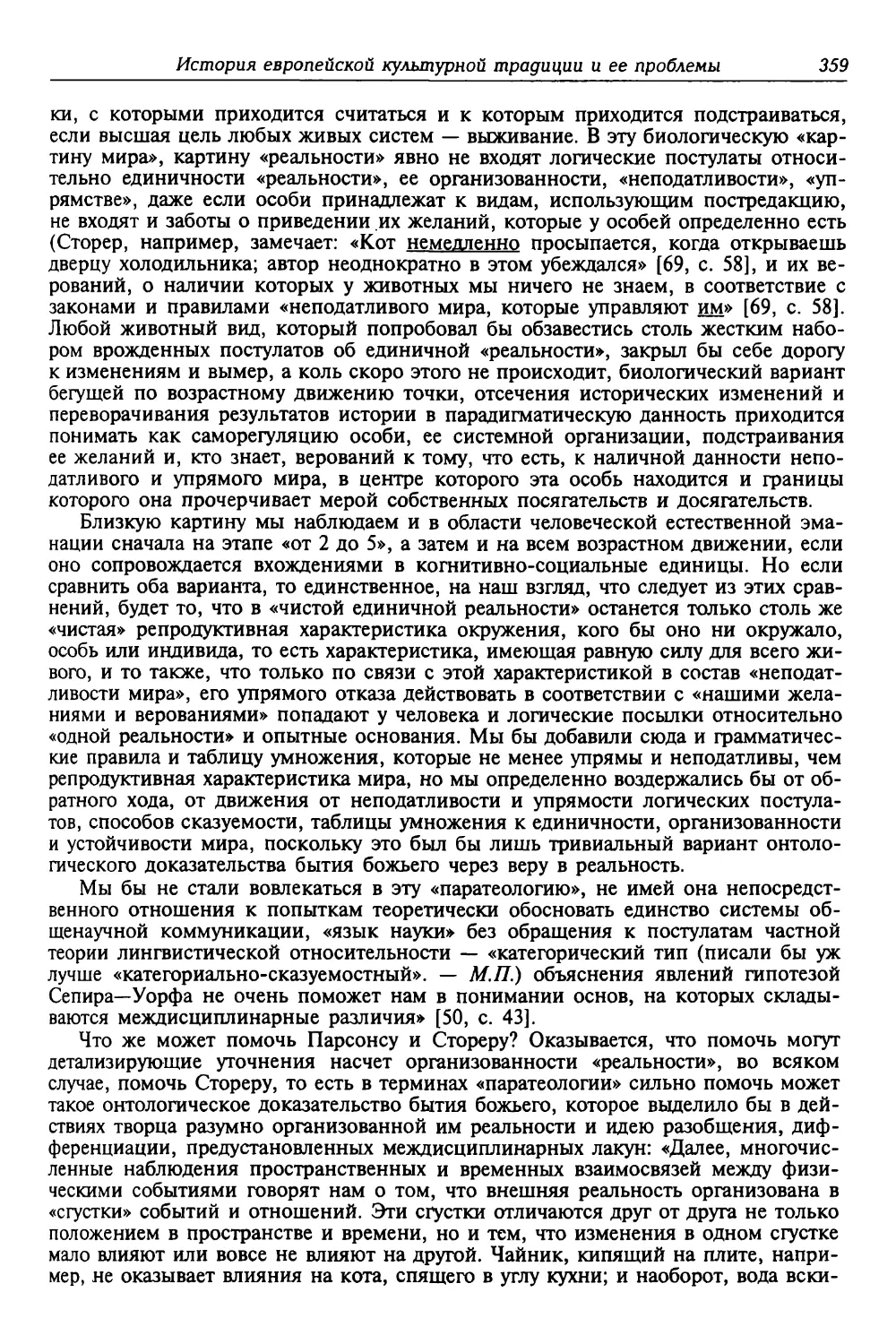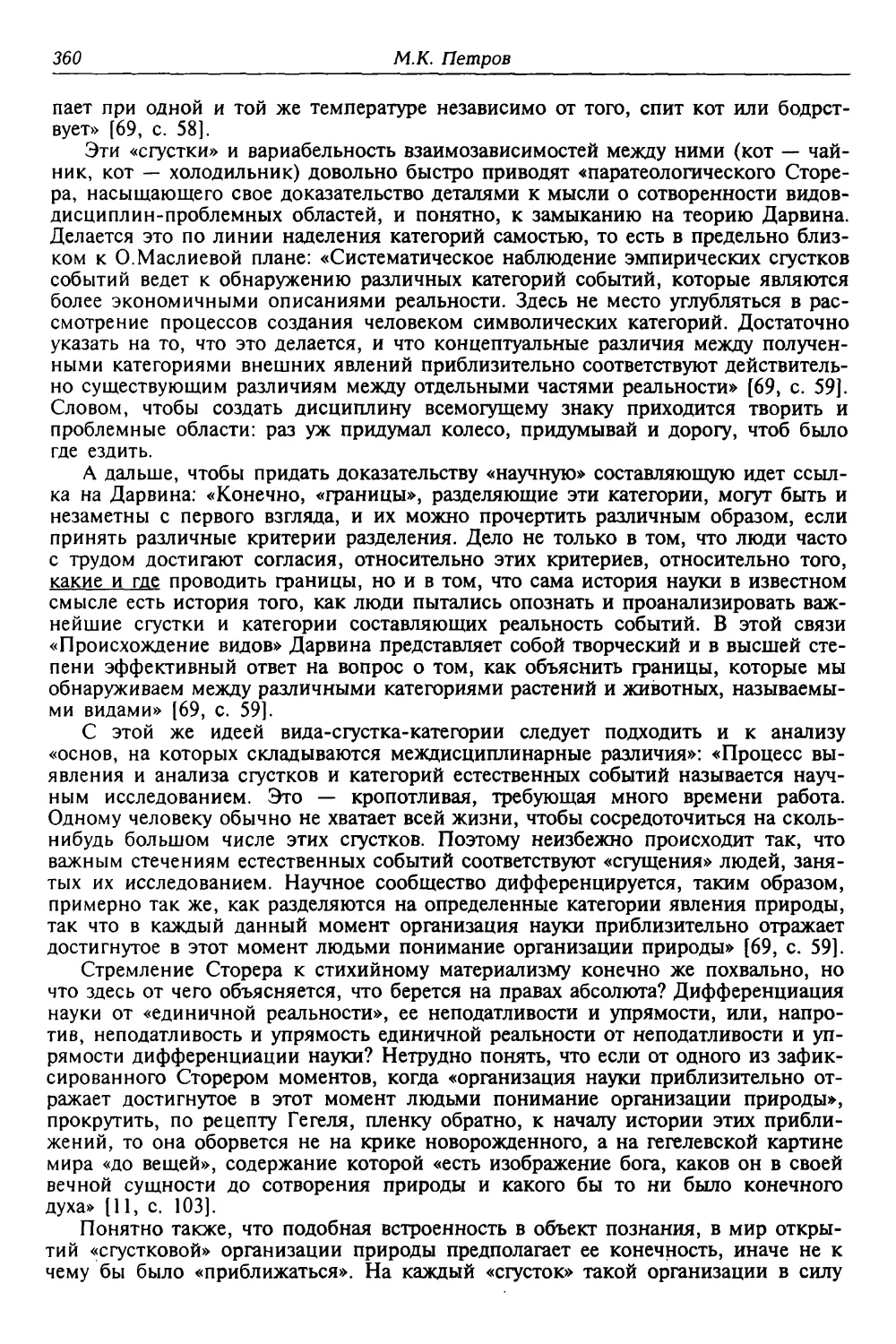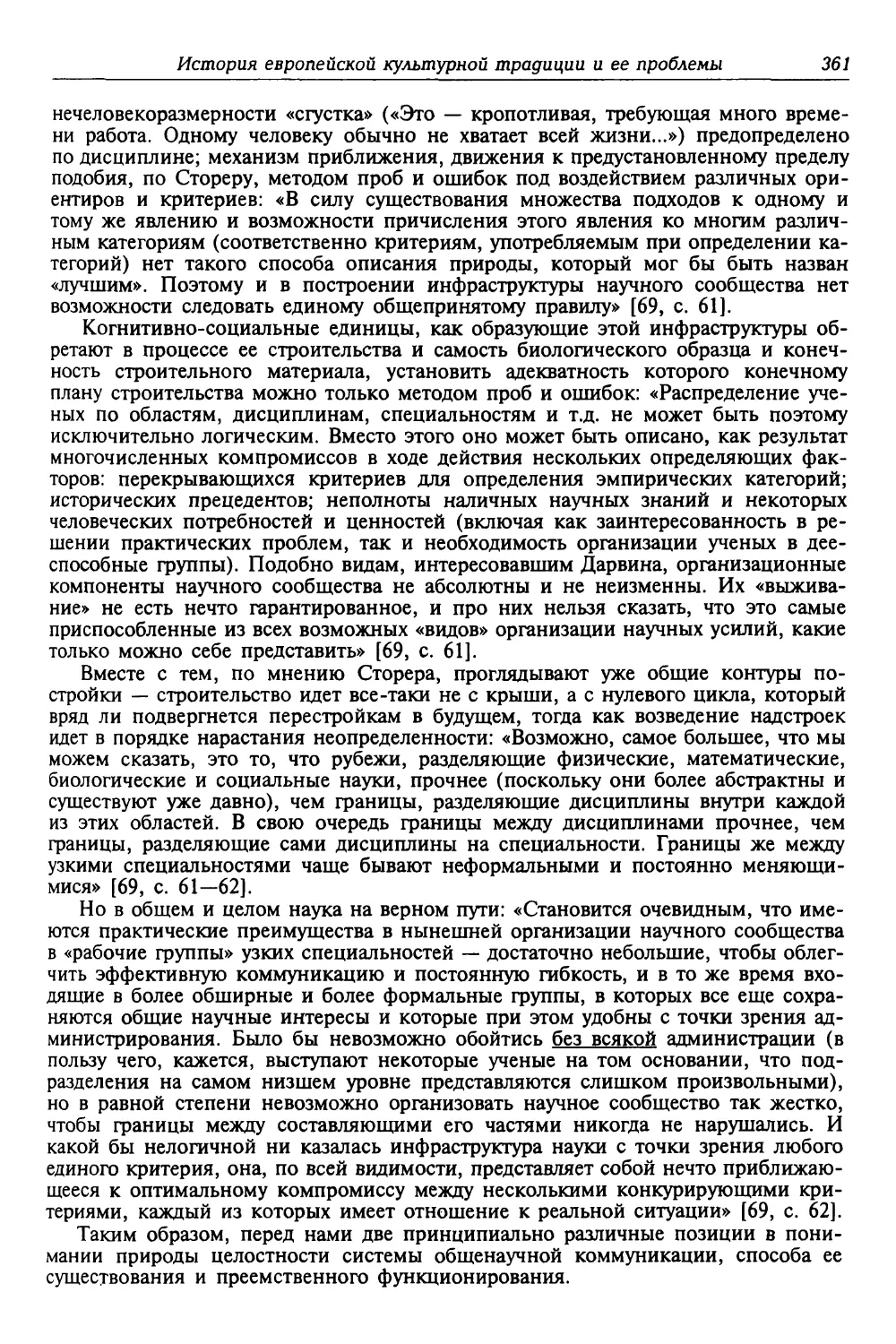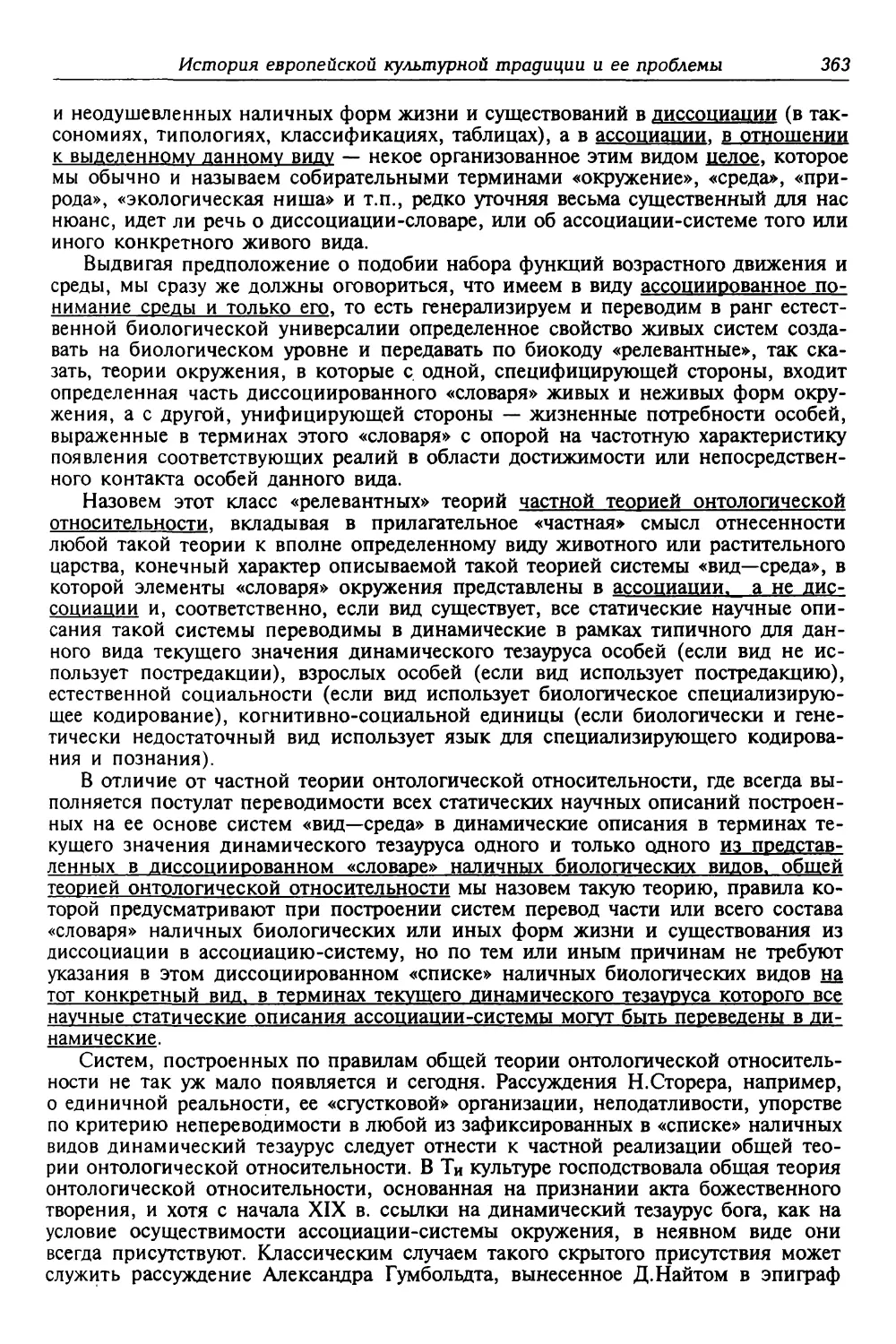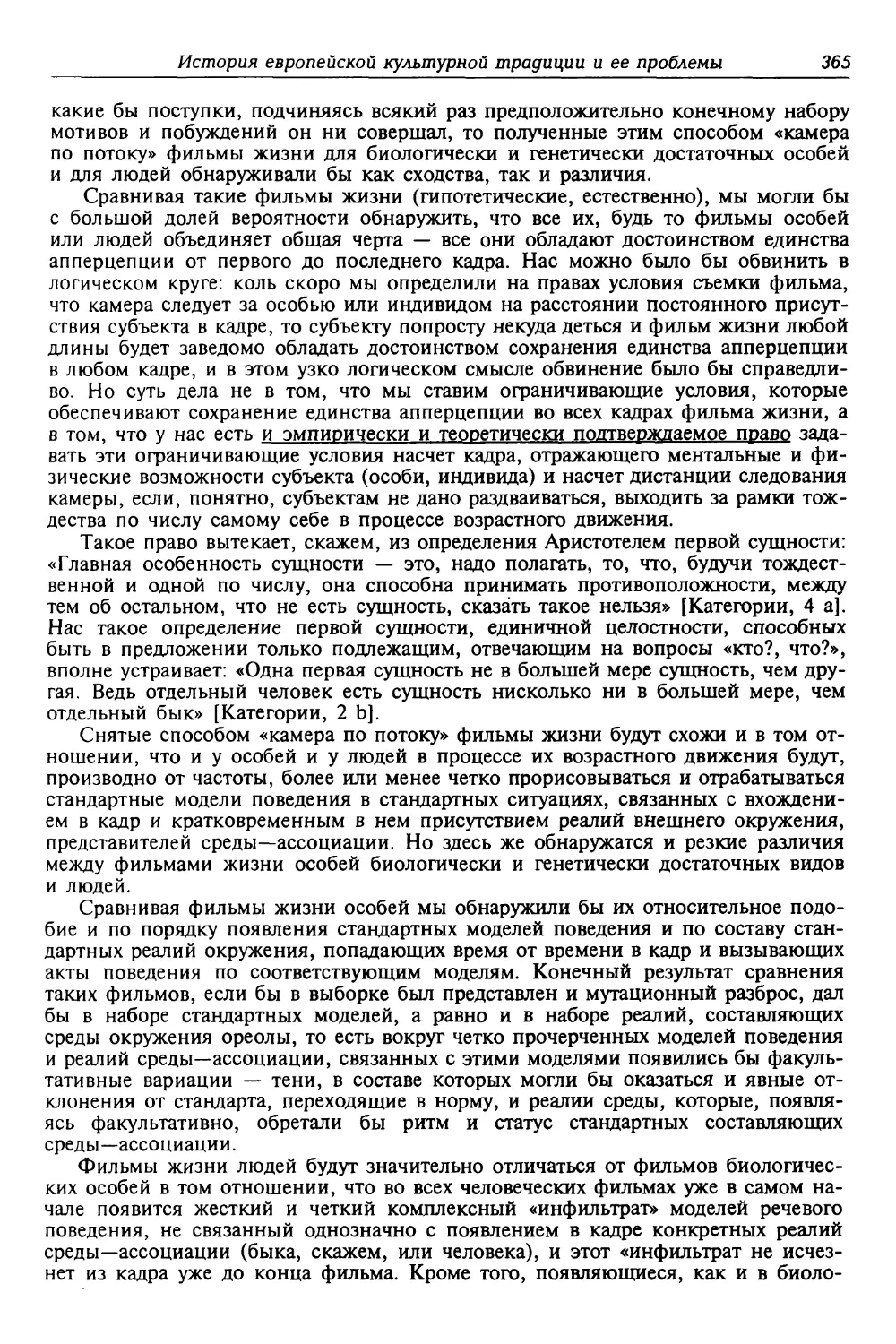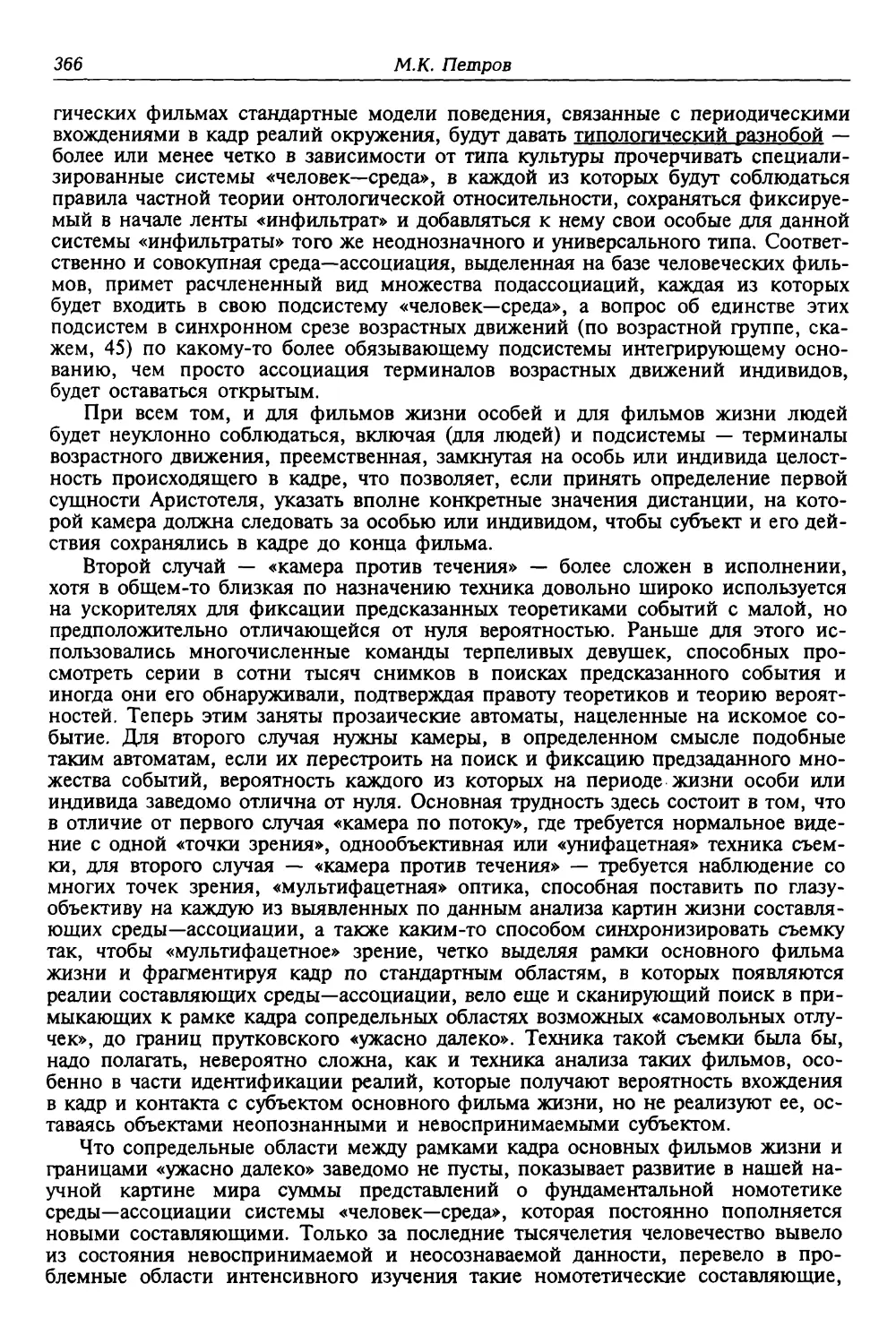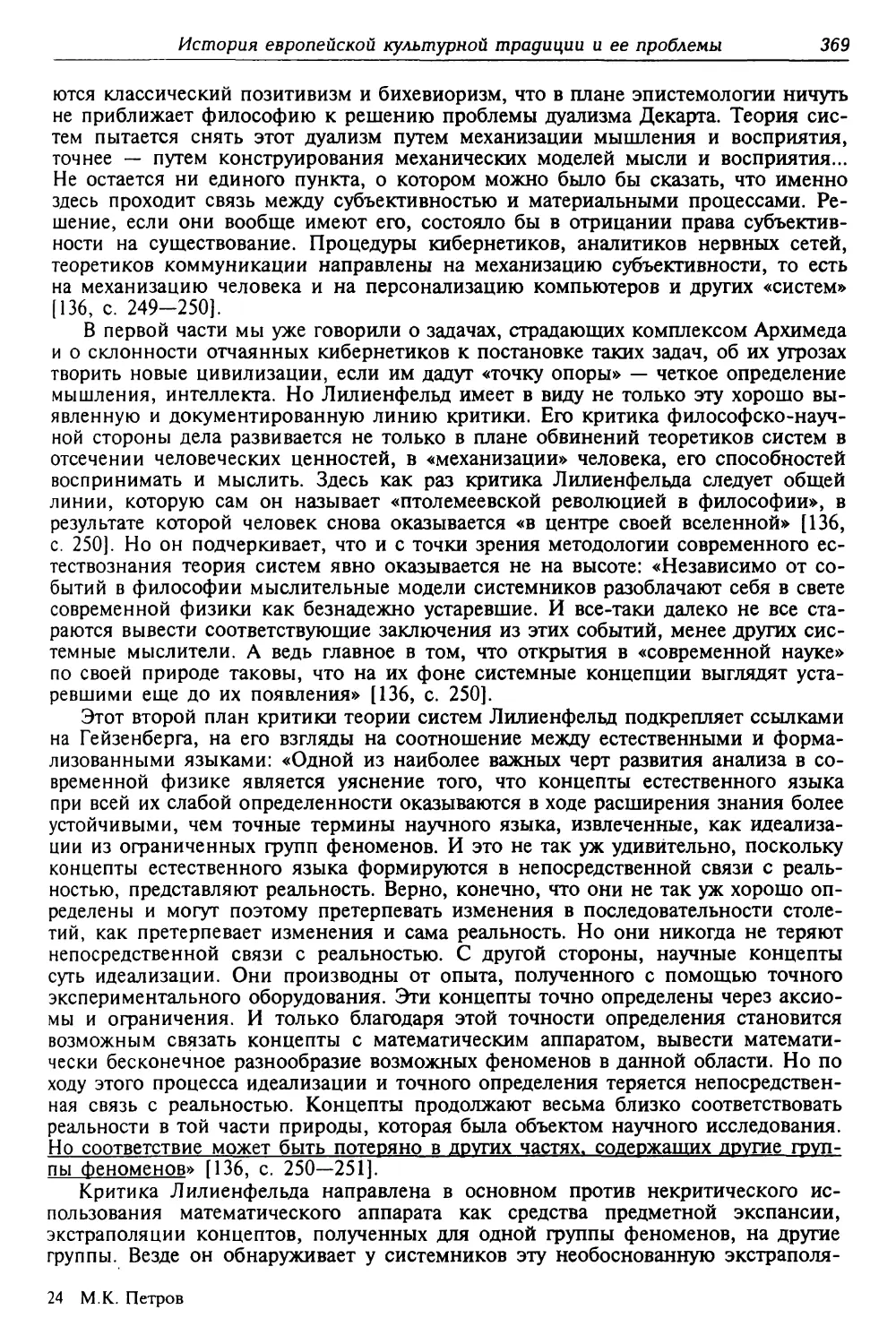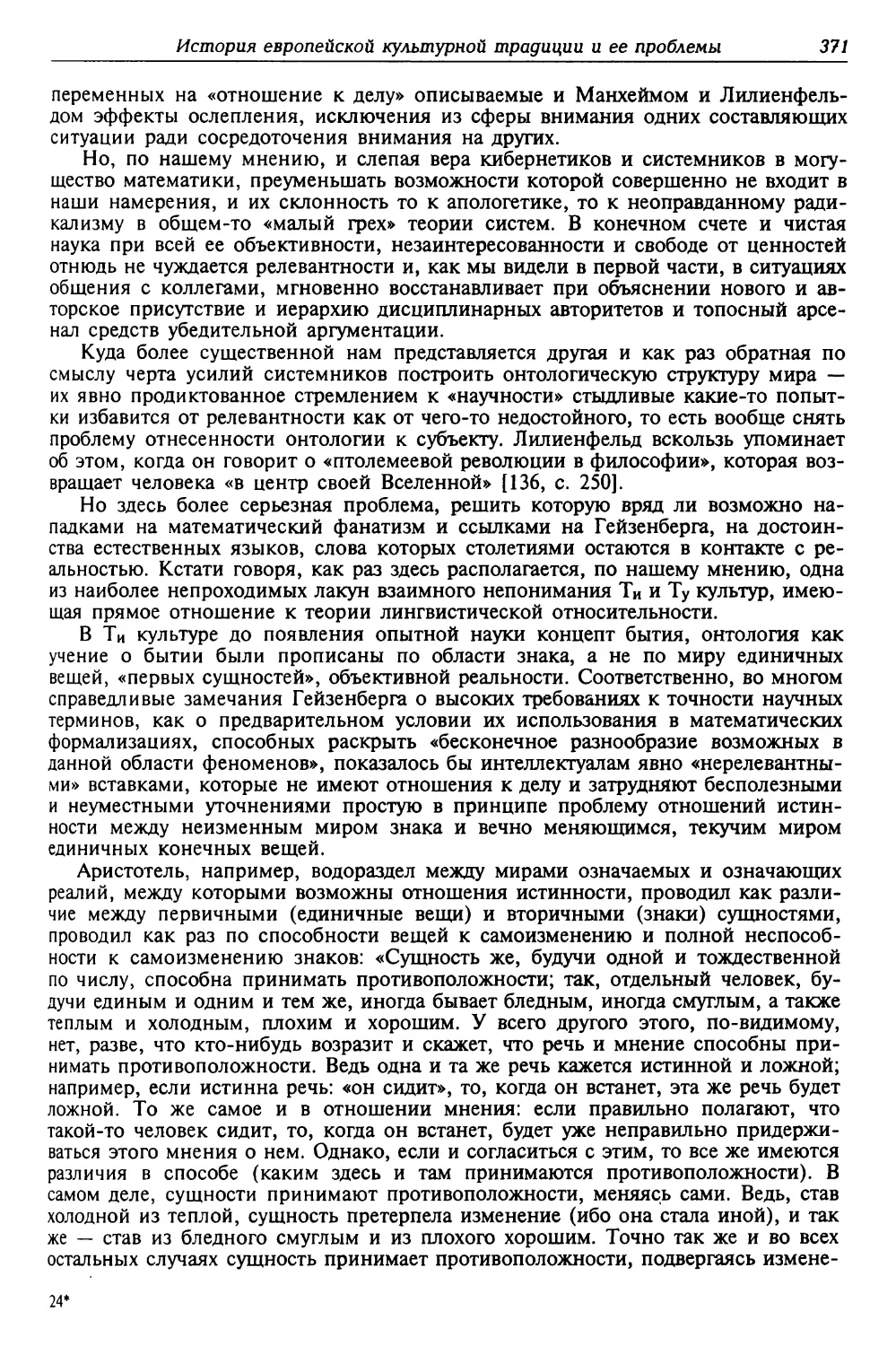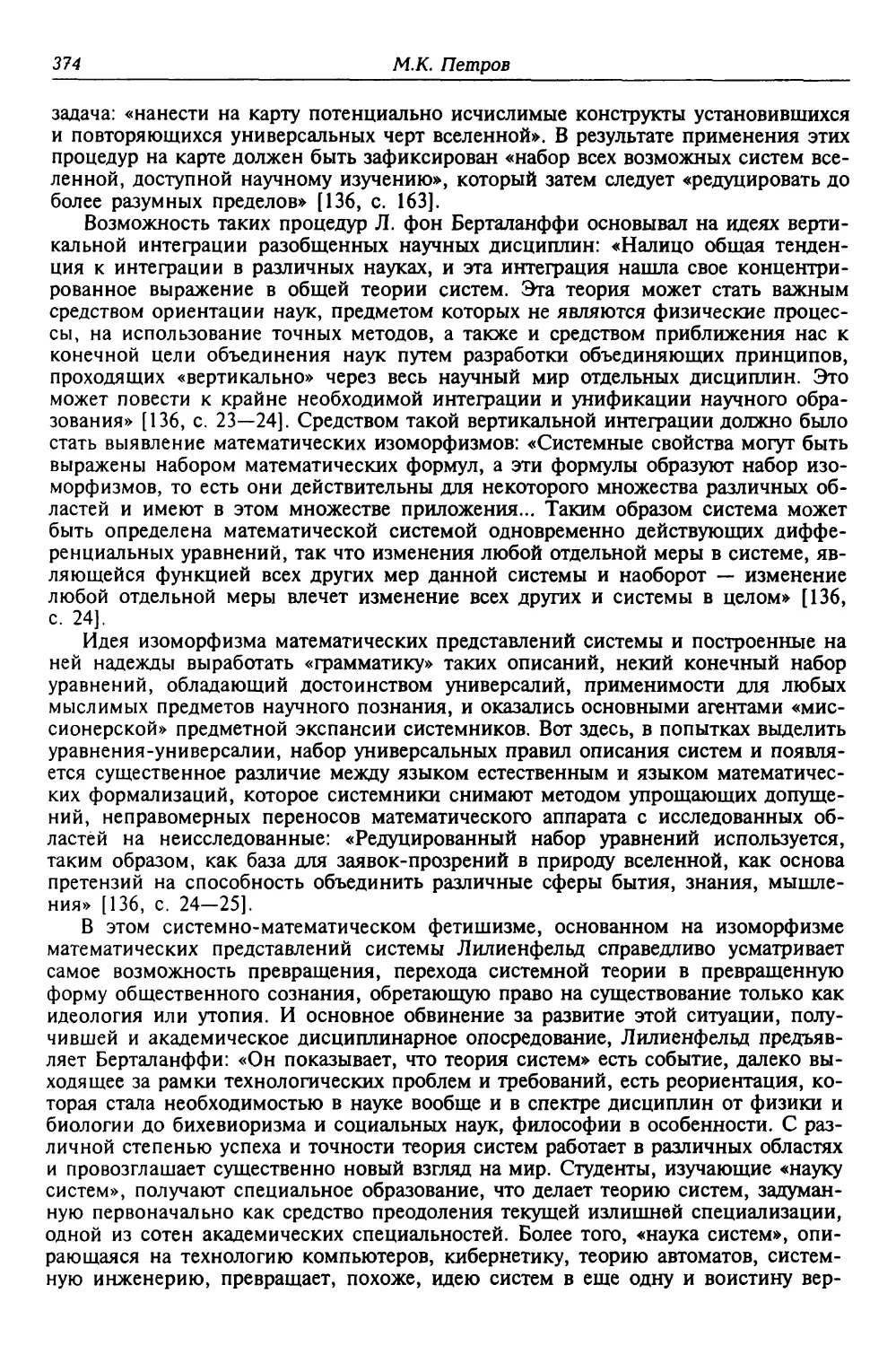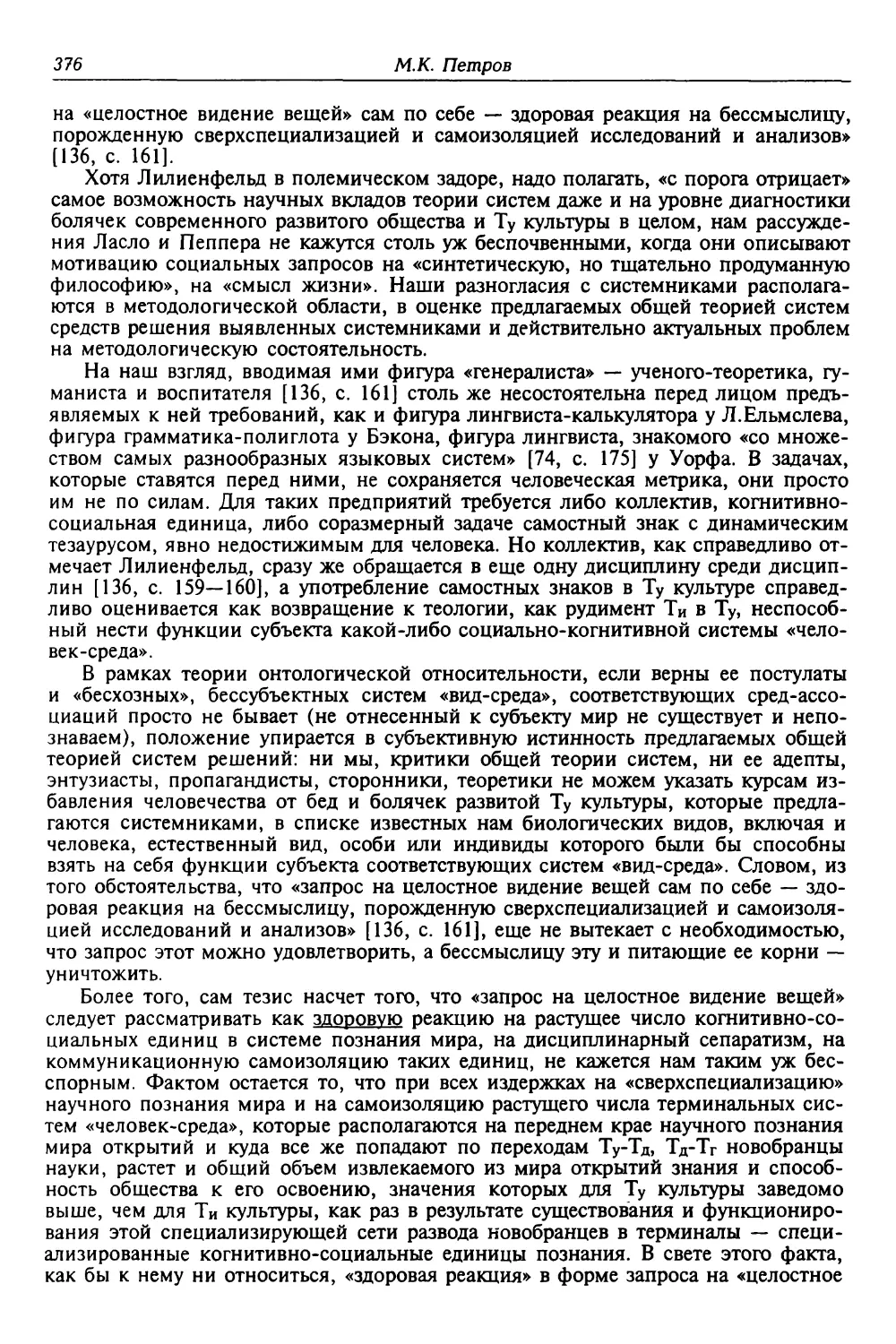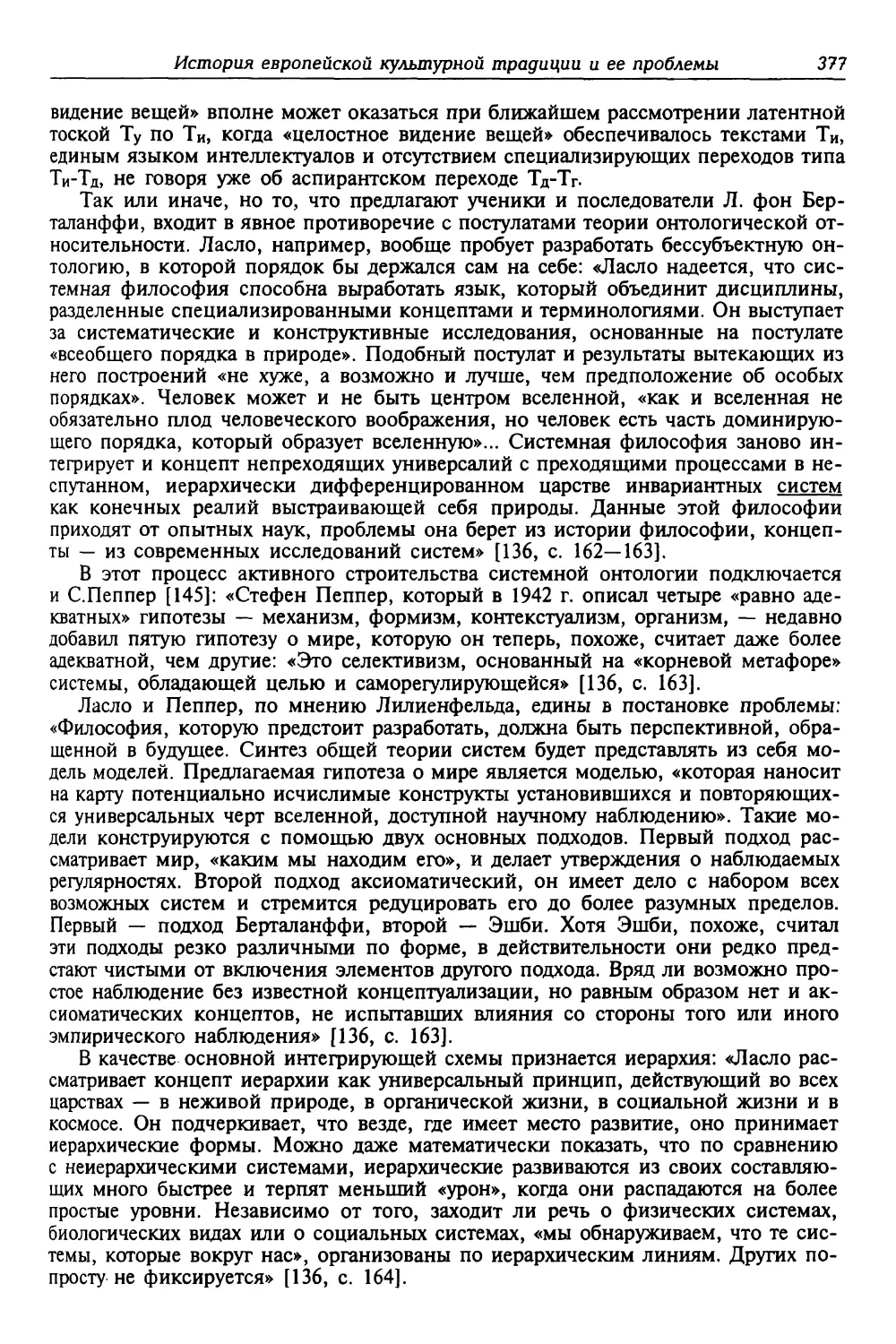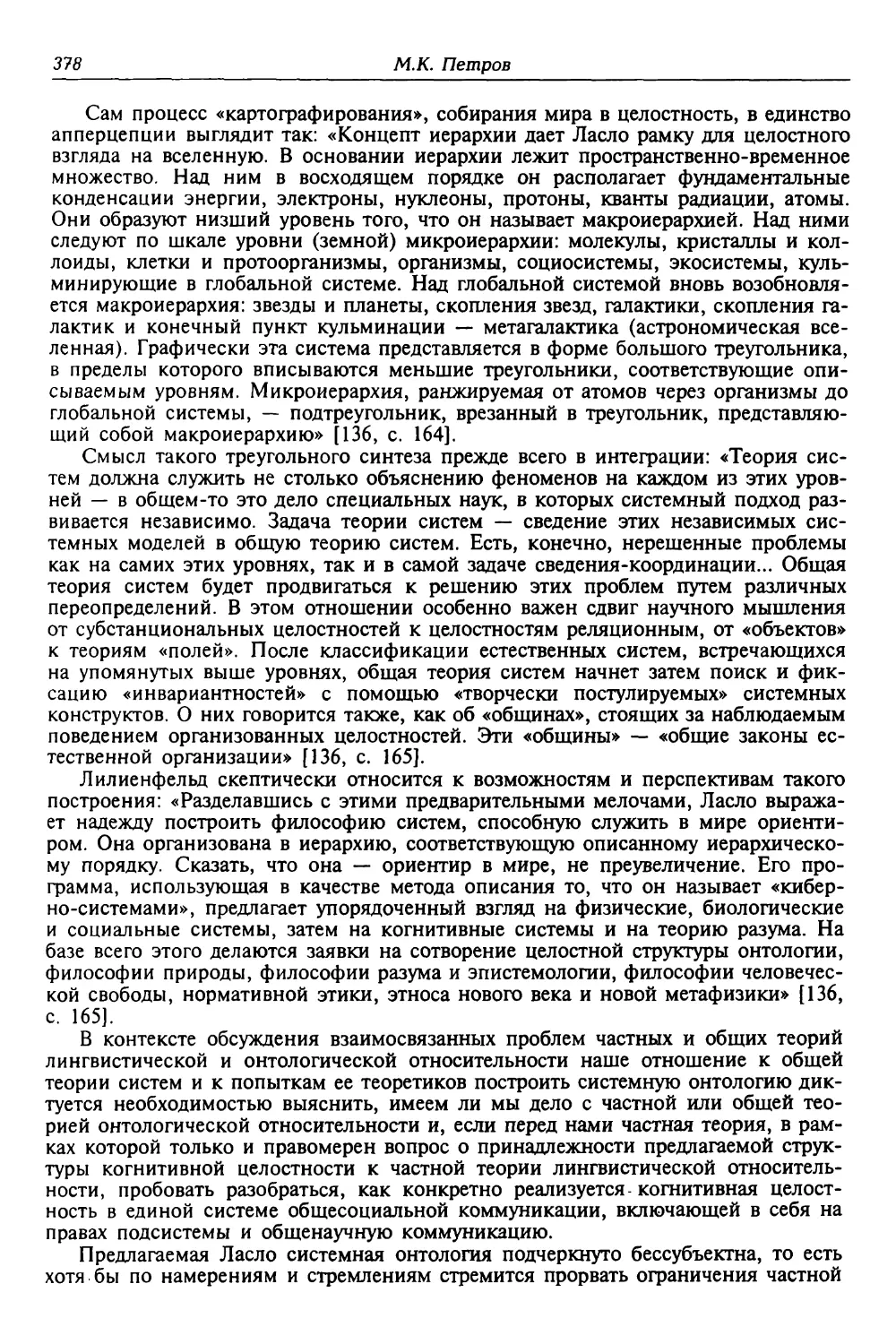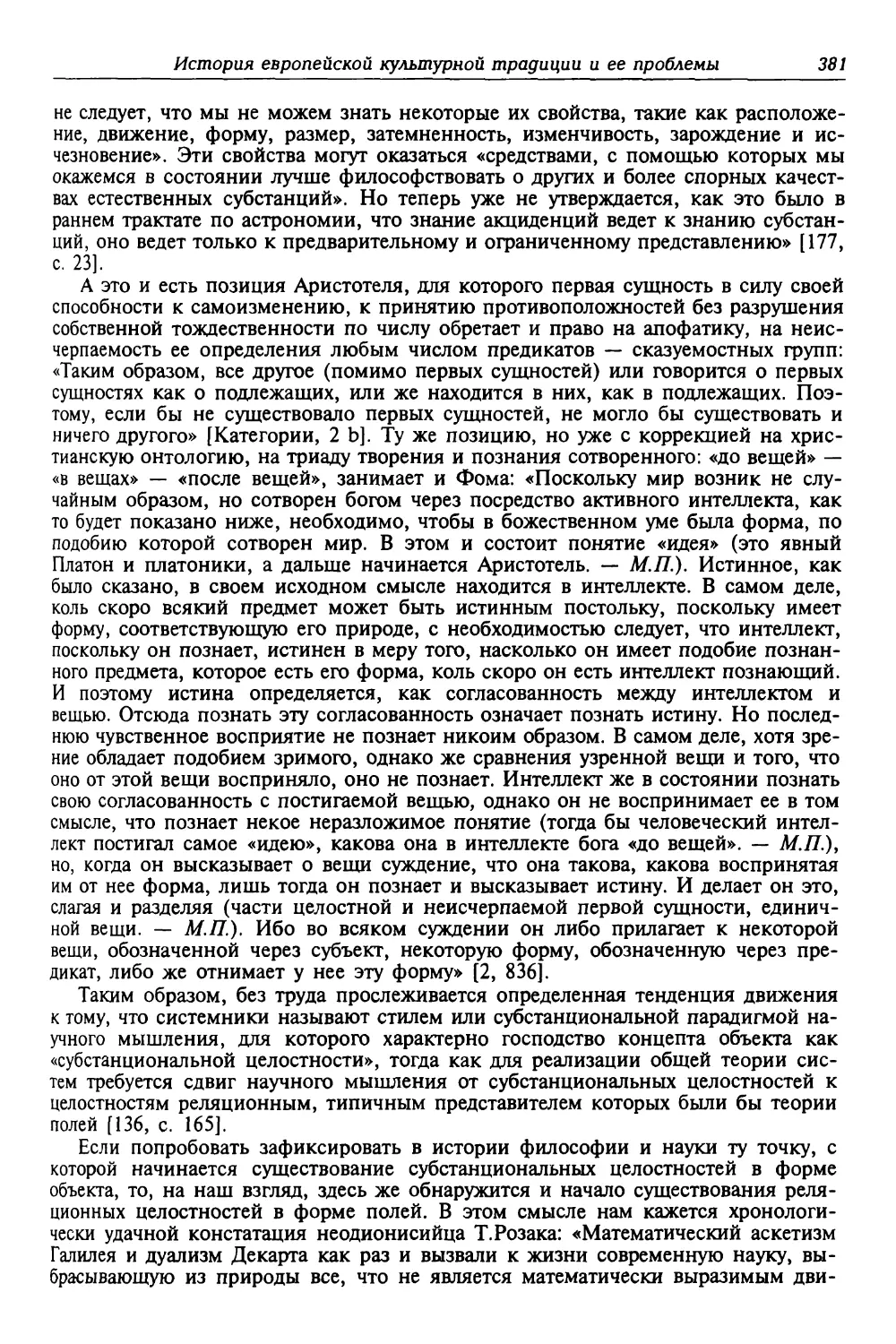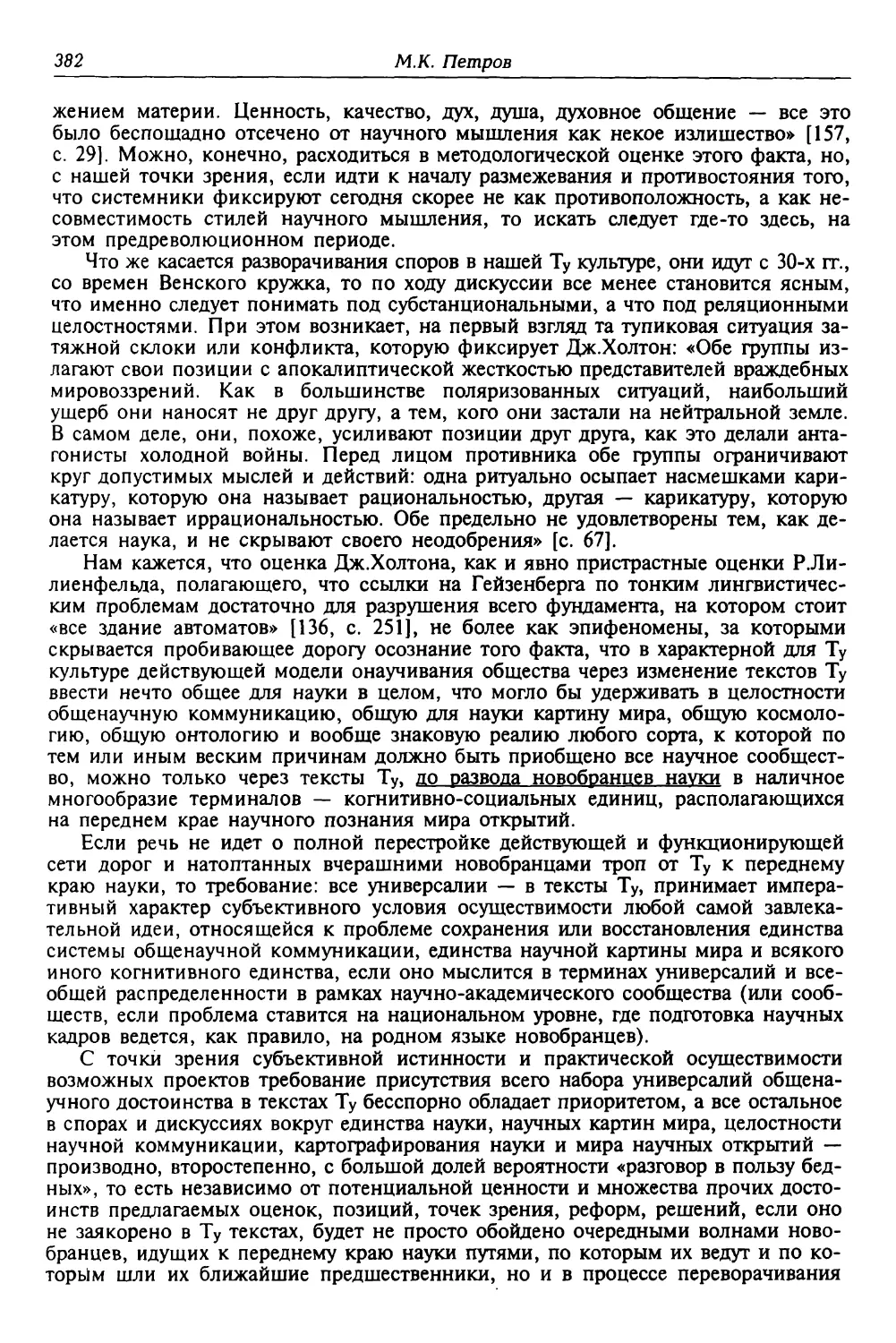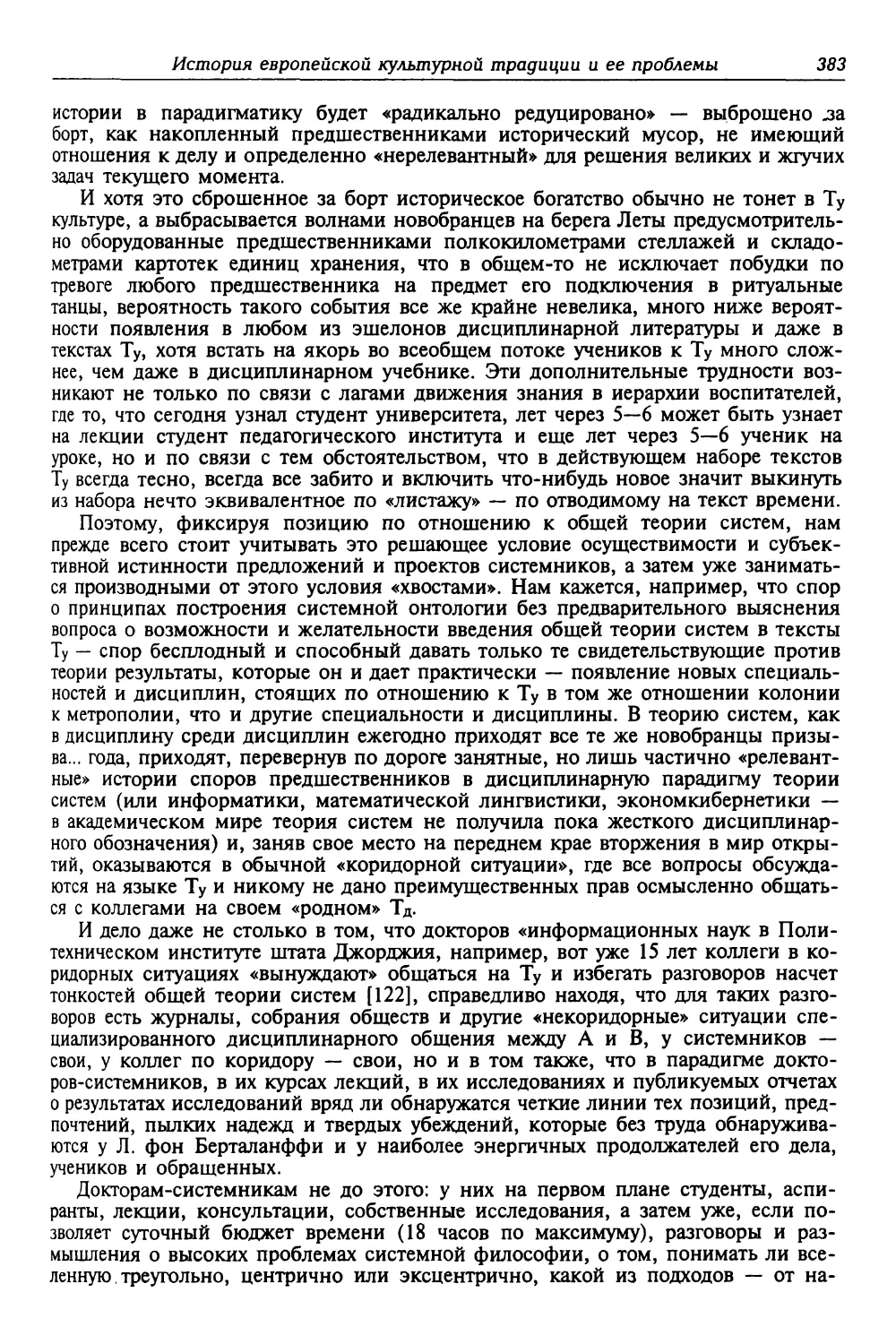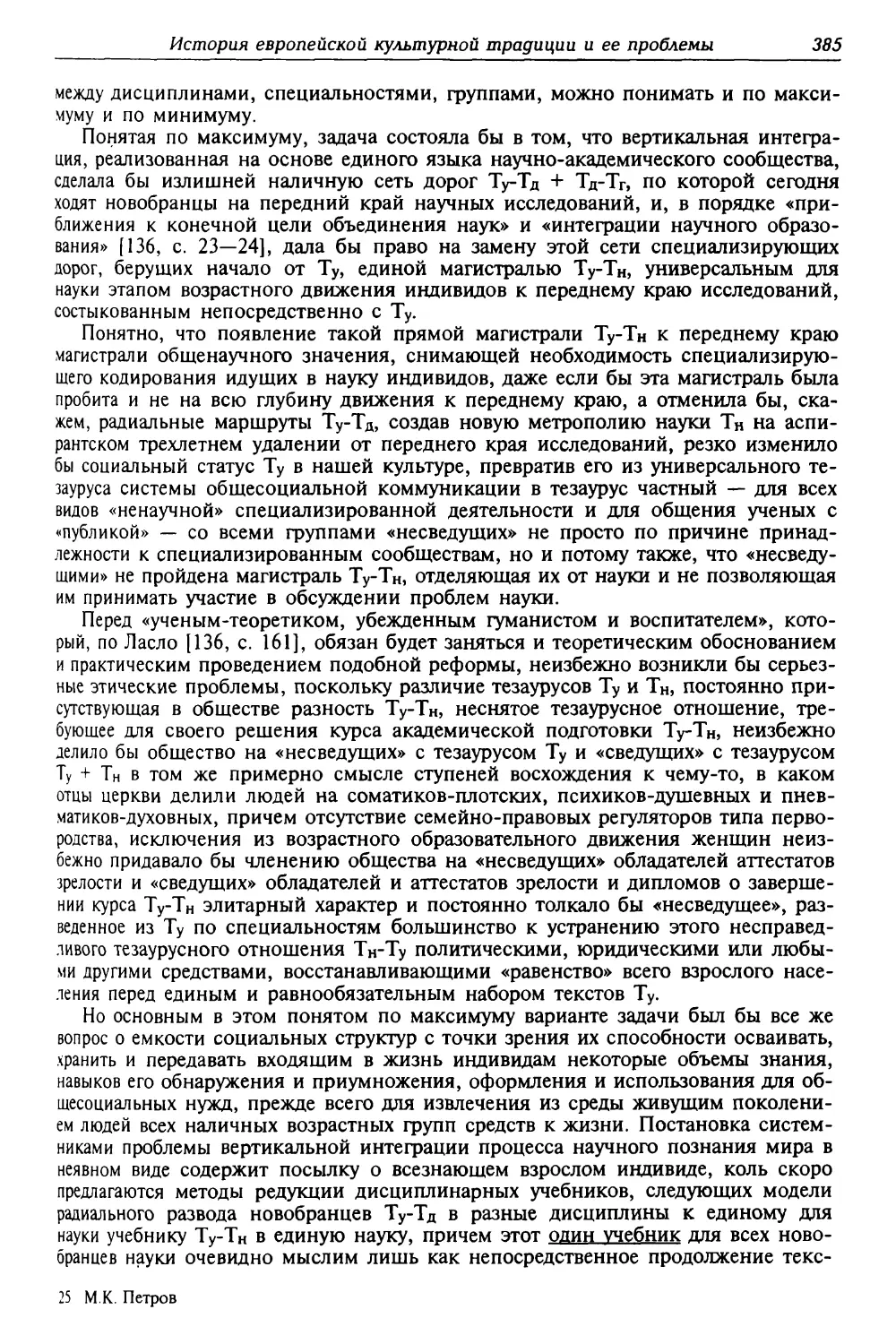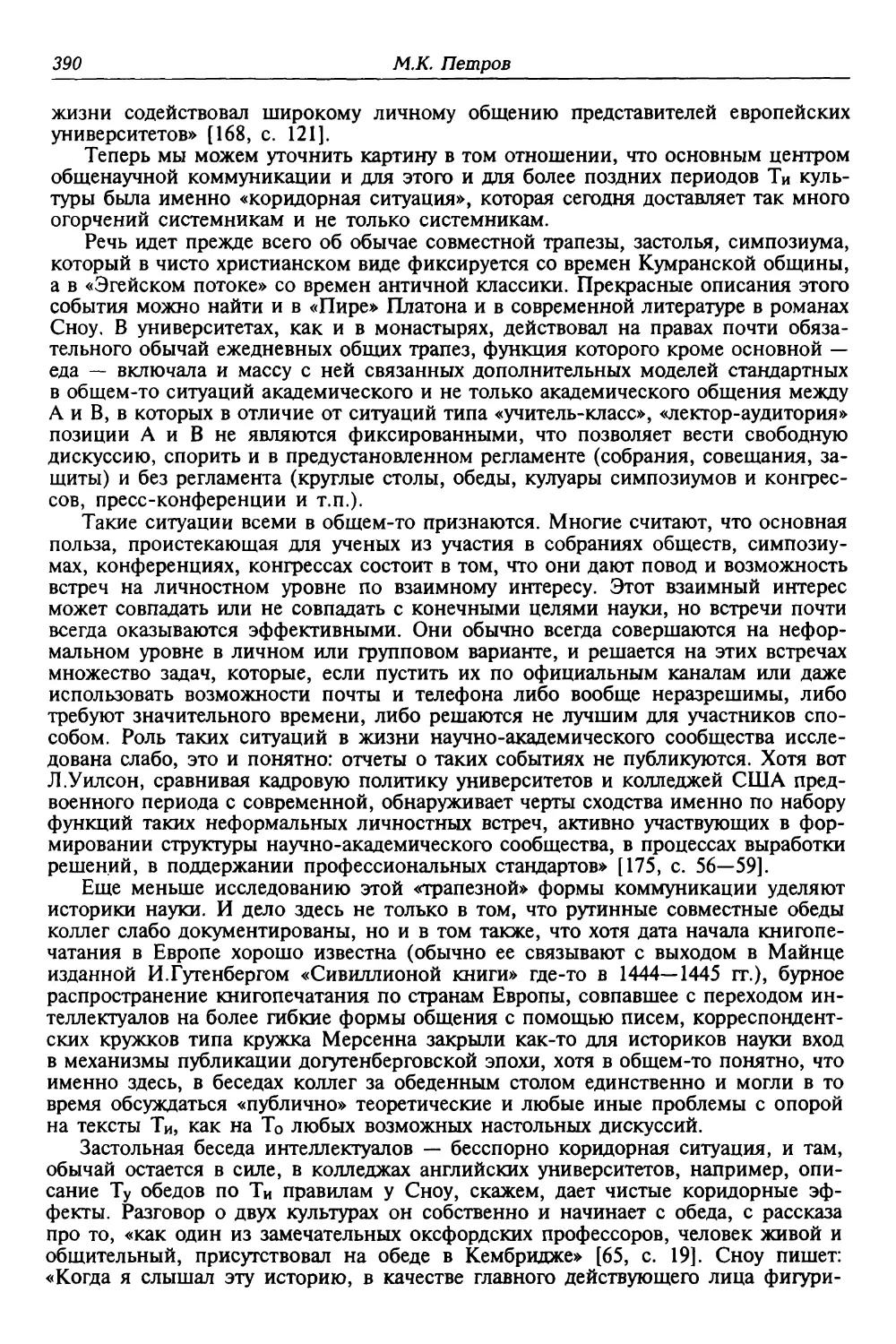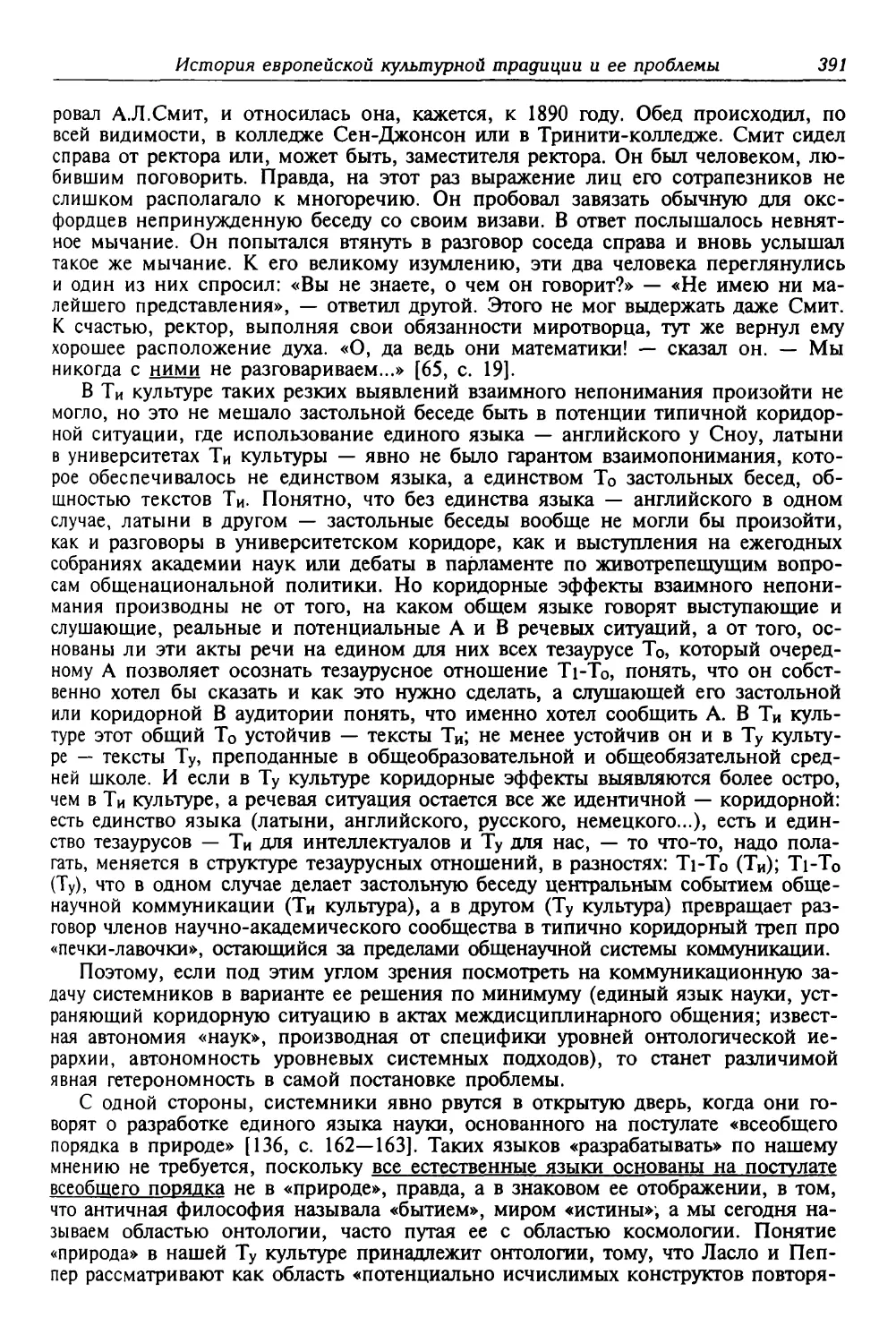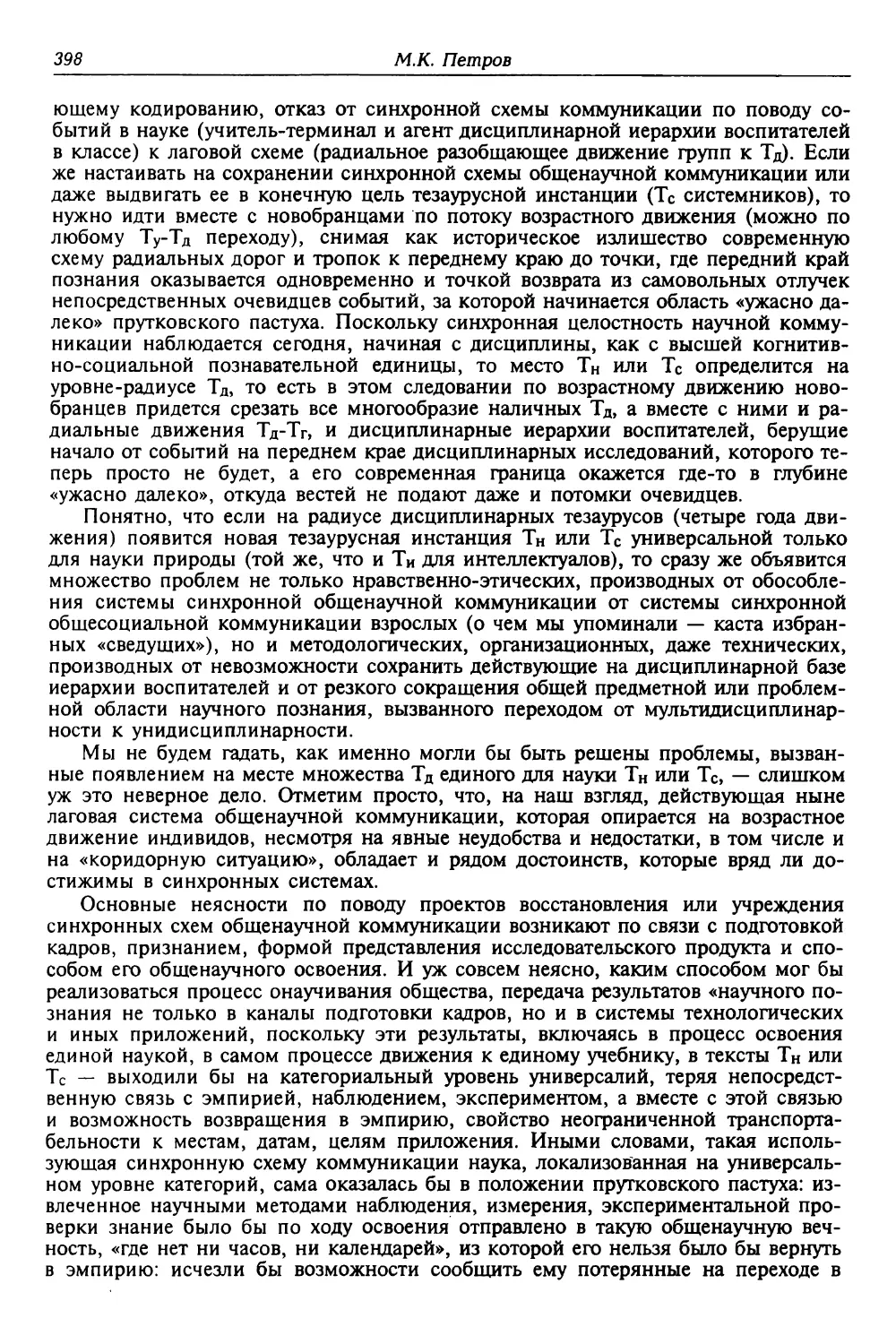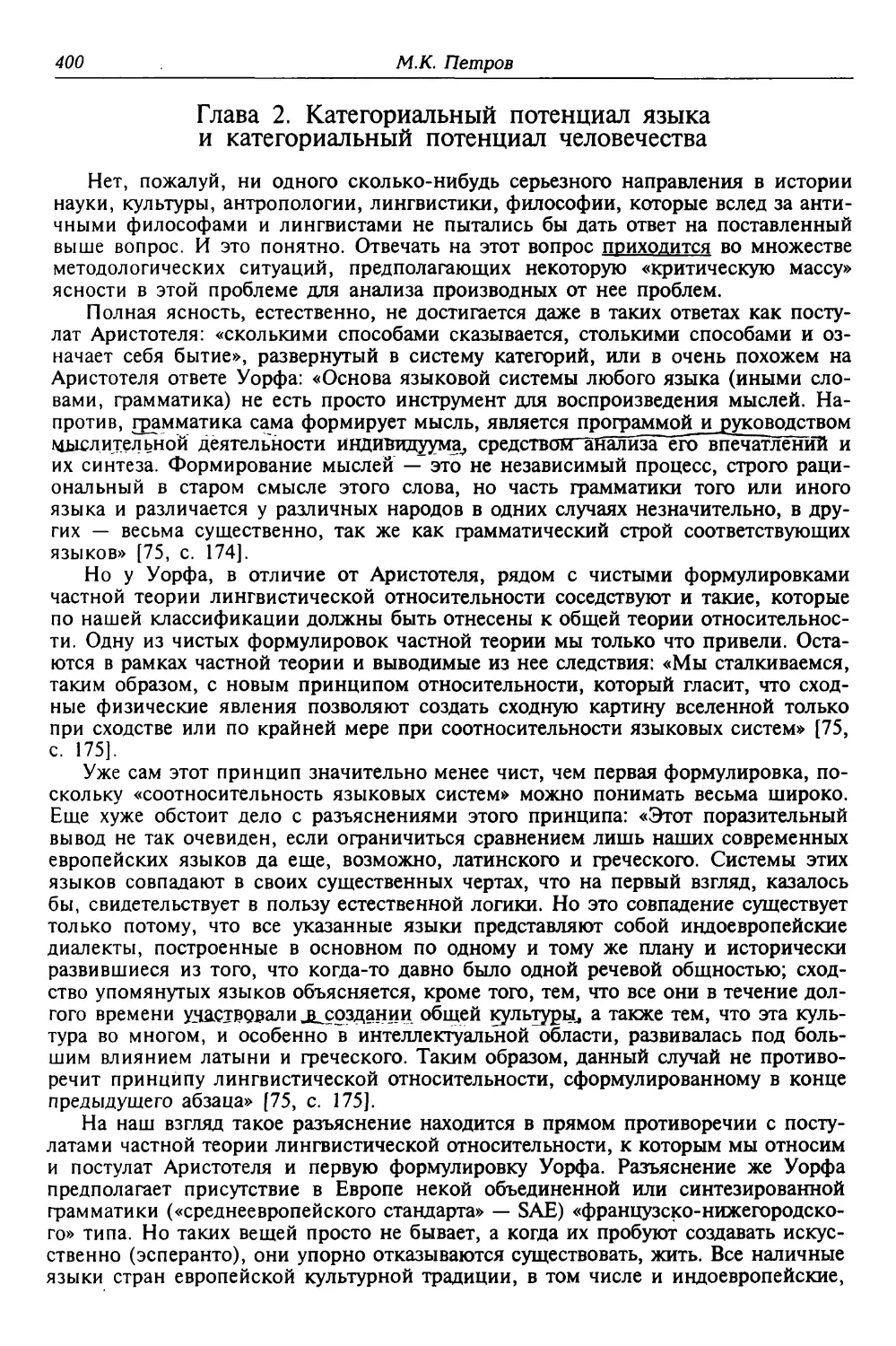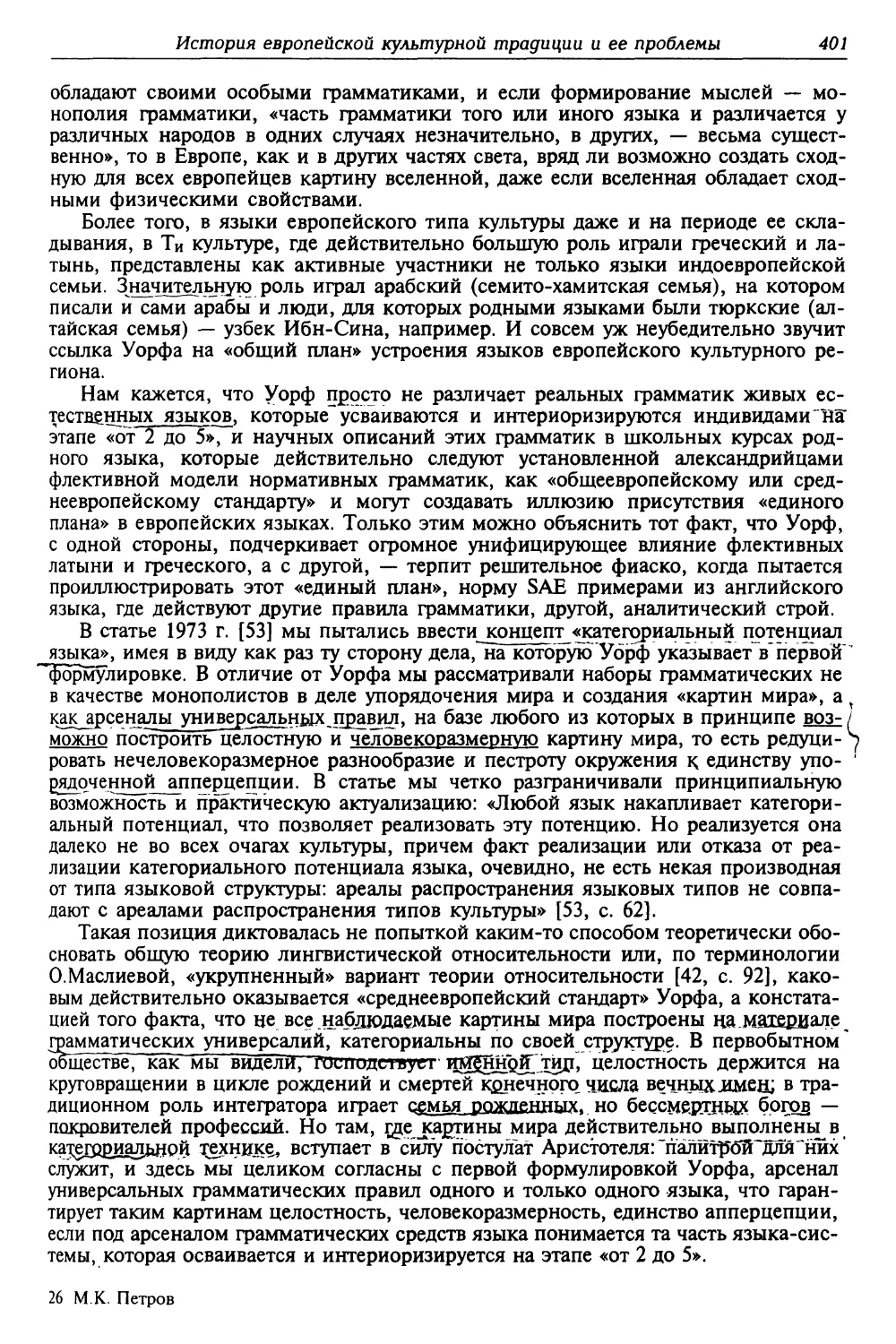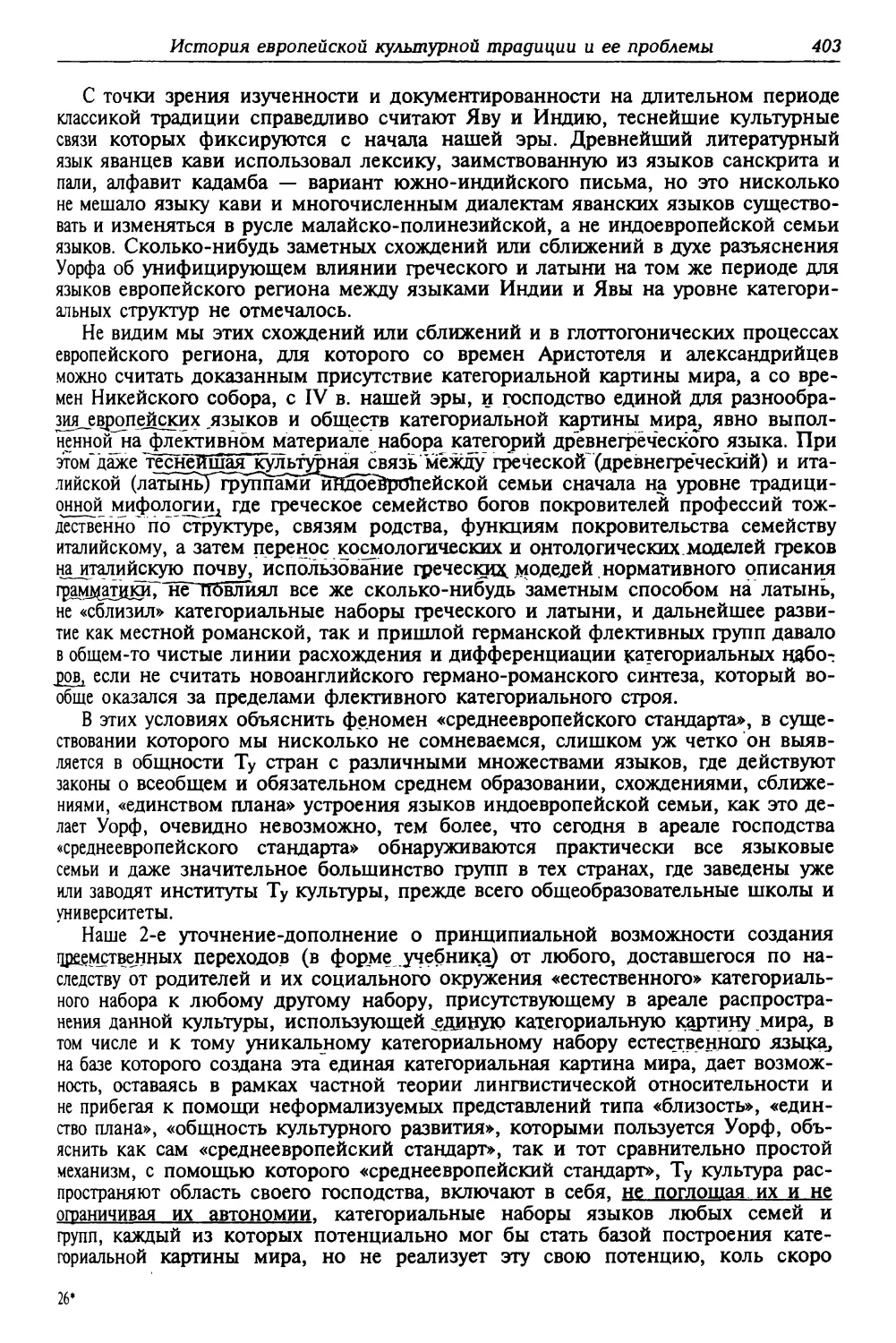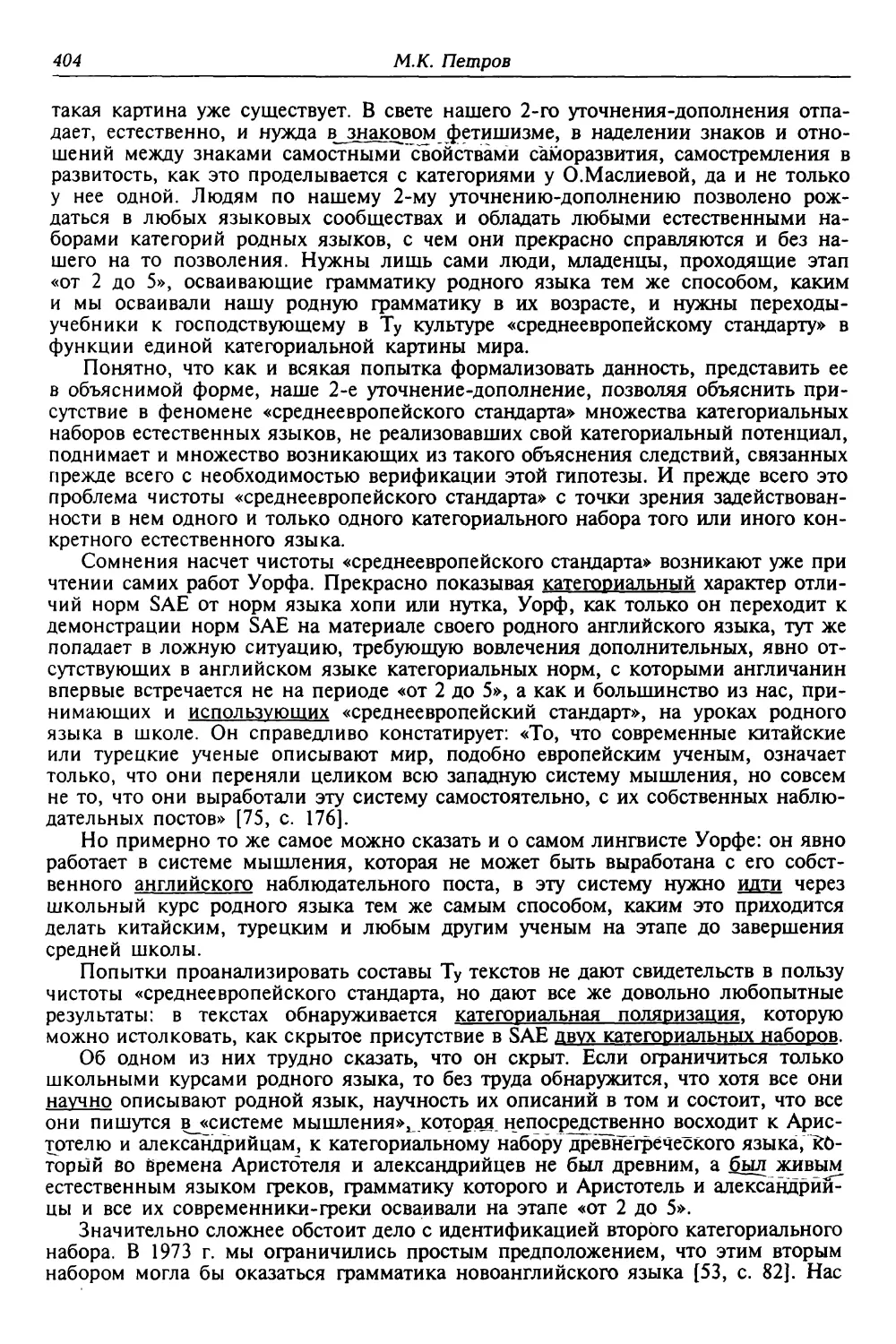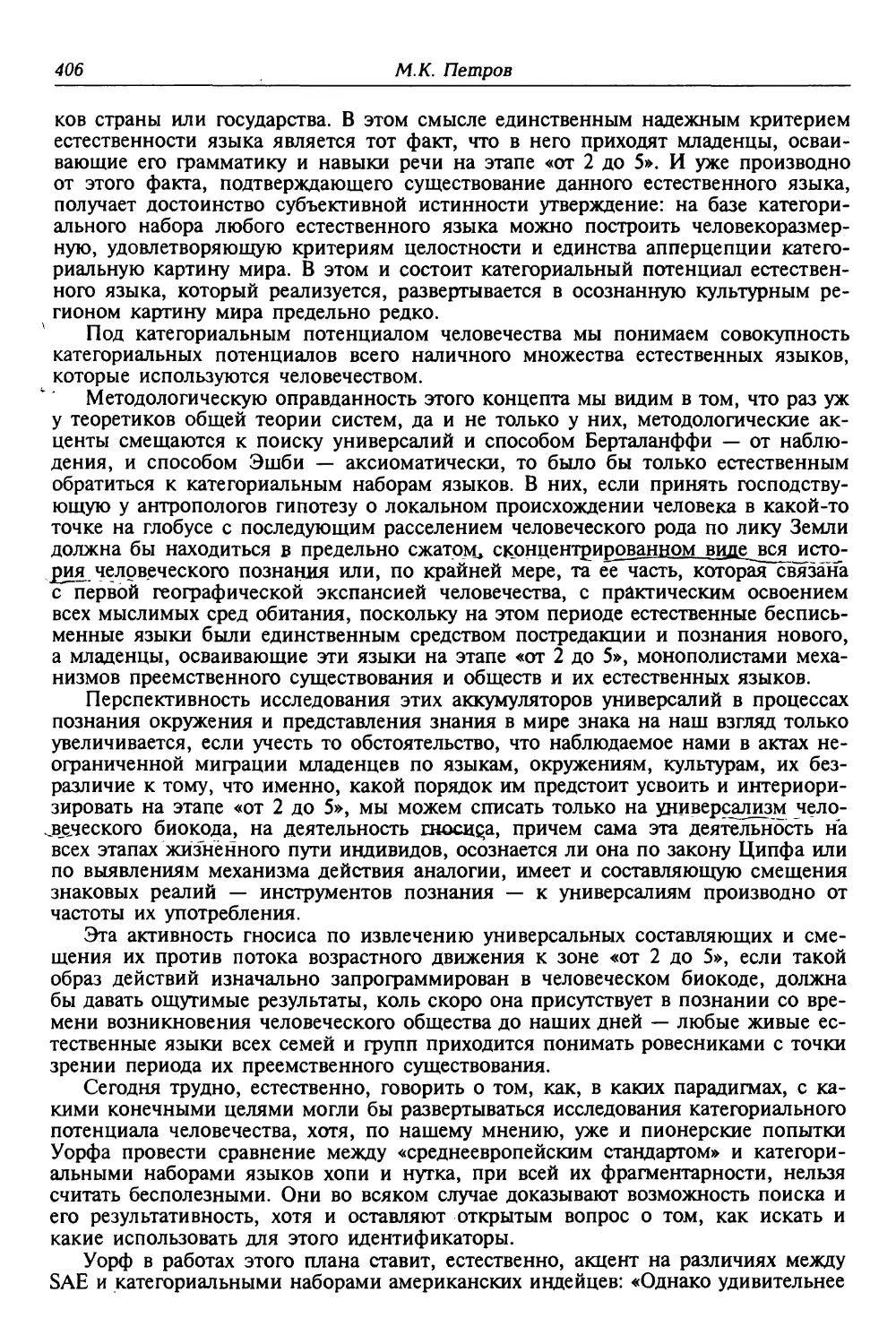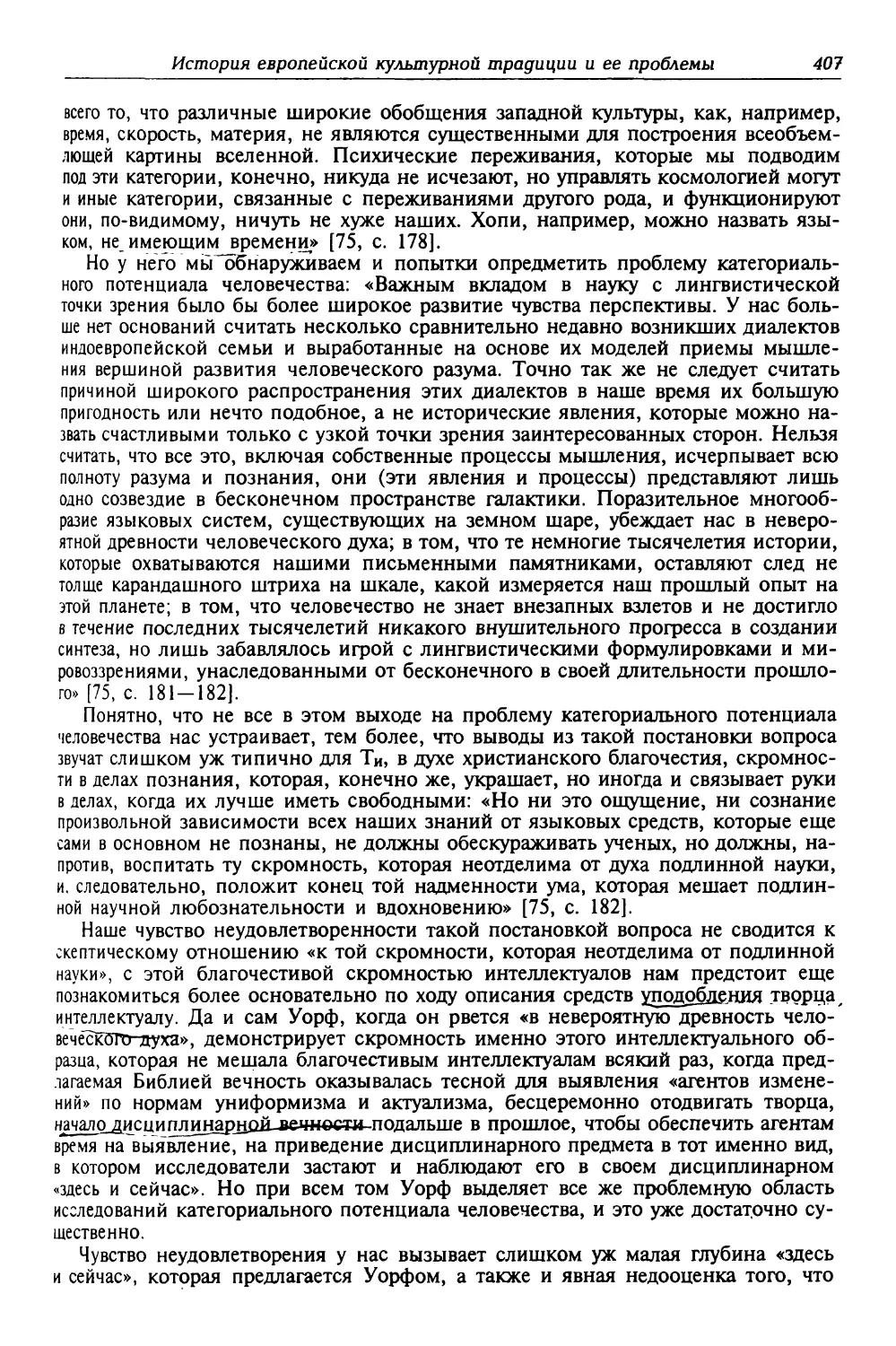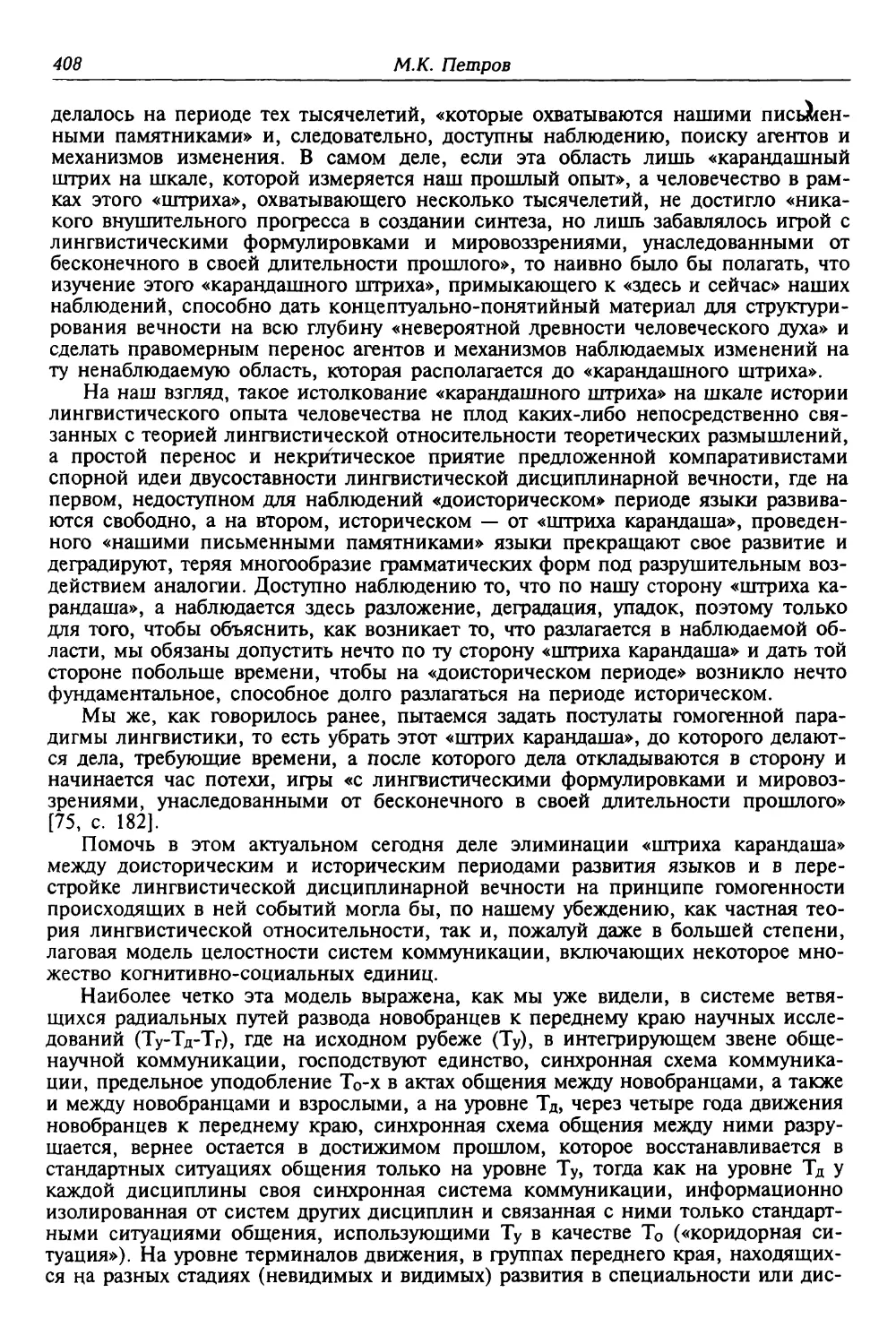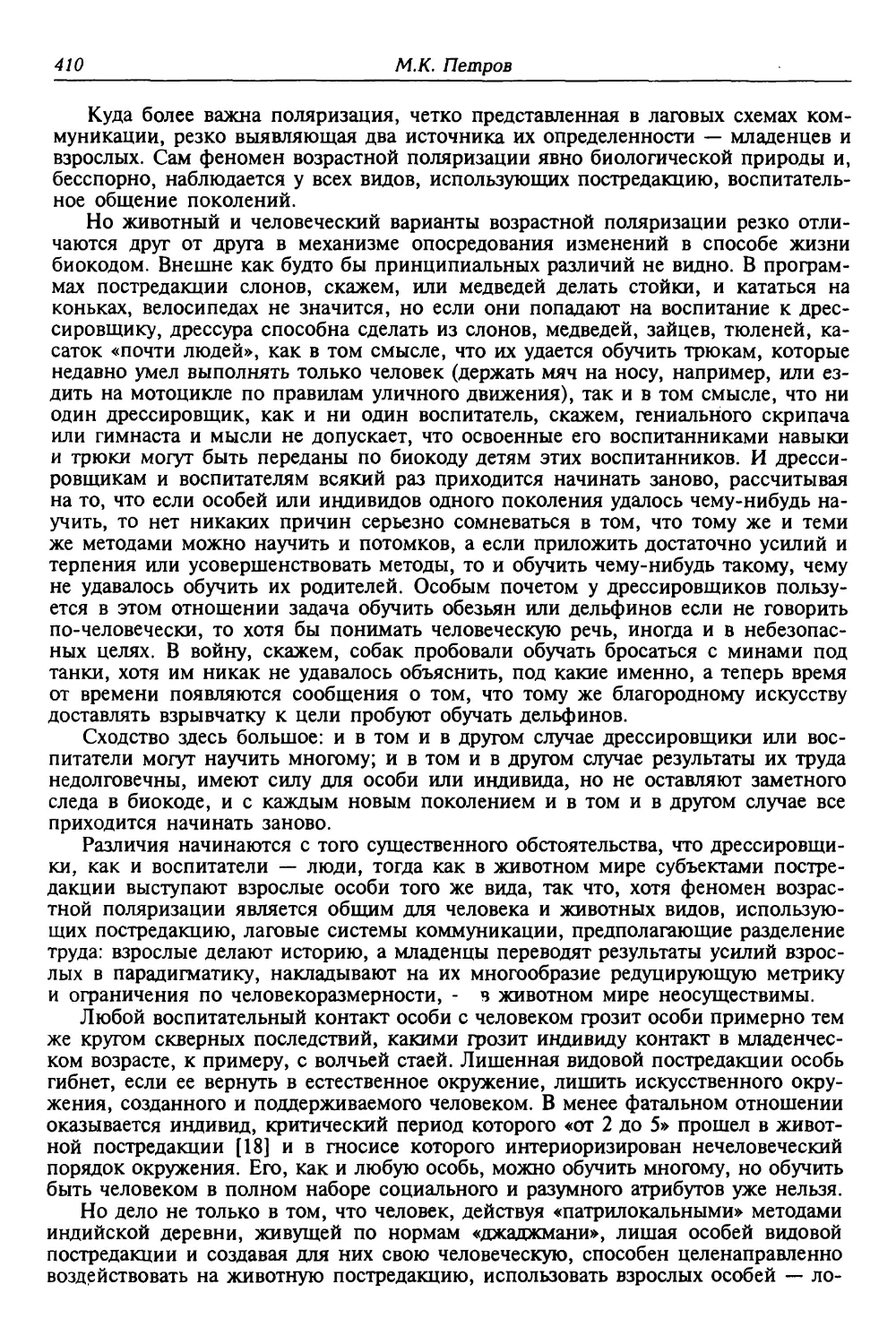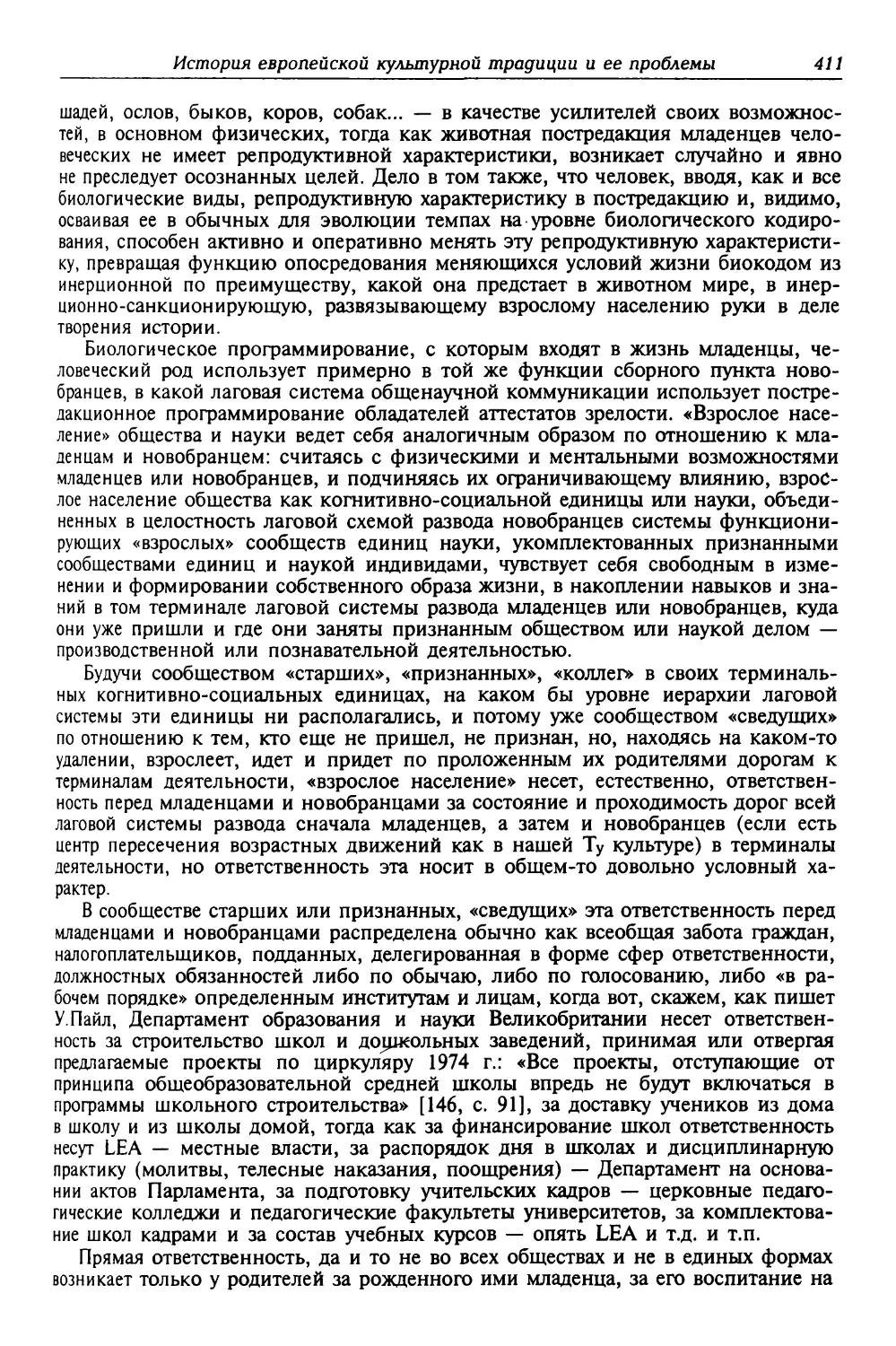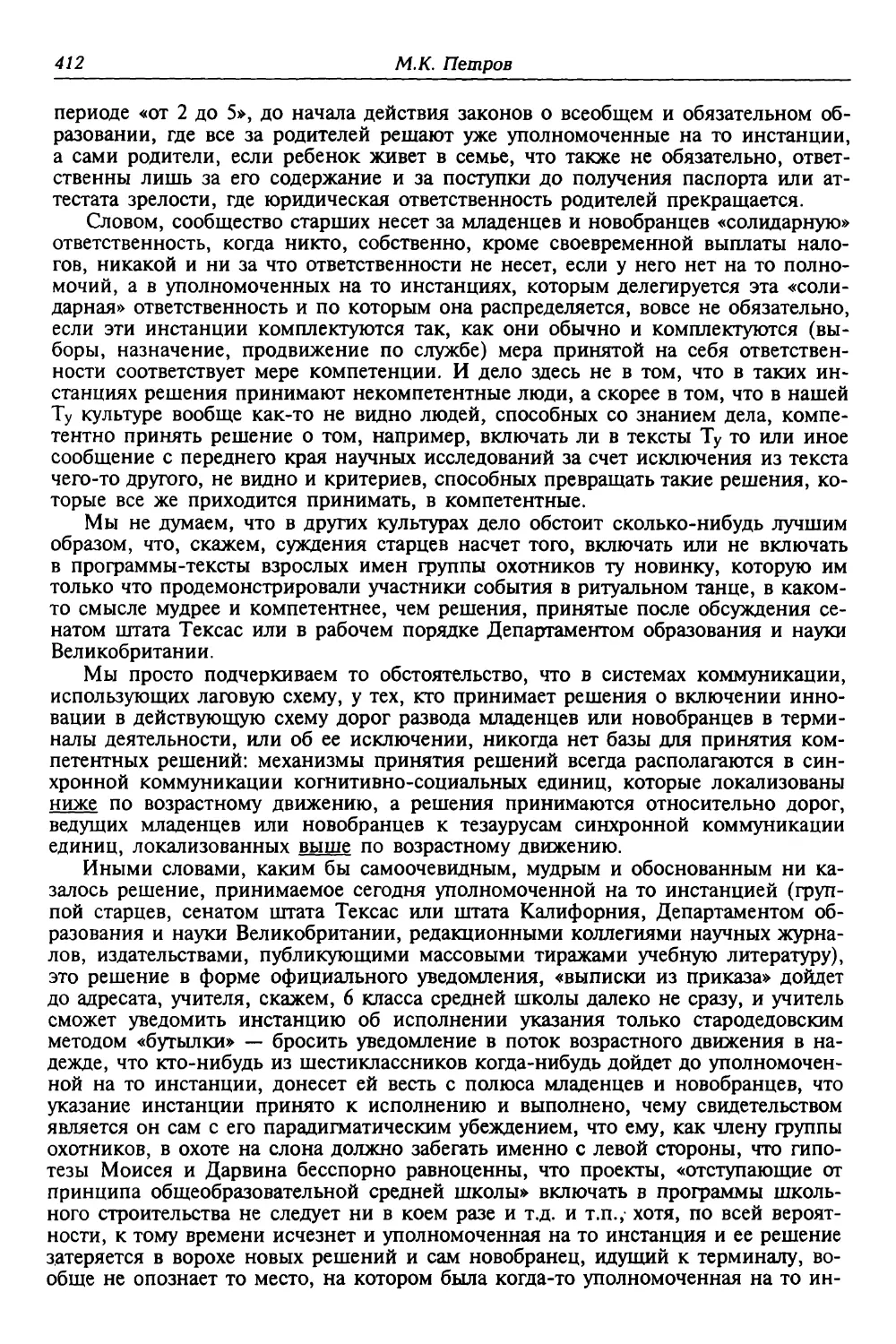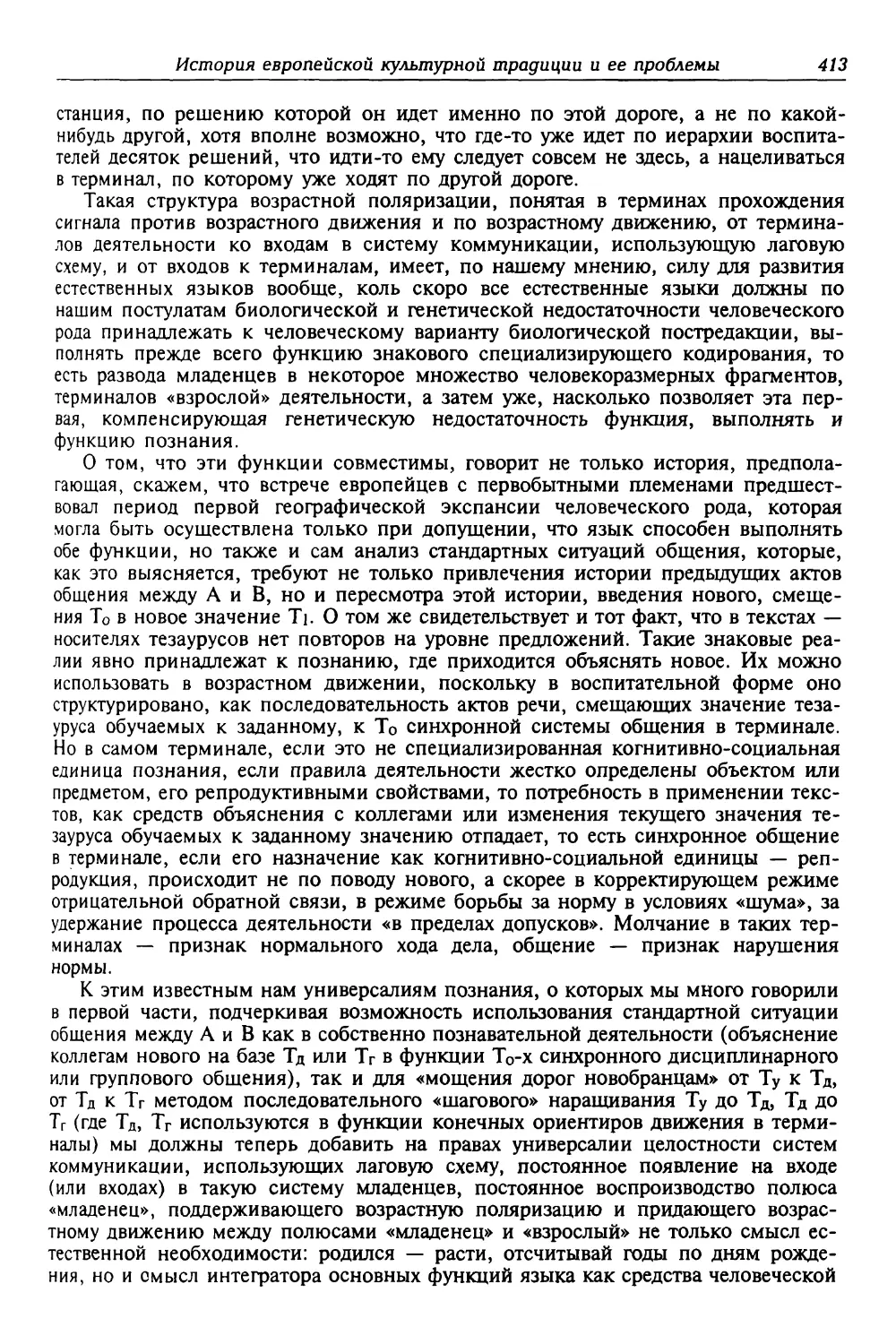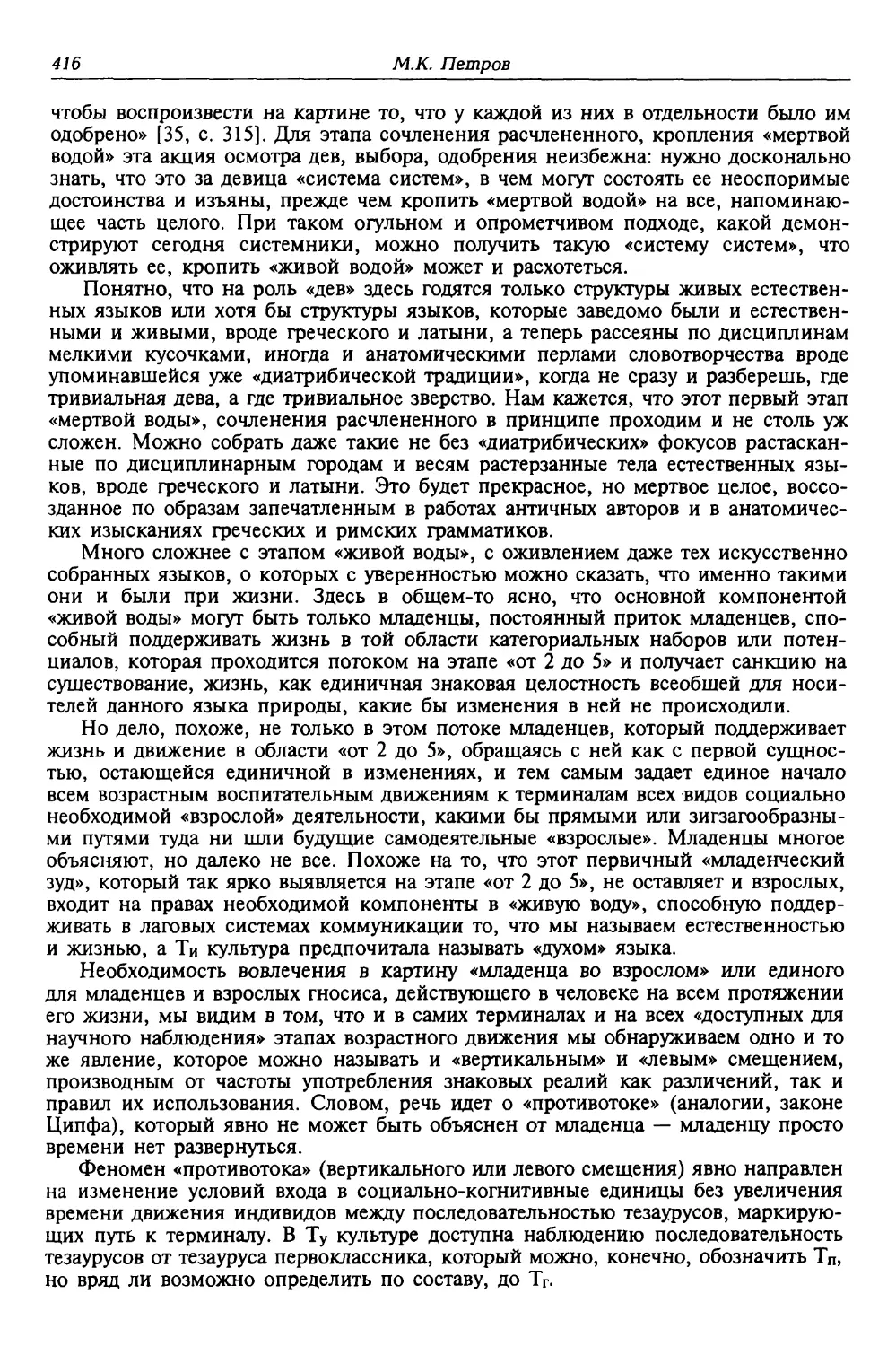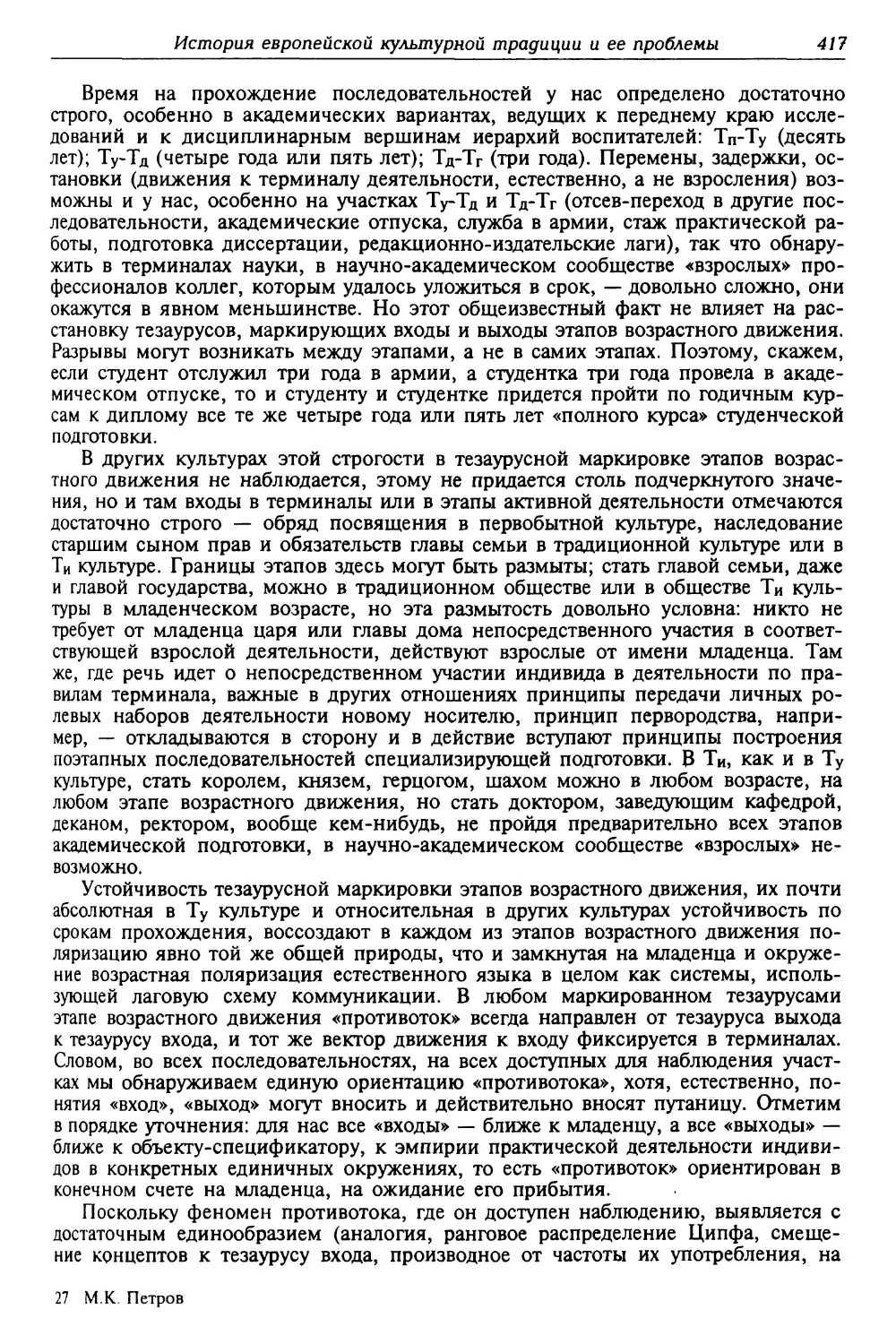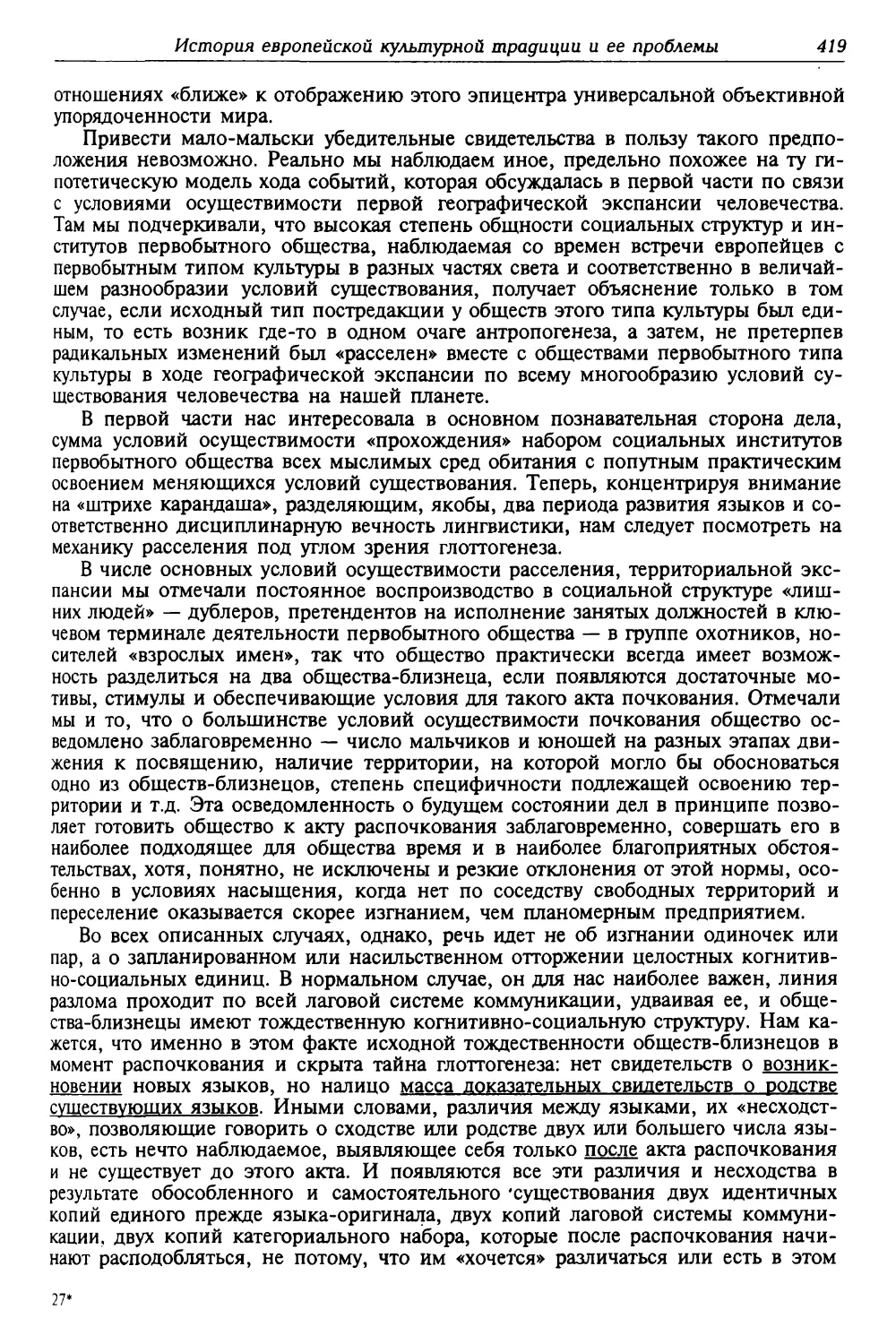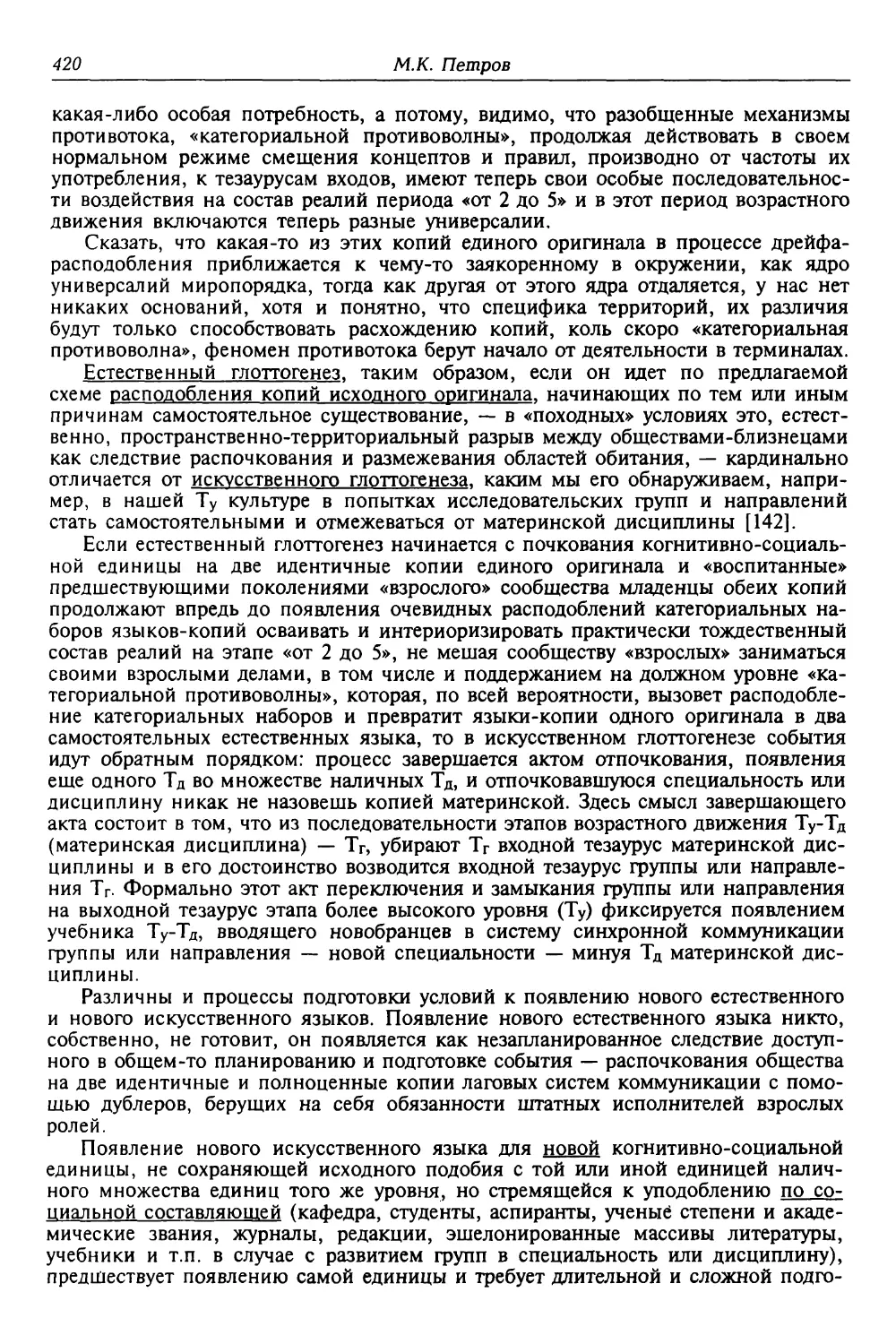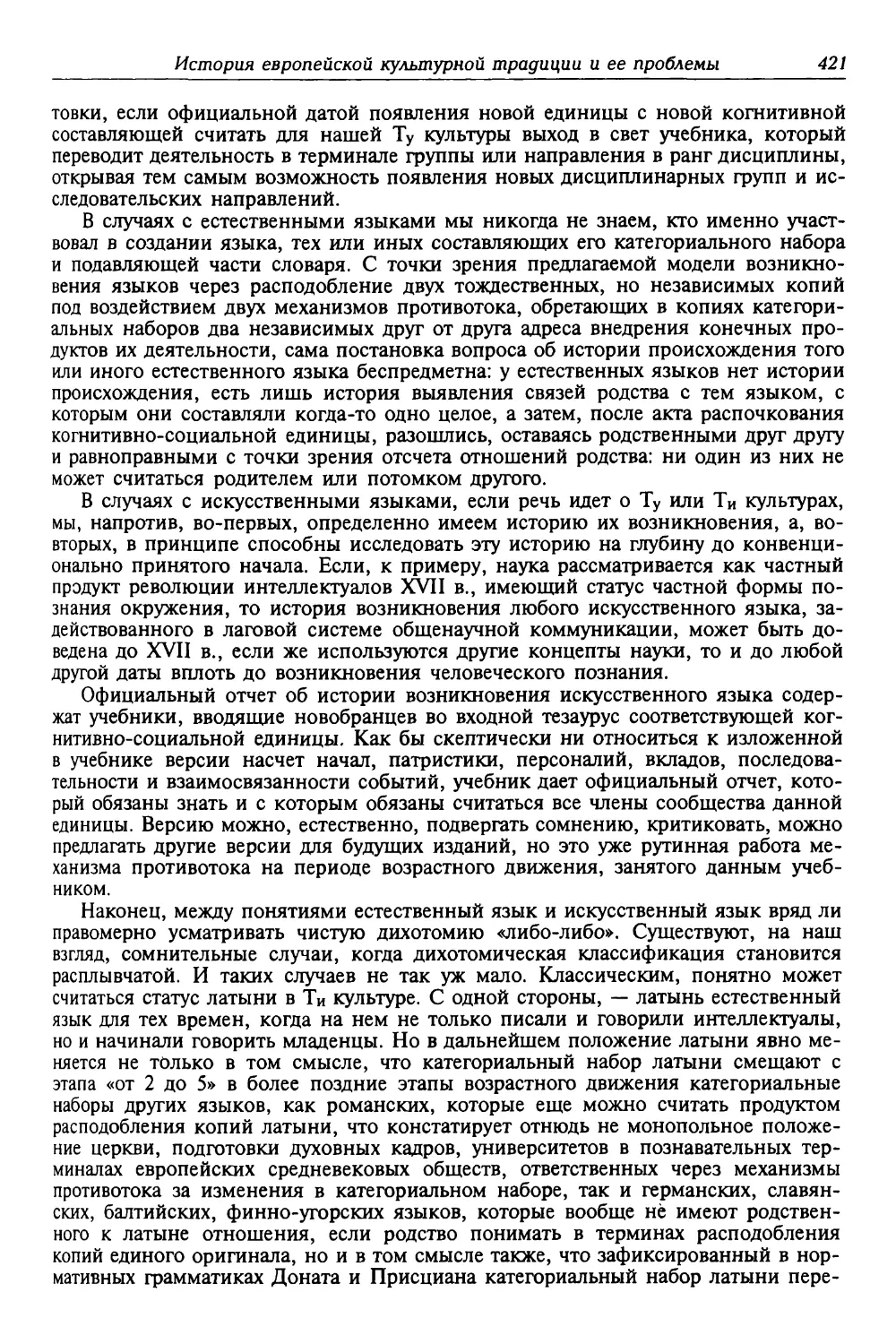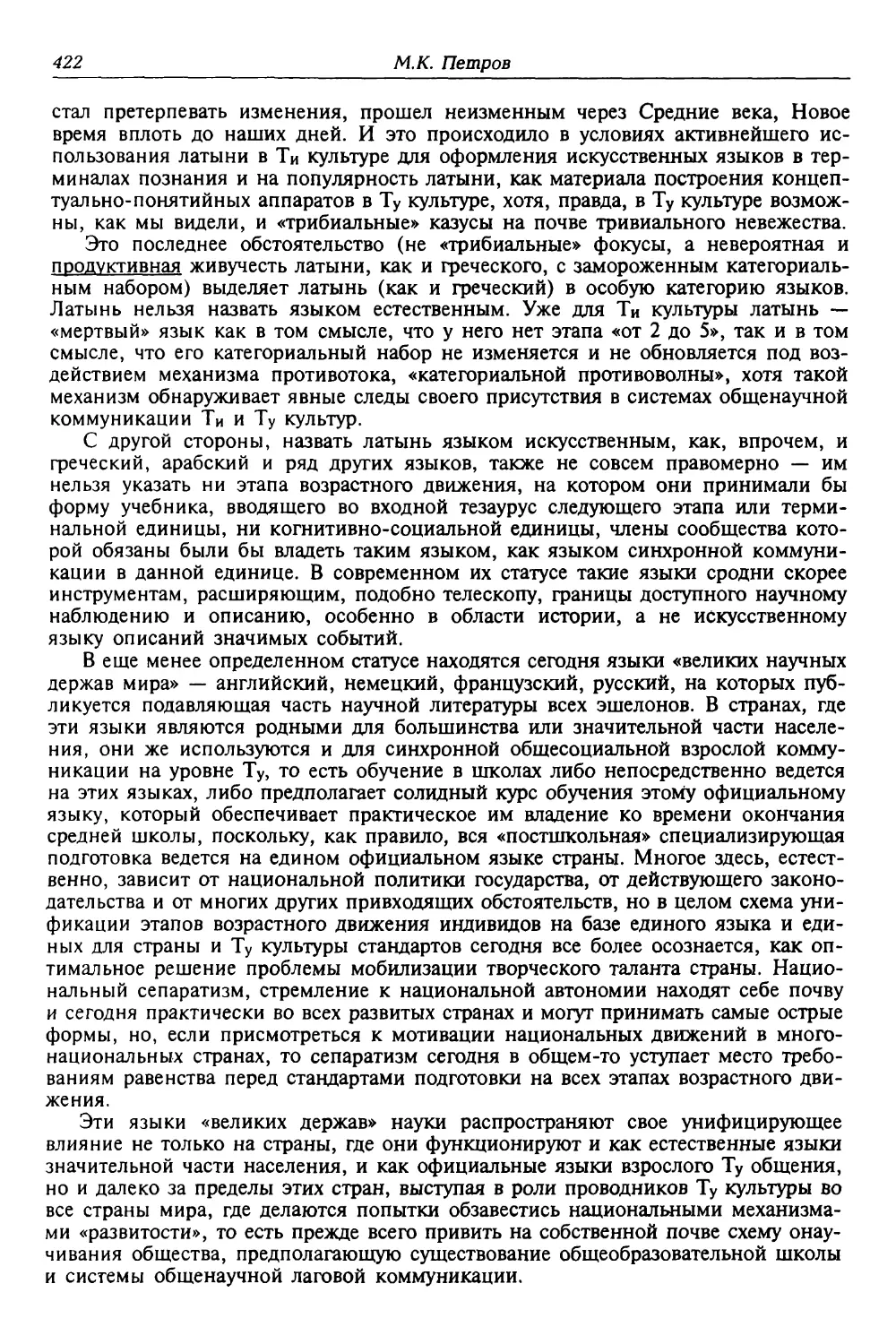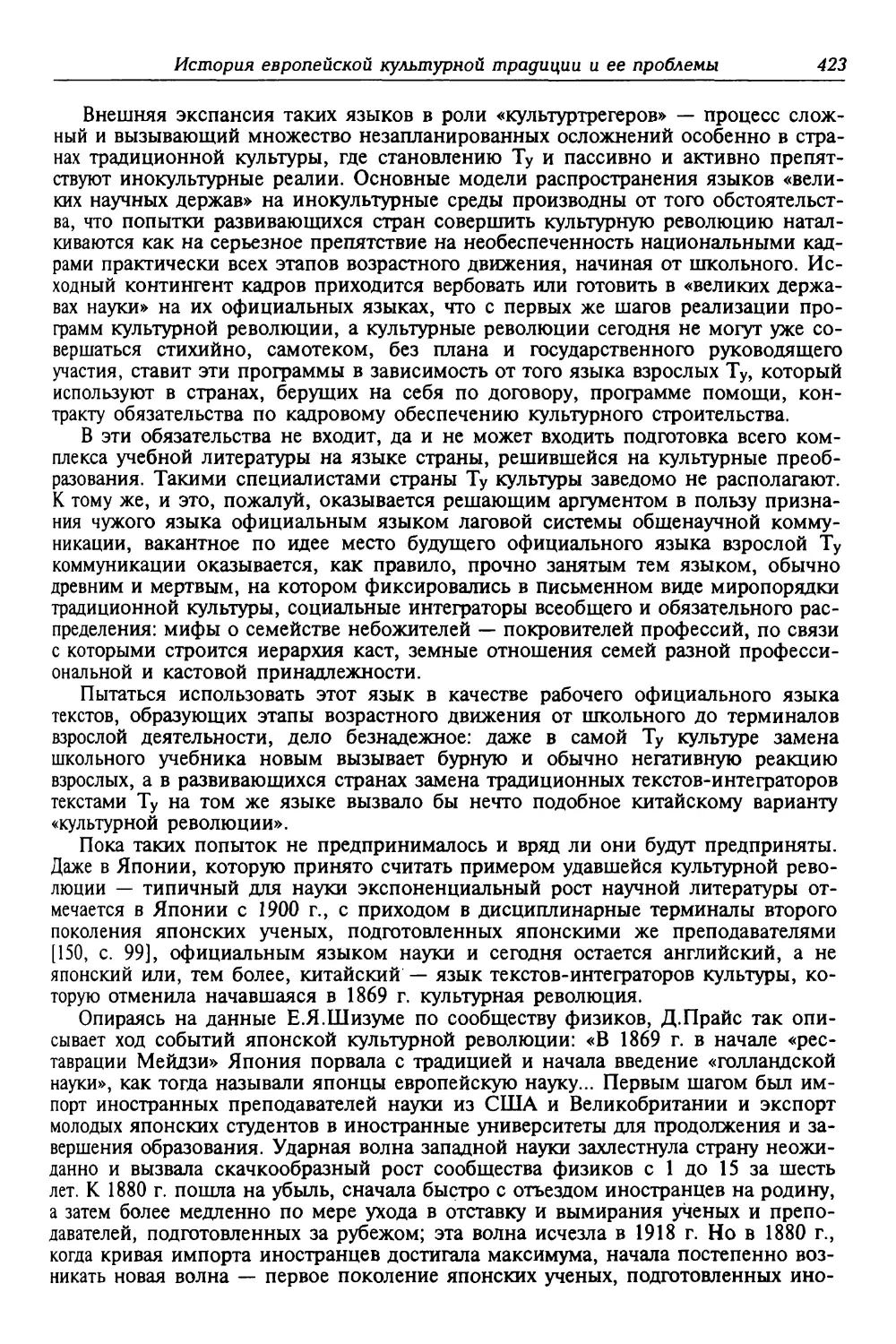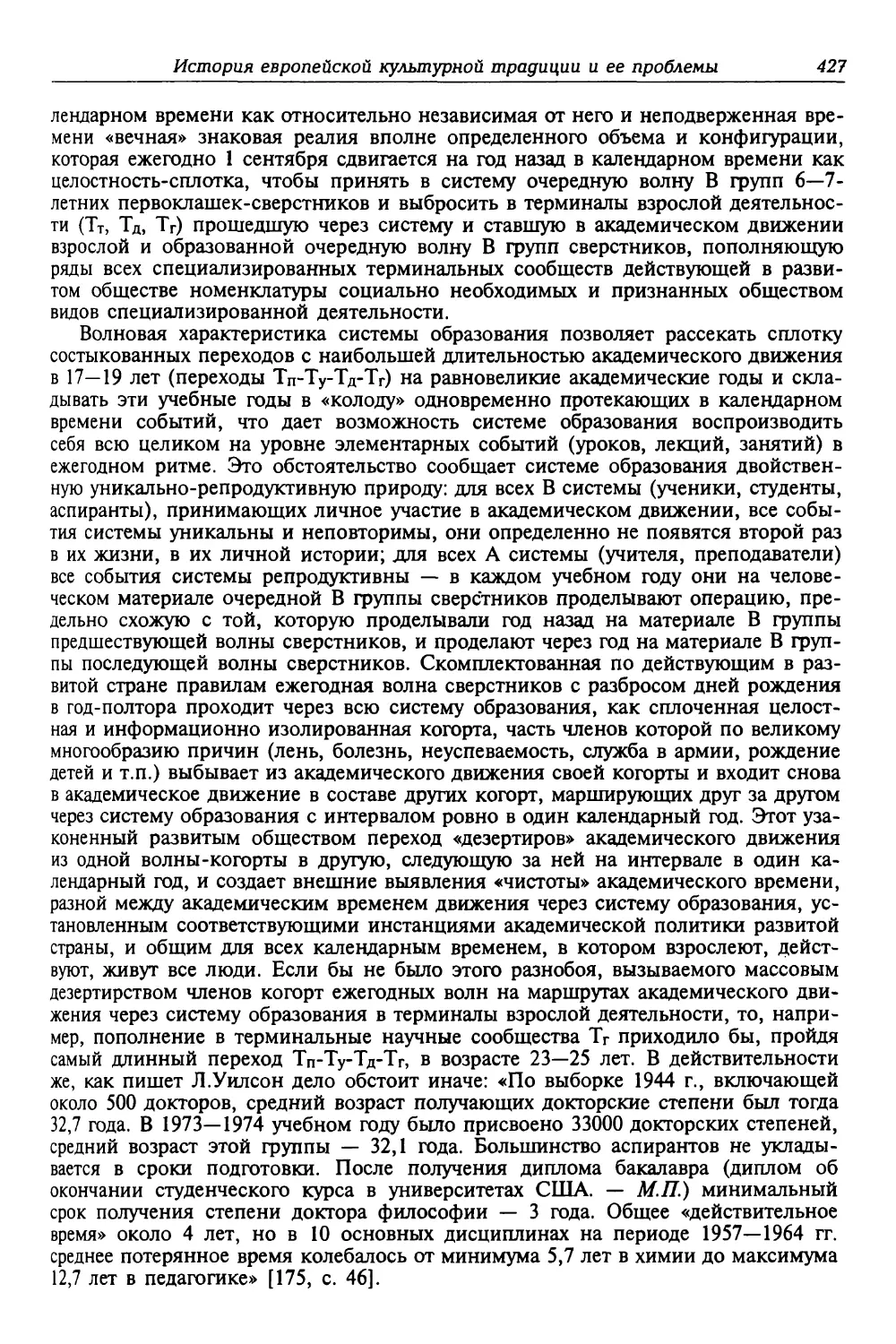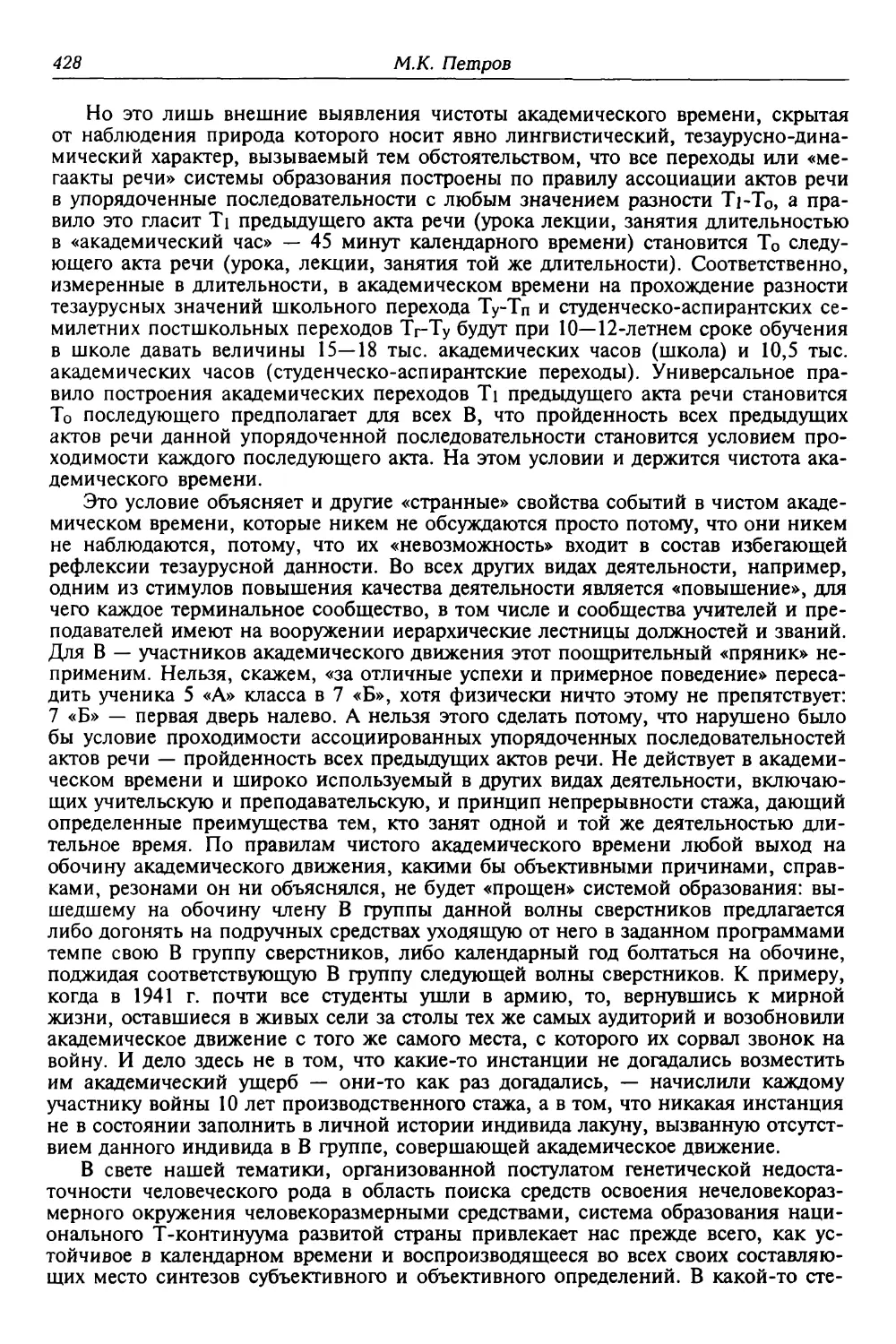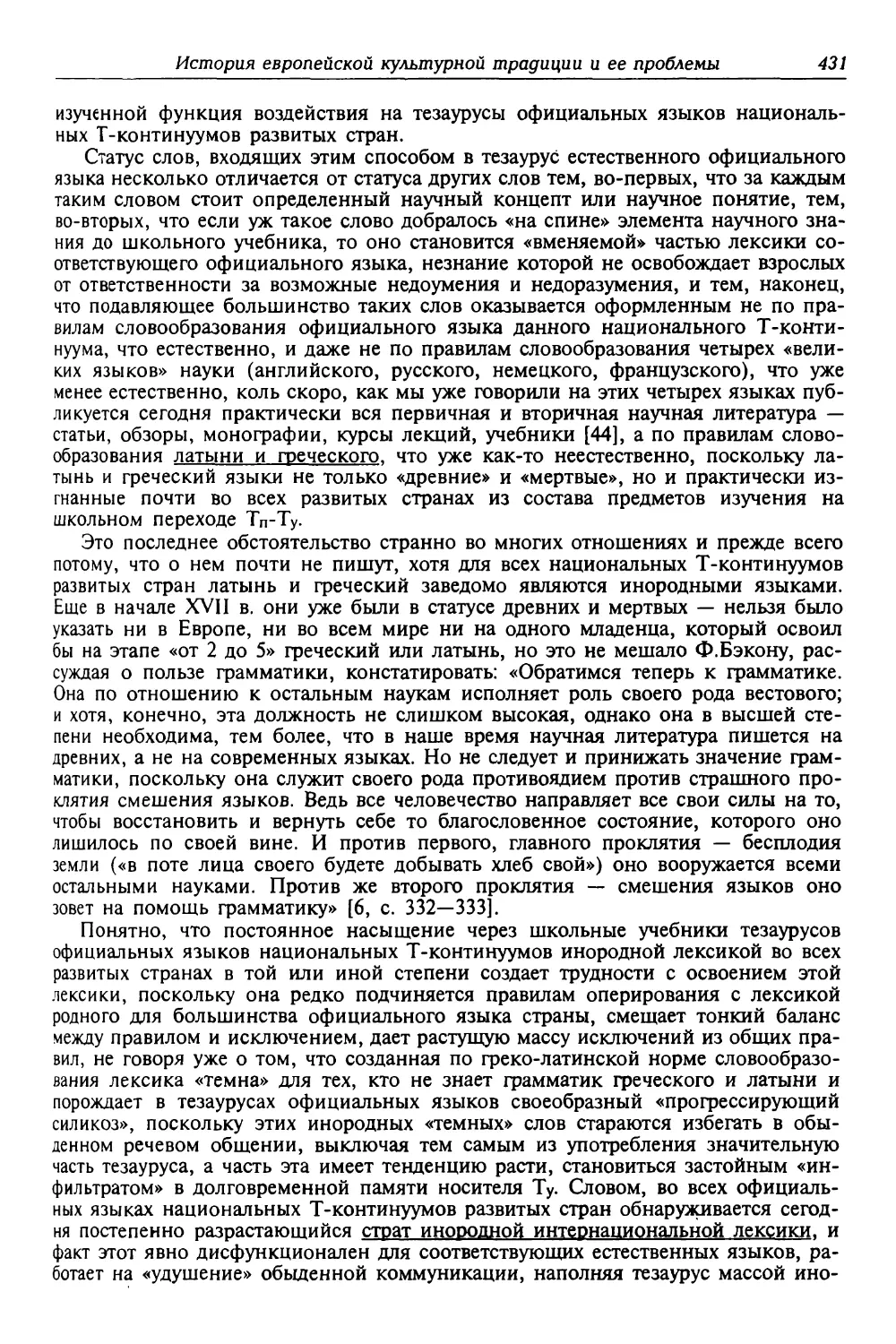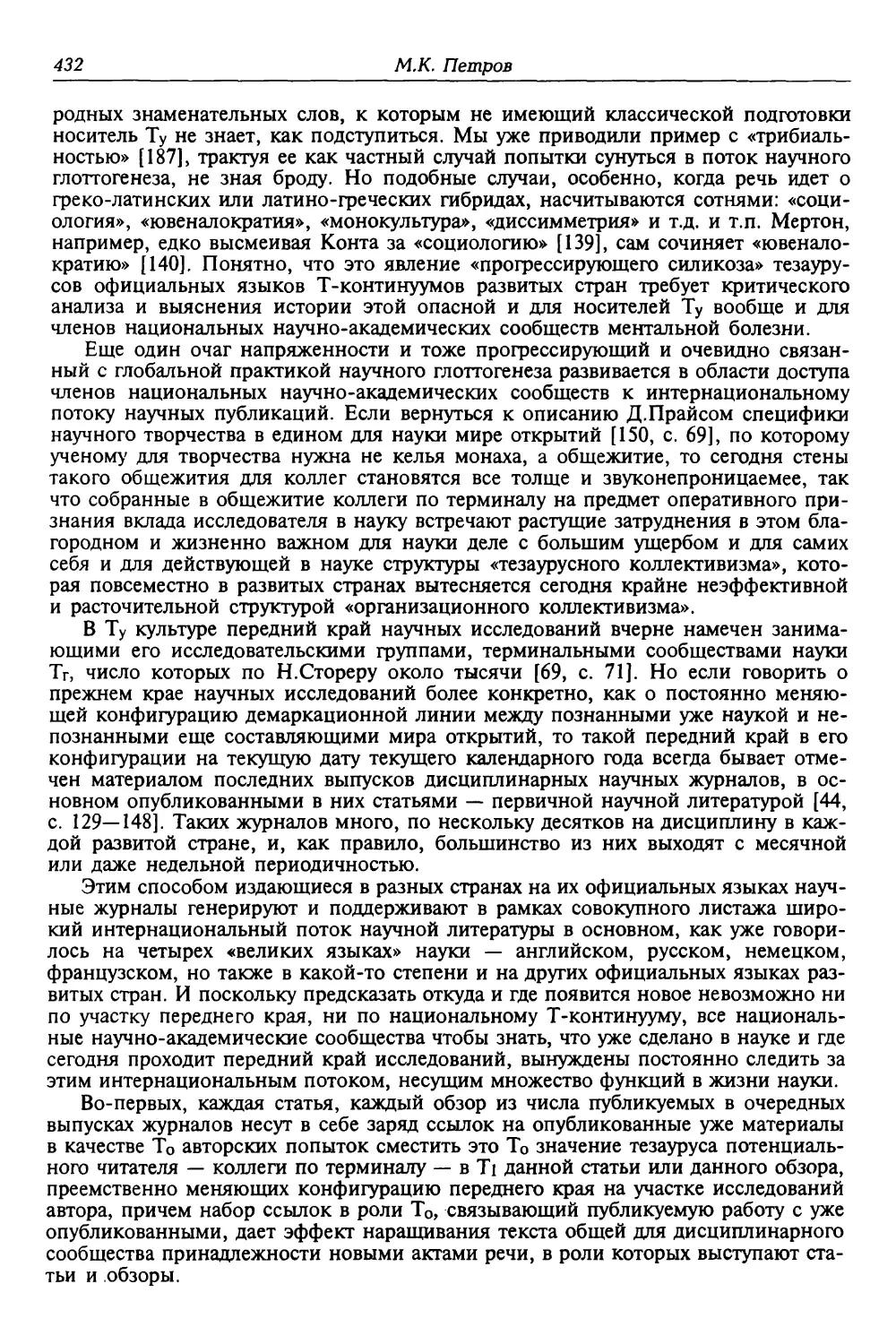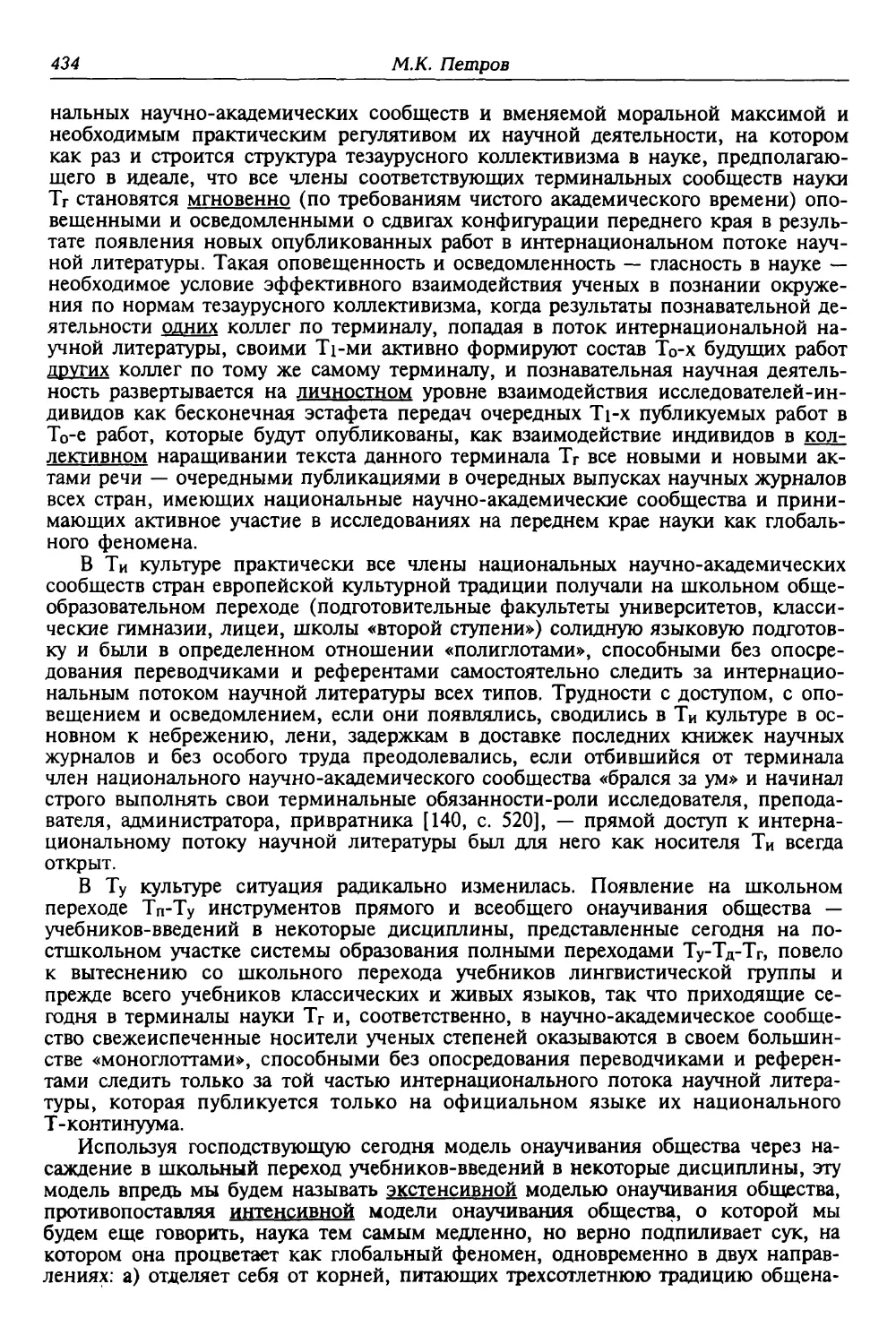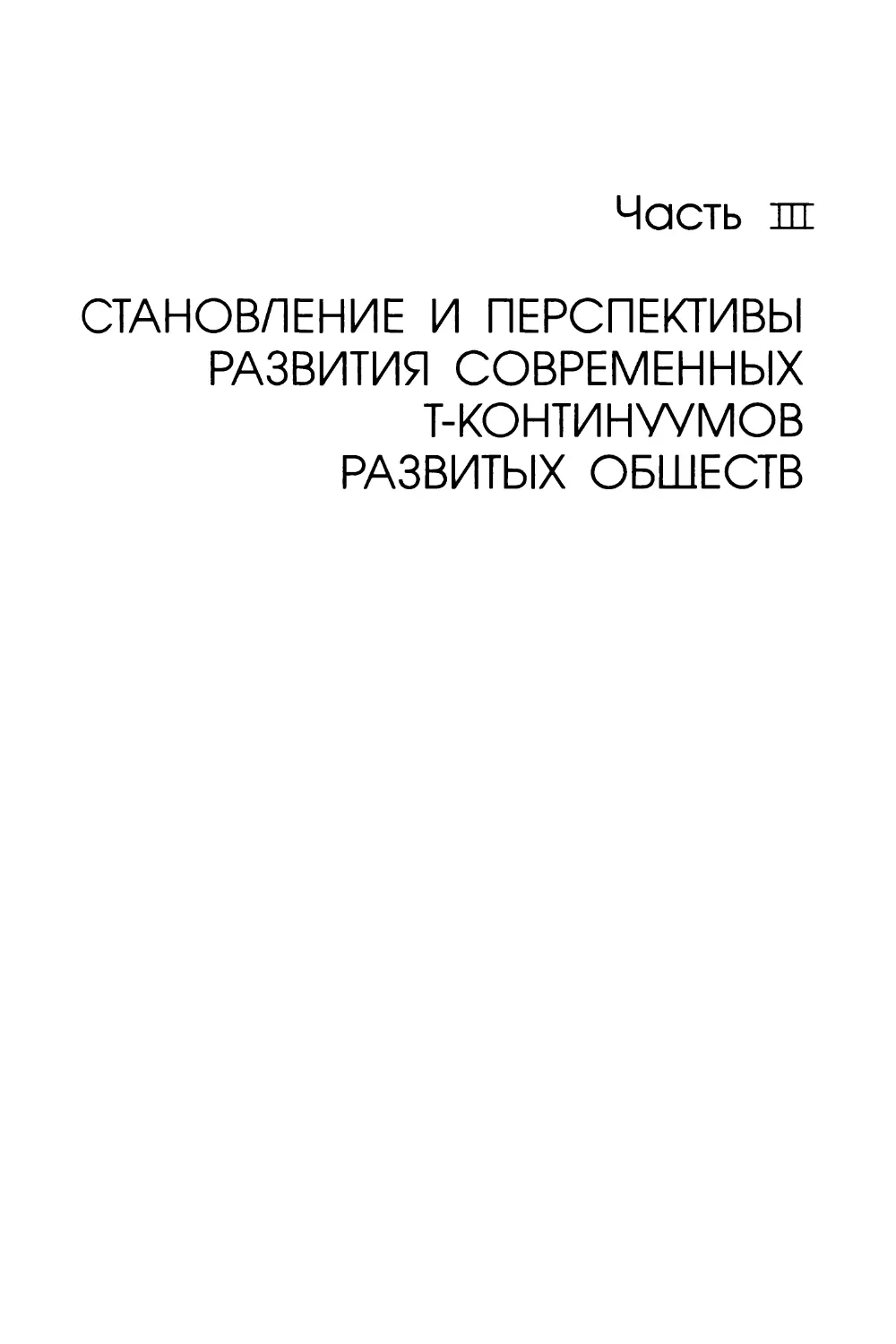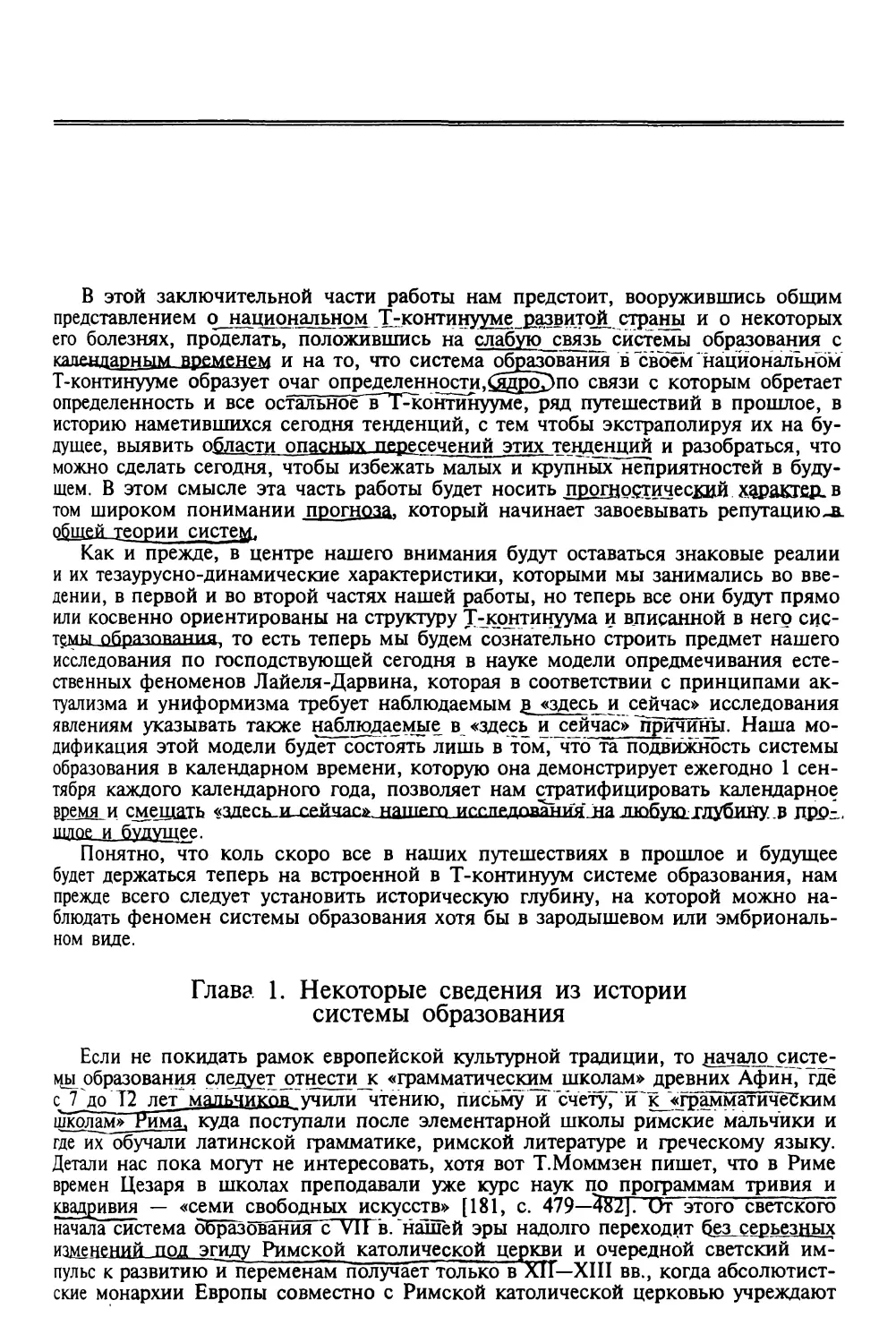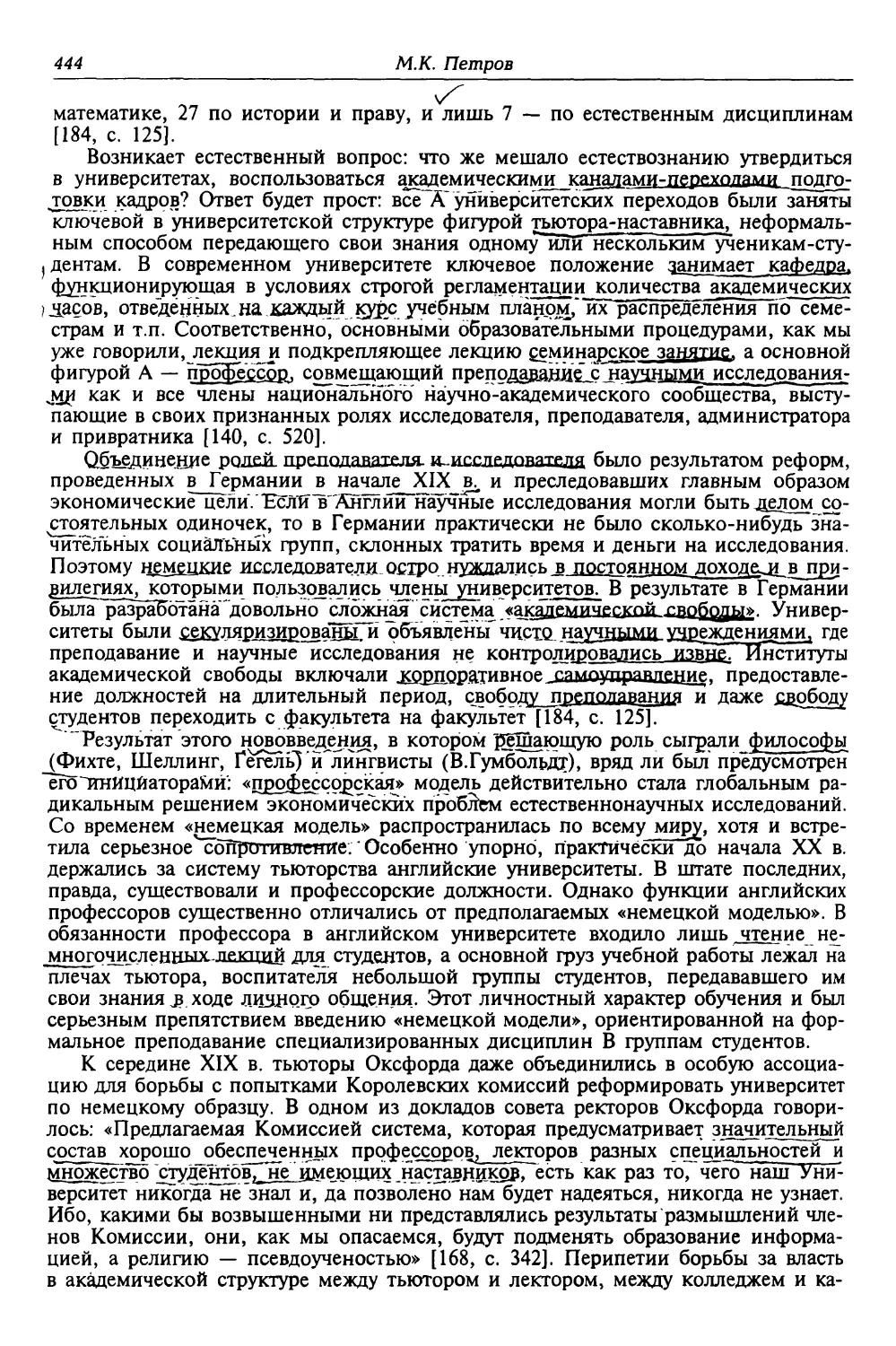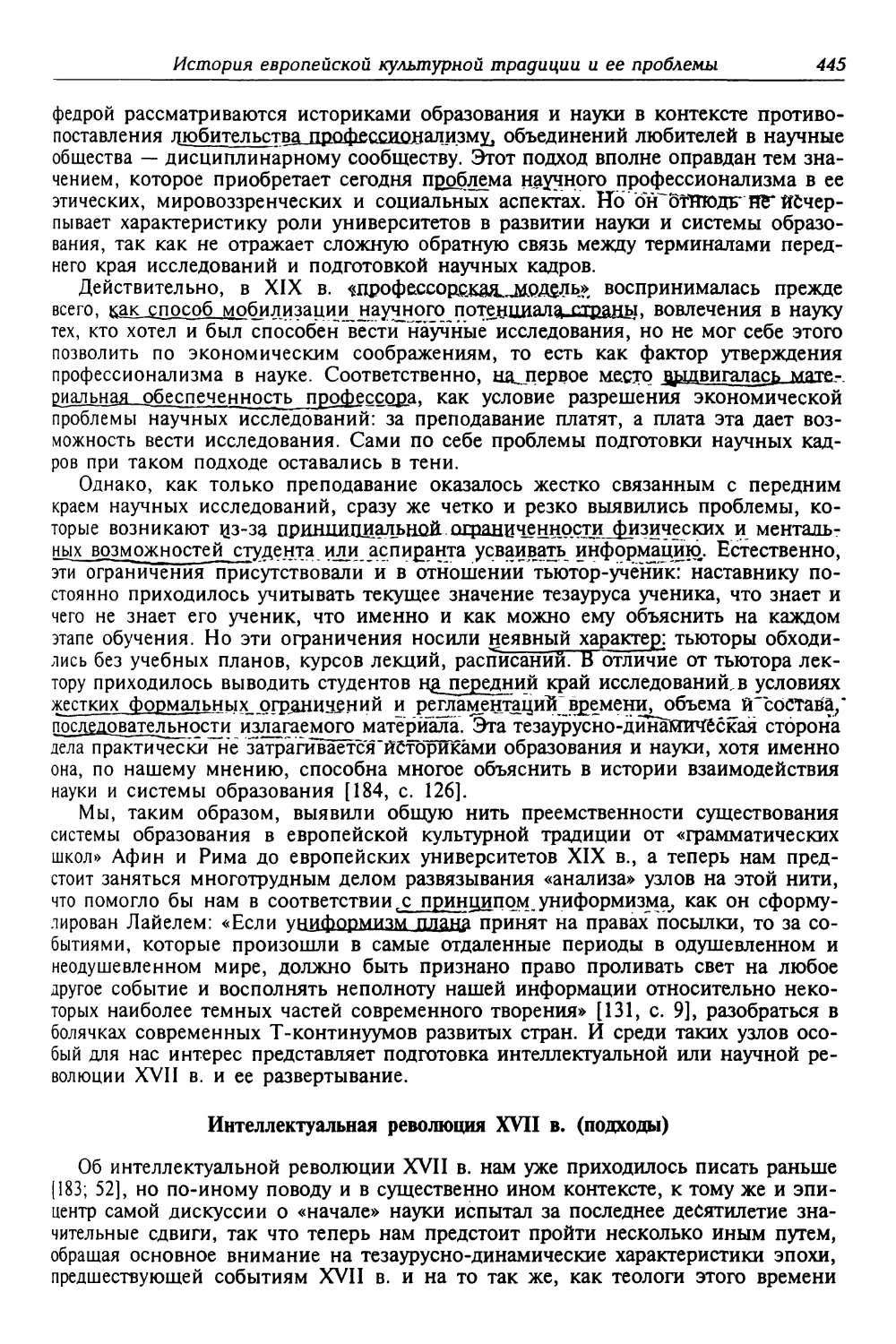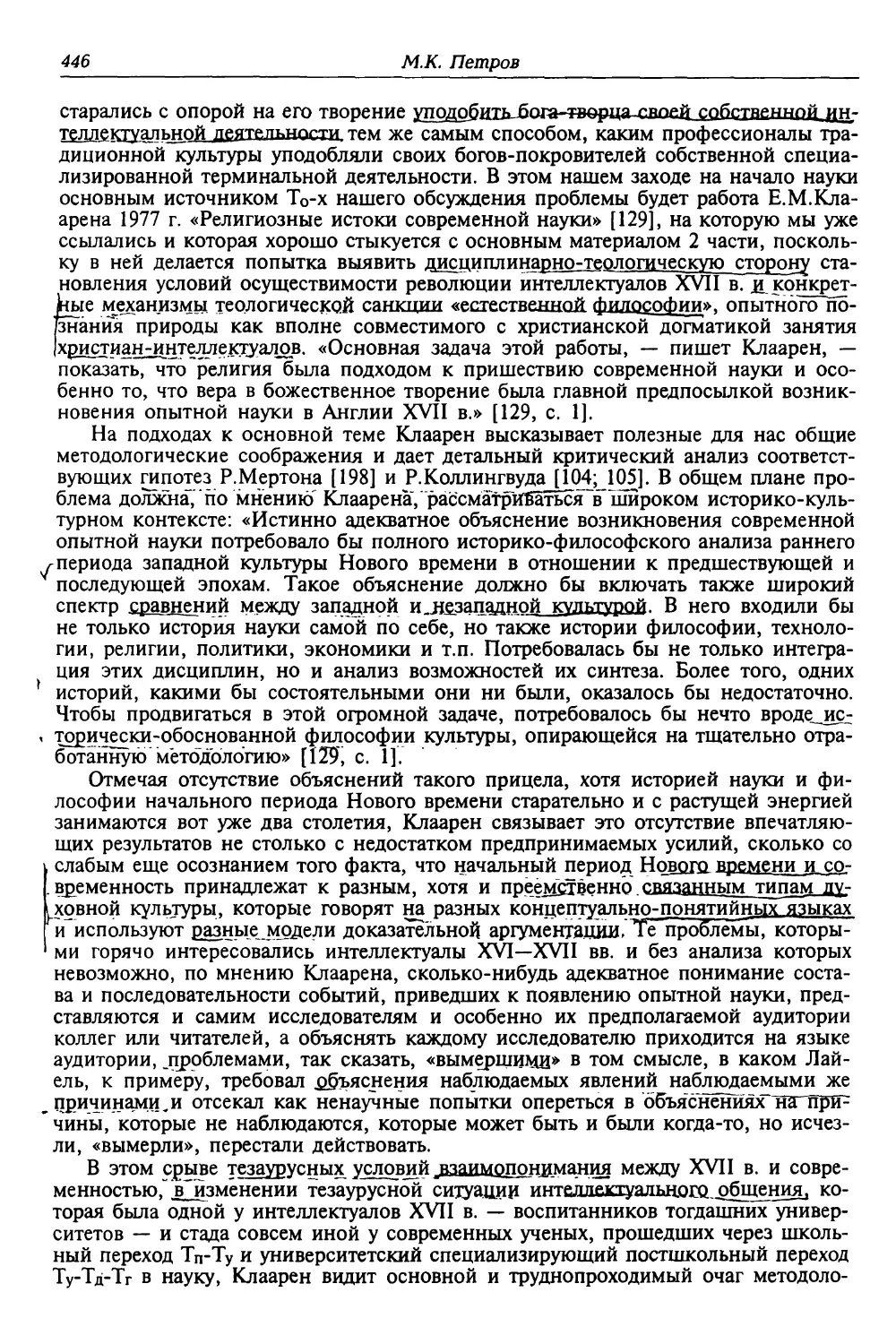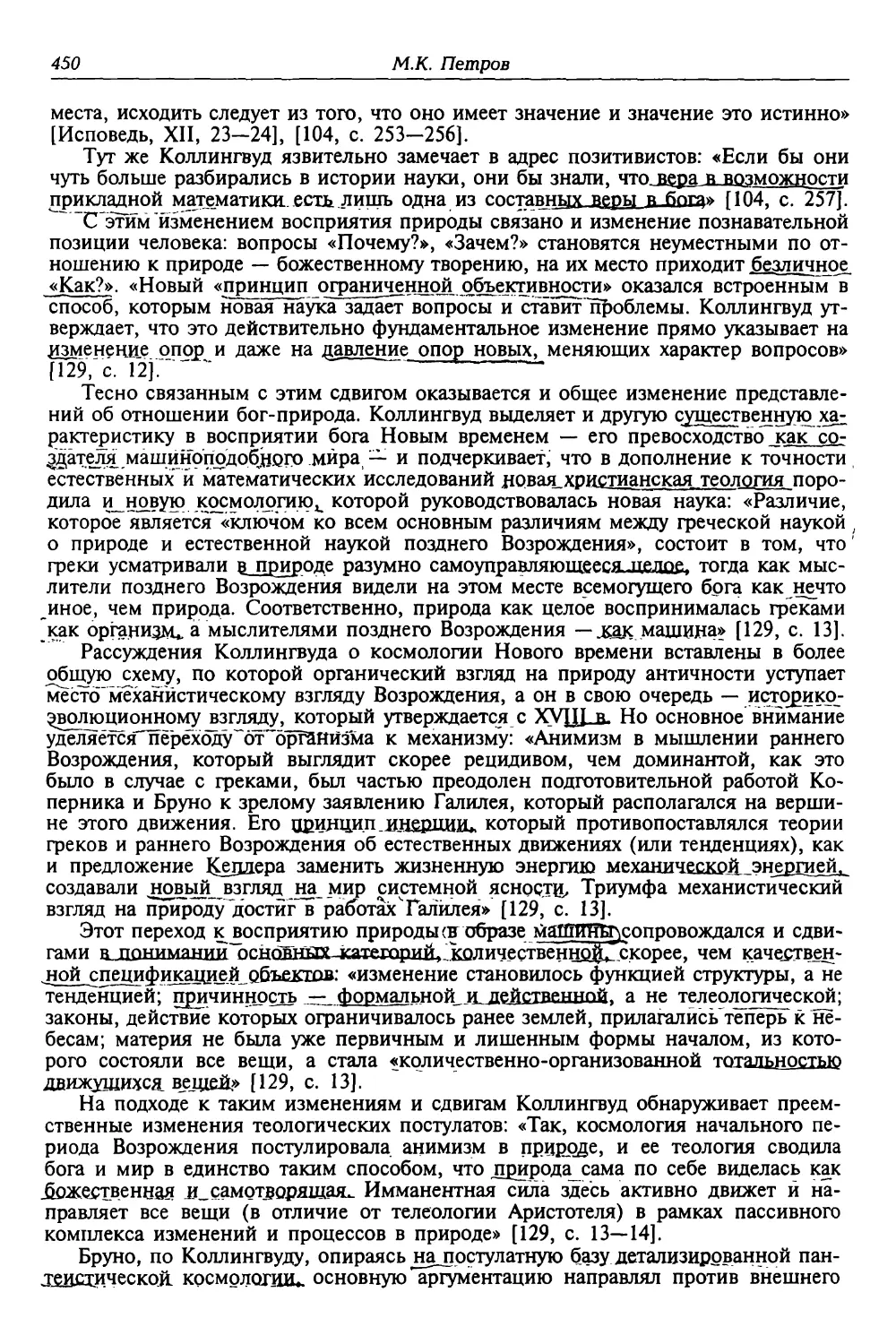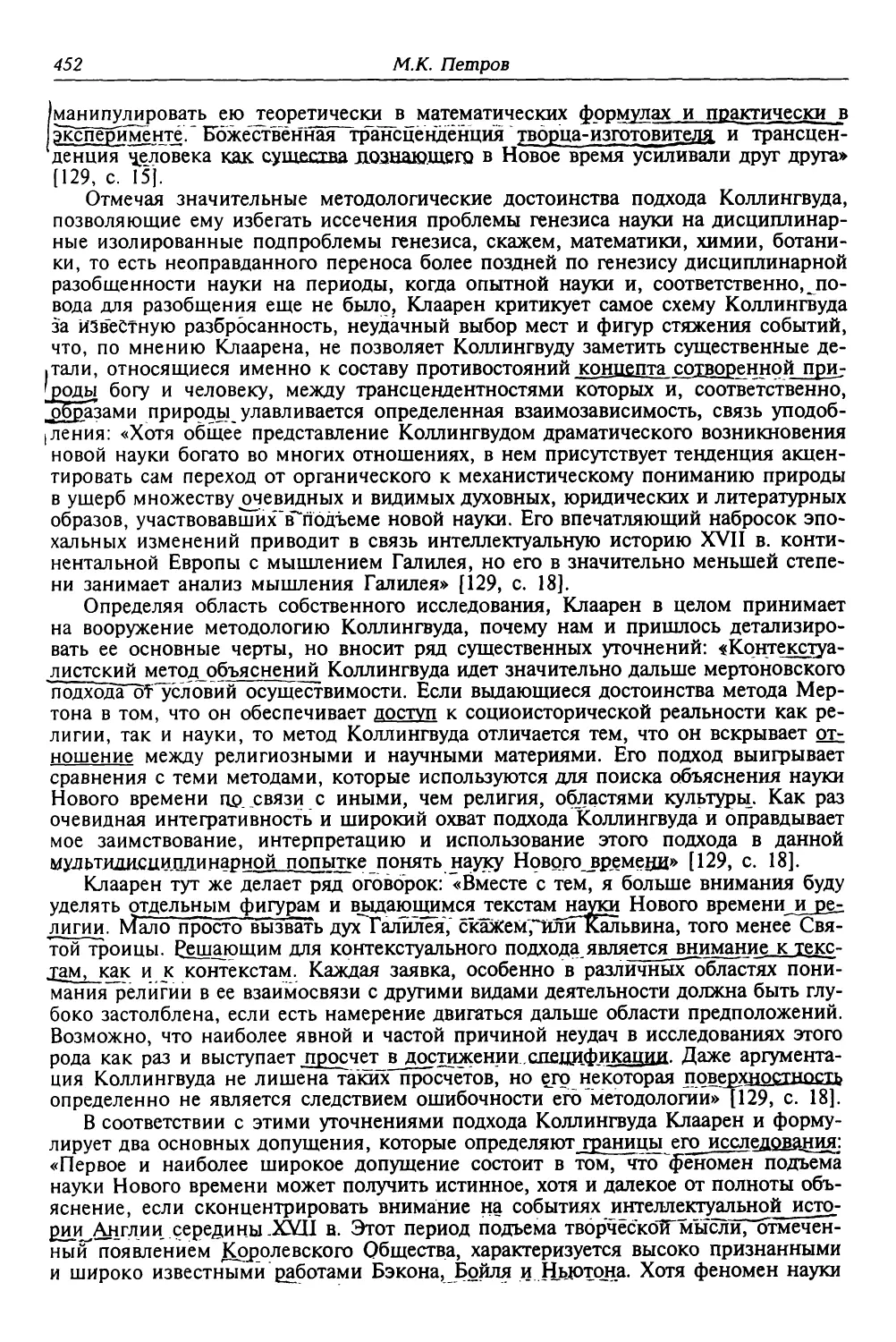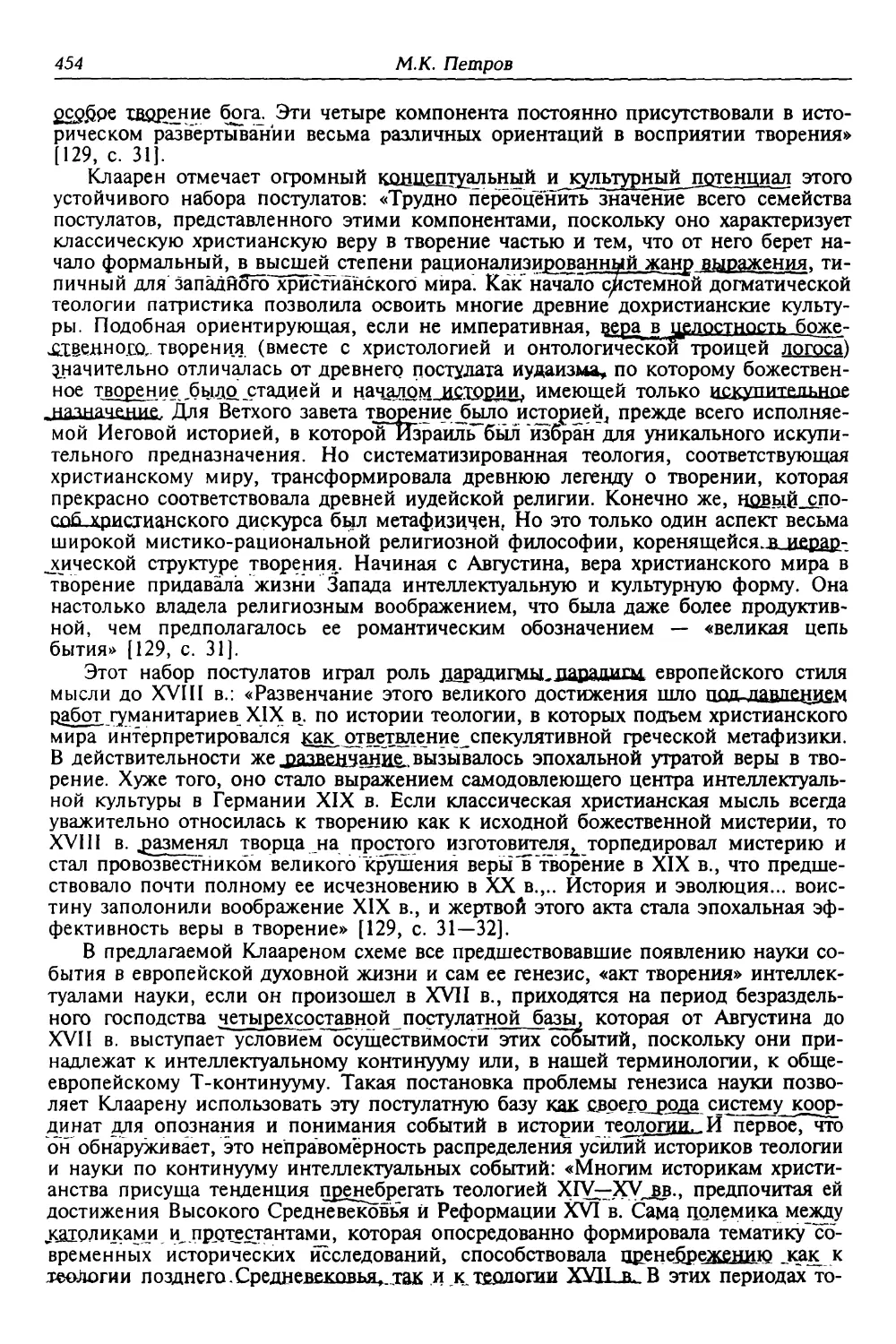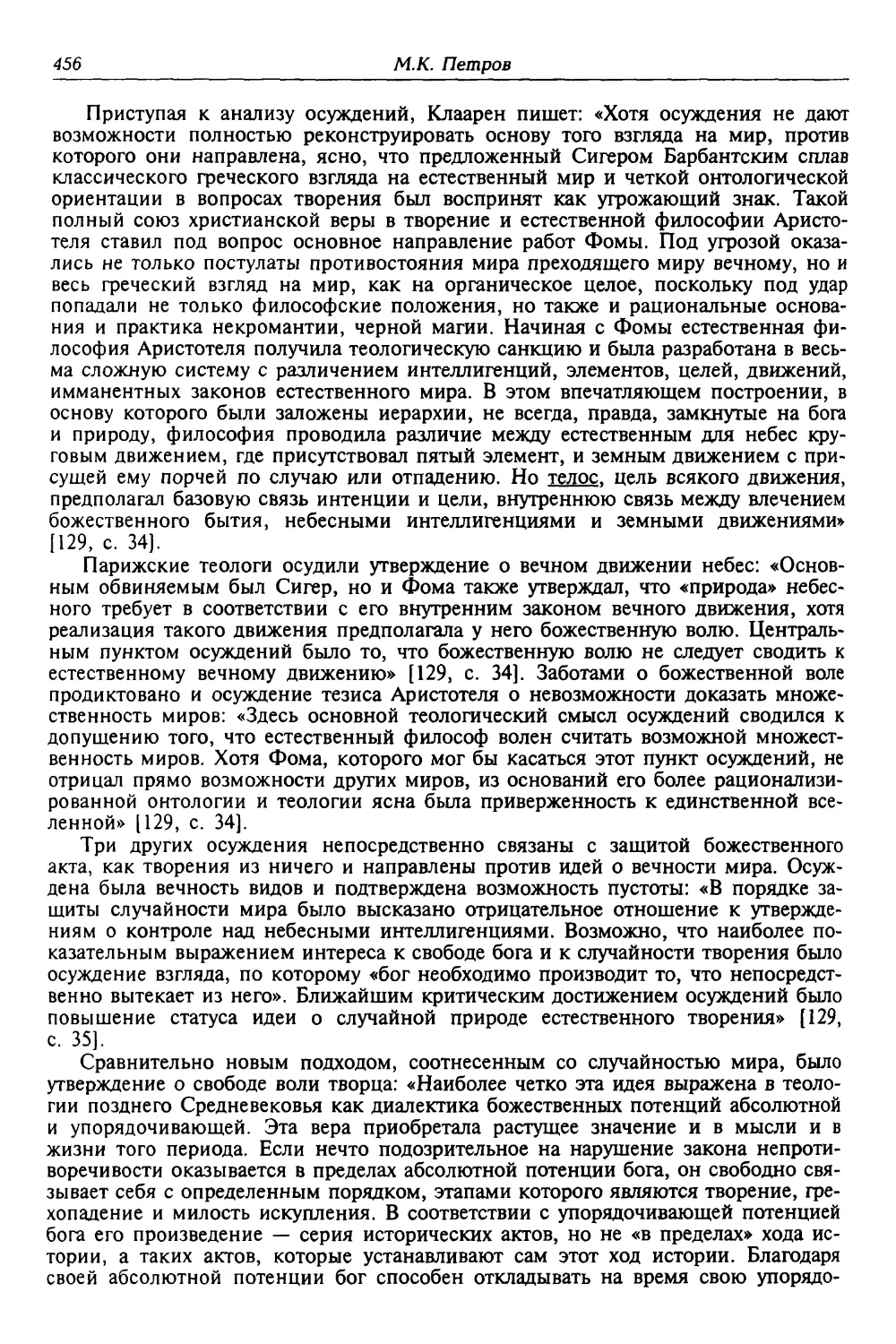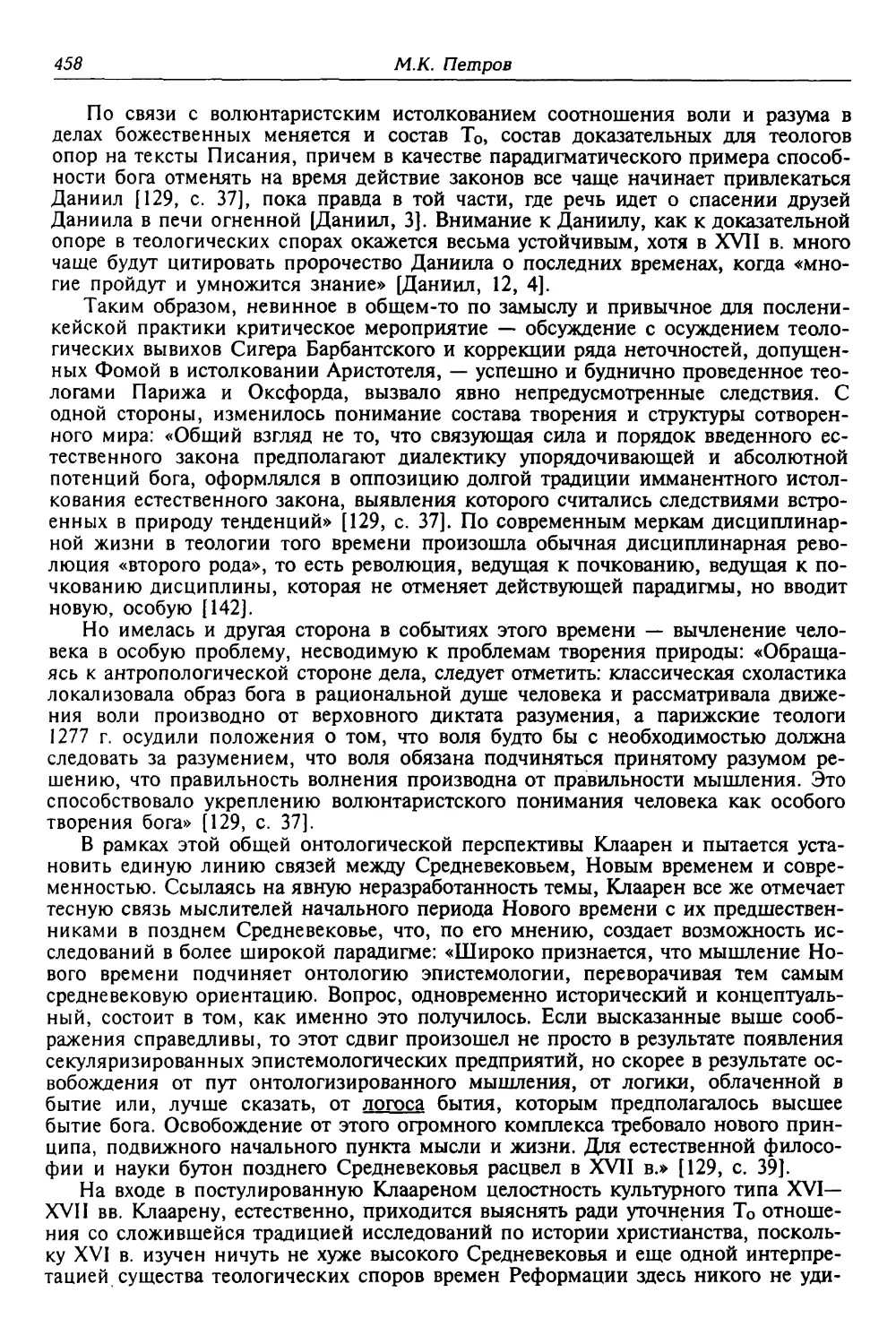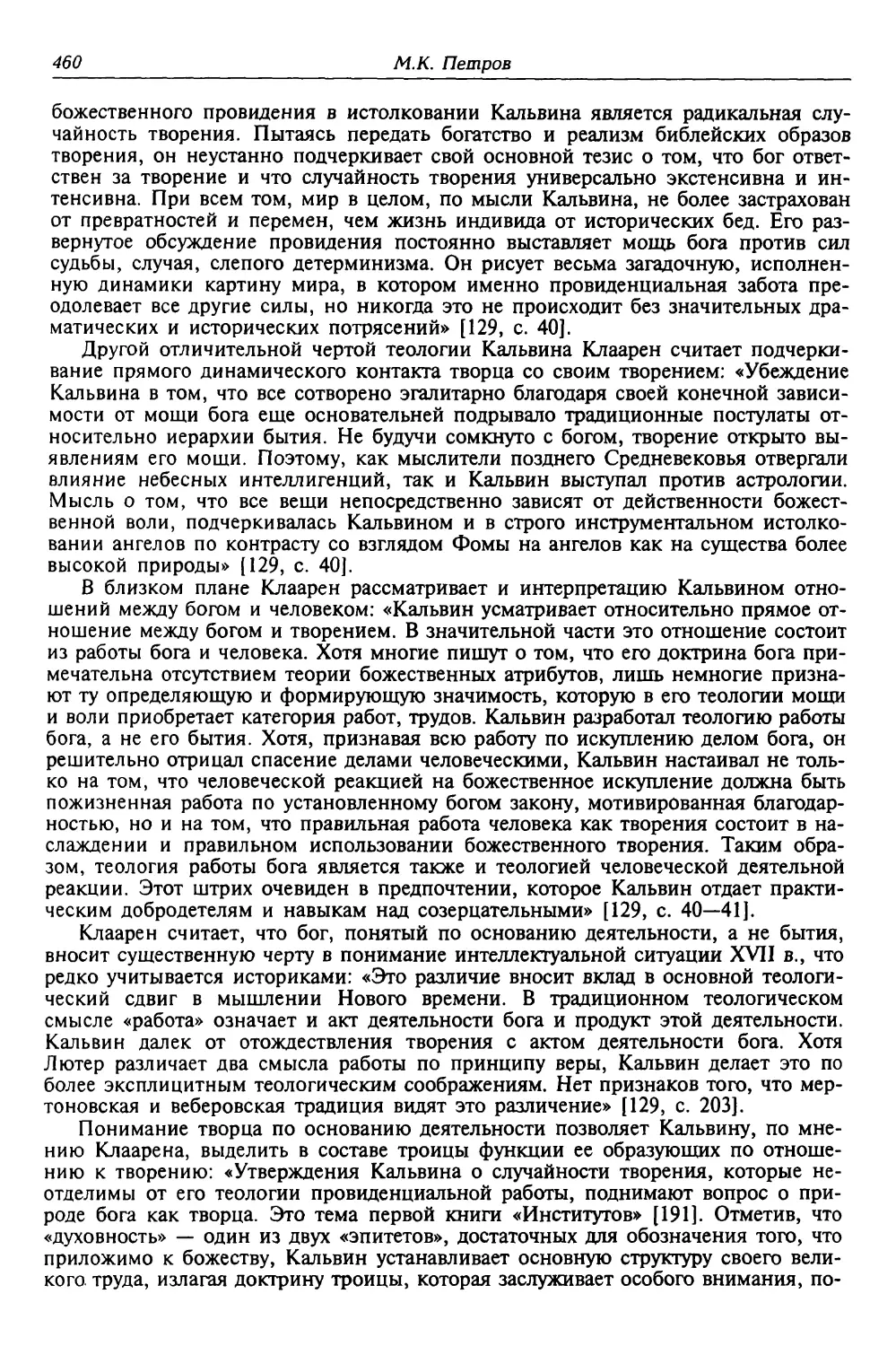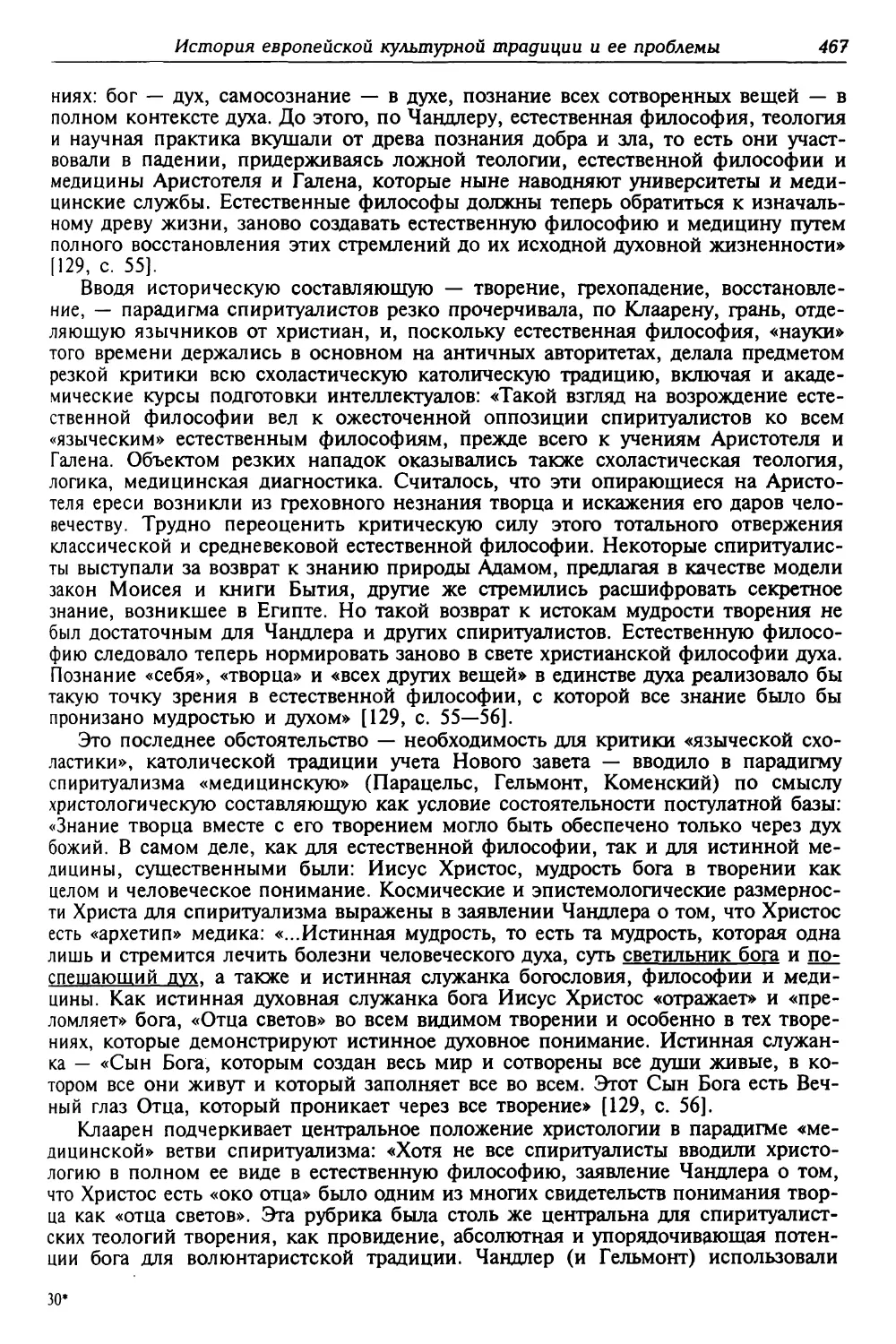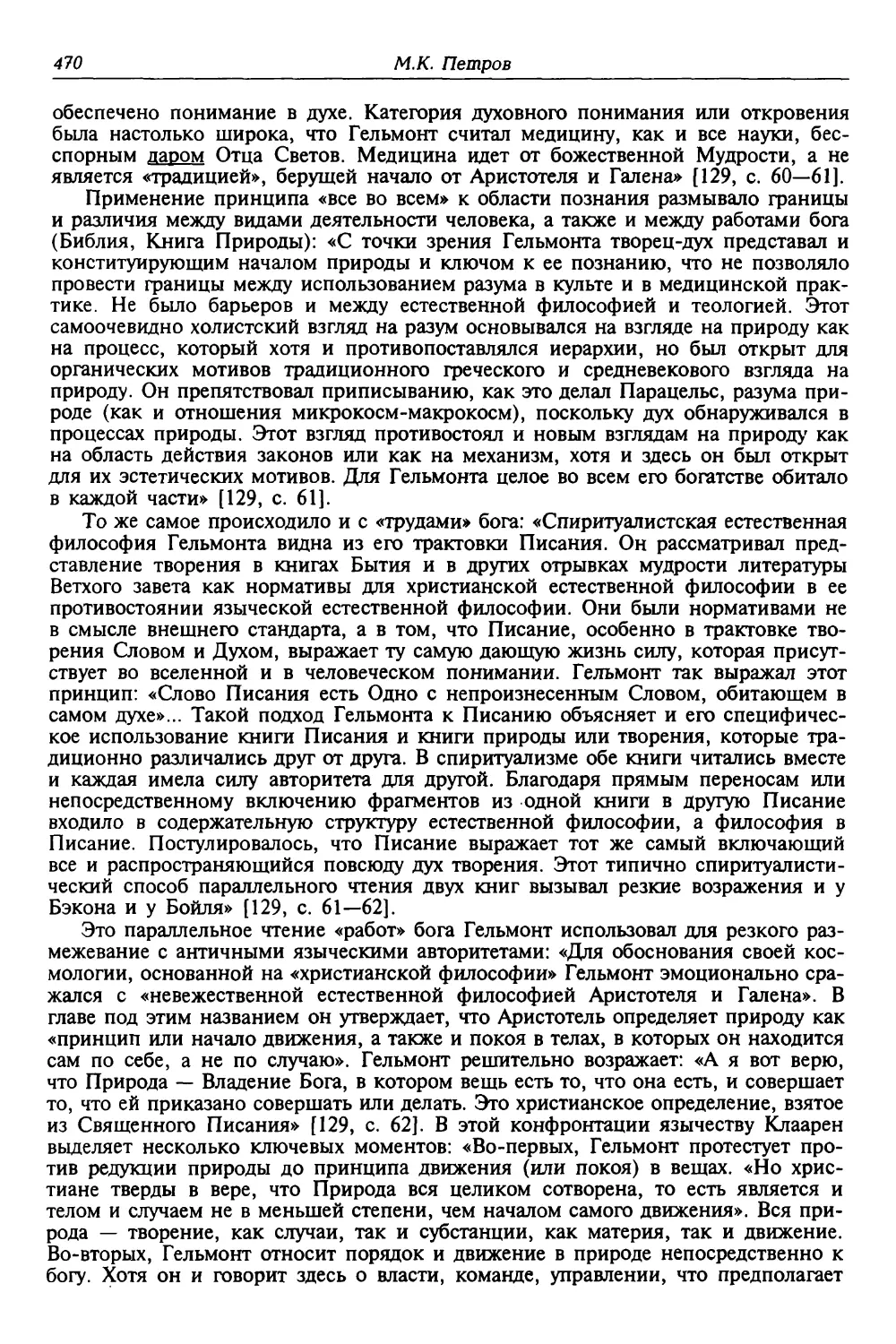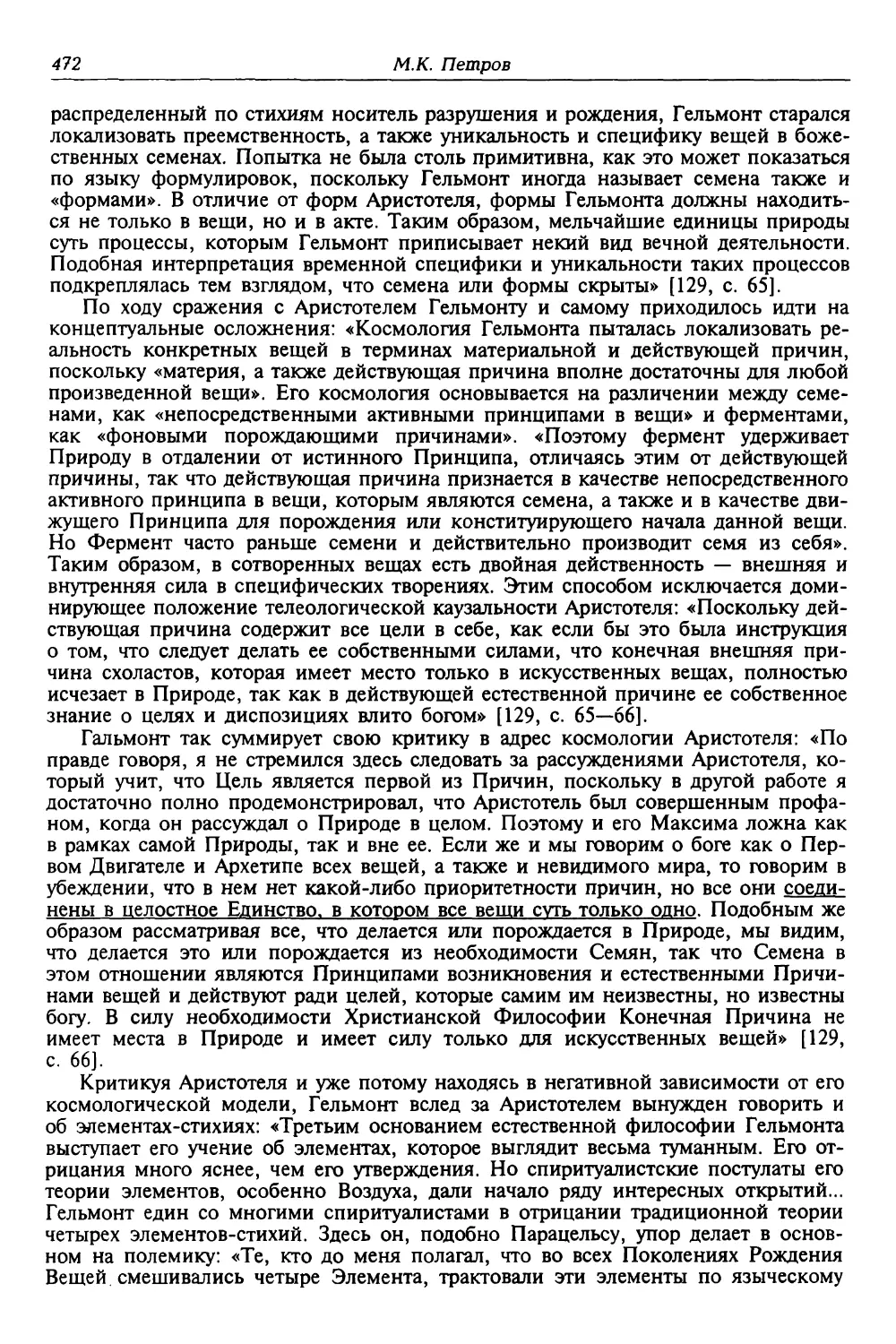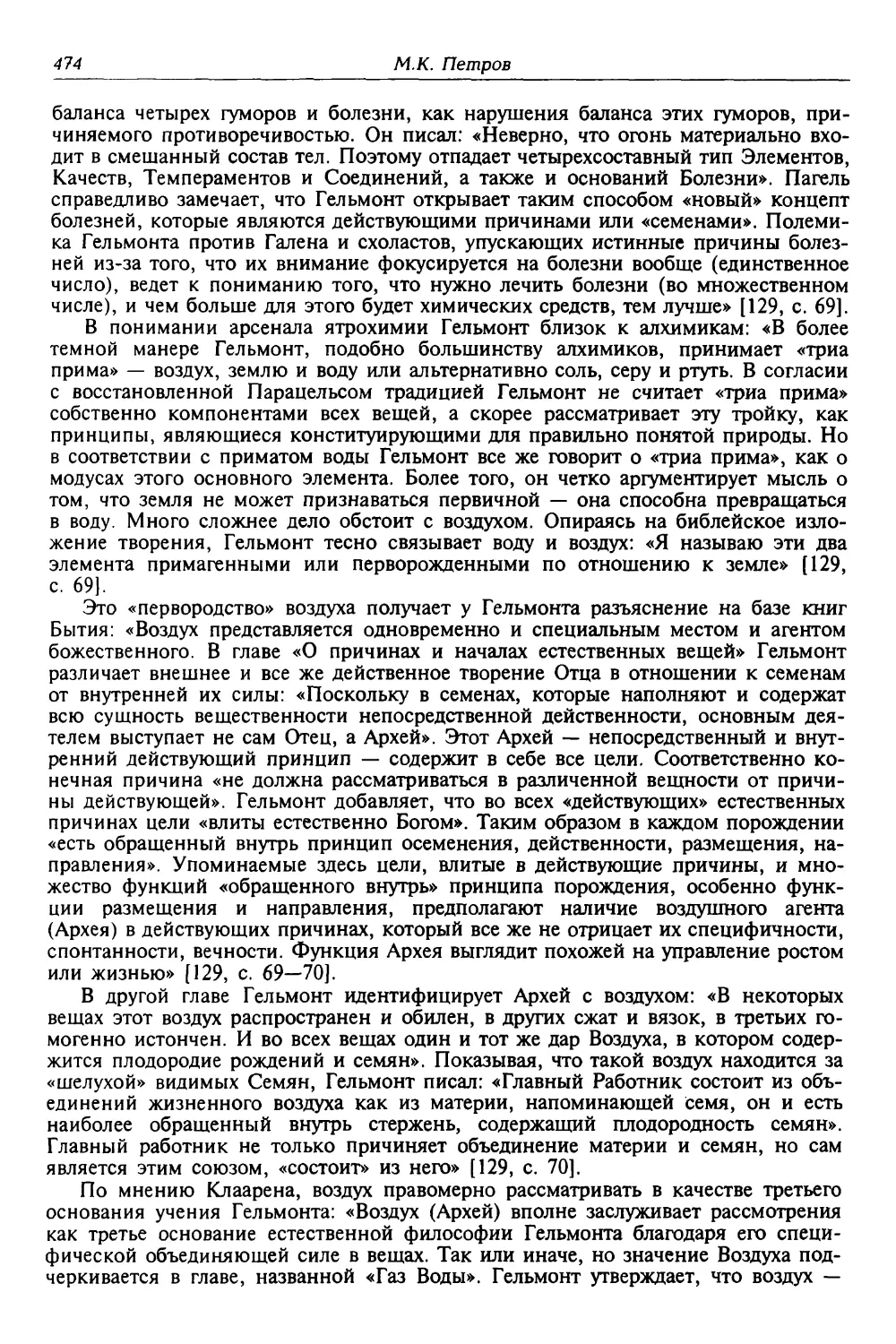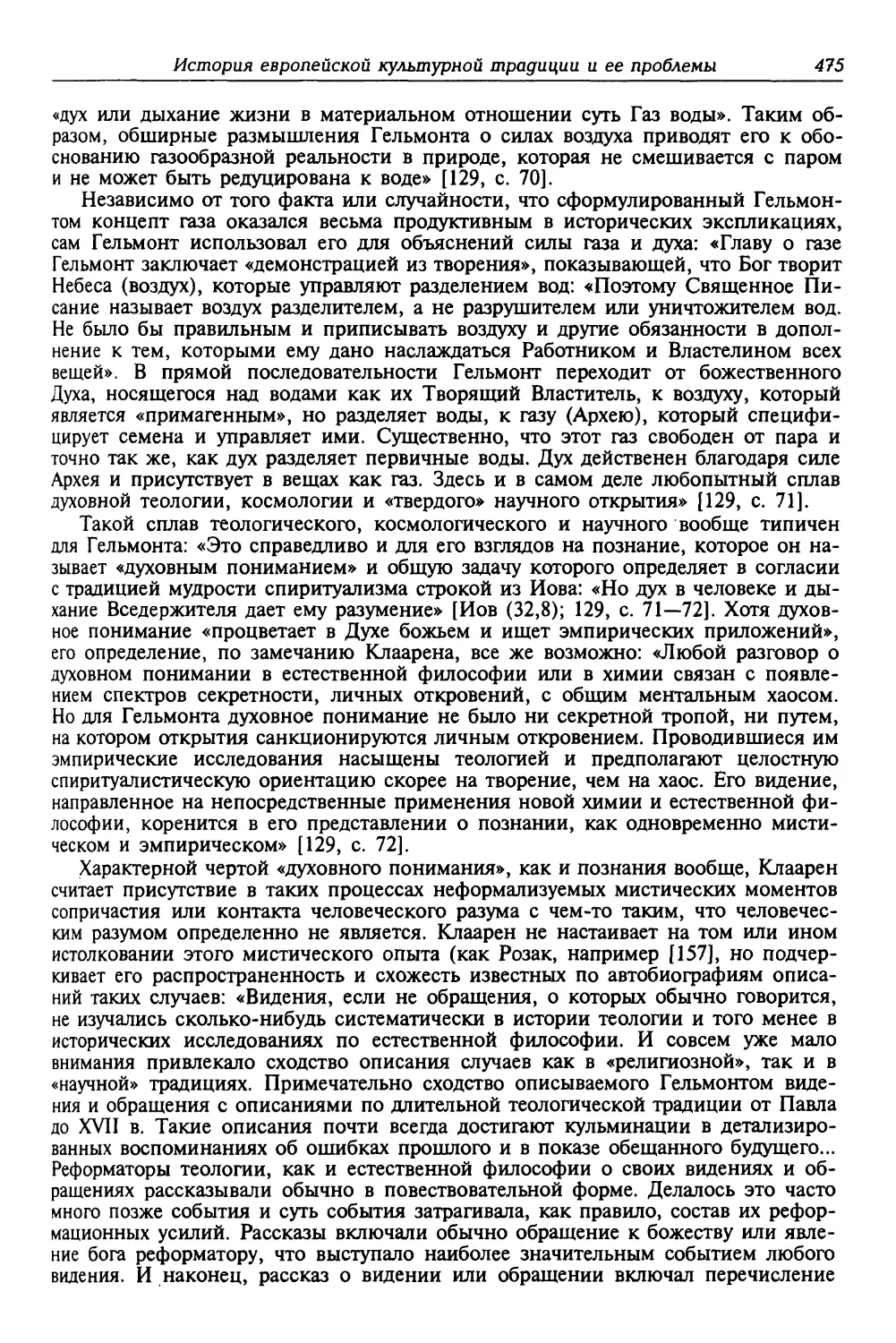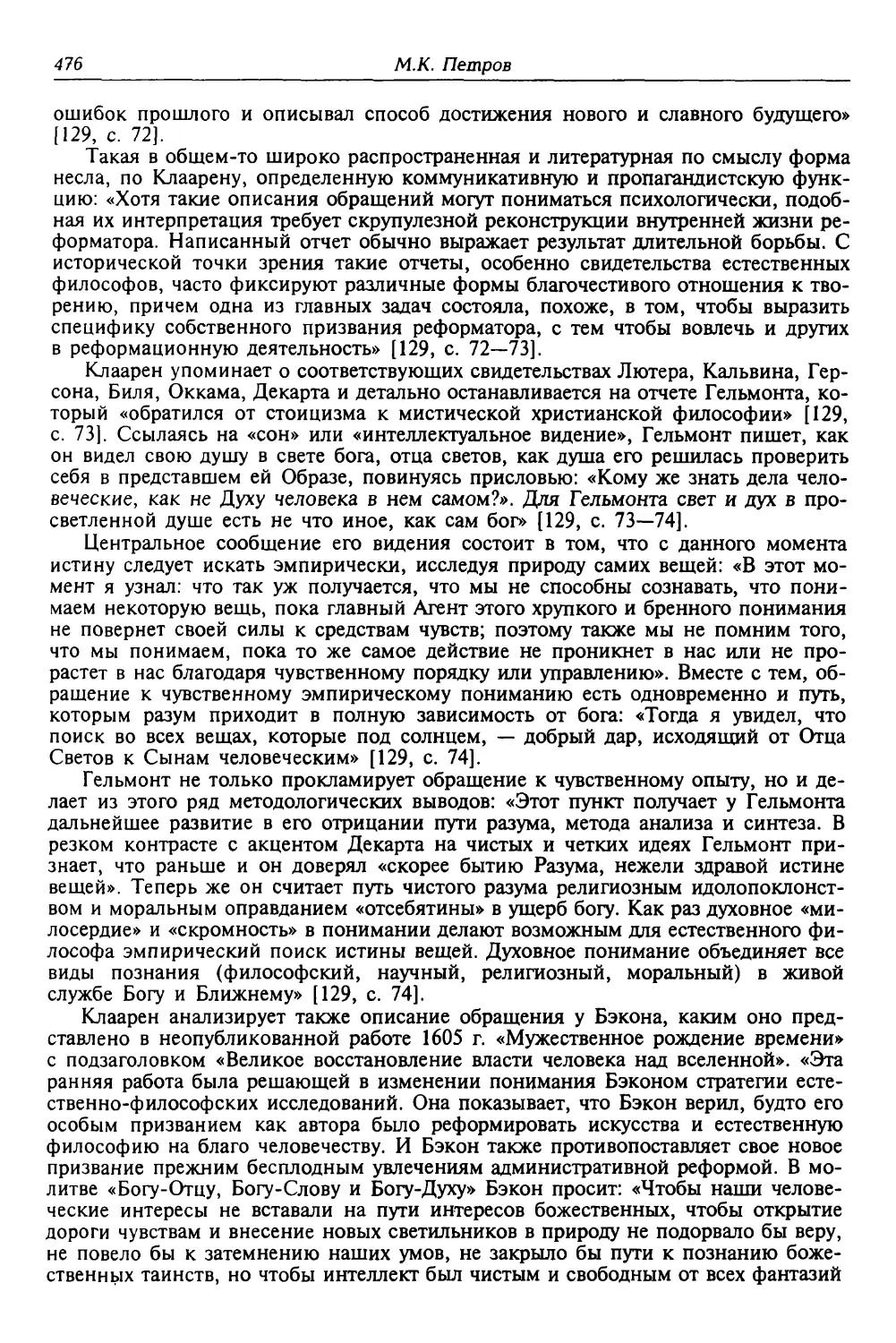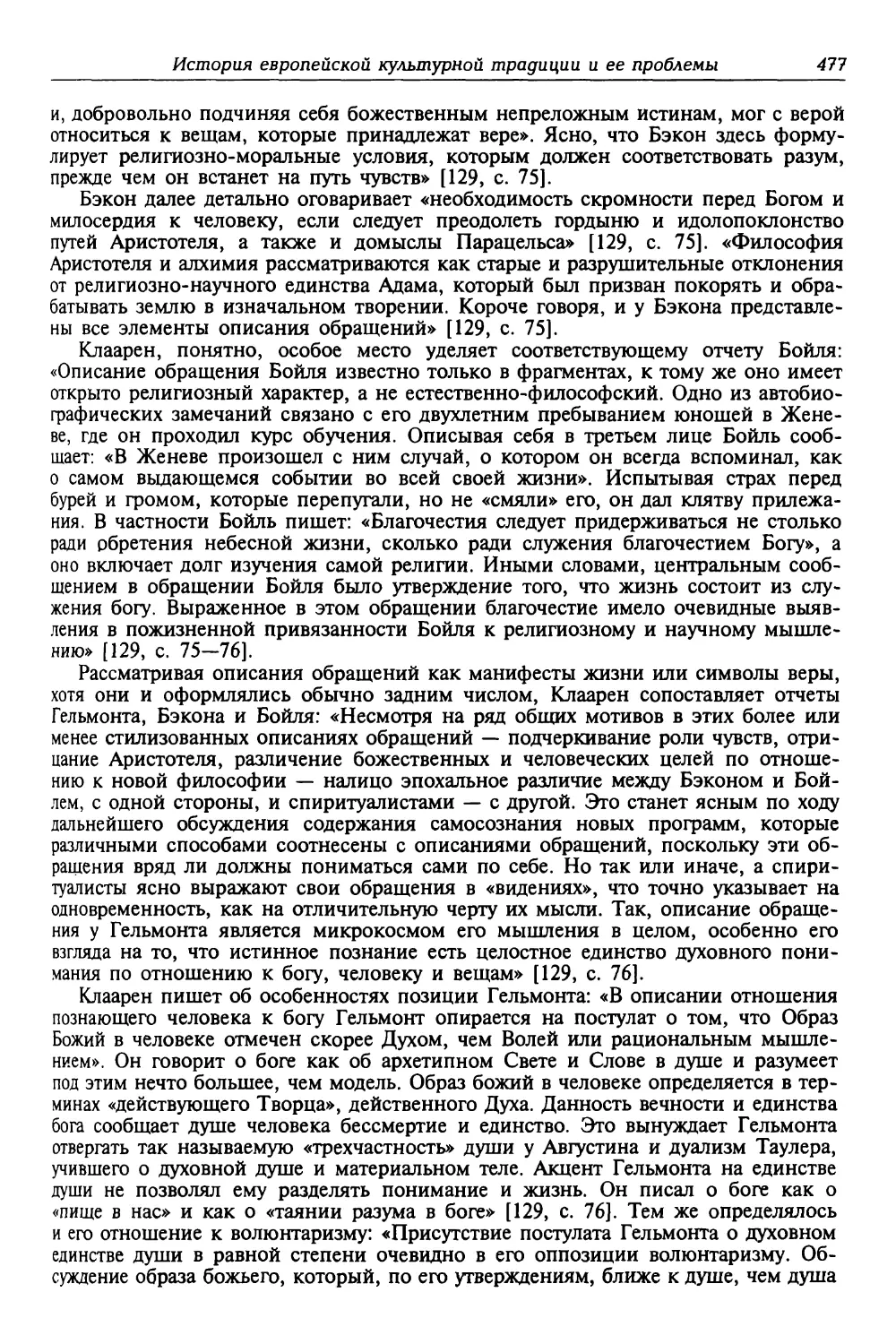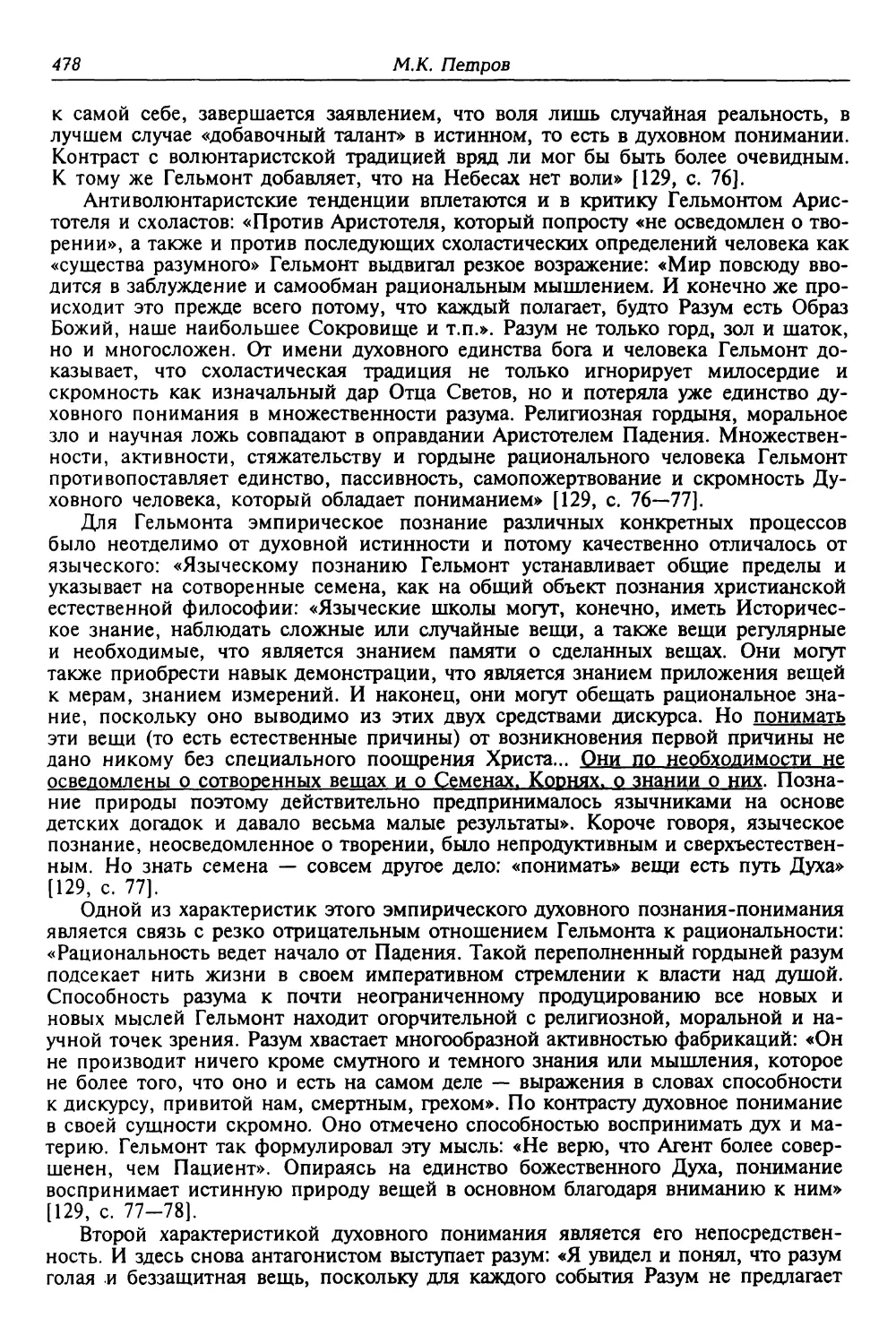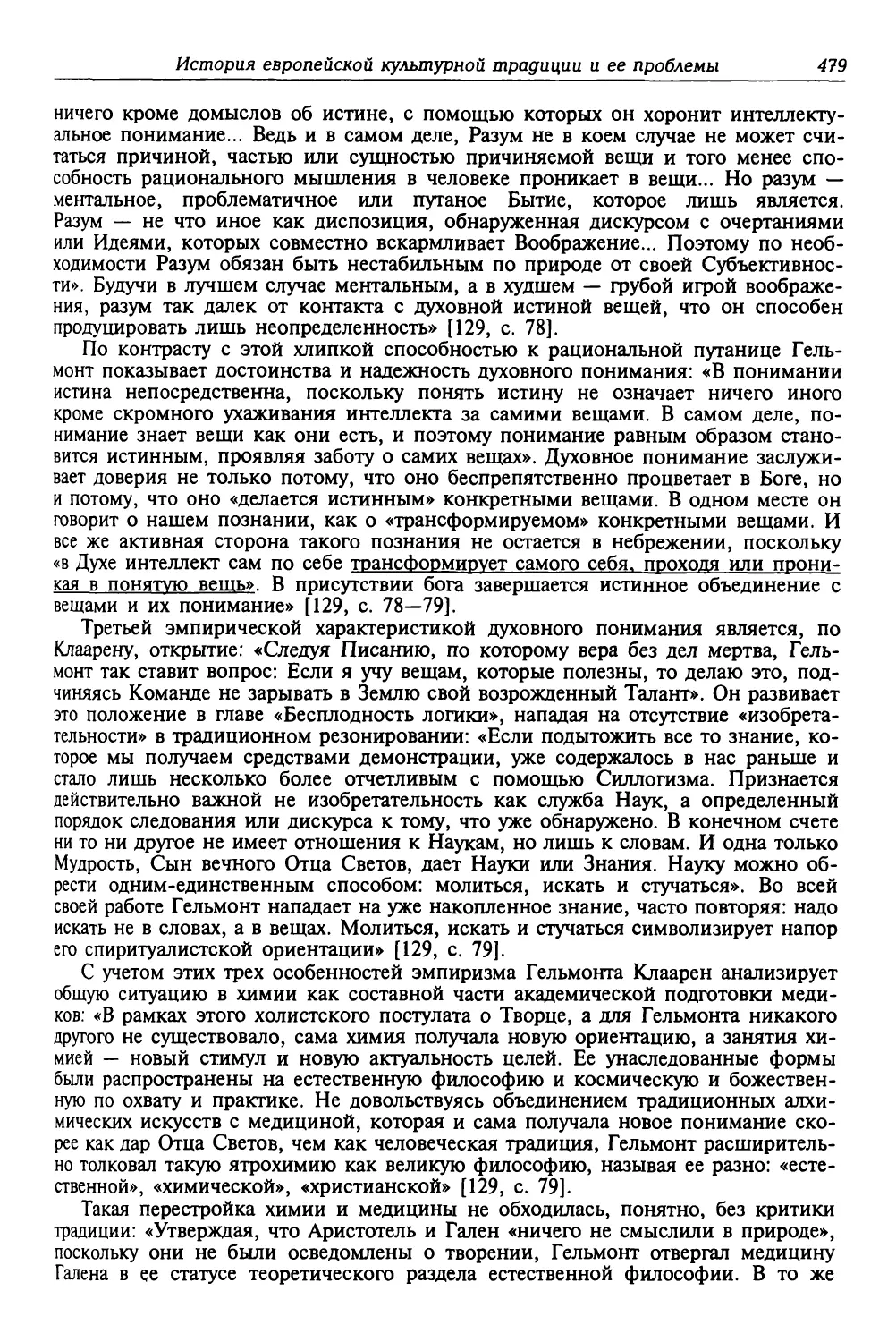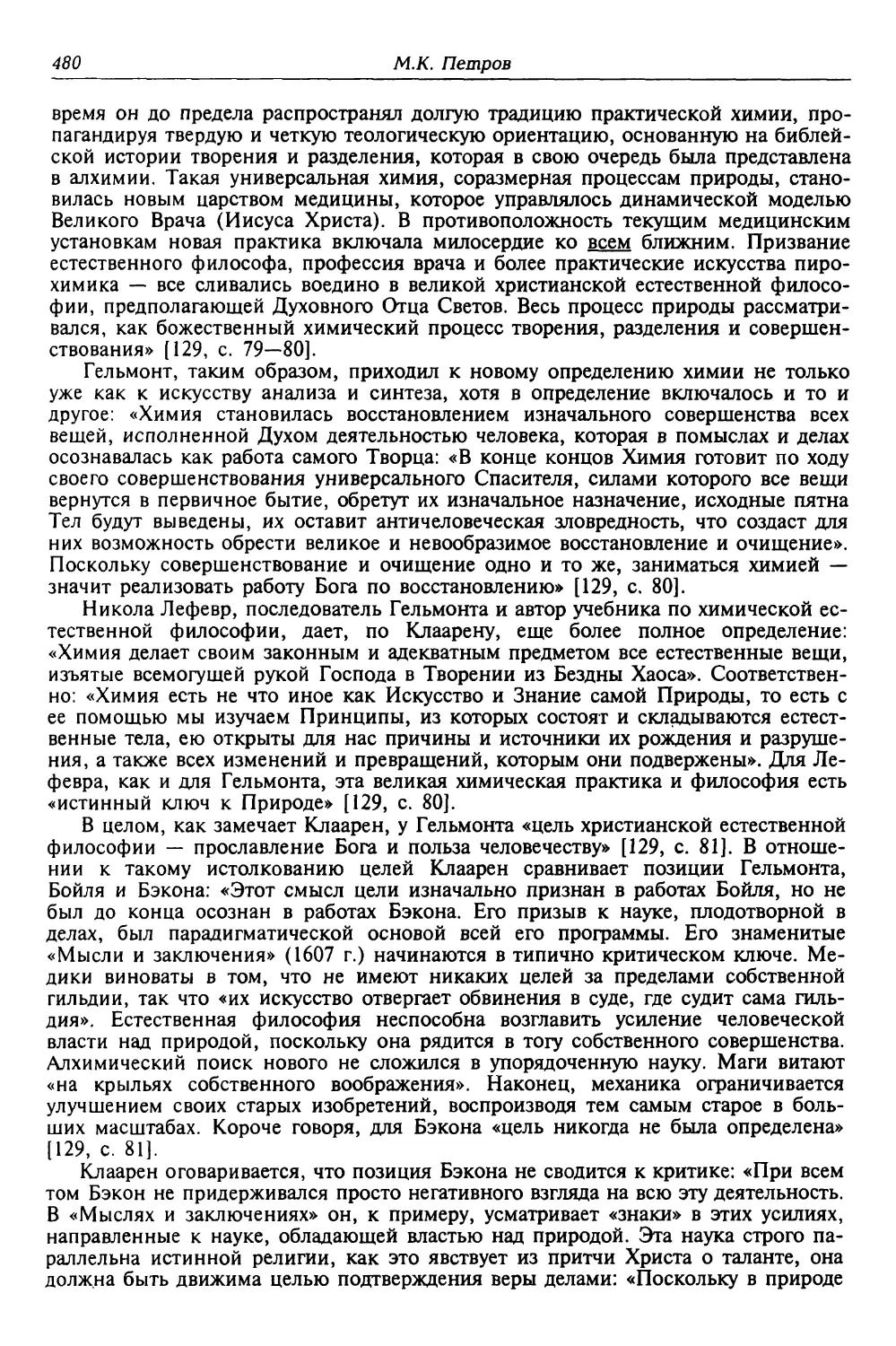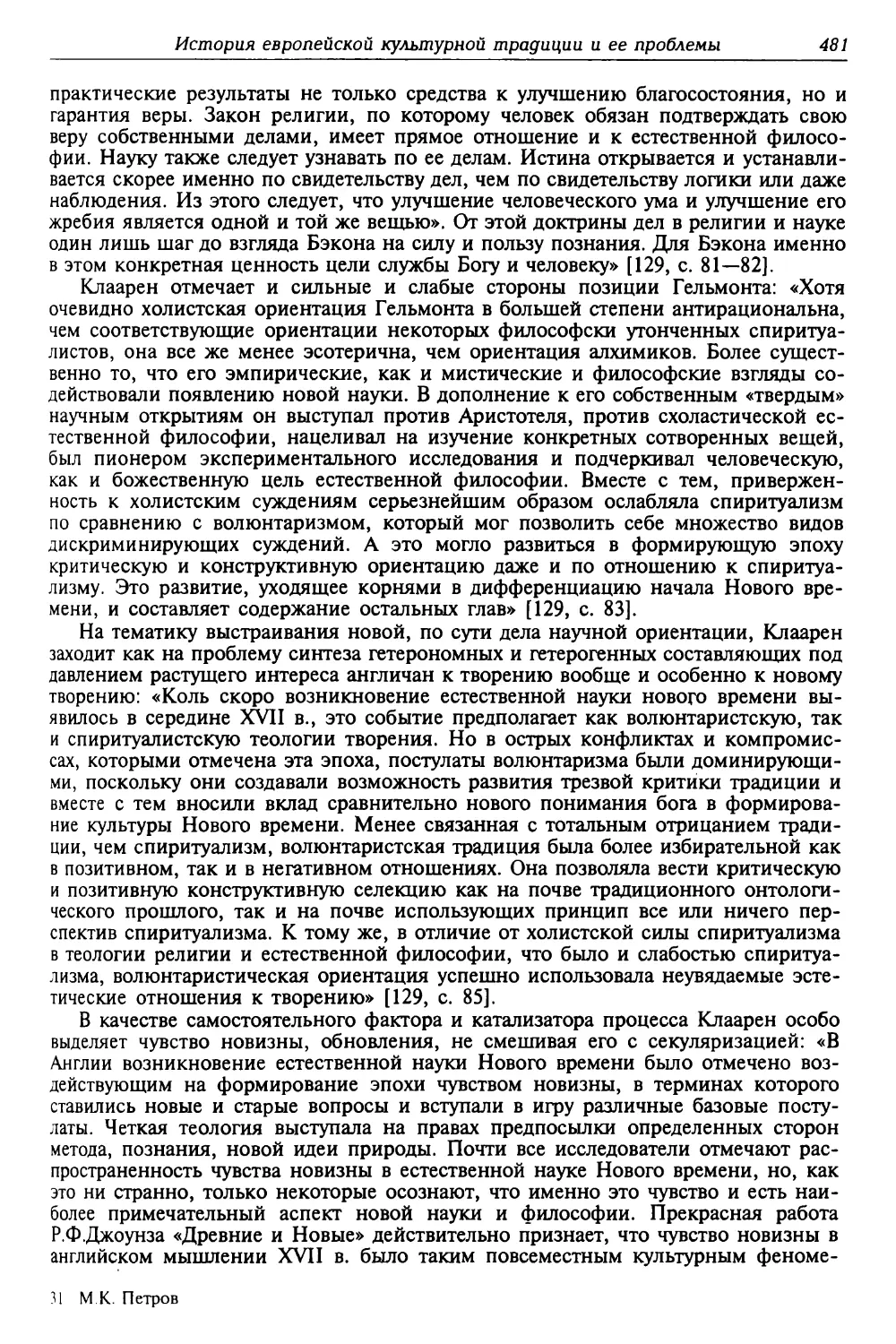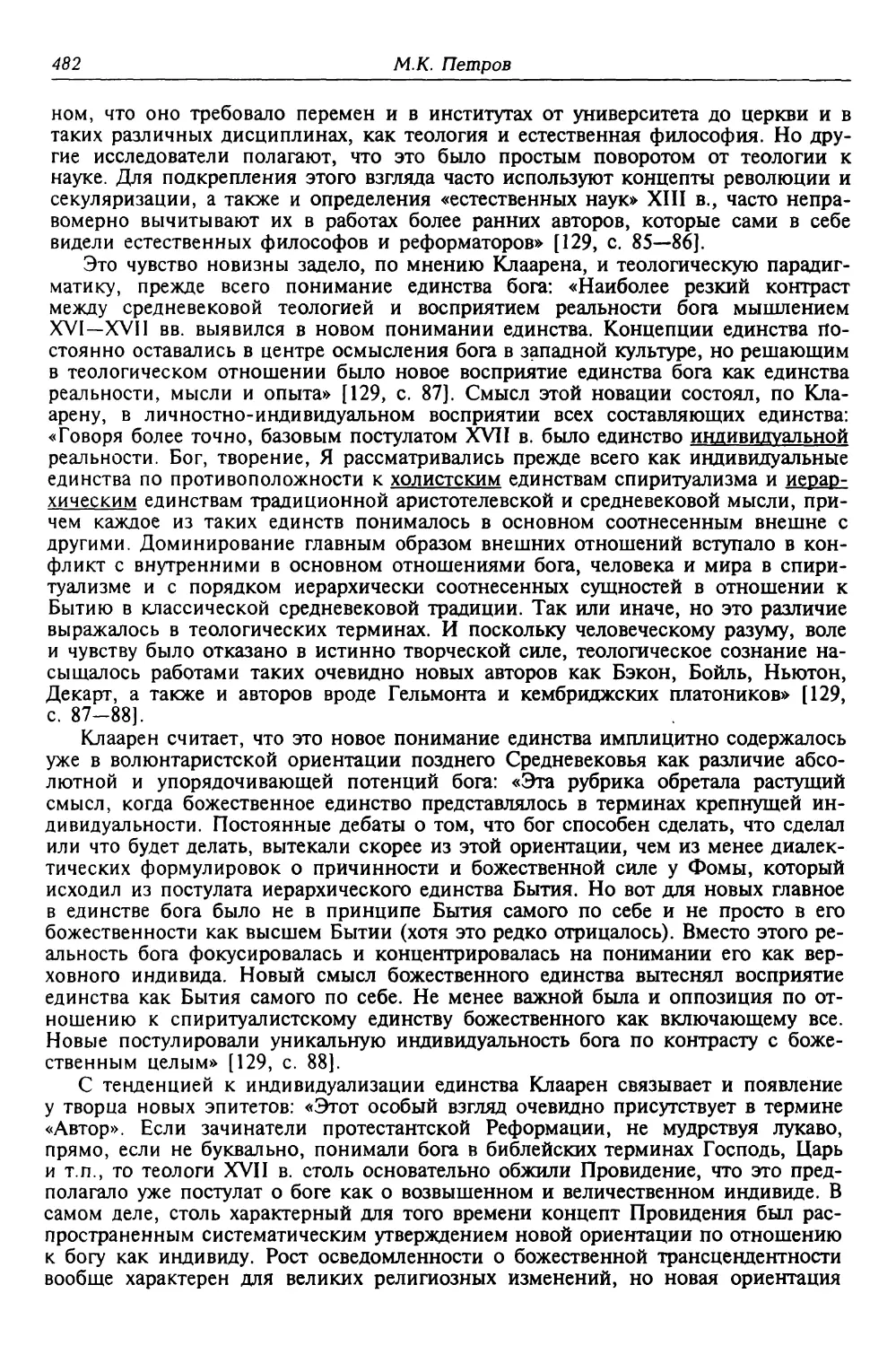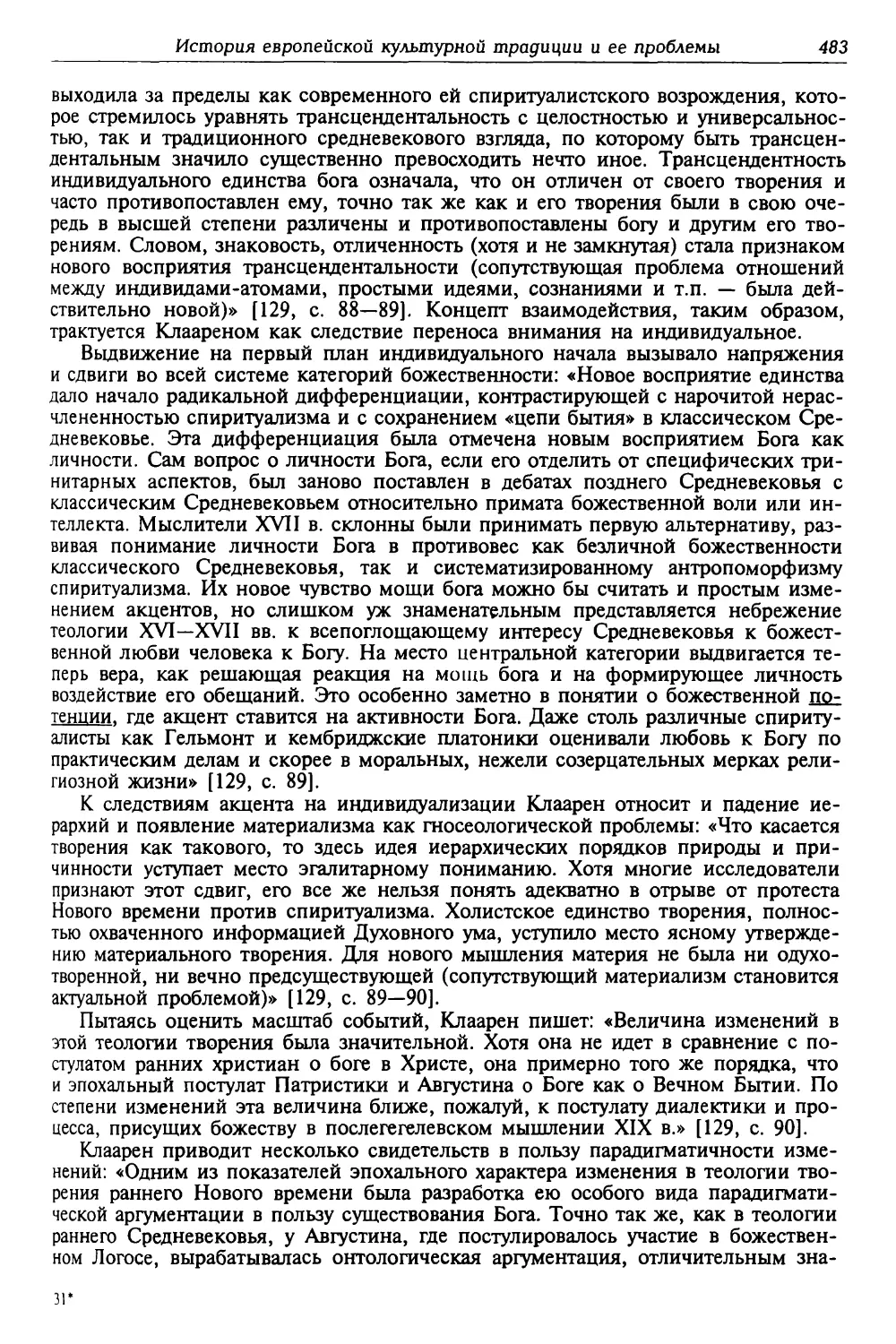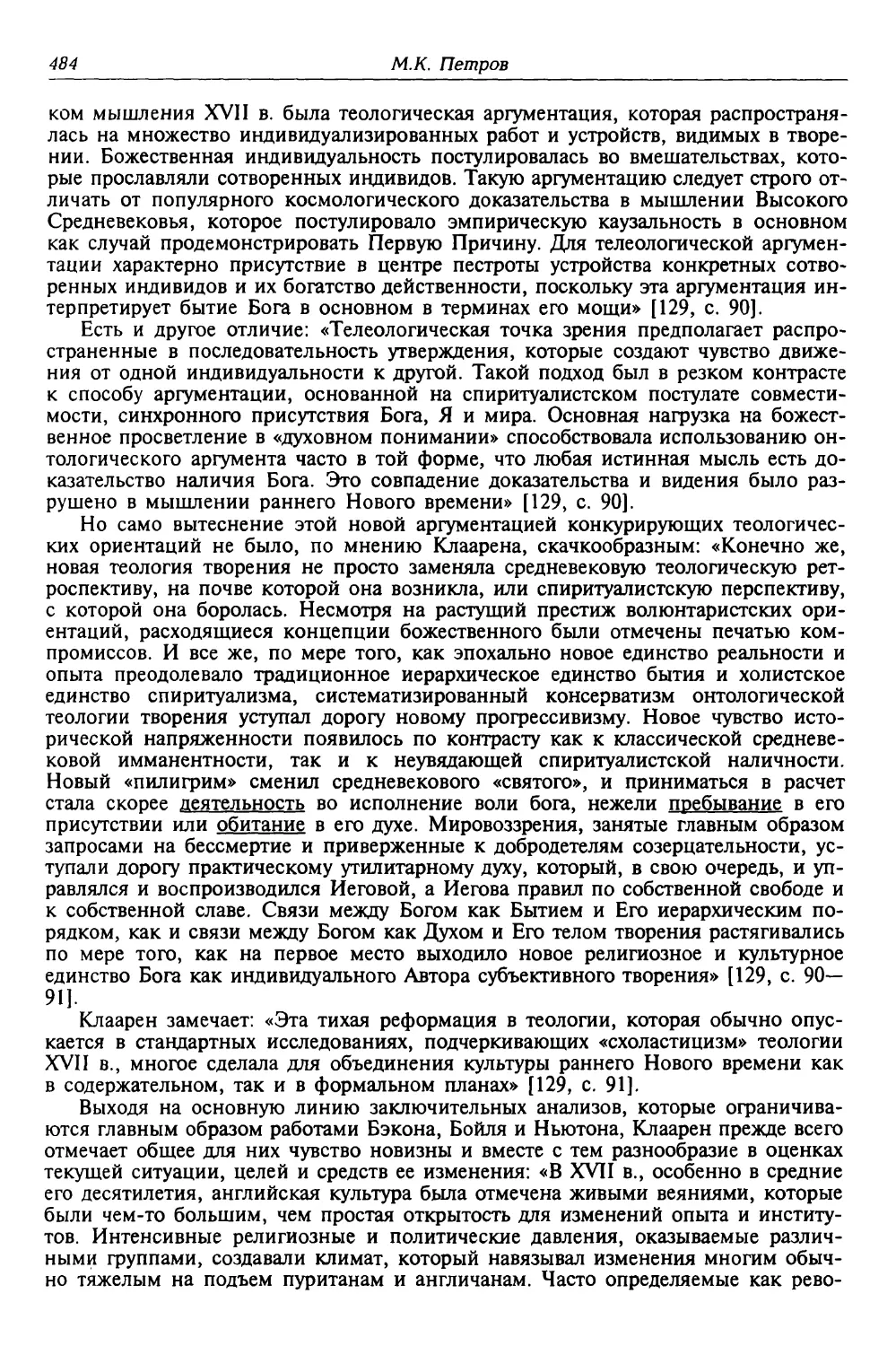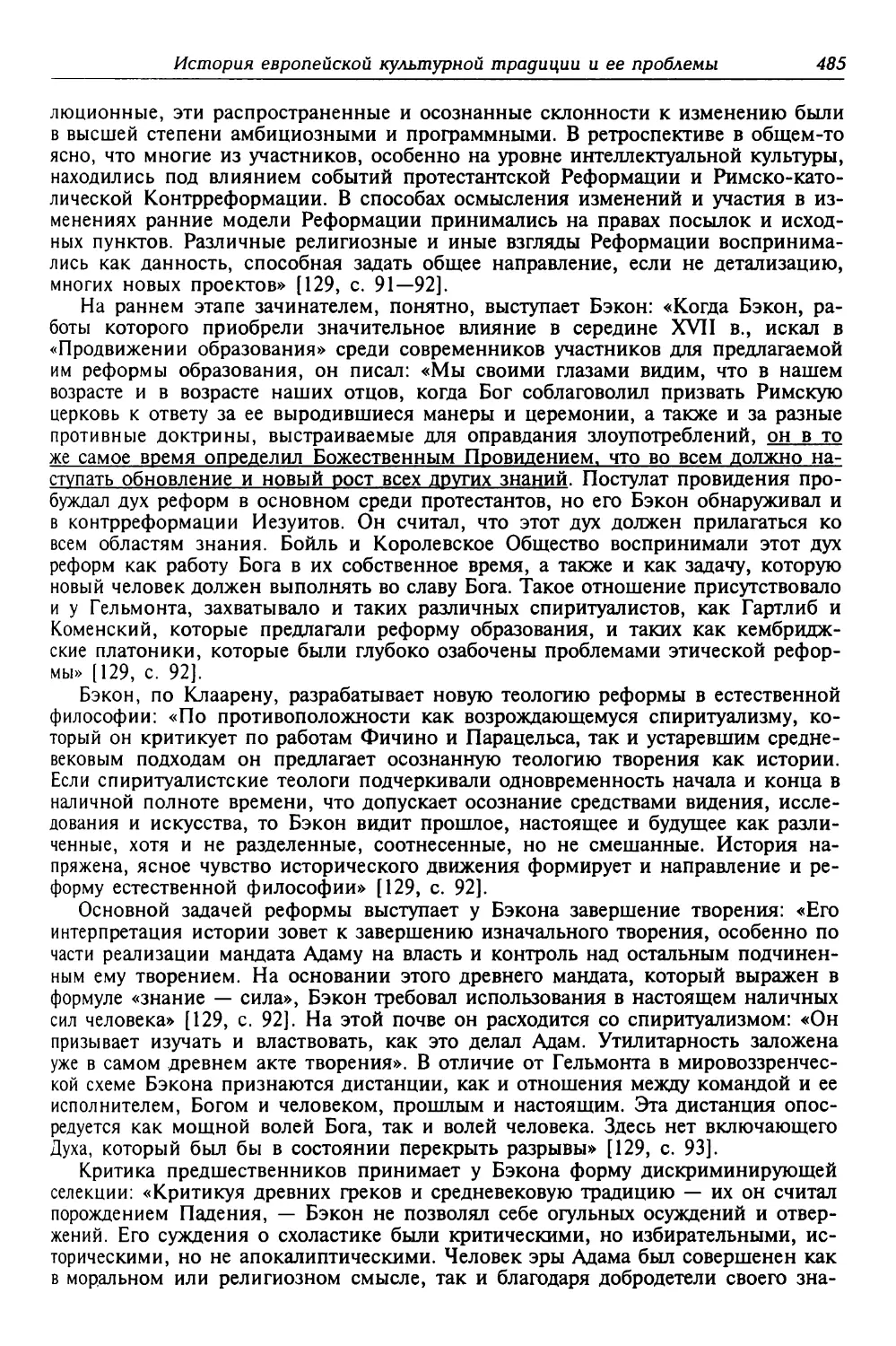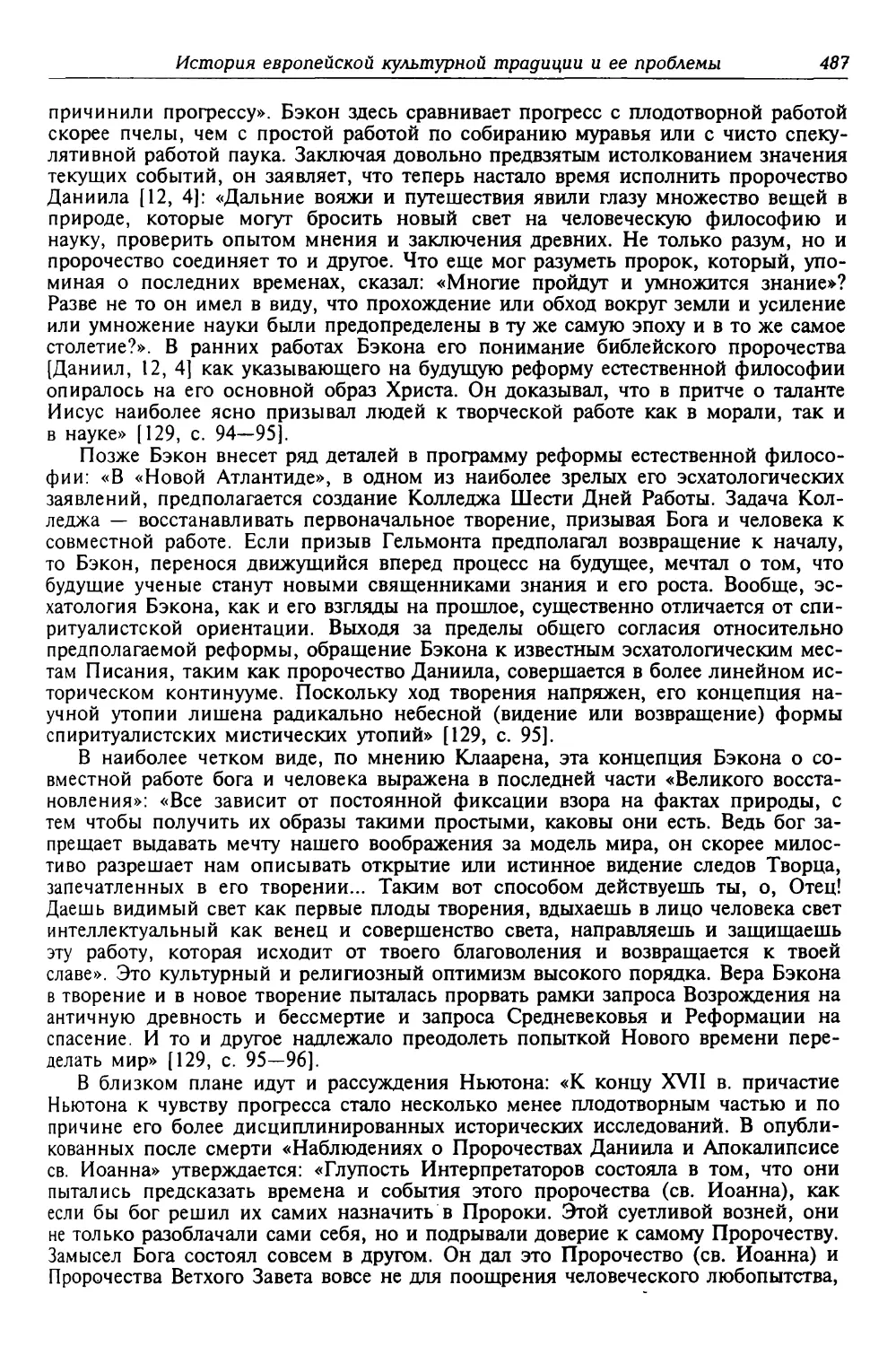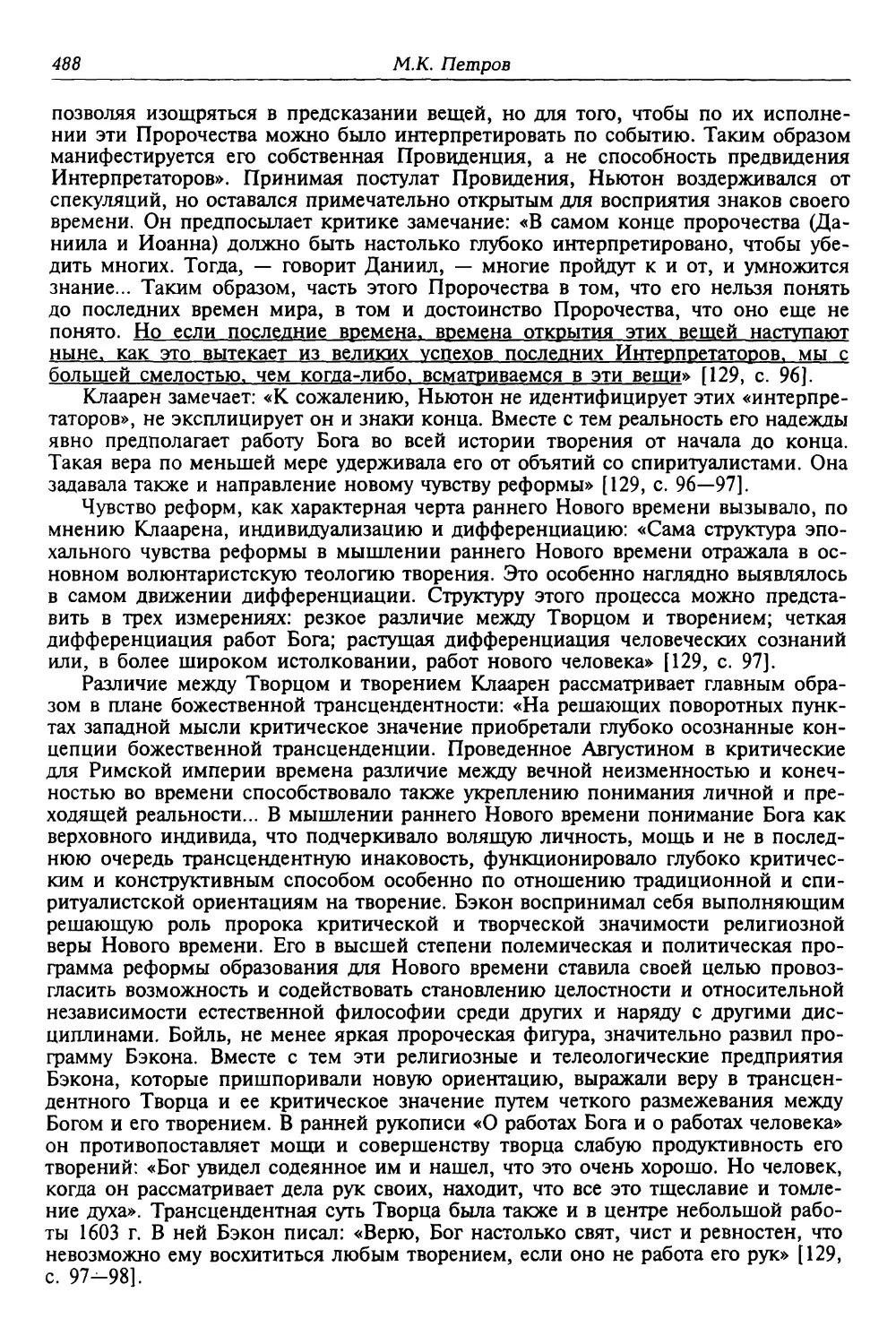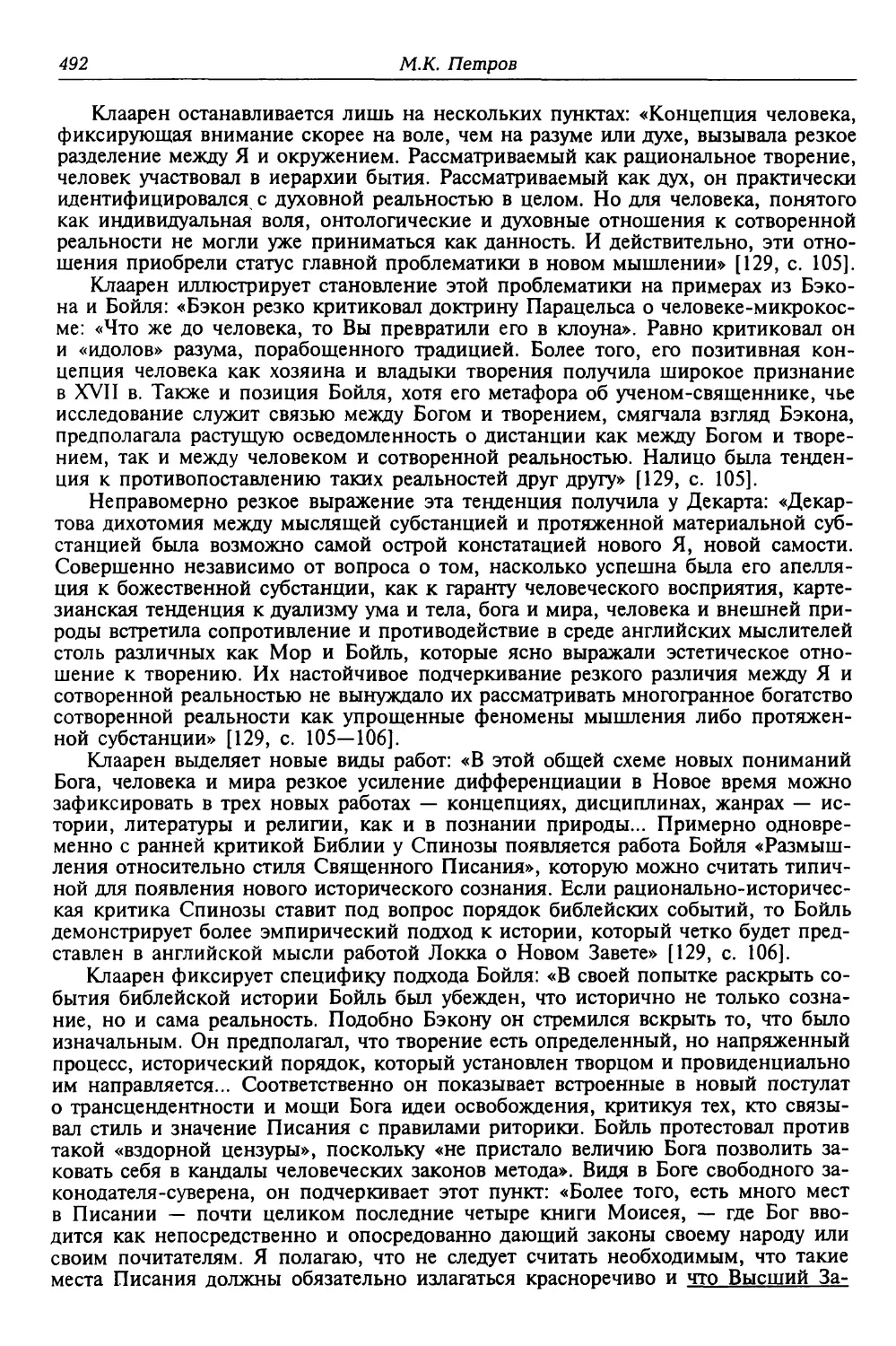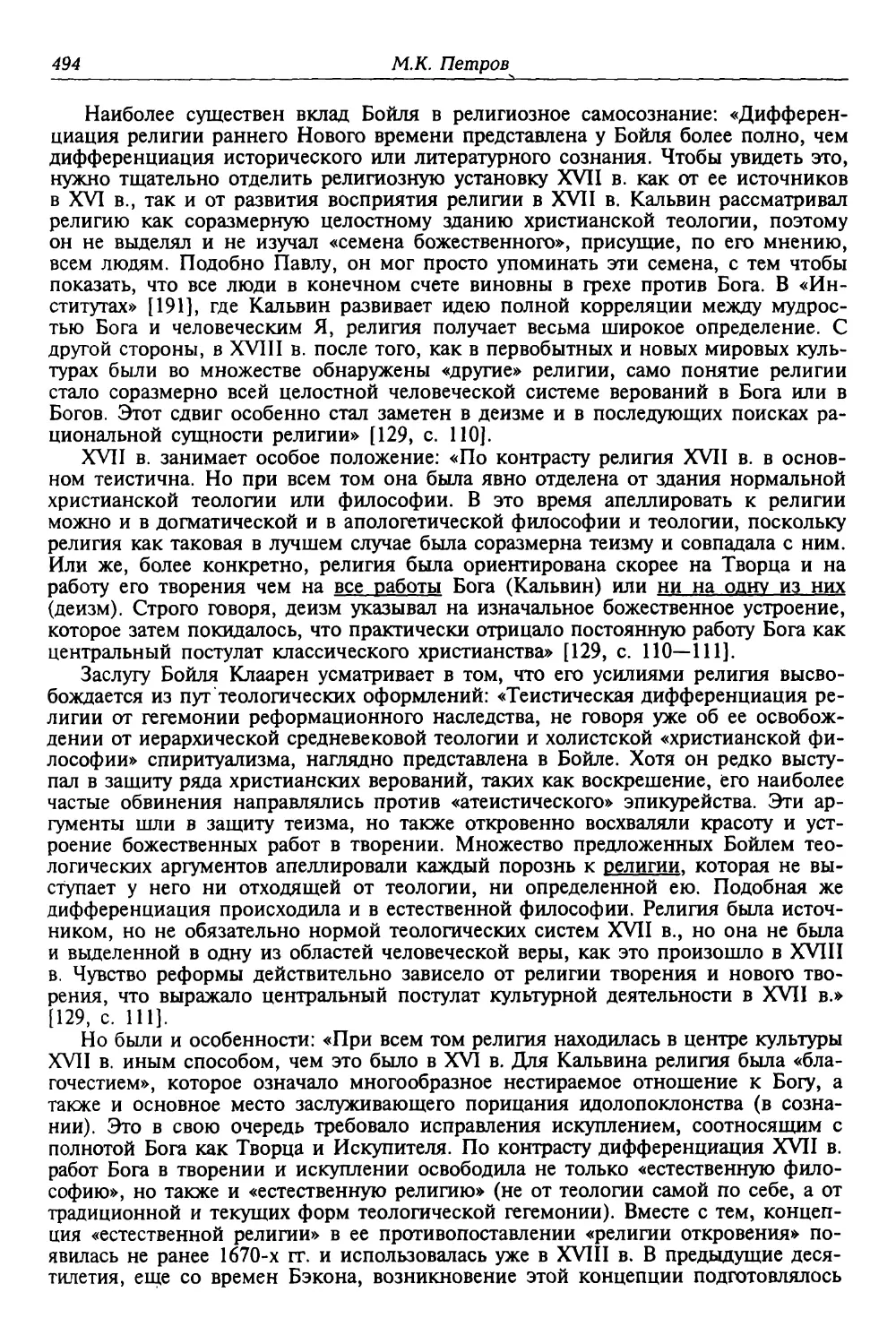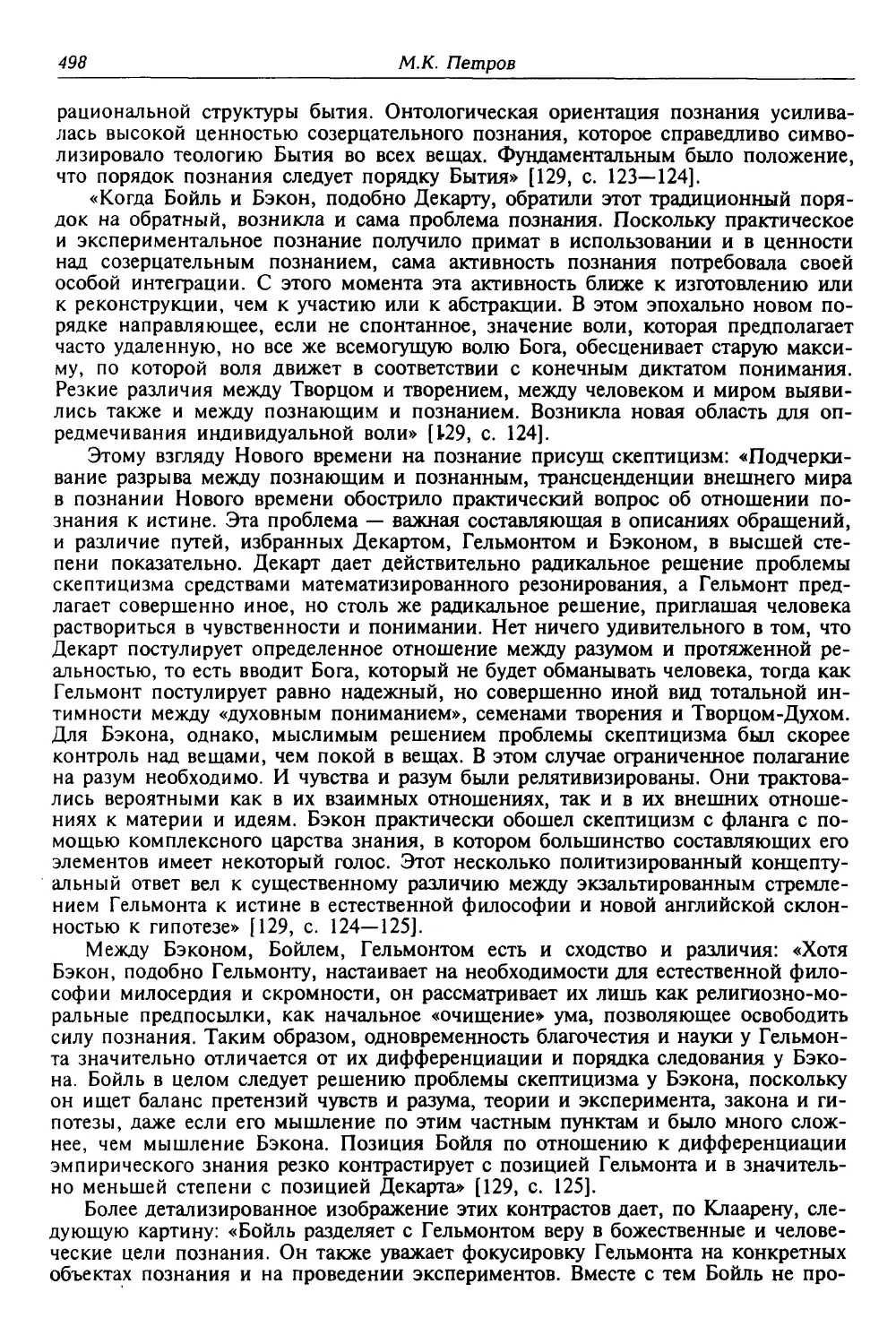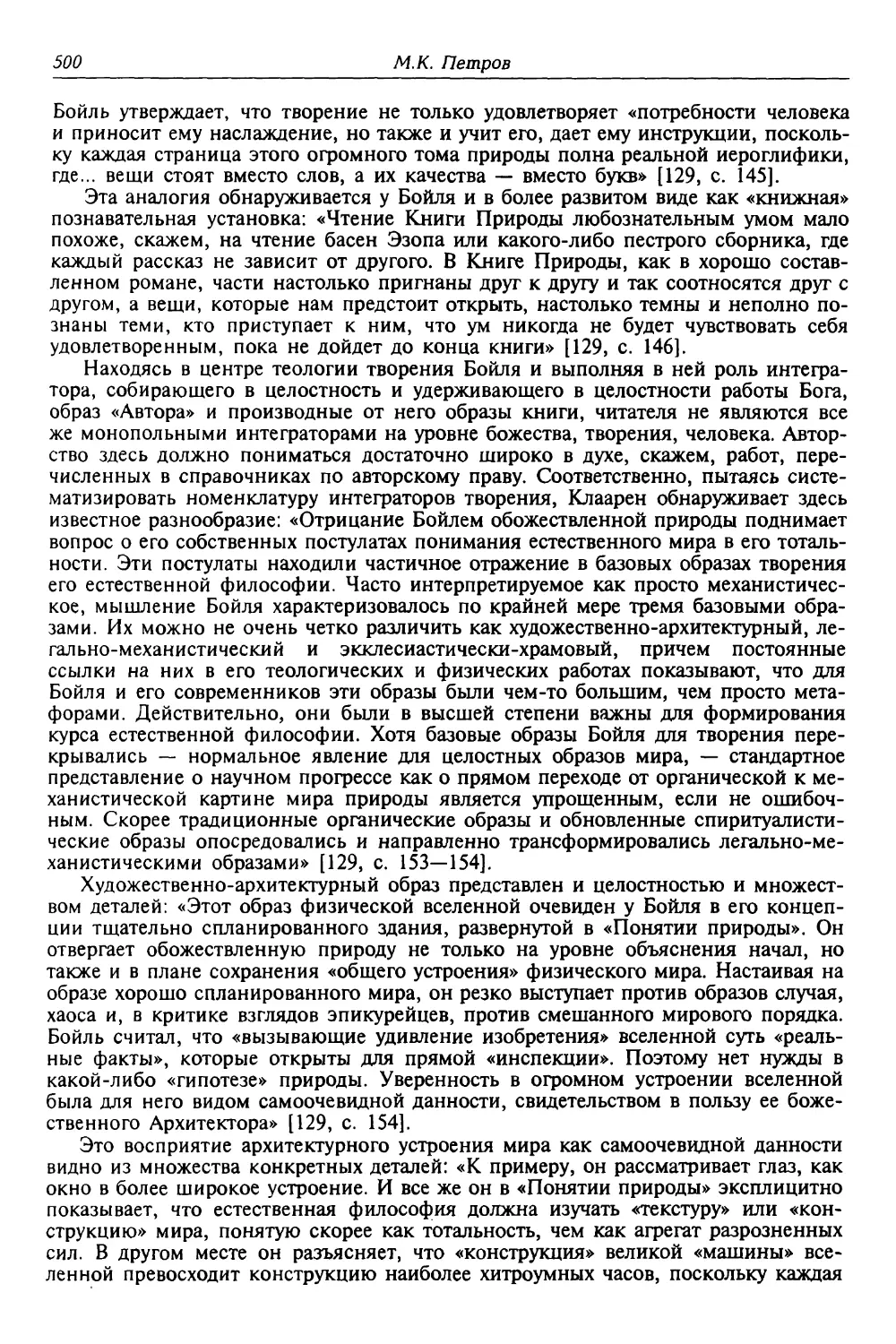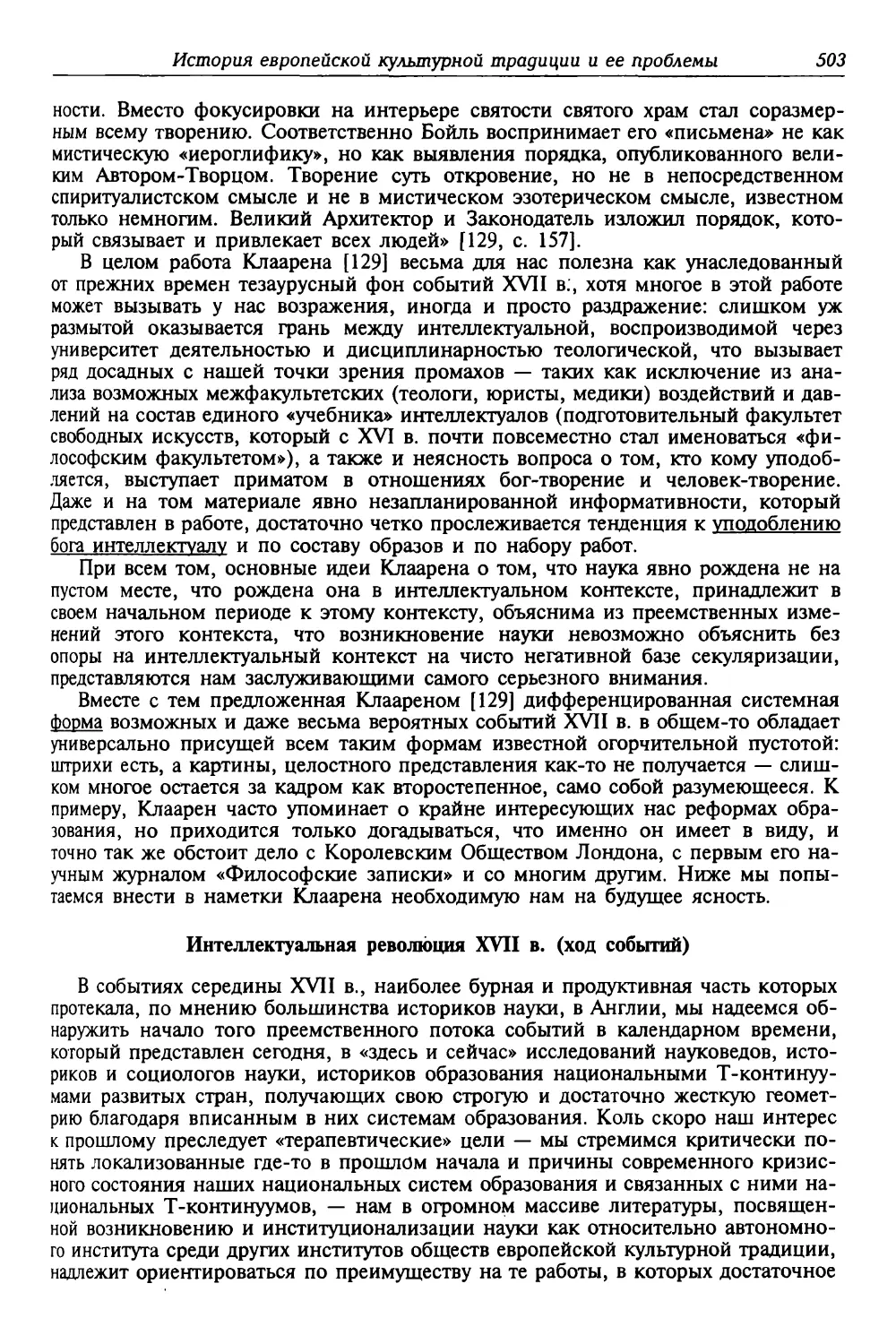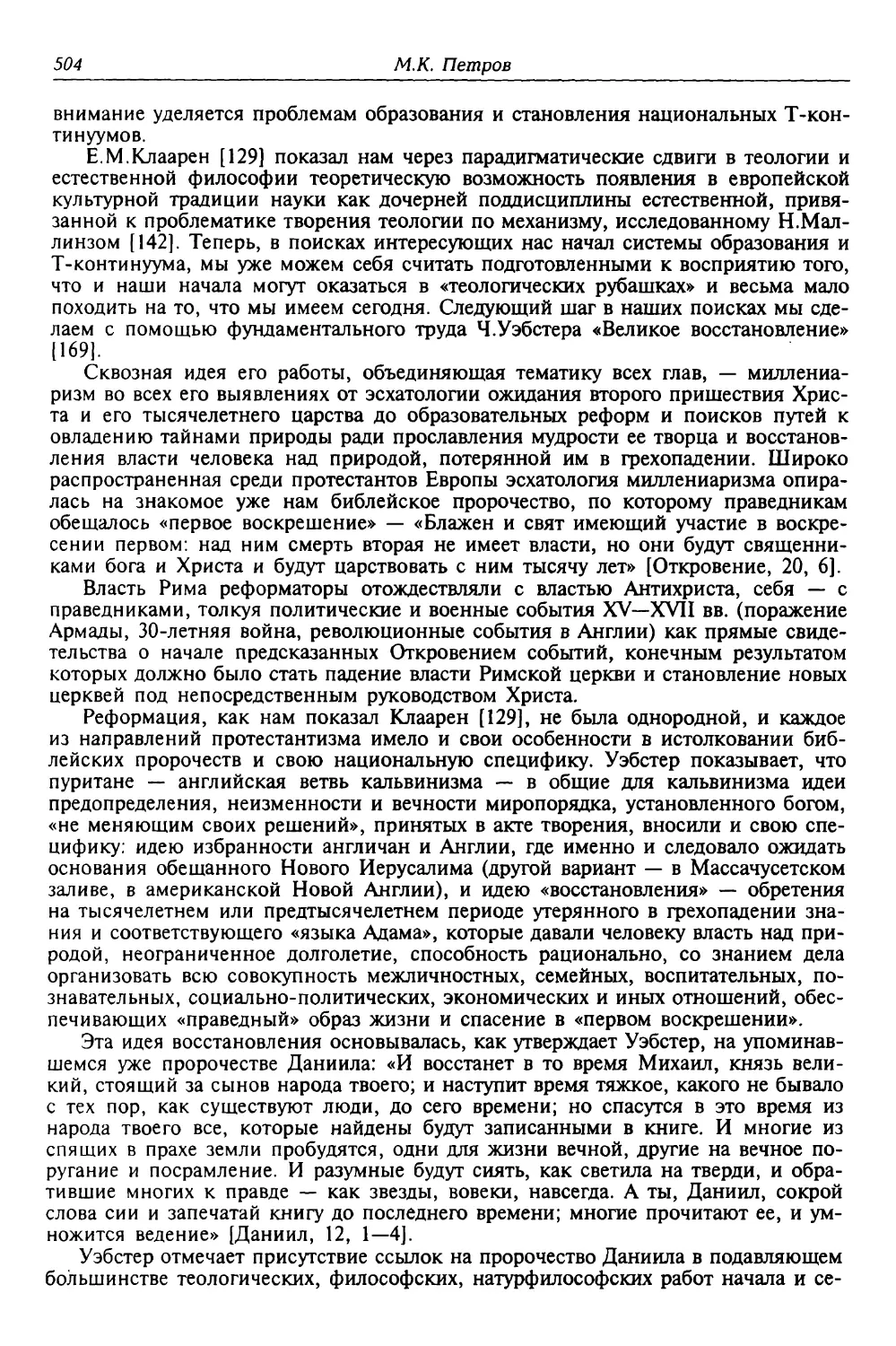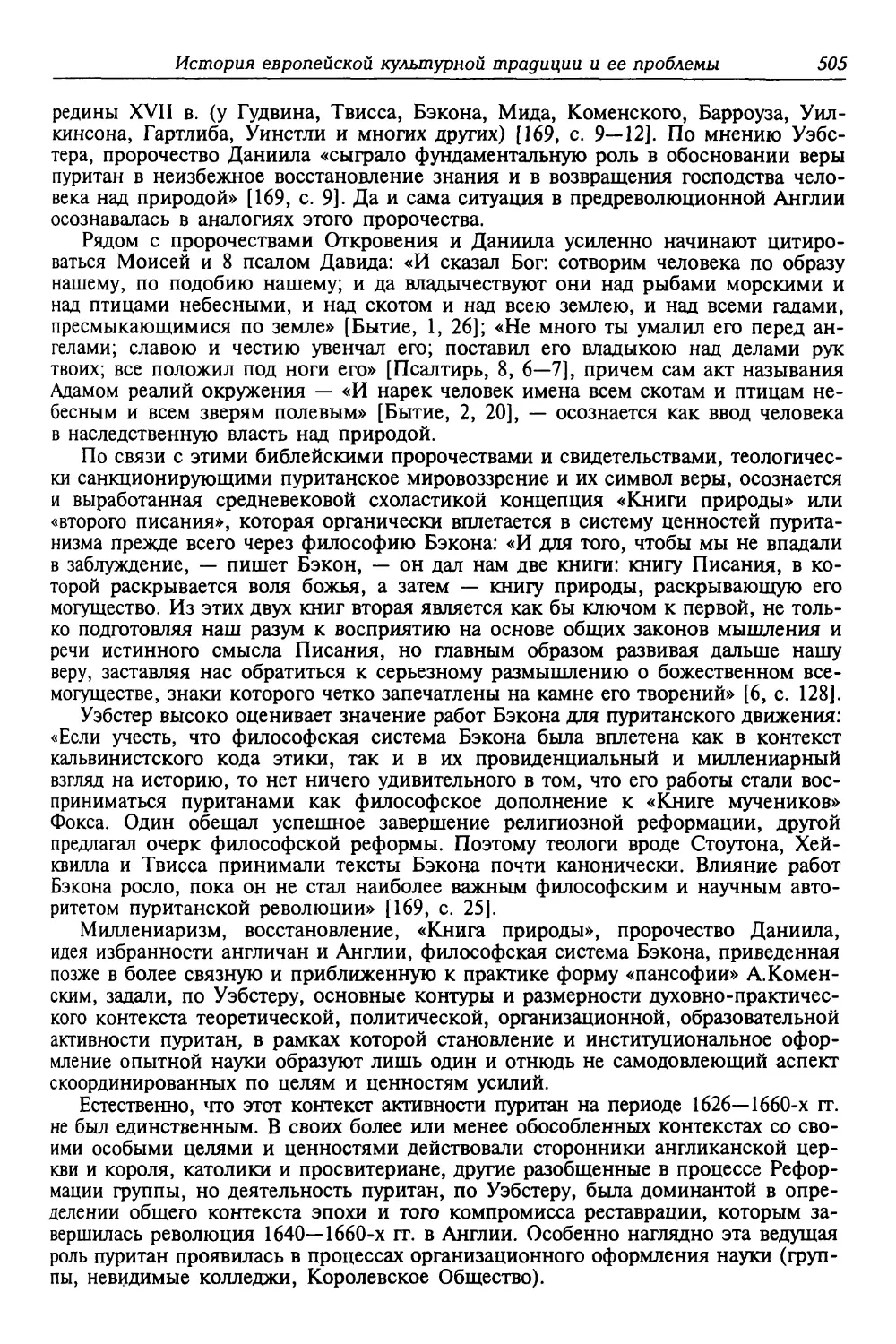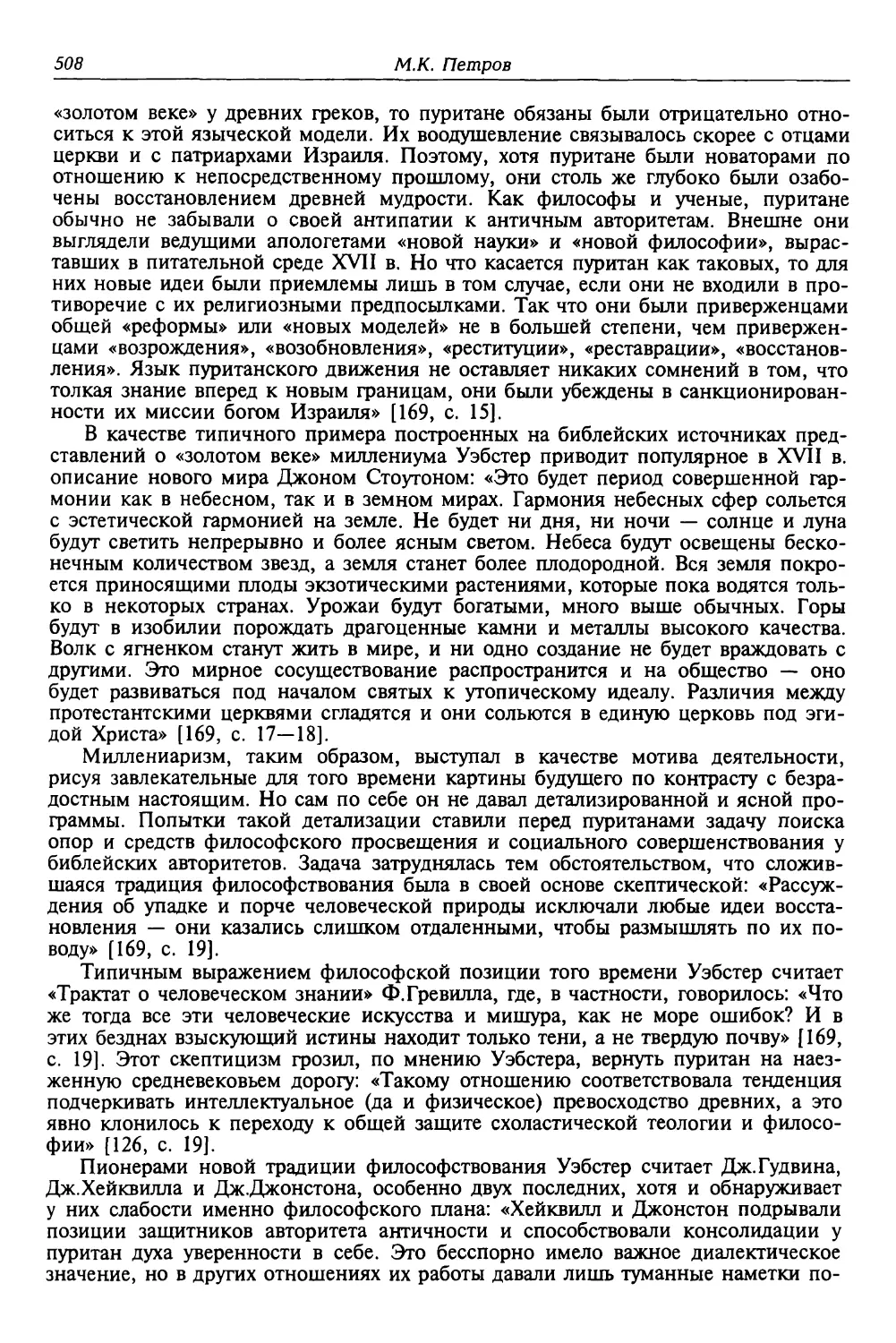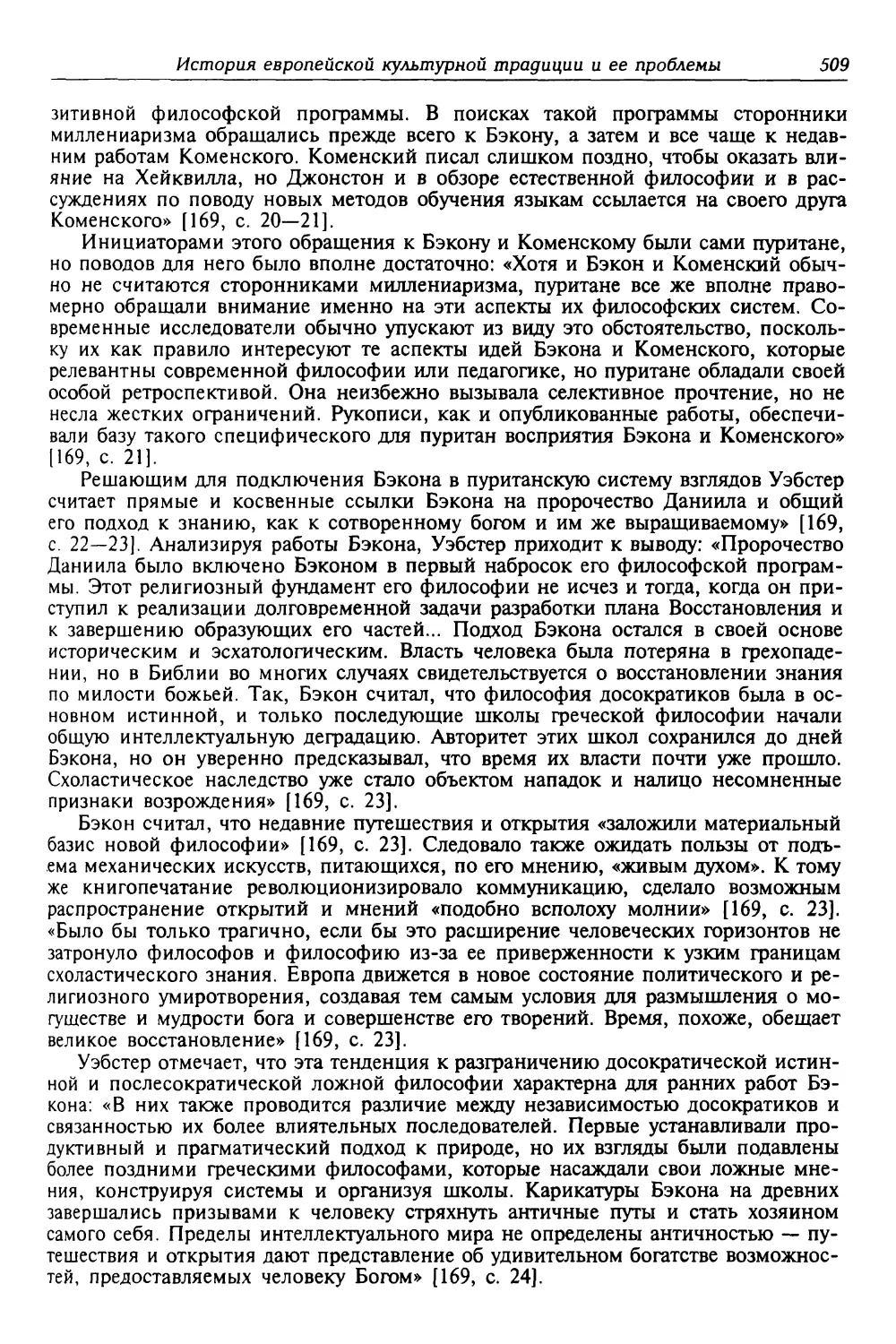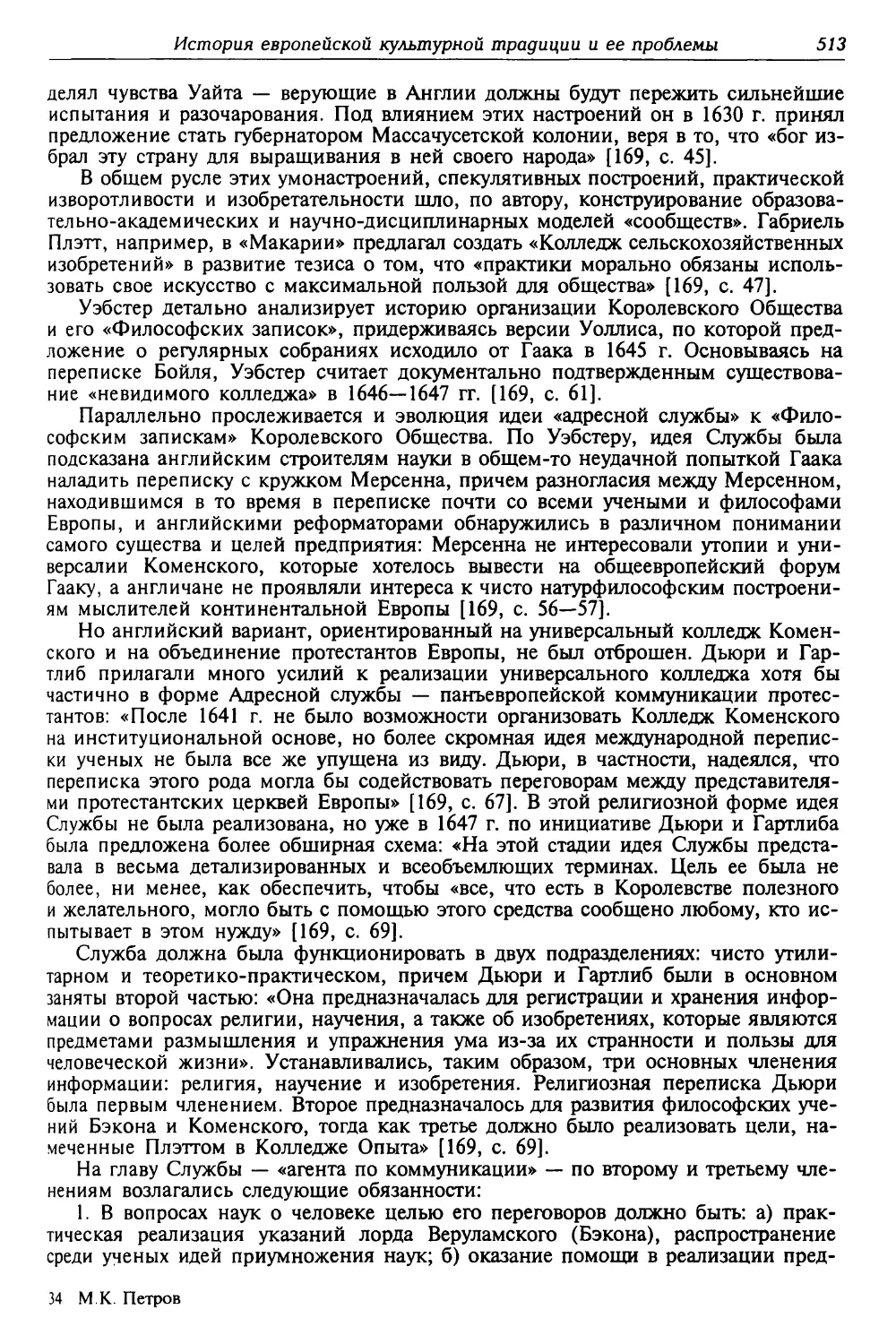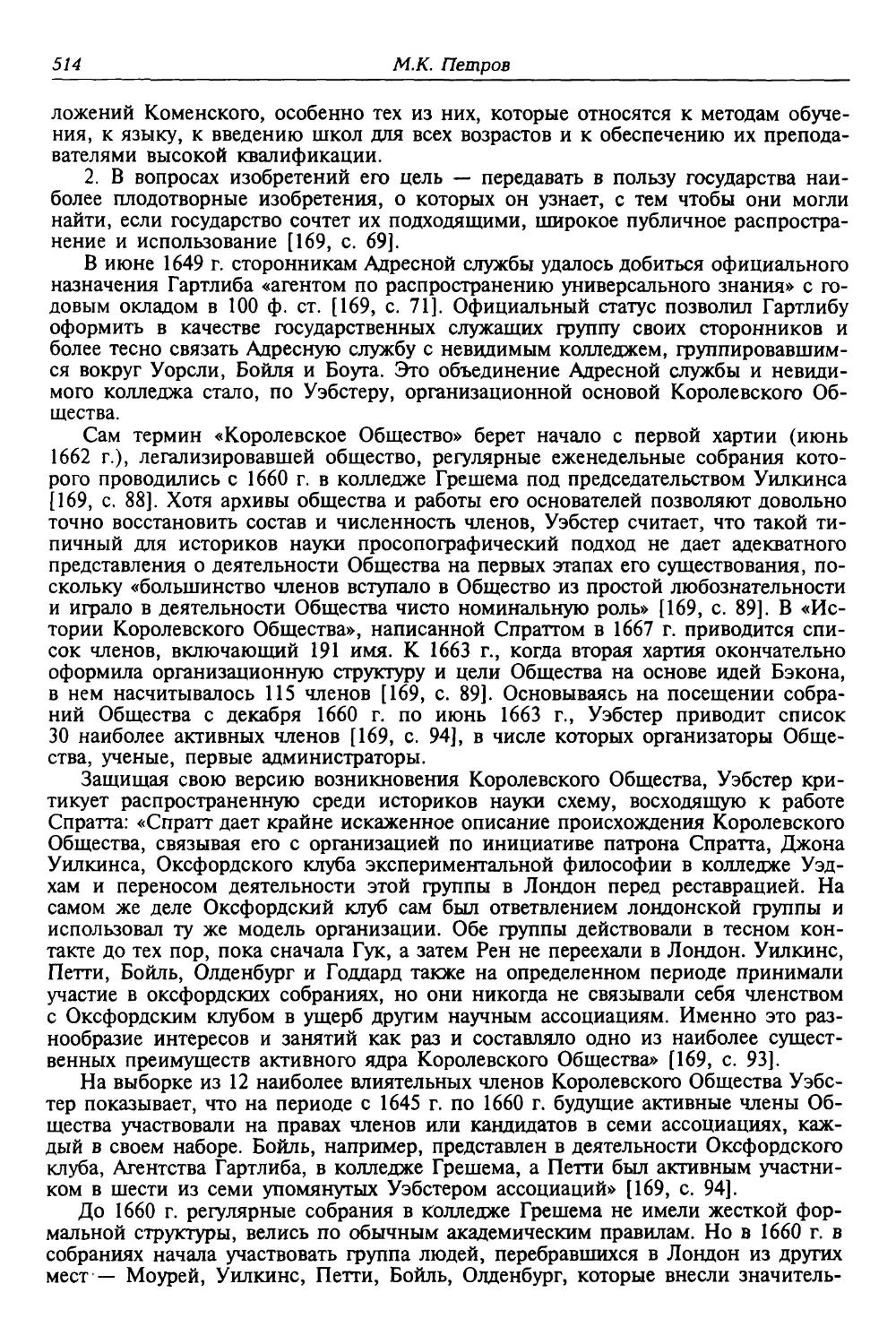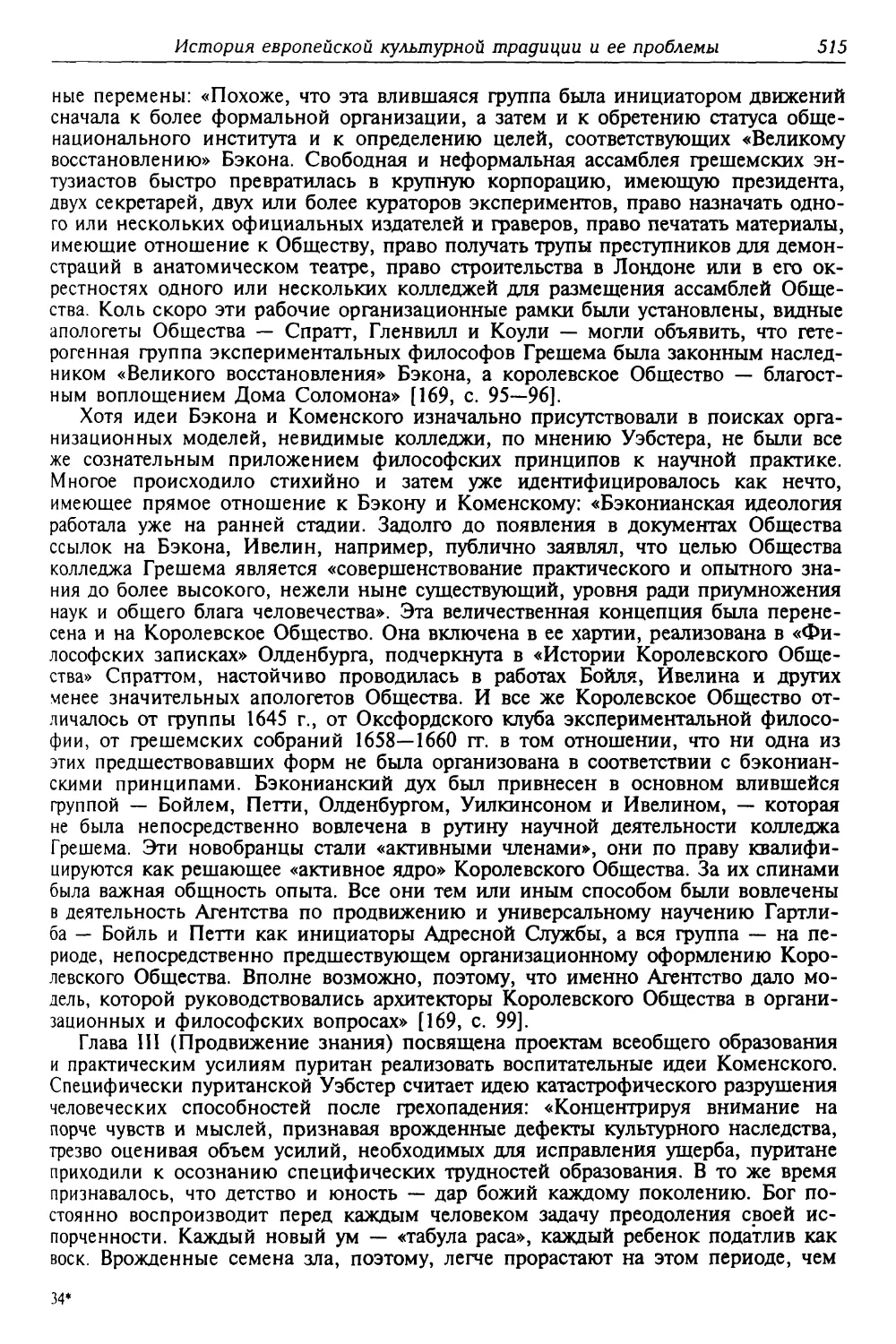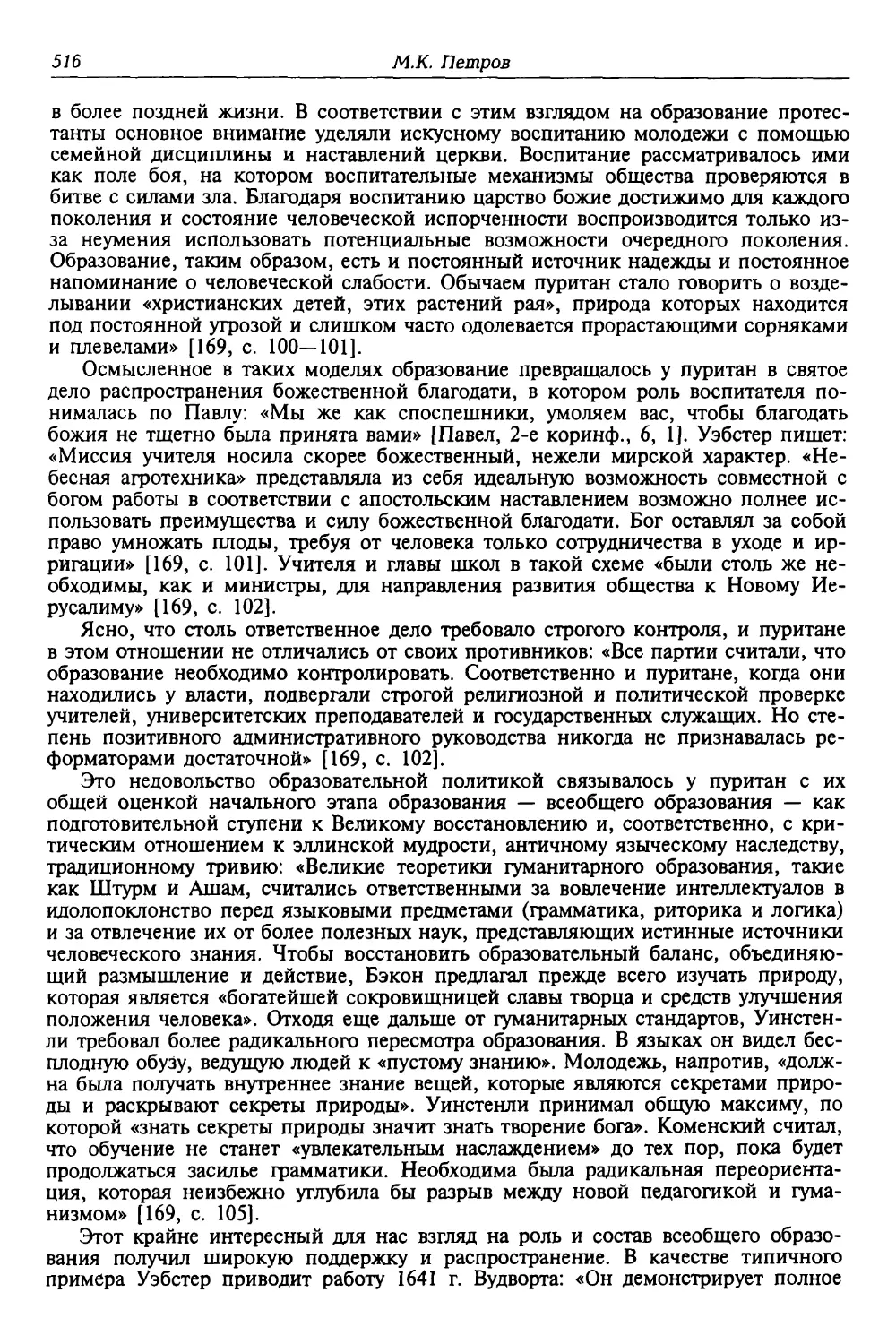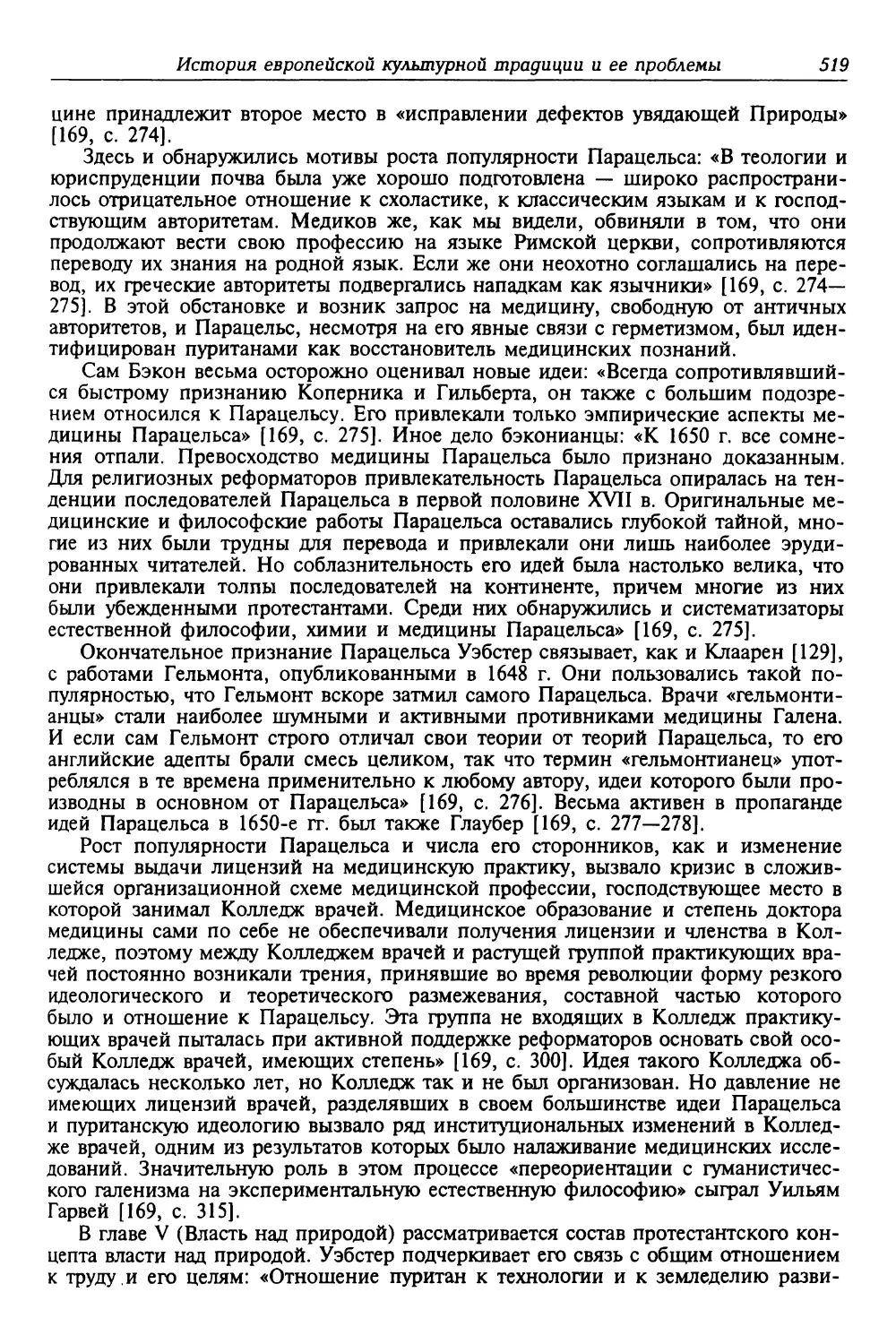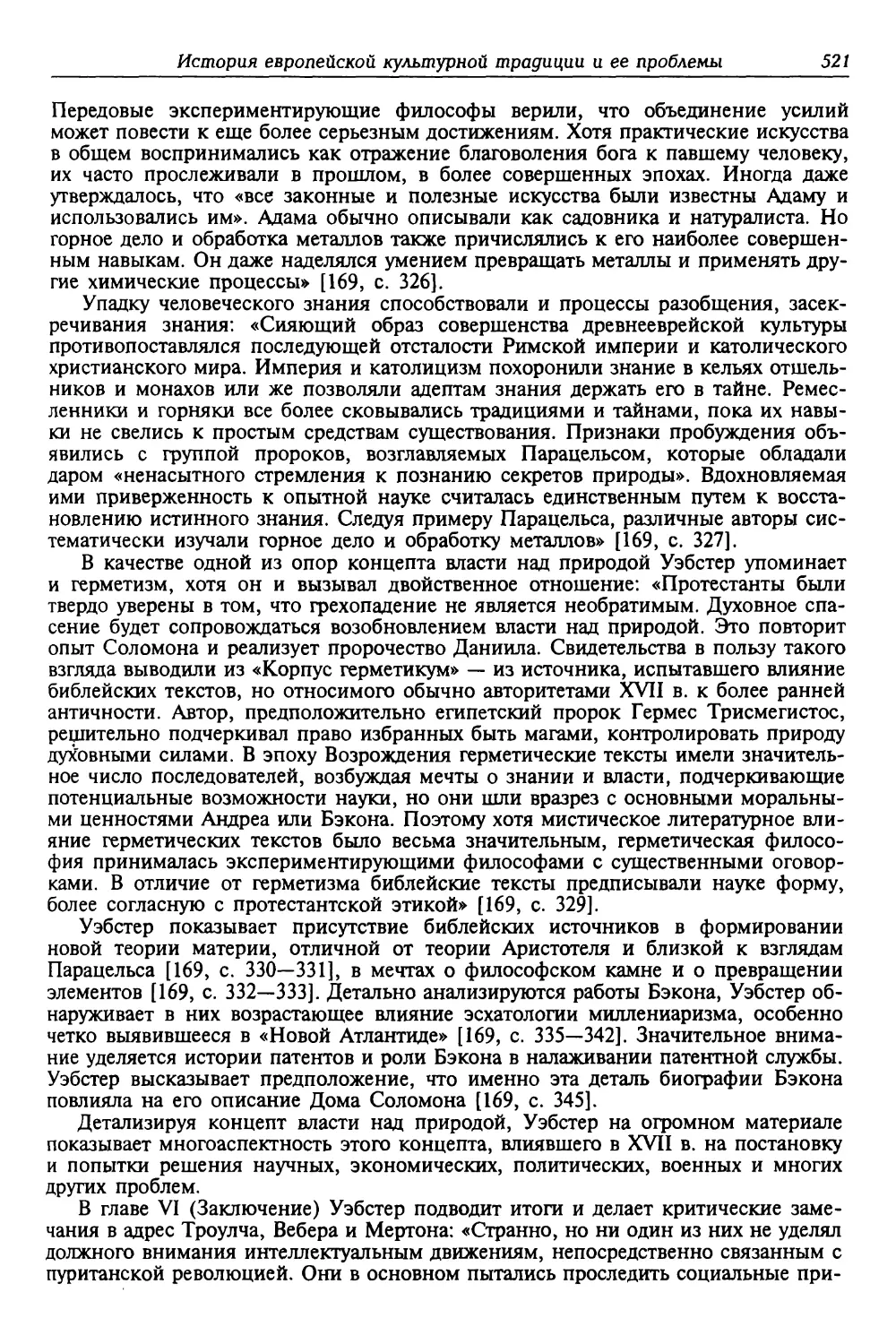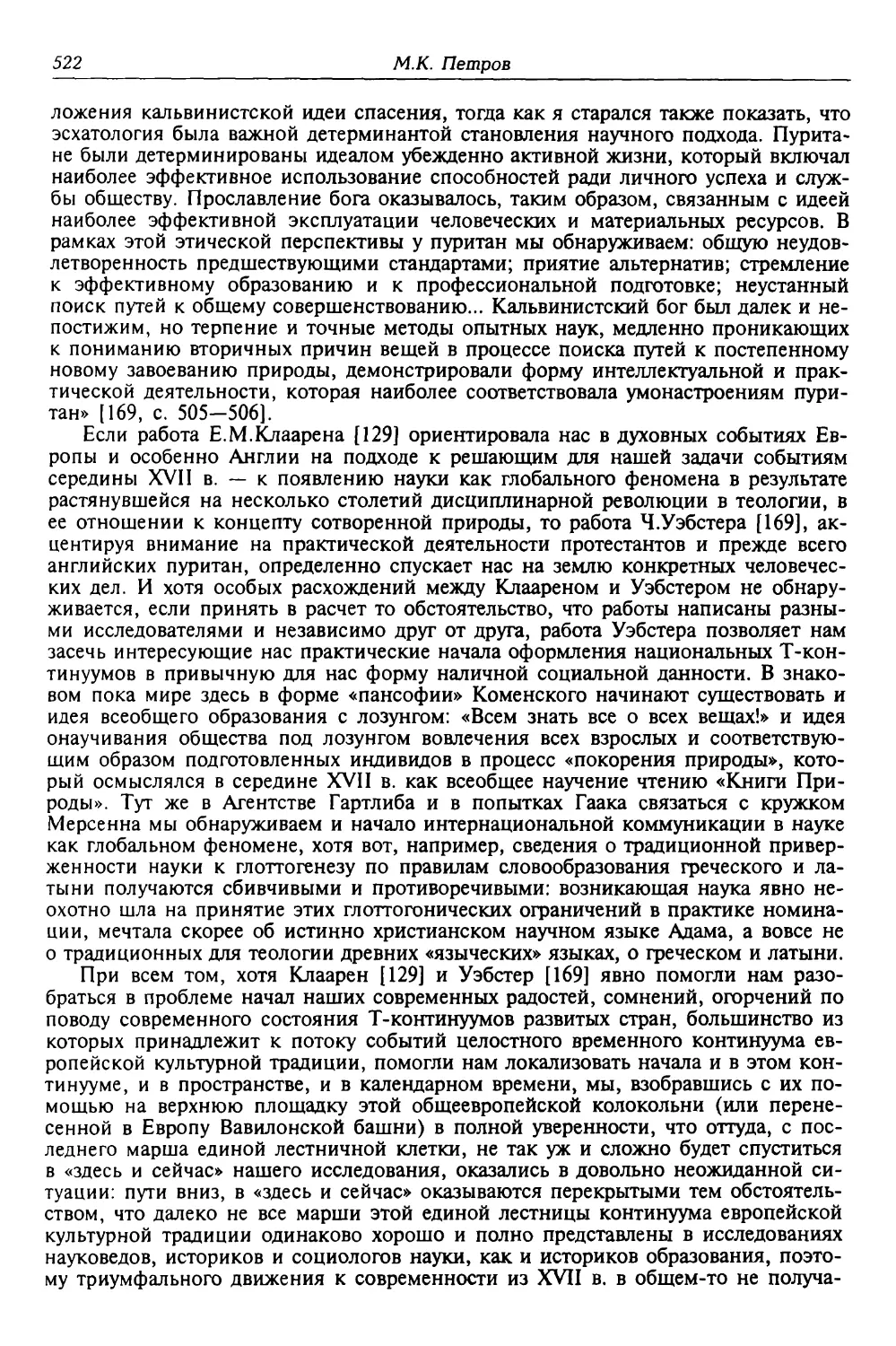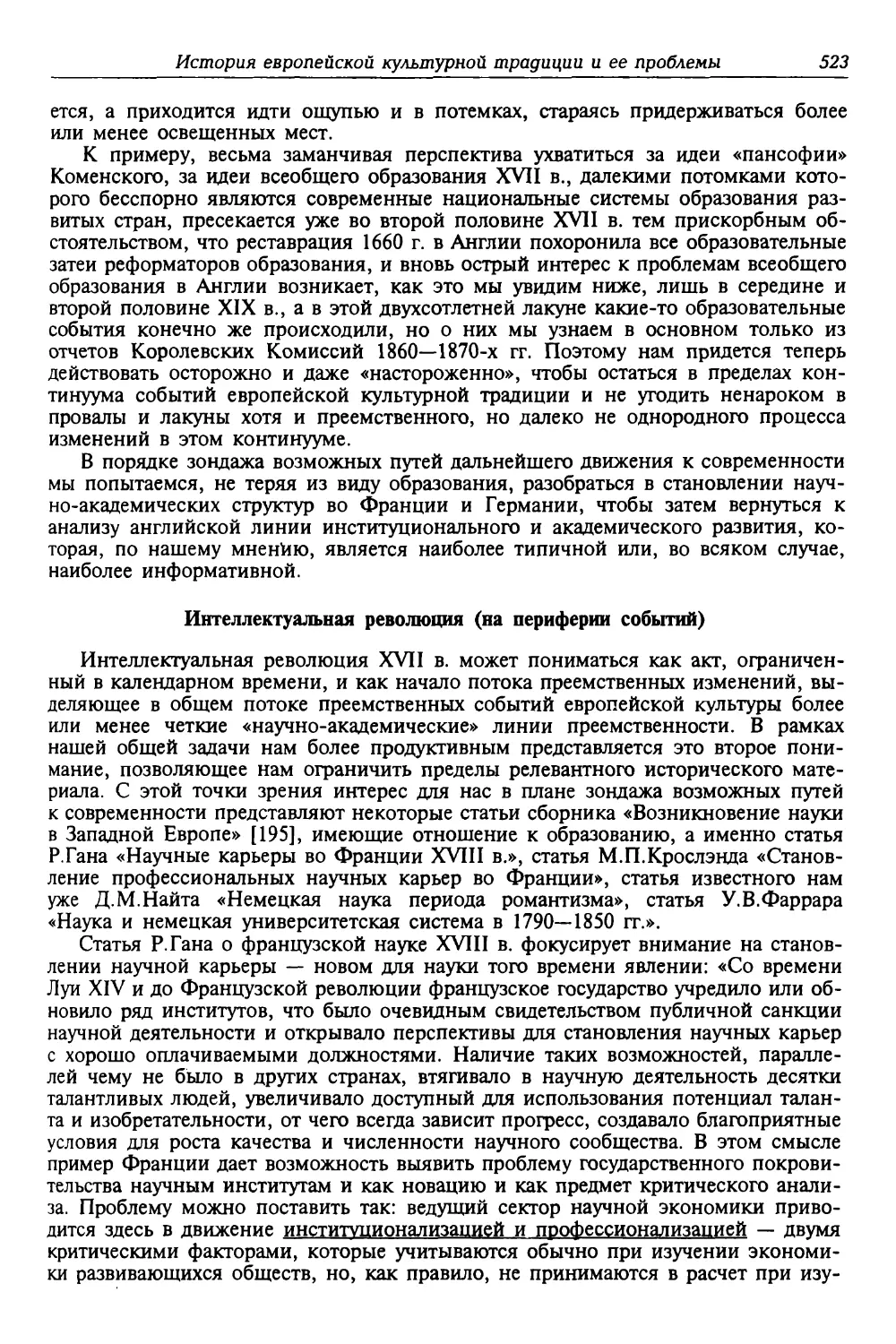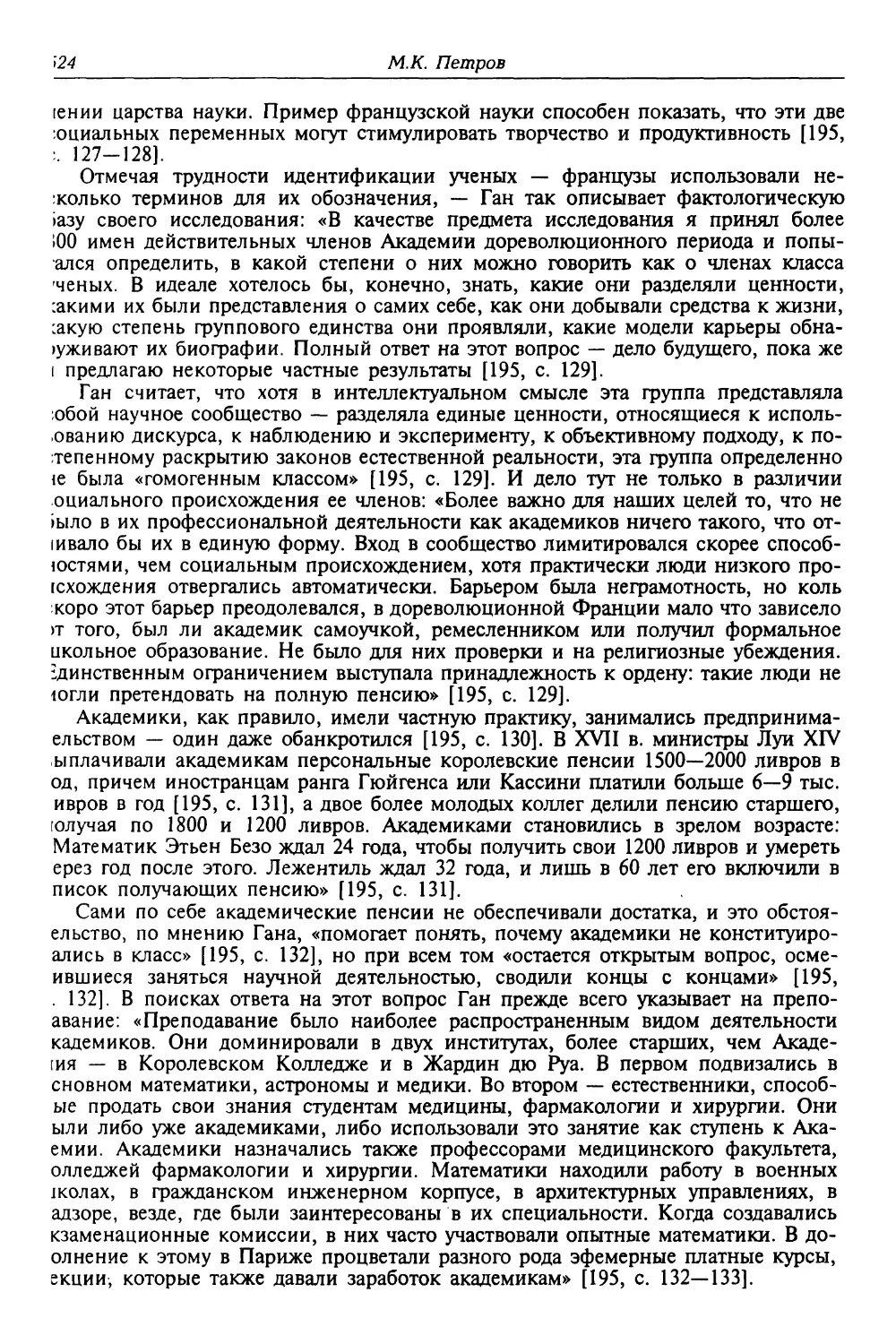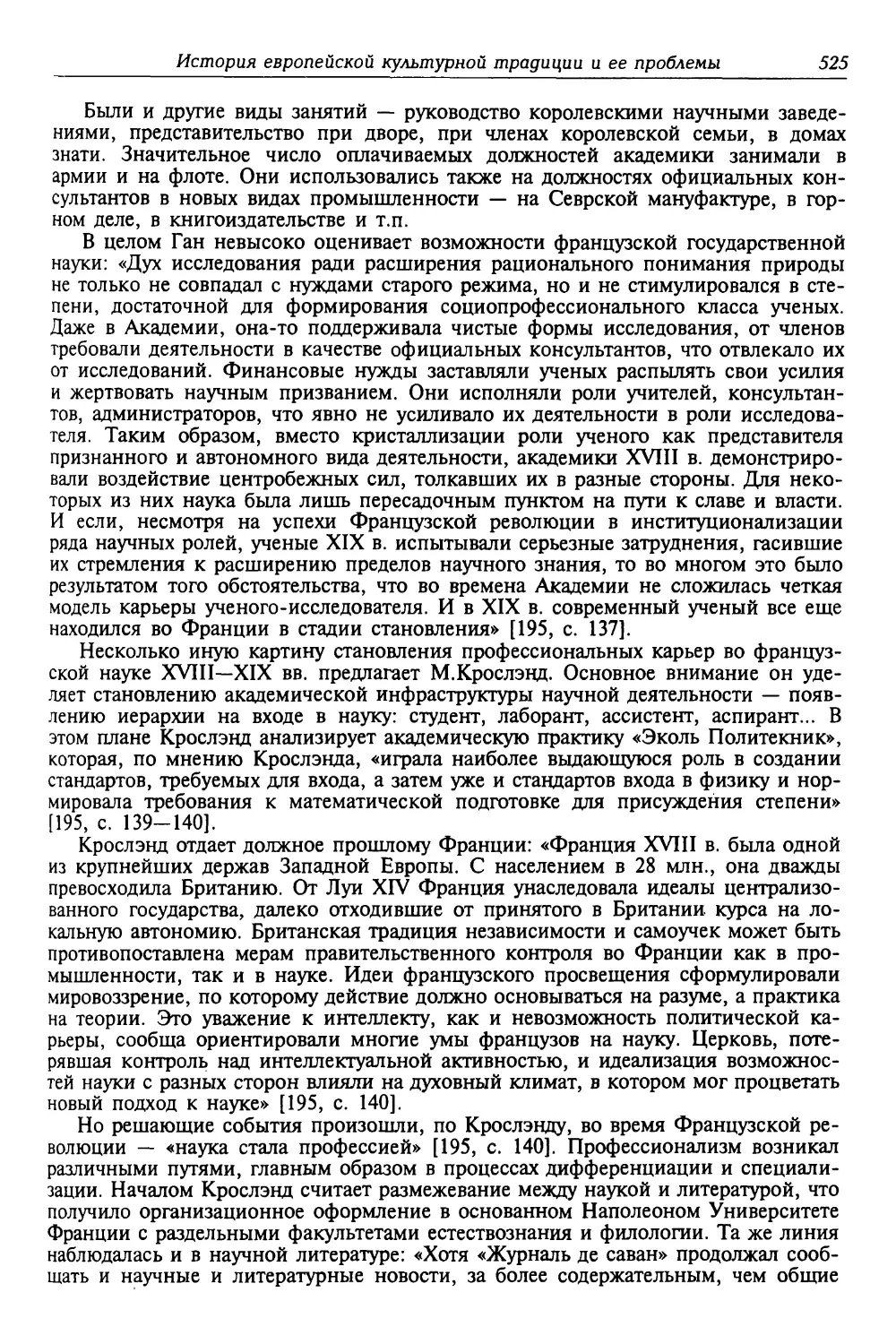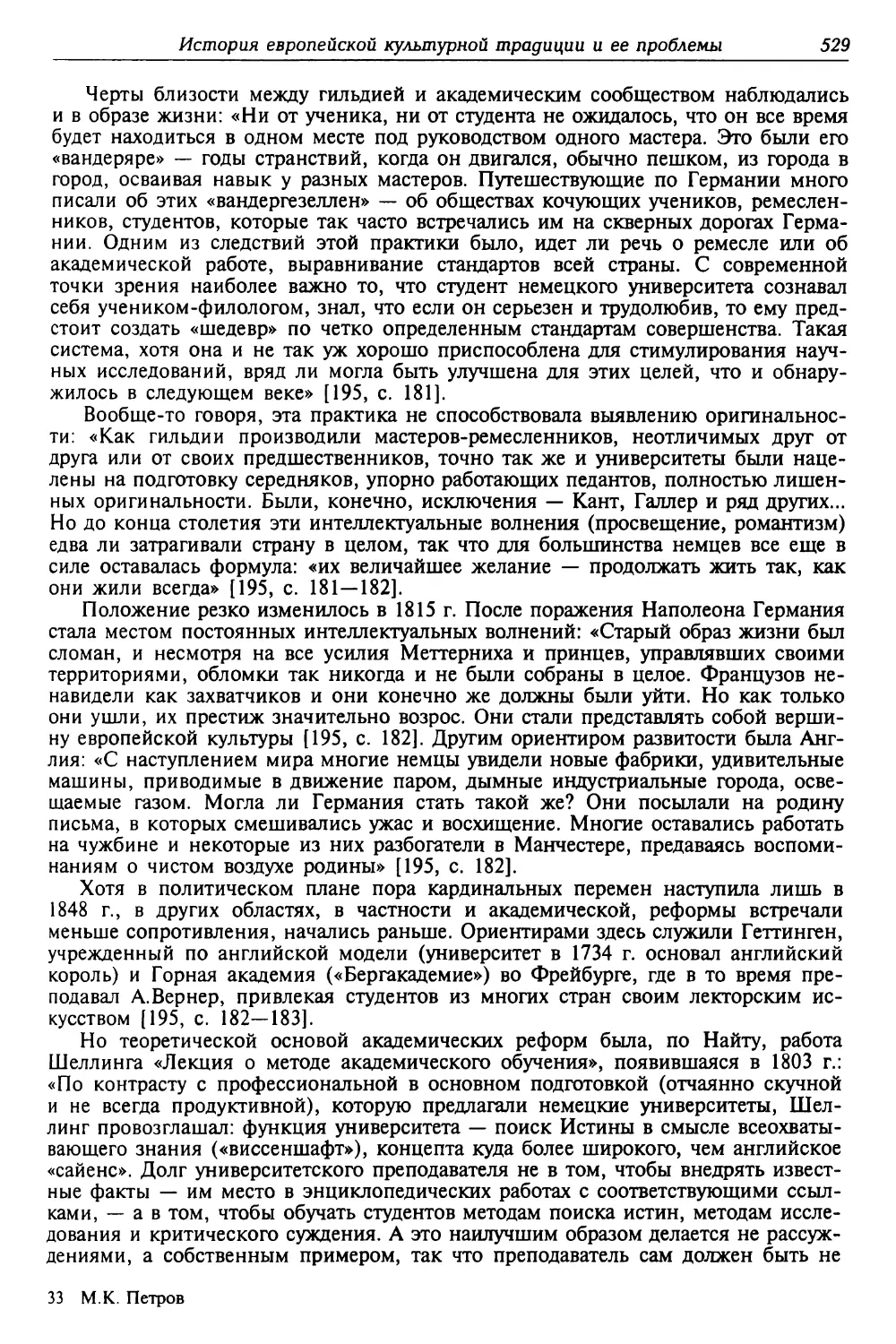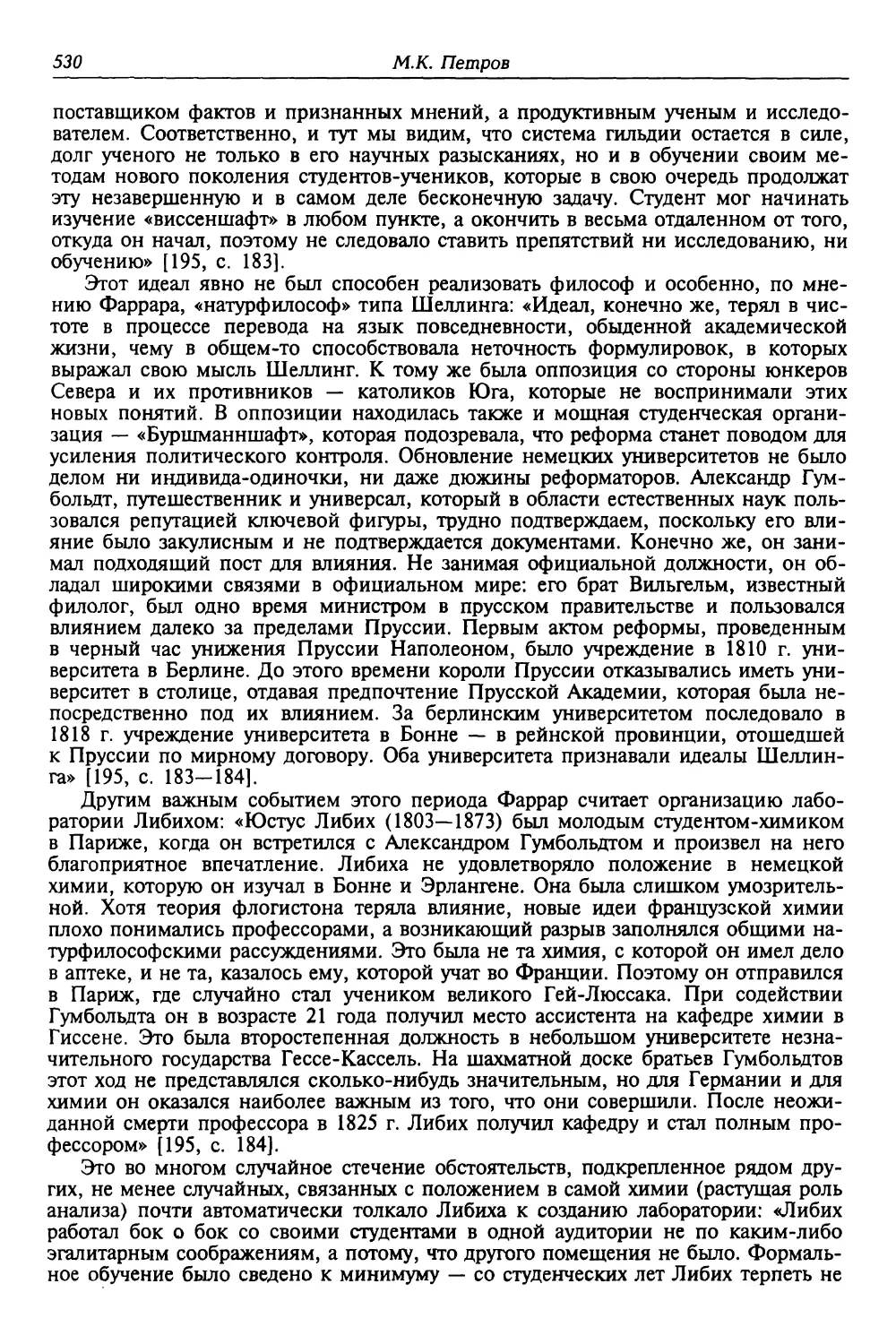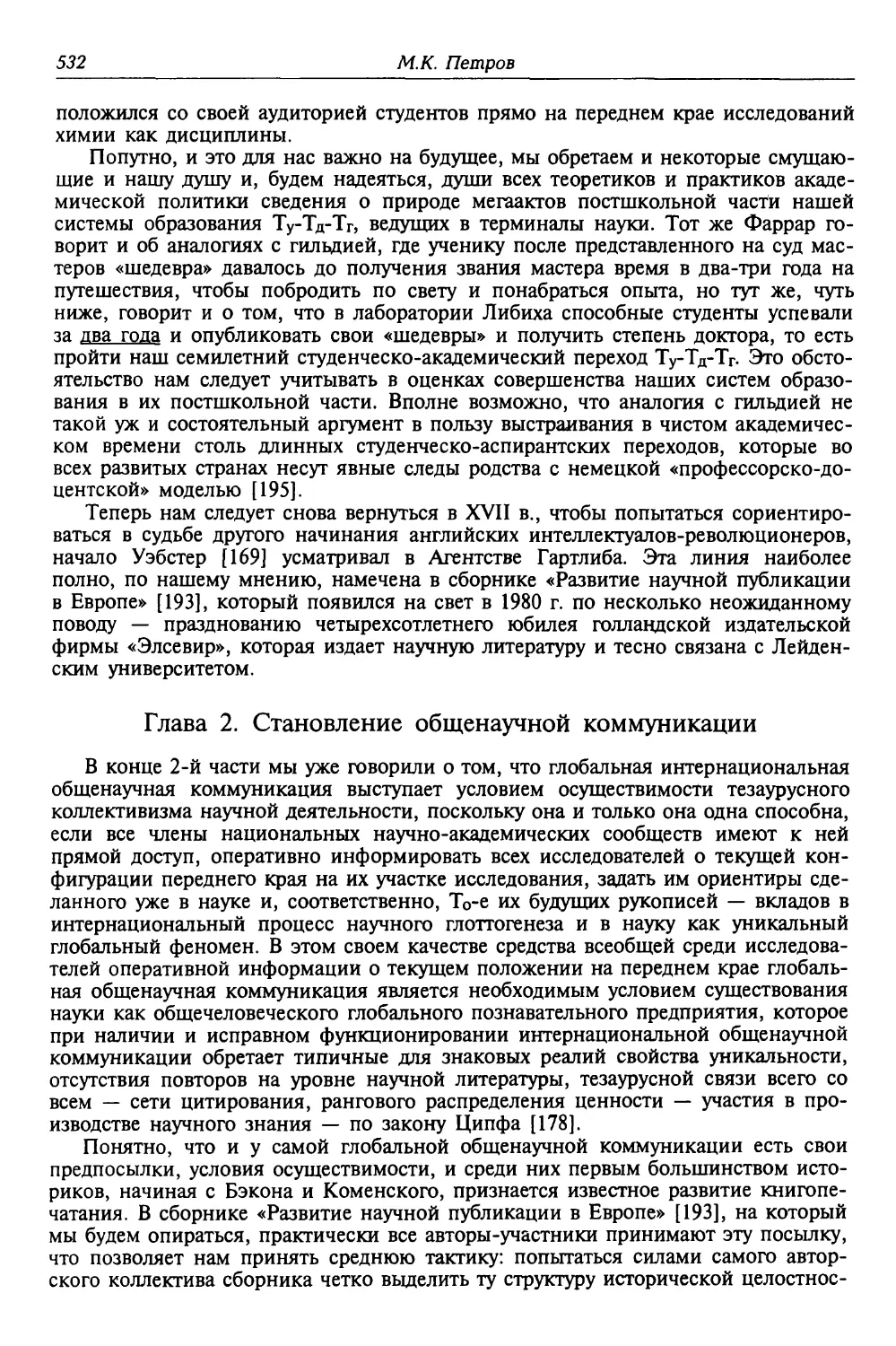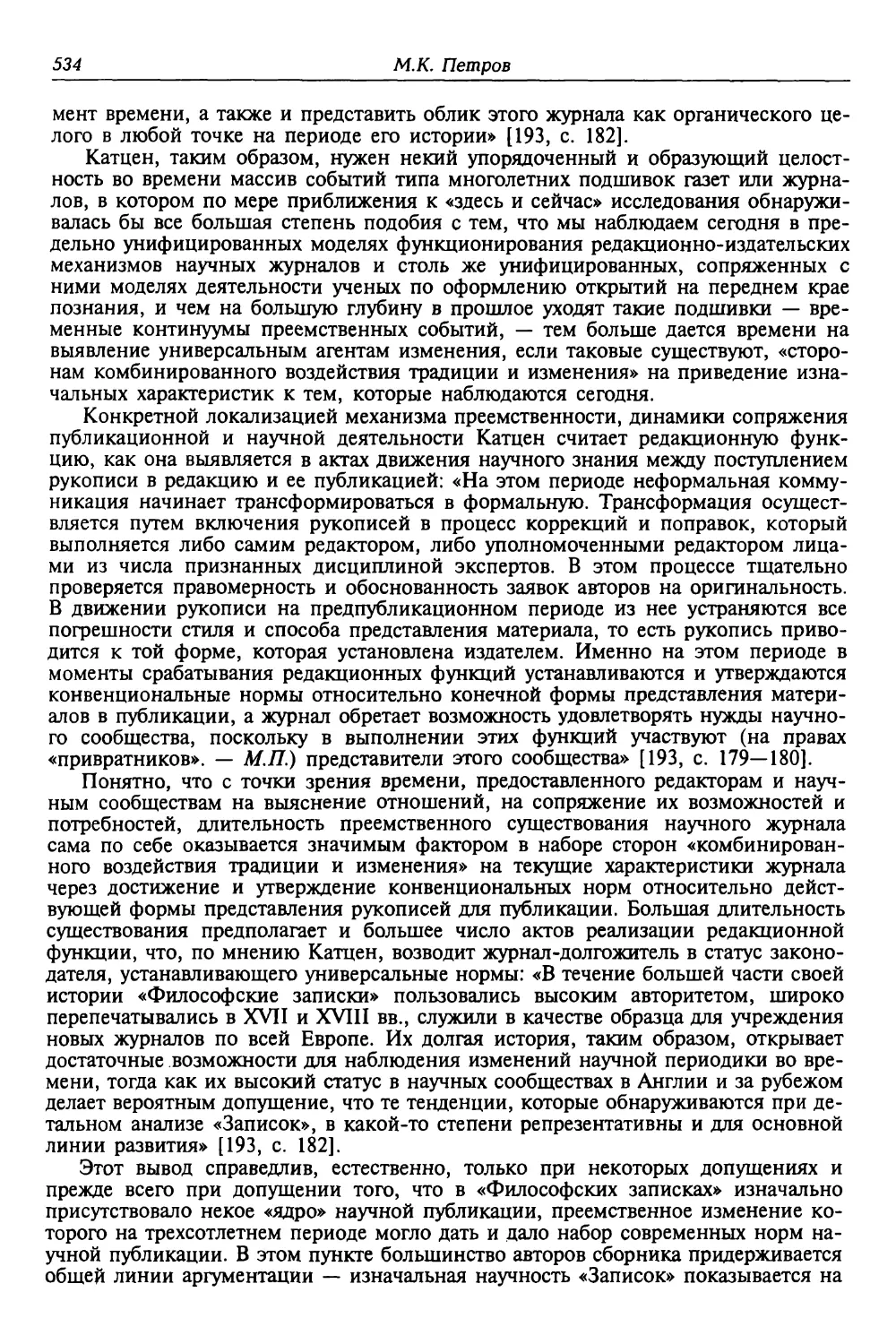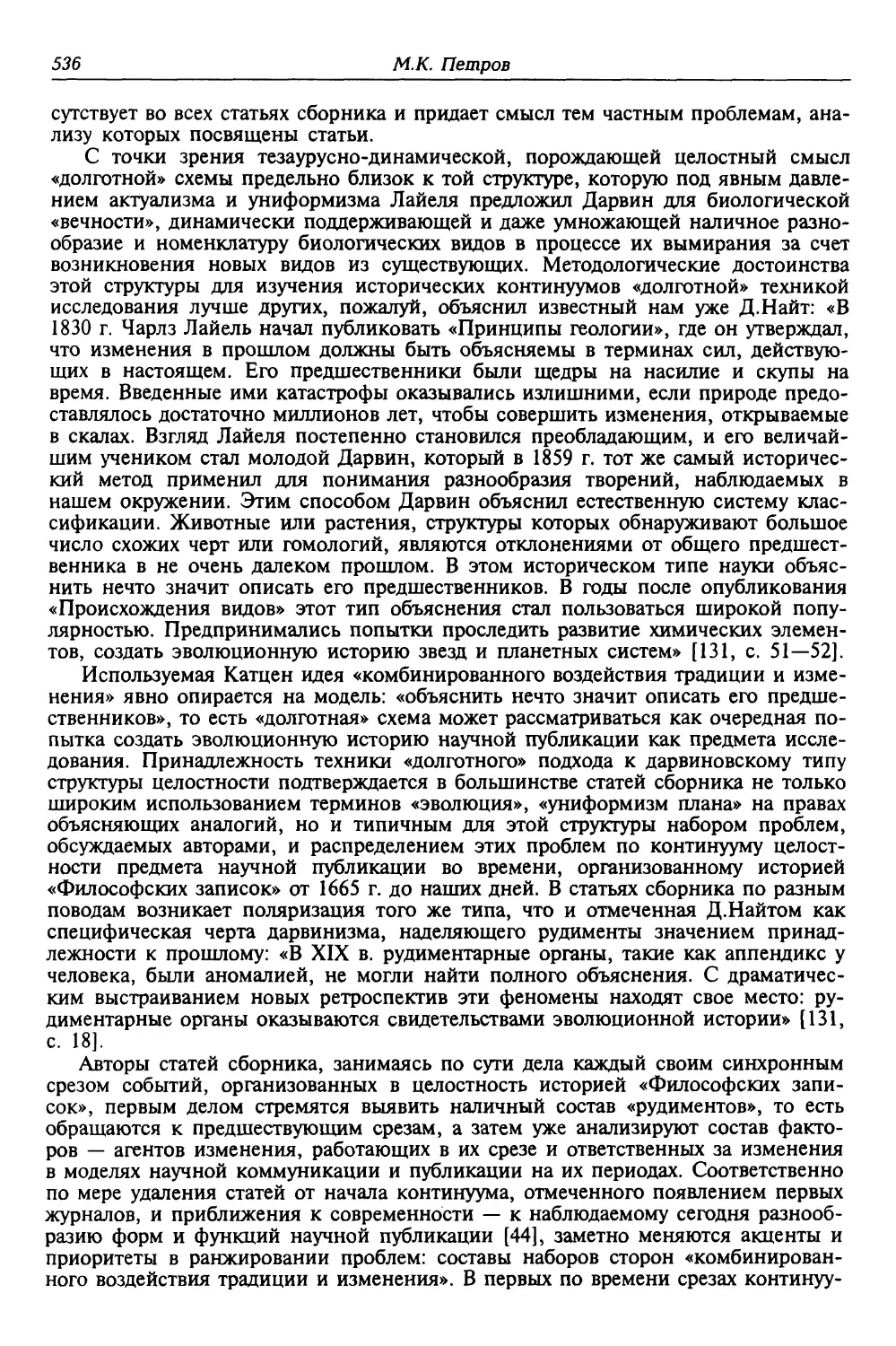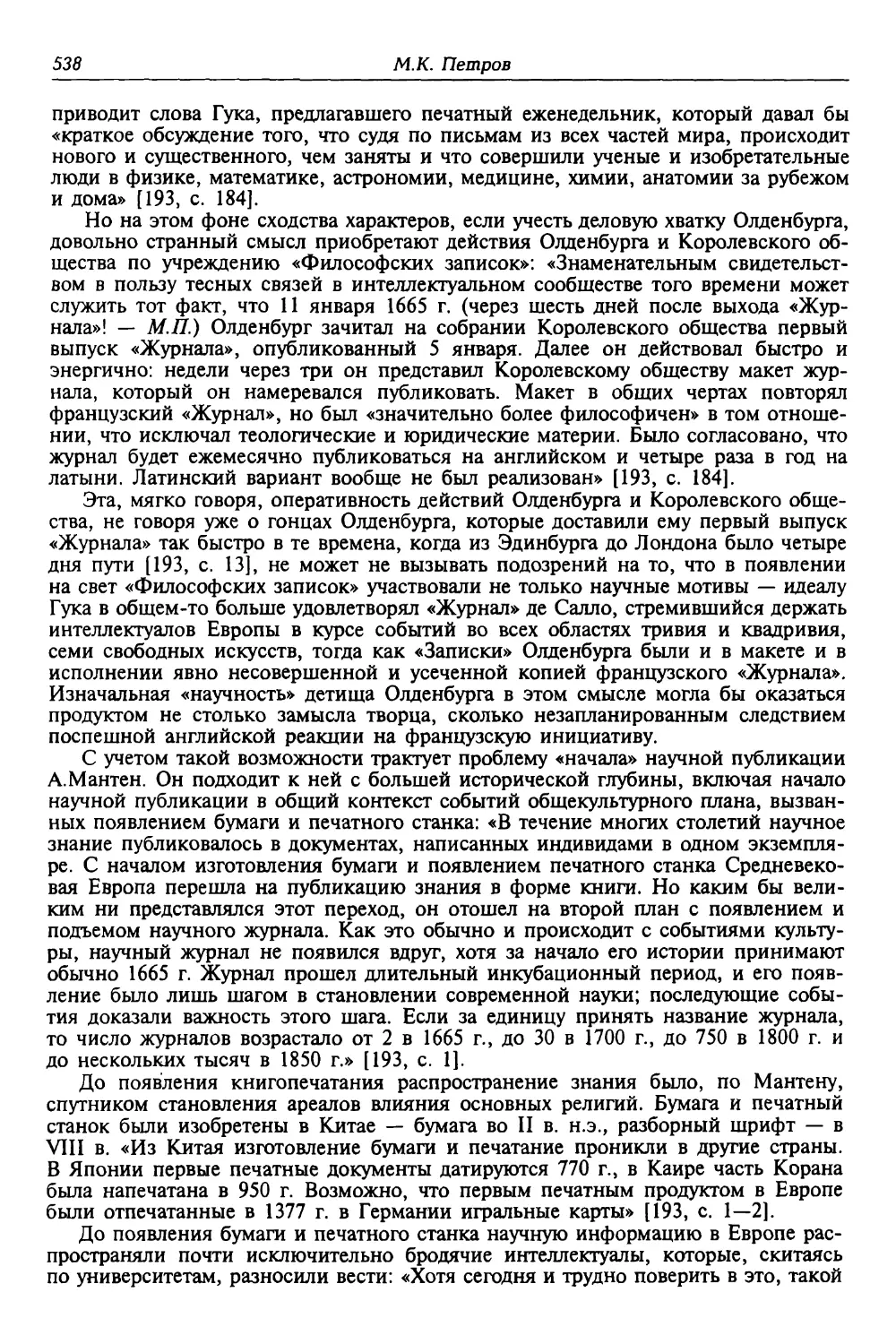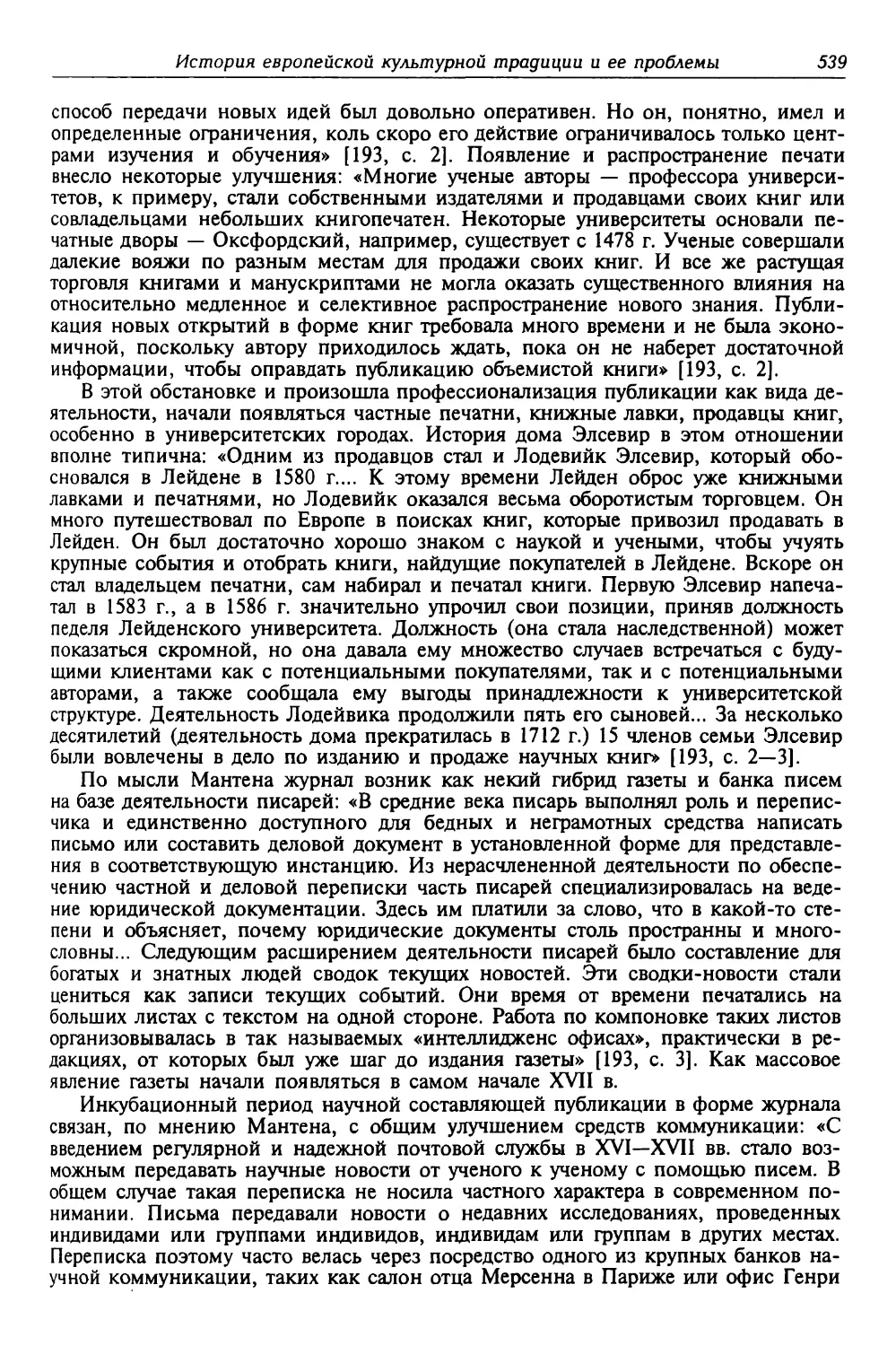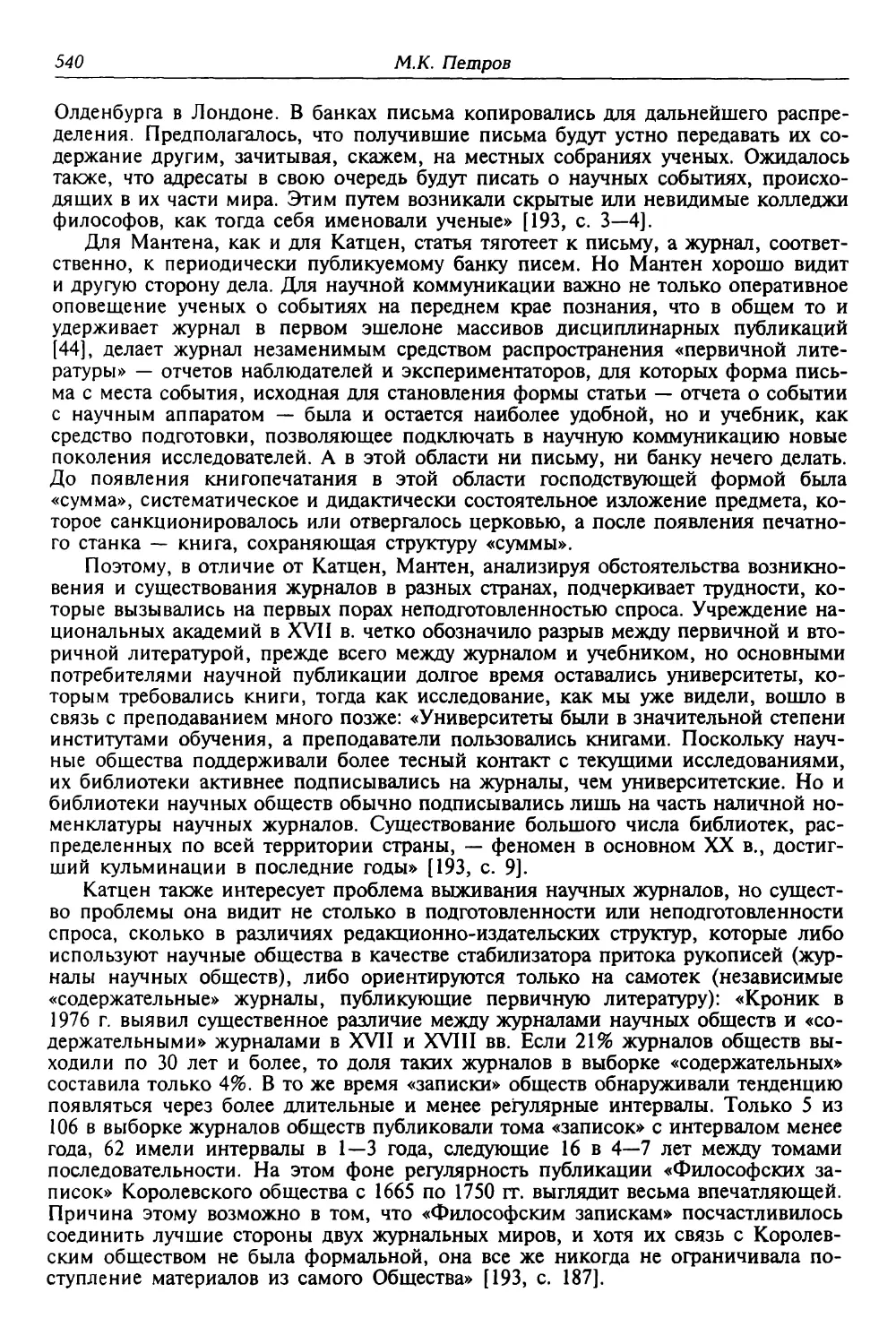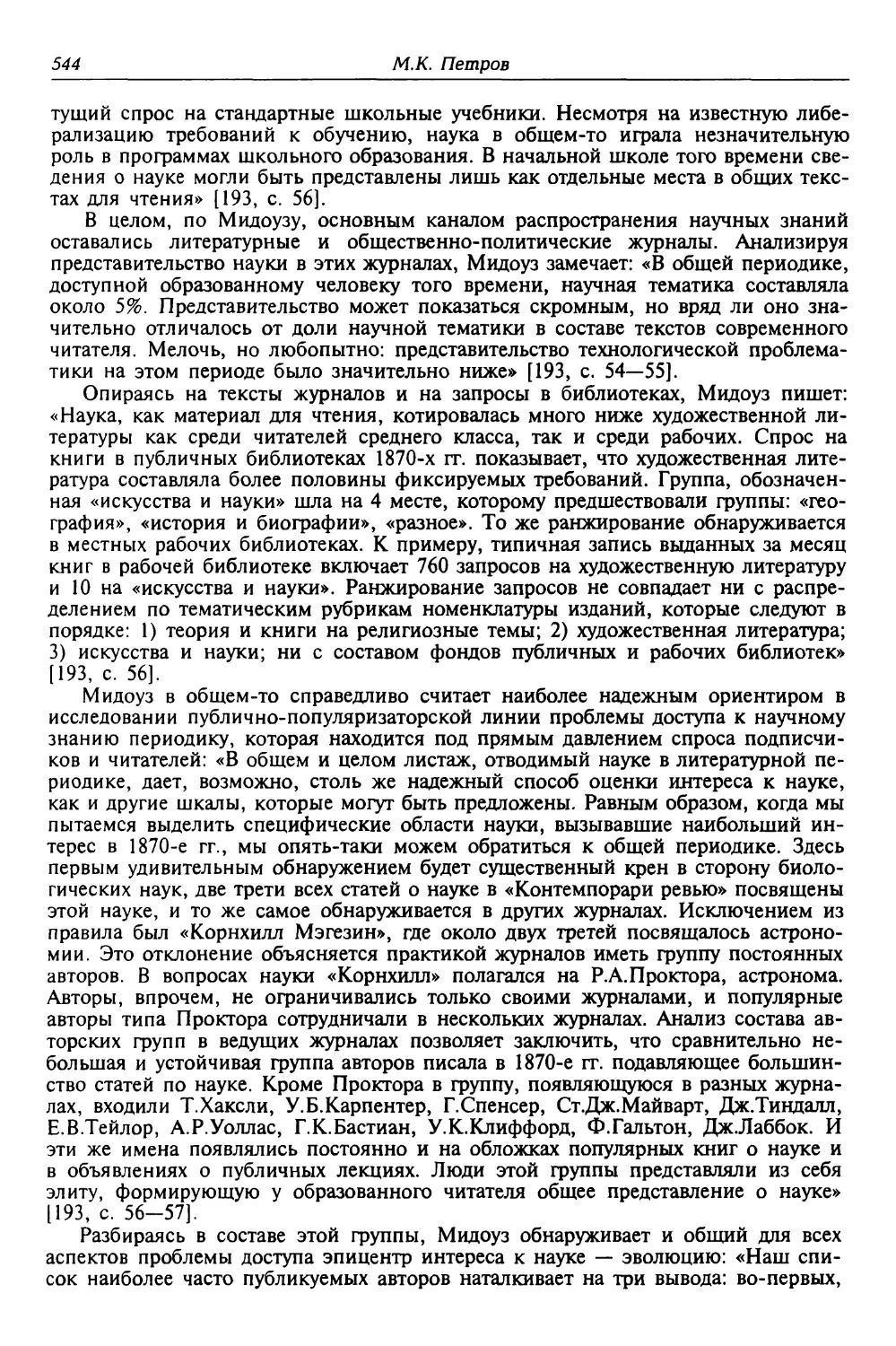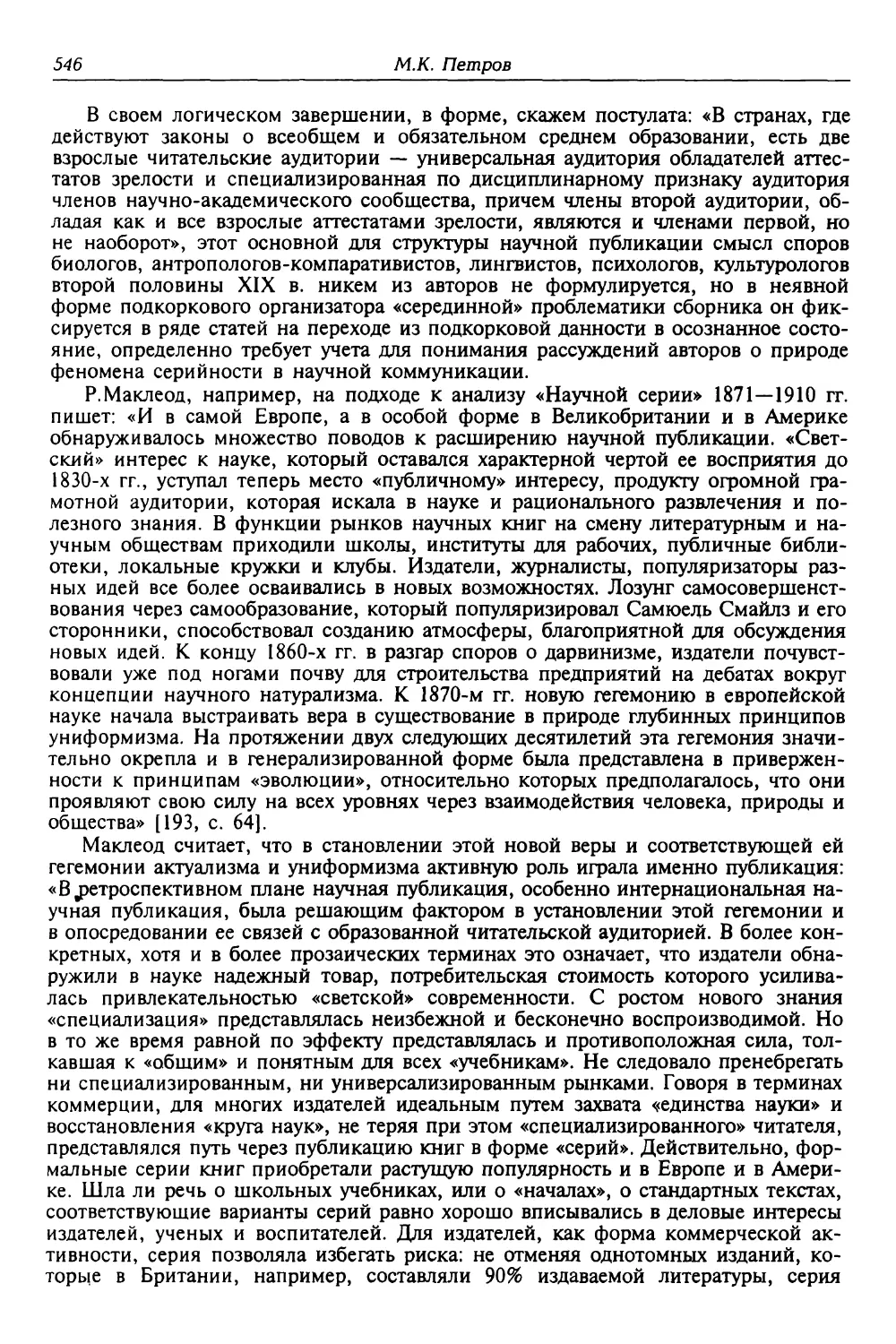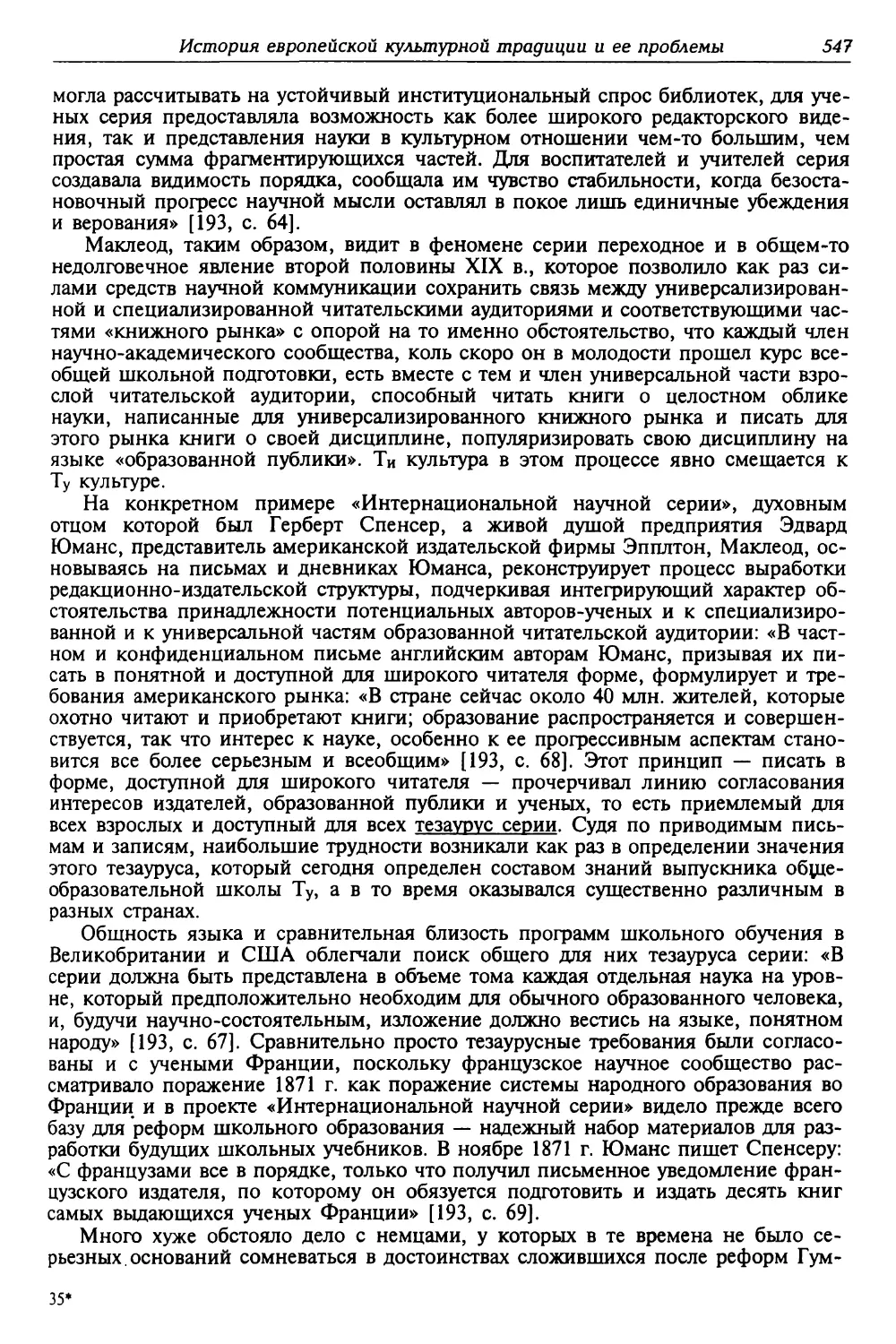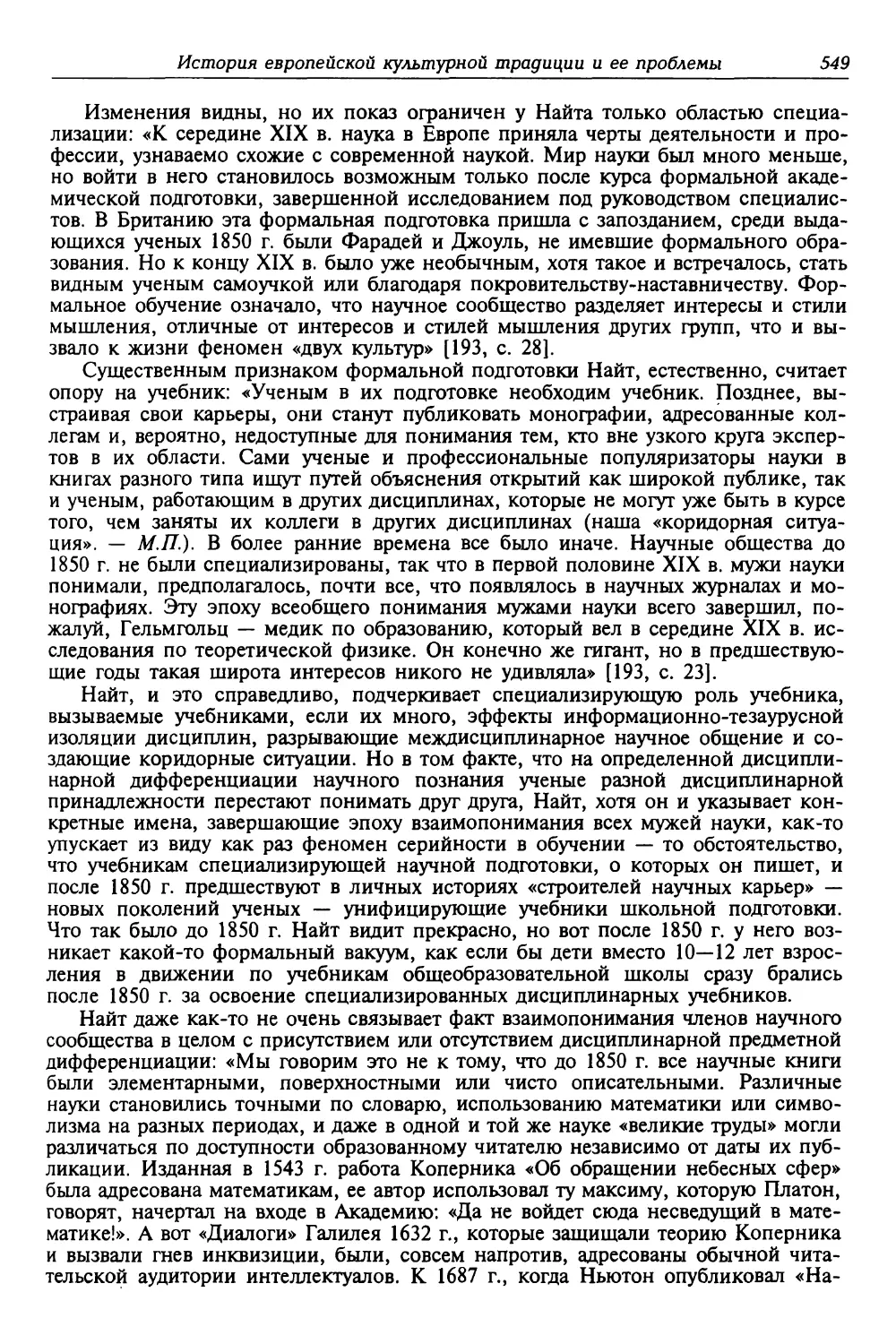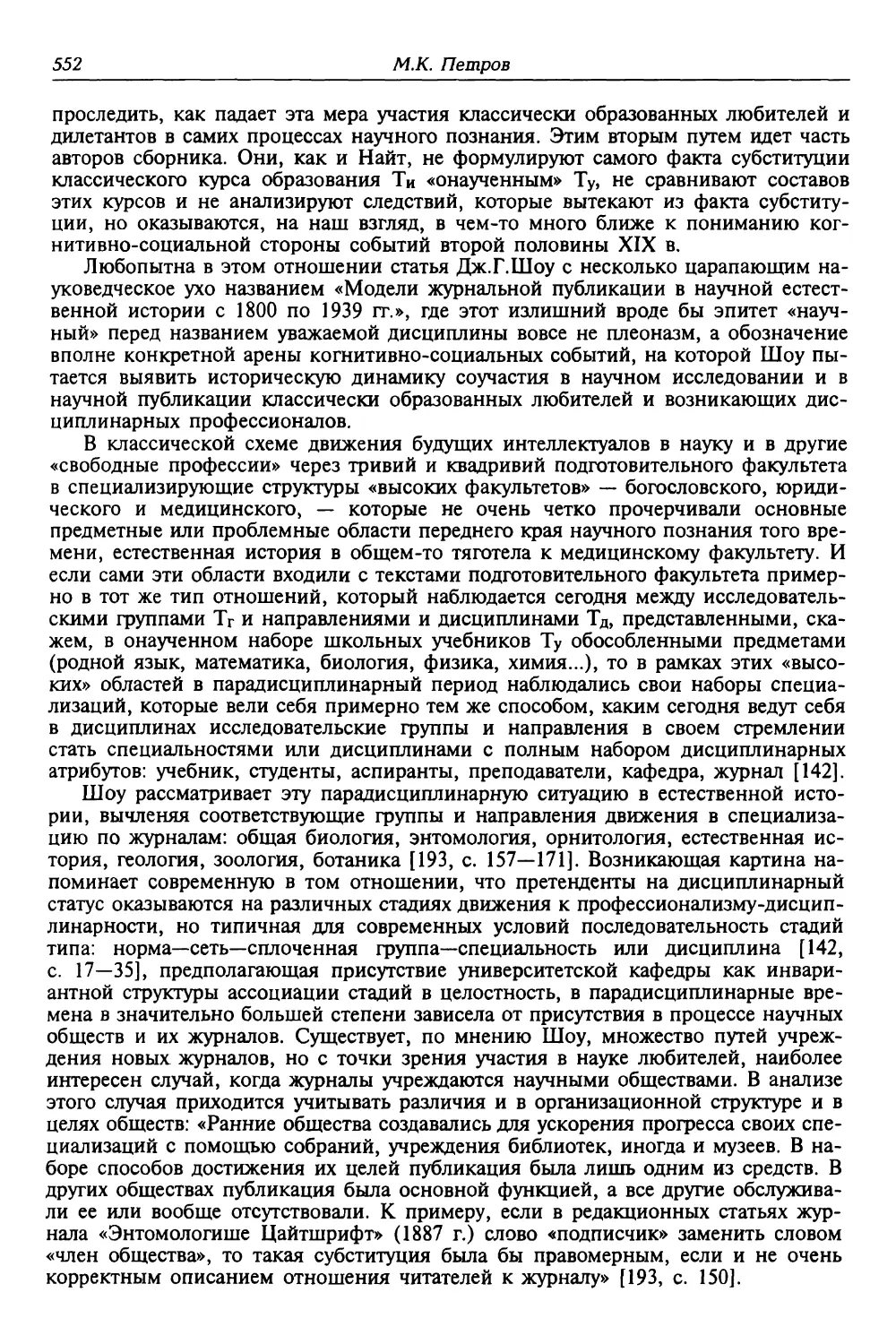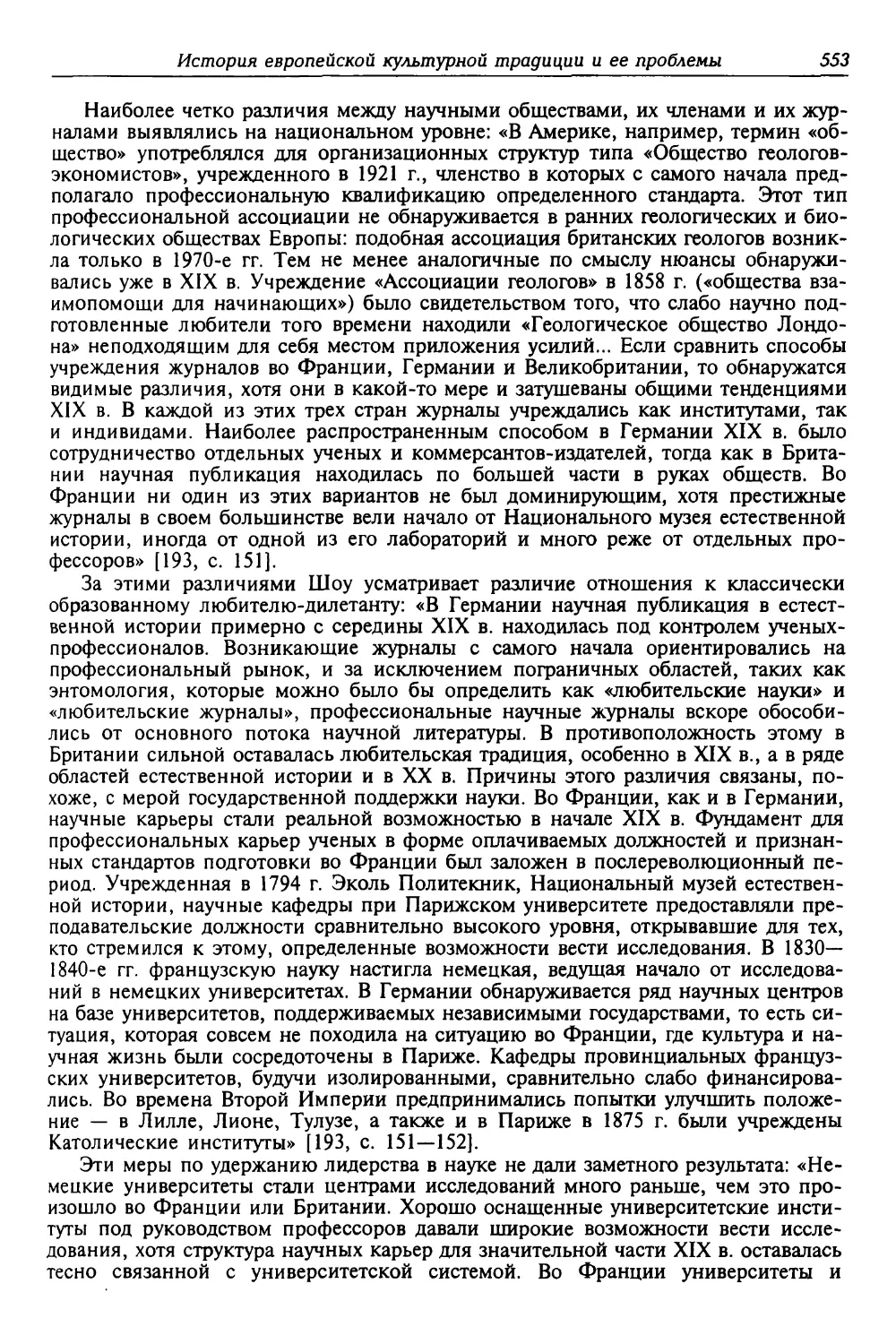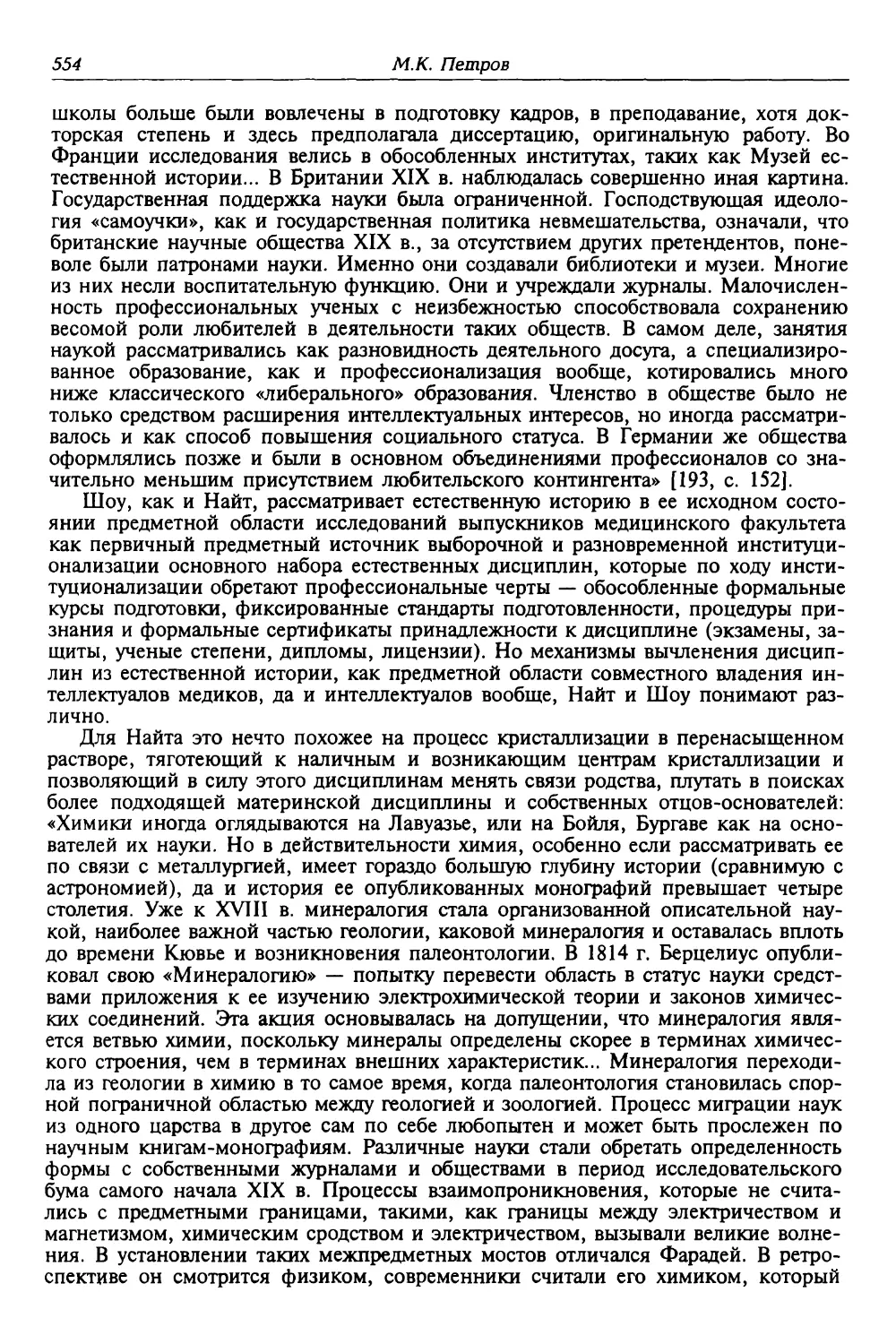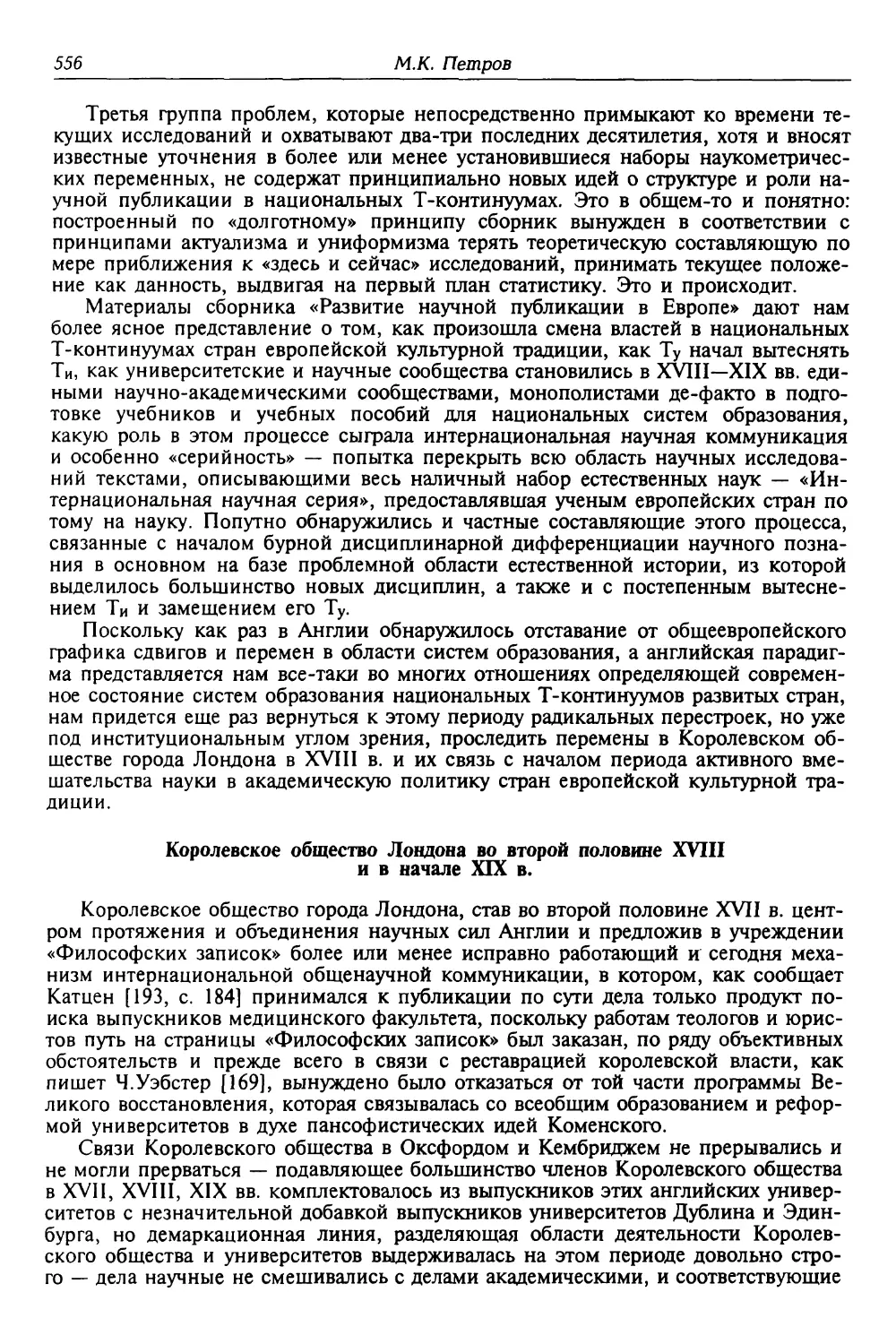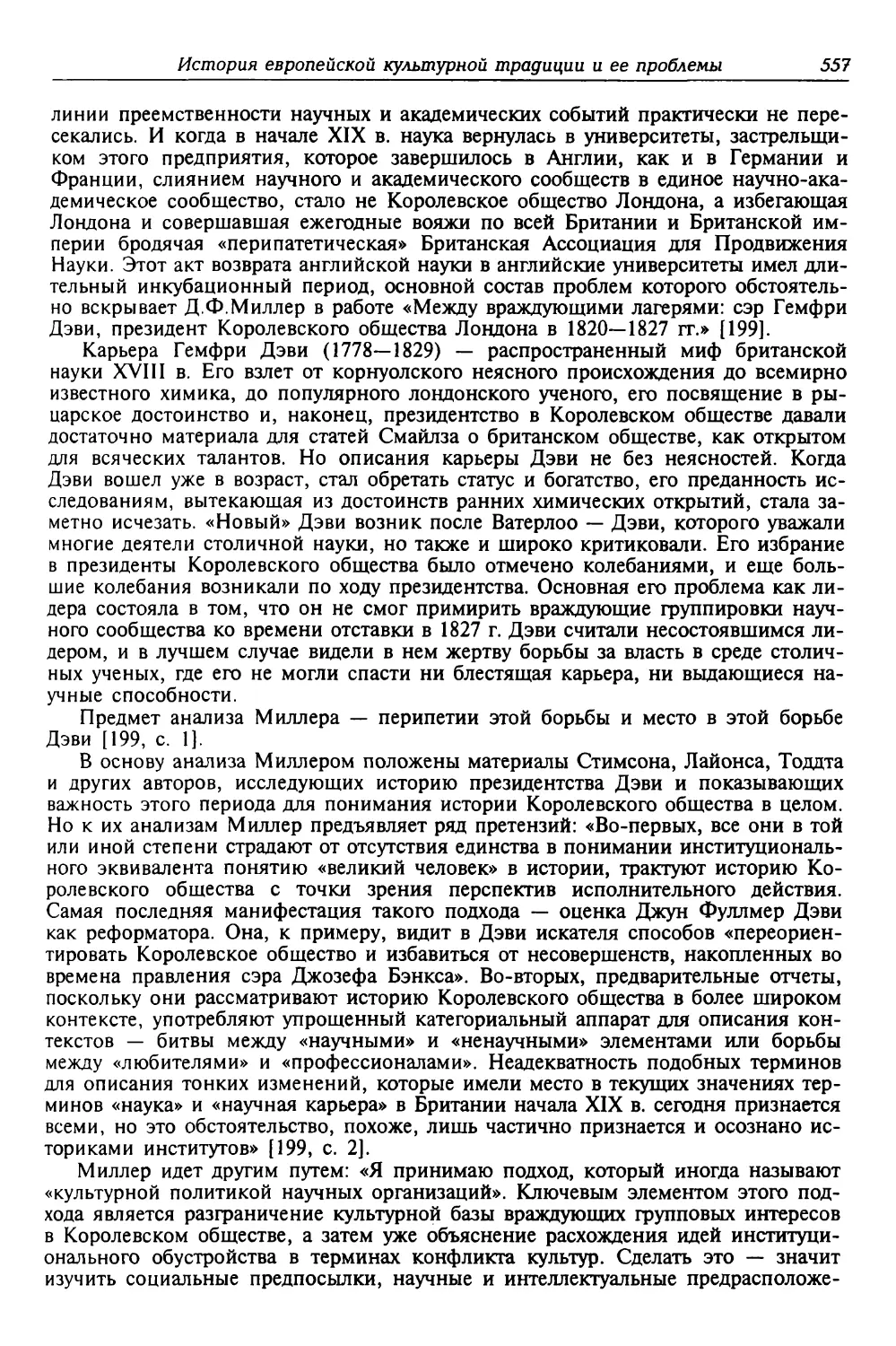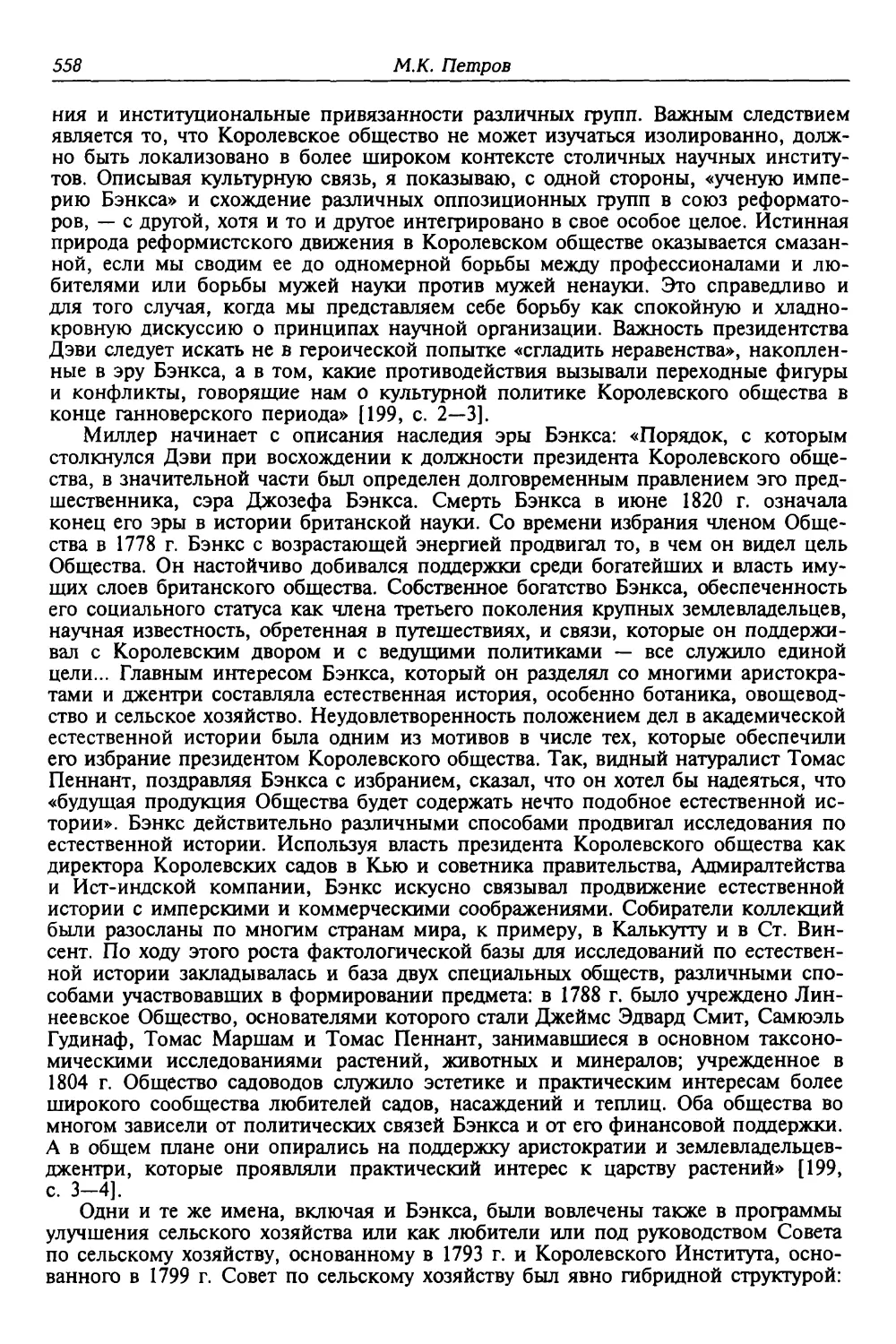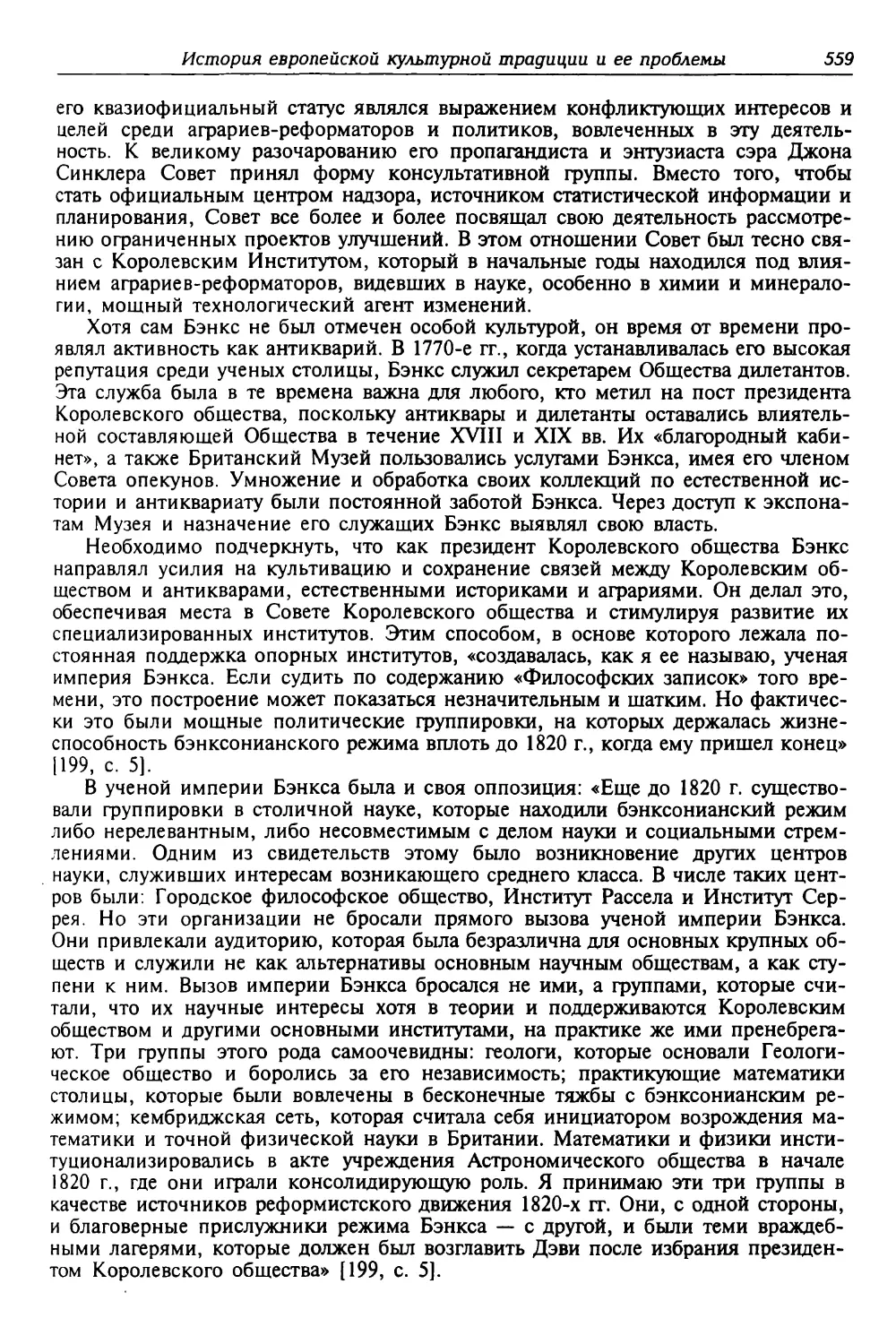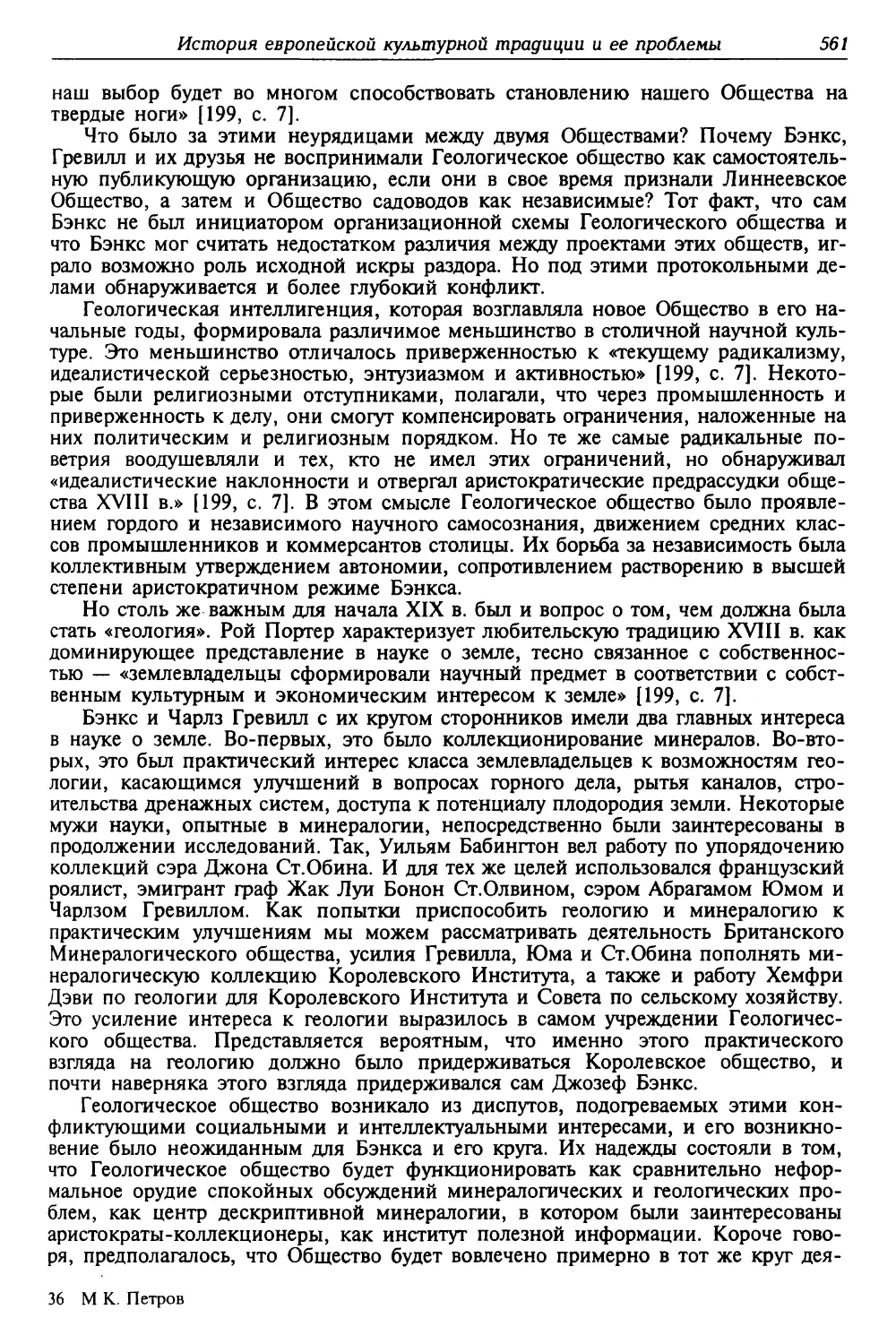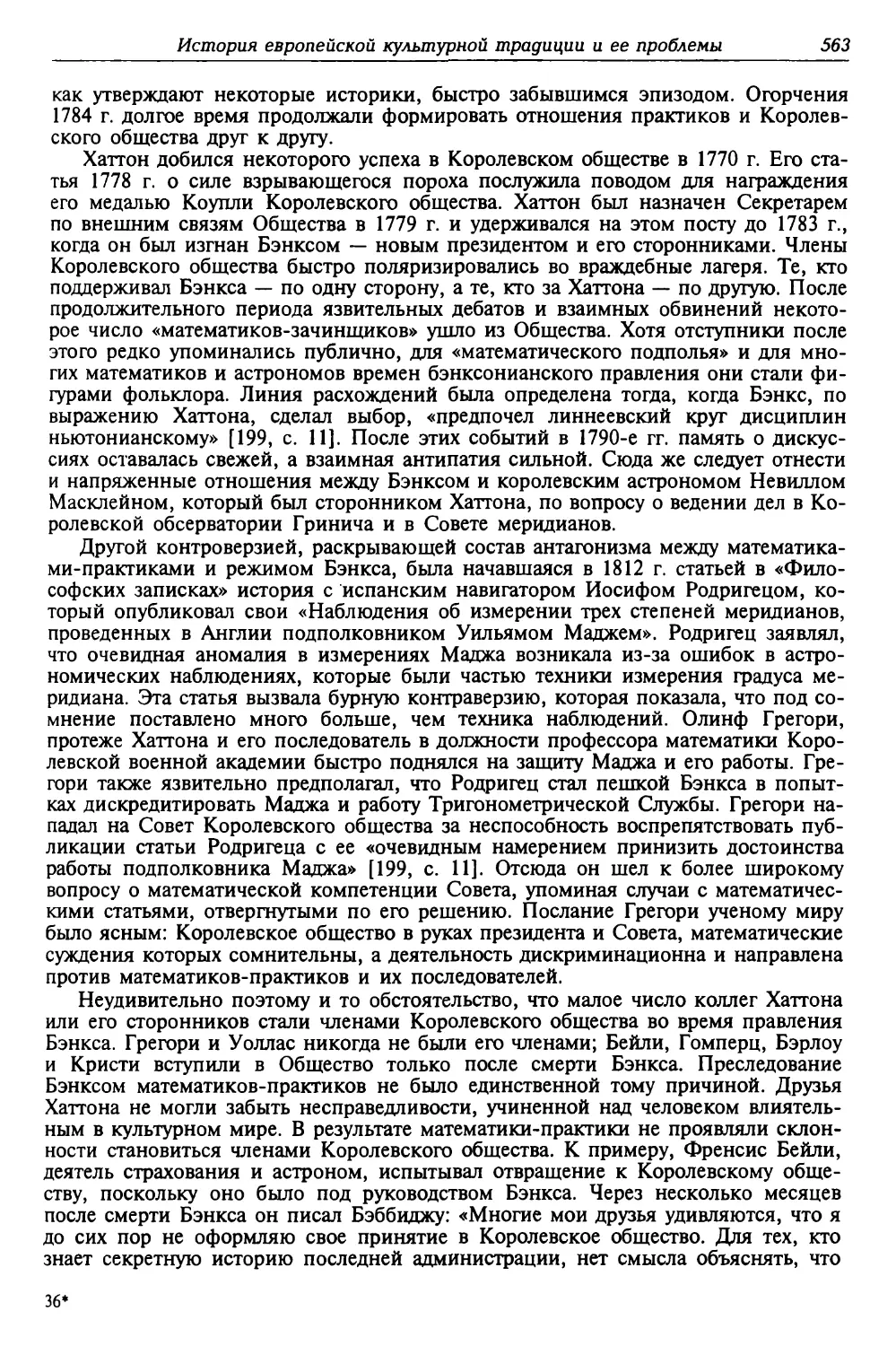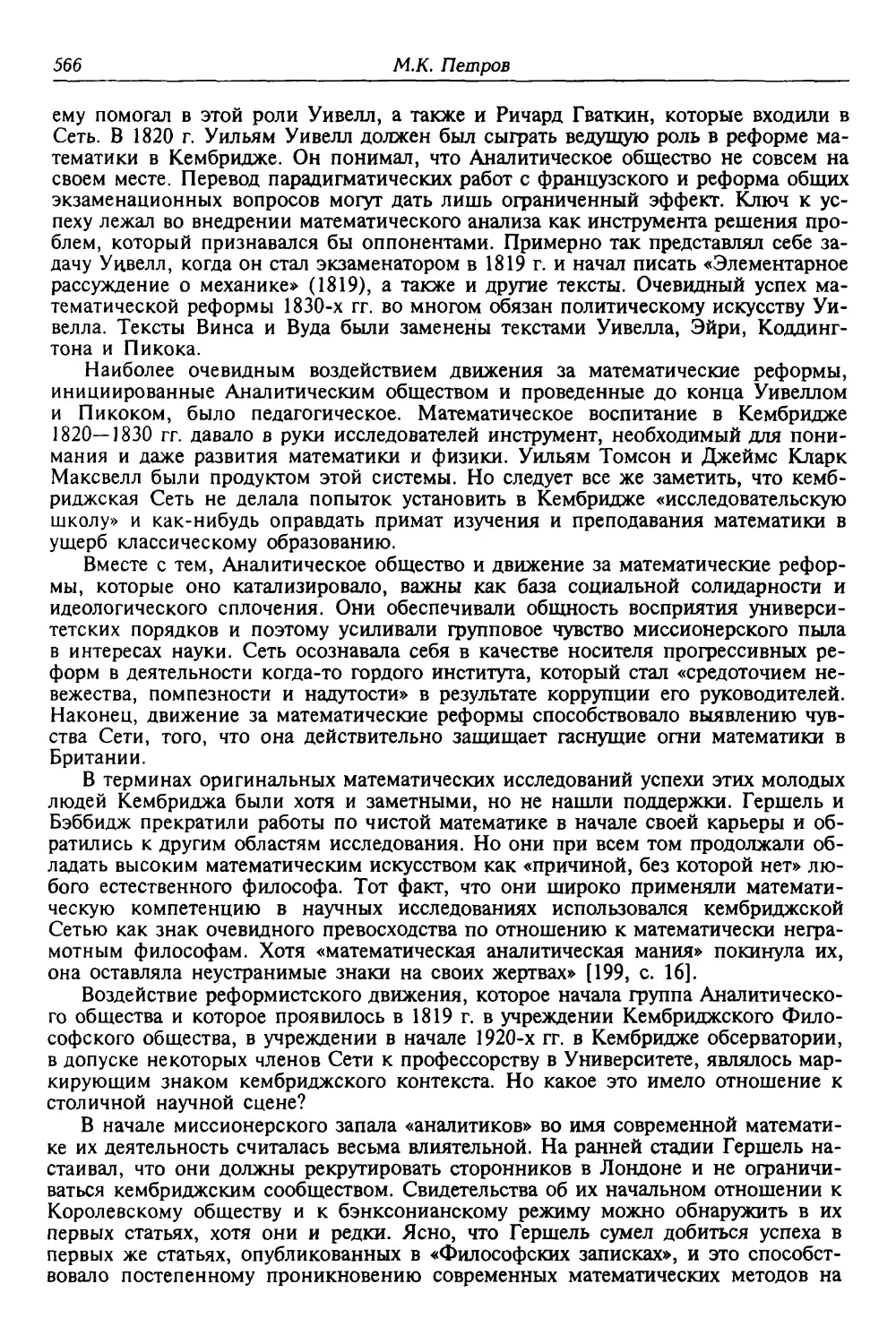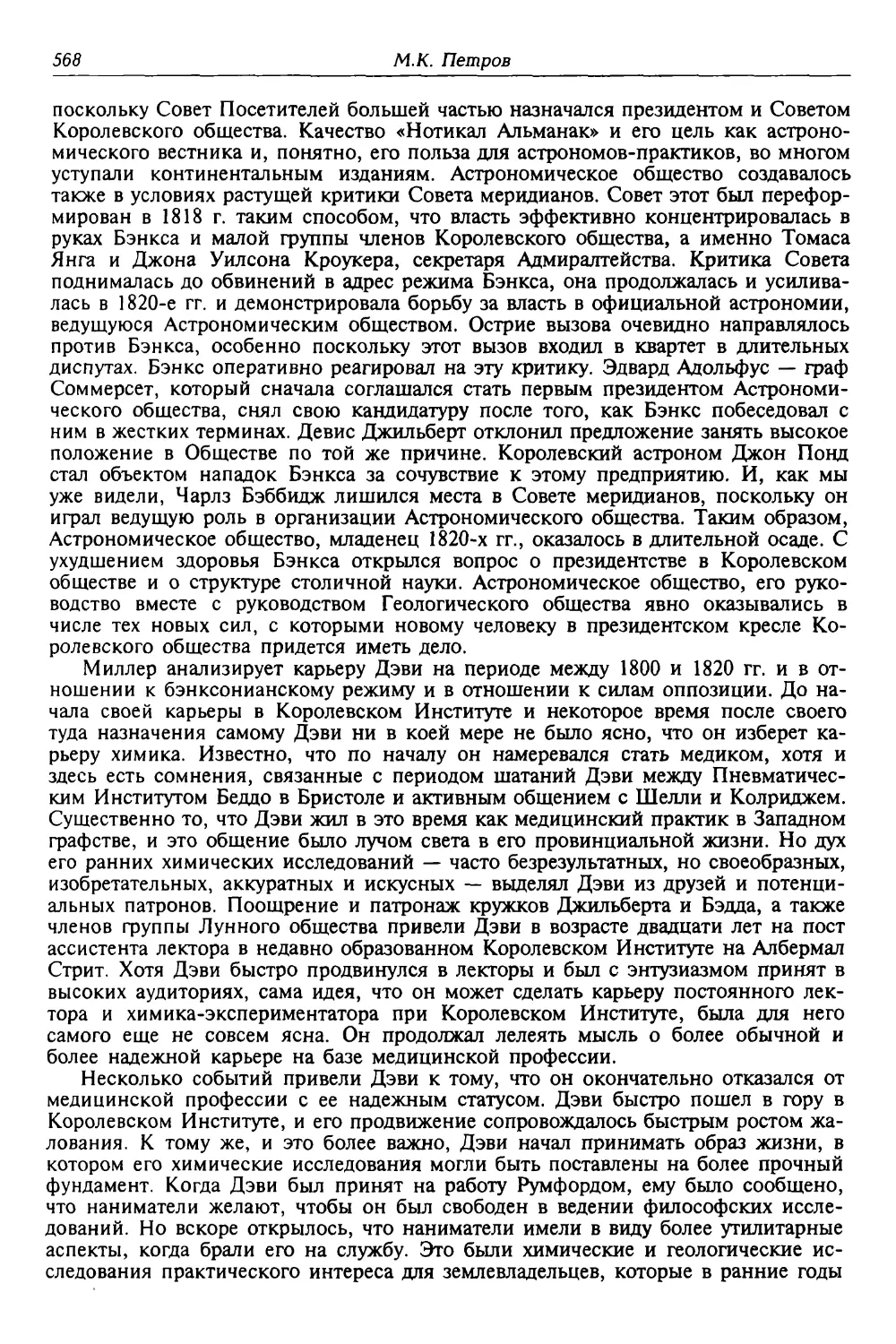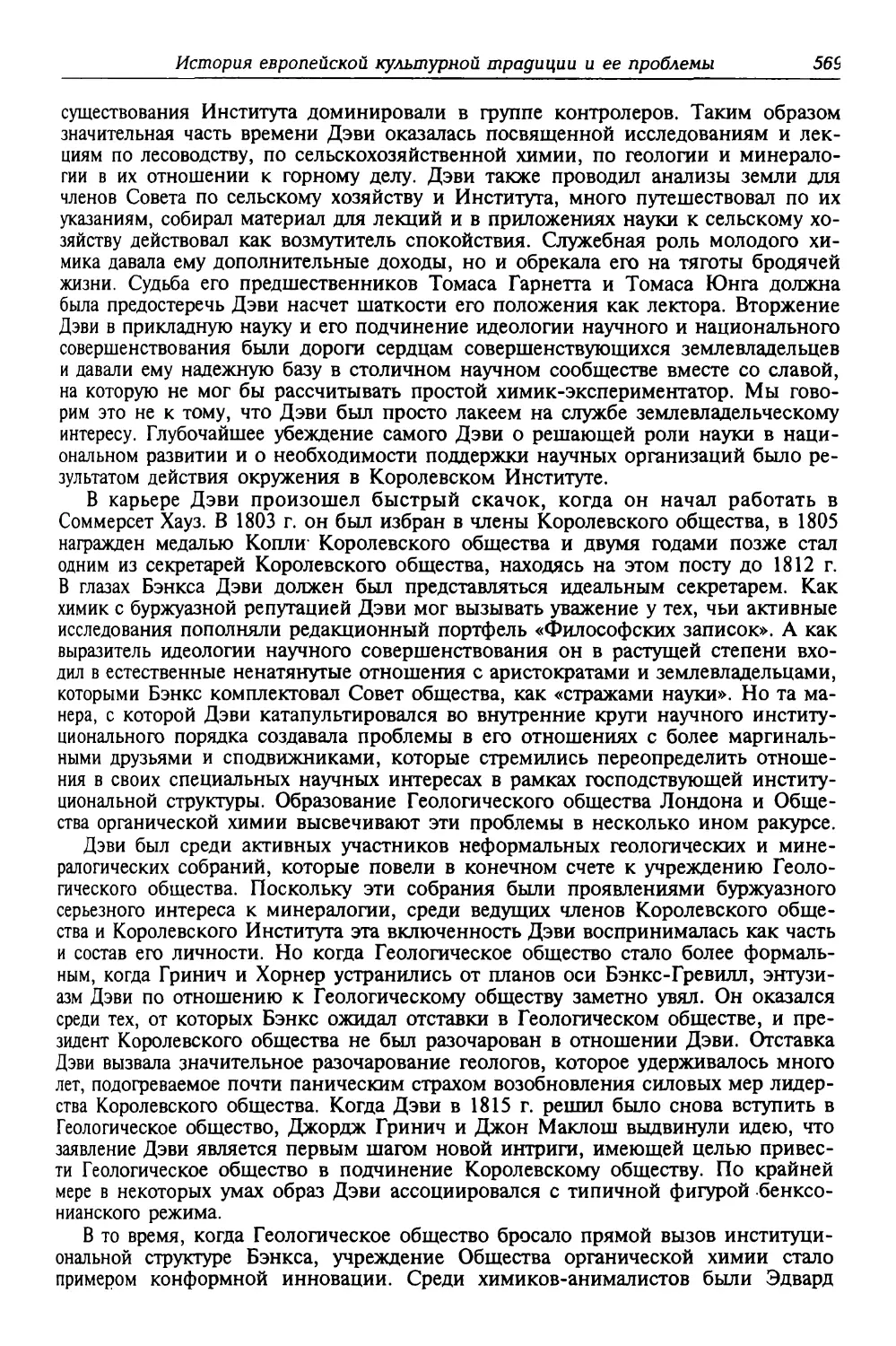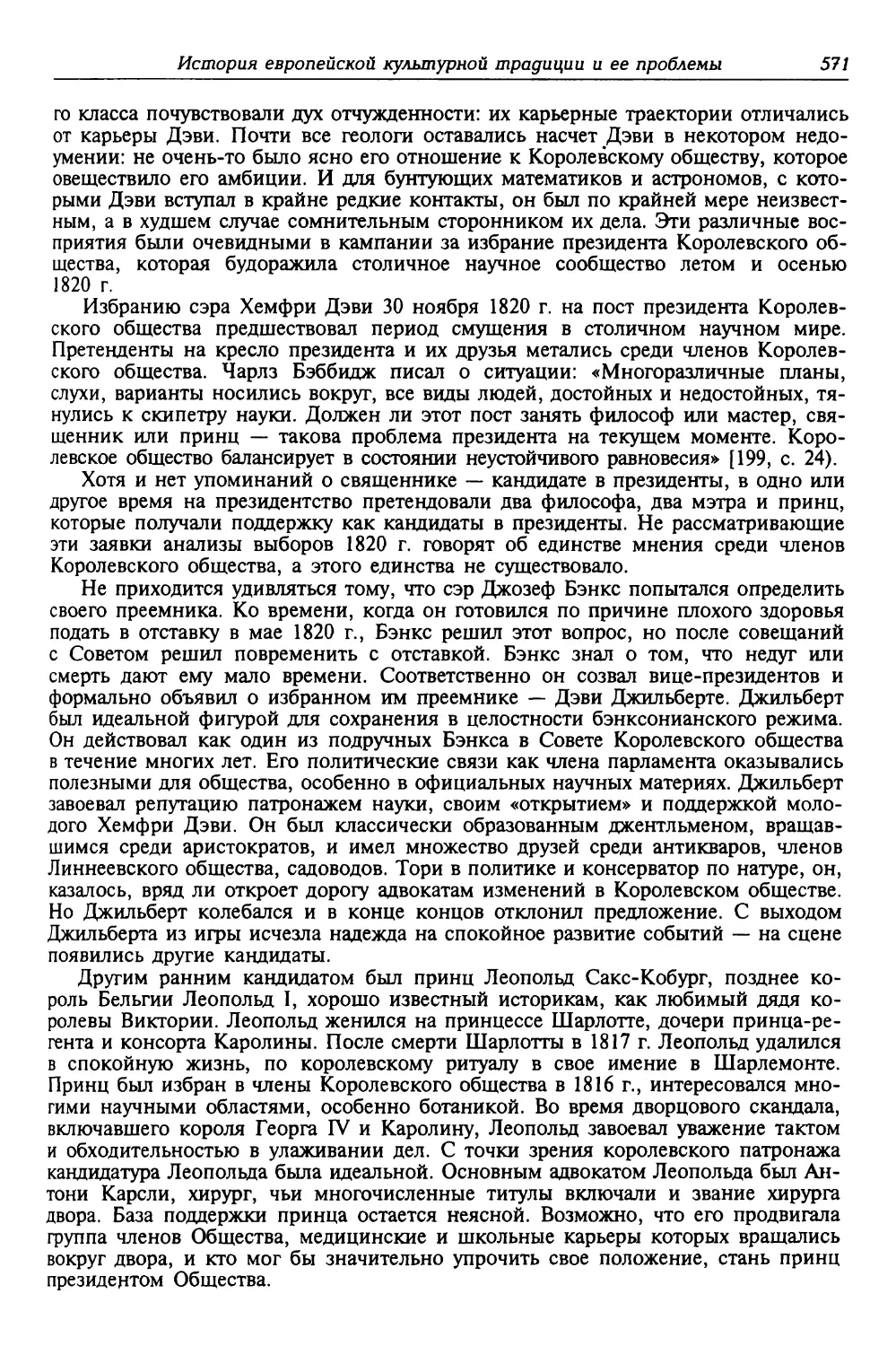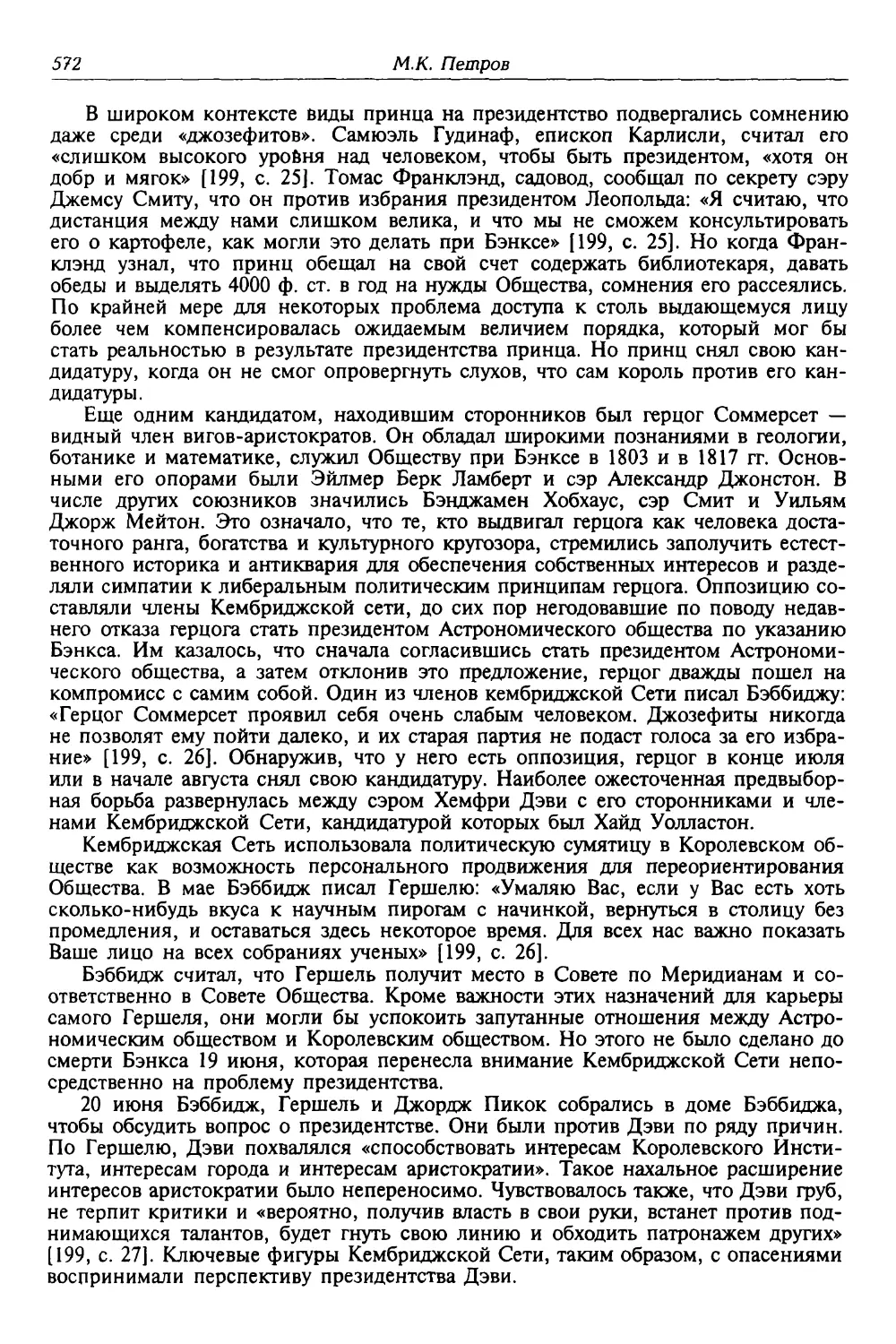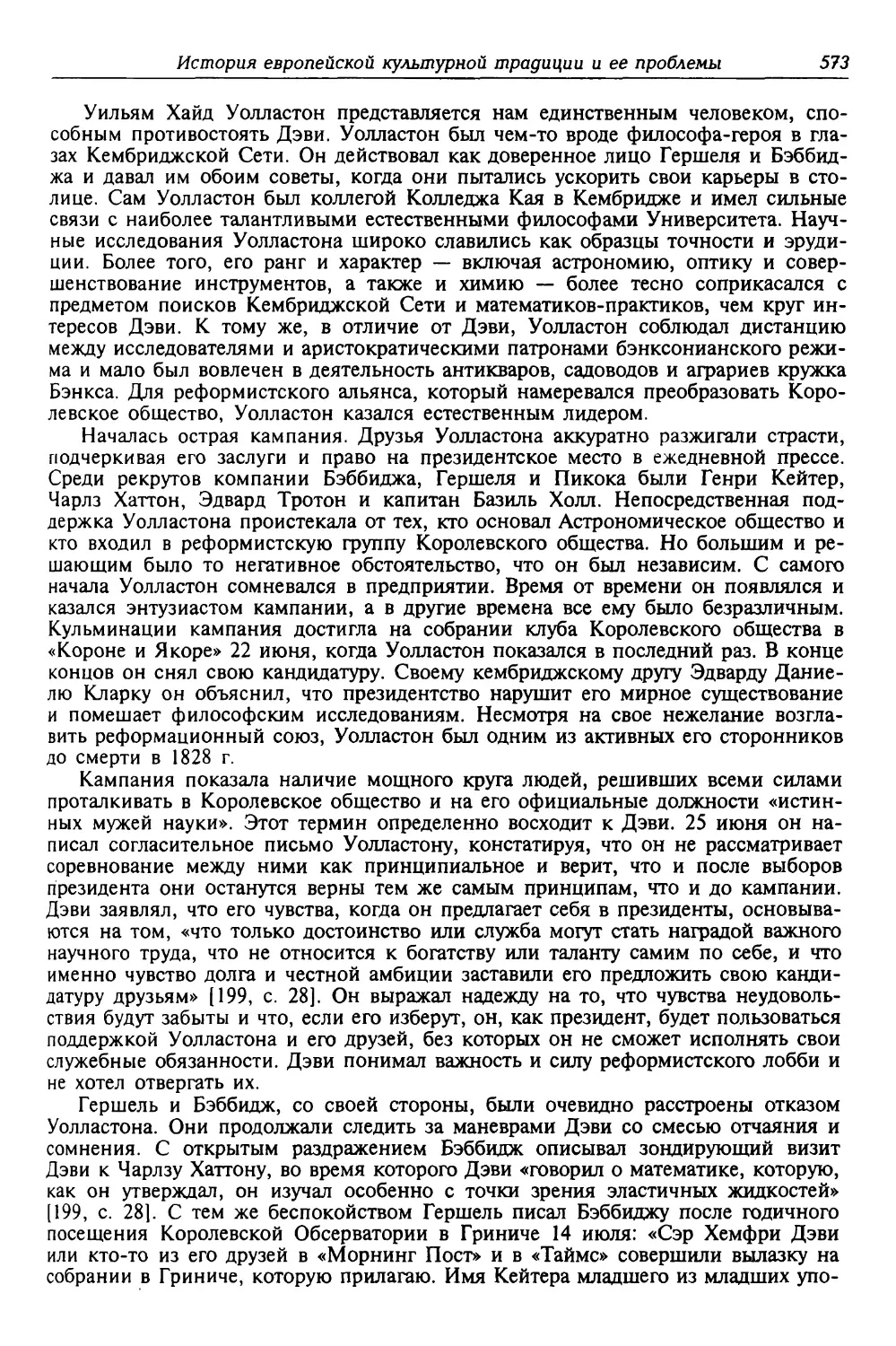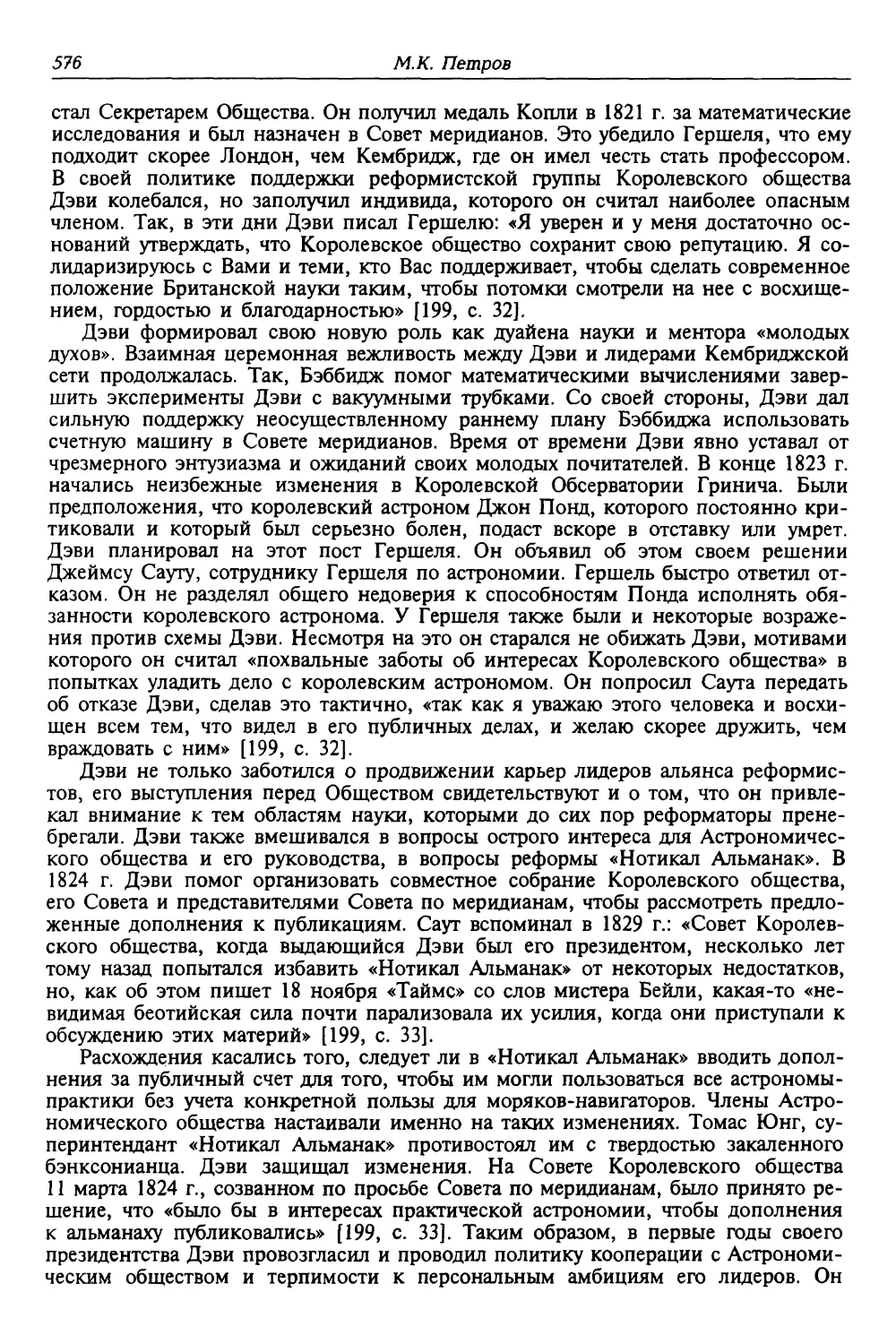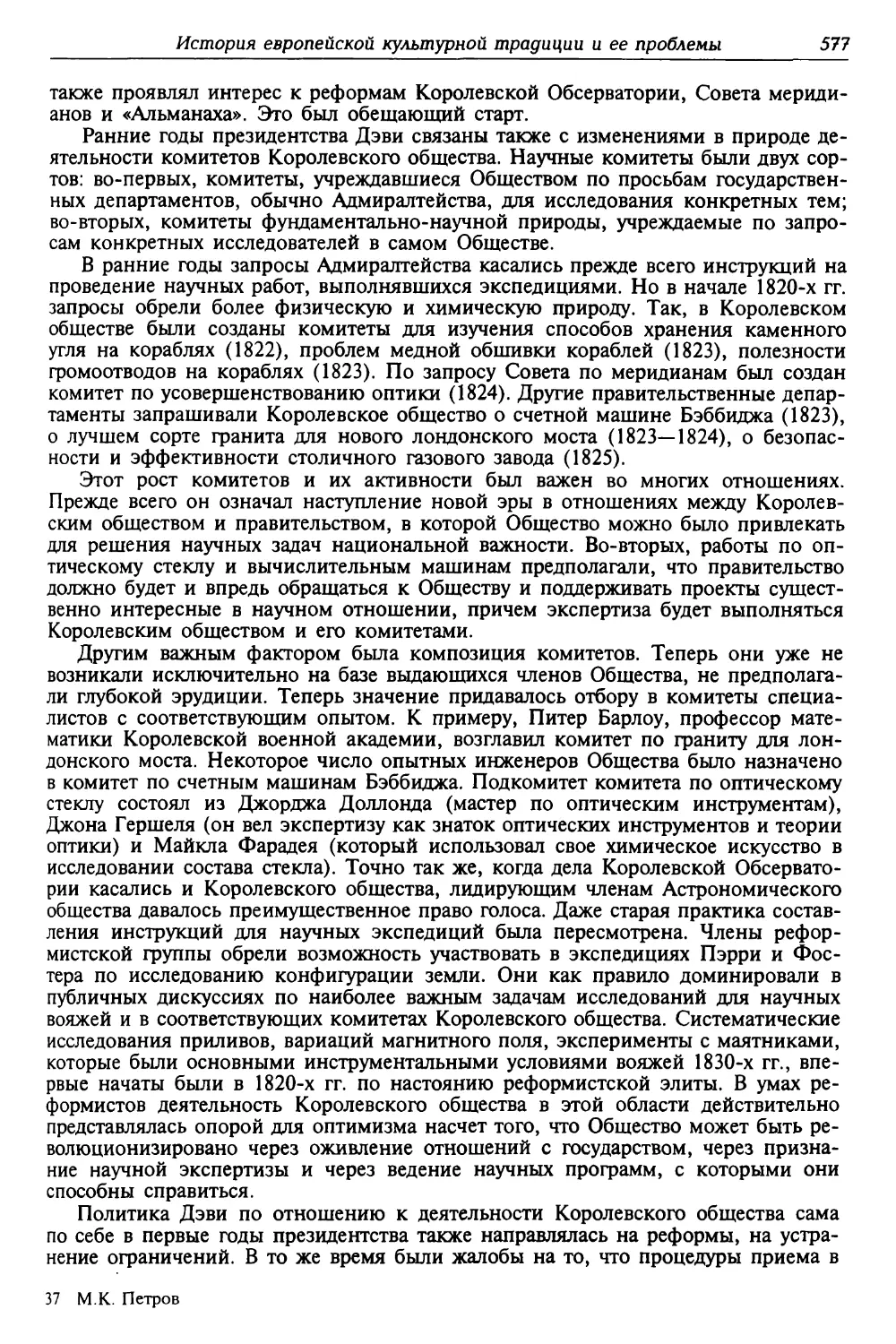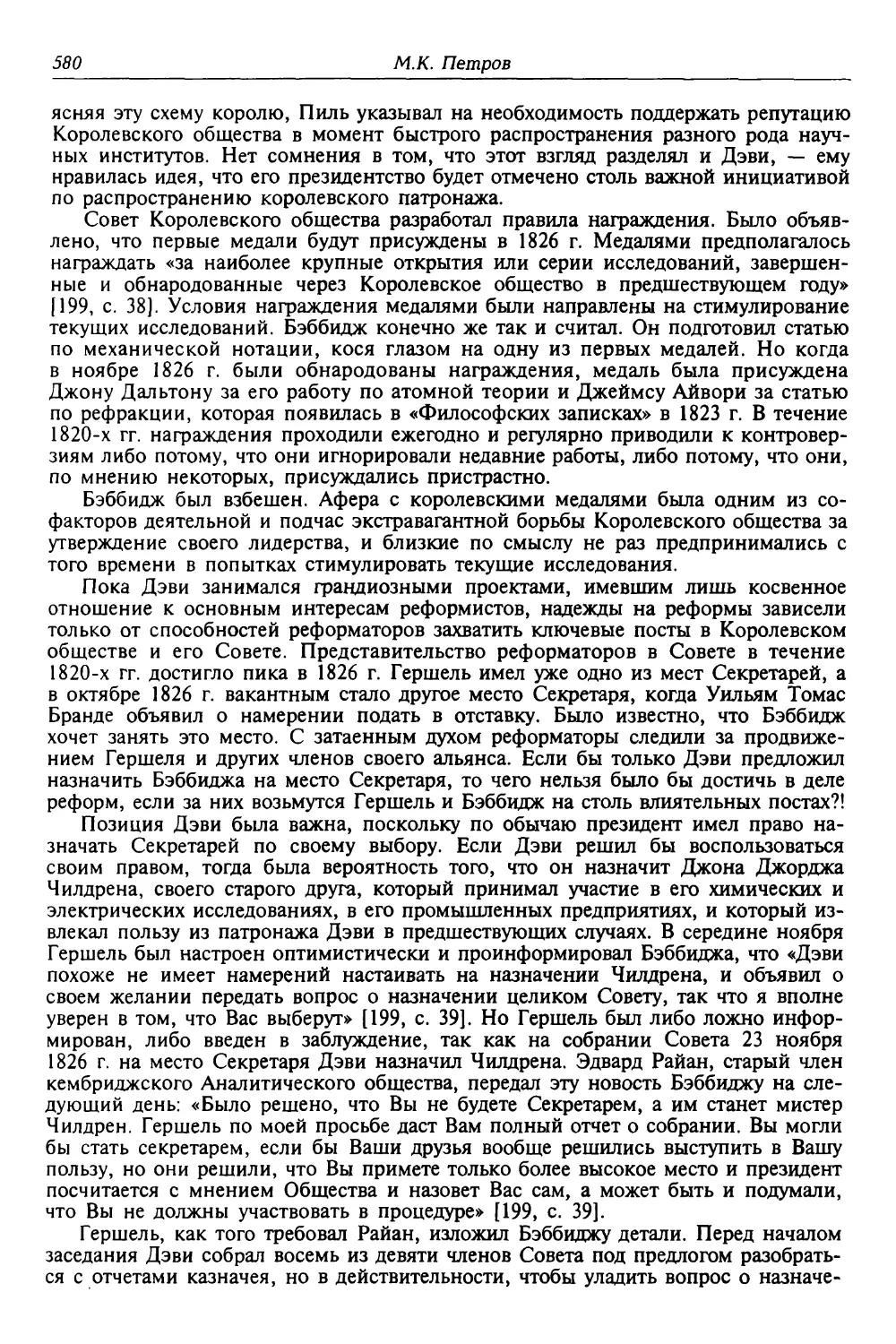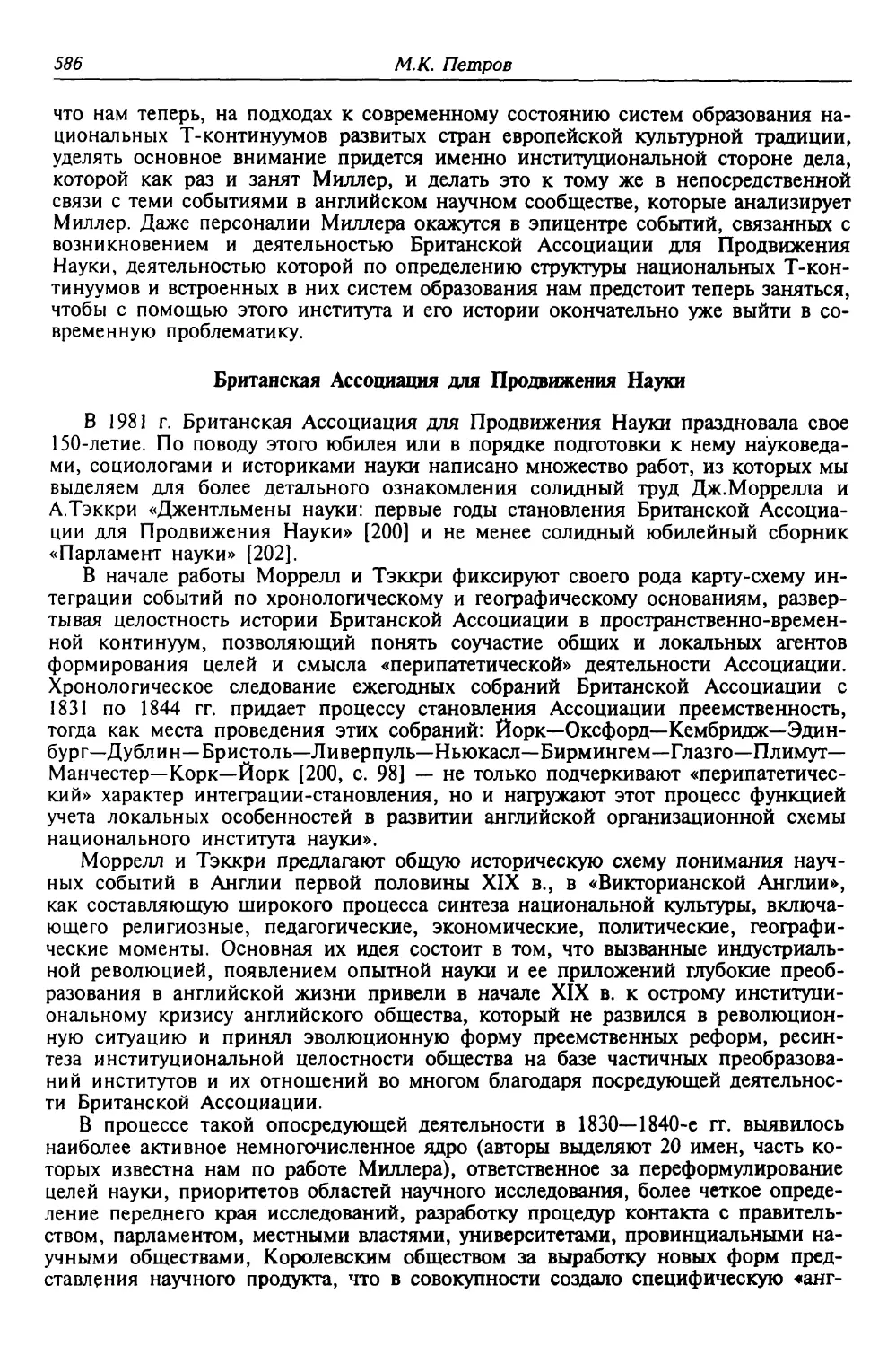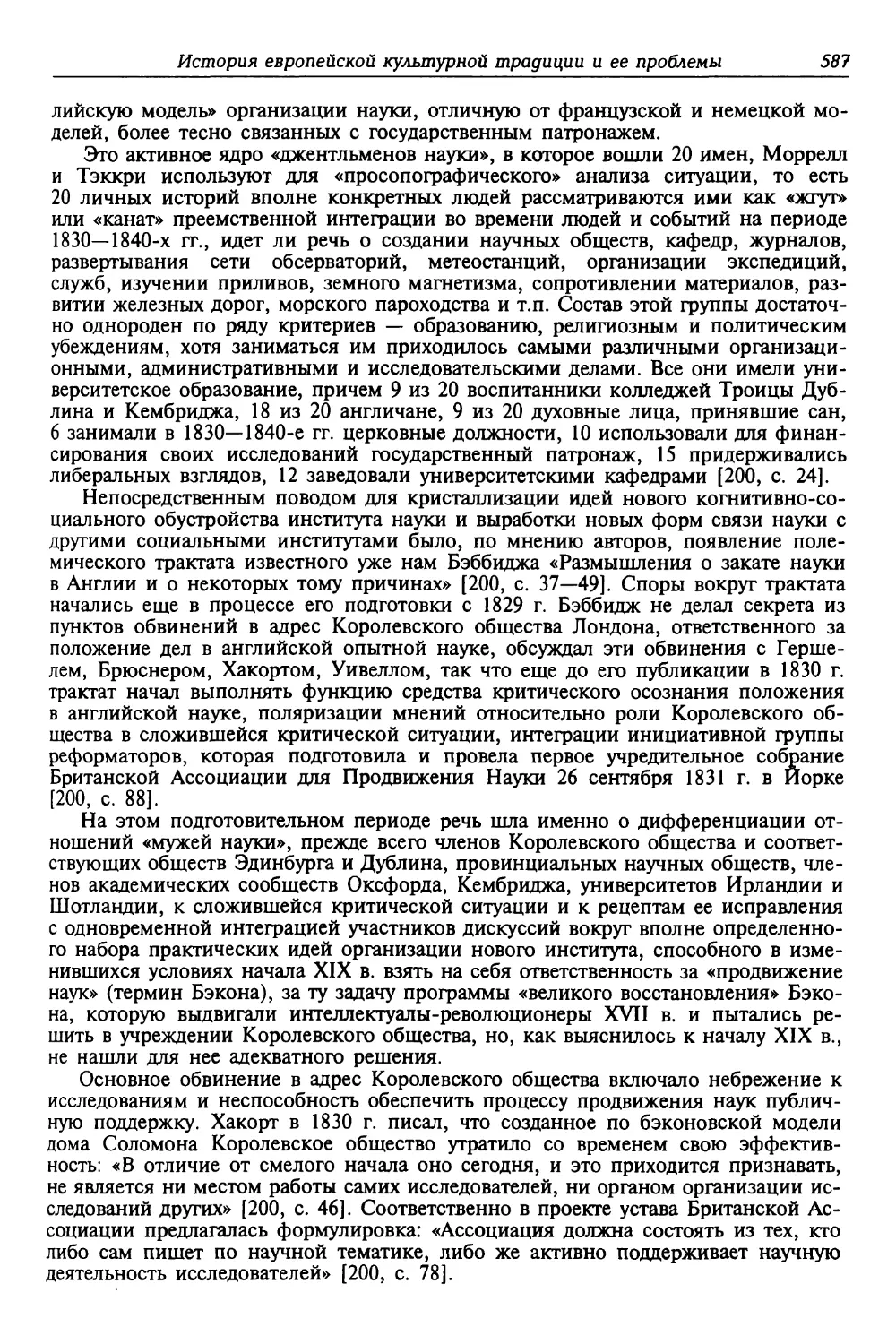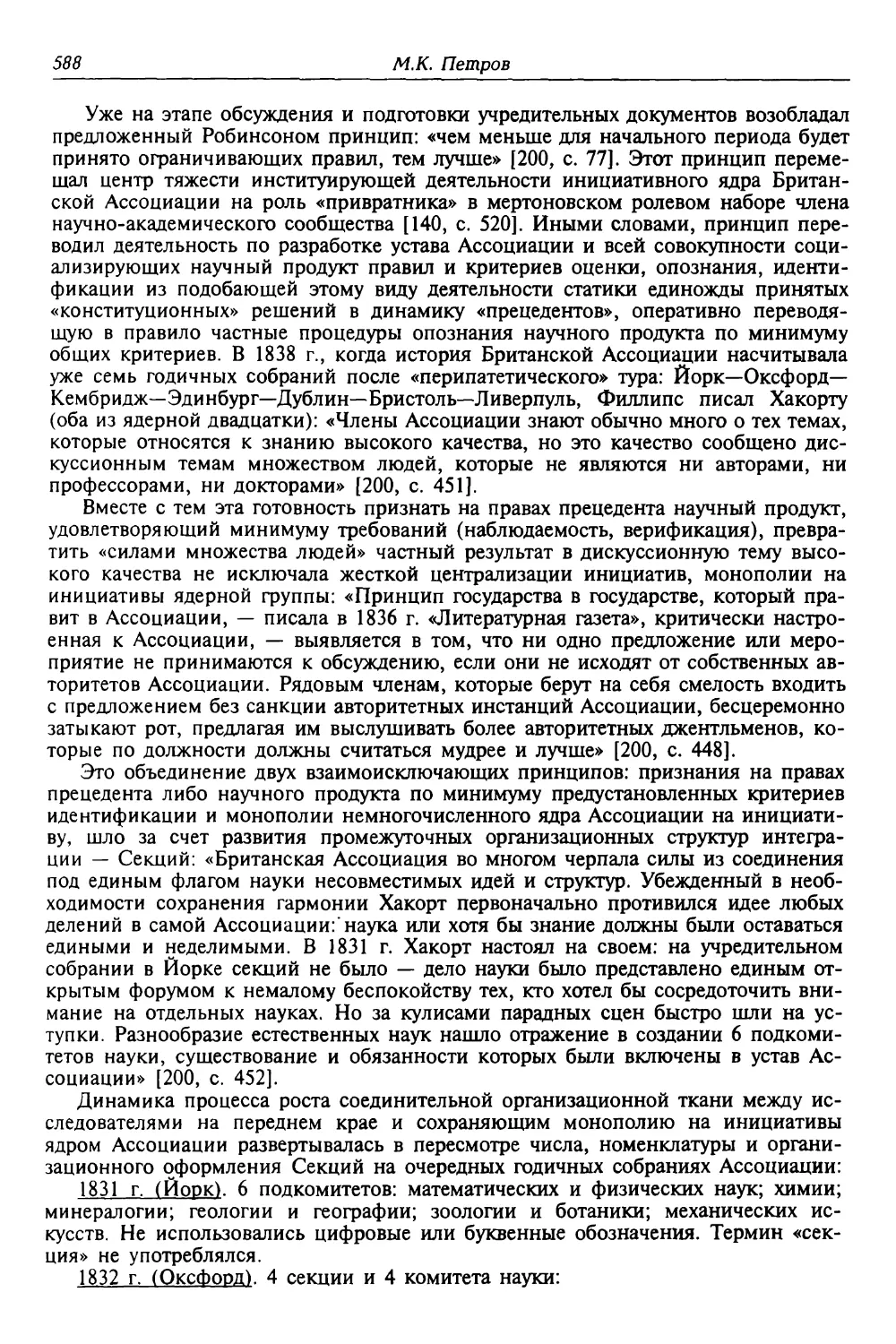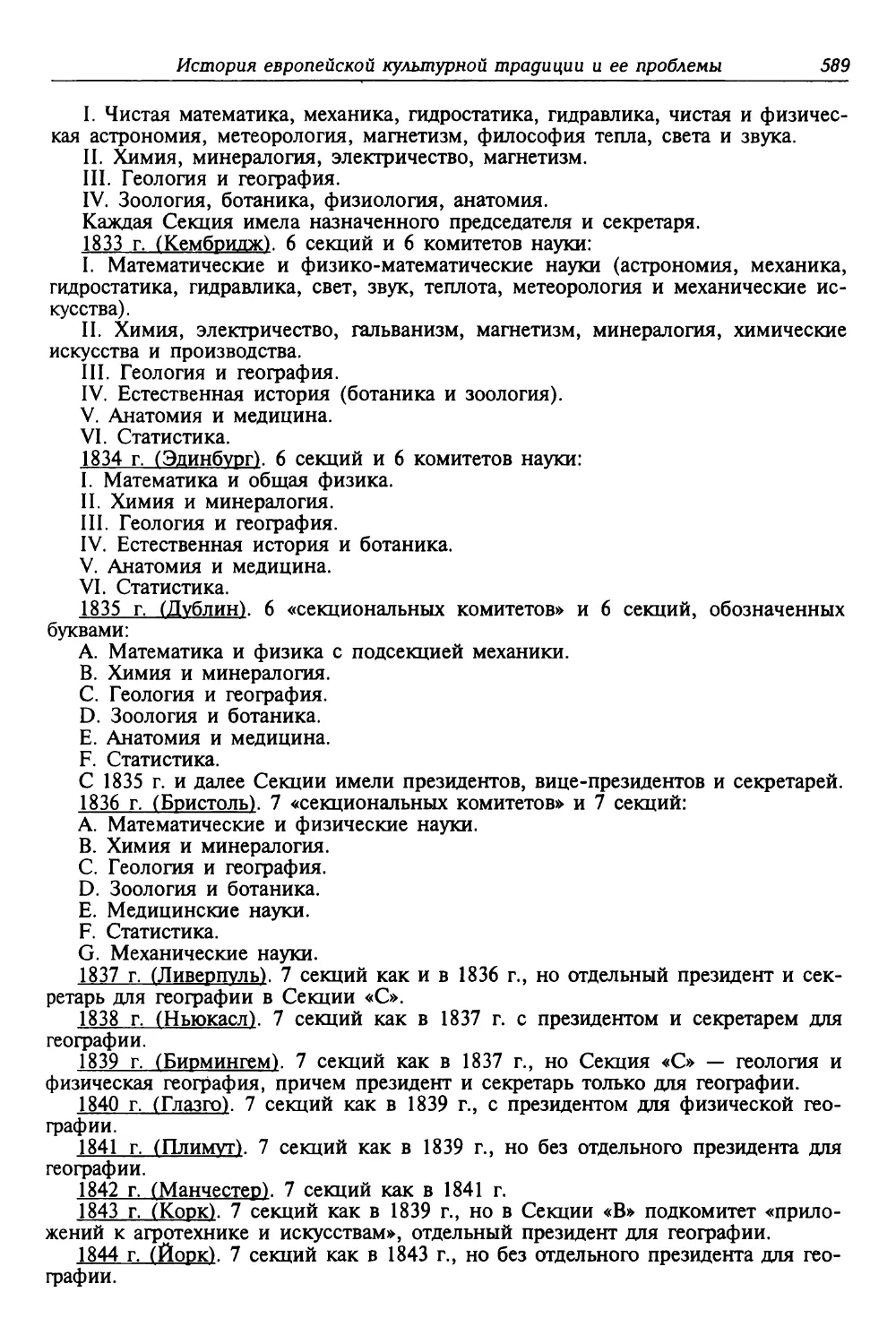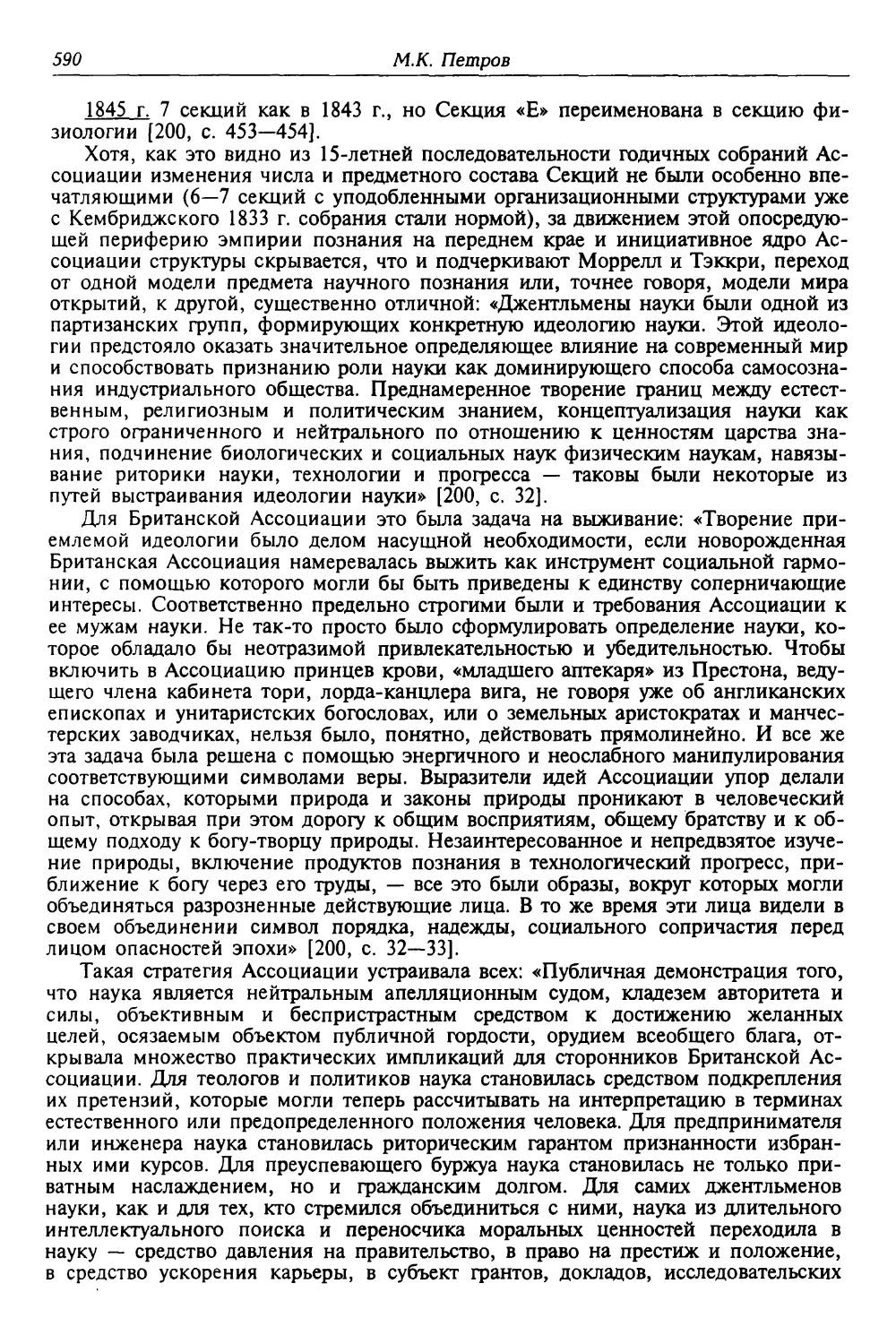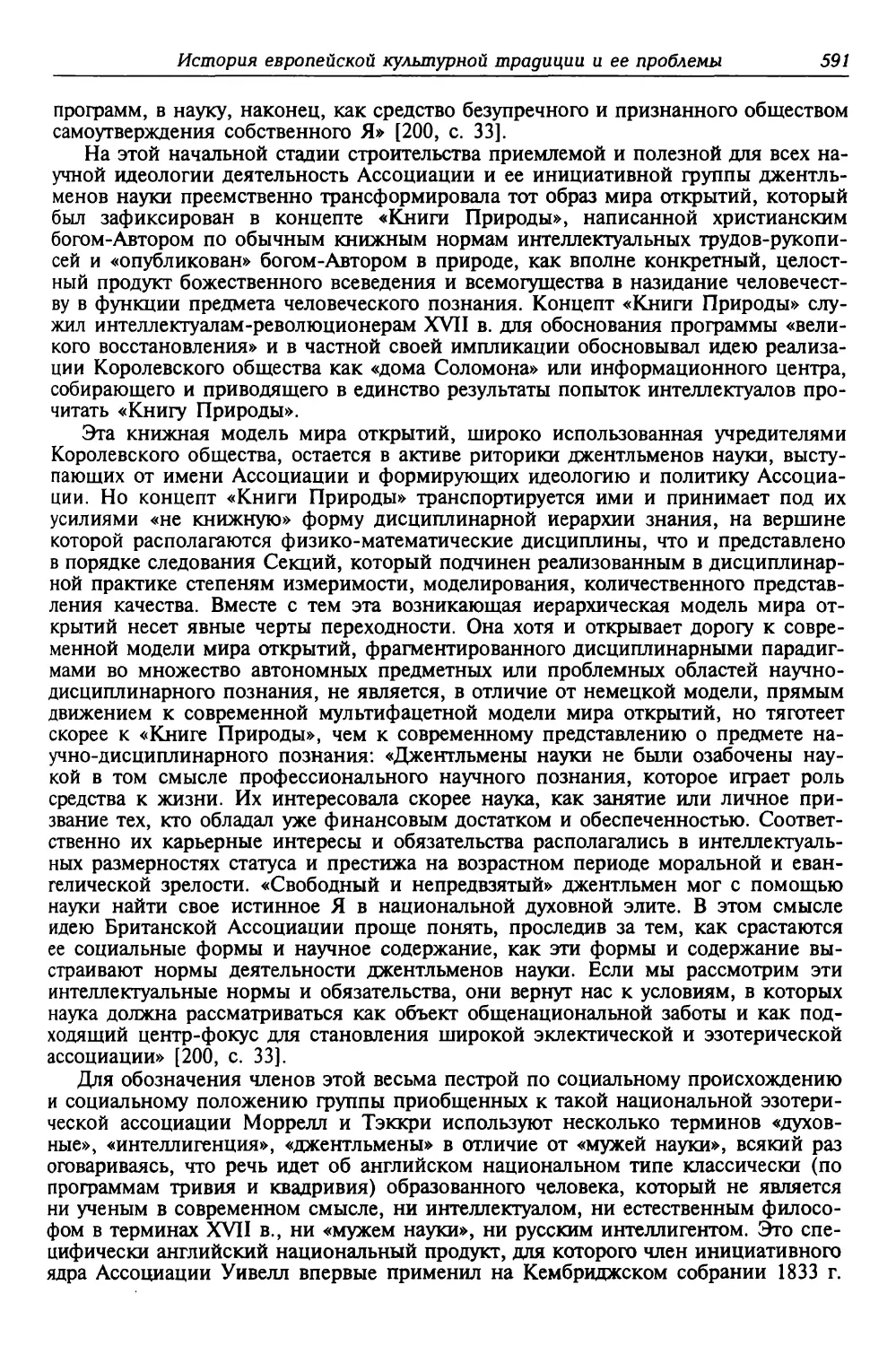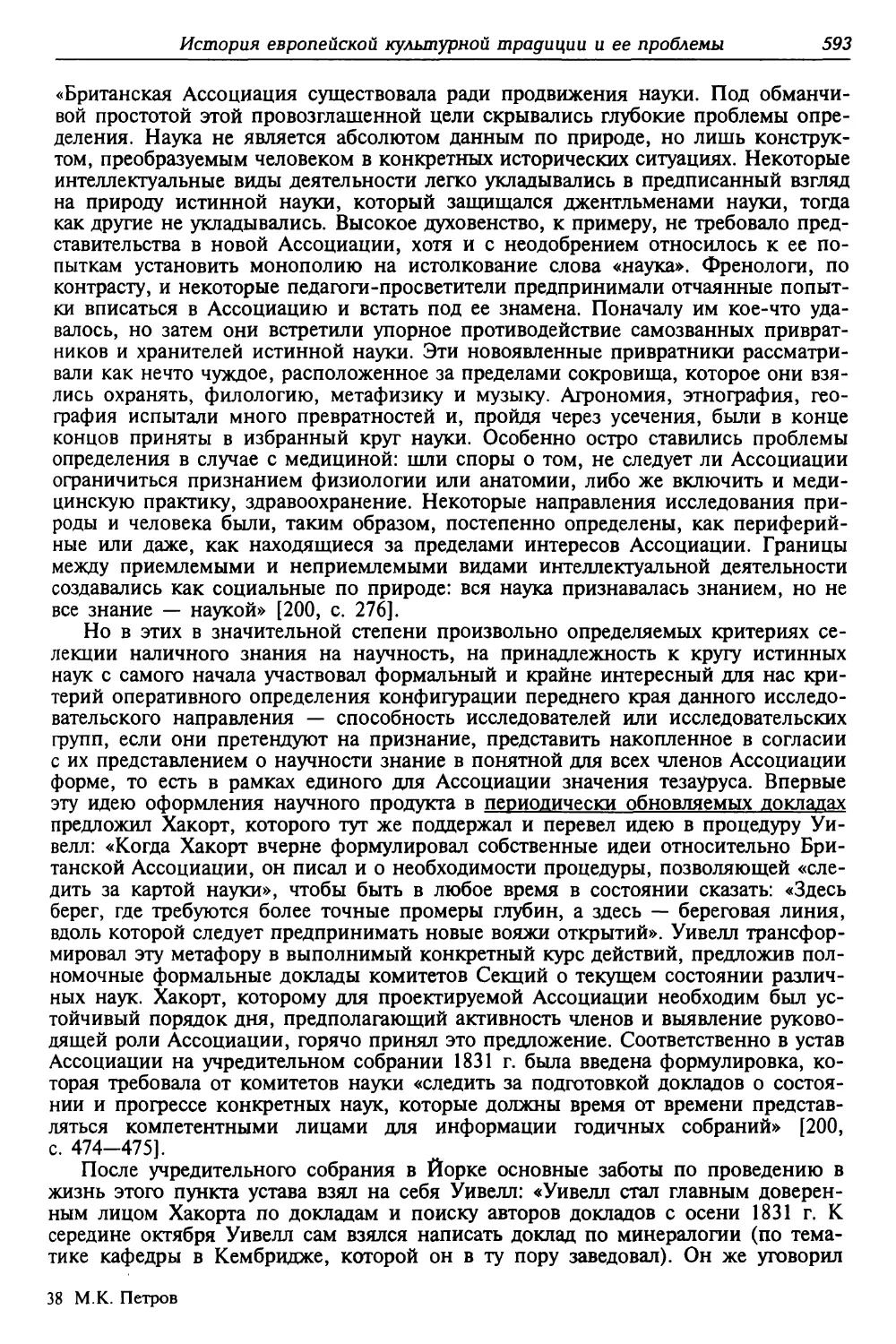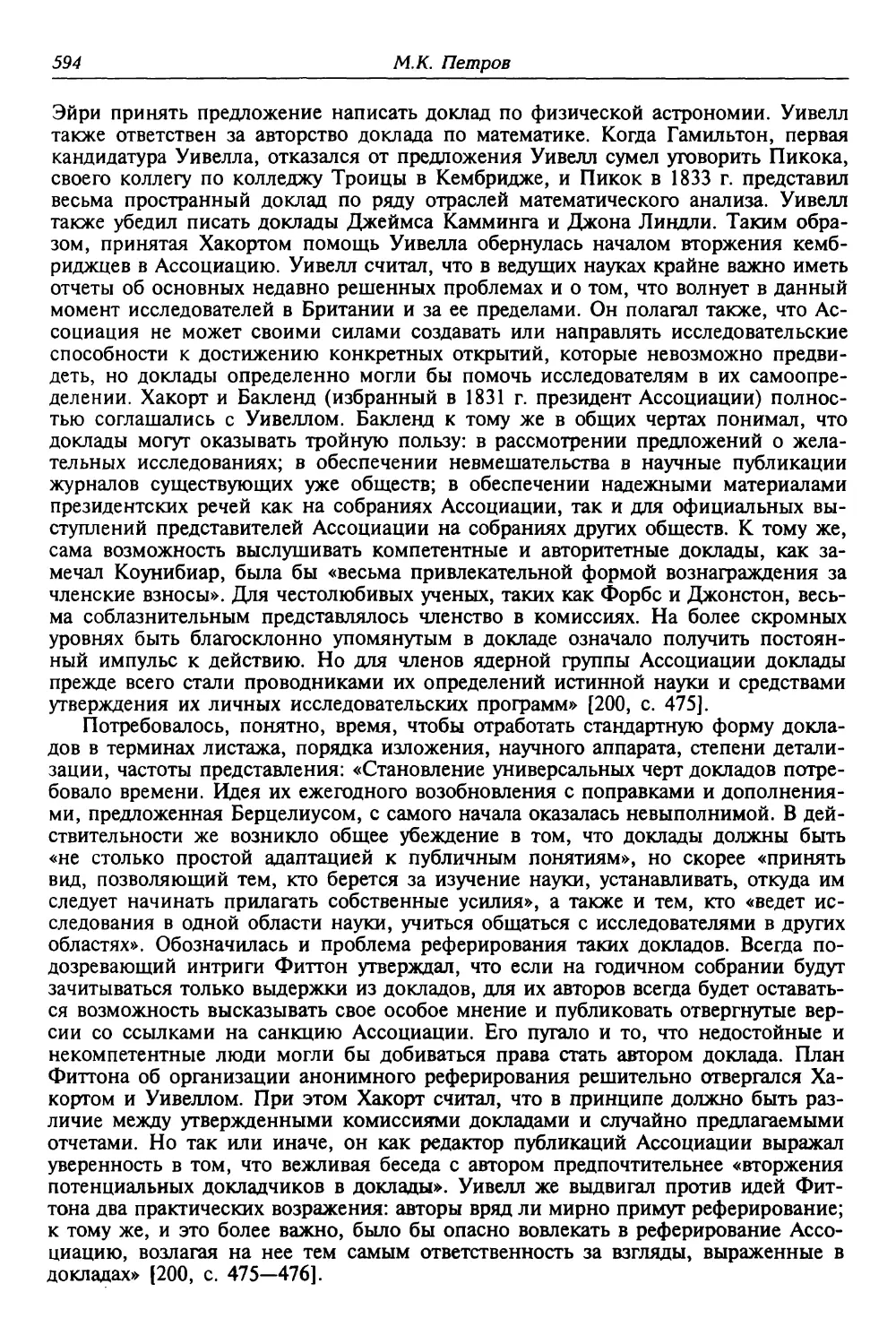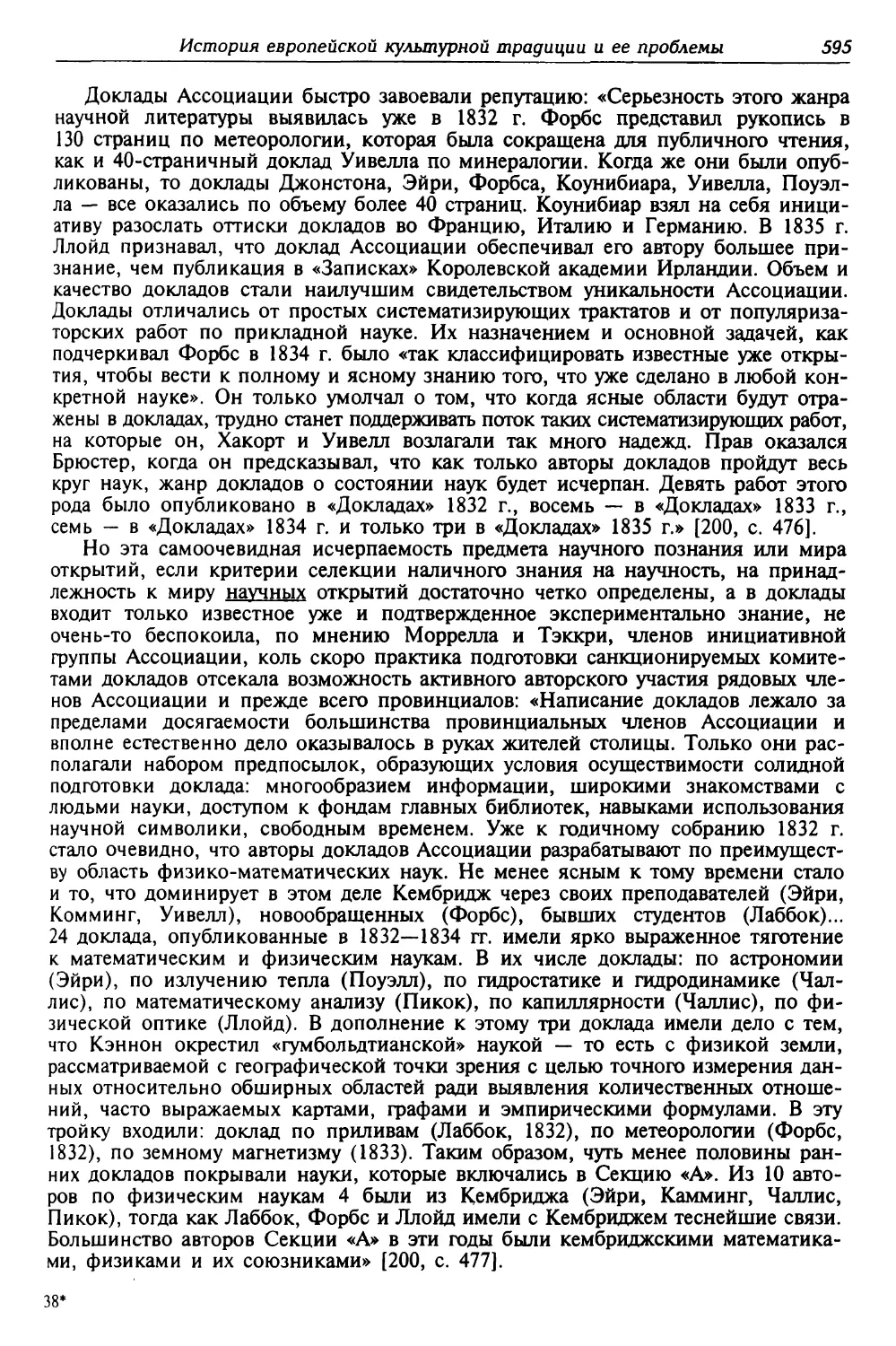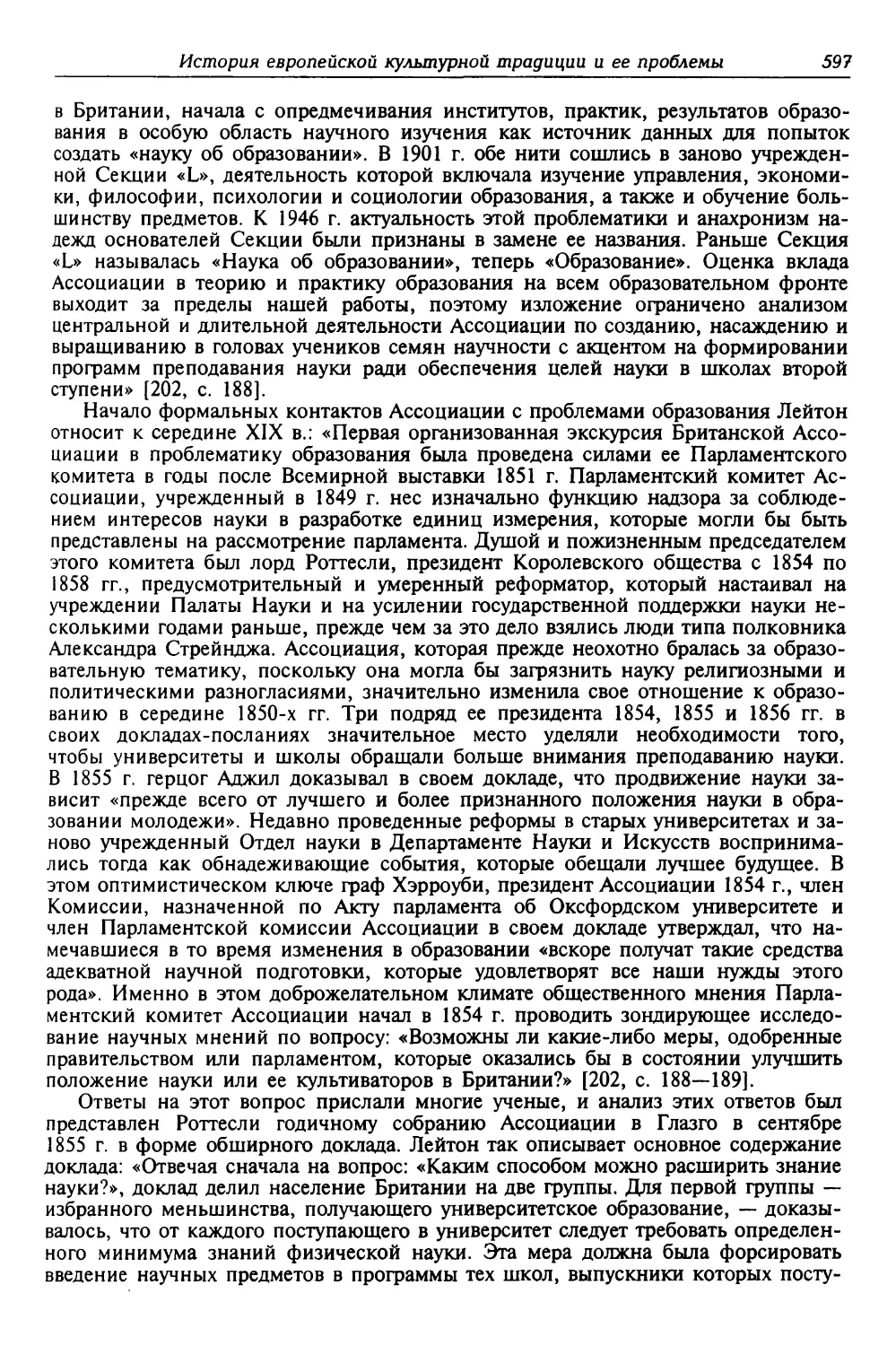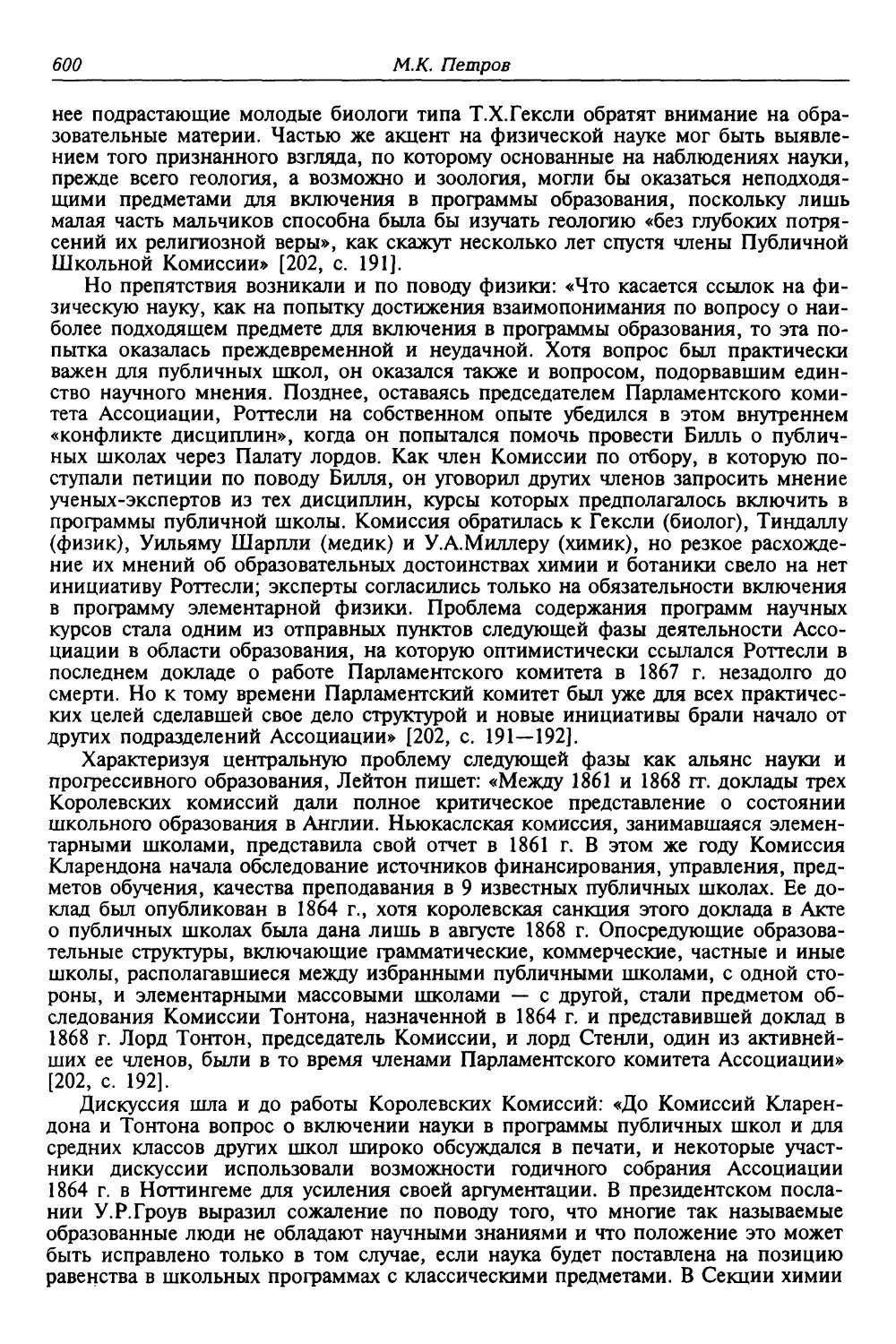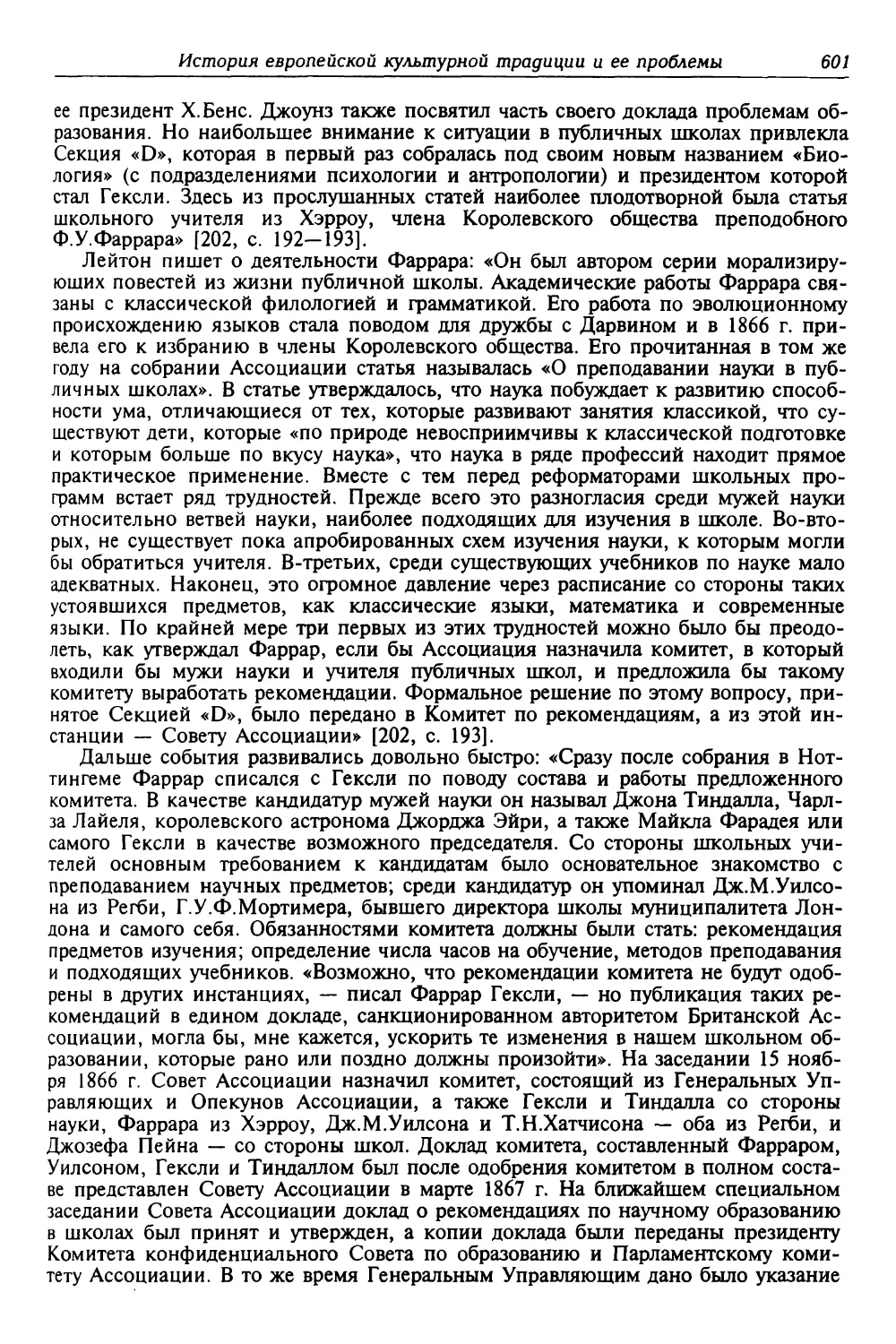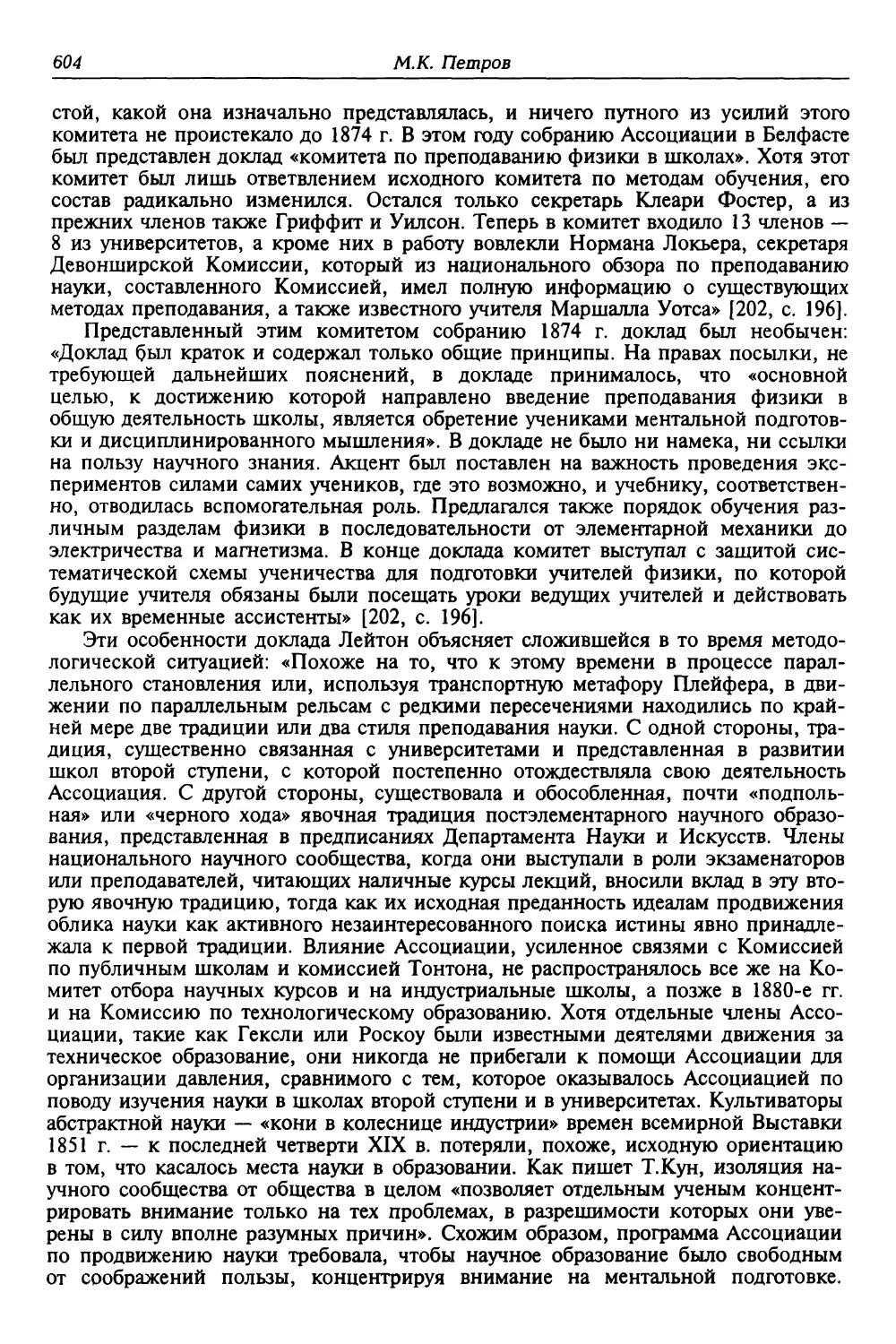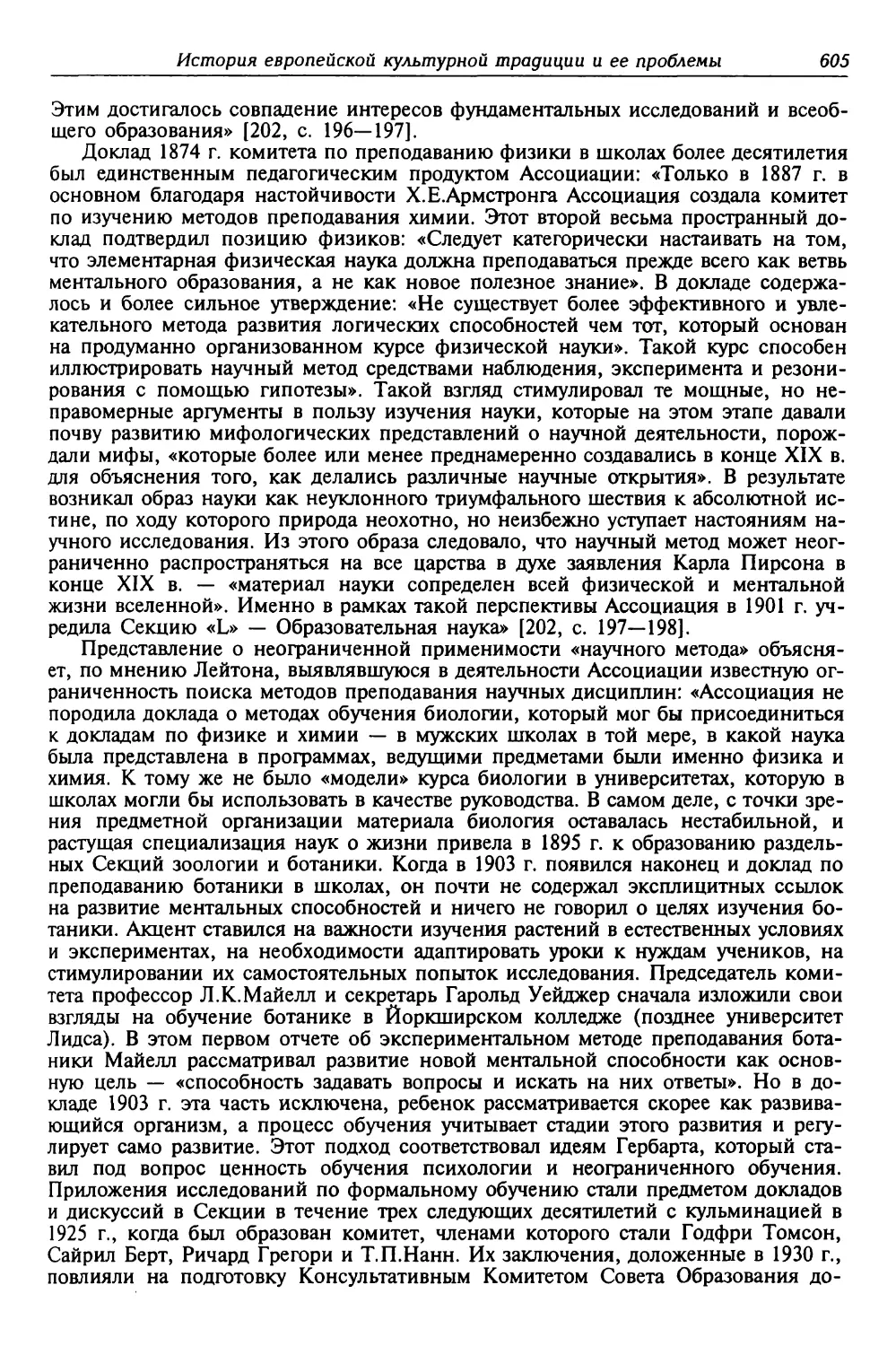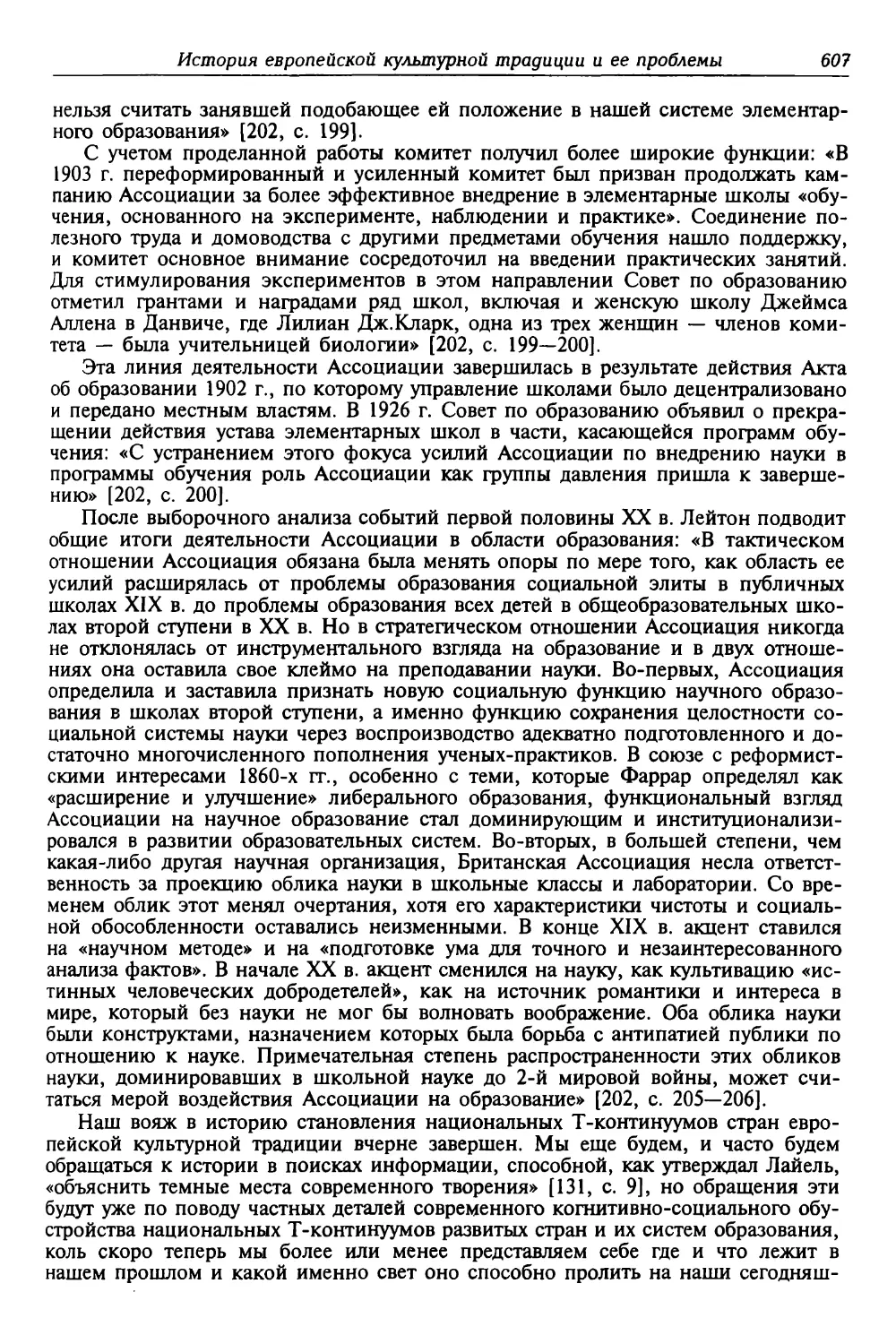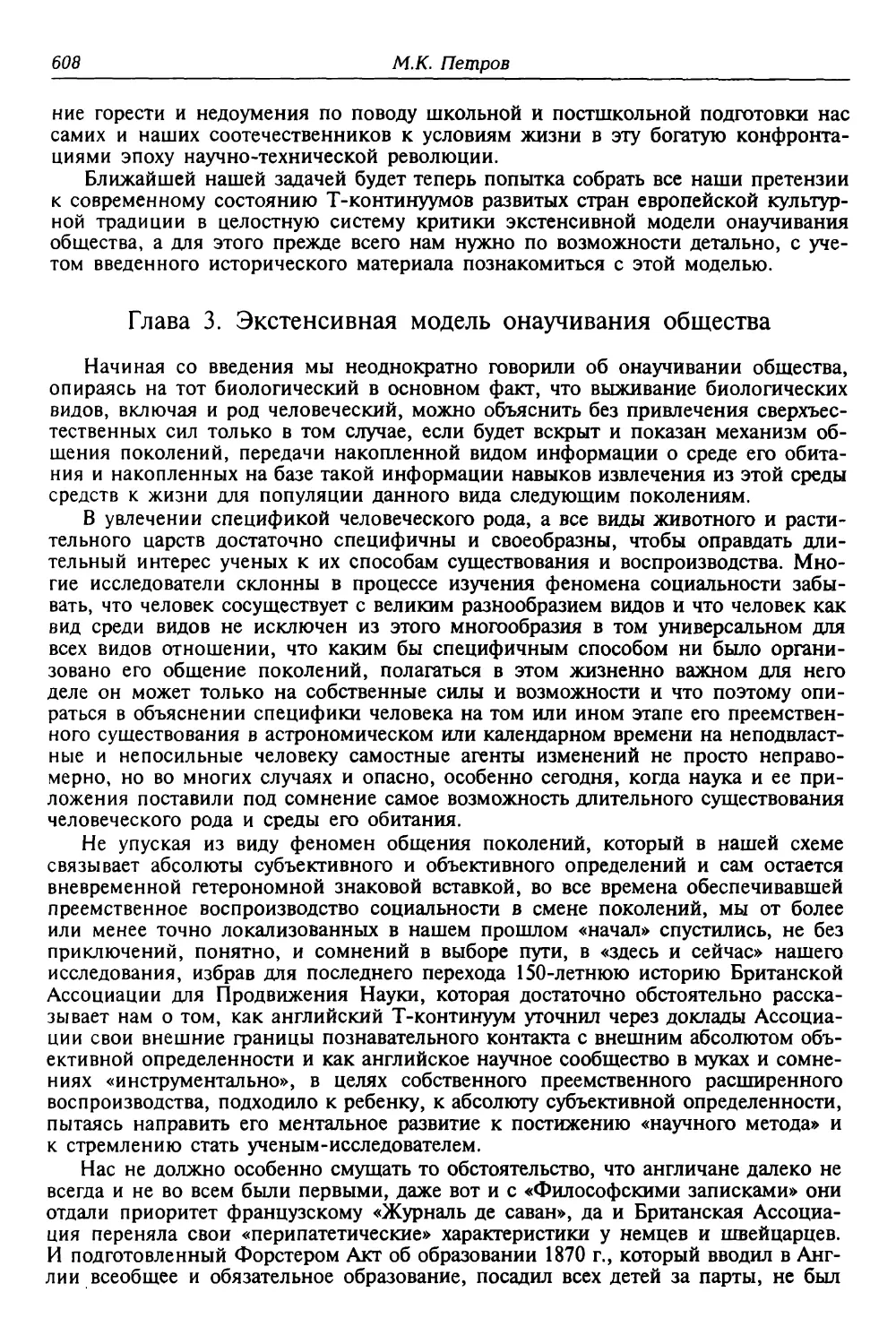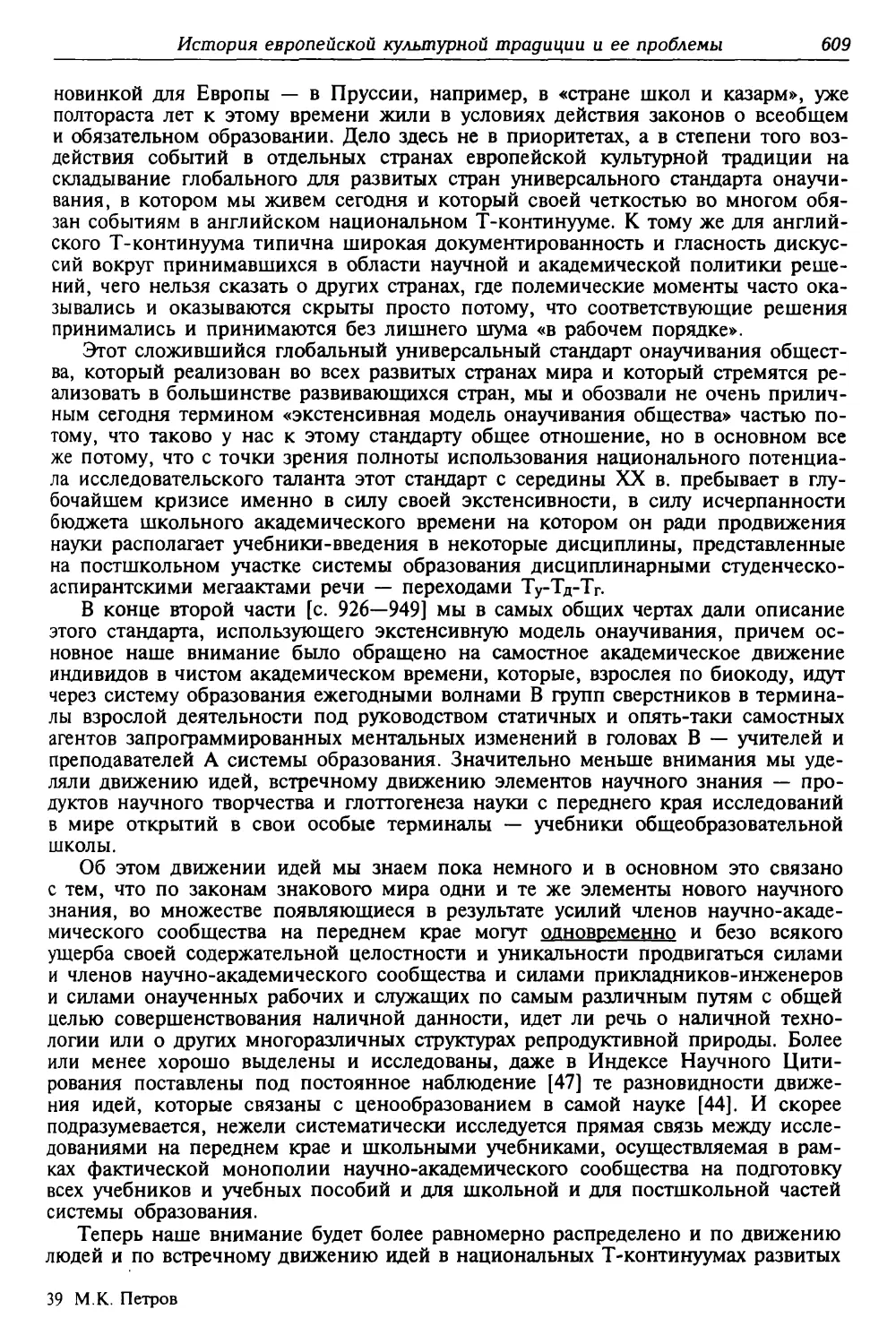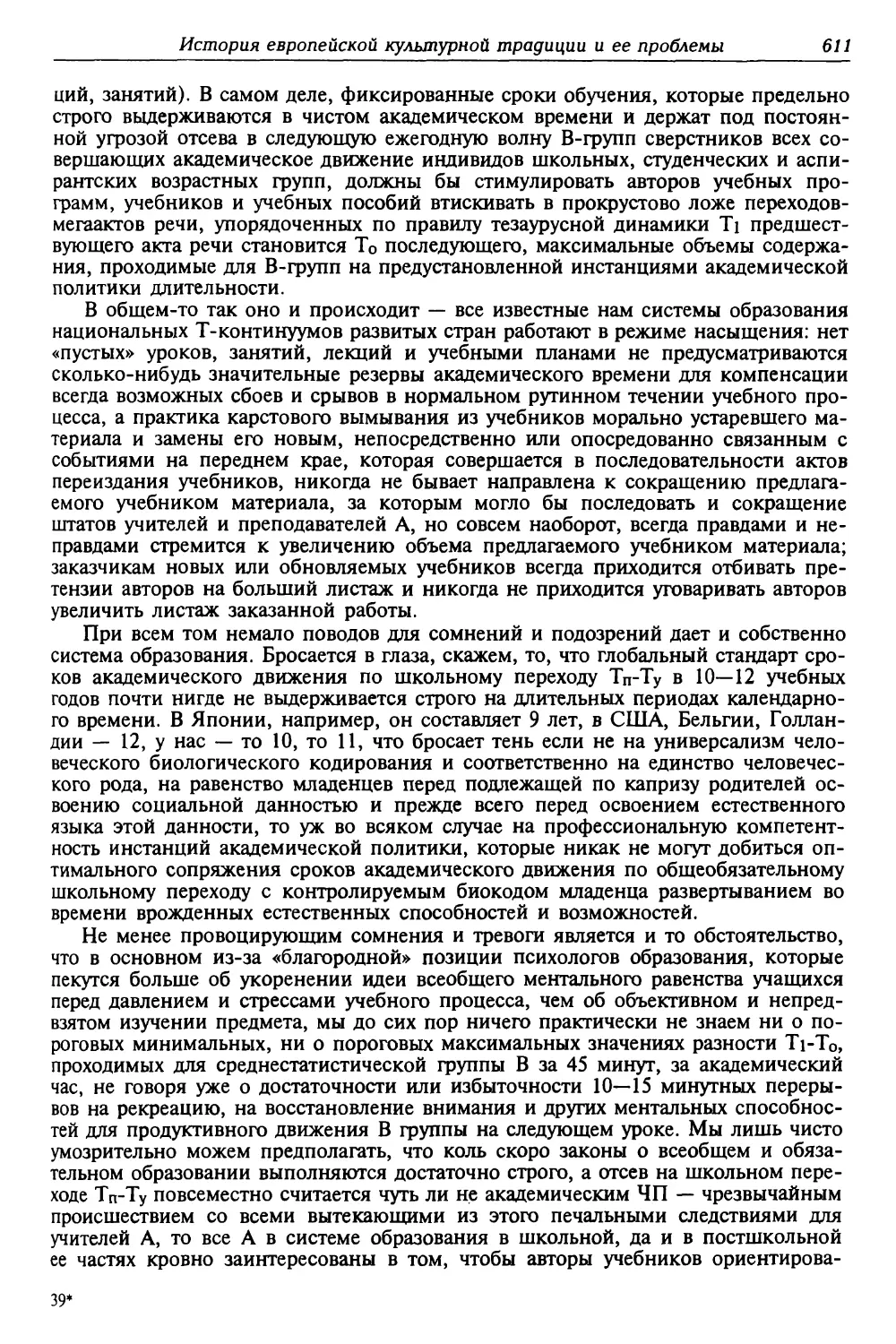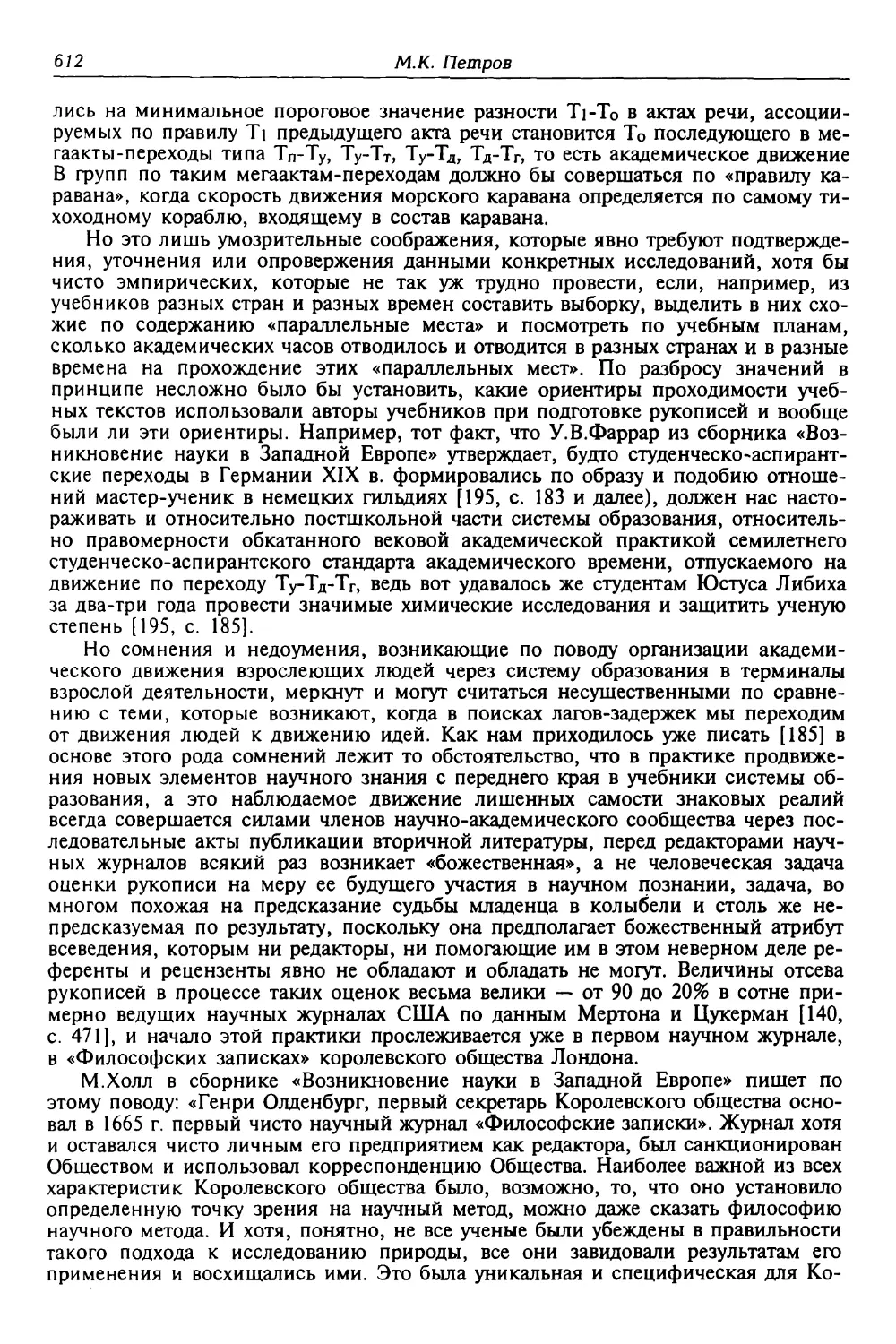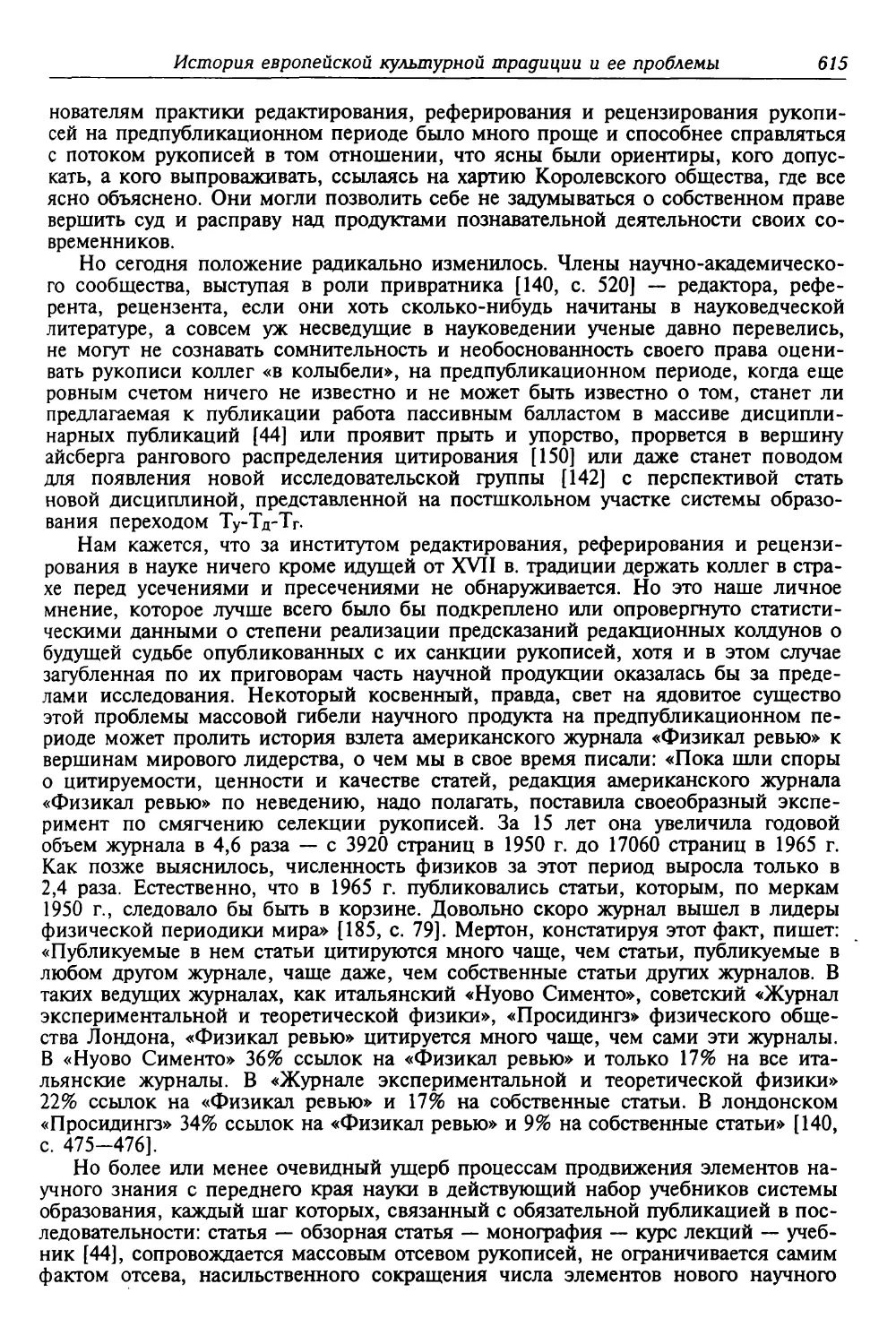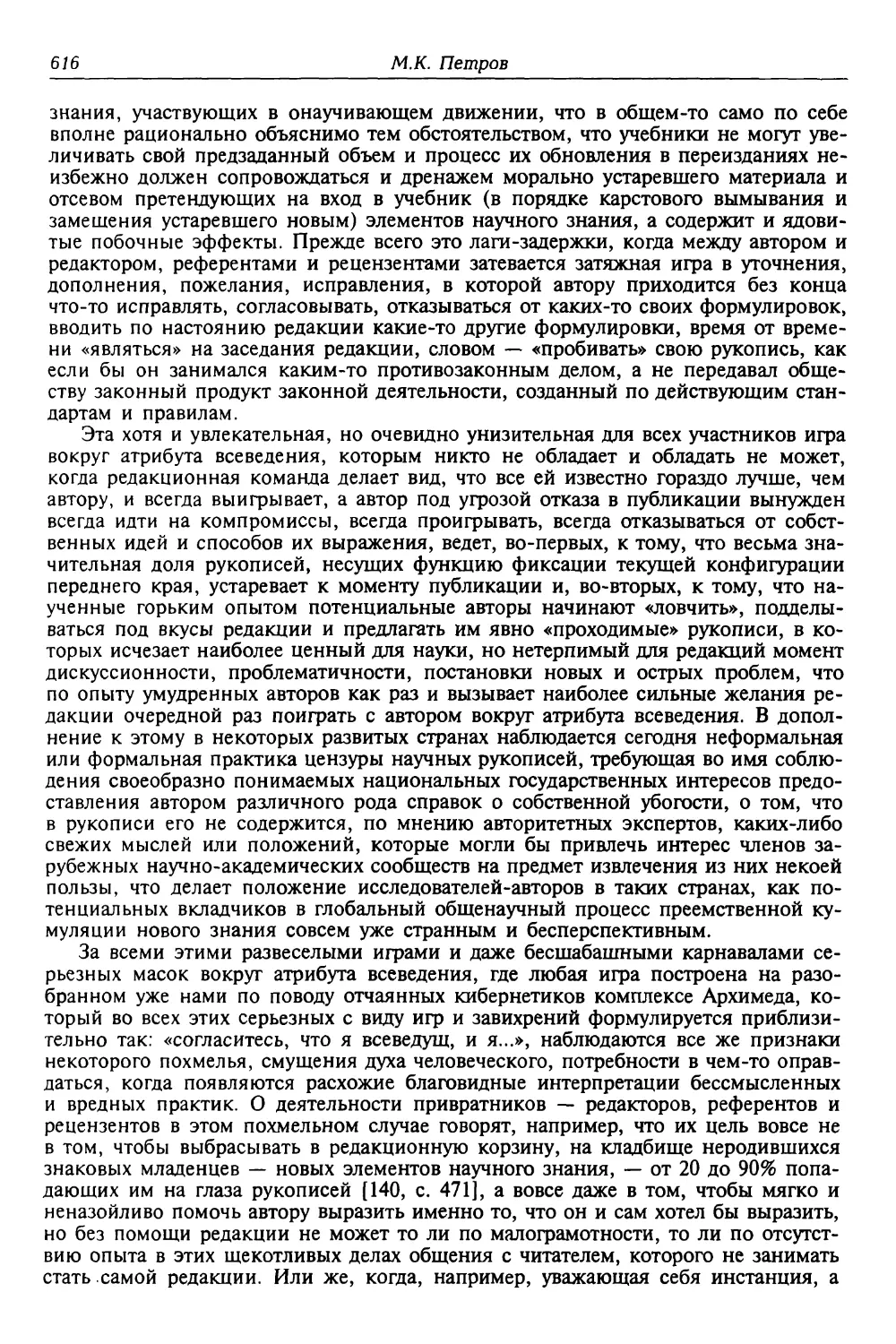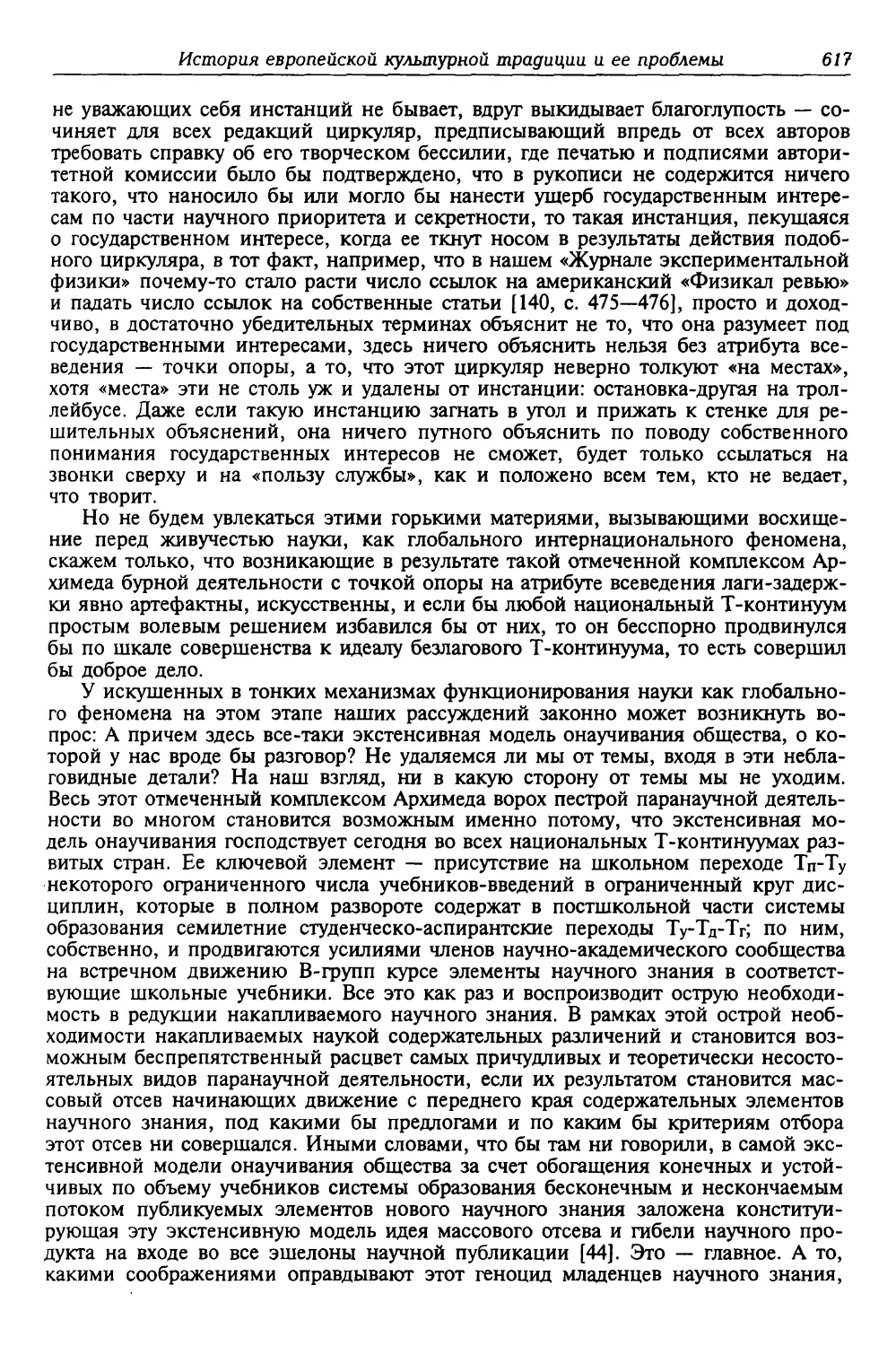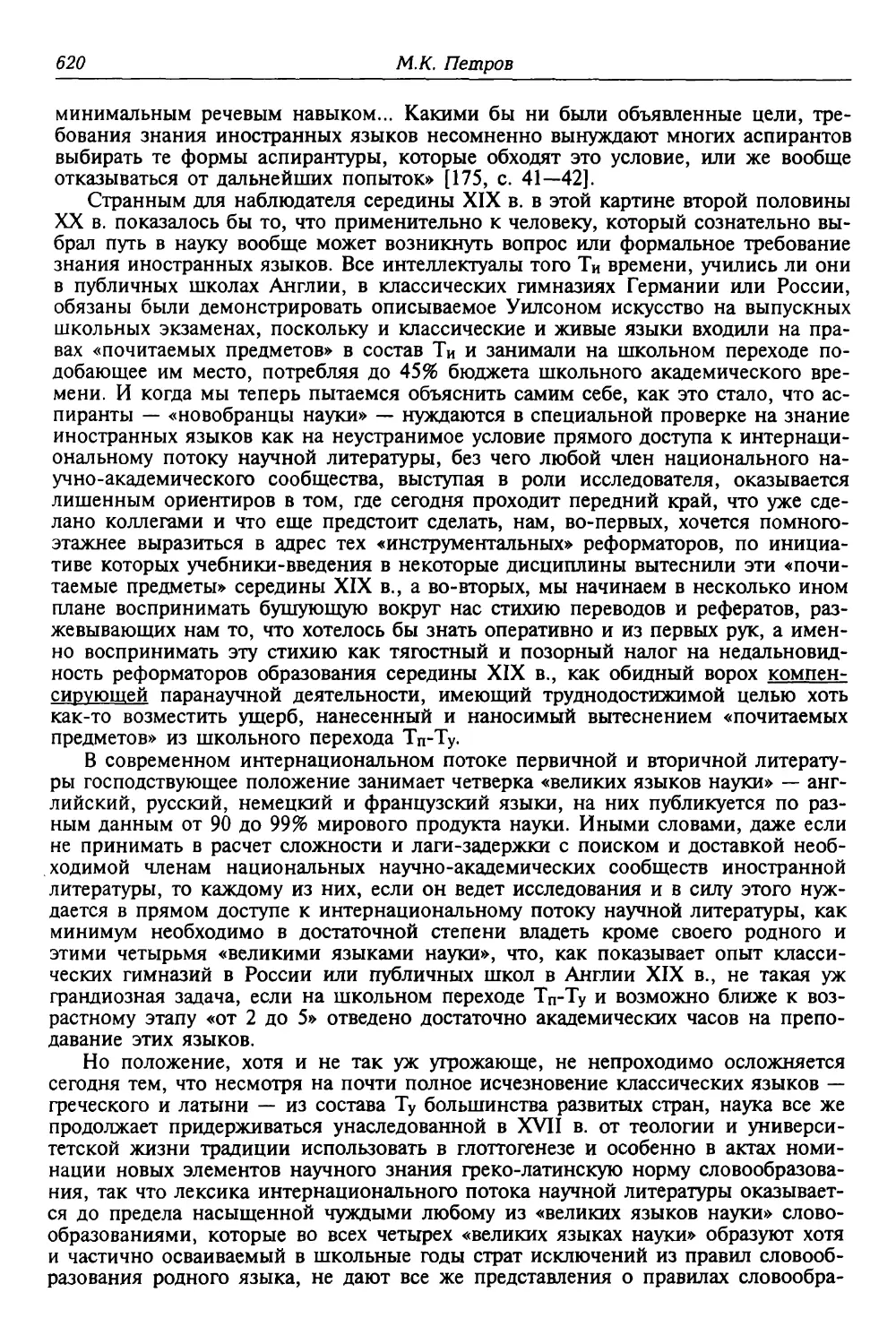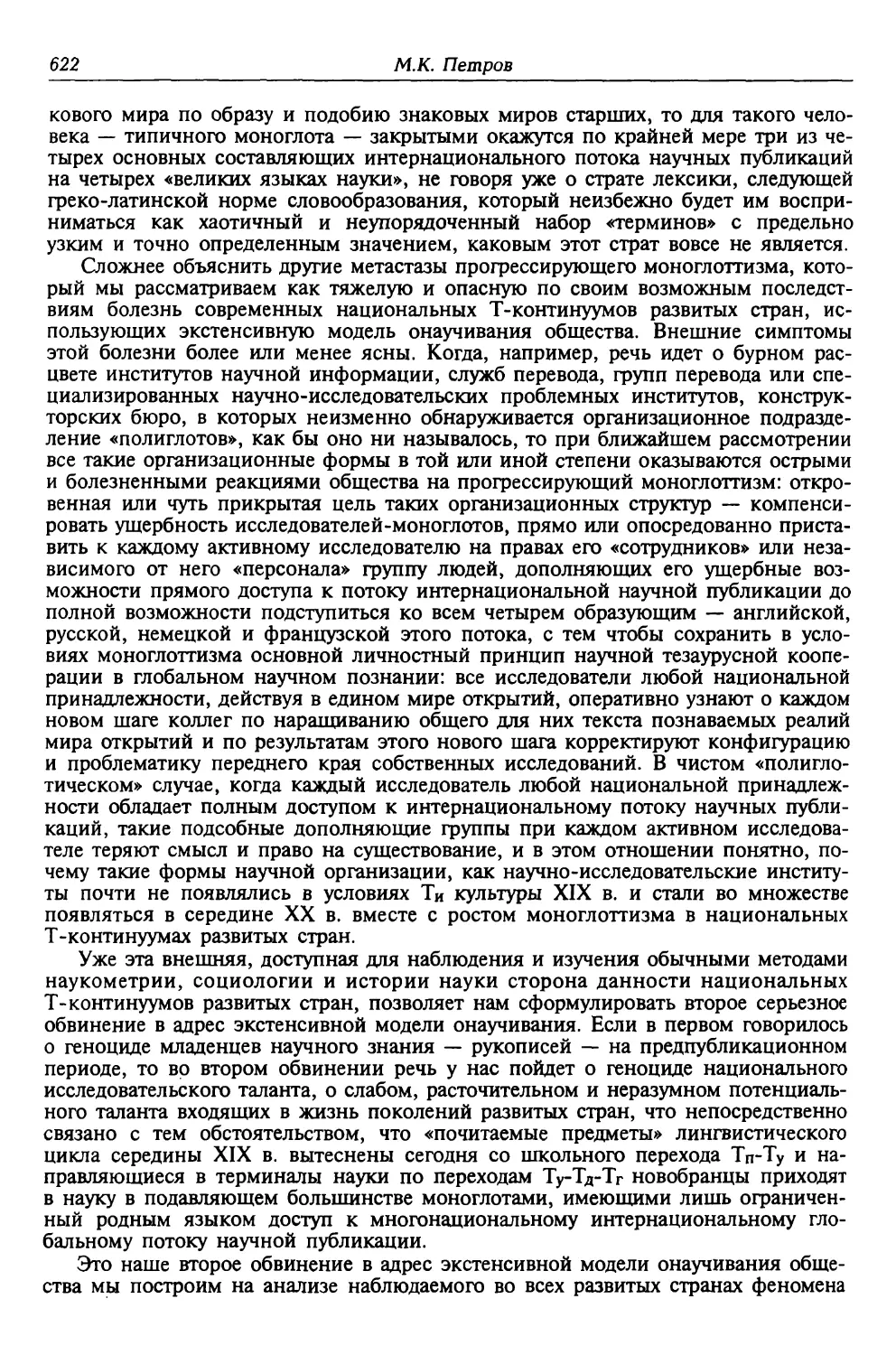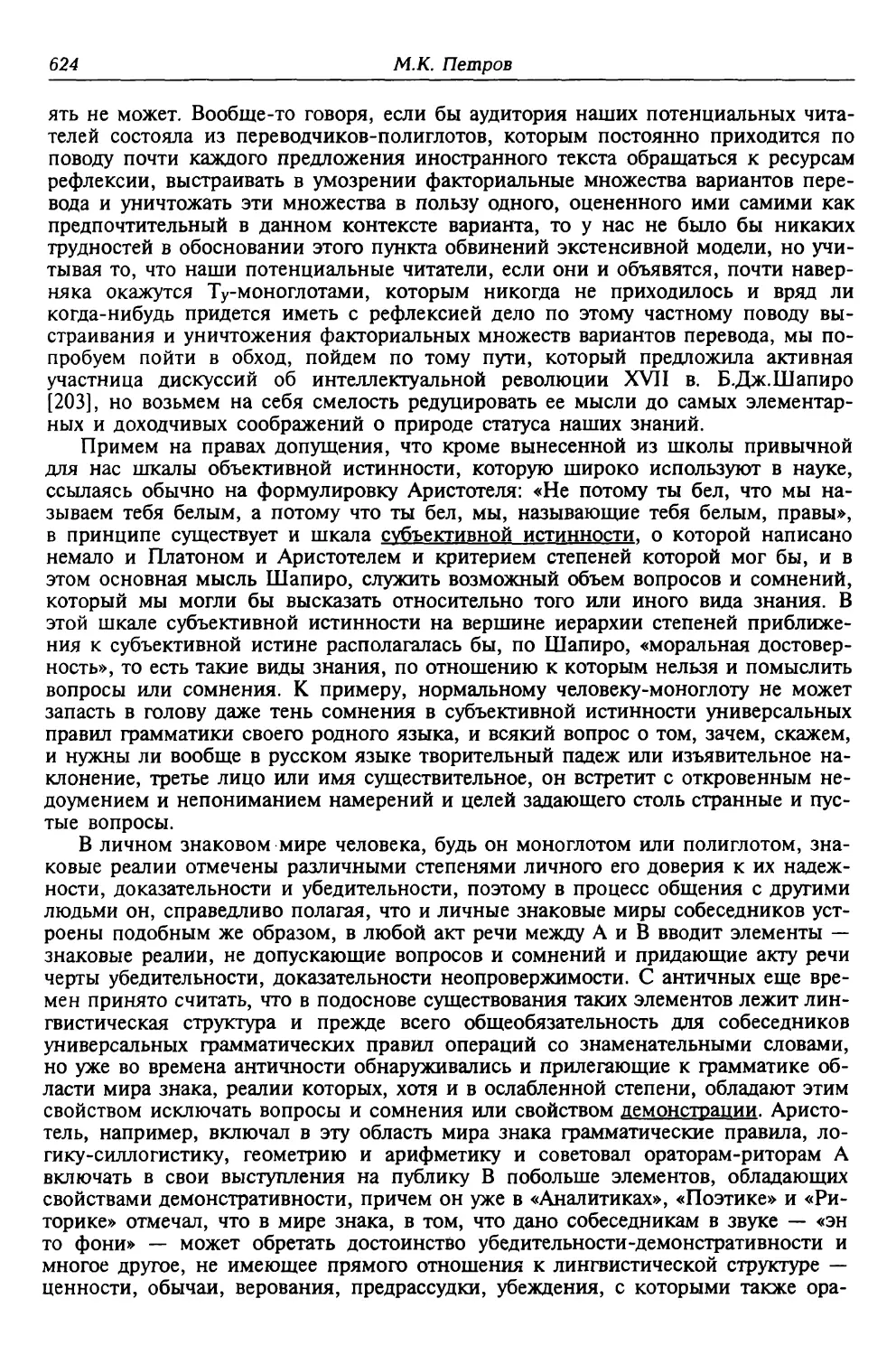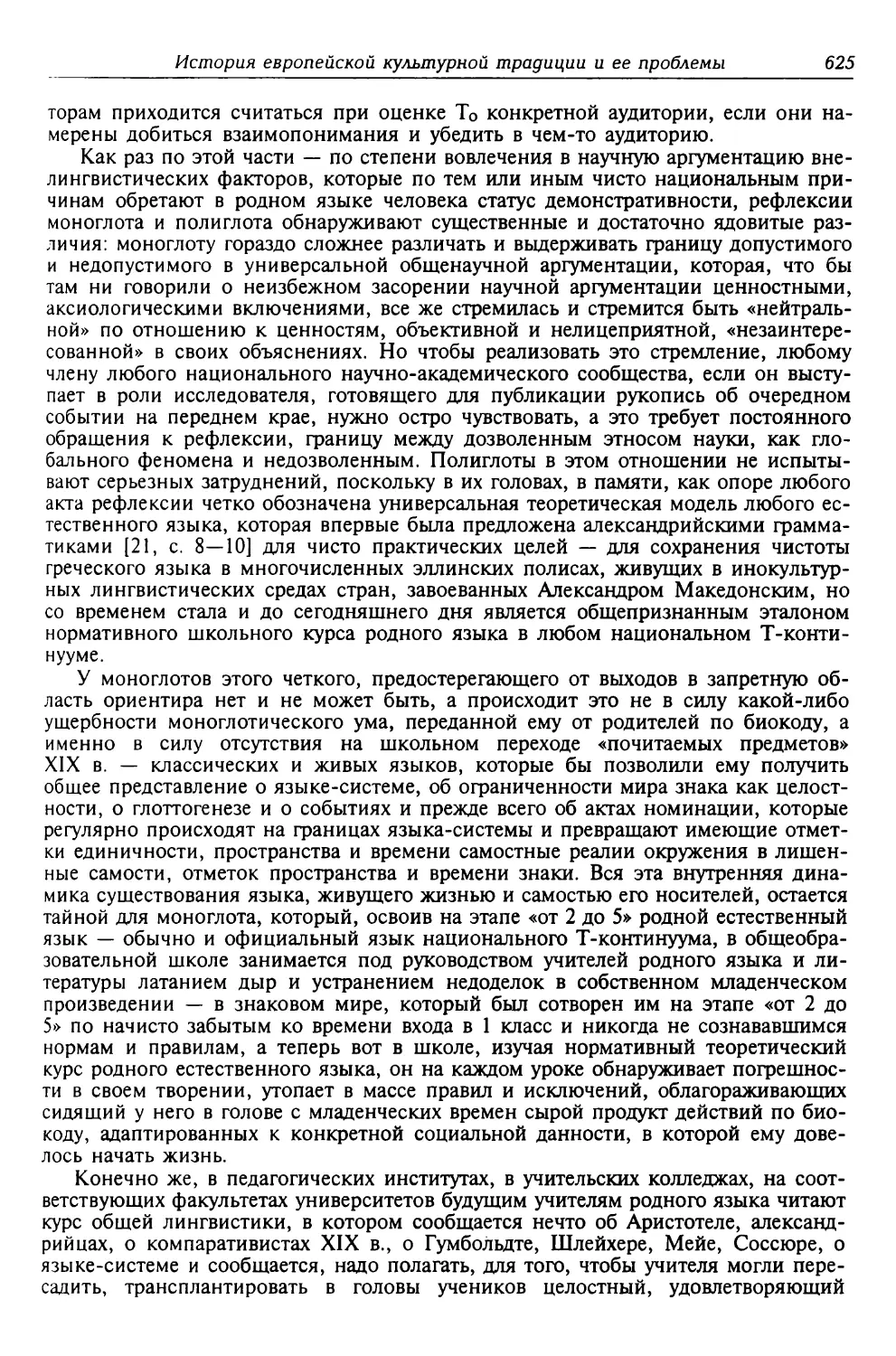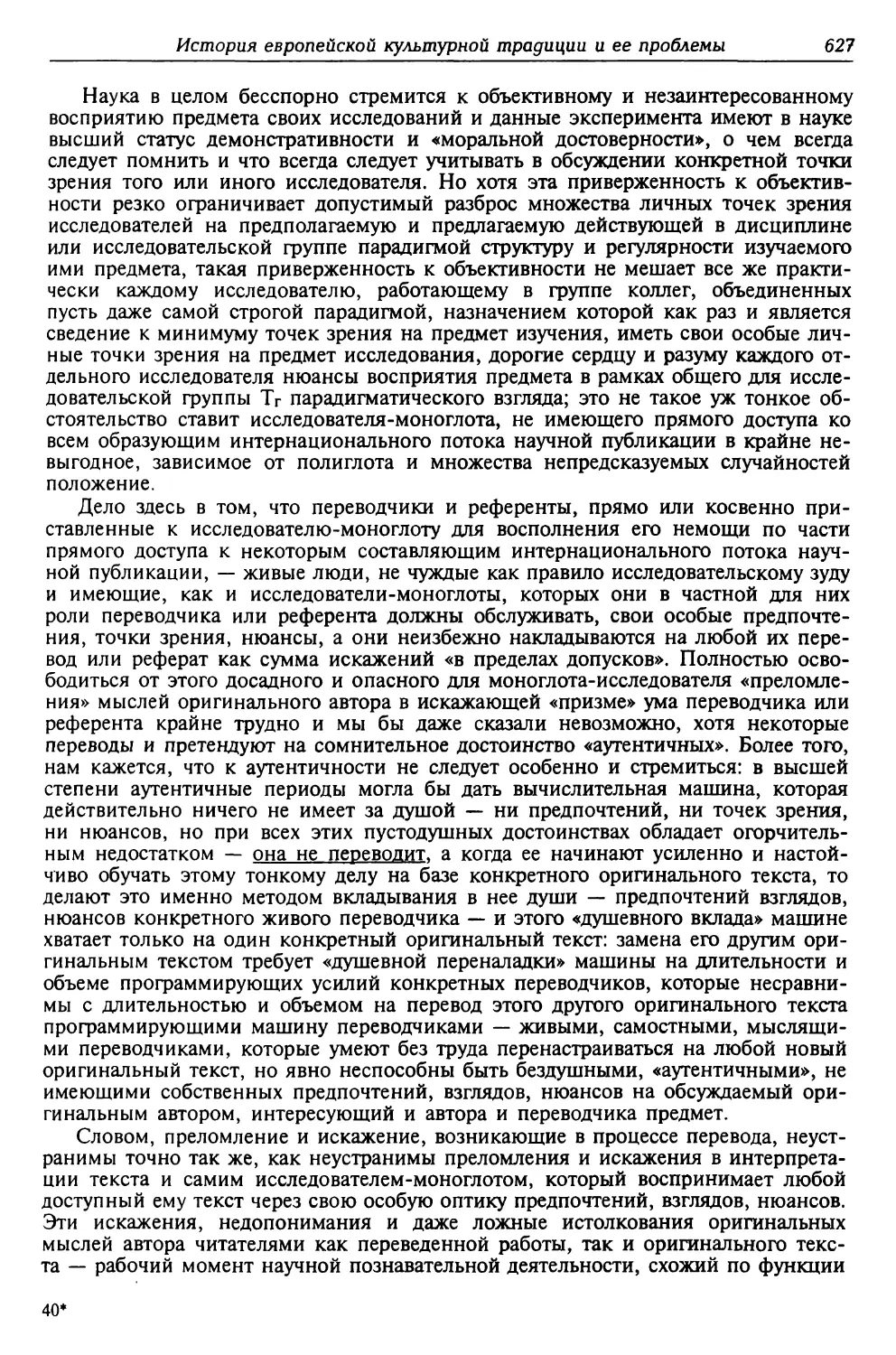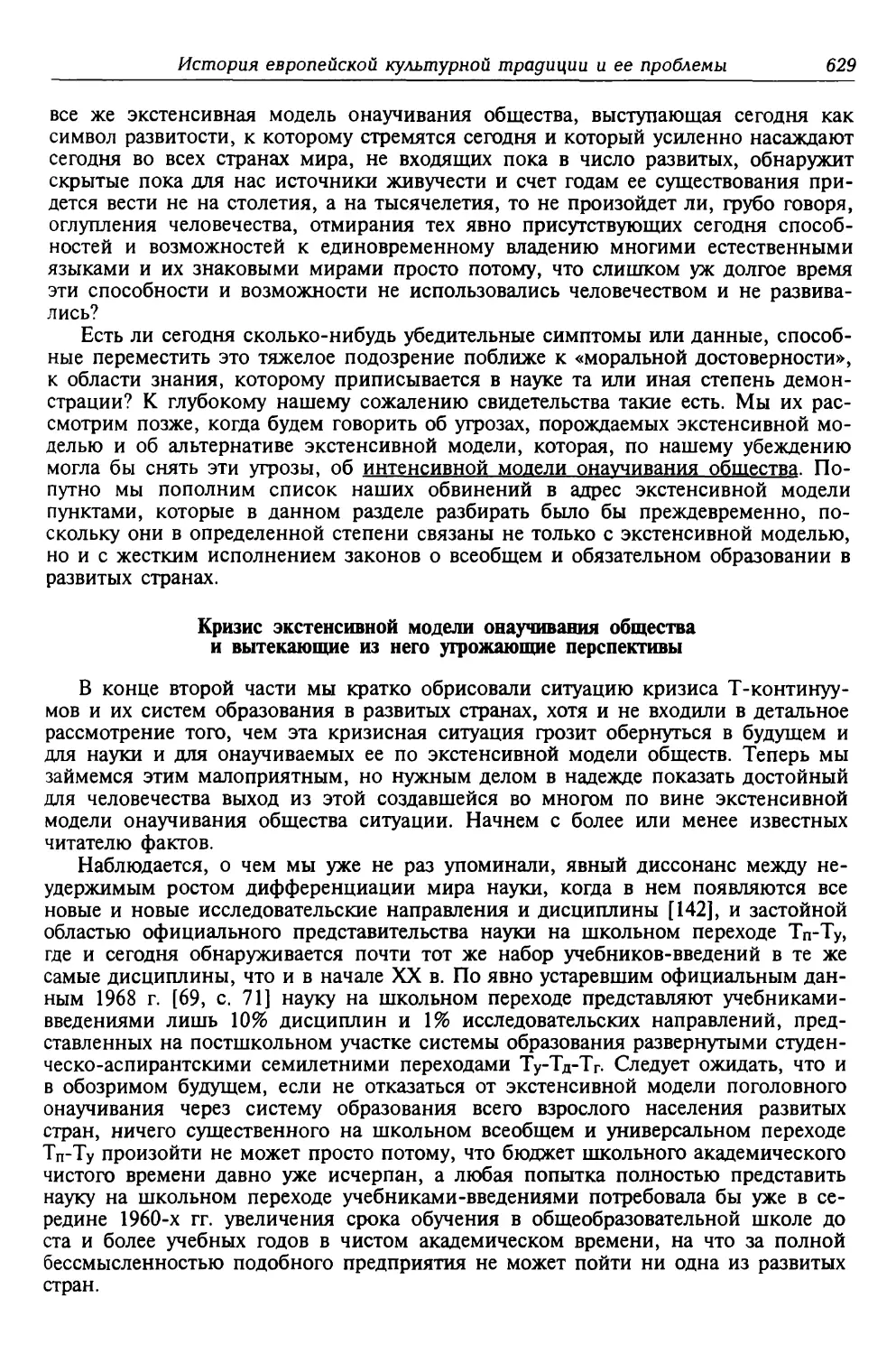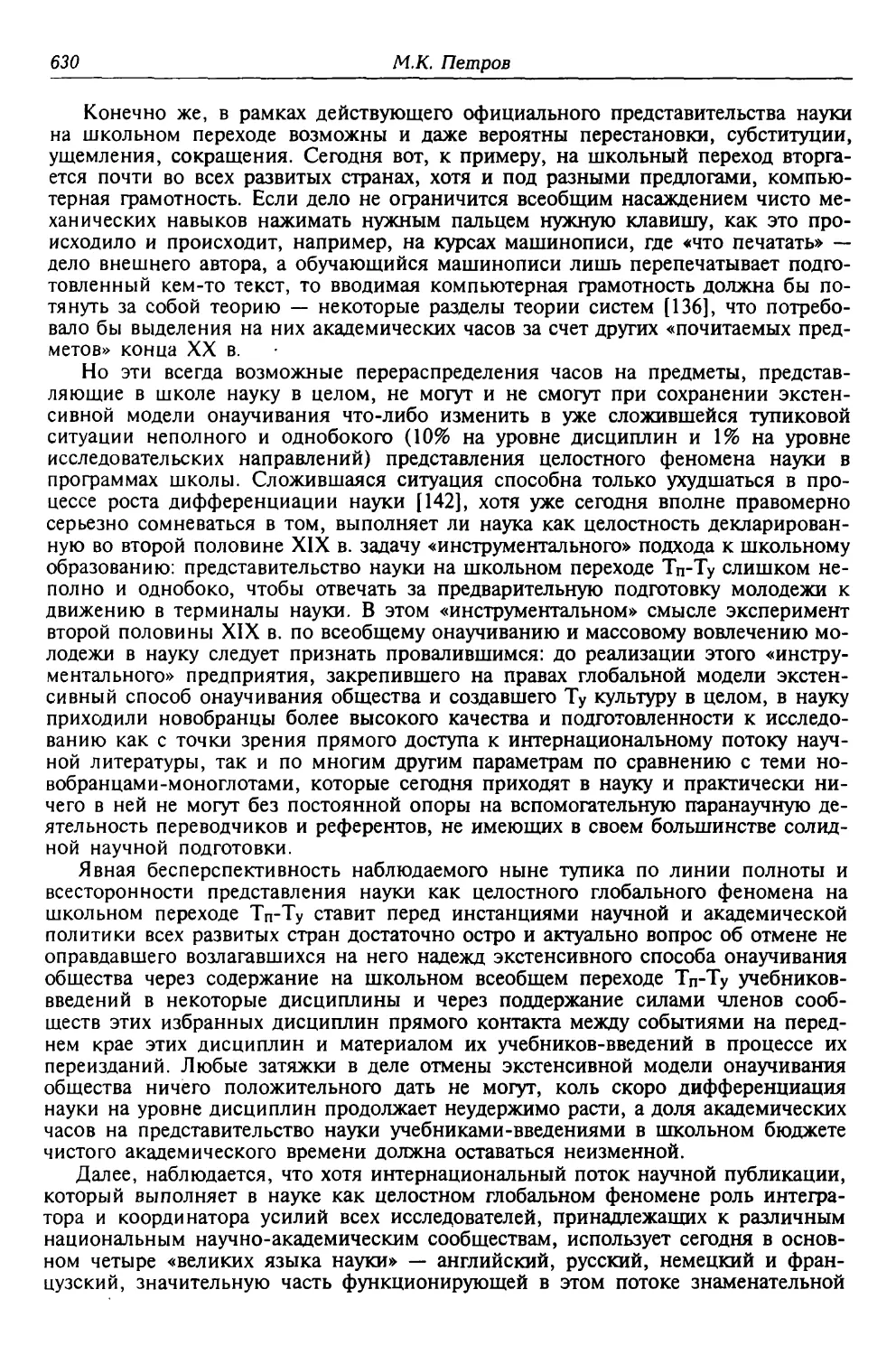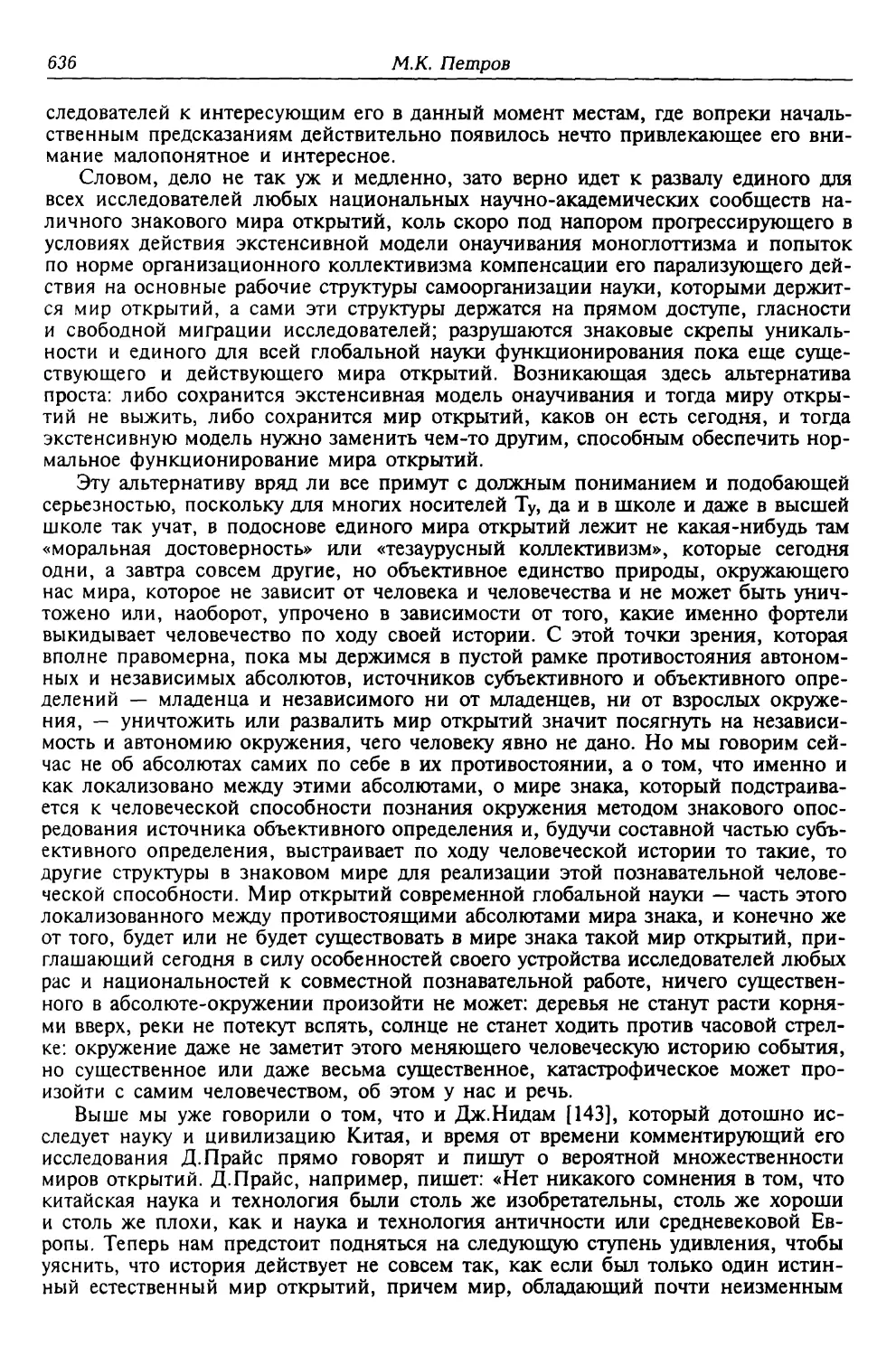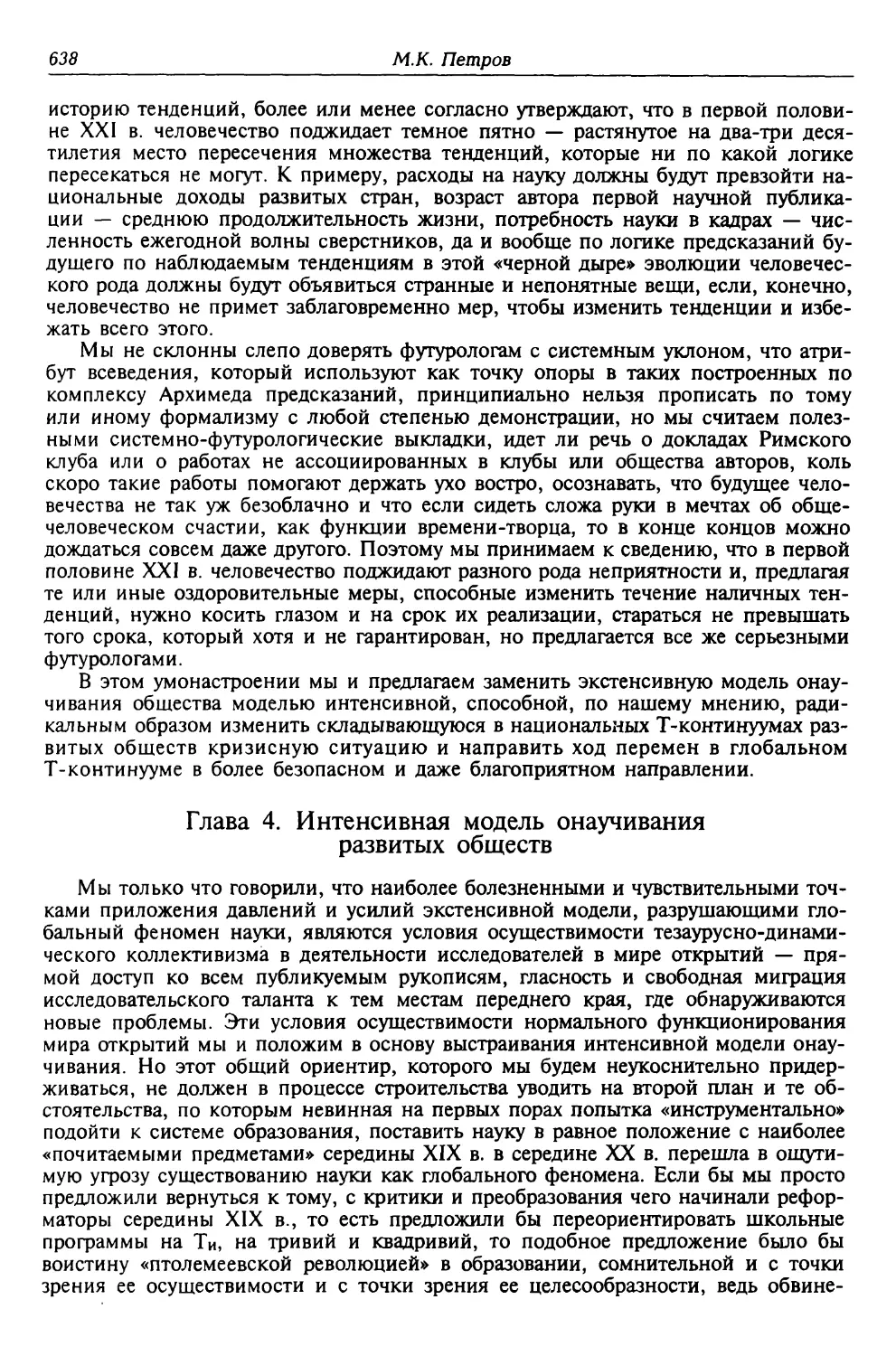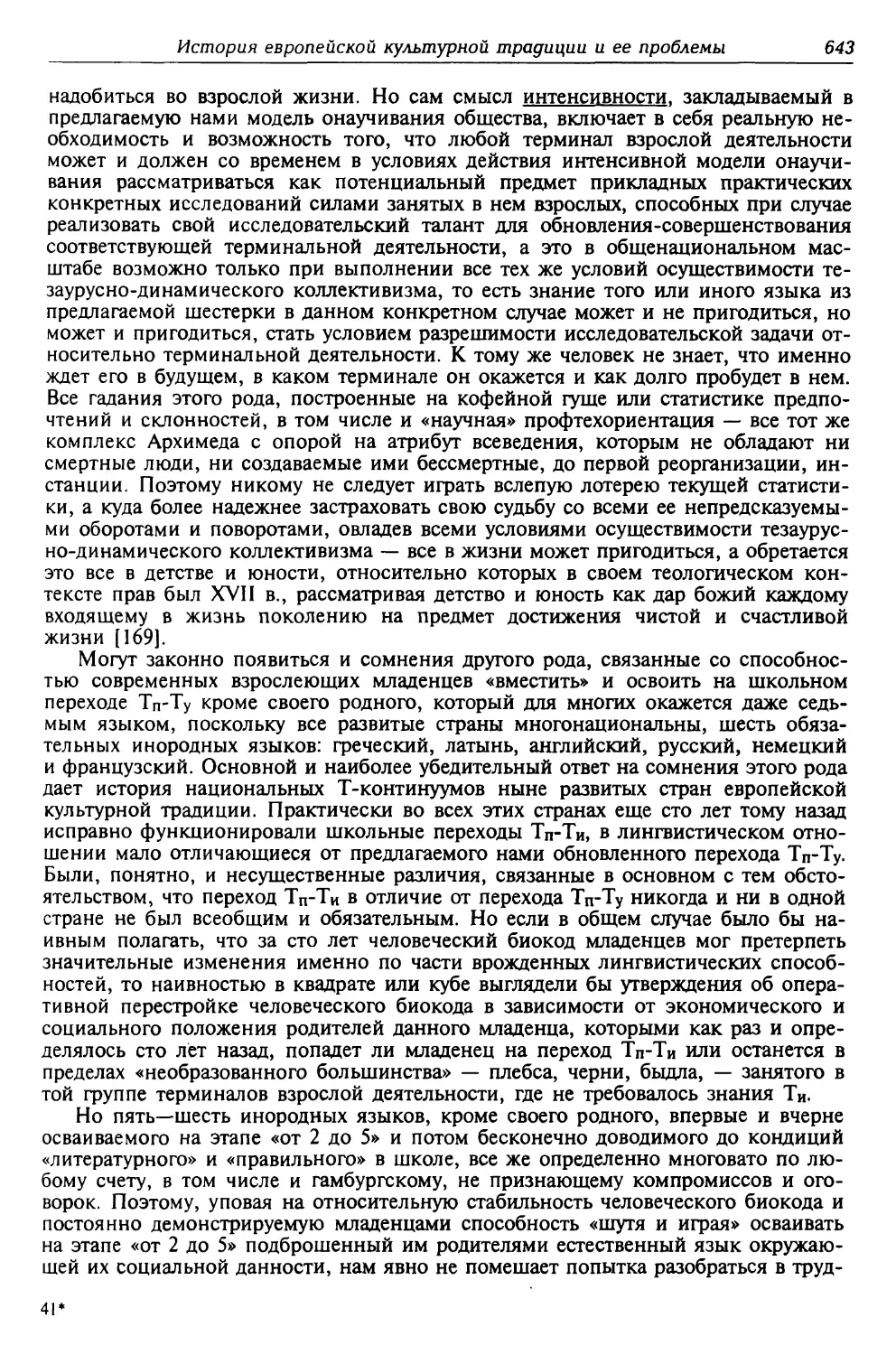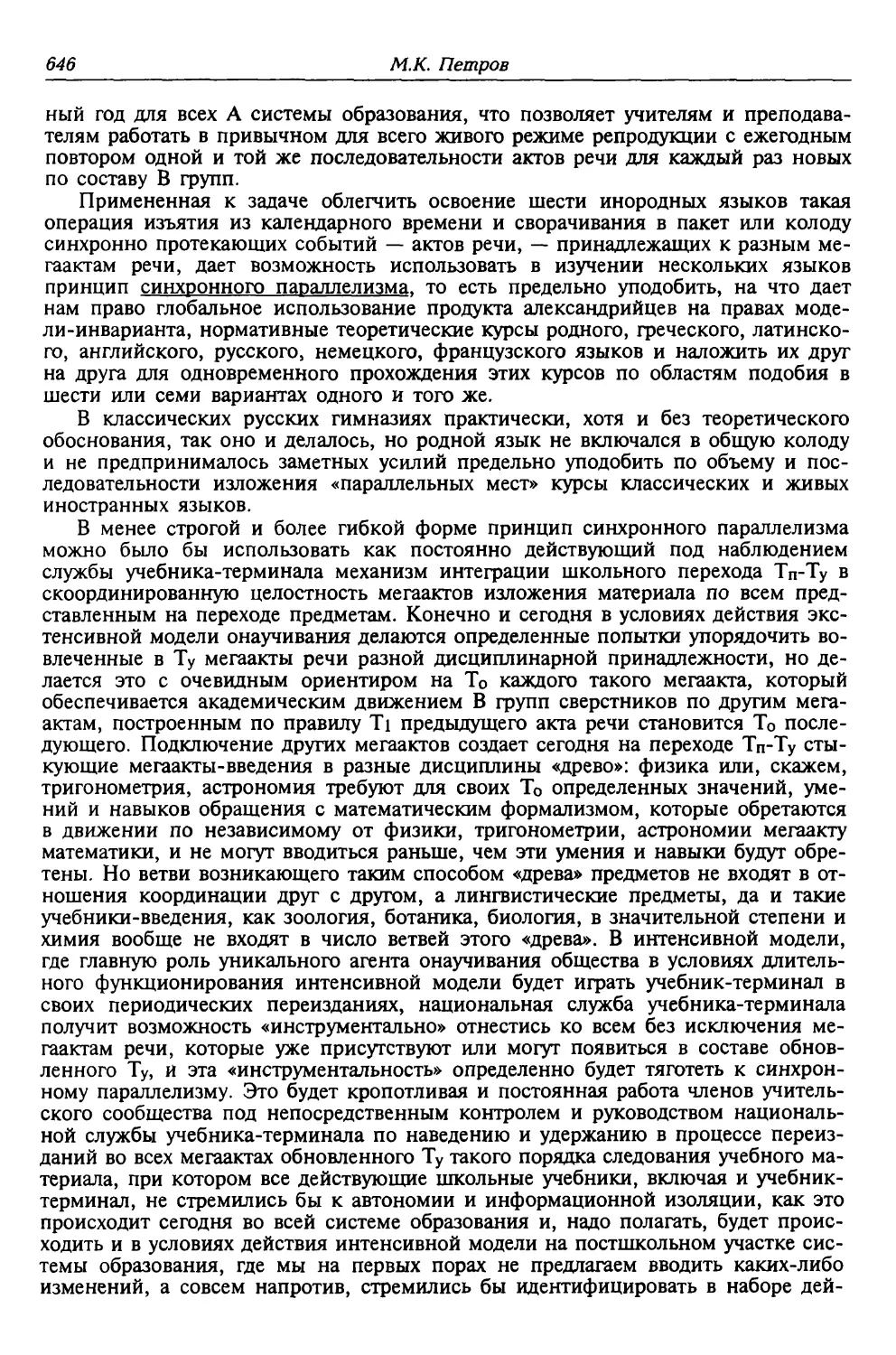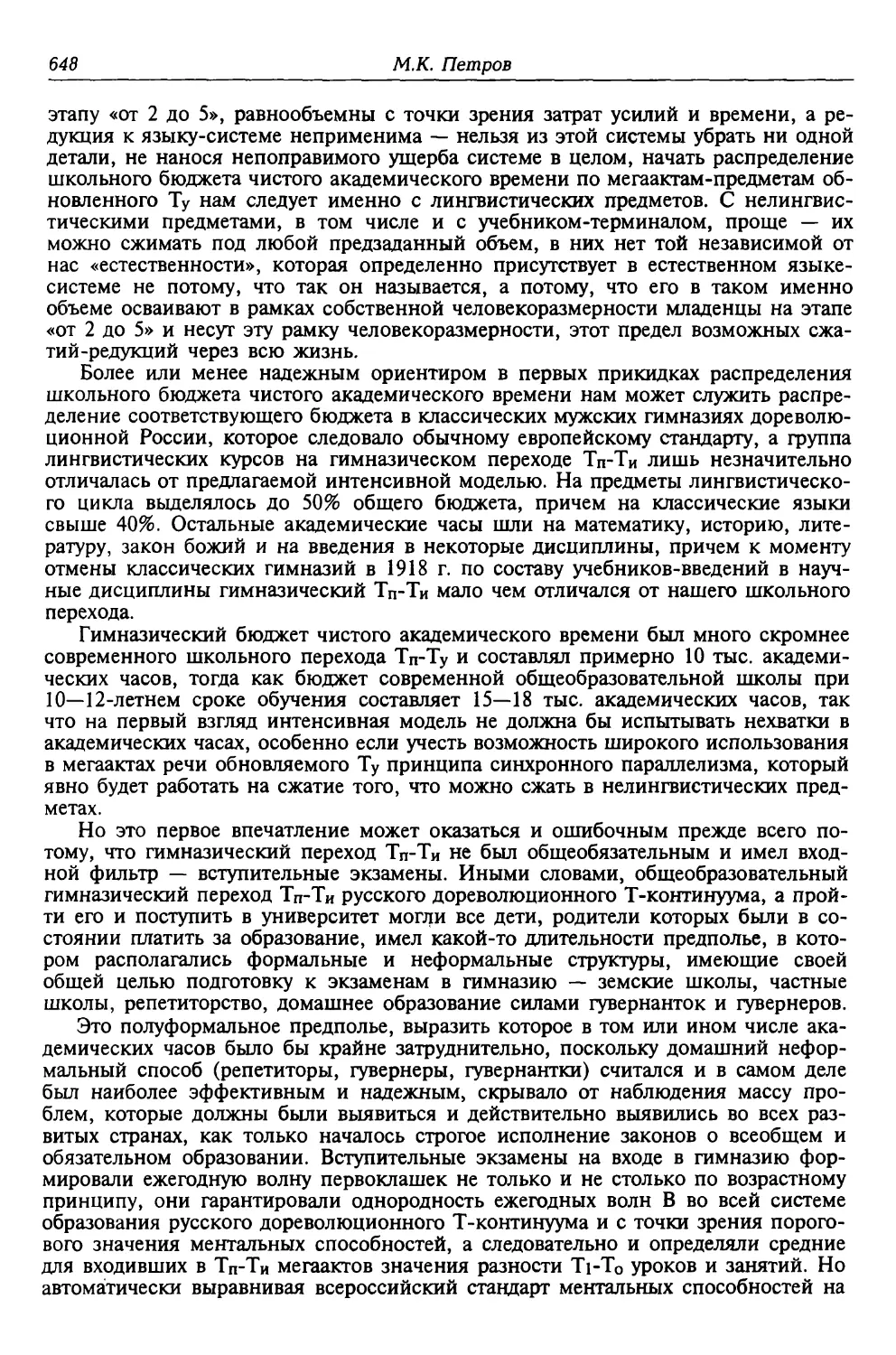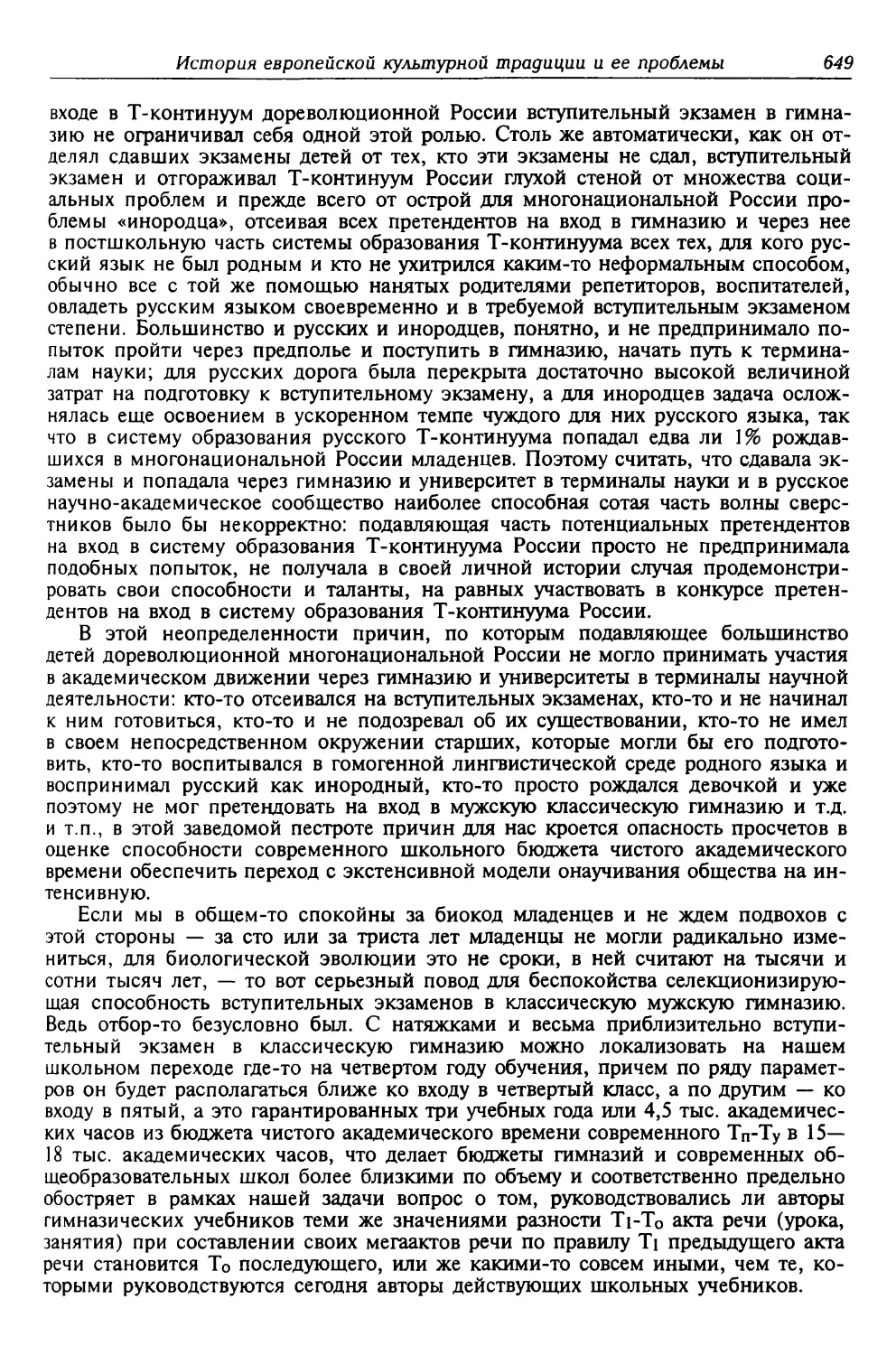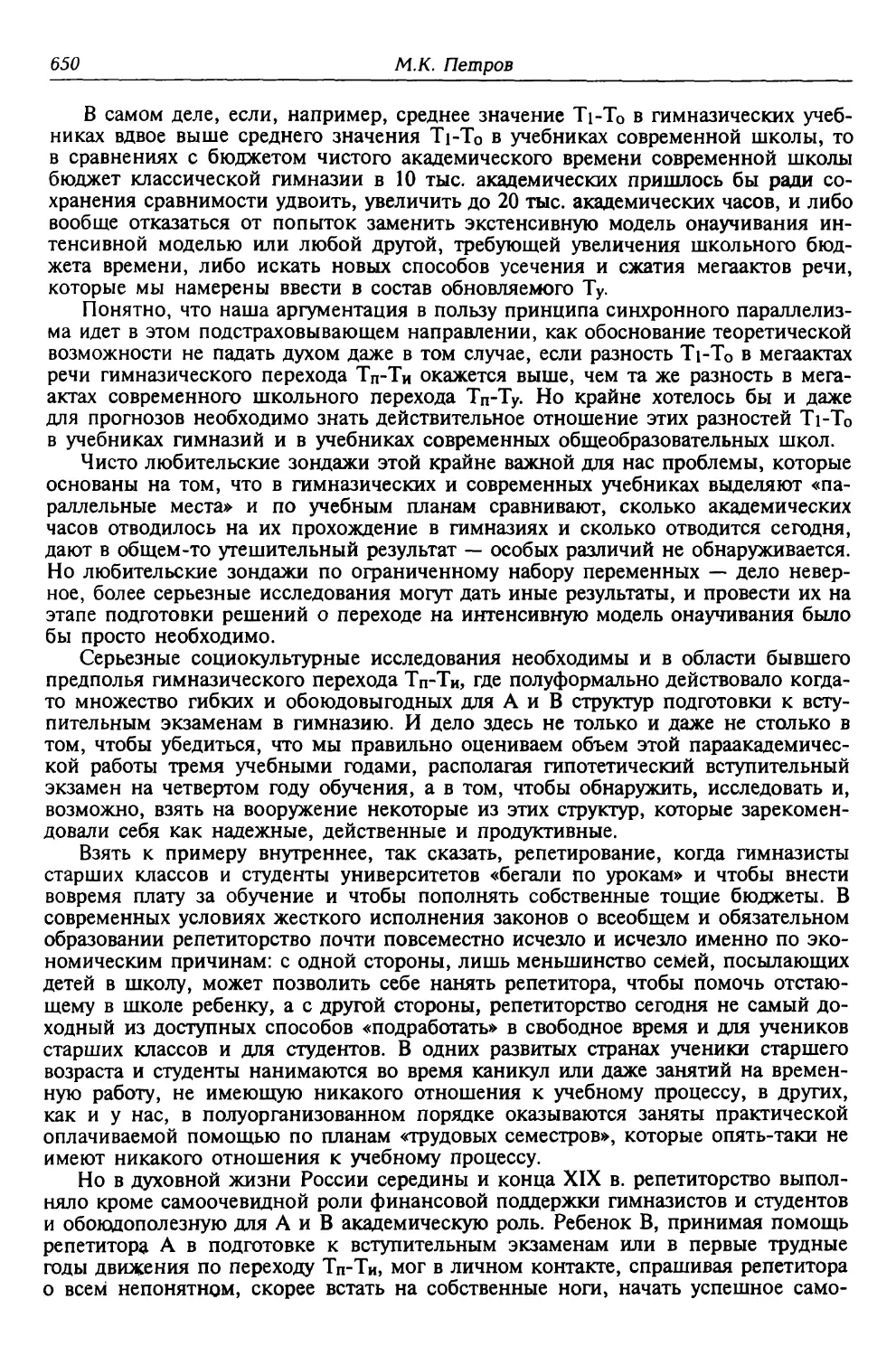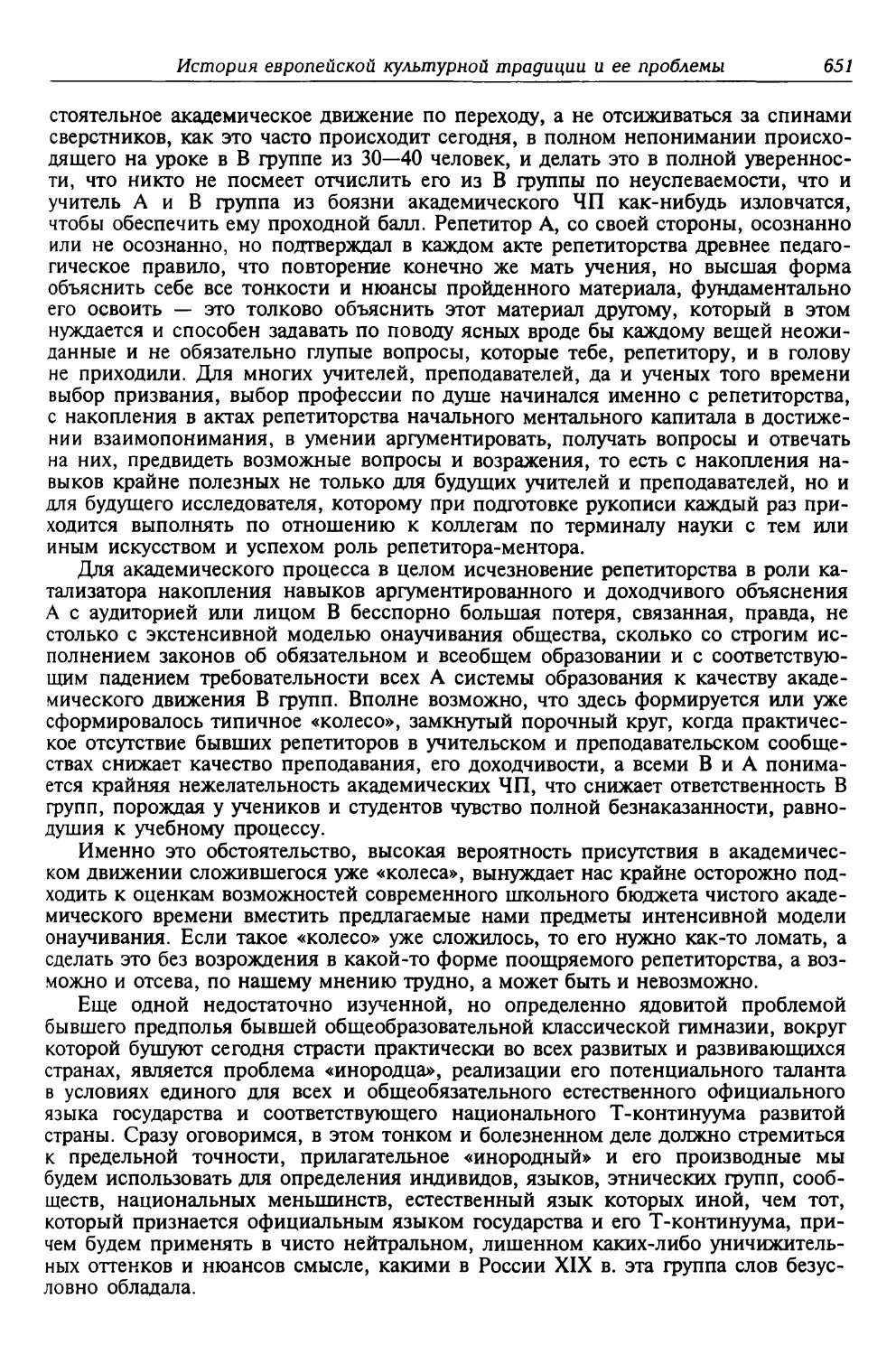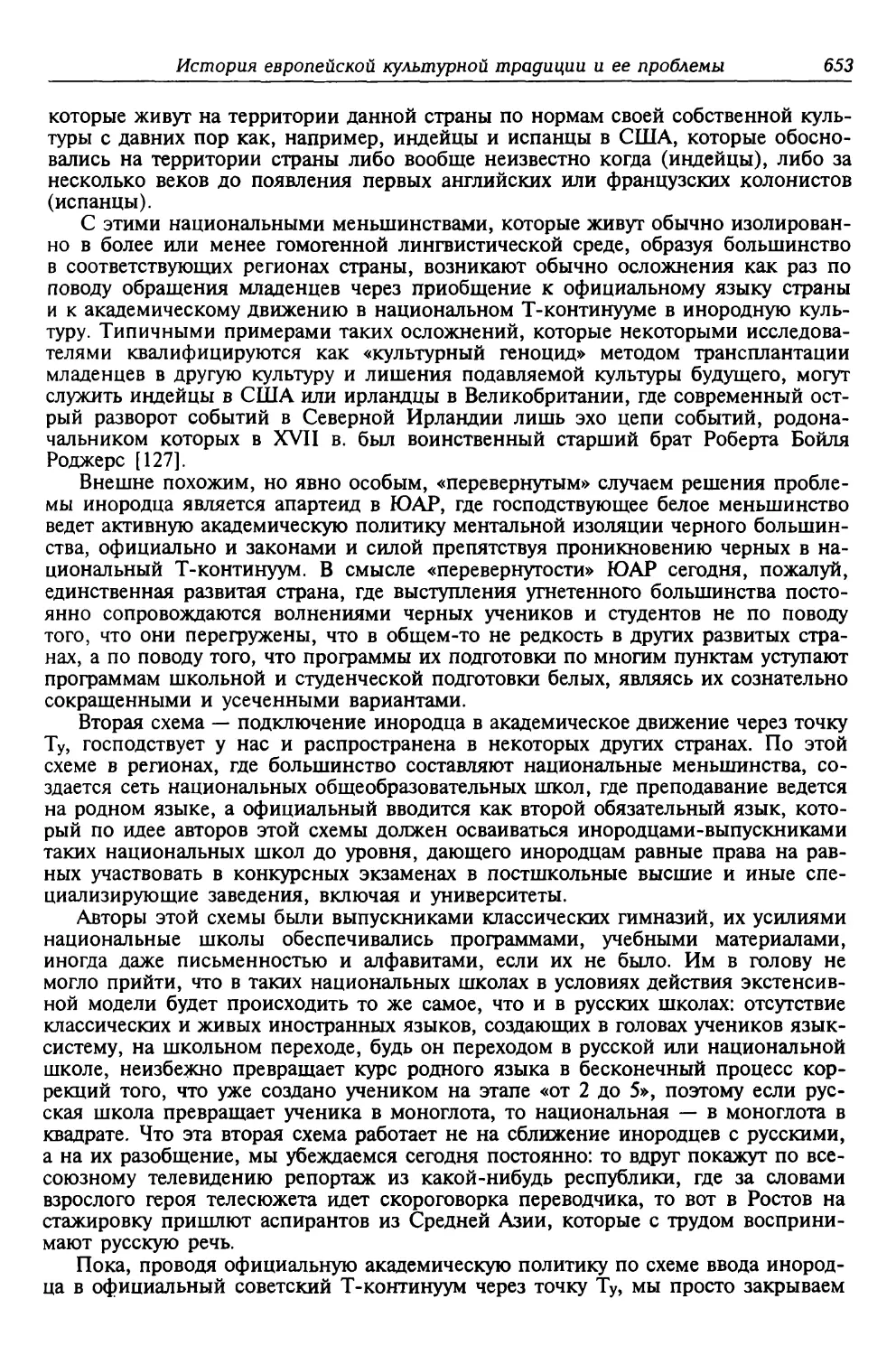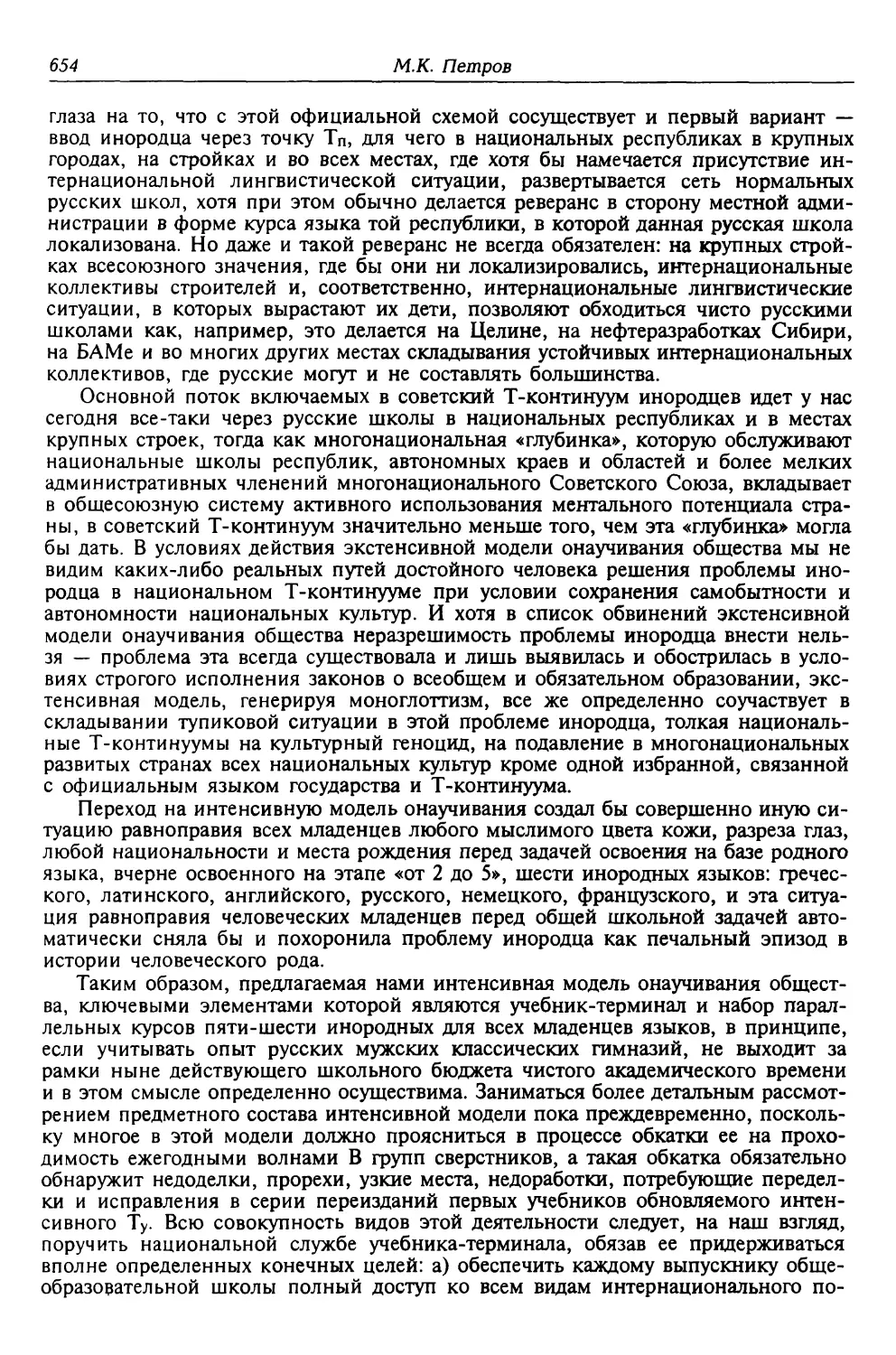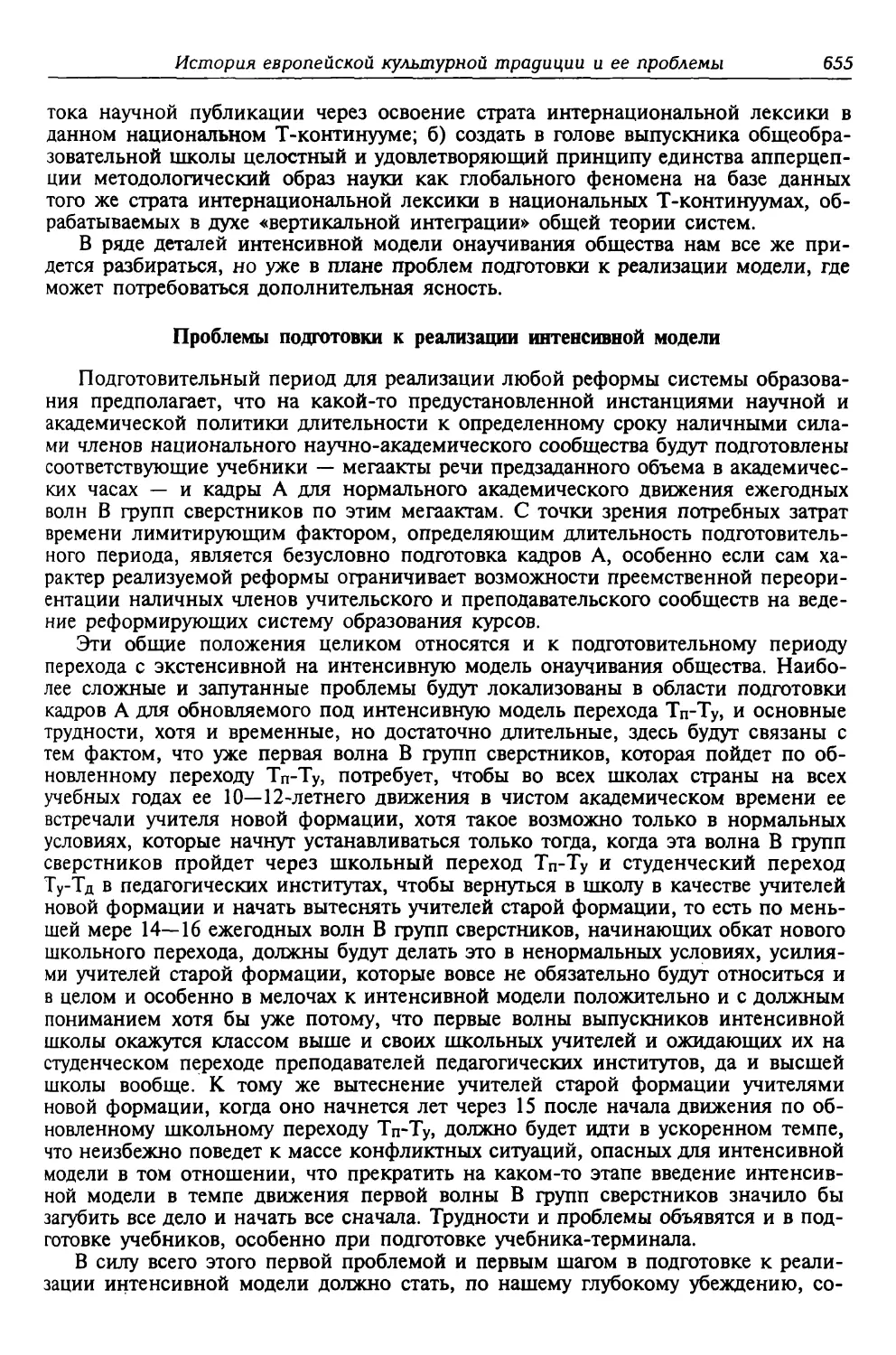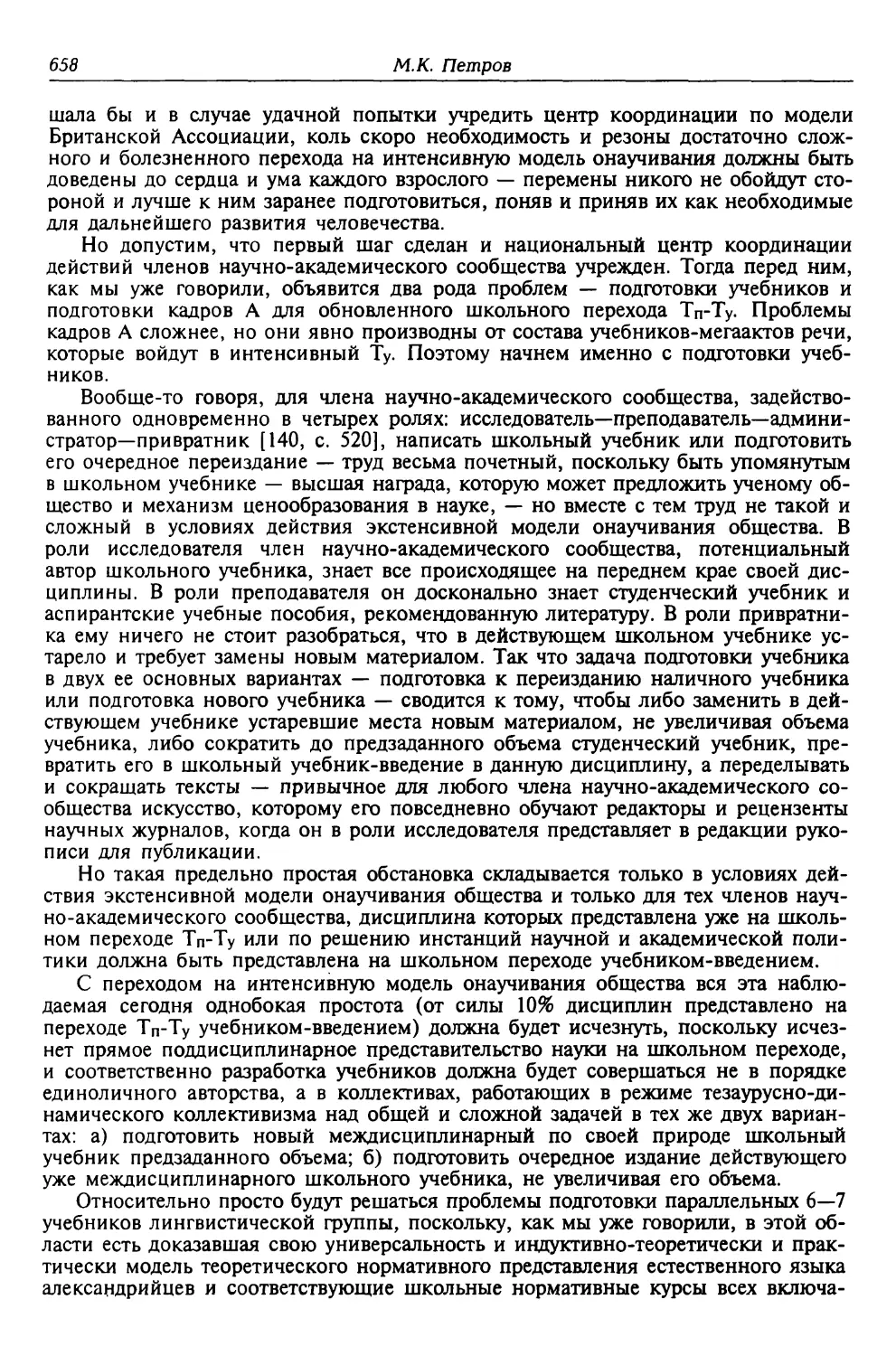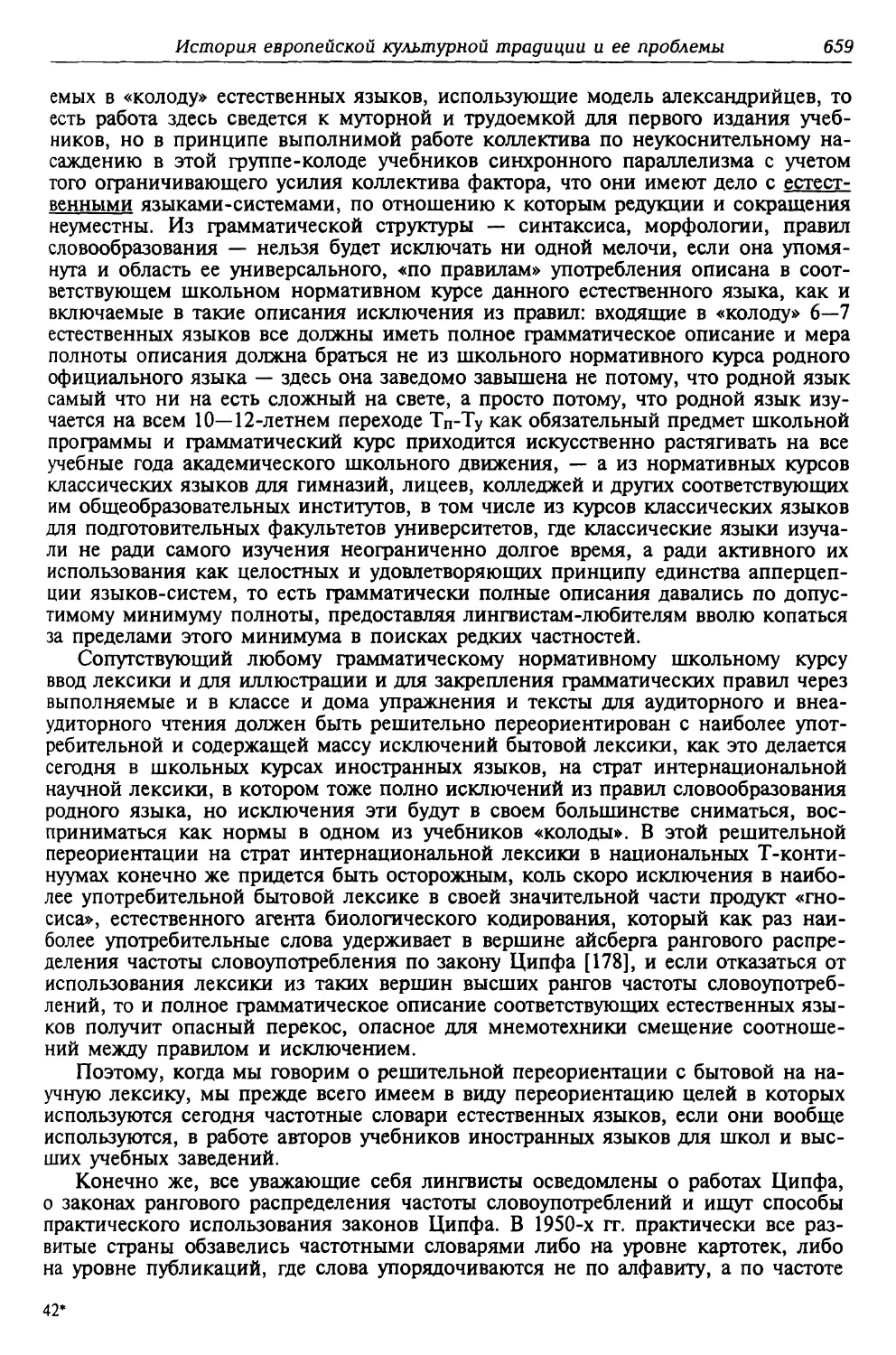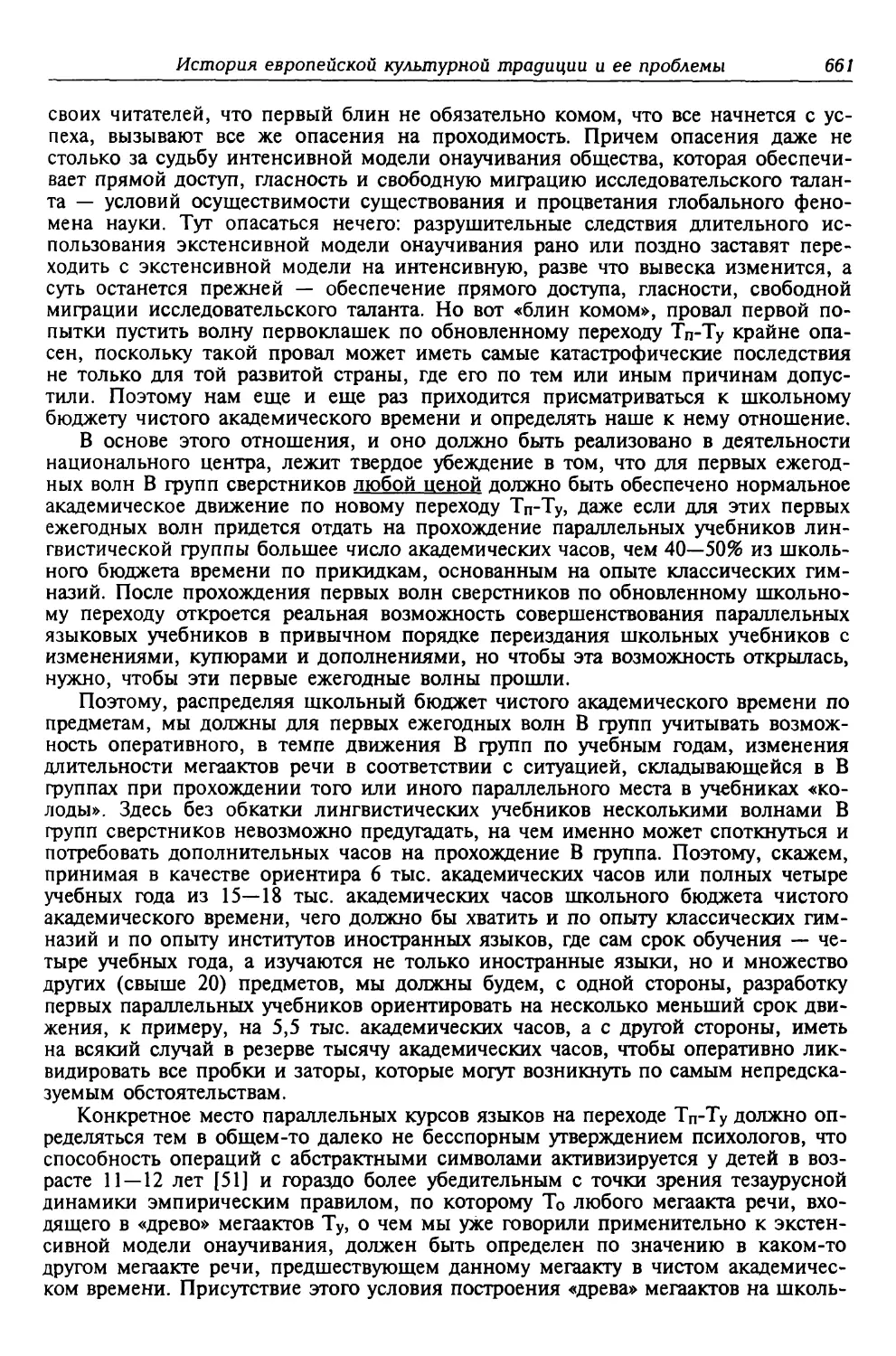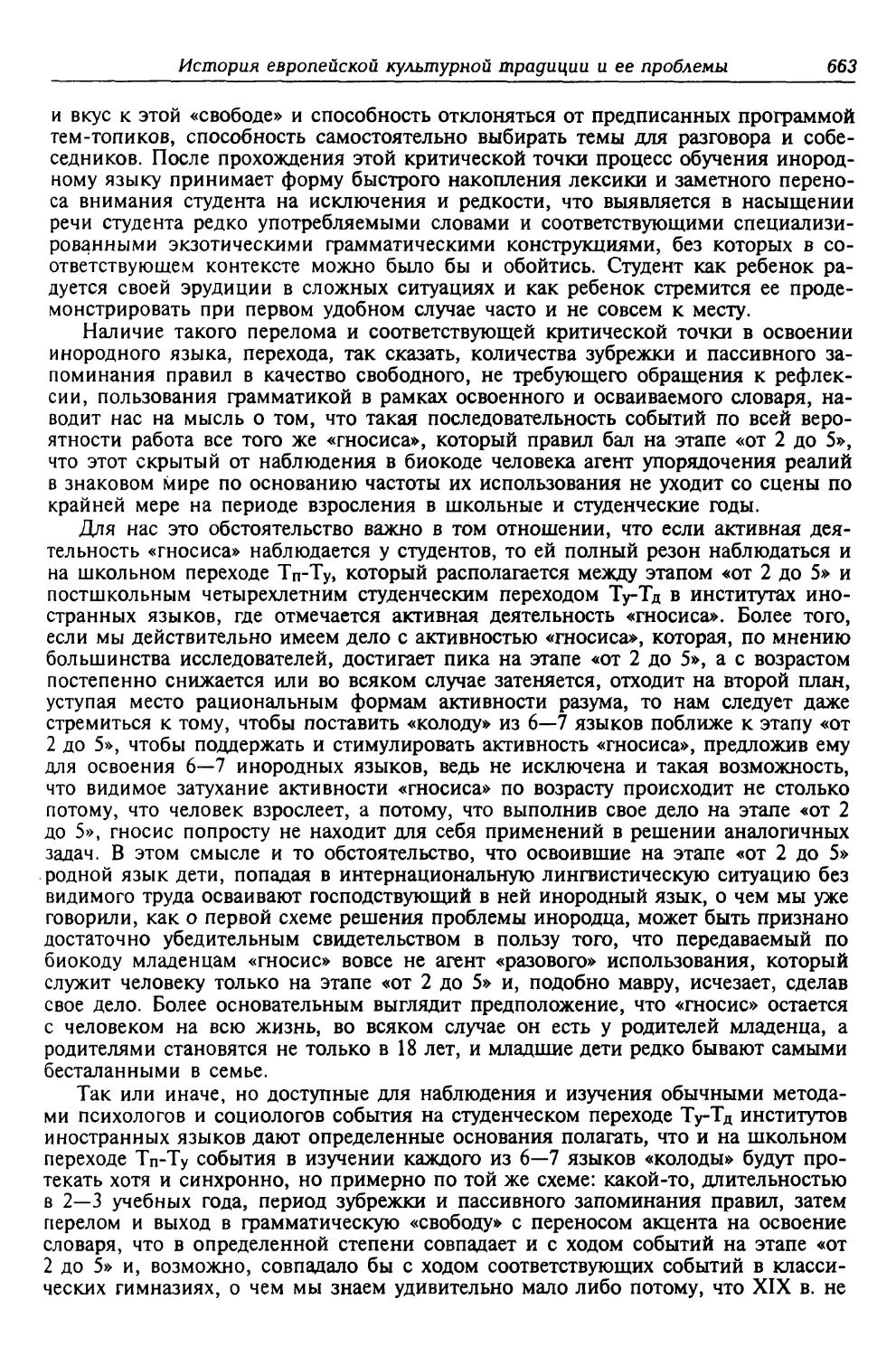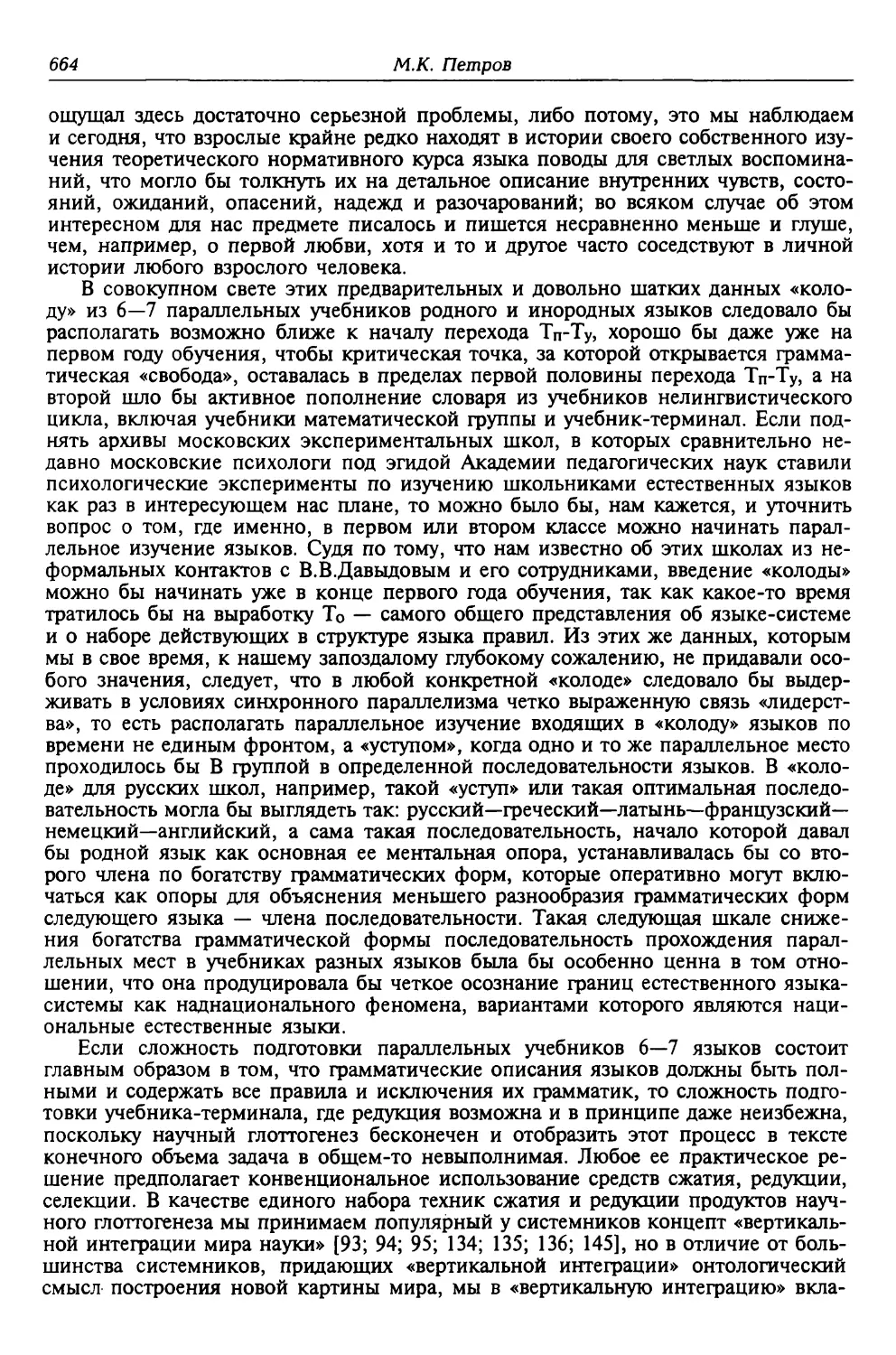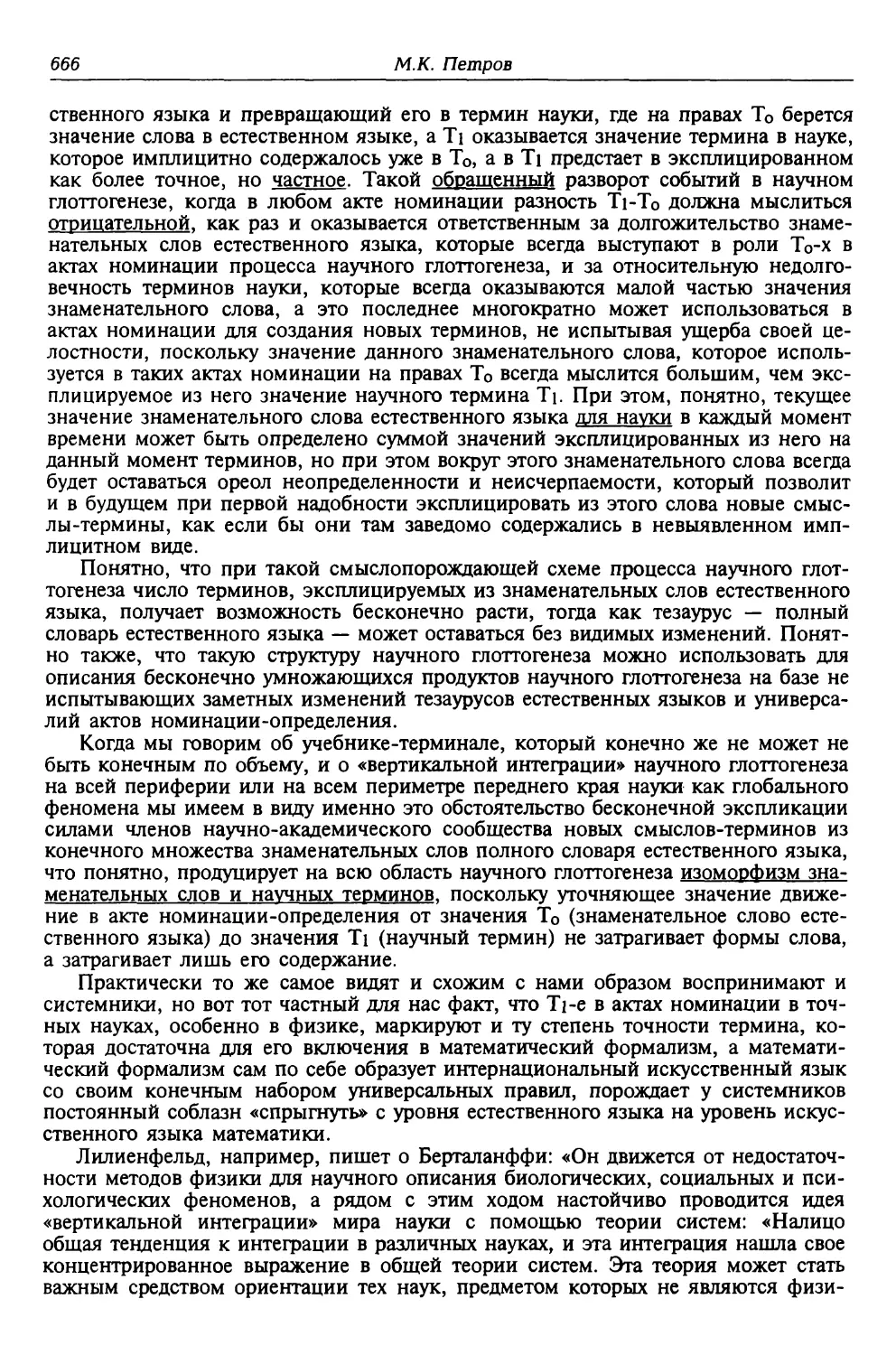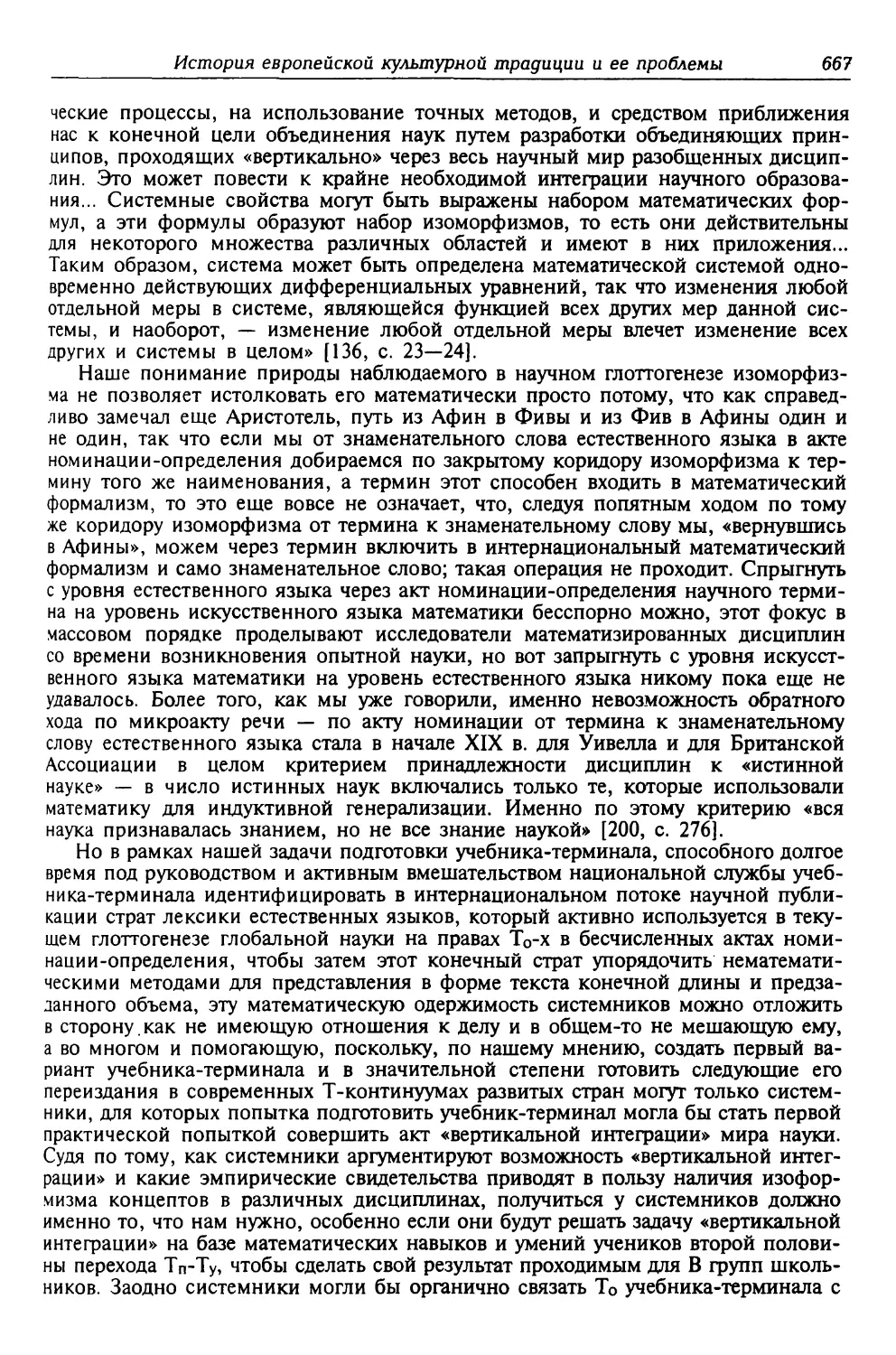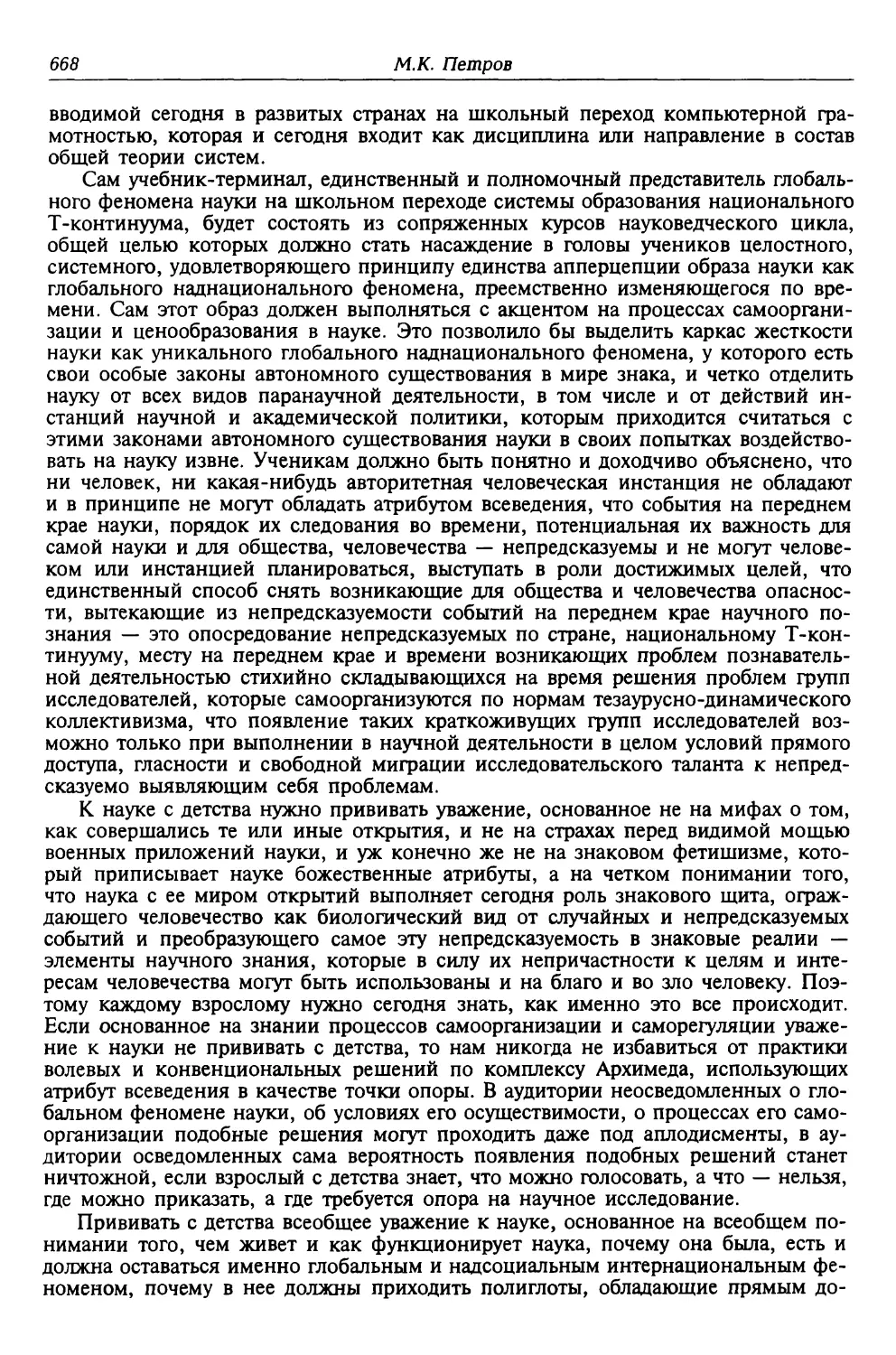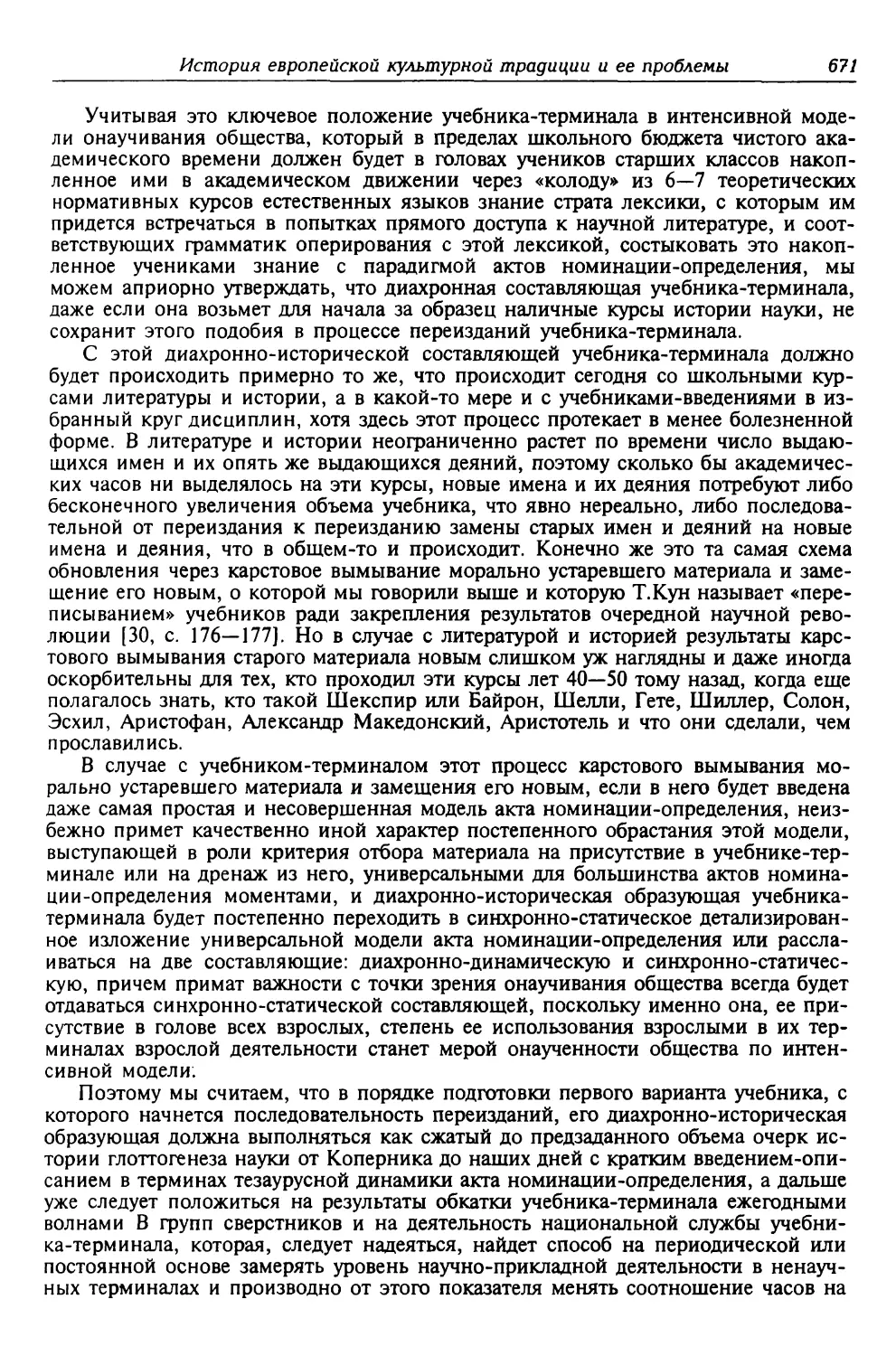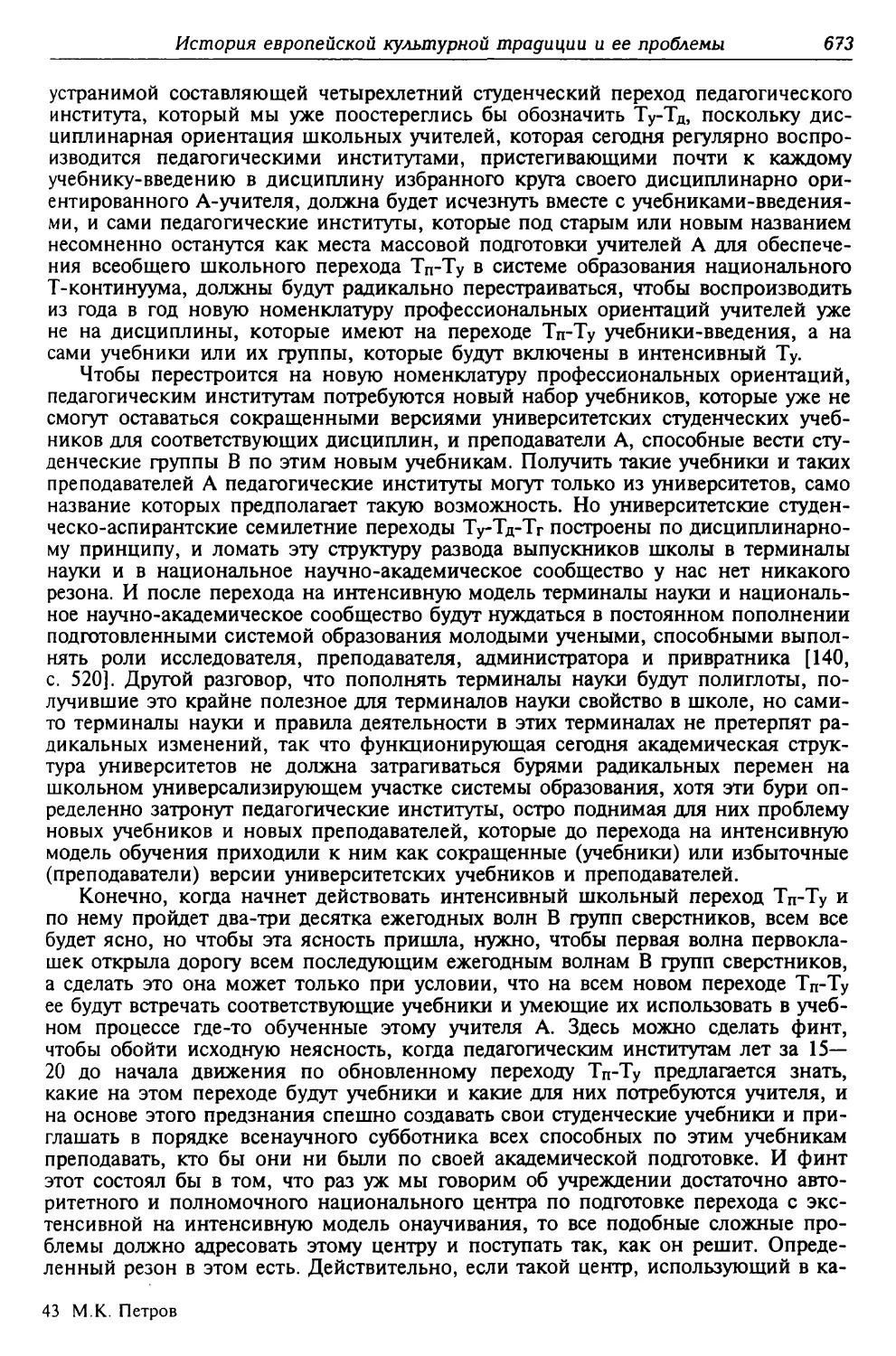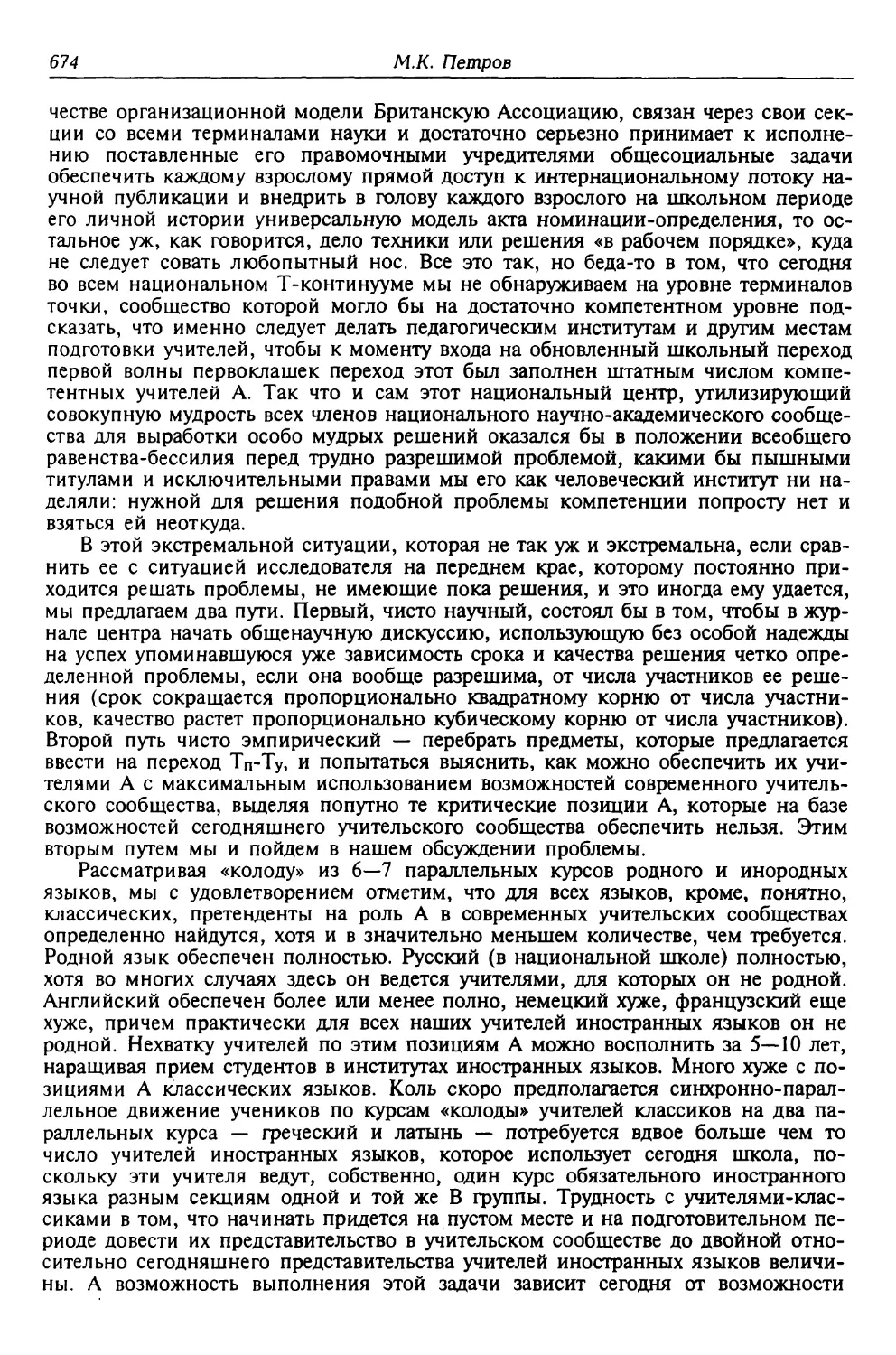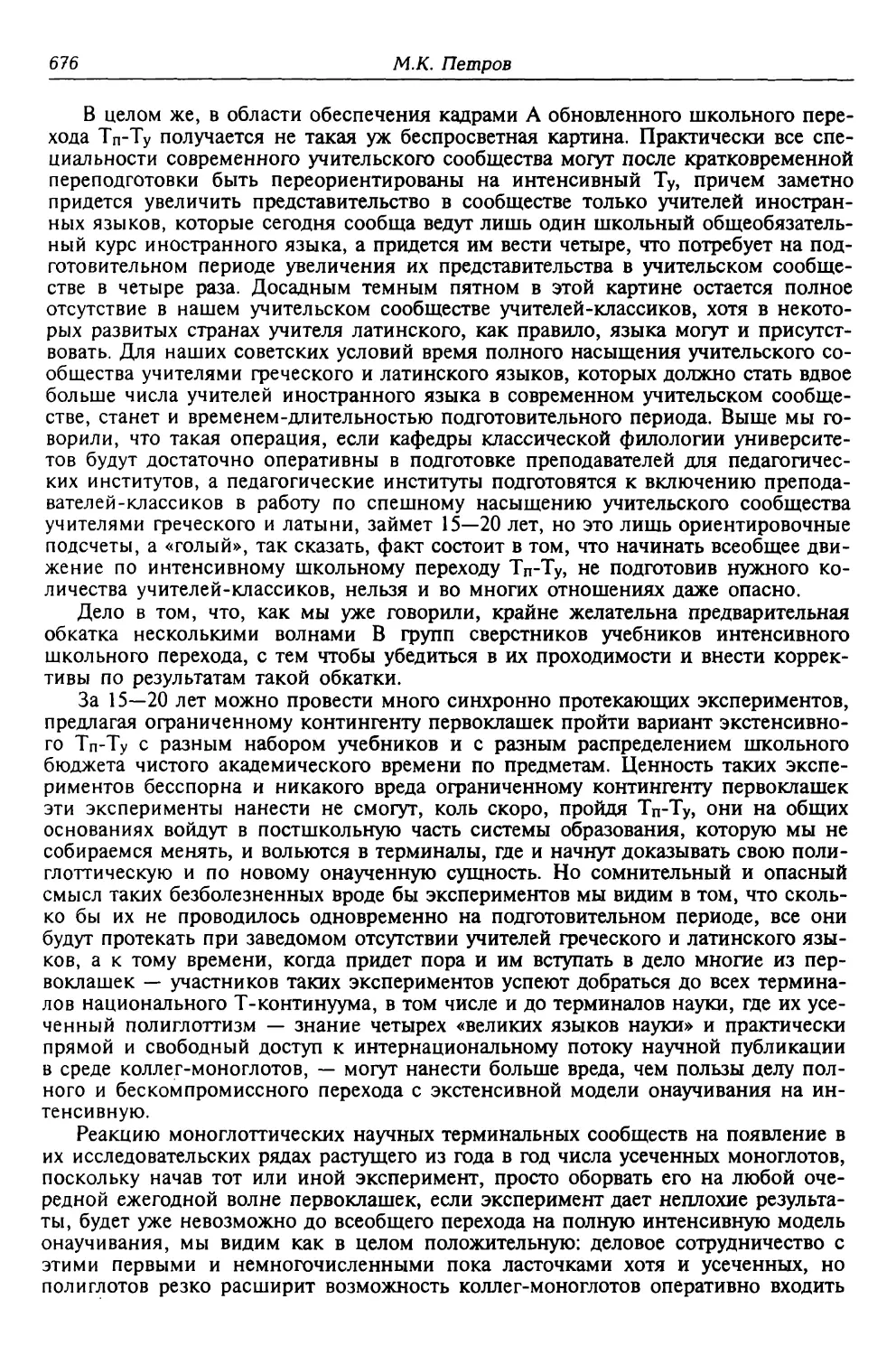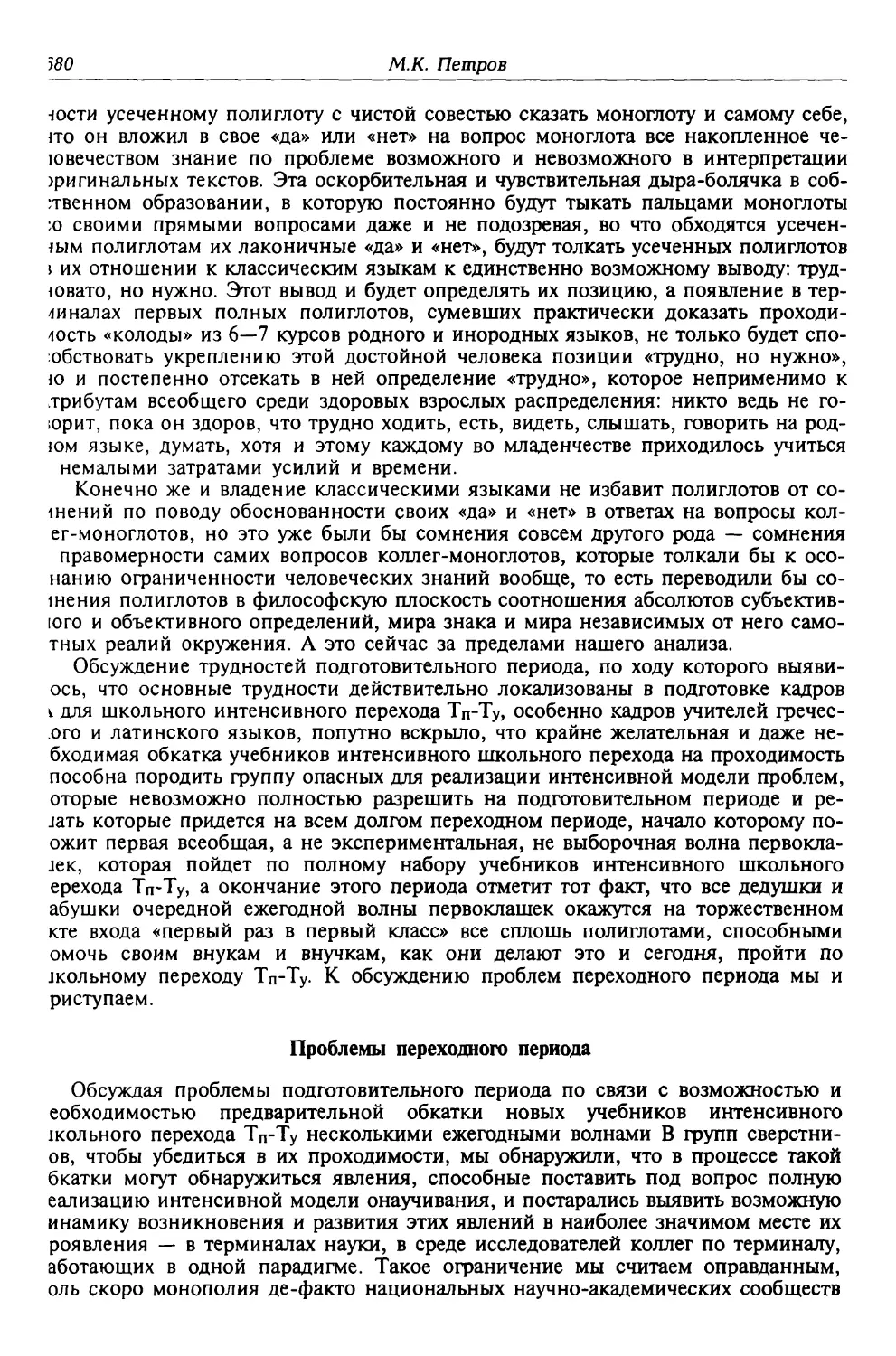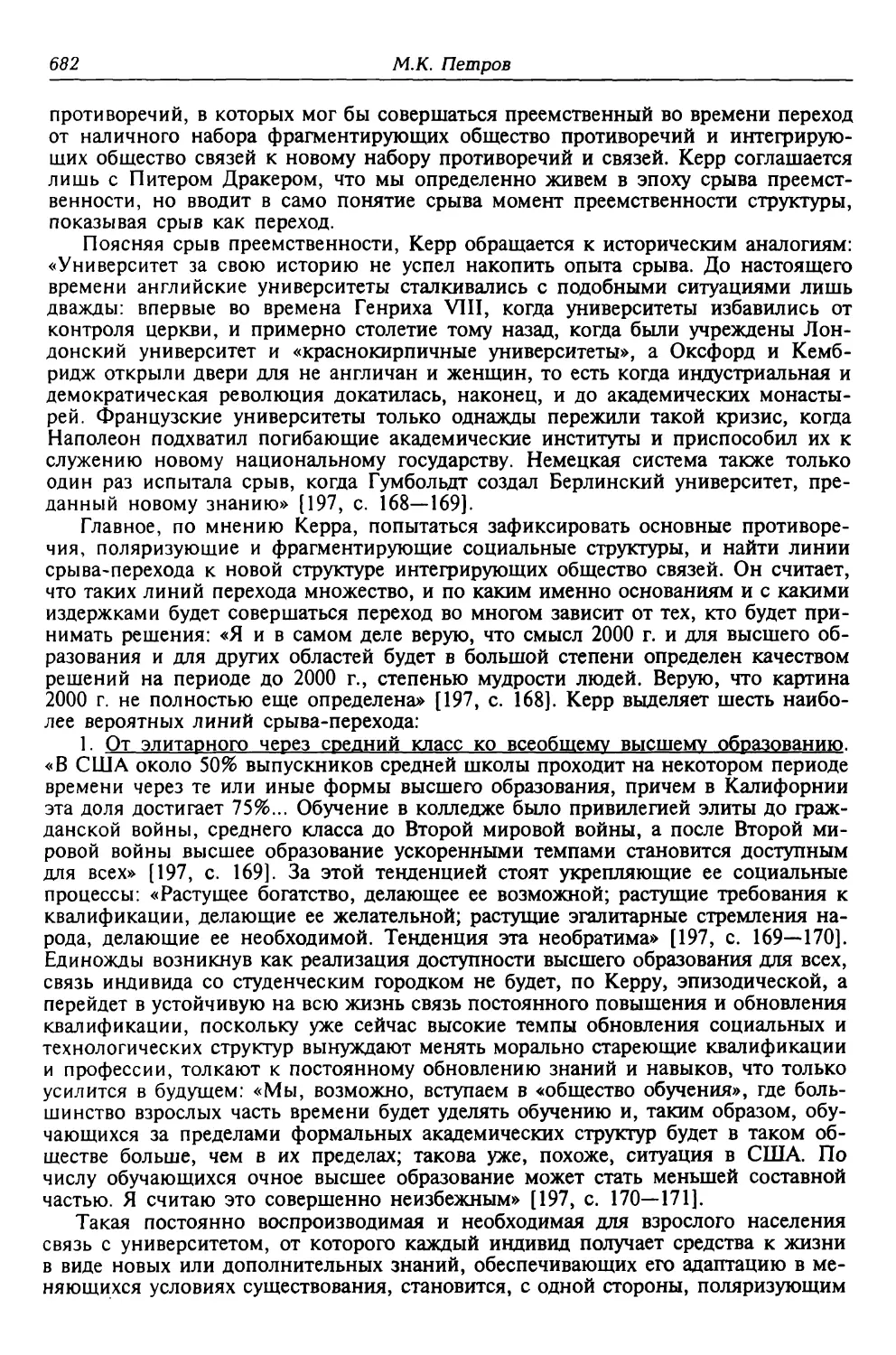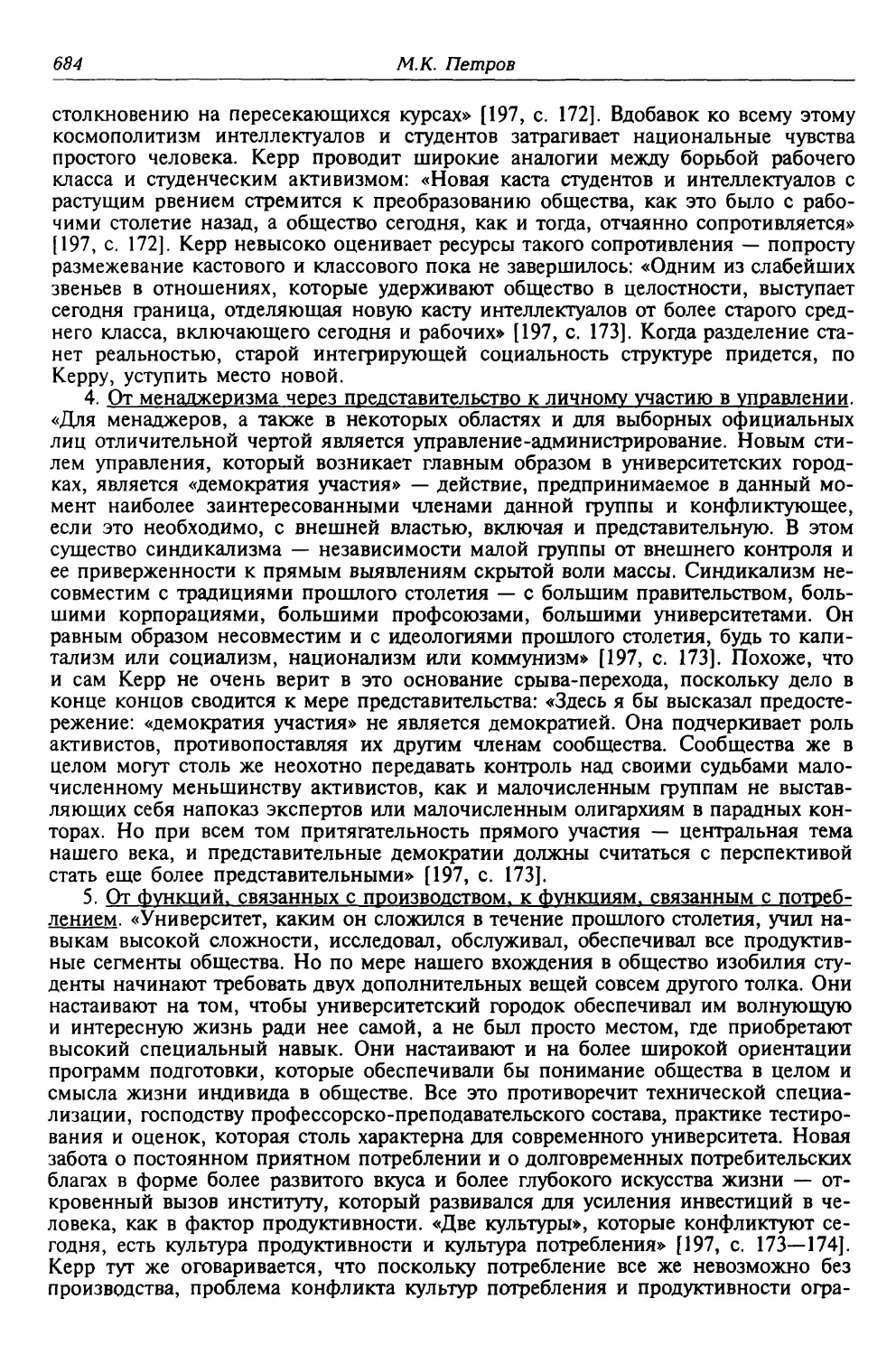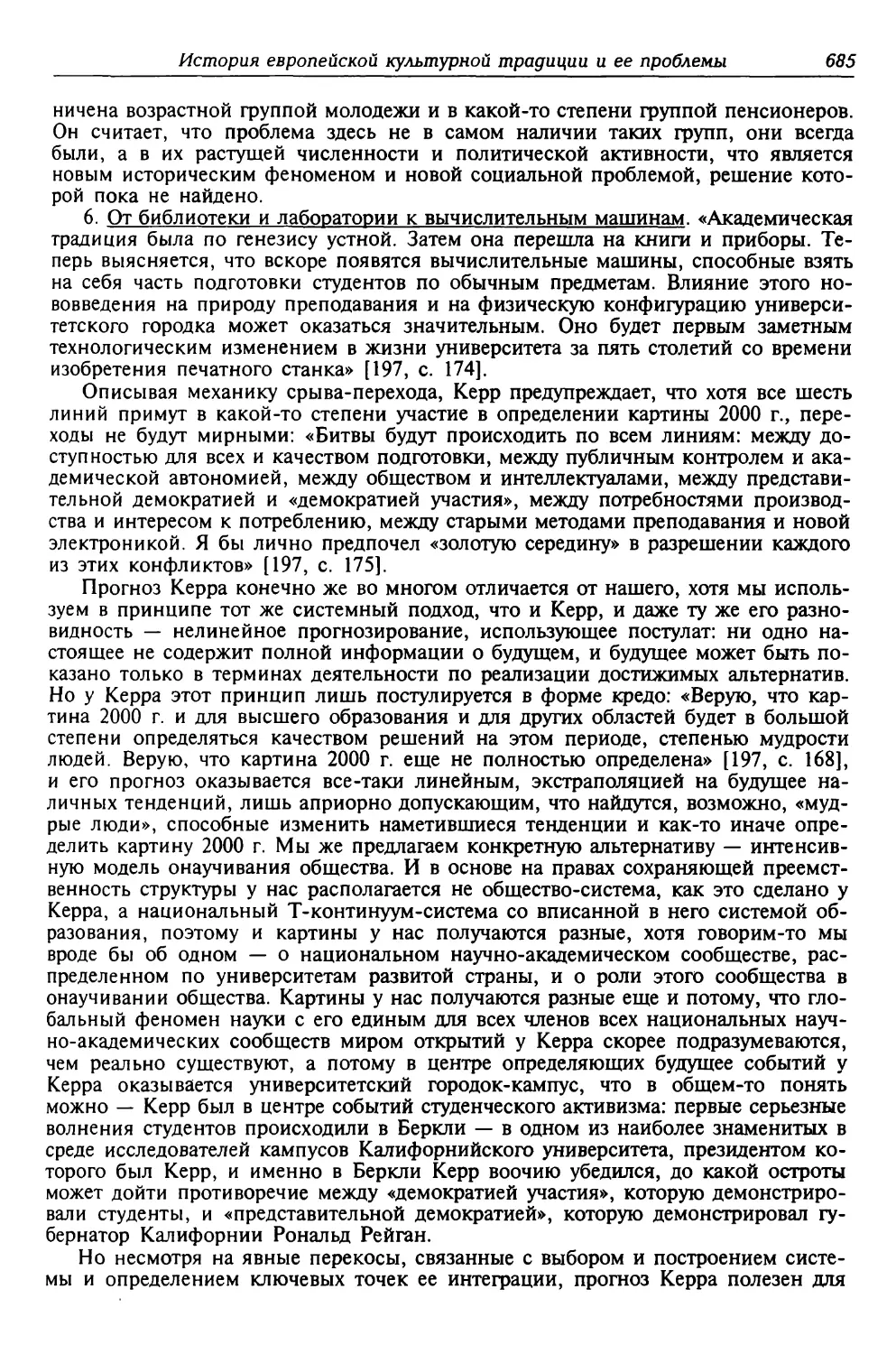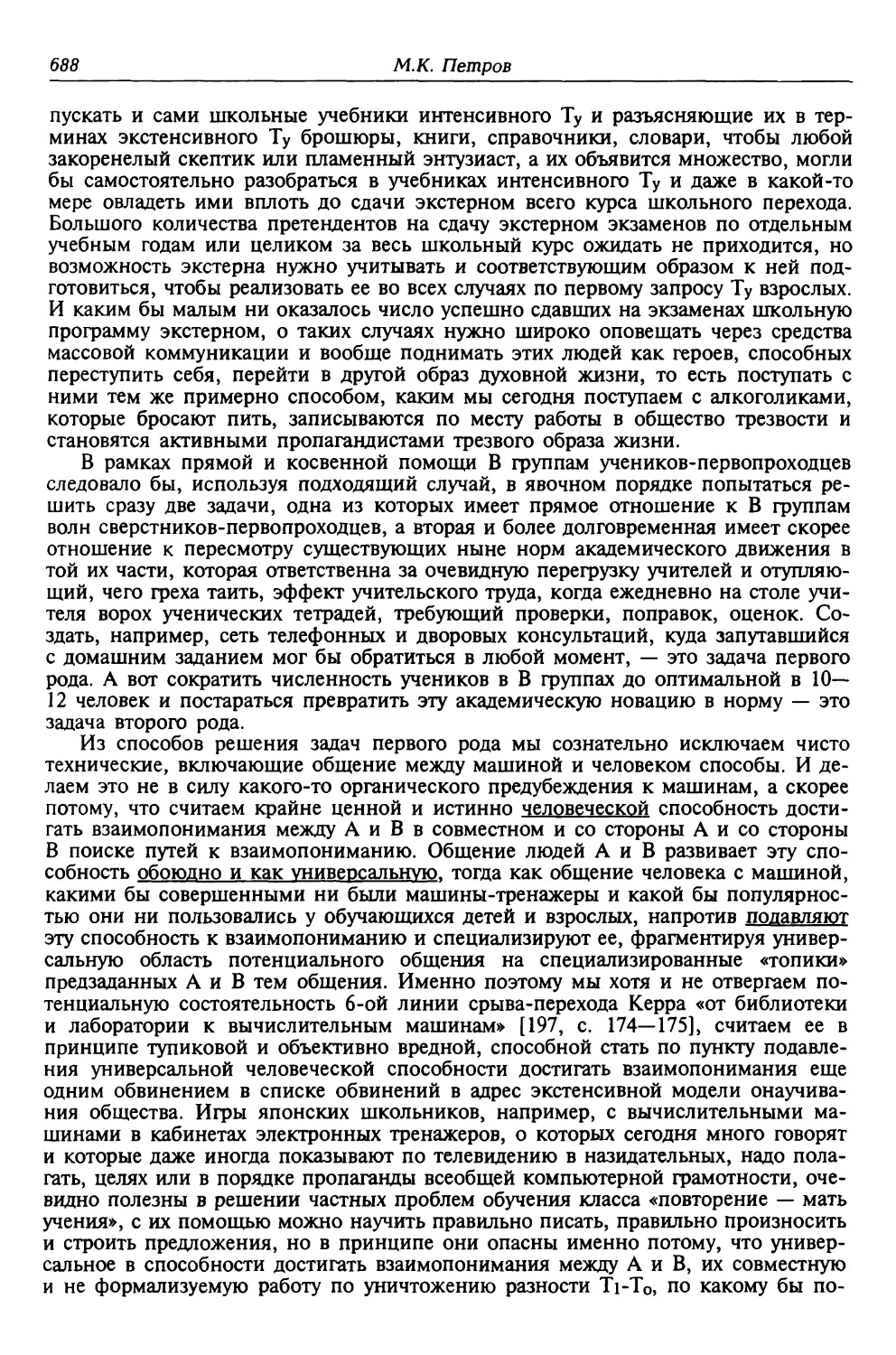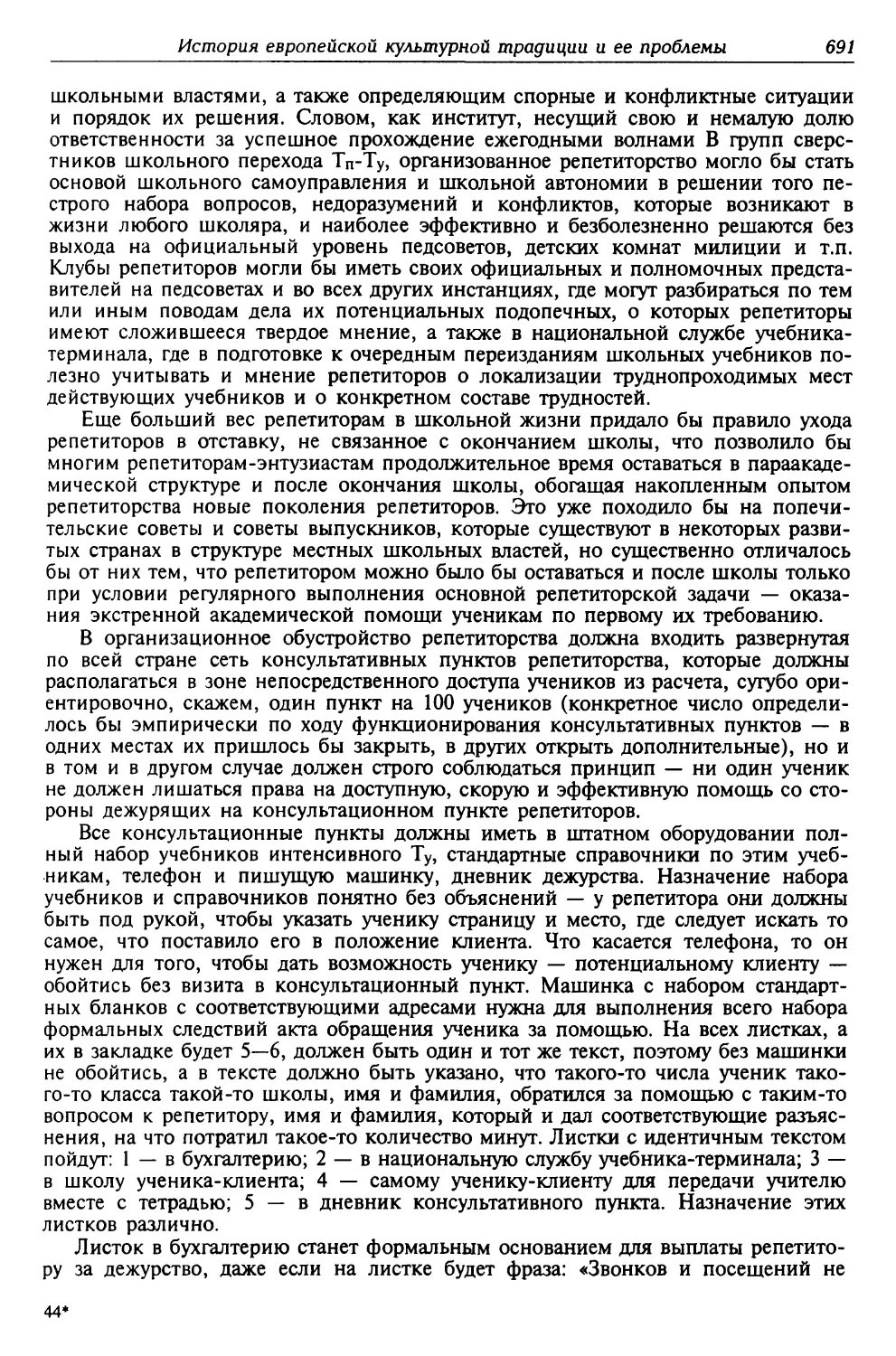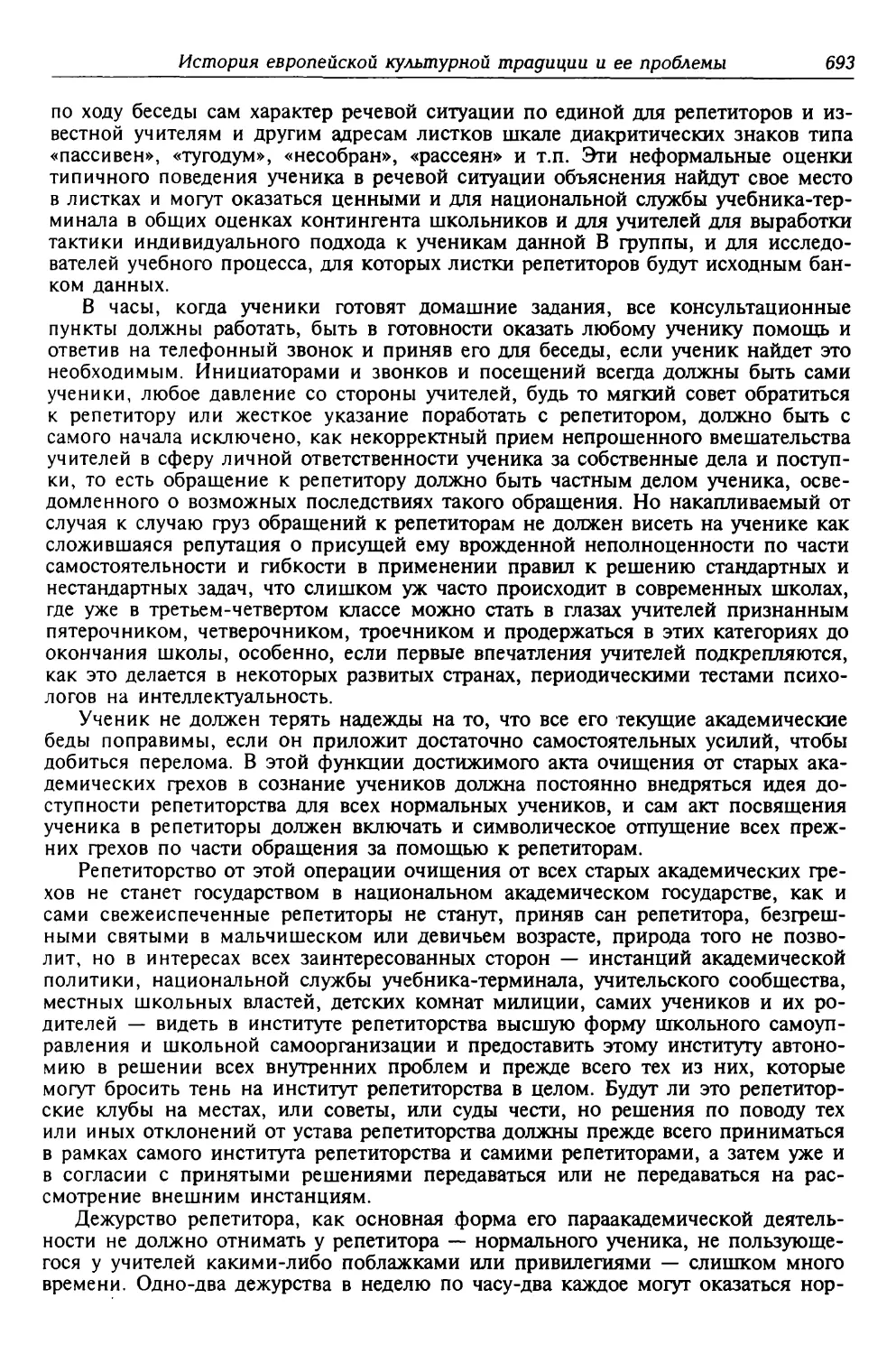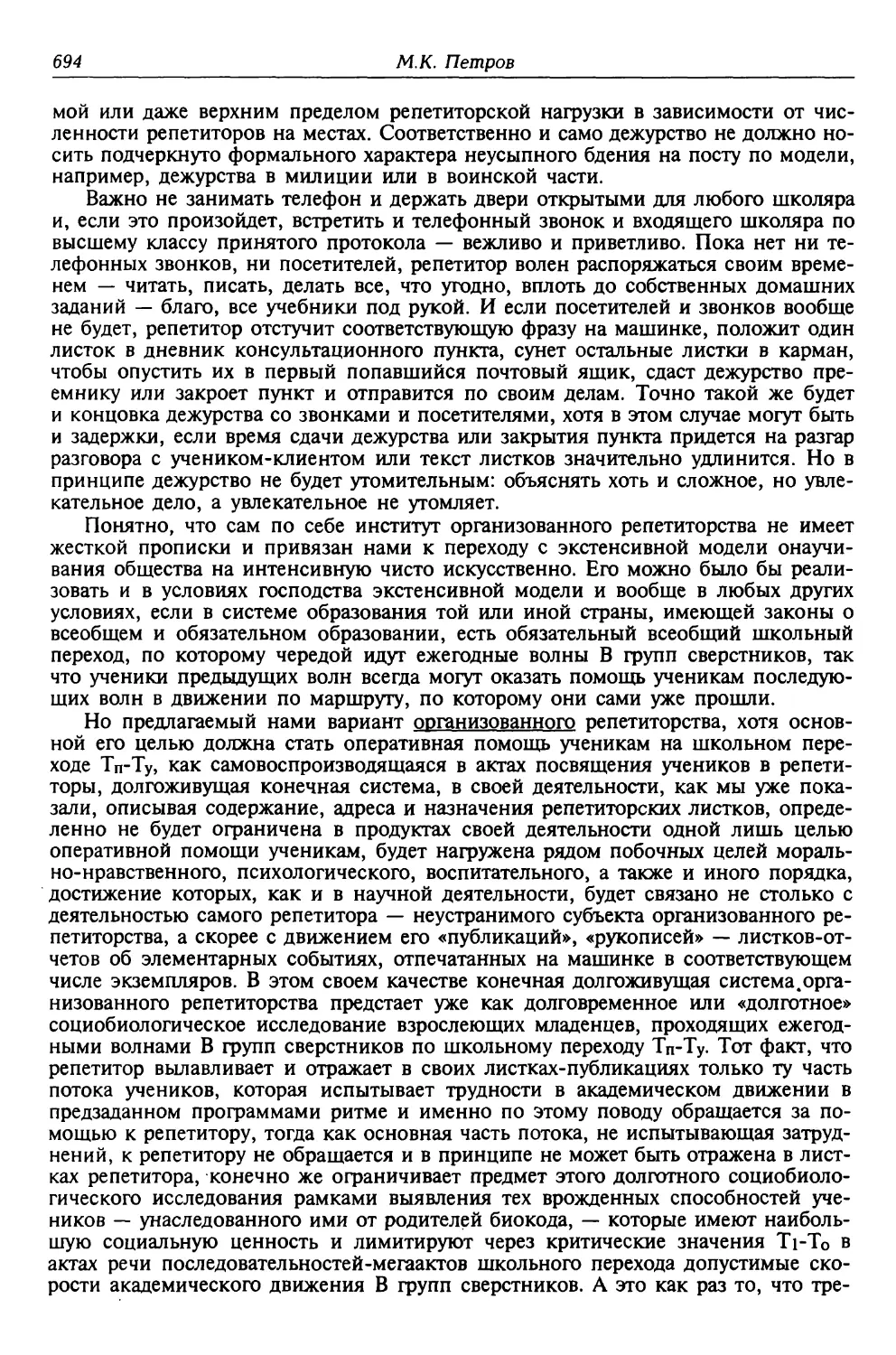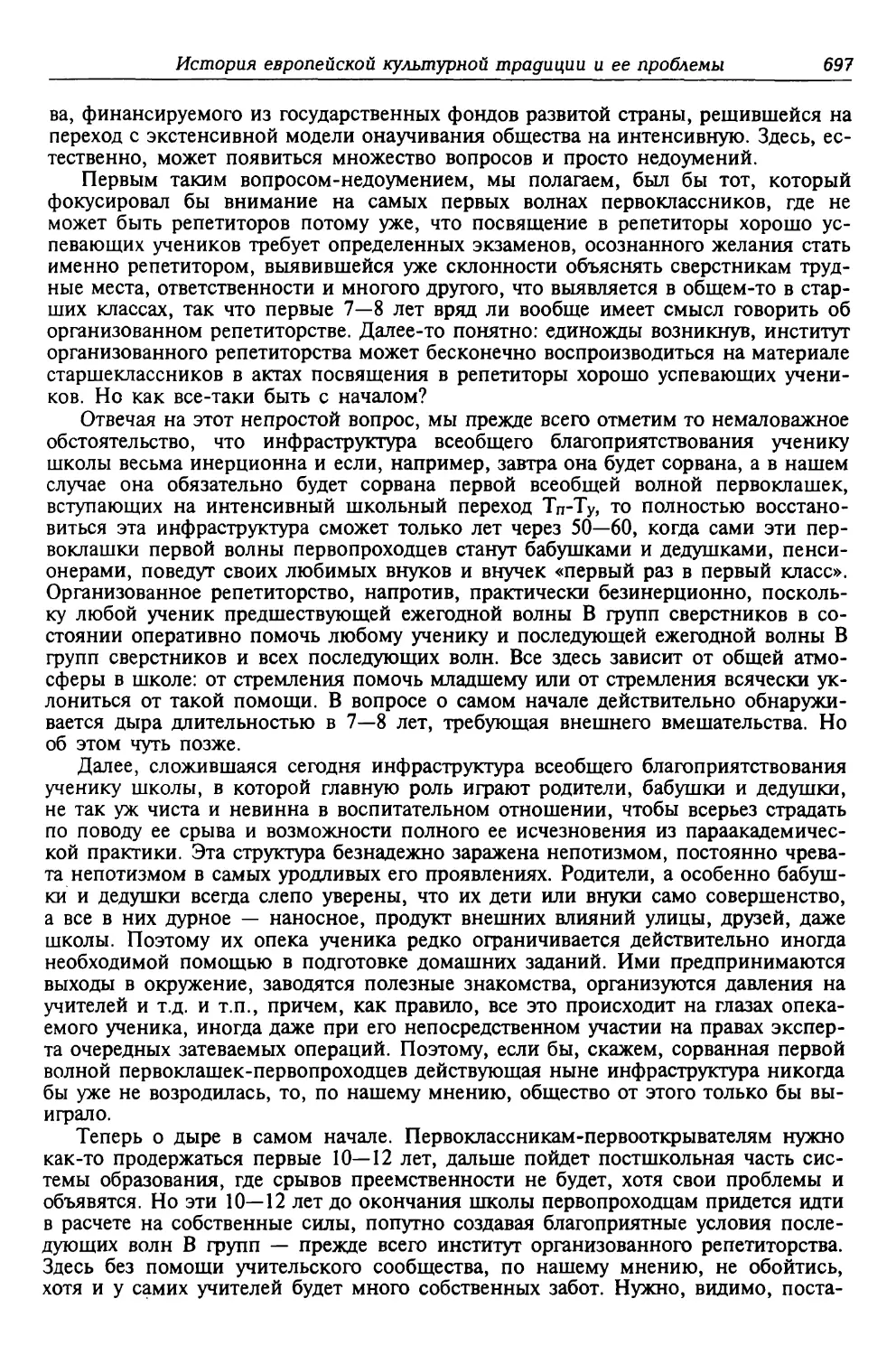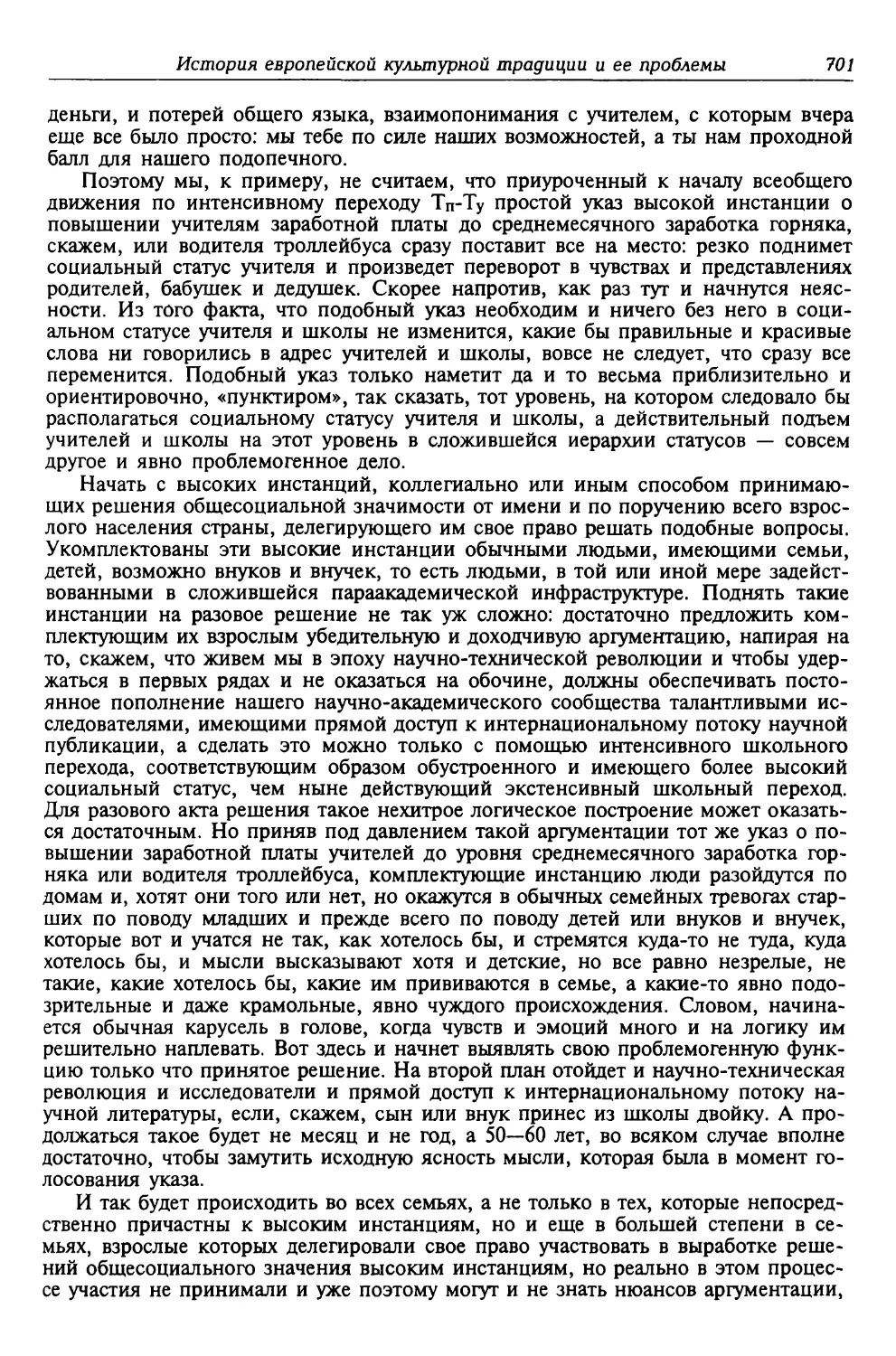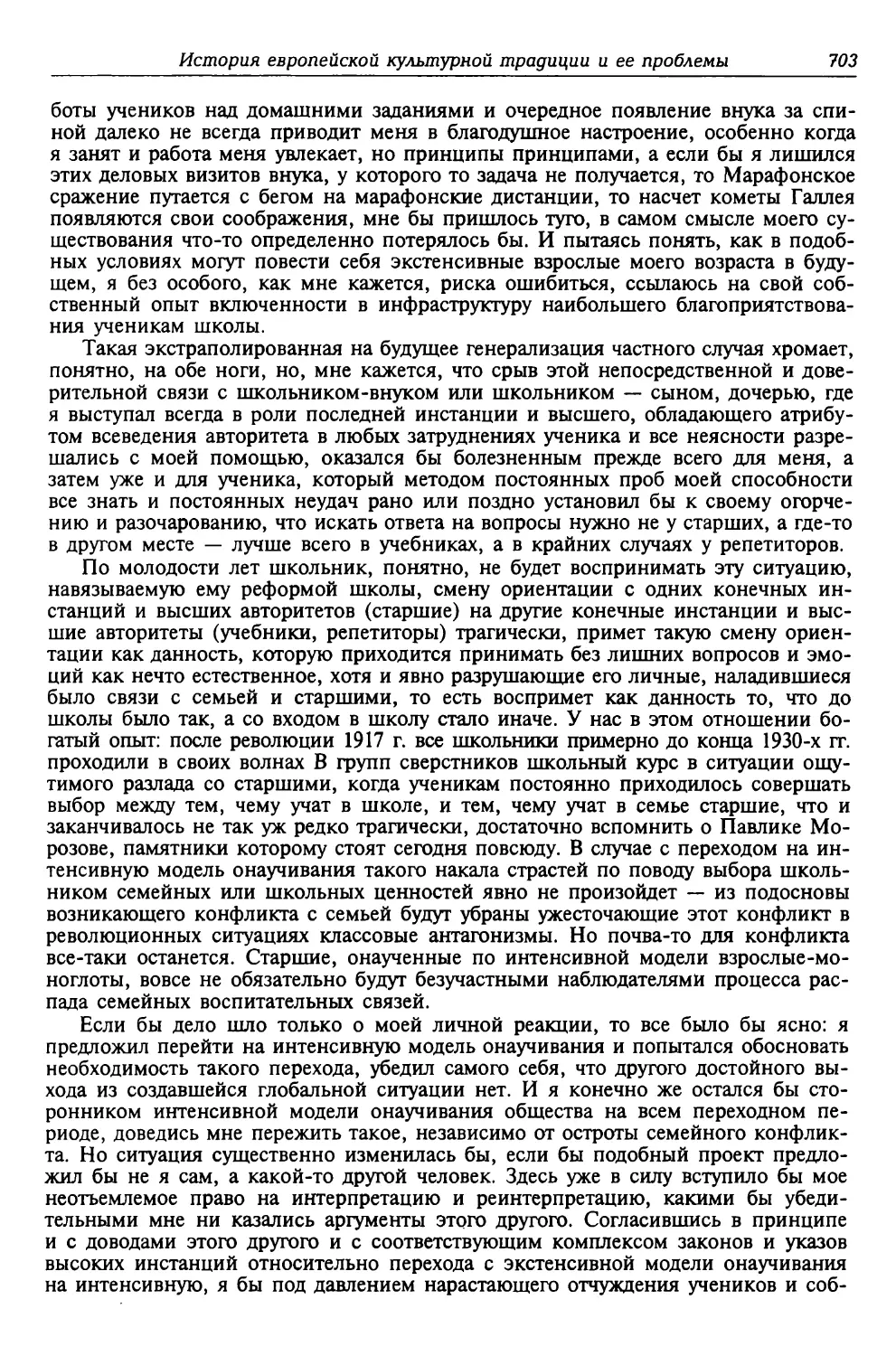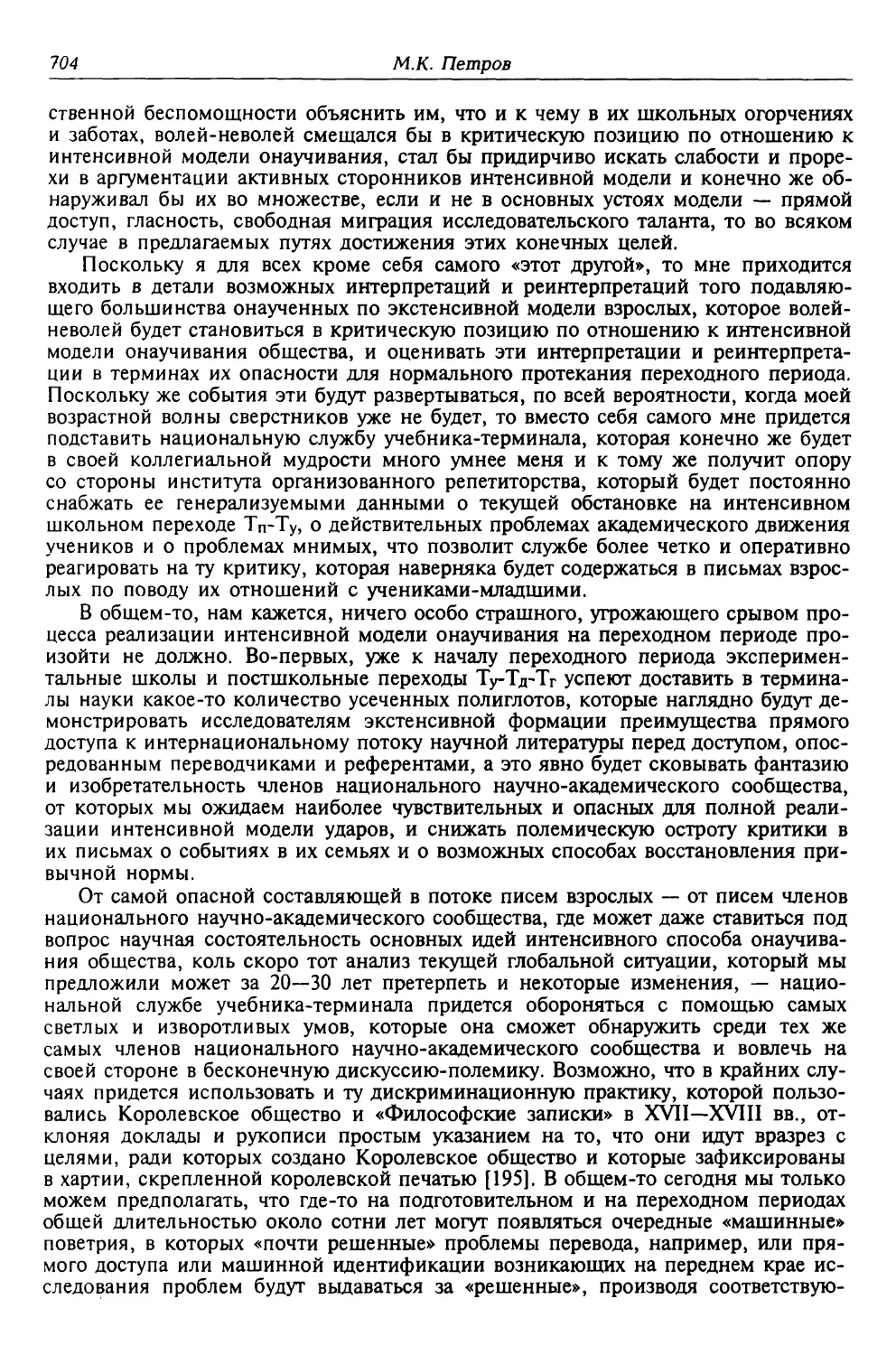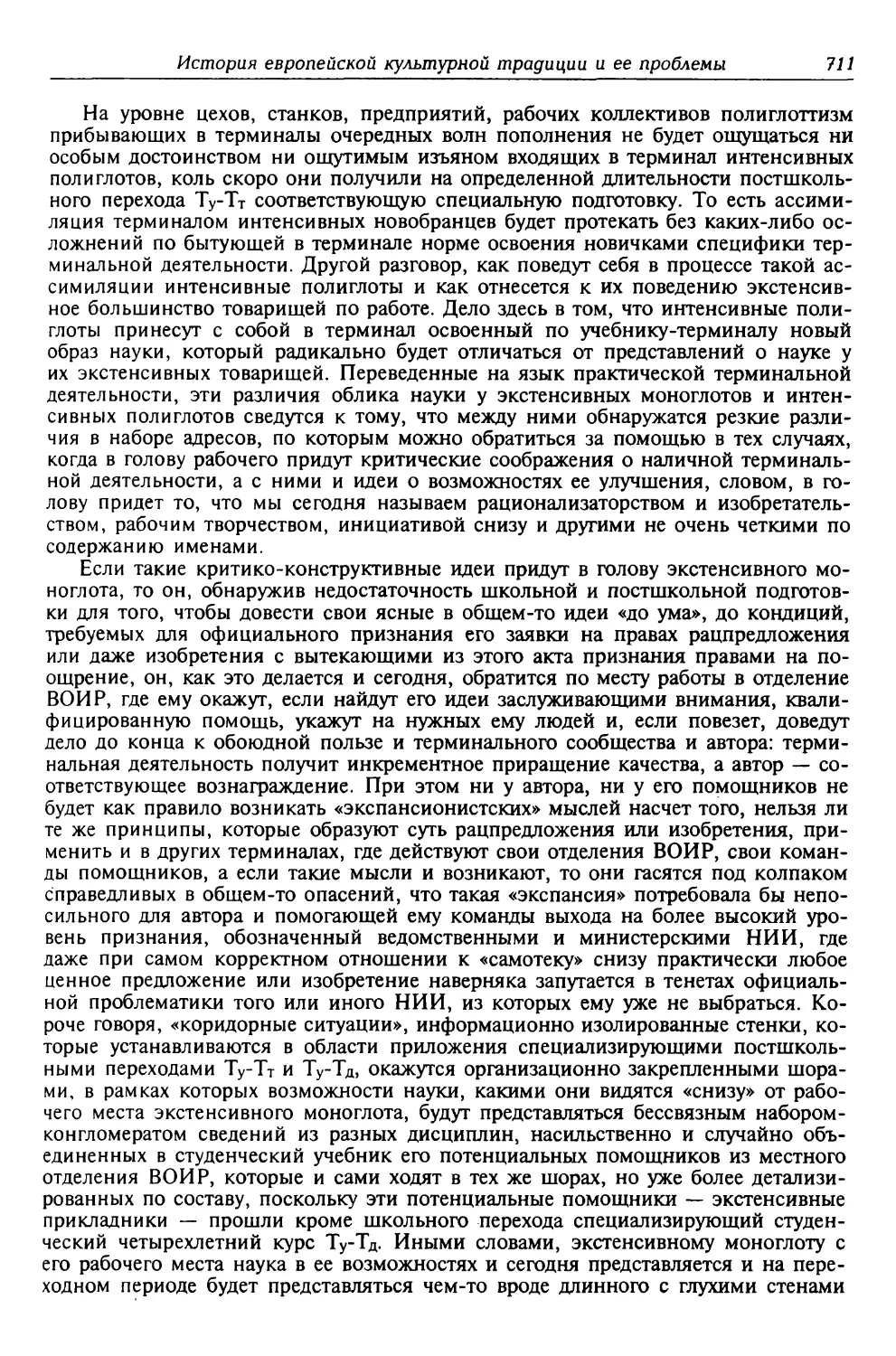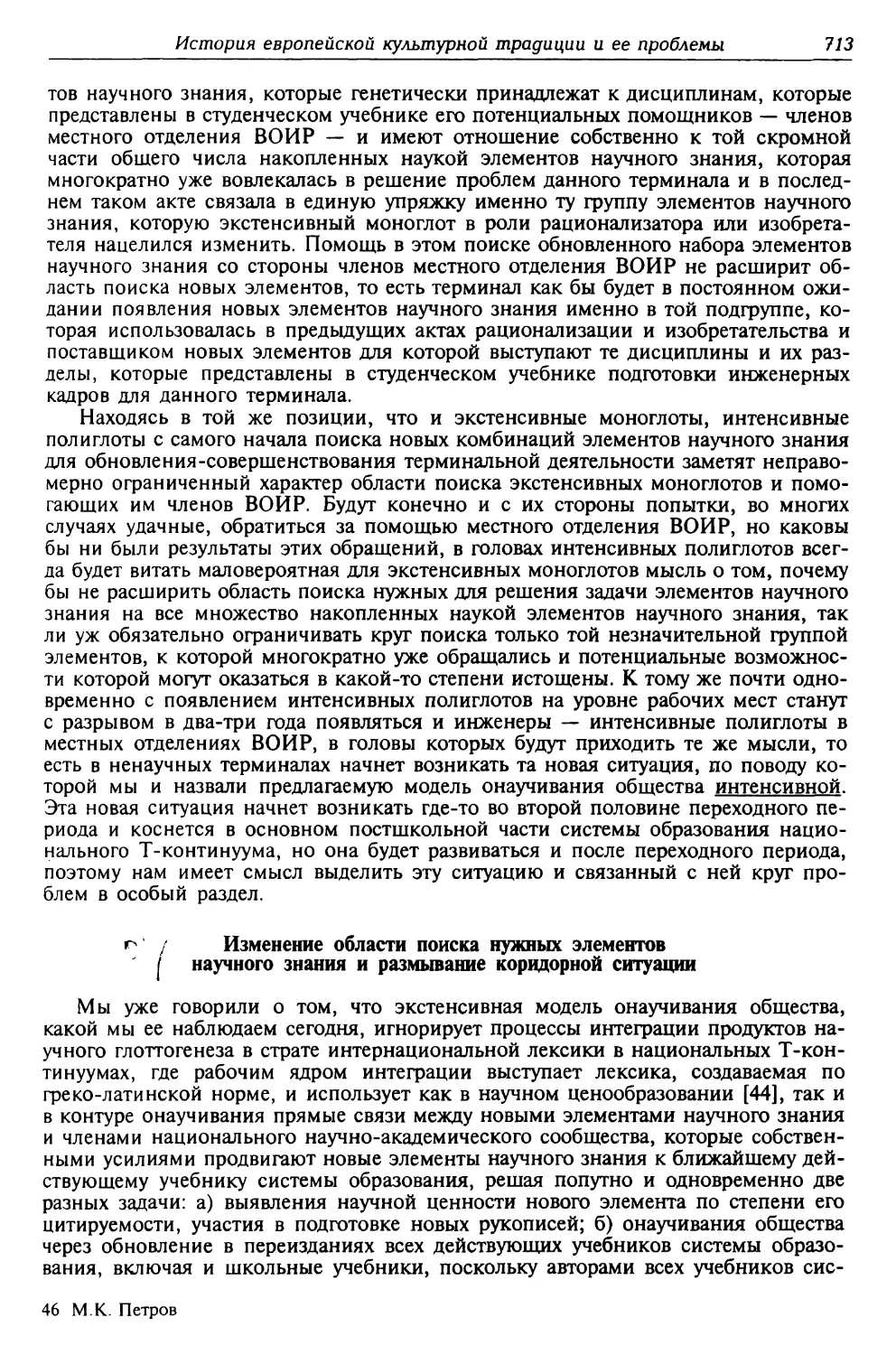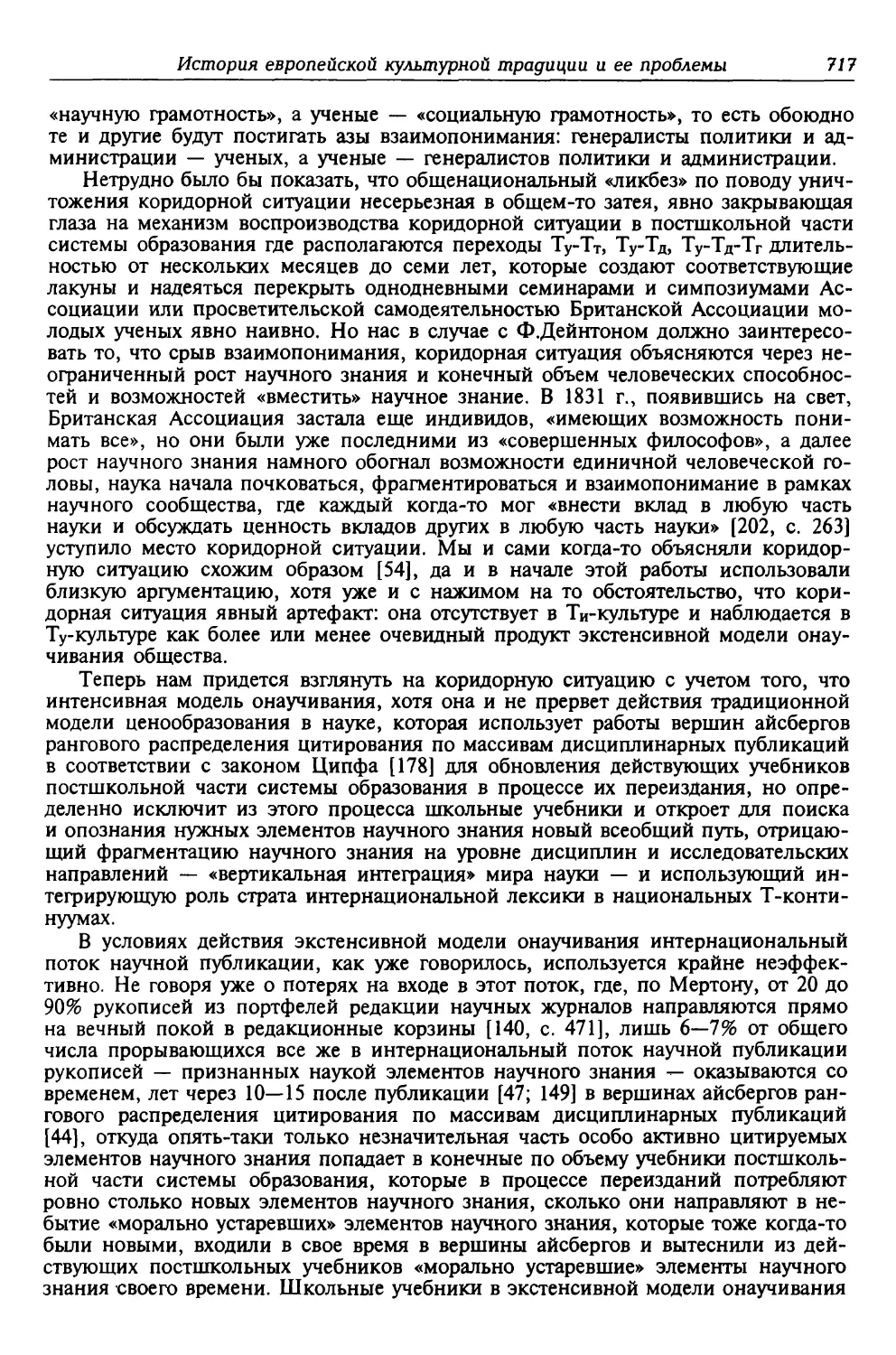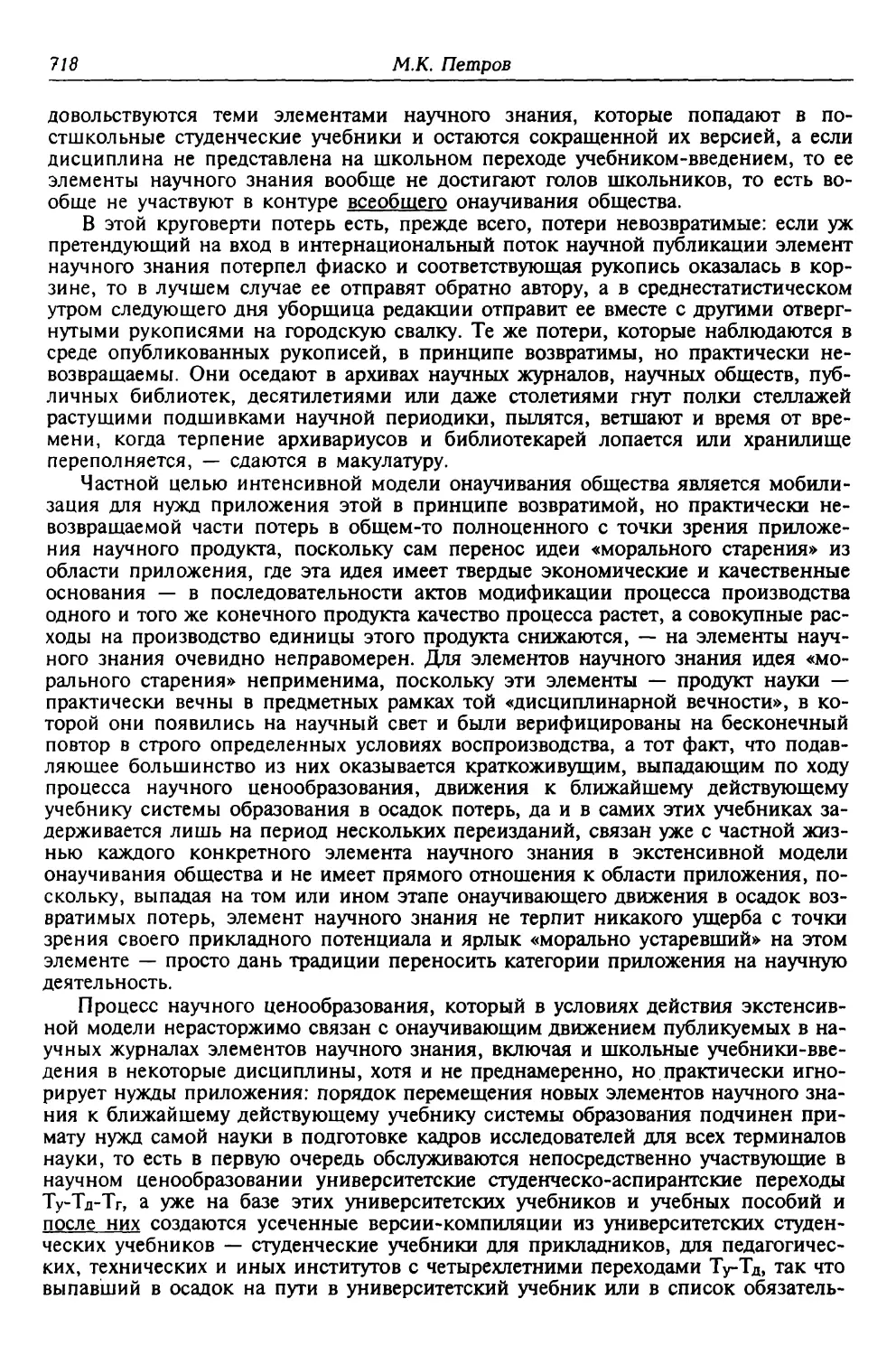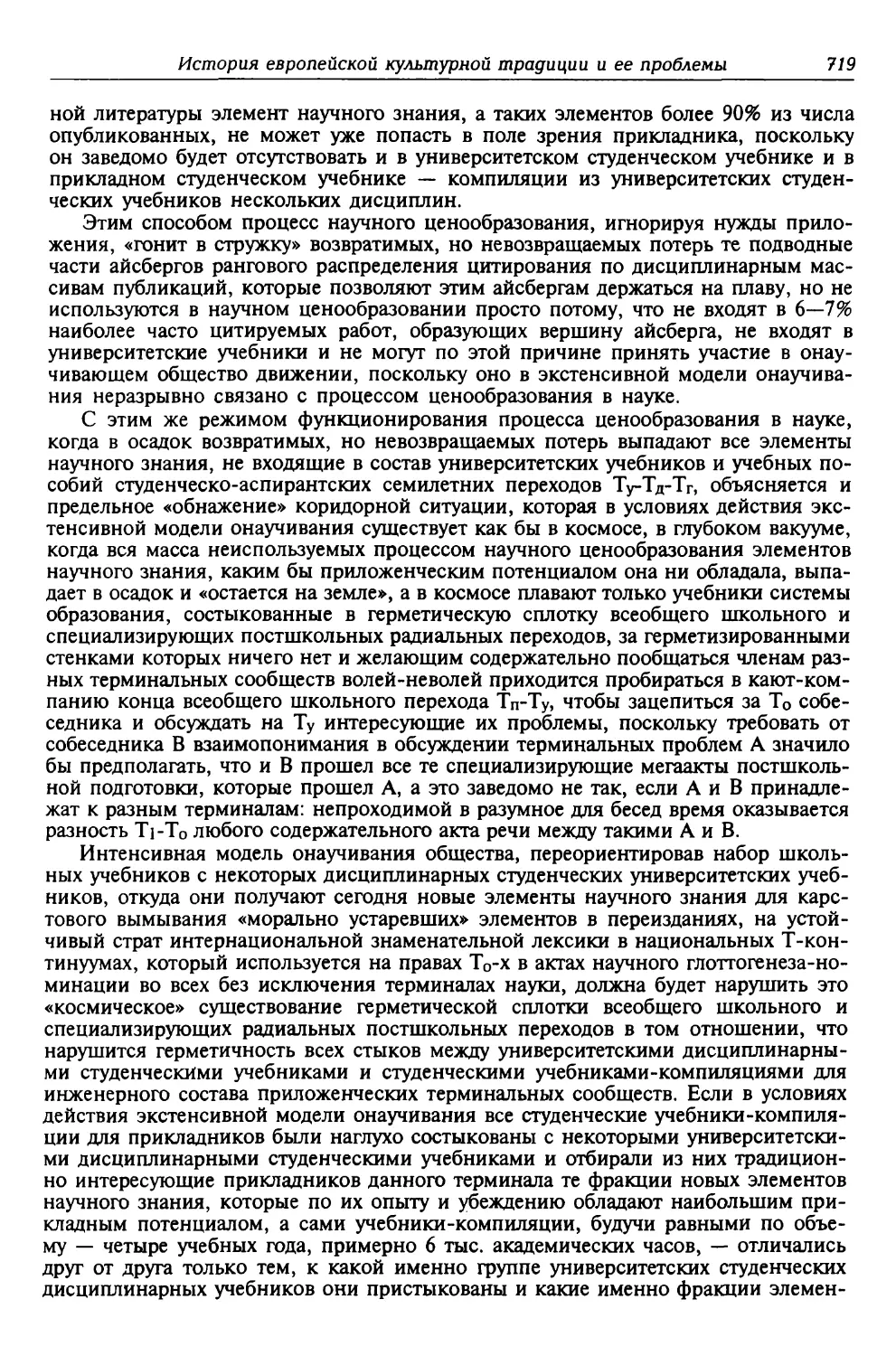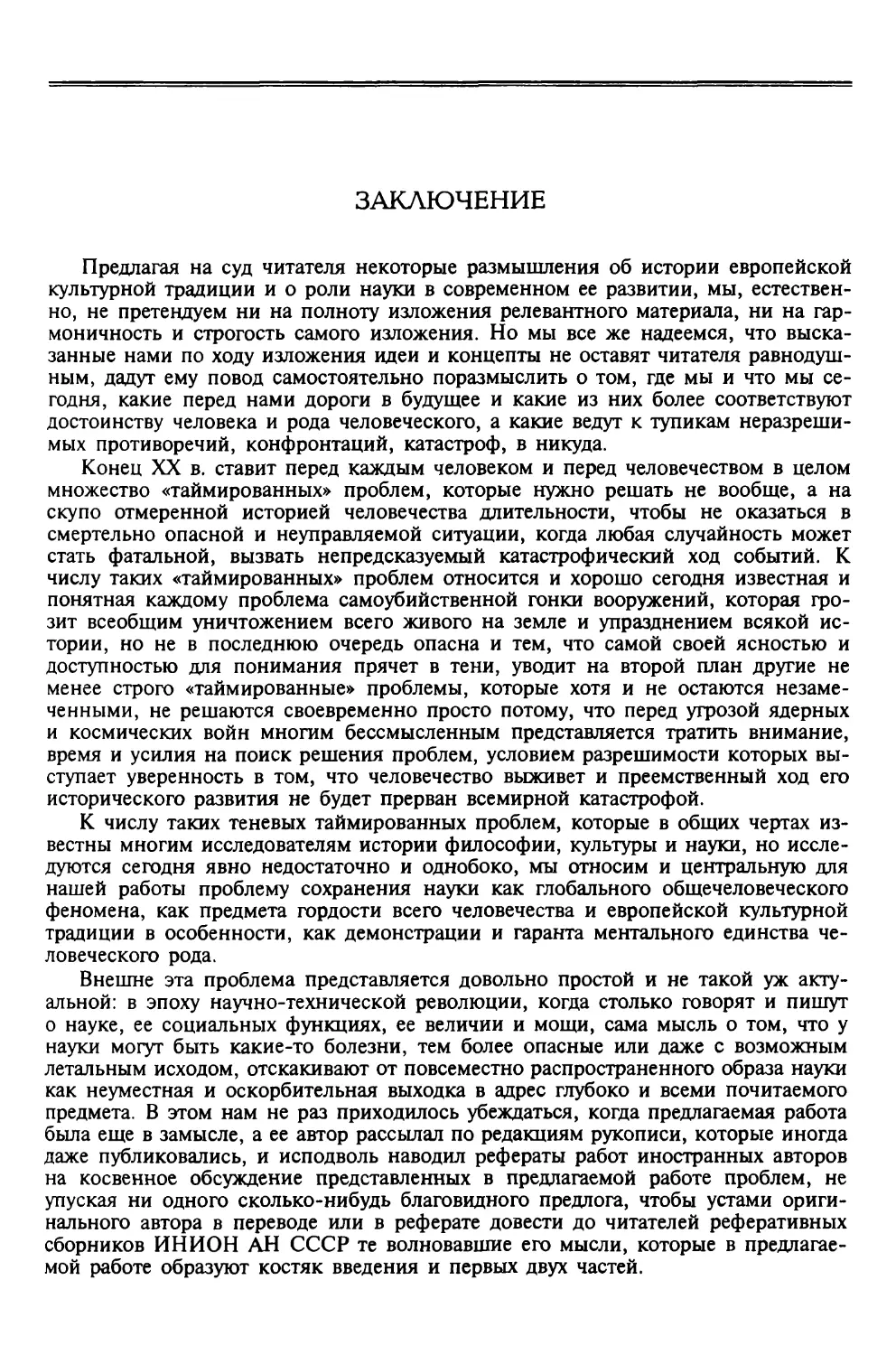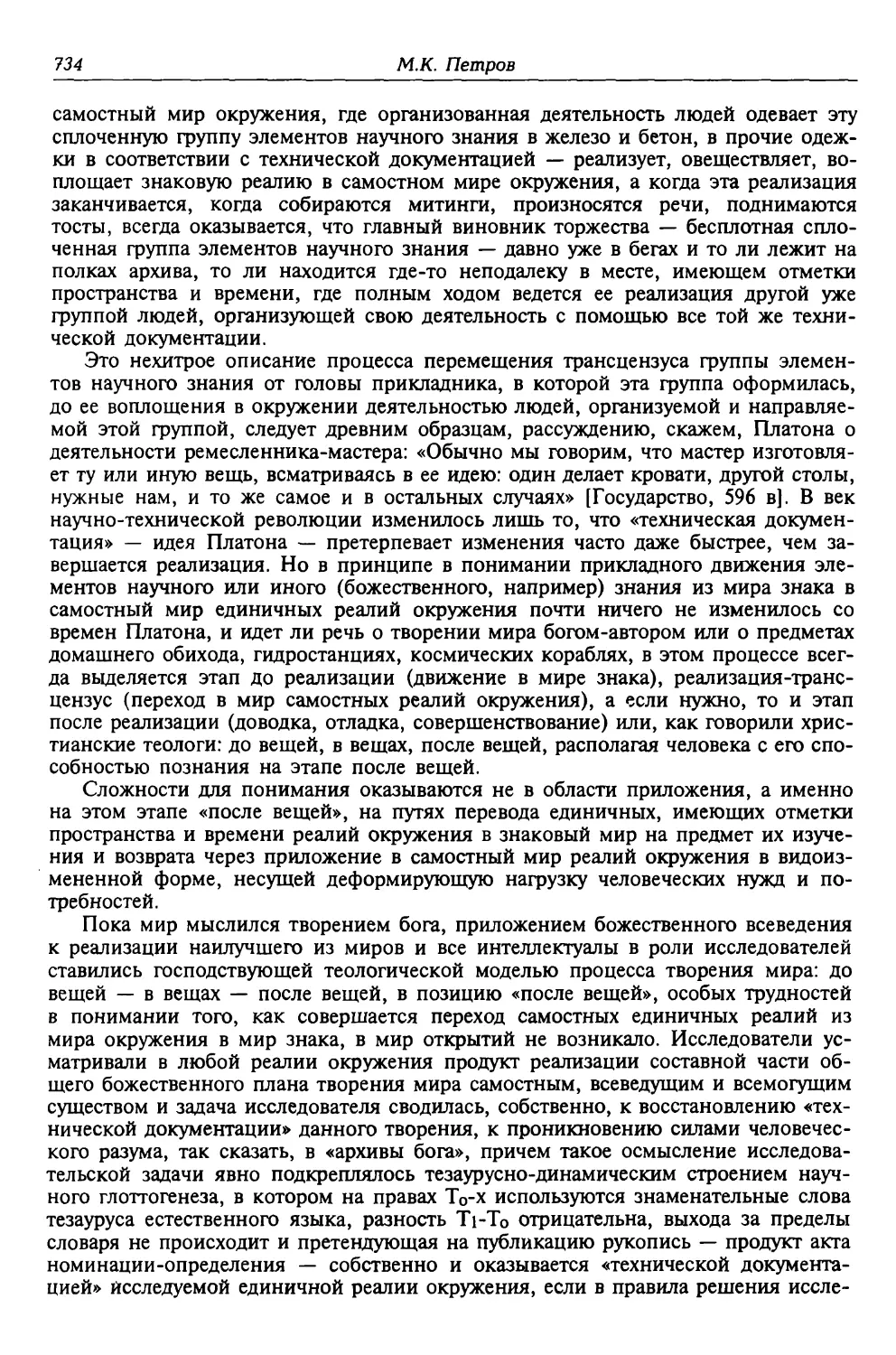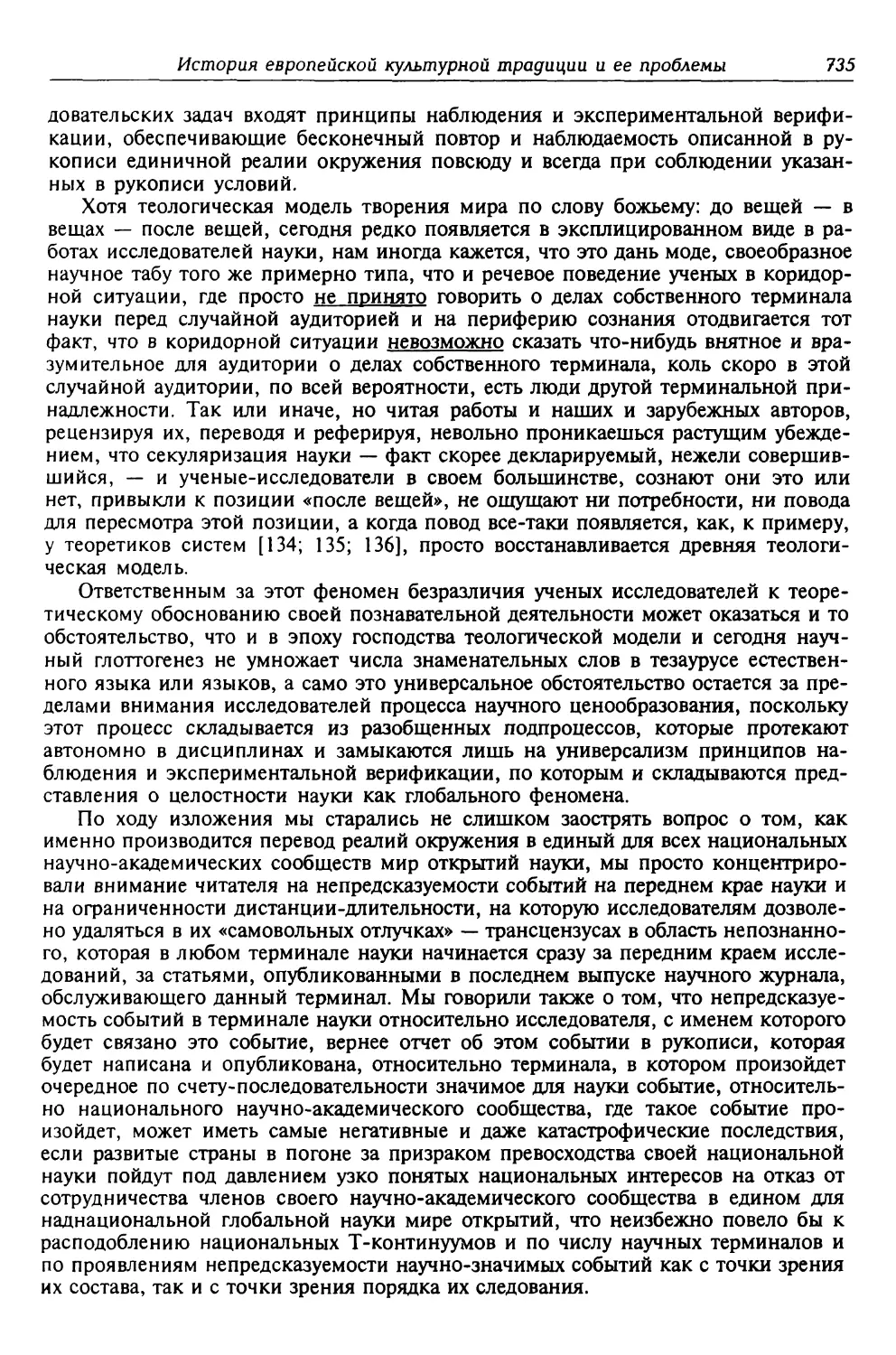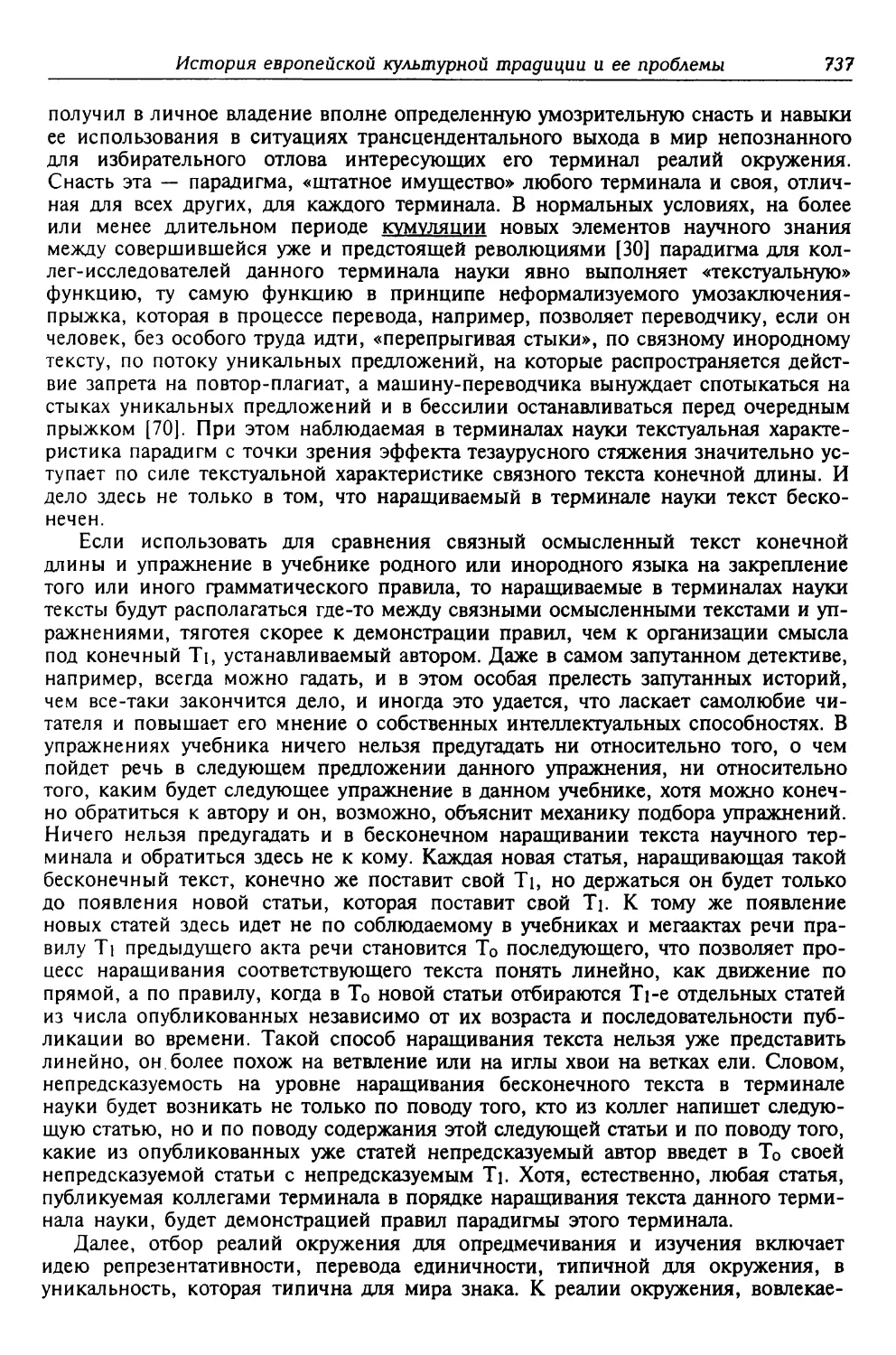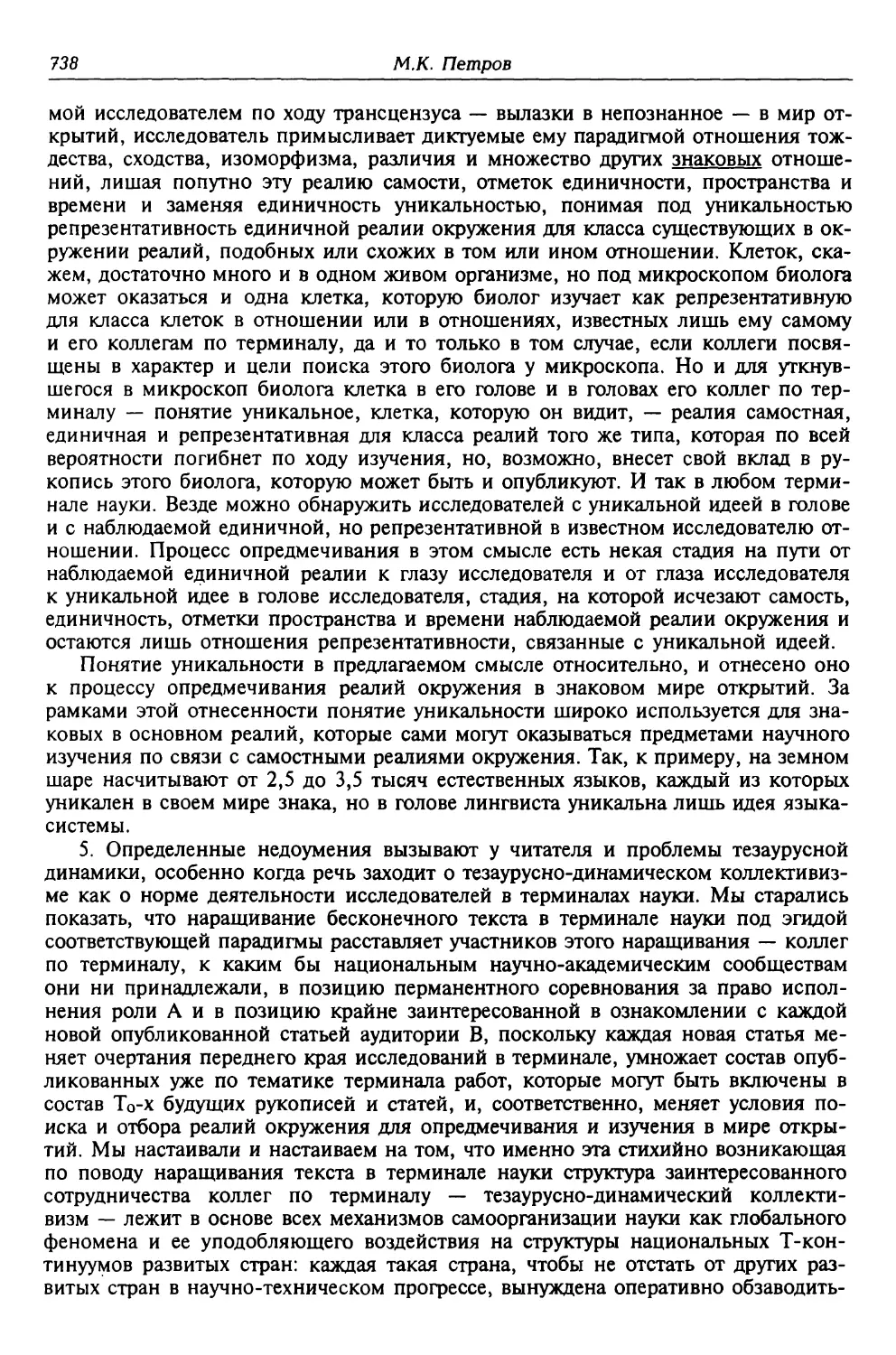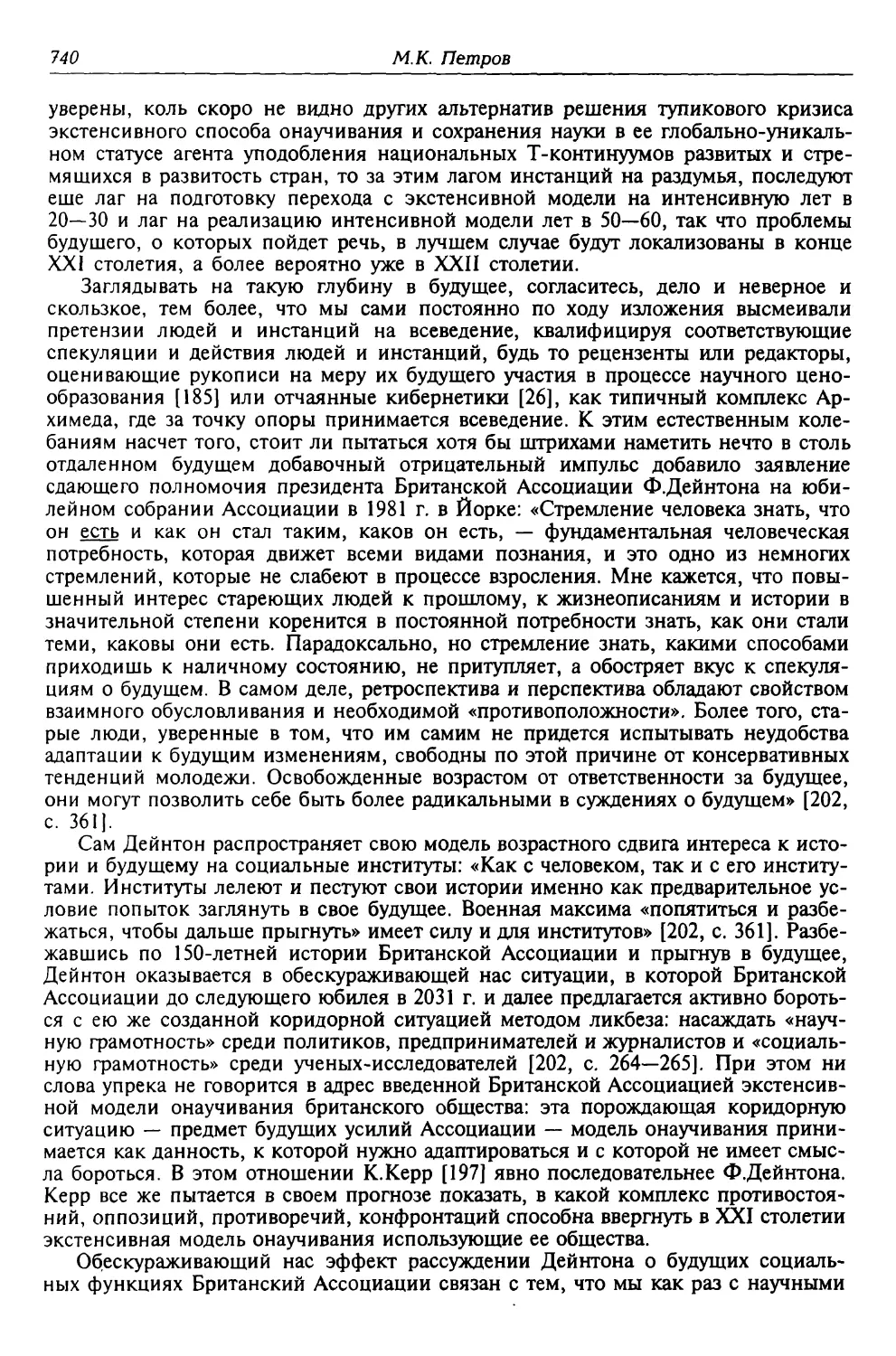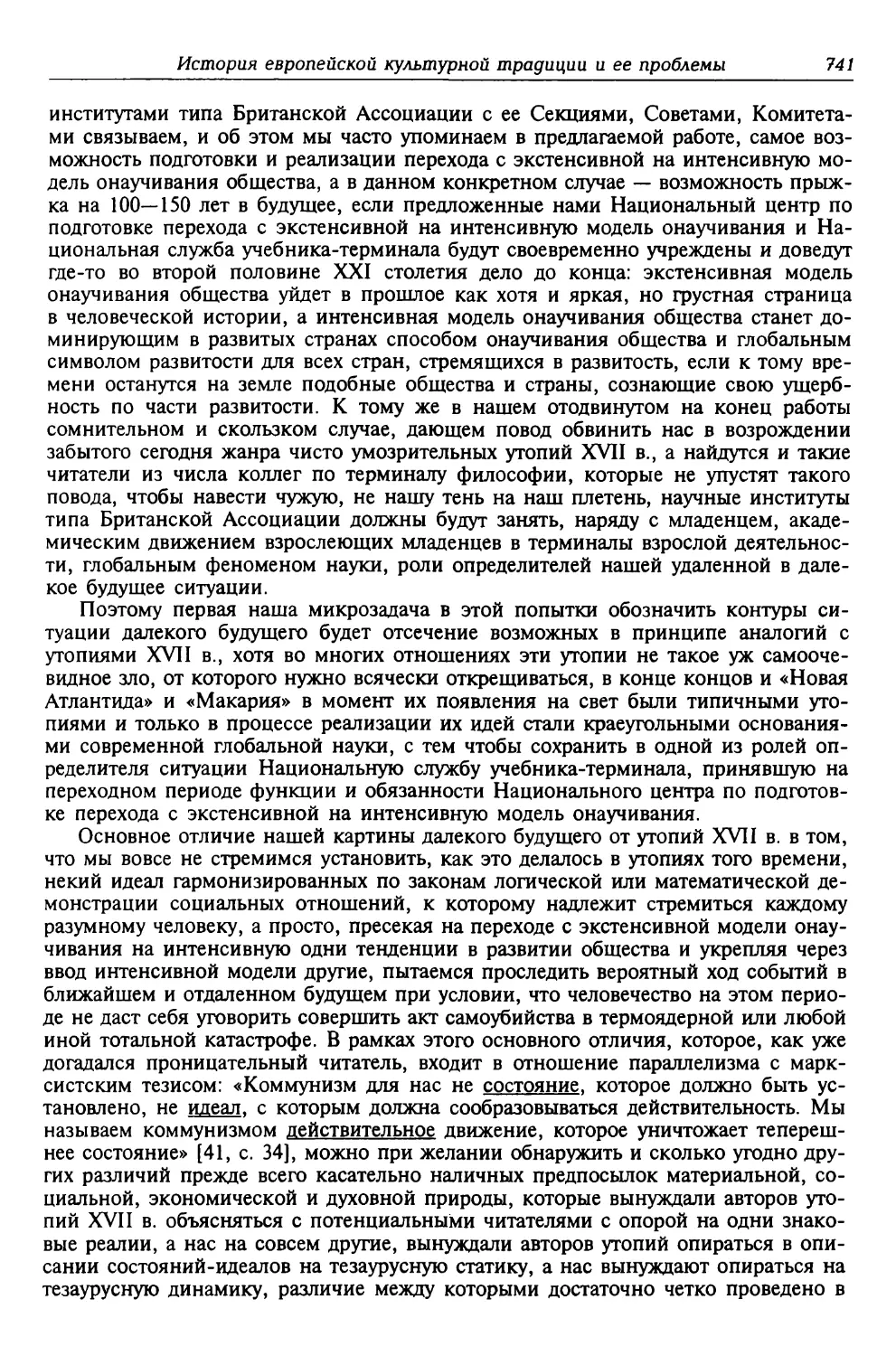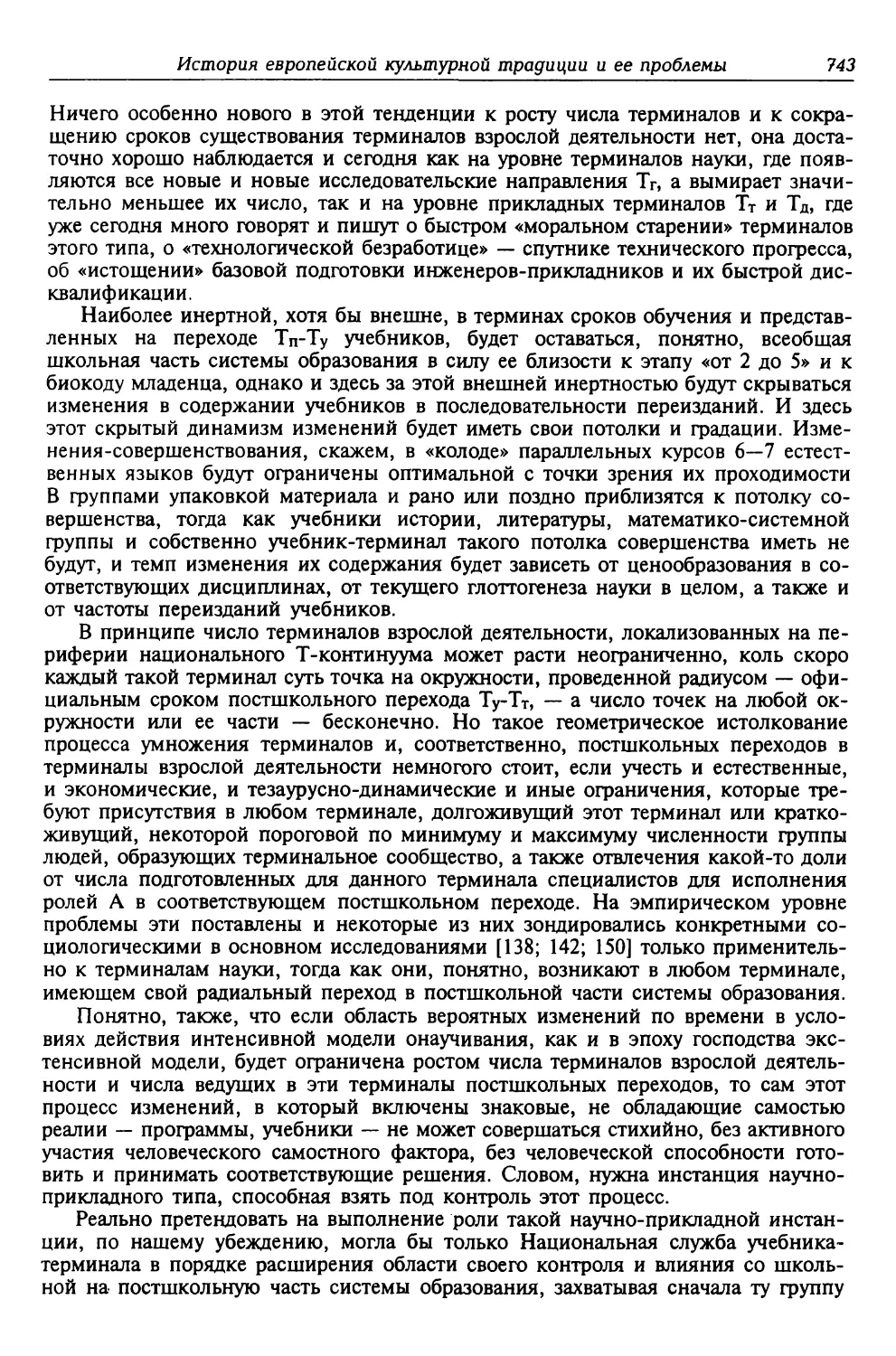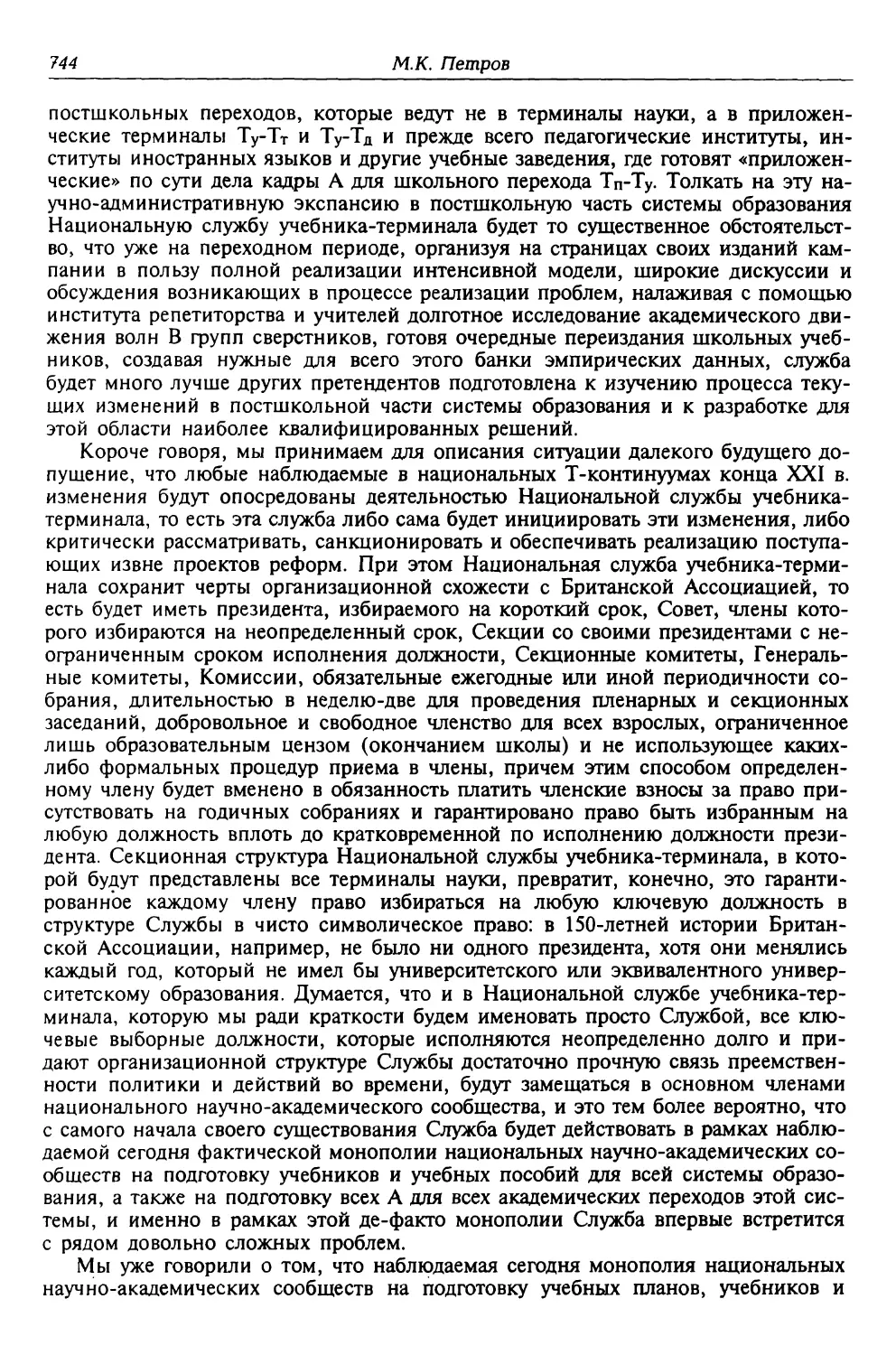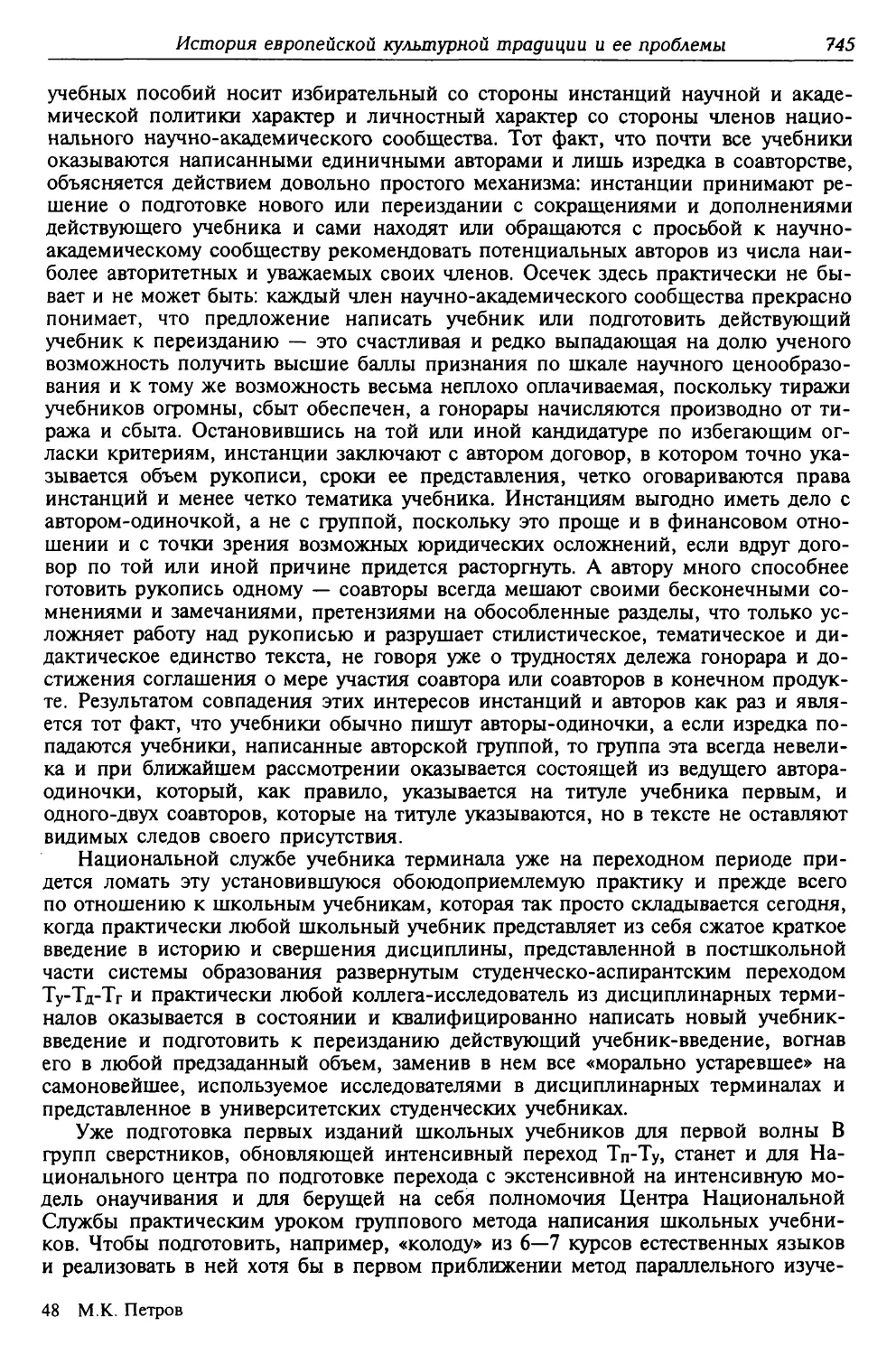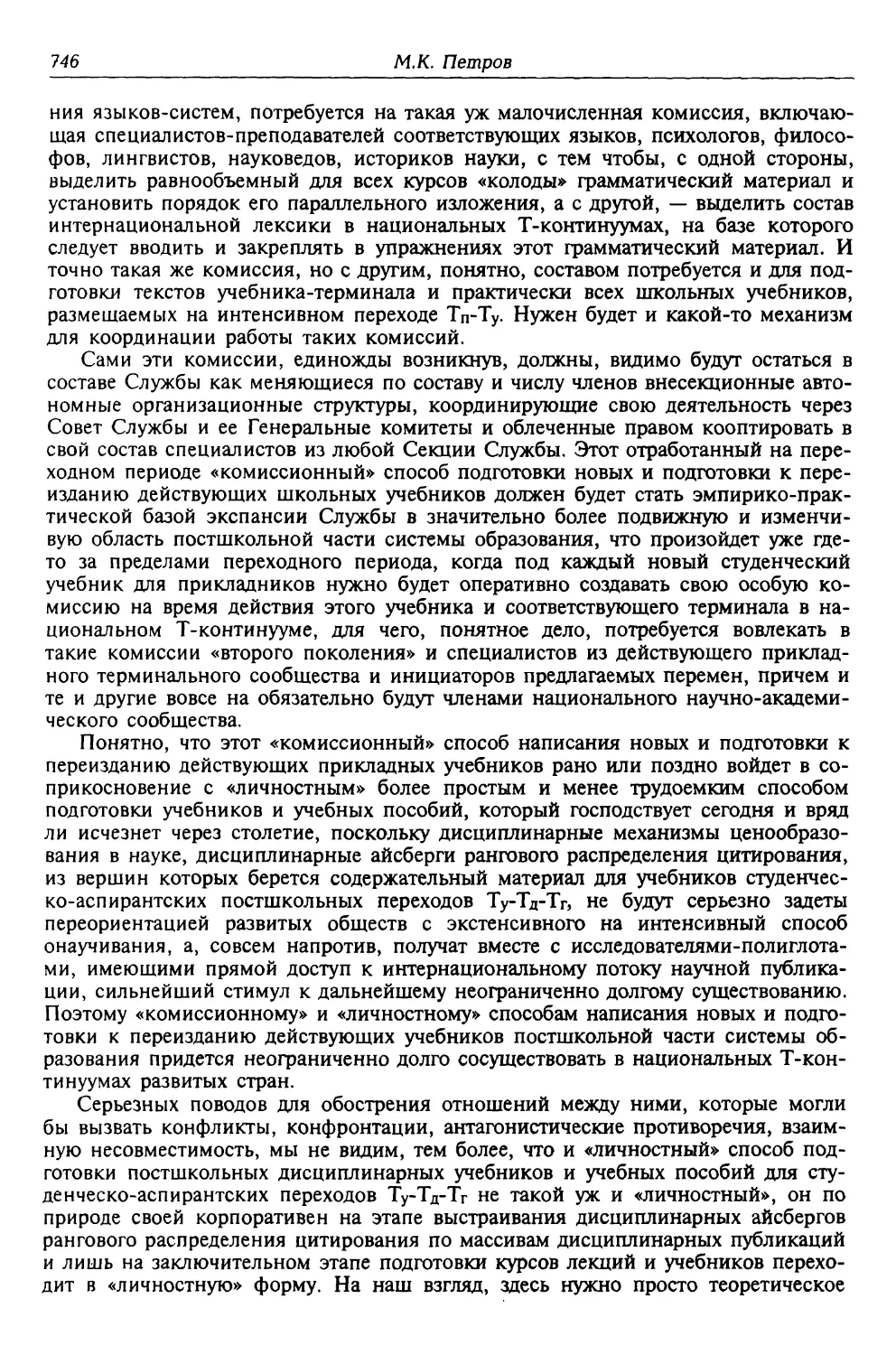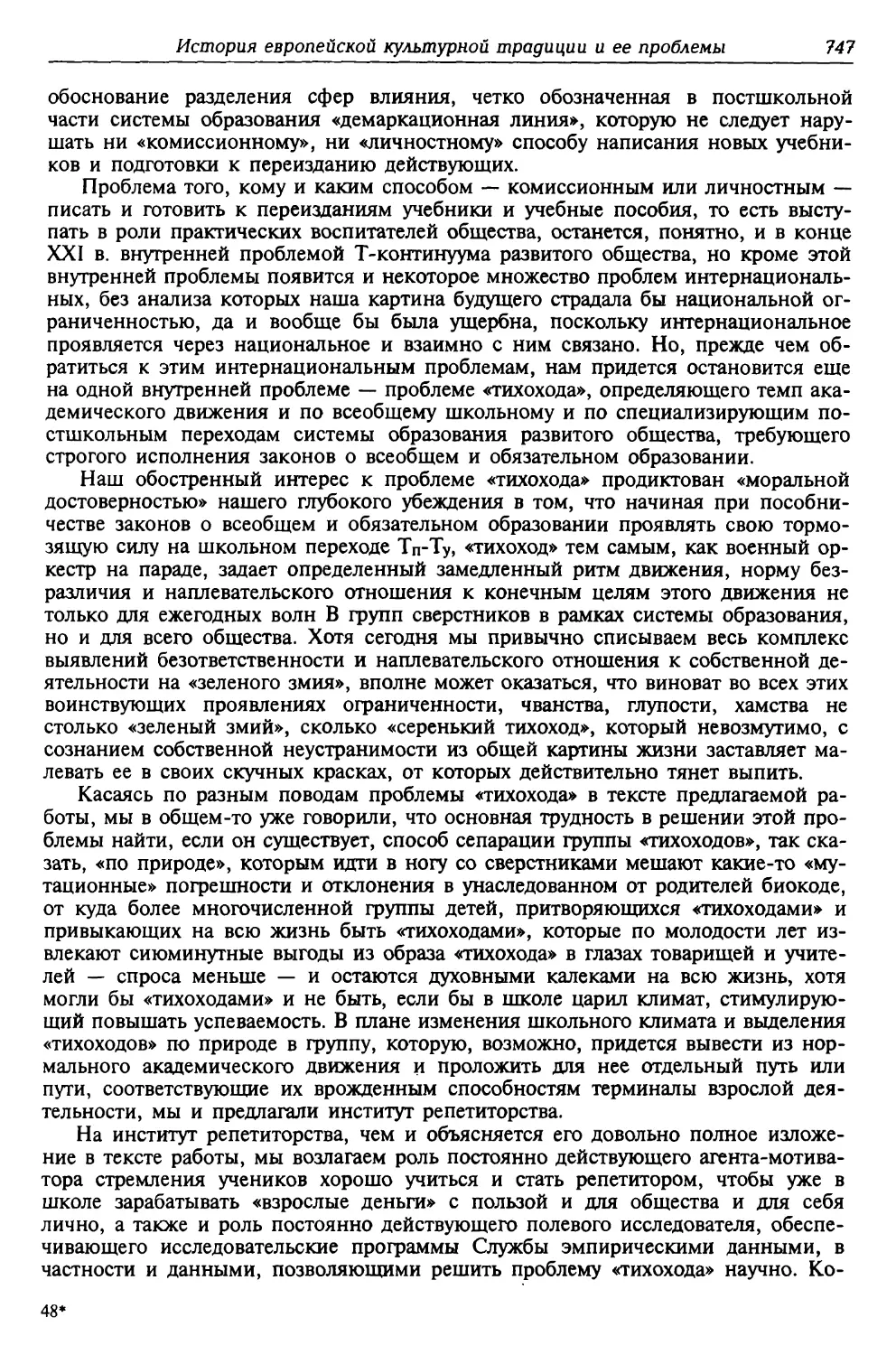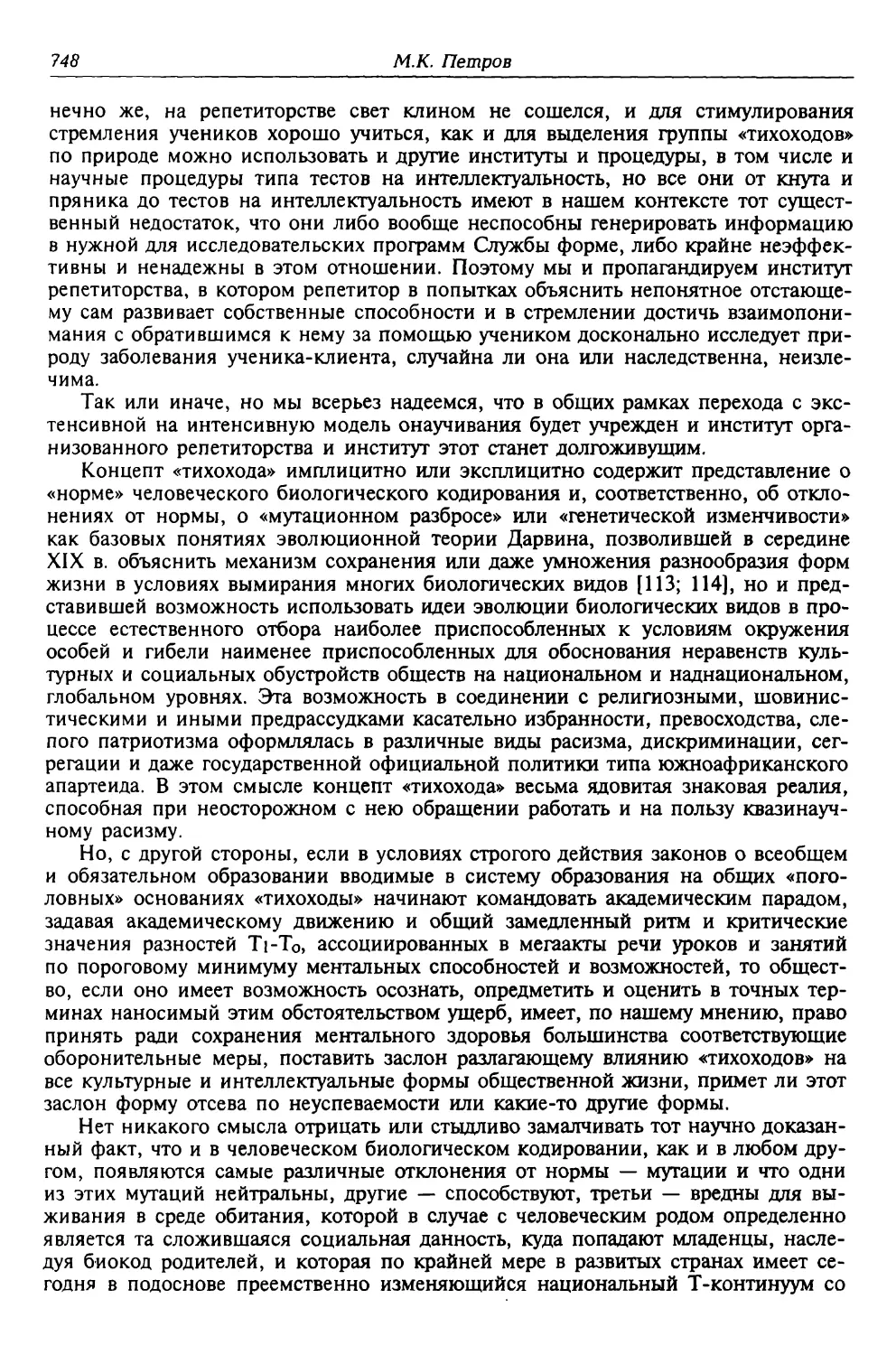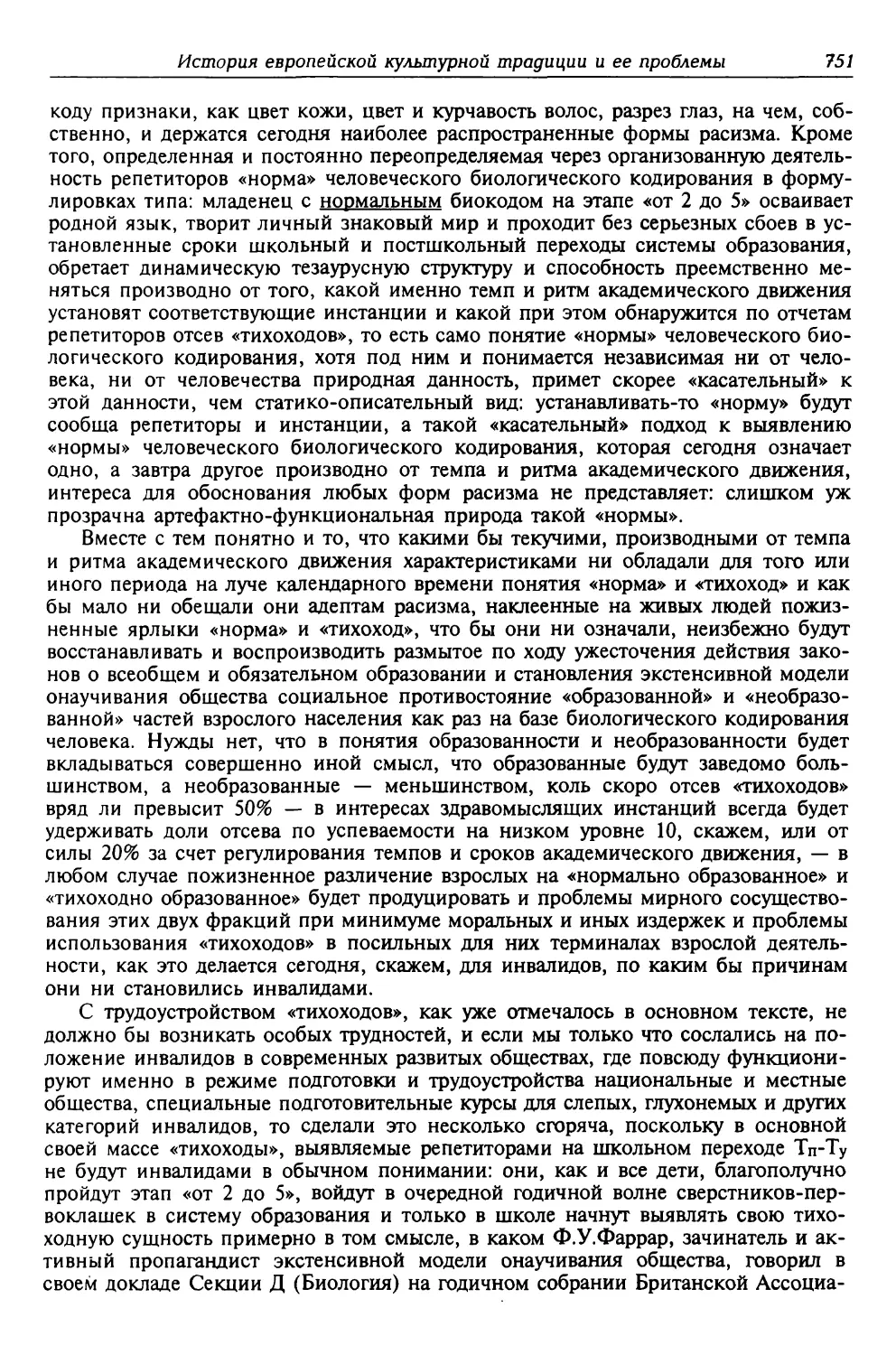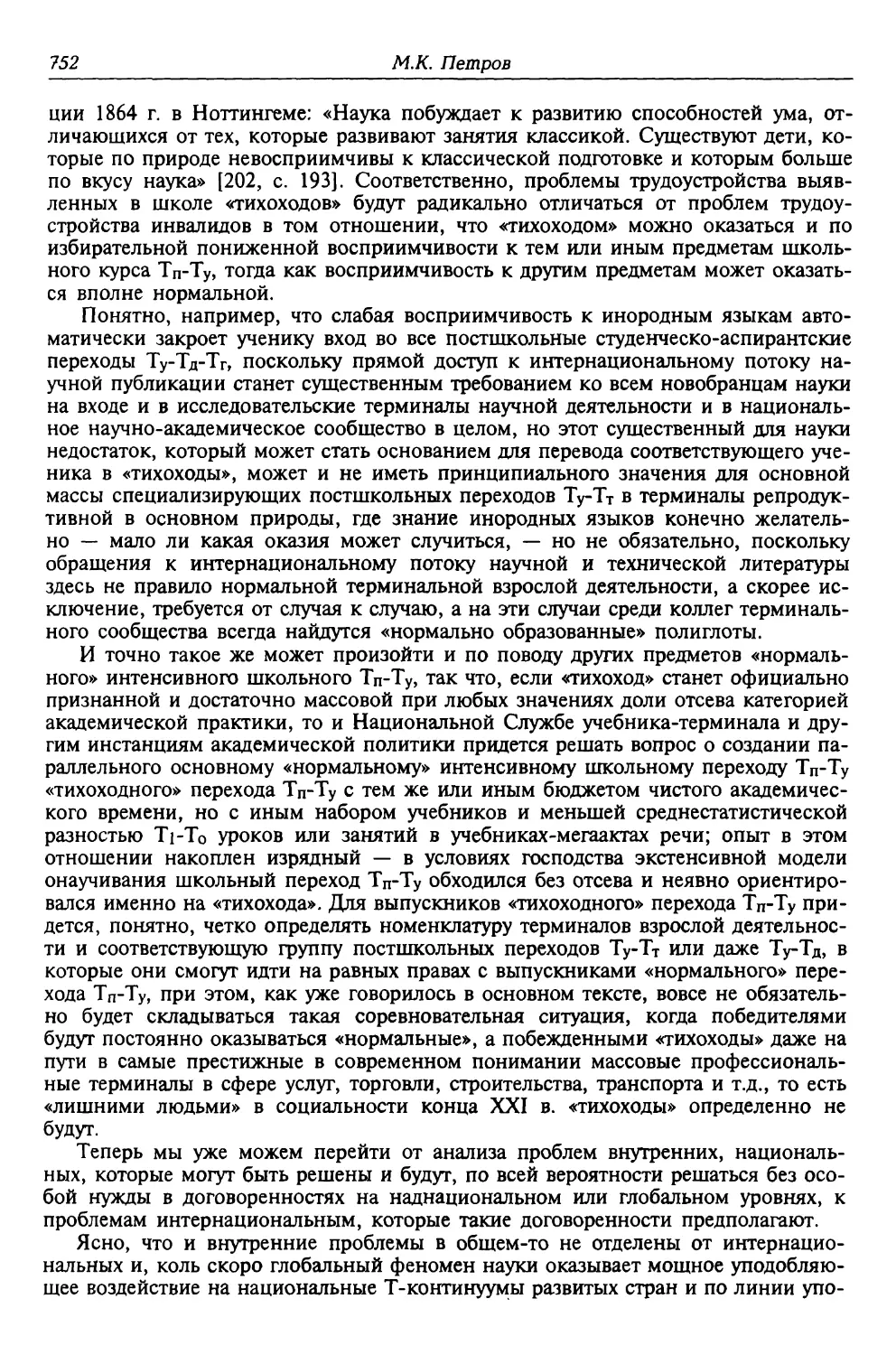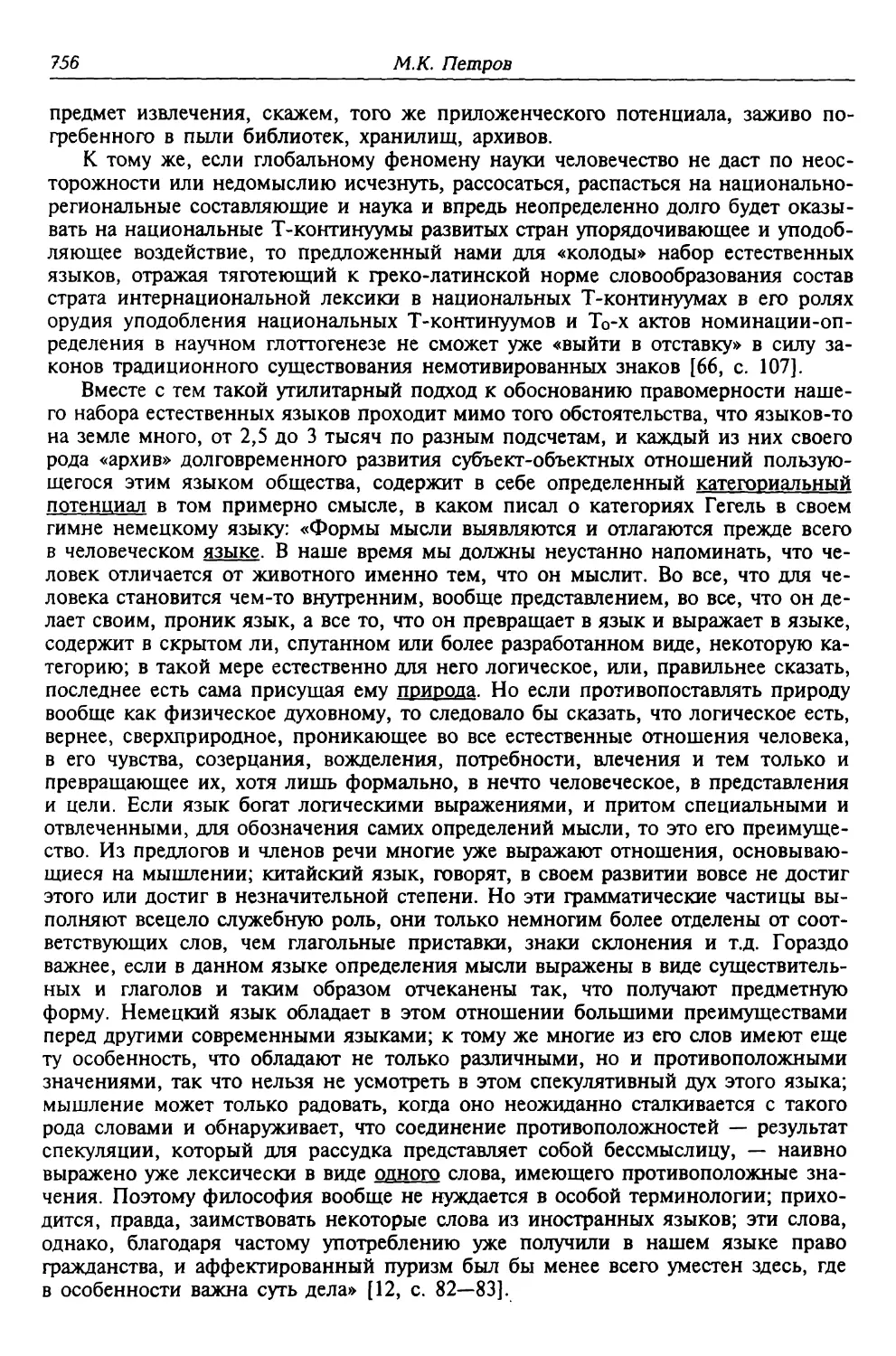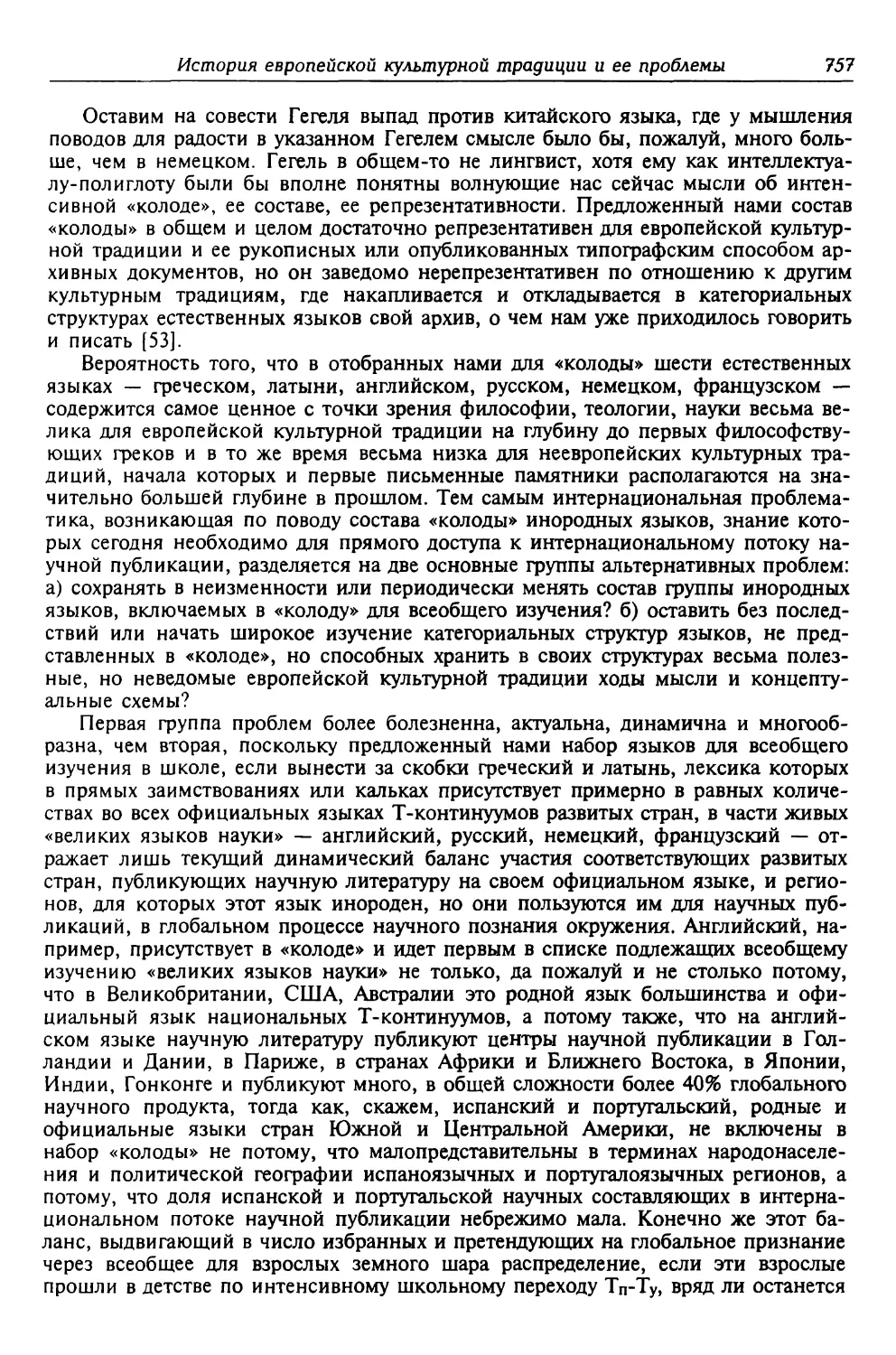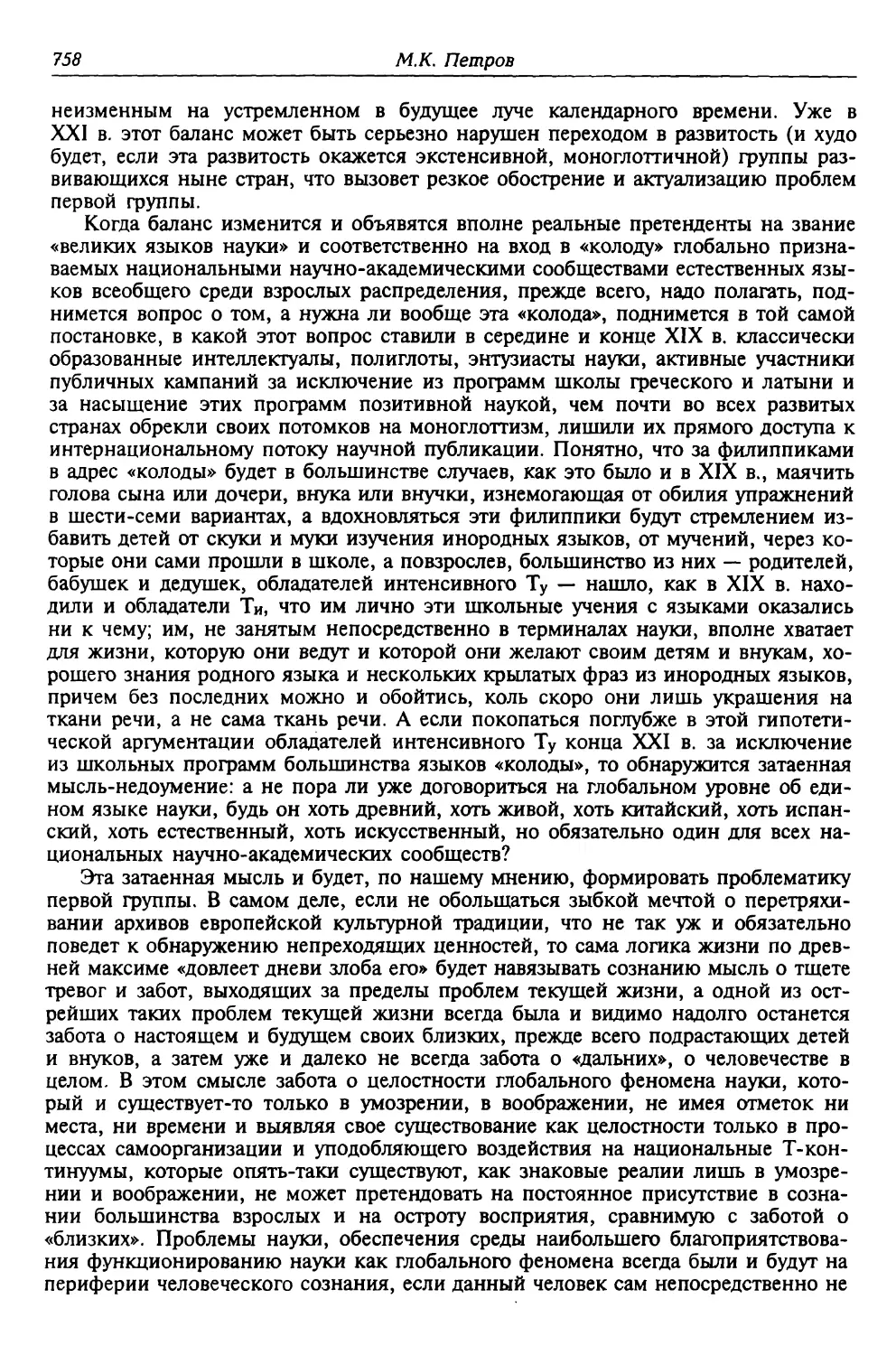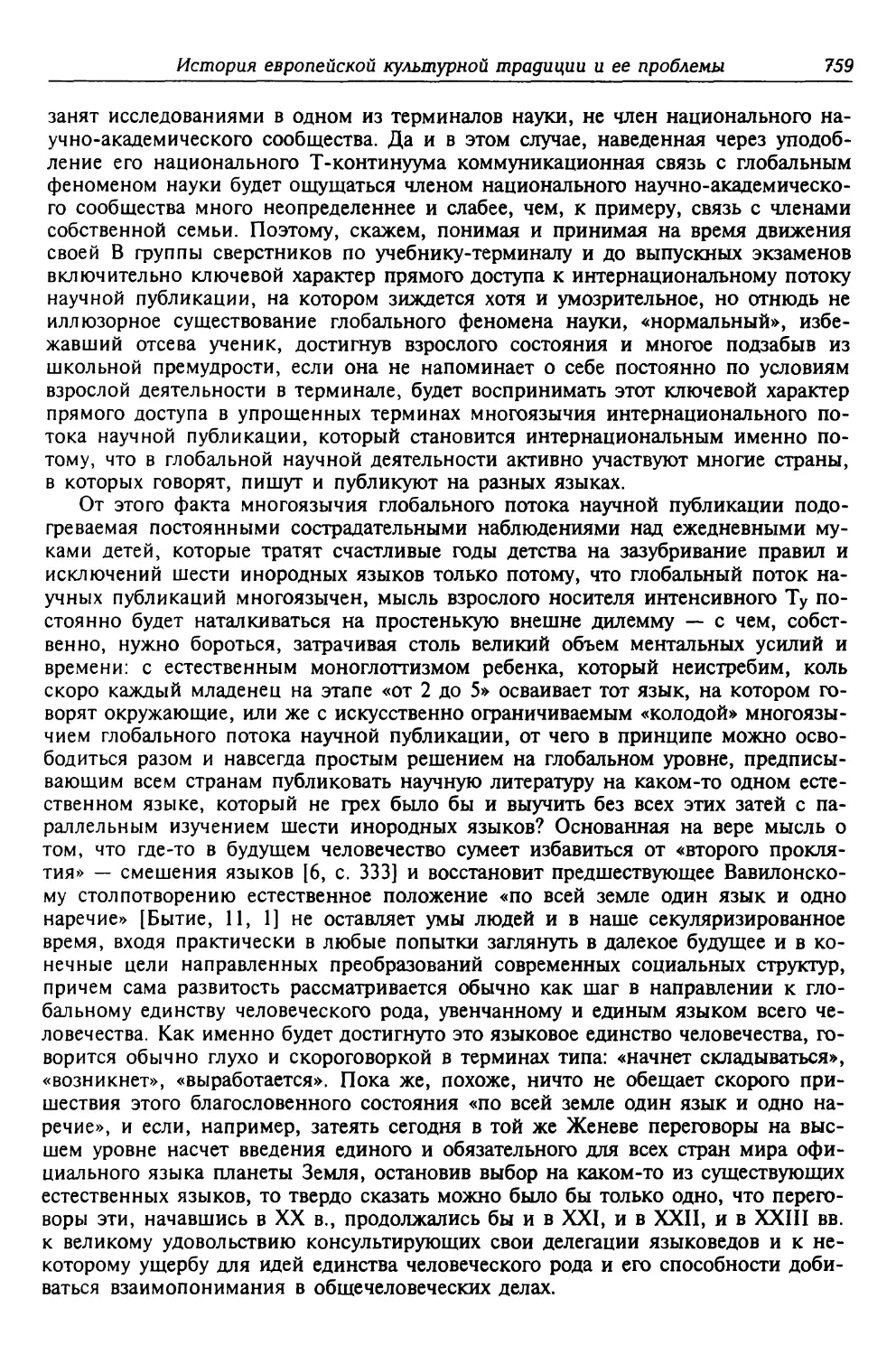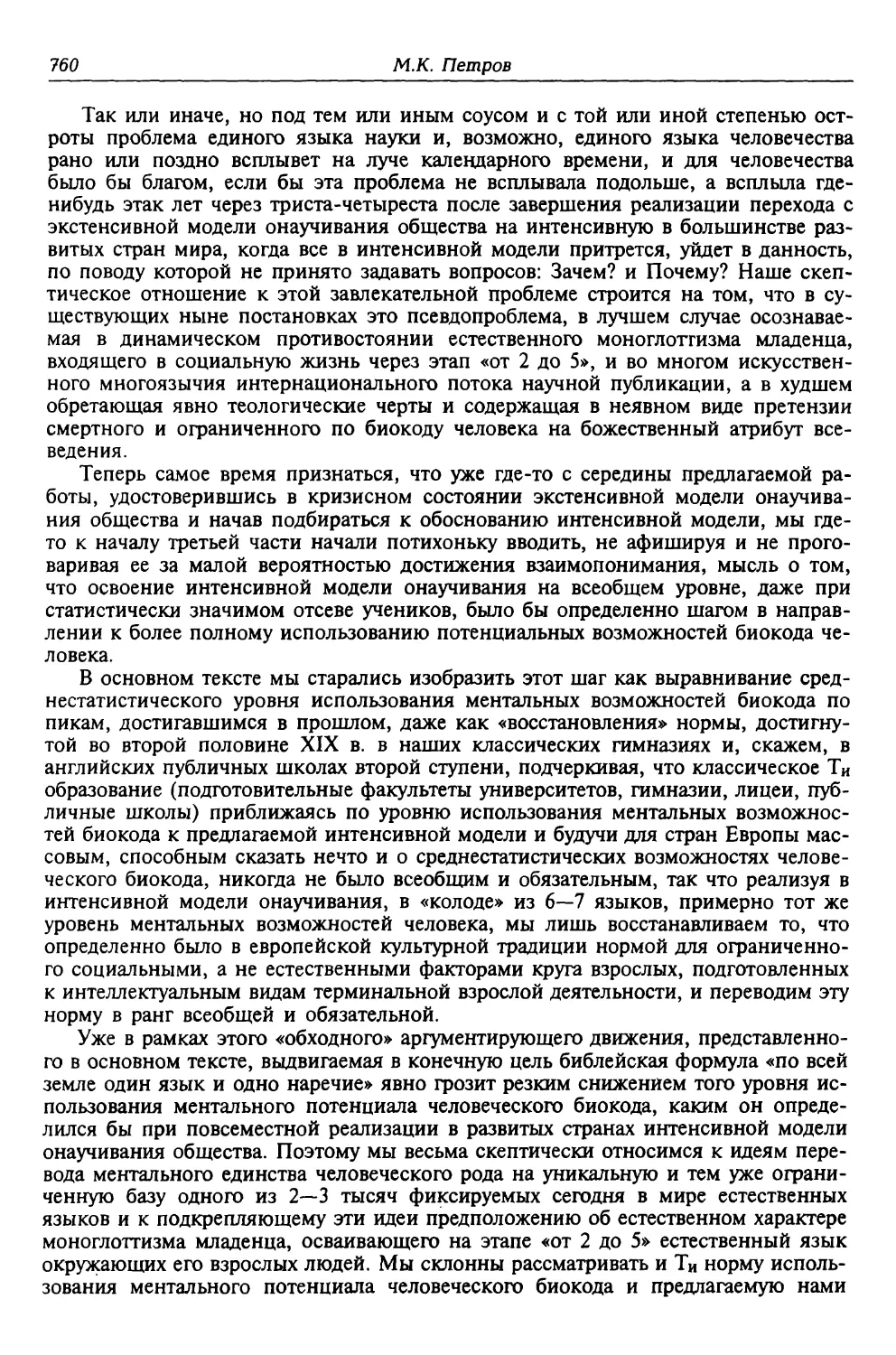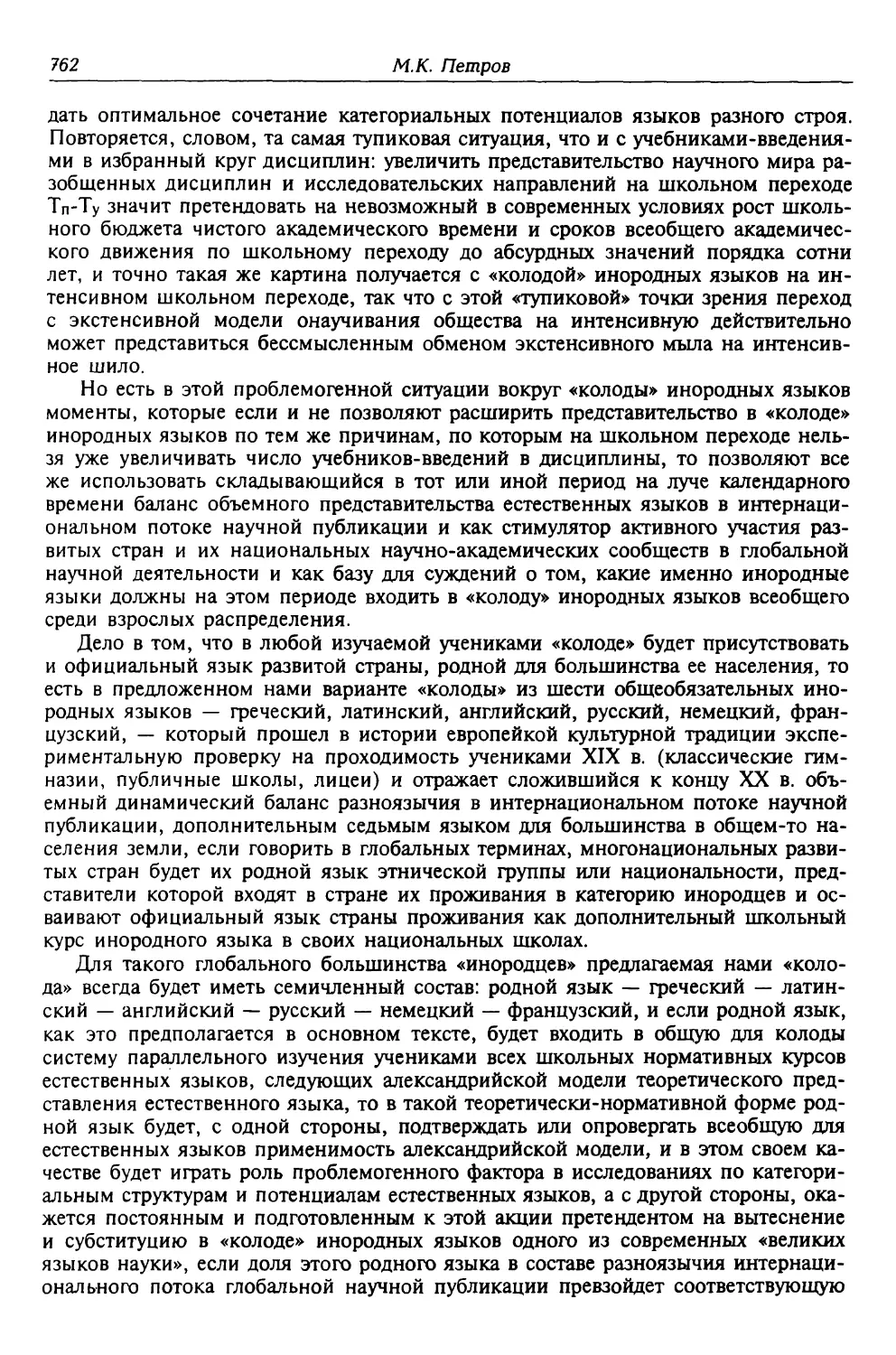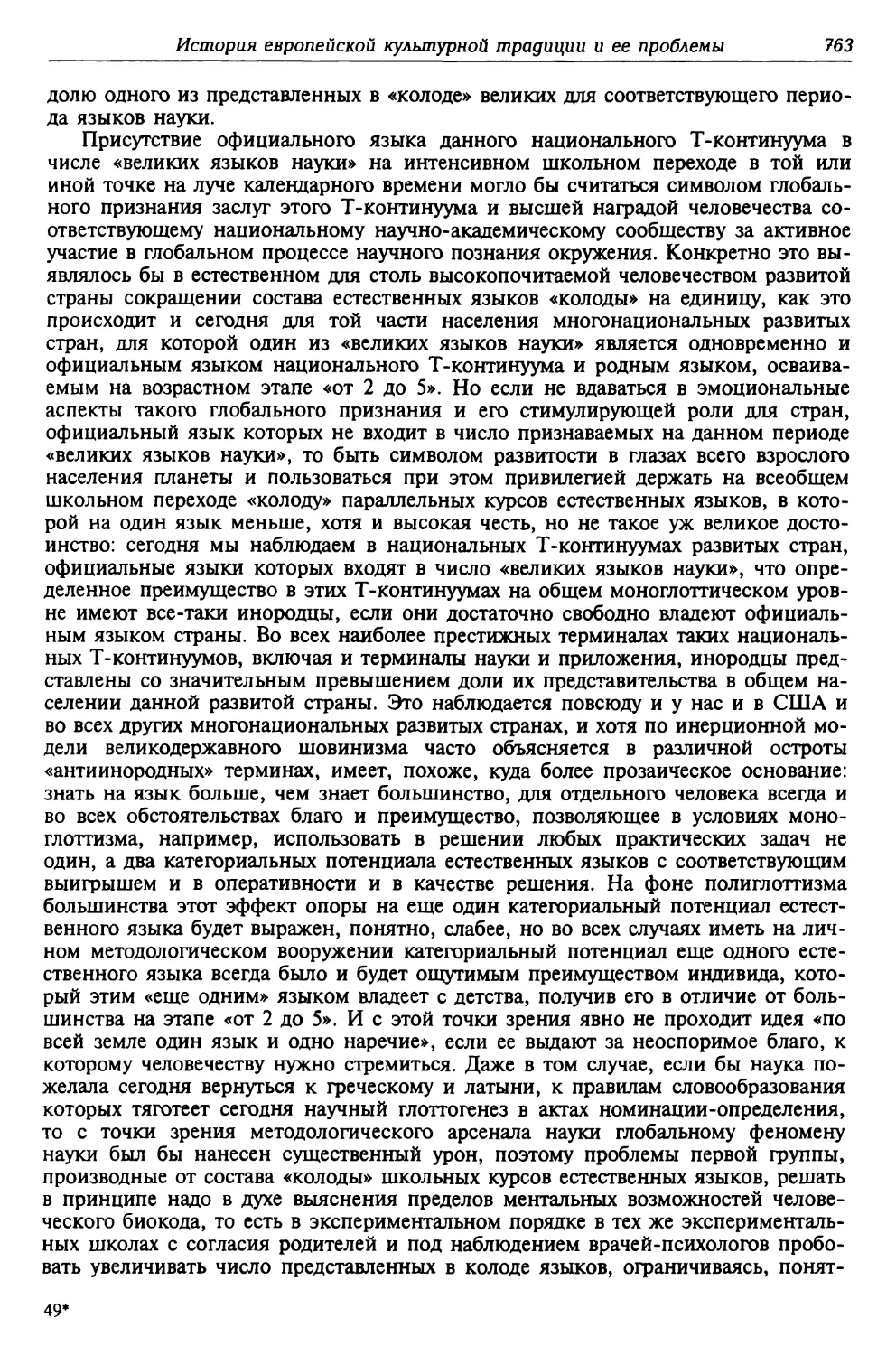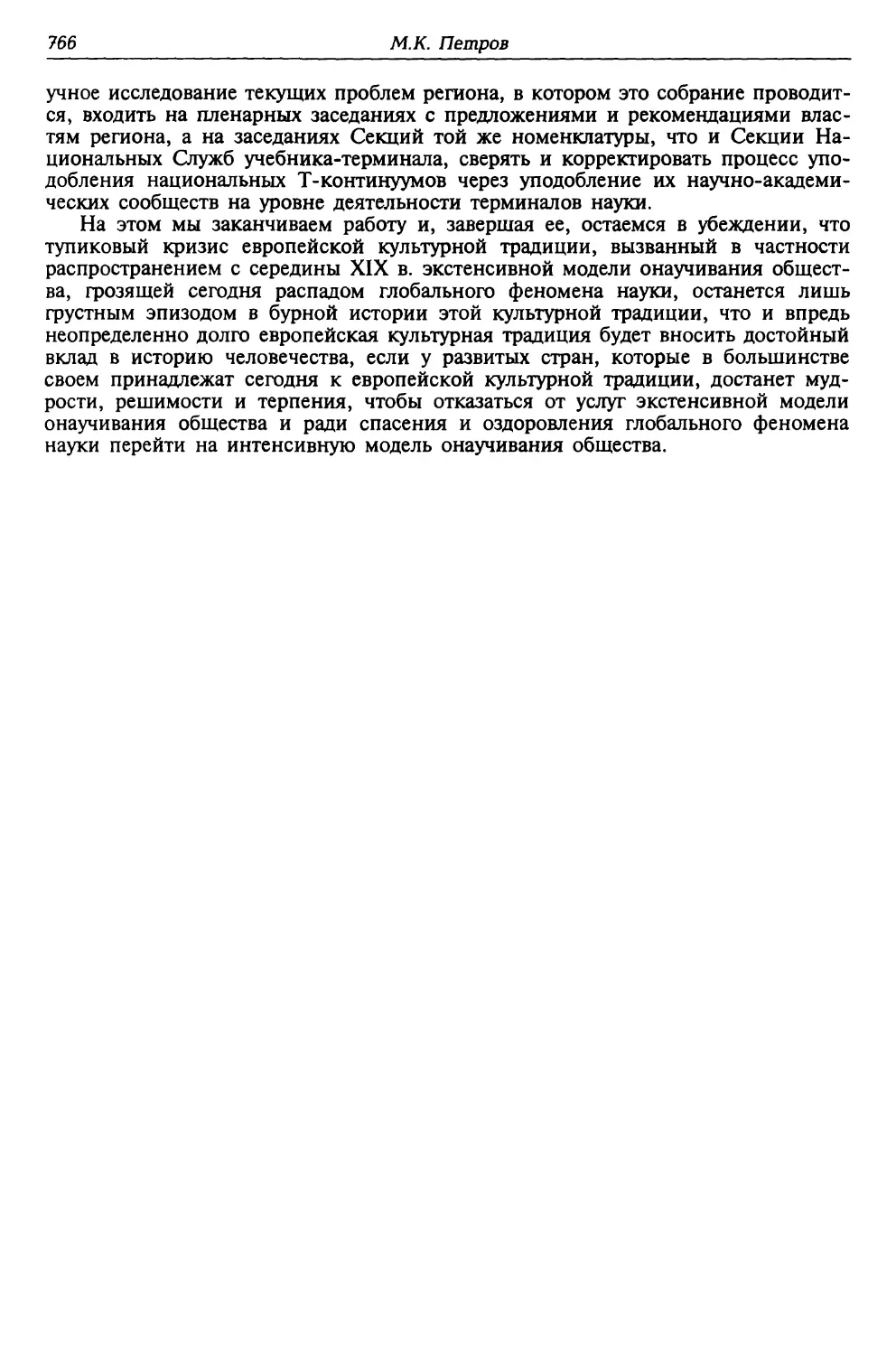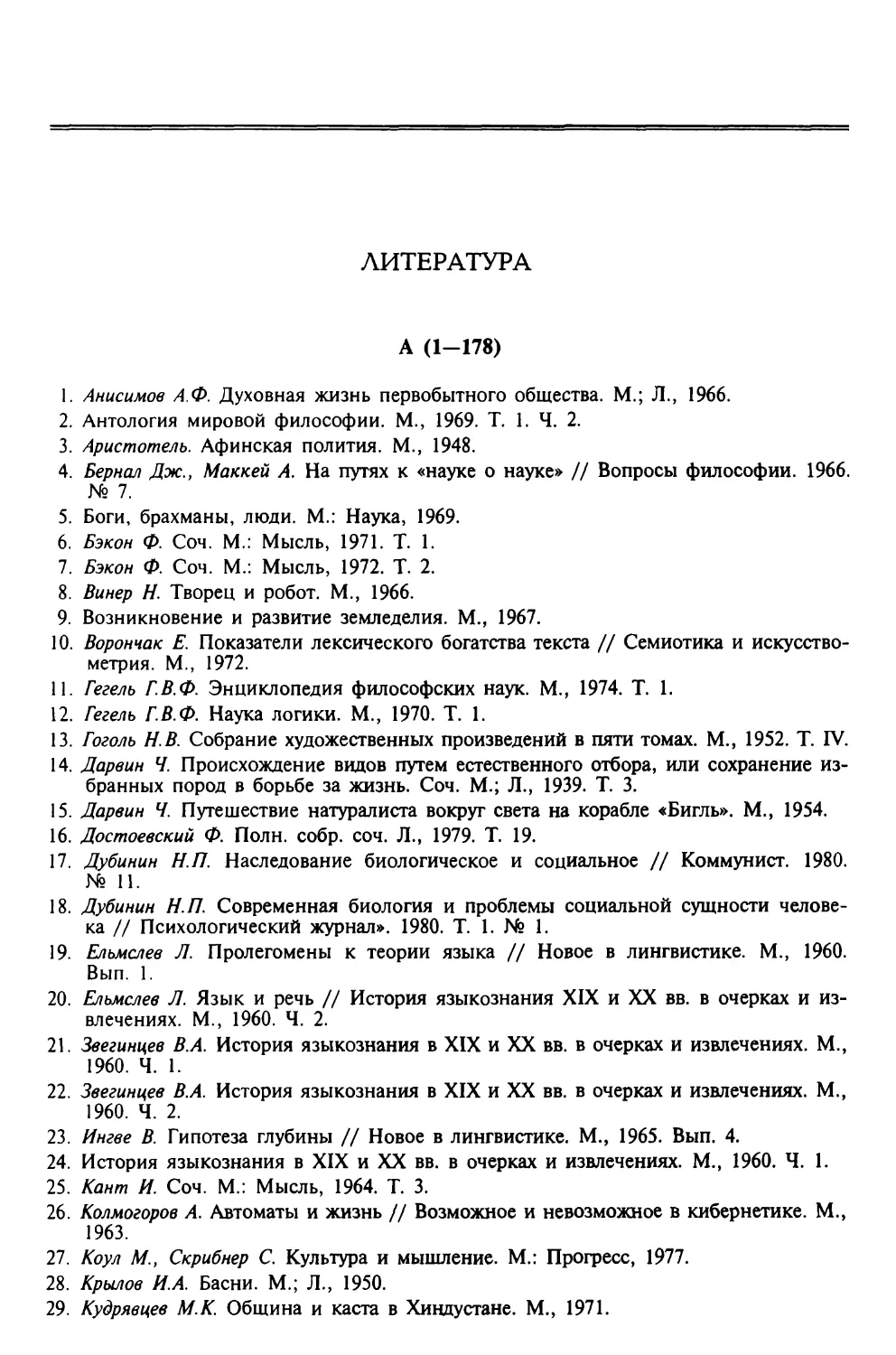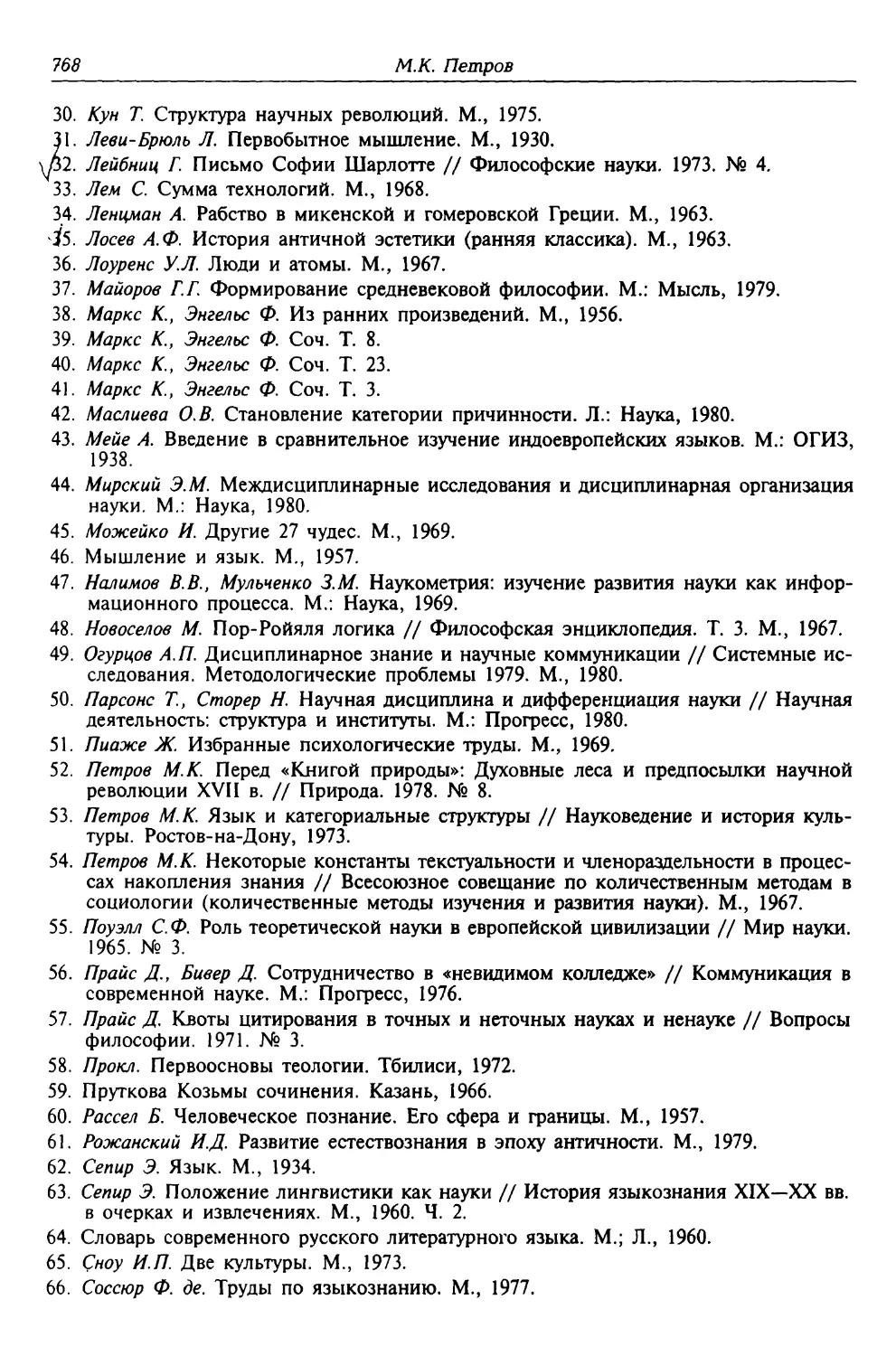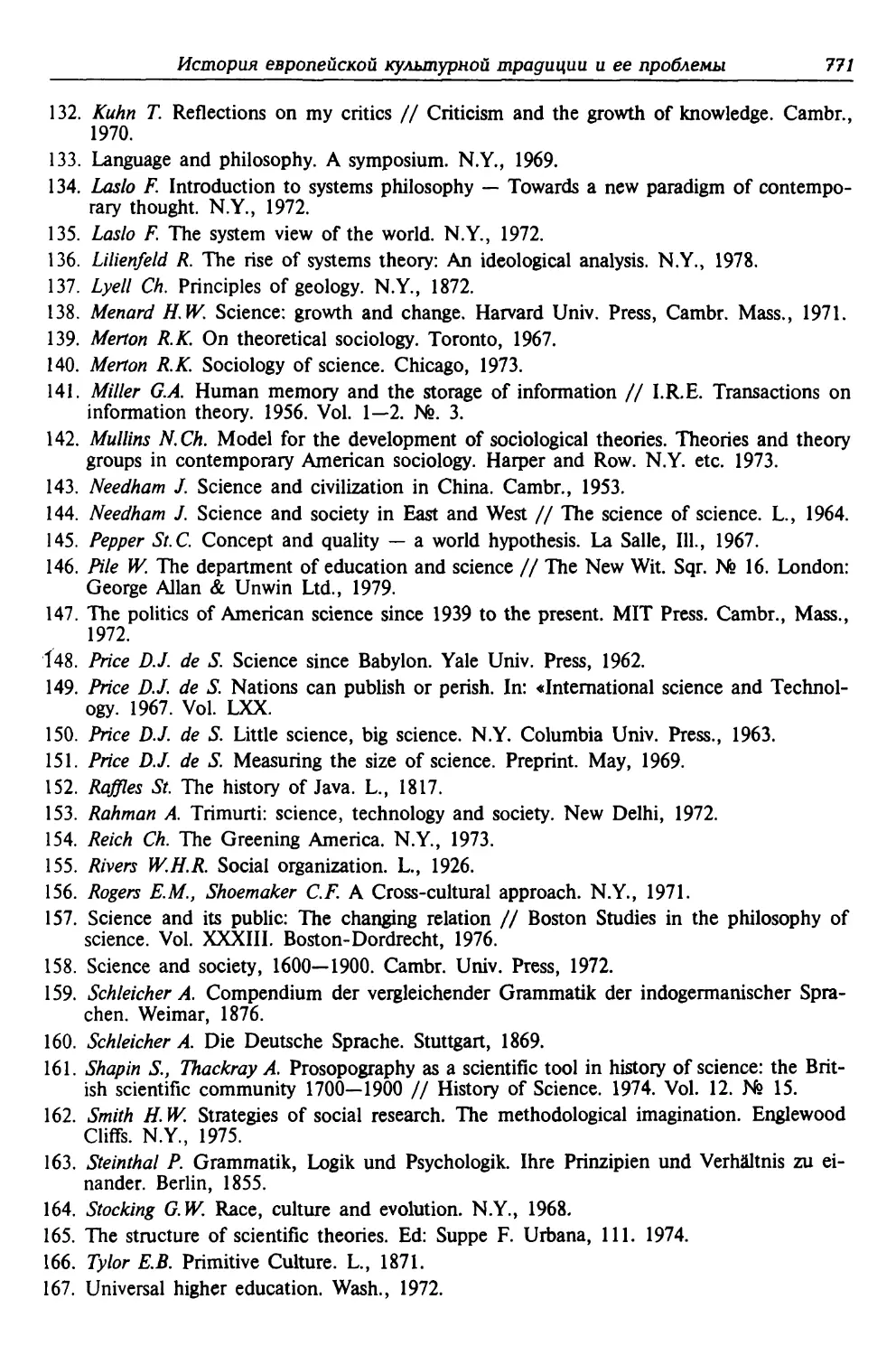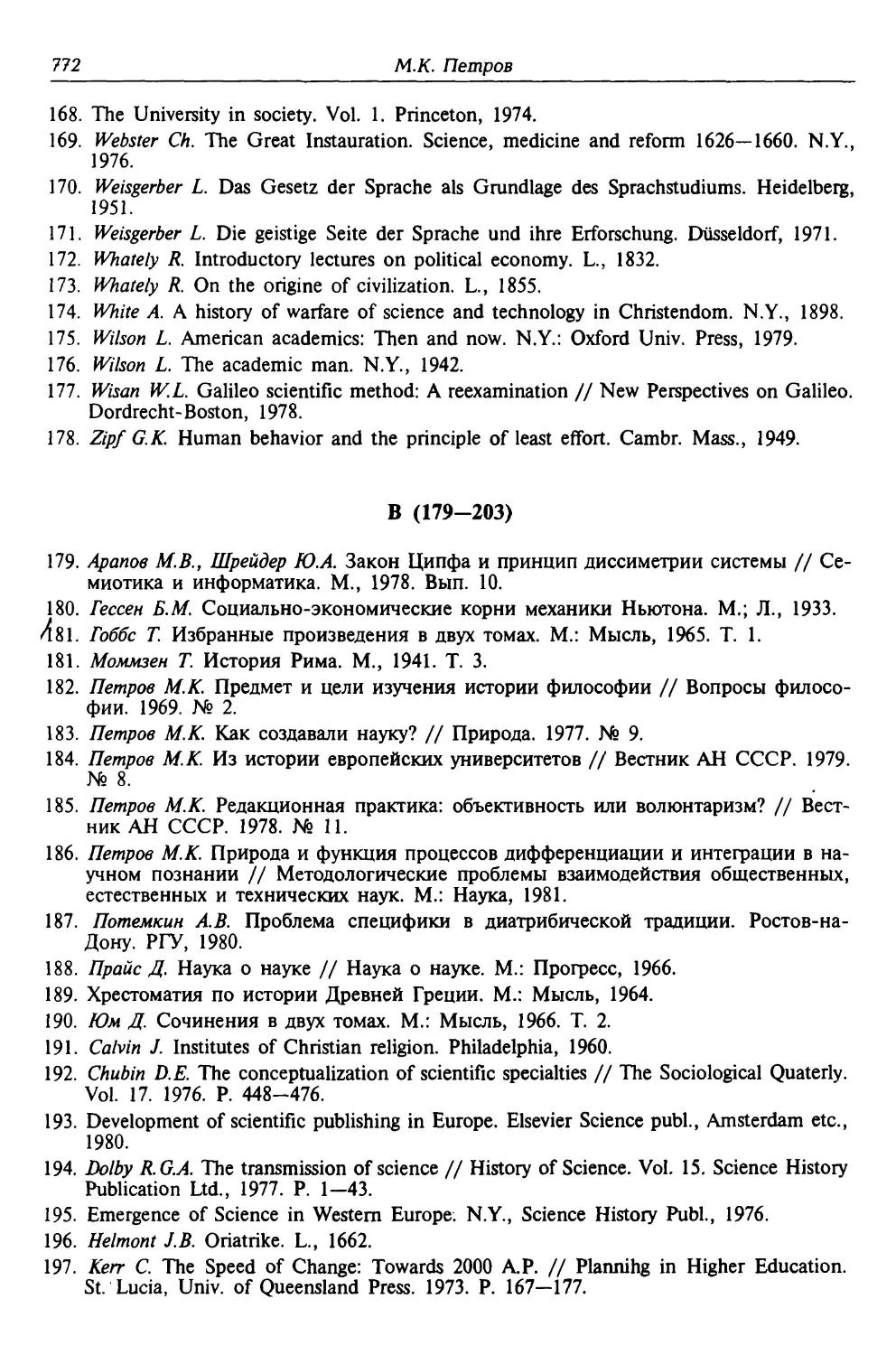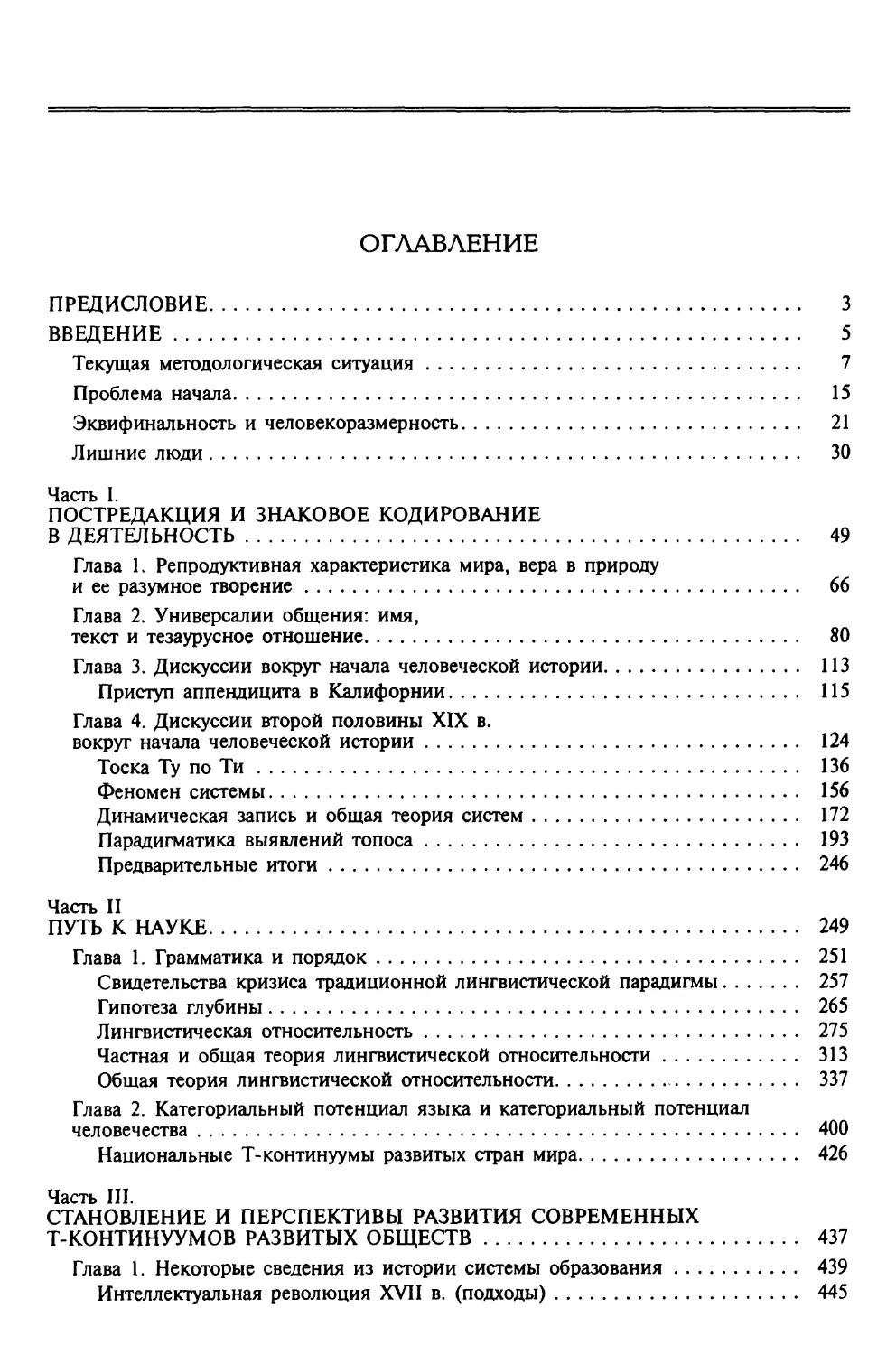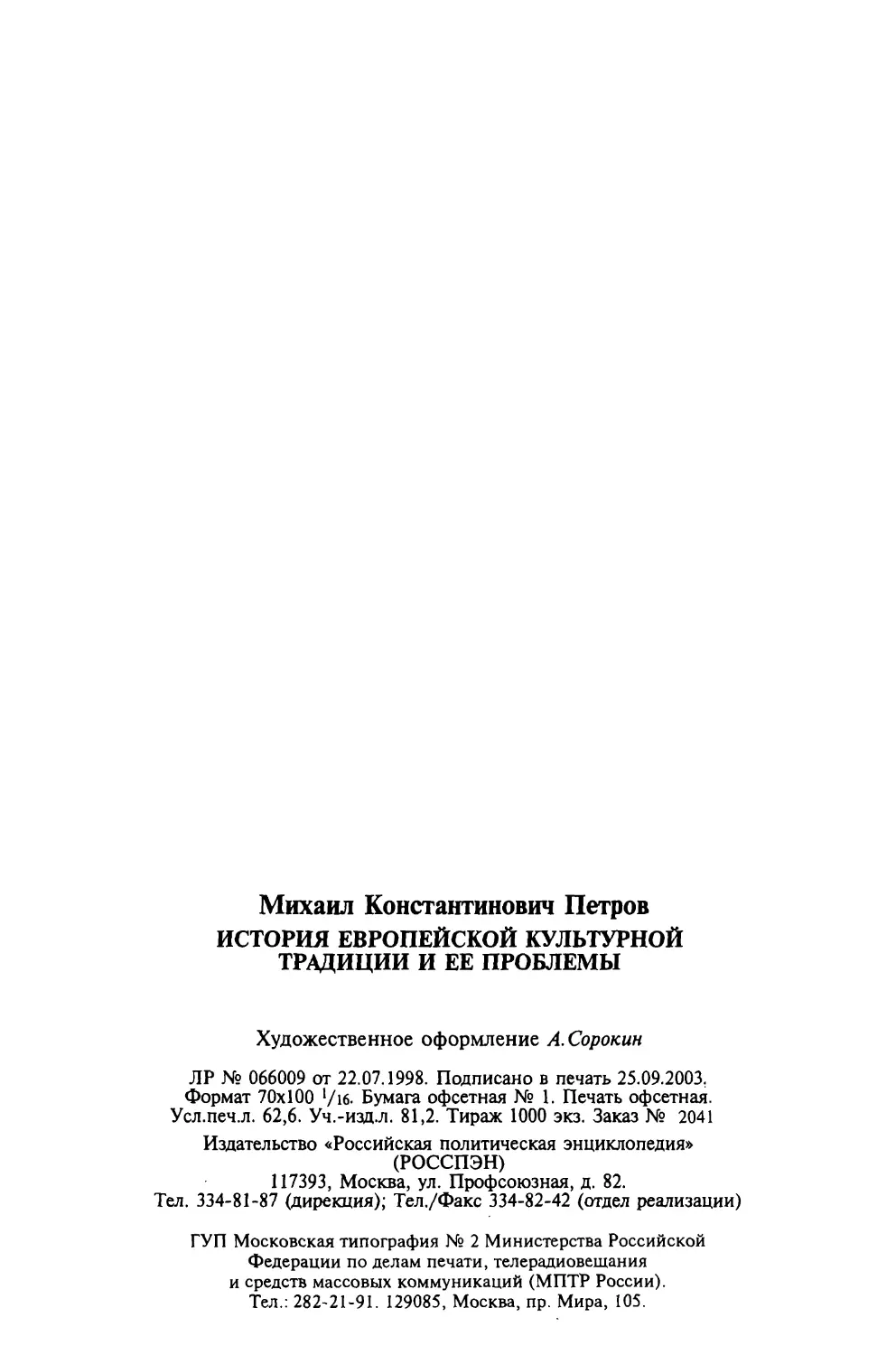Автор: Петров М.К.
Теги: теория культуры культурология философия история монография традиции европейская культура
ISBN: 5 - 8243 - 0486 - 6
Год: 2004
Текст
ФИЛОСОФЫ
РОССИИ
XX ВЕКА
М.К.ПЕТРОВ
ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ
Москва
РОССПЭН
2004
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 02-03-16023
Редакционная коллегия серии
«Философы России XX века»:
B.C. Степин (председатель),
Ф.Н. Блюхер (ученый секретарь),
A.A. Гусейнов, А.Ф. Зотов, В.А. Лекторский,
Л.А. Микешина, А.П. Огурцов
Научные редакторы:
В.Н. Дубровин, кандидат философских наук;
Ю.Р. Тищенко, кандидат философских наук
Публикация Г.Д. Петровой
Петров М.К.
История европейской культурной традиции и ее проблемы. — М.:
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 776 с.
В фундаментальной монографии М.К. Петрова (1923—1987) — известного
философа — специалиста в области истории философии и культурологии,
социологии и науковедения — с позиций разработанного им концепта тезаурусной
динамики, призванного объяснить мир знака,
рассматриваются основные типы человеческой культуры. Особое внимание уделяется
специфике европейской культурной традиции, в рамках которой удалось создать,
запустить и отладить в форме самоорганизации, процессов познания окружения
глобальный феномен науки, оказываТощий сильнейшее уподобляющее воздействие на
структуру национальных систем образования. В монографии показано, что
европейская культурная традиция оказалась сегодня в глубочайшем кризисе, ведущем
к прогрессирующему распаду науки как единого глобального уникального
феномена и описывается иная^модель онаучивания, названная автором интенсивной
моделью онаучивания~Ыэщества, сконструированная с учетом выявленных условий
осуществимости глобального феномена науки и его нормального
функционирования. Рассматриваются проблемы, которые неизбежно будут возникать в период
перехода с экстенсивной на интенсивную модель онаучивания.
© |М.К. Петров], 2004.
© «Российская политическая
энциклопедия», 2004.
ISBN 5 - 8243 - 0486 - 6
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагать современному читателю работу подобного объема, число страниц
которой по Григорианскому календарю доходит до второй половины XVII в., в
определенном смысле это может рассматриваться как мера авторского нахальства
и его самонадеянности, но в данном случае автор должен заверить читателя, что
глубоко понимает и разделяет чувства читателя при виде столь внушительной
кипы бумаги с неясными пока содержательными достоинствами. Объясняется все
довольно просто: автор не раз и не одним способом пробовал упаковать
представленный в основном тексте этой работы проблемный материал в редакцион-
но-издательский научный стандарт — печатный лист, прежде чем окончательно
и бесповоротно убедился, что существуют-таки проблемы, обсуждение которых в
такой статейный стандарт не укладываются, что и в наше время остается место
для жанра сумм или монографий, обобщающих исторические события на
длительных периодах времени и готовящих базу для понимания событий,
ожидающих нас в будущем, событий не всегда приятных. Это последнее
обстоятельство — говорить нам придется не только о приятных, но и о неприятных и даже
в какой-то мере об оскорбительных для современного взрослого онаученного
читателя материях, диктовало нам и предлагаемый в тексте уровень объяснений —
по анализируемым в тексте причинам он обязан был укладываться в возможности
заинтересованного понимания выпускника общеобразовательной школы — и в
какой-то степени структуру и объем работы.
Работа состоит из введения, трех частей и заключения. Введение и первые две
части могут рассматриваться как накопление концептуального инструментария
для понимания и научной критики истории европейской культурной традиции и
особенно последнего периода этой истории от середины XVII до конца XX вв.,
когда в рамках этой традиции человечеству удалось создать, реализовать,
запустить и отладить в форме самоорганизации процессов познания окружения через
публикацию продуктов такого познания глобальный феномен науки, который до
настоящего времени не имеет зримых и осязаемых институтов на глобальном
уровне, но оказывает сильнейшее уподобляющее воздействие на национальные
научно-академические сообщества и через них на структуру национальных систем
образования, но вот с середины XIX в. в результате не очень мудрых решений
тех же национальных научно-академических сообществ в области «продвижения»
науки и всеобщего онаучивания взрослых европейская культурная традиция
оказалась в глубочайшем кризисе из-за неудачного выбора модели для онаучивания,
что ведет сегодня к прогрессирующему распаду науки как единого глобального
уникального феномена с перспективой соответствующего распада ментального
единства человеческого рода.
Конец второй, вся третья часть и заключение посвящены детальному анализу
этого кризиса европейской культурной традиции, роли в его обострении
«экстенсивной модели онаучивания общества», механизмов расширенного
воспроизводства конкретных кризисных явлений и возможных способов выхода из этого
кризиса, созданного самой наукой, членами национальных научно-академических
сообществ — монополистов на подготовку учебников, учебных пособий, кадров
учителей и преподавателей для национальных систем образования — и наиболее
чувствительно выявляющегося в разрушительных для глобального феномена
науки воздействиях на саму науку. Акценты анализа здесь постепенно смещаются
на выявление условий осуществимости глобального феномена науки и его нор-
4
M.К. Петров
мального функционирования, а также на конструирование производно от этих ус
ловий иной модели онаучивания, которую мы назвали «интенсивной модель]
онаучивания общества». Анализом подготовительного и переходного с экстенсш
ной на интенсивную модель периодов заканчивается третья часть работы, а в за
ключении делается попытка теоретически обосновать вероятные проблемы еврс
пейской культурной традиции после перехода на интенсивную модель онаучива
ния общества.
Основной методологический инструментарий связан в нашей работе с основ
ными положениями тезаурусной динамики, которыми мы занимаемся давно [5^
53; 54; 186; 184), но кое-что приходилось дорабатывать и в процессе изложение
так что предлагаемая работа дает наиболее полное представление о том, что mi
яонимаем под тезаурусной динамикой, призванной объяснить движение людей
идей в мире знака, располагающегося между двумя неустранимыми абсолюта
ми — источниками субъективного и объективного определений — между челове
ческим младенцем и независимым ни от человека ни от человечества окружени
ем. Необходимость доработки деталей тезаурусной динамики также в немало
степени способствовала росту объема предлагаемой работы.
Читателя может удивить объем ссылок на иностранных авторов, но это объ
ясняется просто тем обстоятельством, что нам долгое время и много приход ил ос
переводить и реферировать работы иностранных авторов по науковедению, исто
рии и социологии науки; часть накопившегося в этом процессе материала ис
пользована в предлагаемой работе.
Понятно также, что далеко не всех потенциальных читателей, особенно колле
по науковедению и истории философии удовлетворит предлагаемый в работе уро
вень объяснений, но мы сознательно придерживались того принципа, по которо
му общение с читателем неясной по терминалу взрослой специализированной де
ятельности, принадлежности возможно только в рамках той суммы всеобщих дл
взрослого населения знаний, которая обретена в общеобразовательной школе
Подробное объяснение этих ментальных ограничений дано в тех местах текста
где описывается «коридорная ситуация» как естественное следствие функциони
рования экстенсивной модели онаучивания общества.
У читателя может появиться, думается, масса вопросов по ходу чтения пред
лагаемой работы. Если это произойдет, то мы будем считать, что основная цел
нашей работы достигнута.
Ростов-на-Дону, 15 апреля 1986.
ВВЕДЕНИЕ
Наша культура все более онаучивается по множеству переменных, и особенно
бурно процесс этот протекает на современной стадии научно-технической
революции. Не говоря уже о технологических применениях научного знания, наука
сегодня выступает в роли активного агента изменений во всей совокупности
социальных структур. С возрастанием роли науки в жизни современного общества
растет и интерес к институту науки, к его социальным, культурным и иным
функциям. Поскольку и сам этот интерес онаучен, во многом следует в своих
выявлениях принципам наблюдения, верификации, измерения, не остается
неизменным и состав переменных, «измеримых характеристик» и соответствующих
шкал, по которым мы сознаем меру участия науки во всеобщем процессе
изменения-обновления.
Измеримым и зримым выражением растущего стандарта универсальной онау-
ченности общества стал в современном развитом обществе аттестат зрелости или
его эквивалент, который выдается входящим в многообразие видов социальной
деятельности индивидам и как свидетельство о сданном экзамене-минимуме по
онаученности и как пропуск — проходной билет во все социально значимые
профессии, требующие специализации и формального постшкольного обучения той
или иной деятельности. Хотя не во всех странах европейского типа культуры, не
говоря уже о странах неевропейской культурной традиции, приняты и с должным
упорством проводятся в жизнь законы о всеобщем обязательном среднем
образовании, повсюду наблюдается общая тенденция к превращению курса программ
общеобразовательной средней школы в универсальный и монопольный
интегратор общесоциальной «взрослой» коммуникации, в универсальное «начало» всех
путей в специализацию к рабочим местам, должностям и интерьерам взрослой
общественно значимой деятельности, включая и пути в науку, в научную
деятельность.
Если обозначить содержание текстов, которые в наших, скажем, условиях все
поголовно взрослеющие индивиды должны пройти и усвоить в десятилетнем
движении по возрастным группам от 7 до 17, через текущее значение универсального
тезауруса общества Ту, то все последующие специализирующие движения
индивидов примут вид формальных или неформальных движений в специализацию
Ту-Тс на некоторую глубину, представленную сроком постшкольного обучения.
Специализированные Тс, как правило, информационно изолированы, и если,
скажем, в университетском коридоре или курилке встретились на перерыве два
преподавателя, физик и филолог, и о чем-то оживленно беседуют, то даже не
превращая их в «респондентов», можно со 100% уверенностью сказать, что говорят
они не о проблемах филологии или физики — здесь перед ними «лакуна» и
говорить им не о чем, а говорят они на Ту, на языке своей «абитуриентской»
юности, когда они, если использовать термины пансофии Коменского, «все знали обо
всем», а потом, если оба они кандидаты, один отошел от Ту на 7—8 лет в физику,
другой на ту же глубину в филологию, где у каждого свои языки, жаргоны,
концептуально-понятийные аппараты.
Но вот прозвучит звонок и каждый отправится в свою аудиторию
использовать язык как средство общения для разобщения аудиторий, практически решать
ту актуальнейшую проблему современности, которую Маркс зафиксировал в
тезисах о Фейербахе: «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты
обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть про-
6
M. К. Петров
дукты иных обстоятельств и измененного воспитания, — это учение забывает, что
обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть
воспитан» [41, стр. 2].
Мы подняли эту проблему общения физиков и лириков в университетских
коридорах и курилках, использования ими своих дисциплинарных языков и
жаргонов для разобщения-развода единых по Ту аудиторий будущих физиков и
лириков, чтобы обозначить контуры и начальные пункты обратного воспитательно-
уподобляющего движения по онаучиванию и преобразованию индивидов. Особое
положение университета в иерархии образовательных институтов современного
общества выразимо элементарной констатацией: университет — единственный
образовательный институт, который сам для себя готовит кадры воспитателей,
тогда как все остальные институты получают кадры воспитателей извне, в конёч^
ном счете прямо или опосредованно из университета.
Самовоспитание университетских преподавателей — результат проведенной
филологом В.Гумбольдтом реформы yHHBepcHTeTCKoff структуры, которая создала
распространенную сегодня повсеместно «профессорскую» или
«приват-доцентскую» модель, объединившую роли преподавателя и_исследователя. Этот вполне
конкретный по месту, времени и автору акт, который диктовался* прежде всего
политическими и экономическими соображениями, замкнул преподавание на
события переднего края научных исследований, то есть, по сути дела поставил
университетского преподавателя на воспитание непредсказуемым событиям
переднего края научного познания мира.
Иными словами, в современной ситуации состав Ту и непредсказуемые
события на переднем крае научного познания мира образуют в их противоречивом
единстве целостный и постоянно меняющий свои характеристики механизм
воспроизводства и изменения культуры современного общества, если под культурой
понимать ту совокупность отношений людей по поводу окружения и людей по
поводу людей, которая воспроизводится и преемственно изменяется в смене
поколений внегенетическими «постредакционными» средствами общения поколений.
Этот работающий на встречных потоках механизм социализации индивидов,
в котором индивидам, раз уж они появились на свет, ничего не остается делать,
как взрослеть, а эшелонам воспитателей использовать это обстоятельство для
поэтапного уподобления младших старшим, вряд ли требует обстоятельных
объяснений, скорее он сам на первых этапах может использоваться как доказательная
база для объяснений способа воздействия научного познания мира на культуру
современного общества. В нашем типе культуры механизм этот известен каждому
взрослому человеку. Сегодня подавляющее большинство живущего поколения
взрослых возрастных групп пришло туда, где они есть, именно этим путем: десять
или одиннадцать лет они шли или их тащило в общем потоке сверстников к
аттестату зрелости по урокам, четвертям, классам согласно расписаниям и учебным
планам, чтобы затем через радиальную дельту многочисленных потоков
специализации пройти через пороги семестров, курсов, зачетов, экзаменов опять-таки
согласно расписаниям и учебным планам в великое многообразие наличной
матрицы видов общесоциальной деятельности.
Так идут в жизнь, наследуют не ими созданные механизмы «жизни сообща»
в странах европейской культурной традиции, в которых проживает менее трети
населения земли, тогда как остальные две трети, проживающие в странах
неевропейских культурных традиций, либо используют другие механизмы
социализации входящих в жизнь поколений индивидов, находя их удовлетворительными и
даже активно защищая их от инокультурных воздействий, либо же пытаются,
далеко не всегда успешно, привить на собственной культурной почве европейский
способ онаученной социализации индивидов.
Существование нескольких вариантов решения задачи воспроизводства и
изменения социальной жизни в смене поколений дает, естественно, поводы для
оценок, сравнений, классификаций — для разработки типологии или типологий
История европейской культурной традиции и ее проблемы
7
культур по тем или иным основаниям. При этом производно от состава набора
оснований сравнения и от того, что именно понимается под наукой и ее
социальной функцией, наука может присутствовать во всех типах или только в
европейском да и то лишь на определенных этапах его развития. Если активное
соучастие в строительстве и преобразовании состава Ту и, естественно,
действующего стандарта научных знаний всеобщего и обязательного для данного общества
распределения признается существенной социальной ролью науки и именно по
этой роли опознается присутствие или отсутствие науки в культурном типе, то
можно со всей определенностью сказать, что наука и возникла в европейском
типе культуры и сегодня существует лишь в ареале распространения этого типа,
куда входят страны европейско-христианской культурной традиции и
немногочисленная группа стран инокультурной традиции, сумевших трансплантировать
европейскую систему социализации индивидов на свою почву.
Мы будем использовать на правах идентификатора присутствия или
отсутствия науки в данном обществе данного типа культуры именно эту
культурно-социальную функцию- соучастия науки в строительстве и преобразовании. состава
TJùJL42°JJ£Ç_ce воспитания входящих в жизнь поколений и воспитания воспита-
телей^для обеспечения преемственности этого процесса. Срезу же оговоримся, что
наш идентификатор отнюдь не бесспорен, что существует множество других
идентификаторов. Некоторые из них более распространены и признаны,
другие — менее.
Наша основная задача — попытаться выделить предмет истории науки,
проблемную область историко-научных исследований как некий конечный по
хронологической глубине и по принадлежности к культурному типу континуум
событий, образующих не только хронологическую последовательность, но и
последовательность историческую, в которой событие или группа предшествующих
событий образует условие осуществимости последующих событий, то есть мы
намерены показать определенную закономерность наличного и наблюдаемого
сегодня результата — действующего механизма каузальной связи между событиями
переднего края научных исследований и составом Ту, — как продукта множества
событий, располагающихся на разной хронологической глубине. Но поскольку
сама постановка этой задачи и анализ условий ее разрешимости, от чего,
понятно, зависит и структура нашего исследования, требуют ясности в ряде
составляющих постулатной базы, в которых ясности пока нет и ясность эта может быть
привнесена только явочным порядком формулирования рабочих гипотез и
допущений, нам прежде всего, еще в рамках предисловия, следует познакомиться с
рядом других индикаторов в явной или неявной форме используемых сегодня
историками науки.
Текущая методологическая ситуация
Дисциплине положено иметь предмет, а после работ Т.Куна [30] — и
парадигму, чтобы этот предмет видеть «научно» в единстве апперцепции как область
проблем, допускающих осмысленное обсуждение [30, с. 112]. Понятно, что
границы и состав предмета во многом будут зависеть от состава парадигмы, от
включенных в нее идентификаторов. Если, к примеру, мы строим парадигму истории
науки и ее места в культуре на постулатной базе наблюдаемого сегодня
воздействия науки на состав Ту через иерархию воспитателей, то такая парадигма
задержит в поле внимания книгу У.Пайла «Департамент образования и науки» как
подозрительную на проблемогенность, хотя она и вышла в «уайтхоллской серии»,
официальной целью которой является авторитетное описание наличных функций
основных департаментов центрального правительства Великобритании. Из этой
книги среди множества интересных вещей мы, например, узнаем, что до
парламентского акта 1902 г. (Акт Бальфура), разрешившего местным властям Англии
8
M. К. Петров
и- Уэльса учреждать педагогические колледжи, монопольное право на подготовк
/воспитателей английской школы принадлежало церквям и что ко времени Акт
об образовании 1944 е. примерно половина педагогических колледжей приыадле
жала церквям, а «несколько более половины местным властям» [146, с. 121J.
В рамках нашей парадигмы эти события парламентской и департаментско]
жизни немедленно будут возведены в ранг исторических. Еще бы! Ведь получа
ется, что до 1902 г. английская иерархия воспитателей включала церковньи
фильтр, который полностью контролировал состав Ту, внося свои коррективы
формирующее воздействие науки на Ту, да и в 1944 г., ко времени Акта 1944 г.
когда секуляризация народного образования делала крупные успехи, положени
практически не изменилось — попасть в университет, к вершине иерархии вое
питателей выпускнику английской школы ив начале 70-х гг. можно было, лиш
сдав экзамены «А» уровня Общего Сертификата^ Образования, а для этого над|
было кончить одну из «грамматических» школ второй ступени, большинство ко
/горых по английской терминологии были и остаются «волонтерскими», прежд
^всего церковными учебными заведениями [146, с. 97]. Обнаружив такую «анома
лию» в английской системе социализации индивидов, мы уже совсем иначе уди
вимся заявлению английского историка науки Д.Найта: «Вплоть до 1850 г. фор
мальное обучение опытной науке в школах Британии почти отсутствовало, но в«
второй половине XIX в. оно постепенно входило в практику, так что к 1900 г
большинство из тех, кто поступал в университет изучать науку, имело все же не
которое представление о том, зачем они здесь очутились» [131, с. 127—128]. Удив
ляться приходится не тому, что у тех, кто поступал в университеты, так долго hi
было осмысленного представления о целях собственного поступка, а тому, чт<
оно появилось до Акта об образовании 1902 г.
Понятно, что если парадигма истории науки построена на другой постулатно!
базе, сообщенные У.Пайлом факты могут и не получить исторического статуса
оказаться инородным телом в предмете истории науки.
Текущая методологическая ситуация в исследованиях по науковедению, соци
ологии и истории науки характеризуется присутствием двух возмущающих и труд
но согласуемых друг с другом моментов — эмпирического, который представле!
растущим массивом эмпирических данных о науке, университете, системах на
родного образования, собранных по множеству переменных, далеко не всегда об
разующих целостную систему, и момента концептуального, в эпицентре которой
располагается сегодня концепция Т.Куна о научных революциях [30], причем рас
полагается не на правах господствующей концепции, а скорее на правах сильно
действующего раздражителя, вынуждающего науковедов, социологов и историко]
науки, с одной стороны, проявлять к концепции Куна определенный пиетет, а <
другой, — обойти самое проблему революции.
Такое «амбивалентное» отношение к Куну в общем-то понятно. В
общепринятое представление о «научности» входит сегодня редко эксплицируемая, не
действенная посылка, которую впервые четко сформулировал Лейбниц в самок
начале XVIII в.: «...свойства вещей всегда и повсюду являются такими же, каковь
они сейчас и здесь» [32]. Эта посылка выполнима только в условиях
«нормальной» науки, поскольку она вводит через «всегда и повсюду» представление о
дисциплинарной «вечности», смысл которой лучше других для наших целей пояснит
верный ученик и комментатор Р.Мертона Н.Сторер: «Научное знание в
определенном смысле вне времени. Мы по привычке пишем: «Аристотель говорит,..
Ньютон отмечает...», что свидетельствует в пользу широкой распространенности
постулата платоников о том, что все идеи науки сосуществуют где-то в области,
лишенной часов и календарей» [140, с. XXIII—XXIV].
Эта связанная с постулатом Лейбница ид,ея дисциплинарной вечности
ограничивает состав предметов естественных дисциплин только репродуктивными и
устойчивыми характеристиками окружения, и поскольку исследователь всегда на-
История европейской культурной традиции и ее проблемы
9
циплины получают хронологическую глубину, отмечают «начало» своей
предметности тем или иным событием. В докембрии, например, не обнаруживается
следов органики, поэтому геологическая вечность более глубока, чем биологическая,
антропологическая, историко-научная. Для естественнонаучных дисциплин
наличие такой вечности имеет решающее значение, по сути дела оправдывает их
существование: вывод очередного результата через эксперимент из «здесь и сейчас»
наблюдения во «всегда и повсюду» возможных повторений, демонстраций,
приложений обеспечивает неограниченную «транспортабельность»
верифицированных результатов, элементов научного знания к местам и датам приложений.
С постулатом Лейбница непосредственно связаны постулаты униформизма и
актуализма Лайеля, эксплицитно использованные им при вычленении предмета
геологии в едином в то время предмете естественной истории. По смыслу этих
постулатов в предмет или в проблемную область дисциплины, если она
претендует на принадлежность к науке, можно ввести только такие наблюдаемые
события, которые являются следствием наблюдаемых же причин, в противном случае
гипотезу нельзя будет верифицировать, она останется за пределами науки.
Подражая высоким образцам научности, науковеды, социологи и историки
науки крайне болезненно относятся к концепции Куна именно потому, что она
«катастрофична», ограничивает глубину их дисциплинарных вечностей периодом
нормального развития исследуемых дисциплин, создавая множество трудностей
перехода в предреволюционный период, на котором действовали причины, ныне
уже не наблюдаемые, «вымершие».
Кун в этом смысле мешает всем. У науковедов и социологов, исследования
которых дают основную эмпирическую информацию о науке, концепция Куна
порождает сомнения относительно солидности их результатов. У историков науки
она создает огорчительные помехи в работе привычного и обжитого механизма
«догадничества», которое Р.Мертон определяет так: «Догадничество состоит в
преданном и преднамеренном поиске различного рода ранних версий наличных
научных идей. В экстремальных случаях догада слабейшую тень сходства между
ранними и более поздними идеями описывает как полную идентичность» [139,
с. 20-21].
Нам также придется иметь дело и с концепцией Куна и с теми трудностями,
которые она порождает. Стоит поэтому сразу же ознакомиться с типичными
примерами отношения к Куну.
Для позиции социологов типичны «обтекающие» высказывания Р.Мертона и
более прямые высказывания его учеников. В 1967 г. Мертон писал: «В недавно
вышедшей книге историк науки Томас С.Кун различает «нормальную науку» и
«научные революции» как фазы в эволюции науки. Большинство опубликованных
откликов на книгу, как и сам Кун, концентрируют внимание на тех возникающих
время от времени скачках вперед, которые характерны для научной революции.
Но хотя эти революции являются наиболее драматическими моментами в
развитии науки, большинство ученых подавляющую часть времени занято
деятельностью в условиях «нормальной науки», наращивает путем кумулятивных
приращений знание, основанное на разделяемых всеми парадигмах — более или менее
конкретных наборах постулатов и представлений. Кун, таким образом, не
отрицает давно установившегося взгляда, что наука в основном растет за счет
приращений, хотя главное его внимание направлено на демонстрацию того, что этим
дело отнюдь не исчерпывается. Поэтому чтение его работы с той точки зрения,
будто бы теперь кумуляция знания просто миф, было бы в прямом противоречии
с историческими свидетельствами» [139, с. 12—13].
В 1973 г. его ученик Н.Сторер в предисловии к сборнику работ своего учителя
выражал уже более жесткую позицию с применением даже китайских
философских категорий: «С момента появления в начале 60-х гг. парадигмы Мертона
большинство исследований в данной области удовлетворяло куновскому
определению «нормальной науки». Не только работы самого Мертона, но и работы мно-
10
M. К. Петров
гих других концентрировались главным образом на проблемах, которые, когда их
удавалось объяснить, оказывались непосредственно связанными с вопросами,
эксплицитно или имплицитно заключенными в парадигме Мертона. Короче
говоря, социология науки вызрела до уровня, когда значительная часть
исследований следует нормам «паззл-солвинп> (складывания разрезанных картинок. —
М.П.). Кун сам подчеркивает, что отнести исследование к типу «паззл-солвинг»
вовсе не означает, будто такое исследование требует меньшего воображения,
приносит меньшее удовлетворение или оказывается менее важным. Заполнение
областей, идентифицируемых той или иной парадигмой как, говоря терминами
Мертона, «точно определенное незнание» — столь же необходимо для развития
научного познания, как и научная революция. Без «инь» нормальной науки не
стало бы почвы и для «янь» научной революции, причем революции бывают
сравнительно редко» [140, с. XXX].
Словом, Куну — куново, а нам вполне хватает дел и с нормальной наукой, с
процессом инкрементной кумуляции знания, хотя, как это нетрудно заметить,
Кун как-то удивительно быстро научил социологов объясняться на своем языке,
заставил их осознать и признать, что хотя социологи науки и заняты заполнением
пустот в парадигме Мертона, «этим дело отнюдь не исчерпывается».
Несколько иными и более многообразными путями идет освоение куновской
проблематики историками науки. Здесь никто не отрицает самого факта наличия
культурных революций и вызываемых ими радикальных сдвигов, но все это
низводится на уровень частных дисциплинарных событий, не делающих погоды,
когда речь идет о науке в целом, о построении предмета истории науки вообще.
Выражаясь терминами Сторера и Лао-Цзы, история науки, в отличие от
социологии науки, не вызрела еще до увлечений «паззл-солвингом» нормальной
дисциплинарной жизни, ее изначальное дисциплинарное «янь» не достигло еще
должной солидности и темноты, чтобы встреча с легким и светлым «янь» Куна
могла завершиться чем-то фундаментально революционным и долговечным.
Концепт Куна здесь сталкивается не столько с четко выраженной оппозицией
дисциплины, которой, как и любой уважающей себя дисциплине, положено обладать
изрядным зарядом консерватизма и хотя бы символически сопротивляться в
революционных обстоятельствах, сколько со стремлением к этому взрослому
«янь» — состоянию дисциплинарной независимости и устойчивости в духе
сомнений Агафьи Тихоновны: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить
к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара
Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана
Павловича—я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай!» [13, с. 253]. Кун
здесь пока в роли кандидата, достоинства и преимущества которого далеко не
бесспорны.
Наиболее четкую, но вместе с тем и типичную позицию занимает в таких
сомнениях выбора упоминавшийся уже в другом контексте Д.Найт [131]. У него
группа кандидатов представлена Куном, Юовье, Карлейлем, Лайелем, Дарвином,
Гаттоном и, понятно, самим собой. Для него наука — «комплексная человеческая
деятельность», «процесс мышления о природе, дискуссий о природе, допроса
природы и использования природы», «единство интеллектуальной, социальной и
практической деятельности» [131, с. 11].
В первой книге 1975 г. «Источники по истории науки с 1660 по 1914 гг.» [130]
Найт в основном расчищает почву для предмета истории науки, работает, так
сказать, на нулевом цикле: «В прошлом большая часть истории науки писалась
активными или отошедшими от дел учеными, которые часто стремились
оправдать определенный взгляд на науку или даже на отдельную научную теорию,
показывая, что они имеют долгую и почитаемую историю. Это можно рассматривать
как форму самоутверждения, которая способна сочетаться с некритическим
использованием источников. Но нам лучше называть такую историю более
нейтрально — как «прикладную» историю науки, поскольку определенно желательно
История европейской культурной традиции и ее проблемы
11
и похвально, чтобы ученые всегда стремились следовать развитию концепций,
которые в данный момент признаются важными в их различных дисциплинах. Но
важно и то, чтобы в дополнение обязательно существовала и «чистая» история
науки — забота тех, кто желает выяснять, что понималось под «наукой» в
различные времена прошлого, какие проблемы стояли перед учеными и как ученые
подходили к их решению» [130, с. 12—13].
Через год, во второй книге, картина радикально меняется: Найт строит
предмет истории науки, причем далеко не во всем позиции двух книг совпадают. В
первой рядом с темой о возможности «чистой» истории науки как частной
области истории, «сторонники которой принадлежат скорее к виду историков, чем
к виду ученых или философов» [130, с. 13], идет и тема сомнения: «Было бы
ошибкой полагать, будто существует одна истинная история науки и задача
историка науки состоит в том, чтобы написать ее. Сознавая, что не существует
какой-либо одной точки зрения, способной дать общий вид на науку в целом,
историку скорее следует обеспокоиться подысканием мест, обеспечивающих
благоприятный обзор» [130, с. 12].
Во второй книге для сомнений не остается места: «Двести лет тому назад
химик и священник-унитарист Джозеф Пристли написал две толстые книги по
истории и тогдашнему состоянию двух ведущих наук его времени: по
электричеству и оптике. Целью книг было привести читателя, как они практически
привели самого Пристли в процессе их написания, от почти полного невежества на
самый передний край познания. Наша книга в некотором смысле более
амбициозна, а во многих других — менее. Она более амбициозна в том отношении, что
мы будем рассматривать историю и современное состояние не какой-либо
отдельной науки, а науки как целостности. Она менее амбициозна в том отношении,
что никто из читателей, ознакомившись с ней, не почувствует себя достаточно
подготовленным, чтобы приступить к исследованиям в какой-либо из наук. Наша
книга не является техническим руководством. С книгами Пристли ее роднит то
обстоятельство, что она не требует от читателя глубокого знания текущего
состояния или прошлого науки. Как Пристли надеялся изучить науку по данным ее
истории, так и мы в этой книге надеемся узнать нечто о работе науки как
процесса, а не о науке как безличном перечислении принадлежащих ей фактов.
Наши задачи шире, чем у Пристли, поскольку мы будем рассматривать науку как
комплексную деятельность, с тем чтобы выявить ее сходство с другими видами
человеческой деятельности и ее отличие от них» [131, с. 11].
И сразу же начинается Кун, именно по Куну Найт определяет свою позицию,
пока речь не заходит о построении дисциплинарной вечности. Он прекрасно
ориентируется и в общей схеме и в нюансах куновской концепции, включая и
характерный для Куна момент академической «муштры» входящих в науку новых
поколений исследователей: «Тех, кто изучает предмет, натаскивают по
признанной парадигме и связанному с ней жаргону, так как было бы большой потерей
времени, если бы каждому пришлось снова и снова повторять ошибки
предшественников. Редакторы и референты знают, какой тип резонирования и
эксперимента является приемлемым, а организаторы конгрессов знают, какие темы
дискуссий правомерны. Основатель любой науки мучается над вопросами, которые
трудно задать, сформулировать, так как они должны обрамлять новые концепты
или пересаживать из одной области в другую идеи, которые создадут порядок из
хаоса. Те же, кто работает в нормальной науке, не нуждаются в творческом
воображении этого типа, поскольку они заняты вопросами, на которые трудно
ответить, но почти с достоверностью можно получить ответ, если исследователь
настойчив, хорошо подготовлен и обеспечен адекватной аппаратурой. Основателем
науки часто является человек, который переносит внимание с вопросов, на
которые нельзя получить ответов, на вопросы, которые допускают ответы. Так,
Галилей перестал задаваться вопросом, почему тела обязаны падать, а вместо этого
стал изучать, с какой скоростью они падают» [131, с. 18].
12
M. К. Петров
Самое революцию Найт толкует в несколько смягченных тонах: «Период
нормальной науки может длиться неопределенно долго, но со временем произойдет,
вероятно, в соответствии со схемой Куна накопление неприемлемых аномалий.
Нет таких областей, где все находило бы удовлетворительное объяснение. На
краях логически наиболее организованной науки всегда обнаруживается
некоторый беспорядок. Так, в XIX в. рудиментарные органы, такие как аппендикс у
человека, были аномалией, равным образом и излучение черных тел и прецессия
орбиты Меркурия не могли найти полного объяснения. Но всему этому не
придавалось особого значения. С драматическим выстраиванием новых перспектив
эти феномены находят свое место: рудиментарные органы оказываются
свидетельствами эволюционной истории, излучение черных тел — излучением частиц,
называемых «квантами», и в релятивистской физике орбита Меркурия выглядит
куда более уместной, чем в физике Ньютона» [131, с. 18].
Но за этой почти куновской картиной почти сразу же, на правах фона,
начинает прорисовываться ситуация Агафьи Тихоновны: «Вместо взгляда на науку как
на более или менее устойчивый марш к истине или к объективности концепция
Куна дает нам более интересную картину серий шатких рывков вперед, всякий
раз в новых направлениях, со встроенными между ними периодами спокойного
кумулятивного роста, называемого нормальной наукой. Это придает картине
любопытное сходство с теориями истории и геологии, существовавшими в начале
XIX в., и делает ее открытой почти для тех же критических замечаний, которые
направлялись против этих теорий. В истории это теория Карлейля, в которой
выдающуюся роль играет герой, «а мы, мелкие людишки, топчемся под его
огромными ножищами, выглядываем по сторонам, подыскивая себе бесславные
могилы». Хотя этот взгляд на историю подчеркивал в основном грубость и
неумолимость того, что знаменовало силы прогресса, а неудачные революции 1848 г.
показали, что прогресс можно все же остановить, критика этого взгляда во многих
областях остается актуальной. И конечно же, если в истории науки мы слышим
только о нескольких великих именах, то происходит это видимо потому, что мы
многого не знаем, а не потому, что важная работа действительно сделана лишь
горсткой героев» [131, с. 19—20].
В несколько ином плане идет сравнение с геологией: «Геологическая теория
была в то время представлена Кювье и рядом его сторонников, которые для
объяснения видимых срывов преемственности в напластованиях привлекали идею
катастроф в прошлом. История земли была для них сменой периодов
спокойствия, в течение которых накапливались пласты, и катаклизмов, когда все
оказывалось нарушенным. Свергли эту концепцию в основном усилия Лайеля,
«Принципы геологии» которого начали выходить в свет в 1830 г. В этой работе он
привлек внимание к силе агентов, действующих и в настоящее время на поверхности
земли, таких как волны, наводнения, землетрясения, вулканы, и утверждал, что
если дать им время, эти ныне действующие причины могли бы вызвать все те
изменения в прошлом, свидетельства которых мы обнаруживаем сегодня» [131,
с. 20].
На этой идее универсальных агентов, действующих и сегодня, которые могут
объяснить все реликты прошлого, «если дать им время», и рвутся связи Найта с
Куном: Куна приходится укорачивать и по линии приведения его «героев» к че-
ловекоразмерности «мелких людишек» и по линии укрощения революций до сил-
возможностей наблюдаемых ныне универсальных агентов, то есть укладывать
Куна в Прокрустово ложе униформизма и актуализма. Делается это методом по-
пперовской фальсификации, то есть методом указания идеям Куна границ
истинности, перевода революций из статуса переломных скачков-интеграторов
процесса истории науки в статус одного из универсальных агентов, действующих и
сегодня на уровне отдельных дисциплин, да и здесь в общем-то принимающих
кумулятивный характер: «Если мы более внимательно присмотримся к истории
любой ветви науки, мы обнаружим там последовательность мелких изменений
История европейской культурной традиции и ее проблемы 13
как в данных, так и в концепциях. Корпускулярные теории электричества
Франклина были вскоре почти до неузнаваемости модифицированы Эпинусом, Кавен-
дишем и Кулоном. Открытия Гальвани и Вольта присоединили к науке огромные
провинции, открыв дорогу психологии и химии к исследованиям средствами
электричества. Эрстед и Ампер свели в единство электричество и магнетизм. Дэви
и Берцелиус сделали электрический заряд основой химического средства.
Наконец, ученик Дэви Фарадей развенчал идею электричества как тонкой жидкости,
стал рассматривать электричество как выявление силы или энергии. Дело вкуса
сказать, где во всей этой последовательности кончается парадигма Франклина.
Ясно, что в 30-е и 40-е гг. XIX в., когда работал Фарадей, от всей теории
Франклина осталась только общая идея о том, что электричество — экспериментальная
наука, где нужно действовать как в любых других науках, и что электричество
могло бы оказаться видом жидкости, подобно теплоте, которая тогда считалась
жидкостью. Но и эта последняя идея уже тогда начинала казаться старомодной
и лишь немногие проявляли готовность защищать ее» [131, с. 20—21].
Словом, революция то ли была, то ли нет, — все зависит от субъективной
оценки. Не лучше обстоит дело и с героями: «Научные революции, возможно, не
так уж и отличаются от социальных. Иногда в них можно обнаружить дату
падения Бастилии, но часто научная революция обнаруживается, как и любая другая,
лишь в акте сравнения ситуации через десяток-другой лет с ситуацией, когда
произошли значительные политические, социальные или индустриальные события.
Честь стать причиной такой революции могла бы быть приписана любому, кто
проявил бы достаточно проницательности, чтобы увидеть, что собственно
происходит, и объяснить это своим современникам. Так, Гельмгольц, формулируя
принцип сохранения энергии, ясно выразил, похоже, нечто, бродившее уже в
умах многих его современников, но что они не представляли себе четко или не
видели в полной всеобщности» [131, с. 21].
В целом же, по Найту, не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать роли
революций в науке: «Концепция Куна весьма полезна при анализе эпизодов,
которые либо достаточно драматичны, либо достаточно темны, но много менее
полезна, когда концептуальные изменения и экспериментальные открытия идут
рука об руку, с тем чтобы произвести огромные изменения на периоде
нескольких десятилетий» [131, с. 22]. Применимость идей Куна, таким образом, обратно
пропорциональна глубине дисциплинарной вечности предмета истории науки.
Чем больше дано времени универсальным агентам на выявление своих
кумулятивных способностей, тем меньше потребность в концепции Куна. На какой-то
глубине ретроспективы она вообще не нужна: бессмысленно разбираться, идут ли
экспериментальные открытия «рука об руку» с концептуальными изменениями
или отрицают друг друга, поскольку конечный результат будет одним и тем же —
кумуляцией знания.
Нам тоже придется выяснять отношения с Т.Куном, поскольку наша посту-
латная база — участие науки в формировании Ту, в воспроизводстве и изменении
культуры — частично обсуждается в 11 разделе его книги. Внимание Куна
привлечено к частному обстоятельству воспитательной практики переднего края по
отношению к иерархии воспитателей, которое он называет «неразличимостью
революций» и которое связывает с переписыванием истории дисциплины и науки
в целом, что всякий раз придает истории благообразный кумулятивный вид,
удовлетворяющий, скажем, определению Лайеля: «Если униформизм плана принят на
правах посылки, то за событиями, которые произошли в самые отдаленные
периоды в одушевленном и неодушевленном мире, должно быть признано право
проливать свет на любое другое событие и восполнять неполноту нашей
информации относительно некоторых наиболее темных частей современного творения»
[131, с. 9].
Это обстоятельство интересует нас в несколько более широком наборе
аспектов вменяемости университета, который связан в основном со степенью осознан-
14
М.К. Петров
ности и управляемости воспитательного воздействия непредсказуемых событий
переднего края научного познания мира на иерархию воспитателей и в конечном
счете на Ту. Учитывая дисциплинарную раздробленность переднего края научных
исследований и наличие междисциплинарных лакун пресекающих осмысленное
общение на уровнях исследователей разной дисциплинарной принадлежности —
ситуация курилки в университете, годичного собрания академии наук в
общенаучной коммуникации, где нельзя подняться выше Ту, — эффект неразличимости
революций, а он действительно существует не только в академическом канале
подготовки исследовательских кадров, но и в канале общеобразовательной
средней школы, мог бы оказаться весьма сложной и актуальной проблемой. Процесс
распространения знаний через Ту как орудие онаучивания общества берет начало
от множества точек переднего края, принадлежащих разным дисциплинам и
практически не входит в содержательное согласование своих составляющих
вплоть до входа в школьный континуум «от 7 до 17». В этих условиях
университет, в котором локализуются все эти начальные точки-события, вызывающие
волны изменений в составе Ту, может оказаться в положении культуртрегера
поневоле, выполняющего незавидную роль семи нянек.
Постановка проблемы у Куна не затрагивает вопросов вменяемости
университетов, их ответственности за возможные плоды научного просвещения, хотя в
самых различных постановках проблема науки и ответственности порождает
сегодня острейшие дискуссии. Кун практически смазывает наиболее острую часть
проблематики неразличимости революций: «Характерно, что научные учебники
включают лишь небольшую часть истории — или в предисловии, или, что более
часто, в разбросанных сносках о великих личностях прежних веков. С помощью
таких ссылок и студенты и ученые-профессионалы чувствуют себя причастными
к истории. Однако та историческая традиция, которая извлекается из учебников
и к которой таким образом приобщаются ученые, фактически никогда не
существовала. По причинам, которые и очевидны, и в значительной степени
определяются самим назначением учебников, последние (а также большое число старых
работ по истории науки) отсылают только к той части работ ученых прошлого,
которую можно легко воспринять как вклад в постановку и решение проблем,
соответствующих принятой в данном учебнике парадигме. Частью вследствие
отбора материала, а частью вследствие его искажения ученые прошлого
безоговорочно изображаются как ученые, работавшие над тем же самым кругом проблем
и с тем же самым набором канонов, за которыми последняя революция в научной
теории и методе закрепила прерогативы научности. Не удивительно, что учебники
и историческая традиция, которую они содержат, должны переписываться заново
после каждой научной революции. И не удивительно, что, как только они
переписываются, наука в новом изложении всякий раз приобретает в значительной
степени внешние признаки кумулятивности» [30, с. 176].
Эти внешние черты кумулятивности и есть в общем-то приведение истории
дисциплины к принципам униформизма и актуализма, продление
дисциплинарной вечности на максимально возможную глубину, когда, скажем, математики
смело начинают свою дисциплину с Пифагора, биологи — с Эмпедокла,
Аристотеля и Теофраста, лингвисты и логики со спора о природе языка между геракли-
товцами и Демокритом, философы — с Фалеса и т.п. Наличие этой ярко
выраженной тенденции к переписыванию истории, к подгонке ее к кумулятивным
стандартам «времени на выявление» кумулятивных возможностей наблюдаемых
универсальных агентов, не подлежит сомнению. Но у Куна сама эта тенденция
несет скорее разрушительную, чем позитивную функцию: «Конечно, ученые не
составляют единственной группы, которая стремится рассматривать
предшествующее развитие своей дисциплины как линейно-направленное к ее нынешним
высотам. Искушение переписать историю ретроспективно всегда было
повсеместным и непреодолимым» [30, с. 176—177].
История европейской культурной традиции и ее проблемы
15
Одной из наших задач будет показать функциональную и многоплановую за-
действованность истории в процессах освоения нового, перевода нового в
наличное, где история, идет ли речь о материальной или духовной истории, истории
социальных институтов или людей, выступает неустранимым партнером диалога
нового с наличным, диалектики изменения наличного по им же предписанным
правилам. В рамках этой задачи нам, естественно, придется входить в
конфликтные ситуации с любыми статическими представлениями истории под формой
завершенного продукта неодолимого тщеславия, как это сделано у Куна, или
кладбища имен и идей, на котором уже ничего произойти не может.
Проблема начала
Постоянное и во многом естественное стремление дисциплин углублять их
дисциплинарные вечности, «повсюду и всегда» результатов познавательных
усилий, совершаемых в «здесь и сейчас» конкретных исследований имеет свою
бурную историю. Как осознанное стремление, входящее в столкновение с
общепринятыми убеждениями, в нашей европейской культуре оно перешло из состояния
данности (типа, скажем, данности таблицы умножения), не порождающей
осмысленных вопросов, в состояние проблемы сравнительно недавно по ряду
конфликтных ситуаций между библейской глубиной акта творения и научными
представлениями о периодах времени, необходимых для появления наблюдаемых
результатов под действием наблюдаемых же причин, универсальных агентов,
выявляющих свои кумулятивные потенции. В XIX в., когда она появилась,
конфликтную остроту проблеме начала дисциплинарной вечности придавало то
элементарное обстоятельство, что в тексты Библии включены конкретные исторические
события, позволяющие довольно точно определить дату акта творения — около
4004 г. до н.э. Если учесть, например, что допустимый разброс прямых
измерений возраста ископаемой органики методом полураспада радиоактивного
углерода составляет несколько тысячелетий, то станет понятным и накал страстей
вокруг проблемы начала дисциплинарной вечности, и тот ощутимый и сегодня
идеологический аспект дискуссий вокруг проблемы начала, когда аргументация в
пользу дисциплинарной вечности, имеющей начало во времени, почти всегда
вызывает подозрения, не является ли она наукообразной защитой теологии, а
аргументация в пользу сдвига начала в прошлое, выступления за безначальную
вечность, за безначальное «повсюду и всегда», за отсутствие «часов и календарей» в
местах обитания научного знания, почти всегда воспринимаются как проявления
надежной, «кондовой» научной позиции.
Найт так описывает современное состояние проблемы: «Сегодня, как и
раньше, творение мира будоражит умы мужей науки, вызывает полемику между теми,
кто считает, будто мир возник в определенный момент времени — сегодня этот
взгляд, похоже, начинает преобладать, и теми, кто подобно Аристотелю и Гатто-
ну, придерживается идеи постоянства, не обнаруживая «ни следов начала, ни
перспективы конца». Первая концепция конгениальна понятию божественного
«творческого акта», тогда как вторая фиксирует внимание на поддержании
сотворенного уже порядка. Ни тот ни другой взгляд не подкрепляют и не опровергают
каких-либо религиозных представлений о мире, но каждый из них опирается на
одни теологические позиции и враждебен другим. Старая естественная теология
все еще сохраняется в некоторых областях среди мужей науки, тогда как
психологи и социологи проводят исследования религии под влиянием Уильяма
Джеймса и Макса Вебера» [131, с. 196—197].
Честь создания первой конфликтной ситуации Найт приписывает Гаттону,
медику и геологу, которому принадлежит сказанная в 1785 г. фраза: «Мы не
обнаруживаем следов начала и перспективы конца» [131, с. 67], но датировка начала
предмета геологии стала осознанной проблемой в XIX в. после опубликования
16
M. К. Петров
работ Лайеля. Первой реакцией интеллектуалов-геологов была попытка потянуть
шкалу времени. Психологически она была вполне оправдана, поскольку
современная уверенность в неизменности шкалы времени, в том, что секунды, часы,
сутки «здесь и сейчас» равны секундам, часам и суткам «повсюду и всегда» еще
только-только переходила в статус непререкаемой данности типа
господствовавшей в то время веры в изначальную конечность и неизменность номенклатуры
сотворенных богом биологических видов или веры в таблицу умножения, тогда
как относительно недавно еще по поводу униформизма времени не только не
было никакой уверенности, но господствовало зафиксированное в Библии
противоположное авторитетное мнение. Теологи в общем-то стояли за «резиновое
время», ссылаясь то на Иисуса Навина, то на Петра: «Одно то не должно быть
скрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча
лет, как один день» [2 Пет., 3 кн., 8 ст.].
Найт пишет: «В 1830 г. Лайель опубликовал книгу, которая постепенно
убедила геологов в том, что прошлые изменения следует объяснять в терминах сил,
действующих сегодня, что в свою очередь предполагало значительно более
длительную историю земли. Некоторые геологи находили необходимым удлинить
«дни» описанных в книге Бытия событий, понимать под каждым днем период в
миллионы лет. Но большинство все же не проявляло такой приверженности к
букве Писания. К тому же, поколение спустя, появилась и теория Дарвина, хотя
влияние этой внешней биологии на геологов возможно и преувеличивается. Еще
в 1844 г. появился анонимный бестселлер «Рудименты», который внес в умы
публики идеи эволюции, так что не было уже полной неожиданностью
представление о мире, в котором человек — поздний пришелец, а биологические виды
появляются и исчезают, следуя некоему неумолимому закону. Заслуга же Дарвина
состояла в том, что он убедил в существовании эволюции мужей науки, строя
аргументацию на многочисленных примерах, так что эволюционная теория уже
не могла рассматриваться как простая спекуляция» [131, с. 67—68].
Найт явный сторонник безначальной дисциплинарной вечности, симпатии его
всегда на стороне тех, кому удается утопить начало во времени. Но прежде, чем
посмотреть эту вторую сторону проблемы, нам следует отметить как большую
заслугу Найта то обстоятельство, что он переводит конфликты между теми, кто
предполагает начало, и теми, кто отвергает его в стремлении «дать время» на
выявление кумулятивного эффекта наблюдаемого набора агентов-причин, из их
традиционного восприятия в оппозиции теология-наука в область научной
методологии. Не обязательно быть теологом, чтобы стоять за начало, за акт творения.
Тем же геологам приходилось входить в конфликт не только с текстами Писания,
но и с термодинамикой.
«Трения между физиками и геологами, — замечает Найт, — приняли
открытую форму, когда в конце XIX в. лорд Кельвин попытался применить второй
закон термодинамики к процессам охлаждения земли и выгорания солнца, с тем
чтобы выяснить возраст земли и солнечной системы в целом. Полученные им
значения оказались низки — менее 100 млн. лет, были явно недостаточны для
геологических и эволюционных процессов, в которые, вслед за Лайелем и Дар-
вином, верило большинство геологов. В стане геологов возникло некоторое
замешательство, Гексли разразился несколькими филиппиками, но только открытие
в начале XX в. радиоактивности как источника энергии земли и солнца, о
котором ничего не знал Кельвин, полностью опровергло его вычисления. Выяснилось,
что геологи были правы, игнорируя теории физиков, и многие превращали этот
единственный случай в решающий довод в пользу автономии своей науки» [131,
с. 193].
Признавая широкую распространенность в научном сообществе принципа
Гаттона «мы не обнаруживаем следов начала и перспективы конца», присутствует
ли он на правах данности или проблемы, мы отказываемся видеть в нем
самодовлеющий критерий научности. Отрицать его функцию критерия и весьма су-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 17
щественного не приходится: приложимость, способность к бесконечному
тиражированию в любых мыслимых местах и датах приложения — неотъемлемое
свойство элемента научного знания, а свойство это приобретается только в том
случае, если результат удалось подтвердить экспериментально, отправить его этим
способом из «здесь и сейчас» его рождения и верификации в безначальное
«повсюду и всегда» дисциплинарной вечности, где нет не только «часов и
календарей», но и вообще теряют смысл отметки пространства, времени,
творца-субъекта. Даже вот и развитая эпонимическая характеристика науки оказывается в
«повсюду и всегда», по справедливому замечанию Мертона, несущественной:
«Рационализм научной этики урезает до минимума права собственности в науке.
Претензии ученых на «свою» интеллектуальную «собственность» ограничены правом
на признание и оценку, причем последняя, если институт оценки функционирует
достаточно эффективно, соответствует примерно значению вклада в общий фонд
знания. Эпонимика — система Коперника, например, или закон Бойля —
является одновременно и мнемотехническим средством и формой поминовения» [140,
с. 273].
Но так обстоит дело далеко не во всех дисциплинах. Любой результат
биологии, например, теряет смысл для докембрия, где пока не обнаружили следов
органики, и если жизнь на нашей планете началась не с человека и не с науки, то
есть свои «докембрии» и у человека и у науки, где данные антропологии и
науковедения обращаются в бессмыслицу. Понятно, что этот вопрос о «докембрии»
имеет силу и для истории науки: история науки не может возникнуть раньше
самой науки. Сама по себе верификация результата, подтверждающая его
принадлежность к репродуктивной характеристике окружения, не может считаться
достаточным критерием научности в отрыве от способа, каким получен этот
результат. Колесо тоже кто-то придумал, как и огонь, дубину, бумеранг. Но все это
явно из научного «докембрия», хотя и обладает свойством приложимости. Чтобы
получить статус исторического события в континууме существования науки мало
обладать свойством приложимости, нужно еще обрести это свойство научным
способом.
Иными словами, стремление сдвинуть начало в прошлое может за какими-то
пределами оказаться методически неправомерным и даже опасным,
разрушающим структуру проблемы и делающим ее неразрешимой. Если вернуться к «ку-
новскому» замечанию Найта, где он говорит о том, что основоположниками
науки часто являются люди, способные перенести внимание с неразрешимых
вопросов на разрешимые — «Галилей перестал задаваться вопросом, почему тела
обязаны падать, и вместо этого начал изучать, с какой скоростью они падают»
[131, с. 18], то при избытке усилий отодвинуть начало в прошлое вполне можно
добиться обратного результата: перенести внимание с вопросов, которые
допускают ответы, на вопросы, которые их не допускают.
Вот, скажем, перед нами выписка из проспекта издательства «Наука»,
помещенная, как обычно, на последней странице книги [61] и не имеющая к тексту
этой книги никакого отношения: «...готовятся к печати: Очерки истории
естественнонаучных знаний в древности. 15 л. 1 р. 50 к. В книге впервые дан общий
обзор основных вех в становлении естественной науки от палеолита до Греции и
Рима. Показано место мифа, ритуала и его участников в фиксировании «предна-
учных» и научных, мифических и рациональных представлений. В центре
внимания авторов — проблемы перехода от донаучного знания к формированию науки
как одной из форм освоения действительности в системах древних цивилизаций.
Работа рассчитана на специалистов в области истории, философии,
науковедения, студентов и аспирантов».
Особая методологическая ценность этого проспекта в «здесь и сейчас» работы
над данной рукописью состоит в том, что «Очерки» еще не опубликованы, для
нас они пока гипотетическое событие в континууме предмета истории науки с
весьма высокой вероятностью реализации в ближайшем будущем (для «здесь и
2 М.К. Петров
18
M. К. Петров
сейчас» читателя оно, вероятно, уже наступило). Вместе с тем это и веский довод
в пользу выделения в особый предметный подконтинуум движения начала науки
с учетом ближайшей перспективы того, что с выходом в свет «Очерков»
дисциплинарная вечность истории науки станет в одном из вариантов совечной с
дисциплинарной вечностью антропологии, то есть начало науки будет располагаться
на той же глубине, где располагается сегодня с опорой на данные палеонтологии
проблема возникновения человека как существа не только естественного, но и
социального и разумного. В практическом плане это означает, что как бы нам ни
хотелось увернуться от обсуждения предельно темной проблемы происхождения
человека как начала всех начал, всех видов социально значимой деятельности, в
том числе и научной, ничего у нас из этого не получится, проблему придется
все-таки обсуждать. И это тем более необходимо, что наша работа рассчитана на
ту же аудиторию, что и «Очерки», так что с той же примерно вероятностью, с
какой «Очерки» появятся на свет в ближайшем будущем, аудитория будет
подготовлена к восприятию нашей работы в более отдаленном будущем в тезаурусе
«Очерков».
Перспектива встречи с читателем, которому авторы «Очерков», надо полагать,
достаточно убедительно показали, что человек со времен палеолита, практически
со времени своего выделения из мира животных, был не только существом
социальным и мыслящим, но и в каком-то смысле научным, раз уж допускается
возможность обозревать вехи «становления естественной науки от палеолита» и
высказывается уверенность в присутствии науки «как одной из форм освоения
действительности в системах древних цивилизаций», вынуждает нас, для которых
наука, тем более естественная наука, явно незапланированный продукт
революции интеллектуалов XVII в., не имеющий аналогов ни в других ныне
здравствующих типах культуры, ни, понятно, в древних цивилизациях, тем более в^пале-
олите, еще и еще раз проверить «докембрий» науки на научную 'стерильность,
попытаться оценить достоинства и перспективы тех спорадических набегов в ино-
культурные области и в донаучную хронологию, которые совершались и
совершаются по линиям заимствований, общности установок, сходству терминов, а
главное, — в деталях проанализировать состав тех вполне конкретных трудностей,
которые возникают сегодня в процессах трансплантации науки на инокультурные
среды.
, Понятно, что все это не для предисловия, здесь минимум глава, а то и две
Основного текста, но явно для предисловия методологический механизм
нарушения границы, выхода в «докембрий» соответствующей дисциплинарной вечности.
Он, по нашему мнению, непосредственно связан с общенаучным стремлением
продлевать дисциплинарные вечности и один и тот же в антропологии, в истории
науки, да и в любой другой дисциплине.
Если принять такой критерий, а нечто в этом роде вероятно будет встречаться
и в «Очерках», то науку, естественно, придется начинать с «системы древних
цивилизаций», возникавших как раз по поводу земледелия, где примерно 80%
населения занято в сельском хозяйстве и, по критерию Мейеров, в науке,
письменность — искусство писарей, дьяков и «лишних людей» (лам, монахов), явно не
имеющих отношения к науке.
Несколько иной ход «открытой», так сказать, вечности демонстрирует Райт;/
«На периоде 1600—1900 гг. наука фила, в основном европейским предприятием,
хотя бывали и важные исключения* а до Д600 г. дела обстояли иначе. Наши цифры
пришли из Индии через арабов, а значительная часть науки, которая пришла к
нам от греков, у них появилась из Двуречья или из Египта» [131, с. 182—183].
Здесь эффект «открытости» в неявной форме провоцируется естественным
вопросом: А откуда взялась наука в Индии, Двуречье, Египте, может быть она и
туда пришла? Понятно, что вокруг таких «открытых» начал, идет ли речь об
истории науки или об антропологии начинают собираться опознанные по тем или
иным чертам сходства кандидаты в родоначальники, в «приматы»: приобретают
История европейской культурной традиции и ее проблемы 19
научную полуплоть Атлантиды, инопланетяне, дельфины, осьминоги, долгожив}-
щие разумные существа, внегалактические разумы и т.п., то есть^ироблема начала
переводится из трудной, но разрешимой в простую, но неразрешимую. В самом
деле; чего уж проще: младенцы конца XIX и начала XX вв. крепко хватались за
палки, чтобы к вящей славе эволюционистов доказать происхождение рода
человеческого от обезьян, а в конце XX в. младенцы с той же убедительностью спят
в ванне, изредка поворачивая голову для вдоха — на этот раз в пользу дельфинов
и т.п. Мы не против открытости начал самой по себе, но методологически она
бесплодна, всегда выстраивается в типичный ряд движения начал в дурную
бесконечность. Даже, скажем, если в должности «приматов» объявятся после бога и
обёзьыгттопланетяне или дельфины, проблема останется все в том же
состоянии — придется объяснять,*, откуда взялись инопланетяне или дельфины, а
результат будет тот же, что и в случае, если наука началась в Атлантиде: начало
оказалось бы на вполне приличной глубине.
f Не более перспективен, на наш взгляд, и^ход от предварительно утопленного
в бездонных глубинах прошлого набора составляющих Kjkwiee или менее четко
локализованному во времени началу, который совершается и по приверженности
к идеям развития, а иногда и просто под давлением нравственных соображений.
Наиболее интересен в этом отношении Дж.Нидам, известный историк китайской
культуры [144], который проделал значительную эволюцию за какие-нибудь
десять лет. В 1964 г. он писал: «Наиболее очевидным и естественным способом
объяснить загадку науки был бы такой, который вскрывал бы фундаментальные
различия в социально-экономической структуре и в степени стабильности между
Европой и цивилизациями Азии. Эти различия призваны были бы объяснить не
только загадку европейского возникновения науки, но и европейского
возникновения капитализма вместе с реформацией, национализмом и всем тем, чему нет
параллелей в других цивилизациях» [144, с. 147].
В 1973 г. в кратком введении к сборнику «Китайская наука» [102] Нидам уже
совершенно иначе ставит проблему предмета истории науки: «Одна из острейших
потребностей мира нашего времени — выращивание и широкая популяризация
истинной исторической ретроспективы, ибо без нее все народы способны на
опаснейшие предубеждения друг против друга. Раз уж в нашем сегодняшнем мире
господствует наука и ее приложения, а люди всех рас-и культур так гордятся
человеческим познанием природы и властью над нею, то жизненной
необходимостью становится знать, как эта современная наука появилась на свет. Была ли она
чистым порождением гения Европы, или же все цивилизации вносили свои
вклады в общую копилку?» [102, с, 1].
Склоняясь в пользу всеобщего участия)в порождении науки, к чему и должна
стремиться разработка истинной исторической ретроспективы, в покровители
такого благородного предприятия историков науки Нидам прочит епископа Себок-
та: «Святым покровителем всех этих людей широких взглядов и доброй воли мог
бы, пожалуй, стать сирийский епископ VI в. Сервус Себокт, который, описав
индийский метод вычислений, использующий только девять знаков, заметил, что
всем тем, кто постоянно славословит гений греков, давно бы пора уже понять,
что и другие тоже кое-что знали» [102, с. 3].
Наибольшую опасность, по мнению Нидама, представляет из себя то
обстоятельство, что и наука, и история науки возникли все же в Европе: «Так уж
получилось, что история науки, какой она возникла на Западе, имеет врожденный
порок ограниченности — тенденцию исследовать только одну линию развития, а
именно линию от; греков до европейского ренессанса. И это естественно. Ведь
то, что мы можем назвать по-настоящему современной наукой, в самом деле
возникло только в Западной Европе во времена «научной революции» XV—XVI вв.
и кульминировало в XVII в. Но это далеко не вся история, и упоминать только
об этой ее части было бы глубоко несправедливо по отношению к другим
цивилизациям. А несправедливость сегодня означает и неистинность, и недружелю-
2*
20
M. К. Петров
бие — два смертных греха, которые человечество не может совершать
безнаказанно» [102, с. 1].
Этот «врожденный порок» истории науки толкает европейцев к духовному
сепаратизму и к претензиям на исключительность, к европоцентризму — продукту
множества причин: «Европоцентризм прорастал из'множества корней — из
жестко установленной в античные времена греками антитезы между эллинами и
варварами, из претензий народа Израиля на избранность богом,... из огромной
концентрации силы, реализованной в оружии и в военных средствах, которую
сообща создали для европейцев современная наука и развивающийся капитализм.
Постулат превосходства стал почти неискоренимой привычкой ума, но нынешние
времена требуют выкорчевать его без остатка. «Только мы люди, и мудрость
родилась вместе с нами» — так убеждают себя дураки от чистого сердца, но сегодня
такие благоглупости опасны» [102, с. 2].
i Для искоренения таких благоглупостей Нидам предлагает и; концепт^движения
^образующих науки в будущую науку: «Как вены сходятся вместе, чтобы
образовать большую полую вену, точно так же по тысячам капилляров исходный
материал поступал изо всех частей мира. Обдщдийских цифрах и методах счета мы
уже упоминали, но там была еще и примечательная версия атомизма. Многими
вещами обеспечил ^^итай: уже к началу VII в. там был известен шпиндельный
спуск механических часовТ без которого мы не могли бы точно измерять время;
в V в. там изобрели метод взаимного превращения вращательного и возвратно-
поступательного движения; в I в. н.э. в Китае знали такое фундаментальное
устройство, как аксиальный руль для кораблей» [102, с. 3]. Найт добавляет к этому
списку известные китайские изобретения: бумагу, печатный станок, порох,
попутно замечая: «еще и в первых десятилетиях XIX в. сталь европейского
изготовления-вряд ли была сравнима со сталью Индии или Японии» [131, с. 183].
ДПраи^, одно время сотрудничавший с Нидамом в изучении китайских ин-
струмет^, в 1962 г., чуть раньше первой гипотезы Нидама, видел в науке чисто
^европейское явление: «Сегодня мы знаем, что ни одна из других великих
цивилизаций не следовала сравнимым с нашим, ведущим к науке путем. Даже из того
фрагментарного знания об их исторических событиях, которым мы располагаем,
становится все более ясным, что ни одна из них никогда и не склонялась к этому
пути. К данному факту можно относиться двояко. Принятым отношением
является попытка поочередно исследовать каждую цивилизацию, с тем чтобы
показать, как совокупность войн и нашествий, политических и социальных условий,
экономических неурядиц или философских предубеждений помешала
возникновению в них научной революции того или иного вида. Но вполне вероятно, что
сама попытка показать, будто наш путь единственно возможен, не более как
продукт естественного тщеславия, ^одее^рациональной альтернативой было бы
предположить вероятность того, что йменйО наша цивилизация сфищдь с пути, то
есть другие-то цивилизации были в основном нормальными, и только в
наследстве нашей цивилизации содержался некий редкий и специфический элемент,
который разросся в деятельность, господствующую ныне над нашими жизнями.
В этом случае справедливо было бы говорить о редком присутствии науки в
цивилизациях в том смысле, в каком астрономы говорят о редком наличии
планетных систем у звезд, а биологи — о редком наличии жизни на планетах» [148,
с. 3-4].
В 1973 г. в том же сборнике «Китайская наука» Прайс показывает
методологические сложности и восприятия китайских достижений под формой науки, и
«капиллярной» схемы собирания цивилизациями науки в Европе: «Нет никакого
сомнения в том, что китайская наука и технология были столь же
изобретательны, столь же хороши и столь же плохи, как и наука и технология античности
или средневековой Европы. Теперь нам следует подняться на следующую ступень
удивления, чтобы попробовать осознать, что история действует не совсем так, как
если бы был только один истинный естественный мир открытий, причем мир,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 21
обладающий почти неизменным порядком. Мы видели выше, что история
дважды выстраивала подобные миры. Из этого удивительного обстоятельства следует,
что ни эти миры сами по себе, ни порядок открытий в них не будут одними и
теми же» [102, с. 17*-Щ
В отличие от Иидамя, который не допускает сомнения в том, что в Китае он
исследует и описывает именно науку, (Прайс этой уверенностью не обладает. Он
чувствует коммуникационную тезауруснуте^гакуну, пропасть между двумя мирами
открытий, невозможность прямого заимствования, переноса реалий одного мира
в другой, как и сомнительность самой возможности описания инокультурного
феномена в терминах данной культур^С другой стороны, отрицая проходимость
«капилляров», он не может отрицать самих фактов заимствований, то есть
присутствие какого-то формального или неформального канала коммуникации между
культурами, который дает им возможность обмениваться результатами творчества,
каким бы способом ни возникали эти результаты. "Как"обшую черту
заимствований Прайс отмечает присутствие скрытого посредника: «И здесь снова, в случае
с магнитным компасом... перед нами явное свидетельство, что нечто произошло
на Востоке, а ротом это нечто произошло на^Западе. Первое «нечто» никогда не
аъТглядйт^ясным и хорошо понятным, причем во всех случаях абсолютно ничего
не известно ни о каком-либо лице, ни о документе, действительно передающим
идею или изобретение» [102, с. 19].
Эту анонимность и явную тезаурусную разобщенность Прайс использует для
конструирования модели межкультурной коммуникации в форме переосмысления
или переоткрытия, переизобретения результатов одной культуры на тезаурусной
почве другой: «Предполагаемая передача организуется, похоже, в пучки, как если
бы за ней стояли одинокие интеллектуалы-путешественники, которые
возвращались домой с туманными рассказами, имеющими все же отношение к делу в том
смысле, в каком Галилей изобрел телескоп под влиянием слухов, будто какой-то
голландец подобрал комбинацию линз, которая позволяет видеть далекие
предметы, как если бы они находились близко. Так, похоже, было и с заимствованием
компаса. И в том же самом багаже, прибывшем в XII в., были, возможно, и идея
вечного двигателя и сперматический дух механических часов, которые включали
вращающийся глобус и тот самый набор автоматов, которые выбивают
барабанную дробь и гудят в трубы в астрономических часах башен средневековых
европейских соборов» [102, с. 19].
Часы Страсбургского собора (1015—1439) — одно из величайших событий
истории возникновения европейской науки, к ним нам придется возвращаться в
разных контекстах. И хотя сама идея этих часов, не говоря уже о шпиндельном
спуске, явно занесена из Китая, проблемогенный смысл им сообщен явно
европейскими контекстами.
Таким образом^ хотя под напором общенаучной тенденции сдвигать начало
дисциплинарной вечности в прошлое возникали и возникают попытки пройти в
научный «докембрий» и в историю науки, все они в общем-то позитивно или
негативно ориентированы на «нечто», возникшее ^трлько" в Европе по случаю или
совпадению, во всяком случае не по разработанному в деталях плану где-то на
периоде XVI—XVII вв.
Эквифинальность и человекоразмерность
Этот раздел введения можно было бы назвать и системностью, поскольку и
эквифинальность и человекоразмерность теснейшим образом связаны друг с
другом именно системностью. Но системный подход и особенно общая теория
систем претендуют на постановку и решение значительно более широкого класса
задач, чем те, с которыми нам предстоит иметь дело и в их постановке, и в их
оценке на разрешимость. Соответственно, мы будем использовать лишь часть
22
М.К. Петров
концептуально-понятийного арсенала общей теории систем, непосредственно
связанную с феноменом эквифинальности и с принципом человекоразмерности
всех видов человеческой коллективной деятельности.
Здесь, как и в нашей исходной модели социально-культурной функции науки,
воспитывающей общество через общеобразовательную среднюю школу и состав
ее программ, представленных в Ту, требуется предельная, основанная на данности
исходная ясность, чтобы, прежде чем свободно пользоваться этими
составляющими методологического арсенала, убедиться в их значимости и надежности.
Наиболее типичное и хорошо всем нам известное выявление
эквифинальности — крупный город. Подлетая к нему или просто пролетая над ним, мы по ряду
безошибочных и бросающихся в глаза идентификаторов — телебашня, стадион,
взлетно-посадочная полоса, жилые массивы, улицы, геометрические
конфигурации огней, если дело происходит ночью, — без труда опознаем, что под нами
город даже и в том случае, если бортпроводница не просветит нас насчет того,
по какому именно поводу собралась воедино эта громада камня, бетона, стали,
огня, дыма.
Но это, так сказать, эквифинальность результата, эквифинальность на зрелом
уже этапе, которая интересует нас главным образом тем обстоятельством, что мы
способны опознать город по ряду присущих городу идентификаторов, не имея
никакого представления о конкретном поводе, «конечной цели» его
существования и не нуждаясь в этом знании. Поводом могут оказаться самые различные
вещи — уголь, нефть, сталь, плотина, гавань, тракторы, комбайны, самолеты —
и они конечно же внесут свои черты в общую картину, но черты несущественные,
нисколько не препятствующие акту опознания-идентификации.
Эта независимость от повода, иногда и конфликт с поводом, особенно резко
выявляются на первоначальных этапах становления города как системы.
Допустим, что по тому или иному «оседлому» поводу, который невозможно сдвинуть с
места (месторождение нефти, газа, угля, руды, заманчивое по множеству
соображений и авторитетно санкционированное место для крупной стройки), в данной
точке на карте нужно создать устойчивое локальное возмущение плотности
населения, сконцентрировать в пределах досягаемости до места работ 100 или 200 тыс.
молодых людей для кадрового обеспечения социально важного дела и удержать
эту концентрацию на длительном периоде времени.
Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, как будут развиваться события
дальше, большинству это известно по опыту. Сразу же выявится полярность
ориентиров и источников определенности, две линии интеграции и упорядочения
событий. Одна, обычно ей уделяется основное внимание, направлена на повод, на
решение специализирующей эту концентрацию людей задачи, основные
параметры которой определены по срокам и последовательности кубами земли, бетона и
вообще объективными факторами, объясняющими, почему в окрестности данной
точки на карте стянуто именно 200 тысяч людей вместо тех двух десятков, которые
проживали здесь раньше. Вторая линия интеграции окажется производной от
некоторых свойств самой этой концентрации людей, от их концентрированного
сосуществования, явно будет направлена на человека как на существо естественное
прежде всего, а затем уже социальное и мыслящее, на естественные свойства
субъекта решения этой важной для общества задачи. Хотя и здесь окажутся
применимы кубы, квадратные метры и прочие объективные меры, сами они окажутся
производными от совершенно иной размерности, переводом с языка метрики Прота-
гора — «Человек мера всех вещей», переводом с языка человекоразмерности.
Именно по этой второй линии идет становление и выявление
эквифинальности — жилищное строительство, улицы, транспорт, развертывание консультаций,
родильных домов, ясель, детских садов, школ, библиотек, вузов и великого
множества других атрибутов города вплоть до телебашни, классной футбольной
команды, стадиона, болельщиков, без которых и город как-то не совсем город.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 23
Понятно, что эта вторая линия далеко не всегда мирно уживается с первой,
производной от локального спецификатора, объективной. С точки зрения людей,
ответственных за решение основной задачи, расписанной по последовательности
и срокам ввода объектов, линия эквифинальности — досадная помеха,
отвлекающая силы и средства на дела, не имеющие непосредственного отношения к «сути
дела». Кубам бетона, скажем, безразлично, лежать ли им в теле плотины или в
фундаменте школы, а то и, не дай бог, в стене пивного бара, но это далеко не
безразлично для тех, кто принимает решения, где им лежать. Но и эквифиналь-
ность, заботы о том, чтобы все было «как у людей», вовсе не безобидное дело —
природа решает фундаментальнее любой самой высокой инстанции. И если ты
сегодня по самому высокому указанию и для самой архинасущной цели собрал в
этом месте на карте 200 тысяч людей, то уже не по велению инстанции, а по
велению природы человеческой изволь иметь в этом же месте на карте через год
сеть родильных домов, через семь лет открытые двери школы, через
семнадцать — множество дверей в постшкольную специализирующую подготовку,
включая и двери высшей школы.
Все это конечно же тривиалыцина, обыденщина, малоинформативная
данность, «bekannt» Гегеля, которое нужно еще перевести в «erkannt», чтобы выжать
из этой всем известной и привычной картины хоть каплю смысла и
познавательной пользы [12, с. 83]. Но вот попробуем в порядке первого шага от bekannt к
erkannt копнуть эту тривиалыцину насчет того, как строят города, попытаемся
выделить предмет науки о городах — урбанистику. Поскольку наука не
занимается уникальным, единичным, способна взяться за дело только «на общем фоне»,
выделенном из достаточно представительного множества сходных объектов, мы
сразу же получим уже менее тривиальный результат: поводы, спецификаторы,
ради которых у множества конкретных точек на карте концентрируются
«популяции», нарушающие норму распределения характеристики плотности населения
по территории, окажутся за пределами предмета, будут представлены в «снятом»
виде поводов вообще, а в предмет войдут только ответственные за сходство
процессы и продукты эквифинальности, за которыми стоит всеобщий эквивалент и
универсальный интегратор всех систем-городов: представленный в Протагоровой
метрике человек в его естественных потребностях, возможностях и ограничениях
физического, ментального, возрастного и множества других планов.
Иными словами, если город — целостная система, ориентированная в
полюсах человек и нечеловекоразмерный повод и существующая как способ решения
нечеловекоразмерной задачи человекоразмерными средствами, если город
представляет из себя гетерономную структуру синтеза естественно субъективного и
естественно объективного источников определения, то процесс выделения предмета
урбанистики примет вид аккуратного разрезания городов-систем как раз по
линиям гетерономных синтезов, причем схожие картинки будут складываться в
предметную картотеку «проблемной области», а поводы-спецификаторы —
выбрасываться в корзину как несущественные для урбанистики «начальные условия».
И право на такую операцию «снятия» спецификаторов, разрезания целостных
картинок городов по линиям гетерономных синтезов нам дает сформулированный
Л.Берталанффи концепт «открытой системы» [95], существенным свойством
которой признается эквифинальность. Р.Лилиенфельд так описывает статус
эквифинальности в общей теории систем: «Резкое различие между большинством
неодушевленных или замкнутых систем и живыми системами выразимо концептом
«эквифинальности». В неодушевленной системе конечное состояние системы
детерминировано начальными ее условиями. Изменение в начальных условиях
вызывает изменение в конечных. Живые существа демонстрируют иное поведение:
при многих обстоятельствах одно и то же конечное состояние может достигаться
из различных начальных условий и различными путями» [136, с. 19].
Чтобы несколько освоиться с эвристическими возможностями
эквифинальности, попробуем использовать ее для ориентации в методологических проблемах
24
M.К. Петров
современного науковедения. С конца 60-х гг. методологическая ситуация в
науковедении, как и в социологии и в истории науки, складывалась под сильным
воздействием идей Куна.^Но в отличие от социологии и истории науки, где от
Куна, как мы видели^^в^общем-то отмежевывались с должным пиететом ради
сохранения «нормальной» кумулятивной гомогенности предмета и сдвига начала
дисциплинарной вечности в прошлое, в науковедении реакция на Куна приняла
форму синтеза идей Куна и идей Прайса, концептов «научной революции» и
«невидимого колледжа». Началом этогл_слнтезирующего движения принято считать
вышедшую в 1973 г. работу Н.Ч.Маллинза> по современной американской
социологии [142], которая задала концептуально-понятийный аппарат для
значительного числа исследований. В статье 1979 г. Д.Шубина и К.Студера, например,
приведена библиография из 76 публикаций, непосредственно или косвенно
связанных с этим синтезирующим направлением [103].
Маллинз прямо ссылается на Куна и Прайса: «Изучение
научно-академических групп уходит корнями к формулировкам Т.Куна насчет «революционных
изменений» в научном мышлении и к концепциям Д.Прайса относительно
социальной структуры, которую он назвал «невидимым колледжем», группы примерно
в сотню коллег»~1+42,^с. 17].
В синтезе M алл и несущественные изменения претерпевают и Прайс и Кун,
последний- особенно.,, Невидимые колледжи» рассматривались Прайсом в
нескольких работах, прежде других в «Малой науке, большой науке» [150] на
теоретическом уровне, а в 1966 г. Прайс совместно с Д.Бивером провел
эмпирическое исследование [56], которое подтвердило факт существования на переднем
крае дисциплинарных исследований ограниченных по численности групп
сильной коммуникации, имеющих тенденцию к распаду по достижении относительно
небольшой численности порядка 60—70 членов [56, с. 346]. Входя в синтез с
идеями Куна такие группы сильной коммуникации или невидимые колледжи
толкуются Маллинзом как группы на двух первых «невидимых» для дисциплины
стадиях развития групп в дисциплины, а всего таких последовательных стадий
Маллинз выделяет четыре: 1) норма; 2) сеть; 3) рой или сплоченная группа; 4)
специальность или дисциплина [142, с. 18]. На этапе роя (сплоченная группа)
появляются критические материалы по адресу группы и она переходит из
«невидимого» в «видимое» состояние, осознается и замечается коллегами по дисциплине как
самостоятельное исследовательское направление [142, с. 28].
Концепт революции Куна в синтезе с идеей стадийного развития групп
интерпретируется Маллинзом скорее в духе рождения новой дисциплины, чем по
модели смены дисциплинарной парадигмы и гибели старой дисциплины.
«Чистый» куновский случай остается на правах частного «элитного» варианта, тогда
как собственно революционными оказываются почкующиеся группы.
Идентификация вариантов происходит на 3-й стадии вместе с переходом группы из
невидимого в видимое состояние: «Именно на стадии рой-группы становится
известным отношение материнской дисциплины к новым работам. Это отношение
устанавливает статус группы как революционной или элитной. Элитная группа
становится лидирующей в материнской дисциплине. Пересмотр теории подобными
группами принимается остальными членами дисциплинарного сообщества как
иное, но важное и полезное толкование... Иногда же основная дисциплина
воспринимает работу группы как революционную. В этом случае она отвергает
предлагаемые идеи как опасные, либо как несостоятельные. Тогда рой-группа
становится «инкапсулированной» — ее изолируют от основной части дисциплины
силами этой части подобно тому, как человеческий организм инкапсулирует
инфекцию. Со временем такая группа может: а) умереть; б) ждать, пока старая
дисциплина не потеряет способности производить студентов в количестве, достаточном
для собственного воспроизводства; в) стать точкой роста новой специальности
или дисциплины, что, например, и произошло, когда группа по фагам стала
участником основания молекулярной биологии» [142, с. 23—24].
История европейской культурной традиции и ее проблемы
25
Наиболее подозрительна на эквифинальность заключительная стадия
восстановления дисциплинарной нормы: «Последним усилием, ведущим к успеху,
становится институционализация проделанной работы. Обычно она совершается с
помощью основания журналов, учреждения кафедр, должностей для новой
специальности (дисциплины, программы и т.д.)... Решающий аспект институциона-
лизации новой дисциплины — трудоустройство подготовленных по этой
специальности людей путем создания новых должностей или переориентации старых»
[142, с. 24]. Пути элитных и революционных групп здесь резко различаются:
«Благодаря легкости установления связей коммуникации элитная специальность
обнаруживает тенденцию расти более быстро, привлекать большее число
сложившихся уже исследователей, имеющих аспирантов, оставаться в состоянии рой-
группы менее продолжительное время, выявлять менее сильные групповые
чувства, захватывать, главным образом, наличные журналы и должности, не создавая
новых. Отвергаемая и, следовательно, революционная специальность привлекает
малое число сложившихся уже исследователей, растет почти исключительно за
счет подготовки аспирантов, более длительное время остается на стадии рой-
группы, обладает более сильными групповыми чувствами, основывает новые
журналы и должности и, поскольку связи коммуникации устанавливаются здесь
сложнее, она может полностью отделиться от материнской дисциплины» [142,
с. 25].
Но хотя пути различны, конечный результат институционализации,
социального обустройства исследовательского направления один и тот же: «И в том и в
другом случае возникает процесс рутинизации как новых социальных условий,
так и новой социальной позиции, когда, во-первых, аспиранты начинают
приобретать дивергентные интересы и, во-вторых, пишутся учебники, критические
работы, обзорные статьи, монографии (вторичная литература), с тем чтобы
сохранять в чистоте теоретическую реформу группы и снять странность новой
теоретической позиции... В конечном счете единственным индикатором специальности
оказывается ее название, реже ностальгия по героическим славным дням рой-
группы, еще реже писанная история» [142, с. 25].
Имеет ли смысл и применительно к этим процессам говорить об эквифиналь-
ности и человекоразмерности? На наш взгляд для этого вполне достаточно
оснований. Что касается эквифинальност1цл,о она очевидна: социальное обустройство
научной дисциплинарной деятельности содержит столь же устойчивый и
универсальный набор идентификаторов (кафедры, исследователи, аспиранты,
должности, журналы, вторичная литература), что и набор индикаторов крупного города,
и то обстоятельство, что в элитном случае речь идет о захвате готового научного
«города», а в революционном — о строительстве нового научного «города», не
меняет существа дела. Несколько менее ясна здесь роль человекоразмерности, хотя
сам тот факт, что дисциплины при всем различии их предметов предельно
единообразны в строительстве своих научных «городов» воссоздает в общем-то ту
самую поляризованную ситуацию человека и повода, которую мы наблюдали в
случае с городом-системой. Сам Маллинз весьма осторожно и вряд ли сознавая
важность задетой им проблемы, захватывает ее все же мимоходом, объясняя
важное для перехода из стадии в стадию движение состава связей через общий
бюджет времени: «Предполагается, что усиление связей в группе требует ослабления
внегрупповых связей, поскольку неизменными остаются обязанности — обучение,
исследование, руководство, — которые приходится ограничивать по максимуму
18-часовым рабочим днем» [102, с. 32].
Но, пожалуй, решающим в этом отношении следует признать то
обстоятельство, что эволюция предмета науковедения в 60-е и 70-е гг., результатом
которой стало выделение дисциплины и, соответственно, дисциплинарного научного
«города» в высшую предметную «когнитивно-социальную» единицу, уже сегодня
допускает ту самую операцию «снятия специфики» способом разрезания
целостных дисциплинарных полярных систем по линиям гетерономного синтеза, ко-
26
M. К. Петров
торую мы демонстрировали при выделении предмета урбанистики. Сегодня
науковедение, как и урбанистика, не занимается спецификаторами. Науковедение
занимают только универсальные процессы интеграции когнитивно-социальных
единиц, процессы эквифинальности, за которыми, как мы увидим ниже, стоит
все тот же человек в своих физических и ментальных возможностях и
ограничениях.
Вместе с тем, в случае с научным «городом» просматривается и весьма
существенная особенность, которая особенно четко видна в деятельности
революционных, по классификации Маллинза, групп, которым приходится не завоевывать
не ими построенные города науки, как это делают элитные группы, совершающие
государственные перевороты в дисциплинарных царствах, а строить новые города
науки в необжитых и незаселенных местах. В этом смысле урбанистика и
науковедение изучают два разных по типу процесса выявления эквифинальности. Если
ради наглядности предположить, что «мир открытий» имеет форму шара, с этим
образом — globus intellectualis — наука хорошо познакомилась еще в девичестве,
с XVI—XVII вв., то урбанистика исходит из предположения и даже факта
заселенности земного шара и всех его частей, анализирует устойчивые локальные
возмущения этой характеристики заселенности, тогда как в науке и науковедении
terra incogninita концепт столь же авторитетный, как и imperium hominis in
naturam, то есть акцент сдвинут на экспансию на заселение незаселенного. Этим,
нам кажется, и объясняется осторожное отношение историков науки и
науковедов, социологов к модели революции Куна: она в сущности «оседла», не
предполагает предметной экспансии, расселения, диаспоры когнитивно-социальных
единиц, колонизации античного типа. К примеру, Е.М.Клаарен, исследователь
естественной теологии позднего Средневековья и раннего Нового времени [129], явно
работая в концептуально-понятийном арсенале Куна, только один раз ссылается
на Куна в тексте и второй раз в примечании, почему он на Куна не ссылается,
предпочитая менее жесткую модель Р.Г.Коллингвуда.
Более обстоятельный разговор об этой отмеченности современных моделей
дисциплины печатью экспансии расселения мы оставим для основного текста, а в
заключение этого раздела введения решимся на то, что Вентрис назвал «шальной
мыслью», результатом которой была расшифровка письма «В» табличек Кносса в
1952 г. Нам не дает покоя мысль о том, что вскорости, если исполнится
обещанное проспектом «Науки» издание «Очерков», мы получим «общий обзор основных
вех в становлении естественной науки от палеолита до Греции и Рима». Не
обнаружится ли и там, в окрестностях палеолита, нечто вроде кносских табличек
письма «В», которые при ближайшем рассмотрении оказались написанными на
греческом языке, только на другом алфавите? Не давит ли на нашу психику этот самый
проклятый Нидамом смертный jqpex^ß0flQn£HTpH3Ma, который и мысли не
допускает о возможности науки в палеолите? Эквифинальность и человекоразмерность
могут, нам кажется, помочь рассеять или укрепить эти сомнения.
Эквифинальность антропологических описаний обществ первобытной
культуры более или менее очевидна. У тех, например, кому приходилось читать Л.Леви-
Брюля [31] вряд ли выветрилось из памяти то ощущение парения над морями,
островами, континентами, когда на одной странице, иногда и в одном абзаце,
вчитываясь в описание какой-нибудь детали социального обустройства «дикарей»,
можно побывать на всех островах и континентах разом от Исландии до Тасмании
и от Аляски туром через обе Америки и Австралию до Восточной Сибири.
Эта ярко выраженная эквифинальность представленных в предмете
антропологии реалий как раз и наводит на шальные мысли, в подоснове которых два
обстоятельства. Во-первых, это гипотеза очагового происхождения человека, в
пользу которой высказано множество убедительных аргументов, и наиболее
убедительно, пожалуй, звучит тот, который мимоходом приводит Найт: «Все
согласны в том, что человек и орангутанг имели общего предка, но было это весьма
давно. Сегодня уже мало людей, которые стали бы утверждать, будто различные
История европейской культурной традиции и ее проблемы 27
расы человека суть различные виды или хотя бы подвиды, — слишком давно, еще
со времен предпринятых моряками долгих плаваний, известно, что люди всех рас
генетически совместимы, дают нормальное потомство» [131, с. 198].
Второе обстоятельство связано именно с этими «дальними плаваниями»,
которые поставили европейцев не только перед фактом генетического единства
человеческого рода, что невозможно объяснить без привлечения идеи точечного,
очагового начала человечества, но и перед тем фактом, который как-то не очень
принимался в расчет, что великая географическая экспансия европейцев,
прославившая китайские изобретения — компас, порох, механические часы, — была
лишь второй по счету, а первая и более фундаментальная происходила много
раньше и в основном на подручных средствах. Вот Кук, например, писал: «Я
горжусь не столько тем, что прошел дальше, чем кто-либо до меня, сколько тем, что
прошел так далеко, как дано пройти человеку» [131, с. 10]. Отдавая должное
Куку, не следует все же забывать, что где бы он ни появлялся, везде его и его
команду встречали генетически совместимые дальние родственники.
Эквифинальность наблюдаемого европейцами в далеких плаваниях и
генетическая совместимость творцов этой эквифинальности редко осознавалась в про-
блемогенном ключе познавательных предпосылок этого феномена, хотя у
революционеров XVII в., которые синтезировали великие открытия с пророчеством
Даниила о последних днях мира в убедительнейший для современников
аргумент в пользу «великого восстановления», в общем-то в достаточно явной
форме присутствовала и эта наводящая на шальные мысли составляющая.
Бэкон, например, писал: «Дальние вояжи и путешествия явили глазу множество
вещей в природе, которые могут бросить новый свет на человеческую
философию и науку, проверить опытом мнения и заключения древних. Не только
разум, но и пророчество соединяет и то и другое. Что еще мог разуметь пророк,
который, упоминая о последних временах, сказал: «Многие пройдут и
умножится знание!» [7, с. 94—95].
Что этот интерес к явленному глазу «множеству вещей в природе» шел во
вполне определенном направлении доказывает практика бэконианцев, которых
историки науки в общем-то справедливо упрекают в искажении Бэкона, в
смешении акцентов со «светоносных» опытов на «плодоносные». Этот интерес к
практическим или полезным искусствам оставит след в Хартии Королевского
общества, скрепленной большой государственной печатью 22 апреля 1663 г., где
членам общества будет вменено в обязанность «авторитетом эксперимента
способствовать продвижению наук об естественных вещах и о полезных искусствах
во славу Богу-Творцу и на благо роду человеческому» [140, с. 235]. Интерес будет
представлен в практических исследованиях членов Королевского общества,
получит даже официальное оформление в плане работ Общества как разработка
истории ремесел. М.Эспинас пишет: «Еще в 1650-е гг. Ивелин собирал материалы
для такой истории... В 1661 и 1662 гг. Петти обсуждал эту проблему с королем и
знатью, а позднее он и Ивелин представили Обществу доклады с планами и
методологическим обоснованием разработки истории ремесел» [126, с. 349—350]. Но
дальше дело не пошло, если не считать учреждения специального комитета
Обществом в 1664 г.
В свете этих фактов навязываемый эквифинальностью и человекоразмернос-
тью «шальной» вопрос сформулировать довольно просто. Мы знаем, как
добирались во все уголки земли европейцы времен второй географической экспансии
для встречи с «эквифинальными» дикарями. Как могли добраться в эти места,
где их встретили европейцы, люди времен первой географической экспансии,
которые заведомо не имели кораблей, пороха, компаса, часов, карт и всего того,
что позволяло европейцам в долгих плаваниях и путешествиях оставаться
европейцами? Иными словами, если одна и только одна точка на глобусе может нести
ответственность за появление человека, сколько бы мы ни спорили, где именно
ее поставить, то как человек мог оказаться во множестве других точек планеты,
28
М.К. Петров
где он был обнаружен, идентифицирован как человек по критерию генетической
совместимости и описан европейцами, выходцами из той же точки, много позже?
Ясно, что поставив с помощью эквифинальности и человекоразмерности эти
вопросы, мы тут же получим задачу, близкую по условиям разрешимости к той,
которая заявлена в аннотации авторами готовящихся к публикации «Очерков».
Единственным, хотя, на наш взгляд, и достаточно серьезным возражением против
их формулировки задачи было бы требование привести эту формулировку в
соответствие с лучом времени, который, в соответствии с научными
представлениями, выстраивает исторические события из прошлого в будущее, а не наоборот.
То есть, нам нечего было бы возразить, если бы, скажем, термин «естественная
наука», за которым явно стоят механизмы, процедуры, структуры, выработанные
Новым временем по календарю нашего типа культуры на базе естественной
теологии, возникшей где-то в Высоком Средневековье X—XII вв. опять же по
календарю нашего типа культуры, авторы заменили бы более широким и менее
связанным с отметками пространства, времени, культурной традиции термином
«познание» как чисто человеческой знаковой формой адаптации или приспособления
к условиям окружающей среды.
В самом деле, в условия разрешимости задачи расселения человечества по
лику всей земли из какой-то точки неизбежно придется включить средства
движения людей через все разнообразие существующих на земле локальных условий
обитания к точкам, в которых фиксировалось европейцами присутствие
первобытных социальных структур. Претендентами на роль таких средств могут быть:
а) средства, использованные европейцами для обеспечения второй
географической экспансии — корабль, компас, карта, оружие, запасы продовольствия,
питьевой воды, медикаментов и т.п.; б) биокод человека, способный за счет
собственных изменений обеспечить пусть медленное, «эволюционное» (начало всегда
можно отодвинуть в прошлое), но все же движение-расселение в некотором
ареале сходных условий существования; в) основанное на использовании
возможностей языка, знакового общения познание.
Два первых претендента явно несостоятельны. Первый требует обращения
времени, и даже если бы мы пошли вспять, указали не на европейский арсенал
средств, а, скажем, на китайский, малайский, полинезийский, которыми, похоже,
шло освоение Тасмании и множества других островов, решения все равно бы не
получилось: все эти средства работают в иной шкале длительности,
использующей как крайний срок жизни индивида, годы, тогда как задачи первой
географической экспансии принадлежат скорее к типу межпланетных путешествий,
измеряющих свои длительности сменами поколений. Сегодня мы можем за несколько
часов доставить племя пигмеев к эскимосам или наоборот, племя эскимосов к
пигмеям в порядке эксперимента, но наиболее вероятным исходом такого
эксперимента будет смерть пигмеев на Аляске, а эскимосов в Африке, хотя вот у
Л.Леви-Брюля и у множества других авторов мы можем их встретить вместе при
описании, скажем, обряда инициации-посвящения во «взрослые» или
«охотничьи» имена, да и дополнительный эксперимент на генетическую совместимость
убедительно засвидетельствует, что когда-то они были вместе.
Второй претендент — биокод — явно не проходит методологически. Люди
все же не возбудители гриппа и периоды смены поколений у людей таковы, что
свалить ответственность за расселение людей на биокод значило бы по
современным представлениям о темпах эволюционного процесса потребовать вывода
начала человеческой истории в докембрий, а может быть и в те времена, когда
сомнительным стало бы существование земли и солнечной системы. К тому же,
это значило бы усыпать маршруты расселения грудами костей неудавшихся
мутантов, без которых не обойтись в обычных нормах естественного отбора, что
явно оставило бы «следы на скалах», которых в нужном количестве не
обнаруживается. Но главное, понятно то, что если человечество расселялось
средствами биокода, то вторая встреча и опознание друг друга по критерию совмести-
История европейской культурной традиции и ее проблемы
29
мости попросту бы не состоялась. Возможно, что что-нибудь удавалось бы на
уровне бесплодных мулов, но создать гибрид, способный давать потомство на
базе объединения, скажем, лапландского и сахарского биокодов стало бы весьма
проблематичной задачей как раз в том смысле, в каком палеонтологи ищут
переходные звенья между приматом и человеком. Человек, похоже, генетически
«ушел» от своего предка в животном мире и ушел как раз в эпоху странствий
от палеолита до наших дней.
Остается только третий вариант — познание, кодирование и перекодирование
индивидов в изменчивые виды деятельности средствами знакового общения, не
оставляющими «следов на скалах». Но вот здесь как раз эквифинальность и че-
ловекоразмерность, если они опираются на фундаментальное единство
человеческого рода, которое повсеместно и повседневно, «повсюду и всегда» со времен
«долгих плаваний» подтверждается генетической совместимостью всех рас и
народов, генетических пулов всех культурных традиций, и ставят нас перед
проблемой расшифровки очередных «кносских табличек». Вполне может оказаться, что,
за шелухой алфавитов, знаковых и социальных обустройств скрывается,_единый
для человечества со времен палеолита и до наших дней язык познания, язык
воспроизводства человечества в смене поколений на базе единого биокода в условиях
растущего разнообразия сред физического и духовного обитания, которые
осваиваются универсальными средствами познания, что наука — только один из
диалектов-жаргонов общечеловеческого языка познания, что-нибудь вроде
«новоанглийского», возникшего в своей аналитической сути из смеси флективных
«приматов» в XV—XVII вв. к явному неудовольствию интеллектуалов-современников,
включая и революционеров.
Поскольку аналитической структуре новоанглийского языка, этого
лингвистического урода в добропорядочной флективной семье европейских языков,
плевела, выросшего на благодатной флективной почве, придется основательно
поработать в нашей схеме возникновения науки, приведем для первого знакомства
мнение Бэкона, высказанное им в контексте видов на восстановление языка Адама
средствами лингвистических исследований грамматик разных языков: «А разве не
заслуживает внимания тот факт (хотя, может быть, он и наносит некоторый удар
самомнению современных людей), что в древних языках существует множество
склонений, падежей, спряжений, времен и т.п., тогда как современные языки
почти совершенно утратили их и в большинстве случаев по лености своей
пользуются вместо них предлогами и вспомогательными глаголами. И конечно же, в
этом случае легко предположить, что, как бы мы ни были довольны сами собой,
приходится признать, что умственное развитие людей прошлых веков было
намного глубже и тоньше нашего» [6, с. 335].
Естественно, что первое, с чего нам придется начать, как раз и будет попытка
пройти в тайну «кносских табличек» палеолита, к удаленному на максимально
мыслимую глубину начала человеческой истории, истории человеческого
познания, за)отметку которого нам ни в коем случае нельзя выходить в поисках начала
науЬгтфосто потому, что там нет человека, не на чем держаться эквифинальнос-
ти и человекоразмерности. Как выяснится позже, наука, возможно, не смогла бы
создать своего особого знакового, концептуально-понятийного обустройства, не
подвернись европейцам под руку аналитическая структура новоанглийского
языка, то есть наука в ряде ее фундаментальных концептов — незаинтересованное
наблюдение", свобода от ценностей, слепой автоматизм, однозначная причинная
связь между наблюдаемым поведением и умопостигаемым свойством, контактное
взаимодействие -У Ht могла появиться раньше XVI в., когда уже более или менее
четко выявилась аналитическая суть новоанглийского и сформировались
соответствующие речевые навыки. ^1о это будет позже и в основном тексте. А пока нам
следует познакомиться с последним разделом предисловия, с разделом, так
сказать, «кадровым», поскольку все возмущающие события истории, все революции,
сдвиги, отклонения требуют кадрового обеспечения, присутствия в «нормально»
30
М.К. Петров
функционирующих социальных и познавательных механизмах людей, способных
уговорить или вынудить современников, предпочитающих жить и действовать в
«нормальных» условиях, пойти на тяготы и неурядицы очередной революции в
способе жизни или мышления.
Лишние люди
Предполагаемому читателю «лишние люди» известны в основном по
школьному курсу литературы, по Онегину, Печорину и множеству других героев. Как
правило это симпатичные в каком-то отношении интеллектуалы, способные на
высокие чувства, порывы, вспышки энергии, благородные поступки, но не находящие
своего дела в жизни. Иногда под этот привычный концепт подводилась и
солидная, явно относящаяся к нашей схеме онаучивания общества через Ту база.
Достоевский, например, писал OJIBHOM разрыве воспитательно-возрастных, движений,
<лтакунах^Х) плачевных следствиях этого явления, когда все вдруг прониклись идеей
просвещения: «Этот факт — глубина пропасти, разделяющей наше
цивилизованное «по-европейски» общество с народом. Посмотрите: как дошло до дела, то и
оказалось, что мы даже не знаем, с чем и подступить к народу. Явилась идея о
всенародном образовании: вследствие этой идеи явилась потребность в книге для
народного чтения, и вот мы становимся совершенно в тупик. Задача в том: как
составить такую книгу? Что именно дать народу читать? Не говорим уже о том, что
мы все как-то уж молча, безо всяких лишних слов, разом сознали, что все
написанное нами, вся теперешняя и прежняя литература, не годится для народного
чтения. Верно это или нет — другой вопрос; ясно только то, что мы все как будто
согласились без спора, что народ в ней ровно ничего не поймет. А согласившись в
том, мы все безмолвно признали факт разъединения нашего с народом» [16, с. 6].
Не разрушая этого привычного концепта, он очень еще пригодится для
понимания переходной ситуации, когда наука уже есть, _а Ту еще нет,, когда наука
живет на чужом кадровом обеспечении, вовлекая в научную деятельность
юристов, медиков и теологов, мы вместе с тем будем рассматривать «лишних людей»
этого типа как разновидность более широкого семейства «лишних людей»,
закономерно воспроизводимых любой социальной структурой как7накладный, но
необходимый «запас прочности», позволяющий в любой момент заменить
вышедшую из строя по какой-либо причине человекоразмерную деталь социального
механизма другой, равного или даже более высокого достоинства.
Лишние люди в этом широком понимании отнюдь не «тунеядцы», они прежде
всего дублеры в действующей номенклатуре социально значимых должностей,
которые никогда не должны пустовать, становиться вакантными. Для нас сегодня
лишний человек — реликтовая категория, освобождающиеся должности
занимаются в основном по конкурсу, за которым предположительно стоит меритокра-
тический принцип отбора кандидатов по множеству «деловых» и иных качеств,
по предполагаемому «таланту» в исполнении данной должности, идет ли речь о
центральном нападающем классной команды, или о заведующем пивным баром,
лабораторией, кафедрой. Должности не наследуются, а занимаются по конкурсу,
и действующее в большинстве стран законодательство рассматривает
семейственность, любое проявление непотизма как нарушение закона, хотя, естественно,
принцип «ну как не порадеть родному человеку» с достаточной силой выявляет
себя в любых критических точках жизненных карьер индивидов, поступают ли
они в университет или движутся по ступеням служебных и иных иерархий.
Существенно иначе дело обстоит в странах традиционной культуры и совсем
недавно обстояло в странах европейской культурной традиции до появления Ту,
до широкого распространения всеобщего и обязательного среднего образования
как предварительного условия входа в любые профессии, требующие
постшкольной подготовки. В странах традиционной культуры и до недавнего времени в Ев-
История европейской культурной традиции и ее проблемы
31
/ропе основным воспитательным институтом и носителем социальной должности,
воспроизводящим ее в смене поколений, выступает .(семья; а не
универсализирующая школа с постшкольным разводом по специальностям, и соответственно,
основной формой обучения является длительный семейный контакт поколений, в
котором старшие передают младшим наследственный семейный навык, статус,
привилегии и обязанности. В таких структурах социализации индивидов особое
положение занимает старший сын, первый кандидат на должность главы семьи,
тогда как младшие сыновья пополняют ряды лишних людей, вынужденных
искать свою особую дорогу в социализацию. В странах европейской культурной
традиции одним из наиболее заманчивых и надежных путей в социализацию, к
социально значимым статусам был для лишних людей путь через университет, через
подготовительный факультет «свободных искусств» в основные и довольно емкие
по кадровым потребностям профессии врача, юриста и священника.
Подавляющее большинство упоминаемых в нашей работе имен будет
принадлежать именно к этому виду ддшних людей, которые стали интеллектуалами,
^деятелями реформации или контрреформации, отцами науки^ активными
участниками революции интеллектуалов XVII в^или ее противниками, оказались в
историческом континууме там, где они оказались, не потому, что им так уж хотелось
этого «со школьных лет» — школ тогда не было, а прежде всего потому, что по
независимым от них обстоятельствам им не довелось стать старшими сыновьями.'
Отдельные исключения здесь только подтверждали правило. Когда граф Аджилл,
например, предложил в конце 60-х гг. XIX в. теорию расселения-деградации
человека, объединив гипотезу очагового происхождения человечества с
эволюционной теорией Дарвина, против него дружно выступила маститая когорта младших
сыновей, включавшая такие имена как Лайель, Дарвин, Тейлор, Бюхнер, Морган,
Фиск, и, судя по накалу страстей и составу обвинений, немалую роль в
неблагоприятном для графа развитии и исходе дискуссии сыграло именно то
обстоятельство, что он, старший сын, взялся не за свое дело, вторгся в монополию младших
сыновей [113, с. 49—50].
Хотя принцип первородства не был европейским изобретением, и в эпоху
революционных событий во многом воспроизводился как реликт традиции в
европейской культуре, вокруг него, начиная с библейской притчи об Исаве,
продавшем первородство Иакову за чечевичную похлебку [Бытие, 25, 31—34], и до
современного английского детектива кипели страсти. Подавляющее число
кандидатов в лишние люди редко без ропота воспринимало свое положение. Ф.Бэкон,
например, младший сын сэра Николаса Бэкона, хранителя большой печати
Англии, и Анны Кук (дочери сэра Антони Кука, воспитателя короля Эдуарда IV, ей
еще предстоит появиться на исторической сцене как существенной составляющей
гипотезы Мертона), всю жизнь жаловался на несправедливость судьбы,
закрывшей дорогу для многих выявлений его талантов. В числе немногих исключений
из общего правила, нам не приходилось встречать другого, рассуждение Р.Бойля
о первородстве: «То, что я не был старшим, — счастье, которое современный
Филарет принял бы за явный знак благоволения. Для человека, у которого нет
склонностей участвовать в отталкивающей суете мира, получить первородство в
знатной семье — только позолоченная форма рабства: оно обязывает его вести
сложный и публично признанный образ жизни, поддерживать престиж семьи,
подавлять свои глубочайшие наклонности. Часто первородство вынуждает его
выстраивать успехи дома на руинах собственного призвания» [127, с. 81].
Трудно сказать, насколько Бойль искренен в «Автобиографии». Судя по
письмам, он не меньше англичан-современников гордился действиями своего отца
Ричарда, графа Корка, в Ирландии до восстания католиков 1641 г. и ролью своего
старшего брата Роджера, усмирителя Ирландии. Что же до современников, то
имена Ричарда и Роджера были конечно же куда более известны ирландцам и
англичанам, чем имя Роберта, а безразличием к славе, признанию, почестям
Бойль, как и Бэкон, Ньютон, не отличался.
32
M. К. Петров
Кроме этого «естественного» производства лишних людей в освященных
церковью и правом структурах наследования деятельности старших, чему, понятно
способствовал и строжайший запрет церкви на любые формы контроля
рождаемости, существенный вклад и в рост числа лишних людей и в остроту проблемы
вносил целибат, обет безбрачия духовенства, исключавший семью как институт
воспитания из системы подготовки церковных кадров, но явно не
препятствовавший появлению на свет младенцев «всеобщей» ориентации, от рождения
обладающих правом «свободного распределения», самостоятельного на свой страх и
риск поиска путей в социализацию. Оценить долю этой категории «побочных
сыновей» (бастардов, ублюдков по тогдашней терминологии) в общем контингенте
лишних людей довольно сложно, хотя вот в нашем частном плане кадрового
обеспечения интеллектуалов эта доля более или менее выявлена отменой в конце
XVI в. Елизаветой целибата в английской реформированной церкви. С начала
XVII в. в матрикулах студентов Оксфорда и Кембриджа появляется графа
«духовенство», которая к XIX в. включает 30% студентов [168, с. 39]. Хотя и здесь в
общем-то не исключены просчеты — академический целибат продолжал
действовать до середины XIX в. Найт пишет: «Одной из причин отсутствия
академической науки в Британии вплоть до смерти Дэви в 1830 г. было своеобразие
структуры английских университетов, которые все еще оставались, по замечанию
Гиббона, курьезными монашескими обителями. Лучшие студенты после присвоения
степени становились «феллоуз» — членами колледжа, но» должны были датьиобет
£езбрачия... Целибат не, распространялся на профессоров, и с середины XVII в.
в Оксфорде и Кембридже существовало несколько научных кафедр. Но до
реформ середины XIX в. профессора Оксфорда и Кембриджа не играли заметной
роли, получая весьма скромные оклады. В XVIII в. они обычно видели в кафедре
синекуру, не вели курсов лекций и не встречались со студентами» [131, с. 107].
Нам часто придется обращаться к_концепции лишних людей для объяснения
серьезных и революционных по своему характеру событий, таких как почкование
племен, возникновение теоретического мышления, уподобление христианского
бога интеллектуалу, кадровое обеспечение морского разбоя, географической
экспансии, колонизации. При этом мы довольно регулярно будем сталкиваться с
тем, что Маркс называл вынужденной эмиграцией, за которой в неявном виде
представлены количественные соотношения, характерные для той или иной
социальной структуры.
Маркс пишет об античной колонизации: «В древних государствах, в Греции и
Риме, вынужденная эмиграция, принимавшая форму периодического основания
колоний, составляла постоянное звено общественного строя. Вся система этих
государств основывалась на определенном ограничении численности населения,
пределы которой нельзя было превысить, не подвергая опасности самих условий
существования античной цивилизации» [39, с. 567]. Чуть дальше Маркс отмечает
распространенность подобных процессов и в других частях мира: «То же самое
давление избытка населения на производительные силы заставляло варваров с
плоскогорий Азии вторгаться в государства Древнего мира. Здесь, хотя и в другой
форме, действовала та же причина. Чтобы продолжать быть варварами, последние
должны были оставаться немногочисленными. То были племена, занимавшиеся
скотоводством, охотой и войной, и их способ производства требовал обширного
пространства для каждого отдельного члена племени, как это имеет место еще
поныне у индейских племен Северной Америки. Рост численности у этих племен
приводил к тому, что они сокращали друг другу территорию, необходимую для
производства. Поэтому избыточное население было вынуждено совершать те
полные опасностей великие переселения, которые положили начало образованию
народов древней и современной Европы» [39, с. 568].
Постепенно и в науковедении накапливаются свидетельства в пользу того, что
и в современных условиях, когда научная деятельность обрела собственную базу
кадрового обеспечения и вербует своих «новобранцев» из числа обладателей аттес-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 33
татов зрелости, носителей Ту, к которым, понятно, неприменима категория
лишних людей, поскольку они продукт всеобщего и обязательного образования, в
скрытой форме продолжают действовать все те же, явно человекоразмерной
природы, количественные соотношения между численностью дисциплинарного
научного сообщества и характеристиками дисциплины как когнитивно-социальной
единицы, явно напоминающий в этом отношении греческий полис, если не
первобытное племя.
На этот лад настраивает прежде всего эволюция модели стадийного развития
исследовательских групп в специальности-дисциплины, предложенной Н.Мал-
линзом [142], о которой мы уже говорили по связи с эквифинальностью
строительства «городов науки». В качестве основного повода для возникновения групп
Маллинз, синтезируя Прайса и Куна, использовал обжитую уже в науковедении
и истории науки идею открытия, крупного вклада, новой и неожиданной мысли,
которые дают начало!1юрмйрЪванйк5 группы и'ее движению в дисциплину. Более
поздние исследования обнаружили, что это лишь вариант начальных условий,
ведущих к тому же результату, к почкованию материнской дисциплины, хотя для
элитарных групп этот вариант может рассматриваться как господствующий. ~£е=
волюционные группы, развитие которых в дисциплину не предполагает гибели
материнское" дисциплины, могут возникать по множеству поводов и ведут себя
подобно выводимым полисом-городом колониям, приходя, если им удается
пройти все стадии, к тому же результату — к дисциплине.
На фоне этой эволюции модели Маллинза несколько иное и более отчетливое
содержание получают результаты исследований Г.Менарда по истории геологии
моря, опубликованные в 1971 г. [138]. Менард независимо от Маллинза, но со
ссылками на Прайса провел анализ изменений характеристик дисциплины по
возрасту, который он исчислял в периодах удвоения массива публикаций.
Концептуально-понятийный аппарат у Менарда, естественно, иной, картины Менар-
да и Маллинза в ряде пунктов не совпадают, Менард скорее исследует
продолжение истории того, что Маллинз считает завершением, историю научного
города, а не историю его строительства. Но как раз эти несовпадения в достаточной
степени информативны, чтобы заподозрить численность населения научного
города в довольно четко локализованном по возрасту стремлении почковаться по
любому подвернувшемуся поводу.
Менард выдвигает гипотезу. трех последовательных этапов роста того, что
Маллинз называет специальностью — частью дисциплины, а Менард «поддис-
циплиной», становящейся дисциплиной. Этапы эти следующие: ускоренный,
нормальный, замедленный. Каждый из этапов обладает присущими только ему
значениями дисциплинарных переменных типа: период удвоения массива
публикаций; квота цитирования; соотношение первичной (статьи) и вторичной
(обзоры, монографии, курсы лекций, учебники) литературы; редакционный лаг
(средний срок задержки рукописей до публикации); лаг подготовки научных кадров и
т.д., причем основные параметры дисциплинарного окружения, образующие
интерьер научной деятельности ученых и духовный климат этой деятельности,
оказываются, по Менарду, производными от соотношения между щуцщм периодом
активной деятельности ученого (45 лет) и числом удвоений дисциплинарного
объема научной деятельности на этом периоде.
На первом этапе ускоренного роста специальность или поддисциплина,
начало которой у Менарда, как и у Маллинза закладывает та или иная
трансформирующая парадигму материнской дисциплины «революционная работа», темп
роста с удвоением в 5—7 лет позволяет входящему в дисциплину ученому пройти
в ней несколько периодов удвоения, стать одним из основателей, зачинателей,
признанных авторитетов. Где-то на 8—10 периоде удвоения (через 30—50 лет
ускоренного роста) массив дисциплинарных публикаций в целом и его годовые
приросты выходят за пределы возможностей непосредственного восприятия и
контроля, становятся нечеловекоразмерными. В дисциплине возникают вспомо-
3 М.К. Петров
34
M. К. Петров
гательные виды деятельности формального и неформального типа, она переходит
в период нормального развития с удвоением объема дисциплинарной
деятельности в 15—20 лет.
Этот нормальный этап представлен, по мнению Менарда, в работах Прайса.
С исчерпанием возможностей парадигмы, ее концептуального и
инструментального потенциала дисциплина переходит в этап замедленного развития с периодом
удвоения в 40—60 лет. Для этого периода характерны: обсуждение проблем, а не
их решение; рост доли вторичной литературы в ущерб первичной; рост квоты
цитирования; разрастание лага публикации и глубин цитирования; появление
множества гипотез относительно известных уже данных; растущая вероятность
появления новых парадигм — точек роста новых поддисциплин.
Поскольку характеризующие объем дисциплинарной деятельности темпы
роста массива публикаций и численности дисциплинарного сообщества как
правило совпадают, а состав начальных условий формирования групп, как это
подтверждают последние исследования по гипотезе Маллинза, достаточно
разнообразны, вполне может оказаться, что основную ответственность за поиск поводов
для почкования, формирования групп несет именно давление растущего
населения научного города, что происходит примерно то же самое, что и в первобытных
обществах, где за какими-то пределами численности племени социальная
структура выходит за пределы непосредственного восприятия и управления, становится
в этом смысле нечеловекоразмерной, а потребная для обеспечения площадь
территории непомерно возрастает, становясь нечеловекоразмерной с точки зрения
оперативности коммуникаций. Это двойное давление роста численности племени
и потребной для жизнеобеспечения племени площади территории и создает повод
для почкования как неустранимого для первой географической экспансии
момента механизма расселения. Понятно, что если существуют какие-то оптимальные
значения численности дисциплинарного сообщества, населения научного города,
а по Менарду они определенно существуют и проходятся где-то на переходе в
норму, то выход за эти значения может в определенном смысле рассматриваться
как появление и накопление в дисциплинарной структуре «лишних людей», а с
ними и беспокойства, тяги к перемене мест, той маяты души, которые требуют
повода для почкования.
Нам кажется, что именно в этом плане примата роста численности
дисциплинарного сообщества может толковаться большинство парадигматических
примеров на выявление дисциплинарного консерватизма, когда революционеры
кричат: «Бросьте заниматься ерундой!», а революционерам ответствуют: «Не мешайте
заниматься делом, идите своей дорогой!». Найт, например, демонстрирует
дисциплинарный консерватизм ситуацией в биологии середины XIX в.: «Когда
появляется новая парадигма, она может принести и определенный выигрыш и
определенные потери, но она обязательно должна ввести в поле зрения новые
феномены и открыть путь к большему числу экспериментов, чем старая, иначе ей
старую не одолеть. Следует естественно ожидать оппозиции старшего поколения,
подготовленного или даже вымуштрованного в нормах старой парадигмы и
воспитанного в убеждении, что любая проблема может быть решена в ее пределах.
Аристократы редко совершают революции, хотя и могут, подобно герцогу
Орлеанскому, поддерживать их в надежде стать с помощью революции королем. То
же самое происходит и в науках. Те, кто поднялся к вершине работой в старой
парадигме, не будут приветствовать появление новой или видеть в ней насущную
необходимость. В первой половине XIX в. Кювье и его ученики тратили жизни
на определение вида, к которому принадлежат ископаемые кости, и тем самым
вводили порядок в геологию. Трудно поэтому было бы ожидать, что люди вроде
Ричарда Оуэна, наиболее видного ученика Кювье в Британии, кто лично
восстановил моа — огромную вымершую бескилевую нелетающую птицу —
первоначально по одной-единственной кости, могли бы приветствовать теорию Дарвина,
по которой сами виды теряли стабильность. В самом деле те, которые, подобно
История европейской культурной традиции и ее проблемы 35
Оуэну, работали в музеях, где они без конца классифицировали образцы, не
находили как группа дарвинизм особенно полезным и важным, им и так предстояло
проделать еще огромную работу» [131, с. 19].
Ясно, что пока у значительной части научного сообщества материнской
дисциплины дел по горло, а работа по классификации образцов не завершена и
сегодня, материнская дисциплина и после почкования-родов новой дисциплины не
прекратит своего существования, хотя, возможно, и деформирует свою парадигму
под давлением необходимости размежеваться с отщепенцами, с колонистами,
уплывающими строить научный полис-город в другом месте. Логан Уилсон,
например, один из редких «совмещенных» социологов науки и высшей школы,
которому дважды, с разрывом почти в 40 лет (в 1940 и 1979 гг.) удалось опубликовать
результаты «долготных» исследований американских академических структур по
близкому набору переменных, а этот период долготности в общем-то сравним с
предложенным Менардом периодом активной деятельности ученого (45 лет),
приводит множество данных незапланированной информативности, которые
свидетельствуют в пользу того, что города науки редко гибнут в научных революциях.
Он отмечает довольно большой разброс лага аспирантской подготовки, что явно
связано с положением дисциплин в этапной классификации Менарда — защитить
диссертацию доктора философии в дисциплине на этапе замедленного развития
труднее, чем на этапе ускоренного или нормального: «По выборке 1944 г.,
включающей около 500 докторов философии, средний возраст получающих докторские
степени — 32,7 года... В 1973—74 учебном году было присвоено около 33000
степеней докторов философии, средний возраст этой группы — 32,1 года.
Большинство аспирантов не укладывается в сроки подготовки. Минимальный срок
получения степени доктора философии после получения диплома бакалавра (наш
диплом выпускника высшей школы. — М.П.) — три года. Общее «действительное
время» — около 4 лет, но в 10 основных дисциплинах на периоде 1957—1964 гт.
среднее «потерянное время» колебалось от минимума 5,7 лет в химии до
максимума 12,7 лет в педагогике» [175, с. 46].
Таблица 1 [175, с. 48]
Ранговый список 20 ведущих дисциплин по числу присваиваемых
степеней доктора философии
1940 г.
1969 г.
1. Химия
2. Педагогика
3. Английский язык и литература
4. Физика
5. История
6. Экономика
7. Биохимия
8. Психология
9. Ботаника
10. Математика
И. Политическая наука
12. Технические науки
13. Романская литература
14. Физиология
15. Социология
16. Философия
17. Бактериология
18. Агрономия
19. Геология
20. Богословие
1. Педагогика
2. Технические науки
3. Химия
4. Психология
5. Физика
6. Английский язык и журналистика
7. Биологические науки
8. Математика
9. История
10. Изящные и прикладные искусства
11. Экономика
12. Агрономия
13. Бизнес и коммерция
14. Биохимия
15. Политическая наука
16. Социальные науки
17. Социология
18. Биология
19. Богословие
20. Бактериология
3*
36
M. К. Петров
Поскольку в нашей модели онаучивания общества процессом познания
методом воздействия исследований переднего края через иерархию воспитателей на
текущие значения Ту аспирантура образует первое звено такой иерархии, крайне
полезны и информативны для нас сведения о характере изменения объемов
подготовки аспирантов и, соответственно об изменении статусов дисциплин в
воздействии на иерархию воспитателей, меры их участия в воспроизводстве и
изменении Ту (см. табл. 1). Как явствует из этой таблицы, научные города редко
покидаются жителями и скачкообразных срывов не происходит. У ил сон так
комментирует смысл представленных данных: «Основные области изучения тех, кто
завершал работу над диссертациями в 1940 и в 1969 гг. не претерпели серьезных
скачкообразных изменений, судя по распределению аспирантов по дисциплинам.
Из табл. 1 видно, что способы классификации исходных данных в некоторых
случаях менялись на этом периоде, но достаточное их число осталось прежними, что
позволяет проводить ряд сравнений. Некоторые из наиболее популярных в 1940 г.
дисциплин уже не входили в 20 наиболее популярных в 1969 г. и некоторые из
не входивших в список ранее, поднялись в высшие ранги за последние
десятилетия. Ни одна дисциплина не осталась в прежнем ранге, но большинство из них
и не претерпело резких сдвигов. Короче говоря, табл. 1 лишний раз иллюстрирует
связь изменения и стабильности, которые часто переплетаются в академической
деятельности» [175, с. 47—48].
Эти факты, как и множество других, с которыми нам еще предстоит иметь
дело, дают, похоже, возможность попытаться с опорой на присутствие в
социальных структурах лишних людей сделать шаг к экспликации тех представлений о
природе предметной экспансии науки, которые сегодня бытуют на правах
данности среди науковедов, социологов и историков науки.
Пока, если говорить в терминах эквифинальности строительства «городов
науки» господствует поляризованная модель предметной экспансии научного
познания, расселения ученых как существ естественных, социальных, мыслящих, а
с какого-то времени и не менее для себя существенным образом и академо-на-
учных по миру открытий, о котором ничего пока не известно ни относительно
формы, ни относительно конечности и замкнутости, что вполне естественно:
наука проходит этап первой предметно-географической экспансии в своем мире,
и требовать от ученых знания о формах заселяемого ими мира столь же
противоестественно, как и требовать от участников первой географической экспансии
человечества знаний о форме земли. Пока есть куда идти, вселяться, выводить
колонии, всегда есть где строить научные города, так что господствующим среди
ученых представлением о мире открытий является представление о его
бесконечном разнообразии и неисчерпаемости, которое раньше держалось на
соответствующих атрибутах творца всего, а теперь держится просто так, на принципе Гатто-
на: «Мы не обнаруживаем следов начала и перспективы конца» [131, с. 67].
В качестве полюсов и базовых метафор действующей поляризованной модели
восприятия событий науки используются в основном наборы представлений о
золотой лихорадке и о военно-казарменном быте. Трудно сказать, насколько
осознанно используются эти базовые метафоры, картину генезиса рабочих терминов
и понятий в современном творческом хаосе науковедения, социологии и истории
науки во всяком случае нельзя назвать чистой. Но, во всяком случае, когда мы
встречаем и в общем-то улавливаем смысл выражений типа «открытие», «вклад»,
«заявка», «приоритет», «застолбить участок», «богатая жила», «россыпь»,
«выработанная парадигма», «истощение парадигмы» и т.п., мы чувствуем себя где-то не
то на Аляске, не то в Австралии в готовности увидеть и принять как должное
разрытые груды земли, счастливчиков и неудачников, а когда потоком начинают
идти «прорывы», «передний край», «рекрут», «новобранец», «муштра», «марш-
бросок» и т.д., мы уже чувствуем себя где-то на полпути от казармы через плац
к переднему краю также в готовности встретить и опознать реалии несколько
История европейской культурной традиции и ее проблемы 37
иного мира — грудь, скажем, в крестах или голову в кустах или, на худой конец,
солдата не нашей роты в завидной самовольной отлучке.
И той и другой метафоре нетрудно подыскать авторов. Историки науки и
философии сразу же вспомнят, что уже у Гераклита много копают мужи-философы,
а находят мало, тогда как исследователи научной политики и активные ее
участники, вроде первого помощника президента США по науке и технологии
Дж.Киллиана, тут же укажут на знаменитую работу Ванневара Буша «Наука —
всегда граница», которая была написана по просьбе Рузвельта в конце войны,
надолго определила научную политику США и, в порядке побочного эффекта,
вызвала широкое распространение динамичных казарменно-военизированных
моделей восприятия реалий науки от мобилизации таланта до новобранцев и мегат-
рупов [128, с. 58].
Нам придется еще детально разбираться в истории корневых и разовых
метафор восприятия науки, ее конечных целей, задач, пока же, заключая раздел
введения о «лишних людях», мы отметим два существенных для дальнейшего
изложения обстоятельства.
Первое мы видим в том, что сегодня происходит инфляция и разрушение тех
представлений о науке, мире открытий, способах и целях умножения знания,
которые складывались в основном в XVII—XVIII вв. с явной опорой на постулат
сотворенности мира существом разумным и вечным и редко подвергались
критике вплоть до середины нашего столетия. Сегодня они активно вытесняются
новыми и более динамичными представлениями не столько потому, что эти
представления лучше и полнее моделируют существо дела, сколько потому, что
распространение всеобщего и обязательного среднего образования, появление Ту
вынуждают перестраивать всю постулатную базу с опорой на живого и смертного
человека в его возможностях и ограничениях. Ту в этом смысле отменил бога как
необходимую посылку и оголил, поставил под удар критики все то, что на этой
посылке держалось, а держалось многое.
Для историка науки это создает дополнительные трудности: слабеют связи с
совсем уже недавним прошлым, появляются лакуны, затрудняющие
взаимопонимание. Сегодня, скажем, никому не нужно объяснять, что такое «передний край
научного познания мира», но значительно сложнее обстоит дело уже с Книгой
природы, которая все более и более начинает пониматься «благородно». Нетрудно
представить себе, например, реакцию современного Ту читателя на описание Бой-
лем достоинств Книги природы: «Чтение Книги природы любознательным умом
мало походит, скажем, на чтение басен Эзопа или какого-нибудь пестрого
сборника, где каждый рассказ не зависит от другого. В Книге природы, как в хорошо
задуманном романе, части настолько пригнаны друг к другу и соотнесены друг с
другом, а вещи, которые нам предстоит открыть, настолько темны или неполно
познаны теми, кто приступает к ним, что ум никогда не будет чувствовать себя
удовлетворенным, пока не дойдет до конца Книги» [129, с. 146].
Для современного читателя все тут будет, в лучшем случае, новым и
забавным, а в худшем — диким, хотя все в общем-то понятно — и Эзоп, о котором
слышали в школе хотя бы по связи с Крыловым, и отличие рассказа от романа,
хотя бы по толщине, а в целое, в познавательную установку отцов науки эта
понятность не собирается, не достает чего-то фундаментального, чего-то такого, о
чем Ту читатель мог бы, не мудрствуя лукаво, сказать словами детского героя
Антошки: «Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали». Но
Книга природы это еще, так сказать, случай легкий, восстановить понимание
здесь несложно. Много сложнее было бы, скажем, объяснить, что, собственно,
понимали под просвещением интеллектуалы-революционеры XVII в. и
просветители XVÎII в., поскольку сам концепт просвещения был существенной частью
недолговечной парадигмы одной из групп естественных теологов, которая не дошла
до стадии дисциплины, и в современном Ту сознании сохраняются только оскал-
38
M. К. Петров
ки некогда целостной парадигмы — газ, «древо жизни», мистик Беме,
воспоминания старших о Наркомпросе.
Второе общее замечание о господствующих сегодня или идущих к господству
^базовых метафорах, которые теснят и разрушают старые, состоит в том, что,
относясь с понятной настороженностью к разрушительной и во многом
безапелляционно явочной критике корневых метафор недавнего прошлого, мы сознаем и
необходимость и историческую закономерность переноса постулатной базы с
«приматов», будь они всемогущими и всеведущими богами или неразумными
обезьянами, на человека как монопольного творца истории, которому нет смысла
и у которого сегодня нет даже права отступаться в пользу «самостных знаков»
любой природы от гордости, вменяемости и ответственности за собственное
творение, а в этом смысле новые и стихийно тяготеющие то к золотой лихорадке,
то к городу, то к военизированно-казарменному быту базовые метафоры более
перспективны, чем старые, где, скажем, рядом с Книгой природы нужно
поставить Библию и ее автора — самостный знак надчеловеческой природы, а рядом
с просвещением — отца всех светов, опять же самостный знак, на правах условия
осуществимости и Книги природы и просвещения.
В возникающих под влиянием этих базовых метафор понятийных аппаратах
концепт «лишних людей» — постоянно воспроизводимой и без труда
опознаваемой кадровой избыточности в любых «нормальных» социальных структурах, где
все наличные «штатные» должности всей действующей номенклатуры штатных
должностей должны быть заняты в любой момент времени имеющими на то
законное право исполнителями, — несет явно революционную функцию реальной
возможности появления нового и попыток его реализации, перевода в наличное,
в норму. Если мы безоговорочно принимаем принцип рукотворности
человеческой истории, то мы тем самым берем на себя обязательство видеть во всем, что
образует «нормально» функционирующую социальную систему, идет ли речь о
материальных или знаковых реалиях, безымянные или отмеченные эпонимичес-
кой характеристикой результаты творчества вполне конкретных земных
индивидов. Все было кем-то изобретено, сотворено, придумано, ничего не падало
человеку с неба, ни плуг, ни ярмо, ни секира с чашей, во что верили скифы [1,
с. 150], ни тем более, бестелесные знаки. Все кем-то, когда-то придумывалось,
сочинялось, решалось, прежде чем стать нормой, обыденной и обкатанной
деталью социального быта, которая редко несет имя своего создателя, причем в
едином ансамбле приведенной в норму социальной системы спокойно уживаются,
сопрягаются, притираются изобретения самых различных возрастов и культур:
идут и сегодня «гетерогенные» часы Страсбургского собора, ходят все в том же
ярме и быки на щите Ахилла и быки в «Поднятой целине» М.Шолохова.
Понятно, что людям в «штате» нормально функционирующей и полностью
укомплектованной системы, которая «гонит вал», обеспечивая в эмпирических
контактах извлечение из нее со средой всех средств к жизни в должном объеме
и номенклатуре, реже будут приходить в голову идеи о замене проверенных
временем и освоенных навыков, чем дублерам-кандидатам, и в очереди реальных
претендентов на исполнение штатной должности, выстраивается ли она семьей
на базе первородства в жесткую последовательность или, скажем, как у нас, в
конкурс претендентов, вероятность критического отношения к сложившейся
практике, а с нею и склонность к реформам и нововведениям в общем-то
возрастают с падением реальности шансов на исполнение должности.
С другой стороны, естественный и оправданный консерватизм отлаживаемой
временем системы, функционирующей в режиме нормы, ее защищенность от
критики кандидатов в лишние люди (дублеров) или просто лишних людей —
вещь весьма относительная. Киты европейского развивающегося мира — компас,
порох, печатный станок, — заплывшие в Европу из Китая и существенно
изменившие баланс сил между косностью представителей штатной нормы и
новаторским духом лишних людей, не вызвали сколько-нибудь заметных изменений у
История европейской культурной традиции и ее проблемы 39
себя на родине, где так же хватало лишних людей и по тем же почти причинам,
как и в Европе. И если в Китае они остались в «кунсткамерном» состоянии
уникальных диковин для развлечения гостей повелителя «Поднебесной», то вряд ли
это произошло из-за того, что китайцы оказались косными, а европейцы
предприимчивыми. Просто энергия, предприимчивость и изобретательность лишних
людей Китая гасилась строительством Китайской стены, ирригационных
сооружений, наращиванием дамб, мандаринатом-системой подготовки
государственных чиновников, которая во многом походила на воспроизводство церковных
кадров в Европе, тогда как талант лишних людей Европы проявлялся в более
разнообразных формах и был менее связан с долговременными и емкими в кадровом
отношении задачами.
И то, что называют «китайской наукой», и то, что стало в Европе
естествознанием или опытной наукой, возникало как продукт деятельности лишних
людей, но в Китае такая деятельность с самого начала ориентировалась на
укрепление стабильности, социально-космического порядка, поскольку орошение
полей, водные пути и поддержание космического порядка считались основой и
конечной целью китайской государственности. «Предшественники ученых в
Китае, — пишут Дж.Бернал и А.Маккей, — чувствовали себя вплетенными в
механизмы равновесия природы. Когда природа выходила из равновесия, такой
"праученый" ощущал этот факт как собственную ошибку, видел свою задачу не в
изменении, а в сохранении установившихся процессов природы» [4]. Известно,
например, что когда китайские астрономы предсказывали затмение, а его все-
таки не происходило, обычай требовал от астрономов просить аудиенции у
повелителя для выражения благодарности за предотвращение зла [102, с. 98].
Европе был чужд этот дух встроенности в процессы природы, соучастия в
космических делах. Небесная и земная механика по сути дела до Ньютона были
разными механиками — в небесной была «пятая» субстанция, которой не было в
земной. Никому из европейских земных владык не приходило в голову брать на
себя заботы и ответственность за состояние космических и, тем более, небесных
дел, а если бы и пришло, то такого безумца быстро привела бы к порядку
Римская церковь, перекрывавшая дороги к небу как к своей вотчине, доступ куда
открывался только лишним людям-интеллектуалам и вовсе не ради поддержания
порядка. Многие историки науки начинают летоисчисление европейской науки с
1543 г., с «коперниковского переворота». О дате можно, естественно, спорить,
нам она, к примеру, не кажется убедительной. Но как иллюстрация жизненной
установки лишних людей Европы, деяние Коперника в высшей степени парадиг-
матично: европейскому лишнему человеку и на небесах нечего делать, если там
нет повода что-нибудь перевернуть, открыть, сотворить, поставить под сомнение.
В предисловии к «Жанне д'Арк» Бернард Шоу так описывал результат
воспитательного воздействия этой установки: «В Средние века люди верили, что земля
плоская, относительно чего у них было, во всяком случае, свидетельство их
органов чувств; мы верим в то, что она круглая не потому, что хотя бы сотый из
нас в состоянии привести физические доводы в пользу такой диковинной веры,
а потому, что современная наука убедила нас в том, что все очевидное неверно
и что все магическое, невероятное, сверхъестественное, огромное,
микроскопическое, бессердечное или чудовищное является научным» [73, с. 419]. Но это, так
сказать, «плоды просвещения», частный результат воспитательно-интериоризиру-
ющего применения общей для лишних людей установки, тогда как сама эта
установка явно формировалась по связи с географическими открытиями, дальними
плаваниями. Терминология революционного периода в своей «научной» части
принадлежала явно к миру географических открытий, в том же смысле, в каком
термин «восстановление» принадлежал к континууму христианской истории:
творение—падение—искупление. «Продвижение знания», «приумножение наук»,
«открытие» концептуально формировали практику искупления периода «последних
времен» христианской истории производно от практики географических откры-
40
M. К. Петров
тий. Прилагательное «новый» равно широко использовалось и в топонимике
географических открытий и в названиях революционных работ: под одним знаком
рождались «Новый свет», «Новый органон», «Новая Англия», «Новая Атлантида».
Далеко не случайно в этом климате строка из Даниила: «Многие пройдут и
многообразно будет знание» стала знаменем интеллектуалов-революционеров
XVII в., хотя вот, скажем, читая избежавший латинизации русский перевод
соответствующего места пророчества Даниила, трудно представить себе, каким
способом Даниил мог войти в связь с географическими открытиями: «А ты, Даниил,
сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие
прочитают ее, и умножится ведение» [Даниил, 12, 4].
Не вдаваясь в детали разночтений переводов с латыни и греческого, загадка
которых, в данном случае, разрешима, похоже, по линии ассоциативного синтеза
процессов познания и прохождения в духе нравственной максимы Антошки —
«это мы не проходили, это нам не задавали», нам следует все же попытаться
ориентировать эту комбинированную географо-познавательную установку лишних
людей Европы предреволюционного и революционного времени в полюсах
действующих сегодня базисных метафор по чисто практическим обстоятельствам:
желаем мы того или нет, нам постоянно придется объясняться в текущем
тезаурусе современности, каким он представлен в Ту, в исследованиях науковедов,
социологов и историков науки, в базовых метафорах концептуализации и
порождения терминов. Наиболее подходящим для этой установки нам представляется
ориентированный на военизированно-казарменный быт термин «самовольная
отлучка», который достаточно гармонично вписывается в комплекс широко
используемых для описания нормальной науки и получивших статус терминов понятий
типа рекрут, новобранец, муштра, плац, передний край исследований,
марш-бросок, эшелонирование, тылы науки, и содержит выходы в революционные
ситуации, чего действующий комплекс не содержит.
Прекрасно всем известное явление самовольной отлучки включает ряд само
собой разумеющихся характеристик и ограничений, которые акцентируют крайне
важные для нашей задачи условия осуществимости событий как географической,
так и предметной экспансии.
Во-первых, это идея возвращения в казарму к сроку, к «побудке». Если бы,
скажем, отправляющиеся в «дальние вояжи и плавания» не возвращались в
Европу на сроке собственной жизни с достоверными рассказами о событиях в «здесь
и сейчас» их путешествий, гипотеза о единстве человеческого рода на уровне
генетической совместимости всех рас и народов эмпирически была бы доказана
только для этих невозвращенцев, тогда как в самой Европе-казарме, она не могла
бы обрести статус экспериментально подтвержденной и отправленной в «повсюду
и всегда» научной истины. Даже если бы возвращалось второе или третье
поколение потомков таких невозвращенцев со смутными рассказами про капусту,
аистов, про своих предков — «приматов», условия научного эксперимента не были
бы соблюдены: ребенок не несет ответственности за обстоятельства собственного
появления на свет, а возможность задать соответствующие вопросы
непосредственным участникам событий была бы безвозвратно утрачена.
То же самое ограничение остается в силе и для научной предметной
экспансии. Д.Найт, как мы уже упоминали, вводит свой концепт науки — комплексной
когнитивно-социальной деятельности по связи с двумя длительными вояжами
священника-унитариста Джозефа Пристли, совершенными 200 лет тому назад к
плохо изученным в те времена островам «Электричество» и «Оптика», и целью
этих вояжей было, по Найту, «привести читателя, как они практически привели
самого Пристли в процессе их написания, от почти полного невежества на самый
передний край познания» [131, с. 11]. Но как Пристли определил этот «самый
передний край познания» и как его определяют современные вояжеры?
Допустим, что Пристли увлекся в погоне за «самым передним краем» и дальше события
начали развиваться по Пруткову:
История европейской культурной традиции и ее проблемы
41
Однажды нес пастух куда-то молоко,
Но так ужасно далеко,
Что уж назад не возвращался.
Читатель! Он тебе не попадался? [59, с. 84]
Имели бы мы право и в этом случае считать, что отлучившийся из своей
обители, пренебрегший прямыми обязанностями ради завлекательных туманов
электричества и оптики и не вернувшийся из отлучки священник-унитарист Пристли
внес все же некий вклад в предметную экспансию науки, пробил, скажем, дорогу
или тропинку к проблемным областям электричества и оптики? По модели
самовольной отлучки ответ должен быть отрицательным. Самовольная отлучка — тай-
мированное предприятие: опоздать к побудке, значит испортить все дело, лишить
коллег по казарме ценной информации об области возможных самовольных
отлучек.
Если известно расположение казармы (Европы, скажем), то время от отбоя до
побудки (длительность периода активных исследований, например) определит
границы области возможных самовольных отлучек. Кук, например, доказал, что
областью самовольных отлучек для европейских лишних людей, если они
используют парусник, компас, порох, является весь земной шар — срок отлучки от
отбытия до прибытия укладывается в сроки человеческой жизни.
В «мире открытий» науки нет пока своего Кука, и в общем-то, учитывая
состояние арсенала средств обеспечения вояжей, в котором нет ни паруса, ни
компаса, надеяться на появление Кука научного мира открытий было бы несерьезно.
Пока научные вояжи совершаются по правилам каботажного плаванья в
прибрежной зоне, что обеспечивает значительное превышение периода активных
исследований (45 лет по Менарду) по сравнению со сроками вояжей-отлучек на
передний край исследований.
В терминах «прохождения» геометрия мира открытий представлена схемой,
живо напоминающей хорошо всем известную и впечатанную в память схему
московского метро, если на ней оставить все как есть, только рядом повесить
объявление: «Все переходы на кольцевой маршрут закрыты впредь до открытия!».
Понятно, что в этой ситуации попасть куда-нибудь, не выходя из метро, со
станции «Академическая», скажем, на станцию «Университет» можно будет только по
радиальным маршрутам через центр. В центре такого мира открытий будет
располагаться «Метрополис» — город и пункт сбора новобранцев Ту. Кольцевым
маршрутом будет обозначено место возможных дисциплинарных полисов-казарм
науки, к которым существуют пробитые первопроходцами от Ту и проторенные
новобранцами науки маршруты, обустроенные учебниками, пособиями,
расписаниями движения новобранцев, рассчитанного на жесткий срок в 4 года. Каждый
дисциплинарный полис-казарма прочерчивает сроком аспирантской подготовки
(3 года) границы области самовольных отлучек, возможных «передних краев»
дисциплинарных исследований, и границы этой области проходят именно на этом
расстоянии от дисциплинарного полиса не потому, что дальше идти некуда, а
потому, что за пределами этой области начинается то самое «ужасно далеко», откуда
уже не возвращаются.
С этой геометрией мира открытий, которая, с одной стороны, жестка и
удерживается сроками движения от Ту к Тд (кольцевой маршрут) и от Тд к Тг
(передний край формирования групп), а с другой стороны, изменяема, поскольку
дисциплинарные полисы-казармы могут менять положение на кольцевом маршруте
и на том же маршруте могут, как показал Н.Маллинз, появляться новые
дисциплинарные полисы-казармы со своими особыми радиальными маршрутами Ту-Тд
(учебники) и своими особыми предметными областями, мы будем заниматься
более подробно позже, а пока отложим схему московского метро как черновую
модель мира открытий и продолжим знакомство с возможностями концепта
самовольной отлучки.
42
M. К. Петров
Во-вторых, с представлением о самовольной отлучке в армейской жизни
теснейшим образом связан концепт ЧП — чрезвычайного происшествия, который,
хотя и назван он так, как если бы и вовсе его не должно было быть, является в
общем-то стандартной казарменной ситуацией, соотнесенной с не менее
стандартными процедурами решений. Чаще всего ЧП возникают по поводу
опозданий, и тогда, в зависимости от объяснений нарушителя и их убедительности,
начальство, посоветовавшись с уставом, применяет одну из стандартных процедур
решения ЧП. В целибатно-казарменных условиях жизни не исключено, конечно,
возникновение ЧП по чисто познавательным поводам в духе, скажем,
парадигматического примера Найта о «большой науке» как универсальном агенте истории
науки: «Для исследований суши и моря, которые выходили за рамки простого
описания маршрута и случайных наблюдений, требовались государственная
поддержка и команда мужей науки. Такой была «большая наука» XIX в., когда
подавляющая часть физики оставалась областью деятельности индивидов, которые
работали в одиночку или с одним-двумя помощниками, используя сравнительно
дешевое оборудование. Без государственной поддержки, к примеру, Дарвину вряд
ли удалось бы обойти на паруснике вокруг света, заполучить коллекцию
образцов, необходимую для формирования теории эволюции как результата
естественного отбора [131, с. 181].
Парадигматичности в этом примере Найта не так уж много, если вспомнить
фон, на котором он происходил. И в те годы, когда медик и теолог по
образованию Дарвин находился в самовольной отлучке на корабле Бигль, а затем и
разрабатывал свою эволюционную теорию, парламент Англии ожесточенно спорил
и при Дизраэли и при Гладстоне как раз о государственном участии в
финансировании научных исследований. Сама идея государственной помощи научным
исследованиям встречала упорное сопротивление и в департаментах, и особенно в
Казначействе. Адмиралтейство, например, не платило Дарвину никакого
вознаграждения, он должен был на собственные средства приобретать необходимую
экипировку, научное оборудование, охотничье оружие, оплачивать расходы по
сухопутным экскурсиям [15, с. 18]. РЛинджен, постоянный секретарь
Казначейства, находил бессмысленным государственное участие в деятельности, которая
достаточно обеспечена доходами университетов. «Не могу понять, — писал он, — в
чем еще могли бы состоять обязательства правительства, когда и так уже
Королевские комиссии заседают в двух университетах, располагающих ежегодно более
чем 700000 ф. ст.» [168, с. 141]. Спор-то шел о 4000 ф. ст., так что вопрос решался
не столько по существу, сколько в принципе, и разрешился только в 1876 г. [168,
с. 145].
Этот бесспорно интересный и принадлежащий к континууму истории науки
случай самовольной отлучки не является все же типичным для армейских ЧП,
хотя, конечно, Адмиралтейство могло бы и помягче обойтись с Дарвиным. Но и
Адмиралтейство можно понять. Нетрудно представить себе, например, реакцию
начальства, которому засеченный на самоволке солдат начинает плести
что-нибудь про то, как ромашки кончились, завяли лютики, что вот и на море синее
вечерний пал туман, а роща золотая и вовсе отговорила... Ясно, что наказание
будет строжайшим из возможных по совокупности отягчающих обстоятельств,
включая и извращение основной идеи самовольной отлучки. Настоящее,
добротное, фундаментальное, парадигматическое для историков ЧП начинается с
сигнала из области самовольных отлучек о том, что родилось новое, что оно пищит,
растет, а отец или отцы глаз не кажут и голоса не подают, хотя вот и худощав
как Никанор и глаза как у Ивана, и губы опять же Никанора и шуму от него,
как от Балтазара. Словом, та же ситуация Агафьи Тихоновны в варианте
опознания причин по продукту их деятельности [13, с. 253].
В стремлении закрыть ЧП начальство обычно начинает с методологически
несостоятельной посылки о том, что у каждого новорожденного обязан быть один
отец и соответственно, поскольку новорожденный подал голос, а мать высказала
История европейской культурной традиции и ее проблемы 43
предположение и создала ЧП, пытается выявить отца, но довольно часто
начинает спотыкаться о методологические сложности. Никто из заподозренных
обычно не отрицает своей возможной причастности, но целибатное состояние
заподозренных запрещает применение к ним процедуры Наполеона, а чистосердечное
признание или даже претензии на отцовство встречаются обычно с подозрением,
так что типичным решением ЧП этого типа, если оно зашло в тупик, является
признание новорожденного сыном или дочерью полка.
Многоотцовщина, патристика — характерная черта, универсальный агент
истории познания вообще и истории науки в частности. Историки настолько уже
к этому привыкли, что любой однозначный результат показался бы им крайне
сомнительным, неправомерной биологизацией процесса познания. Нам кажется,
что если бы даже упорный поиск антропологов и палеонтологов в генеалогии
человека завершился успехом, на что мы, откровенно говоря, не возлагаем особых
надежд, то обнаруженный в таких поисках примат мог бы претендовать только
на соотцовство, на «статус дельфина» и соответствующие привилегии в духе
ссылки Найта на утконоса: «Куску калия безразлично, решим ли мы, что он металл
или нет. Равным образом и утконоса вряд ли озаботит, куда мы отнесем его в
таксономической схеме, разве что его заинтересует, не охраняются ли
млекопитающие законами об охоте надежнее, нежели птицы и рептилии» [131, с. 14].
Мы говорим об отцах церкви, отцах науки, отцах направлений в науке.
Н.Маллинз, например, в составе «нормы» — начальной стадии собирания группы,
которая пойдет в дисциплину, выделяет потенциальных отцов —
интеллектуальных лидеров нового направления, которые узнают о том, что они отцы, только
по исходу дела, причем «ко времени достижения стадии дисциплины они могут
отойти от начатой линии и заняться совершенно иными исследованиями» [142,
с. 27—28]. Вместе с тем, сам этот широко представленный и, по нашему мнению,
методологически важный при обсуждении проблем начала феномен изучен
крайне слабо, явно находится под угнетающим воздействием всеобщей борьбы с
началом за безначальную дисциплинарную вечность.
Р.Мертон, к примеру, пишет: «Производство Конта или Маркса, или
Сен-Симона, или многих других в статус отца социологии есть частью дело мнения, а
частью продукт неисследованного допущения о том, как возникают и
кристаллизуются новые дисциплины. Это остается мнением, поскольку нет общепринятых
критериев отцовства в генезисе наук. Неисследованное допущение состоит в том,
что каждой науке положено иметь одного отца, как это следует из биологической
метафоры. В действительности же история науки подтверждает, что правилом
является полигенез» [139, с. 2].
Нам не кажется, что «полигенез» Мертона способен что-нибудь объяснить,
как, скажем, и «кворум» Д.Прайса: «Статьи ведут себя подобно человеческой
популяции за исключением того обстоятельства, что им, похоже, нужен кворум в
10 статей, чтобы породить одну новую, тогда как у людей хватает разнополой
пары. Сам же процесс порождения идет в постоянном темпе» [150, с. 78].
Характерно и в методологическом смысле показательно, что и у Мертона и у Прайса
эти замечания сделаны в сносках как о феномене наблюдаемом, но явно не
имеющем непосредственного отношения к существу дела.
Этот «ссылочный» статус, ссылочное внеконтекстуальное существование
представлений о многоотцовщине, полигенезе, кворуме позволяет проходить проблему
начала, первого крика новорожденного, срыва преемственности простой
состыковкой поколений. Лучше других, со ссылками на авторитеты, это делает Д.Найт:
«Сначала общепризнанным считалось то, что переходы от состояния к состоянию
были неожиданными, так что история прошлого земли рассматривалась как серия
спокойных эпох, разделенных катаклизмами, а не по аналогии с человеческой
историей, где мирные периоды разделяются революциями. Но в 1830 г. Чарлз Лай-
ель начал публиковать «Принципы геологии», где он утверждал, что изменения в
прошлом должны быть объясняемы в терминах сил, действующих в настоящем.
44
M. К. Петров
Его предшественники были щедры на насилие и скупы на время. Введенные ими
катастрофы оказывались излишними, если природе предоставлялось достаточно
миллионов лет, чтобы совершать изменения, открываемые в скалах. Взгляд Лайе-
ля постепенно становился преобладающим, и его величайшим учеником стал
молодой Дарвин, который в 1859 г. тот же самый исторический метод применил
для понимания разнообразия творений, наблюдаемых в нашем окружении. Этим
способом Дарвин объяснил естественную систему классификации. Животные или
растения, структуры которых обнаруживают большое число схожих черт или
гомологии, являются отклонениями от общего предшественника в не очень далеком
прошлом. В этом историческом типе науки объяснить нечто значит описать его
предшественников. В годы после опубликования «Происхождения видов» этот
тип объяснения стал пользоваться широкой популярностью. Предпринимались
попытки проследить развитие химических элементов, создать эволюционную
историю звезд и планетных систем» [131, с. 51—52].
У Найта уже нет и самого феномена полигенеза, кворума, патристики ни в
ссылочном, ни в каком-либо ином статусе существования. Он попросту
выброшен как лишняя деталь механизма исторического развития ретроспективным
схождением наличного разнообразия к единству предков «в не очень далеком
прошлом», а предок этот идентифицируется с тем большей определенностью и
близостью, чем больше «схожих черт или гомологии» выявляет состав этого
наличного многообразия. Обращенная ситуация Агафьи Тихоновны — опознание
отца в группе претендентов по схожим чертам или гомологиям одного ребенка —
решается в том радикальнейшем смысле, что ее попросту не может возникнуть:
единичное, по Найту, остается в прошлом, а единичное в настоящем не создает
проблемы начала в прошлом. Вот если бы у Агафьи Тихоновны было двадцать
разнообразных младенцев или у европейской культуры двадцать разнообразных
наук, тогда имело бы смысл поискать общего предка в прошлом.
Собственно к такому «решению» проблемы через уничтожение проблемной
ситуации и сводится, приводившееся уже по другому поводу заявление Найта:
«Все согласны в том, что человек и орангутанг имели общего предка, но было
это весьма давно» [131, с. 198]. Человек и орангутанг образуют многообразие и
демонстрируют большое число схожих черт или гомологии, поэтому, если Дарвин
прав, а истолкование Дарвина Найтом верно, у них должен обнаруживаться
«общий предшественник». Уточняющее замечание — «но это было весьма
давно» — расходится, правда, с исходным толкованием — «в не очень далеком
прошлом», — но это, естественно, мелочи, когда счет идет на миллионы лет.
Методологическое достоинство модели самовольной отлучки мы видим, во-
первых, в том, что, не подчеркивая того факта, что наука и творилась и долгое
время развивалась лишними людьми — пришлыми из теологии, права и
медицины интеллектуалами, которых университет готовил вовсе не для этого,
самовольная отлучка и производные от нее ЧП, дочь или сын полка переводят феномен
полигенеза, кворума, патристики из ссылочного статуса в статус существенный
при обсуждении любого начала. Черты сходства, гомологии,
рудименты-аппендиксы при этом, естественно, остаются в силе, но рядом, скажем, с той линией,
которую намечает Найт, замыкая орангутанга и человека как существ
естественных по одному набору аналогий на единого предка, у человека как существа
социального появляется другая линия гомологии, которая направляет поиск к
пчелам, муравьям и термитам, а может быть и третья, по врожденному навыку
младенцев, скажем, спать в воде или по сходству состава крови человека с морской
водой, которая ведет к дельфинам, а может быть... Словом, патристика в стане
«приматов», кто бы ни ходил в этой должности сегодня, самовольной отлучкой
переводится в норму, перестает быть побочным или экзотическим феноменом.
Далее, самовольная отлучка, ЧП, дочь или сын полка подчеркивают то крайне
важное в методологическом отношении обстоятельство, что новорожденному не
задают вопросов о его происхождении. Начальство или комиссия, расследующие
История европейской культурной традиции и ее проблемы
45
ЧП, не делают этого по понятным причинам — новорожденный, хотя он и подает
голос, растет, взрослеет, к моменту разбирательства не дорос еще даже до
концепций капусты и аиста, да и позже может наплести все, что угодно, вплоть до
происхождения от отца всех светов. Иными словами, любое начало не несет
информации о собственном происхождении и объяснимо только в ином контексте,
в рамках армейского ЧП — в материнском. Если же говорить, к примеру, о
начале истории науки, то, судя по всему, в интеллектуально-теологическом.
Наконец, единожды возникнув, новое начинает свою особую историю,
которая, если речь идет об артефактах, а творения людей за исключением
воспроизводства себя как существ естественных средствами биологического кодирования,
все сплошь артефакты, весьма редко следует предначертаниям, замыслам,
ожиданиям творцов. В этом смысле структура модели самовольной отлучки, постоянно
удерживая группу вероятных отцов на почтительном расстоянии от их творений,
подчеркивает тот факт, что все результаты творчества, как только они переходят
из невидимой в видимую фазу существования, «рождаются» для дисциплины,
науки, общества, теряют связи со своими творцами и начинают свою особую
жизнь, полностью независимую от предполагаемых или даже твердо
установленных отцов-авторов.
Мы заканчиваем введение попыткой привести сказанное выше о текущей
методологической ситуации, о проблеме начала, об эквифинальности и человеко-
размерности, о лишних людях в более компактную и более четко
ориентированную на дальнейшее изложение систему. Может показаться, что с этого и
следовало бы начать, но опыт множества попыток этого рода показывает, что нет
ничего аккуратнее, сомнительнее и уязвимее прямолинейности.
Нельзя кратчайшим путем пройти туда, куда шли извилистыми и долгими
дорогами, как и туда, откуда вышли. И чтобы отважиться на такой вояж, нам
прежде всего придется отказаться от лошадиной метрики современных прохождений
через миры географические и через предметные миры открытий. Ни сотни, ни
тысячи лошадиных сил здесь не помогут, нужна метрика человеческая, в
человеческих физических и ментальных силах: CGS, MKS, MKGS, SI, — все это потом
и, поскольку универсально, то и по крайней мере подозрительно на эквифиналь-
ность и человекоразмерность в том смысле, в каком Маркс писал о сотворении
человеком природы: «Практическое созидание предметного мира, переработка
неорганической природы есть самоутверждение человека как сознательного
родового существа. Благодаря этому производству природа оказывается его (человека)
произведением и его действительностью. Предмет труда есть поэтому
опредмечивание родовой жизни человека: человек удваивает себя уже не только
интеллектуально, как это имеет место в сознании, но и реально, деятельно, и созерцает
самого себя в созданном им мире» [38, с. 566].
Но, чтобы выйти на эту человеческую метрику, нам нужно было поискать
исходные точки опоры, ситуации, в которых данность человеческой метрики пере-/
ходила бы в проблему: «Как возможно?». Без этой ознакомительной прогулки по (
окрестностям основной нашей задачи — показать историю возникновения науки
и складывания системы онаучивания общества через воздействие научного
познания на состав Ту — нам было бы очень сложно определиться в общей стратегии
поиска и, соответственно, в последовательности подходов к задаче, в
последовательности изложения.
В методологии основная наша трудность состоит в том, что нам часто
придется двигаться против течения: искать и воссоздавать ситуации начала в ином
контексте, предшествующим тому, история которого прослеживается с этого
начала, тогда как общая тенденция науки — размывать и снимать начала ради
выстраивания дисциплинарных вечностей неограниченной глубины.
В плане человекоразмерности основные трудности будут иного плана. Прежде
всего, не обжит сам термин «человекоразмерность», и у тех, кто с ним впервые
46
М.К. Петров
знакомится, возникает естественное желание видеть что-нибудь другое: покороче
и «понаучнее» — в греческом или латинском оформлении. Мы не нашли чего-
нибудь подходящего. Латинское «гомо» перегружено прилагательными и давно
уже используется в функции вешалки для очередных эпитетов, нам и самим
придется наращивать набор определений по линии: естественный + социальный +
разумный + специализированный + теоретический + ..., с тем чтобы через эту
телескопическую трубу, не теряя всех предыдущих определений, дотянуться до
существа академического, объединяющего роли исследователя и преподавателя. К
тому же, в русской графической и фонетической традиции латинское «гомо»
неотличимо от греческого «гомо», также широко используемого в
терминологических сочетаниях, что закрывает дорогу и к латино-греческим гибридам, типа
«социология». Греческая основа «антропо-» дает дериваты «антропомерность»,
«антропометр и ка», «антропометрический», но включает и «антропометрию», с
которой нам решительно нечего делать: нам нужен человек — мера, а не человек
измеренный, к тому же еще и в сомнительных целях. Некоторые возможности в
терминологическом смысле открывает известный библейский эпизод прощания
Христа с учениками [От Иоанна, 16, 12—13], но употребленное здесь по связи с
появлением духа святого слово «вместить» дает слишком уж пассивное семейство
дериватов, близкое к «антропометрии».
Другая трудность с человекоразмерностью в том, что если идея
ограниченности человеческих физических возможностей проходит относительно
безболезненно, здесь связь, скажем, между весом копья, топора, молота и способностью ими
оперировать по назначению заметна и невооруженным глазом, то вот границы
ментальной вместимости, которые особенно важны для понимания
теоретического мышления, единства восприятия, апперцепции, операций со знаковыми це-
лостностями, процессов редукции растущих множеств различений, выявляются
много сложнее.
Будут свои трудности и с концептом «лишних людей», с формой выявления
их социальной революционной функции. Для позднего Средневековья и для
первых трех веков Нового времени без труда выявляется модель самовольной
отлучки: некто X отлучился от исполнения положенных или предоставленных ему
обязанностей на некий заведомо меньший периода его жизни срок, с тем чтобы
обойти вокруг света или основать новую дисциплину или написать, скажем,
первый учебник химии вместо того, чтобы лечить коронованных особ Европы (Бур-
гаве). Применение С.Шейпиным и А.Текри «просопографического метода» [161]
убедительно показывает, например, что практически все члены Британского
научного сообщества XVIII—XIX вв. были юристами, врачами, теологами в
самовольной отлучке. Это и понятно, Ту в те времена еще не существовал. Но эта
«робинзонадная» личностная форма внешнего вклада лишних людей в развитие
опытной науки входит в явное противоречие с необходимостью социального
обустройства для существования дисциплины в смене поколений исследователей
(рой-стадия в модели Н.Маллинза), и очевидно, скажем, что на периоде от
палеолита до встречи с европейцами лишним людям первобытных обществ
противопоказаны были робинзонады: условием осуществимости почкования племен и
расселения вообще был полный набор дублеров на все социальные должности,
то есть разрешено было почковаться роением, но нельзя было начинать новые
племена с «пары в шалаше», с канители движения от животных «приматов» к
человеку. Но и здесь трудности нам представляются проходимыми.
В целом же мы будем исходить из допущения о том, что человек и общество
с момента появления решают в различных формах и условиях одну и ту же
воспитательно-познавательную задачу, которая и сегодня представлена в нашей
основной схеме онаучивания общества через воздействие научного познания мира
на текущие значения Ту. Поскольку задача эта решается силами человека в
рамках его физических и ментальных возможностей, многообразие решений
приобретает человеческую метрику, а с ним и свойство эквифинальности, что позволяет
История европейской культурной традиции и ее проблемы 47
выделить набор универсалий для всего многообразия решений, а сами эти
решения более или менее надежно упорядочить в последовательность раньше-позже,
не по абстрактному основанию «развитости», а по основанию возникновения
«начал», образующих условия осуществимости перехода от предшествующей к
последующей форме социальности. Не все даты «падения Бастилии» в этих
культурных революциях могут, понятно, быть установлены, но последовательности
прослеживаются достаточно жестко: способное к расселению племя, например,
явно раньше оседлой традиционной земледельческой культуры, а возникновение
европейской культуры из традиционной во многом уже и документировано.
Выбор задачи освоения нечеловекоразмерных спецификаторов окружения че-
ловекоразмерными средствами в условиях смены поколений и необходимости
передать накопленное предшественниками последующим поколениям под
постоянной угрозой возвращения в исходное животное состояние в качестве основания
преемственности всей человеческой истории концентрирует нашу проблематику
вокруг процесса трансляции культуры, воспитательного контакта поколений, то
есть делает нашу работу исследованием в рамках марксистской концепции
материалистического понимания истории: «Эта концепция показывает, что история
не растворяется в «самосознании», как «дух от духа», а что каждая ее ступень
застает в наличии определенный материальный результат, определенную сумму
производительных сил, исторически создавшееся отношение людей к природе и
друг к другу, застает передаваемую каждому последующему поколению
предшествующим ему поколением массу производительных сил, капиталов и
обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны, и видоизменяются новым поколением,
но, с другой стороны, предписывают ему собственные условия жизни и придают
ему определенное развитие, особый характер. Эта концепция показывает, таким
образом, что обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят
обстоятельства» [41, с. 37].
Часть i
ПОСТРЕЛАКиИЯ И
ЗНАКОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ни у одного начала, пожалуй, нет такой патриотической толчеи, такого
скопления «приматов», как у начала человеческой истории. Точнее, у начала
европейского варианта человеческой истории, какой она стала после решения французов
придать Парижу достойный империи столичный блеск. Ближайшим следствием
этого решения были крупномасштабные земляные работы, по ходу которых
явочным и массовым порядком стали обнаруживаться кости вымерших животных, а
с ними приобрела хотя и вымершую, но весьма представительную и
доказательную плоть всегда существовавшая в парадигме естественной истории досадная
аномалия «допотопных» ископаемых останков, трудно поддающихся
классификации просто в силу редкого их обнаружения. Аномалия эта существовала на тех
же примерно общеизвестных, но периферийных правах, на которых раньше и
позже ее в других дисциплинах существовали и существуют, скажем, проблемы
прецессии орбиты Меркурия, рудиментов, излучения черных тел, связного
осмысленного текста и т.д.
Деятельность парижских градостроителей существенно изменила статус
аномалии естественной истории. Найт пишет: «Разбираясь в грудах ископаемых
костей, которые обнаружились в парижском бассейне, когда его потревожили на
предмет перестройки Парижа в столицу империи, Кювье использовал
телеологическую систему идей. Он и его современники по обе стороны Английского канала
в первых двух десятилетиях XIX в. установили последовательность форм жизни,
населявших планету, большинство из которых вымерло. Статическая точка
зрения, характерная для XVIII в., вынуждена была «уступить дорогу динамической
сначала в истории организмов и в психологии, а затем, в работах Чарлза Дарвина,
и в истории отношений между организмами. Вместе с палеонтологией, с
изучением ископаемых организмов в науку вошло историческое объяснение.
Вневременной «лучший из возможных» миров XVIII в. пришлось заменить миром,
который принял настоящее состояние через серию предшествующих состояний»
[131, с. 51].
Во введении мы уже показывали, насколько неуютно живется историческому
объяснению в дисциплинарных городах науки, граждане которых, действуя по
принципу Гаттона «мы не обнаруживаем следов начала и перспективы конца»,
стремятся перевести мир научных открытий из динамического в «лучшее из
возможных» статическое состояние безначальной дисциплинарной вечности «без
часов и календарей», где «повсюду и всегда» происходит то, что наблюдается и
объясняется в «здесь и сейчас» исследователя. Понятно, что эта современная
ситуация дисциплинарных «птолемеевских революций» в естествознании, да и не
только в естествознании, представляет из себя лишь ослабленный отзвук того
первичного взрыва, который был вызван появлением в «здесь и сейчас»
исследователей вымерших видов в ископаемом, но телесном, наблюдаемом и требующем
объяснения виде. Существенным моментом для нас, да и для судьбы
исполнявшего в то время должность «примата» всеведущего, всемогущего и всеблагого
самостного знака, является и различие мотиваций, состава беспокойств по поводу
динамики.
Сегодня проблема безначальной дисциплинарной вечности, если она вообще
осознается как проблема, а не ощущается как естественная данность,
актуализируется и воспроизводится методологическими заботами о праве исследователя
отправлять результаты поиска на вечное хранение и использование в мир «без часов
4*
52
M. К. Петров
и календарей», тогда как в начале XIX в. основным мотивом был
онтологический — забота о божественном творении, о целостности и полноте сотворенного
мира. Специально исследовавший эту проблему Дж.Грин [114], с обычными
оговорками принимая идеи Куна, считает, что о парадигме биологии как составной
части \шфацигмы_ .естественной истории имеет смысл говорить, начиная с
таксономических работ Линнея. Более paHHH^jraon^KHj^oçxpjwiujia-K Аристотелю и
[Теофрасту, не обладали достоинством преемственности подхода^и)формы
научного продукта, тогда как после Линне)! с его основными принципами: называть,
классифицировать и описывать, такая преемственность возникает и сохраняется
I столетиями.
i Постулатная база этой первой дисциплинарной парадигмы естественной
истории строилась на акте божественного творения: «Подобно Ньютону, Рей и
Линней принимали без доказательств статическую концепцию природы, по которой
все структуры природы рассматриваются как созданные и изначально мудро
устроенные всемогущим богом. Эта посылка постоянства и мудрого устроения
видовых форм и фундаментальных структур природы вообще была существенной
чертой парадигмы систематизирующей естественной истории: она
непосредственно соотносилась с верой в то, что задача естественной истории — называть,
классифицировать и описывать» [114, с. 5].
Хотя сама по себе таксономическая установка основателей биологии могла бы
поставить под сомнение положение биологии того времени как научной
дисциплины, «поскольку она ничего не объясняет, а только называет, классифицирует
и описывает естественные объекты», возникшая после Линнея новая ситуация
удовлетворяла всем требованиям дисциплинарной парадигматики: «По всем
критериям, предложенным Куном, парадигма систематизирующей естественной
истории действительно существовала. Возникшая из научных достижений Рея, Тур-
нефора и Линнея, она включала определенные обязательства на всех, упомянутых
Куном, уровнях — космологическом, эпистемологическом, методологическом и
т.д. Воплощенная в учебниках и популярных работах, формулируемая с растущей
точностью, прославленная в стихах и прозе, она доминировала в области
естественной истории примерно два столетия и помогла подготовить условия для
появления другого, более динамического типа парадигмы естественной истории»
[114, с. 5-6].
Грина не устраивает в концепции Куна как раз то, что не устраивает и многих
других историков науки и культуры, в частности и нас, — а именно отсутствие
хода на почкование-дифференциацию дисциплинарных предметов или
проблемных областей. Этот ход обнаружил Н.Маллинз в попытках синтезировать идеи
Куна и Прайса и зафиксировал в различии путей к дисциплинарному
оформлению у «элитных» научно-академических групп, которые действуют по исходной
модели Куна — отменяют действующую парадигму, заменяют ее новой, не
«умножая сущностей», не порождая новых дисциплин и не увеличивая общего их
числа, и у групп «революционных», «инкапсулируемых» материнской
дисциплиной как инородные тела, которые явно отходят от схемы Куна, ведут себя скорее
как плод в утробе матери, и, появившись на свет, перейдя в стадии рой-группы
из состояния «невидимого колледжа» в «видимое» и признаваемое в процессах
«инкапсуляции» состояние, начинают своими силами обустраиваться, создавать
новую дисциплину, строить новый дисциплинарный город научного познания,
явно «умножая сущности», то есть численность дисциплин.
По понятным причинам, поскольку мы исходим из понимания процесса
предметной экспансии науки по модели расселения, умножения дисциплин методом
почкования-роения, нас вполне устраивает преобразование Маллинза, по
которому классическая схема Куна становится частным «элитным» случаем порождения
революции со смертельным исходом для материнской дисциплины в более
широкой модели порождения-почкования, где смертельные исходы не являются
обязательным условием завершения дисциплинарной революции, а статус обязатель-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 53
ного условия приобретает эквифинальность конечных результатов —
дисциплинарных городов науки, достигается ли она из элитных или революционных
начальных условий, через упразднение материнской дисциплины или через
сотворение новой дисциплины. В преобразовании Маллинэа мы не видим момента
«ниспровержения» модели Куна, а усматриваем в нем в общем-то нормальный
для науки результат диалектического процесса «фальсификации», по ходу которой
выдвигаемые первоначально в универсальной и всеобщей форме идеи, модели,
парадигмы получают наборы ограничивающих условий и становятся частными
случаями новых и более широких идей, моделей, парадигм. Так было с законом
Бойля-Мариотта, с механикой Ньютона и со множеством других теорий, и если
такое происходит сегодня с моделью Куна, то, с нашей точки зрения, нет повода
драматизировать события. К тому же модели Куна нет отроду и двадцати, и
разродиться в этом возрасте, «фальсифицироваться» методом умножения потомства
в общем-то легче, чем, скажем, механике Ньютона в 250-летнем возрасте, хотя,
видимо, на все возрасты бывает своя «поруха». Нас не устраивает, правда, сам
термин «инкапсуляция», примененный Маллинзом для описания отношений
между материнской дисциплиной и революционными группами, поскольку он
тяготеет скорее к абсцессу, чем к детскому месту, да и разъясняется Маллинзом в
общем-то как болезнь дисциплины, подкрепленная статистикой не то
выздоровлений, не то детской смертности — в социологии с 1892 г. насчитывалось 9 таких
«заболеваний» революционными группами, причем 6 из 9 групп не достигли
стадии зрелой дисциплины [142, с. 31]. Но это уже детали, разночтения, разнобой
оценок, составляющих модели Куна на существенность. Реальным же фактом
является то, что историки науки, а также и значительная часть теоретиков науки
говорят сегодня на языке модели Куна.
Дж. Грину представляется существенным и опровергающим модель Куна тот
факт, что почти одновременно с парадигмой Линнея возникла и сосуществовала
вплоть до эволюционной теории Дарвина вторая парадигма естественной
истории — парадигма Бюффона, существенно отличная от статической: «Если
Линней, описывая и каталогизируя виды, роды, типы, классы, искал естественный
метод классификации, предположительно тот, который соответствовал бы модели
мира в уме творца до акта творения, то Бюффон посвящал свою энергию
изучению процессов порождения, наследования и изменения, с помощью которых
различные виды животных воспроизводят себя и модифицируют» [114, с. 7].
Грина смущает то, что между парадигмами Линнея и Бюффона не
устанавливается положенных по Куну связей взаимной исключительности, следования или
хотя бы взаимной дополнительности, что и порождает массу недоумений: «Так
как же мы должны интерпретировать развитие естественной истории со времени
смерти Линнея (1778 г.) и Бюффона (1788 г.) до публикации «Происхождения
видов» Дарвина? Была ли парадигма Линнея доминирующей, развивающей
внутренние противоречия и кризисы, чтобы затем стать отправным моментом для
новой парадигмы, у которой нет истории, кроме истории ее развития в уме
Чарлза Дарвина? Или, может быть, параллельно с парадигмой Линнея развивалась и
парадигма Бюффона, набирая постепенно своих сторонников, пока не нашла
главной фигуры в лице Дарвина? Либо, наконец, существовало некое
взаимодействие между двумя парадигмами, отношение тезис-антитезис, которое
завершилось в конечном счете в синтезе Дарвина?» [114, с. 9].
Не вдаваясь в тонкости претензий Грина к Куну, которые сводятся в общем-
то к обвинению Куна в том, что он недоучитывает роли национальных традиций
и национальных различий, выявляющихся, скажем, в постановке проблем и в
составе парадигматики во Франции, Англии и Германии, с чем нам еще придется
встречаться в других контекстах, мы выделим для себя основной перевод
аномалии естественной истории, которая существовала именно по отношению к
парадигме Линнея, из неупорядоченного «шума» на периферии жестко
формализованного предмета в активную доказательную базу, что было результатом предприня-
54
M. К. Петров
той Кювье субституции оснований классификации, использования
анатомического основания. В этом смысле революционный подвиг Кювье по Грину, и в этом
с ним приходится соглашаться, состоял не в разработке катастрофизма, а в том,
что «Кювье впервые научно доказал, что среди ископаемых есть вымершие виды,
и осознал катастрофическое значение этого факта для парадигмы Линнея» [114,
с. 10].
Соразмерной значению этого факта была и реакция современников: «Сегодня
нам трудно даже осознать, какой аномалией представлялся этот факт
натуралистам конца XVIII и начала XIX вв. В статической парадигме естественной истории
виды находили определение как части устойчивой системы творения». «Существа
изначально сотворены богом, — замечал Рей,. — и им же сохранены по сей день
в том же состоянии и в тех же условиях, в каких они были созданы впервые».
Невозможно было поэтому и помыслить, что виды способны вымирать. «Ведь
если даже потеряно только одно звено в естественной цепи, — писал Джеффер-
сон, — то могли бы потеряться и другие, и вся система вещей должна была бы
постепенно исчезнуть» [114, с. 10].
Для оценки фона, на котором предлагалось признать вымершие виды и,
следовательно, несовершенство плана творения в уме бога до акта практического
творения, отметим только, что к этому периоду, например, относится отставка
Фихте, читавшего лекции в Венском университете с 1794 по 1799 гг., вызванная
анонимным доносом, обвинявшем Фихте в атеизме, и известные слова Гете о
том, что о предметах, которых коснулся Фихте, «было бы лучше хранить глубокое
молчание» [114, с. 6].
Сам Кювье честно защищал парадигму Линнея не без ущерба, правда, для
всеведения и всемогущества «примата»-творца: «К чести гения Кювье следует отнести
то, что, создав своими же исследованиями кризис, он сам же и предложил
решение. Распространяя метод и принципы сравнительной анатомии на изучение
органических ископаемых, он демонстрировал различия между живущими и
ископаемыми видами, вводил последние в область систематики естественной истории. В
то же самое время, принимая геологический катастрофизм Жана Делюка, он
сохранял основные черты статической парадигмы. Виды могли исчезать в результате
драматических катастроф неизвестного происхождения, но в интервалах между
катастрофами господствовали стабильность и мудрое устроение, обеспечивая тем
самым устойчивую основу для ретроспективной таксономии» [114, с. 10—11].
Но и такой подход не снимал основной причины беспокойства — бесспорного
наличия в природе потерянных звеньев, а следовательно и редукции разнообразия
сотворенных форм жизни. Грин подчеркивает, что успех эволюционной теории
был подготовлен не столько парадигмами Линнея-Кювье или Бюффона-Ламарка,
сколько появлением работ Лайеля: «Основанная на последовательном унифор-
мизме и актуализме геологическая парадигма Лайеля по существу исключила
возможность привлекать на правах причин биологических изменений геологические
факторы. Это подрывало основания парадигм Кювье и Ламарка, поскольку и та
и другая решали проблему вымерших видов со ссылками на геологические
изменения» [114, с. 18].
Это крайне обостряло проблему потерянных звеньев. Действительно, если, как
это следует из актуализма и униформизма Лайеля, в «повсюду и всегда» геологии
ровным счетом ничего не происходило кроме того, что наблюдается в «здесь и
сейчас», то такой неизменный субстрат не может оказывать влияния на
изменения в номенклатуре форм жизни и на изменение самих этих форм, оказывается
вынесенным за скобки биологических изменений как некая постоянная, не
влияющая на события в предмете биологии, где вот обнаруживается редукция,
вымершие виды.
Грин вскрывает существенное различие в восприятии смысла учения Дарвина
нами и его современниками. Для нас на первый план выдвигаются естественный
отбор и борьба за существование, которые мало интересовали современников
История европейской культурной традиции и ее проблемы 55
Дарвина и были им хорошо известны по работам Мальтуса. Главной же была
проблема сохранения разнообразия видов в условиях их вымирания, и поскольку
Лайель устранил геологию из числа биологических изменений, оставалось, в
сущности, лишь одно решение — возникновение новых видов из существующих,
которое и было предложено Дарвином и Уоллесом. Идеи естественного отбора и
борьбы за существование были высказаны и признаны задолго до Дарвина, и
лишь дополняющая их идея активного видообразования на базе существующих
видов, оказалось тем основанием синтеза, которое позволило создать новую
парадигму в биологии.
Грин, естественно, не упускает возможности обратить этот случай
междисциплинарного воздействия против Куна: удар по действующим парадигмам был
нанесен извне, а не из самой дисциплины. Аномальное и революционное
открытие — вымирание видов — было по исходу вполне нормальным и объяснимым в
парадигмах Кювье и Ламарка. Аномальным и революционизирующим его сделал
геолог Лайель, который поставил под сомнение важную для наличных парадигм
практику объяснения биологических явлений от геологических. Если говорить об
«элитном» варианте модели Куна, то Грин, конечно, прав: события шли не по
Куну в этом узком смысле, хотя и дали обычный результат. Не укладываются
события и в исходный синтез Маллинза, поскольку у Маллинза, как и у Куна,
повод для появления новой парадигмы должен быть внутренним как для
элитных, так и для революционных групп. Но множество попыток провести
конкретные исследования по модели Маллинза показали, что в числе начальных условий
процесса, который начинается с формирования «невидимой» группы и
завершается появлением новой или преобразованной материнской дисциплины, могут
оказаться и внутренние и внешние поводы, причем решающим условием,
санкцией на вступление в силу повода, как мы пытались показать со ссылками на
Г.Менарда [138], является, похоже, выход численности дисциплинарного
сообщества за пределы оптимальных значений, умножение «лишних людей», способных
использовать любой повод для почкования дисциплины или даже для
строительства нового города науки на периферийном научном пустыре. В Технологическом
Институте штата Джорджия, например, поводом для появления группы, которая
вот уже 15 лет пытается построить информатику как дисциплину, было решение
регионального совета штата начать подготовку аспирантов по «информационным
наукам» [122].
Но это одна сторона дела. Другая и более для нас интересная состоит в том,
что разрешив ко всеобщему удовлетворению глубоко обеспокоенных
интеллектуалов проблему сохранения и даже, возможно, увеличения штатного разнообразия
наличных форм жизни за счет работы механизма видообразования, который
компенсирует убыль от вымирающих видов, парадигма Дарвина сначала в неявной,
а затем и в открытой форме предъявила новые требования к должностным
обязанностям «примата» биологической истории вообще и человеческой истории в
особенности.
Сам факт появления и широкого распространения эволюционной теории
Дарвина не вызвал среди современников особого шума. Это обстоятельство Д.Найт
объясняет известной эсотеричностью события, которое волновало в основном
озабоченных редукцией разнообразия интеллектуалов и какую-то незначительную
часть образованной публики. «Было бы только естественным ожидать, — пишет
Найт, — что публикация теории Дарвина должна бы разгневать всех религиозных
людей, но такое предположение оказалось бы ошибочным. Куда большую
озабоченность вызывала так называемая высокая или библейская критика, в которой
Библия анализировалась по общим правилам анализа других исторических
документов или собрания документов» [131, с. 68].
Сам факт экспликации этой атеистической составляющей новой парадигмы
биологии, вызвавший отставку всемогущего и всеведущего бога с поста «примата»
всех историй и субституцию его орангутангом в должности «примата» человечес-
56 М.К. Петров
кой истории и основателя патристики на входе в человеческую историю,
произошел несколько позже в ожесточенном споре между Гексли и Уилберфорсом в
1860 г. и в более представительной как по составу участников, так и по затронутой
проблематике дискуссии конца 1960-х гг. Последняя, собственно, и
санкционировала авторитетом науки те представления о человеческой истории, ее начале и
составе, которые включены сегодня в состав Ту большинства развитых стран
европейской культурной традиции, воспроизводятся на уровне данности
общеобразовательной школой. Воспроизводятся все в том же порядке, в достоинствах
которого сомневался еще Фихте: «Но каким же путем пришел я к этим познаниям,
которыми я, как мне смутно помнится, располагал? Преодолел ли я, гонимый жгучей
жаждой знания, неизвестность, сомнения и противоречия? Отдал ли я
предпочтение тому, что представлялось мне как нечто заслуживающее доверия, производил
ли я снова и снова проверку того, что казалось вероятным, очищал ли я это от
всего лишнего, делал ли я сравнения, до тех пор, пока внутренний голос,
властный и неодолимый, не закричал во мне: «Да, это именно так, а не иначе, клянусь
в этом»? Нет, ничего такого я не припомню. Мне были предложены наставления,
прежде чем я ощутил в них потребность; мне отвечали, когда я не задавал еще
вопросов. Я их слушал, потому что избежать их я не мог. Что из всего этого осталось
в моей памяти — это зависело от случая; без проверки и даже без участия с моей
стороны все было расставлено по своим местам» [61, с. 42].
Методологический анализ этих двух дискуссии, которые для большинства
взрослых еще в школьные годы «все расставили по своим местам» усилиями
учителей и дисциплинарной школьной практики, мы выделим в особый раздел главы
в силу их важности для достижения взаимопонимания по ряду острых проблем,
простая репрезентация которых на данном этапе рассуждении вызвала бы либо
удивление, либо недоуменный вопрос: ну и что?, а таких ситуаций мы будем
стараться по возможности избегать. Пока же попытаемся чуточку пошатать эту Ту
данность, чтобы несколько подготовиться к восприятию более стрессовых
ситуаций.
Вот, к примеру, И.Гальтунг [112] предлагает довольно заманчивую модель
отставки бога с поста «примата» по связи с существенными историческими
изменениями в типе социальных структур, то есть в культуре. Гальтунг исходит из
допущения, что господствующие в обществе структуры господствуют также в
структурах науки и искусства, что между ними наблюдается значительный
изоморфизм. Для классификации социальных структур он использует две дихотомии:
а) справедливость-несправедливость (в других терминах
горизонтальное-вертикальное); б) униформизм-диверсификация (в других терминах
коллективизм-индивидуализм). Получается, естественно, четыре структуры, четыре типа, которые
Гальтунг называет моделями I, II, III, IV:
В модели I общество, консервативное общество, обладает замороженной
структурой. Мобильности здесь нет: индивиды распределяются по должностям-
позициям в соответствии с происхождением. В таком обществе цель — служить
обществу как целому, властителю по вертикали земной или небесной иерархии.
Примеры: средневековое общество в его обычном понимании, в значительной
степени современная Япония.
В модели II общество, либеральное общество, структура которого кипит из-за
вертикальной мобильности. Индивиды распределяются в классы по рождению, но
они подвижны и могут быть избираемы и продвинуты вверх. В таком обществе
цель — успех. Комбинация вертикальности и индивидуализма дает в результате
акцент на оригинальности. Примеры: развитые общества от США до СССР.
В модели III общество, коммунальное общество, опять-таки не имеет
мобильности, хотя это не означает, что структура заморожена. Целью здесь выступает
солидарность с другими, а не соревнование или владычество. Пример: народные
коммуны Китая (но не во всем Китае).
История европейской культурной традиции и ее проблемы 57
В модели IV общество, плюралистское общество, обладает горизонтальной
мобильностью вплоть до точки кипения (выше ее мобильность невозможна). Здесь
никто не эксплуатирует других, никто не связан узами солидарности в
смирительную рубашку униформизма. Примера такому обществу нет, поскольку это модель
социальной формы возможного будущего [112, с. 19—20].
В каком-то смысле такая типология социальных структур напоминает
привычную марксистскую в ее послеантичных членениях, так, по крайней мере, считает
сам Гальтунг: «Очевидно, что наша схема имеет определенное сходство с четы-
рехстадийной схемой, использованной Марксом и Энгельсом, где различаются
феодальное, капиталистическое, социалистическое и коммунистическое общества.
Но есть два существенных различия. В марксистском анализе внимание
фокусируется на одном из частных аспектов социальной структуры — на структуре
производства, тогда как наша схема претендует на большую широту, включая любой
тип социальной структуры, включая производство. И второе: марксистская схема
подчинена детерминистской теории следования стадий друг за другом, так что
единственно возможным порядком перехода является I—II—III—IV. Наша схема
этой посылки не содержит» [112, с. 20].
Понятно, что к марксизму все это имеет весьма косвенное отношение, как,
впрочем, и большинство попыток буржуазных авторов поговорить на языке
марксизма по чуждым ему правилам грамматики — почти всегда возникает та самая
университетская коридорная ситуация разговора представителей разных
дисциплин, о которой мы говорили в самом начале. Многие теоретики, социологи и
историки науки любят подчеркивать свою «задетость» марксизмом, обычно в рамках
какой-нибудь частной проблемы, но когда они пробуют пустить эту «задетость»
в дело, получается такой уж отчаянный примитив, как-то не сразу и сообразишь,
в каком «марксизме» можно обнаружить столь странные идеи.
Д.Найт, к примеру, вроде бы на полном серьезе нацеливается нанести Куну
в числе прочих и «марксистский» удар, уязвить Куна и с этой неожиданной
стороны: «Концепция Куна сводит в единство интеллектуальный и социальный
аспекты науки, но она позволяет отвлекаться от практической стороны наук,
пренебрегать ею,... так что перспектива Куна должна быть дополнена всеми другими
перспективами, которые нам удается обнаружить. Широко признаваемой и
полезной альтернативой Куну является концепция марксизма, по которой
технология или средства производства фундаментальны, тогда как интеллектуальные и
социальные аспекты науки образуют надстройку» [131, с. 23]. Но, словно бы и
сам удивившись собственному вкладу в марксизм, открытию базиса и надстройки
в науке, Найт тут же спешит замять все это дело: «Нам не следует быть
вульгарными марксистами, полагающими, что теория в науке — простой нарост на
технологии, но мы едва ли можем отрицать, что в науках теория и практика зависят
друг от друга» [131, с. 24]. Найт, естественно, не уточняет источников и не дает
ссылок на источники столь глубокой осведомленности о марксистской
альтернативе Куну, о марксизме вообще и о вульгарных марксистах в особенности.
Нечто подобное происходит и у Гальтунга, когда он пытается обосновать
изоморфизм социальных структур для всех видов деятельности в обществе данного
культурного типа, апеллируя к марксизму, к необходимости синтеза теории и
практики. И когда, скажем, для перехода от модели II к модели III, от науки
капитализма к науке социализма предлагается разрушить специфику научной
деятельности, привести форму конечного продукта науки к цитатнику, а самое
форму деятельности к соучастию аудитории, сразу становится ясным, что имеешь
дело не с каким-нибудь там «книжным» марксизмом с жесткой эпонимической
характеристикой, а с «марксизмом» лозунгов, популярных цитат, хорового подпе-
вания и прихлопывания. Для общества модели III особенно важны, по Гальтунгу,
формы искусства, требующие коллективного исполнения (балет, театр, оркестр,
народный танец и т.п.): «Такие формы обнаруживаются и в искусстве модели II,
но здесь ударение всегда ставится на примабалеринах. ведущих актерах, солистах.
58
M. К. Петров
первых танцорах, что несовместимо с этносом модели III. Здесь нет поиска
таланта, характерного для модели II, а есть всеобщее участие при твердом
убеждении, что «талант» создается исполнением, а не есть нечто врожденное. Задача
художника — пробудить артистическое чувство соучастия в бывших потребителях
искусства, заставить их петь (как это делает Пит Сигер), вскакивать с мест,
выходить на сцену и т.п. Если этого не происходит, тогда старая форма разделения
труда в искусстве, понятом как особый институт, а не как аспект жизни, снова
возвращается на правах реликта модели II в обществе модели III. Дело не в том,
чтобы прийти к эгалитарной коммуне художников, а в том, чтобы превратить
искусство в интегральную часть народной коммуны. Дело и не в том также, чтобы
заставить группу художников создавать блестящее, реалистическое, критическое
искусство — это все равно предполагало бы модель И, общество с разделением
труда, даже с профессионализацией, а не всеобщее участие в развитии
самосознания и средств самовыражения» [112, с. 23]. Тот же образ действий и те же
цели предписываются и науке модели III.
Понятно, что в нашей модели предметной экспанеии науки методом-расселе-
ния по миру открьТтий, его «колонизации», строительства городов науки в поясе
четырехлетнего академического движения от Ту, от «метрополиса» науки (схема
московского метро) переход к «солидарной» науке, основанной на «соучастии»,
означал бы упразднение всей схемы, превращение науки в «аспект жизни»
обладателей аттестатов зрелости, в навык всеобщего распределения, в поголовную
научную «грамотность», то есть означал бы возврат к идеям «пансофии» Коменско-
го с ее девизом: «всем знать все обо всем!» [169, с. 27—28]. Марксизм не выдвигал
принципа всезнания в конечную цель всеобщего и обязательного образования,
так что все те заманчивые картины, которые рисовались воображению
интеллектуалов-революционеров и опирались на библейскую постулатную базу, хотя они
и могут присутствовать своими переосмысленными деталями (сам термин
«просвещение», например) в марксизме, не образуют в нем парадигматики.
Вместе с тем, когда и Найт и Гальтунг и многие другие не пытаются
выражаться на чужом языке, их анализы могут быть интересными и полезными как
раз в смысле расшатывания данности, перевода того, что было в школьные или
студенческие годы «расставлено по своим местам» в проблемное состояние.
У Гальтунга каждой модели соответствует своя структура продукта искусства
и науки, своя мотивация, свои конечные цели. Опираясь на эти различия, он в
числе ряда других переходных процессов упоминает и о необходимости отставки
бога, его субституции другой реалией на переходе от модели I к модели II: «Еще
одна причина, по которой теоретические системы вынуждены были стать более
гибкими и более фундаментальными, связана, возможно, со свержением Бога при
одновременном росте авторитетности Эмпирической Реальности. В терминах
Сорокина это был переход от идеационной к чувственной культурной ориентации
с опорой на изменение внешнего мира, а не на внутреннее изменение или на
спасение. Для этого явно было необходимо "твердое" и детализированное
эмпирическое знание в инструментальном (каузальность) и корреляционном
(предсказуемость) вариантах» [112, с. 36].
Сам акт смены властей Гальтунг связывает с ситуацией неустойчивости
церкви, созданной Реформацией: «В протестантском мире, где в целом эмпиризм
развился более широко, чем в католическом мире, речь шла пожалуй не столько
о свержении Бога, сколько о свержении Папы с его монополией на
интерпретацию Бога и, соответственно, на догму. Это придавало больше степеней свободы
процессу, который можно описать в одном предложении: постепенное свержение
Бога и формирование Эмпирической Реальности к моменту, на котором
эмпирическое существование заняло место Бога как высшего арбитра в спорах. Этот
процесс секуляризации занял столетия, так что могут оказаться необходимыми
формулы перехода, такие как идея о том, что эмпирическое научное познание
было способом углубления понимания божественного творения. И снова можно
История европейской культурной традиции и ее проблемы 59
спорить о том, что произошло раньше, свержение Бога или становление
Эмпирической Реальности, крах дедуктивного рационализма или подъем индуктивного
эмпиризма, но это, возможно, не столь уж важно. Основное здесь в том, что идея
неизменной Эмпирической Реальности заняла место неизменного Бога; с
падением Бога что-то должно было занять его место в функции высшего авторитета.
Вместо авторитета Церкви, имевшей монополию на интерпретацию Бога,
появляется авторитет Науки с ее монополией на истолкование Реальности» [112,
с. 36-37].
Эта субституция авторитета бога авторитетом эмпирической реальности и
монополии церкви на истолкование высшего авторитета монополией института
науки в общем-то, по Гальтунгу, мало изменило общую иерархию авторитетов и
характер отношений авторитетности: «Эмпиризм был реакцией против вполне
определенного типа догматизма, но этот же эмпиризм сам стал формой
догматизма. Традиция ссылок на неизменного Бога стала традицией ссылок на
неизменную Реальность — на данную эмпирическую реальность. Ее функция быть
арбитром в споре соперничающих теорий могла бы быть подорвана, если бы
реальность стала слишком пластичной, слишком изменчивой. Авторитету положено
обладать известной твердостью, так что мир рассматривался скорее как мир
железный, нежели как мир резиновый. Этим способом идея, по которой реальность,
насколько она известна человечеству, остается всегда одной и той же
реальностью, стала основным исходным постулатом, к тому же совместимым со взглядом,
по которому бог завершил акт творения, раз и навсегда завел часы природы» [112,
с. 37].
Предложенная Гальтунгом модель субституции высших авторитетов и их
монопольных истолкователей обладает, как мы покажем ниже, довольно малой
разрешающей способностью, а в рамках нашей ближайшей задачи сама по себе
ценная идея субституции оказывается, так сказать, пропущенной через светофильтр
структуры авторитетности, который переводит в невидимое состояние все другие
структуры, связанные с тем обстоятельством, что бог как самостная знаковая
реалия христианского миропорядка, будучи его началом, скрепой и опорой, нес не
только функцию высшего авторитета, но и множество других, в частности и
интересующую нас функцию «примата» — начала всех мыслимых историй, в том
числе и человеческой истории.
Модель Гальтунга хорошо показывает, что субституция бога эмпирической
реальностью по функции авторитетности потребовала определенной подготовки
самой этой реальности, приведения ее в ту форму мира «без часов и календарей»,
в которой выполняются требования безначальных дисциплинарных вечностей и,
соответственно, появляется возможность эксперимента, неограниченного
тиражирования продукта науки на уровне эмпирии, появляется свободное от отметок
пространства, времени, творца научное знание, обладающее свойством
неограниченной транспортабельности к любым местам, датам и целям приложения.
Во введении мы показывали противоречивость самого этого активно идущего
процесса обезначаливания дисциплинарных вечностей, особенно когда речь идет
о дисциплинах исторических. И в этой части модель Гальтунга ценна тем, что
она прежде всего позволяет осознать и сформулировать проблему образца для
уподобления. Когда Гальтунг пишет о том, что остающаяся всегда одной и той
же реальность «к тому же совместима со взглядом, по которому бог завершил акт
творения, раз и навсегда завел часы природы», то следует ли нам понимать эту
«совместимость» по случаю или же как условие осуществимости акта
субституции, как результат сознательного приведения концепта эмпирической реальности
к этой совместимости с актом творения где-то на огромной глубине в прошлом.
С точки зрения данности, «расставленных по своим местам» истин,
постулатов, твердых убеждений здесь и вопроса вроде бы нет: материя, природа,
окружение первичны и познаваемы, если нам удается привести логику наших понятий
в соответствие с логикой вещей. Сомневаться в этом не приходится: любой экс-
60
М.К. Петров
перимент, любая верификация массовым и не оставляющим места для сомнений
порядком подтверждают решающее слово «гласа природы», эмпирической
реальности в тесте на проходимость наших измышлений по поводу природы из «здесь
и сейчас» нашей обставленной календарями, стрелками, точками на карте,
сроками, днями рождения и уймой других отметок деятельности в «повсюду и
всегда» мира научного знания и мира приложения научного знания, которым
абсолютно безразлично, кто, где, когда, какими путями опознает и представит в
логике человеческих понятий ту или иную реалию, принадлежащую к этим мирам,
или кто, где, когда и для каких целей воспроизведет ее в собственном «здесь и
сейчас», вернет ее в ранг единичного события, нацепив на нее по ходу такого
возвращения совсем иной по составу комплекс отметок конкретности, в котором
инвариантность с нашим исходным «здесь и сейчас» сохранит только тот крайне
узкий круг начальных условий эксперимента, воспроизведения этой реалии,
который когда-то побудил нас в силу подражания старшим крикнуть, сказать или
подумать: «Эврика!».
Словом, сознаем ли мы это или действуем по отработанной и уведенной в
«подкорку» привычке, не утруждая себя бессмысленной в большинстве случаев
рефлексией, мы подгоняем логику нащих понятий, суждений, оценок, поступков,
поведений к независимой от нас логике реалий окружения. Так происходит не
тольксгв-науке, где то там, то здесь, то в одной дисциплине, то в другой, то в
Ростове, то в Бостоне слышится разной громкости «Эврика!», но и в нашей
обыденной жизни, в нашем конкретном «здесь и сейчас» личной эмпирии бытия, где
нашу логику понятий, поступков, поведений во многом определяет не нами
установленный порядок. Реалии этого микропорядка — место работы, автобусная
остановка, магазин, папиросный киоск, лист бумаги, авторучка... — у каждого,
понятно, свои, но в наших особых мирах они не менее авторитетны и «железны»
в своем навязывании нам способов постановки и решения задач, чем реалии
макропорядка. Но в отличие от макропорядка в микропорядках проблема
«совместимости» с актом творения не возникает, тут как раз все уверены в том, что
объяснить геометрию и состав наших микропорядков можно только из допущения
творца и акта его творения, прежде всего из допущения присутствия в этом
порядке нас самих как существ разумных и вменяемых, а затем и множества других
существ разумных и ответственных за условия реализации нашей разумности и
вменяемости, за присутствие или отсутствие в нашем микропорядке вещей,
правил, регулятивов, норм, людей, которых мы определенно хотели бы видеть в
числе образующих порядка или, напротив, не менее определенно не хотели бы.
Понятно, что наши миропорядки вовсе не обязательно должны на
микроуровне обладать теми же свойствами, что и макропорядок, прежде всего потому, что
личные микропорядки заведомо человекоразмерны — мы сами своими
физическими и ментальными возможностями, суточными и иными ритмами жизни,
полом, местом на возрастной кривой жизни, последовательностью событий
которую мы сами составляли и интегрировали, проходя через множество выборов, в
свою «карьеру» или в «историю» нашей жизни, нашей принадлежностью к
одному из видов социально необходимой или социально признанной деятельности, —
тогда как макропорядок, берется ли он в функции верховного авторитета или
неиссякаемого источника нового знания, явно нечеловекоразмерен, требует для
своего освоения дробления на человекоразмерные части с последующей
интеграцией таких фрагментов в коллективные целостности и в конечном счете в
общесоциальную целостность-систему. И если, как это делает Гальтунг,
констатируется совместимость наших представлений о макропорядке с божественным актом
творения — «раз и навсегда завел часы Природы», а затем еще и добавляется:
«Идеи трансцендентности, потенциально возможных реальностей, существенно
отличных от одной, которую мы знаем, были бы знаками ереси и, возможно, в
тем большей степени еретичными, чем менее оставалось от Бога как
альтернативы, хотя и реликтовой, от бога как демиурга» {112, с. 37], то нам имеет смысл
История европейской культурной традиции и ее проблемы 61
поразмыслить над тем, не является ли это обстоятельство «совместимости»
частным эффектом интеграции человекоразмерных фрагментов деятельности в
целостность социального восприятия, социальной апперцепции объекта познания,
то есть не принадлежит ли свойство вечности, «раз и навсегда заведенности»
обществу как целому, как системе, интегрирующей микропорядки действующей
номенклатуры социально необходимых видов деятельности именно по основанию
их сотворенности людьми как существами разумными, с тем чтобы спроецировать
это основание интеграции как парадигму всеобщих связей на объект познания.
Тогда мысль о начале, об акте творения, о вечности высшей ценности и
высшего авторитета была бы божественной, теологической только в силу конкретных
исторических обстоятельств ее переноса на объект научного познания в
европейском очаге культуры, тогда как сам факт преемственного существования общества
во времени в смене «краткоживущих» поколений и схема интеграции его
человекоразмерных фрагментов в целостность постоянно проецировалась бы на
окружение, вычленяя в нем «природу» соответствующего общества, придавая ей черты
сотворенности и целостности в том смысле, в каком Маркс говорил о созерцании
человеком «самого себя в созданном им мире» [38, с. 566], то есть сотворенность,
вечность, целостность социальных «природ» стали бы универсалиями
непрерывного континуума человеческой истории вообще.
Реально это означало бы необходимость в каждом конкретном случае для
обществ различной культуры искать гетерономную социальную структуру
интеграции, ориентированную в полюсах нечеловекоразмерного спецификатора, в
должности которого всегда ходит «природа» общества данной культуры, и человека как
существа естественного, который в этом случае добавляет себе качество существа
социального, становится существом естественным и социальным, удерживает это
качество собственной социальности, не расставаясь с ним на всем протяжении
своей истории, вовсе не потому, что ему нравится быть в дополнение или в
ущемление своей естественности еще и социальным, а просто потому, что ему,
оставаясь существом естественным, не выжить в одиночку в силу своей
биологической недостаточности по тем же причинам, по которым неспособны на это
пчелы, муравьи, термиты.
Будем называть тот фактор, который вынуждает человека на всем протяжении
его истории, оставаясь существом естественным использовать и воспроизводить
социальность как условие собственной осуществимости, биологической
недостаточностью, вкладывая в это рабочее понятие тот смысл, что в отличие от
большинства особей других животных видов представители рода человеческого ни на
одном из этапов своей жизни не в состоянии в одиночку или усилиями
разнополых пар обеспечить извлечение в должном объеме и номенклатуре средств к
жизни из среды их обитания, из окружения, а следовательно и воспроизведение
рода человеческого. Тогда, учитывая тот подтверждаемый эмпирией факт, что
человеческий род все же существует и даже расширенно воспроизводится в
пугающих демографов темпах, мы можем сформулировать гипотезу о компенсирующей
роли социальной, системной организации:
1. Если особи вида биологически несостоятельны, то есть неспособны силами
одиночек или пар необходимые для их выживания и воспроизводства объем и
номенклатуру деятельности, а вид все-таки существует и воспроизводится, то
такой вид компенсирует биологическую недостаточность особей системной
организацией: дифференцирует необходимый для выживания вида объем
деятельности в различенные, посильные для особей фрагменты и интегрирует такие
фрагменты в целостность видовой деятельности, достаточной по объему и
номенклатуре для выживания вида.
Эта первая гипотеза, стоит только ее сформулировать, немедленно поднимает
вопрос о том, а что именно должна компенсировать системная организация, где,
в каком звене механизма преемственного существования нормального и
биологически достаточного вида локализуется и обнаруживается недостаточность, вынуж-
62
М.К. Петров
дающая особей вида на свой биологический лад изощряться в поисках способов
компенсации под угрозой срыва преемственности воспроизводства и вымирания
вида. Мы не будем вникать в тонкости, это бесполезно: дальше правдоподобных
гипотез здесь заведомо пройти невозможно. Любой биолог, например,
работающий в эволюционной парадигме, назовет любое наперед заданное число
правдоподобных гипотез насчет того, почему вымерли мамонты и добавит пару своих,
причем все они будут основаны на предположении о наличии у мамонтов некоего
потаенного изъяна, который не давал о себе знать в одних условиях жизни и
оказался губительным в изменившихся. При всем том большинство таких гипотез
будет нацелено на ограничение биокодов, на их инерционность и малую
оперативность в изменении генотипов, что, впрочем, не исключает возможность
«сумасшедших реакций», которые, подобно, революциям Куна в парадигме Найта,
могут применяться в «темных» случаях, когда требуется объяснить, скажем,
появление колорадского жука на картофеле, кита в море или решение пингвина
сбросить крылья.
Понятно, что освоение системной организации средствами биологического
кодирования задача из класса сложнейших, хотя сам факт существования
«естественной социальности» у пчел, муравьев, термитов достаточно убедительно
показывает, что нам, пожалуй, не стоит со своим человеческим аршином входить в
рассуждения о простом и сложном в природе, о возможном и невозможном для
природы. Царь и царица термитника, к примеру, способны десятилетиями
порождать в должных соотношениях по численности более 30 «специальностей»
термитов, что в общем-то сравнимо с набором специальностей в автономных
социальных единицах — «деревнях» — традиционного общества, живущих, скажем,
по нормам «джаджмани» в Хиндустане [29, с. 99 и далее]. Вместе с тем, мы
можем со всей определенностью заявить, что человеческое решение проблемы
биологической недостаточности вида — предположительного предка человека и
наиболее вероятного претендента на должность «примата» человеческой истории,
определенно не принадлежало и не принадлежит к тому типу решений, который
представлен в «естественной социальности», которая воспроизводит системную
видовую организацию средствами биологического кодирования и в этом смысле
генетически достаточна, не нуждается в общении поколений
воспитательно-кодирующего типа, в «постредакции». Человек этого не умеет делать и, видимо, не
умели этого делать и его предки, кем бы они ни оказались. Предкам это умение
было ни к чему, пока они оставались биологически достаточными, а человек ему
не обучился. У людей рождаются не специализированные, а универсальные,
различенные только по полу младенцы. Их специализация, кодирование в
посильные для них фрагменты системно организованной деятельности происходят
много позже их рождения и явно принадлежат к постредакции, предполагают
длительный воспитательно-кодирующий контакт со старшими, общение
поколений, уподобление младших старшим на этапе взросления в каждом отдельно
взятом фрагменте деятельности, принадлежащем к системной организации общества.
Это обстоятельство позволяет сформулировать дополнительную компенсирующую
гипотезу об условиях выживания биологически недостаточных видов, которые к
тому же обладают и генетической недостаточностью, не могут средствами
биологического кодирования воспроизводить в смене поколений системную
организацию.
2. Если биокод вида, особи которого биологически несостоятельны, не
обеспечивает средствами биологического кодирования распределения входящих в
жизнь поколений в матрицу различенных особеразмерных фрагментов
необходимой для выживания вида системы видовой деятельности, а такой генетически
недостаточный вид все же существует и воспроизводится, то этот вид компенсирует
свою генетическую недостаточность средствами небиологического (знакового)
специализирующего кодирования особей в матрицу различенных особеразмерных
фрагментов системы видовой деятельности.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 63
Обе компенсирующие гипотезы, их мы будем использовать на правах
постулатов, сформулированы как открытые в том смысле, что они допускают
существование не только известных нам видов, которые могут быть идентифицированы
по первому основному — биологическая недостаточность — и второму
дополнительному — генетическая недостаточность — постулату, но и видов неизвестных,
даже внеземных, инопланетных, если они вдруг обнаружатся в поле научного
зрения. Эти постулаты нужны нам и для более широкого методологического
использования, поскольку они могут, по нашему мнению, рассматриваться как
представители семейства компенсирующих постулатов формализации генезиса
системности вообще, если проблема возникновения систем допускает каузальную
постановку в телеологической модели, то есть если к любой системе применимы
вопросы о том, как, зачем, почему, ради какой цели она возникла, существует и
воспроизводится. Наши постулаты фиксируют в качестве конечной цели
выживание вида в невидоразмерной среде, но возможны, понятно, и другие цели.
Но основное, что нам дают эти два постулата (мы намерены ввести и третий,
специальный), это хотя и интуитивное, но в общем-то достаточно ясное и в
принципе формализуемое чувство границы вояжа, точки возврата из самовольных
отлучек ради поиска начала человеческой истории в наше «здесь и сейчас»
исследование, чувство того, что за этой границей, этой точкой начинается то самое
прутковское «ужасно далеко», куда ушел и откуда не вернулся молочник и куда
нам заказано ходить, если мы ищем начало человеческой истории — там только
биологическая история, а человеческой определенно нет. В терминах
прохождений мы бы представили эту точку-границу в виде дорожного знака с четко
обозначенными предварительными условиями движения влево и вправо: «Влево
пойдешь — брось социальность и стань обезьяной, вправо пойдешь — брось
постредакцию и стань термитом».
Поскольку орудовская техника, дорожные знаки, правила движения по
левостороннему и правостороннему принципу не в чести у историков, не вошли в
моду, а доминирующее положение занимают географические открытия, морские
вояжи-прохождения, мы всю эту проблематику, возникающую по поводу попыток
двинуться за дорожный знак-развилку в «ужасное далеко» молочника обозначим
приличным греко-латинским термином «Геркулесовы столпы», которые поставил
Геракл по ходу 10-го подвига как раз для обозначения границы мира, за которую
ходить не следует: не вернешься. Кроме традиционного звучания термин обладает
тем историческим достоинством, что у каждого подконтинуума общего
континуума человеческой истории можно будет обнаружить и обозначить свои
Геркулесовы столпы, которые, скажем, для начала европейского типа культуры стоят
именно там, где их поставил Геракл — на выходе из бассейна Средиземного моря, —
тогда как в других случаях определить их локализацию будет несколько сложнее.
Геркулесовы столпы, например, начала человеческой истории хронологически
определены сегодня возрастом древнейших из найденных останков человека, тогда
как о точке на глобусе, где именно их следует поставить, идут споры.
Большинство вроде бы высказывается за то, что эту точку следует искать в Евразии, а
некоторые даже кивают на Арарат, но достоверно пока одно — искать эту точку,
первичный очаг антропогенеза нужно на глобусе, и не нам выдвигать в этом
полезном деле поисков «эн плюс первую» правдоподобную гипотезу.
Проблематика Геркулесовых столпов ценна для нас другим. Если и по
соображениям сравнительной анатомии и по не менее серьезным методологическим
соображениям (объяснить термитник, скажем, от переразвитого человеческого
общества, в котором осуществлена мечта «однояйцевых» генетиков-энтузиастов о
массовом производстве специализированных талантов, было бы куда проще, чем
объяснить человеческое общество через самосознание царя и царицы термитника)
ход вправо — Брось постредакцию и стань термитом! — следует исключить из
рассмотрения, то и ход влево — Брось социальность и стань обезьяной! —
становится явно сомнительным движением, если социальность все-таки нельзя бро-
64
M. К. Петров
сать, а поле поиска ограничено только по постулату генетической
недостаточности простой постредакцией как способом компенсации несовершенств видового
биокода. Здесь положение даже хуже.
Генетически достаточные виды, обладающие «естественной социальностью», в
общем-то довольно многочисленны: есть пять семейств термитов, ведущих свою
историю с юрского периода, в которые входит 2,6 тыс. видов; шесть семейств
пчел, соединяющих 30 тыс. видов; семейство муравьев из 5 подсемейств,
включающих 6 тыс. видов, но они все же ничтожная часть разнообразия живых форм
даже в своем классе насекомых, в котором описано пока около 750 тыс. видов,
и выделяются на общем фоне именно своей естественной социальностью. Если
же двигаться «влево», используя в качестве идентификатора только постредакцию,
то счет пойдет уже не на виды, а на классы — практически все птицы и
млекопитающие используют постредакцию, воспитательный длительный контакт
поколений, общение поколений, включая и знаковое, хотя с точки зрения
способностей особей обеспечивать деятельностью одиночек и разнополых пар собственное
существование и воспроизведение вида в смене поколений все виды этих классов,
кроме человеческого, должны быть признаны биологически достаточными.
Это не означает, что у биологически достаточных птиц и млекопитающих
постредакция несущественна. Совсем напротив: в «состав», так сказать,
полноценной особи как существа естественного и деятельного на равных правах входят и
навыки, переданные по биокоду, «врожденные», и навыки благоприобретенные в
процессе постредакции. Ведущие программы «Мир животных», например, чуть ли
не в каждой телепередаче предостерегают юных натуралистов и их родителей
против попыток «выпустить на волю» воспитанных в домашних условиях и не
прошедших видовой постредакции животных — они «не умеют жить», их «не научили
жить» и они попросту погибнут. Но у этих биологически достаточных видов нет
той задачи на выживание, которая стоит перед биологически и генетически
недостаточным видом: транслировать, передавать от поколения к поколению
системную организацию средствами постредакции, поэтому их постредакция не несет
специализирующей функции, нагрузки развода индивидов в особеразмерные
фрагменты деятельности и качественно отлична от человеческой постредакции.
На общем фоне животной постредакции ничем особенным не выделяются и
наши ближайшие родственники, опознанные по основанию сравнительной
анатомии: орангутанг, шимпанзе, гиббон, горилла. У них, как и у других видов,
удается выделить ряд дифференцированных сигналов (звуков или жестов), типа
«всем, кого касается», безадресных предупреждений или оповещений, явно не
имеющих отношения к специализирующему кодированию в деятельность.
А.Г.Спиркин, например, и по данным собственных исследований и по
наблюдениям других авторов говорит о возможности выделения до 30 звуковых
комплексов и 6 жестов этого типа [46, с. 6—21], но в целом он, как и большинство
полевых исследователей, приходит к негативному выводу: «Грубо говоря, обезьяны
не нуждаются в речи потому, что им нечего сказать друг другу. И психолог Иеркс
неправ, когда он утверждает, будто бы у обезьян есть что сказать, но сказать они
не могут» [46, с. 25].
Здесь бы самый момент замкнуть оба компенсирующие постулата на язык как
на средство решения проблемы передачи системной организации, социальности
от поколения к поколению. В сущности так оно и есть: язык и условие
осуществимости и активный участник процессов воспитания, специализирующего
кодирования подрастающих индивидов в обществах любого типа культуры. Но
просто указать на язык как на специфически человеческую форму постредакции,
способную в частности выполнять и роль кодирования индивидов в
специализированные виды деятельности, в нашей ситуации недостаточно по ряду причин.
Прежде всего, нам нужна такая точка зрения на язык, его природу и
функцию, с которой функция специализирующего кодирования, разобщения и развода
подрастающих индивидов в человекоразмерные информационно изолированные
История европейской культурной традиции и ее проблемы 65
фрагменты общесоциальной деятельности была бы не функцией «в частности», а
ключевой, первой и исходной, которую предполагают и на которую опираются
все иные, в том числе мышление и познание, поскольку именно она решает
проблему генетической недостаточности человеческого рода и выступает условием
осуществимости человека как существа не только естественного, но и
социального и разумного.
Далее, и это сегодня существенно, текущая ситуация за Геркулесовыми
столпами начала человеческой истории складывается сегодня таким образом, что
понятия «язык», «общение», «знаковое общение», «коммуникация», «сознание»,
«мышление» растаскиваются по частным своим признакам по всему практически
животному, да и растительному миру, даже по миру машин, так что становится
совершенно неясно, какой именно смысл будет вложен читателем в понятие
«язык». Сегодня мы с легкостью говорим и пишем о «языке танца» пчел, о языке
«жеста» муравьев, говорим о присутствии речи в косяках рыб, о машинах,
способных мыслить и осмысленно общаться с человеком, пытаемся расшифровать
«язык дельфинов», вполне серьезно задаемся инопланетными вопросами:
«Почему бы, например, высокоразвитому существу не иметь вид тонкой пленки —
плесени, распластанной на камнях?» [26, с. 14]. Рассчитывать в такой обстановке на
ясность понятия «язык» явно не приходится.
Наконец, и это, пожалуй, самое главное, наука о языке — лингвистика, хотя
в ней и происходили бурные события, развивалась и развивается в парадигмах,
привязанных к логике и основанных на предложенной еще Аристотелем идее
предложения — «законченной мысли» как высшей языковой единице. В этом
своем виде учение о языке представлено в нашем Ту, и соответственно
нормальный взрослый человек опознает язык как единство словаря и грамматики, всего
того, что может быть обнаружено в пределах предложения, а науку о языке как
скучнейшую из наук, которую приходится все-таки проходить, раз уж так «все
расставлено по своим местам» умными дядями и тетями, но можно по обретении
аттестата зрелости и забыть без ощутимого вреда для способности мыслить,
рассуждать, писать, что в общем-то и удается подавляющему большинству взрослого
населения. Нам думается, что если в порядке теста предложить годичному
собранию АН СССР и третьему классу любой средней школы выполнить любое
наперед заданное грамматическое упражнение из учебника по русскому языку для
8 класса, то результат будет один и тот же, хотя академики будут объяснять его
по формуле: проходили, но забыли, а третьеклассники по модели Антошки: это
нам не задавали, это мы не проходили, причем, и это самое интересное,
объясняться-то они будут на чистейшем русском языке, по тем самым правилам,
которые они либо проходили и забыли, либо вообще еще не проходили.
Такое Ту представление о языке, обязанное своим появлением и
воспроизведением в смене поколений учеников общеобразовательной средней школы
действующим парадигмам лингвистики, отводит ту сторону языка, которой нам
предстоит в основном заниматься на периферию предмета лингвистики как
аномалию в состоянии данности, о которой все в общем-то известно, но которая не
переведена в состояние осмысленной проблемы, требующей изучения в частности
и для понимания природы самого языка. Ф. де Соссюр, один из признанных и
глубоко почитаемых всеми лингвистами наравне с Аристотелем, александрийцами
отцов лингвистики, говорил о том, что лингвистика должна стать частью
семитологии как науки, которая изучает «жизнь знаков в рамках жизни общества» [66,
с. 54]. Именно к этой проблемной области и относятся те реалии, которыми нам
придется оперировать.
По совокупности указанных причин и по ряду дополнительных обстоятельств
мы не будем спешить с определением и вводом в анализ языка — нам пришлось
бы иметь дело с типичной коммуникационной лакуной, трясиной, где не на что
опереться. Ограничимся пока введением третьего замыкающего постулата.
5 М.К. Петров
66
M. К. Петров
3. Передать системную организацию и наладить внебиологическое знаковое
кодирование индивидов в специализированные человекоразмерные фрагменты
общесоциальной деятельности можно только средствами такой постредакции,
которая использует индивидуализирующие имена в качестве диакритических знаков,
позволяющих различать индивидов, и тексты, которые содержат программы
деятельности того человекоразмерного фрагмента целостной системы деятельности,
в который кодируется носитель данного имени, индивид.
Таким образом, по связи с идеей Гальтунга о субституции бога эмпирической
реальностью, а церкви — наукой мы попробовали совершить каботажное
плавание в «Средиземном море» континуума человеческой истории в поисках
универсалий и, похоже, вернулись к исходному пункту, к мысли Гальтунга о том, что
эта субституция высших авторитетов и монополистов на истолкование высших
авторитетов совместима с идеей божественного творения. Вернулись не только с
грузом проблем, но и с черновым описанием берегов, свидетельствующим в
пользу того, что континуум человеческой истории, если он имеет не божественное, а
естественное начало, суть замкнутая акватория, границы которой определены
универсальными постулатами: а) биологической недостаточности человеческого
рода, в силу чего человеку приходится быть не только существом естественным,
но и существом социальным; б) генетической недостаточности, в силу чего
человеку приходится для передачи социальности от поколения к поколению создавать
уникальный тип постредакции, использующий индивидуализирующие имена и
программирующие тексты, становиться не только существом естественным и
социальным, но и существом разумным. Трехсоставная формула полноценной
человеческой «особи»: естественный + социальный + разумный, и образует,
собственно, область поиска универсалий континуума человеческой истории, замкнутую
акваторию человеческой истории, вход в которую закрыт началом —
Геркулесовыми столпами с хорошо различимой остерегающей надписью: Вправо пойдешь,
брось разумность и стань генетически достаточным социальным термитом; влево
пойдешь, брось социальность и стань биологически достаточной обезьяной.
Что же касается характеристики божественности того акта творения, с
которым совместимы научные представления об эмпирической реальности,
заменившей бога в должности высшего авторитета, то отметим пока, что здесь мы имеем
дело с «естественной» универсалией, действие которой прослеживается и за
Геркулесовыми столпами в животном мире, имеет силу для всей биологической
истории. Поскольку же именно по этой универсалии всего живого чаще всего
совершаются выходы и правой и левой ориентации за Геркулесовы столпы
человеческой истории, с нее мы и начнем более детальное ознакомление с
универсалиями человеческой истории, истории человеческих культур и форм познания не-
человекоразмерного мира человекоразмерными средствами.
Глава 1. Репродуктивная характеристика мира,
вера в природу и ее разумное творение
Когда мы говорим об экологической нише, окружении, среде обитания,
окружающей среде, мы в явной или неявной форме распространяем на все живое,
на всю совокупность биологически и генетически достаточных видов те идеи
эмпирической данности, вечности, логической упорядоченности, «познаваемости»,
пусть своими особыми средствами биологической адаптации, которые
присутствуют и в наших «развитых» представлениях о Книге Природы, Природе,
Эмпирической Реальности, Предмете, Объекте, если их писать и воспринимать «с
больших букв», чего они, как наши знаки, вполне заслуживают.
Современный акцент на творческой составляющей познания и на социальном
освоении его результатов как в эмпирическо-технологической форме
приложения, так и в воспитательно-теоретической форме онаучивания общества через из-
История европейской культурной традиции и ее проблемы
менение текстов школьных учебников, образующих путь к Ту, а также и
устойчивое, идущее еще от первых схваток XVI в. с католической теологией,
обскурантизмом, церковью, косностью «темных людей», от «Похвалы глупости»,
«Эразма Роттердамского» отвращение к вере, которая для большинства из нас связана
с религией, религия — с церковью, церковь — с теологией, явно препятствуют
непредвзятому анализу феноменов веры и данности, базовой основе действий,
основанных на слепой и неразмышляющей вере в правомерность и «истинность»
всех составляющих нашего микро- и всеобщего макропорядка от таблицы
умножения до расписания занятий, поездов, рейсов Аэрофлота.
Хотя девять десятых нашей, пусть даже самой творческой жизни, проходит в
режиме веры в разумность и упорядоченность окружающих нас событий от
поведения машиниста поезда метро, в котором мы едем, до поведения авторучки,
которой мы пишем, к вере, к «подкорковому», не выходящему на уровень
рационального представления знанию мы относимся подозрительно. В нашем
мысленном эксперименте, например, с третьеклассниками и академиками, которым
не удается выполнить грамматического упражнения для 8-го класса одним
потому, что они этого еще не проходили и им этого не задавали, другим потому, что
хотя они это и проходили и им это задавали, но было это давно и за
ненадобностью забылось, не сразу удивление по поводу того, что и те и другие, не
проходившие и проходившие, но забывшие мудрость учения о языке, способны все
же говорить и писать по тем же самым сложнейшим и скучнейшим правилам,
которые они не проходили или забыли, переходит в еще большее удивление,
когда до нас доходит, что вот, скажем, со школьным курсом математики этого
не наблюдается, и если уж она пройдена и забыта в части, скажем,
тригонометрических функций, то это уже фундаментально: нужно браться за учебник и
проходить тригонометрию заново.
Даже и таблицу умножения можно забыть, никто не увидит в этом ничего
противоестественного. А вот если у забывшего школьный курс родного языка, а
в других отношениях нормального индивида начнутся речевые расстройства,
нарушения, к примеру, рангового распределения значимых слов в «тексте
достаточной длины», то, как показал Г.Ципф, можно и психиатра вызывать: отклонения
от нормы в одну сторону (малая численность слов в последних рангах) будут
вызывать серьезные подозрения на паранойю, в другую — на шизофрению [178,
с. 37-52].
Объяснить эти странности можно, видимо, только одним, а именно тем, что
основная лингвистическая премудрость, в отличие от математической проходится
в любом обществе в возрасте «от 2 до 5», проходится без словарей и грамматик
при явном соучастии человеческого биокода, активно толкающего детей на этот
действительно великий подвиг, и что результаты такой неформальной
постредакции, которые уходят в подкорку на правах веры в человеческое общение, в
данность реалий общения много прочнее и устойчивее тех результатов, которые мы
получаем в процессе формального, рационализированного обучения.
Лингвисты, возможно, обидятся, если назвать предмет их исследований по
правилам действующей парадигмы младенческой, детской, неформально
осваиваемой в возрасте «от 2 до 5» и потому уже заведомо человекоразмерной верой
человечества в разумное устроение мира, поскольку мир выразим в языковых
реалиях и познаваем только в той степени, в какой он выразим в реалиях языка, —
в знаменательных словах и в универсальных, доведенных до неразмышляющего,
слепого, основанного на вере автоматизма правилах грамматики, правилах
обращения со знаменательными словами.
При всех этих возможных обидах сами лингвисты всех направлений любят
подчеркивать, что их наука только описывает, а не предписывает, и именно
поэтому она наука, удовлетворяющая самым строгим критериям научности:
незаинтересованному наблюдению, свободе от ценностных суждений. Действительно, в
этом отношении лингвистика безупречна, ценностей, предпочтений, долженство-
5*
68
M. К. Петров
вания в ней нет. Г.Смит, например, так описывает эту установку на описание,
на строгую научность в общественных науках: «На том сравнительно коротком
периоде, на котором социальные и поведенческие науки считают себя частью
единой научной традиции, этикой занимались удивительно мало. Более того,
многое было сделано для обоснования идеи, будто социальная наука «свободна
от ценностей» и «нейтральна по отношению к ценностям». Мифы о свободе от
ценностей и нейтральности основаны на строгом различении: наука описывает
бытие — мир, каков он есть, тогда как этика занята долженствованием и
предписывает миру, каким ему следует быть. Иными словами, предполагается, что
ученый-социолог, пока он ученый, объективен. И поэтому он обязан описывать
не то, какими бы он желал видеть вещи, а то, каковы они есть» [162, с. 3]. При
всем том, когда дело идет о языке, декларации о приверженности к описанию и
воздержании от предписания отдают в какой-то степени фарисейством —
попробовали бы лингвисты отменить, скажем, родительный падеж или сослагательное
наклонение, — но, хотя нам менее всего хочется упрекать в чем-либо лингвистов,
приходится все же отметить, что именно эта не столько отвергаемая, сколько
бессознательно отбрасываемая мысль о принадлежности предмета их исследований
к вере подвигает их иногда на истинно христианские дискуссии о множестве
слов-логосов, по которым сотворен мир. Но об этом мы будем говорить в
отдельной главе.
Пока же нас интересует другое: смена вер, «вероотступничество» в животном
царстве и в человеческой истории. Вот, скажем, колорадский жук, генетически
воспитанный в вере, что его, колорадского жука, «природа» суть паслен, взял и
переполз с паслена на картофель на глазах у негодующего человечества,
превратился из безобидной букашки в грозного вредителя. Ясно, что ему в этом
движении пришлось сменить веру пасленовую, на веру картофельную, и хотя дикий
паслен и картофель близки в биологической таксономии, все же они во многом
и различны, так что предприятие колорадского жука с точки зрения
вероотступничества не так уж и отличается от предприятия предков человека, которые
сменили надземную среду обитания в ветвях деревьев, где нет ни мамонтов, ни
слонов, ни китов, ни особо крупных нечеловекоразмерных хищников, на наземную
и прибрежную, где все это встречается. Это тоже смена веры с древесной на
наземную.
Если учесть, что, появившись где-то в одной точке на глобусе, человек, не
покидая уже наземной среды обитания, распространился затем по всему земному
шару, то есть, по ходу расселения постоянно «переползал» с обжитого «паслена»
на близкий по свойствам, но все же и отличный от паслена соседний
«картофель», пока не освоил, где-то задолго до географических открытий европейцев,
все разнообразие мыслимых сред наземного обитания и даже перебрался на
острова, то человеческий биокод по ходу таких переселений-переползаний должен
бы, видимо, притерпеться к смене вероисповеданий, приобрести какие-то
уникальные качества, мы бы даже назвали их «атеистическими», раз уж вера так
неразрывно связана в Ту сознании с религией, но все же будем называть их
«всеядностью» человеческого биокода, способностью человеческого младенца на
периоде «от 2 до 5» принять как данность любую веру в разумное и познаваемое
устройство мира, господствующую в том месте, где его угораздило родиться.
Допустим, что будущая мама и будущий папа воспитывались в деревне,
окончили там среднюю школу. Папа пошел служить в армию, мама поступила в
пединститут. Потом они встретились в городе, стали в силу генетической
совместимости рода человеческого папой и мамой младенца, который появился на свет в
родильном доме Грауэрмана, скажем, что почти на Арбатской площади. Какую
веру примет младенец в возрасте «от 2 до 5» и позже? «Деревенскую» папы и
мамы, где разрешено вдоль и поперек ходить по улицам, где нет светофоров,
песчаных ящиков, заборов, ограждений, детских площадок, где не только не
возбраняется, но даже приветствуется вбивание и выдергивание гвоздей куда и откуда
История европейской культурной традиции и ее проблемы 69
угодно и вообще любое творчество, если оно не досаждает взрослым, или же веру
«городскую», где этому самому индивиду «от 2 до 5» положено сидеть в песчаном
ящике, переходить улицы по правилам, приглядываясь к светофорам, где каждый
вбитый по вдохновению гвоздь или раскрашенная в приступе творчества стена —
трагедия с дисциплинарными последствиями?
Совершенно очевидно, что независимо от желания родителей, пересаженный
«деревенскими» генами в город младенец примет как данность городской вариант
культуры и будет взрослеть-развиваться по этому варианту. Специфически
«деревенская» часть может, естественно, накладываться на обязательную и
доминирующую программу воспитания как следы, иногда и шрамы попыток родителей
удержать ребенка в своей вере, в которой они сами были воспитаны и которую
приняли столь же независимым от них образом, родившись где-нибудь под Курском
или под Псковом, а не в Лапландии или на славном острове Пасхи, но эта
родительская вера будет, так сказать, деревенскими вариациями на городскую тему.
Мама заведет цветок или какую-нибудь живность в клетке вроде модного ныне
попугая, которые будут маме напоминать о чем-то дорогом и приятном, а сыну
о том, что цветок нужно поливать, а попугаю менять воду и чистить за ним
клетку. Папа, заметив, как привыкший к асфальту сын недоверчиво ходит по траве
где-нибудь в зоопарке, попробует приучить сына к природе, к охоте и рыбалке,
но вскоре отступится от этой увлекательной для него самого затеи: сын вряд ли
оценит многочасовой солнцепек высиживания в лодке где-нибудь в камышах, где
ждут своего часа комары, чтобы довершить папино удовольствие в тот самый
момент, когда начнется главное — клев, или многочасовые походы под дождем по
раскисшей земле с увесистым рюкзаком и с ружьем в поисках несуществующего
зайца. Для сына образ «настоящей» природы будет тяготеть к «местам
рекреации», где все как надо, как в Нескучном саду или в Сокольниках, — есть аллеи,
есть скамейки, урны, таблички: «По газонам не ходить!» и многое другое для
полноценного отдыха уставшего горожанина «на природе».
Пример может показаться тривиальным и не очень убедительным для
демонстрации «всеядности» человеческого биокода, его способности принимать на веру
как данность любое не им сложенное материальное и знаковое окружение и
присваивать, интериоризировать его: различия между деревенским и городским
вариантами культуры все же не настолько велики, чтобы говорить о независимом
для младенца пересаживании с деревенского «паслена» родителей на «картофель»
городской жизни. Для нас же важен именно этот пункт — безболезненность
пересадки младенцев в любые мыслимые данности любых культур, поскольку именно
здесь решается вопрос не только о генетической совместимости человеческого
рода, но и о совместимости культурной, хотя на более высоком уровне
социальных единиц типы культуры проявляют более или менее очевидные признаки
несовместимости, дающие, со ссылками на различие генетических пулов, повод
говорить о врожденной ограниченности отдельных рас и культур, о генетических
«потолках» той или иной культуры.
Д.Найт, например, констатируя, генетическое единство человеческого рода,
которое можно считать доказанным «со времен предпринятых моряками долгих
плаваний», тут же отмечает: «Но и сегодня имеются люди, которые утверждают,
что генетические различия между расами не ограничиваются внешними чертами,
такими как цвет кожи или строение волос, но включают и ментальные
способности. Ясно, что если некоторые расы человечества глупы по природе, к ним
нельзя относиться как к полноценным. Большинство ученых демонстрирует
моральное неприятие такой концепции, как это делали Оуэн и Уилберфорс,
отказываются принимать всерьез «свидетельства» в пользу таких взглядов. Поступать
так не значит быть ненаучным. С конца XVII в. большинство мужей науки не
считает необходимым серьезно исследовать истории о духах, а с конца XVIII в.
— серьезно рассматривать проекты вечных двигателей, поскольку в их картине
мира подобные вещи невозможны» [131, с. 198].
70
М.К. Петров
Нас такой этический подход к делу не устраивает. Это позиция страуса, а не
ученого. Не говоря уже о том, что вот, заняв примерно такую же позицию,
французская Академия наук, отказываясь принимать к «серьезному рассмотрению»
работы по генезису языка, затормозила лингвистические исследования, она к тому
же в своих попытках закрыть проблему явно встала на антинаучные позиции по
целому ряду других проблем, производных от решения проблемы генезиса языка.
От того, как именно будет понят язык, зависит, в конечном счете вся концепция
человеческой культуры и духовного развития человечества. «Моральное
неприятие» чего-нибудь отнюдь не отменяет того, чему отказывают в моральной
санкции, часто даже, подобно «инкапсуляции» Н.Маллинза [142] только
способствует развитию отвергнутого. Отчаянные «однояйцевые» генетики, к примеру, «на
дух не принимают» концепцию полной социальной детерминации воспитания и
жизненных карьер людей: она явно несовместима с их голубой мечтой насытить
мир талантами в нужных количествах и в должной номенклатуре методами
тиражирования признанных уже талантов на благо человечеству. Точно так же и
чистые социальные детерминисты, все списывающие на пороки воспитания, на
недосмотры и упущения воспитателей, «на дух не принимают» идей «однояйцевых»
генетиков, доказывая, и не без основания, что их попытки манипулировать
генами могут привести к самым плачевным результатам.
Мы в этом споре занимаем не промежуточную, а вполне определенную
позицию, впервые высказанную действительным героем науки, который ставил
рискованные эксперименты, но только на самом себе, и признанным отцом
математической генетики Дж.Б.С.Холдейном [118], общий смысл которой состоит в том,
что в принципе, при огромных затратах человеческого таланта на поиск средств
практической евгеники, эти средства могут быть обнаружены, но их применение
всегда будет натыкаться на непроходимую трудность в определении целей
генетической политики: каждое живущее поколение имеет свой идеал совершенного
человека и нет никаких оснований полагать, что в смене поколений появится
когда-нибудь такое, которое покончит с мельканием этих идеалов и возьмет на
себя ответственность за прекращение человеческой истории — в общем-то
человечество становится с возрастом умнее и все менее склонным к поиску истин в
последней инстанции.
Иными словами, сама задача теоретического обоснования целенаправленной
генетической политики, как и задача отчаянных кибернетиков создать
искусственного человека или думающую машину или даже неорганическую
цивилизацию, попадает в класс задач, который мы называем «комплексом Архимеда». Эти
задачи интуитивно ясны — чего уж там хитрого в рычаге и точке опоры, но они
неразрешимы именно в силу своей методологической несостоятельности, именно
потому, что предполагаемая как данность посылка разрешимости задачи — точка
опоры, определение человека, определение мышления, идеал человека —
невыполнима. А.Колмогоров, например, пишет: «Если свойство той или иной
материальной системы «быть живой» или обладать способностью «мыслить» будет
определено чисто функциональным образом (например, любая материальная система,
с которой можно разумно обсуждать проблемы современной науки или
литературы, будет признаваться мыслящей), то придется признать в принципе вполне
осуществимым искусственное создание живых и мыслящих существ» [26, с. 11].
Это типичный случай «комплекса Архимеда»: дайте мне «чисто
функциональное» описание, возьмем для начала что-нибудь попроще, описание, скажем,
способности царицы термитника воспроизводить десятилетиями потомство 36
типоразмеров особей в таких-то и таких-то соотношениях, и я построю куда более
«совершенный» мегатермитник, в котором царица будет производить не 36, а 136
типоразмеров специализированных особей, не десятилетиями, а столетиями. Мы
не сомневаемся, что если такое определение дать, то подобный мегатермитник
будет построен отчаянными кибернетиками хотя бы на бумаге. Только кто же
кроме всеведущего существа способен дать такое определение? Пока определения
История европейской культурной традиции и ее проблемы 71
давал и уходил из этих определений, когда они казались ему узкими, жесткими,
жмущими, неадекватными. Вряд ли что-нибудь изменится и в будущем. И если,
скажем, предположить, что за дело самоопределения себя как мыслящего
существа возьмется сам А.Колмогоров, то первое, что он сделает как существо
мыслящее по завершении предприятия, это откажется признать сходство между собой
и «материальной системой», созданной по собственному образу и подобию, то
есть повторит тот путь, который Л.Ельмслев сначала определил как простенькую
вроде бы проблему «переопределения узуса»: «Описывая узус, надо всегда
учитывать пределы, в которых допускаются колебания и отклонения; если эти пределы
зафиксированы точно, в актах речи не имеет места выход за них. Если это
произойдет, описание узуса надо перестроить» [20, с. 65]. А когда Ельмслев всерьез
взялся фиксировать эти пределы узуса, перед ним сразу же объявилось
всеведущее существо: «По-видимому, было бы невозможным для человека проработать
все существующие тексты, и, более того, этот труд был бы напрасным, поскольку
теория должна распространяться также и на еще несуществующие тексты.
Лингвист-теоретик, как и всякий другой теоретик, должен предвидеть все мыслимые
возможности — представить эти возможности, которые он сам не испытал и не
видел, реализованными, хотя некоторые из них, вероятно, никогда не будут
реализованными. Только таким образом можно создать лингвистическую теорию,
которую с уверенностью можно применять» [19, с. 227].
Если учесть, что любой ученый в любой нормальной дисциплине, а
дисциплин много, физически не в состоянии «проработать все тексты», которые
публикуются в дисциплинарных журналах, то перед теоретиком-лингвистом ставится
явно нечеловекоразмерная задача не только всезнания того, что накоплено уже
наукой и человечеством, но и того, что в принципе может быть накоплено, хотя
не все эти потенции, «вероятно, будут реализованы». Задача ставится с явным
намеком на существование неких универсальных правил редукции к человекораз-
мерности, что вообще характерно для «комплекса Архимеда» как вера во всесилие
«разумной редукции», в возможность сокращать объем разнообразия знаний,
сохраняя и даже умножая содержание. Тот же ход мысли мы обнаруживаем и у
отчаянных системников, энтузиастов общей теории систем, когда они пытаются
теоретически обосновать идею единого языка науки для «вертикальной
интеграции» всего разнообразия дисциплинарных парадигм и унификации подготовки
научных кадров. Ф.Ласло, например, предлагает для этой цели процедуру
«рационального картографирования мира», смысл которой состоит в том, что она дает,
по Ласло, возможность, двигаясь и аксиоматически и от наблюдаемых регуляр-
ностей окружения, «нанести на карту потенциально исчислимые конструкты
установившихся и повторяющихся универсальных черт вселенной, доступной
научному изучению», с тем чтобы редуцировать полученный аксиоматически «набор
всех возможных систем до более разумных пределов» [136, с. 162—163]. Нетрудно
понять, что и картографирование и сама эта редукция вступает в вопиющий
конфликт с человекоразмерностью: генерализировать наблюдаемое или
аксиоматически выводить набор «всех возможных систем», редуцировать его по каким-то
правилам до «разумных пределов» предлагается явно не нормальному земному
человеку, который прошел через первый фильтр социализации «от 2 до 5», прошел
через среднюю школу к Ту, окончил университет и стал системником, а какому-
то сверхсуществу, которое вдоль и поперек исследовало мир открытий, нанесло
на карту обнаруженные им «потенциально исчислимые конструкты
установившихся и повторяющихся универсальных черт вселенной, доступной научному
изучению», а затем уже решило в порядке благоволения к человеку сократить
«набор всех возможных систем до более разумных пределов».
Не так уж трудно сообразить, что реальным источником всех этих иллюзий
«комплекса Архимеда» насчет точки опоры, которые в разных вариантах и во
множестве встречаются в попытках выйти «влево», в биологическую
достаточность за Геркулесовы столпы человеческой истории, или же тем или иным спо-
72
M.К. Петров
собом восстановить идею всезнания и всемогущества, является именно свойство
«всеядности» человеческого биокода, способности младенцев в возрасте «от 2 до 5»
осваивать и интериоризировать до подкорковой веры любую данность,
включающую в частности родной язык и его грамматику — набор универсальных правил
сказуемости, «категорий», который заведомо человекоразмерен, поскольку он в
любых конкретных разновидностях (русской, английской, китайской, греческой)
усваивается всеми нормальными детьми, а в Европе, после освоения греческого
варианта, «эллинской мудрости», стал с возникновением теологии и остается по
сей день основной знаковой структурой интеграции мира в целостность.
У лингвистов этот поиск «точки опоры» в грамматиках самоочевиден. Ельм-
слев, например, ссылаясь на «язык-систему» Соссюра, а практически на
грамматику, пишет: «A priori во всех случаях справедливым кажется тезис о том, что для
каждого процесса (в том числе и исторического) можно найти соответствующую
систему, на основе которой процесс может быть проанализирован и описан
посредством ограниченного числа предпосылок. Следует предположить, что любой
процесс может быть разложен на ограниченное число элементов, которые
постоянно повторяются в различных комбинациях. Затем эти элементы могут быть
объединены в классы по их комбинационным возможностям. И наконец, в
дальнейшем, очевидно, можно построить всеобщее и исчерпывающее исчисление
(calculus) возможных комбинаций. История, в частности, построенная таким
образом, поднялась бы над уровнем чисто примитивного описания, став
систематичной, точной и дедуктивной наукой, в теории которой все события (возможные
комбинации элементов) предвидятся, а условия их осуществления
устанавливаются заранее... Казалось бы, a priori, язык является объектом, для которого результат
проверки этого тезиса должен быть положительным» [19, с. 270].
Тот факт, что категориально сказуемостный способ интеграции мира в
целостность, в единство апперцепции, человекоразмерность которого гарантирована тем
простым обстоятельством, что в возрасте «от 2 до 5» грамматики любых языков,
как бы они ни отличались друг от друга, без видимых затруднений и усилий
«проходятся» и осваиваются детьми как составная данности их окружения,
остался без изменений в процессе субституции бога эмпирической реальностью на
уровне высших авторитетов и церкви — институтом науки на уровне
монопольного права истолкования высших авторитетов, как раз и объясняет отмеченную
Гальтунгом совместимость устойчивой, инерционной и безапелляционной
эмпирической реальности с актом творения, поскольку и акт божественного творения
мыслился творением «по слову», по предзаданному логически безупречному
плану, а христианская история, как мы увидим ниже, явно осознавалась по
модели предустановленной «калькуляции» Ельмслева, и человеческая история, в
частности и история науки творится при активнейшем участии слова.
Вместе с тем этот факт причастности и христианского миропорядка и
эмпирической реальности к актам божественного или человеческого творения «по
слову» будет интересовать нас в двух дополнительных отношениях. Во-первых,
поскольку не все культуры используют категориальный потенциал заведомо че-
ловекоразмерных грамматик для целостного представления мира, эта
преемственность способов редукции явно нечеловекоразмерного разнообразия мира к чело-
векоразмерности грамматического единства апперцепции, единства целостного
восприятия, позволит нам воздвигнуть хотя бы один «Геркулесов столп» на входе
в историю науки, основанный на постулатном допущении: «науки не может быть
там, где нет категориального способа целостного представления мира», и тогда
этим «столпом», одним из отцов и теологии, и науки явно окажется Аристотель,
который первым взглянул на мир через интегрирующую оптику грамматических
универсалий. Во-вторых, этот факт сохранения категориального способа
представления мира в интеллектуальной революции XVII в., на переходе от теологии
к опытной науке привлечет наше внимание по подозрению в субституции
грамматических баз: Аристотель использовал для первого в истории европейской куль-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 73
туры категориального представления мира возможности грамматики его родного
языка — греческого, языка флективного, тогда как опытная наука, похоже, по
ходу своего возникновения, перешла в обосновании своих категорий с
универсалий греческой грамматики на универсалии новоанглийского языка, языка
аналитического. Поскольку аналитический строй в английском языке более или менее
оформился только в XVI в., такая субституция могла произойти только позже
XVI в. и только в Англии, где, если приведенные нами резоны покажутся
убедительными, и следует водрузить второй «Геркулесов столп» начала континуума
истории опытной науки.
Но это в порядке ориентиров на будущее, а пока нам нужно вернуться к тому
месту, где мы обвинили Д.Найта в том, что он занял в вопросе о неравенстве рас
позицию не ученого, а страуса. Провозглашенное Найтом право ученых на
«моральное неприятие» тех или иных концепций «просто потому, что в их картине
мира подобные вещи невозможны» [131, с. 198], мы называем позицией страуса
как раз потому, что, во-первых, любая новая концепция всегда «невозможна» в
наличной картине мира науки, если не приведены убедительные доводы в пользу
ее возможности, а, во-вторых, нравятся нам или не нравятся новые концепции,
их все же не голосуют, а верифицируют, оставляя эмоции и аргументы
долженствования «на потом», когда уже будут достаточные основания принять
концепцию или отвергнуть.
Вопрос о равенстве или неравенстве рас явно не относится к
псевдопроблемам «комплекса Архимеда», которые требуют вовлечения в свое решение
всеведущих и всемогущих существ, выхода за пределы человекоразмерности и потому
уже методологически несостоятельны, этот вопрос допускает верификацию, его
нельзя «отвергать с порога» по чисто этическим соображениям. По результатам
нашего зондирующего микроэксперимента на всеядность человеческого биокода,
на его безразличие к деревенскому и городскому вариантам освоения данности в
возрасте «от 2 до 5» мы можем считать в высшей степени вероятным, что в
человеческом биокоде нет деревенского «осадка», который активно препятствовал
бы ребенку деревенской по рождению (и, в большинстве случаев, по истории
предшествующих поколений на достаточную глубину) родительской пары освоить
городской вариант культуры. Высокую степень вероятности такому заключению
придает то обстоятельство, что масштабы таких трансплантаций деревенского
биокода на городскую данность достаточно велики, они связаны в частности и с
тем, что большинство входов в специализирующее кодирование (университеты,
высшие учебные заведения, специальные средние учебные заведения) для
получивших аттестат зрелости локализованы в крупных городах, так что возрастное
воспитательное движение индивидов приобретает форму движения в города, а
годы движения в специализацию, пребывания в городе по этому поводу
совпадают с пиком образования семей.
Сложнее, естественно, обстоит дело, когда речь идет о межкультурных
трансплантациях биокодов, подозреваемых на существенные различия, но и здесь не
такая уж целина, которая оправдывала бы воздержание от суждений по причине
полного отсутствия сколько-нибудь достоверных фактов. В ряде стран, где
действуют законы о всеобщем и обязательном образовании, население
многонационально и принадлежит к разным расам. В них все дети с определенного возраста
начинают типичный для нашей культуры путь через Ту в
социализацию-специализацию. Понятно, что в каждой стране есть свои традиции и особенности, но в
общем-то во всех развитых странах нашего типа культуры действует один и тот
же воспитательный механизм — воспитательный эскалатор, принимающий детей
определенного возраста и, если вспомнить аналогию с московским метро,
опускающий их к единому сборному пункту — к аттестату зрелости, откуда
начинаются уже радиальные движения в специализацию. Поэтому если засечь
этнический и расовый состав вступающих на этот эскалатор и проследить за их
дальнейшей судьбой, то можно получить некоторое представление о том, насколько су-
74
M.К. Петров
щественны различия расовых биокодов, и о том влиянии, которое эти различия
оказывают на жизненные карьеры представителей разных рас и этнических групп.
Таблица 2 [167, с. 232]
Расовый и этнический состав контингентов калифорнийских
общеобразовательных школ и институтов высшего образования,
осень, 1967, %
Учебное
заведение
Элементарная школа
Средняя школа
2-летний колледж
4-летний колледж
Университет
Мексиканцы
14,4
П,6
7,5
2,9
0,7
Негры
8,6
7,0
6,1
2,9
0,8
Восточники
2,1
2,1
2,9
1,9
4,6
Индейцы
0,3
0,2
0,1
0,7
0,2
Остальные
74,6
79,1
83,4
91,6
93,7
В табл. 2 представлены статистические данные, использованные в работе
А.Джэффа и У.Адамса, где критически анализируется образовательная политика
штата Калифорния, проводящего с 1960 г. программу «открытого доступа» в
институты высшей школы, в соответствии с которой школьники, пройдя
общеобязательный курс 8-летнего обучения в общеобразовательной школе, могут затем
продолжать по собственному желанию обучение в трех старших классах (средняя
школа), после чего кончающие среднюю школу могут поступать в институты
высшей школы штата в соответствии с результатами выпускных экзаменов: а) все
желающие выпускники в двухлетний колледж; б) входящие в Уз выпускников с
лучшими оценками — в четырехлетний колледж; в) входящие в 1/% выпускников с
лучшими оценками в любой из филиалов университета штата Калифорния [167,
с. 227]. В табл. 2 представлены все расы (под «восточниками» или, реже,
«желтыми» американские социологи обычно разумеют японцев, китайцев и корейцев,
а под «остальными» или, реже, «кавказцами» — всех белых), и хотя нетрудно
заметить известные колебания в составе контингента по ходу его движения к
завершению курса средней школы (контингент элементарной школы дает, видимо,
более или менее точное представление о представительстве этнических и расовых
групп в населении штата), бесспорно однако то, что расовых или этнических
генетических пулов, несовместимых с европейским способом воспроизводства
культуры, в штате Калифорния не обнаруживается.
Более того, «восточники», например, в контингенте студентов университета
представлены вдвое с лишним большей долей, чем в исходном школьном, точно
так же, как и индейцы в четырехлетних колледжах, то есть, судя по структуре
программы, их представительство в группах Ув и Уз лучших выпускников выше,
чем у других рас. Явную недопредставленность негров и мексиканцев в
институтах высшего образования штата Джэфф и Адаме объясняют не генетическими, а
совсем другими обстоятельствами: «Кроме культурных факторов, существуют и
другие обстоятельства, препятствующие посещению колледжей неграми и
мексиканцами. Во-первых, сравнительная большая часть учеников из национальных
меньшинств (кроме восточников) отсеивается на переходе в старшие классы
средней школы и таким образом теряет возможность поступить в колледж. Во-вторых,
хотя плата за обучение в колледже может быть номинальной, обучение все же
связано с расходами. К тому же двухлетние коммунальные колледжи Калифорнии
часто располагаются в местах, неудобных с точки зрения обеспеченности
общественным транспортом скоплений представителей национальных меньшинств,
которые редко пользуются личными машинами» [167, с. 232]. При всем том все
расы обнаруживаются на всех уровнях. Л.Уилсон приводит близкие по значениям
История европейской культурной традиции и ее проблемы 75
данные для контингента аспирантов 1971 г.: белые (кавказцы) — 91,8%; черные —
1,9%; желтые (восточники) — 4,5%; другие — 1,8% [175, с. 24].
Анализируя недостатки программы, Джэфф и Адаме вообще не упоминают о
каких-либо врожденных, связанных с расовой и этнической пестротой
затруднениях: «План 1960 г. был совершенно откровенен в своем почитании роли
институтов на уровне университетов и особенно аспирантур: дать качественную
подготовку академической элите, которая в свою очередь должна будет пополнять
высшие уровни профессий и тем самым обеспечивать своими вкладами
экономический, технологический и научный прогресс штата. За исключением обсуждения
задач двухлетних колледжей, дающих специализированную профессиональную
подготовку, ни план, ни соответствующая литература никогда не пытались
конкретно определить цели обучения в колледжах основной массы студентов,
особенно студентов с более низкими академическими способностями, которые
поступают на средний и низший уровень трехуровневой системы высшего
образования (2-летний колледж, 4-летний колледж, школы аспирантской подготовки).
Предоставляя студентам право на высокий уровень отсева и серьезные
финансовые трудности, исходная имплицитная посылка плана, будто демократический
принцип открытого доступа в колледжи ценен сам по себе и не нуждается в
обоснованиях, выглядит сегодня не столь убедительно, как десять лет назад,
особенно для налогоплательщиков штата Калифорния» [167, с. 233—234].
Отсев действительно велик: «Из 1000 учеников, поступающих в средние
школы штата Калифорния, их кончает около 800. Из этих выпускников средней
школы 540 поступает в тот или иной колледж. Из этой группы менее 250
студентов остаются в колледже после первого года обучения, а кончают колледжи лишь
100—150 студентов» [167, с. 229]. Но, как это явствует из табл. 2 и данных Л.Уил-
сона по аспирантуре, в структуре отсева не обнаруживается расовой
составляющей. Иными словами, неевропейские генетические пулы чувствуют себя на
европейской почве штата Калифорния столь же естественно, как и наш «деревенский»
биокод в городе.
Можно, конечно, поставить под сомнение доказательность этого типа
аргументации в пользу равенства рас на уровне генетических пулов в деле активного
восприятия и развития любой культуры, поскольку расовые и этнические группы
и штата Калифорния и США, и вообще развитых стран европейской культурной
традиции, если глубину их натурализации в европейской культуре мерить числом
поколений, прожитых в инокультурных условиях, могут оказаться более
натурализованными, чем население крупных городов, а смены поколений в таких
странах редко бывают генетически чистыми, удовлетворяющими строгим условиям
научного эксперимента. Но есть и другие данные, говорящие о всеядности
человеческого биокода и его безразличии к актам межкультурной трансплантации.
Вот, скажем, во время 2-ой мировой войны флот США, чтобы не тратить время
на шифровку и дешифровку радиопередач, набирал шифровальщиков и радистов
из племен и этнических групп с неизученными языками. Они остались в кадрах
флота, обзавелись семьями, часто однородными по генетическому пулу
родителей, у них появились дети, которые в свой срок пошли в школу. Этим способом
на многих базах флота США появились представительные группы школяров,
сравнительно чистых в генетическом отношении, которые в первом поколении
проходили курс средней школы, приобщаясь к реалиям европейской культуры.
Естественно, что они заинтересовали и лингвистов, предложивших флоту
США это небезупречное с этической точки зрения, но почти идеальное решение
проблемы разработки кода, не поддающегося расшифровке без изучения
соответствующих языков, и антропологов и социологов, поскольку появление таких
групп открыло возможность научного подхода к изучению различий культур как
в сфере знакового оформления процессов воспитательной постредакции, так и
влияния социокультурных факторов на возрастное развитие детей, единых по
генетическому полу, но родившихся в разных культурных окружениях — открылась
76
M.К. Петров
возможность составлять представительные выборки детей, проходящих
постредакцию в европейских и неевропейских культурных окружениях, родители которых
и предки родителей воспитывались в неевропейских типах культуры.
Среди довольно большого числа исследований на этой фактологической базе
значительную ценность для нашей проблематики представляет зондирующее
исследование Ф.Дарта, профессора истории и философии науки Орегонского
университета (США), и П.Прадхана, профессора университета Трибхуван в Катманду
(Непал), которое было проведено по просьбе и при поддержке правительства
Непала и преследовало в общем-то практическую цель — выяснить состав
социокультурных по генезису трудностей, препятствующих развитию народного
образования европейского образца в Непале и трансплантации науки на конкретную
культурную почву Непала. Для исследования были выделены три этнические
группы в Непале и близкие по генетическому пулу и возрасту контрольные
группы учеников общеобразовательной средней школы в возрасте от 9 до 12 лет при
Гавайском университете в Гонолулу. Всем группам задавались вопросы одних и
тех же типов, нацеленные на то, чтобы выяснить: 1) как респонденты объясняют
различные, встречающиеся в повседневном опыте явления, такие как дождь,
молния, гром, огонь, землетрясение; 2) каких взглядов придерживаются респонденты
относительно возможностей человеческого контроля над этими явлениями или
относительно использования этих явлений; 3) что считается ими источником
знаний о природе и каковы принятые критерии состоятельности (истинности)
подобного знания. Типичными вопросами были:
Категория 1. Как ты объясняешь дождь? Откуда берется дождевая вода? Что
думает о дожде большинство жителей деревни? Что заставляет трястись землю?
Категория 2. Как вызвать или предотвратить дождь? Может ли человек
повлиять на дождь? Есть ли защита от молнии и грома?
Категория 3. Как узнают о всех этих вещах (о дожде, молнии, громе и т.д.)?
Откуда человек знает, прав он или нет? Как можно получить новое знание об
этих вещах? [ПО, с. 650].
К этому исследованию нам придется еще возвращаться по другим поводам, а
пока отметим, что школяры контрольных групп в Гонолулу ничем не отличались
от своих сверстников и коллег по школе, давали те же стандартные, «из
учебников» ответы, которые можно получить и у учеников нашей школы, и у всех
представителей европейского очага культуры, находящихся в тех же возрастных
группах великого эскалатора европейской возрастной постредакции, движения к Ту.
Дополнительным, но опять-таки значимым свидетельством в пользу равенства
рас и всеядности человеческого биокода следует считать присутствие в эпонимике
героев европейского типа культуры представителей всех рас, хотя здесь,
естественно, на уровне Нобелевских лауреатов, например, говорить о выборках,
массовости, представительности не приходится — не тот контингент. Вот Сноу, к
примеру, в «Двух культурах» так описывает частный вариант нашей лакунной
университетской коридорной ситуации: «Множество раз мне приходилось бывать в
обществе людей, которые по нормам традиционной культуры считаются
высокообразованными. Обычно они с большим пылом возмущаются литературной
безграмотностью ученых. Как-то раз я не выдержал и спросил, кто из них может
объяснить, что такое второй закон термодинамики. Ответом было молчание или
отказ». А ведь задать этот вопрос ученому значит примерно то же самое, что
спросить у писателя: «Читали ли Вы Шекспира?» [65, с. 28]. И в качестве
примера современной научной классики, сравнимой с вкладом Шекспира, Сноу
приводит открытие китайцев по генополу Янга и Ли: «Выполненное ими
исследование отличается удивительным совершенством и оригинальностью, однако
результаты его настолько устрашающи, что невольно забываешь о красоте мышления.
Их труд заставил нас заново пересмотреть некоторые основополагающие
закономерности физического мира. Интуиция, здравый смысл — все перевернулось с
ног на голову. Полученный ими результат обычно формулируется как несохране-
История европейской культурной традиции и ее проблемы
77
ние четности. Если бы между двумя культурами существовали живые связи, об
этом открытии говорили бы в Кембридже за каждым профессорским столом. А
на самом деле — говорили? Меня не было тогда в Кембридже, и именно этот
вопрос мне хотелось задать» [65, с. 29]. Ясно, что не говорили и не могли
говорить по тем же самым причинам, по которым невозможен такой разговор
преподавателей разных кафедр в университетской курилке, академиков на годичном
собрании Академии наук, выпускников 10 «Б» класса на 10-м юбилейном
ежегодном сборе выпускников. Всем в таких ситуациях приходится говорить на
языке абитуриентской молодости, на Ту, на котором бессмысленно обсуждать и
несохранение четности и тонкие проблемы шекспироведения.
Но пока нас интересует сам факт появления китайцев в числе признанных
членов европейской эпонимической характеристики, в которую входят творцы
европейской культуры. Этот факт, по нашему мнению, может быть истолкован
только одним способом: биокод человека и тип культуры не соотнесены друг с
другом жесткой связью, безразличны друг к другу. Если уж человек родился, то
к какой бы расе и этнической группе ни принадлежали его родители, он не
только примат как данность тот тип культуры, в котором он по семейным
родительским обстоятельствам оказался, но и освоит его и, пройдя пути постредакции
этой культуры, окажется в состоянии не только принять ее и освоить, но и
вносить свои творческие вклады в развитие этого случайного для его биокода типа
культуры.
В терминах нашей основной модели онаучивания общества произвол но от
результатов научного познания мира через изменение школьных учебников, текстов
Ту, путей в социализацию индивидов, концепт всеядности человеческого биокода,
его безразличия к конкретному составу социокультурной данности, если
основные ее параметры человекоразмерны, играет роль условия осуществимости
преемственного существования и изменений системы культуры как целостности, ее
выживания в условиях скачкообразных изменений условий на входе в систему-
культуру. Мы рассмотрели скачки разного рода и масштаба: деревня—город,
культура—культура, обнаружили, что человеческому коду безразличен состав и
масштабы скачков, если место, куда он приземлился в момент рождения младенца,
человекоразмерно, сотворено людьми для жизни людей, допускает первичное
освоение в возрасте «от 2 до 5» под формой данности — веры в разумную,
выразимую в реалиях бытующего здесь языка предустановленность порядка, веры в
«расставленность всех вещей по своим местам, где им и подобает быть».
Эта нерассуждающая вера в данность не покидает индивидов и в движении к
Ту по школьным учебникам, приведенным в соответствии с физическими и
ментальными возможностями подрастающих индивидов, а также и с общим сроком
движения через расписания, четверти, программы годовых поступательных
движений к аттестату зрелости, к Ту. Именно всеядность человеческого биокода и
обретенная в возрасте «от 2 до 5» вера в разумную данность старших позволяет
ученым вольно обращаться со школьными учебниками в рамках жестких
ограничений по человекоразмерности и по срокам обучения. Учебники можно
выбрасывать, заменяя их новыми, переписывать и переиздавать, частично меняя их
содержание, можно и вообще выбросить вместе с предметом из состава Ту: для тех,
кто в данный момент на эскалаторе всеобщего и обязательного обучения, эти
акции и вызванные ими изменения столь же неощутимы и незаметны, как и
перелеты биокодов младенцев из деревни в город, из Непала в Гонолулу, из
Китая в Беркли Калифорнийского университета.
Они ощутимы только для тех, кто к моменту изменений уже взрослый, уже
обладает аттестатом зрелости и в силу своих родительских чувств и обязанностей
помогает своим детям двигаться к Ту. Эта достаточно многочисленная группа
взрослых индивидов натыкается в таких попытках помощи на множество
удивительных вещей разного смысла и достоинства, и как раз поэтому такая группа
способна занять осознанную критическую позицию по отношению к деятельное-
78
М.К. Петров
ти тех, кто меняет от имени науки состав текстов, ведущих к Ту. За примерами
здесь недалеко ходить. Вот, скажем, большинство в этой группе взрослых
осваивало математическую премудрость, начиная с «палочек» и равенств, и когда
доходило до неравенств, до понятий множества, больше, меньше, до операций с
этими понятиями, находило этот раздел предельно скучным, мутным, требующим
элементарной зубрежки. Теперь усилиями В.В.Давыдова и его коллег знакомиться
с математикой начинают именно с этого мутного раздела по
научно-психологическим, естественно, соображениям, так что родителям, в какой-то степени и
приемным комиссиям университетов, которым все еще приходится считаться с
появлением расы «палочников» в общем потоке абитуриентов-»множественни-
ков», приходится туго.
Или, например, многие из этой группы взрослых «проходили» благородный,
но довольно скучный предмет — логику, что явно им не вредило и чем,
возможно, объясняется невероятная популярность Аристотеля в нашей стране, который
вряд ли когда-нибудь и где-нибудь издавался или будет издан тиражом в
250 тыс. экз. — в общем-то Аристотель не для легкого чтения. Понятно, что у
этой группы отсутствие логики в текстах Ту может вызывать самые
противоречивые эмоции. Столкновения обретенной в возрасте «от 2 до 5» и в процессе
движения к Ту веры в разумное устроение мира с изменениями в этом мире могут
принимать самые различные формы и происходить на самых различных уровнях.
В нашей практике преподавания был, например, случай, когда студент,
обладатель аттестата зрелости, столкнувшись с тем фактом, что в греческой грамматике
нет творительного падежа, был настолько изумлен и подавлен этой явной
аномалией разумного миропорядка, что проявил твердость в вере и подал заявление об
отчислении. Просьбу пришлось удовлетворить.
Это, так сказать, микроуровень столкновений веры с изменениями данности.
Бывают вещи и почище. Когда в том же штате Калифорния родители обнаружили
в числе учебников для средней школы учебник по биологии с изложением
эволюционной теории Дарвина, которую они «не проходили», разразился скандал
именно по поводу отмеченной Гальтунгом совместимости концепта
эмпирической реальности с актом божественного творения мира. Его мы коснемся в
разделе, где будут обсуждаться дискуссии XIX в. по поводу возникновения и развития
человечества. Но подоплека этого скандала все та же — отсутствие теории
Дарвина в основанной на Ту вере родителей: после «обезьянних процессов» 20-х гт.
XX в. до конца 50-х гг. XX в. теория Дарвина вообще не упоминалась в
американских школьных учебниках.
Здесь же нам следует попытаться определить нашу позицию в споре
«однояйцевых» генетиков и жестких социальных детерминистов по проблемам
воспитания и возможностям контроля, направленного воспитания на базе биокода или
постредакции. Понятно, что наши наблюдения, которые привели нас к концепту
всеядности человеческого биокода, его безразличия к составу знаковой и
эмпирической данности микропорядка, в котором появляется на свет человек и
который он осваивает как «подкорковую» веру в разумное устроение мира, где он
рожден, в возрасте «от 2 до 5», а затем и в процессе формального обучения,
находятся в явном противоречии с парадигмой отчаянных «однояйцевых» генетиков
с их идеями целенаправленного массового производства гениев на благо
человеческому роду. Подтверждаемая множеством убедительных, на наш взгляд, данных
возможность, безболезненность и практическая осуществимость прыжков,
скачков, трансплантаций, пересадок младенцев с «инородными» биокодами в новые
для генотипа условия отсекает центральную провиденциалистскую идею
отчаянных генетиков об однозначной предустановленности развития индивидов,
запрограммированной в биокоде.
Решающий эксперимент здесь предложить несложно. Если бы обнаружилась
достаточно многочисленная группа однояйцевых близнецов, разлученных вскоре
после рождения и воспитанных в разных культурных типах, то данные по такой
История европейской культурной традиции и ее проблемы
79
группе близнецов должны были бы опровергать либо идею всеядности
человеческого биокода, либо парадигму отчаянных генетиков. Для подтверждения
парадигмы генетиков один из близнецов обязан был бы погибать как существо
социальное и разумное — ему не удавалось бы в возрасте «от 2 до 5» освоить «чужую»
данность, где, скажем, для него как урожденного Шекспира попросту нет места.
Напротив, если бы оба однояйцевых близнеца нормально справлялись с задачами
возраста «от 2 до 5» и постредакции разных типов культуры, то подтверждалась
бы идея всеядности человеческого биокода. Думается, что отчаянные генетики
просто не пробовали искать таких разобщенных в младенчестве однояйцевых
близнецов, а если и натыкались на них, то проходили мимо с тем же
безразличием, с которым антропологи и биологи XIX и начала XX вв., уделяя самое
серьезное внимание способности младенцев хватать палки, проходили мимо
способности младенцев плавать и даже спать в воде.
Означает ли эта несовместимость нашей позиции с парадигмой однояйцевых
генетиков автоматический переход на позиции полного социального
детерминизма, всесилия постредакции? Ни в коем случае! Мы рассматриваем свойство
всеядности биокода не как «чистую возможность», позволяющую реализовать что
угодно, и не как воск, из которого позволено лепить все, что вздумается,
методами постредакции, а как исходный жесткий определитель всех возможных форм
социальности, всех процессов эквифинальности, всех шкал человеческой метрики
той же силы, непреложности и неустранимости, что и
определитель-спецификатор, представленный природой, окружением, объективным определением. Не
биокод согласован с наличным многообразием языков, микро- и макроданностей,
а напротив, языки, микро- и макроданности вынуждены согласоваться с
возможностями биокода и получают право на преемственное существование лишь
постольку, поскольку биокод способен начать их освоение в возрасте «от 2 до 5» и
обеспечивать на этой базе возрастное движение индивидов через постредакцию к
рабочим местам и интерьерам системы социальной деятельности. Воспитатели
способны вести индивидов к Ту, а затем разводить их в специализированные виды
деятельности только в той степени, в той последовательности и с той скоростью,
которые продиктованы им свойством всеядности человеческого биокода.
Мы вовсе не считаем, как это делает большинство жестких социальных
детерминистов, что развитие человеческого биокода с появлением общества
прекратилось, что где-то там в нео- или палеолите «Матушка Природа» отступилась от
человека как существа социального и разумного, изъяв его начисто из
биологических механизмов изменения биокода под воздействием изменений в
окружении. Как и биокод любого вида, человеческий биокод явно «догоняет» и
поглощает постредакцию, и если человечество когда-нибудь даст себя уговорить
остановиться в своем развитии, в бегстве от биокода, то, понятно, рано или поздно
появится «термитник», к которому будут применимы идеи однояйцевых
генетиков, принципы «естественной социальности». Но человеческий биокод,
во-первых, изменяется в биологической метрике смены поколений, то есть «догоняет»
постредакцию в том же примерно смысле, в каком пешеход догоняет поезд. А
во-вторых, человеческий биокод, похоже, перевел это поглощение в накопление
качества всеядности, которое позволяет ему в возрасте «от 2 до 5» справляться с
задачами, с какими не справляется ни один из биокодов других животных видов,
хотя достаточное их число живет в общении с человеком тысячелетиями и даже
предполагает существование человека как условия собственного выживания.
Именно в этом пункте всеядности как свойства биокода неубедительным
представляется популярный у жестких социальных детерминистов аргумент, по
которому только постредакция делает человека человеком и не прошедшие через
человеческую постредакцию индивиды не люди, а животные. Аргумент основан
на действительных фактах воспитания человеческих младенцев животными, в
основном волками. И положение действительно таково, что если возможности
возраста «от 2 до 5» растрачены на освоение волчьей жизни, то вернуть такого ин-
80
М.К. Петров
дивида, прошедшего этот возраст в волчьей «семье» и принявшего как данность
волчий образ жизни к человеческому облику практически невозможно. Слабость
аргумента жестких детерминистов в том, что он хотя и работает против
отчаянных генетиков, вполне совместим с идеей всеядности как свойства именно
человеческого биокода, позволяющего человеку в частности осваивать и волчью
данность, а во-вторых, он оставляет без внимания тот факт, что человек может стать
волком в силу всеядности своего биокода, а волк стать человеком не может —
жесткость биокода не позволяет. По тем же причинам не получается это и у тех
миллиардов животных которые живут и прожили свою жизнь в теснейшем
симбиозе с человеком находясь под воздействием его постредакции.
В силу всего этого наша позиция состоит в том, что для того, чтобы стать
человеком, нужно прежде всего родиться человеком с нормальным всеядным
человеческим биокодом. Эта позиция не совпадает ни с позицией отчаянных
генетиков, ни с позицией жестких социальных детерминистов.
Мы будем исходить из того, что свойство всеядности человеческого биокода,
не является его изначальным свойством, унаследованным от предков человека,
что оно благоприобретено как раз в период первой географической экспансии
человека, когда каждый шаг человека по земному шару означал необходимость
практического освоения новой эмпирической реальности, новой «природы»,
необходимость перестройки постредакции в соответствии со свойствами новой
природы, необходимость познания нового. Естественно, что доказать здесь ничего
нельзя, но сам тот факт, что европейцы обнаружили землю заселенной во всем
многообразии условий, допускающих приведение к человекоразмерности
средствами знакового кодирования первобытного общества, делает вероятным
предположение, что поглощена была биокодом именно эта способность к оперативному
изменению постредакции, к творчеству, основанная на неколебимой вере в
разумность и человекоразмерность наличного порядка, которую индивиды
выявляют в возрасте «от 2 до 5».
s/
Глава 2. Универсалии общения: имя,
текст и тезаурусное отношение
Эту проблему нам уже приходилось затрагивать по связи с постулатами
биологической и генетической недостаточности человеческого рода, первый из
которых потребовал системной организации видовой деятельности — разбиения
видовой деятельности в конечное число специализированных человекоразмерных
фрагментов и интеграции их в целостность, а второй, требующий компенсации
неумения или нежелания наших женщин вести себя по правилам отчаянных
генетиков — рожать в соответствии с «калькуляцией» истории в должный срок в
нужном количестве биологически запрограммированных младенцев в заданной
номенклатуре специализированных гениев, — вызывает потребность перестройки
животной постредакции, ориентированной на производство биологически
достаточных особей вида, в язык, в упорядоченную систему знакового общения,
ориентированную на решение задачи фиксирования системы фрагментации и
интеграции видовой деятельности в знаке и на развод новых поколений, овладевающих
языком в возрасте «от 2 до 5» в специализированные фрагменты этой системы,
на воспроизводство системы фрагментации и интеграции видовой деятельности в
смене поколений как на условие выживания человеческого рода.
Мы упоминали также, что эта проблематика компенсации генетической
несостоятельности человеческого рода, развода подрастающих индивидов в человеко-
размерные специализированные фрагменты системывидовой
деятельности^методами знакового специализирующею кодирования индивидов в соответствующий
фрагмент деятельности осталась по множеству причин на периферии
лингвистической парадигмы по множеству причин, осталась на правах аномалии, о которой
История европейской культурной традиции и ее проблемы 81
все знают под формой данности — достаточно ощутимого, назойливого, но
бесструктурного фонового шума. Соссюр пишет, например, о соотношении порядка
и беспорядка в общении: «Что же такое язык? По нашему мнению, понятие
языка не совпадает с понятием речевой деятельности вообще; язык — только
определенная часть — правда, важнейшая часть — речевой деятельности. Он
является социальным продуктом, совокупностью необходимых условностей, принятых
коллективом, чтобы обеспечить реализацию, функционирование способности к
речевой деятельности, существующей у каждого носителя языка. Взятая в целом,
речевая деятельность многообразна и разнородна; протекая одновременно в ряде
областей, будучи одновременно физической, физиологической и психической,
она, помимо того, относится и к сфере индивидуального и к сфере социального;
ее нельзя отнести определенно ни к одной категории явлений человеческой
жизни, так как неизвестно, каким образом всему этому можно сообщить
единство... В противоположность этому язык представляет собою целостность сам по
себе, являясь, таким образом, отправным началом классификации. Отводя ему
первое место среди явлений речевой деятельности, мы тем самым вносим
естественный порядок в эту совокупность, которая иначе вообще не поддается
классификации» [66, с. 47—48].
Нам придется говорить именно о той части, наличие которой признается Со-
ссюром, но носит второстепенный характер как часть, «не поддающаяся
классификации». Это не значит, что мы отвергаем то инструментальное истолкование
языка-системы, которое предложено Соссюром — язык и в нашем понимании
призван «обеспечить реализацию, функционирование способности к речевой
деятельности». Расхождения начинаются с акцентов, с фокусировки внимания.
Внимание лингвистов, работающих в традиционных парадигмах, где высшей
языковой единицей признается предложение, фокусируется на
категориально-понятийном арсенале общения, на условиях осуществимости речевой деятельности,
нас же больше будут интересовать цели и результаты этой деятельности, коль
скоро мы приняли на правах постулата, что конечной целью превращения
животной постредакции в человеческое общение является компенсация
несостоятельности человеческого рода наладить средствами биологического кодирования
воспроизводство системы дифференциации и интеграции родовой деятельности в
смене поколений.
Иными словами то, что для лингвистов является предметом исследований, для
нас будет исходной посылкой, переведенной до поры до времени в данность.
Соссюр говорит о способности к речевой деятельности как о существующей «у
каждого носителя языка». Мы в общем-то, понимая эту способность как
благоприобретенную на этапе «от 2 до 5», основное внимание сосредоточим на более
поздних этапах, когда действительно выполняется условие Соссюра, то есть на тех
универсалиях общения, которые предполагают, что все участники общения
прошли через период первичного освоения языковой данности, интериоризировали
ее на правах способности к речевой деятельности, которой обладает каждый
реальный и потенциальный участник актов общения.
Здесь, правда, нужна одна весьма существенная оговорка, относящаяся
именно к способу приобретения этой способности к речевой деятельности, оговорка
тем более существенная, что она поможет нам выявить в этой «неподдающейся
классификации» части присутствие реалий, которые не входят в парадигму
лингвистики. В нашем гипотетическом эксперименте с пятиклассниками и
академиками, которым предложили проделать упражнение из учебника для 8-го класса,
мы отмечали как удивительную странность то, что и группа пятиклассников, не
проходившая правил, знание которых необходимо для выполнения упражнения,
и группа академиков, проходившая, но забывшая эти правила, способны
правильно говорить и писать, используя и те правила, которые они не проходили или
забыли. Группу академиков мы пока оставим в покое. Попробуем разобраться в
том, каким способом у пятиклассников или у первоклассников могло оказаться
6 М.К. Петров
82
M. К. Петров
это пусть интериоризированное, «подкорковое», но все же знание,
обеспечивающее способность к речевой деятельности. Понятно, что оно появилось на периоде
«от 2 до 5», но нас сейчас интересует не это, а источник и способ обретения
этого знания.
Как это делается в школе все мы знаем по собственному опыту — есть
учебники, грамматики, орфографические словари, упражнения, контрольные работы,
оценки, средства дисциплинарной практики, основанные на различении
учеником кнута и пряника, наказания и поощрения. Но дело-то в том, что никто не
учит детей, проходящих активный период освоения родного языка по учебникам
или, хотя бы, в принятой учебниками и дидактически оправданной
последовательности: сегодня, скажем, склонение имен женского рода, а завтра —
сослагательное наклонение. Большинство из них даже не подозревает, что есть на свете
словарь и грамматика, простое и сложное предложение, имя и глагол, и взрослые,
если они вообще находят нужным активно участвовать в этом процессе, что
отнюдь не является ни правилом, ни условием освоения ребенком речи,
ограничены в своей деятельности лишь коррекцией самостоятельных усилий ребенка, да
и то обычно не по поводу грамматики, а чаще по поводу сомнительного смысла
занесенных откуда-нибудь слов.
Отдельным словам ребенка, понятно, учат. Но это крайне ограниченный круг
слов, первичных ориентиров (мама, папа...), который составляет ничтожную долю
слов и, главное, тех правил обращения со словами, которым ребенка никто не
учит. За малыми исключениями ребенок практически никогда, до встречи в
школе с учителями, не слышит слова вне связи с другими словами, как и
предложения в их нарочитой обособленности впервые слышит jianepBOM в жизни
диктанте. Тс^что он реально слышит, суть связная речь, ^ксты)
Мы не будем гадать, каким именно способом и по каким мотивам ребенок
выламывает слова из текста — дело это темное, к тому же дело психологов, —
но факт остается фактом: ребенок быстро овладевает искусством слуша1ь_связные
сХексТВо понимать их, перебивать собеседника вопросами, если что-нибудь
непонятно, и, наконец, оам начинает строить опять-таки не предложения —
«законченные мысли», «суждения», — а связные тексты. Что эта работа ведется
самостоятельно и совершается по правилам, которые взяты не из учебника,
показывает многолетняя борьба учителей с реликтами бурной деятельности в возрасте
«от 2 до 5»: не так разломано, не так произносится и пишется, не там ставятся
знаки препинания и т.д. и т.п.
Для нас важно одно, а именно то, что ребенок, имея дело с текстами и только
текстами, способен извлекать из них и то, что извлекают из текстов лингвисты —
словарь и универсальные правила обращения со словами, и то, что явно не
удается лингвистам в их парадигме. Ребенок, например, не спутает текст с
бессвязным набором предложений, ученик связный текст с упражнением, тогда как
лингвист, пока он в рамках своей парадигмы, их не различает, хотя, естественно,
выйдя за рамки парадигмы и превратившись из лингвиста в обыкновенного
читателя, он без труда разберется по экстралингвистическим критериям где, скажем,
детектив, а где упражнение.
Можно приводить много таких примеров, демонстрирующих затемняющий
эффект шор лингвистической парадигмы, и некоторые из них мы приведем в
главе, где нам серьезно придется спорить с лингвистами, а сейчас нам вполне
достаточно констатации факта:'ребенок извлекает из связного текста больше, чем
лингвист, хотя все лингвисты дружно повторяют: текст — природа лингвиста.
Что же именно исчезает из поля зрения лингвистов? На наш взгляд именно
текст. И выпадает из поля зрения не только в том смысле, что распадается в груду
предложений по «эмпирическому допущению», скажем, Ч.Хоккета: «Мы можем
с полным основанием сосредоточить наше внимание на отрезках конечной
длины, называемых предложениями» [79, с. 140], но и в том более существенном
смысле религиозного, что ли, толка, по которому заклинания: «текст — природа
История европейской культурной традиции и ее проблемы 83
лингвиста!» переходит в нерушимую веру, что тексты творят ради лингвистов,
чтобы и у них была своя, сотворенная для них, а не для каких-то побочных целей
«природа», то есть и здесь возникает что-то вроде гальтунговской совместимости.
Лингвисты не видят каких-либо существенных функций текста в общении и
соответственно устраняют его из описаний актов речи. Соссюр, например, в
типичной для лингвистов модели «говорящий-слушающий» так описывает состав
акта общения: «Для того, чтобы во всей совокупности явлений речевой
деятельности найти сферу, соответствующую языку, надо рассмотреть индивидуальный
акт речевого общения. Такой акт предполагает по крайней мере двух лиц — это
минимум, необходимый для полноты ситуации общения. Итак, пусть нам даны
два разговаривающие друг с другом лица: А и В... Отправная точка акта речевого
общения находится в мозгу одного из разговаривающих, скажем А, где явления
сознания, называемые нами «понятиями», ассоциируются с представлениями
языковых знаков, или с акустическими образами, служащими для выражения
понятий. Предположим, что данное понятие вызывает в мозгу соответствующий
акустический образ — это явление психического порядка, за которым следует
физиологический процесс: мозг передает органам речи соответствующий образу
импульс, затем звуковые волны распространяются из уст А к ушам В — это уже
чисто физический процесс. Далее процесс общения продолжается в В, но в
обратном порядке: от уха к мозгу — физиологическая передача акустического
образа; в мозгу — психическая ассоциация этого образа с соответственным
понятием. Когда В заговорит в свою очередь, во время этого нового акта речи будет
проделан в точности тот же самый путь, что и во время первого, — от мозга В
к мозгу А речь пройдет через те же самые фазы» [66> с. 49—50].
Такая типичная для лингвистов, а в данном случае и классическая парная
ситуация общения: говорящий А — слушающий В (или наоборот), в которой ничего
кроме мозга А и мозга В, физиологических процессов в А и В, физического
процесса между А и В, подчиненного правилам языка-системы не наблюдается,
представляет для нас удобный вход в лингвистическую аномалию, подготовленную,
так сказать, сцену, на которой могут в любой момент появиться дополнительные
действующие лица: с точки зрения подготовленности эта ситуация действительно
универсальна.
На месте говорящего А — оставим это обозначение для активной стороны
общения, представленной, как правило в момент акта общения одним человеком и
одним мозгом — может появиться кто угодно, способный выйти на уровень
физического процесса между А и В, подчиненного описанным лингвистами
правилам языка-системы, выйти речью или продуктом речи, то есть должность А может
исполнять папа, мама, учитель, лектор, автор учебника или книги, статьи,
упражнения, записи на ленте или пластинке, диктор радио или телевидения, авторы
газетных сообщений или репортажей, авторы сборников, причем, если в
должности А выступает коллектив, его члены выступают в роли А для В поочередно,
в некоторой последовательности во времени, и даже если перед В «массовка»
кино или выступление ансамбля песни и пляски за этим выходом в осмысленный
и означенный по правилам языка-системы физический процесс между А и В
всегда будет просматриваться некий А, автор-одиночка, измысливший и
воплотивший в физическом процессе такое совершенство. В свою очередь и на месте
слушающего В может оказаться кто угодно, хотя здесь требование «один и только
один человек с одним мозгом» теряет силу. Оно присутствует в одних типах
общения (автор детектива — читатель, например), и отсутствует в других: учитель —
класс; А.Пугачева — зал; лектор — аудитория; диктор телевидения — телезрители,
причем акт общения всегда совершается «здесь и сейчас» В. тогда как А может
быть отодвинут сколь угодно далеко в прошлое: Аристотель, например, или автор
Библии и Книги Природы, которого геологи-христиане начала XIX в. отодвинули
подальше в прошлое за явной несуразностью библейских 4000 лет, отпущенных
6*
84
M.К. Петров
автором на историю его творений, или А.Пугачева, завлекательно поющая сейчас
у меня за спиной.
Уже в этой исходной предактовой универсальной ситуации подготовленной
сцены, которую мы чуточку подправили, введя координату времени — «здесь и
сейчас» В, возможны две типичные модели разрушения условий осуществимости
акта речи и действий по их восстановлению:
Модель 1. «Самовольная отлучка А». Это известные каждому по личному
опыту и вызывающие сильные, хотя и разнообразные эмоции ситуации типа: зал
есть, актера нет; класс в сборе, учителя нет; аудитория есть, лектора нет; горящая
и актуальная тема есть следует ли говорить звонишь или звунишь, мышлйние или
мышление, генйзис или гйнезис, — а лингвисты мнутся, их, мол, дело описание,
а не предписание, кивают на какого-то смельчака А, но тот, похоже, ушел,
подобно молочнику Пруткова, «ужасно далеко». В, понятно, волнуется в разные
стороны: класс без учителя — в одну, зал без объявленного артиста — в другую,
что порождает восстановительные реакции лиц, ответственных за срыв акта
общения. Типичная форма таких реакций — субституция: учителя математики
заменяют учителем пения, церковь — наукой, А.Пугачеву — восходящей звездой,
анонимного автора «Опыта критики всякого откровения» Фихте — Кантом, что
иногда бывает весьма полезно для восходящих звезд.
Модель II. «Глас вопиющего в пустыне или самовольная отлучка В». Это
также хорошо известные всем по опыту личного участия ситуации типа: учитель
есть — класс разбежался; лектор на месте — студенты из другого корпуса не
спешат, а может и в кино пошли; нетвердо стоящий у стены гражданин сообщает
безразличным прохожим ужасные новости про ромашки и лютики, а они идут
мимо по своим делам, разве что кто остановится и вразумительно, по
безукоризненным правилам языка-системы даст полезный совет: «Не умеешь петь, не
пей!»; диктор телевидения распинается про надой, а телезрители на кухне пьют
чай; книги продавливают стеллажи, а читатели их не берут. Здесь, естественно,
волнуется А, но арсенал восстановительных средств достаточно богат и здесь, все
зависит от ранга и галочной ценности встречи А и В. Можно, скажем, собрать
зал под А.Пугачеву, выставить у выходов заставы зашибал и прочитать бедолагам
запланированную лекцию о повышении культуры раздоя фуражных коров. Зимой
хорошо отправлять гардеробщиц на время мероприятия обедать. Можно
пообещать просмотр чего-нибудь такого, что редко где показывают. Можно завлечь
книжным дефицитом. Словом, способов действий по восстановлению ущерба,
нанесенного самовольной отлучкой В, не так уж мало.
При всем том, хотя типичная для лингвистики модель акта общения между
говорящим А и слушающим В обладает большой генерализирующей силой и
эвристическим потенциалом, особенно если она приведена по времени к «здесь и
сейчас» слушающего В, что позволяет включать и отсутствующих и удаленных по
времени А, коль скоро остаются воспринимаемые В следы оформленного по
правилам языка-системы физического процесса, подтверждающего факт прежнего
присутствия А, такая модель все же остается хорошо подготовленной, но пустой
и бессмысленной сценой вплоть до появления на ней третьего и обязательного
участника — истории актов общения между А и В. которая станет отправной
точкой осмысленных событий предстоящего акта речи и без которой акт не то,
чтобы не состоится, но уж обязательно примет бессмысленную форму «галочной»
субституции общения театром абсурда, где А и В будут поочередно читать
предложения из упражнения учебника, или лекции по математике лекцией по
культуре раздоя фуражных коров.
История предыдущих актов общения между А и В представлена формальным
или неформальным связным текстом конечной длины общей для А и В
принадлежности. Если обратиться к опыту читателя, то типичный способ представления
такой истории — незавершенная для читателя публикация интересного романа
История европейской культурной традиции и ее проблемы
85
или детектива с краткой ремаркой в конце: «Продолжение следует», что в
зависимости от качества прочитанного и склонностей читателя, выступающего в роли
В, может вызывать чувство ожидания, желания новой встречи той или иной силы.
Те кет-история, и это общее свойство всех текстов-историй, функционирующих в
области общения или речевой деятельности, связывает в своих предложениях
конечный словарь. Поскольку лингвисты полный словарь языка называют
тезаурусом, а текст и тезаурус начинаются с однои~Буквы, мы будем применять к этим
текстам-историям данного акта общения, который произойдет в «здесь и сейчас»
В, обозначение (То^
Понятно, что То, как и момент начала акта, обладает тем значением, которое
он имеет в «здесь и сейчас» В. Для нас, читателей, скажем, прочитавших в двух
книжках журнала завлекательный детектив и жаждущих познакомиться с
обещанным окончанием в третьей книжке, То будущего акта общения с автором — А в
ситуации, в которой мы В — определено текстом первых двух прочитанных
книжек. Ясно также, что наш В-тезаурус То, совпадая по первым двум книжкам с
авторским и являясь, таким образом, текстом общей для нас и автора (А и В)
принадлежности, не совпадает с полным авторским текстом Ti, коль скоро автор
намерен нас осчастливить в следующей книжке журнала сотней-другой страниц
увлекательных похождений своих героев. Имена героев мы в общем-то знаем,
некоторых подозреваем в преступлении, но вот кто в конечном счете окажется
преступником и каким способом это обнаружится все это пока в той авторской части
Ti, которую мы пока не читали. Если автор достаточно изощрен в своем
искусстве, мы наверняка не докопаемся до истины, пока не прочитаем детектив до
последней страницы, то есть пока не переведем наш текст Т0 в авторский текст
Ti, пока не сделаем Ti нашим общим с автором тезаурусом, прочитав или
«пройдя» для этого ту сотню-другую страниц, которые разделяют сегодня То и Ть
Иными словами, в любой ситуации осмысленного общения, в которой А
действительно что-то нужно сказать В, сообщить В нечто для него новое, известное
А, но неизвестное В, мы будем обнаруживать разность: Ti минус Т0, и задачей
акта речи будет во всех случаях уничтожение этой разности, перевод текста Т0 в
текст Ti методом преемственного наращивания истории общения между А и В
до значения Ti, которое станет Т0 последующих актов общения.
Сам процесс перевода, наращивания истории общения, Т0 идет, понятно по
правилам и нормам языка-системы как одна из принятых в общении
разновидностей фонетического или графического физического процесса, упорядоченного
по этим нормам и правилам. Поскольку То для каждого акта речи выделяется по
общей для А и В части в «здесь и сейчас» общения, А и В могут меняться
местами — любое расхождение может стать разностью Ti-T0, дать повод занять роль
А той стороне общения, которая способна уничтожить эту разность. По ходу
процесса уподобления тезаурусов А и В всегда возможны промахи со стороны А и
недопонимания на стороне В, тогда процесс уподобления будет прерван вопросом
со стороны В, и А придется вернуться к сомнительному месту, к срыву
взаимопонимания, заново прокладывать, возможно и в обход трудности, путь для В к
Ть Ситуации здесь возможны различные, но результат окажется эквифинальным:
разность Ti-To будет ликвидирована, Т0 перейдет в Ti, a Ti станет общей для А
и В историей общения, Т0 любых возможных в будущем актов речи А и В.
Разность Ti-To мы будем называть тезаурусным отношением, понимая под
этим отношением условие осуществимости акта речи. Если разности нет или она
не выделена, невозможно выстраивание тезаурусного отношения, невозможен и
акт осмысленного общения. Для нас важны два предельных случая:
86
М.К. Петров
1. Нет повода для общения — тезаурусы потенциальных А и В акта общения
тождественны и им нечего сказать друг другу до тех пор, пока какое-либо новое
событие или известие о новом событии не разрушит этого тождества и не даст
возможности построить тезаурусное отношение. Вместе с тем тождество
тезаурусов А и В конечная цель любого акта общения, и в этом ракурсе, если
тезаурусное отношение рассматривать как начало акта речи, то его исчезновение в
тождестве тезаурусов А и В следует рассматривать как конец акта речи. В главе,
посвященной выяснению отношений с лингвистикой, мы попытаемся показать, что
в любом языке существуют эти конечные состояния и что акты речи
прекращаются не в силу каких-то внешних причин —- периодичности выхода журналов,
например, — а в силу достижения этого тождества, когда А и В попросту нечего
до поры до времени сообщить друг другу.
2. «Лакуна» — нет общего для А и В Т0, нет, естественно, и разности Ti-T0,
невозможно до появления То построить тезаурусное отношение. В нужном нам
наборе значений лакуной называют углубление, впадину, яму, провал, а филологи
и библиотекари — пропуск в тексте, или пробел в комплектовании библиотеки,
отсутствие книги, которая по всем статьям должна была бы там быть. Строго
говоря, лакун в нашей Ту культуре нет и не может быть: от родильного дома до
переднего края аспирантских пионерских исследований идет развитая система
текстов-дорог, в которой за путаницей первых тропинок «от 2 до 5» начинается
прямая, единая для всех магистраль-эскалатор к метрополису Ту, откуда уже
рукой подать, 4—7 лет движения по текстам, до самых отдаленных окраин
освоенного и осваиваемого нами мира открытий.
Но наша удобная во многих отношениях субституция карты мира научных
открытий, продукта истории научной предметной экспансии схемой московского
метро, рядом с которой всегда висит объявление о том, что переходы на станциях
кольцевого маршрута закрыты впредь до открытия, а открытие пока неясно
состоится или нет, имеет и свои неудобства: она подчеркивает серьезность проблемы
лакун, затруднительность боковых движений по бездорожью, но не предлагает
сколько-нибудь приемлемых решений. Когда вот Сноу, скажем, говорит очень
полезные и важные для нас вещи о научном подвиге китайцев Янга и Ли,
свидетельствуя тем самым в пользу всеядности человеческого биокода, мы, естественно, с
благодарностью принимаем такой подарок. Но он явно не входил в намерения
Сноу, его явно не интересовала проблема всеядности человеческого биокода, а
интересовала именно лакуна между гуманитариями и естественниками, которая и
непроходима и вдобавок опасна: «Создается впечатление, что для объединения
двух культур вообще нет почвы. Я не собираюсь тратить время на разговоры о том,
как это печально. Тем более, что на самом деле это не только печально, но и
трагично» [65, с. 29]. Это действительно трагично и опасно, с одними отчаянными
генетиками, кибернетиками, системниками, предлагающими пути то к термитнику,
то к обезьянам, хлопот не оберешься. Но, принимая схему метро в качестве
чернового наброска карты научного мира открытий, нам нечем утешить и отблагодарить
за подарок ни Сноу, ни множество других теоретиков и философов науки. В
«здесь и сейчас» наших беспокойств, тревог и огорчений выход один — нужно
возвращаться в Ту, в То любых мыслимых актов междисциплинарного общения
ученых, принимают ли они форму случайных коридорных встреч на перерывах между
лекциями, или самовольных отлучек академиков на ежегодные собрания, или
застольных бесед коллег в трапезных кембриджских колледжей.
В обыденной жизни, где наша культура хотя и добавляет к универсальным
атрибутам человека — естественный, социальный, разумный — еще и
специализирующие — зрелый по аттестату и дисциплинарный по диплому, — но все же
не отменяет универсальных, с лакунами все обстоит много проще: проще
выстраиваются истории общений, истории встреч в коридорах, на собраниях, в
трапезных, проще возникают Т0-е для будущих актов общения, поскольку ученых
вполне могут обуревать и экстранаучные мотивы вплоть до создания «междисципли-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 87
нарных» семей, даже и семей гуманитарно-естественного гибридного типа,
существованию которых не мешают лакуны, а появляющимся в таких семьях
младенцам и вовсе наплевать на междисциплинарность и на лакуны — у них свои
великие задачи. Когда появляются экстранаучные мотивы для прохождения лакуны,
фундамент под историю будущих актов речи, под Т0, закладывается, естественно,
самыми различными способами. Англичане предпочитают начинать с погоды,
затем уже переходя к сути дела, у нас более в ходу «печки-лавочки», но все это
разнообразие способов опять-таки эквифинально по результату — появляется Т0.
Классические и чистые примеры прохождения лакун и строительства Т0-х должен
бы, естественно, давать возраст «от 2 до 5», и К.Чуковский [85], крупнейший,
бесспорно, полевой исследователь развития речевых навыков на этом периоде,
приводит массу примеров, особенно в главе «Неутомимый исследователь» [85,
с. 85—142], которые, похоже, имеют непосредственное отношение к проблеме.
Но здесь, понятно, редко выдерживается чистота эксперимента, так что трудно
разобраться, где А, где В, откуда у ребенка появляется такая масса вопросов и в
какой степени эти вопросы связаны с речевыми ситуациями. Заметно однако, что
уже с первых проблесков осознанного и «означенного» отношения к миру
ребенок начинает дифференцировать истории общения между собой и старшими,
четко разбираясь в тонкостях того, с кем и о чем можно говорить, кому и какие
задавать вопросы. На каждого из тех, кто постоянно его окружает, он, похоже,
возлагает определенные сферы авторитета, ответственности и компетенции, редко
сам нарушает им же установленные границы. Есть «мамины» вопросы, есть
папины, бабушкины, дедушкины, хотя хватает и «ничейных», которые быстро
распределяются по устойчивой группе претендентов на роль А в актах общения.
Заметно и то, что ребенка редко удовлетворяют ответы в форме отдельных
предложений — «законченных мыслей», «суждений». Всегда с его стороны ожидается
обстоятельность и в подходах к объяснению и в самих объяснениях.
Возвращаясь к общему «стандартному» случаю, когда к моменту акта речи
есть разность Ti-T0 и построено тезаурусное отношение, то есть А более или
менее осознал, где именно в истории общения с В пути их разошлись, где та
развилка, после которой А и В шли различными путями, участвовали на правах
А и В во множестве других актов общения с другим составом сторон общения, а
также в какой-то степени наметил выполнимый и проходимый, по его мнению,
план решения задачи перехода от Т0 к Ti, — в дальнейшем мы будем называть
этот переход объяснением, хотя далеко не все в актах речи может быть подведено
под эту категорию, — мы можем теперь кратко рассмотреть ту проблематику,
которая возникает в связи с появлением в классической модели акта речи между А
и В текста-истории прежних актов общения между ними в должности
непременного участника, который призван внести в предстоящий акт общения-объяснения
основанную на взаимопонимании осмысленность. Более детально эту
проблематику мы рассмотрим в главе, посвященной лингвистической парадигме, но
исходная ясность, То-е для будущих обсуждений нужны уже сейчас.
Разность Ti-To в принципе выразима длиной текста, измеренного, скажем,
числом предложений или числом словоупотреблений, словарем, который оказался
достаточным для уничтожения этой разности. Пока будем считать, что любой
решающий задачу объяснения текст конечен и, следовательно, измерим, то есть к
нему могут быть применены понятия больше-меньше, понятия шкалы и единицы
измерения, причем применение разных шкал и единиц (словоупотребление,
словарь знаменательных слов, приглагольная группа, предложение) даст,
естественно, различные значения, между которыми могут обнаружиться и устойчивые
корреляции — текстуальные характеристики или переменные.
Длина текста-объяснения во многом, конечно, будет зависеть от задач,
намерений и искусства А в решении тезаурусных отношений. Встречаются и в общем-
то не так уж редко случаи, когда для объяснения хватает слова, даже и не
обязательно приличного, после чего между А и В возникает полное взаимопонима-
88
М.К. Петров
ние и длительная искусственная лакуна, они попросту не общаются друг с
другом. Бывают и такие разности, на закрытие которых объяснением у А недостает
всей жизни. Но эти случаи все же не очень типичны. Для интересующей нас
части общения наиболее характерны заданные по времени и длине текста
объяснения — статья, урок, лекция, — когда, скажем, какой бы сложный разговор не
затевал А с В, в статье ему на все это предприятие будет отпущено 24 стр.
машинописного текста через два интервала, а в некоторых уважаемых журналах, в
«Природе», например, и того меньше. На лекцию или урок будет дано 45 минут.
На доклад обычно 30—40 минут, на выступление — 10, а в общем-то, как решит
аудитория по предложению президиума. Различными будут и условия и трудности
объяснения. Для автора статьи, например, и для докладчика сложнейшей
проблемой является определение Т0 предполагаемой или наличной аудитории, причем
у докладчика еще есть возможность коррекций по реакции слушателей, которой
у автора статьи нет. Для учителя и лектора этой трудности не существует: Т0
сегодняшнего объяснения задано Ti предыдущего.
В рамках учебного плана учитель и лектор могут, если они читают свои курсы
не первый раз и накопили опыт вождения В к заданным планом ориентирам,
позволить себе известные вольности в распределении участков маршрута по
урокам или лекциям, идти медленнее на трудном для усвоения учениками или
студентами участке, проходить ускоренными маршами другие, более легкие. Для них
важно привести свою команду в срок к финишу — к годовым экзаменам,
контрольным работам, зачетам — с тем багажом освоенных знаний и навыков,
который предписан учебным планом. У автора статьи, как и у докладчика, нет таких
преимуществ прежде всего потому, что на их продукты наложен запрет на повтор,
и сколько ни пиши статей или ни делай докладов, опыта не накопишь: всегда
это будет первая статья и первый доклад, хотя вот у докладчика есть
сомнительное преимущество оперативно, по выступлениям коллег, узнать о качестве
проделанной им работы, тогда как автору статьи приходится томиться в ожидании
откликов, причем обычно резко критические появляются раньше позитивных.
Упоминавшийся уже в предисловии Г.Менард [138], например, основываясь на
данных Индекса научного цитирования и на изучении соответствующих
публикаций, в которых цитируются опубликованные ранее и приобретающие
известность работы, вывел даже модель двух волн, возникающих в последовательности:
волна отмежеваний предшествует волне признания, пик волны отмежеваний
вдвое превышает пик волны признания. В волне отмежеваний авторы цитируют
по одному разу, декларируя ее бесполезность для действующей парадигмы, в
волне признания в одной и той же публикации работа может цитироваться
многократно с указанием следствий, обычно сокрушительных, для действующей
парадигмы. Но большинство авторов не осведомлено о модели Менарда и первую
волну отмежеваний, которой бы радоваться, поскольку от ее гребня зависит
высота волны признания, они обычно воспринимают обычным человеческим
недальновидным образом как нечто такое, без чего они лично вполне могли бы и
обойтись.
Заданность длины текста временем звучания или страницами машинописного
текста, авторскими листами, колонками, строками, числом знаков очевидно
связана с человекоразмерностью и распространена во всех звеньях и видах
функционирующей системы социального общения. Например, ситуация на входе в
кабинет, выхода на сцену актов общения между А и В, крупного начальства ранга
ректора или, по американской Терминологии, президента университета в
принципе нечеловекоразмерно, и, чтобы привести ее к человекоразмерности, нужна
секретарша, способная упорядочить поток жаждущих поговорить с ректором или
президентом, то есть стать участником классической модели акта общения между
А и В. Программа регулирования этого потока, складывающаяся в деятельности
секретарши по охране человекоразмерности ректора или президента показана в
табл. 3.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 89
Таблица 3 [175, с. 92]
Бюджет времени рабочего дня 180 президентов в долях затрат времени
на виды деятельности, в %
АДМИНИСТРАТИВНАЯ %
Планирование с попечителями 4,1
Самостоятельное планирование 9,6
Планирование с подчиненными 13,5
Просмотр и анализ докладов 5,5
Подпись финансовых документов 2,9
Итого 35,6
ВНЕШНЯЯ
Встречи по делам колледжа или университета 4,0
Встречи по другим поводам 3,4
Переписка 6,7
Подготовка и произнесение речей 5,0
Поиски фондов финансирования 8,5
Официальные приемы 3,8
Итого 31,4
КОЛЛЕГИАЛЬНАЯ
Работа с профессорами по учебным планам 5,1
Встречи со студентами и аспирантами 5,6
Преподавание 2,2
Беседы с профессорами по личным проблемам 3,1
Неформальные контакты с профессорами 6,7
Итого 22,7
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
Подготовка рукописей, чтение, исследование 4,8
Размышления 5,3
Итого 10,1
Общий итог 99,8
В иной среде выявляются ограничения по человекоразмерности в средствах
массовой коммуникации, где точкой отсчета выступает та доля в бюджете
времени телезрителя или читателя, которую он может уделить просмотру телепрограмм
или чтению газет. Известный американский научный обозреватель Д.Пелман так
описывает процедуру приведения информации о научных событиях к бюджету
времени телезрителя. Происходит симпозиум геофизиков в крупном научном
центре. Присутствуют, понятно, журналисты, радио- и телекомментаторы.
Симпозиум продолжается несколько дней, и где-то в конце устраивают
пресс-конференцию: «Пресс-конференция длится примерно час. Научные обозреватели
горстки газет, пара радиообозревателей что-то записывают, задают вопросы, передают
по телефону тексты статей или записи для радио размером в несколько сот слов,
иногда до тысячи... В конце пресс-конференции обозреватели телевидения
начинают подыскивать ученого, чьи объяснения кажутся им наиболее красочными, а
сам он достаточно фотогеничным, просят его за две или три минуты изложить
для телезрителей суть дела. Ученый, если он достаточно нахален и общителен,
справляется с задачей в четыре-пять минут. В 6 вечера в выпуске последних из-
90
М.К. Петров
вестий его объяснения срежут до 30 секунд или до минуты, предоставив
дополнительную минуту телеобозревателю, комментарии которого обычно списаны из
появившихся уже заголовков газет» [157, с. 255]. Ясно, что вызванная
экономическими, главным образом, соображениями малая пропускная способность
канала информации о науке имеет и человеческие измерения. Тираж, к примеру,
зависит от спроса, а спрос от весьма подвижной системы мотивации, от «моды»
читательского интереса, от текущей ситуации. Детальные репортажи о полете
«Пионера-10» к Юпитеру, например, стали, как пишет Пелман, возможны просто
потому, что период конца 1973 г. выдался относительно спокойным и не было
других сенсаций [157, с. 245—247].
В целом же, хотя вот для средств массовой взрослой коммуникации на правах
То явно выступает Ту выпускника средней общеобразовательной школы с теми
краткоживущими наращиваниями, которые вызываются воздействием в роли А
газет, радио, телевидения и отпадают, забываются, дренируются памятью
человека, чтобы освободить место для новых наращиваний, во всех случаях
опосредованного устойчивой записью контакта между А и В, определение Т0 аудитории
оказывается куда более сложной задачей, чем в формальных и допускающих
упорядочение по порядку следования ситуациях прямого контакта между А и В типа
урока, лекции.
Вместе с тем, в случаях опосредованного контакта, когда есть устойчивая
фонетическая или графическая запись акта речи, а с нею и возможность вернуться
к неясному или любопытному месту усилий А перевести Т0 В в Ti, сделать это
независимым от А способом, возникает возможность более детального изучения
контакта Т0 (текста истории общения А и В к моменту акта речи) с объяснением,
с надстраиванием Т0 до Ti, со способами знакового строительства
текста-объяснения, и, поскольку любое объяснение, переводя То в Ti, в то же самое время и
Ti переводит в Т0 будущих объяснений — актов речи между А и В, мы вправе
ожидать, что исследование этого обязательного для актов осмысленного общения
между А и В знакового контакта истории и объяснения может помочь нам
разобраться в более широком круге производных вопросов типа: Что такое история в
знаковом ее оформлении? Как возможно знаковое представление истории
человечества, скажем, или науки, дисциплины, культурного типа, научного
направления? Не является ли Ту выпускника общеобразовательной средней школы
приведенной к человекоразмерности и к специфике нашего типа культуры историей
человеческого познания, коль скоро Ту используется на правах Т0 для развода
новых поколений исследователей в специализированные области
научно-дисциплинарного познания мира? Вопросов этого типа и даже ранга можно поставить
много, и хотя вряд ли есть в этом необходимость, напомним все же, что за всеми
такими производными от знакового контакта истории и объяснения будет стоять
на правах условия их осмысленности наш 2-ой постулат — постулат генетической
недостаточности рода человеческого, требующий представления в знаке, теперь
мы можем сказать в тексте, всего того, что не может быть передано по
человеческому биокоду, но должно передаваться в смене поколений на правах условий
осуществимости человека как существа естественного, социального и разумного.
Мы уже отмечали, что текст-объяснение, снимающий тезаурусное отношение
и уводящий его в историю, в Т0 будущих объяснений между А и В, конечен и
поэтому измерим. В типографиях и издательствах в качестве основной единицы
измерения текстов используют букву или печатный знак, а мерить здесь тексты
приходится по множеству причин, в частности и для бухгалтерских калькуляций.
Нас эта, так сказать, «абсолютная шкала» заинтересует много позже, а здесь мы
основное внимание уделим тем характеристикам текста, которые основаны на его
измерении числом употреблений значимых слов и численностью словаря,
поскольку эти характеристики позволяют выйти на ряд других, хорошо известных
науковедам, но не лингвистам.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 91
Приступая к этой стороне участия истории общения между А и В в
объяснении, нам следует попытаться вывести из состояния данности одно важнейшее для
нас и принципиальное обстоятельство: в связном тексте на уровне предложений
нет повторов. Приступая к этой стороне участия истории общения между А и В
в объяснении, нам следует попытаться вывести из состояния данности одно
важнейшее для нас и принципиальное обстоятельство: в связном тексте на уровне
предложений нет повторов. Мы только что предприняли эту попытку, чтобы
показать читателю (если она дойдет до читателя — до сих пор нам подобные
эксперименты с данностью отсутствия повтора не удавались: их аккуратно
вычеркивали на том или ином этапе подготовки рукописей к печати) всю неуместность
и противоестественность повтора на уровне предложений в связном тексте. В
реальной печатной продукции, конечно же, чего не бывает: может объявиться
повтор и на уровне предложений, и на уровне абзацев, и на уровне страниц, и даже,
это наиболее частый вариант, на уровне печатных листов. Но, встретившись с
таким обстоятельством, никто, даже и лингвист, не сочтет, что так оно и должно
быть. Каждому взрослому Ту индивиду в этом случае все будет ясно: кем-то
допущен брак — вряд ли автором, скорее машинисткой, корректором, редактором,
а если уж в книгу вшит дважды один и тот же лист — 16 страниц, — то тут уж
никто не усомнится, что перед ним типографский брак.
В наиболее щекотливом положении оказываются, понятно, лингвисты, свято
верующие в то, что «текст — природа лингвиста». Какая уж там «природа», если
в парадигме лингвистики высшая предметная единица — предложение, а на
уровне предложений нет повторов, то есть любое предложение уникально. Нет даже
и циклов типа: «У попа была собака, он ее любил; она съела кусок мяса, он ее
убил; убил и закопал, и надпись написал, что у попа...».
Принципиальная важность этого обстоятельства — отсутствие повтора на
уровне предложений, — если говорить о лингвистике, состоит в том, что всякого
рода «калькуляции» типа приводившейся выше калькуляции истории Ельмсле-
ва — есть и множество других, особенно много их было в период увлечений
машинным переводом, — несостоятельны, страдают «комплексом Архимеда»,
предполагают этот повтор или хотя бы цикл на правах собственной осуществимости,
тогда как ни повтора, ни цикла не наблюдается. В более широком плане
принципиальная важность отсутствия повтора или цикла на уровне предложений или
тем более текстов состоит для нас в том, что это обстоятельство четко
прописывает в мире творчества все виды актов общения между А и В. опирающиеся на
историю прошлых актов общения между ними, то есть служит решающим
свидетельством в пользу того, что язык есть инструмент творчества по преимуществу,
а классическая модель лингвистов, модель общения между А и В, если в нее через
То введена история прежних актов общения между ними, должна рассматриваться
как универсальный, навязанный любому владеющему языком индивиду микроакт
творчества, освоения нового знания, перевода нового (тезаурусное отношение) в
наличное, в условие осуществимости будущих актов освоения нового и перевода
его в наличное. Словом, владеть языком значит быть пожизненно приговоренным
к творчеству.
Вот здесь и возникает тот круг проблем, которым нам предстоит заняться.
Если ни на уровне предложений, ни на уровне текстов повторов нет, то вот у
знаменательных слов изъятого из текста словаря или у взятых в диссоциации
публикаций, образующих в нормальном состоянии дисциплинарный текст —
связанный ссылками массив дисциплинарных публикаций, вполне явственно
наблюдается частотная характеристика. Науковеды называют ее цитируемостью.
лингвисты же, после непродолжительных увлечений законом Ципфа в период отчаянной
деятельности «машпереводчиков», вообще как-то отодвинули интересующую нас
странность появления повтора в потоке уникальных единиц на уровне их смыс-
лонесущих составляющих на периферию «математической лингвистики», и даже
92
М.К. Петров
в тех трудах и сборниках, в которых таблиц, распределений, графиков больше,
чем страниц о законе Ципфа с середины 60-х гг. в общем-то не упоминается [68].
При всем том, присутствие в общении и в научной деятельности как
специфической форме общения и продукции и репродукции, и уникального и
повторяющегося начинает все чаще привлекать внимание и науковедов и историков
науки. А.П.Огурцов, например, пишет: «Основная трудность, стоящая ныне перед
исследователями науки, состоит в том, чтобы, не абсолютизируя одну какую-либо
«размерность» научного знания, найти способы объединения инвариантных
структур и изменчивости научного знания» [49, с. 301]. Перед этой трудностью
на уровне универсалий общения мы сейчас и находимся.
Г.Ципф [178], о котором мы упоминали в другой связи, когда пытались
разобраться, почему забыть математику — значит учить ее заново, а вот забыть
школьный курс грамматики можно и без ущерба для собственной способности к
речевой деятельности, сейчас нам нужен именно в связи с этой
сформулированной А.Огурцовым трудностью. Ципф просчитал текст «Улисса» Джеймса Джойса.
В нем оказалось 260430 употреблений знаменательных слов, образующих словарь
из 29899 слов [178, с. 23]. Представив слова списком по убыванию частоты
появления в тексте, Ципф применил ряд процедур ранжирования этого списка,
основанных на разбиении списка в последовательность групп-рангов, где номер
ранга указывает на число слов в этом ранге, близких по частоте появления в
тексте. При этом выявились зависимости типа: в 10-м ранге средняя частота — 2653;
в 100-м ранге — 265 и т.п. [178, с. 23]. Отсюда он и вывел закон рангового
распределения частоты употребления слов в связном тексте, известный сегодня как
закон Ципфа: произведение ранга на частоту величина постоянная. Он проверял
это распределение на текстах древних и новых авторов, на списках городов и
повсюду получал близкие результаты.
С тех пор вокруг закона Ципфа возник представительный массив литературы,
были предложены новые интерпретации, новые процедуры ранжирования.
М.В.Арапов и Ю.А.Шрейдер пишут: «Огромное число публикаций, посвященных
закону Ципфа (мы имеем в виду, конечно, и те работы, где аналогичная
зависимость фигурирует под другими названиями — закон Бредфорда, Лотки — в
информатике, закон Парето — в экономике, закон Виллиса в теоретической
биологии и др.) свидетельствует о неослабевающем интересе к этой несколько наивной
зависимости. Этот интерес было бы трудно объяснить, если видеть в этом законе
только средство описания структуры текстов (массивов) с количественной
стороны» [с. 74].
Для нас главное в законе Ципфа не та или иная процедура ранжирования и
не степень приближения математической формулы к действительно
наблюдаемому распределению — по этой линии наблюдаются как раз «калькуляционные»
тенденции, представители которых забывают о целостности и конечности связных
текстов, могут предложить и «представительную выборку» из связных прежде
текстов, — а тот сохраняющийся при всех интерпретациях, процедурах
ранжирования, математических формулировках «инвариантный» факт, что между
численностью словаря, изъятого из данного текста конечной длины, и длиной этого
текста, выраженной числом употреблений единиц этого словаря, существует
довольно жесткая зависимость, не позволяющая ни умножать словарь без
удлинения текста, ни удлинять текст без ввода новых слов.
Применительно к модели акта общения между А и В, осмысленность которого
производна от текста-истории Т0, а реализация от текста-объяснения, который
усилиями А удлиняет общий для А и В Т0 до Ti, это означает, что в словаре Ti
будет больше единиц, чем в словаре Т0, слова в процессе перехода от Т0 к Ti
будут менять свою частотную характеристику или, говоря терминами науковедов,
цитируемость. пока процесс не завершится изгнанием неопределенности,
вызванной появлением разности Ti-T0 и ее оформлением А в тезаурусное отношение,
которое он решает и разрешает по сути дела вводом новых слов в окружении уже
История европейской культурной традиции и ее проблемы
93
использованных ранее, наращивая словарь знаменательных единиц То до словаря
знаменательных единиц Ti методом опосредования новых слов наличными и
перевода этим способом нового в наличное.
Вернемся к нашему конкретному примеру с детективом, где мы читатели,
представители группы В, ждем с нетерпением следующей книжки журнала.
Сделаем его совсем конкретным. Вот, скажем, роман-детектив Андре Банзимра
«Приговоренный обвиняет» напечатан в пяти книжках журнала «Вокруг света»
(№ 3, 4, 5, 6, 7 за 1980 г.), то есть окончательную ситуацию, где все будет
поставлено на свои места, мы узнаем из июльской книжки журнала, а с марта
месяца редакция предлагает нашему В вниманию пять переходов от первого «лакун-
ного», где автор на пустом в общем-то месте, опираясь на наше Ту и на нашу
осведомленность в детективных материях, строит тезаурусное отношение, вводит
интригующую неопределенность, которую уничтожает на последнем пятом
переходе. Все эти переходы, хотя автор вряд ли предполагал, что редакция
распределит его роман именно по пяти книжкам журнала, образуют типичную
последовательность актов речи, в которой Ti предыдущего акта становится Т0
следующего и так до последнего, где все приводится к определенности и дальше ни
нам ни автору идти некуда: нет ни разности Ti-To, невозможно тезаурусное
отношение.
Здесь нам предоставляется возможность лишний раз пошатать данность в
очень интересном для нас пункте. Совершенно ясно, что еще до начала
публикации редакция журнала имела в своем портфеле полный текст романа и, разбив
его на 5 частей для публикации в 5 книжках, могла бы распределить эти части
по книжкам по правилам перестановки 120 способами (5!), начав, скажем, с 5-й
или с 3-й. Почему редакция предпочла именно тот порядок следования, отбросив
119 других, который мы, В группа читателей обнаруживаем в журнале и находим
естественным? Существуют ли какие-либо научные критерии определения того,
что 5 «представительных выборок» (роман печатается с сокращениями) из этого
романа, которые оказались в портфеле редакции, вовсе не «выборки», а части
целого и именно в силу этого обстоятельства их следует располагать в той
последовательности, в которой их напечатала редакция? Роман печатается с
сокращениями, о чем мы узнаем на с. 56 июльской книжки журнала «Вокруг света», где,
после последней фразы романа написано: «Сокращенный перевод с французского
Г.Трофименко». Способны ли мы, читатели группы В, обнаружить в процессе
чтения следы этой усекающей деятельности по методу Прокруста? А если бы
работники редакции, действуя в духе «калькуляторской» тенденции, перепутали
«выборки» и напечатали бы их в одной из 119 других последовательностей,
сумели бы мы, читатели группы В, обнаружить эту «ошибку»? В чем бы она состояла
и как ее можно было бы сформулировать?
Для нас это отнюдь не праздные вопросы по поводу всем известных вещей.
Это все та,же начатая в предисловии цитатой из Бойля тема о том, как нужно
читать Книгу Природы, которая, по мнению Бойля, не сборник басен Эзопа, а
хорошо составленный целостный роман. Обнаруживает ли себя эта целостность,
каким-нибудь более существенным и Формализуемым способом, чем просто через
нумерацию частей, глав, страниц? Да и вообще, заняв место церкви и
узурпировав право на монопольное истолкование эмпирической реальности, не оказалась
ли наука в положении Г.Трофименко, автора сокращенного перевода с
французского, переводя, скажем, Книгу Природы с греческого Логоса, на котором бог
предположительно творил Книгу Природы, на какой-то другой язык, не чураясь
и методов Прокруста? Вот Т.Розак, скажем, усматривая в революции
интеллектуалов XVII в. очередное грехопадение человечества, пишет: «Математический
аскетизм Галилея и дуализм Декарта как раз и вызвали к жизни современную
науку, выбрасывающую из природы все, что не является математически
выразимым движением материи. Ценность, качество, дух, душа, духовное общение —
все.это было беспощадно отсечено от научного мышления как некое излишество.
94
M. К. Петров
А что осталось? Только машина мира — лоснящаяся, мертвая и враждебная» [157,
с. 29—30]. Каким образом Т.Розак, 1933 г. рождения, то есть обладатель аттестата
зрелости или его американского эквивалента, доктор, профессор истории
Калифорнийского университета, ухитрился заметить эти ужасающие купюры-раны в
переводе Книги Природы на язык науки, тогда как вот мы, читатели группы В,
читая роман А.Банзимра «в сокращенном переводе с французского» ни о чем
таком не подозревали до самой последней фразы?
Понятно, что здесь возникает и назревает вопрос о способе участия истории
в познании как на универсальном уровне общения, так и на специфически
научном уровне, вопрос о том, является ли история кладбищем событий прошлого
или активным сотворцом событий настоящего, «живым» соучастником «нашего
здесь и сейчас», который несет определенную функцию, «трудится» и испытывает
в процессе выполнения своей функции изменения. Если в истории, в прошлом
ничего происходить не может, то мы вправе надеяться написать, скажем,
единственно возможную, полную, истинную, адекватную историю науки в этакой
«английской» манере с указанием дат «от — до», в духе скажем того, как
Ч.Уэбстер пишет «Великое восстановление» с подзаголовком: «Наука, медицина и
реформы 1626—1660 гг.» [169] или Д.Найт «Источники по истории науки с 1660 по
1914 гг.» [130]. Если же история активно соучаствует в нашем «здесь и сейчас»
строительства истории и меняется по ходу этого соучастия, то положение,
понятно, радикально меняется, сама идея такой раз и навсегда исследованной и
описанной истории явно начинает отдавать душком «комплекса Архимеда» — пока
ее будешь исследовать и описывать, она окажется чем-то совсем другим.
Вот Кун, как уже упоминалось, утверждает, что историю науки переписывают
после каждой научной революции, и делается это под давлением честолюбивых
стремлений ученых всегда быть на стрежне основного развития. Закон Ципфа
подтверждает основную идею Куна — историю действительно переписывают и на
универсальном и на специфически научно-дисциплинарном уровне, но делают
это, во-первых, не от случая к случаю, а постоянно, «рутинно», и, во-вторых, не
в силу честолюбия, а по необходимости, то есть каждый акт речи, будь то
универсальная ситуация общения между А и В или специфически научная —
публикация объяснений дисциплинарных хождений за новым, включает и этот момент
переписывания истории, подтягивания ее к «здесь и сейчас» наших объяснений
с В или с дисциплинарным сообществом как группой В.
В самом деле, объяснить сосуществование уникальности на уровне
предложений и частотной характеристики у знаменательных единиц словаря, которые
образуют эти уникальные предложения, можно видимо лишь из допущения, что
слова, набирающие частотную характеристику в последовательности актов
общения между А и В, вовлекаются А всякий раз в новую для них ситуацию, в новое
окружение как участники освоения нового в потоке уникальных
предложений-событий. Тот факт, что мера такого участия распределена по словарю ранговым
способом по закону Ципфа, свидетельствует о том, что одни слова привлекаются
для целей освоения нового и перевода нового в наличное чаще, другие реже.
Иначе говоря, любое объяснение А с В, поскольку оно содержит новое,
вынуждено искать опоры в истории, в предшествующих актах объяснения и в
универсальном случае оно находит эти опоры на уровне слов, а не предложений Т0.
Такие найденные А слова-опоры вовлекаются в объяснение, в строительство
новых предложений, каждое из которых представляет из себя микроакт
переработки нового с попутной деформацией старого, наличного: новое опосредуется
наличным, и каждый акт такого опосредования в предложении снимает какую-то
часть неопределенности нового для В, но в то же самое время деформирует,
меняет, сдвигает наличную определенность В, представленную в То в направлении
к Ti. И если, скажем, применить к объяснению как целостному процессу
перевода То в Ti, в котором новое обрабатывают наличным, чтобы перевести новое
в наличное, а наличное — новым, чтобы перевести наличное в новое значение,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 95
инструментальную аналогию Ципфа [178, с. 58—71], то сам процесс можно
представить как перековку смысла, а образующие его микроакты-предложения как
последовательность ударов молота, связывающих новое с наличным и
деформирующих наличное, приспосабливая его к контурам нового.
Сама по себе аналогия Ципфа не очень удачна, поскольку, объясняя
появление частотной характеристики и ее ранговое распределение, Ципф рассматривает
словарь как арсенал неизменных инструментов для обработки сырья-смысла, а не
как нечто несущее смысл и требующее переработки. Вместе с тем в этой аналогии
присутствует крайне интересующий нас момент — человекоразмерность процесса
переработки смысла. Задача ремесленника (А) в этой аналогии: «выжить,
совершая для нас определенные виды деятельности с помощью своих инструментов
наиболее экономичным по возможности способом, с наименьшей затратой
усилий» [178, с. 58]. Построенный на этой аналогии мысленный эксперимент Ципфа
состоит в том, что А (ремесленнику) предлагают сырье (Т0) и список продуктов
(Ti-x), которые можно изготовить с помощью наличного арсенала инструментов
(словаря То). Возможности А Ципф ограничивает правом расстановки
слов-инструментов в таком порядке, который сделал бы их «равнодоступными» по
затратам времени и усилий на их достижение в случае надобности. Поскольку одни
слова-инструменты А использует чаще, а другие реже, то «равнодоступность» как
условие достижения наименьших затрат времени и наибольшей экономичности
процесса как раз и будет, по Ципфу, формировать тот порядок расположения
слов-инструментов, который фиксируется ранговым распределением. Суммы
времени на достижение любого инструмента в этой модели равны, но поскольку они
суммы, в каждом конкретном случае они будут разлагаться на число слагаемых,
соответствующее частоте.
Основанная на этой аналогии процедура ранжирования весьма груба, но для
человека, забывшего школьный курс математики и не «проходившего»
математику в университете, она может оказаться полезной для понимания того, что имеют
в виду, когда говорят о ранговом распределении, о законе Ципфа. Допустим, что
мы изъяли из связного текста конечной длины словарь и расположили слова в
порядке убывания частоты их встречаемости в тексте. Тогда ранжирование по
слагаемым примет вид: 1-й ранг — первое слово списка; 2-й ранг — два
следующих; 3-й ранг — три следующих и т.д. до исчерпания списка. Номер ранга здесь
будет указывать на число слов в этом ранге, сумма частот которых будет равна
частоте первого слова списка, а если взять среднюю частоту входящих в ранг
слов, то будет выполняться (с большими оговорками, конечно) и сам закон
Ципфа: произведение частоты на ранг — величина постоянная.
Вот, к примеру, Д.Прайс в препринте 1969 г. дает список городов по
убыванию научной продуктивности — числа опубликованных в 1967 г. научных работ.
Поскольку в науке действует закон Ципфа, приведем начало этого списка,
достаточное для выделения четырех первых рангов (см. табл. 4). Нам придется еще
употреблять термины «ранговый список» и «ранг». В табл. 1, например, дано
изменение рангового списка дисциплин по времени. В табл. 4 даны и ранговый
список и сами ранги, чтобы показать, что это разные вещи.
В более приемлемой для нас формулировке проблему изменения значения
трактует Соссюр, говоря о преемственной изменчивости знака во времени:
«Время, обеспечивая непрерывность языка, оказывает на него и другое действие,
которое на первый взгляд противоположно первому, а именно: оно с большей
или меньшей быстротой изменяет языковые знаки, так что в известном смысле
можно говорить одновременно как о неизменчивости языкового знака, так и о
изменчивости его... Оба эти фактора взаимно обусловлены: знак может
изменяться, потому что его существование не прерывается. При всяком изменении
преобладающим моментом является устойчивость прежнего материала, неверность
прошлому лишь относительна... Каковы бы ни были факторы изменения, дейст-
96
М.К. Петров
вуют ли они изолированно или в сочетании друг с другом, они всегда приводят
к сдвигу отношения между означаемым и означающим» [66, с. 107—108].
Таблица 4 [151]
Ранговый список городов по убыванию числа опубликованных в 1967 г.
работ и ранги продуктивности городов
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Город
Москва
Лондон
Нью-Йорк
Париж
Токио
Вашингтон
Бостон
Филадельфия
Чикаго
Ленинград
Число
публикаций
4982
2915
2783
1804
1681
1506
1453
1407
1404
1309
N° ранга
1
2
3
4
Суммарное
число публикаций
4982
5698
4991
5573
Этот сдвиг отношения между означающим и означаемым Соссюр четко
прописывает по словарю, для него слова не инструменты для обработки смысла, а
носители смысла, и это как раз то, что нас вполне устраивает. Но сам концепт
сдвига Соссюр использует лишь как гарантию принципиальной возможности
изменений в языке, поскольку не нарушается преемственность во времени. Вот
здесь у нас и с Соссюром и с лингвистами вообще принципиальное расхождение.
Нам этот сдвиг нужен не как результат воздействия на язык времени — времени,
если его мерить по оборотам земли вокруг солнца, язык столь же безразличен и
столь же вне сферы его внимания, как и само человечество: ни на язык, ни на
человечество время воздействовать не может, — а как обязательная составляющая
предложения, как санкция мира общения на существование предложений
вообще, поскольку именно в рамках предложения вовлекаемые в него слова
увеличивают на единицу свою частотную характеристику, расплачиваясь за это сдвигом
значения, появлением в числе наличных значений знака-слова еще одного
значения, приобретенного словом в микроакте опосредования нового.
Иными словами, в отличие от Ципфа мы рассматриваем словарь не как
конечный арсенал инструментов — при таком подходе сложно было бы объяснить
появление в -словаре текста новых слов, да Ципфа эта проблема и не занимала, —
а рассматриваем как конечную группу носителей смысла, которые усилиями А
взаимодействуют друг с другом по поводу нового и с новыми словами,
приобретая в актах такого взаимодействия — предложениях — дополнительные значения
и вовлекая в словарь текста новые слова. При этом, понятно, претерпевает
изменения и образ действий А. У Ципфа это ремесленник, расставляющий по ходу
деятельности слова-инструменты в соответствии с принципами равнодоступности
и наименьшей затраты усилий, которому, понятно, нельзя подсовывать новых
слов-инструментов: А запутается и «адиабатические» условия мысленного
эксперимента Ципфа, призванного объяснить природу рангового распределения
частотной характеристики слов будут нарушены.
Для нас А, как, впрочем, и В существа (или группы) довольно загадочные и
не столько потому, что они ведут себя загадочным образом — в общении все в
принципе наблюдаемо, допускает фиксацию, ту или иную форму записи, даже и
скрытой от А и В, возможность остановки на предмет любых мыслимых иссле-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 97
дований и самых придирчивых анализов, — но скорее потому, что все наши
потенциальные А и В прошли через период «от 2 до 5», о котором они сами ничего
сообщить не имеют и к которому мы, исследователи, в общем-то плохо знаем,
как подступиться. События этого периода во многом закрыты всеядностью
человеческого биокода, его очевидной активностью и размытостью граней между
атрибутами естественности, социальности и разумности на этом периоде. Вполне
возможно, что основание для закона Ципфа, который выявляется во всех языках
на уровне связных текстов следует искать в атрибуте естественности человека, и
в этом плане нам не кажется беспочвенной гипотеза М.Арапова и Ю.трейдера:
«В действительности, закон Ципфа имеет неизмеримо большее значение, чем
просто (умеренно) удобное средство статистического описания. Обзор ситуаций,
в которых мы сталкиваемся с проявлением этого закона (в данной статье
заведомо не полный) наталкивает на мысль (и она уже была высказана целым рядом
исследователей), что сферой действия этого закона являются естественно
возникшие сложные системы» [с. 74—75].
Но даже если допустить эту мысль об естественности закона Ципфа, в конце
концов и человеческое общество — естественно возникшая сложная система, то
есть отпустить закон Ципфа за Геркулесовы столпы человеческой истории как
некую общебиологическую универсалию вроде основанной на биокоде слепой
вере в порядок, в право на адаптацию к окружению, то не совсем понятно
насколько это может помочь решению проблемы: мы просто передаем человеческую
проблему кому-то другому — инопланетным существам, богу, природе,
естественно возникшей системе как самостному знаку.
Мы вовсе не собираемся предлагать какую-нибудь строгую модель, способную
заменить модель А — ремесленника, расставляющего слова-инструменты, или
снять ее «адиабатическую» ограниченность. Но нам кажется, что сама идея
ограниченного арсенала инструментов, находящегося в распоряжении А, в общем-то
перспективна для будущих поисков, если под инструментами этого арсенала
разуметь не знаменательные слова, а универсальные грамматические правила, набор
которых един для всех текстов и не претерпевает заметных изменений, сдвигов в
актах их использования. Здесь действительно должны бы соблюдаться условия
мысленного эксперимента Ципфа при одном, но весьма существенном
допущении, которое в неявной форме содержится и у Ципфа, что инструменты этого
арсенала человекоразмерны. то есть столь же мало связаны со спецификаторами
окружения, как, скажем, сеть родильных домов Новокузнецка с технологией
выплавки стали или городские средние школы Донецка со способом добычи угля.
В этом отношении исключительный интерес представляет гипотеза глубины
В.Ингве [123], которая прямо связывает грамматические арсеналы языков с
параметрами человеческой психики. Детально мы рассмотрим эту гипотезу в главе о
лингвистической парадигме, а пока ограничимся констатацией того факта, что
эта гипотеза, которая мелькнула в лингвистике под занавес увлечений машинным
переводом, способна, по нашему мнению, в значительно большей степени
поколебать данность нашего категориального миропорядка, чем даже подозрение
насчет того, что институт науки, узурпировав право на монопольное истолкование
природы, может оказаться переводчиком-Прокрустом, сознательно или
бессознательно сокращающим и искажающим текст Книги Природы.
А теперь об институте имен, о последней знаковой реалии в нашем беглом
обзоре универсалий общения. Мы тянули с этим разговором по той простой
причине, что, являясь бесспорной универсалией мира общения, институт имен по
его роли должен бы рассматриваться как универсалия особого рода, поскольку
имена суть диакритические знаки, вводят в процесс общения уникальность на
уровне индивидов, различают, тогда как общепризнанным делом универсалий
является генерализация, подчеркивание, если не насаждение общности в том или
ином отношении, фиксация категориальности мира и в том понимании
категорий, — способов сказуемости, — которое вкладывал в понятие категории Аристо-
7 М.К. Петров
98
М.К. Петров
тель, так и в том понимании категорий, которое мы вкладываем в понятие
категории сегодня, устранив из картины мира традиционных «приматов» — перводви-
гатель, творца, всеведущего и всемогущего автора — и целиком положившись на
вселенскую лень, на инерцию как на достаточное условие познаваемости и
преемственного существования нашего миропорядка во времени.
В том мире общения, который мы до сих пор рассматривали в рамках
классической лингвистической модели акта речи между А и В, насытив эту модель
тезаурусным содержанием, историей, тезаурусными характеристиками, особой
нужды в именах, а точнее сказать, в именах собственных, вроде бы и не
обнаруживалось, если не считать того частного обстоятельства, что в должности А
выступают, как правило индивиды, которые, впрочем, если физический,
подчиненный правилам языка-системы процесс речи между А и В зафиксирован в удобной
для хранения форме, обычно в графической, могут быть вообще устранены из
ситуации в неопределенное далеко, где уже трудно разобрать, который там
Аристотель, который автор Библии и Книги Природы, а который тот, «кто придумал
колесо».
Вот Б.Рассел, например, зайдя на проблему собственных имен пятью
способами — с метафизической, синтаксической, логической, физической,
эпистемологической точек зрения, так суммировал свои первые впечатления: «Я пока
прихожу к выводу, что мы не можем полностью обойтись, с помощью только
координат, без собственных имен. Мы, может быть, можем свести некоторые
собственные имена к координатам, но не можем совсем обойтись без них. Мы можем
без собственных имен выразить всю теоретическую физику, но не можем
обойтись без них ни в одной части истории или географии» [60, с. 112].
Основная трудность, по нашему мнению, состоит здесь в том, что, пытаясь
определить положение института имен в системе общения, мы как-то забываем
о том, что скорее общение находится в системе имен, а не имена в системе
общения, и поэтому сразу же попадаем в «заначальную» ситуацию определения
творца по продукту, которая в общем-то сродни «комплексу Архимеда» и ведет
себя по нормам этого комплекса, запрещая нам судить о «начале» — конкретном,
смертном, краткоживущем человеке по его вкладам в бессмертные, долгоживу-
шие, «вечные» знаковые реалии мира общения. Сколько бы мы ни усиливались,
например, вывести из несохранения четности Янга, да вдобавок еще и Ли, толку
от наших усилий не будет: путь окажется перекрытым запретом на объяснение
начала от производных от него следствий. Нужно другое начало, из которого
выводилось бы объясняемое. В каждом конкретном случае находятся, понятно,
обходные пути, позволяющие проникнуть в предначальную ситуацию и вовлечь в
объяснение множество факторов, способных, скажем, с большей или меньшей
вероятностью ответить на вопрос, почему Янг и Ли оказались в группе
претендентов на открытие несохранения четности, а Минин и Пожарский не оказались,
почему Эйнштейн мог предложить науке теории относительности, а фон
Нейману, который лучше Эйнштейна разбирался в математической стороне дела и часто
выручал Эйнштейна в затруднительных обстоятельствах, этого не было дано. Но
вот когда речь идет об универсалиях, эти обходные пути исчезают и
методологический тупик предстает в чистом виде: нужно иметь особое начало для
объяснения института имен, который сам выступает началом системы общения, всех
ситуаций актов речи между А и В.
Этим мы, собственно, и занимались, когда формулировали два основных
постулата о биологической и генетической недостаточности человеческого рода и
третий дополнительный относительно принципиального отличия человеческой
постредакции, которая в отличие от постредакции биологически достаточных
видов должна выполнять функцию развода подрастающих поколений индивидов
в специализированные виды деятельности, в человекоразмерные фрагменты
целостной социальной системы деятельности.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 99
Обзор универсалий общения в рамках классической модели акта речи между
А и В показывает, что любого подрастающего В можно силами А, серией актов
речи, актов построения и решения тезаурусного отношения — To-Ti/T0-Ti/T0-
Ti/To... привести в любой человекоразмерный фрагмент социально значимой
деятельности, если известен тезаурус этого фрагмента и ни в одном из образующих
такую последовательность актов речи не обнаружится нечеловекоразмерных
препятствий, непосильных для В. Но эта принципиальная возможность знакового
кодирования индивидов в любые фрагменты деятельности, не отвечает на
основной вопрос компенсации генетической недостаточности: кого и куда разводить,
кого по какой последовательности вести во взрослое состояние субъекта социаль-
нозначимой деятельности, а не отвечает она на этот вопрос просто потому, что
его некуда ставить: в модели акта речи между А и В нет «кого».
Институт имен и решает эту производную от генетической недостаточности
проблему, навешивая на каждого индивида различительный знак — имя, которое
вносит конкретность во все ситуации общения и практической деятельности,
определяя область доступного для индивида, отмеченного этим именем, его «здесь
и сейчас».
Рассел в общем-то видит историю возникновения проблемы имен
собственных в европейском типе культуры, То этой проблемы: «Теологи изображают бога
смотрящим на пространство и время извне, без пристрастия и с полным
осознанием целого; наука пытается подражать этой беспристрастности и с некоторым
видимым успехом, но успех этот в известной степени иллюзорен. Человеческие
существа отличаются от бога теологов тем, что их пространство и время имеют
свои здесь и теперь. То, что находится здесь и теперь — живо, а то, что удалено,
скрывается в постепенно все более и более сгущающемся тумане. Все наше
познание распространяется из пространственно-временного центра, который
является крошечным отрезком, который мы занимаем в каждый данный момент» [60,
с. 41]. Но от внимания Рассела ускользает тот факт, что этот «пространственно-
временной центр», который мы занимаем «в каждый данный момент» и
координаты которого мы определяем по атрибуту естественности человека, не
позволяющего ему находиться во множестве мест и моментов разом, сам имеет свою
историю со своими особыми координатами и отметками по атрибутам социальности
и разумности, без которых мы просто не в состоянии понять, почему, например,
индивид Т.Розак в своем «здесь и сейчас» нехорошо отзывается о подвигах
Галилея и Декарта, признанных отцов науки, а индивид Г.Трофименко переводит с
сокращениями роман-детектив А.Банзимра.
Затемнению проблемы имен собственных в нашей Ту культуре способствует и
ряд дополнительных обстоятельств, таких как более или менее произвольная
практика нарекания младенцев именами, которая совершается усилиями
родителей, их родственников и друзей, а также и полная неопределенность на уровне
колыбели относительно того, по какой именно из дорог в специализацию пойдет
отмеченный знаком-именем младенец через 17 лет, по достижении Ту, какими
будут его обязанности, права, вид деятельности как взрослого индивида. Сегодня
большинству из нас уже трудно оценить глубину страданий Джульетты по поводу
института имен:
Одно ведь имя лишь твое — мне враг...
Что в имени? То, что зовем мы розой, —
И под другим названьем сохранило б
Свой сладкий запах! [86, с. 113]
Налицо и растущая неопределенность самих этих специализирующих
постшкольных дорог. Сегодня, скажем, и науковед вряд ли взялся бы предсказать,
какой к началу XX в. станет карта-схема радиальных маршрутов развода
выпускников средней школы в специализацию, особенно в мир научных открытий, ка-
7*
100
M. К. Петров
кими будут, к примеру, ранговые списки 20-ти лидирующих по подготовке
аспирантов дисциплин, представленные в табл. 1.
Но более других, пожалуй, затемняет роль института имен то обстоятельство,
что и в самих универсальных реалиях общения, как это показывает наш тезау-
русный анализ лингвистической модели акта речи между А и В, акцент поставлен
на творческой функции общения, что в конкретном «здесь и сейчас» нашей Ту
культуры вызывает прямые и в общем-то законные ассоциации с механизмами
научного познания мира, которые отнюдь не выведены из сферы действия
универсалий общения в какую-либо особую область. Этот акцент на творческой
функции общения уводит в тень данности рутинную репродуктивную функцию
специализации, развода подрастающих индивидов в специализированные и
посильные для них фрагменты целостной системы социальной деятельности, хотя
как раз эта функция, условием осуществимости которой выступает институт имен
собственных, была и продолжает оставаться основной в человеческой системе
постредакции, тогда как функция познания, каким бы высоким ни казался ее
статус, лишь «вторая производная» по времени, отражающая текущую потребность
общества в изменении инерционных репродуктивных структур воспроизводства
системной организации общества в смене поколений и получающая право на
существование, то или иное определенное значение именно по отношению к этим
инерционным структурам.
В нашей Ту примат «именной» репродуктивной функции воспроизводства
системной организации общества в смене поколений вскрывается без особого труда,
если сосредоточить внимание на соотношении репродуктивной и познавательной
функций в системе общения и на способе выявления воспитательной роли
научных дисциплин в процессах онаучивания общества. Производный от событий на
переднем крае научно-дисциплинарного познания мира, процесс этот, явно не
выходящий за рамки модели актов речи между А (наука) и В (общество,
представленное Ту), принимает на правах Т0 наличный состав текстов-учебников
общеобразовательной средней школы, причем у каждой дисциплины,
представленной своим учебником, своим количеством часов в учебном плане, своим Т0-м,
всегда есть претензии к этому учебнику как заведомо «устаревшему», и также и
более или менее четкое представление о Ti-ом, в который следовало бы перевести
этот учебник для приведения его в соответствие с достижениями дисциплины на
текущем периоде. Поскольку на состав действующих учебников средней школы
наложены жесткие ограничения и по человекоразмерности и по сроку обучения,
процесс онаучивания общества, перевода Т0-х действующих учебников
общеобразовательной средней школы в Ti-e предпочтительных и более тесно привязанных
к переднему краю научно-дисциплинарного познания мира необходимо
принимает форму не столько наращивания текстов-историй, сколько их переписывания
в заданных жестких ограничениях по объему материала и по числу отводимых
дисциплине учебным планом часов.
Понятно, что решение тезаурусного отношения здесь примет более сложный
и формализованный вид, поскольку А (автору нового учебника) придется брать
на себя ответственность за переформулирование, сокращение, сжатие,
выбрасывание отдельных мест действующего учебника, чтобы освободить место для
текста-объяснения (To-Ti), то есть придется действовать примерно теми же методами
Прокруста, которыми действовал Г.Трофименко, вгоняя текст романа А.Банзимра
в указанный ему редакцией журнала «Вокруг света» листаж. Но и здесь тезаурус -
ное отношение остается тезаурусным отношением и сам акт переписывания
учебника, перевода его Т0 в новое значение предполагает наличие действующего
учебника и «примат» этого учебника в том же смысле, в каком сокращенный перевод
Г.Трофименко предполагает наличие и «примат» романа АБанзимра.
В менее явной, но в достаточно убедительной форме примат «именной»
репродуктивной функции обнаруживается и на вершине иерархии воспитателей, в
деятельности профессорско-преподавательского состава высшей школы, в струк-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 101
туре затрат их времени на основные виды академической деятельности. Приводя
соответствующую таблицу (табл. 5) Л.Уилсон так комментирует ее смысл: «37%
профессоров штатного состава (32,6% мужчин и 60% женщин) либо вообще не
ответили на вопрос о числе публикаций, либо ничего не публиковали в
предшествующие два года. 27,3% имели 1—2 публикации, 18,3% — 3—4, 17,2% — 5 и
более. 39% не участвовали в исследованиях, в подготовке рукописей или в иной
творческой работе в предшествующем году. Из этого явствует, что члены
академического сообщества, научная деятельность которых могла бы стать помехой
исполнению преподавательских обязанностей, находятся в очевидном
меньшинстве» [176, с. 136].
Таблица 5 [176, с. 137]
Распределение недельных затрат времени на виды деятельности
у профессорско-преподавательского состава университетов США
в 1972—1973 учебном году, % состава
Виды деятельности
Преподавание
Подготовка
Консультации
Исследования
Часы
0-?
7,2
8,4
11,8
23,2
1-4
17,8
14,6
42,9
19,7
5-8
32,6
23,2
28,1
14,0
9-12
25,2
22,0
11,8
13,0
13-16
8,8
13,6
3,4
9,2
17 и более
8,4
18,2
2,0
21,0
Словом, если профессор, доктор исчерпал свой творческий потенциал в
аспирантуре, а достигающих творческого пика на этом этапе, как показывает Уилсон,
не так уж мало — около трети, то не все еще пропало: он может преподавать
свою дисциплину студентам, какая-то часть которых затем станет преподавать эту
дисциплину будущим учителям, а те — школьникам, хотя таких, не ведущих
исследований и не публикующих профессоров, занятых только преподаванием,
американские исследователи довольно едко окрестили «кафедральным сухостоем».
Но вот если человек не осваивает навыка преподавания, работы в студенческой
или школьной аудитории, ему вообще нечего делать в структурах онаучивания
общества, в университетской науке; такому приходится вести исследования в
фирмах, государственных лабораториях, НИИ, не имеющих прямого выхода в
воспитательную иерархию, в изменение текстов Ту.
При всем том в нашей Ту культуре произошла и происходит определенная
инфляция института имен, укрепляется тенденция принимать в расчет историю
индивида не с момента рождения, а с момента начала деятельности в
соответствующем фрагменте системы социальной деятельности. Особенно заметно это в
научных дисциплинах, где «новорожденный для дисциплины» обязан заявить о
своем появлении на дисциплинарный свет не первым криком младенца, а
опубликованной работой, защитой диссертации и поддерживать у членов
дисциплинарного сообщества, что он еще жив-здоров, еще на переднем крае, еще не
какой-нибудь там кафедральный или иной сухостой, а вполне даже продуктивный
член дисциплинарного сообщества периодической публикацией работ. В этих
работах он, выступая в должности А, объясняет коллегам по дисциплине,
совокупному В, нечто новое обычным способом сдвига Т0 текущего значения их
дисциплинарного тезауруса (Тд) в новое Ti значение.
Эта ситуация, хотя она в общем-то и предполагает, что любой такой А,
появляющийся на общедисциплинарной кафедре со статьей, докладом,
монографией, когда-то и где-то родился, прошел период «от 2 до 5», прошел подготовку
в общеобразовательной средней школе, окончил курс высшей школы, обычно и
аспирантуру, делает все это несущественным и отходящим в «доначальную» тень
действительно существенного и исторического для дисциплины события: появле-
102
М.К. Петров
ния в акте публикации новой реалии, новой единицы словаря своего
дисциплинарного текста Тд, а с нею и множества постпубликационных проблем освоения
этого нового, которые хотя и инициируются актом А, решаться будут без его
участия, силами других А.
По отношению к деятельности этих других А автор статьи или обзора,
монографии поставлен в положение «болельщика», которое, с одной стороны, уже
определенно не А — автор не в состоянии вмешаться в ход дальнейших событий,
если они вообще произойдут и его «вклад», «новое слово» в словаре дисциплины
начнет цитироваться, набирать частотную характеристику, взбираться по лестнице
рангов, — а с другой стороны, его положение все же и не совсем В, не положение
слушателя, пассивно или даже охотно следующего за очередным А к очередному
Ть Понятно, что все мы, даже и авторы, люди, в той или иной степени
причастные к «эмоциональной сфере», где положено различать кнут и пряник, где
великим достоинством считается умение «держать удары», «правильно реагировать на
критику», но предпочитаются все же не кнуты, удары, критика — даже вот и
боксер выходит на ринг вовсе не для того, чтобы показать публике свое незаурядное
умение «держать удары», да и публика редко встречает аплодисментами
блестящие демонстрации этой способности, — предпочтение отдается все же тому, что
психиатры называют «положительными эмоциями», которые, по их мнению
показаны всем, с некоторыми даже делают чудеса, поэтому, оставаясь в позиции
болельщика или даже тренера, заинтересованно наблюдающего за поведением
своего продукта на дисциплинарном ринге, автор ведет себя не совсем так, как
полагается вести себя, скажем, классу, получающему в очередном движении T0-Ti
очередную дозу общесоциальной мудрости Ту, или студенческой аудитории,
делающей под руководством лектора очередной шаг от Ту в сторону
специализированной дисциплинарной мудрости Тд.
Авторы публикаций, особенно первых, склонны забывать, что перед ними не
студенческая аудитория, «обязанная» внимать их «новому слову» и послушно
соглашаться с их объяснениями, сдвигать свое Т0 в предлагаемое автором Ть В
лучшем случае автор может рассчитывать на то, что дипломаты называют
«консенсусом», когда точки зрения сторон поняты, но вовсе не обязательно приняты,
сведены к единой и общей точке зрения. Аспиранты редко отдают себе отчет в
том, что намерения их самих и их шефов вовсе не так уж безобидны для членов
дисциплинарного сообщества, которые прошли уже через акт публикации,
превративший их в заинтересованных и пристрастных болельщиков, которым есть за
что болеть. Л. У ил сон так описывает замыслы шефов и типичные модели
поведения аспирантов: «Для преодоления аспирантских колебаний в выборе темы
культура академической деятельности выработала ряд проверенных временем средств.
На многих кафедрах профессора школ аспирантской подготовки имеют наготове
хорошо обозначенные тематические области, темные места и закоулки которых
они предлагают вниманию аспирантов на предмет обнаружения того, что позже
может войти либо анонимным, либо со сноской вкладом в более обширное
профессорское «открытие». В гуманитарных дисциплинах это, как правило,
«влияния», которые надлежит проследить, или «источники», которые определенно
обнаружатся при усердном копании. В социальных науках это бесчисленные
данные, которые следует привести в корреляцию, доказывающую или
опровергающую это или то или еще какое-нибудь положение... Предполагается, что
содержание диссертации будет таким, в котором оригинальность соискателя найдет
выявление в установлении или открытии чего-нибудь такого, что не было известно
раньше, или в обосновании одного или нескольких конфликтующих и принятых
уже взглядов, или в опровержении существующего и широко признанного
взгляда» [175, с. 43—44]. Словом, в дисциплинарном «полисе» действует закон Солона:
«Кто во время смуты в полисе не станет с оружием в руках ни за тех, ни за дру- j
гих, тот предается бесчестию и лишается гражданских прав» [Аристотель,
Афинская полития, 8, 5].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 103
Сосредоточенность внимания ученых, а вслед за ними и науковедов,
социологов и историков науки на событиях переднего края и на дисциплинарной
«полисной смуте», вызываемой и подогреваемой этими событиями, экранирует
проблему имщ п туг* поскольку акцент всегда ставится на «Что сказал?», а
вопрос «Кто сказал?» оказывается в общем-то несущественным довеском к «Что
сказал?», необходимость которого исчерпывается, по мнению некоторых
исследователей, действующими правилами цитирования, требующими указания имени
автора при ссылке на цитируемую работу. Такая фиксированность внимания на
процессах между А и В, выводящая «за скобки» и А и В, на «полисной смуте» и
«борьбе идей», как если бы знаки и идеи сами производили эту смуту и эту
борьбу, делает имена вроде бы «излишеством». Они если и участвуют в смуте и
борьбе, то на ролях скорее помех, затемняющих чистоту картины недостойными для
науки честолюбивыми и иными побуждениями, а не на ролях условий
осуществимости этой творческой смуты и этой борьбы идей.
Эта ситуация, явно производная от разрыва генетической связи между
автором и его продуктом в момент публикации, поддерживает популярность одной из
весьма сомнительных, с нашей точки зрения, идей Д.Прайса, которую он
высказал в явном раздражении при анализе «золотоискательских» замашек ученых,
спешащих «застолбить участок» без особых на то оснований: «Я прихожу к выводу,
что научная гонка за право быть где-то первым невероятно расточительна, и все,
что способно уменьшить награду за такие поступки рассматриваю как благо.
Неплохо было бы, пожалуй, лишить авторов права указывать свои имена на статьях.
Довольно с них чести быть допущенными к игре в команде» [150, с. 82, ссылка].
Предложения этого рода выдвигались и даже серьезно обсуждались в инстанциях,
способных сказать веское слово по поводу реализации этой опасной, если не
самоубийственной для науки идеи.
Методологическую несостоятельность этой идеи мы видим в том, что вместе
с устранением имен снимаются и поводы для возникновения актов речи, то есть
универсальная модель акта речи как события между А и В переходит либо в
форму «А в самовольной отлучке», либо в форму «глас вопиющего в пустыне —
В в самовольной отлучке». В общем-то это центральная идея Соссюра —
устранить А и В и рассмотреть в чистом виде тот физический процесс, который между
ними, текст как таковой вне его ориентации и функций: «Избегая бесплодных
дефиниций слов, мы прежде всего выделили внутри общего явления, каким
является речевая деятельность, две составляющих: язык и речь. Язык для нас — это
речевая деятельность минус речь. Он есть совокупность языковых навыков,
позволяющих отдельному человеку понимать других и быть ими понятым» [66>
с. 109-110].
Тем же способом, «избегая бесплодных дефиниций» приходит к тому же
примерно результату и Д.Найт, когда он пытается очистить предмет истории науки
от приложенческих включений: «Любопытство было и остается основой
мотивации наук. Мир предстает гудящей, вызывающей какофонией. В ней следует
отыскать некоторый порядок или привести ее к порядку. Попытки открыть или
внести порядок, если они идут дальше текущих нужд повседневной жизни, образуют
науку, и для тех, кто вовлечен в такие попытки, разработаны различные правила
так называемого научного метода. Когда объекты или события упорядочены,
открывается дорога к предсказанию того, что произойдет. Тогда мы можем знать,
к примеру, как знала Алиса, что «если чего-нибудь глотнуть как следует из
бутылки с этикеткой «Яд», оно почти наверняка рано или поздно поссорится с
тобой». Мы можем делать предсказания даже и тогда, когда мы знаем о
происходящем сравнительно мало. Алиса мало знала о физиологическом воздействии
различных ядов, как и ранние предсказатели погоды обладали малодетализиро-
ванными знаниями в метеорологии, которыми они могли руководствоваться. Но
хотя предсказывать — занятие полезное и вдохновляющее, особенно когда
предсказания сбываются, это занятие не является основной целью науки, поскольку
104
М.К. Петров
для удовлетворения любопытства нам нужно понимание феноменов,
наблюдаемых событий. Иными словами, нам необходимо объяснение» [131, с. 35].
Основанное на объяснении понимание и использующее-понимание
предсказание вещи, понятно, хорошие, но как мы уже видели, сами по себе они не
являются исключительным достоянием науки, и если конечные цели науки сводить
к пониманию как к удовлетворенному любопытству, наукой становится вся
область общения и практической деятельности в духе, скажем приводившегося уже
заявления однофамильцев А.Мейера и Дж.Мейера о искони научной природе
земледельцев, истово верующих в предсказуемость законов природы [157, с. 83].
Фетишизировать объяснение, сдвиг Т0 в Ti не имеет смысла — оно
универсальный рабочий инструмент постредакции, который возникал и существует везде, в
обществах любой культуры, где есть что объяснять и есть кому объяснять, а такая
ситуация фиксируется для всей истории человечества на всю ее глубину.
Невредно, естественно, попытаться классифицировать апробированный
наукой арсенал способов объяснения, но всегда будет оставаться нод сомнением
принадлежность этого арсенала именно к науке, да и саму классификацию
придется сопровождать оговорками и указаниями на исключения, как это делает и
сам Найт: «Различные виды объяснений, которые использовались и многие из
которых продолжают использоваться, допускают классификацию. И этим стоит
заниматься, хотя мы и обнаруживаем, что лишь крайне ограниченное число
действительных объяснений реальных феноменов точно укладывается в одну из
категорий. Наука, как и природа, не полностью соответствует аккуратизму наших
моделей и, естественно, наиболее творческими мужами науки оказываются те, кто
не следует слепо правилам, установленным их предшественниками» [131, с. 36].
В любых попытках классификации объяснений, этим много занимались и до
Найта [нам, например, более полной и состоятельной представляется
классификация С.Пеппера по «корневым метафорам» — 136, с. 9], нет, естественно, ничего
предосудительного, но в методологическом отношении концентрация внимания
на объяснении как таковом онтологизирует, как это происходит и в случае с Со-
ссюром и в случае с Найтом, краткоживущий акт общения между А и В,
превращая его из двухстороннего тезаурусного отношения между объясняющим А и
аудиторией В, где А приходится говорить на языке аудитории Т0, в навязанных ему
аудиторией способах убедительных и доказательных для аудитории В (детский
сад, школа, университет, симпозиум) объяснений, в некое лишенное аудитории
отношение между объясняющим А и объясняемым, человеком и феноменом.
Гипостазируется сама разность Ti-T0, которая в нормальном случае уничтожается
силами объясняющего А с помощью постредакционного воспитательного сдвига
тезауруса аудитории Т0 в новое значение Ti, и объяснение в операциях
классификации повисает в безаудиторной лакуне, то есть действительно становится
гласом категориально вопиющего в пустыне то по нормам телеологического, то по
нормам механистического и иных моделей объяснения. Опасность такого лакун-
ного зависания акта речи-объяснения, если говорить о самих классификациях,
состоит в том, что вместе с аудиторией В устраняется не только идея навязан-
ности объясняющему А аудиторией В способов объяснения, но и, если
употребить термин Аристотеля, топосная характеристика аудитории В — ее возраст,
состав, признанный данной аудиторией в данном составе конкретных индивидов
арсенал авторитетных и доказательных моделей аргументации.
Таким образом, у науки с ее тягой к высоким образцам, к тому, что Рассел |
называет попытками подражать богу теологов в незаинтересованном и целостном ]
восприятии мира под формой вечности из «здесь и сейчас» земных конкретных j
исследований, есть множество поводов забывать о существовании института I
имен, «отвлекаться» от имен как от условий осуществимости всех дел человечес- j
ких, в частности и научно-дисциплинарного познания мира. i
, Трудно сказать, передалась ли эта возвышенность понимания собственной де- I
ятельности современным ученым по наследству от интеллектуалов, в частности и I
История европейской культурной традиции и ее проблемы 105
itш£ЛЛ£Jстyaш^-тeoлoгq^, которые считали себя посредниками между богом и
человеком в силу монополии Римской церкви на истолкование бога и монополии
университета на подготовку интеллектуальных кадров, или же, это нам
представляется более вероятным, наука, своими не очень корректными операциями с
богом при построении дисциплинарных вечностей сама причастилась к
божественному, стала «богодухновенной», исполнилась божественного духа в попытках,
скажем, вытолюгуть бога из библейской в геологическую вечность, но факт
остается фактом: втолковать возвышенно понимающим свою деятельность ученым,
что они просто люди и что уже поэтому их деятельность человекоразмерна,
сегодня труднее, чем когда-либо: Т0 ученой аудитории, которьтЙГв данной ситуации
ничем существенным не отличается от Ту каждого взрослого человека, не
позволяет.
Ученые просто обижаются, когда им слишком уж назойливо напоминают, что
и наука эквифинальна в своих выявлениях, что ее будущее зависит от ментальных
и физических возможностей того младенца, которому только-только нарекли имя
родители, и что объявится он в свое время публикацией, станет видимым и
признанным в дисциплине не только потому, что его вели туда школа и университет,
но и потому, что на этом пути он не встретил ничего для себя непреодолимого,
что все эти пути скроены по мерке его сил и возможностей, по контурам его
человекоразмерности в том смысле, в каком джинсы кроят по конфигурациям
человека, а не наоборот. Наука, понятно, не джинсы, но и ученые не боги и их
научная деятельность не исключение из общего правила: в науке не происходит
и в принципе не может произойти ничего такого, что превышало бы возможности
человека как существа естественного, социального и разумного, а чтобы стать
существом социальным и разумным естественному человеку пришлось обзавестись
институтом имен.
В других культурах, особенно в ^первобытном обществе, функциональная роль
института имен выражена более определенно, хотя и здесь, конечно, привычная
европейская научная оптика обращает больше внимания на экзотику, чем на
общечеловеческие универсалии. ЛЛеви-Брюль, систематизируя свидетельства
многих антропологов, пишет о первобытном восприятии имени: «Первобытные люди
рассматривают свои шйёшГкак нечто конкретное, реальное и часто священное...
Индеец рассматривает свое имя не как простой ярлык, но как отдельную часть
своей личности, как нечто вроде своих глаз или зубов. Он верит, что от
злонамеренного употребления его именем он так же верно будет страдать, как и от
раны, нанесенной какой-нибудь части его тела. Это верование встречается у
разных племен от Атлантического до Тихого океана... На побережье Западной
Африки существуют верования в реальную и физическую связь между человеком и
его именем: можно ранить человека, пользуясь его именем... Может показаться,
что только имя, дающееся при рождении, а не повседневное имя считается
способным переносить в другое место часть личности. Дело в том, однако, что
туземцы, по-видимому, думают, будто повседневное имя не принадлежит реально
человеку» [31, с. 20].
Обращение с именами требует осторожности: «Нельзя произносить ни свое
собственное, ни чужое имя, ни особенно имена покойников: часто даже
повседневные слова, в которые входят имена покойников, исключаются из
употребления. Коснуться чьего-либо имени значит коснуться самого его или существа,
которое носит это имя. Это значит посягнуть на него, учинить насилие над его
личностью, принудить его явиться, что может стать большой опасностью... Когда
санталы находятся на охоте и встречают леопарда или тигра, они обращают
внимание своих спутников на зверя криками «кошка» или как-нибудь еще в том же
роде Точно так же у чироки никто не скажет, что кто-нибудь укушен очковой
змеей про такого человека говорят, что он оцарапан терновником. Когда эти
туземцы убивают орла для использования его во время ритуальной пляски, то они
106
М.К. Петров
объявляют, что убита овсянка. Делается это для того, чтобы обмануть духов
очковых змей, которые, ведь, могут слышать, что про них говорят» [31, с. 30—31].
Фиксируется и явная связь структуры института имен с возрастным
движением индивидов: «При вступлении в новый период своей жизни, например, во
время посвящения, индивид получает новое имя. Это происходит также, когда он
принимается в тайное общество... Имя никогда не является чем-то безразличным:
оно всегда предполагает целый ряд отношений между его носителем и
источником, откуда оно происходит... В племени квакиутль каждый клан имеет
определенное ограниченное количество имен, каждый член клана зараз имеет только
одно имя. Носители этих имен образуют собой аристократию племени. Когда
член клана получает от своего тестя тотем, то он получает также и его имя: тесть
же, который теряет это имя, получает то, что называют «стариковским именем»,
которое уже не принадлежит к числу имен, составляющих аристократию
племени» [31, с. 31-32].
В этих описаниях-вытяжках из множества работ — в библиографическом
списке Леви-Брюля указано около 250 обобщающих работ и конкретных полевых
исследований [31, с. 321—327] — с развиваемой нами точки зрения наиболее
интересны два обстоятельства.
Об одном мы уже говорили. Это удивительное единообразие материала,
позволяющее Леви-Брюлю по довольно пестрому набору идентификаторов
опознавать тождественные реалии социальной жизни в самых различных уголках земли.
Самое возможность таких процедур идентификации можно, на наш взгляд,
сколько-нибудь разумным образом, не прибегая к вмешательству сверхъестественных
и надчеловеческих сил, объяснить только из гипотезы очагового происхождения
человечества с локализацией очага в какой-то точке земного шара, что придало
этому материалу исходное единство социальных институтов, с последующим
расселением-почкованием этих исходных социальных единиц, оказавшихся к
моменту начала наблюдения и описания практически во всех сколько-нибудь
пригодных для обитания местах земли.
Второе обстоятельство связано как раз с осуществимостью расселения. В
наборе универсальных идентификаторов у Леви-Брюля, как и у большинства других
исследователей, нет сколько-нибудь формализованного структурного
представления о первобытном способе познания окружения, который позволил бы опознать
соответствующие институты на уровне полевых исследований, хотя в общем-то
ясно, что первичная территориальная экспансия человечества не могла бы
осуществиться без попутного знакового и практического освоения новых сред
обитания. В определенном смысле это даже достоинство работ по антропологии:
обилие косвенных данных незапланированной информативности вполне позволяет
реконструировать недостающие звенья.
В отличие от нашей общеевропейской ориентации на творчество, познание,
анализируемый Леви-Брюлем материал определенно тяготеет к репродукции и
особенно это характерно для института имен, который обнаруживает довольно
сложную структуру.
Наиболее типично представление о цикле конечного числа имен-душ, часть
которого совпадает с земным возрастным движением индивидов, а другая часть,
той же примерно структуры, проходит в ином мире. Иногда в самом этом цикле
располагается регулятор: «Они считают, что принятие племенем какой-нибудь
души, когда она посылается одушевить человеческую форму, становится полным
лишь после совершения церемонии, во время которой ребенку дают имя, то есть
на седьмой день после рождения. Они также защищают любопытное учение о
том, что Бура (божество) намечает определенное количество душ для каждого
человеческого поколения. Вследствие этого, по их убеждению, душа
новорожденного, умершего до наречения имени, не входит в круг духов племени для того,
чтобы перевоплотиться столько раз, сколько это угодно будет Динга, но возвра-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 107
щается к сонму духов, предназначенному для поколения, к которому эта душа
принадлежит» [31, с. 233].
Между переходами из мира в мир наблюдается определенное сходство:
«Период, который следует непосредственно за родами, совершенно аналогичен тому,
который следует непосредственно за последним вздохом... Здесь еще нет ничего
окончательного. Душу, которая только что покинула тело, умоляют вернуться, ее
упрашивают не покидать тех, кто ее любит, ее чувствуют еще совсем близкой.
Точно так же новорожденный, издавший первый свой крик, является, скорее,
кандидатом на жизнь в общественной группе, чем живым. Здесь также нет еще
ничего решенного. Если есть хотя бы слабое основание для недопущения
ребенка, то это делают без всяких колебаний» [31, с. 231].
Существенным моментом в решении вопроса о том, жить или не жить
ребенку является идентификация его имени: «Для того, чтобы ребенок вышел из этого
периода, когда жизнь его является еще не определившейся, как не
определившейся является смерть человека, испустившего дух, необходимо прежде всего,
чтобы он получил свое имя во время более или менее сложной церемонии.
Иными словами, необходимо определить, кто он такой. Ибо дело здесь вовсе не
в том, чтобы выбрать ребенку имя. Ребенок, явившийся в мир, является
перевоплощением определенного предка: он, следовательно, наперед имеет уже имя, и
вот это-то имя и важно узнать. Иногда оно открывается при помощи
какого-нибудь внешнего знака, отметины на теле... шаманы имеют обыкновение делать
отметку на трупе при помощи «гхе» либо маслом, либо сажей, когда же
впоследствии в семье рождается ребенок, то тело его осматривают, чтобы определить, не
имеется ли на нем такой отметины. Если таковую находят, то ребенка считают
перевоплощением этого имени» [31, с. 233].
Чаще всего для идентификации имени прибегают к помощи колдуна или
знахаря, или шамана: «На Западном побережьи Африки покойники часто
возвращаются на землю и снова рождаются в семье, к которой они принадлежали в своем
предыдущем существовании. Мать всегда посылает за бабалово. чтобы тот
сообщил ей, какому предку принадлежит дух, одушевляющий ее новорожденного
ребенка; бабалово никогда не отказывается дать матери ответ. Когда этот важный
момент установлен, бабалово указывает родителям, что ребенок их во всех
отношениях должен будет походить всем своим поведением и образом жизни на
предка, который вновь оживает в нем. Если, как это бывает часто, родители захвачены
врасплох и ничего не знают об этом предке, то бабалово сообщает им
необходимые сведения. В Новой Зеландии, иногда у ребенка отпадала пуповина, то его
несли к жрецу... В ухо ему вкладывали конец вака пакодо ра кау (своего рода
маленького идола, имевшего приблизительно 18 дюймов длины, походившего на
колышек с резной головкой) для того, чтобы в него могло проникнуть «мана»
бога, и жрец произносил следующую формулу: «Жди того, что я произнесу твое
имя. Как твое имя? Слушай свое имя. Вот твое имя». После этого жрец излагал
длинный список имен предков: то имя, при произнесении которого ребенок
чихнул, выбиралось в качестве имени ребенка» [31, с. 234].
Близкие по смыслу процедуры ввода в имя и вывода из имени, «рождения» в
одном имени и вывода из этого имени ради рождения в другом имени, будут
сопровождать индивида до конца жизни, где опять-таки его переведут в запас по
основному, данному в первые дни после рождения имени, в список «находящихся
в самовольной отлучке» имен-должностей, которые временно находятся в ином
мире и возвращаются в земной в актах идентификации прямого (знаки на трупах
и на младенцах) или опосредованного специалистами типа. «Отсев» на этом
уровне, понятно, велик — Леви-Брюль показывает широкую распространенность
обычая умерщвлять младенцев, — тем более, что не каждому удается родиться с
печатями принадлежности к списку имен племени или чихнуть в нужное время.
Отсев увеличивает и то, отмечаемое исследованиями убеждение, что умерший до
акта наименования младенец уже близко, ищет, подобно провалившемуся на эк-
108
М.К. Петров
замене абитуриенту, ближайшего случая вновь предстать перед экзаменационной
комиссией.
На данное при рождении имя накладываются тем же способом новые имена
на предмет их временного исполнения: «Это имя не является ни единственным,
ни наиболее важным из тех имен, которые будет носить человек. Во множестве
низших обществ мужчина на каждом этапе своей жизни получает новое имя,
которое является знаком, мистическим носителем новой, устанавливающейся для
него сопричастности: он получает новое имя и во время посвящения, и при
заключении брака, и при убийстве первого врага, скальпом которого он овладел,
при поимке определенной дичи, при вступлении в тайное общество, при
получении высшей степени и т.д. Первое имя, которое дается человеку обычно через
очень короткое время после рождения, является, таким образом, просто своего
рода записью его мистического гражданского состояния. Это лишь начало
определенного оформленного существования. Отныне человек имеет свое место в
родовой или общественной группе. В этой группе он представляет собой члена,
который был сопричастен в полной мере данной группе в прошлом и который
имеет право быть ей сопричастным в такой же мере в будущем, когда он пройдет
через необходимые церемонии.
Леви-Брюль с его подчеркиванием различий между «мистическим» и
«логическим» явно не видит, что как раз это вхождение через имена в «социальные
группы», особенно обряд инициации или посвящения, и может оказаться
древнейшей формой развода индивидов в посильные для них фрагменты деятельности
через связь сопричастия между именами группы и соответствующей группой
текстов. Если, скажем, «бабалово», выступая в функции памяти племени, способен
не только назвать имя ребенка, но и сообщить родителям, если им это имя
ничего не говорит, «необходимые сведения» о поведении и образе жизни носителя
этого имени, то демонстрировать такую способность он очевидно может только
в том случае, когда в его памяти индивидуализирующие имена представлены в
ассоциации с различающими текстами, а не просто списком знаков-различений.
Что касается акцента Леви-Брюля на мистическом, не поддающемся
рациональному объяснению характере связи поименованных индивидов с группами,
которым принадлежат эти имена, то методологическая спорность и даже
несостоятельность такого акцента в интересующем нас лингвистическом плане
критиковали уже отцы современной лингвистики. Х.Ульдалль, например, со ссылками на
«Общие принципы грамматики» Л.Ельмслева [73], писал: «Леви-Брюль
обнаружил, что мышление первобытных людей является не; логическим, а) как он его
назвал, «пралогическим»; в частности, оно характеризуется безразличием к
принципу противоречия или к утверждениям типа «вы не можете съесть пирог и все-
таки сохранить его у себя». Это было очень важным и плодотворным открытием,
особенно потому, что, как указывали уже многие авторы, Леви-Брюль безусловно
ошибался, когда проводил основополагающее различие между «первобытным» и
«цивилизованным» человеком^Постепенно становится все более и более
очевидным, что все мы — братья, несмотря на различие цвета кожи, и что логическое
мышление даже у «цивилизованных» людей похоже скорее на танцы лошадей, то
есть на трюк, которому можно обучить некоторых, но далеко не всех, причем он
может исполняться лишь с большой затратой сил и с разной степенью
мастерства, и даже лучшие представители не в состоянии повторять его много раз подряд.
Теперь, в частности, уже совершенно точно установлено, что все языки (а не
только, как думал Леви-Брюль, «первобытные» языки) основаны на этой прало-
гической партиципации. Но если язык сам по себе «алогичен», не исключает ли
это возможность какого бы то ни было его исследования посредством научных,
то есть логических методов? Я этого не думаю, потому что вопреки Леви-Брюлю
пралогическое и логическое мышление нельзя считать полностью
несопоставимыми; если бы они были несопоставимы, то, конечно, едва ли было бы
возможно, чтобы он сам — высокообразованный человек — мог выдвинуть теорию пра-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 109
логического. Ничто не препятствует построению теории, которая соответствует и
логическому и пралогическому. И, во всяком случае, было бы несколько
преждевременным полагать, что метод научного исследования должен отражать или
всегда отражает «реальную» структуру предмета исследования только по той
причине, что не существует способа обнаружить, в чем состоит эта «реальная»
структура» [73, с. 393-395].
Леви-Брюль действительно часто злоупотребляет утверждениями о
недоступности для логического мышления тех очевидных проявлений «пралогического»,
которые явно вступают в противоречие с формальной логикой, причем иногда
это делается в опасной близи к врожденным свойствам, к биокоду человека.
Встречаются подобные утверждения и при обсуждении института имен, хотя
здесь его заявления типа «здесь ряд непреодолимых трудностей для логического
мышления, которое не в состоянии допустить «многосущность» личностей, их
одновременную локализацию в нескольких разных местах» [31, с. 228],
демонстрируют скорее удивление Леви-Брюля перед странностью института имен, чем
желание понять его вполне рациональную функцию.
Леви-Брюль пишет о движении «словаря» имен племенной социальности:
«Когда рождается ребенок, определенная личность вновь появляется или, говоря
более точно, возрождается. Всякое рождение является перевоплощением.
Существует большое множество обществ, негрских, малайо-полинезийских, индейских
(группы сиуксов, алгонкинов, ирокезов, пуэбло, северо-западных), эскимосских,
австралийских, где правилом является система перевоплощения покойника и
унаследование его имени в семье или клане. Индивид рождается у племен
Северо-Западной Америки вместе со своим именем, со своими социальными
функциями, со своим гербом... Число индивидов, имен, душ и ролей является в клане
ограниченным, и жизнь клана — это не что иное, как совокупность возрождений
и смертей всегда одних и тех же индивидов. Хотя в менее чистом виде, но это
явление существует в виде необходимого института также и у австралийцев, и у
негритосов. Клан по своему происхождению осознается и представляется
связанным с какой-нибудь точкой земной поверхности, которая служит центральным
обиталищем тотемических душ, с теми скалами, в которые вошли предки и
откуда выходят имеющие быть зачатыми дети, откуда, наконец, распространяются
среди тотемического вида души животных, размножение которых обеспечивается
данным кланом» [31, с. 228—229].
Такое описание института имен можно было бы считать идеальным с точки
зрения постулата генетической недостаточности человеческого рода, поскольку
именно такую почти кибернетическую или почти термитную форму могла бы
принять человеческая постредакция, если бы неизменными оставались условия
обитания племени, не возникало бы достаточно серьезных мотивов для
почкования племени, перемены мест обитания, то есть перед глазами европейцев не было
бы самого факта заселенности и обжитости земли к моменту начала наблюдений
и объяснений. "В конце концов не так уж и трудно было бы зарегулировать этот
репродуктивный и вечный процесс смертей и возрождений конечного круга
индивидуальных имен, несущих сообща социальность в смене поколений.
Попробуем подойти к вопросу с учетом позиции тех наблюдателей и полевых
исследователей, результаты которых генерализированы Леви-Брюлем. Состав
наблюдателей и исследователей достаточно пестр. Он связан частично с
дисциплинарным становлением антропологии, частично с меняющимися условиями
наблюдения и описания. Дж.Беннет, например, первоначальную пестроту позиций
и становление парадигмы культурной антропологии связывает с появлением
преподавания курса антропологии в американских университетах в 80-е гг. XIX в.:
«После заката эволюционной теории американские антропологи начала XX в.
ухватились за описательное гуманитарное понятие «культуры», превратили его в
научное открытие, в новый порядок реальности. Хотя такое понимание быстро
распространилось в социальных и поведенческих науках, только культурная антро-
110
M. К. Петров
пологая использовала культуру как центральную объясняющую концепцию» [92,
с. 847].
Фактологический материал, на котором строятся выводы Леви-Брюля,
принадлежит к этому переходному периоду. Иными словами, в первобытном
обществе видели либо ближайшую к животному миру ступень «дикости», которая
заведомо должна была быть ниже нашего «цивилизованного» состояния, либо же
более или менее самостоятельный культурный тип, причем преобладал первый
взгляд. К тому же полевые исследования конца XIX в. и самого начала XX в., не
говоря уже о свидетельствах более ранних периодов, были весьма слабо оснащены
технически и велись на уровне, который сейчас допустим разве что для зондажей,
для оперативного выяснения того, стоит ли вообще вести исследование.
К середине XX в. положение изменилось двояким образом. С одной стороны,
исследовательская техника предоставила самые широкие возможности для
ведения полевых исследований, а с другой, — практически исчез сам объект
наблюдений. Беннет замечает: «По моему мнению, новая ситуация создает
интеллектуальный кризис, который осложняется постепенным исчезновением основной
связующей единицы предмета этнографии — изолированного первобытного общества.
По мере трансформации таких обществ в обладающие национальным
самосознанием общества, в этнические группы или классы, становится все более сильной
склонность антропологов к социальным наукам. Э^го порождает компенсирующие
эксперименты, использующие, чтобы избежать социального сциентизма, а вместе
с тем и отмежеваться от искусства, семантические и феноменологические
подходы, но попутно ведет к разложению предмета до уровня, на котором сейчас уже
можно говорить о существовании сепаратных «антропологии» для политэкономии,
политологии, социологии, педагогики, символики, экологии и т.п.» [92, с. 847].
Понятно, что и наш анализ в этом смысле не исключение. Мы просто
открыто признаем тот факт, что нравится нам или не нравится методологическая
упаковка материала, в будущем вряд ли удастся пополнить прямыми свидетельствами
ту фактологическую базу, на которой возникали обобщающие работы конца XIX
и начала XX вв. Учитывая это, мы склонны принять предлагаемую Леви-Брюлем
картину круговращения конечного числа имен с их текстами-программами жизни
как статическую парадигму института имен, статичность которой возникла не в
результате каких-то оплошностей и промахов исследователей, а была
естественным следствием специфических условий наблюдения и изучения. Ответственным
за изменение познавательно-творческим моментам здесь было трудно выявиться
в силу зондирующего характера исследований, то есть имело место, хотя и по
другим причинам, примерно та же ситуация, которая воспроизводится в
физиологии высшей нервной деятельности животных, где, если строго разобраться,
изучаются все же не просто животные, а голодные животные просто потому, что
сытый кот мышей не ловит, норовит уснуть и не представляет интереса для его
исследователей.
В отличие от сытого кота статическая модель института имен все же довольно
информативна. Если учесть, что все мы люди, то и для первобытного общества
остаются в силе этапы возрастного движения индивидов: «от 2 до 5», взросление
под воспитательным воздействием старших и т.д., то статика с учетом этапов
возрастного движения индивидов может дать повод для поиска условий возможности
динамики. Конкретно в зафиксированной Леви-Брюлем картине следует, по
нашему мнению, искать некую устойчивую группу-ядро, имеющую свой
ограниченный набор имен и специализирующих текстов, вход в которую открыт только
юношам и взрослым и, поскольку всегда есть необходимость в дублерах, открыт
далеко не всем.
В этом смысле Леви-Брюль сам выделяет особое значение обряда посвящения.
Он так описывает события после идентификации имени младенца: «В течение
длинного периода, который за этим следует и продолжается чаще всего от
раннего детства до половой зрелости, или, по крайней мере, до посвящения, под-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 111
растаюшие дети почти целиком предоставлены матерям. Мужчины совершенно
не занимаются девочками, мальчиков же они обучают в форме игры тому, что
впоследствии явится их серьезным занятием: изготовлению и обращению с
оружием и орудиями. Дети, которых, впрочем, очень любят и балуют, не являются
еще «совершенными» членами общественной группы... Для того, чтобы ребенок
достиг состояния «совершенного» мужчины, недостаточно, чтобы он стал зрелым
в половом отношении и взрослым. Зрелость его тела является необходимым, но
не достаточным условием. Это даже не самое существенное условие. Наиболее
важное значение здесь, как и в других областях, сообразно с ориентацией прало-
гического мышления, имеют мистические элементы, действия, обряды,
церемонии, которые имеют целью сделать молодых людей сопричастными самой
сущности тотема или племени. Не пройдя через это посвящение, индивид, каков бы
ни был у него возраст, всегда будет числиться среди детей. Об этом
свидетельствует множество фактов» [31, с. 234—235].
Состояние затянувшегося детства, дублера, «лишнего человека», а здесь мы
несомненно имеем дело с институтом лишних людей как универсалией истории
человечества, — может тянуться неопределенно долго: «Это состояние
несовершеннолетия, которое длится до тех пор, пока не совершено посвящение,
сопровождается большим количеством ограничений, выражающих неправоспособность,
неполноценность. На Самоа юноша, пока он не подвергся татуировке,... не мог
и думать о браке. Он постоянно подвергался насмешкам, над ним постоянно
издевались, как над бедняком и существом низкого происхождения, не имеющем
права говорить в собрании мужчин. У большинства австралийских племен ему
запрещается есть разные виды мяса. Он не имеет права принимать участие в каком
бы то ни было обсуждении, имеющем место на стоянке. Никогда у него не
спрашивают мнения или совета, да он даже и не думает давать его. От него не ждут,
чтобы он участвовал в сражении или влюбился в молодую женщину. Фактически
он как бы не существует. Но как только он прошел через испытание посвящения,
которое делает его мужчиной, он занимает подобающее ему место среди членов
племени... Таким образом, церемонии посвящения имеют целью сделать
индивида «совершенным», способным исполнять все функции законного члена племени,
они призваны «закончить» его в качестве живого человека, подобно тому, как
заключительная траурная церемония делает человека «совершенным» в качестве
покойника» [31, с. 236—237].
Отсылая к Спенсеру, Гиллену, Фрезеру за подробностями, Леви-Брюль
предостерегает от чрезмерных усилий понять, что собственно происходит в актах
посвящения: «Я ограничусь и здесь указанием на то, что старание сделать эти
обряды «понятными» часто рискует привести к противоположному результату.
Достигнув цели, оно фактически оказывается очень далеко от нее. И действительно,
то, что является «понятным» для логического мышления, имеет весьма мало
шансов совпасть с теми целями, которые ставит себе пралогическоё мышление. Не
претендуя на" «объяснение» этих обрядов, я только попытаюсь показать с
формальной точки зрения, как они, подобно большинству других обычаев низших
обществ, связаны с коллективными представлениями этих обществ и законами,
которые управляют этими коллективными представлениями» [31, с. 237—238].
Это может показаться странным, но, когда Леви-Брюль описывает «с
формальной точки зрения» мистику коллективных представлений и построенных на
них обычаев, мы определенно начинаем чувствовать под ногами привычную те-
заурусную почву акта речи между А и В, где А отыскивает способ войти на уровне
То, «сопричастия» к единому тексту в контакт с В, построить тезаурусное
отношение и разрешить его: «Общая схема этих обычаев такова: цель, которая на наш
взгляд является положительной, например, поимка добычи, исцеление больного,
осуществляется здесь при помощи целой системы средств, среди которых
средства и способы, обладающие мистическим характером, преобладают над всеми
другими. Охота возможна лишь в том случае, если между дичью и охотниками уста-
112
М.К. Петров
новлена мистическая сопричастность. Болезнь является делом того или иного
духа: поэтому лечебные средства могут иметь какой-нибудь успех лишь в том
случае, если «доктор» находится в общении с этим духом и способен овладеть ими
и заставить его уйти волей или неволей и т.д.» [31, с. 238].
Это чувство тезаурусной природы происходящего только усиливается, когда
Леви-Брюль пытается конкретизировать общую схему для описания акта
посвящения: «Приложим эту схему к случаю посвящения. Новопосвящаемые отделяются
от женщин и детей, с которыми они жили до этого времени. Обычно отделение
совершается внезапно и неожиданно. Будучи доверены попечению и наблюдению
определенного взрослого мужчины, с которым они часто находятся в известной
родственной связи, новопосвящаемые обязаны пассивно подчиняться всему, что с
ними делают, и переносить без каких бы то ни было жалоб всякую боль.
Испытания являются долгими и мучительными, а порой доходят до настоящих пыток. Тут
мы встречаем и лишение сна, пищи, бичевание и сечение палками, удары дубиной
по голове, выщипывание волос, соскабливание кожи, вырывание зубов,
обрезание, подрезание, кровопускание, укусы ядовитых муравьев, душение дымом,
подвешивание при помощи крючков, вонзаемых в тело, испытание огнем и т.д.
Несомненно второстепенным мотивом в этих обычаях может служить стремление
удостовериться в храбрости и выносливости новопосвящаемых, испытать их мужество,
удостовериться, способны ли они выдержать боль и хранить тайну. Главной,
однако, и первоначальной целью, которую преследуют при этом, является
мистический результат, совершенно не зависящий от их воли: дело идет здесь о том, чтобы
установить партиципацию между новопосвящаемыми и мистическими
реальностями, каковыми являются самая сущность общественной группы, тотемы,
мифические или человеческие предки. Путем установления этой сопричастности
посвящаемому дается, как уже говорилось, «новая душа». Здесь появляются
непреодолимые для нашего логического мышления трудности, вызываемые вопросом о
единстве или множественности души» [31, с. 238—239].
Если согласиться с Леви-Брюлем, что «физическую», так сказать, сторону
обряда следует отнести к средствам пропедевтики и мнемотехники для обеспечения
главного — сопричастия с ограниченной группой избранных, то подобные
ситуации в общем-то характерны и для нашего общества. Л.Уилсон, например,
описывая движение аспирантов к защите докторской диссертации, прямо ссылается
на обряд посвящения: «Прежде всего рассмотрим барьеры, которые будущий
доктор философии обязан преодолеть, и вехи, которые он должен пройти на пути к
высшей ученой степени. Антрополог не затруднился бы предложить в качестве
аналогии инициацию-посвящение: те, кого профессия посвящает в высшее
образование, проходят через модификации обрядов, которые во многих отношениях
функционально подобны первобытным обрядам посвящения юношей в воины.
Академический новобранец не получает физических травм, от него не требуют
поспешать в пустынное место ради имеющих быть видений, но он вполне
вероятно натерпится мучений и до и во время того, что многие аспиранты
ассоциируют с «судом божьим» [175, с. 39—40].
Но мы ищем нечто большее, чем избранность или профессионализм.
Избранность конечно не помешала бы, и она-то как раз фиксируется: не все
удостаиваются посвящения. Но в идеале проблему, поставленную постулатом генетической
недостаточности человеческого рода и дополнительным постулатом о присутствии
в человеческой постредакции специализирующего кодирования, для реализации
которого нужны индивидуализирующие имена, специализирующие тексты и
воспитатели, способные сообщить такой текст обозначенному именем индивиду,
решала бы постоянная по числу участников группа индивидов, использующая
системную организацию коллективного действия по поводу присвоения нечеловеко-
размерных реалий окружения, то есть группа, разлагающая в принципе нечело-
векоразмерную программу, скажем, охоты на слона, мамонта, бизона, кита — на
заманчивые по количеству протеина, но недоступные для освоения в одиночку
История европейской культурной традиции и ее проблемы 113
реалии среды обитания — в сопряженное множество различенных и человекораз-
мерных подпрограмм и распределяющая эти подпрограммы по конечному
множеству имен участников этой группы.
Есть ли основание говорить о том, что повсеместное распространение обрядов
посвящения, завершением которых является обретение кандидатом на вход в
группу нового имени и «новой души», как раз и есть вход в такую группу, в ядро
первобытной социальности, ответственное и за статику и за динамику обществ
первобытной культуры?
Нам кажется, что вероятность положительного ответа весьма велика, если в
группах, носителях коллективных представлений и обладателей конечного
словаря имен, каждое из которых должно быть занято индивидом, используется тот же
принцип «одно имя — один носитель», который Леви-Брюль фиксирует для
первобытной социальности в целом, настаивая на тождестве процедур входа и выхода
из социальности. Тогда для тех счастливцев мужчин, которым удалось пройти
первый барьер — идентификацию имени — и не попасть в категорию лишних
людей, несостоявшихся претендентов на штатные должности в ядерной группе
охотников-воинов, можно было бы наметить примерно следующую схему
возрастного движения:
1. Идентификация имени.
2. Первичная социализация и универсальная подготовка: «от 2 до 5»,
движение к То посвящения — «мужчины обучают мальчиков в форме игры тому, что
впоследствии явится их серьезным занятием: изготовлению и обращению с
оружием и орудиями» [31, с. 234].
3. Посвящение, специализирующее кодирование в имя ядерной группы на
базе То универсальной подготовки.
4. Передача имен и-должности в ядерной группе очередному носителю в акте
посвящения и переход в группу воспитателей — «аристократии» племени или клана.
5. Передача имени воспитателя новому воспитателю и переход в
«стариковскую» группу.
6. Смерть и освобождение первого имени для новых использований в актах
идентификации имен младенцев.
Об этой последовательности событий в возрастном движении индивидов
первобытного общества нам придется говорить более подробно. Пока отметим
сходство первобытной ситуации с тем, что мы наблюдаем в нашей Ту культуре:
разводу индивидов в специализированные фрагменты деятельности предшествует
длительный период всеобщей универсальной подготовки мальчиков и юношей,
так что 2-й этап несет по сути дела ту же функцию, что и наша
общеобразовательная средняя школа, задавая Т0 для всех движений в специализацию. Если бы
нам удалось показать, что ядерная группа носителей специализированных
текстов, которые ее члены получают в обрядах посвящения, способна выполнять и
функцию познания, то нам, пожалуй, стало бы более понятно то, каким способом
человечество могло расселиться по всей земле.
А теперь, коль скоро поиск института имен, роль которого в современной
европейской Ту культуре надежно упрятана в данность ориентацией на творчество
и познание, привел нас к древнейшему, видимо, способу системной организации
общества, нам предстоит снова, уже с более богатым арсеналом методологических
средств вернуться к началу человеческой истории, к ее Геркулесовым столпам, с
тем чтобы попробовать разобраться в складывающейся здесь ситуации.
Глава 3. Дискуссии вокруг начала человеческой истории
Перевод проблемы начала человеческой истории из состояния данности, в
котором она пребывала на правах решенной для всей европейской культурной
традиции со времен утверждения христианства и авторитета Библии как основного
8 М.К. Петров
114
M. К. Петров
источника достоверных сведений о человеке, в состояние научной проблемы,
способной вызывать разногласия, дискуссии и споры, бесспорная заслуга Лайеля
и Дарвина. Геологи отодвинули бога — признанного христианским миром
примата всех мыслимых историй, в частности и человеческой, в далекое прошлое,
перевели тем самым недельный по длительности акт божественного творения всех
историй в незавершенный и поныне процесс, начало которого неизвестно где,
конца которому не предвидится, если процесс этот осознается по постулату Гат-
утона — «мы не обнаруживаем следов начала и перспективы конца», но в рамках
> которого присутствуют все же ориентиры-членения: в докембрии нет органики,
поэтому история биологии «короче» истории геологии, человек не первое
творение «примата», кем бы он ни оказался, поэтому история человека много «короче»
истории биологии в целом.
Дарвиновская идея эволюции, устранив угрозу сокращения разнообразия
форм жизни из-за процесса вымирания видов, внесла в эти членения смысл
преемственной последовательности наблюдаемых форм жизни, относительно каждой
из которых правомерным стал вопрос о начале данной формы жизни и его связи
с предыдущими формами, которые вроде бы без особых затруднений
устанавливались и устанавливаются по данным сравнительной анатомии, по гомологиям,
рудиментам и прочим бесспорным свидетельствам родства.
Первоначальный акцент эволюционной теории на умножение разнообразия
форм жизни, явно вызванный переполохом естественных историков по поводу
появления неопровержимых свидетельств процесса вымирания видов, убыли
разнообразия из-за прекращения истории отдельных видов, остался в силе и сегодня:
нескольким формам жизни можно иметь в начале своей истории одного
примата-предка, но если уж речь заходит о конкретном виде или о конкретной форме
жизни, то его история обязана иметь в своем начале одного и только одного
примата-предка, поскольку без выполнения этого условия ничего кроме «истории
мула», которую всякий раз приходится начинать с начала, с осла и кобылы,
получиться не может.
Совокупными усилиями геологов и биологов бога не только отодвинули в
прутковское «ужасно далеко», откуда обычно уже не возвращаются, но и по
случаю этой самовольной отлучки признанного примата человеческой истории
начали искать ему замену обычными для биологов методами поиска достойного
кандидата на исполнение обязанностей отсутствующего по своим божественным
резонам библейского примата, ответственного за начало человеческой истории.
Посылка — «у каждого жизнеспособного вида, будь он биологически и
генетически достаточным или недостаточным, один и только один примат-предок» в
случае с началом человеческой истории стала развертываться в типичную
«кадровую» проблему: насколько далеко забрался в самовольной отлучке штатный
примат человеческой истории, каковы шансы на его возвращение из признанного
«ужасно далеко», не пора ли снять оскорбительную для чести и достоинства
избранного биологами примата приставку: «и.о.»?
В рамках этой проблемной области шли и идут сегодня споры вокруг
проблемы начала человеческой истории и ответственного за это начало примата. Сразу
же отметим, что по ходу споров и дискуссий идет постепенная методологическая
инфляция постулата биологов — «у каждой формы жизни одна и только одна
предшествующая», растет, а не сокращается состав патристики — претендентов
на «и.о.» примата человеческой истории, хотя прямо нужно сказать, что, уже
начиная с полемики 1860 г. между Гексли и Уилберфорсом, споры включали
скандальные по современным представлениям нюансы.
Д.Найт так описывает начальные перипетии субституции бога обезьяной в
должности и.о. примата: «Идея о том, что обезьяны подобны людям, была
известна со времен античности. Так, Гален, когда ему не удавалось достать
человеческих трупов для рассечения, довольствовался иссечением трупов обезьян. В
XVII в. Тайсон опубликовал анатомическое описание человекообразной обезьяны.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 115
Но только где-то в конце XVIII в. обрела почву вызывающая идея о том, что все
виды текучи, природа континуум, и некоторые люди более подобны обезьянам,
нежели другие. Именно эту идею вычитал Оуэн в работе Гексли, которая была
опубликована под названием «Место человека в природе». А его друг Уилберфорс
специально отмечал в «Происхождении видов» места, где говорилось о
порабощающих муравьях, причем в своем обзоре он останавливал на них внимание для
того, похоже, чтобы оправдать естественную природу рабства и даже
естественность того, что именно черным муравьям или черным людям надлежит пребывать
рабами. Дарвин сам наблюдал рабство в Бразилии и весьма резко в публичных и
частных замечаниях выражал к нему отвращение. Но дарвинизм все же давал
определенную опору и для расизма и для жестокой социальной политики, так что
нам следует быть осторожными в нападках на тех, кто отрицательно относится к
дарвинизму» [131, с. 198].
С этого отрицательного отношения к дарвинизму мы и начнем обзор
современной ситуации, без чего сложно было бы понять, насколько далеко разошлись
пути науки и теологии, насколько правомерно и своевременно вычеркивать «и.о.»
из титула обезьяны в должности примата человеческой истории.
Приступ аппендицита в Калифорнии ^ , ~" ^
Когда И.Гальтунг пишет о росте догматизма в науке по мере субституции бога
концептом Эмпирической Реальности, подчеркивая, что именно по ходу
устранения бога наука становится все мелее терпимой к трансцендентным ересям, иным
реальностям, которые становятся «в тем большей степени еретичными, чем менее
остается от бога как альтернативы, хотя и реликтовой, от демиурга» [112, с. 37],
его оценка-позиции бога, в качестве претендента на должность примата
человеческой истории вообще и истории науки в частности в общем-то совпадает с
оценками многих историков науки — важная и явно выступавшая в роли условия
осуществимости опытной науки идея разумного творения мира, в частности и
человека богом перешла теперь в состояние безобидного рудимента,
методологического «аппендикса» современной науки в духе, скажем, заявления Найта:
«Поскольку наука XX в. вышла за границы христианского мира, следовало бы
ожидать, что отношения между наукой и теологией должны бы стать менее тесными.
Похоже, что именно это и произошло, особенно когда на Западе религиозное
возрождение XIX в. пошло на убыль, и церкви потеряли свой статус
первостепенной важности. Но некоторые аспекты науки все еще привлекают внимание
тех теологов, которые видят в прозрениях ученых элемент «космического
откровения», а в военной и технологической науке усматривают множество моральных
проблем» [131, с. 196].
Общий смысл таких оценок, насколько его удается уловить, состоит примерно
в том, что теология пожалуй, действительно теряет функции, переходит в разряд
рудиментарных органов — исторических свидетельств типа аппендикса, но
органов, так сказать, спокойных, не способных порождать каких-либо серьезных и
острых проблем самим фактом своего присутствия. Примерно в этом плане А.Эт-
циони и К.Нанн [157] описывают соотношение сил между наукой и теологией в
современном американском обществе.
На общем фоне кризиса доверия к институтам американского общества (см.
табл. 6) положение науки выглядит неплохо по сравнению с положением других
институтов. С пятого места после медицины, финансов, вооруженных сил и
образования в 1966—1971 гг. наука весной 1973 г. перешла на второе, пережив пик
кризиса где-то в 1970-м г. [157, с. 232—233]. Но положение остается если и не
критическим, то серьезным: науке сегодня доверяют больше, завтра меньше, что
может порождать устойчивые, латентные до поры до времени тенденции. Термин
«доверие», на котором американские исследователи располагают шкалы духовной
8*
116
M. К. Петров
центростремительности общества, довольно мало говорят о том, что именно
входит в состав этого, принадлежащего к свойствам данности феномена. Этциони и
Нанн пробуют разобраться в этом вопросе. Они показывают зависимость доверия
к науке от ряда факторов: от социально-экономической характеристики группы
и региона (доверие к науке растет пропорционально доходу на душу населения,
в экономически развитых штатах степень доверия выше), от возрастных
характеристик (молодежь больше доверяет науке), от образования и от ряда других
характеристик. При этом в составе определителей степени доверия они обнаружили
две странности.
Таблица 6 [157, с. 232]
Доля публики, выразившей «значительную степень» доверия к деятельности
в 16 институциональных областях, %
Институт
Медицина
Наука
Образование
Финансы
Религия
Психиатрия
Верховный суд
Вооруженные силы
Розничная торговля
Федеральная исполнительная власть
Крупные фирмы
Конгресс
Пресса
Телевидение
Труд
Реклама
Год опроса
1966
72
56
61
67
41
51
51
62
48
41
55
42
29
25
22
21
1971
61
32
37
36
27
35
23
47
24
28
28
19
18
22
14
13
1972
48
37
33
39
30
31
28
35
28
27
27
21
18
17
15
12
1973
54
37
37
-
35
-
32
32
-
29
29
23
23
19
15
-
Изменение
1966-1973
18
19
24
-
6
-
19
30
-
12
26
19
5
6
7
-
Во-первых, это отношение к науке и технологии «повстанцев» 60-х гг.,
студенческого активизма: «Каково было отношение «бунтующих» студентов 60-х гг.?
По данным Хэрриса Пола, относящимся к представительной выборке 1965 г. на
национальном уровне, научно-академическое сообщество доверяло науке больше,
чем любой другой институт американского общества. Из опрошенных студентов
76% выразили «значительную степень» доверия к науке — высший процент
доверия, зафиксированный среди социальных групп как в тот период, так и в
любой другой, представленный в этом исследовании. Данные, собранные Функ-
хаузером и Мэккоби на выборке из 700 студентов колледжей Западного
побережья в разгар студенческого движения протеста, вновь подтвердили, что
студенческая молодежь относится к науке положительно. По семибалльной шкале, где
7 соответствовало высшему баллу, средняя студенческая оценка науки была
несколько выше 5. Таким же было и отношение студентов к технологии. По
данным национального опроса молодежи 1968 г. Янкилович обнаружил, что 88%
студентов колледжей согласны с тезисом: «проблема не в технологии, а в том, как
общество использует технологию». Только 24% согласилось с тем, что технология
дегуманизирует общество» [157, с. 234—235]. Странность этого факта в том, что
История европейской культурной традиции и ее проблемы 117
студенческий активизм дружно зачислялся и общественным мнением и
теоретиками высшей школы, и социологами науки в составляющую антинаучного
поветрия 60-х гг., рассматривался и формой выявления и существенной причиной
«кризиса доверия» к науке.
Вторая странность, обнаруженная Этциони и Нанном состоит в том, что на
общем фоне восприятия науки под знаком веры, а не знания — «только один
респондент из десяти мог вообще что-либо сказать о контролируемом
эксперименте, научном методе, измерениях, теории и о других подобных понятиях» [157,
с. 239] — само научное сообщество оказалось явно причастным к вере: «Среди
тех, кто, казалось бы, менее всех других мог придерживаться религиозных
убеждений — среди ученых-естественников, инженеров, аспирантов естественных
дисциплин исследователи обнаруживают, что большинство в этих группах разделяет
религиозные убеждения и придерживается соответствующих обрядов» [157,
с. 240].
Близкие по смыслу данные приводит Л.Уилсон для контингента аспирантов
1971 г.: «Только 5,7% аспирантов воспитывались в семьях атеистов, но ко
времени поступления в аспирантуру 32,1% не придерживалось определенных
религиозных верований. Наибольшее число вероотступников — до 50% и более — в
группах из семей баптистов, южных баптистов и конгрегационистов. Несколько
возросла численность членов епископальной церкви, квакеров и унитариев-уни-
версалистов. Наибольшую долю воспитанных в вере составляют римские
католики — 24,0%, за ними идут иудеи — 12,5%. Ко времени обзора в контингенте
аспирантов доля верующих католиков составляла 16%, иудеев — 8,5%. Наиболее
представительна в количественном отношении широкая группа протестантов.
Хотя большинство опрошенных характеризовало себя как «умеренно религиозен»,
ясно, что продолженное образование оказывает в целом на студентов и
аспирантов всех религиозных традиций секуляризирующее влияние» [175, с. 24—25].
На этом фоне как раз и произошло то, что мы назвали «приступом
аппендицита». Место действия — штат Калифорния, один из признанных лидеров науки
и университетского образования в США. События описаны биологом Дж. Муром
и экологом Д.Нелкин на периоде 1969—1973 гг. [157], а вызваны они были как
раз эволюционной теорией Дарвина, попыткой ученых-биологов изменить текст
учебника по биологии для старших классов, переделав его в соответствии с
теорией Дарвина, упоминания о которой после «обезьянних процессов» 20-х гг.
XX в. отсутствовали в текстах Ту американской средней школы вплоть до 1960 г.
В США ответственность за образование несут власти штата. В 1969 г. по
контракту с Комитетом советников штата по образованию (обычная американская
практика воздействия на тексты Ту) группа видных ученых из всемирно
известных университетов и институтов (Институт Солка, Беркли, Стэнфорд,
Калифорнийский технологический) разработала школьный учебник по биологии, в
котором, естественно, излагалась эволюционная теория Дарвина. Это нормальная
американская практика, если не принимать в расчет того обстоятельства, что
родители школьников, которым предстояло «проходить» Дарвина, во всяком случае
не были обязаны знать Дарвина и основы его теории, а многие, видимо, и
вообще не знали. Но дальше начались странности даже по американским меркам.
Ознакомившись с текстом учебника, член Комитета-заказчика В.Гроуз, инженер по
образованию, участник космических программ, выразил озабоченность тем, «что
школьников воспитывают в убеждении будто бог ныне говорит от имени науки,
что бог определенно устранен из картины мира» и предложил «убрать
соответствующее место из учебника» [157, с. 194].
В качестве альтернативы Гроуз предложил включить в учебник креационную
теорию, «гипотезу Моисея» как противоядие Дарвину, эволюционную теорию
которого он классифицировал как «кампанию за всеобщее подавление религиозных
убеждений, за разрушение любого концепта абсолютных моральных ценностей,
за отрицание любых расовых различий, за смешение всех этнических групп по
118
M. К. Петров
рецептам поваренной книги и, в конечном счете, за уничтожение различий между
мужчиной и женщиной» [157, с. 211—212].
Комитет советников по образованию предложил Гроузу сформулировать
поправку к тексту, которую он и представил на заседании комитета в ноябре 1969 г.
Комитет единогласно одобрил текст поправки, который исключал из проекта
учебника два абзаца и вводил вместо них три новых:
«Все известные науке свидетельства о происхождении жизни предполагают по
крайней мере дуализм или необходимость привлечения нескольких теорий для
полного объяснения установленных уже фактов. Такой дуализм не является
уникальной чертой исследований по происхождению жизни, он также присущ и
другим научным дисциплинам, таким, к примеру, как физика света.
В то время как Библия и другие философские трактаты упоминают о
творении, наука независимо от них выдвигала различные теории творения. В терминах
науки творение, таким образом, не является религиозной или философской
верой. Следует также отметить, что теории творения и эволюции не являются
взаимоисключающими. Некоторые научные данные (регулярное отсутствие
переходных форм, к примеру) лучше объясняются теорией творения, тогда как другие
(трансмутация видов) подкрепляют концепт эволюции.
Аристотель предложил теорию спонтанного возникновения жизни. В XIX в.
был предложен концепт естественного отбора. Эта теория основана на идее
разнообразия живущих организмов и на влиянии естественного окружения на их
выживание. Данные по ископаемым показывают, что сотни тысяч видов растений
и животных оказались не в состоянии выжить в меняющихся условиях среды.
Позже были попытки объяснить происхождение жизни в терминах биохимии»
[157, с. 196].
Поправка, понятно, вызвала негодование авторов, и 4 декабря 1969 г. они
выступили с заявлением, в котором потребовали восстановить первоначальный текст
и, если Комитет находит это необходимым, дать в сноске изложение идеи
творения «от имени Комитета» [157, с. 197]; если же поправка будет принята, дать в
сноске первоначальный текст за подписью авторов. В случае, если Комитет не
примет этих условий, «авторы индивидуально и коллективно отказываются от
того, чтобы их имена тем или иным способом связывались с этим документом»
[157, с. 198].
Комитет принял условия авторов: внес поправку и добавил к ней сноску,
объясняющую позиции Комитета и авторов, так что, как пишет Мур, «первый раунд
креационисты выиграли» [157, с. 198]. А такой ход событий во многом
объяснялся тем, что в кампанию за предоставление «равного времени» на гипотезу
Дарвина и гипотезу Моисея активно подключились члены Института креационных
исследований при Колледже христианского наследства в Сан-Диего, а также и
члены Общества креационных исследований, вступить в члены которого можно
каждому, имеющему степень магистра или доктора философии в естественных
науках. Требуется лишь подписать упрощенный для ученых вариант символа
веры:
«1. Библия — записанное слово божье, и поскольку она вдохновляет всех, ее
утверждения в первоначальной редакции исторически и научно достоверны; для
изучающего природу это означает, что отчет о сотворении в книге Бытия есть
фактологическая презентация простых исторических истин.
2. Все базовые типы живых существ, включая человека, были созданы
непосредственным творческим актом бога в неделю творения, как это изложено в
книге Бытия; любые биологические изменения, происходившие после недели
творения, совершались только в границах изначально сотворенных видов.
3. Великий потоп, описанный в книге Бытия и обычно известный как
наводнение Ноя был по своему значению и по своим следствиям всемирным
историческим событием» [157, с. 194].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 119
Отношение научного сообщества к развертывающейся баталии биологов с
креационистами и к первой победе креационистов было, по Муру, в общем-то
безразличным: «Первоначальную реакцию научно-академического сообщества на
эту победу креационистов вряд ли можно назвать бурной. Представители
социальных наук и гуманитарии решили, похоже, что все это дело не имеет к ним
никакого отношения, большинство придерживается этой позиции и сегодня.
Подавляющее большинство ученых-естественников также не проявило беспокойства,
многие видимо восприняли этот спор как еще один пример духовной дикости
американской жизни, как очередное публичное выявление воинствующего
невежества» [157, с. 198].
Но к 1972 г., когда отделом образования штата должны были приниматься
окончательные рекомендации, положение значительно изменилось. В Отдел
посыпались протесты, петиции, письма с требованием не допустить преподавания
мифа о творении на правах научной теории. В этой кампании протеста приняли
участие национальные научные организации, общества, лауреаты Нобелевской
премии. «Трудно судить о влиянии этой кампании на действия Отдела, — пишет
Мур. — Некоторые полагают, что влияние было весьма действенным и полезным,
другие — что кампания только раздражала членов Отдела. Так или иначе, но
Отдел не мог уже больше считать, во что, похоже, верили отдельные его члены,
будто профессиональные ученые, изучающие происхождение и разнообразие
жизни, серьезно расходятся по вопросу о том, что следует предпочесть:
биологическую теорию эволюции или библейский отчет о творении» [157, с. 199—200].
К осени 1972 г. положение обострилось: «С приближением намеченного на
ноябрь публичного заседания Отдела образования штата обе стороны
мобилизовали силы для схватки. Прошли слухи, что не кто иной, как сам Вернер фон
Браун появится на заседании и выступит на стороне креационистов. Этого он не
сделал, но представил Отделу изложение своих взглядов в письме Гроузу.
Позиция Брауна основывалась на старом аргументе: раз во вселенной обнаруживается
некое устройство, должен быть и его конструктор. Не молчали, естественно, и
ученые, но, пожалуй, наиболее убедительным для Отдела доводом не включать
изучение креационизма в рамки научных курсов был голос видных
представителей католической, иудаистской, протестантской и буддийской церквей.
Представители с предельной ясностью заявили, что они рассматривают спор не как
конфликт между наукой и религией, а как конфликт между фундаментализмом и
наукой» [157, с. 200]. Фундаменталистами называли себя противники Дарвина
второй половины XIX в.
Отдел в конце концов вынужден был отказаться от идеи объединить в
учебнике биологии Моисея и Дарвина, но сделал это с существенными оговорками:
«Эволюцию Дарвина предписывалось излагать в учебнике как «теорию», с тем
чтобы показать ее спекулятивный характер. При изложении происхождения
жизни требовалось «заменить догматику каузальными формулировками, в
которых спекуляция предлагалась бы в форме объяснения». В учебнике было
предложено подчеркивать, что наука может иметь дело только с тем, «как» возникла
жизнь, но ей нечего сказать о ее «конечных целях»... В дополнение Отдел решил,
что, хотя в учебниках по науке не требуется излагать акт творения как науку,
учебники по социальным дисциплинам обязаны констатировать, что
биологическая теория эволюции не является единственным путем человеческого поиска
объяснений происхождению и разнообразию жизни, что существуют и другие,
включая описание творения в книге Бытия. Таким образом, горячую картофелину
перебросили за пазуху нашим коллегам по социальным наукам, которые теперь,
пожалуй, проявят больше внимания к конфликту, чем они проявляли до сих пор.
Одно пока ясно — битва еще впереди» [157, с. 201—202].
В духе этих предложений и были изложены спорные параграфы, что
превратило дарвинизм в довольно шаткое гипотетическое построение:
120
M. К. Петров
«Взаимодействие между организмами и их окружением вызывает обоюдные
изменения. Изменения на кратком временном периоде (к примеру, на периоде
документированной истории — около 5000 лет) в окружении достаточно наглядны
и могут быть выявлены геологическими свидетельствами на значительно большем
периоде времени (миллиарды лет), хотя чем дальше мы движемся в обратном
направлении, тем менее определенны наши сведения. Доисторическое прошлое не
наблюдалось и восстановление его процессов затруднительно. За последние
полтора столетия земная кора и сохранившиеся в ней ископаемые интенсивно
изучались учеными. Ископаемые свидетельствуют о том, что организмы, населяющие
землю, не всегда были теми же самыми по структуре. Эти различия соответствуют
теории, по которой во времени происходили анатомические изменения.
Такой процесс изменения во времени называют эволюцией. Теория
органической эволюции Дарвина постулирует генетическую основу для биологического
развития комплекса форм жизни в прошлом и настоящем, тех изменений,
которые обнаруживаются во времени.
В фундамент этой теории положены концепты: 1) среди членов популяции
подобных организмов существуют наследуемые различия; 2) различия в успешном
воспроизводстве (то есть в выживании) вызываются совокупностью факторов
окружения, воздействующих на последовательность поколений популяции. С
помощью этой теории объясняются многие факты сходства и различия между
многообразными видами организмов.
Будучи неизбежно ограниченной, теория органической эволюции образует
структурные рамки, в которых множество внешне независимых наблюдений
может быть приведено в более значимую взаимозависимость. Биологи также
выдвинули основанные на экспериментах и наблюдениях гипотезы о
происхождении жизни из неживой природы (гетеротрофная гипотеза, например).
Философские и религиозные соображения относительно происхождения,
смысла и ценности жизни находятся за пределами науки, поскольку их
невозможно анализировать или измерять существующими методами науки» [157, с. 202].
Детально разбирая всю эту историю, Мур приходит к довольно скептическим
выводам о соотношении веры и знания в науке: «Победа эволюционной биологии
все еще остается скорее видимостью, чем реальностью. Похоже, что лишь
немногие люди, включая наших коллег по социальным наукам и гуманитариев, ясно
осознают, что именно ставится под удар. Печальный факт состоит в том, что
большинство индивидов, «верящих» в эволюцию, делает это^лишь потому, что
они верят в ученых, которые, объективно изучив вопрос, поверили в эволюцию.
События в Калифорнии подтверждают, что таких людей вполне можно убедить,
будто креационизм и эволюционная теория равно полезные способы описания
природы. И те, кто поддается такой аргументации, демонстрируют либо полное
невежество относительно природы науки, либо же неприятие того, ради чего она
существует» [157, с. 205].
С тем, что победа эволюционной биологии далеко не бесспорна приходится
соглашаться. Д.Нелкин показывает, что дело не ограничивается Калифорнией:
«Учебники в большинстве школ Тексаса не содержат упоминания об эволюции,
а законодатели штата Теннеси провели в 1973 г. закон, требующий «равного
времени» на изучение креационной теории в биологических курсах» [157, с. 210].
Она, в отличие от Мура, пытается выявить социоэкономические и культурные
корни креационизма, рассматривая его как одно из проявлений «заката
технологического оптимизма», который с наибольшей силой проявляется в экономически
развитых штатах: «Креационизм наиболее активен в Калифорнии, в штате,
который пережил исключительные экономические флуктуации, связанные, главным
образом с основанными на науке отраслями промышленности. В самом деле
многие креационисты — инженеры, работавшие в авиационно-космической
промышленности» [157, с. 211].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 121
Пройдя через взлет технологического оптимизма, Калифорния переживает
теперь крах иллюзий, что и создает питательную среду для креационизма:
«Креационисты ассоциируют хиппи, студенческие волнения, наркоманию, проблемы
загрязнения среды с либерализмом технологического века. Они говорят о падении
моральных и религиозных ценностей, которое вызывается господством научного
мировоззрения» [157, с. 211].
В эволюционной теории Дарвина, по Нелкин, креационистов особенно
затрагивали два аспекта: подобие животных и человека и релятивизм. «Они
утверждали, что акцент на генетическом подобии человека и животных — опасная для
социальности концепция, способная стимулировать животное поведение» [157,
с. 212]. Одна из креационисток писала: «Если молодых людей достаточно долго
учить, что они животные, они и начнут вести себя подобно животным» [157,
с. 212]. Креационисты возражали против теории эволюции как «религии
релятивизма», которая отрицает «абсолютные стандарты». Один из них писал: «Она
подтачивает все, что мы любим в нашей стране... Вера в эволюцию разрушительна
для морали и опасна для семейной жизни» [157, с. 212].
Другой линией нападок креационистов на биологов были обвинения ученых
в «надменности», в «бесчеловечности». Один из журналистов писал о великой
радости «лицезреть унижение науки», конец ее «монополии на истину» [157, с. 212].
Председатель «комитета четырех», которому поручено было проследить за
выполнением предписаний Отдела образования штата, заявил, что он «столь же против
«религии науки», сколько и против любых других религиозных вторжений» [157,
с. 213]. Существо проблемы в его формулировке «не в том, что творение
противоречит эволюции, и не в том, что миропорядок противоречит случайности, а в
том, что свидетельства о присутствии высшего существа суть вопрос, который
выходит за пределы науки» [157, с. 213].
Креационизм находил опору и в местном патриотизме. Озабоченность
креационистов проблемой авторитета выражалась также в их требованиях местного
контроля и в их неприятии авторитета профессионалов, определяющих
содержание школьных учебников: «В Калифорнии креационистское движение началось в
1963 г. с заявления двух матерей, которые выразили тревогу насчет того, что
родители теряют контроль над ценностями, которым учат их детей. В Тексасе одна
из организаций потребовала участия публики в отборе материалов для учебников:
«Качество учебников будет продолжать ухудшаться до тех пор, пока местное
население не получит права активного и гласного участия в подготовке программ
и текстов учебников, которые разрабатываются группами, уполномоченными
правительством». Особые подозрения у креационистов вызывало участие
Национального научного фонда, финансировавшего изучение программ и разработку
учебников» [157, с. 213].
В январе 1973 г. Г.Моррис, президент Института креационных исследований,
направил директору Группы Фонда по изучению программ по биологии письмо-
вызов с требованием провести публичный диспут по тезису: «Доказано, что
Специальная креационная модель истории Земли и ее обитателей является более
эффективной в корреляции и предсказании научных данных, чем Эволюционная
модель» [157, с. 216]. Победитель диспута должен был определяться по уровню
аплодисментов аудитории: «Такой диспут, заявляли креационисты, был бы в
рамках свободы выбора публики, равенства и справедливости. Они утверждали, что
поскольку библейская теория происхождения жизни научно состоятельна, она
заслуживает «равного времени». Если есть две «равно состоятельных гипотезы», то
было бы «только справедливо» дать студентам возможность ознакомиться с
обеими теориями и выбрать для себя одну из них. Тех, кто отрицал это право на
равное время креационисты обвиняли в обскурантизме — «эти ограниченные люди
ведут себя подобно тем, кто стоит на солнцепеке и доказывает, что нет никаких
свидетельств в пользу существования солнца», — или в претензиях на
монополию — «в использовании своей авторитарной позиции для защиты собственных
122
M. К. Петров
владений» [157, с. 216]. В беседе с Д.Нелкин Г.Моррис так сформулировал свою
педагогическую позицию: «Давайте дадим как можно больше теорий и
предоставим ученику права выбора той, которая представляется ему наиболее логичной»
[157, с. 216].
Хотя креационистам не удалось добиться «равного времени», Нелкин
показывает на тщательном сравнительном анализе представленного учеными варианта
учебника и окончательной его версии, что креационисты весьма чувствительно
потеснили ученых в принципиальных вопросах.
В исходном варианте наука определялась так: «Наука есть целокупность
знаний' о фактах и принципах, которые управляют нашей жизнью, миром и всем,
что образует его, а также и вселенной, частью которой является наш мир».
В окончательной редакции дано иное определение: «Наука — один из
способов открытия и интерпретации фактов и принципов, которые управляют нашей
жизнью, миром и всем, что образует его, а также и вселенной, частью которой
является наш мир. Научный способ ограничивает себя естественными причинами
и описаниями, которые могут противоречить, по крайней мере в принципе,
экспериментальному исследованию» [157, с. 214].
Сама центральная проблема получила иную формулировку:
Исходный вариант: «Ученые считают, что жизнь могла начаться с
аминокислот и вирусов, которые обычно не признаются живыми. Ученые считают также,
что жизнь могла быть занесена с другой планеты».
Окончательный вариант: «Ученые не знают, как началась жизнь на Земле.
Одни полагают, что жизнь началась с неживой материи, другие — что жизнь
могла быть занесена» [157, с. 215].
В этом духе усечения претензий науки на монопольное право говорить от
имени эмпирической реальности идет множество поправок, в свете которых
наука предстает формой среди форм познавательной деятельности, существующей
на равных правах с другими формами.
Анализируя топосную характеристику спора — сравнивая модели
убедительной для типичной Ту аудитории аргументации креационистов и биологов в
вопросах, касающихся научной методологии, морали, политики, права, религиозных
убеждений, педагогической практики [157, с. 220—221], Нелкин приходит к
выводу о сравнительной слабости научной аргументации, о неумении науки
говорить и доказывать свою правоту на языке Т0 аудитории, в ее понятиях и
представлениях} «Недоразумение, связанное с распространением эгалитарного прин-
15ш^-шгнауку, предполагает, что в наш век господства научных ценностей
характер и содержание науки весьма плохо понимаются теми, кто не участвует
непосредственно в научной деятельности. Вера в науку часто остается точно таким
же актом веры, как и приверженность к "сверхъестественным объяснениям.
Простые люди играют пассивную роль потребителей науки: они могут использовать
язык науки, но) слабо разбираются в ее методах и стоящих за ними постулатах...
Ученые, со своей стороны, в большинстве своем не сознают различий между
структурными и меритократическими процессами, которые действуют в науке, и
более эгалитарными, плюралистическими процессами, действующими за
пределами науки. Это отсутствие чувства различия препятствует их попыткам
эффективно объяснить науку публике и порождает дополнительные трудности в
конфликтных ситуациях» [157, с. 222]. Мы бы сказали, науке, выступающей в роли А, не
удается выделить общий с публикой В текст Т0, позволяющий выстроить тезау-
русное отношение и решить его. Хотя судя по тому, что Т0 в таких случаях всегда
будет представлено Ту взрослой публики, a Ti — дисциплинарным Тд, попытка А
найти контакт с В, тюстроить тезаурусно^ отношение и решить его объяснением
вряд ли будет серьезн(Готличатьея~ от предложения собеседнику-публике В
поступить в колледж 4-летней подготовки и пройти соответствующий курс ТГТД.
Случай «воспаления аппендицита» в Калифорнии, который захватил и другие
штаты — Техас, Теннеси, информативен для нас во многих отношениях не только
История европейской культурной традиции и ее проблемы 123
в проблемной области вопросов, которую наметил И.Гальтунг описанием
субституции конечных авторитетов и их монопольных истолкователей, а мы несколько
уточнили ее границы вопросами об обстоятельствах самовольной отлучки
штатного библейского примата всех историй и сомнениями насчет того,
действительно ли он ушел в «ужасно далеко» прутковского пастуха. Нам кажется, что в силе
пока остается заключительная строка: «Читатель! он тебе не попадался?».
Попадался! И, в отличие от пастухов-пастырей, которых сегодня не в пример
меньше, экспримат всех историй слоняется в общем-то по всем дисциплинарным
вечностям, тяготея к их началам, дает о себе знать скандалами и пароксизмами
дискуссий. Калифорнийский скандал в частности ценен и тем, что основные его
события происходят где-то на входе (с научной стороны) в докембрий или на
выходе (с привычной для приматов стороны) в историю органики. Сам ход
событий показывает, что выдвинутые биологами на должность примата истории
органики аминокислоты и вирусы, «которые обычно не признаются живыми»,
бесстрашно заменены властями штата на более понятную для Ту администратора
«неживую материю», а претензии ученых перечеркнуты констатацией: «Ученые не
знают, как началась жизнь на Земле» [157, с. 215]. Ни аминокислотам, ни
вирусам не оставлено даже оскорбительного обезьяннего «и.о.».
Конфликт в Калифорнии ценен также и тем, что привычная для нас
конфронтация, заданная Сноу в «Двух культурах» и обжитая в дискуссиях между
«лириками» и «физиками» здесь явно смещена в междисциплинарную лакуну, не
имеющую отношения ни к «лирикам», ни к гуманитариям вообще. Если
присмотреться к составу сражающихся сторон, к креационистам и к биологам, то в
креационистах — участниках космических программ, инженерах научных
лабораторий авиационной и космической промышленности — без труда опознаются как
раз бывшие «физики», отчаянные кибернетики, прикладные математики и
опознаются в том же «комплексе Архимеда». Если физики в спорах с лириками
грозились: дайте определение, и я сотворю цивилизацию, то десять лет спустя устами
Вернера фон Брауна они сотворили еще одно математическое доказательство
бытия божьего: если во вселенной обнаруживается некое устроение, должен быть
и Конструктор. Фон Брауна никак уж не обвинишь в лирике — ни научная его
подготовка, ни род занятий, ни назначение продуктов его творчества не
позволяют. В Калифорнии сражаются две респектабельные естественные дисциплины:
биологи с одной стороны и принявшие усеченный символ веры креационисты —
с другой, а по сути дела биологи и прикладные математики. Относительно
последних Р.Коллингвуд еще в 1940 г. писал: «Возможность прикладной математики
является одним из выражений в терминах естественной науки христианской веры
в то, что природа есть творение всемогущего бога. Такая вера и есть то, что
вытеснило греческую концепцию природы как царства неопределенности и
несовершенства концепцией Возрождения, по которой природа есть царство точности и
определенности» .[104, с. 253].
Иными словами, граница между «двумя культурами» подвижна, да и вряд ли
она одна. Пониманию этого способствует и описание Дж.Муром реакции
научно-академического сообщества и его жалобы на отсутствие общенаучной
коллегиальной солидарности, и даже его явное злорадство по адресу
коллег-социологов, которым власти штата «перебросили за пазуху горячую картофелину» [157,
с. 202]. И вместе с тем, Мур еще просто не сознает, что биологи оказались в
«коридорной ситуации» междисциплинарного общения, когда говорить
приходится на междисциплинарном Ту, а не на Тд собственной дисциплины. С этой же
лакунной ситуацией Мур сталкивается и в попытках оценить на разрешимость
важнейшую, по его мнению, задачу — обосновать преимущество и превосходство
научного знания: «Может быть и верно, что креационисты не продержались бы
и дня, если бы их ограничить процедурами науки, но это соображение не столь
уж для нас утешительно. Не так уж много человеческих действий основано
целиком на научных процедурах. Не следует поэтому питать надежд на то, что кре-
124
М.К. Петров
ационистов можно нейтрализовать одними лишь правовыми средствами. Если,
как говорит Жак Моно, мы верим, что «объективное знание» есть «единственно
достоверный источник истины», тогда мы обязаны продемонстрировать публике
резоны, по которым мы считаем подобное знание предпочтительнее любого
другого» [157, с. 205]. Ясно, что все здесь будет упираться в четырехлетний срок
движения от Ту публики и То аудитории В к Тд объяснения А.
Калифорнийский случай важен для нас и как источник незапланированной
информации о механизме воспитательного воздействия научно-дисциплинарного
познания на Ту развитого общества. Здесь четко выявлены и процедуры замены
учебника средней школы новым и возникающие в процессе этого предприятия
коллизии.
Наконец, хотя это может показаться и парадоксальным, калифорнийский
случай полезен, по нашему мнению, для йауки, для процесса самосознания науки.
Сравнивая, скажем, исходный и окончательный вариант учебника, мы бы отдали
предпочтение последнему: он явно приведен к Ту, его формулировки четко
прочерчивают границы ответственности науки, обозначают уязвимые места научного
мировоззрения. Словом, мы за такие «приступы аппендицитов», которые хотя и
нельзя отнести к классу положительных эмоций, полезны для науки и помогают
понять, что к чему.
Глава 4. Дискуссии второй половины XIX в.
вокруг начала человеческой истории
Многое из того, что происходило в Калифорнии в 60-е и в начале 70-х гг.
XX в. уходило корнями к событиям столетней давности, к двум дискуссиям, из
которых одна, дискуссия 1860 г., она происходила в Оксфорде между Т. Гексли и
С.Уилберфорсом, хорошо известна историкам науки, тогда как другая, начатый в
1867 г. спор Дж.Лаббока со своим умершим к тому времени противником Р.Уейт-
ли, почти не оставила следа в истории науки и по сути дела была изъята из
архивов науки профессором кафедры истории Университета штата Джорджия в
Алабаме его статьей 1977 г. в журнале «Изис» [113]. Насколько малозначительной
эта вторая дискуссия представлялась редакции журнала свидетельствует тот факт,
что статья более трех лет пролежала в редакционном портфеле [113, с. 40, сноска].
Обе дискуссии, особенно первая, рассматриваются обычно как открытые
схватки естествознания с теологией, и происходит это, по нашему мнению, по
той причине, что и в той и в другой сражающимися сторонами были духовные
лица — епископ Самюэл Уилберфорс был основным оппонентом Томаса Генри
Гексли, а архиепископ Дублина Ричард Уейтли — сэра Джона Лаббока. В
действительности же все эти высокие титулы и звания имели весьма косвенное
отношение к делу: практически все участники споров были университетски
образованными людьми, прошли через основные факультеты, были типичными
интеллектуалами в том же смысле, в каком мы сегодня все типичные выпускники
средней школы, были обладателями общего для них Т0, который мы обозначим в
отличие от современного Ту через Ти. Ти приобретали в движении через
обязательный подготовительный факультет свободных искусств, в движении через тексты
тривия и квадривия. От Ти, как и сегодня от Ту, шла специализация на «высоких
факультетах» — медицинском, юридическом, богословском, так что большинство
тех титулов и ярлыков, под которыми мы воспринимаем отцов науки,
дисциплин — юриста Лайеля, например, или медика и теолога Дарвина — весьма редко
совпадают с профессией по образованию и являются обычно признанием
подвигов юристов, медиков, теологов, совершенных в самовольных отлучках из их
основной профессии.
В дискуссии 1860 г. медик Гексли, почитатель Юма, агностик, по месту
самовольных отлучек геолог, палеонтолог, антрополог, биолог, сравнительный анатом,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 125
нанес решительное поражение своему коллеге по самовольным отлучкам теологу
Уилберфорсу, в котором приверженности к своей основной профессии было
примерно столько же, сколько и у теолога Уильяма Бэкленда, профессора геологии
в Оксфорде, а затем настоятеля Вестминстера, автора труда о допотопных и
послепотопных гиенах [131, с. 67].
Д.Найт так описывает расстановку сил в дискуссии 1860 г.: «Епископ Уилбер-
форс был сыном одного из тех, кто добивался прекращения торговли рабами и
верил, что все люди едины независимо от цвета их кожи, тогда как некоторые
ранние эволюционисты на рубеже XVIII и XIX вв. высказывали идею
постепенного прогресса от орангутанга через черных к белым, что могло бы дать высшей
расе право на порабощение низшей и управление ею. Евангелисты-антропологи,
такие как Дж.Причард, в первой половине XIX в. старались показать, что все
человечество едино по роду и целиком отлично от обезьян. Ричард Оуэн, великий
палеонтолог и директор Британского музея естественной истории по выходе
«Происхождения видов» высказал предположение, что Адам и Ева были, надо
полагать, черными; равным образом и Причард считал, что белизна — результат
цивилизации» [131, с. 197].
Гексли, особенно после выхода в свет «Происхождения видов» Дарвина был
как раз сторонником и горячим энтузиастом идеи прогресса через орангутанга к
черным и через черных к белым, темпераментным и настойчивым
пропагандистом этой идеи, и в этом смысле основная его заслуга перед антропологией, как
и основное значение дискуссии 1860 г. состоит в том, что именно благодаря
Гексли, его бурной активности в качестве лектора, участника споров, автора
популярных работ шансы обезьяны на занятие должности примата начала
человеческой истории стали много предпочтительнее, чем шансы библейского кандидата.
Пребывающий в самовольной отлучке на каком-то из начал какой-то истории,
библейский претендент был не то чтобы отлучен от должности примата и
пострижен в земной мир личных забот, увлечений, хобби индивидов — нет достоверных
формальных следов подобных процедур, которые свидетельствовали бы о
вынужденной или добровольной отставке бога с поста примата, но реальная
ответственность за начало человеческой истории была настолько очевидно передана
дискуссией 1860 г. обезьяне, что уже к началу дискуссии 1867 г. большинством биологов
прогресс: орангутанг—черные—белые воспринимался как самоочевидность, как
данность, на фоне которой совершенно неуместными и ненаучными казались
построения дегенерационистов, не без основания полагавших, что в идущей от
обезьяны-примата цепи: дикость — варварство — цивилизация, возможен не
только прогресс, но и регресс, деградация.
По мнению Н.Джиллеспая в намерения Лаббока вовсе не входило втягиваться
в затяжную дискуссию с покойным оппонентом: «Лаббок не собирался
использовать годичное собрание Британской ассоциации по развитию науки, чтобы
начать какую-нибудь дискуссию. Его целью было завершить дискуссию, начатую
тридцать лет назад и возобновленную в 1855 г., в которой покойный архиепископ
Дублина Ричард Уейтли поднял старый вопрос о том, поднялся ли человек от
изначальной дикости к цивилизации или же его предки были изначально
цивилизованными людьми. Опиравшееся на накопленные праисторической
археологией и антропологией данные выступление Лаббока должно было показать
несостоятельность веры архиепископа в цивилизованность первых людей» [113, с. 40—
41). Но эта попытка Лаббока не завершила, а возобновила дискуссию: «Вскоре с
ответом Лаббоку выступил граф Аджилл, о котором чаще вспоминают как о
политике, хотя он много публиковал и как ученый и как философ. Объявились и
другие защитники Уейтли, сформировалась тематика спора. Полемика вошла в
связь с отношением к дарвинизму вообще и не прекращалась почти до конца
столетия, когда найденные на Яве останки питекантропа дали науке одновременно
и «недостающее звено» и «совершенного» дикаря — предшественника человека»
(113, с. 41].
126
M. К. Петров
Таким образом, все началось с критики работ Уейтли «Вводные лекции по
политической экономии» [172] и «О происхождении цивилизации» [173], но
после ответа Дджилла Лаббоку в работе «Первобытный человек» [90] развернулась
бурная дискуссия, в которой на разных этапах приняли активное участие Лайель,
Дарвин, Тейлор, Бюхнер, Морган, Фиск. Именно в этой дискуссии, а не в
дискуссии 1860 г., спор развернулся фатальным для библейского претендента на
должность примата способом, поскольку оба претендента — бог и обезьяна —
попали в четко сформулированное альтернативное отношение и большинство
проголосовало за обезьяну. В этой дискуссии оформилась и та стандартная трактовка
процесса истории человечества, которая включена в Ту большинства развитых
стран европейской культурной традиции и воспринимается большинством из нас,
как естественная данность преемственного эволюционного развития от
первобытного общества к высотам современной Ту культуры.
Дискуссия в целом, основной удар которой пришелся по Аджиллу,
закончилась победой эволюционистов не только потому, что на Яве обнаружился
питекантроп, но не в последнюю очередь и потому, что появление «старшего сына»
в области деятельности «младших сыновей» многими интеллектуалами
воспринималось с недоверием. Большинство участников дискуссии воспринимали идеи
Аджилла как теолого-аристократическую реакцию на успехи науки. Но научный
протокол был соблюден: Аджилла аккуратно приводили к Уейтли и обвиняли в
наукообразной защите теологии, акта божественного творения человека,
мракобесия. Вместе с тем, и это бесспорная методологическая заслуга как Аджилла, так
и его критиков, дискуссия выявила основную научную трудность проблемы, о
которой мы уже говорили: чтобы разработать парадигму истории человеческой
культуры и человеческого познания необходимо на правах условия разрешимости
этой задачи, если исключено вмешательство сверхъестественных сил и
инопланетян, объединить в тезаурусное отношение: а) локально-актовое происхождение
человека как существа социального и разумного; б) факт заселенности земли к
моменту великих географических открытий.
Нас интересует чисто методологическая сторона дискуссии, в основном
концепция Аджилла, в которой присутствуют: локальное начало, расселение,
появление многообразия социальных структур в результате освоения новых условий
жизни. Интерес наш понятен: современная наука также проходит стадию
расселения, обживания все новых и новых предметных областей, так что и в первой
географической экспансии человечества на основе первобытной социальной
структуры и в современной предметной экспансии науки на основе
«первобытной» когнитивно-социальной дисциплинарной структуры могут обнаружиться
обоюдозначимые гомологии, черты общности.
Архиепископу Уейтли, чтобы дать историческое доказательство бытия бога,
достаточно было показать несостоятельность идеи прогресса, развития,
способности социальной структуры самостоятельно проходить ступени наметившегося
уже членения: дикость — варварство — цивилизация. Джиллеспай пишет:
«Подобно большинству, Уейтли признавал провиденциализм, определяющий
социальные изменения. Он в общем-то не отрицал социального прогресса. Что он
действительно отрицал, так это то, будто бы этот процесс совершается стихийно
из состояния дикости. Он писал, что началом прогресса «вовсе не является, как
предполагают некоторые авторы работ по политической экономии, то, что
принято называть состоянием дикости». Более того, «у нас нет никаких резонов
верить, будто какое-либо общество когда-либо без посторонней помощи перешло
или могло перейти из состояния крайнего варварства в нечто, что может быть
названо цивилизацией. История, утверждал он, не дает ни одного свидетельства
в пользу того, что какое-либо «племя дикарей» цивилизовало само себя. Но она
дает массу свидетельств относительно племен, которые столетиями остаются в
неизменном состоянии, демонстрируя тем самым бесконечную неподвижность. Того
более показательны те дикари, которые обладают орудиями и институтами, дале-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 127
ко превосходящими их способность изобретать. А в этом ясное свидетельство
того, что низшие дикари — продукт дегенерации из прежнего состояния, в какой-
то степени цивилизованного» [113, с. 41].
Здесь и возникал переход в теологическую аргументацию: «Уейтли считал
дикарей чуждыми провиденциальности, слишком аморальными и глупыми, чтобы
совершенствовать самих себя. Если все известные случаи их социального
прогресса возникали в результате заимствований от более развитых соседей, то как, и
здесь-то он оказывался на родной почве, можем мы объяснить происхождение
цивилизации во времена, когда не было цивилизованных наций? Ответ был
самоочевиден: с помощью божественного откровения, того, о чем толкуют книги
Бытия. Таким образом, и разум, и история предполагают откровение независимо
от любого восприятия духа Библии. «Если цивилизация не является работой
божественного наставника, — язвил он в адрес скептиков, — то приведите хоть
один случай, если сможете, нации дикарей, которые цивилизовали сами себя»
[113, с. 41-42].
Требование Уейтли указать на дикарей, которые сами себя цивилизовали,
Лаббок отвергал, ссылаясь на его научную несостоятельность: «Архиепископ так
сформулировал вопрос, что исключена возможность его проверки —
соответствующий свидетель, который мог бы зафиксировать такой прогресс, необходимо
был бы цивилизованным и тем самым разрушал бы требуемую изоляцию
дикарей, тогда как люди, достаточно грамотные, чтобы оставить свидетельства своего
собственного развития, не были бы дикарями» [113, с. 43].
Обосновывая эволюционную последовательность: дикость — варварство —
цивилизация, Лаббок ссылался на два факта — следы эволюции обнаруживаются и
у дикарей (выращивание картофеля в Америке, обработка железа в Африке,
бумеранг в Австралии); современная цивилизация несет следы варварского
прошлого в реликтовых предрассудках и ритуалах, а также и в ископаемых каменного
века [113, с. 43].
В более развитом виде позиция эволюционистов была сформулирована
несколько позже Э.Тейлором в работе 1871 г. «Первобытная культура» [166]. Джил-
леспай пишет: «Отец британской антропологии постулировал наличие целостной
социальной единицы — цивилизации или культуры, — которой обладают все
люди, но на разных стадиях развития. Те, кто находится «на одной и той же
стадии цивилизации», сравнимы, независимо от различий времени, места и расы.
Таков был знаменитый сравнительный или компаративистский метод.
«Феномены культуры, — писал Тейлор, — могут быть классифицированы и ранжированы
по стадиям в соответствии с вероятным порядком эволюции». Поскольку
считалось, что эволюционный процесс берет начало от дикости, исследования
современных дикарей, которые близки к первобытному человеку, если не идентичны
ему, могли бы разрешить множество загадок относительно происхождения
человека» [ИЗ, с. 42]. .
Словом, в человеческой истории усматривается та же ситуация, что и в
истории биологической — принципиальная возможность построения непрерывного
ряда структур по основанию развитости, в котором бы соблюдалось отношение
«раньше—позже». Сегодня этот взгляд представлен в текстах Ту, внедрен средней
школой в сознание взрослого человека почти на правах таблицы умножения, так
что отдельные отклонения типа упомянутой во введении гипотезы Прайса о том,
что не все цивилизации идут одним путем, что наука вовсе не обязательный
институт развитой цивилизации, вызывают скорее удивление, чем желание спорить.
В XIX в. когда компаративистика еще только завоевывала научное признание
сначала в языкознании, а затем и в антропологии, видна была еще смущавшая
интеллектуалов того времени деталь, скептическое отношение к которой лучше
других, по нашему мнению, выразил Герцен: «Прогресс человечества тогда был
известен как высочайший маршрут инкогнито — этап в этап, на станциях
готовили лошадей». Эта вполне понятная оппозиция к «одноколейной» идее процесса
128
М.К. Петров
развития весьма условно может быть назван «дегенерационизмом», но Джиллес-
пай вполне правомерно пишет о том, что выбор был невелик: «В те дни любой,
интересующийся историей человеческого общества, мог работать лишь в одной
из двух основных моделей... Соперничающий с эволюционной теорией дегенера-
ционизм отрицал, что наименее развитых современных дикарей правомерно
считать моделью первобытного человека, отвергая тем самым и теорию
происхождения человека из дикости и основную часть цепи развития, принятой
сравнительным методом. До тех пор, пока дегенерационизм оставался жизнеспособным, он
подвергал фундаментальному сомнению основы эволюционной антропологии»
[113, с. 42].
Одной из таких попыток фундаментально усомниться в основах возникающей
эволюционной антропологии были статьи Аджилла, составившие книгу
«Первобытный человек» [90]. Джиллеспай отмечает: «Не все места книги, важные для
выяснения вопроса, были непосредственно связаны с расхождениями между
Уейтли и Лаббоком. Принимая тезис об естественном происхождении и
древности человека, Аджилл отрицал эволюцию самого человека, чем лишал
прогрессистов биологического базиса веры в дикость раннего человека, эксплицировал
дарвинизм, неявно присутствовавший во взглядах Лаббока. Он признавал также
огромную длительность существования человека на земле, хотя и не видел в этом
повода для конфликта с Библией» [113, с. 44]. Подчеркивая внебиологический
характер истории человека как существа социального и длительность такой
истории, Аджилл считал научно несостоятельным требование Уейтли предъявить
пример цивилизации дикарей собственными силами и выступал против его идеи
неспособности дикарей к самосовершенствованию.
Но главные возражения вызывала у него все же постулатная база Лаббока:
«Во-первых, это предположение Лаббока, по которому доказательство низкого
уровня технологического знания в первобытные времена может считаться
достаточным основанием для заключений о низком уровне моральной и
интеллектуальной жизни, для идентификации этого уровня по тем значениям, которые
Лаббок обнаружил у современных дикарей, использующих сходную технологию.
Иными словами, он обвинял Лаббока в том, что Глин Даниель называл
этнографическим грехом компаративистики. Следует отметить, что Лаббок, как и
большинство прогрессистов, наталкивался на серьезные трудности в попытках описать
то, как именно следует применять этот принцип соответствия между орудийным
арсеналом и нравственно-интеллектуальной характеристикой на практике. Во-
вторых, резкие возражения Аджилла вызывало допущение Лаббока о том, что чем
грубее и чем более жесток обычай, тем он древнее» [113, с. 44].
Доказывая неправомерность использования уровня технологии в качестве
показателя уровня ментальных и нравственных способностей, Аджилл апеллировал
прежде всего к тому самоочевидному для него факту, что видовое единство
человека предполагает внутреннее равенство: «Будь оно даже приблизительным, —
писал не отличающийся склонностью к эгалитаризму граф, — это равенство
достаточно для того, чтобы предостеречь от низведения любой расы, древней или
современной, до категории почти животных». Тех эволюционистов, которые
постоянно используют сравнительную анатомию для того, чтобы сузить пропасть
между гориллой и человеком разумным, он обвинял в том, что в суете занятости
они игнорируют в своих сравнениях фактор разума. Аджилл несомненно видел
явную соотнесенность физической формы, экологической нищи и интеллекта у
всех животных видов, но считал все же, что сама идея такой соотнесенности
способна вести к ошибкам. Какими бы ни были физические сходства, ментальный
разрыв между животным и человеком бесконечен» [113, с. 45].
Здесь Аджилл явно подходил к той лакуне, которую мы перекрыли
постулатами биологической и генетической недостаточности человеческого рода,
соорудив мостик в форме знакового специализирующего кодирования средствами
постредакции, использующей имена и тексты. Собственно об этой лакуне он и го-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 129
ворит, когда утверждает: «Череп индуса может лишь на одиннадцать кубических
дюймов превосходить объем черепа гориллы, но первый есть череп разумного
существа, а второй — животного» [113, с. 45]. В остальном же принцип
соотнесенности остается в силе: «Принимая как данность безошибочную корреляцию
между разумом и физической формой в природе, следует, по его мнению,
признавать, что все люди, обладающие тем же телом, должны иметь существенно
тождественный разум одной и той же природы, независимо от их технологии»
[113, с. 45].
Здесь перед нами явный выход в человекоразмерность и эквифинальность в
независимое от внешних спецификаторов интеграционное основание
социальности. Иными словами, единство вида по биокоду и разуму, коль скоро оба они
сосуществуют и воспроизводятся в смене поколений, не требует ссылок на
экологическую нишу и орудийные средства ее освоения, на орудийный арсенал, что
делает неправомерными попытки судить о разуме по результатам его применения
в конкретной среде обитания. Мысль о независимости отношения между
физической формой и разумом от технологической характеристики Аджилл
подкреплял ссылками на доступные к тому времени данные праисторической археологии:
«На прослеженной наукой глубине человек всегда был генетически уникальным
существом, и его древние расы полностью оставались в пределах современных
различий. Нет свидетельств палеонтологии, будто первобытный человек
произошел от обезьяны, поэтому нет никаких оснований считать первобытного человека
в ментальном отношении ниже современного. В самом деле, если учесть его
уязвимость, его слабое и невооруженное тело, человек с чуточку большим разумом,
чем горилла, попросту не смог бы выжить» [113, с. 45].
Ошибка теории происхождения человека из дикости состоит, по Аджиллу, в
том, что она не делает различия между отсутствием технологического знания и
недостатком ментальных способностей — «Лаббок говорит о «крайнем
варварстве», но по его же словам, ни одно творение, «достойное имени человека», не
может быть непричастным к рациональному разуму: к разуму, «который способен
к суждению, расположен к суждению, а также способен приобретать, накапливать
и передавать знание». Подобное существо, доказывал Аджилл, не может
рассматриваться как пребывающее в состоянии «крайнего варварства» на том
единственно основании, что оно не знает механических искусств. Если заключение от
отсутствия технического знания к недостатку интеллекта ошибочно, то тем более
ошибочно выводить из этого основания недостаток нравственности» [113, с. 45].
Отношение между биокодом человека и основанной на рациональном
мышлении творческой способностью Аджилл явно считал врожденным: «Полагая, что
первые начинания человека в области технологии были инстинктивными (бросать
камни или подступаться с дубинами Аджилл считал такими же проявлениями
инстинкта у человека, как лай у собак), он отвергал тезис Уейтли о божественном
наставлении как .маловероятный и, во всяком случае, находящийся за пределами
доказательной проверки. Вместе с тем, чтобы критиковать Уейтли с той позиции,
по которой и наиболее ранний прогресс человека был человеческим творением,
Аджиллу, как и защитникам теории происхождения из дикости, приходилось
допускать, что наиболее выдающиеся изобретения человека были как раз первыми»
[113, с. 45].
Здесь понятная трудность для всех, кто настаивает на естественном
происхождении человека и общества. Для нас это трудность границы между атрибутами
человека как существа естественного, социального и разумного, которую
приходится прочерчивать по максимуму наблюдаемых продуктов естественного
биологического творчества, по уровням сложности термитников, муравейников и т.п.
Аджилл в общем-то обходился постулатными констатациями: «Первые орудия не
были творениями лишенных разума дикарей. Изготовление первых орудий,
добывание огня, открытие земледелия отмечены чертами ментальности высшего
порядка. «Самые ранние изобретения нашего рода, — писал Аджилл, — должны
9 M К. Петров
130
M. К. Петров
были быть и наиболее удивительными и наиболее плодотворными по
результатам». Любопытно, что и Чарлз Дарвин в полемике с Альфредом Расселом
Уолласом по поводу эволюции человеческого разума шел тем же путем. Касаясь
ранних орудий, использования огня и т.п., Дарвин писал: «Эти немногие орудия,
которые делают человека столь выдающимся на самой неразвитой стадии, — прямое
следствие развития способностей наблюдения, памяти, любознательности,
воображения и мышления. Нельзя поэтому понять, почему Уоллас утверждает, будто
«естественный отбор был в состоянии дать дикарю мозг, лишь несколько
превосходящий мозг обезьяны». Среди таких открытий Дарвин называет огонь и язык,
считая их величайшими из когда-либо сделанных человеком» [113, с. 45].
В методологическом плане ситуация оказывается еще сложнее: «Но это еще
не давало полного представления о парадоксе, скрытом в постулате
возникновения человека из дикости. Даже если принять современного дикаря в качестве
модели первобытного человека, то, по мысли Аджилла, мы все равно обязаны
придерживаться высокого мнения о последнем в рамках этой аналогии, поскольку
орудия дикарей часто «хитроумны, а иногда и высоки по совершенству». Иными
словами, дикарю, обладающему малым орудийным арсеналом, с которого он мог
начать, потребовался бы больший интеллект и большая способность к
наблюдению, чем цивилизованному человеку, и уж, во всяком случае, не существенно
меньшие» [ИЗ, с. 46].
На эту деталь в теоретическом обосновании принципа деградации у Аджилла
следует, по нашему мнению, обратить особое внимание. На первой стадии
развития человечества, на этапе расселения из места своего возникновения по всей
земле, первобытное общество действительно острее нуждалось в познании и
творчестве, чем на более поздних оседлых этапах, и если минимум допустимых
значений познавательной и приложенческой способностей человека прочерчен
осуществимостью выживания — извлечение из среды обитания средств к жизни,
достаточных для существования и воспроизводства живущего поколения людей, то
для первобытного общества эти значения заведомо выше.
В самом деле, оседлое общество со сложившимися институтами и ритмами
деятельности, сопряженными с циклами изменений в параметрах устойчивой
среды обитания, в общем-то не зависит от потока инноваций, вольно принимать
или отвергать их. И хотя все его институты, виды деятельности, орудия,
интеграционные схемы-мировоззрения, имена, тексты знакового кодирования были
когда-то в прошлом сотворены конкретными индивидами — кто-то придумал и
колесо, и дорогу, и телегу, — в любой текущий момент времени все они
изменений не предполагают, способны долго, «вечно» функционировать, обеспечивая
живущие поколения людей тем, что они обеспечивали предшествующим.
Достаточно, как мы уже говорили, сравнить картину пахоты у Гомера, изображенную
на щите Ахилла, с соответствующей картиной Шолохова, изображенной в
«Поднятой целине», чтобы получить представление об актуальности запроса оседлого
общества на новацию. В таких обществах требуется мотив на внедрение новации,
способный в каждом отдельном случае преодолеть социальную инерцию,
нежелание заменять надежно функционирующее, привычное, обжитое новым,
требующим отработки в повторах, освоения, «доводки».
Эта очевидная для оседлых обществ асимметрия репродукции и творчества:
любая репродукция обязанная своим появлением на свет творчеству, но,
единожды появившись и став нормой, творчества уже не предполагает, активно
сопротивляется ему как «слому», «браку», «порче», имеет весьма ограниченную силу
'для условий расселения, когда любая новая, присоединяемая к царству
человеческого обитания «провинция», будь то льды Гренландии или леса Амазонки,
содержит в себе, как и проблемная область в науке, заряд неосвоенного, но
требующего освоения и оперативного внедрения результатов познавательной
деятельности, оперативной замены унаследованного арсенала человекоразмерных средств
новыми. Если оседлое общество в силу оседлости своих проблем имеет законное
История европейской культурной традиции и ее проблемы 131
право на «лаг», на размышления и прикидки в терминах «затрат-выгод», может
позволить себе привередливо выбирать среди альтернативных решений
наилучшие, то у первобытного общества времен первой географической экспансии
человечества такого права на «лаг», на привередливый перебор-выбор альтернатив
нет: внедрение, социальное освоение нового здесь вопрос жизни или смерти. И
если, скажем, биологические события типа переселения колорадского жука с
паслена на картофель, появления птиц-пингвинов в Антарктике, китов в море (если
млекопитающие возникли на суше) или китов на суше (если дельфин
родственник человека) мы вправе числить по рангу биологических революций, то для
первобытных обществ такие переходы из среды в среду обитания норма жизни с тем
существенным различием, что это уже не биологические революции, а революции
в познании и приложении его результатов: они не затрагивают человеческого
биокода, а скорее должны наращивать его всеядность, творческий потенциал,
способность в возрасте «от 2 до 5» без особых затруднений осваивать великое
разнообразие социальных данностей.
Сам Аджилл только наметил проблему и предложил «дренажное», так сказать,
а не «кумулятивное» ее решение: «Если Аджилл отрицал идею прогрессистов о
том, что низшие по уровню развитости современные дикари не более, как
ископаемые человеческой эволюции, то как он рассматривал их сам? Во-первых, они
результат действия принципа деградации, закорененного в человеческой
природе, — принципа, в пользу которого свидетельствует вся история и который
работает в противоборстве с принципом прогресса. Во-вторых, они жертвы жестоких
естественных окружений. Он считал, что первые люди обитали в теплой стране,
где плодоносная природа дополняла их неразвитое знание искусств и наук. Со
временем давление населения вытесняло слабейших в отдаленные и менее
гостеприимные области мира — в трудные для жизни пустыни, леса, горы на
окраинах нескольких континентов. Таковы дикари сегодня: эскимосы, уродливые
обитатели Огненной земли, австралийцы, тасманийцы. Приведенные к животным
условиям жизни своими окружениями, они деградировали, теряя те искусства и
умения, которыми они могли когда-то обладать. Как свидетельство в пользу
своего взгляда Аджилл считал необходимым отметить, что эти люди, какой бы
глубокой ни была степень их деградации, с готовностью демонстрируют наличие у
них «всех совершенных атрибутов человечества», если их поместить в более
благоприятное окружение. Их деградация, таким образом, результат скудости их
окружения и преходящего господства тенденции ко злу, а не врожденной
неспособности к прогрессу, как ошибочно полагали Уейтли и некоторые из его критиков.
Но, и это аргумент против Лаббока, нет никаких оснований отождествлять этих
обездоленных с исходными кондициями возникающего человека» [113, с. 46—47].
Методологические слабости концепции Аджилла очевидны, хотя и
объясняемы в текущем тезаурусе того времени. Он вводит начало истории человечества и
человеческого познания чисто явочным порядком — «первые люди обитали в
теплой стране, где плодоносная природа дополняла их неразвитое знание искусств
и наук» — и в условиях второй половины XIX в., когда претендентами на
замещение должности примата — отца человечества и истории человеческого
познания — выступали лишь бог и обезьяна, приводить аргументы против обезьяны
значило открыто или явно выступать за кандидатуру бога. Нет ничего
удивительного в том, что именно в этом ключе попытка Аджилла и осознавалась его
современниками, тем более, что и «теплая страна» очень уж походила на сад Эдема
и дальнейший ход событий явно напоминал изгнание из рая Адама и Евы,
проклятие земли, диаспору-рассеяние, хотя и объяснялся вытеснением слабых вплоть
до окраин континентов.
Вместе с тем, попытки оппонентов Аджилла опровергнуть его концепцию,
показать ее разновидностью действительно теологической концепцией Уейтли
имели и ряд побочных эффектов, смысл которых начинает с большей или
меньшей определенностью вскрываться только сегодня в появлении таких неожидан-
9*
132
M. К. Петров
ных событий, как, скажем, калифорнийский приступ Ту интереса к «гипотезе
Моисея», к составу школьных учебников, к праву науки без санкции родителей
менять тексты учебников.
Дж.Мур, к примеру, жалуется на превратности судьбы: «То, что
представлялось победой, на деле оказалось просто движением маятника, который колеблется
между временами большей и меньшей терпимости к научной рациональной
мысли. Понятно, что всегда будут те, кто согласен только с естественными
объяснениями естественных феноменов, и те другие, кто принимает только
сверхъестественные объяснения для некоторых естественных явлений. В дарвиновские
времена баланс силы локализовался в двух группах. Как ученый я склонялся к
вере в то, что налицо постепенный прогресс к приятию естественных объяснений
феноменов природы, но у меня не было твердых свидетельств подкрепляющих
эту веру. Хуже того, в результате моего участия в группе изучения школьных
программ по биологии я получил множество писем, даже петиций, подписанных
группами, которые требовали от меня изменения взглядов. В самом деле,
обнаружился очевидный сдвиг от готовности публики принять естественные
объяснения. И убедительным свидетельством в этом отношении является кампания
креационистов за «равное время и внимание» к их точке зрения в школах» [157,
с. 193].
Нам кажется, что дело здесь не в маятнике; если он и есть, оставляет иногда
шишки на ученых лбах, то это заслуга самих ученых, воспитателей общества через
изменение текстов Ту. Дело не в маятнике, а в отсутствии базы для согласования
действий воспитателей в иерархии, идущей от переднего края
научно-дисциплинарного познания мира к текстам, по которым воспитывают учеников
общеобразовательной и общеобязательной средней школы. В этой иерархии каждая
дисциплина имеет свою особую иерархическую цепочку воспитателей, идущую,
скажем, от того же Дж.Мура до учителя биологии, который руководствуется текстом
учебника, разработанным при участии Дж.Мура и других видных биологов,
которые активно работают на переднем крае биологии. Такие дисциплинарные
иерархические цепочки воспитателей автономны, и каждая дисциплина ревностно
заботится о своей автономии, скрыто или открыто воюет с другими дисциплинами
за представительство в текстах Ту, за часы в учебном плане средней школы.
Дж.Мур, член созданной Национальным научным фондом группы по
изучению школьных программ по биологии, в общем-то справедливо жалуется на
отсутствие чувства коллегиальности в научно-академическом сообществе, но
жалуется после того, как он, его дисциплина, дисциплинарные авторитеты биологии
получили ощутимый и унизительный щелчок от ими же воспитанных обладателей
аттестатов зрелости, от ими же приведенного в движение Ту маятника. А это
обстоятельство делает уместным и позволительным вопрос: а кто, собственно,
уполномочил Дж.Мура и его коллег по биологии говорить от имени науки в целом,
страдать за науку в целом? Посоветовался ли Мур, как ответственный
представитель биологии в вопросах онаучивания общества через изменение текстов Ту с
уполномоченными других дисциплин — физики, скажем, или химии, математики,
социологии? Можно с уверенностью сказать, что такого «предварительного
сговора» воспитателей на высшем уровне относительно конкретных актов
воздействия на тексты Ту определенно не было, достаточно показательно в этом
отношении откровенное злорадство Мура по поводу «горячей картофелины», которая
жжет теперь социологов.
А не было этого сговора не только потому, что он был бы явным нарушением
академических свобод, но и просто потому, что воспитателям на высшем уровне,
будь то биологи, физики, химики, социологи, если их объединить в группу,
невозможно обсуждать проблемы единой политики по отношению к текстам Ту,
поскольку То таких обсуждений совпадает и будет, видимо, совпадать с Ту, а
времена двуязычия, когда рядом с возникающим Ту и независимо от него
существовал Ти интеллектуалов, обученных по программам тривия и квадривия, когда
История европейской культурной традиции и ее проблемы 133
науку делали интеллектуалы — юристы, медики, теологи — в самовольных
отлучках из своих дисциплинарных казарм, объясняясь друг с другом на едином языке
«самовольной» науки Ти, безвозвратно прошли или проходят.
Вот, скажем, У.Пайл, о котором мы упоминали в самом начале введения по
связи с участием церквей в финансировании британских педагогических
колледжей и в управлении ими, ставит в заслугу Департамента образования и науки
учреждение координационного совета по школьным программам: «В 1964 г.
тогдашний государственный секретарь по образованию, действуя по рекомендации
представительной рабочей группы под председательством покойного сэра Джона Лок-
вуда, решил учредить новый независимый орган — Совет школ по программам
и экзаменам или просто Совет школ, который первое заседание провел осенью
1964 г. Существенной функцией Совета школ, как она выражалась в его исходной
организации, являлось развитие образования путем проведения исследований
состава программ, методов обучения и экзаменов, а также и надзора за школами,
включая школьные организации, поскольку они имеют отношение к составу
школьных программ. Функцию эту следовало выполнять с учетом во всех случаях
общего принципа, по которому каждая школа должна нести возможно полную
ответственность, основывать на нуждах собственных учеников свои программы и
методы обучения, разработанные штатным составом школы... В состав Совета
школ вошли председатель и 25 представителей учительских организаций, местных
властей, церквей, экзаменационных комиссий, а также индустрии и бизнеса,
родителей и самого Департамента» [146, с. 102].
Интересно, как повел бы себя столь пестрый по составу Совет, если бы ему
пришлось рассматривать и утверждать калифорнийский вариант учебника по
биологии? Думается, что и здесь возникла бы близкая по смыслу и по исходу
ситуация, хотя, естественно, само имя Дарвина, признанной гордости
Великобритании, смягчало бы накал страстей. Представители церквей, родителей, бизнеса,
индустрии, да и самого Департамента образования и науки вряд ли согласились
бы оставить неизменными исходные формулировки текста.
Если более внимательно присмотреться к позиции Дж.Мура, то она явно
тяготеет к Ти ситуации «самовольной науки», где любой успех самоволки
становится общим достоянием науки, коль скоро он выразим на языке Ти. Ту ситуация
радикально отличается от Ти ситуации как раз тем, что дисциплинарные события
сложно перевести в общенаучные. И если скажем биологам действительно
удалось по ходу дискуссии 1867 г. избавиться от библейского претендента на
должность примата дисциплинарной вечности биологии и ее истории, то это вовсе не
значит, что это важное для биологии событие столь же значимо и для других
дисциплин со своими дисциплинарными вечностями, началами и историями.
Дискуссия 1867 г. завершилась к XX в. победой
эволюционистов-прогрессистов, а вот Эйнштейн, фигура достаточно видная и авторитетная в науке XX в.
вроде бы ничего об этом подвиге биологов и антропологов и не слышал, во
всяком случае не оценил его по достоинству. В интервью 1930 г. он говорил: «Мне
достаточно созерцать тайну сознательной жизни, которая увековечивает себя в
вечности, размышлять о чудесном строении Вселенной, которую мы можем
смутно разглядеть, и попытаться смиренно понять хотя бы ничтожную часть
интеллекта, проявляющегося в природе... Моя религия заключается в смиренном
восхищении ясным высшим духом, проявляющимся в тех мелочах, которые мы
можем осознать нашими слабыми умами. Эта глубокая эмоциональная
убежденность в присутствии высшей разумной силы, которая проявляется в
непознаваемой Вселенной, и представляет мою идею о боге... Самой непонятной вещью в
мире является то, что он познаваем» [36, с. 233].
Интересно, на чьей стороне оказался бы Эйнштейн с этими мыслями о
познаваемости непознаваемой Вселенной, на стороне фон Брауна или Дж.Мура?
Мы не решились бы ответить на этот вопрос. К тому же, сама попытка
ответить на. него, предполагает, что дискуссия 1867 г. завершилась однозначным и
134
M. К. Петров
достаточно убедительным результатом. В действительности это далеко не так.
Исход готовился, так сказать, в «попятном» движении, методом сдвига Ti-x
возражений, аргументаций и объяснений по поводу модели Аджилла, причем Ti-e
дискуссии сдвигались в общем-то к опровержению Уейтли в надежде попутно
похоронить и модель Аджилла. Это удалось сделать, удалось даже «перевыполнить»
задание, поскольку, опровергая Уейтли, похоронили «по запарке» и библейский
вариант истории человечества, с которым приходилось считаться поколениям
интеллектуалов вплоть до этого великого события. Остальное довершила, как
водится, историческая экспликация значимости события для науки.
Джиллеспай пишет об этой экспликации: «Историки, которые писали об этом
инциденте, обнаружили тенденцию следовать интерпретации Лаббока. Э.Д.Уайт в
1898 г. в его до сих пор влиятельной «Истории войны науки с теологией в
христианском мире» [174] показывает позиции Уейтли и Аджилла как
мотивированные чисто религиозными соображениями. Атаку Уейтли на антропологию
прогрессистов он описывает как реализацию «предписания церкви» и высказывает
предположение, что «будь ирландский архиепископ простым человеком, он,
возможно, подошел бы к вопросу более осторожно и с меньшей предвзятостью».
Графа он описывает как «главу и вдохновителя ортодоксальной партии», как
«решительного сторонника теологов» и защитника «старого теологического взгляда»
на происхождение человека, как «наиболее выдающегося лидера
теологов-ретроградов», а его принцип деградации приписывает влиянию шотландского
кальвинизма» [113, с. 50]. Не изменилась эта трактовка дискуссии и сегодня:
«Современные авто$Ь1 продолжают видеть в Уейтли и Аджилле выразителей
ортодоксальной теологии, говорящих в сущности об одном и том же» [113, с. 50].
Сам Джиллеспай видит в дискуссии 1867 г. парадигматический пример
несвоевременной постановки важной проблемы в духе заявления Гальтунга об
отношении науки к ересям: «Наука не в меньшей степени, чем религия, умеет
своими методами справляться с еретиками, которые выскакивают раньше времени.
Когда писал Аджилл, новая наука о человеке была поглощена борьбой за
независимость от библейской традиции. Только позднее, когда окрепло уже
секуляризированное мировоззрение, наука смогла вернуться к критической оценке
постулатов эволюционизма» [113, с. 54]. Судя по событиям в Калифорнии, которые
развертывались в то время, когда Джиллеспай в Атланте писал статью, его оценки
современной ситуации излишне оптимистичны.
Естественно, что и у нас есть претензии к Аджиллу. Претензии
методологические и достаточно, на наш взгляд, серьезные. Они связаны прежде всего с
истолкованием начала, того локального давления среды, которое могло бы заставить
стадо обезьян того или иного вида (претендентов, надо полагать, было много, но
выжить удалось явно одному) наладить системную организацию деятельности и
приспособить постредакцию к воспроизведению этой системы в смене
поколений. В свете наших гипотез о биологической и генетической недостаточности
рода человеческого описание Аджиллом локальных условий среды — «теплая
страна, где плодоносная природа дополняла неразвитое знание искусств и
наук» — явно неподходящее место для возникновения человека, общества,
знакового специализирующего кодирования в едином акте. Здесь требуется что-то в
ином роде, нечто много худшее, чем просто «зверские» условия окружения, после
чего и льды Арктики и скалы Огненной земли могли бы показаться какой-нибудь
зондирующей окрестности группе первопроходцев племени, созревшего для
почкования методом удвоения ядра посвященных, вполне сносным местом
обитания.
Явно не проходит с точки зрения наших постулатов и предложенная
Аджиллом модель расселения — вытеснение слабых под давлением роста населения. Мы
уже говорили о том, что «шалашный» способ парной робинзонады
методологически несостоятелен просто потому, что каждой первичной паре пришлось бы
начинать все с начала, и такие пары оказывались бы в худшем даже положении,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 135
чем стадо обезьян, где все же есть представители всех возрастных групп, которым,
чтобы стать обществом, достаточно обзавестись системной организацией
деятельности и языком, как средством передачи этой организации подрастающим
поколениям методами знакового специализирующего кодирования. После нашего
краткого знакомства с функцией института имен в первобытных обществах, где
преемственное существование общества в смене поколений обеспечивается
циклами обращения конечного числа вечных имен, допускающих многократное их
использование для соединения с ними на разных этапах возрастного движения
унифицирующих и специализирующих текстов, мы можем со значительно
большей уверенностью утверждать, что модель вытеснения сильных слабыми, парных
робинзонад расселения методологически несостоятельна. Если бы расселение шло
по модели Аджилла, невозможно было бы объяснить высокую степень подобия
институтов имен и их функций в первобытном обществе. Модель почкования
ядра посвященных на базе лишних людей-дублеров устраняет эту трудность.
Поэтому, если, скажем, Аджилл справедливо упрекал оппонентов,
увлекающихся сравнительной анатомией, в недоучете фактора ментальности, который
невозможно обнаружить, измерить и оценить скальпелем, то мы вправе предъявить
обвинение Аджиллу в недоучете фактора системной организации, социальности,
который тоже невозможно обнаружить скальпелем, да и на ископаемых костях
он не оставляет явных следов. Если питекантропа или синантропа можно еще
куда-то вставить между обезьяной и человеком в гомологический ряд изменения
черепов от черепа обезьяны к черепу человека, как-то их определить в
эволюционной шеренге по золе, по данным «праисторической» археологии в духе,
скажем, реконструкции историй орудийных арсеналов Г.Чайлда [84], то
социальность ведет себя в этих свидетельствах подобно следу в небе от высоко летящего
самолета, чего в общем-то достаточно для суждений о том, что пролетела некая
социальность, но явно маловато для суждений о том, какая именно.
Наиболее серьезные возражения у нас, естественно, вызывает подход Аджилла
к лакуне-пропасти, разделяющей животных и человека по ментальному
основанию: «Каковы бы ни были чисто телесные сходства, ментальный разрыв между
человеком и животным бесконечен» [ИЗ, с. 44]. Сегодня, бесспорно, такой
разрыв существует, как он существовал и во времена Аджилла и много раньше. В
свете наших гипотез он даже увеличивается, если человеческий биокод не
потерял способности накапливать качество всеядности, поскольку разрыв этот
выражается, по нашему мнению именно во всеядности, в безразличии биокода к
любым разновидностям данностей, если они созданы человеком для человека, в
процессе их освоения в возрасте «от 2 до 5», что оказывается неодолимой
преградой и для животных, долгое время сосуществующих в симбиозе с человеком,
и для животного мира вообще.
Но если принимается постулат естественного происхождения человека, а мы
его принимаем, то включать этот ментальный разрыв в изначальное условие
перехода из животного в человеческое состояние значит в любом варианте создавать
тупиковую в методологическом отношении ситуацию, которая требует обращения
к надчеловеческим или внеземным агентам. Естественным образом этот разрыв
можно объяснить, по нашему мнению, только кумулятивно как нечто нажитое и
наживаемое в процессе селекции на творчество, на перестройку социальных
данностей, на изменение наличных текстов специализирующего кодирования ради
приведения их в соответствие с наличными параметрами среды обитания.
Нам представляется, что и становление этого ментального разрыва и
появление четкого водораздела между универсальными правилами грамматики и смыс-
лонесущими элементами языка (словами, текстами) явления одного и того же
порядка, если не две стороны одного и того же явления. При всем нашем уважении
к творческим возможностям природы, в частности и к возможностям
биологическими средствами решать системные задачи ранга термитника, муравейника,
роя, мы все же отказываемся принять любую гипотезу, построенную на допуще-
136
M. К. Петров
нии в качестве условия осуществимости мгновенного появления языка в полном
наборе его универсальных грамматических правил. Здесь явно нужно время на
дифференцирующее воздействие возможностей биокода и внешних
спецификаторов на единую по началу сферу общения-постредакции, на выделение области
универсальных правил, набор которых очевидно ограничен и всегда будет
оставаться ограниченным возможностями биокода освоить его на периоде «от 2 до 5»,
и область приложения этих правил к процессам общения, которая столь же
очевидно не несет ограничений по человекоразмерности.
В этом смысле ценность идеи Аджилла о расселении как о формообразующем
активном факторе изменения социальных институтов производно от сред
обитания перечеркивается принципом деградации, дренажа исходного качества по ходу
расселения, а не накопления его в движении через разнообразие сред обитания
в условиях жесточайшей селекции на творческие способности.
Отсюда и наша двойственность в оценках дискуссии 1867 г. Она бесспорно
способствовала разрыву антропологии как научной дисциплины с теологией, и в
этом мы видим заслугу Аджилла, а не его критиков, которые устраняли
христианскую модель истории человечества, бога-примата, провиденциализм лишь
постольку, поскольку это было необходимо для сокрушения модели Аджилла. С
другой стороны, сам ход этой дискуссии почти на столетие разорвал связь между
двумя соотнесенными и ключевыми, на наш взгляд, проблемами очагового
происхождения человека и заселенности земли ко времени великих географических
открытий, совместное изучение которых могло бы сконцентрировать внимание на
поисках древнейшего познавательного механизма, позволившего человечеству на
заре развития совершить этот беспрецедентный познавательный подвиг. Потеря
этой намеченной было Аджиллом связи двух проблем бесспорная, на наш взгляд,
i потеря для антропологии, причем потеря во многом невосполнимая, поскольку
I сегодня уже невозможно переориентировать антропологический поиск на новую
j проблематику ввиду практического исчезновения основного объекта исследова-
i ний — первобытного общества.
Тоска Ту по Ти
Жалобы Дж.Мура на отсутствие коллегиальной солидарности в
научно-академическом сообществе не являются чем-то единичным и исключительным в
потоке критических замечаний в адрес положения, сложившегося в науке и в Ту
культуре в целом. Хотя сам процесс онаучивания общества наукой, которая сама
оказывается на воспитании у непредсказуемых событий переднего края научно-
дисциплинарного познания мира шел и идет явочным порядком, редко покидая
пределы данности и порождая конфликты, типа калифорнийского, само научно-
академическое сообщество все чаще начинает попадать в «коридорные» ситуации
общения на правах то А, то В, где, понятно, говорить приходится на Ту и с
коллегами по другим дисциплинам, и с публикой, и с властями, и с прессой, что, с
одной стороны, постоянно ставит науку перед проблемой контакта с аудиторией,
поиска ее Т0-х, а, с другой стороны, создает твердеющую почву для осознания
существенных перемен в социальном статусе ученого и института науки в целом.
Д.Найт, например, прямо связывает эти перемены с попытками ученых
узурпировать право на истолкование реальности и с разрывом тесных отношений
между теологией и наукой: «Если естественная теология была несостоятельна как
в теологическом, так и в логическом отношениях, она все же обладала
достоинством соединения науки с системой верований и этических кодов. Наука и
технология морально нейтральны, и на них не следует возлагать слишком уж
больших надежд. Но в некоторых странах наука действительно стала видом
идеологии, предполагающей, что если бы науки, как знание получили всеобщее
распространение и широкое приложение, то люди стали бы счастливыми и совершен-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 137
ными. Разочарование в этой химерической надежде должно рассматриваться в
качестве одного из факторов, скрытых за так называемыми антинаучными
движениями и поветриями. Там, где как в Англии XVIII и большей части XIX вв. науку
обычно преподавали как естественную теологию, она соотносилась с другими
человеческими заботами и не могла стать идеологией. Мы уже не можем вернуться
к этому типу естественной теологии, но нам следует скептически относиться к
диким надеждам на науку и не давать ей права на некую мистику» [131, с. 65].
Понятно, что в разных странах это беспокойство по поводу антинаучных
движений и поветрий, разочарований, неоправданных надежд на науку принимает
различные формы. В США, например, не говоря уже о событиях в Калифорнии,
наука в этот же период времени вступала в конфликты с социальной данностью
по множеству других линий и на самых различных уровнях. На годичном
собрании 1972 г. Национальной академии наук, например, то есть на высшем уровне
«коридорных» ситуаций междисциплинарного общения ученых, конфликт принял
форму попыток размежеваться с федеральными властями на кадровом и
тематическом уровнях. Междисциплинарного форума с каким-то особым общенаучным
То, отличным от Ту, естественно, не получилось — разговор между академиками
шел о вещах понятных каждому взрослому человеку, и разговор, следует
отметить, весьма полезный для нашей темы [101].
Ф.Хэндлер, президент Национальной академии наук США с 1969 г. вынес на
обсуждение собрания проект реорганизации Национального совета по
исследованиям — рабочего органа Национальной академии наук, который ведал внешними
контактами с федеральными учреждениями и службами и использовался
правительством и федеральными ведомствами США в основном на правах экспертной
группы, имеющей дисциплинарное строение и отстраненной от
непосредственного участия в определении целей научной политики и соответствующих этим
целям исследовательских программ. Основная идея реорганизации состояла в
том, чтобы перейти от принципа дисциплинарного строения Совета (в Совет
входило около 500 специализированных комиссий и до 75000 ученых-экспертов) к
междисциплинарному, проблемному и, соответственно, от консультаций к
исследованиям. С новой структурой Совета Хэндлер связывает надежды на
«заблаговременное выявление национальных проблем, прежде чем они станут
критическими» и на активное участие Академии в формировании национальной политики
[101, с. 499].
Хотя рано пока говорить об успехе или неудаче этой программы
реорганизации ради, так сказать, отделения науки от государства, опыт организации
подобных проблемных групп свидетельствует о том, что наука пока не научилась
решать проблему научной коммуникации в «коридорных» ситуациях ни на высшем,
ни на низшем уровнях, то есть вести научное общение в группах, члены которых
принадлежат к разным дисциплинарным сообществам, а Т0 аудитории, кто бы ни
брал на себя инициативу выступать в роли А, заведомо равен или ниже Ту. У
науки нет своего особого научного языка для постановки и решения тезаурусных
отношений в группах смешанного состава.
Положение в общем-то не меняется, если в группу входят не только ученые
из разных дисциплин, но и представители разных социальных институтов.
Трудности окажутся аналогичными, и как раз с ними американская наука столкнулась
на этом периоде резкого ухудшения отношений ученых как с Белым Домом
(Никсон в 1973 г. упразднил Комитет научных советников президента), так и с
Конгрессом, с печатью, с общественным мнением, с «публикой», что отразилось
на ассигнованиях по федеральному бюджету и бюджетам штатов на науку и
высшее образование, вынудило Национальный научный фонд отказаться от ряда
предполагавшихся и ведущихся уже программ, вызвало естественную тревогу
всего американского научно-академического сообщества. Маятник, о котором
толкует Дж.Мур, пошел в обратную сторону не только для биологии.
138
M. К. Петров
Национальный научный фонд решил подойти к делу, создал в отличие от
англичан, которые создают в таких случаях Королевские комиссии, «таск-группу»,
то есть опять же междисциплинарную группу с четкой задачей: найти причину
столь неблагоприятного для науки течения событий. Результатом этих усилий и
явился часто цитируемый нами сборник «Наука и ее публика: изменение
отношений» [157] явно «коридорной» структуры: в нем 17 статей, 21 автор, 9
дисциплин и специальностей (4 физика, 4 историка, 4 социолога, 3 биолога, эколог,
экономист, юрист, журналист, администратор).
Такой звездный заход на проблему поиска причин или причины очевидного
ухудшения отношений института науки с социальным окружением[не мог,
естественно, дать целостного портрета предполагаемого противника или «злого духа»
науки, но контуры поиска того, что авторы сборника называют «редукцией»,
вкладывая в этот термин широкий смысл срыва и разрыва тезаурусных
отношений и в самой науке и в каналах общения с другими социальными группами и
институтами, на кадровом, финансовом и материальном содержании которых
наука находится, прочерчены довольно четко. Кое-что различимо и в самом
портрете, причем настолько отвратное, что один из редакторов сборника У.Бланпид,
физик, не без стоической нотки пишет в предисловии: «Будь, что будет, но сейчас
представляется насущно необходимым поощрять масштабные и длительные
междисциплинарные исследования, прививать чувство озабоченности этими
проблемами на всех ступенях образовательного процесса» [157, с. XXIV].
Редукционизм — интегрирующая идея сборника доклада, которая
представлена многообразием форм разобщения, появления непроходимых лакун там, где их
еще недавно не было. Научно-дисциплинарное познание — редукция,
разрывающая непосредственные связи человека с природой, и, в силу растущей
специализации познания, связи между дисциплинами, единство общенаучной
коммуникации. Профессионализация науки — редукция, отсекающая от науки армию
любителей-популяризаторов, а с нею и возможность взаимопонимания между
наукой и широкой публикой. Приверженность науки к постулату объективности,
незаинтересованности, свободы от ценностей — редукция, превращающая продукты
науки в чудовища Франкенштейна. Практически все статьи сборника
анализируют ту или иную форму редукции как самоочевидное зло, зло активное и
деятельное, общим итогом деятельности которого является растущая институциональная
изоляция науки, делающая ее непонятной и неясной по социальной функции
формой деятельности, беззащитной перед любыми антинаучными поветриями.
Борьба с редукцией, восстановление нанесенного ею ущерба и выдвигается в
ближайшую общую задачу американского, да и не только американского
научно-академического сообщества.
Понятно, что для любой идеи восстановления требуется нечто большее, чем
констатация наличия лакун, прорех, дыр там, где вроде бы совсем еще недавно
их не было, требуется некий идеал, план, и поскольку история возникновения
ущерба прослеживается сравнительно просто, идет ли дело о выдернутом зубе или
о потерянном единстве коммуникации, поиски идеала идут, как правило, у того
места в истории, с которого события приняли столь неблагоприятное течение.
Ретроспективный характер поисков идеала наилучшего устройства отмечался
и исследовался многими. К.Маркс, например, писал о «Государстве» Платона, о
прототипе построения большинства социальных утопий: «Поскольку в республике
Платона разделение труда является основным принципом строения государства,
она представляет собой лишь афинскую идеализацию египетского кастового
строя; Египет и для других авторов, современников Платона, например Сократа,
был образцом промышленной страны, он сохраняет это свое качество даже в
глазах греков времен Римской империи» [40, с. 379]. А Египет, как и государства
Двуречья того времени, как и Индия, Китай был «классикой» традиционного
социального устройства ко времени Платона и Сократа, от которой Афины,
греческий полис, «первобытную» социальность европейского типа культуры отделяла в
История европейской культурной традиции и ее проблемы 139
то время культурная революция, слом именно этой традиционной классики,
следы которой явственно обнаруживаются и археологами на Крите и историками
в реликтах-рудиментах полисного устройства, в частности и в мифологии.
Точно так же интеллектуалы -революционеры XVII в. искали свой идеал
состояния, подлежащего восстановлению, в авторитетной в то время христианской
моделида^рЦ^~оРнаруживая" его в образе жизни Адама и Евы в садах Эдема до
грехопадения, и в качестве средства для восстановления нанесенного
грехопадением ущерба предлагали всемерное развитие наук, в результате чего возникали
картины идеала, восстановленного состояния типа той, которую нарисовал
Мильтон: «И наконец, когда универсальное знание завершит свой цикл, дух
человеческий, не заключенный уже в этой темной тюрьме, распространится далеко и
широко, пока не заполнит весь мир и все пространство за его пределами, выявляя
свое божественное величие. И тогда-то большинство возможностей и перемен
мира будут пониматься так быстро, что для того, кто обладает этой крепостью
мудрости, вряд ли сможет произойти нечто в жизни его непредвиденное или
случайное. И действительно, он станет тем, чьему закону и чьей власти подчиняются
звезды, к чьим командам прислушиваются земля и море, кому прислуживают
ветры, кому, наконец, сдалась на милость сама Мать Природа, как если бы и в
самом деле бог отрекся от престола мира и передал свои права, законы и
управление человеку-властелину» [169, с. 1].
Аналогичное обострение интереса к истории на предмет поиска начала
грехопадения и счастливого образа жизни науки до этого печального факта
наблюдается и сегодня, когда ученые берутся подсчитывать наличный ущерб и потери
нанесенные науке временем. Нижняя граница очевидного уже проявления недугов
современной науки устанавливается где-то в конце XIX в. Р.Маккормак,
профессор истории науки университета Дж.Гопкинса, анализируя стенограммы
ежегодных собраний Германской академии наук на двадцатилетнем периоде с 1888 по
1918 гг. [157, с. 157—172], обнаружил постепенное выявление типичной
«коридорной» ситуации общения, когда на пленарных заседаниях все чаще начинают
произносить яркие, но пустопорожние речи об единстве науки, провозглашать
анафемы специализации, а действительно научные доклады и сообщения начали
заслушивать на заседаниях отделений и секций [157, с. 163].
Но конец XIX в. это уже переход болезней науки в открытую форму, а
инкубационный период большинство историков прямо связывает с событиями
революции интеллектуалов XVII в. При этом все чаще начинают упоминать имя
Франкенштейн для обозначения всего комплекса симптомов болезни.
Упоминавшийся уже по частному поводу Т.Розак свою статью «Монстр и титан — наука,
знание и гносис» начинает с Франкенштейна: «Название книги было
«Франкенштейн», в подзаголовке значилось: «Современный Прометей» [157, с. 17]. Более
половины статей сборника не обходятся без упоминаний о Франкенштейне, хотя
наряду с Мэри Шелли упоминают и о Сноу [65] и о Винере [8].
Г.Басалла, например, профессор истории науки и технологии университета
штата Делавэр, описывая «попнауку» — представление ученых и их деятельности
в детских телепередачах, комиксах, которые, по его мнению, формируют
стереотипы восприятия науки и научной деятельности не только у детей, но и у
взрослой публики, говорит об устойчивости традиций «попнауки», уходящих корнями
в средневековье. Первое развернутое выражение эта традиция получила в Новое
время в «Франкенштейне» Мэри Шелли: «Повесть о Франкенштейне
сформировала базу для радиопостановок, для взрослых и детских телепрограмм, для
мультфильмов, комиксов... Не приходится сомневаться, что доктор Франкенштейн
сегодня лучше известен Америке, чем любой другой ученый настоящего или
прошлого. И все, кто узнает это имя, ассоциируют его с наукой, вышедшей из-под
контроля, с наукой, напускающей убийц-монстров на невинную публику» [157,
с. 264}.
140
M. К. Петров
Басалла рассматривает этот образ Франкенштейна как неожиданно
устойчивый штамп более или менее случайного происхождения: «Начиная исследование,
я ожидал обнаружить в популярной культуре кривые роста интереса к ученому и
стремления к пониманию его деятельности. А нашел я портрет ученого и его
деятельности, который подвергся со временем некоторой полировке, но не
претерпел значительных изменений. Подозреваю, что эта стабильность восходит к
значительно более ранним датам, чем та, которую я выбрал для начала изучения.
Профессор Радиум, герой английских комиксов 1908 г., имеет много общего со
своим современным коллегой из новейшего поколения комиксов в серии «Дунс-
бери» Гари Трудо, например» [157, с. 267]. Именно с этим штампом он связывает
набор идентификаторов науки и ученого: «В комиксах преступный ученый
опознается по титулу доктора или профессора, по хорошо оборудованной
лаборатории, по его специфическим чертам и общему виду, по интеллектуальному
превосходству и по гнусным замыслам. Карикатурист Жюль Фейффер рисует его как
пожилого человека со слабым зрением и неважной фигурой, который держит
колбу в волосатой руке или перелистывает толстую книгу — «ищет секретную
формулу власти над миром» [157, с. 261—262].
Иначе подходит к делу Т.Розак. Для него образ Франкенштейна продукт
грехопадения науки, длительного процесса: «Гордостью науки всегда была и остается
приверженность к гуманизму. Можно удивиться, откуда взялась почва для
отчаяния в философии гуманизма. Но существует несколько разновидностей
гуманизма, хотя этим фактом часто пренебрегают. Современный Запад, каков он есть,
три последних столетия шел темной дорогой спуска с высот гуманизма раннего
утра к гуманизму полуночи, от гуманизма карнавала к гуманизму отставки.
Гуманизм карнавала — гуманизм Пико и Микеланджело, Бэкона и Ньютона —
коренился в опыте человеческого сопричастия с божественным. Для гуманизма
отставки нет никакого опыта сопричастия с божественным, а есть лишь опыт
бесконечного одиночества человека. Именно это порождает отчаяние и судорожный
гуманизм, который цепляется за человека, как если бы он был единственной
соломинкой в безбрежном море, не показанном на картах. В этих условиях
покинутости мы гуманисты не по выбору, а по несчастью, гуманисты потому, что нет
у нас других оснований для убежденности, гуманисты испуга перед
альтернативой — бездной нигилизма» [157, с. 18].
При этом, как утверждает Розак, не на кого возлагать вину — гуманизм
одиночества обнаружился явочным порядком: «Если я скажу, что именно наука
перевела нас из одного гуманизма в другой, что именно она сделала нашу вселенную
бессмысленным театром абсурда, то не прозвучит ли это обвинением? Возможно.
Но обвинять не входит в мои намерения. Я уверен, что на каждом шаге
намерения ученых были абсолютно чисты и благородны. Они преследовали истину и
храбро следовали туда, куда она вела их, даже если ее цели требовали отказа от
человеческого содержания. Во всяком случае, мне нечего сказать кроме того, что
мыслящие ученые сами иногда сознавали это, подчас и не без некоторой
гордости. Так, Жак Моно писал: «Одним ударом наука объявила о разрыве с традицией
сотен тысячелетий, которая появилась вместе с самим человеком. Она
удостоверила конец древней анимистической связи между человеком и природой, не
оставив в этих высоко ценимых связях ничего, кроме волнующего исследования
вселенной одиночества» [157, с. 18].
Примерно о том же пишет и физик из Гарварда С.Вайнберг, полемизируя с
Розаком. Он попросту констатирует — в природе нет человеческих ценностей,
смысла и значения: «Одним из уроков, который нам пришлось выучить на этом
пути, является то, что законы природы столь же безличны и свободны от
человеческих ценностей, как и правила арифметики. Нам вовсе не хотелось, чтобы
получилось именно так, но так оно есть на самом деле. Когда мы смотрим на
ночное небо, мы видим фигуры звезд, которым поэтическое воображение
приписало значение зверей, рыб, героев, дев. Иногда здесь происходят драмы — про-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 141
мчится по небу метеор. Если бы вдруг открылась корреляция между положением
созвездий и судьбами людей, между, скажем, падением метеора и смертью
короля, мы бы не повернулись спиной к такому открытию, пошли бы к принятию
взгляда на природу, в котором объединились бы все виды знания — морального,
эстетического и научного. Но таких корреляций нет. Совсем напротив, когда мы
наводим телескопы на звезды и тщательно измеряем их параллаксы, их истинные
движения, мы обнаруживаем, что они находятся от нас на разном удалении, что
их объединения в созвездия — иллюзия... Вся система видимых звезд
обнаруживает себя как малая часть ветви спирали одной из множества галактик,
расположенных в разных от нас направлениях. Нигде мы не обнаруживаем человеческих
ценностей или человеческого значения» [157, с. 43].
Розак же такие ценности и такое значение обнаруживает: «Возможно не
каждый читатель считает деградацию значения в природе моральной проблемой. Я
же считаю, поскольку бессмыслица порождает отчаяние, а отчаяние, по моему
мнению, есть тайный разрушитель человеческого духа — такая же реальная и
смертельная угроза здоровью, как и неправильное использование энергии
атома — физическому нашему выживанию» [157, с. 19].
Словом, природе приписывается нечто, явно придающее и самой природе и
знанию о природе черты сотворенности и осмысленной упорядоченности,
рационального и морального порядка, что несложно, конечно, было бы объяснить в
терминах традиционного теологического или новоявленного «научного»
креационизма, но о чем вряд ли вообще возможно говорить в терминах естествознания,
опытной науки. Так поставив вопрос, можно было бы классифицировать
рассуждения Розака как еще одну попытку идеалистического подхода к решению
проблем гносеологии, не заслуживающую детального анализа. Но в нашей
конкретной ситуации поиска приматов, выявления патриотической характеристики
событий, завершением которых было появление опытной науки и ее истории
отбрасывающий подход был бы неуместным, был бы скорее отказом от понимания,
чем приближением к нему. Концепт творения мира по слову нечто большее, чем
вышедшая из доверия и моды библейская легенда. Слово, как и разум, было и
остается переменным участником всех актов человеческого познания и
творчества, и чье именно это слово — вопрос второстепенный для историка, естественно,
а не для эпохи, которая держится за свою иерархию авторитетных инстанций и
навязывает ее историку на правах Ti своего понимания. Да и спор идет о вещах
вполне серьезных. Не говоря уже о реальности проблем разрыва связей с
многочисленными аудиториями науки, как и проблем растущей междисциплинарной
разобщенности, идеи Розака, как представителя целой группы сторонников
«личной науки», «соучастия в науке» достаточно типичны для понимания
специфических трудностей процесса самосознания науки на современном этапе.
На американском материале наиболее четко эти частные, но важные
проблемы самосознания современной науки представлены в статье Дж.Холтона «Между
молотом Аполлона и наковальней Диониса». Холтон, историк науки из Гарварда,
начинает с констатации того справедливого факта, что ученые не так уж часто
задумываются над проблемами эпистемологии: они осваивают как данность
«необходимую прагматическую базу» и делают свое дело, у них просто времени не
остается на философствование — «жизнь коротка, а исследования — долги» [157,
с. 65].
Но современная ситуация, осложненная кризисом доверия к науке,
снижением ассигнований на науку и на подготовку научных кадров, носит принципиально
иной характер — ученых загнали в своего рода эпистемологическую ловушку,
характерной чертой которой является противоречие между рационализмом и
иррационализмом: «Если ученый, сознает он это или нет, сталкивается с восстанием,
основанным на популярных представлениях касательно редукционизма, то, с
другой стороны, он становится объектом нападок с прямо противоположного
направления, нападок группы философов, которые стремятся заново определить до-
142
M.К. Петров
пустимые границы научного рационализма. Ученый, таким образом, оказался
между массивной наковальней и угрожающим молотом. Наковальня представлена
теми, кого я бы назвал «неодионисийцами», авторами типа Теодора Розака,
Чарлза Рейха, Р.ДЛейна, Н.О.Брауна и Курта Воннегута. При всех различиях между
ними, они едины в своем подозрительном или презрительном отношении к кон-
венциальному рационализму и в своей убежденности, что вытекающие из науки
и технологии следствия в большинстве своем суть зло. Методология — не
первостепенная их забота; они считают себя критиками социальности и культуры по
преимуществу. Но на правах предварительных условий желательных изменений
они стремятся «расширить спектр» того, что признается «полезным знанием».
Они ратуют за частное, личное и иногда даже мистическое знание. Пишут они
великолепно, и привлекательность их прозы велика» [157, с. 67].
Вот здесь мы получаем уже возможность определить свое отношение к Розаку
и к группе «неодионисийцев», пусть работает термин Холтона, в целом. Нам тоже
крайне необходимо «расширить спектр» того, что признается «полезным знанием»
или просто знанием. Если мы определяем знание как то, что обеспечивает
эффективный контакт со средой обитания на предмет извлечения из нее средств к
существованию и воспроизводству живущего поколения с учетом репродуктивных
свойств устойчивых спецификаторов этого окружения в деятельности зрелой или
взрослой части живущего поколения, то общность и различия обнаружатся как
между биологическим и человеческим знанием, где универсальной
характеристикой человеческого знания будет необходимость его оформления в знаке, в
системе человеческой постредакции, так и в пределах самого человеческого знания,
где обязательность оформления в знаке и производность знания как от
репродуктивной характеристики окружения, так и от ограничений по человекоразмерности
вовсе не обязательно должны давать однозначный результат. Если бы это было
так, нам ничего не оставалось бы, как вслед за Аджиллом включить в исходный
ментально-познавательный разрыв между животным и человеком всю науку с ее
атрибутами и проблемами в целом. Коль скоро это невозможно, нас и интересуют
любые попытки «расширить спектр» признанного полезного знания, с тем чтобы
попытаться выделить в этом едином спектре более или менее чистые линии
первобытного, традиционного и научного знания, а также и способов познания,
которыми такое знание обретается.
Поэтому нас не должны смущать эпитеты, прилагаемые к источнику знания,
к самому знанию и к способу его обретения. Если знание функционирует в
системе фрагментации и интеграции социальной деятельности, передается от
поколения к поколению, исправно служит в контактах живущего поколения с
окружением, то оно заведомо создано из того же материала, что и наше
научно-дисциплинарное знание, доказывающее свою истинность в бесконечных повторах в
области приложения. Но сделано разными способами, которые нас и интересуют,
какими бы обескураживающими ярлыками ни клеймили их исследователи.
Если, скажем, Леви-Брюль назвал пралогическое мышление мистическим, то
он хотя и затруднил подход к анализу этого мышления, навесив на него
отпугивающий ярлык, но отнюдь не отменил того факта, что именно это мышление и
следующие его правилам процедуры операций со смыслонесущими знаками
позволили первобытному обществу не только сохраниться в поражающем
единообразии социальных институтов от начала человеческой истории до встречи со
своей же претерпевшей значительные изменения европейской ветвью, но и
заселить всю землю к моменту этой встречи. Так что ярлыки дело второстепенное, а
главное для нас — это многообразие способов достижения одного и того же
результата: знакового обеспечения эффективности социальной практики и
преемственности такой практики как в смене поколений, так и в изменении ее состава,
в процессах включения новых составляющих и дренажа морально устаревших или
теряющих опору в репродуктивной характеристике окружения.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 143
Но взыскующая разнообразия, стремящаяся «расширить спектр» группа «не-
одионисийцев» только одна сторона активного давления на умы и психику членов
научно-академического сообщества: «Если неодионисийцы образуют наковальню,
то молот отлит группой, которую я буду называть «неоаполлонийцами». Они
советуют нам избрать прямо противоположный путь — предаться
логико-математической стороне науки, сконцентрировать внимание только на конечных
результатах запоминающихся успехов, а не на сумятице, в которой эти успехи
достигаются, ограничить значение рациональности, с тем чтобы она имела дело в
основном с суждениями, объективность которых гарантирована соглашением и
признанием коллег. Они бы решительно «захлопнули окно» в своем стремлении
исключить как раз те элементы, которые другая группа считает наиболее серьезными»
[157, с. 67].
Попадает, естественно, ученым: «Обе группы излагают свои позиции с
апокалиптической жесткостью представителей враждебных мировоззрений. Как и в
большинстве поляризованных ситуаций, наибольший ущерб они наносят не друг
другу, а тем, кого застали на нейтральной земле. В самом деле, они, похоже,
усиливают позиции друг друга, как это делали антагонисты времен холодной войны.
Перед лицом противника обе группы ограничивают круг допустимых мыслей и
действий: одна ритуально осыпает насмешками карикатуру, которую она называет
рациональностью, другая — карикатуру, которую она называет
иррациональностью. Обе предельно не удовлетворены тем, как делается наука, и не скрывают
своего неодобрения» [157, с. 67].
В составе неодионисийцев Холтон не видит оригинальных мыслителей:
«Свидетельств деятельности неодионисийцев можно обнаружить сколько угодно. Но
хотя их взгляды могут быть модой, было бы ошибкой считать их
скоропреходящим увлечением. XXI в. вряд ли откроет среди нынешних авторов-неодионисий-
цев единую фигуру в том смысле, в каком наш век обнаруживает Ницше,
скрытого за дионисийцами XIX в. Непохоже, что сегодняшняя широкая распродажа
их товаров идет благодаря долговременным литературным качествам или новым
глубинам мысли. И все же, хотя популярность каждого из этих авторов
выдерживает лишь сезон, факт остается фактом: их голоса достигают такого количества
жаждущих услышать ушей, что последовательность калифов на час вряд ли
вскоре иссякнет» [157, с. 67].
Розак — один из этой последовательности калифов. Холтон оценивающего как
«умеренного и мыслящего» неодионисийца: «Теодор Розак задает тон атаки
заявлениями типа: «обвинять надлежит самое предпосылку, будто культура, если ее
отскоблить от сверхъестественного и эпатировать в нее человеческие ценности,
обязана целиком вписаться в ландшафт умозрения научной рациональности»; «Я
настаиваю на том, что в нашей культуре есть нечто радикально и изначально
ложное, некий порок, который лежит на глубине, недостижимой для классовых
или расовых зондирующих исследований, и который сводит на нет наши
отчаянные усилия достичь целостности. Убежден, что подводит нас именно наша
закоренелая привязанность к научной картине природы» [157, с. 67—68].
Мы в этом не убеждены, хотя вполне допускаем такую возможность при
условии, что та «научная картина мира», к которой мы проявляли и проявляем
столь великую приверженность и которую воспринимаем, как непререкаемую
данность высшей степени достоверности, поколебать которую столь же сложно и
небезопасно, как и грамматику родного языка, нарисована не нами,
представителями Ту культуры, и не нашей Ту наукой, а досталась она нам в наследство от
Ти культуры, нарисована в красках, пропорциях, перспективах «самовольной
науки» XVII—XIX вв., собрана в единство апперцепции, в обозримую целостность
восприятия оптикой интеллектуалов, находящихся в самовольной отлучке и
устанавливающих пределы своих «далеких плаваний» и «прохождений» сроками
возврата к побудке в свою Ти казарму-дисциплину, одну для всей «самовольной
науки».
144
М.К. Петров
В этих и только в этих условиях возможны, достижимы и естественны все те
блага — единый язык науки, общность научной коммуникации, унификация
подготовки исследовательских кадров, унидисциплинарность, отсутствие
междисциплинарных лакун и «коридорных» ситуаций общения, — отсутствие которых в Ту
науке ощущается Ту учеными под знаком ущерба и потерь, требующих
восстановления.
В этом смысле то изначальное зло, та ложь, тот порок, о чем пишет Розак,
есть просто-напросто всеобщее обязательное среднее образование, присутствие в
нашей современной культуре Ту, всеобщего сборного пункта, от которого можно
прокладывать сколько угодно дорог в любое число Тд казарм, в каждой из
которых выполняются условия Ти казармы, лимитирующие дальность плаваний и
прохождений сроком возврата из «ужасно далеко» прутковского пастуха, но в целом
для института Ту науки эти условия не выполняются. В Ту науке нет и не может
быть того, что было в Ти науке — для этого пришлось бы вернуться к границам
возврата «самовольной науки», то есть пожертвовать ради единства апперцепции,
единства восприятия научного мира открытий теми явными преимуществами,
которые дает подчиненная ограничениям по человекоразмерности фрагментация
этого мира открытий и самого процесса познания, обеспеченная присутствием в
нашей науке аттестата зрелости, Ту.
Здесь, понятно, наша позиция явно противоположна «восстановительной» или
«тоскующей по Ти» позиции Розака или неодионисийцев вообще. Сегодня
«емкость» Ту науки, ее способность осваивать мир научных открытий, извлекать из
него элементы знания, обладающие свойством неограниченной
транспортабельности к местам, датам и целям приложения, способность освоения потока нового
знания измеряется числом входов в науку, числом наличных радиальных челове-
коразмерных маршрутов Ту-Тд для развода новобранцев науки; число это велико
и продолжает расти. В Ти культуре был, по сути дела, один такой человекораз-
мерный путь — подготовительный факультет свободных искусств. И в какой бы
шкале оценок ни сравнивать «самовольную науку» с нашей, результат будет в
пользу нашей Ту науки.
Холтону, понятно, чуждо наше противопоставление Ти и Ту культур,
«самовольной науки» и Ту науки, но его попытки противостоять эмоциональному
напору тоскующих по Ти неодионисийцев весьма для нас информативны. Критикуя
один из краеугольных постулатов неодионисийцев о дегуманизирующем
воздействии науки, вызванном стремлением науки к безличности и объективности, Хол-
тон опирается на Эйнштейна и Планка, на их понимание соотношения
субъективного и объективного в процессе научного творчества, по которому личное и
субъективное по началу движение к результату завершается актом отсечения
личного и субъективного в пользу безличного и объективного. Холтон приводит
выдержки из статьи Эйнштейна «Мотив исследователя», написанной в 1918 г.:
«Прежде всего я, вместе с Шопенгауэром, считаю, что одним из самых
действенных мотивов, которые толкают человека в искусство или в науку, является
бегство от повседневности с ее болезненной грубостью и беспросветной скукой, и
также и от оков непостоянства своих собственных стремлений. Тот, кто более
терпим, уходит из мира личного существования в мир объективного наблюдения
и понимания... Этому негативному стимулу сопутствует и позитивный. Тем или
иным доступным ей способом личность пытается сформулировать для себя
упрощенный и ясный образ мира, с тем чтобы подняться над миром опыта через
стремление заменить его в какой-то степени этим образом... И в образе и в его
построении центр тяжести располагается индивидом в собственной
эмоциональной жизни ради того, чтобы достичь мира и умиротворения, которых он не
находит в узких бурлящих рамках собственного опыта» [157, с. 69].
В этом движении и возникает на заключительном этапе акт обезличивания,
объективации, отчуждения: «Описывая борьбу выхода за границы того, что он
называет «просто личным», Эйнштейн в конечном счете приходит к полному со-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 145
гласию с Максом Планком, что конечная цель науки прямо противоположна
неизбежности начального этапа личной, иногда героической борьбы. Этой
конечной целью является полное освобождение физической картины мира от
индивидуальности отдельных интеллектов». Иными словами, наука ищет картину мира,
которая была бы «реальной», ковариантной по отношению к индивидуальным
различиям наблюдателей» [157, с. 69].
К этому интересному месту нам еще придется вернуться, но и в аргументации
Холтона оно играет важную роль, поскольку именно здесь, по его мнению,
возникает иллюзия дегуманизации: «Хотя и не все ученые согласились бы следовать
за Эйнштейном и Планком до завершения, сила этой интерпретации возможно
является одной из причин, почему неодионисийцы так дружно и темпераментно
хватаются за слово «дегуманизация», когда они обсуждают методы науки. И все
же эти методы, пока они дают верифицируемые истины, так или иначе обязаны
переходить границы «личной науки» даже и в том случае, если они не могут
начать действовать, не пройдя первой личной стадии. Не противоречат научные
методы и тому факту, что человеческие заботы остаются центральными в тех видах
деятельности, которые непосредственно воздействуют на социальность» [157,
с. 69).
Неодионисийцы, действительно, рассматривают заключительную стадию по- ^
знавательного акта — попытку ученого объяснить свой результат коллегам на со- '
ответствующем Тд, которая действительно, если удается объясниться, отсекает
субъективное, личное, — не как норму накопления знания, его социализации,
передачи нового в специализирующие каналы трансляции, воспроизводства
знания в смене поколений, а как специфическую только для Ту науки форму
самоустранения субъекта от знания с попутным устранением субъективности из
знания с ущербом для самого знания. Подобное понимание научного знания под
формой его ущербности, редукции, неполноты вынуждает Розака, например,
ставить вопрос о существовании какого-то иного знания, продукта иных способов
познания: «Мы говорим, что разум в поисках знания должен оставаться
совершенно свободным и в то же самое время морально дисциплинированным.
Возможно ли это? Я считаю, возможно, но лишь при условии, если мы признаем
существование стилей знания, а равно и тел знания. Рядом с «что мы знаем?»
есть и «как мы знаем?» — насколько мудро, насколько изящно, насколько
возвышающе жизнь. Жизнь разума есть постоянный диалог между знанием и
бытием, в котором оба формируют друг друга. А это как раз и позволяет поднять
вопрос, который, на первый взгляд, может показаться странным в своей крайности:
Можем ли мы быть уверены в том, что предлагаемое наукой есть действительно
знание?» [157, с. 20].
Мыв этом уверены, поскольку научное знание, как и возможные другие виды
знания удовлетворяет критерию знакового обеспечения действенного
практического контакта с окружением, хотя и мало говорит о том, насколько мудрым,
изящным, возвышающим жизнь является этот действенный контакт на уровне
эмпирии: здесь вопросы нужно задавать не знанию, а тем, кто использует научное
знание, нагружая приложение своими субъективными и иными целями. По
мнению Розака, ответ должен быть отрицательным — наука не дает знания: «Для,
большинства западных интеллектуалов такой вопрос может показаться
нелепым — на протяжении почти трех столетий наука служила в нашем обществе.
мерой знания. Но чтобы поднять такой вопрос, достаточно лишь вспомнить
традицию платоников, по нормам которой наша наука оценивалась бы как
интеллектуальная деятельность на уровне более низком, чем уровень знания. Нельзя
сказать с уверенностью, как высоко оценил бы Платон впечатляющие
теоретические работы лучших научных умов современного мира, но я подозреваю, что
он отнес бы их к «информации» — к связному, соотнесенному с фактами отчету
о физической структуре и функционировании вещей: увидел бы в них разумную
схему «для сохранения видимости», как Платон любил называть астрономию
10 М.К. Петров
146
М.К. Петров
своего времени. Здесь перед нами полезная и заслуживающая доверия работа
интеллекта, но с точки зрения хорошо известной четырехступенной иерархии ума
наука заняла бы место где-то между второй и третьей ступенями: выше простого
неинформированного «мнения», но определенно ниже «знания» [157, с. 20].
Рассматривая иерархию предметов познания Платона, на вершине которой
располагается Благо, — «от которого происходят всякое благо и справедливость,
имеющие ценность для нас» [157, с. 20], Розак подчеркивает то место из писем
Платона, где утверждается невозможность описания знания: «У меня самого по
этим вопросам нет никакой записи и никогда не будет. Это не может быть
выражено в словах, как остальные науки; только если кто постоянно занимается
этим делом и слил с ним всю свою жизнь, у него внезапно, как свет, засиявший
от искры огня, возникает в душе это сознание и само себя там питает» [Письма,
VII, 341 СД].
Концепция Розака, судя по ее изложению, набору метафор, аналогий,
интеграторов явно восходит к Платону: «Подозреваю, что Платон в его стремлении к
знанию не столь уж чурался обычного научного опыта, который приходит с
каждым новым значительным открытием. Именно чувства, и прежде всего они
показывают нам, что то или иное открытие фактологически верно, и эта активность
разума утверждает себя как благо. Будучи человеческой проекцией она поднимает
нас до уровня высшего самоудовлетворения жизнью... Это чувство известно
многим людям по крайней мере по мимолетным проблескам в процессе их
деятельности в качестве художника, мастера, учителя, спортсмена, врача и т.п. Мы
назовем его «опытом совершенства» и не будем входить в детали. Платон стремился
изолировать этот опыт как объект познания, стремился рассматривать его не как
побочный продукт какой-то другой, менее высокой активности, а как
автономную цель. Он хотел знать благо само по себе, к которому мы лишь прикасаемся
время от времени по ходу занятий то тем, то другим. Ничего в современной науке
не было бы для Платона более отталкивающим, чем тот способ, которым статьи
профессиональной науки стараются во имя объективности деперсонализировать
себя вплоть до полного исключения указаний на этот «опыт совершенства», на
эти мимолетные проблески высшего Блага. Возражения Платона, мне кажется,
формулировались бы так: «Если такого опыта не было, то не стоило и браться за
работу, а если был, тогда зачем выбрасывать его, ведь в нем-то и содержится все
значение и ценность науки. Если Вы опускаете это» У Вас не остается ничего
иного, кроме информации» [157, с. 21—22].
На этом личном, персональном «опыте совершенства» Розак и пытается
развернуть концепцию «гносиса», выхода за границы интеллекта: «Для Платона
высшая ценность локализована не столько на территории интеллекта, которую
интеллект оккупирует и изучает, сколько в его твердой решимости держать
открытым проход, по которому разум мог бы перейти от философии к экстазу, от
интеллекта к озарению. Его диалоги стоят на границе транснациональной
чувственности, неодолимая притягательность которой представляется постоянной чертой
человеческой культуры. Такая чувственность, похоже, столь же стара, как и сам
разум, но и столь же современна, как последний список бестселлеров» [157,
с. 23].
Над этой античной мудростью и предлагает нам задуматься Розак, оценить ее
как потерю, подлежащую восстановлению: «Моя цель в том, чтобы вернуть
разуму тот традиционный стиль знания, для которого природа вещей была в равной
степени и резервуаром значения и резервуаром фактов, — тот стиль знания,
который агрессивно вытесняется сегодня наукой во всех странах мира. Будем
называть это знание «гносисом», употребляя это слово не для обозначения второго
или отдельного вида знания, а для обозначения более древнего и объемного вида
знания, из которого возник наш стиль знания путем неожиданной и ужасающей
трансформации чувственности в течение трех последних столетий. По моему
мнению, этот процесс становления был духовным обнищанием и психическим рас-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 147
стройством. Результат его — уменьшение нашего полного человеческого
потенциала. Процесс этот, вдохновители которого воодушевлялись мифом о титане,
привел нас, особенно в науке, к сокращению титанизма. Когда современные
Прометеи добираются до знания, приносят они не гносис и даже не рассказ о
попытке разыскать гносис, а множество свечей информации. И все же даже
миллион свечей не сравнится со светом факела Прометея: это огни, но разного
порядка» [157, с. 23].
Знакомые пошли мысли, явно напоминающие теологический экстаз
благочестия, сопричастия к высшему благу в рамках, скажем, четвертого доказательства
бытия божьего Фомы Аквинского, которое частью опирается на Аристотеля, но
в большей степени на Платона и платоников, на слабеющую эманацию: «То, что
в предельной степени обладает некоторым качеством, есть причина всех
проявлений этого качества... Отсюда следует, что есть некоторая сущность, являющаяся
для всех сущностей причиной блага и всяческого совершенства; и ее мы именуем
богом» [2, с. 830-831].
Сравнение позиций креационистов и неодионисийцев волей-неволей
наталкивает на мысль, что это два крыла единого по цели восстановительного движения.
Пути-то различны: креационисты, как истинные Ту креационисты, пробуют
пройти к богу с опорой на науку, идут путем «онтологического доказательства»,
усматривая в «гипотезе Моисея» научную реалию, допускающую верификацию
хотя бы в духе предложенного Г.Моррисом диспута с замером уровня
аплодисментов зрителей [157, с. 216]. Неодионисийцы более откровенны в своем
неприятии науки и ее продукта, сводят научное знание к информации, видят в
творчестве, включая и научное творчество «проблеск», «искру», опыт общения с
высшим Благом, идут к богу-знанию через «трансрациональную чувственность»,
через «опыт совершенства», который столь же стар и юн, как и сам разум
человеческий. Но цель движения явно одна: сообщить науке ценностную
характеристику с опорой на сверхъестественное.
С другой стороны, у Розака, во всяком случае, попытки обосновать синтез
свободы поиска знания и моральной дисциплинарности принимают явные черты
«восстановления», что до крайности напоминает парадигматическую ситуацию
XVII в. Розак постоянно обращается к XVII в., но не столько к событиям
революции интеллектуалов, сколько к отдельным ее героям, показывая, что все они
принимали гносис и работали в полном спектре гносиса, который включает
единство научного, эстетического и религиозного опыта: «Наука законная часть этого
спектра, но гносис есть спектр в целом» [157, с. 26].
У каждой культуры, по Розаку, свой топос, свой арсенал доказательной
аргументации, хотя состав топосного спектра сохраняет троичную структуру:
«Большинство мистических и оккультных традиций мира вырабатывалось на базе
первобытных и языческих культур. В своей основе эти традиции — сложные
умозрительные адаптации старых народных религий, которые сохранили в них в той
или иной форме древнюю мудрость и виды опыта. За кабалой и герметизмом мы
и сегодня способны различать тени ритуальной магии, обрядов плодородия,
сакрального континуума, которые связывали человека с природой и предписывали
ему ценности. Во всех этих мистических традициях знать реальность означает
триединое знание блага, прекрасного и сакрального. Это говорится не к тому, что
все, кто следовал этим традициям, достигали гносиса. Существует много способов
сойти с ума. Свихнуться равно хорошо можно и на экстазе и на логике» [157,
с. 27].
Эти тени древних религий и ритуалов, мистических традиций занимают в
восстановительной концепции Розака особое «подкорковое» положение, выявляя
себя в пристрастии эстетического и научного опыта к узкому кругу «вечных тем»
и моделей их восприятия, формализации: «В самом деле, не будет ли более
адекватно для нашего опыта воспринимать окружающий мир скорее как театр, чем
как механизм или как случайное скопище событий? Ведь просто удивительно, на-
ю*
148
M. К. Петров
сколько часто наука совершенно естественно интерпретирует открытия так, как
если бы они разворачивались перед нами в форме спектакля и опирались на
чувства, в которых нас воспитали драматурги и писатели. Вся космология говорит
на этом языке и даже значительная часть физики высоких энергий и
молекулярной биологии. Все, что мы недавно открыли насчет эволюции звезд, стихийно
оформилось по модели биографии: рождение — юность — зрелость —
дряхлость — смерть, и, наконец, мистический переход к загробной жизни, которую
называют здесь «черной дырой» [157, с. 25].
Приверженность неодионисийцев к «театру», «вечным темам», мистическим и
оккультным традициям, к «моделирующим теням» мистического и эстетического
опыта особенно четко проявляется в истолковании событий интеллектуальной
революции XVII в.: «Наша наука, обрубив канаты связи с гносисом и отдрейфовав
от него, приговорила себя к движению по плоской поведенческой поверхности
реального. Она измеряет, сравнивает, систематизирует, но никогда не проникает
в мистические измерения опыта. Сами стандарты научного знания есть
отрицание гносиса — любые следы его присутствия рассматриваются как грех
субъективности. И все же, по иронии истории, научная революция XVI—XVII вв. в
значительной мере предпринималась людьми, мышление которых было ярко
окрашено реликтовыми для нашей культуры элементами гносиса, большинство
которых сохранялось в ряде тайных оккультных течений. В поисках опор для своей
гелиоцентрической теории Коперник обращался к языческому обожествлению
солнца, эстетическая красота которого была для него, похоже, столь же
убедительной, как и математическое изящество точности. Астрономия Кеплера возникла
из поиска пифагорейской гармонии сфер. Ньютон всю жизнь был алхимиком и
почитателем Якоба Беме. Исследования по ранней науке обнаруживают все
большее число скрытых связей преемственности между научной революцией и
оккультными течениями ренессанса. Фрэнис Иейтс заходит на этом пути так
далеко, что утверждает, будто наука произрастала только в тех обществах, в которых
осуществлялось глубокое и свободное изучение герметизма и кабалы. Из этого
источника возник ряд мистических и естественных представлений; их надлежало
еще усвоить той науке, которую мы знаем» [157, с. 28].
Хотя не все здесь еще выявлено, главное, по Розаку, более или менее ясно:
«Ключевая для науки парадигма «закона» — этого мистического чувства
естественности истинного порядка, без которого ранняя наука никогда не смогла бы
обрести почву под ногами, — несет в мышлении ранних естествоиспытателей
бесспорные следы моральных и теологических ассоциаций. Концепция
универсального закона как раз и превратила изучение природы в совместимый с
христианской догмой карнавал по поводу величия бога» [157, с. 28].
Выводы из этого причастия ранней науки к теологии и оккультным
традициям делаются хотя и не очень доказательные, но решительные: «Такая
тематическая общность с оккультной традицией предполагает, что многие живые умы
XVII в., включая и некоторых отцов-основателей современной науки, обращаясь
к будущему «новой философии», видели в ней возможность перехода в истинный
гносис, способный заменить жесткий и увядающий догматизм христианства. Беда
же заключалась в том, что их волнующий новый подход к природе прогрессивно
затенял те самые измерения сознания, в которых только и может корениться
гносис, а именно — мистическое прозрение. В поисках путей экстериоризации
гносиса, вывода его на уровень логических и математических формализации, новые
философы отошли от мистических и оккультных дисциплин, которые только и
могли бы подсказать им, что невыразимое в словах самоуглубление и
трансцендентный символизм необходимые средства гносиса. Получилось так, как если бы
некто изобрел великолепный музыкальный инструмент, надеясь с его помощью
заменить оркестр, а в результате после этого изобретения всю музыку стали в
оркестровке укладывать в возможности такого инструмента. Как только это
произошло, и сам изобретатель и его аудитория стали терять слух, перестали различать
История европейской культурной традиции и ее проблемы 149
гармонии и обертоны, которые могут возникнуть только в оркестре. Квантифи-
кация как раз и есть такой инструмент с предельно редуцированным резонансом»
[157, с. 28].
Словом, наука, продукт интеллектуальной - революции XVII в. была явно
«грязным» изобретением, которое редуцировало и без того небогатый опыт
мистического и оккультного участия человека в расширении знания: «На этом этапе
нашей истории обнаружилась постоянно действующая и опасная странность.
Можно бы даже поверить, будто под поверхностью событий действовали некие
порочные силы, которые гасили понимание и превращали науку в нечто явно
противоречащее замыслам ее создателей. Что, например, вдохновляло Декарта
увидеть в математике новый ключ к природе? «Ангел истины», который являлся
ему в вещих снах три ночи подряд. Но в своих работах он нигде не упоминает
об эпистемологическом статусе снов или о мистическом опыте. Совсем напротив,
он поворачивается спиной ко всему тому, что не является строгой логикой,
жестко ограничивая тем самым философию познания точной геометрией. Но эта
философия приобрела видимую простоту за счет ужасающего огрубления тех самых
сущностных тонкостей и психических комплексов, которые составляли
жизненную основу биографии Декарта. Ньютон, человек буйного темперамента и
глубокой психики, большую часть своей жизни провел в теологических и алхимических
размышлениях, но все это он тщательно исключал из своей естественной
философии и общественной жизни. Он даже не позволял себе говорить о посещении
оккультных обществ Лондона, чтобы не повредить собственной репутации
ученого» [157, с. 28-29].
В контексте таких добровольных самоограничений, как мы уже показывали
выше, шло становление редуцированной механистической картины мира, где
математический аскетизм Галилея и дуализм Декарта вызвали к жизни образ
машины мира, «лоснящейся, мертвой и враждебной» [157, с. 29]. Не изменилось
положение и сегодня: «Сколько бы физики нашего времени ни модифицировали
механистические представления классического периода, в научном видении мира
продолжает доминировать безличное мировоззрение Ньютона. Модели и
метафоры науки могут меняться, но чувство дисциплины остается все тем же. Со
времени квантовой революции физика перестала быть механистичной, но вряд ли
она стала в каком-то смысле мистичной. Красноречив и тот факт, что и стиль и
содержание физики служат сегодня в качестве идеала для молекулярной биологии
и бихейвиористской психологии — для наук, которые давно уже стали столь же
механистическими, как и грубейший редукционизм XVII в. Почти все
современные биологи видят в клетке «химическую фабрику», управляемую механизмами
«передачи информации». И в то же самое время архибихейвиорист Б.Ф.Скиннер
заявляет, что, поскольку физика начала развиваться только после того, как она
«отказалась от персонализации вещей», психология не обретет твердой научной
почвы, пока она не освободит себя от «бесплодных ссылок на цели», не
перестанет «связывать поведение с состоянием ума, чувствами, чертами характера,
природой человека и т.д.». Понимать это приходится так: будущее психологии —
отказ от персонализации людей и начало их машинизации» [157, с. 29—30].
Версия неодионисийцев о природе зла в современной науке, усматривающая
за бедами всеобщей редукции старые грехи отцов науки, важна и интересна для
нас во многих отношениях. В текущем контексте наших поисков универсалий
человеческой истории и истории человеческого познания неодионисийцы требуют
возведения в ранг универсалии мистической традиции, которая участвует, по их
мнению, как в передаче мудрости древних, гносиса, от поколения к поколению,
а также и в текущем познании мира живущим поколением неясными по составу
трансрациональными методами сопричастия благу, экстаза, озарения.
Можно ли принять эту достаточно четко выраженную и подкрепленную в
общем-то свидетельствами идею, или следует решительно и безоговорочно ее
отвергнуть? И в том и в другом случае нужны, естественно, резоны, основания, ар-
150
M. К. Петров
гументы «за» или «против». И затруднения, сомнения здесь возникают, по
нашему мнению, не столько по поводу терминологии, вызывающих словесных
облачений — это уж дело вкуса авторов, а у неодионисийцев он явно обнаруживает
склонность к стандартам «попнауки», — но по поводу той «пакетной», вроде кота
в мешке, упаковки идеи, которая в чем-то сродни требованию Уейтли показать
ему дикарей, которые сами себя цивилизовали. В неодионисийском «пакете»
слишком много составляющих самого различного достоинства, так что просто
взять этот пакет и выкинуть из чистого храма-казармы Ту науки рискованно:
можно получить тот самый эффект грязной воды и невинно выплеснутого
младенца.
В целом, в комплексной ее подаче идея неодионисийцев о многоразмерности
опытов познания и об иерархической их структуре явно не проходит экзамена на
универсалию даже и в троичном понимании гносиса как единства блага,
эстетического и сакрального у Розака или бытия, целостности и блага у Платона, не
проходит уже по тому требованию к реалиям культуры, по которому их
представленность в знаке, слове является условием их передачи от поколения к
поколению средствами постредакции. Если гносис невыразим в слове, его либо нет,
либо он есть нечто, передающееся по биокоду, какая-то составляющая качества
всеядности человеческого биокода, которая невыводима на уровень осознанных
формализации и не может быть признана реалией культуры.
Мы не уверены, что если эту троичную и не поддающуюся словесному
определению в своем единстве составляющую Платона «цу + лу + apadyv» ввести в
состав качества всеядности биокода человека, то она сохранит именно то
название, иерархическое строение и функцию, какие ей приписывают Платон или
Розак, которые к тому же не так уж единогласны насчет того, где именно
расположена резиденция гносиса — в человеке или в окружении, в занебесье, но мы
убеждены в том, что человеческий биокод весьма существенный определитель
культурных реалий, предписывающий им размеры и вынуждающий их
вписываться в габариты проходимости по человекоразмерности, и в этом смысле в нем,
возможно, должен обнаруживаться некий фильтр селекции по объему и
последовательности осваиваемых младенцем в возрасте «от 2 до 5» реалий данности,
предложенной ему родителями. Но вряд ли такой фильтр, в котором могут
обнаруживаться свои иерархии и приоритеты, как, скажем, и в биокоде царицы
термитника свои иерархии-регуляторы, может быть соотнесен с той или иной
оккультной или мистической традицией, с мистикой вообще. Против такого
предположения свидетельствуют приводившиеся нами факты освоения младенцами
реалий любой культуры, независимо от того есть ли в этих культурах или
отсутствует та или иная традиция.
Более того, есть не менее убедительные факты того, что младенцы, взрослея,
активно включаются в тот комплекс традиций, который они застают в месте
своего рождения, осваивают как данность в возрасте «от 2 до 5», а затем в возрастном
движении по нормам данной культуры становятся активными субъектами
унаследованных традиций как в плане их воспроизводства на материале входящих в
жизнь поколений, так и в плане преемственного их изменения за счет включения
результатов познания.
Вот, скажем, Е.Дарт и П.Прадхан, о структуре сравнительного исследования
которых в Непале и Гонолулу мы уже говорили, пишут об ответах непальских и
американских школяров на вопросы 3-ей категории о природе знания: «Когда мы
просили непальцев указать на источник их знания о природе, они неизменно
отвечали, что знание «из книп> или «от старых людей». Когда мы спрашивали,
откуда старые люди получили это знание или как оно попало в книги, они
отвечали, что знание пришло от прежних поколений старых людей или из других
книг. Если же мы настаивали на каком-то последнем источнике, большинство
респондентов отвечало, что эти вещи всегда были известны, хотя многие из них
ссылались на легенды, в которых рассказывается, как некоторые искусства, вроде
История европейской культурной традиции и ее проблемы 151
добывания огня, были даны человеку богами... Мы спрашивали и о том, как
может быть получено не известное пока никому знание или каким способом его
можно найти. Нам всегда отвечали, что такого нового знания не следует ожидать.
Даже когда мы заостряли этот вопрос настолько, что привлекали внимание
респондентов к «новым» открытиям, вроде космических полетов или транзисторов,
они стояли на том, что эти вещи были всегда известны кому-нибудь... Одно из
знаменательных предположений было высказано мальчиком лимбусом, который
сказал, что действительно новое знание могло бы иногда появляться во сне. Мы
считаем вероятным, что увеличение группы респондентов могло бы выявить и
другие исключения, но все же преобладающим взглядом является тот, по
которому картина человеческого знания о природе предстает замкнутым телом,
которое редко, если вообще способно, к расширению, и эта конечная сумма знания
передается от учителя к ученику, от поколения к поколению. Источник знания
авторитет, а не наблюдение» [ПО, с. 652].
Дарт и Прадхан подчеркивают эту мысль и выводят из нее естественные
следствия: «В самом деле, нам никогда прямо не предлагались эксперимент или
наблюдение в качестве подходящего или достоверного критерия истинности
суждения или его источника. Когда один из нас заявил, что книга в конце концов
только более устойчивая запись чьих-то наблюдений, то эта идея была принята
как новая и в высшей степени сомнительная. При такой концепции знания нет
ничего удивительного в том, что школа в основном полагается на заучивание
наизусть. Запоминание представляется наиболее легким и эффективным путем
усвоения замкнутой и ограниченной суммы неизменных фактов. Существуют
также и другие, хорошо известные и часто критикуемые факторы, присущие
формальной системе образования, которые сильнейшим образом усиливают эту
сильнейшую тенденцию... Не следует, конечно, думать, что только в Непале или в
Азии ученики полагаются на зазубривание при изучении естествознания. Наша
контрольная группа в Гонолулу также обнаружила значительную, хотя и более
ограниченную тенденцию ограничиваться запоминанием фактов, данных в книге
или сообщенных учителем. Вместе с тем, все члены группы из Гонолулу были
твердо уверены, что знание получают из наблюдений и экспериментов и что, по
их мнению, знание не только можно получить, но его постоянно получают» [ПО,
с. 652].
Получается, таким образом, явно несовместимая с моделью неодионисийцев
странность. В Непале сильна древняя оккультная и мистическая традиция частью
тибетского, частью индийского происхождения. Если гносис неодионисийцев
заякорен в биокоде, столь же «древен и юн», как и сам разум, ему надо бы
проявляться в своем творческом «прометеевском» качестве и у школяров Гонолулу —
тех же непальцев, перенесенных волею американского флота и родителей в
европейское окружение. Если же гносис все же культурная реалия, в чем приходится
сомневаться в силу ее невыраженности в знаке, что у школяров Непала,
воспринимающих гносис в составе наследуемой данности, должно бы обнаруживаться
сильнейшее чувство активности познания, которого у них не обнаруживается ни
в редуцированной европейской (наблюдение и эксперимент), ни в любой иной
форме (замкнутое тело знания), а у школяров Гонолулу это чувство должно бы
отсутствовать, тогда как оно присутствует именно в европейской, редуцированной
до плоскости поведения (наблюдение и эксперимент) форме.
Вместе с тем то, о чем Розак пишет как о стилях или размерностях
познавательного опыта, о различии тел знания, убедительно обнаруживается именно в
Непале, где противопоставлены друг другу традиционная и европейская культуры,
и ответы непальских школяров фиксируют это противостояние в феномене
парности равносильных для них объяснений, отнесенных к разным стилям или
размерностям, телам знания.
Дарт и Прадхан так объясняют свой истинно неодионисийский смысл
зондирующего исследования: «В процессе опроса как в Непале, так и на Гавайях, нас
152
М.К. Петров
интересовала не столько «правильность» ответа с точки зрения принятых научных
или иных стандартов, а скорее тип самого ответа и тип того отношения к
природе, который предполагается данным ответом, то есть дает ли данный ответ
объяснение феномена механистическим, сверхъестественным, теологическим или
еще каким-то способом. Если, например, ответ признается отнесенным к
определенному религиозному верованию, то эта отнесенность как раз и служит нашим
целям, причем нас не заботит то, насколько точно в данном ответе представлена
определенная религиозная схема и содержится ли в ответе открытая ссылка на
эту схему» [ПО, с. 651].
Вот тут и обнаруживается парность: «За очень малыми исключениями нам
давались как «фолкориентированные» (или мифолсгически-ориентированные), так
и «школьно-ориентированные» объяснения явлений в одном и том же опросе,
иногда даже одним и тем же лицом. Так, объясняя землетрясение, один в группе
из четырех мальчиков чхетров сказал: «Земля лежит на спине рыбы. Когда рыба
устает, она сдвигает груз и трясет землю». Все согласились, но другой тут же
добавил: «В центре земли есть огонь. Он рвется наружу, и когда разламывает землю,
вызывает землетрясение». Все согласились и с этим.
В группе школьников-неварцев (четыре мальчика и девочка) на те же вопросы
были даны следующие ответы: «Земля держится на четырех слонах, когда один
из них перекладывает тяжесть на другое плечо, бывает землетрясение»; «Внутри
земли огонь и расплавленный металл, и они стараются вырваться оттуда. Они
могут разломать или сдвинуть скалы земли и вызвать землетрясение». И опять
все соглашаются с обоими объяснениями.
Эта парная модель повторяется снова и снова: «Боги разбивают сосуды с
водой на небесах и получается дождь»; «Солнце испаряет воду из моря,
получается пар, который охлаждается у гор и получается дождь, туча выпадает дождем»;
«Молнии вылетают из запястий танцоров Индры»; «Молнии вылетают из
столкновения туч»; «Дождь идет только летом (в сезон дождей), потому что тогда он
нам нужен, а зимой нам дождь не нужен»; «Летом идут дожди, потому что солнце
тогда горячее и вызывает больше испарений» [110, с. 651].
Дарт и Прадхан довольно убедительно, не прибегая к идее гносиса, объясняют
парадоксы парности: «Ответы неварцев, лимбусов и чхетров очень похожи по
содержанию, что отражает, очевидно, общность страта мифологии, с одной
стороны, и школьных программ — с другой. Эта близость не может вызывать особого
удивления, поскольку эти три группы, при всех их различиях, имеют по существу
общую школьную систему и, в основном, единую религию. Большее удивление
вызывает тот факт, что каждая группа почти всегда дает ответы того и другого
типа, как это показано выше, и что все члены группы обычно принимают оба
ответа. Конечно, нет ничего необычного в мысли о том, что данное явление
может вызываться любой из двух альтернативных причин и, следовательно,
вообще говоря,, каждая из этих двух причин может восприниматься как потенциально
истинная. Вместе с тем, здесь два типа предлагаемых «причин» оказываются
качественно столь различными, что не могут считаться обоюдоприемлемыми, так
как концептуально они относятся к весьма различным идеям природы. Анализ
приведенных ответов показывает, что они не допускают того синтеза, который
констатирует: «Бог — источник дождя: он вызывает дождь, заставляя солнце
выпаривать воду из моря...». Для нас так же трудно принять оба ответа на правах
реальных альтернатив, как и принять их на правах автономных истин» [НО,
с. 651).
Вот здесь и начинается, по нашему мнению то, что Леви-Брюль, Розак, да и
вообще европейские исследователи любят величать мистикой,
иррациональностью — терпимость к противоречию: «Но это противоречие выглядит гораздо более
очевидным для нас, чем для наших респондентов, которые не высказывают
никакого чувства неудовлетворенности по этому поводу, и этот факт должен
служить преподавателю естествознания предупреждением, что дела у его учеников
История европейской культурной традиции и ее проблемы 153
обстоят совсем не так, как это выглядит на поверхности. Философия и литература
Азии широко используют парадокс, и для азиатов противоречия могут казаться
скорее забавными, чем нетерпимыми. Мы поэтому не должны исключать
возможности глубоко укоренившихся моделей мысли, нечувствительных к лежащей в
основе западной науки логике «либо-либо», к той логике, которая делает,
например, столь затруднительным для американских студентов понимание концепции
дополнительности в современной физике» [ПО, с. 651].
Дарт и Прадхан предлагают и более простое объяснение: «Значительная часть
того, что преподается и изучается в школах Непала, опирается на заучивание
сведений наизусть, что не требует глубокого понимания или концептуализации.
Более того, многие учителя и авторы учебников принадлежат к касте брахманов,
которая по традиции ответственна за преподавание и сохранение ортодоксии в
религиозных верованиях и обрядах. Вполне возможно, что даже без
сколько-нибудь осознанного намерения с их стороны, эти учителя и авторы учебников
подают изначально «научные» концепции таким способом, чтобы в комбинации с
традиционно ориентирующим местным окружением создать дуалистическую
точку зрения, с которой различие между наукой и мифом оказывается
несущественным. Даже при обучении естествознания в американских начальных школах
используется ощутимый объем теологии. Так или иначе, но этот дуалистический
взгляд на природу есть нечто такое, что должно учитываться в планируемом
пересмотре методов обучения естественным наукам» [110, с. 651].
Понятно, что нам более по душе второе объяснение, которое превращает
парадокс парности в типичную воспитательную ситуацию общения-объяснения, где
А (брахман, автор учебника или учитель) переводят мифологический Тм (Т0 В
аудитории школьников в Ту нашей культуры, который выступает Ti для непальских
школяров, но в этом случае не должно бы наблюдаться парности, а решения те-
заурусных отношений действительно строились бы на базе причудливых
синтезов — объясняющих переводов научной безличной репродукции в
мифологическую личную продукцию типа: «Всякий раз, когда голубого быка, на котором
держатся миры, чешут за ухом, он поеживается от удовольствия, а миры
колеблются». Но Дарт и Прадхан сами подчеркивают непроходимость межтекстуальной
лакуны между научным и мифологическим объяснением, поэтому их «более
простое» объяснение оказывается с точки зрения тезаурусной ситуации актов
общения значительно менее вероятным, чем первое, основанное на «мистической»
терпимости к противоречию.
И понятно же, что пока мы находимся в Ту — в Т0 научных объяснений или
в Тм — в То традиционных мифологических объяснений целостной картины
мира, никакой мистики не наблюдается. Вот Протагор, к примеру, у Платона
вовсе даже и не путается в тезаурусах, когда Сократ, сомневающийся в том, что
можно научить добродетели, прямо обращается к нему: «Так что, если ты в
состоянии яснее нам показать, что добродетели можно научиться, не скрывай этого
и покажи.
— Скрывать, Сократ, я не буду, — сказал Протагор. — Но как мне вам это
показать: с помощью ли мифа, какие рассказывают старики молодым, или же с
помощью рассуждения?
Многие из присутствующих отвечали, что, как ему хочется, так пусть и излагает.
— Тогда, мне кажется, — решил он, — приятнее будет рассказать вам миф».
[Платон, Протагор, 320, С—Е].
И Протагор рассказывает миф о происхождении социальности, который
настолько «понятен» взрослому человеку Ту культуры, что мы, например, склонны
видеть в нем первое из дошедших до нас серьезное теоретическое оформление в
знаке нашего постулата о биологической недостаточности человеческого рода.
Но вернемся к исследованию Дарта и Прадхана, которое, по нашему мнению,
может оказаться полезным для понимания позиции не только неодионисийцев,
но и для понимания множества других попыток реставрировать целостную Ти
154
M. К. Петров
картину мира научных открытий, торпедированную появлением Ту в нашей
культуре.
Переходя от вопросов о причинах природных явлений (категория 1) к
вопросам о человеческом контроле над такими явлениями, Дарт и Прадхан
обнаруживают монизм: «Этого дуализма не обнаруживается, когда речь заходит о контроле
над природой или об использовании ее (причем и контроль и использование
признаются доступными человеку, хотя и не всегда возможными). На вопросы типа:
«Как вызвать дождь или воспрепятствовать ему?» или «Есть ли защита от грома
и молнии?» всегда дается однозначный ответ. Обычно контроль над этими
естественными явлениями совершается с помощью религиозного ритуала, причем
становится ясным, что действенность средств контроля зависит от воли божества,
а божество не всегда оказывается благосклонным. Контроль, таким образом,
ненадежен. В некоторых случаях, когда, например, крестьяне желают отвести град
от полей, они прибегают к услугам магии или к амулетам, причем
соответствующие обряды совершаются специальными людьми и не ассоциируются с
религиозными процедурами. Амулеты тоже могут не помочь, так что все процедуры
остаются в принципе достаточно неопределенными, чтобы исключить возможность
их убедительной экспериментальной проверки на истинность или ложность.
Конечно, и здесь есть много обычных и хорошо понятных технологических
отношений к природе, которые воспринимаются как данность и объясняются в
операционных терминах. Так, например, обстоит дело с ирригацией, приготовлением
пищи, обжигом глиняных сосудов» [110, с. 651].
Словом, хотя и учат непальских школяров науке, как и их коллег на Гавайях,
живут непальцы определенно в традиционной Тм культуре, и там, где кончается
книга, уроки в школе и начинается обыденная жизнь, там вступает в права
монопольный монизм Тм культуры. Более того, как показывает А.Раман, индийский
историк и пропагандист науки, аналогичное разделение сфер влияния Ту и Тм
наблюдается и в самом научном сообществе Индии: «Индийские ученые
практикуют науку только в лаборатории, а вне лаборатории, в повседневной жизни, они
остаются пленниками древних идей и обрядов, подчиняются предрассудкам и
вере в сверхъестественное. Среди ученых Индии не редкость вера в астрологию,
обряды очищения перед проведением экспериментов и даже обряды
искупительных жертвоприношений для того, чтобы умилостивить приборы и оборудование»
[153, с. 191].
Совершенно иначе обстоит дело на Гавайях: «Ни один из членов контрольной
группы из Гонолулу не верит, будто контроль над природными явлениями этого
рода или их использование можно обеспечить средствами магии или
религиозными процедурами. Они считают такой контроль либо достижимым, либо
недостижимым с помощью технологических процедур. Многие, хотя и не все из тех, кто
высказался против возможности контроля, предполагают, что со временем такой
контроль станет возможным. Иногда описывались процедуры, которые не
используются и не могут работать, вроде громоотвода, способного превращать
молнии в простой электроток. Но даже эти процедуры всегда подавались как
технологические процессы без включения оккультных или сверхъестественных
элементов» [ПО, с. 651-652].
Таким образом, если судить о достоинствах и недостатках позиции неодиони-
сийцев по данным исследования Дарта и Прадхана, да и по множеству других
данных, основная часть их постулатной базы о многоразмерности
познавательного опыта строится на естественном удивленном непонимании человека Ту
культуры тезаурусов других культур, на восприятии универсальных интегрирующих
связей Тм культуры, например, под формой мистики просто потому, что Тм
культура не использует для построения целостной картины мира «способов
сказуемости», грамматических универсалий, категорий. В этом смысле не приходится
удивляться тому, что и Ту культуру, нашу сверхрациональную прозу жизни могут
воспринимать как мистику инокультурные наблюдатели. С.Поуэлл, например, так
История европейской культурной традиции и ее проблемы 155
описывает первое знакомство Тм китайцев с европейской наукой: «Мы
согласны, — сказали китайцы, — что человек-законодатель может издавать законы и
устанавливать наказания, чтобы обеспечить их соблюдение. Но ведь тем самым
предполагается понимание со стороны тех, кто подпадает под действие этих
законов. Не хотите ли вы убедить нас в том, что способностью понимать наделены
воздух, вода, палки и камни?» [55]. Нетрудно сообразить, что трезвые китайские
мудрецы как представители традиционной культуры восприняли европейцев с их
наукой, как свою Тм разновидность неодионисийцев.
Позиция неодионисийцев, таким образом, наибольшую слабость
обнаруживает в постулате изначальной сочлененности того, что по данным полевых
исследований оказывается изначально расчлененным и разнесенным по тезаурусам
различных культур, между которыми обнаруживаются лакуны, и не
обнаруживается синтезирующих ходов Тм-Ту. И если, скажем, нам нужен текст для перевода
аудитории, принадлежащей к Тм культуре в нашу Ту культуру, а необходимость в
таком тексте Тм-Ту сегодня особенно актуальна для развивающихся стран,
которые пытаются трансплантировать науку на свою Тм, как правило, почву, то здесь
простое развитие сети общеобразовательных школ, в которых детей будут учить
по текстам Ту, окажется хотя и необходимым, но явно недостаточным
условием — будет воспроизводиться та парность и вообще все то, что обнаруживают
сегодня в Непале и Индии: сферы влияния Ту и Тм окажутся четко разделенными,
жить будут по Тм, а «делать науку» по Ту. С младенцами все просто, если они,
как школяры Гонолулу, попадают в Ту культуру до периода «от 2 до 5», но за
этой возрастной группой начинаются трудности, начинается уже не
текст-учебник, а текст-история культуры, возникает требование на то самое, что для нас
европейцев началось где-то в XX—XV вв. до н.э. в бассейне Эгейского моря, а
для большинства стран Тм культурной традиции, желающих обзавестись наукой,
еще только-только начинается.
Дарт и Прадхан справедливо замечают: «Считается общепризнанным, что
процесс научного и технического развития потребует в Азии, Африке и в Южной
Америке значительно меньшего времени, чем этот процесс длился в Европе и
Северной Америке. Так, во многих странах высказывают надежду за одно-два
поколения пройти путь изменений, сравнимых с теми, которые произошли на
Западе за два или три столетия. Такая надежда основана частью на доступности
помощи в виде капиталовложений со стороны развитых стран, частью же на той
легкости и скорости, с которой может сегодня передаваться знание, — то знание,
которое первоначально было получено в медленном и длительном процессе со
множеством ошибок и заблуждений, которые теперь незачем повторять. В этом
своем оптимизме высказывающие такие надежды почти не учитывают наличие
огромных социальных и культурных изменений, которыми сопровождалось
развитие на Западе, а также и тех социальных и культурных изменений, которыми
должна сопровождаться новая научная революция. Часто оказывается, что страна,
руководители которой полны решимости ввести быстрые изменения, вовсе не
готова принять те способы мысли и организации, которые выступают
фундаментальным условием развития науки и технологии, и те цели, на которые
возлагалось столько надежд, реализуются весьма медленно» [ПО, с. 649].
Но, возражая в целом против попыток неодионисийцев списать все виды
редукции на самоограничение науки плоскостью поведения, с которой наблюдаемое
«здесь и сейчас» взаимодействие вещей без особых помех отводится, если оно
выразимо в знаке, через эксперимент, подтверждающий его принадлежность к
репродуктивной характеристике окружения, в «повсюду и всегда» дисциплинарных
вечностей, чтобы опять-таки без каких-либо помех вернуться в «здесь и сейчас»
бесконечного тиражирования, конкретных демонстраций и приложений — по
нашему глубокому убеждению, именно эта простота переходов из «здесь и сейчас»
наблюдения в «повсюду и всегда» знаковых хранилищ результатов науки и из
«повсюду и всегда» архивов науки в «здесь и сейчас» приложений как раз и яв-
156
М.К. Петров
ляется величайшей социальной ценностью науки, ценностью науки как вида
деятельности для общества, которая позволяет науке по праву претендовать на
кадровое, материальное и финансовое обеспечение со стороны обществ, в которых
наука существует как институт познания и воспитания по результатам
познания, — мы вместе с тем обнаруживаем у неодионисийцев и как раз в их
концепции гносиса, иерархического построения и ранжирования видов знания едва ли
не первую и вряд ли преднамеренную попытку перевести из состояния данности
в состояние проблемы крайне важную для нас универсалию истории культуры и
познания — полярность всех теоретико-познавательных и
организационно-технологических творений человека, их человекоразмерную системность.
Феномен системы
Сама попытка объединить в одну упряжку неодионисийцев и системников
может показаться многим исследователям науки и ее болезней заведомо
обреченным предприятием, поскольку неодионисийцы в своей тоске по Ти науке,
подобно лебедю крыловской упряжки, определенно рвутся в небо, в платоновское «за-
небесье», а системники в той же тоске по Ти единству науки столь же
определенно совершают попятное движение методом «картографирования» пройденных
наукой, теряющей единство в процессе умножения дисциплин, областей, с тем
чтобы редуцировать «набор всех возможных систем» до «более разумных
пределов» и проткнуть все страдающие дисциплинарным сепаратизмом области
познания скрепами «вертикальной интеграции» — единым языком науки,
унифицированной подготовкой научных кадров, то есть новым Ти их собственного
изготовления.
Но эта очевидная несообразность синтеза идей неодионисийцев и энтузиастов
общей теории систем приобретает существенно иной вид, если наложить на оба
этих направления ограничения по человекоразмерности, поймать их в точке
пересечения.
Во введении нам нельзя было без явной угрозы срыва взаимопонимания с
читателем вскрывать методологическую сторону общей теории систем и системного
подхода в целом. В предыдущем изложении мы только обозначили, «застолбили»
важность идей системного подхода для наших целей, а когда дело дошло до
введения постулатов биологической и генетической недостаточности рода
человеческого, мы явочным порядком ввели принцип системной организации видовой
деятельности как социальность в роли компенсатора биологической
несостоятельности, который в свою очередь требует перестройки биологической постредакции
в знаковую систему специализирующего кодирования индивидов с помощью
имен и текстов, способную компенсировать генетическую недостаточность
человека, его неумения делать биологическими средствами то, что умеют делать
пчелы, муравьи, термиты. Понятно, что эти прыжки от эмпирии самоочевидных
выявлений человекоразмеренной эквифинальности (город, дисциплина,
социальная единица) к постулатам осуществимости человеческой истории и критериям
поиска начал человеческих атрибутов социальности и разумности не очень-то
изящны с методологической и тем более с дидактической точки зрения. Теперь
мы в несколько ином положении: текущий тезаурус, Т0 истории наших актов
общения с читателем, хотя он во многом еще оставляет желать лучшего, содержит
уже, по нашему мнению, тот минимум опор, который позволяет надеяться на
успешный исход операции анализа концептуальной базы системного подхода.
В наших парадигматических примерах выявления эквифинальности крупных
городов, научных дисциплин мы не позволяли себе или, во всяком случае,
подавляли в себе желание выйти за рамки системной статики в системную
динамику. Поэтому, скажем, вводя схему московского метро как полезную модель
возрастного движения индивидов по радиальным маршрутам от Ту к Тд и от Тд
История европейской культурной традиции и ее проблемы 157
к Тг (тезаурус переднего края дисциплинарных исследований, занятый
активными исследовательскими группами в невидимой или видимой, по Н.Маллинзу,
стадии их движения в дисциплину), мы старались поменьше обращать внимания
на тот факт, что эти радиальные маршруты движения индивидов к переднему
краю научно-дисциплинарного познания мира, к должности воспитателя
воспитателей приходится постоянно перестраивать ради сохранения их проходимости
для возрастного движения индивидов именно к наличному текущему переднему
краю научных исследований, который к моменту завершения научной
подготовки, к моменту выхода индивидов на передний край будет располагаться совсем
не там, где он располагался 7 или 3 года тому назад в бытность этих индивидов
новобранцами-абитуриентами или счастливыми аспирантами, начинающими
завершающий этап движения Тд-Тг в активные члены научно-академического
сообщества.
Точно так же и в анализе института имен в первобытном обществе, того
круговорота конечного числа имен, который так блестяще выявлен Леви-Брюлем,
мы остановились на статике, поскольку переход в динамику этой первобытной
социальной системы потребовал бы тезаурусных опор, которыми мы тогда не
располагали и только приближались к ним в накоплении представлений о чудесных
качествах человеческого биокода и прежде всего о его всеядности, столь
убедительно проявляющейся в неограниченной миграции младенцев по данностям
любой культуры.
Ограничение статикой связывало нас в том отношении, что полярность как
свойство выстраиваемых человеком систем для освоения человеческими силами
нечеловекоразмерных спецификаторов окружения мы вынуждены были
показывать по наличию в человеческих системах гетерономии объективно
специализирующего и субъективно интегрирующего определений, что позволяет «снять»
объективное специализирующее определение, оставив его субъективный отпечаток в
человекоразмерном интегрирующем определении и дальше уже иметь дело с
этими человекоразмерными отпечатками нечеловекоразмерного — говорить о
крупных городах безотносительно к поводам их возникновения, о дисциплинах
безотносительно к их проблемным областям. Это, конечно, не так уж мало:
разламывание систем по линиям гетерономного синтеза человеческого и внешнего
определений открывает множество методологических перспектив. Но
представление этой линии синтезов как чего-то устойчивого, фиксированного, а это
неизбежно при статическом подходе, закрывает проблему движения самой этой линии
синтезов, динамику «очеловечивания» внешних спецификаторов в их должности
источников внешнего определения. И эта ограниченность статики особенно остро
давала себя знать в анализе знаковых систем. Мы, например, не представляем
себе возможности определить такую важную для понимания науки реалию, как
теория, которая бесспорно представляет из себя целостную знаковую систему, в
терминах системной статики.
Теперь мы в несколько ином положении. Неодионисийцы, преследуя свои
восстановительные цели, преподнесли нам явно незапланированный ими
сувенир — идею гносиса, который «столь же древен и юн, как и сам разум». Мы
благодарны им за этот подарок: он очень нам нужен именно для перевода системной
статики в системную динамику.
Допустим, что гносис локализован в биокоде человека как врожденная
способность к творчеству, к активному освоению человеком созданных данностей,
как нечто благоприобретенное человечеством на длительном периоде первой
географической экспансии с острейшим запросом на творчество для освоения
средствами знакового перекодирования специализирующих текстов первобытного
общества репродуктивных характеристик новых областей обитания. Допустим
также, что гносис выявляется не только во всеядности человека в возрасте «от 2
до 5», в безразличии к предлагаемому родителями и предшественниками порядку
реалий данности, которую индивиду на этом этапе предстоит освоить, интерио-
158
M. К. Петров
ризировать и присвоить как «свою» данность, но и в определенной или
предпочтительной последовательности освоения этих порядков, что в общем-то
отмечается психологами: взрослеющий ребенок, хотя он и постоянно пребывает в
текучке и толкучке осваиваемых реалий, не хватается за все сразу, выявляет
определенную избирательность и последовательность в строительстве собственной те-
заурусной базы общения с реалиями окружения.
Иными словами, допустим, что Фихте прав — до какого-то периода в жизни
индивида действует его принцип: «без проверки и даже без участия с моей
стороны все было расставлено по своим местам» [81, с. 42]. Но пусть биологический
по своей природе гносис, не поддающийся выражению в слове и осознанию,
получит право избирательного отношения к последовательности освоения этих «не
им расставленных по местам» реалий данности, право избирательного отношения
в духе, скажем, инструментальной аналогии Ципфа, где, как мы видели,
ремесленнику дано право, используя принцип равнодоступности по затратам времени
и усилий, переводить частоту пользования составляющими орудийного арсенала
в ранжирование их по удаленности от своего рабочего места. Биокод младенца
конечно же не ремесленник, способный руководствоваться принципами, но и
ранговое распределение Ципфа — явно не артефакт типа колеса или
вычислительной машины, демонстрирующий мощь человеческого разума. Закон Ципфа
явно связан с биологическими средствами кодирования, со свойствами человека
как существа естественного, причем настолько убедительно связан, что, как мы
говорили, по типу отклонения от нормы рангового распределения частотной
характеристики словаря, можно со значительной долей вероятности
диагностировать психические заболевания. Пусть способность к ранжированию типа
инструментальной аналогии Ципфа войдет наряду со всеядностью в состав естественных
атрибутов человеческого биокода.
Каких следствий можно ожидать от введения таких допущений?
Прежде всего, получает относительную свободу линия синтезов-»разломов»
гетерономного человеческого субъективного и внешнего объективного определений.
Понятая динамически, она станет, с одной, человеческой стороны, «передним
краем» освоения данности, на котором не только устанавливаются контакты с
окружением, с «расставленными по своим местам» реалиями окружения, но и
ведется постоянный поиск «слабых мест» этих реалий, делаются попытки
«переставить» их в создаваемом мире ребенка, а с другой, внешней стороны, сами эти
реалии, если они люди, начинают по ходу накопления истории контактов с
творящим свой мир ребенком ощущать значимые расхождения между своими и
ребенка представлениями о должном, попытки ребенка нагрузить их устойчивыми
ролями и комплексами ожиданий, которым приходится либо соответствовать и
тем самым укреплять эти роли и ожидания, либо же активно сопротивляться,
входя в конфликтные ситуации с творцом своего миропорядка.
Этот «свой порядок» ребенка, хотя он и совпадает во многом с предлагаемой
взрослыми данностью, и со временем степень общности растет, совпадает все же
с наличной данностью старших асимптотически, оставляя творцу своего порядка
базу для собственных точек зрения и критических оценок происходящего в
порядке данности старших. Словом, освоение предложенной родителями и
предшественниками данности вовсе не развертывается по нормам научного этноса —
незаинтересованного, безличного, беспристрастного усвоения мира таким, каков он
есть. К этой данности, чтобы инетериоризировать ее как свою данность
прикладывается немало критических и пристрастных усилий пошатать и сдвинуть со
«своих мест» расставленные взрослыми реалии. И конечный результат — интери-
оризированный индивидом мир старших — редко будет полностью совпадать с
представлениями старших об этом мире, если у них есть твердо сложившиеся
представления об этом предмете.
Хотя пик активности такого творческого освоения данности бесспорно
приходится на период «от 2 до 5» и в более старших возрастных группах, особенно
История европейской культурной традиции и ее проблемы 159
в школьных, появляется достаточно четко выраженная «конформистская»
тенденция, поддержанная действенной дисциплинарной практикой воспитателей,
которая вписывается в модель Фихте, нет, по нашему мнению, решительно никаких
оснований отказывать в этой живинке критического восприятия данности и
школьным и более зрелым возрастным группам. И когда, скажем, мы привычно
списываем великое разнообразие конкретных критических отношений к
данности, в каком бы возрасте они ни возникали, на хорошие или скверные свойства
характера соответствующих индивидов, все утверждения этого рода в
обсуждаемой нами модели равносильны утверждению: «Это в гносисе».
Далее, если, как утверждают многие исследователи, а Л.Хурсин, например,
предлагает даже математическую модель соответствующего процесса [83] в тезау-
русных ситуациях воспитательного общения остается в силе древний принцип:
repetitio est mater studiorum, и мы предполагаем, что гносис способен действовать
по инструментальной аналогии Ципфа, переводить частоту использования знаков
или знаменательных единиц в их ранжирование, то в человеческих системах
вообще и в знаковых в особенности должно бы обнаруживаться то, что мы назовем
«вертикальным смещением» наиболее употребительных средств выстраивания
систем в соответствии с ростом частоты их употребления.
Представление о «вертикальности», понятно, условно. Лучше бы говорить об
«А-стяжении», поскольку смещение вызывается именно действиями А, но
поскольку тексты, как обязательная составляющая человеческих систем всегда
находятся в коллективном владении групп, сообществ и любой А потенциальный
В, как и любой В потенциальный А, то на вершине иерархии смещения могла
бы оказаться неуместная для иерархий множественность, вроде обилия самых
верхних ступеней или уровней. Поэтому из уважения к ранговым спискам,
ранговым распределениям, иерархиям, табелям о рангах, где счет идет всегда сверху
вниз от высшего к низшему, а по иерархическим лестницам принято
подниматься, а не скатываться, мы примем эту вертикальную терминологию.
Вертикальное смещение действительно существует и выявляется. Любой акт
речи, любое надстраивание общего для пары или группы Т0В до TiA удлиняет
этот текст и, вводя в предложениях новые слова в окружении уже
использованных, меняет и словарь и частотную характеристику слов связного текста,
вытесняя некоторые слова из их рангов до акта речи на более высокие ступени
ранговой иерархии. Хурсин, правда, рассматривает и обратный случай, когда в роли
обучающего А находится в силу служебных обязанностей лицо, подчиненные
которого обладают, как группа В более высоким значением То, чем их начальник,
которому приходится все же изображать акт речи. Но Хурсин и сам видит в этой
ситуации общения патологический случай, который по идее должен бы вызывать
сокращение текста подчиненных, словаря, движение слов вниз по ступеням
ранговой иерархии [83].
Хотя такие ситуации встречаются довольно часто как следствие, скажем,
элементарной ошибки автора в определении Т0 аудитории или лектора, забывшего
в простоте душевной, что он живет в Ту культуре с обязательным для всех
средним образованием, они все же не делают погоды, не являются нормой, а нормой
выступает надстраивание текста сверху, как если бы любой выступающий в роли
А и обладающий положительными значениями разности Ti-T0 находился на
вершине айсберга, 9/ю которого, как известно, находится ниже поверхности воды, и
ухитряется каким-то способом наращивать массив этого айсберга, вынуждая его
одновременно и погружаться, на что идет 9/ю А-усилий, но вместе с тем и
всплывать над поверхностью своей Ую частью. И если принять текущее значение
«ватерлинии» айсберга за метку отсчета высоты его иерархии ступеней над уровнем
моря, то нормой смещения будет действительно наращивание числа
рангов-ступеней иерархии в тексте-системе. Понятно, что низшие ступени иерархии будут
при этом уходить в воду, точно так же, как и вполне реальные ступени
венецианских набережных уходят в воду, но столь же понятно и то, что без этой под-
160
М.К. Петров
водной части не может быть и надводной, что любая попытка распилить текст-
айсберг по ватерлинии — голубая мечта составителей учебников и
«адаптированных» сборников учебных текстов по иностранным языкам — в общем-то
несостоятельна по тем же причинам, по которым несостоятельны попытки
выступающего в роли А начальника «адаптировать» Ti аудитории своих подчиненных к
собственному Т0. «Распиленный» айсберг даст два айсберга со своими особыми
ватерлиниями, и в иерархии каждого из них будет меньшее число ступеней.
Заманчиво было бы естественно и с точки зрения благородного понимания
целей человеческого познания и с точки зрения наглядности использовать образ
утопающей Венеции, которая куда более известна представителям Ту культуры,
нежели образ айсберга, которого большинство читателей в глаза не видело, не
говоря уже о подводной его части — ее еще нужно вытащить из воды, чтобы
полюбоваться на нее как на целостность с подобающего расстояния — великое
видится на расстоянии. Но текст-система больше все же похож в своем поведении
на айсберг. Связи целостности, возникающие в знаковой системе в процессе
цитирования, вовлечения истории в акты объяснения, перевода нового в наличное,
ведут себя по закону Ципфа и, если говорить о конкретных системах-айсбергах
типа массива дисциплинарных публикаций, то ведут себя даже несколько хуже,
чем связи целостности в реальных айсбергах: треть составляющих массива
дисциплинарных публикаций, хотя она и несет положенную ей квоту ссылок на
ранее опубликованные работы, вообще не цитируется, и только по остальным
двум третям цитирование распределяется по закону Ципфа, так что в научных
айсбергах-системах выше ватерлинии оказывается лишь 6—7% общего состава
массива публикаций, которые ответственны за 90% поглощения и
«примораживай ия» того града ссылок, который обрушивают на системы дисциплинарного
знания авторы новых публикаций, рассказывающие коллегам по дисциплинарной
казарме о том, что им удалось сотворить во время самовольной отлучки в
проблемную область дисциплины, что там обнаружилось нового, в чем прежние
описания самовольщиков таких-то и таких-то остаются в силе, а в чем и
предположительно почему решительно расходятся с их наблюдениями: тот поддался
внешнему виду, тогда как, если копнуть поглубже, обнаруживаются и изъяны, тот шагу
не дошел до дела, тот с самого начала сбился с курса и приплыл вовсе не в
Индию, куда нацеливался, а совсем не туда, что подлежит еще изучению и
уточнению.
Этот град или ливень ссылок, из которого массив дисциплинарных
публикаций выстраивает связи системной интеграции всего со всем, не теряя ни одной
градины или капли, раз уж работа опубликована и перешла из нового для
дисциплины в наличное ее состояние, порождает множество проблем, совокупность
которых мы назвали бы проблемами остойчивости дисциплинарных
систем-айсбергов в условиях не несущего ограничений по человекоразмерности накопления
нового научного знания, точнее связывания нового знания. Проблематика эта имеет
прямое отношение как к возможному присутствию гносиса в процессах познания
и академического опосредования преемственности этого процесса во времени, так
и к предполагаемой ответственности гносиса за динамику структурных изменений
в системах научного знания и, соответственно, в историях таких систем.
И первой проблемой этого круга, которая привлекает сегодня обостренное
внимание системников, науковедов, социологов, историков науки является,
бесспорно, проблема единства науки: Как возможна, если она возможна, единая
целостная система научного познания мира?
Чтобы получить хотя бы самое предварительное представление о масштабах
проблемы на эмпирическом уровне, вернемся к нашей табл. 4, с помощью
которой мы пытались продемонстрировать ту простейшую и грубейшую процедуру
ранжирования, которая непосредственно вытекает из инструментальной аналогии
Ципфа. Ранговый список городов по их продуктивности, представленный по
просьбе Д.Прайса Е.Гарфильдом (Институт научной информации Филадельфии,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 161
США), изобретателем и директором «Индекса научного цитирования», в первой
десятке, на которой мы выделили первые четыре ранга, дает города: 1 — Москва;
2 — Лондон + Нью-Йорк; 3 — Париж + Токио + Вашингтон; 4 — Бостон +
Филадельфия + Чикаго + Ленинград. Эта десятка городов в 1967 г. опубликовала
сообща 23449 работ, которые представляют чуть менее 10% научного продукта
(публикаций) за 1967 г. Опираясь на эти исходные данные, а также на ряд
довольно твердо установленных науковедами соотношений — квота цитирования,
ранговое распределение ссылок — нетрудно выйти на приблизительные данные
о размерах общенаучного айсберга в целом, каким он был для ученых в 1967 г.
Если учесть, что «Индекс научного цитирования» охватывал в то время примерно
30% ведущих научных журналов и учитывал в основном журнальные статьи, хотя
в адресах ссылок появлялись все виды научной публикации, наши
ориентировочные оценки будут заведомо ниже действительных значений. Если мы
восстанавливаем по 10% опубликованных статей их полное число и переводим это число,
умножив его на среднюю квоту цитирования (10—15 ссылок на работы
предшественников в каждой публикуемой статье), в общее количество ссылок, 90%
которых поглотят 6—7% общенаучного массива научных публикаций, то сам этот
массив предстанет величиной порядка 40 млн. публикаций разных лет,
образующих тот архив науки, который в 1967 г. признавался научным сообществом мира
в качестве Т0 объяснений авторов статей с коллегами.
Много это или мало? Возможна ли единая и целостная человеческая
познавательная система, способная различить и интегрировать в текст-историю словарь
с таким количеством знаменательных элементов? Прежде чем решиться ответить
на эти вопросы, попробуем зайти на ту же проблему от первобытного общества
как социальной системы, потребность которой в познании и оперативном
социальном освоении нового знания была, по крайней мере, сравнимой с нашей, а,
судя по величию познавательного подвига — освоению всех условий обитания
земли и практическому заселению земли, — значительно превосходила нашу
потребность. Будем считать, что мы знаем эту систему в статике, а также примем
на правах в высшей степени вероятных гипотезы:
1. С точки зрения физических и ментальных характеристик человекоразмер-
ности члены первобытных обществ или «дикари» по терминологии XIX в. к
моменту встречи с европейцами ничем существенным от европейцев не отличались
в наборе своих атрибутов, как существ естественных, социальных и разумных.
2. «Дикари» были значительно слабее, по сравнению с европейцами,
вооружены энергетически, поэтому весь их орудийный арсенал был ограничен по че-
ловекоразмерности физической силой человека, приведен к средним значениям
физических возможностей нормального здорового индивида.
3. В составе мнемотехнических средств «дикарей» не было письменности.
Отсутствовала основанная на фиксации текстов документальная техника разгрузки
памяти человека от текстов, раздельного от обладателей хранения текстов и
унифицирующей и специализирующей природы. Развитое использование чуринг,
тотемов, табу, знаков сопричастности с группой, хотя и усиливали возможности
памяти индивидов, требовали все же в каждом конкретном случае идентификации
с соответствующими текстами в памяти причастных индивидов, были
«документами для посвященных». Соответственно, вся система социальной коммуникации
как в воспитательной, так и в познавательной сфере могла опираться практически
только на ментальные возможности индивидов, требовала обязательного
присутствия в актах речи сторон общения А и В, всех совладельцев изменяемого текста
и индивидов, затрагиваемых этими изменениями, то есть любая форма
«публикации» — объяснения нового предполагала присутствие всей группы, которой
принадлежит такой текст Т0, подлежащий изменению в акте речи.
4. На периоде расселения, первой географической экспансии человека в
состав «природы» первобытного общества могли входить в основном реалии-специ-
11 М.К.. Петров
162
M. К. Петров
фикаторы внешней среды, не требующие долговременного пребывания,
«оседания» на занятой племенем освоенной и осваиваемой территории.
Наиболее важными для наших сравнительных оценок современной и
первобытной познавательных ситуаций являются третья и четвертая гипотеза, которые
дают пересечение на возможной емкости первобытной социальной системы,
замеренной по численности живущего в данной структуре поколения. Выше мы
уже входили в зондирующее обсуждение этой темы, показывая, что за
множеством вскрываемых науковедами «начальных условий» возникновения в
дисциплине и поэтапного движения исследовательских групп в эквифинальную новую
дисциплину может стоять фундаментальный факт ограниченной емкости
дисциплинарной социальности по численности активных членов дисциплинарного
сообщества как достаточно действенный и универсальный мотив поиска
многообразных предлогов для почкования дисциплины. Теперь в нашу задачу входит
попытка подойти к этой же проблеме предполагаемой эквифинальности
познавательных систем первобытного общества, к самой проблеме обучения общества по
данным познавательных контактов с окружением с другой, «заначальной»
относительно истории науки стороны, от первобытного общества, где известные нам
универсалии воспитательного и познавательного общения действуют в более
жестких условиях непосредственной связи с практикой, ментальных и
физических ограничений человека.
Третья и четвертая гипотеза четко прорисовывают два полюса и вместе с тем
два источника определенности первобытной социальной системы: возможности
памяти человека и насыщенность природы первобытного общества растущими,
прыгающими, летающими, бегающими, плавающими реалиями среды обитания,
способными стать объектами присвоения и потребления методами собирания или
охоты, включая и коллективные действия при охоте на крупных животных. При
этом численность живущего поколения накладывает на «природу»
территориальное ограничение по минимуму площади, которая при наличной плотности ее
насыщения номенклатурой присваиваемых для потребления реалий достаточна для
обеспечения живущего поколения всем необходимым, а сама эта численность
живущего поколения в свою очередь лимитируется возможностями памяти человека
«вместить» и удержать в рабочем состоянии весь набор знаковых реалий,
обеспечивающий функционирование социальной коммуникации и воспитательного и
познавательного типа, которая устанавливает и регулирует отношения между
индивидами и группами индивидов в целостной социальной структуре.
Понятно, что лимитирующее воздействие будет оказывать и ограничение
актов социальной коммуникации непосредственным устным общением, что
требует локальной концентрации реальных и потенциальных А и В, малого их
удаления друг от друга, то есть наличия некоторого устойчивого коммуникационного
центра, относительно которого получат определение и границы допустимых
удалений индивидов от этого центра и конечная граница обжитости территории, за
которой уже начинается «ужасное далеко» прутковского пастуха, куда нетрудно
попасть, но откуда очень трудно возвратиться.
Но основным ограничителем допустимого объема общесоциальной
коммуникации мы все же считаем тот принцип одновременного присутствия в имени
одного и только одного индивида — носителя этого имени и связанного с ним
текста или текстов, что описывается Леви-Брюлем, как универсальный принцип
объединения знака с индивидом, действие которого начинается с акта
идентификации имени младенца в операциях его опознания по чиху, родинкам, другим
идентификаторам, взятым из истории предыдущего носителя имени, и
завершается стадийным процессом освобождения имени от умершего носителя для новых
носителей.
В нашей ситуации естественным, казалось бы, прежде всего обратиться к
эмпирическим данным относительно численности исследованных первобытных
обществ, но как раз это и оказывается весьма затруднительным, поскольку начав-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 163
шаяся в конце XIX в. дискуссия о критериях выделения первобытных социальных
единиц и их составляющих так и не закончилась в XX в. чем-нибудь
определенным. У.Райверс, например, дает такое, с учетом мнений оппонентов по обе
стороны Атлантики, определение племени: «Племя есть целостная социальная
группа, члены которой говорят на одном диалекте и действуют сообща в общих
предприятиях, типа военных действий». Но тут же он оговаривается: «В определение
племени часто включают признак общности территории проживания, но кочевые
обычаи многих групп, которые в других отношениях подпадают под определение
племени, затрудняют включение географического фактора в определение» [155,
с. 32].
Автор предисловия Э.Смит тут же в сноске подправляет Райверса:
«Определение Райверса требует, пожалуй, уточнений. Исключение территориального
фактора может оказаться ошибочным, поскольку даже кочующие племена движутся
обычно по постоянно используемым стоянкам... В целом племя лучше определять
как группу, говорящую на общем диалекте и населяющую общую территорию»
[155, с. 32].
Эта исходная неясность огорчительна, конечно, хотя в общем-то она не так
уж существенна. В свидетельствах о первых встречах европейцев с дикарями,
которые явно проходили по модели проб и ошибок, и первые пробы далеко не
всегда были мирными, упоминаются обычно десятки, реже сотни туземцев, хотя в
таких критических ситуациях племя, естественно, должно бы выступать
наибольшим составом. Примерно о тех же порядках величин говорится и в новейших
сведениях о первобытных племенах, которые время от времени обнаруживаются
то в бассейне Амазонки, то на Филиппинах. Никто не упоминает о племенах,
скажем, в сотню тысяч или в миллион индивидов, и это понятно: социальные
системы такой емкости невозможно было бы удерживать в целостности теми
средствами коммуникации, которыми располагает первобытное общество.
В той системной статике, которую мы попытались выделить по обобщающим
анализам Леви-Брюля, наибольшее внимание в возрастном движении индивидов
должны, по нашему мнению, привлекать две связанные последовательностью
прохождения группы: расположенные после обряда посвящения группа
охотников-воинов со своим набором имен и текстов и группа воспитателей-старцев, в
которую переводятся охотники-воины, сдающие свои имена и тексты
посвящаемым в охотники-воины индивидам.
Если принять, что на периоде возрастного движения от опознания имени
младенца до обряда посвящения неформальными методами обучения, включающими
и акты воспитательного общения, совершается нечто, близкое в принципе к
задачам нашей общеобразовательной школы, и к моменту посвящения индивиды
приходят с более или менее унифицированным Т0 для дальнейшего
специализирующего кодирования, причем этот Т0 подготовленных к посвящению выполняет
роль, сравнимую с ролью Ту в нашей культуре, то, учитывая сравнительную
краткость периода посвящения, длительность которого вряд ли может сравниваться с
четырех- или семилетними марш-бросками наших абитуриентов-новобранцев
науки в дисциплину, а из дисциплины через аспирантуру на передний край
научно-дисциплинарного исследования мира, нам следует допустить, что
специализирующее кодирование в первобытном обществе носит принципиально иной
характер, чем в нашей Ту культуре.
Смысл этого принципиального различия состоит в том, что в нашей Ту
культуре предметная экспансия в мир открытий совершается через умножение
словарей, «диалектов племен», выводимых в новые предметные области: в движении
от Ту к Тд студент обретает новый словарь, новый диалект или жаргон, на котором
может обсуждаться проблематика дисциплинарной предметной области, а в
движении от Тд к Тг аспирант обретает опять-таки новый словарь, на котором может
обсуждаться проблематика предметной области предметного края вторжения в
мир открытий, которая может по ходу вторжения стать предметной областью
164
M. К. Петров
дисциплины и заставить идущую в дисциплину группу пробить новый,
стандартной длительности ход на Ту, тогда как в первобытной культуре мы не
обнаруживаем этого механизма предметной экспансии. Объяснить этот факт, не отвергая
другого столь же самоочевидного факта первой территориальной экспансии
человечества в эквифинальной форме первобытной социальной системы можно, на
наш взгляд, только из допущения, что в процессах развода посвящаемых в
специальности группы охотников-воинов наращивания словаря универсального Т0
не происходит.
Иными словами, охотникам-воинам ничего не сообщают нового, такого, чего
бы им не сообщили до обряда посвящения, и, становясь посвященными, они
«знают» не более того, что знали до процедуры посвящения. Просто они знают
и умеют теперь то же самое, но иначе, в ключе приложения, что ли по
отношению к которому их прежнее знание было чем-то вроде массива проверенного на
повтор-репродукцию знания, которое не нашло еще конкретных технологических
приложений. Теперь же, в акте посвящения, они как человекоразмерные
элементы и носители знания перешли из свободного диссоциированного, ищущего
приложений и «должностей» состояния в «технологическое» состояние исполняющих
должности подсистем в комплексных стандартных системах коллективного
действия по освоению и присвоению нечеловекоразмерных реалий окружения. Быть
подсистемой в такой коллективной системе не означает иметь некоторое
дополнительное по сравнению с Т0 знание, кроме знания причастности к этой системе
и своего особого места, своей личной программы действий, сопряженной с
программами других членов группы, которые, как и твоя, не выходят за рамки Т0,
и если по случаю или по сроку кто-либо выбывает из группы охотников-воинов,
на его место без затруднений ставится новый исполнитель, новая личная
подсистема, восполняющая комплексную систему до нечеловекоразмерной целостности.
Понятно, что нечеловекоразмерные ситуации коллективного действия
возникают не ежечасно и вряд ли по значительному числу поводов — мало таких мест
на земле, где в «природе» конкретного первобытного общества с
территориальными границами, прочерченными возможностями средств первобытной
коммуникации, одновременно встретились бы слон, кит, бизон, мамонт, вообще вся та
совокупность внешних спецификаторов, которая, с одной, человеческой стороны,
требует коллективного системного действия, а с другой, объективной стороны,
допускает стандартизацию, представление в репродуктивно-знаковой форме в
качестве набора типичных нечеловекоразмерных проблемных ситуаций, которые
разрешимы столь же типичным набором распределенных по конечному числу
участников группы человекоразмерных подсистем.
Поэтому члены группы охотников-воинов в принципе, во всяком случае,
должны бы нести не одну, а несколько подсистем, быть сопричастными не одной
комплексной программе коллективного действия по освоению или присвоению,
скажем, бизона или кита, а всем комплексным программам решения
типизированных нечеловекоразмерных ситуаций, если они допускают разделение по
времени и не требуют одновременного участия членов группы в нескольких
комплексных программах разом. Там, где ритм появления той или иной
типизированной ситуации, требующей коллективного действия, удается поставить под
контроль группы, потребности общества в целом, должны бы появляться симптомы
и грубые формы профессионализма, выделение из группы отдельных программ,
появления у них своих каналов подготовки и актов посвящения.
Действительно, такие явления наблюдаются антропологами, но, как правило,
на переходе к вынужденной (острова) или земледельческой оседлости. Райверс,
например, пишет: «На небольшом полинезийском острове Тикония, как и на
островах Полинезии в целом изготовление каноэ формирует специальную группу
ремесленников. Ритуальный характер процесса изготовления каноэ и та
существенность, которую приписывают формулам, которые шепчут на разных стадиях
работы его изготовители, предполагают, что особое положение ремесленников свя-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 165
зано скорее с их религиозным знанием и престижем, чем с самим искусством»
[155, с. 149]. Профессионализм нас пока не интересует, это уже вход в
традиционную оседлую культуру, но вот упоминание о ритуалах, нашептывании формул,
гимнах, песнях, о чем говорят многие полевые исследователи, как о постоянном
спутнике деятельности для нас существенно в плане реликтовой или
действующей мнемотехники, представление о которой может в какой-то степени дать
«Песнь о Гайавате», где Г.УЛонгфелло, поэт, переводчик и литературовед,
заведовавший кафедрой романо-германской филологии в ряде американских
университетов, попытался использовать фольклор североамериканских индейцев.
Вполне вероятно, что именно в форме таких текстов-песен в обрядах посвящения
вводят специализирующие тексты, регулирующие поведение индивида в наборе
комплексных программ коллективных действий группы, и практика проигрывания
соответствующих частей таких текстов используется охотниками-воинами
примерно для тех же целей, для которых спортсмены используют предоставленные
им правилами минуты, чтобы «собраться», «настроиться» на нужную программу,
чтобы совершить, скажем, прыжок Цукахара с оборотом на 360°, а, не дай бог,
не что-нибудь другое из собственного отработанного арсенала.
Мы не настаиваем и на том, что именно деятельность группы
охотников-воинов монопольно или по преимуществу решает проблему извлечения средств к
жизни из окружения, обеспечивает или способна обеспечить собственными
силами существование и воспроизводство включенного в рамки социальной системы
живущего поколения. Вклад группы в решение этой важнейшей для общества
задачи может оказаться и не очень значительным, поскольку он зависит от
номенклатуры реалий «природы» данного общества и от насыщенности окружения теми
или иными реалиями. Райверс, например, пишет: «Существует значительный
разброс в степени специализации деятельности среди различных членов или групп
в том или ином обществе. Иногда разделение труда представляется вообще
отсутствующим, все ремесла и искусства кажутся доступными каждому, за
исключением, естественно, разделением сфер труда по полу» [155, с. 148]. В других
случаях, особенно в практике лечения болезней, Райверс обнаруживает
специализацию, сравнимую с нашей медицинской специализацией. Нас больше интересует
первый случай, отсутствие специализации, поскольку он явно противоречит
нашим постулатам. Ясно, что в таких обстоятельствах, где нет нужды
использовать набор комплексных программ коллективных действий ввиду отсутствия
типизированных нечеловекоразмерных, где программы деятельности могут быть
включены в универсальный Т0, преемственное существование группы охотников-
воинов в первобытных обществах стало бы необъяснимым, если бы оно
оправдывалось только наличием в окружении нечеловекоразмерных реалий, освоение
и присвоение которых требует комплексных программ коллективной
деятельности Ближайшим результатом исчезновения повода для фрагментации
человеческой деятельности и существования системной ее организации было бы, понятно,
возвращение в таких местах, напоминающих «начало» Аджилла, людей в исходное
состояние биологической и генетической достаточности, где язык, если бы и
сохранялся, то на правах реликта, без которого в принципе можно было бы и
обойтись.
Эта преемственность существования группы охотников-воинов, хотя начало ее
с точки зрения постулатов биологической и генетической недостаточности
должно быть связано именно с присутствием в среде обитания нечеловекоразмерных
реалий, присвоение которых коллективным действием было вопросом жизни или
смерти для возникающего общества, может быть объяснена на более поздних
этапах расселения и особенно заселения земли появлением и наличием у группы
дополнительных, жизненно важных для общества функций.
Мы видим две таких функции: интеграционную, воспроизводящую
целостность общества как системы в смене поколений, и познавательную, позволяющую
преемственно изменять эту целостность за счет освоения новых реалий среды,
166
M. К. Петров
прежде всего нечеловекоразмерных реалий, а это в свою очередь сообщает
обществу подвижность, возможность движения по средам обитания, возможность
почкования и расселения.
В отличие от нашей или традиционной культуры, где без труда
устанавливается присутствие интеграционных схем как на уровне деятельности — рынок,
контакт на уровне семей разной профессиональной принадлежности, государство,
так и на уровне знака — семейство небожителей, троица, научная картина мира,
Ту, в первобытном обществе с его акцентом на круговращении
индивидуализирующих вечных имен, по отношению к которым индивиды выступают временными
исполнителями текстов имени, таких видимых интегрирующих структур — одной
для деятельности, другой для знака — мы не обнаруживаем. И дело здесь, похоже,
не в том, что в первобытном обществе нет разделения между трудом физическим
и устным, его нет и в традиционном обществе. Но знак-то отделен от
деятельности везде, и попытка соединить их мало что объясняет, а в ряде существенных
для нас случаев и просто запрещает объяснение. В состав обряда посвящения,
скажем, включен акт речи, в котором посвящаемому сообщают его личный
специализирующий текст. Если мы и в этом случае будем настаивать на
неспособности «дикарей» разобраться, где знак, где действие, то сразу же окажемся в
тупике, должны будем принять насквозь мистическую гипотезу, что те самые
мучительные, зубодробительные, надрезательные, подрезательные процедуры,
которым подвергаются посвящаемые, вовсе не мнемотехника, а нечто смыслонесущее,
способное вдолбить зубилом, палкой, камнем важную для жизни общества
программу действий.
Лингвисты, например, не видят принципиальных различий между языками
первобытных, традиционных, современных развитых обществ — все они имеют
наборы универсальных грамматических правил, усваиваемых в возрасте «от 2 до
5», смыслонесущие словари — наборы различений, позволяющие строить тексты,
быть носителям любых языков активными и пассивными сторонами актов
общения. По нашей первой рабочей гипотезе о тождестве физических и ментальных
возможностей дикарей и европейцев к моменту их встречи различия в формах
коммуникации могут вызываться лишь отсутствием в первобытном обществе
письменности и всего того, что предполагает письменность, а не какими-то более
глубокими причинами, нерасчлененностью, скажем, планов знакового общения и
поведения, деятельности. Вместе с тем, факт остается фактом: раздельного
существования эмпирического и знакового полюсов интеграции мы не обнаруживаем,
если не считать понятий типа «ману», «тотем» и их вещных представителей,
сопричастность с которыми или обладание которыми знаменует причастность к
обществу в целом.
Нам кажется, что загадка этого феномена кроется в той форме представления
знания, которая прочнее связана с именем носителя, и отличается от привычной
для нас «книжной» формы. Нельзя сказать, что эта форма нам неизвестна. Когда,
к примеру, И.Роднина с партнером «прокатывают» программу, а музыкальное
сопровождение вдруг прерывается, но программа все же доводится до конца, как
если бы в умах партнеров синхронно звучала музыка, то это как раз и есть та
форма более прочно связанного с личностью знания,
полуосознанного-полуподкоркового знания, которое используется в общем-то во всех культурах, но в
первобытной особенно широко. В нашей Ту культуре его используют не только
спортсмены, резко отличая себя этим типом знания от болельщиков, скажем, или
комментаторов, которые всегда лучше спортсменов знают, как надо было играть
или поступить в том или ином эпизоде. Его используем и все мы, когда, к
примеру, молча, уткнувшись в газету или книгу, едем в метро или автобусе на работу,
боковым зрением отмечая остановки. Это знание не совсем утоплено в подкорке
как, скажем, умение ходить, писать, читать, говорить, о чем никто из нас, пока
все в порядке, ничего путного сообщить не может.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 167
Это личное знание в общем-то почти на поверхности: мы всегда способны
толково объяснить, как попасть в любую точку известного нам города, если нас
об этом спрашивают, или принять здравое решение насчет того, как попасть в
намеченную нами точку, если привычный маршрут вдруг отказал, но если нет
предлогов этого типа, мы столь же мало сознаем это личное знание, как и все
то, что скрыто в подкорке веры в разумную упорядоченность мира, которую мы
обретаем в младенческом возрасте при активном участии гносиса.
В первобытном обществе, где связь индивидуализирующего имени с текстом
практически однозначна, смена «детского» имени, несущего текст Т0, на
охотничье, несущее один из специализирующих текстов группы охотников-воинов,
переводит целостности «имя—текст—индивид» из диссоциированного состояния
слабого взаимодействия по поводу многообразия человекоразмерных задач
отлаженного быта и воспитательных тренировок в ассоциированное состояние
сильного взаимодействия в узлах пересечений некоторого множества текстов, которые
устанавливаются ситуациями коллективных действий группы. Это пересечение,
переплетение текстов имен группы в наборе коллективных действий, за которые
ответственность несет группа охотников-воинов, и создает, по нашему мнению,
иллюзию отсутствия в обществах первобытной культуры четко выраженных
знаковых и поведенческих структур интеграции. Каждый из специализированных
текстов группы, как и положено знаковой реалии, задавая программу
деятельности, связывает планы знака и действия обычным отношением неограниченного
повтора в действии того, что зафиксировано в уникальной знаковой модели. Но
у имени каждого члена группы столько текстов, сколько у группы в наборе
программ коллективных действий — по числу типизированных ситуаций
коллективных действий. Это и создает интеграцию через пересечение, сплетение, когда,
скажем, в охоте на кита индивид А взаимодействует с группой одним способом,
в охоте на белого медведя — другим, в охоте на котика — третьим и т.п. Такие
исключающие одновременность выявления всех связок разом
пересечения-сплетения оказываются, похоже, достаточными для преемственного существования
социальной структуры в целом.
Нам самим впору привыкать к такому «узловому» представлению связей
интеграции. Появление Ту в нашей культуре делает в общем-то излишними все
другие привычные для нашего сознания статические знаковые скрепы системной
организации целостностей, которые переданы нам по наследству Ти культурой или
взяты напрокат у нее без афиширования самого этого факта.
Вообще-то говоря, и наша и первобытная ситуация имеют черты сходства.
Положение Ту в нашей культуре во многом напоминает положение «детского» Т0
в первобытной культуре. «Дикари» производят развод в специальности группы
охотников-воинов, не умножая словаря универсального Т0. Мы, разводя
обладателей аттестатов зрелости в дисциплины, поступаем, собственно, тем же
способом: не наращиваем Ту — этого нам не позволяет сделать гносис и
фиксированный срок движения взрослеющих детей в Ту, — а просто «удаляемся» от Ту с
группой посвящаемых новобранцев науки в направлении к Тд, оставляя непосвя-
щаемых, лишних для науки людей при их Ту перед расширяющейся лакуной, то
есть в классификации Л.Хурсина [83] в позиции тех людей, которым лучше не
пытаться вступать в осмысленное обсуждение проблем на Тд уровне, чтобы не
оказаться в нелепом положении начальника, обладающего отрицательным
значением разности Ti-To, но вынужденного объясняться, давать ценные указания
превосходящей его по тезаурусу аудитории подчиненных.
При всем том уже эта первая попытка сравнения первобытной культуры с
нашей обнаруживает первостепенный для нас важности факт: в первобытной
культуре специализирующее кодирование носителей «детского» То в тексты
группы охотников-воинов не создает лакуны для непосвященных, лишних для группы
людей. Любой из них может быть введен в одно из имен группы через процедуру
посвящения без какой-либо дополнительной подготовки. Иными словами, если
168
M. К. Петров
и для первобытного общества имеет силу принцип воспитания общества по
результатам познания окружения, то отсутствие тезаурусной лакуны между
непосвященными и посвященными, отсутствие содержательных различий (тождество
словаря) между То непосвященных и суммой Тс посвященных в имена группы
создает в первобытном обществе безлаговую ситуацию движения элементов нового
знания от переднего края общесоциального познания в Т0 детей и
непосвященных. В переводе на язык нашей Ту ситуации это означало бы реализацию того
идеального случая, когда элементы нового знания, минуя все виды задержек-
лагов как в линии движения через дисциплинарное освоение нового, через
комиссии и советы, охраняющие входы в Ту учебники, так и в иерархии
воспитателей, сразу бы попадали в тексты учебников Ту. Под этим безлаговым углом
зрения мы и попытаемся выявить познавательную функцию группы
охотников-воинов.
Будем исходить из довольно дикого, на первый взгляд, предположения, что
личный текст, сообщаемый носителю Т0 в обряде посвящения в имя группы
охотников-воинов, начало той преемственной цепи исторических событий и
преобразований, которая дошла до нашего времени споров о предмете истории науки
в виде дисциплины — основной когнитивно-социальной единицы научной
формы познания мира. Сделать такое предположение нас вынуждает множество
причин, прежде всего наша первая гипотеза о тождестве дикарей и европейцев
по всем трем атрибутам естественности, социальности и разумности к моменту
их встречи. Если гипотеза справедлива, а судя по положению дел в «здесь и
сейчас» нашей Ту культуре сомневаться в этом не приходится: 5—6 столетий
слишком малый в биологических мерках срок, чтобы что-нибудь могло претерпеть
радикальные изменения, то в первобытной структуре нам следует искать заведомо
человекоразмерную, четко упорядоченную ситуацию, которая, во-первых, была
бы в жестком однозначном соответствии со знаковым ее выражением, во-вторых,
входила бы в отношения синхронизации, соизмеримости по качеству исполнения
составляющих и программы в целом с некоторой эталонной структурой
совершенства и слаженности типа Страсбургских часов в истории становления
европейской научной картины мира, равносильной для всех таких ситуаций, и,
в-третьих, допускала бы перевод любого вида отклонений от эталона в форму тезау-
русного отношения, разрешимого методом подтягивания имени-текста к
эталонному значению. Единственную ситуацию, удовлетворяющую этим требованиям,
мы обнаруживаем в личных специализирующих текстах членов группы
охотников-воинов, а точнее в узлах пересечениях таких текстов.
В самом деле, чем может быть специализирующий текст члена группы, если
на этот текст самой скоротечностью процедуры посвящения, да и
обстоятельствами ее проведения наложено ограничение содержательного подобия с Т0? Дело
идет, видимо, о том же самом, что мы обнаруживаем, например, в программах
И.Родниной с партнерами, наиболее известная из которых, но не единственная,
называлась «Калинка». Все эти программы лимитированы по времени — 5 минут.
Ни одна из них не повторяет другую, различия начинаются с первых тактов и с
первых движений. Но все они построены из одних и тех же элементов —
прыжков, поддержек, тодосов, вращений и т.п., качество которых оценивается судьями
по сложности самих элементов, синхронности их исполнения, изяществу связок
и по множеству других параметров, как если бы перед судьями, которые обычно
в первый раз видят исполнение программ спортсменами, лежал некий эталон
исполнения составляющих и их последовательности в целом. Различие в этих
программах, состоящих из идентичного набора отработанных до высокой степени
совершенства элементов, достигается последовательностью развертки элементов в
программу. В обязательной 3-минутной программе, скажем, пары должны
выполнить в любой последовательности 6 элементов. Это почти та же ситуация, что и
у редакции журнала «Вокруг света», которая опубликовала детектив в пяти книж-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 169
ках, выбрав, по невыясненным «мистическим» соображениям один из 120
вариантов последовательностей. В обязательной программе таких вариантов 720.
Если специализирующий текст члена группы охотников-воинов строится по
этому же принципу развертки составляющих универсального Т0 непосвященных
в последовательность элементов во времени, то здесь, видимо, будет, вообще-то
говоря, астрономическое число неповторимых вариантов специализации,
поскольку в составе Т0 вряд ли 6 или 10 или даже 50 отработанных до заданного
воспитателями стандарта совершенства элементов.
Понятно, что возможности реальных Т0-х с точки зрения различения текстов
имен группы практически неисчерпаемы, сколько бы ни входило в группу членов.
Ограничения могут исходить только от реалий среды, для освоения которых
конкретный То может оказаться достаточным или нет, содержать, скажем, навык
обращения с гарпуном или нет в составе отработанных элементов, а также и от
способности памяти воспитателей, совершающих обряд посвящения, удержать в
памяти, различать конкретные развертки: отличать, скажем, 128 развертку для под-
резателя хобота от 701 для отвлекающего маневра.
Сами исполнители подсистем в групповых системах коллективного действия
не испытывают, похоже, факториального давления вариантов, для них оно снято
предшественниками по имени и памятью воспитателей, которые программируют
их в одну «Калинку» для одной комплексной системы и в другую, тоже в одну
уникальную для другой. Поскольку любой образующий развертку элемент
посилен для них, вчерашних носителей Т0, с какого-то уровня отработки программы-
развертки основным врагом комплексных программ, как и в большом спорте,
становится сбой, асинхронизация, рассогласование событий в пространственно-
временном целевом континууме. Пары прокатывают свои программы ради «двух
шестерок» — за технику исполнения и за артистичность, и если шестерки на
табло появляются редко, судей винить бессмысленно, вина привычно
раскладывается на тренеров-воспитателей и спортсменов-исполнителей. В футболе и
хоккее цель — интегратор личных подсистем — гол. И здесь, снова, та же ситуация,
осложненная вдобавок активным сопротивлением команды-соперника, члены
которой всячески препятствуют посвященным в тренерские задумки — развертки
по именам игроков — спортсменам «нашептывать» свой личный «гимн», напетый
тренером. Словом, путь к успеху в большом спорте явно не усыпан розами,
скорее изнурительными тренировками, травмами, восстановлениями формы,
поисками путей накопления арсенала средств, представленных в Т0 спортсменов. Если,
скажем, С хорошо играет головой, Г ловко прикрывает мяч телом, А нацелен на
ворота, К — на ноги ожидаемого форварда, то дальше идет уже тренерское
искусство в расстановке игроков команды, в кодировании их личных подпрограмм
в комплексную программу команды для достижения наибольшей вероятности
успеха — гола.
Понятно, что многие рассуждения о большом спорте применимы к ситуациям
первобытного коллективного действия: здесь также имеется цель — кабан,
скажем, или бизон, кит, слон, — присвоить которую весьма заманчиво и социально
полезно, есть и острая необходимость в синхронизации и согласованности, в
маневре, в эталоне совершенства, в «двух шестерках» или в «голе». Но цель наша
вовсе не в том, чтобы показать эту явную близость моделей действий команд в
большом спорте и действий группы охотников-воинов в первобытном обществе,
а в том, чтобы увидеть серьезнейшее различие или, вернее, скрытую, но
необходимую составляющую процесса накопления качества в элементах, образующих Т0,
появления в Т0 новых элементов, — увидеть трибуну.
В большом спорте это данность, это само собой разумеется: всегда есть
трибуна, просто болельщики от души, болельщики по профессии — тренеры, судьи,
а главное — возможность записать ход событий, остановить нужное, чтобы
вернуться затем к любому месту и моменту, придирчиво проанализировать причины
успехов.и неудач. У самих участников этих событий, будь они дикарями или
no
M.K. Петров
спортсменами, действующими в своих личных развертках, такой возможности
нет. Если справедлива наша первая гипотеза, и дикари и спортсмены действуют
в режиме «устной речи», когда любая попытка остановиться, «сообразить»,
оглянуться, вернуться, спеть заново неверно пропетое, вставить выпавший из
программы элемент всегда обернется сбоем, рассогласованием комплексной
программы, «наигранного варианта», «тренерской заготовки». В футболе и хоккее,
например, «допуски» на осмысление и синхронизацию исчисляют сегодня в долях
секунды.
В современном большом спорте недостатки и ограничения режима «устной
речи» снимаются записью, позволяющей восстановить события, вычленить
слагаемые успеха и причины неудач для учета в плане предстоящей игры, да и
противника можно изучить по записям его игр на предмет обнаружения слабых и
сильных мест. Существует ли возможность записи комплексных целевых
программ-систем в первобытном обществе, где нет ни письменности, ни стадионов,
ни трибун, и уж заведомо отсутствуют болельщики в местах, где кабан или кит
самим своим присутствием определяет геометрию и хронометрию
пространственно-временного континуума событий?
Если мы отрицательно отвечаем на этот вопрос, то, понятно, нам трудно будет
перебраться из системной статики в системную динамику. В статике-то все более
или менее ясно: раз уж общество существует, то в Т0 его подготовленного к
посвящению контингента есть все необходимое, все нужные элементы для
специализирующих текстов. Знаковые эталоны этих текстов хранятся в памяти
воспитателей, которые сами были их носителями, а потом будут переписаны в память
нового поколения воспитателей, которые пока заняты исполнением текстов
группы охотников-воинов.
В общем-то и в этом статическом случае не исключены спонтанные
изменения. Они могут возникнуть в акте кодирования при посвящении: нет никакой
гарантии, что специализирующий текст будет усвоен без изменений, могут
возникнуть и на периоде исполнения в силу предпочтения индивидов к тем
элементам, которые у них хорошо получаются, и стремления избежать тех, которые
трудно даются. Так что поле для изменений знаковых эталонов
специализированных программ, вообще-то говоря, есть. Весь вопрос в том, что толку от таких
спонтанных изменений-искажений, каков может быть их конечный результат.
В статике сразу же возникают вопросы о том, сколько смен
поколений-перезаписей могут продержаться комплексные программы без подкрепления целью,
когда, к примеру, общество несколько поколений проводит в местах, где нет
кабанов, чтобы подкрепить соответствующую комплексную программу, или
мамонтов. Словом, сколько ни доказывай принципиальную возможность изменений в
плане статики, все это разговоры в пользу бедных, а конкретно — аргументы в
пользу деградации, убывания изначального качества, высокий уровень которого
объясним только с привлечением надчеловеческих самостных разумных знаков. В
методологическом смысле статика заводит в ту самую тупиковую проблему
вымерших видов, в данном случае — вымерших и вымирающих программ, —
которая ужасала умы интеллектуалов начала XIX в. своей безысходностью.
Вместе с тем даже в статике видны реальные возможности «дарвиновского»
решения проблемы вымерших и вымирающих комплексных программ. В том, что
такая проблема вполне реальна и действительно существует, сомневаться не
приходится: достаточно, например, сравнить наборы комплексных программ
эскимосов, полинезийцев, пигмеев и обеспечивающие их То, чтобы обнаружить резкие
различия и в составе элементов Т0-х и, соответственно, в программах-развертках,
явно связанные с различиями в «природах» этих обществ. А реальные
возможности решения проблемы мы видим в том, что если, скажем, наличный Т0
принять за социокод данного общества, то, во-первых, его «факториальные»
потенции явно и многократно выше реально используемых, и эти, реально
используемые вряд ли самые совершенные из возможных. Во-вторых, в отличие от наших
История европейской культурной традиции и ее проблемы 171
текстов Ту, на страже которых кроме понятной инерции и преемственности, стоят
еще сроки обучения, рутина преподавательской практики, десятки, если не сотни,
комиссий и инстанций, без согласования с которыми нельзя в них изменить и
строчки, поскольку они «стабильные» учебники, рассчитанные на ежегодную
смену поколений, составляющие То первобытного общества вовсе не являются
такими уж неприкасаемыми и неизменными. Их устойчивое присутствие в
воспитательном канале от идентификации имени младенца до посвящения производно
как от типизированных человекоразмерных ситуаций быта, так и от состава
специализирующих текстов группы охотников-воинов. Если они теряют опору в
быту и в специализирующем кодировании, они не удержатся и в Т0. Умение
владеть бумерангом входит в Т0 австралийских племен, и это «понятно», но его нет
в То племен Амазонки или у пигмеев, и это опять же «понятно» — здесь
бумерангу просто негде летать. И точно так же обстоит дело со многими другими
навыками, которые, в отличие от человека, имеют ареалы распространения.
Но и огромные «факториальные» потенции Т0-х и подвижность образующих
их элементов остаются только возможностями, переход которых в реальную
системную динамику накопления знания, переписывания состава Т0-социокода и
текстов специализирующего кодирования наталкиваются все на те же проблемы:
нужен «стадион», нужны «болельщики», нужна «запись». В переводе на язык
нашей Ту культуры нужна «публикация», то есть нужно примерно то самое, что
делают наши авторы статей в научных журналах, когда они входят в
дисциплинарное сообщество с предложением сместить ту или иную часть текущего Тд
(какую именно обозначается ссылками) из Т0 в Ti и показывают в
тексте-объяснении, как это может быть сделано. Вопрос в том, будет ли это предложение
принято, — вопрос особый, он решается в довольно длительном пути
дисциплинарного освоения нового. Статья только предлагает, описывает, объясняет, как это
сделать, но не предписывает.
Возможны ли такие предложения на базе Т0 первобытного общества? На наш
взгляд, возможны, если первобытная «статья» написана на общем для
исполнителей специализированных текстов и воспитателей языке Т0. Иными словами,
чтобы построить «стадион», «трибуны», сделать предложение переиначить
специализирующий текст перед понимающей и заинтересованной публикой,
достаточно, похоже, передать суть новинки в имитации-повторе того, что происходило в
реальном пространственно-временном континууме коллективного действия,
выделив, естественно, те видоизмененные элементы Т0 или связки, которые
обеспечили результат. Нужны, таким образом, ритуальный танец и аудитория
воспитателей, способная заметить и оценить новинку, потребовать, если необходимо,
повтора, возврата к тому или иному месту исходного эталонного текста.
Если под этим углом зрения взглянуть на дело, то и в статике легко
обнаруживается эта динамическая форма записи. По сути дела ни один праздник-пир
после удачной охоты не обходится без коллективных танцев, которым принято
приписывать чисто ритуальный и мистический смысл. Но если допустить, что
такие танцы в частности или по преимуществу суть первобытная форма
публикации, предлагающая на рассмотрение аудитории воспитателей новинку, которая
оказалась успешной, и показывающая ее опосредования элементами наличного
То в пересечениях с другими специализирующими текстами, то возникают
контуры довольно четкого и почти лишенного лагов механизма перемещения
элементов нового знания в Т0.
Непосредственные участники реального события, решившего исход
коллективного действия, лишь имитируют его, дело аудитории воспитателей признать
эту новинку или отвергнуть. Если она признана, то она уже на следующий день
после праздника-пира может получить знак и оказаться введенной в Т0 на правах
элемента, подлежащего освоению до акта посвящения. Дальнейшая ее судьба
будет зависеть от участия в специализирующем кодировании и от возможностей
использования в бытовых ситуациях.
m
M. К. Петров
Трудно, естественно, настаивать на адекватности нашей модели
реконструкции механизма накопления и обновления знания в первобытном обществе. Но
мы настаиваем на том, что если наша модель воспитания первобытного общества
по результатам общесоциального познания несовершенна или вообще ошибочна,
то нужно искать другую, близкую ей по смыслу, которая объясняла бы, как
способно первобытное общество, сохраняя высокую степень общности на уровне
социальных институтов, двигаться через великое разнообразие «природ» к тем
«повсюду и везде» местам обитания, в которых эту социальную единицу обнаружили
европейцы в момент встречи с «дикарями».
На правах косвенных свидетельств в пользу нашей модели можно привести
факт распространенности «динамической записи» во всех типах культуры. В том
же большом спорте диалоги тренеров со спортсменами и спортсменов с
тренерами не чураются динамической записи, а предполагают ее. Хитроумные замыслы
футбольных и хоккейных тренеров, воспитателей фигуристов — тодосы, тройные
прыжки, подкрутки, вращения, перелеты, хотя все они и не нарушают законов
физики, начинаются все же не с формулы, циркуля, логарифмической линейки,
а с динамической записи, с отработки элементов, связок, которые привычную
чисто знаковую форму записи получат, если вообще получат, позже: заочников в
спорте все же не бывает.
Более того, «динамическая запись» остается записью по преимуществу вплоть
до Нового времени: события описываются в терминах действий существ,
имеющих имена и тексты-истории. Не говоря уже, скажем, о небожителях
традиционных обществ, большинство из которых вряд ли вообще мыслились грамотными,
способными к литературному труду, сам христианский бог явно обходился без
грамоты и в творении мира и на большем периоде христианской истории, пока
через три с лишним тысячелетия библейской истории интеллектуалы не
ликвидировали божественную неграмотность и не заставили его по собственному
образу и подобию написать «сумму» — Книгу Природы.
Динамическая запись и общая теория систем
Вполне возможно и, во всяком случае, не исключено, что корни
повсеместного распространения религиозных верований и их живучести следует искать не
во врожденной склонности слабого человека, несовершенной «твари» предаваться
в трудных и запутанных случаях «на усмотрение» высшего начальства, высших
авторитетов надчеловеческой природы, не в слабостях человеческих и страхах, не
в его бессилии перед нечеловекоразмерной громадой и пестротой природы, а в
универсальности, огромных потенциях и исторических заслугах динамической
записи как исторически первой и заманчиво оперативной формы активного
познания, первичной формы освоения нового знания на эмпирическом уровне.
Если принять такую возможность на правах рабочей гипотезы, то из нее
можно вывести ряд «странных» следствий, связанных как раз с возможной
инверсией динамических и знаковых форм записей в рамках человекоразмерности.
Более детальное изложение этих следствий мы оставим до описания перипетий
возникновения опытной науки, где посвященным «богодухновенным» членам
группы отцов-зачинателей придется, похоже, заняться ритуальными танцами
перед аудиторией воспитателей, чтобы предложить им в динамической записи
научную картину мира.
Пока же наша ближайшая задача — выяснить, как поведет себя
синтезированная модель гносиса неодионисийцев и инструментальной аналогии Ципфа,
если включить в нее на правах равноправных познавательных актов, вернее
отчета о таких актах статью в научном журнале и динамическую запись нового в
ритуальном танце.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 173
С контурами такой модели инверсии и дополнительности научного и
динамического описаний мы пока знакомы по анализу явления парности объяснений в
зондирующем исследовании Ф.Дарта и П.Прадхана, что и дало нам право
заключить, будто избегающий определений, выражения в знаке «гносис» неодионисий-
цев не выдумка тоскующих по Ти культуре, а скорее всего врожденное свойство
человеческого биокода, накопленное в тысячелетия первой географической
экспансии, которое не поддается определению в знаке именно потому, что это
свойство биологическое, выступающее для человеческой истории в роли абсолюта,
начала ряда всех человеческих начал и определений. Гносис активно участвует во
всем этом, но может быть определен только в биологическом «материнском»
контексте, куда нам нет доступа, поскольку это прямая дорога в бесконечную
регрессию, в «ужасно далеко» прутковского пастуха.
Сравнивая положение в Непале и Гонолулу, ответы школьников, социальная
данность которых сложена по нормам традиционной культуры, и их идентичных
по генополу сверстников в американской школе, родившихся в привычной для
нас данности Ту культуры, мы столкнулись с тем фактом, что в Непале с его
развитыми оккультными традициями и идеальными социальными условиями для
выявления гносиса неодионисийцев, таких выявлений не наблюдается: знание
мыслится «замкнутым телом, которое редко, если вообще способно к
расширению, и эта конечная сумма знаний передается от учителя к ученику и от
поколения к поколению» [110, с. 652], тогда как в Гонолулу, где школяры живут в Ту
культуре и где, по Т.Розаку вообще не должно бы наблюдаться проявлений
гносиса, поскольку все здесь сведено к уровню поведения и лишенная ценностей,
качеств, духа, общения природа здесь предстает, как машина мира, «лоснящаяся,
мертвая и враждебная» [157, с. 30], эти проявления гносиса как раз
наблюдаются — школяры контрольной группы в Гонолулу «все были уверены, что знание
получают из наблюдений и экспериментов и что, по их мнению, новое знание
не только можно получить, но его постоянно получают» [ПО, с. 652].
Эти эмпирические свидетельства отсутствия гносиса в той освоенной
младенцами данности, где ему по всем статьям положено быть, и присутствия его в
другой, где ему явно нечего делать, подтолкнули нас на предположение, что гносис
может оказаться ответственным за группу наблюдаемых в процессах общения по
поводу нового знания «естественных» феноменов, которые определенно не
являются артефактами, творениями человека, но присутствуют в общении и научной
коммуникации. При этом предполагалось, что гносис как биологический и
независимый от человека фактор обязан был бы выявлять себя как активное
структурирующее ограничение по человекоразмерности в тех случаях, когда сами
объемы накопления нового знания, как это происходит в дисциплинах и в науке в
целом, не несут видимых ограничений по человекоразмерности, и что ранговое
распределение Ципфа, понятое по его инструментальной аналогии, должно бы в
этом случае давать «вертикальное смещение» в растущих по числу связанного
материала дисциплинарных массивах публикаций, которые ведут себя как айсберги,
наращиваемые сверху элементами нового знания и связываемые в системную
целостность ссылками в публикуемых результатах на опубликованные уже работы
предшественников.
Появление в методологическом поле нашего анализа новой реалии —
динамической записи — и упрощает и усложняет нашу задачу. Упрощает в том
отношении, что мы теперь можем объяснить, почему в Непале, где социальная
данность построена по нормам традиционной культуры, выявления гносиса не
наблюдаются, тогда как в Ту культуре они не только наблюдаются, но и позволяют
себя исследовать как обычные естественные регулярности, как «законы».
Усложняется же наша задача в том смысле, что нам придется теперь более аккуратно
оперировать с универсалиями общения и познания, учитывая дополнительность
динамического и научного описания событий.
174
М.К. Петров
Основное различие между научным и динамическим описанием событий на
эмпирическом уровне мы видим не столько в том, какими средствами эти
описания выполняются, хотя это и весьма существенно — научное тяготеет к
нечеловеческим объективным размерностям окружения, производным, скажем, от
вращения земли, от длины земного меридиана и т.п., тогда как динамическое
описание предпочитает человеческую размерность и вовлекает внешнюю лишь в
необходимых случаях, а скорее в том, каким способом обозначен этот уровень
описания, первичного обобщения. И в том и в другом варианте сам этот уровень
располагается на одной примерно «высоте» — на высоте перехода деятельности в
знак из знака в деятельность. На переходе в знак фрагмент деятельности,
становясь на уровне знака элементом знания, теряет отметки единичности, времени,
пространства, а в научном варианте и отметку субъективной принадлежности. В
обратном движении с уровня знака на уровень очередного акта деятельности
знание необходимо обретает все эти отметки по субъекту, единичности,
пространству, времени, становится действием в здесь и сейчас субъекта.
Различие между научной и динамической записью события в том, что научное
описание может быть отвлечено от субъекта, как правило существует в отрыве от
субъекта в графической записи и, возвращаясь в действие, хотя и не
предполагает, но и не исключает субституцию субъекта, тогда как динамическая запись этого
отвлечения от субъекта не предполагает и субституция субъектов здесь возможна
лишь при некоторых условиях.
Свободно отвлекаемая от субъективной отметки научная запись события не
несет ограничений по физическим и ментальным возможностям человека, и его
первичный уровень обобщения, перехода действия в знак, вовсе не обязан
совпадать с уровнем динамического описания. В научном описании положение этого
уровня устанавливается «высотой возврата» — высотой, на которую можно
поднять знание, лишив действие отметок субъекта, единичности, пространства и
времени, но сохранив за ним свойство возврата в действие, обретения отметок
субъекта, единичности, пространства и времени. И эта «высота возврата» явно будет
зависеть от научной картины мира, от тех представлений, которые вкладываются
учеными в понимание связей целостности на основе научных описаний событий.
Если, скажем, эта структура целостности представляется сродни той, которая
реализуется в человеческих артефактах — в орудиях, машинах, бюрократии,
железной дисциплине, компенсаторах «шума», где всегда достигается, если предъявить
определенную сумму требований к субъекту, возвращение знания в акт
деятельности, то, понятно, в принципе возможно такое описание мира в целом, когда в
любом очередном возвращении этого описания в действие подобные нашему
миры, если субъект удовлетворяет заданной сумме требований, будут возникать с
той же непреклонностью, с какой детские ванночки возникают в цехе пластмасс
в очередном движении пресса, и когда нам это дело надоест, можно будет от
констатации фон Брауна — «раз во вселенной обнаруживается некое устройство,
должен быть и его Конструктор» [157, с. 200] возвыситься до методологической
гордыни Колмогорова: «Ведь по существу интересен не вопрос о том, возможно ли
создать автоматы, воспроизводящие известные нам свойства человека, хочется
знать, возможно ли создать новую жизнь, столь же высоко организованную, хотя,
может быть, очень своеобразную и совсем непохожую на нашу» [26, с. 13].
Было бы наивно полагать, что такие выбросы в сотворенность мира или в
завлекательную проблему творения иных миров вызываются какими-то личными
свойствами и чертами характеров у выдающихся и определенно разных ученых
нашего времени. Более правомерно предположить, что они закономерный
естественный продукт нашей Ту культуры и процесса онаучивания общества
иерархией воспитателей, берущей свое начало от событий переднего края и идущей к
учебникам и урокам в общеобразовательной средней школе. Иными словами,
такие заявления вовсе не продукт легкомыслия или профессионального
травматизма в духе угрюм-бурчеевских восхищений ума, а действительно серьезная ра-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 175
бочая проблема размежевания науки и религии, знания и веры в его
всемогущество, вытекающая из самой природы научных описаний.
Н.Винер, хотя и не очень четко, но все же фиксирует состав этой сложной и
достаточно болезненной для естественников проблемы: «Мне кажется, что
вопросы эти располагаются вблизи того рубежа, где наука сталкивается с религией. Я
хотел бы при этом избежать логических парадоксов, которые являются
следствием крайних, хотя и привычных, претензий религии на истолкование абсолютов.
Если мы будем рассматривать познание только с позиций Всеведения, власть —
только с позиций Всемогущества, а культ — только с позиций Единобожия, то
мы запутаемся в метафизических хитросплетениях еще до того, как приступим к
действительному исследованию отношений между наукой и религией» [8, с. 15].
И это, так сказать, святая истина, если не считать той мелочи, что если не
сделать всего этого, то и абсолюты останутся и науке придется заняться
определением границ собственных претензий и притязаний. Нам кажется, что в этом
деле может помочь анализ представлений о целостности, которые фиксируются в
динамических описаниях.
Чтобы с наименьшими потерями войти в человекомерную суть динамических
записей, поставим вопрос так: Что мешало тренерам И.Родниной с партнерами
включить в программу «Калинки» пару прыжков в 5 или 6 оборотов, от чего
программа несомненно выиграла бы и в глазах болельщиков и в глазах судей?
Ответ каждому понятен: тренеры бы со всей душой, но такая
программа-развертка в пятиминутное действо ни для И.Родниной с партнером, ни для
кого-нибудь еще невозможна. Не в принципе, естественно, а пока. Пока фигуристы более
или менее освоили прыжки в три оборота, некоторые, не очень стабильно
выполняют прыжки в 3,5 оборота, до 5—6 оборотов пока далеко. Сколько будет
длиться это пока, можно только гадать. Вполне может оказаться, что человеку
вообще не дано совершать более 4 или 5 оборотов за те мгновения, на которые
он взлетает надо льдом и опускается на лед. И коль скоро речь идет о
динамическом описании, которое нельзя оторвать от субъекта, адекватность или
истинность такого описания, его верификация будут зависеть не столько от законов
физики, хотя и от них тоже, сколько от того, что именно могут И.Роднина с
партнером, от содержания их динамического Т0 к моменту начала развертки
программы.
Дело, естественно, радикальным образом изменится, если на такую
неадекватную и невыполнимую для спортсменов программу посмотреть через призму
научного описания, то есть вывести Роднину с исполнителем «за скобки» как пару
исполнителей вообще, субъект вообще, критерии динамического То которого
допустимо определять из состава самой программы. Тогда программу можно
усложнять как угодно, и если судьи предпочитают именно прыжки, то лимитирующим
условием будут только те 5 минут развертки программы, в течение которых пара
может по действующим правилам порхать надо льдом на манер дантовских
героев, ужасая и восхищая как публику, так и судей. Частным и несущественным
условием выполнимости такой программы будет подбор пары-субъекта, которая
обладает соответствующим динамическим Т0, позволяющим ей совершать
пятиминутные взлеты надо льдом.
Истинность динамической записи, таким образом, всегда будет натыкаться на
физические законы, а в их пределах, и это основное, на текущее значение
динамического То субъекта, и в попытке перевода динамической записи в научную
всегда будет наблюдаться асимметрия: содержания всех истинных динамических
описаний истинны и для их научных эквивалентов, тогда как не все истинные
научные записи сохраняют свойство истинности и в их динамических
эквивалентах, поскольку истинность научных описаний удерживается на уровне возврата
переведенного в знак описанного действия на эмпирический уровень
деятельности, что.и гарантируется процедурами верификации, эксперимента, тогда как ис-
176
М.К. Петров
тинность динамических описаний событий на уровне деятельности удерживается
на уровне текущего значения динамического Т0 субъекта.
Эти различия могли бы показаться тривиальными и не заслуживающими
обсуждения — таково уж свойство проблем, возникающих по поводу данности, —
если бы не одно тоже в общем-то тривиальное обстоятельство, которое может
быть выражено в форме постулата: включающая человеческие элементы система
любой сложности, может оказаться работоспособной, реализованной и
функционирующей при том и только при том условии, что все ее научные описания на
всех уровнях переводимы с сохранением свойства истинности в форму
динамических описаний-разверток в последовательности действий на базе текущего
значения динамического То исполнителей.
Иными словами, оставляя открытым вопрос о том, насколько адекватно
действующая целостная картина мира в различных вариантах ее исполнения —
механистическом, математическом, кибернетическом, системном — отражает
структуру предполагаемого единства мира, его целостности, мы акцент переносим на
реальную, для нас существующую целостность, которая на элементов содержит:
A. Независимые от нас и требующие уважения к своим и свойствам
произведения природы: а) нас самих, ради которых мы в меру собственных сил и
возможностей создаем эту целостную систему, насаждая и поддерживая важные для
нас и преследующие наши цели связи целостности; б) интересующие нас в тех
или иных отношениях биологические виды, продукты истории органики земли;
в) интересующие нас продукты геологической истории земли, тем или иным
способом участвующие в воспроизводстве условий нашей жизни и самой жизни.
B. Артефакты, обеспечивающие существование и воспроизводство, развитие
сложных систем, как универсальных способов решения нечеловекоразмерных
проблем практического и познавательного контакта с окружением человекораз-
мерными средствами: а) орудийные арсеналы; б) машины; в) технологии; г)
организационные структуры; д) знаковые системы; е) формализмы; ж) методы; з)
языки.
Постулат переводимости всех задействованных в системе научных описаний
событий и всех ее реалий с сохранением свойства истинности в динамические
описания-развертки, который выдвигается на правах условия, выполнение
которого позволяет включать научные описания в структуру реальной для нас
целостности на правах элементов системы, а нарушение — автоматически исключает их
из этой структуры, касается не столько содержания самих научных описаний,
коль скоро они верифицированы прямыми или косвенными методами, сколько
выводимых из этих описаний требований к субъекту, которым он должен
удовлетворять, чтобы быть в состоянии перевести научное описание с уровня знака
на эмпирический уровень деятельности, сообщить этому описанию отметки
субъективности, единичности, пространства и времени.
На примере программы «Калинка» с парой прыжков в 5—6 оборотов мы
попытались показать, что такая программа неистинна и неадекватна не потому, что
ее нельзя привести в соответствие с физическими законами окружения, а потому,
что предполагаемый ею субъект, способный развернуть ее в действие в «здесь и
сейчас» своего присутствия нарушает человеческую метрику, которой мы
располагаем сегодня, и создает на пути научного описания из знака в действие
непроходимый барьер, запрещающий переход и отменяющий ту объективную
истинность, которая содержится в научном описании этой программы, но
располагается за той «высотой возврата», где начинается уже «ужасно далеко» прутковского
пастуха, куда легко и просто заплыть на парусах спекуляции или взлететь на
крыльях привычного формализма, но откуда уже невозможно вернуться на родную
землю единичных, несущих отметки пространства и времени фактов.
Требование переводимости научных построений на язык динамических
описаний не есть, собственно, запрет на полеты или дальние плавания за пределы
текущей границы или высоты возврата — было бы глупо подрезать мечте крылья,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 177
но прежде всего требование на иерархическую лестницу с человекоразмерными
ступенями, на многоуровневую иерархическую систему, строение которой
позволяло бы в принципе летать и плавать как угодно высоко и далеко, если возврат
возможен в ступенях спуска, каждая из которых допускает динамическое
описание в пределах текущего значения динамического Т0 субъекта.
Теперь мы можем вернуться к нашим айсбергам, которые мы оставили в
критической для нас самих ситуации [с. 324] — судя по числу опубликованных в 1967
г. статей, предполагаемый массив общенаучного айсберга составлял по явному
минимуму не менее 40 млн. публикаций. Перед этой громадой научных описаний
мы и остановились в недоумении: много это или мало, возможны ли целостные
системы с таким числом различений?
После нашего путешествия к «дикарям», где нет письменности документа и
архивной практики хранения научных описаний, мы теперь в состоянии довольно
уверенно заявить, что для «голого разума», вооруженного лишь естественным гно-
сисом, оперировать с 40 млн. различений — непосильный труд, да и нет в этом
необходимости. Если наше предположение о том, что ритуальный танец в
первобытном обществе может оказаться эквивалентом статьи в условиях, когда нет
письменности и документального архива, вывело нас на динамическую запись
как на способ объяснения нового в пределах «факториальных» наличного
динамического То аудитории В и всех мужчин племени, подготовленных к обряду
посвящения, а ритуальный танец, если его задача проиграть новацию в деталях
пересечения специализирующих программ перед аудиторией воспитателей,
возможен лишь силами малой группы непосредственных участников события, то теперь
наш постулат о переводимости научных описаний в динамические, как об
условии структурирования работоспособных систем любой сложности позволяет нам
подойти к этой громаде примороженных и кристаллизованных ссылками 40
миллионов научных описаний без ужаса, трепета и восхищения перед его размерами.
Пока действует принцип переводимости и функциональной эквивалентности
научных и динамических описаний, у нас будет надежный ориентир —
вовлечение истории в научное объяснение в форме ритуального танца непосредственных,
по мнению автора научного описания, участников, «отцов» события.
Понятно, что такую группу исполнителей мы могли бы выявить и в
стандартных ситуациях общения, коль скоро они признаются универсалиями общения.
Когда мы будем обсуждать гипотезу Ингве [123], мы попытаемся показать, что
предложение, как микроакт объяснения и есть, в частности включение гносисом
А знакомой аудитории В группы исполнителей в танец по универсальным
правилам вокруг новации, нового слова.
Но в статье как в исходном акте научного описания и в микроакте истории
науки нас тот же, по сути дела, и, видимо, универсальный феномен появления
перед аудиторией В знакомой группы исполнителей ритуального танца по
правилам привлекает именно документированностью, следами извлечения участников
танца из архива научных описаний с сохранением субъективной отметки, что, по
нашему мнению, может считаться косвенным свидетельством того, что эта
излишняя, вроде бы, для научных описаний деталь — сохранение субъективной
отметки — не такой уж лишенный функции рудимент, о котором позволительно
говорить в терминах Мертона — «мнемотехническое средство и форма
поминовения» [140, с. 273], а ключевой момент связи научного и динамического
описаний, момент весьма существенный для аудитории В — коллег по дисциплине,
редакторов, референтов, рецензентов, — перед которыми автор статьи в роли А
изображает ритуальный танец в исполнении известных аудитории и, по
возможности, почитаемых аудиторией «мужей науки».
Этот феномен объяснения новой статики, а научное описание всегда
статично, если оно обладает свойством приложимости, неограниченного тиражирования
в «здесь и сейчас», через опосредование статики динамикой, ритуальным танцем
для аудитории видит в общем-то и Кун, хотя и не придает ему функционального
12 М.К. Петров
178
M. К. Петров
значения: «Уайтхед хорошо уловил неисторический дух научного сообщества,
когда писал: «Наука, которая не решается забыть своих основателей, погибла».
Тем не менее он был не совсем прав, ибо наука, подобно другим предприятиям,
нуждается в своих героях и хранит их имена. К счастью, вместо того, чтобы
забывать своих героев, ученые всегда имеют возможность забыть или пересмотреть
их работы» [30, с. 177].
Позиция Куна, таким образом, близка к позиции Мертона, хотя и
подчеркивает практику пересмотра, переписывания, переосмысливания работ
предшественников ради включения их в историю действующей парадигмы — «появляется
настойчивая тенденция представить историю науки в линейном и кумулятивном
виде — тенденция, которая оказывает влияние на взгляды ученых даже в тех
случаях, когда они оглядываются назад на свои собственные исследования» [30,
с. 177].
По нашему мнению, в феномене опосредования научной статики
исторической динамикой, разверткой в последовательность действий на базе динамического
То аудитории мы действительно имеем дело с микроактом истории науки, с
сотворением начала или, как иногда говорят, «точки роста» будущего научного
направления, так что приглашенные автором в группу исполнителей ритуального
танца 10—15 предшественников («квота цитирования») выполняют как роль
переводчиков статического описания автора в динамический Т0 аудитории, так и роль
исходной патристики, роль группы отцов-основателей, если этой «точке роста»,
«началу», «семени» предстоит дать всходы. При этом действительно возникают
отмеченные Куном эффекты переписывания предшественников, но возникают
они не случайно: танцевать-то признанным и почитаемым мужам науки
приходится под музыку автора.
С привлеченными по случаю закладки «начала» кандидатами в отцы-приматы
авторы поступают примерно тем же способом, каким Алиса обошлась с королем
в Зазеркалье, который по совету королевы решил написать «меморандум» — дать
научное описание ужасного события — вознесения на стол с помощью Алисы:
— Представляешь, — шептал король, — волосы в бакенбардах встали дыбом!
— Нет у тебя бакенбардов, — заметила королева.
— Этот ужас, — воскликнул король, — мне не забыть никогда. Никогда!
— А вот и забудешь, — сказала королева. — Разве что напишешь меморандум.
Алиса с большим интересом наблюдала, как король вытащил из кармана
огромную памятную книжку и примостился писать. Ей вдруг пришла в голову
шальная мысль. Она схватилась за конец карандаша, торчавший над плечом
короля, и начала писать за него.
Озадаченный и расстроенный король некоторое время молча боролся с
карандашом, но Алиса была сильнее, и несчастный король наконец пропыхтел:
— Дорогая, мне бы карандаш потоньше. С этим я как-то не справляюсь.
Пишет совсем не то, что я хотел написать...
— Чего он там у тебя еще пишет? — спросила королева, заглядывая через
плечо короля. И, прочитав написанное Алисой: «Белый конь катается с кочерги,
плохо держит равновесие», сказала:
— Но это же не меморандум о твоих переживаниях! [100, с. 200].
Зафиксируем эту «королевскую ситуацию» на правах парадигматической
модели. Нам она будет полезна во многих случаях, поскольку именно этим
способом осознанного или неосознанного приписывания цитируемым авторам того,
чего они не намеревались говорить, объясняющим свои мысли авторам статей
удается проходить лакуны, заставить аудиторию В с ее динамическим Т0 понять
и признать свою точку зрения и основанное на ней научное описание нового.
Дело здесь явно не идет о каком-то обмане, о введении аудитории в
заблуждение. Скорее склонной к заблуждениям аудитории предлагают заблудиться
именно тем способом, который решает созданное автором тезаурусное отношение
Ti-To и может быть принято как объяснение. Король, раз уж он начал с бакен-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 179
бардов, которых у него не было и нет, вряд ли и без вмешательства Алисы
написал бы что-нибудь вразумительное в своем «меморандуме» — памятной
записке, отчете о чудесном и ужасном событии. В этом смысле дисциплинарное
сообщество, к которому обращается автор статьи, предлагая последовать примеру 10—
15 уважаемых сообществом коллег, которые, каждый по-своему, подходили и
почти подошли к результату, предлагает сделать вместе с автором последний шаг,
который удалось сделать автору, но не удалось предшественникам, находится все
же в лучшем положении: сообществу в лице его «привратников» — редакторов,
референтов, рецензентов — и тех немногих занятых своими делами коллег,
которые прочитают статью, возвращающиеся из дальних и каботажных плаваний по
проблемной области самовольщики не предлагают в своих «меморандумах»
ничего предосудительного. Предлагается новый элемент знания, пути к его
пониманию, способ увидеть в несколько экстраполированном и «продвинутом» волею
автора пересечении 10—15 личных программ предшественников суть дела — тот
новый результат, к которому пришел и который идентифицировал и
верифицировал автор.
К тому же и предложение делается в рамках научного этноса. Как и в
первобытном обществе участники ритуального танца перед аудиторией воспитателей и
подготовленных к посвящению обладателей динамического Т0 только предлагают
танец на суд аудитории, точно так же и авторы статей, выступая в роли
режиссеров групповых ритуальных танцев предшественников перед дисциплинарным
сообществом только предлагают вниманию заинтересованной и компетентной
аудитории судей и болельщиков свои режиссерские решения на усмотрение
публики, а отнюдь не предписывают их. Предлагают именно в форме меморандума —
памятной записки.
Статья, судя по строению дисциплинарных айсбергов, с 30% вероятностью так
и останется в статусе меморандума — частного отчета самовольщика о
похождениях в самовольной отлучке, судьба которого — пылиться на полках научного
архива в надежде на то, что какой-нибудь дотошный историк науки вдруг
раскопает статью и пустит ее в ритуальный пляс для достижения своих историко-на-
учных целей, или сбившийся с пути самовольщик будущего натолкнется на
статью в поисках глубоких корней собственных глубоких мыслей и вытолкнет ее в
более высокие ранги видимости. И только с 6—7% вероятностью статья попадет
в видимую надводную часть айсберга, перейдет из статуса частного меморандума
частного самовольщика вместе с автором-самовольщиком в избранный ансамбль
песни и пляски дисциплинарного, общенаучного, а то и Ту ранга, где уж автора
заставят во имя науки и онаучивания общества, во имя распространения знаний
выплясывать такое, о чем он и представления не имел, выступая в роли
режиссера танцев предшественников-предков. Здесь-то его уже будут развертывать по
«факториальной» составляющей, а попутно заставят «расти над собой» в том духе,
скажем, в каком росли над собой, соревнуясь, Платон и Аристотель в
европейской культурной традиции.
Р.Коллингвуд так описывает восхождение и метаморфозы платонизма в
европейской культурной традиции: «Платонизм естественной науки Возрождения не
является в своих основах платоническим, он фундаментально христианский.
Христианская мысль адаптировала платонизм к собственным целям, приобщила
платонизм к идее, которая не могла бы появиться в самом платонизме и даже
оказалась бы для него неприемлемой... Утверждая, что бог всемогущ и что мир
природы есть мир божественного творения, христианство совершенно изменило
мировоззренческую ситуацию. То, что мир природы следует рассматривать не как
царство неопределенности, а как царство однозначной определенности, стало
теперь делом веры... Галилей, истинный отец новой науки, переформулировал пи-
фагорейско-платоническую позицию в собственных терминах, заявив, что Книга
Природы есть книга, написанная богом на языке математики... Галилей
сознательно прилагает к природе тот принцип, которым Августин руководствовался в
12*
180
M. К. Петров
подходе к текстам священного писания, к книге, которая определенно «написана
рукой бога». И принцип этот состоял в том, что какие бы сомнения ни возникали
насчет смысла того или иного места, исходить следует из того, что оно имеет
значение и значение это истинно» [104, с. 253—256].
Ясно, что и наша Ту культура в этом отношении не исключение. Тот же
Галилей, признанный член группы отцов науки, несет сегодня ответственность за
идеи и представления, к которым он отношения не имел и вряд ли согласился
бы иметь, будь на то его воля. Точно так же обстоит дело и со множеством других
людей той или иной степени признания в должности отцов и основателей науки,
дисциплин, научных направлений. И происходит это потому, что автор,
опубликовав работу, с одной стороны, теряет над ней контроль, перестает нести
ответственность за то, кто, где, когда, в какой обстановке, для каких целей использует
высказанные автором идеи, а, с другой стороны, любой акт такого использования
протекает по нормам динамического описания, что и вовлекает авторов произ-
водно от судеб их работ в явно непредусмотренные ими «королевские» ситуации.
Получается, похоже, странная вещь: если справедливо условие переводимости
научных описаний в динамические, которое ограничивает объективную
истинность субъективной, как условием реализации работоспособных систем любой
сложности, а перевод в динамическое описание требует указания на индивида и
должен выполняться в динамическом Т0 этого конкретного вполне земного
индивида, что мы в общем-то и наблюдаем в практике цитирования, где под каждое
событие в истории науки его творец А собирает по принятой квоте цитирования
10—15 исполнителей-переводчиков научного описания в динамическое, то и в
нашей Ту культуре и в предшествовавшей нам Ти культуре, где графическая
запись актов речи делает осуществимыми и даже типичными ситуации общения с
отсутствующим А, необходимость возвращения отсутствующего А в стандартную
ситуацию общения на правах члена группы исполнителей-переводчиков научной
записи нового А (автор публикуемой статьи) может при многократном
использовании отсутствующего А в этой роли вызывать неограниченный рост его
динамического То-
Если наука действительно умножает знание о мире, а технологические
применения результатов научного познания увеличивают нашу власть над
окружением, то есть, что бы ни означали всеведение и всемогущество, будь они
достижимыми или недостижимыми, реальное движение совершается по линиям
накопления ведения и могущества, то этот феномен неограниченного роста динамических
То-х у отсутствующих А может означать настораживающую вещь: подавляющая
часть формальной научной коммуникации совершается в модели «А в
самовольной отлучке», и кумулятивным эффектом «королевских ситуаций» использования
таких А, представленных только именем автора публикации предшественника,
для объяснений с коллегами по поводу нового может быть только рост
динамических То цитируемых авторов по основаниям всеведения и всемогущества.
Иными словами, не исключена возможность того, что монополия науки на
истолкование «гласа природы», эмпирической реальности, авторитета внешних
спецификаторов сама может стать источником производства самостных знаков
растущей степени ведения и могущества, источником знакового фетишизма,
эпифеномены которого мы наблюдаем в появлении множества задач класса «комплекс
Архимеда», предполагающих как раз всеведение и всемогущество.
Попробуем более детально просмотреть эту ситуацию опосредования статики
динамикой, какой она фиксируется в процессах, связанных с постоянным
наращиванием массивов-айсбергов дисциплинарных публикаций. В интересующем
нас плане пионерскими работами были исследования Д.Прайса [150],
применившего критерий квот цитирования для идентификации жанров публикаций в
массивах научного знания. Д.Прайса интересовала в основном зависимость
интенсивности цитирования статей от их возраста, то есть, в нашей терминологии,
движение меры участия опубликованных статей массива в освоении нового, в погло-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 181
щении ссылок публикуемых работ и распределение этих ссылок по возрасту
статей массива. Выведенные им закономерности экспоненциального снижения ци-
тируемости с возрастом, «периоды полураспада» более детально исследовались в
плане структуры научной коммуникации В.В.Налимовым и З.М.Мульченко,
которые включили в «лаговую» модель движения информации и предпубликацион-
ный период — сроки выдерживания рукописей в портфелях редакций до их
публикации [47].
Лаговая характеристика движения знания остается и сегодня базовым
основанием анализа систем научной коммуникации. Э.М.Мирский отмечает важность
эксплицированного понятия жанра для понимания функций массива-айсберга
публикации: «Представление о функциональной специфичности жанров
опирается не только на исторические особенности развития массива, но и на
определенные системно-теоретические соображения. Рассматривая научную дисциплину
как систему, обладающую развитыми механизмами саморегулирования, мы
обязаны предполагать, что эти механизмы в каких-либо своих проявлениях (скажем,
в форме определенного набора критериев) должны быть «видимы» для всех
участников дисциплинарного сообщества» [44, с. 126]. Рассматривая жанры как
«эшелоны», составные механизма саморегулирования, Мирский развертывает лаговую
модель движения знания: «Теперь с целью интерпретации публикационных
жанров как эшелонов дисциплинарного массива расположим их в зависимости от
временной удаленности от переднего края дисциплины и возьмем в качестве
измерителя минимальный отрезок времени, который необходим для того, чтобы
полученный на переднем крае результат мог быть опубликован в каждом из жанров.
Полученную последовательность можно изобразить примерно следующим
образом: 1) журнальные статьи и публикации докладов научных собраний; 2)
подтверждающие сообщения, обзоры периодики (проблемные, аналитические и т.д.)
и обзоры научных собраний, проводимых дисциплинарной ассоциацией за какой-
либо период времени; 3) тематические сборники, монографические статьи,
индивидуальные и коллективные монографии; 4) учебники, учебные пособия,
хрестоматии, научно-популярные изложения содержания дисциплины и т.п.» [44,
с. 126],
Снимая излишнюю детализацию, Мирский рассматривает четырехэшелонную
схему — статьи, обзоры, монографии, учебники: «В таком виде эшелоны массива
и будут выступать в качестве эмпирического эквивалента основных этапов,
обеспечивающих целостное существование дисциплины» [44, с. 126—127]. Эшелоны
полагаются в виде систем со входом и выходом: «При этом каждый эшелон
рассматривается как совокупный носитель информации, которая поступает на
«вход», обрабатывается, перекодируется и через «выход» передается следующему
эшелону» [44, с. 127]. Жанровые особенности публикаций выступают в роли
моделей организации, обработки и кодирования информации.
Существенное значение придается количественным характеристикам
эшелонов: «Одновременно с этим каждый эшелон рассматривается и как дискретная
совокупность однородных публикаций, в которой важную роль приобретают его
количественные характеристики. Эшелоны сильно отличаются друг от друга по
общему, причем их величина убывает по мере удаления от переднего края,
начиная с огромного и быстрорастущего массива статей и кончая относительно
небольшим массивом учебников. Эти характеристики публикационных эшелонов
существенны для понимания механизмов реализации основных процессов. Так,
например, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наряду с организацией
каждого эшелона обработка информации предусматривает и простой отсев
публикаций, причем величина этого отсева, варьируя от дисциплины к дисциплине,
достигает иногда около половины объема эшелона. Это особенно отчетливо
видно на материале обработки массива статей, значительная часть которых
переходит в архив, минуя массив, то есть не встречаясь в дальнейшем ни в ссылках,
ни в обзорах» [44, с. 127].
182
M. К. Петров
Огромный отсев возникает и на входе рукописей в публикацию, как это
показало исследование Р.Мертона и Х.Цуккермана по материалам того же 1967 г.
(табл. 7).
Среди функций, выполняемых эшелонами массива публикаций, Э.Мирский
отмечает и важную для нас функцию развилки специализирующих дорог,
ведущих новобранцев или ученых-мигрантов к переднему краю: «Эта информация
выполняет важную роль в обеспечении процесса пополнения дисциплины
новыми специалистами как за счет научной молодежи, так и благодаря миграции
зрелых исследователей внутри дисциплины и между дисциплинами. Способ
организации единиц внутри каждого эшелона обеспечивает мигранту возможность
максимально быстро продвигаться к переднему краю исследований, ограничиваясь
ознакомлением внутри каждого эшелона со все более узкими по содержанию
блоками информации. Количество необходимых этапов в каждом индивидуальном
случае различно и варьирует в зависимости от исходной подготовки мигранта.
Для новичка в дисциплине оказывается необходимым обязательное прохождение
всех этапов, начиная с учебников. Для специалиста, желающего сменить
направление исследований внутри одной и той же области, эта потребность
ограничивается содержанием блока статей или обзора» [44, с. 146].
Таблица 7 [140, с. 471]
Доля рукописей, отклоненных редакциями 83 дисциплинарных журналов
США в 1967 г., %
Дисциплина
История
Язык и литература
Философия
Политические науки
Социология
Психология
Политэкономия
Экспериментальная психология
Математика и статистика
Антропология
Химия
География
Биология
Физика
Геология
Лингвистика
Доля
90
86
85
84
78
70
69
51
50
48
31
30
29
24
22
20
Число
обследованных
журналов
3
5
5
2
14
7
4
2
5
2
5
2
12
12
2
1
Понятно, что Мирский попадает здесь в нашу «коридорную» ситуацию
междисциплинарного общения, и приятно отметить, что он в сноске подтверждает ее
примерами: «Новичок в дисциплине это не обязательно вчерашний студент. С
чтения учебника вынуждены были начинать деятельность в новой дисциплине и
такие маститые к тому моменту ученые, как У.Р.Эшби или М.Дельбрюк» [44,
с. 148]. Мирский, естественно, не использует нашего термина Ту и его
эквивалентов — аттестат зрелости, язык абитуриентов и т.п. Но смысл этой сноски
очевиден: смена дисциплины может потребовать возвращения к Ту, а миграция в
История европейской культурной традиции и ее проблемы 183
самой дисциплине — возвращения к тому эшелону, в котором был сделан
предыдущий выбор дороги к переднему краю исследований.
Эта вполне правомерная системная конструкция освоения дисциплиной
нового знания, развернутая Мирским на лаговой базе удаления эшелонов от
переднего края не вызывает у нас принципиальных возражений, но требует,
естественно значительных корректив для включения в нашу общую модель онаучивания
общества через изменение текстов Ту производно от событий на переднем крае
научно-дисциплинарного познания. Конструкция Мирского, хотя она и
сопровождается рядом оговорок и далеко не всегда фиксируется в жестких
формулировках, ценна для нас именно тем, что фиксирует присутствие в самой
дисциплине иерархических лестниц — одной для индивидов (новичков, мигрантов),
поспешающих на передний край исследований, другой для элементов научного
знания, хотя часто возникает впечатление неразличенности, работы и существования
дисциплины на встречных потоках информации и кадров: «Дисциплинарный
массив расположен на сравнительно небольшом по протяженности участке двух
встречных процессов, которые за пределами дисциплины и даже науки протекают
в значительной своей части совершенно независимо друг от друга. Речь идет, с
одной стороны, о трансляции полученных дисциплиной обобщенных форм
человеческого опыта (знания о закономерностях действительности и
объективированных образцов действительности) в систему культуры (другие дисциплины, другие
сферы профессиональной деятельности, систему образования и долговременную
социальную память), а с другой — о процессе рационального использования
выделенных обществом лиц для профессиональной деятельности в дисциплине.
Социальная эффективность обоих этих процессов, по-видимому, обеспечивает и
стабильность дисциплинарной организации науки, и устойчивость отдельной
дисциплины как системы» [44, с. 147].
В свете наших размышлений о переводимости, об опосредовании статики
динамикой, предложенная Э. Мирским конструкция остается все же в пределах
системной статики. Человекоразмерность в ней выявляется в основном как внешняя
детерминация научной деятельности по конечному продукту: «С известной долей
условности можно сказать, что первый процесс накладывает на
функционирование дисциплины определенные внешние, а второй — внутренние ограничения.
Эффективное участие массива в первом процессе направлено на то, чтобы быстро
и с минимальными потерями развивать и пополнять цельную структурированную
картину дисциплинарного знания на «выходе» за счет включения в нее в
соответствующей форме исследовательских результатов, полученных на переднем крае
дисциплины. Именно этот продукт дисциплины максимально приспособлен для
дальнейшей обработки и трансляции в учебные курсы, справочники
(технические, медицинские, сельскохозяйственные и др.), энциклопедии и т.п. Результаты,
не попавшие на «выход» дисциплины, то есть отправленные в архив на одном из
этапов отбора, практически исключаются из дальнейшего функционирования
независимо от их научных потенций» [44, с. 147].
Во многом это так. Но если идти, скажем, против потока этой внешней
детерминации, определяющей структуру «выхода», у нас сразу же начнутся
осложнения и разночтения как раз в плане дополнительности статического и
динамического описаний. В нашей схеме, грубым аналогом которой является схема
радиальных маршрутов московского метро, выходы научных дисциплин
располагаются на едином сборном пункте (Ту, метрополис), как входы для новобранцев в
научные дисциплины, в научную деятельность вообще, но хотя эти входы растут
и по числу и по общей пропускной способности, они образуют все же только
группу входов среди входов во все другие виды специализированной
деятельности. Индивиды идут от Ту не только в науку, и с этой узкой дисциплинарной
точки зрения тех, кто не попадает в группу дисциплинарных входов, можно
считать «отсевом», исключить из дальнейшего функционирования системы
«независимо от их научных потенций».
184
M.К. Петров
С другой стороны, этот «постшкольный отсев» — контингент тех, кто по
пестрой совокупности причин и мотивов не пошел в науку через один из ее
дисциплинарных входов, отрезал себе пути в университет, к вершине иерархии
воспитателей, сам не покидает области воспитательного воздействия иерархии
воспитателей, поскольку «отсеяться», «выпасть» из движения к переднему краю
научно-дисциплинарного познания вовсе не значит затеряться на сборном пункте
обладателей аттестатов зрелости — случается, конечно, и такое, но лишь как
краткосрочный этап в возрастном движении индивидов, — а значит идти в другие
виды специализации в большинстве случаев опять же под руководством
воспитателей того или иного эшелона или уровня единой иерархии воспитателей. В этом
смысле идея встречи ости, эшелонированной встречности процессов внешней и
внутренней детерминации в рамках аналогии со схемой метро может быть понята
как наличие в дисциплине двух встречных потоков на разных эскалаторах, а
эшелоны тогда должны пониматься, как прерывающие это встречное движение
потоков вверх и вниз площадки для «отсева»-пересадки и знания и воспитателей,
направляющихся к своим рабочим местам в разных системах специализированной
деятельности.
Это реально наблюдаемое противоречие встречных вертикальных движений
новобранцев от Ту к переднему краю дисциплины и научных описаний через
эшелоны массива публикаций к Ту — выходу для научного знания и входу для
новобранцев — становится источником множества парадоксальных ситуаций.
Э.Мирский, например, фиксирует вполне реальную и неплохо изученную
зависимость между дисциплинарным статусом ученого, цитируемостью его вклада и
эшелоном, в котором вклад цитируется: «Общность и структура дисциплинарного
массива публикаций имеют большое значение для консолидации и
стратификации научного сообщества дисциплины. Появление имени того или иного члена
сообщества в нескольких эшелонах публикации является признанием его статуса
и оценкой его вклада в дисциплину. Эта оценка идет по двум линиям. Первая
представляет собой характеристику исследовательского результата, как вклада в
развитие содержания дисциплинарного знания. Такая оценка фиксируется
цитированием работы в последующих публикациях. В этом качестве публикации
различных эшелонов далеко не равноценны, например, одно-единственное
упоминание работы в учебнике «стоит» в глазах сообщества дисциплины десятков и
сотен журнальных ссылок» [44, с. 145].
И действительно это так: чем ближе к «выходу» упоминается имя ученого по
связи с его цитируемым вкладом, тем выше его дисциплинарный статус. И
поскольку, как мы предположили, любой акт цитирования предполагает перевод
научного статического описания в динамическое, а динамическое описание требует
возврата в акт речи конкретного земного А, который в актах научной
коммуникации всегда в отлучке и представлен только типографской краской на титуле
публикации, это движение имен по эшелонам к учебнику-выходу неизбежно
вызывает сомнение: вклады ли движутся по эшелонам?
В самом деле, с одной стороны, мы постулируем: события истории науки
происходят на переднем крае, и любой новобранец, застрявший где-то на полпути
от Ту, который он приобрел в общеобразовательной средней школе, к переднему
краю дисциплинарных исследований, если что-нибудь и откроет, то просто не
опознает содеянного, пройдет мимо собственного открытия, как это произошло,
по новейшим данным, с Галилеем, который за 200 лет до открытия планеты
Нептун дважды наблюдал его, но не опознал в нем планеты, и уж во всяком случае
не сумеет оформить свое открытие по действующим в дисциплине правилам в
событие для дисциплинарного сообщества: в тезаурусное отношение и решающее
его описание-объяснение.
С другой стороны, признавая неоспоримый факт роста ценности «в глазах
сообщества» нерасчлененного комплекса имя-описание в процессе его
перемещения по эшелонам к учебнику, мы вынуждены доказывать нечто противоположное:
История европейской культурной традиции и ее проблемы 185
«Рассматривая деятельность в публикационных эшелонах, мы стремились
показать, что огромная работа по отбору и организации каждого из них, в том числе
весь процесс формирования нового знания (того, что выступает в качестве
научного знания в дисциплине и за ее пределами), происходит не на переднем крае
дисциплины, а на некотором отдалении от него. В этой работе принимают
участие почти исключительно специалисты высшей квалификации (опять-таки в
отличие от собственно исследовательской деятельности, которая в значительной
своей части осуществляется силами младшего научного и вспомогательного
персонала)». Откуда берутся эти «специалисты высшей квалификации»? Из тех ли
они, кто не дошел до переднего края, или из тех, кто все же дошел до переднего
края, отметился на нем «вкладом», опубликовал этот вклад и дезертировал в
тылы, поближе к учебнику, чтобы заняться всем процессом формирования нового
знания?
Э.Мирский, правда, тут же оговаривается: «Мы, разумеется, меньше всего
склонны преуменьшать значение самих исследований, без которых теряет смысл
функционирование публикационных механизмов и невозможно развитие
дисциплины. Речь идет о том, что и историческое выделение исследовательской
деятельности, как профессии и формы ее современного существования в значительной
мере обусловлены дисциплинарной формой организации науки и возможно
благодаря этой форме организации разделению научного труда» [44, с. 147—148].
Нам кажется, что апелляция к разделению труда в дисциплине не решает
парадокса-противоречия, связанного с парностью ориентации на статью и на
учебник, как на места локализации наиболее существенных для дисциплины и ее
истории событий. Системная статика, «анатомический подход», неизбежно
возникающий в попытках вычленить эшелоны и описать их как разделенные лагами
виды деятельности, престижность которых растет с приближением к учебнику,
вызывают два рода трудностей, коренящихся, по нашему мнению, в проблеме
идентификации того, что именно движется по эшелонам, возрастая в ценности с
приближением к учебнику. Понимать ли этот процесс движения с накоплением
ценности по модели обогащения, сообщения вкладам неких дополнительных
качеств, которыми они на уровне публикации статей не обладали, или же, раз уж
этому движению сопутствует отсев, по модели экстракции некоего особенно
ценного для дисциплины качества?
Первая трудность меритометрического свойства и связана она с тем, что
достоинства вклада, как и достоинства человека, члена дисциплинарного
сообщества выявляются в исторических экспликациях, тогда как оценка этих достоинств
и принятие соответствующих решений производятся в «здесь и сейчас»
обсуждений, скажем, рукописей на редколлегии, где решается вопрос о том, быть ли
рукописи опубликованной или отправиться в редакционную корзину, или же
размышлений начальства о производстве подчиненного в более высокий ранг, то
есть судить о достоинствах приходится до выявления этих достоинств в
исторических экспликациях.
Понятно, что положение участников таких меритометрических предприятий,
в ходе которых стратифицируют и вклады и вкладчиков по степеням
совершенства, распределяя, скажем, вкладчиков в ранговую иерархию от «специалистов
высшей квалификации» до «младшего научного и вспомогательного персонала»,
было бы существенно, возможно и радикально облегчено, обладай каждый из них
атрибутом всеведения и производным от него свойством провиденции,
способности заглядывать на любую глубину в будущее, которыми в Ти культуре обладал
бог теологов. И здесь опять-таки, учитывая органическую вплетенность
меритометрических ситуаций в дисциплинарную жизнь научно-академического
сообщества, где практически каждому члену сообщества приходится в конкретных «здесь
и сейчас» собраний, обсуждений, заседаний «судить и быть судимым»,
чувствовать себя существом всеведущим при оценке коллег и их вкладов, а также и в
критическом восприятии оценок коллегами собственных вкладов и достоинств,
186
М.К. Петров
мы видим сильнейший стимул и реальную возможность порождения знакового
фетишизма из самой прозы дисциплинарной жизни.
Каждому, конечно, понятно, что никакой он не бог, не обладает ни
всеведением, ни провиденцией. Но обыкновенная ритуальная, рутинная ситуация
оценки и принятия решений требует того и другого, так что волей-неволей
приходится брать на себя божественные функции. Л.Уилсон, например, так описывает
парадигматическую меритометрическую ситуацию принятия решений: «Сидя в
кресле, президент университета ломает голову, пытаясь решить задачу
качественной оценки кандидатов на производство. Необходимо повысить в звании одного
из четырех наличных кандидатов. Первый из них написал две книги, но знатоки
в его области отзываются о них, как о «слабых» и «теоретических». Гений он или
дурак? Второй написал только три не очень примечательных статьи по частным
эзотерическим предметам, но мудрецы и авторитеты считают эти статьи хорошим
началом, обещающим появление более значительных работ. Третий вообще
ничего не написал, зато известный профессор, у которого он в ассистентах, уверяет,
будто у этого человека наиболее продуктивный ум из тех, с которыми ему
приходилось иметь дело. Четвертый написал одну книгу, которую объявили
неплохой, и одну статью того же обещающего свойства, что и статьи второго. О первом
и третьем студенты отзываются как о прекрасных преподавателях. Второй, кто-то
говорил, скучно читает лекции. У четвертого мал опыт преподавания. Что
намерен делать администратор? Ясно, что все четверо обладают способностями. И все
же ему нужно выбрать одного, а именно того, кто наибольшего блеска и
известности достигнет где-то к пятидесяти» [175, с. 125—126].
Уилсон тут же замечает, что сам этот возрастной критерий творческого «акмэ»
не так уж надежен: «от Канта, который не публиковал ничего выдающегося до
57-летнего возраста, современный американский университет избавился бы
задолго до начала его работы над «Критикой чистого разума». Другой тип карьеры
представлен Юмом, который наиболее значительную свою работу написал в
27 лет. Селекционирующая деятельность администратора наталкивается на
трудную проблему предсказания того, когда человеком будет создана наилучшая
работа, не говоря уже о затруднительности суждений о том, достигла ли его
продуктивность пика» [175, с. 126].
Вторая трудность связана с сомнениями по поводу корректности
использования категории «разделение труда» в применении к дисциплинарной научной
деятельности. Нам эта категория кажется инородной в анализах
когнитивно-социальных систем научной деятельности, если речь идет об «университетской» науке,
о научно-академическом сообществе. Как бы ни понимать «разделение труда»,
когда мы говорим о дисциплине, как о когнитивно-социальной единице, мы
имеем дело с чем-то существенно иным, чем просто с набором массовых
профессий типа городского транспорта или бытового обслуживания, где отношения
между видами специализированной деятельности строятся на обмене продуктами
.и услугами «согласованного», так сказать, образца и твердо установленных
кондиций. Категория «разделение труда» ассоциируется, как правило, с
репродуктивными видами деятельности по программам данного человекоразмерного
фрагмента в целостной системе социальной деятельности.
Дисциплина, будучи бесспорно человекоразмерным фрагментом деятельности,
явно не содержит в себе репродуктивности, активно воюет с ней через запрет на
повтор-плагиат, так что, скажем, написать 10 статей или подготовить 10 ученых
это задачи принципиально иного класса, чем построить 10 квартир или собрать
10 комбайнов. Оригинальность, неповторимость, новизна как признанные
достоинства научного продукта превращаются в нетерпимые недостатки, в «брак»
продукта репродуктивной деятельности — квартирой с недоделками или комбайном
без колес.
Ближайшим аналогом когнитивно-социальной структуре дисциплины
являются, по. нашему мнению, принципы структурирования первобытного общества,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 187
прежде всего в двух отношениях: а) в дисциплине, как и в первобытном
обществе, действует принцип «в одном имени один и только один носитель»; б)
многообразие дисциплинарных видов деятельности на уровне индивидов
достигается на базе единого динамического Т0 для всех членов дисциплинарного
сообщества. Иными словами, в науке не может быть двух Ньютонов или трех
Эйнштейнов разом — запрет на повтор-плагиат распространяется не только на
вклады, но и на вкладчиков. С другой стороны, в живущем активном поколении
дисциплинарного сообщества, как и в контингенте подготовленных к
посвящению юношей, не может быть узких специалистов, умеющих одно и не умеющих
другого: член дисциплинарного сообщества, не умеющий написать статьи или
прочитать лекции, такой же нонсенс, как и подготовленный к посвящению
австралиец, не умеющий метать бумеранг или обращаться с каменным топором.
Там, где речь идет о разделении труда, резкие различия динамических
тезаурусов — норма, присутствие которой обнаруживается, скажем, и в уверенности
Крылова: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник»
[28, с. 39], и в столь же неколебимой уверенности Гесиода:
«Самонадеянно скажет иной: «Сколочу-ка телегу!»
А ведь в телеге-то сотня частей! Иль не знает он, дурень?»
[Труды и дни, 455-456]
Это четкое различение своего и чужого дела характерная черта нашего
восприятия разделения труда: одно требуется от водителя автобуса, другое от
работника телеателье, третье от наборщика. В порядке увлечения, «хобби» мы можем
заниматься чем угодно: болеть за свою команду, собирать марки, высказывать
глубокие суждения о Бермудском треугольнике или о загадке Свифта, описавшего
спутники Марса до их открытия, но там, где речь идет о нашей причастности к
социальному целому, мы твердо знаем, что от нас ждут, что от нас требуется, за
что мы ответственны, не путаем свои обязанности с увлечениями, а если и
путаем, то осведомлены о том, что эта путаница наказуема.
Дисциплина в этом смысле не может рассматриваться как
специализированный вид деятельности в целостной научной системе разделения труда: между
членами разных дисциплинарных сообществ нет отношений типа «водитель
автобуса — пассажир», «продавец—покупатель», «дантист—пациент». Если завтра,
скажем, антропология, как уважаемая научно-академическая дисциплина, имеющая
свои журналы, общества, кафедры, аспирантуры, университетские курсы,
исчезнет в связи с исчезновением объекта изучения, то для науки ничего
катастрофического, ранга, например, неожиданного исчезновения профессии летчика, не
произойдет. Будет, естественно, «по-человечески жаль» антропологов,
лишившихся в разгар споров предмета спора, но в то же время и по-человечески радостно
за тех перешедших в Ту культуру потомков, детям которых уже не придется чихом
или родинками доказывать свое право на существование.
Статус дисциплины в науке сравним со статусом общества как высшей
социальной единицы в типе культуры. В самой же дисциплине, как высшей
когнитивно-социальной единице науки мы не видим ни повода, ни условий для
появления разделения труда. В этом плане нам более состоятельным представляется
мертоновский принцип ролевого набора, который более подходит для описания
общего для членов дисциплинарного сообщества динамического Т0, хотя,
понятно, у нас могут возникнуть резонные возражения по поводу конкретного состава
набора, как раз по связи с феноменом эшелонирования дисциплинарных
массивов публикаций.
В набор ролей ученого Р.Мертон вводит четыре роли: «Подобно другим
статусам, статус ученого не ограничен одной-единственной ролью, но в той или
иной степени включает ряд дополнительных ролей. Это роли четырех основных
типов: исследователь, преподаватель, администратор и привратник» [140, с. 520].
188
M. К. Петров
В этом четырехсоставном наборе ролей Мертон выделяет роль исследователя в
полном соответствии с нашими Ту представлениями о накоплении знания как
конечной цели существования института науки: «Роль исследователя, ответственная
за рост научного знания, является центральной, а остальные функционально
подчинены ей просто потому, что если бы не велись научные исследования, не было
бы ни нового знания для трансляции через роль преподавателя, ни
необходимости распределять ресурсы для исследований, ни исследовательских организаций,
требующих управления, ни потока нового знания, который могли бы
регулировать привратники. Возможно, именно из-за центрального функционального
положения этой роли ученые придают очевидно большее значение исследованию,
чем другим ролям. Как это и бывает при исполнении комплекса взаимно
дополняющих ролей, идеология далеко не полностью отражает дифференцированную
оценку ролей набора: ученые часто настаивают на «нераздельности» и
соответственно на равной важности обеспечивающих ролей. И все же в самой модели
очевидных предпочтений механизм системы вознаграждений в науке подтверждает,
что наиболее высоко ценится именно роль исследователя. Героями науки
становятся по способности быть исследователем, много реже по способности
быть преподавателем, администратором, референтом или редактором» [140,
с. 520].
В определенном смысле акцент Э.Мирского на «выходе»
дисциплины-системы, где упоминание работы и ее автора «стоит в глазах сообщества десятков и
сотен журнальных ссылок» и акцент Р.Мертона на «входе», на роли
исследователя, на переднем крае, где как раз и становятся «героями науки», в
методологическом смысле равноценны: динамика системы устраняется методом стяжения
иерархической лестницы к одному из двух центров поляризации системы. Если
представить себе эту иерархическую лестницу в виде телескопической трубы с
входящими друг в друга эшелонами, то Э.Мирский складывает такую трубу,
придерживая ее за окуляр, Р. Мертон — за объектив, а результат получается примерно
один и тот же. У Мирского между объективом и полюсом-спецификатором
появляется просвет, поле деятельности для «младшего научного и вспомогательного
персонала», у Мертона между окуляром и «выходом» обнаруживается место
приложения сил для ученых, действующих в «обеспечивающих ролях», где много
реже появляются «герои науки». Мирскому, понятно, легче — его позиция
предпочтительнее: зафиксированные им лаги — удаления эшелонов от переднего края
исследований — оставляют даже и при складывании эшелонов к окуляру явные
следы своей локализации, что позволяет идти вслед за вкладами и вкладчиками
к окуляру, описывая нормы деятельности в каждом эшелоне. У Мертона
положение много хуже: отрыв от Ту, от места крепления трубы — иерархической
лестницы — к возрастному движению индивидов обрушивает на Мертона все
эшелоны разом, превращая роль исследователя в печатную схему, в которой в
спутанном виде присутствуют роли разных эшелонов.
Наше предположение состоит в том, что дисциплинарная иерархическая
лестница, ведущая от Ту к переднему краю и от переднего края к Ту, представлена
ли она четырьмя, как у Э.Мирского или десятью эшелонами — ступенями,
уровнями, — во многом продукт активности гносиса, который, действуя по
инструментальной аналогии Ципфа, постоянно подтягивает, перемещает к надводной
части айсберга массива публикации, к стыку дисциплины с Ту и, соответственно,
к эшелону учебников (переходов Ту-Тд) неразрывные комплексы «имя-результат»,
а средства познания, орудия познания, ранжируя их по частоте использования,
то есть по цитированию, по степени участия данного орудия или средства в
объяснении, в тезаурусном оформлении нового знания. Тащить по маршам
иерархической лестницы к учебнику чистый результат, вклад, да еще и с прицепленным
к нему довеском-автором было бы явным методологическим излишеством и
бесполезным делом: запрет на повтор-плагиат, сохраняя за научным описанием
свойство бесконечного тиражирования в сфере технологических и любых иных
История европейской культурной традиций и ее проблемы 189
приложений, решительно исключает этот результат из числа возможных будущих
событий истории дисциплины. Если бы даже удалось подтащить этот комплекс
«имя-описание» к стыку с Ту в нетронутом виде, толку от таких усилий было бы
мало. Студент, скажем, первого курса физического факультета с понятным
интересом выслушал бы историю о том, как в III в. до н.э. в Сиракузах из городской
бани выскочил в неприличном виде человек, как выяснилось много позже, отец
физики Архимед, и с криками «Эврика!» стал носиться по улицам, оправдывая
свое поведение тем, что ему, якобы, удалось установить, что корона — подделка.
Выслушать-то такое студент выслушает — первокурсники народ
дисциплинированный, но вот какие выводы он сделает из этой истории и насколько они будут
соответствовать намерениям лектора?
При всем том, комплексы «имя-вклад» действительно встречаются во всех
эшелонах, в том числе и в учебниках и даже в текстах Ту. Нам кажется, что это
результат естественной иллюзии, и иллюзия неразрывности комплекса
«имя-результат» возникает как естественное следствие того, что любая ссылка фиксирует
момент перевода статики в динамику, тот самый момент в «королевской
ситуации», когда цитируемого автора хватают за его выдающийся карандаш и
дописывают в его меморандуме от его имени нечто, не обязательно соответствующее его
намерениям. Внешне все остается на своих местах: цитируемое научное описание,
в котором отсутствует А, вновь обретает автора, как если бы он и в самом деле
никуда не отлучался, и устами этого возвращенного автора нам втолковывают
нечто, похожее на то, что мог бы сказать А, присутствуй он лично в ситуации
общения, и что за него говорит новый автор, подталкивая отсутствующего
предшественника вверх по иерархической лестнице к учебнику.
Существуют ли какие-нибудь дополнительные свидетельства в пользу нашего
предположения об активном участии гносиса в строительстве дисциплинарной
иерархической лестницы?
Перспективной зоной поиска таких свидетельств нам представляется
переходный период между Ти и Ту культурой, когда учебников еще не было или они еще
только-только появлялись на базе лекционных курсов, как это показывает Д.Найт
на анализе случаев кражи студентами и публикации лекций Дезаглиера и Бургаве
в первой половине XVIII в. [130, с. 146—147]. Эта переходная ситуация полезна
для нас в том отношении, что отсутствие эшелона учебника, если дело только в
учебнике, должно бы давать в науке Ти периода (до середины XIX в.)
существенно иную картину эшелонирования, чем ту, которую мы наблюдаем сегодня. Если
же в феномене эшелонирования массива дисциплинарных публикаций, в
строительстве иерархических лестниц, в их перестройке, в поддержании их
проходимости для индивидов замешан на правах активного участника гносис, то мы
вправе ожидать, что картина в принципе останется той же, но место
дисциплинарного учебника, фиксирующего тезаурус научного сообщества, должны будут
занять тривий и квадривий подготовительного или философского факультета
университета, и тогда у нас появится право видеть в дисциплинарном учебнике, в
переходе Ту-Тд лишь эшелон в цепи эшелонов, замкнутых на младенца, на
эшелон «от 2 до 5», то есть реальным и постоянно действующим центром стяжения
орудий и средств познания оказался бы биокод человека, а все остальные
эшелоны постредакции, в которых совершается возрастное воспитательное и
познавательное движение индивидов, оказались бы характеризующими частный вид
социальной данности или отдельный тип культуры способами воспроизводства
культуры и ее преемственного изменения по результатам познания.
Понятно, что сама постановка проблемы поиска единого
естественно-биологического, врожденного полюса интеграции всех систем, включающих
человеческие составляющие, предполагает уточнение нашего постулата о переводимости
научных статических описаний в динамические, как об условии осуществимости
и работоспособности таких систем. В этот постулат нужно включить идею сдвига,
возникающего в момент перевода статики в динамику конкретного субъекта
190
M. К. Петров
одного из наличных описаний вверх по иерархической лестнице средств и орудий
познания, что фиксируется как конкретная ссылка на конкретную работу этого
субъекта, выполненную по правилам «научного» статического описания,
обладающего свойством тиражирования, приложимости. Иными словами, необходим
перевод «королевской ситуации» в ранг универсалии, непосредственно связанной
с деятельностью гносиса, «натасканного» в тысячелетия первой географической
экспансии человечества на упорядочивание орудий и средств познания, на их
ранжирование производно от частоты использования в познавательных ситуациях
по нормам универсальной модели Ципфа.
Если «королевская ситуация» универсальна и описывает существенную деталь
слепой деятельности гносиса по упорядочению орудий и средств познания, то ее
следы должны обнаруживаться во всей истории человечества и во всех типах
культуры, а там, где используется письменность, графическая запись текста,
находить и устойчивое знаковое оформление в виде ссылки, вовлекающей автора
цитируемой работы в группу исполнителей акта перевода статики в динамику.
В общем случае убедительным свидетельством в пользу универсальности
«королевской ситуации» и ее причастности к деятельности гносиса является, на наш
взгляд, тот факт, что все «естественные» языки мира четко отделяют
универсальные грамматические правила от слов, которыми оперируют по этим правилам,
тогда как сами грамматики различны и явно не содержат в наборе своих структур
некоего эталона или жесткой модели, кроме той, которую разработали на базе
греческой грамматики и учения Аристотеля о категориях «отцы» нормативной
грамматики александрийцы и внедрили вместе с философией Аристотеля сначала
в сознание интеллектуалов, а затем и в нормативные описания грамматик
практически всех языков, имеющих сегодня письменность и часы на родной язык в
программах Ту. Типологические различия грамматик, различия диалектальные,
исторически фиксируемые случаи радикальных грамматических перемен, вроде
истории появления новоанглийского языка, которая прошла на глазах
интеллектуалов и зафиксирована литературными памятниками на разных стадиях, все они
носят явные следы слепого, спонтанного, стихийного упорядочения. Даже
современники таких изменений не могут указать на их рациональные причины — мы
приводили во введении нелестное мнение Бэкона о современниках, которые по
лености мысли позволяют аналитике одолевать старую мудрую флективность.
Вместе с тем вся эта изменчивость и возникающее в результате разнообразие
удивительно адиабатичны в том же смысле, в каком «адиабатичны» изменения в
текстах учебников средней школы или в текстах учебников дисциплин — все
происходит и завершается какими-то результатами в предзаданном и, видимо,
жестком объеме. Адиабатичность учебников понятна: их объем жестко лимитирован
числом рабочих недель в году, числом рабочих дней в неделю, расписанием
занятий, как правило «твердым», на недельной базе. Учебник обязан быть —
оставить, скажем, третий или седьмой класс без учебника по халатности или
легкомыслию составителей было бы величайшим ЧП в системе народного образования.
При всем том учебник обязан быть жестким по объему, без остатка
раскладываться в предусмотренные расписанием часы, и в этом его адиабатичность:
менять, модифицировать тексты в учебнике можно, но менять его объем нельзя ни
в ту, ни в другую сторону. Нельзя, скажем, предложить «пол-учебника» для того
или иного класса.
Трудно сказать, насколько строги ограничения по объему, в которых
протекают грамматические изменения, но такие ограничения безусловно есть. Об этом
свидетельствует не только тот факт, что на периоде «от 2 до 5» младенцы
овладевают любой из известных грамматик — младенцы, если их данность
многоязычна, без заметных затруднений овладевают и несколькими грамматиками, а скорее
тот отмечавшийся нами феномен, который свидетельствует о том, что «пройти и
забыть» означает не одно и то же, когда речь идет о курсе школьной грамматики
или о курсе школьной математики. Гносис явно оперирует той грамматикой, ко-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 191
торую он усваивает на периоде «от 2 до 5» и игнорирует формальную
экспликацию александрийцев: любой нормальный взрослый человек, если он не
собирается специализироваться по лингвистике в первые же послешкольные годы
освобождается от формального груза грамматики и не терпит при этом серьезного
урона. Гносис, похоже, не терпит в своем объеме бесполезных включений и
удерживает в нем только тот инструментарий, которым он действительно пользуется.
Но если на этом общем уровне со свидетельствами в пользу активного участия
гносиса в формировании иерархических лестниц все обстоит более или менее
благополучно, и сам факт отсутствия в тексте повтора на уровне предложений
может быть истолкован в пользу «королевской ситуации», сдвига значения
связанных уже в тексте слов, вовлекаемых в очередные предложения для тех же
целей, что и цитируемые авторы в статью, то на уровне графических записей дело
обстоит сложнее. Понятно, что в обществах первобытного типа культуры
«королевская ситуация» не может быть выявлена, стать феноменом, поскольку этот тип
культуры не использует письменности. Что же касается традиционной и
европейской культур, использующих письменность, то на них под этим углом зрения
пожалуй и не смотрели.
У социологов науки и у науковедов проблема статуса имени в комплексе
«имя-публикация» обсуждалась в основном по связи с одновременными
открытиями и спорами о приоритете, и более или менее установившимся мнением
следует признать то, которое сформулировал Прайс в приводившимся нами
предложении лишить авторов права подписывать свои статьи, права на
интеллектуальную собственность, поскольку именно имя вызывает ожесточенные споры о
вкладе. Близкую, хотя и более осторожную позицию занимает и Э.Мирский:
«Во-первых, одновременное совершение одних и тех же открытий — довольно
распространенное в науке явление, особенно если учесть, что в поле зрения социолога
попадают лишь самые крупные открытия, а среди этих последних только те,
которые послужили предметом спора. Во-вторых, массовые тяжбы о приоритете
(сия чаша не минула даже таких гигантов, как Ньютон, Гук, Лейбниц)
характерны именно для науки нового времени, когда научное сообщество располагало тем
самым механизмом публикаций, который якобы гарантирует авторитет... С этой
точки зрения гораздо более убедительным выглядит вывод о том, что публикация
гарантирует не приоритет, а возможность его оспаривать, ссылаясь, с одной
стороны, на документальные свидетельства, а с другой — на этические императивы
науки» [44, с. 121—122].
Мы когда-то пробовали в поисках механизма познания в традиционном
обществе поставить проблему роли бога-покровителя профессии в накоплении
массива профессионального знания [53]. Но, если честно признаться, шли на такую
попытку с довольно смутным представлением о том, что стоит за этой проблемой;
тогда достаточным представлялось показать, что если лишить авторов права
подписывать статьи, научные журналы окажутся тем, чем были боги-покровители для
традиции.
Теперь же, в свете сказанного выше, мы видим функцию имени в комплексе
«имя-публикация» не в том или, точнее, не только в том, чтобы гарантировать
приоритет и право интеллектуальной собственности, но скорее в том, чтобы дать
авторам будущих статей возможность объяснить смысл своего вклада в
привычной и, похоже, универсальной форме динамического объяснения, которое
включает на правах существенного момента «королевскую ситуацию»: она делает
объяснение понятным аудитории, а участникам объяснения сообщает импульс
движения вверх по иерархической лестнице, вершина которой состыкована, похоже,
с эшелоном «от 2 до 5».
Близкую картину мы обнаруживаем и в традиционном обществе. Здесь боги-
покровители непременные участники культурных событий, относящихся к сфере
их ответственности, к фрагментам деятельности, которые они опекают. Они
вдохновляют земных участников событий, что сказывается, к примеру, в канонах изо-
192
M. К. Петров
бражения исторических событий, где всегда присутствует соответствующий
ведомственному значению события набор богов. Сами участники события обычно
осмысляются в терминах родства с соответствующими богами в духе заявления
Сократа о том, что герои — полубоги: «Так ведь все они произошли либо от бога,
влюбленного в смертную, либо от смертного и богини» [Платон, Кратил, 398 Д].
Выше, говоря о тезаурусном отношении, о трудностях, возникающих у А в
оценке Т0 аудитории В, о вероятности появления ошибок в таких оценках вплоть
до отрицательных значений разности Ti-T0, что превращает акт речи, как
показывает Л.Хурсин [83] в бессмысленное и даже вредное предприятие, мы вскользь
упоминали, используя концептуальную схему Аристотеля, о топосе акта речи, об
арсенале процедур и средств, которые признаются аудиторией в «здесь и сейчас»
акта речи убедительными и доказательными. Мы отмечали, что в истории
человеческого познания менялся и состав топоса. Для времен Коперника, скажем, и
Лютера направленный против Коперника аргумент Лютера: «Этот болван затеял
перевернуть все искусство астрономии, а ведь священное писание прямо
указывает, что Иисус Навин приказал остановиться не Земле, а Солнцу» [140, с. 245]
имел вполне реальную силу и убедительность для аудитории интеллектуалов того
времени, тогда как аргумент Галилея от телескопа отнюдь не казался этой
аудитории ни убедительным, ни доказательным. «Как многим известно, — отмечает
Д.Найт, — некоторые из современников Галилея отказывались смотреть в
телескоп в частности несомненно и потому, что они считали, будто имеют дело с
каким-то трюком, как это делалось и прежде с помощью зеркал. Хорошо была
известна и возможность оптических иллюзий даже и без помощи зеркал и линз,
и по общему мнению свидетельства одного лишь зрения были весьма
ненадежными, хотя для звезд и не было другого вида свидетельств» [131, с. 173].
Чтобы ввести аргумент от телескопа в арсенал топоса, интеллектуалам
пришлось замкнуть телескоп на авторитеты текстов Ти: Кеплер разработал
оптическую теорию, объясняющую принцип действия перископа в терминах геометрии,
Спелл, Декарт и Ньютон перевели эту теорию Кеплера из статуса специальной,
объясняющей телескопы в терминах квадривия, в статус общей оптической
теории, то есть переписали соответствующие разделы учебника Ти [131, с. 173—175],
вынудив членов интеллектуального сообщества либо принимать аргументы от
телескопа, либо же отвергать действующие авторитеты Ти культуры, среди которых
«глас природы» еще только-только набирал авторитетность, был по сравнению с
другими авторитетами — автора библии, Платона, Аристотеля, платоников
примерно в том же положении, в каком находится автор начинающей цитироваться
статьи по сравнению с авторами, о которых упоминают учебники дисциплины.
Теперь, завершая обсуждение универсалий истории социальности,
постредакции, воспитания, познания, мы можем уже попытаться рассмотреть топос как
универсальную характеристику актов речи, ситуаций общения, которая
теснейшим образом связана с постулатом переводимости статики в динамику и с
«королевской ситуацией», как с условием перевода статических описаний в
динамические, в историческом движении, в динамике видоизменений, в которых
инвариантом остается группа наличных или вызванных из отлучки исполнителей-
переводчиков, танцуют ли они ритуальным способом перед аудиторией
воспитателей в динамическом Т0, подготовленных к посвящению юношей или перед
дисциплинарным сообществом в динамическом Т0 их курсов студенческой и
аспирантской подготовки.
Присутствие таких групп, комплектуемых на время решения задачи
убедительного объяснения нового заинтересованной или не очень аудитории средствами
наличного арсенала топоса может, по нашему мнению, служить Ариадниной
нитью в сложном лабиринте переплетений, накладок, боковых ходов, тупиков,
выстроенных человеком и разделяющих сегодня типы культуры, как способы
жизни идентичных по своим атрибутам естественности, социальности и
разумности людей. Типологией культур, поскольку типологии располагаются на пери-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 193
ферии области универсалий, мы займемся позже, а сейчас попробуем наметить
те более или менее выявленные узловые пункты, которые ведут от входа в этот
лабиринт, от танца представителей группы охотников-воинов, публикующих в
имитации успешно завершенную комплексную программу коллективного
действия по освоению новой реалии окружения, до танца цитируемых авторов,
подготовленного автором статьи для книжной аудитории дисциплинарного сообщества.
Сейчас, когда мы на подручных средствах с опорой то на эквифинальность,
то на стандартную ситуацию акта речи — на все, словом, что было в состоянии
поддержать нас на плаву и воспрепятствовать уходу в «ужасно далеко» прутков-
ского пастуха, облазили в разных направлениях лакуну универсалий, заданную
постулатами биологической и генетической недостаточности человеческого рода
и даже несколько раз пытались выйти за Геркулесовы столпы человеческой
истории каботажным способом, чтобы войти в лакуну в праисторическом контексте
биологического творчества — гносис заставил или попутал, да и младенцы
тоже, — нам нужна, чтобы не заблудиться, линия, нить, Ариаднина снасть для
обозначения створов проходимого фарватера, что дало бы нам возможность
двигаться не только против течения исторических событий к предполагаемым
истокам — это неизбежно порождает иллюзии предустановленности, телеологии
истории, где мы в нашем «здесь и сейчас» Ту культуры всегда будем оказываться
на вершине человеческой развитости, в авангарде движения, за которым обязано
пылить на установленных лагах-дистанциях все эшелонированное историей
человечество, но и по течению в материнских контекстах начал культурных типов, в
которых действительно правомерно задавать вопросы и отцам и матерям о
начале, об обстоятельствах зачатия и появления на свет очередного ребенка, в том
числе и крайне интересующего нас — опытной науки и самой нашей Ту культуры.
Пока наши представления о материнских контекстах начал нашей
европейской культуры, Ти и Ту культур, опытной науки находятся на уровнях
благородных динамических описаний в терминах аистов и капусты, о чем свидетельствует,
скажем, массовый поиск «полых вен», «провозвестников», отцов дисциплин и
даже исследовательских направлений с полным пренебрежением к Геркулесовым
столпам истории науки или истории европейской культуры в областях, где у
пребывающих в культурной или интеллектуальной достаточности отцов-приматов не
было ни нужды, ни поводов, ни мотивов ломать налаженную предками данность
ради сомнительной части попасть через сотню или десяток поколений в группу
вероятных отцов европейского типа культуры, церкви, теологии, опытной науки.
Парадигматика выявлений топоса
Наша «лоция», руководствуясь которой, мы намерены развернуть во второй
части анализ материнских контекстов начал историй постредакционных
преемственных событий, отделивших первобытную социальность от европейской к
моменту их встречи, не претендует на жесткие хронологические рамки, да и насчет
последовательности не всегда и не все будет ясно, поскольку важные для нас
кадры, случайно зафиксировавшие существенные для нас детали в синхронном
срезе исторической преемственной ленты, не всегда несут отметку времени,
возраста, места. Поскольку мы отвергаем концепцию деградации, начальный пункт
нашей лоции должен бы располагаться в той точке на земном шаре, где появился
человек, добавивший в порядке компенсации своей биологической и
генетической недостаточности к исходному атрибуту естественности атрибуты
социальности и разумности. Но, коль скоро точка эта на глобусе не зафиксирована
сколько-нибудь надежными средствами и сам период первой географической
экспансии человечества вряд ли при современном состоянии данных можно привести в
более или менее целостную картину, начинать приходится с исторически
зафиксированного. факта обнаружения европейцами заселенности земли.
194
M. К. Петров
1 этап (начало). Ритуальный танец, как совершаемое перед аудиторией
(иногда ограниченной) действо, несущее социальную функцию, фиксируется
повсеместно, хотя единства мнений о том, какую именно функцию он выполняет, у
исследователей нет. Обычно говорят о мнемотехнике, тренаже, магии. Но в самом
описании танцев, исполняемых до охоты и после охоты без труда фиксируется и
воспитательная и «публикационная» составляющая. Л.Леви-Брюль так описывает
«танец бизона»: «В руке каждый туземец держит свой лук или свое копье, оружие,
которым он обычно пользуется в охоте на бизонов... Пляска изображает охоту,
во время которой ловят и убивают бизона... Когда один из туземцев устает, он
дает об этом знать другим, наклоняясь телом вперед и делая вид, что он падает;
тогда другой туземец выпускает в него из лука стрелу с притуплённым кончиком.
Он падает, как бизон, присутствующие вытаскивают его из круга за пятки,
размахивая над ним ножами и своими жестами изображая обдирание и свежевание
бизона... Это -— своего рода драма или, вернее, пантомима, изображающая дичь
и участь, которой последняя подвергается, когда она попадает в руки индейцев»
[31, с. 150].
Понятно, что ни Леви-Брюль, ни цитируемые им авторы не смотрели и не
могли смотреть на эту ситуацию нашими глазами, и от них явно ускользал смысл
некоторых существенных для нас деталей: присутствие в танце роли животного,
на которого охотятся, распределение ролей в группе — одни с копьями, другие —
с луками, третьи с ножами; явно личный характер роли стрелка из лука,
пускающего стрелу с притуплённым кончиком и, надо полагать, не с той силой, с
какой она пускалась в бизона. Нетрудно понять, что могло бы получиться с
исполнителем роли бизона, если бы каждый из туземцев, который держит «свой лук
или свое копье, оружие, которым он обычно пользуется в охоте на бизонов»
начал действовать по собственной инициативе. В плясках после охоты
присутствует, как правило, и туша убитого животного, причем присутствует на
установленном ритуалом месте и в установленном ритуалом положении.
В таких танцах мы не видим иерархии авторитетов, авторитетности как
таковой, хотя без особой натяжки можно заключить, что высшим авторитетом здесь
выступает туша убитого животного, которой как представителю вида (а не богам,
как это происходит в традиционном обществе) воздаются почести. Убитого на
охоте медведя, например, индейцы племени нутка «очищают от грязи и крови,
которая на него обычно налипает, затем приносят его домой и, выпрямив,
сажают его перед царем, надев ему на голову шляпу вождя и осыпав его шерсть белым
пухом. Перед ним ставят блюдо с пищей, и окружающие его индейцы словами и
жестами приглашают его есть» [31, с. 155]. Леви-Брюль комментирует: «Трудно
найти обычай более распространенный, чем эти почести, оказываемые
животному, убитому на охоте. Иногда церемония принимает таинственный характер и
должна совершаться вне присутствия непосвященных» [31, с. 155]. Словом, для
первобытного общества, как и для опытной науки, высшим авторитетом
выступает, похоже, «глас природы» — результат.
2 этап (миф). В традиционном обществе, обществе оседлом, земледельческом
принцип первобытного кодирования «в одном имени зараз один и только один
носитель» нарушен: в одном специализированном фрагменте деятельности
появляются группы индивидов, сообщества, где каждый индивид имеет
тождественный набор программ репродуктивного типа. Численность таких
профессиональных сообществ на эмпирическом уровне лимитирована возможностями
земледелия «прокормить» обслуживающие его профессии, отчуждать часть продукта на
компенсацию продукта и услуг членов других профессий, и реальным земным
интегратором социальности, образующим основную единицу традиционной
социальности — деревню, общину — выступает жестко оформленный по составу и
объему взаимных услуг наследственный контакт семей разной профессиональной
принадлежности, воспроизводимый из поколения в поколение. В индийской
системе «джаджмани», например, где стороны межсемейного обмена выступают как
История европейской культурной традиции и ее проблемы 195
«джаджманы» (компенсирующие услуги) и «камины» (получающие компенсацию
за услуги) еще в 30-е гг. XX в. фиксировалось положение, о котором
М.К.Кудрявцев пишет: «Прежде всего следует иметь в виду, что камины получали в
определенные сроки, чаще всего связанные с циклом сельскохозяйственных работ,
основную массу компенсации по нормам, какие получали их отцы, деды и более
удаленные предки. Но еще более важным для нас является то обстоятельство, что
эти нормы и размер фактически получаемой каминами компенсации не зависели
от объема выполненных ими у постоянного джаджмана работ в данном году,
сезоне или в данном случае. Физический объем работ мог быть значительно
меньше традиционных обязательств каминов перед джаджманами, тем не менее
камины имели право и получали полностью причитающуюся им компенсацию. Зато
камины, особенно низших категорий, не возражали, когда джаджманы
увеличивали объем работ. Согласно обычаю, джаджман не мог по своему произволу
уменьшить или увеличить норму компенсации, как не мог он менять и сроки
выплаты ее. Таков обычай» [29, с. 125].
Этот устойчивый земной интегратор межсемейных отношений на уровне
деятельности профессионалов резко ограничивал, понятно, возможности творчества.
Если семья плотника, к примеру, поддерживает в исправном состоянии все, что
относится к ремеслу плотника в нескольких семьях деревни, а семья кузнеца,
продукт которой сопряжен с деятельностью плотника находится в таком же
положении по отношению к этим же и другим семьям, то система оказывается
жесткой, почти не оставляющей места для изобретателей-самоучек типа Аркрай-
та, Ньюкомена, Стефенсона, творивших за пределами собственной профессии и
добивавшихся социализации своих «межпрофессиональных» новаций. И дело
здесь явно не в том, что природа обделила традицию и традиция порождала
относительно меньше талантливых младенцев, чем Европа позднего средневековья
или начала Нового времени, а в том, что ключевые структуры традиционной
социальности содержали и воспроизводили значительно меньшее число условий,
допускающих социальное освоение, «внедрение» новаций, не входящих
непосредственно в состав интегрирующих межсемейных контактов профессионалов, чем
ключевые структуры европейской социальности эпохи географических открытий,
первоначального накопления, революции цен, где перед лишними людьми
открылись широкие возможности приложения и социализации их талантов, коль скоро
их новации оказывались «прибыльными» — поддержанными личным
благоприобретенным, «нажитым» или иным способом переведенным в личное
распоряжение капиталом.
О том, что новации этого «межпрофессионального» рода появлялись и в
традиционном обществе, убедительно свидетельствует состав заимствований из
Китая, пересаженных на европейскую культурную почву, из которых только одно,
пожалуй, — тачка — могло утвердиться на традиционной китайской почве, да и
то в принятых массовых формах социализации лишних людей — в строительстве
и эксплуатации ирригационных систем, например, — тогда как другим
составляющим заимствованного Европой комплекса китайских изобретений явно было
уготовано в самом Китае «кунсткамерное» существование.
Наличие этого жесткого наследственного межсемейного стыка профессий
методологически важно в том отношении, что им обозначено как раз то место в
традиционной социальной системе, которое обладает высшей степенью
инерционности и где не следует искать то, что мы обычно, по аналогии с Ту культурой,
ищем в традиции и не находим — динамику замкнутых на рынок, на отношения
стоимости технологических новаций, морального старения технологий,
обновления, — и что обычно оставляет нас в не лишенной снобизма «развитости»
убежденности, будто традиция «ультрастабильна», вряд ли вообще способна к
эволюционному развитию путем преемственного накопления и обновления
технологического знания. К примеру, трудно сказать, что доставило европейцам большее
удовлетворение: открытие колонны Чандрагупты, которая вот уже полтора тыся-
13*
196
M. К. Петров
челетия стоит и не ржавеет, возбуждая черную зависть европейских металлургов,
или же недавнее открытие, что в ряде мест Индии железо «близких марок» все
же ржавеет [45, с. 119—124].
Искать «передний край» традиционного познания приходится в профессиях.
В определенном смысле ситуация здесь похожа на нашу дисциплинарную: в
информационном отношении профессии автономны: имеют свою парадигматику,
свои номенклатуры и стандарты продукта, свои каналы подготовки
профессиональных кадров, свои механизмы публикации. Это последнее как раз и дает право
на сравнение систем коммуникации в дисциплине и в традиционной профессии
в духе выявления условий идентичности ролей богов-покровителей и научных
журналов: научный журнал дисциплинарного сообщества обращается в
бога-покровителя профессии, если запретить авторам подписывать статьи, а
бог-покровитель профессионального сообщества обращается в научный журнал, если от
профессионалов-новаторов потребовать графического оформления своих вкладов
и подписи на них [53].
Но на этом сходство и кончается. Каналы подготовки профессиональных
кадров локализованы в семьях, работают по принципу длительного неформального
контакта поколений, в которых старшие уподобляют себе младших, включая
младших членов семьи мужского пола в свою повседневную деятельность. Этот
курс семейной подготовки не имеет четко обозначенных возрастных границ:
начинается прямо с рождения и кончается актом передачи наследственных прав и
обязательств семьи в структуре социальных отношений деревни новому главе
семьи, новому носителю, обычно старшему сыну. Как основной воспитательный
институт традиции семья входит в автономную систему социальных отношений
семей единой профессиональной принадлежности, которую исследователи не
всегда корректно называют группой терминов: каста, профессия, ремесло,
гильдия, сословие. С помощью этой системы, «выход» которой состыкован с
наследственным контактом семей разной профессиональной принадлежности, а «вход»
образует профессиональный участок «переднего края» традиционного познания,
профессия поддерживает в ее семьях единство динамического тезауруса, назовем
его Тп, и использует его на правах Т0 в актах коммуникации по поводу нового
профессионального знания, то есть заставляет своих новаторов строить тезаурус-
ные отношения и решать их в объяснениях с профессиональным сообществом с
опорой на единый для профессии Тп. Форма этого акта коммуникации — миф,
не требующий графического оформления.
В традиционном познании, таким образом, не обнаруживается ни
универсального Ту нашего формального образца, ни универсального динамического То
первобытного типа, и если просто остановиться на этой констатации, загадочной
становится сама осуществимость традиционной социальности. В самом деле, если
структура целостности социальной системы не подкреплена трансляцией этой
целостности новым поколениям, такая система даже из начального состояния
целостности неизбежно придет к распаду на подсистемы и, поскольку в рамках
традиционных профессий господствует единый динамический Тп, исключающий
возможность своей особой профессиональной специализирующей постредакции
индивидов, такая лишенная знакового специализирующего кодирования
подсистема вернет сообщество подсистемы в животное состояние биологической и
генетической достаточности. Иначе говоря, земной наследственный контакт семей
разной профессиональной принадлежности, как носитель целостности
традиционной социальной системы должен найти отображение в знаке, имеющее равную
силу для индивидов всех профессий, то есть стать универсальным тезаурусом
общества всеобщего распределения. Трудность здесь создает, похоже, то, что по
привычным для нас представлениям такой универсальный тезаурус обязан
принадлежать к системе познания и онаучивания общества, включать в себя либо
знания, либо навыки всеобщего распределения, как это происходит в нашей Ту
и в первобытной культурах.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 197
Таким универсальным тезаурусом не обладают ни традиционная, ни Ти
культура. Традиционная явно от него избавилась на переходе к оседлому образу
жизни, который позволил увеличить число человекоразмерных фрагментов за
счет дифференциации динамических Т0 профессий, как, скажем, и мы
пожертвовали единством Ти науки ради увеличения объема знания, передаваемого от
поколения к поколению, методом дисциплинарной дифференциации познания. 1 и
культура, хотя мы и ассоциируем ее с профессией интеллектуалов, вовсе не
предполагала всеобщего распределения Ти, была культурой лишних людей, младших
сыновей, тогда как основная связь преемственности, на что мы охотно закрываем
глаза, проходила через семейные каналы воспитания, близкие по механизму к
традиционным, профессиональным. Это в общем-то и создает путаницу в
терминах «каста», «профессия», «ремесло», «гильдия», «цех», «традиция», «феодализм»,
«средневековье». Даже такие опытные исследователи как Ф.Дарт и П.Прадхан,
прямо говорят о средневековье, феодализме, когда описывают социальную
данность непальских школяров. О группе неварцев они пишут: «Неварский город
Панга, где мы работали, представляет из себя тесный блок узких вымощенных
улиц, застроенных трехэтажными кирпичными домами. Город окружен
возделанными рисовыми полями... Неварцы консервативны, твердо придерживаются
замкнутой, самодовлеющей социальной и философской ортодоксии... Многие из
жителей часто бывают в Катманду, этой космополитической столице,
расположенной не более, чем в 8 км от Панги, а некоторые горожане регулярно работают в
столице. И все же во многих отношениях Панга представляется средневековым
островом, который мог бы находиться от столицы на расстоянии 500 км или 5-ти
столетий. Жители этого города застенчивы, дружелюбны и гостеприимны по
отношению к чужеземцам, но они почти не высказывают любопытства насчет их
мыслей. В городе есть начальная и средняя школы с опытными педагогами, но
их посещает менее четверти детей школьного возраста» [ПО, с. 649].
В определенном смысле это смешение терминов и дает ключ к пониманию
традиционной тезаурусной ситуации. А.Раман, пропагандист науки в Индии,
пишет: «Тот факт, что наука в Индии преподается на английском, усиливает ее
социальную изоляцию. Научная практика и научное знание не могут
распространяться в народе и создавать более широкую базу для науки. Значительное
большинство народа получает образование на родном языке. А этот язык не
поглощает современные научные идеи и научную терминологию, остается
проводником средневековых идей, поэтому и народ остается средневековым с точки зрения
мировоззрения и психологических установок» [153, с. 165].
Здесь явное смешение понятий «средневековый», «традиционный». В Европе
мировоззрение «средневекового народа» — христианский миропорядок. Оно
насаждалось интеллектуалами-теологами в силу их роли посредником между богом
и миром, насаждалось, как интегрирующий элемент Ти культуры всеобщего (в
отличие от текстов Ти — тривия и квадривия) распределения. Но к народу Индии,
в истории которого не было ни античной «полисной» культуры, ни
средневекового «церкво-центричного» феодализма, термин «средневековый» вряд ли вообще
правомерен. Вместе с тем, как раз это смешение позволяет заметить, что
универсальные тезаурусы обществ вовсе не обязаны принадлежать к системе познания.
Их назначение иное: фиксировать и воспроизводить структуру целостности как
систему, а эта структура может работать и на сжатие, стремясь удержать в
изоляции фрагменты специализированного знания и специализированной
деятельности от слияния на базе в принципе возможного единого динамического Т0, как
это было в первобытном обществе, либо на растяжение, стремясь удержать
расходящиеся фрагменты специализированного знания и специализированной
деятельности на канатах причастности к социальному целому, как это происходит в
нашей Ту культуре, где роль канатов выполняют учебники-переходы Ту-Тд
ограниченной длины.
198
M. К. Петров
Возникшая на переходе к оседлому способу жизни традиционная
земледельческая культура явно трансформировала структуру целостности первобытного
общества, основанную на универсальном динамическом Т0 подготовленных к
посвящению юношей, перевела членов группы охотников-воинов из статуса крат-
коживущих исполнителей специализированных текстов группы в статус само-
стных знаков «рожденных», но «вечно юных» богов-покровителей, постоянно
исполняющих по отношению к специализированному тексту своего имени, к
набору действующих программ профессии как воспитательную функцию приведения
профессионального сообщества к текущим значениям динамического Тп, который
меняется в результате познавательной деятельности профессионалов-новаторов,
так и функцию познания, освоения профессией нового, где бог-покровитель
выступает на правах «первого соавтора» публикаций-мифов, а также и лица,
ответственного за человекоразмерность фрагмента профессионального знания. В тексте
фрагмента трудно обнаружить эшелонирование — мифы не предполагают
графической записи, и очередная новация в процессе профессионального освоения
отменяет и дренирует соответствующую старую подпрограмму выполнения данного
вида работ и переписывает относящиеся к ней части динамического Тп.
Соучастие в объяснении нового, в общении с профессиональным сообществом на
текущем значении динамического Тп не дает богу-покровителю повода выходить за
рамки челове коразмерности, что сообщает его деятельности черту адиабатичнос-
ти: тексты Тп переписываются от имени бога-покровителя в предзаданном объеме
ограничений по челове коразмерности и возрастному движению индивидов.
В существенно ином режиме, в режиме «на сжатие» работает структура
целостности традиционного общества, как системы. В этой знаковой структуре
всеобщего распределения, отражающей структуру земного наследственного контакта
семей разной профессиональной принадлежности, боги-покровители связаны в
группу по атрибуту рожденности, то есть группа рассматривается как семья
небожителей, в которой каждому богу-покровителю (кроме первичной пары) можно
указать родителей. Эта семья небожителей отличается от земных унипрофессио-
нальных семей мультипрофессиональностью своих рожденных, но вечно юных
членов, связанных в целое информационно изолирующими отношениями
кровного родства.
Это последнее обстоятельство — неспособность отношений кровного родства
фиксировать информацию типа научной статики или практической динамики —
и придает универсальному тезаурусу традиционного общества черты «мистики»,
тогда как постоянное давление подведомственных богам профессий, приведение
образа их действий к Тп профессии дают хорошо описанный эффект
антропоморфного восприятия богов, который хотя и не всегда придает богам
человеческие очертания, всегда наделяет их всей полнотой человеческих атрибутов и часто
в превосходной степени.
Особенность универсального тезауруса традиционного общества и в том, что
ему трудно указать какое-либо определенное место в возрастном движении
индивидов. Если, к примеру, мы твердо знаем, что в нашей Ту культуре
универсальное предшествует специальному, и каковы бы ни были увлечения индивидов в
школьные годы, им, как и юношам в первобытном обществе до обряда
посвящения, придется пройти через унифицирующий этап постредакции, прежде чем
двинуться в специализацию, то в традиционной культуре вообще невозможно
определить, что чему предшествует. Исследование Дарта и Прадхана показывает,
что уже в возрасте 9—14 лет непальцы четко различают «школьное» и
«мифологическое» объяснения, причем мифологическое, основанное на динамических
описаниях дается им много легче, чем наше научное Ту объяснение, в
окончательность и достоверность которого не позволяет верить сам стиль научного
мышления. Человеческая метрика реалий мифа, даже если некоторые из
«переменных» человечности явно выходят по параметрам предприятия за пределы
ограничений по челове коразмерности, делают для непальцев, да и для нас, четки-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 199
ми, ясными и понятными динамические объяснения мифа. У чхетров, скажем,
земля лежит «на спине рыбы», у неварцев — держится «на четырех слонах», но
существенно в таких объяснениях не то, на чем лежит земля, а те понятные
любому из нас ощущения тяжести, на которых держится объяснение — тяжело и
рыбе и слонам: «рыба устает, сдвигает груз и трясет землю»; «когда один из
слонов перекладывает тяжесть на другое плечо, бывает землетрясение» [110, с. 651].
Так в большом и малом. Протагор у Платона, предложив аудитории на выбор
рассуждение или миф и, не получив ясного ответа, начинает объяснение
возможности научить добродетели с мифа: «Было некогда время, когда боги-то были, а
смертных родов еще не было. Когда же и для них пришло предназначенное время
рождения, стали боги создавать их в глубине Земли из смеси земли и огня,
добавив еще и того, что соединяется с огнем и землею. Когда же боги
вознамерились вывести их на свет, то распределить способности, подобающие каждому
роду, приказали Прометею и Эпиметею. Эпиметей выпросил у Прометея
разрешение самому заняться распределением: «Распределю, тогда и посмотришь».
Уговорил Прометея и стал распределять: одним дал силу без быстроты, более слабых
наделил быстротой; безоружным измыслил какое-нибудь средство для спасения...
Но был Эпиметей не очень-то мудр, и не заметил он, что роздал все
способности бессловесным тварям, а род человеческий еще ничем не украсил, и стал
он недоумевать, что теперь делать. Пока он так недоумевал, приходит Прометей,
чтобы проверить распределение, и видит, что все прочие животные заботливо
всем снабжены, человек же наг и не обут, без ложа и без оружия, а уже наступил
предназначенный день, и вот в сомнении, какое бы найти средство помочь
человеку, крадет Прометей премудрое уменье Гефеста и Афины вместе с огнем,
потому что без огня никто не мог бы им владеть или пользоваться. В том и состоит
дар Прометея человеку. Так люди овладели уменьем поддерживать свое
существование, но им еще не хватало уменья жить обществом — этим владел Зевс, —
а войти в обитель Зевса, в его верхний град, Прометею было нельзя, да и
страшны были стражи Зевса. Прометею удалось проникнуть украдкой только в общую
мастерскую Гефеста и Афины, где они предавались своим искусным занятиям.
Украв у Гефеста умение обращаться с огнем, а у Афины — ее уменье, Прометей
дал их человеку для его благополучия, самого же Прометея после постигло из-за
Эпиметея возмездие за кражу, как говорят сказания» [Платон, Протагор, 320 С —
322 А].
Вот так вот просто и ясно в динамике реалий мифа излагается наш постулат
биологической недостаточности и необходимость социальной организации, хотя
и состав последней проблемы и способы ее решения указываются несколько
иными, поскольку специализирующее знаковое кодирование принимается как
данность, а акцент делается на универсальном тезаурусе, на общечеловеческом:
«Тогда Зевс, испугавшись, как бы не погиб весь наш род, посылает Гермеса
ввести среди людей стыд и правду, чтобы они служили украшением городов и
дружественной связью».
Вот и спрашивает Гермес Зевса, каким же образом дать людям правду и стыд.
«Так ли их распределить, как распределены искусства? А распределены они вот
как: одного, владеющего искусством врачевания, хватает на многих, не сведущих
в нем; то же и со всеми прочими мастерами. Значит, правду и стыд мне таким
же образом установить среди людей или же уделить их всем?».
«Всем, — сказал Зевс, — пусть все будут к ним причастны; не бывать
государствам, если только немногие будут этим владеть, как владеют обычно
искусствами. И закон положи от меня, чтобы всякого, кто не может быть причастным
стыду и правде, убивать, как язву общества» [Платон, Протагор, 322 С — 322 Д].
Понятно, что миф у Платона несет несколько иные функции, чем миф в
традиционном обществе или, точнее, Платон использует миф, как привычный
способ объяснения для разговора о реалиях, которые явно чужды традиции, а
именно о городе-государстве, как основной социальной единице его времени. Но в
200
M. К. Петров
мифе, рассказанном устами Протагора, Платон подчеркивает важные для нас
моменты традиции: искусства-профессии распределены по принципу «одного,
владеющего искусством, хватает на многих, не сведущих в нем»; искусства вводят
боги, обучая смертных. А искусства могут быть самыми разными. Вот, скажем,
как Д.Збавител описывает историю возникновения касты тхагов-душителей в
Индии: «Однажды Кали в образе устрашающей богини Бхавани собрала своих
почитателей, отметила самых верных — тхагов, наделила их необычайной силой и
коварством, научила душить жертвы платком и разослала по свету. Молодые
тхаги проходили сначала период обучения, после чего на празднике дашахра
совершался обряд посвящения — они получали заступ, белый платок для душения
жертв и в соответствие со своей верой присягали на каком-либо священном
индуистском тексте или на Коране, давая клятву верности, храбрости и молчания...
У них отсутствовали какая-либо особая религиозная доктрина и культ, поскольку
тхагом мог стать как мусульманин, так и индуист. Все они почитали Бхавани, но
особенно свой заступ, которым копали могилу для задушенных жертв и который
считался «священнее Корана и воды Ганга». Известно, что тхаг, нарушивший
присягу, принесенную на этом заступе, умирал в течение шести дней... Тхаги
передавали свое «умение» от поколения к поколению. В сезон дождей и в очень
жаркие месяцы лета они жили дома, занимались обычным ремеслом и торговлей,
но в конце сезона дождей, после праздника Дашахра, снова отправлялись в
смертоносные походы» [5, с. 398—399].
По вопросу о месте и способе фиксации универсального тезауруса
традиционного общества мнения расходятся. У Протагора, как мы видели, стыд и правда
как навыки всеобщего распределения — дар Зевса, но дар явно
постредакционной природы — ему, по Протагору, можно обучить и нужно обучать. Сам Платон
придерживается другой точки зрения. Для него добродетель — врожденное
свойство, которому нельзя обучить: «И не только по общему мнению города, но и в
частной жизни у нас мудрейшие и лучшие из граждан не в состоянии передать
другим ту самую добродетель, которой владеют сами. Взять хоть Перикла, отца
этих вот юношей; во всем, что зависело от учителей, он дал им прекрасное и
тонкое воспитание, а в чем сам он мудр, в том ни сам их не воспитал, ни другим
того не поручил, и бродят они тут кругом, словно пасутся на воле, — не набредут
ли невзначай на добродетель. Если угодно, еще пример: тот же самый человек,
Перикл, будучи опекуном Клиния, младшего брата вот этого Алквивиада, и
опасаясь, чтобы не развратил его Алквивиад, разлучил их и отдал Клиния на
воспитание в дом Арифрона, но не прошло и шести месяцев, как тот вернул его
обратно, не зная, что с ним делать. Да и множество других людей могу тебе назвать,
которые, будучи сами хороши, никого не сумели сделать лучше — ни из своих
домашних, ни из чужих» [Платон, Протагор, 319 Е — 320 В].
Дарт и Прадхан считают, что универсальный тезаурус традиции встроен в
социальную структуру окружения, воспринимается детьми как свойство данности,
что и создает трудности трансплантации науки на традиционную почву: «Если
введение науки должно сопровождаться значительными социальными и
культурными сдвигами, то правомерно ли игнорировать эту сторону при подготовке
детей к изучению науки? Мы считаем, что правомерно. Какой-то тип
аккомодации между научной революцией и непальской культурой должен, понятно, быть
достигнут и будет в свое время достигнут, если конечно наука вообще здесь
привьется. Это сложная проблема, которая должна решаться так же постепенно в
восточных культурах, как она решалась на Западе. Опыт свидетельствует, что
такая аккомодация вряд ли достижима с помощью простой субституции одной
культуры другой, и во всяком случае не в школьные годы, когда ребенок
погружен в интеллектуальное и физическое окружение деревни. И для ребенка и для
деревни важно, чтобы он оставался в мире с этим окружением» [ПО, с. 655].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 201
А.Раман связывает универсальный тезаурус традиции в основном с языком,
который воспроизводит и мифологию и тройственную схему изоляции науки, как
опасной «английской выдумки»:
1. Языки Индии не развили точных выражений и словарей для оформления
новых идей. Они остаются средневековыми по мировоззрению, перегруженными
мистическим и многозначным словарем, обращенным к эмоциям. Это помогает
сохранять сверхъестественное древнее мировоззрение.
2. Новое знание, возникающее как результат научных исследований, не может
достичь ремесленников, вывести их из застоя, помочь им обновить старые
ремесла и создать новые. В какой-то степени этим объясняется и неэффективность
исследований во многих областях науки Индии даже и в настоящее время. Язык
науки и язык тех, кому следовало бы использовать результаты научных
исследований, — два совершенно различных языка.
3. Когда научные идеи доступны лишь ограниченному меньшинству,
становится практически невозможным поднять социальный и интеллектуальный
диалог на тот критический уровень, который обеспечивает его действенность. А без
такого действенного диалога научное мировоззрение не может войти в ткань
индийской социальности. А в Европе такой диалог затрагивал все аспекты жизни.
Замкнутость науки Индии означает, что все социальные восприятия, оценки,
мировоззрения и реформистские движения ищут опор и поддержки в прошлом,
причем эта ситуация сохраняется и поныне [153, с. 225—227].
В Индии, таким образом, как и в большинстве стран традиционной культуры,
хотя в Индии и действует развитая система народного образования, внедряющая
в детские умы Ту, господствующее положение, по мнению многих
исследователей, продолжает занимать универсальный тезаурус традиции, коренящийся в
структуре родных языков школьников, в семейном канале специализирующего
кодирования индивидов, в Тп ремесел-профессий, которые не могут
утилизировать результаты научного познания как в силу их «иноязычности», так и в силу
непереводимости статических описаний науки в динамические тезаурусы Тп:
традиционные боги-покровители не хотят или не умеют танцевать в группах
цитируемых авторов ученым способом.
Чтобы разобраться в этой ключевой, по нашему мнению, ситуации и выявить
«уязвимые места» традиции, нам следует несколько более внимательно
присмотреться к отношениям между богом-покровителем и опекаемой им профессией с
точки зрения разделения их сфер ответственности. Кроме обучения
профессионального сообщества и приведения профессионалов к текущим значениям Тп,
находящегося под воздействием переднего края профессионального познания
окружения, в обязанности богов-покровителей входит творение образцов,
номенклатуры профессионального продукта, тогда как обязанность ремесленников
тиражировать эти образцы в соответствии с требованиями, установленными
наследственным контактом семей разных профессий.
Платон в «Государстве» так описывает это разделение сфер ответственности:
«Хочешь, мы начнем разбор отсюда, с помощью обычного нашего метода; для
каждого множества вещей, обозначаемых одним именем, мы обычно
устанавливаем только один определенный вид. Понимаешь?
— Понимаю.
— Возьмем и теперь какое тебе угодно множество. Ну, если хочешь,
например, кроватей и столов на свете множество...
— Конечно.
— Но идей для этих предметов только две — одна для кровати и одна для
стола.
-Да.
— И обычно мы говорим, что мастер изготовляет ту или иную вещь,
всматриваясь в ее идею: один делает кровати, другой — столы, нужные нам, и то же
202
М.К. Петров
самое и в остальных случаях. Но никто из мастеров не создает самое идею. Разве
он это может?
— Никоим образом». [Государство, 596 А — 596 В].
Исключая возможность создания таких идей мастерами-ремесленниками,
Платон рассматривает троякий способ существования идеи, причем идея —
создание бога — уникальна, единична, неповторима, тогда как два других способа
допускают умножение по числу (мастер) и искажения (живописец): «Так вот, эти
самые кровати бывают троякими: одна существует в самой природе, и ее мы
признали бы, думаю я, произведением бога...
— Другая — это произведение плотника...
— Третья — произведение живописца, не так ли?
— Допустим.
— Живописец, плотник, бог — вот три создателя этих трех видов кровати.
— Да, их трое.
— Бог, потому ли, что не захотел или в силу необходимости, требовавшей,
чтобы в природе была завершена только одна кровать, сделал, таким образом,
лишь одну-единственную — она-то и есть кровать, как таковая, а двух подобных,
либо больше, не было создано богом и не будет в природе.
— Почему же?
— Потому что, если бы он сделал их всего две, все равно оказалось бы, что
это одна, и именно та, вид которой имели бы они обе: это была бы та
единственная кровать, как таковая, а двух кроватей бы не было.
— Это верно.
— Я думаю, что бог, зная это, хотел быть действительным творцом
действительно существующей кровати, но не какой-то кровати и не каким-то мастером
по кроватям. Поэтому-то он и произвел одну кровать, единственную по своей
природе.
— Похоже, что это так.
— Хочешь, мы назовем его творцом этой вещи или чем-то другим, подобным?
— Это было бы справедливо, потому что и эту вещь, и все остальное он создал
согласно природе.
— А как же нам назвать плотника? Не мастером ли по кроватям?
-Да.
— А живописца — тоже мастером и творцом этих вещей?
— Ни в коем случае.
— Что же он тогда такое в этом отношении, как ты скажешь?
— Вот что, мне кажется, было бы для него наиболее подходящим именем: он
подражатель творениям мастеров.
— Хорошо. Значит, подражателем ты называешь того, кто порождает
произведения, стоящие на третьем месте от сущности?
— Конечно». [Государство, 597 В — 597 Е].
К подражателям Платон относит и творцов трагедий и многих других, но
смысл этого «третьего места от сущности» он рассматривает на примере с
живописцем, подражающим творениям мастеров, но особым способом: «Таким ли,
каковы эти творения на самом деле или какими они кажутся? Это ведь ты тоже
должен разграничить.
— А как ты это понимаешь?
— Вот как: ложе, если смотреть на него сбоку, или прямо, или еще с какой-
нибудь стороны, отличается ли от самого себя? Или же здесь нет никакого
отличия, а оно лишь кажется иным, и то же самое происходит и с иными вещами?
— Да, то же самое. Оно только кажется иным, а отличия здесь нет никакого.
— Вот это ты и рассмотри. Какую задачу ставит перед собой каждый раз
живопись? Стремится ли она воспроизвести действительное бытие или только
кажимость? Иначе говоря, живопись — это воспроизведение призраков или
действительности?
История европейской культурной традиции и ее проблемы 203
— Призраков.
— Значит, подражательное искусство далеко от действительности. Поэтому-то,
сдается мне, оно и может воспроизводить все, что угодно: ведь оно только чуть-
чуть касается любой вещи, да и тогда выходит лишь призрачное ее отображение.
Например, художник нарисует нам сапожника, плотника, других мастеров, но
сам-то он ничего не понимает в этих ремеслах» [Государство, 598 В — 598 С].
Если в «Государстве» Платон ограничивается в основном описанием статусов
бога, мастера, художника по отношению к идее-образцу, к составляющей
номенклатуры профессионального продукта, то динамика отношений в этой иерархии
причастных к творению и воспроизводству идеи-образца в развернутом виде дана
в «Ионе». Хотя изображенную в «Ионе» картину принято числить по
департаменту эстетики, мы склонны считать ее теорией познания традиционного типа
культуры, которая выведена из состояния данности и представлена как теория именно
в процессе противостояния мифа и теоретического мышления на периоде
сосуществования той парности объяснений, которую Ф.Дарт и П.Прадхан
обнаружили в Непале и в определенной степени даже признали ее правомерность,
предложив принцип «сосуществования культур». В рамках этого принципа науку
следует прививать как «вторую культуру», задача которой «дополнить то, что
существует, а не изменять его» [ПО, с. 655].
Протагор демонстрирует эту парность сосуществования традиции и
возникающей европейской культуры, двух равносильных способов объяснения своим
вопросом к аудитории: объяснять ли природу добродетели с помощью мифа или
рассуждения? Платон, как мы уже говорили, расходится с Протагором и по
вопросу о природе добродетели — софисты объявленные и опознанные враги
Платона, — и, как мы только что видели, самое творчество он относит к
божественной юрисдикции. С этого пункта и начинается в «Ионе» то, что позднее станет
известно в истории европейской мысли как принцип слабеющей эманации
платоников, наиболее четким выражением которого мы считаем 97 постулат Прокла:
«Всякая причина, дающая начало каждому ряду, уделяет данному ряду свое
отличительное свойство. И то, что она есть первично, данный ряд есть ослабленно»
(58, с. 69].
В «Ионе» дан черновой набросок этого постулата в явно традиционном
оформлении. Сократ объясняет Иону, рапсоду, почему о Гомере Иону удается
говорить лучше других, а с другими поэтами у него не получается: «Твоя способность
хорошо говорить о Гомере — это, как я сейчас сказал, не искусство, а
божественная сила, которая тобою движет, как сила того камня, который Эврипид
назвал магнесийским, а большинство называет гераклейским. Камень этот не
только притягивает железные кольца, но и сообщает им такую силу, что они в свою
очередь могут делать то же самое, что и камень, то есть притягивать другие
кольца, так что иногда получается очень длинная цепь из кусочков железа и колец,
висящих одно за другим, и вся их сила зависит от того камня... Так и Муза —
сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других, одержимых
божественным вдохновением. Все хорошие эпические поэты слагают свои
прекрасные поэмы не благодаря искусству (тогда они были бы мастерами. — М.П.), а
лишь в состоянии вдохновения и одержимости... поэт — это существо легкое,
крылатое и священное; и он может говорить лишь тогда, когда сделается
вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка... И вот поэты творят
и говорят много прекрасного о различных вещах, как ты о Гомере, не с помощью
искусства, а по божественному определению. И каждый может хорошо творить
только то, на что его подвигнула Муза: один — дифирамбы, другой — энкомии,
этот — гипорхемы, тот — эпические поэмы, иной — ямбы; во всем же прочем
каждый из них слаб. Ведь не от умения они это говорят, а благодаря
божественной силе; если бы они благодаря искусству могли хорошо говорить об одном, то
могли бы говорить и обо всем прочем; но ради того бог и отнимает у них
рассудок и делает их своими слугами, божественными вещателями и пророками,
204
M. К. Петров
чтобы мы, слушая их, знали, что не они, лишенные рассудка, говорят столь
драгоценные слова, а говорит сам бог и через них подает нам свой голос» [Ион,
533 Е - 534 Д].
Иерархия творчества, того, чему нельзя научить, принимает вид слабеющей
эманации, в которой бог — причина ряда: «Теперь ты понимаешь, что такой
зритель — последнее из звеньев, которые, как я говорил, получают одно от другого
силу под воздействием гераклейского камня. Среднее звено — это ты, рапсод и
актер, первое — это сам поэт, а бог через вас всех влечет душу человека куда
захочет, сообщая одному силу через другого. И тянется, как от того камня,
длинная цепь хоревтов и учителей с их помощниками: они держатся сбоку на звеньях,
соединенных с Музой. И один поэт зависит от одной Музы, другой — от другой.
Мы обозначаем это словом «одержим», и это почти то же самое: ведь Муза
держит его. А от этих первых звеньев — поэтов — зависят другие одержимые: один
от Орфея, другой — от Мусея, большинство же одержимо Гомером, или, что то
же самое, он их держит. Один из них ты, Ион, и Гомер держит тебя» [Ион,
535 Е - 536 В].
Таким образом, профессионалы-мастера, по Платону, лишены права на
творчество, на самостоятельное творчество; их дело умножать богами созданные идеи.
Творчество — монополия богов, семейства небожителей. Но и мастера и
художники могут оказаться причастными к творчеству через одержимость, если их
«держит» один из богов, если они «говорят не от себя» — «не они, лишенные
рассудка, говорят столь драгоценные слова, а говорит сам бог и через них подает
нам свой голос».
Самая важная здесь деталь, отличающая традиционную топосную ситуацию от
первобытной, это появление самостного знака в функции конечного авторитета,
позволяющего новаторам-профессионалам действовать по принципу: «говорить
не от себя». Исполняя ритуальный танец, члены группы охотников-воинов не
нуждались в знаковом самостном авторитете, в первобытном обществе, в его то-
посной ситуации достаточно авторитетно звучал аргумент от результата — от
убитого животного, придавая имитации охоты перед понимающей аудиторией
достаточную убедительность. Конечно, этот аргумент от результата в неявном виде
содержит и аргумент от самостного знака: аудитории демонстрируют для
убедительности не просто контейнер протеинов, который существенно и в самом
ближайшем времени пополнит рацион племени, но и представителя почитаемого
племенем рода животных, от которого ожидается и в будущем соучастие в решении
задачи обеспечения племени средствами к жизни; на это и направлены
формальные почести, которые оказывают убитому животному, превращая его в почетного
гостя акта публикации. Но это, так сказать, неявное присутствие знаковой
самости «на подходе». В реликтовой форме жертвоприношений от ритуальных волов
и шашлыков до протокольных обедов и банкетов эта неявная форма присутствия
в топосе самостного знака сохранится во всей истории человечества как
универсальная составляющая топоса.
Но в традиционном топосе самостные знаки выделяются или уже выделены
в особую четко оформленную группу — семью действующих или царствующих
богов не первой, обычно, династии. И хотя это не очень дружное семейство —
боги, особенно богини, довольно часто нарушают установленные им сферы
ответственности, все члены семейства заняты делом — подопечными искусствами-
профессиями. У традиции нет ни богов «вообще», ни беспризорных профессий
«вообще», все боги, каждый порознь, реже парами заняты накоплением
профессионального знания, публикацией вкладов новаторов-профессионалов.
Традиционный способ публикации немыслим без ссылки на авторитет бога-покровителя,
а ссылка эта неукоснительно следует принципу «говорить не от себя».
Профессионал-новатор не просто приглашает бога-покровителя в состав авторитетной
группы цитируемых, но находящихся в отлучке авторов, как это делают сегодня
ученые в статьях, а приглашает его в соавторы, причем в соавторы «первые»,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 205
которых принято цитировать и учитывать, скажем, в Индексе Научного
Цитирования, оставляя для себя скромное место в составе «и др.». За Афиной,
скажем, покровительницей плотников, «людей Афины», числится множество
изобретений и «даров», в том числе и предмет нашего специфического интереса —
«пентеконтера» — пятидесятивесельный корабль, явно принимавший активное
участие в сокрушении традиции и в строительстве европейской культуры, — но
ни в одном из таких изобретений мы не обнаруживаем более или менее полной
развертки «и др.».
Предложенная Платоном магнитная модель одержимости тем и хороша, что
она подчеркивает это авторитетное участие самостных знаков в событиях на
переднем крае профессионального познания, где профессионалы-новаторы, не
покидая контакта с эмпирией и продолжая участвовать в жизни деревни, «без
отрыва от производства» под давлением гносиса, как это всегда было и будет
вероятно в истории человечества, изобретают в порядке хобби всякую всячину от
ярма до канцелярской скрепки. Большинство таких результатов стихийного
самодеятельного творчества, понятно, гибнет, как и большинство рукописей в нашей
Ту системе (см. табл. 7). Эта стихия доморощенного изобретательства действует и
сегодня. Дж.Киллиан, например, первый в истории США помощник президента
по науке и технологии пишет, что ему и его комитету трудно было бороться в
«послеспутниковый» период с напором этой стихии: «Комитету постоянно
приходилось отбиваться от высосанных из пальца предложений, которые появлялись
отовсюду. К примеру, Комитет не переставал удивляться беспочвенной
изобретательности отдельных офицеров ВВС насчет использования космоса в военных
целях. Движимые слепым стремлением поддержать новаторские идеи во славу
своего рода войск, эти офицеры, обычно более романтики, нежели ученые,
выдвигали предложения, демонстрировавшие полное незнакомство с механикой
Ньютона, и Комитету всякий раз проходилось объяснять президенту
несостоятельность таких предложений» [128, с. 112]. Во время войны в Национальный
совет по изобретениям США было подано 208975 заявок от частных лиц.
Подавляющее большинство из них, естественно, обнаружило полное незнакомство
изобретателей с военной техникой и с условиями ее эксплуатации, только 8615
предложений (4,1%) было внесено в соответствующие регистры, как обладающие
потенциальной ценностью, из них 5000 было передано военным ведомствам, по 757
велись исследования, к середине 1946 г. 106 производились как штатное
вооружение и 105 дорабатывались [147, с. 68].
Если в деле замешан гносис, нечто подобное происходит, видимо, и в
традиционной культуре: большинство изобретений гибнет, какая-то ничтожная доля
совсем уже диковинных для традиции вещей вроде компаса или механических
часов поражает воображение очередного какого-нибудь правителя «Поднебесной»
и оседает в кунсткамерах разного ранга и достоинства, «вносится в регистры», но
некоторая часть оказывается действительно полезной для профессии, и тогда
включаются механизмы освоения нового. Модель Платона позволяет заметить,
что и традиции известна противоположность между нормой и революцией скорее,
правда, в истолковании Н.Маллинза [142], чем Т.Куна [30]. Оба случая
предполагают подключение самостных знаков. В нормальном случае подключается бог-
покровитель; в революционном — он рождается, усыновляется или удочеряется
семьей небожителей, вводится в генеалогическое древо теогонии.
В нормальном случае требуется миф, типа нашей статьи — изложение
события на переднем крае познания от имени бога-покровителя. Есть свидетельства в
пользу того, что такой миф и сегодня остается в арсенале топосных и тезаурусных
средств в странах традиционной культуры. Е.Роджерс и Ф.Шумейкер в
исследовании по распространению новаций в разных культурах пишут об индийской
деревне: «Певцы, рапсоды — весьма авторитетные каналы информации для жителей
деревни. Содержание их сообщений включает религиозные и традиционные
элементы в смеси с современной технологией. Слышали, например, как рапсод пел
206
M. К. Петров
об удобрениях, рекомендуя их жителям деревни, а также о числе тонн пшеницы,
импортируемой в Индию» [156, с. 246].
В более радикальном «революционном» случае требуется не просто
вовлечение существующего самостного знака на правах первого соавтора, но сотворение
нового самостного знака как именной составляющей комплекса «автор-текст»,
без которой нам и сегодня сложно было бы представить в целостности новый вид
теоретической или практической деятельности, особенно когда статику
приходится переводить в динамику. Нам кажется, что сотворение самостного знака, нового
бога-покровителя, сродни сотворению патристики, отцов-зачинателей любых
преемственных видов деятельности. Вот, скажем, Дж.Нидам, как мы уже говорили
во введении, требуя от историков науки разработки «истинной» ретроспективы и
поиска «большой полой вены» для объяснения генезиса науки, тут же предлагает
и «святого покровителя всех этих людей с широкими взглядами и доброй
волей» — сирийского епископа VI в. Сервуса Себокта [102, с. 3]. Точно таким же
способом действует и А.Раман, объявляя Д.Неру «святым покровителем
индийской науки» [153, с. 201, 203].
А.Раман показывает, что «онаучивание» Индии в общем-то не входило в
планы руководителей национально-освободительного движения: «Антагонизм по
отношению к науке и технологии взял верх в национально-освободительном
движении Индии, руководимом Ганди, а также и в эволюции мировоззрения и
философских взглядов самого Ганди. Движение Ганди было в существенной своей
части реакцией на антигуманные аспекты индустриализации в условиях
капитализма, оно было поиском лекарств от социальных болезней современного
общества в рамках гуманитарного контекста, а вместе с тем и в пределах контекста
индийской традиции и индийских ценностей. Оно ошибочно ассоциировало
науку и технологию с теми социальными чертами, которые им придал
капитализм, и поэтому стремилось наложить ограничения на науку и технологию» [153,
с. 295].
Исключением на этом фоне был и, по мнению Рамана, остается Неру:
«Только один человек в Индии более, чем кто-либо другой из современников, сознавал
степень изоляции современной науки в индийском обществе и стремился
уничтожить эту изоляцию, подчеркивая важность научной традиции, научного
мировоззрения и научного мироощущения, пытался использовать науку как
инструмент социальных изменений, применяя научные методы в планировании типа и
формы развития страны» [153, с. 228]. Авторитет Неру, «святого покровителя
индийской науки», добившегося в 1958 г. принятия резолюции «О научной
политике» [153, с. 107—109], действует и сегодня. Резолюция, если и не определяет, то,
во всяком случае, удерживает политику правительства Индии в научной
ориентации, хотя в политических заявлениях, в том числе и в официальных, постоянно
звучат нотки антагонистического отношения к науке и к научному
мировоззрению. Так, министр внутренних дел Мустафи, математик по образованию, в одном
из интервью объяснил рост преступности в Индии отказом молодежи от
традиционных норм и принятием ею научного мировоззрения как нормы жизни —
«главная причина всего этого в том, что человеческие ценности, которые в
прошлом запрещали человеку насилие, сожжены ныне и развеяны ветрами со всех
четырех сторон света» [153, с. 175].
Нетрудно, конечно, списать и попытку Нидама возвести Себокта в ранг
святого покровителя истории науки, как дисциплины и попытку Рамана превратить
Неру в самостный знак на излишества, красоты стиля, без которых в нашей Ту
культуре вполне можно было бы и обойтись. Но, по нашему мнению, хотя
попытки этого рода явно оформлены в чуждых для научного мышления
религиозных контекстах, восходящих, похоже, к модели Платона, такие знаковые реалии
все же необходимы в роли организаторов материала. Во всяком случае, дело здесь
явно не исчерпывается стилем, вкусом. Налицо и потребность в чем-то автори-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 207
тетном для аудитории, что позволяло бы осуществить принцип авторитетной
доказательности: «говорить не от себя».
Если вернуться на конкретную почву традиции, той же системы «джаджмани»,
то здесь необходимость самостного знака, представляющего профессию в
семействе небожителей, связана не только с внутренними потребностями профессии
наладить процесс освоения нового знания, но и с социальным статусом
профессии. М.Кудрявцев пишет: «Размеры компенсации зависели не только от того,
кому платят, но и от того, кто платит. Так, например, джаджманы из брахманов
за те же услуги тех же групп каминов платили обычно меньше, чем джаджманы
других фупп. В этом сказалась привилегия высшей касты джаджманов перед
всеми другими. Так, каждый брахман выплачивал обслуживающему его плотнику
или кузнецу 10,5 фунта зерна в каждый сезон с каждого своего плута, тогда как
джаджманы других категорий при равных условиях платили 14 фунтов с плуга. И
все это независимо от объема фактически выполненных работ» [29, с. 125].
Социальный статус традиционной профессии во многом определяется
положением ее бога-покровителя в семействе небожителей и, как правило,
возникающие в результате революций новые профессии стоят рангом ниже наличных, не
сразу приобретают высокий статус. В этом смысле анализ теогонии может быть
источником ориентирующих сведений о порядке появления профессий и их
сравнительном статусе. В теогониях могут оставаться и следы событий,
сопровождавших освоение той или иной профессии, и это обстоятельство особенно важно для
выявления сильных и слабых мест традиции под углом зрения возможных
изменений.
В привычных для нас представлениях о традиционной культуре на первый
план выступает ее стабильность, отсутствие в ней изменений. Это обстоятельство
особенно подчеркивали первые исследователи социальных институтов традиции
в начале XIX в. Этот в общем-то не лишенный оснований взгляд на природу
традиционной культуры акцентировал внимание на живучести традиции, ее, так
сказать, непотопляемости. Основываясь на исследованиях того времени Маркс писал
о деревне-общине, как исходной социальной единице: «Простота
производственного механизма этих самодовлеющих общин, которые постоянно воспроизводят
себя в одной и той же форме и, будучи разрушены, возникают снова в том же
самом месте, под тем же самым именем, объясняет тайну неизменности азиатских
обществ, находящейся в столь резком контрасте с постоянным разрушением и
новообразованием азиатских государств и быстрой сменой их династии.
Структура основных экономических элементов этого общества не затрагивается бурями,
происходящими в облачной сфере политики» [40, с. 371]. В качестве
свидетельства Маркс приводит ссылку на работу Раффлза «История Явы», вышедшую в
свет в 1817 г.: «В этих простых формах... протекала с незапамятных времен жизнь
обитателей страны. Границы отдельных деревень изменялись редко; и хотя сами
деревни порой разорялись и даже окончательно опустошались войной, голодом
или эпидемиями, тем не менее они восстанавливались вновь под тем же самым
названием, в тех же самых границах, с теми же интересами и даже с теми же
самыми семьями и продолжали существовать целые века. Крушение или
разделение государства мало беспокоит обитателей деревни; раз деревня осталась цела,
им безразлично, под чью власть она попала, какому суверену должна
подчиняться; их внутренняя экономическая жизнь остается неизменной» [там же].
Исследования первой половины XX в. несколько изменили представления о
традиции. Оставляя стабильность и живучесть в числе существенных
характеристик традиционной культуры, они вместе с тем выявили весьма высокую
оперативность традиции в практическом освоении традиционными средствами явно
нетрадиционных включений в духе упоминавшегося уже заявления Энтховена:
«Современная Индия, создавшая касту шоферов из большого числа людей,
водящих автомашины, уже почти созрела для того, чтобы разбить ее на подкасту во-
208
M. К. Петров
дителей «роллс-ройсов», члены которой отвергали бы брак и совместную еду с
представителями подкасты водителей «фордов» [5, с. 332].
И речь идет не только о всеядности и гибкости процесса приведения нового
к традиционной структуре. Как замечает Д.Збавител, процесс часто принимает
форму нейтрализации нового примерно по той модели «инкапсуляции», о
которой говорит Н.Маллинз: враждебные традиции течения нейтрализуются их
переводом в традиционную структуру. «Говоря о путях образования новых каст, —
пишет Збавител, не следует забывать и о различных аборигенных племенах,
включенных в систему индуизма. Если они не становились неприкасаемыми, что
случалось нередко, то получали статус каст, занимавших определенные места в
кастовой иерархии. Известно также, что в эндогамные кастовые группы
превратились религиозные секты, выступавшие против кастовой структуры индуистского
общества, например лингаяты, поклонники фаллического символа Шивы, или
кабирпантхи, последователи индийского поэта Кабира, принадлежавшего к числу
активных противников кастовой системы. Та же участь постигла и сикхов, учение
которых в основе своей было антикастовым; индуизм просто превратил их в
отдельную кастовую единицу» [5, с. 332].
Словом, традиция не такая уж беззащитная и хрупкая структура, и если
человечеству приходится сегодня всерьез задумываться над проблемой культурной
унификации на базе Ту модели, а других вариантов в общем-то не предлагается —
при всех обстоятельствах знания предпочтительнее незнания, а по этому
параметру Ту культура при всех ее недостатках явно превосходит другие, — то сразу же
следует отбросить вариант решения по модели Агафьи Тихоновны, хотя он и
является сегодня господствующим в моделях культурной революции.
Пока прошли экспериментальную проверку и доказали свою состоятельность
две модели. Об одной — о межкультурной миграции на уровне младенцев — мы
уже говорили: эта модель не создает трудностей и действительно в принципе
могла бы решить проблему культурной унификации на базе любого типа культуры
на периоде двух-трех поколений, но вряд ли она когда-либо будет решена этим
радикальным способом — культуры всегда оставались и остаются при своем
мнении относительно собственных достоинств и недостатков. Другая модель — это
история европейского типа культуры, у входа в которую мы сейчас находимся.
Находимся в довольно-таки затруднительном положении: фарватер истории,
на котором мы ставим бакены и для которого ищем створы, то ли раздваивается,
то ли обнаруживает присутствие притока, который сольется с основным
течением. Для нас эта неясность предстает как методологическое требование на
раздельное исследование двух течений.
С одной стороны, нам нужно идентифицировать и указать вполне конкретную
локальную ситуацию, в которой отмеченная исследователями начала XIX в.,
Марксом и представительной группой исследователей XX в. стабильность и
«непотопляемость» деревень, «самодовлеющих общин» оказались бы в критическом
положении, то есть деревня выявила бы свою «социальную недостаточность» и
под давлением достаточно веских причин толкала бы людей на поиск, освоение
и обживание новых способов жизни, радикально отличающихся от традиции.
Этот фарватер мы обозначим как эгейский.
С другой стороны, обнаружив в традиции присутствие и функциональную на-
груженность самостного знака, бога-покровителя профессии и члена
царствующего семейства небожителей, воздействие которого на профессионалов
воспринималось на уровне данности или даже осознавалось в чем-то похожем на
предложенную Платоном «магнитную» модель мании, одержимости, намагниченности,
энтузиазма, мы убеждаемся в том, что универсальный для таких самостных знаков
авторитетный принцип действия, позволяющий профессионалам «говорить не от
себя», отнюдь не завершает свою историю традицией, может быть использован
на правах идентификатора для всей истории европейской культуры. Этот
фарватер мы назовем христианским.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 209
Между эгейским и христианским фарватерами или раздельными потоками,
которым предстоит еще слиться, обнаруживается известный параллелизм
событий. В эгейском явно разрушается наследственный контакт семей разной
профессиональной принадлежности, исчезает деревня, как социальная единица, уступая
место полису — куда менее стабильной социальной структуре, а главное —-
появляется дикая с точки зрения развитой традиции фигура человека-универсала,
совмещающего в себе на правах универсального динамического тезауруса группу
бывших профессий: правителя (гражданин), воина, чиновника, писаря, к которой
лишь частным способом привязан профессиональный динамический тезаурус Тп
(скульптора, например, у Сократа).
В христианском фарватере явный ущерб терпит семья небожителей. Исчезают,
хотя отнюдь и не синхронно с исчезновением наследственного контакта семей
разной профессиональной принадлежности, боги-покровители профессий, и хотя
часть их функций позднее передается институту христианских святых, святые
покровители явно не достигают статуса и функциональной нагруженности богов-
покровителей: святую Татьяну, например, покровительницу университета, никто
пока не привлекал в первые соавторы. Вся совокупность атрибутов человечности
в превосходных степенях — всеведение, всемогущество, провиденция
узурпируются одним самостным знаком, причем рвутся связи с динамическими
тезаурусами профессий, которые удерживали богов-покровителей в рамках переводимос-
ти их действий на текущий Тп профессии.
Оба течения, эгейское и христианское явно принадлежат к деятельности
лишних людей, пытающихся найти пути в социализацию, но совершенно различны
и по истокам и по способу воздействия на традицию. Эгейское, по нашему
мнению, связано с пентеконтерой, с деятельностью команд гребцов-пиратов из
младших сыновей эгейской традиционной социальности, которые «воспитывали»
острова и побережье Эгейского моря, затем и бассейна Средиземноморья, внедряя
новый совмещенный образ человека-универсала и полисную социальную
структуру. Христианское течение берет, похоже, начало от социальностей лишних
людей типа кумранских общин, «эссенов» Плиния старшего, которые в общем-то
предполагали существование традиции и воспроизводились, как позднее
воспроизводилась и церковь за счет внешнего кадрового обеспечения, поглощения
лишних людей.
В эпоху эллинизма оба течения сливаются воедино усилиями, главным
образом отцов церкви. Но почти сразу же, особенно после Никейского собора 325 г.
в этом едином эгейско-христианском потоке наблюдается то, что мы назвали бы
реставрацией традиции в сфере знака. Всемогущий и всеведущий бог христиан
становится постепенно типичным богом-покровителем профессии
интеллектуалов. Его действия вводятся в рамки динамического тезауруса Ти, его обучают
подчиняться решениям большинства, устанавливать законы-догматы в соответствии
с решениями соборов, заставляют писать «сумму» — Книгу Природы, подчинять
себя тезаурусным ситуациям акта общения.
Этот заключительный этап усмирения бога интеллектуалами лучше других
отмечен, по нашему мнению, в «Богословско-политическом трактате» Б.Спинозы,
в первом, на наш взгляд, исследовании специфики тезаурусных ситуаций
общения: «Итак, отсюда более чем достаточно обнаруживается то, что мы
намеревались показать, именно: что бог приспособляет откровения к пониманию и
мнениям пророков и что пророки могли не знать вещей, которые касаются чистого
умозрения (а не любви к ближнему и житейской практики), и действительно не
знали и что у них были противоположные мнения. Поэтому далеко не верно, что
от пророков следует заимствовать познание о естественных и духовных вещах.
Итак, мы приходим к заключению, что мы не обязаны верить пророкам ни в
чем, кроме того, что составляет цель и сущность откровения; в остальном же
предоставляется свобода верить как кому угодно» [67, с. 46].
14 М.К. Петров
210
M. К. Петров
Поскольку основные события в эгейском потоке предшествуют событиям
потока христианского, хотя здесь трудно быть уверенным в хронологии, мы
пройдем сначала эгейский фарватер.
3 этап (разрушение традиции). Нормальная традиционная социальность,
классические примеры которой мы обнаруживаем в бассейнах великих рек (Египет,
Двуречье, Китай, Индия) и на крупных островах (Ява, Цейлон) развивается путем
умножения профессий и, соответственно, увеличения совокупного объема
социализированного знания, распределенного по Тп человекоразмерных фрагментов
специализированных видов деятельности, передаваемых по семейным каналам
подготовки профессиональных кадров. Ограниченные возможности отвлечения
земледельческого продукта — основной «валюты» традиционных обществ — на
обеспечение нужд других профессий, что удерживает в социальных структурах
деревень 85—90% населения стран традиционной культуры, и постоянная
нацеленность на умножение профессий, как на способ традиционного развития,
социального освоения нового знания о мире, делают традиционное развитие
несбалансированным, придают ему тот специфический характер цикла: начало —
расцвет — увядание — катастрофа — начало.., который усилиями Шпенглера и
Тойнби стал едва ли не самой популярной моделью формализации исторического
процесса, хотя еще Маркс называл эту схему «избитой истиной» [41, с. 27].
Модель, действительно, с бородой: у Гомера, Мусея, Экклесиаста нетрудно
обнаружить варианты этой схемы от образа листвы — «Как листья на ветви ясеня, одни
распускаются и зеленеют, другие вянут и опадают, так и племена и роды
приходят и уходят» — Мусей до полного расписания «времен» — «Род проходит и род
приходит, а земля пребывает во веки» [Экклесиаст, 1, 4]; «Всему свое время, и
время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать; время
насаждать и время вырывать посаженное» [Экклесиаст, 2, 2].
Механизм выявления такой цикличности понять не так уж сложно.
Умножение профессий усложняет структуру наследственного семейного контакта
профессий на уровне деревни, если вообще доходит до него, причем усложняется, как
правило, хвост рангового распределения профессий — обслуживающий
центральную власть и позволяющий удерживать в единой социальной структуре
миллионные, а теперь уже можно сказать и миллиардные численности живущего
поколения людей. С ростом числа профессий растет и нестабильность «в облачной
сфере политики», хрупкость и уязвимость структуры на уровне правителей,
государственных чиновников, писарей и т.п., на уровне того, что современные
исследователи часто называют «храмовой социальностью», отождествляя ее со
«средневековьем» и обнаруживая во многих частях мира — в Непале, Бутане, в
Центральной Америке, в Северной Африке.
Под давлением внутренних и внешних потрясений гибнет именно эта
хвостовая часть рангового распределения профессий, тогда как деревня, если и терпит
ущерб, не разделяет судьбы традиционного государства, то есть не подчиняется
постулату Экклесиаста «время насаждать и время вырывать посаженное», ведет
себя как многолетнее растение рассчитанное на множество циклов
воспроизводства, если корни остаются целыми. Особой таинственности здесь не видно. Если
земледелие остается основой социальности, ни одна буря «в облачной сфере
политики» не может позволить себе замахнуться на этот корень жизни: есть будет
нечего.
Нам это обстоятельство следует взять на заметку прежде всего потому, что
разговор о сломе, о разрушении традиции коснется именно деревни, святая
святых традиции, и здесь надо быть осторожным, чтобы не затронуть этот корень
жизни, земледелие, которое остается столь же существенным условием
воспроизводства жизни для полисного грека, как и для традиционного индуса. Гомер, в
поэмах которого мы будем искать ключи к загадке «греческого чуда»
возникновения европейского типа культуры, так описывает этот корень жизни,
изображенный Гефестом на щите Ахилла:
История европейской культурной традиции и ее проблемы 211
Сделал на нем и широкое поле, тучную пашню,
Рыхлый, три раза распаханный пар; на нем землепашцы
Гонят яремных волов, и назад и вперед обращаясь,
И всегда, как обратно к концу приближаются нивы,
Каждому в руки им кубок вина, веселящего сердце,
Муж подает; и они, по своим полосам обращаясь,
Вновь поспешают дойти до конца глубобраздного пара.
(Илиада, XVIII, 541-547]
Хотя в этой картине не без излишеств — М.Шолохов в «Поднятой целине»
обходится, скажем, без кубков, но в целом она справедлива и для античности и
для традиции, да и для европейской культуры почти на всем периоде ее
существования. И эту картину приходится постоянно учитывать, о каких бы
радикальных переменах и коренных изменениях мы ни говорили.
Поэмы Гомера относятся к разгару событий по перемалыванию традиционной
культуры, и механизм этого воздействия многократно им описан, особенно в
рассказах Одиссея о своих приключениях на пути к дому. Вот одно из таких
описаний:
Ветер от стен Илиона привел нас ко граду киконов
Исмару; град мы разрушили, жителей всех истребили.
Жен сохранивши и всяких сокровищ награбивши много,
Стали добычу делить мы, чтоб каждый мог взять свой участок.
[Одиссея, IX, 39-42]
Мы выбрали это описание по соображениям краткости: оно в сжатой форме
описывает типичный «алгоритм» морского разбоя: нападение — уничтожение
взрослых мужчин — порабощение женщин и детей — оседание на захваченных
землях на правах глав домов. Существенной чертой этого алгоритма является то,
что он не предусматривает разрушения хозяйственных механизмов, речь просто
идет о социализации лишних людей методом субституции-выбивания наличных
глав домов новыми. Когда, скажем, Геродот пишет: «Ионийцы и карийцы,
вышедшие в море для разбоя, были застигнуты бурей и отнесены к Египту»
[История, II, 152], то можно не сомневаться, что вышли они в море вовсе не для того,
чтобы «пограбить» и вернуться в родные края — там им нечего делать, да и
Геродот, собственно, пишет не столько о грабеже, сколько о том, как появились
греческие колонии в Египте. Именно в силу этого алгоритма перспектива
разорить земледелие и остаться без средств к жизни не пугает лишних людей —
пиратов: они как раз тем и заняты, что уничтожают наличных земледельцев под
корень и сами занимают их место.
Чтобы понять деструктивные и конструктивные аспекты этой деятельности
лишних людей в бассейне Эгейского моря, получивших с появлением
многовесельного корабля мощное орудие перевоспитания жителей побережья, нам
следует вписать этот вид деятельности в локальные условия Эгейского моря, а прежде
того убедиться, что до начала этого процесса взаимного и сокрушительного для
традиции воспитания кораблем побережья, а побережьем корабля в Эгейском
море действительно существовала традиционная культура более или менее
нормального типа.
Эгейское море мало изменилось со времен Гомера. Это и сегодня
полузамкнутое море в бассейне Средиземного моря, забитое великим множеством
островов — более 2500 на 179 тыс. км2. В Эгейском море, по утверждениям очевидцев,
нет такой точки, с которой не было бы видно одного-двух островов. И сами
острова и побережье вряд ли и во времена наиболее пышного расцвета эгейской
культуры (крито-микенской) в 3—2 тысячелетиях до н.э. были идеальным местом
для земледелия — пригодны для земледелия сравнительно узкие прибрежные по-
14*
212
M.К. Петров
лосы, но это, похоже, имело и свои положительные стороны для развития
традиции до появления многовесельного корабля.
Абсолютно доказательных свидетельств в пользу существования в Эгейском
море традиционной культуры естественно нет и не может быть частью за
давностью лет, частью из-за слабой документированности процесса уже просто потому,
что на догомеровском этапе греки потеряли профессию писаря и письменность,
так что герои Гомера сплошь неграмотны, хотя и помнят о письменности. В
истории с Беллерофонтом Гомер единственный раз упоминает о письменности явно
того «табличного» типа, которая была обнаружена позже в Кноссе, Пилосе,
Микенах:
В Ликию выслал его и вручил злосоветные знаки,
Много на дщице складной начертав их ему на погибель...
[Илиада, VI, 168-169]
Неясности возникают также и из-за трудности расшифровки и того корпуса
документов, который имеется (линейное письмо А). Но кое-какие свидетельства
все же имеются.
Во-первых, это упоминания о Крите и ахейском царстве в египетских и
хеттских документах XV—XIII вв. до н.э., где они выглядят традиционными социаль-
ностями, а не «царствами» или «домами» гомеровских героев-басилеев, которые,
судя по описанию дворца Алкиноя и дома Одиссея имеют емкость порядка сотни
человек и очевидно не могут стать предметом внимания и признания со стороны
традиционной государственности. Число одних только писарей в Кноссе и
Пилосе составляло по подсчетам специалистов 30—40, то есть от трети до половины
такой крупнейшей и автономной социальной единицы гомеровских времен, как
дом Одиссея. Я.А.Ленцман пишет: «Число писцов во дворцах было достаточно
солидным. Беннету удалось определить «почерк» отдельных писцов Пилоса и
Микен. Микенские таблички из одного только дома были записаны шестью
разными почерками. В Пилосе соблюдалась строгая специализация писцов: один вел
учет колесниц, другой только овец и коз. В Пилосе и Кноссе числилось по 30—40
писцов» [34, с. 140—141].
Во-вторых, расшифрованная часть табличек крито-микенского периода
(письмо В) фиксирует типичную картину развитого профессионализма. Упоминаются,
как профессионалы: земледельцы, овцеводы, скотоводы, свинопасы, пчеловоды,
воины, гребцы, гончары, плотники, кузнецы, оружейники, золотых дел мастера,
каменщики, письмоносцы, хлебопеки и т.п.
В-третьих, в поэмах Гомера и Гесиода, а также и у более поздних авторов
обнаруживаются явные следы остаточного наследственного профессионализма,
причем сам факт трансляции профессии через семейный контакт поколений
идентифицируется по связи с традицией. Геродот, например, так сближает Спарту и
Египет: «А вот следующий обычай лакедемонян похож на египетский. У них
глашатаи, флейтисты и повара наследуют отцовское ремесло. Сын флейтиста
становится флейтистом, сын повара — поваром, а глашатая — глашатаем. На смену
потомкам глашатаев не назначают посторонних из-за зычного голоса, но
должность остается в той же семье. Такие наследственные обычаи хранят спартанцы»
[История, VI, 60].
В-четвертых, пантеон олимпийских богов, каким он представлен у Гомера,
Гесиода и у более поздних авторов построен по обычной традиционной схеме
членства в семье небожителей личного самостного знака — носителя текста
профессии и ее покровителя. Это дает, например, право тому же Геродоту отождествлять
олимпийцев с богами Египта по функциям покровительства и говорить об
египетском происхождении греческих богов [История, II].
Эти разрозненные свидетельства представляются нам достаточными для
подтверждения тезиса о традиционном начале европейской культуры.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 213
В несколько менее явной форме, но, на наш взгляд, все же достаточно
убедительно обнаруживает свое присутствие и некая долговременная причина,
стопорящая традиционное развитие в умножение профессий и разрушающая
традиционную социальность.
Прежде всего это хорошо известный археологам шкальный эффект раскопок
в бассейне Эгейского моря. С XX в. до н.э. пласты и горизонты дают картину
деградации социальности: под развалинами Трои, например, или Кносса
обнаруживаются еще более пышные развалины. Социальность вырождается как с точки
зрения ее объема по числу связанных в единство людей, так и с точки зрения
мастерства, объема знания. Потолка или «дна» этот процесс вырождения
социальности достигает в гомеровскую эпоху, которая вряд ли оставила что-либо
существенное для археологических изысканий. Не без фантазии описанные
Гомером «дворцы» басилеев лишь жалкие лачуги по сравнению с Кносским дворцом,
например.
Далее, общая деградация социальности до карликовых форм
«дома-государства» сопровождается значительными потерями специализированного знания,
снижением стандарта мастерства, исчезновением ряда профессий. Наиболее
известным примером такого опрощения является исчезновение письменности вместе с
профессией писца, писаря. Для социальных единиц типа Одиссеева дома
письменность была бы неоправданной роскошью.
Наконец, с точки зрения развитой традиции наиболее показательным
свидетельством упадка может служить упоминавшийся уже феномен совмещения
профессий — очевидный результат «противоестественной» интеграции нескольких
профессиональных текстов на базе динамического тезауруса индивида и перехода
этих текстов в личные навыки индивида. В поэмах Гомера почти все герои
демонстрируют эту совмещенность и прежде других — Одиссей. «По природе»
Одиссей — плотник, то есть «рабочий Афины». Но вместе с тем он земледелец,
царь, пират, воин, навигатор, искусный дипломат и политик, тороватый на
выдумки творец и исполнитель в самом широком диапазоне деятельности от
строительства плота до избиения численно превосходящих претендентов на руку
Пенелопы. С точки зрения традиции такая многосторонность — абсурд: невозможно
быть мастером во всех делах сразу без резкого снижения стандартов мастерства.
Вместе с тем, хотя присутствие долговременной стопорящей причины в
бассейне Эгейского моря можно для этого периода считать неоспоримым —
слишком уж наглядны ее манифестации, идентификация самой этой причины
наталкивается на значительные трудности.
Принятое большинством историков объяснение прогрессирующей деградации
социальности и «греческого чуда» опирается на катастрофы-нашествия. Это
объяснение, если оно и удовлетворяет принципу внешности, навязанности, то все же
вызывает глубокие сомнения как раз по линии научности, дисциплинарной
вечности, типизирующего и каузального подхода. Вторжения и нашествия,
приводящие к гибели развитых и переразвитых традиционных обществ не исключения, а
скорее норма истории традиционной социальности. Но, как это подчеркивается
исследователями с начала XIX в. катастрофы развитой традиции не отменяют
традиционного способа жизни, на развалинах развитого традиционного общества
возникает однотипная в культурном отношении традиционная социальность. Так
что, скажем, если в 99 случаях из ста катастрофа развитой традиционной
социальности в результате нашествий и вторжений давала начало появлению столь же
традиционной новой социальности, то этот аргумент от вторжений и нашествий
очевидно не может объяснить тот единственный случай-исключение, когда на
развалинах традиционной социальности вырастает в типологическом отношении
нечто иное, нетрадиционное. Дополнительным, а для нас и решающим
свидетельством против взгляда на «греческое чудо», как на естественный результат
нашествий и вторжений является упоминавшаяся нами во введении «шальная
мысль» Вентриса о тождестве языка табличек письма В с языком классической
214
M. К. Петров
Греции. Под типологически различенными алфавитами — слоговым письмом в
крито-микенскую эпоху и буквенно-фонетическим в классический период лежит
единый субстрат флективного греческого языка, которым пользовались и
традиционные крито-микенские греки и нетрадиционные классические греки. С этой
точки зрения та внешняя и чуждая традиции причина, которая препятствовала
движению в традиционную развитость и либо толкала на поиски нового способа
социальной жизни, новой социальной данности, либо сама участвовала в
складывании этого способа, в котором мы видим начало европейского типа культуры,
вряд ли может рассматриваться внешней в локально-географическом и в
этническом смысле, а когда мы говорим о нашествиях и вторжениях, мы подразумеваем
обычно именно эту географическую и этническую внешность: монголы, татары,
гунны, германцы.
Бессмысленно было бы отрицать нашествия и вторжения — они были и их
факты достаточно хорошо документированы. Бесспорен, например, факт пожара
Пилосского дворца, который дал в руки историкам своего рода «моментальный
снимок» пилосской традиционной социальности в момент ее гибели. Но с точки
зрения этнической однородности региона, которая столь же бесспорно
устанавливается принадлежностью табличек Пилоса и классических произведении греков
к одному и тому же языковому субстрату, нашествия и вторжения могут
вовлекаться в объяснение лишь на правах сопричин — катализаторов процесса гибели
традиции в этом регионе, а не на правах причин появления нового типа
кодирования социальной деятельности, новой социальной организации, нового типа
культуры.
При всем том аргумент от вторжений и нашествий имеет определенное
эвристическое и методологическое значение. Если как раз живучесть и
непотопляемость социальной основы традиции — семейный контакт поколений как
основной воспитательный институт и межсемейный наследственный контакт
профессионалов — делают несостоятельным объяснение «греческого чуда» от вторжений
и нашествий, поскольку во всех других известных случаях никакого чуда не
происходило и тип культуры оставался неизменным, то причина, вызывающая отказ
от традиционного типа культуры, должна, видимо, разлагающе действовать
именно на эту основу основ традиционной социальности — отменять или дополнять
семейный контакт поколений некой нетрадиционной вставкой,
трансформировать отношения межпрофессионального обмена продуктами и услугами.
Поскольку земледелия отменить нельзя и, судя по устойчивости изображенной на щите
Ахилла картины, ожидать от земледелия большей продуктивности тоже не
приходится, то гипотетическая причина, способная трансформировать семейный
воспитательный контакт поколений и межсемейный наследственный контакт
профессионалов должна вписываться все в ту же норму допустимого отчуждения 15—
20% земледельческого продукта на все иные социальные нужды.
Здесь в сферу нашего внимания, раз уж мы ищем причину локальную, а не
внешнюю в географическом и этническом отношениях, как раз и попадают
географические особенности традиционной греческой социальности. В отличие от
других традиционных социальностей континентального или островного типа,
греческая социальность была морской по преимуществу. Причем не просто морской,
а «эгейской», столь же специфически морской, сколь специфично и само
Эгейское море — забитый островами весьма скромный по площади бассейн. Хотя не
все острова пригодны для земледелия, благоприятный климат обеспечивает
устойчивые урожаи там, где земледелие возможно — в прибрежной зоне, в долинах.
Основное отличие эгейской традиционной социальности от континентальной
или островной могло бы в этом географическом контексте состоять в том, что
здесь крайне затруднен типичный для традиционной государственности маневр
по плотности насыщения профессионалами или социализированными лишними
людьми территории страны, когда воинов, скажем, можно располагать на
границах или в местах повышенной опасности, чиновников концентрировать в адми-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 215
нистративных центрах, лишних людей — на ирригационных сооружениях или на
строительстве стен, пирамид, храмов, создавая тем самым сравнительно
благоприятные «тыловые» условия существования для земледельцев и ремесленников,
для деревень на основной части территории страны. Эгейская социальность не
имела глубины, «тыла». Она была привязана либо к островам, либо к узкой
полосе побережья, и в этом смысле вся сплошь была «погранична».
Было бы, понятно, непозволительной уступкой географической школе, в
какой-то степени и геополитике считать эту географическую локальную
специфику самостоятельным определителем исторического процесса, способным взять
на себя ответственность за переход от одного типа культуры к другому. Если в
согласии с марксистской материалистической концепцией истории человек и
только человек является монопольным субъектом истории, придающим истории
человеческую метрику, то географическая локальная специфика сама по себе
должна быть учтена как фактор нейтральный, безразличный к усилиям человека
жить в том или ином типе социальности. Если уж эгейская специфика допустила
существование традиционной социальности, что подтверждается рядом
свидетельств, то нет смысла обвинять ее в ветренности, вероломстве, непостоянстве,
неодолимой склонности к тому или иному типу культуры. Это было бы
элементарным географическим фетишизмом, который, по нашему убеждению, ничем не
лучше фетишизма товарного или знакового.
Другое дело, что человек — существо не только разумное, но и
изобретательное — способен время от времени выпускать джиннов из бутылки, вводить в
действие дремлющие и нейтральные сами по себе силы природы (атомную энергию,
например), чтобы затем с той же изобретательностью от них спасаться. На
примере с чеканкой монеты Энгельс показал механику «цепной реакции» подобных
изобретений. Но чеканка монеты, как и алфавитное письмо, без которого грекам
вряд ли бы удалось опредметить категориальный потенциал греческого языка, —
изобретения более поздние. И монету начали чеканить и буквами стали писать
где-то в IX—VII вв. до н.э., так что эти величайшие изобретения античности вряд
ли способны участвовать в объяснении событий XIV—X вв. до н.э., скорее сами
должны быть объясняемы в контексте этих событий. Вместе с тем, та причина,
которую мы ищем, должна по всей вероятности принадлежать именно к этому
классу изобретений — к освобождению «джиннов из бутылки», то есть к числу
изобретений «грязных», которые дают такую массу побочных и
незапланированных следствий, что неизбежно порождают сомнение в том, а стоило ли это
изобретать или открывать.
Так или иначе, но если мы говорим о локальном характере стопорящей
причины и вместе с тем утверждаем, что действие этой причины имеет начало во
времени, несет более или менее определенную отметку времени (примерно XX в.
до н.э.), то мы обязаны признать рукотворный характер такой причины, видеть
в ней человеческое, а не естественное или, не дай бог, божественное творение в
духе, скажем, спортивной модели Гомера:
Боги сии и свирепой вражды и погибельной брани
Вервь, на взаимную прю, напрягли над народами оба,
Крепкую вервь, неразрывную, многим сломившую ноги.
[Илиада, XIII, 358-360]
Творение это должно быть именно «джинном из бутылки», проникать в
структуру традиционного общества под личиной самоочевидного блага, в невинных
одеждах очевидной пользы. Если бы с самого начала это изобретение было
опознано и понято как опасное и разрушительное для традиции, его невозможно
было бы социализировать, передать в социокод для трансляции в смене
поколений. Именно поэтому стопорящая причина, отсекающая поползновения
социальности идти в традиционную развитость, должна была поначалу хотя бы предстать
216
M. К. Петров
в привлекательно-завлекательном виде бесспорной пользы и перспективности, а
затем уже проявить себя, как изобретение или открытие с точки зрения традиции
«грязное», дающее множество незапланированных и разрушительных следствий.
Мы считаем, что всем этим требованиям удовлетворяет только многовесельный
корабль: никаких других изобретений, способных взять на себя эти функции
стопорящей причины в Эгейском море на периоде деградации традиционной
социальности не обнаруживается.
Фукидид пишет: «Минос, самый древний из тех, о ком мы знаем по слухам,
приобрел флот и на самом большом пространстве владел Эллинским морем и
Кикладскими... он искоренил также, поскольку это было в его силах, пиратство
на море, предпочитая, чтобы их доходы получал он сам» [История, 1, 4]. Нам
кажется, что здесь прослеживается через преломляющую призму классической
Греции существо дела. Как это теперь устанавливается по данным раскопок в
Кноссе, Крит долгое время был административным и хозяйственным центром
традиционной социальности в Эгейском море. Около 1700 г. до н.э. древнейшие
и наиболее пышные дворцы были разрушены, а на их месте появились дворцы
поскромнее. Где-то в середине XV в. до н.э. началось ахейское вторжение,
которое сопровождалось очередным разрушением дворцов. После Троянской войны,
она, по Геродоту, началась «через три поколения после смерти Миноса»
[История, VII, 171], произошло дорийское вторжение, после которого дворцов уже не
воздвигали.
Распространенное у многих античных авторов свидетельство-предание о том,
что у Миноса были уже корабли и что эти корабли использовались в той же
примерно функции, в какой континентальная или островная традиционная
государственность использует дороги, каналы, оросительные системы как для
осуществления центральной власти, так и для ее укрепления за счет поглощения лишних
людей в общесоциальных формах деятельности косвенно подтверждается тем
фактом, что где-то сразу после Миноса в Троянской войне участвовало уже
большое количество многовесельных кораблей, в основном пентеконтер — пятидеся-
тивесельных. По Гомеру [Илиада, II, 485—759], их было более тысячи. Вполне
возможно, что Гомер преувеличивал, но то, что многовесельные корабли под
Троей были и были в немалом числе, представляется несомненным.
В конкретных географических условиях Эгейского моря многовесельный
корабль — наиболее вероятный претендент на должность долговременной
стопорящей причины. Благонамеренность его появления на свет не вызывает сомнений.
Многовесельный корабль с достаточно внушительной вооруженной командой
обеспечивал непререкаемый авторитет центральной власти, целостность
разбросанной по островам социальности, надежное функционирование внутренних
коммуникаций. Подобно гидротехническим сооружениям Китая или аналогичным по
функции видам общественных работ в других традиционных обществах, корабль
обеспечивал поглощение избыточного населения, канализируя деятельность
лишних людей в полезные для государства формы внутренней связи, интеграции,
дисциплинарной практики, внешней экспансии. По этим критериям очевидной
пользы многовесельному кораблю ничего не стоило проникнуть в структуру
традиционной социальности и закрепиться в ней в качестве весьма полезного и
перспективного начинания «рабочих Афины» — плотников.
С другой, «коварной» стороны, в условиях Эгейского бассейна
многовесельный корабль есть, по сути дела, плавающий остров, сравнимый по силе с
естественным островом или участком побережья. Античность прекрасно понимала
эти особенности динамического тезауруса корабля. Ксенофонт писал:
«Властителям моря можно делать то, что только иногда удается властителям суши, —
опустошать землю более сильных; именно можно подходить на кораблях туда, где или
вовсе нет врагов, или где их немного, а если они приблизятся, можно сесть на
корабли и уехать...» [Афинская полития, II, 4].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 217
Это «можно сесть на корабли и уехать» как раз и превращает многовесельный
корабль при всей его внешней респектабельности и очевидной пользе в «джинна
из бутылки». Корабль равно хорошо служит и традиционным и
антитрадиционным целям. Как мощное орудие в руках центральной власти он охраняет
сложившуюся форму социальности, оперативно и действенно подавляя любые
поползновения к сепаратизму. Как не менее мощное орудие в руках антисоциальных
элементов — лишних людей, пиратов, — он разлагает традиционную
социальность, отчуждая в свою пользу растущую долю продукта, который по
традиционной норме предназначен совсем для других целей: для сохранения
государственности и для развития через умножение профессий, в том числе и управленческих.
Посаженная на скудеющий паек центральная власть оказывается перед
выбором: либо, подобно Миносу, пытаться искоренять пиратов, либо отчуждать
растущую долю земледельческого продукта, требовать с деревень больше, чем они
могут дать. И то и другое — безнадежные предприятия. Искоренять пиратов
значит в лучшем для центральной власти случае обмениваться кораблями: силы здесь
равные, корабль на корабль, и исход поединков равновероятен. Мы говорим «в
лучшем случае» потому, что любой корабль, как только он скрылся за
горизонтом, становится практически неконтролируемой автономной единицей, которая
вовсе не обязательно будет вести себя «по правилам», блюсти государственный
интерес, работать на пользу, а не во вред традиции. С другой стороны, пытаться
требовать от земледелия большего, чем оно способно дать (15—20%) продукта
значит для традиционной государственности рубить сук, на котором сидишь,
отменять традицию сверху: разорить или даже уничтожить земледельцев не так уж
сложно, опыта в этом отношении у человечества не занимать стать, но вместе с
земледелием приходит в упадок, лишается средств к существованию, гибнет и
сама центральная власть.
Положение пиратов существенно иное. Обеспечивая себя кадрами за счет
островного населения, пираты практически неуничтожимы, пока воспроизводятся
лишние люди, пока в семьях рождаются не только первые, наследующие
профессию отца сыновья. При этом перспектива разорить земледелие и лишиться
средств к существованию мало трогает пиратов. Античные и предантичные
пираты не профессионалы, а скорее переселенцы, как мы уже видели, избыточное
население, которое ищет входа в социальность, чтобы основать свой дом и
перестать быть избыточным. Этот процесс может реализоваться двояко. Сравнительно
мирный путь это тот, о котором мы уже упоминали, приводя слова Маркса о
вынужденной эмиграции, о выводе колоний [39, с. 567]. Но рядом с этим
сравнительно мирным случаем (с точки зрения «варваров» основание эллинской
колонии отнюдь не благо) существует и тот приводившийся нами пример из
рассказов Одиссея, случай переселения в условиях насыщения, который дает хорошо
документированный в античной литературе со времен Гомера алгоритм морского
разбоя.
Этот алгоритм интересен для нас в нескольких отношениях.
Во-первых, в случае удачных исходов морской разбой насыщает острова и
побережье отборными кадрами земледельцев и ремесленников, имеющих уже
типичную двучленную формулу динамического тезауруса: пират + земледелец
(гончар, плотник...), в котором специализированная составляющая усваивается дома
через семейный контакт поколений, а всеобщая (пират) осваивается на палубе
корабля и в операциях «опустошения».
Во-вторых, независимо от исходов, угроза нападения пиратов, которая скрыта
за горизонтом, будет «обучать» побережье, переводить навык воина во всеобщее
распределение. Осевшие на землю пираты не исключение из этого правила,
поэтому состав всеобщей составляющей динамического тезауруса будет скорее
«пират + воин».
В-третьих, защищать побережье от набегов можно лишь сообща,
противопоставляя коллективной силе пиратов коллективную же силу побережья, то есть по-
218
M. К. Петров
стоя иная угроза набега будет интегрировать побережье по общности интереса, как
корабль интегрирует пиратов по общности цели. Социальная структура деревни,
где все тропинки ведут к домам джаджманов, а ходят по ним ремесленники,
выполняющие свои наследственные обязательства, и, если гносис ремесленников не
чужд инструментальной модели Ципфа, дома ремесленников должны бы
располагаться на равном удалении от домов обслуживаемых ими семей джаджманов,
оказывается явно не лучшей формой локализации социальности для сбора по
тревоге. Деревня, как форма локализации социальности изживает себя не потому,
что вдруг обнаруживается возможность обходиться без продуктов земледелия, а
потому, что деревенские тропинки к домам джаджманов, деревенская
«стелящаяся» социальность, в которой производно от вида профессии, кузницу, плотнику,
цирюльнику, золотых дел мастеру приходится регулярно навещать от пяти до
сотни домов своих подопечных джаджманов, приходят в явное противоречие с
«мобилизационным предписанием», требующим в случае тревоги оперативного
появления организованного коллектива взрослых воинов в нужном месте.
Это требование оперативной концентрации силы, которое постоянно
поддерживается плутающей у берегов опасностью нападения, перекраивает топографию
деревни и традиционный статус профессий. Все то, что может быть сдвинуто с
места, прежде всего все ремесла концентрируются в одном месте — в полисе с
установленным пунктом сбора — агорой, которая становится и местом народных
собраний и рынком. Теперь уже все тропки ведут к агоре, и не ремесленник идет
к земледельцу, поле которого нельзя сдвинуть с места, а земледелец идет по
нужде в полис к ремесленнику. И хотя контакты профессионалов долгое время
сознаются и функционируют как наследственные межсемейные
взаимообязательства «родов» — в Афинах, например, до реформ Солона и Клисфена,
наследственный межсемейный контакт профессий — корень живучести традиции —
уступает место новым отношениям спроса и предложения. И если локализация троп
в деревне указывала на дома джаджманов как на место реальной власти, то теперь
тропы ведут к агоре, к месту народных собраний, и профессиональный прежде
навык повелителя переходит в навык всеобщего распределения, в гражданский
навык жизни сообща, так что реальный состав динамического тезауруса эллина
эпохи становления и подъема полисов движется к формуле: гражданин + воин
или пират + профессионал (плотник, кузнец, земледелец...).
Эту новую расстановку сил лучше других, по нашему мнению, зафиксировал
Платон в «Протагоре», как введение к спору Сократа с великим софистом о
природе добродетели: «Я, как и прочие эллины, признаю афинян мудрыми. И вот я
вижу, что когда соберемся мы на Народном собрании, то, если городу нужно что-
нибудь делать по части строений, мы призываем в советники по делам
строительства зодчих, если же по корабельной части, то корабельщиков, и так во всем том,
чему, по мнению афинян, можно учиться и учить; если же станет им советовать
кто-нибудь другой, кого они не считают мастером, то, будь он хоть красавец,
богач и знатного рода, его совета все-таки не слушают, но поднимают смех и
шум, пока либо он сам не оставит своих попыток говорить и не отступится
ошеломленный, либо стража не стащит и не вытолкнет его вон по приказу прита-
нов... Когда же надобно совещаться о чем-нибудь, касающемся управления
городом, тут всякий, вставши, подает совет, будь то плотник, медник, сапожник,
купец, судовладелец, богатый, бедняк, благородный, безродный, и никто его не
укоряет, как того, что, не получив никаких знаний, не имея учителя, такой
человек решается все же выступать со своим советом, потому что, понятно,
афиняне считают, что ничему такому обучить нельзя» [Протагор, 319 С — 319 Е].
Как видим, в гносисе Платона профессия земледельца не находится в зоне
активного цитирования. И так не только у Платона. Земледелец покидает
вершину иерархии профессий, и хотя его профессия остается в номенклатуре занятий,
достойных свободного человека, о земледельце чаще всего вспоминают, когда
требуется проиллюстрировать что-нибудь отсталое, косное, «неразвитое».
История европейской культурной традиции и ее проблемы 219
В-четвертых, по мере роста обороноспособности побережья набег, а производ-
но от него и оборона будут принимать вид нестандартной канонизированной
ситуации, где повторения опасны, а творческие вставки, дополняющие канон до
программы и вводящие в ситуацию момент неожиданности, всегда будут служить
тому, кто ими умело пользуется. Ниже мы попытаемся показать, что здесь мы
имеем дело и с запросом на теоретическое мышление и с реальным «палубным»
началом теоретического мышления как одной из знаковых реалий, выступающей
на правах условия осуществимости научного способа мысли.
В-пятых, пребывающему под постоянной угрозой набега побережью нет
смысла гадать, появился ли из-за горизонта корабль государственный или пиратский.
Маскировка под государственность всегда может оказаться «творческой
вставкой», поэтому любой корабль, будь он протрадиционной или антитрадиционной
ориентации будет по мере возрастания оборонительного потенциала встречать
одинаково настороженный прием, то есть традиционная государственность не
только вынуждена будет мириться со скудеющим пайком, но и будет постепенно
вообще выходить из игры, как несостоятельная в новых условиях форма
социальной интеграции. Вторжения и нашествия только завершат начатое кораблем дело,
окончательно уничтожат венчающий традицию институт государственности как
нечто несовместимое с новыми условиями жизни.
Но необходимость социальной организации, интеграции все же остается, хотя
это уже интеграция, государственность другого, «гражданского» типа, интеграция
по общности интереса в защите и нападении. Старец Египтий — «согбенный
годами и в жизни изведавший много» [Одиссея, II, 16] — достаточно четко выразил
на Народном собрании «людей Итаки» смысл этой общности интереса:
Кто же нас собрал теперь? Кому в том внезапная нужда?
Юноша ли расцветающий? Муж ли годами созрелый?
Слышал ли весть о идущей на нас неприятельской силе?
Хочет ли нас остеречь, наперед все подробно разведав?
Или о пользе народной какой предложить нам намерен?
[Одиссея, II, 28-32]
Более точно, в сухих договорных формулах станут выражаться позднее.
Первый пункт договора между некогда великим Кноссом и Тилиссом начинается,
например, так: «Тилиссянину разрешается безнаказанно заниматься грабежом
повсюду, кроме районов, принадлежащих городу кноссян. Все, что мы захватим
вместе у врагов, от всего этого при дележе пусть тилиссяне имеют: от
захваченного на суше — третью часть, от захваченного на море — половину» [82, с. 114].
Сколь бы огорчительным и низким не казался этот факт, но здесь перед нами
та самая первичная полисная область общности интереса, которая ляжет в основу
номоса, как добровольно принятого на себя и ко многому обязывающего
ограничения «жизни сообща».
Корабль, таким образом, если мы его пытаемся понять, как человеческую
коррективу к природной локально-географической специфике бассейна
Эгейского моря, как появление в этом бассейне плавающих и практически
неуничтожимых островов, способных держать под постоянной угрозой нападения и
уничтожения любую точку эгейской социальности, действительно способен стать
причиной глубоких социальных сдвигов, задевающих не только «облачные небеса
политики», как это свойственно обычным для традиции вторжениям и нашествиям,
но и самое основу традиции: наследственный межсемейный контакт
профессионалов, социальную структуру деревни.
Корабль не может, понятно, повысить продуктивность сельского хозяйства.
Технология земледелия остается прежней, из нее нельзя выжать больше, чем она
способна дать. Но запретить движение в развитый профессионализм корабль
определенно может. Создавая и поддерживая угрозу нападения как нечто постоянно
220
M. К. Петров
пребывающее за линией горизонта, корабль ставит за каждым жителем побережья
тень воина. Она не может материализоваться в индивида, поскольку такое по
правилам наследственного профессионализма удвоение индивидов потребовало
бы, как минимум, отчуждения 60% земледельческого продукта. Но и тень воина
не может оставаться тенью: пираты — люди, и тенями от них не отделаешься.
Иными словами, жителям островов и побережья не остается ничего другого, как
принимать эту дополнительную нагрузку воинских навыков, осваивать их с той
прилежностью и старательностью, которые приходят к человеку, когда дело идет
о жизни и смерти. Поскольку же человек смертен, поколения приходят и уходят
«как листья на ветви ясеня» и каждый будущий пират до поры до времени
остается жителем побережья, как и всякий бывший пират, если повезет, становится
жителем побережья, корабль вводит в жизнь человека новый и весьма
селективный цикл превращений: воин-пират или, выражаясь спортивными терминами
Гомера, он как раз и становится той самой «ноголомной веревочкой», через
которую традиционный тип культуры перепрыгивает в европейский.
Во времена Платона необходимость всеобщей военной подготовки
осмысляется как решающая составная универсальной части динамического тезауруса
полисного грека. Протагор говорит в мифе о возникновении социальности:
«Люди сначала жили разбросанно, городов еще не было, они погибали от зверей,
так как были во всем их слабее, и одного мастерства обработки, хоть оно и
хорошо помогало им в добывании пищи, было мало для борьбы со зверями: ведь
люди еще не обладали искусством жить обществом, часть которого составляет
военное дело» [Платон, Протагор, 322 В]. В Афинах, по свидетельству
Аристотеля, кандидаты в граждане — эфебы — обязаны были пройти год общей
подготовки, где их учили «фехтованию, стрельбе из лука и спусканию катапульты», а
затем, получив от государства «щит и копье», они в течение двух лет охраняли
«границы страны, дежуря все время на сторожевых постах». Только по истечении
этого трехлетнего периода они «становятся уже на один уровень с остальными
гражданами» [Афинская полития, 42, 4].
Многовесельный корабль, таким образом, не был просто «стопорящей
причиной», он, похоже играл роль учителя философии, объясняя журденствующей
традиции бассейна Эгейского моря, что к чему, что такое проза жизни и какой
именно прозой надобно ныне выражаться. Структурные аналогии палубной
ситуации, модели явно корабельного происхождения обнаруживаются и в
структурах полисной социальности. И это естественно: корабль, как «плавающая сила»
или «плавающий остров» формировал по собственному образу и подобию
прибрежную и островную социальность.
4 этап (корабль и полис). Палуба многовесельного корабля — типичный и
действенный тренажер субъект-субъектного отношения, частной, но крайне
важной для истории европейского типа культуры ситуации общения между А и В,
где все воли, таланты, умения формализовать каноническую ситуацию и
принимать решения отчуждены в голову одного, а умение оперативно декодировать
знак в деятельность распределено по аудитории, по многочисленной группе
исполнителей, причем от того, насколько однозначно, без искажений и вольностей,
без промедлений и размышлений декодируется этот знак, зависит судьба всех —
и того, кто кодирует, и тех, кто декодирует. На палубе господствует «слово», а
«дело» ходит у него в подчинении; уподобляется слову, нюансам слова. Это и есть
широко представленное в античной литературе отношение: «один разумно
движет, оставаясь неподвижным, другой разумно движется, оставаясь неразумным»,
которое составляет смысл субъект-субъектного отношения.
На палубе не остается места той внутренней свободе относительно времени,
которая характерна для традиции и деревенской социальности вообще, нет той
естественной самостоятельности субъекта, о которой Маркс писал: «Закон,
регулирующий разделение общинного труда, действует здесь с непреложной силой
закона природы: каждый отдельный ремесленник, например кузнец и т.д., выпол-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 221
няет все относящиеся к его профессии операции традиционным способом,
однако совершенно самостоятельно, не признавая над собой никакой власти в
пределах мастерской» [40, с. 370—371].
Отчетливые следы палубной ситуации общения, где нельзя без
субъект-субъектного отношения и господства слова над делом, мы обнаруживаем повсюду.
Одиссеев дом, например, как вероятно и менее импозантные дома его
современников, строится именно по этому палубному принципу. Здесь без труда
обнаруживается две палубы и «капитанский мостик». На нижней палубе располагаются
безымянные рабы — 50 рабынь и некоторое число рабов, «на работе порознь
живущих» [Одиссея, XVI, 318—319]. На верхней группа рабов, сохраняющих имена
и функционирующих в режиме программирования в слове дела нижней палубы.
Над этой второй палубой властвует Одиссей или, в его отсутствие, его сын
Телемах. Одиссей и Телемах строят свои отношения с палубой сохраняющих имена
рабов в том же режиме программирования дела, что и эта палуба по отношению
к нижней. В рамках этой основной социальной единицы гомеровских времен
глава дома полный и неограниченный повелитель. Это постулируется на
знаковом уровне формулировками типа: «в доме своем я один повелитель», с которыми
согласны все, и наглядно демонстрируется на уровне дисциплинарной практики.
Когда Одиссей, например, замышляет вместе с сыном операцию по проверке
рабов на лояльность [Одиссея, XVI, 304—321], то он сам полновластно, без
оглядки на какие-либо внешние нормы и инстанции определяет и меру наказания
и приводит приговор в исполнение [Одиссея, XXII, 455—477].
На пути к социальным единицам более высокого уровня гомеровские греки
имели пока еще слабо оформленный и лишь факультативно действующий по
вполне конкретным поводам институт Народного собрания. Народ Итаки,
например, не собирался со времени отъезда Одиссея, да и собравшись по жалобе
Телемаха на женихов, ничего не решил [Одиссея, II, 9—267]. Леокрит, один из
претендентов на руку Пенелопы, «распустил самовольно собранье народа» [Одиссея,
II, 276].
Но в этом движении к более емким социальным единицам греки пытаются
опереться на традиционный институт царской власти, причем именно здесь
заметны значительные колебания между тезисами «власть от народа» и «власть от
бога». Телемах, например, защищая свое право быть повелителем в собственном
доме, придерживается тезиса власти от народа:
Много достойнейших власти и старых и юных; меж ними
Вы изберете, когда уж не стало царя Одиссея,
В доме ж своем я один повелитель...
[Одиссея, 1, 391-393]
Женихи, напротив, придерживаются тезиса власти от бога:
О Телемах, мы не знаем, — то в лоне бессмертных сокрыто —
Кто над ахейцами волнообъятой Итаки назначен
Царствовать; в доме ж своем ты, конечно, один повелитель.
[Одиссея, 1, 394-397]
Сам Одиссей высказывает и ту и другую точку зрения в зависимости от
обстоятельств. Усмиряя волнения в стане ахейцев, он аргументирует от
божественности власти: «Нет в многовластии блага... Царь нам да будет единый, которому
Зевс прозорливый Скипетр даровал и законы» [Илиада, II, 204—206]. Он же у
врат Аида в вопросах к матери высказывается в пользу власти от народа:
Также скажи об отце и о сыне, покинутых мною:
Царский мой сан сохранился ли им? Иль другой уж на место
Избран мое и меня уж в народе считают погибшим?
[Одиссея, 174-176]
222
M.К. Петров
Жесткое отделение дел дома, где каждый «лишь один повелитель» от дел
общего интереса, где пока налицо колебания, явно отражает становление
динамического тезауруса полисного грека, где всеобщее суть дела общего интереса, а
частное, профессиональное — дела дома. Много позже Перикл вполне разъяснит
отношение между всеобщим и частным: «Свободные от всякого принуждения в
частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов больше
всего из страха перед ними и повинуемся лицам, облеченным властью в данное
время...» [Фукидид, История, II, 39]. Иными словами, попав во всеобщее
распределение, бывший наследственно-профессиональный навык царской власти был в
согласии с палубной практикой низведен до исполнительной власти — до
государственного «дела» и получил левое наращение в виде «слова» —
законодательной власти Народного собрания, которое программирует государственное дело
через закон-номос, имеющий равную силу для всех и превращающий всех глав
домов в рабов номоса — либо в безликих повелителей (лица, облеченные властью
в данное время), либо в столь же безликих граждан, повинующихся закону. В
горячке государственного строительства грекам, по свидетельству Андокида,
удавалось даже впадать в знаковый фетишизм. В 403 г. до н.э. после свержения
«тридцати тиранов», афиняне приняли закон о законе: «Законы. Неписаным законом
властям не пользоваться ни в коем случае. Ни одному постановлению ни Совета,
ни Народа не иметь большей силы, чем закон» [О мистериях, 85]. Это
добровольное порабощение знаку, букве можно считать символом завершения перестройки
социального кодирования в той его части, которая касается трансляции
универсальной части динамического тезауруса свободного эллина.
Аристотель так показывает процесс разложения единого прежде,
наследственно-профессионального царского навыка в соподчиненную иерархию должностей
исполнительной власти: «На высшие должности выбирали по благородству
происхождения и по богатству; правили должностные лица сначала пожизненно, а
впоследствии в течение десяти лет. Важнейшими и первыми по времени из
должностей были бас иле вс, полемарх и архонт. Из них первою была должность баси-
левса, она была унаследованной от отцов. Второй присоединилась к ней
должность полемарха, ввиду того, что некоторые из царей оказались в военных делах
слабыми... Последней является должность архонта... Кодриды отказались от
царского достоинства ради привилегий, данных архонту... Что же касается фесмофе-
тов, то они стали избираться много лет спустя, когда уже выбирали должностных
лиц на один год. Они должны были записывать правовые положения и хранить
их для суда над спорящими сторонами. Вот почему из высших должностей эта
одна не была более как годичной» [Афинская полития, II, 3, 1—4].
Являясь очевидным вариантом субъект-субъектного отношения, парность
номоса и общесоциального дела восстанавливает искореняемую пиратами
государственность, тезаурусный интерьер государственности на совершенно иной
универсально-всеобщей основе, радикально отличной от традиционной,
профессионально-кастовой. Эта новая государственность в значительно большей степени
опирается на знак, испытывает большую потребность в графической записи, чем
государственность традиционная. Уже здесь, в первых попытках движения к
социальным единицам более высокого уровня и большей емкости, чем дома
граждан и полисы, возникают те юридические и правовые нормы, формы, институты,
по образу и подобию которых с коррективами на специфику текущего момента
будут структурировать свою государственность страны европейской культуры
вплоть до настоящего времени.
В этой линии интеграции социальных систем мы теперь обнаруживаем массив
социализированного и подлежащего трансляции всеобщего знания, универсаль-'
ный этический тезаурус, с помощью которого регулируются отношения граждан
по поводу граждан и который формализует всю сферу общих интересов. Понятно,
что и на этот массив распространяются ограничения по человекоразмерности —
в нем нет элементов, норм, предписаний, не укладывающихся в динамический
История европейской культурной традиции и ее проблемы 223
тезаурус человека как существа естественного. По поводу этого этического по
основному содержанию текста возникают все виды познавательного,
воспитательного, приложенческого общения, представленные институтами воспитания,
законодательной и исполнительной власти, судами.
Исполнительная власть и суды работают в основном в режиме отрицательной
обратной связи, то есть имеют дело с социализированными уже индивидами,
правоспособными, вменяемыми, приобщенными к действующему номосу, причем
исполнительная власть со стороны государства уподобляет граждан номосу, а
суды со стороны граждан приспособляют номос к гражданскому интересу, что
обеспечивает, так сказать, действенную текущую пропаганду юридических
знаний, не позволяя номосу оторваться от эмпирии гражданских интересов и уйти
в подкорку обычая или привычки. Уже древние авторы указывали именно на этот
динамический смысл парности исполнительной власти и суда. О Солоне-законо-
дателе даже ходила легенда, будто бы он умышленно создал эту ситуацию,
«изобрел» ее. Плутарх пишет об этом: «Дело в том, что одинаково и по всем делам,
по которым он определил судить высшим должностным лицам, он предоставил
желающим право подавать апелляцию в суд. Говорят также, что он написал
законы довольно неясно и со множеством спорных пунктов и таким образом
увеличил значение судов, потому что, когда люди не могли разрешить своей тяжбы
по законам, им приходилось каждый раз обращаться к судьям и направлять
всякое разногласие на их усмотрение, так что судьи становились до некоторой
степени господами над законами» [Солон, XVIII].
Институты воспитания — трансляции государственности, гражданского
навыка — не сразу, естественно, получают всеобщую, привычную для нас школьную
форму типа обязательного образования, однако уже к VI—V вв. до н.э. греки
вырабатывают и набор более или менее обязательных «предметов» (грамота, игра на
кифаре, гимнастика, творения поэтов) и формы их внесемейного преподавания,
причем изучение номоса, как и воинский навык, рассматривается делом особым,
государственным. Платон устами Протагора рассказывает: «После того, как они
перестают ходить к учителям, государство в свою очередь заставляет их изучать
законы и жить сообразно с предписаниями этих законов, чтобы не действовать
произвольно и наудачу. Подобно тому, как учителя грамоты сперва намечают
грифелем буквы и лишь тогда дают писчую дощечку детям, еще не искусным в
письме, заставляя их обводить эти буквы, точно так же и государство, начертав
законы — изобретение славных древних законодателей, — сообразно им
заставляет и повелевать и повиноваться» [Протагор, 326 Д].
Основным институтом законодательного творчества, номотетики было
Народное собрание, которое определяло и официальную форму новации —
предложение — и официальную процедуру признания: запись фесмофетами принятого
предложения на правах решения. Андокид приводит одно из таких решений:
«Народ решил, Тисамен внес предложение: афинянам иметь государственный
строй согласно установлениям отцов; законами пользоваться Солоновыми и его
же мерами и весами; пользоваться также установлениями Драконта, теми именно,
какими мы пользовались в прежнее время. Что же касается законов, которые
понадобятся дополнительно, то пусть законодатели, только что выбранные Советом,
запишут их на досках и выставят перед эпонимами, чтобы каждый желающий мог
видеть, и пусть передадут властям в этом же месяце. Переданные законы пусть
будут подвергнуты сначала проверке Советом и пятьюстами законодателями,
которых выбрали демоты после принесения клятвы. Разрешить также любому
частному лицу являться в Совет и советовать все, что он сможет хорошего,
относительно законов. После того, как законы будут составлены, пусть Совет Ареопага
заботится о законах, чтобы власти соблюдали установленные законы.
Утвержденные законы записать на стене, там именно, где они были записаны прежде, чтобы
каждый желающий мог их видеть» [О мистериях, 83—84].
224
M.К. Петров
Рядом с этим официальным номотетическим каналом возникают
полуофициальные — суд, и неофициальные — театр, искусство, философия, но при всем
том весьма действенные средства номотетики, каналы обработки общественного
мнения, в каждом из которых устанавливается своя форма продукта и своя
процедура социализации-признания. О действенности комедии, например,
свидетельствует тот частный факт, что в Народное собрание Афин постоянно
вносились и постоянно им отвергались законопроекты о запрещении авторам комедий
«называть имена», то есть вовлекать в действие конкретных живых лиц.
Сложившийся в наборе официальных институтов трансляционно-познаватель-
ный интерьер античной государственности интересен для нас и важен своей
переходной, так сказать, природой, позволяющей ему быть чем-то вроде поворотного
круга истории, стыковать традиционное развитие и прямо ему противоположное
по вектору нетрадиционно-европейское развитие, в котором возможно и даже в
какой-то степени необходимо появление научной формы познания мира.
Будучи очевидной реализацией субъект-субъектного отношения на почве
динамического и этического тезаурусов всеобщего распределения, этот
институционализированный интерьер государственности предельно близок к палубной
модели и тем самым радикально отличен от трансляционно-познавательного
интерьера наследственного профессионализма (семейный контакт поколений,
бог-покровитель). В этом срезе на первый план выступает фигура законодателя: номос
как его личное «слово» и гражданская общественная жизнь, как подчиненное
этому «слову» законодателя «дело».
С другой стороны, идет ли речь о законодателе ранга Солона или о
безвестном Тисамене, эти законодатели не выведены на особую надгосударственную
палубу или «капитанский мостик». Они, подобно профессионалу-новатору,
включены в гражданскую эмпирию, остаются гражданами-новаторами в том же смысле,
в каком плотник-новатор остается плотником, а гончар-новатор — гончаром в
рамках их наследственных обязательств. В этом срезе при всей всеобщности
распределения гражданского навыка трансляционно-познавательный интерьер
античной государственности входит в очевидную близость с соответствующим
интерьером наследственного профессионализма, сохраняет преемственную связь с
традицией прежде всего на «переднем крае» номотетики, где
гражданину-новатору приходится объяснять свой вклад с опорой на наличный номический текст,
где ему нужен опорный знак для тех же по сути дела целей, что и
бог-покровитель профессионалу-новатору.
Следы этой преемственной связи с традицией обнаруживаются повсюду.
Дике-справедливость чисто традиционным способом вводится в пантеон
олимпийцев (дочь Зевса и Фемиды), становится общеэллинской
богиней-покровительницей государственности. В этой же знаковой должности оказываются часто
боги-покровители городов. Ареопаг — хранитель номоса и всего
антитрадиционного европейского начинания — афиняне прописали по Афине как ее
изобретение, дар и установление. Она же часто упоминается афинскими
гражданами-новаторами в традиционной функции опорной ссылки и даже как вполне
конкретное лицо, когда речь идет о решениях большой важности. Знаменитое
предложение Фемистокла о временном упразднении афинской социальности по случаю
имеющей быть Саламинской битвы начинается так: «Боги! Постановили Совет и
Народ. Предложение внес Фемистокл, сын Неокла, из дема Фреаррии. Город
вверить Афине, покровительнице Афин, и всем другим богам, дабы они охраняли и
защищали от варвара страну. Сами же афиняне и ксены, живущие в Афинах,
пусть перевезут детей и женщин в Трезену... А стариков и имущество пусть
перевезут на Саламин... Все остальные афиняне и ксены, достигшие
совершеннолетия, пусть взойдут на снаряженные двести кораблей и сражаются против варвара
за свободу свою и других эллинов» [52, с. 191].
В этой близкой к традиции практике деятельность граждан-законодателей
отличается и от палубы и от будущей научной формы познания мира самым суще-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 225
ственным образом. Защищаясь от критиков, Солон, например, вместо вторичных
разъяснений или хотя бы молчания, как это принято в науке, немедленно
обращается к авторитету олимпийцев:
Какой же я из тех задач не выполнил,
Во имя коих я тогда сплотил народ?
О том всех лучше перед Времени судом
Сказать могла б из олимпийцев высшая —
Мать черная Земля, с которой снял тогда
Столбов поставленных я много долговых,
Рабыня прежде, ныне же свободная.
[Аристотель, Афинская полития, I, IV, 12, 4]
Да и вообще аргумент от традиции остается весьма действенным, он в
большом ходу среди античных политиков, часто используется как «творческая
вставка» для решения нестандартной ситуации. Достаточно напомнить обстоятельства
возвращения Писистрата после первого изгнания, о которых упоминают почти
все древние авторы. В изложении Аристотеля этот эпизод выглядит так:
«Распространив предварительно слух, будто Афина собирается возвратить Писистрата, он
разыскал женщину высокого роста и красивую — как утверждает Геродот из дема
Пеанийцев или, как некоторые говорят, из Коллита — продавщицу венков, фра-
киянку по имени Фию, нарядил ее наподобие этой богини и ввел в город вместе
с ним. И Писистрат въезжал на колеснице, на которой рядом с ним стояла эта
женщина, а жители города встречали их, преклоняясь ниц в восторге» [Афинская
полития, VI, 14, 4].
С третьей стороны, трансляционно-познавательный интерьер
государственности, дающий право любому гражданину стать гражданином-новатором просто
потому, что он принадлежит к данному гражданскому сообществу, и обладающий
для осуществления этого права принятыми формами предоставления и
социализации номотетического продукта с сохранением имени новатора (предложение),
остается, как и массив публикаций в науке, постоянно открытым для новых
предложений-вкладов потенциальных законодателей из числа граждан-новаторов. К
тому же сам характер номотетического продукта, хотя он и связан универсальным
тезаурусным правилом объяснения нового от наличного, с опорами на наличное,
не имеет того ограничения по форме продукта, с которым всегда приходилось
иметь дело профессионалу-новатору, скованному по номенклатуре возможных
новаций структурой межсемейного контакта обмена продуктами и услугами.
Именно всеобщее распределение гражданского навыка убирает это ограничение,
и продукт номотетического творчества (предложение Фемистокла, например)
вполне способен продвигать «передний край» как раз в ту проблемную область
непознанного, как это происходит и в научных дисциплинах.
В этом срезе трансляционно-познавательный интерьер античной
государственности вполне определенно «начинает» дисциплинарность научного типа.
Начинает не только в том смысле, что граждане-новаторы становятся предельно
похожими на членов дисциплинарного сообщества, перестают быть анонимами,
фиксируются в номотетическом тексте как конкретные авторы и творцы новинок
и номотетическая история приобретает привычную для нас эпонимическую
характеристику, и даже не только в том, что вклад гражданина-новатора не
обязательно связан с профессиональной составляющей его динамического тезауруса —
об этом как раз и говорит Сократ у Платона, когда он описывает различие
реакций Народного собрания, производное от типа проблематики, — но и в том
решающем смысле, что здесь мы впервые наблюдаем появление «тыловых»
условий — эшелонирование, движение вкладов к «учебнику» — обычного
дисциплинарного образца.
15 М.К. Петров
226
M. К. Петров
Номотетическая деятельность, как и научно-дисциплинарная, не может
транслироваться через семейный контакт поколений, просто потому, что она требует
нового, новых вкладов, а семейный контакт поколений способен транслировать
только наличное и освоенное, уподобляя деятельность младших деятельности
старших. Соответственно, тот дренаж избыточного и морально стареющего
знания, который автоматически совершался в семейном контакте поколений —
старшие всегда селекционно подходили к воспитанию младших и обучали их лишь
тому, чему считали нужным обучать, — и удерживал фрагмент
профессионального знания в рамках человекоразмерности, а попутно и освобождал текст
бога-покровителя от освоенного профессией навыка для социализации новых, этот
дренаж становится в номотетике неосуществимым по той же причине, по какой
автоматический дренаж неосуществим и в науке.
В научных дисциплинах, как мы уже видели, чтобы получить возможность
переписывать учебник, постоянно удерживая его в жестко заданном сроками
обучения объеме перехода Ту-Тд, приходится проводить вклады и способы их
получения через эшелоны редукции-сжатия, отбирать и для курсов лекций и для
учебников только тот минимум, который, по мнению лекторов или авторов
учебников, представляет наиболее продуктивные средства познания на переднем крае
дисциплины. Те же задачи редукции и сжатия должны бы возникать и в
номотетике, коль скоро, и это подтверждают античные авторы, каждый свободный
гражданин волен был входить с законодательными предложениями в Народное
собрание, а Народное собрание имело на вооружении технику публикации —
фесмофетов, регистрирующих авторов, их предложения и принятые Народным
собранием решения. В этих условиях неизбежно накопление массива принятых
решений и, соответственно, появление по мере накопления законов-номосов,
решений насчет того, как именно ныне следует жить сообща, потребности в
ранжировании, в отделении главного от второстепенного, потребности в проходимом
для будущих граждан учебнике.
Наличие в античной номотетике нескольких «срезов» или «ликов», в том
числе и традиционного, предполагающего присутствие в каждом человекоразмер-
ном фрагменте знания и деятельности бога-покровителя, явная предметная
ограниченность номотетики субъект-субъектным отношением людей по поводу людей
и локализация этого предмета в универсальной части общего динамического
тезауруса свободного эллина дают, по нашему мнению право предположить, что
сама номотетическая деятельность в попытках синтезировать гетерономные
традиционные и палубные правила задавала бы процессам редукции и сжатия в
номотетике более или менее определенный вектор возможных результатов — «место
вероятных синтезов», где располагалась бы чреда богов-покровителей,
приобретающих контуры законодателя.
Прежде всего это касается состава той «божественной» деятельности, в
терминах которой, в динамическом тезаурусе которой живущему поколению
законодателей приходилось бы описывать свои результаты ради их социализации,
передачи в трансляцию, в систему воспитания новых поколений. Как и в случае с
наследственным профессионализмом динамический тезаурус деятельности
бога-покровителя гражданского навыка оказался бы копией земного, освоенного
гражданами арсенала форм гражданской деятельности. Иными словами, с той же
необходимостью и естественностью, с какой профессионал-новатор, описывая в мифе
свои результаты в терминах деятельности бога и не отрываясь от текста навыка,
освоенного в семейном контакте поколений, превращает бога в профессионала,
земной законодатель, гражданин-новатор, описывая свои результаты в терминах
деятельности бога-покровителя всеобщего навыка «жизни сообща» и не
отрываясь от текста, реализованного в динамическом тезаурусе поведения граждан,
уподоблял бы бога гражданину-новатору, придавая ему черты всеобщности.
Гражданское «дело», номотетика тяготеет к общению, поэтому в пределе чреда
богов-покровителей гражданского навыка стремилась бы к тому самому «глаго-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 227
люшему» логосу-слову, о котором в Библии сказано: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог» [От Иоанна, 1, 1]. Попытка ввести это
гипотетическое «место синтезов» на правах вектора развития дисциплинарного
«среза» номотетики задавала бы в качестве наиболее вероятных оснований
редукции растущего массива результатов: а) деяния великих законодателей
прошлого — для исторических сжатий текста; б) языковые универсалии, логику — для
теоретического сжатия массива.
Не ходим ли мы здесь вокруг да около той проблемы начала философии,
которая уже не первое столетие привлекает внимание историков мысли и культуры,
науки, философии? Ответ на этот вопрос очевидно будет зависеть от того, как
именно определена философия. Если, учитывая «трехликость» трансляционно-но-
мотетического интерьера номического самосознания полисных греков в рамках
универсального динамического тезауруса навыка гражданственности, философию
определить в дисциплинарных терминах по функции теоретического сжатия как
«теоретическую номотетику», то, видимо, в этом случае речь должна идти об
одном из начальных условий, о «начале среди начал». Возникает-то эквифиналь-
ным образом феномен дисциплины, трансляционно-познавательная единица
более высокого уровня, а форму философии она принимает под давлением чело-
векоразмерности производно от повода, по которому она возникает — производ-
но от перевода навыка правителя из профессионального во всеобщее
распределение. Точно так же, скажем, в эллинистическую эпоху, когда в разбросанных по
всему древнему миру греческих полисах возникнет опасность растворения в
варварском окружении «хоры», возникнет и потребность нормализации греческого
языка, возникнут и лингвистические теории александрийцев. Иными словами,
если философия — теоретическая номотетика, то она лишь «совозникает» как
частный и производный от повода вид дисциплинарности, возникает вместе с но-
мотетической деятельностью «переднего края», локализованного на Народных
собраниях, и сестрой по функции сжатия — «исторической номотетикой».
Мы принимаем на правах рабочей гипотезы именно этот дисциплинарный
механизм происхождения философии как теоретической номотетики,
функциональная роль которой в пределах трансляционно-познавательного интерьера номоте-
тической деятельности состоит, с одной стороны, в сжатии массива наличного
номического знания для трансляции новым поколениям номотетов-законодате-
лей, а с другой, — в разработке парадигм номотетической деятельности, правил
и ориентиров, которые давали бы живущему поколению потенциальных номоте-
тов каноническое представление о продукте их творчества, его форме и
назначении. На отсутствие свидетельств в пользу такой гипотезы жаловаться не
приходится: античная философия классического периода вся, по сути дела,
теоретическая номотетика, и эта ее функция «учебника» номотетической деятельности
сохранится вплоть до социальных утопий XVII в. Бэкон, например, как это
подчеркивает Е.Клаарен, именно по этой функции учебника осознавал всю
зловредную суть античности, языческой мудрости эллинов, когда он обвинял схоластов
теологов в том, что они блокировали прогресс в естественной философии:
«Редуцировали самое теологию в форму учебника, инкорпорируя тем самым в
религию «спорную и нудную этическую философию Аристотеля», в результате чего «в
течение всех этих столетий и до настоящего времени ни один индивид не сделал
своей профессией естественную философию в том смысле, чтобы посвятить ей
всю свою жизнь» [129, с. 103].
Поскольку трансляционно-познавательный интерьер гражданского навыка
целиком локализован в сфере общения, включает лишь всеобщее отношение
граждан по поводу граждан, а основным средством общения и соответствующей
деятельности является здесь язык, философия как теоретическая номотетика с
большой долей вероятности будет пытаться использовать на правах основания
теоретического сжатия логос, лингвистические структуры, универсалии языка.
Парадигматическая составляющая функции философии, как теоретической номотети-
15*
228
M. К. Петров
ки включала бы не только задачу представления наследуемой живучим
поколением граждан «суммы обстоятельств» в целостной и учитывающей ограничения по
человекоразмерности форме мировоззрения, то есть задачу чисто трансляционной
ориентации входящих в жизнь поколений, но и задачу критической оценки этой
«суммы обстоятельств», данности, задачу познавательной ориентации граждан, то
есть философия постоянно вырабатывала бы и транслировала на правах
социальной ценности идею «должной», «справедливой», «лучшей» социальности, чем та,
которая представлена наличной данностью. Иными словами, философия
вырабатывала бы для живущего поколения граждан и вектор исторического движения и
теоретические основания революционной практики.
Все это однако возможно лишь постольку, поскольку освоен уже навык
теоретического мышления — навык знакового представления ситуаций, их
формализации, операций с такими целостными представлениями, их проигрывания в
умопостижении на предмет выявления альтернатив и оценки альтернативных
решений в терминах благоприятных или неблагоприятных исходов. Пока мы можем
только утверждать, что навык теоретического мышления определенно
присутствует в античной философии, в эксплицитной форме представлен в этических,
социологических, математических, логических, лингвистических, космологических
учениях греков. Но на данном этапе наших рассуждений было бы еще весьма
затруднительно ответить на вопрос, появляется ли теоретическое мышление как
следствие появления всех этих учений или, совсем наоборот, все эти учения,
включая и философию, обязаны своим появлением на свет освоению человеком
теоретического мышления, как предпосылки и условия их осуществимости.
Наша позиция состоит здесь в том, что теоретическое мышление появилось
раньше своих экспликаций по частным поводам и что начало теоретического
мышления нужно искать на палубе многовесельного корабля, где ситуации
требуют на правах условия их разрешимости от того, кто «разумно движет, оставаясь
неподвижным» именно теоретического представления, как человекоразмерной
целостности проблемы, разрешимой наличными силами, совокупным
динамическим тезаурусом тех, кто способен «разумно двигаться и действовать, оставаясь
неразумным», быть «делом» при «слове» повелителя.
Понятно, что по поводу такой позиции можно сформулировать по крайней
мере два типа сомнений. Одно из них касается статуса теоретического мышления
в наборе мыслительных способностей человека. По нашим Ту представлениям
теоретическое мышление — универсалия мыслящих существ, и мы постоянно
убеждаемся в этом, обнаруживая, что хотя способности к теоретическому
мышлению распределены, как и все другие способности — к владению клюшкой или
футбольным мячом, или к фигурному катанию, пению, — далеко не равномерно,
непроходимых трудностей, судя по массовому возрастному движению индивидов
разной национальной и расовой принадлежности в овладении навыком
теоретического мышления не возникает. Этот навык осваивается либо в составе
социальной данности, либо в составе текстов-учебников и осваивается без особых
затруднений, хотя одним это дается легче, другим труднее.
Наша позиция исключает навык теоретического мышления из состава
универсалий, и тогда, понятно, возникает сомнение второго типа: способна ли
традиционная социальность, не говоря уже о первобытной, обходится без
теоретического мышления? Вопрос этот не праздный — мы говорим и пишем о китайской,
индийской, восточной философии и науке, об их историях, основываясь в
неявном виде на предположения, что и в традиционной культуре присутствует и
активно используется навык теоретического мышления.
Черновым ответом на эти сомнения могут, по нашему мнению, служить
частные данные исследования Ф.Дарта и П.Прадхана по Непалу. В качестве одного
из тестов они предлагали школьникам Непала и Гонолулу нарисовать, как они
ходят в школу, путь «из дома в школу». Предлагая эту задачу, они пытались
выяснить роль неформального обучения окружением, которое, по их мнению, не
История европейской культурной традиции и ее проблемы 229
прекращает своего действия и в школе: «Во всем, что ученик делает в школе,
незримо присутствует эхо его домашнего окружения» [ПО, с. 652].
Понятно, что состав этого эхо может способствовать или препятствовать
освоению навыков научного мышления, существенное место среди которых
занимает навык отвлечения, оперирования с абстрактными концептами: «Наука, как
ее себе представляет ученый и как бы ему хотелось, чтобы ее преподавали,
состоит не из тела-набора более или менее изолированных и подлежащих
запоминанию фактов, но представляет собою систему доступных эмпирическому
подтверждению соотношений между более или менее абстрактными концептами.
Хотя концепты производны от реальных явлений, эти соотношения науки
связывают концепты, а не реальные объекты, и теории науки создаются вокруг
«моделей», которые отображают в абстрактных, часто математических терминах
селективно-идеализированную картину реального явления. Для изучающего
естественные науки крайне важно научиться чувствовать себя как дома на этом уровне
сложности, овладеть этим процессом, который даже обычному европейцу
представляется весьма опосредованным... Конечно, в этом процессе играет роль и
неформальное обучение. Игрушки, которыми манипулируют дети, игры, в которые
они играют, деятельность взрослых, которую они наблюдают и которой
подражают, разговоры, которые они слышат, — все это вносит свою лепту в их
развивающиеся установки» [ПО, с. 652].
Ясно, что с точки зрения этого воспитательного воздействия окружения
непальские школьники находятся в более сложном положении: «Насколько же
труднее должна даваться наука ребенку, который живет в непальской деревне или
в маленьком городке, погруженный в резко отличное окружение со своим особым
повсюду распространенным «незападным» влиянием. Здесь он живет близко к
природе в прямом и повседневном отношении к процессам земледелия, где почти
нет необходимости в абстрагировании и мала потребность в генерализации. Он
не играет с механическими игрушками и не строит механических моделей. Он
наблюдает или участвует в играх, требующих искусства или построенных на
случайности, но он почти ничего не знает об играх, построенных на стратегии. В
своем доме он редко видит книгу, редко предоставляется ему случай иметь дело
с производными или отвлеченными качествами или концептами. Конечно и его
общество, как всякое общество, содержит множество абстрактов, идущих от
устного или письменного языка прямым путем к весьма сложной религиозной
космологии, но далеко не все из этих абстракций полезны в подготовке пути для
науки, которая требует выдерживания более специфичных и верифицируемых
отношений к природе. Так, любому непальскому ребенку будет знакомо
абстрактное представление ряда индуистских или буддийских богов и героев из
религиозных мифов или легенд, но эти представления невозможно подвергнуть прямой
или опосредованной верификации с помощью наблюдений, научным способом,
и эти представления не могут способствовать выработке научного подхода» [110,
с. 652].
Тест на изображение пути в школу и должен был, по мнению Дарта и Прад-
хана ответить на вопрос о степени различий воспитательного воздействия
окружения в Непале и на Гавайях: «Тщательный анализ неформального
интеллектуального окружения хотя бы только в одной из групп, которые мы посетили, был
бы весьма полезным делом, на которое однако у нас нет нужных ресурсов. И все
же нам хотелось включить несколько простых проверок эффекта неформального
обучения и его возможного влияния на обучение естественным наукам. Для этой
цели мы предлагали опрашиваемым нарисовать от руки карту, показывающую,
как они попадают «из дома в школу» (или к какому-нибудь другому хорошо
известному ориентиру). Карта весьма простой и вместе с тем типичный пример
научной модели. Она сохраняет допускающее верификацию однозначное
отношение к реальности и есть к тому же абстракция, интересная не только тем, что на
ней показано, но не менее и тем, что на ней опущено. Изготовление карты до-
230
М.К. Петров
пускает огромное разнообразие в представлении реальности, и соотношения и
выводы, которые можно извлечь из карты, хотя они и не целиком
абстрагированы от реальности, относятся все же к модели, а не к реальному миру. Мы
считаем, что карты, которые чертят дети или взрослые, чтобы представить хорошо
им известный маршрут или географическое окружение, могут до некоторой
степени свидетельствовать о подготовленности понимать и использовать другие
научные абстракции» [НО, с. 652—653].
Мы тоже так считаем. Дарт и Прадхан прилагают две типичные карты. Одна
(рис. 1) нарисована 15-летним лимбусом, где изображение его дома соединено с
изображением школы тропой, хотя дом и школа не располагаются на одной
улице или тропе, а больше ничего не показано. Другая (рисунок 2) — карта
11 -летнего школьника из Гонолулу, в левом верхнем углу которой даны условные
обозначения (квадрат с крестиком — мой дом; квадрат с флажком — школа), а
сам рисунок представляет из себя типичный набросок-кроки с изображением
относящихся к делу улиц и перекрестков с указаниями стрелками, куда следует
поворачивать, чтобы из квадрата с флажком попасть в квадрат с крестиком
(школьник из Гонолулу возвращается домой из школы).
Дарт и Прадхан так комментируют смысл этих карт: «Карты, которые мы
получали от непальцев, очень похожи друг на друга, и в качестве типичного
примера здесь может служить рис. 1. Они всегда включают зрительно узнаваемую
картину «моего дома» и «школы», причем дом и школа соединены линией,
означающей видимо процесс движения от одного к другому, а не пространственное
отношение одного к другому. Так, два здания, представленные на рис. 1 в
действительности не располагаются на одной улице или тропе, они разделены
несколькими перекрестками и другими ориентирами, ни один из которых не
появляется на карте. Для контраста мы даем типичную карту американского
школьника, нарисованную, как ответ на то же самое задание (рис. 2). Здесь и дом и
школа представлены абстрактными символами, а не картинками, здесь ясно
видна попытка показать пространственные отношения и сохранить необходимые
пространственные масштабы. Склонность непальцев изготовлять карты
(вербальные или графические безразлично) скорее в духе следования по времени, чем в
форме пространственного расположения не ограничивается только школьным
возрастом. На земле, по которой ходят пешком, где грамотность слишком низка,
чтобы оправдать применение знаков, эта склонность становится источником
множества неприятностей для многих путешественников, воспитанных в западной
норме. И нам тоже, когда мы во время путешествия обращались с вопросами,
жители давали инструкции или «карты», похожие на нить бусин. В них дается
правильное с точки зрения последовательности перечисление мест, мимо которых
следует пройти, но нет сведений о дистанциях, пересечениях, лзменениях
направления и т.д. Нас здесь интересует не точность или потенциальная полезность
этого особого типа модели, но лишь тот свет, который этого типа моделирование
проливает на способы мышления, и который далеко выходит за рамки процесса
изготовления карт как такового. Деревенские жители не используют карт другого
типа, они не пользуются чертежами при сооружении домов или изготовлении
предметов обихода. Да и вообще вряд ли они когда-либо используют графику или
пространственные представления (за исключением фиксации земельной
собственности, что происходит не так уж часто), поэтому отсутствие пространственных
моделей может оказаться весьма естественным. Интересно, однако, учитывает ли
это преподаватель естественных наук, когда он рассказывает о модели молекулы
или солнечной системы?» [ПО, с. 653].
И карты непальских школяров и комментарий к ним Дарта и Прадхана могут,
по нашему мнению, быть приняты в качестве хотя и косвенного, но в общем-то
достаточно веского свидетельства в пользу того, что в составе навыков мышления
людей, воспитанных в нормах традиционной данности навык теоретического
История европейской культурной традиции и ее проблемы 231
мышления по всей вероятности отсутствует и как таковой не входит в состав гно-
сиса как врожденный и, следовательно, универсальный.
Интересно в этом смысле сопоставить данные Дарта и Прадхана с данными
близкого по технике эксперимента Платона в «Меноне», где Сократ, подкрепляя
свою идею знания-воспоминания, то есть, если обойтись без мистики,
врожденности теоретического знания, убедительно демонстрирует причастность к навыку
теоретического мышления мальчика-раба, заставляя его решать геометрическую
задачу на удвоение площади квадрата [Платон, Менон, 81—87]. Результат
положительный, и он интересен в двух отношениях. Во-первых, если Платон описал
истинное событие, то он действительно доказывает, что в античной данности
навык теоретического мышления определенно присутствует. Во-вторых, хотя
Платон и стремится к этому, доказательства врожденности навыка теоретического
мышления определенно не получается. Чистота эксперимента нарушена
предваряющей сценкой. По просьбе Сократа Менон подзывает мальчика-раба, а дальше
идет диалог:
«Сократ. Он грек? И говорит по-гречески?
Менон. Конечно: ведь он родился в моем доме» [Менон, 82 В].
Нам кажется, что этот ответ Менона и объясняет суть дела: Раб родился и
воспитывался в античном окружении, а его воспитательное воздействие столь же
отлично от воздействия окружения времен расцвета эгейской культуры, как и
воздействие окружения непальцев от гавайского.
Но это, так сказать, черновые ответы. Чтобы получить более детальные
ответы, нужно искать следы становления навыка теоретического мышления на
переходном периоде от традиционной деревни, где навык не обнаруживается, как не
обнаруживается и сколько-нибудь заметной нужды в теоретическом мышлении,
к полису, где навык такого мышления обнаруживается в эксплицированной
форме. А обращение к этому переходному периоду возвращает нас к Гомеру, к
его описаниям событий.
Эксперимент Сократа, как и зондаж Дарта и Прадхана вряд ли смогут вызвать
серьезные разногласия по поводу того, могут ли они приниматься как
свидетельства в пользу или против присутствия навыков теоретического мышления. Каким
бы определением теории ни пользоваться, оба эксперимента и с квадратом и с
картой окажутся имеющими отношение к делу, способными подтвердить или
поставить под сомнение наличие у участников эксперимента того, что мы ищем. С
описаниями Гомера сложнее. Здесь уже необходим четкий идентификатор, более
определенное представление о том, чего мы собственно ищем. К тому же, сам
способ авторского изложения событий у Гомера настолько отличен от научных
стандартов, что в серьезных работах по истории философии обращение к Гомеру
как к источнику концептов практически обрывается на Аристотеле и
возобновляется практически только в XX в. в основном по связи с работами Ф.М.Корн-
форда [106, 107]. Эти обстоятельства, понятно, не облегчают поиска навыка
теоретического мышления, а с ним и начала-предпосылки философии и науки в
бурных событиях переходного периода.
Конструируя идентификатор для служебного, так сказать, пользования, мы не
будем стремиться дать определения теории, способные удовлетворить
современных ученых. Не говоря уже о том, что герои Гомера неграмотны, да и сами поэмы
долгое время сохранялись лишь в устной традиции, было бы несерьезно требовать
от Гомера и его героев высказываний и действий, удовлетворяющих современным
или хотя бы античным критериям теории и потому, что дело здесь, похоже, не в
степени совершенства и ясности формулировок, а в глубоком различии между
навыком теоретического мышления и продуктом теоретического мышления.
Научная теория, по нашему мнению, лишь частный продукт в номенклатуре
продукции навыков теоретического мышления и совсем не тот, который следует искать
у Гомера.
232
M. К. Петров
Из новейших определений теории и ее роли в процессе познания более других
для наших целей подходит динамическое и во многом полемическое определение
И.Гальтунга, сформулированное им в пылу борьбы с «бумажным» пониманием
процесса научного познания: «Научный процесс не завершается написанным
продуктом, где достигается только вербальное согласие, «бумажное решение». Он
завершается только тогда, когда изменяется реальность и достигается
эмпирическое согласие. Хорошая теория не та, которая дает отчет об эмпирической
реальности, а та, которая ведет к реализации предпочтительной потенциальной
реальности» [112, с. 64—65].
Из древних определений теории и способов ее построения современную
науку, особенно лингвистов и системников больше других удовлетворило бы,
видимо, описание Платоном в «Филебе» действий Тевта: «Первоначально некий бог
или божественный человек обратил внимание на беспредельность звука. В
Египте, как гласит предание, некий Тевт первый подметил, что гласные буквы (звуки)
в беспредельности представляют собой не единство, но множество; что другие
буквы — безгласные, но все же причастны некоему звуку и что их также
определенное число; наконец, к третьему виду Тевт причислил те буквы, которые
теперь, у нас, называются немыми. После этого он стал разделять все до единой
безгласные и немые и поступил таким образом с гласными и полугласными, пока
не установил их числа и не дал каждой в отдельности и всем вместе названия
«буква» (первоначало, стихия). Видя, что никто из нас не может научиться ни
одной букве, взятой в отдельности, помимо всех остальных, Тевт понял, что
между буквами существует единая связь, приводящая все к некоему единству. Эту
связь Тевт назвал грамматикой — единой наукой о многих буквах» [Платон,
Филеб, 18 С-Д].
Этот момент редукции множества и пестроты к целостности, к единству или,
как иногда переводят, к «союзу» существенен и для наших поисков. Но вот
широко признаваемый критерий полноты описания, полноты представленности в
этом единстве или союзе пестроты и разнообразия эмпирии для нас не то, чтобы
излишен, но требует уточнения по части переводимости статики в динамику,
поскольку то, что мы обнаруживаем в палубных ситуациях с субъект-субъектными
отношениями слово-дело по поводу набегов и вообще попыток реализовать
«предпочтительную потенциальную реальность» нуждается не в полноте как
таковой, а в полноте, обеспечивающей разрешимость текущей палубной ситуации.
Основным очагом появления и распространения новых навыков, отличающих
переходный период от традиции, было бесспорно субъект-субъектное отношение,
в основе которого лежит детально обсуждавшаяся нами на правах универсалии
тезаурусная ситуация акта речи между А и В. Сказанное выше по поводу тезау-
русного отношения как разности Ti-T0, которую уничтожают сдвигом Т0 в Ti,
объяснением, об условиях взаимопонимания А и В, о топосном арсенале средств
убедительной аргументации остается в силе и для всего спектра
субъект-субъектных отношений, но здесь на первый план выступают те крайние моменты акта
речи, которые Соссюр в своей модели обозначает, как переходы психических
процессов в физиологические — со стороны А, и физиологических в
психические — со стороны В [66, с. 50].
Субъект-субъектное отношение, в котором А «разумно движет, оставаясь
неподвижным», а В-аудитория «разумно движется, оставаясь неразумной», оставляя в
силе намеченную Соссюром последовательность процессов движения от А к В:
психический—физиологический—физический—физиологический—психический,
которой обеспечивается взаимопонимание, дополняет эту цепочку переходов прежде
всего со стороны В, где завершенное психическим процессом понимание должно
быть переведено в разумное действие, и поскольку палубные ситуации,
возникают ли они на палубе корабля или на суше, предполагают действия группы,
«команды», программы участников таких действий вовсе не обязательно
должны быть одинаковыми, В-аудитория в субъкт-субъктных отношениях может
История европейской культурной традиции и ее проблемы 233
выступать и в привычной для нас форме нерасчлененного единства (читатель,
телезритель, класс, студенческая аудитория) и в форме «союза» — единства,
расчлененного на некоторое множество участников с различными, но сопряженными
программами единого по цели действия.
Этот второй случай предполагает, по нашему мнению, навык теоретического
мышления, поскольку А в этой ситуации вынужден не просто строить тезаурусное
отношение с ориентиром на некий общий для аудитории Т0 с намерением
сдвинуть этот То в единое для аудитории значение Ti, но строить системное
тезаурусное отношение на базе некоторого множества Т0-х текстуального и
динамического плана, объяснять этому множеству-группе и конечный Ti, которого пока
нет и который предполагается достичь в фиксированном будущем
согласованными действиями группы.
Чтобы построить такое системное тезаурусное отношение, А в принципе
обязан владеть примерно тем же арсеналом операций со знаками, которым владеет
сегодня системник, решая типичные для системного подхода задачи по
укрощению и приведению к желаемому порядку объектов, которые по тем или иным
характеристикам ведут себя огорчительным для субъекта способом, вызывают его
недовольство, но в принципе допускают перевод своего поведения в более
приемлемую для субъекта форму. Задачи этого типа — в том числе и классические,
вроде противолодочной защиты морских караванов во время войны —
представляют из себя по сути дела формализованное недовольство субъекта поведением
объекта. Поскольку они явно покидают пределы незаинтересованного
наблюдения и свободы от ценностей, далеко не каждый ученый признает их научными —
объект здесь не только изучают, но и активно меняют в интересах субъекта. С
другой стороны, вряд ли найдется и такой ученый, который решился бы
утверждать, что этот класс задач не требует теории, навыка теоретического мышления.
В рамках системного подхода, где решаются этого рода задачи и где
действительно, говоря словами Гальтунга, «хороша не та теория, которая дает отчет об
эмпирической реальности, а та, которая ведет к реализации предпочтительной
потенциальной реальности» [112, с. 64—65], необходима все-таки и та «плохая»
теория, которая дает отчет об эмпирической реальности — объект нужно знать,
прежде чем браться за его воспитание, и лишь на базе знания объекта, его
уязвимых сторон и вероятных, а еще лучше однозначных реакций на
контролируемые условия окружения можно построить «хорошую» теорию. При всем том,
состав термина «знание» в этом системном смысле значительно отличается от
состава термина «знание» в общенаучном смысле. Для науки не существует
«избыточного» знания, и широко используемый системниками термин «релевантное
знание» или «релевантная информация» явно чужд научным представлениям о
знании как о самодовлеющей и абсолютной для науки ценности.
Системный подход в этом смысле много ближе к приложению, и хотя
системники любят подчеркивать и вполне правомерно подчеркивают, что их
исследования предполагают значительный объем чистых научных исследований, эти
исследования все же ведутся как поиск релевантного знания и ведутся, как
правило, до накопления некоторого минимума релевантного знания, позволяющего
решить задачу перевоспитания объекта наличными средствами или, это сегодня
происходит чаще, хотя бы установить, каких именно средств не хватает для ее
решения.
Ограничение релевантным, имеющим, отношение к делу знанием^ «таймиро-
ванность» — ограничение шэе^заданным сроком: решения, как" и "ограничения по
наличным средствам бесспорно оказывают влияние и ~на строение теорий,
используемых в системном подходе. В отличие от научных теорий они релевантны
не только в том смысле çj^e^n^HOHjjçjHHjj^cjH, который вытекает из постулата
переводи мости всех использованных в построении системы статических описаний
в динамические на базе наличного динамического тезауруса субъекта системы —
наличных возможностей, средств, навыков, но и по отношению к той задаче, ко-
234
M. К. Петров
торая выбирается системником из числа многих возможных в конечную цель
данной системы.
Вот, скажем, 18 американских фирм, связанных, главным образом, с
космическими исследованиями, разработали по контракту с властями штата
Калифорния систему информации для Службы здравоохранения штата, используя
обычный принцип «затраты-выгоды». Ссылаясь на работу И.Гуз [119], Р.Лилиенфельд
пишет: «Гуз показывает, что жизнь 20-летнего мужчины оценивается в этой
системе жизнями двух детей, если они мальчики, и трех, если они девочки.
Заработки женщин ставят их в категорию второстепенных граждан как в отношении
здравоохранения, так и в отношении образования» [136, с. 128].
Чтобы разработать шкалу таких оценок, нужна была, понятно, теория
ценности человеческого здоровья и человеческой жизни для штата Калифорния,
релевантная наличным возможностям и средствам Службы здравоохранения штата, ее
динамическому тезаурусу. Понятно также, что эта релевантная, по мнению фирм-
разработчиков теория рангового распределения здравоохранительных усилий по
категориям граждан штата Калифорния оказывается полностью или частично
нерелевантной для разработок системниками в том же примерно составе планов
перспективного развития городов Сан-Франциско или Питтсбурга, где
потребовались другой контракт и другая релевантная теория [136, с. 129—132].
При всем том релевантные теории с четко выраженными акцентами на пере-
водимости статики в динамику на базе щшамического тезауруса субъекта системы
и на конечной цели системы остаются все же теориями, законным продуктом
навыка теоретического мышления, какую бы причудливую форму эти теории ни
принимали под давлением принципа переводимости и специфики конечных
целей. И если мы подозреваем, что навык теоретического мышления рожден в
ситуациях деятельности лишних людей эгейскои традиш^они^ по
уничтожению традиционной деревни'неустранимой угрозой радикального
истребления ее законных глав домов силами команды гшаваюш£п^_£сл]2ов^ то
основной и исходной формой продукта такого возникающего навыка'могла бы
быть, по всей вероятности, именно эта релевантная форма теории, а не теория
вообще типа социологической теории Платона в «Государстве» или
космологических теорий Аристотеля в «Физике» и «Метафизике».
В таких теориях у Одиссея, скажем, нет потребности, а вот в релевантных,
когда, например, требуется усмирить циклопа или буйных женихов Пенелопы,
потребность определенно имеется, причем, по нашему мнению, хотя релевантные
теории, как и сама релевантность — причастность к определенной конечной
цели, — не обладают высоким: статусом' в иерархии ценностей научно-акадёшГ-
ческого сообщества, многие и вообще не признают за ними статуса теорий,
релевантная теория с точки зрения богатства вовлеченных в ее построение процедур
и правил обращения со знаковыми реалиями представляется нам более сложным
и «совершенным» конструктом" а стандартная научная теория — конструктом
редуцированным и в каком-то смысле вырожденным.
В составе обвинений, высказываемых в адрес релевантных теорий
системников на первом месте идут обвинения в произвольности упрощающих допущений
и в „междисциплинарной эклектике. Лилиенфельд, например, пишет: «Как теория
философия систем является смесью спекуляции и эмпирических данных, которая
не удовлетворяет ни требованиям умозрения, ни требованиям эмпирии. В
спекулятивной части она возрождает категории картезианского мировоззрения, а
эмпирические данные нахватаны ею из всех дисциплин без объединяющего
принципа. Будучи ошктической тexншшй_JфoJ)мaлюaции в различных прикладных
формах — исследование операций, анализ систем и т.п., — теория систем, как
мы видели, перестает работать в социальной и политической областях. Когда
попытки ее приложения заканчиваются неудачей, нам говорят, что теория
прекрасна, а вот приложение велось плохо. Это естественно вызывает возражение: если
судить о теории нельзя по ее приложениям, то как вообще о ней судить? Более
История европейской культурной традиции и ее проблемы 235
того, остается необъяснимым, каким образом теория, которая рождена не из
собственных приложений, способна все же сохранять значимость как теория» [136,
с. 192—193]. Объяснение, по Лилиенфельду, может быть лишь одним: «Когда
системные аналитики и философы работают в своих специализированных областях,
они у себя дома, тогда как их экскурсы в социальную и культурную области
неправомерны. Теория систем может оказаться и состоятельной, но она нуждается
в опоре на знания представителей общественных наук» [136, с. 193].
Мы вовсе не собираемся защищать энтузиастов общей теории систем от
справедливой во многом критики. Чего-чего, а произвольных упрощающих
допущений и неразборчивой эклектики в общей теории систем хватает, да и с
приложениями часто получаются провалы, хотя, по нашему мнению, происходят они
обычно по склонности системников-энтузиастов, как и отчаянных кибернетиков,
к комплексу Архимеда, который становится уже их профессиональной травмой.
Но мы в принципе не согласны с попытками критиков типа РЛилиенфельда,
И.Гуз, Д.Найта поставить крест на релевантных теориях и на релевантности, как
и с их советами звать на помощь варягов из «общественных наук». На наш
взгляд, методологические беды систешюго_подхода во многом проистекают из
доверчивости по отношению к данным дисцишшнарных исследований и к их
теоретическим интерпретациям, из. .которых как раз по нормам научного описания
"c^p^eji^cyfo релевантности^.
Так или иначе,"но искать стандартную научную теорию на переходном
периоде было бы, нам кажется, явно бесперспективным занятием, тогда как ситуации,
требующие для решения релевантных теорий, встречаются у Гомера довольно
часто. Более того, обнаруживаются хотя и не очень гладкие с точки зрения
логики, но в общем-то вполне наглядные и понятные параллельные описания,
часто повторы — на уровне слова и на уровне дела — со^ытий^ак они
программируются повелителем^ а затем, обычно через связку типа «его повинуяся слову»,
как они реализуются, исполнителями. Эта удвоенная форма описаний любопытна
для нас в нескольких отношениях.
Во-первых, слово у Гомера всегда выглядит господствующим и правым. Почти
все^лоключения его героев связаны с нерадивостью и своеволием дела. Даже
прощенное своеволие дел аТомер наказывает самым суровым образом от имени
богов. В случае с Еврилохом, например, которому Одиссей простил
«разговорчики в строю» [Одиссея, X, 260—270], грех неповиновения оборачивается
катастрофой. Тот же Еврилох подбивает спутников Одиссея убить быков Гелиоса
[Одиссея, XII, 339—365] и все, кроме Одиссея, гибнут от руки Зевса [Одиссея, XII,
405-420].
Во-вторых, то, что описывается на уровне слова, явно предполагает
вычлененную из эмпирии систе^^шузо^ощш^^ расстановку действующих лиц для ее
решения. Сами описания на этом уровне даны как пгюцесс кодирования
участников в деятельность по решению этой, ситуации К примеру, продумав и
подготовив акцию избиения женихов, успешно начав ее, Одиссей обнаруживает, что не
все идет по плану: Телемах забыл запереть дверь оружейной палаты и у женихов
появляются щиты и шлемы. Заподозрен Меланфий. И тут же следует оперативное
кодирование в действие для исправления ситуации:
С сыном моим Телемахом я здесь женихов многобуйных
Буду удерживать, сколь бы ни сильно их бешенство было;
Ты ж и Филойтий предателю руки и ноги загните
На спину; после, скрутив на спине их, его на веревке
за руки вздерните вверх по столбу и вверху привяжите
Крепким узлом к потолочине; двери ж, ушедши, замкните;
В страшных мученьях пускай там висит ни живой он, ни мертвый.
[Одиссея, XXII, 171-177]
236
M. К. Петров
И тут же идет описание дела:
То повеление царское было исполнено скоро:
Вместе пошли свинопас и Филойтий; подкравшися, стали
Справа и слева они у дверей дожидаться, чтоб вышел
Он к ним из горницы, где женихам во второй раз доспехи
Брал. И лишь только Меланфий ступил на порог...
Кинулись оба на вора они; в волоса уцепившись,
На пол его повалили, кричащего громко, и крепко
Руки и ноги ему, их с великою болью загнувши
На спину, сзади скрутили плетеным ремнем, как велел им
Сын Лаэртид, многохитростный муж, Одиссей благородный.
Вздернувши после веревкою вверх по столбу, привязали
К твердой его потолочине; там и остался висеть он.
[Одиссея, XXII, 178-193]
Таких повторов у Гомера много, и они явно не дань поэтической традиции,
не стилистические украшения или способы подчеркнуть важность происходящего.
Вот, скажем, обычная бытовая «палубная» сценка в доме Одиссея — Евриклея,
рабыня с палубы поименованных, программирует «дело»д>абынь.безымянных:
«Все на работу! Одни за метлы; и проворнее выместь
Горницы, вспрыснув полы; на скамейки, на кресла и стулья
Пестро-пурпурные ткани постлать; ноздреватою губкой
Начисто вымыть столы; всполоснуть пировые кратеры;
Чаши глубокие, кубки двудонные вымыть. Другие ж
Все за водою к ключу и скорее назад, поелику
Нынешний день женихи не замедлят приходом, напротив,
Ранее все соберутся: мы праздник готовим великий».
Так Евриклея сказала. Ее повинуяся воле,
Двадцать рабынь побежали на ключ темноводный;
другие начали горницы все прибирать и посуду всю чистить.
[Одиссея, XX, 149-159]
Нам кажется, что сам феноменi^ повтора^может быть принят в качестве
свидетельства новизны навыка оперированшГсо знаковыми представлениями
целостных эмпирических ситуаций и операций с такими представлениями. Назвать ли
этот навык теоретическим или как-либо иначе — дело, понятно,
конвенциональное, производное от определения состава такого навыка, но судя по тому, как его
. используют герои Гомера и прежде всего сам Гомер, в нем присутствуют
типичные для теоретического мышления операции вычленения,
абстрающи,,моделирования текущих и возможных ситуаций, проигрывание преемственный^|зменений
моделей в умозрении, кодирование действующих лиц по подлежащей ejy^e.peajiH-
)зации и отнесенной предвидением в будущее конечной системной цели. Эти
операции активно используются Гомером и его героями, хотя они и не^нашли еще
экономного, не требующего повторов оформления. Мы склонны считать, а на
будущее и примем в рабочем порядке, что HaBj^j,e^pejH4eja^ro^^MHieHIW появ~
ляется на переходном периоде по связи с палубными ситуациями ipynnoBbix дей-
^ствий, как необходимое, знаковоезвено обеспечения таких действий и что первым
"своим выявлением ^имеет^орму теорий, релевантных решению критических
ситуаций конфликта между кораблем и побережьем.
Таким образом, через палубу корабля, где появляется и отрабатывается
теоретический навык, и через подиыгую^номотетику, где в номенклатуре продуктов
теоретического мышления ЪЪявляет^ТГполучаЬт графическое устойчивое
оформление привычное для системной теоретическое построение, прочерчивается
эгейский фарватер исторщ^вродейсю^культурьь европейского движения в раз-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 237
витость. Другой, христианский, прослеживается по парадигматике выявлений то-
поса более просто, хотя и вряд ли ему могут быть указаны точные
хронологические ориентиры.
5 этап (не от себя говорить будет). Если в качестве идентификатора
христианской линии или христианского потока использовать ту «авторитетную» линию
намагниченности-одержимости модели Платона, которая, будучи традиционной
по происхождению, задает место точек или линию стяжения авторитетности
семейства небожителей к_ единому всеведущему и всемогущему авторитету само-
стного знака, и характерна тем, что намагниченные или одержимые говорят с
чужого Тожественного голоса, «не от себя», то кроме номотетической деятельности,
ще движение:j^MOHOTeH3My_идет производно от освоения гражданственности,
добродетели" как навыка, переведенного во^всеобщее распределение, и
совершается в процессе активного участия граждан в подготовке и выработке
общеобязательных решений — законов, номосов — относительно универсальных норм
«жизни сообща», на греческой" почве обнаруживаются и другие претенденты на
выработку механизмов такого__движения к^монотеизму. Это различного рода
религиозные движения типа орфиков, гшфагорейцев""или .эпикурейиевд получающие
социальное оформление и превращающие своих основателей в непререкаемые ав-
тсщгетьь. ссылка на которые" — «сам сказал» — считалась вполне убедительной.
Так было с Пифагором и еще в большей степени с Эпикуром, слова которых и
в эпоху позднего эллинизма были для их последователей истинами в последней
инстанции, хотя и о Пифагоре и об Эпикуре было доподлинно известно, что они
смертные люди, как были известны и обстоятельства их смерти.
В эпоху патристики многое из продуктов деятельности орфиков,
пифагорейцев, эпикурейцев, стоиков, неоплатоников было включено в понятийно-концеп- (
туальный_арсенал[ возникающей ^фистианскби теологии как дисциплины, форма- /
лизованной части христианской религии, которую не следует путать с самим ре- )
лигиозным чувством, не нуждающимся в формализации, в знаковом рациональ-„
ном оформлении.
Но эти претенденты на должность начала христианской линии в истории
европейской культуры по ряду существенных признаков уступают первым
христианским общинам Ближнего Востока. И дело здесь не только ^^окументирован-
ности локального распределения библ_е^ских событий. — локальная их привязка,
как и в случае с Гомером, приняла документированную форму много позже, и
если сегодня, скажем, в любом каноническом издании Библии карты древнего
мира и отмечать на них места происшествий, то это в основном работа
историков-критиков XVIII и начала XIX вв., а в том, что ряд норм и обычаев
социальной жизни таких общин, которые еще древним казались странными и
необычными, прочно вошел в христианскую церковную и духовную практику. Если,
например, описать интерьер воспроизводства духовных и интеллектуальных кадров
от монастырских школ до университетов или интерьер пастырской функции
церкви, то обстановка того и другого интерьеров довольно четко распадется по
генезису па-Эгейскую и обшинногхристианскую линии, причем в интеллектуальной
части будут преобладать эгейские, а в поведенческой, пастырской,
литургической — общинно-христианские реалии.
Странности жизни христианских общин отметил еще Плиний Старший: «К
западу (от Асфальтова озера, т.е. Мертвого моря), но в достаточном отдалении от
берега, чтобы избежать вредоносных испарений моря, проживают.есшш — племя
уединенное и наиболее удивительное из всех во всем мире: у них нет ни одной
женщины, они отвергают плотскую любовь, не знают денег и живут среди пальм.
Изо дня в день число их увеличивается благодаря появлению толпы утомленных
жизнью пришельцев, которых волны фортуны влекут к обычаям ессенов. Таким
образом, хотя этому и трудно поверить, в течение тысяч поколений существует
вечный род, в котором никто не рождается, ибо отвращение к жизни среди других
людей способствует увеличению их числа» [Естественная история, V, 17, 73].
238
M. К. Петров
Более детально описывает жизнь ессенов Иосиф Флавий, подчеркивая
общность имущества, труд по профессии — «эпимелеты посылают каждого на ту
работу, в которой он сведущ» [Иудейская война, II, 8, 5] — общность трапез,
почитание бога и законодателя, а также людей, облегченных властью, «так как
правление никому не достается без воли бога» [там же, 8, 7], веру в тленность тел и
бессмертие душ [там же, 8, 11]. Если Плиний Старший описывает ессенов как
социальность лишних людей, даже людей, разочарованных в жизни, то Флавий
рисует их социальные единицы-общины в традиционных красках с тем однако
существенным отличием, что вступление в эту общину требует предварительной
универсальной подготовки, чего по нормам традиции не требуется. О том же
говорит и Филон Александрийский [82, с. 616—618].
С середины 40-х гг. в пещерах побережья Мертвого моря обнаружено
множество документов кумранской общины, более 40 тыс. рукописей и фрагментов, и
хотя этот корпус литературы находится еще в стадии изучения, принадлежность
его к христианской линии бесспорна. Рукописи ориентировочно датируются II в.
до н.э. — I в. н.э., и по времени, как и по содержанию, в общем-то подтверждают
свидетельства древних авторов. Свидетельства же в самих этих документах и сам
их состав предполагают значительную историческую глубину: некоторые
исследователи говорят о том, что ряд текстов на тысячу лет древнее^санони^ской_^иб-
лейской традиции, хотя, естественно, дальше предположений здесь вряд ли
можно идти.
Существенно для нас то, что в этих документах четко представлена и палубная
лилив-беслтрекрсловного подчинения дела слову, и совмещенная с ней линия
движения в иерархии авторитетов к самостному знаку-абсолюту, обладающему
всеведением и провидением. В «уставе» кумранской общины есть, например,
места, которые вполне годились бы для клятвы гомеровских пиратов на верность
и послушание своему повелителю, его слову: «И все побужденные его истиной
внесут все свое знание, всю свою силу и все свое имущество в общину бога, дабы
очистить свое знание правдой законов бога, а силу свою укрепить сообразно
совершенству его путей, а все свое имущество (употребить) по его совету. И не
отступать ни в едином из слов бога в их пределах, но не упреждать их времена и
не отставать от всех их сроков и не уклоняться от законов его правды, идя
направо и налево. И все вступившие в устав общины пройдут в союзе перед лицом
бога, чтобы делать все, как он приказал, и не отступать от него не из-за какой
боязни или ужаса и испытания, бывающих при власти Велиала» [82, с. 594].
С другой стороны, здесь же идут заявления, явно отнесенные к вершине
иерархии авторитетов: «От бога всезнающего все сущее и бывшее. Прежде их бытия
он направил всякую их мысль, и в своем бытии они выполняют свои дела ради
свидетельства о себе, согласно его величавому замыслу, и (те дела) не подлежат
изменению. В руке его законы всему, и он их поддерживает во всех их нуждах.
Он сотворил человека для владычества (над) миром и положил ему два духа. Это
духи Правды и Кривды. В чертоге света — родословие Правды и из источника
тьмы — родословие Кривды. В руке начальника света власть над всеми сынами
праведности, путями света они будут расхаживать. В руке ангела тьмы вся власть
над сынами Кривды, путями тьмы они будут расхаживать» [82, с. 595].
Что касается канонического текста Библии, то он уже в патриотический
период воспринимается по модели Платона — пророки, апостолы существуют лишь на
правах одержимых, через которых всеведущий и всемогущий авторитет подает
свой голос. Августин писал: «Он, говоривший, насколько считал достаточным,
сначала через пророков, потом сам лично, после же через апостолов, произвел
также и Писание, называемое каноническим и обладающее превосходнейшим
авторитетом. Этому Писанию мы доверяем в тех вещах, незнание которых вредно,
но и знания которых мы не в состоянии достигнуть сами» [О граде божием, XI, 3].
Вместе с тем в Библии обнаруживается несколько деталей весьма важных, по
нашему мнению, для понимания христианского потока или притока истории ев-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 239
ропейской культуры. Во-первых, это хорошо исследованная проблема близости
библейского мифа о творении стандартным традиционным теогониям, которая
особенно глубоко исследовалась М.Ф.Корфордом [106], и нам в этом плане
нужны лишь частные детали, чтобы отметить не столько даже резкий перебой,
сколько заметный рубец на переходе от традиции к чему-то другому, от истории
допотопной к истории послепотопной.
Допотопная история носит явные следы истории семейства небожителей.
Рождаются, собственно, не люди, а боги — покровители профессий: «И взял себе
Ламех две жены; имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. Ада родила Иавала: он
был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец всех
играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был
ковачем всех орудий из меди и железа» [Бытие, 4, 19—22].
В критическое состояние эта допотопная история приходит опять-таки по
традиционному поводу соучастия богов, «сынов божьих» в деятельности людей:
«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны
Божий увидели, что они красивы и брали их себе в жены, какую кто избрал. И
сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками; потому
что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле
исполины, особенно же с того времени, как сыны Божий стали входить к
дочерям человеческим и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди.
И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли
и помышления сердца их были зло во всякое время» [Бытие, 6, 1—5].
Это недовольство не то людьми, не то собственными сыновьями и ведет к
решению бога перечеркнуть этот первый и неудачный вариант: «И раскаялся
Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце своем. И сказал
Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до
скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю: ибо я раскаялся, что создал их» [Бытие,
6, 6-7].
Этот сбой в самом начале канонического христианского потока позволяет нам
заметить важную для нас деталь слияния эгейского и христианского потоков в
более или менее единый поток европейской культуры: по Библии прослеживается
не один, а два потопа. Один, так сказать, физическим способом прекративший
начатое было традиционное развитие, и другой — «потоп» интеллектуальный,
показавший несостоятельность и второго послепотопного варианта истории и,
похоже, возродивший традицию. Для второго интеллектуального потопа просто
была выбрана иная и во многом традиционная мера пресечения истории. Если в
первом варианте созданные по образу и подобию традиционных
богов-покровителей «сыновья божий» были, если и не основной причиной, то во всяком случае
активной сопричиной развращения человеков и божественного раскаяния,
принявшего форму потопа, то теперь одному из них, «сыну божьему», предлагается
в очередной раз исправить промах отца, переписать историю. И событие это
начинается с умножения семейства небожителей, с создания бога-покровителя
духовной профессии — святого духа.
В Библии это событие фиксируется, как предстоящее сценками прощания
Иисуса с учениками, где Иисус говорит о скором появлении духа-утешителя, на-
ставителя, который «не от себя говорить будет», в евангелиях от Луки и от
Иоанна. В евангелии от Луки фиксируется место будущего события: «Я пошлю
обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше» [от Луки, 24, 49]. В евангелии от Иоанна уточняется
смысл предстоящего события: «И я умолю отца, и даст вам другого Утешителя,
да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому
что не видит его и не знает его; а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в
вас будет... Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет отец во имя мое, научит
вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой
даю вам: не так, как мир дает, я даю вам» [От Иоанна, 14, 16—17; 26—27]. В
240
М.К. Петров
сценках присутствует и тезаурусная составляющая: «Но я истину говорю вам:
лучше для вас, чтобы я пошел: ибо, если я не пойду, Утешитель не придет к вам;
а если пойду, то пошлю его вам... Когда же приидет Он, дух истины, то наставит
вас на всякую истину; ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам» [от Иоанна, 16, 7—13].
Дух святой появился в день пятидесятницы при странных, лингвистически
окрашенных обстоятельствах: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; и явились им
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И
исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещавать» [Деяния, 2, 2—4].
Сама формула обещания Иисуса ученикам: «Еще многое имею сказать вам,
но вы теперь не можете вместить» [от Иоанна, 16, 12], подчеркивающая тезау-
русную несостоятельность аудитории, показывает дух святой типичной
инстанцией одержимости, чем-то между богом-отцом и людьми или даже богом-сыном
и людьми, то есть дух святой похож на бога-покровителя профессии. И если
учесть обстоятельства его появления для людей, это бог-покровитель
христианской пропаганды, слишком уж подчеркивается, трижды повторяется мысль о
мгновенном обучении апостолов языкам народов Римской империи и
соответствующее удивление этих народов: «Парфяне и Мидяне, и Еламиты, и жители
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и
частей Ливии, прилежащих Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты,
Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах
Божиих» [Деяния, 2, 9—11]. Вполне возможно, что авторы соответствующих мест
ничего большего и не имели в виду: появилась гпэрфе^ия
апостола-пропагандиста и ее требовалось оформить привычным способом через фигуру
бога-покровителя. Поскольку трудность новой профессии состояла в том, что апостолу волей-
неволей приходилось быть полиглотом, дух и начал с главного, с обучения
языкам. Так или иначе, но именно от этого события начинается в Европе все
духовное от духовного сословия до феноменологии духа.
Вместе с тем, с точки зрения истории экспликаций формула обещания
Иисуса — «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» — не
укладывается в рамки традиционно-профессионального смысла. Упоминание о
«вместимости» впервые в европейской литературе жестко и четко формулирует
мысль об_исторической ограниченности человеческого знания, сопровождая эту
констатацию обещанием нового знания. Именно этот смысл европейская история
эксплицирует из формулы обещания Иисуса, то есть превращает духа святого из
бога-покровителя пропаганды в бога-покровителя познания, в необходимейшее
для будущего Европы основание преемственного развертывания познавательных
способностей европейцев во времени.
По причастности к этому основанию начинается, в основном силами
апостолов, а затем и отцов церкви и теологии, процесс приобщения эллинской мудрос-
.Ж_к .дедодухд, Чуть позже неистовый Тертуллиан поставит^вопрос ребром: «Что
общего у Афин и Иерусалима, у Академии и Церкви?» [с. 117], и этот вопрос не
раз будет приобретать острейшие формы и не только полемические. Он окажется,
к примеру, в эпицентре бурных событий революции интеллектуалов XVII в. Сам
же по себе этот вопрос, по мнению многих исследователей, которое мы
разделяем, отражает исходную гетерономию возникающей теологии, в которой
бесструктурный- щррацирдализм. откровения, требующий веры, а не размышления
илирассуждения, пытаются тем или иным способом^(^а^йзовщъ, «выразить в логике
понятий», перевести в опирающийся на:_униве£садш.догоса-лискурс,.либо ради
постижения откровения, либо ради аллегорического его истолкования, либо,
наконец, ради перевода его на язык повседневных нужд и забот паствы, плохо
ориентирующейся в тонкостях истолкования.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 241
Последнее обстоятельство, похоже, пропуском эллинской мудрости в теожь
гию, как одного,из «живых язшфе», на котором возможен контакт и общение по
поводу цели и смысла откровения с язычниками на предмет их обращения в
христианство или критики. Уже у апостолов, деяния и письма которых успели
попасть в канонический текст Библии, обнаруживаются довольно жестко
прочерченные «уровни понимания» явно тезаурусной природы. Они широко пользуются
различениями: плотский (соматик); душевный (психик); духовный (пневматику /
как уровнями понимания, а иногда и "как этническими характеристиками ауди- '
тории. Павел, например, пишет коринфянам: «И я не мог говорить с вами,
братия, как с духовными, но, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а
не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах» [1-е
коринф., 3, 1—2]. Тот же Павел так определяет различие между душевными и
духовными: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием; и не может уразуметь, потому что о сем надобно
судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем никто судить не может» [там
же, 2, 14—15). Под душевными практически всегда имеются в виду эллины,
которые, «ищут, мудрости».
Тезаудус^ая четкость, постоянное стремление говорить с аудиторией на
понятном ей языке настолько характерны для апостолов, что мы позволим себе
привести еще пару примеров из Павла и о Павле. В том же послании
коринфянам он пишет: «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для
подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных; для чуждых
закона — как чуждый закон..., чтобы приобресть чуждых закона; для немощных
был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем,
чтобы спасти по крайней мере некоторых» [там же, 9, 20—22]. В синагоге Сало-
ник Павел так реализует этот принцип: «Павел, по своему обыкновению вошел
к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что
Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть
Иисус» [Деяния, 17, 2—3].
Салоникский подвиг Павла, хотя он и не был особенно результативным —
ему едва удалось избежать самосуда, является, возможно, одним из первых
случаев og^cjiCHji^ajjryM^Tam^ по_теологической^ норме^ но нечто подобное
можно встретить и~в евангелиях, где Иисусу также " приходится ссылаться на
книги Ветхого Завета. Нам кажется, то эта душеспасательная активность ранних
христиан, их пропагандистское умение и стремление приспособиться к тезаурусу
вдиторщ, чтобы довести истины откровения в привычной для аудитории
оболочке слов и понятий, может считаться первым и, пожалуй, наиболее
действенным стихийным этапом становления теологии, перевода откровения на
типологически pa^2ULeJl!lbie-?3bIIOf ^ культуры пестрого в этническом и культурном
отношении населения Римской империи, этапом широкого поиска и,
соответственно, этапом находок инокультурных, иносистемных, иноязычных средств истолко-_
вания ид^и_спасения и всего содержания Писания. Тот же Павел, например, так
объясняет коринфянам тош^ю_фил^софскто^ысль о
намагниченности-одержимости и свое место в цепи одержимыхГ«КлхГГ[авел? Кто Аполлос? Они только
служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал
Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и
поливающий есть ничто, а все Бог взращающий... Ибо мы соработники у Бога,
а вы Божия нива, Божие строение» [1-е коринф., 3, 5—9].
Однако и сам этот стихийно-эмпирический этап будущей теологии не без
предшественников. Бог-отец открывался пророкам именно этим тезаурусным
способом, что, как мы видели, и дало повод Спинозе именно по этой тезаурусной
характеристике глубоко усомниться в ценности истин откровения для философии
и познания [67, с. 110].
Пг^тагаида^как форма общения между А и В, имеющая целью
распространение определенных идей или знаний в широкой аудитории, если она ведется не
16 М.К Петров
242
М.К. Петров
для галочки, если она основана на убежденности и искреннем стремлении
обратить аудиторию в свою веру, была и остается обоюдоострым оружием. Это
процесс двусторонний, диалогический. Активному пропагандисту приходится входить
в детали чуждой ему системы смысла, быть, по словам Павла, «всем для всех», и
этот контакт с инородными системами смысла неизбежно приобретает характер
взаимной экспликации структурных данностей. Если пропагандист А выступает
для аудитории В в роли учителя философии* сообщающего этой аудитории-Жур-
дену нечто о прозе ее данностйТ ее системы смысла, то и аудитория в своих
вопросах, реакциях на усилия пропагандиста, в своей готовности переменить веру
или, напротив, в своем упорстве оставаться при своей вере также выступает в
роли учителя философии по отношению к А, сообщающего пропагандисту-Жур-
дену нечто о прозе того, что он пропагандирует, «продвигает» в аудиторию.
Если пропагандист боевит по глупости и туп до непреклонности, его,
конечно, и трактором не затащить на зыбкую почву рефлексии, критического
самосознания, критической оценки структурных ключей и основ данности собственной
системы смысла, но и польза от такого пропагандиста будет обратно
пропорциональна его глупости и непреклонности. Если же пропагандист достаточно умен,
обладает способностью суждения и критической оценки собственных достижений
на ниве пропаганды, а все сколько-нибудь результативное и плодотворное
делается людьми именно этого склада, которые принципиальность и убежденность
оценивают не по боевитым фокусам стояния, сидения, лежания или даже
балансирования на точке зрения, а скорее от пользы дела, то такому пропагандисту не
миновать рефлексии, трезвого и критического анализа оснований собственной
системы CMbic^ ее ограничений, возможностей, достоинств H_j*e^ocTimçojï Вера,
ссылка на авторитет откровения, на имя носителя авторитетного слова, — все это
может быть и убедительно в среде единоверцев, но ни в микроинтерьере
разумного существа, ни, тем более, в макроинтерьере диалога разноверцев эта
разменная монета топосного арсенала хождения не имеет. Она не помогла Сократу,
скажем, убедить Народное собрание Афин в том, что он лишь одержимый, слепое
орудие в руках бога: собрание нашло и оскорбительной для афинян и
непростительной для Сократа самое идею одержимости чужими богами.
г Так или иначе, но следы рефлексии обнаруживаются--уж^яа^ервых^шагах
христианства. Уровни общения — плотские, душевные, духовные, которыё^нёиз^
бежно воспроизводятся из тезаурусной характеристики пропаганды откровения,
входят в связь с культурно-этнической характеристикой региона, с топосами, со
способами доказательной аргументации в различных культурных регионах. «Ибо
и Иудеи требуют чуда, — замечает Павел, — и Еллины ищут мудрости; а мы
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, для Еллинов безумие» [1-е
Коринф., 1, 22—23]. Но здесь становится неизбежным вопрос об адресе откровения,
о тезаурусной характеристике Библии в целом, о Т0 ее аудитории.
Вопрос об адресе откровения — Кому открывался бог? — это и вопрос о
пределах человеческого познания в христианском потоке, приближения смертного
человека к сокровенному смыслу Библии. Были ли в самой Библии места,
зацепки, оттенки мысли, которые позволили бы сформулировать эти вопросы о
тезаурусной характеристике Писания, о связи этой характеристики с человекоразмер-
ностью, с пределами познания мудрости божьей?
Хотя Библия — не многотомное собрание сочинений и текст ее по объему
сравнительно скромен, он все же обладает тем замечательным свойством текста
достаточной длины, которое открыл Дионисий Златоуст у поэм Гомера: «Гомер
каждому — юноше, мужу, старцу столько дает, сколько кто может взять». Эти
слова всегда воспроизводят на фронтисписах изданий поэм Гомера. В любом
тексте есть за что зацепиться, всегда можно найти подходящий оттенок мысли
или даже целое высказывание, которые допускают истолкование в нужном
смысле — находим же мы теорию познания не только у античных авторов, но и у
двторо! Китая*. Индии* а, судя по шестйтомнойГ истории философии, даже в текс-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 243
тах Полинезии. Это тем более правомерно по отношению к текстам Библии,
которая не просто принадлежит к нашему очагу культуры, но и принимала самое
активное участие в его формировании.
Сама же Библия принимала каноническую форму на первом этапе, вслед за
упразднением института апостолов, а с ним и института живой пропаганды
словом, не отделившимся еще от земных его носителей, когда пришла пора инсти:
туционализации, пора создания школ и, соответственно, программ и курсов
подготовки, пора исторического и" теоретического сжэти^ накощеннрго храд^
вом_ текста для трансляции нпвнм п'жогс^ччм хриггиянш
Что накопление текста Библии было прекращено искусственно, а сам текст
канонизирован в Книгу-Библию, факт достаточно хорошо известный,
подтверждаемый в частности и кумранскими рукописями, но если бы даже и возникали в
этом вопросе сомнения, их можно было бы легко устранить по результатам
анализа ссылок, «параллельных мест» любой прилично изданной Библии. Следы
огромной компиляторской работы, которая в качестве одного из критериев
включения текста в Библию 1^ользовала сеть цитирования, как раз и образуют эти
самые «параллельные места». Так чтоГскажем, если читателю Библии придет в
голову вполне законный вопрос, а как, собственно, могла попасть в Библию,
мягко говоря, несколько фривольная книга «Песни Соломона», то достаточно
взглянуть на ссылки и тайна обнаружится: на эту книгу ссылаются более поздние
авторы от Исайи до Иоанна.
Но даже и в этом прекращенном и остановленном виде т^цссххристиансхва,
который, надо полагать, предназначался на_роль утебника,входящих в жизнь
поколений христиан, был великоват. Он может, конечно, транслироваться в
интерьере подготовки кадров христиан-профессионалов, то есть в тех же примерно
формах, в^ких_м^^годщ^г£^ через аспирантуру, но
он_вряд^и годится^для трансляции на уровне мирян. На этом пункте, пожалуй,
не следует настаивать: поэмЪГТомера или «Витязь F тигровой шкуре» Руставели,
да и множество других текстов весьма внушительного объема транслировались и
транслируются в устной традиции. Видимо и часть книг Ветхого Завета не сразу
получила письменное оформление. Но когда уж речь заходит о мирянах, а этот-то
вопрос исследован довольно подробно, достаточно прочитать любое произведение
светской литературы, то ожидать от мирян одержимости текстом Библии не при-
^цдатся. Талмудисты и начётчики бывали всегда, уже Иисусу приходилось иметь
с ними дело, но это лишь исключения.
Даже когда речь идет о подготовке христиан-профессионалов, этого
возникающего духовного сословия, вероятность глубокого освоения текста Библии вряд
ли можно считать более высокой, чем вероятность глубокого освоения списка
обязательной литературы аспирантом, сдающим кандидатские экзамены: что-то
прочитано, что-то усвоено, что-то осталось в памяти, но требовать глубоких
знаний не приходится. Поэтому, не говоря уже об уровне мирян, в сжатии текста
Библии нуждалась и трансляция на уровне христиан-профессионалов, на уровне
клира^ на уровне растущей и оформляющейся деятельности в рамках церкви, как
тела Христова.
Тем большую остроту приобретает вопрос о том, а как все-таки языческой
эллинской мудрости, тривию и квадривию удалось более чем на тысячелетие
узурпировать должность учебника, на которой по всем статьям следовало находиться
Библии? И отсюда следует множество вопросов-недоумений, имеющих явное
отношение к нашей задаче. Цочему, скажем, сам факт подмены Библии корпусом
aHTj^HHbjx^3^4gcKHx рабдт^ичупиге меньшим, а значительно большим по
общему, чем сам^Бибдия^ обнаружился только в.XVILg.? Чтобы понять всю
странность этой ситуации тысячелетнего обучения христиан христианствуДР^ЯЗщес-
кому учебнику, достаточно представить себе шум в стане научно-академического
сообщества, если бы завтра, скажем, получен был циркуляр, предписывающий
16*
244
М.К. Петров
изучение физики по учебнику китайской грамматики, а химии вовсе даже по
Гомеру.
Понятно, что за этим странным происшествием с подменой учебника
христианства кроются свои резоны и, по нашему мнению, это прежде всего тезаурусная
характеристика Библии — ее обращенность к миру, к То мирян, как^сТювнОй
своей аудитории. Никто из христиан историков и теоретиков не заходил
естественно так далеко в оценке тезаурусных моментов откровения, как это сделал
Спиноза — искусство рубить сук, на котором сидишь, интеллектуалы Европы
освоили не сразу. Но сам факт ущемленности пастырей, комплекса
неполноценности, осознания того, что^^блшмо написана до
|ц необразованный мирянин, без особого труда фиксируется в пятрцстига, как
постоянное стремление к истолкованиюНБиблии на более высоком, чем плотский,
[уровне понимания.
Идет ли речь вообще об интересе отцов церкви и теологии к эллинской
мудрости, крторая располагается на более вмстспм путр.тщрм уровне, или о поисках
д^х^но-пневматическоде евангелия — учебника, так сказать^для высшей школы,
в чем видел' основную задачу ^еологииГориген, необходимость теоретическоТо
сжатия для трансляции Библии и уязвленность богодухновенных пневматиков
фактом обращения Библии к плотскому адресу, к тем самым иудеям, которые
«требуют чудес», толкали первых христиан-теоретиков, отцов церкви,
организаторов в одном направлении поиска структур для теоретического сжатия: к античной
философии, к ее результатам. Можно, конечно, спорить, чей вклад в
теологическую теорию больше — Филона, Сенеки, Платона, Аристотеля, но это уже буря в
стакане воды. Для нас пока достаточно указать адрес, откуда христианская линия
могла взять и действительно взяла арсенал структур йодшшй пАщ.ыпгтц для
теоретического сжатия хотя и остановленного, но все же слишком объемистого и не
пстянггяютпет'""ппппгпнпяений к рпглу^гегетя, хригтияцстмt к ТОМУ же текста,
обидным для пневматика образом зафиксированного на низшем плотско-сомати-
ческом уровне понимания.
Некоторые уточнения все же нужны. Практика селекции созданных античной
философией структур для теоретического сжатия должна, надо полагать,
обнаруживать избирательность как на положение человека в эгейско-христианской
системе тезаурусной одержимости, где вот даже Духу святому не дано «говорить от
себя», позволено говорить лишь то, «что услышит», так и на положение христи-
анина-профессионала-пневматика, который хотя и мыслит себя звеном в цепи
одержимых, но отнюдь не последним звеном, поскольку рн^о^яз^^г^нслировать
мудрость божиюмирянам, наставлять на путь истины язычников, эту «погань»
по изначально утвердившейся христианской терминологии, и даже не
предпоследним звеном одержимых, поскольку ему же следует хотови1Ь__себе смену, кадры
профессионал ов-пневматиков.
Не будь этой эгейско-христианской двойственности критериев отбора,
теология, вероятно, замкнулась бы на теоретические"схемы платоников, на их идею
слабеющей намагниченШста-ЗИШагдии как на идеальный механизм интеграТцш
любого количестМ^различенйи в иерархию тезаурусной одержимости.
Действительно, у Филона Александрийского, если его допустимо считать^христианским
писателем, у Климента и Оригена, общепризнанных теоретиков Александрийской
школы, в какой-то степени и у Евсевия Кесарийского, первого крупного
историка христианства, слабеющая одержимость-эманация либо прямо используется как
несущая теорию структура уровнейистечения божественной благодати, на
каждом из которых действуют сюиггравил^^ которых
берутся обычно у Аристотеля, либо же слабеющая эманация используется как
основание выделения уровней общения по тезаурусной характеристике в
последовательность типа: бог отец — бог сын — дух святой — духовный — душевный —
плотский.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 245
Именно этот способ теоретического сжатия, явно ориентированный на
включение человека вообще в тезаурусную иерархию одержимости, лежал в основе
<<с^§о^щна^^ш4з^1а>>, тгжадно-эманационного истолкования трех левых, да и
всех остальных членов последовательности. Бог-отец толковался как
первопричина рядад_абсолют, по нормам апофатической теологии, как и по нормам
слабеющей эманации, вообще недоступный для человеческого бытийно-качественного
определения, поскольку высший уровень для человека — четвертый (пневматик),
а постижение возможно лишь на уровень выше, то есть до уровня бога-сына. Бог
сын, таким образом, оказывался первьш_ЗВ.еном одержимости^эмалации, которое
при посредстве духа святого постижимо цдя_ пневматика, ^^SHorOjjHO^He.
постижимо для душевного.. Святой дух — звеном, которое при содействии духовного
достижимо для душевного, но не постижимо для плотского. Духовный-пневматик
в такой иерархии был звеном, которое при содействии душевного постижимо для
плотского соматика.
Нетрудно понять, какое огромное значение имела такая тезаурусная иерархия
для трансляции христианского текста и прежде всего для подготовки пневмати-
ков, христиан-профессионалов. иерархия, жестко определяла место «душевной»
^ллинекой мудрости, как ступени перехода с уровня плотского на уровень духов-"
jHbijJ, to""есть оказывалась геиречическим^Обоснованием тривия и квадривия, как
дервого и необходимого этапа подготовки пневматиков, движения из плотского
в духовное.~Тривии (грамматика, риторика и диалектика), а затем и квадривий
(арифметика, астрономия, геометрия, теория музыки) — «семь свободньыис^
кусств» — именно в этом_теоретическом обосновании через тезаурусную
иерархию удовне^Г]поьшмания стали исходной базой строительства европейского
образования от^монастырской шкоды до университета и светской гимназии. На
вопрос Тёртуллиана: «Что общего у Афин и Иерусалима, у Академии и церкви?»
любой средневековый пневматик мог бы с полным правом ответить, что все пути
к небесному ведут через Афины и Академию.
Bтоp^ЙJ^pддаг^иЙJçeлeк^пди структур для теоретического сжатия — положение
христианина-профессионала, духовного в христианской иерархии тезаурусной
одержимости обретал растущий смысл и растущее значение по ходу институцио-
нализации церкви, все более жестко определявшей себя в^льдасредника между
миром и богбмТ'Б' роль монопольного и полномочного пастыря
мирян."Независимо от того, вплетались ли в этот процесс становления церкви политические
мотивы власти, а они безусловно вплетались, — теоретическая санкция церкви на
роль посредника м[ежду богом и человеком^оказывалась в явном противоречии с"
триадным истолкованием верхушку, тезауруедЩОЁёра^хии уровней понимания^
Бог-отец, как самостный знак духовной профессии оставался чем-то
непостижимым в духовных определениях, за пределами достижимости профессионального
сообщества и потому уже бесполезным: его деятельность нельзя было описать в
динамическом тезаурусе деятельности пневматиков, а это означало, что и "продукт
ты деятельности пневматика-новатора нельзя было описать в терминах понятной
для всех пневматиков деятельности бога-отца.
Пневматик-новатор оказывался при этом в том же глупейшем положении, что
и гражданин-новатор или художник-новатор в одностороннем творческом
интерьере платоновской намагниченности-одержимости, он^ попросту был отключен
от_творчества, оказывался рупором бога — монопольного субъекта творчества.
Чтобы вернуть земному интерьеру духовных-пневматиков творческую
характеристику, а с нею и право пневматика-новатора творить, решать и говорить со
ссылкой на бога, включать бога в объяснения с коллегами на правах отсутствующего
авторитетного А, брг-а^тца^ следовало вернуть в интерьер духовной деятельности
на_^фавахнр^^^ то есть на^нжвах^бога^покровителя духовной про-
фессии. Без этого земная практика церкви лишалась небесной санкции и
небесного авторитета, без чего и в наши новые атеистические Ту времена не так-то
просто обосновать презумпцию непогрешимости земных авторитетов.
246
М/С. Петров
Претензии церкви и клира в целом на духовное руководство миром и на
авторитетную монополию в этом великом деле наталкивались на ту внешне
малозаметную, но всегда присутствующую в Библии и, конечно же, в формуле Иисуса
связку: «Не от себя говорить будет», которая, собственно, и давала повод
включать бога отца, бога сына и святого духа в тезаурусную иерархию на правах
отдельных членов ряда. Чтобы вернуть бога отца в интерьер духовной эмпирии эту
связку — основание бытийной различенное™ бога отыат бога сына и духа святого,
надо было слить три различенных первых членов ряда слабеющей эманации _в
&дин) сохранив ему лишь различие ликов-ипостасей-срезов «равного
достоинства».
Тринитарные_споры, война субординационистов и монархиан вокруг Троицы,
хотя она многим~иТнас и представляется мышиной"возней по неясному поводу,
имел именно этот смысл борьбы за сохранение связки «не от себя говорить будет»
или за ее устранение, а практически борьбы за будущее европейской культуры^
Сохранение связки в первых трех членах, ранжирование их по авторитетности
означали бы отказ от претензий церкви на лидерство и непререкаемый авторитет в
делах духовных. Устранение связки и совмещение трех дервых членов иерархии
в единое трехликое существо, Смонад^или в' метафизическую точк%> как сказал
бы Лейбниц, означали бы небесную санкцию этих претензий. "Соблазн был
слишком велик, и земной авторитет платоников явно не мог защитить теоретическое
изящество и совершенство «субординационистской» конструкции.
Как всегда в таких случаях соображения ближайшей и очевидной пользы
сказали свое решающее, хотя и недальновидное слово. Церковь обрела небесную
санкцию на творчество и реализовало ее в_Догме_— новой форме прещукта хв_0р_-
Н£ства пневматиков-новаторов,. который как две"капли похож и по способу
сотворения и по способу признания на_закон-номос, продукт творчества граждан-
новаторов полиса. Но, совершив столь^чевидно'полезное дело, пневматики-но-
ваторы выпустили очередного джинна из бутылки, спустили со стапелей
изобретательности еще_один корабль европейской истории — Троицу^ роль которой по
отношению к антично-христианскому" миропорядку сравнима с ролью пентекон-
теры по отношению к традиционному миропорядку доантичной эгейской
культуры. Никейский собор 325 г. был в этом смысле величайшим историческим
событием духовной жизни Европы, началом активного^юиска науки.
Предварительные итоги
Здесь мы завершаем поиск универсалий и наши попытки наметить ориентиры
дальнейшего движения по течению истории человеческой культуры к нашему Ту
настоящему. Не все, естественно прояснилось, да и будет прояснено, но общие
контуры проблемной области универсалий, возникающей в попытках представить
историю культуры и познания в человеческой метрике, в основном ясны.
Область, понятно, велика, но, похоже проходима в нашем обыденном Ту смысле, то
есть по поводу этой области можно надеяться построить научную дисциплину со
всеми эквифинальными атрибутами ее человекоразмерной природы. Другой
вопрос, нужна ли такая дисциплина.
На данном этапе анализа было бы затруднительно дать однозначный ответ,
хотя, на наш взгляд, такая дисциплина могла бы в принципе быть крайне
полезной при решении множества проблем культурной и научной политики, не только
в развивающихся странах, где эти проблемы особенно остры, но и в развитых
странах Ту культуры, где они во всяком случае болезненны.
Мы не можем, естественно, настаивать на том, что выбор нами действующей
сегодня в Ту культуре модели онаучидация^общества методом воздействия
результатов научно-дисциплинарного познания мира на состав Ту, учебников
общеобразовательной средней школы для поиска универсалий является наилучшим из
История европейской культурной традиции и ее проблемы 247
возможных, но нам он представляется достаточно продуктивным прежде всего
потому, что он позволяет выделить возрастное движение индивидов в основание
для системного представления живущего~ШкШёНЯя"7Подей" f обществах любого
типа культуры, начать относительно этого движения поиски универсальных
условий осуществимости таких систем с учетом таких факторов, как первая
географическая экспансия, оседлость, предметная экспансия науки, а также
фиксировать механизмы эквифинальности, как проявления человеческой метрики, не
связывая себя представлениями долженствования, которые требуют для своего
обоснования опор на самостные знаки надчеловеческой природы.
Ход от модели онаучивания не отрицает присутствия в историческом процессе
развития культуры и познания богатой флоры и даже фауны самостных и полу-
самостных знаков^ но он дает возможность увидетьГ их рукотворность,
подчеркнуть их артефактность, нагруженность явно человечесюшиГполезньШи и
необходимыми для человека функциями. Это обстоятельство мы считаем весьма
существенным достоинством модели онаучивания общества в ее универсальном
варианте. Модель избавляет от тех нелепых, по нашему мнению, и беспредметных
страхов перед знаковыми реалиями в непривычных ролевых наборах, которые
многих исследователей вынуждают старательно обходить области их компетенции
как табу для научного исследования, а иногда и в панике отступать перед
вышедшими из повиновения, взбесившимися самостными знаками, забывая, что все
они лишь средства решения человеческих проблем, сотворены человеком для
определенных целей и назначений и в принципе могут быть отправлены человеком,
их создателем, на кладбище несостоявшихся изобретений без особых для себя
потрясений.
С этого рода ситуациями мы постоянно будем сталкиваться во второй части
нашей работы, где «окороченного» Никейским собором бога, низведенного с апо-
фатических высот триединого бога начнут учить «вертеться», начнут и довольно
успешно приводить к человекоразмерности земных дел подопечных
интеллектуалов, вовлекать его в предприятия, полезные и осмысленные с точки зрения
интеллектуального сообщества, и явно бессмысленные, следующие «королевскому
эффекту» Алисы, даже и оскорбительные с точки зрения его апофатического
достоинства абсолюта, метафизической точки, начала ряда свойства
божественности-человечности.
По ходу поиска универсалий мы не придавали особого значения системности
и упорядоченности изложения, иногда и откровенно избегали опасности
преждевременного замыкания выявляемых универсалий на некий предзаданный
дисциплинирующий изложение порядок системы, иерархии, классификации, и это,
понятно, не повышало дидактических достоинств изложения, зато и не связывало
рук в поисках претендентов на статус универсалий. Эта свобода, «развязанность»
была для нас дороже, к тому же она навязывалась как норма тем самоочевидным,
будем надеяться, к данному моменту обстоятельством, что любая попытка
выделить человеческую метрику исторических, культурных, познавательных событий
должна начинаться с первого крика младенца, начала всего человеческого. Прямо
так и «начать с начала», с этого крика было бы, по нашему мнению тактическим
промахом — крик этот надо было подготовить в тезаурусном отношении, чем мы
исподволь и занимались, предлагая школярам и академикам тесты на «проходить
и забыть», «забыть и уметь», пересаживая младенцев из деревни в город, из
культуры в культуру, прежде чем возвести младенца в достоинство абсолюта,
определителя того, что может быть и чего не может быть в пространственно-временном
континууме человекоразмерных событий.
Теперь мы могли бы это сделать с меньшим риском срыва взаимопонимания.
Основным претендентом на центральное место в нашем наборе универсалий,
поскольку все они отнесены к человеческой метрике истории культуры и познания,
является человеческий биокод^ те его свойства, которые мы объединили в
термине «гносис» и которые предстают, как страт врожденности в деятельности детей
248
M.К. Петров
по освоению данности, особенно на начальном этапе их возрастного движения.
Это действительно абсолют, «начало ряда». Иными словами, известную формулу
Протагора о человеке — мере всех вещей, существующих, что они существуют,
несуществующих, что они не существуют — должна быть дополнена
утверждением: а мера человеку — младенец, его врожденные возможности. Эти врожденные
возможности — действительно апофатика, но не потому, что она в принципе
непознаваема, а потому, что для ее выражения в человеческих понятиях требует
выхода в материнский контекст мастерской биологического творчества, куда человек
с его научными методами пока не вхож.
На наш взгляд и рваться туда особенно не стоит — можно ненароком наделать
великих бед, а если уж некоторым взыскующим всеведения индивидам из числа
генетиков, кибернетиков, системников неймется, то пусть эти неуемные
потренируются со своими экскаваторами, топорами и лопатами точных методов на
менее опасных для судеб человека объектах, типа муравейника или термитника.
Вместе с тем способ действия гносиса как абсолюта, обладающего
достоинством апофатики, «неухватимости» средствами рациональности, мало похож на
слабеющую эманацию платоников, где абсолют или начало ряда сообщают
последующим членам ряда свои свойства в слабеющей степени [58, с. 69]. Гносис
скорее «удерживает от», чем «одерживает», то есть ведет себя, как барьер
препятствующий сохранению всего того, что не находит применения, или того, что хотя
и может быть введено в социальную систему напористой изобретательностью
новаторов живущего поколения, не может быть в ней удержано и воспроизведено
в смене поколений. Изобретения такого типа бывают и усилиями энтузиастов им
иногда удается продержаться два-три поколения, подобно, скажем, эсперанто —
искусственному языку, изобретенному в конце XIX в., любителей которого можно
встретить и сегодня, или машинному переводу, которого было «очень много» в
конце 50-х и начале 60-х гг. и стало «очень мало» к концу 70-х гг. И дело здесь
не в том, что сами по себе эсперанто или теории машинного перевода в чем-то
плохи. Как изящными и трудоемкими видами игры в бисер или в бирюльки
можно увлечься и эсперанто и машинным переводом — играют же люди с
увлечением и в домино и в дурака. Но они явно не входят в состав данности, которую
обязан осваивать гносис, явно, так сказать, умножают сущности, усложняют
данность без надобности. Эсперанто, скажем, освоить не сложно, но это не
избавляет от знания родного языка, от необходимости владеть им. А политика гносиса
по отношению к родному языку всем нам прекрасно известна: 10 лет учить в
шкоде нормативную мудрость учебников, чтобы выбросить ее из головы через
два-три года после окончания школы.
Вторая часть работы будет естественным продолжением первой, но акценты в
ней резко изменятся. Выявленный в первой части набор универсалий во второй
части мы будем использовать как арсенал методологических средств, не
требующих пространных объяснений. Основным содержанием второй части будет
попытка поставить и попробовать решить проблему генезиса науки в материнском
контексте теологических,равным, образом, учений и течении Высокого Средневеко-
^вья, реформациии революции_интеллектуалов_ХУ11-В, Производной от этои^глав-
ной задачи будет попытка выявить глубокие различия между Ти культурой
позднего Средневековья и начала Нового времени и Ту культурой современности,
показать, что наша наука во многом еще живет или, вернее, пытается жить по нормам
Ти культуры, во многом не обжила еще ту новую социальную форму познания,
которую навязывает ей распространение всеобщего и обязательного среднего
образования, как и тот набор функций воспитателя воспитателей, который наука уже
выполняет явочным, так сказать, порядком, не проявляя заметного стремления к
осознанию и формированию собственной воспитательной политики.
Часть и
ПУТЬ К НАУКЕ
В первой части, когда мы вводили в стандартную лингвистическую модель
акта речи текст-историю, Т0 аудитории В, на текущее значение которого всегда
вынуждена ориентироваться активная сторона общения А как в строительстве те-
заурусного отношения Ti-T0, так и в его решении методом сдвига значения То в
значение Ti, нам часто приходилось оговариваться, что более детально проблемы
тезаурусных ситуаций будут рассмотрены в главе, посвященной критике
действующей лингвистической парадигмы. Необходимость этого особого разговора о
языке, который и будет, собственно, главой-введением ко второй части, связана
с тем обстоятельством, что во второй части нам постоянно придется иметь дело
с категориальными структурами «сказуемости», теснейшим образом связанными
с типами языков, а этот вопрос принадлежит скорее к проблемной области
лингвистики, где он широко обсуждался не совсем под тем, правда, углом зрения,
под которым нам придется смотреть.
В первой части без обсуждения этого вопроса можно было обойтись, и, чтобы
не втягивать читателя в дополнительные трудности, мы ограничились во введении
простой констатацией факта присутствия этой проблемы, сослались на Бэкона,
на его жалобы на порчу древних языков по ходу распространения аналитики и
на очевидный результат этой порчи: «Легко предположить, что, как бы мы ни
были довольны самими собой, приходится признать, что умственное развитие
людей прошлых веков было намного глубже и тоньше нашего» [6, с. 335].
Бэкон просто не подозревал, чем может стать аналитический строй языка для
науки, иначе он вряд ли решился на такое прямое заключение, если учесть его
резко отрицательное отношение к эллинской мудрости.
Нас будет интересовать и эта сторона дела, но начнем мы на этот раз с самого
начала — с младенца и попытаемся потревожить апофатическое достоинство гно-
сиса вопросом: откуда у младенца возникает идея порядка? А достоинства
философии — совопросом: откуда философы берут идею порядка, не из того ли
источника, что и младенцы?
Глава 1. Грамматика и порядок
Давно замечено, что все языки мира удерживают в разделении набор
знаменательных различений, участвующих в текстах акта речи, и набор универсальных
правил оперирования с этими различениями. Лингвисты сталкиваются с
определенными трудностями по поводу выделения знаменательных элементов и
подведения их под единую категорию — понятие «слово», которым мы привычно
пользуемся и которое обычно ассоциируем с чем-то в словаре, что, если оно требуется
и человек знает алфавит данного языка, всегда можно найти, пробегая словарь,
это полезное творение лингвистов, в алфавитном порядке, явно не остается
инвариантным в различных языках. Соответствующих трудностей с универсальными
правилами обычно не возникает, все они включаются в грамматику.
Будем пользоваться привычным термином «слово», хотя нам с ним и придется
помучиться, и разуметь под словом то, что представлено в словарях, изъятых из
текстов и упорядочено в списки конечной длины по тем или иным правилам
следования, обычно по алфавиту. В этом наборе упорядоченных различенных
элементов мы не встречаем четко выраженного барьера, ограничивающего ввод в
список новых слов-единиц, так что у каждого человека в общем-то свой список,
252
M. К. Петров
и он явно не остается неизменным. Ципф, к примеру, обнаружил в «Улиссе»
Джойса 29899 слов [178, с. 23] и, как мы видели выше, не поленился их
упорядочить по частоте встречаемости, а затем и проранжировать. Сказать с
определенностью много это или мало — трудно. Как это явствует из закона Ципфа,
словарь — одна из мер текста, сопряженная с другими мерами, а не человека, и
любая попытка человека занять должность А в акте общения требует от него
наращивания текста То, а следовательно и словаря вводом новых слов. У того же
Джойса, например, если выделить словари из других его текстов, общий словарь
стал бы значительно большим.
В наборе грамматических правил, как и подобает набору различенных
универсалий, обстановка совершенно иная. Каким бы способом его ни упорядочивать —
алфавит годится только для справочников или энциклопедий, если человек вдруг
забыл, что такое есть подлежащее или сказуемое, — этот набор обладает жестким
и труднопроходимым барьером на входе. Изменения идут и в этом наборе, но
идут, если, скажем, сравнивать динамику обновления состава грамматических
правил и динамику обновления словаря, где-то в том же соотношении темпов,
что и динамика биологических изменений в генах в сравнении с динамикой
социальных изменений.
Нам как-то не приходилось встречать работ, в которых указывалось бы
конкретное число различений в наборах грамматик. Это и понятно. Если даже такие
данные и имеются, к ним нужно подходить с большой осторожностью. Со
времени александрийцев, руководствовавшихся системой категорий Аристотеля для
теоретического сжатия нормативной грамматики греческого языка, все
грамматики следуют этому канону, а в этом соединении теории грамматики с эмпирией
грамматических различений вообще невозможно выделить чистые эмпирические
единицы, подсчет которых позволил бы определить численность набора
грамматических правил, их может быть и много и мало в зависимости от выбора модели
теоретического сжатия.
Судя по тому, с какой легкостью взрослые по окончании школы выбрасывают
из памяти теоретически сжатый школьный курс грамматики, не испытывая при
этом сколько-нибудь ощутимых ограничений и недостач, эмпирические или
«естественные» грамматики вряд ли построены на тех же структурных основаниях,
что и теории грамматик.
Исключением из этого правила и более или менее надежным ориентиром
можно, по нашему мнению, считать известную грамматику Панини, которая по
традиционной норме не использует теоретического сжатия и описывает
конкретную грамматическую эмпирию в 3996 стихотворных правилах — сутрах [21, с. 6].
Много это или мало? Если, скажем, принять на правах грубого приближения
равенства сутры и строфы Гомера, то грамматика Панини станет книжкой объемом
примерно в половину Илиады или Одиссеи — многовато, но терпимо.
Более существенной и важной для нас мерой набора грамматических правил
является то обстоятельство, что наборы различений всех грамматик, сколько бы
в них ни насчитывалось эмпирических различений — ориентироваться тут можно,
на наш взгляд на число порядка, представленного в грамматике Панини —
осваиваются младенцами всех культур и во всей своей полноте в возрасте «от 2 до 5», то
есть заведомо «гносисоразмерны», а потому уже, в согласии с нашим
дополнением к постулату Протагора, и человекоразмерны. В свете этого тривиального факта
обретает значение и резкое различие условий между входами в набор различений
словаря и в набор различений грамматик.
Утверждать нечто о гносисе — дело, понятно, скользкое, с апофатикой
приходится быть осторожным, но коль скоро мы допустили, что корни наблюдаемых
эффектов ранжирования уходят скорее в естественную, нежели в
постредакционную природу человека и что ранжирование может быть объяснено естественным
и не требующим осознания способом, если приписать гносису способность
упорядочивающего воздействия по инструментальной модели Ципфа, то нам теперь
История европейской культурной традиции и ее проблемы 253
есть смысл попытаться выявить «эманационную» характеристику гносиса — меру
и последовательность распространения «естественности», его упорядочивающего
влияния во всей сфере постредакции.
Иными словами, нам снова полезно вернуться к модели намагниченности -
одержимости Платона, но под радикально иным углом зрения. Оставляя в
неприкосновенности структурную «гроздевую» часть схемы
намагниченности-одержимости, как она представлена у Платона, а затем у неоплатоников и платоников
вообще, мы на место гераклейского камня, богов традиции, бога отца до его
усечения в Троицу, под воздействием которых все «говорят не от себя», поскольку
«говорит сам бог и через них подает нам свой голос» [Ион, 534 Д], ставим на
правах абсолютного субъекта эманации и первопричины ряда гносис, который,
понятно, не может говорить и подавать свой голос — голоса у него нет, но вполне
может сообщать разноголосице человеческих земных голосов естественность, как
родовую, заякоренную в человеческом биокоде характеристику, удерживающую и
приводящую к естественной гармонии разноголосье человеков, и эта идущая от
гносиса эманация естественности воспроизводится биологическими средствами
через появление младенцев.
Словом, мы принимаем тезис, который прямо противоположен основанному
на примате «не от себя говорить будет» тезису христианства, который у
Августина, скажем, звучит так: «Не тем человек сделался похожим на дьявола, что имеет
плоть, которой дьявол не имеет, а тем, что живет сам по себе, т.е. по человеку.
Ибо и дьявол захотел жить сам по себе, когда не устоял во истине; так что стал
говорить ложь от своих, а не от божьих — стал не только лживым, но и отцом
лжи. Он первый солгал. От него начался грех, от него же началась и ложь» [О
граде божием, XV, XIV, 3].
С нашей точки зрения дело обстоит как раз обратным образом: человек
сделался похожим на человека именно потому, что каждый в силу запрета на повтор
уже на уровне предложений в тексте вынужден говорить новое от себя, а черты
общности, единства, гармонии человеку придает то, что бесконечный поток
младенцев удерживает его в естественности, воспитывает его от будущего средствами
гносиса, вынуждая каждого говорить естественно. И вынуждает не каким-либо
жестким способом запрета на раскрытие тех или иных возможностей и
способностей человека как существа естественного, социального и мыслящего — гносис
позволяет совершать человеку все, на что он способен, не связывая его
инициативы, а, напротив, запретами на повтор и плагиат подталкивая человека на
максимальное умножение выявлений человеческих возможностей и способностей.
Одерживающая или сдерживающая функция гносиса состоит в этой модели
эманации естественности в том, что проталкивая взрослеющих младенцев через
действующие каналы постредакции, воспитания во взрослые виды деятельности
(в возрастном движении явно командует гносис, а не сами эти постредакционные
каналы движения во взрослое состояние, с точки зрения которых движение
всегда совершается медленнее, чем хотелось бы), гносис на каждом из этапов и в
каждой точке прохождения этих этапов в любой культуре устанавливает незримые
границы возврата из любых хождений и плаваний в им же предписанные
разнообразие, оригинальность, неповторимость. За этими границами начинается
«ужасно далеко» прутковского пастуха, и, как мы уже говорили, смысл этой границы
не в том, что за нее нельзя ходить или плавать, а в том, что результаты таких
хождений и плаваний нельзя передать роду человеческому для воспроизводства в
действующем разнообразии каналов постредакции различных типов культур.
Обсуждая возможности концепции эшелонирования массивов
дисциплинарной литературы, предложенной Э.М.Мирским [44], мы упоминали о возможности
истолкования феномена эшелонирования в более широком контексте, в рамках
которого дисциплинарное эшелонирование — его, по нашему мнению, трудно
объяснить, не привлекая на правах посылки присутствие ранжирующей
активности гносиса — лишь завершающая часть эшелонированной эманации естествен-
254
М.К. Петров
ности, тогда как первые эшелоны нужно искать ближе к колыбели младенца.
Теперь эту упомянутую в первой части возможность нам нужно развернуть в план
поиска следов стыковки эшелонов в целостность, в платоновскую «очень
длинную цепь из кусочков железа и колец, висящих одно за другим» [Ион, 534 Е],
вся сила которых берется от гносиса, как свойства человеческого биокода.
Мы не стали бы утверждать, что цепи, которые мы наблюдаем в
постредакциях разных культурных типов, «очень длинны». Вообще-то говоря, если верить
пословице «век живи, век учись», эти цепи — длиною в жизнь индивидов, но с
точки зрения состава эшелонов, числа «кусочков из железа и колец» они явно
различны в разных культурах и не всегда это число можно точно установить. В нашей
Ту культуре, к примеру, за выявленным К.Чуковским эшелоном «от 2 до 5» идет
двухлетний детсадовский или семейный пробел, за которым начинается
десятилетний марш к Ту, который в общем-то нетрудно проэшелонировать на базе,
скажем, «классов» или «ступеней», но выделение эшелонов здесь будет явно
конвенциональным предприятием, коренным образом отличным от дисциплинарного
эшелонирования, возникающего, как деятельность в силу естественной
необходимости удерживать пути дисциплинарного возрастного движения и
дисциплинарную деятельность в целом в неразрывном стыке с Ту — с завершением цепи
предшествующих эшелонов. Еще хуже обстоит дело в других культурах, где не находят
применения формальные способы обучения и границы эшелонов не фиксируются
в устойчивой графике.
Вместе с тем положение со следованием эшелонов, с цепями «из кусочков
железа и колец» не так уж безнадежно. Известен и первый эшелон-»кольцо» —
младенец, известен и последний — передний край познания окружения по нормам
данной культуры, так что неясность состава посредующих звеньев по числу и
границам не так уж важна для текущего момента обсуждения проблемы, хотя и
приобретет весьма важное значение позже, когда обнаружится отсутствие
посредующих звеньев в Ти культуре, предшественнице нашей Ту культуры.
Пока же нас интересует состав первых эшелонов, той части эшелонированной
эманации естественности, в которой индивид обретает представление о порядке
по упоминавшейся уже нами модели Фихте: «Без проверки и даже без участия с
моей стороны все было расставлено по своим местам» [81, с. 42]. При этом, если
ранжирование мы понимаем как деятельность гносиса по инструментальной
модели Ципфа, результаты которой представлены в подлежащей освоению данности
и принимаются или отвергаются очередными поколениями младенцев, то есть,
если включение таких результатов в данность, изменение состава этой данности
совершается по модели, обратной биологическому циклу естественного отбора,
где отбирает среда, совершается как цикл отбора человеческим биокодом
артефактов постредакции, социальных и когнитивных новаций данности, подлежащей
усвоению, то стяжение эшелонов к первому крику новорожденного должно идти
в конечном счете производно от частоты встречаемости в расширяющем границы
мире ребенка реалий, образующих эшелоны, через которые предстоит пройти
младенцу до конечного «кольца» — до того вида взрослой деятельности, которая
станет основной в его взрослой жизни.
Из числа более или менее исследованных эшелонов в наибольшем
приближении к младенцу находится бесспорно «от 2 до 5», на котором индивид овладевает
языком, как условием дальнейшего движения по цепи эшелонов во взрослое
состояние. Вместе с тем, присматриваясь к подвигу детей на этом этапе возрастного
движения, как он представлен в работах К.Чуковского, и у множества психологов,
в частности у Ж.Пиаже [51], мы обнаруживаем важную для нас лексико-грамма-
тическую асимметрию: грамматика родного языка на этом этапе осваивается и
интериоризируется полностью и дальнейшего увеличения грамматического
набора универсальных правил на последующих этапах возрастного движения через
очередные эшелоны не наблюдается, тогда как рост словаря, хотя он и протекает
в середине и конце периода весьма бурно, завершения не достигает, практически
История европейской культурной традиции и ее проблемы 255
только начинается — рост, изменения, возможно и сокращения словаря будут
сопровождать индивида и в движении по эшелонам и практически всю жизнь, то
потому, что ему придется быть в роли А и что-то объяснять В, то потому, что
ему в роли В придется выслушивать объяснения очередного А.
В самом порядке освоения словаря ребенком также наблюдается
эшелонирование, следы работы гносиса предшествующих поколений. В растущем словаре
ребенка изначально высокая доля представительности исключений из правил
(неправильных глаголов, например, или прилагательных с неправильными
степенями сравнения) падает с увеличением словаря: формы-исключения выявляют
«левое» смещение, если считать, что колыбель слева, а люди, по нормам нашего
письма, идут по эшелонам вправо. Но наиболее существенным для нас является
то обстоятельство, что в грамматике мы следов этого эшелонирования не
наблюдаем, хотя, естественно, и она усваивается в какой-то последовательности, да и
каждое грамматическое правило имеет свою историю возникновения и борьбы с
предшественниками за право нести свой набор функций, о чем можно прочитать
в любой исторической грамматике.
Хотя последовательность освоения грамматики ребенком в общем-то
изучалась, исследователи как-то не придавали особого значения тому факту, что
ребенок сам извлекает целостный набор правил, сам творит свою грамматику,
находясь в независимой от него речевой атмосфере творения текстов, в которых ни
грамматика, ни словарь не представлены в изолированном виде, поэтому
предлагаемые исследователями данные, основанные на жестких процедурах
эксперимента [51] в целом не более надежны, чем данные физиологов, исследующих
голодных животных, чтобы узнать нечто о животных вообще. Пока мы знаем об этой
последовательности только одно: она явно не та, которую мы обнаруживаем,
скажем, в учебниках иностранного языка, где грамматическая часть построена на
дидактическом правиле движения от простого к сложному. Ребенку грамматика
всегда преподается речевой стихией аккордно, ученику и студенту — в движении
от простого к сложному, хотя, на наш взгляд, сама применимость понятий
простоты или сложности здесь весьма сомнительна. Так или иначе, но результаты
получаются разные: ребенок усваивает грамматику родного языка на всю жизнь,
тогда как у ученика и студента это один из самых скоропортящихся продуктов.
Представление об эшелонирующем влиянии субъективной, идущей от гносиса
естественной эманации нужно нам для поиска локализации идеи или идей
порядка. При этом и на интуитивном уровне и на уровне зондирующих тестов мы
в общем-то сознаем, что пройденное на пути через эшелоны раньше и,
следовательно, расположенное к младенцу ближе, усваивается более глубоко и
основательно, чаще интериоризируется, переводится в подкорковую данность, чем
пройденное позже. В нашем «антошкином тесте» на «это мы не проходили, это
нам не задавали» нас интересовала именно эта сторона дела: мы обнаружили и
зафиксировали тот факт, что знать нечто (грамматику) можно до прохождения в
соответствующем эшелоне, что забыть нечто можно и после прохождения в
эшелоне или эшелонах (школьный курс грамматики или математики, биологии,
физики, химии...), но следствия и смысл этого забывания будут различными —
забывший школьный курс грамматики не становится от этого беспомощным в
актах общения, тогда как забывший другие курсы, если они связаны с его
деятельностью, вынужден начинать все с начала.
Понятно, что мы уже тогда нацеливались на предстоящий поиск локализации
идеи порядка, полагая, что эта идея должна бы усваиваться где-то на периоде «от
2 до 5». В школу, во всяком случае, приходят уже «опорядоченные» дети, с
которыми трудно, но можно все-таки иметь дело уже в первом интерьере анфилады
интерьеров-эшелонов формального обучения, да и воспитательницы детских
садов явно уверены в «опорядоченности» своих воспитанников, когда они
совершенно серьезно начинают жаловаться родителям на нарушения порядка их
детьми 3—4-летнего возраста, не менее серьезно полагая, что индивиды этой возрастной
256
M. К. Петров
группы уже «вменяемы», обязаны знать, что такое порядок и руководствоваться
порядком в своем поведении, отличая его от непорядка. Лексико-грамматическая
асимметрия периода «от 2 до 5» в интересующем нас случае показательна в том
отношении, что она ориентирует на поиск идеи порядка в грамматике, освоение
которой завершается на этом периоде, а если взять всю цепь эшелонов, то на
поиск частных идей порядка, имеющих силу для данного эшелона, в их началах-
» грамматиках».
Поиск идеи порядка в грамматиках сам по себе представляется более или
менее самоочевидным для европейского типа культуры, который использует
категориальные картины мира и в Ти и в Ту вариантах. Иногда право на такой
поиск формулируется непосредственно по связи с категориями. Гегель, к
примеру, пишет: «Формы мысли выявляются и отлагаются прежде всего в человеческом
языке. В наше время мы должны неустанно напоминать, что человек отличается
от животного именно тем, что он мыслит. Во все, что для человека становится
чем-то внутренним, вообще представлением, во все, что он делает своим, проник
язык, а все то, что он превращает в язык и выражает в языке, содержит в
скрытом ли, спутанном или более разработанном виде, некоторую категорию; в такой
мере естественно для него логическое, или, правильнее сказать, последнее есть
сама присущая ему природа. Но если противопоставлять природу вообще как
физическое духовному, то следовало бы сказать, что логическое есть, вернее,
сверхприродное, проникающее во все естественные отношения человека, в его чувства,
созерцания, вожделения, потребности, влечения и тем только и превращающее
их, хотя лишь формально, в нечто человеческое, в представления и цели. Если
язык богат логическими выражениями, и притом специальными и отвлеченными,
для (обозначения) самих определений мысли, то это его преимущество. Из
предлогов и членов речи многие уже выражают отношения, основывающиеся на
мышлении; китайский язык, говорят, в своем развитии вовсе не достиг этого или
достиг в незначительной степени. Но эти грамматические частицы выполняют
всецело служебную роль, они только немногим более отделены от
соответствующих слов, чем глагольные приставки, знаки склонения и т.д. Гораздо важнее,
если в данном языке определения мысли выражены в виде существительных и
глаголов и таким образом отчеканены так, что получают предметную форму.
Немецкий язык обладает в этом отношении большими преимуществами перед
другими современными языками» [12, с. 82].
Высказываний этого типа, не говоря уже о неявных посылках и имплицитных
допущениях, можно привести много, причем наиболее четким и ясным является,
по нашему мнению, постулат пионера или отца категориального подхода к
миропорядку Аристотеля: «Самостоятельное существование в себе приписывается
всему тому, что обозначается через различные формы высказывания: ибо на
сколько ладов эти различные высказывания производятся, столькими путями они
указывают на бытие (оОсадх; Хеуетш, тоаэд*; то eîoai or||iaivei — букв.: сколькими
способами сказывается, столькими способами и означается бытие). А так как
одни из высказываний обозначают суть вещи, другие — качество, некоторые
количество, иные — отношения, иные — действие или страдание, иные отвечают
на вопрос «где?», иные — на вопрос «когда?», то в соответствии с каждым из
этих высказываний те же самые значения имеет и бытие» [Метафизика, 1017а].
У Аристотеля, таким образом, система грамматических правил, категорий (по
греческой терминологии 7iaTT|yopo6|X£vov — сказуемое), способов сказуемости
непосредственно «впечатана» в бытие и есть, по сути дела, порядок мира «в себе»
для нас в том же примерно смысле, в каком мы рассуждали о выявлениях экви-
финальности крупных городов, где парная ориентация целостной системы на
человека и на объект в себе позволяла «снимать» внешнее объективное определение
по линиям гетерономного синтеза нечеловекоразмерного объективного и челове-
коразмерного субъективного определений, получая при этом интегрированный,
выполненный в человеческой метрике отпечаток объективного нечеловекораз-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 257
мерного спецификатора — причины появления и существования большого
города.
Вместе с тем и сам порядок и процедура его извлечения из грамматики давно
уже уведены философией, логикой, математикой, лингвистикой, практикой
преподавания глубоко в подкорковую данность — школяры, скажем, не подозревают,
что когда их учат ставить вопросы, на которые «отвечает» существительное в том
или ином падеже, правилам разбора «по частям речи» или «по членам
предложения», их попросту обучают философии Аристотеля. Эта уверенность в данность
выражается в частности в том, что если бы, скажем, кому-нибудь пришло в голову
поискать вербальные определения порядка в философских или просто
энциклопедиях, то ничего из этой попытки не вышло бы — их там просто нет. Исключение
составляют только толковые словари, авторам и редакциям которых уже некуда
деться. С.И.Ожегов, скажем, дает 7 значений, 17-томный словарь современного
русского литературного языка — 12 значений [64, с. 1437—1441], хотя трудно
сказать, может ли хотя бы одно из этих определений дать представление о том, что же
такое есть порядок, осознанным представлением о котором обладают, по мнению
воспитательниц детских садов, уже дети 3—4-летнего возраста, а по мнению
авторских коллективов общих и философских энциклопедий с порядком настолько
все ясно и понятно, что и статьи излишни: порядок есть порядок.
Справедливости ради нужно сказать, что так происходит не только с
концептом порядка. Тот же эффект отсутствия экспликаций обнаруживает «открытие»,
«чистое исследование», хотя идущее чуть раньше открытия откровение обычно
представлено солидной статьей. Е.М.Клаарен, на работу которого нам часто
придется ссылаться, обнаружил по ходу исследования феномен того же порядка в
теологии — хотя все события истории теологии XII—XVIII вв. вертелись вокруг
постулата творения мира, сам этот постулат не исследовался: «Сколь бы
странным это ни показалось, в теологии нет сколько-нибудь представительной истории
христианской доктрины о творении в целом» [129, с. 30].
Судя по положению дел в нашей культуре, идет ли речь о Ти или Ту ее
варианте, свойством «уходить в подкорку данности» обладают все достаточно
фундаментально решенные вопросы, если их решение принимается на правах постулата
дисциплинарным сообществом, то есть входит в парадигму. Так, до Ньютона еще
занимались тяготением, как проблемой, а после Ньютона до Эйнштейна — нет.
До Аристотеля и александрийцев шли споры об естественной или искусственной
природе языка, после них, вплоть до нашего времени, лингвистика работает в
неизменной древней парадигме (компаративистика XIX и начала XX вв. не
затрагивала, по нашему мнению, основ лингвистической парадигматики, хотя и
способствовала, бесспорно, уточнению границ предметной области и выявлению
аномалий).
В последние десятилетия на периферии лингвистической проблемной области
накапливаются и дают о себе знать аномалии обычного дисциплинарного типа,
вроде аномалий вымерших видов, рудиментарных органов, прецессии орбиты
Меркурия в геологии, биологии и астрономии XIX в. По крайней мере три из
них — лингвистическая относительность, ранговая характеристика связных
текстов и гипотеза глубины Ингве — имеют непосредственное отношение к вопросу
о том, какой именно порядок — универсалии окружения или снятый с них
слепок их человеческой метрики — можно извлечь из грамматик конкретных языков.
Свидетельства кризиса
традиционной лингвистической парадигмы
Дисциплинарная биография лингвистики начинается с эллинистического
периода. Изначальное внимание к речи-логосу в эгейском потоке событий было
естественным следствием особого положения субъект-субъектного отношения
«слово-дело» и в палубном и в полисно-номотетическом вариантах, особенно в
17 М.К. Петров
258
M.К. Петров
полисном, где номотетическая активность граждан-новаторов включала искусное
использование как устной, так и письменной речи. Судьба свободного грека, как
и судьбы греческих полисов-государств решались на Народном собрании
голосованием, а результаты голосования во многом зависели от качества речей
выступавших, от убедительности номотетической риторики. Жизнь свободного грека,
его права и обязанности регулировались писанным законом — номосом, то есть
зафиксированной в графике речью, ставшей законом жизни.
Вместе с тем ни палубный, ни полисно-номотетический варианты
использования слова-логоса не предполагали существования науки о языке: все греки
знали греческий, и специального теоретического курса родного языка им не
требовалось. Положение изменилось в эллинистический период, когда после
завоеваний Александра Македонского началось культурное освоение греками
обширных территорий Египта, Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии, где
греческие поселения, часто из числа насильно изгоняемых из метрополии,
оказывались в привилегированно-полисном, но вместе с тем и в изолированном
состоянии. В этих новых условиях существования полисов в инокультурной среде
интерес к речи-логосу в значительной степени сместился к форме и норме — грекам
в инокультурном и иноязычном окружении «варваров» пришлось теперь
проявлять беспокойство о «чистоте» и «правильности» родного языка, о чем они
раньше, судя по этимологическим упражнениям софистов, рассуждениям об
истинности имен Платона, стилистическим советам Аристотеля, не имели ни
малейшего понятия. Считалось вполне естественным и само собой разумеющимся, что
нормальный грек, рожденный в греческой семье и живущий в окружении греков,
говорит и пишет так, как говорят и пишут все, так что вопросы о правильности
или неправильности были здесь неуместны. В эллинистический период появилась
опасность языкового разобщения эллинов, опасность языкового смешения с
варварами, и как средство борьбы с этой опасностью появились нормативные
грамматики, то есть лингвистика возникала не как описательная, а как
предписывающая дисциплина. Особенно много над сочинением грамматик работали в
Александрии. С этим смещением интереса к правилу, форме, норме мир общения,
как проблемная область начал расчленяться в предмет двух самостоятельных
дисциплин — языкознания и логики.
Дальнейшие дисциплинарные перипетии лингвистики в освоении мира
общения связаны с теми триадно-эманационными соображениями отцов церкви, о
которых мы уже говорили и которые заставили христианство включить в программу
подготовки духовных кадров на правах душевной ступени «тривий» —
грамматику, риторику и диалектику. Разработанные в III—II вв. до н.э. александрийцами
Аристархом и Кратесом из Маллоса, а также их учениками Дионисием
Фракийским, Аполлонием Дисколом и его сыном Геродианом нормативные грамматики
греческого языка, а затем созданные по их образцу грамматики латинского языка
Марка Теренция Варрона и особенно Доната и Присциана (грамматика Доната с
конца XIV в. печаталась ксилографическим методом — с гравированных досок)
на полтора с лишним тысячелетия связали судьбу лингвистики с интерьером
трансляции теологии, подготовки духовных кадров. Историки лингвистики
расходятся в оценках этого периода, но факт остается фактом: до начала XIX в., до
Боппа, Раска, Гримма лингвистика оставалась академической по преимуществу
дисциплиной в составе тривия, как его нераздельная часть и была нормативной,
предписывающей, а не описательной. В этих условиях общение осмыслялось по
парадигме Аристотеля и александрийцев, то есть долговременное пребывание в
академическом интерьере подготовки духовных и интеллектуальных кадров, в
составе «учебника» этого интерьера закрепляло основные представления античности
о мире общения, выводило их в состав парадигмы на уровень дисциплинарных
постулатов.
Правда, в интересующем нас плане во время революции интеллектуалов
XVII в. возникали осложнения, в том числе и знаменательные. Логика Пор-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 259
Рояля, например, известная по книге Арно и Николя «Логика, как искусство
мыслить», вышедшей в 1662 г. в Париже, пыталась поставить под сомнение
постулат Аристотеля «сколькими способами сказывается, столькими способами и
выявляет себя бытие», а также и статус категорий, как безусловно истинных.
Близкую по форме, но совершенно иную по содержанию, значению и целям
предпринял в это же примерно время Т.Гоббс, о чем нам придется еще много
говорить, но в целом для самой лингвистики, как и для тривия в целом ничего
существенного не произошло.
Высоко оценивая вклад Аристотеля в единую логико-лингвистическую
дисциплину, Кант в конце XVIII в. писал: «Что логика уже с древнейших времен
пошла этим верным путем, видно из того, что со времени Аристотеля ей не
приходилось делать ни шага назад, если не считать улучшением устранение
некоторых ненужных тонкостей или более ясное изложение, относящееся скорее к
изящности, нежели к достоверности науки. Примечательно в ней также и то, что
она до сих пор не могла сделать ни шага вперед и, судя по всему, она кажется
наукой вполне законченной и завершенной» [25, с. 82].
Ни Гоббс, ни Кант, ни, как мы видели выше, Гегель в его панегирике
немецкому языку не разделяли предметы логики и лингвистики, для них это единая по
предмету дисциплина в том же смысле, в каком она была единой для античных
и средневековых авторов.
С начала XIX в. начинается более или менее свободное от связей по тривию
развитие лингвистики и логики как самостоятельных дисциплин, хотя о свободе
здесь можно говорить весьма условно. Компаративистика, сравнительное
языкознание, выдвигая на первый план поиск «рудиментов» в фонетике, лексике,
грамматике ради установления степеней родства живых языков и построения их
типологии, практически не затрагивала ни постулата Аристотеля о тождестве форм
бытия и способов сказуемости, ни представленной в парадигме александрийцев
трехуровневой структуры предметных единиц — звук (буква) — слово —
предложение. Примерно то же происходило и в логике, где основной предметной
единицей оставалось, да и остается диссоциированное предложение-высказывание,
вырванное из текста, как носитель свойств истинности на предмет сравнения с
другими предложениями-высказываниями и других операций с учетом свойств
истинности.
На наш взгляд, именно в этом процессе размежевания лингвистики и логики
не по предмету, а по концентрации интереса и была «забыта», уведена в подкорку
проблема порядка, «забыта» в том смысле, в каком взрослые забывают школьный
курс грамматики. Этому, похоже, во многом способствовало и то обстоятельство,
что относящиеся к XIX в. попытки выстраивания дисциплинарных вечностей в
геологии, биологии, антропологии, связанные со сломом библейской
ретроспективы по случаю ее малой глубины в 4000 лет и отводом бога в должности творца
в места значительно более отдаленные давали лингвистам повод, вряд ли
осознанный, не афишировать верность постулату Аристотеля, а чисто практически
искать язык Адама, «праязык» в далеком, но подготовленном уже геологией,
биологией и антропологией прошлом, и когда такие попытки давали сомнительные
результаты, ограничиваться классификацией типов, таксономией.
Словом, лингвистам-компаративистам время было нужно для тех же целей,
что и биологам, антропологам — как время на выявление агентов, на выявление
языковых изменений, дифференцирующих языки, а логикам, также как и
математикам, время было и вовсе ни к чему; им вообще были чужды заботы о глубине
их вечности: она и представлялась и представляется безначальной в силу вечности
и неизменности истины и отношений истинности, в чем ни один логик или
математик не может себе позволить сомневаться.
Так или иначе, но трудно обойтись без этого фона потери проблемы порядка,
связи этой проблемы с грамматикой при оценке того странного замешательства
в рядах лингвистов и логиков, когда начали публиковаться работы сначала Э.Се-
17*
260
M. К. Петров
пира, а затем Б.Л.Уорфа [62, 74, 75]. Состав замешательства по поводу
лингвистической относительности не так уж сложно понять. Теория лингвистической
относительности Сепира—Уорфа появилась в условиях господства Ту культуры,
когда и лингвисты и логики поотвыкли от присутствия бога-творца в их системах
постулатов осуществимости научного познания мира. От постулатной базы Ти
культуры осталось лишь в форме неявного допущения как раз то, чем мы и
занимаемся — человеческая метрика миропорядка, человекоразмерный слепок с
внешних спецификаторов, снятый по линиям гетерономных синтезов
субъективного и объективного определений, грамматика, как выявление эквифинальности
постредакции, включая и социальное познание окружения. Когда Сепир и Уорф
попытались вернуть эквифинальность и человеческую метрику в
эксплицированном виде в лингвистическую парадигму с опорой на постулат Аристотеля
«сколькими способами сказывается, столькими способами и выявляет себя бытие», то
в новых условиях наличия у лингвистов развитой и опирающейся на эмпирию
классификации языковых типов это возвращение проблемы порядка в
проблемную область лингвистики поставило под сомнение все ключевые моменты ее
парадигмы: следовало допустить множественность миропорядков. Если младенцы
извлекают идею порядка из грамматики родного языка и затем всю жизнь
опираются на эту идею в своих взглядах на окружение и его членения, то
миропорядков должно быть ровно столько же, сколько существует на свете родных
языков.
Сепир так выразил эту идею: «Факты свидетельствуют о том, что «реальный
мир» в значительной мере бессознательно строится на языковых нормах данного
общества. Не существует двух языков настолько тождественных, чтобы их можно
было считать выразителями одной и той же социальной действительности. Миры,
в которых живут различные общества, — отдельные миры, а не один мир,
использующий разные ярлыки» [63, с. 177].
В Ту культуре такое допущение о множественности миров неизбежно
разрывает традиционные предметные связи между лингвистикой и логикой, которые
замкнуты на уровень предложений. Логика не может допустить множественности
миропорядков, пока отношения истинности признаются свойством
диссоциированных предложений-высказываний, а не более высоких единиц — связных текстов.
В действующей парадигме лингвистики, где четко различаются уровни фонем,
слов и предложений, язык как целостная система, как единица среди единиц —
русский, немецкий, греческий и т.д. языки — может быть определен либо по всем
трем уровням сразу — это язык-система Соссюра, Ельмслева, — либо же произ-
водно от уровня высших единиц, как дискретная совокупность осмысленных
предложений-высказываний (Блумфильд, например). И в том и в другом случае
предложения берутся в диссоциации, как дискретное множество автономных,
самодовлеющих, независимых друг от друга смыслосодержательных единиц, из
которых и только из них может быть получено все, что можно узнать о данном
языке лингвистическими методами.
В пользу такой диссоциированной модели проблемной области, целостность
которой придает лишь принадлежность к языковому сообществу или группе,
говорит вроде бы переводимость на уровне предложений: возможность любому
предложению одного языка указать (по нормам традиционной парадигмы именно
указать, а не создать!) эквивалентное по смыслу предложение в любом другом
языке, то есть смысл, значение должны пониматься как инвариантные
основания, которые не зависят от типа и формальной специфики языков, на чем,
собственно, и настаивают логики, а не так давно строили все свои надежды
машинные переводчики. Реальные же процедуры перевода вовсе не так просты и
однозначны. В переводе с английского аналитического, например, на любой
флективный язык со свободным порядком слов мы получаем число вариантов,
следующих правилу перестановок, то есть факториалу от числа представленных в
предложении знаменательных слов. И хотя любой вариант в этих множествах будет в
История европейской культурной традиции и ее проблемы 261
общем-то эквивалентен переводимому аналитическому предложению, каждый из
них в своей группе будет обладать дополнительными характеристиками,
которыми аналитическое предложение не обладало. Детально этой странностью мы
займемся ниже, когда попытаемся установить, какую бы форму могла приобрести
картина мира, если постулат Аристотеля реализовать не на базе грамматики
греческого флективного языка, а, как это пытался сделать Гоббс, на базе грамматики
аналитического новоанглийского языка, пока же просто отметим, что при всех
этих осложнениях перевод все-таки возможен и аргумент от инвариантности
смысла выглядит как солидное свидетельство в пользу диссоциированной модели
проблемной области лингвистики.
Против этой модели говорит ее явно недостаточная разрешающая способность
как раз по этому самому основанию смысла. Как мы уже замечали по ходу
анализа тезаурусной ситуации акта общения между А и В, парадигма лингвистики в
принципе не может уловить и выразить различие между набором случайно
собранных диссоциированных предложений типа упражнений в учебниках
иностранного языка и связным осмысленным текстом. Для диссоциированной
модели проблемной области упражнение и связный текст — два равноправных,
неразличимых и равноценных образца языка, из любого из них можно получить все,
что доступно изучению научными методами. Некоторые авторы, Е.Ворончак,
например [10], предпочитают даже стилистические достоинства текстов
анализировать на «представительных выборках», то есть на сознательно диссоциируемых
текстах. Вместе с тем для незащищенного лингвистическими шорами
читательского глаза различие между случайным набором предложений или
представительной выборкой предложений из связного текста по соответствующей таблице и
самим связным текстом лежит как раз в области смысла: набор или выборка
годятся для театра абсурда, где их применяют сознательно, но не для осмысленного
общения.
Получается, таким образом, странность: смысл как инвариантное основание
перевода с языка на язык способен в пределах одного и того же языка
превращаться в бессмыслицу способом, который неуловим для действующей парадигмы
лингвистики. Теория лингвистической относительности Сепира—Уорфа доводит
эту странность до крайности.
Если принять как доказанное наличие серьезных типологических
структурных различий между языками, а результаты полевых исследований вряд ли
позволяют в этом сомневаться, то гипотеза отмеченности предложений смыслом,
как их неотъемлемым свойством и феномен перевода оказываются в
отношении взаимоисключения. Мы обязаны либо принять гипотезу множественности
типологически различенных смыслов, а с нею и множественность
миропорядков (основная идея лингвистической относительности) и поставить крест на
возможности перевода, вывести феномен перевода из поля лингвистического
зрения, сколько бы он ни подтверждался эмпирией, либо же, сохраняя
феномен перевода, отказаться от идеи отмеченности предложений смыслом, как
неотторжимым свойством высших единиц языка, от идеи устойчивого и полного
распределения корпуса языкового значения в эти высшие единицы —
предложения или высказывания.
Приемлема, по нашему мнению, только вторая альтернатива. Она позволяет
включить феномен перевода, если типологически различенные грамматические
структуры понимаются как орудия переделки смысла, а не его хранения, а это
неизбежно, на наш взгляд, перерастает в требование перестройки действующей
лингвистической парадигмы, дополнения ее единицами четвертого уровня —
связными текстами, как хранителями смысла и способами фиксации измененного
смысла, что мы и пытались показать в тезаурусном анализе акта общения между
А и В.
В пользу орудийного характера синтаксических структур, их свободы от
смысла, в пользу отсутствия однозначных или вообще устойчивых корреляций между
262
M. К. Петров
планом выражения и планом содержания на уровне предложений может быть
истолкована и гипотеза глубины В.Ингве [23], о которой мы вскользь упоминали и
которой еще займемся более подробно. Гипотеза глубины показывает, что в
становлении синтаксиса языка, если не определяющую, то во всяком случае
ограничивающую роль играют ограничения по человекоразмерности, гносис,
физиологические свойства и ограничения мозга, то есть синтаксис определен не
объективными факторами, которые позволяли бы ему быть отражением универсалий
окружения, а факторами субъективными, целиком отнесенными к человекораз-
мерному слепку нечеловекоразмерного окружения.
В свете ограничений по глубине синтаксические правила, категории, «способы
сказуемости» могут отражать не всеобщие определения бытия, как это молчаливо
предполагается действующей лингвистической парадигмой со времен Аристотеля
и александрийцев, а необходимость «дозировать», «квантовать» смысл, изменения
смысла в соответствии с вместимостью головы человека, фрагментировать смысл
в доступные для восприятия части. Будь это так, а ситуации общения между А и
В, необходимость строить тезаурусные отношения и решать их объяснением
говорят в пользу такой возможности, парадокс множественности языковых типов,
если эти типы устанавливаются по грамматическому основанию, перестал бы
существовать, стал бы простой констатацией разнообразия орудийных арсеналов
языков.
Если смысл, значение есть нечто находящееся в необходимой и строгой
корреляции с наличными формами деятельности, а сами эти формы не менее строго
производны, как им и надлежит быть, от свойств предметов деятельности и
окружения в целом, то плюрализм смысла, будь он намертво прикован к уровню
предложений и целиком распределен в диссоциированный конечный массив
«отмеченных» предложений, неизбежно должен бы порождать плюрализм миров
деятельности, давать ту самую картину, о которой пишет Сепир — «отдельные
миры, а не один мир, использующий разные ярлыки».
Если же речь идет о фрагментации смысла, о его дозировке в процессе речи
для передачи от А к В с учетом возможностей и ограничений человеческого
восприятия, то эти возможности и ограничения вовсе не обязательно должны
однозначно диктовать способы и правила фрагментации. В этом случае плюрализм
языковых структур на уровне предложений не отменяет подобия и единства
смысла, реального и одного для всего человечества мира, единых форм
деятельности по его освоению, что и делает возможным феномен перевода.
Различение смысла и его фрагмента вводит в представление о смысле
характеристику дискретной протяженной целостности — конечную последовательность
фрагментов, исчерпывающих смысл. Такая последовательность и есть текст, как
языковая единица, которая может иметь свои особые свойства, не совпадающие
с теми, которые можно обнаружить в диссоциированных предложениях.
Иными словами, если в первой части мы явочным порядком,
воспользовавшись возможностями стандартной лингвистической модели акта речи между А
и В, которую мы взяли у Соссюра, ввели концепт текста, как истории общения
между А и В (То), которая, по мнению А, требует изменения методом
«переписывания» для перевода ее в новое значение (Ti), чем бы такое мнение А ни
вызывалось (воспитательное возрастное движение В по текстам учебников,
изменения ситуаций, бытовые дела, объяснения с коллегами по поводу нового и
т.д., и т.п.), и, соответственно, рассматривали разность Ti-T0, тезаурусное
отношение как сумму изменений, которые следует внести в Т0, чтобы перевести его
в Ti, снять тезаурусное отношение объяснением, то теперь это тезаурусное
отношение нужно нам по другому поводу — для выделения предметной единицы,
высшей, по нашему мнению, предметной единицы лингвистики, которая, с
одной стороны, обладает свойствами статического описания, фиксирует и несет
смысл, историю предыдущих актов общения между А и В (Т0, Ту, Тд, Тг,...) и
в этом своем качестве носителя фиксированного смысла может обладать уни-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 263
версальными «мета»- или «экстра»-, «гипер»-синтаксическими характеристиками,
которыми образующие текст предложения могут и не обладать, а, с другой
стороны, как раз в этом своем качестве предметной единицы, обладающей
особыми характеристиками завершенности, которыми предложения не обладают,
способна играть роль модели конечного продукта для процесса перевода статики
фиксированного смысла в динамику его переписывания в актах речи, отводя в
этом процессе предложениям роль микроактов преемственного изменения
смысла.
Представление о таком тексте-единице как о целостности, о фрагментирован-
ной упорядоченной последовательности микроактов движения к новому и
измененному тексту требует, понятно, подтверждения указанием на присутствие в
эмпирии речевой деятельности средств стыковки предложений в целостность, на
какой-то «надсинтаксический» арсенал средств, прописанный именно по связным
текстам, а не по предложениям. И поскольку эти средства присутствуют в
эмпирии речевой деятельности, они должны бы попадать в поле зрения лингвистов,
фиксироваться ими как нечто инородное и плохо согласующееся с их парадигмой
и особенно с диссоциированной моделью проблемной области лингвистики.
Основным свидетельством в пользу существования таких предметных единиц-
текстов является, разумеется, закон Ципфа, который важен для нас в данном
контексте в двух отношениях. Во-первых, он подчеркивает необходимость
присутствия в актах речи новых для Т0 В-аудитории слов, вводимых в окружении
связанных уже в Т0 слов. Во-вторых, он предполагает активное участие гносиса,
иррационального естественного начала, биокода в ранжировании, то есть
естественную эшелонирующую эманацию, источник которой заякорен в человеке, а не
в окружении.
Другим свидетельством в пользу существования таких единиц является теория
лингвистической относительности Сепира—Уорфа, которая опираясь на
достоверные эмпирические данные полевых исследований — их доказательную силу
никто не решается отрицать, — обращается в бессмыслицу, если допустить, что
предложение — высшая предметная единица лингвистики, фиксирующая и
хранящая смысл, а акт речи, соответственно, есть обмен такими «отмеченными»
смыслом единицами, допускающими в принципе калькуляцию-исчисление, как
конечное множество устойчивых диссоциированных единиц смысла данной
языковой общности (Ельмслев, Блумфильд, машинные переводчики).
Отсутствие повторов на уровне предложений и ранговая структура связанных
в текстах словарей, предполагающая частотную характеристику слов —
элементарных носителей смысла, исключают бытующий у лингвистов взгляд на акт
общения, как на перебрасывание отАкВиотВкА неизменных «мячиков»
смысла, исключают и идею калькуляции: акты речи предстают актами изменения
наличного, зафиксированного текстом То смысла, и поскольку в фиксации смысла
участвует иррациональный гносис, расставляя орудия воздействия на смысл в
предположительном соответствии с инструментальной моделью Ципфа, теория
лингвистической относительности, если она понята как результат
долговременного воздействия эшелонирующего эффекта естественной эманации гносиса, не
входит в противоречие с общим для всего человечества миропорядком и не
требует на правах условия объяснимости постулата о множественности миров.
Третьим и, на наш взгляд, решающим свидетельством в пользу локализации
грамматик и любых представленных в них категориально сказуемостных порядков
в субъективном определении, в области естественной эманации гносиса является
гипотеза глубины Ингве, ее несовместимость с диссоциированной моделью
проблемной области лингвистики.
Сам характер этих трех свидетельств — закон Ципфа, лингвистическая
относительность и гипотеза глубины, их несовместимость с диссоциированной
моделью подсказывают и процедуру верификации этих свидетельств на
состоятельность: присутствие в дисциплинарных результатах феноменов, не принадлежащих
264
M. К. Петров
к диссоциированной модели, но попадающих в массив публикаций, поскольку
они регулярно встречаются в актах осмысленной речи, было бы сигналом того,
что в лингвистике действительно существует почва для кризисной ситуации.
Иными словами, если действующая лингвистическая парадигма безразлична к
связному осмысленному тексту и к бессвязному набору фраз типа упражнений в
учебниках, то в результатах лингвистических исследований должны бы
обнаруживаться, если фиксаторами и носителями смысла являются связные тексты, а не
предложения, концепты, которые можно проверить на материале связных текстов
и нельзя на материале диссоциированных наборов-упражнений.
Фиксируются ли такие концепты?
Наиболее подозрительна в этом отношении морфологическая концепция
частей речи — состав частей речи и способ их классификации. При выделении
частей речи не соблюдается единое основание классификации, и это особенно
заметно в местоимениях. Местоимение явно несопоставимо с другими частями
речи — оно их повторяет в редуцированной форме, заимствуя их смысл и
значение или предваряя их. Мало того, дублируя структуру различений всех других
частей речи, местоимение к тому же обнаруживает дополнительное, чуждое
другим частям речи измерение — указание на положение того знаменательного
элемента, который оно заменяет в данном окружении знаменательных слов, тогда
как само заменяемое слово работает совсем в другом окружении и, как правило,
предложении. Часть местоимений — вопросительные, неопределенные,
указательные — располагаются перед тем, вместо чего они должны употребляться, часть —
после, причем эти перед и после предполагают отношения между предложениями
и, естественно, не должны бы обнаруживаться в диссоциированном наборе
предложений. По связи с инородностью местоимения в системе частей речи
обнаруживаются и регулярности-последовательности вообще не попадающие в поле
зрения лингвистов. В английском языке, например, если в предложении связного
текста отметить семантические единицы и проследить, не встречаются ли они в
предшествующих или последующих предложениях (операция законная, поскольку
слова имеют частотную характеристику), то обнаруживаются характерные цепи
типа: what — а N — the N — it, то есть единицу приводят к определенности,
доводя до конечных кондиций, до личных местоимений. В менее развитой и
явной форме связи между предложениями обнаруживаются также в союзах,
предлогах, наречиях.
Наиболее весомым свидетельством в пользу фрагментарно-серийного
строения фиксирующих смысл единиц-текстов следует, по нашему мнению, признать
ранговое распределение Ципфа, которым, как мы показывали в первой части,
устанавливается довольно жесткое соответствие между длиной текста, будь она
выражена числом словоупотреблений, приглагольных групп (простых и придаточных
предложений), предложений, и емкостью текста — числом знаменательных
различений, представленных в списке-словаре, который можно извлечь из данного
текста. Об этом мы уже писали по связи с аналогичной картиной с цитированием
в дисциплинарном массиве публикаций, так что заново возвращаться к этому мы
не будем, хотя ссылаться и на закон Ципфа и на инструментальную модель
Ципфа, в которой предположительно работает гносис, нам придется довольно
часто.
Достаточно убедительным свидетельством в пользу наличия и использования
средств связи между предложениями в пределах связного текста мы считаем
присутствие во всех языках на правах обязательной составляющей набора
универсальных грамматических правил института местоимений, который явно выпадает
из морфологической системы частей речи и работает как раз в интересующем нас
режиме «стыковки» предложений в целостность текста, то предваряя
знаменательные элементы, которым еще предстоит объявиться в тексте, то ссылаясь на те,
которые уже зафиксированы в тексте. В этом последнем употреблении
местоимения, на наш взгляд, мало чем отличаются от института ссылок в науке. Но и
История европейской культурной традиции и ее проблемы 265
предваряющее и отсылающее к прошлому, к истории текста употребление
местоимений явно несовместимы с диссоциированной моделью проблемной области
лингвистики. Нельзя, скажем, предложить упражнение на закрепление навыков
использования указательных или относительных местоимений, которое
соответствовало бы постулату Ч.Хоккетта: «Мы можем с полным основанием
сосредоточить наше внимание на отрезках конечной длины, называемых предложениями»
[79, с. 140]; придется все же давать отрывки текста, а не отдельные предложения.
За то, что в науковедении известно, как «квота цитирования» (10—15 ссылок
на предшествующие публикации в статьях первого или последнего от учебника
эшелона публикаций, которые непосредственно связаны с событиями на
переднем крае дисциплинарного познания) ответственность несет гипотеза глубины, а
для понимания преобразований в картине мира в эгейско-христианском потоке
европейской истории мысли особенно важна, по нашему мнению,
лингвистическая относительность Сепира—Уорфа. Этими концепциями в их связи с
действующей парадигмой лингвистики нам и предстоит теперь заняться.
Гипотеза глубины
С гипотезой глубины В.Ингве наши интересующиеся лингвистикой читатели
знакомы в основном по добротному переводу И.Вельской одного из докладов
В.Ингве, опубликованного в 1961 г. в «Ученых записках Американского
математического общества» [23]. На профессиональном уровне к переводу у нас нет
никаких претензий — сделано квалифицированно, в стандартах серии «Новое в
лингвистике», за которую В.А.Звегинцеву, составителю, редактору и комментатору,
наше языкознание и не только языкознание обязаны были бы присвоить высшие
награды и звания. Вполне понятны в общем-то и критерии отбора редакционной
коллегией 4-го выпуска, вышедшего в свет в 1965 г. Перевод опубликован в
первой части: «Математические аспекты структуры языка» под редакцией
Д.Ю.Панова — энтузиаста и машинного перевода и кибернетики. Вместе с тем этот ма-
тематизм и приверженность к машинному переводу — статья В.Ингве в «Сайен-
тифик Америкен», например, называлась «Программы ЭВМ для перевода»
[125] — не дают, по нашему мнению, представления о революционном значении
вклада В.Ингве в лингвистику. Программно-математический крен затушевывает
главное — принадлежность грамматических правил к идущей от гносиса
эманации естественности и, соответственно, представленность в наборах
грамматических правил ограничений по человекоразмерности — глубины непосредственной
или оперативной памяти.
Ингве пишет: «Для объяснения многих из не раскрытых ранее особенностей
английского синтаксиса мы воспользуемся так называемой «гипотезой глубины».
Психологи измерили то, что они называют объемом непосредственной памяти.
Мы способны запомнить с одного взгляда и правильно воспроизвести
приблизительно семь взятых наугад десятичных цифр, около семи не связанных между
собою слов, около семи наименований... По-видимому, нам приходится считаться
с этим ограничением, когда мы говорим. Мы можем вспомнить сразу лишь около
семи грамматических или синтаксических ограничений. Гипотеза глубины гласит,
что, приняв во внимание ограничение памяти, можно понять многие сложные
черты английского синтаксиса. Синтаксис английского языка располагает
разнообразными средствами для того, чтобы автоматически удерживать высказывание
в пределах, определяемых ограничением, а также многими средствами,
позволяющими успешно обойти это ограничение таким образом, чтобы компенсировать
потерю экспрессивной силы из-за указанной ограниченности объема
непосредственной памяти. Гипотеза глубины предсказывает, что все языки имеют
усложненные синтаксические особенности, служащие той же цели» [125, с. 126—127].
266
M. К. Петров
Целью своих попыток Ингве считал разработку алгоритма для
программирования машинного перевода: «Чтобы понять, каким образом ограничение объема
памяти влияет на синтаксическую структуру языка, нужно обратиться к простой
модели построения предложения. Эту модель можно легко запрограммировать
для вычислительной машины. Она и в самом деле была предназначена для
использования в системе механического перевода. Важные в лингвистическом
отношении особенности этой модели можно понять, лишь приняв во внимание два
допущения. Первое допущение: для описания синтаксиса языка необходимо
применить анализ по непосредственно составляющим. Но поскольку такое описание
является статическим, нужно ввести еще и аспект времени (то есть порядок
следования операций для данной модели) — и это второе допущение. Оно
предполагает, что слова предложения появляются каждое по одному в их естественной
временной последовательности, то есть слева направо, в соответствии с обычной
орфографией, и что для правил грамматики непосредственно составляющих
применяется метод расширения, то есть раскрытие сверху вниз, как показано на
диаграммах» [125, 127-128].
1
he4
Si
NP2 VP?
N5 Va NPio
Il / -\
manô hit9 Tu N13
1 1
1 1
the 12 ball 14
S
NP
VP
T
N
N
V
- NP + VP
- T + N
- V + NP
— the
— man
- ball
- hit
Рис. 1. Построение предложения включает применение грамматических правил,
подобных приведенным справа, которые расширяются слева направо. Номера индексов
показывают порядок применения правил.
На рис. 1 показано, как строится модель предложения. На вершине дерева
находится символ S, обозначающий предложение. Первое правило расширяет его
до непосредственно составляющих: именной группы (NP) — подлежащего и
глагольной (VP) — сказуемого. Затем именная группа расширяется до артикля (Т) и
имени (N) и так далее. Порядок расширения конструкций во всех случаях
предусматривает в первую очередь расширение левостороннего члена каждой
конструкции, а после того, как будет достигнут конец ветви, возвращение к
следующему, более высокому, правостороннему члену — «таким путем слова
производятся в их обычном порядке, слева направо» [125, с. 128—129].
Думается, что особых пояснений к способу построения модели предложения
не требуется. Предложение, в данном случае «парадигматический пример»
Н.Хомского — «человек ударил по мячу», — делится в первом шаге или такте на
группу подлежащего и группу сказуемого и, поскольку подлежащее в английском
предшествует сказуемому, начинать второй шаг приходится с «левой» группы
подлежащего, опять делить ее на составляющие и, постоянно отдавая
предпочтение левым составляющим, действовать так до исчерпания группы подлежащего,
а затем браться за группу сказуемого и действовать с ней точно таким же
способом, выполняя сначала все левые операции, а затем приступая к правым.
Эта схема шагов или тактов важна именно для алгоритма и, по нашему
мнению? может объяснить нечто существенное относительно действий гносиса в
процессе речи. В определенном смысле такая нацеленность на машинный перевод,
на жесткую шаговую формализацию даже достоинство, поскольку работы Ингве
дают для нас незапланированную информацию — побочный продукт основного
движения к цели, а незапланированная информация с точки зрения ее объектив-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 267
ности всегда предпочтительнее запланированной. Вместе с тем, в статье-варианте
для «Ученых записок Американского философского общества» [123] Ингве
довольно четко формулирует и более общую проблему: «Как возможна беглая речь?»,
и именно по отношению к этой проблеме более полно формулирует гипотезу
глубины: «Поскольку владеющий английским способен говорить бегло с весьма
редкими срывами, которые можно было бы приписать переполнению оперативной или
непосредственной памяти, мы вправе ожидать, что в грамматике английского языка
должен бы обнаруживаться легко наблюдаемый эффект ограничений по глубине.
Чтобы проверить это предположение, мы предлагаем следующую гипотезу:
а) Хотя все языки имеют грамматику, основанную на непосредственно
составляющих,
б) реально используемые в устной речи предложения обладают глубиной,
которая не превышает определенного значения,
в) равного или приблизительно равного объему непосредственной памяти (по
современным данным 72).
г) Грамматики всех языков должны включать средства для сокращения
регрессивных конструкций, с тем чтобы большинство предложений не превышало
этой глубины,
д) а также иметь альтернативные конструкции меньшей глубины, способные
сохранить экспрессивную силу языка.
е) Во всех языках значительная часть грамматической сложности,
превышающая минимум сложности, потребной для осуществимости сигнальной функции,
должна быть отнесена на счет этой задачи снижения глубины.
ж) Феномен глубины включен, похоже, в процессы изменения языков и часто
играет в них важную роль» [123, с. 452].
Для читателя, если он по норме Ту «проходил, но забыл» школьный курс
грамматики или в своем возрастном движении не прошел через шум вокруг
машинного перевода непонятным в этой формулировке гипотезы может оказаться
пункт «d>, требующий присутствия в грамматических наборах всех языков средств
«для сокращения регрессивных конструкций». Ингве четко различает «регресс» и
«прогресс». Регресс, это когда приходится заниматься «левой» работой
расширения или дихотомии непосредственных составляющих до их исчерпания, а
прогресс, это когда «левая» работа выполнена и можно взяться за «правую», где
опять-таки сначала придется делать «левую» работу, а затем уже переходить к
«правой», где опять-таки..., пока не дойдешь до точки — конца предложения, —
с которой уже делать нечего. Словом, гносису, если феномен беглой речи в его
ведомстве, в его стремлении «говорить бегло», реализовать способность, которой
мы обладаем с детства, приходится «вертеться», заниматься не совсем тем, чем
хотелось бы, стремиться к «правому» делу, все время занимаясь «левым», тонуть
в «левой глубине регресса» в своем стремлении к «правой» поверхности
прогресса, где сразу же опять приходится нырять и всплывать, нырять и всплывать.
Ингве предлагает довольно простую процедуру подсчета глубины
предложения, значение которой принимается равным наибольшей зафиксированной
глубине представленных в предложении слов, а сама эта глубина определяется
числом левых и только левых шагов или узлов, отделяющих слово от вершины
дерева. Представленное на рис. 1 дерево с вершиной S дает следующую формулу
положения слов в терминах глубины:
The man hit the ball.
(2) (1) (1) (1) (0)
Глубина предложения в этом случае будет наибольшей из отмеченных, то есть 2.
Понятно, что такая процедура подсчета глубины прямо зависит от состава
первого расчленяющего шага и от представлений о структуре целостности
предложения. Рассматривая различные варианты первого шага — разбиения, скажем,
целостности предложения на три составляющих, или сведения подлежащего и
сказуемого в одну группу, Ингве показывает, что наиболее предпочтительным с
268
M. К. Петров
точки зрения снижения глубины вариантом является показанный на рис. 1
способ построения дерева, основанный на бинарных представлениях о структуре
целостности, что и в первом шаге (расчленение предложения на группу
подлежащего и группу сказуемого) и во всех последующих шагах позволяет использовать
одно и то же правило дихотомии.
Особое внимание Ингве уделяет анализу функций местоимений, в первую
очередь относительных и указательных. На них держится основная часть арсенала
средств снижения глубины предложений за счет вывода части шагов или узлов
регрессивной ветви в прогрессивную, которая оказывается по сути дела бесконечной,
условием осуществимости беглой речи без переполнения непосредственной памяти.
Применяемые в функции указателей роли и соподчинения, местоимения переводят
составляющие, как целостности из регрессии, где их развертывание повело бы к
угрожающему росту глубины, в прогрессию, где нет этой опасности. Местоимения
скачкообразно снимают растущее значение глубины, освобождая, тем самым, по
мнению Ингве, оперативную или непосредственную память для новых операций.
Ингве, собственно, и начинает изложение своей гипотезы с указания на
загадочность института местоимений в широком его понимании: «Некоторые из
синтаксических особенностей английского языка имеют четкую функцию указателя роли и
соподчинения, но до сих пор еще не ясно, почему существует такое разнообразие
средств указания на роль и соподчиненность, если можно воспользоваться одним-
единственным средством, которое избрал Лукасевич или которое принято в
польской префиксальной системе нотации. Далее, можно привести длинный список
других сложностей английского синтаксиса, функции которых совершенно
непонятны. Многие типы прерывных составляющих могут служить примерами этих
синтаксических приемов без какой-либо определенной функции» [123, с. 126].
Ингве детально описывает все эти «нефункциональные» или неопределенные
по функции составляющие грамматического арсенала, показывая, что все они
находят объяснение как средства снижения глубины, редуцирующие движение в
регрессию и обеспечивающие перевод в прогрессию «опасных» непосредственно
составляющих в неразвернутом виде для их расширения в прогрессии. Основным
носителем этой функции оказывается институт местоимений.
Мы не будем входить в детали рассуждении Ингве и его аргументации — это
потребовало бы широкого вовлечения в текст английских примеров, апелляций к
тому, что мы называем чувством языка и к другим столь же слабо поддающимся
формализации критериям, которые в каждом языковом сообществе свои и трудно
поддаются переводу. Отметим лишь некоторые крайне важные для нас детали
постановки и решения проблемы глубины у Ингве.
Прежде всего, и это следует подчеркнуть, вся проблематика глубины и
грамматических средств по удержанию глубины предложений в «пределах допусков»
потока беглой речи вписана у Ингве в линию субъективного определения, в
эманацию естественности уже тем фактом, что центральное положение в этой
проблематике, делающей ее осмысленной, занимают ограничения по объему
оперативной или непосредственной памяти, которые явно устанавливаются биокодом,
природой человека как существа естественного, и не могут быть введены в гносис
постредакцией. Иными словами, если мы находим очевидные следы деятельности
по удержанию потока речи в пределах, заданных пропускной способностью
непосредственной памяти, а такие следы мы действительно наблюдаем — любой
читатель может использовать предлагаемую Ингве процедуру и убедиться, что и в
русском и в любом другом известном ему языке существует предел глубины и
средства по снижению глубины предложений, — то понять самое эту
деятельность мы, как и в случае с законом Ципфа, можем лишь с учетом деятельности
гносиса, результаты которой наследуются не по обычным каналам постредакции,
тогда ни Ингве, ни Ципфу нечего было бы открывать, а по биокоду. Грамматику
английского языка, как и грамматику любого другого языка их окружения,
младенцы конечно же осваивают и интериоризируют в постредакции, на периоде «от
История европейской культурной традиции ц ее проблемы 269
2 до 5», но вот возможность подняться на такое предприятие, принять как свое,
интериоризировать, скажем, процедуру ранжирования или снижения глубины,
такая возможность и способность должна быть, по нашему мнению, врожденной.
Далее, Ингве пытается удержаться в рамках действующей парадигмы
лингвистики, основное внимание уделяя тому, как удается снижать глубину
предложений — высших для лингвистической парадигмы предметных единиц. Но сам
предмет его исследований, особенно когда он анализирует сложные предложения,
постоянно выносит его за эти ограничения. К примеру, Ингве использует в
качестве иллюстрации неограниченной природы прогрессии известную детскую
«игралку», что ли: «This is the dog, that worried the cat, that killed the rat, that ate the
malt, that lay in the house, that Jack built» [125, с 460] — Вот эта собака, которая
прогнала кота, который убил крысу, которая сожрала сахар, который лежал в
доме, который построил Джек.
Ясно, что этот почти парадигматический пример на неограниченность
профессии и на действенность средств снижения глубины составляющих этого
формально принадлежащего к классу предложений потока вполне достигает цели:
поток можно тянуть до бесконечности, сообщив нечто и о Джеке и о чем угодно,
что попадет в эту связь с Джеком. Ясна и та польза, которую извлекает из этой
иллюстрации Ингве, когда он пытается приложить к ней обычные логические и
математические модели связи, не имеющие ограничений по глубине. Получаются
варианты типа: «This is the malt, that the rat, that the cat, that the dog, worried,
killed, ate» [125, с 460] — Вот этот сахар, который крыса, которую кот, которого
собака прогнала, убил, сожрала.
Подобный пример, а их у Ингве много, явно работает на поток предложений,
а не на диссоциированное предложение, и хотя у Ингве нет разговора о тексте,
как о более высокой лингвистической единице, состоящей из упорядоченного
смыслом потока предложений, в каждом из которых, естественно, должны
выдерживаться ограничения по глубине, мы все же склонны считать, что феномен
глубины показывает скорее на совокупность механизмов ограничения глубины
потока речи, а не на некое свойство диссоциированного набора предложений.
Наконец, и это для нас сейчас, на переходе к лингвистической
относительности самое главное, гипотеза глубины Ингве и способ ее формализации
позволяет нам выявить в наглядной форме и как раз по набору категорий — способов
сказуемости, — то есть в рамках самого постулата Аристотеля «сколькими
способами сказывается, столькими способами и выявляет себя бытие», существенное
различие между флективным и аналитическим строем языка и теми картинами
порядка, которые можно изъять из наборов универсальных грамматических
правил этих языковых типов.
Допустим, что нам дано английское предложение с глубиной 3:
The evening mist has fallen onto the blue sea.
(3) (2) (1) (2) (I) (3) (2) (1) (0)
В русском, где нет артиклей и можно обойтись без вспомогательного глагола,
глубина снизится на единицу и формула, естественно, изменится:
Вечерний туман пал на синее море.
(2) (1) (1) (2) (1) (0)
В переводе на флективный русский снизилась до 2 глубина, но только ли это
произошло?
Посмотрим сначала на русский вариант-эквивалент английскому
предложению с точки зрения нашего флективного чувства языка. Он явно отдает чем-то
искусственным, «артефактным» в том же примерно смысле, в каком
искусственностью и «скукой науки» несет от приведенных в стандартную логическую форму
«высказываний» в учебниках логики. Там это возникает из-за необходимости
постоянно употреблять несвойственные устной, да и письменной речи глаголы-
связки и местоимения типа «все», «некоторые», «отдельные» и т.д. для
приведения высказываний-суждений в операбельный силлогистический вид.
270
M. К. Петров
В нашем случае причины эффекта несколько иные. Во-первых, он возникает
из необходимости отобрать вариант, удовлетворяющий второму допущению
Ингве — слова должны идти тем путем, каким они «производятся в их обычном
порядке, слева направо», а непосредственно составляющие должны следовать в
обычном для английского языка порядке: группа подлежащего должна
предшествовать группе сказуемого, без чего асимметрия регрессии и прогрессии, «левое»
и «правое» в строении дерева хотя и не будут нарушены — непосредственно
составляющие останутся непосредственно составляющими в любом варианте (а по
правилу перестановок должно быть 5!, то есть 120), но затруднительным станет
применение универсального принципа Ингве: стремиться к «правому» делу
профессии, постоянно и в первую очередь занимаясь «левыми» делами регрессии.
Это — одна из причин — отобранный из 120 эквивалентных английскому
варианту русский вариант всегда, по нашему мнению, будет вызывать подозрения на
искусственность того же сорта, что и приведенность к логическим стандартам
предложений-высказываний в учебниках по логике.
Означает ли необходимость такого приведения, отбора из множества
вариантов только тех, которые удовлетворяют второму допущению Ингве (первому-то
все удовлетворяют), что гипотеза глубины должна рассматриваться как частная
теория, имеющая силу только для грамматики английского языка? На наш взгляд,
такое истолкование гипотезы глубины было бы ошибочным. Она держится не на
том или ином наборе допущений или процедур формализации, а на реальном
факте присутствия в потоке речи предела глубины, установленного человеку как
существу естественному свойствами его оперативной или непосредственной
памяти — естественным продуктом биологического творчества, а не артефактной
изобретательской активностью самого человека. И если мы принимаем постулат
тождества и равенства человеческого рода по всем трем атрибутам
естественности, социальности и разумности независимо от различий рас, культур и
социальных устройств, то тот действительно частный факт, что феномен глубины был
впервые исследован на английском грамматическом материале, никак не может
лишить предел глубины ранга универсалии, перевести его в частное свойство
одной из множества грамматик человеческих языков.
Есть и вторая причина, вызывающая чувство искусственности, артефактности,
несовершенства отобранного по критериям Ингве варианта, а именно то
обстоятельство, что рядом с этим вариантом — Вечерний туман пал на синее море —
в памяти каждого русского незримо витает вариант Пушкина — На море синее
вечерний пал туман, — который также входит в факториальное множество 120
вариантов, но, не удовлетворяя второму допущению Ингве по каким-то трудно
формализуемым критериям представляется русскому много превосходнее,
естественнее и совершеннее приведенного к допущениям Ингве варианта.
Эти критерии превосходства и совершенства действительно трудно
сформулировать: ведь дело вовсе не в том, что пушкинская строка может служить некой
моделью или неким идеалом совершенства, к которым следует стремиться и
которым следует подражать. В этой функции меры, стандарта строки Пушкина, как
и строки Лермонтова, Блока, Есенина... не работают — они интеллектуальная
собственность их создателей и в этом своем качестве обладают скорее
пресекающим любые попытки подражать действием, чем действием стандарта или эталона
совершенства. Если, скажем, матрос на вахте или метеоролог запишет в журнале
приведенный к допущениям Ингве вариант, им за это, пожалуй, ничего не будет,
но если они тот же факт зафиксируют пушкинской строкой — осложнений не
миновать.
Но это одна сторона дела, о которой мы упоминаем по чисто тактическим
соображениям, чтобы приблизится к главному, и смысл этого приближающего к
главному шага можно сформулировать примерно так. Во флективных языках, в
частности в русском, греческом, где в грамматических целях не используется
строгий порядок слов, на уровне предложений возникает (в предельном случае)
История европейской культурной традиции и ее проблемы 271
факториальное множество допустимых порядков равной глубины, что в каждом
конкретном случае реализации такого предложения в потоке речи требует со
стороны говорящего осознанной или неосознанной операции по снятию выбора в
пользу одного из множества возможных вариантов. Некоторые из снятых выборов
отмечены в сознании флективных языковых сообществ авторским присутствием
и признаются сообществом интеллектуальной собственностью снявших выбор
авторов. Спешим оговориться, что мы, снимая выбор в пользу варианта: «Вечерний
туман пал на синее море», действовали осознанно, руководствуясь допущениями
Ингве, поэтому ни на авторское присутствие, ни на интеллектуальную
собственность не претендуем.
Из того факта, что во флективных языках за каждым из реализованных
предложений, которые мы обнаруживаем в потоке устной речи А перед аудиторией В
или в графическом тексте письменной речи А к предполагаемой читательской
аудитории В, стоит, если число знаменательных слов в предложении обозначить
через п, то (п: — 1) нереализованных вариантов — в предельном случае,
разумеется, поскольку далеко не все варианты в тех или иных отношениях
равноценны, — вытекает ряд существенных следствий, с которыми все мы, члены
флективного языкового сообщества сталкиваемся в повседневной жизни как с нормой.
Во-первых, к любому А, общается ли он с аудиторией в устном или
письменном варианте речи, могут со стороны В предъявляться вопросы и претензии не
только по существу дела, что можно рассматривать как универсальную норму
ситуаций общения между А и В, если в наличии и А и В, но также вопросы и
претензии, относящиеся к качеству исполнения акта речи. Не будь этого
факториал ьного множества нереализованных вариантов, этот второй тип вопросов и
претензий был бы беспредметен, но коль скоро эти богатейшие россыпи
нереализованных возможностей существуют и лишь ничтожная их часть отмечена
авторским присутствием или защищена признанным сообществом правом на
интеллектуальную собственность, в языковых сообществах флективного типа (в
интеллектуальном средневековом сообществе, например, использовавшем латынь)
возникает множество поводов для бесконечных «споров о словах», о достоинствах
сказанного, об авторитетности сказанного и о множестве других тончайших
вещей.
Во-вторых, любой продукт интеллектуального творчества, если он выполнен
по флективной норме, требует авторского присутствия. Из этого следует, что если
мы признаем существенным свойством научных статических описаний
исключение авторского присутствия, то такие описания не могут быть выполнены по
флективной норме: за каждым их предложением будет скрываться
нереализованное факториальное множество вариантов и, соответственно, каждое из
предложений, как и описание в целом, будут постоянно находиться под сомнением
относительно состоятельности и правомерности выбора реализованных вариантов.
Гипотеза глубины, таким образом, сталкивает нас на почве конкретной задачи
в процессе формализации по вполне определенному и не имеющего вроде бы к
нам прямого отношения поводу — Ингве интересует задача машинного перевода,
которая нас не интересует в силу ее принадлежности к комплексу Архимеда, —
с крайне важным для понимания истории европейской мысли явлением. С
появлением полисной номотетики и философского ее осмысления духовная жизнь
возникающей европейской культуры в поисках мировоззренческого оформления,
целостного представления окружения сначала движется под давлением
номотетики, а затем, со времен Аристотеля и александрийцев, отцов церкви и теологии
определенно замыкается на категориально сказуемостный взгляд на структуру
целостности мира, который нашел свое четкое выражение в постулате Аристотеля:
«Сколькими способами сказывается, столькими способами и означает себя
бытие».
Это первичное и исходное замыкание проходило, как мы покажем ниже, по
флективным нормам — включало и процедуру снятого выбора, и авторское при-
272
M. К. Петров
сутствие и интеллектуальную собственность автора-творца, «Пушкина» эгейско-
христианского на отобранный им вариант порядка — «лучший» из возможных.
Нет следов отказа от постулата Аристотеля и на более поздних этапах развития
европейской культуры - ни в Ти культуре, где этот постулат входил в состав
«учебника» теологов и интеллектуалов и воспроизводился в составе тривия во
множестве их поколений именно во флективном варианте (снятый выбор,
отмеченность авторским присутствием, интеллектуальная собственность автора-творца
на реализованный в акте творения «наилучший» вариант порядка), ни в нашей
Ту культуре, где постулат Аристотеля воспроизводится через формальные курсы
родного языка общеобразовательной средней школы, хотя представленный в них
флективный вариант порядка явно уступает место чему-то другому под давлением
«научных» курсов. «Проходимая» в школе флективная грамматика Аристотеля и
александрийцев уже явно не воспринимается ни учителями, ни учениками, как
учение о миропорядке, об одном из прекраснейших вариантов факториального
множества «грамматических» порядков, который выбран и зафиксирован на
правах интеллектуальной собственности, реализован в акте творения великим
автором, кто бы он ни был — Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, всемогущий,
всеведущий и всеблагой бог.
Чему же уступает в нашей Ту культуре этот флективный вариант
«грамматического» миропорядка, который так долго, практически до XIX в. господствовал
в истории европейской культуры?
К этому вопросу нам теперь предстоит постоянно возвращаться, и
методологическую ценность гипотезы глубины В.Ингве мы усматриваем именно в том, что
в рамках узкой операциональной задачи на микроуровне формальных действий
по приведению русских (или греческих, латинских...) предложений к
определенным допущениям ради определения их глубины и поисков предела глубины
вообще, поставленного природой человеку как существу естественному объемом
оперативной или непосредственной памяти, Ингве вынуждает нас,
представителей флективных языковых сообществ в Ту культуре, наглядно, через построение
грамматического дерева, через упорядочение непосредственно составляющих,
через различение регрессии и прогрессии, «левой» работы по расширению
непосредственно составляющих, которой постоянно приходится заниматься, и
«правой» работы по наращиванию прогрессии, к которой постоянно должно
стремиться, хотя каждый выход в прогрессию тут же отправляет нас в «левую»
регрессию на предмет очередного трудоемкого выхода в прогрессию через
расширение составляющих, — Ингве вынуждает нас на этом микроуровне идти к смене
«грамматического» миропорядка тем же путем, которым прошла история
европейской мысли на переходе от Ти к Ту культуре.
В самом деле, попробуем разобраться в последовательности тех действий,
которые нам, членам флективного языкового сообщества, приходится совершать,
чтобы привести наше флективное представление к постулатам Ингве и получить
право на применение процедур определения глубины. Допустим, что нас
заинтересовала глубина пушкинской строки: «На море синее вечерний пал туман».
Можно, естественно, по разному упорядочивать непосредственно составляющие,
но мы нашли, что самый надежный способ — перевести строку на аналитический
английский язык, где господствует жесткий порядок слов и непосредственно
составляющие сами выстраиваются по второму допущению Ингве.
В этом первом движении мы получаем: The evening mist has fallen onto the blue
sea с глубиной 3.
Но определяем-то мы глубину русского, а не английского предложения;
английское может нам служить только в качестве модели следования
непосредственно составляющих, и когда мы пытаемся во втором движении вернуться назад к
русскому предложению, мы на месте пушкинской строки обнаруживаем
факториал ьное множество 5! — 120 равноценных в смысловом отношении вариантов
перевода английской модели, а с этим множеством и задачу отобрать (третье дви-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 273
жение) по английской модели следования непосредственно составляющих
варианты с тем же порядком слов. Такой вариант, нравится нам это или нет,
обнаруживается только один: «Вечерний туман пал на синее море» с глубиной 2.
Остальные 119 вариантов, в том числе и пушкинскую строку, отмеченную авторским
присутствием и правом на интеллектуальную собственность Пушкина,
приходится списать в издержки деятельности по приведению пушкинской строки к
допущениям Ингве как «нерелевантные» задаче определения глубины предложения.
Попробуем понять наши действия по «божественно»-флективной модели
Тимея у Платона или по «пиратской» модели релевантной теории, скажем,
Одиссея. Перед нами ясная и четкая задача — пройти к ограничениям оперативной
или непосредственной памяти по глубине [72] и определить глубину пушкинской
строки; высшая цель нашей релевантной теории — решить задачу с наименьшими
усилиями.
Подходя к пушкинской строке с этими намерениями, мы сразу же
сталкиваемся с ситуацией Тимея у Платона и действуем по его модели: «Итак,
пожелавши, чтобы все было хорошо и чтобы ничто, по возможности не было дурно, бог
позаботился обо всех видимых вещах, которые пребывали не в покое, но в
нестройном и беспорядочном движении; он привел их из беспорядка в порядок,
полагая, что второе, безусловно, лучше первого» [Тимей, 30 А-В].
Флективные рассуждения о совершенстве, благе, превосходстве порядка мы
оставим до выхода на макроуровень деятельности по упорядочению мира, а пока
мы в тисках релевантности, нам не до высоких материй и наше представление о
должном порядке целиком производно от высшей цели релевантной теории
определения глубины, которая решает задачу. С точки зрения этого релевантного
порядка пушкинская строка «На море синее вечерний пал туман» при всех ее
неоспоримых и признанных языковым сообществом достоинствах пребывает все же
в «нестройном беспорядочном» состоянии. В самом деле, все непосредственно
составляющие рассечены на части и бродят сами по себе. Группа подлежащего
(вечерний, туман), которая в первом шаге построения дерева должна наметить левую
ветвь регрессии, мало того, что локализована в правой части строки, но еще и
перебита начальным элементом группы сказуемого (пал + на, синее, море),
задача которого намечать ветвь прогрессии, а не вмешиваться в левое дело
расширения группы подлежащего. Еще хуже с группой сказуемого, где все наоборот.
Словом, нужен порядок и мы его вводим, превращая интеллектуальную
собственность Пушкина в унылое и безличное, но удовлетворяющее требованиям
разрешимости задачи «Вечерний туман пал на синее море».
Что мы обретаем и что мы теряем в этом акте?
Допустим на правах, так сказать, «предгипотезы», намека на рабочую
гипотезу, по которой аналитический строй английского языка, где основные
грамматические функции несет порядок слов, как раз и есть тот источник и носитель
набора категориально-сказуемостных способов выявления бытия, который, не
разрушая самого постулата Аристотеля «сколькими способами сказывается,
столькими способами и означает себя бытие» явочным порядком на переходе Ти-Ту
культура вытесняет флективные способы сказывания аналитическими, основанными
на строгом и однозначном порядке слов. Иными словами мы допускаем, что та
самая субституция высших авторитетов и монополий на истолкование высших
авторитетов (эмпирическая реальность заменяет бога в должности высшего
авторитета, наука узурпирует монополию церкви на истолкование высшего авторитета),
о которой писал И.Гальтунг [112], реально происходит не на уровне таких
громоздких и нечеловекоразмерных по своей сложности реалий как творец, природа,
церковь, наука, а в рамках человекоразмерного, обладающего человеческой
метрикой постулата Аристотеля, где извлеченный из одной (флективной) грамматики
универсальный категориальный миропорядок вытесняется другим универсальным
категориальным миропорядком, извлеченным из другой (аналитической)
грамматики. Осуществимость и проходимость такого процесса бесспорна: все граммати-
18 М.К. Петров
274
M.К. Петров
ки и категориальные универсальные картины мира, будь они флективными,
аналитическими или любыми иными, безропотно осваиваются детьми на этапе «от
2 до 5» и поэтому уже человекоразмерны.
По смыслу нашей «предгипотезы», которую мы попытаемся перевести в статус
рабочей и подтверждаемой множеством свидетельств гипотезы, мы ставим всех
участников поиска путей в науку Ти и Ту образца, будь то теологи, юристы,
медики и интеллектуалы «свободных профессий» в положение приводящих некое
«предложение» макроуровня, высказанное по нормам флективной грамматики, к
допущениям Ингве, основанным на неявно принятом постулате об
«естественности» порядка слов и порядка непосредственно составляющих в английском
предложении, то есть всем им приходится проделывать те же три движения,
которые проделали и мы с пушкинской строкой, получая близкие результаты:
1. Перевод флективного варианта на аналитический для поиска
«естественного» порядка слов и непосредственно составляющих.
2. Обратный перевод аналитического варианта на флективные для выявления
состава факториального множества равнозначных флективных вариантов.
3. Поиск в этом множестве флективных вариантов по зафиксированному в
аналитическом варианте «естественному» порядку следования слов и
непосредственно составляющих варианта с тем же порядком следования слов и
непосредственно составляющих, снятие выбора в пользу такого варианта, как единственно
реализуемого в аналитическом миропорядке.
Судя по тому, что мы приобрели и что потеряли в этих движениях, участники
поиска путей в науку должны бы приобретать уверенность в том, что среди
факториального множества флективных вариантов всегда будет обнаруживаться один
и только один вариант с естественным порядком следования слов и
непосредственно составляющих, а потеряли бы эффект авторской отмеченности некоторых
вариантов — в аналитическом миропорядке просто нет вариантов, нет выбора, не
может быть и авторской отмеченности, а также и право автора, снявшего выбор
и реализовавшего данный вариант на интеллектуальную собственность по тем же
самым причинам — нет вариантов, нет выбора, нечего снимать, а есть лишь
один-единственный для всех членов аналитического языкового сообщества
вариант, который и будет при случае реализован, возьмется ли за это дело Пушкин
или матрос на вахте, или сам бог.
Что же это был бы за миропорядок, в котором нет ни авторского присутствия,
ни авторской отмеченности вариантов, ни авторского права на интеллектуальную
собственность по отношению к реализованному варианту? На наш взгляд это и
был бы тот самый «научный миропорядок» или научный «мир открытий»,
особенности которого многократно и в близких формулировках фиксировал, скажем,
Д. Прайс: «Если бы не жили на свете Микеланджело или Бетховен, на месте их
несостоявшихся творений были бы совершенно иные вклады. Если бы на свет не
появились Коперник или Ферми, то те же самые вклады были бы сделаны
другими людьми. Есть лишь один мир открытий, и как только достигнута хотя бы
частица его понимания, открывший ее должен быть удостоен почестей или забыт.
Творение художника в высшей степени личностно, тогда как творение ученого
требует признания коллег. Башня из слоновой кости художника может быть
кельей-одиночкой, тогда как в башне ученого приходится иметь множество комнат,
в которых могли бы поселиться коллеги» [150, с. 69].
Прайс пришел к этой картине научного миропорядка совсем иным путем —
от факта наличия в практике научной деятельности многократных открытий и
споров о приоритете. Нетрудно было бы показать, что и в нашем аналитическом
миропорядке, где нет вариантов, а все сплошь образцы «естественного»
следования слов и непосредственно составляющих, авторское присутствие и авторская
отмеченность могли бы выявляться только по эффекту Добчинского-Бобчинского
«кто первым сказал?», так что и здесь были бы естественны и многократные
открытия и приоритетные споры. Более существенно, по нашему мнению, то, что
История европейской культурной традиции и ее проблемы 275
на базе аналитических способов сказуемости, в отличие от флективных,
невозможно сформулировать идеи ценности, степени качества, долженствования, так
что часто упоминаемые в числе достоинств научного взгляда на мир
«незаинтересованность», «свобода от ценностей», «объективность» могут оказаться
реакциями аналитического языкового сообщества ученых по типу детских реакций: «не
очень-то и хотелось», когда уж очень хочется невозможного.
Для «предгипотезы», пожалуй, достаточно; всерьез заниматься различиями
флективного и аналитического «грамматических» порядков мы будем ниже, а
пока только отметим, что гипотезу глубины Ингве мы использовали чисто
«релевантным» способом, рассмотрели только один из аспектов ее методологических
потенций, который оказался нам нужен. Более полное обсуждение этих
потенций, способных, к примеру, перевести из состояния данности в состояние
проблемы вопросы типа: «Почему языки членораздельны?», «Почему бывает и начало
и конец речи?», «Одинаковы ли грамматики говорящего и слушающего, А и В?»,
мы оставим на будущее — полное изложение гипотезы глубины и ее
методологических достоинств в нашу задачу не входит.
Лингвистическая относительность
Гипотеза глубины В.Ингве прошла, так сказать, по касательной области
внимания лингвистов, как частная и к тому же не очень перспективная
составляющая более мощного и глубокого потока работ по машинному переводу, который
и сам оказался бесперспективным. Те весьма значительные возмущения на
периферийной области проблематики, которые были вызваны деятельностью машпе-
реводчиков и матлингвистов 50-х и начала 60-х гг. при активном участии
отчаянных кибернетиков, не приняли форму устойчивой аномалии, способной
поставить под вопрос правомерность действующей лингвистической парадигмы. Более
того, машинный перевод в общем-то работал на укрепление действующей
парадигмы, поскольку сама идея механизации перевода предполагала
диссоциированную модель проблемной области лингвистики, полное распределение смысла в
диссоциированный набор «отмеченных» предложений и существование
однозначных соответствий между такими наборами разных языков. Уходя со сцены,
машинный перевод увел за собой и гипотезу глубины, хотя, вообще-то говоря,
гипотеза глубины Ингве явно была белой вороной в однородном потоке гипотез,
теорий, формализации машинного перевода.
Совершенно иначе обстоит дело с лингвистической относительностью.
Многообразие и различие языков никогда не выходило за пределы внимания
философов, теологов, интеллектуалов, лингвистов, всегда требовало объяснения в
топосном арсенале эпохи. На интересующем нас этапе от слияния эгейского и
христианского потоков и институционализации процесса воспроизводства
духовных кадров до институционализации системы онаучивания общества через
воздействие на тексты общеобразовательной средней школы в Ту культуре способ
объяснения многообразия языков прошел через три топосных набора
доказательной аргументации и все они в общем-то продолжают, по нашему мнению,
присутствовать на правах рудиментов-аппендиксов, способных иногда воспаляться по
калифорнийской модели, в современных истолкованиях и оценках феномена
лингвистической относительности.
Практически до появления компаративистики в начале XIX в.
господствующей оставалась библейская история Вавилонского столпотворения: «На всей
земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока, они нашли в земле
Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и
обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо
извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и
сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел господь
18*
276
М.К. Петров
посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал
господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не
отстанут они от этого, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их,
так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их господь оттуда по всей
земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там
смешал господь язык всей земли, и оттуда рассеял их господь по всей земле»
[Бытие, 11, 1-9].
Справедливости ради следует отметить, что это деяние бога, хотя оно и
характеризовалось интеллектуалами как «второе проклятие», с точки зрения
нанесенного ущерба воспринималось все же менее фундаментальным, чем первое —
изгнание из рая и бесплодие земли. Бэкон, например, описывая общие контуры
программы «великого восстановления» и упомянув оба проклятия, первым из
которых призваны заниматься науки, а вторым — грамматика, тут же предлагает и
способ восстановления ущерба: «...это произведение... навело нас на мысль о
создании некоей грамматики, которая бы тщательно исследовала не аналогию
между словами, но аналогию между словами и вещами, т.е. смысл, однако не
заходя в пределы толкований, принадлежащих собственно логике... С нашей точки
зрения, самой лучшей была бы такая грамматика, в которой ее автор,
превосходно владеющий множеством языков как древних, так и современных, исследовал
бы различные особенности этих языков, показав специфические достоинства и
недостатки каждого. Ведь таким способом языки могли бы обогащаться в
результате взаимного общения, и в то же время из того, что есть в каждом языке самого
лучшего и прекрасного, подобно Венере Апеллеса, мог бы возникнуть некий
прекраснейший образ самой речи, некий великолепнейший образец того, как следует
должным образом выражать чувства и мысли ума. А вместе с тем при таком
исследовании можно на материале самих языков сделать отнюдь не
малозначительные (как, может быть, думает кто-нибудь), а достойные самого внимательного
наблюдения выводы о психическом складе и нравах народов, говорящих на этих
языках» [6, с. 333—334].
У самого Бэкона нет четко выраженной идеи восстановления именно «языка
Адама», но она уже есть у его ближайших предшественников и современников (у
Парацельса, например) и станет фактически знаменем
интеллектуалов-революционеров XVII в. Мы говорим об этом не к тому, чтобы подчеркнуть особую
остроту лингвистических проблем на этом периоде. Что они действительно были
остры, мы покажем, когда будем говорить о самой революции XVII в. Сейчас же
нам следует в порядке предупреждения возможных недоразумений и срывов
взаимопонимания подчеркнуть то обстоятельство — оно с большим трудом доходит
до современного Ту читателя, даже и специалиста, — что эта библейская история
и развитые вокруг нее и с опорой на нее исторические, образовательные,
воспитательные теории Гартлиба, Коменского, Бойля, Ньютона, их работы и трактаты
вполне серьезно, а не на правах «теологических оговорок» воспринимались той
эпохой и именно в терминах теологии, не могли быть восприняты иначе за
отсутствием других точек зрения, других «терминов», которые появятся много
позже.
Многим из наших Ту современников все почему-то кажется, что и в те
времена можно было смотреть на проблемы нашими Ту глазами, вооруженными
оптикой, которая появится лет через 200—300 после событий. О.Маслиева,
например, так цитирует одно из наших высказываний об этом периоде: «Если бы мы
встали на обязательную для рассматриваемого точку зрения теолога (!? — О.М.)
и полагали вместе с ним, что мир сотворен по слову божьему, — продолжает
М.К.Петров, — то сотворенный по слову флективного языка мир был бы именно
таким, каким он представляется Аристотелю: материальное начало — «смысл»,
«содержание» — невозможно бы было изолировать в автономную область
самоопределения типа нашей объективной реальности. Это был бы мир
скульптурный, мир завершенных или полузавершенных ваяний, распределенных по клас-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 277
сам «частей речи» и склоняемых к единству внешней и разумной силой
говорящего (творца), а не мир исходной значимой глины, способной к
самоопределению через слепое контактное взаимодействие» [42, с. 90—91].
Нетрудно догадаться, что для «О.М.» вполне можно было быть Ту филологом
и в тот период и много раньше, и эта редкая убежденность в превосходстве Ту
точки зрения на Ти реалии иллюстрируется во многих местах книги с ощутимым
ущербом для попадающих в поле зрения реалий.
К этому эффекту неприятия Ти культуры, ее реалий, ее арсенала
доказательной аргументации нам теперь часто придется возвращаться, особенно часто в
процессе анализа перехода от Ти к Ту культуре по связи с появлением опытной
науки и реализацией идей Коменского о всеобщем унифицирующем образовании,
о «пансофии» с ее девизом «всем знать все обо всем».
На этом первом этапе до появления компаративистики множественность
языков и их различия естественно воспринимались под знаком «порчи» —
совокупного эффекта грехопадения и времени, то есть, если говорить в терминах спора
антропологов второй половины XIX в., то господствующей была не схема
эволюционистов-прогрессистов, а напротив, схема упадка, деградации, нечто вроде
того, о чем пишут сегодня неодионисийцы по поводу умножения дисциплин в
науке. Мы уже говорили о том, что Бэкон, например, считал растущую аналитику
современных ему языков, прежде всего новоанглийского, явной порчей древних
языков, приходя к обидным для своих современников выводам о том, что и
«умственное развитие людей прошлых веков было намного глубже и тоньше нашего»
[6, с. 335]. И это у Бэкона не частная оговорка — идея порчи пропитывает все
его восприятие античности. Древнее знание для него тем совершеннее, чем оно
древнее, поэтому свидетельства досократиков, скажем, в его табели о рангах
убедительности и ценности стоят много выше, чем свидетельства Платона или
Аристотеля, к которым он испытывает двойное недоверие и как к язычникам, и как
к авторам учебника ненавистной Римской церкви.
На втором этапе, в который, по нашему мнению, можно включить весь XIX в.
и начало XX в., топосную силу убедительности и научности набирают
эволюционные схемы интеграции многообразия по основанию развитости, о чем мы
говорили, входя в детали спора антропологов второй половины и конца XIX в. о
характере развития человечества. Немалую роль и в этих и в более поздних
спорах вплоть до нацистской идеи о превосходстве арийцев и в обосновании их
практики геноцида ради сохранения чистоты арийской крови играли данные
компаративистики, сравнительно-исторического метода в языкознании.
Отцы сравнительно-исторического метода Ф.Бопп, Р.Раск, Я.Гримм, выявляя
на эмпирическом разнообразии родственные связи языков и выстраивая
генеалогические древа, довольно мало заботились о теоретическом обобщении и о
подыскании теории для теоретического сжатия растущего эмпирического материала
исследований. Все живые языки группировались по общности предков, предков
всегда было меньше потомков, все это прекрасно укладывалось в библейскую
легенду о смешении языков и расселении и никого особенно не беспокоило.
Когда же потребовалась интегрирующая и сжимающая множество теория, то
тут наметились определенные расхождения в предпочтениях, даже, собственно
говоря, акценты в применении одной и той же схемы эволюции-развития,
введенной в интеллектуальный обиход к этому времени в основном немецкой
классической философией.
С историей концепции лингвистической относительности связывают обычно
линию, намеченную В.Гумбольдтом в обширном предисловии к трехтомному
труду «О языке Кави на острове Ява», который публиковался в 1836—1840 гг., то
есть в те же примерно годы, что и труды Лайеля. Это предисловие — «О различии
строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого
рода» [121], как и труд в целом, публиковались уже после смерти Гумбольдта и,
естестренно, не могут вводится в какие-либо отношения производности и зави-
278
M. К. Петров
симости ни с актуализмом и униформизмом Лайеля, ни тем более с
эволюционным учением Дарвина. Эти связи наладятся позже, усилиями в основном
А.Шлейхера.
Возведение Гумбольдта в ранг отца концепции лингвистической
относительности во многом, по нашему мнению, продукт «переписывания истории»,
связанный с довольно широким распространением в нашей Ту культуре неогубольдти-
анства — Хейдеггер [117], Л.Васгербер [170] и др. — и с концептуальной
близостью между неогубольдтианством и концепцией лингвистической относительности,
что позволило переписать историю при полнейшем игнорировании того факта,
что работа В.Гумбольдта целиком принадлежит к Ти культуре, тогда как и
концепция лингвистической относительности и неогубольдтианство типичные
продукты нашей Ту культуры.
Реально же преемственная связь между лингвистами второго периода (от
появления компаративистики до начала XX в.) и лингвистической
относительностью прошла, по нашему мнению, по другой линии: А.Шлейхер [159, 160],
Г.Штейнталь [163], младограмматики, Ф.Боас [97] к Э.Сепиру [62], в котором
«относительности» много меньше, чем в его ученике и систематизаторе Б.Уорфе.
На этом пути дескриптивизм вытеснял и натурализм Шлейхера и психологизм
Штейнталя, отброшенными оказались эволюционно-исторические схемы,
основание развитости, а с ними и тот достаточно ядовитый в своих исторических
экспликациях смысл данных сравнительно-исторического языкознания, который
использовали расисты всех мастей и который определенно имел почву как в работах
Гумбольдта, так и в работах Шлейхера.
Гумбольдт, например, писал: «Если каждый язык рассматривать как
отдельную попытку, а ряд языков как совокупность таких попыток, направленных на
удовлетворение указанной потребности (развитие духовных сил и образование
мировоззрения. — М.П.), можно констатировать, что языкотворческая сила
человечества будет действовать до тех пор, пока в целом или по частям она не создаст
того, что наиболее совершенным образом сможет удовлетворить предъявляемым
требованиям. В соответствии с этим положением даже и те языки и языковые
семейства, которые не обнаруживают между собой никаких исторических связей,
можно рассматривать как разные ступени единого процесса их образования. А
если это так, то эту связь внешне не объединенных между собой явлений следует
искать в общей внутренней причине, которой может быть только развитие
творческой силы. Язык является одним из тех явлений, которые стимулируют
общечеловеческую духовную силу к постоянной деятельности. Выражаясь другими
словами, в данном случае можно говорить о стремлении раскрыть полноту языка
в действительности. Проследить и описать это стремление составляет задачу
языковеда в ее конечном, но и первостепеннейшем итоге» [21, с. 69—70].
Телеологический смысл такого понимания языка очевиден, он эксплицитно
выражен чуть раньше: «Создание языка обусловлено внутренней потребностью
человечества. Он не только внешнее общение людей в обществе, но заложен в
природе самих людей и необходим для развития их духовных сил и образования
мировоззрения, которое человек только тогда может достичь, когда свое
мышление ясно и четко в связь с общественным мышлением» [21, с. 69]. Но это, так
сказать, телеология первого порядка, на уровне отдельных языков. Она в общем-
то безобидна и во многом отражает суть дела, если язык понят по нашему
второму постулату генетической недостаточности как система, в конечные цели
которой входит не только специализирующее кодирование, но и познание и
освоение обществом результатов познания, что действительно может происходить
только при допущении активной связи индивидуального мышления с коллективным,
общественным мышлением.
Но положение существенно меняется, когда определенные по этим конечным
целям отдельные языки в их пестроте и многообразии переводятся в ранг частных
попыток, подсистем в широкой общечеловеческой системе, определенной по раз-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 279
витию творческой силы, как внутренней причине и конечной цели, начинают
рассматриваться «как разные ступени единого процесса их образования», а
лингвисту предписывается «проследить и описать» это стремление к развитию
творческой силы.
В.Гумбольдта, при всей противоречивости его творчества, принято, и во
многом справедливо, считать убежденным кантианцем. На наш взгляд это
установившееся мнение не бесспорно. Во всяком случае, в своей телеологии,
ранжирующей многообразие языков — «отдельных попыток» — он много ближе к
Гегелю, и его наказ языковедам: «Проследить и описать это стремление составляет
задачу языковеда в ее конечном, но и первостепеннейшем итоге» — суть
предложение написать не «Критику чистого разума», а «Феноменологию духа». Да и те
похвалы Гегеля в адрес немецкого языка, начало которых мы уже приводили, в
чуть более полном изложении вполне могут рассматриваться, как черновая
модель ранжирования языков по ступеням у Гумбольдта: «Гораздо важнее, если в
данном языке определения мысли выражены в виде существительных и глаголов
и таким образом отчеканены, что получают предметную форму. Немецкий язык
обладает в этом отношении большими преимуществами перед другими
современными языками; к тому же многие из его слов имеют еще ту особенность, что
обладают не только различными, но и противоположными значениями, так что
нельзя не усмотреть в этом спекулятивный дух этого языка: мышление может
только радовать, когда оно неожиданно сталкивается с такого рода словами и
обнаруживает, что соединение противоположностей — результат спекуляции,
который для рассудка представляет собой бессмыслицу, — наивно выражено уже
лексически в виде одного слова, имеющего противоположные значения. Поэтому
философия вообще не нуждается в особой терминологии» [12, с. 82—83].
Непосредственным поводом для сближения учения Гумбольдта с концепцией
лингвистической относительности являются те довольно многочисленные
высказывания, в которых Гумбольдт подчеркивает замкнутость цикла индивид —
языковое сообщество — дух или «однородное субъективное начало» языкового
сообщества: «Так как ко всякому объективному восприятию неизбежно
примешивается субъективное, то каждую человеческую индивидуальность можно считать
носителем особого мировоззрения. Само его образование осуществляется через
посредство языка, так как слово, в противоположность душе превращается в объект
всегда с примесью собственного значения и таким образом привносит новое
своеобразие. Но в этом своеобразии, так же, как и в речевых звуках, в пределах
одного языка наблюдается всепроникающая тождественность, а так как к тому же
на язык одного народа воздействует однородное субъективное начало, то в
каждом языке оказывается заложенным свое мировоззрение. Если звук стоит между
предметом и человеком, то весь язык в целом находится между человеком и
воздействующей на него внутренним и внешним образом природой. Человек
окружает себя миром звуков, чтобы воспринять и усвоить мир предметов. Это
положение ни в коем случае не выходит за пределы очевидной истины. Так как
восприятие и деятельность человека зависят от его представлений, то его отношение
к предметам целиком обусловлено его языком. Тем же самым актом, посредством
которого он из себя создает язык, человек отдает себя в его власть, каждый язык
описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого
можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг. Изучение
иностранного языка можно было бы поэтому уподобить приобретению новой точки
зрения в прежнем миропонимании; до известной степени фактически так дело и
обстоит, потому что каждый язык образует ткань, сотканную из понятия и
представления некоторой части человечества; и только потому, что в чужой язык мы
в большей или меньшей степени переносим свое собственное миропонимание и
свое собственное языковое воззрение, мы не ощущаем с полной ясностью
результатов этого процесса» [21, с. 81].
280
M. К. Петров
Все это очень похоже на то, о чем пишут Сепир и особенно Уорф. Но у
Сепира и Уорфа, работающих в нормах дескриптивизма, язык встроен в
социальность, как интегрирующая мир деятельности языкового сообщества система,
которая работает в основном «на растяжение» — на удержание этого мира в
целостности. «Язык служит руководством к восприятию «социальной
действительности», — пишет Сепир. — Хотя язык обычно мало интересует ученых,
занимающихся социальными науками, он оказывает мощное воздействие на наше
мышление о социальных проблемах и процессах. Человеческое существо живет не в
одном только объективном мире и не в одном только мире общественной
деятельности, как это обычно полагают. В значительной степени человек находится
во власти конкретного языка, являющегося средством выражения в данном
обществе. Совершенно ошибочно полагать, что человек ориентируется в
действительности без помощи языка и что язык есть просто случайное средство решения
специфических проблем общения и мышления. Факты свидетельствуют о том,
что «реальный мир» в значительной мере бессознательно строится на языковых
нормах данного общества. Не существует двух языков настолько тождественных,
чтобы их можно было считать выразителями одной и той же социальной
действительности. Миры, в которых живут различные общества, — отдельные миры, а
не один мир, использующий разные ярлыки» [22, с. 177].
У Гумбольдта, работающего по нормам немецкой философской классики,
язык несет существенно иную функцию «расталкивания» мира через познание,
для него статика Сепира и Уорфа только момент самодвижения: «Язык как
совокупность его продуктов отличается от отдельных актов речевой деятельности;
на этом положении следует несколько задержаться. Язык в полном своем объеме
содержит все, что облекается в звук. Но как невозможно исчерпать содержание
мышления во всей бесконечности его связей, так невозможно это сделать и в
отношении того, что получает обозначение и соединение в языке. Наряду с уже
оформившимися элементами язык состоит из способов, с помощью которых
продолжается деятельность духа, указывающего языку его пути и формы. Уже прочно
оформившиеся элементы образуют в известном смысле мертвую массу, но в ней
заключается живой зародыш нескончаемых формаций. Поэтому в каждый момент
и в каждый период своего развития язык, подобно самой природе, представляется
человеку — в отличие от всего уже познанного и продуманного им — в виде
неисчерпаемой сокровищницы, в которой он вновь и вновь открывает
неизведанные ценности и неиспытанные чувства. Это качество языка проявляется во все
новом виде в каждом случае обращения к нему, и человек нуждается в нем для
воодушевления к продолжению умственного стремления и дальнейшего
развертывания его духовной жизни, чтобы наряду с завоеванными областями его взору
всегда были открыты бесконечные и постепенно проясняющиеся пространства»
[21, с. 81-82].
Этой явно связанной с концепциями немецкой философской классики идеи
самодвижения духа, познания с опорой на познанное, оформившееся и
образующее «в известном смысле мертвую массу», в которой однако же заключен «живой
зародыш нескончаемых формаций», явно нет ни в концепции лингвистической
относительности, ни в неогумбольдтианстве, хотя для самого Гумбольдта она
интегрирующая деталь, «шкворень», так сказать, его концепции, без которого все
остальное, в том числе и идея самодовления языковых сообществ, оказывается
само по себе, в разброде, вне связи в целое.
Понятно, что эта идея внешне очень походит на наше тезаурусное отношение,
где есть и «мертвая масса» уже освоенного — история актов общения Т0, и
«живой зародыш нескончаемых формаций» — Ti, но радикальное отличие нашего
тезаурусного отношения от идеи самодвижения духа, какой она предстает у
Гумбольдта и в немецкой философской классике, состоит в том, что у Гумбольдта,
как и в немецкой классике, тезаурусное отношение перевернуто, инициатива
принадлежит То, аудитории В, самодвижение не требует участия А, его деятель-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 281
ности по переводу Т0 в Ti, тогда как в нашей схеме такое «самодвижение» хотя
и встречается (случай Хурсина, когда в роли А выступает начальник,
объясняющий по долгу службы подчиненным известные им вещи), но явно не несет
функции познания.
Это различие весьма существенно. Самоактивность Т0 требует вектора, пред-
установленности, провиденции, а в конечном счете привычной для Ти культуры
всеведущей, всемогущей и всеблагой инстанции, присутствия которой мы, раз уж
взялись за перевод божественной, лошадиной и иной метрики в человеческую,
допускать не имеем права.
Понятно, что если постулатная база Ти культуры — Абсолют, Бог, Тенденция,
Закон, Развитие, Объективная логика, История (все в силу «самости» с большой
буквы) — и ее метрики рассматриваются не как «вымершие», а как хотя бы
полулегально существующие и в Ту культуре, то становится правомерным и такое
обращенное толкование тезаурусного отношения, поскольку «аудиторная» В-само-
активность Т0 изначально пребывала бы в предустановленных Абсолютом
границах и всегда допускала бы обратный «снимающий» ход по исторической эквифи-
нальности от наличного значения Т0. В нашей Ту системе постулатов такой
обратный ход сразу же замыкается, как мы и старались показать в первой части,
на первый крик младенца, на гносис и его апофатические характеристики, что
создает постоянные трудности на переходе в «материнский контекст» для
объяснения начала, поисков претендентов на включение в патристику вплоть до
последнего звена попятного движения, которое приходится закрывать постулатами
биологической и генетической недостаточности человеческого рода в их функции
дорожного знака — «кирпича», остерегающего тех, кто стремится разобраться в
очередном материнском контексте, что дальше «совсем иное», методологическое
бездорожье, лакуна, что в последнем звене проезд в события материнского
контекста закрыты для методов человеческой метрики просто потому, что в
последнем звене, в проблеме происхождения человека и начала человеческой истории
материнский контекст — биологический, использующий арсенал биологического
творчества, о котором мы пока мало знаем.
В Ти культуре, где человеческая история сотворена самостным разумным
знаком, богом, этой тупиковой ситуации с последним звеном не наблюдается просто
потому, что на месте нашего дорожного знака — обрыв, пустота. Поэтому
Гумбольдту в Ти постулатной базе позволено видеть в языках «попытки» членов
языковых сообществ выращивать на изолированных почвах «мертвой массы»
оплодотворяющие их «живые зародыши нескончаемых формаций» и ранжировать эти
попытки по «ступеням единого процесса их образования» [21, с. 69]. Равным
образом и Гегелю позволено демонстрировать это замыкание на начало-Абсолют,
как на вполне допустимый и доказательный челночный ход мысли, поскольку он
получает в результате такого замыкания не первый крик младенца, как это
постоянно происходит с нами, а бога в позиции «до вещей», до сотворения мира,
когда еще земля была «безвидна и пуста», «тьма над бездною», когда «дух божий
носился над водою» [Бытие, 1, 2].
Так, скажем, пройдя в «Феноменологии духа» через историю выявлений
разумности к текущим значениям Т0 этого текста-истории, Гегель в «Науке логике»
совершает такое обращение с неявной ссылкой на то, что никакого
«материнского контекста» у истории духа нет. Иными словами, если мы в Ту культуре
вынуждены все-таки вывешивать дорожный знак-»кирпич» в виде постулатов
биологической и генетической недостаточности рода человеческого, то и Гегель и
Гумбольдт в Ти культуре необходимости в таком знаке не ощущают — он был бы
бессмысленным, чем-то вроде примечания к таблице умножения, вводящего
дополнительные столбцы для отсутствующих случаев: бессмысленно ограждать
знаками пустоту, в которой нет событий.
Гегель пишет в этом плане относительно обращенного построения «Науки
логики»: «Итак, в настоящем произведении понятие чистой науки и его дедукция
282
M. К. Петров
берутся как предпосылка постольку, поскольку феноменология духа есть не что
иное, как дедукция его. Абсолютное знание есть истина всех способов сознания,
потому что, как показало (описанное в «Феноменологии духа») движение
сознания, лишь в абсолютном знании полностью преодолевается разрыв между
предметом и достоверностью самого себя, и истина стала равной этой достоверности,
так же как и эта достоверность стала равной истине.
Чистая наука, стало быть, предполагает освобождение от противоположности
сознания (и его предмета). Она содержит в себе мысль, поскольку мысль есть
также и вешь сама по себе, или содержит вешь самое по себе, поскольку вещь
есть также и чистая мысль. В качестве науки истина есть чистое развивающееся
самосознание и имеет образ самости (что выражается в том), что в себе и для
себя сущее есть осознанное понятие, а понятие, как таковое, есть в себе и для
себя сущее. Это объективное мышление и есть содержание чистой науки. Она
поэтому в такой мере не формальна, в такой мере не лишена материи для
действительного и истинного познания, что скорее лишь ее содержание и есть
абсолютно истинное или (если еще угодно пользоваться словом «материя») подлинная
материя, но такая материя, для которой форма не есть нечто внешнее, так как
эта материя есть скорее чистая мысль и, следовательно, есть сама абсолютная
форма. Логику, стало быть, следует понимать как систему чистого разума, как
царство чистой мысли. Это царство есть истина, какова она без покровов, в себе
и для себя самой. Можно поэтому выразиться так: это содержание есть
изображение бога, каков он в своей вечной сущности до сотворения природы и какого
бы то ни было конечного духа» [12, с. 102—103].
У нас в таких обращениях к началу той или иной истории, представленной
текущим значением Т0, как это мы демонстрировали на анализе выявлений эк-
вифинальности крупных городов или научных дисциплин, «истина, какова она
без покровов в себе и для себя самой» всегда обращается в орущего младенца,
начинающего свою историю и включающегося во все иные истории в рамках
возможностей и ограничений гносиса, что и придает его, как и любой иной истории
человеческую метрику. По нормам Ти культуры обращение дает именно тот
эффект, о котором пишет Гегель и который принимает как данность Гумбольдт в
своем наказе языковедам [21, с. 69—70].
К Гегелю мы еще вернемся в ином контексте, а пока отметим, что
правомерность возведения Гумбольдта в отцы концепции лингвистической
относительности зависит от состава той постулатной базы, на которой строится эта концепция,
то есть на проверке того, не вводят ли энтузиасты лингвистической
относительности явным или неявным, полулегальным образом в картину мира постулаты Ти
культуры.
Если бы, скажем, концепция лингвистической относительности, какой она
предстает в работах Э.Сепира и Б.Уорфа, была простым переносом идей
В.Гумбольдта на Ту почву, ее следовало бы рассматривать как рудимент Ти культуры в
Ту культуре, а ее смысл понимать элементарным библейско-интеллектуальным
образом в духе гегелевского истолкования «царства истины» — систем чистого
разума столько же, сколько и языков — бог, «каков он в своей вечной сущности
до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа» в своей
неизреченной всеблагости принял решение творить миры по числу возникающих
языков или, вернее, языки по числу творимых им миров.
Наш взгляд мы уже высказали: Гипотеза Сепира—Уорфа, как и тесно
связанное с ней неогумбольдтианство — продукты Ту культуры и должны
рассматриваться в рамках постулатной базы Ту. Но этот наш общий взгляд, во-первых, не
совпадает с мнением авторов многочисленных «критик» концепции
лингвистической относительности, а во-вторых, не освобождает от задачи выявления того,
какой, собственно, смысл может получить концепция относительности в
терминах действующей парадигмы лингвистики и постулатной базы Ту.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 283
Что касается мнения авторов «критик», то господствующим является
многообразие форм полуотрицаний и существенных оговорок, следующих модели по-
пперовской фальсификации, когда признается эмпирическая достоверность
факта, но тут же отрицается право на обобщение, на использование этого факта
в качестве свидетельства в пользу более широкой теории. Упоминавшаяся уже
О.Маслиева, к примеру, пишет об Уорфе: «Исследования Уорфа показывают, что
в мышлении этого народа присутствует уже сильно развитая категория
причинности, осознаваемая как подготовка возникновения и развития явлений. Не
соглашаясь, конечно, с ошибочной философской интерпретацией этого явления
Уорфом, нельзя тем не менее отрицать обнаруженного им факта неразвитости
абстрактных категорий пространства и времени в мышлении изучавшегося им
народа» [42, с. 77].
И это не частный случай критики по модели: «не соглашаясь, нельзя тем не
менее отрицать».
Вместе с тем, когда материал вынуждает все-таки отказываться от модели По-
ппера, от укрощения доказательности фактов указанием на жесткие границы их
истинности, то сразу же возникает вопрос, а в какой (Ту или Ти) постулатной
базе работает сам автор? У Маслиевой, например, обнаруживается такой
типичный в этом отношении силлогизм:
«Влияние языка на мышление народа — носителя этого языка — они
настолько преувеличивают, что это приводит к превращению языка в барьер,
отделяющий мышление от объективной действительности и создающий особое
«лингвистическое мировоззрение». Таким образом, совершенно искажается реальное
соотношение национального своеобразия языков и единства «постигающего
мышления».
Всеобщность мышления состоит в постижении им единых закономерностей
существующей независимо от субъекта объективной действительности. В
процессе познания мира мысль всюду идет одинаковыми путями, независимо от языка,
в котором фиксируются мыслительные формы.
Это подтверждается проведенным анализом языкового выражения понятия
причинности на ранних этапах его развития» [42, с. 83].
Сколько мы ни присматриваемся к этому ходу мысли, мы не видим способов
примирения декларированной независимости постигающего мышления от языка
с аргументом в пользу этой независимости от данных анализа «языкового
выражения». Тут, на наш взгляд, нужно уж прямо ссылаться на Аристотеля и Гегеля,
на ту самую логику «постигающего мышления», которая разработана на
категориально сказуемостной базе флективного греческого языка и с малыми
изменениями до сих пор преподается ученикам в составе школьного курса грамматики,
а также некоторым студентам и аспирантам, как самостоятельный курс логики,
хотя, как мы попытаемся показать ниже, господствующее сегодня в науке
понимание каузального отношения — предмет поисков Маслиевой — в принципе не
могло получить категориального оформления в терминах флективности и не
получало.
Нам кажется, что и эффекты неприятия концепции лингвистической
относительности, за которыми не обнаруживается единой постулатной базы, и сам
смысл этой концепции для Ту культуры становятся более понятными, если учесть
тот факт, что науку о языке уже единожды пробовали приобщить к наукам,
привести в научный вид на базе эволюционной теории. И хотя сам этот факт редко
сознается лингвистами, как выдающееся событие в жизни их дисциплины,
стоящий за этой попыткой концептуально понятийный аппарат, доказывающий
принадлежность лингвистики к признанному миру науки второй половины XIX в.
продолжает действовать и сегодня на правах постулатной базы, входя в острое
противоречие с концепцией лингвистической относительности.
В наиболее чистой форме эта попытка приведения лингвистики в
соответствие со, стандартными представлениями XIX в. о том, какой следует быть науке,
284
М.К. Петров
представлена в письме А.Шлейхера Э.Геккелю, в то время профессору зоологии
и директору зоологического музея при Иенском университете. В этом
публичном послании 1863 г. Шлейхер пишет: «Законы, установленные Дарвином для
видов животных и растений, применимы, по крайней мере в главных чертах
своих, и к организмам языков. Изложение этого применения составляет прямую
задачу этих строк, и мы приступим к нему теперь, показав вообще, что все
наблюдательные науки настоящего времени, к которым принадлежит и наука о
языке, имеют одну общую черту, обусловленную известным философским
воззрением» [21, с. 98—99].
Что же общего усматривает Шлейхер между лингвистикой и биологией? Во-
первых, это общность способа представления предметной целостности —
общность принципа классификации: «Прежде всего вспомним, что разделения и
подразделения в области языков в сущности того же рода, как и вообще в царстве
естественных организмов, но что выражения, употребляемые лингвистами для
обозначения этой классификации, различны от тех, которые встречаются у
натуралистов... То, что естествоиспытатели назвали бы родом, у глоттиков именуется
племенем; роды, более сродственные между собою, называются иногда
семействами одного племени языков... Виды одного рода у нас называются языками
какого-либо племени; подвиды — у нас диалекты или наречия известного языка;
разновидностям соответствуют местные говоры или второстепенные наречия;
наконец, отдельным особям — образ выражения отдельных людей, говорящих на
известных языках» [21, с. 99].
Далее, общей оказывается идея изменчивости в исходной дарвиновской
функции умножения многообразия: «Что же касается установленной Дарвином
изменчивости видов, которая, если только она не однородна и равномерна у всех
особей, содействует возникновению из одной формы многих новых (процесс,
разумеется, беспрерывно повторяющийся), то в отношении к организмам языка эта
способность уже давно признана. Те языки, которые, по выражению ботаников
и зоологов, следовало бы обозначить видами одного рода, мы считаем за детей
одного общего основного языка, из которого они произошли путем постепенного
изменения. Из племен языков, нам хорошо известных, мы точно так же
составляем родословные, как это старался сделать Дарвин для видов растений и
животных. Уже никто более не сомневается в том, что все племя индоевропейских
языков: индийский, иранский (персидский, армянский и др.), греческий, италийский
(латинский, оскский, умбрийский, со всеми детьми первого), кельтский,
славянский, литовский, германский или немецкий, языки, т.е. племя, состоящее из
множества видов, подвидов и разновидностей, получило свое начало из одной
отдельной основной формы, — индогерманского первобытного языка; то же самое
прилагается к языкам семитического племени, к которому, как известно,
принадлежат еврейский, сирийский и халдейский, арабский и др., — как вообще ко всем
племенам языков» [21, с. 99].
В области изучения изменчивости, как агента умножения разнообразия у
лингвистов есть даже определенные преимущества: «Относительно происхождения
новых форм из прежних в области языка можно делать наблюдения легче и в
большем размере, чем в области организмов растений и животных. Дело в том,
что мы, лингвисты, на этот раз имеем преимущество перед прочими
естествоиспытателями. О многих языках мы действительно в состоянии доказать, что они
разветвились на различные языки, наречия и т.д. Некоторые языки и семейства
языков можно проследить более чем в течение двух тысячелетий, так как до нас
дошла через письмена в сущности верная картина их прежних форм. Это можно
сказать, например, о латинском. Нам известны как древнелатинский, так и
романские языки, происшедшие из него посредством разрознения и постороннего
влияния, — вы бы сказали, — путем скрещивания; нам известен древнейший
индийский, известны происшедшие прямо из него языки и, далее, происходящие
из этих языки новоиндийские. Таким образом, мы имеем твердую и верную ос-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 285
нову для наблюдения. То, что нам положительно известно о языках, сделавшихся
доступными нашим наблюдениям в течение столь долгих периодов времени
потому, что народы, ими говорившие, к счастью, оставили письменные памятники
из сравнительно раннего времени, — мы имеем право распространять и на другие
племена языков, у которых недостает подобных памятников их прежних форм.
Таким образом, мы знаем из прямых наблюдений, что языки изменяются, пока
они живут, и данными для этих наблюдений мы обязаны только письменности»
[21, с. 100].
Роль письменности Шлейхер подчеркивает особо: «Если бы письменность не
была изобретена доныне, то языкоиспытателям, вероятно никогда бы не пришло
в голову, что языки, как, например, русский, немецкий и французский,
происходят от одного и того же языка; они, может быть, не догадались бы
предположить общее происхождение для каких-либо языков, хотя и находящихся в самом
близком сродстве, и вообще допустить, что язык изменяется... Но теперь у нас
больше материала для наблюдения, чем у других естествоиспытателей, и оттого
мы раньше пришли к той мысли, что виды не первозданны. Кроме того,
изменения в языках, может быть, совершались быстрее, чем в царствах животном и
растительном... Впрочем, различие относительно материала для наблюдений
между царством языка и царством животных и растений, как уже сказано, только
количественное, а не качественное, ибо, как известно, некоторая степень
изменчивости животных и растений есть также дознанный факт» [21, с. 100].
В полном соответствии с эпохой в представление о языке как предметной
единице изучения вносится идея векторного развития: «Все более организованные
языки, как, например, праотец индогерманского племени, нам совершенно
известный, очевидно показывают своим строением, что они произошли
посредством постепенного развития из более простых форм. Строение всех языков
указывает на то, что их древнейшая форма в сущности была та же, которая
сохранилась в некоторых языках простейшего строения (например, в китайском).
Одним словом, то, из чего все языки ведут свое начало, были осмысленные
звуки, простые звуковые обозначения впечатлений, представлений, понятий,
которые могли быть употребляемы различным образом, то есть играть роль той или
иной грамматической формы, без существования особых звуковых форм, так
сказать, органов для этих различных отправлений. В этом наидревнейшем периоде
жизни языка в звуковом отношении нет ни глаголов, ни имен, ни спряжений,
ни склонений и т.д.» [21, с. 101].
Процесс глоттогнеза в его начальных фазах мыслится в тех же биологических
аналогиях: «Употребляя форму уподобления, я могу назвать корни простыми
клеточками языка, у которых для грамматических функций, каковы имя, глагол и
т.д., нет еще особых органов... Мы принимаем, таким образом, для всех языков
по форме одинаковое происхождение. Когда человек от звуковой мимики и
звукоподражаний нашел дорогу к звукам, имеющим уже значение, то эти последние
были еще простые звуковые формы, без всякого грамматического значения. Но
по звуковому материалу, из которого они состояли, и по смыслу, который они
выражали, эти простейшие начала языка были различны у различных людей, что
доказывается различием языков, развившихся из этих начал. Оттого мы
предполагаем бесчисленное множество первобытных языков, но для всех принимаем
одну и ту же форму» [21, с. 101].
Шлейхер особенно подчеркивает методологические достоинства хода от
простого к сложному: «В некоторой степени соответствующим образом представляем
мы себе происхождение растительных и животных организмов; их общая
первоначальная форма есть, вероятно, простая клеточка, точно так же, как
относительно языков это есть простой корень. Простейшие формы позднейшей жизни
животных и растений, клеточки, следует, кажется, также предположить
простейшими во множестве; в известный период жизни нашей планеты, как в области
языков, мы допустили одновременное появление многих простых звуков со значени-
286
M. К. Петров
ем. Эти первоначальные формы органической жизни, не имевшие еще
притязания на название ни животного, ни растения, впоследствии развивались в разных
направлениях; таким же образом — и корни языков» [21, с. 101].
Здесь же появляется и знакомая нам уже аргументация в пользу униформизма
и актуализма: «Так как в эпоху историческую мы видим, что у людей, живущих
в одинаковых условиях, языки изменяются равномерно в устах всех особей, ими
говорящих, то мы и принимаем, что язык образовывался однородно у людей
совершенно однородных. Ибо вышеизложенный метод — от известного заключать
о неизвестном — не дозволяет нам предположить для древних времен, не
подлежащих нашему непосредственному наблюдению, иные законы жизни, нежели те,
которые мы замечаем в периоде, доступном нашему наблюдению» [21, с. 101—
102].
На это исходное единообразие накладывается дифференцирующее воздействие
условий жизни: «При других условиях иначе и образовывались языки, и, по всей
вероятности, различие языков находилось в прямом отношении к различию
жизненных условий людей вообще. Таким образом, первоначальное распределение
языков на земле происходило, вероятно, со строгой законностью; языки соседних
народов были более сходными, чем языки людей, живших в разных частях света.
По мере удаления языков от исходного языка они должны были все более и более
отклоняться от него, так как вместе с удалением изменяются и климат и
жизненные условия вообще. Даже в настоящее время сохранились, по-видимому, следы
этого правильного распределения языков» [21, с. 102].
От предположения о наличии следов правильного распределения Шлейхер
идет к констатации локально-очагового характера глоттогенеза: «Это разительное
согласование в строении географически соседних племен языков мы считаем
явлением самой ранней жизни языка. Колыбели происхождения таких языков, коих
образовательное начало в сущности аналогично, по нашему мнению, следует
считать соседственными. Подобно языкам, и флоры и фауны отдельных частей света
обнаруживают свойственный им тип» [21, с. 102].
Сюда же вводится и идея закономерного вымирания: «В историческое время
виды и роды языков постоянно исчезают и другие распространяются на их счет;
для примера упомяну только о распространении индогерманского племени и о
вымирании американских языков. В древние времена, когда на языках говорило
сравнительно малочисленное народонаселение, вымирание форм языков, может
быть, происходило в несравненно высшей степени. Но так как более
организованные языки, как, например, индогерманский, должны существовать уже давно,
как это видно из их высокого развития, из их настоящей, очевидно, древней
формы и из вообще медленного изменения языков, то следует, что
доисторический период жизни языков был гораздо продолжительнее, чем период,
принадлежащий историческому времени. Известен же нам язык только со времени
употребления письменности. Итак, для периода исчезновения организмов языка и
изменения первоначальных его условий нам следует вообще предположить весьма
большое пространство времени, может быть, из нескольких десятков
тысячелетий» [21, с. 102].
Понятно, что этот способ выстраивания дисциплинарной вечности без учета
библейского «пространства времени» может быть принят как свидетельство
отмены библейской модели вавилонского столпотворения, и это только
подчеркивается описанием состава событий на этом дополнительном праисторическом
периоде в несколько десятков тысячелетий: «В этот большой промежуток времени
исчезло, вероятно, больше родов языков, нежели сколько их существует в
настоящее время. Так объясняется и возможность большого распространения
некоторых племен, например, индогерманского, финского, малайского,
южноафриканского и т.д., которые сильно разошлись на просторной почве. Такой же процесс
Дарвин принимает для царств растительного и животного, называя его «борьбой
за существование»; множество органических форм должно было погибнуть в этой
История европейской культурной традиции и ее проблемы 287
борьбе и дать место сравнительно немногим избранным. Приведем собственные
слова Дарвина. Он говорит: «Преобладающие виды обширнейших преобладающих
групп стремятся оставлять многих видоизмененных потомков, и таким образом
возникают новые подгруппы. По мере их возникновения виды групп менее
сильных, унаследовавшие от общего родича какое-либо несовершенство, склонны к
одновременному вымиранию без видоизмененного потомства. Но окончательное
вымирание целой группы видов часто может быть процессом весьма медленным
вследствие сохранения немногих потомков, выживающих в защищенных
объединенных местностях (с языками это встречается в горах; я упомяну, например,
баскский язык в Пиренеях, остаток прежде далеко распространенного языка; то
же самое видим на Кавказе и в других местностях). Когда группа исчезла вполне,
она не появляется вновь, ибо потомственная связь порвана. Мы можем понять,
каким образом распространение преобладающих жизненных форм, всего чаще
изменяющихся, стремится со временем населить весь мир близко сродными, хотя
и видоизмененными, потомками; они по большей части успеют заменить те
группы видов, которые слабее их в борьбе за существование» [21, с. 102—103].
Эту модель обновления через вымирание слабых без уменьшения
многообразия Шлейхер считает сущностью глоттогенеза: «Эти слова Дарвина могут быть
применены к языкам без всякого изменения. Дарвин превосходно изображает в
приведенных строках то, что совершается в борьбе языков за свое существование.
В настоящем периоде жизни человечества победителями в борьбе за
существование оказываются преимущественно языки индогерманского племени;
распространение их беспрерывно продолжается, а многие другие ими вытеснены» [21, с. 103].
В глоттогенезе, как и в возникновении видов, возможно появление
недостающих звеньев: «Вследствие огромного вымирания языков погасли некоторые
посредствующие формы, вследствие переселения народов изменились
первоначальные условия языков, так что ныне нередко языки весьма различной формы
являются соседями по местности, не имея посредствующих между собой звеньев.
Так, например, мы видим, что баскский язык, совершенно отличный от
индогерманского, стоит совершенно уединенно среди этого племени. В сущности то же
говорит Дарвин о соотношениях царств животного и растительного» [21, с. 103].
Это письмо Шлейхера интересно не только как попытка сформулировать
новую парадигму лингвистики, независимую от библейской, но и как
манифестация солидарности научного сообщества XIX в. в общем деле: «Вот что,
любезный друг и товарищ, приходило мне на ум, когда я изучал уважаемого тобою
Дарвина, которого учение ты так ревностно стараешься защищать и распространять,
чем, как я только что узнал, ты даже навлек на себя гнев клерикальных
журналов» [21, с. 103].
При этом, однако, манифестация поддержки не выливается в слепое
заимствование: «Понятно, что только основные черты воззрений Дарвина имеют
применение к языкам. Область языков слишком различна от царств растительного и
животного, чтобы совокупность рассуждении Дарвина до малейших подробностей
могла иметь для нее значение... Но в области языков тем более неопровержимо
происхождение видов путем постепенного разрознения и сохранения более
развитых организмов в борьбе за существование. Оба главные начала Дарвинова
учения разделяет со многими другими великими открытиями то свойство, что они
оказываются справедливыми даже в таких сферах, которые первоначально не
были принимаемы в соображение» [21, с. 103].
Мы пошли на такое детальное цитирование письма Шлейхера в частности и
потому, что оно понятнее любых описаний фиксирует новую ситуацию в
лингвистике на переходе от Ти к Ту культуре. Ситуация эта отличается и от той, в которой
устанавливала стандарты немецкая философская классика, но вместе с тем и от
той, типичной для Ту культуры ситуации дисциплинарного индифферентизма, с
которой столкнулись соратники Э.Геккеля по пропаганде биологических знаний
через тексты Ту во второй половине XX в. в штате Калифорния. Кстати говоря,
288
M. К. Петров
когда, осенью 1980 г., пишутся эти строки, тогдашний губернатор штата
Калифорния и нынешний кандидат в президенты США выступает за «равное время» на
гипотезы Моисея и Дарвина, тогда как его противник Картер — «за Дарвина», не
ссылаясь на сколько-нибудь состоятельные научные соображения.
Но эта внешняя и крайне полезная, на наш взгляд, сторона дела не должна
скрывать главного. За демонстративным и, надобно сказать, квалифицированным
замыканием лингвистической парадигмы второй половины XIX в. на
эволюционную теорию Дарвина стоит достаточно жесткий парадигматический набор
концепций, в котором, по нашему убеждению, до сих пор, особенно после
сокрушительной для «нового учения о языке» дискуссии, работает уже два-три поколения
наших языковедов и который во многом определяет странности восприятия
гипотезы лингвистической относительности.
В сочленения этой парадигматики А.Шлейхер включает:
1. Идею возрастного движения языка:
«Жизнь языка (обычно именуемая историей языка) распадается на два периода.
1. Развитие языка, доисторический период. Вместе с человеком развивается
язык, т.е. звуковое выражение мысли. Даже простейшие языки есть результат
постепенного процесса становления. Все высшие формы языка возникли из более
простых: агглютинирующие из изолирующих, флективные из агглютинирующих.
2. Распад языка в отношении звуков и форм, причем одновременно
происходят значительные изменения в функциях и строении предложения —
исторический период. Переход от первого периода ко второму осуществляется постепенно.
Установление законов, по которым языки изменяются в течение их жизни,
представляет одну из основных задач глоттики, так как без познания их невозможно
понимание форм языков, в особенности ныне живущих» [21, с. 90].
3. Языки проходят кульминацию развития, которая достигается на переходе
из доисторического в исторический период распада-порождения новых языков,
менее совершенных с точки зрения звука и формы: «Посредством различного
развития в разных областях своего распространения один и тот же язык распадается
на несколько языков (диалектов, говоров) в течение второго периода, начало
которого, однако, также выходит за пределы исторических свидетельств. Этот
процесс дифференциации может повторяться многократно» [21, с. 90].
4. Основная функция языка — оформление мышления, прежде всего и
обязательно в звуке: «Язык имеет своей задачей создать звуковой образ
представлений, понятий и существующих между ними отношений, он воплощает в звуках
процесс мышления. Звуковое отображение мысли может быть более или менее
полным; оно может ограничиться неясными намеками, но вместе с тем язык
посредством имеющихся в его распоряжении точных и подвижных звуков может с
фотографической точностью отобразить тончайшие нюансы мыслительного
процесса. Язык, однако, никогда не может обойтись без одного элемента, именно
звукового выражения понятия и представления; звуковое выражение обоих
явлений образует обязательную сторону языка. Меняться или даже полностью
отсутствовать может только звуковое выражение отношения; это меняющаяся и
способная на бесконечные градации сторона языка.
Представления и понятия, поскольку они получают звуковое выражение,
называют значением. Функции звука состоят, следовательно, в значении и
отношении.
Звуки и звуковые комплексы, функцией которых является выражение
значения, мы называем корнями» [21, с. 93].
5. Способ соединения значения и отношения образует суть языка: «Значение
и отношение, совместно получившие звуковое выражение, образуют слово. Слова
в свою очередь составляют язык. В соответствии с этим сущность слова, а тем
самым и языка заключается в звуковом выражении значения и отношения.
Сущность каждого языка в отдельности обусловливается способом, каким значение и
отношение получают звуковое выражение» [21, с. 93].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 289
6. Как целостность, выявляющая свойства развития и изменения во времени,
язык обладает формой: «Кроме звучания, кроме звуковой материи, применяемой
для выражения значения и отношения (функций), и кроме функций, мы должны
еще выделить третий элемент в природе языка. То многообразие (способов
соединения слов), которое мы отметили, частично основывается не на звуке и не
на функциях, а на отсутствии или наличии выражения отношений и на том
положении, которое занимают относительно друг друга выражение значения и
выражение отношения. Эту сторону языка мы называем его формой. Мы должны,
следовательно, в языке, а затем и в слове выделять три элемента. Точнее говоря,
сущность слова, а тем самым и всего языка определяется тремя моментами:
звуком, формой и функцией» [21, с. 93].
Различение материи и формы нужно Шлейхеру в основном для различения
двух познавательных подходов к языку: «Для определения родства языков,
объединяемых в языковые роды,... решающим является не их форма, а языковая
материя, из которой строятся языки. Если два или несколько языков употребляют
для выражения значения и отношения настолько близкие звуки, что мысль о
случайном совпадении оказывается совершенно неправомерной, и если, далее,
совпадения проходят через весь язык и обладают таким характером, что их нельзя
объяснить заимствованием слов, то подобного рода тождественные языки,
несомненно, происходят из общего языка-основы, они являются родственными» [21,
с. 93—94]. Когда же исследование переходит в план изучения законов жизни
языка, решающей оказывается форма: «Языковые роды находятся в процессе
постоянного становления, своим происхождением они обязаны закону развития,
проявляющемуся в жизни языков. Это приводит нас к новому аспекту, который
языки предоставляют наблюдению, именно к рассмотрению их жизни, их
становления, расцвета и исчезновения» [21, с. 95].
7. Все языки изменяются и притом закономерно: «Все языки, которые мы
прослеживаем на протяжении длительного времени, дают основание для
заключения, что они находятся в постоянном и беспрерывном изменении. Языки, эти
образованные из языковой материи природные организмы, притом самые высшие
из всех, проявляют свои свойства природного организма не только в том, что все
они классифицируются на роды, виды, подвиды и т.д., но и в том, что их рост
происходит по определенным законам» [21, с. 95].
8. Образование языка и история языкового сообщества — два различных вида
деятельности: «Возникновение и становление языка мы никогда не можем
наблюдать непосредственно; историю развития языка можно установить только
посредством разложения образовавшегося языкового организма.
Этот вывод мы могли бы, несомненно, сделать и в связи с тем
обстоятельством, что историческое существование народа без языка невозможно, что
историческая жизнь предполагает существование языка, что человек, когда его разум
связывается со звуком, целью своей бессознательной духовной деятельности
имеет язык, а будучи духовно свободным и желая самоутвердиться, может
использовать язык только как средство выражения своей духовной деятельности.
Образование языка и история — чередующиеся деятельности человека, два
способа проявления его сущности, которые никогда не осуществляются
одновременно и из которых первое всегда предшествует второй.
Можно даже объективно доказать, что история и развитие языка находятся в
обратных отношениях друг к другу. Чем богаче и сложнее история, тем скорее
происходит распад языка, и чем беднее, медленнее и устойчивее первая, тем
более верным остается себе язык» [21, с. 95].
9. Развитие языка завершается на переходе в историю: «Как только народ
вступает в историю, образование языка прекращается. Язык застывает на той
ступени, на какой его застает этот процесс, но с течением времени язык все более
теряет свою звуковую целостность. Некоторые народы развивают свои языки в
доисторический период до высоких фррм, другие ограничиваются более просты-
290
М.К. Петров
ми языковыми образованиями. В образовании языка и в истории (охватывающих
всю совокупность духовного развития) проявляется сущность человека и каждой
народности в частности. Этот особый в каждом отдельном случае способ
проявления называют национальностью. Тот же разум, который в своей связанности
со звуком образует язык, в своей свободной деятельности обусловливает
историческое развитие. Поэтому между языком и историей народа наблюдается
непременная связь» [21, с. 96].
10. Жизнь языка не отличается существенно от жизни всех других живых
организмов: «Язык имеет период роста от простейших структур к более сложным
формам и период старения, в который языки все более и более отдаляются от
достигнутой наивысшей ступени развития и их формы терпят ущерб.
Естествоиспытатели называют это обратной метаморфозой» [21, с. 96].
11. Подобие языков производно от подобия условий жизни: «Где развиваются
люди, там возникает и язык; первоначально, очевидно, это были только звуковые
рефлексы полученных от внешнего мира впечатлений, т.е. отражение внешнего
мира в мышлении, так как мышление и язык столь же тождественны, как
содержание и форма. Существа, которые не мыслят, не люди; становление
человечества начинается, следовательно, с возникновения языка, и обратно — с человеком
возникает язык. Звуки языка, т.е. звуковые образы представлений, полученных
мыслительным органом посредством чувств и понятий, образованных в этом
органе, у различных людей были различны, но, по-видимому, в основном
однородны, а у людей, живущих в одинаковых условиях, тождественны. И в позднейшей
жизни языка обнаруживается аналогичное явление: в основном одинаковые и
живущие в одних и тех же условиях люди изменяют свой язык тождественным
образом, следуя внутреннему неосознанному стимулу. В высшей степени поэтому
возможно, что как позднее у целых народов изменения языка происходили в
основном однородным образом, так и в доисторическое время образование
простейших звуков, наделенных значением, осуществлялось среди общавшихся друг
с другом индивидуумов идентичными путями.
12. Различия языков носят «врожденный», производный от их потенций
характер: «Почему у разных людей проявляются различия, почему не все люди
развивают в своей среде один и тот же язык — на эти вопросы должна нам дать
ответ антропология. Относительно различия языков мы знаем только то, что уже
в звуках первых языков обнаруживаются большие различия. Эти различия
проявляются, однако, не только в звуках, но основываются прежде всего на том, что
с самого начала в языках существуют различные потенции развития; одни языки
обладают большей способностью к более высокому развитию, чем другие, хотя
первоначально форма всех языков должна быть одинаковой. Подобным образом
происходит развитие органической жизни вообще. Первичные клеточки,
например, различных животных и семян совершенно одинаковы по форме и материи;
точно так же и лучший ботаник не сможет отличить семена простейшей астры
от семян роскошной гигантской астры, и тем не менее в этих, казалось бы
абсолютно одинаковых объектах содержится все будущее и особое развитие. Это же
имеет место и в царстве языков» [21, с. 96—97].
13. Распад языков столь же закономерен, как и их развитие: «Так же как
развитие языков, их распад происходит по определенным законам, которые мы
устанавливаем на основе наблюдений над языками, прослеживаемыми на
протяжении столетий и тысячелетий. Таких языков, конечно, немного, так как
приниматься во внимание могут только языки народов, вошедших в качестве
культурных в историю в очень раннее время. Впрочем, полученный из немногих
примеров историко-языковедческий материал настолько богат, что его вполне достает,
чтобы получить отчетливое представление о процессе языковых изменений во
второй период жизни языка. На основе этих данных мы в состоянии делать ис-
торико-языковедческие предположения и относительно тех языков, жизненное
развитие которых мы не имели возможности наблюдать в течение длительного
История европейской культурной традиции и ее проблемы 291
времени. Часто в их формах мы усматриваем более поздние стадии развития и
посредством известных нам законов с уверенностью восстанавливаем формы,
предшествующие фиксированным. Мы реконструируем более или менее
жизненные эпохи языков, возводя фактически известную нам позднюю форму к более
древней. Говоря образно, достаточно знать нижнее течение потока, чтобы
установить, что он не только имеет верхнее течение или источник, но и выявить
характер этого источника» [21, с. 97].
14. Процесс распада происходит под воздействием силы, селекционирующей
формы по частоте их употребления: «Ясно, что в результате отпадения конечных
звуков, т.е. той части слова, где большинство языков сосредоточивает
словообразующие органы или, что то же, элементы, выражающие грамматические
отношения, форма языков значительно изменяется.
Впрочем, уже в более древние языковые периоды, в то время, когда звуки еще
устойчивы, ощущается действие силы, которая враждебно воздействует на
многообразие форм и ограничивает его все более и более самым необходимым. Это
выравнивание хотя и обоснованных в своем своеобразии, но менее
употребительных в языке форм применительно к более употребительным и потому находящим
в языковом чувстве более сильную опору, иными словами, аналогия. Стремление
к удобной унификации, к трактовке возможно большего количества слов
единообразным способом и все более затухающее чувство значения и первичности
своеобразных явлений — все это привело к тому, что позднейшие языки
обладают меньшим количеством форм, чем более ранние, и строение языков с течением
времени все больше упрощается. Старое богатство форм отбрасывается, как
ненужный балласт. Следовательно, в то время, как в поздние периоды жизни
языков многообразие звуков увеличивается, языки теряют древнее обилие
грамматических форм» [21, с. 97—98].
15. Действию аналогии препятствует живое чувство функциональной нагрузки
элементов слова: «Но почему ранее богатство форм не было балластом?.. В более
ранние периоды жизни от распада языки удерживало чувство функций отдельных
элементов слова; как только это чувство ослабевает, выветриваются и
сглаживаются четко отграниченные формы слова и утверждается стремление освободиться
от того, что уже не воспринимается как нечто значимое...
Чувство функций слова и его частей мы назовем языковым чувством.
Языковое чувство, таким образом, — добрый дух языковых форм; в такой же степени,
в какой он затухает с тем, чтобы затем исчезнуть, происходит звуковая порча
слова. Языковое чувство и целостность звуковой формы стоят, следовательно, в
прямых отношениях друг к другу, а языковое чувство и звуковые законы,
аналогия, упрощение языковых форм — в обратных отношениях» [21, с. 98].
16. Письменный язык всегда порча устного: «По отсутствию фонетических
законов, действующих без исключения, вполне ясно заметно, что наш письменный
язык, не есть наречие, живущее в устах народа, или спокойное,
беспрепятственное дальнейшее развитие более древней формы языка. Наши народные говоры
обычно представляются научному наблюдению, как вышестоящие по развитию
языка, более закономерные организмы, чем письменный язык» [21, с. 98].
Собранная по непосредственной связи с эволюционной теорией Дарвина
(письмо Геккелю) или по предисловию к основному труду — «Компендиуму»
[159] сумма парадигматических высказываний Шлейхера может показаться
современному поколению лингвистов излишне прямолинейной, а в ряде пунктов и
наивной. Но вот, скажем, А.Мейе [43] в 30-е гг., замечая, что Шлейхеру не всегда
удавалось «сохранить верность принципу закономерности», вместе с тем
констатировал: «Но метод, им примененный, сделался с тех пор методом всех
лингвистов и подчинил себе все последующее развитие науки» [21, с. 88].
На наш взгляд, науковедам и сегодня после расцвета структурализма,
математической лингвистики, машинного перевода, лингвистической философии было
бы сложно, если не невозможно опровергнуть основные, выделенные нами у
19*
292
M. К. Петров
Шлейхера постулаты, хотя, естественно, для большинства ряд этих постулатов
оказался бы связан с другими авторитетными именами и с несколько отличными
контекстами. Удивление могло бы вызвать и то, что предложение у Шлейхера не
находится в центре внимания, как это подобало бы высшей предметной единице
лингвистики, в центре находится слово, как знаменательный корень, обросший
грамматическими функциями.
Вообще-то в предисловии к «Компендиуму» Шлейхер говорит и о
предложении: «Грамматикой мы называем научное рассмотрение о описание звуков, форм,
функций слова и его частей, а также строения предложения. Грамматика,
следовательно, состоит из учения о звуках или фонологии, учения о формах или
морфологии, учения о функциях или учения о значениях и отношениях, и
синтаксиса. Предметом изучения грамматики может быть язык вообще, или
определенный язык, или группа языков: общая грамматика и частная грамматика. В
большинстве случаев она изучает язык в процессе его становления и, следовательно,
должна исследовать и описать жизнь языка в ее законах. Если она занимается
исключительно только этим и, следовательно, имеет своим предметом описание
жизни языка, то ее называют исторической грамматикой или историей языка;
правильнее было бы именовать ее учением о жизни языка (о жизни звуков, форм,
функций, предложений), которое в свою очередь может быть как общим, так и
более или менее частным» [21, с. 89].
В этом контексте предложение явно не выступает тем объектом
первостепенной важности, который интересует лингвистов в последние десятилетия, а нас
на данном этапе обсуждения, поскольку предложение — средоточие способов
сказуемости и, соответственно, хранитель категориального потенциала языка.
Понять эту сдвинутость предложения на периферию внимания несложно. Сами
способы сказуемости отнесены Шлейхером (по 2-му постулату) не к генотипу,
а к фенотипу — меняться и даже совершенно отсутствовать может только
звуковое выражение отношения; это меняющаяся и способная не бесконечные
градации сторона языка» [21, с. 93]. К тому же для Шлейхера, да в общем-то и
для большинства языковедов более позднего времени, если они принимают
идею развития от простого к сложному и принципиальную возможность
ранжирования языков по иерархии развитости-сложности, флективность — синоним
развитости, а корнеизолирующие или аналитические структуры суть либо
изначальная неразвитость (китайский у Гегеля и Шлейхера) или порча и распад
флективности (Бэкон, Шлейхер).
Наиболее сомнительными могут, естественно, показаться прямые аналогии с
живыми существами как по структуре их жизненного пути [постулаты 1, 9], так
и особенно по врожденности программ жизненного развития [постулат 11]. Но,
по нашему мнению, это чувство сомнительности и неправомерности прямых
сравнений между языками и особями растительного и животного царств
возникает скорее из-за нарушений принятой иерархии развитости, чем из-за
содержания. Соответствующие постулаты вполне переводимы, скажем, на язык теории
систем, да и любой попытки построить релевантную теорию познавательного
процесса по комплексу Архимеда. Что же до содержания, то в общем-то мы в
современной практике науковедческого, социологического, системного
исследования довольно часто используем знаковые реалии близкого по постулируемым
свойствам состава. Вообще, нам кажется, социологи, системники, науковеды
попросту проглядели моделирующие возможности метода Шлейхера. Его идея
языка-организма, родства языков, выравнивания-аналогии могла бы ощутимо
пополнить методологические арсеналы науковедения, социологии и истории науки.
Концепция стадийного развития групп Н.Маллинза [142], скажем, гораздо проще,
изящнее и «естественнее» формулируется в терминах роста и распада языков
Шлейхера, чем в терминах невидимости и видимости Прайса.
Наиболее бесспорным для современного Ту сознания должны бы казаться
постулаты 3 и 10, связывающие язык, мышление и условия существования в единую
История европейской культурной традиции и ее проблемы 293
линию эманации-производности, берущую начало от локальных условий среды
обитания. Но как раз здесь, по нашему мнению, и обнаруживаются трудности
современной лингвистики с освоением феномена лингвистической
относительности. По постулату 10 язык в функции воплощения процессов мышления в
звуке и мышление людей поставлены в отношение тождества и различия произ-
водно от локальных условий жизни: «Звуки языка, т.е. звуковые образы
представлений, полученных мыслительным органом посредством чувств и понятий,
образованных в этом органе, у различных людей были различны, но, по-видимому, в
основном однородны, а у людей, живущих в одинаковых условиях,
тождественны» [21, с. 96].
Б.Уорф идет, по сути дела, тем же, но встречным, от младенца путем
эманации естественности, когда он в «Науке и языкознании» начинает разговор о
соотношении «естественной логики» и «правильного мышления»: «Каждый
нормальный человек, вышедший из детского возраста, обладает способностью
говорить и говорит. Именно поэтому каждый независимо от образования проносит
через всю жизнь некоторые хотя и наивные, но глубоко укоренившиеся взгляды
на речь и на ее связь с мышлением. Поскольку эти воззрения тесно связаны с
речевыми навыками, ставшими бессознательными и автоматическими, они
довольно трудно поддаются изменению и отнюдь не являются чем-то сугубо
индивидуальным или хаотичным — в их основе лежит определенная система. Поэтому
мы вправе назвать эти воззрения системой естественной логики. Этот термин
представляется мне более удачным, чем термин «здравый смысл», который часто
используется с тем же значением» [74, с. 169].
Это различие начала путей — у Шлейхера и большинства критиков гипотезы
Сепира—Уорфа начало пути фиксировано в тождестве условий жизни, у Уорфа в
детстве, в «от 2 до 5» — не должно бы вызывать эффектов несовместимости. В
крайнем случае оно могло бы породить ту проблематику единства и различия,
которую в истории философии вызвала констатация Аристотеля: путь из Афин в
Фивы и из Фив в Афины один и тот же, но не для того, кто идет. С Уорфом же
сразу начинаются осложнения: «Согласующийся с законами естественной логики
факт, что все люди с детства свободно владеют речью, уже позволяет каждому
считать себя авторитетом во всех вопросах, связанных с процессрм формирования
и передачи мыслей. Для этого, как ему представляется, достаточно обратиться к
здравому смыслу и логике, которыми он, как и всякий другой, обладает.
Естественная логика утверждает, что речь — это лишь внешний процесс, связанный
только с сообщением мыслей, но не с их формированием. Считается, что речь,
т.е. использование языка, лишь «выражает» то, что уже в основных чертах
сложилось без помощи языка. Формирование мысли — это якобы самостоятельный
процесс, называемый мышлением или мыслью и никак не связанный с природой
отдельных конкретных языков. Грамматика языка — это лишь совокупность
общепринятых традиционных правил, но использование языка подчиняется якобы
не столько им, сколько правильному, рациональному, или логическому
мышлению» [74, с. 169-170].
Понятно, что Уорф здесь демонстрирует наше обычное, из школы или даже
из «2 до 5» вынесенное восприятие речи: болтать можно все, что угодно, и даже
«устами младенца глаголют истины» по всем правилам грамматики, но, чтобы
говорить осмысленно и доказательно, необходимо нечто большее, чем правила
грамматики. Если, скажем, допустить, что Шлейхер вместе с Аристотелем, Ту
лингвистами и всеми нами Ту-шниками идет из Афин в Фивы, а Уорф из Фив
в Афины, то Уорф почему-то, хотя и сам он типичный Ту-шник,
инженер-сантехник, с первых шагов начинает сомневаться, что он, ориентируясь на постулат
Аристотеля «сколькими способами сказывается (грамматика языка), столькими
способами и выявляет себя бытие», попадет именно в Афины: «Мысль, согласно
этой системе взглядов, зависит не от грамматики, а от законов логики или
мышления, будто бы одинаковых для всех обитателей вселенной и отражающих раци-
294
M. К. Петров
ональное начало, которое может быть обнаружено всеми разумными людьми
независимо друг от друга, безразлично, говорят ли они на китайском языке, или на
языке чоктав. У нас принято считать, что математические формулы и постулаты
формальной логики имеют дело как раз с подобными явлениями, т.е. со сферой
и законами чистого мышления. Естественная логика утверждает, что различные
языки — это в основном параллельные способы выражения одного и того же
понятийного содержания и что поэтому они различаются лишь незначительными
деталями, которые только кажутся важными. По этой теории математика,
символическая логика, философия и т.п. — это не особые ответвления языка, но
системы, противостоящие языку и имеющие дело непосредственно с областью
чистого мышления» [74, с. 169—170].
Для выхода на теорию относительности Уорф использует хорошо освоенную
нами стандартную ситуацию общения между А и В, предъявляя к стандартному
же восприятию этой ситуации примерно те же претензии по части осознания
механизма взаимопонимания, которые предъявляли и мы, рассматривая эту
ситуацию пустой сценой, пока на ней не появляется главный герой — Т0, текст общего
между А и В распределения, история предыдущих актов общения между А и В.
Понятия текста, тезауруса, истории Уорф не использует, и в этой ситуации
акцент неизбежно оказывается поставленным на том, что Соссюр называет
физическим процессом между А и В [66, с. 49—50], на формальной характеристике
этого процесса — потока звуков.
Обвинения в адрес стандартного восприятия стандартной ситуации общения
между А и В, в адрес естественной логики Уорф строит на том обстоятельстве,
что этот физический процесс целиком погружен в данность, в «подкорку», не
требует осознания: «Естественная логика допускает две ошибки. Во-первых, она не
учитывает того, что факты языка составляют для говорящих на данном языке
часть их повседневного опыта и поэтому эти факты не подвергаются
критическому осмыслению и проверке. Таким образом, если кто-либо, следуя
естественной логике, рассуждает о разуме, логике и законах правильного мышления, он
обычно склонен просто следовать за чисто грамматическими фактами, которые в
его собственном языке или семье языков составляют часть его повседневного
опыта, но отнюдь не обязательны для всех языков и ни в каком смысле не
являются общей основой мышления. Во-вторых, естественная логика смешивает
взаимопонимание говорящих, достигаемое путем использования языка, с
осмыслением того языкового процесса, при помощи которого достигается
взаимопонимание, т.е. с областью, являющейся компетенцией презренного и с точки зрения
естественной логики абсолютно бесполезного грамматиста. Двое говорящих,
например, на английском языке, быстро придут к договоренности относительно
предмета речи. Один из них (А) может дать указания, которые будут выполнены
к полному его удовлетворению другим говорящим (В). Именно потому, что А и
В так хорошо понимают друг друга, они в соответствии с естественной логикой
считают, что им, конечно, ясно, почему это происходит. Они полагают,
например, что все дело в том, чтобы выбрать слова для выражения мыслей. Если мы
попросим А объяснить, как ему удалось так легко договориться с В, он просто
повторит более или менее пространно то, что он сказал В. Он и понятия не имеет
о том процессе, который здесь происходит. Сложнейшая система языковых
моделей и классификаций, которая должна быть общей для А и В, служит им для
того, чтобы они вообще могли вступить в контакт» [74, с. 172—173].
К этой части рассуждении Уорфа мы, в свете сказанного в первой части,
могли бы предъявить только одну претензию: акт общения между А и В не может
быть полностью утоплен в данности, в «подкорке», если это акт осмысленного
общения, если у А есть что сообщить В (разность Ti-T0), то есть вполне
правомерное заявление Уорфа — «Они полагают, например, что все дело просто в том,
чтобы выбрать слова для выражения мыслей» — требует уточнения по истории
предыдущих актов общения. Выбор таких слов для окружения ими нового (Ti-T0)
История европейской культурной традиции и ее проблемы 295
ограничен общим для А и В текстом, Т0. В остальном же норма «естественной»
Ту логики, приобретаемая нами в общеобразовательной средней школе, описана
Уорфом, по нашему мнению, с завидной точностью.
С учетом этой оговорки не должен, как нам кажется, вызывать недоумения и
дальнейший ход рассуждений Уорфа, который идет по потоку эманации
естественности, берущего начало от первого крика младенца: «Эти врожденные,
приобретаемые со способностью говорить основы и есть область грамматиста или
лингвиста, если дать этому ученому более современное название. Слово
«лингвист» в разговорной и особенно в газетной речи обозначает нечто совершенно
иное, а именно — человека, который может быстро достигнуть взаимопонимания
при общении с людьми, говорящими на различных языках. Такого человека,
однако, правильнее было бы называть полиглотом. Ученые-языковеды уже давно
осознали, что способность бегло говорить на каком-либо языке еще совсем не
означает лингвистического знания этого языка, то есть понимания его основных
особенностей, его системы и происходящих в ней регулярных процессов. Точно
так же способность хорошо играть на бильярде не подразумевает и не требует
знания законов механики, действующих на бильярдном столе» [74, с. 173].
Эта бильярдная аналогия подталкивает Уорфа на попытку пошатать данность
в том же примерно смысле, в каком мы в первой части использовали всякий
повод удивиться способности, скажем, редколлегии журнала «Вокруг света»
публиковать детектив частями в 5 книжках без объяснений, почему из 120 вариантов
ею выбрана именно та последовательность, которую мы, читатели, вынуждены
принимать как данность. Уорф четко различает данность и скрытую в ней,
поглощенную данностью базу: «Сходным образом обстоит дело в любой другой
области науки. Всех подлинных ученых интересует прежде всего основа явлений,
играющая как таковая небольшую роль в нашей жизни. И тем не менее изучение
основы явлений позволяет обнаружить тесную связь между многими
остающимися в тени областями фактов, принимаемыми за нечто данное, и такими
занятиями, как транспортировка товаров, приготовление пищи, уход за больными,
выращивание картофеля. Все эти виды деятельности могут с течением времени
подвергнуться весьма значительным изменениям под влиянием сугубо научных
теоретических изысканий, ни в коей мере не связанных с самими этими банальными
занятиями. Так и в лингвистике — изучаемая ею основа языковых явлений,
которая как бы находится на заднем плане, имеет отношение ко всем видам нашей
деятельности, связанной с речью и достижением взаимопонимания, — во всякого
рода рассуждениях и аргументации, в юриспруденции, дискуссиях, при
заключении мира, заключении различных договоров, в изъявлении общественного
мнения, в оценке научных теорий, при изложении научных результатов. Везде, где в
делах людей достигается договоренность или согласие, независимо от того,
используются ли при этом математические или какие-либо другие специальные
условные знаки или нет, эта договоренность достигается пои помощи языковых
процессов или не достигается вовсе» [74, с. 173—174].
В этом месте рассуждений Уорф высказывает весьма актуальную и сегодня
мысль о том, что эпоха «бильярдного» или «пинг-понгового» подхода к
проблемам общения, когда можно было гонять шары или перебрасываться мячиками
отмеченных смыслом предложений, пожалуй что прошла, такая утопленная в
данность, в «подкорку» практика становится во многих случаях опасной: «Как мы
видели, ясное понимание лингвистических процессов, посредством которых
достигается та или иная договоренность, совсем не обязательно для достижения
этой договоренности, но, разумеется, отнюдь ей не мешает. Чем сложнее и
труднее дело, тем большую помощь может оказать такое знание. В конце концов
можно достигнуть такого уровня — и я подозреваю, что современный мир почти
достиг его, — когда понимание процессов речи является уже не только
желательным, но и необходимым. Здесь можно провести аналогию с мореплаванием.
Всякое плывущее по морю судно попадает в сферу действия притяжения планет, од-
296
M. К. Петров
нако даже мальчишка может провести свое суденышко вокруг бухты, не зная ни
географии, ни астрономии, ни математики, ни международной политики; в то же
время для капитана океанского парохода знание всех этих предметов весьма
существенно» [74, с. 174].
Далее Уорф выходит на знакомую нам идею аномалии, но выходит,
естественно, не от Куна, а скорее от александрийцев, которые теоретически и
нормативно сжимая греческую грамматику долго спорили об аномалии и аналогии
стоиков и далеко не сразу отдали предпочтение аналогии, правилу, вынудив всех нас
искать и заучивать прежде всего общие правила, а затем уже многочисленные из
них исключения. Относительно взаимосвязи правила и исключения в осознании
данности Уорф пишет: «Известное изречение, гласящее, что исключения
подтверждают правила, содержит немалую долю истины, хотя с точки зрения
формальной логики оно превратилось в нелепость, поскольку «подтверждать» больше
не значило «подвергать проверке». Поговорка приобрела глубокий
психологический смысл с тех пор, как она утратила значение в логике. Сейчас оно означает
то, что, если у правила совершенно нет исключений, его не признают за правило
и вообще его не осознают. Такие явления — часть нашего повседневного опыта,
который мы обычно не осознаем. Мы не можем выделить какое-либо явление
или сформулировать для него правила до тех пор, пока не найдем ему
противопоставления и не обогатим наш опыт настолько, что столкнемся наконец с
нарушением данной регулярности. Так, мы вспоминаем о воде лишь тогда, когда
высыхает колодец, и осознаем, что дышим воздухом, только когда его нам
начинает не хватать» [74, с. 170—171].
В ранг дисциплинарной аномалии куновского образца исключение
переводится на материале данных компаративистики: «Когда лингвисты смогли научно и
критически исследовать большое число языков, совершенно различных по своему
строю, их опыт обогатился, основа для сравнения расширилась, они столкнулись
с нарушением тех закономерностей, которые до того считались универсальными,
и познакомились с совершенно новыми типами явлений» [74, с. 174].
С этой аномалии и начинается развертывание постулатов теории
лингвистической относительности, которую сам Уорф явно рассматривает как
дисциплинарное лингвистическое событие, имеющее значение для всего дисциплинарного
сообщества: «Было установлено, что основа языковой системы любого языка
(иными словами, грамматика) не есть просто инструмент для воспроизведения
мыслей. Напротив, грамматика сама формирует мысль, является программой и
руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его
впечатлений и их синтеза. Формирование мыслей — это не независимый процесс,
строго рациональный в старом смысле этого слова, но часть грамматики того или
иного языка и различается у различных народов в одних случаях незначительно,
в других — весьма существенно, так же, как грамматический строй
соответствующих языков» [74, с. 174].
На данном этапе анализа постулатов гипотезы Сепира—Уорфа мы входим, так
сказать, в область повышенной вероятности «О.М.» истолкований, что, на наш
взгляд, вызывается не только желанием О.Маслиевой толковать в определенном
«О.М.» духе то, что ей представляется непонятным, но и действительно
сложными для понимания лингвистической относительности ситуациями в самой
лингвистической парадигме [42, с. 89—92]. На эти последние мы и будем в основном
ориентироваться, отводя выявлениям «О.М.» феномена роль полезных для дела
иллюстраций, если они потребуются.
До перевода Уорфом исключения в ранг дисциплинарной аномалии мы могли
ограничиваться частными замечаниями о том, что хотя мы в близком к Уорфу
плане воспринимаем и стандартную ситуацию общения между А и В и
возникающую в рамках этой ситуации проблему достижения взаимопонимания между А и
В, отличие нашей точки зрения от точки зрения Уорфа состоит в том, что по
Уорфу проблема взаимопонимания разрешима в рамках данности, тогда как в со-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 297
гласим с нашей тезаурусной моделью проблема взаимопонимания разрешима
только на базе осознанного использования говорящим общего для А и В текста
То — истории предыдущих актов общения, а это требует выхода за «подкорковые»
рамки данности, осознания нового (Ti-To) в терминах Т0.
Теперь же, когда Уорф формулирует постулатную часть гипотезы, мы
оказываемся в несколько ином положении, и эта новизна положения вызвана тем, что
принцип неразмышляющего автоматизма, данности, «подкорковости»
переводится в активную форму — грамматика теперь уже не просто присутствует в потоке
речи как агент его универсальной организованности и ограниченности, который
по гипотезе глубины Ингве разбивает этот идущий от А поток на
воспринимаемые для В фрагменты-предложения, ограниченные по глубине, но и наделяется
активными самостными функциями: «грамматика сама формирует мысль,
является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума,
средством анализа его впечатлений и их синтеза» [74, с. 174].
Если представить эти функции списком: 1) формирование мысли; 2)
программирование мыслительной деятельности; 3) целеполагание-руководство; 4) быть
средством анализа впечатлений; 5) быть средством синтеза впечатлений, то более
или менее приемлемыми с нашей точки зрения окажутся лишь функции 1
(формирование), 4 (средство анализа) и 5 (средство синтеза), да и то с существенными
оговорками, отрицающими поползновения знаковых реалий — орудий,
артефактов, средств постредакции — в самость. В заявленной модели Уорфа набор
грамматических правил определенно обретает свойства самости, индивид в ситуации
общения между А и В погружен и в роли Айв роли В в чужую и неподвластную
ему эманацию «грамматической» разумности, то есть попадает в то же самое
незавидное платоновское положение «лишенных разума» трансляторов и
ретрансляторов, которым и должно быть «лишенными разума», дабы не вносить
разговорами «от себя» помех в идущий через них процесс эманации-намагниченности,
вызываемый кем-то (бог) или чем-то (Гераклейский камень) внешним.
Для нас такое толкование неприемлемо в принципе по понятной причине: в
отличие от традиционного, идущего от Аристотеля и александрийцев понимания
языка в его первичной функции выразителя мысли мы считаем, что первая,
исходная и основная функция языка инструментальна по своей природе (орудие
общения) и генетически специализирующая, компенсирующая генетическую
недостаточность человеческого рода по конечной цели (орудие разобщения, развода
индивидов в специализированные фрагменты деятельности). Поэтому, например,
мы не можем принять ни 4 постулата Шлейхера: «Язык имеет своей задачей
создать звуковой образ представлений, понятий и существующих между ними
отношений, он воплощает в звуках процесс мышления» [21, с. 92—93], ни даже
более привлекательного в своей инструментальности постулата Гумбольдта: «Язык
есть орган, образующий мысль». Умственная деятельность — совершенно
духовная, глубоко внутренняя и проходящая бесследно — посредством звука речи
материал и зируется и становится доступной для чувственного восприятия.
Деятельность мышления и язык представляют поэтому неразрывное единство. В силу
необходимости мышление всегда связано со звуком языка, иначе оно не достигает
ясности и представление не может превратиться в понятие. Неразрывная связь
мышления, органов речи и слуха с языком обусловливаются первичным и
необъяснимым в своей сущности устройством человеческой природы» [21, с. 78].
Понятно, что ни в том, ни в другом случае мы не отрицаем справедливости
этих постулатов в рамках прямого отношения язык-мышление, и гумбольдтов-
ский постулат для нас особенно привлекателен тем, что он это прямое отношение
замыкает на гносис с его апофатикой принципиальной необъяснимости. То, что
мы действительно отрицаем, — это правомерность выделения отношения язык-
мышление в исходную, доминирующую функцию. Для нас она вторична: язык
нужен прежде всего для специализирующего кодирования индивидов, а язык в
функции звукового воплощения процесса мышления нужен лишь постольку, по-
298
М.К. Петров
скольку в процессах специализирующего кодирования приходится мыслить как в
нормальных статических условиях развода индивидов по известным адресам-
фрагментам, так и особенно в условиях познания и освоения результатов
познания, в условиях динамического переустройства этих адресов.
Иными словами, ни мышление, находящее звуковое или даже графическое
выражение в языке, ни бесспорно присутствующая в наборе функций языка
функция перевода процессов мышления в доступную для восприятия форму не
могут рассматриваться в изоляции от общей задачи постредакции — обеспечить
развод подрастающих индивидов в человекоразмерные фрагменты
специализированной деятельности и этим способом наладить освоение нечеловекоразмерных
спецификаторов окружения человекоразмерными средствами. То, что в условия
разрешимости этой задачи входит мышление по правилам, перевод
умозрительных реалий в доступные для органов чувств феномены в стандартных ситуациях
общения между А и В, оправдывает существование мышления и наличие
соответствующей функции в функциональном наборе языка, но не может
рассматриваться как повод для переранжирования задачи. Человечество, как и все другие
биологические виды, будь они биологически и генетически достаточными или
нет, живет не ради средств обеспечения выживания и развития, не ради
мышления и общения, а вынуждено иметь эти средства и заботиться об их развитии
ради того, чтобы выжить и развиваться.
Означает ли такой подход от примата общей задачи постредакции,
переводящий мышление и речевую деятельность в инструментальный статус средств,
получающих право на существование лишь в рамках общей задачи, что
лингвистическая относительность и теории, полагающие эту относительность своей
проблемной областью, не имеют права на существование?
Ни в коем случае! Важнейшей характеристикой этой проблемной области, и
вскользь об этом уже говорилось в первой части, мы, как и Уорф, считаем
погруженность феноменов этой области в данность. А расходимся и принципиально
мы с Уорфом в том, что в данность, в подкорку слепых автоматизмов могут быть,
по нашему мнению, погружены только те знаковые реалии, механизмы, наборы
правил, действие которых основано на репродукции, на бесконечном повторе, и
только они, тогда как по мнению Уорфа, как это явствует из его описания
функций грамматики (функции 2 и 3), этой жесткой грани между репродукцией и
продукцией, между бесконечным повтором и творчеством не существует: в
проблемной области теорий относительности могут оказаться и знаковые, входящие в
механизмы продукции, творчества и обладающие свойством самости.
Принадлежность ряда феноменов к проблемной области теорий
относительности нам, как и Уорфу, представляется бесспорной. Когда мы говорили,
например, о «всеядности» человеческого биокода и его безразличии к тем существенно
различным данностям, в которых оказываются младенцы по причинам,
объяснимым только в материнском контексте, мы в общем-то проводили тест на
принадлежность большей части того, что осваивается нами на этапе «от 2 до 5» к
проблемной области теорий относительности. Даже если не принимать в расчет
естественных навыков и умений (способностей ходить, бегать, прыгать, видеть,
слышать и т.д.), утопленными в подкорку, интериоризированными оказываются
и многие навыки явно артефактной, исторической природы, такие, скажем, как
навык чтения или письма, и среди них тот сложнейший навык беглой речи,
осмысленного общения по правилам данного младенцу родителями языкового
сообщества, какими бы ни были эти правила. С этого факта начинает Уорф, а мы
демонстрировали утопленность этого навыка в подкорке экспериментами,
пытаясь выяснить значение терминов «проходить» и «забыть», в которых усвоенная в
детстве грамматика родного языка вела себя типичным для феноменов
проблемной области теорий относительности образом — забыть ее нельзя, тогда как,
скажем, забыть математику вплоть до таблицы умножения вполне даже можно.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 299
В этом частном направлении — в вопросе о степени утопленности грамматики
в подкорке — мы даже могли бы упрекнуть Уорфа в недостаточной
последовательности его позиции, «переуорфить», так сказать, Уорфа в приверженности к
идеям лингвистической относительности. Уорф в общем-то допускает и
осознанное применение правил грамматики: «Ясное понимание лингвистических
процессов, посредством которых достигается та или иная договоренность, совсем не
обязательно для достижения этой договоренности, но, разумеется, отнюдь ей не
мешает» [74, с. 174]. Для нас, если под «ясным пониманием лингвистических
процессов» разумеется, как это следует из контекста, осознанное применение
правил грамматики, «ясное понимание» не только помешает, но и сорвет акт
общения между А и В, а с ним и всякую возможность договориться; на время акта
общения «ясное понимание», даже если им обладаешь, приходится откладывать
в сторону как вещь в общем-то полезную, но в конкретных условиях общения
опасную. Иными словами, для нас применение правил грамматики говорящим А
в режиме неосознаваемого автоматизма не просто эмпирически наблюдаемая
возможность, которая может и не быть реализована, но условие осуществимости
беглой речи. Психологически это понятно: внимание говорящего А направлено на
текст и работает с опережением. Тем, кому приходилось практически заниматься
синхронным переводом, прекрасно знакомы с необходимостью иметь
перспективу, дистанцию в одно-два предложения от говорящего и с психологическими
трудностями этой задержки в оперативной памяти ближайшей перспективы.
В определении принадлежности феноменов к проблемной области теорий
относительности возникают, естественно, и трудности, связанные прежде всего с
тем, что, будучи достаточно четкой в каждом конкретном случае, демаркационная
линия между репродукцией и продукцией легко проходима, то есть любой
репродуктивный навык может быть погружен в подкорку серией упражнений и
тренировок, но в «здесь и сейчас» наблюдения он может оказаться на разных
ступенях погружения и соответственно вызывать противоречивые суждения о
собственной природе. Грамматика английского языка, к примеру, в полностью
погруженном состоянии обнаруживается, видимо, только у англичан, тогда как у
учеников средней школы, студентов это явно плавающий объект, вызывающий как
раз эффекты «полного понимания лингвистических процессов» в ущерб беглой
речи, причем эту неполную погруженность грамматики нетрудно обнаружить
даже у натурализовавшихся иностранцев не только в акцентах, но и в частотной
характеристике употребляемых ими конструкций. Стремящийся «правильно»
говорить на чужом языке всегда действует вопреки инструментальной аналогии
Ципфа, всегда стремится продемонстрировать свое умение владеть и наиболее
редко употребляемыми инструментами.
Так или иначе, но многие неясности и трудности с пониманием и оценкой
значения гипотезы Сепира—Уорфа связаны, по нашему мнению, как раз с
отсутствием у Уорфа четкого осознания границы между репродуктивными и
продуктивными процессами и, соответственно, это обстоятельство открывает
возможность крайних толкований.
На подходе к жесткой формулировке принципа относительности Уорф так
описывает воздействие грамматики на наше восприятие окружения: «Мы
расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы
выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они
(эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами, как
калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован
нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в
нашем сознании. Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем
значения так, а не иначе в основном потому, что мы — участники соглашения,
предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для
определенного речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка.
Это соглашение, разумеется, никак и никем не сформулировано и лишь подра-
300
M. К. Петров
зумевается, и тем не менее мы — участники этого соглашения: мы вообще не
сможем говорить, если только не подпишемся под систематизацией и
классификацией материала, обусловленной указанным соглашением» [74, с. 174—175].
Описание затрагивает процесс идентификации реалий окружения для их
включения в мир знака (функция 4 — анализ впечатлений) и процесс
систематизации идентифицированных и переведенных в мир знака элементов (функция
5 — синтез опознанных реалий) по правилам операций со знаками. Поскольку и
идентификация-опознание и операции по универсальным правилам репродуктив-
ны по своей природе, мы не видим в этом описании первичного контакта реалий
мира знака с реалиями мира окружения чего-либо неожиданного. С точки зрения
психологов все именно так и происходит, не выходя за пределы подкорки, а если
они наблюдают такой выход, то это для них уже симптом вполне определенного
психического расстройства — афазии, одной из форм этого расстройства, на что
первым, пожалуй, обратил внимание Л.Блумфельд: «Третий тип функционирует
с трудом при наименовании объектов и испытывает затруднения при подыскании
правильных слов, особенно наименований вещей. Его произношение и
конструкции хороши, но он вынужден употреблять многословные описательные обороты
для слов, которые не может найти. Вместо «ножницы» пациент говорит «чем
режут»... Утерянные слова — по преимуществу наименования конкретных
объектов. Это состояние представляется усилением тех трудностей в припоминании
имен людей и обозначений объектов, которые нормальные люди испытывают в
состоянии возбуждения, усталости или сосредоточении внимания на иных вещах»
[96, с. 138].
Словом, то, о чем пишет Уорф, — норма, «медицинский факт», и
единственным поводом для сомнений и разнотолков в этом описании первичного контакта
мира знаков с миром вещей, который совершается в режиме неосознаваемых
автоматизмов, если люди психически нормальны, является введение идеи
порядка, целостной системной модели упорядочения: «Мир предстает перед нами как
калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован
нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в
нашем сознании» [74, с. 174].
Вопрос здесь упирается прежде всего в то, действительно ли в нашем
сознании хранится некая языковая система? И если действительно хранится, то
возникает множество производных вопросов: где именно хранится, как установлен
факт ее присутствия, как она себя выявляет, насколько полно и какими методами
она изучена, какими моделями представлена, насколько верифицированы и
достоверны предлагаемые модели таких языковых систем?
Если мы ответим утвердительно на первый и основной вопрос — такая
система есть — и, в соответствии с наблюдаемыми и без труда верифицируемыми
фактами уточним, что место обитания такой системы — подкорка, а характер ее
выявления — неосознаваемый автоматизм, то мы вынуждены будем принять и
сам принцип относительности: «Это обстоятельство имеет исключительно важное
значение для современной науки, поскольку из него следует, что никто не волен
описывать природу абсолютно независимо, но все мы связаны с определенными
способами интерпретации даже тогда, когда считаем себя наиболее свободными.
Человеком, более свободным в этом отношении, оказался бы лингвист, знакомый
со множеством самых разнообразных языковых систем. Однако до сих пор таких
лингвистов не было. Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом
относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют
создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при
соотносительности языковых систем» [74, с. 175].
Таким образом, если мы принимаем как факт присутствие в нашем сознании
языковой системы и зафиксированного в ней порядка, то мы должны
автоматически принять и принцип относительности, поскольку этот скрытый в подкорке
порядок-система продиктует нам явочным и неосознаваемым порядком модель
История европейской культурной традиции и ее проблемы 301
упорядочения мира в целостность. И единственным способом отмежеваться от
этого принципа относительности будет отрицательный ответ на вопрос о
присутствии в сознании такой языковой системы. Есть ли у нас основания для
отрицательного ответа?
Такие основания у нас есть, но прежде чем дать прямой ответ, нужно
попытаться представить вопрос в форме, допускающей ответ, внести уточнения в то,
что именно понимается нами и Уорфом под «картиной вселенной»,
«мировоззрением». Уорф, как и большинство из нас, типичный представитель европейской
культуры, в которой со времен Аристотеля прослеживается действие принципа
отождествления способов сказуемости и способов выявления бытия —
«сколькими способами сказывается, столькими способами и выявляет себя бытие»
[Метафизика, 1017 а]. Состав этих «способов сказуемости», да и представления о
«бытии», не раз уточнялись как по источнику, так и по числу, но сам по себе
постулат Аристотеля действует и поныне — мы живем в категориальной картине
мира, которая изначально построена по принципу относительности Уорфа на
материале грамматики греческого языка и полностью удовлетворяла бы этому
принципу и сегодня, если бы мы могли указать на грамматику конкретного языка как
на модель ныне действующей «научной» картины мира. Это на наш взгляд
выполнимо — такой моделью является грамматика в свое время новоанглийского,
а теперь просто английского языка.
Но проблема-то все-таки не только в том, чтобы указать на грамматику
конкретного языка — на грамматику английского или какого-то другого. Гегель,
например, а вслед за ним множество других вплоть до Ясперса и Хейдеггера
указывают на немецкий как на более подходящую модель для построения картины
мира. Проблема в другом: насколько правомерен постулат Аристотеля независимо
от его модификаций или, если тот же вопрос обратить на принцип
относительности Уорфа, является ли этот принцип универсалией, имеющей силу для всех
мыслимых картин мира, или же только европейской спецификой, которая
прослеживается в истории европейской культуры со времен Аристотеля до наших
дней? Ведь вполне может оказаться, что и постулат Аристотеля и вполне
приемлемый в сфере его действия принцип относительности Уорфа лишь наша
установившаяся европейская иллюзия насчет того, как именно должны строится
картины мира.
По нашему мнению, постулат Аристотеля и принцип относительности Уорфа,
хотя они и могут рассматриваться на правах одного из возможных вариантов
построения картины мира, не исключают ряда других возможностей, и эта
возможность в силу ряда условий (письменность, доступность грамматики для изучения,
потребность теоретического осмысления практической номотетики как навыка
всеобщего распределения) не могла быть исторически первой из реализованных,
была реализована, как специфическая черта, характерная только для европейской
культуры. В других известных нам культурах — в первобытной, в
традиционной — такая картина, построенная на грамматической модели порядка языка
данного общества в принципе возможна при выполнении дополнительных
условий, но эти условия отсутствуют, и реализованные в них варианты картины мира,
целостного представления мира социально значимой деятельности существенно
иные — не следуют постулату Аристотеля, не являются категориальными и не
удовлетворяют принципу относительности Уорфа.
Ничего особенно таинственного в этом обстоятельстве мы, в
противоположность О. Маслиевой [42, с. 89], не видим. Маслиевой кажется странным сам
принцип относительности Уорфа: «Никак нельзя согласиться и с таким утверждением
Уорфа: «То, что современные китайские или турецкие ученые описывают мир
подобно европейским ученым, означает только, что они переняли целиком всю
западную систему мышления, но совсем не то, что они выработали эту систему
самостоятельно с их собственных наблюдательных постов» [42, с. 84—85]. Но еще
более странным представляется Маслиевой тот факт, что можно жить в мире,
302
M. К. Петров
знаковое оформление которого в целостность не следует ни постулату
Аристотеля, ни принципу относительности Уорфа: «Сегодня, — продолжает он, — имеет
смысл говорить о трех типах освоения новыми поколениями достижений
культуры с помощью знаковых механизмов: а) лично-именном; б) профессионально-
именном; в) универсально-понятийном». С помощью этих различных «знаковых
механизмов» человек, согласно М.К.Петрову, каким-то таинственным и
сверхъестественным способом включается в социальную деятельность» [42, с. 89].
Ничего таинственного, повторяем, и тем более сверхъестественного мы здесь
не видим. В силу принятого нами постулата равенства рода человеческого по всем
трем атрибутам человечности — естественности, социальности, разумности — мы
допускаем, и не видим в этом ничего неправомерного, что и в других типах
культуры дети рождались и рождаются точно тем же способом, каким родились и мы
сами в нашей Ту культуре, что они, родившись, точно так же, как и мы,
вынуждены по атрибуту естественности начинать возрастное движение и освоение
наличной, родителями определенной данности, на этапе «от 2 до 5» осваивать, как
это приходилось и нам, и интериоризировать, уводя в подкорку, родной язык,
речевой навык вместе с его грамматикой, то есть выходить на более поздних
этапах возрастного движения именно на ту позицию, которую описывает Уорф. Они,
как и мы, идентифицируют реалии окружения и переводят их в мир знака для
использования в стандартных ситуациях осмысленного общения между А и В по
предписанным языком нормам и оперируют со знаменательными знаками (в
грубом приближении со словами, по которым опознаются реалии окружения) по
универсальным правилам собственных грамматик; то есть возможность
построения картины мира по принципу относительности Уорфа или по постулату
Аристотеля есть везде, в любых типах культуры.
Но, в отличие от проблемы взаимопонимания, уподобления тезаурусов А и В,
объяснения нового, которая ставится методом построения тезаурусного
отношения Ti-To и решается в стандартных ситуациях общения между А и В, причем
достигается это упорядоченной последовательностью предложений, каждое из
которых создается по универсальным правилам и не требует для применения этих
правил выхода за пределы подкорки в сознание, задача построения картины мира
по постулату Аристотеля или по принципу относительности Уорфа, во-первых,
не относится к числу задач, решаемых средствами стандартной ситуации общения
между А и В, а во-вторых, требует ряда дополнительных условий осуществимости.
Картины мира, в том числе и категориальные, несут совершенно иные наборы
функций, чем стандартные ситуации общения между А и В. Основная задача
целостной картины мира, мировоззрения состоит в том, чтобы обеспечить
воспроизводство в смене поколений самой социальности, как целостной системы
различенных человекоразмерных фрагментов деятельности, приведенных по тому
или иному основанию к единству нечеловекоразмерной общесоциальной
деятельности. Чтобы выполнять эту задачу, картины мира, каким бы ни было основание
их интеграции (конечный по числу набор имен с устойчивыми
специализированными текстами, отношения родства в семье небожителей — покровителей
профессий, набор грамматических универсальных правил) должны быть
редуцированы, приведены к человекоразмерности, то есть представлены в форме текста
всеобщего распределения (типа нашего Ту) с устойчивым значением тезауруса, рав-
нообязательным для всех взрослых или «посвященных» членов общества.
Конечно, поскольку любая картина мира выразима текстом конечной длины, значение
тезауруса этого текста может быть сдвинуто средствами стандартной ситуации
общения между А и В, но это уже совсем особый род стандартной ситуации, когда
в роли В оказывается все живущее (взрослое и взрослеющее) поколение общества.
У нас этот особый род стандартной ситуации реализован в институте всеобщего
и обязательного образования с четко обозначенным тезаурусом Ту, в первобытном
обществе он включен в этап универсальной подготовки детей и юношей к обряду
История европейской культурной традиции и ее проблемы 303
посвящения, в индийской деревне этим до недавнего времени занималась,
выступая в роли А, каста брахманов.
И в этом плане отсутствия различия между стандартными ситуациями
общения и особым родом «мировоззренческой» ситуации передачи картины мира как
целостности входящим в жизнь поколениям к Уорфу могут быть предъявлены
серьезные претензии. Уорф исходит из неявной посылки, что в любой стандартной
ситуации общения между А и В, приводящей к взаимопониманию А и В, ее
стороны заняты строительством картины мира просто потому, что им приходится
опознавать реалии окружения, используя в качестве идентификаторов слова
родного языка, а затем, переведя этим способом реалии окружения в мир знака,
упорядочивать их заместители-слова по универсальным правилам грамматики. Сам
процесс опознавания-идентификации получает при таком понимании
стохастическую форму «идентификации для идентификации», не несет сколько-нибудь
четко обозначенной функциональной нагрузки, способной придать ему черты,
скажем, включенности в конкретную задачу акта общения между А и В, хотя,
понятно, то, что совершается в акте речи между А и В, менее всего может
рассматриваться, как довлеющая себе чистая демонстрация способности А перед
аудиторией В «расчленять мир, организовывать его в понятия и распределять
значения».
В нашей тезаурусной модели акта речи между А и В роль такого организатора
процесса опознания-идентификации, подчиняющего этот процесс решению теза-
урусного отношения, могла бы взять на себя идея релевантного решаемой задаче
поиска слов-идентификаторов для опознания и выделения в окружении группы
реалий, включение которой в ситуацию необходимо для ее решения. Такой
подход, на наш взгляд, резко бы изменил характер того предписывающего
воздействия языковых норм, которое подчеркивается Уорфом, придав этому воздействию
смысл отсечения, исключения из «калейдоскопического потока впечатлений»
всего того, что не имеет отношения к решению задачи, стоящей перед А в акте
общения с В. То, что предлагает Уорф: «Мир предстает перед нами, как
калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим
сознанием» [74, с. 174], задача явно непосильная для человеческого сознания,
поскольку такой поток всегда нечеловекоразмерен, не может быть ни воспринят, ни
тем более организован как целостность.
Эти частные замечания по поводу необходимости различать стандартную
ситуацию общения между А и В и особый «мировоззренческий» род такой
ситуации, где в роли В выступает все живущее поколение общества, различать задачу
достижения взаимопонимания и задачу построения картины мира позволяют нам
более четко сформулировать те дополнительные условия, которые разрешают или
запрещают реализацию возможности разработки категориальной картины мира в
ее отличии от первобытно-именной или традиционной, собранной по связям
родства богов-покровителей профессий.
В отличие от проблемы взаимопонимания, решение которой не требует и
даже исключает в актах общения между А и В осознанное употребление
грамматических правил, построение картины мира по постулату Аристотеля или
принципу относительности Уорфа суть акт вполне осознанный, отнюдь не автоматизм.
Для его осуществимости требуется, во первых, письменность, которой нет в
первобытном обществе и без которой из потока речи нельзя изъять набор
грамматических правил-категорий, способов сказуемости. Во-вторых, требуется не просто
письменность, а письменность алфавитная, фиксирующая поток речи звук в букву,
включая и те звуки, которые Шлейхер называет отношением, формой, то есть все
элементы грамматики, каким бы способом они ни выражались. Первой
письменностью этого рода была греческая, появившаяся где-то в VIII—VII вв. до н.э., и
до ее появления говорить о категориальных картинах мира как о реальных фактах
было бы бессмысленно.
304
M. К. Петров
Об этом, собственно, мы и писали в статье 1973 г. «Язык и категориальные
структуры» [53], причем писали безотносительно к гипотезе Сепира—Уорфа,
выходя на проблему от гегелевского истолкования категорий и их связи с языком.
Сама гипотеза, как и имена Сепира и Уорфа были упомянуты только в
«заключении» [53, с. 82].
Для выяснения позиции лингвистов и возможностей их аргументации «за» или
«против» принципа относительности Уорфа, полезно будет, нам кажется,
совершить краткий экскурс в нашу старую постановку вопроса о категориальных
картинах мира.
В 1973 г. мы писали: «События научно-технической революции, все более
требовательный «социальный заказ» на теоретическое обеспечение политики
стимулирования науки, реформы образования, помощи развивающимся странам,
быстрорастущее число исследований по этим проблемам ввели и вводят в наши
представления о языке, о связи между языком и категориальными структурами
массу нового (эмпирического главным образом) материала «незапланированной
информативности», причем материал этот далеко не во всем согласуется с
традиционными представлениями. Даже само это рассогласование приобретает
довольно странный локально-очаговый вид. В пределах так называемого «развитого»
мира, куда входят страны европейской культурной традиции, рассогласование
имеет вид неполноты прежних представлений о языке и его категориальном
потенциале, тогда как в других типах культуры рассогласование принимает прямо
противоположный вид избыточности прежних представлений. Иными словами,
наше привычное восприяше языка, как стихийного накопителя (в миллиардных
актах речевой практики) «некоторых категорий», их можно выделить из структур
языка, обнаруживает определенную европейскую природу и оказывается
справедливым лишь наполовину. Действительно, любой язык накапливает
категориальный потенциал, что позволяет реализовать эту потенцию. Но реализуется она
далеко не во всех очагах культуры, причем факт реализации или отказа от
реализации категориального потенциала языка, очевидно, не есть некая производная
от типа языковой структуры: ареалы распространения языковых типов не
совпадают с ареалами распространения типов культуры.
То новое, с чем мы столкнулись и сталкиваемся сегодня в европейской
культурной традиции, можно объяснить как процесс взаимной экспликации языка-
системы и научно-дисциплинарной деятельности. Попытки решить задачу
машинного перевода выявили ограниченность аристотелевского постулата
существования языка как некоторого множества предложений-суждений, возможных в
данной языковой общности. Концепция предложения — высшей языковой
единицы — оказалась теперь недостаточной: текст обнаружил свойства целостности.
Связь предложений в тексте, размер предложений, распределение частотности
связанного в тексте словаря, порядок ввода новых слов определили область
действия неведомых прежде «текстуальных» правил. Постулат Аристотеля «из слов
вне связи ни одно ни истинно, ни ложно» требуется теперь дополнить постулатом
типа «из предложений вне текста ни одно не несет информации».
Эта новая (в журденовском смысле) для европейского сознания область
стихийного складывания форм мысли, регулирующих усвоение и интеграцию нового
знания, становится постепенно поставщиком категориальных структур для
понятийных аппаратов науковедения, системного подхода, информатики, хотя сам
процесс осознания, освоения и мобилизации этой части категориального
потенциала протекает во многом еще слепо, «диффузно». Обычно просто
«констатируют» наличие эмпирически подтверждаемых универсальных правил (сеть
цитирования, квоты цитирования, ранговые распределения) без указаний на
лингвистику, где эти правила впервые были исследованы. Существует и обратный процесс
эвристического, главным образом, обогащения лингвистической проблематики на
основе данных науковедческих и системных исследований. Интеграционная и
ценностная природа научных аппаратов статей, связывающих дисциплинарные
История европейской культурной традиции и ее проблемы 305
массивы публикаций в единое смысловое целое, позволяет идентифицировать
поставленную еще Соссюром проблему сдвига отношения между означаемым и
означающим как проблему преемственности смыслообразования, а предложение
представить, как принятую в данном языке форму ввода нового» [53, с. 61—63].
Вокруг этих трех абзацев, в которые мы сегодня внесли бы частные
поправки—с 1973 г. прошло немало времени, — но которые в общем-то более или
менее адекватно описывают, по нашему мнению, методологическую ситуацию
междисциплинарных заимствований того времени, и развертывается то, что мы
по склонности к «эффектам» и «комплексам» назвали бы «О.М.» эффектом, если
бы у нас не было уже более надежного «королевского» эффекта Алисы, как
формы приглашения отсутствующего автора к ритуальному танцу в цитируемой
группе.
Наш «меморандум» О.Маслиева начинает с лестной для нас оценки масштаба
затеянного нами в 1973 г. в форме и листаже статьи предприятия: «М.К.Петров
в своей интерпретации проблема языка, мышления и мировоззрения исходит в
конечном счете из принятой им \ некоторыми ограничениями гипотезы
Сепира—Уорфа и в целом концепции лингвистической относительности». Он пишет,
что «связь между универсалиями языка, всеобщими определениями мышления и
деятельности становится сегодня актуальной проблемой» [42, с. 88—89]. Нам,
правда, припоминается, да и по сохранившемуся тексту без труда
устанавливается, что исходили мы «в начальном счете» от гегелевской постановки вопроса, а
о Сепире и Уорфе вообще разговора не было до последней страницы — листаж
не позволял. К тому же там, где у автора нашего «меморандума» поставилась
точка, у нас ее не было, а шло как раз определение узких границ наших
притязаний: «...актуальной проблемой исследований по истории и типологии культуры»
[53, с. 58].
Возможно, что именно эта ненароком попавшая в «меморандум» точка
объясняет неприятие Маслиевой нашей классификации наличных культурных
типов — лично-именного, профессионально-именного и
универсально-понятийного: «С помощью этих различных «знаковых механизмов» человек, согласно
М.К.Петрову, каким-то таинственным и сверхъестественным образом включается
в социальную деятельность: «По лично-именным правилам человек приобщается
к социальной деятельности через вечное имя-различитель, отождествляя себя с
предшествующими носителями этого имени и целиком растворяясь в тех
социальных ролях и обязанностях, которые передаются ему с именем.
Профессионально-именные правила включают человека в социальную деятельность по
профессиональной составляющей, которую он осваивает в институте семьи,
подражая деятельности старших, и совершенствует, используя профессиональный знак-
различитель (имя бога, покровителя профессии). В универсально-понятийном
типе человек входит в социальную деятельность по универсальной гражданской
составляющей, тогда как профессиональная является частным делом каждого,
свободной причинностью общества, способной к самораспределению в наличные
или новые виды деятельности» [42, с. 89].
В этой части «меморандума» нет ненароком попавших точек, зато исчезли
кавычки, в которых у нас ходила и, по нашему мнению, чувствовала себя свободнее
«свободная причинность» общества [53, с. 59].
А дальше начинается «королевский» эффект, собственно ритуальный танец
цитируемого: «Из всего этого туманного и запутанного изложения можно
заключить, что, во-первых, языковые правила полностью определяют мышление,
поведение и мировоззрение людей; во-вторых, в соответствии с тремя типами
определенных М.К.Петровым языковых правил (речь шла о типах культуры, а не
языков. — М.П.) выделяются три типа мышления, поведения, мировоззрения,
причем первым двум из них отказано в понятийной структуре. Последний,
«универсально-понятийный» тип он считает характерным только для европейского «типа
мышления». Этот универсально-понятийный тип — «наиболее молодая структура,
306
M. К. Петров
явно возникшая на почве профессионально-именного, или «традиционного»
типа, под которым он понимает неевропейские культурные традиции.
М.К.Петров считает, что существует лишь «иллюзия родства традиционного и
европейского типов, их сравнимости по единому основанию развитости» [Маркс тоже так
считает, 40, с. 378—379. — М.Щ; «наше привычное восприятие языка, как
стихийного накопителя (в миллиардных актах речевой практики) некоторых
категорий — их можно выделить из структур языка — обнаруживает определенно
европейскую природу и оказывается справедливым лишь наполовину».
Однако это последнее утверждение М.К.Петрова повисает в воздухе: он даже
не пытается обосновать его фактическим материалом (это первая половинка
первого из трех приводимых абзацев попала в столь незавидное положение и будет
висеть, подобно Меланфцю у Одиссея, под «потолочиной» до конца танца вокруг
трех фрагментов. — М.Й). Зато очень много внимания он уделяет сравнению
древнегреческого и латинского (и вообще флективных языков — русского,
немецкого), с одной стороны, и новоанглийского языка — с другой, с точки зрения
зависимости от их структур содержания категории взаимодействия в философии
этих народов [42, с. 89—90].
Далее внимание Маслиевой, автора нашего «меморандума» переносится на
«заключение», на первый его абзац, где единственно и упоминаются Сепир и
Уорф. У нас он выглядит так: «Нам кажется, что в двух случаях определенно
(античный и современный), а в одном предположительно (грамматика
новоанглийского языка) мы имеем право говорить об участии структур категориального
потенциала в строительстве европейского социокода. При этом сразу же следует
предостеречь против понимания этого участия как простого переноса
выработанных языком универсальных форм операций со словами на окружение ради его
фрагментации. Будь это так, всеобщее распространение и силу получила бы
лингвистическая относительность Сепира—Уорфа, и мировоззрений, способов
фрагментации знания, его кодирования было бы ровно столько, сколько существует
языковых типов. В действительности этого не наблюдается: мы знаем пока три
типа кодирования, два из которых в строительстве социокода вообще не
используют языковых универсалий» [53, с. 82].
В «меморандуме» этому абзацу уготована участь первого абзаца из трех
приведенных выше: из него вырежут последнее предложение, где, как и в первом
случае, говорится о том, что постулат Аристотеля о категориальной природе
бытия (и, понятно, принцип относительности Уорфа) выполняется только в
нашей европейской культуре. Так что в «меморандуме», «ее (автора) повинуяся
воле», нам приходится ритуально выплясывать частью в вольном пересказе,
частью в цитатах совсем от другого угла печки: «Он полагает, что в двух случаях
определенно (античный и современный), а в одном предположительно
(грамматика новоанглийского языка) можно говорить об участии категориального
потенциала языка в строительстве «европейского социокода». М.К.Петров считает
своим долгом предостеречь против понимания этого участия, как «простого
переноса выработанных языком универсальных форм операций со словами на
окружение ради его фрагментации», поскольку тогда «всеобщее распространение и
силу получила бы лингвистическая относительность Сепира—Уорфа и
мировоззрений, способов фрагментации знания, его кодирования было бы ровно столько,
сколько существует языковых типов». Сам же М.К.Петров исходит в своей
«гипотезе» из трех типов кодирования и соответственно из трех типов
мировоззрения. Уже одно это само по себе представляет своеобразную «укрупненную»
гипотезу «лингвистической относительности». Но на деле М.К.Петров, несмотря на
отмеченные оговорки, как это видно из изложения его «гипотезы», идет
значительно дальше такого «урезанного» варианта гипотезы лингвистической
относительности» [42, с. 91—92].
Куда же это мы идем, в какое «ужасно далеко», «значительно дальше» того,
куда мы вроде бы и не ходили? Маслиева нам этого не объясняет, не мы ее ау-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 307
дитория. Зато своей аудитории она обстоятельно объясняет, как нужно
«правильно» понимать все это: «Общность логических структур у различных народов
является необходимым результатом постижения единых закономерностей
объективной действительности, усваиваемых человеком в процессе практической
деятельности по ее преобразованию. Устойчивые, с необходимостью повторяющиеся
инварианты практической деятельности фиксируются человеческим сознанием в
виде определенных логических инвариантов, в основе которых лежат
объективные закономерности, одинаково осознаваемые различными народами в силу
однотипности основополагающих моментов общественной практики» [42, с. 92].
Все просто и понятно^ одно только неясно, где именно эти «логические
инварианты» фиксируются аознанием и почему на свете так много языков: в описанном
О.Маслиевой случае вполне хватило бы, по 10 постулату Шлейхера, одного.
В первой части мы приняли на правах норм научного общения и
«королевский» эффект и ритуальный танец группы отсутствующих
авторов-предшественников, которые вовлекаются автором в группу авторитетов для выполнения то-
посного правила: «не от себя говорить будет». Говоря от имени группы
привлеченных методом цитирования автор А объясняет своей аудитории В то, что он
находит нужным объяснить, вынуждая для решения тезаурусного отношения
членов авторитетной группы в акте своего общения с аудиторией выплясывать не
то, что им хотелось бы, а то, что подтверждает и санкционирует авторитетом
группы движения авторской мысли, направленные на ликвидацию разности Ti-
Т0. И коль скоро мы настаиваем на нормативном понимании «королевского»
эффекта и ритуального танца авторитетной группы отсутствующих авторов, без чего
невозможен акт научного общения, не нам, понятно, обижаться на О.Маслиеву
или предъявлять претензии относительно состава партий, уготованных нам в ее
«меморандуме» — занятие это бессмысленное и бесперспективное, не оно нас
интересует: в плане урезаний, обрезаний, подвешиваний, истолкований мы из
собственного опыта ритуальных танцев в группах разной авторитетности могли бы
привести куда более впечатляющие парадигматические примеры. Да и группа
собрана Маслиевой хотя и разношерстная, но в общем интересная, в такой не
соскучишься: Э.Сепир, Б.Уорф, В.Гумбольдт, А.Кожибский, Э.Кассирер, М.Хейдег-
гер, Л.Вайсгербер, Л.Виттгенштейн, СА.Васильев, К.Маркс, М.И.Владиславлев,
Н.Г.Чернышевский.
Смысл нашего бунта исполнителя ритуального танца отнюдь не протест
против хореографических «задумок» автора «меморандума» — это его дело и его
право, а совсем в другом: попытаться понять через эту хореографию, через
ритуальный танец группы замысел хореографа, то, что он, собственно, имеет
сообщить своей аудитории в главе «Критика концепции лингвистической
относительности» [42, с. 79—92]. Для этого типичную для акта научного общения
хореографическую формулу «па-сель» следует перевести в формулу «па-де-де», то есть дать
чуточку поразмяться и автору-партнеру. Пользу от такой смены формулы танца
мы видим в том, что сольный выход партнера, поскольку ему-то придется
танцевать по правилам действующей парадигмы лингвистики, даст нам возможность
судить о том, что именно способна современная лингвистика противопоставить
постулату лингвистической относительности вообще и тому частному его
истолкованию, которое представлено Уорфом.
Наша рабочая гипотеза, которую хотелось бы проверить анализом постулатной
базы критической позиции О.Маслиевой по отношению к концепции
лингвистической относительности состоит в том, что пока лингвистика использует
заданную Аристотелем и александрийцами парадигму, ей не о чем спорить с Уорфом
просто потому, что постулат Аристотеля «сколькими способами сказывается,
столькими способами и означает себя бытие» и принцип относительности Уорфа
тождественны, суть разные формулировки одного и того же, и занять какую-либо
критическую позицию по отношению к Уорфу, значит автоматически занять ту
же позицию по отношению к Аристотелю, александрийцам, действующей пара-
20*
308
M. К. Петров
дигме лингвистики, то есть, в терминах Куна, осознать некую аномалию в составе
проблемной области лингвистики.
В рамках такой рабочей гипотезы состав критической позиции Маслиевой,
если бы таковая позиция обнаружилась, должен бы включать на правах опор
ссылки на аномалии, ставящие под сомнение и постулат Аристотеля и принцип
относительности, или же противопоставляющие их в том или ином отношении.
Что касается нас самих, то мы еще в 1973 г. наметили область поиска таких
аномалийг-^бозначив ее не очень четким термином «взаимная экспликация
языкагеистемы и научно-дисциплинарной деятельности» [53, с. 62], смысл
которой щм представлялся в том, что с методологической точки зрения такая
взаимная /экспликация на уровне концептов, предлагая процедуры верификации того
же типа, что и сформулированные Шлейхером в письме к Э.Геккелю [21, с. 98—
103], должна в принципе вскрывать аномалии в действующей парадигме
лингвистики. Сегодня, двигаясь от закона Ципфа, гипотезы глубины Ингве, и от той
частной формулировки принципа относительности, предложенной Уорфом (в то
время она не казалась нам подозрительной на аномалию, не сразу дошло, что
Уорф сам себя критикует основательнее своих критиков), мы могли бы более
четко сформулировать состав этих аномалий и их значение для лингвистики.
Поскольку же эта намеченная в 1973 г. область поиска аномалий оказалась в
1980 г. неприемлемой для О.Маслиевой и даже, как это ни странно, дала ей
повод включить нас в группу отсутствующих авторов на предмет цитирования и
критики, то из поиска опор ее критической позиции эту область определенно
приходится вычеркнуть — она осознается ею, как и лингвистами, антропологами,
областью бесструктурного шума: «Из всего этого туманного и запутанного
изложения...» [42, с. 89] и отождествляется с самой теорией лингвистической
относительности. Остается только один вариант — искать в истории самой лингвистики
период, когда она находилась либо в рассогласовании с парадигмой Аристотеля,
александрийцев, либо же относилась к ней с небрежением. Здесь поиск сужается
до периода господства компаративистики в ее исторических вариантах, а
постоянно присутствующая в аргументации Маслиевой телеологическая составляющая,
идея векторного развития, развитости, степеней развитости прямо указывает на
две не исключающие друг друга возможности: немецкая философская классика и
Шлейхер.
Вот, скажем, типичное «критическое» рассуждение Маслиевой по поводу
Уорфа: «Содержание логических категорий, отражающих самые общие моменты
действительности, может быть только одинаковым у разных народов, отличаясь
лишь по уровню их развития и осознания, в соответствии с этапом исторического
развития, который проходит народ — носитель языка. Поэтому нельзя говорить,
как это делал Уорф (основывавший свои утверждения на анализе выражения в
языках американских индейцев категорий субстанции, времени и пространства),
об особой логической структуре мышления американских индейцев, а можно
отметить лишь неразвитость данных категорий в мышлении этих народов.
Указанные категории как формы связи некоторого мыслительного содержания
несомненно существуют у этих народов, и исследования Уорфа отнюдь не дают
оснований для отрицания универсальности категорий, как общих структурных
связей человеческого мышления, которая составляет существенный момент единства
человеческого рода. Неразвитость же этих категорий в мышлении изучавшегося
Уорфом народа хопи (как и вообще народов примитивной культуры) не является
раз и навсегда данной. С прогрессом общественной жизни этих народов
несомненно будут наполняться новым содержанием и категории их мышления,
поднимаясь от предметно-конкретного содержания к все более и более абстрактному.
Этот процесс должен получить отражение в структуре и лексике их языков. Язык
не может накладывать ограничений на развитие мышления, он развивается
вместе с развитием мышления, гибко подстраивая и меняя свои формы для
выражения нового мыслительного содержания» [42, с. 84].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 309
Именно по поводу этого способа рассуждения как характерной черты своей
эпохи тонкий знаток этих дел А.И.Герцен и заметил: «Прогресс человечества
тогда был известен, как высочайший маршрут инкогнито — этап в этап, на
станциях готовили лошадей» [с. 163]. И именно на этом способе рассуждений
строились и строятся все «научные» теории расизма от Гобино до Питтс-Риверса.
Поэтому в высшей степени неуместным представляется заключительное
замечание Маслиевой: «Игнорирование этой диалектики развития языка и
диалектического взаимоотношения языка и мышления и ведет к сооружению того непрочного
фундамента, на котором строится теория лингвистической относительности» [42,
с. 84]. Не та эта диалектика: в наличном многообразии диалектик тоже есть своя
относительность, и хвататься за первую попавшуюся — дело небезопасное.
В самом деле, в рассуждении Маслиевой представлен тот снижающий
многообразие в пользу единообразия, в пользу «идеала» развитости вариант
диалектических представлений истории, который позволял антропологам, историкам,
лингвистам середины и второй половины XIX в. интегрировать проблемные области
своих дисциплин по основанию развитости, выстраивать умозрительные шкалы
развитости, распределять по этим шкалам народы, племена, языки, расы,
ранжируя их по критерию развитости в иерархию, вершина которой, естественно,
располагалась в Европе. Компаративистика в антропологии, как мы уже говорили
по связи с дискуссиями 60—70 гг. XIX в., именно этим способом оформила свой
предмет и свою парадигму. Э.Тейлор в 1871 г. предложил антропологам схему
интеграции по основанию развитости, которая и сегодня находит почву в работах и
умах многих антропологов, историков, лингвистов. По этой схеме проблемная
область антропологии представляет из себя привычное для лингвиста
диссоциированное множество обществ — высших предметных единиц антропологии.
Постулируется, что все общества суть целостные организмы цивилизации или
культуры, различающиеся тем, что они находятся на разных стадиях развития. Те из
них, которые находятся «на одной и той же стадии цивилизации», сравнимы,
независимо от различия времени, места и расы. «Феномены культуры, — писал
Тейлор, — могут быть классифицированы и ранжированы по стадиям в соответствии
с вероятным порядком эволюции» [166, с. 42].
В близких мыслях ходили и лингвисты-компаративисты того времени с тем,
правда, достаточно серьезным различием, что им нельзя уже было представить
свой предмет в диссоциации — выявленные в исследованиях связи родства
мешали превратить наличное множество языков в диссоциированный набор
автономных самодовлеющих высших предметных единиц. Этим и объясняется тот
ядовитый по последствиям методологический ход во врожденное неравенство
языков, мышлений, культур (11 постулат Шлейхера), который синтезировал
родство и различие и был подхвачен расистами всех мастей. У Шлейхера в
«Компендиуме» (1876 г.) это выглядит так: «Почему у разных людей проявляются
различия, почему не все люди развивают в своей среде один и тот же язык — на
эти вопросы должна нам дать ответ антропология. Относительно различия языков
мы знаем только то, что уже в звуках первых языков обнаруживаются большие
различия. Эти различия проявляются, однако, не только в звуках, но
основываются прежде всего на том, что с самого начала в языках существуют различные
потенции развития; одни языки обладают большей способностью к более
высокому развитию, чем другие» [21, с. 96—97]. Если напомнить 3 постулат: Язык
«воплощает в звуках процесс мышления» [21, с. 92—93], то нетрудно догадаться, что
могут означать эти «различные потенции развития».
Мы вовсе не собираемся обвинять в расизме ни Шлейхера, ни тем более,
Маслиеву, но просто хотели бы напомнить, что в нашу Ту эпоху методология
вовсе не такое уж безобидное дело, не требующее осторожности и соблюдения
некоторых правил «техники безопасности». А вот в этом смысле мы можем с
полным основанием констатировать, что по неясным для нас причинам, вполне
возможно, что это погрешности студенческой или аспирантской подготовки по ис-
310
M. К. Петров
тории лингвистики, но этот «ядовитый нюанс» сравнительно-исторического
языкознания середины и второй половины XIX в. явно не осознан О.Маслиевой в
его зловещем функциональном смысле, хотя перед нею, раз уж она серьезно (в
чем мы не сомневаемся) считает лингвистическую относительность научным
«злом», стояла и стоит проблема, как перед исследователем категории
причинности по формам ее языкового выражения (исследованы языки разных семей и
групп — и это бесспорная ее заслуга) и как перед критиком концепции
лингвистической относительности, того же класса и состава, что и перед Шлейхером и
другими компаративистами XIX в. И проблема эта состоит в том, чтобы найти
способ, основание интеграции в целостность наблюдаемого разнообразия языков,
способов выражения в этих языках тех или иных категорий (для Маслиевой —
причинности) в условиях, когда доподлинно (если метод Шлейхера еще в силе —
а он в силе) установлены связи родства языков и историческая
последовательность их порождения.
У Шлейхера, как мы видим, получилось скверно: пришлось допустить
«различные потенции развития». Насколько в этом отношении благополучнее
концепция, развиваемая О.Маслиевой?
В приведенном примере критики Уорфа категории у Маслиевой выступают на
тех же правах «высших предметных единиц», на каких у Э.Тейлора выступают
общества, как члены диссоциированного множества: «Содержание логических
категорий, отражающих самые общие моменты действительности, может быть
только одинаковым у разных народов, отличаясь лишь по уровню их развития и
осознания, в соответствии с этапом исторического развития, который проходит
народ — носитель языка» [42, с. 84].
Есть и попытки перевести категории в диссоциацию, оторвать их от языков,
связанных отношениями родства, придать им самостный характер активных
агентов, универсально воздействующих на языковые структуры, уподобляющих и
ранжирующих их по мерке собственной развитости: «Язык не может накладывать
ограничений на развитие мышления, он развивается вместе с развитием мышления,
гибко подстраивая и меняя свои формы для выражения нового мыслительного
содержания» [42, с. 84].
Эта идея автономии и активной самостной деятельности диссоциированных
для этой цели логических категорий просвечивает и в других критических
заходах: «Влияние языка на мышление... они настолько преувеличивают, что это
приводит к превращению языка в барьер, отделяющий мышление от объективной
действительности... Таким образом совершенно искажается реальное
соотношение национального своеобразия языков и единства «постигающего мышления».
Всеобщность мышления состоит в постижении им единых закономерностей
существующей независимо от субъекта объективной действительности. В
процессе познания мира мысль повсюду идет одинаковыми путями, независимо от
языка, в котором фиксируются мыслительные формы.
Это подтверждается проведенным анализом языкового выражения понятия
причинности на ранних этапах его развития. Материал различных языков,
принадлежащих к разным группам и семьям, показывает не только общность
содержания наиболее древнего из доступных наблюдению уровня категории
причинности в мышлении разных народов, но и дальнейшую однотипную эволюцию
содержания этого понятия: от предметно-конкретного к все более абстрактному,
сходство логических переходов значений» [42, с. 83].
Последний абзац — явный аргумент от диссоциированного и автономного в
своем развитии набора категорий, не связанных уже узами родства языков, из
которых они извлечены. Прорыв и разрыв этих связей представлен в топосном
нюансе доказательности в том смысле, что все языки разных групп и семей
«голосуют» за единое начало [10 постулат Шлейхера об однородности начал языков) —
«общность содержания наиболее древнего из доступных наблюдению уровня
категории причинности в мышлении разных народов» и за «однотипную эволю-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 311
цию», единую иерархию развитости (постулат Э.Тейлора: «Феномены культуры
могут быть классифицированы и ранжированы по стадиям в соответствии с
вероятным порядком эволюции»).
В следующем абзаце эта схема представлена уже в парадигматической
генерализации: «Наблюдаемые параллелизмы в языковом выражении происхождения и
развития категории причинности на рассматриваемых этапах являются
свидетельством единства процесса формирования представлений о причинности у
различных народов, универсальности причинности как структуры человеческого
мышления. Они могут служить веским аргументом для опровержения основного
положения теории лингвистической относительности о детерминированности
языком мышления и мировоззрения по крайней мере в отношении причинности.
Поскольку же причинность является одной из коренных структурных связей
человеческого мышления, постольку выводы, полученные относительно этой
формы мышления, можно, по всей вероятности, распространить также и на всю
категориальную структуру мышления человека» [42, с. 83—84].
Словом, мы вновь оказываемся перед 11 постулатом Шлейхера с поправкой
на постулат Тейлора, снимающей откровенную обнаженность шлейхеровской
идеи врожденности в пользу незаинтересованного «параллелизма». Делается это
методом диссоциированного представления категорий в форме множества
автономных реалий, где каждому члену множества указан для подражания способ
движения в развитость категории причинности, поскольку она является «одной
из коренных структурных связей человеческого мышления», представительным и
признанным лидером категориального развития.
Решает ли такая схема задачу, которая стояла и перед Шлейхером? На наш
взгляд «параллелизм» в лучшем случае может использоваться в качестве фигового
листка для прикрытия того самого обстоятельства, которое составляет суть
проблемы. В самом деле, если спортсменки-категории бегут по разным дорожкам
стадиона, соблюдая должный пиетет к параллелизму и не перебегая дорогу друг
другу, то чем можно объяснить наблюдаемое выстраивание спортсменок в
последовательность, позволяющую выявить на любом промежуточном финише-этапе
порядок следования бегуний? Шлейхер и Маслиева едины в постановке задачи:
категории, как и языки, начинают с единой стартовой линии. Но, вот когда дело
доходит до объяснения наблюдаемой неравномерности прохождения
промежуточных финишей, то Шлейхер дает прямой ответ — «различные потенции развития»,
а Маслиева отводит глаза от наблюдаемого неприличия, отвечает уклончиво: бегут
по раздельным дорожкам, параллельно, не нарушают правил. Впрочем, в пылу
полемики с Уорфом и Маслиева выходит за рамки незаинтересованного
«параллелизма», дает по сути дела шлейхеровский или, если угодно, тейлоровский ответ:
«Неразвитость же этих категорий в мышлении изучавшегося Уорфом народа хопи
(как и вообще народов примитивной культуры) не является раз и навсегда данной.
С прогрессом общественной жизни этих народов несомненно будут наполняться
новым содержанием и категории их мышления, поднимаясь от
предметно-конкретного содержания к все более и более абстрактному» [42, с. 84]. Слово
«примитивной» в сочетании с культурой подчеркнули мы, чтобы отметить «параллелизм»
с Тейлором, что же до надежд на «прогресс общественной жизни этих народов»,
то мы уже говорили о том, что реально он выразился в исчезновении обществ
первобытной культуры, которые вовсе не были «примитивными», а имели за собой ту
же по глубине историю, что и любое из современных «развитых».
Любопытно, что такие небезопасные методологические игры в «развитость»,
гонки по раздельным дорожкам в развитость происходят сегодня, в конце XX в.
в нашей Ту культуре, когда вроде бы уже и в школьных курсах говорят об
очаговом происхождении человеческого рода^ об единой стартовой линии для всего
человечества и о встрече на «промежуточном финише» великих географических
открытий, где с полной достоверностью обнаружилось сначала генетическое
единство рода человеческого, а позже, в эпоху массовой межкультурной миграции
312
М.К. Петров
на уровне младенцев, и тождество человеческого рода по всем трем атрибутам
человечности — естественности, социальности, разумности. Странность ситуации
в том, что антропологи сетуют на исчезновение предмета исследований —
изолированных первобытных обществ, — а лингвисты все еще толкуют о блестящих
перспективах развития того, чего уже нет, и что присутствует сегодня колонками
в статистических таблицах, в которых не обнаруживается отклонений от
стандарта Ту>азвитости у детей бывших «примитивных» народов (см. табл. 2).
Но это одна сторона дела, подчеркивающая исчерпанность методологического
потенциала Ти синтеза идей изменения во времени, преемственности и
божественной предустановленности в телеологический комплекс «Развитость»,
«Развитие»; непригодность этого комплекса ни для целей ретроспективного собирания
истории в целостность, ни, тем более, для оценки текущего положения и
выстраивания перспектив на будущее. Слабая и неправомерная составляющая этого
синтеза, которая жестко прописывает его по Ти культуре, очевидна — это идея
предустановленности, провиденции, придающая синтезу в целом свойство телеологии
и вынуждающая Маслиеву говорить о «параллелизме» и даже о сходимости, о
подъеме содержания категорий «от предметно-конкретного содержания к все
более и более абстрактному».
Мы уже говорили о том, что такое неограниченное движение «к все более и
более абстрактному» возможно только в умозрении, поскольку постулат
переводи мости всех статических описаний системы в динамические ограничит это
движение текущим значением субъекта системы познания, поставит предел этому
движению, а с ним и выбор: либо двигаться «к все более и более абстрактному» —
к прыжкам, скажем, в десять оборотов, жертвуя при этом человеческой метрикой
субъекта системы познания, либо же умножать число субъектов познания,
языков, категориальных структур, лишаясь при этом права на использование
интегрирующих схем, использующих принцип Ти развития и позволяющих собрать
наблюдаемое «здесь и сейчас» многообразие процессов познания нечеловекоразмер-
ного объекта человекоразмерными средствами в целостность по линиям
параллелизма или сходимости.
В умозрении мы можем, скажем, приписать процессу
научно-дисциплинарного познания единый субъект, поскольку любая из наличных дисциплин
использует дисциплинарный язык со своим категориальным набором-парадигмой, в
котором обязательно содержится принцип причинности, принципы взаимодействия,
наблюдения и верификации, и ничего страшного, пока мы в умозрении, не
произойдет: такое представление и будет, собственно, научной картиной мира. Но
если мы забудем о том, что мы в умозрении и станем настаивать на атрибутах
естественности, социальности, разумности, единичности такого субъекта научной
деятельности вообще, то нам придется либо превратить его в самостный знак Ти
образца — то есть в бога, всеведущего и всемогущего творца, либо же, что
реально и происходит, раздробить его во множество автономных субъектов
дисциплинарного человекоразмерного ранга, по отношению к которым бессмыслен
разговор о параллелизме, сходимости, ступенях и степенях развитости на всех уровнях,
в том числе и категориальном. Нет никаких оснований, скажем, утверждать, что
принцип причинности в физике предстает в каком-то смысле в более «развитой»
или «превосходной» форме, чем, к примеру, в химии, биологии,
кристаллографии... Здесь само умножение субъектов систем познания, входов в мир научных
открытий, распочкование дисциплин и есть доминирующая форма Ту развития.
Схема Шлейхера столетней давности и, в определенной степени, попытка
О.Маслиевой напомнить о ней сегодня тем и ценны в методологическом
отношении, что они придают наблюдаемому в «здесь и сейчас» Ту культуры процессу
умножения субъектов систем познания, дифференциации-развития историческую
глубину: показывают, что и раньше, на всю доступную для изучения глубину
человеческой истории эта наблюдаемая сегодня схема оставалась в силе. Всегда так
История европейской культурной традиции и ее проблемы 313
было, принимали ли субъекты познания социальные формы племени, деревни,
полиса, дисциплины.
Частная и общая теория лингвистической относительности
Другая сторону критики в адрес Б.Уорфа со стороны О.Маслиевой, которая
нам представляется^более важной для понимания самого феномена
лингвистической относительности, состоит в попытках выяснить, а что, собственно,
критикуется, что в принципе можно критиковать с позиций сравнительно-исторического
языкознания, как они представлены в концепции Шлейхера и в несколько
измененной форме в концепции О.Маслиевой?
По нашей рабочей гипотезе лингвистика, если она и сегодня продолжает
оставаться верной парадигме Аристотеля-Александрийцев, вообще неспособна
опознать феномен лингвистической относительности как аномалию просто потому,
что и постулат Аристотеля и предложенная александрийцами трехуровневая схема
предметных единиц: звук (буква, стихия); слово — «наименьшая часть связной
речи»; предложение или речь (dypos) — «соединение слов, выражающее
законченную мысль» [21, с. 13], сами суть частные формулировки принципа
лингвистической относительности на материале структуры греческого языка, которые лишь в
исторических экспликациях приобрели парадигматическое достоинство
признанной формы представления языковых реалий и результатов изучения языков.
Открытое письмо А. Шлейхера Э.Геккелю дает, нам кажется, более или менее
определенный ответ: лингвистика середины и второй половины XIX в. не
исключение из общего «критического» потока оформления дисциплинарных вечностей
в философии, теологии, естественной истории, геологии, биологии, антропологии
с типичным для этого процесса выстраиванием исторической ретроспективы на
возможно большую глубину. Для всего этого «критического» потока характерно
стремление к актуализму и униформизму, к переносу наблюдаемых или
достаточно надежно фиксируемых моделей протекания процессов изменений на
недоступное для наблюдения прошлое.
При этом в разных дисциплинах возникали свои особые трудности. У
лингвистов трудность состояла, похоже, в том, что получалось хотя и убедительно,
но совсем не то, что хотелось бы. Языки с готовностью обнаруживали связи
родства, кто с кем, кто от кого, кто после кого, не требуя, как общества у
антропологов, дополнительной идеи «вероятного хода эволюции-развития», но там, где в
соответствии с прогрессистским духом времени хотелось бы видеть изменение-
прогресс, определенно обнаруживалось изменение-регресс. Словом, как и во
времена Павла, возникала ситуация, в которой фиксируемую на наблюдаемом
периоде деградацию формы «воплощения в звуке процесса мышления» следовало
понимать, так сказать, «духовно», чтобы «не вводить в соблазн» ни биологов-
плотских, ни антропологов-душевных. До жестких решений предложенного Мас-
лиевой типа — «Язык не может накладывать ограничений на развитие, он
развивается вместе с развитием мышления, гибко подстраивая и меняя свои формы
для выражения нового мыслительного содержания» [42, с. 84] — дело не
доходило: научный этнос не позволял, да и фиксировалась именно форма, а она явно
деградировала, но неприятностей с этой деградацией на наблюдаемом периоде,
которую «духовно» следовало на ненаблюдаемом периоде понимать как
эволюцию-развитие, у лингвистов вполне хватало, чтобы перевести постулат Аристотеля
из привычной формы данности в щекотливую проблему неоднородности
дисциплинарной вечности. Характерен в этом отношении постулат 12 о закономерности
распада языков: «...полученный из немногих примеров историко-языковедческий
материал настолько богат, что его вполне достает, чтобы получить отчетливое
представление о процессе языковых изменений во второй период жизни языка.
На основе этих данных мы в состоянии делать историко-языковедческие предпо-
314
M. К. Петров
ложения и относительно тех языков, жизненное развитие которых мы не имели
возможности наблюдать в течение длительного времени» [21, с. 97].
Но это «второй», наблюдаемый период, а приходится еще вопреки актуализму
и униформизму действия «агентов изменения» на всем периоде дисциплинарной
истории вводить «первый» ненаблюдаемый период, где все наоборот. Шлейхер,
как мы видели, вовлекает для этой цели грубую биологическую аналогию с
возрастным движением особей (9 постулат): «Жизнь языка не отличается
существенно от жизни всех других живых организмов — растений и животных. Как и эти
последние он имеет период роста от простейших структур к более сложным
формам и период старения, в который языки все более и более отдаляются от
достигнутой наивысшей ступени развития и их формы терпят ущерб» [21, с. 96]. За
эту аналогию Шлейхер и получил ярлык «натуралиста», да и сам явно
напрашивался на него, называя лингвистов, скажем, «глоттиками», «глоттоиспытателями».
Вместе с тем, вряд ли этот подчеркнутый натурализм был у Шлейхера от хорошей
жизни. В «Компендиуме» мы обнаруживаем на уровне примечаний более или
менее убедительные свидетельства того, что эта щекотливая неоднородность
предмета лингвистики, отход от принятого стандарта дисциплинарной вечности им
самим осознается как определенный изъян, непорядок: «Языки живут, как все
естественные организмы; они, правда, не поступают, как люди, и не имеют
истории, в соответствии с чем слово «жизнь» мы употребляем в более узком и
буквальном смысле» [21, с. 89].
Есть и примечания в явно интересующем нас плане перевода постулата
Аристотеля в проблемный статус: «Настоящий труд охватывает только две стороны,
доступные научному рассмотрению при изучении языка, — звуки и формы.
Функции и строение предложения индоевропейских языков мы еще не в
состоянии обработать в такой же степени научно, как это оказалось возможным в
отношении более внешних и легче доступных сторон языка — его звуков и форм»
[21, с. 90].
Иными словами, постулат Аристотеля, а с ним и лингвистическая парадигма
Аристотеля и александрийцев вроде бы и не отрицаются, но, во всяком случае,
осознаются, как особая проблемная область повышенной трудности для научного
изучения. Эта же линия выдерживается и в описании парадигматической формы
представления языка в предметных единицах. Во многом нормативная, «предпи-
сательная» модель александрийцев остается в силе: «Грамматика, следовательно,
состоит из учения о звуках или фонологии, учения о формах или морфологии,
учения о функциях или учения о значениях и отношениях, и синтаксиса» [21,
с. 89]. Но рядом появляется и историко-описательная дополнительная модель: «В
большинстве случаев она изучает язык в процессе его становления и,
следовательно, должна исследовать и описать жизнь языка в ее законах. Если она
занимается исключительно только этим и, следовательно, имеет своим предметом
описание жизни языка, то ее называют исторической грамматикой или историей
языка; правильнее было бы именовать ее учением о жизни языка (о жизни
звуков, форм, функций, предложений), которое в свою очередь может быть как
общим, так и более или менее частным» [21, с. 89].
Эта развертка парадигматической статики в динамику жизни-становления
языка Аристотелем и александрийцами явно не предусматривалась. И как раз
она, по нашему мнению, дает ключ к пониманию возможности критики
принципа относительности в рамках действующей лингвистической парадигмы. Дело,
похоже, как раз в этом последнем замечании, по которому исторические
грамматики, динамические представления жизни языка в дисциплинарной вечности
могут быть как общими, так и частными.
Примем это различение на правах рабочего. Допустим, что по нормам
действующей лингвистической парадигмы должно существовать одно и только одно
системное статическое описание конкретного языка, которое может быть развер-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 315
нуто на любую доступную для наблюдения и изучения глубину в прошлое, как
одна и только одна частная историческая грамматика.
Допущение, понятно, сильное, и вряд ли по поводу него сойдутся во мнениях
два лингвиста: любой язык «живет» (в шлейхеровском «узком и буквальном»
понимании) во множестве вариантов, как бы они ни квалифицировались (диалекты,
говоры, жаргоны...), а в наше время и во множестве научно-дисциплинарных и
технических вариантов, так что задача выделения того единственного
«правильного» варианта, по поводу которого может быть предложено единственное
научное статическое описание, — вещь вряд ли выполнимая. Не будем поэтому ни
мудрствовать, ни вовлекать в споры лингвистов. В странах Ту культуры такое
«каноническое» описание всегда есть — это те школьные курсы родного языка,
которые, независимо от их достоинств, являются для всего проходящего и
прошедшего их живущего поколения эталонной моделью во всех мыслимых
практических случаях применения языка, идет ли речь о контрольной в 3-м «Б» классе или
о споре автора с редактором в «Вопросах языкознания». В этих своих эталонных
выявлениях школьный курс родного языка является высшим для языкового
сообщества авторитетом и, в глазах членов языкового сообщества, высшим и
признанным в своем совершенстве достижением науки о языке.
Нам эти шедевры лингвистического творчества, возникающие в европейской
культуре со времен попыток александрийцев не допустить порчи греческого
языка в условиях иноязычного существования греческих полисных языковых
сообществ и попыток (грамматики Доната и Присциана) обеспечить курс
формальной подготовки духовных кадров, нужны для чисто практических целей, как
надежные и совмещенные точки входа в две существенно различные по составу
дисциплинарные вечности.
Обе они истории, континуумы событий, упорядоченных временем в
последовательность от некоторого «начала». В одной из них — «естественной» — под
событием можно разуметь появление нового языка и, если языки «живут» по Шлей-
херу, их возрастное движение; в другой — «искусственной» или «артефактной», —
напоминающей обычный массив дисциплинарных публикаций, если он выделен
по эшелону учебников, под событием разумеется нормативный курс родного
языка, который используется в составе текстов формального обучения (всеобщего
или профессионального, сословного, группового — безразлично). Пушкин,
скажем, многим обязан языку своей няни, Арины Родионовны, но Арина
Родионовна не факт и не событие артефактной вечности, тогда как тот курс словесности,
который преподавался в Лицее Пушкину и его сверстникам, бесспорно и факт и
событие, имеющее своего автора, дату появления на свет, дату официального
признания на правах эталона русского языка, освоения которого для
практических нужд можно и нужно требовать от учеников, срок жизни в системе
формального обучения от официального признания до замены другим курсом или
учебником.
Ясно, что фиксируемые в «здесь и сейчас» нашей Ту культуры такие
нормативные курсы в их качестве всеобщих эталонов научных описаний языков дают
право на построение частных исторических грамматик как в естественном, так и
в артефактном континууме исторических событий, и сумма мыслимых частных
исторических грамматик придаст этим различенным дисциплинарным вечностям
системный вид с вполне определенными структурами целостности. Будут ли эти
структуры идентичными?
Нет, не будут! Более того, кроме различий, связанных, скажем, с
необходимостью ожидания реализации ряда условий, которые необходимы для
осуществимости «начала» артефактной вечности (письменность вообще; алфавитная
письменность, полностью фиксирующая звуковой материал языка; перевод навыка
управления во всеобщее распределение; всеобщая грамотность;
документированная номотетика; социальная потребность в категориальной картине мира;
наличие людей ранга Аристотеля; появление необходимости в нормативных описаниях
316
M.К. Петров
языка), сами структуры целостностей будут принадлежать, по нашему мнению, к
принципиально различным типам. В субстрате «естественной» дисциплинарной
вечности\будет, и здесь, видимо, прав Шлейхер, работать биологический
механизм наследования — «всеядность» человеческого биокода, гносиса, тогда как в
артефактной вечности школьных курсов — учебников родного языка — работать
будут универсальные механизмы постредакции, знакового кодирования.
Иными словами, мы предполагаем, что в открытом письме А.Шлейхера
Э.Геккелю «Теория Дарвина в приложении к науке о языке» [21, с. 98—103]
имеется «рациональное зерно» в том узком смысле способа сохранения
преемственности в изменениях, в смене поколений, что соответствующий механизм, каким
он выявляет себя на периоде «от 2 до 5», основан не столько на постредакции,
хотя и предполагает ее — «какая-нибудь» данность общения языкового
сообщества, безразлично какая именно, младенцу все же необходима, чтобы реализовать
всеядные потенции человеческого биокода и лишний раз продемонстрировать эту
всеядность, подтвердить заложенную предшественниками в наличную данность
общения человеческую метрику, сколько на врожденной (биологической)
способности младенцев осваивать в возрастном движении «от 2 до 5» универсальные
правила обращения с составляющими словарей любых наличных в данном
языковом сообществе и возможных осмысленных текстов. Шлейхеровский эффект
«жизни» языка, преемственного существования его по связи с бессознательным
процессом мышления именно потому и возникает, что в отличие от практических
видов деятельности, которые наследуются средствами постредакции,
специализированного знакового кодирования, язык в его универсалиях наследуется
средствами биологического кодирования человека.
Что же до артефактной вечности, то ее структура целостности очевидно
принадлежит постредакции и в общем-то тяготеет к обычному типу научной
интеграции через цитирование предшественников, хотя и имеет свои особенности.
Представление об этих особенностях можно получить, если использовать
предложенную Э.М.Мирским идею эшелонирования дисциплинарных массивов
публикаций [44] для исторических целей: выделить наличное множество нормативных
лекционных курсов или дисциплинарных учебников, которые для коммуникации
дисциплинарных сообществ играют ту же роль, что и школьный курс родного
языка для речевой деятельности обществ Ту культуры, а затем построить
относительно каждого члена этого множества «частную историческую грамматику».
Вполне возможно, что этим способом определятся внешние контуры некой
общенаучной артефактной вечности системно-»акваториального» вида с более или
менее четко локализованным во времени «началом». Дисциплины в такой
общенаучной вечности-акватории, если нормативные учебники считать эталонными
научными статическими описаниями дисциплинарной коммуникации, приняли
бы вид айсбергов, плавающих на некотором удалении друг от друга и не
обнаруживающих доступных непосредственному наблюдению связей целостности: они в
подводной части.
Здесь нам явно грозит перспектива очередной раз угодить в королевскую
ситуацию по отмеченной О.Маслиевой способности к безопорному зависанию в
воздухе с элементами отвлеченной задумчивости во время ритуальных танцев
группы отсутствующих авторов-предшественников, если в арсенале автора
«меморандума» есть хирургический метод разрезания абзацев и сшивания разрезанного
по формуле: «Но это последнее утверждение (верхняя часть абзаца) повисает в
воздухе: он даже не пытается обосновать его фактическим материалом. Зато очень
много внимания он уделяет сравнению...» [42, с. 90]. Трюк, прямо скажем,
сложный в исполнении: мало просто повиснуть в воздухе, но для полноты и к
полному удовольствию аудитории автора «меморандума» надобно еще и заняться
чем-нибудь отвлеченным, не относящимся к делу, сравнением, например.
Хотя сама по себе угроза-перспектива угодить в королевскую ситуацию
очередного «меморандума» не так уж непривлекательна — куда более сомнительно
История европейской культурной традиции и ее проблемы 317
«счастье» не попадать в группы цитируемых авторов, — пока мы сами исполняем
роль А в ситуации общения с нашей аудиторией, безусловно полезно избегать и
безопорных зависаний в воздухе и особенно отвлеченных размышлений в этих
кратких мигах зависания, неизбежных в попытках А объясниться с аудиторией В,
сдвинуть ее То в Ti значение. Срыв взаимопонимания может быть и следствием
преднамеренной хирургической практики автора «меморандума», но много чаще
он возникает все же по вине А, и особенно часто это происходит в актах научного
общения между А и В, в которых А представлен «физическим процессом» —
графической записью объяснения А для В, а сам А находится в самовольной
отлучке, недостижим для вопросов аудитории.
Мы сейчас в зоне возможных срывов взаимопонимания: хореографическая
формула «па-де-де» имеет свои недостатки, поэтому нам нужна предельная
собранность и осмотрительность для продолжения нашей линии объяснения.
Попробуем подкрепить «фактическим материалом» суть дела.
1. В том, что принято со времен Аристотеля и александрийцев принято
считать единой парадигмой. Мы с помощью наблюдаемых парадигматических
трудностей Шлейхера в построении гомогенной дисциплинарной вечности
лингвистики обнаружили гетерономию: его стремление остаться в рамках актуализма и
униформизма наталкивается на невозможность переноса фиксируемых на
наблюдаемом периоде моделей изменения языка на ненаблюдаемый «доисторический»
период. Для «доисторического» периода принимается обратное действие моделей
изменения, и явный переход от доисторической ненаблюдаемой гомогенности в
историческую наблюдаемую гомогенность, обратную по смыслу (переход похож
на резкий переход закономерностей в дозвуковой и зазвуковой аэродинамике)
фиксируется как раз на входе в наблюдаемость — постулат 8: «Как только народ
вступает в историю, образование языка прекращается. Язык застывает на той
ступени, на какой его застает этот процесс, но с течением времени язык все более
теряет свою звуковую целостность» [21, с. 95—96]. Шлейхер связывает
гетерономные части (доисторическую ненаблюдаемую и историческую наблюдаемую)
дисциплинарной вечности лингвистики моделью возрастного движения особей —
постулат 9: рост от простого к сложному — период старения, на котором языки «все
более и более отдаляются от достигнутой наивысшей ступени развития и их
формы терпят ущерб» [21, с. 96]. Эта модель переводится в ранг самостного
знака, не требующего указания причин.
2. Сольный выход О.Маслиевой по поводу концепции Уорфа лишь несколько
камуфлирует «параллелизмом» наличие этой точки скачкообразного обращения
закономерностей на входе в область наблюдаемости, но не отменяет, а даже
усиливает гетерономию. Деградация формы воплощения процесса мышления в языке
на наблюдаемом периоде то признается, то отрицается в пользу примата само-
стных реалий мышления — категорий, их однотипной содержательной эволюции
«от абстрактно-конкретного к все более абстрактному» [42, с. 83], что и выдается
за «диалектику развития»: «Язык... развивается вместе с развитием мышления,
гибко подстраивая и меняя свои формы для выражения нового мыслительного
содержания. Игнорирование этой диалектики развития языка и диалектического
взаимоотношения языка и мышления и ведет к сооружению того непрочного
фундамента, на котором строится теория лингвистической относительности» [42,
с. 84].
3. В частных исторических грамматиках, восстанавливаемых в «естественной»
дисциплинарной вечности лингвистики на доступном для наблюдений периоде
обнаруживается только деградация формы, ее редукция, и если язык
действительно, в согласии с постулатом 3 «воплощает в звуках процесс мышления» [21,
с. 92—93], по 12 постулату Шлейхера должна бы наблюдаться и деградация,
редукция логических форм мысли вместе со способами сказуемости, «категориями»:
«распад, происходит по определенным законам, которые мы устанавливаем на ос-
318
M. К. Петров
нове наблюдения над языками, прослеживаемыми на протяжении столетий и
тысячелетий» [21, с. 97].
4. В попытках восстановления «частных исторических грамматик» конкретных
научных дисциплин, двигаясь в прошлое от действующих лекционных курсов или
учебников, мы обнаруживаем и 6 постулат Шлейхера: «Все языки, которые мы
прослеживаем на протяжении длительного времени, дают основания для
заключения, что они находятся в постоянном и беспрерывном изменении» [21, с. 95],
и тот же самый феномен деградации-редукции содержательных форм мысли
(конкретных результатов дисциплинарного познания) в процессе их движения по
эшелонам дисциплинарного массива публикаций к учебнику — Э.Мирский [44,
с. 244—248]. Если когнитивные системы дисциплинарного общения допустимо,
пользуясь терминами Шлейхера, считать «в узком и буквальном смысле» языками
дисциплинарных сообществ, то в «естественной» общенаучной вечности на
наблюдаемом периоде мы обнаруживаем закономерное действие тех же агентов
изменения — деградации и редукции формы и воплощенных в этих формах
«процессов мышления», что и компаративисты обнаруживали до самого последнего
времени. Теперь, понятно, после дисциплинарной революции О.Маслиевой,
ничего этого наблюдаться уже не будет, а должно будет наблюдаться, по ее
разъяснениям совсем иное: «Неразвитость же этих категорий в мышлении изучавшегося
Уорфом народа хопи (как и вообще народов примитивной культуры) не является
раз навсегда данной. С прогрессом общественной жизни этих народов
несомненно будут наполняться новым содержанием и категории их мышления, поднимаясь
от предметно-конкретного содержания к все более абстрактному. Этот процесс
должен получить отражение в структуре и лексике их языков» [42, с. 84]. Жаль
только, что не указано, где можно наблюдать эти народы «примитивной
культуры», где именно этот процесс «должен» получить отражение в структуре и
лексике языков.
5. Вину за деградацию-редукцию формы компаративисты возлагали, да и
возлагают на аналогию — постулат 13: «...ощущается действие силы, которая
враждебно воздействует на многообразие форм и ограничивает его все более самым
необходимым. Это — выравнивание хотя и обоснованных в своем своеобразии,
но менее употребительных в языке форм применительно к более
употребительным и потому находящем в языковом чувстве более сильную опору, иными
словами, аналогия. Стремление к удобной унификации, к трактовке возможно
большего количества слов единообразным способом и все более затухающее чувство
значения и первичности своеобразных явлений — все это привело к тому, что
позднейшие языки обладают меньшим количеством форм, чем более ранние, и
строение языков с течением времени все более упрощается. Старое богатство
форм отбрасывается, как ненужный балласт» [21, с. 97—98].
Действие этой «враждебной силы», как отмечает ВАЗвегинцев, было
замечено и независимо от европейских лингвистов арабами: «Арабские филологи
высказывали очень трезвые мысли о роли аналогии в языке и о разрушительном
действии на звуковой состав слов частоты их употребления» [21, с. 17].
По нашему убеждению то, что компаративисты согласно называли и называют
аналогией, приписывая ее механизму редуцирующее и унифицирующее
воздействие на многообразие форм языка, прежде всего на его способы сказуемости,
категории — «в то время, как в поздние периоды жизни многообразие звуков (слов)
увеличивается, языки теряют древнее обилие грамматических форм» [21, с. 98], —
науковеды и информатики называют сегодня законом Ципфа, и особенно близко
подходят к идентификации аналогии по ранговому распределению Ципфа или
закона Ципфа по способу действия аналогии те из них, включая и нашу точку
зрения, которые видят в законе Ципфа результат действия фактора естественного,
биологического, а не постредакционного, артефактного.
Еще раз приведем, но уже для других целей определение этого типа из работы
М.В.Арапова и Ю.А.трейдера: «Обзор ситуаций, в которых мы сталкиваемся с
История европейской культурной традиции и ее проблемы 319
проявлением этого закона... наталкивает на мысль, что сферой действия этого
закона являются естественно возникшие сложные системы. Хотя упоминание о
таких системах стало почти что общим местом в работах широкого круга
специалистов, занимающихся проблемами кибернетики, семиотики, биологии,
языкознания и т.п., существует очень мало сколько-нибудь точно установленных
эмпирических фактов, относящихся к подобным системам» [с. 74—75].
6. Гипотеза глубины В.Ингве даже при том весьма скудном материале
зондирующих исследований создает, если не убеждение в том, что категории, способы
сказуемости имеют отношение к психометрическим параметрам потока беглой
речи и только к ним, а не к закономерностям объективной реальности, то во
всяком случае порождает глубочайшее сомнение в том, что категориальные картины
мира, удовлетворяющие постулату Аристотеля, могут претендовать на нечто
большее, чем целостное представление окружения, допускающее единство его
апперцепции, восприятия в сознании индивидов. Что же касается того, несут ли такие
картины функции истинности — соответствия чему-то в окружении, что так же
должно обладать свойством универсальности по отношению к реалиям
окружения, — это уже совсем иной разговор.
7. Хотя выстраивание «естественной» дисциплинарной вечности было в
середине и конце XIX в. едва ли не основным занятием науковедов, уже в начале
XX в. оно обнаружило свой преходящий характер или, как сказали бы сегодня
науковеды, скорые на идентификацию и классификацию событий, признаки
истощения парадигмы. Доступная для наблюдений область письменных языков,
хотя и оказалась обширной и трудоемкой с точки зрения затрат
исследовательского времени, вместе с тем выявила значительную степень гомогенности агентов
изменения во времени, а следовательно и «бедность» в проблемном отношении.
То есть, доказав свою принадлежность к миру открытий, проблемная область
сравнительно-исторического языкознания довольно быстро доказала и то, что
никаких особенно крупных открытий в ней ожидать не приходится, и коль скоро
установлены языковые семьи, группы, языки, дальше начинается интересная для
ее участников, но мало затрагивающая основную схему рутина коррекций,
уточнений, совершенствования процедур исследования.
Будем считать, что этих семи предварительных замечаний будет достаточно
для ритуала reculer pour mieux sauter — нам действительно придется «прыгать»
через довольно широкую лакуну, по сути дела из эпицентра проблематики первой
части, где мы занимались в основном артефактной вечностью универсалий
общения, где господствующей моделью событий выступают тезаурусные отношения, в
эпицентр проблематики второй части, где знаки, смыслы, тезаурусные отношения
служат человеку, как существу естественному и в силу этого обстоятельства
обретают от человека черты самости, «жизни» в том именно «более узком и
буквальном смысле», о котором говорил Шлейхер.
В самом деле, в первой части в эпицентр событий мы поместили стандартную
ситуацию общения между А и В, исходя из рабочего предположения о том, что
именно здесь, на этой привычной для лингвистов арене должны происходить все
центральные события, требующие на правах условия осуществимости
опосредования языком в ситуациях достигающего взаимопонимания общения между
индивидом А и аудиторией В. «Самостность» происходящего на этой традиционной
лингвистической арене нас интересовала и беспокоила лишь постольку,
поскольку последовательность актов речи, в которой Ti предыдущего акта становится Т0
последующего, в общем-то не предполагает четко выраженных ограничений по
человекоразмерности: умножение связанного в тексте-истории предыдущих актов
общения словаря может и даже должно, если в тексте-истории наблюдается
действие закона Ципфа, неограниченно расти, поскольку любой акт речи, если он
выступает в функции объяснения нового с опорой на известное уже аудитории,
сопровождается инкрементным приращением словаря текста.
320
M. К. Петров
Этот аспект долженствования неограниченного роста значимых различении в
актах объяснений между А и В не то, чтобы ускользал от нашего внимания, но
определенно недооценивался нами в своем значении. Известную роль в этом
сыграло и наше стремление в первой части удерживаться на уровне непосредственно
наблюдаемых и верифицируемых явлений, за принадлежность которых к Т0
нашей аудитории можно бы было поручиться. Мы старались придерживаться
императива Гераклита: «Коль хочешь говорить понятно, держись покрепче за общее
всем, как полис держится за номос и еще крепче» [В 114]. В нашей Ту культуре
этот императив Гераклита получил бы конкретизацию: «Коль хочешь говорить
понятно со взрослой аудиторией, говори на языке выпускника средней школы,
на Ту». Этой конкретизированной версии мы и пытались придерживаться в
первой части.
Такие базовые для нас реалии, как возрастное движение индивидов,
необъяснимость факта появления индивида на свет в контексте его личной истории,
период «от 2 до 5», всеобщее и обязательное образование, урок и лекция, как
частные варианты стандартной модели акта общения между А и В и т.п., включались
нами в То аудитории как достаточно хорошо известные каждому взрослому по
собственному опыту и не требующие пространных объяснений. Поэтому, скажем,
когда мы встречались с очевидными выявлениями неограниченного роста
значимых различений — отсутствие повторов на уровне предложений в связном тексте
или явная нечеловекоразмерность ситуации на входе в эшелон статей
дисциплинарного механизма ценообразования, мы просто указывали на сопутствующее
процессам накопление различений явление дренажа, редукции различенного
смыслонесущего материала и на связь многообразных форм дренажа, селекции
на релевантность (объем памяти, срок обучения, переиздание учебников) с
ограничениями по человекоразмерности.
Теперь же, разбираясь в причинах неудач науковедов построить стандартную
гомогенную дисциплинарную вечность типа геологической или биологической,
где выполнялись бы постулаты актуализма и униформизма, и наблюдаемое в
«здесь и сейчас» действие универсальных агентов изменения во времени можно
бы было переносить и на ненаблюдаемый «доисторический» период свободного
развития бесписьменных языков, мы начинаем осознавать ограниченность
чистого постредакционного «исторического» подхода через универсалии акта общения
между А и В, где преемственность изменений достигается построением тезаурус -
ных отношений и их разрешением в объяснении.
Ограниченность эта состоит в том, что акты речи, ситуации общения между
А и В, целью которых является достижение взаимопонимания между А и В, то
есть сдвиг значения Т0 аудитории в Ti говорящего или пишущего, вплетены в
ткань целостности артефактной вечности постредакции и не покидают ее
пределов. Грубо говоря, это преемственная ткань связи индивидов по атрибуту
разумности. С ее помощью мы без особых затруднений прослеживаем в попятном
движении пути «отмеченных» в «здесь и сейчас» наблюдения индивидов с того
момента, когда они при явном участии гносиса обретают атрибут разумности, а с
ним и способность двигаться в преемственности актов общения (уроков, занятий,
лекций, книг, собственных самовольных отлучек) туда, куда их движут
воспитатели А или их собственная любознательность и где мы их застаем в момент
наблюдения.
Но стоит подключить в эту ткань целостности атрибуты социальности и
естественности, как сразу же обнаруживается, что даже если бы нам удалось
восстановить индивидуальные истории всех членов наблюдаемого в «здесь и сейчас»
когнитивно-социального сообщества, мы не получили бы сколько-нибудь
полного представления о том, как возникают и изменяются во времени такие
сообщества. В событиях, которые мы фиксируем в стандартной модели общения между
А и В, определенно присутствует история — Т0 аудитории, и историю эту
очередные А обогащают новыми значимыми различениями. Но это не та история,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 321
которая может взять на себя право представлять историю
когнитивно-социального сообщества, в котором мы данный акт или множество наблюдаемых актов
фиксируем.
Если использовать различения Шлейхера, то события, наблюдаемые нами в
стандартных ситуациях общения между А и В, следует, видимо, прописать по
«доисторической» части дисциплинарной вечности лингвистов: то, что происходит в
актах речи, явно связано с накоплением значимых различений, а не с их
редукцией.
Вместе с тем, хотя «жизнь» когнитивно-социальных сообществ в синхронии —
в любой момент наблюдения — представима конечным диссоциированным
множеством ситуаций общения между А и В, протекающих по единым
универсальным правилам построения и решения тезаурусных отношений, в диахронии
картина переходит из диссаоциации в ассоциированную целостность системы
умножения и редукции значимых различений. Моделью такой системы может, по
нашему мнению, служить научная дисциплина, понятая как типичный язык в его
когнитивном (парадигма), социальном (кафедра, журнал, студенты, аспиранты,
научные общества), естественном (сообщество) и предметно-практическом
(проблемная область) обустройстве.
Такое возведение дисциплины в ранг универсальной модели «жизни»
когнитивно-социальных единиц, прежде всего языковых сообществ, может, понятно,
вызвать возражения двух типов.
Первое состояло бы в том, что «естественные» языки существенно отличаются
от «искусственных», «дисциплинарных». Мы не собираемся отрицать этих
многоплановых различий. Они прежде всего связаны с тем обстоятельством, что
естественные языки, особенно в нашей Ту культуре, носят всеобщеобязательный
характер, усваиваются в своей грамматической части детьми на периоде «от 2 до 5»,
не несут ограничений по составу мыслимых взрослых В аудиторий, тогда как
искусственные или дисциплинарные языки осваиваются много позже и
ограничивают состав возможных взрослых или «посвященных» аудиторий только членами
соответствующих дисциплинарных сообществ. Важно и другое различие.
Естественный язык, хотя он и не исключает графической записи «физического»
процесса между А и В, но и не предполагает ее. В искусственных дисциплинарных
языках дело обстоит наоборот: они хотя и не исключают устного варианта
стандартной ситуации общения между А и В (лекция, доклад, выступление),
предпочтение явно отдают графической записи процесса между А и В, которая
позволяет убрать А из акта общения, как во многих отношениях деталь
несущественную для достижения целей акта общения. Более того, для большинства значимых
для дисциплины событий, совершающихся по стандартной модели общения
между А и В, графическая форма записи и ее публикация являются условием
осуществимости. Этот публикационный максимализм, по которому событие — акт
речи — либо происходит для дисциплины и науки в целом, если письменный
отчет о нем опубликован, либо не происходит, если такой отчет не опубликован,
имеет силу для всех эшелонов массива дисциплинарной публикации и может
рассматриваться, как существенная особенность коммуникации по нормам
искусственного или дисциплинарного языка.
Не отрицая серьезных различий между естественными и искусственными
дисциплинарными языками, мы все же не склонны придавать этим различиям
высокую степень существенности, которая запрещала бы, скажем, использование
моделей жизни естественного языка для понимания процессов изменения по
времени языка дисциплинарного или моделей жизни дисциплинарного языка для
понимания процесса изменения во времени естественных языков. Об этом мы,
собственно, и писали в 1973 г., как о методологической «взаимной экспликации
языка-системы и научно-дисциплинарной деятельности» [53, с. 62—63].
Второй тип возражений мог бы иметь смысл методологический: появление
рядом, со стандартной ситуацией общения между А и В, универсальные достоин-
21 М.К. Петров
322
М.К. Петров
ства которой мы признавали и признаем, второй универсальной и резко
отличающейся от первой модели «жизни» когнитивно-социальных единиц, в основу
которой положена коммуникативная модель дисциплины, давало бы повод для
обвинений в неоправданном парадигматическом дуализме, обвинений тем более
основательных, что смысл нашего «прыжка» или «скачка» через парадигматическую
лакуну как раз в том и состоит, чтобы попытаться снять введенную
компаративистами гетерономию дисциплинарной вечности лингвистики, в которой события
ненаблюдаемого «доисторического» периода требуют обращенного действия
агентов изменений по сравнению с тем действием, которое наблюдается на
«историческом» этапе изменений письменных языков. Понятно, что эту гетерономию
дисциплинарной вечности в принципе невозможно снять дуалистическими
моделями, как бы искусно их ни интерпретировать под диалектику или принцип
дополнительности.
Мы не видим нужды говорить в рамках нашей задачи ни о дуализме, ни о
разноплановости, ни о диалектике или принципе относительности. Конечно же,
как и любые другие процессы изменения во времени, акты речи, а равно и та
сумма процессов, которая обеспечивает преемственность «жизни» и изменений
дисциплины во времени — вполне подходящие предметы для описания в
терминах диалектики и сами могут стать источниками убедительных иллюстраций
действия законов диалектики. Но нет смысла стрелять из пушек по воробьям —
наша задача не требует крупных калибров. Она следует примерно той
методологической «включающей» мечте М.В.Арапова и Ю.А.Шрейдера, которую они,
пожаловавшись на слабую изученность «естественно возникших сложных систем»,
относительно которых «существует очень мало сколько-нибудь точно
установленных эмпирических фактов», описывают следующим образом: «Если бы,
сформулировав вывод закона Ципфа, удалось установить связь этих фактов и определить
место самого закона среди них, каждый из этих фактов, войдя в «парадигму»,
обрел бы гораздо большую ценность. Более того, до тех пор, пока такая
«парадигма» не найдена, каждый отдельный факт сам по себе вызывает сомнения»
[179, с. 75].
Здесь мы с ними целиком согласны. Дело именно в парадигматической
«неприкаянности» и фактов и самого закона Ципфа. В эту группу «неприкаянных»
мы включили бы и «аналогию» компаративистов, да и весь массив публикаций
сравнительно-исторического языкознания, использующего методологию Боппа и
Шлейхера. Смысл этой парадигматической «неприкаянности» мы усматриваем в
том, что факты и соответствующие законы существуют в невыясненных
отношениях с действующей парадигмой лингвистики. Им не удалось оформиться в
аномалии, внести изменения в действующую парадигму. Они оказались чем-то вроде
пятого колеса лингвистической колесницы, которое тоже вертится, но трудно
сказать, зачем, в какой функции. А долговременное сосуществование с
действующей парадигмой только закрепило, сделало привычным этот статус
неопределенности.
Соссюр, например, четко различая синхронию и диахронию, прямо говорит о
дуализме, двойственности «всех наук, оперирующих понятием значимости» [66,
112—113], отдает предпочтение традиционной синхронии, чистому «здесь и
сейчас» языка: «Первое, что поражает, когда приступаешь к изучению языка, — это
то, что для говорящего не существует последовательности этих фактов во
времени: ему непосредственно дано только их состояние. Поэтому и лингвист,
желающий понять это состояние, должен закрыть глаза на то, как оно получилось, и
пренебречь диахронией. Только отбросив прошлое, он может проникнуть в
сознание говорящих. Вторжение истории может только сбить его с толку» [66,
с. 114-115].
С этой угрозы «сбиться с толку» и начинается у Соссюра, а затем и у его
европейских и американских последователей «великое восстановление» парадигмы
История европейской культурной традиции и ее проблемы 323
Аристотеля и александрийцев, потерпевшей известный ущерб по ходу
«исторического» грехопадения лингвистов и антропологов начала и середины XIX в.
Состав грехопадения объясняется именно безрассудным увлечением историей:
«Можно сказать, что современная лингвистика, едва возникнув, с головой ушла
в диахронию. Сравнительная грамматика индоевропейских языков использует
добытые ею данные для гипотетической реконструкции предшествующего
языкового типа; для нее сравнение не более как средство воссоздания прошлого. Тот же
метод применяется и при изучении языковых подгрупп (романских языков,
германских языков и т.д.), состояния языка привлекаются лишь отрывочно и весьма
несовершенным образом. Таково направление, начало которому положил Бопп;
поэтому его научное понимание языка неоднородно и шатко» [66, с. 115].
До грехопадения дела, понятно, обстояли не в пример лучше: «С другой
стороны, как поступали те, кто изучал язык до возникновения лингвистической
науки, то есть «грамматисты», вдохновлявшиеся традиционными методами?
Любопытно отметить, что их точка зрения по занимающему нас вопросу абсолютно
безупречна. Их работы ясно показывают нам, что они стремились описывать
состояния; их программа была строго синхронической. Например, так называемая
грамматика Пор-Ройяля пытается описать состояние французского языка в эпоху
Людовика XIV и определить составляющие его значимости. Для этого у нее не
возникает необходимости обращаться к средневековому французскому языку; она
строго следует горизонтальной оси (синхронии. — М.П.) и никогда от нее не
отклоняется. Такой метод верен; это не значит, впрочем, что он применялся
безукоризненно. Традиционная грамматика игнорирует целые отделы лингвистики,
как, например, отдел о словообразовании; она нормативна и считает нужным
предписывать правила, а не констатировать факты; она упускает из виду целое;
часто она не умеет даже отличить написанное слово от произносимого и т.п.» [66,
с. 115].
Но все это мелочи по сравнению с грехами компаративистики. Классическую
грамматику упрекали в том, что она не научна, между тем ее научная база менее
подвержена критике, а ее предмет лучше определен, чем у той лингвистики,
которую основал Бопп. Эта последняя, покоясь на неопределенном основании, не
знает даже в точности, к какой цели она стремится. Не умея строго разграничить
наличное состояние и последовательность состояний во времени, она совмещает
два подхода одновременно» [66у с. 115].
Отсюда и четкая программа восстановления с учетом опыта заблуждений:
«Лингвистика уделяла слишком большое место истории; теперь ей предстоит
вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики, но уже понятой в
новом духе, обогащенной новыми приемами и обновленной историческим
методом, который, таким образом, косвенно помогает лучше осознавать состояния
языка» [66, с. 115—116].
Нужно сказать, что попытки Соссюра использовать данные исторического
метода в этом плане косвенной помощи «лучше осознавать состояния языка» носят
характер сложной зубоврачебной операции по тщательному удалению и самой
компаративистики и развитой системы корней ее постулатной базы, связывающей
сравнительное историческое языкознание с антропологией, этнографией,
биологией. По ходу этой операции Соссюр высказывает множество дельных,
негативных, главным образом, замечаний о степени надежности любых исторических
реконструкций и опирающихся на них выводов. В целом же операция ведется
тщательно, кульминации и завершения достигая как раз на Шлейхере:
«Давно признано, что Шлейхер насиловал действительность, рассматривая
язык как нечто органическое, в самом себе заключающее свои законы развития;
а между тем продолжают, даже не подозревая этого, видеть в языке нечто
органическое в другом смысле, полагая, что «гений» расы или этнической группы
непрерывно направляет язык на какие-то определенные пути.
21*
324
М.К. Петров
Из сделанных нами экскурсов в пограничные области нашей науки вытекает
следующий принцип чисто отрицательного свойства, но тем более интересный,
что он совпадает с основной идеей этого курса: единственным и истинным
объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» [66,
с. 269].
Ясно, что такой деструктивный ход критики возможностей
сравнительно-исторического языкознания и соответствующий ему принцип «чисто
отрицательного свойства» вовсе не способствовал прояснению существа гетерономии
дисциплинарной вечности лингвистики. Если у Шлейхера, скажем, этот водораздел
четко отмечался переходом в наблюдаемую историю письменных языков, то у Со-
ссюра граница размыта, и в большинстве случаев нет смысла ее восстанавливать:
«При поверхностном взгляде может показаться, что синхроническая истина
отрицает истину диахроническую и что между ними надо выбирать; в
действительности этого не требуется: ни одна из этих истин не исключает другую...
Синхроническая истина до такой степени согласуется с истиной диахронической, что их
смешивают или считают излишним их различать» [66, с. 128—129].
Судя по его примерам на различение синхронии и диахронии, по его
стремлению переложить всю ответственность за изменения на речь, Соссюр в общем-
то вполне сознает нестандартность гетерономной дисциплинарной вечности
лингвистов и пытается избавиться от гетерономии. Даже в его попытке разделить
лингвистику надвое по проблемным областям явно просматривается инвариант —
система:
«Синхроническая лингвистика должна заниматься логическими и
психологическими отношениями, связывающими сосуществующие элементы и
образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же
коллективным сознанием.
Диахроническая лингвистика, напротив, должна изучать отношения,
связывающие элементы, следующие друг за другом во времени и не воспринимаемые
одним и тем же коллективным сознанием, то есть элементы, последовательно
сменяющие друг друга и не образующие в своей совокупности системы» [66,
с. 132].
Здесь совершенно ясно, что возможность диахронической лингвистики лежит
в «здесь и сейчас» наблюдения в синхронии, поскольку к синхронии, к текущему
моменту принадлежит «одно и то же коллективное сознание», а без этого
опосредования синхронией, где элементы и их отношения входят в систему и
воспринимаются как система коллективным сознанием, нельзя опознать ни элементы,
ни их отношения, ни сам тот факт, что они не образуют в своей совокупности
систему. Иными словами, тот водораздел, который у Шлейхера был отмечен
появлением письменности, у Соссюра максимально сближен с текущим моментом
наблюдения, так что гетерономия вроде бы и упраздняется, но таким способом,
что практически вся дисциплинарная вечность оказывается в «доисторическом»
периоде.
В рассуждении о панхронической точке зрения Соссюр прямо ставит эту
проблему: «До сих пор мы понимали термин «закон» в юридическом смысле. Но
быть может, в языке существуют законы в том смысле, как их понимают науки
физические и естественные, то есть отношения, обнаруживающие свою
истинность всюду и всегда? Иначе говоря, нельзя ли изучать язык с точки зрения
панхронической?» [66, с. 127—128].
Ответ дается противоречивый и мы бы сказали «слоистый», подчеркивающий
постоянное опосредование панхронии-вечности синхронией: «Разумеется, можно.
Поскольку, например, всегда происходили и будут происходить фонетические
изменения, постольку можно рассматривать это явление вообще, как одно из
постоянных свойств языка — это, таким образом, один из его законов. В
лингвистике, как в шахматной игре, есть правила, переживающие все события. Но это
лишь общие принципы, независимые от конкретных фактов; в отношении же
История европейской культурной традиции и ее проблемы 325
частных и осязаемых фактов никакой панхронической точки зрения быть не
может. Так, всякое фонетическое изменение, каково бы ни было его
распространение, всегда ограничено определенным временем и определенной территорией;
оно отнюдь не простирается на все времена и на все местности, оно существует
лишь диахронически. В этом мы и можем найти критерий для отличения того,
что относится к языку, от того, что к нему не относится. Конкретный факт,
допускающий панхроническое объяснение, не может принадлежать языку» [66,
с. 128].
Та же линия на дискретную «слоистость», в которой Д.Найт без труда опознал
бы версию катастрофизма куновского толка, прослеживается и в попытках Со-
ссюра определить концепт «состояние», как предмет синхронической
лингвистики: «Задачей общей синхронической лингвистики является установление
принципов, лежащих в основе любой системы, взятой в данный момент времени, и
выявление конститутивных факторов любого состояния языка... К синхронии
относится все, что называют «общей грамматикой», ибо те различные отношения,
которые входят в компетенцию грамматики, устанавливаются только в рамках
отдельных состояний языка... Состояние языка не есть математическая точка. Это
более или менее продолжительный промежуток времени, в течение которого
сумма происходящих изменений остается ничтожно малой. Он может равняться
десяти годам, жизни одного поколения, одному столетию и даже больше.
Случается, что в течение сравнительно долгого промежутка времени язык почти не
изменяется, а затем в какие-нибудь несколько лет претерпевает значительные
изменения. Из двух существующих на одном периоде языков один может сильно
эволюционировать, а другой почти вовсе не измениться; во втором случае
изучение будет неизбежно синхроническим, в первом случае потребуется
диахронический подход» [66, с. 133—134].
Нетрудно заметить близость такого представления дисциплинарной вечности
и к катастрофизму Кювье и к различию нормальной науки и революции у Куна.
С другой стороны, и это важнее для наших целей, такое представление неплохо
вписывается в ту картину предметной экспансии науки, заселения мира открытий
дисциплинами-«полисами», о которой мы говорили в первой части.
Поскольку состояния-нормы, включаемые Соссюром в предмет
синхронической лингвистики сами, как конкретные языки, как члены множества наличных
языковых состояний входят порознь в свои особые последовательности состояний
и именно такие отношения последовательности позволяют от наблюдаемого
состояния языка идти в прошлое, обнаруживать в нем и опознавать составляющие
предмета диахронической лингвистики, модель дисциплинарной вечности Соссю-
ра в общем-то не так уж и отличается от соответствующей модели
компаративистов, хотя Соссюр и всячески от нее отмежевывается.
Вместе с тем, по ходу такого размежевания Соссюр формулирует две важные
для нашей попытки мысли.
Одна из них связана с произвольностью знака: «Во всякую эпоху, как бы
далеко в прошлое мы ни углублялись, язык всегда выступает как наследие
предшествующей эпохи. Нетрудно представить себе возможность в прошлом акта, в силу
которого в определенный момент названия были присвоены вещам, то есть в
силу которого было заключено соглашение о распределении определенных
понятий по определенным акустическим образам, хотя реально такой акт никогда и
нигде не был засвидетельствован. Мысль, что так могло произойти,
подсказывается нам лишь нашим очень острым чувством произвольности знака» [66, с. 104].
Вторая мысль связана с замыканием этой произвольности знака на
биологический уровень наследования: «Фактически всякое общество знает и всегда знает
язык только как продукт, который унаследован от предшествующих поколений и
который должен быть принят таким, как он есть. Вот почему вопрос о
происхождении языка не так важен, как это обычно думают. Такой вопрос не к чему даже
ставить; единственный реальный объект лингвистики — это нормальная и регу-
326
М.К. Петров
лярная жизнь уже сложившегося языка. Любое данное состояние языка всегда есть
продукт исторических факторов, которые и объясняют, почему знак неизменчив,
то есть почему он не поддается никакой произвольной замене» [66, с. 105].
Здесь перед нами именно та диалектика перехода произвольности знака в
предустановленность знакового порядка, которая, на наш взгляд, дает
возможность ввести гомогенность в дисциплинарную вечность лингвистики, представив
структуру ее целостности как продукт действия постоянно присутствующего в
истории человечества механизма перевода силами младенцев результатов речевой
деятельности предшественников, основанной на произвольности знака, в жестко
установленный, даже «предустановленный» порядок.
Если первое замечание Соссюра показывает психологическую оправданность
библейской легенды о возникновении языка, поскольку на всю глубину движения
в прошлое от «здесь и сейчас» лингвистической вечности всегда и повсюду будет
наблюдаться предустановленность проходимых в этом движении порядков, и
подчеркивает момент этой предустановленной данности — любой из нас принимает
язык таким, каким он был в его «от 2 до 5», то второе замечание Соссюра мы
вполне можем истолковать в том смысле, что наши личные акты принятия в
возрасте «от 2 до 5» языка сообщества, в котором мы оказались по независимым от
нас причинам, как и все другие личные акты принятия любыми другими
младенцами языков своих сообществ не есть нечто безразличное истории языков и
структуре лингвистической вечности, а суть события величайшей для истории
языкового сообщества важности — те прочерченные по колыбелям младенцев границы
исторических вечностей языков, на которых результаты речевой активности старших
возрастных групп сообщества (от родителей и выше), предполагающие
произвольность и немотивированность знака, переводятся в жесткую несвободу знакового
порядка и санкционируются высшим авторитетом — младенцем.
Именно в силу такой структуры дисциплинарной вечности лингвистов мы,
повторяя обращение Гегеля от «Феноменологии духа» к «Науке логике», получаем
разительно иной результат. Гегель в движении по предустановленности порядков,
по вымощенной младенцами, «конечными духами», их актами личных принятий
языков своих сообществ столбовой дороге в прошлое беспрепятственно выезжает
в «до вещей» библейского акта творения: «Логику, стало быть, следует понимать
как систему чистого разума, как царство чистой мысли. Это царство есть истина,
какова она без покровов, в себе и для себя самой. Можно поэтому выразиться
так: это содержание есть изображение бога, каков он в своей вечной сущности
до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа». [11, с. 103].
Мы, в отличие от Гегеля, в любой такой попытке попятного движения
наталкиваемся на начало «конечного духа», сотворенного не богом, а родителями по
правилам биологического творчества и, коль скоро мы заняты выявлением
человеческой метрики истории культуры и человеческого познания, мы склонны
полагать и будем впредь полагать, что если достигнутое нами есть «истина, какова
она без покровов в себе и для себя самой», то истина эта определенно
локализована на периоде возрастного движения «от 2 до 5», миновать который не дано
природой ни одному из «конечных духов» естественного происхождения.
В сущности эта прочерченная по колыбелям граница перехода, перелома,
переворачивания страниц истории от произвольности знака к его
неизменчивости, жесткой упорядоченности той же природы, что и граница, которую
компаративисты связывали с появлением письменности, отделяя «доисторическое»
свободное развитие языков от «исторического» наблюдаемого «распада» (12 и 13
постулаты Шлейхера), но в нашем случае последовательность должна быть
перевернута и в этом переворачивании состыкована: колыбели младенцев отмечают
границу перехода не от предыстории в историю, а от истории в предысторию
«конечных духов», которым предстоит еще потрудиться, чтобы в личных актах
принятия языковой данности и санкции этой данности будущими младенцами
добиться публикации-признания в качестве творцов истории, отметиться в истории.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 327
Насколько сам Соссюр сознает методологическую важность собственных
заявлений о переходе произвольности знака в его предустановленность именно
потому, что это организованный в систему произвол и другим способом, кроме
перевода его в общеобязательную данность, удержать этот произвол в целостном
и работоспособном состоянии было бы невозможно?
Соссюр довольно решительно приступает к обсуждению проблемы: «Но
утверждение, что язык есть наследие прошлого, решительно ничего не объясняет,
если ограничиться только этим. Разве нельзя изменить в любую минуту
существующие законы, унаследованные от прошлого?» [66, с. 105]. Вместе с тем его
аргументация явно теряет в убедительности по мере развертывания: «Высказав такое
сомнение, мы вынуждены, подчеркнув социальную природу языка, поставить
вопрос так, как если бы мы его ставили в отношении прочих общественных
установлений. Каким образом передаются эти последние? Таков более общий вопрос,
покрывающий и вопрос о неизменчивости. Прежде всего надо выяснить, какой
степенью свободы пользуются прочие общественные установления; мы увидим,
что в отношении каждого из них баланс между навязанной обществу традицией
и свободной от традиции деятельностью общества складывается по-разному.
Затем надо выяснить, почему для данного общественного установления факторы
первого рода более или, наоборот, менее действенны, чем факторы второго рода.
И наконец, обратившись вновь к языку, мы должны спросить себя, почему
исторический фактор преемственности господствует в нем полностью и исключает
возможность какого-либо общего и внезапного изменения» [66, с. 105].
Начало, как видим, энергичное, предельно близкое к концепции
материалистического понимания истории Маркса [41, с. 37—38], хотя и с определенным
социологическим налетом. Но дальше это дробление аргументов делает их все более
легковесными: «В ответ на этот вопрос можно было бы выдвинуть множество
аргументов и указать, например, на то, что изменения языка не связаны со сменой
поколений, которые вовсе не накладываются одно на другое наподобие ящиков
комода, но перемешаны между собой и проникают одно в другое, причем каждое
из них включает лиц различных возрастов. Можно было бы указать и на то, как
много усилий требуется при обучении родному языку, чтобы прийти к выводу о
невозможности общего изменения его. Можно было бы добавить, что рефлексия
не участвует в пользовании тем или другим языком: сами говорящие в
значительной мере не осознают законов языка, а раз они их не осознают, то каким же
образом они могут их изменить? Допустим, однако, что говорящие относились
бы сознательно к языковым фактам; тогда следовало бы напомнить, что эти
факты не вызывают критики со стороны говорящих в том смысле, что каждый
народ в общем доволен доставшимся ему языком» [66, с. 105].
Соссюр и сам понимает топосную слабость такой аргументации и пытается
свести ее в нечто более доказательное: «Все эти соображения не лишены
основания, но суть не в них: мы предпочитаем нижеследующие, более существенные,
более прямые соображения, от которых зависят все прочие.
1. Произвольность знака. Выше мы приняли допущение о теоретической
возможности изменения языка. Углубляясь в вопрос, мы видим, что в
действительности сама произвольность знака защищает язык от всякой попытки изменить
его. Говорящие, будь они даже сознательнее, чем есть на самом деле, не могли
бы обсуждать вопросы языка. Ведь для того, чтобы подвергать обсуждению
какую-либо вещь, надо, чтобы она отвечала какой-то разумной норме...
2. Множественность знаков, необходимых в любом языке. Значение этого
обстоятельства немаловажно. Система письма, состоящая из 20—40 букв, может
быть, если на то пошло, заменена другою. То же самое можно было бы сделать
и с языком, если бы число элементов, его составляющих было ограниченным. Но
число знаков языка бесконечно.
3. Слишком сложный характер системы. Язык является системой. Хотя... с
этой именно стороны он не целиком произволен и, таким образом, в нем roc-
328
M. К. Петров
подствует относительная разумность, но вместе с тем именно здесь и
обнаруживается неспособность говорящих преобразовать его. Дело в том, что эта система
представляет собой сложный механизм и постичь ее можно лишь путем
специальных размышлений. Даже те, кто изо дня в день ею пользуются, о самой
системе ничего не знают. Можно было бы представить себе возможность
преобразования языка лишь путем вмешательства специалистов, грамматистов, логиков
и т.д. Но опыт показывает, что до сих пор такие попытки успеха не имели.
4. Сопротивление коллективной косности любым языковым инновациям. Все
вышеуказанные соображения уступают по убедительности следующему: в каждый
данный момент язык есть дело всех и каждого; будучи распространен в
некотором коллективе и служа ему, язык есть нечто такое, чем каждый человек
пользуется ежечасно, ежеминутно. В этом отношении его никак нельзя сравнивать с
другими общественными установлениями. Предписания закона, обряды религии,
морские сигналы и пр. затрагивают единовременно лишь ограниченное
количество лиц и на ограниченный срок; напротив, языком каждый пользуется
ежеминутно, почему язык и испытывает постоянное влияние всех. Это
фундаментальный фактор, и его одного достаточно, чтобы показать невозможность революции
в языке. Из всех общественных установлений язык предоставляет меньше всего
возможностей для проявления инициативы. Он составляет неотъемлемую часть
жизни общества, которое, будучи по природе инертным, выступает прежде всего,
как консервативный фактор» [66, с. 106—107].
Но и эти «более существенные, более прямые соображения» не кажутся Со-
ссюру достаточно убедительными, и он добавляет существенное для нас
уточнение: «Однако еще недостаточно сказать, что язык есть продукт социальных сил,
чтобы стало очевидно, что он несвободен; помня, что язык всегда унаследован от
предшествующей эпохи, мы должны добавить, что те социальные силы,
продуктом которых он является, действуют в зависимости от времени. Язык устойчив
не только потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие
того, что он существует во времени. Эти два факта неотделимы. Связь с прошлым
ежеминутно препятствует свободе выбора. Мы говорим человек и собака, потому
что и до нас говорили человек и собака. Это не препятствует тому, что во всем
явлении всегда налицо связь между двумя противоречивыми факторами —
произвольным соглашением, в силу которого выбор означающего свободен, и
временем, благодаря которому этот выбор оказывается жестко определенным. Именно
потому, что знак произволен, он не знает другого закона, кроме закона традиции,
и, наоборот, он может быть произвольным только потому, что опирается на
традицию» [66, с. 107].
На наш взгляд, основные сложности, которые нагромождаются Соссюром для
объяснения в общем-то простых вещей, связаны именно с отсутствием четкого
понимания ограничений, связанных с человеческой метрикой языка, что придает
рассуждениям Соссюра чаще забавный, чем доказательный характер.
Справедливо, скажем, замечание Соссюра о смене поколений, «которые вовсе не
накладываются одно на другое наподобие ящиков комода, но перемешаны между собой
и проникают одно в другое, причем каждое из них включает лиц различных
возрастов» [66, с. 105]. Но в такой смеси поколений и возрастных групп теряется,
по нашему мнению, основное, что могло бы подтвердить его диалектику перехода
произвольности знака в его предустановленность, а именно тот элементарный
факт, что как бы ни трактовать проблему смены поколений в интересующем
Соссюра плане наиболее важным и во многом достаточным является одно: каждый
член языкового сообщества был младенцем и, начав естественное возрастное
движение, прошел этап «от 2 до 5», на котором он усвоил и интериоризировал как
данность ту самую систему, сложность которой Соссюр подчеркивает. Тот факт,
что это неукоснительно происходит с каждым дееспособным членом языкового
сообщества сам по себе достаточен для объяснения перехода знакового произвола
традиции в несвободу предустановленности.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 329
Излишняя толчея вокруг апофатического по своей природе абсолюта-начала,
попытки рационально доказывать то, что в доказательствах не нуждается, не
требует «указания причин» всегда и бесполезны и в определенном смысле опасны.
Поэтому, учитывая и некоторые соображения Соссюра, мы попытаемся
сформулировать ряд постулатов того, что мы назовем частной теорией лингвистической
относительности:
1. Каждый язык, входящий в наблюдаемое разнообразие живых (естественных
и искусственных) языков принадлежит конкретному языковому сообществу и
образует с ним когнитивно-социальную единицу системного типа, которой в
принципе можно указать конечные цели существования и механизмы,
обеспечивающие преемственное существование и изменение такой единицы во времени в
смене поколений.
2. Входя в число условий осуществимости когнитивно-социальных единиц,
язык выполняет по отношению к связанному в единице сообществу (племя,
общество, дисциплина, специальность, профессия...) функции постредакции:
специализирующего кодирования, познания и изменения программ
специализирующего кодирования по результатам познания.
3. Обеспечивая единство коммуникации всех видов в рамках сообщества по
универсальной модели акта общения между А и В, язык производно от членов
сообщества когнитивно-социальной единицы приобретает черты «самости»,
«естественной жизни»: остается единым в преемственных изменениях, пока
сообщество остается единой системой; почкуется, если почкуется сообщество; исчезает,
если исчезает повод для объединения сообщества в системную
когнитивно-социальную единицу, а с ним и конечные цели существования единицы-системы.
4. Все члены сообщества когнитивно-социальной системы были рождены и
прошли в возрастном движении этап «от 2 до 5», на котором они усвоили и ин-
териоризировали универсальную часть (грамматику) естественного языка,
который используется данной когнитивно-социальной группой монопольно, либо же
совместно с группой подобных единиц в системе более высокого
когнитивно-социального уровня, в которую данная группа входит на правах
специализированной подсистемы, использующей кроме естественного языка общей системы свой
особый искусственный язык. В последнем случае в возрастном движении
активных членов сообщества такой единицы-подсистемы всегда можно выделить
дополнительный период специализирующей подготовки — освоения искусственного
языка, который располагается после периода «от 2 до 5» и перед входом в
единицу на правах полноправного члена ее сообщества.
Этот 4 постулат частной теории лингвистической относительности выглядит,
понятно, отнюдь не столь апофатическим и защищенным от критики, каким
надлежало бы быть добротному постулату — «абсолюту», «началу ряда». Включая
апофатические утверждения — «каждый член сообщества родился», «каждый на
периоде «от 2 до 5» приобщен к естественному языку единицы», 4 постулат
вместе с тем явно входит в постредакцию, в дискурс, фиксируя некоторое отношение
между периодами освоения естественного и искусственного языка, если
последний имеется, что в свою очередь предполагает расподобление функций между
естественными и искусственными языками.
Для нашей Ту культуры 4 постулат выглядит и довольно чистым и весьма
заманчивым, особенно когда под когнитивно-социальными единицами понимаются
научные дисциплины. Здесь мы наблюдаем жесткую последовательность периодов
возрастного движения, берущую начало от этапа «от 2 до 5» до вхождения в
дисциплину и даже до вхождения в исследовательскую группу, стремящуюся стать
дисциплиной. Эта упорядоченность возрастных движений к Ту, которым
обеспечивается общесоциальная коммуникация, а затем во все виды специализации,
заманчива в том отношении, что входы в специализированные
когнитивно-социальные единицы — подсистемы в целостной социальной системе могут и даже
должны, по нашему мнению, выполнять тот же набор функций приобщения ин-
330
M. К. Петров
дивидов к искусственному языку, что и период «от 2 до 5» для входа в
естественный язык, то есть возникает как будто бы возможность более четко очертить
границы апофатической недоступности гносиса в его действиях на периоде «от 2
до 5» и в какой-то степени приблизиться к пониманию того, как именно
основанная на произвольности знака история усилиями младенцев, школьников,
студентов и аспирантов переворачивается в основанную на предустановленности
знака парадигматическую предысторию.
Но так просто и ясно только в нашей Ту культуре, где всем взрослым
положено иметь аттестат зрелости. Уже для Ти культуры конца Средневековья и
начала Нового времени выполнимость 4 постулата оказалась бы сомнительной,
поскольку латынь — язык, находившийся в монопольном владении и
использовании членов интеллектуального сообщества тестам на естественность со стороны
младенцев практически не подвергался: невозможно привести ни одного
достоверного случая усвоения латыни на этапе «от 2 до 5», как, впрочем, невозможно
с точностью и установить момент перехода латыни из языка естественного в язык
искусственный. Так или иначе, но отсутствие постоянной младенческой
деятельности по удержанию латыни в статусе естественного языка не мешало
интеллектуалам пользоваться латынью, как своим родным языком во всем диапазоне его
функций — в ряде университетов, в Кембридже и Оксфорде, например, общение
на других языках попросту запрещалось.
Ясно, что и в те времена ни одному интеллектуалу не удавалось увильнуть от
возрастного движения, обойти стороной этап «от 2 до 5», уклониться от
младенческой обязанности санкционировать перевод произвольности знака в
парадигматическую предустановленность порядка в своем родном естественном языке, еще
раз подтвердить и положение этого языка в семействе и группе языков и его
естественность. Но отношения между родным естественным языком и латынью
здесь могли складываться самым различным образом: латыни учили и в
миссионерских школах.
Словом, 4 постулат частной теории лингвистической относительности может
рассматриваться, как принадлежащий к дисциплинарной вечности лингвистики
только в функции теста на естественность того конкретного языка, который
осваивается индивидом в возрасте «от двух до пяти» и делает его вхожим в
стандартные ситуации общения между А и В, а язык, в который он теперь вхож,
проверенным на естественность, на отсутствие в его правилах нечеловекоразмерных
включений.
5. Если периоды возрастного движения — входы в естественные или
искусственные языки когнитивно-социальных единиц обладают значительной степенью
подобия, то и в единицах, использующих естественные языки, и в единицах,
использующих искусственные языки, кроме стандартных моделей актов речи между
А и В, в которых, как мы убедились, неизбежно происходит наращивание
значимых различений (словарей связных текстов), должны обнаруживаться и
механизмы «редукции к естественности», действие которых в естественных языках
направлено за отсутствием жестких ориентиров к сокращению многообразия
различений, подлежащих усвоению и интериоризации на этапе «от 2 до 5» ради
сохранения проходимости этого периода приобщения к языку для младенцев, а в
искусственных языках, где объемы жестко определены сроками обучения и
балансом времени «младенцев» — студентов и аспирантов, — к удержанию текстов
входа (учебников, лекционных курсов) в проходимом для студентов и аспирантов
состоянии.
Справедливость этого 5 постулата для дисциплинарной коммуникации вряд ли
может вызывать сомнения. В первой части мы достаточно подробно писали и о
дисциплинарных айсбергах, выстраиваемых деятельностью авторов публикаций по
вовлечению предшественников в авторитетные группы для объяснения новых
результатов коллегам, и о модели эшелонирования Э.М.Мирского [44], и о
«вертикальной миграции» средств познания, которые придают процессу эшелонирован-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 331
ной или многоуровневой редукции, довольно четко отмеченному специфическими
формами конечного продукта (статья, обзор, монография, курс лекций, учебник)
вид экстракции методологического потенциала из публикуемых результатов для
ввода в учебник или лекционные курсы на предмет пополнения
методологического арсенала тех, кто поспешает на передний дисциплинарного познания.
Постоянное насыщение учебников и лекционных курсов средствами познания
из публикуемых материалов, что сопровождается огромным отсевом значимого
различенного материала прежде всего из эшелона статей, «первичной
литературы»,^ движение новобранцев науки по вечно обновляемым, но сохраняющим
постоянство объема учебникам и лекционным курсам к сетям коммуникации на
переднем крае дисциплинарного познания — самоочевидные случаи и «редукции
к естественности» (к проходимости для новобранцев) и переворачивания истории
дисциплинарной коммуникации, вход в которую отмечен актом публикации, в
парадигматику предыстории соединенными усилиями новобранцев, которые все-
таки сами идут в науку, чтобы писать ее историю, и преподавателей, которые
только помогают этому движению. Никто, собственно, не запрещает новобранцам
в любой момент прервать движение в науку и попытать свои силы в чем-нибудь
другом. Но коль скоро они идут, движутся к переднему краю научного познания
мира, каждый шаг такого поступательного движения суть выданный
новобранцами сертификат на естественность происходящего, на соответствие предлагаемых
им путей ментальным и физическим возможностям человека, суть впечатывание
человеческой метрики в научную коммуникацию.
При всем желании мы не в состоянии усмотреть принципиальных различий
между набором функций, связанных с движением новобранцев по учебникам и
лекционным курсам на этапе «от 17 до 21», и набором функций, связанных с
движением подрастающих младенцев на этапе «от 2 до 5». И там и здесь
движение совершается в основном самостоятельно. И хотя движение в искусственный
язык можно представить в виде анфилады комнат — ситуаций общения между
последовательностью лекторов Ai, А2, A3,... и новобранцем В, что вряд ли
получится применительно к младенцам, идущим в естественный язык — никто им
анфилад не устраивает и учебников вроде бы не пишет, — результаты достигаются
одни и те же: новобранец включается в дисциплинарное сообщество, младенец —
в языковое. Пройдя путь в дисциплинарное общение, новобранец доказывает
сообществу, что оно в своих самовольных отлучках не перешло пока границ прут-
ковского пастуха, что путь в дисциплину проходим на периоде жизни одного
поколения, открыт и для тех, кто идет за ним. Точно те же вести приносит
языковому сообществу и ребенок, включаясь в коммуникацию как на правах В, так и
на правах А.
Заметное, но вряд ли принципиальное различие состоит в том, что
новобранец заявляет о своем вступлении в члены дисциплинарного сообщества, о том,
что он приступил к исполнению обязанностей субъекта дисциплинарной истории
в качестве «конечного духа» актом первой публикации, тогда как в личной
истории младенца мы не обнаруживаем такого протокольного события по поводу
вступления в должность субъекта истории естественного языка. В случае с
младенцами граница размыта, но, судя по вполне серьезным претензиям, которые
предъявляются воспитателями детских садов к родителям 3—4-летних детей по
самым различным поводам, включая и употребление запретных слов и
выражений, а главное столь же серьезно принимаются родителями и учитываются в их
воспитательной политике, дети уже в этом возрасте активно входят в творение
истории языка.
Мы не будем развивать подробно идею сходства наборов функций,
выполняемых движением новобранцев в искусственные, а младенцев в естественные
языки. Нам кажется, что здесь вполне уместно говорить о функциональном
тождестве: вход новобранца в дисциплинарную коммуникацию и младенца в
естественный язык это не только и не столько пополнение соответствующих сообществ
332
M.К. Петров
еще одним членом, но прежде всего санкция человеческого рода на их
принадлежность к тому, что мы в начале второй части обозначили как естественную,
идущую от человеческого биокода, от гносиса эманацию человеческой метрики
на всю совокупность человеческих предприятий по освоению нечеловекоразмер-
ных спецификаторов окружения.
Более существен для 5 постулата частной теории лингвистической
относительности другой вопрос: следует ли из тождества наборов функций, выполняемых
движениями новобранцев и младенцев в свои особые языки, и тождество
процессов, обеспечивающих самое возможность таких движений?
Вообще-то говоря, это вопрос о гомогенности потока естественной эманации
с точки зрения моделей самодеятельности представленного в нем гносиса,
который предположительно действует по инструментальной модели Ципфа и именно
в этом качестве блюстителя порядка, равенства затрат времени и усилий на
достижение любой из составляющих арсенала своих средств приводит сам арсенал
в «естественный» рангово-иерархический порядок производно от частоты
употребления способен через эту свою естественную и неразумную деятельность
сообщать всем когнитивно-социальным единицам черты «естественности»,
«самости», «жизни» в шлейхеровском «более узком и буквальном смысле» [21, с. 89].
Но в рамках нашей текущей задачи эту гомогенность потока естественной
эманации можно отодвинуть на второй «фоновый» план, поставить вопрос более
конкретно: являются ли аналогия компаративистов, эшелонирование
Э.М.Мирского, наша вертикальная миграция-интеграция средств познания по уровням-
тактам сжатия вариантами одного и того же, демонстрациями деятельности
гносиса по инструментальной модели Ципфа?
Мы, понятно, склонны считать, что так оно и есть. И эта наша склонность
коренится не только в том обстоятельстве, что нам некого, кроме гносиса,
пригласить на должность постоянно действующего агента изменений по модели
«редукции к естественности-проходимости», хотя конечно же достаточной силой
обладает и этот аргумент — приглашать, скажем, на эту должность какой-нибудь само-
стный знак в роли бога-покровителя новобранцев и младенцев было бы для нас
методологической катастрофой, — но и в том также, что существенной чертой в
описаниях феноменов аналогии, эшелонирования, вертикальной интеграции
являются два сопутствующих момента: а) производность наблюдаемых изменений от
частоты употреблений; б) направленное к входу-началу смещение входящих в
ранговое распределение значимых элементов под давлением растущей частотной
характеристики употреблений (к учебнику в искусственных языках, к грамматике, к
предполагаемому составу этапа «от 2 до 5» — в естественных языках).
Что касается научных дисциплин, то здесь действие механизма редукции к
естественности-проходимости хорошо изучено, начиная со входа в историю
дисциплинарной коммуникации — с величин отсева рукописей в редакциях научных
журналов (см. табл. 7). Здесь последовательность движения к учебнику или
лекционному курсу: статья — обзор — монография — лекционный курс — учебник,
выдерживается достаточно строго и обнаруживает очевидную связь с
цитированием, с ростом частотной характеристики опубликованных результатов.
Попятных движений не обнаруживается, хотя, естественно, и в этом подкрепленном
исследованиями случае трудно было бы гарантировать полное отсутствие проскоков
через очередной эшелон или уровень.
Возможность таких проскоков и перескоков понятна и психологически
оправдана, если учесть, что по научно-академическим нормам исследователи в роли
преподавателей сами составляют лекционные курсы и по своему усмотрению
оценивают методологический потенциал составляющих наличного массива
публикаций, к какому бы эшелону или уровню они ни принадлежали, так что журнальная
статья, если она близка к общей концепции лектора или опубликована самим
лектором, вполне может оказаться достойной упоминания в лекционном курсе и
в списке рекомендованной или даже обязательной литературы без достаточного
История европейской культурной традиции и ее проблемы 333
обеспечения частотной характеристикой. Но возможность таких проскоков через
эшелоны и уровни, во-первых, моновекторна — если уж что-нибудь
проскакивает, то к учебнику, а не от него, а во-вторых, не делает погоды: частные искажения
рангового распределения оказываются либо недолговечными, либо, что много
реже, надежными свидетельствами появления новой исследовательской группы,
формирующей свой особый искусственный язык в поэтапном движении в
дисциплину или социальность, в автономную когнитивно-социальную единицу.
Иначе обстоит дело с естественными языками. Хотя и нельзя сказать, будто
аналогия изучена хуже эшелонирования, изучалась она и изучается совсем не под
тем углом зрения, который нас интересует. Поэтому далеко не все из того, о чем
мы можем сегодня с уверенностью говорить применительно к дисциплинарной
коммуникации, способно сохранять ту же степень достоверности и тогда, когда
речь заходит об естественных языках.
В этом смысле 5 постулат в той части, где речь идет о механизмах редукции
к естественности, для естественных языков должен, видимо, пониматься скорее,
как довольно слабо исследованная проблемная область, чем как нечто твердо
установленное.
Тот факт, что младенцы все-таки овладевают языком, обретают способность
участвовать в стандартных ситуациях общения и в роли Айв роли В, причем
делают это на довольно четко зафиксированном периоде возрастного движения
«от 2 до 5», несет конечно огромную информацию, но вместе с нею и
возможность серьезных просчетов, связанных прежде всего с практическим тождеством
набора функций, выполняемых движением новобранцев науки в искусственные
языки и младенцев — в естественные. Не подвергая особым сомнениям
тождественность этих наборов, толкающих нас на то, чтобы рассматривать период «от 2
до 5» как первый в последовательности текстов учебник на пути в языковое
сообщество, в социальность в целом и как вершину иерархии вертикальной
миграции средств познания окружения, мы должны быть предельно осторожны с этой
концепцией «первого учебника».
Достаточно поставить новобранца науки в положение младенца, чтобы понять
сомнительность этой концепции. Допустим, что абитуриента по недосмотру
ректората зачислили в университет студентом вообще, и он хотя бы месяц-другой на
периоде вводных лекций и самых общих сведений о предмете, начале,
отцах-основателях, крупнейших дисциплинарных открытиях вынужден был бы метаться
по коридору, бежать по звонку в первую попавшуюся аудиторию, с упорством
первокурсника высиживая от звонка до звонка все, что придется: то физику, то
журналистику, то математику, то право.
Такой неприкаянный новобранец науки вообще был бы, по нашему мнению
в ситуации, максимально приближенной к ситуации младенца. Перед ним, как и
перед младенцем, проходил бы неупорядоченный ряд стандартных ситуаций
общения, в которых он, как постоянный, но случайный член аудитории В, к тому
же обладатель аттестата зрелости, до какого-то удаления от Ту мог бы удерживать
в целостности открывающуюся перед ним центробежную картину входа в мир
научных открытий. Но затем явно произошел бы срыв: неприкаянному новобранцу
пришлось бы либо идти в одну из дисциплин, либо, если бы он настаивал на
попытках удержать в единстве апперцепции расползающуюся картину, он
вынужден был бы пожертвовать дисциплинарной спецификой, сместить внимание с
того, «что» говорится на лекциях, на то, «как» говорится, то есть рано или поздно
он пришел бы к постулату Аристотеля с поправками на синхронию: «сколькими
способами ныне сказывается, столькими способами и выявляет себя сегодня мир
открытий». А сделав еще один шаг по пути рефлексии, он должен был бы
осознать, что все это он уже слышал и «проходил», знал и до своего неприкаянного
положения со времен «от 2 до 5».
Фигура неприкаянного новобранца науки полезна для наших целей и за
пределами 5 постулата, поскольку с ее помощью можно, видимо, представить част-
334
М.К. Петров
ную теорию лингвистической относительности в динамической форме задачи на
удержание в рамках единства апперцепции картины разрастающегося
многообразия. Рамки единства апперцепции, целостного восприятия растущего
многообразия всегда будут толкать к поиску интеграторов растущей общности и
универсализма, то есть в конечном счете к грамматике, к постулату Аристотеля, как одной
из формулировок частной теории лингвистической относительности. К тому же
фигура неприкаянного новобранца не такая уж невидаль для науки: и идущие в
науку, и особенно работающие на переднем крае научного познания часто, если
не перманентно, оказываются в этой ситуации неприкаянности и вынужденных
отказов от соблазнительных входов просто потому, что человек, даже если он
очень разносторонен, ходить в разные стороны разом не умеет, всегда вынужден
выбирать что-нибудь одно по мере собственных способностей.
В рамках же 5 постулата фигура неприкаянного новобранца важна для
обозначения контуров проблемы. Если у нас есть поводы скептически относиться к
правомерности истолковать период «от 2 до 5», как «первый учебник» всех
дальнейших последовательностей учебников постредакции, по текстам которых
(формальным или неформальным) предстоит позже идти взрослеющим индивидам, то
неприкаянный новобранец прежде всего обозначает характер трудностей,
препятствующих нам этот бесспорно первый период, обусловливающий возможность
прохождения всех последующих, истолковать как некое структурированное и
упорядоченное единство входа, в котором выдерживаются, к примеру, какие-то
педагогические или дидактические константы: мешает само положение младенца.
Он, как и неприкаянный новобранец, отнюдь не находится в эпицентре речевой
активности старших. Даже если это единственный ребенок, которому родители и
окружающие уделяют повышенное внимание, то и в этом случае протекающие в
его присутствии события, акты речи обычно не имеют к ребенку прямого
отношения. То, что он слышит и видит, идет своим чередом и вряд ли в какой-то
значимой степени предполагает его присутствие.
Относительно неприкаянного новобранца можно, видимо, в принципе
очертить круг доступного для него, в значительной степени обобщенного, но и
различенного материала (вводные лекции и начала курсов), который может быть
удержан в целостности на том уровне обобщения, на котором он преподан, тогда
как выход за пределы этого круга требует уже отказа либо от знакомства со всей
наукой в пользу дисциплины, либо отказа от дисциплины в пользу
интегрирующих оснований растущей общности вплоть до конечного из возможных —
грамматического. Понятно, что если ради сближения ситуаций снять ограничения
чисто физического плана — лекции могут читаться одновременно в разных
зданиях, бюджет времени новобранца ограничен, тогда как ситуации общения между
А и В сами посещают младенца и временем он не ограничен, — то круг
доступного для новобранца целостного представления растущего числа различений
станет пошире, но все же останется кругом конечной емкости, сохранять который
в замкнутости можно только путем теоретического сжатия, взбираясь по ступеням
растущей общности к грамматической вершине.
Будет ли справедливом этот ход рассуждений и для младенцев?
Что касается конечности круга, в пределах которого возможно для ребенка
удержать растущее разнообразие событий и источников событий, то здесь вряд
ли могут возникать какие-либо сомнения. Существование такого круга и произ-
водность его составляющих от частоты пояатения в окружении ребенка — вещи
в общем-то общеизвестные, способные даже вызывать приоритетные споры среди
членов ближайшего окружения. И тот неоспоримый факт, что среди первейших
по времени включения, наиболее почитаемых и узнаваемых составляющих
оказываются не только люди, но и вещи вроде бутылки с молоком, что имеет силу
не только для детей, но и для зверят, показывает, что в складывании такого круга
вовсе не обязательно изначальное присутствие атрибута разумности: достаточно
для начала частоты и четко выявленной небезразличной для ребенка функции.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 335
Но вопрос-то не совсем в этом. Такой круг небезразличных для индивида или
даже особи явлений, предметов, различение составляющих этого круга и
соответствующих на них реакций — феномен явно биологический: дрессировщики
показывают его относительную гибкость для особей, а селекционеры даже и для
биологически-достаточных видов. Вопрос в другом: является ли потребность в
единстве апперцепции, в целостном представлении для сферы знака столь же
насущной, естественной и врожденной, как и соответствующая потребность всего
живого на уровне эмпирии?
Для самих младенцев положительный ответ на этот вопрос означал бы право
на уподобление их действий по освоению реалий постредакции действиям
гипотетического неприкаянного новобранца, то есть мы вправе были бы предполагать,
что в попытках сохранить единство апперцепции в растущем многообразии
осваиваемых знаков, младенцы с той же необходимостью приходят к постулату
Аристотеля и к частной теории лингвистической относительности, с какой к ней
должны были бы приходить или, вернее, с какой из нее не должны были бы
выходить индивиды на более поздних этапах возрастного движения.
Но положительный ответ на вопрос о врожденной потребности в единстве
апперцепции, действующей и в области постредакции, имел бы вполне
определенные следствия и для тех этапов возрастного движения, на которых индивиды
определенно уже обладают атрибутом разумности. И первым здесь, видимо, должен
идти вопрос о том, следует ли понимать идущий от гносиса поток естественной
эманации (предположительно область неосознаваемой деятельности по
инструментальной модели Ципфа) в духе платоников, как «слабеющую» эманацию, или
же имеет смысл говорить о том, что те врожденные способности, которые
приобретаются индивидами от родителей, входят в состав гносиса, не имеют четко
выраженного пика на периоде «от 2 до 5» с последующим резким снижением,
что позволяло бы исключить взрослых индивидов из общей картины эманации
естественности, как фактор несущественный.
Хотя проблема эта интересовала и интересует многих, особенно после
пионерских работ Пиаже, обилие исследований и техник формализации исследуемых
способностей и качеств дает настолько противоречивые данные, что сегодня вряд
ли вообще можно пойти дальше утверждений, что какие-то изменения с возрастом
бесспорно происходят, хотя не очень ясно, какие именно и в какой степени.
Здесь, скажем, если выборки для исследования берутся по возрастным группам
(методики сечений), получаются одни результаты, а если исследуется через
определенные периоды времени одна и та же выборка (долготные исследования), то совсем
другие [51, с. 298—300], причем совершенно неясен источник этих расхождений.
При всем том доподлинно известно, что основная часть деятельности по
экстракции методологического арсенала из первичной литературы (из эшелона
статей) и по перемещению идей, результатов, имен к учебникам и лекционным
курсам ведется силами старших возрастных групп дисциплинарных сообществ.
Таким образом, у нас нет сколько-нибудь надежных свидетельств в пользу
централизованной модели потока естественной эманации, которая позволяла бы
представить этот поток линиями слабеющей намагниченности-одержимости
Платона или слабеющей эманацией платоников, но у нас великое множество
свидетельств в пользу централизующей модели действий индивидов любых возрастных
групп, включенных в поток естественной эманации.
Все они, оставаясь участниками независимого от них возрастного движения,
которое в обществах всех типов культуры имеет свои нормативы
долженствования, с той или иной степенью жесткости предписывающие индивидам, кем и чем
им положено и прилично быть в их возрасте, в сфере постредакции, как члены
языковых сообществ, активные участники знакового специализирующего
кодирования и познания окружения, индивиды постоянно пытаются идти или плыть
против течения. Относительно этих попыток мы не можем утверждать, что каждая
из них и все они в совокупности нацелены на некий центр стяжения — любой акт
336
M. К. Петров
речи, любая ситуация общения скорее «не желают удаляться» от «общего всем»,
чем «стремятся приобщиться» к «общему всем», поэтому вектор «против течения»
всегда получает явно локальное значение, производное от времени, места, целей,
состава участников конкретной ситуации общения между А и В.
В исходных и конечных реалиях каждого акта речи мы обнаруживаем
самоочевидные следы таких попыток плыть против течения — ранговое распределение
частотной характеристики слов, связанных и в исходном тексте общего между А и
В распределения Т0 и в конечном тексте Ti, который уходит в историю и
становится То следующего акта речи между А и В, если ему вообще суждено состояться.
Тезаурусное отношение, разность Ti-T0, выступая в роли условия
осуществимости любого данного акта речи, выступает вместе с тем и в роли
неопровержимого свидетельства тому, что ни один из фиксируемых в языковом сообществе актов
осмысленной речи, если этот акт достигает цели (переводит значение Т0 в Ti), не
может рассматриваться, как удачная попытка плыть против течения: всегда
обнаруживается «снос», в Ti всегда связано больше словт чем в Т0, то есть знаковое
значимое разнообразие возрастает в каждом акте речи, как ему и положено по схеме
компаративистов для «доисторического», ненаблюдаемого периода развития языка.
Но там, где нам удается перевести эти неудачи-сносы, этот кумулятивный ин-
крементный рост значимого разнообразия в видимый и допускающий фиксацию
процесс, а сделать нам это удается пока только в системах дисциплинарной
коммуникации, мы обнаруживаем, что этот кумулятивный инкрементный рост только
одна сторона дела. Другая же состоит в том, что этот рост не просто блокируется
ограничениями по человекоразмерности, не просто дренируется, сбрасывается в
отходы производства, как это может показаться, глядя на огромные потери
научного продукта и на входе в публикацию (см. табл. 7) и на входах в эшелоны или
уровни сжатия «вторичной литературы», но определенно утилизируется для нужд
самого процесса познания. Утилизируется в том же примерно смысле, в каком
«лишние люди» оказываются вовсе не лишними и не только
подстраховывающими социальность дублерами, когда возникают нестандартные задачи.
Именно поэтому мы с известным предубеждением и скепсисом относимся к
4 аргументу Соссюра, по которому коллективная косность сопротивляется любым
языковым новациям [66, с. 106—107]. Сопротивляться-то она, конечно,
сопротивляется, но по разному на разных уровнях и с разной степенью интенсивности.
Да и вообще, похоже, сопротивляется не инновациям как таковым, а неуместным
и несвоевременным инновациям, инновациям «не по правилам» языкового
этикета. На входе в историю языка, в устных ситуациях общения между А и В,
вообще вряд ли имеет смысл говорить о сопротивлении в предложенном Соссюром
понимании, по которому язык — «неотъемлемая часть жизни общества», а
общество, «будучи по природе инертным, выступает прежде всего, как консервативный
фактор» [66, с. 107]. В ситуациях общения В редко выступает в роли
консервативного фактора, и его претензии к А, если они возникают, связаны обычно с
двумя обстоятельствами: со срывами взаимопонимания, что вызывает со стороны
В вопросы и возвращает А к месту срыва, вынуждая его заново проходить
неудавшиеся места; с отсутствием нового, инновации, пополнений в Т0. Этот
второй случай редко вызывает у аудитории В реакции, которые можно было бы
квалифицировать как сопротивление; обычно это элементарная спячка. Аудитория В
если и сопротивляется, иногда и довольно активно методом летучих микроактов
общения, то в основном кидающей в сон скуке.
Весьма условно можно говорить о сопротивлении языкового сообщества
инновациям и на входе в эшелоны или уровни сжатия. В научной дисциплине
нормальное функционирование любого эшелона предполагает избыточность
инноваций на входе, и если бы, скажем, в редакции научных журналов вообще
перестали поступать рукописи, то на скудеющем пайке накопленного до этого
печального факта массива публикаций оказались бы все эшелоны, и совершенно
неясно, чего бы они могли извлечь из этого прекратившего рост массива и как долго
История европейской культурной традиции и ее проблемы 337
в таких условиях отказа от роста многообразия могла бы дисциплина подавать
признаки жизни.
Словом, любое языковое сообщество, любая когнитивно-социальная единица,
если они используют на правах универсалии общения стандартную ситуацию акта
речи между А и В, а других сообществ и единиц мы не знаем, открыты для
неограниченного роста значимых элементов (устойчивых сочетаний означающего и
означаемого), не исключают, а предполагают этот рост. Ситуация в естественных
языках вряд ли отличается в этом отношении от ситуации в дисциплинах. С
естественным языком просто сложнее иметь дело. Вполне вероятно, например, что
если бы удалось на сколько-нибудь длительном периоде зафиксировать всю
речевую деятельность когнитивно-социальной единицы, использующей
естественный язык, то анализ такой записи мог бы ответить на вопрос об естественных
способах редукции и утилизации растущего многообразия к минимуму,
проходимому для младенцев, но совершенно понятна невыполнимость этой задачи ни в
части записи, ни, тем более, в части анализа записанного. Но то, что доступно
для изучения просто потому, что графическая запись и публикация отчетов о
событиях является здесь условием осуществимости событий системы
дисциплинарной коммуникации, с достаточной убедительностью показывает, что в
специализированных когнитивно-социальных единицах типа научной дисциплины
выполняются четыре первых постулата специальной теории лингвистической
относительности: 1) язык принадлежит единице и находится в монопольном
пользовании ее сообщества; 2) язык обеспечивает специализирующее кодирование и
познание; 3) язык обретает «самость» и «жизнь», историю производно от жизни и
деятельности членов сообщества; 4) все члены дисциплинарных сообществ
прошли в возрастном движении последовательность этапов-вхождений в
соответствующую единицу, берущую начало от этапа «от 2 до 5», и на каждом из этих
этапов подтверждали их естественность-проходимость для человека.
Выполнимость 5 постулата о подобии естественных и искусственных языков на
уровне механизмов редукции и утилизации растущего разнообразия ради
удержания входов в единицы в проходимом состоянии и обновления средств познания
единиц остается под сомнением, хотя для самой специальной теории
лингвистической относительности его выполнимость не имеет принципиального значения.
Общая теория лингвистической относительности
5 постулат важен для построения общей теории лингвистической
относительности, которая в отличие от частной должна содержать некоторую сумму
утверждений относительно всей целокупности человеческих языков, постулируя их
подобие и инвариантность относительно некой общей им всем системы. Для нас
общая теория лингвистической относительности практически неосуществима и
методологически несостоятельна, поскольку в такой системе-инварианте не
выполнялся бы принцип субъективной истинности, переводимости всех безличных
статических научных описаний, фиксирующих систему в ее независимости от
автора, в динамические описания, требующие авторского присутствия в его
текущем динамическом тезаурусе.
Специальная теория лингвистической относительности не ставит перед
индивидами, на каком бы этапе возрастного движения они ни находились, задач,
превышающих их силы и возможности. Все здесь несет человеческую метрику,
заведомо укладывается в текущее значение динамического тезауруса индивидов,
проходят ли они этап «от 2 до 5» или «от 7 до 17», или любой другой, и это
постоянно подтверждается тем, что они его проходят, прибывают в те
когнитивно-социальные единицы, в которые они идут. Здесь, в рамках частной теории
лингвистической относительности, индивидам не предлагают ни совершать прыжков в
десять оборотов, ни ходить в разных направлениях зараз, ни пребывать в «царстве
22 М.К. Петров
338
M. К. Петров
чистой мысли», тогда как в попытках построить общую теорию лингвистической
относительности мы постоянно встречаемся с такими предложениями и их
естественным следствием — появлением в качестве автора самостного знака,
обладающего всеми атрибутами человечности в превосходной степени.
По ходу изложения мы уже несколько раз сталкивались с попытками
построить общую теорию лингвистической относительности, но всякий раз это
происходило в контекстах объяснения совсем другого, так что эти попытки
рассматривались нами в основном, как частные проявления «комплекса Архимеда».
Справедливости ради стоит оговориться, что такие оперативные наскоки по частным
поводам на более широкую и глубокую проблему, шла ли речь о
восстановительных идеях Бэкона или о вертикальной интеграции общей теории систем, не были
беспочвенными: все известные нам попытки выйти за пределы частной теории
лингвистической относительности (в том числе и попытка Б.Уорфа),
освободиться от пут отношения принадлежности данного языка сообществу данной
когнитивно-социальной единицы содержат допущения, относящие их к классу
неразрешимых задач «комплекса Архимеда».
Теперь же нам следует в более упорядоченном виде изложить аргументацию
против общей теории лингвистической относительности во всех ее проявлениях
прежде всего потому, что контекст Ти культуры XI—XVII вв., в котором идет
движение интеллектуалов к опытной науке, хотя в нем и выполняются постулаты
частной теории лингвистической относительности — интеллектуалы все же
попадают туда, куда они нацеливались попасть, — содержит множество попыток
выйти с опорой на фигуру всемогущего и всеведущего самостного знака в общую
теорию лингвистической относительности. К тому же есть и привходящий повод
для более развернутого изложения этой актуальной и острой проблематики: судя
по «меморандуму» О.В.Маслиевой и ряду менее определенных свидетельств, мы
сами ходим не то в энтузиастах, не то даже и в основателях общей теории
лингвистической относительности: «Сам же М.К.Петров исходит в своей «гипотезе»
из трех типов кодирования и соответственно из трех типов мировоззрения. Уже
одно это само по себе представляет своеобразную «укрупненную» гипотезу
«лингвистической относительности». Но на деле М.К.Петров, несмотря на
отмеченные оговорки, как это видно из изложения его «гипотезы», идет значительно
дальше такого «урезанного» варианта гипотезы лингвистической
относительности» [42, с. 92]. Честь, понятно, велика. Но, положа руку на сердце, мы
вынуждены с огорчением признаться: не то это колесо, которое мы придумали и пытаемся
описать.
К числу первых попыток выйти за рамки частной теории лингвистической
относительности мы причисляем идею Бэкона о «самой лучшей грамматике»,
которая не прошла бесследно ни для истории лингвистики, ни для истории
европейской культуры, найдя в частности развернутое выражение в концепции «пан-
соф и и» Коме некого, от которой берут начало идеи всеобщего образования,
общеобразовательной средней школы, Ту. Бэкон писал: «С нашей точки зрения,
самой лучшей была бы такая грамматика, в которой ее автор, превосходно
владеющий множеством языков как древних, так и современных, исследовал бы
различные особенности этих языков, показав специфические достоинства и
недостатки каждого» [6, с. 334].
Для современного Ту читателя такое заявление Бэкона выглядит, пожалуй, не
очень убедительно и, во всяком случае, мало походит на теорию. Но в контексте
его времени в Т0 интеллектуального сообщества начала XVII в. оно вполне могло
показаться и, видимо, казалось понятным, теоретически и теологически
обоснованным и в принципе выполнимым, грамматика Пор-Ройяля, например, о
достоинствах которой столь лестно отзывается Соссюр [66, с. 115], шла в этом
направлении и явно воодушевлялась той же идеей активной деятельности лингвистов, в
результате которой «мог бы возникнуть некий прекраснейший образ самой речи,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 339
некий великолепнейший образец того, как следует должным образом выражать
чувства и мысли ума» [6, с. 334].
Но как раз в теоретическом обосновании этой общей для Бэкона и авторов
грамматики Пор-Ройяля задачи обнаруживается, что Арно и Николь, авторы
грамматики, действуют в рамках частной теории лингвистической
относительности, тогда как Бэкон, их предшественник, ищет выхода в общую теорию.
На первый взгляд, Арно и Николь в своей грамматике или логике идут дальше
Бэкона, высказывая прямые критические замечания в адрес самого постулата
Аристотеля «сколькими способами сказывается, столькими способами и означает
себя бытие». Само учение о категориях, которое они все-таки, «уступая
традиции» излагают, приносит по их мнению, больше вреда, чем пользы, как в силу
укоренившихся представлений о категориях как о чем-то абсолютном и
безусловно истинном, так и в силу возможности «прятаться за слова», когда произносятся
общие фразы, «лишенные ясного и отчетливо воспринимаемого смысла» [48]. Но
в общем-то это бунт на коленях, в намерения Арно и Николя вовсе не входило
ниспровергать постулат Аристотеля. М.Новосельцев пишет: «Авторы... отмечают,
что их критика некоторых положений логики и философии Аристотеля не имеет
целью принизить значение философа, которому принадлежит приоритет в
открытии почти всех известных правил логики и у которого они больше всего
заимствовали при написании своей работы» [48].
Такую же и также остающуюся в рамках частной теории лингвистической
относительности попытку предпринимает и современник Арно и Николя Т.Гоббс,
но Гоббс оказывается в совершенно ином положении: он, как мы увидим ниже,
сохраняя верность постулату Аристотеля, заменяет набор категорий греческого
языка набором категорий новоанглийского языка.
В отличие от авторов грамматики Пор-Ройяля, которые, критикуя категории
Аристотеля, не нашли им замены и, похоже, даже не задумывались над такой
возможностью, и от Гоббса, который один набор категорий (греческий) заменил
другим (новоанглийским), Бэкон предлагает нечто принципиально иное, явно уже
не укладывающееся в частную теорию лингвистической относительности. В
полном соответствии с будущей парадигмой компаративистов Бэкон отмечает
прогрессирующую порчу живых языков: «В древних языках существует множество
склонений, падежей, спряжений, времен и т.п., тогда как современные языки
почти совершенно утратили их и в большинстве случаев по лености своей
пользуются вместо них предлогами и вспомогательными глаголами» [6, с. 335]. Из
этого обстоятельства через обидный для современников вывод — «в этом случае
легко предположить, что, как бы мы ни были довольны самими собой,
приходится признать, что умственное развитие людей прошлых веков было намного
глубже и тоньше нашего» [6, с. 335] — Бэкон выходит на необходимость
разработки особой философской грамматики: «Существует бесчисленное множество
примеров такого же рода, которые могли бы составить целый том. Поэтому мы
считаем, что есть все основания отделить философскую грамматику от простой
школьной грамматики и отнести ее к числу дисциплин, развитие которых
необходимо» [6, с. 335].
Что именно Бэкон понимает под философской грамматикой, явствует из его
поясняющих сравнений. Предложив автору философской, «самой лучшей»
грамматики на выборке из множества языков, «как древних, так и современных»,
исследовать различные их особенности, с тем чтобы показать их «специфические
возможности и недостатки», Бэкон тут же ссылается на способ действия
античных художников: «Ведь таким образом языки могли бы обогащаться в результате
взаимного общения, и в то же время из того, что есть в каждом языке самого
лучшего и прекрасного, подобно Венере Апеллеса, мог бы возникнуть некий
прекраснейший образ самой речи, некий великолепнейший образец того, как следует
должным образом выражать чувства и мысли ума» [6, с. 334]. Комментаторы
единодушны в том, что Бэкона здесь подвела память, речь должна идти не о Венере
22*
340
M. К. Петров
Апеллеса, а об Елене Зевксиса [6, с. 566]. Есть и другие версии, но общий их
смысл близок: Бэкон намеревался привести в качестве примера для подражания
процедуру совмещения множества изображений признанных красавиц для того,
чтобы получить осредненный «прекраснейший образ». Сам этот метод, похожий
на современные методы определения «мисс» города, университета, симпозиума...,
не пользовался особой популярностью в античности. Аристотель, например,
требуя от поэтов изображения характеров, резко отрицательно отзывался как раз об
осредненности этого рода: «Без действия не могла бы существовать трагедия, а
без характеров могла бы. Например, из новых трагедий большая часть не
изображает характеров, и вообще многие поэты находятся между собой в таком же
отношении, как из живописцев Зевксис относится к Полигноту: именно, Полигнот
был отличным живописцем характеров, а живопись Зевксиса никаких характеров
не изображает» [Поэтика, 1450 а].
Если вернуться к нашим рабочим аналогиям, то Бэкон для разработки
«прекраснейшего образа самой речи» предлагает метод Агафьи Тихоновны в твердом
убеждении, что такая процедура пересадок наилучшего, осреднения по
максимуму достоинств вполне правомерна и осуществима.
Похоже, что этот метод Агафьи Тихоновны вполне правомерен, осуществим
и для концептуальной схемы О.Маслиевой. Достаточно сравнить и сопоставить
ее высказывания о параллелизме и о развитости.
О параллелизме сказано: «Наблюдаемые параллелизмы в языковом
выражении происхождения и развития категории причинности на рассматриваемых
этапах являются свидетельством единства процесса формирования представлений о
причинности у различных народов, универсальности причинности, как
структуры человеческого мышления... Поскольку же причинность является одной из
коренных структурных связей человеческого мышления, постольку выводы,
полученные относительно этой формы мышления, можно, по всей вероятности,
распространить также и на всю категориальную структуру мышления человека»
[42, с. 83-84].
О причинах наблюдаемых различий и несовершенств также говорится с
предельной прямотой: «Содержание логических категорий, отражающих самые общие
моменты действительности, может быть только одинаковым у разных народов,
отличаясь лишь по уровню их развития и осознания, в соответствии с этапом
исторического развития, который проходит народ — носитель языка» [42, с. 84].
Нетрудно сообразить, что если нам даны: а) уверенность в параллелизме
развития всех категорий; б) право на распространение выводов, полученных
относительно одной категории, на «всю категориальную структуру мышления
человека»; в) уверенность в одинаковости содержания логических категорий у разных
народов; г) надежные критерии определения положения «разных народов» в
единой поэтапной шкале исторической развитости, то и метод Агафьи Тихоновны,
и предложенный Бэконом способ сотворения «наилучшей грамматики», а с нею
и «прекраснейшего образа самой речи» становятся и правомерными и
осуществимыми и весьма желательными.
Даны ли нам эти уверенности и права?
Что касается нас самих, то нам ничего этого не дано, на все четыре пункта
мы даем однозначный отрицательный ответ. Более того, мы твердо убеждены в
том, что ни один человек в нашей Ту культуре, даже если бы он и ответил
положительно хотя бы на один из этих пунктов, не смог бы представить сколько-
нибудь убедительных доказательств своей правоты в действующем топосном
арсенале нашей Ту культуры.
В совершенно ином положении оказался бы Бэкон, человек Ти культуры, по
праву использующий возможности топосного арсенала Ти культуры. Понятно, что
и ему пришлось бы дифференцированно и с рядом оговорок ответить на пункты
условий осуществимости философской грамматики, но в целом ответ был бы
положительным.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 341
Не вдаваясь в детали, мы можем просто констатировать, что тот класс задач,
который в Ту культуре мы относим к комплексу Архимеда и отделяем от
разрешимых методом перевода статических безличных научных описаний системы в
динамические, требующие присутствия субъекта в его наличном динамическом
тезаурусе, вполне разрешим в Ти культуре и может принимать в ее терминах
строгий научный вид изящного математического доказательства, например,
принципиальной возможности прыжков в десять оборотов в индивидуальном, парном
или даже в групповом исполнении. К числу таких задач, невыполнимых в Ту и
выполнимых в Ти, относится и задача на построение общей теории
лингвистической относительности.
Она остается теорией относительности, поскольку язык в ней «отнесен» к
языковому сообществу, принадлежит этому сообществу, монопольно используется
этим сообществом во всех функциях постредакции. Она отличается и
принципиально от частной теории лингвистической относительности только структурой
входа в языковое сообщества, тем, что не содержит на правах условия
осуществимости периода самодеятельности младенцев «от 2 до 5».
И простейший способ идентификации предлагаемых лингвистических теорий
на их принадлежность к частной или общей теории лингвистической
относительности состоит в проверке структуры входа в язык или в группы языков,
описываемых данной теорией, на проходимость. В структурах входа общей теории
лингвистической относительности всегда должны обнаруживаться на том или ином
этапе возрастного движения непроходимые для индивида тупиковые ситуации
«неприкаянного новобранца», которому предлагается идти разом в нескольких
направлениях. В частных теориях лингвистической относительности таких
непроходимых ситуаций обнаруживаться не будет, и реконструкции личных историй
входа любого признанного члена данного языкового сообщества в это сообщество
будут с необходимостью содержать период «от 2 до 5». на котором осваивается и
интериоризируется грамматика языка либо данного языкового сообщества
(родной язык), либо другого языкового сообщества (родной язык), позволяющая в
последнем случае пройти на том или ином этапе возрастного движения
дополнительный переход и освоить грамматику данного языкового сообщества.
Прилагая такой идентификатор к идеям Бэкона, мы сразу же сталкиваемся с
подозрительной на проходимость фигурой — «автор, превосходно владеющий
множеством языков как древних, так и современных». Можно ли превосходно
владеть множеством языков «как древних, так и современных»? Дело, понятно не
в том, возможны или не возможны полиглоты: институт толмачей, дьяков,
дипломатов, переводчиков древнее даже, пожалуй, письменности — потребность и
необходимость в общении между разноязычными когнитивно-социальными
единицами, предполагающая существование полиглотов, всегда была насущной и с
той или иной степенью совершенства удовлетворялась, а в том, что, собственно,
значит, когда говорят или пишут в анкетах, биографиях «превосходно владеет
множеством языков»?
По естественно-эманационному смыслу нашего идентификатора «превосходно
владеть каким-либо языком» — значит овладеть им в детстве, на переходе «от 2
до 5». Все остальные языки, сколько бы их ни было, окажутся в том или ином
ранге производности и, соответственно, будут давать эффект слабеющей
эманации в движении «от 2 до 5» через более поздние этапы освоения «множества
языков».
В частной теории лингвистической относительности срывов в ряде слабеющей
эманации, который берет начало «от 2 до 5», происходить не должно, поскольку
освоение всех следующих, кроме родного, языков тем или иным способом будет
опосредовано накопленными и накопляемыми наборами текстов личного,
частного и всеобщего распределения, через которые подрастающий индивид входит
то на правах А, то на правах В речевые ситуации освоения других языков. Это
опосредование и его неустранимость, хотя они и являются необходимыми уело-
342
M. К. Петров
виями освоения всех последующих языков, не могут, понятно, служить опорой
для входа туда, куда они сами не вхожи. Словом, высший уровень «превосходного
владения языком» всегда будет устанавливаться текущим значением власти над
родным языком, и хотя значение это явно подвижно, вряд ли достигает пика в
детском возрасте, все остальные уровни власти над другими языками будут
располагаться всегда ниже.
Это обстоятельство делает невозможной операцию сравнения, которая
предполагается и у Бэкона и, в том или ином варианте, в любой общей теории
лингвистической относительности. Бэкон не указывает конкретных оснований для
сравнения языков, находящихся в превосходном владении полиглота, просто
предлагает ему процедуру сравнения, вменяя ему в обязанность исследовать
«различные особенности этих языков, показав специфические достоинства и
недостатки каждого» [6, с. 334]. В такой постановке вопроса возникает альтернатива:
либо множество языков, которое доступно полиглоту и в которое он вхож,
замкнуто на самого полиглота, и тогда все его оценки, попытки отделить
достоинства от недостатков каждого из этих языков войдут в опосредование с родным
языком, через владение которым он вошел в это множество, либо же это
множество замкнуто на нечто иное и дано ему в отчужденной диссоциации, предметно,
и тогда ему с самого начала нужно обладать «великолепнейшим образцом того,
как следует должным образом выражать чувства и мысли ума», обладать в том же
примерно смысле, в каком упомянутые Бэконом античные художники, применяя
«статистический подход», обладали представлением о прекрасной женщине. Зевк-
сис, например, по Плинию, «обнаруживал такую тщательность, что, собираясь
нарисовать для жителей Агригента картину, которую они на общественный счет
сооружали для храма Юноны Лакцинии, осмотрел в обнаженном виде их дев и
выбрал из них пять, чтобы воспроизвести на картине то, что у каждой из них в
отдельности было им одобрено» [35, с. 315].
Художникам, понятно, было легче — большую часть работы по созданию
образца за них сделала природа, оставив им для споров о «достоинствах и
недостатках» довольно узкую область разногласий, которая преодолевалась и от эмпирии
методами «мисс Агригент», и от теории — с помощью циркуля, пупка и
тончайших математических выкладок — каноны [35, с. 304—315]. У полиглотов,
задействованных в задаче Бэкона, положение много хуже. Им, в отличие от Зевксиса,
не на что ориентироваться, им не дано природной заготовки, на базе которой
можно было бы реализовать предписанную Бэконом возможность «обогащаться в
результате взаимного общения» методом Зевксиса, который по результатам
придирчивого осмотра дев воспроизводил «на картине то, что у каждой из них в
отдельности было им одобрено», а отсутствие такой природной заготовки
исключает выходы в теорию, в лингвистическую канонику за отсутствием «угла печки»,
от которого танцевать, или того, что А.Ф.Лосев называет «понятием центра» [35,
с. 306—307], исходного пункта (обычно пупка) построений канонов Фидия,
Поликлета, Лисиппа.
А.Ф.Лосев справедливо хвалит античных художников за переход в
человеческую метрику и мы, естественно, не можем и не имеем права проходить мимо
таких свидетельств: «Пропорциональность развивалась здесь не от какой-то
априорной единицы измерения — не имеющей ничего общего ни с отдельными
частями тела, ни с самим телом, взятым как целое, — к обработке всего тела как
такового. Напротив, пропорциональность строилась тут вне всякой абстрактной
меры, от одной реальной части тела к другой и к самому телу как целому. Здесь
выступала чисто антропометрическая точка зрения вместо египетского условного
априоризма» [35, с. 307]. Вместе с тем, в исторических экспликациях
«статистически обогащающий» подход Зевксиса пользовался большим авторитетом. Лосев
так объясняет это обстоятельство: «Поликлет при всей своей жизненности и
человечности гораздо более априористичен, чем Лисипп и эллинизм. Но если мы
примем во внимание, что под эмпиризмом типа Зевксиса стоит более самостоя-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 343
тельный в своих ощущениях субъект, что и соответствует эллинистическому
психологизму, то нас не удивит то обстоятельство, что как раз в эпоху Возрождения
этот метод получил особую популярность, и художники новой великой
субъективистской эпохи часто вспоминают именно метод Зевксиса (а не Поликлета) и
связывают свое учение о пропорциях именно с ним» [35, с. 315].
Иными словами, идея Бэкона стоит не на пустом месте, имеет достаточное
историко-теоретическое обоснование. Но при всем том она непроходима именно
в силу невозможности освободиться от человеческой метрики и перевести
основания сравнений языков на какую-то другую, независимую от человека метрику.
Любая такая попытка в первом или втором шаге обязательно вводит самостный
знак надчеловеческой природы: Бога, Историю, Развитость...
По сути дела любая лингвистическая теория, которая допускает
сосуществование двух или более грамматик, не связанных векторным, по ходу возрастного
движения переходом Го-П, и независимых друг от друга, должна быть признана
общей теорией лингвистической относительности и вызывать подозрения в
собственной состоятельности. В таких случаях всегда полезно поискать независимую
от человека и не обладающую человеческой метрикой знаковую реалию, которая
дает повод разорвать на том или ином переходе Г0-П связь производной
преемственности и перевести группу языков, функционирующих, как целостная
система, в диссоциированное состояние, а затем заново собрать это множество в
целостность уже по какому-то иному основанию, обычно по качеству, свойству,
присущему всем членам группы.
На уровне когнитивно-социальных единиц, имеющих на вооружении
естественные языки, классической моделью такой диссоциации с последующей
интеграцией по нечеловекоразмерному основанию была, понятно, та парадигма
антропологов-компаративистов, о которой мы писали, анализируя методологические
аспекты дискуссии второй половины XIX в. между деградационистами и
прогрессистами. Постулат Тейлора — «те социальные единицы, которые находятся на
одной ступени цивилизации, сравнимы, независимо от различий по времени,
месту или расе» [166, с. 42], открыл дорогу для использования великого
разнообразия оснований и процедур сравнения, позволяющих отказаться от человеческой
метрики и указывать любому элементу диссоциированного множества его место
в единой для данного множества шкале того или иного совершенства, присущего
всем элементам множества.
Сегодня в нашей Ту культуре построение таких шкал и использование
соответствующих процедур — исследовательская рутина психологов, социологов,
науковедов: было бы диссоциированное множество (людей, статей, инноваций,
журналов, дисциплин, университетов, кафедр) и некоторое, присущее элементам этих
множеств, общее свойство или качество (интеллектуальность, продуктивность, ци-
тируемость, лаг, численность, листаж и т.п.), а дальше уже начинается освоенная
практика интеграции множества по степени качества, техника построения шкал и
разработки тестов для определения места данного члена множества в данной
шкале присущего всем членам группы совершенства. Если это прыгуны в высоту,
их поведут к планке, если марафонцы — заставят пробежать от Марафона до
Афин, если интеллектуалы — предложат тест на интеллектуальность, и все встанет
на свои места, как если бы группы и в самом деле оказались переведенными из
состояния диссоциации в состояние ассоциации, обрели наборы каких-то
функций и обязательств по отношению друг к другу, могли бы, скажем, подобно девам
Агригента, рассматривая шедевр Зевксиса, претендовать на обладание некоторыми
деталями целостной картины, которые были одобрены Зевксисом, оценены им по
достоинству и вписаны в целостность прекраснейшего образа.
Шедевры психологов, социологов, науковедов, их статистические портреты,
хотя их и вряд ли отнесешь к высоким произведениям искусства, не чужды все
же и технике Зевксиса, а главное, — обладают бесспорными научными
достоинствами. Вот, например, портрет возрастного движения члена научно-дисципли-
344
M.К. Петров
нарного сообщества США на 1976 г., выполненный в красках моральных,
политических, познавательных и иных установок (см. табл. 8). Относительно каждого
штриха этого моментального снимка можно высказать множество суждений, в
том числе и критических, но такие портреты, синхронные срезы, как бы к ним
ни относиться, бесспорно принадлежат науке, дают «объективную»
запланированную и незапланированную информацию, хотя утверждать, будто такие портреты-
срезы вскрывают какие-то и к чему-то обязывающие членов группы структуры и
ткани интеграции, было бы, по нашему мнению, делом весьма сомнительным.
Поэтому мы в этой практике диссоциации для тестирования по шкалам тех
или иных свойств и качеств не видим ничего предосудительного, считаем, что в
методологическом арсенале соответствующих дисциплин построение шкал по тем
или иным переменным, свойствам, качествам и применение процедур
тестирования — вполне научные и действенные орудия познания. Если, скажем, как это
сделали Е.Роджерс и Ф.Шумейкер [156] множество инноваций (порядка 40000) в
разных областях и культурах удается формализовать для сравнения по 4—5
универсальным свойствам и показать структуру процесса распространения нового в
группах, принимающих инновацию, то это уже шаг к пониманию сложных и
недостаточно изученных процессов внедрения нового, имеющий и практическую и
теоретическую ценность. Наши возражения начинаются там, где шкалам пробуют
приписать мистические свойства самости, а тестирование нагружают функцией
долженствования.
Таблица 8 [175, с. 195]
Движение установок профессорско-преподавательского состава США
по возрастным группам, % одобрения, 1976 г.
Установки
Голосовали за Макговерна
Республиканцы
Крайние консерваторы
Национализировать корпорации
Запретить преподавать гомосекс.
Против запрета порнографии
Исключать недисциплинированных
студентов
Легализировать марихуану
Запретить студенческие демонстрации
За коллективные договоры
Меритократия — дискриминация
Рост окладов — умножение талантов
Общие правила присвоения тенюре
Квоты приема оправданны
Снизить требования к нацменьшинствам
Предпочитаю исследования
Нет публикаций за 2 последующих года
Три и более публикации
Предпочитаю «точные» подходы
Люблю новые и дикие идеи
Посещаю церковь
Возрастные группы
до 35
74
1 18
14
35
14
66
56
71
13
79
46
51
64
35
63
35
43
29
39
77
34
35-44
64
25
20
28
25
51
67
60
24
69
46
47
67
36
64
26
46
25
30
72 |
41
45-54
^
1 29
23
27
27
48
65
63
26
70
40
44
70
36
64
23
52
22
26
6S
43
старше 55
50
37
32
25
40
40
72
44
42
77
45
49
77
32
59
16
58
21
25
62
50
История европейской культурной традиции и ее проблемы 345
Мы, например, не видим ничего страшного в том, что школьники или
студенты, аспиранты, доктора наук набирают разные баллы в тестах на
интеллектуальность до тех пор, пока интеграция множества по общему качеству —
интеллектуальность — ни к чему не обязывает тех, кого по этому качеству интегрируют
и измеряют соответствующей процедурой тестирования, пока измеряющие и
измеряемые относятся к этому с должным безразличием, как, скажем, к измерению
роста: хотелось бы быть повыше, но... Однако положение радикально меняется,
когда вместо шкал выстраиваются лестничные марши, и индивиды, к примеру,
или народы, когнитивно-социальные единицы, получившие 130 баллов и
оказавшиеся на одной «ступени развития» в качестве ближайшей задачи получают
приказ карабкаться на следующую ступень — 140 баллов.
Мы не думаем, что постулат Тейлора, нацеленный на упорядочение
наблюдаемого множества когнитивно-социальных единиц по единому основанию,
изначально содержал эту принудительную составляющую протягивания или
притягивания за уши по ступеням совершенства. Смысл его, скорее, сводился к команде
на плацу: «По ранжиру, становись!». И все было бы в порядке, если бы
когнитивно-социальные единицы, подобно Ту новобранцам, знали свой рост и свое
место в строю. Но поскольку дело происходило не на плацу, а процедуры
тестирования когнитивно-социальных единиц (в миру диссоциации «феноменов
культуры») на предмет их «классификации и ранжирования по стадиям вероятного
порядка эволюции» [166, с. 42] оказались невероятно сложными, болезненными
и допускающими неоднозначное толкование, дело свелось к
сравнительно-анатомическому подходу «по рудиментам», и изначально нейтральная научная шкала
антропологов быстро обросла противоестественной плотью всеобщего и
обязательного движения «феноменов культуры» (до диссоциации —
когнитивно-социальных единиц, обладающих естественными языками) в европейскую развитость.
Нет смысла распространяться об авторитетности этой противоестественной
парадигмы антропологии в нашей Ту культуре: она воспроизводится в текстах Ту,
без конца вбивается в сознание средствами массовой коммуникации, как
«естественное» членение мира на «слаборазвитые», «развивающиеся» и «развитые»
страны. И хотя критика этой парадигмы началась практически с момента ее
появления, сама модель этой критики, особенно у языковедов, не поднималась
выше размежевания в духе 11 постулата Шлейхера: «Почему у разных людей
проявляются различия, почему не все люди развивают в своей среде один и тот же
язык — на эти вопросы должна нам дать ответ антропология» [21, с. 96].
Не идет дальше такого размежевания и Соссюр, хотя само размежевание
проводится им более обстоятельным и тщательным образом. В несколько иной
позиции переосмысления контактов с парадигмой антропологов мы обнаруживаем
О.Маслиеву, которая в отличие от курса на размежевание Шлейхера и Соссюра
пробует гальванизировать «доисторическую» для лингвистики связь производнос-
ти на уровне идей-образцов платоников и категорий Аристотеля, добавляя к
лестничному самодвижению антропологов еще и мистическое стремление языков к
безропотному уподоблению логическим образцам: «Язык не может накладывать
ограничений на развитие мышления, он развивается вместе с развитием
мышления, гибко подстраивая и меняя свои формы для выражения нового
мыслительного содержания» [42, с. 84].
По мнению Маслиевой это «гибкое подстраивание» и изменение своих форм
«для выражения нового мыслительного содержания» как раз и есть суть
«диалектического взаимодействия языка и мышления», и игнорирование этой диалектики
«ведет к сооружению того непрочного фундамента, на котором строится теория
лингвистической относительности» [42, с. 84]. Мы не беремся говорить от имени
Уорфа, но от себя сказать можем, что нам, во-первых, совершенно неясно, что
в такой «диалектике» можно было бы не игнорировать или игнорировать, а во-
вторых, нас это не так уж и трогает, поскольку мы твердо уверены, что на
игнорировании чего-нибудь нельзя соорудить нечто, тем более фундамент, пусть и не-
346
M. К. Петров
прочный. Но вот на частном обвинении в адрес Уорфа нам уже придется
остановиться подробнее, поскольку здесь действительно игнорируются вещи,
фундаментальные не только для выяснения позиции Маслиевой, но и для социологии
науки, науковедения, истории науки в целом. Маслиева пишет: «Никак нельзя
согласиться и с таким утверждением Уорфа: «То, что современные китайские или
турецкие ученые описывают мир подобно европейским ученым, означает только,
что они переняли целиком всю западную систему мышления, но совсем не то,
что они выработали эту систему самостоятельно с их собственных
наблюдательных постов» [42, с. 84—85].
В пользу своего решительного несогласия О.Маслиева приводит данные
собственных изысканий по истории слова «причина», которому присваивается
сначала ранг понятия, а затем и категории: «В языковом материале, которым мы
располагаем, получил отражение факт общности содержания понятия причинности
в мышлении европейских и неевропейских народов, в том числе китайских и
тюркских, уже на ранних этапах развития этого понятия, одинаковое направление
эволюции понятия причинности. Этот материал показывает тесную связь
категории причинности в процессе ее становления с понятием цели и с временными
представлениями в мышлении китайских и тюркских народов и народов
индоевропейских» [42, с. 85].
Мы во многом не согласны с Уорфом, поскольку его теория лингвистической
относительности явно строится как общая, а не частная, но в данном конкретном
случае, когда Уорф приводит аргументы от частной теории лингвистической
относительности, мы целиком согласны с Уорфом и, естественно, «никак не можем
согласиться» с аргументацией О. Маслиевой просто потому, что не видим в
ссылках на авторитет языкового материала, «которым мы располагаем», состава
аргументации. Языковым материалом мало «располагать», нужно еще заставить его
высказаться в топосе эпохи, в нормах доказательной аргументации эпохи, а этого
не происходит, и не видно, как это могло бы произойти на базе произвольных
замен терминов: слово, понятие, категория.
В части, касающейся О.Маслиевой, достаточно будет напомнить азбучные
истины студенческих курсов по истории языкознания и философии. Приобщение
греческого слова «причина» (aima) к рангу универсального способа сказуемости,
категории произошло усилиями Аристотеля и александрийцев, когда один из
падежей греческого существительного был назван airiariun wrwxis, а затем этот
категориальный термин перешел в кальках с соответствующими школьными
вопросами (кто?, что?) во все европейские грамматики, как винительный падеж
(accusative). С винительным падежом, как типичным представителем мира знака (esse
objectivum), постоянно участвующим в переводе «первых сущностей» —
единичных вещей — из мира окружения (esse subjectivum) в мир знака (esse objectivum),
непосредственно связана бурная история становления категориального аппарата
современной науки, прежде всего субъектно-объектного отношения, но это уже
совсем другая история, к которой слово «причина», даже если оно и было
использовано, как это произошло у греков, в качестве категориального термина для
обозначения грамматической универсалии, никакого касательства иметь не
может. Именно поэтому мы не видим в ссылках Маслиевой на «языковой
материал» состава аргументации: слово и категория, носитель смысла и универсальное
правило операций с носителями смысла — вещи разные, обитающие в
непересекающихся плоскостях и доказывать друг относительно друга ничего не могут, так
что путать эти несоприкасающиеся функциональные планы — дело безнадежное.
Вместе с тем, по связи с возражениями против общей теории лингвистической
относительности нам крайне полезно будет окунуться как раз по поводу
категории причинности в эмпирию «языкового материала», сделать это в традиционных
владениях лингвистики и антропологии — на острове Ява, где говорят на языке
кави, позволившем В.Гумбольдту сформулировать ряд полезных концептов
частной теории лингвистической относительности [120]. Нас в этот лингво-антропо-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 347
логический заповедник тянет не по поводу питекантропа или первых научных
описаний традиционной культуры [152], на данных которых Маркс описывал
экономическую и социальную структуру общины [40, с. 369—371], а как раз по
тому поводу, о котором пишет Уорф, вызывая решительное несогласие (возможно
и непонимание) О.Маслиевой.
Острову Ява и яванскому языку, особенно древнеяванскому — кави — как-то
особенно повезло на неослабное внимание лингвистики, других дисциплин,
программ помощи развивающимся странам.
Кави — литературный язык яванцев, памятники которого известны с начала
нашей эры, один из наиболее хорошо изученных языков индийского архипелага.
По грамматическому строю он относится к малайско-полинезийской группе, но
лексика его заимствована по преимуществу из языков санскрита и пали, так как
литература на языке кави носила переводной и подражательный характер. Это
создает почти идеальные условия для демонстрации положений О.Маслиевой на
прекрасно документированном и изученном материале, и нам, честно говоря,
непонятно, почему язык кави на острове Ява выпал из сферы ее внимания.
Нас яванская ситуация привлекла в другом плане. Здесь независимо от воли
участников событий сложилась в 1957—66 гг. обстановка тесного контакта
культур в рамках академического сообщества. В довоенные времена голландские
колониальные власти основали Университет Индонезии в основном для подготовки
административных кадров. Его сельскохозяйственный факультет в Богоре (Ява)
ориентировался на подготовку специалистов по выращиванию технических
культур, пользующихся устойчивым спросом на мировом рынке. Факультет
практически не занимался проблемами сельского хозяйства, связанного с внутренним
потреблением. Подготовка студентов велась по обычным европейским
стандартам: главное внимание уделялось теории, основной формой обучения была
лекция, а формой проверки усвоения — экзамен. Семинары, практические занятия,
самостоятельные полевые исследования в процессе обучения студентов почти не
использовались. У факультета не было даже своих опытных полей.
Положение значительно изменилось по обретении Индонезией
независимости. По контракту в рамках программы помощи развивающимся странам
Университет Индонезии заключил договор с американским университетом штата
Кентукки, по которому американский университет взял на себя обязательство
обеспечить колледж Богора (в то время факультет Университета Индонезии)
преподавательскими кадрами и организовать как для преподавания в колледже, так и
для работы в исследовательских институтах подготовку кадров со степенями
магистра и доктора философии в США. За девять лет (1957—1966 гг.) в Богоре
побывало 47 профессоров университета штата Кентукки (от 8 до 16 одновременно
с двухлетним сроком контракта). В самом университете штата Кентукки прошло
подготовку более 200 студентов и аспирантов индонезийцев.
Г.Биарз, профессор социологии и директор Центра по проблемам
развивающихся стран при университете штата Кентукки увидел, и правомерно, в этой
ситуации перспективную возможность социологического исследования
сравнительно длительного контакта членов университетского сообщества разной культурной
ориентации и написал по результатам своих наблюдений и исследований книгу
«Американский опыт в Индонезии» [91].
К данным этого исследования мы будем возвращаться и позже, когда нам
более глубоко придется разбираться в проблемах трансплантации европейских Ту
систем онаучивания общества на инокультурные почвы. Пока же отметим, что на
Яве, похоже, пытались, возможно и пытаются, создать нечто самобытное, по
частным своим характеристикам похожее на межкультурный синтез, а не на
трансплантацию инокультурной модели. Биарз пишет: «История роста
Сельскохозяйственного колледжа, как института преподавания и научения между 1957 и
1966 гг. есть история академической инновации. Процесс не исчерпывался только
деевропеизацией или американизацией, или индонезиацией. Все эти составляю-
348
M. К. Петров
щие в нем присутствовали, но ведущей была индонезиация. Обновлялись цели и
ориентации, практика приема студентов, расписания, структуры программ и
курсов, методы обучения в аудитории, в лаборатории, в поле» [91, с. 108—109].
Процесс изменений не имел плана, четкого знакового ориентира на ту или
иную действующую модель академической структуры, совершался по «модели
Агафьи Тихоновны», как отбор из различных систем наиболее эффективных для
индонезийских условий процедур и методов обучения с последующим их
объединением в новое и самобытное академическое целое: «С присущей индонезийцам
изобретательностью профессорско-преподавательский состав
Сельскохозяйственного колледжа использовал какую-то часть академической структуры, которую
оставили голландцы, изучал системы других стран Европы и Азии и в свете
собственных уточненных представлений утилизировал новаторские предложения своих
американских коллег. Из всего этого и складывалось своеобразие
Сельскохозяйственного колледжа-университета Индонезии. По набору функций —
исследование, обучение, обслуживание общества — он удовлетворяет новейшим
концепциям академических систем в высокоразвитых странах, но подобная ему модель не
имеет соответствий ни в какой другой стране. К тому же, вопрос о форме,
которую примет модель в будущем, не решен пока окончательно» [91, с. 109].
Понятно, что эти изменения затрагивали не только социальные, но и
когнитивные составляющие научно-академического сообщества, и эта часть
исследования Биарза, описывающая жизнь «кентуккийской команды», типичных
представителей Ту культуры в инокультурной среде, особенно для нас поучительна. Как
профессионал социолог, Биарз не уходит от анализа трудностей, связанных с
различием культурных ориентации, норм общения, обычаев, ритуалов, ценностей,
концептуальных мировоззренческих схем, и хотя в ряде случаев мертоновские
шоры парадигмы американской социологии вносят заметные искажения, Ту фон
«кентуккийской команды» придает описаниям достаточную контрастность,
исключает отождествление разнородных феноменов.
Особенно четко фиксирует Биарз различия культурных контекстов между
американцами и их индонезийскими коллегами: «Американские профессора и их
индонезийские коллеги подходили к идентификации проблем и к поискам их
решения в различных культурных и психологических нормах объяснения, и ни одна
из групп не могла полностью понять посылки и исходные положения другой.
Американцы с их привычками, включающими обращение к рациональности, к
логическому мышлению, контролируемому эксперименту, к верификации, лишь
от случая к случаю и весьма туманно сознавали, что их индонезийские коллеги
способны с доверием относиться к тем предсказаниям из мира духов, которые
они получают через «дукуна» (шамана), обладающего своими особыми каналами
коммуникации. Для многих их близких и соседей в Богоре рациональное
поведение — лишь один из приемлемых способов реагирования» [91, с. 35—36].
Воспитанная в строгих традициях рационализма «кентуккийская команда» с
трудом ориентировалась в непривычном окружении. Американцы с недоверием,
но с должным пиететом выслушивали истории, в которые верили студенты и
коллеги, о том, как уберечься от эльфов и духов. Время от времени им приходилось
наблюдать церемонии смены имен с целью, которая иногда, похоже,
достигалась — превратить некоторые неразрешимые проблемы в более простые и
разрешимые. Некоторых американцев иногда приглашали на «саламетаны» — на
церемонии воссоединения, умилостивления и благодарения. Им приходилось
наблюдать требуемые по ритуалу захоронения бычьих голов под порогами новых
зданий. Для официальных церемоний они принимали те даты, которые
предлагались астрологами, как подходящие. Их осведомляли, что неразумно жить в доме
с фасадом, выходящим на Восток. Они выслушивали объяснения, почему
неправильности поведения следует прощать, поскольку они вызываются черной
магией, а за магию ее жертва не должна нести ответственность. Они узнавали, каких
История европейской культурной традиции и ее проблемы 349
именно изменений судьбы следует ожидать после ритуального умиротворения
духов бывших жителей их квартир, домов, общежитий, служебных помещений.
Но особые трудности возникали как раз по поводу причинных объяснений:
«Для любых необъяснимых событий и трудных проблем многие индонезийцы
имеют в запасе значительно больший арсенал альтернативных объяснений, чем
их способен предложить американский профессор. Если развитие определено как
умножение альтернатив, то кто же тогда более развит? Эти различия в системах
причинности, хотя они и не всегда выявлялись в беседах и на конференциях,
достаточно часто все же становились препятствиями полному взаимопониманию
между членами «кентуккийской команды» и их коллегами по колледжу. Нет
никакого сомнения, что обе группы бывали иногда подобны космическим
кораблям, которые стремятся состыковаться, не находясь даже на пересекающихся
орбитах. Никому из членов команды никогда не удавалось, разве что
сверхъестественным способом, проникнуть в область мистики индонезийских объяснений.
Вполне возможно, что ни один взрослый не способен войти в контакт с этими
системами, если он не индонезиец по рождению. И вполне вероятно, что
наиболее удачным способом ввода структуры научного мышления с ее осознанными
диссонансами была бы дополнительность к другим способам объяснения, а не их
исключение» [91, с. 36].
Этот недоуменный вопрос Ту социолога — Если развитие определено как
умножение альтернатив, то кто тогда более развит?, — рассуждения о космических
кораблях на непересекающихся орбитах, о невозможности войти в контакт
взаимопонимания с индонезийцами, не будучи индонезийцем по рождению, да и сам
рецепт онаучивания по принципу дополнительности, ввода научного способа
объяснений на правах «еще одного» способа в дополнение к существующим, не
оставляют сомнений в том, что «кентуккийская команда» столкнулась на Яве с тем
же феноменом, с каким столкнулись Дарт и Прадхан в Непале, сравнивая
непальских школяров с их американскими сверстниками и родичами по генопулу
[ПО], но столкнулись уже на более поздних этапах возрастного движения, как
равноправные коллеги по научно-академическому сообществу, которые заняты
общим делом и, если верить Биарзу, успешно с ним справляются: «По набору
функций — исследование, обучение, обслуживание общества» их
колледж-университет «удовлетворяет новейшим концепциям академических систем в
высокоразвитых странах» [91, с. 109].
Если не упускать из виду эту подчеркнутую Биарзом работоспособность
межкультурной команды коллег Университета Индонезии, то, видимо, простейшим,
если не единственным способом понимания когнитивной ситуации будет тот,
который пробует отрицать с порога О.Маслиева и который предлагает Уорф:
«Понятия «все современные ученые, говорящие на индоевропейских языках» и «все
ученые» не совпадают. То, что современные китайские или турецкие ученые
описывают мир, подобно европейским ученым, означает только, что они переняли
целиком всю западную систему мышления, но совсем не то, что они выработали
эту систему самостоятельно, с их собственных наблюдательных постов» [74,
с. 175—176]. Иными словами, пестрый по культурным ориентациям
профессорско-преподавательский состав Университета Индонезии, как
когнитивно-социальной единицы, какой он бесспорно является, если успешно функционирует,
«живет», обретает работоспособность за счет исключения всех альтернативных
способов объяснений, кроме одного — научного, и именно в этом плане
приходится, видимо понимать предложение Биарза насчет дополняющей модели ввода
научной альтернативы объяснения, цель которой не в том, чтобы отменить
существующие ненаучные альтернативы, а в том, чтобы перевести эти альтернативы в
статус частных со своими особыми областями использования, не имеющими
отношения к науке, вытеснить их за пределы научно-академической структуры и
сделать эту структуру работоспособной.
350
М/С. Петров
По сути дела о том же, как об установившейся практике, пишет и А.Раман,
когда он четко разделяет модели поведения индийских ученых в университете и
за его стенами: «Индийские ученые практикуют науку только в лаборатории, а
вне лаборатории, в повседневной жизни, они остаются пленниками древних идей
и обрядов, подчиняются предрассудкам и вере в сверхъестественное. Среди
ученых Индии не редкость вера в астрологию, обряды очищения перед проведением
экспериментов и даже обряды искупительных жертвоприношений для
умилостивления приборов и оборудования» [153, с. 191]. Но Раман рисует более сложную
картину приведения к единству когнитивной составляющей индийской науки.
На Яве, по Биарзу, выбор практически совершен и совершен в пользу
научной альтернативы объяснений, присутствие которой и равнообязательность для
членов университетского сообщества собственно только и позволяет «кентуккий-
ской команде» чувствовать себя интегрированной частью смешанного
индонезийско-американского экипажа колледжа-университета: ни языком кави, ни
современным яванским «кентуккийская команда» не владеет.
В индийском научно-академическом сообществе положение, по Раману, иное:
здесь выбор альтернативы еще не совершен. Раман на примере Т.Р.Сешадри,
видного химика-органика, экс-президента Индийского научного конгресса,
президента Национального института наук Индии, так описывает эту ситуацию
незавершенного выбора: «По отчетам в прессе профессор Сешадри считает, что
«полное определение науки должно включать идею высшего знания веданты, позволяя
ученым идти в более тонкие и трудные планы исследования». Для профессора
Сешадри эта тема не нова. Он затрагивал ее и раньше в своей президентской
речи на сессии Индийского научного конгресса 1967 г. в Хайдарабаде. Там он
говорил, что между наукой и религией нет конфликта: «Наука и религия имеют
общую цель — помочь духовному росту человека и установлению лучшего
социального порядка. Друг без друга они недостаточны и беспомощны. Сегодня
объединение в жизни человека духовных энергий этих двух дополняющих друг друга
дисциплин могло бы создать условия для полной интеграции личности и
способствовать развитию более совершенной и гуманной цивилизации». В той же речи
он отметил: «Великие социальные движения Индии всегда основывались на
духовном начале, и роль Индии в гармонии наций и народов — сохранить эту
духовную ноту. Недавний пример Ганди свидетельствует о том, что мы не потеряли
великой традиции. Вся его жизнь была грандиозной попыткой спиритуализиро-
вать политику. Вряд ли нам будет сложнее объединить науку и духовность» [153,
с. 156-157].
В Индии, таким образом, хотя и здесь вроде бы (как и на Яве) снят выбор,
и снят не в худшем для самого института науки варианте — преподавание науки
и научная коммуникация используют английский, — этот выбор ставится под
сомнение. Само по себе это обстоятельство подтверждает постулат лингвистической
относительности Уорфа — работоспособное научно-академическое сообщество,
как когнитивно-социальная единица должно иметь единую когнитивную
составляющую и, предположительно, общий язык. Но вот в Индии это вызывает не
только те эффекты, которые фиксирует Биарз и в Индонезии — различие
поведений ученых в университете и за его пределами, — но и ряд дополнительных, о
которых Биарз не упоминает, хотя вполне возможно, что они просто не
идентифицируются им как существенные.
Эти дополнительные эффекты, описанные Раманом, в общем не противоречат
постулату Уорфа — требование единства когнитивной составляющей
сохраняется, — но в Индии фиксируются две конфликтующие с действующим выбором
альтернативы.
Одна из них, против нее восстает А.Раман — «ревивализм», наиболее ярко
представленный в самом научно-академическом сообществе Т.Сешадри, ученым
в ранге президента академии наук, который вовсе не чувствует себя в одиночестве
или изоляции: «По злой иронии истории социальное давление средневековья с
История европейской культурной традиции и ее проблемы 351
момента достижения независимости усилилось под флагом национализма и
возрождения культуры. Значительное число ведущих ученых сегодня активно взялись
за пропаганду синтеза науки, религии, религиозных философий и спиритуализма»
[153, с. 193].
Другая альтернатива, которую неустанно пропагандирует сам А.Раман, состоит
в отказе от английского языка в пользу родного для всей системы онаучивания
общества через воздействие науки на состав текстов Ту: «Тот факт, что наука в
Индии преподается на английском, усиливает ее социальную изоляцию. Научная
практика и научное знание не могут распространяться в народе и создавать более
широкую базу для науки. Значительное большинство народа получает
образование на родном языке. А этот язык не поглощает современные научные идеи и
научную терминологию, остается проводником средневековых идей, поэтому и
народ остается средневековым с точки зрения мировоззрения и психологических
установок» [153, с. 165].
Словом, отрицая альтернативу Т.Сешадри и «ревивализма» в целом как нечто
противоестественное и анахроничное в современном Ту мире, где довольно четко
действует отработанная уже в нескольких поколениях схема онаучивания обществ
через изменение текстов Ту по результатам научно-дисциплинарного познания
мира, А.Раман, собственно, и предлагает как альтернативу существующему
положению дел это стандартное для развитых стран европейской культурной традиции
решение, где весь путь от колыбели до переднего края науки в принципе
проходим на базе родного языка с подключением как на универсализирующем периоде
всеобщего и обязательного среднего образования, так и особенно на
специализирующих переходах Ту-Тд, Тд-Тг других языков. По нашему мнению, в
современных условиях это единственно мыслимое решение не только для Индии, но и
для любой другой страны. А.Раман совершенно прав, что толку от науки не будет
и процесс онаучивания общества не станет функционировать до тех пор, пока
«язык науки и язык тех, кто использует науку, — два совершенно различных
языка» [153, с. 227].
Но такая «правота в принципе» хороша лишь для постановки задач, она
довольно мало говорит об условиях их разрешимости, о степени разрешимости, о
возможном числе вариантов решения. Мы не думаем, что сегодня в нашем Ту
мире найдется хотя бы пара специалистов, способных без оговорок и сомнений
признать, что реализованная в Ту культуре схема — наилучшее из возможных
решений, как, впрочем, вряд ли найдется и другая пара специалистов, способная
предложить что-нибудь радикально иное и работоспособное. Пока мы видим, что
в тех странах, где действует конвейер или эскалатор всеобщего и обязательного
среднего образования, какие бы языки ни осваивали дети на периоде «от 2 до 5»,
все они с малыми потерями становятся обладателями аттестатов зрелости или
других справок близкого достоинства, удостоверяющих факт их прибытия на
общесоциальный сборный пункт новобранцев, откуда можно попасть на
дисциплинарные сборные пункты (4 года) и на передний край дисциплинарных
исследований (еще 3 года), на вершину иерархии воспитателей, откуда берет начало
эманация научности: вчерашний аспирант читает сегодняшнему студенту
университета то, что завтра этот студент прочитает студенту педагогического института, а
послезавтра этот студент педагогического института объяснит на уроках
ученикам, как сумму санкционированных наукой и обществом истин и потребует их
знания на выпускном экзамене.
Выполняется ли в этой общесоциальной системе Ту коммуникации единство
языка, единство когнитивной составляющей, которое позволяло бы утверждать,
что язык науки и язык тех, кто использует результаты научных исследований,
один и тот же язык? На этот вопрос нельзя, по нашему мнению, ответить в
дихотомии «да — нет», нужен степенной континуум и иная постановка самого
вопроса в такой, скажем, формулировке: Являются ли язык науки и язык тех, кто
352
M. К. Петров
использует результаты научных исследований, двумя совершенно различными
языками? На этот вопрос мы можем ответить однозначно: нет, не являются.
Но такая однозначность не спасает, понятно, от ряда фундаментальнейших
для нашей Ту культуры вопросов типа: а есть ли «язык науки»?, где кончается
относительность и начинается апофатика? и т.п. Вот, скажем, А.Раман,
предисловие к сборнику статей которого [157] написал Дж.Нидам, что уже само по себе
знак высокой пробы, с одной стороны, явно принимает Ту культуру как норму.
В центре его аргументации убеждение в том, что и современные и любые другие
будущие условия социальной жизни и развития требуют единства науки,
технологии и культуры при ведущем положении науки: «Наука — передний край
вторжения человека в непознанное будущее, технология — ее расширение и
конкретное приложение, а культура — стабилизация науки и технологии в динамическом
равновесии текущего этапа человеческой эволюции» [157, с. 283]. В этой и
близкой к ней формулировках термин «наука» приобретает у него широкий и
вневременной смысл познания, в каких бы формах оно ни совершалось, за что его и
хвалит Нидам [157, с. V—VI] и что дает ему право говорить об «античной» и
«средневековой» науках Европы, Китая, Индии, проводить параллели между
функциями науки и религии.
С другой стороны, А.Раман в неявном виде принимает постулат
относительности Уорфа — язык для него естественный носитель результатов познания,
ценностей, мировоззрения: «Значительное большинство народа получает образование
на родном языке. А этот язык не поглощает современные научные идеи и
научную терминологию, остается проводником средневековых идей, поэтому и народ
остается средневековым с точки зрения мировоззрения и психологических
установок» [157, с. 165].
Признается, таким образом, и постоянное присутствие источника эманации
онаучивания, в роли которого выступает наука-познание, и некоторая
вариабельность в движении этой эманации по инстанциям в культуру, как в «динамическое
равновесие текущего этапа человеческой эволюции», и среди таких инстанций,
обладающих автономией, той или иной степенью «проницаемости», преломления,
отражения, искажения, называются сама структура науки, религия и
естественный язык.
Рассматривая науку в узком плане как опытную науку, использующую
эксперимент в качестве основного средства верификации и сообщающую через
эксперимент своим результатам свойство утилитарности — неограниченной по
времени, месту и целям приложимости, Раман считает, что такой науки Индия не
знала и списывает это обстоятельство на блокирующее воздействие религии:
«Методы и техника получения знания оставались ограниченными наблюдением и
анализом, а следующий логический шаг — проведение эксперимента и открытое
признание его как необходимой техники — так и не был сделан. Не было также
значимых концепций и генерализаций. Философское мировоззрение оставалось в
подчинении у религии. Соответственно, различия между античной и
средневековой науками продолжали усиливаться, и они соперничали друг с другом. И та и
другая развивались лишь до некоторых пределов и никогда не достигали той
стадии, на которой возникла институционализация образования и методов
исследования, как это произошло в Европе» [157, с. 225].
Эта вариабельность инстанций движения эманации онаучивания позволяет
Раману выделить проблему несовместимости европейской науки с индийской
традицией на уровне культур, обеспечивающих переход нового знания в технологию
ради ее обогащения, и на уровне мировоззрений, санкционирующих структуры
культурных типов на правах признанных социальных ценностей. В основе
несовместимости лежит, по мнению Рамана, разрыв преемственности: «Современная
наука появилась в Индии на такой стадии собственного развития, которая
характеризовалась радикальным изменением по отношению к античной и
средневековой наукам. Возникли новые отрасли науки, были накоплены значительные объе-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 353
мы знаний, развилось экспериментирование, как многосторонняя и гибкая
техника исследования. Язык науки принял точную и определенную форму, развилась
институционализация научной деятельности, технология сделала первые
решающие шаги. К тому же, наука, как философия, как социальная точка зрения и как
интеллектуальная установка одержала решительную победу над другими
способами мышления. Она вводилась в своей современной форме как полностью
развитая система без корней и традиций. Ее отличие от более ранних типов науки
было столь радикальным, что не так-то просто было ее понять и усвоить. Чужой
язык еще более затруднял этот процесс освоения. Соответственно она вызывала
либо жалобы, либо враждебность как «английская выдумка», несовместимая с
индийской традицией. Проблема освоения, таким образом, приняла форму скорее
исключающего выбора, чем синтеза... Неудивительно, что на выбор оказывало
влияние культурное наследство Индии. В отличие от европейского
переосмысления греческой традиции, в Индии этот процесс усиливал религиозные,
мистические и философские традиции в ущерб рациональным и научным» [153, с. 225—
226].
Проблема «языка науки» и вообще «языкового начала» научной
коммуникации как формы выявления когнитивной образующей научных
когнитивно-социальных единиц познания актуализируется не только по поводу исследований,
связанных с попытками развивающихся стран обзавестись Ту системами
общесоциальной коммуникации и онаучивания общества, где эта проблема, естественно,
наиболее остра и болезненна, но и в нормально функционирующих
научно-академических сообществах, где социологам, науковедам и историкам науки
постоянно приходится иметь дело с прогрессирующей дифференциацией единого,
предположительно, процесса научного познания мира на все большее и большее
число когнитивно-социальных единиц — дисциплин.
Подобно всем системам человеческой деятельности дисциплины человекораз-
мерны, поляризованы в полюсах человек — спецификатор окружения, обладают
свойством эквифинальности, ответственным за их структурное сходство, так что
сам факт процесса дифференциации научного познания, хотя он и вызывает в
основном отрицательные эмоции, во всяком случае уже не вызывает недоумений
и удивлений. Одним на уровне данности, другим на уровне эксплицированных
моделей, но всем исследователям в общем-то понятно, что дисциплина как
высшая познавательная единица — решение проблемы познания нечеловекоразмер-
ного спецификатора человекоразмерными средствами, что дисциплины различают
их проблемные или предметные области как фрагменты объекта познания, а
сближает их, создавая феномены эквифинальности, единство человеческих
атрибутов членов дисциплинарных сообществ. Поскольку на нечеловекоразмерном
объекте познания выделяются человеческой любознательностью все новые и
новые проблемно-предметные области, растет и дифференциация, и по этой
линии говорить о некотором пределе умножению числа дисциплин можно было
бы только в том случае, если бы обнаружилась и подтвердилась конечность мира
открытий, объекта познания. И хотя многие говорят и пишут о том, что основное
в этом мире уже открыто, непознанными остаются лишь уточняющие мелочи и
детали, ни у кого нет сколько-нибудь убедительных свидетельств в пользу
конечности мира открытий.
Во множестве описанные эффекты замедления темпов образования новых
дисциплин, роста лагов оформления исследовательских групп в специальности и
дисциплины в каждом конкретном случае обнаруживают не рост сопротивления
объекта познания, трудностей поиска нового в «истощаемом» мире открытий, что
часто и разумеют, когда ссылаются на «истощение» парадигм, а вполне
конкретную совокупность осмысленных или бессмысленных действий людей по
замедлению процесса научного познания мира. Из того факта, скажем, что Иван
Федоров в XVI в. первую на Руси объемистую и трудоемкую книгу «Апостол»
опубликовал за 8 месяцев, а по нормам публикационного обеспечения научной деятель-
23 М.К. Петров
354
M. К. Петров
ности конца XX в. для близких по листажу предприятий требуется более трех лет,
никак не следует, что за четыре века сильно усилилось сопротивление мира
открытий, а следует только одно: попустительство росту лага публикации (всякий
раз, понятно, с самыми благими намерениями) активно тормозит все процессы
жизнедеятельности дисциплины, включая и генезис новых дисциплин, поскольку
все эшелоны или уровни движения знания как в самих дисциплинах, так и по
инстанциям эманации научности к текстам Ту предполагают акт публикации на
правах условия осуществимости любого научного события.
Совершенно иначе обстоит дело, если двигаться от человеческого полюса
научно-академической системы. Здесь мы уже можем говорить и о пределе
умножению числа дисциплин и о конечности в любой заданный историей момент
времени доступных для нас границ мира открытий.
В первой части мы говорили уже о том, что «ужасно далеко» прутковского
пастуха, куда несложно попасть, но откуда невозможно возвратиться, хотя это и
метафора, имеет все же вполне определенное значение для каждой исторической
эпохи и для каждого момента истории человеческого познания. Мы постоянно и
правомерно говорим о познании, как об умножении знания, раздвижения границ
познанного в мире открытий, о конечности или бесконечности которого нам
ничего не известно. Где в данный момент находятся эти границы, мы знаем или
можем знать довольно точно. Т.Парсонс и Н.Сторер предлагают даже две
процедуры картографирования познанной и познаваемой части мира открытий:
«Постоянное расчленение и перегруппировка организационных подразделений в
научной профессии образуют приблизительную «карту» мира знаний и
представляют собой важный «внешний» источник влияния на развитие самого знания.
Другим способом «картографирования» научной профессии могло бы быть описание
их (ученых) сосредоточения в различных университетах, колледжах и других
организациях, связанных прежде всего с использованием и расширением знания»
[50, с. 42]. Такие «карты», хотя мы и не очень уверены, что они выполнимы в
обычной технике, были бы действительно полезны в нескольких отношениях.
Движение конфигураций по времени дало бы историю предметной экспансии
науки в мир открытий, и если бы прослеживалась еще и связь событий, откуда
пошло движение и что из этого получилось, то, на наш взгляд, мы обнаружили
бы нечто похожее и на генетиалогическое древо языковедов-компаративистов и,
по мере отдаления от первой исходной «карты», нечто равно похожее на схему
Дарвина как раз в том смысли, в каком Шлейхер писал Геккелю [21, с. 98—103].
Понятно, что любая «карта» в такой временной последовательности вплоть до
последней, отражающей текущее положение дел, прорисовывала бы производно
от наличной конфигурации вторую, прочерчивающую относительно совокупного
переднего края предметной экспансии науки в мир открытий границы «ужасно
далеко» прутковского пастуха, а с ними и область «самовольных отлучек»,
допустимых удалений как исследователей-одиночек, так и возникающих
исследовательских групп в сопредельные непознанные «царства» мира открытий при наличных
арсеналах средств познания и средств общенаучной коммуникации.
Последняя оговорка о средствах познания и общенаучной коммуникации
весьма существенна, хотя и существенна в двух разных смыслах. Средства
познания, если под ними понимать исследовательские техники — инструменты
исследования (телескопы, микроскопы, рентгеновскую аппаратуру и т.п.), и растущее
совершенство и искусство использования их возможностей, — переводят
непознанные пограничные «царства» в познаваемые, в «горизонты науки» без каких-
либо гарантий на то, что эти в принципе познаваемые «царства»
(«телескопическое», скажем, или микроскопическое, рентгенографическое) будут когда-либо
познаны и представлены на какой-нибудь из будущих «карт» — синхронных
срезов — как царства познанные: насчет конечности любого из «царств» нам
известно не более, чем о конечности или бесконечности самого мира открытий.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 355
Средства общенаучной коммуникации также, естественно, не дают гарантии
того, что открытие для познания и в принципе познаваемые «царства» будут
познаны, но они вдобавок к этому, постулируя принцип целостности, как
универсальный конституирующий принцип всех человеческих систем, в том числе и
научных, ставят предел многообразию когнитивно-социальных познавательных
единиц, которое может быть связано в целостную систему общенаучной
коммуникации.
Ясно, что и здесь, в области средств общенаучной коммуникации,
человечество кое-чего добивается, и если, скажем, сравнить карты эпохи Ти культуры с
картами эпохи Ту культуры, то мы с удовлетворением отметим прогресс, почти
скачкообразный рост числа дисциплин, специальностей, исследовательских
направлений, групп, представленных на «картах» Ту периода. И первым, во многом
естественным и правомерным побуждением будет приписать этот скачок
появлению Ту, единого сборного пункта развода новобранцев во все специализации, в
том числе и научные, связать скачок со становлением общеобразовательной
средней школы, с превращением среднего образования действительно во всеобщее и
обязательное, что сделало возможным (в теории, естественно) располагать на
удалении Ту-Тд (4 года движения) любое мыслимое количество
когнитивно-социальных единиц (если они просто «точки»), а на радиусе Тд-Тг (3 года движения)
опять же неограниченное число единиц-«точек», «живых точек»,
исследовательских групп, каждая из которых мечтает стать специальностью или дисциплиной,
а некоторым это и в самом деле удается.
Под этим углом зрения резкого роста емкости системы общенаучной
коммуникации по числу связанных в ней когнитивно-социальных единиц познания мы
в основном и рассматривали ситуацию перехода от Ти к Ту культуре.
При этом мы отвлекались от того факта, что если система общенаучной
коммуникации действительно обладает целостностью и работоспособна, то все
научные описания ее структуры должны быть переводимы в динамические, в
человеческую метрику. Тот факт, что в текущих «картах» научной профессии нет ни
пустых мест (кафедр, дисциплин), ни «полюсов недоступности», где не ступала
бы (к моменту составления «карты») нога экс-младенца, который прошел по всей
анфиладе смыкающихся интерьеров воспитательной постредакции, любая из
которых в любой заданный момент времени берет начало от колыбели, причем в
каждом из интерьеров любой анфилады мы обнаруживаем некоторое множество
индивидов, свидетельствует о том, что проход в данную единицу (дисциплину,
специальность, группу) открыт, в ней могут появиться новые члены
существующего или возникающего сообщества, и в этом смысле единица включена в
систему общенаучной коммуникации — поставлена на кадровое обеспечение.
Но где, собственно, начинается единая система общенаучной коммуникации?
Нам кажется, что если система общенаучной коммуникации обязана обладать
целостностью, то единственный способ сохранить эту целостность — признать
«язык науки» на правах одного из Ту «диалектов» или «говоров» со своими «под-
диалектами» и «подговорами» и т.п., то есть подойти к понятиям «язык науки»,
«система общенаучной коммуникации» с теми же мерками, что и к обычному
естественному языку.
Для языкового сообщества, как целостной системы коммуникации, на какое
бы количество диалектов, говоров, жаргонов оно ни разбивалось, доказательством
существования того или иного элемента системы естественного языка может
служить поток младенцев, опознающих и принимающих как данность,
санкционирующих в парадигматике на этапе «от 2 до 5» тот язык (диалект, говор, жаргон),
на котором говорят в окружении, и утверждают актами своего прибытия ареал
распространения, действия данного элемента системы, отсекая его от истории
прежних генетических связей и ареалов распространения. В применении к «языку
науки», оформляющему систему общенаучной коммуникации использование
этого принципа младенческой санкции на существование и ареал распростране-
23*
356
M. К. Петров
ния от имени биологического кодирования, гносиса означало бы сдвиг понятий
«младенец», «от 2 до 5» по возрастному движению к этапам входа в
соответствующую когнитивно-социальную единицу, то есть к учебнику, курсу лекций или
программ подготовки, и такой сдвиг, по нашему мнению, был бы оправдан:
люди, события, правила, концептуально-понятийные аппараты, «грамматики»
диалектов, говоров, жаргонов «языка науки», появляются и начинают
существовать для всей системы общенаучной коммуникации, не с криком младенцев, а с
актом публикации.
Понятно, что такое свободное обращение с младенцами и с периодом «от 2
до 5» может вызвать резкие возражения не только со стороны психологов. Но,
во-первых, не менее резкие возражения вызвало бы и утверждение, будто наука
каким-то способом загодя приспосабливается к тем, кто в данный момент в
детском саду или в школе, кроит свою деятельность на вырост, по их будущей мерке.
Во-вторых, ни одному еще младенцу на этапе «от 2 до 5» ни в Ту, ни в Ти
культуре не удавалось освоить «язык науки». В-третьих, только входящие в
когнитивно-социальную единицу и только на этапе ее освоения как данности способны
перевернуть историю этой единицы в парадигматику и снять на этом этапе
накопленные прошлым излишества, и поскольку возрастное движение индивидов
суть бегущая точка таких переворачиваний, последовательная серия переворотов
истории в человекоразмерную данность, а серия эта занимает длительное время —
в оптимальном варианте для Ту культуры 25 лет, — за время этого движения
контуры «карты» научной профессии, хотя, возможно, и удерживаются в различимом
состоянии на уровне дисциплин, но вряд ли сохраняют четкие очертания на
уровне специальностей, групп, исследовательских направлений. Словом, младенцы не
столько идут в некую готовую систему общенаучной коммуникации, сколько
формируют ее в динамике вхождений, опознаний, признаний, санкций на
существование, не дают ей перейти в аморфное состояние.
На этом пути, двигаясь по возрастному движению, по волнам бегущих точек
переворачивания неограниченно растущего разнообразия историй
когнитивно-социальных единиц в редуцированную человекоразмерную парадигматическую
данность, а двигаясь по этим волнам бегущих точек-индивидов, мы естественно,
постоянно будем находиться в области действия биологического кодирования,
гносиса, нам не придется выходить за пределы частной теории лингвистической
относительности: в возрастном движении усваиваются правила и формы
деятельности, установленные и санкционированные предшественниками, усваиваются
они в рамках ограничений по человекоразмерности со «срезанием»
накапливаемых предшественниками исторических излишеств и усваиваются ради того, чтобы
по прибытии на место деятельности заняться неограниченным накоплением в
ситуациях общения пестроты и разнообразия, которые будут срезаны и приведены
к человеческой метрике идущими позже. При этом срезы, редукция, дренаж
всякий раз будут происходить по новым линиям и критериям: объем конкретного
интерьера в анфиладе возрастного движения будет оставаться неизменным, а
содержание постоянно меняться по той, видимо модели, которую мы фиксируем,
как эшелонирование или уровни сжатия в дисциплинах.
Попытки идти против течения, использовать в качестве интегрирующего
начала объект познания и, соответственно, двигаться по эманации объективности,
а такие попытки довольно широко распространены, почти с первых шагов
наталкиваются на неодолимые трудности: глубина проникновения объективной
эманации в иерархию общесоциальной системы познания объективного окружения и
практического на нее воздействия не так уж велика. Если за первый уровень
принят контакт с независимым от человека и нечеловекоразмерным эмпирическим
окружением, то, как мы показывали при обсуждении выявлений эквифинальнос-
ти крупных городов, уже на втором или третьем уровнях интеграции системы в
целостность царство законов внешней природы, нечеловекоразмерных
объективных спецификаторов кончается, а начинается область отношений людей по по-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 357
воду людей, основанная на господстве свойств человека как существа
естественного, социального и разумного.
Вот, скажем, Парсонс и Сторер, указывая на принципиальную возможность
картографирования научной профессии по факту присутствия членов ее
сообщества в конкретных «университетах, колледжах и других организациях, связанных
прежде всего с использованием и распространением знания» [50, с. 42], тут же и
отказывают такой «карте» в состоятельности на том основании, что ныне очень
уж развиты личностные средства коммуникации: «Мы полагаем, однако, что
такого рода картографирование не имеет отношения к целям нашего исследования
ввиду легкости, с которой преодолевается теперь физическое пространство, и
высокой мобильности ученых. Легкость осуществления личных контактов,
безусловно, играет важную роль в распространении идей и прогрессе науки, но мы
удовольствуемся здесь более общим анализом, в котором соображения времени и
пространства не столь важны» [50, с. 42].
Этот общий анализ роли дисциплины в общенаучной коммуникации сводится
у них к освобождению в полуявной форме от проблемы новобранца-»младенца»
в надежде иметь дело «со взрослыми людьми», которые пришли уже в «карту»
распределения профессионалов по научно-академическим городам и весям,
освободиться в предположении, что личные истории профессионалов, проблема того,
как они оказались там, где они фиксируются на карте, отношения к делу не
имеют. Фиксируемое на «карте» множество населенных профессионалами
пунктов с соответствующим множеством правил деятельности должно быть, по их
мнению, показано в целостности без учета личной истории входа профессионала
в свое подразделение целостной профессии-системы.
В силу малой глубины эманации объективности такая попытка сразу же
сталкивает их с ими же поставленной стенкой: «Нас занимают главным образом те
различия между подразделениями внутри научной профессии, которые возникают
в силу несходства их предметов исследования, и те следствия из этих различий,
которые важны для форм социальной организации науки и для характеризующих
эти формы видов информационно-поискового поведения. Мы должны здесь ясно
указать на то, что отвергаем нечто вроде наивного варианта гипотезы Сепира—
Уорфа, согласно которой сам язык (и соответствующая картина мира) в
различных дисциплинах оказывает решающее влияние на поведение работающих в этой
дисциплине ученых. Эта теория выросла в результате антропологических
исследований, сравнивавших лингвистические структуры совершенно различных
культур, и она едва ли применима там, где речь идет о выявлении различий между
дисциплинами, представляющими собой всего лишь субкультуры внутри единой
языковой системы. Наш анализ опирается, пожалуй, на более утонченный
вариант этой теории, на допущение, что различия в этом отношении порождают
различия в стереотипах деятельности, характерной для данной дисциплины. В той
мере, в какой дисциплина располагает разработанным специальным словарем,
описывающим явления, находящиеся за пределами обыденного опыта, возможно,
что и структуры мышления ее членов отличаются от структур представителей
других областей знания. Но поскольку все они пользуются общим повседневным
словарем, нам кажется, что категорический тип объяснения явлений гипотезой
Сепира—Уорфа не очень поможет нам в понимании основ, на которых
складываются междисциплинарные различия» [50, с. 43].
Этот ход рассуждений, когда сначала отвергают «наивный вариант гипотезы
Сепира—Уорфа» с тем чтобы допустить «более утонченный вариант этой теории»,
а затем застрять в недоумении перед фактом «пользования общим повседневным
словарем», типичен в той части, что действительно трудную задачу поиска
механизма дифференциации науки, как и аналогичную задачу поиска механизма
дифференциации языков пробуют решать, по нашему мнению, не с того конца, как
если бы основная трудность состояла в том, чтобы уразуметь, с чего бы это
дисциплинам делиться, умножаться в числе, понять «основы, на которых складыва-
358
М.К. Петров
ются дисциплинарные различия», а не в том, чтобы уразуметь, как возможна
практически неограниченная дифференциация когнитивно-социальных единиц
познания при сохранении коммуникативной целостности этого
дифференцирующегося комплекса.
По данным Национального регистра научных и технических кадров
Национального научного фонда США в конце 1960-х гг. в США насчитывалось около
100 главных специальностей и в их пределах около 1000 узких специальностей
[69, с. 71]. Н.Сторер справедливо замечает: «Даже Национальный регистр,
составленный в ходе консультаций с экспертами из всех отраслей науки, не может
служить полностью надежным руководством в вопросах о том, насколько далеко
зашла дифференциация научного сообщества. Действительно, происходящие из
года в год изменения в схеме категорий специальностей и жалобы ученых, для
потребностей которых любая данная схема оказывается не совсем адекватной,
указывают на почти неодолимые трудности на пути создания всеобъемлющей
организационной карты науки» [69, с. 71].
Условием осуществимости подобной «карты» Сторер считает однозначное
соответствие между миром открытий и представлением его фрагментов в науке:
«Если бы существовал единственный «лучший» способ категоризации и описания
явлений природы, у нас было бы научное сообщество, организация которого была
бы совершенным отражением нашего понимания организации природы» [69, с.
60]. И основания для веры в присутствие подобной организации в природе по
Стореру в общем-то есть: «Задачей науки, как социального института является
умножение эмпирического знания. Другими словами, ее цель состоит в
конструировании наборов, описывающих реальность символов, которые становятся все
более и более достоверными, экономными и всесторонними... Приняв эту
«чистую» цель науки, мы видим, что деятельность, направленная на ее достижение, в
конечном счете должна отправляться от посылки о наличии «вне нас» одной
реальности, пусть ее отдельные части и их взаимозависимости и символизируются
самым различным способом. Эта посылка зиждется и на логических, и на
опытных основаниях; она не только подкрепляется всем опытом жизни человека во
Вселенной, но и логически необходима, коль скоро ученые должны быть
уверены, что их исследования имеют смысл... Если бы за человеческими мысленными
образами не стояла «реальность» или если бы наиболее важные аспекты
реальности отличались произвольными беспорядочными изменениями, у нас не было
бы возможности создавать об этой реальности заслуживающие доверия знания.
Непосредственный опыт наших опытов чувств убеждает нас, однако, в том, что
внешняя реальность существует и что она организована и устойчива в своих
фундаментальных характеристиках. Сама неподатливость мира, его упрямый отказ
действовать в соответствии с нашими желаниями и верованиями, если они не
соответствуют правилам, которые управляют им, достаточны для того, чтобы
утвердить эту веру в реальность» [69, с. 57—58].
Мы не очень уверены в том, что основанная на непосредственном опыте
наших чувств и на требованиях логики вера в этакую существующую,
организованную, устойчивую «в своих фундаментальных характеристиках», неподатливую
и упрямую реальность может быть крепкой верой, исключающей, скажем, или
хотя бы делающей излишним аргумент фон Брауна: «Поскольку во Вселенной
обнаруживается некое устройство, должен быть и его Конструктор» [157, с. 200].
Здесь, похоже, мы имеем дело с тем же биологическим в своей основе,
принадлежащим к эманации естественности эффектом переворачивания истории в
парадигматику, в данность правил, систем организации.
В биологии этот акт переворачивания, сопутствует ли ему постредакция или
нет, имеет в общем-то тот же смысл бегущей по возрастному движению точки,
которая отсекает исторические изменения окружения как несущественные для
жизни особи и переводит в наличную данность собственное окружение и его
«фундаментальные характеристики», прежде всего репродуктивные характеристи-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 359
ки, с которыми приходится считаться и к которым приходится подстраиваться,
если высшая цель любых живых систем — выживание. В эту биологическую
«картину мира», картину «реальности» явно не входят логические постулаты
относительно единичности «реальности», ее организованности, «неподатливости»,
«упрямстве», даже если особи принадлежат к видам, использующим постредакцию,
не входят и заботы о приведении их желаний, которые у особей определенно есть
(Сторер, например, замечает: «Кот немедленно просыпается, когда открываешь
дверцу холодильника; автор неоднократно в этом убеждался» [69, с. 58], и их
верований, о наличии которых у животных мы ничего не знаем, в соответствие с
законами и правилами «неподатливого мира, которые управляют им» [69, с. 58].
Любой животный вид, который попробовал бы обзавестись столь жестким
набором врожденных постулатов об единичной «реальности», закрыл бы себе дорогу
к изменениям и вымер, а коль скоро этого не происходит, биологический вариант
бегущей по возрастному движению точки, отсечения исторических изменений и
переворачивания результатов истории в парадигматическую данность приходится
понимать как саморегуляцию особи, ее системной организации, подстраивания
ее желаний и, кто знает, верований к тому, что есть, к наличной данности
неподатливого и упрямого мира, в центре которого эта особь находится и границы
которого она прочерчивает мерой собственных посягательств и досягательств.
Близкую картину мы наблюдаем и в области человеческой естественной
эманации сначала на этапе «от 2 до 5», а затем и на всем возрастном движении, если
оно сопровождается вхождениями в когнитивно-социальные единицы. Но если
сравнить оба варианта, то единственное, на наш взгляд, что следует из этих
сравнений, будет то, что в «чистой единичной реальности» останется только столь же
«чистая» репродуктивная характеристика окружения, кого бы оно ни окружало,
особь или индивида, то есть характеристика, имеющая равную силу для всего
живого, и то также, что только по связи с этой характеристикой в состав
«неподатливости мира», его упрямого отказа действовать в соответствии с «нашими
желаниями и верованиями» попадают у человека и логические посылки относительно
«одной реальности» и опытные основания. Мы бы добавили сюда и
грамматические правила и таблицу умножения, которые не менее упрямы и неподатливы, чем
репродуктивная характеристика мира, но мы определенно воздержались бы от
обратного хода, от движения от неподатливости и упрямости логических
постулатов, способов сказуемости, таблицы умножения к единичности, организованности
и устойчивости мира, поскольку это был бы лишь тривиальный вариант
онтологического доказательства бытия божьего через веру в реальность.
Мы бы не стали вовлекаться в эту «паратеологию», не имей она
непосредственного отношения к попыткам теоретически обосновать единство системы
общенаучной коммуникации, «язык науки» без обращения к постулатам частной
теории лингвистической относительности — «категорический тип (писали бы уж
лучше «категориально-сказуемостный». — М.П.) объяснения явлений гипотезой
Сепира—Уорфа не очень поможет нам в понимании основ, на которых
складываются междисциплинарные различия» [50, с. 43].
Что же может помочь Парсонсу и Стореру? Оказывается, что помочь могут
детализирующие уточнения насчет организованности «реальности», во всяком
случае, помочь Стореру, то есть в терминах «паратеологии» сильно помочь может
такое онтологическое доказательство бытия божьего, которое выделило бы в
действиях творца разумно организованной им реальности и идею разобщения,
дифференциации, предустановленных междисциплинарных лакун: «Далее,
многочисленные наблюдения пространственных и временных взаимосвязей между
физическими событиями говорят нам о том, что внешняя реальность организована в
«сгустки» событий и отношений. Эти сгустки отличаются друг от друга не только
положением в пространстве и времени, но и тем, что изменения в одном сгустке
мало влияют или вовсе не влияют на другой. Чайник, кипящий на плите,
например, не оказывает влияния на кота, спящего в углу кухни; и наоборот, вода веки-
360
M. К. Петров
пает при одной и той же температуре независимо от того, спит кот или
бодрствует» [69, с. 58].
Эти «сгустки» и вариабельность взаимозависимостей между ними (кот —
чайник, кот — холодильник) довольно быстро приводят «паратеологического Сторе-
ра, насыщающего свое доказательство деталями к мысли о сотворенности видов-
дисциплин-проблемных областей, и понятно, к замыканию на теорию Дарвина.
Делается это по линии наделения категорий самостью, то есть в предельно
близком к О.Маслиевой плане: «Систематическое наблюдение эмпирических сгустков
событий ведет к обнаружению различных категорий событий, которые являются
более экономичными описаниями реальности. Здесь не место углубляться в
рассмотрение процессов создания человеком символических категорий. Достаточно
указать на то, что это делается, и что концептуальные различия между
полученными категориями внешних явлений приблизительно соответствуют
действительно существующим различиям между отдельными частями реальности» [69, с. 59].
Словом, чтобы создать дисциплину всемогущему знаку приходится творить и
проблемные области: раз уж придумал колесо, придумывай и дорогу, чтоб было
где ездить.
А дальше, чтобы придать доказательству «научную» составляющую идет
ссылка на Дарвина: «Конечно, «границы», разделяющие эти категории, могут быть и
незаметны с первого взгляда, и их можно прочертить различным образом, если
принять различные критерии разделения. Дело не только в том, что люди часто
с трудом достигают согласия, относительно этих критериев, относительно того,
какие и где проводить границы, но и в том, что сама история науки в известном
смысле есть история того, как люди пытались опознать и проанализировать
важнейшие сгустки и категории составляющих реальность событий. В этой связи
«Происхождение видов» Дарвина представляет собой творческий и в высшей
степени эффективный ответ на вопрос о том, как объяснить границы, которые мы
обнаруживаем между различными категориями растений и животных,
называемыми видами» [69, с. 59].
С этой же идеей вида-сгустка-категории следует подходить и к анализу
«основ, на которых складываются междисциплинарные различия»: «Процесс
выявления и анализа сгустков и категорий естественных событий называется
научным исследованием. Это — кропотливая, требующая много времени работа.
Одному человеку обычно не хватает всей жизни, чтобы сосредоточиться на сколь-
нибудь большом числе этих сгустков. Поэтому неизбежно происходит так, что
важным стечениям естественных событий соответствуют «сгущения» людей,
занятых их исследованием. Научное сообщество дифференцируется, таким образом,
примерно так же, как разделяются на определенные категории явления природы,
так что в каждый данный момент организация науки приблизительно отражает
достигнутое в этот момент людьми понимание организации природы» [69, с. 59].
Стремление Сторера к стихийному материализму конечно же похвально, но
что здесь от чего объясняется, что берется на правах абсолюта? Дифференциация
науки от «единичной реальности», ее неподатливости и упрямости, или,
напротив, неподатливость и упрямость единичной реальности от неподатливости и
упрямости дифференциации науки? Нетрудно понять, что если от одного из
зафиксированного Сторером моментов, когда «организация науки приблизительно
отражает достигнутое в этот момент людьми понимание организации природы»,
прокрутить, по рецепту Гегеля, пленку обратно, к началу истории этих
приближений, то она оборвется не на крике новорожденного, а на гегелевской картине
мира «до вещей», содержание которой «есть изображение бога, каков он в своей
вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного
духа» [11, с. 103].
Понятно также, что подобная встроенность в объект познания, в мир
открытий «сгустковой» организации природы предполагает ее конечность, иначе не к
чему бы было «приближаться». На каждый «сгусток» такой организации в силу
История европейской культурной традиции и ее проблемы 361
нечеловекоразмерности «сгустка» («Это — кропотливая, требующая много
времени работа. Одному человеку обычно не хватает всей жизни...») предопределено
по дисциплине; механизм приближения, движения к предустановленному пределу
подобия, по Стореру, методом проб и ошибок под воздействием различных
ориентиров и критериев: «В силу существования множества подходов к одному и
тому же явлению и возможности причисления этого явления ко многим
различным категориям (соответственно критериям, употребляемым при определении
категорий) нет такого способа описания природы, который мог бы быть назван
«лучшим». Поэтому и в построении инфраструктуры научного сообщества нет
возможности следовать единому общепринятому правилу» [69, с. 61].
Когнитивно-социальные единицы, как образующие этой инфраструктуры
обретают в процессе ее строительства и самость биологического образца и
конечность строительного материала, установить адекватность которого конечному
плану строительства можно только методом проб и ошибок: «Распределение
ученых по областям, дисциплинам, специальностям и т.д. не может быть поэтому
исключительно логическим. Вместо этого оно может быть описано, как результат
многочисленных компромиссов в ходе действия нескольких определяющих
факторов: перекрывающихся критериев для определения эмпирических категорий;
исторических прецедентов; неполноты наличных научных знаний и некоторых
человеческих потребностей и ценностей (включая как заинтересованность в
решении практических проблем, так и необходимость организации ученых в
дееспособные группы). Подобно видам, интересовавшим Дарвина, организационные
компоненты научного сообщества не абсолютны и не неизменны. Их
«выживание» не есть нечто гарантированное, и про них нельзя сказать, что это самые
приспособленные из всех возможных «видов» организации научных усилий, какие
только можно себе представить» [69, с. 61].
Вместе с тем, по мнению Сторера, проглядывают уже общие контуры
постройки — строительство идет все-таки не с крыши, а с нулевого цикла, который
вряд ли подвергнется перестройкам в будущем, тогда как возведение надстроек
идет в порядке нарастания неопределенности: «Возможно, самое большее, что мы
можем сказать, это то, что рубежи, разделяющие физические, математические,
биологические и социальные науки, прочнее (поскольку они более абстрактны и
существуют уже давно), чем границы, разделяющие дисциплины внутри каждой
из этих областей. В свою очередь границы между дисциплинами прочнее, чем
границы, разделяющие сами дисциплины на специальности. Границы же между
узкими специальностями чаще бывают неформальными и постоянно
меняющимися» [69, с. 61—62].
Но в общем и целом наука на верном пути: «Становится очевидным, что
имеются практические преимущества в нынешней организации научного сообщества
в «рабочие группы» узких специальностей — достаточно небольшие, чтобы
облегчить эффективную коммуникацию и постоянную гибкость, и в то же время
входящие в более обширные и более формальные группы, в которых все еще
сохраняются общие научные интересы и которые при этом удобны с точки зрения
администрирования. Было бы невозможно обойтись без всякой администрации (в
пользу чего, кажется, выступают некоторые ученые на том основании, что
подразделения на самом низшем уровне представляются слишком произвольными),
но в равной степени невозможно организовать научное сообщество так жестко,
чтобы границы между составляющими его частями никогда не нарушались. И
какой бы нелогичной ни казалась инфраструктура науки с точки зрения любого
единого критерия, она, по всей видимости, представляет собой нечто
приближающееся к оптимальному компромиссу между несколькими конкурирующими
критериями, каждый из которых имеет отношение к реальной ситуации» [69, с. 62].
Таким образом, перед нами две принципиально различные позиции в
понимании природы целостности системы общенаучной коммуникации, способа ее
существования и преемственного функционирования.
362
M. К. Петров
Одна из них, она довольно подробно описана у Н.Сторера с опорой на
«парадигму 60-х» Р.Мертона, в методологическом плане стремится, хотя и не всегда
в явной форме, прорвать ограничения частной теории лингвистической
относительности и, соответственно, человеческой метрики, выйти в общую теорию
лингвистической относительности. У Сторера эти попытки выливаются в паратеоло-
гическое конструирование конечных ориентиров явно нечеловекоразмерной
природы. Он предлагает организованную в «сгустки» систему единичной реальности
мира открытий, которая, по его мнению, делает осуществимой как идеальную
целостную систему научной организации, так и производную от нее систему
общенаучной коммуникации. И организационная и коммуникационная системы
должны уподобляться системе интеграции мира открытий, как она представлена в
«сгустках» и следовать модели их распределения. Такие системы явно не проходят
тест на перевод научно-статических описаний в динамические, неприводимы к
человеческой метрике, требуют привлечения всеведущего и всемогущего автора,
и на этом основании они должны быть отвергнуты, по нашему мнению, как
неработоспособные и неосуществимые.
Другая позиция, ее мы пытаемся обосновать методом поиска объединенной
антрополого-лингвистической парадигмы, учитывающей возможную
функциональную нагрузку противоречий доисторического и исторического
(компаративисты), диахронии и синхронии, языка и речи (структурализм), нормы и
революции (науковедение) сохранения человеческой метрики познания в условиях нече-
ловекоразмерных потоков новых результатов, приобретает по ходу наших
попыток все более отчетливый акцент на возрастном движении индивидов как на
первостепенном интегрирующем основании, прямо или опосредованно
выступающем в роли условия осуществимости всех человеческих систем, по какому бы
поводу они ни возникали, и несущем множество функций самостного,
санкционирующего, удостоверяющего, оценивающего, принимающего или отвергающего
характера.
Набор или совокупность функций возрастного движения сравнимы, по
нашему мнению, с соответствующим набором функций, который биологи связывают
обычно с естественным отбором, с представлением о среде как о нагруженном
рядом существенных для жизни факторе, без учета действия которого невозможно
понять ни наблюдаемое многообразие форм жизни, ни их пестроту и
взаимозависимость, ни их появление и исчезновение. Но сам этот фактор, его
присутствие, состав и способ действия в свою очередь нельзя опознать, выделить и понять
без учета другого фактора — изменчивости, порождения мутационного разброса
в каждом появляющемся на свет поколении особей данного вида — участника
наличной мозаики форм жизни.
Мы возвращаем читателя к этим тривиальным истинам из текстов Ту, из
области «пройденного» и, возможно, «забытого» (подобно школьному курсу
математики или грамматики) не с тем, чтобы сообщить нечто новое и противоречащее
Ту истинам относительно теории Дарвина (хотя, как мы помним, бывают и такие
наборы текстов Ту, где о Дарвине не упоминают или уделяют равное время на
«гипотезы» Моисея и Дарвина), а с тем, чтобы сообща попытаться взглянуть на
ситуацию взаимодействия между этими двумя факторами, отличительной чертой
которой признается селекция на выживание, взглянуть со стороны среды,
окружения, раз уж мы допустили сходство наборов функций среды и возрастного
движения индивидов.
Право на попытку такого уподобления мы видим в том, что оба фактора суть
факторы естественные, в которых по нормам Ту культуры заказано подозревать
присутствие атрибута разумности: человек как существо естественное идет по
жизни, по возрастным периодам, возрастным группам столь же независимым от
его атрибута разумности способом, что и органические и даже, если они
подвержены изменениям во времени, неорганические составляющие той мозаики,
которая образует, так сказать, «словарь», предположительно конечный, одушевленных
История европейской культурной традиции и ее проблемы 363
и неодушевленных наличных форм жизни и существований в диссоциации (в так-
сономиях, типологиях, классификациях, таблицах), а в ассоциации, в отношении
к выделенному данному виду — некое организованное этим видом целое, которое
мы обычно и называем собирательными терминами «окружение», «среда»,
«природа», «экологическая ниша» и т.п., редко уточняя весьма существенный для нас
нюанс, идет ли речь о диссоциации-словаре, или об ассоциации-системе того или
иного конкретного живого вида.
Выдвигая предположение о подобии набора функций возрастного движения и
среды, мы сразу же должны оговориться, что имеем в виду ассоциированное
понимание среды и только его, то есть генерализируем и переводим в ранг
естественной биологической универсалии определенное свойство живых систем
создавать на биологическом уровне и передавать по биокоду «релевантные», так
сказать, теории окружения, в которые с одной, специфицирующей стороны, входит
определенная часть диссоциированного «словаря» живых и неживых форм
окружения, а с другой, унифицирующей стороны — жизненные потребности особей,
выраженные в терминах этого «словаря» с опорой на частотную характеристику
появления соответствующих реалий в области достижимости или
непосредственного контакта особей данного вида.
Назовем этот класс «релевантных» теорий частной теорией онтологической
относительности, вкладывая в прилагательное «частная» смысл отнесенности
любой такой теории к вполне определенному виду животного или растительного
царства, конечный характер описываемой такой теорией системы «вид—среда», в
которой элементы «словаря» окружения представлены в ассоциации, а не
диссоциации и, соответственно, если вид существует, все статические научные
описания такой системы переводимы в динамические в рамках типичного для
данного вида текущего значения динамического тезауруса особей (если вид не
использует постредакции), взрослых особей (если вид использует постредакцию),
естественной социальности (если вид использует биологическое
специализирующее кодирование), когнитивно-социальной единицы (если биологически и
генетически недостаточный вид использует язык для специализирующего
кодирования и познания).
В отличие от частной теории онтологической относительности, где всегда
выполняется постулат переводимости всех статических научных описаний
построенных на ее основе систем «вид—среда» в динамические описания в терминах
текущего значения динамического тезауруса одного и только одного из
представленных в диссоциированном «словаре» наличных биологических видов, обшей
теорией онтологической относительности мы назовем такую теорию, правила
которой предусматривают при построении систем перевод части или всего состава
«словаря» наличных биологических или иных форм жизни и существования из
диссоциации в ассоциацию-систему, но по тем или иным причинам не требуют
указания в этом диссоциированном «списке» наличных биологических видов на
тот конкретный вид, в терминах текущего динамического тезауруса которого все
научные статические описания ассоциации-системы могут быть переведены в
динамические.
Систем, построенных по правилам общей теории онтологической
относительности не так уж мало появляется и сегодня. Рассуждения Н.Сторера, например,
о единичной реальности, ее «сгустковой» организации, неподатливости, упорстве
по критерию непереводимости в любой из зафиксированных в «списке» наличных
видов динамический тезаурус следует отнести к частной реализации общей
теории онтологической относительности. В Ти культуре господствовала общая теория
онтологической относительности, основанная на признании акта божественного
творения, и хотя с начала XIX в. ссылки на динамический тезаурус бога, как на
условие осуществимости ассоциации-системы окружения, в неявном виде они
всегда присутствуют. Классическим случаем такого скрытого присутствия может
служить рассуждение Александра Гумбольдта, вынесенное Д.Найтом в эпиграф
364
M. К. Петров
своей работы: «Наиболее важной целью рационального изучения природы
является, таким образом, установить единство и гармонию этой громадной массы
силы и материи, определить с непредвзятой справедливостью, что здесь сделано
благодаря открытиям прошлого, а что благодаря открытиям наших дней и
анализировать индивидуальные части естественных феноменов, не подчиняя их
давлению целого. Так и только так дозволено человеку, который задумывается о
высоком назначении человеческого рода, понимать природу, срывать покровы, за
которыми скрыты ее феномены, и как бы представлять результаты наблюдений
на суд разума и интеллекта» [131, с. 9].
Различение частной и общей теории онтологической относительности полезно
для нас в частности и потому, что только в рамках частной теории
онтологической относительности возможно сформулировать сколько-нибудь состоятельную
теорию лингвистической относительности, которая также будет частной,
вписанной в частную онтологическую в том же смысле отнесенности к конкретному
биологическому виду — к человеку — и нести явные знаки человеческой метрики.
Для этого нам как раз и нужно уподобление наборов функций возрастного
движения и среды, которое опять-таки выполняется только в системах, построенных
по правилам частной теории онтологической относительности.
В таких системах «вид—среда» распределение ролей между средой
(ассоциированное потребностями вида окружение) и возрастным движением особей в
обычном случае биологической и генетической достаточности совершается таким
способом, что фактор изменчивости создает и поддерживает многообразие
выбора, передавая его в популяцию, в возрастное движение, в котором на периоде
жизни особей идет не только комплексная придирчивая проверка программ
поведения особей со стороны составляющих ассоциированной среды, в числе
которых как правило во множестве представлены и биологические виды, каждый из
которых с той или иной жесткостью определяет поведение особей живущей
популяции на всех этапах их возрастного движения, но и активный
«индивидуальный» массовый зондаж среды—ассоциации, проверки ее на присутствие
выявленных прошлыми поколениями составляющих, попытки методом проб и ошибок
включить новые составляющие, уточнить ареал распространения
среды—ассоциации, включить в него новые области или исключить те, в которых не
выполняются, выполнявшиеся в прошлом и зафиксированные в биокоде ожидания
особей. Понятно, что в ситуациях зондажей активность обоюдна: среда тестирует
поведение особей по множеству переменных и особи живущей популяции
тестируют среду по множеству составляющих ассоциации, причем конечные результаты
могут быть самыми различными как для вида, так и для среды—ассоциации.
В экстремальных случаях может исчезнуть вид, как исчез, по данным медиков,
возбудитель оспы. Исчезает соответственно, и система «вид—среда» и ее среда-
ассоциация без ущерба, соответственно, для ее составляющих, у которых свои
системы и свои среды—ассоциации, где исчезновение одной из составляющих
вовсе не обязательно ведет к катастрофе.
Системы «вид—среда», удовлетворяющие частной теории онтологической
относительности, к которым мы причисляем и систему «человек—среда», особенно
интересны для нас в том отношении, что четко выраженная поляризация их
структур позволяет получить на среднем периоде жизни особей (индивидов)
принципиально различные последовательности карт-кадров для особей и для
людей, если, скажем, устанавливать камеры по потоку возрастного движения
или против него.
Для первого случая — «камера по потоку» — достаточно будет обычной
съемочной оптики с одним объективом, установленным по оси движения. Если
плоскость кадра принята в качестве рамки ментальных и физических
возможностей особи или человека, то есть камера неотступно следует за субъектом (особью
или человеком) на расстоянии, которое не стесняет поведение субъекта, но
достаточно для «единства апперцепции», постоянного присутствия субъекта в кадре,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 365
какие бы поступки, подчиняясь всякий раз предположительно конечному набору
мотивов и побуждений он ни совершал, то полученные этим способом «камера
по потоку» фильмы жизни для биологически и генетически достаточных особей
и для людей обнаруживали бы как сходства, так и различия.
Сравнивая такие фильмы жизни (гипотетические, естественно), мы могли бы
с большой долей вероятности обнаружить, что все их, будь то фильмы особей
или людей объединяет общая черта — все они обладают достоинством единства
апперцепции от первого до последнего кадра. Нас можно было бы обвинить в
логическом круге: коль скоро мы определили на правах условия съемки фильма,
что камера следует за особью или индивидом на расстоянии постоянного
присутствия субъекта в кадре, то субъекту попросту некуда деться и фильм жизни любой
длины будет заведомо обладать достоинством сохранения единства апперцепции
в любом кадре, и в этом узко логическом смысле обвинение было бы
справедливо. Но суть дела не в том, что мы ставим ограничивающие условия, которые
обеспечивают сохранение единства апперцепции во всех кадрах фильма жизни, а
в том, что у нас есть и эмпирически и теоретически подтверждаемое право
задавать эти ограничивающие условия насчет кадра, отражающего ментальные и
физические возможности субъекта (особи, индивида) и насчет дистанции следования
камеры, если, понятно, субъектам не дано раздваиваться, выходить за рамки
тождества по числу самому себе в процессе возрастного движения.
Такое право вытекает, скажем, из определения Аристотелем первой сущности:
«Главная особенность сущности — это, надо полагать, то, что, будучи
тождественной и одной по числу, она способна принимать противоположности, между
тем об остальном, что не есть сущность, сказать такое нельзя» [Категории, 4 а].
Нас такое определение первой сущности, единичной целостности, способных
быть в предложении только подлежащим, отвечающим на вопросы «кто?, что?»,
вполне устраивает: «Одна первая сущность не в большей мере сущность, чем
другая. Ведь отдельный человек есть сущность нисколько ни в большей мере, чем
отдельный бык» [Категории, 2 Ь].
Снятые способом «камера по потоку» фильмы жизни будут схожи и в том
отношении, что и у особей и у людей в процессе их возрастного движения будут,
производно от частоты, более или менее четко прорисовываться и отрабатываться
стандартные модели поведения в стандартных ситуациях, связанных с
вхождением в кадр и кратковременным в нем присутствием реалий внешнего окружения,
представителей среды—ассоциации. Но здесь же обнаружатся и резкие различия
между фильмами жизни особей биологически и генетически достаточных видов
и людей.
Сравнивая фильмы жизни особей мы обнаружили бы их относительное
подобие и по порядку появления стандартных моделей поведения и по составу
стандартных реалий окружения, попадающих время от времени в кадр и вызывающих
акты поведения по соответствующим моделям. Конечный результат сравнения
таких фильмов, если бы в выборке был представлен и мутационный разброс, дал
бы в наборе стандартных моделей, а равно и в наборе реалий, составляющих
среды окружения ореолы, то есть вокруг четко прочерченных моделей поведения
и реалий среды—ассоциации, связанных с этими моделями появились бы
факультативные вариации — тени, в составе которых могли бы оказаться и явные
отклонения от стандарта, переходящие в норму, и реалии среды, которые,
появляясь факультативно, обретали бы ритм и статус стандартных составляющих
среды—ассоциации.
Фильмы жизни людей будут значительно отличаться от фильмов
биологических особей в том отношении, что во всех человеческих фильмах уже в самом
начале появится жесткий и четкий комплексный «инфильтрат» моделей речевого
поведения, не связанный однозначно с появлением в кадре конкретных реалий
среды—ассоциации (быка, скажем, или человека), и этот «инфильтрат не
исчезнет из кадра уже до конца фильма. Кроме того, появляющиеся, как и в биоло-
366
М.К. Петров
гических фильмах стандартные модели поведения, связанные с периодическими
вхождениями в кадр реалий окружения, будут давать типологический разнобой —
более или менее четко в зависимости от типа культуры прочерчивать
специализированные системы «человек—среда», в каждой из которых будут соблюдаться
правила частной теории онтологической относительности, сохраняться
фиксируемый в начале ленты «инфильтрат» и добавляться к нему свои особые для данной
системы «инфильтраты» того же неоднозначного и универсального типа.
Соответственно и совокупная среда—ассоциация, выделенная на базе человеческих
фильмов, примет расчлененный вид множества подассоциаций, каждая из которых
будет входить в свою подсистему «человек—среда», а вопрос об единстве этих
подсистем в синхронном срезе возрастных движений (по возрастной группе,
скажем, 45) по какому-то более обязывающему подсистемы интегрирующему
основанию, чем просто ассоциация терминалов возрастных движений индивидов,
будет оставаться открытым.
При всем том, и для фильмов жизни особей и для фильмов жизни людей
будет неуклонно соблюдаться, включая (для людей) и подсистемы — терминалы
возрастного движения, преемственная, замкнутая на особь или индивида
целостность происходящего в кадре, что позволяет, если принять определение первой
сущности Аристотеля, указать вполне конкретные значения дистанции, на
которой камера должна следовать за особью или индивидом, чтобы субъект и его
действия сохранялись в кадре до конца фильма.
Второй случай — «камера против течения» — более сложен в исполнении,
хотя в общем-то близкая по назначению техника довольно широко используется
на ускорителях для фиксации предсказанных теоретиками событий с малой, но
предположительно отличающейся от нуля вероятностью. Раньше для этого
использовались многочисленные команды терпеливых девушек, способных
просмотреть серии в сотни тысяч снимков в поисках предсказанного события и
иногда они его обнаруживали, подтверждая правоту теоретиков и теорию
вероятностей. Теперь этим заняты прозаические автоматы, нацеленные на искомое
событие. Для второго случая нужны камеры, в определенном смысле подобные
таким автоматам, если их перестроить на поиск и фиксацию предзаданного
множества событий, вероятность каждого из которых на периоде жизни особи или
индивида заведомо отлична от нуля. Основная трудность здесь состоит в том, что
в отличие от первого случая «камера по потоку», где требуется нормальное
видение с одной «точки зрения», однообъективная или «унифацетная» техника
съемки, для второго случая — «камера против течения» — требуется наблюдение со
многих точек зрения, «мультифацетная» оптика, способная поставить по глазу-
объективу на каждую из выявленных по данным анализа картин жизни
составляющих среды—ассоциации, а также каким-то способом синхронизировать съемку
так, чтобы «мультифацетное» зрение, четко выделяя рамки основного фильма
жизни и фрагментируя кадр по стандартным областям, в которых появляются
реалии составляющих среды—ассоциации, вело еще и сканирующий поиск в
примыкающих к рамке кадра сопредельных областях возможных «самовольных
отлучек», до границ прутковского «ужасно далеко». Техника такой съемки была бы,
надо полагать, невероятно сложна, как и техника анализа таких фильмов,
особенно в части идентификации реалий, которые получают вероятность вхождения
в кадр и контакта с субъектом основного фильма жизни, но не реализуют ее,
оставаясь объектами неопознанными и невоспринимаемыми субъектом.
Что сопредельные области между рамками кадра основных фильмов жизни и
границами «ужасно далеко» заведомо не пусты, показывает развитие в нашей
научной картине мира суммы представлений о фундаментальной номотетике
среды—ассоциации системы «человек—среда», которая постоянно пополняется
новыми составляющими. Только за последние тысячелетия человечество вывело
из состояния невоспринимаемой и неосознаваемой данности, перевело в
проблемные области интенсивного изучения такие номотетические составляющие,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 367
как невесомость, радиоактивность, активность Солнца и ее колебания, СВЧ фон
Земли и многое другое, причем практически всякий раз по поводу серьезных
нарушений человеком глобальных или локальных номотетических характеристик,
приводивших к достаточно серьезным и незапланированным следствиям.
Сами по себе фильмы, отснятые мультифацетной техникой по принципу
«против течения», даже если они оказались бы практически осуществимы и по
части съемки и по части дешифровки отснятого, вряд ли могли бы внести
серьезный вклад в человеческое познание на уровне умножения эмпирических знаний,
да и весь этот разговор о фильмах жизни, отснятых «по течению» и «против
течения», мы ведем не к тому, чтобы предложить еще одну демонстрацию
комплекса Архимеда. Методологическая ценность и даже необходимость в современных
условиях этого разговора, постановки и обсуждения проблем унифацетного и
мультифацетного видения процесса возрастного движения в его функции
интегратора систем, удовлетворяющих постулатам частной теории онтологической
относительности, мы видим в том, что различения «по течению» и «против
течения», «унифацетность» — «мультифацетность» помогают нам, во-первых,
идентифицировать предлагаемые сегодня во множестве модели интеграции мира по
разным основаниям и, во-вторых, и это на наш взгляд более важно, — осознать, что
системы обшесоциальной (общенаучной, общедисциплинарной...) коммуникации
в их опоре на возрастное движение используют его не только для
переворачивания истории в парадигматику с резкой редукцией накопленного материала
различений, но и для перевода «унифацетного» целостного представления о мире в
«мультифацетную» и более емкую форму видения мира в разобщении, в
фрагментации, с растущего многообразия наблюдательных пунктов, «точек зрения»,
каждая из которых, выстраивая терминальную систему «человек—среда», сохраняет
все же связь с целым, используя возрастное движение как своего рода нерв,
который хотя и с трудом, но приводит в единство данные мультифацетного видения
мира через парадигмы дисциплин, специальностей, исследовательских групп и
направлений. В нашей Ту культуре на правах такого нерва, приводящего мульти-
фацетное видение мира к целостности общесоциальной точки зрения, выступают,
бесспорно, тексты Ту.
В плане методологической ориентации различения «по течению» — «против
течения» помогают без особого риска определить, что Н.Сторер в своих
рассуждениях о единой реальности, имеющей сгустковую организацию, в неявном виде
движется «против течения», не пройдя предварительно «по потоку», поэтому у
него должны обнаруживаться трудности в отнесении предлагаемой им
онтологической структуры единичной реальности к субъекту, к «первой сущности», и эти
затруднения действительно обнаруживаются, поскольку, если верен наш постулат
о субъективной истинности, который требует переводимости всех статических
описаний системы в динамические, то существо, ответственное за подобную
онтологическую структуру мира, как объекта познания, обязано было бы обладать
не только всеведением и всемогуществом, что проходило бы по Ти норме, но и
мультифацетным глазом, позволяющим, подобно Национальному регистру
научных и технических кадров Национального научного фонда США, фиксировать и
удерживать сгустки в различении, понуждать их «различаться друг от друга не
только положением в пространстве и времени, но и тем, что изменения в одном
сгустке мало влияют или вовсе не влияют на другой» [69, с. 58]. А это не
проходило бы и по нормам Ти культуры, поскольку человеческий глаз и тогда считался
самым совершенным творением естественной оптики, тогда как все устройства
мультифацетного зрения признавались значительно менее совершенными.
Состав наших обвинений к Н.Стореру сводился бы к тому, во-первых, что для
нарисованной им картины онтологической структуры «сгустковой» единичной
реальности невозможно было бы указать отснятый в технике «по потоку» фильм
жизни особи или популяции особей того или иного биологического вида,
включая и человеческий, поскольку «начало» Сторера — синхронный срез фильмов
368
M. К. Петров
жизни проходит не по первым крикам младенцев, а по периодам возрастного
движения, которые располагаются заведомо позже текстов Ту, в области, где
изначальное единство потока возрастного движения индивидов («первых
сущностей», субъектов картин жизни) уже потеряно, и прямая коммуникация между
«сгустками» (дисциплина, специальность, исследовательская группа), которая
могла бы связывать события в одном «сгустке» с событиями в другом отсутствует
или крайне затруднена («коридорная ситуация») и может осуществляться только
опосредованно через иерархию воспитателей, через изменение действующих
текстов Ту.
Несколько иная ситуация в онтологии общей теории систем. Здесь
постулируется принципиальная возможность создания одного-единственного фильма
жизни в технике «по потоку»: в числе задач общей тории систем постоянно
упоминается «вертикальная интеграция» естественнонаучных дисциплин и
«унификация подготовки научных кадров». Критик общей теории систем Р.Лилиенфельд,
опираясь на анализ литературы, публикуемой сообществом общей теории систем,
так описывает область ее притязаний: «Большинство этих журналов предлагает
материал двух резко отличных типов: 1) статьи и отчеты узкотехнического,
специального плана, сфокусированные на конкретных проблемах дисциплины; 2)
большое число очерков и статей «миссионерской» природы, адресуемых не только
коллегам по дисциплине, но и публике вообще. Эти статьи стараются втолковать
несведущим, насколько велико значение работы, совершаемой в рамках данной
дисциплины. Практически все, ведущие исследования в этой области, уверены,
похоже, что их работа имеет не только «техническую» ценность, но есть нечто
большее. Они убеждены в том, что их открытия и развитые ими концепции
имеют огромное философское, социальное и даже религиозное значение. Они
предлагают новые образы человека и общества, бога и сотворенного человека, их
взаимоотношений. Кроме этих миссионерских статей в профессиональных
журналах возник особый, третий тип публикации: адресованные широкой публике
книги и антологии, в которых пытаются объяснить несведущим, что вообще
означают эти области исследования. С помощью таких публикаций миссионерская
активность научных работников прорывает ограничения профессиональных
средств коммуникации, предстает попытками установить прямой контакт с
широкой публикой» [136, с. 1—2].
Лилиенфельд обвиняет системников во многих грехах и прежде всего в
философской беспомощности и бесплодности, компенсацией чему и служит, по его
мнению, миссионерская их активность, работа на публику, идеологизация.
Онтология общей теории систем предстает по Лилиенфельду вариантом идеологии
Карла Манхейма, предстает, как образ мира, который призван максимизировать
социальный престиж и власть в интересах одной из групп, но явно не способный
нести такую нагрузку: «Предлагаемый теоретиками систем образ мира показан в
его философской и научной мишуре как нечто не способное стоять на
собственных опорах» [136, с. 3]. Действительно, анализируя мировоззренческие претензии
популяризаторов теории систем, Лилиенфельд не обнаруживает в них ничего
существенно нового: «Теория систем — новейшая попытка сотворить миф о мире,
основанный на престиже науки. В более ранние времена подобные мифы
создавались вокруг других образов, обладавших силой захватывать человеческое
воображение. Лет 500 тому назад интеллектуалы разрабатывали образы и словарь
теологии, позднее — философии, сегодня они заняты словарем науки или, вернее,
лишенной почвы философией науки» [136, с. 249].
Не отмечается и каких-либо новых вкладов в решение философских проблем:
«Предлагаемая теоретиками систем «философия» ни в коем отношении не
является единой философией. Обещания системников вроде Ласло и Пеппера дать на
основе системного мышления «новый ответ на вопрос о смысле жизни» —
претенциозная чепуха. Теория систем щедро раздавала подобные обещания, которые
никогда не выполнялись. Базовыми формами мышления в теории систем оста-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 369
ются классический позитивизм и бихевиоризм, что в плане эпистемологии ничуть
не приближает философию к решению проблемы дуализма Декарта. Теория
систем пытается снять этот дуализм путем механизации мышления и восприятия,
точнее — путем конструирования механических моделей мысли и восприятия...
Не остается ни единого пункта, о котором можно было бы сказать, что именно
здесь проходит связь между субъективностью и материальными процессами.
Решение, если они вообще имеют его, состояло бы в отрицании права
субъективности на существование. Процедуры кибернетиков, аналитиков нервных сетей,
теоретиков коммуникации направлены на механизацию субъективности, то есть
на механизацию человека и на персонализацию компьютеров и других «систем»
[136, с. 249-250].
В первой части мы уже говорили о задачах, страдающих комплексом Архимеда
и о склонности отчаянных кибернетиков к постановке таких задач, об их угрозах
творить новые цивилизации, если им дадут «точку опоры» — четкое определение
мышления, интеллекта. Но Лилиенфельд имеет в виду не только эту хорошо
выявленную и документированную линию критики. Его критика
философско-научной стороны дела развивается не только в плане обвинений теоретиков систем в
отсечении человеческих ценностей, в «механизации» человека, его способностей
воспринимать и мыслить. Здесь как раз критика Лилиенфельда следует общей
линии, которую сам он называет «птолемеевской революцией в философии», в
результате которой человек снова оказывается «в центре своей вселенной» [136,
с. 250]. Но он подчеркивает, что и с точки зрения методологии современного
естествознания теория систем явно оказывается не на высоте: «Независимо от
событий в философии мыслительные модели системников разоблачают себя в свете
современной физики как безнадежно устаревшие. И все-таки далеко не все
стараются вывести соответствующие заключения из этих событий, менее других
системные мыслители. А ведь главное в том, что открытия в «современной науке»
по своей природе таковы, что на их фоне системные концепции выглядят
устаревшими еще до их появления» [136, с. 250].
Этот второй план критики теории систем Лилиенфельд подкрепляет ссылками
на Гейзенберга, на его взгляды на соотношение между естественными и
формализованными языками: «Одной из наиболее важных черт развития анализа в
современной физике является уяснение того, что концепты естественного языка
при всей их слабой определенности оказываются в ходе расширения знания более
устойчивыми, чем точные термины научного языка, извлеченные, как
идеализации из ограниченных групп феноменов. И это не так уж удивительно, поскольку
концепты естественного языка формируются в непосредственной связи с
реальностью, представляют реальность. Верно, конечно, что они не так уж хорошо
определены и могут поэтому претерпевать изменения в последовательности
столетий, как претерпевает изменения и сама реальность. Но они никогда не теряют
непосредственной связи с реальностью. С другой стороны, научные концепты
суть идеализации. Они производны от опыта, полученного с помощью точного
экспериментального оборудования. Эти концепты точно определены через
аксиомы и ограничения. И только благодаря этой точности определения становится
возможным связать концепты с математическим аппаратом, вывести
математически бесконечное разнообразие возможных феноменов в данной области. Но по
ходу этого процесса идеализации и точного определения теряется
непосредственная связь с реальностью. Концепты продолжают весьма близко соответствовать
реальности в той части природы, которая была объектом научного исследования.
Но соответствие может быть потеряно в других частях, содержащих другие
группы феноменов» [136, с. 250—251].
Критика Лилиенфельда направлена в основном против некритического
использования математического аппарата как средства предметной экспансии,
экстраполяции концептов, полученных для одной группы феноменов, на другие
группы. Везде он обнаруживает у системников эту необоснованную экстраполя-
24 М.К. Петров
370
M. К. Петров
цию, старается показать и доказать бесплодность хода от математики к
реальности, если ему не предшествует ход от реальности через эксперимент и
идеализацию к математике. Только этот предшествующий ход открывает, по Лилиенфель-
ду, путь к обнаружению средствами математики «бесконечного разнообразия
возможных феноменов в данной области». И для каждого хода, для каждой области
это будет свое особое разнообразие.
Результаты такой критики онтологических концепций теории систем
оказываются довольно неожиданными. Комментируя высказывания Гейзенберга, Лили-
енфельд пишет: «В этом случае научному мировоззрению приходит конец.
Понятие научной несомненности свергается не только на атомном уровне квантовой
физики и не только на уровне вытеснения старых механических понятий
определенности и каузальности вероятностными концептами, но и в самой теории
вероятностей: представление о том, будто вероятности сами по себе фиксированы,
устойчивы, замкнуты, — иллюзорно. Таким образом оказываются свергнутыми и
громоздкие конструкции кибернетиков, основанные, как и положено быть, на
«упрощающих допущениях» насчет устойчивых вероятностей, на чем и стоит все
здание автоматов» [136, с. 251].
Такая акцентирующая на избыточной жесткости математических формализмов
критика онтологии теории систем, фундамента, на котором «стоит все здание
автоматов», используется Лилиенфельдом для разворота основного удара по
системникам в план понятой по Манхейму конфронтации идеологии и утопии.
Системники в таком ракурсе — типичные идеологи технократии, работающие в
режиме научной апологетики существующего положения дел: «Концепт
«идеологии» отражает одно из проявлений, возникающих из политического конфликта,
а именно то, что правящие группы способны в своем мышлении стать настолько
привязанными собственными интересами к ситуации, что они становятся
попросту не в состоянии видеть определенные факты, которые могли бы подорвать их
чувство превосходства. В слове «идеология» имплицитно содержится
представление о том, что в определенных ситуациях коллективное подсознательное групп
затемняет реальные условия жизни общества как для себя, так и для других, и
этим способом стабилизирует общество» [136, с. 260].
Вместе с тем, теорию систем можно, по Лилиенфельду, с равным успехом и
в рамках утопии — столь же слепой и обскурантистской критики условий жизни
общества: «Концепт утопического мышления отражает противоположное
выявление политической борьбы, а именно: некоторые притесняемые группы настолько
духовно заинтересованы в разрушении и трансформации данных условий жизни
общества, что они непроизвольно видят только те составляющие ситуации,
которые имеют тенденцию отрицать ее. Мышление таких групп не в состоянии
правильно диагностировать наличные условия жизни общества. Их вовсе не заботит
то, что реально существует, в своем мышлении они скорее ищут способ изменить
существующую ситуацию. Их мысль никогда не бывает диагнозом ситуации, она
может быть использована только как руководство к действию. В утопическом
мышлении коллективное подсознательное, руководимое представлениями о
желаемом и волей к действию, затушевывает определенные аспекты реальности. Оно
поворачивается спиной ко всему, что могло бы пошатнуть его веру или
парализовать его стремление к изменению положения вещей» [136, с. 260].
Нельзя, конечно, отрицать ни идеологического, ни утопического моментов в
деятельности системников, как и их некритического отношения к возможностям
математических формализации. Сама история возникновения и становления
значительной части концептов системного подхода связана с решением задач
«апологетического» и «утопического» класса; в них всегда присутствует и
формализуется в релевантную теорию-систему недовольство субъекта поведением объекта,
которое требуется либо вернуть в исходную норму, либо переиначить таким
способом, чтобы объект вел себя прилично, и эта неустранимая релевантность,
соотнесенность с субъективными оценками неизбежно дает в процессе селекции
История европейской культурной традиции и ее проблемы 371
переменных на «отношение к делу» описываемые и Манхеймом и Лилиенфель-
дом эффекты ослепления, исключения из сферы внимания одних составляющих
ситуации ради сосредоточения внимания на других.
Но, по нашему мнению, и слепая вера кибернетиков и системников в
могущество математики, преуменьшать возможности которой совершенно не входит в
наши намерения, и их склонность то к апологетике, то к неоправданному
радикализму в общем-то «малый грех» теории систем. В конечном счете и чистая
наука при всей ее объективности, незаинтересованности и свободе от ценностей
отнюдь не чуждается релевантности и, как мы видели в первой части, в ситуациях
общения с коллегами, мгновенно восстанавливает при объяснении нового и
авторское присутствие и иерархию дисциплинарных авторитетов и топосный
арсенал средств убедительной аргументации.
Куда более существенной нам представляется другая и как раз обратная по
смыслу черта усилий системников построить онтологическую структуру мира —
их явно продиктованное стремлением к «научности» стыдливые какие-то
попытки избавится от релевантности как от чего-то недостойного, то есть вообще снять
проблему отнесенности онтологии к субъекту. Лилиенфельд вскользь упоминает
об этом, когда он говорит о «птолемеевой революции в философии», которая
возвращает человека «в центр своей Вселенной» [136, с. 250].
Но здесь более серьезная проблема, решить которую вряд ли возможно
нападками на математический фанатизм и ссылками на Гейзенберга, на
достоинства естественных языков, слова которых столетиями остаются в контакте с
реальностью. Кстати говоря, как раз здесь располагается, по нашему мнению, одна
из наиболее непроходимых лакун взаимного непонимания Ти и Ту культур,
имеющая прямое отношение к теории лингвистической относительности.
В Ти культуре до появления опытной науки концепт бытия, онтология как
учение о бытии были прописаны по области знака, а не по миру единичных
вещей, «первых сущностей», объективной реальности. Соответственно, во многом
справедливые замечания Гейзенберга о высоких требованиях к точности научных
терминов, как о предварительном условии их использования в математических
формализациях, способных раскрыть «бесконечное разнообразие возможных в
данной области феноменов», показалось бы интеллектуалам явно
«нерелевантными» вставками, которые не имеют отношения к делу и затрудняют бесполезными
и неуместными уточнениями простую в принципе проблему отношений
истинности между неизменным миром знака и вечно меняющимся, текучим миром
единичных конечных вещей.
Аристотель, например, водораздел между мирами означаемых и означающих
реалий, между которыми возможны отношения истинности, проводил как
различие между первичными (единичные вещи) и вторичными (знаки) сущностями,
проводил как раз по способности вещей к самоизменению и полной
неспособности к самоизменению знаков: «Сущность же, будучи одной и тождественной
по числу, способна принимать противоположности; так, отдельный человек,
будучи единым и одним и тем же, иногда бывает бледным, иногда смуглым, а также
теплым и холодным, плохим и хорошим. У всего другого этого, по-видимому,
нет, разве, что кто-нибудь возразит и скажет, что речь и мнение способны
принимать противоположности. Ведь одна и та же речь кажется истинной и ложной;
например, если истинна речь: «он сидит», то, когда он встанет, эта же речь будет
ложной. То же самое и в отношении мнения: если правильно полагают, что
такой-то человек сидит, то, когда он встанет, будет уже неправильно
придерживаться этого мнения о нем. Однако, если и согласиться с этим, то все же имеются
различия в способе (каким здесь и там принимаются противоположности). В
самом деле, сущности принимают противоположности, меняясь сами. Ведь, став
холодной из теплой, сущность претерпела изменение (ибо она стала иной), и так
же — став из бледного смуглым и из плохого хорошим. Точно так же и во всех
остальных случаях сущность принимает противоположности, подвергаясь измене -
24*
372
М.К. Петров
нию; речь же и мнение, будучи сами во всех отношениях неподвижными,
остаются совершенно без изменений, но из-за перемены обстоятельств для них
получается противоположное; в самом деле, речь (например), «он сидит», остается
все той же, но в зависимости от происшедшей перемены обстоятельств она
называется то истинной, то ложной... То же можно сказать и о мнении. Так что
быть способной принимать противоположности в силу собственной перемены —
это особенность сущности, по крайней мере по способу, (каким она их
принимает). Если, таким образом, кто-нибудь согласился бы с тем, что речь и мнение
также способны принимать противоположности, то это было бы неверно. Ведь о
речи и о мнении говорится, как о способных принимать противоположности не
потому, что они сами принимают что-то, а потому, что в чем-то другом
переменилось состояние: в зависимости от того, происходит это или нет, и речь
называется истинной или ложной, а не из-за того, что она сама способна принимать
противоположности; ведь вообще ни речь, ни мнение нисколько и ничем не
приводятся в движение. Поэтому, ввиду того, что в них не происходит никакой
перемены, они не способны принимать противоположности» [Категории, 4 а, Ь].
Развернувшееся по связи с догматикой христианства, особенно в посленикей-
ский период насыщение природы логическими структурами даже и в
классической фазе Высокого Средневековья не создало сколько-нибудь заметных
преимуществ для искусственных дисциплинарных языков, в частности и для математики.
И хотя, начиная с Галилея и Декарта всегда находилось множество сторонников
тезиса о том, что Книга Природы написана на языке математики, этот тезис не
стал догмой и у него всегда обнаруживались противники. Господствующим же
для Ти культуры оставался предложенный Фомой Аквинским синтез идей
Платона и Аристотеля, по смыслу которого мир сотворен по Платону — мир
идей-архетипов внедрен в мир вещей, а человек познает мир по Аристотелю.
Сформулированное Аристотелем отношение между миром первых сущностей и миром
речи, мнения осталось в общем-то неизменным для познавательной позиции
человека «после вещей», хотя сами первые сущности сохранили ощутимо меньшую
свободу в самоизменении.
Фома писал: «Изменчивость истины должна рассматриваться в отношении
интеллекта; истинность же последнего состоит в том, что он согласуется с
постигнутыми вещами. Эта согласованность может изменяться в двояком
направлении, как и любое иное подобие, вследствие изменения одного из двух подобных
членов. Отсюда истина изменяется одним способом из-за того, что о той же
вещи, обретающейся в том же состоянии, некто приобретает иное мнение, или
другим способом, когда при неизменности мнения меняется вещь. И в обоих
случаях происходит превращение истины в ложь... Истина состоит в соответствии
интеллекта и вещи, как то сказано выше. Но такой интеллект, который есть
причина вещи (божественный. — M Я.), прилагается к вещи, как наугольник и
мерило. Обратным образом обстоит дело с интеллектом, который получается от
вещей (человеческий. — М.П.). В самом деле, когда вещь есть мерило и
наугольник интеллекта, истина состоит в том, чтобы интеллект соответствовал вещи, как
то происходит в нас. Итак, в зависимости от того, что вещь есть и что она не
есть, наше мнение истинно или ложно. Но когда интеллект есть мерило и
наугольник вещи, истина состоит в том, чтобы вещь соответствовала интеллекту;
так, о ремесленнике говорят, что он сделал истинную вещь, когда она отвечает
правилам ремесла» [2, с. 837].
В свете приведенных формулировок Аристотеля и Фомы вся онтологическая
проблематика как в античности, так и в средневековой Ти культуре была и
оставалась лингвистической и логической и входила в связь с тем, что мы называем
сегодня объективной реальностью, миром открытий, научной картиной мира
лишь через божественный интеллект — источник наблюдаемого в мире порядка,
который мог быть познан человеческим интеллектом в силу причастности и бога
и человека к атрибуту разумности и присутствия в мире логической характерис-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 373
тики, введенной богом в природу в акте творения. На уровне человеческого
интеллекта, в позиции «после вещей» познание в этой схеме не могло идти дальше
того, что присутствует в разуме человека и в языке, как набор
форм-унификаторов, позволяющих опознавать вещи (первичные сущности, субъекты) и
устанавливать с ними связи соответствия в рамках предложений: «Интеллект же в
состоянии познать свою согласованность с постигаемой вещью, однако он не
воспринимает ее в том смысле, что познает некое неразложимое понятие (тогда не
требовалось бы предложений. — М.П.), но, когда он высказывает о вещи суждение,
что она такова, какова воспринятая им от нее форма, лишь тогда он познает и
высказывает истину. И делает он это слагая и разделяя. Ибо во всяком суждении
он либо прилагает к некоторой вещи, обозначенной через субъект (подлежащее
в предложении. — М.П.), некоторую форму, обозначенную через предикат
(группа сказуемого в предложении. — М.П.), либо же отнимает у нее эту форму» [2,
с. 836].
В антологии теории систем, как и в Ти антологиях конца Средневековья и
раннего Нового времени, постулируется разумность устроения мира и,
соответственно, присутствие в мире логико-лингвистической характеристики как гаранта
открытости мира для разумного познания способами, не так уж и
отличающимися от «сказуемостных» способов Аристотеля и Фомы. Как уже упоминалось,
«гипотеза о мире» Ф.Ласло включает четыре постулата: 1) мир существует; 2) мир
хотя бы в некоторых отношениях разумно упорядочен — открыт для разумного
познания; 3) мир разумно упорядочен в отдельных областях; 4) мир разумно
упорядочен, как целое [136, с. 162]. По нормам Ти культуры гипотеза Ласло о мире
конечно же постулатный плеоназм: если уж мир существует и разумно
упорядочен как целое, то упоминания о «некоторых отношениях» и «областях» — явное
излишество, хотя вот для Ту культуры, где приходится объяснять феномен
диверсификации познавательных усилий человечества на уровне дисциплин,
специальностей, исследовательских групп, такие уточнения, идут ли они в плане
«сгустков» Н.Сторера или «отношений» и «областей» Ласло в общем-то нелишни.
Важно однако отметить, что если онтология Сторера строится в общем-то по
модели развода выпускников средней школы в научные дисциплины,
специальности, группы и его процедуры картографирования мира открытий отражают
распределение прибывших уже в рабочие системы-терминалы подготовленных
ученых, то в онтологии Ласло модель разумного устроения мира в целом, в
отношениях, в областях явно не сохраняет подобия с сетью человекоразмерных дорог
развода вчерашних школьников и завтрашних членов сообществ
когнитивно-социальных познавательных единиц. Сама эта сеть рассматривается как
самоочевидное зло, подлежащее уничтожению силами системников.
Можно, конечно, вместе с Р.Лилиенфельдом обвинить и ФЛасло и С.Пеппе-
ра в «устарелости» их концепций, которые на фоне «современной науки»
выглядят «устаревшими еще до их появления» [136, с. 250], и такие обвинения были
бы в общем-то оправданы: чтобы обосновать онтологию общей теории систем,
нужен обычный для Ти субъект разумной упорядоченности мира — всемогущее,
всеведущее, обладающее высшей степенью атрибута разумности деятельное
существо, явно не способное уложиться в человеческую метрику. В отличие от
соответствующего субъекта онтологии Сторера, которому пришлось бы приписать
способность полифацетного зрения, бога системной онтологии пришлось бы
модифицировать в соответствии с постулатами Ласло в ином направлении: лишить
его атрибута всеблагости и сообщить ему некую систему устойчивых
предпочтений, пристрастий, позволяющих иметь несколько стратов разумной
упорядоченности, которые санкционировали бы различия процедур «рационального
картографирования мира» [136, с. 162].
Предлагаемые Ласло процедуры явно предполагают логико-лингвистический
целостный континуум, в котором возможны два движения: с уровня эмпирии «от
наблюдаемых регулярностей» и с уровня теории — «аксиоматическое». Их общая
374
М.К. Петров
задача: «нанести на карту потенциально исчислимые конструкты установившихся
и повторяющихся универсальных черт вселенной». В результате применения этих
процедур на карте должен быть зафиксирован «набор всех возможных систем
вселенной, доступной научному изучению», который затем следует «редуцировать до
более разумных пределов» [136, с. 163].
Возможность таких процедур Л. фон Берталанффи основывал на идеях
вертикальной интеграции разобщенных научных дисциплин: «Налицо общая
тенденция к интеграции в различных науках, и эта интеграция нашла свое
концентрированное выражение в общей теории систем. Эта теория может стать важным
средством ориентации наук, предметом которых не являются физические
процессы, на использование точных методов, а также и средством приближения нас к
конечной цели объединения наук путем разработки объединяющих принципов,
проходящих «вертикально» через весь научный мир отдельных дисциплин. Это
может повести к крайне необходимой интеграции и унификации научного
образования» [136, с. 23—24]. Средством такой вертикальной интеграции должно было
стать выявление математических изоморфизмов: «Системные свойства могут быть
выражены набором математических формул, а эти формулы образуют набор
изоморфизмов, то есть они действительны для некоторого множества различных
областей и имеют в этом множестве приложения... Таким образом система может
быть определена математической системой одновременно действующих
дифференциальных уравнений, так что изменения любой отдельной меры в системе,
являющейся функцией всех других мер данной системы и наоборот — изменение
любой отдельной меры влечет изменение всех других и системы в целом» [136,
с. 24].
Идея изоморфизма математических представлений системы и построенные на
ней надежды выработать «грамматику» таких описаний, некий конечный набор
уравнений, обладающий достоинством универсалий, применимости для любых
мыслимых предметов научного познания, и оказались основными агентами
«миссионерской» предметной экспансии системников. Вот здесь, в попытках выделить
уравнения-универсалии, набор универсальных правил описания систем и
появляется существенное различие между языком естественным и языком
математических формализации, которое системники снимают методом упрощающих
допущений, неправомерных переносов математического аппарата с исследованных
областей на неисследованные: «Редуцированный набор уравнений используется,
таким образом, как база для заявок-прозрений в природу вселенной, как основа
претензий на способность объединить различные сферы бытия, знания,
мышления» [136, с. 24-25].
В этом системно-математическом фетишизме, основанном на изоморфизме
математических представлений системы Лилиенфельд справедливо усматривает
самое возможность превращения, перехода системной теории в превращенную
форму общественного сознания, обретающую право на существование только как
идеология или утопия. И основное обвинение за развитие этой ситуации,
получившей и академическое дисциплинарное опосредование, Лилиенфельд
предъявляет Берталанффи: «Он показывает, что теория систем» есть событие, далеко
выходящее за рамки технологических проблем и требований, есть реориентация,
которая стала необходимостью в науке вообще и в спектре дисциплин от физики и
биологии до бихевиоризма и социальных наук, философии в особенности. С
различной степенью успеха и точности теория систем работает в различных областях
и провозглашает существенно новый взгляд на мир. Студенты, изучающие «науку
систем», получают специальное образование, что делает теорию систем,
задуманную первоначально как средство преодоления текущей излишней специализации,
одной из сотен академических специальностей. Более того, «наука систем»,
опирающаяся на технологию компьютеров, кибернетику, теорию автоматов,
системную инженерию, превращает, похоже, идею систем в еще одну и воистину вер-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 375
ховную технику формирования человека и общества во все растущей степени в
«мегамашину» [136, с. 159—160].
При этом выявляется знаменательное обстоятельство: Берталанффи работает,
если использовать термины компаративистов, в «доистории», умножает историю,
движется снизу вверх, индуктивно: «От этого исходного пункта фон Берталанффи
движется к общему обзору биологии, физики, психологии, лингвистики,
общественных наук, истории, описывая системные тенденции в каждой из областей, но
избегая специфически философских детализаций. В этом смысле его работы, как
и большинство публикаций системников, прежде всего программы, селективны и
концептуальны. Обсуждения и решения специфических, существенных
философских проблем попросту не обнаруживаются. Но его работы симптоматичны в том
отношении, что они задают тон последующей системной литературе не только
для его непосредственных учеников, но и для независимых исследователей,
обращенных впоследствии. Похоже, что он оставил своим последователям задачу
создания философских построений, которые объединяли бы системные
дисциплины» [136, с. 160].
Иное обнаруживается в работах последователей Берталанффи, действующих
уже в режиме дедукции, а не индукции, то есть, как и положено ученикам,
перевернувших историю в парадигматику. Особое внимание Лилиенфельд
останавливает на работах Ф.Ласло и С.Пеппера, как на наиболее типичных для
становления парадигмы, когда идея системных универсалий принята уже как данность,
которую не нужно обосновывать, и задача представляется в том, чтобы
распространить теорию систем, подобно таблице умножения, на все области знания. ,
Лилиенфельд особенно детально анализирует взгляды Ласло: «Современная
философия, по мнению Ласло, требует возврата к синтетической философии, как
к коррективе наличного акцента на аналитической философии, которая
произвела «растущую логику и падающее содержание». Аналитическая философия
отрезала себя от новых эмпирических данных и нуждается сегодня в новых каналах,
способных синтезировать научную информацию, поступающую из
нефилософских источников. Философам пора отойти от господствующих стилей
философствования и вернуться к синтетической, но тщательно продуманной философии»
[136, с. 160].
Ласло упоминает и внутренние и внешние мотивы, требующие разработки
подобной философии: «Анализ требует специализации во все более ограниченные
и изолированные области исследования. Но мир не состоит из изолированных
фрагментов, фрагменты взаимодействуют друг с другом. Химическое знание
производит инсектициды, инсектициды производят экологические, экономические и
политические эффекты. Мы «часть взаимосвязанной системы природы, и если
информированный «генералист» не примется за дело, за систематическую
разработку теорий о моделях взаимосвязей, наши ограниченные проекты и
недостаточная их контролируемость могут привести к собственной нашей гибели».
Поскольку большинство современных западных философов сохраняет
приверженность к постулатам, к абстрактным концептуальным и лингвистическим
вопросам, проблемой синтеза должен заняться ученый-теоретик, убежденный гуманист
и воспитатель» [136, с. 161].
Но дело не сводится просто к синтезу: «Ласло указывает, что есть также и
другая задача первостепенной важности, ожидающая синтетическую
философию, — дать ответ на вопрос о смысле жизни. Так называемые «развитые»
общества мира, обеспечив свое население материальным благополучием и избавив
большинство от свирепой борьбы за существование, попали в капкан экзистен-
ционального вакуума, отсутствия разумных резонов для существования. Это
обстоятельство порождает «насилие, анархию и политические гонения против
наиболее творческих и инициативных «козлов отпущения, будь они капиталистами,
коммунистами или просто администраторами, оно порождает также обостренный
интерес к традиционной религии, к восточным религиям и мистицизму». Запрос
376
M. К. Петров
на «целостное видение вещей» сам по себе — здоровая реакция на бессмыслицу,
порожденную сверхспециализацией и самоизоляцией исследований и анализов»
[136, с. 161].
Хотя Лилиенфельд в полемическом задоре, надо полагать, «с порога отрицает»
самое возможность научных вкладов теории систем даже и на уровне диагностики
болячек современного развитого общества и Ту культуры в целом, нам
рассуждения Ласло и Пеппера не кажутся столь уж беспочвенными, когда они описывают
мотивацию социальных запросов на «синтетическую, но тщательно продуманную
философию», на «смысл жизни». Наши разногласия с системниками
располагаются в методологической области, в оценке предлагаемых общей теорией систем
средств решения выявленных системниками и действительно актуальных проблем
на методологическую состоятельность.
На наш взгляд, вводимая ими фигура «генералиста» — ученого-теоретика,
гуманиста и воспитателя [136, с. 161] столь же несостоятельна перед лицом
предъявляемых к ней требований, как и фигура лингвиста-калькулятора у Л.Ельмслева,
фигура грамматика-полиглота у Бэкона, фигура лингвиста, знакомого «со
множеством самых разнообразных языковых систем» [74, с. 175] у Уорфа. В задачах,
которые ставятся перед ними, не сохраняется человеческая метрика, они просто
им не по силам. Для таких предприятий требуется либо коллектив, когнитивно-
социальная единица, либо соразмерный задаче самостный знак с динамическим
тезаурусом, явно недостижимым для человека. Но коллектив, как справедливо
отмечает Лилиенфельд, сразу же обращается в еще одну дисциплину среди
дисциплин [136, с. 159—160], а употребление самостных знаков в Ту культуре
справедливо оценивается как возвращение к теологии, как рудимент Ти в Ту,
неспособный нести функции субъекта какой-либо социально-когнитивной системы
«человек-среда».
В рамках теории онтологической относительности, если верны ее постулаты
и «бесхозных», бессубъектных систем «вид-среда», соответствующих
сред-ассоциаций просто не бывает (не отнесенный к субъекту мир не существует и
непознаваем), положение упирается в субъективную истинность предлагаемых общей
теорией систем решений: ни мы, критики общей теории систем, ни ее адепты,
энтузиасты, пропагандисты, сторонники, теоретики не можем указать курсам
избавления человечества от бед и болячек развитой Ту культуры, которые
предлагаются системниками, в списке известных нам биологических видов, включая и
человека, естественный вид, особи или индивиды которого были бы способны
взять на себя функции субъекта соответствующих систем «вид-среда». Словом, из
того обстоятельства, что «запрос на целостное видение вещей сам по себе —
здоровая реакция на бессмыслицу, порожденную сверхспециализацией и
самоизоляцией исследований и анализов» [136, с. 161], еще не вытекает с необходимостью,
что запрос этот можно удовлетворить, а бессмыслицу эту и питающие ее корни —
уничтожить.
Более того, сам тезис насчет того, что «запрос на целостное видение вещей»
следует рассматривать как здоровую реакцию на растущее число
когнитивно-социальных единиц в системе познания мира, на дисциплинарный сепаратизм, на
коммуникационную самоизоляцию таких единиц, не кажется нам таким уж
бесспорным. Фактом остается то, что при всех издержках на «сверхспециализацию»
научного познания мира и на самоизоляцию растущего числа терминальных
систем «человек-среда», которые располагаются на переднем крае научного познания
мира открытий и куда все же попадают по переходам Ту-Тд, Тд-Тг новобранцы
науки, растет и общий объем извлекаемого из мира открытий знания и
способность общества к его освоению, значения которых для Ту культуры заведомо
выше, чем для Ти культуры, как раз в результате существования и
функционирования этой специализирующей сети развода новобранцев в терминалы —
специализированные когнитивно-социальные единицы познания. В свете этого факта,
как бы к нему ни относиться, «здоровая реакция» в форме запроса на «целостное
История европейской культурной традиции и ее проблемы 377
видение вещей» вполне может оказаться при ближайшем рассмотрении латентной
тоской Ту по Ти, когда «целостное видение вещей» обеспечивалось текстами Ти,
единым языком интеллектуалов и отсутствием специализирующих переходов типа
Ти-Тд, не говоря уже об аспирантском переходе Тд-Тг.
Так или иначе, но то, что предлагают ученики и последователи Л. фон Бер-
таланффи, входит в явное противоречие с постулатами теории онтологической
относительности. Ласло, например, вообще пробует разработать бессубъектную
онтологию, в которой порядок бы держался сам на себе: «Ласло надеется, что
системная философия способна выработать язык, который объединит дисциплины,
разделенные специализированными концептами и терминологиями. Он выступает
за систематические и конструктивные исследования, основанные на постулате
«всеобщего порядка в природе». Подобный постулат и результаты вытекающих из
него построений «не хуже, а возможно и лучше, чем предположение об особых
порядках». Человек может и не быть центром вселенной, «как и вселенная не
обязательно плод человеческого воображения, но человек есть часть
доминирующего порядка, который образует вселенную»... Системная философия заново
интегрирует и концепт непреходящих универсалий с преходящими процессами в
неспутанном, иерархически дифференцированном царстве инвариантных систем
как конечных реалий выстраивающей себя природы. Данные этой философии
приходят от опытных наук, проблемы она берет из истории философии,
концепты — из современных исследований систем» [136, с. 162—163].
В этот процесс активного строительства системной онтологии подключается
и С.Пеппер [145]: «Стефен Пеппер, который в 1942 г. описал четыре «равно
адекватных» гипотезы — механизм, формизм, контекстуализм, организм, — недавно
добавил пятую гипотезу о мире, которую он теперь, похоже, считает даже более
адекватной, чем другие: «Это селективизм, основанный на «корневой метафоре»
системы, обладающей целью и саморегулирующейся» [136, с. 163].
Ласло и Пеппер, по мнению Лилиенфельда, едины в постановке проблемы:
«Философия, которую предстоит разработать, должна быть перспективной,
обращенной в будущее. Синтез общей теории систем будет представлять из себя
модель моделей. Предлагаемая гипотеза о мире является моделью, «которая наносит
на карту потенциально исчислимые конструкты установившихся и
повторяющихся универсальных черт вселенной, доступной научному наблюдению». Такие
модели конструируются с помощью двух основных подходов. Первый подход
рассматривает мир, «каким мы находим его», и делает утверждения о наблюдаемых
регулярностях. Второй подход аксиоматический, он имеет дело с набором всех
возможных систем и стремится редуцировать его до более разумных пределов.
Первый — подход Берталанффи, второй — Эшби. Хотя Эшби, похоже, считал
эти подходы резко различными по форме, в действительности они редко
предстают чистыми от включения элементов другого подхода. Вряд ли возможно
простое наблюдение без известной концептуализации, но равным образом нет и
аксиоматических концептов, не испытавших влияния со стороны того или иного
эмпирического наблюдения» [136, с. 163].
В качестве основной интегрирующей схемы признается иерархия: «Ласло
рассматривает концепт иерархии как универсальный принцип, действующий во всех
царствах — в неживой природе, в органической жизни, в социальной жизни и в
космосе. Он подчеркивает, что везде, где имеет место развитие, оно принимает
иерархические формы. Можно даже математически показать, что по сравнению
с неиерархическими системами, иерархические развиваются из своих
составляющих много быстрее и терпят меньший «урон», когда они распадаются на более
простые уровни. Независимо от того, заходит ли речь о физических системах,
биологических видах или о социальных системах, «мы обнаруживаем, что те
системы, которые вокруг нас», организованы по иерархическим линиям. Других
попросту не фиксируется» [136, с. 164].
378
M.К. Петров
Сам процесс «картографирования», собирания мира в целостность, в единство
апперцепции выглядит так: «Концепт иерархии дает Ласло рамку для целостного
взгляда на вселенную. В основании иерархии лежит пространственно-временное
множество. Над ним в восходящем порядке он располагает фундаментальные
конденсации энергии, электроны, нуклеоны, протоны, кванты радиации, атомы.
Они образуют низший уровень того, что он называет макроиерархией. Над ними
следуют по шкале уровни (земной) микроиерархии: молекулы, кристаллы и
коллоиды, клетки и протоорганизмы, организмы, социосистемы, экосистемы,
кульминирующие в глобальной системе. Над глобальной системой вновь
возобновляется макроиерархия: звезды и планеты, скопления звезд, галактики, скопления
галактик и конечный пункт кульминации — метагалактика (астрономическая
вселенная). Графически эта система представляется в форме большого треугольника,
в пределы которого вписываются меньшие треугольники, соответствующие
описываемым уровням. Микроиерархия, ранжируемая от атомов через организмы до
глобальной системы, — подтреугольник, врезанный в треугольник,
представляющий собой макроиерархию» [136, с. 164].
Смысл такого треугольного синтеза прежде всего в интеграции: «Теория
систем должна служить не столько объяснению феноменов на каждом из этих
уровней — в общем-то это дело специальных наук, в которых системный подход
развивается независимо. Задача теории систем — сведение этих независимых
системных моделей в общую теорию систем. Есть, конечно, нерешенные проблемы
как на самих этих уровнях, так и в самой задаче сведения-координации... Общая
теория систем будет продвигаться к решению этих проблем путем различных
переопределений. В этом отношении особенно важен сдвиг научного мышления
от субстанциональных целостностей к целостностям реляционным, от «объектов»
к теориям «полей». После классификации естественных систем, встречающихся
на упомянутых выше уровнях, общая теория систем начнет затем поиск и
фиксацию «инвариантностей» с помощью «творчески постулируемых» системных
конструктов. О них говорится также, как об «общинах», стоящих за наблюдаемым
поведением организованных целостностей. Эти «общины» — «общие законы
естественной организации» [136, с. 165].
Лилиенфельд скептически относится к возможностям и перспективам такого
построения: «Разделавшись с этими предварительными мелочами, Ласло
выражает надежду построить философию систем, способную служить в мире
ориентиром. Она организована в иерархию, соответствующую описанному
иерархическому порядку. Сказать, что она — ориентир в мире, не преувеличение. Его
программа, использующая в качестве метода описания то, что он называет «кибер-
но-системами», предлагает упорядоченный взгляд на физические, биологические
и социальные системы, затем на когнитивные системы и на теорию разума. На
базе всего этого делаются заявки на сотворение целостной структуры онтологии,
философии природы, философии разума и эпистемологии, философии
человеческой свободы, нормативной этики, этноса нового века и новой метафизики» [136,
с. 165].
В контексте обсуждения взаимосвязанных проблем частных и общих теорий
лингвистической и онтологической относительности наше отношение к общей
теории систем и к попыткам ее теоретиков построить системную онтологию
диктуется необходимостью выяснить, имеем ли мы дело с частной или общей
теорией онтологической относительности и, если перед нами частная теория, в
рамках которой только и правомерен вопрос о принадлежности предлагаемой
структуры когнитивной целостности к частной теории лингвистической
относительности, пробовать разобраться, как конкретно реализуется когнитивная
целостность в единой системе общесоциальной коммуникации, включающей в себя на
правах подсистемы и общенаучную коммуникацию.
Предлагаемая Ласло системная онтология подчеркнуто бессубъектна, то есть
хотя бы по намерениям и стремлениям стремится прорвать ограничения частной
История европейской культурной традиции и ее проблемы 379
теории онтологической относительности. Заявления типа «человек может и не
быть в центре вселенной, как и вселенная не обязательно плод человеческого
воображения, но человек есть часть доминирующего порядка, который образует
вселенную» [136, с. 163], могут быть высказаны только за пределами частной
теории онтологической относительности, и если человек не в центре вселенной, если
допускается субъективный эксцентриситет научного познания или даже вообще
отсутствие субъекта-центра, то неизбежно возникают те самые вопросы об
абсолюте и отнесенности, которые мучили уже Аристотеля и особенно Фому —
вопросы об отношении первых сущностей (субъектов, подлежащих предложений
или высказываний) к релевантным описаниям их онтологического статуса, их
состояний и изменений (к группам сказуемого в предложении, предикатам).
Бессубъектная онтология в этом отношении такой же нонсенс, как и предложение
лишенное подлежащего.
Могут возразить, конечно, что в любом языке есть безличные обороты и
конструкции, которые вроде бы и не имеют формально выраженного подлежащего,
а это не обращает предложения в бессмыслицу, что основным потребителем
безличных оборотов являются как раз научные статические описания, не требующие,
в отличие от динамических, постоянного авторского присутствия. Но такое
возражение вряд ли будет принято серьезно и самими системниками, если они,
подобно С.Пепперу, полагают, что работают в рамках онтологической гипотезы се-
лективизма, основанного на корневой метафоре системы, «обладающей целью и
саморегулирующейся» [136, с. 163].
Присутствие в «корневой метафоре» онтологических построений — системе —
цели и механизмов саморегулирования явно сдвигает акцент со статических
описаний на динамические, сдвигает в том же смысле, в каком Аристотель, к
примеру, в отличие от Платона и платоников, ставит акцент на динамике. Платона
и платоников Пеппер не без оснований включает в классику формизма: «Первым
образом мира является формизм. известный нам как реализм Платона и
платоников. Объекты опыта воспринимаются как копии идеальных форм, и целостный
взгляд на мир можно построить по линиям таких сущностей или категорий» [136,
с. 9].
Аристотель же явно не укладывается в эту картину, его «корневая метафора»,
если использовать термин Пеппера, — совсем иная, а именно обладающая целью
и средствами ее реализации организованная деятельность: «Как делается каждая
вещь, такова она и есть по своей природе, и какова она по природе, так и
делается, если ничто не будет мешать. Делается же ради чего-нибудь, следовательно
и по природе-рождению существует ради этого. Например, если бы дом был из
числа природных рождающихся вещей, он возникал бы так же, как теперь
делается искусством; если же рождающиеся вещи возникали бы не только в родах,
но и путем искусства, они возникали бы соответственно своему природному
способу. Следовательно, одно возникает ради другого. Вообще же искусство частью
завершает то, что природа не в состоянии сделать, частью подражает ей»
[Физика, 90 Ь].
Эта динамическая «корневая метафора», рассматривающая мир через
деятельность ремесленника, проводится Аристотелем во всей той области отношений,
которую мы сегодня называем онтологией: «А так как природа двояка: с одной
стороны, как материя, с другой — как форма, она же цель, а ради цели
существует все остальное, то она и будет причиной «ради чего». Ошибки бывают и в
произведениях искусства: неправильно написал грамматик, неправильно врач
составил лекарство, отсюда ясно, что они могут быть и в произведениях природы.
Если существуют некоторые произведения искусства, в которых «ради чего»
достигается правильно, а в ошибочных «ради чего» намечается, но не достигается,
то это же самое имеется и в произведениях природы, и уродства суть ошибки в
отношении такого же «ради чего» [Физика, 91 а].
380
М.К. Петров
На наш взгляд, онтология Аристотеля вполне могла бы быть принята
системниками на правах чернового наброска их онтологии, с которого они могли бы
начать серию «переопределений» ради «сведения независимых системных моделей
в общую теорию систем». В динамической модели природы Аристотель
использует основные конструкционные элементы системников, в том числе и прежде
всего иерархию. И хотя системники подчеркивают важность сдвига научного
мышления от объектов к теориям полей, «от субстанциональных целостностей к
целостностям реляционным», а Аристотель по историко-философской традиции
признается и основателем и классиком субстанционального стиля мышления,
текстура целостности его концепта природы столь же реляционна, сколь и
субстанциональна: в его онтологии во всяком случае нет «вмороженных» предикатов,
превращающих характерные для субстанционального мышления объекты в
устойчивые целостные сплавы первых сущностей с набором предикатов, сказуемостных
групп, через которые первая сущность (единичная вещь, подлежащее в
предложении) описывается на правах абсолюта, не входящего в описания, сколько бы
их ни было различено и соединено по поводу первой сущности в понятии
объекта: «Сущность, называемая так в самом основном, первичном и безусловном
смысле, — это та, которая не говорится ни о каком подлежащем и не находится
ни в каком подлежащем, как, например, отдельный человек или отдельная
лошадь» [Категории, 2 а]. Первая сущность не превратилась у Аристотеля в то, что
Гегель называл «вешалкой» предикатов. Она лишь условие осуществимости и
существования любых предикатов, любых групп сказуемого: «Если бы не
существовало первых сущностей, не могло бы существовать и ничего другого»
[Метафизика, 2 Ь].
Первая сущность у Аристотеля отнюдь не вморожена в предикаты, не образует
с ними нерасторжимой субстанциональной целостности — объекта, как
неисчерпаемого источника и повода для бесконечного множества научных статических
описаний, которые позволяют избавляться от авторского присутствия. От первой
сущности, по поводу которой создаются статичные описания, избавиться
невозможно. Обладая способностью принимать противоположные определения,
оставаясь тождественной по числу, первая сущность Аристотеля определенно
«проворачивается» относительно приписываемых ему предикатов и сказуемостных
групп, то сообщая предикатам-описаниям свойство истинности, то лишая их
этого свойства. Даже такой признанный основатель и энтузиаст математизации
онтологии как Галилей в конце второго письма о солнечных пятнах обвинял
своих оппонентов в недоучете этого момента «проворачивания» в картине мира
Аристотеля: «Я вступаю в противоречие с доктриной Аристотеля в значительно
меньшей степени, чем те люди, которые все еще стремятся удержать небеса в
неизменности. Я уверен в том, что Аристотель не считал их неизменность столь же
определенной, как и тот факт, что все человеческое мышление должно быть
поставлено на второе место после очевидного опыта, поэтому лучше
философствовать будут те, кто опирается на суждения, производные от непосредственных
наблюдений, нежели те, кто настаивает на мнениях, несовместимых с данными
чувств и опирающихся только на вероятные соображения» [177, с. 22].
Здесь Галилей, понятно, вовсе не отказывается от своей уверенности в том,
что Книга природы написана на языке математики, но, как в общем-то
справедливо замечает У.Уайсон, язык писем о солнечных пятнах не страдает
математическим фетишизмом, возможности математики оцениваются именно как
возможности языка в близком к Аристотелю плане: «Во втором письме о солнечных
пятнах он принимает откровенно скептический взгляд на нашу способность
познавать «истинную и неотъемлемую сущность» естественных субстанций, говорит об
ее ограниченности познанием только отдельных их свойств. По большей части
такими свойствами оказываются те математические свойства, о которых Галилей
позднее будет писать как о «реальных акцидентах». Он замечает: «Хотя,
возможно, искать истинную сущность солнечных пятен напрасный труд, из этого все же
История европейской культурной традиции и ее проблемы 381
не следует, что мы не можем знать некоторые их свойства, такие как
расположение, движение, форму, размер, затемненность, изменчивость, зарождение и
исчезновение». Эти свойства могут оказаться «средствами, с помощью которых мы
окажемся в состоянии лучше философствовать о других и более спорных
качествах естественных субстанций». Но теперь уже не утверждается, как это было в
раннем трактате по астрономии, что знание акциденций ведет к знанию
субстанций, оно ведет только к предварительному и ограниченному представлению» [177,
с. 23].
А это и есть позиция Аристотеля, для которого первая сущность в силу своей
способности к самоизменению, к принятию противоположностей без разрушения
собственной тождественности по числу обретает и право на апофатику, на
неисчерпаемость ее определения любым числом предикатов — сказуемостных групп:
«Таким образом, все другое (помимо первых сущностей) или говорится о первых
сущностях как о подлежащих, или же находится в них, как в подлежащих.
Поэтому, если бы не существовало первых сущностей, не могло бы существовать и
ничего другого» [Категории, 2 Ь]. Ту же позицию, но уже с коррекцией на
христианскую онтологию, на триаду творения и познания сотворенного: «до вещей» —
«в вещах» — «после вещей», занимает и Фома: «Поскольку мир возник не
случайным образом, но сотворен богом через посредство активного интеллекта, как
то будет показано ниже, необходимо, чтобы в божественном уме была форма, по
подобию которой сотворен мир. В этом и состоит понятие «идея» (это явный
Платон и платоники, а дальше начинается Аристотель. — М.П.). Истинное, как
было сказано, в своем исходном смысле находится в интеллекте. В самом деле,
коль скоро всякий предмет может быть истинным постольку, поскольку имеет
форму, соответствующую его природе, с необходимостью следует, что интеллект,
поскольку он познает, истинен в меру того, насколько он имеет подобие
познанного предмета, которое есть его форма, коль скоро он есть интеллект познающий.
И поэтому истина определяется, как согласованность между интеллектом и
вещью. Отсюда познать эту согласованность означает познать истину. Но
последнюю чувственное восприятие не познает никоим образом. В самом деле, хотя
зрение обладает подобием зримого, однако же сравнения узренной вещи и того, что
оно от этой вещи восприняло, оно не познает. Интеллект же в состоянии познать
свою согласованность с постигаемой вещью, однако он не воспринимает ее в том
смысле, что познает некое неразложимое понятие (тогда бы человеческий
интеллект постигал самое «идею», какова она в интеллекте бога «до вещей». — М.П.),
но, когда он высказывает о вещи суждение, что она такова, какова воспринятая
им от нее форма, лишь тогда он познает и высказывает истину. И делает он это,
слагая и разделяя (части целостной и неисчерпаемой первой сущности,
единичной вещи. — М.П.). Ибо во всяком суждении он либо прилагает к некоторой
вещи, обозначенной через субъект, некоторую форму, обозначенную через
предикат, либо же отнимает у нее эту форму» [2, 836].
Таким образом, без труда прослеживается определенная тенденция движения
к тому, что системники называют стилем или субстанциональной парадигмой
научного мышления, для которого характерно господство концепта объекта как
«субстанциональной целостности», тогда как для реализации общей теории
систем требуется сдвиг научного мышления от субстанциональных целостностей к
целостностям реляционным, типичным представителем которых были бы теории
полей [136, с. 165].
Если попробовать зафиксировать в истории философии и науки ту точку, с
которой начинается существование субстанциональных целостностей в форме
объекта, то, на наш взгляд, здесь же обнаружится и начало существования
реляционных целостностей в форме полей. В этом смысле нам кажется
хронологически удачной констатация неодионисийца Т.Розака: «Математический аскетизм
Галилея и дуализм Декарта как раз и вызвали к жизни современную науку,
выбрасывающую из природы все, что не является математически выразимым дви-
382
M.К. Петров
жением материи. Ценность, качество, дух, душа, духовное общение — все это
было беспощадно отсечено от научного мышления как некое излишество» [157,
с. 29]. Можно, конечно, расходиться в методологической оценке этого факта, но,
с нашей точки зрения, если идти к началу размежевания и противостояния того,
что системники фиксируют сегодня скорее не как противоположность, а как
несовместимость стилей научного мышления, то искать следует где-то здесь, на
этом предреволюционном периоде.
Что же касается разворачивания споров в нашей Ту культуре, они идут с 30-х гг.,
со времен Венского кружка, то по ходу дискуссии все менее становится ясным,
что именно следует понимать под субстанциональными, а что под реляционными
целостностями. При этом возникает, на первый взгляд та тупиковая ситуация
затяжной склоки или конфликта, которую фиксирует Дж.Холтон: «Обе группы
излагают свои позиции с апокалиптической жесткостью представителей враждебных
мировоззрений. Как в большинстве поляризованных ситуаций, наибольший
ущерб они наносят не друг другу, а тем, кого они застали на нейтральной земле.
В самом деле, они, похоже, усиливают позиции друг друга, как это делали
антагонисты холодной войны. Перед лицом противника обе группы ограничивают
круг допустимых мыслей и действий: одна ритуально осыпает насмешками
карикатуру, которую она называет рациональностью, другая — карикатуру, которую
она называет иррациональностью. Обе предельно не удовлетворены тем, как
делается наука, и не скрывают своего неодобрения» [с. 67].
Нам кажется, что оценка Дж.Холтона, как и явно пристрастные оценки Р.Ли-
лиенфельда, полагающего, что ссылки на Гейзенберга по тонким
лингвистическим проблемам достаточно для разрушения всего фундамента, на котором стоит
«все здание автоматов» [136, с. 251], не более как эпифеномены, за которыми
скрывается пробивающее дорогу осознание того факта, что в характерной для Ту
культуре действующей модели онаучивания общества через изменение текстов Ту
ввести нечто общее для науки в целом, что могло бы удерживать в целостности
общенаучную коммуникацию, общую для науки картину мира, общую
космологию, общую онтологию и вообще знаковую реалию любого сорта, к которой по
тем или иным веским причинам должно быть приобщено все научное
сообщество, можно только через тексты Ту, до развода новобранцев науки в наличное
многообразие терминалов — когнитивно-социальных единиц, располагающихся
на переднем крае научного познания мира открытий.
Если речь не идет о полной перестройке действующей и функционирующей
сети дорог и натоптанных вчерашними новобранцами троп от Ту к переднему
краю науки, то требование: все универсалии — в тексты Ту, принимает
императивный характер субъективного условия осуществимости любой самой
завлекательной идеи, относящейся к проблеме сохранения или восстановления единства
системы общенаучной коммуникации, единства научной картины мира и всякого
иного когнитивного единства, если оно мыслится в терминах универсалий и
всеобщей распределенности в рамках научно-академического сообщества (или
сообществ, если проблема ставится на национальном уровне, где подготовка научных
кадров ведется, как правило, на родном языке новобранцев).
С точки зрения субъективной истинности и практической осуществимости
возможных проектов требование присутствия всего набора универсалий
общенаучного достоинства в текстах Ту бесспорно обладает приоритетом, а все остальное
в спорах и дискуссиях вокруг единства науки, научных картин мира, целостности
научной коммуникации, картографирования науки и мира научных открытий —
производно, второстепенно, с большой долей вероятности «разговор в пользу
бедных», то есть независимо от потенциальной ценности и множества прочих
достоинств предлагаемых оценок, позиций, точек зрения, реформ, решений, если оно
не заякорено в Ту текстах, будет не просто обойдено очередными волнами
новобранцев, идущих к переднему краю науки путями, по которым их ведут и по
которым шли их ближайшие предшественники, но и в процессе переворачивания
История европейской культурной традиции и ее проблемы 383
истории в парадигматику будет «радикально редуцировано» — выброшено .за
борт, как накопленный предшественниками исторический мусор, не имеющий
отношения к делу и определенно «нерелевантный» для решения великих и жгучих
задач текущего момента.
И хотя это сброшенное за борт историческое богатство обычно не тонет в Ту
культуре, а выбрасывается волнами новобранцев на берега Леты
предусмотрительно оборудованные предшественниками полкокилометрами стеллажей и складо-
метрами картотек единиц хранения, что в общем-то не исключает побудки по
тревоге любого предшественника на предмет его подключения в ритуальные
танцы, вероятность такого события все же крайне невелика, много ниже
вероятности появления в любом из эшелонов дисциплинарной литературы и даже в
текстах Ту, хотя встать на якорь во всеобщем потоке учеников к Ту много
сложнее, чем даже в дисциплинарном учебнике. Эти дополнительные трудности
возникают не только по связи с лагами движения знания в иерархии воспитателей,
где то, что сегодня узнал студент университета, лет через 5—6 может быть узнает
на лекции студент педагогического института и еще лет через 5—6 ученик на
уроке, но и по связи с тем обстоятельством, что в действующем наборе текстов
Ту всегда тесно, всегда все забито и включить что-нибудь новое значит выкинуть
из набора нечто эквивалентное по «листажу» — по отводимому на текст времени.
Поэтому, фиксируя позицию по отношению к общей теории систем, нам
прежде всего стоит учитывать это решающее условие осуществимости и
субъективной истинности предложений и проектов системников, а затем уже
заниматься производными от этого условия «хвостами». Нам кажется, например, что спор
о принципах построения системной онтологии без предварительного выяснения
вопроса о возможности и желательности введения общей теории систем в тексты
Ту — спор бесплодный и способный давать только те свидетельствующие против
теории результаты, которые он и дает практически — появление новых
специальностей и дисциплин, стоящих по отношению к Ту в том же отношении колонии
к метрополии, что и другие специальности и дисциплины. В теорию систем, как
в дисциплину среди дисциплин ежегодно приходят все те же новобранцы
призыва... года, приходят, перевернув по дороге занятные, но лишь частично
«релевантные» истории споров предшественников в дисциплинарную парадигму теории
систем (или информатики, математической лингвистики, экономкибернетики —
в академическом мире теория систем не получила пока жесткого
дисциплинарного обозначения) и, заняв свое место на переднем крае вторжения в мир
открытий, оказываются в обычной «коридорной ситуации», где все вопросы
обсуждаются на языке Ту и никому не дано преимущественных прав осмысленно
общаться с коллегами на своем «родном» Тд.
И дело даже не столько в том, что докторов «информационных наук в
Политехническом институте штата Джорджия, например, вот уже 15 лет коллеги в
коридорных ситуациях «вынуждают» общаться на Ту и избегать разговоров насчет
тонкостей общей теории систем [122], справедливо находя, что для таких
разговоров есть журналы, собрания обществ и другие «некоридорные» ситуации
специализированного дисциплинарного общения между А и В, у системников —
свои, у коллег по коридору — свои, но и в том также, что в парадигме
докторов-системников, в их курсах лекций, в их исследованиях и публикуемых отчетах
о результатах исследований вряд ли обнаружатся четкие линии тех позиций,
предпочтений, пылких надежд и твердых убеждений, которые без труда
обнаруживаются у Л. фон Берталанффи и у наиболее энергичных продолжателей его дела,
учеников и обращенных.
Докторам-системникам не до этого: у них на первом плане студенты,
аспиранты, лекции, консультации, собственные исследования, а затем уже, если
позволяет суточный бюджет времени (18 часов по максимуму), разговоры и
размышления о высоких проблемах системной философии, о том, понимать ли
вселенную . треугольно, центрично или эксцентрично, какой из подходов — от на-
384
M.К. Петров
блюдений или от аксиом — более «релевантен» задаче вертикальной интеграции
дисциплин и т.д., и т.п.
Здесь можно было бы выдвинуть достаточно веских резонов в пользу того, что
хорошо «информированный» или «индоктринированный» доктор-системник,
освободившийся в студенческом и аспирантском движении от балласта
исторических плутаний предшественников, если он достаточно честолюбив и его мало
привлекают процедуры «паззл-солвинга» — складывания разрезных картинок,
нарисованных в общих чертах признанными дисциплиной
мастерами-предшественникам и, сам возьмется за творение дисциплинарной истории, за наброски своих
разрезных картинок для поучительного «паззл-солвинга» силами своих студентов
и аспирантов. Но и это постоянное творение исторической избыточности,
исторического «мусора», который по всей вероятности будет сброшен за борт
очередными волнами новобранцев, но, может быть, будет включен ими в актах
переворачивания истории в парадигматики в действующую парадигму дисциплины, не
самое главное.
Более существенным для формирования позиции по отношению к общей
теории систем является, с нашей точки зрения, тот наблюдаемый каждым из нас
факт, что общая теория систем активно пропагандирует свои идеи и в
коридорных ситуациях. Р.Лилиенфельд выделяет этот страт коридорной и по смыслу и
по результатам дисциплинарной литературы в «миссионерскую» литературу,
ориентированную не столько на коллег по дисциплине, сколько на публику, и видит
назначение этого явно парадисциплинарного эшелона дисциплинарной
литературы в том, что входящие в него очерки и статьи «стараются втолковать
несведущим, насколько велико значение работы, совершаемой в рамках данной
дисциплины» [136, с. 1]. Для нас суть дела не только и не столько в этом.
В Ту культуре, где действуют законы о всеобщем и обязательном среднем
образовании, в рубрику «несведущих» входят все обладатели аттестатов зрелости,
которые не принадлежат к той узкой области специализации, к которой
принадлежит сообщество «сведущих», в нашем конкретном случае — все те, кто не
является членом дисциплинарно-академического сообщества теории систем. Что-
нибудь «втолковывать» этим несведущим насчет величия задач и свершений
системников — значит формулировать эти задачи и свершения в терминах Ту,
активно рваться в Ту, требовать представительства в текстах Ту, общесоциального
признания взрослым населением общества. Эту сторону дела отмечает и Лилиен-
фельд: «Практически все, ведущие исследования в этих областях, уверены,
похоже, в том, что их работа имеет не только «техническую» (читай,
«дисциплинарную». — М.П.) ценность, но есть нечто большее. Они убеждены в том, что их
открытия и развитые ими концепции имеют огромное философское, социальное
и даже религиозное значение. Они предлагают новые образы человека и
общества, бога и сотворенного человека, их взаимоотношений» [136, с. 2].
Насколько перспективны эти попытки атаковать тексты Ту и что сулят
удачные их исходы науке и культуре?
Наиболее впечатляющей задачей этого класса, в случае ее осуществления,
была бы естественно та, которая имплицитно содержится в идеях «вертикальной
интеграции» Берталанффи как средства «приближения нас к конечной цели
объединения наук путем разработки объединяющих принципов, проходящих
«вертикально» через весь научный мир отдельных дисциплин, что может повести к
крайне необходимой интеграции научного образования» [136, с. 23—24]. Она же
в неразвернутом виде содержится и у Ласло: «Он надеется, что системная
философия способна выработать язык, который объединит дисциплины, разделенные
сегодня специализированными концептами и терминологиями» [136, с. 162].
На фоне действующей модели онаучивания общества через воздействие
научно-академического сообщества на состав текстов Ту реализация задач
«вертикальной интеграции» и разработка инструмента достижения такой интеграции —
единого для всех дисциплин языка, способного преодолевать лакуны, возникающие
История европейской культурной традиции и ее проблемы 385
между дисциплинами, специальностями, группами, можно понимать и по
максимуму и по минимуму.
Понятая по максимуму, задача состояла бы в том, что вертикальная
интеграция, реализованная на основе единого языка научно-академического сообщества,
сделала бы излишней наличную сеть дорог Ту-Тд + Тд-Тг, по которой сегодня
ходят новобранцы на передний край научных исследований, и, в порядке
«приближения к конечной цели объединения наук» и «интеграции научного
образования» [136, с. 23—24], дала бы право на замену этой сети специализирующих
дорог, берущих начало от Ту, единой магистралью Ту-Тн, универсальным для
науки этапом возрастного движения индивидов к переднему краю исследований,
состыкованным непосредственно с Ту.
Понятно, что появление такой прямой магистрали Ту-Тн к переднему краю
магистрали общенаучного значения, снимающей необходимость
специализирующего кодирования идущих в науку индивидов, даже если бы эта магистраль была
пробита и не на всю глубину движения к переднему краю, а отменила бы,
скажем, радиальные маршруты Ту-Тд, создав новую метрополию науки Тн на
аспирантском трехлетнем удалении от переднего края исследований, резко изменило
бы социальный статус Ту в нашей культуре, превратив его из универсального
тезауруса системы общесоциальной коммуникации в тезаурус частный — для всех
видов «ненаучной» специализированной деятельности и для общения ученых с
«публикой» — со всеми группами «несведущих» не просто по причине
принадлежности к специализированным сообществам, но и потому также, что
«несведущими» не пройдена магистраль Ту-Тн, отделяющая их от науки и не позволяющая
им принимать участие в обсуждении проблем науки.
Перед «ученым-теоретиком, убежденным гуманистом и воспитателем»,
который, по Ласло [136, с. 161], обязан будет заняться и теоретическим обоснованием
и практическим проведением подобной реформы, неизбежно возникли бы
серьезные этические проблемы, поскольку различие тезаурусов Ту и Тн, постоянно
присутствующая в обществе разность Ту-Тн, неснятое тезаурусное отношение,
требующее для своего решения курса академической подготовки ТуТн, неизбежно
делило бы общество на «несведущих» с тезаурусом Ту и «сведущих» с тезаурусом
Ту + Тн в том же примерно смысле ступеней восхождения к чему-то, в каком
отцы церкви делили людей на соматиков-плотских, психиков-душевных и пнев-
матиков-духовных, причем отсутствие семейно-правовых регуляторов типа
первородства, исключения из возрастного образовательного движения женщин
неизбежно придавало бы членению общества на «несведущих» обладателей аттестатов
зрелости и «сведущих» обладателей и аттестатов зрелости и дипломов о
завершении курса Ту-Тн элитарный характер и постоянно толкало бы «несведущее»,
разведенное из Ту по специальностям большинство к устранению этого
несправедливого тезаурусного отношения Тн-Ту политическими, юридическими или
любыми другими средствами, восстанавливающими «равенство» всего взрослого
населения перед единым и равнообязательным набором текстов Ту.
Но основным в этом понятом по максимуму варианте задачи был бы все же
вопрос о емкости социальных структур с точки зрения их способности осваивать,
хранить и передавать входящим в жизнь индивидам некоторые объемы знания,
навыков его обнаружения и приумножения, оформления и использования для
общесоциальных нужд, прежде всего для извлечения из среды живущим
поколением людей всех наличных возрастных групп средств к жизни. Постановка
системниками проблемы вертикальной интеграции процесса научного познания мира в
неявном виде содержит посылку о всезнающем взрослом индивиде, коль скоро
предлагаются методы редукции дисциплинарных учебников, следующих модели
радиального развода новобранцев Ту-Тд в разные дисциплины к единому для
науки учебнику Ту-Тн в единую науку, причем этот один учебник для всех
новобранцев науки очевидно мыслим лишь как непосредственное продолжение текс-
25 М.К.Петров
386
M. К. Петров
тов Ту общеобязательной школы для той части молодежи, которая сама выбирает
путь в науку или обществом отбирается для научной деятельности.
Настаивая на унификации подготовки научных кадров, системники все же не
уточняют параметров этого единого учебника Ту-Тн ни с точки зрения сроков
обучения, ни с точки зрения структуры входа в общенаучное сообщество
(экзамены, публикация, защита или какие-то новые формы признания), но при всем
том гарантированное единым языком и вертикальной интеграцией отсутствие
специализации в возрастном движении этой группы молодежи,
самораспределившейся или распределенной в науку, предполагает, что на тем или иным способом
обустроенном выходе из процесса научной подготовке, на входе в общенаучное
сообщество «сведущих» выпускник унифицированного курса подготовки Ту-Тн в
какой-то изобретенной системниками целостной форме овладеет по крайней мере
той совокупностью знаний и навыков, которой овладевают сегодня в фрагменти-
рованной форме выпускники всех читаемых в университете студенческих курсов,
а если унификация распространяется и на аспирантскую подготовку, то и той
совокупностью знаний, которую в дисциплинарно фрагментированном виде
демонстрируют сегодня выпускники аспирантур, защищая диссертации и получая
признанное обществом право воспитывать всю иерархию воспитателей производно
от результатов собственных исследований на переднем крае науки.
Оставляя в стороне в данном случае второстепенный и технический вопрос
об осуществимости такой редукции совокупного предмета научного познания
мира открытий и представимости продукта такой редукции в одном
общеобязательном учебнике, рассчитанном на сколько-нибудь разумный срок обучения (лет
на 8, скажем, чтобы у «всесведущих» выпускников оставалось еще в запасе лет
30—40 на активные поиски и признание наукой найденного), мы можем просто
констатировать, что в случае удачного исхода подобной затеи системников
решить поставленную ими задачу по максимуму предмет или проблемная область
научного познания в целом будут тем или иным способом (пока для нас
безразлично, каким именно) приведены в соразмерность с физическими и ментальными
способностями индивида как биологической особи, поскольку сегодня на этапе
от рождения ребенка до завершения им курса общеобразовательной средней
школы выхода за пределы этих возможностей не замечается — выпускники
средней школы, получая аттестаты зрелости, ежегодно подтверждают проходимость
всего пути для всех индивидов из всех семей и детских садов, — а системники
постулируют точно такую же проходимость для всех новобранцев, каким бы
способом они ни отбирались, курса Ту-Тн, созданного на основе вертикальной
интеграции всех дисциплинарных учебников единого для всей науки учебника.
Конечно, еще более впечатляющим вариантом решения поставленной
системниками задачи по максимуму была бы и попытка снять фиксированное
положение Ту в его функции общего начала радиальных разводов обладателей аттестатов
зрелости во все «ненаучные» профессии, специализированные сообщества,
основанные либо на традиционном массиве практического знания (повара,
например), либо на практических приложениях научного знания (звукооператоры,
лекальщики, стеклодувы и т.д.). Без этой юбки, так сказать, на целостной фигуре
возрастного движения, которая отвлекает большую часть всеобщего потока
входящих в жизнь поколений в ненаучную специализацию, картина движения от
колыбели до переднего края науки приобрела бы всеобщий, обязательный и
единообразный характер, а человеческий род, понятно, избавился бы от биологической
и генетической недостаточности, вернулся бы в группу биологически и
генетически достаточных видов, использующих постредакцию — воспитательное
общение поколений.
Но по части вертикальной интеграции практических специализированных
навыков общая теория систем хранит молчание, оставляет вопрос открытым. Нам,
во всяком случае, ничего по этому поводу читать не приходилось, так что такие,
скажем, высокопрестижные во всем мире профессии, как дантист, медицинская
История европейской культурной традиции и ее проблемы 387
сестра, кинооператор, режиссер, администратор, которые в последние годы все
более полно вовлекаются в сферу «постшкольной» или даже обязательной
академической подготовки, должны, видимо, будут остаться вне сферы всеобщей
интеграции и унификации возрастного воспитательного движения на правах более
или менее доказательных свидетельств биологической и генетической
недостаточности человеческого рода и силы соответствующих компенсирующих постулатов.
В варианте решения этой же задачи по минимуму мы оставляем в стороне
вопрос о действующем фиксированном по возрастному движению Ту в его
функциях общего начала развода в ненаучные и научные виды деятельности
новобранцев — обладателей аттестатов зрелости и фиксируем внимание в основном на
проблеме обеспечения общенаучной коммуникации в той форме, в какой она
ставится системниками: «Разработать язык, который объединит дисциплины,
разделенные сегодня специализированными концептами и терминологиями» [163,
с. 162].
Изложим основное различие в понимании проблемы единства научной
коммуникации нами и системниками. С нашей точки зрения единство научной
коммуникации всегда существовало и будет существовать до тех пор, пока
новобранцы науки будут приходить на передний край научных исследований, постоянно
демонстрируя самим фактом своего прихода, что на их пути нет непроходимых
для человека препятствий. Но путь этот долог, занимает как минимум 8 лет и,
начинаясь с синхронного коммуникационного единства, завершается синхронным
же коммуникационным разобщением терминалов развода — дисциплин,
специальностей, групп, что вполне наблюдаемо и с достаточной достоверностью
подтверждается наличием проходящей через все уровни организационной иерархии
науки вертикальной «коридорной ситуации», которая обнаруживается и на
ежегодных собраниях академий наук и в единичных актах общения между членами
научно-академического сообщества, принадлежащими к разным дисциплинам и
специальностям. Для всех коридорных ситуаций характерно общение на Ту — на
языке общесоциальной коммуникации, который освоен всеми членами научно-
академического сообщества как минимум лет 8 назад и не включает тех
изменений в их языке, которые произошли на периоде академической подготовки, а
включает только те изменения, которые вводятся в Ту средствами массовой
коммуникации и паранаучными эшелонами «миссионерской» или популяризаторской
литературы, которые от имени дисциплин объясняют «несведущей» публике,
иногда лучше, иногда хуже смысл событий на переднем крае познания.
В отличие от нашей «лаговой» схемы существования и воспроизводства
общенаучной коммуникации, замкнутой на возрастное движение индивидов, что
предполагает правомерность существования «коридорной ситуации» и практическую
невозможность устранения междисциплинарных лакун, поскольку общенаучная
коммуникация всегда замкнута на язык абитуриентов, новобранцев, каким они
его застают по окончании средней школы, схема системников предусматривает
возможность замены этой лаговой схемы схемой синхронной, устраняющей
дисциплинарную разобщенность, междисциплинарные лакуны и всю вертикальную
иерархию уровней «коридорной ситуации».
Здесь, правда, чувствуются известные колебания. С одной стороны,
постулируется необходимость и возможность разработки языка, который объединит
дисциплинарные системы коммуникаций, разделенные и разделяемые в процессе
дифференцированной подготовки научных кадров. С другой стороны, допускается
вроде бы и специфика уровней системной онтологической иерархии, предметная
и методологическая разобщенность дисциплин: «Теория систем должна служить
не столько объяснению феноменов на каждом из этих уровней — это в общем-то
дело специальных наук, в которых системный подход развивается независимо.
Задача теории систем — сведение этих независимых системных моделей в общую
теорию систем» [136, с. 165].
25*
388
М.К. Петров
Да и вообще, нужно сказать, прямой разговор об устранении сети идущих от
Ту через академические структуры радиальных дорог и тропок развода
новобранцев к переднему краю научных исследований встречается в работах системников
крайне редко, а обсуждение возможных следствий замены этой сети дорог единой
магистралью унифицированной подготовки научных кадров и того реже.
Центральная, по нашему мнению, проблема, возникающая по поводу отмены
подобной сети дорог в результате унификации подготовки научных кадров, — проблема
редукции накопленного и накопляемого наукой знания до объема
общеобязательного для новобранцев науки учебника — более или менее четко ставится только
И.Гальтунгом, который развивает свою особую системную теорию синтеза
позитивизма и диалектики [112, с. 228—229], но и у него обсуждение ведется под
формой сомнения: так ли уж много накоплено и накапливается наукой, чтобы
сомневаться в возможности редукции этих накоплений до вместимости головы
одного человека? Ответ, понятно, дается в пользу возможности редукции, но
критерии отбора, что также понятно, не формулируются [112, с. 64—65].
Но допустим, что системникам все же удалось бы независимо от действующей
лаговой схемы общенаучной коммуникации, опирающейся на возрастное
движение новобранцев и воспроизводящей междисциплинарные лакуны, «коридорную
ситуацию», реализовать вторую синхронную схему общенаучной коммуникации,
которая опиралась бы на разработанный ими единый язык науки. Каким мог бы
быть такой язык? Какие проблемы общенаучного интереса на нем можно было
бы обсуждать, которые сегодня не подлежат обсуждению из-за необходимости в
коридорных ситуациях использовать язык Ту?
Чтобы приблизиться к кругу возникающих здесь проблем, полезно будет
напомнить некоторые черты жизни интеллектуального сообщества в Ти культуре,
где, похоже, изначально, по крайней мере с XII в. возникла и существовала та
самая схема, о которой сегодня мечтают системники, а затем, после появления
опытной науки и безусловно под воздействием возникающих и набирающих силу
обязательности и всеобщности систем общеобразовательной школьной
подготовки, эта схема начала преобразовываться в современную лаговую схему
общенаучной коммуникации.
В первой части со ссылками на Д.Найта [131] и других исследователей мы в
несколько ином контексте говорили уже о том, что единство языка (латынь) само
по себе не было достаточным условием для освоения интеллектуальным
сообществом нового, хотя, естественно, и не мешало ему, а даже способствовало, если
речь шла об инновациях, не затрагивающих основ христианского миропорядка.
Кроме единства языка требовалось еще концептуальное единство. Изобретение
телескопа, например, чтобы пройти путь от чечевиц-линз, от изобретенных
неизвестным ремесленником «линз для чтения» в признанную теорию оптики
(Кеплер, Спелл, Декарт, Ньютон), должно было получить сначала привязку в
общеобязательных текстах Ти, а затем уже развиваться в теорию, существенно меняя
ситуацию: «Усилиями Спелла, Декарта и Ньютона оптическая теория середины
XVII в. опережала практику, так что телескопы конструировались скорее на
основе общей оптической теории, чем на основе специальной теории,
разработанной для объяснения телескопов» [131, с. 162].
При этом и Кеплер, объяснявший собственно телескоп в терминах тривия и
квадривия, и создатели общей теории оптики опирались на тексты, входящие в
Ти, начиная от объяснения природы света, который ведет себя геометрически,
античными авторами и кончая спорами интеллектуалов XII—XIII вв. о радуге
[109, с. 81—101], которые, понятно, не входили до Кеплера в связь с
эмпирической прозой «чечевиц-линз для чтения» и были осознаны, как части единого
предмета, представленного в Ти только после появления телескопа.
Точно так же, к примеру, шло опосредование эмпирией теории и в процессе
разработки концепта инерции. Спор интеллектуалов о природе движения,
сфокусированный на концепции «естественных мест» вещей у Аристотеля, привел не
История европейской культурной традиции и ее проблемы 389
только к учениям о толчке и инерции, но и к предоставлению
парадигматического теоретического статуса ряду эмпирических явлений. Для Кеплера это очки
и телескоп. Для Буридана — жернов, который «вращался бы вечно, если бы
мельница не работала и не было сопротивления» [109, с. ПО}. У Галилея корабль,
который, «получив однажды какой-то импульс при спокойном море, непрерывно
двигался бы вокруг нашего шара и это движение никогда не прекратилось бы, а,
находясь в покое, всегда был бы неподвижен, если бы, в первом случае, можно
было бы устранить все внешние препятствия, а во втором, — если бы никакая
внешняя движущая причина не подействовала внезапно» [72, с. 34].
Такие опосредования эмпирией теории отражали и движение в иерархии
теоретических концептов в текстах Ти. С.Мейсон приводит, по нашему мнению,
прекрасное свидетельство в пользу возникновения этой обратной связи между
теорией и эмпирией: «Переоценки в теориях микрокосма человеческого тела и
макрокосма вселенной в целом имели очевидное влияние на метафоры и сравнения
тех времен для их величеств. Традицией было сравнивать монархов и их области
правления с мозгом в теле или с первым двигателем, управляющим вселенной с
высоты. Но теперь, когда Солнце оказалось в центре мира, а сердце в центре
тела, они становятся образцами и символами правления. Джон Норден (1548—
1626) в «Christian Familiar Comfort» (1600) описывает Елизавету I, как первый
двигатель Англии и Френсис Бэкон использует тот же образ в трактате «On Sedition».
Но Уильям Гарвей посвящает «De motu cordis» (1628) Карлу I, как «солнцу вокруг
него и сердцу народа», а когда Луи XIV в 1660 г. достиг совершеннолетия, его
приветствовали не как первый двигатель, а как le roi soleil» [126, с. 209].
Но свидетельства в пользу возникновения обратных связей между текстами Ти
и эмпирией пока интересуют нас в контексте критического анализа
онтологических и лингвистических моделей общей теории систем только в их локаторной
функции указателей на проблему, что помогает нам идентифицировать ее место
и смысл в жизни интеллектуального сообщества. В самом деле, Ти культура этого
раннего периода за отсутствием книгопечатания не могла использовать
действующий в Ту культуре механизм обязательной публикации отчетов о научных
событиях, то есть сам принцип публикации, гласности, «ритуального танца» бесспорно
существовал, но в подавляющем большинстве случаев в своей реализации не шел
дальше того, что мы сегодня называем «редакционным портфелем», в котором
хранятся рукописи — «души нерожденных младенцев» с довольно сомнительными
шансами появления на свет (см. табл. 7). Ксилографическим способом, с
гравитационных деревянных досок печатались с конца XIV в. только некоторые
учебники, прежде других латинская грамматика Доната. Работы Буридана, например,
были опубликованы только после появления в 1440 г. техники набора,
опубликованы Альбертом Саксонским в Париже дважды, в 1516 и 1518 гг., благодаря
чему, по Дейлзу, они стали известны Галилею и «оказали на него большое
влияние» [109, с. 111].
Но в рукописном варианте все те работы, на которые ссылаются
исследователи догутенберговской истории европейской культуры, бесспорно существовали
именно этим способом «бытия в редакционном портфеле», и это уже какой-то
ход на проблему, поскольку по функции редакционного портфеля мы можем
установить и места коммуникационных центров, «устных журналов» в Ти культуре.
В статье об европейских университетах мы, исходя из представления об
университетской библиотеке как о «редакционном портфеле» того периода, так
описывали систему коммуникации интеллектуального сообщества: «Различия
библиотек и преподавательского состава, единство языка — латыни, общность
обязательной подготовки поддерживали межуниверситетскую миграцию на всех
уровнях. По всей католической Европе бродили студенты, бакалавры, лиценциаты,
магистры, находя приют и понимание в любом университете. «Кочевники»
способствовали сравнительно быстрому распространению сведений о новых работах,
выявлению авторитетов («кто есть кто» в теологии, праве, медицине), их образ
390
М.К. Петров
жизни содействовал широкому личному общению представителей европейских
университетов» [168, с. 121].
Теперь мы можем уточнить картину в том отношении, что основным центром
общенаучной коммуникации и для этого и для более поздних периодов Ти
культуры была именно «коридорная ситуация», которая сегодня доставляет так много
огорчений системникам и не только системникам.
Речь идет прежде всего об обычае совместной трапезы, застолья, симпозиума,
который в чисто христианском виде фиксируется со времен Кумранской общины,
а в «Эгейском потоке» со времен античной классики. Прекрасные описания этого
события можно найти и в «Пире» Платона и в современной литературе в романах
Сноу. В университетах, как и в монастырях, действовал на правах почти
обязательного обычай ежедневных общих трапез, функция которого кроме основной —
еда — включала и массу с ней связанных дополнительных моделей стандартных
в общем-то ситуаций академического и не только академического общения между
А и В, в которых в отличие от ситуаций типа «учитель-класс», «лектор-аудитория»
позиции А и В не являются фиксированными, что позволяет вести свободную
дискуссию, спорить и в предустановленном регламенте (собрания, совещания,
защиты) и без регламента (круглые столы, обеды, кулуары симпозиумов и
конгрессов, пресс-конференции и т.п.).
Такие ситуации всеми в общем-то признаются. Многие считают, что основная
польза, проистекающая для ученых из участия в собраниях обществ,
симпозиумах, конференциях, конгрессах состоит в том, что они дают повод и возможность
встреч на личностном уровне по взаимному интересу. Этот взаимный интерес
может совпадать или не совпадать с конечными целями науки, но встречи почти
всегда оказываются эффективными. Они обычно всегда совершаются на
неформальном уровне в личном или групповом варианте, и решается на этих встречах
множество задач, которые, если пустить их по официальным каналам или даже
использовать возможности почты и телефона либо вообще неразрешимы, либо
требуют значительного времени, либо решаются не лучшим для участников
способом. Роль таких ситуаций в жизни научно-академического сообщества
исследована слабо, это и понятно: отчеты о таких событиях не публикуются. Хотя вот
Л.Уилсон, сравнивая кадровую политику университетов и колледжей США
предвоенного периода с современной, обнаруживает черты сходства именно по набору
функций таких неформальных личностных встреч, активно участвующих в
формировании структуры научно-академического сообщества, в процессах выработки
решений, в поддержании профессиональных стандартов» [175, с. 56—59].
Еще меньше исследованию этой «трапезной» формы коммуникации уделяют
историки науки. И дело здесь не только в том, что рутинные совместные обеды
коллег слабо документированы, но и в том также, что хотя дата начала
книгопечатания в Европе хорошо известна (обычно ее связывают с выходом в Майнце
изданной И.Гутенбергом «Сивиллионой книги» где-то в 1444—1445 гг.), бурное
распространение книгопечатания по странам Европы, совпавшее с переходом
интеллектуалов на более гибкие формы общения с помощью писем,
корреспондентских кружков типа кружка Мерсенна закрыли как-то для историков науки вход
в механизмы публикации догутенберговской эпохи, хотя в общем-то понятно, что
именно здесь, в беседах коллег за обеденным столом единственно и могли в то
время обсуждаться «публично» теоретические и любые иные проблемы с опорой
на тексты Ти, как на Т0 любых возможных настольных дискуссий.
Застольная беседа интеллектуалов — бесспорно коридорная ситуация, и там,
обычай остается в силе, в колледжах английских университетов, например,
описание Ту обедов по Ти правилам у Сноу, скажем, дает чистые коридорные
эффекты. Разговор о двух культурах он собственно и начинает с обеда, с рассказа
про то, «как один из замечательных оксфордских профессоров, человек живой и
общительный, присутствовал на обеде в Кембридже» [65, с. 19]. Сноу пишет:
«Когда я слышал эту историю, в качестве главного действующего лица фигури-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 391
ровал А.Л.Смит, и относилась она, кажется, к 1890 году. Обед происходил, по
всей видимости, в колледже Сен-Джонсон или в Тринити-колледже. Смит сидел
справа от ректора или, может быть, заместителя ректора. Он был человеком,
любившим поговорить. Правда, на этот раз выражение лиц его сотрапезников не
слишком располагало к многоречию. Он пробовал завязать обычную для окс-
фордцев непринужденную беседу со своим визави. В ответ послышалось
невнятное мычание. Он попытался втянуть в разговор соседа справа и вновь услышал
такое же мычание. К его великому изумлению, эти два человека переглянулись
и один из них спросил: «Вы не знаете, о чем он говорит?» — «Не имею ни
малейшего представления», — ответил другой. Этого не мог выдержать даже Смит.
К счастью, ректор, выполняя свои обязанности миротворца, тут же вернул ему
хорошее расположение духа. «О, да ведь они математики! — сказал он. — Мы
никогда с ними не разговариваем...» [65, с. 19].
В Ти культуре таких резких выявлений взаимного непонимания произойти не
могло, но это не мешало застольной беседе быть в потенции типичной
коридорной ситуации, где использование единого языка — английского у Сноу, латыни
в университетах Ти культуры — явно не было гарантом взаимопонимания,
которое обеспечивалось не единством языка, а единством Т0 застольных бесед,
общностью текстов Ти. Понятно, что без единства языка — английского в одном
случае, латыни в другом — застольные беседы вообще не могли бы произойти,
как и разговоры в университетском коридоре, как и выступления на ежегодных
собраниях академии наук или дебаты в парламенте по животрепещущим
вопросам общенациональной политики. Но коридорные эффекты взаимного
непонимания производны не от того, на каком общем языке говорят выступающие и
слушающие, реальные и потенциальные А и В речевых ситуаций, а от того,
основаны ли эти акты речи на едином для них всех тезаурусе Т0, который
очередному А позволяет осознать тезаурусное отношение Ti-T0, понять, что он
собственно хотел бы сказать и как это нужно сделать, а слушающей его застольной
или коридорной В аудитории понять, что именно хотел сообщить А. В Ти
культуре этот общий То устойчив — тексты Ти; не менее устойчив он и в Ту
культуре — тексты Ту, преподанные в общеобразовательной и общеобязательной
средней школе. И если в Ту культуре коридорные эффекты выявляются более остро,
чем в Ти культуре, а речевая ситуация остается все же идентичной — коридорной:
есть единство языка (латыни, английского, русского, немецкого...), есть и
единство тезаурусов — Ти для интеллектуалов и Ту для нас, — то что-то, надо
полагать, меняется в структуре тезаурусных отношений, в разностях: Ti-T0 (Ти); Ti-T0
(Ту), что в одном случае делает застольную беседу центральным событием
общенаучной коммуникации (Ти культура), а в другом (Ту культура) превращает
разговор членов научно-академического сообщества в типично коридорный треп про
«печки-лавочки», остающийся за пределами общенаучной системы коммуникации.
Поэтому, если под этим углом зрения посмотреть на коммуникационную
задачу системников в варианте ее решения по минимуму (единый язык науки,
устраняющий коридорную ситуацию в актах междисциплинарного общения;
известная автономия «наук», производная от специфики уровней онтологической
иерархии, автономность уровневых системных подходов), то станет различимой
явная гетерономность в самой постановке проблемы.
С одной стороны, системники явно рвутся в открытую дверь, когда они
говорят о разработке единого языка науки, основанного на постулате «всеобщего
порядка в природе» [136, с. 162—163]. Таких языков «разрабатывать» по нашему
мнению не требуется, поскольку все естественные языки основаны на постулате
всеобщего порядка не в «природе», правда, а в знаковом ее отображении, в том,
что античная философия называла «бытием», миром «истины», а мы сегодня
называем областью онтологии, часто путая ее с областью космологии. Понятие
«природа» в нашей Ту культуре принадлежит онтологии, тому, что Ласло и Пеп-
пер рассматривают как область «потенциально исчислимых конструктов повторя-
392
M. К. Петров
ющихся универсальных черт вселенной, доступной научному наблюдению» [136,
с. 163], если быть «доступной научному наблюдению» автоматически означает
«быть представимой в мире знака», где нет отметок единичности, пространства и
времени или, выражаясь терминами Н.Сторера, где «все идеи науки сосуществуют
в области, лишенной часов и календарей» [140, с. XXIV].
Точно таким же статусом онтологического понятия «природа» обладала и в Ти
культуре, но там акцент ставился не на доступности научному наблюдению, что
предполагает представимость в мире знака и подчиняет понятие природы
постулату господствующего в мире знака всеобщего порядка, а на сотворенности
природы по разумному логическому плану, на встроенности в текстуру целостности
природы логико-лингвистической характеристики как гаранта познаваемости
природы человеком.
Для jiHjjiHttbix философов-язычников «природа» принадлежала к миру
«мнения», не была онтологическим понятием мира «истины», ее отображения в мире
знака не поднимались выше «правдоподобного мнения». Происходило это не
потому, что плох, несовершенен, недостаточен в каком-то смысле был мир знака,
истины, а просто потому, что мир истины и мир мнения были разными мирами.
И когда, скажем, Галилей пишет: «Хотя, возможно, искать истинную сущность
солнечных пятен напрасный труд, из этого вовсе не следует, что мы не можем
знать некоторые их свойства,... с помощью которых мы окажемся в состоянии
лучше философствовать о других и более спорных естественных субстанциях»
[177, с. 23], то это не какая-нибудь уступка, непоследовательность или вода на
чью-нибудь мельницу, а простая констатация принятого античностью и
санкционированного теологией различения между двумя мирами, причем различения, на
наш взгляд, достаточно фундаментального, которое полезно учитывать и сегодня,
чтобы не оказаться в плену у знакового фетишизма.
Неясность позиции системников в этом принципиальном вопросе о
толковании «доступности научному наблюдению» порождает и неясность относительно
того, какой смысл они вкладывают в понятие «единого языка науки». Если речь
идет о самой возможности более или менее осмысленного междисциплинарного
общения в условиях лаговой схемы существования и воспроизводства системы
общенаучной коммуникации, на входе в которую новобранцев науки
характеризует Ту единство, а на уровне терминалов переднего края — Ту разобщение,
«смешение языков» не хуже вавилонского, то такая возможность существует и
сегодня: у коллег, к каким бы дисциплинам они ни принадлежали, всегда находятся
и поводы и общие темы для разговоров, как и соответствующие им Т0-е
обоюдного распределения, ни один из которых не является, правда, Тд, но и не
обязательно представлен в текстах Ту. Но если в понятие «единый язык науки»
вкладывается представление о безлаговой синхронной общенаучной содержательной
коммуникации, то в этом случае требуется уже не просто язык, будь он
естественным (родным) или искусственным (благоприобретенным на одном из этапов
возрастного движения после «от 2 до 5»), а язык с фиксированным тезаурусом
типа текстов Ти или текстов Ту, или текстов Тд, то есть в парадигму, данность
должны быть переведены не только грамматические правила того или иного
языка, а и группа реалий концептуально-понятийного «общенаучного» аппарата,
отобранных, скажем, системниками либо методом Берталанффи (средствами
наблюдения), либо методом Эшби (аксиоматически).
В отличие от Ти и Ту назовем этот гипотетический фиксированный тезаурус
«разработанного» системниками гипотетического единого языка науки тезаурусом
системников — Тс, полагая, что за этим единым для научно-академического
сообщества Тс будет стоять некоторая группа текстов общеобязательных и
проходимых для новобранцев науки, то есть единый учебник науки, рассчитанный на
какой-то срок прохождения.
Чем могли бы различаться Ти, Ту и Тс в их функции Т0 общенаучной системы
коммуникаций?
История европейской культурной традиции и ее проблемы 393
Ти в основном справлялся с этой функцией, удерживал систему
коммуникации интеллектуалов в той синхронной форме всеобщего общения о новом, о
которой мечтают системники, и там, где в Ту культуре определенно возникала бы
«коридорная ситуация», непроходимые для собеседников междисциплинарные
лакуны, в Ти культуре такой ситуации не только не возникало, но на ее будущем
месте располагался опорный и постоянно действующий институт оперативного
обмена междисциплинарной текущей информацией — обед, застольная беседа
интеллектуалов. Даже и сегодня, когда мы практически во всех романах Сноу о
жизни научно-академического сообщества XX в. присутствуем на обедах в
колледжах, возникающие за столом ситуации далеко не всегда целиком
укладываются в коридорные: за столом коллеги все же лучше понимают друг друга, чем в
коридоре. Вполне возможно, что будничный опыт многолетнего и не стесненного
регламентом общения устойчивой группы ученых разных дисциплин стихийно
вырабатывает какие-то новые значения группового тезауруса, новый Т0 данного
колледжа или данной группы, значение которого не совпадает с Ту обычных
коридорных дискуссий.
Ту очевидно являясь достаточным для лаговой схемы существования и
воспроизводства общенаучной системы коммуникации, столь же очевидно выявляет
свою непригодность в качестве синхронного Т0 общенаучных дискуссий, создает
и поддерживает эффекты «коридорной ситуации». Какая-то часть самих этих
эффектов и силы их выявления должна быть, видимо, на летучий и мимолетный
характер самой ситуации, застающей участников врасплох и прекращающей акты
речи внешним способом — звонок, регламент. Дж.Фэшинг и СДейч приводят,
например, случай из времен студенческого активизма, когда в Западном колледже
штата Вашингтон его ректор «старый деспот» Хэггард непреднамеренно вызвал
переход коридорной ситуации в существенно иную и более конструктивную
форму общения. Хэггард запретил пить и курить в рабочих помещениях
колледжа, что дало несколько неожиданный и довольно устойчивый эффект:
«Поскольку курящие в Западном колледже того периода считались своего рода
отступниками, запрет сводил курильщиков из разных слоев колледжа вместе, и курилка
стала центром власти. Здесь коалиция тех, кто стал позже наиболее
прогрессивной силой городка, могла вести дискуссии на различные темы, планировать
стратегию, совместно придумывать меры для развития колледжа в прогрессивном
направлении» [111, с. 159].
Но в целом, понятно, даже и в таких курьезных случаях непредусмотренного
перехода коридорных ситуаций в нечто весьма близкое к застольной беседе
интеллектуалов, не меняет существа дела: междисциплинарные лакуны остаются
непроходимыми, и дискуссии в курилке — «центре власти» — не становятся
обсуждением дисциплинарных событий на междисциплинарном форуме, формой их
освоения на уровне науки в целом.
Гипотетический общий для науки тезаурус системников Тс, «разрабатывать»
ли для него специальный язык или довольствоваться существующими
естественными языками, если научно-коммуникационные свойства Ти и Ту образуют
некоторый континуальный или эманационный переход от свойства обеспечивать и
лаговую (по возрастному движению), и синхронную (по функции Т0 научных
дискуссий) интеграцию системы общенаучной коммуникации к свойству
обеспечивать только лаговую форму — служить началом всех движений новобранцев
через академические структуры к переднему краю науки, — должен бы тяготеть
в таком континууме слабеющей эманации тезаурусных свойств к Ти. И хотя
системники настаивают на том, что их философия, которую предстоит разработать,
должна быть перспективной, обращенной в будущее» [136, с. 163], в этой тезау-
русной ее части она носила бы определенно восстановительный характер, была
бы попыткой вернуть наличному множеству Т0-х синхронно протекающих
разобщенных дисциплинарных дискуссий-форумов единое для науки значение Тс,
которым такое множество обладало в дискуссиях интеллектуалов, где любой Т0
394
М.К. Петров
множества совпадал с Ти, но которое это множество потеряло где-то на переходе
от Ти к Ту культуре, получило дифференцированные значения, тяготеющие в
устных стандартных ситуациях научного общения между А и В к Тг, а в описаниях,
публикациях — к Тд.
Что мысли системников, осознают они это или нет, направлены именно на
восстановление, в прошлое, а не в будущее системы общенаучной коммуникации,
подчеркивает и тот факт, что рассуждая о разработке общенаучного языка,
синтезе общей теории систем, модели моделей, системники как-то вообще не
проявляют сколько-нибудь заметного интереса к разработке механизмов, способных
обеспечить их модель синхронной общенаучной коммуникации. Этим они
значительно отличаются от интеллектуалов-революционеров XVII в., которые, не
скрывая своей приверженности к идеям восстановления ущерба, нанесенного
человечеству грехопадением Адама и тысячелетним царством Антихриста — Римской
церкви, смотрели все же в будущее, предлагая, обычно с прилагательными
«новый» как ревизии древних и действующих моделей мышления, так и
практические организационные механизмы накопления и освоения знания, которые
частью были реализованы (национальные академии наук, журналы, всеобщее
образование), частью заглохли (систематизация технологических арсеналов всех
народов земли), но бесспорно были в активе революционеров. У системников
ничего этого с прилагательным «новый» мы не обнаруживаем, хотя, и это тоже
следует отметить, не обнаруживается и прямых указаний на коммуникационные
механизмы Ти культуры — совместные трапезы, миграцию интеллектуалов по
модели «вандеряре» в поисках новых идей и авторитетов, ритуала признания.
Проводя, скажем, смелые и в общем-то правомерные параллели между
действующими правилами подготовки и защиты диссертаций в Ту культуре и обрядами
посвящения в первобытных обществах или процедурами «божьего суда» в средние
века, справедливо подчеркивая реликтово-рудиментарный ряд протокольных
процедур признания, ни системники, ни сочувствующие им или прямо
поддерживающие их социологи не идут дальше констатации того факта, что все эти
освященные традицией обычаи лизать раскаленные сковороды, получать удары
дубиной без права уклонения и самозащиты, да и само присвоенное отцами церкви
право голосовать истину, которое существует как право признанное и
санкционированное с Никейского собора до наших дней, не более как архаизмы, не
входят в анализ того, как этим правилам удалось сохраниться и каким способом те
функции, которыми они сегодня нагружены, могли бы выполняться более
эффективными и гуманными механизмами, хотя в общем-то совершенно ясно, что
осуществись поставленная системниками задача хотя бы по минимуму, пересмотра
потребует вся институциональная структура науки от формы конечного продукта
ученого до дуализма систем признания в академической и научной иерархиях.
Если искомое системниками значение Тс должно находиться где-то в
континууме исторических тезаурусных изменений от Ти до Ту, предположительно в
максимальном приближении к Ти, то для оценки перспектив общей теории
систем было бы правомерно и полезно попытаться определить природу различий
между Ти и Ту. Здесь, понятно, рано пока говорить о сколько-нибудь признанных
и верифицированных формализациях, речь может идти только о гипотезах, в
принципе допускающих формализацию. Наша гипотеза состоит в том, что
совокупный предмет научно-дисциплинарного познания окружения, та terra incognita,
по территории которой проходят занятые дисциплинами, специальностями,
группами участки переднего края человеческого познания, для обществ, живущих в
Ту культуре, находится сегодня за пределами прямого информационного контакта
с живущим поколением. Научно-дисциплинарное познание где-то на переходе от
Ти к Ту пересекло ту границу, ту точку возврата, за которыми начинается «ужасно
далеко» прутковского пастуха. Вести с переднего края науки доходят сегодня до
живущего поколения развитого общества не как прямые свидетельства очевидцев,
сообщаемые в ситуациях синхронного общения между А и В аудиторией непо-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 395
средственными участниками событий, а через их потомков в каком-то вряд ли
даже и первом поколении.
Понятно, что речь здесь идет не о физических потомках и поколениях, а о
числе «ретрансляционных пунктов», которое обязано пройти сообщение о
событии на переднем крае познания, прежде чем отчет о нем попадет в
соответствующим образом редуцированной и усеченной форме в тексты Ту и станет
универсальным достоянием взрослого населения общества.
Если говорить о редукции, степенях сжатия и возможных искажений,
которым подвергаются вести с переднего края в актах их ретрансляции, то можно
просто напомнить приводившееся уже по другому поводу описание Д.Пелмана,
научного обозревателя «Сан-Франциско Кроникл» того, как это делается на
телевидении, едва ли не наиболее оперативном и эффективном в современных
условиях терминале цепи ретрансляторов, который непосредственно воздействует
на текущее значение Ту взрослого населения. Симпозиумы можно считать первой
инстанцией ретрансляции. На их обсуждение обычно выносятся уже не прямые
свидетельства очевидцев, а события переднего края «актуальные», обросшие
теоретическими опосредованиями и гипотезами относительно того, «что бы это
значило» для действующей парадигмы, получающие атрибут актуальности чаще всего
потому, что они либо с трудом объясняются действующей парадигмой, либо
вообще не объясняются ею, требуют серьезных корректив в теории, с помощью
которой прямые наблюдатели вообще сумели опознать событие как значимое. Такие
симпозиумы продолжаются обычно несколько дней, а в конце симпозиума
положено по научному протоколу устраивать пресс-конференции. Дальше, по Д.Пел-
ману, события в кратчайших линиях ретрансляции развертываются так: «Пресс-
конференция длится примерно с час. Научные обозреватели горстки газет, пара
радиообозревателей что-то записывают, задают вопросы, передают по телефону
тексты статей или записи для радио размером в несколько сот слов, иногда до
тысячи... В конце пресс-конференции обозреватели телевидения начинают
подыскивать ученого, чьи объяснения кажутся им наиболее красочными, а сам он
достаточно фотогеничным, просят его за две или три минуты изложить для
телезрителей суть дела. Ученый, если он достаточно нахален и общителен,
справляется с задачей в четыре-пять минут. В шесть вечера в выпуске последних известий
его объяснения срежут до 30 сек. или до минуты, предоставив дополнительную
минуту телеобозревателю, комментарии которого обычно списаны из
появившихся уже заголовков газет» [157, с. 255].
Так происходит в кратчайших линиях, замкнутых на массовую
коммуникацию. Но основная линия ретрансляции вестей с переднего края познания идет
все же через иерархию воспитателей, поскольку именно ее терминал — учитель
в классе — санкционирует общественную значимость события и вводит его в
достоинство обязательного для взрослого человека «штатного» знания, на которое
не просто можно опираться в любых операциях дополнительного
специализирующего или любого иного кодирования, но и опираться в уверенности, что оно
обязано быть в голове человека, опираться с правом предъявлять претензии к
индивиду, если по каким-либо причинам этого знания в его голове не окажется.
То, о чем сообщают средства массовой коммуникации, может фиксироваться или
не фиксироваться памятью индивида, хотя, естественно, невежество в вопросах
«текущего момента» в общем не приветствуется и в конфликтных ситуациях
незнание того, что «знают все», о бермудском треугольнике, скажем, может выйти
индивиду боком. Но статус сведений, сообщаемых в текстах Ту, неизмеримо
выше. За них индивид, обладающий аттестатом зрелости, несет ответственность
перед обществом, в частности и юридическую.
В этой замкнутой на Ту линии ретрансляции вестей с переднего края
познания скорость прохождения сигнала почти «астрономическая» в том смысле, что
наиболее удобной единицей ее измерения является год. Этот переход в
астрономические единицы измерения может показаться странным, поскольку ничего
396
M. К. Петров
вроде бы не мешает либо прямому, либо опосредованному научной литературой
контакту между исследователем на переднем крае физики, скажем, или биологии
и учителем физики или биологии в средней школе вступать в прямые контакты
на правах А и В. Но астрономическую размерность в линии ретрансляции вводит
не пропускная способность действующих каналов информации, а именно
движение знания в" официальный статус всеобщего и обязательного, которое идет не
по уровню индивидов — исследователей, преподавателей, учителей, ~апо
уровню наличных тезаурусов когнитивно-социальных единиц, включенных (по
возрастному движению) в лаговую схему системы общесоциальной коммуникации по
поводу освоения нового знания.
Процесс этого движения исследован только на отдельных участках и чисто
зондирующим способом, хотя в общем-то степень его документированности
достаточно высока и в принципе можно получить более точные и полные данные.
Э.М.Мирский, например, приводит со ссылками на Э.Гемахера сведения о лагах-
задержках между некоторыми открытиями в физике и появлением сведений о них
в учебниках: законы Ампера — 39 лет (1820—1859); эффект Допплера — 85 лет
(1842—1927); закон сохранения энергии (Р.Майер) — 58 лет (1845—1903);
электромагнитная теория света — 32 года (1871—1903). Э.Мирский так
комментирует эти цифры: «Обращает на себя внимание не столько сам факт отставания
или его величина, сколько неравномерность временных интервалов. Иными
словами, в «учебную» целостность предмета дисциплины отдельные компоненты
вводятся с нарушением как современных представлений о теоретическом
развертывании предмета, так и с нарушением исторической последовательности, в
которой они появились в дисциплинарном знании» [44, с. 143—144].
В нашем контексте кроме отмеченных Э.Мирским странностей, которые,
похоже, еще резче выявляются на переходе из «учебной» целостности дисциплины
в учебную целостность школьных программ, где, как мы видели на
калифорнийском примере, сомнения могут возникать и по поводу включения в Ту теории
Дарвина, немаловажно и то, что просматривая такие отрывочные зондирующие
данные о движении знания, мы, кроме даты открытия, которая берется обычно
по первой публикации, обнаруживаем множество других и достаточно четких дат:
появления в дисциплинарном учебнике, появления в школьном учебнике,
применения в технологии, экспериментальных проверок, переформулировок, отказа
от концептов или теорий, но не обнаруживаем дат, которые можно было бы
связать с завершением научного освоения того или иного открытия.
Между текстами Ту и множеством учебников дисциплин (Тд) мы не
обнаруживаем сколько-нибудь четко выраженного уровня или эшелона в функции
ретранслятора, который мог бы играть роль «учебника науки», хотя вполне
возможно, что общенаучные журналы типа нашей «Природы» располагаются как раз на
том уровне, на котором можно было бы ожидать появления учебника науки с
тезаурусом Тн, если бы наука обладала синхронной системой общенаучной
коммуникации, или с тезаурусом Тс, если бы системникам удалось разработать
единый язык науки с фиксированным тезаурусом, не совпадающим по значению ни
с Ту, ни с одним из множества дисциплинарных тезаурусов Тд.
Но журналы, как и любые иные периодические издания (ежегодники
системников, например) на должность учебников не годятся по самому принципу своего
устройства: в них, как и в текстах на уровне предложений, запрещен повтор на
уровне текстов: они полностью обновляют тексты и их авторов в каждом своем
выпуске, исключают перепечатку «исправленных и дополненных» вариантов
одного и того же текста. В периодике отсутствует типичная для учебников
преемственная переработка текста, когда, скажем, сравнивая учебники по физике для
средней школы 1930 г. и 1980 г. мы обнаруживаем, что хотя многое за полвека
изменилось, текст учебника и по объему, и по рубрикам, и по основному
содержанию резких изменений не претерпел, так что, прочитав списанный в архив
учебник 1930 г., можно без опасений наткнуться на что-нибудь совершенно новое
История европейской культурной традиции и ее проблемы 397
и непонятное для ученика 30-х гг. браться за чтение учебника 1980 г. Изменены
формулировки старых понятий, появились новые термины, введены новые
системы единиц, но содержательная база осталась все той же.
Удовлетворяющие условию преемственной переработки текста без увеличения
объема и внутренних членений знаковые реалии, которые ведут себя в этом
отношении подобно первым сущностям Аристотеля — способны принимать
противоположные описания, оставаясь тождественными по числу, объему, форме, — в
нашей Ту культуре встречаются только в потоках возрастного движения, сообщая
им смысл унифицирующего программирования в будущую специальность
методом преемственного наращивания тезауруса последовательности текстов до
определенного значения, общего для группы, идущей в данном потоке и
обеспечивающего знание правил деятельности в месте ее конечного назначения. Следуя за
любой из таких групп, удаляющейся от Ту к месту ее конечного назначения, мы,
естественно, замечаем дробление группы на все скудеющие по численности
потоки, но, судя по всему, ни одна из групп, даже самая малочисленная,
аспирантская, не чувствует себя «вне учебника» почти до конца движения, всегда имеет
представление о том, где она в данный момент находится, что уже пройдено, что
и в какой последовательности предстоит пройти.
На этом пути удаления от Ту мы, понятно, замечаем ряд критических точек,
барьеров, препятствий (зачеты, экзамены, курсовые работы, дипломы,
публикации, защиты), прохождение которых рассматривается как условие дальнейшего
движения и может вызывать значительный отсев, переход части группы в другие
потоки, не обязательно ведущие к переднему краю науки, но остающиеся в ла-
говой системе общенаучной коммуникации, как устойчивые области отсева,
которые нагружены функциями и которые рассматриваются как относительно
самостоятельные когнитивно-социальные образования, деятельность которых
направлена, скажем, не на расширение знания, а на удержание в целостности лаговой
системы общенаучной коммуникации, — на подготовку учебных планов,
распределение часов и ставок по кафедрам, кадровую политику, ведение библиотек и
на множество других проблем, от решения которых зависит и ход и
результативность событий на переднем крае познания.
Но ни эти критические точки и барьеры, ни наличие устойчивых по составу
и функциям организационных единиц, воспроизводящихся за счет отсева
новобранцев науки и поэтому входящих в лаговую систему общенаучной
коммуникации, не меняет основного: на всех участках пути идущие в науку новобранцы
остаются «в учебнике», в его пространстве или анфиладе, и по ходу этого движения
снимают или срезают историческую избыточность накопленных и накопляемых
различений в пользу парадигматики; на всем пути от Ту к терминалу, не
обнаруживается некоего разрыва, какой-либо заминки, какого-либо сбоя, что позволяло
бы говорить о смене общих характеристик движения, поставить вопрос о
необходимости или хотя бы возможности появления на этом пути некой общенаучной
тезаурусной инстанции типа Тн или Тс, которая могла бы реализовать
синхронную схему системы общенаучной коммуникации. Ставить эту инстанцию в
возрастном движении новобранцев после Тд бессмысленно — на уровне Тд
синхронная коммуникация по поводу вестей с переднего края научного познания,
агентами которой выступают сменяющие друг друга учителя на уроках в старших
классах, терминалы дисциплинарных воспитательных иерархий, переводящие эти
вести в состав Ту, уже разрушена, система общенаучной коммуникации уже
перешла на лаговую схему, на участке же Ту-Тд ввести такую тезаурусную инстанцию,
задерживающую отказ от синхронной схемы в пользу лаговой, значит просто под
тем или иным названием увеличивать срок обучения в средней школе, сдвигать
Ту по потоку возрастного движения к какой-то другой дате завершения курса
среднего всеобщего и обязательного образования (в 20, скажем, или 25 лет).
Не очень понятно, что это могло бы дать, поскольку смысл этого нового
значения Ту останется прежним: переход от универсализирующего к специализиру-
398
M. К. Петров
ющему кодированию, отказ от синхронной схемы коммуникации по поводу
событий в науке (учитель-терминал и агент дисциплинарной иерархии воспитателей
в классе) к лаговой схеме (радиальное разобщающее движение групп к Тд). Если
же настаивать на сохранении синхронной схемы общенаучной коммуникации или
даже выдвигать ее в конечную цель тезаурусной инстанции (Тс системников), то
нужно идти вместе с новобранцами по потоку возрастного движения (можно по
любому Ту-Тд переходу), снимая как историческое излишество современную
схему радиальных дорог и тропок к переднему краю до точки, где передний край
познания оказывается одновременно и точкой возврата из самовольных отлучек
непосредственных очевидцев событий, за которой начинается область «ужасно
далеко» прутковского пастуха. Поскольку синхронная целостность научной
коммуникации наблюдается сегодня, начиная с дисциплины, как с высшей
когнитивно-социальной познавательной единицы, то место Тн или Тс определится на
уровне-радиусе Тд, то есть в этом следовании по возрастному движению
новобранцев придется срезать все многообразие наличных Тд, а вместе с ними и
радиальные движения Тд-Тг, и дисциплинарные иерархии воспитателей, берущие
начало от событий на переднем крае дисциплинарных исследований, которого
теперь просто не будет, а его современная граница окажется где-то в глубине
«ужасно далеко», откуда вестей не подают даже и потомки очевидцев.
Понятно, что если на радиусе дисциплинарных тезаурусов (четыре года
движения) появится новая тезаурусная инстанция Тн или Тс универсальной только
для науки природы (той же, что и Ти для интеллектуалов), то сразу же объявится
множество проблем не только нравственно-этических, производных от
обособления системы синхронной общенаучной коммуникации от системы синхронной
общесоциальной коммуникации взрослых (о чем мы упоминали — каста
избранных «сведущих»), но и методологических, организационных, даже технических,
производных от невозможности сохранить действующие на дисциплинарной базе
иерархии воспитателей и от резкого сокращения общей предметной или
проблемной области научного познания, вызванного переходом от мультидисциплинар-
ности к унидисциплинарности.
Мы не будем гадать, как именно могли бы быть решены проблемы,
вызванные появлением на месте множества Тд единого для науки Тн или Тс, — слишком
уж это неверное дело. Отметим просто, что, на наш взгляд, действующая ныне
лаговая система общенаучной коммуникации, которая опирается на возрастное
движение индивидов, несмотря на явные неудобства и недостатки, в том числе и
на «коридорную ситуацию», обладает и рядом достоинств, которые вряд ли
достижимы в синхронных системах.
Основные неясности по поводу проектов восстановления или учреждения
синхронных схем общенаучной коммуникации возникают по связи с подготовкой
кадров, признанием, формой представления исследовательского продукта и
способом его общенаучного освоения. И уж совсем неясно, каким способом мог бы
реализоваться процесс онаучивания общества, передача результатов «научного
познания не только в каналы подготовки кадров, но и в системы технологических
и иных приложений, поскольку эти результаты, включаясь в процесс освоения
единой наукой, в самом процессе движения к единому учебнику, в тексты Тн или
Тс — выходили бы на категориальный уровень универсалий, теряя
непосредственную связь с эмпирией, наблюдением, экспериментом, а вместе с этой связью
и возможность возвращения в эмпирию, свойство неограниченной
транспортабельности к местам, датам, целям приложения. Иными словами, такая
использующая синхронную схему коммуникации наука, локализованная на
универсальном уровне категорий, сама оказалась бы в положении прутковского пастуха:
извлеченное научными методами наблюдения, измерения, экспериментальной
проверки знание было бы по ходу освоения отправлено в такую общенаучную
вечность, «где нет ни часов, ни календарей», из которой его нельзя было бы вернуть
в эмпирию: исчезли бы возможности сообщить ему потерянные на переходе в
История европейской культурной традиции и ее проблемы 399
знаковую реальность отметки пространства, времени, единичности и, видимо,
авторства, так что мы, например, с трудом представляем себе стандартную
ситуацию общения между А и В, выполненную на базе Тс в функции Т0 акта речи: в
такую ситуацию нельзя было бы вернуть автора научного описания и для нее не
имел бы силы постулат субъективной истинности, требование переводимости
научных статических описаний в динамические не выполнялось бы.
Частным, но существенным для нас пунктом сомнений и относительно
осуществимости синхронной общенаучной коммуникации, и относительно Тс в
функции То актов речи в такой системе, и относительно желательности всего
этого является декларируемая всеми системниками-теоретиками необходимость,
актуальность, теоретическая оправданность и практическая возможность
разработки общенаучного языка как средства общения в синхронной системе
общенаучной коммуникации.
В любой известной синхронной схеме коммуникации сообщества той или
иной численности, социального статуса, ранга используют, понятно, язык,
имеющий грамматику, словарь, имена, тексты, тезаурусы различного статуса и
распределения от тезауруса — истории предыдущих актов общения пары, выясняющей
свои отношения, до тезауруса сообщества, позволяющего осмысленно обсуждать
проблемы сообщества в целом.
Но, как правило, речь идет об естественных языках или об их
модификациях — искусственных языках, возникающих на базе естественного языка, его
грамматики за счет ряда ограничений, накладываемых на правила использования
естественного языка и отнюдь не отменяющих необходимости иметь на вооружении
естественный язык для функционирования искусственных.
Вторичность искусственных языков по отношению к естественным
проявляется прежде всего в том, что искусственные языки строят свою терминологию,
концептуально-понятийные аппараты из арсенала средств, предоставляемого
естественными языками. В арсеналах самих искусственных языков, основными
«разработчиками» которых выступали раньше интеллектуалы, а теперь ученые,
предельно мало чистых «выдумок» типа «газа» ван Гельмонта даже и на уровне
терминологии, словотворчества, где хорошим тоном считается обращение за
материалом к словарям греческого и латыни. Далеко не всегда это делается
квалифицированно, а порой от избытка пиетета к принятому обычаю получаются и
презабавные казусы. Один из философов, например, к греческому предлогу «Ыа»
прицепил латинский «Trivium» и решив, видимо, что у него получилось что-то
очень греческое, транскриптировал этот гибрид по норме западных
заимствований, породив на свет неведомую прежде «диатрибическую традицию». Вполне
возможно, что и этот лингвистический уродец получит право на жизнь:
интеллектуал, конечно же, не позволил бы себе такого варварства, но времена
интеллектуалов прошли, а Ту наука всеядна, она и в силу накопления знания и в силу
растущей дифференциации испытывает постоянную острую потребность в
оформлении новых искусственных языков, новых парадигм, в пополнении словарей
за счет ресурсов естественных языков, так что ничего страшного не случится,
если философы вместо тривия будут говорить «трибий», а на месте
тривиальностей окажутся «трибиальности».
Вторичность искусственных языков по отношению к естественным
проявляется также и в том, что именно связь производности с естественным языком
сообщает искусственным языкам человеческую метрику, поскольку ни один из
искусственных языков не может похвастаться рожденными в сфере его господства
младенцами, но все искусственные языки осваиваются после «от 2 до 5» и
осваиваются в той мере, в какой их способны освоить индивиды, владеющие родным
языком.
Влияют ли впечатанные на этапе «от 2 до 5» в подкорку индивидов
универсалии родного языка, прежде всего правила грамматики, на освоение
искусственных языков?
400
M. К. Петров
Глава 2. Категориальный потенциал языка
и категориальный потенциал человечества
Нет, пожалуй, ни одного сколько-нибудь серьезного направления в истории
науки, культуры, антропологии, лингвистики, философии, которые вслед за
античными философами и лингвистами не пытались бы дать ответ на поставленный
выше вопрос. И это понятно. Отвечать на этот вопрос приходится во множестве
методологических ситуаций, предполагающих некоторую «критическую массу»
ясности в этой проблеме для анализа производных от нее проблем.
Полная ясность, естественно, не достигается даже в таких ответах как
постулат Аристотеля: «сколькими способами сказывается, столькими способами и
означает себя бытие», развернутый в систему категорий, или в очень похожем на
Аристотеля ответе Уорфа: «Основа языковой системы любого языка (иными
словами, грамматика) не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей.
Напротив, грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством
мыслительной деятельности индивидуума, средством~~Знализа его впечатлений и
их синтеза. Формирование мыслей — это не независимый процесс, строго
рациональный в старом смысле этого слова, но часть грамматики того или иного
языка и различается у различных народов в одних случаях незначительно, в
других — весьма существенно, так же как грамматический строй соответствующих
языков» [75, с. 174].
Но у Уорфа, в отличие от Аристотеля, рядом с чистыми формулировками
частной теории лингвистической относительности соседствуют и такие, которые
по нашей классификации должны быть отнесены к общей теории
относительности. Одну из чистых формулировок частной теории мы только что привели.
Остаются в рамках частной теории и выводимые из нее следствия: «Мы сталкиваемся,
таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что
сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только
при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем» [75,
с. 175].
Уже сам этот принцип значительно менее чист, чем первая формулировка,
поскольку «соотносительность языковых систем» можно понимать весьма широко.
Еще хуже обстоит дело с разъяснениями этого принципа: «Этот поразительный
вывод не так очевиден, если ограничиться сравнением лишь наших современных
европейских языков да еще, возможно, латинского и греческого. Системы этих
языков совпадают в своих существенных чертах, что на первый взгляд, казалось
бы, свидетельствует в пользу естественной логики. Но это совпадение существует
только потому, что все указанные языки представляют собой индоевропейские
диалекты, построенные в основном по одному и тому же плану и исторически
развившиеся из того, что когда-то давно было одной речевой общностью;
сходство упомянутых языков объясняется, кроме того, тем, что все они в течение
долгого времени унаствдвали ^создании общей культуры, а также тем, что эта
культура во многом, и особенно в интеллектуальной области, развивалась под
большим влиянием латыни и греческого. Таким образом, данный случай не
противоречит принципу лингвистической относительности, сформулированному в конце
предыдущего абзаца» [75, с. 175].
На наш взгляд такое разъяснение находится в прямом противоречии с
постулатами частной теории лингвистической относительности, к которым мы относим
и постулат Аристотеля и первую формулировку Уорфа. Разъяснение же Уорфа
предполагает присутствие в Европе некой объединенной или синтезированной
грамматики («среднеевропейского стандарта» — SAE)
«французско-нижегородского» типа. Но таких вещей просто не бывает, а когда их пробуют создавать
искусственно (эсперанто), они упорно отказываются существовать, жить. Все наличные
языки стран европейской культурной традиции, в том числе и индоевропейские,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 401
обладают своими особыми грамматиками, и если формирование мыслей —
монополия грамматики, «часть грамматики того или иного языка и различается у
различных народов в одних случаях незначительно, в других, — весьма
существенно», то в Европе, как и в других частях света, вряд ли возможно создать
сходную для всех европейцев картину вселенной, даже если вселенная обладает
сходными физическими свойствами.
Более того, в языки европейского типа культуры даже и на периоде ее
складывания, в Ти культуре, где действительно большую роль играли греческий и
латынь, представлены как активные участники не только языки индоевропейской
семьи. Значкгелъную»роль играл арабский (семито-хамитская семья), на котором
писали и сами арабы и люди, для которых родными языками были тюркские
(алтайская семья) — узбек Ибн-Сина, например. И совсем уж неубедительно звучит
ссылка Уорфа на «общий план» устроения языков европейского культурного
региона.
Нам кажется, что Уорф просто не различает реальных грамматик живых
естественных языков, которые" усваиваются и интериоризируются индивидами на~
этапе «от 2 до 5», и научных описаний этих грамматик в школьных курсах
родного языка, которые действительно следуют установленной александрийцами
флективной модели нормативных грамматик, как «общеевропейскому или
среднеевропейскому стандарту» и могут создавать иллюзию присутствия «единого
плана» в европейских языках. Только этим можно объяснить тот факт, что Уорф,
с одной стороны, подчеркивает огромное унифицирующее влияние флективных
латыни и греческого, а с другой, — терпит решительное фиаско, когда пытается
проиллюстрировать этот «единый план», норму SAE примерами из английского
языка, где действуют другие правила грамматики, другой, аналитический строй.
В статье 1973 г. [53] мы пытались ввестиjcc^u^T_«raTeropHajibHbift потенциал
языка», имея в виду как раз ту сторону дела, на которую Уорф указывает в*первой
*^ормулировке. В отличие от Уорфа мы рассматривали наборы грамматических не
в качестве монополистов в деле упорядочения мира и создания «картин мира», а г
как арсеналы универсальных,правил, на базе любого из которых в принципе воз-/
можно построить целостную и человекоразмерную картину мира, то есть редуци- ^
ровать нечеловекоразмерное разнообразие и пестроту окружения к единству упо- '
Сядоченной апперцепции. В статье мы четко разграничивали принципиальную
возможность и практическую актуализацию: «Любой язык накапливает
категориальный потенциал, что позволяет реализовать эту потенцию. Но реализуется она
далеко не во всех очагах культуры, причем факт реализации или отказа от
реализации категориального потенциала языка, очевидно, не есть некая производная
от типа языковой структуры: ареалы распространения языковых типов не
совпадают с ареалами распространения типов культуры» [53, с. 62].
Такая позиция диктовалась не попыткой каким-то способом теоретически
обосновать общую теорию лингвистической относительности или, по терминологии
О.Маслиевой, «укрупненный» вариант теории относительности [42, с. 92],
каковым действительно оказывается «среднеевропейский стандарт» Уорфа, а
констатацией того факта, что не все наблюдаемые картины мира построены на материале
грамматических универсалий, категориальны по своей структуре. В первобытном "
обществе, как мы видели, господствует HgjHHQ^тип, целостность держится на
круговращении в цикле рождений и смертей конечного числа вечных имен; в
традиционном роль интегратора играет с^мья^щкденных, но бессмертн.ьгх богов. —
покровителей профессий. Но там, где^картины мира действительно выполнены^ в
категориальной т^ехнще, вступает в силу постулат Аристотеля: "палйт^оТГдля"них '
служит, и здесь мы целиком согласны с первой формулировкой Уорфа, арсенал
универсальных грамматических правил одного и только одного языка, что
гарантирует таким картинам целостность, человекоразмерность, единство апперцепции,
если под арсеналом грамматических средств языка понимается та часть
языка-системы, которая осваивается и интериоризируется на этапе «от 2 до 5».
26 М.К. Петров
402
M. К. Петров
Мы принимаем описанный Б.Уорфом механизм воздействия грамматических
правил родного для данного индивида языка на формирование мышления этого
индивида об окружении: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанным
нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и
типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив,
мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который
должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном — языковой
системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчленяем мир, организуем его в
понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы —
участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это
соглашение имеет силу для определенного речевого коллектива и закреплено в системе
моделей нашего языка. Это соглашение, разумеется, никак и никем не
сформулировано и лишь подразумевается, и тем не менее мы — участники этого
соглашения; мы вообще не сможем говорить, если только не подпишемся под
систематизацией и классификацией материала, обусловленной указанным
соглашением» [75, с. 174-175].
Это именно тот механизм подкорковой интериоризированной детерминации,
который срабатывает без участШгнашего сознания во всех освоенных нами
сознательно или бессознательно видах деятельности, имеющих репродуктивную
составляющую, а следовательно и страт универсалий^ что освобождает нас от
задумчивости и муки принятия рациональных решений в случаях, когда этого совсем не
требуется, идет ли дело о навыках поддержания равновесия и перестановки ног,
письма, печатания на машинке, общения в должности А с привычным кругом В —
адресов. Но в действие этого знакомого каждому из нас механизма добровольного
подчинения не нами установленным универсальным правилам мы вносим два
существенных для обоснования нашей позиции уточнения-дополнения:
1. Соглашение относительно систематизации мира, в котором мы участвуем,
подписано не нами, а нашими родителями (за них — их родителями), мы его
лишь ратифицируем на периоде от «2 до 5», принимая как непререкаемую
данность язык сообщества, в котором нас родили.
2. На базе подписанного нашими родителями и ратифицированного нами
соглашения могут быть созданы преемственные переходы, берущие начало от
освоенной нами на этапе «от 2 до 5» точки зрения на порядок, реализованный в
нашем окружении, к другим точкам зрения, основанным на существенно иных
способах расчленения мира и его организации.
В статье 1973 г. мы не формулировали этих уточнений-дополнений
эксплицитно, хотя в неявной форме они содержались в тексте как условия
осуществимости выбора категори_а^шш!^отенциала одного из языков в качестве базового
конструкта для создания мировоззрения, картины мира, единой для данного
(культурного_региона, в который может входить множество, языков,
принадлежавших к разным группам и семьям и имеющих соответственно различные
категориальные наборы.
Для тех случаев, когда в построении картин мира не используется
категориальная техника, существование таких peгдoJ^^aдьiшx^шц^вo^lpp■нaй для
множества языковых сообществ, мировоззрений, не зависимых от состава этого
множества, самоочевидно и наблюдаемо. Мировоззренческие структуры первобытных
обществ, использующих, вероятно, наиболее представительные и по числу и по
разнообразию категориальных наборов множества языков, настолько единообразны,
что, как мы видели в первой части, антропологические описания первобытных
социальных структур вообще носят глобальный характер. Слабая зависимость от
Языков региона обнаруживается и у картин мира традиционного типа культуры,
но при этом, поскольку письменность возникла именно в традиционной
культуре, обнаруживается и вы£окзлпстепень автономности категориальных срставов^ес-
техтв£1ШЬ1Х языкоа, длительное время сосуществующих в одном культурном
^регионе, использующем общую картину мира.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 403
С точки зрения изученности и документированное™ на длительном периоде
классикой традиции справедливо считают Яву и Индию, теснейшие культурные
связи которых фиксируются с начала нашей эры. Древнейший литературный
язык яванцев кави использовал лексику, заимствованную из языков санскрита и
пали, алфавит кадамба — вариант южно-индийского письма, но это нисколько
не мешало языку кави и многочисленным диалектам яванских языков
существовать и изменяться в русле малайско-полинезийской, а не индоевропейской семьи
языков. Сколько-нибудь заметных схождений или сближений в духе разъяснения
Уорфа об унифицирующем влиянии греческого и латыни на том же периоде для
языков европейского региона между языками Индии и Явы на уровне
категориальных структур не отмечалось.
Не видим мы этих схождений или сближений и в глоттогонических процессах
европейского региона, для которого со времен Аристотеля и александрийцев
можно считать доказанным присутствие категориальной картины мира, а со
времен Никейского собора, с IV в. нашей эры, и господство единой для разнообра-
3j^eBj^neftçjKHx языков и обществ категориальной картины мира, явно
выполненной на флективном материале набора категорий древнегреческого языка. При
этом"даже тecнeяшaдJ^ьf^нäяJiвязь между греческой (древнегреческий) и
италийской (ла^ьпл^группа^Тй^вд семьи сначала на уровне
традиционной мифологии^ где греческое семейство богов покровителей профессий
тождественно по "структуре, связям родства, функциям покровительства семейству
италийскому, а затем перенос космологических и онтологических моделей греков
на италийскую почву, использование гречески^ моделей нормативного описания
фамщтщеи, "не повлиял все же сколько-нибудь заметным способом на латынь,
не «сблизил» категориальные наборы греческого и латыни, и дальнейшее
развитие как местной романской, так и пришлой германской флективных групп давало
в общем-то чистые линии расхождения и дифференциации категориальных
наборов, если не считать новоанглийского германо-романского синтеза, который
вообще оказался за пределами флективного категориального строя.
В этих условиях объяснить феномен «среднеевропейского стандарта», в
существовании которого мы нисколько не сомневаемся, слишком уж четко он
выявляется в общности Ту стран с различными множествами языков, где действуют
законы о всеобщем и обязательном среднем образовании, схождениями,
сближениями, «единством плана» устроения языков индоевропейской семьи, как это
делает Уорф, очевидно невозможно, тем более, что сегодня в ареале господства
«среднеевропейского стандарта» обнаруживаются практически все языковые
семьи и даже значительное большинство групп в тех странах, где заведены уже
или заводят институты Ту культуры, прежде всего общеобразовательные школы и
университеты.
Наше 2-е уточнение-дополнение о принципиальной возможности создания
цгдемственных переходов (в форме .учебника) от любого, доставшегося по
наследству от родителей и их социального окружения «естественного»
категориального набора к любому другому набору, присутствующему в ареале
распространения данной культуры, использующей единую категориальную картину мира, в
том числе и к тому уникальному категориальному набору естественного языка,
на базе которого создана эта единая категориальная картина мира, дает
возможность, оставаясь в рамках частной теории лингвистической относительности и
не прибегая к помощи неформализуемых представлений типа «близость»,
«единство плана», «общность культурного развития», которыми пользуется Уорф,
объяснить как сам «среднеевропейский стандарт», так и тот сравнительно простой
механизм, с помощью которого «среднеевропейский стандарт», Ту культура
распространяют область своего господства, включают в себя, не поглошая их и не
ограничивая их автономии, категориальные наборы языков любых семей и
групп, каждый из которых потенциально мог бы стать базой построения
категориальной картины мира, но не реализует эту свою потенцию, коль скоро
26*
404
M. К. Петров
такая картина уже существует. В свете нашего 2-го уточнения-дополнения
отпадает, естественно, и нужда в_знаковом фетишизме, в наделении знаков и
отношений между знаками самостными "свойствами саморазвития, самостремления в
развитость, как это проделывается с категориями у О.Маслиевой, да и не только
у нее одной. Людям по нашему 2-му уточнению-дополнению позволено
рождаться в любых языковых сообществах и обладать любыми естественными
наборами категорий родных языков, с чем они прекрасно справляются и без
нашего на то позволения. Нужны лишь сами люди, младенцы, проходящие этап
«от 2 до 5», осваивающие грамматику родного языка тем же способом, каким
и мы осваивали нашу родную грамматику в их возрасте, и нужны переходы-
учебники к господствующему в Ту культуре «среднеевропейскому стандарту» в
функции единой категориальной картины мира.
Понятно, что как и всякая попытка формализовать данность, представить ее
в объяснимой форме, наше 2-е уточнение-дополнение, позволяя объяснить
присутствие в феномене «среднеевропейского стандарта» множества категориальных
наборов естественных языков, не реализовавших свой категориальный потенциал,
поднимает и множество возникающих из такого объяснения следствий, связанных
прежде всего с необходимостью верификации этой гипотезы. И прежде всего это
проблема чистоты «среднеевропейского стандарта» с точки зрения задействован-
ности в нем одного и только одного категориального набора того или иного
конкретного естественного языка.
Сомнения насчет чистоты «среднеевропейского стандарта» возникают уже при
чтении самих работ Уорфа. Прекрасно показывая категориальный характер
отличий норм SAE от норм языка хопи или нутка, Уорф, как только он переходит к
демонстрации норм SAE на материале своего родного английского языка, тут же
попадает в ложную ситуацию, требующую вовлечения дополнительных, явно
отсутствующих в английском языке категориальных норм, с которыми англичанин
впервые встречается не на периоде «от 2 до 5», а как и большинство из нас,
принимающих и использующих «среднеевропейский стандарт», на уроках родного
языка в школе. Он справедливо констатирует: «То, что современные китайские
или турецкие ученые описывают мир, подобно европейским ученым, означает
только, что они переняли целиком всю западную систему мышления, но совсем
не то, что они выработали эту систему самостоятельно, с их собственных
наблюдательных постов» [75, с. 176].
Но примерно то же самое можно сказать и о самом лингвисте Уорфе: он явно
работает в системе мышления, которая не может быть выработана с его
собственного английского наблюдательного поста, в эту систему нужно идти через
школьный курс родного языка тем же самым способом, каким это приходится
делать китайским, турецким и любым другим ученым на этапе до завершения
средней школы.
Попытки проанализировать составы Ту текстов не дают свидетельств в пользу
чистоты «среднеевропейского стандарта, но дают все же довольно любопытные
результаты: в текстах обнаруживается категориальная поляризация, которую
можно истолковать, как скрытое присутствие в SAE двух категориальных наборов.
Об одном из них трудно сказать, что он скрыт. Если ограничиться только
школьными курсами родного языка, то без труда обнаружится, что хотя все они
научно описывают родной язык, научность их описаний в том и состоит, что все
они пишутся в_«системе мышления»^ которая, непосредственно восходит к
Аристотелю и александрийцам, к категориальному набору древнегреческого языка,
который во времена Аристотеля и александрийцев не был древним, а был живым
естественным языком греков, грамматику которого и Аристотель и александрий^
цы и все их современники-греки осваивали на этапе «от 2 до 5».
Значительно сложнее обстоит дело с идентификацией второго категориального
набора. В 1973 г. мы ограничились простым предположением, что этим вторым
набором могла бы оказаться грамматика новоанглийского языка [53, с. 82]. Нас
История европейской культурной традиции и ее проблемы 405
тогда интересовала не столько теория лингвистической относительности, сколько
сам механизм актуализации потенциала категориальных наборов, если такая
актуализация вообще происходит. Мы тогда считали, да и сейчас считаем, что
построение категориальной картины мира как форма актуализации категориального
потенциала языка — теоретическое предприятие, подчиненное общему закону
постижения мира в логике понятий: тот концепт, с помощью которого удается
обнаружить нечто новое и выразить это новое в логике понятий, является лишь
первым шагом, который в исторических экспликациях претерпевает изменение,
как говорят сегодня, «фальсифицируется», уточняя области и условия своей
применимости. В этом смысле мы и писали об участии категориальных потенциалов
в строительстве ев^пейскрго ^оциркода, Ту культуры: «Отношение между
категориальным потенциалом языка и реально действующими ^категориями универ-
сально-понятийного_кодирования должно, по нашему мнению, мыслится в тер-^
минах исторических: категориальный потенциал участвует в разработке категорий
кодирования, образуя «духовные леса» выхода к этим категориям. Но окончатель^
ную форму и содержание им придает история. Здесь, как и в обычном научном
открытии: одно дело — путь к открытию, опорные аналогии, схемы, и совсем
другое дело — оценка этого открытия, экспликация его смысла и значения в
последующих работах. Опора на категориальный потенциал языка относится к
первому этапу, к поискам; оценка же и трансформация, очищение результата — дело
истории» [53, с. 82].
Сегодня, в контексте дискуссии с системниками, нас больше интересуют не
сами механизмы реализации категориального потенциала языка, а та сторона
дела, которая имплицитно содержится в задачах общей теории систем и по
выявлению универсалий мира открытий и по разработке единого языка науки.
Чтобы выделить эту сторону в предмет или в проблемную область
самостоятельного анализа, введем различение между, категориальным потенциалом языка л ка--
тегориальным потенциаломjje^QBejjejeiBa,
^~Под категориальным потенциалом языка мы разумеем продукт
познавательной деятельности предшествующих поколений, который освоен сообществом
данной когнитивно-социальной единицы и представлен в естественном языке на
периоде возрастного движения «от 2 до 5» суммой подлежащих освоению и инте-
риоризации универсальных правил и навыков оперирования с наборами
значимых различений (словарями), а также навыков участия в стандартных ситуациях
общения между А и В как в роли В, так и в роли А.
когнитивно-социальные едимды могут входить и обычно входят в иерархию
сложных систем на правах подсистем, и вопрос о том, сообщество какой именно
единицы-системы принимать за носителя естественного языка с его
категориальным потенциалом можно решить только задним числом, выясняя у взрослых
членов сообщества подозреваемой единицы, какой у них родной язык и каким видом
деятельности занимались или занимаются их родители. В Ту культуре результаты
таких опросов всегда будут смешанными и в общем-то скорее дадут ответ на
вопрос, сколько в данном обществе или в стране, регионе языков и каких именно
связано через Ту в синхронную систему общесоциальной коммуникации, а не
ответ на вопрос о том, в какой степени реализованы категориальные потенциалы
представленных в этом множестве естественных языков.
На уровне обществ, государств, стран когнитивно-социальные единицы,
используя в качестве средства всеобщей коммуникации взрослого населения язык
Ту, язык определенно искусственный^ имеют как правило на вооружении и
официальный естественный язык (иногда два и даже три, как в Швейцарии) по тем
или иным причинам возведенный в достоинство государственного и практически
обязательного для всех официальных учреждений и официальной документации.
Этот язык избран из наличного множества естественных, но с точки зрения
реализации категориального потенциала официальный или государственный язык
имеет не больший вес, чем любой другой в наличном наборе естественных язы-
406
M. К. Петров
ков страны или государства. В этом смысле единственным надежным критерием
естественности языка является тот факт, что в него приходят младенцы,
осваивающие его грамматику и навыки речи на этапе «от 2 до 5». И уже производно
от этого факта, подтверждающего существование данного естественного языка,
получает достоинство субъективной истинности утверждение: на базе
категориального набора любого естественного языка можно построить человекоразмер-
ную, удовлетворяющую критериям целостности и единства апперцепции
категориальную картину мира. В этом и состоит категориальный потенциал
естественного языка, который реализуется, развертывается в осознанную культурным
регионом картину мира предельно редко.
Под категориальным потенциалом человечества мы понимаем совокупность
категориальных потенциалов всего наличного множества естественных языков,
которые используются человечеством.
Методологическую оправданность этого концепта мы видим в том, что раз уж
у теоретиков общей теории систем, да и не только у них, методологические
акценты смещаются к поиску универсалий и способом Берталанффи — от
наблюдения, и способом Эшби — аксиоматически, то было бы только естественным
обратиться к категориальным наборам языков. В них, если принять
господствующую у антропологов гипотезу о локальном происхождении человека в какой-то
точке на глобусе с последующим расселением человеческого рода по лику Земли
должна бы находиться в предельно сжатом* сконцентрированном виде^вся исто-
£ия. человеческого познания или, по крайней мере, та ее часть, которая связана
с первой географической экспансией человечества, с практическим освоением
всех мыслимых сред обитания, поскольку на этом периоде естественные
бесписьменные языки были единственным средством постредакции и познания нового,
а младенцы, осваивающие эти языки на этапе «от 2 до 5», монополистами
механизмов преемственного существования и обществ и их естественных языков.
Перспективность исследования этих аккумуляторов универсалий в процессах
познания окружения и представления знания в мире знака на наш взгляд только
увеличивается, если учесть то обстоятельство, что наблюдаемое нами в актах
неограниченной миграции младенцев по языкам, окружениям, культурам, их
безразличие к тому, что именно, какой порядок им предстоит усвоить и интериори-
зировать на этапе «от 2 до 5», мы можем списать только на универсализм
человеческого биокода, на деятельность глосиса, причем сама эта деятельность на
всех этапах жизненного пути индивидов, осознается ли она по закону Ципфа или
по выявлениям механизма действия аналогии, имеет и составляющую смещения
знаковых реалий — инструментов познания — к универсалиям производно от
частоты их употребления.
Эта активность гносиса по извлечению универсальных составляющих и
смещения их против потока возрастного движения к зоне «от 2 до 5», если такой
образ действий изначально запрограммирован в человеческом биокоде, должна
бы давать ощутимые результаты, коль скоро она присутствует в познании со
времени возникновения человеческого общества до наших дней — любые живые
естественные языки всех семей и групп приходится понимать ровесниками с точки
зрении периода их преемственного существования.
Сегодня трудно, естественно, говорить о том, как, в каких парадигмах, с
какими конечными целями могли бы развертываться исследования категориального
потенциала человечества, хотя, по нашему мнению, уже и пионерские попытки
Уорфа провести сравнение между «среднеевропейским стандартом» и
категориальными наборами языков хопи и нутка, при всей их фрагментарности, нельзя
считать бесполезными. Они во всяком случае доказывают возможность поиска и
его результативность, хотя и оставляют открытым вопрос о том, как искать и
какие использовать для этого идентификаторы.
Уорф в работах этого плана ставит, естественно, акцент на различиях между
SAE и категориальными наборами американских индейцев: «Однако удивительнее
История европейской культурной традиции и ее проблемы 407
всего то, что различные широкие обобщения западной культуры, как, например,
время, скорость, материя, не являются существенными для построения
всеобъемлющей картины вселенной. Психические переживания, которые мы подводим
под эти категории, конечно, никуда не исчезают, но управлять космологией могут
и иные категории, связанные с переживаниями другого рода, и функционируют
они, по-видимому, ничуть не хуже наших. Хопи, например, можно назвать
языком, не имеющим^времени» [75, с. 178].
Но у него мы^обнаруживаем и попытки опредметить проблему
категориального потенциала человечества: «Важным вкладом в науку с лингвистической
точки зрения было бы более широкое развитие чувства перспективы. У нас
больше нет оснований считать несколько сравнительно недавно возникших диалектов
индоевропейской семьи и выработанные на основе их моделей приемы
мышления вершиной развития человеческого разума. Точно так же не следует считать
причиной широкого распространения этих диалектов в наше время их большую
пригодность или нечто подобное, а не исторические явления, которые можно
назвать счастливыми только с узкой точки зрения заинтересованных сторон. Нельзя
считать, что все это, включая собственные процессы мышления, исчерпывает всю
полноту разума и познания, они (эти явления и процессы) представляют лишь
одно созвездие в бесконечном пространстве галактики. Поразительное
многообразие языковых систем, существующих на земном шаре, убеждает нас в
невероятной древности человеческого духа; в том, что те немногие тысячелетия истории,
которые охватываются нашими письменными памятниками, оставляют след не
толще карандашного штриха на шкале, какой измеряется наш прошлый опыт на
этой планете; в том, что человечество не знает внезапных взлетов и не достигло
в течение последних тысячелетий никакого внушительного прогресса в создании
синтеза, но лишь забавлялось игрой с лингвистическими формулировками и
мировоззрениями, унаследованными от бесконечного в своей длительности
прошлого» [75, с. 181-182].
Понятно, что не все в этом выходе на проблему категориального потенциала
человечества нас устраивает, тем более, что выводы из такой постановки вопроса
звучат слишком уж типично для Ти, в духе христианского благочестия,
скромности в делах познания, которая, конечно же, украшает, но иногда и связывает руки
в делах, когда их лучше иметь свободными: «Но ни это ощущение, ни сознание
произвольной зависимости всех наших знаний от языковых средств, которые еще
сами в основном не познаны, не должны обескураживать ученых, но должны,
напротив, воспитать ту скромность, которая неотделима от духа подлинной науки,
и, следовательно, положит конец той надменности ума, которая мешает
подлинной научной любознательности и вдохновению» [75, с. 182].
Наше чувство неудовлетворенности такой постановкой вопроса не сводится к
скептическому отношению «к той скромности, которая неотделима от подлинной
науки», с этой благочестивой скромностью интеллектуалов нам предстоит еще
познакомиться более основательно по ходу описания средств уподобления творца,
интеллектуалу. Да и сам Уорф, когда он рвется «в невероятную древность чело-
вечёското-духа», демонстрирует скромность именно этого интеллектуального
образца, которая не мешала благочестивым интеллектуалам всякий раз, когда
предлагаемая Библией вечность оказывалась тесной для выявления «агентов
изменений» по нормам униформизма и актуализма, бесцеремонно отодвигать творца,
началс^исципл^ вечности подальше в прошлое, чтобы обеспечить агентам
время на выявление, на приведение дисциплинарного предмета в тот именно вид,
в котором исследователи застают и наблюдают его в своем дисциплинарном
«здесь и сейчас». Но при всем том Уорф выделяет все же проблемную область
исследований категориального потенциала человечества, и это уже достаточно
существенно.
Чувство неудовлетворения у нас вызывает слишком уж малая глубина «здесь
и сейчас», которая предлагается Уорфом, а также и явная недооценка того, что
408
M. К. Петров
делалось на периоде тех тысячелетий, «которые охватываются нашими
письменными памятниками» и, следовательно, доступны наблюдению, поиску агентов и
механизмов изменения. В самом деле, если эта область лишь «карандашный
штрих на шкале, которой измеряется наш прошлый опыт», а человечество в
рамках этого «штриха», охватывающего несколько тысячелетий, не достигло
«никакого внушительного прогресса в создании синтеза, но лишь забавлялось игрой с
лингвистическими формулировками и мировоззрениями, унаследованными от
бесконечного в своей длительности прошлого», то наивно было бы полагать, что
изучение этого «карандашного штриха», примыкающего к «здесь и сейчас» наших
наблюдений, способно дать концептуально-понятийный материал для
структурирования вечности на всю глубину «невероятной древности человеческого духа» и
сделать правомерным перенос агентов и механизмов наблюдаемых изменений на
ту ненаблюдаемую область, которая располагается до «карандашного штриха».
На наш взгляд, такое истолкование «карандашного штриха» на шкале истории
лингвистического опыта человечества не плод каких-либо непосредственно
связанных с теорией лингвистической относительности теоретических размышлений,
а простой перенос и некритическое приятие предложенной компаративистами
спорной идеи двусоставности лингвистической дисциплинарной вечности, где на
первом, недоступном для наблюдений «доисторическом» периоде языки
развиваются свободно, а на втором, историческом — от «штриха карандаша»,
проведенного «нашими письменными памятниками» языки прекращают свое развитие и
деградируют, теряя многообразие грамматических форм под разрушительным
воздействием аналогии. Доступно наблюдению то, что по нашу сторону «штриха
карандаша», а наблюдается здесь разложение, деградация, упадок, поэтому только
для того, чтобы объяснить, как возникает то, что разлагается в наблюдаемой
области, мы обязаны допустить нечто по ту сторону «штриха карандаша» и дать той
стороне побольше времени, чтобы на «доисторическом периоде» возникло нечто
фундаментальное, способное долго разлагаться на периоде историческом.
Мы же, как говорилось ранее, пытаемся задать постулаты гомогенной
парадигмы лингвистики, то есть убрать этот «штрих карандаша», до которого
делаются дела, требующие времени, а после которого дела откладываются в сторону и
начинается час потехи, игры «с лингвистическими формулировками и
мировоззрениями, унаследованными от бесконечного в своей длительности прошлого»
[75, с. 182].
Помочь в этом актуальном сегодня деле элиминации «штриха карандаша»
между доисторическим и историческим периодами развития языков и в
перестройке лингвистической дисциплинарной вечности на принципе гомогенности
происходящих в ней событий могла бы, по нашему убеждению, как частная
теория лингвистической относительности, так и, пожалуй даже в большей степени,
лаговая модель целостности систем коммуникации, включающих некоторое
множество когнитивно-социальных единиц.
Наиболее четко эта модель выражена, как мы уже видели, в системе
ветвящихся радиальных путей развода новобранцев к переднему краю научных
исследований (Ту-Тд-Тр), где на исходном рубеже (Ту), в интегрирующем звене
общенаучной коммуникации, господствуют единство, синхронная схема
коммуникации, предельное уподобление Т0-х в актах общения между новобранцами, а также
и между новобранцами и взрослыми, а на уровне Тд, через четыре года движения
новобранцев к переднему краю, синхронная схема общения между ними
разрушается, вернее остается в достижимом прошлом, которое восстанавливается в
стандартных ситуациях общения только на уровне Ту, тогда как на уровне Тд у
каждой дисциплины своя синхронная система коммуникации, информационно
изолированная от систем других дисциплин и связанная с ними только
стандартными ситуациями общения, использующими Ту в качестве Т0 («коридорная
ситуация»). На уровне терминалов движения, в группах переднего края,
находящихся на разных стадиях (невидимых и видимых) развития в специальности или дис-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 409
циплины, возникающие синхронные системы коммуникации Тг не могут
претендовать на самостоятельность или изолированность от материнской дисциплины,
пока они не обзаведутся собственным ходом к Ту, учебником, что дает им статус
специальности или дисциплины, поскольку с этого момента новобранцы
начинают приходить в новую единицу прямым путем, минуя материнскую дисциплину,
что и начнет процесс информационной самоизоляции: материнская и новая
дисциплина окажутся в обычном положении дисциплин, общающихся друг с другом
только на уровне Ту.
Допустим, что эта структура когнитивной целостности — лаговая система
коммуникации на основе естественного языка, включающая ряд
когнитивно-социальных единиц, в каждой из которых действует автономная для сообщества
система синхронной коммуникации, а сами единицы образуют уровневую
иерархию, располагаясь на установленных возрастным движением
интервалах-переходах друг от друга, не является спецификой Ту культуры или системы общенаучной
коммуникации, а прослеживается во всех культурах как универсалия,
опирающаяся в своем существовании, воспроизводстве и изменении на естественный язык
и на возрастное движение индивидов, причем последнее, как процесс
естественный, не имеет непосредственного отношения к реализованному в данной
культуре способу постредакции в его воспитательных и познавательных функциях, но
имеет непосредственное отношение к воспроизводству и преемственному
изменению всех когнитивно-социальных единиц и их преемственных изменений в смене
поколений.
Условием осуществимости лаговых систем коммуникации выступает, понятно,
естественный язык, свойство естественности которого приобретается,
воспроизводится и верифицируется в актах рождения детей, принимающих на этапе
возрастного движения «от 2 до 5» его категориальный набор — грамматику и
некоторый словарь — набор исходных значимых различений для реалий ближайшего
окружения ребенка, каким бы оно ни было по составу, на правах подлежащей
интериоризации данности, как естественный порядок окружения в целом.
Некоторые когнитивно-социальные единицы высокого ранга, использующие
наряду с синхронными системами коммуникации членов их сообществ также и
лаговые системы кадрового обеспечения когнитивно-социальных единиц,
располагающихся в иерархии уровней системы ниже этапа «от 2 до 5» по возрастному
движению, могут иметь несколько входов, то есть использовать несколько
естественных языков и соответственно несколько категориальных наборов. Единицы
этого типа имеют, как правило, локализованный в определенной точке
возрастного центр схождения возрастных воспитательных движений от всех наличных
входов (Ту в нашей культуре), причем структурирование этих движений следует
принципу учебника, унифицирует идущих к центру схождения индивидов и
сообщает им наряду с универсальным значением тезауруса для стандартных
ситуаций системы синхронного общения такой единицы достаточное для участия в
этой системе владение тем естественным языком, который принят единицей в
качестве основного или официального средства общения.
Для Ту культуры характерен именно такой тип социально-когнитивных систем
на уровне общества или страны, государства, систем со многими входами и с
унификацией индивидов в процессе обучения на периоде схождения. Для
первобытной культуры более характерен чистый вариант с одним естественным языком
на входе, тогда как в традиционной культуре вполне возможны смешанные
варианты, использующие естественные языки на правах профессиональных, если, как
это происходило в системе «джаджмани» в Индии, каста регулирует браки,
население деревни патрилокально, а мать с рождения сына не допущена к его
воспитанию. Но эти тонкости в общем-то не столь уж существенны для задачи
гомогенного истолкования дисциплинарной лингвистической вечности, для
элиминации «штриха карандаша».
410
M. К. Петров
Куда более важна поляризация, четко представленная в лаговых схемах
коммуникации, резко выявляющая два источника их определенности — младенцев и
взрослых. Сам феномен возрастной поляризации явно биологической природы и,
бесспорно, наблюдается у всех видов, использующих постредакцию,
воспитательное общение поколений.
Но животный и человеческий варианты возрастной поляризации резко
отличаются друг от друга в механизме опосредования изменений в способе жизни
биокодом. Внешне как будто бы принципиальных различий не видно. В
программах постредакции слонов, скажем, или медведей делать стойки, и кататься на
коньках, велосипедах не значится, но если они попадают на воспитание к
дрессировщику, дрессура способна сделать из слонов, медведей, зайцев, тюленей,
касаток «почти людей», как в том смысле, что их удается обучить трюкам, которые
недавно умел выполнять только человек (держать мяч на носу, например, или
ездить на мотоцикле по правилам уличного движения), так и в том смысле, что ни
один дрессировщик, как и ни один воспитатель, скажем, гениального скрипача
или гимнаста и мысли не допускает, что освоенные его воспитанниками навыки
и трюки могут быть переданы по биокоду детям этих воспитанников. И
дрессировщикам и воспитателям всякий раз приходится начинать заново, рассчитывая
на то, что если особей или индивидов одного поколения удалось чему-нибудь
научить, то нет никаких причин серьезно сомневаться в том, что тому же и теми
же методами можно научить и потомков, а если приложить достаточно усилий и
терпения или усовершенствовать методы, то и обучить чему-нибудь такому, чему
не удавалось обучить их родителей. Особым почетом у дрессировщиков
пользуется в этом отношении задача обучить обезьян или дельфинов если не говорить
по-человечески, то хотя бы понимать человеческую речь, иногда и в
небезопасных целях. В войну, скажем, собак пробовали обучать бросаться с минами под
танки, хотя им никак не удавалось объяснить, под какие именно, а теперь время
от времени появляются сообщения о том, что тому же благородному искусству
доставлять взрывчатку к цели пробуют обучать дельфинов.
Сходство здесь большое: и в том и в другом случае дрессировщики или
воспитатели могут научить многому; и в том и в другом случае результаты их труда
недолговечны, имеют силу для особи или индивида, но не оставляют заметного
следа в биокоде, и с каждым новым поколением и в том и в другом случае все
приходится начинать заново.
Различия начинаются с того существенного обстоятельства, что
дрессировщики, как и воспитатели — люди, тогда как в животном мире субъектами
постредакции выступают взрослые особи того же вида, так что, хотя феномен
возрастной поляризации является общим для человека и животных видов,
использующих постредакцию, лаговые системы коммуникации, предполагающие разделение
труда: взрослые делают историю, а младенцы переводят результаты усилий
взрослых в парадигматику, накладывают на их многообразие редуцирующую метрику
и ограничения по человекоразмерности, - з животном мире неосуществимы.
Любой воспитательный контакт особи с человеком грозит особи примерно тем
же кругом скверных последствий, какими грозит индивиду контакт в
младенческом возрасте, к примеру, с волчьей стаей. Лишенная видовой постредакции особь
гибнет, если ее вернуть в естественное окружение, лишить искусственного
окружения, созданного и поддерживаемого человеком. В менее фатальном отношении
оказывается индивид, критический период которого «от 2 до 5» прошел в
животной постредакции [18] и в гносисе которого интериоризирован нечеловеческий
порядок окружения. Его, как и любую особь, можно обучить многому, но обучить
быть человеком в полном наборе социального и разумного атрибутов уже нельзя.
Но дело не только в том, что человек, действуя «патрилокальными» методами
индийской деревни, живущей по нормам «джаджмани», лишая особей видовой
постредакции и создавая для них свою человеческую, способен целенаправленно
воздействовать на животную постредакцию, использовать взрослых особей — ло-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 411
шадей, ослов, быков, коров, собак... — в качестве усилителей своих
возможностей, в основном физических, тогда как животная постредакция младенцев
человеческих не имеет репродуктивной характеристики, возникает случайно и явно
не преследует осознанных целей. Дело в том также, что человек, вводя, как и все
биологические виды, репродуктивную характеристику в постредакцию и, видимо,
осваивая ее в обычных для эволюции темпах на уровне биологического
кодирования, способен активно и оперативно менять эту репродуктивную
характеристику, превращая функцию опосредования меняющихся условий жизни биокодом из
инерционной по преимуществу, какой она предстает в животном мире, в
инерционно-санкционирующую, развязывающему взрослому населению руки в деле
творения истории.
Биологическое программирование, с которым входят в жизнь младенцы,
человеческий род использует примерно в той же функции сборного пункта
новобранцев, в какой лаговая система общенаучной коммуникации использует
постредакционное программирование обладателей аттестатов зрелости. «Взрослое
население» общества и науки ведет себя аналогичным образом по отношению к
младенцам и новобранцем: считаясь с физическими и ментальными возможностями
младенцев или новобранцев, и подчиняясь их ограничивающему влиянию,
взрослое население общества как когнитивно-социальной единицы или науки,
объединенных в целостность лаговой схемой развода новобранцев системы
функционирующих «взрослых» сообществ единиц науки, укомплектованных признанными
сообществами единиц и наукой индивидами, чувствует себя свободным в
изменении и формировании собственного образа жизни, в накоплении навыков и
знаний в том терминале лаговой системы развода младенцев или новобранцев, куда
они уже пришли и где они заняты признанным обществом или наукой делом —
производственной или познавательной деятельностью.
Будучи сообществом «старших», «признанных», «коллег» в своих
терминальных когнитивно-социальных единицах, на каком бы уровне иерархии лаговой
системы эти единицы ни располагались, и потому уже сообществом «сведущих»
по отношению к тем, кто еще не пришел, не признан, но, находясь на каком-то
удалении, взрослеет, идет и придет по проложенным их родителями дорогам к
терминалам деятельности, «взрослое население» несет, естественно,
ответственность перед младенцами и новобранцами за состояние и проходимость дорог всей
лаговой системы развода сначала младенцев, а затем и новобранцев (если есть
центр пересечения возрастных движений как в нашей Ту культуре) в терминалы
деятельности, но ответственность эта носит в общем-то довольно условный
характер.
В сообществе старших или признанных, «сведущих» эта ответственность перед
младенцами и новобранцами распределена обычно как всеобщая забота граждан,
налогоплательщиков, подданных, делегированная в форме сфер ответственности,
должностных обязанностей либо по обычаю, либо по голосованию, либо «в
рабочем порядке» определенным институтам и лицам, когда вот, скажем, как пишет
У.Пайл, Департамент образования и науки Великобритании несет
ответственность за строительство школ и дошкольных заведений, принимая или отвергая
предлагаемые проекты по циркуляру 1974 г.: «Все проекты, отступающие от
принципа общеобразовательной средней школы впредь не будут включаться в
программы школьного строительства» [146, с. 91], за доставку учеников из дома
в школу и из школы домой, тогда как за финансирование школ ответственность
несут LEA — местные власти, за распорядок дня в школах и дисциплинарную
практику (молитвы, телесные наказания, поощрения) — Департамент на
основании актов Парламента, за подготовку учительских кадров — церковные
педагогические колледжи и педагогические факультеты университетов, за
комплектование школ кадрами и за состав учебных курсов — опять LEA и т.д. и т.п.
Прямая ответственность, да и то не во всех обществах и не в единых формах
возникает только у родителей за рожденного ими младенца, за его воспитание на
412
M.К. Петров
периоде «от 2 до 5», до начала действия законов о всеобщем и обязательном
образовании, где все за родителей решают уже уполномоченные на то инстанции,
а сами родители, если ребенок живет в семье, что также не обязательно,
ответственны лишь за его содержание и за поступки до получения паспорта или
аттестата зрелости, где юридическая ответственность родителей прекращается.
Словом, сообщество старших несет за младенцев и новобранцев «солидарную»
ответственность, когда никто, собственно, кроме своевременной выплаты
налогов, никакой и ни за что ответственности не несет, если у него нет на то
полномочий, а в уполномоченных на то инстанциях, которым делегируется эта
«солидарная» ответственность и по которым она распределяется, вовсе не обязательно,
если эти инстанции комплектуются так, как они обычно и комплектуются
(выборы, назначение, продвижение по службе) мера принятой на себя
ответственности соответствует мере компетенции. И дело здесь не в том, что в таких
инстанциях решения принимают некомпетентные люди, а скорее в том, что в нашей
Ту культуре вообще как-то не видно людей, способных со знанием дела,
компетентно принять решение о том, например, включать ли в тексты Ту то или иное
сообщение с переднего края научных исследований за счет исключения из текста
чего-то другого, не видно и критериев, способных превращать такие решения,
которые все же приходится принимать, в компетентные.
Мы не думаем, что в других культурах дело обстоит сколько-нибудь лучшим
образом, что, скажем, суждения старцев насчет того, включать или не включать
в программы-тексты взрослых имен группы охотников ту новинку, которую им
только что продемонстрировали участники события в ритуальном танце, в каком-
то смысле мудрее и компетентнее, чем решения, принятые после обсуждения
сенатом штата Тексас или в рабочем порядке Департаментом образования и науки
Великобритании.
Мы просто подчеркиваем то обстоятельство, что в системах коммуникации,
использующих лаговую схему, у тех, кто принимает решения о включении
инновации в действующую схему дорог развода младенцев или новобранцев в
терминалы деятельности, или об ее исключении, никогда нет базы для принятия
компетентных решении: механизмы принятия решений всегда располагаются в
синхронной коммуникации когнитивно-социальных единиц, которые локализованы
ниже по возрастному движению, а решения принимаются относительно дорог,
ведущих младенцев или новобранцев к тезаурусам синхронной коммуникации
единиц, локализованных выше по возрастному движению.
Иными словами, каким бы самоочевидным, мудрым и обоснованным ни
казалось решение, принимаемое сегодня уполномоченной на то инстанцией
(группой старцев, сенатом штата Тексас или штата Калифорния, Департаментом
образования и науки Великобритании, редакционными коллегиями научных
журналов, издательствами, публикующими массовыми тиражами учебную литературу),
это решение в форме официального уведомления, «выписки из приказа» дойдет
до адресата, учителя, скажем, 6 класса средней школы далеко не сразу, и учитель
сможет уведомить инстанцию об исполнении указания только стародедовским
методом «бутылки» — бросить уведомление в поток возрастного движения в
надежде, что кто-нибудь из шестиклассников когда-нибудь дойдет до
уполномоченной на то инстанции, донесет ей весть с полюса младенцев и новобранцев, что
указание инстанции принято к исполнению и выполнено, чему свидетельством
является он сам с его парадигматическим убеждением, что ему, как члену группы
охотников, в охоте на слона должно забегать именно с левой стороны, что
гипотезы Моисея и Дарвина бесспорно равноценны, что проекты, «отступающие от
принципа общеобразовательной средней школы» включать в программы
школьного строительства не следует ни в коем разе и т.д. и т.п., хотя, по всей
вероятности, к тому времени исчезнет и уполномоченная на то инстанция и ее решение
затеряется в ворохе новых решений и сам новобранец, идущий к терминалу,
вообще не опознает то место, на котором была когда-то уполномоченная на то ин-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 413
станция, по решению которой он идет именно по этой дороге, а не по какой-
нибудь другой, хотя вполне возможно, что где-то уже идет по иерархии
воспитателей десяток решений, что идти-то ему следует совсем не здесь, а нацеливаться
в терминал, по которому уже ходят по другой дороге.
Такая структура возрастной поляризации, понятая в терминах прохождения
сигнала против возрастного движения и по возрастному движению, от
терминалов деятельности ко входам в систему коммуникации, использующую лаговую
схему, и от входов к терминалам, имеет, по нашему мнению, силу для развития
естественных языков вообще, коль скоро все естественные языки должны по
нашим постулатам биологической и генетической недостаточности человеческого
рода принадлежать к человеческому варианту биологической постредакции,
выполнять прежде всего функцию знакового специализирующего кодирования, то
есть развода младенцев в некоторое множество человекоразмерных фрагментов,
терминалов «взрослой» деятельности, а затем уже, насколько позволяет эта
первая, компенсирующая генетическую недостаточность функция, выполнять и
функцию познания.
О том, что эти функции совместимы, говорит не только история,
предполагающая, скажем, что встрече европейцев с первобытными племенами
предшествовал период первой географической экспансии человеческого рода, которая
могла быть осуществлена только при допущении, что язык способен выполнять
обе функции, но также и сам анализ стандартных ситуаций общения, которые,
как это выясняется, требуют не только привлечения истории предыдущих актов
общения между А и В, но и пересмотра этой истории, введения нового,
смещения То в новое значение Ть О том же свидетельствует и тот факт, что в текстах —
носителях тезаурусов нет повторов на уровне предложений. Такие знаковые
реалии явно принадлежат к познанию, где приходится объяснять новое. Их можно
использовать в возрастном движении, поскольку в воспитательной форме оно
структурировано, как последовательность актов речи, смещающих значение
тезауруса обучаемых к заданному, к Т0 синхронной системы общения в терминале.
Но в самом терминале, если это не специализированная когнитивно-социальная
единица познания, если правила деятельности жестко определены объектом или
предметом, его репродуктивными свойствами, то потребность в применении
текстов, как средств объяснения с коллегами или изменения текущего значения
тезауруса обучаемых к заданному значению отпадает, то есть синхронное общение
в терминале, если его назначение как когнитивно-социальной единицы —
репродукция, происходит не по поводу нового, а скорее в корректирующем режиме
отрицательной обратной связи, в режиме борьбы за норму в условиях «шума», за
удержание процесса деятельности «в пределах допусков». Молчание в таких
терминалах — признак нормального хода дела, общение — признак нарушения
нормы.
К этим известным нам универсалиям познания, о которых мы много говорили
в первой части, подчеркивая возможность использования стандартной ситуации
общения между А и В как в собственно познавательной деятельности (объяснение
коллегам нового на базе Тд или Тг в функции Т0-х синхронного дисциплинарного
или группового общения), так и для «мощения дорог новобранцам» от Ту к Тд,
от Тд к Тг методом последовательного «шагового» наращивания Ту до Тд, Тд до
Тг (где Тд, Тг используются в функции конечных ориентиров движения в
терминалы) мы должны теперь добавить на правах универсалии целостности систем
коммуникации, использующих лаговую схему, постоянное появление на входе
(или входах) в такую систему младенцев, постоянное воспроизводство полюса
«младенец», поддерживающего возрастную поляризацию и придающего
возрастному движению между полюсами «младенец» и «взрослый» не только смысл
естественной необходимости: родился — расти, отсчитывай годы по дням
рождения, но и смысл интегратора основных функций языка как средства человеческой
414
М.К. Петров
постредакции: функции специализирующего знакового кодирования и функции
познания.
Различие между функциями стандартной ситуации общения и функциями
младенца или новобранца, идущего в потоке сверстников к терминалу «взрослого
состояния», как мы уже пытались показать, существенно: стандартная ситуация
общения между А и В необходимо умножает разнообразие, производит
историческую избыточность, тогда как младенец или новобранец, двигаясь по
предлагаемому предшественниками дорогам, редуцирует это многообразие, устраняет
историческую избыточность, действует, как очередной бульдозер или
снегоочиститель на ухоженной в общем-то, но постоянно меняющей положение и
засыпаемой историческими осадками дороге.
Эта «бульдозерная» функция непосредственно связана с переворачиванием
истории в парадигматику, в предысторию исторической деятельности младенцев
или новобранцев уже в качестве «взрослых», полноправных и признанных членов
сообществ терминальных когнитивно-социальных единиц, каково бы ни было
назначение этих единиц. То, что перед младенцами или новобранцами — история,
накопленная «взрослыми» за время прохождения предыдущей волны младенцев
или новобранцев; то, что после них и в них самих, с чем они продолжают
бульдозерное движение, — парадигма, человеческая метрика, которая постоянно
нарушается сообществом «взрослых», их деятельностью в терминалах и постоянно
восстанавливается младенцами и новобранцами в их движении к терминалам, в
сообщество «взрослых».
Но «бульдозерная» функция не единственная функция младенцев, о которых
нам теперь придется говорить отдельно — не все функции младенцев и
новобранцев совпадают. В тех хорошо документированных случаях, когда волею родителей
младенцы попадают в ситуацию бездорожья, говорить о «бульдозерной» функции
не приходится: ни их родители, ни родители их родителей не проходили этап «от
2 до 5» в данной культуре и в данном языковом окружении, то есть подозревать
присутствие в их биокоде следа или борозды, оставленных десятком, скажем,
поколений предшественников, которые можно бы было расчищать бульдозерным
методом, здесь бессмысленно, младенцу самому приходится прокладывать дорогу
в новой и для него и для многих поколений его предшественников обстановке
«чужого» и для него и для его предшественников языка, порядка, социального
окружения.
Во всех таких случаях «чистого» освоения «чужого» языка, порядка,
окружения младенцы не проявляют избирательности, с честью справляются с ролью
«первопроходца», осваивают на этапе «от 2 до 5» тот самый набор универсалий
и наиболее употребительных слов-различений, который осваивается и их закоре-
ненными и в данной культуре и в данном естественном языке ровесниками, и в
дальнейшем возрастном движении, как показывают зондирующие исследования
типа исследования Л.Дарта и П.Прадхана [ПО], не обнаруживают отклонений,
выходящих за рамки обычного школьного разброса по успеваемости,
прилежанию, поведению, которые требовали бы специальных объяснений и которые
можно было бы истолковать как свидетельства в пользу унаследованных по
биокоду врожденных различий.
Массовость миграции по языкам и культурам на уровне младенцев особенно
характерна для Ту культуры, где возникает множество поводов для смешения рас,
генотипов, естественных языков, образов жизни, где весьма представительной
группе младенцев приходится выступать в роли «первопроходцев». Как бы ни
относиться к этому факту, в котором мы не видим ничего противоестественного,
нового или угрожающего, в методологическом отношении он интересен тем, что
именно младенцы «первопроходцы» позволяют идентифицировать в естественных
языках то, что мы называем категориальным потенциалом, категориальным
набором и что, видимо, может рассматриваться, как некое общее
характеристическое свойство всех естественных языков «быть постигаемыми» человеческими мла-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 415
денцами независимо от расовой, национальной, культурной принадлежности их
родителей.
Критерий «быть постигаемым человеческим младенцем» внешне
непритязателен, его вряд ли можно рассматривать как удовлетворяющий принятым нормам
строгости в определении критериев. В оправдание младенцев и нашего
уважительного к ним методологического отношения мы можем только отметить, что
ни один искусственный язык этому критерию не удовлетворяет, не удостоился
чести или бесчестия быть освоенным младенцем на этапе «от 2 до 5». Даже в
унидисциплинарных семьях, где родители входят в сообщество одной и той же
когнитивно-социальной единицы на уровне дисциплины или специальности,
группы, а таких семей в Ту культуре много, причем дети членов
научно-академического сообщества находятся под особым наблюдением социологов на предмет
выявления возможного влияния профессии родителей на складывание жизненных
карьер их детей, ни одного случая освоения младенцами дисциплинарного или
группового языка пока не зафиксировано, хотя вот, скажем, диалекты,
генетические родственные связи которых без труда прослеживаются именно по общности
звукового оформления ряда грамматических правил (в парадигмах спряжения
глагола, например) и общности бытовой лексики (особенно в отношениях родства),
вроде бы прямо и начинают со статуса естественного языка, куда приходят
младенцы и удостоверяют его естественность, обнаруживая в диалектах то, что они
и «ожидают» обнаружить — некоторое характеристическое качество, которое
постигается и интериоризируется на этапе «от 2 до 5» как «свое родное»,
неотторжимое от индивида на весь срок его жизни.
Это различие между естественными и искусственными языками, которое, если
использовать введенный в первой части по отношению к человеческому биокоду
термин «всеядный», выражается в том, что человеческие младенцы, где бы они
ни рождались, не проявляют избирательности к естественным языкам — любые
естественные языки для них «съедобны», тогда как все искусственные —
«несъедобны», поднимает вопрос о том, а что, собственно, означает это свойство
«съедобности» в применении к естественному языку и почему оно начисто
отсутствует (во всяком случае, пока отсутствовало) у всех искусственных языков? Чем
«несъедобные» искусственные языки отличаются от диалектов, которые явно
«съедобны»?
Таких вопросов можно поставить много, но за ними встанет по сути дела один
вопрос: Можно ли искусственно создать естественный язык?
Ответить на этот вопрос научно значит, по нашему мнению, прежде всего
признать аргумент от младенца решающим свидетельством в пользу
осуществимости или неосуществимости такого предприятия.
Пока не видно оснований отвечать утвердительно. К тому же накапливаются
свидетельства в пользу тезиса Шлейхера о том, что «языки живут как все
естественные организмы», если слово «жизнь» употреблять «в более узком и буквальном
смысле» [21, с. 89]. Этот «более узкий и буквальный смысл», если признать
аргумент от младенца решающим, внес бы, по нашему мнению, ясность в
постановку вопроса. Задача по искусственному созданию естественного языка
разделилась бы на два этапа в духе русских сказок, где широко используют мотивы «ре-
вивализма»: а) сочленение расчлененного; б) оживление восстановленной
целостности.
Для первого этапа, сочленения расчлененного, по сказочной норме требуется
«мертвая вода», обладающая чудодейственной антианатомической силой
складывать куски в целое. По этой модели искусственного создания естественного языка
системники, взыскующие синхронного единства через разработку единого языка
науки, кропят сегодня дисциплины «мертвой водой», пытаясь идентифицировать
и свести воедино, в «систему систем» части целого. В этой работе им явно не
хватает того, в чем не испытывал недостатка Зевксис, который, приняв заказ от
жителей Агригента, «осмотрел в обнаженном виде их дев и выбрал из них пять,
416
М.К. Петров
чтобы воспроизвести на картине то, что у каждой из них в отдельности было им
одобрено» [35, с. 315]. Для этапа сочленения расчлененного, кропления «мертвой
водой» эта акция осмотра дев, выбора, одобрения неизбежна: нужно досконально
знать, что это за девица «система систем», в чем могут состоять ее неоспоримые
достоинства и изъяны, прежде чем кропить «мертвой водой» на все,
напоминающее часть целого. При таком огульном и опрометчивом подходе, какой
демонстрируют сегодня системники, можно получить такую «систему систем», что
оживлять ее, кропить «живой водой» может и расхотеться.
Понятно, что на роль «дев» здесь годятся только структуры живых
естественных языков или хотя бы структуры языков, которые заведомо были и
естественными и живыми, вроде греческого и латыни, а теперь рассеяны по дисциплинам
мелкими кусочками, иногда и анатомическими перлами словотворчества вроде
упоминавшейся уже «диатрибической традиции», когда не сразу и разберешь, где
тривиальная дева, а где тривиальное зверство. Нам кажется, что этот первый этап
«мертвой воды», сочленения расчлененного в принципе проходим и не столь уж
сложен. Можно собрать даже такие не без «диатрибических» фокусов
растасканные по дисциплинарным городам и весям растерзанные тела естественных
языков, вроде греческого и латыни. Это будет прекрасное, но мертвое целое,
воссозданное по образам запечатленным в работах античных авторов и в
анатомических изысканиях греческих и римских грамматиков.
Много сложнее с этапом «живой воды», с оживлением даже тех искусственно
собранных языков, о которых с уверенностью можно сказать, что именно такими
они и были при жизни. Здесь в общем-то ясно, что основной компонентой
«живой воды» могут быть только младенцы, постоянный приток младенцев,
способный поддерживать жизнь в той области категориальных наборов или
потенциалов, которая проходится потоком на этапе «от 2 до 5» и получает санкцию на
существование, жизнь, как единичная знаковая целостность всеобщей для
носителей данного языка природы, какие бы изменения в ней не происходили.
Но дело, похоже, не только в этом потоке младенцев, который поддерживает
жизнь и движение в области «от 2 до 5», обращаясь с ней как с первой
сущностью, остающейся единичной в изменениях, и тем самым задает единое начало
всем возрастным воспитательным движениям к терминалам всех видов социально
необходимой «взрослой» деятельности, какими бы прямыми или
зигзагообразными путями туда ни шли будущие самодеятельные «взрослые». Младенцы многое
объясняют, но далеко не все. Похоже на то, что этот первичный «младенческий
зуд», который так ярко выявляется на этапе «от 2 до 5», не оставляет и взрослых,
входит на правах необходимой компоненты в «живую воду», способную
поддерживать в лаговых системах коммуникации то, что мы называем естественностью
и жизнью, а Ти культура предпочитала называть «духом» языка.
Необходимость вовлечения в картину «младенца во взрослом» или единого
для младенцев и взрослых гносиса, действующего в человеке на всем протяжении
его жизни, мы видим в том, что и в самих терминалах и на всех «доступных для
научного наблюдения» этапах возрастного движения мы обнаруживаем одно и то
же явление, которое можно называть и «вертикальным» и «левым» смещением,
производным от частоты употребления знаковых реалий как различений, так и
правил их использования. Словом, речь идет о «противотоке» (аналогии, законе
Ципфа), который явно не может быть объяснен от младенца — младенцу просто
времени нет развернуться.
Феномен «противотока» (вертикального или левого смещения) явно направлен
на изменение условий входа в социально-когнитивные единицы без увеличения
времени движения индивидов между последовательностью тезаурусов,
маркирующих путь к терминалу. В Ту культуре доступна наблюдению последовательность
тезаурусов от тезауруса первоклассника, который можно, конечно, обозначить Тп,
но вряд ли возможно определить по составу, до Тг.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 417
Время на прохождение последовательностей у нас определено достаточно
строго, особенно в академических вариантах, ведущих к переднему краю
исследований и к дисциплинарным вершинам иерархий воспитателей: Тп-Ту (десять
лет); Ту-Тд (четыре года или пять лет); Тд-Тг (три года). Перемены, задержки,
остановки (движения к терминалу деятельности, естественно, а не взросления)
возможны и у нас, особенно на участках Ту-Тд и Тд-Тг (отсев-переход в другие
последовательности, академические отпуска, служба в армии, стаж практической
работы, подготовка диссертации, редакционно-издательские лаги), так что
обнаружить в терминалах науки, в научно-академическом сообществе «взрослых»
профессионалов коллег, которым удалось уложиться в срок, — довольно сложно, они
окажутся в явном меньшинстве. Но этот общеизвестный факт не влияет на
расстановку тезаурусов, маркирующих входы и выходы этапов возрастного движения.
Разрывы могут возникать между этапами, а не в самих этапах. Поэтому, скажем,
если студент отслужил три года в армии, а студентка три года провела в
академическом отпуске, то и студенту и студентке придется пройти по годичным
курсам к диплому все те же четыре года или пять лет «полного курса» студенческой
подготовки.
В других культурах этой строгости в тезаурусной маркировке этапов
возрастного движения не наблюдается, этому не придается столь подчеркнутого
значения, но и там входы в терминалы или в этапы активной деятельности отмечаются
достаточно строго — обряд посвящения в первобытной культуре, наследование
старшим сыном прав и обязательств главы семьи в традиционной культуре или в
Ти культуре. Границы этапов здесь могут быть размыты; стать главой семьи, даже
и главой государства, можно в традиционном обществе или в обществе Ти
культуры в младенческом возрасте, но эта размытость довольно условна: никто не
требует от младенца царя или главы дома непосредственного участия в
соответствующей взрослой деятельности, действуют взрослые от имени младенца. Там
же, где речь идет о непосредственном участии индивида в деятельности по
правилам терминала, важные в других отношениях принципы передачи личных
ролевых наборов деятельности новому носителю, принцип первородства,
например, — откладываются в сторону и в действие вступают принципы построения
поэтапных последовательностей специализирующей подготовки. 3 Ти, как и в Ту
культуре, стать королем, князем, герцогом, шахом можно в любом возрасте, на
любом этапе возрастного движения, но стать доктором, заведующим кафедрой,
деканом, ректором, вообще кем-нибудь, не пройдя предварительно всех этапов
академической подготовки, в научно-академическом сообществе «взрослых»
невозможно.
Устойчивость тезаурусной маркировки этапов возрастного движения, их почти
абсолютная в Ту культуре и относительная в других культурах устойчивость по
срокам прохождения, воссоздают в каждом из этапов возрастного движения
поляризацию явно той же общей природы, что и замкнутая на младенца и
окружение возрастная поляризация естественного языка в целом как системы,
использующей лаговую схему коммуникации. В любом маркированном тезаурусами
этапе возрастного движения «противоток» всегда направлен от тезауруса выхода
к тезаурусу входа, и тот же вектор движения к входу фиксируется в терминалах.
Словом, во всех последовательностях, на всех доступных для наблюдения
участках мы обнаруживаем единую ориентацию «противотока», хотя, естественно,
понятия «вход», «выход» могут вносить и действительно вносят путаницу. Отметим
в порядке уточнения: для нас все «входы» — ближе к младенцу, а все «выходы» —
ближе к объекту-спецификатору, к эмпирии практической деятельности
индивидов в конкретных единичных окружениях, то есть «противоток» ориентирован в
конечном счете на младенца, на ожидание его прибытия.
Поскольку феномен противотока, где он доступен наблюдению, выявляется с
достаточным единообразием (аналогия, ранговое распределение Ципфа,
смещение концептов к тезаурусу входа, производное от частоты их употребления, на
27 М.К. Петров
418
M.К. Петров
любом этапе возрастного движения), мы получаем право предположить, что все
взрослое сообщество лаговой системы коммуникации, использующей
естественный язык, работает как на своих частных младенцев-новобранцев, входящих в
сообщество терминальной когнитивно-социальной единицы, так и, воздействуя
этой активностью от имени объекта-спецификатора на выход предшествующего
этапа и меняя его тезаурус, вызывает и поддерживает во всей последовательности
этапов возрастного движения «категориальную противоволну» изменений,
идущую от терминалов к этапу «от 2 до 5».
Смысл этого предположения состоял бы в том, что если на этапе «от 2 до 5»
младенцами усваивается то, что принято называть набором категорий, способов
сказуемости, грамматических универсалий, категориальными потенциалами, то
секрет их появления и изменения по времени следует искать не столько в
свойствах разума самого по себе, хотя свои ограничения безусловно накладывают и
эти свойства (глубина оперативной памяти, например), а в терминалах лаговых
систем коммуникации, использующих естественный язык, так как именно в
терминалах берет начало феномен противотока, «категориальная противоволна»,
ответственная за изменения знакового состава этапа «от 2 до 5».
Таким образом, кроме более или менее оформленной на личностном уровне
и включенной в этапы возрастного движения иерархии воспитателей, лаговые
системы в феномене противотока, «категориальной противоволны» обнаруживают
следы работы безличностного (или вселичностного) по сути дела механизма
творения и изменения категорий, который меняет состав подлежащих освоению и
интериоризации знаковых реалий, входящих в этап возрастного движения «от 2
до 5».
Было бы, конечно, крайне заманчиво отождествить этот безличный механизм
творения и изменения категориального набора с тем широко распространенным
взглядом, по которому человеческое познание окружения включает момент
схождения к ядру наиболее общих универсальных законов объективной реальности,
так что категориальные наборы естественных языков от несовершенного
отображения такого объективного ядра развиваются ко все более полному его
отображению. Этот взгляд совсем не обязательно высказывать на уровне символа слепой
веры, как это делается, скажем у О.Маслиевой: «Содержание логических
категорий, отражающих самые общие моменты действительности, может быть только
одинаковым у разных народов, отличаясь лишь по уровню их развития и
осознания, в соответствии с этапом исторического развития, который проходит народ —
носитель языка» [42, с. 84].
Можно ту же в общем-то мысль выразить более тонко и почти
верифицируемо, показав, что долговременное воздействие «категориальной антиволны» или
«противоволны», берущей начало от множества терминальных
когнитивно-социальных единиц и входящей в синтезированное единство по мере приближения к
этапу «от 2 до 5» действительно давало бы эффект уподобления реалий знакового
состава этого этапа «самым общим моментам действительности», с которыми
приходится контактировать в практической деятельности и которым приходится
подчинять нормы деятельности в терминалах.
Но все попытки использовать феномен противотока для выявления
механизмов уподобления категориальных наборов естественных языков некоему ядру
универсалий окружения входили бы в явное противоречие с тем неопровержимым
фактом, что число естественных языков и, следовательно, категориальных
наборов со временем умножается, а не сокращается, что неизбежно происходило бы,
если бы предположить, что безличный механизм, отвечающий за смещение
наиболее употребительных различений и правил их употребления к входным
тезаурусам, работает в режиме прояснения и более четкого отображения чего-то
внешнего, конечного, неизменного и имеющего равную силу для всех естественных
языков. Будь это так, новый естественный язык получал бы право на
существование в том только случае, если его категориальный набор был бы в каких-то
История европейской культурной традиции и ее проблемы 419
отношениях «ближе» к отображению этого эпицентра универсальной объективной
упорядоченности мира.
Привести мало-мальски убедительные свидетельства в пользу такого
предположения невозможно. Реально мы наблюдаем иное, предельно похожее на ту
гипотетическую модель хода событий, которая обсуждалась в первой части по связи
с условиями осуществимости первой географической экспансии человечества.
Там мы подчеркивали, что высокая степень общности социальных структур и
институтов первобытного общества, наблюдаемая со времен встречи европейцев с
первобытным типом культуры в разных частях света и соответственно в
величайшем разнообразии условий существования, получает объяснение только в том
случае, если исходный тип постредакции у обществ этого типа культуры был
единым, то есть возник где-то в одном очаге антропогенеза, а затем, не претерпев
радикальных изменений был «расселен» вместе с обществами первобытного типа
культуры в ходе географической экспансии по всему многообразию условий
существования человечества на нашей планете.
В первой части нас интересовала в основном познавательная сторона дела,
сумма условий осуществимости «прохождения» набором социальных институтов
первобытного общества всех мыслимых сред обитания с попутным практическим
освоением меняющихся условий существования. Теперь, концентрируя внимание
на «штрихе карандаша», разделяющим, якобы, два периода развития языков и
соответственно дисциплинарную вечность лингвистики, нам следует посмотреть на
механику расселения под углом зрения глоттогенеза.
В числе основных условий осуществимости расселения, территориальной
экспансии мы отмечали постоянное воспроизводство в социальной структуре
«лишних людей» — дублеров, претендентов на исполнение занятых должностей в
ключевом терминале деятельности первобытного общества — в группе охотников,
носителей «взрослых имен», так что общество практически всегда имеет
возможность разделиться на два общества-близнеца, если появляются достаточные
мотивы, стимулы и обеспечивающие условия для такого акта почкования. Отмечали
мы и то, что о большинстве условий осуществимости почкования общество
осведомлено заблаговременно — число мальчиков и юношей на разных этапах
движения к посвящению, наличие территории, на которой могло бы обосноваться
одно из обществ-близнецов, степень специфичности подлежащей освоению
территории и т.д. Эта осведомленность о будущем состоянии дел в принципе
позволяет готовить общество к акту распочкования заблаговременно, совершать его в
наиболее подходящее для общества время и в наиболее благоприятных
обстоятельствах, хотя, понятно, не исключены и резкие отклонения от этой нормы,
особенно в условиях насыщения, когда нет по соседству свободных территорий и
переселение оказывается скорее изгнанием, чем планомерным предприятием.
Во всех описанных случаях, однако, речь идет не об изгнании одиночек или
пар, а о запланированном или насильственном отторжении целостных
когнитивно-социальных единиц. В нормальном случае, он для нас наиболее важен, линия
разлома проходит по всей лаговой системе коммуникации, удваивая ее, и
общества-близнецы имеют тождественную когнитивно-социальную структуру. Нам
кажется, что именно в этом факте исходной тождественности обществ-близнецов в
момент распочкования и скрыта тайна глоттогенеза: нет свидетельств о
возникновении новых языков, но налицо масса доказательных свидетельств о родстве
существующих языков. Иными словами, различия между языками, их
«несходство», позволяющие говорить о сходстве или родстве двух или большего числа
языков, есть нечто наблюдаемое, выявляющее себя только после акта распочкования
и не существует до этого акта. И появляются все эти различия и несходства в
результате обособленного и самостоятельного 'существования двух идентичных
копий единого прежде языка-оригинала, двух копий лаговой системы
коммуникации, двух копий категориального набора, которые после распочкования
начинают расподобляться, не потому, что им «хочется» различаться или есть в этом
27*
420
M.К. Петров
какая-либо особая потребность, а потому, видимо, что разобщенные механизмы
противотока, «категориальной противоволны», продолжая действовать в своем
нормальном режиме смещения концептов и правил, производно от частоты их
употребления, к тезаурусам входов, имеют теперь свои особые
последовательности воздействия на состав реалий периода «от 2 до 5» и в этот период возрастного
движения включаются теперь разные универсалии.
Сказать, что какая-то из этих копий единого оригинала в процессе дрейфа-
расподобления приближается к чему-то заякоренному в окружении, как ядро
универсалий миропорядка, тогда как другая от этого ядра отдаляется, у нас нет
никаких оснований, хотя и понятно, что специфика территорий, их различия
будут только способствовать расхождению копий, коль скоро «категориальная
противоволна», феномен противотока берут начало от деятельности в терминалах.
Естественный глоттогенез. таким образом, если он идет по предлагаемой
схеме расподобления копий исходного оригинала, начинающих по тем или иным
причинам самостоятельное существование, — в «походных» условиях это,
естественно, пространственно-территориальный разрыв между обществами-близнецами
как следствие распочкования и размежевания областей обитания, — кардинально
отличается от искусственного глоттогенеза. каким мы его обнаруживаем,
например, в нашей Ту культуре в попытках исследовательских групп и направлений
стать самостоятельными и отмежеваться от материнской дисциплины [142].
Если естественный глоттогенез начинается с почкования
когнитивно-социальной единицы на две идентичные копии единого оригинала и «воспитанные»
предшествующими поколениями «взрослого» сообщества младенцы обеих копий
продолжают впредь до появления очевидных расподоблений категориальных
наборов языков-копий осваивать и интериоризировать практически тождественный
состав реалий на этапе «от 2 до 5», не мешая сообществу «взрослых» заниматься
своими взрослыми делами, в том числе и поддержанием на должном уровне
«категориальной противоволны», которая, по всей вероятности, вызовет
расподобление категориальных наборов и превратит языки-копии одного оригинала в два
самостоятельных естественных языка, то в искусственном глоттогенезе события
идут обратным порядком: процесс завершается актом отпочкования, появления
еще одного Тд во множестве наличных Тд, и отпочковавшуюся специальность или
дисциплину никак не назовешь копией материнской. Здесь смысл завершающего
акта состоит в том, что из последовательности этапов возрастного движения Ту-Тд
(материнская дисциплина) — Тг, убирают Тг входной тезаурус материнской
дисциплины и в его достоинство возводится входной тезаурус группы или
направления Тг. Формально этот акт переключения и замыкания группы или направления
на выходной тезаурус этапа более высокого уровня (Ту) фиксируется появлением
учебника Ту-Тд, вводящего новобранцев в систему синхронной коммуникации
группы или направления — новой специальности — минуя Тд материнской
дисциплины.
Различны и процессы подготовки условий к появлению нового естественного
и нового искусственного языков. Появление нового естественного языка никто,
собственно, не готовит, он появляется как незапланированное следствие
доступного в общем-то планированию и подготовке события — распочкования общества
на две идентичные и полноценные копии лаговых систем коммуникации с
помощью дублеров, берущих на себя обязанности штатных исполнителей взрослых
ролей.
Появление нового искусственного языка для новой когнитивно-социальной
единицы, не сохраняющей исходного подобия с той или иной единицей
наличного множества единиц того же уровня, но стремящейся к уподоблению по
социальной составляющей (кафедра, студенты, аспиранты, ученые степени и
академические звания, журналы, редакции, эшелонированные массивы литературы,
учебники и т.п. в случае с развитием групп в специальность или дисциплину),
предшествует появлению самой единицы и требует длительной и сложной подго-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 421
товки, если официальной датой появления новой единицы с новой когнитивной
составляющей считать для нашей Ту культуры выход в свет учебника, который
переводит деятельность в терминале группы или направления в ранг дисциплины,
открывая тем самым возможность появления новых дисциплинарных групп и
исследовательских направлений.
В случаях с естественными языками мы никогда не знаем, кто именно
участвовал в создании языка, тех или иных составляющих его категориального набора
и подавляющей части словаря. С точки зрения предлагаемой модели
возникновения языков через расподобление двух тождественных, но независимых копий
под воздействием двух механизмов противотока, обретающих в копиях
категориальных наборов два независимых друг от друга адреса внедрения конечных
продуктов их деятельности, сама постановка вопроса об истории происхождения того
или иного естественного языка беспредметна: у естественных языков нет истории
происхождения, есть лишь история выявления связей родства с тем языком, с
которым они составляли когда-то одно целое, а затем, после акта распочкования
когнитивно-социальной единицы, разошлись, оставаясь родственными друг другу
и равноправными с точки зрения отсчета отношений родства: ни один из них не
может считаться родителем или потомком другого.
В случаях с искусственными языками, если речь идет о Ту или Ти культурах,
мы, напротив, во-первых, определенно имеем историю их возникновения, а, во-
вторых, в принципе способны исследовать эту историю на глубину до
конвенционально принятого начала. Если, к примеру, наука рассматривается как частный
продукт революции интеллектуалов XVII в., имеющий статус частной формы
познания окружения, то история возникновения любого искусственного языка,
задействованного в лаговой системе общенаучной коммуникации, может быть
доведена до XVII в., если же используются другие концепты науки, то и до любой
другой даты вплоть до возникновения человеческого познания.
Официальный отчет об истории возникновения искусственного языка
содержат учебники, вводящие новобранцев во входной тезаурус соответствующей
когнитивно-социальной единицы. Как бы скептически ни относиться к изложенной
в учебнике версии насчет начал, патристики, персоналий, вкладов,
последовательности и взаимосвязанности событий, учебник дает официальный отчет,
который обязаны знать и с которым обязаны считаться все члены сообщества данной
единицы. Версию можно, естественно, подвергать сомнению, критиковать, можно
предлагать другие версии для будущих изданий, но это уже рутинная работа
механизма противотока на периоде возрастного движения, занятого данным
учебником.
Наконец, между понятиями естественный язык и искусственный язык вряд ли
правомерно усматривать чистую дихотомию «либо-либо». Существуют, на наш
взгляд, сомнительные случаи, когда дихотомическая классификация становится
расплывчатой. И таких случаев не так уж мало. Классическим, понятно может
считаться статус латыни в Ти культуре. С одной стороны, — латынь естественный
язык для тех времен, когда на нем не только писали и говорили интеллектуалы,
но и начинали говорить младенцы. Но в дальнейшем положение латыни явно
меняется не только в том смысле, что категориальный набор латыни смещают с
этапа «от 2 до 5» в более поздние этапы возрастного движения категориальные
наборы других языков, как романских, которые еще можно считать продуктом
расподобления копий латыни, что констатирует отнюдь не монопольное
положение церкви, подготовки духовных кадров, университетов в познавательных
терминалах европейских средневековых обществ, ответственных через механизмы
противотока за изменения в категориальном наборе, так и германских,
славянских, балтийских, финно-угорских языков, которые вообще не имеют
родственного к латыне отношения, если родство понимать в терминах расподобления
копий единого оригинала, но и в том смысле также, что зафиксированный в
нормативных грамматиках Доната и Присциана категориальный набор латыни пере-
422
M.К. Петров
стал претерпевать изменения, прошел неизменным через Средние века, Новое
время вплоть до наших дней. И это происходило в условиях активнейшего
использования латыни в Ти культуре для оформления искусственных языков в
терминалах познания и на популярность латыни, как материала построения
концептуально-понятийных аппаратов в Ту культуре, хотя, правда, в Ту культуре
возможны, как мы видели, и «трибиальные» казусы на почве тривиального невежества.
Это последнее обстоятельство (не «трибиальные» фокусы, а невероятная и
продуктивная живучесть латыни, как и греческого, с замороженным
категориальным набором) выделяет латынь (как и греческий) в особую категорию языков.
Латынь нельзя назвать языком естественным. Уже для Ти культуры латынь —
«мертвый» язык как в том смысле, что у него нет этапа «от 2 до 5», так и в том
смысле, что его категориальный набор не изменяется и не обновляется под
воздействием механизма противотока, «категориальной противоволны», хотя такой
механизм обнаруживает явные следы своего присутствия в системах общенаучной
коммуникации Ти и Ту культур.
С другой стороны, назвать латынь языком искусственным, как, впрочем, и
греческий, арабский и ряд других языков, также не совсем правомерно — им
нельзя указать ни этапа возрастного движения, на котором они принимали бы
форму учебника, вводящего во входной тезаурус следующего этапа или
терминальной единицы, ни когнитивно-социальной единицы, члены сообщества
которой обязаны были бы владеть таким языком, как языком синхронной
коммуникации в данной единице. В современном их статусе такие языки сродни скорее
инструментам, расширяющим, подобно телескопу, границы доступного научному
наблюдению и описанию, особенно в области истории, а не искусственному
языку описаний значимых событий.
В еще менее определенном статусе находятся сегодня языки «великих научных
держав мира» — английский, немецкий, французский, русский, на которых
публикуется подавляющая часть научной литературы всех эшелонов. В странах, где
эти языки являются родными для большинства или значительной части
населения, они же используются и для синхронной общесоциальной взрослой
коммуникации на уровне Ту, то есть обучение в школах либо непосредственно ведется
на этих языках, либо предполагает солидный курс обучения этому официальному
языку, который обеспечивает практическое им владение ко времени окончания
средней школы, поскольку, как правило, вся «постшкольная» специализирующая
подготовка ведется на едином официальном языке страны. Многое здесь,
естественно, зависит от национальной политики государства, от действующего
законодательства и от многих других привходящих обстоятельств, но в целом схема
унификации этапов возрастного движения индивидов на базе единого языка и
единых для страны и Ту культуры стандартов сегодня все более осознается, как
оптимальное решение проблемы мобилизации творческого таланта страны.
Национальный сепаратизм, стремление к национальной автономии находят себе почву
и сегодня практически во всех развитых странах и могут принимать самые острые
формы, но, если присмотреться к мотивации национальных движений в
многонациональных странах, то сепаратизм сегодня в общем-то уступает место
требованиям равенства перед стандартами подготовки на всех этапах возрастного
движения.
Эти языки «великих держав» науки распространяют свое унифицирующее
влияние не только на страны, где они функционируют и как естественные языки
значительной части населения, и как официальные языки взрослого Ту общения,
но и далеко за пределы этих стран, выступая в роли проводников Ту культуры во
все страны мира, где делаются попытки обзавестись национальными
механизмами «развитости», то есть прежде всего привить на собственной почве схему
онаучивания общества, предполагающую существование общеобразовательной школы
и системы общенаучной лаговой коммуникации.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 423
Внешняя экспансия таких языков в роли «культуртрегеров» — процесс
сложный и вызывающий множество незапланированных осложнений особенно в
странах традиционной культуры, где становлению Ту и пассивно и активно
препятствуют инокультурные реалии. Основные модели распространения языков
«великих научных держав» на инокультурные среды производны от того
обстоятельства, что попытки развивающихся стран совершить культурную революцию
наталкиваются как на серьезное препятствие на необеспеченность национальными
кадрами практически всех этапов возрастного движения, начиная от школьного.
Исходный контингент кадров приходится вербовать или готовить в «великих
державах науки» на их официальных языках, что с первых же шагов реализации
программ культурной революции, а культурные революции сегодня не могут уже
совершаться стихийно, самотеком, без плана и государственного руководящего
участия, ставит эти программы в зависимость от того языка взрослых Ту, который
используют в странах, берущих на себя по договору, программе помощи,
контракту обязательства по кадровому обеспечению культурного строительства.
В эти обязательства не входит, да и не может входить подготовка всего
комплекса учебной литературы на языке страны, решившейся на культурные
преобразования. Такими специалистами страны Ту культуры заведомо не располагают.
К тому же, и это, пожалуй, оказывается решающим аргументом в пользу
признания чужого языка официальным языком лаговой системы общенаучной
коммуникации, вакантное по идее место будущего официального языка взрослой Ту
коммуникации оказывается, как правило, прочно занятым тем языком, обычно
древним и мертвым, на котором фиксировались в письменном виде миропорядки
традиционной культуры, социальные интеграторы всеобщего и обязательного
распределения: мифы о семействе небожителей — покровителей профессий, по связи
с которыми строится иерархия каст, земные отношения семей разной
профессиональной и кастовой принадлежности.
Пытаться использовать этот язык в качестве рабочего официального языка
текстов, образующих этапы возрастного движения от школьного до терминалов
взрослой деятельности, дело безнадежное: даже в самой Ту культуре замена
школьного учебника новым вызывает бурную и обычно негативную реакцию
взрослых, а в развивающихся странах замена традиционных текстов-интеграторов
текстами Ту на том же языке вызвало бы нечто подобное китайскому варианту
«культурной революции».
Пока таких попыток не предпринималось и вряд ли они будут предприняты.
Даже в Японии, которую принято считать примером удавшейся культурной
революции — типичный для науки экспоненциальный рост научной литературы
отмечается в Японии с 1900 г., с приходом в дисциплинарные терминалы второго
поколения японских ученых, подготовленных японскими же преподавателями
[150, с. 99], официальным языком науки и сегодня остается английский, а не
японский или, тем более, китайский — язык текстов-интеграторов культуры,
которую отменила начавшаяся в 1869 г. культурная революция.
Опираясь на данные Е.Я.Шизуме по сообществу физиков, Д.Прайс так
описывает ход событий японской культурной революции: «В 1869 г. в начале
«реставрации Мейдзи» Япония порвала с традицией и начала введение «голландской
науки», как тогда называли японцы европейскую науку... Первым шагом был
импорт иностранных преподавателей науки из США и Великобритании и экспорт
молодых японских студентов в иностранные университеты для продолжения и
завершения образования. Ударная волна западной науки захлестнула страну
неожиданно и вызвала скачкообразный рост сообщества физиков с 1 до 15 за шесть
лет. К 1880 г. пошла на убыль, сначала быстро с отъездом иностранцев на родину,
а затем более медленно по мере ухода в отставку и вымирания ученых и
преподавателей, подготовленных за рубежом; эта волна исчезла в 1918 г. Но в 1880 г.,
когда кривая импорта иностранцев достигала максимума, начала постепенно
возникать новая волна — первое поколение японских ученых, подготовленных ино-
424
M.К. Петров
странными преподавателями и их воспитанниками. Первое поколение ученых
было небольшой группой, в которой в 1880 г. насчитывалось 10 физиков, и
численность этой группы никогда не превышала 22, достигнув здесь баланса между
подготовкой и вымиранием. Позднее, где-то в период Первой мировой войны,
численность группы начала уменьшаться, последний умер в 1928 г... Второе
поколение ученых — тех, кто был подготовлен японцами в Японии, начало
появляться в 1894 г. и к 1900 г. число физиков со степенями достигло 60. Вскоре
после этого начинается обычный экспоненциальный рост с периодом удвоения в
10 лет» [150, с. 98-100].
Понятно, что «классическая» японская модель культурной революции,
требующая на правах условия осуществимости в дополнение ко множеству
потрясений еще и признания чужого языка для обеспечения взрослой коммуникации на
уровне Ту, ни у кого не вызывает восторгов, и многие исследователи пытаются
найти компромиссы. Типична в этом отношении позиция Ф.Дарта и П.Прадхана,
выступающих за дуализм и сосуществование культур. Они отмечают, что парность
мировоззрений, которую они обнаруживают у непальских школьников, хорошо
известна и европейцам: «Та же самая парность проходит через историю всей
западной мысли по крайней мере с начала научной революции, и до сих пор она
с нами. Какой ученый не слышал вопроса: как же Вы можете быть ученым и
придерживаться таких взглядов? Кому не приходилось в то или иное время вести
серьезный разговор о науке и религии? и все же в значительной части мы на
Западе оказались в состоянии достичь мира, создав два дополняющих друг друга
мира материи и духа, объектов и ценностей. Благодаря тщательнейшей
демаркации границ, осознанному или неосознанному разложению по соответствующим
полочкам, ре интерпретации, и с помощью множества интеллектуальных пактов о
ненападении достигнута разумная безопасность и мирное сосуществование, так
что эта форма дуализма не составляет больше на Западе серьезной проблемы для
ученого или учащегося. Следует ли и другим помочь наладить или сохранить
такое сосуществование, которое не будет разрушать их культурные ценности,
когда они начнут усваивать нашу западную науку и научные точки зрения?» [ПО,
с. 654-655].
Дарт и Прадхан отвечают на этот вопрос утвердительно: «В качестве одного
из шагов мы предлагаем, чтобы наука вводилась как «вторая культура», скорее
дополняющая то, что существует, нежели отменяющее его. Наука должна тогда
преподаваться в том духе, в каком преподается второй язык: его нужно знать и
уметь использовать, но не с тем, чтобы изгнать из употребления родной язык.
Это потребует совершенно новой ориентации, нежели та, которая характерна
сегодня для большинства школ Азии, а также и вообще азиатско-американских
отношений, даже если это и не вызовет значительных изменений в школьных
учебных планах. Начиная с первых миссионерских школ в течение всего периода
колониальных школ, направление, а часто и намерение западного образования
подчинялось идее того, что «первобытные» или «отсталые» цивилизации должны
быть заменены более современными и «лучшими». Это отношение продолжает
существовать и сегодня, хотя за ним нет уже такой силы, как колониализм,
причем особенно сильно это отношение выявляется в преподавании науки,
поскольку наука воспринимается как действительно уникальное и неповторимое
произведение западного мира. В действительности же, идет ли речь о Непале или
вообще об Азии, цель образования состоит вовсе не в том, чтобы уничтожить
какую-то цивилизацию или даже какую-то систему идей, чтобы полностью
заменить их чем-то, что считается лучшим. Двигаясь в этом направлении или с этим
скрытым намерением, мы создаем ненужные осложнения на пути образования.
Имплицитно содержащийся в такой практике подход «либо-либо», ведущий к
прямому противопоставлению между традиционным мировоззрением и
современным предельно чуждым отношением к знанию, создает конфликтную ситуацию
История европейской культурной традиции и ее проблемы 425
как в голове изучающего, так и между ним и старшим поколением той же
социальной группы» [ПО, с. 655].
Ситуация эта опасна: «Как это очень часто случается, подобный конфликт в
лучшем случае становится отчуждающей силой, которая выбрасывает из одного
мира, не обеспечивая признания в другом. Мы предлагаем избежать или
замедлить это противопоставление путем связи первых шагов обучения с наблюдением
обычных вещей и событий, то есть путем таких наблюдений, которые
стимулировали бы и использовали скрытое детское любопытство, которые доступны
каждому и не требуют специальных формальных интерпретаций в космологических
или философских терминах. Вместо подобных интерпретаций этот подход будет
создавать арсенал навыков и установок, направленных на наблюдение, а также и
фундамент специфических наблюдений, на котором позже может возводиться
формальное здание науки. Делая такое предложение, мы принимаем парность
взглядов как нечто естественное и, возможно, неустранимое» [110, с. 655].
Дарт и Прадхан сами, похоже, не очень уверены в осуществимости их
предложения: «Мы сознаем силу тех аргументов, которые в принципе защищают
альтернативу нашему предложению — полную адаптацию изучающего к западной
научной культуре путем обучения на Западе, и в согласии с которыми требуется,
чтобы он изучил ее и полностью конформировался с ней. Конечно, эта полная
адаптация была бы невозможна для большинства непальских детей и взрослых,
поскольку подавляющее их большинство вовсе не собирается и не желает стать
учеными. Кроме того, следует также учитывать и тот факт, что любой, кому
удалась такая «полная адаптация», если бы он вернулся работать и жить в Непале,
наверняка оказался бы в позиции отчуждения и изоляции. В какой-то степени
это уже происходит с теми студентами из Азии, которые покидают родину и едут
учиться в США, а затем, частично из-за такого отчуждения, не чувствуют
энтузиазма по поводу возвращения на родину. Кто адаптировался, тот находит более
удобным оставаться в этом адаптированном состоянии» [ПО, с. 655].
На наш взгляд, сам ход подобной аргументации в пользу мирного
сосуществования, а аргументы этого рода можно встретить и у других авторов, основан на
непонимании природы европейского дуализма, который действительно обладает
свойством «дополнительности» в Ту культуре, но это свойство явно не может быть
воспроизведено на базе сочетаний научного мировоззрения с традиционными
мировоззрениями стран Востока. Мы не исключаем возможности того, что будет
найдено более простое и надежное решение проблем культурной революции, чем
то, которое реализовали в Японии. Но мы пока не видим других сколько-нибудь
обнадеживающих решений. Пока, похоже, более или менее проверенным путем
перехода в «развитое» состояние остается модель, связанная с признанием чужого
языка в качестве языка взрослой коммуникации на уровне Ту.
Меняет ли это обстоятельство статус официальных языков «великих научных
держав» с точки зрения классификации, основанной на различении естественных
и искусственных языков? По нашему мнению, меняет, но сами эти изменения
вряд ли способны что-нибудь прояснить в природе языка. Функционируя на
правах языка академической и научной коммуникации или даже одного из
официальных языков страны в Японии, Гонконге, Индии и в других англоязычных
странах, что происходит также, хотя и в меньшей степени, с французским,
немецким, русским языками, английский язык для этих стран становится чем-то
промежуточным между искусственным и естественным языком: он не обладает
статусом естественного языка, коль скоро не осваивается тамошними младенцами
на этапе «от 2 до 5», но отличен и от искусственного в том смысле, что научный
глоттогенез происходит повсюду, где ведутся исследования, и продукты такого
глоттогенеза, если они оформлены по правилам английского (или французского,
немецкого, русского) языка, вполне могут войти в состав английского языка. В
этом процессе, связанном с функционированием глобальной интернациональной
общенаучной коммуникации как необходимого условия целостности глобального
426
M. К. Петров
феномена науки нам предстоит еще разбираться по ходу критического анализа
сложившейся в странах европейской культурной традиции кризисной ситуации,
связанной как раз с онаучиванием общества через воздействие науки на состав
Ту. Но для того, чтобы приступить к этому критическому анализу, нам нужно
представить изложенный выше материал в более редуцированной, компактной и
обеспечивающей единство апперцепции форме, к чему мы и приступаем на базе
концепта единого для любой развитой страны национального континуума тезау-
русных значений или просто Т-континуума.
Национальные Т-континуумы развитых стран мира
Частной и почти не задетой исследователями культуры и науки чертой
перехода от Ти культуры к Ту культуре является значительно более четкая прорисовка
линии переднего края исследований, чем это было в Ти культуре, где, как уже
упоминалось со ссылками на Д.Найта [131] в науку ходили исследователи,
вооруженные общим для всех видов интеллектуальной деятельности Ти, и передний
край исследований, естественно, обозначался лишь единичными конечными Ti-
ми соответствующих текстов, местами на карте мира науки, куда добирались эти
исследователи и где они вовсе не обязательно обнаруживали терминальную
исследовательскую группу Тг, как это происходит сегодня в Ту культуре.
Эти единичные точки на разном удалении от Ти стали где-то в
начале-середине XIX в. сливаться в линию, в конфигурацию переднего края научного
познания, и произошло это в большинстве стран европейской культурной традиции
более или менее одновременно с началом строгого исполнения законов о
всеобщем и обязательном образовании. К настоящему времени во всех развитых
странах мира, подавляющее большинство из которых принадлежит к европейской
культурной традиции, сложилась жесткая, обладающая определенной геометрией
и временной характеристикой знаковая реалия — континуум упорядоченных
академических и научных событий, Т-континуум, с деталями которого мы уже
знакомы, а теперь попытаемся разобраться с ним как с целостностью.
В Т-континуум вписана и задает ему геометрию система образования, так что
национальный Т-континуум развитой страны во всех его проекциях на любую
плоскость, содержащую луч времени предстает устойчивым по конфигурации
грибообразным телом с массивной ножкой, длительностью в 10—12 «учебных годов»,
образованной всеобщим школьным переходом Тп-Ту, и с достаточно четко
прочерченной шляпкой, образованной множеством постшкольных переходов Ту-Тт,
среди которых выделяются семилетней длительностью сдвоенные студенческо-ас-
пирантские переходы Ту-Тд-Тг. Все постшкольные переходы радикальны и нигде
не пересекаются друг с другом, что и позволяло нам использовать в качестве
модели постшкольной части системы образования карту-схему московского метро.
Переход на «грибовидность» вызван тем, что к карте-схеме метро трудно
присоединить школьный переход, к тому же нам теперь потребуется «телесность», так
что гриб для нас предпочтительнее.
Прежде всего примем как данность, что все события Т-континуума и
вписанной в него системы образования имеют универсальную тезаурусно-динамическую
природу акта речи: в них всегда можно выделить стороны общения А и В,
разности Tj-To, перекрывающие эти разности тексты. Но вписанность системы
образования в Т-континуум и общность на уровне элементарных событий — актов
речи — не означают их тождественности: многие события Т-континуума
протекают в календарном времени, тогда как все события системы образования
протекают в чистом академическом времени, причем термин «чистый» понимается
здесь в том же смысле, в каком его понимают хоккеисты и баскетболисты.
К тому же система образования, как состыкованная сплотка уподобляющего
школьного и множества расподобляющих постшкольных переходов «парит» в ка-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 427
лендарном времени как относительно независимая от него и неподверженная
времени «вечная» знаковая реалия вполне определенного объема и конфигурации,
которая ежегодно 1 сентября сдвигается на год назад в календарном времени как
целостность-сплотка, чтобы принять в систему очередную волну В групп 6—7-
летних первоклашек-сверстников и выбросить в терминалы взрослой
деятельности (Тт, Тд, Тг) прошедшую через систему и ставшую в академическом движении
взрослой и образованной очередную волну В групп сверстников, пополняющую
ряды всех специализированных терминальных сообществ действующей в
развитом обществе номенклатуры социально необходимых и признанных обществом
видов специализированной деятельности.
Волновая характеристика системы образования позволяет рассекать сплотку
состыкованных переходов с наибольшей длительностью академического движения
в 17—19 лет (переходы Тп-Ту-Тд-Тг) на равновеликие академические годы и
складывать эти учебные годы в «колоду» одновременно протекающих в календарном
времени событий, что дает возможность системе образования воспроизводить
себя всю целиком на уровне элементарных событий (уроков, лекций, занятий) в
ежегодном ритме. Это обстоятельство сообщает системе образования
двойственную уникально-репродуктивную природу: для всех В системы (ученики, студенты,
аспиранты), принимающих личное участие в академическом движении, все
события системы уникальны и неповторимы, они определенно не появятся второй раз
в их жизни, в их личной истории; для всех А системы (учителя, преподаватели)
все события системы репродуктивны — в каждом учебном году они на
человеческом материале очередной В группы сверстников проделывают операцию,
предельно схожую с той, которую проделывали год назад на материале В группы
предшествующей волны сверстников, и проделают через год на материале В
группы последующей волны сверстников. Скомплектованная по действующим в
развитой стране правилам ежегодная волна сверстников с разбросом дней рождения
в год-полтора проходит через всю систему образования, как сплоченная
целостная и информационно изолированная когорта, часть членов которой по великому
многообразию причин (лень, болезнь, неуспеваемость, служба в армии, рождение
детей и т.п.) выбывает из академического движения своей когорты и входит снова
в академическое движение в составе других когорт, марширующих друг за другом
через систему образования с интервалом ровно в один календарный год. Этот
узаконенный развитым обществом переход «дезертиров» академического движения
из одной волны-когорты в другую, следующую за ней на интервале в один
календарный год, и создает внешние выявления «чистоты» академического времени,
разной между академическим временем движения через систему образования,
установленным соответствующими инстанциями академической политики развитой
страны, и общим для всех календарным временем, в котором взрослеют,
действуют, живут все люди. Если бы не было этого разнобоя, вызываемого массовым
дезертирством членов когорт ежегодных волн на маршрутах академического
движения через систему образования в терминалы взрослой деятельности, то,
например, пополнение в терминальные научные сообщества Тг приходило бы, пройдя
самый длинный переход Тп-Ту-Тд-Тг, в возрасте 23—25 лет. В действительности
же, как пишет Л.Уилсон дело обстоит иначе: «По выборке 1944 г., включающей
около 500 докторов, средний возраст получающих докторские степени был тогда
32,7 года. В 1973—1974 учебном году было присвоено ЗЗООО докторских степеней,
средний возраст этой группы — 32,1 года. Большинство аспирантов не
укладывается в сроки подготовки. После получения диплома бакалавра (диплом об
окончании студенческого курса в университетах США. — М.П.) минимальный
срок получения степени доктора философии — 3 года. Общее «действительное
время» около 4 лет, но в 10 основных дисциплинах на периоде 1957—1964 гг.
среднее потерянное время колебалось от минимума 5,7 лет в химии до максимума
12,7 лет в педагогике» [175, с. 46].
428
M. К. Петров
Но это лишь внешние выявления чистоты академического времени, скрытая
от наблюдения природа которого носит явно лингвистический, тезаурусно-дина-
мический характер, вызываемый тем обстоятельством, что все переходы или «ме-
гаакты речи» системы образования построены по правилу ассоциации актов речи
в упорядоченные последовательности с любым значением разности Tj-T0, а
правило это гласит Ti предыдущего акта речи (урока лекции, занятия длительностью
в «академический час» — 45 минут календарного времени) становится Т0
следующего акта речи (урока, лекции, занятия той же длительности). Соответственно,
измеренные в длительности, в академическом времени на прохождение разности
тезаурусных значений школьного перехода Ту-Тп и студенческо-аспирантских
семилетних постшкольных переходов Тг-Ту будут при 10—12-летнем сроке обучения
в школе давать величины 15—18 тыс. академических часов (школа) и 10,5 тыс.
академических часов (студенческо-аспирантские переходы). Универсальное
правило построения академических переходов Ti предыдущего акта речи становится
То последующего предполагает для всех В, что про идейность всех предыдущих
актов речи данной упорядоченной последовательности становится условием
проходимости каждого последующего акта. На этом условии и держится чистота
академического времени.
Это условие объясняет и другие «странные» свойства событий в чистом
академическом времени, которые никем не обсуждаются просто потому, что они никем
не наблюдаются, потому, что их «невозможность» входит в состав избегающей
рефлексии тезаурусной данности. Во всех других видах деятельности, например,
одним из стимулов повышения качества деятельности является «повышение», для
чего каждое терминальное сообщество, в том числе и сообщества учителей и
преподавателей имеют на вооружении иерархические лестницы должностей и званий.
Для В — участников академического движения этот поощрительный «пряник»
неприменим. Нельзя, скажем, «за отличные успехи и примерное поведение»
пересадить ученика 5 «А» класса в 7 «Б», хотя физически ничто этому не препятствует:
7 «Б» — первая дверь налево. А нельзя этого сделать потому, что нарушено было
бы условие проходимости ассоциированных упорядоченных последовательностей
актов речи — пройденность всех предыдущих актов речи. Не действует в
академическом времени и широко используемый в других видах деятельности,
включающих учительскую и преподавательскую, и принцип непрерывности стажа, дающий
определенные преимущества тем, кто занят одной и той же деятельностью
длительное время. По правилам чистого академического времени любой выход на
обочину академического движения, какими бы объективными причинами,
справками, резонами он ни объяснялся, не будет «прощен» системой образования:
вышедшему на обочину члену В группы данной волны сверстников предлагается
либо догонять на подручных средствах уходящую от него в заданном программами
темпе свою В группу сверстников, либо календарный год болтаться на обочине,
поджидая соответствующую В группу следующей волны сверстников. К примеру,
когда в 1941 г. почти все студенты ушли в армию, то, вернувшись к мирной
жизни, оставшиеся в живых сели за столы тех же самых аудиторий и возобновили
академическое движение с того же самого места, с которого их сорвал звонок на
войну. И дело здесь не в том, что какие-то инстанции не догадались возместить
им академический ущерб — они-то как раз догадались, — начислили каждому
участнику войны 10 лет производственного стажа, а в том, что никакая инстанция
не в состоянии заполнить в личной истории индивида лакуну, вызванную
отсутствием данного индивида в В группе, совершающей академическое движение.
В свете нашей тематики, организованной постулатом генетической
недостаточности человеческого рода в область поиска средств освоения нечеловекораз-
мерного окружения человекоразмерными средствами, система образования
национального Т-континуума развитой страны привлекает нас прежде всего, как
устойчивое в календарном времени и воспроизводящееся во всех своих
составляющих место синтезов субъективного и объективного определений. В какой-то сте-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 429
пени мы уже касались этого вопроса, выявляя полярную оппозицию
универсальных младенцев и специализированных взрослых как вневременной и
неустранимый феномен любой социальности на любом этапе ее существования. Теперь мы
уже можем, более детально рассматривая состав и структуру событий в системе
образования национального Т-континуума развитой страны, внести определенные
уточнения и синхронного и исторического плана, поскольку сдвигающаяся 1
сентября каждого календарного года как целостность на год назад система
образования дает нам и соблазн, и повод, и методологическое право двигать ее и в
прошлое в соответствии с принципами актуализма Лайеля и Дарвина и в будущее,
коль скоро основанное на традиции и инертности существование знаковых
реалий, как это показал Ф.Соссюр [66, с. 107) не может в силу немотивированности
лингвистического знака прекратиться до тех пор, пока не иссякнет приток
младенцев, осваивающих на этапе «от 2 до 5» родной язык и через год-два входящих
«первый раз в первый класс».
Уточняя нашу линию оппозиции-противостояния младенцев и взрослых как
абсолютов-носителей субъективного и объективного определений мы можем
теперь сказать, что эта оппозиция воспроизводится в любом акте речи любого
академического перехода — ассоциации актов речи, упорядоченной по правилу Ti
предыдущего акта речи становится Т0 последующего, причем «за спиной» любого
члена В группы, совершающей академическое движение по уникальным для В
группы неповторимым актам речи, стоит младенец как абсолют-источник
субъективного определения, а «за спиной» любого А, ведущего урок, лекцию, занятие
тем же способом, что и год назад с другой по личному составу группой В, стоит
объективная реальность, опосредованная знаковым миром открытий науки, а
точнее, коль скоро монополия на подготовку для системы образования всех учебных
планов, учебников, учебных пособий де-факто принадлежит членам
национального научно-академического сообщества, распределенного по кафедрам
университетов страны, то само это сообщество, играющее роль «лика» окружения — абсолюта
и источника объективного определения, — обращенного к системе образования.
Но в этой линии объективного определения есть и настораживающие
моменты, связанные с тем, что если национальное научно-академическое сообщество
содержит на постшкольном участке системы образования свыше ста студенческо-
аспирантских переходов Ту-Тд-Тг, ведущих примерно в тысячу терминальных
исследовательских сообществ Тг [69, с. 71], то на школьном переходе Тп-Ту
обнаруживается лишь около десятка учебников-введений в некоторые дисциплины, то есть
наука представлена в школе однобоко, лишь 10% тех дисциплин, которые
представлены на постшкольном участке, и 1% исследовательских терминалов науки.
Этот факт неполноты представления науки на всеобщем школьном переходе
нам еще пригодится для оценки общего положения в современных национальных
Т-континуумах развитых стран, а пока ограничимся констатацией, что коль скоро
появление новых открытий, новых элементов научного знания не предсказуемо
ни по участку переднего края, где располагаются исследовательские терминалы
науки Тг, ни по дисциплинам, к которым принадлежат эти терминалы, ни по
национальным научно-академическим сообществам, наше представление об
онаучивании общества через обновление в переизданиях состава школьных учебников
и содержания Ту — тезауруса выпускника школы и всего взрослого населения
страны — должно быть уточнено в том отношении, что в процессе обновления-
онаучивания активно участвует не вся наука как целостный глобальный феномен,
а лишь ее незначительная часть, представленная на школьном переходе
учебниками-введениями в десяток примерно дисциплин (физика, химия, биология,
астрономия, география,...), тогда как остальные дисциплины (90%) и практически
все исследовательские направления выхода на школьный переход Тп-Ту не имеют
и участвовать в процессе онаучивания принятым в Ту культуре способом
определенно не могут. В свете этой констатации и монополия национальных научно-
академических сообществ на подготовку учебных планов, учебников, учебных по-
430
M. К. Петров
собий, а также и всех А системы образования, закрепляющая такой однобокий
способ онаучивания общества, обретает черты сомнительности, «озадачивает» нас
в том отношении, что этот фрагмент нашей развитой Ту данности требует анализа
на состоятельность, движения в историю становления этой монополии.
Другим озадачивающим и сомнительным пунктом является, похоже,
глобальный глоттогенез науки и его воздействие на словарь-тезаурус естественного
официального языка национального Т-континуума развитой страны. Дело в том, что
хочется того или не хочется членам национального научно-академического
сообщества, но будучи де-факто монополистами на подготовку учебных планов,
учебников, учебных пособий, кадров А для всей системы образования своей страны
в том смысле, что обладающие де-юре правом на все это инстанции научной и
академической политики развитой страны благоразумно ограничивают свое право
заключением контрактов и договоров на разработку учебников и учебных
пособий предзаданного объема, а члены национальных научно-академических
сообществ реализуют эти контракты и договора, вкладывая в них смысл и конкретное
содержание, члены национального научно-академического сообщества, выступая
в роли исследователей [140, с. 520] на переднем крае науки и входя на правах
полноправных членов и участников в глобальную интернациональную
общенаучную коммуникацию по поводу событий на переднем крае, неизбежно
оказываются ретрансляторами продуктов глобального научного глоттогенеза в свои
национальные Т-континуумы и по контуру онаучивания через лексику учебников и
учебных пособий активно внедряют научные неологизмы в тезаурус естественного
официального языка своего Т-континуума.
Научный глоттогенез, как и любой другой, ограничен как правило тезаурусом
родного языка, лексикой, редко выходя в область грамматических универсалий
(когда, например, вместо «на благо народу» начинают говорить «на благо народа»,
вместо «довлеет себе» — «довлеет над»), и с точки зрения тезаурусной динамики
глоттогенез на уровне лексики стимулируется постоянным дефицитом лексики,
потребной по закону Ципфа для пополнения словаря наращиваемых связных
текстов. В любых текстах совместного владения А и В, с помощью которых в
сфере обыденной речи общаются между собой близкие люди, родные, знакомые,
и в которых они всегда находят свой особый Т0 для продолжения осмысленного
и понятного только для них разговора, начатого годы или десятилетия тому назад,
всегда обнаруживаются слова и словосочетания, которых не найдешь ни в одном
словаре, а если и найдешь, то ни за что не догадаешься, что они означают для
собеседников, если сами владельцы этого текста не посвятят тебя в интим
подобной личностной коммуникации. Неологизмы этого типа редко проникают в
тезаурус — полный словарь естественного языка — в его строгом лингвистическом
понимании. Слова же и словосочетания типа, скажем, «стушеваться», «слинять»,
«печки-лавочки» и т.п. имеют обычно известного автора и распространяются по
правилам моды. Что же касается собственно научного глоттогенеза, то он
происходит как правило через акт номинации в ситуациях, близких к ситуации Адама:
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных,
и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет
человек всякую душу живую, так и было бы имя ей. И нарек человек имена всем
скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» [Бытие, 2, 19—20].
Выискивающим новое исследователям чаще других приходится, подобно Адаму, нарекать
имена обнаруженным ими новым элементам научного знания, и эти имена,
пройдя через редакционно-издательский фильтр научных журналов [185], начинают
вместе с обозначенными ими элементами научного знания центростремительное
обновляющее и онаучивающее движение с переднего края исследований в свои
терминалы — в учебники школы, в Ту. Публикуемые в научных журналах статьи
этим способом выполняют в Т-континууме несколько функций, наиболее
изученной из которых является функция ценообразования в науке [150; 44], а наименее
История европейской культурной традиции и ее проблемы 431
изученной функция воздействия на тезаурусы официальных языков
национальных Т-континуумов развитых стран.
Статус слов, входящих этим способом в тезаурус естественного официального
языка несколько отличается от статуса других слов тем, во-первых, что за каждым
таким словом стоит определенный научный концепт или научное понятие, тем,
во-вторых, что если уж такое слово добралось «на спине» элемента научного
знания до школьного учебника, то оно становится «вменяемой» частью лексики
соответствующего официального языка, незнание которой не освобождает взрослых
от ответственности за возможные недоумения и недоразумения, и тем, наконец,
что подавляющее большинство таких слов оказывается оформленным не по
правилам словообразования официального языка данного национального Т-конти-
нуума, что естественно, и даже не по правилам словообразования четырех
«великих языков» науки (английского, русского, немецкого, французского), что уже
менее естественно, коль скоро, как мы уже говорили на этих четырех языках
публикуется сегодня практически вся первичная и вторичная научная литература —
статьи, обзоры, монографии, курсы лекций, учебники [44], а по правилам
словообразования латыни и греческого, что уже как-то неестественно, поскольку
латынь и греческий языки не только «древние» и «мертвые», но и практически
изгнанные почти во всех развитых странах из состава предметов изучения на
школьном переходе Тп-Ту.
Это последнее обстоятельство странно во многих отношениях и прежде всего
потому, что о нем почти не пишут, хотя для всех национальных Т-континуумов
развитых стран латынь и греческий заведомо являются инородными языками.
Еще в начале XVII в. они уже были в статусе древних и мертвых — нельзя было
указать ни в Европе, ни во всем мире ни на одного младенца, который освоил
бы на этапе «от 2 до 5» греческий или латынь, но это не мешало Ф.Бэкону,
рассуждая о пользе грамматики, констатировать: «Обратимся теперь к грамматике.
Она по отношению к остальным наукам исполняет роль своего рода вестового;
и хотя, конечно, эта должность не слишком высокая, однако она в высшей
степени необходима, тем более, что в наше время научная литература пишется на
древних, а не на современных языках. Но не следует и принижать значение
грамматики, поскольку она служит своего рода противоядием против страшного
проклятия смешения языков. Ведь все человечество направляет все свои силы на то,
чтобы восстановить и вернуть себе то благословенное состояние, которого оно
лишилось по своей вине. И против первого, главного проклятия — бесплодия
земли («в поте лица своего будете добывать хлеб свой») оно вооружается всеми
остальными науками. Против же второго проклятия — смешения языков оно
зовет на помощь грамматику» [6, с. 332—333].
Понятно, что постоянное насыщение через школьные учебники тезаурусов
официальных языков национальных Т-континуумов инородной лексикой во всех
развитых странах в той или иной степени создает трудности с освоением этой
лексики, поскольку она редко подчиняется правилам оперирования с лексикой
родного для большинства официального языка страны, смещает тонкий баланс
между правилом и исключением, дает растущую массу исключений из общих
правил, не говоря уже о том, что созданная по греко-латинской норме
словообразования лексика «темна» для тех, кто не знает грамматик греческого и латыни и
порождает в тезаурусах официальных языков своеобразный «прогрессирующий
силикоз», поскольку этих инородных «темных» слов стараются избегать в
обыденном речевом общении, выключая тем самым из употребления значительную
часть тезауруса, а часть эта имеет тенденцию расти, становиться застойным
«инфильтратом» в долговременной памяти носителя Ту. Словом, во всех
официальных языках национальных Т-континуумов развитых стран обнаруживается
сегодня постепенно разрастающийся страт инородной интернациональной лексики, и
факт этот явно дисфункционален для соответствующих естественных языков,
работает на «удушение» обыденной коммуникации, наполняя тезаурус массой ино-
432
М.К. Петров
родных знаменательных слов, к которым не имеющий классической подготовки
носитель Ту не знает, как подступиться. Мы уже приводили пример с
«тривиальностью» [187], трактуя ее как частный случай попытки сунуться в поток научного
глоттогенеза, не зная броду. Но подобные случаи, особенно, когда речь идет о
гре ко -латинских или латино-греческих гибридах, насчитываются сотнями:
«социология», «ювеналократия», «монокультура», «диссимметрия» и т.д. и т.п. Мертон,
например, едко высмеивая Конта за «социологию» [139], сам сочиняет «ювенало-
кратию» [140]. Понятно, что это явление «прогрессирующего силикоза»
тезаурусов официальных языков Т-континуумов развитых стран требует критического
анализа и выяснения истории этой опасной и для носителей Ту вообще и для
членов национальных научно-академических сообществ ментальной болезни.
Еще один очаг напряженности и тоже прогрессирующий и очевидно
связанный с глобальной практикой научного глоттогенеза развивается в области доступа
членов национальных научно-академических сообществ к интернациональному
потоку научных публикаций. Если вернуться к описанию Д.Прайсом специфики
научного творчества в едином для науки мире открытий [150, с. 69], по которому
ученому для творчества нужна не келья монаха, а общежитие, то сегодня стены
такого общежития для коллег становятся все толще и звуконепроницаемее, так
что собранные в общежитие коллеги по терминалу на предмет оперативного
признания вклада исследователя в науку встречают растущие затруднения в этом
благородном и жизненно важном для науки деле с большим ущербом и для самих
себя и для действующей в науке структуры «тезаурусного коллективизма»,
которая повсеместно в развитых странах вытесняется сегодня крайне неэффективной
и расточительной структурой «организационного коллективизма».
В Ту культуре передний край научных исследований вчерне намечен
занимающими его исследовательскими группами, терминальными сообществами науки
Тг, число которых по Н.Стореру около тысячи [69, с. 71]. Но если говорить о
прежнем крае научных исследований более конкретно, как о постоянно
меняющей конфигурацию демаркационной линии между познанными уже наукой и
непознанными еще составляющими мира открытий, то такой передний край в его
конфигурации на текущую дату текущего календарного года всегда бывает
отмечен материалом последних выпусков дисциплинарных научных журналов, в
основном опубликованными в них статьями — первичной научной литературой [44,
с. 129—148]. Таких журналов много, по нескольку десятков на дисциплину в
каждой развитой стране, и, как правило, большинство из них выходят с месячной
или даже недельной периодичностью.
Этим способом издающиеся в разных странах на их официальных языках
научные журналы генерируют и поддерживают в рамках совокупного листажа
широкий интернациональный поток научной литературы в основном, как уже
говорилось на четырех «великих языках» науки — английском, русском, немецком,
французском, но также в какой-то степени и на других официальных языках
развитых стран. И поскольку предсказать откуда и где появится новое невозможно ни
по участку переднего края, ни по национальному Т-континууму, все
национальные научно-академические сообщества чтобы знать, что уже сделано в науке и где
сегодня проходит передний край исследований, вынуждены постоянно следить за
этим интернациональным потоком, несущим множество функций в жизни науки.
Во-первых, каждая статья, каждый обзор из числа публикуемых в очередных
выпусках журналов несут в себе заряд ссылок на опубликованные уже материалы
в качестве Т0 авторских попыток сместить это Т0 значение тезауруса
потенциального читателя — коллеги по терминалу — в Ti данной статьи или данного обзора,
преемственно меняющих конфигурацию переднего края на участке исследований
автора, причем набор ссылок в роли Т0, связывающий публикуемую работу с уже
опубликованными, дает эффект наращивания текста общей для дисциплинарного
сообщества принадлежности новыми актами речи, в роли которых выступают
статьи и обзоры.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 433
Во-вторых, ливень ссылок, производимый и бесконечно воспроизводимый
авторами работ очередных выпусков научных журналов, обрушиваясь на массив
опубликованных уже работ, как массированное избирательное цитирование,
распределяется по этим работам, как уже говорилось, по закону Ципфа [178],
выстраивая в результате избирательной деятельности гносиса авторов новых
публикаций А, стремящихся ограничиться для объяснения нового минимумом ссылок
на предположительно известное потенциальному читателю В, ранговые иерархии
научной ценности (меры использования для объяснения нового) на материале
опубликованных уже работ таким образом, и это вытекает из закона Ципфа и
подтверждается эмпирически [149], что ранговые иерархии научной ценности
принимают вид «айсбергов», на видимой вершине которых, поглощающей 90% от
общего числа генерируемых ссылок, располагается лишь 6—8% опубликованных
уже и наиболее часто цитируемых работ массива дисциплинарных публикаций.
Эти вершины ранговых иерархий-айсбергов и содержащиеся в них работы
наибольшего цитирования дают основной материал для разработки курсов лекций,
учебников для постшкольных переходов Ту-Тд-Тг и их периодических
переизданий «с изменениями, купюрами и дополнениями» без увеличения объема в
академических часах.
В-третьих, интернациональный поток научной литературы несет в себе
продукты научного глоттогенеза, новую лексику, оформленную в большинстве
случаев по греко-латинской норме, и если данной статье или данному обзору
повезет, если они войдут за время пребывания в массиве дисциплинарной публикации
в активную зону цитирования, в вершину ранговой иерархии научной
ценности — знакового айсберга, — а оттуда в курс лекций и учебник, то связанная с
ними новая лексика наверняка войдет и в тезаурусы официальных языков
национальных Т-континуумов развитых стран.
В-четвертых, и это при обсуждении проблемы доступа к интернациональному
потоку научной литературы и судеб структуры «тезаурусного коллективизма» в
научной деятельности наиболее важно, опубликованные в последних выпусках
научных журналов, в какой бы стране и на каком бы языке эти журналы ни
издавались, новые работы коллег по исследовательскому терминалу науки Тг
предполагают, что все члены такого терминала исследователей будут оперативно
оповещены и соответственно осведомлены о сдвиге конфигурации переднего края в
новое тезаурусное значение, отмеченное Ti-ми публикуемых работ и сделают
соответствующие выводы на будущее, что эти Ti-e суть новые «пограничные
столбы» на демаркационной линии между познанным и непознанным в мире
открытий и они могут теперь использоваться на правах опор объяснения, входить в
состав То-х будущих публикаций — описаний новых событий на переднем крае при
само собой разумеющемся условии, что все члены данного терминального
сообщества науки Тг оперативно оповещены и осведомлены относительно новой
конфигурации переднего края и сделали соответствующие выводы насчет
возможности обновления состава Т0-х своих будущих работ.
В этом моменте оповещения и осведомления членов терминальных сообществ
науки Тг, располагающихся на периферии национальных Т-континуумов
развитых стран, на переднем крае науки, мы вновь встречаемся с выявлениями строгих
правил чистого академического времени: по действующим в науке правилам
члены таких терминальных сообществ должны быть оперативно оповещены и
осведомлены об очередных изменениях конфигурации переднего края и, как это
выявляется в спорах о приоритете, никакие объективные причины не могут быть
приняты во внимание, если сдвигающие конфигурацию переднего края работы
опубликованы, а некоторые члены терминальных сообществ по нерадению, лени
или любым иным причинам оказываются неоповещенными и неосведомленными,
то есть констатация Д.Прайса: «Существует лишь один мир открытий, и как
только получена какая-либо частица его понимания, первооткрыватель должен быть
либо увенчан лаврами, либо забыт» [150, с. 69] является для всех членов нацио-
28 М.К. Петров
434
М.К. Петров
нальных научно-академических сообществ и вменяемой моральной максимой и
необходимым практическим регулятивом их научной деятельности, на котором
как раз и строится структура тезаурусного коллективизма в науке,
предполагающего в идеале, что все члены соответствующих терминальных сообществ науки
Тг становятся мгновенно (по требованиям чистого академического времени)
оповещенными и осведомленными о сдвигах конфигурации переднего края в
результате появления новых опубликованных работ в интернациональном потоке
научной литературы. Такая оповещенность и осведомленность — гласность в науке —
необходимое условие эффективного взаимодействия ученых в познании
окружения по нормам тезаурусного коллективизма, когда результаты познавательной
деятельности одних коллег по терминалу, попадая в поток интернациональной
научной литературы, своими Ti-ми активно формируют состав Т0-х будущих работ
других коллег по тому же самому терминалу, и познавательная научная
деятельность развертывается на личностном уровне взаимодействия
исследователей-индивидов как бесконечная эстафета передач очередных Ti-x публикуемых работ в
То-е работ, которые будут опубликованы, как взаимодействие индивидов в
коллективном наращивании текста данного терминала Тг все новыми и новыми
актами речи — очередными публикациями в очередных выпусках научных журналов
всех стран, имеющих национальные научно-академические сообщества и
принимающих активное участие в исследованиях на переднем крае науки как
глобального феномена.
В Ти культуре практически все члены национальных научно-академических
сообществ стран европейской культурной традиции получали на школьном
общеобразовательном переходе (подготовительные факультеты университетов,
классические гимназии, лицеи, школы «второй ступени») солидную языковую
подготовку и были в определенном отношении «полиглотами», способными без
опосредования переводчиками и референтами самостоятельно следить за
интернациональным потоком научной литературы всех типов. Трудности с доступом, с
оповещением и осведомлением, если они появлялись, сводились в Ти культуре в
основном к небрежению, лени, задержкам в доставке последних книжек научных
журналов и без особого труда преодолевались, если отбившийся от терминала
член национального научно-академического сообщества «брался за ум» и начинал
строго выполнять свои терминальные обязанности-роли исследователя,
преподавателя, администратора, привратника [140, с. 520], — прямой доступ к
интернациональному потоку научной литературы был для него как носителя Ти всегда
открыт.
В Ту культуре ситуация радикально изменилась. Появление на школьном
переходе Тп-Ту инструментов прямого и всеобщего онаучивания общества —
учебников-введений в некоторые дисциплины, представленные сегодня на
постшкольном участке системы образования полными переходами Ту-Тд-Тг, повело
к вытеснению со школьного перехода учебников лингвистической группы и
прежде всего учебников классических и живых языков, так что приходящие
сегодня в терминалы науки Тг и, соответственно, в научно-академическое
сообщество свежеиспеченные носители ученых степеней оказываются в своем
большинстве «моноглоттами», способными без опосредования переводчиками и
референтами следить только за той частью интернационального потока научной
литературы, которая публикуется только на официальном языке их национального
Т-континуума.
Используя господствующую сегодня модель онаучивания общества через
насаждение в школьный переход учебников-введений в некоторые дисциплины, эту
модель впредь мы будем называть экстенсивной моделью онаучивания общества,
противопоставляя интенсивной модели онаучивания общества, о которой мы
будем еще говорить, наука тем самым медленно, но верно подпиливает сук, на
котором она процветает как глобальный феномен, одновременно в двух
направлениях: а) отделяет себя от корней, питающих трехсотлетнюю традицию общена-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 435
умного глоттогенеза по греко-латинеким нормам словообразования; б) лишает
членов национальных научно-академических сообществ прямого доступа к
интернациональному потоку научной литературы и, соответственно, оперативной
ориентировки в том, что уже сделано в науке, и откуда следует начинать прилагать
свои собственные исследовательские усилия.
Коль скоро без прямого доступа к интернациональному потоку научной
литературы исследовательская деятельность по нормам тезаурусного коллективизма
все же невозможна, а другого способа «делать науку» пока не изобрели, то во
всех развитых странах мы наблюдаем сегодня бурное развитие паранаучной
деятельности в режиме отрицательной обратной связи, имеющей целью
компенсировать прогрессирующий рост моноглоттизма в среде членов национальных
научно-академических сообществ и обеспечить в условиях моноглоттизма всем
членам этих сообществ прямой доступ к интернациональному потоку научной
литературы. Эта паранаучная деятельность происходит в основном в двух формах: во-
первых, на национальном и дисциплинарном уровнях во всех развитых странах
создаются службы и институты научной информации, бюро перевода и
реферирования, имеющие конечной, но никогда практически не достигаемой целью
поточный перевод всех инородных составляющих интернационального потока
литературы на официальный язык данной страны, с тем чтобы пребывающий в мо-
ноглоттической немощи член национального научно-академического сообщества
имел возможность реализовать свое право и свою потребность прямого доступа
к этому интернациональному потоку. Во-вторых, компенсировать отсутствие у
современного носителя Ту-моноглотта способности самостоятельно следить за
интернациональным потоком научной литературы пытаются структурами
организационного коллективизма, когда крупным национальным исследователям
подключают группу исследователей меньшего ранга, имеющую в своем составе «научных
сотрудников», владеющих порознь четырьмя «великими языками» науки —
научно-исследовательские институты национальных академий наук.
Нужно прямо сказать, что обе эти линии компенсации повальной моноглот-
тической немощи национальных научно-академических сообществ не только
малоэффективны, но во многом и опасны, чреваты недоразумениями, ложными
интерпретациями, ошибками, заблуждениями. Если говорить о первой, о пышной
флоре институтов и служб научной информации, бюро и групп перевода и
реферирования, то сразу же по зарождении эта линия зарастает сорняками редакци-
онно-издательской природы, достаточно здесь посмотреть на историю нашего
ВИНИТИ, который, возникнув в 1952 г. за 35 лет прошел с помощью своего ре-
дакционно-издательского отдела, всегда боровшегося за качество информации в
ущерб ее оперативности, прошел путь деградации от двухнедельного отставания
от интернационального потока научной литературы в 1952—1955 гг. до
двухлетнего с лишним отставания сегодня, так что использующий сегодня материалы
ВИНИТИ повышенного качества член нашего научно-академического
сообщества практически узнает что-либо о текущей конфигурации переднего края на
своем участке исследований с лагом-задержкой в 2—2,5 года, то есть ведет
исследования в общем-то закрыв глаза, в непроглядном тумане, лишь по слухам и
догадкам ориентируясь в том, что уже сделано в науке и откуда ему следует
начинать прилагать собственные исследовательские усилия. Во второй линии
компенсации — в научно-исследовательских институтах — неформальные группы
перевода и реферирования, свободные от пут редакционно-издательских отделов,
работают много оперативнее, зато здесь пышного расцвета достигает
непозволительная расточительность исследовательского таланта, связанная с вынужденным
ради доступа к интернациональному потоку, компенсирующим превращением
одного исследователя в требующий управления и координации действий
организованный коллектив, выполняющий сообща лишь то, что в Ти культуре выполнял
самостоятельно один нормальный классически образованный индивид — член
национального научно-академического сообщества, действовавший по нормам те-
28*
436
M. К. Петров
заурусного коллективизма и имевший прямой доступ к интернациональному
потоку научной литературы.
Основная идея нашего организационного коллективизма взята из
приложения, где эмпирически более или менее доказано на представительных выборках,
что время на решение определенной проблемы обратно пропорционально числу
вовлеченных в ее решение участников и сокращается пропорционально
квадратному корню из числа участников, а качество решения проблемы растет
пропорционально кубическому корню из числа участников. Близкую зависимость для
науки в целом можно, как показал Д.Прайс и теоретически вывести из закона
Ципфа [188].
Для обеих линий компенсации моноглоттизма носителей Ту неустранимыми
оказываются искажающие оригинальный текст эффекты реинтерпретации —
неизбежные спутники любого перевода и реферирования прежде всего потому, что
переводчики и референты могут ориентироваться по ходу своей деятельности
только на собственное понимание, на собственные установки и предпочтения в
уничтожении постоянно возникающей по поводу каждого предложения
оригинального текста факториальной неопределенности выбора подходящего к случаю
инварианта. В переводе с английского на русский, скажем, предложения: The
evening mist has fallen onto the blue sea, где 5 знаменательных слов в голове
переводчика окажется факториальное множество (5!) из 120 вариантов перевода этого
предложения на русский язык, и вовсе не всегда он отдаст предпочтение
пушкинской строке: «На море синее вечерний пал туман», и не только потому, что
во многих контекстах (в прогнозе погоды, например) она окажется явно
неуместной, но и по сотне других соображений. И в эти другие соображения определенно
не входят установки, интересы, предпочтения потенциального потребителя
перевода или реферата, о которых переводчику или референту просто не дано знать:
чужая душа — потемки. По собственному многолетнему опыту переводчика и
референта мы можем с полной определенностью утверждать, что если переводчик
или референт сам ведет научные исследования, то все его переводы или рефераты
будут «в пределах допусков» работать на его исследования и игнорировать
исследования потенциальных читателей, о которых он в принципе ничего не может
знать. И так происходило, происходит и будет происходить всегда, поскольку ре-
интерпретация оригинального текста — неустранимый момент в работе любого
переводчика или референта, и именно отсутствие этого момента у ЭВМ не дает
до сих пор осуществить идею машинного перевода: невозможно переводить или
реферировать оригинальные тексты, не укладывая их в прокрустово ложе
собственного концептуализированного понимания, а машинный перевод — это по
определению перевод без понимания, и вряд ли стоит возлагать на него, как это
делают некоторые отчаянные кибернетики [26] надежды, что именно машинному
переводу предстоит решить проблему прямого доступа к интернациональному
потоку научной литературы в условиях прогрессирующего моноглоттизма
национальных научно-академических сообществ. Много проще и надежнее, на наш
взгляд, проблему может решить возвращение на школьный переход Тп-Ту
опрометчиво изгнанных учебников лингвистического цикла. Но это мы уже забегаем
в будущее, в следующую часть нашей работы.
Завершая описание Т-континуума развитой страны со вписанной в него
системой образования, нам следует на будущее отметить, что пока перед нами лишь
черновой набросок, основная цель которого собрать намеченные во второй части
проблемы на связывающую их все фоновую умозрительную конструкцию
предельно абстрагированную и потому способную, коль скоро ее ядро — система
образования — не связано жестко с календарным временем, самодоступным для
наблюдения способом сдвигается на год назад 1 сентября каждого календарного
года, делегировать и в прошлое и в будущее проблематику, в самом первом
приближении раскрытую в данном, заключающем вторую часть разделе.
Часть III
СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
T-KOHTHHWMOB
РАЗВИТЫХ ОБШЕСТВ
В этой заключительной части работы нам предстоит, вооружившись общим
представлением о национальном Т-континуумеразвитой страны и о некоторых
его болезнях, проделать, положившись на слабую_связь_ системы образования с
календарным временем и на то, что система образования в своем национальном
Т-континууме образует очаг опредол№ности,^ро^)по связи с которым обретает
определенность и все остальное ТТ^континууме, ряд путешествий в прошлое, в
историю наметившихся сегодня тенденций, с тем чтобы экстраполируя их на
будущее, выявить области опасных пересечений этих тенденций и разобраться, что
можно сделать сегодня, чтобы избежать малых и крупных неприятностей в
будущем. В этом смысле эта часть работы будет носить П2рп^рщичес1дшхарактер, в
том широком понимании прогноза, который начинает завоевывать репутацию-в.
0&щ&йл:еории систем.
Как и прежде, в центре нашего внимания будут оставаться знаковые реалии
и их тезаурусно-динамические характеристики, которыми мы занимались во
введении, в первой и во второй частях нашей работы, но теперь все они будут прямо
или косвенно ориентированы на структуру Т^континуума и вписанной в негр
системы р^ряяпняния, то есть теперь мы будем сознательно строить предмет нашего
исследования по господствующей сегодня в науке модели опредмечивания
естественных феноменов Лайеля-Дарвина, которая в соответствии с принципами ак-
туализма и униформизма требует наблюдаемым g «здесь и сейчас» исследования
явлениям указывать также наблвдаемые в «здесь и сейчас» причины. Наша
модификация этой модели будет состоять лишь в том, что та подвижность системы
образования в календарном времени, которую она демонстрирует ежегодно 1
сентября каждого календарного года, позволяет нам стратифицировать календарное
Время И СМеЦЩТЬ «япе.гь и г.рйчяг» няшет игрпргтпдяниа ня Tnnfiym ртруби^у F Гф_рг
шлое и будущее.
Понятно, что коль скоро все в наших путешествиях в прошлое и будущее
будет держаться теперь на встроенной в Т-континуум системе образования, нам
прежде всего следует установить историческую глубину, на которой можно
наблюдать феномен системы образования хотя бы в зародышевом или
эмбриональном виде.
Глава 1. Некоторые сведения из истории
системы образования
Если не покидать рамок европейской культурной традиции, то начало
системы образования следует отнести к «1рамматическим школам» древних Афин, где
с 7 до Т2 лет мальчикт* учили чтению, письму и '"счетуГ'и к^«грамматическим
школам» ^има_, куда поступали после элементарной школы римские мальчики и
где их обучали латинской грамматике, римской литературе и греческому языку.
Детали нас пока могут не интересовать, хотя вот Т.Моммзен пишет, что в Риме
времен Цезаря в школах преподавали уже курс наук по программам тривия и
квадривия — «семи свободных искусств» [181, с. 479—?fc2J* От этого светского
начала система образования с VII в. "нашей эры надолго переходит без серьезных
изменений под эгиду Римской католической церкви и очередной светский им-
пульс к развитию и переменам получает только в XII—XIII вв., когда
абсолютистские монархии Европы совместно с Римской католической церковью учреждают
440
М.К. Петров
сначала Парижский и Болонский университеты, а затем по их образцу и
университеты в других странах католической Европы. С этого момента история системы
образования хорошо документирована, поскольку все университеты бережно
хранят В СВОИХ архивах матрикуряпипнит^мпиги^ книги приvnrinß и расходов, све-
дения о карьерах выпускников, и т.п. [184, с. 121].
Все университеты использовали единый академический язык — латынь. Все
имели елины0 нафор факультетов: обязательный пр^г^товитошша, на котором
изучали «семь свободных искусств» — тривий (грамматика, диалектика, риторика)
и квадривий (арифметика, музыка, геометрия, астрономия), и три
специализирующих: богословский^ к)£вдический и медицински^ До широкого
распространения книгопечатания (конец äv в.) университеты, как уже говорилось,
различались в основном ^составом_библиотек. Различия библиотек и преподавателей,
единство языка — латыни, общность обязательной подготовки Ти поддерживали
межуниверситетскую миграцию на всех уровнях, что с полным правом может
быть принято за начало__гл6оального феномена общенаучной коммуникации. По
всей католической квропе бродили бакалавры, студенты, лиценциаты, магистры,
находя приют и понимание в любом университете. Они обеспечивали
сравнительно быстрое распространение сведение, û^jiqbhx „paSûigjt, выявляли авторитеты
(«кто есть кто»""в теологии, праве, медицине), то есть несли примерно тот же
набор функций, что и современная публикация.
Сановными покровителями университетов были церковь и корона. Борьба
между ними за влияние" позволяла университетам быстро накапливать богатства
и привилегии. Практически во всех странах Европы университетской
администрации, например, предоставлялось право контролировать большинство
юридических и финансовых ситуаций, в которые могли попасть студенты или выпускники,
получившие ученую степень. Особые права получали не только сами члены
университета, но и их домочодщ^ слугиа а также нанятые университетом люди.
Студентов и «коллег»-наставников освобождали от повинностей и налогов. Не
отставало в предоставлении привилегий и папство, так что и короной и церковью
было дано достаточно гарантий и специальных правил, чтобы рыделить
«схоластов» в привилегированную элиту и без того уже защищенного особыми правами
духовенства [184, с. 12ТП
Независимо от реального соотношения сил между церковью и короной, все
европейские университеты несли единую социальную функцию: воспроизводство
интеллектуалъньгх^гуходных и светских (государственны^ чиновники, юристы,
медики) кадров^ причем особое внимание, понятно, уделялось кадрам духовным,
тогда как светские карьеры оценивали^ нн^ Социальный статус «схоласта»,
«коллеги» (члена колледжа), несмотря на ряд связанных с его профессией
ограничений, воспринимался современниками как высший из возможных статусов
для «лишних людей» Европы (младших сыновей, незаконнорожденных и т.п.).
Ö «лишних людях» — побочных и младших сыновьях и о целибате — обете
^безбдачия ^духовенства и академиков — историки образования вспоминают
главным образом по" связи с анализом состава студенческого контингента,
доступности университетского образования и, соответственно, карьер выпускников. При
этом подчеркивается обычно «демократический» характер университетов. В
Оксфорде 1580_г., например, 60% сг^ентов^^ставляли\"<шаеб^»П[общая матрикуля-
ционная графа для незаконнорожденных и лиц «низкого» происхождения), а 40%
шшхоцилось на элитные .графы «эсквайр», «джентльмен» (младшие сыновья
состоятельных и привилегированных" семей, включая и знать). В английских
университетах после ликвидации целибата во времена Елизаветы (конец XVI в.) в
матрикулах появляется графа «духове~нсТво».~ По этой категории в Оксфорде
1600 г. числилось 5%^CT^eHÎQ4?) в'Ш7г. — Л5% в 1661 г. — 21%. в 1810 г. —
299ft: далее доля этой группы сохранялась примерно на уровне, 30ft? С точки
зрения карьер выпускников эта группа наиболее однородна: 40—50% бакалавров из
История европейской культурной традиции и ее проблемы 441
семей духовенства выбирали духовную карьеру, около 30% — академическую,
оседая в колледжах Оксфорда [168, с. 39]. ~~
В целом же распределение выпускников университетов выглядело несколько
иначе. К примеру, накануне и^нхеллектуальнойреволюции XVII^b. Кембридж в
1630-е гг. ежегодно выпускал около 1200 бакалавровГТ^Г нюГпрймерно 35% шли
в духовенство, 15% становились судьями и врачами, 48% выбирали свободные
Лщофе_£Сщь Так, из 200 поэтов Англии на периоде 1525—1625 гг. 76% были
выпускниками университетских колледжей [184, с. 122].
В университетах: «Долгое время после реформации Оксфорд и Кембридж
оставались церковными институтами. Они требовали от всех своих членов
соблюдения установленных церковью правил и готовили многих из них к духовной
карьере... Бросающимся в глаза и самоочевидным свидетельством этой
преемственности церковной функции был, конечно, целибат, обет безбрачия, налагаемый на
членов колледжа, которые до XIX в. были обязаны подчиняться этому обету до
тех пор, пока состояли в колледже» [168, с. 152].
Вообще-то говоря, академический целибат во многих странах продержался
значительно дольше церковного, В_Англии, например, он был упразднен только,
парламентским актом 1854 г, но и после этого к академическому браку долгое время
относились отрицательно. Еще в 20-х гг. нашего столетия мастер (глава) одного
из колледжей Оксфорда, хотя он и не мог запретить коллеге жениться, выразил
свое неудовольствие тем, что несколько лет не разговаривал с ним [168, с. 349].
С точки зрения модели опредмечивания Лайеля-Дарвина целибат должен бы
квалифицироваться как «вьшщэаюцщя прдчина», и видимо поэтому целибат
рассматривается историками образования как странность, не несущая
функциональной нагрузки, хотя объяснить
черты современного образования, да и сам факт появления университетов без це-
либатаПоыло бы невозможно. Положенный" в основу европейских систем
образования гщинцип формального, основанного на текстах^чебниках группового
внесметного унифицирующего пКря^рщцшя ~ £яуим мы "его видим "сегодня на
школьном переходе Тп-Ту, был изобретен, внедрен и обкатан церковью. Связь
этого принципа с целибатом несомненна. Отсутствие ^емьи^ — традиционного
воспитательного института, в котором младшие в длительном неформальном
контакте со старшими перенимают n£OjJ)ejçxHj№aj^ превращала
церковь в типичный институт социализации «лишних людей». В то же время
принцип первородства, по которому права, обязанности, титулы, привилегии,
профессии отцов наследовали только старшие сыновья, способствовал
воспроизводству «лишних людей», с избытком обеспечивая кадрами не только церковь, но
и множество других институтов — армию, флот и т.д.
Целибат не давал церкви превратиться в замкнутую наследственную касту,
где, скажем, как у брахманов в Индии [5], вообще не ощущалось бы нужды в
формальных методах обучения. Кадровая всеядность церкви, необходимость^
каждом новом поколении начинатьсдзов,^ос160бния лаТБПТй и эллинской
мудрости тривия и квадривия, вынуждали церковь вырабатывать и набор средств
ФР^зльнрхо, об]£ч^ния_, формализовать тезаурусную динамику академического
движения'в Т-континууме. В_этом смысле университет стал прямым наследником
монастырской шкоды. Да и первичная подготовка будущих студентов частоТгеЛась'
цабазе прихода, а не универсиггета, хотя формальных требований к поступающим
(типа вступительных экзаменов) средневековые университеты не предъявляли.
Игнорирование проблемы целибата, его роли в становлении формальных методов
обучения представляется серьезным недостатком исследований по истории
университета. Акцент на кадровой стороне дела понятен: для социологов, науковедов,
ИСТОРИКОВ науки, ИССЛедуЮЩЙХ СОВреМ^ШЙ унивррг.итр.т, ^пгтурнпг/гь,
открытость, состав^туденнеского^контидтеща В — острые проблемы, тогда как
формальные методы обучения, используемые преподавателями А воспринимаются
сегодня как данность, как нечто само собой разумеющееся. Но если мы хотим по-
442
M.К. Петров
нять природу академической дисциплины, впервые институционально
воплотившейся в средневековом университете, то проблема разработки и освоения
формальных методов обучения, средств академического движения в Т-континууме,
передачи знания от поколения к поколению приобретает первостепенное
значение [184, с. 122-123].
В прямой связи с целибатом выступает и проблемга_патронажа. Целибат
обеспечивал отсутствие законных наследников у духовенства и членов академического
сообщества и, следовательно, предотвращал растекание Ц£Ш£Ш0тъи_униъс2^-
тетского имущества по мирским каналам наследовадид. Тем самым он позволял
церкви и университетам "на^саплйвать огрШные богатства, часть которых шла на
патронаж — форму финансирования учебной деятельности.
Богатства накапливались действительно солидные. Так, в 1876 г. когда в
английском парламенте бурно обсуждалось участие государства в финансировании
науки и подготовке научных кадров, в частности создание фонда хос^а^ютв^нной
домрщи исследователям в размере 4000 фунтов стерлингов в год, секретарь
казначейства Р.Линджен, противник государственного участи д дедяу няутги, не без
ехидства писал: «Не могу понять, в чем еще могли бы состоять обязательства
правительства, когда и так уже Королевские комиссии заседают в двух
университетах, располагающих ежегодным доходом более 700000 фунтов стерлингов» [158,
с. 141]. Действительно, 4000 на фоне 700000 выглядели не очень-то внушительно.
Острый интерес современных исследователей к финансированик^гауки и к
подготовке научных кадров проецируется при изучении истории университета на
прошлое, придавая тштронажу ^fp^bL^HfiiP"*^^ фииаиг}ирпвянЧР,
напоминающего финансирование-инвестирование фундаментальных исследований; Но ака-
демическии""патронаж как система четксГ оговоренныЗГотношений между
патроном и клиентом и устойчивых взаимных обязательств сторон был лишь частью
сложной социальной системы средневекового общества, построенного на
принципе наследования. Правда, частью весьма специфичной, поскольку
составляющим кадровую базу университета «лишним людям» нечего было наследовать, а
живущим по норме целибата священникам и схоластам некому было передавать
благоприобретаемые права, обязанности, статусы. Академическое, частое время
заявляло о себе уже в те времена: титул герцога, баронета можно было получить
по наследству, звание бакалавра, магистра, доктора — нет, что нередко создавало
для средневековых представлений о финансировании тупиковые ситуации.
Да и в наше время дело обстоит не лучше. Пытаясь, например, под давлением
конгрессменов, уточнить понятие «фундаментальное исследование» для
обоснования соответствующей статьи расходов, министерство обороны США создало
специальный комитет, который единодушно пришел к официальному выводу:
«фундаментальное исследование: а) не соотнесено с каким-либо конечным
результатом; б) и^цет_знания, .которого нет^в) решительно для всех бесполезно; г)
предпринимается только потому, что этого желает исследователь; д) не несет
ограничений секретности; е) ведется исследователем, который не в состоянии
объяснить, чем именно он занят; ж) всегда ново, и ведется, как правило, в области, не
имеющей практического значения» ~П47, с. 190].
Поначалу структура патронажа: основными патронами выступали корона и
церковь, хотя и здесь наблюдалось разделение сфер влияния. В Испании,
например, к середине XV в. функционировали шесть университетов. Старейшие — Са-
ламанка и Вальядолид — были под прямым контролем католической церкви,
Гранада и университет Филиппа II — под контролем королевской власти. Наиболее
молодые университеты — Осуна в Андалузии и Гандия в Валенсии — были
учреждены и финансировались j^cjxaHCKOH знатыа
В Англии первоначальная одаородаость "патронажа была нарушена уже к XV в.
«Кризис патронажа коренился в демографических факторах, войне, национализме,
религиозных распрях, а особенно в обостряющемся конфликте между
различными группами патронов. Оксфорд и Кембридж ответили на него академическим
История европейской культурной традиции и ее проблемы 443
нововведением. Рядом с более древними холлами стали появляться колледжа!, к
которым постепенно смещался фокус~1Щминистративной, бытовой, учебной жизни
университетов... Колледж оказался весьма гибким средством разрешения кризиса,
которое отражало ценности, установки и реалии английского общества позднего
средневековья... Роль патронажа была определенно решающей, и соображения
патронажа серьезно влияли на все академические изменения» [168, с. 113].
Всеядность и гибкость в освоении источников; финансирования была
отличительной чертой университетских колледжеиТТВ результате акцент смещался с
личности патрона на форму патронажа и конечный результат (привилегия,
исключительное право, владение, бенефиций, дар и т.п.) бесконечно расширялся,
перехоЦерковь пыталась
оградить свои исключительные права, но без заметного успеха.
В Англии патрон, которым мог быть мирянин, епископ, король, монастырь,
колледж, как и любой другой индивид или институт, получал свой титул патрона
по светскому праву. Он мог продать, уступить, завещать свое право исполнять
данную должность на службе или в церкви, поскольку JlJЩ)кoвный_пaтpoнaж
покупался^ продавался и зщдищался законом, как любое другое законное право
собственности [\М, с. 124].
Перевод академического патронажа в сферу гражданского права
рассматривается многими авторами как условие <<с^куляризации>^\^иве£С2ггетов как по
направленности академичргкпй подготодки, так и по составу студенческого
контингента. В уставах колледжей появляются ограничения контингента студентов .и
оощщ» (членов колледжей! образующих элиту университетского самоуправления)
по религиозным и демографическим признакам. Благодаря возникновению
колледжей изменился состав студенческого контингента. В частности, появились
группы студентов^ j« .состоятельных ^Шр£в^аселен#я, внесших в XVIII в.
значительные изменения в "стиль студенческой жизни. Среди этих студенческих групп
усердие в науках считалось дурным тоном. Посещения клубов, кофеен, охота,
jcjiopT воспринимались как единственно достойное занятТПГдля" студентаГЛишь
введение в XIX в. конкурсных экзаменов, с предоставлением победителям
различных наград и привилегий послужило стимулом к формированию академических
добродетелей у этого обеспеченного слоя студенчества. В целом все изменения в
стиле студенческой жизни способствовали постепенному освобождению
университета от монастырского уклада жизни.
В начале XV в. папы фактически прекращают патронаж, и в оксфордских
колледжах вводятся наряду с тривием и квадривием курс греческого языка,
гуманитарные дисциплины, а затем и гражданское право. В этих колледжах,
возникавших^ XVI в.Т^ытаются иногда увидеть некий_.«вход» в науку, путь к
современному университету. В связи с этим особое внимание уделяют колледжу Троицы,
основатель которого Томас Поуп почти за сто лет до научной рё!юлюции лVII вТ
включил в преамбулу устава колледжа формулу, весьма похожую на формулу
Хартии Лондонского Королевского Общества 1662 г. [184, с. 124].
Нам такое утверждение представляется сомнительным. В контексте
революционных событий XVII в., В1результате которых опытная наука.получила первичное
институциональное оформление, университеты вообще, а английские
университетов особенности осознавались как самоочевидный и с^ьньшлгрртидник-МОг
лодых институтов опытной науки, как рассадники зловредной «языческой
схоластики». Возникающая наука заимствовала выработанные университетом механиз-
.мы^сцйплинарной , но не их содержание. Даже латынь ^ьша
заподозрена в язычестве и наука почти сразу в своем общении перешла народной
JL3JWK. Долгое время, до начала XDC в., наука и не делала попыток" прорваться[ в
университетские структуры,, предпочитала отсиживаться всвоих особых
институтах — королевских обществах, национальных академиях наук. Так, в 1870 г. в
Оксфорде" и ТСёмбридже~ из Т7б членов колледжей, "составляющих элиту
преподавательского состава, 212 были специалистами по классической филологии, 130 по
444
M.К. Петров
математике, 27 по истории и праву, и лишь 7 — по естественным дисциплинам
[184, с. 125].
Возникает естественный вопрос: что же мешало естествознанию утвердиться
в университетах, воспользоваться я^яяему^еск^м^^^яцймц-^рр.хппямц пппгп-
швки кадров? Ответ будет прост: все Ä университетских переходов были заняты
^ключевой в университетской структуре фигурой тьютора-наставника,
неформальным способом передающего свои знания одному или нескольким ученикам-сту-
^дентам. В современном университете ключевое положение занимает кафедра.
функционирующая в условиях строгой регламентации количества академических
/.часов, отведённых^на каждый курс учебным планом," их распределения по
семестрам и т.п. Соответственно, основными образовательными процедурами, как мы
уже говорили, лекциями подкрепляющее лекцию семинарское зандтид. а основной
фигурой А — профессор, совмещающий преподавание" с научными исследования-
,ми как и все члены национального научно-академического сообщества,
выступающие в своих признанных ролях исследователя, преподавателя, администратора
и привратника [140, с. 520].
Объединение ролей, прр.ппттядятспя и цг.г.ттргггтятр,ля было результатом реформ,
проведенных в Германии в начале XIX в. и преследовавших главным образом
экономические цели. Т^ли"1ГАнглии научные исследования могли быть делом
состоятельных одиночек, то в Германии практически не было сколько-нибудь
значительных социальных групп, склонных тратить время и деньги на исследования.
Поэтому немелкле исследсшателдо^тро нуждались _в_до_стрящшм доходен в при-
вилегиях^которыми пользовались члены университетов. В результате в Германии
была разработана довольно г.пп^яя''гй<^мя_^яуядрми1ТР(?упй свободы».
Университеты были секуляризированы!! объявленьГ чисто научными учреждешщмИд где
преподавание и научные исследования не контролировались извне. Институты
академической свободы включали угт^рят"™"™ ГЯМг>уттряВГТе^ир|
предоставление должностей на длительный период, свободу преподавания и даже £дрбоду
студентов переходить с факультета на факультет [184, с. 125].
"Результат этого нововведения, в котором ]5|шающую роль сыграли философы
(Фихте, Шеллинг, Гегель) и лингвисты (В.Гумбольдт), вряд ли был предусмотрен
еготтицйаторами: «профессорская» модель действительно стала глобальным
радикальным решением экономических проблем естественнонаучных исследований.
Со временем «немецкая модель» распространилась по всему миру, хотя и
встретила серьезное^сопроiивление. * Особенно упорно, практически до начала XX в.
держались за систему тьюторства английские университеты. В штате последних,
правда, существовали и профессорские должности. Однако функции английских
профессоров существенно отличались от предполагаемых «немецкой моделью». В
обязанности профессора в английском университете входило лишь чтение не-
_многочисленшдх^д£КЦий для студентов, а основной груз учебной работы лежал на
плечах тьютора, воспитателя небольшой группы студентов, передававшего им
свои знания^ ходе дщцюгр. общения. Этот личностный характер обучения и был
серьезным препятствием введению «немецкой модели», ориентированной на
формальное преподавание специализированных дисциплин В группам студентов.
К середине XIX в. тьюторы Оксфорда даже объединились в особую
ассоциацию для борьбы с попытками Королевских комиссий реформировать университет
по немецкому образцу. В одном из докладов совета ректоров Оксфорда
говорилось: «Предлагаемая Комиссией система, которая предусматривает значительный
состав^хорошо обеспеченных профессоров, лекторов разных специальностей и
множество cry^1^B2jHe\Hj^ejp есть как раз то, чего наш Уни-
верситет никогда не "знал и, да позволено нам будет надеяться, никогда не узнает.
Ибо, какими бы возвышенными ни представлялись результаты размышлений
членов Комиссии, они, как мы опасаемся, будут подменять образование
информацией, а религию — псевдоученостью» [168, с. 342]. Перипетии борьбы за власть
в академической структуре между тьютором и лектором, между колледжем и ка-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 445
федрой рассматриваются историками образования и науки в контексте
противопоставления лJoбитeльcтвâJШOitз£aaшнaл.измy> объединений любителей в научные
общества — дисциплинарному сообществу. Этот подход вполне оправдан тем
значением, которое приобретает сегодня проблема научного профессионализма в ее
этических, мировоззренческих и социальных аспектах. Но он^ОтТподб* Не~
исчерпывает характеристику роли университетов в развитии науки и системы
образования, так как не отражает сложную обратную связь между терминалами
переднего края исследований и подготовкой научных кадров.
Действительно, в XIX в. ^ггрофессорс.кда.^одель>> воспринималась прежде
всего, как .способ мо^лизаиии научного потенциала ГЛТШ1?Ь вовлечения в науку
тех, кто хотел и был способен "вести научные исследования, но не мог себе этого
позволить по экономическим соображениям, то есть как фактор утверждения
профессионализма в науке. Соответственно, ыа^первое место вфшвигаласЬ-Jflaje.-.
риал_ьная_обеспеченность профессора, как условие разрешения экономической
проблемы научных исследований: за преподавание платят, а плата эта дает
возможность вести исследования. Сами по себе проблемы подготовки научных
кадров при таком подходе оставались в тени.
Однако, как только преподавание оказалось жестко связанным с передним
краем научных исследований, сразу же четко и резко выявились проблемы,
которые возникают цз-за прилцяпдальш^.о1раниче^ и
ментальных возможностей студента...или аспиранта усваивать информацию. Естественно,
эти ограничения присутствовали и в отношении тьютор-ученик? наставнику
постоянно приходилось учитывать текущее значение тезауруса ученика, что знает и
чего не знает его ученик, что именно и как можно ему объяснить на каждом
этапе обучения. Но эти ограничения носили неявный характеру тьюторы
обходились без учебных планов, курсов лекций, расписаний. В отличие от тьютора
лектору приходилось выводить студентов н^ передний край исследований.в условиях
жестких Формальных ограничений и рег^аментации_в£е^мени, объемами"состава/
пдслмрватель^юсти излагаемого материала. Эта тезаурусно-дйгаШич^ская сторона
дела практически не затрагивается "историками образования и науки, хотя именно
она, по нашему мнению, способна многое объяснить в истории взаимодействия
науки и системы образования [184, с. 126].
Мы, таким образом, выявили общую нить преемственности существования
системы образования в европейской культурной традиции от «грамматических
школ» Афин и Рима до европейских университетов XIX в., а теперь нам
предстоит заняться многотрудным делом развязывания «анализа» узлов на этой нити,
что помогло бы нам в соответствии jç_jT2HHU^nqM. униформизма, как он
сформулирован Лайелем: «Если униформизм план,а принят на правах посылки, то за
событиями, которые произошли в самые отдаленные периоды в одушевленном и
неодушевленном мире, должно быть признано право проливать свет на любое
другое событие и восполнять неполноту нашей информации относительно
некоторых наиболее темных частей современного творения» [131, с. 9], разобраться в
болячках современных Т-континуумов развитых стран. И среди таких узлов
особый для нас интерес представляет подготовка интеллектуальной или научной
революции XVII в. и ее развертывание.
Интеллектуальная революция XVII в. (подходы)
Об интеллектуальной революции XVII в. нам уже приходилось писать раньше
(183; 52], но по-иному поводу и в существенно ином контексте, к тому же и
эпицентр самой дискуссии о «начале» науки испытал за последнее десятилетие
значительные сдвиги, так что теперь нам предстоит пройти несколько иным путем,
обращая основное внимание на тезаурусно-динамические характеристики эпохи,
предшествующей событиям XVII в. и на то так же, как теологи этого времени
446
М.К. Петров
старались с опорой на его творение улодобить бога -творца г.ппр.Ц сфгтпаннпц цн-
т?ппрк^гуятткнп^ д^.ртртткнортм трм же самым способом, каким профессионалы
традиционной культуры уподобляли своих богов-покровителей собственной
специализированной терминальной деятельности. В этом нашем заходе на начало науки
основным источником То-х нашего обсуждения проблемы будет работа Е.М.Кла-
арена 1977 г. «Религиозные истоки современной науки» [129], на которую мы уже
ссылались и которая хорошо стыкуется с основным материалом 2 части,
поскольку в ней делается попытка выявить дисциплинарно-теологическую сторону
становления условий осуществимости революции интеллектуалов XVII в. &
конкретные механизмы теологической санкции «естественной, Философии», опытного по-
рнанйя природы как вполне совместимого с христианской догматикой занятия
|христиан^нтеллект^алов. «Основная задача этой работы, — пишет Клаарен, —
показать, что религия была подходом к пришествию современной науки и
особенно то, что вера в божественное творение была главной предпосылкой
возникновения опытной науки в Англии XVII в.» [129, с. 1].
На подходах к основной теме Клаарен высказывает полезные для нас общие
методологические соображения и дает детальный критический анализ
соответствующих гипотез Р.Мертона [198] и Р.Коллингвуда [ 104; 105]. В общем плане
проблема должна, по мнению Клаарена, рассматри1тться1в широком
историко-культурном контексте: «Истинно адекватное объяснение возникновения современной
опытной науки потребовало бы полного историко-философского анализа раннего
а периода западной культуры Нового времени в отношении к предшествующей и
последующей эпохам. Такое объяснение должно бы включать также широкий
спектр сравнений между западной и H^ana^HogjKynbTypoH. В него входили бы
не только история науки самой по себе, но также истории философии,
технологии, религии, политики, экономики и т.п. Потребовалась бы не только
интеграция этих дисциплин, но и анализ возможностей их синтеза. Более того, одних
* историй, какими бы состоятельными они ни были, оказалось бы недостаточно.
Чтобы продвигаться в этой огромной задаче, потребовалось бы нечто вроде_ис_:
, торически-обоснованной философии культуры, опирающейся на тщательно
отработаннуюГ методологию» [129, с. 1].
Отмечая отсутствие объяснений такого прицела, хотя историей науки и
философии начального периода Нового времени старательно и с растущей энергией
занимаются вот уже два столетия, Клаарен связывает это отсутствие
впечатляющих результатов не столько с недостатком предпринимаемых усилий, сколько со
i слабым еще осознанием того факта, что начальный период Нового времени и со-
[ временность принадлежат к разным, хотя и преемственно связанным типам ду-
Гховной культуры, которые говорят на разных концептуально-понятийных языках
Г и используют разные модели доказательной аргументации. Те проблемы, которы-
• ми горячо интересовались интеллектуалы XVI—XVII вв. и без анализа которых
невозможно, по мнению Клаарена, сколько-нибудь адекватное понимание
состава и последовательности событий, приведших к появлению опытной науки,
представляются и самим исследователям и особенно их предполагаемой аудитории
коллег или читателей, а объяснять каждому исследователю приходится на языке
аудитории, ^проблемами, так сказать, «вымерщими» в том смысле, в каком Лай-
ель, к примеру, требовал рфьяснения наблюдаемых явлений наблюдаемыми же
_ причинами л и отсекал как ненаучные попытки опереться в объяснениях* на при-
чины, которые не наблюдаются, которые может быть и были когда-то, но
исчезли, «вымерли», перестали действовать.
В этом срыве тезаурусных условий ^зжмопшимания между XVII в. и
современностью," ^изменении тезаурусной ситуации интелл£1оуал1^0Ш-0^денияи
которая была одной у интеллектуалов XVII в. — воспитанников тогдашних
университетов — и стада совсем иной у современных ученых, прошедших через
школьный переход Тп-Ту и университетский специализирующий постшкольный переход
Ту-Тд-Тг в науку, Клаарен видит основной и труднопроходимый очаг методоло-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 447
гических трудностей подхода к пониманию генезиса науки: постоянно приходится
ощщровать„«вымершими» реалиями — „мотивами, установками, моделями: дока^
шельной аргумрнтаиил. которые нашим современникам представляются скорее
экзотикой, чем действительным составом объяснения.
Именно в этом ^заурусном^^общении и оказываются сегодня, по Клаарену,
бывшие члены интеллектуального единства: теология как концептуально офор-
_мленная религия и наука, как теоретически ^)фор^енное познание:" «Если наука
Тачала Нового ^времени предполагала теологически формализованную религию и,
соответственно, религиозные события того,времени, определялись теоретически
кормленной наукод^то наше время оказалось свидетелем ште^ненид.как рели*
Хии^так и науки^г^нол^ией, «Теперь» требует критического понимания в его
преемственности ТГ разрывах ^«новым» прошлым, поскольку «теперь» сегодня
образует радикально новое культурное единство. Теологию в наше время ^уже вряд
ли можно считать движителем религии и того менее другихсфер культурыГ
Сегодня отношение науки к технологическому обществу может оказаться столь же
острой проблемой, как и отношение религиозных течений, задействованных в
идеологическом конфликте в ущерб теологическому критическому рассмотрению»
[129, с. 3].
Вместе с тем пробивает все же дорогу «осведомленность о том, что
зависимость науки раннего периода Нового времени от теологических посылок требует
осознания культуры XVI—XVII вв.^как единого целого» [129, с. 3]. Начиная с Ве-
бера этот процесс обретает все более интенсивные формы, хотя далеко не все
методологические трудности оказываются устраненными. И едва ли не основная из
этих трудностей состоит, по мнению Клаарена, в том, что к проблеме
возникновения науки применяют хорошо освоенную современной наукой технику постам
ловки проблем, по нормам которой вовлечение истории в проблему идет по ми-
нимущ, обеспечивающему решение проблемы, то есть щюшлое,/история берется
не как целостность, события которой упорядочены независимым от проблем
будущего способом, а_как дяссоциировдяпыр1Г^Жор^^тиУ^) любое из которых по
выбору исследователя может независимо от* связей с другими событиями
вовлекаться в объяснение или исключаться из него. Поскольку идентификаторы, по
которым опознают феномен генезиса науки, формулирует современность, а наука
в современном Ту-типе культуры интегрирована в единство с обществом через
технологии?, растеряла связи с теологией, такой выход от современности через ею
же сформулированные идентификаторы генезиса науки в поиск объясняющих
событий игнорирует связи ,науки с теологией, разрушая тем самым
интеллектуальные связи интеграции того типа культуры, который был характерен для XVI—
XVII вв.
Под этим углом зрения Клаарен критически анализирует методологическую
сторону гипотезы_\1ертона о связи генезиса науки с этико-практическими устаг_
новками пуританизмаГИспользуя на правах идентификаторов эксперимент и дис-
Зъ как форму социальной организации интеллектуальной"- деятель-"
ности, Мертон, по Клаарену, строит гипотезу на^ наличии религиозной санкции
того и другого в образе жизни пуритан: «Мертон определяет религиозный "фактор,
оказавший влияние на развитие новых наук, как «п^ит^ски^тнос^ и,
идентифицируя важные науки в растущей институализйии и профессионализации
естественнонаучных дисциплин XVII в. (физика, механика, химия), показывает
средствами статистики, что зш^ггельное!.. число, лиц в этих hobj^областях, (как
и среди членов королевского общества) составляли пуритане^ тогда как в
населении Англии они были меньшинством» [129, с. 7—8].
Пытаясь выделить специфические составляющие пуританского образа жизни,
Мертон [198] обращает внимание на.аскетизм, противопоставляет «иммааеншую^
мистику»,, характеризующую пуританский эт/юс, «трансцендентальной мистике»,
тТшйчнби для римского католицизма, сводит описание дисциплинарного стиля
жизни к реализации пуританских, доктрин оправдания и пред^становле^н^хИд.
448
M. К. Петров
Оправдание возникает как пуританский способ выставлять целью жизни прослав-
леТшс^6ога~в
напредустановленности, по Мертону,~ толкала к «добрым делам» ради
доказательства божественной избранности и давала божестйенн^до^санкцйю прилежанию^в
труде? «В дополнение к этому~постоянные похвалы пуритан в адрес разума, их
ОЖ^-.противопослйвдя'Цэ Р3аж_.вер£., находили выражение в их поддержке_хгили_-
japHoft образовательной^.веформы» [129, с. 8].
" Прослеживая отношение этого~этноса к новой науке, Мертон доказывает, что
пуританизм вдохновлял приверженность к профессиональной дисциплине и
увлечение "новых ученых.э Описывая в общих терминах
механизм такого воздействия — «эксперимент был научным выражением
практических, активных и методических наклонностей пуритан», — он утверждал, что это
научное наследство было непреднамеренным результатом развертывания тех
тенденций, которые в латентной форме присутствовали уже в_ наборе установок пу-
рчтани™? Иными словами, пуританский этнос показан как условие
опосредования и преломления нового чувства дисциплинарного профессионализма,
способствующее формированию новой науки: «Мертоновское восприятие новой науки
в основном содержится имплицитно в его концепции пуританского этноса, как
условия осуществимости новой науки. Таково его утверждение, будто.дисципли-
н^тцтсуиш пуританскому стилю жизни, порождает новое чувство
профессионализма B^jj^Ke, как в экспе^1ше^*ушдо преимуществу. По
моему мнению такое сведеще^вд весьма
ограниченным. Оно оставляет в тени величие, йнтеллектуя пьыых. задач и
порождающую концептуальную силу, скрытую в новой науке и в ее уважении к разуму»
[129, с. 8].
Мертон учитывает также давления со стороны экономики и торговли,
особенно в^рбластях транспорта и военной технологии, что стимулировало открытия и
создавало потребности, удовлетворять которые призвана была наука. «Йеречисляя
проекты, принятые Королевским обществом или упомянутые в «Истории
Королевского общества Лондона» епископа Спратта, Мертон приходит к заключению,
что от 30 до_ 60% исследований Общества проводилось под Еднянием социально-
экономияеских потребностей. Утверждая такое, он явно отдает себе отчет в том,
что «потребности» часто оставались неудовлетворенными на долгие времена.
Соответственно он пишет, что «потребность — термин эллиптический, который в
данном контексте означает либо реализацию, либо осознанную потребность» [129,
с. 9].
В методологическом отношении попытка Мертона опереться только на
пуританизм ведет, по мнению Клаарена, к неоправданной редукции как анализа
условий возникновения науки, так и понимания самой науки: «Его основная ставка
на пуританизм не дает возможности глубоко проникнуть в новую науку.
Демонстрация релевантности социорелигиозных условий безусловно достижение, но,
похоже, сам метод такого объяснения от условий содержит определенные
ограничения. Сама структура модели такого объяснения препятствует выявлению
общей связи между начальным условием и последующим развитием. В случае с
Мертоном ^д^алюм^стг^уктувы очевиден в его общей теории науки и общества,
где первая как теоретическая отделена от строго практической концепции
общества. Но при всем этом Мертону все же удалось указать .на интеллектуальную зна-
^имость^религии» [129, с. 9].
"^Много "большим методологическим потенциалом обладает, по мнению
Клаарена, использованная в работах 1940-х гг. [104, 105]. И основное достоинство его
схемы Клаарен усматривает как раз в том, что она позволяет иметь дело„с_ид-
теллсктуашшыми. цедостностями, с системами постулатов, и контекстами: «В
методологии Р.Г.Коллингвуда в качестве решающего элемента выступает jcoHnenT
постулатов, функционирующих как контексты. Хотя его подход менее
прямолинеен и "более сложен, чем каузальное объяснение, он в то же время и более про-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 449
дуктивен, чем каузальные объяснения. К тому же в апеквятнпм контек:стУяпкном
способе объяснений в общем-то характерно присутствие конкретных
фактологических интерпретаций. Короче говоря, подход Коллингвуда предлагает :метод
системного исторического исследования» [129, с. 11].
Смысл различий между Мертоном и Коллингвудом Клаарен видит в том, что
Коллингвуд в отличие от Мертона, выхватывающего для объяснения генезиса
науки отдельные и вьпшанные из контекста, диссоциированные события
прошлого, вводит «фон», контекст, дриналд?жнпгть событий к своему настоящему, что
воссоздает целостность и позволяет вести исследование на более высоких
концептуальных уровнях с привлечением единичных событий: «Если Мертон,
обращаясь к явно выраженным пуританским составляющим, ограничивает
религиозные и теологические основы новой науки, то Коллингвуд идентифицирует
релевантную теологическую основу в значительно более широких и содержательных
терминах. Пытаясь выявить о^ш^^^^огию^начального периода Нового
времени, которая породила новую науку, он неТтодчиняет исследование идее
разработки узкого понимания религии или теологии, куда могли бы избирательно
вводится такие ключевые фигуры как Бэкон, Бойль, Ньютон» [129, с. 11].
Коллингвуд обнаруживает исторические начала нового научного мышления^
общем__крнтекстс. хешогадесдфймы&тщ, Он выделяет единую теологию Нового
времени из действительного мышления реальных лиц,того^временй на "уровне"их
интеллектуальной деятельности. Его аргументация не идет от высших уровней
философской спекуляции к менее универсальным выводам научной теории, а
исходит из представления об днтеллектуальном континууме как теологическом
целом, состав которого опредедяется~ д£Йств]Щ1щм набором постулатод,
выполняющих примерно ту же роль, какую у Куна выполняют парадигмы в
дисциплинарной научной деятельности. В центре внимания Коллингвуда изменения в этих
наборах постулатов теологии соответствующего периода: «Коллингвуд обнаружил
один из решающих для теологии постулатов,щ веру Нового времени в то, 4T0j5pjt
творец всемогущ, и поэтому занят как раз тем и именно тем, чем он и занят, а
не чем-нибудь другим. Коллингвуд утверждает, что платонический подход к
математике у Галилея, «отца новой науки», включает постулат, по которому^мир
пгжродь! является простой дшородссдмацией^к^миру чистой математики..
Заявление Галилея о том, что Книга Природы есть книга, «написанная рукой бога на
языке математики», было радикальной модификацией платонизма в возникающей
науке о природе» [129, с. 12].
Клаарен приводит соответствующее, важнейшее, по его мнению, место в
концептуальном оформлении Коллингвуда: «Возможность прикладной математики
является одним из выражений в терминах естественной науки христианской веры
в то, что гуэирода_есть творение всемогущего бога. Такая вера и есть то, что
вытеснило греческую концепцию природы как царства неопределенности и
несовершенства концепцией Возрождения, по которой природа есть^царствосочности и
определенности. Платонизм естественной науки эпохи Возрождения не является
в своих основах платоническим, о^фувдаментально^хг^стианс^й. Христианская
мысль адаптировала платонизм к собственным целям, приобщила платонизм к
идее, которая не могла бы появиться в самом платонизме и даже оказалась бы
для него неприемлемой... Утверждая, что бог всемогущ и что мир природы есть
мир божественного творения, христианство совершенно изменило ситуацию. То,
что мир природы следует рассматривать не как царство неопределенности, а как
царство однозначной определенности, стало теперь делом веры... Галилей,
истинный отец новой науки, переформулировал пифагорейско-платоническую позицию
в собственных терминах, заявив, что Книга Природы есть книга, написанная
богом на языке математики... Галилей сознательно прилагает к природе тот
принцип, которым Августин руководствовался в подходе к текстам Священного
писания, к книге, которая определенно «написана рукой бога». И принцип этот
состоял в том, что какие бы сомнения ни возникали насчет смысла того или иного
29 М.К. Петров
450
M. К. Петров
места, исходить следует из того, что оно имеет значение и значение это истинно»
[Исповедь, XII, 23-24], [104, с. 253-256].
Тут же Коллингвуд язвительно замечает в адрес позитивистов: «Если бы они
чуть больше разбирались в истории науки, они бы знали, что^вера^в-возможности
прикладной математики, есть лишь одна из состявнкуу веры, и finr^» [104, с. 257].
<~~" С этим изменением восприятия природы связано и изменение познавательной
позиции человека: вопросы «Почему?», «Зачем?» становятся неуместными по
отношению к природе — божественному творению, на их место приходит безличное
«Как?». «Новый «ripлнцип огртш^щюж о^ею^ив^юсти» оказался встроенным в
способ, которым новая наука задает вопросы и ставит проблемы. Коллингвуд
утверждает, что это действительно фундаментальное изменение прямо указывает на
изменение опор и даже на давление опор новых, меняющих характер вопросов»
[129, с. 12]." "**
Тесно связанным с этим сдвигом оказывается и общее изменение
представлений об отношении бог-природа. Коллингвуд выделяет и другую существенную
характеристику в восприятии бога Новым временем — его превосходство как
создателя машиноподо и подчеркивает, что в дополнение к точности
естественных и математических исследований новая христианская теология поро-
дила и_новуюi ко^мологию^ которой руководствовалась новая наука: «Различие,
которое является «ключом ко всем основным различиям между греческой наукой ,
о природе и естественной наукой позднего Возрождения», состоит в том, что'
греки усматривали в природе разумно самоуправляющееся^цедие^ тогда как
мыслители позднего Возрождения видели на этом месте всемогущего бога как нечто
иное, чем природа. Соответственно, природа как целое воспринималась греками
'как организм*, а мыслителями позднего Возрождения —.как машина» [129, с. 13].
Рассуждения Коллингвуда о космологии Нового времени вставлены в более
общую схему, по которой органический взгляд на природу античности уступает
место" механистическому взгляду Возрождения, а он в свою очередь — историкр-
э^юлюционному взгляду, который утверждается с ХУЩ_в. Но основное внимание
уделяётся'^ерехбду от организма к механизму: «Анимизм в мышлении раннего
Возрождения, который выглядит скорее рецидивом, чем доминантой, как это
было в случае с греками, был частью преодолен подготовительной работой
Коперника и Бруно к зрелому заявлению Галилея, который располагался на
вершине этого движения. Его щаиндипян^рошц который противопоставлялся теории
греков и раннего Возрождения об естественных движениях (или тенденциях), как
и предложение ^еддера заменить жизненную энергию механичехкх)А_энергией^
создавали новый_ взгляд на__мир системной ясности^ Триумфа механистический
взгляд на природу достиг в работах Галилея» [129, с. 13].
Этот переход к восприятию природы (g образе машиньт^сопровождался и
сдвигами R понимании пснгтнДУ уятртрий, количественно^, скорее, чем качествен-
J^o^^пe^фи^Jщeй_Qбъeктûв: «изменение становилось функцией структуры, а не
тенденцией; причинность г^.фо^м^ьной,л^е^слвешшй, а не телеологической ;
законы, действие которых ограничивалось ранее землей, прилагались теперь к
небесам; материя не была уже первичным и лишенным формы началом, из
которого состояли все вещи, а стала «количественно-организованной тотальностью
движущихся вещей» [129, с. 13].
На подходе к таким изменениям и сдвигам Коллингвуд обнаруживает
преемственные изменения теологических постулатов: «Так, космология начального
периода Возрождения постулировала анимизм в прирше, и ее теология сводила
бога и мир в единство таким способом, что природа_сама по себе виделась как
божественная и_самотворящая^ Имманентная сила здесь активно движет и
направляет все вещи (в отличие от телеологии Аристотеля) в рамках пассивного
комплекса изменений и процессов в природе» [129, с. 13—14].
Бруно, по Коллингвуду, опираясь на_прстулатную базу детализированной пан-
jjejäCXH4ecKOji космологии*, основную "аргументацию направлял против внешнего
История европейской культурной традиции и ее проблемы 451
природе перводвигателя Аристотеля: «Он усматривал в мире все включающую в
себе субстанцию, матрицу всех изменений, которая есть в одно и то же время и
материя в ее способности к протяженности и движению, и форма или дух, бог в
ее способности к самосуществованию, к бытию источником движения. Но она не
является трансцендентным неподвижным двигателем вроде бога Аристотеля, а
доцахедем, имманентным своей собственной телесности и вызывающим
движения благодаря этой телесностй771ю§ая конкретная вещь и любое конкретное
движение имеют, по терминологии Бруно, цлринцип или источник в самих себе и
причину или источник вне себя: бог одновременно и принцип и причина,
принцип в его имманентности любой индивидуальной части природы и причина как
нечто трансцендентальное, выходящее за пределы отдельной индивидуальной
частимшэ, с Щ.
В оппозиции к Аристотелю были и мыслители позднего Возрождения, но
постулат природы — божественного творения толкал их к тому, чтобы ^ассматри-
вать естественные феномены «уважительным, внимательным и наблюдательным
пщом>>. «Уто вырабатывало привычку скрупулезного и тщательного наблюдения,
основанного на постулате, что любая вещь в природе, сколь бы ничтожной и оче-"
видно случайной она ни казалась, пронизана рациональностью и уже поэтому
значима и ценна. Аристотелевская традиция, рассматривая природу как
материальную имитацию трансцендентальной нематериальной модели, предполагала,
что некоторое вещи р_природе случайны)» [105т с. 95].
Между античной ситуацией и ситуацией Возрождения просматриваются
определенные аналогии, связанные со схожестью пантеизма космологии Возрождения
и^гшю^язм^ионий^ев: «Точно так же как пантеизм Анаксимандра по ходу
развития греческой мысли уступил место доктрине, по которой мир не является
богом, но является его творением, так и пантеизм Бруно уступает место доктрине,
по которой мир. не_является божественным, а механическим, предполагающим
поэтому Tp^HcueH^ejiTHoro^ôora^ который сконструировал и создал его> Идея дри~*
роды как машины, фатальна для монизмаЛОн предполагает нечто иное вне ее.
Тождество природы с богом разрушается в тот самый момент, когда исчезает
взгляд на природу как на организм» [105, с. 99—100].
Сам Бруно не пошел дальше органического взгляда на природу к взгляду
механистическому, этот шаг в схеме Коллингвуда делает Галилей, получая при этом
два трансцендентальных сщютивостоянйя природы-механизм* богу как
трансцендентному творцу и человеку KaK.TpaHçjueHiŒraïïçj^ «оба,
брГи человек, рассматриваются Галилеем как с^вдестеа2ш4^4с.Щентные. И это
справедливо, поскольку, если природа состоит просто из количества, ее
очевидные качественные аспекты должны, быть, хообщены,.^ извне, а именно лелове-
чес^ош^мом, который постигает ее. С другой стороны, если она перестает
восприниматься как живой организм и понимается как инертная материя, она не
может пониматься как самотворящая, должна иметь иную, чем она причину»
[105, с. 103].
В этом появлении двойного .противостояния n^Hpojnj.JÔojry^KaK своему
разумному творцу и человеку, как существу познающему ее средствами разума, Клаа-
рен видит основную заслугу Коллингвуда, поскольку его результат получен в
пределах интеллектуального континуума, как протяженной во времени целостности,
этапы преемственного развития которой различаются по изменениям в
действующих наборах постулатов: «Таким образом, в дополнение к теологическому
сдвигу слэдтеизма к теизму, который был глубинно связан с переходом от
органического к механистическому взгляду на природу, выявились столь же
знаменательные новые постулаты относительно природы знания. Коллингвуд утверждает,
что ключевое различие между греческой эпистемологией и эпистемологией Но-
jjnm нрр.мр.нй состоит в том, что
новательно включенньш .в jrpjapojry (то естьзнать означалсГ&ыть конформным с
природой)у тогда как для Галилея разум, который знает, постигал природу и мог
29*
452
M. К. Петров
(манипулировать ею теоретически в математических Формулах и практически в
fee пер имейте. Кожёственная трансцендёнция творца-изготовителя и трансцен-
денция человека как существа познающего в Новое время усиливали друг друга»
[129, с. 15].
Отмечая значительные методологические достоинства подхода Коллингвуда,
позволяющие ему избегать иссечения проблемы генезиса науки на
дисциплинарные изолированные подпроблемы генезиса, скажем, математики, химии,
ботаники, то есть неоправданного переноса более поздней по генезису дисциплинарной
разобщенности науки на периоды, когда опытной науки и,
соответственно,^повода для разобщения еще не было, Клаарен критикует самое схему Коллингвуда
за известную разбросанность, неудачный выбор мест и фигур стяжения событий,
что, по мнению Клаарена, не позволяет Коллингвуду заметить существенные де-
«тали, относящиеся именно к составу противостояний концепта сотворенной_приг
'роды богу и человеку, между трансцендентностями которых и, соответственно,
фразами природы улавливается определенная взаимозависимость, связь
уподобления: «Хотя общее представление Коллингвудом драматического возникновения
новой науки богато во многих отношениях, в нем присутствует тенденция
акцентировать сам переход от органического к механистическому пониманию природы
в ущерб множеству невидных и видимых духовных, юридических и литературных
образов, участвовавшихв^подъеме новой науки. Его впечатляющий набросок
эпохальных изменений приводит в связь интеллектуальную историю XVII в.
континентальной Европы с мышлением Галилея, но его в значительно меньшей
степени занимает анализ мышления Галилея» [129, с. 18].
Определяя область собственного исследования, Клаарен в целом принимает
на вооружение методологию Коллингвуда, почему нам и пришлось
детализировать ее основные черты, но вносит ряд существенных уточнений: «Контекстуа-
листский метод объяснений Коллингвуда идет значительно дальше мертоновского
подходгГот'уеловий осуществимости. Если выдающиеся достоинства метода Мер-
тона в том, что он обеспечивает доступ к социоисторической реальности как
религии, так и науки, то метод Коллингвуда отличается тем, что он вскрывает
отношение между религиозными и научными материями. Его подход выигрывает
сравнения с теми методами, которые используются для поиска объяснения науки
Нового времени пд.связи с иными, чем религия, областями культуры. Как раз
очевидная и итеративность и широкий охват подхода Коллингвуда и оправдывает
мое заимствование, интерпретацию и использование этого подхода в данной
мультлджшшлинарной попытке понять науку Нового_вр,емещ» [129, с. 18].
Клаарен тут же делает ряд оговорок: «Вместе с тем, я больше внимания буду
уделять отдельным фигурам и выдающимся текстам^ауки Нового времени и ре^
дигии. NÎano просто вызвать духТалилея, скажем,~или Кальвина, того менее
Святой троицы. Вешающим для контекстуального подхода является_внимание к
текстам, как и к контекстам. Каждая заявка, особенно в различных~областях
понимания религии в ее взаимосвязи с другими видами деятельности должна быть
глубоко застолблена, если есть намерение двигаться дальше области предположений.
Возможно, что наиболее явной и частой причиной неудач в исследованиях этого
рода как раз и выступает п2ссч^_в_^Т1^енингсп&ш^ЯШ^Ш- Даже
аргументация Коллингвуда не лишена таких просчетов, но его некоторая поверхностность
определенно не является следствием ошибочности его методологии» [129, с. 18].
В соответствии с этими уточнениями подхода Коллингвуда Клаарен и
формулирует два основных допущения, которые определяют rjp^mmbj erjojiç^ejic^a^njw:
«Первое и наиболее широкое допущение состоит в том, что феномен подъема
науки Нового времени может получить истинное, хотя и далекое от полноты
объяснение, если сконцентрировать внимание на событиях интеллеетуальной исто-
£ии_Англии середины -XVII в. Этот период подъема творческой мысли,
отмеченный* появлением Королевского Общества, характеризуется высоко признанными
и широко известными работами Бэкона, Бойля и Ньютона. Хотя феномен науки
История европейской культурной традиции и ее проблемы 453
Нового времени по своей природе интернационален, и эпохальное значение
предшествующих достижений не следует преуменьшать, период на котором я
сосредоточиваю внимание, истинно репрезентативен и может быть соотнесен как с
более ранней, так и с более поздней эпохами» [129, с. 18—19].
Второе допущение Клаарен связывает с выбором наиболее репрезентативной
фигуры: «Мое второе допущение состоит в том, что мышление одного человека,
а именно Роберта Бойля, способно осветить интеллектуальную историю этого
периода. Роберт Бойль особенно характерен для раннего периода естественной
философии, науки, религии, теологии Нового времени» [129, с. 19]. Клаарен
оправдывает такой подход разносторонностью Бойля, наличием в его работах
достаточно четко выраженных позиций в отношении к основным течениям
интеллектуальной жизни своего времени: «Бойль будет анализироваться не как
изолированная фигура и не как специалист, а как проявление основных течений мысли
1650—1660-х гг., то есть периода, когда он был центральной фигурой» [129, с. 19].
В качестве предметного интегратора проблематики Клаарен использует
концепт сотворенной прирояц, по отношению и по связи с которым возникают
спектры религиозно-теологических (бог-природа) и познавательно-научных
(человек-природа) отношений. Центральное положение сотворенной природы
позволяет Клаарену в порядке совершенствования методологии Коллингвуда
широко использовать обращение религиозного и научного контекстов: «Историческое
исследование, для которого характерно образное представление воздействий и
внимание к радикальным изменениям, может, несмотря на стремление к
конкретизации, оказаться перед опасностью нехватки дисциплины. Избежать этой
опасности можно в том случае, если строго придерживаться jj^uiSJQîi-Cxp^KrypM
наследования. На одном из этапов исследования это может означать применение
двойной рртрпгтт^^мду Религия может использоваться как контекст для новой,
.НаУКИ, а ОНа^ В^ СВОЮ_0_Ч.ередЬ^ гтямпиитря упытрл^ТПМ рр.пигитниу p-nfiuTnifr В КО^
нечном счете такой подход направлен^ш раскрытие jCjyibLKaK релищозных, так
А научных постулатов в^области: их встречи на арене XVII в., то есть в области"
естественной философии, где идеи природы, творения, истории, как и ряд
других, обозначены достаточно четко. Если исключить тот факт, что в XVII в. для
христианской интеллектуальной культуры религия обычно представлялась как
древнее установление, а ндука.как новое* то нет, собственно, никаких
методологических резонов, чтобы понимать природу как нечто относящееся
исключительно к сфере науки, или даже творение как относящееся исключительно к области
религии. Прежде всего в расчет должны приниматься все возможности, поскольку
только в этом свете становится вызывающим доверие дальнейшее определение
более широкого и более эффективного контекста конкретных событий. Более
того, временное воздержание от суждений на том или ином этапе исследований
позволяет вскрыть силу новых событий даже в таких непреходящих убеждениях,
как божественное творение. Просто признать, что типичные интеллектуалы
XVH^b. воспринимали творение как принятую,на. веру данносхь_ и на этом пре-"
рвать "исследование, значит упустить из виду наиболее драматические и
продуктивные следствия действия этой теологической скрещу» [129, с. 22].
Специфическое положение постулата творения в христианстве^ который в
общем-то не ставился под сомнение д^^онца^ИД^Ь выявилось, как это и
положено утопленному в подкорковую данность постулату-убеждению, почти в
полном отсутствии теологических анализов проблемы творения: «Сколь бы странным
это ни показалось, ц_ле_одогии нет сколько-нибудь представительной[_иСторииь
зщистианской доктрины о творении в целом» [129, с. 30]. Но отсутствие концеп-"
туальных представлений в форме, "скажем, специальных работ схоластов^ не
мешало творению входить в устойчивый набор постулатов: «До~Ху711 в., когда
творец стал рассматриваться как гипотеза, без которой можно и обойтись, все
серьезные западные мыслители" принимали" на правах постулатов бош-творц^а, ^акт
или отношение божественного творения, jjeKHJtшшок дворенид и чгттпвпгя ray
454
M.К. Петров
2£9ЙРе творение бога. Эти четыре компонента постоянно присутствовали в
историческом развёртывании весьма различных ориентации в восприятии творения»
[129, с. 31].
Клаарен отмечает огромный кшщ1туальный и культурный: jioreginjaji этого
устойчивого набора постулатов: «Трудно переоценить значение всего семейства
постулатов, представленного этими компонентами, поскольку оно характеризует
классическую христианскую веру в творение частью и тем, что от него берет
начало формальный, в высшей степени рационализированный жанр выражения,
типичный для западного христианского мира. Как начало системной догматической
теологии патристика позволила освоить многие древние дохристианские
культуры. Подобная ориентирующая, если не императивная, вера в целостность боже-
ХХееннош, творения (вместе с христологией и онтологической троицей логоса)
значительно отличалась от древнего постулата иудаизма, по которому
божественное творение ,быдо стадией и началом истории, имеющей только шаошихедьное
назначение Для Ветхого завета творение было историей, прежде всего
исполняемой Иеговой историей, в которой Израиль был избран для уникального
искупительного предназначения. Но систематизированная теология, соответствующая
христианскому миру, трансформировала древнюю легенду о творении, которая
прекрасно соответствовала древней иудейской религии. Конечно же, Н£вый_спо-
со^христианского дискурса был метафизичен, Но это только один аспект весьма
широкой мистико-рациональной религиозной философии, коренящейся, в
иерархической структуре творения. Начиная с Августина, вера христианского мира в
творение придавала жизни Запада интеллектуальную и культурную форму. Она
настолько владела религиозным воображением, что была даже более
продуктивной, чем предполагалось ее романтическим обозначением — «великая цепь
бытия» [129, с. 31].
Этот набор постулатов играл роль ларадшъщ^дадашш! европейского стиля
мысли до XVIII в.: «Развенчание этого великого достижения шло пхиышдещшм
работ гуманитариев XIX в. по истории теологии, в которых подъем христианского
мира интерпретировался как ответвление спекулятивной греческой метафизики.
В действительности же лшделчанйе^ вызывалось эпохальной утратой веры в
творение. Хуже того, оно стало выражением самодовлеющего центра
интеллектуальной культуры в Германии XIX в. Если классическая христианская мысль всегда
уважительно относилась к творению как к исходной божественной мистерии, то
XVIII в. .разменял творца на простого изготовителя^ торпедировал мистерию и
стал провозвестником великого крушения веры в "творение в XIX в., что
предшествовало почти полному ее исчезновению в XX в.,.. История и эволюция...
воистину заполонили воображение XIX в., и жертвой этого акта стала эпохальная
эффективность веры в творение» [129, с. 31—32].
В предлагаемой Клаареном схеме все предшествовавшие появлению науки
события в европейской духовной жизни и сам ее генезис, «акт творения»
интеллектуалами науки, если он произошел в XVII в., приходятся на период
безраздельного господства четырехсоставной постулатной базьь которая от Августина до
XVII в. выступает условием осуществимости этих событий, поскольку они
принадлежат к интеллектуальному континууму или, в нашей терминологии, к
общеевропейскому Т-континууму. Такая постановка проблемы генезиса науки
позволяет Клаарену использовать эту постулатную базу как сзрего_ррла систе^мсрор-
динат для опознания и понимания событий в истории теолопщ^ И первое, что
он обнаруживает, это неправомерность распределения усилий историков теологии
и науки по континууму интеллектуальных событий: «Многим историкам
христианства присуща тенденция пренебрегать теологией XrV^XVjœ., предпочитая ей
достижения Высокого Средневековья и Реформации XVI в. Сама полемикамежду
кжоликами и^протестантами, которая опосредованно формировала тематику
современных исторических исследований, способствовала пренебрежению как_к
теологии позднего.Средневековья^.так и,к теологии ХУН в..В этих периодах то-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 455
мисты, кальвинисты, лютеране равно не_обнащзю|вак)Т ЯЭРИХ. героев. Вместе с
тем, некоторые историки давно уже отмечали дкдады поздней-хредиевековой
мысли в эпистемологию, проблему универсалиит в естественную философию, д.
доктрины естественного закона. А сравнительно недавно смелые пересмотры ис^
тории христианской Мысли Ц работах Обермана и Виньо, вскрыли целостность"
теологии_позднего Средневековья. Работы этого типа, частично опирающиеся и
на работы ТСкилсона, направлены против предшествующей интерпретации этого
периода под знаком дезинтеграции средневекового синтеза. Начинают наконец
получать должную вы^<да_ оценку достиженияноминалистской или волюнта-
ригтсуп^^гео^п1и^10зднего д^невековья» Г1297 с.~32—55J.
Упоминанием о номиналистах-волюнтаристах Клаарен намечает основную
линию исследований, поскольку волюнтаристская ^тенденция подчинить
божественный разум божепвенной.водс. пройдя через множество давлений со стороны
конкурирующих тенденций, оказывается, по его мнению, основной
теологической дорогой к ош,ггной.науке4 пополняя спектры теологических (бог-природа) и
познавательных (человек-природа) противостояний сотворенной природы богу и
человеку такими линиями, среди которых обнаруживаются и основные постулаты
опытной науки.
Номинализм трансформирует образы и бога и человека: «Появление в
позднем Средневековье волюнтаристской теологии отмечает начало такой ориентации
в восприятии творения, которая, будучи частично производной от отрицания
номиналистами универсалий, смещает фокус в понимании деятельности творца
скорее на примат божественной воли, чем божественного интеллекта. По контрасту
с более рационализированными отношениями соучастия воли и разума
подчеркивалась случайность творения, связь его с волей творца. Если ранее
предполагалось, что движения воли совершаются в соответствии с последним диктатом
разумения, то теперь под фундаментальное сомнение ставилось и это
предположение и производный от него поиск типов и архетипов (платоновских идей. —
М.П). Порядком творения стал закон, введенный богом, а человек как
божественное творение идентифицировался по его свободному и добровольному
подчинению божественным установлениям, которые накладывают ограничения на его
существование, деятельность, познание. £Иги установления и обозначают путь
единения человека с богом» [129, с. 33].
Клаарен подчеркивает длительность и преемственность становления
волюнтаристской теологии: «Конечно же, эта новая теология творения не появилась за
ночь. Работы многочисленных теологов и естественных философов позднего
Средневековья, таких как Оккам, Биль, д'Айли, Герсон, Буридан, Орем были
реализацией по крайней мере двухсотлетней традиции. Теологическое утверждение
этой традиции потребовало определенной степени официального признания, что
и было достигнуто в актах ее осуждений 1277 г. Парижским и Оксфордским
университетами. Осуждения были направлены главным образом против аввероист-
ско-христианских положений Сигера Барбантского, но косвенно задевали и Фому
Аквинского, его синтез теологии Августина и естественной философии
Аристотеля. Как часть общего возрождения интереса к акценту Августина на свободе
бога (в работах Гуго Сен-Викторского, Бонавентуры и др., например) широко
распространялось отрицательное отношение к пониманию связей между богом и
миром под знаком необходимости и понимания соответствующих связей в
мирских делах» [129, с. 33].
Клаарен довольно детально анализирует применительно к концепту творения
состав осуждений 1277 г., которые в общем-то наметили линии раскола теологии
и, соответственно, теологического сообщества в более позднее время, а главное
наметили контуры того, что протестанты позже называли «языческой
схоластикой» Рима, связывая ее в основном с работами Фомы, с синтезом идей
Аристотеля, Платона, платоников, Августина, а современные исследователи обозначают
более нейтральным термином «католическая традиция».
456
M. К. Петров
Приступая к анализу осуждений, Клаарен пишет: «Хотя осуждения не дают
возможности полностью реконструировать основу того взгляда на мир, против
которого они направлена, ясно, что предложенный Сигером Барбантским сплав
классического греческого взгляда на естественный мир и четкой онтологической
ориентации в вопросах творения был воспринят как угрожающий знак. Такой
полный союз христианской веры в творение и естественной философии
Аристотеля ставил под вопрос основное направление работ Фомы. Под угрозой
оказались не только постулаты противостояния мира преходящего миру вечному, но и
весь греческий взгляд на мир, как на органическое целое, поскольку под удар
попадали не только философские положения, но также и рациональные
основания и практика некромантии, черной магии. Начиная с Фомы естественная
философия Аристотеля получила теологическую санкцию и была разработана в
весьма сложную систему с различением интеллигенции, элементов, целей, движений,
имманентных законов естественного мира. В этом впечатляющем построении, в
основу которого были заложены иерархии, не всегда, правда, замкнутые на бога
и природу, философия проводила различие между естественным для небес
круговым движением, где присутствовал пятый элемент, и земным движением с
присущей ему порчей по случаю или отпадению. Но тел ос. цель всякого движения,
предполагал базовую связь интенции и цели, внутреннюю связь между влечением
божественного бытия, небесными интеллигенциями и земными движениями»
[129, с. 34).
Парижские теологи осудили утверждение о вечном движении небес:
«Основным обвиняемым был Сигер, но и Фома также утверждал, что «природа»
небесного требует в соответствии с его внутренним законом вечного движения, хотя
реализация такого движения предполагала у него божественную волю.
Центральным пунктом осуждений было то, что божественную волю не следует сводить к
естественному вечному движению» [129, с. 34]. Заботами о божественной воле
продиктовано и осуждение тезиса Аристотеля о невозможности доказать
множественность миров: «Здесь основной теологический смысл осуждений сводился к
допущению того, что естественный философ волен считать возможной
множественность миров. Хотя Фома, которого мог бы касаться этот пункт осуждений, не
отрицал прямо возможности других миров, из оснований его более
рационализированной онтологии и теологии ясна была приверженность к единственной
вселенной» [129, с. 34].
Три других осуждения непосредственно связаны с защитой божественного
акта, как творения из ничего и направлены против идей о вечности мира.
Осуждена была вечность видов и подтверждена возможность пустоты: «В порядке
защиты случайности мира было высказано отрицательное отношение к
утверждениям о контроле над небесными интеллигенциями. Возможно, что наиболее
показательным выражением интереса к свободе бога и к случайности творения было
осуждение взгляда, по которому «бог необходимо производит то, что
непосредственно вытекает из него». Ближайшим критическим достижением осуждений было
повышение статуса идеи о случайной природе естественного творения» [129,
с. 35].
Сравнительно новым подходом, соотнесенным со случайностью мира, было
утверждение о свободе воли творца: «Наиболее четко эта идея выражена в
теологии позднего Средневековья как диалектика божественных потенций абсолютной
и упорядочивающей. Эта вера приобретала растущее значение и в мысли и в
жизни того периода. Если нечто подозрительное на нарушение закона
непротиворечивости оказывается в пределах абсолютной потенции бога, он свободно
связывает себя с определенным порядком, этапами которого являются творение,
грехопадение и милость искупления. В соответствии с упорядочивающей потенцией
бога его произведение — серия исторических актов, но не «в пределах» хода
истории, а таких актов, которые устанавливают сам этот ход истории. Благодаря
своей абсолютной потенции бог способен откладывать на время свою упорядо-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 457
чивающую работу, поэтому случайность творения в одно и то же время и
устанавливается и драматически усиливается диалектикой его упорядочивающей и
абсолютной потенций» [129, с. 35].
Наиболее полно диалектика упорядочивающей и абсолютной потенций бога
представлена, по Клаарену, у Оккама и его учеников и последователей: «Хотя для
Оккама, как и для теологии позднего Средневековья, это различение не было
новым, именно в его теологии на первый план выходит абсолютная потенция,
располагавшаяся ранее на периферии. Как пишет Оберман, нереальность того,
что могло бы произойти, становится реальностью. Абсолютная потенция
становится способностью бога реверсировать естественный порядок, как это
происходит, например, в чудесах. Бог не ограничивает себя обязательством соблюдать
естественный или моральный закон, и само творение, включая его порядок,
начинает осознаваться как чудесное» [129, с. 35]. Вместе с тем бог у оккамистов связан
в своих действиях соблюдением закона отсутствия противоречия. Ученик Оккама
Габриель Биль, его номинализм оказал значительное влияние на Лютера,
отрицал, что бог способен по выбору действовать то упорядочивающим, то неупоря-
дочивающим способом, поскольку действия бога не могут быть разделены до
крайней степени. Не может бог действовать и иногда по порядку, а иногда без
порядка, поскольку это противоречило бы его существу: «Это различение должно
быть понято в том смысле, что бог способен к выбору и фактически выбрал
способ создания определенных вещей по законам, которые он свободно установил,
то есть по упорядочивающей причине. С другой стороны, бог способен совершать
все, что не содержит противоречия, независимо от того, решил ли бог совершить
эти вещи или нет, поскольку существует множество вещей, которые бог может
совершить, но не желает совершать. Эта последняя способность называется силой
бога по абсолютной потенции» [129, с. 36].
Представление о боге как едином, свободном и всемогущем меняет и
структуру самого творения: «В рамках этой диалектической ориентации порядок
творения понимается в терминах закона и подчиненных закону целостностей, а не
в терминах символов с варьирующими степенями ума и души, которые
присутствовали в божественном логосе. В полном развитии этот сдвиг от логоса к за-
кону-номосу требует формирующих эпоху пропорций, поскольку закон в своей
традиции имеет свой особый характер. В принципе закон зависит главным
образом от воли бога, а не от его разума, хотя последний не остается в небрежении.
Поскольку нет легкого или естественного перехода от силы бога к созданному им
порядку, послушание усиливает чувство трансцендентности Законодателя.
Подобно древнему иудейскому пониманию закона, волюнтаристский взгляд
предполагал бога отличным от его творения, которое он упорядочивает по закону» [129,
с. 36].
Границы такого смещения от логоса к номосу, к закону намечены различием
упорядочивающей и абсолютной потенций бога: «Если для Фомы естественный
закон был частью мудрости и рациональной суверенности бога, то
волюнтаристская ориентация, типичным представителем которой был Оккам, соотносила
закон с божественной силой предписания. Поскольку для Фомы вечные и
естественные законы являются в конечном счете делом божественного разума,
вселенная в целом, за исключением человека, управляется рациональной структурой.
Но вот Оккам заявляет, что основным признаком закона является скорее
обязательство, чем относительно имманентно встроенная регулярность. Иными
словами, закон оказывался внешним способом навязанным предмету творения. Бог
действует не потому, что нечто есть благо, а напротив, нечто становится благом
потому, что действует бог. Хотя позиция Оккама, включая его «этику
управления», граничила с произволом, его решающий и даже формирующий аргумент
состоял в том, что бог может в силу абсолютной потенции отменить конкретные
правила, но в силу упорядочивающей потенции снисходит до установления
естественного и морального порядка, общего источника природы» [129, с. 37].
458
M.К. Петров
По связи с волюнтаристским истолкованием соотношения воли и разума в
делах божественных меняется и состав Т0, состав доказательных для теологов
опор на тексты Писания, причем в качестве парадигматического примера
способности бога отменять на время действие законов все чаще начинает привлекаться
Даниил [129, с. 37], пока правда в той части, где речь идет о спасении друзей
Даниила в печи огненной [Даниил, 3]. Внимание к Даниилу, как к доказательной
опоре в теологических спорах окажется весьма устойчивым, хотя в XVII в. много
чаще будут цитировать пророчество Даниила о последних временах, когда
«многие пройдут и умножится знание» [Даниил, 12, 4].
Таким образом, невинное в общем-то по замыслу и привычное для послени-
кейской практики критическое мероприятие — обсуждение с осуждением
теологических вывихов Сигера Барбантского и коррекции ряда неточностей,
допущенных Фомой в истолковании Аристотеля, — успешно и буднично проведенное
теологами Парижа и Оксфорда, вызвало явно непредусмотренные следствия. С
одной стороны, изменилось понимание состава творения и структуры
сотворенного мира: «Общий взгляд не то, что связующая сила и порядок введенного
естественного закона предполагают диалектику упорядочивающей и абсолютной
потенций бога, оформлялся в оппозицию долгой традиции имманентного
истолкования естественного закона, выявления которого считались следствиями
встроенных в природу тенденций» [129, с. 37]. По современным меркам
дисциплинарной жизни в теологии того времени произошла обычная дисциплинарная
революция «второго рода», то есть революция, ведущая к почкованию, ведущая к
почкованию дисциплины, которая не отменяет действующей парадигмы, но вводит
новую, особую [142].
Но имелась и другая сторона в событиях этого времени — вычленение
человека в особую проблему, несводимую к проблемам творения природы:
«Обращаясь к антропологической стороне дела, следует отметить: классическая схоластика
локализовала образ бога в рациональной душе человека и рассматривала
движения воли производно от верховного диктата разумения, а парижские теологи
1277 г. осудили положения о том, что воля будто бы с необходимостью должна
следовать за разумением, что воля обязана подчиняться принятому разумом
решению, что правильность волнения производна от правильности мышления. Это
способствовало укреплению волюнтаристского понимания человека как особого
творения бога» [129, с. 37].
В рамках этой общей онтологической перспективы Клаарен и пытается
установить единую линию связей между Средневековьем, Новым временем и
современностью. Ссылаясь на явную неразработанность темы, Клаарен все же отмечает
тесную связь мыслителей начального периода Нового времени с их
предшественниками в позднем Средневековье, что, по его мнению, создает возможность
исследований в более широкой парадигме: «Широко признается, что мышление
Нового времени подчиняет онтологию эпистемологии, переворачивая тем самым
средневековую ориентацию. Вопрос, одновременно исторический и
концептуальный, состоит в том, как именно это получилось. Если высказанные выше
соображения справедливы, то этот сдвиг произошел не просто в результате появления
секуляризированных эпистемологических предприятий, но скорее в результате
освобождения от пут онтологизированного мышления, от логики, облаченной в
бытие или, лучше сказать, от логоса бытия, которым предполагалось высшее
бытие бога. Освобождение от этого огромного комплекса требовало нового
принципа, подвижного начального пункта мысли и жизни. Для естественной
философии и науки бутон позднего Средневековья расцвел в XVII в.» [129, с. 39].
На входе в постулированную Клаареном целостность культурного типа XVI—
XVII вв. Клаарену, естественно, приходится выяснять ради уточнения Т0
отношения со сложившейся традицией исследований по истории христианства,
поскольку XVI в. изучен ничуть не хуже высокого Средневековья и еще одной
интерпретацией существа теологических споров времен Реформации здесь никого не уди-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 459
вишь. Но Клаарен довольно строго выдерживает свою линию сквозного анализа,
что позволяет ему, с одной стороны, нетрадиционно истолковать роль Кальвина
и кальвинизма, а с другой, — в порядке существенной поправки к схеме Кол-
лингвуда, показать присутствие на этом периоде нескольких подпарадигм
теологии, в общем-то скорее тяготеющих к членениям реформационных распрей,
нежели строго, вплоть до распада интеллектуального единства следующих этим
членениям. Единство интеллектуального континуума периода XVI—XVII вв.
бесспорно, оно обеспечивалось общностью университетской подготовки интеллектуалов
всех трех специализаций (богословие, право, медицина) и любых
принадлежностей к теологическим направлениям. Но это единство, так сказать, «учебника
эпохи» — все проходили через подготовительный факультет семи свободных
искусств, — что позволяло интеллектуалам осмысленно обсуждать на едином
концептуально-понятийном языке тривия и квадривия Ти теологические проблемы,
не исключало разнообразия на уровне подпарадигм, того, что в современном
науковедении обычно называют уровнем исследовательских направлений или
специальностей Тг — частей дисциплины.
В число определителей интеллектуальной ситуации в Англии XVII в. Клаарен
включает официальную католическую теологию, представленную томизмом,
номинализм или волюнтаризм, крупнейшим представителем которого был, по Кла-
арену, Кальвин, и спиритуализм, представленный в XVI в. Парацельсом, а в
XVII в. группой выдающихся мыслителей, из которой он выделяет Ван-Гельмонта.
Интерес Клаарена к кальвинизму понятен. Не говоря уже о гипотезе Мертона
и спорах вокруг нее, где центральное место занимают пуритане, теология которых
понимается обычно как английская ветвь кальвинизма, в Англии XVI—XVII вв.
номинализм в его волюнтаристском оформлении в той или иной степени
характерен почти для всех религиозных направлений: «Волюнтаристические и
номиналистские сохранялись и продолжались в английских университетах, особенно в
Оксфорде, и в работах многих англиканских теологов, которыми питалась
историческая преемственность между английским протестантизмом и средневековой
мыслью. В равной степени важно то обстоятельство, что измененный
волюнтаризм на переходе к английскому мышлению был опосредован реформационным
мышлением Кальвина, общее значение которого для английской религии хорошо
известно. Но хотя многие защитники общего аргумента в пользу воздействия
Кальвина на религию и на новую науку подчеркивают значимость такого
воздействия, среди них обнаруживается весьма мало согласия насчет того, какие именно
аспекты его мышления, какие доктрины кальвинизма имеют непосредственное
отношение к делу, были действительно влиятельны в новой науке. Общее
небрежение исследователей к теологии творения Кальвина вынуждает предпринять
новое исследование в этом контексте» [129, с. 39].
В мерках XIV—XV вв. вклад Кальвина в волюнтаристскую традицию не
выглядит особенно внушительным: «Кальвин не построил новой теории бытия, ни
новой системы этики, ни общей антропологии, способной сгладить острые края
божественной воли. Постулируя существование творения, он рассматривал его
как простую случайность в выявлении потенций создателя. Принимая как
данность чудо творения по слову, которым бог вызвал из хаоса и учредил этот мир,
и постулируя связи человека с творцом в сознании, он основной упор делал на
трансцендентных обязательствах человека. Постулируя исходную интегративность
души человека, он подчеркивал глубину падения человека и величие бога,
которого он ищет» [129, с. 39—40].
В литературе по генезису науки Кальвин [191] и кальвинизм, если не считать
пуританского этноса, представлены в основном концептом провидения, предус-
тановленности, который впервые был сформулирован Августином и развит
Кальвином до статуса основания представлений о неизменности законов,
установленных богом природе. Не отрицая такого более или менее традиционного
истолкования, Клаарен вносит в него существенные коррективы: «Центральным пунктом
460
M. К. Петров
божественного провидения в истолковании Кальвина является радикальная
случайность творения. Пытаясь передать богатство и реализм библейских образов
творения, он неустанно подчеркивает свой основной тезис о том, что бог
ответствен за творение и что случайность творения универсально экстенсивна и
интенсивна. При всем том, мир в целом, по мысли Кальвина, не более застрахован
от превратностей и перемен, чем жизнь индивида от исторических бед. Его
развернутое обсуждение провидения постоянно выставляет мощь бога против сил
судьбы, случая, слепого детерминизма. Он рисует весьма загадочную,
исполненную динамики картину мира, в котором именно провиденциальная забота
преодолевает все другие силы, но никогда это не происходит без значительных
драматических и исторических потрясений» [129, с. 40].
Другой отличительной чертой теологии Кальвина Клаарен считает
подчеркивание прямого динамического контакта творца со своим творением: «Убеждение
Кальвина в том, что все сотворено эгалитарно благодаря своей конечной
зависимости от мощи бога еще основательней подрывало традиционные постулаты
относительно иерархии бытия. Не будучи сомкнуто с богом, творение открыто
выявлениям его мощи. Поэтому, как мыслители позднего Средневековья отвергали
влияние небесных интеллигенции, так и Кальвин выступал против астрологии.
Мысль о том, что все вещи непосредственно зависят от действенности
божественной воли, подчеркивалась Кальвином и в строго инструментальном
истолковании ангелов по контрасту со взглядом Фомы на ангелов как на существа более
высокой природы» [129, с. 40].
В близком плане Клаарен рассматривает и интерпретацию Кальвином
отношений между богом и человеком: «Кальвин усматривает относительно прямое
отношение между богом и творением. В значительной части это отношение состоит
из работы бога и человека. Хотя многие пишут о том, что его доктрина бога
примечательна отсутствием теории божественных атрибутов, лишь немногие
признают ту определяющую и формирующую значимость, которую в его теологии мощи
и воли приобретает категория работ, трудов. Кальвин разработал теологию работы
бога, а не его бытия. Хотя, признавая всю работу по искуплению делом бога, он
решительно отрицал спасение делами человеческими, Кальвин настаивал не
только на том, что человеческой реакцией на божественное искупление должна быть
пожизненная работа по установленному богом закону, мотивированная
благодарностью, но и на том, что правильная работа человека как творения состоит в
наслаждении и правильном использовании божественного творения. Таким
образом, теология работы бога является также и теологией человеческой деятельной
реакции. Этот штрих очевиден в предпочтении, которое Кальвин отдает
практическим добродетелям и навыкам над созерцательными» [129, с. 40—41].
Клаарен считает, что бог, понятый по основанию деятельности, а не бытия,
вносит существенную черту в понимание интеллектуальной ситуации XVII в., что
редко учитывается историками: «Это различие вносит вклад в основной
теологический сдвиг в мышлении Нового времени. В традиционном теологическом
смысле «работа» означает и акт деятельности бога и продукт этой деятельности.
Кальвин далек от отождествления творения с актом деятельности бога. Хотя
Лютер различает два смысла работы по принципу веры, Кальвин делает это по
более эксплицитным теологическим соображениям. Нет признаков того, что мер-
тоновская и веберовская традиция видят это различение» [129, с. 203].
Понимание творца по основанию деятельности позволяет Кальвину, по
мнению Клаарена, выделить в составе троицы функции ее образующих по
отношению к творению: «Утверждения Кальвина о случайности творения, которые
неотделимы от его теологии провиденциальной работы, поднимают вопрос о
природе бога как творца. Это тема первой книги «Институтов» [191]. Отметив, что
«духовность» — один из двух «эпитетов», достаточных для обозначения того, что
приложимо к божеству, Кальвин устанавливает основную структуру своего
великого, труда, излагая доктрину троицы, которая заслуживает особого внимания, по-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 461
скольку Святому духу в ней приписывается полная личная божественность.
Доктрина «духовного провидения», к примеру, настаивает на том, что творение в его
целостности непосредственно представлено богу. Физический материальный мир
не редуцируется до последнего универсального звена цепи бытия, поскольку
творение из ничего есть в такой же степени работа духа, в какой и Отца. Творение
в принципе эгалитарно и предполагает, что человек остается духовным
существом, которое, несмотря на дуализм влечений, всегда ответственно и за свои
действия и за свое знание — за действия благодаря добродетели сознания, за знание
благодаря добродетели мудрости [191, с. 202—203]. Даже обличающий перст
божий, на котором Кальвин ставит акцент в доктрине человека в грехе, как и
регенерирующий Дух в доктрине искупления, предполагают конкретную работу
Духа в творении как целом. Утверждая, что мощью своего Духа бог воодушевляет
все творение, что всеобщее движение — прямая манифестация духовной работы
бога, Кальвин практически интерпретирует платоновскую традицию
Возрождения, по которой творение есть тело бога» [129, с. 41; 191, с. 138].
Различение в деятельности бога духовной (святой дух) и генетической, так
сказать, составляющей (бог-отец), причем, как замечает Клаарен, сама воодушев-
ленность творения понимается Кальвином не как всеобщность «дыхания», а как
всеобщее движение [129, с. 203], позволяет Кальвину выделить эту работу Духа
святого в предметную область человеческого восприятия и познания: «Кальвин
настаивает на том, что творение есть объективированное откровение бога даже и
в том случае, если человек может оказаться не в состоянии воспринять
публикации откровений бога в творении. «Знание (или откровение) бога выявляет силу
в формировании вселенной и в постоянном управлении ею» — таков заголовок
главы 5 первой книги «Институтов», где утверждается: «(Бог)... обнаруживает себя
и постоянно открывает себя в целостности мастерства вселенной... Куда бы ни
бросить взгляд, нет ни единого места во вселенной, где нельзя было бы
обнаружить хотя бы искру его величия. Нельзя единым взглядом охватить эту
огромнейшую и прекраснейшую систему вселенной во всем ее размахе, не испытав
совершенного потрясения бесконечной силой ее блеска» [191, с. 51—52]. Творение
не только просто откровение бога, но также и выявление силы ее собственного
порядка (или блеска в данном случае). Поскольку дух бога выражается
индивидуально и как целое в творении — в картине, театре, дворце, все люди
привлекаются к работе творца» [129, с. 41—42; 191, с. 63].
В этом пункте у Кальвина явные расхождения с Фомой: «Поскольку Кальвин
обнаруживает вполне очевидные следы бога в творении, его в отличие от Фомы
не интересуют ни степени или виды бытия и причинности, ни обнаружение и
ранжирование типов и архетипов. Творение — открытая книга, а не верхняя
одежда или внешнее продолжение самого бога. Откровение в творении не
срывание покрывала с бога или снятость одеяний с творения. Не является оно и
вливанием или вхождением самого бога. Кальвин резко протестует против любого
«смешения» отношений между творением и творцом. Духовная работа бога и
духовная работа человека остаются различенными. Творение было для него ярким
театром, подвижным сооружением, раскрывающим его Автора и заданный
Автором порядок» [129, с. 42].
Кроме духовности бога Кальвин настаивает на бесконечности,
неограниченности божественной мощи и воли: «Прямое выдвижение постулата
«бесконечности» мощи и силы бога — второго эпитета, применяемого к обсуждению
божественного, — используется Кальвином для того, чтобы дисциплинировать свою
«высокую» доктрину эстетического творения средствами духа божьего.
Непреодолимая для всего сотворенного граница между творцом и творением является
вместе с тем и важной связью между творцом и творением. Кальвин так упорно
настаивал на высших и единоличных прерогативах божественной воли и
действенностью вторичных причин, что если возникала необходимость выбора между
мощью божественной воли и действенностью вторичных причин, он просто от-
462
M. К. Петров
брасы вал последние. Постоянная и конкретная воля бога не была просто
«допускающим» агентом, но активным велением. Кальвин отрицал любую праздную
божественность, строго проводил управление бога вплоть до самых последних
частей. И именно благодаря этой добродетели универсализма правление бога
утверждалось выше правления любого закона природы без бога» [129, с. 42—43; 191,
с. 229].
Вместе с тем, рассматривая творение как случайное, а очевидное присутствие
в нем закономерностей как свидетельство участия в творении божественного духа,
Кальвин, по Клаарену, не столько настаивает на волюнтаристской природе
закономерности вообще, сколько освящает наличную наблюдаемую закономерность,
четко различая христианскую разумную предустановленность — продукт
деятельности Духа святого — и языческий фатализм стоиков. Он пишет: «Мы не
придумываем, подобно стоикам, необходимость над постоянными связями и интимно
связанными сериями причин, содержащихся в природе, мы просто делаем бога
властителем и управителем всех вещей» [191, с. 206—207]. Клаарен по этому
поводу замечает: «Таким образом, он инкорпорирует древнюю традицию
истолкования естественного закона как выражение регулярности провидения и закона
самого бога. Закономерность природы приемлема, если она подчинена высшей
власти бога» [129, с. 44].
По связи с измененным пониманием членений и функций творца-деятеля
Кальвин, по Клаарену, развертывает и концепцию человека как существа
сотворенного: «Взгляд Кальвина на внутреннее и внешнее назначение человека
согласуется с его эстетическими и номотетическими концепциями порядка творения:
«Когда небеса и земля стали богато украшенными и обильно снабженными всеми
вещами, подобно большому и красивому дому, прекрасно построенному и богато
обставленному, создан был, наконец, человек — наиболее совершенный образец
работ бога благодаря красоте его облика и множеству благородных дарований».
Человек — произведение прекрасное, благородное и прославленное не потому,
что божественный облик ассоциируется с его господствующим назначением, но
потому, что он уникально одарен духовностью и мудростью. Исходное внимание
к духу в творении проявляет себя и во взгляде Кальвина на назначение человека
как существа сотворенного: «Мы считаем дух бога единственным источником
истины, но это вовсе не означает отвержения самой истины или пренебрежения ею,
где бы она ни выявлялась, если в наше намерение не входит унизить дух бога».
«Истина, подобно движению, является частью творения бога. И поскольку
человек отличается добродетелями духовности и мудрости, его ориентация на истину
сотворенную и раскрытую во множестве в творении — является чем-то большим,
чем внешнее обязательство: она внутренне присуща религиозной жизни человека
в мире» [129, с. 44-45; 191, с. 180; 273].
Эта внутренняя установка на истину может, по Клаарену, рассматриваться как
основание новой познавательной позиции, подкрепленной опорными ссылками
на те места Ветхого завета, где человеку обещана и дарована власть над природой
[Бытие, 1, псалмы Давида). Особой популярностью у Кальвина и
многочисленных продолжателей волюнтаристской традиции пользовался 8 псалом Давида: «Не
много ли ты умалил его перед ангелами; славою и честию увенчал его; поставил
его владыкою над делами рук твоих; все положил под ноги его» [6—7].
По поводу установок и мандатов человека Клаарен так объясняет позицию
Кальвина: «Внутреннее назначение человека как существа сотворенного должно
находить выражение и во внешних делах. Работа человека как божественного
создания не является естественным трудом, она скорее имеет смысл
дисциплинирующей власти над землей. Комментируя 8 псалом, Кальвин так описывает
внешнее назначение человека по мандату бога: «Человек удостоен исключительной
чести и такой, которую невозможно переоценить. Как представитель бога
смертный человек исполняет власть над миром, как если бы она принадлежала ему по
праву, и куда бы он ни бросил взгляд, человек не видит ничего такого, что тре-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 463
бовалось бы ему для пополнения удобств и счастья его жизни». По «закону
творения» человек связан с творцом. Он обладает мандатом бога «по праву
властвовать над творением». Власть и ответственность, которые Кальвин ассоциирует с
человеком, выявляются в дисциплинарной ревизии Кальвином отношения
микрокосм-макрокосм. Человек как творение не является микрокосмом мира, а
скорее образом бога в его внешнем отношении контроля над миром и
ответственности за него» [129, с. 45; 191, с. 46, 42].
Переходя к анализу интеллектуальной ситуации в Англии XVII в. и роли
номинализма-волюнтаризма в складывании этой ситуации, Клаарен подчеркивает ее
пестроту, участие в ее формировании и религиозных, и теологических, и
особенно социальных факторов, что на уровне теологической парадигматики, наборов
постулатов создавало довольно сложные конфигурации, далеко не всегда
следующие контурам размежевания церковных или политических сил и интересов.
Этому способствовало и дисциплинарное оформление протестантских
теологических течений, которое обнаружило ряд производных от политической, главным
образом, ситуации различий скорее регионально-географического, чем
теологического характера: основные линии изменений на европейском континенте и в
Англии явно не совпадали.
В Англии преобладающее значение приобретала волюнтаристская теология, но
ее уже трудно было бы связать непосредственно с Кальвином или с
кальвинизмом: «Глубоко диалектическая по началу теология протеста, волюнтаристская
теология в английском мышлении XVII в. становится относительно прочно
установившейся ориентацией по отношению к творению. Историческое
противостояние традиционным онтологическим теологиям творения позволило
волюнтаристской ориентации приобрести постепенно значительный конструктивный
потенциал, а в качестве предпосылки возникновения естествознания Нового времени
волюнтаризм приобрел и эпохальное культурное значение. Но он не находился в
одиночестве, поскольку и традиционно онтологические теологи, такие как Гукер,
синтез томистской теологии с философией Аристотеля, как и элементы
Реформации продолжали занимать центральные позиции. Эта ориентация подчиняла
волю разуму и интерпретировала закон природы как правило разума, причем
бытие бога гарантировало рациональность закона. Более того, с волюнтаристской
линией мысли входили в многоразличные сочетания, эстетические теологии и
процветающие спиритуалистские теологии многих типов. Короче говоря,
мышление Англии XVII в. представляло из себя подвижную арену конфликтующих
теологии творения» [129, с. 46].
Но предпочтение Клаарен отдает все же волюнтаризму: «Тем не менее,
волюнтаристские взгляды на творение, отмеченные верой в провидение, получили
особенно широкое распространение. Волюнтаристская ориентация прорывала
границы экклисиастической лояльности, разделявшие многих английских
теологов. Волюнтаристская ориентация обнаруживала формирующую природу в
политических, этических, естественных и теологических концепциях. Она глубоко
укоренилась в личной жизни верующих. Эти исторические силы систематически
расширяли в проблемном и конструктивном отношениях сферу приложения
волюнтаристской ориентации, которая включала сравнительно новое понимание
творца, случайности и порядка творения, назначения человека как существа
сотворенного... Несмотря на схожесть между этими интеллектуальными сдвигами
XVII в. и мыслями Кальвина, здесь обнаруживались и серьезные различия.
Большинство английских авторов шло много дальше Кальвина не только в
откровенном подчеркивании атрибутов бога, но также, и это более существенно, в
развитии веры в провидение и в другие концепты, связанные с творением» [129, с. 46].
По мнению Клаарена, широкое распространение волюнтаристской теологии,
а также некоторых эстетических и спиритуалистских ориентации было в какой-то
степени результатом соответствия этих теологии тому, что составляло
отличительную черту английской религии XVII в.: «По контрасту с континентальной рели-
464
M. К. Петров
гией английская отличалась острым интересом к творению» [129, с. 49]. Клаарен
пишет: «Общий интерес англиканских, пуританских и спиритуалистических групп
выявлялся уже в том обстоятельстве, что содержанием их конфликтов были
попытки найти различные схемы церковного и политического устройства.
Относительно долгий, но мягкий конфликт гражданской войны в Англии по сравнению
с интенсивностью религиозных войн на континенте частично объяснялся и тем,
что партии были глубоко заинтересованы в творческом формировании порядка.
В Англии игра с высокими ставками шла между теми, кто хотел улучшений,
реформ или провозглашал новое общество, но ставки все-таки были не так высоки,
как на континенте, где совпадали вопросы искупления как такового с вопросами
жизни или смерти» [129, с. 49].
Этим интересом всех религиозных течений Англии к проблемам
политического, экономического, церковного творчества Клаарен и оправдывает
ограниченную Англией постановку вопроса о происхождении науки: «Ограничение
внимания английской сценой может показаться тривиальным, но английский
религиозный интерес, распространяемый на новое творчество, был, пожалуй, более
существенным, чем религиозный интерес к искуплению, господствовавший на
континенте. Кальвинисты континента мало чем отличались от лютеран и католиков
в их стремлении к компромиссу с установившейся национальной
государственностью, в их интересах было обеспечение стабильного порядка политических и
церковных институтов, которые защищали бы или воплощали работу бога по
искуплению скорее, чем по творению. Но вот в Англии кальвинизм
трансформировался в попытку реформировать творение во всем ходе индивидуальной жизни
и деятельности социальных институтов. Пуритане смело брались за
государственную власть, поскольку они были заинтересованы в построении истинного царства
бога на земле. Спиритуалистские группы, к которым часто присоединялись
эмигранты с континента, смело призывали к новым институтам образования и
работали для их реализации, поскольку они были заинтересованы в воплощении духа
и мудрости бога в новом творении. Англичане вносили свой вклад в
обособленную традицию общего закона частью и потому, что были убеждены, будто разум
и опыт являются благами творения, которыми должно быть пронизано все
общество. Общий религиозный интерес к благу и к целостности творения, к их
внедрению в новое общество, не говоря уже об избавлении от грехов, отделяли
английских протестантов от основных религиозных интересов лютеранства,
кальвинизма и римского католицизма на континенте» [129, с. 49—50].
Различие ориентации английского и континентального протестантизма
вызывало и различия в парадигматике соответствующих теологии: «Лютеранская
религия стремилась соединить работу бога по творению с его основной работой по
искуплению. Так, функциями закона и сознания были убеждать верующего в его
греховности, готовить его к искупительной милости прощения. Но английский
протестантизм отказывался признавать работу бога по творению функцией его
работы по искуплению. Это значило, что закон и порядок, воспринимаемые в
сознании, не только усиливали единый закон традиции, но подвигали как пуритан,
так и англичан к этике «прецедентов» сознания и степеней разумения в
морали, — к разработанной сложной системе моральной казуистики. Во-вторых, закон
и порядок творения воспринимаются здесь под углом зрения искупленной жизни,
а именно такой, которую характеризует порядок решения. Милость санктифика-
ции и в конечном счете прославления служит для того, чтобы направлять весь
курс христианской жизни, с тем чтобы функция закона в упорядочении
искупленной жизни уравновешивала ее функцию подготовки верующего к милости
прощения. Короче говоря, в английской религии подчеркивалась целостность и
значимость особой работы бога по творению» [129, с. 50].
Близок состав различий и между континентальным и английским
кальвинизмом: «Континентальный кальвинизм соотносил работу бога по творению с его
работой по искуплению таким образом, что искупление мыслилось как восста-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 465
новление творения. Так, хотя закон и сознание приобретали здесь большое
значение, чем в лютеранской религии, они не обретали широкого распространения
в качестве инструментов для достижения нового творения. Английский
протестантизм пронизан чувством эсхатологии, чувством нового творения, так что весь
способ обычной жизни следовало формировать в соответствии с образом
пилигрима и святого. От пуританского учения о санктификации, которое было
направлено к прославлению и к цели выработки порядка до обожествления разума
у кембриджских платоников религия нового творения была твердо
оптимистичной. Она не ограничивалась констатацией распространенности вины и греховной
порчи, но искала способов их преодоления. Спиритуалисты верили в
совершенство человека и таких институтов как университеты, пуритане работали ради
божественной дисциплины человека и правления, англичане верили в «улучшение»
положения человека средствами реформы образования. Словом, почти общая
вера англичан в эсхатологию была распространена во всей английской культуре»
[129, с. 50-51].
Иным было отношение у католиков: «Показателен также и контраст этой
религиозной ориентации на фоне контрреформации. Если классическое
лютеранство стремилось подчинить творение искуплению, то римско-католическое
движение рассматривало наличную иерархию порядков и сил как само творение божие.
Принятие на правах данности естественного окружения, в рамках которого
осуществляется религиозная жизнь корпоративного тела христова, вызывало такую
исконную приверженность к онтологии и к естественному бытию, что редко
возникал оптимизм, интерес к совершенствованию и к новому творению, особенно
когда речь шла о социальности. Обращения к творцу поддерживали статус-кво и
работали против реформ в политической, университетской, церковной или
научной жизни» [129, с. 51].
Существенные различия ориентации в континентальной и английской
религиях вели, по мнению Клаарена, к общему сдвигу интереса английских теологов
к эмпирии: «Хотя особый благочестивый интерес к великому мастерству
божественного творения выявлялся во многих религиозных традициях XVI—XVII вв.,
вера, что такое внимание обеспечивает духовное наставление, приобрела
уникальную силу только в английской религии. Этого сорта благочестивое отношение к
творению было движущим центром развития «естественной религии»,
«естественного благочестия» — концептов, которые формулировались в английских
представлениях об «естественной теологии». Если некоторые континентальные
философы в значительной мере игнорировали религию откровения и разрабатывали
великие схемы рациональной теологии (Декарт, Спиноза, Лейбниц), то их
английские коллеги разрабатывали более эмпирическую естественную теологию,
построенную на универсальном провидении бога. В самом деле, к концу XVII в. в
некоторых избранных английских кругах религиозный интерес к искуплению
редуцировался за счет роста интереса к творению» [129, с. 51].
В целом, по Клаарену, получается такая картина: «Хотя английский
религиозный интерес к творению никогда не достигал такой силы, чтобы привести к
единству проблемы искупления и государственного устройства, он все же нашел
яркое выражение в волюнтаристских теологиях. Этот интерес к творению и к
новому творению резко отличался от континентальных форм религии и культуры.
Широко распространенный во многих сферах английской культуры, этот
отличительный религиозный интерес выстраивал общую арену, где разыгрывался
плодотворный конфликт соревнующихся теологии творения, которому предстояло
сыграть выдающуюся роль в реформе естественной философии. Наиболее важные
роли на этой арене играли волюнтаристские ориентации по отношению к
творению и провидению» [129, с. 51—52].
Среди религиозных течений, оказавших значительное влияние на складывание
и развитие интеллектуальной ситуации в Англии XVII в. Клаарен особое
внимание уделяет спиритуалистам, посвящая им отдельную главу. Такое внимание по-
30 М.К. Петров
466
M. К. Петров
нятно. Если допустимо считать, что основную ответственность за появление
эмпирической научной установки, характеризуемой наблюдением и экспериментом,
несут волюнтаристско-номиналистические подходы к творцу и творению, то ин-
ституционализация науки — Королевское общество, Философские записки,
реформа образования — явно выпадают из этой линии анализа, поскольку наиболее
активная группа, усилиями которой задумывались и реализовались формы инсти-
туционализации науки — Гартлиб, Коменский, Олденбург, Гук, Гюйгенс — в
большинстве своем не была английской. Ее члены не были ни пуританами, ни
теологами-волюнтаристами, а по своей академической подготовке и постулатной
базе принадлежали как раз к теологизированному спиритуализму той формы,
которую ему придали Парацельс, Андреас и др. «В естественной философии XVII в.
волюнтаристская оппозиция к традиционным онтологическим ориентациям по
отношению к творению часто оказывалась под воздействием относительно
аморфного, но влиятельного набора идей, практик, идеалов, который можно
назвать спиритуалистской ориентацией по отношению к творению. Множество
корней этой ориентации включало радикальных протестантских реформаторов,
которые столь же критически относились к Лютеру и Кальвину, как и к
римско-католической традиции, а также разновидности платонизма Возрождения,
мистические течения в католической, протестантской и иудейской мысли, алхимию и,
не в последнюю очередь, работы, приписываемые Гермесу Трисмегастосу» [129,
с. 53].
Спиритуализм принимал в Англии самые разнообразные формы от
враждующих сект до рафинированных философско-теологических построений
кембриджских платоников: «В питательной среде спиритуализма расцвели как никогда
ранее магия и алхимия. Коменский и Гартлиб предлагали реформу университетов
и экуменическое единство всех христиан под эгидой мудрости и вдохновения
духа. Энтузиасты выдвигали множество утопических проектов, особенно в период
краткого правления пуритан. Даже не имеющие отношения к спиритуализму
трезвые пуритане ранга Перкинса и Эймза культивировали новую форму
благочестия пилигрима, в которой истинная жизнь была жизнью в духе — способом
«жития в боге». Естественные философы, такие как Роберт Фладд и Джон Ди
использовали для объяснения вселенной учение кабалы, прозрения гностиков,
различные нумерологические и психические модели... В Англии
распространялись труды Парацельса после его смерти, и медицинские, теологические и
естественно-философские труды его ученика и критика Яна Баптиста ван Гельмонта
на короткое время в середине столетия завладевали воображением Чарлтона и
Бойля» [129, с. 53].
В центр анализа Клаарен ставит взгляды ван Гельмонта [196] как достаточно
типичные для спиритуалистов, вовлеченных в события XVII в. на уровне
теологических и естественнонаучных споров: «В Англии середины XVII в. мышление
Гельмонта было действительно основной альтернативой для естественной
философии. Оно не только оказало огромное влияние на ранние работы Бойля, но
состав и контрасты отношений между Гельмонтом и Бойлем схожи с
соответствующими отношениями между другими спиритуалистами и видными
мыслителями Нового времени: между Фладдом и Гассенди, Мором и Декартом, Лейбницем
и Ньютоном» [129, с. 54].
В основном наборе постулатов спиритуализма Клаарен, следуя первому
переводчику Гельмонта Джону Чандлеру, усматривает определенную
последовательность событий, связанных с творением, грехопадением и искуплением: «Человек,
как естественный философ, «который экспериментально познал зло», вкусив от
древа познания, должен теперь «приступить к познанию самого себя и своего
творца в единстве Духа и всех других вешей в этом единстве» [129, с. 55].
Духовный монизм творения, духовное его единство и образует, по Клаарену, основную
посылку спиритуализма: «Она проявляется в одновременном чувстве истории,
прошлого, настоящего и будущего. Она же четко звучит в холистических убежде-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 467
ниях: бог — дух, самосознание — в духе, познание всех сотворенных вещей — в
полном контексте духа. До этого, по Чандлеру, естественная философия, теология
и научная практика вкушали от древа познания добра и зла, то есть они
участвовали в падении, придерживаясь ложной теологии, естественной философии и
медицины Аристотеля и Галена, которые ныне наводняют университеты и
медицинские службы. Естественные философы должны теперь обратиться к
изначальному древу жизни, заново создавать естественную философию и медицину путем
полного восстановления этих стремлений до их исходной духовной жизненности»
(129, с. 55].
Вводя историческую составляющую — творение, грехопадение,
восстановление, — парадигма спиритуалистов резко прочерчивала, по Клаарену, грань,
отделяющую язычников от христиан, и, поскольку естественная философия, «науки»
того времени держались в основном на античных авторитетах, делала предметом
резкой критики всю схоластическую католическую традицию, включая и
академические курсы подготовки интеллектуалов: «Такой взгляд на возрождение
естественной философии вел к ожесточенной оппозиции спиритуалистов ко всем
«языческим» естественным философиям, прежде всего к учениям Аристотеля и
Галена. Объектом резких нападок оказывались также схоластическая теология,
логика, медицинская диагностика. Считалось, что эти опирающиеся на
Аристотеля ереси возникли из греховного незнания творца и искажения его даров
человечеству. Трудно переоценить критическую силу этого тотального отвержения
классической и средневековой естественной философии. Некоторые
спиритуалисты выступали за возврат к знанию природы Адамом, предлагая в качестве модели
закон Моисея и книги Бытия, другие же стремились расшифровать секретное
знание, возникшее в Египте. Но такой возврат к истокам мудрости творения не
был достаточным для Чандлера и других спиритуалистов. Естественную
философию следовало теперь нормировать заново в свете христианской философии духа.
Познание «себя», «творца» и «всех других вещей» в единстве духа реализовало бы
такую точку зрения в естественной философии, с которой все знание было бы
пронизано мудростью и духом» [129, с. 55—56].
Это последнее обстоятельство — необходимость для критики «языческой
схоластики», католической традиции учета Нового завета — вводило в парадигму
спиритуализма «медицинскую» (Парацельс, Гельмонт, Коменский) по смыслу
христологическую составляющую как условие состоятельности постулатной базы:
«Знание творца вместе с его творением могло быть обеспечено только через дух
божий. В самом деле, как для естественной философии, так и для истинной
медицины, существенными были: Иисус Христос, мудрость бога в творении как
целом и человеческое понимание. Космические и эпистемологические
размерности Христа для спиритуализма выражены в заявлении Чандлера о том, что Христос
есть «архетип» медика: «...Истинная мудрость, то есть та мудрость, которая одна
лишь и стремится лечить болезни человеческого духа, суть светильник бога и
поспешающий дух, а также и истинная служанка богословия, философии и
медицины. Как истинная духовная служанка бога Иисус Христос «отражает» и
«преломляет» бога, «Отца светов» во всем видимом творении и особенно в тех
творениях, которые демонстрируют истинное духовное понимание. Истинная
служанка — «Сын Бога, которым создан весь мир и сотворены все души живые, в
котором все они живут и который заполняет все во всем. Этот Сын Бога есть
Вечный глаз Отца, который проникает через все творение» [129, с. 56].
Клаарен подчеркивает центральное положение христологии в парадигме
«медицинской» ветви спиритуализма: «Хотя не все спиритуалисты вводили христо-
логию в полном ее виде в естественную философию, заявление Чандлера о том,
что Христос есть «око отца» было одним из многих свидетельств понимания
творца как «отца светов». Эта рубрика была столь же центральна для спиритуалист-
ских теологии творения, как провидение, абсолютная и упорядочивающая
потенции бога для волюнтаристской традиции. Чандлер (и Гельмонт) использовали
30*
468
М.К. Петров
этот термин как индекс для всех мистических и духовных путей бога самого в
себе (как Отца, Сына и Духа святого) и для божественной вездесущности в
творении и человеке. Все труды бога покрывались одним обозначением — «Единство
духа». Говоря о знании в этом контексте, Чандлер писал: «Отец знает все, и
поскольку все мы в Сыне, который только и открывает Отца, мы также обладаем
правом знания» [129, с. 56—57]. Как пишет Чандлер, это знание подобно «акту
отражения, который идет вперед с чистым и ясным лучом или пучком к
конкретным вещам или объектам, понимая их или глядя через них в зависимости от
конкретных природ или свойств, сообщенных им Словом, Творцом. Этот вид знания
не является плодом запретного древа, но суть плод древа Жизни, так как Жизнь
в его Корне, а Любовь — суть его Ветви, которые тянутся прежде всего к Богу-
Творцу, в мере Образа которого Понимание само обращается интеллектуальным
актом в конкретную понятую вещь, и таким способом в этом Образе поклоняется
его Мудрости и Силе. Во-вторых, (ветви тянутся) к Ближнему, направляя такое
конкретное знание или знания к пользе, службе, благу, необходимости и
здоровью этого Ближнего в его смертной жизни» [129, с. 57].
Спиритуалистекая парадигма приобретает черты близости с тем, что сегодня
известно как коммуникационная модель дисциплины: «Здесь естественная
философия, уходящая корнями к древу жизни, является духовным процессом
понимания, выражающим собственный образ бога. Истекая от отца светов, духовное
понимание становится лучом, который схватывает конкретные творения. Признавая
многосложность творения, Чандлер утверждает, что Дух учреждает истинное
единство сотворенных целостностей. Это изначальное и простое добро
раскрывает фальшь видимой множественности: «Сыны истины ищут не слов, а вещей, не
имен, а природ, не схожестей, а реальностей, не сублимаций, а простых
сущностей» [129, с. 57].
Модель процессов жизни и света является, по мнению Клаарена, корневой
метафорой спиритуализма для творения как целостности: «Несмотря на
оппозицию спиритуализма Аристотелю и схоластике, этот базовый образ значительно
более ограничен, чем образ механизма, закона или политического устройства.
Точнее, если жизнь и свет столь тотально присущи целостности божественного
духа как отца светов, то само творение смотрится как духовный процесс,
конкретно выраженный в этих доминирующих метафорах» [129, с. 57]. По Клаарену,
приведенный выше отрывок из Чандлера демонстрирует характерный для
спиритуалистов порядок мышления: «Познание бога имеет первостепенную важность,
за ним следует познание самого себя, а затем уже и в этом свете познание всех
сотворенных вещей. Языческая естественная философия в лучшем случае
смешивает этот порядок, а в худшем — обращает его. В отрывке формулируются и две
истинные цели естественной философии: восхищенное поклонение творцу и
служба или польза ближнему» [129, с. 57—58].
Спиритуалисты, как и волюнтаристы, часто цитировали Даниила, у того же
Чандлера Клаарен обнаруживает ссылку на пророчество Даниила о «последних
временах», но ссылаются они не на чудо спасения в печи огненной, а на
предсказанное умножение знания: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу
сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение»
[Даниил, 12, 4], так что смысл ссылки оказывается радикально иным: «Текст из
Даниила цитируется не в функции «знака», как это делают волюнтаристы, он с
торжеством приводится как свидетельство полного присутствия всех условий, в
которых начинает плодоносить истина прошлого и будущего, всех времен. Прошлое
и будущее могут быть реализованы под эгидой и правлением Духа. Такое слияние
времени и истории, истинного мышления, ведения и практики всех видов и
порядков — отличительная черта спиритуализма. Будучи глубоко связанной с
творением, спиритуалистская ориентация значительно отличается от более линейных
(и новых) подходов к творению и к будущему как истории. Спиритуализм был
восторженно апокалиптичен» [129, с. 58].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 469
Гельмонт, по Клаарену, выдвигает типичный для спиритуализма набор
постулатов, подчеркивающих вездесущность бога: «Гельмонт с порога отвергал
языческую астрологическую модель влияний во имя присутствия бога во всех
сотворенных целостностях, которое формирует тем самым духовную содержательную
замкнутость, основанную на вездесущности мощи бога: «Я учу, что он, который
единым лишь словом своего доброго расположения произвел Вселенную из ничего,
есть Все во Всем и сегодня он также путь, начало, жизнь и совершенство всех
вещей». Ключевым моментом здесь выступает то, что все сотворенные
целостности являются формами божественного духа. Хотя вторичные причины отрицать
невозможно, бог «всегда остается тотальной причиной, продолжает быть постоянно
родителем всех вещей, строителем природы и ее правителем через творение.
Поэтому я учу, что как в начале ничего не сделалось ничего, так и сегодня творение
любой формы есть вещь, произведенная из ничего тем же самым творцом».
Включенность бога выступает здесь источником не только его целостности, но и
целостности его отношения к творению. Он «тотальная причина» и «постоянный
родитель всех вещей» [129, с. 59].
В рамках этого постулата о боге, который «все во всем», Гельмонт утверждает
вечность процесса творения из ничего, способов существования, жизни и
совершенства всех вещей: «В теологическом смысле это явно предполагает, что титулы
и работы бога сливаются воедино в нерасчлененное целое. Понимание бога как
постоянного творца свободных и специфических целостностей не отрицает
изначального творения, но подчеркивает процессуальную характеристику жизни,
порождения и света в божественном творении. Работа искупителя неотделима от
работы творца. Искупление не является внятно произнесенным Словом прощения,
но представляет из себя очищение и просвещение ума, так что истинное или спи-
ритуалистское понимание основывается не на чем ином, как на космической
Мудрости, на милосердии Христа, который в разуме «несет печали всего
творения», есть не кто иной, как Мудрость и Слово, благодаря которым все вещи
творятся и существуют» [129, с. 59].
В отношении к богу человек представлен и как творение и как существо,
исполненное духом: «Царство божие так или иначе приходит к нам. Мы обретаем
его или оно заново возникает для нас всякий раз, когда мы с верой действуем
интеллектуально и благодарно восхищаемся мудростью, мощью, бесконечностью,
славой, истиной Бога и т.д. в Духе. И самому богу наслаждение — пребывать с
сынами человеческими. Воистину так» [129, с. 60].
Для Гельмонта человек в духовной жизни, то есть в профессиональной жизни
интеллектуала, участвует в боге, а для бога такое участие — повод для
наслаждения. Соответствующим образом ориентированы и функции бога как отца светов:
«Как Свет Творец является принципом разума. Как Жизнь — он принцип мира
и его движения. В качестве принципа разума бог обеспечивает возможность
истинного познания. Глава Гельмонта о познании в естественных науках
начинается с максимы: «Познай самого себя», но «о способе познания души должно
молить отца Светов, а не кого-нибудь еще»... Отец светов есть также и принцип
истинного познания мира. Когда человек полагается на духовное понимание, на
«свечу Господа», он отвергает тщеславие разума, «так как скрытое знание вещей
влито в нас Отцом Светов с помощью этой Свечи». И это не просто полемика с
«пустой» схоластической эпистемологией. Гельмонт заявляет, что в эмпирическом
познании доказательность достижима, причем духовный дар милосердия придает
устойчивость акту духовного понимания и рассеивает тьму в этом поиске. «Я
вижу, — писал Гельмонт по поводу ревизии христианской философии, — что
поиск во всех вещах, которые под Солнцем, — добрый дар, нисходящий от Отца
Светов в сынов человеческих» [129, с. 60].
Короче говоря, Гельмонт утверждает, что бог как дух и отец светов —
предпосылка любого познания, включая и естественно-философское, исследование:
«Мистицизм помогает эмпирическому исследованию, поскольку для этой цели
470
M.К. Петров
обеспечено понимание в духе. Категория духовного понимания или откровения
была настолько широка, что Гельмонт считал медицину, как и все науки,
бесспорным даром Отца Светов. Медицина идет от божественной Мудрости, а не
является «традицией», берущей начало от Аристотеля и Галена» [129, с. 60—61].
Применение принципа «все во всем» к области познания размывало границы
и различия между видами деятельности человека, а также и между работами бога
(Библия, Книга Природы): «С точки зрения Гельмонта творец-дух представал и
конституирующим началом природы и ключом к ее познанию, что не позволяло
провести границы между использованием разума в культе и в медицинской
практике. Не было барьеров и между естественной философией и теологией. Этот
самоочевидно холистский взгляд на разум основывался на взгляде на природу как
на процесс, который хотя и противопоставлялся иерархии, но был открыт для
органических мотивов традиционного греческого и средневекового взгляда на
природу. Он препятствовал приписыванию, как это делал Парацельс, разума
природе (как и отношения микрокосм-макрокосм), поскольку дух обнаруживался в
процессах природы. Этот взгляд противостоял и новым взглядам на природу как
на область действия законов или как на механизм, хотя и здесь он был открыт
для их эстетических мотивов. Для Гельмонта целое во всем его богатстве обитало
в каждой части» [129, с. 61].
То же самое происходило и с «трудами» бога: «Спиритуалистская естественная
философия Гельмонта видна из его трактовки Писания. Он рассматривал
представление творения в книгах Бытия и в других отрывках мудрости литературы
Ветхого завета как нормативы для христианской естественной философии в ее
противостоянии языческой естественной философии. Они были нормативами не
в смысле внешнего стандарта, а в том, что Писание, особенно в трактовке
творения Словом и Духом, выражает ту самую дающую жизнь силу, которая
присутствует во вселенной и в человеческом понимании. Гельмонт так выражал этот
принцип: «Слово Писания есть Одно с непроизнесенным Словом, обитающем в
самом духе»... Такой подход Гельмонта к Писанию объясняет и его
специфическое использование книги Писания и книги природы или творения, которые
традиционно различались друг от друга. В спиритуализме обе книги читались вместе
и каждая имела силу авторитета для другой. Благодаря прямым переносам или
непосредственному включению фрагментов из одной книги в другую Писание
входило в содержательную структуру естественной философии, а философия в
Писание. Постулировалось, что Писание выражает тот же самый включающий
все и распространяющийся повсюду дух творения. Этот типично
спиритуалистический способ параллельного чтения двух книг вызывал резкие возражения и у
Бэкона и у Бойля» [129, с. 61—62].
Это параллельное чтение «работ» бога Гельмонт использовал для резкого
размежевание с античными языческими авторитетами: «Для обоснования своей
космологии, основанной на «христианской философии» Гельмонт эмоционально
сражался с «невежественной естественной философией Аристотеля и Галена». В
главе под этим названием он утверждает, что Аристотель определяет природу как
«принцип или начало движения, а также и покоя в телах, в которых он находится
сам по себе, а не по случаю». Гельмонт решительно возражает: «А я вот верю,
что Природа — Владение Бога, в котором вещь есть то, что она есть, и совершает
то, что ей приказано совершать или делать. Это христианское определение, взятое
из Священного Писания» [129, с. 62]. В этой конфронтации язычеству Клаарен
выделяет несколько ключевых моментов: «Во-первых, Гельмонт протестует
против редукции природы до принципа движения (или покоя) в вещах. «Но
христиане тверды в вере, что Природа вся целиком сотворена, то есть является и
телом и случаем не в меньшей степени, чем началом самого движения». Вся
природа — творение, как случаи, так и субстанции, как материя, так и движение.
Во-вторых, Гельмонт относит порядок и движение в природе непосредственно к
богу. Хотя он и говорит здесь о власти, команде, управлении, что предполагает
История европейской культурной традиции и ее проблемы 471
взгляд бога на природу в их противостоянии друг другу, он нигде не развивает
этого образа. Более того, в контексте его теологии включающего Духа
использование здесь термина «команда» не следовало бы интерпретировать как Слово
извне, но как регулярности движения самой природы, непосредственно
отнесенные к богу. Наконец, наиболее решительная оппозиция Гельмонта Аристотелю
касается концепции неподвижного двигателя, который движет все вещи. Здесь
само предположение антитетично постулату Гельмонта о свободном, творящем,
всепроникающем духе» [129, с. 62—63].
Гельмонта, как и Парацельса, «медицинская» составляющая толкает к
типичным для медиков по академической подготовке химическим аналогиям: «Развивая
постулат о природе как о целостном процессе, Гельмонт сравнивает творение с
химическим искусством. Весь реальный процесс творения был видом широкой
химии. Пирохимические препараты, анализ, синтез рассматривались и в
совокупности и одновременно как средства божественного творения, разделения и
порядка. Приверженность Гельмонта к этому великому процессу характеризует
органические мотивы его мышления... Возражая Аристотелю, Гельмонт утверждает,
что не было никакой предсуществующей и управляемой стихиями материи,
которую естественному философу следует принять на правах посылки. Его более
динамичный взгляд включал духовные Агенты, семена и ферменты. Аристотель
ошибался, «определяя каждый естественный Агент по принадлежности к
определенному виду материи, тогда как Агент в Природе, напротив, распоряжается
материей, которая включена в него». Продолжая свою аргументацию, Гельмонт
писал: «Все осязаемые Тела возникают только из одного Элемента — Воды, и это
единственное предсуществующее материальное условие, предполагаемое
Агентом». По контрасту с предсуществующей, подчиненной стихиям-элементам
материей Гельмонт предлагает единый, универсальный и простой элемент — воду —
в качестве исходной материи, из которой возникают все вещи и в которую они
возвращаются. Об этом «одном-единственном элементе» он писал:
«Универсальным началом Тел является вода, единственная материальная причина вещей,
поскольку вода обладает природой начала самого по себе в способах ее действия,
простоте и прогрессе начала, а также и в силу свойства растворения, через
которое все Тела, редуцируясь в последней материи возвращаются в воду» [129, с. 63].
Другим основанием естественной философии Гельмонта выступает его учение
о семенах — зародышевых началах, «таящихся» в вещах. Гельмонт писал:
«Существует, таким образом, два основных или первых начала Тел и телесных Причин
и не более двух, а именно Элемент Воды как начало «из чего» и Фермент
Закваски или осеменяющее начало «благодаря чему», которое ответственно за вещи.
Семя производится непосредственно в материи, которая, получив семя,
становится благодаря ему данной конкретной вещью, получающей жизнь, или средней
материей данного существа, берущей на себя заботы вплоть до конца этой вещи,
до возвращения в конечную материю» [129, с. 64]. Клаарен замечает: «Этот
концепт подчеркивает нередуцируемую специфику или преемственное тождество
сотворенных вещей. Более того, утверждается, что специфика вещей должна
выявляться в терминах жизни, которую эти вещи ведут» [129, с. 64].
Попытки Гельмонта сформулировать новые принципы познания природы
строятся в основном на критике четырехпричинной сущности Аристотеля и в
этом смысле концептуально и тезаурусно связаны с Аристотелем, отталкиваются
от него: «Гельмонт подчеркивает уникальную специфику сотворенных семян.
Критикуя Аристотеля за ту легкость, с которой тот принимает идею ритма жизни
в теории возникновения и разрушения, что угрожает идентичности, тождеству
вещей: «Ошибочно поэтому утверждать, будто разрушение одной веши есть
порождение другой». И далее он добавляет: «Никакого движения не происходит в
вещах, которые обладают жизнью, и поэтому самой лишенности не дано
приобрести силу Принципа. Что же касается семян, то здесь существует лишь один
прогресс, продвижение и зрелость». Выступая против взглядов на материю как на
472
M.К. Петров
распределенный по стихиям носитель разрушения и рождения, Гельмонт старался
локализовать преемственность, а также уникальность и специфику вещей в
божественных семенах. Попытка не была столь примитивна, как это может показаться
по языку формулировок, поскольку Гельмонт иногда называет семена также и
«формами». В отличие от форм Аристотеля, формы Гельмонта должны
находиться не только в вещи, но и в акте. Таким образом, мельчайшие единицы природы
суть процессы, которым Гельмонт приписывает некий вид вечной деятельности.
Подобная интерпретация временной специфики и уникальности таких процессов
подкреплялась тем взглядом, что семена или формы скрыты» [129, с. 65].
По ходу сражения с Аристотелем Гельмонту и самому приходилось идти на
концептуальные осложнения: «Космология Гельмонта пыталась локализовать
реальность конкретных вещей в терминах материальной и действующей причин,
поскольку «материя, а также действующая причина вполне достаточны для любой
произведенной вещи». Его космология основывается на различении между
семенами, как «непосредственными активными принципами в вещи» и ферментами,
как «фоновыми порождающими причинами». «Поэтому фермент удерживает
Природу в отдалении от истинного Принципа, отличаясь этим от действующей
причины, так что действующая причина признается в качестве непосредственного
активного принципа в вещи, которым являются семена, а также и в качестве
движущего Принципа для порождения или конституирующего начала данной вещи.
Но Фермент часто раньше семени и действительно производит семя из себя».
Таким образом, в сотворенных вещах есть двойная действенность — внешняя и
внутренняя сила в специфических творениях. Этим способом исключается
доминирующее положение телеологической каузальности Аристотеля: «Поскольку
действующая причина содержит все цели в себе, как если бы это была инструкция
о том, что следует делать ее собственными силами, что конечная внешняя
причина схоластов, которая имеет место только в искусственных вещах, полностью
исчезает в Природе, так как в действующей естественной причине ее собственное
знание о целях и диспозициях влито богом» [129, с. 65—66].
Гальмонт так суммирует свою критику в адрес космологии Аристотеля: «По
правде говоря, я не стремился здесь следовать за рассуждениями Аристотеля,
который учит, что Цель является первой из Причин, поскольку в другой работе я
достаточно полно продемонстрировал, что Аристотель был совершенным
профаном, когда он рассуждал о Природе в целом. Поэтому и его Максима ложна как
в рамках самой Природы, так и вне ее. Если же и мы говорим о боге как о
Первом Двигателе и Архетипе всех вещей, а также и невидимого мира, то говорим в
убеждении, что в нем нет какой-либо приоритетности причин, но все они
соединены в целостное Единство, в котором все веши суть только одно. Подобным же
образом рассматривая все, что делается или порождается в Природе, мы видим,
что делается это или порождается из необходимости Семян, так что Семена в
этом отношении являются Принципами возникновения и естественными
Причинами вещей и действуют ради целей, которые самим им неизвестны, но известны
богу. В силу необходимости Христианской Философии Конечная Причина не
имеет места в Природе и имеет силу только для искусственных вещей» [129,
с. 66].
Критикуя Аристотеля и уже потому находясь в негативной зависимости от его
космологической модели, Гельмонт вслед за Аристотелем вынужден говорить и
об элементах-стихиях: «Третьим основанием естественной философии Гельмонта
выступает его учение об элементах, которое выглядит весьма туманным. Его
отрицания много яснее, чем его утверждения. Но спиритуалистские постулаты его
теории элементов, особенно Воздуха, дали начало ряду интересных открытий...
Гельмонт един со многими спиритуалистами в отрицании традиционной теории
четырех элементов-стихий. Здесь он, подобно Парацельсу, упор делает в
основном на полемику: «Те, кто до меня полагал, что во всех Поколениях Рождения
Вещей смешивались четыре Элемента, трактовали эти элементы по языческому
История европейской культурной традиции и ее проблемы 473
образцу, пытаясь связать их брачными узами или подчинить их друг другу, исходя
из их расположений или устройств» [129, с. 67].
Критика Гельмонта опирается в основном на Писание: «Гельмонт утверждает,
что поскольку в библейских текстах о творении не упоминается об огне, то
считать огонь основным несмешанным «элементом» было бы очевидным язычеством:
«Но нигде ничего не написано о творении огня, поэтому я не могу признать его
в числе Элементов и отвергаю вместе с язычеством». Не можем мы также вместе
с Парацельсом признать, будто огонь, как Свет и Звезды, является надлунным
Элементом» [129, с. 67—68].
Исключение огня из числа элементов-стихий позволяет Гельмонту поставить
под удар не только теорию четырех элементов, но и распределение по элементам
традиционного набора качеств, «агентов»: «Двигаясь дальше, Гельмонт дает
понять, что четырехэлементная теория предполагает целостный органичный или
иерархический взгляд на мир, хотя Аристотель и допускает наличие противоречий
среди элементов. Резкая атака Гельмонта на весь этот комплекс построена на том,
что с исключением огня как элемента разрушается вся система Аристотеля.
Против взгляда, по которому четыре качества, ассоциируемые с четырьмя
элементами, являются исходными агентами, которые в различных вещах могут быть и
подобными и находящимися в противоречии друг к другу, Гельмонт выдвигает свою
основную доктрину о том, что бог творит специфические семена: «Все, что
делается или рождается в Природе, делается в силу необходимости действующих
семян». Эти семена не обладают сознанием, но они специфичны, поскольку они
«сотворенные дары» Господа. В общих терминах отношения семян «всецело
основаны на наиболее полном и глубоко закорененном принципе форм или
семян — на полной их неспособности к противоречию». Короче говоря,
радикальная специфичность и вечность семян таковы, что даже их отношения
встроены в их особые свойства. Приняв творение таких сущностей, говорить о сходстве
или противоречии в лучшем случае излишне. А в худшем — противоречия ведут
к умножению «отношений», к концепту, который стремится приписать
разумность земной природе. Направляя этот аргумент против схоластов, Гельмонт
настаивал: «В конечном счете они должны признать вместе со мной, что в природе
нет противоречия, а есть оно лишь среди свободных и избирательных агентов»
[129, с. 68].
Отмечая, что и здесь аргументация строится на представлениях о природе
бога, Клаарен пишет: «Такая резкая оппозиция по отношению к
противоречивости подкреплялась постулатами о боге. «Но если мы считаем эти вещи даже
сверхъестественными, в боге, они и в этом случае не дадут противоречий и
потому не смогут они истекать из Бога в природу как противоречия». Если нет
противоречий в Боге, то нет их и в мире Духа и в Природе. Аргумент Гельмонта
состоял в том, что Бог — «Миролюбец», и поскольку Он добр, таково же и Его
творение. «Ведь и в самом деле мы прежде всего считаем истинной нашу веру в
то, что Бог — повседневный Автор и Правитель Природы и что все в его
собственном творении старается в меру возможности выразить и засвидетельствовать
творца в его доброте. И далее, мы верим в то, что он ненавидит раздоры и
противоречия, а также и в то, что бог фонтанирующее начало Любви... и мира, так
что, если бы он был в состоянии построить Вселенную без склок и противоречий,
то нет никакого сомнения, что именно так он и поступил». Гельмонт утверждает
духовное единство на всех уровнях — на уровне качеств самих по себе и на
уровне всех «систем или наборов вещей». Исходя из такого устройства мира, он
квалифицирует учение схоластов о «войне» теплого и холодного как языческое, тогда
как на самом деле они «подчинены воздуху и постоянно терпят друг друга» [129,
с. 68-69].
С отказом от четырехэлементной теории связаны у Гельмонта и изменения
взглядов на медицину: «Отрицание Гельмонтом общего взгляда греков на природу
как на тонкий баланс элементных сил подрывал и интерпретацию здоровья, как
474
M.К. Петров
баланса четырех гуморов и болезни, как нарушения баланса этих гуморов,
причиняемого противоречивостью. Он писал: «Неверно, что огонь материально
входит в смешанный состав тел. Поэтому отпадает четырехсоставный тип Элементов,
Качеств, Темпераментов и Соединений, а также и оснований Болезни». Пагель
справедливо замечает, что Гельмонт открывает таким способом «новый» концепт
болезней, которые являются действующими причинами или «семенами».
Полемика Гельмонта против Галена и схоластов, упускающих истинные причины
болезней из-за того, что их внимание фокусируется на болезни вообще (единственное
число), ведет к пониманию того, что нужно лечить болезни (во множественном
числе), и чем больше для этого будет химических средств, тем лучше» [129, с. 69].
В понимании арсенала ятрохимии Гельмонт близок к алхимикам: «В более
темной манере Гельмонт, подобно большинству алхимиков, принимает «триа
прима» — воздух, землю и воду или альтернативно соль, серу и ртуть. В согласии
с восстановленной Парацельсом традицией Гельмонт не считает «триа прима»
собственно компонентами всех вещей, а скорее рассматривает эту тройку, как
принципы, являющиеся конституирующими для правильно понятой природы. Но
в соответствии с приматом воды Гельмонт все же говорит о «триа прима», как о
модусах этого основного элемента. Более того, он четко аргументирует мысль о
том, что земля не может признаваться первичной — она способна превращаться
в воду. Много сложнее дело обстоит с воздухом. Опираясь на библейское
изложение творения, Гельмонт тесно связывает воду и воздух: «Я называю эти два
элемента примагенными или перворожденными по отношению к земле» [129,
с. 69].
Это «первородство» воздуха получает у Гельмонта разъяснение на базе книг
Бытия: «Воздух представляется одновременно и специальным местом и агентом
божественного. В главе «О причинах и началах естественных вещей» Гельмонт
различает внешнее и все же действенное творение Отца в отношении к семенам
от внутренней их силы: «Поскольку в семенах, которые наполняют и содержат
всю сущность вещественности непосредственной действенности, основным
деятелем выступает не сам Отец, а Архей». Этот Архей — непосредственный и
внутренний действующий принцип — содержит в себе все цели. Соответственно
конечная причина «не должна рассматриваться в различенной вещности от
причины действующей». Гельмонт добавляет, что во всех «действующих» естественных
причинах цели «влиты естественно Богом». Таким образом в каждом порождении
«есть обращенный внутрь принцип осеменения, действенности, размещения,
направления». Упоминаемые здесь цели, влитые в действующие причины, и
множество функций «обращенного внутрь» принципа порождения, особенно
функции размещения и направления, предполагают наличие воздушного агента
(Архея) в действующих причинах, который все же не отрицает их специфичности,
спонтанности, вечности. Функция Архея выглядит похожей на управление ростом
или жизнью» [129, с. 69—70).
В другой главе Гельмонт идентифицирует Архей с воздухом: «В некоторых
вещах этот воздух распространен и обилен, в других сжат и вязок, в третьих
гомогенно истончен. И во всех вещах один и тот же дар Воздуха, в котором
содержится плодородие рождений и семян». Показывая, что такой воздух находится за
«шелухой» видимых Семян, Гельмонт писал: «Главный Работник состоит из
объединений жизненного воздуха как из материи, напоминающей семя, он и есть
наиболее обращенный внутрь стержень, содержащий плодородность семян».
Главный работник не только причиняет объединение материи и семян, но сам
является этим союзом, «состоит» из него» [129, с. 70].
По мнению Клаарена, воздух правомерно рассматривать в качестве третьего
основания учения Гельмонта: «Воздух (Архей) вполне заслуживает рассмотрения
как третье основание естественной философии Гельмонта благодаря его
специфической объединяющей силе в вещах. Так или иначе, но значение Воздуха
подчеркивается в главе, названной «Газ Воды». Гельмонт утверждает, что воздух —
Исторая европейской культурной традиции и ее проблемы 475
«дух или дыхание жизни в материальном отношении суть Газ воды». Таким
образом, обширные размышления Гельмонта о силах воздуха приводят его к
обоснованию газообразной реальности в природе, которая не смешивается с паром
и не может быть редуцирована к воде» [129, с. 70].
Независимо от того факта или случайности, что сформулированный Гельмон-
том концепт газа оказался весьма продуктивным в исторических экспликациях,
сам Гельмонт использовал его для объяснений силы газа и духа: «Главу о газе
Гельмонт заключает «демонстрацией из творения», показывающей, что Бог творит
Небеса (воздух), которые управляют разделением вод: «Поэтому Священное
Писание называет воздух разделителем, а не разрушителем или уничтожителем вод.
Не было бы правильным и приписывать воздуху и другие обязанности в
дополнение к тем, которыми ему дано наслаждаться Работником и Властелином всех
вещей». В прямой последовательности Гельмонт переходит от божественного
Духа, носящегося над водами как их Творящий Властитель, к воздуху, который
является «примагенным», но разделяет воды, к газу (Архею), который
специфицирует семена и управляет ими. Существенно, что этот газ свободен от пара и
точно так же, как дух разделяет первичные воды. Дух действенен благодаря силе
Архея и присутствует в вещах как газ. Здесь и в самом деле любопытный сплав
духовной теологии, космологии и «твердого» научного открытия» [129, с. 71].
Такой сплав теологического, космологического и научного вообще типичен
для Гельмонта: «Это справедливо и для его взглядов на познание, которое он
называет «духовным пониманием» и общую задачу которого определяет в согласии
с традицией мудрости спиритуализма строкой из Иова: «Но дух в человеке и
дыхание Вседержителя дает ему разумение» [Иов (32,8); 129, с. 71—72]. Хотя
духовное понимание «процветает в Духе божьем и ищет эмпирических приложений»,
его определение, по замечанию Клаарена, все же возможно: «Любой разговор о
духовном понимании в естественной философии или в химии связан с
появлением спектров секретности, личных откровений, с общим ментальным хаосом.
Но для Гельмонта духовное понимание не было ни секретной тропой, ни путем,
на котором открытия санкционируются личным откровением. Проводившиеся им
эмпирические исследования насыщены теологией и предполагают целостную
спиритуалистическую ориентацию скорее на творение, чем на хаос. Его видение,
направленное на непосредственные применения новой химии и естественной
философии, коренится в его представлении о познании, как одновременно
мистическом и эмпирическом» [129, с. 72].
Характерной чертой «духовного понимания», как и познания вообще, Клаарен
считает присутствие в таких процессах неформализуемых мистических моментов
сопричастия или контакта человеческого разума с чем-то таким, что
человеческим разумом определенно не является. Клаарен не настаивает на том или ином
истолковании этого мистического опыта (как Розак, например [157], но
подчеркивает его распространенность и схожесть известных по автобиографиям
описаний таких случаев: «Видения, если не обращения, о которых обычно говорится,
не изучались сколько-нибудь систематически в истории теологии и того менее в
исторических исследованиях по естественной философии. И совсем уже мало
внимания привлекало сходство описания случаев как в «религиозной», так и в
«научной» традициях. Примечательно сходство описываемого Гельмонтом
видения и обращения с описаниями по длительной теологической традиции от Павла
до XVII в. Такие описания почти всегда достигают кульминации в
детализированных воспоминаниях об ошибках прошлого и в показе обещанного будущего...
Реформаторы теологии, как и естественной философии о своих видениях и
обращениях рассказывали обычно в повествовательной форме. Делалось это часто
много позже события и суть события затрагивала, как правило, состав их рефор-
мационных усилий. Рассказы включали обычно обращение к божеству или
явление бога реформатору, что выступало наиболее значительным событием любого
видения. И наконец, рассказ о видении или обращении включал перечисление
476
M. К. Петров
ошибок прошлого и описывал способ достижения нового и славного будущего»
[129, с. 72].
Такая в общем-то широко распространенная и литературная по смыслу форма
несла, по Клаарену, определенную коммуникативную и пропагандистскую
функцию: «Хотя такие описания обращений могут пониматься психологически,
подобная их интерпретация требует скрупулезной реконструкции внутренней жизни
реформатора. Написанный отчет обычно выражает результат длительной борьбы. С
исторической точки зрения такие отчеты, особенно свидетельства естественных
философов, часто фиксируют различные формы благочестивого отношения к
творению, причем одна из главных задач состояла, похоже, в том, чтобы выразить
специфику собственного призвания реформатора, с тем чтобы вовлечь и других
в реформационную деятельность» [129, с. 72—73].
Клаарен упоминает о соответствующих свидетельствах Лютера, Кальвина, Гер-
сона, Биля, Оккама, Декарта и детально останавливается на отчете Гельмонта,
который «обратился от стоицизма к мистической христианской философии» [129,
с. 73]. Ссылаясь на «сон» или «интеллектуальное видение», Гельмонт пишет, как
он видел свою душу в свете бога, отца светов, как душа его решилась проверить
себя в представшем ей Образе, повинуясь присловью: «Кому же знать дела
человеческие, как не Духу человека в нем самом?». Для Гельмонта свет и дух в
просветленной душе есть не что иное, как сам бог» [129, с. 73—74].
Центральное сообщение его видения состоит в том, что с данного момента
истину следует искать эмпирически, исследуя природу самих вещей: «В этот
момент я узнал: что так уж получается, что мы не способны сознавать, что
понимаем некоторую вещь, пока главный Агент этого хрупкого и бренного понимания
не повернет своей силы к средствам чувств; поэтому также мы не помним того,
что мы понимаем, пока то же самое действие не проникнет в нас или не
прорастет в нас благодаря чувственному порядку или управлению». Вместе с тем,
обращение к чувственному эмпирическому пониманию есть одновременно и путь,
которым разум приходит в полную зависимость от бога: «Тогда я увидел, что
поиск во всех вещах, которые под солнцем, — добрый дар, исходящий от Отца
Светов к Сынам человеческим» [129, с. 74].
Гельмонт не только прокламирует обращение к чувственному опыту, но и
делает из этого ряд методологических выводов: «Этот пункт получает у Гельмонта
дальнейшее развитие в его отрицании пути разума, метода анализа и синтеза. В
резком контрасте с акцентом Декарта на чистых и четких идеях Гельмонт
признает, что раньше и он доверял «скорее бытию Разума, нежели здравой истине
вещей». Теперь же он считает путь чистого разума религиозным
идолопоклонством и моральным оправданием «отсебятины» в ущерб богу. Как раз духовное
«милосердие» и «скромность» в понимании делают возможным для естественного
философа эмпирический поиск истины вещей. Духовное понимание объединяет все
виды познания (философский, научный, религиозный, моральный) в живой
службе Богу и Ближнему» [129, с. 74].
Клаарен анализирует также описание обращения у Бэкона, каким оно
представлено в неопубликованной работе 1605 г. «Мужественное рождение времени»
с подзаголовком «Великое восстановление власти человека над вселенной». «Эта
ранняя работа была решающей в изменении понимания Бэконом стратегии
естественно-философских исследований. Она показывает, что Бэкон верил, будто его
особым призванием как автора было реформировать искусства и естественную
философию на благо человечеству. И Бэкон также противопоставляет свое новое
призвание прежним бесплодным увлечениям административной реформой. В
молитве «Богу-Отцу, Богу-Слову и Богу-Духу» Бэкон просит: «Чтобы наши
человеческие интересы не вставали на пути интересов божественных, чтобы открытие
дороги чувствам и внесение новых светильников в природу не подорвало бы веру,
не повело бы к затемнению наших умов, не закрыло бы пути к познанию
божественных таинств, но чтобы интеллект был чистым и свободным от всех фантазий
История европейской культурной традиции и ее проблемы 477
и, добровольно подчиняя себя божественным непреложным истинам, мог с верой
относиться к вещам, которые принадлежат вере». Ясно, что Бэкон здесь
формулирует религиозно-моральные условия, которым должен соответствовать разум,
прежде чем он встанет на путь чувств» [129, с. 75].
Бэкон далее детально оговаривает «необходимость скромности перед Богом и
милосердия к человеку, если следует преодолеть гордыню и идолопоклонство
путей Аристотеля, а также и домыслы Парацельса» [129, с. 75]. «Философия
Аристотеля и алхимия рассматриваются как старые и разрушительные отклонения
от религиозно-научного единства Адама, который был призван покорять и
обрабатывать землю в изначальном творении. Короче говоря, и у Бэкона
представлены все элементы описания обращений» [129, с. 75].
Клаарен, понятно, особое место уделяет соответствующему отчету Бойля:
«Описание обращения Бойля известно только в фрагментах, к тому же оно имеет
открыто религиозный характер, а не естественно-философский. Одно из
автобиографических замечаний связано с его двухлетним пребыванием юношей в
Женеве, где он проходил курс обучения. Описывая себя в третьем лице Бойль
сообщает: «В Женеве произошел с ним случай, о котором он всегда вспоминал, как
о самом выдающемся событии во всей своей жизни». Испытывая страх перед
бурей и громом, которые перепугали, но не «смяли» его, он дал клятву
прилежания. В частности Бойль пишет: «Благочестия следует придерживаться не столько
ради обретения небесной жизни, сколько ради служения благочестием Богу», а
оно включает долг изучения самой религии. Иными словами, центральным
сообщением в обращении Бойля было утверждение того, что жизнь состоит из
служения богу. Выраженное в этом обращении благочестие имело очевидные
выявления в пожизненной привязанности Бойля к религиозному и научному
мышлению» [129, с. 75-76].
Рассматривая описания обращений как манифесты жизни или символы веры,
хотя они и оформлялись обычно задним числом, Клаарен сопоставляет отчеты
Гельмонта, Бэкона и Бойля: «Несмотря на ряд общих мотивов в этих более или
менее стилизованных описаниях обращений — подчеркивание роли чувств,
отрицание Аристотеля, различение божественных и человеческих целей по
отношению к новой философии — налицо эпохальное различие между Бэконом и Бой-
лем, с одной стороны, и спиритуалистами — с другой. Это станет ясным по ходу
дальнейшего обсуждения содержания самосознания новых программ, которые
различными способами соотнесены с описаниями обращений, поскольку эти
обращения вряд ли должны пониматься сами по себе. Но так или иначе, а
спиритуалисты ясно выражают свои обращения в «видениях», что точно указывает на
одновременность, как на отличительную черту их мысли. Так, описание
обращения у Гельмонта является микрокосмом его мышления в целом, особенно его
взгляда на то, что истинное познание есть целостное единство духовного
понимания по отношению к богу, человеку и вещам» [129, с. 76].
Клаарен пишет об особенностях позиции Гельмонта: «В описании отношения
познающего человека к богу Гельмонт опирается на постулат о том, что Образ
Божий в человеке отмечен скорее Духом, чем Волей или рациональным
мышлением». Он говорит о боге как об архетипном Свете и Слове в душе и разумеет
под этим нечто большее, чем модель. Образ божий в человеке определяется в
терминах «действующего Творца», действенного Духа. Данность вечности и единства
бога сообщает душе человека бессмертие и единство. Это вынуждает Гельмонта
отвергать так называемую «трехчастность» души у Августина и дуализм Таулера,
учившего о духовной душе и материальном теле. Акцент Гельмонта на единстве
души не позволял ему разделять понимание и жизнь. Он писал о боге как о
«пище в нас» и как о «таянии разума в боге» [129, с. 76]. Тем же определялось
и его отношение к волюнтаризму: «Присутствие постулата Гельмонта о духовном
единстве души в равной степени очевидно в его оппозиции волюнтаризму.
Обсуждение образа божьего, который, по его утверждениям, ближе к душе, чем душа
478
M. К. Петров
к самой себе, завершается заявлением, что воля лишь случайная реальность, в
лучшем случае «добавочный талант» в истинном, то есть в духовном понимании.
Контраст с волюнтаристской традицией вряд ли мог бы быть более очевидным.
К тому же Гельмонт добавляет, что на Небесах нет воли» [129, с. 76].
Антиволюнтаристские тенденции вплетаются и в критику Гельмонтом
Аристотеля и схоластов: «Против Аристотеля, который попросту «не осведомлен о
творении», а также и против последующих схоластических определений человека как
«существа разумного» Гельмонт выдвигал резкое возражение: «Мир повсюду
вводится в заблуждение и самообман рациональным мышлением. И конечно же
происходит это прежде всего потому, что каждый полагает, будто Разум есть Образ
Божий, наше наибольшее Сокровище и т.п.». Разум не только горд, зол и шаток,
но и многосложен. От имени духовного единства бога и человека Гельмонт
доказывает, что схоластическая традиция не только игнорирует милосердие и
скромность как изначальный дар Отца Светов, но и потеряла уже единство
духовного понимания в множественности разума. Религиозная гордыня, моральное
зло и научная ложь совпадают в оправдании Аристотелем Падения.
Множественности, активности, стяжательству и гордыне рационального человека Гельмонт
противопоставляет единство, пассивность, самопожертвование и скромность
Духовного человека, который обладает пониманием» [129, с. 76—77].
Для Гельмонта эмпирическое познание различных конкретных процессов
было неотделимо от духовной истинности и потому качественно отличалось от
языческого: «Языческому познанию Гельмонт устанавливает общие пределы и
указывает на сотворенные семена, как на общий объект познания христианской
естественной философии: «Языческие школы могут, конечно, иметь
Историческое знание, наблюдать сложные или случайные вещи, а также вещи регулярные
и необходимые, что является знанием памяти о сделанных вещах. Они могут
также приобрести навык демонстрации, что является знанием приложения вещей
к мерам, знанием измерений. И наконец, они могут обещать рациональное
знание, поскольку оно выводимо из этих двух средствами дискурса. Но понимать
эти вещи (то есть естественные причины) от возникновения первой причины не
дано никому без специального поощрения Христа... Они по необходимости не
осведомлены о сотворенных вешах и о Семенах. Корнях, о знании о них.
Познание природы поэтому действительно предпринималось язычниками на основе
детских догадок и давало весьма малые результаты». Короче говоря, языческое
познание, неосведомленное о творении, было непродуктивным и
сверхъестественным. Но знать семена — совсем другое дело: «понимать» вещи есть путь Духа»
[129, с. 77].
Одной из характеристик этого эмпирического духовного познания-понимания
является связь с резко отрицательным отношением Гельмонта к рациональности:
«Рациональность ведет начало от Падения. Такой переполненный гордыней разум
подсекает нить жизни в своем императивном стремлении к власти над душой.
Способность разума к почти неограниченному продуцированию все новых и
новых мыслей Гельмонт находит огорчительной с религиозной, моральной и
научной точек зрения. Разум хвастает многообразной активностью фабрикации: «Он
не производит ничего кроме смутного и темного знания или мышления, которое
не более того, что оно и есть на самом деле — выражения в словах способности
к дискурсу, привитой нам, смертным, грехом». По контрасту духовное понимание
в своей сущности скромно. Оно отмечено способностью воспринимать дух и
материю. Гельмонт так формулировал эту мысль: «Не верю, что Агент более
совершенен, чем Пациент». Опираясь на единство божественного Духа, понимание
воспринимает истинную природу вещей в основном благодаря вниманию к ним»
[129, с. 77-78].
Второй характеристикой духовного понимания является его
непосредственность. И здесь снова антагонистом выступает разум: «Я увидел и понял, что разум
голая и беззащитная вещь, поскольку для каждого события Разум не предлагает
История европейской культурной традиции и ее проблемы 479
ничего кроме домыслов об истине, с помощью которых он хоронит
интеллектуальное понимание... Ведь и в самом деле, Разум не в коем случае не может
считаться причиной, частью или сущностью причиняемой вещи и того менее
способность рационального мышления в человеке проникает в вещи... Но разум —
ментальное, проблематичное или путаное Бытие, которое лишь является.
Разум — не что иное как диспозиция, обнаруженная дискурсом с очертаниями
или Идеями, которых совместно вскармливает Воображение... Поэтому по
необходимости Разум обязан быть нестабильным по природе от своей
Субъективности». Будучи в лучшем случае ментальным, а в худшем — грубой игрой
воображения, разум так далек от контакта с духовной истиной вещей, что он способен
продуцировать лишь неопределенность» [129, с. 78].
По контрасту с этой хлипкой способностью к рациональной путанице Гель-
монт показывает достоинства и надежность духовного понимания: «В понимании
истина непосредственна, поскольку понять истину не означает ничего иного
кроме скромного ухаживания интеллекта за самими вещами. В самом деле,
понимание знает вещи как они есть, и поэтому понимание равным образом
становится истинным, проявляя заботу о самих вещах». Духовное понимание
заслуживает доверия не только потому, что оно беспрепятственно процветает в Боге, но
и потому, что оно «делается истинным» конкретными вещами. В одном месте он
говорит о нашем познании, как о «трансформируемом» конкретными вещами. И
все же активная сторона такого познания не остается в небрежении, поскольку
«в Духе интеллект сам по себе трансформирует самого себя, проходя или
проникая в понятую вешь». В присутствии бога завершается истинное объединение с
вещами и их понимание» [129, с. 78—79].
Третьей эмпирической характеристикой духовного понимания является, по
Клаарену, открытие: «Следуя Писанию, по которому вера без дел мертва, Гель-
монт так ставит вопрос: Если я учу вещам, которые полезны, то делаю это,
подчиняясь Команде не зарывать в Землю свой возрожденный Талант». Он развивает
это положение в главе «Бесплодность логики», нападая на отсутствие
«изобретательности» в традиционном резонировании: «Если подытожить все то знание,
которое мы получаем средствами демонстрации, уже содержалось в нас раньше и
стало лишь несколько более отчетливым с помощью Силлогизма. Признается
действительно важной не изобретательность как служба Наук, а определенный
порядок следования или дискурса к тому, что уже обнаружено. В конечном счете
ни то ни другое не имеет отношения к Наукам, но лишь к словам. И одна только
Мудрость, Сын вечного Отца Светов, дает Науки или Знания. Науку можно
обрести одним-единственным способом: молиться, искать и стучаться». Во всей
своей работе Гельмонт нападает на уже накопленное знание, часто повторяя: надо
искать не в словах, а в вещах. Молиться, искать и стучаться символизирует напор
его спиритуалистской ориентации» [129, с. 79].
С учетом этих трех особенностей эмпиризма Гельмонта Клаарен анализирует
общую ситуацию в химии как составной части академической подготовки
медиков: «В рамках этого холистского постулата о Творце, а для Гельмонта никакого
другого не существовало, сама химия получала новую ориентацию, а занятия
химией — новый стимул и новую актуальность целей. Ее унаследованные формы
были распространены на естественную философию и космическую и
божественную по охвату и практике. Не довольствуясь объединением традиционных
алхимических искусств с медициной, которая и сама получала новое понимание
скорее как дар Отца Светов, чем как человеческая традиция, Гельмонт
расширительно толковал такую ятрохимию как великую философию, называя ее разно:
«естественной», «химической», «христианской» [129, с. 79].
Такая перестройка химии и медицины не обходилась, понятно, без критики
традиции: «Утверждая, что Аристотель и Гален «ничего не смыслили в природе»,
поскольку они не были осведомлены о творении, Гельмонт отвергал медицину
Галена в ее статусе теоретического раздела естественной философии. В то же
480
M. К. Петров
время он до предела распространял долгую традицию практической химии,
пропагандируя твердую и четкую теологическую ориентацию, основанную на
библейской истории творения и разделения, которая в свою очередь была представлена
в алхимии. Такая универсальная химия, соразмерная процессам природы,
становилась новым царством медицины, которое управлялось динамической моделью
Великого Врача (Иисуса Христа). В противоположность текущим медицинским
установкам новая практика включала милосердие ко всем ближним. Призвание
естественного философа, профессия врача и более практические искусства пиро-
химика — все сливались воедино в великой христианской естественной
философии, предполагающей Духовного Отца Светов. Весь процесс природы
рассматривался, как божественный химический процесс творения, разделения и
совершенствования» [129, с. 79—80].
Гельмонт, таким образом, приходил к новому определению химии не только
уже как к искусству анализа и синтеза, хотя в определение включалось и то и
другое: «Химия становилась восстановлением изначального совершенства всех
вещей, исполненной Духом деятельностью человека, которая в помыслах и делах
осознавалась как работа самого Творца: «В конце концов Химия готовит по ходу
своего совершенствования универсального Спасителя, силами которого все вещи
вернутся в первичное бытие, обретут их изначальное назначение, исходные пятна
Тел будут выведены, их оставит античеловеческая зловредность, что создаст для
них возможность обрести великое и невообразимое восстановление и очищение».
Поскольку совершенствование и очищение одно и то же, заниматься химией —
значит реализовать работу Бога по восстановлению» [129, с. 80].
Никола Лефевр, последователь Гельмонта и автор учебника по химической
естественной философии, дает, по Клаарену, еще более полное определение:
«Химия делает своим законным и адекватным предметом все естественные вещи,
изъятые всемогущей рукой Господа в Творении из Бездны Хаоса».
Соответственно: «Химия есть не что иное как Искусство и Знание самой Природы, то есть с
ее помощью мы изучаем Принципы, из которых состоят и складываются
естественные тела, ею открыты для нас причины и источники их рождения и
разрушения, а также всех изменений и превращений, которым они подвержены». Для Ле-
февра, как и для Гельмонта, эта великая химическая практика и философия есть
«истинный ключ к Природе» [129, с. 80].
В целом, как замечает Клаарен, у Гельмонта «цель христианской естественной
философии — прославление Бога и польза человечеству» [129, с. 81]. В
отношении к такому истолкованию целей Клаарен сравнивает позиции Гельмонта,
Бойля и Бэкона: «Этот смысл цели изначально признан в работах Бойля, но не
был до конца осознан в работах Бэкона. Его призыв к науке, плодотворной в
делах, был парадигматической основой всей его программы. Его знаменитые
«Мысли и заключения» (1607 г.) начинаются в типично критическом ключе.
Медики виноваты в том, что не имеют никаких целей за пределами собственной
гильдии, так что «их искусство отвергает обвинения в суде, где судит сама
гильдия». Естественная философия неспособна возглавить усиление человеческой
власти над природой, поскольку она рядится в тогу собственного совершенства.
Алхимический поиск нового не сложился в упорядоченную науку. Маги витают
«на крыльях собственного воображения». Наконец, механика ограничивается
улучшением своих старых изобретений, воспроизводя тем самым старое в
больших масштабах. Короче говоря, для Бэкона «цель никогда не была определена»
[129, с. 81].
Клаарен оговаривается, что позиция Бэкона не сводится к критике: «При всем
том Бэкон не придерживался просто негативного взгляда на всю эту деятельность.
В «Мыслях и заключениях» он, к примеру, усматривает «знаки» в этих усилиях,
направленные к науке, обладающей властью над природой. Эта наука строго
параллельна истинной религии, как это явствует из притчи Христа о таланте, она
должна быть движима целью подтверждения веры делами: «Поскольку в природе
История европейской культурной традиции и ее проблемы 481
практические результаты не только средства к улучшению благосостояния, но и
гарантия веры. Закон религии, по которому человек обязан подтверждать свою
веру собственными делами, имеет прямое отношение и к естественной
философии. Науку также следует узнавать по ее делам. Истина открывается и
устанавливается скорее именно по свидетельству дел, чем по свидетельству логики или даже
наблюдения. Из этого следует, что улучшение человеческого ума и улучшение его
жребия является одной и той же вещью». От этой доктрины дел в религии и науке
один лишь шаг до взгляда Бэкона на силу и пользу познания. Для Бэкона именно
в этом конкретная ценность цели службы Богу и человеку» [129, с. 81—82].
Клаарен отмечает и сильные и слабые стороны позиции Гельмонта: «Хотя
очевидно холистская ориентация Гельмонта в большей степени антирациональна,
чем соответствующие ориентации некоторых философски утонченных
спиритуалистов, она все же менее эсотерична, чем ориентация алхимиков. Более
существенно то, что его эмпирические, как и мистические и философские взгляды
содействовали появлению новой науки. В дополнение к его собственным «твердым»
научным открытиям он выступал против Аристотеля, против схоластической
естественной философии, нацеливал на изучение конкретных сотворенных вещей,
был пионером экспериментального исследования и подчеркивал человеческую,
как и божественную цель естественной философии. Вместе с тем,
приверженность к холистским суждениям серьезнейшим образом ослабляла спиритуализм
по сравнению с волюнтаризмом, который мог позволить себе множество видов
дискриминирующих суждений. А это могло развиться в формирующую эпоху
критическую и конструктивную ориентацию даже и по отношению к
спиритуализму. Это развитие, уходящее корнями в дифференциацию начала Нового
времени, и составляет содержание остальных глав» [129, с. 83].
На тематику выстраивания новой, по сути дела научной ориентации, Клаарен
заходит как на проблему синтеза гетерономных и гетерогенных составляющих под
давлением растущего интереса англичан к творению вообще и особенно к новому
творению: «Коль скоро возникновение естественной науки нового времени
выявилось в середине XVII в., это событие предполагает как волюнтаристскую, так
и спиритуалистскую теологии творения. Но в острых конфликтах и
компромиссах, которыми отмечена эта эпоха, постулаты волюнтаризма были
доминирующими, поскольку они создавали возможность развития трезвой критики традиции и
вместе с тем вносили вклад сравнительно нового понимания бога в
формирование культуры Нового времени. Менее связанная с тотальным отрицанием
традиции, чем спиритуализм, волюнтаристская традиция была более избирательной как
в позитивном, так и в негативном отношениях. Она позволяла вести критическую
и позитивную конструктивную селекцию как на почве традиционного
онтологического прошлого, так и на почве использующих принцип все или ничего
перспектив спиритуализма. К тому же, в отличие от холистской силы спиритуализма
в теологии религии и естественной философии, что было и слабостью
спиритуализма, волюнтаристическая ориентация успешно использовала неувядаемые
эстетические отношения к творению» [129, с. 85].
В качестве самостоятельного фактора и катализатора процесса Клаарен особо
выделяет чувство новизны, обновления, не смешивая его с секуляризацией: «В
Англии возникновение естественной науки Нового времени было отмечено
воздействующим на формирование эпохи чувством новизны, в терминах которого
ставились новые и старые вопросы и вступали в игру различные базовые
постулаты. Четкая теология выступала на правах предпосылки определенных сторон
метода, познания, новой идеи природы. Почти все исследователи отмечают
распространенность чувства новизны в естественной науке Нового времени, но, как
это ни странно, только некоторые осознают, что именно это чувство и есть
наиболее примечательный аспект новой науки и философии. Прекрасная работа
Р.Ф.Джоунза «Древние и Новые» действительно признает, что чувство новизны в
английском мышлении XVII в. было таким повсеместным культурным феноме-
31 М.К. Петров
482
M.К. Петров
ном, что оно требовало перемен и в институтах от университета до церкви и в
таких различных дисциплинах, как теология и естественная философия. Но
другие исследователи полагают, что это было простым поворотом от теологии к
науке. Для подкрепления этого взгляда часто используют концепты революции и
секуляризации, а также и определения «естественных наук» XIII в., часто
неправомерно вычитывают их в работах более ранних авторов, которые сами в себе
видели естественных философов и реформаторов» [129, с. 85—86].
Это чувство новизны задело, по мнению Клаарена, и теологическую
парадигматику, прежде всего понимание единства бога: «Наиболее резкий контраст
между средневековой теологией и восприятием реальности бога мышлением
XVI—XVII вв. выявился в новом понимании единства. Концепции единства
постоянно оставались в центре осмысления бога в западной культуре, но решающим
в теологическом отношении было новое восприятие единства бога как единства
реальности, мысли и опыта» [129, с. 87]. Смысл этой новации состоял, по Кла-
арену, в личностно-индивидуальном восприятии всех составляющих единства:
«Говоря более точно, базовым постулатом XVII в. было единство индивидуальной
реальности. Бог, творение, Я рассматривались прежде всего как индивидуальные
единства по противоположности к холистским единствам спиритуализма и
иерархическим единствам традиционной аристотелевской и средневековой мысли,
причем каждое из таких единств понималось в основном соотнесенным внешне с
другими. Доминирование главным образом внешних отношений вступало в
конфликт с внутренними в основном отношениями бога, человека и мира в
спиритуализме и с порядком иерархически соотнесенных сущностей в отношении к
Бытию в классической средневековой традиции. Так или иначе, но это различие
выражалось в теологических терминах. И поскольку человеческому разуму, воле
и чувству было отказано в истинно творческой силе, теологическое сознание
насыщалось работами таких очевидно новых авторов как Бэкон, Бойль, Ньютон,
Декарт, а также и авторов вроде Гельмонта и кембриджских платоников» [129,
с. 87-88].
Клаарен считает, что это новое понимание единства имплицитно содержалось
уже в волюнтаристской ориентации позднего Средневековья как различие
абсолютной и упорядочивающей потенций бога: «Эта рубрика обретала растущий
смысл, когда божественное единство представлялось в терминах крепнущей
индивидуальности. Постоянные дебаты о том, что бог способен сделать, что сделал
или что будет делать, вытекали скорее из этой ориентации, чем из менее
диалектических формулировок о причинности и божественной силе у Фомы, который
исходил из постулата иерархического единства Бытия. Но вот для новых главное
в единстве бога было не в принципе Бытия самого по себе и не просто в его
божественности как высшем Бытии (хотя это редко отрицалось). Вместо этого
реальность бога фокусировалась и концентрировалась на понимании его как
верховного индивида. Новый смысл божественного единства вытеснял восприятие
единства как Бытия самого по себе. Не менее важной была и оппозиция по
отношению к спиритуалистскому единству божественного как включающему все.
Новые постулировали уникальную индивидуальность бога по контрасту с
божественным целым» [129, с. 88].
С тенденцией к индивидуализации единства Клаарен связывает и появление
у творца новых эпитетов: «Этот особый взгляд очевидно присутствует в термине
«Автор». Если зачинатели протестантской Реформации, не мудрствуя лукаво,
прямо, если не буквально, понимали бога в библейских терминах Господь, Царь
и т.п., то теологи XVII в. столь основательно обжили Провидение, что это
предполагало уже постулат о боге как о возвышенном и величественном индивиде. В
самом деле, столь характерный для того времени концепт Провидения был
распространенным систематическим утверждением новой ориентации по отношению
к богу как индивиду. Рост осведомленности о божественной трансцендентности
вообще характерен для великих религиозных изменений, но новая ориентация
История европейской культурной традиции и ее проблемы 483
выходила за пределы как современного ей спиритуалистского возрождения,
которое стремилось уравнять трансцендентальность с целостностью и
универсальностью, так и традиционного средневекового взгляда, по которому быть
трансцендентальным значило существенно превосходить нечто иное. Трансцендентность
индивидуального единства бога означала, что он отличен от своего творения и
часто противопоставлен ему, точно так же как и его творения были в свою
очередь в высшей степени различены и противопоставлены богу и другим его
творениям. Словом, знаковость, отличенность (хотя и не замкнутая) стала признаком
нового восприятия трансцендентальности (сопутствующая проблема отношений
между индивидами-атомами, простыми идеями, сознаниями и т.п. — была
действительно новой)» [129, с. 88—89]. Концепт взаимодействия, таким образом,
трактуется Клаареном как следствие переноса внимания на индивидуальное.
Выдвижение на первый план индивидуального начала вызывало напряжения
и сдвиги во всей системе категорий божественности: «Новое восприятие единства
дало начало радикальной дифференциации, контрастирующей с нарочитой
нерасчлененностью спиритуализма и с сохранением «цепи бытия» в классическом
Средневековье. Эта дифференциация была отмечена новым восприятием Бога как
личности. Сам вопрос о личности Бога, если его отделить от специфических три-
нитарных аспектов, был заново поставлен в дебатах позднего Средневековья с
классическим Средневековьем относительно примата божественной воли или
интеллекта. Мыслители XVII в. склонны были принимать первую альтернативу,
развивая понимание личности Бога в противовес как безличной божественности
классического Средневековья, так и систематизированному антропоморфизму
спиритуализма. Их новое чувство мощи бога можно бы считать и простым
изменением акцентов, но слишком уж знаменательным представляется небрежение
теологии XVI—XVII вв. к всепоглощающему интересу Средневековья к
божественной любви человека к Богу. На место центральной категории выдвигается
теперь вера, как решающая реакция на мощь бога и на формирующее личность
воздействие его обещаний. Это особенно заметно в понятии о божественной
потенции, где акцент ставится на активности Бога. Даже столь различные
спиритуалисты как Гельмонт и кембриджские платоники оценивали любовь к Богу по
практическим делам и скорее в моральных, нежели созерцательных мерках
религиозной жизни» [129, с. 89].
К следствиям акцента на индивидуализации Клаарен относит и падение
иерархий и появление материализма как гносеологической проблемы: «Что касается
творения как такового, то здесь идея иерархических порядков природы и
причинности уступает место эгалитарному пониманию. Хотя многие исследователи
признают этот сдвиг, его все же нельзя понять адекватно в отрыве от протеста
Нового времени против спиритуализма. Холистское единство творения,
полностью охваченного информацией Духовного ума, уступило место ясному
утверждению материального творения. Для нового мышления материя не была ни
одухотворенной, ни вечно предсуществующей (сопутствующий материализм становится
актуальной проблемой)» [129, с. 89—90].
Пытаясь оценить масштаб событий, Клаарен пишет: «Величина изменений в
этой теологии творения была значительной. Хотя она не идет в сравнение с
постулатом ранних христиан о боге в Христе, она примерно того же порядка, что
и эпохальный постулат Патристики и Августина о Боге как о Вечном Бытии. По
степени изменений эта величина ближе, пожалуй, к постулату диалектики и
процесса, присущих божеству в послегегелевском мышлении XIX в.» [129, с. 90].
Клаарен приводит несколько свидетельств в пользу парадигматичности
изменений: «Одним из показателей эпохального характера изменения в теологии
творения раннего Нового времени была разработка ею особого вида
парадигматической аргументации в пользу существования Бога. Точно так же, как в теологии
раннего Средневековья, у Августина, где постулировалось участие в
божественном Логосе, вырабатывалась онтологическая аргументация, отличительным зна-
31*
484
M. К. Петров
ком мышления XVII в. была теологическая аргументация, которая
распространялась на множество индивидуализированных работ и устройств, видимых в
творении. Божественная индивидуальность постулировалась во вмешательствах,
которые прославляли сотворенных индивидов. Такую аргументацию следует строго
отличать от популярного космологического доказательства в мышлении Высокого
Средневековья, которое постулировало эмпирическую каузальность в основном
как случай продемонстрировать Первую Причину. Для телеологической
аргументации характерно присутствие в центре пестроты устройства конкретных
сотворенных индивидов и их богатство действенности, поскольку эта аргументация
интерпретирует бытие Бога в основном в терминах его мощи» [129, с. 90].
Есть и другое отличие: «Телеологическая точка зрения предполагает
распространенные в последовательность утверждения, которые создают чувство
движения от одной индивидуальности к другой. Такой подход был в резком контрасте
к способу аргументации, основанной на спиритуалистском постулате
совместимости, синхронного присутствия Бога, Я и мира. Основная нагрузка на
божественное просветление в «духовном понимании» способствовала использованию
онтологического аргумента часто в той форме, что любая истинная мысль есть
доказательство наличия Бога. Это совпадение доказательства и видения было
разрушено в мышлении раннего Нового времени» [129, с. 90].
Но само вытеснение этой новой аргументацией конкурирующих
теологических ориентации не было, по мнению Клаарена, скачкообразным: «Конечно же,
новая теология творения не просто заменяла средневековую теологическую
ретроспективу, на почве которой она возникла, или спиритуалистскую перспективу,
с которой она боролась. Несмотря на растущий престиж волюнтаристских
ориентации, расходящиеся концепции божественного были отмечены печатью
компромиссов. И все же, по мере того, как эпохально новое единство реальности и
опыта преодолевало традиционное иерархическое единство бытия и холистское
единство спиритуализма, систематизированный консерватизм онтологической
теологии творения уступал дорогу новому прогрессивизму. Новое чувство
исторической напряженности появилось по контрасту как к классической
средневековой имманентности, так и к неувядающей спиритуалистской наличности.
Новый «пилигрим» сменил средневекового «святого», и приниматься в расчет
стала скорее деятельность во исполнение воли бога, нежели пребывание в его
присутствии или обитание в его духе. Мировоззрения, занятые главным образом
запросами на бессмертие и приверженные к добродетелям созерцательности,
уступали дорогу практическому утилитарному духу, который, в свою очередь, и
управлялся и воспроизводился Иеговой, а Иегова правил по собственной свободе и
к собственной славе. Связи между Богом как Бытием и Его иерархическим
порядком, как и связи между Богом как Духом и Его телом творения растягивались
по мере того, как на первое место выходило новое религиозное и культурное
единство Бога как индивидуального Автора субъективного творения» [129, с. 90—
91].
Клаарен замечает: «Эта тихая реформация в теологии, которая обычно
опускается в стандартных исследованиях, подчеркивающих «схоластицизм» теологии
XVII в., многое сделала для объединения культуры раннего Нового времени как
в содержательном, так и в формальном планах» [129, с. 91].
Выходя на основную линию заключительных анализов, которые
ограничиваются главным образом работами Бэкона, Бойля и Ньютона, Клаарен прежде всего
отмечает общее для них чувство новизны и вместе с тем разнообразие в оценках
текущей ситуации, целей и средств ее изменения: «В XVII в., особенно в средние
его десятилетия, английская культура была отмечена живыми веяниями, которые
были чем-то большим, чем простая открытость для изменений опыта и
институтов. Интенсивные религиозные и политические давления, оказываемые
различными группами, создавали климат, который навязывал изменения многим
обычно тяжелым на подъем пуританам и англичанам. Часто определяемые как рево-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 485
люционные, эти распространенные и осознанные склонности к изменению были
в высшей степени амбициозными и программными. В ретроспективе в общем-то
ясно, что многие из участников, особенно на уровне интеллектуальной культуры,
находились под влиянием событий протестантской Реформации и
Римско-католической Контрреформации. В способах осмысления изменений и участия в
изменениях ранние модели Реформации принимались на правах посылок и
исходных пунктов. Различные религиозные и иные взгляды Реформации
воспринимались как данность, способная задать общее направление, если не детализацию,
многих новых проектов» [129, с. 91—92].
На раннем этапе зачинателем, понятно, выступает Бэкон: «Когда Бэкон,
работы которого приобрели значительное влияние в середине XVII в., искал в
«Продвижении образования» среди современников участников для предлагаемой
им реформы образования, он писал: «Мы своими глазами видим, что в нашем
возрасте и в возрасте наших отцов, когда Бог соблаговолил призвать Римскую
церковь к ответу за ее выродившиеся манеры и церемонии, а также и за разные
противные доктрины, выстраиваемые для оправдания злоупотреблений, он в то
же самое время определил Божественным Провидением, что во всем должно
наступать обновление и новый рост всех других знаний. Постулат провидения
пробуждал дух реформ в основном среди протестантов, но его Бэкон обнаруживал и
в контрреформации Иезуитов. Он считал, что этот дух должен прилагаться ко
всем областям знания. Бойль и Королевское Общество воспринимали этот дух
реформ как работу Бога в их собственное время, а также и как задачу, которую
новый человек должен выполнять во славу Бога. Такое отношение присутствовало
и у Гельмонта, захватывало и таких различных спиритуалистов, как Гартлиб и
Коменский, которые предлагали реформу образования, и таких как
кембриджские платоники, которые были глубоко озабочены проблемами этической
реформы» [129, с. 92].
Бэкон, по Клаарену, разрабатывает новую теологию реформы в естественной
философии: «По противоположности как возрождающемуся спиритуализму,
который он критикует по работам Фичино и Парацельса, так и устаревшим
средневековым подходам он предлагает осознанную теологию творения как истории.
Если спиритуалистские теологи подчеркивали одновременность начала и конца в
наличной полноте времени, что допускает осознание средствами видения,
исследования и искусства, то Бэкон видит прошлое, настоящее и будущее как
различенные, хотя и не разделенные, соотнесенные, но не смешанные. История
напряжена, ясное чувство исторического движения формирует и направление и
реформу естественной философии» [129, с. 92].
Основной задачей реформы выступает у Бэкона завершение творения: «Его
интерпретация истории зовет к завершению изначального творения, особенно по
части реализации мандата Адаму на власть и контроль над остальным
подчиненным ему творением. На основании этого древнего мандата, который выражен в
формуле «знание — сила», Бэкон требовал использования в настоящем наличных
сил человека» [129, с. 92]. На этой почве он расходится со спиритуализмом: «Он
призывает изучать и властвовать, как это делал Адам. Утилитарность заложена
уже в самом древнем акте творения». В отличие от Гельмонта в
мировоззренческой схеме Бэкона признаются дистанции, как и отношения между командой и ее
исполнителем, Богом и человеком, прошлым и настоящим. Эта дистанция
опосредуется как мощной волей Бога, так и волей человека. Здесь нет включающего
Духа, который был бы в состоянии перекрыть разрывы» [129, с. 93].
Критика предшественников принимает у Бэкона форму дискриминирующей
селекции: «Критикуя древних греков и средневековую традицию — их он считал
порождением Падения, — Бэкон не позволял себе огульных осуждений и
отвержений. Его суждения о схоластике были критическими, но избирательными,
историческими, но не апокалиптическими. Человек эры Адама был совершенен как
в моральном или религиозном смысле, так и благодаря добродетели своего зна-
486
M. К. Петров
ния. Таким образом, совершенство означает, что человек как творение бога
обладает и силой творить благо и силой знания творения, каково оно есть. В
двойном падении человек потерял не только свою моральную крепость, но также силу
непосредственного знания творения. Без добродетелей «милосердия» и
«скромности» человек как познающий обречен либо на невежество, либо на
фабрикацию домыслов «исполненного гордыней» воображения. Ум следует очистить, с
тем чтобы мы могли познавать. Взгляд Бэкона на моральную подготовку для
последующего познания также является критическим контрастом по отношению к
смешению спиритуалистами порчи и ошибки со скромностью и истиной. Бэкон
утверждает, что двойное Падение продолжалось в оправдании моральных и
научных ошибок Аристотелем и схоластами. Отсюда он упорно настаивает на реформе
настоящего, как на восстановлении первоначального творения и реабилитации
его сил. Короче говоря, мыслитель нового времени способен поднять
критическим рычагом напластования традиции, пройдя за нее к творению. Но для этого
вовсе не требуется отрицающая историю регенерация творения, каким
восстановление представлено у спиритуалистов» [129, с. 93].
Бойль и Ньютон, по Клаарену, следовали в основном схеме Бэкона: «Бойль,
который часто подчеркивал необходимость изначальных добродетелей
скромности и милосердия, заходил так далеко, что даже заново открыл для своего времени
атомное строение материи в божественном «оригинале». Интереснее, пожалуй, то,
что Ньютон, похоже, чувствовал себя более обязанным спиритуализму. Франк
Мануэль убедительно показывает, что предложенная Ньютоном хронология
древних цивилизаций, особенно когда речь идет об искусствах и социальных
устройствах, была подтверждением и догматической защитой изобретений культуры
Израиля. Несмотря на определенные натяжки в его взглядах на историю, Ньютон
считал, что иудейская культура была исходной не только для греческих
достижений и средневековых неудач, но также и для большинства древних свершений
Египта. Ясно, что и он, как Бэкон, кембриджские платоники и другие, искал у
древних изначальное благочестие, мудрость, знание. Он обнаружил
примечательное расхождение понятий у древних — не только различные «активные
принципы», но также (в отличие от Мора и Кадворта) предвосхищения об универсальной
гравитации и ее математического представления, как и материю атомов» [129,
с. 93-94].
В этом отношении Ньютон был в русле практики своего времени: «Попытки
Ньютона локализовать многочисленные культурные изобретения и философские
открытия в древних началах творения приводили его, как и большинство
спиритуалистов, а также и Бэкона и Бойля, к критике схоластической традиции через
показ ее корней и отклонений от оригинала. При этом он был и более радикален
и более избирателен в своей критике, чем даже кембриджские платоники. Он не
отдавал почестей мышлению Платона и Плотина как величайшей мудрости,
приобретенной из иудейских источников, а также и настаивал вопреки Мору и Кад-
варту на том, что присутствие Бога не передается через некую «пластическую
силу» вторичного уровня. Не был для него Бог и Душой мира. Короче, Ньютон
оставался верен своему классическому заявлению в «Общей Схолии», что бог
«трансцендентный Властитель Вселенной». Это новое утверждение Творца и
Провидения, подчеркивая волю и свободу могущественного Иеговы, было в то же
время значительно ближе к Богу Израиля как Властителю истории, чем любое
утверждение платоников или кембриджских платоников о божественности Духа.
Основанное на постулате Властителя природы и истории творение у Ньютона
представало скорее линейным, чем циклическим, как это было у спиритуалистов»
[129, с. 94].
Это новое чувство реформы, призывающее вернуться к творению, развернув
это творение в новое будущее, частично предугадывалось в общей прогрессивной
задаче: «Опровержение философий» Бэкона открывается развернутой критикой
античности: «Никто не в состоянии измерить огромность ущерба, который они
История европейской культурной традиции и ее проблемы 487
причинили прогрессу». Бэкон здесь сравнивает прогресс с плодотворной работой
скорее пчелы, чем с простой работой по собиранию муравья или с чисто
спекулятивной работой паука. Заключая довольно предвзятым истолкованием значения
текущих событий, он заявляет, что теперь настало время исполнить пророчество
Даниила [12, 4]: «Дальние вояжи и путешествия явили глазу множество вещей в
природе, которые могут бросить новый свет на человеческую философию и
науку, проверить опытом мнения и заключения древних. Не только разум, но и
пророчество соединяет то и другое. Что еще мог разуметь пророк, который,
упоминая о последних временах, сказал: «Многие пройдут и умножится знание»?
Разве не то он имел в виду, что прохождение или обход вокруг земли и усиление
или умножение науки были предопределены в ту же самую эпоху и в то же самое
столетие?». В ранних работах Бэкона его понимание библейского пророчества
[Даниил, 12, 4] как указывающего на будущую реформу естественной философии
опиралось на его основной образ Христа. Он доказывал, что в притче о таланте
Иисус наиболее ясно призывал людей к творческой работе как в морали, так и
в науке» [129, с. 94-95].
Позже Бэкон внесет ряд деталей в программу реформы естественной
философии: «В «Новой Атлантиде», в одном из наиболее зрелых его эсхатологических
заявлений, предполагается создание Колледжа Шести Дней Работы. Задача
Колледжа — восстанавливать первоначальное творение, призывая Бога и человека к
совместной работе. Если призыв Гельмонта предполагал возвращение к началу,
то Бэкон, перенося движущийся вперед процесс на будущее, мечтал о том, что
будущие ученые станут новыми священниками знания и его роста. Вообще,
эсхатология Бэкона, как и его взгляды на прошлое, существенно отличается от спи-
ритуалистской ориентации. Выходя за пределы общего согласия относительно
предполагаемой реформы, обращение Бэкона к известным эсхатологическим
местам Писания, таким как пророчество Даниила, совершается в более линейном
историческом континууме. Поскольку ход творения напряжен, его концепция
научной утопии лишена радикально небесной (видение или возвращение) формы
спиритуалистских мистических утопий» [129, с. 95].
В наиболее четком виде, по мнению Клаарена, эта концепция Бэкона о
совместной работе бога и человека выражена в последней части «Великого
восстановления»: «Все зависит от постоянной фиксации взора на фактах природы, с
тем чтобы получить их образы такими простыми, каковы они есть. Ведь бог
запрещает выдавать мечту нашего воображения за модель мира, он скорее
милостиво разрешает нам описывать открытие или истинное видение следов Творца,
запечатленных в его творении... Таким вот способом действуешь ты, о, Отец!
Даешь видимый свет как первые плоды творения, вдыхаешь в лицо человека свет
интеллектуальный как венец и совершенство света, направляешь и защищаешь
эту работу, которая исходит от твоего благоволения и возвращается к твоей
славе». Это культурный и религиозный оптимизм высокого порядка. Вера Бэкона
в творение и в новое творение пыталась прорвать рамки запроса Возрождения на
античную древность и бессмертие и запроса Средневековья и Реформации на
спасение. И то и другое надлежало преодолеть попыткой Нового времени
переделать мир» [129, с. 95—96].
В близком плане идут и рассуждения Ньютона: «К концу XVII в. причастие
Ньютона к чувству прогресса стало несколько менее плодотворным частью и по
причине его более дисциплинированных исторических исследований. В
опубликованных после смерти «Наблюдениях о Пророчествах Даниила и Апокалипсисе
св. Иоанна» утверждается: «Глупость Интерпретаторов состояла в том, что они
пытались предсказать времена и события этого пророчества (св. Иоанна), как
если бы бог решил их самих назначить в Пророки. Этой суетливой возней, они
не только разоблачали сами себя, но и подрывали доверие к самому Пророчеству.
Замысел Бога состоял совсем в другом. Он дал это Пророчество (св. Иоанна) и
Пророчества Ветхого Завета вовсе не для поощрения человеческого любопытства,
488
M. К. Петров
позволяя изощряться в предсказании вещей, но для того, чтобы по их
исполнении эти Пророчества можно было интерпретировать по событию. Таким образом
манифестируется его собственная Провиденция, а не способность предвидения
Интерпретаторов». Принимая постулат Провидения, Ньютон воздерживался от
спекуляций, но оставался примечательно открытым для восприятия знаков своего
времени. Он предпосылает критике замечание: «В самом конце пророчества
(Даниила и Иоанна) должно быть настолько глубоко интерпретировано, чтобы
убедить многих. Тогда, — говорит Даниил, — многие пройдут к и от, и умножится
знание... Таким образом, часть этого Пророчества в том, что его нельзя понять
до последних времен мира, в том и достоинство Пророчества, что оно еще не
понято. Но если последние времена, времена открытия этих вещей наступают
ныне, как это вытекает из великих успехов последних Интерпретаторов, мы с
большей смелостью, чем когда-либо, всматриваемся в эти веши» [129, с. 96].
Клаарен замечает: «К сожалению, Ньютон не идентифицирует этих
«интерпретаторов», не эксплицирует он и знаки конца. Вместе с тем реальность его надежды
явно предполагает работу Бога во всей истории творения от начала до конца.
Такая вера по меньшей мере удерживала его от объятий со спиритуалистами. Она
задавала также и направление новому чувству реформы» [129, с. 96—97].
Чувство реформ, как характерная черта раннего Нового времени вызывало, по
мнению Клаарена, индивидуализацию и дифференциацию: «Сама структура
эпохального чувства реформы в мышлении раннего Нового времени отражала в
основном волюнтаристскую теологию творения. Это особенно наглядно выявлялось
в самом движении дифференциации. Структуру этого процесса можно
представить в трех измерениях: резкое различие между Творцом и творением; четкая
дифференциация работ Бога; растущая дифференциация человеческих сознаний
или, в более широком истолковании, работ нового человека» [129, с. 97].
Различие между Творцом и творением Клаарен рассматривает главным
образом в плане божественной трансцендентности: «На решающих поворотных
пунктах западной мысли критическое значение приобретали глубоко осознанные
концепции божественной трансценденции. Проведенное Августином в критические
для Римской империи времена различие между вечной неизменностью и
конечностью во времени способствовало также укреплению понимания личной и
преходящей реальности... В мышлении раннего Нового времени понимание Бога как
верховного индивида, что подчеркивало водящую личность, мощь и не в
последнюю очередь трансцендентную инаковость, функционировало глубоко
критическим и конструктивным способом особенно по отношению традиционной и спи-
ритуалистской ориентациям на творение. Бэкон воспринимал себя выполняющим
решающую роль пророка критической и творческой значимости религиозной
веры Нового времени. Его в высшей степени полемическая и политическая
программа реформы образования для Нового времени ставила своей целью
провозгласить возможность и содействовать становлению целостности и относительной
независимости естественной философии среди других и наряду с другими
дисциплинами. Бойль, не менее яркая пророческая фигура, значительно развил
программу Бэкона. Вместе с тем эти религиозные и телеологические предприятия
Бэкона, которые пришпоривали новую ориентацию, выражали веру в
трансцендентного Творца и ее критическое значение путем четкого размежевания между
Богом и его творением. В ранней рукописи «О работах Бога и о работах человека»
он противопоставляет мощи и совершенству творца слабую продуктивность его
творений: «Бог увидел содеянное им и нашел, что это очень хорошо. Но человек,
когда он рассматривает дела рук своих, находит, что все это тщеславие и
томление духа». Трансцендентная суть Творца была также и в центре небольшой
работы 1603 г. В ней Бэкон писал: «Верю, Бог настолько свят, чист и ревностен, что
невозможно ему восхититься любым творением, если оно не работа его рук» [129,
с. 97-98].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 489
В смешении Творца и творения усматривались корни атеизма Нового
времени, который «касался в основном мощи Бога, а не самого его существования —
трансцендентальный Творец принимался как данность» [129, с. 98]. Смешение
было и одним из пунктов критики спиритуализма: «Если у Бойля критика
спиритуалистов концентрировалась на Гельмонте, хотя Парацельс и другие также не
выпадали из поля зрения, то мишенями Бэкона были Парацельс, Телезий и Фи-
чино». Бэкон меняет форму критики от жалящей по отношению к схоластам до
содержательной, но достаточно острой критики спиритуалистов. Типично в этом
смысле его обвинение Парацельса: «Смешивая божественное с естественным,
мирское со священным, ереси с мифологией, Вы, о кощунствующий обманщик,
разрушаете и человеческую и религиозную истину... Если Софисты опустошили
опыт, то Вы предали его. Свидетельство, полученное от вещей, подобно маске,
покрывающей реальность, и требует осторожного анализа. Вы же подчиняете его
предзаданной схеме интерпретации» [129, с. 99].
Бойль углублял критику Бэкона: «Хотя по началу его привлекало мышление
Гельмонта особенно потому, что его всю жизнь интересовала практическая
медицина, он довольно скоро выработал собственную позицию: «Я полагаю, что те
аргументы, которые Гельмонт и другие извлекают из провиденции Бога насчет
излечения всех болезней, не так уж убедительны и в некотором смысле
богохульны. Поскольку Бог не связан уже обязательством продолжать жизнь и здоровье
греховного человека, предпочитая человека животным, которые никогда его не
оскорбляли, то нам достойно лишь скромно благодарить его, если он среди своих
творений рассыпал средства лечения для каждой болезни. Но у нас нет никакого
права обвинять его, если он этого не сделал». В другой ранней работе Бойль
предостерегает против клятв, которые постулируют некоего вида божественность
в сотворенных вещах, и делал это на том основании, что такое идолопоклонство
отрицает сильный характер чести и достоинства Бога» [129, с. 99].
В более общем плане идет критика основных философских течений:
«Возможно более существенным является сопротивление Бойля диффузии божественного
в мире. В его «Понятии Природы» Бойль возражает против очевидного смешения
у Спинозы бога и мира в концепте «натура натуранс». Он протестовал и против
попыток некоторых спиритуалистов приписать жизнь, если не ум, природе,
критиковал кембриджских платоников за их концепцию отношения Бога к миру как
вида «пластической силы». Типично и то, что Бойль отвергал заключения Гоббса
о том, будто Бог допускает редукцию к материальному принципу. Вообще
подозрительно относясь к спекулятивной основе философии Гоббса, где тесно
переплетались метафизика, теология, космология, Бойль, используя свою гибкую и
отработанную практику дискриминирующей аргументации, нападал на Гоббса как
за неправильную интерпретацию бойлевых экспериментов с воздухом, так и за
общую теорию воздуха. Бойль доказывал, что вместо апелляций Гоббса к тому,
что Бог мог бы сотворить, истинный экспериментатор должен бы начать с
корпускулярной текучести воздуха, с того, что Бог действительно сотворил. Таким
образом, Бойль не только оставался бдительным стражем границы, разделяющей
Творца и творение, от нападений как спиритуалистов, так и материалистов. Он
также практиковал общий метод критики, который препятствует теории и
эксперименту смыкаться с теологией, которая характерна для трансцендентного» [129,
с. 99-100].
На близких позициях стоял и Ньютон: «Ньютон также проводил различие
между Творцом и творением, подчеркивал Волю Бога, называя его Автором мира.
По сравнению с Бойлем он теснее был связан с древней теологией, но
модифицировал ее традиции для подтверждения своего антитринитарного тезиса об
Одном Боге. Отвергая первенство по времени древнего политеизма, он исходной
формой считал монотеизм. Ньютон не заходил так далеко, как кембриджские
платоники, которые обнаруживали Бога в самой природе. Бог оставался
трансцендентной причиной гравитации, а не силой или духом гравитации. Эти крити-
490
M. К. Петров
ческие модификации показывают присутствие в мышлении Ньютона глубоко
укоренившегося постулата о трансцендентной воле Бога» [129, с. 100].
Дифференциация «работ» Бога, практических отношений Бога к сотворенному
им миру и форм продукта таких отношений представлена Клаареном в основном
как процесс первичного дисциплинарного размежевания: «Систематическое
разделение работ Бога по отношению к миру высоко ценилось в середине XVII в.
Бойль, например, заключал в скобки проблемы искупления, когда он приступал
к проблемам дисциплинарного изучения и прославления божественной работы
творения. Не отрицая искупления, он отвергал спиритуалистский взгляд Гельмон-
та, по которому работы Бога, включая персоналии Троицы, должны пониматься
совместно в том смысле, что Иисус Христос, Сын Отца, понимаемого как
космическая мудрость и духовность, существен для истинных философии, медицины
и химии» [129, с. 102].
Дифференциация шла и на уровне форм конечного продукта: «Бойль также
резко различал два термина в традиционном бинарном представлении двух
великих книг Бога — Книги Природы или творения и книги Писания, существенной
для искупления, тогда как Гельмонт преднамеренно смешивал их, как и все
благочестие с наукой в своей книге [196]. Тщательно различая две книги Бога, Бойль
основное внимание уделяет Книге Природы, творения. Четкое различение как
работ, так и книг Бога в деизме не следует все же включать в эти ранние события.
Не следует также и смешивать совершенно иной взгляд Реформаторов с этими
более поздними событиями, поскольку в целом реформационная практика
проверки истин Писанием ставила книгу Писания выше Книги Природы, что в
общем-то не так уж далеко отходило от классической практики иерархического
упорядочивания» [129, с. 102].
Решающую роль играл здесь Бэкон: «В контексте начала XVII в. большое
значение и влияние приобрела дифференциация Бэкона. Его «Исповедь веры»
приписывала работу творения мощи Бога, а работу искупления — его воле.
«Размышления о священном» эксплицитно различали призывы к «изучению Писания» и
к тому, чтобы «придерживаться творений и размышлять над ними». Ранняя
работа «Валерий Терминус» (1603) различала науку и религию соответственно
областям выявления мощи бога и его воли. В его заметно менее религиозной работе
«Мысли и заключения» (1607) Бэкон облекается в мантию священника и вводит
«медитацию» — размышление для обсуждения проблем суеверия, невежества и
заблуждений: «Вслед за словом Бога Естественная философия является наиболее
надежным лекарством от суеверия и наиболее подходящей пищей для веры. Ее
правильный статус — быть признанной и верной служанкой религии, поскольку
религия открывает волю Бога, а естественная философия — его мощь». Основная
сила этой медитации направлена против схоластической теологии, которая
блокировала прогресс в естественной философии, а также и редуцировала самое
теологию в «форму учебника», инкорпорируя тем самым в религию «спорную и
нудную философию Аристотеля». Альтернативной проблемой в естественной
философии было то, что «в течение всех этих столетий и до настоящего времени ни
один индивид не сделал профессией естественную философию в том смысле,
чтобы посвятить ей всю свою жизнь. Великая Мать Наук была низведена до их
служанки», то есть до служанки либо христианской теологии, либо греческой
моральной философии. Равно пагубными представлялись Бэкону и соответствующие
мнения спиритуалистов, «которые сегодня в таком фаворе, как если бы
спиритуалисты, набравшись приличествующей серьезности и помпы, наладились
отпраздновать легальный брак между Теологией и Естественной Философией,
находящейся между Верой и свидетельствами чувств. Все это забавляет умы людей
приятным разнообразием материй, но и производит разрушительное смешение между
человеческим и божественным». Годом позже в «Опровержении философий»
Бэкон как пророчествующий провидец начинает с увещевания: «Бог не дал тебе
надежного и заслуживающего доверия критерия, чтобы мог ты изучить писания
История европейской культурной традиции и ее проблемы 491
немногих людей. Изучай Небеса и Землю, труды самого Бога, и делай это,
прославляя его в молитвах и возглашая гимны твоему Творцу». Преднамеренно
опуская анализ доктрин Аристотеля, Бэкон предпочитает читать его «знаки»: «Но и в
этом случае «знаки» не помогают. Аристотель имел неуравновешенный и
нетерпимый склад ума». Ведомый гордостью и дидактическим изображением мира в
своих категориях, Аристотель потерпел неудачу как «исследователь истины».
Бэкон продолжает указанием на то, что новые секты спиритуалистов в
естественной философии по своей великой приверженности к чувствам еще больше
смешивают благочестие и науку, Бога и мир. Эти аргументы во многом
предвосхитили его главную работу «Новый органон» (1626 г.)» [129, с. 102—103].
Эта прогрессирующая дифференциация работ и трудов Бога нашла отражение
и в организационной структуре Королевского Общества — единственной,
пожалуй, национальной академии наук, которая не приняла титул «Академия» по
причине его явно языческого происхождения: «Новая дифференциация работ Бога
была институционализирована в Королевском Обществе. Джон Уоллис писал о
«невидимом колледже», возможном предшественнике Королевского Общества,
что его занятием было «открытие и рассмотрение философских исследований» с
одновременным исключением «материй теологии и государственной
деятельности». Гук писал: «Деятельность и строение Королевского Общества состоят в том,
чтобы улучшать знание об естественных вещах... (не смешивая их с
божественными)». И все же постулат необходимости учета божественной работы творения
был интегральной частью деятельности Общества. Это совершенно ясно, хотя и
несколько экстравагантно, выражено в заметках Берга о заслугах Бойля перед
Обществом: «Для тех, кто много общался с ним по ходу исследований природы,
казалось, что основным его делом, которое он никогда не упускал из виду, было
возбуждать и в самом себе и в других возвышенные мысли о величии и славе, о
мудрости и доброте Божества. Это настолько глубоко укоренилось в его уме, что
завещание Королевскому Обществу он заключил следующими словами: «Желаю
также им больших успехов в их похвальных попытках открыть истинную природу
работ Бога и молюсь, чтобы они и все другие искатели физических истин могли
от всего сердца отдавать свои успехи славе великого Автора Природы и благу
человечества» [129, с. 103—104].
Наиболее очевидным результатом и основным содержанием дифференциации
работ Бога было освобождение естественной философии от гегемонии
традиционных и новых теологии и философий. И все же это освобождение, как и те,
которые еще будут, было само по себе, если судить по заявлениям Бэкона, по
практике Бойля и по деятельности Королевского Общества, глубоко теологично.
Структура и распространение новой дифференциации не должны поэтому
смешиваться с секуляризацией» [129, с. 104].
Дифференциацию на уровне работ человека Клаарен рассматривает по связи
с умножением отношений к богу: «Следующим шагом или измерением новой
дифференциации была дифференциация человеческих сознаний или, в более
широком смысле, умножение работ самого Я, человеческой самости. Точно так же,
как рост осведомленности о трансцендентности был интегратором
дифференциации работ Бога, точно так же и резкое различие между возрастающе
индивидуализируемой человеческой самостью и ее окружением было интегратором
дифференциации множества работ нового Я. В более прямых теологических терминах
новое дифференцирование формы человеческого служения Богу предполагало
подчинение явно трансцендентному Господу, то есть подчинение на расстоянии.
Полный отчет об этих изменениях потребовал бы изучения различных видов
знания, действия, чувств, как и полного философско-психологического исследования
различных концепций Я Нового времени по контрасту со средневековой и спи-
ритуалистской традициями, то есть полного антропологического исследования»
[129, с. 104-105].
492
M. К. Петров
Клаарен останавливается лишь на нескольких пунктах: «Концепция человека,
фиксирующая внимание скорее на воле, чем на разуме или духе, вызывала резкое
разделение между Я и окружением. Рассматриваемый как рациональное творение,
человек участвовал в иерархии бытия. Рассматриваемый как дух, он практически
идентифицировался с духовной реальностью в целом. Но для человека, понятого
как индивидуальная воля, онтологические и духовные отношения к сотворенной
реальности не могли уже приниматься как данность. И действительно, эти
отношения приобрели статус главной проблематики в новом мышлении» [129, с. 105].
Клаарен иллюстрирует становление этой проблематики на примерах из
Бэкона и Бойля: «Бэкон резко критиковал доктрину Парацельса о
человеке-микрокосме: «Что же до человека, то Вы превратили его в клоуна». Равно критиковал он
и «идолов» разума, порабощенного традицией. Более того, его позитивная
концепция человека как хозяина и владыки творения получила широкое признание
в XVII в. Также и позиция Бойля, хотя его метафора об ученом-священнике, чье
исследование служит связью между Богом и творением, смягчала взгляд Бэкона,
предполагала растущую осведомленность о дистанции как между Богом и
творением, так и между человеком и сотворенной реальностью. Налицо была
тенденция к противопоставлению таких реальностей друг другу» [129, с. 105].
Неправомерно резкое выражение эта тенденция получила у Декарта:
«Декартова дихотомия между мыслящей субстанцией и протяженной материальной
субстанцией была возможно самой острой констатацией нового Я, новой самости.
Совершенно независимо от вопроса о том, насколько успешна была его
апелляция к божественной субстанции, как к гаранту человеческого восприятия,
картезианская тенденция к дуализму ума и тела, бога и мира, человека и внешней
природы встретила сопротивление и противодействие в среде английских мыслителей
столь различных как Мор и Бойль, которые ясно выражали эстетическое
отношение к творению. Их настойчивое подчеркивание резкого различия между Я и
сотворенной реальностью не вынуждало их рассматривать многогранное богатство
сотворенной реальности как упрощенные феномены мышления либо
протяженной субстанции» [129, с. 105—106].
Клаарен выделяет новые виды работ: «В этой общей схеме новых пониманий
Бога, человека и мира резкое усиление дифференциации в Новое время можно
зафиксировать в трех новых работах — концепциях, дисциплинах, жанрах —
истории, литературы и религии, как и в познании природы... Примерно
одновременно с ранней критикой Библии у Спинозы появляется работа Бойля
«Размышления относительно стиля Священного Писания», которую можно считать
типичной для появления нового исторического сознания. Если
рационально-историческая критика Спинозы ставит под вопрос порядок библейских событий, то Бойль
демонстрирует более эмпирический подход к истории, который четко будет
представлен в английской мысли работой Локка о Новом Завете» [129, с. 106].
Клаарен фиксирует специфику подхода Бойля: «В своей попытке раскрыть
события библейской истории Бойль был убежден, что исторично не только
сознание, но и сама реальность. Подобно Бэкону он стремился вскрыть то, что было
изначальным. Он предполагал, что творение есть определенный, но напряженный
процесс, исторический порядок, который установлен творцом и провиденциально
им направляется... Соответственно он показывает встроенные в новый постулат
о трансцендентности и мощи Бога идеи освобождения, критикуя тех, кто
связывал стиль и значение Писания с правилами риторики. Бойль протестовал против
такой «вздорной цензуры», поскольку «не пристало величию Бога позволить
заковать себя в кандалы человеческих законов метода». Видя в Боге свободного
законодателя-суверена, он подчеркивает этот пункт: «Более того, есть много мест
в Писании — почти целиком последние четыре книги Моисея, — где Бог
вводится как непосредственно и опосредованно дающий законы своему народу или
своим почитателям. Я полагаю, что не следует считать необходимым, что такие
места Писания должны обязательно излагаться красноречиво и что Высший За-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 493
конодатель Мира, который считается величайшим Царем среди своих подданных,
должен, давая законы, самостоятельно связывать их с законами риторики,
скрупулезное следование которым могло бы повредить тем двум качествам, которые
наиболее существенны в законах — ясности и величию». Эта критика была
направлена не только против классической риторики Аристотеля, но и против
метода Рамуса, пользовавшегося популярностью среди пуритан. Апеллируя к
свободе и величию Бога, Бойль готовил почву для более эмпирического исторического
восприятия текста Писания» [129, с. 106—107].
В литературе основной формой выступает роман: «Хотя как жанр роман не
установился до конца XVIII в., историки литературы обычно утверждают, что он
берет начало с произведений Дефо и Ричардсона. Жан Уотт, к примеру, говорит
о том, что некоторые философские предпосылки от Декарта до Локка, а также
социальное положение среднего класса в XVIII в. были существенными для
литературных элементов романа. Другие обнаруживают его элементы в народных
сказках начала XVIII в. В этом контексте не лишено интереса то, что Джексон
считает «Мученичество Теодоры и Дидима» Бойля предшественником романа»
[129, с. 108-109].
Вообще-то литературная составляющая всегда, по Клаарену, присутствовала в
христианстве: «Появление уникального и назидательного жанра
повествовательной истории в борьбе между древними иудеями и их многочисленными
оппонентами предполагало миссию Иеговы, Бога, который действует. Этот жанр, Исход,
к примеру, был столь же решающим для Ветхого Завета, как и уникальный жанр
проповеди, предпосылкой которого было присутствие Бога в Христе, для жизни
и литературы ранних христиан. Равным образом христианство раннего
Средневековья, постулируя Вечное Бытие Бога, частично сформулировало (у Августина)
жанр исповедальной автобиографии, который углублял личностное бытие в
контексте Бытия божественного» [129, с. 109].
В XVII в. положение изменилось: «К XVII в. наиболее фундаментальной и
широко распространенной посылкой литературного сознания (предположительно
и романа) была реальность конкретностей. Индивидуальные характеры — герои
обрели теперь свои собственные память, решения, замыслы, и обостренное
внимание к конкретным обстоятельствам во времени и пространстве сделало
возможным сложные диалоги. Техника сюжета и точки зрения заменила перспективу
всеведения. Эти элементы контрастировали с представлением индивидов как
иллюстраций к общим принципам в Средневековье... Хотя «Мученичество» Бойля
является назидательной работой, предназначенной для демонстрации добродетели
постоянства и долга повиновения, оно действительно создает представление о
Боге как Авторе и Господине. Обсуждая мораль страдания и пытаясь решить
свою собственную судьбу, Дидим говорит: «Если суверенный Автор и абсолютный
Господин наших жизней находит нужным использовать нас здесь для своей
службы, мы не можем без нарушения нашего долга по отношению к нему уклониться,
пока не выполним его поручения, которое состоит в том, чтобы прославить его
нашими жизнями, пока верность его истине или его приказаниям не убедит нас,
что мы можем еще лучше прославить его нашей смертью» [129, с. 109].
По мнению Клаарена, литературно-религиозный смысл этой работы Бойля —
в структуре отношений к Богу и восприятий Бога: «Мученичество Теодоры и
Дидима обретает реальное значение именно в отношении к этому верховному
Индивиду. После того, как Теодора терпеливо принимает мучения и предстоящую
смерть, Дидим должен решить, следует ли ему занять ее место, позволив ей
бежать, или же прислушаться к советам благоразумия и осторожности. Его выбор
повиновения Христу не дает окончательной уверенности, так как если он даже
решит занять ее место, не исключена возможность вмешательства Бога в
последний момент, как, скажем, это произошло в случае с Даниилом. Этот основной
для Бойля акцент на воле Бога усиливает впечатление того, что литературные
герои — реальные индивиды» [129, с. 109—110].
494 М.К. Петров
Наиболее существен вклад Бойля в религиозное самосознание:
«Дифференциация религии раннего Нового времени представлена у Бойля более полно, чем
дифференциация исторического или литературного сознания. Чтобы увидеть это,
нужно тщательно отделить религиозную установку XVII в. как от ее источников
в XVI в., так и от развития восприятия религии в XVII в. Кальвин рассматривал
религию как соразмерную целостному зданию христианской теологии, поэтому
он не выделял и не изучал «семена божественного», присущие, по его мнению,
всем людям. Подобно Павлу, он мог просто упоминать эти семена, с тем чтобы
показать, что все люди в конечном счете виновны в грехе против Бога. В
«Институтах» [191], где Кальвин развивает идею полной корреляции между
мудростью Бога и человеческим Я, религия получает весьма широкое определение. С
другой стороны, в XVIII в. после того, как в первобытных и новых мировых
культурах были во множестве обнаружены «другие» религии, само понятие религии
стало соразмерно всей целостной человеческой системе верований в Бога или в
Богов. Этот сдвиг особенно стал заметен в деизме и в последующих поисках
рациональной сущности религии» [129, с. ПО].
XVII в. занимает особое положение: «По контрасту религия XVII в. в
основном теистична. Но при всем том она была явно отделена от здания нормальной
христианской теологии или философии. В это время апеллировать к религии
можно и в догматической и в апологетической философии и теологии, поскольку
религия как таковая в лучшем случае была соразмерна теизму и совпадала с ним.
Или же, более конкретно, религия была ориентирована скорее на Творца и на
работу его творения чем на все работы Бога (Кальвин) или ни на одну из них
(деизм). Строго говоря, деизм указывал на изначальное божественное устроение,
которое затем покидалось, что практически отрицало постоянную работу Бога как
центральный постулат классического христианства» [129, с. 110—111].
Заслугу Бойля Клаарен усматривает в том, что его усилиями религия
высвобождается из пут теологических оформлений: «Теистическая дифференциация
религии от гегемонии реформационного наследства, не говоря уже об ее
освобождении от иерархической средневековой теологии и холистской «христианской
философии» спиритуализма, наглядно представлена в Бойле. Хотя он редко
выступал в защиту ряда христианских верований, таких как воскрешение, его наиболее
частые обвинения направлялись против «атеистического» эпикурейства. Эти
аргументы шли в защиту теизма, но также откровенно восхваляли красоту и
устроение божественных работ в творении. Множество предложенных Бойлем
теологических аргументов апеллировали каждый порознь к религии, которая не
выступает у него ни отходящей от теологии, ни определенной ею. Подобная же
дифференциация происходила и в естественной философии. Религия была
источником, но не обязательно нормой теологических систем XVII в., но она не была
и выделенной в одну из областей человеческой веры, как это произошло в XVIII
в. Чувство реформы действительно зависело от религии творения и нового
творения, что выражало центральный постулат культурной деятельности в XVII в.»
[129, с. 111].
Но были и особенности: «При всем том религия находилась в центре культуры
XVII в. иным способом, чем это было в XVI в. Для Кальвина религия была
«благочестием», которое означало многообразное нестираемое отношение к Богу, а
также и основное место заслуживающего порицания идолопоклонства (в
сознании). Это в свою очередь требовало исправления искуплением, соотносящим с
полнотой Бога как Творца и Искупителя. По контрасту дифференциация XVII в.
работ Бога в творении и искуплении освободила не только «естественную
философию», но также и «естественную религию» (не от теологии самой по себе, а от
традиционной и текущих форм теологической гегемонии). Вместе с тем,
концепция «естественной религии» в ее противопоставлении «религии откровения»
появилась не ранее 1670-х гт. и использовалась уже в XVIII в. В предыдущие
десятилетия, еще со времен Бэкона, возникновение этой концепции подготовлялось
История европейской культурной традиции и ее проблемы 495
тем, что можно назвать благочестием к творению или естественным благочестием.
Как внутренняя сторона оптимистического чувства реформы это благочестие
воодушевляло широко распространенную культурную деятельность. Оно не было
нагружено стремлением к спасению, что входило составной частью в благочестие
Реформации, когда религия понималась как благочестие. Короче говоря,
теистическое освобождение также происходило в рамках религии. В силу этого
благочестие к творению было различено, хотя и не отделено от благочестивого
стремления к спасению» [129, с. 111—112].
С благочестием к творению или с естественным благочестием связано и
широкое распространение «духовных медитаций», «размышлений», «рефлексий» как
форм выражения этого вида благочестия: «В общем случае «размышления» Бойля
выражают скорее способы творения, нежели отдельные события библейской
истории. Хотя он часто извинялся за недостаток божественности в своих
медитациях, он утверждал, будто все творение суть кафедра, воздвигнутая божественным
Автором для вскармливания индивидуального благочестия. Критикуя «древних и
схоластов», которые, хотя они и практикуют подобную медитацию, быстро
переходят от условий к выводам, он убеждал благочестивого читателя не спешить к
выводам, поклоняться книге творения Бога и от нее получать наставления: «Тот,
кто способен (как это бывало) заставить мир звучать, наделив каждое творение и
почти каждый случай языком, чтобы они развлекали его, кто может заставить
малейшие случаи в своей жизни, даже и цветы своего сада, читать ему лекции по
этике или теологии, тот, мне кажется, вряд ли испытает потребность бежать в
ближайшую таверну». Эти медитации имели «религиозное употребление» как
средства дифференциации, вычленения естественного благочестия в более полных
значениях благочестия» [129, с. 113].
Было и другое употребление размышлений: «Бойль подчеркивает также и
вторичное их употребление для повышения силы и внимания ума, что тесно
соотнесено с его призывом к эмпирической внимательности в естественной
философии: «Поскольку, прежде всего, это приучает человека к внимательному
наблюдению объектов, с которыми он общается... Темы, с которыми мы имеем дело,
неосознанно толкают нас к подглядыванию через различные атрибуты и
отношения вещей, которые мы изучаем, с тем чтобы получить большее богатство
конкретности для выведения более полных и состоятельных параллелей между
вещами, сходство которых мы предполагаем... Кроме этой мысли мы должны по
началу приложить всю полноту нашего разумения к выявлению обстоятельств лишь
нескольких видов объектов. Но единожды приобретенная, эта привычка будет
легко переноситься на другие объекты, отличные от тех, которые впервые ее
вызвали» [129, с. 113-114].
Другое описание Бойлем силы медитаций, воспитывающих внимание,
выходит, по мнению Клаарена, далеко за пределы спиритуалистических представлений
об иероглифике: «Практика, которую я постоянно рекомендую, не только
располагает нас к вниманию, но и к тому, хотя и бессознательно, чтобы
прислушиваться к предлагаемым нам путям и методам, с помощью которых можно
заставить изучаемый объект стать для нас информативным... К примеру, аналогия или
некоторые другие пути, на которые нас могут пригласить, а в иных случаях и
настоять на этом, ведет нас, как это не раз бывало, за руку к открытию
разнообразных полезных понятий, особенно практических; которым в ином случае мы
просто бы не придали значения. И действительно, мир — великая книга не
столько о природе, сколько о Боге природы, которую мы должны читать в поисках
поучительных уроков, если мы обладаем соответствующим искусством и
способны к терпению, чтобы извлекать и фиксировать их. Творения и на самом деле
истинные египетские иероглифы, которые за грубыми формами птиц, животных
и т.п. прячут таинственные секреты знания и благочестия» [129, с. 114].
Такие медитации могут давать и непредвиденные инструкции. Бойль замечает:
«Нас забавляет неожиданность в вещах.;. Не следует в таких случаях, как и во
496
M. К. Петров
многих других, неуклюже пытаться поддержать разговор с вещами, поскольку их
инструкции неожиданны и, как если бы из засады, обстреливают наш разум из
вещей, откуда мы вовсе выстрелов не ждем, и таким образом мы получаем
преимущество усваивать хорошие уроки без тягостных забот выслушивания их в
школе... Информация, которую мы получаем от множества творений и случаев,
часто является весьма удаленной от того, что некто мог бы предположить как
наиболее очевидное и естественное мышление о тех материях, которые предстают
перед нами» [129, с. 114].
Суммируя роль медитаций, Клаарен пишет: «Наконец, хотя Бойль
пользовался медитациями, выражающими благочестие к творению в научной дисциплине,
он не был связан этой практикой. В отличие от Гельмонта, который выводил
естественную философию из книг Бытия, Бойль был открыт даже для
инструктору юще-преподающей силы сотворенных устройств. Благочестие к творению могло
приносить научную или более специфически религиозную (и этическую) пользу»
[129, с. 114-115].
Бойль, по Клаарену, интересен именно как переходная фигура: «Мышление
Бойля типично для сложной переходной стадии дифференциации религии.
Специфическое благочестие к творению располагается между более полным
благочестием Реформации и убеждением Просвещения в том, что религия лишь
человеческая вера. Ориентация на вычлененного Творца, пользующегося прежним
почитанием в качестве абсолютно неизбежного необъятного Единственного Творца-
Искупителя, прокладывала путь к деистскому почитанию Божества на безопасном
расстоянии. Жанр «медитаций по случаю» был центральным в этом развитии. Он
умерил господство установившихся молитв и предположительно вел к
существенно морально-философской рефлексии деистов» [129, с. 115].
Дифференциация познания рассматривается Клаареном как следствие
процессов дифференциации на уровнях работ Бога и работ человека: «Ведущей
тенденцией Нового времени было умножение дифференцированных работ. Точно так
же, к примеру, как развивались дифференциация религиозных сознаний и
дисциплин, шла и растущая дифференциация в естественной философии. Она
включала выработку растущих по сложности индивидуализированных структур разума
и дисциплины. Конечным результатом было появление множества «естественных
наук» [129, с. 115].
Концепт «естественной науки» и его дисциплинарное оформление в
когнитивно-социальных структурах — дело сравнительно отдаленного от XVII в.
будущего. Клаарен подчеркивает переходный характер процессов на рассматриваемом
периоде. Он пишет о Бойле: «Бойль не основал химию как одну из многих зрелых
«естественных наук», поскольку ни химия, ни концепт «естественной науки» не
были установлены до XVIII в. Но дифференциация дисциплины была уже и здесь
представлена общим феноменом растущей дифференциации знания. Этим часто
пренебрегают или же воспринимают события в более поздних концептах
«естественная наука», «механизм», «революция», «секуляризация». Но реально и отказ
от старого и возникновение нового происходили под сложным, хотя и
обветшавшим куполом естественной философии» [129, с. 116].
Одним из вкладов Бойля в этот процесс дифференциации Клаарен считает
введение им новой формы представления научного продукта, прообраза статьи:
«Эпохальным вкладом Бойля была здесь разработка тщательно
отдифференцированного научного письменного сообщения, а именно лабораторного доклада.
Многие из его рукописей можно охарактеризовать прежде всего с точки зрения
точности описаний как тщательно отработанные доклады по химии или
пневматике. Кроме того, его теоретическая работа «Предварительный очерк с
некоторыми соображениями относительно экспериментальных эссе» вообще вычленяет
собственно «экспериментальные эссе» из других жанров. Он считает, что
целостность систем естественной философии, которая требует полного выражения в
книгах, подавляет ценные конкретные детали, раздувает отдельные темы в целые
История европейской культурной традиции и ее проблемы 497
системы и подчиняет все правилам метода в ущерб исследованию «в самих
вещах». Он освобождает Гассенди от этого обвинения, но Декарт частично
оказывается виноватым. Особо резкой критике подвергаются системы и писания
Кампанеллы и Аристотеля. Бойль утверждает, что ранние «химики» начиняли
свои исследования бесконечными ссылками, цитатами и свидетельствами
благодарности. В конечном счете они молились на риторическую модель, подменяя
тем самым трезвое исследование «экзотическими словами и терминами, взятыми
из других языков». Бойль не называет своих оппонентов, но его язвительные
замечания в адрес немецкого и «герметического» языка указывают, что
критикуются спиритуалисты, возможно парацельсиане. Так или иначе, но только точность
описания может оправдать длинные предложения и громоздкий синтаксис» [129,
с. 118].
Клаарен особенно настаивает на том, что на рассматриваемом периоде
процесс дифференциации знания не порывал с теологией: «Поворот к широкому
экспериментальному изучению конкретных процессов (и законов) не был простой
переориентацией с темноты теологического познания на свет человеческого
познания мира. Вопреки тезису о секуляризации это был сдвиг от познания мира
в его иерархическом строе к познанию творения более простым, но определенно
зависимым от воли Бога способом. Более драматично то, что это был и поворот
от познания мира в Боге и Бога в мире (спиритуализм) к трансцендентному
человеческому познанию того же самого творения трансцендентированного
Творцом. Теперь это был мир, управляемый законом, а не мир, сформированный
Логосом и движимый Духом» [129, с. 122—123].
Клаарен показывает эту линию у Бойля: «Понимание Бойлем этой линии
очевидно из его примечательного рассуждения в «Превосходстве теологии». Как
основные доктрины христианства, так и все многообещающее здание новой науки
локализуется им в структуре, которая является одновременно и безошибочно тео-
логичной и видом «универсальной гипотезы»: «Ни фундаментальная доктрина
христианства, ни доктрина сил и эффектов материи и движения не кажутся чем-
то большим, чем эпициклом (я могу назвать это так) великой и универсальной
системы плана Бога и образуют только часть более общей теории вещей,
познаваемых в свете природы, усиленном информацией Писания. Так что обе эти
доктрины, хотя они и весьма общи по отношению к подчиненным частям теологии
и философии, представляются лишь членами универсальной гипотезы,
предметами которой, я полагаю, являются природа, планы и работы Бога, поскольку они
могут быть открыты нам (я не говорю для нас) в этой жизни» [129, с. 123].
Клаарен поясняет: «Теология Бойля в целом замкнута скорее на волю, чем на
разум или дух. В свою очередь, через все его понимания эмпирического познания
просвечивает теология, которая немногое принимает на веру даже и в
человеческом познании Бога вне его работы, поскольку именно в таком теологическом
контексте могут вырастать и гипотезы и многое другое. Подчеркивается акт
«внимания», эмпирического наблюдения конкретных процессов. Долг занятий с
конкретными процессами включает дисциплину, которая никогда не отлетает от
экспериментальных тестов за позволенные ими пределы. Наконец, поиск
позитивных законов основан на постулате, что воля Бога публикуется в творении как в
законном порядке. Это допущение также имеет огромное значение в
эмпирическом познании Бойля. Короче, гипотезы, внимание, поиск конкретностей и
законов природы были и частями и набором нового эмпирического пути познания,
обязанного своим появлением критической и определенно конструктивной
волюнтаристской теологии творения» [129, с. 123].
Для изображения этого пути Клаарен использует схему противопоставлений:
«Для почитателей традиции Августина познание состоит в участии в знании,
активно усиленном приматом сапиенции-мудрости. Эта традиция была изменена
акцентом сциенции, что превращало активность познания в абстрагирование
форм вещей. Обе эти традиции предполагали Логос бытия, знание имплицитной
32 M К. Петров
498
M. К. Петров
рациональной структуры бытия. Онтологическая ориентация познания
усиливалась высокой ценностью созерцательного познания, которое справедливо
символизировало теологию Бытия во всех вещах. Фундаментальным было положение,
что порядок познания следует порядку Бытия» [129, с. 123—124].
«Когда Бойль и Бэкон, подобно Декарту, обратили этот традиционный
порядок на обратный, возникла и сама проблема познания. Поскольку практическое
и экспериментальное познание получило примат в использовании и в ценности
над созерцательным познанием, сама активность познания потребовала своей
особой интеграции. С этого момента эта активность ближе к изготовлению или
к реконструкции, чем к участию или к абстракции. В этом эпохально новом
порядке направляющее, если не спонтанное, значение воли, которая предполагает
часто удаленную, но все же всемогущую волю Бога, обесценивает старую
максиму, по которой воля движет в соответствии с конечным диктатом понимания.
Резкие различия между Творцом и творением, между человеком и миром
выявились также и между познающим и познанием. Возникла новая область для
опредмечивания индивидуальной воли» [1-29, с. 124].
Этому взгляду Нового времени на познание присущ скептицизм:
«Подчеркивание разрыва между познающим и познанным, трансценденции внешнего мира
в познании Нового времени обострило практический вопрос об отношении
познания к истине. Эта проблема — важная составляющая в описаниях обращений,
и различие путей, избранных Декартом, Гельмонтом и Бэконом, в высшей
степени показательно. Декарт дает действительно радикальное решение проблемы
скептицизма средствами математизированного резонирования, а Гельмонт
предлагает совершенно иное, но столь же радикальное решение, приглашая человека
раствориться в чувственности и понимании. Нет ничего удивительного в том, что
Декарт постулирует определенное отношение между разумом и протяженной
реальностью, то есть вводит Бога, который не будет обманывать человека, тогда как
Гельмонт постулирует равно надежный, но совершенно иной вид тотальной
интимности между «духовным пониманием», семенами творения и Творцом-Духом.
Для Бэкона, однако, мыслимым решением проблемы скептицизма был скорее
контроль над вещами, чем покой в вещах. В этом случае ограниченное полагание
на разум необходимо. И чувства и разум были релятивизированы. Они
трактовались вероятными как в их взаимных отношениях, так и в их внешних
отношениях к материи и идеям. Бэкон практически обошел скептицизм с фланга с
помощью комплексного царства знания, в котором большинство составляющих его
элементов имеет некоторый голос. Этот несколько политизированный
концептуальный ответ вел к существенному различию между экзальтированным
стремлением Гельмонта к истине в естественной философии и новой английской
склонностью к гипотезе» [129, с. 124—125].
Между Бэконом, Бойлем, Гельмонтом есть и сходство и различия: «Хотя
Бэкон, подобно Гельмонту, настаивает на необходимости для естественной
философии милосердия и скромности, он рассматривает их лишь как
религиозно-моральные предпосылки, как начальное «очищение» ума, позволяющее освободить
силу познания. Таким образом, одновременность благочестия и науки у
Гельмонта значительно отличается от их дифференциации и порядка следования у
Бэкона. Бойль в целом следует решению проблемы скептицизма у Бэкона, поскольку
он ищет баланс претензий чувств и разума, теории и эксперимента, закона и
гипотезы, даже если его мышление по этим частным пунктам и было много
сложнее, чем мышление Бэкона. Позиция Бойля по отношению к дифференциации
эмпирического знания резко контрастирует с позицией Гельмонта и в
значительно меньшей степени с позицией Декарта» [129, с. 125].
Более детализированное изображение этих контрастов дает, по Клаарену,
следующую картину: «Бойль разделяет с Гельмонтом веру в божественные и
человеческие цели познания. Он также уважает фокусировку Гельмонта на конкретных
объектах познания и на проведении экспериментов. Вместе с тем Бойль не про-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 499
являет склонности к отрицанию Гельмонтом рационального мышления и в очень
слабой степени разделяет его экзальтацию по поводу эмпирической
непосредственности и внутренней уверенности — по поводу всего того, что предполагает
схватывающую идентификацию познающего и познанного. Бойль отвергает
именно эти отличительные черты эмпиризма Гельмонта, которые, в свою очередь,
наиболее тесно связаны с его сенсуалисткой теологией. Для Бойля объекты
познания были как дискретными, так и конкретными. Атомы не могли быть
«поняты» (подобно семенам), но в базовых законосообразных комбинациях они
допускали проверку предмета познания. Хотя он подчеркивал внимание к
инструкциям конкретных вещей, как раз его постулат о дистанции между познающим и
познанным вел его, в отличие от Гельмонта, к восхвалению неожиданного
знания, которое могло приходить от конкретных феноменов. Облик или выявление
эмпирической реальности были для Бойля значительно более важны, чем
непосредственная осведомленность о скрытых истинах или абстракция формальных
причин. Более того, задача формирования позитивных законов, как и гипотез,
была отдельной частью этого предприятия. Короче, подход Бойля прорывал
когерентный холизм спиритуализма, защищая вместо него относительную
терпимость гипотез, постоянный баланс факта и теории, эксперимента и разума» [129,
с. 125-126].
Несколько иначе выглядит контраст с Декартом: «Ориентация на баланс —
рабочий ответ Бойля на экзальтированную завершенность спиритуализма — была
также и выявлением относительного, но важного различия между Бойлем и
Декартом. Бойль менее склонен противопоставлять Я как мыслящую субстанцию
протяженной внешней реальности. Его внимание к устройству и конкретному
разнообразию творения смягчало дуалистические тенденции картезианцев.
Поэтому дихотомия Декарта, уподобленная зрителю наблюдения и идеальной
математической реконструкции, модифицировалась Бойлем для выражения большего
уважения к разнообразию феноменов. Принималась во внимание «текстура»
выявления. Разнообразие механических, законных, химических конструкций Бойль
предпочитал единичному идеалу математической чистоты. Декарт стремился
подавить дифференциацию, тогда как Бойль стремился расширить ее. В этом
смысле он типичен для господствовавшего в Англии XVII в. признания Декарта на
расстоянии» [129, с. 126].
Описывая собственно теологию Бойля, Клаарен отмечает центральное место
образа «Автора» в обращениях Бойля к Богу, что, по его мнению, связано с
характерным для волюнтаристских теологии переносом акцента на суверенную
волю Бога: «Этот сдвиг очевиден в предпочтении Бойлем имени «Автор» для
Бога. Этот титул провозглашает высшую индивидуальность Бога, делает его
реальность личностной и величественной, придает определенный смысл его
деятельности. Комментируя правомерность сравнений теологии и «физики», Бойль
считает, что такие сравнения не походят на сравнения теологии с черной магией
и другими разделами незаконной магии, «поскольку первой нельзя увлекаться без
отвращения к последней». Он исключал и практику естественной магии, которая
признавалась многими спиритуалистами, поскольку она нарушает законный
порядок вещей. Более того, «поскольку две великих книги — Книга Природы и
Писание — имеют одного Автора, то изучение последней совсем не мешает
наслаждаться любознательному человеку изучением первой». Короче говоря, титул
«Автор» указывает на базовый теологический постулат, который связывает все
работы Бога. Бог — суверенный законодатель всех путей человека и творения в
целом... Для Бойля огромная широта божественного авторства не подлежала
сомнению. Бог постулировался и назывался как Автор природы, Писания и самого
человека» [129, с. 134—135].
Клаарен показывает, что в теологии Бойля довольно четко вычленяется в
составе отношения Бог-творение авторско-книжная составляющая: «Он сравнивает
творение с открытой книгой... В одном из многих мест, трактующих эту тему,
32*
500
M. К. Петров
Бойль утверждает, что творение не только удовлетворяет «потребности человека
и приносит ему наслаждение, но также и учит его, дает ему инструкции,
поскольку каждая страница этого огромного тома природы полна реальной иероглифики,
где... вещи стоят вместо слов, а их качества — вместо букв» [129, с. 145].
Эта аналогия обнаруживается у Бойля и в более развитом виде как «книжная»
познавательная установка: «Чтение Книги Природы любознательным умом мало
похоже, скажем, на чтение басен Эзопа или какого-либо пестрого сборника, где
каждый рассказ не зависит от другого. В Книге Природы, как в хорошо
составленном романе, части настолько пригнаны друг к другу и так соотносятся друг с
другом, а вещи, которые нам предстоит открыть, настолько темны и неполно
познаны теми, кто приступает к ним, что ум никогда не будет чувствовать себя
удовлетворенным, пока не дойдет до конца книги» [129, с. 146].
Находясь в центре теологии творения Бойля и выполняя в ней роль
интегратора, собирающего в целостность и удерживающего в целостности работы Бога,
образ «Автора» и производные от него образы книги, читателя не являются все
же монопольными интеграторами на уровне божества, творения, человека.
Авторство здесь должно пониматься достаточно широко в духе, скажем, работ,
перечисленных в справочниках по авторскому праву. Соответственно, пытаясь
систематизировать номенклатуру интеграторов творения, Клаарен обнаруживает здесь
известное разнообразие: «Отрицание Бойлем обожествленной природы поднимает
вопрос о его собственных постулатах понимания естественного мира в его
тотальности. Эти постулаты находили частичное отражение в базовых образах творения
его естественной философии. Часто интерпретируемое как просто
механистическое, мышление Бойля характеризовалось по крайней мере тремя базовыми
образами. Их можно не очень четко различить как художественно-архитектурный,
легально-механистический и экклесиастически-храмовый, причем постоянные
ссылки на них в его теологических и физических работах показывают, что для
Бойля и его современников эти образы были чем-то большим, чем просто
метафорами. Действительно, они были в высшей степени важны для формирования
курса естественной философии. Хотя базовые образы Бойля для творения
перекрывались — нормальное явление для целостных образов мира, — стандартное
представление о научном прогрессе как о прямом переходе от органической к
механистической картине мира природы является упрощенным, если не
ошибочным. Скорее традиционные органические образы и обновленные
спиритуалистические образы опосредовались и направленно трансформировались
легально-механистическими образами» [129, с. 153—154].
Художественно-архитектурный образ представлен и целостностью и
множеством деталей: «Этот образ физической вселенной очевиден у Бойля в его
концепции тщательно спланированного здания, развернутой в «Понятии природы». Он
отвергает обожествленную природу не только на уровне объяснения начал, но
также и в плане сохранения «общего устроения» физического мира. Настаивая на
образе хорошо спланированного мира, он резко выступает против образов случая,
хаоса и, в критике взглядов эпикурейцев, против смешанного мирового порядка.
Бойль считал, что «вызывающие удивление изобретения» вселенной суть
«реальные факты», которые открыты для прямой «инспекции». Поэтому нет нужды в
какой-либо «гипотезе» природы. Уверенность в огромном устроении вселенной
была для него видом самоочевидной данности, свидетельством в пользу ее
божественного Архитектора» [129, с. 154].
Это восприятие архитектурного устроения мира как самоочевидной данности
видно из множества конкретных деталей: «К примеру, он рассматривает глаз, как
окно в более широкое устроение. И все же он в «Понятии природы» эксплицитно
показывает, что естественная философия должна изучать «текстуру» или
«конструкцию» мира, понятую скорее как тотальность, чем как агрегат разрозненных
сил. В другом месте он разъясняет, что «конструкция» великой «машины»
вселенной превосходит конструкцию наиболее хитроумных часов, поскольку каждая
История европейской культурной традиции и ее проблемы 501
изготовленная машина в творении делается из множества меньших машин,
«причем каждая подчиненная машина прекрасно приспособлена для того или иного
конкретного использования, чем доказывается, что этот великий мастер имел
перед глазами весь механизм в целостности и единым взглядом охватывал все,
что предстояло сделать наилучшим образом». Обсуждая творение как целое, а
также и его конституцию на уровне несколько более высоком, чем первичное
механистическое восприятие, Бойль демонстрирует базовый
художественно-архитектурный образ. Говоря о божественной Мудрости и ее материальных, доступных
для наблюдения выявлениях, он привлекает внимание к «конструкции» конкрет-
ностей, к изобретательности их устройства, к разнообразию вещей, к симметрии
зависимости и относительности среди всех машин. Приведенное выше заявление
показывает экстенсивность божественного устройства в творении» [129, с. 154].
Клаарен подчеркивает: «Базовый художественно-архитектурный образ в
естественной философии Бойля ясно характеризует тот же самый физический мир,
который зависит от Автора творения. Более того, он не входит в конфликт с
более механистическим понятием «машин». Так, в одном месте Бойль группирует
«все неодушевленные и одушевленные» части в едином поле зрения
художественно-архитектурного образа. Бойля поэтому не следует интерпретировать как
последовательного механициста или картезианца в духе его восприятия XVIII в.»
[129, с. 154-155].
Идея целостности, замкнутой на Боге-Авторе, присутствует, по мнению Кла-
арена, и в легально-механистическом образе мира: «Творение одновременно
четко законосообразно и механистично. В рамках этого образа Бойль не
принимает ни узко законного, ни жестко механистического взгляда на вещи. Среди
множества выявлений этого образа и широко известное его сравнение творения
с часами Страсбурга, которое весьма важно, поскольку оно показывает, что
механистический взгляд на мир был великим открытием. Понять творение в таких
терминах значило испытать чувство освобождения от традиционных органических
взглядов на природу. Творение воспринималось одновременно как новая,
прекрасная, полезная и добрая публикация Провидения самого Бога. Бойль писал:
«Мир подобен неким башенным часам, таким как, скажем, часы в Страсбурге,
где все вещи так искусно изобретены, что машина, будучи единожды пущена в
ход, приводит в движение все вещи в соответствии с начальным замыслом
мастера, так что движения статуэток, которые в нужное время совершают то или
другое, не требует, подобно движениям кукол, постоянного вмешательства мастера
или какого-нибудь интеллектуального фактора, нанятого им, а выполняют они
свои функции в конкретных обстоятельствах благодаря общему и
первоначальному замыслу машины в целом». Поскольку механический мир столь хорошо
сформирован изначально, нет нужды вмешиваться в его работу» [129, с. 155].
Но не уходит на задний план и легально-законная сторона дела: «Вместе с
тем, Бойль с той же силой говорит и в терминах легального базового образа, по
которому вся природа находится под прямым управлением Бога: «Эти вещи
(множество открытий в астрономии и т.п.) упомянуты здесь к тому, чтобы дать нам
возможность еще более расширить наши концепции как о мощи, так и о
мудрости великого Творца, который одновременно и встроил столь удивительное
количество движения в универсальную материю, сохраняя его в ней, и в состоянии
держать в границах бушующее море, властно говоря ему: «Досюда ты можешь
идти, но не дальше, а здесь твоим гордым волнам стоять», но также, и это много
больше, обуздывать и усмирять изумительно быстрые движения небесных тел и
потоков жидкости, так что ни огромность их объема, ни быстрота их движения
не заставляют их нарушать орбит или улетать; и так происходит множество веков,
в течение которых ни одни часы не могли бы идти столь регулярно хотя бы час»
[129, с. 155-156].
Эти два образа сходятся вместе в едином образе творения как «беременного
автомата», который идет за одной из наиболее программных формулировок зако-
502
M. К. Петров
носообразного взгляда на мир в «Понятии природы»: «В соответствии с
рассматриваемой гипотезой я полагаю, что в основу сотворенного уже мира положен
великий и, я бы сказал, беременный автомат, который, подобно женщине с
двойней в чреве, или шхуне с ее насосами, оснасткой и т.п., есть машина,
включающая в себя несколько меньших машин или состоящая из них; и эту сложную
машину в согласовании с законами движения, свободно установленными среди ее
частей и сохраняемые доныне Богом, я рассматриваю как комплексный принцип,
дающий в результате установленный порядок или курс телесных вещей».
Несмотря на свою комплексность, объединяющую политику и машину, этот образ мира
как «комплексного принципа» машин в машине, подчиненных закону Бога, был
для Бойля строгой, но освобождающей реальностью. Это лишь иная
формулировка его постулата о Боге, как Творце и Авторе. Поэтому ее не следует смешивать
с более эксплицитными механистическими взглядами XVIII в., которые в свою
очередь предшествовали более привычной и обжитой теологии удаленного
божественного Творца-Изготовителя» [129, с. 156].
Экклисиастически-храмовый образ показан Клаареном как некоторый
реликтовый, но преобразованный и устойчивый интегратор в мышлении Бойля:
«Третий базовый образ в естественной философии Бойля был в свое время
интегратором-скрепой среди спиритуалистов. В ранней работе «О пользе естественной
философии», написанной когда Бойль еще находился под определенным
влиянием Гельмонта, хотя уже и в процессе обращения к новому мировоззрению, он
формулирует экклисиастический образ мира как храма. В одной из попыток
ввести этот образ в естественную философию Бойль пишет: «На основании
рассуждений Пирофила, я расцениваю мир как храм, о чем уже мне приходилось
говорить в другом месте. Что же до настоящего, то не будет поспешным заключение,
что если мир — храм, то человек определенно обязан быть священнослужителем,
призванным (подготовкой) вершить божественную службу не только в нем, но и
для него» [129, с. 156].
Этот образ говорит не только об естественном мире как о храме, но также и
о роли священнослужителя — естественного философа. Те, кто подчеркивает у
Бойля более частые механистические образы, склонны упускать это из виду, тогда
как другие утверждают, будто образ храм-служитель убедительное свидетельство
разрыва Бойля с утилитаристской бэконовской традицией. Эти односторонние
суждения не учитывают комплексности образа и, что более существенно,
отношения к нему Бойля» [129, с. 156—157].
Клаарен пытается восстановить исходный состав образа: «Ключ к
реконструкции может быть найден в способе, которым Бойль вводил авторитеты,
говорившие о мире, как о храме Бога. После цитаты из великого Меркурия Трисмегис-
тоса об общей пользе естественной философии для благочестия, Бойль пишет:
«Пирофил, пожалуй, ввел нас в великое разнообразие творений, в то, что Бог
сотворил человека настолько многообразным и наделил его таким множеством
даров и стремлений, что для того, чтобы удовлетворить свои многочисленные
нужды и еще более многочисленные стремления, человек обязан, видимо
проявлять исследовательскую активность — ранжировать, анатомировать, рассекать
природу и благодаря этому заинтересованному наблюдению приходить к более
осмысленному восхищению величием Автора». Это введение в образ
храм-служитель в контексте даров и обязательств, которыми наделен человек, живущий в
творении великого Автора, показывает, что сам образ должен пониматься в
терминах художественно-архитектурного и легально-механистического образов. Спи-
ритуалистское прочтение Бойля не более правомерно, чем чисто
механистическое» [129, с. 157].
Правильно понять этот образ, по мнению Клаарена, значит учесть его
переосмысление Бойлем: «Бойль фактически трансформировал образ
«храм-служитель», расширив священный центр, святая святых алхимиков. Не лаборатория и
не какое-либо иное место образует у Бойля специальную резиденцию божествен-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 503
ности. Вместо фокусировки на интерьере святости святого храм стал
соразмерным всему творению. Соответственно Бойль воспринимает его «письмена» не как
мистическую «иероглифику», но как выявления порядка, опубликованного
великим Автором-Творцом. Творение суть откровение, но не в непосредственном
спиритуалистском смысле и не в мистическом эзотерическом смысле, известном
только немногим. Великий Архитектор и Законодатель изложил порядок,
который связывает и привлекает всех людей» [129, с. 157].
В целом работа Клаарена [129] весьма для нас полезна как унаследованный
от прежних времен тезаурусный фон событий XVII в., хотя многое в этой работе
может вызывать у нас возражения, иногда и просто раздражение: слишком уж
размытой оказывается грань между интеллектуальной, воспроизводимой через
университет деятельностью и дисциплинарностью теологической, что вызывает
ряд досадных с нашей точки зрения промахов — таких как исключение из
анализа возможных межфакультетских (теологи, юристы, медики) воздействий и
давлений на состав единого «учебника» интеллектуалов (подготовительный факультет
свободных искусств, который с XVI в. почти повсеместно стал именоваться
«философским факультетом»), а также и неясность вопроса о том, кто кому
уподобляется, выступает приматом в отношениях бог-творение и человек-творение.
Даже и на том материале явно незапланированной информативности, который
представлен в работе, достаточно четко прослеживается тенденция к уподоблению
бога интеллектуалу и по составу образов и по набору работ.
При всем том, основные идеи Клаарена о том, что наука явно рождена не на
пустом месте, что рождена она в интеллектуальном контексте, принадлежит в
своем начальном периоде к этому контексту, объяснима из преемственных
изменений этого контекста, что возникновение науки невозможно объяснить без
опоры на интеллектуальный контекст на чисто негативной базе секуляризации,
представляются нам заслуживающими самого серьезного внимания.
Вместе с тем предложенная Клаареном [129] дифференцированная системная
Форма возможных и даже весьма вероятных событий XVII в. в общем-то обладает
универсально присущей всем таким формам известной огорчительной пустотой:
штрихи есть, а картины, целостного представления как-то не получается —
слишком многое остается за кадром как второстепенное, само собой разумеющееся. К
примеру, Клаарен часто упоминает о крайне интересующих нас реформах
образования, но приходится только догадываться, что именно он имеет в виду, и
точно так же обстоит дело с Королевским Обществом Лондона, с первым его
научным журналом «Философские записки» и со многим другим. Ниже мы
попытаемся внести в наметки Клаарена необходимую нам на будущее ясность.
Интеллектуальная революция XVII в. (ход событий)
В событиях середины XVII в., наиболее бурная и продуктивная часть которых
протекала, по мнению большинства историков науки, в Англии, мы надеемся
обнаружить начало того преемственного потока событий в календарном времени,
который представлен сегодня, в «здесь и сейчас» исследований науковедов,
историков и социологов науки, историков образования национальными Т-континуу-
мами развитых стран, получающих свою строгую и достаточно жесткую
геометрию благодаря вписанным в них системам образования. Коль скоро наш интерес
к прошлому преследует «терапевтические» цели — мы стремимся критически
понять локализованные где-то в прошлом начала и причины современного
кризисного состояния наших национальных систем образования и связанных с ними
национальных Т-континуумов, — нам в огромном массиве литературы,
посвященной возникновению и институционализации науки как относительно
автономного института среди других институтов обществ европейской культурной традиции,
надлежит ориентироваться по преимуществу на те работы, в которых достаточное
504
M.К. Петров
внимание уделяется проблемам образования и становления национальных Т-кон-
тинуумов.
Е.М.Клаарен [129] показал нам через парадигматические сдвиги в теологии и
естественной философии теоретическую возможность появления в европейской
культурной традиции науки как дочерней поддисциплины естественной,
привязанной к проблематике творения теологии по механизму, исследованному Н.Мал-
линзом [142]. Теперь, в поисках интересующих нас начал системы образования и
Т-континуума, мы уже можем себя считать подготовленными к восприятию того,
что и наши начала могут оказаться в «теологических рубашках» и весьма мало
походить на то, что мы имеем сегодня. Следующий шаг в наших поисках мы
сделаем с помощью фундаментального труда Ч.Уэбстера «Великое восстановление»
[169].
Сквозная идея его работы, объединяющая тематику всех глав, — миллениа-
ризм во всех его выявлениях от эсхатологии ожидания второго пришествия
Христа и его тысячелетнего царства до образовательных реформ и поисков путей к
овладению тайнами природы ради прославления мудрости ее творца и
восстановления власти человека над природой, потерянной им в грехопадении. Широко
распространенная среди протестантов Европы эсхатология миллениаризма
опиралась на знакомое уже нам библейское пророчество, по которому праведникам
обещалось «первое воскрешение» — «Блажен и свят имеющий участие в
воскресении первом: над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут
священниками бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет» [Откровение, 20, 6].
Власть Рима реформаторы отождествляли с властью Антихриста, себя — с
праведниками, толкуя политические и военные события XV—XVII вв. (поражение
Армады, 30-летняя война, революционные события в Англии) как прямые
свидетельства о начале предсказанных Откровением событий, конечным результатом
которых должно было стать падение власти Римской церкви и становление новых
церквей под непосредственным руководством Христа.
Реформация, как нам показал Клаарен [129], не была однородной, и каждое
из направлений протестантизма имело и свои особенности в истолковании
библейских пророчеств и свою национальную специфику. Уэбстер показывает, что
пуритане — английская ветвь кальвинизма — в общие для кальвинизма идеи
предопределения, неизменности и вечности миропорядка, установленного богом,
«не меняющим своих решений», принятых в акте творения, вносили и свою
специфику: идею избранности англичан и Англии, где именно и следовало ожидать
основания обещанного Нового Иерусалима (другой вариант — в Массачусетсом
заливе, в американской Новой Англии), и идею «восстановления» — обретения
на тысячелетнем или предтысячелетнем периоде утерянного в грехопадении
знания и соответствующего «языка Адама», которые давали человеку власть над
природой, неограниченное долголетие, способность рационально, со знанием дела
организовать всю совокупность межличностных, семейных, воспитательных,
познавательных, социально-политических, экономических и иных отношений,
обеспечивающих «праведный» образ жизни и спасение в «первом воскрешении».
Эта идея восстановления основывалась, как утверждает Уэбстер, на
упоминавшемся уже пророчестве Даниила: «И восстанет в то время Михаил, князь
великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало
с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из
народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из
спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и
обратившие многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой
слова сии и запечатай книгу до последнего времени; многие прочитают ее, и
умножится ведение» [Даниил, 12, 1—4].
Уэбстер отмечает присутствие ссылок на пророчество Даниила в подавляющем
большинстве теологических, философских, натурфилософских работ начала и се-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 505
редины XVII в. (у Гудвина, Твисса, Бэкона, Мида, Коменского, Барроуза, Уил-
кинсона, Гартлиба, Уинстли и многих других) [169, с. 9—12]. По мнению
Уэбстера, пророчество Даниила «сыграло фундаментальную роль в обосновании веры
пуритан в неизбежное восстановление знания и в возвращения господства
человека над природой» [169, с. 9]. Да и сама ситуация в предреволюционной Англии
осознавалась в аналогиях этого пророчества.
Рядом с пророчествами Откровения и Даниила усиленно начинают
цитироваться Моисей и 8 псалом Давида: «И сказал Бог: сотворим человека по образу
нашему, по подобию нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими и
над птицами небесными, и над скотом и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле» [Бытие, 1, 26]; «Не много ты умалил его перед
ангелами; славою и честию увенчал его; поставил его владыкою над делами рук
твоих; все положил под ноги его» [Псалтирь, 8, 6—7], причем сам акт называния
Адамом реалий окружения — «И нарек человек имена всем скотам и птицам
небесным и всем зверям полевым» [Бытие, 2, 20], — осознается как ввод человека
в наследственную власть над природой.
По связи с этими библейскими пророчествами и свидетельствами,
теологически санкционирующими пуританское мировоззрение и их символ веры, осознается
и выработанная средневековой схоластикой концепция «Книги природы» или
«второго писания», которая органически вплетается в систему ценностей
пуританизма прежде всего через философию Бэкона: «И для того, чтобы мы не впадали
в заблуждение, — пишет Бэкон, — он дал нам две книги: книгу Писания, в
которой раскрывается воля божья, а затем — книгу природы, раскрывающую его
могущество. Из этих двух книг вторая является как бы ключом к первой, не
только подготовляя наш разум к восприятию на основе общих законов мышления и
речи истинного смысла Писания, но главным образом развивая дальше нашу
веру, заставляя нас обратиться к серьезному размышлению о божественном
всемогуществе, знаки которого четко запечатлены на камне его творений» [6, с. 128].
Уэбстер высоко оценивает значение работ Бэкона ддя пуританского движения:
«Если учесть, что философская система Бэкона была вплетена как в контекст
кальвинистского кода этики, так и в их провиденциальный и миллениарный
взгляд на историю, то нет ничего удивительного в том, что его работы стали
восприниматься пуританами как философское дополнение к «Книге мучеников»
Фокса. Один обещал успешное завершение религиозной реформации, другой
предлагал очерк философской реформы. Поэтому теологи вроде Стоутона, Хей-
квилла и Твисса принимали тексты Бэкона почти канонически. Влияние работ
Бэкона росло, пока он не стал наиболее важным философским и научным
авторитетом пуританской революции» [169, с. 25].
Миллениаризм, восстановление, «Книга природы», пророчество Даниила,
идея избранности англичан и Англии, философская система Бэкона, приведенная
позже в более связную и приближенную к практике форму «пансофии» А.Комен-
ским, задали, по Уэбстеру, основные контуры и размерности
духовно-практического контекста теоретической, политической, организационной, образовательной
активности пуритан, в рамках которой становление и институциональное
оформление опытной науки образуют лишь один и отнюдь не самодовлеющий аспект
скоординированных по целям и ценностям усилий.
Естественно, что этот контекст активности пуритан на периоде 1626—1660-х гг.
не был единственным. В своих более или менее обособленных контекстах со
своими особыми целями и ценностями действовали сторонники англиканской
церкви и короля, католики и просвитериане, другие разобщенные в процессе
Реформации группы, но деятельность пуритан, по Уэбстеру, была доминантой в
определении общего контекста эпохи и того компромисса реставрации, которым
завершилась революция 1640—1660-х гг. в Англии. Особенно наглядно эта ведущая
роль пуритан проявилась в процессах организационного оформления науки
(группы, невидимые колледжи, Королевское Общество).
506
M. К. Петров
Нужно признать, что выбор такого единого реформационного в своей основе
контекста — несомненная удача Уэбстера: ему удается собрать весьма пестрый
материал в органичную целостность, постоянно удерживая изложение в
ощутимом отношении к целому. Это особенно заметно в анализе деятельности
основных участников движения за теологическую санкцию и социальное признание
науки. Уэбстер справедливо отмечает: «Очевидной характеристикой, а вместе с
тем и силой английского научного движения был разброс интересов отдельных
его участников. Бойль, Гудворт, Рей были глубоко вовлечены в теологические
дебаты по таким вопросам, как материализм, естественный закон, роль бога во
вселенной, и их мнение по этим вопросам пользовалось влиянием долгое время.
Большинство активного ядра Королевского Общества вело самые разнообразные
научные исследования. Многих увлекало совершенствование медицины, тогда как
доминирующая группа (Бойль, Ивелин, Гук, Олденбург, Петти, Уилкинс, Рен)
занималась агротехникой, технологией, изобретениями, полезными
усовершенствованиями. Эти «ученые» активно интересовались не только технологией. Они
общались также с практиками всего класса техников и рабочих, искусство которых
они пытались понять и воспроизвести. Учитывая эту общую озабоченность
инновацией и совершенствованием, не приходится удивляться тому, что
Королевское Общество предпочло оформить себя как бэконианский в своей основе
институт, хотя его бэконианский индуктивизм не был ни столь исключительным,
ни столь современным, как это хотели бы* нас заставить признать некоторые
современные авторы» [169, с. 496].
В главе 1 (Великое восстановление) Уэбстер рассматривает теолого-концепту-
альную основу пуританизма и его исторические корни. Отмечая, что сам по себе
миллениаризм не является такой уж новинкой и не раз оживал в истории
христианства, Уэбстер подчеркивает новизну и специфичность синтеза миллениариз-
ма с идеями восстановления. Миллениаризм укреплял «веру в то, что бог
санкционировал Реформацию и в конечном счете гарантировал полную победу
реформированных церквей над католическими силами Антихриста» [169, с. 1].
Концепт же восстановления показывается Уэбстером как новый и во многом
инструментальный, призванный реализовать успехи пуритан: «Восстановление
знания было концептом новым, игравшем все более важную роль в пуританском
самосознании. Недавняя реакция против порочной философии язычников и
поиск новой философии, основанной на опыте, представлялись протестантам
XVII в. вполне совместимыми с религиозной Реформацией. Изобретение
книгопечатания и пороха, особенно путешествия и географические открытия
провозглашали, казалось, восстановление знания, что представлялось вполне
сообразным с прозреваемым утопическим раем, на самом деле способным обеспечить
средствами, с помощью которых можно было бы реализовать условия
осуществимости утопий» [169, с. 1].
Наиболее ярким выразителем таких умонастроений Уэбстер считает
Мильтона: «И наконец, когда универсальное знание завершит свой цикл, дух
человеческий, не заключенный уже в темнице, распространится так широко и далеко, пока
не заполнит весь мир и все пространство за его пределами, являя свое
божественное величие. Тогда-то большинство возможностей и перемен мира будут
пониматься так быстро, что для того, кто обладает этой крепостью мудрости, вряд
ли сможет произойти нечто в жизни его непредвиденное или случайное. И
действительно, он станет тем, чьему закону и чьей власти подчиняются звезды, к
чьим командам прислушиваются земля и море, кому прислуживают ветры, кому,
наконец, сдалась сама Мать Природа, как если бы и в самом деле некий бог
отрекся от престола мира и передал свои права, законы и управление человеку-
властелину» [169, с. 1].
Пророчество Даниила было связующим и синтезирующим звеном между
идеями миллениаризма и восстановления: «Эти строки пророчества превратились в
опознавательный знак пуританских прогнозов миллениаризма. К ним постоянно
История европейской культурной традиции и ее проблемы 507
возвращались, отыскивая в них все новые смыслы. Они стали центральными в
философских работах, из которых пуритане черпали воодушевление. Этим
способом продвижение знания становилось существенной размерностью общей схемы
миллениаризма и таким образом наука, медицина и технология превращались в
неотъемлемую часть мышления английских пуритан на периоде революционных
десятилетий» [169, с. 2].
Для большинства пуритан миллениаризм был лишь опосредствующим звеном
теологической и социальной санкции их интересов: «Как только были достигнуты
непосредственные политические и военные цели и начался практический поиск
религиозного и политического урегулирования, и миллениаристские и
миссионерские прозрения были отодвинуты на задний план» [169, с. 7]. Но для многих
реформаторов идеи миллениаризма имели более глубокое и устойчивое значение
интегратора нового мировоззрения: «Новый Иерусалим мыслился не в терминах
мелких религиозных изменений, но как драматический скачок вперед,
результатом которого будет не только достижение полного религиозного согласия, но и
социальные улучшения и интеллектуальное обновление. Поэтому все социальные
институты подвергались критическому рассмотрению в видах обеспечения их
большего совершенства. Миллениаризм освобождал реформаторов от любых
моральных обязательств уважительного отношения к давно установившимся
институтам или к действиям, навязанным рамками текущих интеллектуальных
ценностей. Представлялся вполне позволительным иконокластический подход к
общепринятым верованиям, если он открывал пути к идеологии, более
соответствующей образу жизни святых Нового Иерусалима. Соотношение с этими стандартами
поощряло более терпимое отношение к новым идеям, если они были совместимы
с пуританскими этическими нормами... Миллениаризм также воодушевлял
идеалистов сочинять предложения о социальном процветании, планы утопических
сообществ, предложения о реформе законодательства и о «продвижении знания».
Предполагалось, что внедрение этих предложений начнет процесс постепенного
совершенствования социальной организации, а это в конечном счете приведет к
воспроизведению условий жизни, какими они были в раю» [169, с. 7—8].
Так или иначе, но комплекс: миллениаризм-восстановление, теологически
санкционированный пророчеством Даниила, оказался устойчивым. Приводя
множество имен, Уэбстер отмечает: «Упомянутые выше авторы, ссылаются ли они
прямо на пророчество Даниила или нет, объединены верой в предстоящее
интеллектуальное восстановление. Оно было существенным аспектом обещанной
«славной реформации». Идеи интеллектуальной размерности миллениума
вызревали очень быстро, питаясь хронологическими вычислениями и философскими
концептами Бэкона и Коменского... К тому же словарь Бэкона был
ассимилирован идеологией миллениаризма, его философская программа «Великое
восстановление» рассматривалась поколением Била как практическое руководство к
интеллектуальному возрождению. Соответственно, фрагментарная философская
система, оставленная в наследство Бэконом, стала для пуритан-интеллектуалов и
основой их концепции философского прогресса и строительным материалом для
создания социальных утопий» [169, с. 12].
Многие интеллектуалы того времени увлекались, с опорой на библейские
свидетельства, расчетами дат начала тысячелетнего царства Христова, причем
большинство особое значение придавало периоду с 1641 по 1666 гг.
Характерной чертой складывающегося мировоззрения пуритан Уэбстер
считает двойственное отношение к прошлому. К началу революции пуритане
находились в положении, аналогичном положению гуманистов эпохи Возрождения —
они целиком отвергали наличное интеллектуальное наследство и в поисках
воодушевляющих примеров оглядывались в прошлое. Но пуритане искали в
прошлом не совсем то, чего искали гуманисты: «С той же настойчивостью, что и
гуманисты, пуритане в поисках утверждения опирались на связь с
непререкаемыми древними авторитетами. Но если гуманисты могли черпать представления о
508
M. К. Петров
«золотом веке» у древних греков, то пуритане обязаны были отрицательно
относиться к этой языческой модели. Их воодушевление связывалось скорее с отцами
церкви и с патриархами Израиля. Поэтому, хотя пуритане были новаторами по
отношению к непосредственному прошлому, они столь же глубоко были
озабочены восстановлением древней мудрости. Как философы и ученые, пуритане
обычно не забывали о своей антипатии к античным авторитетам. Внешне они
выглядели ведущими апологетами «новой науки» и «новой философии»,
выраставших в питательной среде XVII в. Но что касается пуритан как таковых, то для
них новые идеи были приемлемы лишь в том случае, если они не входили в
противоречие с их религиозными предпосылками. Так что они были приверженцами
общей «реформы» или «новых моделей» не в большей степени, чем
приверженцами «возрождения», «возобновления», «реституции», «реставрации»,
«восстановления». Язык пуританского движения не оставляет никаких сомнений в том, что
толкая знание вперед к новым границам, они были убеждены в
санкционированное™ их миссии богом Израиля» [169, с. 15].
В качестве типичного примера построенных на библейских источниках
представлений о «золотом веке» миллениума Уэбстер приводит популярное в XVII в.
описание нового мира Джоном Стоутоном: «Это будет период совершенной
гармонии как в небесном, так и в земном мирах. Гармония небесных сфер сольется
с эстетической гармонией на земле. Не будет ни дня, ни ночи — солнце и луна
будут светить непрерывно и более ясным светом. Небеса будут освещены
бесконечным количеством звезд, а земля станет более плодородной. Вся земля
покроется приносящими плоды экзотическими растениями, которые пока водятся
только в некоторых странах. Урожаи будут богатыми, много выше обычных. Горы
будут в изобилии порождать драгоценные камни и металлы высокого качества.
Волк с ягненком станут жить в мире, и ни одно создание не будет враждовать с
другими. Это мирное сосуществование распространится и на общество — оно
будет развиваться под началом святых к утопическому идеалу. Различия между
протестантскими церквями сгладятся и они сольются в единую церковь под
эгидой Христа» [169, с. 17-18].
Миллениаризм, таким образом, выступал в качестве мотива деятельности,
рисуя завлекательные для того времени картины будущего по контрасту с
безрадостным настоящим. Но сам по себе он не давал детализированной и ясной
программы. Попытки такой детализации ставили перед пуританами задачу поиска
опор и средств философского просвещения и социального совершенствования у
библейских авторитетов. Задача затруднялась тем обстоятельством, что
сложившаяся традиция философствования была в своей основе скептической:
«Рассуждения об упадке и порче человеческой природы исключали любые идеи
восстановления — они казались слишком отдаленными, чтобы размышлять по их
поводу» [169, с. 19].
Типичным выражением философской позиции того времени Уэбстер считает
«Трактат о человеческом знании» Ф.Гревилла, где, в частности, говорилось: «Что
же тогда все эти человеческие искусства и мишура, как не море ошибок? И в
этих безднах взыскующий истины находит только тени, а не твердую почву» [169,
с. 19]. Этот скептицизм грозил, по мнению Уэбстера, вернуть пуритан на
наезженную средневековьем дорогу: «Такому отношению соответствовала тенденция
подчеркивать интеллектуальное (да и физическое) превосходство древних, а это
явно клонилось к переходу к общей защите схоластической теологии и
философии» [126, с. 19].
Пионерами новой традиции философствования Уэбстер считает Дж.Гудвина,
Дж.Хейквилла и Дж.Джонстона, особенно двух последних, хотя и обнаруживает
у них слабости именно философского плана: «Хейквилл и Джонстон подрывали
позиции защитников авторитета античности и способствовали консолидации у
пуритан духа уверенности в себе. Это бесспорно имело важное диалектическое
значение, но в других отношениях их работы давали лишь туманные наметки по-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 509
зитивной философской программы. В поисках такой программы сторонники
миллениаризма обращались прежде всего к Бэкону, а затем и все чаще к
недавним работам Коменского. Коменский писал слишком поздно, чтобы оказать
влияние на Хейквилла, но Джонстон и в обзоре естественной философии и в
рассуждениях по поводу новых методов обучения языкам ссылается на своего друга
Коменского» [169, с. 20—21].
Инициаторами этого обращения к Бэкону и Коменскому были сами пуритане,
но поводов для него было вполне достаточно: «Хотя и Бэкон и Коменский
обычно не считаются сторонниками миллениаризма, пуритане все же вполне
правомерно обращали внимание именно на эти аспекты их философских систем.
Современные исследователи обычно упускают из виду это обстоятельство,
поскольку их как правило интересуют те аспекты идей Бэкона и Коменского, которые
релевантны современной философии или педагогике, но пуритане обладали своей
особой ретроспективой. Она неизбежно вызывала селективное прочтение, но не
несла жестких ограничений. Рукописи, как и опубликованные работы,
обеспечивали базу такого специфического для пуритан восприятия Бэкона и Коменского»
[169, с. 21].
Решающим для подключения Бэкона в пуританскую систему взглядов Уэбстер
считает прямые и косвенные ссылки Бэкона на пророчество Даниила и общий
его подход к знанию, как к сотворенному богом и им же выращиваемому» [169,
с. 22—23]. Анализируя работы Бэкона, Уэбстер приходит к выводу: «Пророчество
Даниила было включено Бэконом в первый набросок его философской
программы. Этот религиозный фундамент его философии не исчез и тогда, когда он
приступил к реализации долговременной задачи разработки плана Восстановления и
к завершению образующих его частей... Подход Бэкона остался в своей основе
историческим и эсхатологическим. Власть человека была потеряна в
грехопадении, но в Библии во многих случаях свидетельствуется о восстановлении знания
по милости божьей. Так, Бэкон считал, что философия досократиков была в
основном истинной, и только последующие школы греческой философии начали
общую интеллектуальную деградацию. Авторитет этих школ сохранился до дней
Бэкона, но он уверенно предсказывал, что время их власти почти уже прошло.
Схоластическое наследство уже стало объектом нападок и налицо несомненные
признаки возрождения» [169, с. 23].
Бэкон считал, что недавние путешествия и открытия «заложили материальный
базис новой философии» [169, с. 23]. Следовало также ожидать пользы от
подъема механических искусств, питающихся, по его мнению, «живым духом». К тому
же книгопечатание революционизировало коммуникацию, сделало возможным
распространение открытий и мнений «подобно всполоху молнии» [169, с. 23].
«Было бы только трагично, если бы это расширение человеческих горизонтов не
затронуло философов и философию из-за ее приверженности к узким границам
схоластического знания. Европа движется в новое состояние политического и
религиозного умиротворения, создавая тем самым условия для размышления о
могуществе и мудрости бога и совершенстве его творений. Время, похоже, обещает
великое восстановление» [169, с. 23].
Уэбстер отмечает, что эта тенденция к разграничению досократической
истинной и послесократической ложной философии характерна для ранних работ
Бэкона: «В них также проводится различие между независимостью досократиков и
связанностью их более влиятельных последователей. Первые устанавливали
продуктивный и прагматический подход к природе, но их взгляды были подавлены
более поздними греческими философами, которые насаждали свои ложные
мнения, конструируя системы и организуя школы. Карикатуры Бэкона на древних
завершались призывами к человеку стряхнуть античные путы и стать хозяином
самого себя. Пределы интеллектуального мира не определены античностью —
путешествия и открытия дают представление об удивительном богатстве
возможностей, предоставляемых человеку Богом» [169, с. 24].
510
M. К. Петров
Бэкон постоянно подчеркивал связь между географическими открытиями и
исследованиями «интеллектуального глобуса»: «Было бы позорно, если бы
исследования и постижения широких пространств материального глобуса не
сопровождались расширением границ интеллектуального глобуса, установленных
незначительными открытиями древних. Оба эти предприятия — открытие новых земель
и открытие новых наук — связаны друг с другом и предполагают друг друга... Не
только разум, но и пророчество объединяет их» [169, с. 24]. Далее следует
пророчество Даниила и Уэбстер комментирует: «Здесь опять-таки ключевое значение
придается пророчеству Даниила. В самом деле, его частое присутствие в ранних
работах Бэкона наталкивает на мысль о том, что оно могло быть существенной
составляющей его личной мотивации. Хотя в своих зрелых работах Бэкон занят
преимущественно детализацией философской и научной тематики,
провиденциальные и миллениаристские моменты никогда не упускаются из виду. Так, в
«Новом органоне» он откровенно повторяет свою интерпретацию пророчества
Даниила, по которой движение через мир, завершенное или завершаемое сегодня
благодаря столь многим путешествиям, и продвижение наук, объединены
судьбой, то есть провидением в одном и том же веке» [169, с. 24]. Здесь следует
отметить, что в русском переводе мысль Бэкона несколько упрощена: «И то, что
сказано о духовном: «Царство божие не приходит заметно», происходит во всех
больших делах божественного провидения. Все движется постепенно без шума и
звона, и дело совершается раньше, чем люди подумают о том, что оно
совершается или заметят это. Не следует упускать из виду пророчество Даниила о
последних временах мира: «Многие пройдут, и многообразно будет знание», явно
указывающее, что судьбой, т.е. провидением определено, чтобы совпали в одно
и то же время прохождение через мир (который уже пополнен столькими
дальними плаваниями или пополняется) и рост наук» [7, 57—58].
Близкие подходы и мотивы Уэбстер обнаруживает и у Коменского: «Были,
естественно, и другие реформаторы философии, которые привлекали внимание
пуритан. Знаменательно в этом контексте, что Коменский — для пуритан фигура
ближайшего к Бэкону ранга — намеренно усиливал религиозные и
миллениаристские ассоциации новой философии. Это и не удивительно для человека, который
получил воспитание в академии Херборна, был учеником и другом Альстеда...
Подобно Бэкону, Коменский защищал идеи своей философии пансофии
ссылками на историю: библейское основание его позиции было эксплицировано даже
более полно. Он исследовал причины интеллектуального упадка западного
общества и предлагал пути спасения цивилизации от тьмы варварства. Свидетельства
наступления обещанной эпохи света Коменский видел несколько иначе, связывая
их с появлением книгопечатания и усовершенствованиями в навигации. В
книгопечатании бог дал «механизм общения между всеми эпохами прошлого».
Благодаря навигации «открылись пути общения между людьми, разбросанными по
разным континентам». Явно не случайно эти новации идентифицировались как
исполнение пророчества Даниила: «Для того бог и позволил столь многим людям
передвигаться туда и сюда, даже вынудил их делать это, чтобы умножить знание».
Если эти достижения будут дополнены «простым методом обучения всех людей
всем вещам», то не будет уже препятствий к наступлению золотого века знания,
которого ждут с таким нетерпением» [169, с. 25—26].
Коменский во многом последователь Бэкона: «В интеллектуальных вопросах
Коменский вслед за Бэконом призывал к эмансипации от влияния греческой
философии, которая «причинила столько вреда духу христианства». Такая
эмансипация открывала бы пути к совершенно новой философии, под которой
Коменский подразумевал синкретическое слияние элементов из рациональных,
эмпирических и библейских источников. Философская программа Коменского для
восстановительного периода открыто формировалась по связи с целями миллениа-
ризма. Планы универсального колледжа, универсальных школ, универсального
знания, универсального языка... легли в основу обстоятельнейшего «Всеобщего
История европейской культурной традиции и ее проблемы 511
совета», который можно рассматривать как дополнение Коменского к «Великому
восстановлению» Бэкона. Обе системы понимались как средства полного
восстановления той гармонии природы, которая была утеряна в грехопадении» [169,
с. 26].
Сами работы Бэкона и Коменского воспринимались пуританами как
очевидные предпосылки и знаки приближения тысячелетнего царства Христа. Один из
видных практических реформаторов И.Хюбнер писал о Коменском: «Мир
навсегда останется признательным ему за установление понятия, по которому мы
должны знать все вещи» [169, с. 27]. Пансофия Коменского представлялась Хюбнеру
очевидным проявлением божественной воли: «Конечно же бог преследовал
особую цель, вводя в мир это понятие пансофического изучения, каким бы
несовершенным оно ни было в изложении Коменского» [169, с. 27—28].
Таким образом, начатый Бэконом путь истолкования восстановления в духе
умножения знаний о мире под влиянием Коменского и множества реформаторов
пуританской ориентации превратился в более или менее организованный
коллективный поиск практических решений по множеству проблем, возникавших по
связи с эсхатологией миллениаризма: «Пуританские реформаторы
диагностировали недостатки текущего знания и искали решения всем фундаментальным,
интеллектуальным и социальным проблемам. Чтобы продвигаться в этой
величественной программе вперед, приходилось вырабатывать существенно новое
отношение к знанию. Было необходимо, чтобы в духе незамутненной объективности
индивиды посвящали себя великому совместному предприятию. Учения Бэкона
и Коменского служили исходным руководством по эпистемологии, методологии
и научной политике. Через развитие их идей должна была появиться новая
философия, которая соответствовала бы целям духовного просвещения пуритан.
Благодаря всеобщему образованию пуританская молодежь будет защищена от зол
языческой схоластики и подготовлена к восприятию истинно христианской
философии. Экспериментальная медицина решит проблемы болезней.
Агротехнические новшества восстановят райское плодородие. Общая экономическая
реформа сможет вызвать неслыханный рост благосостояния и поднять Британию к
высотам господства над миром» [169, с. 30].
Дальше Уэбстер развертывает частные стороны восстановления как
комплексного общепуританского предприятия, в состав которого входило и
институциональное оформление опытной науки.
Глава II (Духовное братство) посвящена выработке моделей объединения
жизни и деятельности пуритан на разных уровнях от попыток вмешательства в
жизнь американских колоний, прежде всего Новой Англии и, соответственно, в
структуру потока эмигрантов, значительную долю которых составляли пуритане,
до создания «невидимых колледжей» и их официального признания в
Королевском Обществе Лондона.
Многие активные реформаторы-пуритане занимались одновременно
несколькими видами деятельности, рассматривая их как составляющие единой
программы жизни, подчиненной пуританским целям. Джон Стоутон, например, начав
успешную академическую карьеру в Кембридже, стал затем одним из руководителей
лондонских пуритан, участвовал в организации и деятельности «Компании Мас-
сачусетского Залива», выступил с инициативой создания в Новой Англии «мест
для изучения языка и наставления язычников», стал одним из распорядителей
фонда помощи пуританам, подвергающимся преследованиям на родине или за ее
пределами [169, с. 33—36]. Столь же разносторонней была деятельность и других
реформаторов.
Во времена Лаузианской реакции, предшествовавшей революционным
событиям 1640 г., влияние пуритан в университетах пошло на убыль, однако и в это
время ряд колледжей Кембриджа и Оксфорда оставался «пристанищем
значительного числа пуритан — преподавателей и студентов» [169, с. 37]. В одном только
колледже Эммануила (Кембридж) Уэбстер упоминает 16 видных участников пу-
512
M. К. Петров
ританского движения [169, с. 37]. Во время предреволюционных гонений многие
пуритане вынуждены были покидать страну, но если раньше эмигранты, как
правило, оставались в Европе, чаще всего в Нидерландах, то теперь все большая
часть эмигрировала в колонии Новой Англии при финансовой и
организационной поддержке различных групп и фондов [169, с. 40—42].
Англия, в свою очередь, была убежищем для протестантов континентальной
Европы, которые во главе с Гартлибом и при поддержке пуритан образовали
влиятельную в политическом отношении группу, сыгравшую значительную роль в
предреволюционных и революционных событиях 1630—1660-х гг.
Гибкость и в общем-то неразборчивость пуритан в выборе моделей и средств
организации Уэбстер связывает с их оппозиционным положением: «С точки
зрения интеллектуальной истории 1630 гг. были для пуритан побуждающим мотивом
к разработке убедительной, целостной и рациональной системы взглядов.
Растущая сплоченность пуритан в предшествующее 1640 г. десятилетие была вызвана
необходимостью. Примирение конфликтующих интересов и акцент на общих
верованиях были существенны для выживания оппозиционной партии как группы,
имеющей свои особые социальные, политические и религиозные цели.
Ассоциация магнатов и клерикалов пуританской ориентации особо важное значение
имела для интеллигенции» [169, с. 43—44]. Прежде всего она предоставляла
возможности быстрого продвижения благодаря патронажу в академической
иерархии, а затем уже и возможности более или менее свободного обсуждения
теоретических проблем. Пуританизм с его гибкостью и изобретательностью создавал,
по мнению Уэбстера, «идеальное окружение для культивации идей Великого
восстановления, а пуританские обычаи взаимопомощи, свободы общения и
договорной ответственности стали важными определителями структуры возникающего
научного движения» [169, с. 44].
Проблема колониального освоения Америки была для пуритан
предреволюционного периода своеобразным полигоном для упражнений в разработке программ
социального устройства: «Англию 1630-х гг. вряд ли можно считать самым
подходящим местом для выдвижения таких схем. И все же, применительно к
колониальным предприятиям, возникала реальная возможность размышлять в
терминах подобного схематизма, что в растущей степени занимало воображение
пуритан. В самом деле, «движение туда и сюда», как и «растущее знание» Даниила,
связывались пуританами с открытием и освоением Нового мира. Даже
американским индейцам в этой пьесе предоставлялась определенная роль. Джон Элиот
считал их язычниками, созревшими для обращения на завершающем этапе, тогда
как Мид идентифицировал индейцев как обитателей страны Гога и Магога,
которым предопределено сопротивляться обращению и досаждать богоугодным
обитателям американских плантаций. Мид принял этот пессимистический прогноз в
соответствии с Твиссом, который удивлялся по поводу того, что «божественное
провидение не позволило открыть Новый мир почти до конца нашего старого
мира». Твисс выражал надежду, что английские плантации могли бы стать
основанием Нового Иерусалима, причем этот взгляд получил широкое признание
среди его друзей-пуритан. Уильям Симонд так выражал это общее для пуритан
восприятие Северной Америки: «Эта страна более походит на возделанные богом
сады Эдема, чем любая другая часть на всей земле» [169, с. 44—45].
«Новая Атлантида» Бэкона локализировалась пуританами у берегов Америки
и сама колонизация осмысливалась как предприятие религиозное и
спекулятивное: «Джон Уайт был ведущим пропагандистом Массачусетской колонии. По его
мнению, «бог специально направляет основание колоний для выращивания и
распространения религии». Более того, бог установил, чтобы эта работа
совершалась в «западных частях мира» и на заключительном этапе истории. Подчеркивая
религиозный характер структуры колонии, Уайт вместе с тем предупреждал о
необходимости создать гармоничное и хорошо сбалансированное сообщество,
которое было бы свободно от социальных зол и нищеты Англии. Джон Уинтроп раз-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 513
делял чувства Уайта — верующие в Англии должны будут пережить сильнейшие
испытания и разочарования. Под влиянием этих настроений он в 1630 г. принял
предложение стать губернатором Массачусетской колонии, веря в то, что «бог
избрал эту страну для выращивания в ней своего народа» [169, с. 45].
В общем русле этих умонастроений, спекулятивных построений, практической
изворотливости и изобретательности шло, по автору, конструирование
образовательно-академических и научно-дисциплинарных моделей «сообществ». Габриель
Плэтт, например, в «Макарии» предлагал создать «Колледж сельскохозяйственных
изобретений» в развитие тезиса о том, что «практики морально обязаны
использовать свое искусство с максимальной пользой для общества» [169, с. 47].
Уэбстер детально анализирует историю организации Королевского Общества
и его «Философских записок», придерживаясь версии Уоллиса, по которой
предложение о регулярных собраниях исходило от Гаака в 1645 г. Основываясь на
переписке Бойля, Уэбстер считает документально подтвержденным
существование «невидимого колледжа» в 1646—1647 гг. [169, с. 61].
Параллельно прослеживается и эволюция идеи «адресной службы» к
«Философским запискам» Королевского Общества. По Уэбстеру, идея Службы была
подсказана английским строителям науки в общем-то неудачной попыткой Гаака
наладить переписку с кружком Мерсенна, причем разногласия между Мерсенном,
находившимся в то время в переписке почти со всеми учеными и философами
Европы, и английскими реформаторами обнаружились в различном понимании
самого существа и целей предприятия: Мерсенна не интересовали утопии и
универсалии Коменского, которые хотелось вывести на общеевропейский форум
Гааку, а англичане не проявляли интереса к чисто натурфилософским
построениям мыслителей континентальной Европы [169, с. 56—57].
Но английский вариант, ориентированный на универсальный колледж
Коменского и на объединение протестантов Европы, не был отброшен. Дьюри и Гар-
тлиб прилагали много усилий к реализации универсального колледжа хотя бы
частично в форме Адресной службы — панъевропейской коммуникации
протестантов: «После 1641 г. не было возможности организовать Колледж Коменского
на институциональной основе, но более скромная идея международной
переписки ученых не была все же упущена из виду. Дьюри, в частности, надеялся, что
переписка этого рода могла бы содействовать переговорам между
представителями протестантских церквей Европы» [169, с. 67]. В этой религиозной форме идея
Службы не была реализована, но уже в 1647 г. по инициативе Дьюри и Гартлиба
была предложена более обширная схема: «На этой стадии идея Службы
представала в весьма детализированных и всеобъемлющих терминах. Цель ее была не
более, ни менее, как обеспечить, чтобы «все, что есть в Королевстве полезного
и желательного, могло быть с помощью этого средства сообщено любому, кто
испытывает в этом нужду» [169, с. 69].
Служба должна была функционировать в двух подразделениях: чисто
утилитарном и теоретико-практическом, причем Дьюри и Гартлиб были в основном
заняты второй частью: «Она предназначалась для регистрации и хранения
информации о вопросах религии, научения, а также об изобретениях, которые являются
предметами размышления и упражнения ума из-за их странности и пользы для
человеческой жизни». Устанавливались, таким образом, три основных членения
информации: религия, научение и изобретения. Религиозная переписка Дьюри
была первым членением. Второе предназначалось для развития философских
учений Бэкона и Коменского, тогда как третье должно было реализовать цели,
намеченные Плэттом в Колледже Опыта» [169, с. 69].
На главу Службы — «агента по коммуникации» — по второму и третьему
членениям возлагались следующие обязанности:
1. В вопросах наук о человеке целью его переговоров должно быть: а)
практическая реализация указаний лорда Веруламского (Бэкона), распространение
среди ученых идей приумножения наук; б) оказание помощи в реализации пред-
34 М.К. Петров
514
M. К. Петров
ложений Коменского, особенно тех из них, которые относятся к методам
обучения, к языку, к введению школ для всех возрастов и к обеспечению их
преподавателями высокой квалификации.
2. В вопросах изобретений его цель — передавать в пользу государства
наиболее плодотворные изобретения, о которых он узнает, с тем чтобы они могли
найти, если государство сочтет их подходящими, широкое публичное
распространение и использование [169, с. 69].
В июне 1649 г. сторонникам Адресной службы удалось добиться официального
назначения Гартлиба «агентом по распространению универсального знания» с
годовым окладом в 100 ф. ст. [169, с. 71]. Официальный статус позволил Гартлибу
оформить в качестве государственных служащих группу своих сторонников и
более тесно связать Адресную службу с невидимым колледжем,
группировавшимся вокруг Уорсли, Бойля и Боута. Это объединение Адресной службы и
невидимого колледжа стало, по Уэбстеру, организационной основой Королевского
Общества.
Сам термин «Королевское Общество» берет начало с первой хартии (июнь
1662 г.), легализировавшей общество, регулярные еженедельные собрания
которого проводились с 1660 г. в колледже Грешема под председательством Уилкинса
[169, с. 88]. Хотя архивы общества и работы его основателей позволяют довольно
точно восстановить состав и численность членов, Уэбстер считает, что такой
типичный для историков науки просопографический подход не дает адекватного
представления о деятельности Общества на первых этапах его существования,
поскольку «большинство членов вступало в Общество из простой любознательности
и играло в деятельности Общества чисто номинальную роль» [169, с. 89]. В
«Истории Королевского Общества», написанной Спраттом в 1667 г. приводится
список членов, включающий 191 имя. К 1663 г., когда вторая хартия окончательно
оформила организационную структуру и цели Общества на основе идей Бэкона,
в нем насчитывалось 115 членов [169, с. 89]. Основываясь на посещении
собраний Общества с декабря 1660 г. по июнь 1663 г., Уэбстер приводит список
30 наиболее активных членов [169, с. 94], в числе которых организаторы
Общества, ученые, первые администраторы.
Защищая свою версию возникновения Королевского Общества, Уэбстер
критикует распространенную среди историков науки схему, восходящую к работе
Спратта: «Спратт дает крайне искаженное описание происхождения Королевского
Общества, связывая его с организацией по инициативе патрона Спратта, Джона
Уилкинса, Оксфордского клуба экспериментальной философии в колледже Уэд-
хам и переносом деятельности этой группы в Лондон перед реставрацией. На
самом же деле Оксфордский клуб сам был ответвлением лондонской группы и
использовал ту же модель организации. Обе группы действовали в тесном
контакте до тех пор, пока сначала Гук, а затем Рен не переехали в Лондон. Уилкинс,
Петти, Бойль, Олденбург и Годдард также на определенном периоде принимали
участие в оксфордских собраниях, но они никогда не связывали себя членством
с Оксфордским клубом в ущерб другим научным ассоциациям. Именно это
разнообразие интересов и занятий как раз и составляло одно из наиболее
существенных преимуществ активного ядра Королевского Общества» [169, с. 93].
На выборке из 12 наиболее влиятельных членов Королевского Общества
Уэбстер показывает, что на периоде с 1645 г. по 1660 г. будущие активные члены
Общества участвовали на правах членов или кандидатов в семи ассоциациях,
каждый в своем наборе. Бойль, например, представлен в деятельности Оксфордского
клуба, Агентства Гартлиба, в колледже Грешема, а Петти был активным
участником в шести из семи упомянутых Уэбстером ассоциаций» [169, с. 94].
До 1660 г. регулярные собрания в колледже Грешема не имели жесткой
формальной структуры, велись по обычным академическим правилам. Но в 1660 г. в
собраниях начала участвовать группа людей, перебравшихся в Лондон из других
мест — Моурей, Уилкинс, Петти, Бойль, Олденбург, которые внесли значитель-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 515
ные перемены: «Похоже, что эта влившаяся группа была инициатором движений
сначала к более формальной организации, а затем и к обретению статуса
общенационального института и к определению целей, соответствующих «Великому
восстановлению» Бэкона. Свободная и неформальная ассамблея грешемских
энтузиастов быстро превратилась в крупную корпорацию, имеющую президента,
двух секретарей, двух или более кураторов экспериментов, право назначать
одного или нескольких официальных издателей и граверов, право печатать материалы,
имеющие отношение к Обществу, право получать трупы преступников для
демонстраций в анатомическом театре, право строительства в Лондоне или в его
окрестностях одного или нескольких колледжей для размещения ассамблей
Общества. Коль скоро эти рабочие организационные рамки были установлены, видные
апологеты Общества — Спратт, Гленвилл и Коули — могли объявить, что
гетерогенная группа экспериментальных философов Грешема была законным
наследником «Великого восстановления» Бэкона, а королевское Общество —
благостным воплощением Дома Соломона» [169, с. 95—96].
Хотя идеи Бэкона и Коменского изначально присутствовали в поисках
организационных моделей, невидимые колледжи, по мнению Уэбстера, не были все
же сознательным приложением философских принципов к научной практике.
Многое происходило стихийно и затем уже идентифицировалось как нечто,
имеющее прямое отношение к Бэкону и Коменскому: «Бэконианская идеология
работала уже на ранней стадии. Задолго до появления в документах Общества
ссылок на Бэкона, Ивелин, например, публично заявлял, что целью Общества
колледжа Грешема является «совершенствование практического и опытного
знания до более высокого, нежели ныне существующий, уровня ради приумножения
наук и общего блага человечества». Эта величественная концепция была
перенесена и на Королевское Общество. Она включена в ее хартии, реализована в
«Философских записках» Олденбурга, подчеркнута в «Истории Королевского
Общества» Спраттом, настойчиво проводилась в работах Бойля, Ивелина и других
менее значительных апологетов Общества. И все же Королевское Общество
отличалось от группы 1645 г., от Оксфордского клуба экспериментальной
философии, от грешемских собраний 1658—1660 гг. в том отношении, что ни одна из
этих предшествовавших форм не была организована в соответствии с бэкониан-
скими принципами. Бэконианский дух был привнесен в основном влившейся
группой — Бойлем, Петти, Олденбургом, Уилкинсоном и Ивелином, — которая
не была непосредственно вовлечена в рутину научной деятельности колледжа
Грешема. Эти новобранцы стали «активными членами», они по праву
квалифицируются как решающее «активное ядро» Королевского Общества. За их спинами
была важная общность опыта. Все они тем или иным способом были вовлечены
в деятельность Агентства по продвижению и универсальному научению Гартли-
ба — Бойль и Петти как инициаторы Адресной Службы, а вся группа — на
периоде, непосредственно предшествующем организационному оформлению
Королевского Общества. Вполне возможно, поэтому, что именно Агентство дало
модель, которой руководствовались архитекторы Королевского Общества в
организационных и философских вопросах» [169, с. 99].
Глава III (Продвижение знания) посвящена проектам всеобщего образования
и практическим усилиям пуритан реализовать воспитательные идеи Коменского.
Специфически пуританской Уэбстер считает идею катастрофического разрушения
человеческих способностей после грехопадения: «Концентрируя внимание на
порче чувств и мыслей, признавая врожденные дефекты культурного наследства,
трезво оценивая объем усилий, необходимых для исправления ущерба, пуритане
приходили к осознанию специфических трудностей образования. В то же время
признавалось, что детство и юность — дар божий каждому поколению. Бог
постоянно воспроизводит перед каждым человеком задачу преодоления своей
испорченности. Каждый новый ум — «табула раса», каждый ребенок податлив как
воск. Врожденные семена зла, поэтому, легче прорастают на этом периоде, чем
34*
516
M.К. Петров
в более поздней жизни. В соответствии с этим взглядом на образование
протестанты основное внимание уделяли искусному воспитанию молодежи с помощью
семейной дисциплины и наставлений церкви. Воспитание рассматривалось ими
как поле боя, на котором воспитательные механизмы общества проверяются в
битве с силами зла. Благодаря воспитанию царство божие достижимо для каждого
поколения и состояние человеческой испорченности воспроизводится только из-
за неумения использовать потенциальные возможности очередного поколения.
Образование, таким образом, есть и постоянный источник надежды и постоянное
напоминание о человеческой слабости. Обычаем пуритан стало говорить о
возделывании «христианских детей, этих растений рая», природа которых находится
под постоянной угрозой и слишком часто одолевается прорастающими сорняками
и плевелами» [169, с. 100—101].
Осмысленное в таких моделях образование превращалось у пуритан в святое
дело распространения божественной благодати, в котором роль воспитателя
понималась по Павлу: «Мы же как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать
божия не тщетно была принята вами» [Павел, 2-е коринф., 6, 1]. Уэбстер пишет:
«Миссия учителя носила скорее божественный, нежели мирской характер.
«Небесная агротехника» представляла из себя идеальную возможность совместной с
богом работы в соответствии с апостольским наставлением возможно полнее
использовать преимущества и силу божественной благодати. Бог оставлял за собой
право умножать плоды, требуя от человека только сотрудничества в уходе и
ирригации» [169, с. 101]. Учителя и главы школ в такой схеме «были столь же
необходимы, как и министры, для направления развития общества к Новому
Иерусалиму» [169, с. 102].
Ясно, что столь ответственное дело требовало строгого контроля, и пуритане
в этом отношении не отличались от своих противников: «Все партии считали, что
образование необходимо контролировать. Соответственно и пуритане, когда они
находились у власти, подвергали строгой религиозной и политической проверке
учителей, университетских преподавателей и государственных служащих. Но
степень позитивного административного руководства никогда не признавалась
реформаторами достаточной» [169, с. 102].
Это недовольство образовательной политикой связывалось у пуритан с их
общей оценкой начального этапа образования — всеобщего образования — как
подготовительной ступени к Великому восстановлению и, соответственно, с
критическим отношением к эллинской мудрости, античному языческому наследству,
традиционному тривию: «Великие теоретики гуманитарного образования, такие
как Штурм и Ашам, считались ответственными за вовлечение интеллектуалов в
идолопоклонство перед языковыми предметами (грамматика, риторика и логика)
и за отвлечение их от более полезных наук, представляющих истинные источники
человеческого знания. Чтобы восстановить образовательный баланс,
объединяющий размышление и действие, Бэкон предлагал прежде всего изучать природу,
которая является «богатейшей сокровищницей славы творца и средств улучшения
положения человека». Отходя еще дальше от гуманитарных стандартов, Уинстен-
ли требовал более радикального пересмотра образования. В языках он видел
бесплодную обузу, ведущую людей к «пустому знанию». Молодежь, напротив,
«должна была получать внутреннее знание вещей, которые являются секретами
природы и раскрывают секреты природы». Уинстенли принимал общую максиму, по
которой «знать секреты природы значит знать творение бога». Коменский считал,
что обучение не станет «увлекательным наслаждением» до тех пор, пока будет
продолжаться засилье грамматики. Необходима была радикальная
переориентация, которая неизбежно углубила бы разрыв между новой педагогикой и
гуманизмом» [169, с. 105].
Этот крайне интересный для нас взгляд на роль и состав всеобщего
образования получил широкую поддержку и распространение. В качестве типичного
примера Уэбстер приводит работу 1641 г. Вудворта: «Он демонстрирует полное
История европейской культурной традиции и ее проблемы 517
знакомство с дебатами предыдущего десятилетия, принимает идеи Коменского и
Бэкона, защищает более широкое применение наглядных методов обучения, с
тем, чтобы обеспечить постепенное введение в «Книгу Природы» [169, с. 106]. В
1630— 1640-е гг. предлагались многочисленные проекты реорганизации системы
образования на всех уровнях и соответствующие программы обучения, причем с
наибольшим накалом страстей велись споры об университетах, которые были для
большинства реформаторов «символом чужеродного интеллектуального и
религиозного порядка» [169, с. 115].
Не отрицая роли университетов как завершающего звена образования,
реформаторы вместе с тем пытались и здесь насаждать универсализм, что приводило к
появлению многочисленных проектов колледжей универсального типа, ни один
из которых не был реализован. К тому же между пуританами и парламентом не
было единства в оценке смысла и состава университетской реформы: «Все
считали, что высшее образование должно отражать религиозные ценности
Реформации, но на практическом уровне обнаруживались резкие различия взглядов.
Каждая группа пуританского движения стремилась к контролю над университетами и
их теологическими факультетами. Но групповые интересы ставились выше
интеллектуальных целей. Большинство пуритан стояло за расширение и реформу
подготовки духовенства, тогда как сепаратисты требовали полной отмены
теологического образования. Групповые распри препятствовали пуританам в самих
университетах выработать согласованную программу действий, а внешние критики
сами не могли прийти к согласию по ряду основных пунктов» [169, с. 178—179].
В 1640—1650-е гг. выдвигалось несколько практических проектов учреждения
колледжей и даже университетов нового типа, из которых Уэбстер наиболее
удачным и достигшим значительной степени реализации считает основание при
непосредственной поддержке Кромвеля колледжа в Дареме [169, с. 233—237],
однако и эта академическая новация не дала устойчивого результата. Реставрация
практически перечеркнула все планы реформаторов: «Прямое государственное
финансирование образования прекратилось, была восстановлена старая система
финансирования через церковные каналы. Это прикончило попытки
реформаторов реализовать их образовательные проекты с помощью государственного
патронажа. Пуританские реформаторы, получавшие государственные пенсии,
академические должности или бенефиции, были изгнаны и лишились публичного
влияния. Расширение образования и его обновление стали с этих пор предметом
частной инициативы» [169, с. 242].
Глава IV (Продление жизни) посвящена анализу задач и целей медицины в
рамках протестантского мировоззрения. По мнению Уэбстера, существует
глубинная связь между основными направлениями развития медицины того времени и
общими мировоззренческими постулатами: «Независимо от их отношения к
медицинской теории протестанты верили в существование прямой связи между
духовной виной и физической порчей. В садах Эдема человек не имел физических
изъянов. Он был задуман как долгожитель, хотя авторы вроде Мильтона и
выражали сомнение насчет того, даровал ли высший архитектор человеку бессмертие.
С другой стороны, Роджер Бэкон, например, утверждал, что «человек по природе
бессмертен» — даже после грехопадения он сохранил внутренние ресурсы жить
тысячелетие» [169, с. 246].
Предполагалось, что медицинские познания входили в состав языка Адама:
«После акта творения создания были приведены перед лицо Адама. Среди других
вещей ему было даровано непосредственное интуитивное знание их свойств,
включая и медицинские качества. Это совершенное равновесие между человеком
и природой было нарушено в грехопадении. Человеческое бессмертие, хотя оно
и подразумевалось, было конфисковано. Человека приговорили к длительным
нескончаемым наказаниям и к страданиям от физического вырождения и
болезней... Вместе с тем бог через Христа предоставил возможность душевного
искупления, и одним из обещанных аспектов его благодати было сохранение здоровья
518
M. К. Петров
и продление жизни. Христос был не только учителем, но и творцом чудес —
«врачом и души и тела». Таким образом, религиозные устремления протестантов
оказывали влияние на медицину, и пуритане рассматривали медицинское
восстановление как дополнение к их духовному возрождению» [169, с. 246—247].
Чтобы оправдать медицинские новации и отход от традиционной практики,
протестанты ссылались на исторические причины упадка медицины: «По общему
мнению примитивная медицина древних, евреев или Гиппократа, обладала
духовными и научными достоинствами, которых в более поздние эпохи уже не
обнаруживалось. Гиппократ, Пифагор, Демокрит считались искусными анатомами и
пропагандистами практической медицины, черпавшими знания от мудрецов
Востока» [169, с. 247]. Причины упадка медицинского искусства приводились разные.
Везалий, например, усматривал главную причину в отказе позднего Рима от
анатомии, что передало хирургию в руки «невежественных цирюльников» [169,
с. 247]. Парацельс, напротив, такую причину видел в утрате интереса к терапии
[169, с. 248).
Уэбстер детально рассматривает организационные основы английской
медицины и подготовки медицинских кадров [169, с. 250—256], попытки наладить
бесплатное медицинское обслуживание бедняков [169, с. 257—261]. В общей схеме
распространения знания Уэбстер анализирует быстрый рост числа медицинских
публикаций на английском языке: «Из зафиксированных пока 238 медицинских
работ, опубликованных в Англии между 1640 и 1660 гг., только 12% написано на
латыни, которая продолжала оставаться доминирующим средством коммуникации
среди университетских медиков Европы» [169, с. 266]. Переходу с латыни на
родной язык в то время придавалось значение революционного новшества. Автор
«Медицинского руководства» Н.Калпентер, отвечая во втором издании
руководства противникам распространения медицинской литературы на английском
языке, начал предисловие с упоминания о нормандском иге: «Вильям-ублюдок,
завоевав нашу страну, ввел в ней нормандские законы, написанные на
неизвестном языке, чем обеспечил законам — будущее, а нам — теперешнее рабство»
[169, с. 269]. Уэбстер комментирует: «Использование латыни, по мнению Калпен-
тера, — сговор схоластов, имеющих целью сделать теологию, юриспруденцию,
медицину непонятными простому человеку и доступными только для тех, кто
может позволить себе получить дорогостоящее профессиональное образование»
[169, с. 269].
Особое внимание Уэбстер уделяет, как и Клаарен [129], быстрому
распространению в революционный период идей Парацельса: «До 1640 г. работы Парацельса
не пользовались в Англии популярностью. Его сторонники насчитывались
единицами и принадлежали к «низшим эшелонам медицинской профессии» [169, с.
273]. К тому же Р.Фладц «истолковал доктрины Парацельса в более широких
концепциях герметизма» [169, с. 273]. «В отличие от Германии и Франции в Англии
не было опубликовано детальных литературных изложений или популярных работ
по медицине и химии Парацельса. Показательно и то, что не было переводов
выдающихся и популярных авторов, последователей Парацельса. До 1650 г. учение
Парацельса было представлено в Англии одной-единственной второстепенной
работой, переведенной Джоном Хестером в 1587 г.» [169, с. 273].
Быстрый рост популярности Парацельса Уэбстер объясняет своеобразным
вакуумом, сложившимся в академических дисциплинах, где в медицине, в отличие
от теологии и юриспруденции, продолжали господствовать античные авторитеты,
что явно не соответствовало пуританским установкам: «Признавалось, что за
столетия своего господства католическая церковь и традиционная медицина не
сумели обеспечить удовлетворение духовных и физических потребностей человека.
Для времени «всеобщих усилий реформации» пуританским авторам медицинских
работ требовалась медицинская реформация, соответствующая текущей
религиозной реформации, поскольку, как утверждалось, после религиозного опыта меди-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 519
цине принадлежит второе место в «исправлении дефектов увядающей Природы»
[169, с. 274].
Здесь и обнаружились мотивы роста популярности Парацельса: «В теологии и
юриспруденции почва была уже хорошо подготовлена — широко
распространилось отрицательное отношение к схоластике, к классическим языкам и к
господствующим авторитетам. Медиков же, как мы видели, обвиняли в том, что они
продолжают вести свою профессию на языке Римской церкви, сопротивляются
переводу их знания на родной язык. Если же они неохотно соглашались на
перевод, их греческие авторитеты подвергались нападкам как язычники» [169, с. 274—
275]. В этой обстановке и возник запрос на медицину, свободную от античных
авторитетов, и Парацельс, несмотря на его явные связи с герметизмом, был
идентифицирован пуританами как восстановитель медицинских познаний.
Сам Бэкон весьма осторожно оценивал новые идеи: «Всегда
сопротивлявшийся быстрому признанию Коперника и Гильберта, он также с большим
подозрением относился к Парацельсу. Его привлекали только эмпирические аспекты
медицины Парацельса» [169, с. 275]. Иное дело бэконианцы: «К 1650 г. все
сомнения отпали. Превосходство медицины Парацельса было признано доказанным.
Для религиозных реформаторов привлекательность Парацельса опиралась на
тенденции последователей Парацельса в первой половине XVII в. Оригинальные
медицинские и философские работы Парацельса оставались глубокой тайной,
многие из них были трудны для перевода и привлекали они лишь наиболее
эрудированных читателей. Но соблазнительность его идей была настолько велика, что
они привлекали толпы последователей на континенте, причем многие из них
были убежденными протестантами. Среди них обнаружились и систематизаторы
естественной философии, химии и медицины Парацельса» [169, с. 275].
Окончательное признание Парацельса Уэбстер связывает, как и Клаарен [129],
с работами Гельмонта, опубликованными в 1648 г. Они пользовались такой
популярностью, что Гельмонт вскоре затмил самого Парацельса. Врачи «гельмонти-
анцы» стали наиболее шумными и активными противниками медицины Галена.
И если сам Гельмонт строго отличал свои теории от теорий Парацельса, то его
английские адепты брали смесь целиком, так что термин «гельмонтианец»
употреблялся в те времена применительно к любому автору, идеи которого были про-
изводны в основном от Парацельса» [169, с. 276]. Весьма активен в пропаганде
идей Парацельса в 1650-е гг. был также Глаубер [169, с. 277—278].
Рост популярности Парацельса и числа его сторонников, как и изменение
системы выдачи лицензий на медицинскую практику, вызвало кризис в
сложившейся организационной схеме медицинской профессии, господствующее место в
которой занимал Колледж врачей. Медицинское образование и степень доктора
медицины сами по себе не обеспечивали получения лицензии и членства в
Колледже, поэтому между Колледжем врачей и растущей группой практикующих
врачей постоянно возникали трения, принявшие во время революции форму резкого
идеологического и теоретического размежевания, составной частью которого
было и отношение к Парацельсу. Эта группа не входящих в Колледж
практикующих врачей пыталась при активной поддержке реформаторов основать свой
особый Колледж врачей, имеющих степень» [169, с. 300]. Идея такого Колледжа
обсуждалась несколько лет, но Колледж так и не был организован. Но давление не
имеющих лицензий врачей, разделявших в своем большинстве идеи Парацельса
и пуританскую идеологию вызвало ряд институциональных изменений в
Колледже врачей, одним из результатов которых было налаживание медицинских
исследований. Значительную роль в этом процессе «переориентации с
гуманистического галенизма на экспериментальную естественную философию» сыграл Уильям
Гарвей [169, с. 315].
В главе V (Власть над природой) рассматривается состав протестантского
концепта власти над природой. Уэбстер подчеркивает его связь с общим отношением
к труду и его целям: «Отношение пуритан к технологии и к земледелию разви-
520
M. К. Петров
валось в контексте спекуляций об исходных условиях жизни человека. В саду
Эдема Адам готовно подчинялся дисциплине работы и его труд был
удовольствием. Благодаря этому послушанию он получил полный контроль над
окружением до грехопадения. Затем он и его потомки были наказаны, приговорены к
докучному труду. Бытие и «Потерянный рай» описывают эту трансформацию в
тождественных терминах: «В поте лица своего будешь есть хлеб твой, доколе не
возвратишься в землю». Непокорность человека вынудила бога «заменить ему
удовольствие на труд и превратить досуг в деятельность». Но даже после этого
фатального эпизода бог разрешил человеку изменить ситуацию на более
благоприятную. Покаянным трудом дегенерирующему человеку было дозволено создать
упорядоченную цивилизацию, в которой условия человека были улучшены до
определенной степени. Более того, человеческий интеллект осознал далекую цель
очищения и блаженства. Этот образ Нового Эдема становился особенно четким
на определенных стадиях истории цивилизации и действовал как исходный мотив
попыток преодолеть состояние дегенерации» [169, с. 324—325].
Труд в такой концепции и соблюдение норм общественной жизни играют
роль средств к спасению: «Практические искусства рассматривались как дар бога
недостойным детям... Протестанты ставили акцент на аскетическом и активном
подходе к профессиональной и социальной жизни, по нормам которого
практические искусства «не следует презирать, а добродетель похвальна». Упорство в
использовании практических искусств рассматривалось как идеальный тест на
повиновение. Поскольку человек был «выброшен из рая на окраины мира», вернуть
благоволение он может только через неустанный поиск очищения как в личной
жизни, так и в природе. Борьба с окружением суть попытка восстановить природу
в ее предвечной чистоте. Жизнь, таким образом, — постоянный процесс
«химуса», которым установлено, «что мы должны трудиться, чтобы получить хлеб и
другие необходимые для текущей жизни вещи, как работники природы, не
лениво, но радостно и с прилежанием, что благодаря этому средству, благодаря
возложенному на нас кресту, который мы должны нести с терпением, труд сможет
побудить нашу деятельность в «стране труда» обрести плоды земной и небесной
мудрости». Эти чувства отражают появление социальной этики, которая ставит
ударение на неизбежности тяжелого труда и высоко оценивает ремесла. Такая
этическая точка зрения характерна для последователей Бэкона и Парацельса. Как
стимул к активному участию в деловой и производительной жизни эта
социальная этика рассматривается Вебером и другими в качестве одного из главных
источников возникновения капитализма в странах, испытавших влияние
протестантов, особенно кальвинистов и пуритан» [169, с. 325].
Представления о жизни человека в саду Эдема участвовали и в формировании
мировоззрения и в осознании профессиональных целей: «Адам был источником
вдохновения для экспериментирующих философов, которых его пример
подталкивал к высокой оценке «безвредного занятия — одного из наслаждений рая», и
к службе обществу и к свободному обмену научной информацией. Растущая
научная активность испытывала влияние критерия утилитарности. Непродуктивные
схоластические дискуссии все чаще осуждались как подрывающие христианский
образ жизни. Признание идей святости ремесла способствовало более тесному
контакту с природой в поисках продуктивного знания и способов службы
обществу. Конечной наградой за эти усилия могло стать возвращение человека из
окраин в рай. Восстановление власти над природой стало одним из основных
моментов Великого восстановления» [169, с. 326].
Образцами истинно человеческого поведения признавались не теологи, а
представители практических профессий: «В качестве моделей добродетельной
жизни Бэкон и Парацельс выдвигали шахтеров и ремесленников. Они считали,
что разрыв между учеными и ремесленниками — существенное зло западного
общества. Вместе с тем успехи индустриального развития и ускорение
экономического развития с начала Реформации воспринимались как признаки пробуждения.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 521
Передовые экспериментирующие философы верили, что объединение усилий
может повести к еще более серьезным достижениям. Хотя практические искусства
в общем воспринимались как отражение благоволения бога к павшему человеку,
их часто прослеживали в прошлом, в более совершенных эпохах. Иногда даже
утверждалось, что «все законные и полезные искусства были известны Адаму и
использовались им». Адама обычно описывали как садовника и натуралиста. Но
горное дело и обработка металлов также причислялись к его наиболее
совершенным навыкам. Он даже наделялся умением превращать металлы и применять
другие химические процессы» [169, с. 326].
Упадку человеческого знания способствовали и процессы разобщения,
засекречивания знания: «Сияющий образ совершенства древнееврейской культуры
противопоставлялся последующей отсталости Римской империи и католического
христианского мира. Империя и католицизм похоронили знание в кельях
отшельников и монахов или же позволяли адептам знания держать его в тайне.
Ремесленники и горняки все более сковывались традициями и тайнами, пока их
навыки не свелись к простым средствам существования. Признаки пробуждения
объявились с группой пророков, возглавляемых Парацельсом, которые обладали
даром «ненасытного стремления к познанию секретов природы». Вдохновляемая
ими приверженность к опытной науке считалась единственным путем к
восстановлению истинного знания. Следуя примеру Парацельса, различные авторы
систематически изучали горное дело и обработку металлов» [169, с. 327].
В качестве одной из опор концепта власти над природой Уэбстер упоминает
и герметизм, хотя он и вызывал двойственное отношение: «Протестанты были
твердо уверены в том, что грехопадение не является необратимым. Духовное
спасение будет сопровождаться возобновлением власти над природой. Это повторит
опыт Соломона и реализует пророчество Даниила. Свидетельства в пользу такого
взгляда выводили из «Корпус герметикум» — из источника, испытавшего влияние
библейских текстов, но относимого обычно авторитетами XVII в. к более ранней
античности. Автор, предположительно египетский пророк Гермес Трисмегистос,
решительно подчеркивал право избранных быть магами, контролировать природу
духовными силами. В эпоху Возрождения герметические тексты имели
значительное число последователей, возбуждая мечты о знании и власти, подчеркивающие
потенциальные возможности науки, но они шли вразрез с основными
моральными ценностями Андреа или Бэкона. Поэтому хотя мистическое литературное
влияние герметических текстов было весьма значительным, герметическая
философия принималась экспериментирующими философами с существенными
оговорками. В отличие от герметизма библейские тексты предписывали науке форму,
более согласную с протестантской этикой» [169, с. 329].
Уэбстер показывает присутствие библейских источников в формировании
новой теории материи, отличной от теории Аристотеля и близкой к взглядам
Парацельса [169, с. 330—331], в мечтах о философском камне и о превращении
элементов [169, с. 332—333]. Детально анализируются работы Бэкона, Уэбстер
обнаруживает в них возрастающее влияние эсхатологии миллениаризма, особенно
четко выявившееся в «Новой Атлантиде» [169, с. 335—342]. Значительное
внимание уделяется истории патентов и роли Бэкона в налаживании патентной службы.
Уэбстер высказывает предположение, что именно эта деталь биографии Бэкона
повлияла на его описание Дома Соломона [169, с. 345].
Детализируя концепт власти над природой, Уэбстер на огромном материале
показывает многоаспектность этого концепта, влиявшего в XVII в. на постановку
и попытки решения научных, экономических, политических, военных и многих
других проблем.
В главе VI (Заключение) Уэбстер подводит итоги и делает критические
замечания в адрес Троулча, Вебера и Мертона: «Странно, но ни один из них не уделял
должного внимания интеллектуальным движениям, непосредственно связанным с
пуританской революцией. Они в основном пытались проследить социальные при-
522
M.К. Петров
ложения кальвинистской идеи спасения, тогда как я старался также показать, что
эсхатология была важной детерминантой становления научного подхода.
Пуритане были детерминированы идеалом убежденно активной жизни, который включал
наиболее эффективное использование способностей ради личного успеха и
службы обществу. Прославление бога оказывалось, таким образом, связанным с идеей
наиболее эффективной эксплуатации человеческих и материальных ресурсов. В
рамках этой этической перспективы у пуритан мы обнаруживаем: общую
неудовлетворенность предшествующими стандартами; приятие альтернатив; стремление
к эффективному образованию и к профессиональной подготовке; неустанный
поиск путей к общему совершенствованию... Кальвинистский бог был далек и
непостижим, но терпение и точные методы опытных наук, медленно проникающих
к пониманию вторичных причин вещей в процессе поиска путей к постепенному
новому завоеванию природы, демонстрировали форму интеллектуальной и
практической деятельности, которая наиболее соответствовала умонастроениям
пуритан» [169, с. 505-506].
Если работа Е.М.Клаарена [129] ориентировала нас в духовных событиях
Европы и особенно Англии на подходе к решающим для нашей задачи событиям
середины XVII в. — к появлению науки как глобального феномена в результате
растянувшейся на несколько столетий дисциплинарной революции в теологии, в
ее отношении к концепту сотворенной природы, то работа Ч.Уэбстера [169],
акцентируя внимание на практической деятельности протестантов и прежде всего
английских пуритан, определенно спускает нас на землю конкретных
человеческих дел. И хотя особых расхождений между Клаареном и Уэбстером не
обнаруживается, если принять в расчет то обстоятельство, что работы написаны
разными исследователями и независимо друг от друга, работа Уэбстера позволяет нам
засечь интересующие нас практические начала оформления национальных Т-кон-
тинуумов в привычную для нас форму наличной социальной данности. В
знаковом пока мире здесь в форме «пансофии» Коменского начинают существовать и
идея всеобщего образования с лозунгом: «Всем знать все о всех вещах!» и идея
онаучивания общества под лозунгом вовлечения всех взрослых и
соответствующим образом подготовленных индивидов в процесс «покорения природы»,
который осмыслялся в середине XVII в. как всеобщее научение чтению «Книги
Природы». Тут же в Агентстве Гартлиба и в попытках Гаака связаться с кружком
Мерсенна мы обнаруживаем и начало интернациональной коммуникации в науке
как глобальном феномене, хотя вот, например, сведения о традиционной
приверженности науки к глоттогенезу по правилам словообразования греческого и
латыни получаются сбивчивыми и противоречивыми: возникающая наука явно
неохотно шла на принятие этих глоттогонических ограничений в практике
номинации, мечтала скорее об истинно христианском научном языке Дцама, а вовсе не
о традиционных для теологии древних «языческих» языках, о греческом и латыни.
При всем том, хотя Клаарен [129] и Уэбстер [169] явно помогли нам
разобраться в проблеме начал наших современных радостей, сомнений, огорчений по
поводу современного состояния Т-континуумов развитых стран, большинство из
которых принадлежит к потоку событий целостного временного континуума
европейской культурной традиции, помогли нам локализовать начала и в этом
континууме, и в пространстве, и в календарном времени, мы, взобравшись с их
помощью на верхнюю площадку этой общеевропейской колокольни (или
перенесенной в Европу Вавилонской башни) в полной уверенности, что оттуда, с
последнего марша единой лестничной клетки, не так уж и сложно будет спуститься
в «здесь и сейчас» нашего исследования, оказались в довольно неожиданной
ситуации: пути вниз, в «здесь и сейчас» оказываются перекрытыми тем
обстоятельством, что далеко не все марши этой единой лестницы континуума европейской
культурной традиции одинаково хорошо и полно представлены в исследованиях
науковедов, историков и социологов науки, как и историков образования,
поэтому триумфального движения к современности из XVII в. в общем-то не получа-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 523
ется, а приходится идти ощупью и в потемках, стараясь придерживаться более
или менее освещенных мест.
К примеру, весьма заманчивая перспектива ухватиться за идеи «пансофии»
Коменского, за идеи всеобщего образования XVII в., далекими потомками
которого бесспорно являются современные национальные системы образования
развитых стран, пресекается уже во второй половине XVII в. тем прискорбным
обстоятельством, что реставрация 1660 г. в Англии похоронила все образовательные
затеи реформаторов образования, и вновь острый интерес к проблемам всеобщего
образования в Англии возникает, как это мы увидим ниже, лишь в середине и
второй половине XIX в., а в этой двухсотлетней лакуне какие-то образовательные
события конечно же происходили, но о них мы узнаем в основном только из
отчетов Королевских Комиссий 1860—1870-х гг. Поэтому нам придется теперь
действовать осторожно и даже «настороженно», чтобы остаться в пределах
континуума событий европейской культурной традиции и не угодить ненароком в
провалы и лакуны хотя и преемственного, но далеко не однородного процесса
изменений в этом континууме.
В порядке зондажа возможных путей дальнейшего движения к современности
мы попытаемся, не теряя из виду образования, разобраться в становлении
научно-академических структур во Франции и Германии, чтобы затем вернуться к
анализу английской линии институционального и академического развития,
которая, по нашему мнению, является наиболее типичной или, во всяком случае,
наиболее информативной.
Интеллектуальная революция (на периферии событий)
Интеллектуальная революция XVII в. может пониматься как акт,
ограниченный в календарном времени, и как начало потока преемственных изменений,
выделяющее в общем потоке преемственных событий европейской культуры более
или менее четкие «научно-академические» линии преемственности. В рамках
нашей общей задачи нам более продуктивным представляется это второе
понимание, позволяющее нам ограничить пределы релевантного исторического
материала. С этой точки зрения интерес для нас в плане зондажа возможных путей
к современности представляют некоторые статьи сборника «Возникновение науки
в Западной Европе» [195], имеющие отношение к образованию, а именно статья
Р.Гана «Научные карьеры во Франции XVIII в.», статья М.П.Крослэнда
«Становление профессиональных научных карьер во Франции», статья известного нам
уже Д.М.Найта «Немецкая наука периода романтизма», статья У.В.Фаррара
«Наука и немецкая университетская система в 1790—1850 гг.».
Статья Р.Гана о французской науке XVIII в. фокусирует внимание на
становлении научной карьеры — новом для науки того времени явлении: «Со времени
Луи XIV и до Французской революции французское государство учредило или
обновило ряд институтов, что было очевидным свидетельством публичной санкции
научной деятельности и открывало перспективы для становления научных карьер
с хорошо оплачиваемыми должностями. Наличие таких возможностей,
параллелей чему не было в других странах, втягивало в научную деятельность десятки
талантливых людей, увеличивало доступный для использования потенциал
таланта и изобретательности, от чего всегда зависит прогресс, создавало благоприятные
условия для роста качества и численности научного сообщества. В этом смысле
пример Франции дает возможность выявить проблему государственного
покровительства научным институтам и как новацию и как предмет критического
анализа. Проблему можно поставить так: ведущий сектор научной экономики
приводится здесь в движение институционализацией и профессионализацией — двумя
критическими факторами, которые учитываются обычно при изучении
экономики развивающихся обществ, но, как правило, не принимаются в расчет при изу-
>24
M.К. Петров
[ении царства науки. Пример французской науки способен показать, что эти две
:оциальных переменных могут стимулировать творчество и продуктивность [195,
:. 127-128].
Отмечая трудности идентификации ученых — французы использовали не-
:колько терминов для их обозначения, — Ган так описывает фактологическую
>азу своего исследования: «В качестве предмета исследования я принял более
100 имен действительных членов Академии дореволюционного периода и попы-
ался определить, в какой степени о них можно говорить как о членах класса
ченых. В идеале хотелось бы, конечно, знать, какие они разделяли ценности,
:акими их были представления о самих себе, как они добывали средства к жизни,
:акую степень группового единства они проявляли, какие модели карьеры
обнаруживают их биографии. Полный ответ на этот вопрос — дело будущего, пока же
I предлагаю некоторые частные результаты [195, с. 129].
Ган считает, что хотя в интеллектуальном смысле эта группа представляла
:обой научное сообщество — разделяла единые ценности, относящиеся к исполь-
ованию дискурса, к наблюдению и эксперименту, к объективному подходу, к по-
тепеиному раскрытию законов естественной реальности, эта группа определенно
it была «гомогенным классом» [195, с. 129]. И дело тут не только в различии
оциального происхождения ее членов: «Более важно для наших целей то, что не
>ыло в их профессиональной деятельности как академиков ничего такого, что от-
[ивало бы их в единую форму. Вход в сообщество лимитировался скорее способ-
юстями, чем социальным происхождением, хотя практически люди низкого
прохождения отвергались автоматически. Барьером была неграмотность, но коль
коро этот барьер преодолевался, в дореволюционной Франции мало что зависело
)т того, был ли академик самоучкой, ремесленником или получил формальное
икольное образование. Не было для них проверки и на религиозные убеждения,
единственным ограничением выступала принадлежность к ордену: такие люди не
югли претендовать на полную пенсию» [195, с. 129].
Академики, как правило, имели частную практику, занимались предпринима-
ельством — один даже обанкротился [195, с. 130]. В XVII в. министры Луи XIV
оплачивали академикам персональные королевские пенсии 1500—2000 ливров в
од, причем иностранцам ранга Гюйгенса или Кассини платили больше 6—9 тыс.
ивров в год [195, с. 131], а двое более молодых коллег делили пенсию старшего,
юлучая по 1800 и 1200 ливров. Академиками становились в зрелом возрасте:
Математик Этьен Безо ждал 24 года, чтобы получить свои 1200 ливров и умереть
ерез год после этого. Лежентиль ждал 32 года, и лишь в 60 лет его включили в
писок получающих пенсию» [195, с. 131].
Сами по себе академические пенсии не обеспечивали достатка, и это обстоя-
ельство, по мнению Гана, «помогает понять, почему академики не конституиро-
ались в класс» [195, с. 132], но при всем том «остается открытым вопрос, осме-
ившиеся заняться научной деятельностью, сводили концы с концами» [195,
. 132]. В поисках ответа на этот вопрос Ган прежде всего указывает на препо-
авание: «Преподавание было наиболее распространенным видом деятельности
кадемиков. Они доминировали в двух институтах, более старших, чем Акаде-
[ия — в Королевском Колледже и в Жардин дю Руа. В первом подвизались в
сновном математики, астрономы и медики. Во втором — естественники, способ-
ые продать свои знания студентам медицины, фармакологии и хирургии. Они
ыли либо уже академиками, либо использовали это занятие как ступень к Ака-
емии. Академики назначались также профессорами медицинского факультета,
олледжей фармакологии и хирургии. Математики находили работу в военных
жолах, в гражданском инженерном корпусе, в архитектурных управлениях, в
адзоре, везде, где были заинтересованы в их специальности. Когда создавались
кзаменационные комиссии, в них часто участвовали опытные математики. В до-
олнение к этому в Париже процветали разного рода эфемерные платные курсы,
екции, которые также давали заработок академикам» [195, с. 132—133].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 525
Были и другие виды занятий — руководство королевскими научными
заведениями, представительство при дворе, при членах королевской семьи, в домах
знати. Значительное число оплачиваемых должностей академики занимали в
армии и на флоте. Они использовались также на должностях официальных
консультантов в новых видах промышленности — на Севрской мануфактуре, в
горном деле, в книгоиздательстве и т.п.
В целом Ган невысоко оценивает возможности французской государственной
науки: «Дух исследования ради расширения рационального понимания природы
не только не совпадал с нуждами старого режима, но и не стимулировался в
степени, достаточной для формирования социопрофессионального класса ученых.
Даже в Академии, она-то поддерживала чистые формы исследования, от членов
требовали деятельности в качестве официальных консультантов, что отвлекало их
от исследований. Финансовые нужды заставляли ученых распылять свои усилия
и жертвовать научным призванием. Они исполняли роли учителей,
консультантов, администраторов, что явно не усиливало их деятельности в роли
исследователя. Таким образом, вместо кристаллизации роли ученого как представителя
признанного и автономного вида деятельности, академики XVIII в.
демонстрировали воздействие центробежных сил, толкавших их в разные стороны. Для
некоторых из них наука была лишь пересадочным пунктом на пути к славе и власти.
И если, несмотря на успехи Французской революции в институционализации
ряда научных ролей, ученые XIX в. испытывали серьезные затруднения, гасившие
их стремления к расширению пределов научного знания, то во многом это было
результатом того обстоятельства, что во времена Академии не сложилась четкая
модель карьеры ученого-исследователя. И в XIX в. современный ученый все еще
находился во Франции в стадии становления» [195, с. 137].
Несколько иную картину становления профессиональных карьер во
французской науке XVIII—XIX вв. предлагает М.Крослэнд. Основное внимание он
уделяет становлению академической инфраструктуры научной деятельности —
появлению иерархии на входе в науку: студент, лаборант, ассистент, аспирант... В
этом плане Крослэнд анализирует академическую практику «Эколь Политекник»,
которая, по мнению Крослэнда, «играла наиболее выдающуюся роль в создании
стандартов, требуемых для входа, а затем уже и стандартов входа в физику и
нормировала требования к математической подготовке для присуждения степени»
[195, с. 139-140].
Крослэнд отдает должное прошлому Франции: «Франция XVIII в. была одной
из крупнейших держав Западной Европы. С населением в 28 млн., она дважды
превосходила Британию. От Луи XIV Франция унаследовала идеалы
централизованного государства, далеко отходившие от принятого в Британии курса на
локальную автономию. Британская традиция независимости и самоучек может быть
противопоставлена мерам правительственного контроля во Франции как в
промышленности, так и в науке. Идеи французского просвещения сформулировали
мировоззрение, по которому действие должно основываться на разуме, а практика
на теории. Это уважение к интеллекту, как и невозможность политической
карьеры, сообща ориентировали многие умы французов на науку. Церковь,
потерявшая контроль над интеллектуальной активностью, и идеализация
возможностей науки с разных сторон влияли на духовный климат, в котором мог процветать
новый подход к науке» [195, с. 140].
Но решающие события произошли, по Крослэнду, во время Французской
революции — «наука стала профессией» [195, с. 140]. Профессионализм возникал
различными путями, главным образом в процессах дифференциации и
специализации. Началом Крослэнд считает размежевание между наукой и литературой, что
получило организационное оформление в основанном Наполеоном Университете
Франции с раздельными факультетами естествознания и филологии. Та же линия
наблюдалась и в научной литературе: «Хотя «Журналь де саван» продолжал
сообщать и научные и литературные новости, за более содержательным, чем общие
526
M. К. Петров
рассуждения о научных открытиях, теперь следовало обращаться к
специализированным научным журналам — математическим, физическим, химическим,
биологическим» [195, с. 141].
На примерах научных карьер Лавуазье и Лапласа Крослэнд показывает
движение к признанию научного исследования как вида оплачиваемой деятельности.
Если основным источником доходов для Лавуазье был сбор налогов, что явно не
имело отношения к его научной деятельности, то Лаплас в должности
экзаменатора артиллерии ближе подошел к профессионализму. Завершение этот процесс
получил во время Революции: «С учреждением в 1795 г. Института все члены
официально признанного научного сообщества впервые стали получать плату и в
принципе не имели права отказываться от нее. В послереволюционной Франции
уже не оставалось места типичной для XVIII в. фигуре богатого любителя. К тому
же, отмена в новом Институте почетного членства означала конец ситуации, в
которой наука могла быть деятельностью знати, располагающей досугом» [195,
с. 142].
Основная проблема, по Крослэнду, состояла в сближении исследования и
оплачиваемого вида деятельности: «Концепт оплаты включает определенные
договорные обязательства и определенную ответственность, занят ли человек в
обучении научной деятельности или в исследованиях, или в обоих видах
деятельности. Наиболее важной чертой в проблеме получающего адекватную плату ученого
за свою научную деятельность является то, что позволяет ему заниматься наукой,
не отвлекаясь на другие занятия, и это право признается правительством. Именно
этой стадии достигли институты, основанные во Франции времен Революции»
[195, с. 141].
Наиболее емкой областью приложения сил ученых без отрыва от
исследований Крослэнд считает преподавание на уровне высшей школы: «Одно из
изменений, имевших место в преподавании времен Революции, было повышение
стандартов. Если при старом режиме аббат был счастлив преподать начала науки
мальчикам последнего класса колледжа, а математики военной академии
готовили своих кадетов по учебнику Безу, то теперь все внезапно изменилось, возможно
даже слишком внезапно, когда в «Эколь Нормаль» 1795 г. ведущие ученые
попытались высказать свои собственные идеи о науке. Для великого математика Лаг-
ранжа сойти до уровня аудитории оказалось невозможным, как и идеи Бертолле
о химическом равновесии и о природе кислот не были восприняты большинством
его студентов. И все же «Эколь Нормаль», хотя она и недолго существовала в
исходном виде, создала прекрасный прецедент. Среди многого другого она
показала, что в принципе возможно учреждение образовательных институтов, где
наиболее выдающиеся ученые могут высказывать свои собственные взгляды на
предметы своего основного интереса» [195, с. 143].
Акцентируя на различии уровней преподавания, которые сегодня осознаются
как всеобщий школьный и специализирующий университетский, Крослэнд
отмечает сближение преподавания и исследования: «Революционная ситуация во
Франции позволила создать институты, где преподавание велось на уровне
исследования. Хотя Бертолле не так уж преуспел в роли преподавателя как в «Эколь
Нормаль», так и в «Эколь Политекник», он во всяком случае воодушевил своего
протеже Гей-Люссака, привив ему взгляд на преподавание, как на продолжение
исследования. Даже на естественном факультете, где преподавание велось на
высшем уровне, Гей-Люссак и Био разделили курс физики на две части в
соответствии с собственными преподавательскими интересами» [195, с. 143].
Существенной деталью этой новации была и ее направленность против
наследственных привилегий: «Социальная позиция преподавателя зависит частью от
взглядов современников на образование, а частью от социального статуса
студентов. Что касается первого аспекта, то образованию явно придается большее
значение в обществе, награждающем личные достижения, чем в обществе, где
социальная позиция индивида почти целиком зависит от обстоятельств его рождения.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 527
В делах карьеры образовательные критерии заменяли теперь критерии родства и
наследственных привилегий. Высшее образование сообщало более высокие
стандарты управлению, администрации, различным техническим службам» [195,
с. 143-144].
В рамках академических преобразований Крослэнд показывает развитие
должностей лаборантов, инструкторов, препараторов, которые стали входить в
структуру кафедр и факультетов. Сравнивая положение во Франции с положением в
Англии, Крослэнд приходит к выводу о значительном отставании английской
науки как раз в области профессионализации: «В определенном смысле Британия
1830-х гг. напрашивается на сравнение с Францией, скажем, 1780 г.» [195, с. 155],
но в Англии действовали другие социальные традиции, давшие свою особую
форму профессионализации науки.
Статья Д.Найта о немецкой науке охватывает период от появления «Критики
чистого разума» Канта (1781 г.) до смерти Гегеля (1831 г.). Для этого периода, по
Найту, характерно многообразное воздействие романтизма на представления о
предмете науки и о научной деятельности. С этим периодом связаны имена
Канта, Шеллинга, Гегеля, Гете, Шиллера, а также и ряда крупных ученых — Вер-
нера, Гаусса, Гершеля, Александра Гумбольдта и др. Воздействие возникающего
романтизма и романтиков не было однородным: «В Германии того времени связи
науки с философией и литературой были весьма тесными, но наряду с этим
сильные автономные традиции имели медицина, математика, астрономия, а также
химия и минералогия в их тесной связи с горным делом. Изучающего немецкую
науку этих лет не должны особенно беспокоить взгляды тех, чей подход к
природе значительно отличается от нашего и от подхода конца XIX в. Следует
попытаться удержать в единстве весь спектр науки. Для Германии, как и для других
стран, историку, если он интересуется началом XIX в., приходится отказываться
от пословицы, будто вся наука либо физика, либо собирание марок, поскольку
как раз для этого периода химия, биологические и геологические науки
представляются куда более важными и интересными, чем механика» [195, с. 161].
Особое внимание Найт уделяет анализу воздействия на науку
натурфилософии. Отмечая связь натурфилософских концепций с «химической философией»
Парацельса и Гельмонта, Найт пишет: «Но непосредственным источником натур-
Философии был Шеллинг, который оказал сильнейшее влияние на видных
представителей романтизма в науке, прежде других на Риттера и Эрстеда. Одна из
важнейших идей натурфилософии состояла в том, что поскольку человеческий
разум есть часть природы и отражает природу, законы нашего мышления должны
соответствовать законам природы и мы можем, поэтому, надеяться делать
открытия, не покидая кресла. Вообще-то это вариант старой веры в аналогию между
микрокосмом человека и макрокосмом великого мира природы. Но она
представлялась в более современном виде: Кант доказывал, что категории, в которых мы
организуем знание, возникают независимо от опыта. Идея того, что опытное
знание можно получать независимо от опыта, априорно, не была экстраординарной
в Германии Шеллинга» [195, с. 163].
Найт видит в событиях этого периода протест против механистической
картины мира: «Гете, романтики, химики — все протестовали против программы,
ассоциируемой обычно с именем Ньютона и связанной с редукцией всех
естественных наук в механике» [195, с. 169]. Но этот протест происходил уже в условиях,
когда наука не могла уже отказаться от принятых эмпирических процедур
наблюдения и эксперимента в пользу чистого теоретизирования или умозрения, что
было бы явно неправомерным: «Нам не следует так уж удивляться изменениям в
химии на периоде между Риттером и Либихом, чтобы доходить до утверждений,
будто вся немецкая наука была до конца 1820-х гт. занятием метафизическим по
преимуществу, а позднее — эмпирическим. Это была бы карикатура, способная
только затруднить выявление частных тесных связей между немецкими учеными
и их современниками в других странах» [195, с. 175].
528
M. К. Петров
В статье У.Фаррара о науке и системе немецких университетов в 1790—
1850-е гг. речь идет о месте современного университета в научном познании: «О
современной науке предполагают, что она в значительной части деятельность,
совершаемая в университетах. В самом деле, любой ученый — выпускник
университета и, несмотря на рост и значение промышленных и правительственных
исследований, большинство публикуемых статей поступает из университетов и
связанных с ними институтов. А это не всегда было так. Со времен Возрождения и
до середины XIX в. связь между наукой и университетом была случайной. Науку
развивали духовные лица, учителя, инженеры, аптекари, путешественники,
землевладельцы, но редко в этом участвовали преподаватели университетов. Бургаве,
Блэк — мало приходит на ум имен, карьера которых почти полностью связана с
университетом. Даже Ньютон оставил Кембридж в пожилом возрасте, чтобы
заняться гражданской жизнью. Научные исследования могли вестись в
Университете, иногда и действительно велись, но этого не предполагалось, и значительно
больше делалось за их пределами» [195, с. 179].
До 1815 г. термин «Германия» включал в себя разнокалиберный набор
независимых государств от ранга Бранденбурга-Пруссии до мелких княжеств,
свободных городов и даже свободных деревень. Некоторые из них были католическими,
некоторые лютеранскими, некоторые смешанными. Все были бедны, особенно к
Востоку от Эльбы» [195, с. 179].
Раздробленность Германии вызывала, по Фаррару, и специфическую нужду в
образовании: «Бюрократия должна быть грамотной, это рекомендуется даже для
армии, где для чинов высоких рангов требуется высшее образование. В Германии
было около тридцати университетов по сравнению с двумя в Англии.
Большинство университетов Германии первоначально организовывалось по схеме Меланх-
тона: младший факультет искусств или философии, который следовало закончить
до поступления на юридический, теологический, медицинский факультеты. Со
временем эта общеевропейская схема модифицировалась: часто факультеты
теологии и философии получали примерно равные статусы. Теологический
факультет готовил духовных, тогда как на философском преподавались все остальные
дисциплины, в том числе и право для множества юристов. Юристов и приходских
священников готовилось много больше, чем требовалось, и период ожидания
подходящего места проходил обычно в занятиях преподаванием. Плохо
оплачиваемые деревенские учителя с университетским образованием, ожидающие, часто
напрасно, вызова в приход или на государственную службу — хорошо известная
фигура в Германии XVIII в. Такой метод массового образования имел множество
недостатков, но так или иначе он приводил к тому, что Германия, несмотря на
свою бедность, становилась страной высокой грамотности. В Пруссии для всех
детей образование стало номинально обязательным с 1717 г. И хотя реформа
задерживалась, к 1830 г. Пруссия была «страной школ и казарм» [195, с. 180].
В университетах Германии долгое время сохранялась модель гильдии:
«Бросающейся в глаза чертой немецкой университетской системы была ее близость к
немецким системам гильдии и ученичества. Все системы уходили корнями в
жизнь средневекового города и претерпели в Германии меньше изменений, чем
где-либо в Европе XVIII в. Гильдии были корпорациями ремесленников, а их
аналогиями стали корпорации профессоров. Ученик (студент), единожды
принятый, обязан был отслужить свое время (обычно около четырех лет и в гильдии и
в университете) и своевременно представить на рассмотрение гильдии
(университета) «шедевр». Со временем он и сам мог стать мастером (профессором), но для
этого требовалось обычно затратить еще несколько лет в качестве подмастерья,
скитающегося ремесленника, что в академической жизни соответствовало
примерно доценту. И как гильдии исключали сыновей тех, кто жил «низкими
занятиями» (цирюльников, например, или могильщиков), точно так же и сыновья
низких классов лишались доступа в университеты, поскольку это требовало
знания латыни» [195, с. 181].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 529
Черты близости между гильдией и академическим сообществом наблюдались
и в образе жизни: «Ни от ученика, ни от студента не ожидалось, что он все время
будет находиться в одном месте под руководством одного мастера. Это были его
«вандеряре» — годы странствий, когда он двигался, обычно пешком, из города в
город, осваивая навык у разных мастеров. Путешествующие по Германии много
писали об этих «вандергезеллен» — об обществах кочующих учеников,
ремесленников, студентов, которые так часто встречались им на скверных дорогах
Германии. Одним из следствий этой практики было, идет ли речь о ремесле или об
академической работе, выравнивание стандартов всей страны. С современной
точки зрения наиболее важно то, что студент немецкого университета сознавал
себя учеником-филологом, знал, что если он серьезен и трудолюбив, то ему
предстоит создать «шедевр» по четко определенным стандартам совершенства. Такая
система, хотя она и не так уж хорошо приспособлена для стимулирования
научных исследований, вряд ли могла быть улучшена для этих целей, что и
обнаружилось в следующем веке» [195, с. 181].
Вообще-то говоря, эта практика не способствовала выявлению
оригинальности: «Как гильдии производили мастеров-ремесленников, неотличимых друг от
друга или от своих предшественников, точно так же и университеты были
нацелены на подготовку середняков, упорно работающих педантов, полностью
лишенных оригинальности. Были, конечно, исключения — Кант, Галлер и ряд других...
Но до конца столетия эти интеллектуальные волнения (просвещение, романтизм)
едва ли затрагивали страну в целом, так что для большинства немцев все еще в
силе оставалась формула: «их величайшее желание — продолжать жить так, как
они жили всегда» [195, с. 181—182].
Положение резко изменилось в 1815 г. После поражения Наполеона Германия
стала местом постоянных интеллектуальных волнений: «Старый образ жизни был
сломан, и несмотря на все усилия Меттерниха и принцев, управлявших своими
территориями, обломки так никогда и не были собраны в целое. Французов
ненавидели как захватчиков и они конечно же должны были уйти. Но как только
они ушли, их престиж значительно возрос. Они стали представлять собой
вершину европейской культуры [195, с. 182]. Другим ориентиром развитости была
Англия: «С наступлением мира многие немцы увидели новые фабрики, удивительные
машины, приводимые в движение паром, дымные индустриальные города,
освещаемые газом. Могла ли Германия стать такой же? Они посылали на родину
письма, в которых смешивались ужас и восхищение. Многие оставались работать
на чужбине и некоторые из них разбогатели в Манчестере, предаваясь
воспоминаниям о чистом воздухе родины» [195, с. 182].
Хотя в политическом плане пора кардинальных перемен наступила лишь в
1848 г., в других областях, в частности и академической, реформы встречали
меньше сопротивления, начались раньше. Ориентирами здесь служили Геттинген,
учрежденный по английской модели (университет в 1734 г. основал английский
король) и Горная академия («Бергакадемие») во Фрейбурге, где в то время
преподавал А.Вернер, привлекая студентов из многих стран своим лекторским
искусством [195, с. 182-183].
Но теоретической основой академических реформ была, по Найту, работа
Шеллинга «Лекция о методе академического обучения», появившаяся в 1803 г.:
«По контрасту с профессиональной в основном подготовкой (отчаянно скучной
и не всегда продуктивной), которую предлагали немецкие университеты,
Шеллинг провозглашал: функция университета — поиск Истины в смысле
всеохватывающего знания («виссеншафт»), концепта куда более широкого, чем английское
«сайенс». Долг университетского преподавателя не в том, чтобы внедрять
известные факты — им место в энциклопедических работах с соответствующими
ссылками, — а в том, чтобы обучать студентов методам поиска истин, методам
исследования и критического суждения. А это наилучшим образом делается не
рассуждениями, а собственным примером, так что преподаватель сам должен быть не
33 М.К. Петров
530
M. К. Петров
поставщиком фактов и признанных мнений, а продуктивным ученым и
исследователем. Соответственно, и тут мы видим, что система гильдии остается в силе,
долг ученого не только в его научных разысканиях, но и в обучении своим
методам нового поколения студентов-учеников, которые в свою очередь продолжат
эту незавершенную и в самом деле бесконечную задачу. Студент мог начинать
изучение «виссеншафт» в любом пункте, а окончить в весьма отдаленном от того,
откуда он начал, поэтому не следовало ставить препятствий ни исследованию, ни
обучению» [195, с. 183].
Этот идеал явно не был способен реализовать философ и особенно, по
мнению Фаррара, «натурфилософ» типа Шеллинга: «Идеал, конечно же, терял в
чистоте в процессе перевода на язык повседневности, обыденной академической
жизни, чему в общем-то способствовала неточность формулировок, в которых
выражал свою мысль Шеллинг. К тому же была оппозиция со стороны юнкеров
Севера и их противников — католиков Юга, которые не воспринимали этих
новых понятий. В оппозиции находилась также и мощная студенческая
организация — «Буршманншафт», которая подозревала, что реформа станет поводом для
усиления политического контроля. Обновление немецких университетов не было
делом ни индивида-одиночки, ни даже дюжины реформаторов. Александр
Гумбольдт, путешественник и универсал, который в области естественных наук
пользовался репутацией ключевой фигуры, трудно подтверждаем, поскольку его
влияние было закулисным и не подтверждается документами. Конечно же, он
занимал подходящий пост для влияния. Не занимая официальной должности, он
обладал широкими связями в официальном мире: его брат Вильгельм, известный
филолог, был одно время министром в прусском правительстве и пользовался
влиянием далеко за пределами Пруссии. Первым актом реформы, проведенным
в черный час унижения Пруссии Наполеоном, было учреждение в 1810 г.
университета в Берлине. До этого времени короли Пруссии отказывались иметь
университет в столице, отдавая предпочтение Прусской Академии, которая была
непосредственно под их влиянием. За берлинским университетом последовало в
1818 г. учреждение университета в Бонне — в рейнской провинции, отошедшей
к Пруссии по мирному договору. Оба университета признавали идеалы
Шеллинга» [195, с. 183-184].
Другим важным событием этого периода Фаррар считает организацию
лаборатории Либихом: «Юстус Либих (1803—1873) был молодым студентом-химиком
в Париже, когда он встретился с Александром Гумбольдтом и произвел на него
благоприятное впечатление. Либиха не удовлетворяло положение в немецкой
химии, которую он изучал в Бонне и Эрлангене. Она была слишком
умозрительной. Хотя теория флогистона теряла влияние, новые идеи французской химии
плохо понимались профессорами, а возникающий разрыв заполнялся общими
натурфилософскими рассуждениями. Это была не та химия, с которой он имел дело
в аптеке, и не та, казалось ему, которой учат во Франции. Поэтому он отправился
в Париж, где случайно стал учеником великого Гей-Люссака. При содействии
Гумбольдта он в возрасте 21 года получил место ассистента на кафедре химии в
Гиссене. Это была второстепенная должность в небольшом университете
незначительного государства Гессе-Кассель. На шахматной доске братьев Гумбольдтов
этот ход не представлялся сколько-нибудь значительным, но для Германии и для
химии он оказался наиболее важным из того, что они совершили. После
неожиданной смерти профессора в 1825 г. Либих получил кафедру и стал полным
профессором» [195, с. 184].
Это во многом случайное стечение обстоятельств, подкрепленное рядом
других, не менее случайных, связанных с положением в самой химии (растущая роль
анализа) почти автоматически толкало Либиха к созданию лаборатории: «Либих
работал бок о бок со своими студентами в одной аудитории не по каким-либо
эгалитарным соображениям, а потому, что другого помещения не было.
Формальное обучение было сведено к минимуму — со студенческих лет Либих терпеть не
История европейской культурной традиции и ее проблемы 531
мог лекций. К тому же химия в своем развитии достигла той любопытной точки,
когда до начала плодотворных практических исследований требовалось овладеть
лишь небольшим запасом теоретических идей. Более существенным было
освоение техники, и этот процесс требовал большего времени, чем изучение
необходимой теоретической базы. Не было, во всяком случае по началу, четкой
демаркационной линии между обучением и исследованием, не было и многолетнего
марша к переднему краю исследований, который приходится сегодня совершать
молодым новобранцам науки. Практические инструкции начинались с
повторения и подготовки анализов хорошо известных соединений. Когда студент начинал
получать надежные результаты, он переходил к менее известным соединениям,
чтобы подтвердить или поставить • под сомнение проведенные уже анализы, а
затем, постепенно прогрессируя, приступал к подготовке и к анализу новых,
неизвестных соединений — к работе, которая могла оказаться заслуживающей
публикации» [195, с. 185].
Сама возможность такого обучения производна, по Фаррару, от конкретного
состояния дисциплины: «Либих счастливо использовал довольно редкую в науке
ситуацию, когда собрано огромное число первичных и на первый взгляд
лишенных смысла данных, ожидающих изучения. Расплывчато и туманно, но все же
предполагается, что этот массив данных станет исходной опорой для следующего
теоретического движения вперед. В данном случае анализ вел к попыткам синтеза
и (совместно с атомной теорией) к структурной теории органической химии, к
новой, пока еще не завершенной задаче химиков выявить молекулярные
структуры всех вещей в мире» [195, с. 185].
В других науках положение было существенно иным, что и объясняет, по
мнению Фаррара, значительные трудности в освоении академической модели Ли-
биха другими дисциплинами. Фаррар предельно высоко оценивает историческое
значение этой модели, в которой историк «может обнаружить в зачаточном виде
все проблемы современной науки» [195, с. 190].
За историков мы расписываться не будем, но вот в нашем предприятии
выходы на периферию основного потока событий от обнаруженных в XVII в. начал
к современности дают нам достаточно солидный материал по
структурно-организационному оформлению постшкольной части систем образования европейских
национальных Т-континуумов. Обнаруживается, что и во Франции и в Германии,
где наука определенно не ушла из традиционных университетов в свои
обособленные от преподавания институты, как это произошло в Англии XVII в. с
началом функционирования Королевского Общества, наблюдались сходные явления
«центробежной», так сказать, переориентации академической подготовки
студентов на плохо еще обозначенный передний край научных исследований.
В обеих странах формы связи преподавания в высшей школе с событиями на
переднем крае были по конечному результату идентичны — связь замыкалась на
преподавателе высшей школы А, который становился одновременно и
исследователем и преподавателем, то есть обретал тот мертоновский четырехсоставной
набор ролей — исследователь, преподаватель, администратор, привратник [140,
с. 520], о котором мы уже говорили, а академические сообщества этих стран по
ходу этого процесса становились, соответственно, научно-академическими
сообществами, но если во Франции наука вторгалась в академические структуры
(опыт «Эколь Нормаль», «Эколь Политекник»), то в Германии дело, похоже,
обстояло как раз наоборот: академические структуры подтягивались к переднему
краю исследований и преподаватели становились с теоретического благословения
Шеллинга исследователями, показывая студентам на собственном примере, как
это делается в науке, как там ведутся исследования. Результат же, повторяем,
оказывался одним и тем же: академические сообщества Франции и Германии
становились научно-академическими сообществами. Наглядный тому пример —
деятельность Юстуса Либиха, который, не мудрствуя лукаво, благо, и обстановка в
химии это позволяла и дефицит аудиторий в Гессене того требовал, нахально рас-
33*
532
M. К. Петров
положился со своей аудиторией студентов прямо на переднем крае исследований
химии как дисциплины.
Попутно, и это для нас важно на будущее, мы обретаем и некоторые
смущающие и нашу душу и, будем надеяться, души всех теоретиков и практиков
академической политики сведения о природе мегаактов постшкольной части нашей
системы образования Ту-Тд-Тг, ведущих в терминалы науки. Тот же Фаррар
говорит и об аналогиях с гильдией, где ученику после представленного на суд
мастеров «шедевра» давалось до получения звания мастера время в два-три года на
путешествия, чтобы побродить по свету и понабраться опыта, но тут же, чуть
ниже, говорит и о том, что в лаборатории Либиха способные студенты успевали
за два года и опубликовать свои «шедевры» и получить степень доктора, то есть
пройти наш семилетний студенческо-академический переход Ту-Тд-Тг. Это
обстоятельство нам следует учитывать в оценках совершенства наших систем
образования в их постшкольной части. Вполне возможно, что аналогия с гильдией не
такой уж и состоятельный аргумент в пользу выстраивания в чистом
академическом времени столь длинных студенческо-аспирантских переходов, которые во
всех развитых странах несут явные следы родства с немецкой
«профессорско-доцентской» моделью [195].
Теперь нам следует снова вернуться в XVII в., чтобы попытаться
сориентироваться в судьбе другого начинания английских интеллектуалов-революционеров,
начало Уэбстер [169] усматривал в Агентстве Гартлиба. Эта линия наиболее
полно, по нашему мнению, намечена в сборнике «Развитие научной публикации
в Европе» [193], который появился на свет в 1980 г. по несколько неожиданному
поводу — празднованию четырехсотлетнего юбилея голландской издательской
фирмы «Элсевир», которая издает научную литературу и тесно связана с
Лейденским университетом.
Глава 2. Становление общенаучной коммуникации
В конце 2-й части мы уже говорили о том, что глобальная интернациональная
общенаучная коммуникация выступает условием осуществимости тезаурусного
коллективизма научной деятельности, поскольку она и только она одна способна,
если все члены национальных научно-академических сообществ имеют к ней
прямой доступ, оперативно информировать всех исследователей о текущей
конфигурации переднего края на их участке исследования, задать им ориентиры
сделанного уже в науке и, соответственно, Т0-е их будущих рукописей — вкладов в
интернациональный процесс научного глоттогенеза и в науку как уникальный
глобальный феномен. В этом своем качестве средства всеобщей среди
исследователей оперативной информации о текущем положении на переднем крае
глобальная общенаучная коммуникация является необходимым условием существования
науки как общечеловеческого глобального познавательного предприятия, которое
при наличии и исправном функционировании интернациональной общенаучной
коммуникации обретает типичные для знаковых реалий свойства уникальности,
отсутствия повторов на уровне научной литературы, тезаурусной связи всего со
всем — сети цитирования, рангового распределения ценности — участия в
производстве научного знания — по закону Ципфа [178].
Понятно, что и у самой глобальной общенаучной коммуникации есть свои
предпосылки, условия осуществимости, и среди них первым большинством
историков, начиная с Бэкона и Коменского, признается известное развитие
книгопечатания. В сборнике «Развитие научной публикации в Европе» [193], на который
мы будем опираться, практически все авторы-участники принимают эту посылку,
что позволяет нам принять среднюю тактику: попытаться силами самого
авторского коллектива сборника четко выделить ту структуру исторической целостное-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 533
ти, которая частично в эксплицированной, частично в неявной форме
принимается на правах рабочего допущения или постулата большинством авторов.
Состав этого допущения или постулата явно восходит к постулатам унифор-
мизма и актуализма в той частной форме, в которой они сформулированы Лай-
елем и развиты Дарвином, а сегодня практически перешли в статус данности —
во всех естественных дисциплинах используются без ссылок на Лейбница, Лайе-
ля, Дарвина, придавших им форму гносеологической санкции опытного
познания, основанного на наблюдении и эксперименте. Принцип актуализма, как
известно, требует объяснения наблюдаемых изменений в терминах наблюдаемых же
причин, тогда как принцип униформизма, подчеркивая репродукцию, роль
повторов в предметах познания, позволяет сообщить результатам наблюдения, если
они подтверждаются экспериментом, повтором, — историческую составляющую;
позволяют двигаться в прошлое на некоторую глубину в предположении, что и в
прошлом наблюдаемые события, вызывавшие наблюдаемые изменения,
происходили тем же самым способом, каким они происходят и сегодня, в «здесь и
сейчас» конкретного исследователя. Глубина этого дозволенного движения в
прошлое от «здесь и сейчас» наблюдения в «повсюду и всегда» прошлого, как мы
уже говорили, в каждой дисциплине своя; важно лишь то, что отсчет этой
глубины «дисциплинарной вечности» начинается от текущего момента исследования,
от «здесь и сейчас» наблюдения.
Практически все авторы сборника принимают эти допущения, но в наиболее
явной форме они представлены в статье М.Ф.Катцен, которая идет в прошлое на
наибольшую глубину, выстраивая вечность научной публикации как предмета
исследования на материале истории «Философских записок» Королевского
Общества Лондона. Катцен, понятно, не формулирует принципов актуализма и
униформизма, для ее целей это излишество. Пусть биологи спорят о том, имеет ли
смысл их знание для Докембрия, коль скоро в нем не обнаруживают следов
органики. Пусть антропологи ищут начало своей вечности где-то в рамках вечности
зоологов. С научной публикацией, как с видом специализированного
человеческого общения вопрос о начале ясен: в 1665 г. с разрывом в несколько месяцев
появились два первых научных журнала: «Журналь де саван» 5 января во
Франции и «Философские записки» 6 мая в Англии. Если журнал французов довольно
быстро растерял научные характеристики, то «Философские записки» англичан
существуют и поныне именно как научный журнал: последний синхронный срез
анализа хронологической последовательности моментальных фотографий облика
«Философских записок» Катцен делает в 1977 г. [193, с. 209].
Принципы актуализма и униформизма нужны Катцен не сами по себе, а как
признанная наукой возможность построить целостный временной континуум
преемственных событий, связывающих 1665 г. с 1977 г., день рождения
«Философских записок» о чем имеется документальное свидетельство — решение Совета
Королевского Общества от 1 марта 1665 г.: «Публиковать «Философские
записки», которые будут составляться мистером Олденбургом, в первый понедельник
каждого месяца, если у него окажется достаточно материала» [193, с. 184], со
«здесь и сейчас» ее исследования и представить этот континуум событий как
законный, типичный и освоенный социологами науки предмет «долготных» или
«диахронных» исследований: «Мы предпринимаем этот анализ ради выявления
существенной связи между некоторыми ценностями и нормами, лежащими в
основе современной научной деятельности, и некоторыми конвенциональными
моделями представления ее результатов в научных журналах. Конвенции
относительно моделей представления результатов преемственно достигались и
изменялись во времени. Чтобы получить представление об этом процессе развития
необходим долготный подход к анализу материала. Такой подход способен дать
ориентиры для оценки сторон комбинированного воздействия традиции и
изменения, меры их влияния на конкретные характеристики журнала в заданный мо-
534
M. К. Петров
мент времени, а также и представить облик этого журнала как органического
целого в любой точке на периоде его истории» [193, с. 182].
Катцен, таким образом, нужен некий упорядоченный и образующий
целостность во времени массив событий типа многолетних подшивок газет или
журналов, в котором по мере приближения к «здесь и сейчас» исследования
обнаруживалась бы все большая степень подобия с тем, что мы наблюдаем сегодня в
предельно унифицированных моделях функционирования редакционно-издательских
механизмов научных журналов и столь же унифицированных, сопряженных с
ними моделях деятельности ученых по оформлению открытий на переднем крае
познания, и чем на большую глубину в прошлое уходят такие подшивки —
временные континуумы преемственных событий, — тем больше дается времени на
выявление универсальным агентам изменения, если таковые существуют,
«сторонам комбинированного воздействия традиции и изменения» на приведение
изначальных характеристик к тем, которые наблюдаются сегодня.
Конкретной локализацией механизма преемственности, динамики сопряжения
публикационной и научной деятельности Катцен считает редакционную
функцию, как она выявляется в актах движения научного знания между поступлением
рукописи в редакцию и ее публикацией: «На этом периоде неформальная
коммуникация начинает трансформироваться в формальную. Трансформация
осуществляется путем включения рукописей в процесс коррекций и поправок, который
выполняется либо самим редактором, либо уполномоченными редактором
лицами из числа признанных дисциплиной экспертов. В этом процессе тщательно
проверяется правомерность и обоснованность заявок авторов на оригинальность.
В движении рукописи на предпубликационном периоде из нее устраняются все
погрешности стиля и способа представления материала, то есть рукопись
приводится к той форме, которая установлена издателем. Именно на этом периоде в
моменты срабатывания редакционных функций устанавливаются и утверждаются
конвенциональные нормы относительно конечной формы представления
материалов в публикации, а журнал обретает возможность удовлетворять нужды
научного сообщества, поскольку в выполнении этих функций участвуют (на правах
«привратников». — М.П.) представители этого сообщества» [193, с. 179—180].
Понятно, что с точки зрения времени, предоставленного редакторам и
научным сообществам на выяснение отношений, на сопряжение их возможностей и
потребностей, длительность преемственного существования научного журнала
сама по себе оказывается значимым фактором в наборе сторон
«комбинированного воздействия традиции и изменения» на текущие характеристики журнала
через достижение и утверждение конвенциональных норм относительно
действующей формы представления рукописей для публикации. Большая длительность
существования предполагает и большее число актов реализации редакционной
функции, что, по мнению Катцен, возводит журнал-долгожитель в статус
законодателя, устанавливающего универсальные нормы: «В течение большей части своей
истории «Философские записки» пользовались высоким авторитетом, широко
перепечатывались в XVII и XVIII вв., служили в качестве образца для учреждения
новых журналов по всей Европе. Их долгая история, таким образом, открывает
достаточные возможности для наблюдения изменений научной периодики во
времени, тогда как их высокий статус в научных сообществах в Англии и за рубежом
делает вероятным допущение, что те тенденции, которые обнаруживаются при
детальном анализе «Записок», в какой-то степени репрезентативны и для основной
линии развития» [193, с. 182].
Этот вывод справедлив, естественно, только при некоторых допущениях и
прежде всего при допущении того, что в «Философских записках» изначально
присутствовало некое «ядро» научной публикации, преемственное изменение
которого на трехсотлетнем периоде могло дать и дало набор современных норм
научной публикации. В этом пункте большинство авторов сборника придерживается
общей линии аргументации — изначальная научность «Записок» показывается на
История европейской культурной традиции и ее проблемы 535
фоне изначальной ненаучности «Журнала» французов. Катцен просто проводит
разграничительную линию: «Этот старейший из существующих журналов обладает
почти непрерывной историей существования под тем же самым названием с
марта 1665 г. Единственный его предшественник «Журналь де саван» начал
выходить в Париже в январе 1665 г. Но, если «Журнал» включал все разнообразие
исследований интеллектуалов и в основном заполнял страницы извлечениями из
новых книг и их обзорами, то «Философские записки» преднамеренно исключали
противоречивую теологическую, юридическую и политическую тематику,
концентрировали усилия на отчетах об оригинальных исследованиях в естественных
науках. «Записки», таким образом, могут претендовать на право быть первым
научным журналом первичной научной литературы» [193, с. 182].
Более детально, цитируя высказывания основателей «Журнала» — Дени де
Салло и «Записок» — Генри Олденбурга, пишет об исходных идеях двух первых
журналов А.А.Мантен: «Де Салло хотел, чтобы его «Журнал» занимался
следующим: каталогизировал и описывал книги, публикуемые в Европе; давал
биографии; сообщал об экспериментах в физике и химии, способных объяснить
естественные феномены; описывал машины и другие полезные или хитроумные
изобретения; сообщал о метеорологических и новых анатомических данных;
приводил основные постановления гражданских и церковных судов, а также цензоров
университетов; держал читателей в курсе всех текущих событий в Европе,
достойных любознательности людей... «Журнал», таким образом, явно намеревался
служить интересам как ученых, так и академических (университетских) сообществ
всей Европы. Это было грандиозное предприятие, которое вскоре обнаружило
собственную невыполнимость несмотря на огромную энергию де Салло и на
помощь переписчиков, которые готовили извлечения и заметки из поступающей к
ним информации. «Журнал» вскоре стал популярным, но привлек также и
внимание правительства; на короткое время запрещался за публикацию материалов,
оскорбляющих корону. Под исходным названием он появлялся с различной
периодичностью до 1816 г., когда несколько изменил название и сегодня занимает
ведущее положение, но уже в области литературы» [193, с. 5—7].
Олденбург, по мнению Мантена, руководствовался более практическими
соображениями: «Основным стимулом для учреждения «Философских записок»
были для Олденбурга трудности с обработкой огромного потока зарубежной
корреспонденции» [193, с. 5]. Этот мотив нашел отражение и в предисловии
Олденбурга к первому выпуску: «Полагая, что для поощрения улучшений в
философских предметах нет ничего важнее оповещения о том, каким способом
применяются исследования и достижения, как эти вещи делаются или практически
применяются другими, мы считаем вполне уместным использовать печатный станок
в качестве наиболее подходящего средства признания тех, чьи усилия в таких
исследованиях и заслуги в продвижении знания позволяют время от времени
приобщать их имена к делам познания... в этом королевстве и в других частях мира,
а также к прогрессу исследований, усилий и попыток изучить и познать вещи до
полного их открытия и использования. В этих целях мы стремимся к тому, чтобы
во славу Бога, ради чести и процветания этого королевства и общего блага
человечества их результаты были полно и ясно объяснены другим, чтобы и впредь
продолжалось умножение надежного и полезного знания, а изобретательные
усилия и предприятия находили признание, а также и к тому, чтобы те, кто вовлечен
в общение об этих делах, получали стимул и поощрение к исследованию,
изучению и обнаружению новых вещей и к сообщению своих знаний другим,
пополняя своими вкладами великий план улучшения естественного знания,
совершенствования философских искусств и наук» [193, с. 7].
Прежде чем идти в уточнения, мы сделаем в этом месте краткую остановку,
чтобы оценить интегрирующие и эвристические достоинства предлагаемой в
основном Катцен «долготной» схемы организации материала, поскольку схема эта
с той или иной степенью выявленности, осознанности и проговоренности при-
536
M. К. Петров
сутствует во всех статьях сборника и придает смысл тем частным проблемам,
анализу которых посвящены статьи.
С точки зрения тезаурусно-динамической, порождающей целостный смысл
«долготной» схемы предельно близок к той структуре, которую под явным
давлением актуализма и униформизма Лайеля предложил Дарвин для биологической
«вечности», динамически поддерживающей и даже умножающей наличное
разнообразие и номенклатуру биологических видов в процессе их вымирания за счет
возникновения новых видов из существующих. Методологические достоинства
этой структуры для изучения исторических континуумов «долготной» техникой
исследования лучше других, пожалуй, объяснил известный нам уже Д.Найт: «В
1830 г. Чарлз Лайель начал публиковать «Принципы геологии», где он утверждал,
что изменения в прошлом должны быть объясняемы в терминах сил,
действующих в настоящем. Его предшественники были щедры на насилие и скупы на
время. Введенные ими катастрофы оказывались излишними, если природе
предоставлялось достаточно миллионов лет, чтобы совершить изменения, открываемые
в скалах. Взгляд Лайеля постепенно становился преобладающим, и его
величайшим учеником стал молодой Дарвин, который в 1859 г. тот же самый
исторический метод применил для понимания разнообразия творений, наблюдаемых в
нашем окружении. Этим способом Дарвин объяснил естественную систему
классификации. Животные или растения, структуры которых обнаруживают большое
число схожих черт или гомологии, являются отклонениями от общего
предшественника в не очень далеком прошлом. В этом историческом типе науки
объяснить нечто значит описать его предшественников. В годы после опубликования
«Происхождения видов» этот тип объяснения стал пользоваться широкой
популярностью. Предпринимались попытки проследить развитие химических
элементов, создать эволюционную историю звезд и планетных систем» [131, с. 51—52].
Используемая Катцен идея «комбинированного воздействия традиции и
изменения» явно опирается на модель: «объяснить нечто значит описать его
предшественников», то есть «долготная» схема может рассматриваться как очередная
попытка создать эволюционную историю научной публикации как предмета
исследования. Принадлежность техники «долготного» подхода к дарвиновскому типу
структуры целостности подтверждается в большинстве статей сборника не только
широким использованием терминов «эволюция», «униформизм плана» на правах
объясняющих аналогий, но и типичным для этой структуры набором проблем,
обсуждаемых авторами, и распределением этих проблем по континууму
целостности предмета научной публикации во времени, организованному историей
«Философских записок» от 1665 г. до наших дней. В статьях сборника по разным
поводам возникает поляризация того же типа, что и отмеченная Д.Байтом как
специфическая черта дарвинизма, наделяющего рудименты значением
принадлежности к прошлому: «В XIX в. рудиментарные органы, такие как аппендикс у
человека, были аномалией, не могли найти полного объяснения. С
драматическим выстраиванием новых ретроспектив эти феномены находят свое место:
рудиментарные органы оказываются свидетельствами эволюционной истории» [131,
с. 18].
Авторы статей сборника, занимаясь по сути дела каждый своим синхронным
срезом событий, организованных в целостность историей «Философских
записок», первым делом стремятся выявить наличный состав «рудиментов», то есть
обращаются к предшествующим срезам, а затем уже анализируют состав
факторов — агентов изменения, работающих в их срезе и ответственных за изменения
в моделях научной коммуникации и публикации на их периодах. Соответственно
по мере удаления статей от начала континуума, отмеченного появлением первых
журналов, и приближения к современности — к наблюдаемому сегодня
разнообразию форм и функций научной публикации [44], заметно меняются акценты и
приоритеты в ранжировании проблем: составы наборов сторон
«комбинированного воздействия традиции и изменения». В первых по времени срезах континуу-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 537
ма доминируют поиски вероятных «предков» научной коммуникации, в
конечных — необходимость объяснить присутствие в дисциплинарных массивах
научных публикаций не только «первичной литературы» — статей, публикуемых в
дисциплинарных журналах, но и нескольких форм «вторичной литературы» —
РЖ, обзоров, монографий, учебников, популяризаторских изданий в виде
журналов и книг, — которые нагружены своими особыми функциями, имеют свои ре-
дакционно-издательские нормы, не остающиеся неизменными. Наконец, явно
особый и противоречивый набор проблем образуют «серединные» синхронные
срезы, отмеченные в названиях статей либо ограничивающей датой «до 1850 г.»,
либо менее жестким термином «Викторианская Британия».
В дальнейшем мы, оставаясь в рамках предложенной Катцен исторической
целостности, расчленим наш обзор на три относительно самостоятельные группы
проблем, тяготеющих к «началу» научной публикации, к середине XIX в. и к
современности.
Для первой группы проблем, возникающих по поводу того, как стала, пошла
научная публикация, «началом» которой признаются «Философские записки»
Королевского общества, характерен, как уже говорилось, поиск предшественников,
который ведется в том же примерно смысле, в каком антропологи, основываясь
на данных сравнительной анатомии, разыскивают среди приматов ближайших
родственников человека, «предков». Претендентов в «предки» научной
публикации не так уж много — банк писем, газета, письмо, «сумма», учебник, — но все
же вполне достаточно для расхождения мнений по поводу «облика» первых
журналов, черт сходства с возможными предками.
Катцен, понятно, выдерживает крайнюю линию. Для строгости «долготной»
конструкции ей приходится видеть в «Философских записках» запечатленный во
младенчестве облик современного дисциплинарного журнала, первого или
«первичного» интегратора отчетов о событиях на переднем крае научного познания —
статей, «первичной литературы». Соответственно этот облик явно тяготеет к
банку писем, но и у нее не все получается гладко.
Развивая аргументацию в пользу банка писем, Катцен сообщает и некоторые
биографические данные об отцах научной публикации: «Знаменательно как то,
что первые два научных журнала «Журналь де саван» и «Философские записки»
появились на свет с разрывом в три месяца друг от друга, так и то, что их
редакторы оба обладали поразительным даром собирать и распространять
информацию. Дени де Салло, отец «Журнала», был эрудированным схоластом, который
регулярно переписывал длинные извлечения из прочитанных книг и располагал
их в алфавитном порядке. Они составили 9 томов, примерно по 2000 страниц в
каждом томе... Саксонец по рождению Генри Олденбург был также выдающимся
лингвистом, владевшим немецким, английским, латинским, французским и
итальянским языками, он обладал той же силы склонностью к сбору и
распространению информации. Он вел огромную по объему переписку. Только в архивах
Королевского общества хранится 715 обстоятельных писем иностранцев,
датированных 1660—1667 гг. и адресованных лично Олденбургу» [193, с. 183].
В качестве отличительного штриха Катцен подчеркивает деловую хватку Ол-
денбурга, его «профессионализм», обычай брать плату за услуги: «Он регулярно
писал Роберту Бойлю, пересылая ему копии информации, а также и сообщения
разного рода из Европы о зарубежных политических событиях и о событиях в
самом Королевском обществе, получая за это плату. Он готов был предоставлять
«еженедельные сводки новостей о государственных и литературных делах» за
плату «любому интересующемуся лицу». По мнению Катцен, учреждение
журналов не внесло особых изменений в образ жизни де Салло и Олденбурга: «Для них
публикация журнала была лишь продолжением нормальной и привычной
деятельности. Могло бы показаться, что само время вызвало их к жизни» [193,
с. 184]. Сходство отцов научной коммуникации усиливает и то обстоятельство,
что идея журнала высказывалась еще в 1663 г. и во Франции и в Англии. Катцен
538
M. К. Петров
приводит слова Гука, предлагавшего печатный еженедельник, который давал бы
«краткое обсуждение того, что судя по письмам из всех частей мира, происходит
нового и существенного, чем заняты и что совершили ученые и изобретательные
люди в физике, математике, астрономии, медицине, химии, анатомии за рубежом
и дома» [193, с. 184].
Но на этом фоне сходства характеров, если учесть деловую хватку Олденбурга,
довольно странный смысл приобретают действия Олденбурга и Королевского
общества по учреждению «Философских записок»: «Знаменательным
свидетельством в пользу тесных связей в интеллектуальном сообществе того времени может
служить тот факт, что 11 января 1665 г. (через шесть дней после выхода
«Журнала»! — М.П.) Олденбург зачитал на собрании Королевского общества первый
выпуск «Журнала», опубликованный 5 января. Далее он действовал быстро и
энергично: недели через три он представил Королевскому обществу макет
журнала, который он намеревался публиковать. Макет в общих чертах повторял
французский «Журнал», но был «значительно более философичен» в том
отношении, что исключал теологические и юридические материи. Было согласовано, что
журнал будет ежемесячно публиковаться на английском и четыре раза в год на
латыни. Латинский вариант вообще не был реализован» [193, с. 184].
Эта, мягко говоря, оперативность действий Олденбурга и Королевского
общества, не говоря уже о гонцах Олденбурга, которые доставили ему первый выпуск
«Журнала» так быстро в те времена, когда из Эдинбурга до Лондона было четыре
дня пути [193, с. 13], не может не вызывать подозрений на то, что в появлении
на свет «Философских записок» участвовали не только научные мотивы — идеалу
Гука в общем-то больше удовлетворял «Журнал» де Салло, стремившийся держать
интеллектуалов Европы в курсе событий во всех областях тривия и квадривия,
семи свободных искусств, тогда как «Записки» Олденбурга были и в макете и в
исполнении явно несовершенной и усеченной копией французского «Журнала».
Изначальная «научность» детища Олденбурга в этом смысле могла бы оказаться
продуктом не столько замысла творца, сколько незапланированным следствием
поспешной английской реакции на французскую инициативу.
С учетом такой возможности трактует проблему «начала» научной публикации
А.Мантен. Он подходит к ней с большей исторической глубины, включая начало
научной публикации в общий контекст событий общекультурного плана,
вызванных появлением бумаги и печатного станка: «В течение многих столетий научное
знание публиковалось в документах, написанных индивидами в одном
экземпляре. С началом изготовления бумаги и появлением печатного станка
Средневековая Европа перешла на публикацию знания в форме книги. Но каким бы
великим ни представлялся этот переход, он отошел на второй план с появлением и
подъемом научного журнала. Как это обычно и происходит с событиями
культуры, научный журнал не появился вдруг, хотя за начало его истории принимают
обычно 1665 г. Журнал прошел длительный инкубационный период, и его
появление было лишь шагом в становлении современной науки; последующие
события доказали важность этого шага. Если за единицу принять название журнала,
то число журналов возрастало от 2 в 1665 г., до 30 в 1700 г., до 750 в 1800 г. и
до нескольких тысяч в 1850 г.» [193, с. 1].
До появления книгопечатания распространение знания было, по Мантену,
спутником становления ареалов влияния основных религий. Бумага и печатный
станок были изобретены в Китае — бумага во II в. н.э., разборный шрифт — в
VIII в. «Из Китая изготовление бумаги и печатание проникли в другие страны.
В Японии первые печатные документы датируются 770 г., в Каире часть Корана
была напечатана в 950 г. Возможно, что первым печатным продуктом в Европе
были отпечатанные в 1377 г. в Германии игральные карты» [193, с. 1—2].
До появления бумаги и печатного станка научную информацию в Европе
распространяли почти исключительно бродячие интеллектуалы, которые, скитаясь
по университетам, разносили вести: «Хотя сегодня и трудно поверить в это, такой
История европейской культурной традиции и ее проблемы 539
способ передачи новых идей был довольно оперативен. Но он, понятно, имел и
определенные ограничения, коль скоро его действие ограничивалось только
центрами изучения и обучения» [193, с. 2]. Появление и распространение печати
внесло некоторые улучшения: «Многие ученые авторы — профессора
университетов, к примеру, стали собственными издателями и продавцами своих книг или
совладельцами небольших книгопечатен. Некоторые университеты основали
печатные дворы — Оксфордский, например, существует с 1478 г. Ученые совершали
далекие вояжи по разным местам для продажи своих книг. И все же растущая
торговля книгами и манускриптами не могла оказать существенного влияния на
относительно медленное и селективное распространение нового знания.
Публикация новых открытий в форме книг требовала много времени и не была
экономичной, поскольку автору приходилось ждать, пока он не наберет достаточной
информации, чтобы оправдать публикацию объемистой книги» [193, с. 2].
В этой обстановке и произошла профессионализация публикации как вида
деятельности, начали появляться частные печатни, книжные лавки, продавцы книг,
особенно в университетских городах. История дома Элсевир в этом отношении
вполне типична: «Одним из продавцов стал и Лодевийк Элсевир, который
обосновался в Лейдене в 1580 г.... К этому времени Лейден оброс уже книжными
лавками и печатнями, но Лодевийк оказался весьма оборотистым торговцем. Он
много путешествовал по Европе в поисках книг, которые привозил продавать в
Лейден. Он был достаточно хорошо знаком с наукой и учеными, чтобы учуять
крупные события и отобрать книги, найдущие покупателей в Лейдене. Вскоре он
стал владельцем печатни, сам набирал и печатал книги. Первую Элсевир
напечатал в 1583 г., а в 1586 г. значительно упрочил свои позиции, приняв должность
педеля Лейденского университета. Должность (она стала наследственной) может
показаться скромной, но она давала ему множество случаев встречаться с
будущими клиентами как с потенциальными покупателями, так и с потенциальными
авторами, а также сообщала ему выгоды принадлежности к университетской
структуре. Деятельность Лодейвика продолжили пять его сыновей... За несколько
десятилетий (деятельность дома прекратилась в 1712 г.) 15 членов семьи Элсевир
были вовлечены в дело по изданию и продаже научных книг» [193, с. 2—3].
По мысли Мантена журнал возник как некий гибрид газеты и банка писем
на базе деятельности писарей: «В средние века писарь выполнял роль и
переписчика и единственно доступного для бедных и неграмотных средства написать
письмо или составить деловой документ в установленной форме для
представления в соответствующую инстанцию. Из нерасчлененной деятельности по
обеспечению частной и деловой переписки часть писарей специализировалась на
ведение юридической документации. Здесь им платили за слово, что в какой-то
степени и объясняет, почему юридические документы столь пространны и
многословны... Следующим расширением деятельности писарей было составление для
богатых и знатных людей сводок текущих новостей. Эти сводки-новости стали
цениться как записи текущих событий. Они время от времени печатались на
больших листах с текстом на одной стороне. Работа по компоновке таких листов
организовывалась в так называемых «интеллидженс офисах», практически в
редакциях, от которых был уже шаг до издания газеты» [193, с. 3]. Как массовое
явление газеты начали появляться в самом начале XVII в.
Инкубационный период научной составляющей публикации в форме журнала
связан, по мнению Мантена, с общим улучшением средств коммуникации: «С
введением регулярной и надежной почтовой службы в XVI—XVII вв. стало
возможным передавать научные новости от ученого к ученому с помощью писем. В
общем случае такая переписка не носила частного характера в современном
понимании. Письма передавали новости о недавних исследованиях, проведенных
индивидами или группами индивидов, индивидам или группам в других местах.
Переписка поэтому часто велась через посредство одного из крупных банков
научной коммуникации, таких как салон отца Мерсенна в Париже или офис Генри
540
M. К. Петров
Олденбурга в Лондоне. В банках письма копировались для дальнейшего
распределения. Предполагалось, что получившие письма будут устно передавать их
содержание другим, зачитывая, скажем, на местных собраниях ученых. Ожидалось
также, что адресаты в свою очередь будут писать о научных событиях,
происходящих в их части мира. Этим путем возникали скрытые или невидимые колледжи
философов, как тогда себя именовали ученые» [193, с. 3—4].
Для Мантена, как и для Катцен, статья тяготеет к письму, а журнал,
соответственно, к периодически публикуемому банку писем. Но Мантен хорошо видит
и другую сторону дела. Для научной коммуникации важно не только оперативное
оповещение ученых о событиях на переднем крае познания, что в общем то и
удерживает журнал в первом эшелоне массивов дисциплинарных публикаций
[44], делает журнал незаменимым средством распространения «первичной
литературы» — отчетов наблюдателей и экспериментаторов, для которых форма
письма с места события, исходная для становления формы статьи — отчета о событии
с научным аппаратом — была и остается наиболее удобной, но и учебник, как
средство подготовки, позволяющее подключать в научную коммуникацию новые
поколения исследователей. А в этой области ни письму, ни банку нечего делать.
До появления книгопечатания в этой области господствующей формой была
«сумма», систематическое и дидактически состоятельное изложение предмета,
которое санкционировалось или отвергалось церковью, а после появления
печатного станка — книга, сохраняющая структуру «суммы».
Поэтому, в отличие от Катцен, Мантен, анализируя обстоятельства
возникновения и существования журналов в разных странах, подчеркивает трудности,
которые вызывались на первых порах неподготовленностью спроса. Учреждение
национальных академий в XVII в. четко обозначило разрыв между первичной и
вторичной литературой, прежде всего между журналом и учебником, но основными
потребителями научной публикации долгое время оставались университеты,
которым требовались книги, тогда как исследование, как мы уже видели, вошло в
связь с преподаванием много позже: «Университеты были в значительной степени
институтами обучения, а преподаватели пользовались книгами. Поскольку
научные общества поддерживали более тесный контакт с текущими исследованиями,
их библиотеки активнее подписывались на журналы, чем университетские. Но и
библиотеки научных обществ обычно подписывались лишь на часть наличной
номенклатуры научных журналов. Существование большого числа библиотек,
распределенных по всей территории страны, — феномен в основном XX в.,
достигший кульминации в последние годы» [193, с. 9].
Катцен также интересует проблема выживания научных журналов, но
существо проблемы она видит не столько в подготовленности или неподготовленности
спроса, сколько в различиях редакционно-издательских структур, которые либо
используют научные общества в качестве стабилизатора притока рукописей
(журналы научных обществ), либо ориентируются только на самотек (независимые
«содержательные» журналы, публикующие первичную литературу): «Кроник в
1976 г. выявил существенное различие между журналами научных обществ и
«содержательными» журналами в XVII и XVIII вв. Если 21% журналов обществ
выходили по 30 лет и более, то доля таких журналов в выборке «содержательных»
составила только 4%. В то же время «записки» обществ обнаруживали тенденцию
появляться через более длительные и менее регулярные интервалы. Только 5 из
106 в выборке журналов обществ публиковали тома «записок» с интервалом менее
года, 62 имели интервалы в 1—3 года, следующие 16 в 4—7 лет между томами
последовательности. На этом фоне регулярность публикации «Философских
записок» Королевского общества с 1665 по 1750 гг. выглядит весьма впечатляющей.
Причина этому возможно в том, что «Философским запискам» посчастливилось
соединить лучшие стороны двух журнальных миров, и хотя их связь с
Королевским обществом не была формальной, она все же никогда не ограничивала
поступление материалов из самого Общества» [193, с. 187].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 541
Катцен, понятно, детальнейшим образом анализирует эту связь «Записок» с
Королевским обществом, которая, по ее мнению, ответственна за их
долгожительство. Ссылаясь на решение Совета Королевского общества от 1 марта 1665 г.,
которым устанавливалась не только периодичность «Записок» (первый
понедельник каждого месяца), но и право Совета санкционировать очередные выпуски —
«издание будет лицензироваться Советом после просмотра материала
несколькими его членами» [193, с. 184], Катцен в этом последнем обстоятельстве
усматривает существенный вклад и в научность и в жизнеспособность предприятия Ол-
денбурга: «С момента своего появления «Философские записки», таким образом,
обладали двумя наиболее важными характеристиками современного научного
журнала — периодичностью и механизмом реферирования-рецензирования. Эти
характеристики опирались на тесную, хотя и не формальную, связь между
«Записками» и Королевским обществом через фигуру их редактора в статусе
секретаря этого Общества. Прямую ответственность за «Философские записки»
Королевское общество взяло на себя лишь в марте 1752 г., учредив комитет «для
рассмотрения статей, зачитываемых перед членами Комитета и для отбора тех из
них, которые Комитет сочтет наиболее подходящими для опубликования в
будущих выпусках «Записок». В форме «уведомления» это решение было
опубликовано в 1753 г. в томе 47 за 1751—1752 гг. и после этого публиковалось в каждом
последующем томе. Но независимо от этого решения Королевское общество
задолго до 1752 г. неформально было тесно связано с «Записками». Сменявшим
друг друга секретарям предлагалось взять на себя их публикацию почти как часть
служебных обязанностей, как заботу о побочном продукте деятельности
Королевского общества, назначение которого, как говорилось в «уведомлении», сообщать
о том, что «обычные заседания Общества продолжаются». В январском выпуске
1683 г. говорилось: «Хотя составление этих Записок не рассматривается как дело
Королевского Общества, они в определенном отношении один из его продуктов,
в задачи которого входят многие вещи: содержать сведения о великом
разнообразии полезных материй и служить удобным регистратором проводимых и
предполагаемых экспериментов, известия о которых, не будучи достаточными для
книги, без него были бы потеряны»... Более того, в 1690-е гг. Совет принял
решение о назначении в помощь секретарю 5 своих членов для оформления
«Записок». Таким образом, хотя «Записки» почти 90 лет публиковались как «частный
акт исполняющего обязанности секретаря» (так утверждало «уведомление»), не
было ничего особенно удивительного в том, что «Записки» обычно
рассматривались как официальный орган самого Королевского общества» [193, с. 185].
К числу достоинств «Философских записок», производных от тесной их связи
с Королевским обществом, Катцен как раз и относит высокую по тем временам
степень регулярности их появления: «Связь «Записок» с Королевским обществом
через секретаря позволяла им выходить часто и с примечательно равными
интервалами, поскольку собрания Общества и его корреспонденция, как и
корреспонденция его членов, обеспечивали постоянное действие источников материала для
публикации. Объясняя в 1666 г., что «Записки» — его частное предприятие, Ол-
денбург вместе с тем замечал: «Я не отрицаю, что, будучи членом Королевского
общества, иногда включаю ряд материалов, которые адресуются членам
Общества, полагая, что поскольку я осведомлен о них, то могу и упоминать о них без
ущерба для Общества и материалов. В 1699 г. Ганс Слоан так начинает
предисловие к 21 тому: «Предлагаемые статьи — малая часть из числа тех, которые
получены в прошлом году Королевским обществом и которые предлагаются
заинтересованными лицами для публикации» [193, с. 185].
Частота и регулярность публикации очевидны на периоде редактирования
«Записок» Олденбургом с марта 1665 г. до его смерти в 1677 г. «В течение этих
150 месяцев он опубликовал 136 выпусков. Публикация прерывалась только по
случаю эпидемии чумы в июле—октябре 1665 г. и по случаю ареста Олденбурга
между июнем и августом 1667 г. Ему в основном удавалось публиковать выпуск
542
M. К. Петров
каждый месяц, обычно в первый понедельник месяца» [193, с. 185]. После смерти
Олденбурга публикация «Записок» стала менее регулярной: «Они вовсе не
выходили с 1678 по 1682 гг. (на этом периоде Гук по требованию Совета дважды
публиковал в 1681 и в 1682 гг. «Философские сборники»), а затем был и еще один
перерыв с 1688 по 1690 г. Публикация восстановилась в 1691 г. и с тех пор
больше не прерывалась. До 1751 г. несколько выпусков за год или за несколько лет
объединялись в один том. С 1751 г. практика последовательной нумерации
выпусков с марта 1665 г. была прекращена, и «Записки» публиковались в полутомах
ежегодно до 1761 г., а затем обычно по два полутома в год до 1886 г. В 1887 г.
«Записки» были разделены на две серии: серия А для математических и
физических наук и серия В для биологических наук» [193, с. 186].
Все авторы сборника уделяют значительное внимание регулярности,
периодичности и точности датировки представленных в журнале материалов,
поскольку, по общему убеждению исследователей научной коммуникации, дата
опубликования отчета о событии есть вместе с тем и юридическое основание претензий
автора на приоритет. Хотя вопрос о периодичности и датировке в общем-то
относится к «серединной» тематике сборника, он, как признанная составляющая
набора переменных научности публикации, затрагивается и при обсуждении
проблем «начала». Катцен показывает, что хотя ошибки и несуразности встречаются
и в истории «Философских записок», проблема датировки присутствовала в
осознанной форме с начала их издания: «Для раннего периода времен Олденбурга
имеются основания полагать, что выпуски появлялись примерно в те даты,
которые указаны на титульном листе. Так, 6 выпуск датирован 6 ноября 1665 г. вышел
через три месяца после предыдущего, и Олденбург объяснял, что перерыв в
публикации произошел «по причине большой смертности в Лондоне». В другом
случае, когда журнал вышел в середине месяца, а не как всегда в первый
понедельник, причем вышел примерно через две недели после предыдущего, Олденбург,
опубликовавший в этом выпуске отчет Бойля, так объяснил причины спешки:
«Содержание само говорит о причине, по которой данный выпуск опубликован
в это необычное время месяца, хотя, вообще-то говоря, не лишним будет
заметить, что издатель этих книжек и сам не связывал себя с предустановленными
сроками их выпуска и не посягает на свободу других издателей менять их, если
того требует случай»... Этот пример свидетельствует о том, что Олденбург не
видел причин скрывать или замалчивать нерегулярности в действующей модели
публикации, сознательно подгонять даты титула к запланированным датам
выхода. Хотя мы и упоминали о ряде случаев, когда действительные даты публикации
оказывались более поздними, чем даты на титуле, изучение корреспонденции
Олденбурга свидетельствует о том, что отклонение действительных дат выхода от
запланированных находилось в пределах недели [193, с. 188].
Вместе с тем, те жесткие ограничения по листажу журналов и, соответственно,
представляемых авторами для публикации рукописей, которые сегодня привычно
ассоциируются и у редакторов и у потенциальных авторов с представлениями о
статье как форме первичной научной литературы, явно не были на начальном
этапе осознаны, как элементарный акт научного глоттогенеза предустановленной
длительности, как некий принцип и способ наращивания научных текстов,
связанный с формой представления материала в научной публикации. Авторы
сборника в основном ограничиваются констатациями относительного безразличия
журналов к объему публикуемых материалов. Катцен, например, приводя
довольно стройную сводную таблицу истории «Философских записок» за 1665—1750 гг.
[193, с. 186], тут же спешит оговориться: «Эти общие цифры часто скрывают
резкие отклонения от модели публикации и по частоте и по объему. Так, к примеру,
том 15 (1685 г.) содержал 12 выпусков, тогда как следующие тома 16 (1686) и
17 (1687 г.) содержали по 6 выпусков. Том 18 (1691—1693 гг.) включал только
один выпуск 1692 г. В томе 28 (1713 г.) вообще 1 выпуск. Таковы же отклонения
История европейской культурной традиции и ее проблемы 543
и по листажу — 250 стр. в томе 31 (1720 г.), а в томе 32 (1721 г.) — 469 стр. [193,
с. 186-187].
Это относительное безразличие к объему публикуемых материалов, хотя оно
и не выявляется авторами сборника как самостоятельная серьезная проблема
научной коммуникации, упорядоченности научного глоттогенеза, кумулятивного
наращивания научных текстов, связанная с оперативным оповещением о новом,
явочным и полуосознанным порядком входит в интегрирующую структуру
сборника по рыночным, человекоразмерным и дидактическим составляющим, как
проблема «серии» в научной публикации, которая в разных разворотах образует
эпицентр «серединной» проблематики сборника.
Переходя к этой проблематике, мы попытаемся чуть резче, чем это сделано у
авторов, прочертить структуру целостности этого эпицентра. Феномен серийности
всем нам хорошо известен по обычаю литературных журналов публиковать
романы, а особенно детективные истории с «продолжением в следующем номере», и
«коммерческий» смысл этого обычая, его нацеленность на удержание
подписчиков и сохранения интереса читателей к журналу, от которого можно ожидать и
интересного романа и захватывающего детектива, в общем-то не вызывает у нас
сомнений. Именно на эту сторону дела — захват аудитории, удержание, а если
возможно, и умножение числа регулярных подписчиков и, соответственно,
увеличения тиража научных журналов — прежде всего и обращают внимание авторы
сборника в анализе феномена серийности.
На втором, но в общем-то выявленном плане оказываются соображения че-
ловекоразмерности форм публикации вообще, включая и формы научной
публикации. Г.Пол, например, поясняя несостоятельность тяготения французов к
монографии-учебнику, мимоходом отмечает: «Даже самого пылкого студента может
обескуражить фолиант в 3000 стр. текста стоимостью в 70 франков. К этой группе
элитных текстов принадлежали «Курс физики» Жаме для «Эколь Политекник»,
пересмотренный и дополненный Бути. Сравнимыми монографиями были:
«Учебник экспериментальной физики» Вюльнера, «Курс практической физики» для
«Эколь Политекник» Верде, четырехтомный курс физики Виоле (1883—1892)...
Другая группа монографий, которыми студенты с удовольствием бы заменили
монографии первой, была, к сожалению, написана на слишком низком для
прохождения экзаменов уровне» [193, с. 125—126].
С опорой на этот человекоразмерный аспект феномена серийности, который
подчеркивает необходимость удерживать формы публикации в рамках
способности читательской аудитории прочитать их и освоить, в сборнике возникают
контуры тезаурусно-возрастной размерности форм публикации, которая явно
формируется уровнем школьной подготовки читателей к пониманию того, что
публикуется. В сборнике этот аспект представлен, как сопутствующий развитию
всеобщего и обязательного образования процесс роста и расслоения читательской
аудитории и соответственно книжного и журнального рынка.
А.Мидоуз, анализируя проблему доступа к научному знанию в Викторианский
период, сразу вынужден разделить ее состав на часть собственно научную, где
проблема решалась на специализированном дисциплинарном уровне появлением
дисциплинарных реферативных журналов РЖ, и на публичную составляющую,
где с середины XIX в. состав понятия «образованная публика», единый прежде
адрес всех форм публикации (носители Ти) начал получать тезаурусно-возрастную
и профессиональную структуру, вызывая появление детской, юношеской, рабочей
литературы, ориентированной на особые значения возрастных и групповых
тезаурусов. Мидоуз не рассматривает публично-популяризаторскую часть проблемы
доступа в непосредственной связи с реформами образования того времени, но он
все же упоминает и об этом аспекте: «Макмиллан предпринял издание серии
«Азы науки» под явным воздействием Акта об образовании 1870 г. Это
естественно — число школьников в 1870-е гг. быстро возрастало. Но первое
десятилетие действия Акта воздействовало на публикацию о науке в основном через рас-
544
M. К. Петров
тущий спрос на стандартные школьные учебники. Несмотря на известную
либерализацию требований к обучению, наука в общем-то играла незначительную
роль в программах школьного образования. В начальной школе того времени
сведения о науке могли быть представлены лишь как отдельные места в общих
текстах для чтения» [193, с. 56].
В целом, по Мидоузу, основным каналом распространения научных знаний
оставались литературные и общественно-политические журналы. Анализируя
представительство науки в этих журналах, Мидоуз замечает: «В общей периодике,
доступной образованному человеку того времени, научная тематика составляла
около 5%. Представительство может показаться скромным, но вряд ли оно
значительно отличалось от доли научной тематики в составе текстов современного
читателя. Мелочь, но любопытно: представительство технологической
проблематики на этом периоде было значительно ниже» [193, с. 54—55].
Опираясь на тексты журналов и на запросы в библиотеках, Мидоуз пишет:
«Наука, как материал для чтения, котировалась много ниже художественной
литературы как среди читателей среднего класса, так и среди рабочих. Спрос на
книги в публичных библиотеках 1870-х гг. показывает, что художественная
литература составляла более половины фиксируемых требований. Группа,
обозначенная «искусства и науки» шла на 4 месте, которому предшествовали группы:
«география», «история и биографии», «разное». То же ранжирование обнаруживается
в местных рабочих библиотеках. К примеру, типичная запись выданных за месяц
книг в рабочей библиотеке включает 760 запросов на художественную литературу
и 10 на «искусства и науки». Ранжирование запросов не совпадает ни с
распределением по тематическим рубрикам номенклатуры изданий, которые следуют в
порядке: 1) теория и книги на религиозные темы; 2) художественная литература;
3) искусства и науки; ни с составом фондов публичных и рабочих библиотек»
[193, с. 56].
Мидоуз в общем-то справедливо считает наиболее надежным ориентиром в
исследовании публично-популяризаторской линии проблемы доступа к научному
знанию периодику, которая находится под прямым давлением спроса
подписчиков и читателей: «В общем и целом листаж, отводимый науке в литературной
периодике, дает, возможно, столь же надежный способ оценки интереса к науке,
как и другие шкалы, которые могут быть предложены. Равным образом, когда мы
пытаемся выделить специфические области науки, вызывавшие наибольший
интерес в 1870-е гг., мы опять-таки можем обратиться к общей периодике. Здесь
первым удивительным обнаружением будет существенный крен в сторону
биологических наук, две трети всех статей о науке в «Контемпорари ревью» посвящены
этой науке, и то же самое обнаруживается в других журналах. Исключением из
правила был «Корнхилл Мэгезин», где около двух третей посвящалось
астрономии. Это отклонение объясняется практикой журналов иметь группу постоянных
авторов. В вопросах науки «Корнхилл» полагался на P.A.Проктора, астронома.
Авторы, впрочем, не ограничивались только своими журналами, и популярные
авторы типа Проктора сотрудничали в нескольких журналах. Анализ состава
авторских групп в ведущих журналах позволяет заключить, что сравнительно
небольшая и устойчивая группа авторов писала в 1870-е гт. подавляющее
большинство статей по науке. Кроме Проктора в группу, появляющуюся в разных
журналах, входили Т.Хаксли, У.Б.Карпентер, Г.Спенсер, СтДж.Майварт, Дж.Тиндалл,
Е.В.Тейлор, А.Р.Уоллас, Г.К.Бастиан, У.К.Клиффорд, Ф.Гальтон, ДжЛаббок. И
эти же имена появлялись постоянно и на обложках популярных книг о науке и
в объявлениях о публичных лекциях. Люди этой группы представляли из себя
элиту, формирующую у образованного читателя общее представление о науке»
[193, с. 56-57].
Разбираясь в составе этой группы, Мидоуз обнаруживает и общий для всех
аспектов проблемы доступа эпицентр интереса к науке — эволюцию: «Наш
список наиболее часто публикуемых авторов наталкивает на три вывода: во-первых,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 545
группа состоит в основном из биологов и антропологов; во-вторых, все члены
группы ученые-профессионалы, и в ряде случаев известны как в науке, так и в
научной политике; в-третьих, местом их деятельности (исследование,
преподавание, и то и другое) был в основном Лондон. Практически та же самая группа
вовлеченных в формирование представления о науке у образованного читателя в
1870-е гг., в значительной мере включала и членов той группы, которая в то
время задавала тон (через Британскую Ассоциацию по Продвижению Науки. —
М.П.) в формировании представлений о науке у членов самого научного
сообщества... Если продолжать членить темы статей о науке в периодике, чтобы найти
доминирующую тему биологических наук, куда включались тогда и психология и
антропология, то обнаружится, что такой доминирующей и интегрирующей темой
определенно была эволюция. Так, примерно треть всех статей, действительно
имеющих отношение к науке в «Контемпорари ревью» в 1870-е гг. посвящалась
тем или иным аспектам эволюции. Если учесть, что будучи органом англиканской
церкви «Контемпорари ревью» проявляло особую озабоченность к вопросам о
науке и религии, то станет совершенно ясно, что именно религиозные проблемы
концентрировали внимание образованного читателя 1870-х гг. на эволюции. Да и
сам акцент «Контемпорари ревью» на эволюции не отходил от общей линии,
которая прослеживалась и в других журналах» [193, с. 57—58].
Говоря о возрастной стратификации читательской аудитории как о
характерной черте второй половины XIX в., которая появилась вместе с распространением
всеобщего и обязательного образования и вызвала к жизни детскую, юношескую
и взрослую литературу, популяризирующую науку, Мидоуз подчеркивает особую
популярность у юного читателя научной фантастики, прежде всего работ Жюль
Верна: «Между 1870 и 1879 гг. он опубликовал 15 работ на французском, которые
тут же переводились на английский. Его работы были в высшей степени
дидактичны и насыщены, как правило, опытной наукой. Все согласны с тем, что Жюль
Верн приобщил к научному знанию большее число читателей, чем любой другой
автор 1870-х гг. Его работы появлялись в дешевых изданиях, продавались в
книжных киосках на железнодорожных вокзалах, издавались в серии «Бойз оун пейпа»,
которая уже в первые годы существования издавалась тиражом в 2 млн.» [193,
с. 60].
Судя по тому, что о роли споров вокруг различных аспектов эволюции пишут
другие авторы сборника, редакторская линия Мидоуза в истолковании этой
действительно ключевой темы, его тезис о том, что «именно религиозные проблемы
концентрировали внимание образованного читателя 1870-х гг. на эволюции»,
разделяется далеко не всеми. Позицию этих других авторов мы представили бы в
предельном огрублении примерно так. Действительно в 1860—1870-е гг. споры
вокруг биологических и антропологических аспектов эволюции были, так сказать,
«сквозной темой» и для популяризаторов науки и для самих ученых: одни и те
же имена встречаются как в группе признанных популяризаторов, так и в группе
активных участников дискуссии 1860—1870-х гг. [113], то есть одни и те же люди
формировали образ науки и у «образованной публики» и у членов самого
научного сообщества, но для научного сообщества это были последние попытки
сохранить целостный образ науки в условиях растущей дифференциации науки и
информационной изоляции научных дисциплин, то есть, если понятие
«образованная публика» во второй половине XIX в. становилось стратифицированным
по возрастному основанию (детская, юношеская, взрослая литература), что
правомерно подчеркивает Мидоуз, то и понятие «член научного сообщества»
становилось на этом же периоде дифференцированным по дисциплинарной
принадлежности: ученый «вообще» исчезал, становился для всех коллег по сообществу
другой дисциплинарной принадлежности просто членом «взрослого» страта
«образованной публики» во всех странах, где действовали законы о всеобщем и
обязательном школьном образовании, то есть во всей своей красе проявлялась наша
Ту ситуация.
546
M. К. Петров
В своем логическом завершении, в форме, скажем постулата: «В странах, где
действуют законы о всеобщем и обязательном среднем образовании, есть две
взрослые читательские аудитории — универсальная аудитория обладателей
аттестатов зрелости и специализированная по дисциплинарному признаку аудитория
членов научно-академического сообщества, причем члены второй аудитории,
обладая как и все взрослые аттестатами зрелости, являются и членами первой, ко
не наоборот», этот основной для структуры научной публикации смысл споров
биологов, антропологов-компаративистов, лингвистов, психологов, культурологов
второй половины XIX в. никем из авторов не формулируется, но в неявной
форме подкоркового организатора «серединной» проблематики сборника он
фиксируется в ряде статей на переходе из подкорковой данности в осознанное
состояние, определенно требует учета для понимания рассуждений авторов о природе
феномена серийности в научной коммуникации.
Р.Маклеод, например, на подходе к анализу «Научной серии» 1871—1910 гг.
пишет: «И в самой Европе, а в особой форме в Великобритании и в Америке
обнаруживалось множество поводов к расширению научной публикации.
«Светский» интерес к науке, который оставался характерной чертой ее восприятия до
1830-х гг., уступал теперь место «публичному» интересу, продукту огромной
грамотной аудитории, которая искала в науке и рационального развлечения и
полезного знания. В функции рынков научных книг на смену литературным и
научным обществам приходили школы, институты для рабочих, публичные
библиотеки, локальные кружки и клубы. Издатели, журналисты, популяризаторы
разных идей все более осваивались в новых возможностях. Лозунг
самосовершенствования через самообразование, который популяризировал Самюедь Смайлз и его
сторонники, способствовал созданию атмосферы, благоприятной для обсуждения
новых идей. К концу 1860-х гг. в разгар споров о дарвинизме, издатели
почувствовали уже под ногами почву для строительства предприятий на дебатах вокруг
концепции научного натурализма. К 1870-м гг. новую гегемонию в европейской
науке начала выстраивать вера в существование в природе глубинных принципов
униформизма. На протяжении двух следующих десятилетий эта гегемония
значительно окрепла и в генерализированной форме была представлена в
приверженности к принципам «эволюции», относительно которых предполагалось, что они
проявляют свою силу на всех уровнях через взаимодействия человека, природы и
общества» [193, с. 64].
Маклеод считает, что в становлении этой новой веры и соответствующей ей
гегемонии актуализма и униформизма активную роль играла именно публикация:
«Вретроспективном плане научная публикация, особенно интернациональная
научная публикация, была решающим фактором в установлении этой гегемонии и
в опосредовании ее связей с образованной читательской аудиторией. В более
конкретных, хотя и в более прозаических терминах это означает, что издатели
обнаружили в науке надежный товар, потребительская стоимость которого
усиливалась привлекательностью «светской» современности. С ростом нового знания
«специализация» представлялась неизбежной и бесконечно воспроизводимой. Но
в то же время равной по эффекту представлялась и противоположная сила,
толкавшая к «общим» и понятным для всех «учебникам». Не следовало пренебрегать
ни специализированным, ни универсализированным рынками. Говоря в терминах
коммерции, для многих издателей идеальным путем захвата «единства науки» и
восстановления «круга наук», не теряя при этом «специализированного» читателя,
представлялся путь через публикацию книг в форме «серий». Действительно,
формальные серии книг приобретали растущую популярность и в Европе и в
Америке. Шла ли речь о школьных учебниках, или о «началах», о стандартных текстах,
соответствующие варианты серий равно хорошо вписывались в деловые интересы
издателей, ученых и воспитателей. Для издателей, как форма коммерческой
активности, серия позволяла избегать риска: не отменяя однотомных изданий,
которые в Британии, например, составляли 90% издаваемой литературы, серия
История европейской культурной традиции и ее проблемы 547
могла рассчитывать на устойчивый институциональный спрос библиотек, для
ученых серия предоставляла возможность как более широкого редакторского
видения, так и представления науки в культурном отношении чем-то большим, чем
простая сумма фрагментирующихся частей. Для воспитателей и учителей серия
создавала видимость порядка, сообщала им чувство стабильности, когда
безостановочный прогресс научной мысли оставлял в покое лишь единичные убеждения
и верования» [193, с. 64].
Маклеод, таким образом, видит в феномене серии переходное и в общем-то
недолговечное явление второй половины XIX в., которое позволило как раз
силами средств научной коммуникации сохранить связь между
универсализированной и специализированной читательскими аудиториями и соответствующими
частями «книжного рынка» с опорой на то именно обстоятельство, что каждый член
научно-академического сообщества, коль скоро он в молодости прошел курс
всеобщей школьной подготовки, есть вместе с тем и член универсальной части
взрослой читательской аудитории, способный читать книги о целостном облике
науки, написанные для универсализированного книжного рынка и писать для
этого рынка книги о своей дисциплине, популяризировать свою дисциплину на
языке «образованной публики». Ти культура в этом процессе явно смещается к
Ту культуре.
На конкретном примере «Интернациональной научной серии», духовным
отцом которой был Герберт Спенсер, а живой душой предприятия Эдвард
Юманс, представитель американской издательской фирмы Эпплтон, Маклеод,
основываясь на письмах и дневниках Юманса, реконструирует процесс выработки
редакционно-издательской структуры, подчеркивая интегрирующий характер
обстоятельства принадлежности потенциальных авторов-ученых и к
специализированной и к универсальной частям образованной читательской аудитории: «В
частном и конфиденциальном письме английским авторам Юманс, призывая их
писать в понятной и доступной для широкого читателя форме, формулирует и
требования американского рынка: «В стране сейчас около 40 млн. жителей, которые
охотно читают и приобретают книги; образование распространяется и
совершенствуется, так что интерес к науке, особенно к ее прогрессивным аспектам
становится все более серьезным и всеобщим» [193, с. 68]. Этот принцип — писать в
форме, доступной для широкого читателя — прочерчивал линию согласования
интересов издателей, образованной публики и ученых, то есть приемлемый для
всех взрослых и доступный для всех тезаурус серии. Судя по приводимым
письмам и записям, наибольшие трудности возникали как раз в определении значения
этого тезауруса, который сегодня определен составом знаний выпускника
общеобразовательной школы Ту, а в то время оказывался существенно различным в
разных странах.
Общность языка и сравнительная близость программ школьного обучения в
Великобритании и США облегчали поиск общего для них тезауруса серии: «В
серии должна быть представлена в объеме тома каждая отдельная наука на
уровне, который предположительно необходим для обычного образованного человека,
и, будучи научно-состоятельным, изложение должно вестись на языке, понятном
народу» [193, с. 67]. Сравнительно просто тезаурусные требования были
согласованы и с учеными Франции, поскольку французское научное сообщество
рассматривало поражение 1871 г. как поражение системы народного образования во
Франции и в проекте «Интернациональной научной серии» видело прежде всего
базу для реформ школьного образования — надежный набор материалов для
разработки будущих школьных учебников. В ноябре 1871 г. Юманс пишет Спенсеру:
«С французами все в порядке, только что получил письменное уведомление
французского издателя, по которому он обязуется подготовить и издать десять книг
самых выдающихся ученых Франции» [193, с. 69].
Много хуже обстояло дело с немцами, у которых в те времена не было
серьезных оснований сомневаться в достоинствах сложившихся после реформ Гум-
35*
548
M. К. Петров
больдта и учреждения берлинского университета системы школьного и высшего
образования. Юманс пишет: «Немцы мне явно не по душе, уж очень надуты.
Только и слышишь: «Нам не нужны переводы», «Мы можем писать собственные
книги, талантов у нас в избытке». Таков лейтмотив переговоров с немцами. К
тому же я обнаружил, что немецкие ученые более подозрительно относятся к
«популяризации», чем ученые других стран. Они испытывают к ней острое
отвращение, как, впрочем, и к тем странам, которые терпят ее» [193, с. 69]. Выяснилось,
что немцы «вообще не жалуют «английскую философию» и, как это ни
удивительно, слыхом не слыхали о Спенсере» [193, с. 69]. Немцев Юмансу удалось
уговорить, спекулируя на «магическом воздействии на немцев имени Дарвина» [193,
с. 70].
По условиям соглашения между американскими, английскими, французскими
и немецкими издательскими фирмами в каждой стране-участнице создавались
«комитеты не менее, чем из трех ученых» для решения вопроса о том, какие
именно работы включать в серию. В Германии в такой комитет входили Рудольф
Вирхов, Якоб Розенталь, И.Р.Цермат, Оскар Шмидт. Позднее к договору
присоединились фирмы Италии (издательство Фрателли в Милане) и России
(издательство «Знание» в Петербурге). В «Интернациональной научной серии» было
выпущено 98 томов, написанных 85 авторами [193, с. 70—76].
Маклеод хотя и отмечает возможность использования томов серии для
подготовки школьных учебников (что и происходило, скажем, во Франции), проходит
все же мимо того более или менее самоочевидного факта, что серии этого
означали в общем-то культурную революцию, смену властей в системе образования
стран европейской культурной традиции, способ передачи явочным порядком
ответственности за все то, что происходит в каналах универсальной
(общеобразовательная школа) и специализированной (постшкольная подготовка) системы
воспитания входящих в жизнь поколений, научно-академическому сообществу,
которое этим способом начинает прямо или косвенно участвовать в подготовке всех
воспитателей для всей системы образования, но само находится на
самовоспитании у событий на переднем крае научного познания мира. Именно это
«серийное» окружение школьных учебников наукой позволило ввести в действие
дисциплинарные каналы движения знания от переднего края научного познания
мира в учебники общеобразовательной школы, сложило контур онаучивания
общества через изменение текстов школьных учебников, который мы наблюдаем
сегодня.
Из числа авторов сборника ближе других к осознанию этого важного для нас
факта подходит наш старый знакомый Д.Найт, и это естественно: в своих работах
[130; 131] Найт постоянно натыкается на этот акт смены властей в школьной и
постшкольной подготовке научных кадров, на попытки секуляризации научно-
академического сообщества, перехода его в самодовлеющее единство
самовоспроизводства познания и подготовки кадров для познания. В статье сборника он идет
несколько дальше, обращая внимание на изменения в понятии «образованная
публика», которое до середины XIX в. означало классическую подготовку
интеллектуалов по программам тривия и квадривия, а затем стало означать нечто
совсем иное.
Сегодня это «совсем иное», как мы уже видели, означает, что все взрослое
население развитых стран, какими бы видами деятельности ни занимались
отдельные индивиды и группы, включая и членов научно-академического
сообщества, суть отмеченная единым тезаурусом Ту «образованная публика», прошедшая
универсальную школьную подготовку по онаученным программам школы. Найт
и некоторые другие авторы сборника видят потерю Ти, общего для «образованной
публики» тривия и квадривия подготовительного факультета университета, но
как-то не усматривают в этом акта субституции, замены этого типа
«образованной публики» другим, причем всеобщим типом «образованной публики».
История европейской культурной традиции и ее проблемы 549
Изменения видны, но их показ ограничен у Найта только областью
специализации: «К середине XIX в. наука в Европе приняла черты деятельности и
профессии, узнаваемо схожие с современной наукой. Мир науки был много меньше,
но войти в него становилось возможным только после курса формальной
академической подготовки, завершенной исследованием под руководством
специалистов. В Британию эта формальная подготовка пришла с запозданием, среди
выдающихся ученых 1850 г. были Фарадей и Джоуль, не имевшие формального
образования. Но к концу XIX в. было уже необычным, хотя такое и встречалось, стать
видным ученым самоучкой или благодаря покровительству-наставничеству.
Формальное обучение означало, что научное сообщество разделяет интересы и стили
мышления, отличные от интересов и стилей мышления других групп, что и
вызвало к жизни феномен «двух культур» [193, с. 28].
Существенным признаком формальной подготовки Найт, естественно, считает
опору на учебник: «Ученым в их подготовке необходим учебник. Позднее,
выстраивая свои карьеры, они станут публиковать монографии, адресованные
коллегам и, вероятно, недоступные для понимания тем, кто вне узкого круга
экспертов в их области. Сами ученые и профессиональные популяризаторы науки в
книгах разного типа ищут путей объяснения открытий как широкой публике, так
и ученым, работающим в других дисциплинах, которые не могут уже быть в курсе
того, чем заняты их коллеги в других дисциплинах (наша «коридорная
ситуация». — МЛ). В более ранние времена все было иначе. Научные общества до
1850 г. не были специализированы, так что в первой половине XIX в. мужи науки
понимали, предполагалось, почти все, что появлялось в научных журналах и
монографиях. Эту эпоху всеобщего понимания мужами науки всего завершил,
пожалуй, Гельмгольц — медик по образованию, который вел в середине XIX в.
исследования по теоретической физике. Он конечно же гигант, но в
предшествующие годы такая широта интересов никого не удивляла» [193, с. 23].
Найт, и это справедливо, подчеркивает специализирующую роль учебника,
вызываемые учебниками, если их много, эффекты информационно-тезаурусной
изоляции дисциплин, разрывающие междисциплинарное научное общение и
создающие коридорные ситуации. Но в том факте, что на определенной
дисциплинарной дифференциации научного познания ученые разной дисциплинарной
принадлежности перестают понимать друг друга, Найт, хотя он и указывает
конкретные имена, завершающие эпоху взаимопонимания всех мужей науки, как-то
упускает из виду как раз феномен серийности в обучении — то обстоятельство,
что учебникам специализирующей научной подготовки, о которых он пишет, и
после 1850 г. предшествуют в личных историях «строителей научных карьер» —
новых поколений ученых — унифицирующие учебники школьной подготовки.
Что так было до 1850 г. Найт видит прекрасно, но вот после 1850 г. у него
возникает какой-то формальный вакуум, как если бы дети вместо 10—12 лет
взросления в движении по учебникам общеобразовательной школы сразу брались
после 1850 г. за освоение специализированных дисциплинарных учебников.
Найт даже как-то не очень связывает факт взаимопонимания членов научного
сообщества в целом с присутствием или отсутствием дисциплинарной предметной
дифференциации: «Мы говорим это не к тому, что до 1850 г. все научные книги
были элементарными, поверхностными или чисто описательными. Различные
науки становились точными по словарю, использованию математики или
символизма на разных периодах, и даже в одной и той же науке «великие труды» могли
различаться по доступности образованному читателю независимо от даты их
публикации. Изданная в 1543 г. работа Коперника «Об обращении небесных сфер»
была адресована математикам, ее автор использовал ту максиму, которую Платон,
говорят, начертал на входе в Академию: «Да не войдет сюда несведущий в
математике!». А вот «Диалоги» Галилея 1632 г., которые защищали теорию Коперника
и вызвали гнев инквизиции, были, совсем напротив, адресованы обычной
читательской аудитории интеллектуалов. К 1687 г., когда Ньютон опубликовал «На-
550
M. К. Петров
чала», должно было бы найтись немало читателей, охотно готовых
воспользоваться советом Ньютона коллеге нематематику опустить расчеты и прочитать только
введение и заключение. Но даже в астрономии XVIII и начала XIX вв. было
много доступного для человека, не знающего математики, и эта аудитория
включала всех тех, кто имел хорошее общее образование» [193, с. 23—24].
Эта оговорка насчет математики знаменательна в том отношении, что Найт,
похоже, не видит преемственной «серийной» связи между обязательными
программами подготовительных факультетов университетов, куда входили и
математика и астрономия, и программами «высоких факультетов» — теологического,
юридического и медицинского: «Медицина обрела системы профессиональной
подготовки и организации задолго до изобретения книгопечатания, и даже в
XIX в. медицинская степень была наилучшим дипломом для входа в большинство
наук. Однако и здесь многие медицинские книги не были настолько
специализированы, чтобы исключить понимание любым образованным человеком, а
некоторые книги, подобно «О строении человеческого тела» Везалия (1543 г.)
вызывали восхищение образованной публики прекрасным качеством иллюстраций.
Так Джон Каусин, епископ Дурама в 1660-е гг., имел экземпляр этой книги в
своей библиотеке, которая в основном состояла из книг гуманитарного и
теологического содержания. Работы по ботанике, зоологии и геологии почти все были
открыты для общего чтения на значительной части XIX в. И даже два первых
закона термодинамики были первоначально сформулированы в работах,
адресованных образованной публике — в «Размышлениях» Сади Карно в 1824 г. и в «О
сохранении силы» Гельмгольца в 1847 г.» [193, с. 24].
Найт видит, когда речь идет о событиях 1850-х гг., что в основе этого широко
представленного в литературе того времени права на обращение к образованной
публике лежала общность первичных курсов обучения авторов и этой публики:
«В ранних монографиях мы обнаруживаем значительно больше естественной
теологии и истории науки, чем можно было бы ожидать. Даже если мужи науки
получали профессиональную подготовку по медицине, они, выходцы из
обеспеченных семей, получали предварительно классическое образование, украшали свои
работы цитатами из греческих и латинских авторов. Те, кто подобно Дэви в
начале XIX в., пришли в науку самоучками, предпринимали отчаянные усилия
освоить классику, овладеть древними языками» [193, с. 24].
Не исключалось, по Найту, и возможность сознательных усилий авторов
удерживаться при объяснении научных материй в рамках взаимопонимания с
классически образованной публикой: «До XIX в. более широкому кругу читателей, чем
это принято в наше время, адресовались монографии высокого качества. Это
означает, что их полагалось писать в более привлекательном и свободном стиле,
чем тот, которым пишут сегодня. Автору приходилось заставать читателя врасплох
и убеждать его, что ему есть что сказать и сказать интересно. Автор обязан был,
видимо, больше концентрировать внимания на широте прикладных возможностей
открытия или теории, чем тот, кто пишет сегодня для профессионалов, интерес
и знания которых не вызывают сомнений» [193, с. 24]. Такое сознательное
использование моментов внезапности и занимательности Найт демонстрирует
различием способов защиты идей Коперника Галилеем и Кеплером: «Галилей просто
популяризировал свои открытия в «Диалогах» 1632 г., написанных на разговорном
языке, тогда как Кеплер пытался использовать научную фантастику. За несколько
лет до Галилея он написал «Сон», опубликованный в 1634 г. после долгого
хождения в рукописи уже после смерти Кеплера. В книге описывалось путешествие
на Луну с ее резкими колебаниями климата и укрепленными городами — так
Кеплер интерпретировал открытые телескопом Галилея кратеры. Подчеркивались
различия между сторонами Луны, на одной из которых ночью постоянно светила
Земля, а на другой ночью стояла сплошная тьма. Селениты называли свою Луну-
Землю «вертушкой», считая ее весьма впечатляющим небесным телом, которое
каждый день обращается вокруг собственной оси. Но основной целью книги
История европейской культурной традиции и ее проблемы 551
было показать, что селениты принимали как данность, будто они находятся в
покое, тогда как все остальное мироздание вращается вокруг них, то есть
поступали точно так же, как и необразованные люди на Земле, и показать, что стоит
лишь удалиться от Земли, чтобы увидеть ее вращение, как и полагал Коперник»
[193, с. 36-37].
Можно, понятно, спорить о предлагаемых Найтом границах эпохи единой
научной коммуникации на основе Ти, когда все интеллектуалы — теологи, юристы,
медики, люди свободных профессий — понимали друг друга и писали друг для
друга о самых сложных материях. В этом аспекте хронологической точности
досадным промахом Найта как автора сборника следовало бы признать то, что он
упустил из виду серьезное для других авторов сборника обстоятельство: работы
юриста Лайеля, теолога и медика Дарвина, по поводу которых шла дискуссия
1860—1870-х гг. относительно аспектов «эволюции», принадлежит к этой эпохе
всеобщего понимания, как и соответствующие работы активных участников
самой этой дискуссии: Т.Хаксли, епископа Уилберфорса, архиепископа Дублина
Р.Уэйтли, Дж.Лаббока, герцога Аджилла, Лайеля, Дарвина, Тейлора, Бюхнера,
Моргана, Фиска [113]. Но независимо от уточнений граница эта определенно
существовала и была пройдена в истории научной коммуникации: сегодня, во
всяком случае, у каждого члена научного дисциплинарного сообщества есть одна и
только одна понимающая его как ученого дисциплинарная аудитория В. которая
приобрела способность к взаимопониманию между своими членами именно
благодаря общности серии мегаактов речи, пройденных на периоде школьной и
студенческой подготовки. Ту сегодня как раз и есть то, что вкладывалось прежде в
понятие тезауруса «образованной публики». Новое, отличающее Ти от Ту в том,
что между тезаурусом Ту «образованной публики» и многочисленными
тезаурусами дисциплинарных областей коммуникации появились весьма существенные
расхождения, которых не было в эпоху единой научной системы коммуникации,
то есть сама проблема «популяризации» могла возникнуть только с появлением
этих расхождений. Вот Найт, скажем, пишет: «Наш обзор будет в основном
связан с относительно неспециализированной наукой, к которой не могут с
ощутимой пользой прилагаться современные различия между учебником, монографией
и популяризаторской работой» [193, с. 23]. В определенном отношении он прав:
нет смысла прилагать различения к пустому месту, точно так же, как, скажем,
биологические различения к Докембрию — не к чему прилагать. Не возник еще
носитель этих различений, в случае с историей научной коммуникации —
взрослеющий индивид, который в силу естественных законов роста и социальных
законов о всеобщем и обязательном образовании тотальным порядком, группами
В, без права на отсев совершает марш к Ту, а затем и во взрослое состояние,
оставляя глубокие следы-рубрики классификации популяризаторской литературы:
для дошкольного возраста, для учеников младших классов, для среднего возраста,
для учеников старших классов, для взрослых — обладателей Ту.
Но правота Найта сомнительна во множестве других отношений. Во-первых,
возрастная стратификация грамотной читательской аудитории существовала, надо
полагать, и во времена господства классического Ти, «либерального» в терминах
англичан, образования, основанного на «семи свободных искусствах», на тривии
и квадривии, то есть все, кто шел этим путем в науку интеллектуалов, приходили
в нее не сразу, а шли по упорядоченной серии-последовательности текстов, где,
скажем, грамматика Доната и Присциана явно предшествовала текстам
Макиавелли или Фомы. В этом смысле говорить о «появлении» детской или юношеской
литературы приходится осторожно. Во-вторых, что более существенно для самого
сборника, к акту смены властей в системе образования, ведущей подготовку
кадров для исследований, можно подходить двояко: двигаться путем Найта в
попытках уточнить границы исчезновения «образованной публики» Ти с классическим
образованием, либо же, коль скоро классическое образование Ти позволяло его
обладателю без дополнительной подготовки участвовать в научном познании,
552
М.К. Петров
проследить, как падает эта мера участия классически образованных любителей и
дилетантов в самих процессах научного познания. Этим вторым путем идет часть
авторов сборника. Они, как и Найт, не формулируют самого факта субституции
классического курса образования Ти «онаученным» Ту, не сравнивают составов
этих курсов и не анализируют следствий, которые вытекают из факта
субституции, но оказываются, на наш взгляд, в чем-то много ближе к пониманию
когнитивно-социальной стороны событий второй половины XIX в.
Любопытна в этом отношении статья Дж.Г.Шоу с несколько царапающим на-
уковедческое ухо названием «Модели журнальной публикации в научной
естественной истории с 1800 по 1939 гг.», где этот излишний вроде бы эпитет
«научный» перед названием уважаемой дисциплины вовсе не плеоназм, а обозначение
вполне конкретной арены когнитивно-социальных событий, на которой Шоу
пытается выявить историческую динамику соучастия в научном исследовании и в
научной публикации классически образованных любителей и возникающих
дисциплинарных профессионалов.
В классической схеме движения будущих интеллектуалов в науку и в другие
«свободные профессии» через тривий и квадривий подготовительного факультета
в специализирующие структуры «высоких факультетов» — богословского,
юридического и медицинского, — которые не очень четко прочерчивали основные
предметные или проблемные области переднего края научного познания того
времени, естественная история в общем-то тяготела к медицинскому факультету. И
если сами эти области входили с текстами подготовительного факультета
примерно в тот же тип отношений, который наблюдается сегодня между
исследовательскими группами Тг и направлениями и дисциплинами Тд, представленными,
скажем, в онаученном наборе школьных учебников Ту обособленными предметами
(родной язык, математика, биология, физика, химия...), то в рамках этих
«высоких» областей в парадисциплинарный период наблюдались свои наборы
специализаций, которые вели себя примерно тем же способом, каким сегодня ведут себя
в дисциплинах исследовательские группы и направления в своем стремлении
стать специальностями или дисциплинами с полным набором дисциплинарных
атрибутов: учебник, студенты, аспиранты, преподаватели, кафедра, журнал [142].
Шоу рассматривает эту парадисциплинарную ситуацию в естественной
истории, вычленяя соответствующие группы и направления движения в
специализацию по журналам: общая биология, энтомология, орнитология, естественная
история, геология, зоология, ботаника [193, с. 157—171]. Возникающая картина
напоминает современную в том отношении, что претенденты на дисциплинарный
статус оказываются на различных стадиях движения к профессионал изму-дисцип-
линарности, но типичная для современных условий последовательность стадий
типа: норма—сеть—сплоченная группа—специальность или дисциплина [142,
с. 17—35], предполагающая присутствие университетской кафедры как
инвариантной структуры ассоциации стадий в целостность, в парадисциплинарные
времена в значительно большей степени зависела от присутствия в процессе научных
обществ и их журналов. Существует, по мнению Шоу, множество путей
учреждения новых журналов, но с точки зрения участия в науке любителей, наиболее
интересен случай, когда журналы учреждаются научными обществами. В анализе
этого случая приходится учитывать различия и в организационной структуре и в
целях обществ: «Ранние общества создавались для ускорения прогресса своих
специализаций с помощью собраний, учреждения библиотек, иногда и музеев. В
наборе способов достижения их целей публикация была лишь одним из средств. В
других обществах публикация была основной функцией, а все другие
обслуживали ее или вообще отсутствовали. К примеру, если в редакционных статьях
журнала «Энтомологише Цайтшрифт» (1887 г.) слово «подписчик» заменить словом
«член общества», то такая субституция была бы правомерным, если и не очень
корректным описанием отношения читателей к журналу» [193, с. 150].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 553
Наиболее четко различия между научными обществами, их членами и их
журналами выявлялись на национальном уровне: «В Америке, например, термин
«общество» употреблялся для организационных структур типа «Общество геологов-
экономистов», учрежденного в 1921 г., членство в которых с самого начала
предполагало профессиональную квалификацию определенного стандарта. Этот тип
профессиональной ассоциации не обнаруживается в ранних геологических и
биологических обществах Европы: подобная ассоциация британских геологов
возникла только в 1970-е гг. Тем не менее аналогичные по смыслу нюансы
обнаруживались уже в XIX в. Учреждение «Ассоциации геологов» в 1858 г. («общества
взаимопомощи для начинающих») было свидетельством того, что слабо научно
подготовленные любители того времени находили «Геологическое общество
Лондона» неподходящим для себя местом приложения усилий... Если сравнить способы
учреждения журналов во Франции, Германии и Великобритании, то обнаружатся
видимые различия, хотя они в какой-то мере и затушеваны общими тенденциями
XIX в. В каждой из этих трех стран журналы учреждались как институтами, так
и индивидами. Наиболее распространенным способом в Германии XIX в. было
сотрудничество отдельных ученых и коммерсантов-издателей, тогда как в
Британии научная публикация находилась по большей части в руках обществ. Во
Франции ни один из этих вариантов не был доминирующим, хотя престижные
журналы в своем большинстве вели начало от Национального музея естественной
истории, иногда от одной из его лабораторий и много реже от отдельных
профессоров» [193, с. 151].
За этими различиями Шоу усматривает различие отношения к классически
образованному любителю-дилетанту: «В Германии научная публикация в
естественной истории примерно с середины XIX в. находилась под контролем ученых-
профессионалов. Возникающие журналы с самого начала ориентировались на
профессиональный рынок, и за исключением пограничных областей, таких как
энтомология, которые можно было бы определить как «любительские науки» и
«любительские журналы», профессиональные научные журналы вскоре
обособились от основного потока научной литературы. В противоположность этому в
Британии сильной оставалась любительская традиция, особенно в XIX в., а в ряде
областей естественной истории и в XX в. Причины этого различия связаны,
похоже, с мерой государственной поддержки науки. Во Франции, как и в Германии,
научные карьеры стали реальной возможностью в начале XIX в. Фундамент для
профессиональных карьер ученых в форме оплачиваемых должностей и
признанных стандартов подготовки во Франции был заложен в послереволюционный
период. Учрежденная в 1794 г. Эколь Политекник, Национальный музей
естественной истории, научные кафедры при Парижском университете предоставляли
преподавательские должности сравнительно высокого уровня, открывавшие для тех,
кто стремился к этому, определенные возможности вести исследования. В 1830—
1840-е гг. французскую науку настигла немецкая, ведущая начало от
исследований в немецких университетах. В Германии обнаруживается ряд научных центров
на базе университетов, поддерживаемых независимыми государствами, то есть
ситуация, которая совсем не походила на ситуацию во Франции, где культура и
научная жизнь были сосредоточены в Париже. Кафедры провинциальных
французских университетов, будучи изолированными, сравнительно слабо
финансировались. Во времена Второй Империи предпринимались попытки улучшить
положение — в Лилле, Лионе, Тулузе, а также и в Париже в 1875 г. были учреждены
Католические институты» [193, с. 151—152].
Эти меры по удержанию лидерства в науке не дали заметного результата:
«Немецкие университеты стали центрами исследований много раньше, чем это
произошло во Франции или Британии. Хорошо оснащенные университетские
институты под руководством профессоров давали широкие возможности вести
исследования, хотя структура научных карьер для значительной части XIX в. оставалась
тесно связанной с университетской системой. Во Франции университеты и
554
M. К. Петров
школы больше были вовлечены в подготовку кадров, в преподавание, хотя
докторская степень и здесь предполагала диссертацию, оригинальную работу. Во
Франции исследования велись в обособленных институтах, таких как Музей
естественной истории... В Британии XIX в. наблюдалась совершенно иная картина.
Государственная поддержка науки была ограниченной. Господствующая
идеология «самоучки», как и государственная политика невмешательства, означали, что
британские научные общества XIX в., за отсутствием других претендентов,
поневоле были патронами науки. Именно они создавали библиотеки и музеи. Многие
из них несли воспитательную функцию. Они и учреждали журналы.
Малочисленность профессиональных ученых с неизбежностью способствовала сохранению
весомой роли любителей в деятельности таких обществ. В самом деле, занятия
наукой рассматривались как разновидность деятельного досуга, а
специализированное образование, как и профессионализация вообще, котировались много
ниже классического «либерального» образования. Членство в обществе было не
только средством расширения интеллектуальных интересов, но иногда
рассматривалось и как способ повышения социального статуса. В Германии же общества
оформлялись позже и были в основном объединениями профессионалов со
значительно меньшим присутствием любительского контингента» [193, с. 152].
Шоу, как и Найт, рассматривает естественную историю в ее исходном
состоянии предметной области исследований выпускников медицинского факультета
как первичный предметный источник выборочной и разновременной институци-
онализации основного набора естественных дисциплин, которые по ходу инсти-
туционализации обретают профессиональные черты — обособленные формальные
курсы подготовки, фиксированные стандарты подготовленности, процедуры
признания и формальные сертификаты принадлежности к дисциплине (экзамены,
защиты, ученые степени, дипломы, лицензии). Но механизмы вычленения
дисциплин из естественной истории, как предметной области совместного владения
интеллектуалов медиков, да и интеллектуалов вообще, Найт и Шоу понимают
различно.
Для Найта это нечто похожее на процесс кристаллизации в перенасыщенном
растворе, тяготеющий к наличным и возникающим центрам кристаллизации и
позволяющий в силу этого дисциплинам менять связи родства, плутать в поисках
более подходящей материнской дисциплины и собственных отцов-основателей:
«Химики иногда оглядываются на Лавуазье, или на Бойля, Бургаве как на
основателей их науки. Но в действительности химия, особенно если рассматривать ее
по связи с металлургией, имеет гораздо большую глубину истории (сравнимую с
астрономией), да и история ее опубликованных монографий превышает четыре
столетия. Уже к XVIII в. минералогия стала организованной описательной
наукой, наиболее важной частью геологии, каковой минералогия и оставалась вплоть
до времени Кювье и возникновения палеонтологии. В 1814 г. Берцелиус
опубликовал свою «Минералогию» — попытку перевести область в статус науки
средствами приложения к ее изучению электрохимической теории и законов
химических соединений. Эта акция основывалась на допущении, что минералогия
является ветвью химии, поскольку минералы определены скорее в терминах
химического строения, чем в терминах внешних характеристик... Минералогия
переходила из геологии в химию в то самое время, когда палеонтология становилась
спорной пограничной областью между геологией и зоологией. Процесс миграции наук
из одного царства в другое сам по себе любопытен и может быть прослежен по
научным книгам-монографиям. Различные науки стали обретать определенность
формы с собственными журналами и обществами в период исследовательского
бума самого начала XIX в. Процессы взаимопроникновения, которые не
считались с предметными границами, такими, как границы между электричеством и
магнетизмом, химическим сродством и электричеством, вызывали великие
волнения. В установлении таких межпредметных мостов отличался Фарадей. В
ретроспективе он смотрится физиком, современники считали его химиком, который
История европейской культурной традиции и ее проблемы 555
при изучении электричества использовал ту же экспериментальную технику и те
же математические подходы, которыми он пользовался в химических анализах. К
науке Фарадей приобщился по классической работе Марсета «Беседы о химии»
(1806), а единственной его работой, опубликованной в 1827 г. в форме
монографии были «Химические процедуры» — блестящий учебник по технике
химического анализа, в котором ясно описывались способы проведения всех химических
процедур для времени до появления горелки Бунзена, конденсатора Либиха,
резиновых трубок и лакмусовых бумажек» [193, с. 39—40].
Эффект упорядочения дисциплинарной патристики Найт связывает с
корректирующим воздействием на ученых-профессионалов посмертных обычно
«собраний сочинений», основанных, как правило, на журнальных статьях, приведенных
в порядок по действующим дисциплинарным нормам редакторами таких изданий
[193, с. 40].
Для Шоу эта сторона дела, связанная с личными историями признанных
сегодня отцов-основателей дисциплин, остается за пределами анализа. Основное
внимание она обращает на институциональные характеристики областей,
получающих дисциплинарное оформление на базе предметной области естественной
истории, потенциал которой в этом отношении не исчерпан и сегодня: «Ведение
журнала требует значительных финансовых затрат. Чтобы выжить, журнал должен
либо привлекать значительное число подписчиков, либо полагаться на субсидии
определенных институтов и организаций, либо, в отдельных случаях,
существовать на энтузиазме индивидов. XIX в. и первая половина XX в. были свидетелями
значительных сдвигов не только в самих науках о жизни и о земле, но и в
развитии профессиональных карьер и постепенном отторжении от науки дилетанта-
любителя. Естественная история особенно интересна в том отношении, что хотя
общая тенденция к профессионализму может быть без труда показана и в ее
пределах, специализация в ее истории развивалась в разные периоды и различными
темпами. Некоторые специализации были, а частью и сегодня остаются
основанными на наблюдении дескриптивными науками, не требующими хорошо
оборудованных лабораторий или дорогостоящих приборов. В таких специализациях
может и сегодня процветать дилетант-любитель, а научный журнал —
рассчитывать на его поддержку. В других специализациях дилетант-любитель давно уже
исчез, и журнал здесь ограничен исключительно профессиональным рынком. Для
журналов этого последнего типа критическим фактором является емкость рынка,
тогда как для журналов первого типа первостепенным значением может обладать
соблюдение баланса между интересами любителей и профессионалов» [193,
с. 149-150].
Таким образом, для «серединной» проблематики сборника характерен
своеобразный эффект дополнительной несостоятельности, затрудняющий авторам
подход к опознанию и исследованию основного источника перемен — субституции
классического «либерального» образования онаученным школьным Ту или, как
англичане пишут в официальных документах, субституции тривия и квадривия
«мультивием» [146, с. 84]. Найт, фиксируя внимание на личных историях отцов
дисциплин — людей классически образованных, не видит движения в своем
понятии «образованная публика», коль скоро в личных историях это величина
постоянная. Не видит этого движения и Шоу: она, напротив, фиксирует внимание
на доступности ряда областей естественной истории XIX и XX вв. для
любителей-дилетантов и именно поэтому не видит, что понятие «дилетант» на этом
периоде проходит сдвиг значений от дилетанта с классическим образованием до
дилетанта с Ту, которому действительно нечего делать в современной науке, пока
он не пройдет положенные 7 лет студенческо-аспирантской подготовки. Вполне
возможно, что этот эффект дополнительной несостоятельности — продукт
текущего состояния дел в системе образования Великобритании, где далеко еще не
завершен переход на единую для развитых стран образовательную схему Ту. [146].
556
M. К. Петров
Третья группа проблем, которые непосредственно примыкают ко времени
текущих исследований и охватывают два-три последних десятилетия, хотя и вносят
известные уточнения в более или менее установившиеся наборы
наукометрических переменных, не содержат принципиально новых идей о структуре и роли
научной публикации в национальных Т-континуумах. Это в общем-то и понятно:
построенный по «долготному» принципу сборник вынужден в соответствии с
принципами актуализма и униформизма терять теоретическую составляющую по
мере приближения к «здесь и сейчас» исследований, принимать текущее
положение как данность, выдвигая на первый план статистику. Это и происходит.
Материалы сборника «Развитие научной публикации в Европе» дают нам
более ясное представление о том, как произошла смена властей в национальных
Т-континуумах стран европейской культурной традиции, как Ту начал вытеснять
Ти, как университетские и научные сообщества становились в XVIII—XIX вв.
едиными научно-академическими сообществами, монополистами де-факто в
подготовке учебников и учебных пособий для национальных систем образования,
какую роль в этом процессе сыграла интернациональная научная коммуникация
и особенно «серийность» — попытка перекрыть всю область научных
исследований текстами, описывающими весь наличный набор естественных наук —
«Интернациональная научная серия», предоставлявшая ученым европейских стран по
тому на науку. Попутно обнаружились и частные составляющие этого процесса,
связанные с началом бурной дисциплинарной дифференциации научного
познания в основном на базе проблемной области естественной истории, из которой
выделилось большинство новых дисциплин, а также и с постепенным
вытеснением Ти и замещением его Ту.
Поскольку как раз в Англии обнаружилось отставание от общеевропейского
графика сдвигов и перемен в области систем образования, а английская
парадигма представляется нам все-таки во многих отношениях определяющей
современное состояние систем образования национальных Т-континуумов развитых стран,
нам придется еще раз вернуться к этому периоду радикальных перестроек, но уже
под институциональным углом зрения, проследить перемены в Королевском
обществе города Лондона в XVIII в. и их связь с началом периода активного
вмешательства науки в академическую политику стран европейской культурной
традиции.
Королевское общество Лондона во второй половине XVIII
и в начале XIX в.
Королевское общество города Лондона, став во второй половине XVII в.
центром протяжения и объединения научных сил Англии и предложив в учреждении
«Философских записок» более или менее исправно работающий и сегодня
механизм интернациональной общенаучной коммуникации, в котором, как сообщает
Катцен [193, с. 184] принимался к публикации по сути дела только продукт
поиска выпускников медицинского факультета, поскольку работам теологов и
юристов путь на страницы «Философских записок» был заказан, по ряду объективных
обстоятельств и прежде всего в связи с реставрацией королевской власти, как
пишет Ч.Уэбстер [169], вынуждено было отказаться от той части программы
Великого восстановления, которая связывалась со всеобщим образованием и
реформой университетов в духе пансофистических идей Коменского.
Связи Королевского общества в Оксфордом и Кембриджем не прерывались и
не могли прерваться — подавляющее большинство членов Королевского общества
в XVII, XVIII, XIX вв. комплектовалось из выпускников этих английских
университетов с незначительной добавкой выпускников университетов Дублина и
Эдинбурга, но демаркационная линия, разделяющая области деятельности
Королевского общества и университетов выдерживалась на этом периоде довольно
строго — дела научные не смешивались с делами академическими, и соответствующие
История европейской культурной традиции и ее проблемы 557
линии преемственности научных и академических событий практически не
пересекались. И когда в начале XIX в. наука вернулась в университеты,
застрельщиком этого предприятия, которое завершилось в Англии, как и в Германии и
Франции, слиянием научного и академического сообществ в единое
научно-академическое сообщество, стало не Королевское общество Лондона, а избегающая
Лондона и совершавшая ежегодные вояжи по всей Британии и Британской
империи бродячая «перипатетическая» Британская Ассоциация для Продвижения
Науки. Этот акт возврата английской науки в английские университеты имел
длительный инкубационный период, основной состав проблем которого
обстоятельно вскрывает Д.Ф.Миллер в работе «Между враждующими лагерями: сэр Гемфри
Дэви, президент Королевского общества Лондона в 1820—1827 гг.» [199].
Карьера Гемфри Дэви (1778—1829) — распространенный миф британской
науки XVIII в. Его взлет от корнуолского неясного происхождения до всемирно
известного химика, до популярного лондонского ученого, его посвящение в
рыцарское достоинство и, наконец, президентство в Королевском обществе давали
достаточно материала для статей Смайлза о британском обществе, как открытом
для всяческих талантов. Но описания карьеры Дэви не без неясностей. Когда
Дэви вошел уже в возраст, стал обретать статус и богатство, его преданность
исследованиям, вытекающая из достоинств ранних химических открытий, стала
заметно исчезать. «Новый» Дэви возник после Ватерлоо — Дэви, которого уважали
многие деятели столичной науки, но также и широко критиковали. Его избрание
в президенты Королевского общества было отмечено колебаниями, и еще
большие колебания возникали по ходу президентства. Основная его проблема как
лидера состояла в том, что он не смог примирить враждующие группировки
научного сообщества ко времени отставки в 1827 г. Дэви считали несостоявшимся
лидером, и в лучшем случае видели в нем жертву борьбы за власть в среде
столичных ученых, где его не могли спасти ни блестящая карьера, ни выдающиеся
научные способности.
Предмет анализа Миллера — перипетии этой борьбы и место в этой борьбе
Дэви [199, с. 1].
В основу анализа Миллером положены материалы Стимсона, Лайонса, Тоддта
и других авторов, исследующих историю президентства Дэви и показывающих
важность этого периода для понимания истории Королевского общества в целом.
Но к их анализам Миллер предъявляет ряд претензий: «Во-первых, все они в той
или иной степени страдают от отсутствия единства в понимании
институционального эквивалента понятию «великий человек» в истории, трактуют историю
Королевского общества с точки зрения перспектив исполнительного действия.
Самая последняя манифестация такого подхода — оценка Джун Фуллмер Дэви
как реформатора. Она, к примеру, видит в Дэви искателя способов
«переориентировать Королевское общество и избавиться от несовершенств, накопленных во
времена правления сэра Джозефа Бэнкса». Во-вторых, предварительные отчеты,
поскольку они рассматривают историю Королевского общества в более широком
контексте, употребляют упрощенный категориальный аппарат для описания
контекстов — битвы между «научными» и «ненаучными» элементами или борьбы
между «любителями» и «профессионалами». Неадекватность подобных терминов
для описания тонких изменений, которые имели место в текущих значениях
терминов «наука» и «научная карьера» в Британии начала XIX в. сегодня признается
всеми, но это обстоятельство, похоже, лишь частично признается и осознано
историками институтов» [199, с. 2].
Миллер идет другим путем: «Я принимаю подход, который иногда называют
«культурной политикой научных организаций». Ключевым элементом этого
подхода является разграничение культурной базы враждующих групповых интересов
в Королевском обществе, а затем уже объяснение расхождения идей
институционального обустройства в терминах конфликта культур. Сделать это — значит
изучить социальные предпосылки, научные и интеллектуальные предрасположе-
558
М.К. Петров
ния и институциональные привязанности различных групп. Важным следствием
является то, что Королевское общество не может изучаться изолированно,
должно быть локализовано в более широком контексте столичных научных
институтов. Описывая культурную связь, я показываю, с одной стороны, «ученую
империю Бэнкса» и схождение различных оппозиционных групп в союз
реформаторов, — с другой, хотя и то и другое интегрировано в свое особое целое. Истинная
природа реформистского движения в Королевском обществе оказывается
смазанной, если мы сводим ее до одномерной борьбы между профессионалами и
любителями или борьбы мужей науки против мужей ненауки. Это справедливо и
для того случая, когда мы представляем себе борьбу как спокойную и
хладнокровную дискуссию о принципах научной организации. Важность президентства
Дэви следует искать не в героической попытке «сгладить неравенства»,
накопленные в эру Бэнкса, а в том, какие противодействия вызывали переходные фигуры
и конфликты, говорящие нам о культурной политике Королевского общества в
конце ганноверского периода» [199, с. 2—3].
Миллер начинает с описания наследия эры Бэнкса: «Порядок, с которым
столкнулся Дэви при восхождении к должности президента Королевского
общества, в значительной части был определен долговременным правлением эго
предшественника, сэра Джозефа Бэнкса. Смерть Бэнкса в июне 1820 г. означала
конец его эры в истории британской науки. Со времени избрания членом
Общества в 1778 г. Бэнкс с возрастающей энергией продвигал то, в чем он видел цель
Общества. Он настойчиво добивался поддержки среди богатейших и власть
имущих слоев британского общества. Собственное богатство Бэнкса, обеспеченность
его социального статуса как члена третьего поколения крупных землевладельцев,
научная известность, обретенная в путешествиях, и связи, которые он
поддерживал с Королевским двором и с ведущими политиками — все служило единой
цели... Главным интересом Бэнкса, который он разделял со многими
аристократами и джентри составляла естественная история, особенно ботаника,
овощеводство и сельское хозяйство. Неудовлетворенность положением дел в академической
естественной истории была одним из мотивов в числе тех, которые обеспечили
его избрание президентом Королевского общества. Так, видный натуралист Томас
Пеннант, поздравляя Бэнкса с избранием, сказал, что он хотел бы надеяться, что
«будущая продукция Общества будет содержать нечто подобное естественной
истории». Бэнкс действительно различными способами продвигал исследования по
естественной истории. Используя власть президента Королевского общества как
директора Королевских садов в Кью и советника правительства, Адмиралтейства
и Ист-индской компании, Бэнкс искусно связывал продвижение естественной
истории с имперскими и коммерческими соображениями. Собиратели коллекций
были разосланы по многим странам мира, к примеру, в Калькутту и в Ст.
Винсент. По ходу этого роста фактологической базы для исследовании по
естественной истории закладывалась и база двух специальных обществ, различными
способами участвовавших в формировании предмета: в 1788 г. было учреждено Лин-
неевское Общество, основателями которого стали Джеймс Эдвард Смит, Самюэль
Гудинаф, Томас Маршам и Томас Пеннант, занимавшиеся в основном
таксономическими исследованиями растений, животных и минералов; учрежденное в
1804 г. Общество садоводов служило эстетике и практическим интересам более
широкого сообщества любителей садов, насаждений и теплиц. Оба общества во
многом зависели от политических связей Бэнкса и от его финансовой поддержки.
А в общем плане они опирались на поддержку аристократии и землевладельцев-
джентри, которые проявляли практический интерес к царству растений» [199,
с. 3-4].
Одни и те же имена, включая и Бэнкса, были вовлечены также в программы
улучшения сельского хозяйства или как любители или под руководством Совета
по сельскому хозяйству, основанному в 1793 г. и Королевского Института,
основанного в 1799 г. Совет по сельскому хозяйству был явно гибридной структурой:
История европейской культурной традиции и ее проблемы 559
его квазиофициальный статус являлся выражением конфликтующих интересов и
целей среди аграриев-реформаторов и политиков, вовлеченных в эту
деятельность. К великому разочарованию его пропагандиста и энтузиаста сэра Джона
Синклера Совет принял форму консультативной группы. Вместо того, чтобы
стать официальным центром надзора, источником статистической информации и
планирования, Совет все более и более посвящал свою деятельность
рассмотрению ограниченных проектов улучшений. В этом отношении Совет был тесно
связан с Королевским Институтом, который в начальные годы находился под
влиянием аграриев-реформаторов, видевших в науке, особенно в химии и
минералогии, мощный технологический агент изменений.
Хотя сам Бэнкс не был отмечен особой культурой, он время от времени
проявлял активность как антикварий. В 1770-е гг., когда устанавливалась его высокая
репутация среди ученых столицы, Бэнкс служил секретарем Общества дилетантов.
Эта служба была в те времена важна для любого, кто метил на пост президента
Королевского общества, поскольку антиквары и дилетанты оставались
влиятельной составляющей Общества в течение XVIII и XIX вв. Их «благородный
кабинет», а также Британский Музей пользовались услугами Бэнкса, имея его членом
Совета опекунов. Умножение и обработка своих коллекций по естественной
истории и антиквариату были постоянной заботой Бэнкса. Через доступ к
экспонатам Музея и назначение его служащих Бэнкс выявлял свою власть.
Необходимо подчеркнуть, что как президент Королевского общества Бэнкс
направлял усилия на культивацию и сохранение связей между Королевским
обществом и антикварами, естественными историками и аграриями. Он делал это,
обеспечивая места в Совете Королевского общества и стимулируя развитие их
специализированных институтов. Этим способом, в основе которого лежала
постоянная поддержка опорных институтов, «создавалась, как я ее называю, ученая
империя Бэнкса. Если судить по содержанию «Философских записок» того
времени, это построение может показаться незначительным и шатким. Но
фактически это были мощные политические группировки, на которых держалась
жизнеспособность бэнксонианского режима вплоть до 1820 г., когда ему пришел конец»
[199, с. 5].
В ученой империи Бэнкса была и своя оппозиция: «Еще до 1820 г.
существовали группировки в столичной науке, которые находили бэнксонианский режим
либо нерелевантным, либо несовместимым с делом науки и социальными
стремлениями. Одним из свидетельств этому было возникновение других центров
науки, служивших интересам возникающего среднего класса. В числе таких
центров были: Городское философское общество, Институт Рассела и Институт Сер-
рея. Но эти организации не бросали прямого вызова ученой империи Бэнкса.
Они привлекали аудиторию, которая была безразлична для основных крупных
обществ и служили не как альтернативы основным научным обществам, а как
ступени к ним. Вызов империи Бэнкса бросался не ими, а группами, которые
считали, что их научные интересы хотя в теории и поддерживаются Королевским
обществом и другими основными институтами, на практике же ими
пренебрегают. Три группы этого рода самоочевидны: геологи, которые основали
Геологическое общество и боролись за его независимость; практикующие математики
столицы, которые были вовлечены в бесконечные тяжбы с бэнксонианским
режимом; кембриджская сеть, которая считала себя инициатором возрождения
математики и точной физической науки в Британии. Математики и физики
институционализировались в акте учреждения Астрономического общества в начале
1820 г., где они играли консолидирующую роль. Я принимаю эти три группы в
качестве источников реформистского движения 1820-х гг. Они, с одной стороны,
и благоверные прислужники режима Бэнкса — с другой, и были теми
враждебными лагерями, которые должен был возглавить Дэви после избрания
президентом Королевского общества» [199, с. 5].
560
M. К. Петров
13 ноября 1807 г. в таверне Фримасона было учреждено Геологическое
общество. Джорж Гринич был избран первым его президентом. Чарлз Гревилл был
первым патроном Общества, и число его членов быстро увеличивалось. Те, кто
вступали в Общество, были по интересам химиками и минералогами и обладали
развитой склонностью к полевым исследованиям (Уильям Аллен, Хемфри Дэви,
Чарлз Хэтчет, Уильям Филлипс, Артур Эйкин), а также богатыми
коллекционерами минералов типа Бэнкса, Гревилла, Джона Хоккинса, сэра Джона Ст.Обина
и сэра Абрагама Юма и вдобавок к этому были многочисленные шотландские
представители от Джеймса Холла до Леонарда Хорнера и некоторые воспитанные
в Эдинбурге медики.
Хотя структура нового Общества не была формальной и рубрики членства не
были строго очерчены, расхождения в социальном и интеллектуальном строении
групп не мешали им сосуществовать в рамках целого, но по мере того, как
Общество стало обращать внимание на содержание исследований и развертывать
формализмы независимого сообщества специалистов и приводить своих членов к
соблюдению этих формализмов: к правилу публиковаться в «Философских
записках», к определению программ исследовании, различие групп становилось явью.
Гринич и Хорнер возглавили партию независимых, Бэнкс и Гревилл приняли
взгляд, по которому новое Общество должно было оставаться сравнительно
неформальным и быть объектом контроля со стороны Королевского общества.
Главной областью разногласий была проблема членства. Ось Бэнкс-Гревилл
представила план, по которому ординарных членов предполагалось разделить на
классы. Членство в Королевском обществе квалифицировалось бы как
принадлежность к первому классу членов Геологического общества. Этот класс обладал бы
правом исключительного контроля во всех делах новых обществ, включая
вопросы членства и определения законов жизни. Те, кто не был членом Королевского
общества, рассматривались бы только как «ассистенты» Геологического общества.
Они могли бы принимать участие в собраниях, но не имели бы права участвовать
в выборах и исполнять официальные должности. Гринич решительно возражал
против этого деления членов на два класса, утверждая, что он «против любой
аристократии, кроме той, которая основана на способностях» [199, с. 6]. Такое
деление членов сделало бы сложным для Гринича проведение его планов через
Общество. Другая область разногласий касалась публикаций. Бэнкс выступил
против идеи Гринича иметь отдельный орган публикаций. Гринич и Хорнер
готовы были пойти на компромисс до первого отказа Королевского общества
публиковать материалы Геологического общества. Но дальше они не шли, утверждая
право Общества публиковать геологические статьи, которые не найдут места на
страницах «Философских записок».
После нескольких месяцев бесплодных переговоров Чарлз Гревилл разработал
формальный договор, оговаривающий условия существования Геологического
общества. Главное было в том, что Геологическое общество является «дочерним
обществом без собственных финансов» [199, с. 6], то есть обществом типа недавно
организованного Общества органической химии. Голосование этого предложения
на собрании 1 марта 1809 г. выявило, что партия Гринича-Хорнера сумеет
отвязаться от предложений Бэнкса, Гревилла и их сторонников — предложение было
отклонено. Это вызвало несколько отставок, но партия независимых твердо
стояла на своем. Леонард Хорнер писал Гриничу о своих контактах с почетными
членами во время поездки в Эдинбург: «Счастлив был обнаружить, что среди всех
уважаемых членов, с которыми мне довелось говорить, предпринятая
несколькими видными членами Королевского общества ввести момент интриги в общество
мужей, объединившихся ради продвижения науки, была встречена с тем же
чувством недовольства, что и на последнем собрании, как она того и заслуживала.
Я считаю характер сэра Джозефа Бэнкса схожим с характером царедворца и
многие здесь разделяют это впечатление. Я совершенно удовлетворен тем, что этот
История европейской культурной традиции и ее проблемы 561
наш выбор будет во многом способствовать становлению нашего Общества на
твердые ноги» [199, с. 7].
Что было за этими неурядицами между двумя Обществами? Почему Бэнкс,
Гревилл и их друзья не воспринимали Геологическое общество как
самостоятельную публикующую организацию, если они в свое время признали Линнеевское
Общество, а затем и Общество садоводов как независимые? Тот факт, что сам
Бэнкс не был инициатором организационной схемы Геологического общества и
что Бэнкс мог считать недостатком различия между проектами этих обществ,
играло возможно роль исходной искры раздора. Но под этими протокольными
делами обнаруживается и более глубокий конфликт.
Геологическая интеллигенция, которая возглавляла новое Общество в его
начальные годы, формировала различимое меньшинство в столичной научной
культуре. Это меньшинство отличалось приверженностью к «текущему радикализму,
идеалистической серьезностью, энтузиазмом и активностью» [199, с. 7].
Некоторые были религиозными отступниками, полагали, что через промышленность и
приверженность к делу, они смогут компенсировать ограничения, наложенные на
них политическим и религиозным порядком. Но те же самые радикальные
поветрия воодушевляли и тех, кто не имел этих ограничений, но обнаруживал
«идеалистические наклонности и отвергал аристократические предрассудки
общества XVIII в.» [199, с. 7]. В этом смысле Геологическое общество было
проявлением гордого и независимого научного самосознания, движением средних
классов промышленников и коммерсантов столицы. Их борьба за независимость была
коллективным утверждением автономии, сопротивлением растворению в высшей
степени аристократичном режиме Бэнкса.
Но столь же важным для начала XIX в. был и вопрос о том, чем должна была
стать «геология». Рой Портер характеризует любительскую традицию XVIII в. как
доминирующее представление в науке о земле, тесно связанное с
собственностью — «землевладельцы сформировали научный предмет в соответствии с
собственным культурным и экономическим интересом к земле» [199, с. 7].
Бэнкс и Чарлз Гревилл с их кругом сторонников имели два главных интереса
в науке о земле. Во-первых, это было коллекционирование минералов.
Во-вторых, это был практический интерес класса землевладельцев к возможностям
геологии, касающимся улучшений в вопросах горного дела, рытья каналов,
строительства дренажных систем, доступа к потенциалу плодородия земли. Некоторые
мужи науки, опытные в минералогии, непосредственно были заинтересованы в
продолжении исследований. Так, Уильям Бабингтон вел работу по упорядочению
коллекций сэра Джона Ст.Обина. И для тех же целей использовался французский
роялист, эмигрант граф Жак Луи Бонон Ст.Олвином, сэром Абрагамом Юмом и
Чарлзом Гревиллом. Как попытки приспособить геологию и минералогию к
практическим улучшениям мы можем рассматривать деятельность Британского
Минералогического общества, усилия Гревилла, Юма и Ст.Обина пополнять
минералогическую коллекцию Королевского Института, а также и работу Хемфри
Дэви по геологии для Королевского Института и Совета по сельскому хозяйству.
Это усиление интереса к геологии выразилось в самом учреждении
Геологического общества. Представляется вероятным, что именно этого практического
взгляда на геологию должно было придерживаться Королевское общество, и
почти наверняка этого взгляда придерживался сам Джозеф Бэнкс.
Геологическое общество возникало из диспутов, подогреваемых этими
конфликтующими социальными и интеллектуальными интересами, и его
возникновение было неожиданным для Бэнкса и его круга. Их надежды состояли в том,
что Геологическое общество будет функционировать как сравнительно
неформальное орудие спокойных обсуждений минералогических и геологических
проблем, как центр дескриптивной минералогии, в котором были заинтересованы
аристократы-коллекционеры, как институт полезной информации. Короче
говоря, предполагалось, что Общество будет вовлечено примерно в тот же круг дея-
36 M К. Петров
562
M. К. Петров
тельности по отношению к царству минералов, что и Общество садоводов по
отношению к царству культурных растений. А вместо этого Геологическое общество
и на первых собраниях и в первых публикациях в «Философских записках» стало
демонстрировать дух независимости геологов-интеллектуалов, увлеклось
геологическими полевыми исследованиями-репортажами различной ценности в терминах
довольно несовершенной методологии. Так или иначе, но к 1820 г. Геологическое
общество стало активным центром выдающихся дисциплинарных работ по
геологии. Во время взросления Геологического общества не прекращалась его забота
о защите геологической интеллигенции от дилетантизма и узкого практицизма
науки режима Бэнкса. Так, в 1816 г., Леонард Хорнер писал Александру Марсе
из Эдинбурга, требуя от своего друга по возможности быстро собрать Совет: «Вы
из тех выдающихся борцов за свободы, которые не должны проявлять слабости,
и ради бога не позволяйте Совету Геологического общества опускаться до
выслушивания Берка Ламберта — виноградаря, лорда Мортона и других подобных
«ученых» [199, с. 9].
Гнев Хорнера и насмешки над Ламбертом, Рейпером и Мортоном должны
рассматриваться как сопротивление всему тому, что они представляли как тип в
столичном научном сообществе. Эймлер Берк Ламберт был здоровяк из Линне-
евского общества и Общества садоводов, он был также и активным антикварием.
Его интерес к геологии ограничивался, похоже, интересом к
коллекционированию минералов. Метью Рейпер был антикваром, членом Королевского Института
и Общества садоводов. Он состоял в Совете Королевского общества в 1812 г.
Георг Дуглас, граф Мортон был одним из тех амбиционных аристократов,
которые блистали при режиме Бэнкса. Важная фигура в Королевском Институте, в
Совете по сельскому хозяйству и в Обществе Искусств, он был также членом
Общества антиквариев. Граф был членом Совета Королевского общества
продолжительное время с 1800 до 1818 г., несколько лет был вице-президентом. К нему
относились с почтением, видя в нем одного из кандидатов на место Джозефа
Бэнкса — президента Королевского общества. В свете этих фактов становится
ясным, что страхи Хорнера состояли в том, что бездеятельность Геологического
общества может активизировать дилетантов из числа джентри и аристократии,
толкнуть их на крайне нежелательные выходки в самом Совете Общества. Борьба
Геологического общества за собственную независимость не была забыта: на
долгие годы она оставила непроизвольное чувство подозрительности, связанное с
временами гонений в эпоху бэнксонианского режима как у лидеров Общества,
так и у рядовых его членов.
Другой сильной партизанской группой, с которой Дэви пришлось иметь дело
во время президентства, были математики и астрономы. Их оппозиция к ведению
дел Бэнксом коренилась, во-первых, в длительной взаимной подозрительности
между Бэнксом и группой математиков-практиков, карьеры которых были
связаны с Королевской военной академией и Королевским военным колледжем и, во-
вторых, в неприязни со стороны кембриджской группы, в той кампании, которая
велась группой Аналитического общества за оживление британской математики,
астрономии и точной науки вообще.
Математики-практики долгое время были в натянутых отношениях с бэнксо-
нианским режимом. Хотя их математические, астрономические и даже
антикварные исследования позволяли некоторым практикам вступать в Королевское
общество и входить в его круги, сильный аристократический дух и увлечение
естественной историей столичных институтов означали, что большая часть практиков
действовала в своего рода «математическом подполье». В этом своем качестве
практики обретали черты гонимого меньшинства, которое систематически
исключалось из участия в органах научной власти. Этот образ угнетенного
самосознания усиливался контроверзией в Королевском обществе по поводу снятия Чарлза
Хаттона с поста Секретаря по иностранным связям в 1783—1784 гг., что вызвало
выход группы математиков-смутьянов из Королевского общества. Это не было,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 563
как утверждают некоторые историки, быстро забывшимся эпизодом. Огорчения
1784 г. долгое время продолжали формировать отношения практиков и
Королевского общества друг к другу.
Хаттон добился некоторого успеха в Королевском обществе в 1770 г. Его
статья 1778 г. о силе взрывающегося пороха послужила поводом для награждения
его медалью Коупли Королевского общества. Хаттон был назначен Секретарем
по внешним связям Общества в 1779 г. и удерживался на этом посту до 1783 г.,
когда он был изгнан Бэнксом — новым президентом и его сторонниками. Члены
Королевского общества быстро поляризировались во враждебные лагеря. Те, кто
поддерживал Бэнкса — по одну сторону, а те, кто за Хаттона — по другую. После
продолжительного периода язвительных дебатов и взаимных обвинений
некоторое число «математиков-зачинщиков» ушло из Общества. Хотя отступники после
этого редко упоминались публично, для «математического подполья» и для
многих математиков и астрономов времен бэнксонианского правления они стали
фигурами фольклора. Линия расхождений была определена тогда, когда Бэнкс, по
выражению Хаттона, сделал выбор, «предпочел линнеевский круг дисциплин
ньютонианскому» [199, с. 11]. После этих событий в 1790-е гг. память о
дискуссиях оставалась свежей, а взаимная антипатия сильной. Сюда же следует отнести
и напряженные отношения между Бэнксом и королевским астрономом Невиллом
Масклейном, который был сторонником Хаттона, по вопросу о ведении дел в
Королевской обсерватории Гринича и в Совете меридианов.
Другой контроверзией, раскрывающей состав антагонизма между
математиками-практиками и режимом Бэнкса, была начавшаяся в 1812 г. статьей в
«Философских записках» история с испанским навигатором Иосифом Родригецом,
который опубликовал свои «Наблюдения об измерении трех степеней меридианов,
проведенных в Англии подполковником Уильямом Маджем». Родригец заявлял,
что очевидная аномалия в измерениях Маджа возникала из-за ошибок в
астрономических наблюдениях, которые были частью техники измерения градуса
меридиана. Эта статья вызвала бурную контраверзию, которая показала, что под
сомнение поставлено много больше, чем техника наблюдений. Олинф Грегори,
протеже Хаттона и его последователь в должности профессора математики
Королевской военной академии быстро поднялся на защиту Маджа и его работы.
Грегори также язвительно предполагал, что Родригец стал пешкой Бэнкса в
попытках дискредитировать Маджа и работу Тригонометрической Службы. Грегори
нападал на Совет Королевского общества за неспособность воспрепятствовать
публикации статьи Родригеца с ее «очевидным намерением принизить достоинства
работы подполковника Маджа» [199, с. 11]. Отсюда он шел к более широкому
вопросу о математической компетенции Совета, упоминая случаи с
математическими статьями, отвергнутыми по его решению. Послание Грегори ученому миру
было ясным: Королевское общество в руках президента и Совета, математические
суждения которых сомнительны, а деятельность дискриминационна и направлена
против математиков-практиков и их последователей.
Неудивительно поэтому и то обстоятельство, что малое число коллег Хаттона
или его сторонников стали членами Королевского общества во время правления
Бэнкса. Грегори и Уоллас никогда не были его членами; Бейли, Гомперц, Бэрлоу
и Кристи вступили в Общество только после смерти Бэнкса. Преследование
Бэнксом математиков-практиков не было единственной тому причиной. Друзья
Хаттона не могли забыть несправедливости, учиненной над человеком
влиятельным в культурном мире. В результате математики-практики не проявляли
склонности становиться членами Королевского общества. К примеру, Френсис Бейли,
деятель страхования и астроном, испытывал отвращение к Королевскому
обществу, поскольку оно было под руководством Бэнкса. Через несколько месяцев
после смерти Бэнкса он писал Бэббиджу: «Многие мои друзья удивляются, что я
до сих пор не оформляю свое принятие в Королевское общество. Для тех, кто
знает секретную историю последней администрации, нет смысла объяснять, что
36*
564
М.К. Петров
вступление в члены было бы по меньшей мере сомнительной честью. Вместе с
другими я верю и надеюсь, что придет время, когда и в этом конкретном
Обществе будут проведены реформы» [199, с. 12].
Олинфус Грегори полагал, что знает секретную историю администрации
Бэнкса и в анонимном отчете готовился предать ее гласности. В «Философском
магазине» за сентябрь 1820 г. Грегори опубликовал «Обзор некоторых узловых
пунктов в официальном характере заседаний покойного президента Королевского
общества». Это яркий образец полемики, раскрывающий беспощадность Бэнкса.
Расширенный отчет о дискуссиях 1783—1784 гг. был началом работы, за которым
следовал каталог несправедливостей Бэнкса по отношению к тем, кто
подозревался в дружбе с Хаттоном или Масклейном. Прорисовывался портрет Бэнкса как
некомпетентного естественного историка с влиятельными друзьями, чье
стремление к «доминированию» превосходила только ненависть к математике и
математикам.
Верен этот отчет или нет, не в этом здесь главное. Важно то, что наиболее
звонкий голос математиков-практиков, каким был Грегори, выражая свою оценку
делам Королевского общества под руководством Бэнкса, высказывал общее
мнение. Накопившаяся почти за полстолетия горечь в отношениях между
математиками-практиками и режимом Бэнкса была сформулирована и просматривалась в
замечании Грегори: «Президенты Королевского общества, которые заботились об
его интересах, являлись людьми, приобщенными и преданными к одной из
ветвей науки, а не угнетателями других ветвей человеческого познания, мужами,
свободными от любви к политическим интригам, свободными и от их обычных
помощников — любителей властвовать... Если познания в чистой математике
уменьшились за последние сорок лет, то этого нельзя не приписать сэру Джозефу
Бэнксу» [199, с. 13].
Последним вкладчиком в движение за реформы 1820-х гг., о котором мы
упомянем в анализе ситуации президентства Дэви, была группа интеллектуалов в
Кембриджском университете. В начале XIX в. в Кембридже объявилась группа
выдающихся математиков и естественных философов. В этой галактике «звезд»
были Чарлз Бэббидж, Джон Гершель, Джордж Пикок, Уильям Уивелл, Адам Сед-
жвик и Джордж Эйри, и все они оказывали огромное влияние на развитие
британской науки почти половину столетия. Они были изобретательны во множестве
институциональных инноваций и реформ. Их коллективные вклады в
исследования, особенно в математику, астрономию, естественную философию и геологию
весьма значительны. Более того, члены Кембриджской Сети вместе с некоторым
числом внешних, вовлеченных в их кружок, сыграли важную роль в
переопределении значения в 1820—1830-е гг. самого слова «наука». Можно вполне говорить
о том, что Джон Гершель в работе «Предварительный экскурс в изучение
естественной философии», опубликованной в 1830—1831 гг. суммировал для любого
ученого Викторианской эпохи, о чем идет речь в науке. Конечно же
господствующая академическая и клерикальная элита, для которой Гершель был воистину
одиозной фигурой, обвиняла его в попытках решить совершенно невозможную
задачу вскрыть эпистемологическую базу естественной науки и естественного
знания, прояснить соотношения научной, моральной и религиозной истин,
определить истинные задачи изучения естественной философии и переопределить
социальную роль мужа науки. Сила кембриджской Сети с 1830-х гг. определялась
постоянно и взаимно усиливающимися факторами ее институциональной базы, ее
содержательными научными достижениями и тем размахом или степенью, с
какими ее претензии на определение природы или целей науки оказывались
принятыми и признанными. В 1820-е гг., например, членами Сети были только
«внешние» относительно столичного сообщества ученых. Но основы их восстания
против режима Бэнкса закладывались в то время, когда они были молодыми
смутьянами в Кембридже времен Регентства.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 565
Во время наполеоновских войн Кембридж не был безучастным к
разногласиям, которые поляризовали всю страну. С 1790-х гг. чувствительная студенческая
субкультура с настройкой на политические, религиозные и интеллектуальные
расхождения породила многочисленные студенческие общества и дискуссионные
клубы. Заинтересованная молодежь Кембриджа и сформировала то, что стало
ядром кембриджской Сети. Их конкретная гетеродоксия состояла в том, чтобы
бросить вызов рутине и изменить традиции Университета ради нотации и методов
континентального математического анализа. Роль Чарлза Бэббиджа, Джона Гер-
шеля, Джоржа Пикока и Аналитического общества была действенной в
проведении и инициировании реформы кембриджской математики. Чарлз Бэббидж
появился в Кембридже в 1811 г. со способностями решать математические
проблемы «сравнимыми со способностями Ньютона, Лейбница или Лагранжа» [199,
с. 14]. Когда этот выдающийся математик обращался к своему тьютору или к
лекторам по поводу трудностей, с которыми он встречался при чтении работ Лакруа
по дифференциальному и интегральному исчислению, его любознательность
охлаждали разъяснениями, что эти материи не имеют значения для экзаменов и
поэтому ими не нужно заниматься. Бэббидж накапливал неудовлетворение
рутиной преподавания и начал выполнять свои работы, посылая их континентальным
математикам. Вместе с другими, кто испытывал такое же разочарование, Бэббидж
основал Аналитическое общество.
С самого начала это Общество включало Бэббиджа, Гершеля, Пикока,
Эдварда Райана и Фредерика Муле. Основной целью Аналитического общества было
распространение современной техники анализа и соответствующих обозначений,
восходящих к Лейбницу и Бернулли в написаниях Даламбера, Эйлера, Лапласа и
Лагранжа. Для университетских авторитетов такая программа была прямой атакой
на математические методы и репутацию наиболее известных выпускников
Кембриджа, прежде всего на сэра Исаака Ньютона. Бэббидж вспоминал, что
Аналитическое общество «вызывало большое удивление у донов, а когда его не удалось
прикрыть, нам было заявлено, что мы просто неперебесившиеся сопляки, из
которых ничего путного не получится» [199, с. 14—15]. Несмотря на оппозицию,
молодые аналитики не унялись. В 1818 г. в томе «Записок Аналитического
общества» были опубликованы работы, целиком составленные из материалов
Бэббиджа и Гершеля. Когда эти двое основателей покинули Кембридж, Аналитическое
общество стало существовать на неформальной основе, и прогресс в его
деятельности зависел от колебаний настроений зараженных «аналитической манией».
Публикационными делами заправлял Джордж Пикок, который оставался в
Кембридже. Публикации выпускались спорадически и завершились переводом тома
задач и ответов Лакруа. Более важным было то, что кампания за математическую
реформу, предпринятая Аналитическим обществом, была поддержана и другими
математиками университета и новые методы постепенно стали проникать в
экзаменационную практику.
Чтобы получить твердую опору в Университете, важно было добиться того,
чтобы новый анализ и новая нотация были инкорпорированы в экзаменационную
систему. Традиционно умеренные из университетской комиссии по экзаменам
задавали вопросы по установившимся моделям, как они были обозначены в
учебниках Самюеля Винса и Джеймса Вуда. Вине и Вуд были упорнейшими
защитниками «ньютонианской» традиции. Гершель вспоминал: «Многие из
экзаменаторов Кембриджа принахмурились частью от негодования, частью от удивления
перед неожиданными ответами, которые стали появляться на экзаменационных
листах. Но даже экзаменаторы не были непробиваемы: их души были тронуты,
хотя и смущены семитомным Жакье и охлаждены привычкой к Винсу и Вуду»
[199, с. 15].
Хотя души экзаменаторов и могли быть тронуты, их практика не менялась до
тех пор, пока Пикок и другие члены Аналитического общества не начали
движение в академической иерархии. Пикок выступил в роли экзаменатора в 1817 г. и
566
М/С. Петров
ему помогал в этой роли Уивелл, а также и Ричард Гваткин, которые входили в
Сеть. В 1820 г. Уильям Уивелл должен был сыграть ведущую роль в реформе
математики в Кембридже. Он понимал, что Аналитическое общество не совсем на
своем месте. Перевод парадигматических работ с французского и реформа общих
экзаменационных вопросов могут дать лишь ограниченный эффект. Ключ к
успеху лежал во внедрении математического анализа как инструмента решения
проблем, который признавался бы оппонентами. Примерно так представлял себе
задачу Уивелл, когда он стал экзаменатором в 1819 г. и начал писать «Элементарное
рассуждение о механике» (1819), а также и другие тексты. Очевидный успех
математической реформы 1830-х гг. во многом обязан политическому искусству Уи-
велла. Тексты Винса и Вуда были заменены текстами Уивелла, Эйри, Коддинг-
тона и Пикока.
Наиболее очевидным воздействием движения за математические реформы,
инициированные Аналитическим обществом и проведенные до конца Уивеллом
и Пи коком, было педагогическое. Математическое воспитание в Кембридже
1820—1830 гг. давало в руки исследователей инструмент, необходимый для
понимания и даже развития математики и физики. Уильям Томсон и Джеймс Кларк
Максвелл были продуктом этой системы. Но следует все же заметить, что
кембриджская Сеть не делала попыток установить в Кембридже «исследовательскую
школу» и как-нибудь оправдать примат изучения и преподавания математики в
ущерб классическому образованию.
Вместе с тем, Аналитическое общество и движение за математические
реформы, которые оно катализировало, важны как база социальной солидарности и
идеологического сплочения. Они обеспечивали общность восприятия
университетских порядков и поэтому усиливали групповое чувство миссионерского пыла
в интересах науки. Сеть осознавала себя в качестве носителя прогрессивных
реформ в деятельности когда-то гордого института, который стал «средоточием
невежества, помпезности и надутости» в результате коррупции его руководителей.
Наконец, движение за математические реформы способствовало выявлению
чувства Сети, того, что она действительно защищает гаснущие огни математики в
Британии.
В терминах оригинальных математических исследований успехи этих молодых
людей Кембриджа были хотя и заметными, но не нашли поддержки. Гершель и
Бэббидж прекратили работы по чистой математике в начале своей карьеры и
обратились к другим областям исследования. Но они при всем том продолжали
обладать высоким математическим искусством как «причиной, без которой нет»
любого естественного философа. Тот факт, что они широко применяли
математическую компетенцию в научных исследованиях использовался кембриджской
Сетью как знак очевидного превосходства по отношению к математически
неграмотным философам. Хотя «математическая аналитическая мания» покинула их,
она оставляла неустранимые знаки на своих жертвах» [199, с. 16].
Воздействие реформистского движения, которое начала группа
Аналитического общества и которое проявилось в 1819 г. в учреждении Кембриджского
Философского общества, в учреждении в начале 1920-х гг. в Кембридже обсерватории,
в допуске некоторых членов Сети к профессорству в Университете, являлось
маркирующим знаком кембриджского контекста. Но какое это имело отношение к
столичной научной сцене?
В начале миссионерского запала «аналитиков» во имя современной
математике их деятельность считалась весьма влиятельной. На ранней стадии Гершель
настаивал, что они должны рекрутировать сторонников в Лондоне и не
ограничиваться кембриджским сообществом. Свидетельства об их начальном отношении к
Королевскому обществу и к бэнксонианскому режиму можно обнаружить в их
первых статьях, хотя они и редки. Ясно, что Гершель сумел добиться успеха в
первых же статьях, опубликованных в «Философских записках», и это
способствовало постепенному проникновению современных математических методов на
История европейской культурной традиции и ее проблемы 567
их страницы. Но если верить его более поздним воспоминаниям о положении
дел в математике, астрономии и точных науках вообще, когда он приобщился к
столичной науке, его мнение о Королевском обществе в то время было далеко
не благоприятным. Ни Гершель, ни Бэббидж не проявляли интереса к более
широким культурным кругам антикваров, садоводов, аграриев или естественных
историков. Их круг составляли математики, астрономы, геологи и в меньшей
степени химики. Эклектизм режима Бэнкса определенно не воодушевлял Чарлза
Бэббиджа. Что же до Королевского общества, то он быстро сформировал
критическое мнение о его характере. Так, в 1816 г., когда он был еще кандидатом на
прием в члены Общества, Бэббидж узнал, что Совет решил не публиковать одну
из его статей по функциям в «Философских записках». Он реагировал с горечью
и сарказмом, которыми прославился позже: «При всем моем уважении к весьма
образованному Обществу, членом которого, если меня не забаллотируют, мне
предстоит вскоре стать, я считаю его совершенным профаном в математике. Не
думаю я и прощать ему это невежество рассуждениями о целях его учреждения
для продвижения естественного знания. Вместе с тем, когда дело идет об этом
Обществе, то Аналитика должна сохраниться и выжить, и если мы предоставляем
статьи, которые хороши для нас и ничего не стоят для членов этого Общества,
мы снова и снова будем их представлять в Королевское общество» [199, с. 17].
Примерно в это же время Бэббидж, касаясь своих шансов как кандидата в
члены Королевского общества, рассматривал членство в Обществе как
«необходимость для хватания» в поисках места, то есть как необходимость в поддержке
для роста репутации. Ясно, что Бэббидж в то время уже выработал отношение к
Королевскому обществу, привычное и общее для определенных кругов, которые
усматривали в Обществе полезный инструмент, членство в котором можно
использовать для выращивания социального статуса.
Несправедливости режима Бэнкса учитывались Бэббиджем по связи с его
надеждами получить место в Бюро меридианов. Хотя в 1818 г. его кандидатура была
провалена, Бэббидж питал надежды, как он говорил, «в конце концов попасть в
распределитель булок и рыб». Но когда в 1820 г. объявилась следующая вакансия,
вскоре после основания Астрономического общества, Бэббидж написал Бэнксу и
поставил его в известность о том, что место в Бюро, похоже, никогда не станет
его, поскольку он принимает участие в делах Общества, которое Бэнкс считает
подрывным по отношению к Королевскому обществу.
В 1813 г. кембриджское Аналитическое общество в лице его основателей
объявило о своих намерениях реформировать мир средствами математики. В 1920 г.
Кембриджская сеть довольствовалась более ограниченными, но и более
реальными задачами. На первый план теперь выдвигались реформы Королевского
общества, которое считалось страдающим «застарелой коррупцией», засильем знати и
официальных лиц, которые ничего не смыслят в математике — языке истинной
философии и которые не могут эффективно продвигать сложную и абстрактную
науку.
Когда некоторые математики-практики и члены Кембриджской сети
собрались в январе 1820 г. для учреждения Астрономического общества Лондона,
должно было выясниться, какое множество обид они питают по поводу своего
положения в столичном научном сообществе. Из тех, кто принял активное
участие в учреждении этого Общества, Фрэнсис Бейли, Джон Гершель, Чарлз
Бэббидж, Олиф Грегори были весьма критически настроены по отношению к бэнк-
сонианскому режиму и к Королевскому обществу в его тогдашнем составе. Они
считали, что если астрономия и логические науки процветают на континенте, то
в Британии наблюдается очевидный недостаток в направлении и координации
деятельности астрономов, официальная астрономическая деятельность направляется
неудовлетворительно. Королевская обсерватория в Гриниче недоукомплектована
кадрами и неэффективна. Это было и обвинением в бездеятельности Совета
Посетителей Обсерватории и, следовательно, руководства Королевского общества,
568
M. К. Петров
поскольку Совет Посетителей большей частью назначался президентом и Советом
Королевского общества. Качество «Нотикал Альманак» и его цель как
астрономического вестника и, понятно, его польза для астрономов-практиков, во многом
уступали континентальным изданиям. Астрономическое общество создавалось
также в условиях растущей критики Совета меридианов. Совет этот был
переформирован в 1818 г. таким способом, что власть эффективно концентрировалась в
руках Бэнкса и малой группы членов Королевского общества, а именно Томаса
Ян га и Джона Уилсона Кроукера, секретаря Адмиралтейства. Критика Совета
поднималась до обвинений в адрес режима Бэнкса, она продолжалась и
усиливалась в 1820-е гг. и демонстрировала борьбу за власть в официальной астрономии,
ведущуюся Астрономическим обществом. Острие вызова очевидно направлялось
против Бэнкса, особенно поскольку этот вызов входил в квартет в длительных
диспутах. Бэнкс оперативно реагировал на эту критику. Эдвард Адольфус — граф
Соммерсет, который сначала соглашался стать первым президентом
Астрономического общества, снял свою кандидатуру после того, как Бэнкс побеседовал с
ним в жестких терминах. Девис Джильберт отклонил предложение занять высокое
положение в Обществе по той же причине. Королевский астроном Джон Понд
стал объектом нападок Бэнкса за сочувствие к этому предприятию. И, как мы
уже видели, Чарлз Бэббидж лишился места в Совете меридианов, поскольку он
и фал ведущую роль в организации Астрономического общества. Таким образом,
Астрономическое общество, младенец 1820-х гг., оказалось в длительной осаде. С
ухудшением здоровья Бэнкса открылся вопрос о президентстве в Королевском
обществе и о структуре столичной науки. Астрономическое общество, его
руководство вместе с руководством Геологического общества явно оказывались в
числе тех новых сил, с которыми новому человеку в президентском кресле
Королевского общества придется иметь дело.
Миллер анализирует карьеру Дэви на периоде между 1800 и 1820 гг. и в
отношении к бэнксонианскому режиму и в отношении к силам оппозиции. До
начала своей карьеры в Королевском Институте и некоторое время после своего
туда назначения самому Дэви ни в коей мере не было ясно, что он изберет
карьеру химика. Известно, что по началу он намеревался стать медиком, хотя и
здесь есть сомнения, связанные с периодом шатаний Дэви между
Пневматическим Институтом Беддо в Бристоле и активным общением с Шелли и Колриджем.
Существенно то, что Дэви жил в это время как медицинский практик в Западном
графстве, и это общение было лучом света в его провинциальной жизни. Но дух
его ранних химических исследований — часто безрезультатных, но своеобразных,
изобретательных, аккуратных и искусных — выделял Дэви из друзей и
потенциальных патронов. Поощрение и патронаж кружков Джильберта и Бэдда, а также
членов группы Лунного общества привели Дэви в возрасте двадцати лет на пост
ассистента лектора в недавно образованном Королевском Институте на Албермал
Стрит. Хотя Дэви быстро продвинулся в лекторы и был с энтузиазмом принят в
высоких аудиториях, сама идея, что он может сделать карьеру постоянного
лектора и химика-экспериментатора при Королевском Институте, была для него
самого еще не совсем ясна. Он продолжал лелеять мысль о более обычной и
более надежной карьере на базе медицинской профессии.
Несколько событий привели Дэви к тому, что он окончательно отказался от
медицинской профессии с ее надежным статусом. Дэви быстро пошел в гору в
Королевском Институте, и его продвижение сопровождалось быстрым ростом
жалования. К тому же, и это более важно, Дэви начал принимать образ жизни, в
котором его химические исследования могли быть поставлены на более прочный
фундамент. Когда Дэви был принят на работу Румфордом, ему было сообщено,
что наниматели желают, чтобы он был свободен в ведении философских
исследований. Но вскоре открылось, что наниматели имели в виду более утилитарные
аспекты, когда брали его на службу. Это были химические и геологические
исследования практического интереса для землевладельцев, которые в ранние годы
История европейской культурной традиции и ее проблемы 56S
существования Института доминировали в группе контролеров. Таким образом
значительная часть времени Дэви оказалась посвященной исследованиям и
лекциям по лесоводству, по сельскохозяйственной химии, по геологии и
минералогии в их отношении к горному делу. Дэви также проводил анализы земли для
членов Совета по сельскому хозяйству и Института, много путешествовал по их
указаниям, собирал материал для лекций и в приложениях науки к сельскому
хозяйству действовал как возмутитель спокойствия. Служебная роль молодого
химика давала ему дополнительные доходы, но и обрекала его на тяготы бродячей
жизни. Судьба его предшественников Томаса Гарнетта и Томаса Юнга должна
была предостеречь Дэви насчет шаткости его положения как лектора. Вторжение
Дэви в прикладную науку и его подчинение идеологии научного и национального
совершенствования были дороги сердцам совершенствующихся землевладельцев
и давали ему надежную базу в столичном научном сообществе вместе со славой,
на которую не мог бы рассчитывать простой химик-экспериментатор. Мы
говорим это не к тому, что Дэви был просто лакеем на службе землевладельческому
интересу. Глубочайшее убеждение самого Дэви о решающей роли науки в
национальном развитии и о необходимости поддержки научных организаций было
результатом действия окружения в Королевском Институте.
В карьере Дэви произошел быстрый скачок, когда он начал работать в
Соммерсет Хауз. В 1803 г. он был избран в члены Королевского общества, в 1805
награжден медалью Копли Королевского общества и двумя годами позже стал
одним из секретарей Королевского общества, находясь на этом посту до 1812 г.
В глазах Бэнкса Дэви должен был представляться идеальным секретарем. Как
химик с буржуазной репутацией Дэви мог вызывать уважение у тех, чьи активные
исследования пополняли редакционный портфель «Философских записок». А как
выразитель идеологии научного совершенствования он в растущей степени
входил в естественные ненатянутые отношения с аристократами и землевладельцами,
которыми Бэнкс комплектовал Совет общества, как «стражами науки». Но та
манера, с которой Дэви катапультировался во внутренние круги научного
институционального порядка создавала проблемы в его отношениях с более
маргинальными друзьями и сподвижниками, которые стремились переопределить
отношения в своих специальных научных интересах в рамках господствующей
институциональной структуры. Образование Геологического общества Лондона и
Общества органической химии высвечивают эти проблемы в несколько ином ракурсе.
Дэви был среди активных участников неформальных геологических и
минералогических собраний, которые повели в конечном счете к учреждению
Геологического общества. Поскольку эти собрания были проявлениями буржуазного
серьезного интереса к минералогии, среди ведущих членов Королевского
общества и Королевского Института эта включенность Дэви воспринималась как часть
и состав его личности. Но когда Геологическое общество стало более
формальным, когда Гринич и Хорнер устранились от планов оси Бэнкс-Гревилл,
энтузиазм Дэви по отношению к Геологическому обществу заметно увял. Он оказался
среди тех, от которых Бэнкс ожидал отставки в Геологическом обществе, и
президент Королевского общества не был разочарован в отношении Дэви. Отставка
Дэви вызвала значительное разочарование геологов, которое удерживалось много
лет, подогреваемое почти паническим страхом возобновления силовых мер
лидерства Королевского общества. Когда Дэви в 1815 г. решил было снова вступить в
Геологическое общество, Джордж Гринич и Джон Маклош выдвинули идею, что
заявление Дэви является первым шагом новой интриги, имеющей целью
привести Геологическое общество в подчинение Королевскому обществу. По крайней
мере в некоторых умах образ Дэви ассоциировался с типичной фигурой бенксо-
нианского режима.
В то время, когда Геологическое общество бросало прямой вызов
институциональной структуре Бэнкса, учреждение Общества органической химии стало
примером конформной инновации. Среди химиков-анималистов были Эдвард
570
M.К. Петров
Хоум, Уильям Бранде, Бенджамен Коллинз Броди, Чарлз Хатчетт и Дэви. В
юбилейном послании 1809 г. они восхваляли Бэнкса с кафедры Королевского
общества: «Наш Совет... испытывает... глубокое восхищение Вашим достойным
поведением в наставлениях, которые способствуют скорее усилению старых
достоинств, чем подрывают или умаляют их, пытаясь испортить их культивацией
любых отраслей естественного, поставленного исходной хартией под наше
наблюдение и заботу знания» [199, с. 22]. Весьма сомнительно, что нашлось бы
сколько-нибудь значительное число индивидов, заинтересованных в органической
химии, что давало бы право на учреждение самостоятельного общества,
посвященного этой редкой в те времена специальности. Тем не менее проводился
явный контраст между теми, кто был готов ограничивать свои специальные
интересы пределами превалирующей институциональной структуры, и теми, кто
этого не хотел. Своими действиями в это время Дэви твердо поставил себя в
первый лагерь, то есть идентифицировался в этом аспекте с политикой Бэнкса по
отношению к специализированным Обществам.
Часто отмечают срыв карьеры Дэви, который датируют его женитьбой на мисс
Эйприс в 1812 г. За три дня до женитьбы Дэви был посвящен принцем-регентом
в рыцарское достоинство. Дэви явно стремился к статусу джентльмена-ученого и
к репутации в широких культурных кругах. Его женитьба создала исходные
предпосылки по части богатства, а также и условия для расширения связей в свете.
Она также дала ему возможность отойти от своей служебной роли в Королевском
Институте и в Королевском обществе. Как лектор-профессор Королевского
Института Дэви подал в отставку, хотя и остался профессором химии и директором
лаборатории без жалования. В 1812 г. Дэви перестал читать лекции в Институте
и перестал работать в качестве технического советника и разрешителя проблем
землевладельцев. Публикация его «Начал сельскохозяйственной химии» в 1813 г.
была в этом смысле актом расставания с предшествующим этапом жизни. Он
стал дельцом и администратором, но его связь с Институтом становилась все
слабее. Дэви стал также меркнуть и на сцене Соммерсет Хауза. Его секретарство
завершилось отставкой в 1812 г., его длинная серия бейкерианских лекций подошла
к концу и его публикации в «Философских записках» стали более редкими.
Хартли пишет: «В течение первых восьми годичных раундов социальных визитов,
когда Дэви занимался спортом и совершал долгие зарубежные поездки, для
научной работы оставалось мало времени. В эти годы Дэви стал скорее научным
дилетантом. Он заглядывал в новые области, где искал применения своему
исследовательскому искусству, вместо того, чтобы целиком отдаваться химии как
целым, как это было на стадии формирования» [199, с. 23].
Это были годы его злосчастного увлечения порохом, который производил его
друг Джордж Чиддрен, изобретения безопасной лампы, приоритетных споров,
изобретательных методов расшифровки папирусов Геркуланума и изучения
вулканов. Эти виды активности символизировали взгляд на науку как на
деятельность, важную в национально-экономическом и культурном планах, а не только
как дисциплинарную. Научная работа Дэви в эти годы проходила в беседах в
своем кругу и в путешествиях на континент. Вояж философа был достаточно
трудным, но широким и поверхностным. В уме Дэви без сомнения порхала яркая
бабочка сэра Хемфри Дэви, философа и носителя джентльменской культуры,
возникшая из кристалла изобретательного химика, которым был мистер Дэви.
От Дэви, который в 1820 г. покидал Париж и ехал в Лондон, чтобы начать
борьбу за кресло президента Королевского общества столичное научное
сообщество ожидало всего, для него и его враждующих групп он был совершенным
незнакомцем. Он, правда, признавался всеми как первооткрыватель в химии.
Секция аристократов-улучшателей и землевладельцев-джентри, интерес которых к
науке он когда-то помог сформулировать, несомненно помнили его как рабочую
лошадку Королевского Института в ранние годы, но принимали его претензии на
культуру как сомнительные и несостоятельные. Равным образом и члены средне-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 57Î
го класса почувствовали дух отчужденности: их карьерные траектории отличались
от карьеры Дэви. Почти все геологи оставались насчет Дэви в некотором
недоумении: не очень-то было ясно его отношение к Королевскому обществу, которое
овеществило его амбиции. И для бунтующих математиков и астрономов, с
которыми Дэви вступал в крайне редкие контакты, он был по крайней мере
неизвестным, а в худшем случае сомнительным сторонником их дела. Эти различные
восприятия были очевидными в кампании за избрание президента Королевского
общества, которая будоражила столичное научное сообщество летом и осенью
1820 г.
Избранию сэра Хемфри Дэви 30 ноября 1820 г. на пост президента
Королевского общества предшествовал период смущения в столичном научном мире.
Претенденты на кресло президента и их друзья метались среди членов
Королевского общества. Чарлз Бэббидж писал о ситуации: «Многоразличные планы,
слухи, варианты носились вокруг, все виды людей, достойных и недостойных,
тянулись к скипетру науки. Должен ли этот пост занять философ или мастер,
священник или принц — такова проблема президента на текущем моменте.
Королевское общество балансирует в состоянии неустойчивого равновесия» [199, с. 24).
Хотя и нет упоминаний о священнике — кандидате в президенты, в одно или
другое время на президентство претендовали два философа, два мэтра и принц,
которые получали поддержку как кандидаты в президенты. Не рассматривающие
эти заявки анализы выборов 1820 г. говорят об единстве мнения среди членов
Королевского общества, а этого единства не существовало.
Не приходится удивляться тому, что сэр Джозеф Бэнкс попытался определить
своего преемника. Ко времени, когда он готовился по причине плохого здоровья
подать в отставку в мае 1820 г., Бэнкс решил этот вопрос, но после совещаний
с Советом решил повременить с отставкой. Бэнкс знал о том, что недуг или
смерть дают ему мало времени. Соответственно он созвал вице-президентов и
формально объявил о избранном им преемнике — Дэви Джильберте. Джильберт
был идеальной фигурой для сохранения в целостности бэнксонианского режима.
Он действовал как один из подручных Бэнкса в Совете Королевского общества
в течение многих лет. Его политические связи как члена парламента оказывались
полезными для общества, особенно в официальных научных материях. Джильберт
завоевал репутацию патронажем науки, своим «открытием» и поддержкой
молодого Хемфри Дэви. Он был классически образованным джентльменом,
вращавшимся среди аристократов, и имел множество друзей среди антикваров, членов
Линнеевского общества, садоводов. Тори в политике и консерватор по натуре, он,
казалось, вряд ли откроет дорогу адвокатам изменений в Королевском обществе.
Но Джильберт колебался и в конце концов отклонил предложение. С выходом
Джильберта из игры исчезла надежда на спокойное развитие событий — на сцене
появились другие кандидаты.
Другим ранним кандидатом был принц Леопольд Сакс-Кобург, позднее
король Бельгии Леопольд I, хорошо известный историкам, как любимый дядя
королевы Виктории. Леопольд женился на принцессе Шарлотте, дочери
принца-регента и консорта Каролины. После смерти Шарлотты в 1817 г. Леопольд удалился
в спокойную жизнь, по королевскому ритуалу в свое имение в Шарлемонте.
Принц был избран в члены Королевского общества в 1816 г., интересовался
многими научными областями, особенно ботаникой. Во время дворцового скандала,
включавшего короля Георга IV и Каролину, Леопольд завоевал уважение тактом
и обходительностью в улаживании дел. С точки зрения королевского патронажа
кандидатура Леопольда была идеальной. Основным адвокатом Леопольда был Ан-
тони Карел и, хирург, чьи многочисленные титулы включали и звание хирурга
двора. База поддержки принца остается неясной. Возможно, что его продвигала
группа членов Общества, медицинские и школьные карьеры которых вращались
вокруг двора, и кто мог бы значительно упрочить свое положение, стань принц
президентом Общества.
572
M. К. Петров
В широком контексте виды принца на президентство подвергались сомнению
даже среди «джозефитов». Самюэль Гудинаф, епископ Карлисли, считал его
«слишком высокого уроЁня над человеком, чтобы быть президентом, «хотя он
добр и мягок» [199, с. 25]. Томас Франклэнд, садовод, сообщал по секрету сэру
Джемсу Смиту, что он против избрания президентом Леопольда: «Я считаю, что
дистанция между нами слишком велика, и что мы не сможем консультировать
его о картофеле, как могли это делать при Бэнксе» [199, с. 25]. Но когда
Франклэнд узнал, что принц обещал на свой счет содержать библиотекаря, давать
обеды и выделять 4000 ф. ст. в год на нужды Общества, сомнения его рассеялись.
По крайней мере для некоторых проблема доступа к столь выдающемуся лицу
более чем компенсировалась ожидаемым величием порядка, который мог бы
стать реальностью в результате президентства принца. Но принц снял свою
кандидатуру, когда он не смог опровергнуть слухов, что сам король против его
кандидатуры.
Еще одним кандидатом, находившим сторонников был герцог Соммерсет —
видный член вигов-аристократов. Он обладал широкими познаниями в геологии,
ботанике и математике, служил Обществу при Бэнксе в 1803 и в 1817 гг.
Основными его опорами были Эйлмер Берк Ламберт и сэр Александр Джонстон. В
числе других союзников значились Бэнджамен Хобхаус, сэр Смит и Уильям
Джорж Мейтон. Это означало, что те, кто выдвигал герцога как человека
достаточного ранга, богатства и культурного кругозора, стремились заполучить
естественного историка и антиквария для обеспечения собственных интересов и
разделяли симпатии к либеральным политическим принципам герцога. Оппозицию
составляли члены Кембриджской сети, до сих пор негодовавшие по поводу
недавнего отказа герцога стать президентом Астрономического общества по указанию
Бэнкса. Им казалось, что сначала согласившись стать президентом
Астрономического общества, а затем отклонив это предложение, герцог дважды пошел на
компромисс с самим собой. Один из членов кембриджской Сети писал Бэббиджу:
«Герцог Соммерсет проявил себя очень слабым человеком. Джозефиты никогда
не позволят ему пойти далеко, и их старая партия не подаст голоса за его
избрание» [199, с. 26]. Обнаружив, что у него есть оппозиция, герцог в конце июля
или в начале августа снял свою кандидатуру. Наиболее ожесточенная
предвыборная борьба развернулась между сэром Хемфри Дэви с его сторонниками и
членами Кембриджской Сети, кандидатурой которых был Хайд Уолластон.
Кембриджская Сеть использовала политическую сумятицу в Королевском
обществе как возможность персонального продвижения для переориентирования
Общества. В мае Бэббидж писал Гершелю: «Умаляю Вас, если у Вас есть хоть
сколько-нибудь вкуса к научным пирогам с начинкой, вернуться в столицу без
промедления, и оставаться здесь некоторое время. Для всех нас важно показать
Ваше лицо на всех собраниях ученых» [199, с. 26].
Бэббидж считал, что Гершель получит место в Совете по Меридианам и
соответственно в Совете Общества. Кроме важности этих назначений для карьеры
самого Гершеля, они могли бы успокоить запутанные отношения между
Астрономическим обществом и Королевским обществом. Но этого не было сделано до
смерти Бэнкса 19 июня, которая перенесла внимание Кембриджской Сети
непосредственно на проблему президентства.
20 июня Бэббидж, Гершель и Джордж Пикок собрались в доме Бэббиджа,
чтобы обсудить вопрос о президентстве. Они были против Дэви по ряду причин.
По Гершелю, Дэви похвалялся «способствовать интересам Королевского
Института, интересам города и интересам аристократии». Такое нахальное расширение
интересов аристократии было непереносимо. Чувствовалось также, что Дэви груб,
не терпит критики и «вероятно, получив власть в свои руки, встанет против
поднимающихся талантов, будет гнуть свою линию и обходить патронажем других»
[199, с. 27]. Ключевые фигуры Кембриджской Сети, таким образом, с опасениями
воспринимали перспективу президентства Дэви.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 573
Уильям Хайд Уолластон представляется нам единственным человеком,
способным противостоять Дэви. Уолластон был чем-то вроде философа-героя в
глазах Кембриджской Сети. Он действовал как доверенное лицо Гершеля и Бэббид-
жа и давал им обоим советы, когда они пытались ускорить свои карьеры в
столице. Сам Уолластон был коллегой Колледжа Кая в Кембридже и имел сильные
связи с наиболее талантливыми естественными философами Университета.
Научные исследования Уолластона широко славились как образцы точности и
эрудиции. Более того, его ранг и характер — включая астрономию, оптику и
совершенствование инструментов, а также и химию — более тесно соприкасался с
предметом поисков Кембриджской Сети и математиков-практиков, чем круг
интересов Дэви. К тому же, в отличие от Дэви, Уолластон соблюдал дистанцию
между исследователями и аристократическими патронами бэнксонианского
режима и мало был вовлечен в деятельность антикваров, садоводов и аграриев кружка
Бэнкса. Для реформистского альянса, который намеревался преобразовать
Королевское общество, Уолластон казался естественным лидером.
Началась острая кампания. Друзья Уолластона аккуратно разжигали страсти,
подчеркивая его заслуги и право на президентское место в ежедневной прессе.
Среди рекрутов компании Бэббиджа, Гершеля и Пикока были Генри Кейтер,
Чарлз Хаттон, Эдвард Тротон и капитан Базиль Холл. Непосредственная
поддержка Уолластона проистекала от тех, кто основал Астрономическое общество и
кто входил в реформистскую группу Королевского общества. Но большим и
решающим было то негативное обстоятельство, что он был независим. С самого
начала Уолластон сомневался в предприятии. Время от времени он появлялся и
казался энтузиастом кампании, а в другие времена все ему было безразличным.
Кульминации кампания достигла на собрании клуба Королевского общества в
«Короне и Якоре» 22 июня, когда Уолластон показался в последний раз. В конце
концов он снял свою кандидатуру. Своему кембриджскому другу Эдварду Дание-
лю Кларку он объяснил, что президентство нарушит его мирное существование
и помешает философским исследованиям. Несмотря на свое нежелание
возглавить реформационный союз, Уолластон был одним из активных его сторонников
до смерти в 1828 г.
Кампания показала наличие мощного круга людей, решивших всеми силами
проталкивать в Королевское общество и на его официальные должности
«истинных мужей науки». Этот термин определенно восходит к Дэви. 25 июня он
написал согласительное письмо Уолластону, констатируя, что он не рассматривает
соревнование между ними как принципиальное и верит, что и после выборов
президента они останутся верны тем же самым принципам, что и до кампании.
Дэви заявлял, что его чувства, когда он предлагает себя в президенты,
основываются на том, «что только достоинство или служба могут стать наградой важного
научного труда, что не относится к богатству или таланту самим по себе, и что
именно чувство долга и честной амбиции заставили его предложить свою
кандидатуру друзьям» [199, с. 28]. Он выражал надежду на то, что чувства
неудовольствия будут забыты и что, если его изберут, он, как президент, будет пользоваться
поддержкой Уолластона и его друзей, без которых он не сможет исполнять свои
служебные обязанности. Дэви понимал важность и силу реформистского лобби и
не хотел отвергать их.
Гершель и Бэббидж, со своей стороны, были очевидно расстроены отказом
Уолластона. Они продолжали следить за маневрами Дэви со смесью отчаяния и
сомнения. С открытым раздражением Бэббидж описывал зондирующий визит
Дэви к Чарлзу Хаттону, во время которого Дэви «говорил о математике, которую,
как он утверждал, он изучал особенно с точки зрения эластичных жидкостей»
[199, с. 28]. С тем же беспокойством Гершель писал Бэббиджу после годичного
посещения Королевской Обсерватории в Гриниче 14 июля: «Сэр Хемфри Дэви
или кто-то из его друзей в «Морнинг Пост» и в «Тайме» совершили вылазку на
собрании в Гриниче, которую прилагаю. Имя Кейтера младшего из младших упо-
574
M. К. Петров
минается здесь вместе с именем Седжвика как члена Кембриджского
Университета. Что бы это значило?» [199, с. 28].
Гершеля беспокоило то, что Дэви продолжает копать под «младших из
младших», которые толкали Уолластона в оппозицию Дэви. Благодаря отсутствию в
то время конспирации мы можем теперь восстановить тактику, предложенную его
кембриджским современником и членом Аналитического общества Эдвардом
Ифренчем Бромхэдом. Бромхэд соглашался с тем, что Королевское общество
нуждается в реформах, но считал, что «если мы не будем вводить туда наших
собственных друзей, наша политика обернется против нас или, во всяком случае не
будет делать их врагами будущего президента. Если мы не в состоянии преуспеть
сейчас, мы не должны закрывать глаза на возможности, которые предоставятся
после избрания президента» [199, с. 28]. Эта политика быть политикой
замирения. Хотя существовали сомнения насчет отношения Дэви к традициям бэнксо-
нианского режима и к делу реформ, Кембриджская Сеть и ее последователи
повернули в некоторой степени в пользу того, чтобы оптимизировать свои будущие
политические шансы.
Каков был ответ старой гвардии Королевского общества на перспективы
президентства Дэви? Некоторых заботило то, что человек, который, подобно Дэви,
велик в одной из областей науки, мало пригоден для поста президента.
Необходим был человек, обладающий общим взглядом на Общество, на все множество
его исследовательских и литературных предприятий. Один из критиков сравнил
его с Агамемноном, готовым командовать греками. Лорд Гленберви, известный
член Общества и человек со вкусом, так описывал попытки Дэви согласить всех:
«Я назвал его великим именно сейчас, и Дэви, мне кажется, действительно
заслуживает этого столь часто употребляемого эпитета как наиболее выдающийся
открыватель в химии и в науке о природе. Но ему предстоит стать
рафинированным джентльменом, человеком ранга и обращения, протектором, а также высшим
судьей литературы и искусства и для тех, кто знает его, его степень невежества
во всех этих удивительных и тонких материях, Дэви очень маленький человек
или, говоря по-новому словоупотреблению, — абсолютная пустышка, человек не
на своем месте» [199, с. 29].
Епископ Карлисли считал Дэви политически легковесным, неспособным
стабилизировать Общество и поддерживать его престиж. В письме сэру Джеймсу
Смиту епископ так высказывал свое мнение: «Вы и я думаем совершенно схоже
о сэре Хемфри Дэви. Несомненно он будет избран. Но несомненно и то, что
Королевское общество не будет поднято на высшую ступень столь ограниченными
силами. Мне кажется, что сэр Джозеф не поступил со своей обычной
предусмотрительностью, когда он позволил основать Общество органической химии. Любое
деление общего предмета усилий Королевского общества должно существенно
ослаблять само Общество. Так мало осталось теперь от самого Общества, как Вы
справедливо замечаете. Только химические и алгебраические предметы.
Последние не лишены интереса, но в чтении они утомительны... Как счастлив был бы
я побывать у Вас на спокойном научном обеде!» [199, с. 29].
Ушли счастливые дни, когда Королевское общество под президентством Бэнк-
са доминировало во всех областях исследования. Дэви с его ограниченными
силами не мог вернуть этих дней. Но несмотря на все его недостатки епископ и
сэр Джеймс решили поддерживать Дэви, с тем чтобы избежать членения
Общества. Коль скоро Дэвис Джильберт вышел из борьбы за президентство на раннем
этапе, зубры бэнксонианского режима были не в состоянии собраться под
знамена герцога Соммерсета или принца Леопольда. У них оставался шанс
проголосовать за Дэви или не голосовать совсем. Некоторые, подобно епископу
Карлисли и сэру Джеймсу Смиту, неохотно принимали Дэви как компромиссную
кандидатуру. Многие не стали голосовать.
В день св. Андрея 1820 г. Дэви был избран президентом Королевского
общества. Единственной ему оппозицией была попытка в последнюю минуту провести
История европейской культурной традиции и ее проблемы 575
кандидатуру лорда Соулчестера, но бывший спикер Палаты Общин получил
только четырнадцать голосов. Путь Дэви к президентству не был гладок. Он был
устлан заявками и контрзаявками друзей защитников принца, знати, богачей,
патронов, влиятельных лиц, политических деятелей, видных ученых и философов,
независимых и других фракций в Обществе. Избрание Дэви не прекратило
дебаты. Его президентство только усилило их.
Для начального периода президентства Дэви характерным было обещание
реформ. Мы видели, что даже перед выборами Дэви старался умиротворить альянс
реформистов, который пытался уговорить Уолластона противостоять Дэви в
борьбе за президентство. В течение большей части своего президентства сэр Хемфри
продвигал серию мер, которые были важны для альянса реформистов. Он
позитивно заявил о кооперации, а не о конфронтации между Королевским обществом
и новыми специализированными обществами. Он ввел членов Совета
Астрономического общества в Совет Королевского общества и в принципе помогал в
строительстве карьер его лидерам. Он предпринял неформальные шаги по
сокращению членства, с тем чтобы повысить качество членов. Он поддержал реформу
«Нотикал Альманак» и замышлял расширить научную активность Совета
меридианов. Каковы бы ни были начальные оговорки в адрес Дэви, реформисты
вскоре убедились, что они обрели мощного союзника в достижении своих целей.
Сразу после вступления на пост президента Дэви попытался установить
дружелюбные отношения между Королевским обществом и специализированными
научными обществами, и в то же время сохранить претензию Королевского
общества получать из первых рук сообщения о важных работах, проделанных под
его наблюдением. В своей первой речи с кафедры Дэви говорил: «Я уверен в том,
что эти новые общества всегда будут сохранять с нами добрые отношения, что
мы сможем обоюдно постичь и понять друг друга и что они, собирая воедино
наш великий предмет и нашу задачу установления принципов индуктивного
резонирования и экспериментов, как и полезных приложений науки, будут, если
открытия сделают их члены посчитают за честь сообщить нам об этом, особенно,
если открытия эти касаются общих законов или важных наблюдаемых фактов,
которые ведут к непосредственной пользе... Я уверен, что в этих новых
организациях не проявится местный сепаратизм в отношениях с нашей организацией»
[199, с. 30-31].
По сравнению с угрозами Бэнкса только несколькими месяцами ранее
разрушить до основания Астрономическое общество такое отношение Дэви было
ощутимо иным. Бэббидж конечно же был удовлетворен этими «либеральными
чувствами, провозглашенными в отношениях между двумя Обществами новым
президентом. Гершель, похоже, также принял эти призывы за чистую монету. Увертюра
Дэви была формально одобрена Советом Астрономического общества в его
докладе членам годичного собрания в феврале 1821 г. Некоторые ведущие члены
Геологического общества, хотя они и предпочли бы услышать Уоллонстона, тоже
приняли Дэви как президента Королевского общества и почли, что долгий период
столкновений с Королевским обществом наконец завершился.
Просматривая имена людей, которых Дэви ввел в Совет Королевского
общества в начале 1820-х гг., мы видим следы старых предпочтений, а также и
попытки наградить и, соответственно, ассимилировать потенциально опасных
реформаторов. Так, в порядке символического жеста примирения, умиравший в то время
Чарлз Хаттон был в 1822 г. членом Совета Королевского общества после 40 лет
с момента его изгнания Бэнксом с поста Секретаря по внешним сношениям.
Другие члены альянса реформистов примерно в это же время появились в
Совете — Бэббидж, Бейли, Томас Голби, Гершель, Айвори и Джеймс Саут. В 1820 г.
Джон Гершель пребывал еще в неопределенности между Лондоном, Кембриджем
и Сло, а также и в сомнениях о своих способностях и приверженностях к науке.
Но через три—четыре года его перспективы и приверженности определились. В
ноябре 1820 г. он был избран в Совет Королевского общества и через четыре года
576
M. К. Петров
стал Секретарем Общества. Он получил медаль Копли в 1821 г. за математические
исследования и был назначен в Совет меридианов. Это убедило Гершеля, что ему
подходит скорее Лондон, чем Кембридж, где он имел честь стать профессором.
В своей политике поддержки реформистской группы Королевского общества
Дэви колебался, но заполучил индивида, которого он считал наиболее опасным
членом. Так, в эти дни Дэви писал Гершелю: «Я уверен и у меня достаточно
оснований утверждать, что Королевское общество сохранит свою репутацию. Я
солидаризируюсь с Вами и теми, кто Вас поддерживает, чтобы сделать современное
положение Британской науки таким, чтобы потомки смотрели на нее с
восхищением, гордостью и благодарностью» [199, с. 32].
Дэви формировал свою новую роль как дуайена науки и ментора «молодых
духов». Взаимная церемонная вежливость между Дэви и лидерами Кембриджской
сети продолжалась. Так, Бэббидж помог математическими вычислениями
завершить эксперименты Дэви с вакуумными трубками. Со своей стороны, Дэви дал
сильную поддержку неосуществленному раннему плану Бэббиджа использовать
счетную машину в Совете меридианов. Время от времени Дэви явно уставал от
чрезмерного энтузиазма и ожиданий своих молодых почитателей. В конце 1823 г.
начались неизбежные изменения в Королевской Обсерватории Гринича. Были
предположения, что королевский астроном Джон Понд, которого постоянно
критиковали и который был серьезно болен, подаст вскоре в отставку или умрет.
Дэви планировал на этот пост Гершеля. Он объявил об этом своем решении
Джеймсу Сауту, сотруднику Гершеля по астрономии. Гершель быстро ответил
отказом. Он не разделял общего недоверия к способностям Понда исполнять
обязанности королевского астронома. У Гершеля также были и некоторые
возражения против схемы Дэви. Несмотря на это он старался не обижать Дэви, мотивами
которого он считал «похвальные заботы об интересах Королевского общества» в
попытках уладить дело с королевским астрономом. Он попросил Саута передать
об отказе Дэви, сделав это тактично, «так как я уважаю этого человека и
восхищен всем тем, что видел в его публичных делах, и желаю скорее дружить, чем
враждовать с ним» [199, с. 32].
Дэви не только заботился о продвижении карьер лидеров альянса
реформистов, его выступления перед Обществом свидетельствуют и о том, что он
привлекал внимание к тем областям науки, которыми до сих пор реформаторы
пренебрегали. Дэви также вмешивался в вопросы острого интереса для
Астрономического общества и его руководства, в вопросы реформы «Нотикал Альманак». В
1824 г. Дэви помог организовать совместное собрание Королевского общества,
его Совета и представителями Совета по меридианам, чтобы рассмотреть
предложенные дополнения к публикациям. Саут вспоминал в 1829 г.: «Совет
Королевского общества, когда выдающийся Дэви был его президентом, несколько лет
тому назад попытался избавить «Нотикал Альманак» от некоторых недостатков,
но, как об этом пишет 18 ноября «Тайме» со слов мистера Бейли, какая-то
«невидимая беотийская сила почти парализовала их усилия, когда они приступали к
обсуждению этих материй» [199, с. 33].
Расхождения касались того, следует ли в «Нотикал Альманак» вводить
дополнения за публичный счет для того, чтобы им могли пользоваться все астрономы-
практики без учета конкретной пользы для моряков-навигаторов. Члены
Астрономического общества настаивали именно на таких изменениях. Томас Юнг,
суперинтендант «Нотикал Альманак» противостоял им с твердостью закаленного
бэнксонианца. Дэви защищал изменения. На Совете Королевского общества
11 марта 1824 г., созванном по просьбе Совета по меридианам, было принято
решение, что «было бы в интересах практической астрономии, чтобы дополнения
к альманаху публиковались» [199, с. 33]. Таким образом, в первые годы своего
президентства Дэви провозгласил и проводил политику кооперации с
Астрономическим обществом и терпимости к персональным амбициям его лидеров. Он
История европейской культурной традиции и ее проблемы 577
также проявлял интерес к реформам Королевской Обсерватории, Совета
меридианов и «Альманаха». Это был обещающий старт.
Ранние годы президентства Дэви связаны также с изменениями в природе
деятельности комитетов Королевского общества. Научные комитеты были двух
сортов: во-первых, комитеты, учреждавшиеся Обществом по просьбам
государственных департаментов, обычно Адмиралтейства, для исследования конкретных тем;
во-вторых, комитеты фундаментально-научной природы, учреждаемые по
запросам конкретных исследователей в самом Обществе.
В ранние годы запросы Адмиралтейства касались прежде всего инструкций на
проведение научных работ, выполнявшихся экспедициями. Но в начале 1820-х гг.
запросы обрели более физическую и химическую природу. Так, в Королевском
обществе были созданы комитеты для изучения способов хранения каменного
угля на кораблях (1822), проблем медной обшивки кораблей (1823), полезности
громоотводов на кораблях (1823). По запросу Совета по меридианам был создан
комитет по усовершенствованию оптики (1824). Другие правительственные
департаменты запрашивали Королевское общество о счетной машине Бэббиджа (1823),
о лучшем сорте гранита для нового лондонского моста (1823—1824), о
безопасности и эффективности столичного газового завода (1825).
Этот рост комитетов и их активности был важен во многих отношениях.
Прежде всего он означал наступление новой эры в отношениях между
Королевским обществом и правительством, в которой Общество можно было привлекать
для решения научных задач национальной важности. Во-вторых, работы по
оптическому стеклу и вычислительным машинам предполагали, что правительство
должно будет и впредь обращаться к Обществу и поддерживать проекты
существенно интересные в научном отношении, причем экспертиза будет выполняться
Королевским обществом и его комитетами.
Другим важным фактором была композиция комитетов. Теперь они уже не
возникали исключительно на базе выдающихся членов Общества, не
предполагали глубокой эрудиции. Теперь значение придавалось отбору в комитеты
специалистов с соответствующим опытом. К примеру, Питер Барлоу, профессор
математики Королевской военной академии, возглавил комитет по граниту для
лондонского моста. Некоторое число опытных инженеров Общества было назначено
в комитет по счетным машинам Бэббиджа. Подкомитет комитета по оптическому
стеклу состоял из Джорджа Доллонда (мастер по оптическим инструментам),
Джона Гершеля (он вел экспертизу как знаток оптических инструментов и теории
оптики) и Майкла Фарадея (который использовал свое химическое искусство в
исследовании состава стекла). Точно так же, когда дела Королевской
Обсерватории касались и Королевского общества, лидирующим членам Астрономического
общества давалось преимущественное право голоса. Даже старая практика
составления инструкций для научных экспедиций была пересмотрена. Члены
реформистской группы обрели возможность участвовать в экспедициях Пэрри и Фос-
тера по исследованию конфигурации земли. Они как правило доминировали в
публичных дискуссиях по наиболее важным задачам исследований для научных
вояжей и в соответствующих комитетах Королевского общества. Систематические
исследования приливов, вариаций магнитного поля, эксперименты с маятниками,
которые были основными инструментальными условиями вояжей 1830-х гг.,
впервые начаты были в 1820-х гг. по настоянию реформистской элиты. В умах
реформистов деятельность Королевского общества в этой области действительно
представлялась опорой для оптимизма насчет того, что Общество может быть
революционизировано через оживление отношений с государством, через
признание научной экспертизы и через ведение научных программ, с которыми они
способны справиться.
Политика Дэви по отношению к деятельности Королевского общества сама
по себе в первые годы президентства также направлялась на реформы, на
устранение ограничений. В то же время были жалобы на то, что процедуры приема в
37 М.К. Петров
578
M. К. Петров
Общество слишком свободны. В ранние годы правления Бэнкса ежегодный
прием постепенно возрастал и достиг пика в 1821 г. Поощряя голосование
черными шарами, Дэви начал ограничивать прием новых членов в Королевское
общество. Некоторое время такая политика давала запланированный эффект: если
в 1821 г. было принято 46 членов, то в 1823 г. их число снизилось до 16. Эти
попытки приветствовались реформистами, даже если они вели к проволочкам в
приеме некоторых их друзей. Гершель, например, писал Бэббиджу в 1822 г.:
«Полагаю, что Гамильтону не следует добиваться приема сейчас. Я говорил о нем с
Дэви, и Дэви конечно же не имеет к нему никаких личных претензий, но он
говорил об этом предмете весьма взволнованно. То, о чем он говорил ранее в
Обществе, теперь идет полным ходом. Ни одно голосование о приеме в члены не
будет теперь проходить без большого конкурса и без дискуссии о достоинствах
кандидата» [199, с. 35].
Поскольку реформы Королевского общества зависели от более строго отбора
кандидатов на базе научных заслуг, действия Дэви шли в одобряемом
направлении. Но при отсутствии некоторых дополнительных мер такая политика не могла
долго противостоять напору стремящихся в члены Королевского общества.
Ревизия статусов, проведенная специальным комитетом в 1823 г. среди других
основных целей имела и принципиальную цель затруднить доступ нежелательных
членов путем удвоения вступительного взноса. Слабости такого подхода хорошо
видел Гудинаф, который считал, что повышение взноса могло дать лишь
временный эффект. Если бы оно имело решающее значение, оно отпугивало бы тех,
кто, что бы о них не говорилось, являются все же надежным источником
финансирования общества. Если реформаторы вели кампанию за допуск в члены только
строгих интерпретаторов науки с высокой квалификацией, то «джозефиты»
сомневались в мудрости такой политики, поскольку она могла подорвать корни
дилетантского финансирования Общества. И все же Гудинаф оказался прав в своей
уверенности, что любое сокращение доступа будет только временным. С 1824 г.
прием членов начал постепенно расти. Но важно при этом то, что Дэви, говоря
о проблеме доступа на периоде 1821—1824 гг., в то же самое время укреплял свои
позиции среди реформистов.
После 1824 г. замечено было некоторое изменение отношения Дэви и
ослабление его популярности как президента Королевского общества. Можно
сравнить президентство Дэви с затянувшимся актом жонглирования: очень уж много
времени он посвящал удержанию многочисленных фракций и групповых
интересов в рамках Общества, надеясь на то, что политическая игра способна
предостеречь от падений и столкновений. Но он драматически провалился, пытаясь
примирить членов реформистского альянса с верными сторонниками бэнксони-
анского режима.
В середине 1820-х гг. начальные реформистские меры Дэви начали терять
силу. Его избирательные методы снижения доступа оказались неэффективными.
Дэви уже не повторял своих ранних наскоков на беспокойную и плохо
определенную область отношений между Королевским обществом, Астрономическим
обществом, Королевской Обсерваторией, Советом меридианов и
Адмиралтейством, которая была решающей для реформаторов и их научных программ,
организационных забот. Комплекс отношений между этими институтами был по-
прежнему доминирующим для людей типа Томаса Юнга, Джона Бэрроу, Джона
Уилсона Крекера и Дэви Джильберта — группы, которая получила исходный
импульс от сэра Джозефа Бэнкса и политика которой все еще отражала политику
бэнксонианской эры. В результате их деятельности ничего существенного не дали
усилия Дэви реформировать «Нотикал Альманак», с тем чтобы сделать его более
полезным для астрономов. И Королевская Обсерватория все глубже увязала в
болоте нерегулируемых наблюдений. В условиях, когда эти важные проблемы
оставались нерешенными, реформисты казались разочарованными тем, что энергия
Дэви стала направляться на другие цели. Основная цель Дэви — обеспечить боль-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 579
шую поддержку науке — находилась в явной зависимости от аристократического
патронажа, который сделал возможным его собственную карьеру. Он искал
большей поддержки со стороны богатых патронов для традиции виртуозов. Его успехи
как президента Королевского общества — учреждение медалей Общества,
учреждение Зоологического сада, предоставление Королевскому обществу
дополнительных помещений — четко вписывались в рамки этой традиции.
Учреждение Зоологического сада и Зоологического общества в 1826 г.
благодаря усилиям Дэви и сэра Томаса Стэмфорда Рэффлза иллюстрирует этот пункт
достаточно ясно. Дэви обсуждал вопрос о зоологическом заведении с сэром
Робертом Пилем еще в 1824 г., возможно во время охоты в Колвортском имении
Пиля. В декабре Дэви писал Пилю: «Коллекционирование растений и уход за
ними в саду Парижа посвящены либо чистой науке, либо развлечению публики,
и я считаю, что в Европе не было еще институтов того типа, о котором я имел
честь упомянуть Вам, — института, который занимался бы ввозом и по
возможности одомашниванием новых видов потенциально полезных животных. Такой
институт мог бы объединять цели науки, развлечения и пользы...
Соответствующее общество могло бы строиться по плану Общества садоводов... Подписчики
должны пользоваться правом проведения частных экспериментов в разумных
пределах: разбирать молодых животных либо, если они хотят вывести новую породу,
получать землю на ферме» [199, с. 36—37].
Дэви также задумывался над тем, как обеспечить частные научные вклады и
частную научную деятельность. Правительство могло бы стимулировать
желающих вести исследования предоставлением гранта на участок земли или
обеспечивая кооперацию между губернаторами и колонистами в проведении морских
вояжей, но его роль была бы ограниченной, Дэви, таким образом, задумывал этот
институт как институт новый, не нацеленный целиком на чистую науку или
развлечение публики, как это было с дендрариями, а соединяющий все в интересах
совершенствующей землю аристократии и сельских джентльменов. Это
подтверждалось в проспекте, набросанном Дэви и Рэффлзом и опубликованном в мае
1825 г.
Следует обратить внимание и на то, что вкладом Дэви была именно его
способность мобилизовать джентльменов нации на поддержку плана. Рэффлз,
ответственный за прогресс предприятия, отмечал, что хотя сам он тяготел к «научному
департаменту», Дэви больше обращал внимание на «практическое и
непосредственное использование джентльменов». Направляя Общество этим способом, Дэви
мало задумывался о нуждах университетских зоологов или физиологов животных.
Действительно, исходная идея Дэви состояла в том, что виды животных,
поставляемых в зоологические сады, будут в основном состоять из птенцов диких птиц,
которые должны будут импортироваться для охотничьего сезона! Предлагая
Зоологическое общество, организованное по модели Общества садоводов, Дэви видел
возможность сделать то, что он считал наилучшим — подогреть патронаж науки
со стороны занятой улучшениями аристократии и землевладельцев-джентри, их
внимание к объектам науки общенационального значения. Точно такой была база
его собственной карьеры в Королевском Институте. Но более важно то, что это
было восстановлением одного из фундаментальных принципов, на которых
стояла институциональная структура бэнксонианского режима, тем самым подходом,
которым Бэнкс превращал дисциплинарные общества в самостоятельные
институты.
Другим проектом Дэви, который омрачил его отношения с альянсом
реформаторов, было учреждение новых Королевских Медалей и первое награждение
ими в 1826 г. Основным зачинщиком у Дэви здесь был сэр Роберт Пиль. Как
Секретарь по внутренним делам и в качестве приватного собеседника Пиль не
раз обсуждал с Дэви государственные методы стимулирования науки. В 1825 г.
Пиль предложил Генриху IV план, по которому новые медали должны были
вручаться Королевским обществом за недавние оригинальные вклады в науку. Объ-
37*
580
M.К. Петров
ясняя эту схему королю, Пиль указывал на необходимость поддержать репутацию
Королевского общества в момент быстрого распространения разного рода
научных институтов. Нет сомнения в том, что этот взгляд разделял и Дэви, — ему
нравилась идея, что его президентство будет отмечено столь важной инициативой
по распространению королевского патронажа.
Совет Королевского общества разработал правила награждения. Было
объявлено, что первые медали будут присуждены в 1826 г. Медалями предполагалось
награждать «за наиболее крупные открытия или серии исследований,
завершенные и обнародованные через Королевское общество в предшествующем году»
[199, с. 38]. Условия награждения медалями были направлены на стимулирование
текущих исследований. Бэббидж конечно же так и считал. Он подготовил статью
по механической нотации, кося глазом на одну из первых медалей. Но когда
в ноябре 1826 г. были обнародованы награждения, медаль была присуждена
Джону Дальтону за его работу по атомной теории и Джеймсу Айвори за статью
по рефракции, которая появилась в «Философских записках» в 1823 г. В течение
1820-х гг. награждения проходили ежегодно и регулярно приводили к контровер-
зиям либо потому, что они игнорировали недавние работы, либо потому, что они,
по мнению некоторых, присуждались пристрастно.
Бэббидж был взбешен. Афера с королевскими медалями была одним из со-
факторов деятельной и подчас экстравагантной борьбы Королевского общества за
утверждение своего лидерства, и близкие по смыслу не раз предпринимались с
того времени в попытках стимулировать текущие исследования.
Пока Дэви занимался грандиозными проектами, имевшим лишь косвенное
отношение к основным интересам реформистов, надежды на реформы зависели
только от способностей реформаторов захватить ключевые посты в Королевском
обществе и его Совете. Представительство реформаторов в Совете в течение
1820-х гг. достигло пика в 1826 г. Гершель имел уже одно из мест Секретарей, а
в октябре 1826 г. вакантным стало другое место Секретаря, когда Уильям Томас
Бранде объявил о намерении подать в отставку. Было известно, что Бэббидж
хочет занять это место. С затаенным духом реформаторы следили за
продвижением Гершеля и других членов своего альянса. Если бы только Дэви предложил
назначить Бэббиджа на место Секретаря, то чего нельзя было бы достичь в деле
реформ, если за них возьмутся Гершель и Бэббидж на столь влиятельных постах?!
Позиция Дэви была важна, поскольку по обычаю президент имел право
назначать Секретарей по своему выбору. Если Дэви решил бы воспользоваться
своим правом, тогда была вероятность того, что он назначит Джона Джорджа
Чилдрена, своего старого друга, который принимал участие в его химических и
электрических исследованиях, в его промышленных предприятиях, и который
извлекал пользу из патронажа Дэви в предшествующих случаях. В середине ноября
Гершель был настроен оптимистически и проинформировал Бэббиджа, что «Дэви
похоже не имеет намерений настаивать на назначении Чилдрена, и объявил о
своем желании передать вопрос о назначении целиком Совету, так что я вполне
уверен в том, что Вас выберут» [199, с. 39]. Но Гершель был либо ложно
информирован, либо введен в заблуждение, так как на собрании Совета 23 ноября
1826 г. на место Секретаря Дэви назначил Чилдрена. Эдвард Райан, старый член
кембриджского Аналитического общества, передал эту новость Бэббиджу на
следующий день: «Было решено, что Вы не будете Секретарем, а им станет мистер
Чилдрен. Гершель по моей просьбе даст Вам полный отчет о собрании. Вы могли
бы стать секретарем, если бы Ваши друзья вообще решились выступить в Вашу
пользу, но они решили, что Вы примете только более высокое место и президент
посчитается с мнением Общества и назовет Вас сам, а может быть и подумали,
что Вы не должны участвовать в процедуре» [199, с. 39].
Гершель, как того требовал Райан, изложил Бэббиджу детали. Перед началом
заседания Дэви собрал восемь из девяти членов Совета под предлогом
разобраться с отчетами казначея, но в действительности, чтобы уладить вопрос о назначе-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 581
нии Чилдрена. Реформаторы были возмущены двуличием Дэви, Райан писал:
«Президент вел себя вызывающе, много шутил и обращался с Гершелем весьма
надменно. Общество, как мне о том сообщили Колби и Гершель, весьма
разгневано по поводу ведения собрания президентом, и теперь ни о чем не говорят
больше, чем о необходимости избавиться от него» [199, с. 39].
Так или иначе, но реформистская группа была озабочена тем, что медовый
месяц определенно прошел.
Позиция Дэви подрывалась и другими сильными элементами в Королевском
обществе, для которых он был явным защитником реформ. Джон Бэрроу и Джон
Крокер из Адмиралтейства вместе с Дэвисом Джильбертом и Томасом Юнгом
были их предводителями в Королевском обществе. Дела Адмиралтейства
тревожили Дэви, поскольку они требовали множества соглашений в кратчайшее время
с «демократической партией» в самом Обществе. Они также угнетали Дэви своей
неспособностью контролировать научные проекты и руководить комитетами,
включенными в Адмиралтейство и в Королевское общество. Королевское
общество давало противоречивые советы Адмиралтейству о ведении дел в Королевской
Обсерватории.
Неудача с медной обшивкой кораблей была особенно ядовитым пунктом
напряжений среди ведущих гражданских служащих Адмиралтейства. Здесь
компетентный рецепт Дэви по соединению высокой теории и национальной пользы, в
отличие от безопасной лампы, обернулся неудачей. Провал этого проекта не
только повредил репутации Дэви, но также сильно отразился на репутации Бэрроу и
Крекера. К концу президентства Дэви оба они были уверены в том, что для
своего руководства Общество нуждается в жестком и элективном парламентарии,
способном утихомирить враждующие фракции в самом Обществе и избегать
бюрократического вмешательства, под чем Бэрроу понимал смягчение правил и
уменьшение числа проектов.
Попытки Дэви сохранить мир в Королевском обществе провалились. Он
сумел войти в контакт только с двумя разобщенными группами большого
влияния: с альянсом реформистов и с группой Адмиралтейства и его представителей
в Королевском обществе. Но за открытым маневрированием в начале 1820-х гг.
стоял более общий вопрос, который редко эксплуатировался, поскольку он был
слишком ясен, чтобы нуждаться в артикуляции. Это был вопрос о разладе
институциональных структур империи знания Бэнкса и последствий такого разлада для
Королевского общества и его членов. Джон Бэрроу говорил именно об этом
вопросе, когда в 1827 г. он заявлял, что Общество следует вернуть к тому
состоянию, в котором оно находилось во времена Бэнкса.
Почему президентство Дэви приходится рассматривать с точки зрения
институционального заката? Именно потому, что в его время происходил распад
империи знания Бэнкса.
В конце XVIII и в начале XIX в. Королевское общество, действуя через своего
президента, официальных лиц и членов было социальным и политическим
центром группы столичных институтов. Эта бэнксонианская империя знания обладала
рядом важных черт. Особенно заметна была очевидная тяга к естественной
истории, садоводству, сельскому хозяйству, антиквариату и литературе. Благородные
знания и практические улучшения шли рука об руку в этом культурном синтезе
в интересах землевладельцев и их приспешников. В этом смысле Дэви был
видным членом этой культуры через вовлеченность в дела Королевского Института.
Дэви был также вовлечен и в фешенебельный мир знания более общего плана.
Но ему не удалось сцементировать связи, которые были характерны для его
предшественника. В результате он оказался неспособен поддерживать контроль и
снять напряжения, которые развились в наличных институтах в 1820-е гг. и
сдержать появление новых научных обществ.
Рассмотрим сначала институты, тяготеющие к естественной истории и
сельскому хозяйству. Линнеевское общество оказалось перед множеством проблем.
582
M.К. Петров
Наиболее острой была проблема того, могут ли специализированные интересы
быть приспособлены к существованию в едином и нерасчлененном сообществе
естественных историков. До начала 1820-х гт. сохранялся неформальный баланс
между, к примеру, ботаникой и зоологией. Взрыв исследовательского и
популярного интереса к зоологии и особенно к энтомологии угрожал смести все другие
ветви естественной истории. Молодые рекруты в зоологическую науку, а также и
практики дискутировали вопрос о том, как это должно отразиться на Линнеевском
обществе. Под угрозой образования нового энтомологического общества в 1822 г.
обсуждалась идея создания комитетов в Линнеевском обществе для каждой ветви
естественной истории и публикации Журнала натуралистов. Со временем был
достигнут неустойчивый компромисс, в котором специализированные интересы
энтомологов и зоологов обсуждались на обособленных собраниях Зоологического
клуба Линнеевского общества. Стремление к более специализированному органу
непосредственной коммуникации, чем «Записки» Линнеевского общества были
реализованы в учреждении членами Клуба «Зоологического журнала».
Ситуация еще больше осложнилась планами организации сепаратного
Зоологического общества, в которые были вовлечены Рэффлз и Дэви. Ставилось
несколько различных целей, в частности создание управления в видах введения
интересных и полезных животных. Хотя члены зоологического Клуба были
заинтересованы и включены в схему, проекту не хватало ясно очерченной роли
научно-исследовательской группы. Но то, чего явно удалось достигнуть, была
широкая финансовая поддержка. Н.А.Вигорз, секретарь зоологического Клуба, ушел в
отставку, чтобы занять соответствующую должность в Зоологическом обществе.
И роспуск Клуба в 1829 г. последовал вскоре после установления «научного
комитета» Зоологического общества, которое предоставляло альтернативный форум
для собраний и новый орган публикации.
Во времена процветания ученой империи Бэнкса люди, подобные Самюэлю
Гудинафу, Томасу Машему, Александру Маклею, сэру Джеймсу Эдварду Смиту
рассматривали Линнеевское общество как важное мелкое суверенное владение
под внушительной защитой Бэнкса. Но к середине 1820-х гг. эта группа распалась
и начал возникать новый политический порядок, который был более плюралист-
ским. В нем происходила диффузия авторитетов в вопросах естественной
истории. Дэви только косвенно был вовлечен в дела Линнеевского общества. Он был
уже не в состоянии справиться с новой политически запутанной ситуацией, что
всегда удавалось его предшественнику.
Сельскохозяйственная размерность ученой империи Бэнкса также оказалась
фрагментированной в 1820-е гг. Совет по сельскому хозяйству окончил
существование в 1822 г. Некоторые его ведущие деятели, включая Бэнкса и Юнга, были
уже мертвы. Дэви последний раз посетил собрание в 1817 г. Но более важно было
то, что Совет лишился поддержки ливерпульской администрации и
правительства, с которым он был связан, в 1820 г. В попытках выстоять как чисто
любительская организация Совет не преуспел. Его активность по внедрению науки в
ведение сельского хозяйства ради его совершенствования «была либо слишком
теоретической, либо слишком широкой, чтобы привлечь обычного фермера» [199,
с. 42]. Сельскохозяйственные общества графств оказались более
жизнеспособными в обращениях к практическим землевладельцам. Во взаимосвязанных
событиях патроны Королевского Института, занятые сельскохозяйственными
улучшениями и образовавшие «Общество домоводства на Алберман Стрит», были
заменены к середине 1820-х гг. чистыми профессионалами или выходцами из средних
классов, чьи интересы концентрировались вокруг вкладов, которые могла сделать
наука в решение проблем сельских и городских районов.
Британский музей был еще одним институтом ученой империи Бэнкса,
который пережил довольно бурную историю в 1820-е гт. Его содержание, уход и
расположение коллекций, методы назначения служащих и их отбора, поведение
попечителей — все это стало предметом контраверзий. Для естественных историков
История европейской культурной традиции и ее проблемы 583
коллекции Музея были важным инструментом и материалом исследования.
Действительно, в национальном хранилище начали получать приватные экспонаты,
важные для исследователей. Поэтому и доступ к экспонатам и их сохранение
потребовали на этом периоде экстренных мер.
Бэнкс использовал свое значительное влияние для развития коллекций музея
и назначения его штата. Более того, он воспитывал своих коллег-попечителей
тем, что назначал их членами Совета Королевского общества. С кончиной Бэнкса
и с приходом на президентство Дэви, который автоматически вошел и в Совет
попечителей, ожидались радикальные изменения. Те, кто благодаря патронажу
сэра Джозефа имел доступ к коллекциям Музея, были обеспокоены тем, получат
ли они доступ и в будущем. Другим грезилась возможность радикальных реформ,
и они подбивали Дэви еще до избрания сделать реформу Музея первым шагом
президента. Идеи Дэви о реформе Музея были среди тщательно подготовленных
мер и планов по реорганизации британской науки.
Планы по реформе Музея намечены в переписке между Дэви и сэром
Робертом Пил ем. В одном из таких писем Дэви касается схемы тройного разделения
труда в Музее и делает несколько важных замечаний о подборе персонала. Он
находит странным и неудовлетворительным, что одежды жителей южных
островов, чучела птиц, засушенные растения, статуи, поделки из бронзы и книги
должны собираться в едином месте и что сотрудники все сплошь должны быть
помощниками библиотекаря. Тот факт, что служащие назначались архиепископом
Кентерберийским и спикером Палаты Общин, также вызывал его озабоченность.
Недовольство Дэви насчет того сорта патронажа, который реализовался в
практике назначений, было тесно связано с его мнением, что «служащие во главе
коллекций или любого отдела должны быть выдающимися людьми» [199, с. 43].
Другими словами, было необходимо отказаться от действующей системы частного
патронажа, чтобы обеспечить найм квалифицированных индивидов в качестве
служащих. Особенно важно это было сделать в научных отделах, где помощников
библиотекарей следовало заменить людьми с научной компетенцией. Дэви
очевидно соглашался с критикой организации и ведения Музея, которая постепенно
усиливалась в 1820-е гг. и привела к организации Парламентской Комиссии по
расследованию дел Музея в 1835—1836 гг.
Дэви представляется важным примером реформ Музея с пользой для науки и
прежде всего для естественной истории. Но по крайней мере некоторые из
членов историко-естественного сообщества рассматривали влияние Дэви как
сомнительное. Так, они хотя и одобряли просветительские реформы Дэви, не могли
ему простить то, что он нахально использовал свое право президента, чтобы
продвинуть кандидатуру своего друга Чилдрена на выборах преемника Уилфорда Эл-
форда Лича, как хранителя естественной истории в 1822 г. Уильям Кирби,
который сам претендовал на это место, ядовито комментирует: «Я и другие любители
естественной истории с сочувствием и неудовольствием наблюдали тот способ,
каким замещалась вакансия в британском Музее бедного Лича. Если сэр Хемфри
будет действовать с такой же поспешностью и беспардонностью и впредь, он
восстановит против себя многих, и если он не станет осторожнее в партийных
предпочтениях, то сам может оказаться лишенным своего поста» [199, с. 43—44].
Более общее недовольство против опекунов Музея и его ведения с 1822 г.
вылилось в борьбу за место Хранителя Естественной Истории. Уильям Свенсон был
другим неудачливым кандидатом на этот пост. Его друг доктор Т.С.Трейлл был
активен в выдвижении кандидатуры Свенсона. Когда Трейлл узнал новость о том,
что Свенсон потерпел неудачу, он выразил свое негодование «неописуемой
несправедливостью с естественной историей, которую вынудили терпеть такое
назначение» [199, с. 44]. Хотя Трейлл считал Чилдрена интеллигентным и
респектабельным человеком, он не считал его способным занять этот пост. Трейлл
обвинил опекунов Музея на страницах «Эдинбургского ревью». Его обвинения
касались методов назначения служащих, а также неэффективности хранения кол-
584
M. К. Петров
лекций, что означало, будто в Музее много изношенных экспонатов, которые
стареют в запасниках, не будучи экспонированы. Это вызвало большой шум в
научных кругах. Так, в июле 1824 г. Трейлл уведомил Свенсона, что «влиятельная
партия в Королевском обществе заинтересовалась Вашим делом и доктор Уоллас-
тон выразил большое желание иметь под руками убедительные факты. Тогда он
рискнет раскопать все до дна, поскольку он чувствует, что творятся большие
несправедливости и внимание публики должно быть привлечено к ним» [199, с. 44].
Внимание публики было действительно привлечено к этим событиям и в 1820-е гг.
и позже.
Во время переходного периода от того, чем он был в качестве кунсткамеры
знати, к тому, чем он стал позднее — национальным музеем, Британский Музей
и его штат существовали в эмбриональном состоянии. Одна из причин такого
перехода несомненно состояла в тесной живительной связи Музея с Королевским
обществом в период бэнксонианской эры, когда он был частью
скоординированного и кооперированного предприятия. Давление извне и напряженность между
служителями Музея продуцировали расхождение мнений относительно желаемых
качеств его опекунов. Будущее президентства Королевского общества было
важным, поскольку многие считали, что президент Королевского общества
значительно влияет на исход дебатов о будущем Музея. Но Дэви с его абстрактными
схемами и с отсутствием политического реализма ничего не мог предпринять.
Дэви оказался неспособным примирить конфликтующие идеи насчет будущего
Музея и просто поддерживал его эмбриональное состояние, которое никого не
удовлетворяло.
Литературный и антикварный закоулки ученой империи Бэнкса в 1820-е гт.
также испытали известные разрушительные перемены. Эрозия отношений между
Королевским обществом и Обществом антикваров особенно показательна. На
демографическом уровне число общих членов этих двух обществ менялось. Выборы
в одном Обществе теперь уже не значили почти автоматического избрания в
другое. В отличие от Бэнкса Дэви проявлял мало интереса к тому, что делается у
антикваров. В 1824 и в 1826 гг. он даже не состоял в их Совете, разрывая тем
самым долголетнюю традицию. Тейлор Комб, который подал в отставку с места
Секретаря Королевского общества в 1824 г. был последним из долгой линии
Секретарей, которые занимали соответствующие посты в Обществе антикваров и в
Британском Музее. В конце концов в 1820-е гг. практически исчезли совместные
директораты этих двух Обществ, которые были характерны для времени Бэнкса.
Новое поколение членов Королевского общества, которое рекрутировалось в
основном из Астрономического и Геологического обществ не проявляло интереса к
тому типу культурной сертификации, которую могла дать связь с антикварами.
Оставались однако крупные организации индивидов эклектических
культурных интересов, которые продолжали рассматривать Королевское общество и
Общество антиквариев как общества-сестры и которые горевали об отчуждении
между ними. Такое отсутствие сплоченности давало возможность смутьянам вроде
Николаса Хэрриса предпринимать атаки на антикваров в 1827 г. Дэви в качестве
президента Королевского общества, пытаясь выступить в защиту антикваров,
потерпел огорчительную неудачу. Начался поиск нового лидера, имеющего
достаточный ранг в литературе и научные заслуги, с тем чтобы восстановить единство
литературы и научной культуры в столице.
Хотя Дэви бодро председательствовал в 1826 г. в день св. Андрея на
юбилейном собрании Королевского общества, он был уже не в состоянии присутствовать
на юбилейном обеде. После этого он перенес удар и совершил для поправки тур
по странам континента. К лету 1827 г. всем стало ясно, что Дэви должен подать
в отставку. Реформисты уже занимались сочинением радикальных предложений.
Члены Общества, такие как Джон Уилсон Крокер, Джон Бэрроу и Томас Юнг
совещались с сэром Робертом Пилем о президентстве в надежде провести
истинно сильного человека, обладающего политической компетенцией для борьбы с
История европейской культурной традиции и ее проблемы 585
«демократическими» элементами в Королевском обществе. Дэвис Джильберт, сам
намеревавшийся стать приемником Дэви, делал заходы к самому герцогу
Саксонскому, Августусу Фредерику, к человеку, чей ранг и положение как патрона
искусств и наук могли служить средствами восстановления определенного
культурного единства типа бэнксонианской эры. Живость, с которой активные члены
Королевского общества предъявляли свои счета, подтверждает, что президент
Дэви решил лишь малое число проблем, с которыми встретилось Общество в
момент его избрания в президенты. Его преданность науке не имела
дисциплинарного фокуса лидерства Астрономического и Геологического обществ, которые
возглавляли движение за реформы. Он мечтал в проблемах научной организации,
но был человеком, чья собственная карьера связывала его со взглядом на
патронаж науки, что делало его слепым к фундаментальному давлению реформистских
забот. Он стремился к статусу человека общей культуры, но пренебрегал
устоявшейся культурой и сложившимся устройством столичного научного мира. Он не
был ни чистым реформистом, ни чистым консерватором. Он оказался по всем
параметрам между двумя враждебными лагерями.
Волнения Королевского общества достигли климакса в 1830 г. Дебаты вокруг
«Заката науки в Англии», поднятые воспоминаниями Бэббиджа по этому
предмету и по реакции на него, и борьба за президентство в 1830 г. между Гершелем и
герцогом Сассекским отмечают этот климакс. Но если мы последуем за той
моделью анализа, которая предлагается, то должна быть поставлена под сомнение
превалирующая традиция интерпретации этих событий. Это касается прежде
всего того, что «Размышления» Бэббиджа ошибочно трактуются как
реформистский манифест в двух отношениях: во-первых, они представляются как набор
принципов научной организации, согласованный реформистской группой; во-
вторых, принимается за данность, будто реформисты, которые группировались
вокруг Гершеля в предвыборной борьбе за президентство, мотивировались в
принципе теми же самыми установками. Совсем наоборот, есть ясные
свидетельства в пользу того, что даже ведущие реформаторы различались в
фундаментальных вопросах с прогнозом Бэббиджа и предлагаемыми мерами. Схожим образом,
сторонники Гершеля, в основном из Астрономического и Геологического
обществ, мотивировались сложным комплексом соображений: улучшить
дисциплинарный стиль и программирование исследований в своих специализированных
институтах; установить джентльменские научные отношения, уподобляя себя
«медноголовым» воинам кораблей науки, и, возможно, в более фундаментальном
плане, помешать сторонникам герцога Сассекского взять под контроль
королевское общество. Реформисты более ясно сознавали, что они делают. Они боялись
того, что сторонники герцога (антиквары, литераторы, естественные историки
старого стиля, дворцовые врачи, служащие Британского Музея, аристократы и
епископы) намерены вернуть к жизни культурный эклектизм и
институциональную сеть бэнксонианской эры.
Герцог выиграл турнир, но все же надежды его сторонников не реализовались.
Изложение причин этому лежит за пределами нашего исследования. Достаточно
сказать, что демографические изменения в характере членства вместе с
возникновением других центров власти, захваченных группой реформистов в 1820 и в
1830-е гг. важные составные таких объяснений.
Отказываясь дать более полный анализ и новые интерпретации президентства
Дэви, я намеревался показать новый методологический подход к
институциональной истории науки. Уверен, что этот подход более адекватен при анализе
комплекса социальных интеллектуальных динамических изменений
институциональных перемен в науке.
Мы почти полностью привели основные линии институциональных
рассуждений работы Д.Ф.Миллера «Между враждующими лагерями: сэр Хемфри Дэви,
президент Королевского общества Лондона в 1820—1827 гг.» [199], что
объясняется целым рядом важных для нашей работы обстоятельств и прежде всего тем,
586
M. К. Петров
что нам теперь, на подходах к современному состоянию систем образования
национальных Т-континуумов развитых стран европейской культурной традиции,
уделять основное внимание придется именно институциональной стороне дела,
которой как раз и занят Миллер, и делать это к тому же в непосредственной
связи с теми событиями в английском научном сообществе, которые анализирует
Миллер. Даже персоналии Миллера окажутся в эпицентре событий, связанных с
возникновением и деятельностью Британской Ассоциации для Продвижения
Науки, деятельностью которой по определению структуры национальных
Т-континуумов и встроенных в них систем образования нам предстоит теперь заняться,
чтобы с помощью этого института и его истории окончательно уже выйти в
современную проблематику.
Британская Ассоциация для Продвижения Науки
В 1981 г. Британская Ассоциация для Продвижения Науки праздновала свое
150-летие. По поводу этого юбилея или в порядке подготовки к нему
науковедами, социологами и историками науки написано множество работ, из которых мы
выделяем для более детального ознакомления солидный труд Дж.Моррелла и
А.Тэккри «Джентльмены науки: первые годы становления Британской
Ассоциации для Продвижения Науки» [200] и не менее солидный юбилейный сборник
«Парламент науки» [202].
В начале работы Моррелл и Тэккри фиксируют своего рода карту-схему
интеграции событий по хронологическому и географическому основаниям,
развертывая целостность истории Британской Ассоциации в
пространственно-временной континуум, позволяющий понять соучастие общих и локальных агентов
формирования целей и смысла «перипатетической» деятельности Ассоциации.
Хронологическое следование ежегодных собраний Британской Ассоциации с
1831 по 1844 гг. придает процессу становления Ассоциации преемственность,
тогда как места проведения этих собраний:
Йорк—Оксфорд—Кембридж—Эдинбург—Дублин—Бристоль—Ливерпуль—Ньюкасл—Бирмингем—Глазго—Плимут—
Манчестер—Корк—Йорк [200, с. 98] — не только подчеркивают
«перипатетический» характер интеграции-становления, но и нагружают этот процесс функцией
учета локальных особенностей в развитии английской организационной схемы
национального института науки».
Моррелл и Тэккри предлагают общую историческую схему понимания
научных событий в Англии первой половины XIX в., в «Викторианской Англии»,
как составляющую широкого процесса синтеза национальной культуры,
включающего религиозные, педагогические, экономические, политические,
географические моменты. Основная их идея состоит в том, что вызванные
индустриальной революцией, появлением опытной науки и ее приложений глубокие
преобразования в английской жизни привели в начале XIX в. к острому
институциональному кризису английского общества, который не развился в
революционную ситуацию и принял эволюционную форму преемственных реформ, ресин-
теза институциональной целостности общества на базе частичных
преобразований институтов и их отношений во многом благодаря посредующей
деятельности Британской Ассоциации.
В процессе такой опосредующей деятельности в 1830—1840-е гг. выявилось
наиболее активное немногочисленное ядро (авторы выделяют 20 имен, часть
которых известна нам по работе Миллера), ответственное за переформулирование
целей науки, приоритетов областей научного исследования, более четкое
определение переднего края исследований, разработку процедур контакта с
правительством, парламентом, местными властями, университетами, провинциальными
научными обществами, Королевским обществом за выработку новых форм
представления научного продукта, что в совокупности создало специфическую «анг-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 587
лийскую модель» организации науки, отличную от французской и немецкой
моделей, более тесно связанных с государственным патронажем.
Это активное ядро «джентльменов науки», в которое вошли 20 имен, Моррелл
и Тэккри используют для «просопографического» анализа ситуации, то есть
20 личных историй вполне конкретных людей рассматриваются ими как «жгут»
или «канат» преемственной интеграции во времени людей и событий на периоде
1830—1840-х гг., идет ли речь о создании научных обществ, кафедр, журналов,
развертывания сети обсерваторий, метеостанций, организации экспедиций,
служб, изучении приливов, земного магнетизма, сопротивлении материалов,
развитии железных дорог, морского пароходства и т.п. Состав этой группы
достаточно однороден по ряду критериев — образованию, религиозным и политическим
убеждениям, хотя заниматься им приходилось самыми различными
организационными, административными и исследовательскими делами. Все они имели
университетское образование, причем 9 из 20 воспитанники колледжей Троицы
Дублина и Кембриджа, 18 из 20 англичане, 9 из 20 духовные лица, принявшие сан,
6 занимали в 1830—1840-е гг. церковные должности, 10 использовали для
финансирования своих исследований государственный патронаж, 15 придерживались
либеральных взглядов, 12 заведовали университетскими кафедрами [200, с. 24].
Непосредственным поводом для кристаллизации идей нового
когнитивно-социального обустройства института науки и выработки новых форм связи науки с
другими социальными институтами было, по мнению авторов, появление
полемического трактата известного уже нам Бэббиджа «Размышления о закате науки
в Англии и о некоторых тому причинах» [200, с. 37—49]. Споры вокруг трактата
начались еще в процессе его подготовки с 1829 г. Бэббидж не делал секрета из
пунктов обвинений в адрес Королевского общества Лондона, ответственного за
положение дел в английской опытной науке, обсуждал эти обвинения с Герше-
лем, Брюснером, Хакортом, Уивеллом, так что еще до его публикации в 1830 г.
трактат начал выполнять функцию средства критического осознания положения
в английской науке, поляризации мнений относительно роли Королевского
общества в сложившейся критической ситуации, интеграции инициативной группы
реформаторов, которая подготовила и провела первое учредительное собрание
Британской Ассоциации для Продвижения Науки 26 сентября 1831 г. в Йорке
[200, с. 88].
На этом подготовительном периоде речь шла именно о дифференциации
отношений «мужей науки», прежде всего членов Королевского общества и
соответствующих обществ Эдинбурга и Дублина, провинциальных научных обществ,
членов академических сообществ Оксфорда, Кембриджа, университетов Ирландии и
Шотландии, к сложившейся критической ситуации и к рецептам ее исправления
с одновременной интеграцией участников дискуссий вокруг вполне
определенного набора практических идей организации нового института, способного в
изменившихся условиях начала XIX в. взять на себя ответственность за «продвижение
наук» (термин Бэкона), за ту задачу программы «великого восстановления»
Бэкона, которую выдвигали интеллектуалы-революционеры XVII в. и пытались
решить в учреждении Королевского общества, но, как выяснилось к началу XIX в.,
не нашли для нее адекватного решения.
Основное обвинение в адрес Королевского общества включало небрежение к
исследованиям и неспособность обеспечить процессу продвижения наук
публичную поддержку. Хакорт в 1830 г. писал, что созданное по бэконовской модели
дома Соломона Королевское общество утратило со временем свою
эффективность: «В отличие от смелого начала оно сегодня, и это приходится признавать,
не является ни местом работы самих исследователей, ни органом организации
исследований других» [200, с. 46]. Соответственно в проекте устава Британской
Ассоциации предлагалась формулировка: «Ассоциация должна состоять из тех, кто
либо сам пишет по научной тематике, либо же активно поддерживает научную
деятельность исследователей» [200, с. 78].
588
M. К. Петров
Уже на этапе обсуждения и подготовки учредительных документов возобладал
предложенный Робинсоном принцип: «чем меньше для начального периода будет
принято ограничивающих правил, тем лучше» [200, с. 77]. Этот принцип
перемещал центр тяжести институирующей деятельности инициативного ядра
Британской Ассоциации на роль «привратника» в мертоновском ролевом наборе члена
научно-академического сообщества [140, с. 520]. Иными словами, принцип
переводил деятельность по разработке устава Ассоциации и всей совокупности
социализирующих научный продукт правил и критериев оценки, опознания,
идентификации из подобающей этому виду деятельности статики единожды принятых
«конституционных» решений в динамику «прецедентов», оперативно
переводящую в правило частные процедуры опознания научного продукта по минимуму
общих критериев. В 1838 г., когда история Британской Ассоциации насчитывала
уже семь годичных собраний после «перипатетического» тура: Йорк—Оксфорд-
Кембридж—Эдинбург—Дублин—Бристоль—Ливерпуль, Филлипс писал Хакорту
(оба из ядерной двадцатки): «Члены Ассоциации знают обычно много о тех темах,
которые относятся к знанию высокого качества, но это качество сообщено
дискуссионным темам множеством людей, которые не являются ни авторами, ни
профессорами, ни докторами» [200, с. 451].
Вместе с тем эта готовность признать на правах прецедента научный продукт,
удовлетворяющий минимуму требований (наблюдаемость, верификация),
превратить «силами множества людей» частный результат в дискуссионную тему
высокого качества не исключала жесткой централизации инициатив, монополии на
инициативы ядерной группы: «Принцип государства в государстве, который
правит в Ассоциации, — писала в 1836 г. «Литературная газета», критически
настроенная к Ассоциации, — выявляется в том, что ни одно предложение или
мероприятие не принимаются к обсуждению, если они не исходят от собственных
авторитетов Ассоциации. Рядовым членам, которые берут на себя смелость входить
с предложением без санкции авторитетных инстанций Ассоциации, бесцеремонно
затыкают рот, предлагая им выслушивать более авторитетных джентльменов,
которые по должности должны считаться мудрее и лучше» [200, с. 448].
Это объединение двух взаимоисключающих принципов: признания на правах
прецедента либо научного продукта по минимуму предустановленных критериев
идентификации и монополии немногочисленного ядра Ассоциации на
инициативу, шло за счет развития промежуточных организационных структур
интеграции — Секций: «Британская Ассоциация во многом черпала силы из соединения
под единым флагом науки несовместимых идей и структур. Убежденный в
необходимости сохранения гармонии Хакорт первоначально противился идее любых
делений в самой Ассоциации:"наука или хотя бы знание должны были оставаться
едиными и неделимыми. В 1831 г. Хакорт настоял на своем: на учредительном
собрании в Йорке секций не было — дело науки было представлено единым
открытым форумом к немалому беспокойству тех, кто хотел бы сосредоточить
внимание на отдельных науках. Но за кулисами парадных сцен быстро шли на
уступки. Разнообразие естественных наук нашло отражение в создании 6
подкомитетов науки, существование и обязанности которых были включены в устав
Ассоциации» [200, с. 452].
Динамика процесса роста соединительной организационной ткани между
исследователями на переднем крае и сохраняющим монополию на инициативы
ядром Ассоциации развертывалась в пересмотре числа, номенклатуры и
организационного оформления Секций на очередных годичных собраниях Ассоциации:
1831 г. (Йорк). 6 подкомитетов: математических и физических наук; химии;
минералогии; геологии и географии; зоологии и ботаники; механических
искусств. Не использовались цифровые или буквенные обозначения. Термин
«секция» не употреблялся.
1832 г. (Оксфорд). 4 секции и 4 комитета науки:
История европейской культурной традиции и ее проблемы 589
I. Чистая математика, механика, гидростатика, гидравлика, чистая и
физическая астрономия, метеорология, магнетизм, философия тепла, света и звука.
II. Химия, минералогия, электричество, магнетизм.
III. Геология и география.
IV. Зоология, ботаника, физиология, анатомия.
Каждая Секция имела назначенного председателя и секретаря.
1833 г. (Кембридж). 6 секций и 6 комитетов науки:
I. Математические и физико-математические науки (астрономия, механика,
гидростатика, гидравлика, свет, звук, теплота, метеорология и механические
искусства).
II. Химия, электричество, гальванизм, магнетизм, минералогия, химические
искусства и производства.
III. Геология и география.
IV. Естественная история (ботаника и зоология).
V. Анатомия и медицина.
VI. Статистика.
1834 г. (Эдинбург). 6 секций и 6 комитетов науки:
I. Математика и общая физика.
II. Химия и минералогия.
III. Геология и география.
IV. Естественная история и ботаника.
V. Анатомия и медицина.
VI. Статистика.
1835 г. (Дублин). 6 «секциональных комитетов» и 6 секций, обозначенных
буквами:
A. Математика и физика с подсекцией механики.
B. Химия и минералогия.
C. Геология и география.
D. Зоология и ботаника.
E. Анатомия и медицина.
F. Статистика.
С 1835 г. и далее Секции имели президентов, вице-президентов и секретарей.
1836 г. (Бристоль). 7 «секциональных комитетов» и 7 секций:
A. Математические и физические науки.
B. Химия и минералогия.
C. Геология и география.
D. Зоология и ботаника.
E. Медицинские науки.
F. Статистика.
G. Механические науки.
1837 г. (Ливерпуль). 7 секций как и в 1836 г., но отдельный президент и
секретарь для географии в Секции «С».
1838 г. (Ньюкасл). 7 секций как в 1837 г. с президентом и секретарем для
географии.
1839 г. (Бирмингем). 7 секций как в 1837 г., но Секция «С» — геология и
физическая география, причем президент и секретарь только для географии.
1840 г. (Глазго). 7 секций как в 1839 г., с президентом для физической
географии.
1841 г. (Плимут). 7 секций как в 1839 г., но без отдельного президента для
географии.
1842 г. (Манчестер). 7 секций как в 1841 г.
1843 г. (Корк). 7 секций как в 1839 г., но в Секции «В» подкомитет
«приложений к агротехнике и искусствам», отдельный президент для географии.
1844 г. (Йорк). 7 секций как в 1843 г., но без отдельного президента для
географии.
590
M. К. Петров
1845 г. 7 секций как в 1843 г., но Секция «Е» переименована в секцию
физиологии [200, с. 453—454].
Хотя, как это видно из 15-летней последовательности годичных собраний
Ассоциации изменения числа и предметного состава Секций не были особенно
впечатляющими (6—7 секций с уподобленными организационными структурами уже
с Кембриджского 1833 г. собрания стали нормой), за движением этой
опосредующей периферию эмпирии познания на переднем крае и инициативное ядро
Ассоциации структуры скрывается, что и подчеркивают Моррелл и Тэккри, переход
от одной модели предмета научного познания или, точнее говоря, модели мира
открытий, к другой, существенно отличной: «Джентльмены науки были одной из
партизанских групп, формирующих конкретную идеологию науки. Этой
идеологии предстояло оказать значительное определяющее влияние на современный мир
и способствовать признанию роли науки как доминирующего способа
самосознания индустриального общества. Преднамеренное творение границ между
естественным, религиозным и политическим знанием, концептуализация науки как
строго ограниченного и нейтрального по отношению к ценностям царства
знания, подчинение биологических и социальных наук физическим наукам,
навязывание риторики науки, технологии и прогресса — таковы были некоторые из
путей выстраивания идеологии науки» [200, с. 32].
Для Британской Ассоциации это была задача на выживание: «Творение
приемлемой идеологии было делом насущной необходимости, если новорожденная
Британская Ассоциация намеревалась выжить как инструмент социальной
гармонии, с помощью которого могли бы быть приведены к единству соперничающие
интересы. Соответственно предельно строгими были и требования Ассоциации к
ее мужам науки. Не так-то просто было сформулировать определение науки,
которое обладало бы неотразимой привлекательностью и убедительностью. Чтобы
включить в Ассоциацию принцев крови, «младшего аптекаря» из Престона,
ведущего члена кабинета тори, лорда-канцлера вига, не говоря уже об англиканских
епископах и унитаристских богословах, или о земельных аристократах и
манчестерских заводчиках, нельзя было, понятно, действовать прямолинейно. И все же
эта задача была решена с помощью энергичного и неослабного манипулирования
соответствующими символами веры. Выразители идей Ассоциации упор делали
на способах, которыми природа и законы природы проникают в человеческий
опыт, открывая при этом дорогу к общим восприятиям, общему братству и к
общему подходу к богу-творцу природы. Незаинтересованное и непредвзятое
изучение природы, включение продуктов познания в технологический прогресс,
приближение к богу через его труды, — все это были образы, вокруг которых могли
объединяться разрозненные действующие лица. В то же время эти лица видели в
своем объединении символ порядка, надежды, социального сопричастия перед
лицом опасностей эпохи» [200, с. 32—33].
Такая стратегия Ассоциации устраивала всех: «Публичная демонстрация того,
что наука является нейтральным апелляционным судом, кладезем авторитета и
силы, объективным и беспристрастным средством к достижению желанных
целей, осязаемым объектом публичной гордости, орудием всеобщего блага,
открывала множество практических импликаций для сторонников Британской
Ассоциации. Для теологов и политиков наука становилась средством подкрепления
их претензий, которые могли теперь рассчитывать на интерпретацию в терминах
естественного или предопределенного положения человека. Для предпринимателя
или инженера наука становилась риторическим гарантом признанности
избранных ими курсов. Для преуспевающего буржуа наука становилась не только
приватным наслаждением, но и гражданским долгом. Для самих джентльменов
науки, как и для тех, кто стремился объединиться с ними, наука из длительного
интеллектуального поиска и переносчика моральных ценностей переходила в
науку — средство давления на правительство, в право на престиж и положение,
в средство ускорения карьеры, в субъект грантов, докладов, исследовательских
История европейской культурной традиции и ее проблемы 591
программ, в науку, наконец, как средство безупречного и признанного обществом
самоутверждения собственного Я» [200, с. 33].
На этой начальной стадии строительства приемлемой и полезной для всех
научной идеологии деятельность Ассоциации и ее инициативной группы
джентльменов науки преемственно трансформировала тот образ мира открытий, который
был зафиксирован в концепте «Книги Природы», написанной христианским
богом-Автором по обычным книжным нормам интеллектуальных
трудов-рукописей и «опубликован» богом-Автором в природе, как вполне конкретный,
целостный продукт божественного всеведения и всемогущества в назидание
человечеству в функции предмета человеческого познания. Концепт «Книги Природы»
служил интеллектуалам-революционерам XVII в. для обоснования программы
«великого восстановления» и в частной своей импликации обосновывал идею
реализации Королевского общества как «дома Соломона» или информационного центра,
собирающего и приводящего в единство результаты попыток интеллектуалов
прочитать «Книгу Природы».
Эта книжная модель мира открытий, широко использованная учредителями
Королевского общества, остается в активе риторики джентльменов науки,
выступающих от имени Ассоциации и формирующих идеологию и политику
Ассоциации. Но концепт «Книги Природы» транспортируется ими и принимает под их
усилиями «не книжную» форму дисциплинарной иерархии знания, на вершине
которой располагаются физико-математические дисциплины, что и представлено
в порядке следования Секций, который подчинен реализованным в
дисциплинарной практике степеням измеримости, моделирования, количественного
представления качества. Вместе с тем эта возникающая иерархическая модель мира
открытий несет явные черты переходности. Она хотя и открывает дорогу к
современной модели мира открытий, фрагментированного дисциплинарными
парадигмами во множество автономных предметных или проблемных областей научно-
дисциплинарного познания, не является, в отличие от немецкой модели, прямым
движением к современной мультифацетной модели мира открытий, но тяготеет
скорее к «Книге Природы», чем к современному представлению о предмете
научно-дисциплинарного познания: «Джентльмены науки не были озабочены
наукой в том смысле профессионального научного познания, которое играет роль
средства к жизни. Их интересовала скорее наука, как занятие или личное
призвание тех, кто обладал уже финансовым достатком и обеспеченностью.
Соответственно их карьерные интересы и обязательства располагались в
интеллектуальных размерностях статуса и престижа на возрастном периоде моральной и
евангелической зрелости. «Свободный и непредвзятый» джентльмен мог с помощью
науки найти свое истинное Я в национальной духовной элите. В этом смысле
идею Британской Ассоциации проще понять, проследив за тем, как срастаются
ее социальные формы и научное содержание, как эти формы и содержание
выстраивают нормы деятельности джентльменов науки. Если мы рассмотрим эти
интеллектуальные нормы и обязательства, они вернут нас к условиям, в которых
наука должна рассматриваться как объект общенациональной заботы и как
подходящий центр-фокус для становления широкой эклектической и эзотерической
ассоциации» [200, с. 33].
Для обозначения членов этой весьма пестрой по социальному происхождению
и социальному положению группы приобщенных к такой национальной
эзотерической ассоциации Моррелл и Тэккри используют несколько терминов
«духовные», «интеллигенция», «джентльмены» в отличие от «мужей науки», всякий раз
оговариваясь, что речь идет об английском национальном типе классически (по
программам тривия и квадривия) образованного человека, который не является
ни ученым в современном смысле, ни интеллектуалом, ни естественным
философом в терминах XVII в., ни «мужем науки», ни русским интеллигентом. Это
специфически английский национальный продукт, для которого член инициативного
ядра Ассоциации Уивелл впервые применил на Кембриджском собрании 1833 г.
592
M. К. Петров
термин «сайентист», хотя этот термин привился далеко не сразу, и уж во всяком
случае не содержал в 1833 г. на правах необходимого признака обязательного
присутствия в личной истории «сайентиста» формального курса студенческой и
аспирантской подготовки. Дело, понятно, шло к этому, но именно в английской,
созданной усилиями инициативного ядра Ассоциации организационной модели
института науки процесс дисциплинарной дифференциации, специализации и
междисциплинарного информационного сепаратизма — «коридорных ситуаций»
был задержан практически до конца XIX в., а с точки зрения универсального для
развитых стран образца подготовки научных кадров: выпускник
общеобразовательной школы — студент — аспирант — исследователь (переход Ту-Тд-Тг) и до
середины XX в.
При всем том преобразования, вызванные деятельностью инициативного ядра
Ассоциации в структуре мира открытий, степень отхода от концепта «Книги
Природы» были весьма ощутимы. Начало этого процесса преобразований Моррелл и
Тэккри связывают с собранием 1833 г. в Кембридже: «С 1833 г. точка зрения
Ассоциации на то, что образует истинную науку, тяготела более к Ньютону, чем к
Бэкону, к Уивеллу, чем к Хакорту. По этому взгляду истинная наука должна быть
основана на медленной кумуляции индуктивных наблюдений и надежно
проверенных экспериментом результатах. Только на базе таких наблюдений и
экспериментальных данных может быть правомерно проведена математическая
генерализация. Наиболее полное британское выражение эта идеология науки получила
в работах Уивелла «История индуктивных наук» и «Философия индуктивных
наук». В «Истории» в развернутом виде даются знакомые темы Уивелла: что
факты и идеи должны двигаться сообща, чтобы порождать науку; что прогресс в
науке состоит в собирании средствами индукции общих законов из частных
фактов и в объединении этих законов в более высокие генерализации; что успешное
применение индукции объясняет, «почему некоторые части знания могут быть
отобраны из общей массы и названы НАУКОЙ»; что физическая астрономия
была первой совершенной индуктивной наукой и парадигмой индуктивной
генерализации; что ньютоновская индукция всеобщего тяготения была величайшей из
когда-либо предпринятых научных генерализаций» [200, с. 271].
Иерархические построения Уивелла, выражавшие идеи Кембриджской Сети,
легли в основу процесса активного преобразования мира открытий: «Сила
интерпретации науки Уивеллом выявлялась главным образом в решениях и действиях
Ассоциации. Иерархия наук проявлялась различными путями. Первой секцией
была Секция «А», отданная физическим и математическим наукам. Секция «А»
была, понятно, и основным получателем исследовательских фондов, которые
удавалось Ассоциации и ее парламентскому лобби выжать из правительства.
Доминирующее положение Секции «А» хорошо согласовывалось с исключением из
Ассоциации френологии и педагогики, скудной поддержкой антропологии и
медицины, неохотным признанием агрономии и географии, с ограничением
статистики процедурами вычислений. Влияние Секции «А» и поддерживаемые ею взгляды
на истинную науку были замечены не только противниками, но и трезвыми
друзьями Ассоциации. В 1836 г., к примеру, «Литературная газета» жаловалась, что
основное зло, осаждающее Ассоциацию, не колебания геологов и не странные
разглагольствования ее представителей, а догматическая авторитарность,
привнесенная нетерпимостью фракции кембриджцев, предводимых Уивеллом. Вторил
ей, и в более горькой форме, «Френологический журнал», который справедливо
указывал на то, что управление Ассоциацией узурпировано группой людей,
известных в физических и математических науках, которые монополизировали
власть в Ассоциации и право распределять ее ресурсы» [200, с. 273].
В 1839 г. Боуден писал: «Физическая наука, иными словами наука о материи
и материальных вещах, нагло приписывает себе сегодня монопольное право
называться наукой» [200, с. 276]. Моррелл и Тэккри показывают, что в этом и
состояла механика преобразования предмета научного познания, мира открытий:
История европейской культурной традиции и ее проблемы 593
«Британская Ассоциация существовала ради продвижения науки. Под
обманчивой простотой этой провозглашенной цели скрывались глубокие проблемы
определения. Наука не является абсолютом данным по природе, но лишь
конструктом, преобразуемым человеком в конкретных исторических ситуациях. Некоторые
интеллектуальные виды деятельности легко укладывались в предписанный взгляд
на природу истинной науки, который защищался джентльменами науки, тогда
как другие не укладывались. Высокое духовенство, к примеру, не требовало
представительства в новой Ассоциации, хотя и с неодобрением относилось к ее
попыткам установить монополию на истолкование слова «наука». Френологи, по
контрасту, и некоторые педагоги-просветители предпринимали отчаянные
попытки вписаться в Ассоциацию и встать под ее знамена. Поначалу им кое-что
удавалось, но затем они встретили упорное противодействие самозванных
привратников и хранителей истинной науки. Эти новоявленные привратники
рассматривали как нечто чуждое, расположенное за пределами сокровища, которое они
взялись охранять, филологию, метафизику и музыку. Агрономия, этнография,
география испытали много превратностей и, пройдя через усечения, были в конце
концов приняты в избранный круг науки. Особенно остро ставились проблемы
определения в случае с медициной: шли споры о том, не следует ли Ассоциации
ограничиться признанием физиологии или анатомии, либо же включить и
медицинскую практику, здравоохранение. Некоторые направления исследования
природы и человека были, таким образом, постепенно определены, как
периферийные или даже, как находящиеся за пределами интересов Ассоциации. Границы
между приемлемыми и неприемлемыми видами интеллектуальной деятельности
создавались как социальные по природе: вся наука признавалась знанием, но не
все знание — наукой» [200, с. 276].
Но в этих в значительной степени произвольно определяемых критериях
селекции наличного знания на научность, на принадлежность к кругу истинных
наук с самого начала участвовал формальный и крайне интересный для нас
критерий оперативного определения конфигурации переднего края данного
исследовательского направления — способность исследователей или исследовательских
групп, если они претендуют на признание, представить накопленное в согласии
с их представлением о научности знание в понятной для всех членов Ассоциации
форме, то есть в рамках единого для Ассоциации значения тезауруса. Впервые
эту идею оформления научного продукта в периодически обновляемых докладах
предложил Хакорт, которого тут же поддержал и перевел идею в процедуру Уи-
велл: «Когда Хакорт вчерне формулировал собственные идеи относительно
Британской Ассоциации, он писал и о необходимости процедуры, позволяющей
«следить за картой науки», чтобы быть в любое время в состоянии сказать: «Здесь
берег, где требуются более точные промеры глубин, а здесь — береговая линия,
вдоль которой следует предпринимать новые вояжи открытий». Уивелл
трансформировал эту метафору в выполнимый конкретный курс действий, предложив
полномочные формальные доклады комитетов Секций о текущем состоянии
различных наук. Хакорт, которому для проектируемой Ассоциации необходим был
устойчивый порядок дня, предполагающий активность членов и выявление
руководящей роли Ассоциации, горячо принял это предложение. Соответственно в устав
Ассоциации на учредительном собрании 1831 г. была введена формулировка,
которая требовала от комитетов науки «следить за подготовкой докладов о
состоянии и прогрессе конкретных наук, которые должны время от времени
представляться компетентными лицами для информации годичных собраний» [200,
с. 474-475].
После учредительного собрания в Йорке основные заботы по проведению в
жизнь этого пункта устава взял на себя Уивелл: «Уивелл стал главным
доверенным лицом Хакорта по докладам и поиску авторов докладов с осени 1831 г. К
середине октября Уивелл сам взялся написать доклад по минералогии (по
тематике кафедры в Кембридже, которой он в ту пору заведовал). Он же уговорил
38 М.К. Петров
594
M. К. Петров
Эйри принять предложение написать доклад по физической астрономии. Уивелл
также ответствен за авторство доклада по математике. Когда Гамильтон, первая
кандидатура Уивелла, отказался от предложения Уивелл сумел уговорить Пикока,
своего коллегу по колледжу Троицы в Кембридже, и Пикок в 1833 г. представил
весьма пространный доклад по ряду отраслей математического анализа. Уивелл
также убедил писать доклады Джеймса Камминга и Джона Линдли. Таким
образом, принятая Хакортом помощь Уивелла обернулась началом вторжения кемб-
риджцев в Ассоциацию. Уивелл считал, что в ведущих науках крайне важно иметь
отчеты об основных недавно решенных проблемах и о том, что волнует в данный
момент исследователей в Британии и за ее пределами. Он полагал также, что
Ассоциация не может своими силами создавать или направлять исследовательские
способности к достижению конкретных открытий, которые невозможно
предвидеть, но доклады определенно могли бы помочь исследователям в их
самоопределении. Хакорт и Бакленд (избранный в 1831 г. президент Ассоциации)
полностью соглашались с Уивеллом. Бакленд к тому же в общих чертах понимал, что
доклады могут оказывать тройную пользу: в рассмотрении предложений о
желательных исследованиях; в обеспечении невмешательства в научные публикации
журналов существующих уже обществ; в обеспечении надежными материалами
президентских речей как на собраниях Ассоциации, так и для официальных
выступлений представителей Ассоциации на собраниях других обществ. К тому же,
сама возможность выслушивать компетентные и авторитетные доклады, как
замечал Коунибиар, была бы «весьма привлекательной формой вознаграждения за
членские взносы». Для честолюбивых ученых, таких как Форбс и Джонстон,
весьма соблазнительным представлялось членство в комиссиях. На более скромных
уровнях быть благосклонно упомянутым в докладе означало получить
постоянный импульс к действию. Но для членов ядерной группы Ассоциации доклады
прежде всего стали проводниками их определений истинной науки и средствами
утверждения их личных исследовательских программ» [200, с. 475].
Потребовалось, понятно, время, чтобы отработать стандартную форму
докладов в терминах листажа, порядка изложения, научного аппарата, степени
детализации, частоты представления: «Становление универсальных черт докладов
потребовало времени. Идея их ежегодного возобновления с поправками и
дополнениями, предложенная Берцелиусом, с самого начала оказалась невыполнимой. В
действительности же возникло общее убеждение в том, что доклады должны быть
«не столько простой адаптацией к публичным понятиям», но скорее «принять
вид, позволяющий тем, кто берется за изучение науки, устанавливать, откуда им
следует начинать прилагать собственные усилия», а также и тем, кто «ведет
исследования в одной области науки, учиться общаться с исследователями в других
областях». Обозначилась и проблема реферирования таких докладов. Всегда
подозревающий интриги Фиттон утверждал, что если на годичном собрании будут
зачитываться только выдержки из докладов, для их авторов всегда будет
оставаться возможность высказывать свое особое мнение и публиковать отвергнутые
версии со ссылками на санкцию Ассоциации. Его пугало и то, что недостойные и
некомпетентные люди могли бы добиваться права стать автором доклада. План
Фиттона об организации анонимного реферирования решительно отвергался
Хакортом и Уивеллом. При этом Хакорт считал, что в принципе должно быть
различие между утвержденными комиссиями докладами и случайно предлагаемыми
отчетами. Но так или иначе, он как редактор публикаций Ассоциации выражал
уверенность в том, что вежливая беседа с автором предпочтительнее «вторжения
потенциальных докладчиков в доклады». Уивелл же выдвигал против идей
Фиттона два практических возражения: авторы вряд ли мирно примут реферирование;
к тому же, и это более важно, было бы опасно вовлекать в реферирование
Ассоциацию, возлагая на нее тем самым ответственность за взгляды, выраженные в
докладах» [200, с. 475—476].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 595
Доклады Ассоциации быстро завоевали репутацию: «Серьезность этого жанра
научной литературы выявилась уже в 1832 г. Форбс представил рукопись в
130 страниц по метеорологии, которая была сокращена для публичного чтения,
как и 40-страничный доклад Уивелла по минералогии. Когда же они были
опубликованы, то доклады Джонстона, Эйри, Форбса, Коунибиара, Уивелла, Поуэл-
ла — все оказались по объему более 40 страниц. Коунибиар взял на себя
инициативу разослать оттиски докладов во Францию, Италию и Германию. В 1835 г.
Ллойд признавал, что доклад Ассоциации обеспечивал его автору большее
признание, чем публикация в «Записках» Королевской академии Ирландии. Объем и
качество докладов стали наилучшим свидетельством уникальности Ассоциации.
Доклады отличались от простых систематизирующих трактатов и от
популяризаторских работ по прикладной науке. Их назначением и основной задачей, как
подчеркивал Форбс в 1834 г. было «так классифицировать известные уже
открытия, чтобы вести к полному и ясному знанию того, что уже сделано в любой
конкретной науке». Он только умолчал о том, что когда ясные области будут
отражены в докладах, трудно станет поддерживать поток таких систематизирующих работ,
на которые он, Хакорт и Уивелл возлагали так много надежд. Прав оказался
Брюстер, когда он предсказывал, что как только авторы докладов пройдут весь
круг наук, жанр докладов о состоянии наук будет исчерпан. Девять работ этого
рода было опубликовано в «Докладах» 1832 г., восемь — в «Докладах» 1833 г.,
семь — в «Докладах» 1834 г. и только три в «Докладах» 1835 г.» [200, с. 476].
Но эта самоочевидная исчерпаемость предмета научного познания или мира
открытий, если критерии селекции наличного знания на научность, на
принадлежность к миру научных открытий достаточно четко определены, а в доклады
входит только известное уже и подтвержденное экспериментально знание, не
очень-то беспокоила, по мнению Моррелла и Тэккри, членов инициативной
группы Ассоциации, коль скоро практика подготовки санкционируемых
комитетами докладов отсекала возможность активного авторского участия рядовых
членов Ассоциации и прежде всего провинциалов: «Написание докладов лежало за
пределами досягаемости большинства провинциальных членов Ассоциации и
вполне естественно дело оказывалось в руках жителей столицы. Только они
располагали набором предпосылок, образующих условия осуществимости солидной
подготовки доклада: многообразием информации, широкими знакомствами с
людьми науки, доступом к фондам главных библиотек, навыками использования
научной символики, свободным временем. Уже к годичному собранию 1832 г.
стало очевидно, что авторы докладов Ассоциации разрабатывают по
преимуществу область физико-математических наук. Не менее ясным к тому времени стало
и то, что доминирует в этом деле Кембридж через своих преподавателей (Эйри,
Комминг, Уивелл), новообращенных (Форбс), бывших студентов (Лаббок)...
24 доклада, опубликованные в 1832—1834 гт. имели ярко выраженное тяготение
к математическим и физическим наукам. В их числе доклады: по астрономии
(Эйри), по излучению тепла (Поуэлл), по гидростатике и гидродинамике (Чал-
лис), по математическому анализу (Пикок), по капиллярности (Чаллис), по
физической оптике (Ллойд). В дополнение к этому три доклада имели дело с тем,
что Кэннон окрестил «гумбольдтианской» наукой — то есть с физикой земли,
рассматриваемой с географической точки зрения с целью точного измерения
данных относительно обширных областей ради выявления количественных
отношений, часто выражаемых картами, графами и эмпирическими формулами. В эту
тройку входили: доклад по приливам (Лаббок, 1832), по метеорологии (Форбс,
1832), по земному магнетизму (1833). Таким образом, чуть менее половины
ранних докладов покрывали науки, которые включались в Секцию «А». Из 10
авторов по физическим наукам 4 были из Кембриджа (Эйри, Камминг, Чаллис,
Пикок), тогда как Лаббок, Форбс и Ллойд имели с Кембриджем теснейшие связи.
Большинство авторов Секции «А» в эти годы были кембриджскими
математиками, физиками и их союзниками» [200, с. 477].
38*
596
M. К. Петров
Науки, из которых после собрания в Дублине 1835 г., сложились шесть
остальных секций, представлены на периоде 1832—1834 гг. значительно беднее.
Статистика вообще не получила места. Медицинские науки были представлены тремя
докладами, авторами которых были два провинциала и один кембриджский
профессор по физиологии и нервной системе (У.К.Генри, 1834), по инфекционным
болезням (У.К.Генри, 1833); по физиологии животных (Кларк, 1834). Три доклада
имели дело с попытками теоретического анализа проблем механических искусств:
по сопротивлению материалов (Барлоу, 1833); по гидравлике, ч. I (Дж.Ренни,
1833); по гидравлике, ч. II (Дж.Ренни, 1834). Хотя геология была достаточно
популярной наукой в Ассоциации, она также была представлена только тремя
докладами: по геологии (Коунибиар, 1832); по жильным породам (Тейлор, 1833); по
американской геологии (Роджерс, 1833). Науки Секции «В» также получили
минимальное представительство одним докладом по химии (Джонстон, 1832); и одним
докладом по минералогии (Уивелл, 1832). Секция «D» была только намечена
одним докладом по ботанике (Линдли, 1833) и докладом по зоологии (Дженнинс,
1834). Из 12 авторов докладов по наукам, распределенным в секции от «В» до «G»,
только двое были из Кембриджа (Кларк и Уивелл)» [200, с. 477—478].
По исчерпании предмета классифицирующих описаний признанного круга
наук назначение и структура докладов начинают меняться: «После 1834 г.
доклады о состоянии конкретных наук становятся в подчиненное положение по
отношению к докладам, обеспечивающим исследовательские программы Ассоциации.
Изначальный жанр доклада, как он был задуман Уивеллом, Хакортом и Форбсом,
хотя он и не исчез полностью, стал постепенно вытесняться исследовательскими
докладами по мере того, как доклады-проводники к дискуссионной научной
почве становились подчиненными средствами для демонстрации новых
результатов, полученных с помощью экспериментов, наблюдений, математической
техники. Это изменение во многом обязано тому, что ведущие члены Ассоциации
усматривали теперь в таких докладах полезные средства для продвижения их
собственных исследовательских программ, для расширения патронажа, для
воздействия на правительство. По этим причинам количество докладов снова резко
увеличилось. Иметь исследовательскую программу, признанную Комитетом по
рекомендациям, который с 1834 г. стал инструментом определения приоритетов, стало
важным актом признания. После 1834 г. подготовка доклада часто предполагала
заявку на финансирование из фондов Ассоциации. Иногда это значило получить
голос в формировании лобби. В этом смысле доклады оставались мощным
оружием в руках доминирующей клики и рассматривались как полезные каналы
обеспечения индивидуальных карьер» [200, с. 478—479].
Моррелл и Тэккри вносят ясность в определение периметра, внешней
границы Т-континуумов стран европейской культурной традиции, показывают, что
публикация, серийность и институциональность вошли через доклады
Британской Ассоциации в существующий и поныне синтез интернационального
процесса научной коммуникации и подготовки научных кадров, но они почти ничего
не говорят о наиболее интересном для нас предмете — о возникновении контура
онаучивания общества, к которому у нас накопилось множество претензий, хотя
именно Британская Ассоциация первой, похоже, всерьез занялась проблемой
онаучивания общества в бытующем сегодня представлении о механизме этого
процесса.
В юбилейном сборнике «Парламент науки», посвященном 150-летию
Британской Ассоциации мы обнаруживаем анализ интересующего нас материала в статье
Д.Лейтона «Наука в школьных программах Англии 1854—1939 гг.» [202].
О теме своей работы Лейтон пишет: «В Историю Британской Ассоциации
вплетаются две преемственных нити деятельности по поводу образования. Одна,
тема данной работы, носит инструментальный характер; ее задача — помочь
Ассоциации реализовать ее основную цель — продвижение науки. Другая,
возникшая позже в симбиозе с развертыванием общенациональной системы образования
История европейской культурной традиции и ее проблемы 597
в Британии, начала с опредмечивания институтов, практик, результатов
образования в особую область научного изучения как источник данных для попыток
создать «науку об образовании». В 1901 г. обе нити сошлись в заново
учрежденной Секции «L», деятельность которой включала изучение управления,
экономики, философии, психологии и социологии образования, а также и обучение
большинству предметов. К 1946 г. актуальность этой проблематики и анахронизм
надежд основателей Секции были признаны в замене ее названия. Раньше Секция
«L» называлась «Наука об образовании», теперь «Образование». Оценка вклада
Ассоциации в теорию и практику образования на всем образовательном фронте
выходит за пределы нашей работы, поэтому изложение ограничено анализом
центральной и длительной деятельности Ассоциации по созданию, насаждению и
выращиванию в головах учеников семян научности с акцентом на формировании
программ преподавания науки ради обеспечения целей науки в школах второй
ступени» [202, с. 188].
Начало формальных контактов Ассоциации с проблемами образования Лейтон
относит к середине XIX в.: «Первая организованная экскурсия Британской
Ассоциации в проблематику образования была проведена силами ее Парламентского
комитета в годы после Всемирной выставки 1851 г. Парламентский комитет
Ассоциации, учрежденный в 1849 г. нес изначально функцию надзора за
соблюдением интересов науки в разработке единиц измерения, которые могли бы быть
представлены на рассмотрение парламента. Душой и пожизненным председателем
этого комитета был лорд Роттесли, президент Королевского общества с 1854 по
1858 гг., предусмотрительный и умеренный реформатор, который настаивал на
учреждении Палаты Науки и на усилении государственной поддержки науки
несколькими годами раньше, прежде чем за это дело взялись люди типа полковника
Александра Стрейнджа. Ассоциация, которая прежде неохотно бралась за
образовательную тематику, поскольку она могла бы загрязнить науку религиозными и
политическими разногласиями, значительно изменила свое отношение к
образованию в середине 1850-х гг. Три подряд ее президента 1854, 1855 и 1856 гг. в
своих докладах-посланиях значительное место уделяли необходимости того,
чтобы университеты и школы обращали больше внимания преподаванию науки.
В 1855 г. герцог Аджил доказывал в своем докладе, что продвижение науки
зависит «прежде всего от лучшего и более признанного положения науки в
образовании молодежи». Недавно проведенные реформы в старых университетах и
заново учрежденный Отдел науки в Департаменте Науки и Искусств
воспринимались тогда как обнадеживающие события, которые обещали лучшее будущее. В
этом оптимистическом ключе граф Хэрроуби, президент Ассоциации 1854 г., член
Комиссии, назначенной по Акту парламента об Оксфордском университете и
член Парламентской комиссии Ассоциации в своем докладе утверждал, что
намечавшиеся в то время изменения в образовании «вскоре получат такие средства
адекватной научной подготовки, которые удовлетворят все наши нужды этого
рода». Именно в этом доброжелательном климате общественного мнения
Парламентский комитет Ассоциации начал в 1854 г. проводить зондирующее
исследование научных мнений по вопросу: «Возможны ли какие-либо меры, одобренные
правительством или парламентом, которые оказались бы в состоянии улучшить
положение науки или ее культиваторов в Британии?» [202, с. 188—189].
Ответы на этот вопрос прислали многие ученые, и анализ этих ответов был
представлен Роттесли годичному собранию Ассоциации в Глазго в сентябре
1855 г. в форме обширного доклада. Лейтон так описывает основное содержание
доклада: «Отвечая сначала на вопрос: «Каким способом можно расширить знание
науки?», доклад делил население Британии на две группы. Для первой группы —
избранного меньшинства, получающего университетское образование, —
доказывалось, что от каждого поступающего в университет следует требовать
определенного минимума знаний физической науки. Эта мера должна была форсировать
введение научных предметов в программы тех школ, выпускники которых посту-
598
M. К. Петров
пают в университеты. Для второй группы — основной части населения страны —
рекомендовались бесплатные или дешевые уроки-лекции с демонстрацией
экспериментов, завершаемые предположительно некой системой экзаменов и наград.
Второй раздел доклада Роттесли отвечал на вопрос: «Как стимулировать
изучающих и практикующих науку?». Большинством опрошенных предлагалось более
справедливое распределение наград и мест в колледжах между представителями
научных и ненаучных предметов. В качестве полезной меры предлагалось также
включение физической науки в структуру конкурсных экзаменов типа тех, что
недавно были рекомендованы для замещения должностей Гражданской Службы
Индии. В третьем и последнем разделе доклада трактовалась проблема
государственной поддержки науке, научным исследованиям и особенно вопрос о
Министерстве или Палате Науки. Доклад завершался серией из 10
предложений-руководств к действиям, содержание 5 из которых относилось к образованию» [202,
с. 189-190].
В общих чертах Лейтон описывает дальнейшую судьбу этих
предложений-рекомендаций: «Отношение к этим предложениям в самой Ассоциации было
противоречивым. Они затем были переданы на рассмотрение Совету Королевского
общества и правительственному Комитету по грантам, но оказались не в
состоянии получить поддержку со стороны университетских ученых того времени, ни
стимулировать законодательство правительства. При этом мнения ученых
разделились не только по вопросу о государственном вмешательстве в продвижение
науки. К примеру, в предлагаемой Палате Науки видели потенциального
узурпатора функции, которую мог бы выполнять расширенный для этой цели Совет
Королевского общества. При всем том работа Парламентского комитета Ассоциации
была значительным вкладом в формирование общего взгляда Британской
Ассоциации на научное образование. Суверенной целью, положенной в основание
зондажа 1854 г., было продвижение научной деятельности, и для этой цели
образование играло четко оформленную инструментальную роль» [202, с. 190].
Лейтон находит эту исходную постановку вопроса интересной в трех
отношениях: «Во-первых, основным фокусом забот было образование социальной элиты,
конкретно тех, кто проходил курс университетов Оксфорда и Кембриджа и,
соответственно, тех публичных школ, воспитанниками которых они были. Это
происходило не потому, что научные исследования рассматривались как монополия
высшего класса — было достаточно свидетельств тому, что удачливые
исследователи-практики приходили в науку из всех слоев общества. В какой-то степени
такая фокусировка интереса объяснялась стремлением создать более
благоприятное восприятие науки в среде тех, кто от имени нации принимает решения и кто
будет избираться из числа получивших образование в институтах, о которых
проявлялась наибольшая забота. Были однако и другие достаточно существенные
соображения. С точки зрения Роттесли одним из следствий государственного
вмешательства в образование как на уровне элементарных школ, так и на уровне
школ для взрослых ремесленников и рабочих — предмете забот Департамента
Науки и Искусств — было бы появление неравенства в распределении научного
знания по различным классам общества. В порядке иллюстрации-сравнения он
противопоставлял успеваемость по научным предметам детей бедняков в
индустриальных и других школах с успеваемостью детей в публичных школах для
среднего и высшего классов, выявляя явное преимущество первых. Что же до
возможных социальных следствий этого улучшенного массового образования,
вытекающих для среднего и высшего классов, он заключал: «Такое состояние
общества, в котором те, кто сравнительно обделен дарами судьбы, оказались бы в
целом выше в интеллектуальном отношении тех, кто выше их по положению,
было бы неустойчивым и порочным». Как раз со ссылкой на это обстоятельство
Британская Ассоциация и Совет Королевского общества ратовали за более общее,
всеобщее насаждение науки в образование. Не должно было быть ни одной ветви
История европейской культурной традиции и ее проблемы 599
знания, к которой средний и особенно высший классы не имели бы равного
доступа» [202, с. 190].
Лейтон поясняет позицию Роттесли: «Он вовсе не выступал против развития
общенациональной системы образования для детей трудящейся бедноты. Более
того, для него образование было «великим заслоном против преступности» и
условием воспитания «уважающего порядок рационально мыслящего населения,
способного по праву гордиться своей страной и ее институтами». Его суждения
о прогрессе в этой области были в общем-то оптимистичны: «Великой и святой
целью всеобщего и улучшенного образования является законный порядок,
застрахованный от любых попыток его нарушения», — писал он в 1857 г. незадолго до
учреждения Ньюкаслской Комиссии и в тот самый год, когда наука была
низведена до статуса факультативного предмета в программах колледжей подготовки
учителей для публичных мужских школ. По пересмотренному уставу 1862 г. наука
в административном порядке была изъята из программ элементарных школ, и
восстановление ее преподавания в этих школах стало одной из целей Британской
Ассоциации, реализацией которой она с некоторым успехом занималась на более
позднем этапе своей истории» [202, с. 190—191].
Второй существенный момент касается, по Лейтону, вытекающего из доклада
взгляда на чистую науку: «Исследование Парламентского комитета Ассоциации
проводилось в момент бурных дискуссий насчет того, каким способом
использовать значительный излишек в 186436 ф. ст. от Всемирной выставки 1851 г. и по
поводу учреждения в 1853 г. правительственного Отдела по науке в рамках
Торговой Палаты. Что до излишка, то наибольшие споры вызывало предложение
затратить деньги на столичный институт прикладной науки — на политехнический
университет горного дела и промышленности. Реакция Парламентского комитета
Ассоциации на это предложение и на административную локацию в рамках
государственного департамента, ответственного за торговлю, состояла в энергичном
утверждении права абстрактной науки на финансирование, независимо от
возможных приложений ее результатов. В докладе отмечалось: «Стимулирование
практической науки значительно расширилось, и само по себе это достойно
всяческих похвал при условии, что положенный ей объем поддержки получит и
абстрактная наука. Но гений наших соотечественников столь явно склонен к
практицизму, что существует серьезная опасность сравнительного небрежения
интересами этой менее видимой ветви науки». Акцент на поддержке прикладной науки
оценивался в докладе как «первый шаг к ложной цели». В докладе Роттесли
приводилось множество примеров, иллюстрирующих задолженность
промышленности и военного дела научным исследованиям, которые проводились без каких-либо
ориентиров на прикладное использование их возможных результатов. Как
свидетельство в пользу максимы, что занятия наукой есть благо «само по себе» при
огорчительной английской склонности уважать «только работы, имеющие
практическую направленность», в докладе приводились выдержки из письма Либиха
Фарадею. Плейфер выразил эту мысль афоризмом: «Ткань науки слишком тонка,
чтобы мерить ее аршином пользы». Идеал чистой науки, освещавший
аргументацию в пользу финансирования фундаментальных исследований, был критическим
фактором того сочленения науки с прогрессивным образованием, которым была
отмечена следующая стадия образовательной активности Британской
Ассоциации» [202, с. 191].
Третьим существенным моментом доклада Лейтон считает ограничение
физикой: «Доклад Роттесли постоянно обращался к «физической науке» как к
наиболее подходящей ветви естественного знания на предмет внедрения в курсы
университетского и школьного образования. Конкурирующие претензии естественно-
исторических наук или биологии в докладе были оставлены без внимания. В
какой-то степени это могло быть отражением взглядов той группы мужей науки,
к которой адресовалось исследование. В этой группе почти не было, за
исключением Форбса, выдающихся натуралистов. Но Форбс умер в 1854 г., и только позд-
600
M. К. Петров
нее подрастающие молодые биологи типа Т.Х.Гексли обратят внимание на
образовательные материи. Частью же акцент на физической науке мог быть
выявлением того признанного взгляда, по которому основанные на наблюдениях науки,
прежде всего геология, а возможно и зоология, могли бы оказаться
неподходящими предметами для включения в программы образования, поскольку лишь
малая часть мальчиков способна была бы изучать геологию «без глубоких
потрясений их религиозной веры», как скажут несколько лет спустя члены Публичной
Школьной Комиссии» [202, с. 191].
Но препятствия возникали и по поводу физики: «Что касается ссылок на
физическую науку, как на попытку достижения взаимопонимания по вопросу о
наиболее подходящем предмете для включения в программы образования, то эта
попытка оказалась преждевременной и неудачной. Хотя вопрос был практически
важен для публичных школ, он оказался также и вопросом, подорвавшим
единство научного мнения. Позднее, оставаясь председателем Парламентского
комитета Ассоциации, Роттесли на собственном опыте убедился в этом внутреннем
«конфликте дисциплин», когда он попытался помочь провести Билль о
публичных школах через Палату лордов. Как член Комиссии по отбору, в которую
поступали петиции по поводу Билля, он уговорил других членов запросить мнение
ученых-экспертов из тех дисциплин, курсы которых предполагалось включить в
программы публичной школы. Комиссия обратилась к Гексли (биолог), Тиндаллу
(физик), Уильяму Шарпли (медик) и У.А.Миллеру (химик), но резкое
расхождение их мнений об образовательных достоинствах химии и ботаники свело на нет
инициативу Роттесли; эксперты согласились только на обязательности включения
в программу элементарной физики. Проблема содержания программ научных
курсов стала одним из отправных пунктов следующей фазы деятельности
Ассоциации в области образования, на которую оптимистически ссылался Роттесли в
последнем докладе о работе Парламентского комитета в 1867 г. незадолго до
смерти. Но к тому времени Парламентский комитет был уже для всех
практических целей сделавшей свое дело структурой и новые инициативы брали начало от
других подразделений Ассоциации» [202, с. 191—192].
Характеризуя центральную проблему следующей фазы как альянс науки и
прогрессивного образования, Лейтон пишет: «Между 1861 и 1868 гг. доклады трех
Королевских комиссий дали полное критическое представление о состоянии
школьного образования в Англии. Ныокаслская комиссия, занимавшаяся
элементарными школами, представила свой отчет в 1861 г. В этом же году Комиссия
Кларендона начала обследование источников финансирования, управления,
предметов обучения, качества преподавания в 9 известных публичных школах. Ее
доклад был опубликован в 1864 г., хотя королевская санкция этого доклада в Акте
о публичных школах была дана лишь в августе 1868 г. Опосредующие
образовательные структуры, включающие грамматические, коммерческие, частные и иные
школы, располагавшиеся между избранными публичными школами, с одной
стороны, и элементарными массовыми школами — с другой, стали предметом
обследования Комиссии Тонтона, назначенной в 1864 г. и представившей доклад в
1868 г. Лорд Тонтон, председатель Комиссии, и лорд Стенли, один из
активнейших ее членов, были в то время членами Парламентского комитета Ассоциации»
[202, с. 192].
Дискуссия шла и до работы Королевских Комиссий: «До Комиссий
Кларендона и Тонтона вопрос о включении науки в программы публичных школ и для
средних классов других школ широко обсуждался в печати, и некоторые
участники дискуссии использовали возможности годичного собрания Ассоциации
1864 г. в Ноттингеме для усиления своей аргументации. В президентском
послании У.Р.Гроув выразил сожаление по поводу того, что многие так называемые
образованные люди не обладают научными знаниями и что положение это может
быть исправлено только в том случае, если наука будет поставлена на позицию
равенства в школьных программах с классическими предметами. В Секции химии
История европейской культурной традиции и ее проблемы 601
ее президент Х.Бенс. Джоунз также посвятил часть своего доклада проблемам
образования. Но наибольшее внимание к ситуации в публичных школах привлекла
Секция «D», которая в первый раз собралась под своим новым названием
«Биология» (с подразделениями психологии и антропологии) и президентом которой
стал Гексли. Здесь из прослушанных статей наиболее плодотворной была статья
школьного учителя из Хэрроу, члена Королевского общества преподобного
Ф.У.Фаррара» [202, с. 192-193].
Лейтон пишет о деятельности Фаррара: «Он был автором серии
морализирующих повестей из жизни публичной школы. Академические работы Фаррара
связаны с классической филологией и грамматикой. Его работа по эволюционному
происхождению языков стала поводом для дружбы с Дарвином и в 1866 г.
привела его к избранию в члены Королевского общества. Его прочитанная в том же
году на собрании Ассоциации статья называлась «О преподавании науки в
публичных школах». В статье утверждалось, что наука побуждает к развитию
способности ума, отличающиеся от тех, которые развивают занятия классикой, что
существуют дети, которые «по природе невосприимчивы к классической подготовке
и которым больше по вкусу наука», что наука в ряде профессий находит прямое
практическое применение. Вместе с тем перед реформаторами школьных
программ встает ряд трудностей. Прежде всего это разногласия среди мужей науки
относительно ветвей науки, наиболее подходящих для изучения в школе.
Во-вторых, не существует пока апробированных схем изучения науки, к которым могли
бы обратиться учителя. В-третьих, среди существующих учебников по науке мало
адекватных. Наконец, это огромное давление через расписание со стороны таких
устоявшихся предметов, как классические языки, математика и современные
языки. По крайней мере три первых из этих трудностей можно было бы
преодолеть, как утверждал Фаррар, если бы Ассоциация назначила комитет, в который
входили бы мужи науки и учителя публичных школ, и предложила бы такому
комитету выработать рекомендации. Формальное решение по этому вопросу,
принятое Секцией «D», было передано в Комитет по рекомендациям, а из этой
инстанции — Совету Ассоциации» [202, с. 193].
Дальше события развивались довольно быстро: «Сразу после собрания в
Ноттингеме Фаррар списался с Гексли по поводу состава и работы предложенного
комитета. В качестве кандидатур мужей науки он называл Джона Тиндалла,
Чарлза Лайеля, королевского астронома Джорджа Эйри, а также Майкла Фарадея или
самого Гексли в качестве возможного председателя. Со стороны школьных
учителей основным требованием к кандидатам было основательное знакомство с
преподаванием научных предметов; среди кандидатур он упоминал Дж.М.Уилсо-
на из Регби, Г.У.Ф.Мортимера, бывшего директора школы муниципалитета
Лондона и самого себя. Обязанностями комитета должны были стать: рекомендация
предметов изучения; определение числа часов на обучение, методов преподавания
и подходящих учебников. «Возможно, что рекомендации комитета не будут
одобрены в других инстанциях, — писал Фаррар Гексли, — но публикация таких
рекомендаций в едином докладе, санкционированном авторитетом Британской
Ассоциации, могла бы, мне кажется, ускорить те изменения в нашем школьном
образовании, которые рано или поздно должны произойти». На заседании 15
ноября 1866 г. Совет Ассоциации назначил комитет, состоящий из Генеральных
Управляющих и Опекунов Ассоциации, а также Гексли и Тиндалла со стороны
науки, Фаррара из Хэрроу, Дж.М.Уилсона и Т.Н.Хатчисона — оба из Регби, и
Джозефа Пей на — со стороны школ. Доклад комитета, составленный Фарраром,
Уилсоном, Гексли и Тиндаллом был после одобрения комитетом в полном
составе представлен Совету Ассоциации в марте 1867 г. На ближайшем специальном
заседании Совета Ассоциации доклад о рекомендациях по научному образованию
в школах был принят и утвержден, а копии доклада были переданы президенту
Комитета конфиденциального Совета по образованию и Парламентскому
комитету Ассоциации. В то же время Генеральным Управляющим дано было указание
602
М.К. Петров
опубликовать доклад полностью. Комиссия Тонтона включила его в свой доклад,
и в марте 1868 г. доклад появился как документ парламента. В качестве
программного документа по школьному научному образованию доклад служил около
50 лет; на него ссылались в 1918 г. Комитет Дж.Томсона по естественным наукам
и в 1917 г. комитет самой Ассоциации по преподаванию науки в школах второй
ступени» [202, с. 193—194].
Лейтон приводит основную композицию доклада: «Перечислив пять
аргументов в пользу включения науки в школьные программы, причем, и это
существенно, первым в списке шел аргумент от ментальной подготовки, а заключал список
аргумент от практической пользы, авторы доклада анализировали препятствия,
возникающие на пути изменения программ. В этой части значительное место
занимали финансовые соображения, особенно стоимость оборудования школы с
лабораториями, приборами и зарплатой специализированному персоналу.
Высказывалось мнение, что английские родители не будут возражать против
дополнительных налогов на включение науки в программы подготовки их детей — мнение
излишне оптимистичное, не подтвердившееся опытом работы публичных школ
конца XIX в. Другим отмеченным обстоятельством-препятствием было отсутствие
у многих поступающих в публичные школы мальчиков арифметической
подготовки, что имело прямое отношение к обучению физическим наукам. Доклад
рекомендовал требовать от всех, претендующих на поступление в публичные школы
мальчиков арифметической подготовки. Соответственно и от поступающих в
университеты предлагалось требовать более глубоких знаний тривия и квадривия,
поскольку основания их дисциплин, необходимые для изучения науки, будут
усваиваться по программам публичной школы» [202, с. 194].
Дело, по Лейтону, не ограничивалось техническими деталями: «Основным
тезисом доклада 1867 г. было четкое различение между научной информацией —
«общее литературное знакомство с научными фактами» и научной подготовкой —
«знание методов, которые могут быть получены из изучения фактов». Оба этих
аспекта научного образования признавались ценными, но если первый
предполагал общее ознакомление с несколькими науками, то относительно второго
утверждалось, что «научные навыки ума, как основная польза от научной
подготовки лучше и основательнее приобретаются через изучение одной науки, такой как
экспериментальная физика, элементарная физика или ботаника» [202, с. 194].
Рекомендации комитета были приняты благожелательно, поскольку его
авторы гибко использовали убеждающую аргументацию: «Для прогрессивных
теоретиков образования изучение науки оправдывалось в терминах ментальной
подготовки — аргументацией, напоминающей ту, которую использовали для
доказательства необходимости классических языков и математики. Для мужей науки
звучал убедительно образовательный паритет между физическими и
биологическими науками, поскольку он поддерживал рекомендации членов Королевской
Комиссии по публичным школам. Для учителей-практиков не были забыты
ключевые образующие реформы программ обучения — даны были необходимые и
авторитетные разъяснения относительно предметов обучения, отводимого времени
(три часа в неделю) и штатов (по крайней мере один учитель естественных наук
на публичную школу). Вместе с тем доклад не содержал уточнений ни
относительно методов обучения, ни относительно того, откуда брать
учителей-естественников. К этим вопросам Ассоциации предстояло еще возвращаться в будущем»
[202, с. 194-195].
Лейтон отмечает известное несоответствие между докладом и действиями
Ассоциации: «Хотя на титуле доклада значилось «О лучших средствах повышения
статуса научного образования в школах», что вроде бы предполагало заботу о
широком круге школ второй ступени, имплицитно, а часто и эксплицитно споры
фокусировались на введении науки в программы только публичных школ. С
публикацией в 1868 г. доклада Комиссии лорда Тонтона по обследованию всех школ
второй ступени Ассоциация вынуждена была расширить круг своих образователь-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 603
ных интересов. На собрании 1868 г. в Норвиче Генеральный Комитет передал в
Совет решение, по которому в обе палаты парламента следовало войти с
петицией, требующей санкционирования преподавания науки Актом парламента, как
обязательной составляющей программ школ второй ступени на тех же основаниях
наибольшего благоприятствования, что и «наиболее почитаемые предметы
изучения». Эта петиция была представлена лордом Литтлтоном в Палате лордов и
сэром Уильямом Тейтом в Палате Общин, причем оба они были членами
Парламентского комитета Ассоциации. Интересно то, что имея в виду более широкий
круг школ второй ступени, ассоциация использовала для оправдания включения
науки в школьные программы альтернативную аргументацию. По мнению
Ассоциации, «рассматривается ли оно как средство дисциплинирования разума или
же как средство сообщения полезных знаний для практической жизни», изучение
естественной науки является существенно важным для молодежи страны.
Некоторые из школ, обследованных Комиссией Тонтона, вели обучение науке в
соответствии с предписаниями Департамента Науки и Искусств; показательной в этом
отношении была городская школа Лондона. Другие школы, вроде Торговой
школы Бристоля, о которой отзывались с похвалой, были еще более
ориентированы на специализацию. Концепт либерального образования (основанный на
классических языках, на тривии и квадривии), характерный для публичных школ
с их акцентом на выработке характера и ментальной подготовке, был не из тех
концептов, которые легко принимались в то время институтами, предлагавшими
образование второй ступени» [202, с. 195].
По мнению Лейтона, в центре забот Ассоциации было то, что сегодня
известно как обязательный курс общеобразовательной средней школы:
«Образовательная деятельность Ассоциации, главной целью которой была институционализация
науки в программах школ второй ступени, оказалась теперь в критической точке
схождения с другими ее заботами по поддержке научных исследований. События,
которые последовали за статьей Стрейнджа «О необходимости государственного
вмешательства для обеспечения прогресса в физической науке», прочитанной на
собрании 1868 г. в Норвиче, привели к тому, что после доклада комитета,
расследовавшего адекватность поддержки «физических исследований», Совет
Ассоциации высказал мнение о необходимости учреждения Королевской Комиссии
для изучения отношения государства к обеспечению фундаментальных
исследований. В формулировку этого мнения Совета входило утверждение, что подобное
изучение не может быть «полным, если оно не включает также действия
государства по отношению к научному образованию». Эта двойная «фланговая атака»
ассоциации как с позиций образования, так и с позиций фундаментальных
исследований кульминировала в депутации, направленной к Лорду-Президенту
Тайного Совета. 18 мая 1870 г. была назначена Королевская Комиссия, которой указано
было заняться: «преподаванием науки и ее продвижением», то есть в определении
миссии Королевской Комиссии преподаванию науки отводилась
инструментальная и обеспечивающая роль в умножении научного знания. Председателем
Комиссии стал Уильям Кавендиш, седьмой герцог Девонширский, еще один член
Парламентского комитета Ассоциации» [202, с. 195—196].
Проблемой методов преподавания науки Ассоциация занималась и раньше,
хотя и без особого успеха: «Еще до того, как Девонширская Комиссия приступила
к выполнению своей миссии, Британская Ассоциация вернулась к вопросу о
методах обучения для конкретных научных предметов. Сразу после принятия
доклада комитета 1867 г. Ассоциация учредила новый комитет для исследования
методов преподавания «динамики, экспериментальной физики и химии в школах для
различных классов». Из 7 университетских ученых, вошедших в новый комитет,
только Тиндалл участвовал в работе группы авторов доклада 1867 г. Ко времени
собрания 1868 г. в Норвиче комитет доклада не представил и его состав был
изменен: появился ряд новых имен, включая Дж.Гриффита и Дж.М.Уилсона из
состава прежней рабочей группы. Задача нового комитета оказалась не такой про-
604
M. К. Петров
стой, какой она изначально представлялась, и ничего путного из усилий этого
комитета не проистекало до 1874 г. В этом году собранию Ассоциации в Белфасте
был представлен доклад «комитета по преподаванию физики в школах». Хотя этот
комитет был лишь ответвлением исходного комитета по методам обучения, его
состав радикально изменился. Остался только секретарь Клеари Фостер, а из
прежних членов также Гриффит и Уилсон. Теперь в комитет входило 13 членов —
8 из университетов, а кроме них в работу вовлекли Нормана Локьера, секретаря
Девонширской Комиссии, который из национального обзора по преподаванию
науки, составленного Комиссией, имел полную информацию о существующих
методах преподавания, а также известного учителя Маршалла Уотса» [202, с. 196].
Представленный этим комитетом собранию 1874 г. доклад был необычен:
«Доклад был краток и содержал только общие принципы. На правах посылки, не
требующей дальнейших пояснений, в докладе принималось, что «основной
целью, к достижению которой направлено введение преподавания физики в
общую деятельность школы, является обретение учениками ментальной
подготовки и дисциплинированного мышления». В докладе не было ни намека, ни ссылки
на пользу научного знания. Акцент был поставлен на важность проведения
экспериментов силами самих учеников, где это возможно, и учебнику,
соответственно, отводилась вспомогательная роль. Предлагался также порядок обучения
различным разделам физики в последовательности от элементарной механики до
электричества и магнетизма. В конце доклада комитет выступал с защитой
систематической схемы ученичества для подготовки учителей физики, по которой
будущие учителя обязаны были посещать уроки ведущих учителей и действовать
как их временные ассистенты» [202, с. 196].
Эти особенности доклада Лейтон объясняет сложившейся в то время
методологической ситуацией: «Похоже на то, что к этому времени в процессе
параллельного становления или, используя транспортную метафору Плейфера, в
движении по параллельным рельсам с редкими пересечениями находились по
крайней мере две традиции или два стиля преподавания науки. С одной стороны,
традиция, существенно связанная с университетами и представленная в развитии
школ второй ступени, с которой постепенно отождествляла свою деятельность
Ассоциация. С другой стороны, существовала и обособленная, почти
«подпольная» или «черного хода» явочная традиция постэлементарного научного
образования, представленная в предписаниях Департамента Науки и Искусств. Члены
национального научного сообщества, когда они выступали в роли экзаменаторов
или преподавателей, читающих наличные курсы лекций, вносили вклад в эту
вторую явочную традицию, тогда как их исходная преданность идеалам продвижения
облика науки как активного незаинтересованного поиска истины явно
принадлежала к первой традиции. Влияние Ассоциации, усиленное связями с Комиссией
по публичным школам и комиссией Тонтона, не распространялось все же на
Комитет отбора научных курсов и на индустриальные школы, а позже в 1880-е гг.
и на Комиссию по технологическому образованию. Хотя отдельные члены
Ассоциации, такие как Гексли или Роскоу были известными деятелями движения за
техническое образование, они никогда не прибегали к помощи Ассоциации для
организации давления, сравнимого с тем, которое оказывалось Ассоциацией по
поводу изучения науки в школах второй ступени и в университетах. Культиваторы
абстрактной науки — «кони в колеснице индустрии» времен всемирной Выставки
1851 г. — к последней четверти XIX в. потеряли, похоже, исходную ориентацию
в том, что касалось места науки в образовании. Как пишет Т.Кун, изоляция
научного сообщества от общества в целом «позволяет отдельным ученым
концентрировать внимание только на тех проблемах, в разрешимости которых они
уверены в силу вполне разумных причин». Схожим образом, программа Ассоциации
по продвижению науки требовала, чтобы научное образование было свободным
от соображений пользы, концентрируя внимание на ментальной подготовке.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 605
Этим достигалось совпадение интересов фундаментальных исследований и
всеобщего образования» [202, с. 196—197].
Доклад 1874 г. комитета по преподаванию физики в школах более десятилетия
был единственным педагогическим продуктом Ассоциации: «Только в 1887 г. в
основном благодаря настойчивости Х.Е.Армстронга Ассоциация создала комитет
по изучению методов преподавания химии. Этот второй весьма пространный
доклад подтвердил позицию физиков: «Следует категорически настаивать на том,
что элементарная физическая наука должна преподаваться прежде всего как ветвь
ментального образования, а не как новое полезное знание». В докладе
содержалось и более сильное утверждение: «Не существует более эффективного и
увлекательного метода развития логических способностей чем тот, который основан
на продуманно организованном курсе физической науки». Такой курс способен
иллюстрировать научный метод средствами наблюдения, эксперимента и
резонирования с помощью гипотезы». Такой взгляд стимулировал те мощные, но
неправомерные аргументы в пользу изучения науки, которые на этом этапе давали
почву развитию мифологических представлений о научной деятельности,
порождали мифы, «которые более или менее преднамеренно создавались в конце XIX в.
для объяснения того, как делались различные научные открытия». В результате
возникал образ науки как неуклонного триумфального шествия к абсолютной
истине, по ходу которого природа неохотно, но неизбежно уступает настояниям
научного исследования. Из этого образа следовало, что научный метод может
неограниченно распространяться на все царства в духе заявления Карла Пирсона в
конце XIX в. — «материал науки сопределен всей физической и ментальной
жизни вселенной». Именно в рамках такой перспективы Ассоциация в 1901 г.
учредила Секцию «L» — Образовательная наука» [202, с. 197—198].
Представление о неограниченной применимости «научного метода»
объясняет, по мнению Лейтона, выявлявшуюся в деятельности Ассоциации известную
ограниченность поиска методов преподавания научных дисциплин: «Ассоциация не
породила доклада о методах обучения биологии, который мог бы присоединиться
к докладам по физике и химии — в мужских школах в той мере, в какой наука
была представлена в программах, ведущими предметами были именно физика и
химия. К тому же не было «модели» курса биологии в университетах, которую в
школах могли бы использовать в качестве руководства. В самом деле, с точки
зрения предметной организации материала биология оставалась нестабильной, и
растущая специализация наук о жизни привела в 1895 г. к образованию
раздельных Секций зоологии и ботаники. Когда в 1903 г. появился наконец и доклад по
преподаванию ботаники в школах, он почти не содержал эксплицитных ссылок
на развитие ментальных способностей и ничего не говорил о целях изучения
ботаники. Акцент ставился на важности изучения растений в естественных условиях
и экспериментах, на необходимости адаптировать уроки к нуждам учеников, на
стимулировании их самостоятельных попыток исследования. Председатель
комитета профессор Л.К.Майелл и секретарь Гарольд Уейджер сначала изложили свои
взгляды на обучение ботанике в Йоркширском колледже (позднее университет
Лидса). В этом первом отчете об экспериментальном методе преподавания
ботаники Майелл рассматривал развитие новой ментальной способности как
основную цель — «способность задавать вопросы и искать на них ответы». Но в
докладе 1903 г. эта часть исключена, ребенок рассматривается скорее как
развивающийся организм, а процесс обучения учитывает стадии этого развития и
регулирует само развитие. Этот подход соответствовал идеям Гербарта, который
ставил под вопрос ценность обучения психологии и неограниченного обучения.
Приложения исследований по формальному обучению стали предметом докладов
и дискуссий в Секции в течение трех следующих десятилетий с кульминацией в
1925 г., когда был образован комитет, членами которого стали Годфри Томсон,
Сайрил Берт, Ричард Грегори и Т.П.Нанн. Их заключения, доложенные в 1930 г.,
повлияли на подготовку Консультативным Комитетом Совета Образования до-
606
M. К. Петров
клада Спенса (1938) и играли важную роль в попытках обосновать Генеральную
Науку в 1930-е гг., как основной научный предмет программ образования в
школах второй ступени» [202, с. 198].
По связи с конечным результатом Лейтон вновь возвращается к более ранним
событиям: «Следует напомнить, что на более ранней стадии Ассоциация остро
реагировала на неравенство распределения научного знания по школам для
различных социальных классов, прилагая усилия к совершенствованию программ
публичных и иных школ второй ступени. В действительности же ожидания и
опасения, будто через деятельность элементарных и иных школ наука могла бы
получить широкое распространение в среде трудящихся, оказались
несостоятельными. Но принятые под давлением таких опасений в начале 1860-х гг. меры сразу
после доклада Ньюкаслской Комиссии породили программы, в которых
подчеркивалась общая грамотность, умение считать, но исключались другие предметы,
включающие науку» [202, с. 198—199].
Ту же тенденцию Лейтон обнаруживает и в действиях по введению всеобщего
и обязательного образования: «Целью подготовленного У.Е.Форстером Акта об
образовании было «покрыть страну сетью хороших школ» и «заставить родителей
посылать своих детей в школы». Хотя обязательное посещение школ
реализовалось лишь постепенно, в учреждении по этому Акту «школьных советов»
Ассоциация усмотрела открывающиеся новые возможности. В декабре 1870 г., после
собрания в Ливерпуле, Т.Х.Гексли, в то время президент Ассоциации, направил
к Форстеру депутацию в надежде убедить его включить элементарную
естественную науку в число предметов, преподавание которых подлежало оплате по
пересмотренному уставу. Аргументация в пользу изучения науки опиралась на
известные уже доводы, хотя аргументы от дисциплины мышления и от пользы науки
были теперь дополнены третьим аргументом — указанием на связь обучения
науке с «техническим образованием рабочих» и с «индустриальным прогрессом
страны» [202, с. 199].
Лейтон подчеркивает интегрирующий область образования смысл этого
аргумента: «Аргумент выходил за пределы экономической функции научного
образования. Обучение научным предметам в элементарных школах создавало бы
средства и предпосылки, с помощью которых любой ученик, обладающий
выдающимися способностями к научной деятельности, мог бы продолжать изучение науки
в школах более высокого уровня. Необходимо было связать школы второй
ступени и элементарные школы введением науки в программы и тех и других.
Вводились ссылки на опыт других стран, где существовали хорошо организованные
системы образования второй ступени для рабочего класса. При разработке таких
систем «пришли к выводу о необходимости прививать вкус к науке в начальной
элементарной школе, с тем чтобы стимулировать молодежь страны идти в школы
более высокого уровня подготовки». То, что предлагалось Ассоциацией, было
единой системой школьной подготовки для стимулирования и отбора научного
таланта страны» [202, с. 199].
Эта аргументация не имела заметного успеха: «В вопросе о внедрении науки
в программы элементарных школ Ассоциация не добилась ощутимого прогресса,
несмотря на неоднократные попытки входящих в Ассоциацию членов парламента
внести поправки в устав школ. На собрании 1879 г. в Шеффилде был создан
комитет по надзору за научной квалификацией инспекторов элементарных школ.
После представления доклада комитет был реорганизован, с тем чтобы держать
под наблюдением всю область преподавания науки в элементарных школах. Этот
комитет подготовил последовательную серию ежегодных докладов по этой
тематике с 1881 г. до смерти председателя комитета Дж.Х.Глэдстоуна в 1902 г. С
1886 г. членом этого комитета, а позднее секретарем и преемником Глэдстоуна
был Х.Е.Армстронг. Через его руки прошла, видимо, подготовка последнего
доклада 1903 г., в котором утверждалось, что несмотря на некоторый прогресс
положение в целом «несомненно неудовлетворительно» и «науку ни в коем случае
История европейской культурной традиции и ее проблемы 607
нельзя считать занявшей подобающее ей положение в нашей системе
элементарного образования» [202, с. 199].
С учетом проделанной работы комитет получил более широкие функции: «В
1903 г. переформированный и усиленный комитет был призван продолжать
кампанию Ассоциации за более эффективное внедрение в элементарные школы
«обучения, основанного на эксперименте, наблюдении и практике». Соединение
полезного труда и домоводства с другими предметами обучения нашло поддержку,
и комитет основное внимание сосредоточил на введении практических занятий.
Для стимулирования экспериментов в этом направлении Совет по образованию
отметил грантами и наградами ряд школ, включая и женскую школу Джеймса
Аллена в Данвиче, где Лилиан Дж.Кларк, одна из трех женщин — членов
комитета — была учительницей биологии» [202, с. 199—200].
Эта линия деятельности Ассоциации завершилась в результате действия Акта
об образовании 1902 г., по которому управление школами было децентрализовано
и передано местным властям. В 1926 г. Совет по образованию объявил о
прекращении действия устава элементарных школ в части, касающейся программ
обучения: «С устранением этого фокуса усилий Ассоциации по внедрению науки в
программы обучения роль Ассоциации как группы давления пришла к
завершению» [202, с. 200].
После выборочного анализа событий первой половины XX в. Лейтон подводит
общие итоги деятельности Ассоциации в области образования: «В тактическом
отношении Ассоциация обязана была менять опоры по мере того, как область ее
усилий расширялась от проблемы образования социальной элиты в публичных
школах XIX в. до проблемы образования всех детей в общеобразовательных
школах второй ступени в XX в. Но в стратегическом отношении Ассоциация никогда
не отклонялась от инструментального взгляда на образование и в двух
отношениях она оставила свое клеймо на преподавании науки. Во-первых, Ассоциация
определила и заставила признать новую социальную функцию научного
образования в школах второй ступени, а именно функцию сохранения целостности
социальной системы науки через воспроизводство адекватно подготовленного и
достаточно многочисленного пополнения ученых-практиков. В союзе с
реформистскими интересами 1860-х гг., особенно с теми, которые Фаррар определял как
«расширение и улучшение» либерального образования, функциональный взгляд
Ассоциации на научное образование стал доминирующим и
институционализировался в развитии образовательных систем. Во-вторых, в большей степени, чем
какая-либо другая научная организация, Британская Ассоциация несла
ответственность за проекцию облика науки в школьные классы и лаборатории. Со
временем облик этот менял очертания, хотя его характеристики чистоты и
социальной обособленности оставались неизменными. В конце XIX в. акцент ставился
на «научном методе» и на «подготовке ума для точного и незаинтересованного
анализа фактов». В начале XX в. акцент сменился на науку, как культивацию
«истинных человеческих добродетелей», как на источник романтики и интереса в
мире, который без науки не мог бы волновать воображение. Оба облика науки
были конструктами, назначением которых была борьба с антипатией публики по
отношению к науке. Примечательная степень распространенности этих обликов
науки, доминировавших в школьной науке до 2-й мировой войны, может
считаться мерой воздействия Ассоциации на образование» [202, с. 205—206].
Наш вояж в историю становления национальных Т-континуумов стран
европейской культурной традиции вчерне завершен. Мы еще будем, и часто будем
обращаться к истории в поисках информации, способной, как утверждал Лайель,
«объяснить темные места современного творения» [131, с. 9], но обращения эти
будут уже по поводу частных деталей современного когнитивно-социального
обустройства национальных Т-континуумов развитых стран и их систем образования,
коль скоро теперь мы более или менее представляем себе где и что лежит в
нашем прошлом и какой именно свет оно способно пролить на наши сегодняш-
608
M. К. Петров
ние горести и недоумения по поводу школьной и постшкольной подготовки нас
самих и наших соотечественников к условиям жизни в эту богатую конфронта-
циями эпоху научно-технической революции.
Ближайшей нашей задачей будет теперь попытка собрать все наши претензии
к современному состоянию Т-континуумов развитых стран европейской
культурной традиции в целостную систему критики экстенсивной модели онаучивания
общества, а для этого прежде всего нам нужно по возможности детально, с
учетом введенного исторического материала познакомиться с этой моделью.
Глава 3. Экстенсивная модель онаучивания общества
Начиная со введения мы неоднократно говорили об онаучивании общества,
опираясь на тот биологический в основном факт, что выживание биологических
видов, включая и род человеческий, можно объяснить без привлечения
сверхъестественных сил только в том случае, если будет вскрыт и показан механизм
общения поколений, передачи накопленной видом информации о среде его
обитания и накопленных на базе такой информации навыков извлечения из этой среды
средств к жизни для популяции данного вида следующим поколениям.
В увлечении спецификой человеческого рода, а все виды животного и
растительного царств достаточно специфичны и своеобразны, чтобы оправдать
длительный интерес ученых к их способам существования и воспроизводства.
Многие исследователи склонны в процессе изучения феномена социальности
забывать, что человек сосуществует с великим разнообразием видов и что человек как
вид среди видов не исключен из этого многообразия в том универсальном для
всех видов отношении, что каким бы специфичным способом ни было
организовано его общение поколений, полагаться в этом жизненно важном для него
деле он может только на собственные силы и возможности и что поэтому
опираться в объяснении специфики человека на том или ином этапе его
преемственного существования в астрономическом или календарном времени на
неподвластные и непосильные человеку самостные агенты изменений не просто
неправомерно, но во многих случаях и опасно, особенно сегодня, когда наука и ее
приложения поставили под сомнение самое возможность длительного существования
человеческого рода и среды его обитания.
Не упуская из виду феномен общения поколений, который в нашей схеме
связывает абсолюты субъективного и объективного определений и сам остается
вневременной гетерономной знаковой вставкой, во все времена обеспечивавшей
преемственное воспроизводство социальности в смене поколений, мы от более
или менее точно локализованных в нашем прошлом «начал» спустились, не без
приключений, понятно, и сомнений в выборе пути, в «здесь и сейчас» нашего
исследования, избрав для последнего перехода 150-летнюю историю Британской
Ассоциации для Продвижения Науки, которая достаточно обстоятельно
рассказывает нам о том, как английский Т-континуум уточнил через доклады
Ассоциации свои внешние границы познавательного контакта с внешним абсолютом
объективной определенности и как английское научное сообщество в муках и
сомнениях «инструментально», в целях собственного преемственного расширенного
воспроизводства, подходило к ребенку, к абсолюту субъективной определенности,
пытаясь направить его ментальное развитие к постижению «научного метода» и
к стремлению стать ученым-исследователем.
Нас не должно особенно смущать то обстоятельство, что англичане далеко не
всегда и не во всем были первыми, даже вот и с «Философскими записками» они
отдали приоритет французскому «Журналь де саван», да и Британская
Ассоциация переняла свои «перипатетические» характеристики у немцев и швейцарцев.
И подготовленный Форстером Акт об образовании 1870 г., который вводил в
Англии всеобщее и обязательное образование, посадил всех детей за парты, не был
Исторая европейской культурной традиции и ее проблемы 609
новинкой для Европы — в Пруссии, например, в «стране школ и казарм», уже
полтораста лет к этому времени жили в условиях действия законов о всеобщем
и обязательном образовании. Дело здесь не в приоритетах, а в степени того
воздействия событий в отдельных странах европейской культурной традиции на
складывание глобального для развитых стран универсального стандарта
онаучивания, в котором мы живем сегодня и который своей четкостью во многом
обязан событиям в английском национальном Т-континууме. К тому же для
английского Т-континуума типична широкая документированность и гласность
дискуссий вокруг принимавшихся в области научной и академической политики
решений, чего нельзя сказать о других странах, где полемические моменты часто
оказывались и оказываются скрыты просто потому, что соответствующие решения
принимались и принимаются без лишнего шума «в рабочем порядке».
Этот сложившийся глобальный универсальный стандарт онаучивания
общества, который реализован во всех развитых странах мира и который стремятся
реализовать в большинстве развивающихся стран, мы и обозвали не очень
приличным сегодня термином «экстенсивная модель онаучивания общества» частью
потому, что таково у нас к этому стандарту общее отношение, но в основном все
же потому, что с точки зрения полноты использования национального
потенциала исследовательского таланта этот стандарт с середины XX в. пребывает в
глубочайшем кризисе именно в силу своей экстенсивности, в силу исчерпанности
бюджета школьного академического времени на котором он ради продвижения
науки располагает учебники-введения в некоторые дисциплины, представленные
на постшкольном участке системы образования дисциплинарными студенческо-
аспирантскими мегаактами речи — переходами Ту-Тд-Тг.
В конце второй части [с. 926—949] мы в самых общих чертах дали описание
этого стандарта, использующего экстенсивную модель онаучивания, причем
основное наше внимание было обращено на самостное академическое движение
индивидов в чистом академическом времени, которые, взрослея по биокоду, идут
через систему образования ежегодными волнами В групп сверстников в
терминалы взрослой деятельности под руководством статичных и опять-таки самостных
агентов запрограммированных ментальных изменений в головах В — учителей и
преподавателей А системы образования. Значительно меньше внимания мы
уделяли движению идей, встречному движению элементов научного знания —
продуктов научного творчества и глоттогенеза науки с переднего края исследований
в мире открытий в свои особые терминалы — учебники общеобразовательной
школы.
Об этом движении идей мы знаем пока немного и в основном это связано
с тем, что по законам знакового мира одни и те же элементы нового научного
знания, во множестве появляющиеся в результате усилий членов
научно-академического сообщества на переднем крае могут одновременно и безо всякого
ущерба своей содержательной целостности и уникальности продвигаться силами
и членов научно-академического сообщества и силами прикладников-инженеров
и силами онаученных рабочих и служащих по самым различным путям с общей
целью совершенствования наличной данности, идет ли речь о наличной
технологии или о других многоразличных структурах репродуктивной природы. Более
или менее хорошо выделены и исследованы, даже в Индексе Научного
Цитирования поставлены под постоянное наблюдение [47] те разновидности
движения идей, которые связаны с ценообразованием в самой науке [44]. И скорее
подразумевается, нежели систематически исследуется прямая связь между
исследованиями на переднем крае и школьными учебниками, осуществляемая в
рамках фактической монополии научно-академического сообщества на подготовку
всех учебников и учебных пособий и для школьной и для постшкольной частей
системы образования.
Теперь наше внимание будет более равномерно распределено и по движению
людей и по встречному движению идей в национальных Т-континуумах развитых
39 М.К. Петров
610
M. К. Петров
стран. И чтобы понять смысл и необходимость такого перераспределения
внимания, призванного обеспечить критический подход к происходящему в
Т-континуумах, мы введем представление о безлаговом Т-континууме как о
недостижимом идеале-абсолюте совершенства любых Т-континуумов в том же примерно
смысле, в каком идеальный преобразователь одного вида энергии в другой с КПД
в 100% хотя и остается недостижимым идеалом совершенства для всех конкретно
существующих преобразователей, но позволяет все же, и это для нас главное,
ранжировать по единой шкале коэффициента полезного действия все конкретные
реально существующие преобразователи.
Под идеалом-абсолютом безлагового Т-континуума мы будем понимать такой
Т-континуум развитого общества, в котором нет ни естественных, ни
искусственных лагов-задержек в движениях через систему образования ни людей, ни идей,
то есть, где младенцы, появляясь на свет, мгновенно взрослеют и проскакивают
через систему образования во все наличные терминалы взрослой деятельности,
включая и исследовательские терминалы науки Тг, а новые элементы научного
знания, в свою очередь, появляясь на переднем крае, мгновенно публикуются и
проскакивают по контуру онаучивания в свои терминалы — в учебники
общеобразовательной школы.
Понятно, что такой идеал совершенного Т-континуума в принципе
невозможно реализовать и существовать он может только как знаковая реалия в мире
знака, в умозрении. Но нам он дает возможность сформулировать для любого
семейства конкретных Т-континуумов сравнительные понятия лучше—хуже и, что
также важно, задать в условиях явного отсутствия самостных агентов или
инстанций, обладающих божественными атрибутами всеведения, всемогущества и все-
благости, задать всем реформаторам и нам самим в области научной и
академической политики единый и надежный ориентир совершенствования структур
наличных Т-континуумов. В согласии с идеалом безлагового Т-континуума всякое
активное действие любых инстанций или индивидов, вызывающее или заведомо
способное вызвать сокращение наличного объема лагов-задержек, суть очевидное
благо и, соответственно, всякое активное действие инстанций или индивидов,
вызывающее или заведомо способное вызвать увеличение наличного объема
лагов-задержек, суть очевидное зло. Иными словами, введение представления об
идеальном безлаговом Т-континууме дает нам и моральное и методологическое
право придирчиво пройтись критическим взглядом по задействованным в реально
существующих Т-континуумах структурам на предмет поиска конкретных лагов-
задержек и оценки их на теоретическую и практическую состоятельность.
При этом, и этот пункт вряд ли способен вызвать серьезное расхождение
мнений, нам следует с самого начала строго различать естественную и
искусственную, артефактную составляющие конкретных наблюдаемых лагов, причем к
естественным лагам, производным от биокода человека или законов природы,
потребуется крайне осторожное отношение, чтобы не замахиваться в критическом
запале на то, что неподвластно человеку, а с лагом искусственным, артефактным с
продуктом человеческой деятельности индивидов и инстанций, которые далеко
не всегда ведают, что творят, обращение должно быть другим, должно включать
придирчивый и по возможности полный анализ на его состоятельность, на право
присутствия в тезаурусно-динамической структуре Т-континуума.
Если учесть, что и обществу и самим взрослеющим индивидам в общем-то
при всех условиях предпочтительнее и выгоднее в минимально краткий срок
перейти из младенческого во взрослое состояние, стать самодеятельной и
производительной частью живущего поколения, субъектом терминальной деятельности,
то наиболее чистой от инородных включений в форме лагов-задержек должна бы
считаться собственно система образования как целостная сплотка
универсализирующего школьного и специализирующих постшкольных переходов, живущая в
чистом академическом времени в режиме ежегодного воспроизводства всех своих
составляющих актов речи длительностью в один академический час (уроков, лек-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 611
ций, занятий). В самом деле, фиксированные сроки обучения, которые предельно
строго выдерживаются в чистом академическом времени и держат под
постоянной угрозой отсева в следующую ежегодную волну В-групп сверстников всех
совершающих академическое движение индивидов школьных, студенческих и
аспирантских возрастных групп, должны бы стимулировать авторов учебных
программ, учебников и учебных пособий втискивать в прокрустово ложе переходов-
мегаактов речи, упорядоченных по правилу тезаурусной динамики Ti
предшествующего акта речи становится Т0 последующего, максимальные объемы
содержания, проходимые для В-групп на предустановленной инстанциями академической
политики длительности.
В общем-то так оно и происходит — все известные нам системы образования
национальных Т-континуумов развитых стран работают в режиме насыщения: нет
«пустых» уроков, занятий, лекций и учебными планами не предусматриваются
сколько-нибудь значительные резервы академического времени для компенсации
всегда возможных сбоев и срывов в нормальном рутинном течении учебного
процесса, а практика карстового вымывания из учебников морально устаревшего
материала и замены его новым, непосредственно или опосредованно связанным с
событиями на переднем крае, которая совершается в последовательности актов
переиздания учебников, никогда не бывает направлена к сокращению
предлагаемого учебником материала, за которым могло бы последовать и сокращение
штатов учителей и преподавателей А, но совсем наоборот, всегда правдами и
неправдами стремится к увеличению объема предлагаемого учебником материала;
заказчикам новых или обновляемых учебников всегда приходится отбивать
претензии авторов на больший листаж и никогда не приходится уговаривать авторов
увеличить листаж заказанной работы.
При всем том немало поводов для сомнений и подозрений дает и собственно
система образования. Бросается в глаза, скажем, то, что глобальный стандарт
сроков академического движения по школьному переходу Тп-Ту в 10—12 учебных
годов почти нигде не выдерживается строго на длительных периодах
календарного времени. В Японии, например, он составляет 9 лет, в США, Бельгии,
Голландии — 12, у нас — то 10, то 11, что бросает тень если не на универсализм
человеческого биологического кодирования и соответственно на единство
человеческого рода, на равенство младенцев перед подлежащей по капризу родителей
освоению социальной данностью и прежде всего перед освоением естественного
языка этой данности, то уж во всяком случае на профессиональную
компетентность инстанций академической политики, которые никак не могут добиться
оптимального сопряжения сроков академического движения по общеобязательному
школьному переходу с контролируемым биокодом младенца развертыванием во
времени врожденных естественных способностей и возможностей.
Не менее провоцирующим сомнения и тревоги является и то обстоятельство,
что в основном из-за «благородной» позиции психологов образования, которые
пекутся больше об укоренении идеи всеобщего ментального равенства учащихся
перед давлением и стрессами учебного процесса, чем об объективном и
непредвзятом изучении предмета, мы до сих пор ничего практически не знаем ни о
пороговых минимальных, ни о пороговых максимальных значениях разности Ti-T0,
проходимых для среднестатистической группы В за 45 минут, за академический
час, не говоря уже о достаточности или избыточности 10—15 минутных
перерывов на рекреацию, на восстановление внимания и других ментальных
способностей для продуктивного движения В группы на следующем уроке. Мы лишь чисто
умозрительно можем предполагать, что коль скоро законы о всеобщем и
обязательном образовании выполняются достаточно строго, а отсев на школьном
переходе Тп-Ту повсеместно считается чуть ли не академическим ЧП — чрезвычайным
происшествием со всеми вытекающими из этого печальными следствиями для
учителей А, то все А в системе образования в школьной, да и в постшкольной
ее частях кровно заинтересованы в том, чтобы авторы учебников ориентирова-
39*
612
M. К. Петров
лись на минимальное пороговое значение разности Ti-To в актах речи,
ассоциируемых по правилу Ti предыдущего акта речи становится Т0 последующего в ме-
гаакты-переходы типа Тп-Ту, Ту-Тт, Ту-Тд, Тд-Тг, то есть академическое движение
В групп по таким мегаактам-переходам должно бы совершаться по «правилу
каравана», когда скорость движения морского каравана определяется по самому
тихоходному кораблю, входящему в состав каравана.
Но это лишь умозрительные соображения, которые явно требуют
подтверждения, уточнения или опровержения данными конкретных исследований, хотя бы
чисто эмпирических, которые не так уж трудно провести, если, например, из
учебников разных стран и разных времен составить выборку, выделить в них
схожие по содержанию «параллельные места» и посмотреть по учебным планам,
сколько академических часов отводилось и отводится в разных странах и в разные
времена на прохождение этих «параллельных мест». По разбросу значений в
принципе несложно было бы установить, какие ориентиры проходимости
учебных текстов использовали авторы учебников при подготовке рукописей и вообще
были ли эти ориентиры. Например, тот факт, что У.В.Фаррар из сборника
«Возникновение науки в Западной Европе» утверждает, будто студенческо-аспирант-
ские переходы в Германии XIX в. формировались по образу и подобию
отношений мастер-ученик в немецких гильдиях [195, с. 183 и далее), должен нас
настораживать и относительно постшкольной части системы образования,
относительно правомерности обкатанного вековой академической практикой семилетнего
студенческо-аспирантского стандарта академического времени, отпускаемого на
движение по переходу Ту-Тд-Тг, ведь вот удавалось же студентам Юстуса Либиха
за два-три года провести значимые химические исследования и защитить ученую
степень [195, с. 185].
Но сомнения и недоумения, возникающие по поводу организации
академического движения взрослеющих людей через систему образования в терминалы
взрослой деятельности, меркнут и могут считаться несущественными по
сравнению с теми, которые возникают, когда в поисках лагов-задержек мы переходим
от движения людей к движению идей. Как нам приходилось уже писать [185] в
основе этого рода сомнений лежит то обстоятельство, что в практике
продвижения новых элементов научного знания с переднего края в учебники системы
образования, а это наблюдаемое движение лишенных самости знаковых реалий
всегда совершается силами членов научно-академического сообщества через
последовательные акты публикации вторичной литературы, перед редакторами
научных журналов всякий раз возникает «божественная», а не человеческая задача
оценки рукописи на меру ее будущего участия в научном познании, задача, во
многом похожая на предсказание судьбы младенца в колыбели и столь же
непредсказуемая по результату, поскольку она предполагает божественный атрибут
всеведения, которым ни редакторы, ни помогающие им в этом неверном деле
референты и рецензенты явно не обладают и обладать не могут. Величины отсева
рукописей в процессе таких оценок весьма велики — от 90 до 20% в сотне
примерно ведущих научных журналах США по данным Мертона и Цукерман [140,
с. 471], и начало этой практики прослеживается уже в первом научном журнале,
в «Философских записках» королевского общества Лондона.
М.Холл в сборнике «Возникновение науки в Западной Европе» пишет по
этому поводу: «Генри Олденбург, первый секретарь Королевского общества
основал в 1665 г. первый чисто научный журнал «Философские записки». Журнал хотя
и оставался чисто личным его предприятием как редактора, был санкционирован
Обществом и использовал корреспонденцию Общества. Наиболее важной из всех
характеристик Королевского общества было, возможно, то, что оно установило
определенную точку зрения на научный метод, можно даже сказать философию
научного метода. И хотя, понятно, не все ученые были убеждены в правильности
такого подхода к исследованию природы, все они завидовали результатам его
применения и восхищались ими. Это была уникальная и специфическая для Ко-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 613
ролевского общества детально разработанная форма эмпиризма. Эмпиризм не
всегда оказывался состоятельным, но всегда успешным, предлагающим модель,
которой могли следовать другие» [195, с. 57].
В письме к Яну Гевелию Олденбург сообщал: «Теперь, когда под королевским
покровительством мы установили эту форму ассамблеи философов,
культивирующих мир искусств и наук средствами наблюдения и эксперимента, нашей
задачей стало... привлекать к этим целям людей из всех стран света, прославившихся
ученостью, и поддерживать тех из них, которые уже участвуют в таких
неустанных усилиях» [195, с. 57]. В ответном письме Гевелий выразил восхищение
действиями короля: «Он основал уникальную ассамблею для тех философов, которые
культивируют и продвигают искусства и науки, следуя не традиции, но лишь
наблюдению и эксперименту. Этим способом будут наконец обнаружены потаенные
секреты, объявятся новые чудеса, которые раньше скрывались в царстве
природы» [195, с. 58].
Ориентация на эмпиризм нашла отражение уже в 1-й хартии Королевского
общества, где король провозглашал: «Мы особенно приветствуем те философские
исследования, которые подкреплены солидными экспериментами и направлены
либо на расширение новой философии, либо на улучшение старой» [195, с. 58].
Более определенную и острую форму эта ориентация принимала в самой
деятельности членов Общества по отбору поступающих рукописей, претендующих
на обсуждение и публикацию в «Философских записках». Так, в апреле 1665 г.
Эккард Лейхнер прислал работу по образованию с замечаниями философского и
теологического характера. Когда соответствующая рукопись была зачитана на
одном из летних заседаний Общества, работу передали Уилкинсону, Уоллису,
Пеллу и Гуку для оценки и ответа — это становилось уже нормальной практикой
рецензирования. Черновик ответа был подготовлен Олденбургом и одобрен
Обществом в целом. Лейхнеру было четко разъяснено: «Королевское общество не
заинтересовано в знаниях по схоластическим и теологическим материям,
поскольку единственная его задача — культивировать знание о природе и полезных
искусствах с помощью наблюдения и эксперимента и расширять его ради
обеспечения безопасности и благосостояния человечества. Таковы границы
деятельности нашей британской ассамблеи философов, как они определены
Королевской хартией, и ее члены не считают возможным нарушать эти границы» [195,
с. 58].
Холл приводит множество примеров вежливой, но твердой позиции
Королевского общества, отвергавшего любые попытки втянуть его членов в обсуждение
«метафизических», теологических, юридических, философских проблем. Иногда
отказы формулировались не так уж и вежливо. Джону Сент Круа, почитателю и
исследователю работ забытого на родине Джона Скотта, который прислал в
подарок Обществу свой труд «Диалектика», Олденбург ответил: «Вы не можете не
знать, что целью данного Королевского института является продвижение
естественного знания с помощью экспериментов, и в рамках этой цели среди других
занятий его члены приглашают всех способных людей, где бы они ни находились,
читать Книгу Природы, а не писания остроумных людей» [195, с. 59].
Возникавшие по поводу таких попыток нормы и критерии оценки рукописей
на научность Холл описывает как терпимость к любым взглядам на
индивидуальном уровне и нетерпимость к их выявлениям на институциональном уровне: «Как
индивиды члены Общества могли придерживаться любых взглядов, что они и
делали — были картезианцами, бэконианцами, эпикурейцами, мистиками, аристо-
телианцами, медиками, химиками, — список мог бы оказаться и бесконечным.
То, что заботило Общество как организованное целое, было стремление избежать
приверженности к тем или иным априорным системам, основанным на
недоступных для эмпирической проверки посылках или принципах. Подобные системы,
по общему убеждению, порождают предубеждения в умах тех, кто их упорно
придерживается, неизбежно затуманивают их суждения и отвращают их привержен-
614
M. К. Петров
цев от единственно истинной философии. Было бы очевидно неверным
утверждать, что приверженцы таких систем не могли проводить эксперименты и не
экспериментировали вообще, этим они как раз занимались и даже апеллировали к
эмпирическим свидетельствам для обоснования своих взглядов. Аристотелианцы,
картезианцы, эпикурейцы все в конце XVII в. могли быть и обычно были
преданными сторонниками экспериментирования почти в той же степени, что и
любой догматик-бэконианец. В общем-то все они часто были бэконианцами,
разделяя веру Бэкона в преимущества простого эмпиризма в делах
экспериментальных открытий. Суть дела состояла в приложении эксперимента, наблюдения и
открытия к развитию гипотезы и теории. Рационалист использовал наблюдения
и открытия для обоснования системы или гипотезы уже ясной для него из
рациональных оснований; он всегда мог найти более простым расширить гипотезу или
пересмотреть факты, чем попросту отказаться от гипотезы перед лицом того, что
он рассматривал как «просто» эмпирическое свидетельство. Королевское
общество старалось поддержать экзальтированный эмпиризм, в котором гипотеза
сохранялась бы или падала производно от эмпирического факта. Поэтому Общество
обязано было по крайней мере пытаться избегать спекулятивных систем.
Поступая таким образом, Общество сводило к минимуму пререкания по поводу
несовместимых гипотез. Но это давало лишь организационный эффект. На более
высоком уровне всегда сохранялась надежда, что истинная «солидная» теория
выстоит, что все незамедлительно признают ее преимущество и станут работать для
ее развития» [195, с. 62].
В целом же возникающая система научной коммуникации оставалась в
XVII в. чисто английским феноменом: «Во многих отношениях английская наука,
как она представлялась Королевским обществом, оставалась загадочной для
континентальных ученых, которые никак не могли поверить, что методы,
проповедуемые англичанами, и в самом деле являются именно теми, которые приводят
их к неоспоримым результатам. К тому же и следовать этим методам было не так
уж просто. Не всем и английским «виртуозам» удавалось, как бы они ни
старались, подняться над наивным эмпиризмом. Но англичане в целом принимали
метод Королевского общества в качестве модели, даже если и не всегда могли
использовать его. Когда основывались провинциальные общества — Оксфордское
философское общество и Дублинское философское общество в 1683 г. и
множество других в XVIII в., их признанной целью было создать копию Королевского
общества, и члены этих обществ прилежно, хотя и с разной степенью успеха,
старались воспроизвести стандарты Королевского общества. Но даже и в самой
Англии и конечно же за ее пределами роль эмпиризма в науке оставалась спорной
в XVII в. просто потому, что эмпирики и рационалисты имели одни и те же
общие цели и поэтому далеко не всегда осознавали необходимость соглашения о
методах. Их цели разделились в следующем столетии, когда наука и философия
значительно разошлись друг от друга и континентальная математическая физика
обрела сложность, недоступную для простого английского эмпиризма. В 1800 г.
почва для дебатов стала совсем иной, чем столетие тому назад» [195, с. 75].
У Холла мы видим, что первые редакторы и рецензенты — отцы
интернациональной общенаучной коммуникации и общенаучного дела продвижения
элементов научного знания в головы наличных (через публикацию) или будущих
(через образование) современников — не были осведомлены о
постпубликационной жизни рукописей, о цитировании, ранжировании цитирования [150] по
закону Ципфа [178] и, совершая свои приговоры над рукописями коллег,
действовали строго в соответствии с мартовским 1665 г. решением Совета Королевского
общества по представленному Г.Олденбургом макету «Философских записок»
[193, с. 184], которое предписывало не публиковать работ теологов и юристов, а
ограничиваться публикацией только работ выпускников медицинского
факультета, усилиями которых вскоре и возникла естественная история как мать-родина
почти всех естественных дисциплин «гумбольдтианского круга наук». Отцам-ос-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 615
нователям практики редактирования, реферирования и рецензирования
рукописей на предпубликационном периоде было много проще и способнее справляться
с потоком рукописей в том отношении, что ясны были ориентиры, кого
допускать, а кого выпроваживать, ссылаясь на хартию Королевского общества, где все
ясно объяснено. Они могли позволить себе не задумываться о собственном праве
вершить суд и расправу над продуктами познавательной деятельности своих
современников.
Но сегодня положение радикально изменилось. Члены
научно-академического сообщества, выступая в роли привратника [140, с. 520] — редактора,
референта, рецензента, если они хоть сколько-нибудь начитаны в науковедческой
литературе, а совсем уж несведущие в науковедении ученые давно перевелись,
не могут не сознавать сомнительность и необоснованность своего права
оценивать рукописи коллег «в колыбели», на предпубликационном периоде, когда еще
ровным счетом ничего не известно и не может быть известно о том, станет ли
предлагаемая к публикации работа пассивным балластом в массиве
дисциплинарных публикаций [44] или проявит прыть и упорство, прорвется в вершину
айсберга рангового распределения цитирования [150] или даже станет поводом
для появления новой исследовательской группы [142] с перспективой стать
новой дисциплиной, представленной на постшкольном участке системы
образования переходом Ту-Тд-Тг.
Нам кажется, что за институтом редактирования, реферирования и
рецензирования в науке ничего кроме идущей от XVII в. традиции держать коллег в
страхе перед усечениями и пресечениями не обнаруживается. Но это наше личное
мнение, которое лучше всего было бы подкреплено или опровергнуто
статистическими данными о степени реализации предсказаний редакционных колдунов о
будущей судьбе опубликованных с их санкции рукописей, хотя и в этом случае
загубленная по их приговорам часть научной продукции оказалась бы за
пределами исследования. Некоторый косвенный, правда, свет на ядовитое существо
этой проблемы массовой гибели научного продукта на предпубликационном
периоде может пролить история взлета американского журнала «Физикал ревью» к
вершинам мирового лидерства, о чем мы в свое время писали: «Пока шли споры
о цитируемости, ценности и качестве статей, редакция американского журнала
«Физикал ревью» по неведению, надо полагать, поставила своеобразный
эксперимент по смягчению селекции рукописей. За 15 лет она увеличила годовой
объем журнала в 4,6 раза — с 3920 страниц в 1950 г. до 17060 страниц в 1965 г.
Как позже выяснилось, численность физиков за этот период выросла только в
2,4 раза. Естественно, что в 1965 г. публиковались статьи, которым, по меркам
1950 г., следовало бы быть в корзине. Довольно скоро журнал вышел в лидеры
физической периодики мира» [185, с. 79]. Мертон, констатируя этот факт, пишет:
«Публикуемые в нем статьи цитируются много чаще, чем статьи, публикуемые в
любом другом журнале, чаще даже, чем собственные статьи других журналов. В
таких ведущих журналах, как итальянский «Нуово Сименто», советский «Журнал
экспериментальной и теоретической физики», «Просидингз» физического
общества Лондона, «Физикал ревью» цитируется много чаще, чем сами эти журналы.
В «Нуово Сименто» 36% ссылок на «Физикал ревью» и только 17% на все
итальянские журналы. В «Журнале экспериментальной и теоретической физики»
22% ссылок на «Физикал ревью» и 17% на собственные статьи. В лондонском
«Просидингз» 34% ссылок на «Физикал ревью» и 9% на собственные статьи» [140,
с. 475-476].
Но более или менее очевидный ущерб процессам продвижения элементов
научного знания с переднего края науки в действующий набор учебников системы
образования, каждый шаг которых, связанный с обязательной публикацией в
последовательности: статья — обзорная статья — монография — курс лекций —
учебник [44], сопровождается массовым отсевом рукописей, не ограничивается самим
фактом отсева, насильственного сокращения числа элементов нового научного
616
M.К. Петров
знания, участвующих в онаучивающем движении, что в общем-то само по себе
вполне рационально объяснимо тем обстоятельством, что учебники не могут
увеличивать свой предзаданный объем и процесс их обновления в переизданиях
неизбежно должен сопровождаться и дренажем морально устаревшего материала и
отсевом претендующих на вход в учебник (в порядке карстового вымывания и
замещения устаревшего новым) элементов научного знания, а содержит и
ядовитые побочные эффекты. Прежде всего это лаги-задержки, когда между автором и
редактором, референтами и рецензентами затевается затяжная игра в уточнения,
дополнения, пожелания, исправления, в которой автору приходится без конца
что-то исправлять, согласовывать, отказываться от каких-то своих формулировок,
вводить по настоянию редакции какие-то другие формулировки, время от
времени «являться» на заседания редакции, словом — «пробивать» свою рукопись, как
если бы он занимался каким-то противозаконным делом, а не передавал
обществу законный продукт законной деятельности, созданный по действующим
стандартам и правилам.
Эта хотя и увлекательная, но очевидно унизительная для всех участников игра
вокруг атрибута всеведения, которым никто не обладает и обладать не может,
когда редакционная команда делает вид, что все ей известно гораздо лучше, чем
автору, и всегда выигрывает, а автор под угрозой отказа в публикации вынужден
всегда идти на компромиссы, всегда проигрывать, всегда отказываться от
собственных идей и способов их выражения, ведет, во-первых, к тому, что весьма
значительная доля рукописей, несущих функцию фиксации текущей конфигурации
переднего края, устаревает к моменту публикации и, во-вторых, к тому, что
наученные горьким опытом потенциальные авторы начинают «ловчить»,
подделываться под вкусы редакции и предлагать им явно «проходимые» рукописи, в
которых исчезает наиболее ценный для науки, но нетерпимый для редакций момент
дискуссионности, проблематичности, постановки новых и острых проблем, что
по опыту умудренных авторов как раз и вызывает наиболее сильные желания
редакции очередной раз поиграть с автором вокруг атрибута всеведения. В
дополнение к этому в некоторых развитых странах наблюдается сегодня неформальная
или формальная практика цензуры научных рукописей, требующая во имя
соблюдения своеобразно понимаемых национальных государственных интересов
предоставления автором различного рода справок о собственной убогости, о том, что
в рукописи его не содержится, по мнению авторитетных экспертов, каких-либо
свежих мыслей или положений, которые могли бы привлечь интерес членов
зарубежных научно-академических сообществ на предмет извлечения из них некоей
пользы, что делает положение исследователей-авторов в таких странах, как
потенциальных вкладчиков в глобальный общенаучный процесс преемственной
кумуляции нового знания совсем уже странным и бесперспективным.
За всеми этими развеселыми играми и даже бесшабашными карнавалами
серьезных масок вокруг атрибута всеведения, где любая игра построена на
разобранном уже нами по поводу отчаянных кибернетиков комплексе Архимеда,
который во всех этих серьезных с виду игр и завихрений формулируется
приблизительно так: «согласитесь, что я всеведущ, и я...», наблюдаются все же признаки
некоторого похмелья, смущения духа человеческого, потребности в чем-то
оправдаться, когда появляются расхожие благовидные интерпретации бессмысленных
и вредных практик. О деятельности привратников — редакторов, референтов и
рецензентов в этом похмельном случае говорят, например, что их цель вовсе не
в том, чтобы выбрасывать в редакционную корзину, на кладбище неродившихся
знаковых младенцев — новых элементов научного знания, — от 20 до 90%
попадающих им на глаза рукописей [140, с. 471], а вовсе даже в том, чтобы мягко и
неназойливо помочь автору выразить именно то, что он и сам хотел бы выразить,
но без помощи редакции не может то ли по малограмотности, то ли по
отсутствию опыта в этих щекотливых делах общения с читателем, которого не занимать
стать самой редакции. Или же, когда, например, уважающая себя инстанция, а
История европейской культурной традиции и ее проблемы 617
не уважающих себя инстанций не бывает, вдруг выкидывает благоглупость —
сочиняет для всех редакций циркуляр, предписывающий впредь от всех авторов
требовать справку об его творческом бессилии, где печатью и подписями
авторитетной комиссии было бы подтверждено, что в рукописи не содержится ничего
такого, что наносило бы или могло бы нанести ущерб государственным
интересам по части научного приоритета и секретности, то такая инстанция, пекущаяся
о государственном интересе, когда ее ткнут носом в результаты действия
подобного циркуляра, в тот факт, например, что в нашем «Журнале экспериментальной
физики» почему-то стало расти число ссылок на американский «Физикал ревью»
и падать число ссылок на собственные статьи [140, с. 475—476], просто и
доходчиво, в достаточно убедительных терминах объяснит не то, что она разумеет под
государственными интересами, здесь ничего объяснить нельзя без атрибута
всеведения — точки опоры, а то, что этот циркуляр неверно толкуют «на местах»,
хотя «места» эти не столь уж и удалены от инстанции: остановка-другая на
троллейбусе. Даже если такую инстанцию загнать в угол и прижать к стенке для
решительных объяснений, она ничего путного объяснить по поводу собственного
понимания государственных интересов не сможет, будет только ссылаться на
звонки сверху и на «пользу службы», как и положено всем тем, кто не ведает,
что творит.
Но не будем увлекаться этими горькими материями, вызывающими
восхищение перед живучестью науки, как глобального интернационального феномена,
скажем только, что возникающие в результате такой отмеченной комплексом
Архимеда бурной деятельности с точкой опоры на атрибуте всеведения
лаги-задержки явно артефактны, искусственны, и если бы любой национальный Т-континуум
простым волевым решением избавился бы от них, то он бесспорно продвинулся
бы по шкале совершенства к идеалу безлагового Т-континуума, то есть совершил
бы доброе дело.
У искушенных в тонких механизмах функционирования науки как
глобального феномена на этом этапе наших рассуждений законно может возникнуть
вопрос: А причем здесь все-таки экстенсивная модель онаучивания общества, о
которой у нас вроде бы разговор? Не удаляемся ли мы от темы, входя в эти
неблаговидные детали? На наш взгляд, ни в какую сторону от темы мы не уходим.
Весь этот отмеченный комплексом Архимеда ворох пестрой паранаучной
деятельности во многом становится возможным именно потому, что экстенсивная
модель онаучивания господствует сегодня во всех национальных Т-континуумах
развитых стран. Ее ключевой элемент — присутствие на школьном переходе Тп-Ту
некоторого ограниченного числа учебников-введений в ограниченный круг
дисциплин, которые в полном развороте содержат в постшкольной части системы
образования семилетние студенческо-аспирантские переходы Ту-Тд-Тг; по ним,
собственно, и продвигаются усилиями членов научно-академического сообщества
на встречном движению В-групп курсе элементы научного знания в
соответствующие школьные учебники. Все это как раз и воспроизводит острую
необходимость в редукции накапливаемого научного знания. В рамках этой острой
необходимости накапливаемых наукой содержательных различений и становится
возможным беспрепятственный расцвет самых причудливых и теоретически
несостоятельных видов паранаучной деятельности, если их результатом становится
массовый отсев начинающих движение с переднего края содержательных элементов
научного знания, под какими бы предлогами и по каким бы критериям отбора
этот отсев ни совершался. Иными словами, что бы там ни говорили, в самой
экстенсивной модели онаучивания общества за счет обогащения конечных и
устойчивых по объему учебников системы образования бесконечным и нескончаемым
потоком публикуемых элементов нового научного знания заложена
конституирующая эту экстенсивную модель идея массового отсева и гибели научного
продукта на входе во все эшелоны научной публикации [44]. Это — главное. А то,
какими соображениями оправдывают этот геноцид младенцев научного знания,
618
M. К. Петров
это уже производно, второстепенно. Словом, не потому от 20 до 90% рукописей
отправляют в редакционные корзины, на кладбище неродившихся для науки и
общечеловеческого знания знаковых младенцев, чтобы повысить качество
действующих в системе образования учебников, как это пытаются доказывать
могильщики научного знания, а делается это во все растущих масштабах потому, что
реализующие экстенсивную модель онаучивания действующие учебники системы
образования и в первую очередь школьные учебники имеют предустановленный
и строго выдерживаемый объем в чистом академическом времени, в который
втиснуть больший объем знания, чем они вмещают, — напрасный труд. При
этом-то всепрощающее оптимистическое благостное истолкование наблюдаемого
факта массовой гибели научного продукта на предпубликационном периоде, по
которому этот геноцид продуктов науки объявляется необходимым условием
совершенствования действующих учебников системы образования, вполне может
оказаться опасной фикцией — психологическим заслоном, позволяющим со
спокойной совестью закрывать глаза на совершаемое перед нами гнусное
преступление перед человечеством, на истребление научного продукта просто потому, что
он в силу нашей некомпетентности не находит на данном историческом этапе
развития человечества достойного применения. А речь ведь действительно идет
об уничтожении, истреблении научного знания в зародыше-колыбели.
Опубликованные рукописи еще имеют шанс сохраниться, претендовать на то, что будущие
поколения примутся за поиски в архивах науки, как это делаем мы сегодня, роясь
в подшивках научных журналов XVII—XX вв. в поисках начал того, что мы
наблюдаем сегодня в полном развитии и развороте. Но если уж рукопись попала в
редакционную корзину, ей нет дороги в архив. Это гибель полная,
невосстановимая потеря для человечества.
Наши обвинения экстенсивной модели онаучивания общества в
преднамеренном или непреднамеренном геноциде новых элементов научного знания в момент
их зарождения (на предпубликационном этапе) во всех эшелонах массивов
дисциплинарных научных публикаций [44] могли бы показаться надуманными,
злонамеренными и лицеприятными, если бы они связывались только с движением
новых элементов научного знания в контуре онаучивания общества и не
затрагивали других типов движения идей — ценообразования в самой науке и
приложения для совершенствования всех репродуктивных по природе структур
современного развитого общества.
Ситуацию можно себе представить так, как если бы совокупное поле
перемещения возникающих идей и в первую очередь новых элементов научного знания
было расчленено на несколько независимых фрагментов: а) онаучивание; б)
ценообразование в науке; в) техника; г) технологические приложения; д)
организационные приложения; е) социокультурные приложения; ж) быт и т.д., и
движение элементов в одном фрагменте не зависело бы от их перемещения в другом
фрагменте. В таком представлении наличной ситуации в движении элементов
научного знания с переднего края исследований в мире открытий был бы бесспорно
свой резон, поскольку жизненные «карьеры» элементов научного знания в
системе образования, в самой науке, в технике, технологии, экономике, быте,
организационной структуре общества остаются существенно различными и часто
несопоставимыми с точки зрения шкал оценки их статуса в различных фрагментах.
То обстоятельство, например, что винт Архимеда широко используется в
судостроении, самолетостроении, в мясорубках, в цоколях электроламп, или
гильотинные ножницы применяют не только для обезглавливания, но и в слесарном
деле и в типографиях, или электроника находит широкое применение не только
в вычислительной технике и в телевизорах, но и в управлении и в продаже
билетов на поезда и самолеты, ничего или почти ничего не говорит о статусе
соответствующих концептов в науке или в образовании.
Но все такие фрагменты, сколько бы их ни насчитывалось в многосложной
структуре социальных связей современного общества, предполагают на правах ус-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 619
ловия осуществимости действий по приложению, какого-либо перемещения
элементов научного знания то, что эти элементы уже появились на свет и
существуют вне времени и пространства, как и все знаковые реалии и что они, уже в
статусе существующих в знаковом мире, в национальном Т-континууме, в тот или
иной момент времени и в том или ином месте могут попасть в поле зрения и
пристального внимания людей, способных их опознать как нечто, имеющее
отношение к решению практических задач данного терминала деятельности.
Понятно, что выброшенный в редакционную корзину до публикации элемент
научного знания уже никогда и никакими путями не сможет попасть в поле
зрения и внимания прикладника, в каком бы фрагменте и терминале он ни
располагался. Поэтому наши обвинения в адрес экстенсивной модели онаучивания мы
оставляем в силе и настаиваем на их правомерности еще и потому, что они
позволяют по своему частному основанию выйти и на другие обвинения и прежде
всего на обвинение в разрушении экстенсивной моделью прямого доступа всей
«образованной публики» к интернациональному и даже национальному потоку
публикуемой научной литературы.
Анализируя действия Британской Ассоциации для Продвижения Науки в
области образования под предложенным Д.Лейтоном «инструментальным» углом
зрения [202, с. 190], мы видели, что действия эти свелись в основном к
насаждению в программы публичных школ учебников-введений в физику, химию и
другие дисциплины, которые внедрялись в школьный переход под лозунгом
равенства с другими «почитаемыми предметами преподавания» — с классическими
языками, математикой, живыми европейскими языками [202, с. 195]. В работе
Лейтона ничего не говорится о том, откуда или за счет каких «почитаемых
предметов» публичные школы должны были брать академические часы на
преподавание науки в школе. Но само собой разумеется, что бюджет школьных
академических часов в чистом академическом времени в середине XIX в. и в конце XX в.
не мог радикальным образом измениться, коль скоро он хорошо ли, плохо ли,
но произведен от процесса естественного взросления, заданного человеческому
младенцу по биокоду родителями. Если сегодня при 10—12-летнем всеобщем
школьном обучении этот бюджет чистого академического времени на переход
Тп-Ту составляет 15—18 тыс. академических часов, то и в середине XIX в. он не
мог быть большим по объему.
Когда мы сегодня пытаемся разобраться в составе нашего Ту, значение
которого очевидно определено набором действующих школьных учебников,
локализованных на переходе Тп-Ту, то обнаруживаем, что «почитаемые предметы»
середины XIX в., за исключением математики, либо вообще исчезли, либо влачат
жалкое с точки зрения выделяемых на них часов существование. Соответственно,
на другом конце переходов системы образования мы наблюдаем сегодня картины,
которые в XIX в. показались бы невозможными. Упоминавшийся уже нами
социолог американской аспирантуры Л.Уилсон так описывает языковой барьер на
пути аспирантов в научно-академическое сообщество: «Когда экзамен по
специальности преодолен, следующий барьер выступает в форме демонстрации
способностей новобранца читать литературу по специальности на иностранных языках,
по традиции на французском и немецком. Установлено это требование давно, но
в последние годы некоторые дисциплины и некоторые аспирантские школы
могут потребовать знания других языков или курса статистики вместо одного из
иностранных языков. Номинальной целью языковых требований, которые
обычно должны быть удовлетворены за год до появления аспиранта на финальном
докторском экзамене-защите, является демонстрация достаточных навыков
использовать языки в исследовании. Для большинства же аспирантов эти
требования фактически оказываются еще одним опасным барьером, который потребуется
для преодоления, вероятно, двух-трех попыток после интенсивной
индивидуальной муштры (по данным исследования 1965 г. только 22% аспирантов обходятся
без услуг репетиторов), а также и других сопутствующих усилий овладеть хотя бы
620
M. К. Петров
минимальным речевым навыком... Какими бы ни были объявленные цели,
требования знания иностранных языков несомненно вынуждают многих аспирантов
выбирать те формы аспирантуры, которые обходят это условие, или же вообще
отказываться от дальнейших попыток» [175, с. 41—42].
Странным для наблюдателя середины XIX в. в этой картине второй половины
XX в. показалось бы то, что применительно к человеку, который сознательно
выбрал путь в науку вообще может возникнуть вопрос или формальное требование
знания иностранных языков. Все интеллектуалы того Ти времени, учились ли они
в публичных школах Англии, в классических гимназиях Германии или России,
обязаны были демонстрировать описываемое Уилсоном искусство на выпускных
школьных экзаменах, поскольку и классические и живые языки входили на
правах «почитаемых предметов» в состав Ти и занимали на школьном переходе
подобающее им место, потребляя до 45% бюджета школьного академического
времени. И когда мы теперь пытаемся объяснить самим себе, как это стало, что
аспиранты — «новобранцы науки» — нуждаются в специальной проверке на знание
иностранных языков как на неустранимое условие прямого доступа к
интернациональному потоку научной литературы, без чего любой член национального
научно-академического сообщества, выступая в роли исследователя, оказывается
лишенным ориентиров в том, где сегодня проходит передний край, что уже
сделано коллегами и что еще предстоит сделать, нам, во-первых, хочется помного-
этажнее выразиться в адрес тех «инструментальных» реформаторов, по
инициативе которых учебники-введения в некоторые дисциплины вытеснили эти
«почитаемые предметы» середины XIX в., а во-вторых, мы начинаем в несколько ином
плане воспринимать бушующую вокруг нас стихию переводов и рефератов,
разжевывающих нам то, что хотелось бы знать оперативно и из первых рук, а
именно воспринимать эту стихию как тягостный и позорный налог на
недальновидность реформаторов образования середины XIX в., как обидный ворох
компенсирующей паранаучной деятельности, имеющий труднодостижимой целью хоть
как-то возместить ущерб, нанесенный и наносимый вытеснением «почитаемых
предметов» из школьного перехода Тп-Ту.
В современном интернациональном потоке первичной и вторичной
литературы господствующее положение занимает четверка «великих языков науки» —
английский, русский, немецкий и французский языки, на них публикуется по
разным данным от 90 до 99% мирового продукта науки. Иными словами, даже если
не принимать в расчет сложности и лаги-задержки с поиском и доставкой
необходимой членам национальных научно-академических сообществ иностранной
литературы, то каждому из них, если он ведет исследования и в силу этого
нуждается в прямом доступе к интернациональному потоку научной литературы, как
минимум необходимо в достаточной степени владеть кроме своего родного и
этими четырьмя «великими языками науки», что, как показывает опыт
классических гимназий в России или публичных школ в Англии XIX в., не такая уж
грандиозная задача, если на школьном переходе Тп-Ту и возможно ближе к
возрастному этапу «от 2 до 5» отведено достаточно академических часов на
преподавание этих языков.
Но положение, хотя и не так уж угрожающе, не непроходимо осложняется
сегодня тем, что несмотря на почти полное исчезновение классических языков —
греческого и латыни — из состава Ту большинства развитых стран, наука все же
продолжает придерживаться унаследованной в XVII в. от теологии и
университетской жизни традиции использовать в глоттогенезе и особенно в актах
номинации новых элементов научного знания греко-латинскую норму
словообразования, так что лексика интернационального потока научной литературы
оказывается до предела насыщенной чуждыми любому из «великих языков науки»
словообразованиями, которые во всех четырех «великих языках науки» образуют хотя
и частично осваиваемый в школьные годы страт исключений из правил
словообразования родного языка, не дают все же представления о правилах словообра-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 621
зования по греко-латинской норме, что ведет к появлению массы элементарных
ошибок в номинации используемых исследователями концептов, а это, как мы
уже говорили, может использоваться коллегами-оппонентами для обвинений
автора в общей некомпетентности, как это произошло, например, с «диатрибичес-
кой традицией» [187]. В условиях воспроизводства и даже расширенного
воспроизводства этой идущей от XVII в. традиции оформлять продукты научного глот-
тогенеза, которые через учебники системы образования попадают в лексику
официальных естественных языков Т-континуумов развитых стран, по
греко-латинской норме, в состав лингвистических условий осуществимости прямого контакта
исследователей с интернациональным потоком научной литературы, откуда
исследователь только и может получить последние сведения о конфигурации
переднего края на его участке исследований, нам приходится вводить кроме знания
«четырех великих языков науки» также и знание двух классических языков —
греческого и латыни и, соответственно, считать любого члена любого национального
научно-академического сообщества, исполнителя ролей универсального набора:
исследователь—преподаватель—администратор—привратник [140, с. 520], если он
не владеет английским, русским, немецким, французским, греческим, латинским
языками, заведомо ущербным с точки зрения глобального процесса научного
познания, поскольку он не в состоянии постоянно следить за интернациональным
потоком научной литературы и, следовательно, оперативно реагировать на сдвиги
проблематики переднего края, которая, как и сама конфигурация переднего края,
изменяется с каждой новой опубликованной работой, в каком бы национальном
научно-академическом сообществе новый результат исследовательской
деятельности ни был опубликован.
Получается, таким образом, что продвигая науку в школьные программы
через насаждение учебников-введений в некоторые дисциплины и тем самым
внедряя экстенсивную модель онаучивания как глобальный стандарт когнитивно-
социального обустройства национальных Т-континуумов, реформаторы XIX в.
одновременно из-за вытеснения из программ школы «почитаемых предметов»
лингвистического цикла подрывали условия осуществимости прямого доступа
членов национальных научно-академических сообществ к интернациональному
потоку научной литературы.
«Инструментальный» подход к школьному образованию, столь эффектно
продемонстрированный Британской Ассоциацией для Продвижения Науки во второй
половине XIX в., оказался палкой о двух концах, и когда собственно
«инструментальные» цели оказались достигнутыми — в научно-академическое сообщество
хлынул поток онаученных молодых людей, резко увеличивая его численность,
стало постепенно (смена поколений в терминалах идет в общем темпе
вытеснения старших младшими примерно из 2—3% в год) выясняться, что эти
онаученные молодые люди от ежегодной волны к ежегодной волне входящих в
терминалы научной деятельности новобранцев становятся все ущербнее по части прямого
доступа к интернациональному потоку научной литературы и что во всех
структурах национальных Т-континуумов начинает развиваться прогрессирующий мо-
ноглоттизм, который отражается на всем, включая и те самые ментальные
способности, которые, предполагалось, будет развивать приобщение детей к
методологии естественных наук: «Основной целью, к достижению которой направлено
введение преподавания физики в общую деятельность школы, является обретение
учениками ментальной подготовки и дисциплинированного мышления» [202,
с. 196].
Ущербность по части прямого доступа к интернациональному потоку научных
публикаций и его прямая связь с растущим моноглоттизмом понятны каждому:
если человек, претендующий на вход в терминал науки, владеет только своим
родным языком и в основном только потому, что на этапе «от 2 до 5» он без
учителей и учебников осилил этот язык, а школа только подправила мелкие
огрехи и просчеты его самостоятельной деятельности по сотворению личного зна-
622
М.К. Петров
кового мира по образу и подобию знаковых миров старших, то для такого
человека — типичного моноглота — закрытыми окажутся по крайней мере три из
четырех основных составляющих интернационального потока научных публикаций
на четырех «великих языках науки», не говоря уже о страте лексики, следующей
греко-латинской норме словообразования, который неизбежно будет им
восприниматься как хаотичный и неупорядоченный набор «терминов» с предельно
узким и точно определенным значением, каковым этот страт вовсе не является.
Сложнее объяснить другие метастазы прогрессирующего моноглоттизма,
который мы рассматриваем как тяжелую и опасную по своим возможным
последствиям болезнь современных национальных Т-континуумов развитых стран,
использующих экстенсивную модель онаучивания общества. Внешние симптомы
этой болезни более или менее ясны. Когда, например, речь идет о бурном
расцвете институтов научной информации, служб перевода, групп перевода или
специализированных научно-исследовательских проблемных институтов,
конструкторских бюро, в которых неизменно обнаруживается организационное
подразделение «полиглотов», как бы оно ни называлось, то при ближайшем рассмотрении
все такие организационные формы в той или иной степени оказываются острыми
и болезненными реакциями общества на прогрессирующий моноглоттизм:
откровенная или чуть прикрытая цель таких организационных структур —
компенсировать ущербность исследователей-моноглотов, прямо или опосредованно
приставить к каждому активному исследователю на правах его «сотрудников» или
независимого от него «персонала» группу людей, дополняющих его ущербные
возможности прямого доступа к потоку интернациональной научной публикации до
полной возможности подступиться ко всем четырем образующим — английской,
русской, немецкой и французской этого потока, с тем чтобы сохранить в
условиях моноглоттизма основной личностный принцип научной тезаурусной
кооперации в глобальном научном познании: все исследователи любой национальной
принадлежности, действуя в едином мире открытий, оперативно узнают о каждом
новом шаге коллег по наращиванию общего для них текста познаваемых реалий
мира открытий и по результатам этого нового шага корректируют конфигурацию
и проблематику переднего края собственных исследований. В чистом «полигло-
тическом» случае, когда каждый исследователь любой национальной
принадлежности обладает полным доступом к интернациональному потоку научных
публикаций, такие подсобные дополняющие группы при каждом активном
исследователе теряют смысл и право на существование, и в этом отношении понятно,
почему такие формы научной организации, как научно-исследовательские
институты почти не появлялись в условиях Ти культуры XIX в. и стали во множестве
появляться в середине XX в. вместе с ростом моноглоттизма в национальных
Т-континуумах развитых стран.
Уже эта внешняя, доступная для наблюдения и изучения обычными методами
наукометрии, социологии и истории науки сторона данности национальных
Т-континуумов развитых стран, позволяет нам сформулировать второе серьезное
обвинение в адрес экстенсивной модели онаучивания. Если в первом говорилось
о геноциде младенцев научного знания — рукописей — на предпубликационном
периоде, то во втором обвинении речь у нас пойдет о геноциде национального
исследовательского таланта, о слабом, расточительном и неразумном
потенциального таланта входящих в жизнь поколений развитых стран, что непосредственно
связано с тем обстоятельством, что «почитаемые предметы» лингвистического
цикла середины XIX в. вытеснены сегодня со школьного перехода Тп-Ту и
направляющиеся в терминалы науки по переходам Ту-Тд-Тг новобранцы приходят
в науку в подавляющем большинстве моноглотами, имеющими лишь
ограниченный родным языком доступ к многонациональному интернациональному
глобальному потоку научной публикации.
Это наше второе обвинение в адрес экстенсивной модели онаучивания
общества мы построим на анализе наблюдаемого во всех развитых странах феномена
История европейской культурной традиции и ее проблемы 623
массового отвлечения исследовательского таланта в паранаучную
вспомогательную деятельность, имеющую конечной целью олигархическую идею обеспечить
немногим выдающимся и успевшим зарекомендовать себя
ученым-исследователям оптимальные условия работы за счет научной молодежи, и прежде всего
обеспечить этим немногим прямой оперативный доступ к интернациональному
потоку научной публикации за счет дезактивирования творческой
исследовательской активности подчиненного им большинства новобранцев науки, которым в
начале их научных карьер в должности младшего научного сотрудника или
младшего преподавателя не приходится рассчитывать на то, что по их поводу будут
создаваться вспомогательные группы сотрудников-полиглотов или же на них
станут работать существующие уже подобные группы.
Выше мы бегло упоминали о том, что и из закона Ципфа [178] и из
эмпирических наблюдений ситуации в приложении [188] следует, что в
среднестатистическом случае прослеживается зависимость между лагом решения некой четко
сформулированной проблемы и числом участников ее решения, а именно лаг
решения сокращается пропорционально квадратному корню из числа участников, а
качество решения растет пропорционально кубическому корню из числа
участников решения. Наиболее часто эта зависимость встречается в технологических
приложениях научного знания и, похоже, именно из приложения она была
перенесена на науку в целом как организационный принцип построения проблемных
научно-исследовательских институтов, которые постепенно вытесняют сегодня
более экономный и более эффективный принцип личностной тезаурусной
кооперации, стихийной самоорганизации науки в бесконечном процессе исследований
в едином для глобального феномена науки мире открытий.
Понятно, что полностью вытеснить принцип личностной тезаурусной
кооперации усилий исследователей в глобальном процессе научного познания научно-
исследовательским институтам не дано: в этом экстремальном случае «прервалась
бы связь времен» в науке и глобальная преемственность научного познания
приказала бы долго жить, но нанести ущерб, и весьма ощутимый ущерб глобальному
преемственному научному познанию концентрация и дезактивация
исследовательского таланта в научно-исследовательских институтах явно и реально могут
именно потому, что такие институты собирают под частную «актуальную»
проблему многочисленные группы исследователей и фиксируют, цементируют эти
группы уже как организации, в которых исследовательская активность членов
таких фиксированных групп быстро иссякает со временем под давлением инги-
бирующих исследовательскую активность организационных и институциональных
составляющих, таких как распределение в институте власти и ответственности,
бытовое обустройство сотрудников, соблюдение прав и обязанностей, трудового
законодательства, — которые уже не оставляют времени на исследовательскую
деятельность, отодвигают ее на второй или даже на третий план, так что от
исходного назначения института через несколько лет после его учреждения под
актуальную проблему остается только вывеска.
Концентрация научного таланта стихийно происходит и в «чистых» условиях
действия личностного принципа тезаурусной кооперации усилий исследователей,
но здесь она происходит по общности интереса и озадаченности и удерживается
только на время решения проблемы, мгновенно распадается, как только проблема
оказывается решена.
Наконец, в состав второго обвинения в адрес экстенсивной модели
онаучивания и связанного с ней моноглоттизма мы, основываясь на собственном
многолетнем опыте переводчика и референта научной литературы, введем если и не
прямое, на основе конкретных наблюдаемых и измеримых, допускающих
изучение фактов, дополнительное обвинение экстенсивной модели в подавлении
способности к рефлексии, к критическому отношению к данности, то во всяком
случае на основе нашего «морального убеждения» в том, что именно так и обстоит
дело в большинстве национальных Т-континуумов развитых стран и иначе обсто-
624
M. К. Петров
ять не может. Вообще-то говоря, если бы аудитория наших потенциальных
читателей состояла из переводчиков-полиглотов, которым постоянно приходится по
поводу почти каждого предложения иностранного текста обращаться к ресурсам
рефлексии, выстраивать в умозрении факториальные множества вариантов
перевода и уничтожать эти множества в пользу одного, оцененного ими самими как
предпочтительный в данном контексте варианта, то у нас не было бы никаких
трудностей в обосновании этого пункта обвинений экстенсивной модели, но
учитывая то, что наши потенциальные читатели, если они и объявятся, почти
наверняка окажутся Ту-моноплотами, которым никогда не приходилось и вряд ли
когда-нибудь придется иметь с рефлексией дело по этому частному поводу
выстраивания и уничтожения факториальных множеств вариантов перевода, мы
попробуем пойти в обход, пойдем по тому пути, который предложила активная
участница дискуссий об интеллектуальной революции XVII в. Б.Дж.Шапиро
[203], но возьмем на себя смелость редуцировать ее мысли до самых
элементарных и доходчивых соображений о природе статуса наших знаний.
Примем на правах допущения, что кроме вынесенной из школы привычной
для нас шкалы объективной истинности, которую широко используют в науке,
ссылаясь обычно на формулировку Аристотеля: «Не потому ты бел, что мы
называем тебя белым, а потому что ты бел, мы, называющие тебя белым, правы»,
в принципе существует и шкала субъективной истинности, о которой написано
немало и Платоном и Аристотелем и критерием степеней которой мог бы, и в
этом основная мысль Шапиро, служить возможный объем вопросов и сомнений,
который мы могли бы высказать относительно того или иного вида знания. В
этой шкале субъективной истинности на вершине иерархии степеней
приближения к субъективной истине располагалась бы, по Шапиро, «моральная
достоверность», то есть такие виды знания, по отношению к которым нельзя и помыслить
вопросы или сомнения. К примеру, нормальному человеку-моноглоту не может
запасть в голову даже тень сомнения в субъективной истинности универсальных
правил грамматики своего родного языка, и всякий вопрос о том, зачем, скажем,
и нужны ли вообще в русском языке творительный падеж или изъявительное
наклонение, третье лицо или имя существительное, он встретит с откровенным
недоумением и непониманием намерений и целей задающего столь странные и
пустые вопросы.
В личном знаковом мире человека, будь он моноглотом или полиглотом,
знаковые реалии отмечены различными степенями личного его доверия к их
надежности, доказательности и убедительности, поэтому в процесс общения с другими
людьми он, справедливо полагая, что и личные знаковые миры собеседников
устроены подобным же образом, в любой акт речи между А и В вводит элементы —
знаковые реалии, не допускающие вопросов и сомнений и придающие акту речи
черты убедительности, доказательности неопровержимости. С античных еще
времен принято считать, что в подоснове существования таких элементов лежит
лингвистическая структура и прежде всего общеобязательность для собеседников
универсальных грамматических правил операций со знаменательными словами,
но уже во времена античности обнаруживались и прилегающие к грамматике
области мира знака, реалии которых, хотя и в ослабленной степени, обладают этим
свойством исключать вопросы и сомнения или свойством демонстрации.
Аристотель, например, включал в эту область мира знака грамматические правила,
логику-силлогистику, геометрию и арифметику и советовал ораторам-риторам А
включать в свои выступления на публику В побольше элементов, обладающих
свойствами демонстративности, причем он уже в «Аналитиках», «Поэтике» и
«Риторике» отмечал, что в мире знака, в том, что дано собеседникам в звуке — «эн
то фони» — может обретать достоинство убедительности-демонстративности и
многое другое, не имеющее прямого отношения к лингвистической структуре —
ценности, обычаи, верования, предрассудки, убеждения, с которыми также ора-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 625
торам приходится считаться при оценке Т0 конкретной аудитории, если они
намерены добиться взаимопонимания и убедить в чем-то аудиторию.
Как раз по этой части — по степени вовлечения в научную аргументацию вне-
лингвистических факторов, которые по тем или иным чисто национальным
причинам обретают в родном языке человека статус демонстративности, рефлексии
моноглота и полиглота обнаруживают существенные и достаточно ядовитые
различия: моноглоту гораздо сложнее различать и выдерживать границу допустимого
и недопустимого в универсальной общенаучной аргументации, которая, что бы
там ни говорили о неизбежном засорении научной аргументации ценностными,
аксиологическими включениями, все же стремилась и стремится быть
«нейтральной» по отношению к ценностям, объективной и нелицеприятной,
«незаинтересованной» в своих объяснениях. Но чтобы реализовать это стремление, любому
члену любого национального научно-академического сообщества, если он
выступает в роли исследователя, готовящего для публикации рукопись об очередном
событии на переднем крае, нужно остро чувствовать, а это требует постоянного
обращения к рефлексии, границу между дозволенным этносом науки, как
глобального феномена и недозволенным. Полиглоты в этом отношении не
испытывают серьезных затруднений, поскольку в их головах, в памяти, как опоре любого
акта рефлексии четко обозначена универсальная теоретическая модель любого
естественного языка, которая впервые была предложена александрийскими
грамматиками [21, с. 8—10] для чисто практических целей — для сохранения чистоты
греческого языка в многочисленных эллинских полисах, живущих в инокультур-
ных лингвистических средах стран, завоеванных Александром Македонским, но
со временем стала и до сегодняшнего дня является общепризнанным эталоном
нормативного школьного курса родного языка в любом национальном Т-конти-
нууме.
У моноглотов этого четкого, предостерегающего от выходов в запретную
область ориентира нет и не может быть, а происходит это не в силу какой-либо
ущербности моноглотического ума, переданной ему от родителей по биокоду, а
именно в силу отсутствия на школьном переходе «почитаемых предметов»
XIX в. — классических и живых языков, которые бы позволили ему получить
общее представление о языке-системе, об ограниченности мира знака как
целостности, о глоттогенезе и о событиях и прежде всего об актах номинации, которые
регулярно происходят на границах языка-системы и превращают имеющие
отметки единичности, пространства и времени самостные реалии окружения в
лишенные самости, отметок пространства и времени знаки. Вся эта внутренняя
динамика существования языка, живущего жизнью и самостью его носителей, остается
тайной для моноглота, который, освоив на этапе «от 2 до 5» родной естественный
язык — обычно и официальный язык национального Т-континуума, в
общеобразовательной школе занимается под руководством учителей родного языка и
литературы латанием дыр и устранением недоделок в собственном младенческом
произведении — в знаковом мире, который был сотворен им на этапе «от 2 до
5» по начисто забытым ко времени входа в 1 класс и никогда не сознававшимся
нормам и правилам, а теперь вот в школе, изучая нормативный теоретический
курс родного естественного языка, он на каждом уроке обнаруживает
погрешности в своем творении, утопает в массе правил и исключений, облагораживающих
сидящий у него в голове с младенческих времен сырой продукт действий по
биокоду, адаптированных к конкретной социальной данности, в которой ему
довелось начать жизнь.
Конечно же, в педагогических институтах, в учительских колледжах, на
соответствующих факультетах университетов будущим учителям родного языка читают
курс общей лингвистики, в котором сообщается нечто об Аристотеле,
александрийцах, о компаративистах XIX в., о Гумбольдте, Шлейхере, Мейе, Соссюре, о
языке-системе и сообщается, надо полагать, для того, чтобы учителя могли
пересадить, трансплантировать в головы учеников целостный, удовлетворяющий
626
M. К. Петров
принципу единства апперцепции образ языка-системы, одним из вариантов
которого является их родной язык. Но ничего даже близкого на уроках в школе не
происходит. Ни учителя, ни ученики даже не подозревают, что осиливая шаг за
шагом «скучнейшую из скук науки», «проходя» то префиксы, то суффиксы, то
склонения, то спряжение, то морфологию, то целых два синтаксиса простого и
сложного предложения, разбирая предложения то по частям речи, то по членам
предложения, они, в сущности, копаются, не ведая, что творят, в прекрасной,
целостной и далеко еще не «преодоленной» онтологической теории миропорядка
Аристотеля, воплощенной в лингвистической ее части в теоретическом
нормативном курсе естественного языка александрийцами. Водительствуемые своими
учителями родного языка ученики всех классов просто конца краю не видят в этой
растянутой на десятилетие скуке и муке, и в самом завершении занятий по
родному языку усматривают не завершение полного описания родного языка как
целостной системы, а скорее прекращение долговременной пытки скукой с
неведомыми им намерениями и целями, и сразу же после выпускных экзаменов
стараются всю эту накопленную в школе премудрость правил и исключений выбросить
вон из головы, начисто забыть как дурной сон, что подавляющему большинству
жизнерадостных носителей Ту и удается, поскольку для взрослой деятельности в
большинстве терминалов современного развитого общества вполне достаточным
оказывается тот облагороженный школой запас автоматизированных и
упрятанных в подкорку навыков и умений, который приобретен моноглотом без видимых
усилий на этапе «от 2 до 5». Наблюдаемая типичная ситуация здесь точно следует
одному из доводов Соссюра в пользу невозможности сознательных перемен в
языке: «рефлексия не участвует в пользовании тем или другим языком; сами
говорящие в значительной мере не осознают законов языка, а раз они их не
осознают, то каким же образом они могут их изменить?» [66, с. 105].
Но вот терминальная деятельность любого члена любого национального
научно-академического сообщества практически по всем составляющим его ролевого
набора: исследователь—преподаватель—администратор—привратник [140, с. 520],
предполагает частые акты рефлексии, особенно когда он готовит рукописи,
оформляющие в языке новые элементы научного знания или продвигающие
оформленные уже элементы научного знания в действующие учебники системы
образования. Ему постоянно приходится совершать операции отбора национальных и
интернациональных опор и авторитетов, обеспечивающих убедительность
аргументации для потенциальных коллег-читателей не только в своем национальном
Т-континууме, но и в Т-континуумах других стран, что предполагает не только
прямой доступ к интернациональному потоку научной литературы, но и
дополнительные сведения исторического и синхронного плана о ранговых айсбергах
релевантных публикаций, о персоналиях и содержательном составе работ зоны
интенсивного цитирования, к каким бы национальным научно-академическим
сообществам ни принадлежали их авторы и на каком бы языке эти работы ни
публиковались.
Чтобы обрести возможность критического отношения к работам и авторам,
отбираемым в Т0 собственной рукописи, ему приходится придирчиво оценивать
аргументацию этих работ-опор. Все эти виды само собой разумеющейся
деятельности практически невозможны без острого чувства границы того, где кончается
допустимая и приветствуемая в науке демонстрация и ее сопредельные области,
и где начинается область пустопорожней игры в слова. У моноглота не то, чтобы
нет этого чувства, но граница для него весьма расплывчата и даже когда
посредник-переводчик предлагает ему свою версию нужной ему работы нужного автора,
у моноглота никогда не бывает уверенности, что переводчик прочитал эту работу
под интересующим моноглота углом зрения, отметил и выделил именно те
моменты и нюансы, которые отметил и выделил бы он сам, обладай он прямым
доступом к этой работе.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 627
Наука в целом бесспорно стремится к объективному и незаинтересованному
восприятию предмета своих исследований и данные эксперимента имеют в науке
высший статус демонстративности и «моральной достоверности», о чем всегда
следует помнить и что всегда следует учитывать в обсуждении конкретной точки
зрения того или иного исследователя. Но хотя эта приверженность к
объективности резко ограничивает допустимый разброс множества личных точек зрения
исследователей на предполагаемую и предлагаемую действующей в дисциплине
или исследовательской группе парадигмой структуру и регулярности изучаемого
ими предмета, такая приверженность к объективности не мешает все же
практически каждому исследователю, работающему в группе коллег, объединенных
пусть даже самой строгой парадигмой, назначением которой как раз и является
сведение к минимуму точек зрения на предмет изучения, иметь свои особые
личные точки зрения на предмет исследования, дорогие сердцу и разуму каждого
отдельного исследователя нюансы восприятия предмета в рамках общего для
исследовательской группы Тг парадигматического взгляда; это не такое уж тонкое
обстоятельство ставит исследователя-моноглота, не имеющего прямого доступа ко
всем образующим интернационального потока научной публикации в крайне
невыгодное, зависимое от полиглота и множества непредсказуемых случайностей
положение.
Дело здесь в том, что переводчики и референты, прямо или косвенно
приставленные к исследователю-моноглоту для восполнения его немощи по части
прямого доступа к некоторым составляющим интернационального потока
научной публикации, — живые люди, не чуждые как правило исследовательскому зуду
и имеющие, как и исследователи-моноглоты, которых они в частной для них
роли переводчика или референта должны обслуживать, свои особые
предпочтения, точки зрения, нюансы, а они неизбежно накладываются на любой их
перевод или реферат как сумма искажений «в пределах допусков». Полностью
освободиться от этого досадного и опасного для моноглота-исследователя
«преломления» мыслей оригинального автора в искажающей «призме» ума переводчика или
референта крайне трудно и мы бы даже сказали невозможно, хотя некоторые
переводы и претендуют на сомнительное достоинство «аутентичных». Более того,
нам кажется, что к аутентичности не следует особенно и стремиться: в высшей
степени аутентичные периоды могла бы дать вычислительная машина, которая
действительно ничего не имеет за душой — ни предпочтений, ни точек зрения,
ни нюансов, но при всех этих пустодушных достоинствах обладает
огорчительным недостатком — она не переводит, а когда ее начинают усиленно и
настойчиво обучать этому тонкому делу на базе конкретного оригинального текста, то
делают это именно методом вкладывания в нее души — предпочтений взглядов,
нюансов конкретного живого переводчика — и этого «душевного вклада» машине
хватает только на один конкретный оригинальный текст: замена его другим
оригинальным текстом требует «душевной переналадки» машины на длительности и
объеме программирующих усилий конкретных переводчиков, которые
несравнимы с длительностью и объемом на перевод этого другого оригинального текста
программирующими машину переводчиками — живыми, самостными,
мыслящими переводчиками, которые умеют без труда перенастраиваться на любой новый
оригинальный текст, но явно неспособны быть бездушными, «аутентичными», не
имеющими собственных предпочтений, взглядов, нюансов на обсуждаемый
оригинальным автором, интересующий и автора и переводчика предмет.
Словом, преломление и искажение, возникающие в процессе перевода,
неустранимы точно так же, как неустранимы преломления и искажения в
интерпретации текста и самим исследователем-моноглотом, который воспринимает любой
доступный ему текст через свою особую оптику предпочтений, взглядов, нюансов.
Эти искажения, недопонимания и даже ложные истолкования оригинальных
мыслей автора читателями как переведенной работы, так и оригинального
текста — рабочий момент научной познавательной деятельности, схожий по функции
40*
628
M. К. Петров
с мутационным разбросом в биологическом кодировании; отклонение от
аутентичной нормы перевода или восприятия может стать началом нового направления
исследования, новой исследовательской группы или даже дисциплины [142],
поэтому воспроизводство этого разброса интерпретаций и истолкований в рамках
действующих парадигм приходится считать жизненно важным для развития самой
науки, и разброс этот не может быть уничтожен без прямой угрозы самому
существованию науки как глобального феномена.
По этой частной линии умножения интерпретаций и реинтерпретаций
публикуемых научными журналами оригинальных рукописей мы можем обвинять
экстенсивную модель онаучивания общества только в том, что вытеснив
«почитаемые предметы» лингвистического цикла со школьного перехода, она, как прямое
следствие этого, резко сократила и сокращает долю полиглотов в составе членов
национальных научно-академических сообществ, что в свою очередь породило
острый спрос на паранаучную опосредующую деятельность переводчиков и
референтов, то есть тем самым экстенсивная модель произвела и воспроизводит во
все более широких масштабах дополнительную ступень интерпретации
оригинальных текстов между автором оригинальной работы и его коллегой из другого
Т-континуума исследователем-моноглотом. Это частное обвинение в рамках более
широкого второго обвинения в адрес экстенсивной модели онаучивания общества
усугубляется и тем немаловажным обстоятельством, что приходящие сегодня в эту
паранаучную опосредующую деятельность переводчики и референты в
подавляющем своем большинстве не являются полными для целей науки полиглотами,
владеющими греческим, латинским, английским, русским, немецким,
французским языками, что придает их переводам и рефератам моноглоттический или
даже бездумно-«машинный» крен, если в соответствующие институты или
информационные группы, предназначенные для возмещения немощи доступа
исследователей-моноглотов приходят выпускники институтов иностранных языков,
типичные носители Ту и потенциальные преподаватели школьных курсов
иностранных языков, которые не имеют научной дисциплинарной подготовки и,
следовательно, сколько-нибудь твердой теоретической базы для появления обоснованных
теоретически предпочтений, взглядов, нюансов, то есть, как и вычислительная
машина, не имеют ничего устойчивого за душой. В этом последнем случае
неизбежно возникающие в процессе перевода и реферирования искажения и
преломления вряд ли способны будут претендовать на научный мутационный разброс
интерпретаций оригинального текста, скорее это будет простой стохастический
бесструктурный шум, затрудняющий доступ к смыслу оригинальной работы.
Но основное критическое содержание во второе обвинение экстенсивной
модели вносит все же наше устойчивое подозрение насчет того, что порождая
прогрессирующий моноглоттизм и переводя некогда «почитаемые предметы»
лингвистического цикла во все менее и менее почитаемый статус
«непрофилирующих», «второстепенных» предметов изучения в школьной и постшкольной частях
системы образования национального Т-континуума развитой страны,
экстенсивная модель онаучивания общества уже самим своим фактом длительного
существования совершает преступление против человеческого рода, оставляя без
использования те встроенные в биокод врожденные способности и возможности,
которые еще сто лет тому назад позволяли появившимся в середине XIX в. младенцам
приходить в свои национальные научно-академические сообщества полными
полиглотами, которые лишь изредка обращались к переводам скорее в порядке
исполнения роли привратника, чем по необходимости прямого доступа к
оригинальным работам, которые они прекрасно знали и использовали в собственных
работах и исследованиях задолго до появления переводов на родной
официальный язык их Т-континуумов отдельных особо выдающихся работ.
Понятно, что одно-два столетия ничтожный срок в терминах темпов
естественной эволюции человеческого рода и никаких существенных изменений в
человеческом биокоде на столь кратком периоде произойти не может. Но вот если
История европейской культурной традиции и ее проблемы 629
все же экстенсивная модель онаучивания общества, выступающая сегодня как
символ развитости, к которому стремятся сегодня и который усиленно насаждают
сегодня во всех странах мира, не входящих пока в число развитых, обнаружит
скрытые пока для нас источники живучести и счет годам ее существования
придется вести не на столетия, а на тысячелетия, то не произойдет ли, грубо говоря,
оглупления человечества, отмирания тех явно присутствующих сегодня
способностей и возможностей к единовременному владению многими естественными
языками и их знаковыми мирами просто потому, что слишком уж долгое время
эти способности и возможности не использовались человечеством и не
развивались?
Есть ли сегодня сколько-нибудь убедительные симптомы или данные,
способные переместить это тяжелое подозрение поближе к «моральной достоверности»,
к области знания, которому приписывается в науке та или иная степень
демонстрации? К глубокому нашему сожалению свидетельства такие есть. Мы их
рассмотрим позже, когда будем говорить об угрозах, порождаемых экстенсивной
моделью и об альтернативе экстенсивной модели, которая, по нашему убеждению
могла бы снять эти угрозы, об интенсивной модели онаучивания общества.
Попутно мы пополним список наших обвинений в адрес экстенсивной модели
пунктами, которые в данном разделе разбирать было бы преждевременно,
поскольку они в определенной степени связаны не только с экстенсивной моделью,
но и с жестким исполнением законов о всеобщем и обязательном образовании в
развитых странах.
Кризис экстенсивной модели онаучивания общества
и вытекающие из него угрожающие перспективы
В конце второй части мы кратко обрисовали ситуацию кризиса Т-континуу-
мов и их систем образования в развитых странах, хотя и не входили в детальное
рассмотрение того, чем эта кризисная ситуация грозит обернуться в будущем и
для науки и для онаучиваемых ее по экстенсивной модели обществ. Теперь мы
займемся этим малоприятным, но нужным делом в надежде показать достойный
для человечества выход из этой создавшейся во многом по вине экстенсивной
модели онаучивания общества ситуации. Начнем с более или менее известных
читателю фактов.
Наблюдается, о чем мы уже не раз упоминали, явный диссонанс между
неудержимым ростом дифференциации мира науки, когда в нем появляются все
новые и новые исследовательские направления и дисциплины [142], и застойной
областью официального представительства науки на школьном переходе Тп-Ту,
где и сегодня обнаруживается почти тот же набор учебников-введений в те же
самые дисциплины, что и в начале XX в. По явно устаревшим официальным
данным 1968 г. [69, с. 71] науку на школьном переходе представляют учебниками-
введениями лишь 10% дисциплин и 1% исследовательских направлений,
представленных на постшкольном участке системы образования развернутыми студен -
ческо-аспирантскими семилетними переходами Ту-Тд-Тг. Следует ожидать, что и
в обозримом будущем, если не отказаться от экстенсивной модели поголовного
онаучивания через систему образования всего взрослого населения развитых
стран, ничего существенного на школьном всеобщем и универсальном переходе
Тп-Ту произойти не может просто потому, что бюджет школьного академического
чистого времени давно уже исчерпан, а любая попытка полностью представить
науку на школьном переходе учебниками-введениями потребовала бы уже в
середине 1960-х гг. увеличения срока обучения в общеобразовательной школе до
ста и более учебных годов в чистом академическом времени, на что за полной
бессмысленностью подобного предприятия не может пойти ни одна из развитых
стран.
630
M. К. Петров
Конечно же, в рамках действующего официального представительства науки
на школьном переходе возможны и даже вероятны перестановки, субституции,
ущемления, сокращения. Сегодня вот, к примеру, на школьный переход
вторгается почти во всех развитых странах, хотя и под разными предлогами,
компьютерная грамотность. Если дело не ограничится всеобщим насаждением чисто
механических навыков нажимать нужным пальцем нужную клавишу, как это
происходило и происходит, например, на курсах машинописи, где «что печатать» —
дело внешнего автора, а обучающийся машинописи лишь перепечатывает
подготовленный кем-то текст, то вводимая компьютерная грамотность должна бы
потянуть за собой теорию — некоторые разделы теории систем [136], что
потребовало бы выделения на них академических часов за счет других «почитаемых
предметов» конца XX в.
Но эти всегда возможные перераспределения часов на предметы,
представляющие в школе науку в целом, не могут и не смогут при сохранении
экстенсивной модели онаучивания что-либо изменить в уже сложившейся тупиковой
ситуации неполного и однобокого (10% на уровне дисциплин и 1% на уровне
исследовательских направлений) представления целостного феномена науки в
программах школы. Сложившаяся ситуация способна только ухудшаться в
процессе роста дифференциации науки [142], хотя уже сегодня вполне правомерно
серьезно сомневаться в том, выполняет ли наука как целостность
декларированную во второй половине XIX в. задачу «инструментального» подхода к школьному
образованию: представительство науки на школьном переходе Тп-Ту слишком
неполно и однобоко, чтобы отвечать за предварительную подготовку молодежи к
движению в терминалы науки. В этом «инструментальном» смысле эксперимент
второй половины XIX в. по всеобщему онаучиванию и массовому вовлечению
молодежи в науку следует признать провалившимся: до реализации этого
«инструментального» предприятия, закрепившего на правах глобальной модели
экстенсивный способ онаучивания общества и создавшего Ту культуру в целом, в науку
приходили новобранцы более высокого качества и подготовленности к
исследованию как с точки зрения прямого доступа к интернациональному потоку
научной литературы, так и по многим другим параметрам по сравнению с теми
новобранцами-моноглотами, которые сегодня приходят в науку и практически
ничего в ней не могут без постоянной опоры на вспомогательную паранаучную
деятельность переводчиков и референтов, не имеющих в своем большинстве
солидной научной подготовки.
Явная бесперспективность наблюдаемого ныне тупика по линии полноты и
всесторонности представления науки как целостного глобального феномена на
школьном переходе Тп-Ту ставит перед инстанциями научной и академической
политики всех развитых стран достаточно остро и актуально вопрос об отмене не
оправдавшего возлагавшихся на него надежд экстенсивного способа онаучивания
общества через содержание на школьном всеобщем переходе Тп-Ту учебников-
введений в некоторые дисциплины и через поддержание силами членов
сообществ этих избранных дисциплин прямого контакта между событиями на
переднем крае этих дисциплин и материалом их учебников-введений в процессе их
переизданий. Любые затяжки в деле отмены экстенсивной модели онаучивания
общества ничего положительного дать не могут, коль скоро дифференциация
науки на уровне дисциплин продолжает неудержимо расти, а доля академических
часов на представительство науки учебниками-введениями в школьном бюджете
чистого академического времени должна оставаться неизменной.
Далее, наблюдается, что хотя интернациональный поток научной публикации,
который выполняет в науке как целостном глобальном феномене роль
интегратора и координатора усилий всех исследователей, принадлежащих к различным
национальным научно-академическим сообществам, использует сегодня в
основном четыре «великих языка науки» — английский, русский, немецкий и
французский, значительную часть функционирующей в этом потоке знаменательной
История европейской культурной традиции и ее проблемы 631
лексики, возникающей в процессе общего глоттогенеза науки и особенно в актах
номинации новых элементов научного знания, составляют слова, не следующие
правилам словообразования какого-либо из этих четырех «великих языков
науки», а продолжают традиционно оформляться по греко-латинской
словообразовательной норме. Происходит это сегодня на общем для всех развитых стран
фоне падения академического статуса предметов лингвистического цикла. Ни в
одной развитой стране, например, на школьном переходе Тп-Ту не представлены
все четыре «великих языка науки» и лишь в отдельных из развитых стран на
школьном переходе удерживается предельно урезанный и сокращенный курс
одного из классических языков, обычно латыни, хотя во второй половине XIX в.
практически во всех ныне развитых странах европейской культурной традиции на
школьном переходе Тп-Ти (публичные школы, гимназии, колледжи, лицеи,
курсы) были представлены греческий и латынь, а также все «великие языки
науки» того времени.
Есть все основания полагать, что в условиях длительного господства
экстенсивной модели онаучивания общества база идущей от XVII в. традиции
оформлять продукты научного глоттогенеза по греко-латинской норме будет
окончательно подорвана и наука лишится этой когнитивной скрепы
интернационального потока научной публикации, вынуждена будет перейти в процессах
глоттогенеза на правила словообразования родных официальных языков, что неминуемо
разрушит интегрирующую структуру коллективизма в науке как основную
динамическую форму самоорганизации глобального процесса научного познания в
едином для всех исследователей мире открытий и как следствие произойдет
распад науки как глобального феномена на изолированные национальные поднауки
со своими особыми мирами открытий и потоками национальной научной
литературы. Такая перспектива распада перечеркнула бы все надежды человечества на
создание единого глобального общества на основе глобального процесса познания
мира и широкого приложения его результатов.
Чем именно распад науки как целостного наднационального феномена мог бы
угрожать человечеству и почему мы связываем вероятность этого явно
глобального события со столь ничтожными на первый взгляд причинами как присутствие
или отсутствие на школьном переходе систем образования Т-континуумов стран,
имеющих на вооружении институт науки и развитую сеть приложения, солидных
школьных нормативных курсов греческого и латыни?
Ответ на этот отнюдь не риторический вопрос нужно искать в детальном
анализе роли или ролей страта интернациональной лексики в национальных Т-кон-
тинуумах под углом зрения степени задействованности этого страта в механизмах
интеграции научной деятельности национальных научно-академических
сообществ в целостность наднационального феномена науки.
Что есть резон заняться именно стратом интернациональной лексики в
национальных Т-континуумах, говорит множество частных и видимых невооруженным
глазом симптомов и синдромов, которые, если не соотнести их со стратом
интернациональной лексики представляются бессмысленной пестротой странностей,
но в соотнесении с этим стратом обретают вполне определенный смысл и
значение. К примеру, в движении по эшелонам массива дисциплинарных публикаций
элементов научного знания элементарные зондажи показывают, что массовый
отсев элементов научного знания на каждом шаге приближения к учебнику на
предпубликационном периоде рукописей статей, обзоров, монографий, курсов
лекций, учебников [44] сопровождается и заметным перераспределением долей
лексики, оформленной по правилам словообразования формального языка
данного Т-континуума и по греко-латинской норме: доля слов, созданных по
правилам официального языка падает, а доля слов, созданных по правилам
словообразования греческого и латыни, растет. И то же самое наблюдается в процессах
перевода с языка на язык. Создается впечатление, что стоит лишь стронуть с
места опубликованную уже работу на предмет перемещения к ближайшему учеб-
632
M.К. Петров
нику или на предмет перевода на другой язык или реферирования, как из нее тут
же начинают высыпаться «местные диалектизмы», образованные по правилам
официального языка Т-континуума, в котором она была опубликована, и их
место занимают слова единого языка науки, образованные по греко-латинской
норме. Это концентрическое стяжение лингвистической формы слов к
греко-латинской норме словообразования вскрывает тот факт, что общенаучная
коммуникация хотя и допускает национальные варианты глоттогенеза, рассматривает их
все же как диалекты общенаучного языка, которого у науки сегодня нет, но
который определенно был в ее Ти молодости, когда вот даже и «Философские
записки» предполагалось по первому несостоявшемуся плану Олденбурга четыре
раза в год публиковать на латинском языке [193, с. 184].
Это концентрическое стяжение лингвистической формы слов к
греко-латинской норме у большинства сталкивающихся с этим феноменом детей и взрослых,
распределенным по национальным Т-континуумам, по вполне понятным
причинам не может вызывать теплых чувств: слишком много правил и исключений
существует по поводу этого феномена, с одной только буквой «б» не оберешься —
нужно знать, например, что библиотека от «винлион», поэтому можно встретить
и Библию и Вивлион, и анабасис и анавасис, катавасию и катабасию, Вавилон и
Бабилон, Севастополь и Себастополь, василевса и басилевса, когда всякий раз
нужно знать, откуда слово пришло и кто его исковеркал, а если уж ненароком
ошибешься, как это произошло с «диатрибической традицией» [187], то не
взыщи, этнос науки таких вольностей не прощает, хотя едва ли один из сотни
уличающих тебя в безграмотности коллег до тонкости знает историю путей
заимствования и переозвучивания конкретных слов. Но нас то сейчас интересует не
это, а сам факт силы и устойчивости этого острого чувства пуризма, сохранения
чистоты общенаучного языка, которого давно нет, чувства, которое заставляет
авторов вторичной научной литературы, переводчиков и референтов автоматически
становиться блюстителями этой чистоты, выбрасывать национальные
диалектизмы, хотя все кругом и они сами в обыденных условиях горько жалуются на
засорение родного языка иноязычными и потому трудно запоминаемыми и
используемыми словами. К тому же и младшие постоянно пристают, почему
астрономия, но астрология, откуда гастроном, как это ипподром, но гиппопотам,
Филипп I, но Филлипс, экология и экономика и тысячи других почему по поводу
темноты чужих слов, но все подобного рода досады куда-то улетучиваются и все
причастные к науке люди оказываются в едином строю, когда очередное
начальство вдруг решит впредь именовать синклиналии впуклостями, а антиклиналии —
выпуклостями: такое почему-то не проходит и под административным нажимом.
Мы склонны полагать, что эта двойственность членов научно-академического
сообщества в их отношении к греко-латинской норме научного глоттогенеза во
многом мотивируется полуосознанным инстинктом самосохранения, чувством
того, что потеряй наука эту приобретенную в XVII в. традицию публиковать на
родном официальном языке все виды научной и паранаучной литературы, но все
новые, входящие в ее коммуникацию оформлять по чуждой всем национальным
Т-континуумам греко-латинской норме словообразования, то тут же произойдет
нечто ужасное, объявится новая вавилонская башня, второе смешение языков,
отсутствие взаимопонимания между исследователями разных национальных научно-
академических сообществ, которые пока еще жива эта трехсотлетняя традиция
хорошо ли, плохо ли, но сообща делают одно общечеловеческое дело —
надстраивают методом кумуляции-наращивания все тексты науки как целостного
глобального феномена.
Здесь проще всего было бы, конечно, сослаться на Соссюра, который,
разбирая близкую ситуацию в естественном языке, подчеркивал роль традиции в
преемственном существовании языка и образующих его немотивированных знаков:
«Язык устойчив не только потому, что он привязан к косной массе коллектива,
но и вследствие того, что он существует во времени. Эти два факта неотделимы.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 633
Связь с прошлым ежеминутно препятствует свободе выбора. Мы говорим человек
и собака, потому что и до нас говорили человек и собака. Это не препятствует
тому, что во всем явлении в целом всегда налицо связь между двумя
противоречивыми факторами — произвольным соглашением, в силу которого выбор
означающего свободен, и временем, благодаря которому этот выбор оказывается
жестко определенным. Именно потому, что знак произволен, он не знает другого
закона, кроме закона традиции, и, наоборот, он может быть произвольным только
потому, что опирается на традицию» [66, с. 107].
Но многое проясняя в динамике действия опирающейся на время традиции,
которая дарует вечную жизнь, если ничего не случится, произвольному знаку —
продукту глоттогенеза, номинации в лингвистическом знаковом мире, каковым
безусловно является и глобальный феномен науки, авторитетное разъяснение Со-
ссюра насчет немотивированности лингвистического знака и традиции
умалчивает о самом для нас главном — о том, что «косный коллектив», в нашем случае
полные с точки зрения науки полиглоты, владеющие греческим, латынью,
четырьмя «великими языками науки», катастрофически сокращает в условиях
действия экстенсивной модели онаучивания свою численность, практически
вымирает во всех развитых странах, а это и по Соссюру [66] и по Шлейхеру [87]
означает автоматическое отмирание и лингвистической традиции, которая живет
жизнью самостных ее носителей, а сама достоинством самости, как и любая
другая знаковая реалия, не обладает.
Вместе с тем, разъяснение Соссюра помогает нам сориентироваться в
локализации жизненных центров науки как глобального целостного и уникального
феномена. Оставаясь в ограничивающих рамках обсуждавшегося уже
противостояния абсолютов, источников субъективного и объективного определений —
человеческого младенца и человеческого окружения, между которыми располагаются
все мыслимые знаковые миры, включая и науку, мы можем наиболее близкой и
даже контактирующей с источником объективного определения считать ту часть
глобального феномена науки, которая образует сегодня для членов всех
национальных научно-академических сообществ единый мир открытий, который
входит все же в мир знака, а не в окружение и право на существование в котором
получают лишь те самостные, единичные, имеющие отметки пространства и
времени реалии окружения, которые обладают репродуктивной характеристикой и
именно поэтому могут быть переведены в мир открытий, лишаясь при этом
самости, единичности, отметок пространства и времени. Критерии наблюдаемости и
эксперимента, которые используются для отбора интересующих человека по
множеству причин реалий окружения в мир открытий в целях их опредмечивания и
изучения имеют, предположительно, и обратную силу: через контролируемый
эксперимент реалии знакового мира могут быть переведены в окружение, обретая
при этом единичность и отметки пространства и времени — неограниченно
тиражироваться, на чем и строятся все виды приложения элементов научного
знания, которые при этом не «потребляются», то есть не терпят никакого ущерба и
являются практически вечными и неуничтожимыми продуктами человеческой
познавательной способности.
В мире открытий локализована основная «фундаментальная» деятельность
членов национальных научно-академических сообществ, в которой они
выступают в роли исследователя по преимуществу. Мертон, например, вводя ролевой
набор члена научно-академического сообщества — исследователь, преподаватель,
администратор и привратник, — приоритет в этом наборе отдает роли
исследователя: «Роль исследователя, ответственная за рост научного знания, является
центральной, а остальные функционально подчинены ей просто потому, что если
бы не велись научные исследования, не было бы ни нового знания для передачи
через роль преподавателя, ни необходимости распределять ресурсы для
исследований, ни исследовательских организаций, требующих управления, ни потока
нового знания, который могли бы регулировать привратники. Возможно именно
634
M.К. Петров
из-за центрального функционального положения этой роли ученые придают
значительно большее значение исследованию, чем другим ролям. Как это и бывает
обычно при исполнении набора взаимно дополняющих ролей, идеология далеко
не полностью отражает дифференцированную оценку ролей набора: ученые часто
настаивают на «нераздельности» и соответственно на равной важности
обеспечивающих ролей. И все же в самой модели очевидных предпочтений системы
вознаграждений в науке зафиксировано, что наиболее высоко ценится именно роль
исследователя. Героями науки становятся по способности быть исследователем,
много реже по способности быть преподавателем, администратором, референтом
или редактором» [140, с. 520].
В мире открытий локализована и разветвленная корневая система первичной
самоорганизации научного познания, о которой мы уже говорили как о тезаурус-
но-динамическом коллективизме, стихийно возникающем в науке по поводу
решения более или менее строго сформулированных проблем и на период их
решения, чем эти стихийно возникающие и краткоживущие группы исследователей
(исследовательские группы дисциплин, «невидимые колледжи») радикально и в
выгодную сторону отличаются от организационных форм научного
коллективизма, в которых подвижность исследователей и их стремление принять участие в
решении новых проблем ограничены институциональными рамками и
коллективы продолжают неограниченно долго существовать и после решения проблемы,
под которую они организационно собраны (научно-исследовательские
институты), что ведет к огромным потерям свободного исследовательского таланта. В
рамках тезаурусно-динамического коллективизма выявляется с особой остротой и
функциональная необходимость на неформальном и формальном уровнях
прямого доступа всех участников решения новой проблемы, в число которых могут,
если они свободны и не связаны институциональными обязательствами
организационного коллективизма, удерживающего их у других проблем, входить
исследователи из любых национальных научно-академических сообществ. Интенсивное
общение участников — условие осуществимости тезаурусно-динамического
коллективизма, а оно возможно лишь в том случае, если все участники решения
новой проблемы понимают друг друга, приобщены к знанию языка или языков,
которые могут быть использованы в интернациональной группе на периоде
решения проблемы. Если это условие не выполняется, то становится невозможным
кратковременное продуктивное существование таких групп
тезаурусно-динамического коллективизма, которые всегда были и остаются в современной науке
практически монопольными поставщиками нового научного знания.
В мире открытий локализовано также начало формирования научных
парадигм, собирающих под своей когнитивной эгидой более многочисленные и
устойчивые группы исследователей — дисциплины [142]. Более или менее четкая
грань между краткоживущими группами тезаурусно-динамического
коллективизма и дисциплинами обнаруживается по двум линиям: проблемогенеза и институ-
ционализации. Если, как это часто и происходит, проблема, привлекшая под свое
решение группу исследователей, в попытках ее решения обнаруживает, что она
лишь часть более общей нерешенной проблемы, или порождает новые проблемы,
исходная группа исследователей, действующих по правилам тезаурусного
коллективизма, начинает расти по числу заинтересованных участников решения такой
проблемы и, накопив на некоторой длительности исходный текст — критический
массив публикаций в журналах своей материнской дисциплины (или дисциплин,
если проблема оказывается междисциплинарной и в группу приходят
исследователи из разных дисциплин), такая растущая по числу членов группа, начинает,
по Маллинзу [142], активный поиск путей институциализации, путей
инкорпорации в действующую систему образования: предпринимает попытки захватить
существующие или организовать новые кафедры в университетах, учредить
собственный журнал или присвоить рубрики и соответствующую часть листажа в
журналах материнских дисциплин, создать на основе растущего массива групповых
История европейской культурной традиции и ее проблемы 635
публикаций вторичную научную литературу, в том числе и учебники, если группе
удаются попытки закрепиться в постшкольной части системы образования
собственным переходом Ту-Тд-Тг и по нему начинают академическое движение Ту —
новобранцы в новую проблемную область мира открытий. Подобный процесс
дифференциации цикличен и бесконечен: у новой дисциплины появляются свои
исследовательские группы, стремящиеся стать автономными дисциплинами и т.д.
Но этот бесконечный процесс становится возможным лишь на базе выработки
подобной развивающейся в дисциплину группой своей особой парадигмы,
отличающей новоявленную дисциплину от всех уже существующих, что и происходит
на этапе подготовки студенческих учебников для перехода Ту-Тд-Тг.
Понятно, что общим глобальным условием осуществимости активно идущего
сегодня процесса дифференциации науки является само существование единого
для всех национальных научно-академических сообществ наднационального мира
открытий и свободно реализуемая способность членов любых национальных
сообществ активно, на равных участвовать в оперативном «кучковании» — в
формировании под возникающие новые проблемы краткоживущих групп,
самоорганизующихся по нормам тезаурусно-динамического коллективизма для
наращивания текста их совместного владения, который возникает в результате накопления-
кумуляции индивидуальных попыток образующих группу исследований решить
проблему. Но сама возможность «кучкования», возникновения в мире открытий
таких групп, краткоживущим существованием которых, как дерево корнями,
питается вся структура самоорганизации науки — глобального феномена,
предполагает на правах условий осуществимости: прямой доступ, гласность и свободную
миграцию исследователей к местам появления интересующих их проблем, на
каком бы участке переднего края исследований такие проблемы ни
обнаруживались.
Экстенсивная модель онаучивания оказывает ингибирующее воздействие на
все эти условия осуществимости нормального функционирования мира открытий.
Прямой доступ подрывается ядовитым продуктом этой модели —
прогрессирующим моноглоттизмом, что затрудняет или даже делает невозможным
интернациональное кучкование исследователей-моноглотов. Гласность в лучшем случае
становится ограниченной гласностью, поскольку все публикации на иностранных
языках оказываются за пределами прямого доступа исследователя-моноглота не
владеющего этими языками, а в худшем случае, как это наблюдается сегодня в
большинстве развитых стран, где проявляющие неуместную в делах науки
протекционистскую заботу о приоритете собственного национального
научно-академического сообщества государственные инстанции выстраивают барьеры
секретности, исследователи-моноглоты вообще лишаются естественного права каждого
исследователя наблюдать за всем, что происходит в мире открытий и на
локализованном в нем переднем крае исследований. Свободная миграция
исследователей к местам появления интересующих их проблем затрудняется создаваемыми в
порядке борьбы с прогрессирующим моноглоттизмом и в целях обеспечения
полного доступа хотя бы избранной группе исследователей по нормам
организационного коллективизма иерархически организованными
научно-исследовательскими институтами, которые накрепко привязывают своих сотрудников к одной
проблеме или к группе проблем, объявляя эту проблему или группу проблем
«наиболее перспективной» — эпитетом совершенно несостоятельным и непонятным,
даже недостойным для ученых в нашем секуляризированным мире, где ни люди,
ни инстанции не могут претендовать на обладание божественным атрибутом
всеведения, а о проблемах доподлинно известно, что место их появления на
переднем крае, их состав, актуальность, перспективность абсолютно непредсказуемы —
это понимали даже куда менее секуляризированные основатели Британской
Ассоциации полтораста лет назад. Но сооруженный по комплексу Архимеда жупел
перспективности, хотя он и неспособен подняться выше гадания на кофейной
гуще, способен все же, и еще как способен ставить палки в колеса миграции ис-
636
M.К. Петров
следователей к интересующим его в данный момент местам, где вопреки
начальственным предсказаниям действительно появилось нечто привлекающее его
внимание малопонятное и интересное.
Словом, дело не так уж и медленно, зато верно идет к развалу единого для
всех исследователей любых национальных научно-академических сообществ
наличного знакового мира открытий, коль скоро под напором прогрессирующего в
условиях действия экстенсивной модели онаучивания моноглоттизма и попыток
по норме организационного коллективизма компенсации его парализующего
действия на основные рабочие структуры самоорганизации науки, которыми
держится мир открытий, а сами эти структуры держатся на прямом доступе, гласности
и свободной миграции исследователей; разрушаются знаковые скрепы
уникальности и единого для всей глобальной науки функционирования пока еще
существующего и действующего мира открытий. Возникающая здесь альтернатива
проста: либо сохранится экстенсивная модель онаучивания и тогда миру
открытий не выжить, либо сохранится мир открытий, каков он есть сегодня, и тогда
экстенсивную модель нужно заменить чем-то другим, способным обеспечить
нормальное функционирование мира открытий.
Эту альтернативу вряд ли все примут с должным пониманием и подобающей
серьезностью, поскольку для многих носителей Ту, да и в школе и даже в высшей
школе так учат, в подоснове единого мира открытий лежит не какая-нибудь там
«моральная достоверность» или «тезаурусный коллективизм», которые сегодня
одни, а завтра совсем другие, но объективное единство природы, окружающего
нас мира, которое не зависит от человека и человечества и не может быть
уничтожено или, наоборот, упрочено в зависимости от того, какие именно фортели
выкидывает человечество по ходу своей истории. С этой точки зрения, которая
вполне правомерна, пока мы держимся в пустой рамке противостояния
автономных и независимых абсолютов, источников субъективного и объективного
определений — младенца и независимого ни от младенцев, ни от взрослых
окружения, — уничтожить или развалить мир открытий значит посягнуть на
независимость и автономию окружения, чего человеку явно не дано. Но мы говорим
сейчас не об абсолютах самих по себе в их противостоянии, а о том, что именно и
как локализовано между этими абсолютами, о мире знака, который
подстраивается к человеческой способности познания окружения методом знакового
опосредования источника объективного определения и, будучи составной частью
субъективного определения, выстраивает по ходу человеческой истории то такие, то
другие структуры в знаковом мире для реализации этой познавательной
человеческой способности. Мир открытий современной глобальной науки — часть этого
локализованного между противостоящими абсолютами мира знака, и конечно же
от того, будет или не будет существовать в мире знака такой мир открытий,
приглашающий сегодня в силу особенностей своего устройства исследователей любых
рас и национальностей к совместной познавательной работе, ничего
существенного в абсолюте-окружении произойти не может: деревья не станут расти
корнями вверх, реки не потекут вспять, солнце не станет ходить против часовой
стрелке: окружение даже не заметит этого меняющего человеческую историю события,
но существенное или даже весьма существенное, катастрофическое может
произойти с самим человечеством, об этом у нас и речь.
Выше мы уже говорили о том, что и Дж.Нидам [143], который дотошно
исследует науку и цивилизацию Китая, и время от времени комментирующий его
исследования Д. Прайс прямо говорят и пишут о вероятной множественности
миров открытий. Д.Прайс, например, пишет: «Нет никакого сомнения в том, что
китайская наука и технология были столь же изобретательны, столь же хороши
и столь же плохи, как и наука и технология античности или средневековой
Европы. Теперь нам предстоит подняться на следующую ступень удивления, чтобы
уяснить, что история действует не совсем так, как если был только один
истинный естественный мир открытий, причем мир, обладающий почти неизменным
История европейской культурной традиции и ее проблемы 637
порядком. Мы видели выше, что история дважды выстраивала подобные миры.
Из этого удивительного обстоятельства следует, что ни эти миры сами по себе,
ни порядок следования открытий в них не будут одними и теми же» [102, с. 17—
18].
Исчезновение из числа действенных определителей человеческой истории и,
соответственно, биологической эволюции человеческого рода единой в
глобальном Т-континууме и уникальной арены сбора исследователей изо всех стран
земли, к каким бы нациям, расам, национальным научно-академическим
сообществам они ни принадлежали, для совместной работы по нормам тезаурусно-ди-
намического коллективизма (прямой доступ, гласность, свободная миграция
исследователей к интересующим их проблемам) в первую очередь уничтожило бы
тезаурусную скрепу национальных Т-континуумов и видимый, доступный
наблюдению и изучению символ ментального единства человеческого рода, открыло бы
широкую дорогу всем видам квазинаучного расизма, который с XIX в. и по сей
день списывает наблюдаемые, а иногда и измеримые неравенства социального
обустройства общественной жизни в разных странах не на исторические и
социально-экономические факторы, формирующие ту или иную разновидность
социальных отношений, а на труднодоступное для наблюдений и исследований
биологическое кодирование младенцев разных рас и национальностей, разных
сосуществующих на земле генопулов. Сегодня, пока у нас еще есть единый и
уникальный для всех рас и национальностей глобальный мир открытий и в него
действительно приходят для совместной работы исследователи, принадлежащие к
разным генотипам человечества, у нас есть практическая возможность, как это
демонстрируют, например, Дарт и Прадхан [110], резко разделить биологическое
и социальное кодирование [17; 18], научно показать, что различия связаны
именно с социальным, а не с биологическим кодированием, что младенцы разных
генотипов безропотно и без заметных затруднений принимают и осваивают именно
ту данность, в какой они оказываются по произволу родителей и которая может
оказаться радикально отличной от той, которую в свое время осваивали их
родители. С исчезновением глобального уникального мира открытий такая
возможность исчезнет; в обособленных и информационно-изолированных национальных
полмирах открытий национальных наук — в осколках единого пока еще
глобального мира открытий глобальной науки — последовательность появления и
решения проблем, наращивания исследователями наличных научных текстов
национального владения будут заведомо различными и, понятно, непредсказуемыми. И
как раз эта непредсказуемость, которая снимается сегодня тем фактом, что мир
открытий един и уникален, равнодоступен в своей единичности для всех
исследователей всех рас и национальностей, станет в условиях разброда исследователей
по национальным клеткам активнейшим агентом ментального расподобления рас
и национальностей, даст и моральную и национально-научную санкцию на ничем
уже не ограниченное выявление подавляемых пока глобальной наукой
предрассудков, антипатий, предвзятостей по поводу наших соседей по «коммунальной
квартире» на единой и уникальной планете Земля. Ни к чему хорошему это
привести не может, а приведет скорее всего к тому, что рядом с бессмысленной и
самоубийственной гонкой вооружений будет следовать как ее зловещая тень и
подстрекающий спутник столь же бессмысленная и не менее опасная гонка за
оправдание, где рассуждениями, а где и силой исключительности, избранности,
ментального превосходства данной национальности или расы над всеми другими.
Следует поэтому уже сейчас, заблаговременно и основательно подумать о том,
что нужно и можно сделать сегодня, чтобы предотвратить то, что может в
условиях действия экстенсивной модели онаучивания развитых обществ и должно
произойти в ближайшем или чуть более отдаленном будущем, и в первую очередь
предотвратить распад глобального феномена науки и ее глобального и
уникального мира открытий. Футурологи, работающие в своих предсказаниях будущего
методом экстраполяции на будущее действующих сегодня и имеющих длительную
638
M. К. Петров
историю тенденций, более или менее согласно утверждают, что в первой
половине XXI в. человечество поджидает темное пятно — растянутое на два-три
десятилетия место пересечения множества тенденций, которые ни по какой логике
пересекаться не могут. К примеру, расходы на науку должны будут превзойти
национальные доходы развитых стран, возраст автора первой научной
публикации — среднюю продолжительность жизни, потребность науки в кадрах —
численность ежегодной волны сверстников, да и вообще по логике предсказаний
будущего по наблюдаемым тенденциям в этой «черной дыре» эволюции
человеческого рода должны будут объявиться странные и непонятные вещи, если, конечно,
человечество не примет заблаговременно мер, чтобы изменить тенденции и
избежать всего этого.
Мы не склонны слепо доверять футурологам с системным уклоном, что
атрибут всеведения, который используют как точку опоры в таких построенных по
комплексу Архимеда предсказаний, принципиально нельзя прописать по тому
или иному формализму с любой степенью демонстрации, но мы считаем
полезными системно-футурологические выкладки, идет ли речь о докладах Римского
клуба или о работах не ассоциированных в клубы или общества авторов, коль
скоро такие работы помогают держать ухо востро, осознавать, что будущее
человечества не так уж безоблачно и что если сидеть сложа руки в мечтах об
общечеловеческом счастии, как функции времени-творца, то в конце концов можно
дождаться совсем даже другого. Поэтому мы принимаем к сведению, что в первой
половине XXI в. человечество поджидают разного рода неприятности и, предлагая
те или иные оздоровительные меры, способные изменить течение наличных
тенденций, нужно косить глазом и на срок их реализации, стараться не превышать
того срока, который хотя и не гарантирован, но предлагается все же серьезными
футурологами.
В этом умонастроении мы и предлагаем заменить экстенсивную модель
онаучивания общества моделью интенсивной, способной, по нашему мнению,
радикальным образом изменить складывающуюся в национальных Т-континуумах
развитых обществ кризисную ситуацию и направить ход перемен в глобальном
Т-континууме в более безопасном и даже благоприятном направлении.
Глава 4. Интенсивная модель онаучивания
развитых обществ
Мы только что говорили, что наиболее болезненными и чувствительными
точками приложения давлений и усилий экстенсивной модели, разрушающими
глобальный феномен науки, являются условия осуществимости тезаурусно-динами-
ческого коллективизма в деятельности исследователей в мире открытий —
прямой доступ ко всем публикуемым рукописям, гласность и свободная миграция
исследовательского таланта к тем местам переднего края, где обнаруживаются
новые проблемы. Эти условия осуществимости нормального функционирования
мира открытий мы и положим в основу выстраивания интенсивной модели
онаучивания. Но этот общий ориентир, которого мы будем неукоснительно
придерживаться, не должен в процессе строительства уводить на второй план и те
обстоятельства, по которым невинная на первых порах попытка «инструментально»
подойти к системе образования, поставить науку в равное положение с наиболее
«почитаемыми предметами» середины XIX в. в середине XX в. перешла в
ощутимую угрозу существованию науки как глобального феномена. Если бы мы просто
предложили вернуться к тому, с критики и преобразования чего начинали
реформаторы середины XIX в., то есть предложили бы переориентировать школьные
программы на Ти, на тривий и квадривий, то подобное предложение было бы
воистину «птолемеевской революцией» в образовании, сомнительной и с точки
зрения ее осуществимости и с точки зрения ее целесообразности, ведь обвине-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 639
ния-то мы формулировали в адрес экстенсивной модели, а не идей онаучивания
или инструментального отношения к школьному образованию, в которые нам
вовсе не хотелось бросать камень.
Иными словами, мы не отказываемся от тех конечных целей, которыми
руководствовались реформаторы XIX в. в их попытках связать науку и образование
в целостный единый комплекс, в то, что практически во всей работе мы
называем Т-континуумом развитой страны со встроенной в него системой
образования. Предлагаемая интенсивная модель вовсе не будет направлена против
сосуществования в рамках Т-континуума двух в общем-то гетерономных структур,
против наложения на академическое движение людей онаучивающего движения
идей, то есть не будут подорваны ни монополия членов национального научно-
академического сообщества на продвижение элементов научного знания вообще,
куда бы эти элементы ни продвигались, ни монополия членов национального
научно-академического сообщества на подготовку учебников и учебных пособий
для всей системы образования, а также и всех А этой системы. Более того, не без
тактических соображений мы постараемся в процессе строительства интенсивной
модели онаучивания общества не затрагивать традиционно сложившиеся бюджеты
чистого академического времени ни на школьном переходе Тп-Ту, ни на
постшкольных студенческо-аспирантских переходах в терминалы науки Ту-Тд-Тг.
Изменения должны затронуть в основном не академическое движение людей, а
онаучивающее движение идей, элементов нового научного знания в рамках
контура онаучивания и формы представительства науки на школьном переходе Тп-Ту.
Вполне возможно, что когда во второй половине XIX в. реформаторы из
Британской Ассоциации под завесой лозунга равного благоприятствования по
отношению к «почитаемым предметам» лингвистического цикла и предметам науки
стали усиленно насаждать в программы публичных школ Англии
учебники-введения в отдельные дисциплины, они сами стали жертвой собственного
тактического камуфляжа и почти без изменений приняли форму лингвистического
учебника в качестве основной формы агентов онаучивания, знаковых представителей
науки на школьном переходе. В пользу такого предположения говорит тот
упоминаемый Д.Лейтоном факт, что уже в 1930-х гг. наблюдались попытки
обосновать Генеральную Науку «как основной научный предмет программ образования
в школах второй ступени» [202, с. 198]. Новое поколение реформаторов образования
из Британской Ассоциации почувствовало, похоже, что тот экстенсивный способ
онаучивания, который предлагался их предками и состоял в поддисциплинарном
насаждении учебников-введений в школьные программы, зашел в безвыходный
тупик и что пора уже задуматься о каком-то другом — генеральном, общем
способе онаучивания с одним-единственным для всей науки, всех ее дисциплин и
исследовательских направлений агентом-представителем на школьном переходе.
Нас нисколько не удивляет то обстоятельство, что дальнейшего развития и
конкретных приложений идеи Генеральной Науки не получили. Они были
преждевременными во многих отношениях и заглохли, как на корню увядали и
увядают и сегодня инициативы и гипотезы, не находящие поддержки коллег,
способных войти в активную группу отцов-основателей и создать по нормам тезау-
русно-динамического коллективизма исходный текст групповой принадлежности,
который можно было бы наращивать до бесконечности в рамках, скажем, общей
теории образования или педагогики. 1930-е гг. — канун 2 мировой войны — были
явно неподходящим временем для подобных инициатив: не туда, не на
образование все смотрели. Бурный рост милитаризма, события в Абиссинии, Испании,
Германии, Италии, Чехословакии привлекали гораздо большее внимание, чем
состояние дел в собственном образовании. К тому же когорта полных полиглотов —
выпускников публичных школ, классических гимназий, колледжей, лицеев
находилась в расцвете сил и занимала еще практически все ключевые посты в
научной, академической и культурной жизни стран Европы, не подозревая о том, что
через два-три десятилетия появятся и обострятся проблемы прямого доступа,
640
M. К. Петров
гласности, свободной миграции исследовательского таланта. В дополнение к
этому не было для попыток теоретического обоснования Генеральной Науки и
сколько-нибудь надежной дисциплинарной базы. Работы Берталанффи [93; 94;
95] лежали по воле автора неопубликованными и идея «вертикальной
интеграции» мира науки, решающая, на наш взгляд, для формулирования принципов
построения Генеральной Науки, не была еще ни проговорена, ни опубликована,
даже не носилась в воздухе.
Но сегодня-то положение радикально изменилось: когорта полиглотов
практически ушла из жизни и ключевыми фигурами во всех областях духовной и
практической деятельности стали Ту-моноглоты, требующие в любой попытке
прямого доступа к интернациональному потоку научной и любой иной
публикации опоры на плечо переводчика или референта; бурное развитие получила
общая теория систем [136], которая хотя и не опредметила в строгом научном
смысле страт интернациональной лексики в национальных Т-континуумах,
практически связала свои надежды на «вертикальную интеграцию» мира науки именно
с этим стратом лексики и особенно с его интегративным ядром, оформляемым
по правилам словообразования греческого и латыни. Кстати говоря именно в
теории систем, хотя она и появилась сравнительно недавно, в середине XX в., когда
уже явно обнаружились все признаки и следствия прогрессирующего моноглот-
тизма, доля оформленных по греко-латинской норме концептов и понятий
значительно выше, чем в других дисциплинах.
Создались, таким образом, незапланированные, но и отнюдь не стихийные
предпосылки для осознания урона, наносимого действием экстенсивной модели
онаучивания делу науки и онаучивания общества, и для теоретического
обоснования принципиально иного подхода к онаучиванию общества, избегающего
безвыходного тупика поддисциплинарного представления науки на школьном
переходе Тп-Ту, при котором бюджет школьного чистого академического времени
оказывается исчерпанным при 10% представлении дисциплин и 1% представлении
исследовательских направлений.
Предлагаемую замену всем ныне действующим учебникам-введениям в
избранный круг дисциплин, представленных на постшкольном участке системы
образования развернутыми студенческо-аспирантскими переходами Ту-Тд-Тг, мы
назовем учебником-терминалом, учебником потому, что он, как и все мыслимые
учебники, будет содержать упорядоченную по правилу Ti предшествующего акта
речи становится Т0 последующего и ограниченную по числу последовательность
актов речи, то есть будет представлять из себя типичный мегаакт речи, а
терминалом потому, что он будет единым, единственным и уникальным
терминалом всех видов онаучивающего перемещения новых элементов научного знания
с переднего края науки, обозначенного последними публикациями в научных
журналах всех дисциплин и исследовательских направлений, в школьный
переход Тп-Ту.
Мы не будем вводить учебник-терминал в какую-либо связь с концептом
Генеральной Науки 1930-х гг., такой связи определенно нет, поскольку в нашем
варианте учебника-терминала предполагается уже существование теории систем и
идеи «вертикальной интеграции», которые появились несколькими десятилетиями
позже, и потому также, что мы предлагаем в качестве предметной основы не
какую-нибудь из существующих дисциплин, как это предполагалось в случае с
Генеральной Наукой, а сам страт интернациональной лексики в национальных
Т-континуумах.
Понятно, что попытка включить всю целиком науку в контур онаучивания
общества через учебник-терминал, имеющий предметом страт интернациональной
лексики, нарушит сложившуюся в условиях действия экстенсивной модели
онаучивания плоскостно-уровневую область выявления монополии членов научно-
академического сообщества на подготовку учебников, учебных пособий и всех А
для системы образования, когда люди и идеи движутся встречными потоками на
История европейской культурной традиции и ее проблемы 641
одной плоскости Т-континуума, школьные учебники-введения являются
редуцированными под отведенное им число академических часов копиями
соответствующих студенческих постшкольных, возможна прямая связь между школьными
учебникам и-введениями и событиями на переднем крае соответствующей
дисциплины, а страт интернациональной лексики висит над этой плоской областью
выявления монополии и лишь от случая к случаю, когда элементы научного
знания перемещают и переформулируют (движение по эшелонам дисциплинарной
публикации, перевод, реферирование), обнаруживает свою интегрирующую
природу, замещая местные национальные диалектизмы общенаучной лексикой более
высокого ранга, а именно той, которая оформлена по греко-латинской норме.
Соответственно прервутся непосредственные связи учебника-терминала как
единоличного агента онаучивания и полномочного представителя всей науки с
событиями на переднем крае, все связи этого рода будут опосредованы
интегрирующими свойствами страта интернациональной лексики. Крайне маловероятным
станет в применении к учебнику-терминалу личное авторство какого-либо члена
национального научно-академического сообщества, поскольку любая такая
попытка одному написать учебник-терминал, хотя она и не требует опоры на
атрибут всеведения и не может квалифицироваться как разновидность комплекса
Архимеда, необходимо предполагает оперативное знание положения на всех
участках переднего края исследований, а это явно за пределами возможностей любого
человека.
Чтобы одолеть эту трудность авторства в подготовке учебника-терминала,
который придется, естественно, время от времени переиздавать с купюрами и
дополнениями, чтобы не нарушать предустановленного объема, мы предлагаем
организовать по типу, скажем, Британской Ассоциации с ее секциями и
комитетами, национальную службу учебника-терминала, ответственную за ведение
учебника-терминала, за подготовку его очередных переизданий. Как именно назвать
эту службу — центром, палатой, министерством, службой, институтом — дело,
разумеется, второстепенное, а с точки зрения немотивированности
лингвистического знака и вовсе пустяковое, но хотелось бы, чтобы она именовалась высоким
в национальной иерархии авторитетов именем — чем-то вроде Национального
Совета или Национальной Палаты, чтобы эта служба не стала игрушкой высоких
инстанций, могла бы оказывать эффективное давление на национальные
инстанции научной и академической политики и проявляла бы достаточную
независимость и твердость к попыткам таких инстанций навязывать ей свои решения. Но
с точки зрения полноты представления в учебнике-терминале всех дисциплин и
исследовательских направлений, на участках переднего края которых идет
активный глоттогенез науки, организация такой службы слежения за всеми
происходящими в науке событиями глоттогенетического типа и переработки получаемой
информации в конечный по объему текст учебника-терминала, определенно
требует секционной структуры и наличия в секциях полномочных комитетов,
которые могли бы вырабатывать и предлагать совету или иному центральному органу
такой службы поправки, купюры, дополнения для текста учебника от имени
входящих в данную секцию дисциплин и исследовательских направлений. Понятно,
что в распоряжении такой службы должен быть и достаточно объемный журнал,
в котором каждой секции, сколько бы их ни было предоставлялась бы своя
рубрика.
Такой метод сбора и переработки информации национальной службой
учебника-терминала в короткий срок превратил бы подобную службу в банк базовой
информации по истории науки как глобального феномена независимо от того,
примут ли все развитые страны интенсивную модель онаучивания, в которой
учебник-терминал будет ключевым элементом, одновременно, вероятность чего
невелика, или переход на интенсивную модель онаучивания общества произойдет
в одной развитой стране как явно внутреннее ее дело, которое не требует долгих
согласований и соглашений на международном уровне. Мы убеждены, что доста-
41 М.К. Петров
642
M. К, Петров
точно явно себя обозначившая безвыходная ситуация с онаучиванием по
экстенсивному методу рано или поздно заставит все развитые страны отказаться от
экстенсивной модели и заменить ее чем-то другим, но совершенно не убеждены в
том, что выбор падет именно на нашу интенсивную модель, поскольку, как мы
увидим ниже, замена экстенсивной модели на интенсивную потребует нескольких
десятилетий и значительных усилий на реализацию интенсивной модели, а также
умения терпеливо ждать результатов, а как раз по этой части во многих развитых
странах обнаруживается явный дефицит.
Любая даже самая многообещающая реформа в области всеобщего и
обязательного образования, поскольку она затрагивает всех, неизбежно должна
вызывать идущую со скоростью волны В групп сверстников соответствующую волну
перемен, которые будут затрагивать всех, но не обязательно будут благосклонно
встречаться всеми теми, кто адаптировался к установившемуся порядку, достиг
определенного положения и не ждет от этих перемен ничего хорошего. Это,
конечно, все та же «косность коллектива», которая, по Соссюру [66, с. 107], вносит
свой вклад в устойчивость традиции, как основы длительного существования
знаковых реалий во времени. Но эта косность может принимать и активные формы
сопротивления новому, особенно когда речь идет об образовательной реформе в
современных условиях, когда на академическое движение в чистом
академическом времени через систему образования в развитых странах В группы волны
сверстников тратят 17—19 учебных годов и первые результаты перехода на новую
модель в терминалах могут обнаружиться лишь через 15—20 лет, а если говорить
о складывающейся по поводу образования активной неформальной всеобщей
инфраструктуре помощи старших младшим, где самую активную роль сегодня
играют бабушки и дедушки идущих по школьному переходу детей, то для полной
перестройки такой инфраструктуры потребуется лет 60—70, учитывая, что и
бабушки и дедушки должны пройти в своем детстве обновленный переход Тп-Ту.
Но всем этим нам еще предстоит заняться, а пока нам нужно завершить
описание интенсивной модели онаучивания общества. Учебник-терминал и
связанная с ним деятельность национальной службы учебника-терминала лишь один
ключевой элемент интенсивной модели. Второй — возвращение на школьный
переход Тп-Ту «почитаемых предметов» середины XIX в. — классических и живых
языков — с учетом тех изменений в жизни науки и общества, которые произошли
за полтора столетия.
Мы уже знаем, что единый пока еще мир открытий и связанный с ним во
всех своих проявлениях глобальный феномен науки могут нормально эффективно
и бесперебойно функционировать только в случае постоянного воспроизводства
на личностном уровне условий осуществимости тезаурусно-динамического
коллективизма исследователей — прямого доступа, гласности, свободной миграции
исследовательского таланта. Применительно к составу интенсивной модели эти
условия расшифровываются сегодня как крайняя желательность присутствия на
школьном переходе Тп-Ту шести обязательных для изучения всеми языков:
греческого, латыни, английского, русского, немецкого, французского. Здесь сразу же
могут возникнуть критические замечания и даже панические настроения. Почему
нужно располагать эту шестерку языков именно на школьном всеобщем переходе
Тп-Ту, когда из статистики доподлинно известно, что в науку идет около 4% от
общего контингента В групп ежегодной волны сверстников? Правомерно ли,
исходя из очевидных нужд 4% контингента возрастной волны, распространять эти
нужды на все 100% контингента? К чему, например, сталевару или водителю
автобуса, доярке или дикторше телевидения, футболисту или бухгалтеру знать эти
шесть языков, тратить на них детство и юность? Вопросы и волнения законные,
но, к сожалению, «статистические» в том смысле, что никто еще ради статистики
не стремился попасть под машину, угодить в авиакатастрофу или заболеть раком.
Действительно, 96% входящих в терминалы взрослой деятельности людей могут
и не испытать нужды во всех шести языках, они определенно могут им и не по-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 643
надобиться во взрослой жизни. Но сам смысл интенсивности, закладываемый в
предлагаемую нами модель онаучивания общества, включает в себя реальную
необходимость и возможность того, что любой терминал взрослой деятельности
может и должен со временем в условиях действия интенсивной модели
онаучивания рассматриваться как потенциальный предмет прикладных практических
конкретных исследований силами занятых в нем взрослых, способных при случае
реализовать свой исследовательский талант для обновления-совершенствования
соответствующей терминальной деятельности, а это в общенациональном
масштабе возможно только при выполнении все тех же условий осуществимости те-
заурусно-динамического коллективизма, то есть знание того или иного языка из
предлагаемой шестерки в данном конкретном случае может и не пригодиться, но
может и пригодиться, стать условием разрешимости исследовательской задачи
относительно терминальной деятельности. К тому же человек не знает, что именно
ждет его в будущем, в каком терминале он окажется и как долго пробудет в нем.
Все гадания этого рода, построенные на кофейной гуще или статистике
предпочтений и склонностей, в том числе и «научная» профтехориентация — все тот же
комплекс Архимеда с опорой на атрибут всеведения, которым не обладают ни
смертные люди, ни создаваемые ими бессмертные, до первой реорганизации,
инстанции. Поэтому никому не следует играть вслепую лотерею текущей
статистики, а куда более надежнее застраховать свою судьбу со всеми ее
непредсказуемыми оборотами и поворотами, овладев всеми условиями осуществимости тезаурус -
но-динамического коллективизма — все в жизни может пригодиться, а обретается
это все в детстве и юности, относительно которых в своем теологическом
контексте прав был XVII в., рассматривая детство и юность как дар божий каждому
входящему в жизнь поколению на предмет достижения чистой и счастливой
жизни [169].
Могут законно появиться и сомнения другого рода, связанные со
способностью современных взрослеющих младенцев «вместить» и освоить на школьном
переходе Тп-Ту кроме своего родного, который для многих окажется даже
седьмым языком, поскольку все развитые страны многонациональны, шесть
обязательных инородных языков: греческий, латынь, английский, русский, немецкий
и французский. Основной и наиболее убедительный ответ на сомнения этого рода
дает история национальных Т-континуумов ныне развитых стран европейской
культурной традиции. Практически во всех этих странах еще сто лет тому назад
исправно функционировали школьные переходы Тп-Ти, в лингвистическом
отношении мало отличающиеся от предлагаемого нами обновленного перехода Тп-Ту.
Были, понятно, и несущественные различия, связанные в основном с тем
обстоятельством, что переход Тп-Ти в отличие от перехода Тп-Ту никогда и ни в одной
стране не был всеобщим и обязательным. Но если в общем случае было бы
наивным полагать, что за сто лет человеческий биокод младенцев мог претерпеть
значительные изменения именно по части врожденных лингвистических
способностей, то наивностью в квадрате или кубе выглядели бы утверждения об
оперативной перестройке человеческого биокода в зависимости от экономического и
социального положения родителей данного младенца, которыми как раз и
определялось сто лет назад, попадет ли младенец на переход Тп-Ти или останется в
пределах «необразованного большинства» — плебса, черни, быдла, — занятого в
той группе терминалов взрослой деятельности, где не требовалось знания Ти.
Но пять—шесть инородных языков, кроме своего родного, впервые и вчерне
осваиваемого на этапе «от 2 до 5» и потом бесконечно доводимого до кондиций
«литературного» и «правильного» в школе, все же определенно многовато по
любому счету, в том числе и гамбургскому, не признающему компромиссов и
оговорок. Поэтому, уповая на относительную стабильность человеческого биокода и
постоянно демонстрируемую младенцами способность «шутя и играя» осваивать
на этапе «от 2 до 5» подброшенный им родителями естественный язык
окружающей их социальной данности, нам явно не помешает попытка разобраться в труд-
41*
644
M. К. Петров
ностях, препятствующих освоению того одного-единственного иностранного
языка, который сегодня преподается последовательно в школе, в высшем учебном
заведении, в аспирантуре и никогда, за редкими исключениями, не осваивается
настолько, чтобы обеспечить прямой и свободный доступ к соответствующей
струе интернационального потока научных публикаций без помощи
профессиональных переводчиков и референтов.
Вопрос этот был бы не так уж и сложен, если бы вокруг него не было
нагорожено множество педагогических теорий и установок насчет того, как ловчее
справиться с иностранным языком, не прикладывая к этому собственных усилий.
Отсюда и мишура адаптированных текстов, магнитофонных кабинетов, книжек
для чтения, учебников, где может отсутствовать половина грамматики, обучение
во сне и другие причудливые реверансы вокруг простого обстоятельства: чтобы
выучить язык, нужно приложить ментальные усилия и немалые, и в этом деле
важно направить эти усилия, а не искать путей вообще отказаться от усилий.
Наиболее частой жалобой, а вместе с тем и оправданием незавидного
положения в изучении иностранного языка и в школе и в высших учебных заведениях
является всеобщее огорчение по поводу того, что нет соответствующей
лингвистической среды, которая постоянно поддерживала бы и развивала робкие
попытки школяров и студентов освоить иностранный язык. Соответствующая
лингвистическая среда конечно же мощный фактор и важное подспорье в изучении
языка, но вот лингвистической среды древнегреческого и латыни нет уже более
тысячи лет, а ученым-интеллектуалам от Бэкона и Ньютона до Менделеева,
Крылова, Жуковского это почему-то не мешало знать греческий и латынь, а Чехову
и Вересаеву даже забавляться с греческим уклоном — Чехову придумывать
забавные фамилии и обороты речи, Вересаеву — переводить Гомера.
Другую оправдывающую причину видят в том, что вот в русских классических
гимназиях, например, а в некоторых развитых странах в общеобразовательных
школах и сегодня к преподаванию иностранного языка допускают только тех, для
которых этот язык родной. Это тоже достаточно существенный фактор, и в тех
случаях, когда есть возможность выбора, предпочесть конечно же нужно учителя,
который будет преподавать свой родной язык. Но дело не только в этом, важно
и то, как он будет преподавать. Нет, например, учителей, для которых греческий
или латынь были бы родными языками, однако и в истории преподавания
классических языков известны случаи, когда для их ведения приглашались
иностранцы. В 1860—1870-е гг., например, в классических гимназиях России классическим
языкам учили в основном чехи. Но вопрос этот в общем-то достаточно серьезен,
и странным, на наш взгляд, является то положение, когда в национальных
школах нашей многонациональной страны курс официального русского языка часто
ведут учителя, для которых русский язык не является родным.
Нам кажется и мы будем исходить из того, что хотя и лингвистическая среда
и учитель, для которого преподаваемый инородный язык родной, в преподавании
инородных языков весьма существенны сами по себе, не они все же являются
решающими факторами успеха или неудачи. Большее и по всей вероятности
решающее значение имеет, на наш взгляд, подготовленность ума ученика или
студента к восприятию инородного языка, как конечной структуры, как варианта
некоего, стоящего за всеми естественными языками, инварианта, к постижению
которого и должны направляться и усилия В групп учеников и усилия А учителей
и преподавателей. Понятно, что идея такого языка-инварианта или «метаязыка»
не может подняться выше теоретического конструкта, реальное существование
которого в глобальном сосуществовании трех с лишним тысяч естественных
языков земли — чистейшая фикция. Но это крайне полезная фикция, которая
позволяет, если она есть в голове изучающего инородный язык, действовать
осознанно так, как неосознанно действует на этапе «от 2 до 5» человеческий
младенец, когда он выламывает из бурлящей вокруг него речевой стихии, где ничто не
отделено друг от друга, а в дискретном фонетическом потоке смешаны и лекси-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 645
ко-знаменательные и фамматико-упорядочивающие моменты, куски-фрагменты
и самостоятельно складывает из этого лома, руководствуясь какими-то
врожденными, представленными в биокоде правилами, «гносисом», методом проб и
ошибок свой личный знаковый мир, используя окружающих его старших как
авторитет в последней инстанции, с мнением которых о продукте собственного
творчества он охотно соглашается и принимает как должное вносимые старшими
коррективы.
Роль «гносиса», о котором мы говорили, связывая с его самодеятельностью
ранговые распределения частоты использования слов и концептов в
словоупотреблении [178] и цитировании [150], могла бы состоять в случае с младенцем в
том, что именно гносис позволяет младенцу воспринимать конкретную речевую
данность как нормальный вариант представленного в биокоде инварианта и
направляет работу младенца по диссоциации этого частного варианта на
образующие и реинтеграции этого частного варианта в личный мир знака по правилам,
предписанным унаследованным инвариантом. Понятно, что это лишь гипотеза
относительно того, что происходит на этапе «от 2 до 5» в голове подрастающего
младенца, проверить которую, подтвердить или опровергнуть, было бы весьма
затруднительно даже при современных возможностях психологии ребенка [51]. Но
опять-таки, это полезная гипотеза, полезная в том смысле, что она помогает нам
идентифицировать нормативное теоретическое представление греческого языка
александрийцами, как исполнителя роли инварианта нормативных теоретических
представлений естественных языков с двухтысячелетним стажем. В самом деле, и
мы об этом уже говорили в других контекстах, все школьные нормативные
теоретические курсы родного естественного языка используют в качестве модели
целостного представления языка продукт александрийцев, который в момент своего
появления на свет в III—II вв. до н.э. [21, с. 12—14] вовсе не претендовал на роль
модели-инварианта и тем более на длительное вот уже более двух тысячелетий
исполнения этой роли сначала на европейской, а затем и на глобальной сцене.
Но факт остается фактом: все ныне действующие на школьных переходах Тп-Ту
нормативные теоретические курсы родного естественного языка, на каких бы
непосредственных предшественников ни указывали их авторы, генетически и по
критериям отбора и по последовательности изложения материала восходят к
продукту александрийцев.
Этот вполне доступный для наблюдения и изучения факт признания в
исторических экспликациях продукта александрийцев в качестве универсальной
модели-инварианта теоретического целостного представления любых естественных
языков дает нам и моральное и практическое право использовать открываемые
этим фактом возможности в интенсивной модели онаучивания для
максимального облегчения освоения шести инородных языков, знание которых необходимо
для обеспечения прямого доступа к интернациональному потоку научной
публикации.
Дело здесь в том, и это хорошо известный и исследованный психологами
феномен, что в последовательности ряда схожих по строению ментальных актов
объем ментальных усилий и затраченного на каждый акт времени сокращается,
то есть подобная последовательность ментальных актов, если они выполняются
головой одного и того же человека, активностью по затратам усилий и времени
не обладает. Например, написать первую статью или первую монографию
предустановленного листажа и с точки зрения затрачиваемых усилий и с точки зрения
потребного времени гораздо сложнее, чем сто первую статью или монографию
того же листажа. Это относится и к освоению языков, причем последовательность
подобных ментальных актов здесь может быть изъята из календарного времени и
сжата в чистом академическом времени точно таким же образом, каким сплотка
из уподобляющего школьного перехода Тп-Ту и расподобляющих постшкольных
переходов Ту-Тт, Ту-Тд, Ту-Тд-Тг, растянутая для В групп ежегодных волн
сверстников на 17—19 лет в чистом академическом времени, свертывается в один учеб-
646
М.К. Петров
ный год для всех А системы образования, что позволяет учителям и
преподавателям работать в привычном для всего живого режиме репродукции с ежегодным
повтором одной и той же последовательности актов речи для каждый раз новых
по составу В групп.
Примененная к задаче облегчить освоение шести инородных языков такая
операция изъятия из календарного времени и сворачивания в пакет или колоду
синхронно протекающих событий — актов речи, — принадлежащих к разным ме-
гаактам речи, дает возможность использовать в изучении нескольких языков
принцип синхронного параллелизма, то есть предельно уподобить, на что дает
нам право глобальное использование продукта александрийцев на правах
модели-инварианта, нормативные теоретические курсы родного, греческого,
латинского, английского, русского, немецкого, французского языков и наложить их друг
на друга для одновременного прохождения этих курсов по областям подобия в
шести или семи вариантах одного и того же.
В классических русских гимназиях практически, хотя и без теоретического
обоснования, так оно и делалось, но родной язык не включался в общую колоду
и не предпринималось заметных усилий предельно уподобить по объему и
последовательности изложения «параллельных мест» курсы классических и живых
иностранных языков.
В менее строгой и более гибкой форме принцип синхронного параллелизма
можно было бы использовать как постоянно действующий под наблюдением
службы учебника-терминала механизм интеграции школьного перехода Тп-Ту в
скоординированную целостность мегаактов изложения материала по всем
представленным на переходе предметам. Конечно и сегодня в условиях действия
экстенсивной модели онаучивания делаются определенные попытки упорядочить
вовлеченные в Ту мегаакты речи разной дисциплинарной принадлежности, но
делается это с очевидным ориентиром на Т0 каждого такого мегаакта, который
обеспечивается академическим движением В групп сверстников по другим мега-
актам, построенным по правилу Ti предыдущего акта речи становится Т0
последующего. Подключение других мегаактов создает сегодня на переходе Тп-Ту
стыкующие мегаакты-введения в разные дисциплины «древо»: физика или, скажем,
тригонометрия, астрономия требуют для своих Т0 определенных значений,
умений и навыков обращения с математическим формализмом, которые обретаются
в движении по независимому от физики, тригонометрии, астрономии мегаакту
математики, и не могут вводиться раньше, чем эти умения и навыки будут
обретены. Но ветви возникающего таким способом «древа» предметов не входят в
отношения координации друг с другом, а лингвистические предметы, да и такие
учебники-введения, как зоология, ботаника, биология, в значительной степени и
химия вообще не входят в число ветвей этого «древа». В интенсивной модели,
где главную роль уникального агента онаучивания общества в условиях
длительного функционирования интенсивной модели будет играть учебник-терминал в
своих периодических переизданиях, национальная служба учебника-терминала
получит возможность «инструментально» отнестись ко всем без исключения ме-
гаактам речи, которые уже присутствуют или могут появиться в составе
обновленного Ту, и эта «инструментальность» определенно будет тяготеть к
синхронному параллелизму. Это будет кропотливая и постоянная работа членов
учительского сообщества под непосредственным контролем и руководством
национальной службы учебника-терминала по наведению и удержанию в процессе
переизданий во всех мегаактах обновленного Ту такого порядка следования учебного
материала, при котором все действующие школьные учебники, включая и учебник-
терминал, не стремились бы к автономии и информационной изоляции, как это
происходит сегодня во всей системе образования и, надо полагать, будет
происходить и в условиях действия интенсивной модели на постшкольном участке
системы образования, где мы на первых порах не предлагаем вводить каких-либо
изменений, а совсем напротив, стремились бы идентифицировать в наборе дей-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 647
ствующих школьных учебников «параллельные места» и принимали бы, если это
возможно, усилия к тому, чтобы эти «параллельные места» одновременно
проходились В группами сверстников в возможно большем числе мегаактов, входящих
в Ту нового образца. К примеру, если по курсу истории науки, включенному в
учебник-терминал, проходятся споры вокруг гелиоцентрической системы
Коперника с упоминанием соответствующей контроверзии Кеплера, Тихо Браге,
Галилея, то в курсе математики или математической физики в это время хорошо бы
вводить оптику, а в параллельных учебниках языков хорошо бы закрепить в
текстах или упражнениях этимологическую историю линз от латинской чечевицы и
т.д. Жестких связей, сравнимых с теми, которых можно достичь в параллельных
учебниках лингвистического цикла, здесь, понятно, не будет, но стремиться к
выделению «параллельных мест» и установлению связей между ними было бы
крайне полезно с точки зрения целостного восприятия школьного материала В-груп-
пами сверстников.
Что же касается самих учебников лингвистического цикла — родной,
греческий, латынь, английский, русский, немецкий, французский языки, — которые
предлагается предельно уподобить по содержанию, порядку изложения материала,
объему, то надежды на выполнимость такой операции приведения этих учебников
в соответствие с принципом синхронного параллелизма мы связываем не только
с тем фактом, что модель теоретического нормативного представления
естественного языка александрийцев находит сегодня глобальное применение во всех
национальных Т-континуумах и их системах образования — это, так сказать,
индуктивная опора наших надежд и упований, а дедуктивную опору, особенно
важную, когда речь идет об уподоблении по объему, мы усматриваем в том, что все
младенцы, во все времена, в любых точках земли и во всех лингвистических
окружениях осваивали и осваивают родной язык именно на этапе «от 2 до 5», что
хотя и косвенно, но достаточно убедительно говорит о том, что в «колоде»
родного и инородных языков мы будем иметь дело с равнообъемными по требуемым
затратам усилий и времени знаковыми реалиями.
Мы специально не ставим родной язык в какое-либо привилегированное или
особое положение, что может быть следствием нашего резко критического
отношения к экстенсивной модели, в условиях длительного действия которой
моноглоты теряют ощущение границ языка-системы во многом благодаря тому, что
изучение родного языка может наиболее экономно вестись и ведется как
бесконечный процесс частных и не связанных в систему коррекций того, что
присутствует уже в головах учеников и действительно образует конечную систему, но
такую систему, которая уведена в подкорку, трудно достижима для рефлексии и
создавалась младенцами на этапе «от 2 до 5» без видимого участия рефлексии, во
всяком случае в школьном возрасте ни один ученик уже не помнит, как ему
удалось на этапе «от 2 до 5» овладеть родным языком, он просто владеет им с той
же примерно потребностью в рефлексии, что и в других навыках ходить, бегать,
прыгать.
Мы уверены в том, что параллельное изучение родного и инородных языков
будет постоянно автоматически стимулировать и поддерживать ощущение
границы языка-системы и рациональное восприятие соотношения частей такой
целостной системы языка; во всяком случае параллельное преподавание родного и
инородных языков будет постоянно пресекать развивающееся у моноглотов
безысходное чувство бесконечности процесса изучения языка и бесплодности
вкладываемых в это предприятие усилий, особенно когда речь идет о чужеродном языке,
что, по нашему мнению, несет свою долю ответственности, и долю немалую, за
складывание современной ситуации с изучением иностранных языков в условиях
прогрессирующего во всех развитых странах моноглоттизма и падения статуса
лингвистических предметов до «непрофилирующих» и «второстепенных».
С другой стороны, именно тот факт, что курсы предлагаемых к изучению в
школе языков по всей вероятности, судя по приверженности всех младенцев к
648
M. К. Петров
этапу «от 2 до 5», равнообъемны с точки зрения затрат усилий и времени, а
редукция к языку-системе неприменима — нельзя из этой системы убрать ни одной
детали, не нанося непоправимого ущерба системе в целом, начать распределение
школьного бюджета чистого академического времени по мегаактам-предметам
обновленного Ту нам следует именно с лингвистических предметов. С
нелингвистическими предметами, в том числе и с учебником-терминалом, проще — их
можно сжимать под любой предзаданный объем, в них нет той независимой от
нас «естественности», которая определенно присутствует в естественном языке-
системе не потому, что так он называется, а потому, что его в таком именно
объеме осваивают в рамках собственной человекоразмерности младенцы на этапе
«от 2 до 5» и несут эту рамку человекоразмерности, этот предел возможных
сжатий-редукций через всю жизнь.
Более или менее надежным ориентиром в первых прикидках распределения
школьного бюджета чистого академического времени нам может служить
распределение соответствующего бюджета в классических мужских гимназиях
дореволюционной России, которое следовало обычному европейскому стандарту, а группа
лингвистических курсов на гимназическом переходе Тп-Ти лишь незначительно
отличалась от предлагаемой интенсивной моделью. На предметы
лингвистического цикла выделялось до 50% общего бюджета, причем на классические языки
свыше 40%. Остальные академические часы шли на математику, историю,
литературу, закон божий и на введения в некоторые дисциплины, причем к моменту
отмены классических гимназий в 1918 г. по составу учебников-введений в
научные дисциплины гимназический Тп-Ти мало чем отличался от нашего школьного
перехода.
Гимназический бюджет чистого академического времени был много скромнее
современного школьного перехода Тп-Ту и составлял примерно 10 тыс.
академических часов, тогда как бюджет современной общеобразовательной школы при
10—12-летнем сроке обучения составляет 15—18 тыс. академических часов, так
что на первый взгляд интенсивная модель не должна бы испытывать нехватки в
академических часах, особенно если учесть возможность широкого использования
в мегаактах речи обновляемого Ту принципа синхронного параллелизма, который
явно будет работать на сжатие того, что можно сжать в нелингвистических
предметах.
Но это первое впечатление может оказаться и ошибочным прежде всего
потому, что гимназический переход Тп-Ти не был общеобязательным и имел
входной фильтр — вступительные экзамены. Иными словами, общеобразовательный
гимназический переход Тп-Ти русского дореволюционного Т-континуума, а
пройти его и поступить в университет могли все дети, родители которых были в
состоянии платить за образование, имел какой-то длительности предполье, в
котором располагались формальные и неформальные структуры, имеющие своей
общей целью подготовку к экзаменам в гимназию — земские школы, частные
школы, репетиторство, домашнее образование силами гувернанток и гувернеров.
Это полуформальное предполье, выразить которое в том или ином числе
академических часов было бы крайне затруднительно, поскольку домашний
неформальный способ (репетиторы, гувернеры, гувернантки) считался и в самом деле
был наиболее эффективным и надежным, скрывало от наблюдения массу
проблем, которые должны были выявиться и действительно выявились во всех
развитых странах, как только началось строгое исполнение законов о всеобщем и
обязательном образовании. Вступительные экзамены на входе в гимназию
формировали ежегодную волну первоклашек не только и не столько по возрастному
принципу, они гарантировали однородность ежегодных волн В во всей системе
образования русского дореволюционного Т-континуума и с точки зрения
порогового значения ментальных способностей, а следовательно и определяли средние
для входивших в Тп-Ти мегаактов значения разности Ti-T0 уроков и занятий. Но
автоматически выравнивая всероссийский стандарт ментальных способностей на
Исторая европейской культурной традиции и ее проблемы 649
входе в Т-континуум дореволюционной России вступительный экзамен в
гимназию не ограничивал себя одной этой ролью. Столь же автоматически, как он
отделял сдавших экзамены детей от тех, кто эти экзамены не сдал, вступительный
экзамен и отгораживал Т-континуум России глухой стеной от множества
социальных проблем и прежде всего от острой для многонациональной России
проблемы «инородца», отсеивая всех претендентов на вход в гимназию и через нее
в постшкольную часть системы образования Т-континуума всех тех, для кого
русский язык не был родным и кто не ухитрился каким-то неформальным способом,
обычно все с той же помощью нанятых родителями репетиторов, воспитателей,
овладеть русским языком своевременно и в требуемой вступительным экзаменом
степени. Большинство и русских и инородцев, понятно, и не предпринимало
попыток пройти через предполье и поступить в гимназию, начать путь к
терминалам науки; для русских дорога была перекрыта достаточно высокой величиной
затрат на подготовку к вступительному экзамену, а для инородцев задача
осложнялась еще освоением в ускоренном темпе чуждого для них русского языка, так
что в систему образования русского Т-континуума попадал едва ли 1%
рождавшихся в многонациональной России младенцев. Поэтому считать, что сдавала
экзамены и попадала через гимназию и университет в терминалы науки и в русское
научно-академическое сообщество наиболее способная сотая часть волны
сверстников было бы некорректно: подавляющая часть потенциальных претендентов
на вход в систему образования Т-континуума России просто не предпринимала
подобных попыток, не получала в своей личной истории случая
продемонстрировать свои способности и таланты, на равных участвовать в конкурсе
претендентов на вход в систему образования Т-континуума России.
В этой неопределенности причин, по которым подавляющее большинство
детей дореволюционной многонациональной России не могло принимать участия
в академическом движении через гимназию и университеты в терминалы научной
деятельности: кто-то отсеивался на вступительных экзаменах, кто-то и не начинал
к ним готовиться, кто-то и не подозревал об их существовании, кто-то не имел
в своем непосредственном окружении старших, которые могли бы его
подготовить, кто-то воспитывался в гомогенной лингвистической среде родного языка и
воспринимал русский как инородный, кто-то просто рождался девочкой и уже
поэтому не мог претендовать на вход в мужскую классическую гимназию и т.д.
и т.п., в этой заведомой пестроте причин для нас кроется опасность просчетов в
оценке способности современного школьного бюджета чистого академического
времени обеспечить переход с экстенсивной модели онаучивания общества на
интенсивную.
Если мы в общем-то спокойны за биокод младенцев и не ждем подвохов с
этой стороны — за сто или за триста лет младенцы не могли радикально
измениться, для биологической эволюции это не сроки, в ней считают на тысячи и
сотни тысяч лет, — то вот серьезный повод для беспокойства селекционизирую-
щая способность вступительных экзаменов в классическую мужскую гимназию.
Ведь отбор-то безусловно был. С натяжками и весьма приблизительно
вступительный экзамен в классическую гимназию можно локализовать на нашем
школьном переходе где-то на четвертом году обучения, причем по ряду
параметров он будет располагаться ближе ко входу в четвертый класс, а по другим — ко
входу в пятый, а это гарантированных три учебных года или 4,5 тыс.
академических часов из бюджета чистого академического времени современного Тп-Ту в 15—
18 тыс. академических часов, что делает бюджеты гимназий и современных
общеобразовательных школ более близкими по объему и соответственно предельно
обостряет в рамках нашей задачи вопрос о том, руководствовались ли авторы
гимназических учебников теми же значениями разности Ti-T0 акта речи (урока,
занятия) при составлении своих мегаактов речи по правилу Ti предыдущего акта
речи становится Т0 последующего, или же какими-то совсем иными, чем те,
которыми руководствуются сегодня авторы действующих школьных учебников.
650
M.К. Петров
В самом деле, если, например, среднее значение Ti-T0 в гимназических
учебниках вдвое выше среднего значения Ti-T0 в учебниках современной школы, то
в сравнениях с бюджетом чистого академического времени современной школы
бюджет классической гимназии в 10 тыс. академических пришлось бы ради
сохранения сравнимости удвоить, увеличить до 20 тыс. академических часов, и либо
вообще отказаться от попыток заменить экстенсивную модель онаучивания
интенсивной моделью или любой другой, требующей увеличения школьного
бюджета времени, либо искать новых способов усечения и сжатия мегаактов речи,
которые мы намерены ввести в состав обновляемого Ту.
Понятно, что наша аргументация в пользу принципа синхронного
параллелизма идет в этом подстраховывающем направлении, как обоснование теоретической
возможности не падать духом даже в том случае, если разность Ti-T0 в мегаактах
речи гимназического перехода Тп-Ти окажется выше, чем та же разность в
мегаактах современного школьного перехода Тп-Ту. Но крайне хотелось бы и даже
для прогнозов необходимо знать действительное отношение этих разностей Ti-T0
в учебниках гимназий и в учебниках современных общеобразовательных школ.
Чисто любительские зондажи этой крайне важной для нас проблемы, которые
основаны на том, что в гимназических и современных учебниках выделяют
«параллельные места» и по учебным планам сравнивают, сколько академических
часов отводилось на их прохождение в гимназиях и сколько отводится сегодня,
дают в общем-то утешительный результат — особых различий не обнаруживается.
Но любительские зондажи по ограниченному набору переменных — дело
неверное, более серьезные исследования могут дать иные результаты, и провести их на
этапе подготовки решений о переходе на интенсивную модель онаучивания было
бы просто необходимо.
Серьезные социокультурные исследования необходимы и в области бывшего
предполья гимназического перехода Тп-Ти, где полуформально действовало когда-
то множество гибких и обоюдовыгодных для А и В структур подготовки к
вступительным экзаменам в гимназию. И дело здесь не только и даже не столько в
том, чтобы убедиться, что мы правильно оцениваем объем этой параакадемичес-
кой работы тремя учебными годами, располагая гипотетический вступительный
экзамен на четвертом году обучения, а в том, чтобы обнаружить, исследовать и,
возможно, взять на вооружение некоторые из этих структур, которые
зарекомендовали себя как надежные, действенные и продуктивные.
Взять к примеру внутреннее, так сказать, репетирование, когда гимназисты
старших классов и студенты университетов «бегали по урокам» и чтобы внести
вовремя плату за обучение и чтобы пополнять собственные тощие бюджеты. В
современных условиях жесткого исполнения законов о всеобщем и обязательном
образовании репетиторство почти повсеместно исчезло и исчезло именно по
экономическим причинам: с одной стороны, лишь меньшинство семей, посылающих
детей в школу, может позволить себе нанять репетитора, чтобы помочь
отстающему в школе ребенку, а с другой стороны, репетиторство сегодня не самый
доходный из доступных способов «подработать» в свободное время и для учеников
старших классов и для студентов. В одних развитых странах ученики старшего
возраста и студенты нанимаются во время каникул или даже занятий на
временную работу, не имеющую никакого отношения к учебному процессу, в других,
как и у нас, в полу организованном порядке оказываются заняты практической
оплачиваемой помощью по планам «трудовых семестров», которые опять-таки не
имеют никакого отношения к учебному процессу.
Но в духовной жизни России середины и конца XIX в. репетиторство
выполняло кроме самоочевидной роли финансовой поддержки гимназистов и студентов
и обоюдополезную для А и В академическую роль. Ребенок В, принимая помощь
репетитора А в подготовке к вступительным экзаменам или в первые трудные
годы движения по переходу Тп-Ти, мог в личном контакте, спрашивая репетитора
о всем непонятном, скорее встать на собственные ноги, начать успешное само-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 651
стоятельное академическое движение по переходу, а не отсиживаться за спинами
сверстников, как это часто происходит сегодня, в полном непонимании
происходящего на уроке в В группе из 30—40 человек, и делать это в полной
уверенности, что никто не посмеет отчислить его из В группы по неуспеваемости, что и
учитель А и В группа из боязни академического ЧП как-нибудь изловчатся,
чтобы обеспечить ему проходной балл. Репетитор А, со своей стороны, осознанно
или не осознанно, но подтверждал в каждом акте репетиторства древнее
педагогическое правило, что повторение конечно же мать учения, но высшая форма
объяснить себе все тонкости и нюансы пройденного материала, фундаментально
его освоить — это толково объяснить этот материал другому, который в этом
нуждается и способен задавать по поводу ясных вроде бы каждому вещей
неожиданные и не обязательно глупые вопросы, которые тебе, репетитору, и в голову
не приходили. Для многих учителей, преподавателей, да и ученых того времени
выбор призвания, выбор профессии по душе начинался именно с репетиторства,
с накопления в актах репетиторства начального ментального капитала в
достижении взаимопонимания, в умении аргументировать, получать вопросы и отвечать
на них, предвидеть возможные вопросы и возражения, то есть с накопления
навыков крайне полезных не только для будущих учителей и преподавателей, но и
для будущего исследователя, которому при подготовке рукописи каждый раз
приходится выполнять по отношению к коллегам по терминалу науки с тем или
иным искусством и успехом роль репетитора-ментора.
Для академического процесса в целом исчезновение репетиторства в роли
катализатора накопления навыков аргументированного и доходчивого объяснения
А с аудиторией или лицом В бесспорно большая потеря, связанная, правда, не
столько с экстенсивной моделью онаучивания общества, сколько со строгим
исполнением законов об обязательном и всеобщем образовании и с
соответствующим падением требовательности всех А системы образования к качеству
академического движения В групп. Вполне возможно, что здесь формируется или уже
сформировалось типичное «колесо», замкнутый порочный круг, когда
практическое отсутствие бывших репетиторов в учительском и преподавательском
сообществах снижает качество преподавания, его доходчивости, а всеми В и А
понимается крайняя нежелательность академических ЧП, что снижает ответственность В
групп, порождая у учеников и студентов чувство полной безнаказанности,
равнодушия к учебному процессу.
Именно это обстоятельство, высокая вероятность присутствия в
академическом движении сложившегося уже «колеса», вынуждает нас крайне осторожно
подходить к оценкам возможностей современного школьного бюджета чистого
академического времени вместить предлагаемые нами предметы интенсивной модели
онаучивания. Если такое «колесо» уже сложилось, то его нужно как-то ломать, а
сделать это без возрождения в какой-то форме поощряемого репетиторства, а
возможно и отсева, по нашему мнению трудно, а может быть и невозможно.
Еще одной недостаточно изученной, но определенно ядовитой проблемой
бывшего предполья бывшей общеобразовательной классической гимназии, вокруг
которой бушуют сегодня страсти практически во всех развитых и развивающихся
странах, является проблема «инородца», реализации его потенциального таланта
в условиях единого для всех и общеобязательного естественного официального
языка государства и соответствующего национального Т-континуума развитой
страны. Сразу оговоримся, в этом тонком и болезненном деле должно стремиться
к предельной точности, прилагательное «инородный» и его производные мы
будем использовать для определения индивидов, языков, этнических групп,
сообществ, национальных меньшинств, естественный язык которых иной, чем тот,
который признается официальным языком государства и его Т-континуума,
причем будем применять в чисто нейтральном, лишенном каких-либо
уничижительных оттенков и нюансов смысле, какими в России XIX в. эта группа слов
безусловно обладала.
652
M. К. Петров
Итак, «инородец» для нас обыкновенный младенец с нормальным
человеческим биокодом, который по независимым от него обстоятельствам родился в
развитой стране и прошел этап «от 2 до 5», обзавелся личным знаковым миром и
освоил естественный язык окружения, который, как выясняется на более поздних
этапах не является официальным языком государства, в котором он родился.
Наше определение области применимости прилагательного «инородный» и его
производных со многих точек зрения может представляться слишком узким,
поскольку ограничение критерием родного естественного языка в его отношении к
официальному оказывается не всегда достаточным (негры в США, например, под
наше определение не подпадают, коль скоро их родной язык — английский), но в
рамках нашей работы нас интересуют именно лингвистические образующие
проблемы, и в этом смысле предложенное выше определение вполне нас устраивает.
Ядром возникающей по поводу инородца проблемы является вопрос о том,
как с минимальными затратами времени на освоение официального языка
национального Т-континуума включить инородца в общее академическое движение
ежегодных В групп сверстников через систему образования в терминалы взрослой
деятельности, включая и терминалы науки.
Классическая мужская гимназия в дореволюционной России решала этот
вопрос просто: передавала все заботы об освоении официального языка инородцем
его родителям, то есть просто допускала к вступительным экзаменам на общих
основаниях детей всех национальностей, совершенно не интересуясь тем, как и
кто их подготовил. Переход на всеобщее и обязательное образование вывел эту
проблему инородца из скрытого состояния, и особенно остро ощущалась она в
России, где сразу после революции обнаружилось, что далеко не все дети могут
принять на равных участие во всеобщем академическом движении в советском
уже Т-континууме, официальным языком которого стал и остается русский.
Если считать русский вариант частью общей реакции развитых стран на
появление и обострение проблемы инородца, а оснований для такого
универсального подхода вполне достаточно, то можно говорить о двух различных схемах
решения этой проблемы. Во всех странах сегодня предпринимаются попытки
проблему входа инородцев в систему образования национального Т-континуума
решить методом его активного приобщения к официальному языку Т-континуума,
но в одних странах точкой входа признается Тп, а в других Ту, что и создает два
варианта решения проблемы со своими достоинствами и недостатками. Первый
вариант — вход в точке Тп может считаться основным для капиталистических
развитых стран, особенно для тех из них, в которые направляются многолюдные
потоки имм и фантов. У иммигрантов, понятно, рождаются дети, которые вырастают
в смешанном интернациональном окружении сверстников, где господствующее
положение занимает официальный язык страны, и к моменту поступления в
школу в общей волне сверстников-первоклашек они настолько уже овладевают
официальным языком страны, что полностью инкорпорируются в состав
ежегодной волны В групп сверстников, совершающих академическое движение на базе
официального языка [110].
С точки зрения академического движения в условиях действия законов о
всеобщем и обязательном образовании это наиболее чистое решение проблемы
инородца, и пока речь идет об иммигрантах, более или менее сознательно рвущих в
зрелом возрасте связи с родиной и родной культурой, предлагать какую-то другую
схему было бы лицемерием — взрослые иммигранты знали на что идут и им не
приходится жаловаться на то, что происходит в принявшей их стране, которая
обращает их детей в свою культурную традицию на общих для страны
основаниях, хотя самим этим взрослым иммигрантам редко удается полностью натурали-
зироваться на чужой для них культурной почве и многие терминалы взрослой
деятельности остаются для них навсегда закрытыми. Но в этих же странах ту же
практику стихийного решения проблемы инородца пытаются с сомнительным
успехом применять и к исторически сложившимся национальным меньшинствам,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 653
которые живут на территории данной страны по нормам своей собственной
культуры с давних пор как, например, индейцы и испанцы в США, которые
обосновались на территории страны либо вообще неизвестно когда (индейцы), либо за
несколько веков до появления первых английских или французских колонистов
(испанцы).
С этими национальными меньшинствами, которые живут обычно
изолированно в более или менее гомогенной лингвистической среде, образуя большинство
в соответствующих регионах страны, возникают обычно осложнения как раз по
поводу обращения младенцев через приобщение к официальному языку страны
и к академическому движению в национальном Т-континууме в инородную
культуру. Типичными примерами таких осложнений, которые некоторыми
исследователями квалифицируются как «культурный геноцид» методом трансплантации
младенцев в другую культуру и лишения подавляемой культуры будущего, могут
служить индейцы в США или ирландцы в Великобритании, где современный
острый разворот событий в Северной Ирландии лишь эхо цепи событий,
родоначальником которых в XVII в. был воинственный старший брат Роберта Бойля
Роджерс [127].
Внешне похожим, но явно особым, «перевернутым» случаем решения
проблемы инородца является апартеид в ЮАР, где господствующее белое меньшинство
ведет активную академическую политику ментальной изоляции черного
большинства, официально и законами и силой препятствуя проникновению черных в
национальный Т-континуум. В смысле «перевернутости» ЮАР сегодня, пожалуй,
единственная развитая страна, где выступления угнетенного большинства
постоянно сопровождаются волнениями черных учеников и студентов не по поводу
того, что они перегружены, что в общем-то не редкость в других развитых
странах, а по поводу того, что программы их подготовки по многим пунктам уступают
программам школьной и студенческой подготовки белых, являясь их сознательно
сокращенными и усеченными вариантами.
Вторая схема — подключение инородца в академическое движение через точку
Ту, господствует у нас и распространена в некоторых других странах. По этой
схеме в регионах, где большинство составляют национальные меньшинства,
создается сеть национальных общеобразовательных школ, где преподавание ведется
на родном языке, а официальный вводится как второй обязательный язык,
который по идее авторов этой схемы должен осваиваться инородцами-выпускниками
таких национальных школ до уровня, дающего инородцам равные права на
равных участвовать в конкурсных экзаменах в постшкольные высшие и иные
специализирующие заведения, включая и университеты.
Авторы этой схемы были выпускниками классических гимназий, их усилиями
национальные школы обеспечивались программами, учебными материалами,
иногда даже письменностью и алфавитами, если их не было. Им в голову не
могло прийти, что в таких национальных школах в условиях действия
экстенсивной модели будет происходить то же самое, что и в русских школах: отсутствие
классических и живых иностранных языков, создающих в головах учеников язык-
систему, на школьном переходе, будь он переходом в русской или национальной
школе, неизбежно превращает курс родного языка в бесконечный процесс
коррекций того, что уже создано учеником на этапе «от 2 до 5», поэтому если
русская школа превращает ученика в моноглота, то национальная — в моноглота в
квадрате. Что эта вторая схема работает не на сближение инородцев с русскими,
а на их разобщение, мы убеждаемся сегодня постоянно: то вдруг покажут по
всесоюзному телевидению репортаж из какой-нибудь республики, где за словами
взрослого героя телесюжета идет скороговорка переводчика, то вот в Ростов на
стажировку пришлют аспирантов из Средней Азии, которые с трудом
воспринимают русскую речь.
Пока, проводя официальную академическую политику по схеме ввода
инородца в официальный советский Т-континуум через точку Ту, мы просто закрываем
654
M. К. Петров
глаза на то, что с этой официальной схемой сосуществует и первый вариант —
ввод инородца через точку Тп, для чего в национальных республиках в крупных
городах, на стройках и во всех местах, где хотя бы намечается присутствие
интернациональной лингвистической ситуации, развертывается сеть нормальных
русских школ, хотя при этом обычно делается реверанс в сторону местной
администрации в форме курса языка той республики, в которой данная русская школа
локализована. Но даже и такой реверанс не всегда обязателен: на крупных
стройках всесоюзного значения, где бы они ни локализировались, интернациональные
коллективы строителей и, соответственно, интернациональные лингвистические
ситуации, в которых вырастают их дети, позволяют обходиться чисто русскими
школами как, например, это делается на Целине, на нефтеразработках Сибири,
на БАМе и во многих других местах складывания устойчивых интернациональных
коллективов, где русские могут и не составлять большинства.
Основной поток включаемых в советский Т-континуум инородцев идет у нас
сегодня все-таки через русские школы в национальных республиках и в местах
крупных строек, тогда как многонациональная «глубинка», которую обслуживают
национальные школы республик, автономных краев и областей и более мелких
административных членений многонационального Советского Союза, вкладывает
в общесоюзную систему активного использования ментального потенциала
страны, в советский Т-континуум значительно меньше того, чем эта «глубинка» могла
бы дать. В условиях действия экстенсивной модели онаучивания общества мы не
видим каких-либо реальных путей достойного человека решения проблемы
инородца в национальном Т-континууме при условии сохранения самобытности и
автономности национальных культур. И хотя в список обвинений экстенсивной
модели онаучивания общества неразрешимость проблемы инородца внести
нельзя — проблема эта всегда существовала и лишь выявилась и обострилась в
условиях строгого исполнения законов о всеобщем и обязательном образовании,
экстенсивная модель, генерируя моноглоттизм, все же определенно соучаствует в
складывании тупиковой ситуации в этой проблеме инородца, толкая
национальные Т-континуумы на культурный геноцид, на подавление в многонациональных
развитых странах всех национальных культур кроме одной избранной, связанной
с официальным языком государства и Т-континуума.
Переход на интенсивную модель онаучивания создал бы совершенно иную
ситуацию равноправия всех младенцев любого мыслимого цвета кожи, разреза глаз,
любой национальности и места рождения перед задачей освоения на базе родного
языка, вчерне освоенного на этапе «от 2 до 5», шести инородных языков:
греческого, латинского, английского, русского, немецкого, французского, и эта
ситуация равноправия человеческих младенцев перед общей школьной задачей
автоматически сняла бы и похоронила проблему инородца как печальный эпизод в
истории человеческого рода.
Таким образом, предлагаемая нами интенсивная модель онаучивания
общества, ключевыми элементами которой являются учебник-терминал и набор
параллельных курсов пяти-шести инородных для всех младенцев языков, в принципе,
если учитывать опыт русских мужских классических гимназий, не выходит за
рамки ныне действующего школьного бюджета чистого академического времени
и в этом смысле определенно осуществима. Заниматься более детальным
рассмотрением предметного состава интенсивной модели пока преждевременно,
поскольку многое в этой модели должно проясниться в процессе обкатки ее на
проходимость ежегодными волнами В групп сверстников, а такая обкатка обязательно
обнаружит недоделки, прорехи, узкие места, недоработки, потребующие
переделки и исправления в серии переизданий первых учебников обновляемого
интенсивного Ту. Всю совокупность видов этой деятельности следует, на наш взгляд,
поручить национальной службе учебника-терминала, обязав ее придерживаться
вполне определенных конечных целей: а) обеспечить каждому выпускнику
общеобразовательной школы полный доступ ко всем видам интернационального по-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 655
тока научной публикации через освоение страта интернациональной лексики в
данном национальном Т-континууме; б) создать в голове выпускника
общеобразовательной школы целостный и удовлетворяющий принципу единства
апперцепции методологический образ науки как глобального феномена на базе данных
того же страта интернациональной лексики в национальных Т-континуумах,
обрабатываемых в духе «вертикальной интеграции» общей теории систем.
В ряде деталей интенсивной модели онаучивания общества нам все же
придется разбираться, но уже в плане проблем подготовки к реализации модели, где
может потребоваться дополнительная ясность.
Проблемы подготовки к реализации интенсивной модели
Подготовительный период для реализации любой реформы системы
образования предполагает, что на какой-то предустановленной инстанциями научной и
академической политики длительности к определенному сроку наличными
силами членов национального научно-академического сообщества будут подготовлены
соответствующие учебники — мегаакты речи предзаданного объема в
академических часах — и кадры А для нормального академического движения ежегодных
волн В групп сверстников по этим мегаактам. С точки зрения потребных затрат
времени лимитирующим фактором, определяющим длительность
подготовительного периода, является безусловно подготовка кадров А, особенно если сам
характер реализуемой реформы ограничивает возможности преемственной
переориентации наличных членов учительского и преподавательского сообществ на
ведение реформирующих систему образования курсов.
Эти общие положения целиком относятся и к подготовительному периоду
перехода с экстенсивной на интенсивную модель онаучивания общества.
Наиболее сложные и запутанные проблемы будут локализованы в области подготовки
кадров А для обновляемого под интенсивную модель перехода Тп-Ту, и основные
трудности, хотя и временные, но достаточно длительные, здесь будут связаны с
тем фактом, что уже первая волна В групп сверстников, которая пойдет по
обновленному переходу Тп-Ту, потребует, чтобы во всех школах страны на всех
учебных годах ее 10—12-летнего движения в чистом академическом времени ее
встречали учителя новой формации, хотя такое возможно только в нормальных
условиях, которые начнут устанавливаться только тогда, когда эта волна В групп
сверстников пройдет через школьный переход Тп-Ту и студенческий переход
Ту-Тд в педагогических институтах, чтобы вернуться в школу в качестве учителей
новой формации и начать вытеснять учителей старой формации, то есть по
меньшей мере 14—16 ежегодных волн В групп сверстников, начинающих обкат нового
школьного перехода, должны будут делать это в ненормальных условиях,
усилиями учителей старой формации, которые вовсе не обязательно будут относиться и
в целом и особенно в мелочах к интенсивной модели положительно и с должным
пониманием хотя бы уже потому, что первые волны выпускников интенсивной
школы окажутся классом выше и своих школьных учителей и ожидающих их на
студенческом переходе преподавателей педагогических институтов, да и высшей
школы вообще. К тому же вытеснение учителей старой формации учителями
новой формации, когда оно начнется лет через 15 после начала движения по
обновленному школьному переходу Тп-Ту, должно будет идти в ускоренном темпе,
что неизбежно поведет к массе конфликтных ситуаций, опасных для интенсивной
модели в том отношении, что прекратить на каком-то этапе введение
интенсивной модели в темпе движения первой волны В групп сверстников значило бы
загубить все дело и начать все сначала. Трудности и проблемы объявятся и в
подготовке учебников, особенно при подготовке учебника-терминала.
В силу всего этого первой проблемой и первым шагом в подготовке к
реализации интенсивной модели должно стать, по нашему глубокому убеждению, со-
656
M. К. Петров
здание национального координирующего центра, который взял бы на себя
ответственность за все, связанное с подготовкой и реализацией интенсивной модели,
и лишь постепенно трансформировался бы в национальную службу
учебника-терминала. В отличие от национальной службы учебника-терминала, которой он
станет лет через 50—60 после начала движения первой волны В групп сверстников
по обновленному переходу Тп-Ту, которая должна будет пройти через систему
образования в терминалы взрослой деятельности и там начать повсеместное,
растянутое лет на 40—50 вытеснение членов терминальных сообществ экстенсивного
образца, центр по подготовке и реализации интенсивной модели онаучивания
общества должен будет заниматься на этом переходном периоде массой
дополнительных дел и функций законодательного и исполнительного типа, а для этого
должен быть облечен соответствующими правами и возможностями на весь
период подготовки и реализации перехода на интенсивную модель.
Но дело здесь не только в том, что функционирующие ныне самые высокие
инстанции научной и академической политики должны будут делегировать на
время перехода с экстенсивной модели на интенсивную модель онаучивания
практически все свои права и обязанности такому центру, причем делегировать
с сомнительной перспективой вернуть их назад лет через 60—70, когда в условиях
нормального действия национальной службы учебника-терминала может
атрофироваться, отпасть сама необходимость существования таких инстанций, что явно
непривычно, загадочно и даже вызывающе выглядит с точки зрения привычных
начальственно-центричных категорий административного мышления, но также и
в том, что этот координирующий центр как новый социальный институт, как
новую организационную и научную единицу, которой придется заняться
введением и утверждением нового ментального порядка в национальном мире знака,
в национальном Т-континууме, надобно будет создавать по непривычной
научно-административной схеме, где решающую роль должны будут играть не
вертикальные линии интеграции социального института в целостность (начальник-
подчиненный), а горизонтальные линии интеграции ментальной деятельности
коллег, собранных в институт для решения сложной, но единой
общенациональной задачи: подготовить, внедрить, обкатать и закрепить интенсивную модель
онаучивания общества.
В поисках подходящих моделей организации ментальной деятельности равно-
заинтересованных в успехах онаучивания общества коллег мы вновь, как и в
случае с национальной службой учебника-терминала обращаемся к организационной
структуре Британской Ассоциации для Продвижения Науки [202], которой
приходилось длительное время заниматься подобной задачей, хотя и однобоко и
некорректно, к сожалению, поставленной — задачей по внедрению экстенсивной
модели онаучивания. Но различие и даже в каких-то отношениях
антагонистическое различие в самих задачах не должно, по нашему мнению, бросать тени на
организационные принципы Британской Ассоциации, как
научно-административного национального института, оказавшегося способным с ежегодными
тактическими коррекциями на годичных собраниях Ассоциации гнуть одну и ту же
стратегическую линию в продвижении науки полтора столетия. Что линия эта
оказалась тупиковой, плохо продуманной по конечным целям и возможным
следствиям ее реализации, что со всей определенностью обнаруживается сегодня, как
и то, что ежегодные тактические коррекции возникали не из теоретического
осознания их необходимости, а скорее из «перипатетической» природы самой
Британской Ассоциации, собиравшей годичные собрания каждый раз в новом городе
Великобритании или Британской Империи, — для нас не главное в этой
организационной модели, а главное в том, что Британская Ассоциация, гибко сочетая
годичный срок исполнения одних научно-административных должностей с
неограниченным сроком исполнения других, создало крайне ценную для нас модель
долгоживущей научно-административной организации, которая в естественной
смене. поколений ее членов способна оказалась выдерживать и реализовать ко-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 657
нечные и долговременные цели, успешно выдерживая кратковременные,
сбивающие со стратегического курса штормы поветрий, мод и веяний времени, которых
явно не избежать и на периоде подготовки и реализации интенсивной модели
онаучивания общества.
Твердое и преемственное выдерживание курса на полную реализацию
интенсивной модели онаучивания общества в течение шести-семи десятилетий, не
реагируя на сиюминутные текущие потребности общества в специализированных
кадрах более низкой квалификации, где полиглоттизм и способность
самостоятельно вести конкретные научные исследования в привычных шорах древней
максимы «довлеет дневи злоба его» могут показаться даже бессмысленными и
вредными, — условие осуществимости реализации интенсивной модели
онаучивания общества; и именно это условие побуждает нас указывать на
организационную структуру Британской Ассоциации как на то, что и требуется для центра
по подготовке и реализации перехода с экстенсивной модели онаучивания
общества на интенсивную.
Создание такого координационного центра, неподвластного окрикам сверху и
веяниям снизу, на базе секционного представительства всего национального
научно-академического сообщества с кратким (годичным или иным, но кратким)
исполнением должности президента, с неограниченно долгим исполнением
должностей членов совета центра, ученых секретарей и председателей комитетов
секций, что должно обеспечить преемственность деятельности центра и его
долгожительство как научно-административной единицы, с ежегодными или иной
периодичности, но обязательно регулярными общими собраниями членов центра,
членство в котором должно быть свободным и добровольным, что дало бы
возможность тактические коррекции в стратегическую деятельность центра, —
предварительное условие и подготовки и самой реализации перехода с экстенсивной
на интенсивную модель онаучивания общества. Если эту первую предварительную
задачу не удастся решить на национальном уровне развитой страны, то не следует
браться и за все остальные задачи, предполагающие первую решенной: так тоже
можно загубить на корню общенациональной и даже
интернационально-глобальной важности дело. Лучше уж подождать, но упорно, настойчиво и по
возможности доходчиво внедрять в умы начальства и членов соответствующих инстанций
скучные и тревожные картины того, что по всей вероятности произойдет в
обозримом будущем, если своевременно не отказаться от экстенсивной модели
онаучивания общества в пользу интенсивной, постоянно подчеркивая, что уже
сегодня тонкие механизмы самоорганизации науки как глобального феномена
работают с огорчительным скрипом, пожираемые ржавчиной прогрессирующего моно-
глоттизма, отсутствия прямого доступа, гласности и свободной миграции
исследовательского таланта, что уже завтра мы можем оказаться на жалких обломках
великого творения человеческого рода, а это неизбежно отбросит нас, какими бы
мы ни рисовались себе в нашем национальном самомнении ужасно развитыми и
превосходными по отношению к другим, на столетия назад и вынудит нас в
лучшем случае собирать по осколкам и склеивать разбитое по нашей глупости, а в
худшем, если мы вовремя не опомнимся, скатываться все ниже и ближе к
животному состоянию, из которого нашим предкам все-таки с огромными усилиями
удалось выкарабкаться.
Словом, в случае первой неудачи нужна будет широкая кампания в пользу
перехода от экстенсивной модели онаучивания к интенсивной. И лейтмотивом
такой кампании должно быть то, что развитые страны, позволяющие
долговременно функционировать экстенсивной модели онаучивания общества, не только
вводят в опасное заблуждение развивающиеся и слаборазвитые страны, где видят
в них достижимый ориентир и символ развитости, но и совершают тяжелое
преступление перед человеческим родом, разрушая через действие экстенсивной
модели наиболее совершенное творение человечества — глобальный феномен науки,
который, лежит в основе их современной развитости. Такая кампания не поме-
42 М.К. Петров
658
M. К. Петров
шала бы и в случае удачной попытки учредить центр координации по модели
Британской Ассоциации, коль скоро необходимость и резоны достаточно
сложного и болезненного перехода на интенсивную модель онаучивания должны быть
доведены до сердца и ума каждого взрослого — перемены никого не обойдут
стороной и лучше к ним заранее подготовиться, поняв и приняв их как необходимые
для дальнейшего развития человечества.
Но допустим, что первый шаг сделан и национальный центр координации
действий членов научно-академического сообщества учрежден. Тогда перед ним,
как мы уже говорили, объявится два рода проблем — подготовки учебников и
подготовки кадров А для обновленного школьного перехода Тп-Ту. Проблемы
кадров А сложнее, но они явно производны от состава учебников-мегаактов речи,
которые войдут в интенсивный Ту. Поэтому начнем именно с подготовки
учебников.
Вообще-то говоря, для члена научно-академического сообщества,
задействованного одновременно в четырех ролях:
исследователь—преподаватель—администратор—привратник [140, с. 520], написать школьный учебник или подготовить
его очередное переиздание — труд весьма почетный, поскольку быть упомянутым
в школьном учебнике — высшая награда, которую может предложить ученому
общество и механизм ценообразования в науке, — но вместе с тем труд не такой и
сложный в условиях действия экстенсивной модели онаучивания общества. В
роли исследователя член научно-академического сообщества, потенциальный
автор школьного учебника, знает все происходящее на переднем крае своей
дисциплины. В роли преподавателя он досконально знает студенческий учебник и
аспирантские учебные пособия, рекомендованную литературу. В роли
привратника ему ничего не стоит разобраться, что в действующем школьном учебнике
устарело и требует замены новым материалом. Так что задача подготовки учебника
в двух ее основных вариантах — подготовка к переизданию наличного учебника
или подготовка нового учебника — сводится к тому, чтобы либо заменить в
действующем учебнике устаревшие места новым материалом, не увеличивая объема
учебника, либо сократить до предзаданного объема студенческий учебник,
превратить его в школьный учебник-введение в данную дисциплину, а переделывать
и сокращать тексты — привычное для любого члена научно-академического
сообщества искусство, которому его повседневно обучают редакторы и рецензенты
научных журналов, когда он в роли исследователя представляет в редакции
рукописи для публикации.
Но такая предельно простая обстановка складывается только в условиях
действия экстенсивной модели онаучивания общества и только для тех членов
научно-академического сообщества, дисциплина которых представлена уже на
школьном переходе Тп-Ту или по решению инстанций научной и академической
политики должна быть представлена на школьном переходе учебником-введением.
С переходом на интенсивную модель онаучивания общества вся эта
наблюдаемая сегодня однобокая простота (от силы 10% дисциплин представлено на
переходе Тп-Ту учебником-введением) должна будет исчезнуть, поскольку
исчезнет прямое поддисциплинарное представительство науки на школьном переходе,
и соответственно разработка учебников должна будет совершаться не в порядке
единоличного авторства, а в коллективах, работающих в режиме тезаурусно-ди-
намического коллективизма над общей и сложной задачей в тех же двух
вариантах: а) подготовить новый междисциплинарный по своей природе школьный
учебник предзаданного объема; б) подготовить очередное издание действующего
уже междисциплинарного школьного учебника, не увеличивая его объема.
Относительно просто будут решаться проблемы подготовки параллельных 6—7
учебников лингвистической группы, поскольку, как мы уже говорили, в этой
области есть доказавшая свою универсальность и индуктивно-теоретически и
практически модель теоретического нормативного представления естественного языка
александрийцев и соответствующие школьные нормативные курсы всех включа-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 659
емых в «колоду» естественных языков, использующие модель александрийцев, то
есть работа здесь сведется к муторной и трудоемкой для первого издания
учебников, но в принципе выполнимой работе коллектива по неукоснительному
насаждению в этой группе-колоде учебников синхронного параллелизма с учетом
того ограничивающего усилия коллектива фактора, что они имеют дело с
естественными языками-системами, по отношению к которым редукции и сокращения
неуместны. Из грамматической структуры — синтаксиса, морфологии, правил
словообразования — нельзя будет исключать ни одной мелочи, если она
упомянута и область ее универсального, «по правилам» употребления описана в
соответствующем школьном нормативном курсе данного естественного языка, как и
включаемые в такие описания исключения из правил: входящие в «колоду» 6—7
естественных языков все должны иметь полное грамматическое описание и мера
полноты описания должна браться не из школьного нормативного курса родного
официального языка — здесь она заведомо завышена не потому, что родной язык
самый что ни на есть сложный на свете, а просто потому, что родной язык
изучается на всем 10—12-летнем переходе Тп-Ту как обязательный предмет школьной
программы и грамматический курс приходится искусственно растягивать на все
учебные года академического школьного движения, — а из нормативных курсов
классических языков для гимназий, лицеев, колледжей и других соответствующих
им общеобразовательных институтов, в том числе из курсов классических языков
для подготовительных факультетов университетов, где классические языки
изучали не ради самого изучения неограниченно долгое время, а ради активного их
использования как целостных и удовлетворяющих принципу единства
апперцепции языков-систем, то есть грамматически полные описания давались по
допустимому минимуму полноты, предоставляя лингвистам-любителям вволю копаться
за пределами этого минимума в поисках редких частностей.
Сопутствующий любому грамматическому нормативному школьному курсу
ввод лексики и для иллюстрации и для закрепления грамматических правил через
выполняемые и в классе и дома упражнения и тексты для аудиторного и
внеаудиторного чтения должен быть решительно переориентирован с наиболее
употребительной и содержащей массу исключений бытовой лексики, как это делается
сегодня в школьных курсах иностранных языков, на страт интернациональной
научной лексики, в котором тоже полно исключений из правил словообразования
родного языка, но исключения эти будут в своем большинстве сниматься,
восприниматься как нормы в одном из учебников «колоды». В этой решительной
переориентации на страт интернациональной лексики в национальных Т-конти-
нуумах конечно же придется быть осторожным, коль скоро исключения в
наиболее употребительной бытовой лексике в своей значительной части продукт «гно-
сиса», естественного агента биологического кодирования, который как раз
наиболее употребительные слова удерживает в вершине айсберга рангового
распределения частоты словоупотребления по закону Ципфа [178], и если отказаться от
использования лексики из таких вершин высших рангов частоты
словоупотреблений, то и полное грамматическое описание соответствующих естественных
языков получит опасный перекос, опасное для мнемотехники смещение
соотношений между правилом и исключением.
Поэтому, когда мы говорим о решительной переориентации с бытовой на
научную лексику, мы прежде всего имеем в виду переориентацию целей в которых
используются сегодня частотные словари естественных языков, если они вообще
используются, в работе авторов учебников иностранных языков для школ и
высших учебных заведений.
Конечно же, все уважающие себя лингвисты осведомлены о работах Ципфа,
о законах рангового распределения частоты словоупотреблений и ищут способы
практического использования законов Ципфа. В 1950-х гг. практически все
развитые страны обзавелись частотными словарями либо на уровне картотек, либо
на уровне публикаций, где слова упорядочиваются не по алфавиту, а по частоте
42*
660
M. К. Петров
употребления в связных текстах. Сначала ими увлекались «машпереводчики»,
надеясь решить с помощью закона Ципфа проблему машинного перевода. Затем,
когда надежды машпереводчиков не оправдались, частотными словарями
заинтересовались математические лингвисты в большинстве своем разочарованные
машпереводчики, которым, на наш взгляд, больше всего нравилась
математическая строгость рангового айсберга, естественно эманирующая из частотных
словарей, и уже после матлингвистов к частотным словарям проявили живой интерес
авторы нормативных учебников иностранных языков, одержимые понятной
манией «адаптации», редукции школьных и студенческих учебников иностранных
языков, часы на изучение которых постоянно сокращались и сокращаются,
вызывая на стороне авторов понятный мученический экстаз перекладывания
учебного материала из одного прокрустова ложа в другое, еще более узкое и
стеснительное. Частотный словарь представлялся им, а многим и сегодня представляется
блестящей «научной» возможностью теоретически оправдать прогрессирующую
адаптацию, поскольку из частотных словарей всегда можно выделить «словарный
минимум» любого предзаданного объема (на 10, 100, 1000, 10000) знаменательных
слов, а из любого такого «словарного минимума» для школы, для вуза не так уж
трудно восстановить достаточную цдя него редуцированную грамматику.
Поскольку в вершинах рангового айсберга находится лишь около 10%
знаменательных слов тезауруса естественного языка, ответственных за 90% конкретных
словоупотреблений, то энтузиасты такого «научного подхода» к построению
школьных и студенческих учебников иностранных языков принимали на веру тезис, что
если выпускник школы или вуза в 9 предложениях из 10 сумеет достичь
взаимопонимания с соответствующим иностранцем, то это как раз и будет достаточной
степенью владения соответствующим иностранным языком.
Но с точки зрения тезаурусной динамики распиливание айсбергов рангового
распределения частоты словоупотреблений по словарю-тезаурусу естественного
языка или частоты цитирования по массиву публикаций, делается ли это ради
выявления «словарных минимумов» или для других целей, — дело пустое,
бесперспективное: отпиленная лакомая часть ведет себя по общему правилу — девять
десятых уходит из поля зрения и внимания и, чтобы удержать ее на плаву,
необходимо оперативное наращивание «подводной» части, а этого как раз и не
происходит с учениками и студентами просто потому, что этот путь оперативного
наращивания обрезанной основы для них закрыт. Он требует динамики,
самостоятельного движения ученика и студента в инородном мире знака, а такой
возможности у них нет, да и стимула тоже. Поэтому, когда мы говорим о
решительной переориентации на страт интернациональной лексики в национальных
Т-континуумах, о сокращении доли бытовой лексики и росте доли научной
лексики в параллельных учебниках «колоды», мы пытаемся открыть вход в эти
инородные миры знаков, то есть, не увертываясь от закона Ципфа и не посягая на
целостность создаваемых «гносисом» айсбергов рангового распределения частоты
словоупотребления по словарю-тезаурусу естественного языка, мы переносим
внимание ученика на общую для всех изучаемых языков — родного и
инородных — лексику, усматривая в этой области реальную возможность
самостоятельного движения в родном и инородных мирах знака по общему основанию, что
получит подкрепление и при движении по курсу или курсам учебника-терминала
и в академическом движении на постшкольном периоде, особенно для тех
выпускников школы, которые пойдут по переходам Ту-Тд-Тг в терминалы науки.
Но все эти детали стратегических замыслов, которыми следует
руководствоваться при насаждении синхронного параллелизма в 6—7 учебников
лингвистической группы, не должны уводить нас от главного, что, собственно, и
удерживает наше внимание на подготовке параллельных учебников, от их проходимости
на предзаданной школьными программами длительности в академических часах.
6—7 параллельных языковых курсов, сколько бы мы ни ссылались на опыт
классических гимназий XIX в. и самого начала XX в., как бы мы не уверяли себя и
История европейской культурной традиции и ее проблемы 661
своих читателей, что первый блин не обязательно комом, что все начнется с
успеха, вызывают все же опасения на проходимость. Причем опасения даже не
столько за судьбу интенсивной модели онаучивания общества, которая
обеспечивает прямой доступ, гласность и свободную миграцию исследовательского
таланта — условий осуществимости существования и процветания глобального
феномена науки. Тут опасаться нечего: разрушительные следствия длительного
использования экстенсивной модели онаучивания рано или поздно заставят
переходить с экстенсивной модели на интенсивную, разве что вывеска изменится, а
суть останется прежней — обеспечение прямого доступа, гласности, свободной
миграции исследовательского таланта. Но вот «блин комом», провал первой
попытки пустить волну первоклашек по обновленному переходу Тп-Ту крайне
опасен, поскольку такой провал может иметь самые катастрофические последствия
не только для той развитой страны, где его по тем или иным причинам
допустили. Поэтому нам еще и еще раз приходится присматриваться к школьному
бюджету чистого академического времени и определять наше к нему отношение.
В основе этого отношения, и оно должно быть реализовано в деятельности
национального центра, лежит твердое убеждение в том, что для первых
ежегодных волн В групп сверстников любой ценой должно быть обеспечено нормальное
академическое движение по новому переходу Тп-Ту, даже если для этих первых
ежегодных волн придется отдать на прохождение параллельных учебников
лингвистической группы большее число академических часов, чем 40—50% из
школьного бюджета времени по прикидкам, основанным на опыте классических
гимназий. После прохождения первых волн сверстников по обновленному
школьному переходу откроется реальная возможность совершенствования параллельных
языковых учебников в привычном порядке переиздания школьных учебников с
изменениями, купюрами и дополнениями, но чтобы эта возможность открылась,
нужно, чтобы эти первые ежегодные волны прошли.
Поэтому, распределяя школьный бюджет чистого академического времени по
предметам, мы должны для первых ежегодных волн В групп учитывать
возможность оперативного, в темпе движения В групп по учебным годам, изменения
длительности мегаактов речи в соответствии с ситуацией, складывающейся в В
группах при прохождении того или иного параллельного места в учебниках
«колоды». Здесь без обкатки лингвистических учебников несколькими волнами В
групп сверстников невозможно предугадать, на чем именно может споткнуться и
потребовать дополнительных часов на прохождение В группа. Поэтому, скажем,
принимая в качестве ориентира 6 тыс. академических часов или полных четыре
учебных года из 15—18 тыс. академических часов школьного бюджета чистого
академического времени, чего должно бы хватить и по опыту классических
гимназий и по опыту институтов иностранных языков, где сам срок обучения —
четыре учебных года, а изучаются не только иностранные языки, но и множество
других (свыше 20) предметов, мы должны будем, с одной стороны, разработку
первых параллельных учебников ориентировать на несколько меньший срок
движения, к примеру, на 5,5 тыс. академических часов, а с другой стороны, иметь
на всякий случай в резерве тысячу академических часов, чтобы оперативно
ликвидировать все пробки и заторы, которые могут возникнуть по самым
непредсказуемым обстоятельствам.
Конкретное место параллельных курсов языков на переходе Тп-Ту должно
определяться тем в общем-то далеко не бесспорным утверждением психологов, что
способность операций с абстрактными символами активизируется у детей в
возрасте 11 — 12 лет [51] и гораздо более убедительным с точки зрения тезаурусной
динамики эмпирическим правилом, по которому Т0 любого мегаакта речи,
входящего в «древо» мегаактов Ту, о чем мы уже говорили применительно к
экстенсивной модели онаучивания, должен быть определен по значению в каком-то
другом мегаакте речи, предшествующем данному мегаакту в чистом
академическом времени. Присутствие этого условия построения «древа» мегаактов на школь-
662
M. К. Петров
ном переходе Тп-Ту сдвигает во вторую его часть практически все предметы, Т0
которых требует математических в основном навыков активного обращения с
абстрактной символикой, навыков «вертеть формулы», совершать подстановки и
перестановки, идентифицировать известное в спутанном по универсальному
конечному списку интернациональных правил, что в общем-то хотя принципиально
и не отличается от национального речевого навыка и еще меньше будет
отличаться от интернациональных речевых навыков полиглотов гибко оперировать со
знаменательными словами по универсальным правилам грамматики, но требует
постоянных обращений к рефлексии, чего не требуют грамматические правила.
Так или иначе, но в нашем конкретном случае языковая группа параллельных
учебников должна будет занимать доминирующее положение на первой половине
перехода Тп-Ту и постепенно уступать примат в потреблении академических часов
учебнику-терминалу и тем предметам в основном математической группы,
которые определяют его Т0. Так что, к примеру, если на первой половине перехода
Тп-Ту параллельные учебники потребляли бы 60—70% академических часов,
предоставляя остальное математике и другим неязыковым предметам, то на
подходе к выпускным экзаменам, когда основная часть параллельных курсов —
полные грамматические описания входящих в «колоду» языков — будет уже пройдена
и центр тяжести сместится на накопление лексики и на активизацию обретенных
уже речевых навыков, доля потребления языковыми курсами академических часов
может снизится до 15—20%.
И здесь перед нами опять противоречивая проблема: можно ли начинать
вводить параллельные языковые курсы прямо с первого класса или требуется все-
таки какой-то теоретический задел, какой-то специфический Т0 для всей этой
группы параллельных учебников. Опыт гимназий в данном случае бесполезен —
в классическую гимназию первоклашки поступали, проходя фильтр
вступительных экзаменов, где требовалось демонстрировать навыки письменной и устной
речи, то есть гимназисты-первоклашки определенно имели какой-то задел и
четко оформленный по значению То, от которого можно было начинать вводить
и классические и живые языки. Наши первоклашки столь же определенно не
имеют ни теоретического задела, ни четко оформленного Т0, хотя мы и
обозначаем значение их тезауруса через Тп, но это достаточно пестрое и неопределенное
значение, общее в котором лишь то, что все они прошли через этап «от 2 до 5»
и все способны осмысленно общаться со своими учителями А.
Некоторые полезные для нас сведения можно получить из практики
институтов иностранных языков. Сведения, понятно, не очень показательные и
доказательные, поскольку в институтах иностранных языков в «колоде» оказывается не
5—6 инородных языков, а только 2 или реже 3. Но в академическом движении
студентов по четырехлетнему постшкольному переходу Ту-Тд наблюдаются все же
некоторые интересные для нас закономерности, которые могут объявиться и в
процессе параллельного изучения 6—7 языков. Хотя ход освоения инородного
языка глубоко индивидуален и в студенческих В группах всегда наблюдается
некоторое расслоение по способности осваивать иностранный язык и к тому же
сами институты иностранных языков далеко не едины по методам преподавания
и языков вообще и конкретных языков в частности, в среднестатистическом
случае в конце второго года обучения заметен не очень резкий, но достаточно явный
перелом в головах большинства студентов: грамматика иностранного языка
оказывается интериоризированной до уровня автоматизмов, что обычно
сопровождается и перестройкой-переупорядочением в систему грамматики родного языка,
вынесенной из школы в диссоциированном виде, студент перестает относиться к
каждому своему высказыванию в роли А как к задаче математического толка,
требующей обращения к рефлексии, чтобы, не дай бог, чего не напутать в выборе
соответствующих правил порядка слов, согласования, оформления значимых слов
в парадигмах склонения и спряжения и т.д. Иными словами, в той или иной
степени, но к большинству студентов приходит грамматическая «свобода», а с нею
История европейской культурной традиции и ее проблемы 663
и вкус к этой «свободе» и способность отклоняться от предписанных программой
тем-топиков, способность самостоятельно выбирать темы для разговора и
собеседников. После прохождения этой критической точки процесс обучения
инородному языку принимает форму быстрого накопления лексики и заметного
переноса внимания студента на исключения и редкости, что выявляется в насыщении
речи студента редко употребляемыми словами и соответствующими
специализированными экзотическими грамматическими конструкциями, без которых в
соответствующем контексте можно было бы и обойтись. Студент как ребенок
радуется своей эрудиции в сложных ситуациях и как ребенок стремится ее
продемонстрировать при первом удобном случае часто и не совсем к месту.
Наличие такого перелома и соответствующей критической точки в освоении
инородного языка, перехода, так сказать, количества зубрежки и пассивного
запоминания правил в качество свободного, не требующего обращения к
рефлексии, пользования грамматикой в рамках освоенного и осваиваемого словаря,
наводит нас на мысль о том, что такая последовательность событий по всей
вероятности работа все того же «гносиса», который правил бал на этапе «от 2 до 5»,
что этот скрытый от наблюдения в биокоде человека агент упорядочения реалий
в знаковом мире по основанию частоты их использования не уходит со сцены по
крайней мере на периоде взросления в школьные и студенческие годы.
Для нас это обстоятельство важно в том отношении, что если активная
деятельность «гносиса» наблюдается у студентов, то ей полный резон наблюдаться и
на школьном переходе Тп-Ту, который располагается между этапом «от 2 до 5» и
постшкольным четырехлетним студенческим переходом Ту-Тд в институтах
иностранных языков, где отмечается активная деятельность «гносиса». Более того,
если мы действительно имеем дело с активностью «гносиса», которая, по мнению
большинства исследователей, достигает пика на этапе «от 2 до 5», а с возрастом
постепенно снижается или во всяком случае затеняется, отходит на второй план,
уступая место рациональным формам активности разума, то нам следует даже
стремиться к тому, чтобы поставить «колоду» из 6—7 языков поближе к этапу «от
2 до 5», чтобы поддержать и стимулировать активность «гносиса», предложив ему
для освоения 6—7 инородных языков, ведь не исключена и такая возможность,
что видимое затухание активности «гносиса» по возрасту происходит не столько
потому, что человек взрослеет, а потому, что выполнив свое дело на этапе «от 2
до 5», гносис попросту не находит для себя применений в решении аналогичных
задач. В этом смысле и то обстоятельство, что освоившие на этапе «от 2 до 5»
родной язык дети, попадая в интернациональную лингвистическую ситуацию без
видимого труда осваивают господствующий в ней инородный язык, о чем мы уже
говорили, как о первой схеме решения проблемы инородца, может быть признано
достаточно убедительным свидетельством в пользу того, что передаваемый по
биокоду младенцам «гносис» вовсе не агент «разового» использования, который
служит человеку только на этапе «от 2 до 5» и, подобно мавру, исчезает, сделав
свое дело. Более основательным выглядит предположение, что «гносис» остается
с человеком на всю жизнь, во всяком случае он есть у родителей младенца, а
родителями становятся не только в 18 лет, и младшие дети редко бывают самыми
бесталанными в семье.
Так или иначе, но доступные для наблюдения и изучения обычными
методами психологов и социологов события на студенческом переходе Ту-Тд институтов
иностранных языков дают определенные основания полагать, что и на школьном
переходе Тп-Ту события в изучении каждого из 6—7 языков «колоды» будут
протекать хотя и синхронно, но примерно по той же схеме: какой-то, длительностью
в 2—3 учебных года, период зубрежки и пассивного запоминания правил, затем
перелом и выход в грамматическую «свободу» с переносом акцента на освоение
словаря, что в определенной степени совпадает и с ходом событий на этапе «от
2 до 5» и, возможно, совпадало бы с ходом соответствующих событий в
классических гимназиях, о чем мы знаем удивительно мало либо потому, что XIX в. не
664
M. К. Петров
ощущал здесь достаточно серьезной проблемы, либо потому, это мы наблюдаем
и сегодня, что взрослые крайне редко находят в истории своего собственного
изучения теоретического нормативного курса языка поводы для светлых
воспоминаний, что могло бы толкнуть их на детальное описание внутренних чувств,
состояний, ожиданий, опасений, надежд и разочарований; во всяком случае об этом
интересном для нас предмете писалось и пишется несравненно меньше и глуше,
чем, например, о первой любви, хотя и то и другое часто соседствуют в личной
истории любого взрослого человека.
В совокупном свете этих предварительных и довольно шатких данных
«колоду» из 6—7 параллельных учебников родного и инородных языков следовало бы
располагать возможно ближе к началу перехода Тп-Ту, хорошо бы даже уже на
первом году обучения, чтобы критическая точка, за которой открывается
грамматическая «свобода», оставалась в пределах первой половины перехода Тп-Ту, а на
второй шло бы активное пополнение словаря из учебников нелингвистического
цикла, включая учебники математической группы и учебник-терминал. Если
поднять архивы московских экспериментальных школ, в которых сравнительно
недавно московские психологи под эгидой Академии педагогических наук ставили
психологические эксперименты по изучению школьниками естественных языков
как раз в интересующем нас плане, то можно было бы, нам кажется, и уточнить
вопрос о том, где именно, в первом или втором классе можно начинать
параллельное изучение языков. Судя по тому, что нам известно об этих школах из
неформальных контактов с В.В.Давыдовым и его сотрудниками, введение «колоды»
можно бы начинать уже в конце первого года обучения, так как какое-то время
тратилось бы на выработку То — самого общего представления об языке-системе
и о наборе действующих в структуре языка правил. Из этих же данных, которым
мы в свое время, к нашему запоздалому глубокому сожалению, не придавали
особого значения, следует, что в любой конкретной «колоде» следовало бы
выдерживать в условиях синхронного параллелизма четко выраженную связь
«лидерства», то есть располагать параллельное изучение входящих в «колоду» языков по
времени не единым фронтом, а «уступом», когда одно и то же параллельное место
проходилось бы В группой в определенной последовательности языков. В
«колоде» для русских школ, например, такой «уступ» или такая оптимальная
последовательность могла бы выглядеть так: русский—греческий—латынь—французский-
немецкий—английский, а сама такая последовательность, начало которой давал
бы родной язык как основная ее ментальная опора, устанавливалась бы со
второго члена по богатству грамматических форм, которые оперативно могут
включаться как опоры для объяснения меньшего разнообразия грамматических форм
следующего языка — члена последовательности. Такая следующая шкале
снижения богатства грамматической формы последовательность прохождения
параллельных мест в учебниках разных языков была бы особенно ценна в том
отношении, что она продуцировала бы четкое осознание границ естественного языка-
системы как наднационального феномена, вариантами которого являются
национальные естественные языки.
Если сложность подготовки параллельных учебников 6—7 языков состоит
главным образом в том, что грамматические описания языков должны быть
полными и содержать все правила и исключения их грамматик, то сложность
подготовки учебника-терминала, где редукция возможна и в принципе даже неизбежна,
поскольку научный глоттогенез бесконечен и отобразить этот процесс в тексте
конечного объема задача в общем-то невыполнимая. Любое ее практическое
решение предполагает конвенциональное использование средств сжатия, редукции,
селекции. В качестве единого набора техник сжатия и редукции продуктов
научного глоттогенеза мы принимаем популярный у системников концепт
«вертикальной интеграции мира науки» [93; 94; 95; 134; 135; 136; 145], но в отличие от
большинства системников, придающих «вертикальной интеграции» онтологический
смысл построения новой картины мира, мы в «вертикальную интеграцию» вкла-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 665
дываем чисто знаковый и операциональный смысл важного для системы
образования и для онаучивания общества предприятия в рамках субъективного
определения Т-континуумов, целью которого является упорядочить, сжать и привести в
человекоразмерную, удовлетворяющую принципу единства апперцепции систему
продукты научного глоттогенеза по правилам мира знака, а не окружения. Нельзя
сказать, что эти правила не имеют никакого отношения к закономерностям
окружения как абсолюта — источника объективного определения. Продукты
научного глоттогенеза — концепты, понятия, элементы нового научного знания,
которые образуют нечеловекоразмерный поток интернациональной научной
публикации и станут основным материалом редукции и сжатия в учебнике-терминале,
имеют к закономерностям окружения самое прямое отношение. Но способы и
методы, по которым продукты научного глоттогенеза будут сводиться в человеко-
размерный текст конечной длины, в учебник-терминал, берутся из мира знака и
имеют силу только для мира знака, то есть не могут претендовать на
онтологический статус.
Об основных постулатах теории систем и об основных претензиях к этой
теории у нас уже был повод поговорить, правда в совершенно другом контексте,
когда нам нужно было понятие «открытой системы» [136]. Теперь же, по связи с
разработкой учебника-терминала, наш интерес будет концентрироваться на
выделении тех черт научного глоттогенеза, которые наводят системников на мысль о
возможности «вертикальной интеграции». Лилиенфельд, например, приводит
важное для понимания лингвистической сути «вертикальной интеграции»
заявление Гейзенберга: «Одной из наиболее важных черт развития анализа в
современной физике является уяснение того, что концепты естественного языка при всей
их слабой определенности оказываются в ходе расширения знания более
устойчивыми, чем точные термины научного языка, извлеченные как идеализации из
ограниченных групп феноменов. И это не так уж удивительно, поскольку
концепты естественного языка формируются в непосредственной связи с
реальностью, представляют реальность. Верно, конечно, что они не так уж хорошо
определены и могут поэтому претерпевать изменения в последовательности столетий,
как претерпевает изменения и сама реальность. Но они никогда не теряют
непосредственной связи с реальностью. С другой стороны, научные концепты суть
идеализации. Они производны от опыта, полученного с помощью
рафинированного экспериментального оборудования. Они точно ограничены через аксиомы и
определения. И только благодаря этим точным определениям становится
возможным связать концепты с математическим аппаратом, вывести математически
бесконечное разнообразие возможных феноменов в данной области. Но по ходу
этого процесса идеализации и точного определения теряется непосредственная
связь с реальностью. Концепты продолжают весьма близко соответствовать
реальности в той части природы, которая была объектом научного исследования. Но
соответствие может быть потеряно в других частях, содержащих другие группы
феноменов» [136, с. 250—251].
В этом изложении точки зрения физика на природу слов-концептов
естественного языка и концептов-терминов науки по отношению к реальности и
математическому символизму без труда обнаруживается скрытый в знаменательных
словах уровень математической строгой определенности, который не только
превращает знаменательные слова естественного языка в термины-концепты науки,
но и отделяет знаменательные слова от терминов по соответствию реальности,
превращая знаменательные слова в долгоживущие знаковые реалии, а термины —
концепты науки — в относительно краткоживущие знаковые реалии, которые
существуют для науки только до тех пор, пока они сохраняют соответствие
фрагменту реальности. Если перенести это рассуждение Гейзенберга в плоскость те-
заурусной динамики, то получится несколько неожиданная картина: каждый акт
номинации-определения в процессе научного глоттогенеза предстанет
микроактом речи, уточняющим неопределенность значения знаменательного слова есте-
666
M. К. Петров
ственного языка и превращающий его в термин науки, где на правах Т0 берется
значение слова в естественном языке, a Ti оказывается значение термина в науке,
которое имплицитно содержалось уже в Т0, а в Ti предстает в эксплицированном
как более точное, но частное. Такой обращенный разворот событий в научном
глоттогенезе, когда в любом акте номинации разность Ti-T0 должна мыслиться
отрицательной, как раз и оказывается ответственным за долгожительство
знаменательных слов естественного языка, которые всегда выступают в роли Т0-х в
актах номинации процесса научного глоттогенеза, и за относительную
недолговечность терминов науки, которые всегда оказываются малой частью значения
знаменательного слова, а это последнее многократно может использоваться в
актах номинации для создания новых терминов, не испытывая ущерба своей
целостности, поскольку значение данного знаменательного слова, которое
используется в таких актах номинации на правах Т0 всегда мыслится большим, чем
эксплицируемое из него значение научного термина Ть При этом, понятно, текущее
значение знаменательного слова естественного языка для науки в каждый момент
времени может быть определено суммой значений эксплицированных из него на
данный момент терминов, но при этом вокруг этого знаменательного слова всегда
будет оставаться ореол неопределенности и неисчерпаемости, который позволит
и в будущем при первой надобности эксплицировать из этого слова новые
смыслы-термины, как если бы они там заведомо содержались в невыявленном
имплицитном виде.
Понятно, что при такой смыслопорождающей схеме процесса научного
глоттогенеза число терминов, эксплицируемых из знаменательных слов естественного
языка, получает возможность бесконечно расти, тогда как тезаурус — полный
словарь естественного языка — может оставаться без видимых изменений.
Понятно также, что такую структуру научного глоттогенеза можно использовать для
описания бесконечно умножающихся продуктов научного глоттогенеза на базе не
испытывающих заметных изменений тезаурусов естественных языков и
универсалий актов номинации-определения.
Когда мы говорим об учебнике-терминале, который конечно же не может не
быть конечным по объему, и о «вертикальной интеграции» научного глоттогенеза
на всей периферии или на всем периметре переднего края науки как глобального
феномена мы имеем в виду именно это обстоятельство бесконечной экспликации
силами членов научно-академического сообщества новых смыслов-терминов из
конечного множества знаменательных слов полного словаря естественного языка,
что понятно, продуцирует на всю область научного глоттогенеза изоморфизм
знаменательных слов и научных терминов, поскольку уточняющее значение
движение в акте номинации-определения от значения Т0 (знаменательное слово
естественного языка) до значения Ti (научный термин) не затрагивает формы слова,
а затрагивает лишь его содержание.
Практически то же самое видят и схожим с нами образом воспринимают и
системники, но вот тот частный для нас факт, что Ti-e в актах номинации в
точных науках, особенно в физике, маркируют и ту степень точности термина,
которая достаточна для его включения в математический формализм, а
математический формализм сам по себе образует интернациональный искусственный язык
со своим конечным набором универсальных правил, порождает у системников
постоянный соблазн «спрыгнуть» с уровня естественного языка на уровень
искусственного языка математики.
Лилиенфельд, например, пишет о Берталанффи: «Он движется от
недостаточности методов физики для научного описания биологических, социальных и
психологических феноменов, а рядом с этим ходом настойчиво проводится идея
«вертикальной интеграции» мира науки с помощью теории систем: «Налицо
общая тенденция к интеграции в различных науках, и эта интеграция нашла свое
концентрированное выражение в общей теории систем. Эта теория может стать
важным средством ориентации тех наук, предметом которых не являются физи-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 667
ческие процессы, на использование точных методов, и средством приближения
нас к конечной цели объединения наук путем разработки объединяющих
принципов, проходящих «вертикально» через весь научный мир разобщенных
дисциплин. Это может повести к крайне необходимой интеграции научного
образования... Системные свойства могут быть выражены набором математических
формул, а эти формулы образуют набор изоморфизмов, то есть они действительны
для некоторого множества различных областей и имеют в них приложения...
Таким образом, система может быть определена математической системой
одновременно действующих дифференциальных уравнений, так что изменения любой
отдельной меры в системе, являющейся функцией всех других мер данной
системы, и наоборот, — изменение любой отдельной меры влечет изменение всех
других и системы в целом» [136, с. 23—24].
Наше понимание природы наблюдаемого в научном глоттогенезе
изоморфизма не позволяет истолковать его математически просто потому, что как
справедливо замечал еще Аристотель, путь из Афин в Фивы и из Фив в Афины один и
не один, так что если мы от знаменательного слова естественного языка в акте
номинации-определения добираемся по закрытому коридору изоморфизма к
термину того же наименования, а термин этот способен входить в математический
формализм, то это еще вовсе не означает, что, следуя попятным ходом по тому
же коридору изоморфизма от термина к знаменательному слову мы, «вернувшись
в Афины», можем через термин включить в интернациональный математический
формализм и само знаменательное слово; такая операция не проходит. Спрыгнуть
с уровня естественного языка через акт номинации-определения научного
термина на уровень искусственного языка математики бесспорно можно, этот фокус в
массовом порядке проделывают исследователи математизированных дисциплин
со времени возникновения опытной науки, но вот запрыгнуть с уровня
искусственного языка математики на уровень естественного языка никому пока еще не
удавалось. Более того, как мы уже говорили, именно невозможность обратного
хода по микроакту речи — по акту номинации от термина к знаменательному
слову естественного языка стала в начале XIX в. для Уивелла и для Британской
Ассоциации в целом критерием принадлежности дисциплин к «истинной
науке» — в число истинных наук включались только те, которые использовали
математику для индуктивной генерализации. Именно по этому критерию «вся
наука признавалась знанием, но не все знание наукой» [200, с. 276].
Но в рамках нашей задачи подготовки учебника-терминала, способного долгое
время под руководством и активным вмешательством национальной службы
учебника-терминала идентифицировать в интернациональном потоке научной
публикации страт лексики естественных языков, который активно используется в
текущем глоттогенезе глобальной науки на правах Т0-х в бесчисленных актах
номинации-определения, чтобы затем этот конечный страт упорядочить
нематематическими методами для представления в форме текста конечной длины и предза-
данного объема, эту математическую одержимость системников можно отложить
в сторону. как не имеющую отношения к делу и в общем-то не мешающую ему,
а во многом и помогающую, поскольку, по нашему мнению, создать первый
вариант учебника-терминала и в значительной степени готовить следующие его
переиздания в современных Т-континуумах развитых стран могут только
системники, для которых попытка подготовить учебник-терминал могла бы стать первой
практической попыткой совершить акт «вертикальной интеграции» мира науки.
Судя по тому, как системники аргументируют возможность «вертикальной
интеграции» и какие эмпирические свидетельства приводят в пользу наличия изофор-
мизма концептов в различных дисциплинах, получиться у системников должно
именно то, что нам нужно, особенно если они будут решать задачу «вертикальной
интеграции» на базе математических навыков и умений учеников второй
половины перехода Тп-Ту, чтобы сделать свой результат проходимым для В групп
школьников. Заодно системники могли бы органично связать Т0 учебника-терминала с
668
M. К. Петров
вводимой сегодня в развитых странах на школьный переход компьютерной
грамотностью, которая и сегодня входит как дисциплина или направление в состав
общей теории систем.
Сам учебник-терминал, единственный и полномочный представитель
глобального феномена науки на школьном переходе системы образования национального
Т-континуума, будет состоять из сопряженных курсов науковедческого цикла,
общей целью которых должно стать насаждение в головы учеников целостного,
системного, удовлетворяющего принципу единства апперцепции образа науки как
глобального наднационального феномена, преемственно изменяющегося по
времени. Сам этот образ должен выполняться с акцентом на процессах
самоорганизации и ценообразования в науке. Это позволило бы выделить каркас жесткости
науки как уникального глобального наднационального феномена, у которого есть
свои особые законы автономного существования в мире знака, и четко отделить
науку от всех видов паранаучной деятельности, в том числе и от действий
инстанций научной и академической политики, которым приходится считаться с
этими законами автономного существования науки в своих попытках
воздействовать на науку извне. Ученикам должно быть понятно и доходчиво объяснено, что
ни человек, ни какая-нибудь авторитетная человеческая инстанция не обладают
и в принципе не могут обладать атрибутом всеведения, что события на переднем
крае науки, порядок их следования во времени, потенциальная их важность для
самой науки и для общества, человечества — непредсказуемы и не могут
человеком или инстанцией планироваться, выступать в роли достижимых целей, что
единственный способ снять возникающие для общества и человечества
опасности, вытекающие из непредсказуемости событий на переднем крае научного
познания — это опосредование непредсказуемых по стране, национальному Т-кон-
тинууму, месту на переднем крае и времени возникающих проблем
познавательной деятельностью стихийно складывающихся на время решения проблем групп
исследователей, которые самоорганизуются по нормам тезаурусно-динамического
коллективизма, что появление таких краткоживущих групп исследователей
возможно только при выполнении в научной деятельности в целом условий прямого
доступа, гласности и свободной миграции исследовательского таланта к
непредсказуемо выявляющим себя проблемам.
К науке с детства нужно прививать уважение, основанное не на мифах о том,
как совершались те или иные открытия, и не на страхах перед видимой мощью
военных приложений науки, и уж конечно же не на знаковом фетишизме,
который приписывает науке божественные атрибуты, а на четком понимании того,
что наука с ее миром открытий выполняет сегодня роль знакового щита,
ограждающего человечество как биологический вид от случайных и непредсказуемых
событий и преобразующего самое эту непредсказуемость в знаковые реалии —
элементы научного знания, которые в силу их непричастности к целям и
интересам человечества могут быть использованы и на благо и во зло человеку.
Поэтому каждому взрослому нужно сегодня знать, как именно это все происходит.
Если основанное на знании процессов самоорганизации и саморегуляции
уважение к науки не прививать с детства, то нам никогда не избавиться от практики
волевых и конвенциональных решений по комплексу Архимеда, использующих
атрибут всеведения в качестве точки опоры. В аудитории неосведомленных о
глобальном феномене науки, об условиях его осуществимости, о процессах его
самоорганизации подобные решения могут проходить даже под аплодисменты, в
аудитории осведомленных сама вероятность появления подобных решений станет
ничтожной, если взрослый с детства знает, что можно голосовать, а что — нельзя,
где можно приказать, а где требуется опора на научное исследование.
Прививать с детства всеобщее уважение к науке, основанное на всеобщем
понимании того, чем живет и как функционирует наука, почему она была, есть и
должна оставаться именно глобальным и надсоциальным интернациональным
феноменом, почему в нее должны приходить полиглоты, обладающие прямым до-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 669
ступ ом ко всем образующим интернационального потока научной публикации, —
основная и долговременная цель учебника-терминала. Вместе с тем, внедряемый
в головы учеников для достижения этой цели образ науки не должен рисоваться
учебником-терминалом в незамутненных солнечно-голубых тонах рекламного
щита-зазывалы. Этот образ конечно же должен будет выполнять и «инструмен-
тально»-пропагандистские функции, вовлекая в научную деятельность возможно
большую долю ежегодной волны сверстников, завершающей переход Тп-Ту, но в
этот образ должна быть включена и «кухня науки», где с опорой на статистику
отсева элементов научного знания на каждом их шаге продвижения к терминалу
и на ранговое распределение цитирования наглядно должно показываться, что
научное исследование это тяжелый и не всегда благодарный труд, что легких
путей к успеху в науке нет, что нужно основательно подумать и оценить свои
возможности, прежде чем пожизненно завербоваться в новобранцы науки и
вступить на один из переходов Ту-Тд-Тг, ведущих в исследовательские терминалы
науки.
Эта цель — внедрить всеобщее уважение к науке на основе всеобщего
понимания глобальной природы феномена науки и принципиальной возможности
приложений научного продукта в любой точке земного шара в любое время
любым человеком любого цвета кожи любого разреза глаз любой
национальности — диктует и основные требования к составу и структуре учебника-терминала.
Нам кажется, что наиболее экономным с точки знания ограничений по объему
было бы, как и в нашей работе, совместное или наложенное описание науки и
системы образования в рамках национального Т-континуума, а затем уже
описание коммуникационных связей между национальными научно-академическими
сообществами, выстраивающих глобальный феномен науки с единым для всех
членов национальных научно-академических сообществ миром открытий и
единым интернациональным потоком научной публикации, постоянная
необходимость доступа к которому нейтрализует центробежные силы национальных
научно-академических сообществ и, несмотря на усилия национальных инстанций
научной и академической политики затруднить или даже свести на нет
коммуникацию между национальными научно-академическими сообществами, вынуждает
все эти сообщества держаться вместе в единой упряжке глобальной науки,
заставляя уже другие инстанции помогать исследователям осуществлять прямой доступ
к интернациональному потоку научной публикации, что позволяет им
продуктивно работать в общем для всех мире открытий.
Выделив такую систему в плоскости синхронии, учебник-терминал стал бы
перемещать эту плоскость по лучу времени в оптимальном варианте с XVII в. до
наших дней, то есть предложил бы ученикам диахронное описание — историю
научного глоттогенеза, терминологического использования в актах номинации
конечного по числу знаменательных слов словаря разных естественных языков,
показывая и доказывая, что и сегодня происходит и завтра, похоже, все будет
происходить точно так же, как это делалось в XVII, XVIII, XIX, XX вв. — в
бесконечном обилии терминов, наблюдаемых в интернациональном потоке научной
публикации, число знаменательных слов, на базе которых совершаются акты
номинации, остается практически неизменным: новые знаменательные слова типа
«газ» можно пересчитать по пальцам.
Доминирующее положение в этом устойчивом страте знаменательных слов,
каждое из которых может оказаться использованным на правах Т0 в бесконечном
множестве актов номинации-определения, занимают слова греческого и
латинского языков, и основные «естественные» способы их упорядочения, комбинации
и рекомбинации будут ученикам уже известны из полных описаний грамматики
греческого и латинского языков, которые они прошли в синхронно-параллельном
изучении 6—7 языков, поэтому задачей диахронного описания событий в науке
с XVII в. до последнего переиздания учебника-терминала всегда будет оставаться
наблюдаемая' в тот или иной момент времени техника актов номинации-опреде-
670
M. К. Петров
ления, где, поскольку в качестве Т0-х таких актов берутся знаменательные слова
естественных языков, а подготовка рукописей к публикации исследователями
ведется по правилам грамматик родных официальных языков, происходит
первичный и, похоже, наиболее важный для всеобщего онаучивания взрослых такт
сжатия, приведения неограниченно растущего терминологического многообразия
получающих имена и определенность новых элементов научного знания к
устойчивому и не обнаруживающему тенденций к неограниченному росту страту
знаменательных слов естественных языков. Эксплицируя в актах
номинации-определения новые терминологические смыслы, авторы рукописей первичной научной
литературы не тревожат наличную форму знаменательных слов, вводя под общую
формальную крышу использованного на правах Т0 акта номинации слова нужный
им частный терминологический смысл, как если бы он и до акта номинации
неявно содержался в этом слове. В этом, собственно, и состоит «хитрость разума»
исследователей, оформляющих рукописи — генерировать новые
терминологические смыслы, не пытаясь увеличивать конечное число знаменательных слов или
повредить их форму. Конечно же в этой бесконечной последовательности актов
номинации появление все новых и новых терминологических смыслов оборотной
стороной имеет бесконечное насыщение этих неизменных по форме
знаменательных слов новым смыслом и значением. Но форма-то используемых в качестве
То-х актов номинации-определения знаменательных слов остается неизменной, а
универсальные грамматические правила естественных языков имеют дело только
с формой слов и игнорируют их содержание.
Экстенсивная модель онаучивания проходит мимо этого первичного такта
приведения неограниченного роста терминологических значении к конечному
числу знаменательных слов, используемых на правах Т0-х актов номинации,
ограничивается при подготовке школьных учебников-введений грубой редукцией
материала постшкольных учебников избранного круга дисциплин.
Учебник-терминал интенсивной модели онаучивания общества именно в
преднамеренном использовании этого первичного такта приведения
неограниченного роста терминологических значений, Ti-x актов номинации-определения к
конечному числу знаменательных слов, используемых на правах Т0-х тех же
самых актов номинации-определения результатов исследовательского поиска в
едином мире открытий, будет постоянно доказывать свою принадлежность к
интенсивному варианту онаучивания общества, поскольку постоянно идущая в
учебнике-терминале генерализация представленных в интернациональном потоке
научной публикации актов номинации-определения будет неизбежно под
постоянным давлением ограничений по объему выявлять и уточнять саму парадигму
деятельности исследователей по подготовке рукописей, парадигму отображения
объективно определенных непредсказуемых проблем, возникающих на переднем
крае, и того менее предсказуемых их решений в субъективно определенном мире
знака на уровне знаменательных слов естественных языков. Поголовное
насаждение этой парадигмы в разум школьников — будущих взрослых — и будет,
собственно ключевой идеей интенсивного онаучивания общества, поскольку знание
этой парадигмы всеми взрослыми и умение ею при случае пользоваться в
терминалах взрослой деятельности любой природы действительно приобщит к науке
всех взрослых и создаст условия неограниченного приложения результатов науки
ко всем социальным структурам общества без привлечения специалистов-»варя-
гов» со стороны, из национального научно-академического сообщества, что
особенно важно еще и потому, что современные исследователи-»варяги», когда они
сегодня время от времени берутся за насаждение науки в тот или иной терминал,
волей-неволей оказываются в рамках комплекса Архимеда, используя в качестве
точки опоры доскональное знание деятельности в терминале, которого они
определенно не имеют и, находясь в информационно-изолированных терминалах
науки, иметь не могут.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 671
Учитывая это ключевое положение учебника-терминала в интенсивной
модели онаучивания общества, который в пределах школьного бюджета чистого
академического времени должен будет в головах учеников старших классов
накопленное ими в академическом движении через «колоду» из 6—7 теоретических
нормативных курсов естественных языков знание страта лексики, с которым им
придется встречаться в попытках прямого доступа к научной литературе, и
соответствующих грамматик оперирования с этой лексикой, состыковать это
накопленное учениками знание с парадигмой актов номинации-определения, мы
можем априорно утверждать, что диахронная составляющая учебника-терминала,
даже если она возьмет для начала за образец наличные курсы истории науки, не
сохранит этого подобия в процессе переизданий учебника-терминала.
С этой диахронно-исторической составляющей учебника-терминала должно
будет происходить примерно то же, что происходит сегодня со школьными
курсами литературы и истории, а в какой-то мере и с учебниками-введениями в
избранный круг дисциплин, хотя здесь этот процесс протекает в менее болезненной
форме. В литературе и истории неограниченно растет по времени число
выдающихся имен и их опять же выдающихся деяний, поэтому сколько бы
академических часов ни выделялось на эти курсы, новые имена и их деяния потребуют либо
бесконечного увеличения объема учебника, что явно нереально, либо
последовательной от переиздания к переизданию замены старых имен и деяний на новые
имена и деяния, что в общем-то и происходит. Конечно же это та самая схема
обновления через карстовое вымывание морально устаревшего материала и
замещение его новым, о которой мы говорили выше и которую Т.Кун называет
«переписыванием» учебников ради закрепления результатов очередной научной
революции [30, с. 176—177]. Но в случае с литературой и историей результаты
карстового вымывания старого материала новым слишком уж наглядны и даже иногда
оскорбительны для тех, кто проходил эти курсы лет 40—50 тому назад, когда еще
полагалось знать, кто такой Шекспир или Байрон, Шелли, Гете, Шиллер, Солон,
Эсхил, Аристофан, Александр Македонский, Аристотель и что они сделали, чем
прославились.
В случае с учебником-терминалом этот процесс карстового вымывания
морально устаревшего материала и замещения его новым, если в него будет введена
даже самая простая и несовершенная модель акта номинации-определения,
неизбежно примет качественно иной характер постепенного обрастания этой модели,
выступающей в роли критерия отбора материала на присутствие в
учебнике-терминале или на дренаж из него, универсальными для большинства актов
номинации-определения моментами, и диахронно-историческая образующая учебника-
терминала будет постепенно переходить в синхронно-статическое
детализированное изложение универсальной модели акта номинации-определения или
расслаиваться на две составляющие: диахронно-динамическую и
синхронно-статическую, причем примат важности с точки зрения онаучивания общества всегда будет
отдаваться синхронно-статической составляющей, поскольку именно она, ее
присутствие в голове всех взрослых, степень ее использования взрослыми в их
терминалах взрослой деятельности станет мерой онаученности общества по
интенсивной модели.
Поэтому мы считаем, что в порядке подготовки первого варианта учебника, с
которого начнется последовательность переизданий, его диахронно-историческая
образующая должна выполняться как сжатый до предзаданного объема очерк
истории глоттогенеза науки от Коперника до наших дней с кратким
введением-описанием в терминах тезаурусной динамики акта номинации-определения, а дальше
уже следует положиться на результаты обкатки учебника-терминала ежегодными
волнами В групп сверстников и на деятельность национальной службы
учебника-терминала, которая, следует надеяться, найдет способ на периодической или
постоянной основе замерять уровень научно-прикладной деятельности в
ненаучных терминалах и производно от этого показателя менять соотношение часов на
672
M. К. Петров
синхронно-статическую и диахронно-динамическую составляющие курса истории
науки в переизданиях учебника-терминала.
На школьном переходе, таким образом, будут располагаться в основном в
первой его половине, тяготея к Тп, 6—7 параллельных курсов родного и инородных
языков, на которые мы отводим ориентировочно 6 тыс. академических часов из
общего школьного бюджета чистого академического времени, и
учебник-терминал, примыкающий к концу перехода Ту. Мы не можем сказать, сколько именно
часов потребует учебник-терминал просто потому, что если теоретические
нормативные курсы естественных языков имеют жесткий предел редукции — полное
описание грамматик этих языков, то все другие предметы, представленные на
переходе Тп-Ту, такого предела редукции не имеют и соответствующие учебники
пишутся под предзаданный академическими инстанциями объем, так что ни
авторы учебников, ни сами инстанции не в состоянии внятно объяснить, почему,
скажем, на биологию столько, на тригонометрию — другое число часов, на
физику — третье: все это тайна великая есть и ключа от нее ни у кого нет. Одни
объясняют расклад часов по предметам традицией, другие текущим балансом сил
претендентов на школьный переход, третьи — распределением учителей,
выпускников педагогических институтов по предметным специальностям и т.д. Учебник-
терминал жилец на переходе Тп-Ту новый, и коль скоро он должен вытеснить все
учебники-введения в избранный круг дисциплин, он вроде бы должен и
унаследовать их академические часы в учебном плане школы. Но такой упрощенный
перерасчет с экстенсивной моделью явно не пройдет, поскольку и «колода» из
6—7 языковых курсов — жилец на переходе Тп-Ту новый и до обкатки его
ежегодными волнами В групп сверстников крайне затруднительно сказать, сколько
именно часов придется отдать на эти курсы, сокращать которые нельзя, если мы
всерьез намерены дать каждому взрослому прямой доступ к интернациональному
потоку научной публикации. Словом, неясностей с распределением школьного
бюджета чистого академического времени много.
Здесь естественно возникает мысль о необходимости эксперимента,
предварительной обкатки образующих интенсивный школьный переход предметов,
особенно «колоды» из 6—7 языковых курсов на периоде подготовки к переходу от
экстенсивной модели онаучивания общества к интенсивной. Нас эта
необходимость эксперимента и предварительной обкатки огорчает и пугает не столько
потому, что предварительная обкатка опасна, сколько потому, что такая обкатка
перехода Тп-Ту может породить опасный «переходный» гибрид экстенсивной и
интенсивной модели, который не будет достигать поставленных интенсивной
моделью целей — дать каждому взрослому прямой доступ к интернациональному
потоку научной публикации и внедрить в голову каждого взрослого
универсальную модель акта номинации-определения — и которую, если она в этом
гибридном состоянии заменит в системе образования чистую экстенсивную модель
онаучивания и закрепится, выкурить со школьного перехода Тп-Ту, чтобы
очистить место для интенсивной модели, будет так же сложно, как и убрать самое
экстенсивную модель. Но, чтобы оценить размеры риска, нам прежде всего
нужно знать общую длительность подготовительного периода, которая
лимитирована, как уже говорилось, не подготовкой учебников, а подготовкой кадров А,
учителей для школьного перехода Тп-Ту.
Всматриваясь под этим углом зрения в профессиональный состав членов
учительского сообщества, который обеспечивал и обеспечивает нормальное
функционирование экстенсивной модели онаучивания общества, мы сразу же
обнаруживаем, что подавляющее большинство представленных в сообществе профессий,
которые обретаются учителями на студенческих четырехлетних переходах
педагогических институтов, окажутся либо вообще неприменимыми для обеспечения
нормального функционирования интенсивной модели, либо потребуют
переориентации и соответствующей переподготовки учителей. Уже это первое
обстоятельство означает, что в общую длительность подготовительного периода войдет не-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 673
устранимой составляющей четырехлетний студенческий переход педагогического
института, который мы уже поостереглись бы обозначить Ту-Тд, поскольку
дисциплинарная ориентация школьных учителей, которая сегодня регулярно
воспроизводится педагогическими институтами, пристегивающими почти к каждому
учебнику-введению в дисциплину избранного круга своего дисциплинарно
ориентированного А-учителя, должна будет исчезнуть вместе с
учебниками-введениями, и сами педагогические институты, которые под старым или новым названием
несомненно останутся как места массовой подготовки учителей А для
обеспечения всеобщего школьного перехода Тп-Ту в системе образования национального
Т-континуума, должны будут радикально перестраиваться, чтобы воспроизводить
из года в год новую номенклатуру профессиональных ориентации учителей уже
не на дисциплины, которые имеют на переходе Тп-Ту учебники-введения, а на
сами учебники или их группы, которые будут включены в интенсивный Ту.
Чтобы перестроится на новую номенклатуру профессиональных ориентации,
педагогическим институтам потребуются новый набор учебников, которые уже не
смогут оставаться сокращенными версиями университетских студенческих
учебников для соответствующих дисциплин, и преподаватели А, способные вести
студенческие группы В по этим новым учебникам. Получить такие учебники и таких
преподавателей А педагогические институты могут только из университетов, само
название которых предполагает такую возможность. Но университетские студен-
ческо-аспирантские семилетние переходы Ту-Тд-Тг построены по
дисциплинарному принципу, и ломать эту структуру развода выпускников школы в терминалы
науки и в национальное научно-академическое сообщество у нас нет никакого
резона. И после перехода на интенсивную модель терминалы науки и
национальное научно-академическое сообщество будут нуждаться в постоянном пополнении
подготовленными системой образования молодыми учеными, способными
выполнять роли исследователя, преподавателя, администратора и привратника [140,
с. 520]. Другой разговор, что пополнять терминалы науки будут полиглоты,
получившие это крайне полезное для терминалов науки свойство в школе, но сами-
то терминалы науки и правила деятельности в этих терминалах не претерпят
радикальных изменений, так что функционирующая сегодня академическая
структура университетов не должна затрагиваться бурями радикальных перемен на
школьном универсализирующем участке системы образования, хотя эти бури
определенно затронут педагогические институты, остро поднимая для них проблему
новых учебников и новых преподавателей, которые до перехода на интенсивную
модель обучения приходили к ним как сокращенные (учебники) или избыточные
(преподаватели) версии университетских учебников и преподавателей.
Конечно, когда начнет действовать интенсивный школьный переход Тп-Ту и
по нему пройдет два-три десятка ежегодных волн В групп сверстников, всем все
будет ясно, но чтобы эта ясность пришла, нужно, чтобы первая волна
первоклашек открыла дорогу всем последующим ежегодным волнам В групп сверстников,
а сделать это она может только при условии, что на всем новом переходе Тп-Ту
ее будут встречать соответствующие учебники и умеющие их использовать в
учебном процессе где-то обученные этому учителя А. Здесь можно сделать финт,
чтобы обойти исходную неясность, когда педагогическим институтам лет за 15—
20 до начала движения по обновленному переходу Тп-Ту предлагается знать,
какие на этом переходе будут учебники и какие для них потребуются учителя, и
на основе этого предзнания спешно создавать свои студенческие учебники и
приглашать в порядке всенаучного субботника всех способных по этим учебникам
преподавать, кто бы они ни были по своей академической подготовке. И финт
этот состоял бы в том, что раз уж мы говорим об учреждении достаточно
авторитетного и полномочного национального центра по подготовке перехода с
экстенсивной на интенсивную модель онаучивания, то все подобные сложные
проблемы должно адресовать этому центру и поступать так, как он решит.
Определенный резон в этом есть. Действительно, если такой центр, использующий в ка-
43 М.К. Петров
674
M.К. Петров
честве организационной модели Британскую Ассоциацию, связан через свои
секции со всеми терминалами науки и достаточно серьезно принимает к
исполнению поставленные его правомочными учредителями общесоциальные задачи
обеспечить каждому взрослому прямой доступ к интернациональному потоку
научной публикации и внедрить в голову каждого взрослого на школьном периоде
его личной истории универсальную модель акта номинации-определения, то
остальное уж, как говорится, дело техники или решения «в рабочем порядке», куда
не следует совать любопытный нос. Все это так, но беда-то в том, что сегодня
во всем национальном Т-континууме мы не обнаруживаем на уровне терминалов
точки, сообщество которой могло бы на достаточно компетентном уровне
подсказать, что именно следует делать педагогическим институтам и другим местам
подготовки учителей, чтобы к моменту входа на обновленный школьный переход
первой волны первоклашек переход этот был заполнен штатным числом
компетентных учителей А. Так что и сам этот национальный центр, утилизирующий
совокупную мудрость всех членов национального научно-академического
сообщества для выработки особо мудрых решений оказался бы в положении всеобщего
равенства-бессилия перед трудно разрешимой проблемой, какими бы пышными
титулами и исключительными правами мы его как человеческий институт ни
наделяли: нужной для решения подобной проблемы компетенции попросту нет и
взяться ей неоткуда.
В этой экстремальной ситуации, которая не так уж и экстремальна, если
сравнить ее с ситуацией исследователя на переднем крае, которому постоянно
приходится решать проблемы, не имеющие пока решения, и это иногда ему удается,
мы предлагаем два пути. Первый, чисто научный, состоял бы в том, чтобы в
журнале центра начать общенаучную дискуссию, использующую без особой надежды
на успех упоминавшуюся уже зависимость срока и качества решения четко
определенной проблемы, если она вообще разрешима, от числа участников ее
решения (срок сокращается пропорционально квадратному корню от числа
участников, качество растет пропорционально кубическому корню от числа участников).
Второй путь чисто эмпирический — перебрать предметы, которые предлагается
ввести на переход Тп-Ту, и попытаться выяснить, как можно обеспечить их
учителями А с максимальным использованием возможностей современного
учительского сообщества, выделяя попутно те критические позиции А, которые на базе
возможностей сегодняшнего учительского сообщества обеспечить нельзя. Этим
вторым путем мы и пойдем в нашем обсуждении проблемы.
Рассматривая «колоду» из 6—7 параллельных курсов родного и инородных
языков, мы с удовлетворением отметим, что для всех языков, кроме, понятно,
классических, претенденты на роль А в современных учительских сообществах
определенно найдутся, хотя и в значительно меньшем количестве, чем требуется.
Родной язык обеспечен полностью. Русский (в национальной школе) полностью,
хотя во многих случаях здесь он ведется учителями, для которых он не родной.
Английский обеспечен более или менее полно, немецкий хуже, французский еще
хуже, причем практически для всех наших учителей иностранных языков он не
родной. Нехватку учителей по этим позициям А можно восполнить за 5—10 лет,
наращивая прием студентов в институтах иностранных языков. Много хуже с
позициями А классических языков. Коль скоро предполагается
синхронно-параллельное движение учеников по курсам «колоды» учителей классиков на два
параллельных курса — греческий и латынь — потребуется вдвое больше чем то
число учителей иностранных языков, которое использует сегодня школа,
поскольку эти учителя ведут, собственно, один курс обязательного иностранного
языка разным секциям одной и той же В группы. Трудность с
учителями-классиками в том, что начинать придется на пустом месте и на подготовительном
периоде довести их представительство в учительском сообществе до двойной
относительно сегодняшнего представительства учителей иностранных языков
величины. А возможность выполнения этой задачи зависит сегодня от возможности
История европейской культурной традиции и ее проблемы 675
малочисленных университетских кафедр классической филологии оперативно
обеспечить подготовку нужного числа преподавателей греческого и латинского
языков для педагогических институтов, которым предстоит еще размножить
учителей-классиков до нужной численности. На эту ступенчатую процедуру
потребуется не менее 15—20 лет со времени первого расширенного набора студентов на
курсы классической филологии университетов.
С учебником-терминалом и с учебниками математической группы,
обеспечивающими То учебника-терминала, дело обстоит много проще, тем более, что
вводимый сегодня курс всеобщей компьютерной грамотности потребует насыщения
школы учителями-системниками, которые вполне могут использоваться для
ведения курса системной образующей учебника-терминала и той части диахронно-ис-
торической образующей учебника-терминала, в которой будет выращиваться в
переизданиях и обретать математическую строгость универсальная модель акта
номинации-определения. Собственно историческая часть диахронно-историчес-
кой образующей учебника-терминала также не вызовет затруднений, поскольку
привычные для учителей учебники-введения в дисциплины строятся в основном
как исторические очерки соответствующих дисциплин, и чтобы переключиться на
соответствующий междисциплинарный очерк учебника-терминала потребуется
лишь кратковременная переподготовка.
На обновленном переходе Тп-Ту останутся, надо полагать, если позволит
школьный бюджет чистого академического времени, и традиционные для данной
развитой страны предметы типа литературы, истории, слова божьего, а также и
«практические курсы» — продукт поветрий в академической политике, когда
вдруг кому-то начинает казаться, как матерям в Калифорнии [157], что в школах
учат не так и не тому, чему следовало бы учить и что может потребоваться
школьникам в их будущей взрослой жизни, вовлекаются средства массовой
коммуникации, начинается шумная кампания, по ходу которой выясняется,
например, что мальчикам нехудо было бы знакомиться в школе со столярным и
слесарным делом, а девочкам — с основами домоводства, научиться стирать, шить,
вязать, кроить, в результате чего на школьном переходе вырастают самые
неожиданные курсы, сообщающие ученикам школы на всю жизнь экзотические навыки
вроде умения смастерить табуретку или запаять старую кастрюлю, заменить
перегоревшую пробку, наточить ножницы или мясорубку, починить пылесос или
кофемолку, залатать прохудившееся и т.д. и т.п. В общем-то никто, пройдя такой
«практический курс», не идет после окончания школы в соответствующий
терминал взрослой деятельности, но популярность практических навыков среди
взрослых развитых стран всегда высока, и на школьных переходах всегда были и
остаются следы этой популярности — «практические курсы», которые никуда,
собственно, не ведут, но чистое академическое время из школьного бюджета
исправно потребляют. Отношение и к традиционным для каждого Т-континуума
школьным предметам (гипотеза Моисея, например, в США или слово божье в Англии)
и к «практическим курсам» (труд, домоводство, эстетическое воспитание) на
периоде подготовки к переходу с экстенсивной модели на интенсивную будет,
понятно, зависеть от того, какая часть школьного бюджета чистого академического
времени потребуется на обеспечение академического движения через ключевую
для интенсивной модели группу учебников — через «колоду» из 6—7 языковых
курсов, через учебники математической группы и через учебник-терминал. Здесь
вполне может сложиться такая ситуация, в которой временно, до выяснения
результатов обкатки и уточнения распределения академических часов по ключевым
предметам, придется вообще отказаться от «практических курсов» и пойти на
сокращение академических часов для традиционных предметов, включая курсы
литературы и истории, каким бы почетом и уважением они ни пользовались
сегодня. Понятно также, что никаких кадровых проблем с обеспечением учителями
курсов этой группы и на подготовительном и на переходном периодах возникать
не может.
43*
676
M.К. Петров
В целом же, в области обеспечения кадрами А обновленного школьного
перехода Тп-Ту получается не такая уж беспросветная картина. Практически все
специальности современного учительского сообщества могут после кратковременной
переподготовки быть переориентированы на интенсивный Ту, причем заметно
придется увеличить представительство в сообществе только учителей
иностранных языков, которые сегодня сообща ведут лишь один школьный
общеобязательный курс иностранного языка, а придется им вести четыре, что потребует на
подготовительном периоде увеличения их представительства в учительском
сообществе в четыре раза. Досадным темным пятном в этой картине остается полное
отсутствие в нашем учительском сообществе учителей-классиков, хотя в
некоторых развитых странах учителя латинского, как правило, языка могут и
присутствовать. Для наших советских условий время полного насыщения учительского
сообщества учителями греческого и латинского языков, которых должно стать вдвое
больше числа учителей иностранного языка в современном учительском
сообществе, станет и временем-длительностью подготовительного периода. Выше мы
говорили, что такая операция, если кафедры классической филологии
университетов будут достаточно оперативны в подготовке преподавателей для
педагогических институтов, а педагогические институты подготовятся к включению
преподавателей-классиков в работу по спешному насыщению учительского сообщества
учителями греческого и латыни, займет 15—20 лет, но это лишь ориентировочные
подсчеты, а «голый», так сказать, факт состоит в том, что начинать всеобщее
движение по интенсивному школьному переходу Тп-Ту, не подготовив нужного
количества учителей-классиков, нельзя и во многих отношениях даже опасно.
Дело в том, что, как мы уже говорили, крайне желательна предварительная
обкатка несколькими волнами В групп сверстников учебников интенсивного
школьного перехода, с тем чтобы убедиться в их проходимости и внести
коррективы по результатам такой обкатки.
За 15—20 лет можно провести много синхронно протекающих экспериментов,
предлагая ограниченному контингенту первоклашек пройти вариант
экстенсивного Тп-Ту с разным набором учебников и с разным распределением школьного
бюджета чистого академического времени по предметам. Ценность таких
экспериментов бесспорна и никакого вреда ограниченному контингенту первоклашек
эти эксперименты нанести не смогут, коль скоро, пройдя Тп-Ту, они на общих
основаниях войдут в постшкольную часть системы образования, которую мы не
собираемся менять, и вольются в терминалы, где и начнут доказывать свою поли-
глоттическую и по новому онаученную сущность. Но сомнительный и опасный
смысл таких безболезненных вроде бы экспериментов мы видим в том, что
сколько бы их не проводилось одновременно на подготовительном периоде, все они
будут протекать при заведомом отсутствии учителей греческого и латинского
языков, а к тому времени, когда придет пора и им вступать в дело многие из
первоклашек — участников таких экспериментов успеют добраться до всех
терминалов национального Т-континуума, в том числе и до терминалов науки, где их
усеченный полиглоттизм — знание четырех «великих языков науки» и практически
прямой и свободный доступ к интернациональному потоку научной публикации
в среде коллег-моноглотов, — могут нанести больше вреда, чем пользы делу
полного и бескомпромиссного перехода с экстенсивной модели онаучивания на
интенсивную.
Реакцию моноглоттических научных терминальных сообществ на появление в
их исследовательских рядах растущего из года в год числа усеченных моноглотов,
поскольку начав тот или иной эксперимент, просто оборвать его на любой
очередной ежегодной волне первоклашек, если эксперимент дает неплохие
результаты, будет уже невозможно до всеобщего перехода на полную интенсивную модель
онаучивания, мы видим как в целом положительную: деловое сотрудничество с
этими первыми и немногочисленными пока ласточками хотя и усеченных, но
полиглотов резко расширит возможность коллег-моноглотов оперативно входить
История европейской культурной традиции и ее проблемы 677
в контакт с нужной им публикацией интернационального потока научной
литературы.
Ведь основная трудность коллеги-моноглота не в том, что он не знает, чего
ему нужно: все выдающиеся имена авторов опубликованных уже работ и,
соответственно, авторов работ, которые с волнениями и опасениями по части
приоритета еще ожидаются, прекрасно известны в любом терминале науки любому
исследователю моноглоту, так что пролистывая последние выпуски научных
журналов, моноглоты без труда обнаруживают, что именно им нужно. Трудности
начинаются позже, когда опубликованную на неизвестном моноглоту языке работу
приходится проталкивать в бюро переводов, ждать перевода или реферата, гадать,
насколько переводчик или референт просек главное в этой новой работе, на что
уходят месяцы и годы. Появление же первых усеченных полиглотов коренным
образом изменит ситуацию. Достаточно будет принести нужную работу на
кафедру или в лабораторию, чтобы оперативно неформально на месте разобраться с
коллегой по работе в одной парадигме, что именно таится в новой публикации
известного всем автора, задать коллеге вопросы о наиболее интересующих
моноглота тонкостях, выявить всю подноготную суть новой работы, чего нельзя
сделать при современных порядках, когда переводчик или референт, работающий в
неизвестной моноглоту парадигме, в общем-то недоступен для прямого и
обоюдно понятного во всех нюансах разговора. А главное на неформальный контакт с
коллегой усеченным полиглотом исследователи моноглоты будут тратить минуты
и часы, а не месяцы и годы.
Потому мы и считаем, что общая реакция исследователей-моноглотов в
терминалах науки будет положительной, а отнюдь не враждебной, хотя конечно в
этой реакции будут и скорбные моменты зависти, обиды на то, что их обделили
в детстве, что не все усеченные полиглоты охотно идут на такие неформальные
контакты, сказываясь занятыми по горло своими исследовательскими делами. Но
в целом превалировать явно будет очевидная польза для общего дела, которая
будет вынуждать моноглотов воздерживаться от любых обострений отношений с
усеченными полиглотами, поскольку установление и сохранение рабочих
неформальных контактов с ними станет для моноглотов условием их оперативной
осведомленности о последних событиях на переднем крае терминала.
А опасность этой в общем-то положительной реакции исследователей-моно-
глотов на появление первых усеченных полиглотов мы видим в том, что
моноглоты просто не в состоянии будут заметить этой усеченности полиглотов,
прибывающих во все большем количестве в терминалы науки, знающих четыре
«великих языка науки» и действительно оказывающих неоценимую неформальную
помощь в упрощении прямого доступа к интернациональному потоку публикаций
и сокращающих неизбежные лаги и недоразумения, когда этот доступ
осуществляется косвенно через переводчиков и референтов. Как родители
моноглоты-исследователи будут стараться устроить своих детей в экспериментальные школы,
хорошо понимая выгоды и перспективы знания четырех «великих языков науки»,
но из этого же прямого семейного источника им будет постоянно известно, как
это известно всем родителям и сегодня, с какими «невероятными» трудностями
сталкиваются ученики в движении по новому переходу Тп-Ту, и их родительское
сострадание всегда будет работать, как и сегодня оно работает, в одном
направлении — как облегчить ребенку школьные трудности. А сталкиваясь в этом своем
сострадании с планами ввода на правах обязательных языков греческого и
латыни, исследователи-моноглоты в роли родителей неизбежно будут задаваться
вопросом: какого рожна им еще нужно? То есть, признавая по событиям в
терминале очевидную пользу знания четырех «великих языков науки», они как
родители школяров, всегда и во всех веках жалующихся на перегрузку, будут считать
проблему прямого доступа решенной и при всяком удобном случае высказываться
в духе «от добра добра не ищут», всячески поддерживая тот экспериментальный
вариант, по которому прошли их коллеги — усеченные полиглоты и идут их дети,
678
M. К. Петров
выдвигать именно этот усеченный вариант на роль всеобщего и обязательного для
всех школ национального Т-континуума, рассматривать предстоящее введение
греческого и латыни как самоочевидное излишество.
Таким адептам усеченной интенсивной модели онаучивания, в которой
греческий и латынь будут отсутствовать в «колоде» параллельных языковых курсов,
а они во множестве объявятся в конце подготовительного периода именно в
терминалах науки, где усеченные полиглоты будут демонстрировать
моноглотам-исследователям неоспоримые преимущества прямого доступа к
интернациональному потоку научной публикации, тогда как дети этих моноглотов-исследователей,
лишенные поддержки родителей, бабушек и дедушек, которые в детстве ничего
такого не проходили, будут бесконечно досаждать жалобами на трудности
школьной жизни, трудно будет доказывать, что попытка ограничиться четырьмя
«великими языками науки» — близорука, что завтра таких «великих языков науки»
может оказаться не четыре, а двадцать четыре или двести четыре, что
развивающиеся страны, становясь развитыми и публикуя свою национальную
составляющею интернационального потока научной литературы, вовсе не обязательно
будут, как это происходит сегодня, молчаливо признавать монополию четырех
«великих языков науки» и не будут сами пытаться ввести свой официальный
язык, как это сделали в XX в. русские, в число «великих языков науки», что
всеобщее изучение греческого и латыни сегодня единственный надежный способ
сохранить глобальную целостность глоттогенеза науки, поскольку в актах
номинации-определения наука использует на правах Т0-х греческие и латинские
знаменательные слова и оформляет результаты глоттогенеза по греко-латинской
грамматической норме.
Поскольку никто фактической явочной монополии членов национального
научно-академического сообщества на подготовку всех учебников и учебных
пособий, а также всех А для системы образования в ее школьной и постшкольной
частях не отменял и отменять не собирается, а именно члены национального
научно-академического сообщества из всех терминалов науки и университетских
кафедр будут составлять основной контингент и национального центра по
подготовке перехода с экстенсивной модели онаучивания общества на интенсивную и,
позже, национальной службы учебника-терминала, то возникнет вполне реальная
опасность того, что заявленные сроки перехода на полную интенсивную модель
онаучивания общества станут под разными предлогами отодвигаться, поскольку
при желании совсем не трудно доказать, что изучать в школе 6—7 языков
сложнее, чем 4—5, а еще с XVII в. всем родителям всегда было известно, что их
обожаемые дети из сил выбиваются, постигая школьные науки, особенно
грамматику, о чем писал еще Коменский [169].
К тому же, через четыре года после начала массовой подготовки учителей
греческого и латинского языков в педагогических институтах, то есть где-то в
середине подготовительного периода и в разгар экспериментирования с усеченными
интенсивными моделями, представители этих новых учительских профессий
начнут поступать в распоряжение школьных властей на местах и, чтобы не
позволить им дисквалифицироваться в ожидании полного насыщения коллегами
учительского сообщества и не дать им разбрестись за пределы системы образования
в обычном порядке случайного трудоустройства и строительства нормальной
семьи, их нужно будет оперативно включать в действующую сеть
экспериментальных школ на правах эксперимента в эксперименте. И конечно же, показатели
успеваемости школ, где в «колоде» 6—7 параллельных языковых курсов будут
заведомо и заметно хуже, чем показатели успеваемости школ, где в «колоде» лишь
4—5 языков. Иными словами, школьные власти на местах очевидно будут на
стороне тех, кто поддержит усеченный вариант интенсивной модели онаучивания.
В этих условиях, чтобы довести до конца начатое дело по переходу на
интенсивную модель онаучивания общества, в национальный центр по подготовке
перехода с экстенсивной модели на интенсивную, а затем и в национальную
История европейской культурной традиции и ее проблемы 679
службу учебника-терминала, в местные школьные власти нужно будет
постараться включать с помощью какой-нибудь узаконенной на подготовительный и
переходный периоды процедуры побольше усеченных полиглотов и полных
полиглотов, как только они начнут появляться в терминалах науки.
Из усеченных полиглотов рьяных пропагандистов в пользу реализации полной
интенсивной модели онаучивания общества явно не получится — языковые
школьные курсы, идет ли речь о родном или иностранном языке, в личной
истории любого взрослого человека всегда были и, видимо, будут не самыми
светлыми воспоминаниями о школьных годах и стать искренним энтузиастом этой
«скуки из скук науки» в добром уме и здравии вряд ли вообще возможно, — но
у усеченных полиглотов в отличие от их коллег-моноглотов будет уже понимание
и осознанное представление о языке-системе, о конечности этой системы и об
универсальных регулярностях языков-систем, ответственных за самое
возможность перевода с языка на язык, то есть то представление о конечном по затрате
усилий и времени владении языком, которое присутствует сегодня только у
профессионалов лингвистов, а в более осознанном виде у профессиональных
переводчиков и референтов, которым постоянно приходится ломать голову над
решением одной и той же проблемы практического доказательства того, что любой
конечный осмысленный текст, созданный по правилам одного языка-системы,
может быть переведен в пределах предзаданных не очень жестких допусков в
конечный осмысленный текст, созданный по правилам любого языка-системы.
Бесконечная индукция актов профессионального труда переводчиков и референтов
рано или поздно переходит в осознанную дедукцию, в априорную проекцию
конечного набора правил на все семейство мыслимых языков-систем. И то же самое
будет происходить в головах усеченных полиглотов, которым много придется
переводить и для самих себя и, главное, для своих коллег-моноглотов, где им
придется не только переводить интересующие моноглота работы, но и постоянно
обсуждать с ним проблему допусков в переводе, поскольку в таких неформальных
актах делового сотрудничества усеченных полиглотов с моноглотами постоянно
будут всплывать и решаться на месте вопросы со стороны моноглотов о том,
нельзя ли истолковать то или иное высказывание оригинального автора в
наиболее интересном для моноглота смысле, а усеченному полиглоту всегда придется
высказывать окончательное суждение о пределе возможных истолкований
соответствующих высказываний оригинального автора.
Словом, хотя рьяных пропагандистов ввода классических языков в школьные
программы из усеченных полиглотов и не получится — им, как и всем взрослым
трудно будет переступить через накопившееся в школьные годы отвращение к
школьным нормативным теоретическим языковым курсам и пожелать своим
детям увеличения длительности и интенсивности этой скуки, — но и активных
сторонников усеченной модели интенсивного онаучивания общества из
усеченных полиглотов явно не выйдет: коллеги-моноглоты этого не позволят. Допекая
усеченных полиглотов вопросами о возможности или невозможности
интересующих их истолкований оригинальных текстов и не обнаруживая в этих вопросах
ничего для себя конструктивного, что могло бы повлиять на их собственную
позицию по отношению к заведомо мертвым и «устаревшим» классическим языкам,
моноглоты, правомерно с их точки зрения требуя прямых ответов «да» или «нет»
на вопросы о допусках перевода, на которые в принципе нет и не может быть
прямого ответа, будут постоянно тревожить переводческую и референтскую
совесть усеченных полиглотов, вынуждать их остро сознавать свою усеченность, и
эта постоянная тревога совести, возбуждаемая в каждом акте делового
сотрудничества с моноглотами по поводу прямого доступа к интернациональному потоку
научной публикации, будет, подчеркивая чувство неполноценности и
неубедительности прямых ответов усеченных полиглотов на прямые вопросы моноглотов,
очерчивать эпицентр собственной некомпетентности усеченных полиглотов как
раз в области классических языков, незнание которых не будет давать возмож-
580
M. К. Петров
-юсти усеченному полиглоту с чистой совестью сказать моноглоту и самому себе,
гго он вложил в свое «да» или «нет» на вопрос моноглота все накопленное че-
ювечеством знание по проблеме возможного и невозможного в интерпретации
>ригинальных текстов. Эта оскорбительная и чувствительная дыра-болячка в
собственном образовании, в которую постоянно будут тыкать пальцами моноглоты
ю своими прямыми вопросами даже и не подозревая, во что обходятся усечен-
шм полиглотам их лаконичные «да» и «нет», будут толкать усеченных полиглотов
i их отношении к классическим языкам к единственно возможному выводу: труд-
ювато, но нужно. Этот вывод и будет определять их позицию, а появление в
терминалах первых полных полиглотов, сумевших практически доказать
проходимость «колоды» из 6—7 курсов родного и инородных языков, не только будет спо-
обствовать укреплению этой достойной человека позиции «трудно, но нужно»,
ю и постепенно отсекать в ней определение «трудно», которое неприменимо к
трибутам всеобщего среди здоровых взрослых распределения: никто ведь не го-
юр ит, пока он здоров, что трудно ходить, есть, видеть, слышать, говорить на род-
юм языке, думать, хотя и этому каждому во младенчестве приходилось учиться
немалыми затратами усилий и времени.
Конечно же и владение классическими языками не избавит полиглотов от со-
жений по поводу обоснованности своих «да» и «нет» в ответах на вопросы кол-
ег-моноглотов, но это уже были бы сомнения совсем другого рода — сомнения
правомерности самих вопросов коллег-моноглотов, которые толкали бы к осо-
нанию ограниченности человеческих знаний вообще, то есть переводили бы со-
шения полиглотов в философскую плоскость соотношения абсолютов субъектив-
юго и объективного определений, мира знака и мира независимых от него само-
тных реалий окружения. А это сейчас за пределами нашего анализа.
Обсуждение трудностей подготовительного периода, по ходу которого выяви-
ось, что основные трудности действительно локализованы в подготовке кадров
к для школьного интенсивного перехода Тп-Ту, особенно кадров учителей гречес-
ого и латинского языков, попутно вскрыло, что крайне желательная и даже не-
бходимая обкатка учебников интенсивного школьного перехода на проходимость
п особ на породить группу опасных для реализации интенсивной модели проблем,
оторые невозможно полностью разрешить на подготовительном периоде и ре-
jaTb которые придется на всем долгом переходном периоде, начало которому по-
ожит первая всеобщая, а не экспериментальная, не выборочная волна первокла-
:ек, которая пойдет по полному набору учебников интенсивного школьного
ерехода Тп-Ту, а окончание этого периода отметит тот факт, что все дедушки и
абушки очередной ежегодной волны первоклашек окажутся на торжественном
кте входа «первый раз в первый класс» все сплошь полиглотами, способными
омочь своим внукам и внучкам, как они делают это и сегодня, пройти по
жольному переходу Тп-Ту. К обсуждению проблем переходного периода мы и
риступаем.
Проблемы переходного периода
Обсуждая проблемы подготовительного периода по связи с возможностью и
еобходимостью предварительной обкатки новых учебников интенсивного
жольного перехода Тп-Ту несколькими ежегодными волнами В групп сверстни-
ов, чтобы убедиться в их проходимости, мы обнаружили, что в процессе такой
бкатки могут обнаружиться явления, способные поставить под вопрос полную
еализацию интенсивной модели онаучивания, и постарались выявить возможную
инамику возникновения и развития этих явлений в наиболее значимом месте их
роявления — в терминалах науки, в среде исследователей коллег по терминалу,
аботающих в одной парадигме. Такое ограничение мы считаем оправданным,
оль скоро монополия де-факто национальных научно-академических сообществ
История европейской культурной традиции и ее проблемы 681
в развитых странах на программы, учебники, учебные пособия, подготовку всех
А для всей системы образования национального Т-континуума, хотя она и не
выходит за пределы мира знака, вещь вполне реальная, понимается ли эта
монополия личностно или коллективистски, а поэтому любые изменения, вызываемые
столкновением исключающих друг друга мнений в среде членов
научно-академического сообщества, особенно если эти столкновения коренятся в терминалах
науки среди коллег-исследователей, могут существенно изменить заявленные в
программе реализации интенсивной модели ход и последовательность изменений.
Теперь же нам предстоит распространить анализ на все терминалы
национальных Т-континуумов развитых стран. И чтобы начать эту экспансию во всю
область возможных перемен и появления конфликтных ситуаций, мы в порядке
насаждения хотя бы некоторых моментов позитивной или негативной
определенности предлагаем читателю краткий реферат статьи Кларка Керра «Темпы
изменений до 2000 г.» [197], работы уникальной в том отношении, что она написана
автором в свое время весьма популярным среди историков университета —
Р.Нисбет [201], к примеру, считает Керра чуть ли не злым духом академической
историографии, — человеком явно причастным к системному подходу, активным,
иногда и невольным участником и свидетелем «студенческого активизма» в
американских университетах второй половины 1960-х гг.
Кларк Керр, президент Калифорнийского университета во времена первого
губернаторства Рональда Рейгана в штате Калифорния, начала баталий между
биологами и креационистами вокруг равного времени на «гипотезы» Моисея и
Дарвина, о чем мы уже говорили [157], ввода Рейганом национальной гвардии на
территорию «кампуса» — студенческого городка Беркли для подавления
студенческих волнений, когда он ушел под давлением Рейгана в отставку с поста
президента Калифорнийского университета стал уже независимым от Рейгана
способом председателем Комиссии Карнеги по будущему высшего образования.
Научно-академическому сообществу США, американским науковедам и социологам
науки Керр хорошо известен как автор книги-сценария «Функции университета»,
в которой он попытался описать университет XXI в. в его связях с обществом и
впервые ввел широко используемый сегодня термин «мультиверситет».
Интересующая нас работа Керра содержит обычный для него прогностический элемент,
но по сравнению с книгой «Функции университета» смещает акценты описания
будущего под очевидным влиянием студенческого активизма. Исходный пункт
остается прежним: «Университетский городок («кампус») был когда-то на
периферии общества. В растущей степени он сегодня становится перекрестком, где
пересекаются пути из любого угла и любого очага общества. Большинство семей,
большинство отраслей промышленности, большинство профессий, большинство
элементарных сообществ населения ставят ставки на высшее образование и
претендуют на руководство высшим образованием» [197, с. 171].
Именно эта концентрация всеобщего интереса ведет, по мнению Керра к
перевертыванию: к ослаблению и разрыву старых связей и противоречий,
интегрирующих общество в целостность, и к появлению новых связей интеграции, а
также и новых противоречий, среди которых Керр выделяет противоречия:
интеллектуальной элиты и простого человека; культуры производства (идей и
вещей) и культуры потребления. Влияние студенческого активизма на такую
постановку вопроса очевидно. По мнению Керра человечество на подходе к 2000 г.
ожидает «меритократия» — власть интеллектуального меньшинства над менее
одаренным большинством и «демократия участия» (основной лозунг студенческих
волнений 1960-х гг.) в роли дымовой завесы истинного смысла меритократии.
Керр последовательно отвергает идеи «общества изобилия», «постбуржуазного»,
«посткапиталистического», «постиндустриального», «технотронного» общества как
бессодержательные негативные термины, остающиеся на почве традиционных
социальных противоречий. Они только фиксируют необходимость кардинальных
перемен, но не выделяют взаимно необходимых и предполагающих друг другу
682
M. К. Петров
противоречий, в которых мог бы совершаться преемственный во времени переход
от наличного набора фрагментирующих общество противоречий и
интегрирующих общество связей к новому набору противоречий и связей. Керр соглашается
лишь с Питером Дракером, что мы определенно живем в эпоху срыва
преемственности, но вводит в само понятие срыва момент преемственности структуры,
показывая срыв как переход.
Поясняя срыв преемственности, Керр обращается к историческим аналогиям:
«Университет за свою историю не успел накопить опыта срыва. До настоящего
времени английские университеты сталкивались с подобными ситуациями лишь
дважды: впервые во времена Генриха VIII, когда университеты избавились от
контроля церкви, и примерно столетие тому назад, когда были учреждены
Лондонский университет и «краснокирпичные университеты», а Оксфорд и
Кембридж открыли двери для не англичан и женщин, то есть когда индустриальная и
демократическая революция докатилась, наконец, и до академических
монастырей. Французские университеты только однажды пережили такой кризис, когда
Наполеон подхватил погибающие академические институты и приспособил их к
служению новому национальному государству. Немецкая система также только
один раз испытала срыв, когда Гумбольдт создал Берлинский университет,
преданный новому знанию» [197, с. 168—169].
Главное, по мнению Керра, попытаться зафиксировать основные
противоречия, поляризующие и фрагментирующие социальные структуры, и найти линии
срыва-перехода к новой структуре интегрирующих общество связей. Он считает,
что таких линий перехода множество, и по каким именно основаниям и с какими
издержками будет совершаться переход во многом зависит от тех, кто будет
принимать решения: «Я и в самом деле верую, что смысл 2000 г. и для высшего
образования и для других областей будет в большой степени определен качеством
решений на периоде до 2000 г., степенью мудрости людей. Верую, что картина
2000 г. не полностью еще определена» [197, с. 168]. Керр выделяет шесть
наиболее вероятных линий срыва-перехода:
1. От элитарного через средний класс ко всеобщему высшему образованию.
«В США около 50% выпускников средней школы проходит на некотором периоде
времени через те или иные формы высшего образования, причем в Калифорнии
эта доля достигает 75%... Обучение в колледже было привилегией элиты до
гражданской войны, среднего класса до Второй мировой войны, а после Второй
мировой войны высшее образование ускоренными темпами становится доступным
для всех» [197, с. 169]. За этой тенденцией стоят укрепляющие ее социальные
процессы: «Растущее богатство, делающее ее возможной; растущие требования к
квалификации, делающие ее желательной; растущие эгалитарные стремления
народа, делающие ее необходимой. Тенденция эта необратима» [197, с. 169—170].
Единожды возникнув как реализация доступности высшего образования для всех,
связь индивида со студенческим городком не будет, по Керру, эпизодической, а
перейдет в устойчивую на всю жизнь связь постоянного повышения и обновления
квалификации, поскольку уже сейчас высокие темпы обновления социальных и
технологических структур вынуждают менять морально стареющие квалификации
и профессии, толкают к постоянному обновлению знаний и навыков, что только
усилится в будущем: «Мы, возможно, вступаем в «общество обучения», где
большинство взрослых часть времени будет уделять обучению и, таким образом,
обучающихся за пределами формальных академических структур будет в таком
обществе больше, чем в их пределах; такова уже, похоже, ситуация в США. По
числу обучающихся очное высшее образование может стать меньшей составной
частью. Я считаю это совершенно неизбежным» [197, с. 170—171].
Такая постоянно воспроизводимая и необходимая для взрослого населения
связь с университетом, от которого каждый индивид получает средства к жизни
в виде новых или дополнительных знаний, обеспечивающих его адаптацию в
меняющихся условиях существования, становится, с одной стороны, поляризующим
История европейской культурной традиции и ее проблемы 683
отношением, разделяющим университетский городок и взрослое население за его
пределами, а с другой стороны, становится связью интеграции индивидов в
социальное целое, которая опосредована университетским городком как ключевой
интегрирующей структурой, хранящей, умножающей и распределяющей по
индивидам знание, необходимое для преемственного существования общества.
2. От башни из слоновой кости к проходному двору общего пользования.
Центральное положение университетского городка и доступность высшего
образования для всех делают этот городок-кампус условием существования,
процветания и изменения индивидов, социальных групп и общества в целом, но вместе
с тем и объектом пристального внимания и контроля со стороны индивидов,
групп, общества. При этом неизбежно возникают противоречия между нормами
академической и научной жизни, по которым живет университет, и нормами
политической и экономической жизни, по которым живет окружение: «По
сравнению с академическим и более сложным институциональным контролем
публичный контроль обладает специфическими аспектами. Он стремится к
упорядоченным системам, отрицая автономию университетского городка, к долговременному
планированию, а не к наращиванию индивидуальных решений, к анализу путей
эффективного использования ресурсов, а не к равномерному их распределению,
к иерархическим скорее, нежели к коллегиальным процедурам принятия
решений. Эрик Эшби писал однажды об университете как о «плеяде анархий».
Публичный контроль стремится к упорядоченной плеяде, в которой центральная
команда заменила бы частично анархию» [197, с. 171].
Такое противопоставление норм и ценностей неизбежно порождает, по Керру,
два рода конфликтов, один из которых с неприемлемостью жесткого
планирования для академической и научной деятельности, а другой — с невыполнимостью
в условиях университетского городка требований политической стабильности. Обе
конфликтные ситуации не имеют, по мнению Керра, решения: университет не
может существовать по правилам, которые навязывает ему публичный контроль,
оставаясь университетом и выполняя свои функции, а общество, со своей
стороны, не может избавиться от университета, не упраздняя самого себя, или, во
всяком случае, не уничтожая тех структур и механизмов динамики социальной
жизни, которые основаны на приложениях научного знания и делают общество
богатым и «развитым». Эти конфликты поэтому должны толковаться как борьба
противоположностей, как неустранимые движущие силы социального развития.
3. От антагонизма между рабочими и капиталистами к антагонизму между
интеллектуалами и простым человеком. «Старая классовая борьба умирает,
нарождается новая кастовая борьба. На смену фабрике как арене социальной борьбы
приходит университетский городок. Рабочие стали более консервативными, а их
организации все более становятся частью истеблишмента. Тем временем
возникает растущая по числу и влиянию новая каста исследователей и связанных с
ними интеллектуалов, которая пока еще время от времени впадает в радикализм.
Столетие назад великой социальной проблемой было приспособление общества к
интересам нового рабочего класса, сегодня общество приходится приспосабливать
к интересам новой интеллектуальной касты» [197, с. 172].
Пытаясь обосновать антагонистический характер противоречия между
интеллектуалами и простым человеком, Керр подчеркивает: «Налицо новые линии
напряженности. Интеллектуалы образуют новую меритократию, которая возмущает
простого человека. Он видит в интеллектуалах также главный источник
изменений в науке и обществе, а изменения как таковые стали испытанием, судом
божьим для многих. К тому же основной очаг отклонений от социального порядка
приходится сегодня искать не среди крестьян и рабочих, а среди интеллектуалов
и студентов, использующих университетский городок-кампус как свою базу.
Именно здесь начинается новая социальная политика, здесь же ее и
отрабатывают, используя подчас тактику, которая не укладывается в рамки, традиционно
принятые демократией. Индустриальные общества и их университеты движутся к
684
M. К. Петров
столкновению на пересекающихся курсах» [197, с. 172]. Вдобавок ко всему этому
космополитизм интеллектуалов и студентов затрагивает национальные чувства
простого человека. Керр проводит широкие аналогии между борьбой рабочего
класса и студенческим активизмом: «Новая каста студентов и интеллектуалов с
растущим рвением стремится к преобразованию общества, как это было с
рабочими столетие назад, а общество сегодня, как и тогда, отчаянно сопротивляется»
[197, с. 172]. Керр невысоко оценивает ресурсы такого сопротивления — попросту
размежевание кастового и классового пока не завершилось: «Одним из слабейших
звеньев в отношениях, которые удерживают общество в целостности, выступает
сегодня граница, отделяющая новую касту интеллектуалов от более старого
среднего класса, включающего сегодня и рабочих» [197, с. 173]. Когда разделение
станет реальностью, старой интегрирующей социальность структуре придется, по
Керру, уступить место новой.
4. От менаджеризма через представительство к личному участию в управлении.
«Для менаджеров, а также в некоторых областях и для выборных официальных
лиц отличительной чертой является управление-администрирование. Новым
стилем управления, который возникает главным образом в университетских
городках, является «демократия участия» — действие, предпринимаемое в данный
момент наиболее заинтересованными членами данной группы и конфликтующее,
если это необходимо, с внешней властью, включая и представительную. В этом
существо синдикализма — независимости малой группы от внешнего контроля и
ее приверженности к прямым выявлениям скрытой воли массы. Синдикализм
несовместим с традициями прошлого столетия — с большим правительством,
большими корпорациями, большими профсоюзами, большими университетами. Он
равным образом несовместим и с идеологиями прошлого столетия, будь то
капитализм или социализм, национализм или коммунизм» [197, с. 173]. Похоже, что
и сам Керр не очень верит в это основание срыва-перехода, поскольку дело в
конце концов сводится к мере представительства: «Здесь я бы высказал
предостережение: «демократия участия» не является демократией. Она подчеркивает роль
активистов, противопоставляя их другим членам сообщества. Сообщества же в
целом могут столь же неохотно передавать контроль над своими судьбами
малочисленному меньшинству активистов, как и малочисленным группам не
выставляющих себя напоказ экспертов или малочисленным олигархиям в парадных
конторах. Но при всем том притягательность прямого участия — центральная тема
нашего века, и представительные демократии должны считаться с перспективой
стать еще более представительными» [197, с. 173].
5. От функций, связанных с производством, к функциям, связанным с
потреблением. «Университет, каким он сложился в течение прошлого столетия, учил
навыкам высокой сложности, исследовал, обслуживал, обеспечивал все
продуктивные сегменты общества. Но по мере нашего вхождения в общество изобилия
студенты начинают требовать двух дополнительных вещей совсем другого толка. Они
настаивают на том, чтобы университетский городок обеспечивал им волнующую
и интересную жизнь ради нее самой, а не был просто местом, где приобретают
высокий специальный навык. Они настаивают и на более широкой ориентации
программ подготовки, которые обеспечивали бы понимание общества в целом и
смысла жизни индивида в обществе. Все это противоречит технической
специализации, господству профессорско-преподавательского состава, практике
тестирования и оценок, которая столь характерна для современного университета. Новая
забота о постоянном приятном потреблении и о долговременных потребительских
благах в форме более развитого вкуса и более глубокого искусства жизни —
откровенный вызов институту, который развивался для усиления инвестиций в
человека, как в фактор продуктивности. «Две культуры», которые конфликтуют
сегодня, есть культура продуктивности и культура потребления» [197, с. 173—174].
Керр тут же оговаривается, что поскольку потребление все же невозможно без
производства, проблема конфликта культур потребления и продуктивности огра-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 685
ничена возрастной группой молодежи и в какой-то степени группой пенсионеров.
Он считает, что проблема здесь не в самом наличии таких групп, они всегда
были, а в их растущей численности и политической активности, что является
новым историческим феноменом и новой социальной проблемой, решение
которой пока не найдено.
6. От библиотеки и лаборатории к вычислительным машинам. «Академическая
традиция была по генезису устной. Затем она перешла на книги и приборы.
Теперь выясняется, что вскоре появятся вычислительные машины, способные взять
на себя часть подготовки студентов по обычным предметам. Влияние этого
нововведения на природу преподавания и на физическую конфигурацию
университетского городка может оказаться значительным. Оно будет первым заметным
технологическим изменением в жизни университета за пять столетий со времени
изобретения печатного станка» [197, с. 174].
Описывая механику срыва-перехода, Керр предупреждает, что хотя все шесть
линий примут в какой-то степени участие в определении картины 2000 г.,
переходы не будут мирными: «Битвы будут происходить по всем линиям: между
доступностью для всех и качеством подготовки, между публичным контролем и
академической автономией, между обществом и интеллектуалами, между
представительной демократией и «демократией участия», между потребностями
производства и интересом к потреблению, между старыми методами преподавания и новой
электроникой. Я бы лично предпочел «золотую середину» в разрешении каждого
из этих конфликтов» [197, с. 175].
Прогноз Керра конечно же во многом отличается от нашего, хотя мы
используем в принципе тот же системный подход, что и Керр, и даже ту же его
разновидность — нелинейное прогнозирование, использующее постулат: ни одно
настоящее не содержит полной информации о будущем, и будущее может быть
показано только в терминах деятельности по реализации достижимых альтернатив.
Но у Керра этот принцип лишь постулируется в форме кредо: «Верую, что
картина 2000 г. и для высшего образования и для других областей будет в большой
степени определяться качеством решений на этом периоде, степенью мудрости
людей. Верую, что картина 2000 г. еще не полностью определена» [197, с. 168],
и его прогноз оказывается все-таки линейным, экстраполяцией на будущее
наличных тенденций, лишь априорно допускающим, что найдутся, возможно,
«мудрые люди», способные изменить наметившиеся тенденции и как-то иначе
определить картину 2000 г. Мы же предлагаем конкретную альтернативу —
интенсивную модель онаучивания общества. И в основе на правах сохраняющей
преемственность структуры у нас располагается не общество-система, как это сделано у
Керра, а национальный Т-континуум-система со вписанной в него системой
образования, поэтому и картины у нас получаются разные, хотя говорим-то мы
вроде бы об одном — о национальном научно-академическом сообществе,
распределенном по университетам развитой страны, и о роли этого сообщества в
онаучивании общества. Картины у нас получаются разные еще и потому, что
глобальный феномен науки с его единым для всех членов всех национальных
научно-академических сообществ миром открытий у Керра скорее подразумеваются,
чем реально существуют, а потому в центре определяющих будущее событий у
Керра оказывается университетский городок-кампус, что в общем-то понять
можно — Керр был в центре событий студенческого активизма: первые серьезные
волнения студентов происходили в Беркли — в одном из наиболее знаменитых в
среде исследователей кампусов Калифорнийского университета, президентом
которого был Керр, и именно в Беркли Керр воочию убедился, до какой остроты
может дойти противоречие между «демократией участия», которую
демонстрировали студенты, и «представительной демократией», которую демонстрировал
губернатор Калифорнии Рональд Рейган.
Но несмотря на явные перекосы, связанные с выбором и построением
системы и определением ключевых точек ее интеграции, прогноз Керра полезен для
686
M. К. Петров
нас в том отношении, что намеченные им линии срыва-перехода дают нам Т0
для обсуждения событий, которые по всей вероятности должны будут
происходить на переходном периоде во всех терминалах национального Т-континуума
развитой страны с 1 сентября какого-то будущего года, когда первая всеобщая
волна первоклашек начнет движение по обновленному интенсивному переходу
Тп-Ту. При этом То Керра будет у нас в роли «контрольного кролика», то есть на
нарисованную Керром картину мы наложим ограничение: кредо Керра «Верую,
что картина 2000 г. еще полностью не определена» — оказалось пустым символом
веры: «мудрые люди» и их мудрые решения до 2000 г. не объявились и события
потекли в том порядке закономерного развертывания наличных тенденций, о
котором Керр пишет в прогнозе. Некоторые коррективы мы конечно внесем, но и
здесь мы будем придерживаться правила использовать только те явления, которые
мы выявили как следствие экспериментирования — обкатки учебников
интенсивного Ту на проходимость.
Сразу же нужно отметить, что эффекта внезапности, а соответственно и
каких-то особых потрясений, вызываемых началом всеобщего движения
первоклашек по интенсивному переходу Тп-Ту, обнаруживаться бы не должно,
поскольку экспериментальные школы, обкатывавшие усеченный вариант
интенсивного школьного перехода, в какой-то мере подготовят общественное мнение к
тому, что реально будет происходить: к срыву и медленному восстановлению
инфраструктуры наибольшего благоприятствования ученику со стороны старших. В
особенно тяжелом положении, понятно, окажутся дедушки и бабушки как
активные агенты экстренной помощи ученикам на дому. Их просто на 50—60 лет
выключат из этой параакадемической инфраструктуры и совсем неясно, придет ли
в голову интенсивному поколению дедушек и бабушек из первых волн
первоклашек, которые в школьные годы лишены будут мелочной опеки со стороны своих
дедушек и бабушек, вернуться в эту инфраструктуру.
В зависимости от того, какая доля ежегодных волн первоклашек пройдет на
подготовительном периоде по усеченной интенсивной программе Тп-Ту
экспериментальных школ и какая доля из выпускников экспериментальных школ
окажется в числе родителей первой всеобщей волны первоклашек, будет
складываться и параакадемическая обстановка на пути движения первой и последующих
10—15 волн первоклашек. Наиболее сложной эта параакадемическая обстановка
будет, конечно, в том случае, если среди родителей первой и последующих волн
усеченных полиглотов вообще не обнаружится и первым волнам В групп
сверстников придется идти по интенсивному школьному переходу Тп-Ту в
инфраструктурном вакууме, когда ученикам не к кому будет обращаться за экстренной
помощью, а учителям трудно будет найти области взаимопонимания с родителями
за полным отсутствием у родителей представления о том, что именно проходят в
школе их дети. Выше уже говорилось о том, как подобная ситуация может быть
воспринята родителями. Калифорнийские баталии вокруг равного времени на
«гипотезы» Моисея и Дарвина [157] с того и начались, что родители учеников,
прошедшие Тп-Ту после «обезьянних процессов» 1920-х гг. в США, попросту
взбунтовались, когда увидели, что их детям вдалбливают в школе мысли Дарвина.
А в истории любой национальной системы образования развитой страны были
свои «обезьянние процессы», и у родителей первоклашек-первопроходцев
интенсивного перехода Тп-Ту будет вполне достаточно поводов высказать свое
негодование по поводу того, чему учат их детей в школах.
В какой-то степени реакция бывших членов параакадемической структуры
скорой помощи травмируемым школьникам могла бы развиваться в рамках
предложенного Керром противостояния между «интеллектуальной элитой»,
ответственной за введение интенсивной модели онаучивания, и «простым человеком»,
но такому прямому подключению прогноза Керра мешает то существенное
обстоятельство, что в Ту культуре современных развитых стран, в том числе и в
США, в штате Калифорния, нет ни интеллектуалов, ни интеллектуальной элиты,
История европейской культурной традиции и ее проблемы 687
ни простых людей, а есть лишь носители общего для всех Ту, которых
постшкольная часть системы образования — 75% выпускников школ идут в Калифорнии в
высшую школу [197, с. 169] — разводит в информационно-изолированные
терминалы, где все они остаются носителями Ту, равными в суждениях об
общесоциальных проблемах и в восприятии этих проблем. Керр в этом отношении
просто жертва того обстоятельства, что в акте номинации-определения разность Ti-T0
отрицательна и что поэтому его противопоставление «интеллектуальной элиты» и
«простого человека», которое имело бы силу для первой половины XIX в., когда
интеллектуальную элиту можно было бы связать, скажем, с «джентльменами
науки» [200], а «простого человека» — с плебсом, «необразованной публикой»,
«необразованным большинством», давно потеряло смысл в современных
условиях, когда все сплошь простые люди и «простой человек» просто носитель Ту, а
«интеллектуальную элиту» идентифицировать невозможно, поскольку это те же
носители Ту, которые работают в разобщенных терминалах науки и органически
не могут объединиться в элитарную группу. Вот ведь и калифорнийский бунт Ту
родителей направлялся не против «интеллектуальной элиты», а против Ту
биологов, причем эти Ту биологи сами жаловались на непонимание со стороны коллег,
на отсутствие понимающей поддержки со стороны национального
научно-академического сообщества [157, с. 198].
Словом, первая наша попытка использовать прогноз Керра в качестве Т0 для
обсуждения проблем переходного периода потерпела относительную неудачу и
вполне возможно, что и другие попытки разделят судьбу первой. Но неудача-то
относительна и в этом все дело. Керр и вовлеченный в обсуждение биолог
Дж.Мур [157] помогли нам сориентироваться, понять, что для «простого
человека» — носителя Ту, выступающего в «родительской» роли своего взрослого набора
ролей, который не ограничивается ролью субъекта терминальной деятельности, а
имеет и множество социокультурных составляющих, тот факт, что его дети идут
неведомым ему путем и явно не в том направлении, в каком текли мысли и
ожидания «простого человека», когда он стирал своим младенцам пеленки, будет
глубокой психологической травмой, длительным поводом для беспокойств и эмоций
не обязательно положительных по поводу того, что же из его детей в конце
концов получится. Мы вовсе не намерены утверждать, что эмоции
родителей-носителей Ту обязательно будут следовать калифорнийской модели, хотя это и не
исключено. Но, с нашей точки зрения, со стороны национального центра
подготовки перехода с экстенсивной на интенсивную модель онаучивания, как и со
стороны национальной службы учебника-терминала для начала переходного
периода должны быть предусмотрены действия, способные нейтрализовать тревоги
и опасения Ту родителей.
Общей целью этих действий должно будет стать создание на время движения
первых фупп по интенсивному школьному переходу в неизбежном
инфраструктурном вакууме такой параакадемической ситуации, которая и Ту родителям
помогала бы, если и не гордиться тем, что их дети идут куда-то не туда и не так,
как они сами шли в детстве, то хотя бы спокойно и с достоинством воспринимать
этот факт, и группам-первопроходцам помогала бы без лишних помех и
затруднений совершать академическое движение, каким бы оно ни казалось трудным.
В плане психологического тренажа Ту взрослых всех постшкольных
возрастных групп и даже школьных, поскольку предшествующая первой волне
первоклашек-первопроходцев интенсивного Тп-Ту волна останется волной Ту культуры,
к неизбежным психологическим стрессам нужна, с одной стороны, широкая и
длительная кампания, честно и открыто объясняющая высокую спасительную для
всего человечества миссию учеников-первопроходцев, основной задачей которых
будет навечно сохранить и в короткий срок оздоровить глобальный феномен
науки, от существования и эффективного функционирования которого зависит
будущее всего человеческого рода, а с другой стороны, на базе возможностей
экстенсивного Ту, которые вовсе не так уж ограничены, массовыми изданиями вы-
688
M. К. Петров
пускать и сами школьные учебники интенсивного Ту и разъясняющие их в
терминах экстенсивного Ту брошюры, книги, справочники, словари, чтобы любой
закоренелый скептик или пламенный энтузиаст, а их объявится множество, могли
бы самостоятельно разобраться в учебниках интенсивного Ту и даже в какой-то
мере овладеть ими вплоть до сдачи экстерном всего курса школьного перехода.
Большого количества претендентов на сдачу экстерном экзаменов по отдельным
учебным годам или целиком за весь школьный курс ожидать не приходится, но
возможность экстерна нужно учитывать и соответствующим образом к ней
подготовиться, чтобы реализовать ее во всех случаях по первому запросу Ту взрослых.
И каким бы малым ни оказалось число успешно сдавших на экзаменах школьную
программу экстерном, о таких случаях нужно широко оповещать через средства
массовой коммуникации и вообще поднимать этих людей как героев, способных
переступить себя, перейти в другой образ духовной жизни, то есть поступать с
ними тем же примерно способом, каким мы сегодня поступаем с алкоголиками,
которые бросают пить, записываются по месту работы в общество трезвости и
становятся активными пропагандистами трезвого образа жизни.
В рамках прямой и косвенной помощи В группам учеников-первопроходцев
следовало бы, используя подходящий случай, в явочном порядке попытаться
решить сразу две задачи, одна из которых имеет прямое отношение к В группам
волн сверстников-первопроходцев, а вторая и более долговременная имеет скорее
отношение к пересмотру существующих ныне норм академического движения в
той их части, которая ответственна за очевидную перегрузку учителей и
отупляющий, чего греха таить, эффект учительского труда, когда ежедневно на столе
учителя ворох ученических тетрадей, требующий проверки, поправок, оценок.
Создать, например, сеть телефонных и дворовых консультаций, куда запутавшийся
с домашним заданием мог бы обратиться в любой момент, — это задача первого
рода. А вот сократить численность учеников в В группах до оптимальной в 10—
12 человек и постараться превратить эту академическую новацию в норму — это
задача второго рода.
Из способов решения задач первого рода мы сознательно исключаем чисто
технические, включающие общение между машиной и человеком способы. И
делаем это не в силу какого-то органического предубеждения к машинам, а скорее
потому, что считаем крайне ценной и истинно человеческой способность
достигать взаимопонимания между А и В в совместном и со стороны А и со стороны
В поиске путей к взаимопониманию. Общение людей А и В развивает эту
способность обоюдно и как универсальную, тогда как общение человека с машиной,
какими бы совершенными ни были машины-тренажеры и какой бы
популярностью они ни пользовались у обучающихся детей и взрослых, напротив подавляют
эту способность к взаимопониманию и специализируют ее, фрагментируя
универсальную область потенциального общения на специализированные «топики»
предзаданных А и В тем общения. Именно поэтому мы хотя и не отвергаем
потенциальную состоятельность 6-ой линии срыва-перехода Керра «от библиотеки
и лаборатории к вычислительным машинам» [197, с. 174—175], считаем ее в
принципе тупиковой и объективно вредной, способной стать по пункту
подавления универсальной человеческой способности достигать взаимопонимания еще
одним обвинением в списке обвинений в адрес экстенсивной модели
онаучивания общества. Игры японских школьников, например, с вычислительными
машинами в кабинетах электронных тренажеров, о которых сегодня много говорят
и которые даже иногда показывают по телевидению в назидательных, надо
полагать, целях или в порядке пропаганды всеобщей компьютерной грамотности,
очевидно полезны в решении частных проблем обучения класса «повторение — мать
учения», с их помощью можно научить правильно писать, правильно произносить
и строить предложения, но в принципе они опасны именно потому, что
универсальное в способности достигать взаимопонимания между А и В, их совместную
и не формализуемую работу по уничтожению разности Ti-T0, по какому бы по-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 689
воду она ни возникала, такие электронные тренажеры подменяют частным.
Короче говоря, в любом акте речи между машиной и человеком неустранимо сидит
та самая проблема машинного перевода, о которой мы говорили выше:
переводить, не имея ничего за душой, невозможно, и когда программист закладывает
свою душу вычислительной машине, предписывая ей ограниченную сумму
ответов на ограниченную сумму человеческих вопросов, он выделяет в
неограниченной человеческой потенции задавать вопросы лишь те, ответ на которые вложен
программистом в машину, и если обучение пошло бы по машинному пути, то и
неограниченная человеческая потенция задавать вопросы (В) и неограниченная
человеческая потенция искать ответы на любые вопросы (А) стали бы
ограниченными, а сказалась бы эта редукция способности достигать взаимопонимания не
столько в академических рамках системы образования, где все упражнения и
задачи заведомо имеют решение, могут быть формализованы и переданы машине-
тренажеру, сколько на переднем крае исследования и приложения, где поставить
вопрос или проблему в разрешимой форме — добрая половина дела. Не так уж,
поэтому, невинны эти игры со включением в учебный процесс
машин-тренажеров, какими бы очевидно полезными они ни казались.
Отказываясь от помощи машин, мы основное наше внимание уделим
обсуждению более полного использования человеческих возможностей в делах «скорой
помощи» ученикам-первопроходцам интенсивного Тп-Ту, которые вынуждены
будут идти, такова уж участь первых, в практически полном инфраструктурном
вакууме. Здесь, с нашей точки зрения, подвертывается удобный случай
восстановить, а может быть и институционализировать утерянную практику
неформального репетиторства, придав ей новые и более гибкие формы.
Мы уже говорили, что в дореволюционной России репетиторство широко
использовалось в параакадемической структуре как для подготовки к вступительным
экзаменам в гимназию, так и для подтягивания отстающих гимназистов и давало
неплохие результаты, а занимались репетиторством в основном гимназисты
старших классов и студенты. В условиях строгого действия законов о всеобщем и
обязательном образовании, перестройки общеобразовательной школы, общего
снижения требовательности учителей в погоне за всеобщей успеваемостью, а также
и по множеству других причин, в частности и потому, что репетиторство долгое
время считалось у нас, да и сейчас считается, незаконной формой извлечения
личных доходов, оно практически исчезло.
Мы уже выразили сожаление по поводу исчезновения этого неформального
института, причем наши сожаления основывались на том, что кроме важной для
репетиторов экономической функции репетиторство было нагружено рядом
неэкономических тезаурусно-динамических и педагогических функций, обоюдопо-
лезных и для тех, кто принимал помощь репетиторов и для самих репетиторов.
Принимающие помощь репетиторов в сравнительно короткие сроки научались
идти в ногу со своей В группой, как только репетитору удавалось в прямых
речевых контактах нащупать тот слабо усвоенный материал, который сковывал
академическое движение подопечного и начинал со знанием дела лечить болячки в
его личной академической истории, предлагая в основном усиленные дозы
древнего педагогического бальзама: повторение — мать учения. Сам же репетитор,
сознавал он это или нет, но, десятки раз объясняя подопечному одно и то же,
варьируя объяснение, чтобы добиться желаемого результата, оказывался под
активным воздействием другой педагогической максимы: ничто так не закрепляет
пройденный материал как успешная попытка объяснить его другому.
Понятно, что в условиях всеобщего и обязательного обучения мечтать о
восстановлении института репетиторства полностью не приходится, к тому же и тот
экономический стимул, который толкал гимназистов старших классов и студентов
к широкому использованию репетиторства, частью переместился в
неакадемические области услуг, например, где открылись более выгодные формы приложения
сил молодежи, а частью трансформировался, перешел в форму «третьего семе-
44 M К Петров
690
M. К. Петров
стра», тоже не имеющего никакого отношения к обеспечению нормального
академического движения.
И все же мы считаем, что, учитывая и тезаурусно-динамические и
педагогические достоинства параакадемического института репетиторства, давно пора
подумать о его восстановлении в обеих особо ценных функциях: а) в оперативно-
терапевтической, помогающей отстающим войти в ритм академического
движения их В групп сверстников в чистом академическом времени; б) в катализирую-
ще-объяснительной, которая помогает репетитору более глубоко усваивать
пройденный материал в актах его объяснения отстающим и к тому же определенно
может помочь претендентам на роль учителей по образованию и призванию еще
в школе самоопределиться в выборе профессии на всю жизнь или вовремя
отказаться от нее, опробовав свои педагогические способности в роли репетитора.
Вообще-то организовывать стихию спроса и предложения — труд неблагодарный,
достаточно взглянуть на нашу организованную систему услуг, в которую заложена
неплохая логика, что не мешает ей плохо работать именно потому, что в
основание связей между клиентом и оказывающим услуги заложена логика, а не
единый эквивалент. И то же самое может получиться с нашей системой «скорой
помощи», пытающейся в организованной форме восстановить стихийный по своей
природе феномен репетиторства. Поэтому начать стоит с самого скользкого
пункта — репетиторство в организованной форме следует оплачивать из
государственного бюджета в том объеме, который типичен для школяров — потенциальных
репетиторов. Возможность самому, без обращения к родителям, купить на
заработанные собственным трудом деньги велосипед, фотоаппарат, платье, туфли при
соответствующем более или менее пышном ритуале признания заслуг на ниве
репетиторства — прием, скажем, без экзаменов в педагогический институт
репетиторов-выпускников школы со стажем репетиторства в 2 и более года, сделала бы
репетиторство привлекательным для хорошо успевающих учеников уже с
середины школьного перехода Тп-Ту, поскольку такие ученики вполне могут оказывать
квалифицированную помощь тем, кто идет после них по тем же самым
учебникам и преодолевая те же самые трудности, которые потенциальные репетиторы
уже преодолели.
Внештатную параакадемическую должность репетитора нужно обставить
попышнее и по возможности привлекательнее, чтобы уже в умы первоклашек она
внедрялась на правах действующего стимула к повышению успеваемости ради
того, чтобы и самому попробовать, когда придет его время, стать репетитором.
Соответственно авторитет репетитора среди учеников и в собственной волне В
групп сверстников и, понятно, последующих волнах должен быть высок. Для
этого стоит продумать достаточно сложную для претендентов официальную и
торжественную процедуру посвящения учеников в звание репетитора таких-то
классов, начиная с первого, с вручением значков, дипломов и вообще знаков
признания при всей честной публике от учеников и их родителей до всех учителей
школы, а до этих общешкольных торжеств, претенденты должны будут сдавать
квалификационные экзамены высоким внешкольным комиссиям, создаваемым
местными школьными властями из лучших учителей и преподавателей высшей
школы, где у претендентов будут строго и придирчиво спрашивать не только
материал учебников, по которым будущий репетитор должен будет оказывать
экстренную помощь младшим, но и нормы предельно уважительного обращения с
младшими в актах помощи, что позволило бы репетиторам стать и агентами
насаждения моральных и нравственных норм и правил, которые сегодня так трудно
прививаются в школе, поскольку в семье у них далеко не всегда действуют те же
самые нормы и правила, которые декларируются в школе без опоры на видимые
и постоянно присутствующие в среде учеников ориентиры для подражания.
Репетиторы разных школ могли бы объединяться по локальному,
региональному и даже общенациональному принципу в клубы с единым строгим уставом,
регулирующим отношения репетиторов с школьной администрацией, местными
История европейской культурной традиции и ее проблемы 691
школьными властями, а также определяющим спорные и конфликтные ситуации
и порядок их решения. Словом, как институт, несущий свою и немалую долю
ответственности за успешное прохождение ежегодными волнами В групп
сверстников школьного перехода Тп-Ту, организованное репетиторство могло бы стать
основой школьного самоуправления и школьной автономии в решении того
пестрого набора вопросов, недоразумений и конфликтов, которые возникают в
жизни любого школяра, и наиболее эффективно и безболезненно решаются без
выхода на официальный уровень педсоветов, детских комнат милиции и т.п.
Клубы репетиторов могли бы иметь своих официальных и полномочных
представителей на педсоветах и во всех других инстанциях, где могут разбираться по тем
или иным поводам дела их потенциальных подопечных, о которых репетиторы
имеют сложившееся твердое мнение, а также в национальной службе учебника-
терминала, где в подготовке к очередным переизданиям школьных учебников
полезно учитывать и мнение репетиторов о локализации труднопроходимых мест
действующих учебников и о конкретном составе трудностей.
Еще больший вес репетиторам в школьной жизни придало бы правило ухода
репетиторов в отставку, не связанное с окончанием школы, что позволило бы
многим репетиторам-энтузиастам продолжительное время оставаться в параакаде-
мической структуре и после окончания школы, обогащая накопленным опытом
репетиторства новые поколения репетиторов. Это уже походило бы на
попечительские советы и советы выпускников, которые существуют в некоторых
развитых странах в структуре местных школьных властей, но существенно отличалось
бы от них тем, что репетитором можно было бы оставаться и после школы только
при условии регулярного выполнения основной репетиторской задачи —
оказания экстренной академической помощи ученикам по первому их требованию.
В организационное обустройство репетиторства должна входить развернутая
по всей стране сеть консультативных пунктов репетиторства, которые должны
располагаться в зоне непосредственного доступа учеников из расчета, сугубо
ориентировочно, скажем, один пункт на 100 учеников (конкретное число
определилось бы эмпирически по ходу функционирования консультативных пунктов — в
одних местах их пришлось бы закрыть, в других открыть дополнительные), но и
в том и в другом случае должен строго соблюдаться принцип — ни один ученик
не должен лишаться права на доступную, скорую и эффективную помощь со
стороны дежурящих на консультационном пункте репетиторов.
Все консультационные пункты должны иметь в штатном оборудовании
полный набор учебников интенсивного Ту, стандартные справочники по этим
учебникам, телефон и пишущую машинку, дневник дежурства. Назначение набора
учебников и справочников понятно без объяснений — у репетитора они должны
быть под рукой, чтобы указать ученику страницу и место, где следует искать то
самое, что поставило его в положение клиента. Что касается телефона, то он
нужен для того, чтобы дать возможность ученику — потенциальному клиенту —
обойтись без визита в консультационный пункт. Машинка с набором
стандартных бланков с соответствующими адресами нужна для выполнения всего набора
формальных следствий акта обращения ученика за помощью. На всех листках, а
их в закладке будет 5—6, должен быть один и тот же текст, поэтому без машинки
не обойтись, а в тексте должно быть указано, что такого-то числа ученик
такого-то класса такой-то школы, имя и фамилия, обратился за помощью с таким-то
вопросом к репетитору, имя и фамилия, который и дал соответствующие
разъяснения, на что потратил такое-то количество минут. Листки с идентичным текстом
пойдут: 1 — в бухгалтерию; 2 — в национальную службу учебника-терминала; 3 —
в школу ученика-клиента; 4 — самому ученику-клиенту для передачи учителю
вместе с тетрадью; 5 — в дневник консультативного пункта. Назначение этих
листков различно.
Листок в бухгалтерию станет формальным основанием для выплаты
репетитору за дежурство, даже если на листке будет фраза: «Звонков и посещений не
44*
692
M. К. Петров
было», и чем больше таких фраз будет появляться, тем лучше. Указание на
затраченное время даст бухгалтерии основание для дополнительных начислений к
основной сумме выплат репетитору в порядке поощрения.
Листок в национальную службу учебника-терминала станет базовым
документом для оценки учебников интенсивного Ту на проходимость и подготовки их
переизданий. Труднопроходимые места при машинной обработки листков будут
обнаруживаться автоматически по концентрациям обращений учеников к
репетиторам, а степень трудности — по времени, которое в среднем будут тратить
репетиторы на объяснение возникающих у учеников недоразумений.
Листок в школу ученика-клиента будет сигналом неблагополучия в
академическом движении по соответствующему учебнику, сигналом для принятия
оперативных мер.
Листок ученику-клиенту для передачи учителю вместе с тетрадью для
домашних заданий будет конечно и тестом на добросовестность клиента, хотя ученики-
клиенты будут заведомо осведомлены, что копия листка придет в школу и дойдет
до учителя, то есть учениктклиент вряд ли позволит себе утаить от учителя
обращение к репетитору, но основное назначение этого листка другое — дать
учителю более надежное и формальное основание для оценки текущих успехов
учеников. Здесь можно даже узаконить какую-то формальную шкалу, запрещающую,
например, ставить высокую оценку за работу, выполненную после консультации
с репетитором. По числу обращений к репетитору, которые учитель обязан будет
фиксировать в своем рабочем журнале, учитель получит возможность следить за
успеваемостью каждого ученика и постоянно быть в курсе трудностей, с
которыми встречаются ученики, а также о степени этих трудностей у конкретного
ученика — по затратам времени репетитора на объяснение. Короче говоря, учителю
станет легче работать и много проще объяснять коллегам и родителям, почему у
учеников именно такие, а не другие отметки. Даже в экстремальных случаях,
когда речь пойдет о необходимости оставить ученика на второй год или вообще
убрать его из школы по неуспеваемости, академического ЧП уже не получится,
если в распоряжении учителя и педсовета будет убедительный набор листков от
репетиторов, подтверждающих неспособность ученика принимать на равных
участие в общем академическом движении своей В группы сверстников.
Листок для дневника консультационного пункта будет храниться в стопке
таких же листков, как архив данного пункта, необходимость обращения к
которому может возникнуть в случае недоразумений или конфликтных ситуаций.
Часы работы консультационных пунктов и графики дежурства репетиторов
должны приходиться на время, когда ученики обычно заняты подготовкой
домашних заданий и учитывать, что большинство репетиторов сами ученики, что и
у них есть домашние задания. Адреса консультационных пунктов, номера их
телефонов, может быть и графики дежурств репетиторов должны висеть на видном
месте в каждой школе, и каждый ученик должен быть осведомлен о том, какие
следствия вытекают из его обращения за помощью к репетитору. Последнее
необходимо, чтобы не дать ученикам превратить консультационные пункты в
заменителей бабушек и дедушек, к которым можно обращаться по любому пустяку,
не попробовав предварительно самостоятельно справиться с заданием, а в
экстренных случаях, когда друзья ждут во дворе, можно и просто вовлечь в
подготовку домашнего задания. Той же цели — заставить ученика самостоятельно
сделать работу с минимальным вмешательством репетитора — должен служить и
общий план работы репетитора с учеником-клиентом. Идет ли речь о телефонном
звонке, который тоже обязан фиксировать репетитор в листке-дневнике
дежурства, или о посещении клиента, репетитор прежде всего должен напомнить ученику
о том, в каком учебнике и на какой странице напечатаны правила, которые
нужны для выполнения задания, и лишь убедившись, что ученику это не
помогает, репетитор должен браться за объяснение, вызывая ученика на вопросы и
отвечая на них или задавая ученику вопросы и корректируя его ответы, оценивая
История европейской культурной традиции и ее проблемы 693
по ходу беседы сам характер речевой ситуации по единой для репетиторов и
известной учителям и другим адресам листков шкале диакритических знаков типа
«пассивен», «тугодум», «несобран», «рассеян» и т.п. Эти неформальные оценки
типичного поведения ученика в речевой ситуации объяснения найдут свое место
в листках и могут оказаться ценными и для национальной службы
учебника-терминала в общих оценках контингента школьников и для учителей для выработки
тактики индивидуального подхода к ученикам данной В группы, и для
исследователей учебного процесса, для которых листки репетиторов будут исходным
банком данных.
В часы, когда ученики готовят домашние задания, все консультационные
пункты должны работать, быть в готовности оказать любому ученику помощь и
ответив на телефонный звонок и приняв его для беседы, если ученик найдет это
необходимым. Инициаторами и звонков и посещений всегда должны быть сами
ученики, любое давление со стороны учителей, будь то мягкий совет обратиться
к репетитору или жесткое указание поработать с репетитором, должно быть с
самого начала исключено, как некорректный прием непрошенного вмешательства
учителей в сферу личной ответственности ученика за собственные дела и
поступки, то есть обращение к репетитору должно быть частным делом ученика,
осведомленного о возможных последствиях такого обращения. Но накапливаемый от
случая к случаю груз обращений к репетиторам не должен висеть на ученике как
сложившаяся репутация о присущей ему врожденной неполноценности по части
самостоятельности и гибкости в применении правил к решению стандартных и
нестандартных задач, что слишком уж часто происходит в современных школах,
где уже в третьем-четвертом классе можно стать в глазах учителей признанным
пятерочником, четверочником, троечником и продержаться в этих категориях до
окончания школы, особенно, если первые впечатления учителей подкрепляются,
как это делается в некоторых развитых странах, периодическими тестами
психологов на интеллектуальность.
Ученик не должен терять надежды на то, что все его текущие академические
беды поправимы, если он приложит достаточно самостоятельных усилий, чтобы
добиться перелома. В этой функции достижимого акта очищения от старых
академических грехов в сознание учеников должна постоянно внедряться идея
доступности репетиторства для всех нормальных учеников, и сам акт посвящения
ученика в репетиторы должен включать и символическое отпущение всех
прежних грехов по части обращения за помощью к репетиторам.
Репетиторство от этой операции очищения от всех старых академических
грехов не станет государством в национальном академическом государстве, как и
сами свежеиспеченные репетиторы не станут, приняв сан репетитора,
безгрешными святыми в мальчишеском или девичьем возрасте, природа того не
позволит, но в интересах всех заинтересованных сторон — инстанций академической
политики, национальной службы учебника-терминала, учительского сообщества,
местных школьных властей, детских комнат милиции, самих учеников и их
родителей — видеть в институте репетиторства высшую форму школьного
самоуправления и школьной самоорганизации и предоставить этому институту
автономию в решении всех внутренних проблем и прежде всего тех из них, которые
могут бросить тень на институт репетиторства в целом. Будут ли это
репетиторские клубы на местах, или советы, или суды чести, но решения по поводу тех
или иных отклонений от устава репетиторства должны прежде всего приниматься
в рамках самого института репетиторства и самими репетиторами, а затем уже и
в согласии с принятыми решениями передаваться или не передаваться на
рассмотрение внешним инстанциям.
Дежурство репетитора, как основная форма его параакадемической
деятельности не должно отнимать у репетитора — нормального ученика, не
пользующегося у учителей какими-либо поблажками или привилегиями — слишком много
времени. Одно-два дежурства в неделю по часу-два каждое могут оказаться нор-
694
M. К. Петров
мой или даже верхним пределом репетиторской нагрузки в зависимости от
численности репетиторов на местах. Соответственно и само дежурство не должно
носить подчеркнуто формального характера неусыпного бдения на посту по модели,
например, дежурства в милиции или в воинской части.
Важно не занимать телефон и держать двери открытыми для любого школяра
и, если это произойдет, встретить и телефонный звонок и входящего школяра по
высшему классу принятого протокола — вежливо и приветливо. Пока нет ни
телефонных звонков, ни посетителей, репетитор волен распоряжаться своим
временем — читать, писать, делать все, что угодно, вплоть до собственных домашних
заданий — благо, все учебники под рукой. И если посетителей и звонков вообще
не будет, репетитор отстучит соответствующую фразу на машинке, положит один
листок в дневник консультационного пункта, сунет остальные листки в карман,
чтобы опустить их в первый попавшийся почтовый ящик, сдаст дежурство
преемнику или закроет пункт и отправится по своим делам. Точно такой же будет
и концовка дежурства со звонками и посетителями, хотя в этом случае могут быть
и задержки, если время сдачи дежурства или закрытия пункта придется на разгар
разговора с учеником-клиентом или текст листков значительно удлинится. Но в
принципе дежурство не будет утомительным: объяснять хоть и сложное, но
увлекательное дело, а увлекательное не утомляет.
Понятно, что сам по себе институт организованного репетиторства не имеет
жесткой прописки и привязан нами к переходу с экстенсивной модели
онаучивания общества на интенсивную чисто искусственно. Его можно было бы
реализовать и в условиях господства экстенсивной модели и вообще в любых других
условиях, если в системе образования той или иной страны, имеющей законы о
всеобщем и обязательном образовании, есть обязательный всеобщий школьный
переход, по которому чередой идут ежегодные волны В групп сверстников, так
что ученики предыдущих волн всегда могут оказать помощь ученикам
последующих волн в движении по маршруту, по которому они сами уже прошли.
Но предлагаемый нами вариант организованного репетиторства, хотя
основной его целью должна стать оперативная помощь ученикам на школьном
переходе Тп-Ту, как самовоспроизводящаяся в актах посвящения учеников в
репетиторы, долгоживущая конечная система, в своей деятельности, как мы уже
показали, описывая содержание, адреса и назначения репетиторских листков,
определенно не будет ограничена в продуктах своей деятельности одной лишь целью
оперативной помощи ученикам, будет нагружена рядом побочных целей
морально-нравственного, психологического, воспитательного, а также и иного порядка,
достижение которых, как и в научной деятельности, будет связано не столько с
деятельностью самого репетитора — неустранимого субъекта организованного
репетиторства, а скорее с движением его «публикаций», «рукописей» —
листков-отчетов об элементарных событиях, отпечатанных на машинке в соответствующем
числе экземпляров. В этом своем качестве конечная долгоживущая система.орга-
низованного репетиторства предстает уже как долговременное или «долготное»
социобиологическое исследование взрослеющих младенцев, проходящих
ежегодными волнами В групп сверстников по школьному переходу Тп-Ту. Тот факт, что
репетитор вылавливает и отражает в своих листках-публикациях только ту часть
потока учеников, которая испытывает трудности в академическом движении в
предзаданном программами ритме и именно по этому поводу обращается за
помощью к репетитору, тогда как основная часть потока, не испытывающая
затруднений, к репетитору не обращается и в принципе не может быть отражена в
листках репетитора, конечно же ограничивает предмет этого долготного социобиоло-
гического исследования рамками выявления тех врожденных способностей
учеников — унаследованного ими от родителей биокода, — которые имеют
наибольшую социальную ценность и лимитируют через критические значения Ti-T0 в
актах речи последовательностей-мегаактов школьного перехода допустимые
скорости академического движения В групп сверстников. А это как раз то, что тре-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 695
буется для осмысленной и теоретически обоснованной государственной
академической политики.
Иными словами, в той системной форме, в которой мы его представили,
организованное репетиторство выглядит естественным шагом в развитии той
«инструментальной» идеи подхода к общеобразовательной школе, инициатором
которой была Британская Ассоциация [202], но, насаждая учебники-введения в
некоторые дисциплины и вытесняя «почитаемые предметы» лингвистического
цикла, Британская Ассоциация вместе с научно-академическими сообществами
ныне развитых стран полезла, так сказать в академическую воду, не зная броду,
не проведя предварительных исследований по биологическим возможностям и
ограничениям контингента учеников, и получили, как это и полагается в таких
случаях, через столетие вполне убедительное свидетельство своей опрометчивости —
повсеместное господство экстенсивной модели онаучивания общества, которая
действительно инструментально ориентирована на науку, исправно поставляет
науке нужные ей кадры исследователей, но кадры ущербные по части прямого
доступа к интернациональному потоку научной публикации и способные вести
исследования по нормам тезаурусно-динамического коллективизма только с
помощью приставленных к исследователям переводчиков и референтов. В этой
линии размышлений предлагаемый институт организованного репетиторства
должен в функции инструмента долготного исследования врожденных ограничений
и возможностей контингента учеников дать окончательный ответ на вопрос о
том, с какой степенью полноты может быть реализовано «инструментальное»
отношение науки к школе, а необходимые для такого ответа экспериментальные
данные будут накапливаться по ходу долготного исследования в растущей кипе
листков репетиторов, в которых будут содержаться в генерализируемой в процессе
машинной обработки форме сведения о текущем критическом значении разности
Ti-To в актах речи, ассоциируемых в мегаакты речи-учебники по правилу Ti
предшествующего акта речи становится Т0 последующего.
Знание этого критического значения разности Ti-T0, которое гарантирует
проходимость школьных учебников, суть предварительное условие грамотной и
научно-обоснованной академической политики. Пока мы только способны взять,
говоря математически-артиллерийским языком, искомое значение разности Ti-T0
в вилку, как нечто явно большее, чем то, которое демонстрируют «тихоходы» на
школьном переходе Тп-Ту, и нечто явно меньшее, чем то, которое демонстрируют
особо одаренные ученики. Долгое функционирование института организованного
репетиторства разобьет общий поток учеников на нормальный, не обращающийся
к услугам репетиторов, и на «тихоходов», которым потребуется помощь
репетиторов, а сам смысл помощи репетиторов будет состоять в том, чтобы навязать
«тихоходу» норму, то есть то самое искомое значение Ti-T0, которое у нас
остается в принципе неопределимым, пока «тихоход» командует на школьном
переходе, откуда никому не дают отсеяться законы о всеобщем и обязательном
образовании, и скорость академического движения определяется по правилу
каравана — по самому медлительному «тихоходу». Репетиторы будут выявлять
«тихоходов» и пытаться приводить их к норме, но одновременно они будут в своих
листках-публикациях определять и совокупный ущерб, наносимый «тихоходами»
обществу в целом самим фактом своего присутствия в волне В-групп сверстников,
вынуждая всех идти по школьному переходу в устраивающем их темпе. Короче
говоря, длительное действие института организованного репетиторства неизбежно
поставит в научной и разрешимой форме вопрос о том, что делать с
«тихоходами», как освободиться от их ингибирующего и разлагающего воздействия на
нормальных сверстников.
Тут все дело в том, какой именно налог готово платить общество за
сомнительное удовольствие иметь на вооружении всеобщее и обязательное, но именно
потому, что оно всеобщее и обязательное неизбежно «всеобще тихоходное»
образование. И если по данным, извлекаемым машиной из листков репетиторов, ока-
696
M. К. Петров
жется, что 5—10% отсев на школьном переходе «тихоходов» мог бы значительно
поднять темп академического движения по школьному переходу, то обществом
вполне правомерно может быть поставлен вопрос о том, не убрать ли эти 5—10%
с нормального интенсивного школьного перехода Тп-Ту и не предложить ли
«тихоходам» по рождению свой особый путь в терминалы взрослой деятельности,
соответствующий их темпу академического движения. Понятно, что это неизбежно
повело бы к появлению в развитых обществах четко оформленного «тихоходного
меньшинства», лишенного права входа в какие-то терминалы взрослой
деятельности, в терминалы науки, например, но подобное «тихоходное меньшинство» в
скрытом и невыявленном виде уже существует в любом развитом обществе и,
прямо скажем, разлагает его и своим отношением к работе, корни которого
уходят в школу, и своей профессиональной некомпетентностью и множеством
других атрибутов врожденной тихоходности, из которых тупость, может быть, еще
не самый страшный атрибут, хотя воинствующая глупость и боевитая серость
вполне могут вогнать в уныние любого нормального человека. Если общество
решится отделить «тихоходов» от нормальных еще в школьном возрасте, то это не
будет актом мести «тихоходам» за наносимый ими ущерб — природе не мстят. К
тому же вполне вероятно, что «тихоходное меньшинство», выявляющее свою
неспособность идти в ногу с «нормальным большинством» в академическом
движении, может оказаться равным и даже в чем-то превосходящим «нормальное
большинство» в определенной престижной группе терминалов взрослой деятельности.
Для того, например, чтобы стать классным футболистом, или штангистом,
бобслеистом, диктором телевидения, артистом, каскадером вовсе не обязательно
кончать университет или даже школу с отличием, так что терминалов, в которых
«тихоходное меньшинство» может успешно соревноваться с «нормальным
большинством», возможно даже больше того числа, которое требуется для трудоустройства
всех «тихоходов» по их собственному выбору и стремлению.
Понятно также, что самым желательным исходом этого долготного социоби-
ологического исследования стал бы такой, который с опорой на
листки-публикации репетиторов подтвердил бы полное ментальное единство человеческого рода
и соответственно состоятельность и правомерность всеобщего и обязательного
образования, доказал бы, что все «тихоходы» с любым типом отклонений от нормы
биологического кодирования, если конечно дело не доходит до очевидных
патологических телесных и ментальных уродств, могут быть оперативно поставлены в
общий строй сверстников с помощью тех описанных в листках методов, поиском
и применением которых репетиторы как раз и занимаются в каждом акте помощи
ученику-клиенту. Такой исход долготного исследования искренне обрадовал бы
любого здравомыслящего нормального человека. Но надо быть до конца честным
и не подталкивать репетиторов к желательному выводу. Именно поэтому институт
организованного репетиторства должен быть автономен и огражден обществом от
любых внешних давлений.
Таким образом намеченная Керром линия на появление
противоречия-противостояния интеллектуальной элиты простому человеку [197, с. 172] с некоторой
долей вероятности действительно может появиться как четкое размежевание по
путям движения в терминалы взрослой деятельности «нормального большинства»
и «тихоходного меньшинства», но антагонистическим это
противоречие-противостояние определенно не будет и увидеть в этом противоречии движущую развития
общества, возможность его векторного разрешения во времени было бы крайне
затруднительно даже допустив, что на каком-то будущем этапе развития общества
ему потребуются как раз те свойства, которые сегодня делают «тихоходами»
учеников общеобразовательной школы.
Так или иначе, но основным ответом на первую группу проблем переходного
периода, производных от того факта, что ученикам-первопроходцам
интенсивного школьного перехода Тп-Ту придется идти в инфраструктурном вакууме без
помощи старших, мы считаем учреждение института организованного репетиторст-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 697
ва, финансируемого из государственных фондов развитой страны, решившейся на
переход с экстенсивной модели онаучивания общества на интенсивную. Здесь,
естественно, может появиться множество вопросов и просто недоумений.
Первым таким вопросом-недоумением, мы полагаем, был бы тот, который
фокусировал бы внимание на самых первых волнах первоклассников, где не
может быть репетиторов потому уже, что посвящение в репетиторы хорошо
успевающих учеников требует определенных экзаменов, осознанного желания стать
именно репетитором, выявившейся уже склонности объяснять сверстникам
трудные места, ответственности и многого другого, что выявляется в общем-то в
старших классах, так что первые 7—8 лет вряд ли вообще имеет смысл говорить об
организованном репетиторстве. Далее-то понятно: единожды возникнув, институт
организованного репетиторства может бесконечно воспроизводиться на материале
старшеклассников в актах посвящения в репетиторы хорошо успевающих
учеников. Но как все-таки быть с началом?
Отвечая на этот непростой вопрос, мы прежде всего отметим то немаловажное
обстоятельство, что инфраструктура всеобщего благоприятствования ученику
школы весьма инерционна и если, например, завтра она будет сорвана, а в нашем
случае она обязательно будет сорвана первой всеобщей волной первоклашек,
вступающих на интенсивный школьный переход Тп-Ту, то полностью
восстановиться эта инфраструктура сможет только лет через 50—60, когда сами эти
первоклашки первой волны первопроходцев станут бабушками и дедушками,
пенсионерами, поведут своих любимых внуков и внучек «первый раз в первый класс».
Организованное репетиторство, напротив, практически безинерционно,
поскольку любой ученик предшествующей ежегодной волны В групп сверстников в
состоянии оперативно помочь любому ученику и последующей ежегодной волны В
групп сверстников и всех последующих волн. Все здесь зависит от общей
атмосферы в школе: от стремления помочь младшему или от стремления всячески
уклониться от такой помощи. В вопросе о самом начале действительно
обнаруживается дыра длительностью в 7—8 лет, требующая внешнего вмешательства. Но
об этом чуть позже.
Далее, сложившаяся сегодня инфраструктура всеобщего благоприятствования
ученику школы, в которой главную роль играют родители, бабушки и дедушки,
не так уж чиста и невинна в воспитательном отношении, чтобы всерьез страдать
по поводу ее срыва и возможности полного ее исчезновения из параакадемичес-
кой практики. Эта структура безнадежно заражена непотизмом, постоянно
чревата непотизмом в самых уродливых его проявлениях. Родители, а особенно
бабушки и дедушки всегда слепо уверены, что их дети или внуки само совершенство,
а все в них дурное — наносное, продукт внешних влияний улицы, друзей, даже
школы. Поэтому их опека ученика редко ограничивается действительно иногда
необходимой помощью в подготовке домашних заданий. Ими предпринимаются
выходы в окружение, заводятся полезные знакомства, организуются давления на
учителей и т.д. и т.п., причем, как правило, все это происходит на глазах
опекаемого ученика, иногда даже при его непосредственном участии на правах
эксперта очередных затеваемых операций. Поэтому, если бы, скажем, сорванная первой
волной первоклашек-первопроходцев действующая ныне инфраструктура никогда
бы уже не возродилась, то, по нашему мнению, общество от этого только бы
выиграло.
Теперь о дыре в самом начале. Первоклассникам-первооткрывателям нужно
как-то продержаться первые 10—12 лет, дальше пойдет постшкольная часть
системы образования, где срывов преемственности не будет, хотя свои проблемы и
объявятся. Но эти 10—12 лет до окончания школы первопроходцам придется идти
в расчете на собственные силы, попутно создавая благоприятные условия
последующих волн В групп — прежде всего институт организованного репетиторства.
Здесь без помощи учительского сообщества, по нашему мнению, не обойтись,
хотя и у самих учителей будет много собственных забот. Нужно, видимо, поста-
698
M. К. Петров
вить дело так, чтобы прямо с 1 сентября, с начала движения по интенсивному
школьному переходу Тп-Ту, началась и регулярная работа консультационных
пунктов на базе учительского сообщества и всех, кого можно вовлечь в это
общенародное дело: учеников и выпускников экспериментальных школ,
преподавателей и студентов педагогических институтов и университетов, то есть объявить
на 10—12 лет общенаучно-академический «субботник» с вовлечением всех, кто
способен на это, в регулярные дежурства на консультационных пунктах, в
квалификационные и экзаменационные комиссии по отбору хорошо успевающих
учеников и посвящению их в репетиторы. Конечно же, основная тяжесть такой
временной работы ляжет на членов учительского сообщества, особенно на учителей-
классиков, и эту работу придется как-то компенсировать надбавками к зарплате,
льготами, привилегиями, как это делалось когда-то у нас в 1920-е гг. с 10-тысяч-
никами, с походами учителей в школы колхозной молодежи, в рабфаки и т.д.
Ничего особенно страшного в проблеме этой дыры мы не видим. Дело будет
трудное, хлопотливое, но закрыть эту дыру можно и нужно.
Возникнет, конечно же, и вопрос о материальном стимулировании, о
финансировании института организованного репетиторства и об источниках этого
финансирования. Мы считаем, что финансировать этот институт следует из
государственного бюджета по тем же нормам и на тех же основаниях, по каким
государство финансирует деятельность научно-исследовательских институтов,
создаваемых под решение важных общесоциальных проблем. Молодость и даже
несовершеннолетие «научных сотрудников» института организованного репетиторства, их
многочисленность и текучесть, игровые моменты в деятельности репетиторов не
должны рассматриваться как поводы для скудного и непостоянного
финансирования. Законодательные и исполнительные органы развитой страны,
правительство, министерство финансов должны быть едины в понимании того, что
институт организованного репетиторства ежечасно ведет исключительно важное для
судеб страны, рассчитанное на сотни лет долготное социобиологическое
исследование, прерывать которое нельзя ни в коем случае, и это исследование вполне
заслуживает обильного финансирования в порядке инвестиций в будущее страны,
поскольку от его нормального хода и текущих результатов зависит, сколько,
какого качества, в какие сроки общество будет получать ученых-исследователей и
прикладников-взрослых, способных во всех терминалах взрослой деятельности
оперативно использовать новые элементы научного знания для повышения
качества этой деятельности. Достижение такого единства высоких инстанций в
понимании характера и целей деятельности института организованного
репетиторства — одна из важнейших задач национального центра по подготовке перехода с
экстенсивной модели онаучивания общества на интенсивную, а на переходном
периоде эту задачу унаследует национальная служба учебника-терминала.
Что бы там ни говорили спецы по морали и этике, но стремление иметь
собственные честно заработанные деньги, которые можно тратить по собственному
усмотрению, появляется у детей еще в дошкольном возрасте, сопровождает
взрослеющих детей в школе и за ее пределами практически всю жизнь. Но у детей это
стремление особенно сильно. Ребенка можно баловать, дарить ему игрушки,
закармливать сладостями, но отбить у него охоту иметь собственные деньги и
тратить их по собственному разумению и усмотрению практически невозможно. Это
выявляется и в большом и в малом. Если дать послушному ребенку деньги на
мороженое, он может быть и купит мороженое, но если ему же дать деньги без
определения, на что именно они даны, то взрослому никогда не угадать, на что
именно они будут истрачены, только по лицу ребенка будет ясно, что
перспектива самостоятельного выбора доставит ему куда больше удовольствия, чем
обусловленный взрослым способ траты. Сама мысль утилитарно использовать это
стремление к заработку и к возможности тратить заработанное по собственному
усмотрению может показаться кое-кому ревизией принятых норм и установок и
уж конечно весьма сомнительной, льющей воду на какую-то подозрительную
История европейской культурной традиции и ее проблемы 699
мельницу. Мы же исходим из древней эмпирической максимы, что если человека
смолоду не научить различать свое и несвое, уважать свой труд и ценить
заработанную собственным трудом копейку, то он всю жизнь плохо будет разбираться
во всех этих тонкостях, особенно когда речь идет о несвоем. Поэтому мы и не
видим ничего преступного в том, чтобы попытаться использовать стремление
детей к самостоятельному «взрослому» заработку, как постоянно действующий
стимул нормального функционирования института организованного
репетиторства. На чистом энтузиазме институт этот долго не протянет, а ему в принципе
следует быть долго и преемственно живущим.
Заработная плата репетитора должна складываться из гарантированного
минимума и гонорарных начислений за листки-описания дежурств с телефонными
звонками и посещениями учеников клиентов. Гарантированный минимум должен
быть на уровне студенческой стипендии или чуть ниже, чтобы не вызывать у
репетиторов, выбирающих постшкольные переходы Ту-Тд-Тг отрицательных
эмоций, а гонорарные начисления не следует ограничивать каким-то потолком,
поскольку и в репетиторском деле могут начать обнаруживаться крайне ценные для
общества талантливые люди, способные толково и доходчиво объяснять трудные
вещи и потому пользующиеся особой популярностью у учеников. Приводить
таких людей к единому знаменателю — не в интересах общества, поскольку из
них могут в будущем получиться выдающиеся люди, предмет национальной
гордости. Словом, репетитор в его признанной обществом способности честно
зарабатывать «взрослые» деньги должен стать для всех школяров действенным
стимулом повышения успеваемости во вполне достижимой надежде самому стать
репетитором. И этот ход мыслей учеников нужно всячески приветствовать,
подчеркивая высокий статус репетитора в параакадемической структуре. Не следует
бояться перепроизводства репетиторов, накладывать ограничения на число
посвящаемых в репетиторы. Чем больше их будет среди учеников, тем доступнее и
притягательнее будет казаться ученикам идеал сверстника, способного самостоятельно
и вполне законно учиться и зарабатывать «взрослые деньги».
Вторую группу проблем переходного периода, как уже упоминалось, мы
связываем с нормализацией условий работы учителей, прежде всего с сокращением
численности В групп до оптимальной в 10—12 человек.
В условиях всеобщего и обязательного образования и у нас и в других
развитых странах социальный статус профессии учителя и школы вообще постепенно
снижался, что в общем-то объяснимо: учительская профессия стала массовой, а
школа — всеобщей и обязательной. Это снижение социального статуса учителей
и школы во многих странах вызывает попытки снизить расходы на образование
по множеству самых разных параметров от числа квадратных метров аудиторной
площади на ученика до числа учителей на ученика. Первое ведет к постоянной
нехватке школьных аудиторий, хотя в принципе за шесть лет, которые проходят
с момента рождения ребенка до его входа в составе волны сверстников в первый
класс, общество вполне могло бы построить нужное дополнительное количество
школ или привести в порядок существующие, точно зная численность волны В
групп сверстников. Второе ведет к росту численности В групп сверстников.
Сегодня этот процесс всестороннего ужимания школы дошел до какой-то
критической точки, как если бы развитому обществу стало вдруг все равно, кто, чему, как
и в каких условиях учит детей в школе, лишь бы на выходе они получали
соответствующий документ об окончании общеобразовательной школы, без которого
даже вот и в армию-то призывать остерегаются.
Переход на интенсивную модель онаучивания, где на интенсивном школьном
переходе учеников почти сразу встретит «колода» из 6—7 курсов родного и
инородных языков, неизбежно станет поводом для серьезного разговора об условиях
деятельности учителей и особенно учителей-словесников. Дело в том, что изучать
инородный язык, да и родной тоже, в В группах по 40 учеников можно только
для «галочки», а практически бессмысленно: никаких устойчивых результатов не
700
M.К. Петров
получится. Многолетней практикой гимназий и современных институтов
иностранных языков давно доказано, что оптимум достигается где-то при
численности В группы в 5—6 человек, а предел устанавливается численностью В группы в
14—15 человек. Параллельное движение по учебникам «колоды» практически
исключит типичный для современной школы маневр, когда половина группы
остается, скажем, на английский, а вторая половина переселяется в другую аудиторию
на немецкий. Словом, здесь как ни комбинируй, а нужно возвращаться к норме
в 10—12 учеников в В группе, хотя и эта норма не так уж близка к оптимуму.
Понятно, что это вызовет резкий скачок численности учительского
сообщества, умножит программы строительства школ, но это чисто количественные
проблемы, связанные с тем, что в 3—4 раза увеличится число В групп на школьном
переходе Тп-Ту и соответственно возрастет потребность в учительских кадрах А.
Длительности подготовительного периода вполне достаточно для решения этих
проблем, тем более, что учителей-то для интенсивного перехода Тп-Ту придется
готовить по новым программам, и пока они не будут подготовлены в должном
числе, открывать всеобщее движение по интенсивному переходу нельзя, можно
только экспериментировать на ограниченном контингенте очередных волн
сверстников.
Выходит, таким образом, что подавляющая часть проблем, непосредственно
связанных с резким увеличением числа В групп в ежегодных волнах сверстников
и созданием нормальных условий их академического движения по интенсивному
школьному переходу Тп-Ту, должна будет решаться на подготовительном периоде,
а качество решений обкатываться в экспериментальных школах, тогда как на
переходном периоде должен будет отрабатываться новый способ жизни и
деятельности учительского сообщества в наличном Ту-окружении, в глазах которого
профессия учителя — отнюдь не престижная профессия. Зарабатывает учитель
значительно меньше, чем, скажем, горняки, нефтяники, водители автобусов и
троллейбусов, дворники, торговые работники, работники сферы услуг, дети которых
учатся у него и, пока действует современная инфраструктура, пропитанная
непотизмом, смотрят из-за своих парт на учителя через оптику своих родителей,
дедушек и бабушек, видят в учителе не сурового и беспристрастного Петра,
который пропускает в рай взрослой жизни успевающих праведников, тогда как
неуспевающих грешников совсем в другое место, а зажатого в клещи родными и
знакомыми болтуна, который, что бы он там не вещал у доски, все равно откроет
дверь в райские кущи взрослой жизни под совокупным давлением родителей,
знакомых и страха перед академическим ЧП.
Срыв инфраструктуры первой всеобщей волной первоклашек на 50—60 лет
сам по себе следует в данном случае рассматривать как факт положительный и
как реальную возможность изменения социального статуса учителя и школы, но
срыв этот не отменяет, естественно, ни родителей, ни бабушек и дедушек. Срыв
инфраструктуры не отменит и их устоявшихся представлений о том, что есть
учитель и что есть школа. А представления эти не будут так уж охотно и готовно
меняться в соответствии с постановлениями высоких инстанций о том, как теперь
должно понимать социальное положение учителя и школы. Переход «из грязи да
в князи» никогда не пользовался в иерархии социальных статусов особым
почитанием, всегда оставлял надежду сторонникам сложившейся иерархии статусов,
что нувориш-выскочка на чем-нибудь да «проворуется», «покажет свое истинное
нутро». А способов поставить «человека не на своем месте» в глупое положение
изобретено великое множество, и некоторые из них оставшиеся не у дел члены
сорванной инфраструктуры могут пустить в ход даже не из каких-то злостных
побуждений, а просто потому, что срыв инфраструктуры не отменит ни чувств
родителей к детям, ни чувств бабушек и дедушек к внукам и внучкам. А чувства
эти, их взаимность, явно будут болезненно подрываться и появлением на
школьном переходе нового авторитетного и привлекательного ориентира: репетитора —
хорошо успевающего ученика, умеющего зарабатывать честным путем «взрослые»
История европейской культурной традиции и ее проблемы 701
деньги, и потерей общего языка, взаимопонимания с учителем, с которым вчера
еще все было просто: мы тебе по силе наших возможностей, а ты нам проходной
балл для нашего подопечного.
Поэтому мы, к примеру, не считаем, что приуроченный к началу всеобщего
движения по интенсивному переходу Тп-Ту простой указ высокой инстанции о
повышении учителям заработной платы до среднемесячного заработка горняка,
скажем, или водителя троллейбуса сразу поставит все на место: резко поднимет
социальный статус учителя и произведет переворот в чувствах и представлениях
родителей, бабушек и дедушек. Скорее напротив, как раз тут и начнутся
неясности. Из того факта, что подобный указ необходим и ничего без него в
социальном статусе учителя и школы не изменится, какие бы правильные и красивые
слова ни говорились в адрес учителей и школы, вовсе не следует, что сразу все
переменится. Подобный указ только наметит да и то весьма приблизительно и
ориентировочно, «пунктиром», так сказать, тот уровень, на котором следовало бы
располагаться социальному статусу учителя и школы, а действительный подъем
учителей и школы на этот уровень в сложившейся иерархии статусов — совсем
другое и явно проблемогенное дело.
Начать с высоких инстанций, коллегиально или иным способом
принимающих решения общесоциальной значимости от имени и по поручению всего
взрослого населения страны, делегирующего им свое право решать подобные вопросы.
Укомплектованы эти высокие инстанции обычными людьми, имеющими семьи,
детей, возможно внуков и внучек, то есть людьми, в той или иной мере
задействованными в сложившейся параакадемической инфраструктуре. Поднять такие
инстанции на разовое решение не так уж сложно: достаточно предложить
комплектующим их взрослым убедительную и доходчивую аргументацию, напирая на
то, скажем, что живем мы в эпоху научно-технической революции и чтобы
удержаться в первых рядах и не оказаться на обочине, должны обеспечивать
постоянное пополнение нашего научно-академического сообщества талантливыми
исследователями, имеющими прямой доступ к интернациональному потоку научной
публикации, а сделать это можно только с помощью интенсивного школьного
перехода, соответствующим образом обустроенного и имеющего более высокий
социальный статус, чем ныне действующий экстенсивный школьный переход.
Для разового акта решения такое нехитрое логическое построение может
оказаться достаточным. Но приняв под давлением такой аргументации тот же указ о
повышении заработной платы учителей до уровня среднемесячного заработка
горняка или водителя троллейбуса, комплектующие инстанцию люди разойдутся по
домам и, хотят они того или нет, но окажутся в обычных семейных тревогах
старших по поводу младших и прежде всего по поводу детей или внуков и внучек,
которые вот и учатся не так, как хотелось бы, и стремятся куда-то не туда, куда
хотелось бы, и мысли высказывают хотя и детские, но все равно незрелые, не
такие, какие хотелось бы, какие им прививаются в семье, а какие-то явно
подозрительные и даже крамольные, явно чуждого происхождения. Словом,
начинается обычная карусель в голове, когда чувств и эмоций много и на логику им
решительно наплевать. Вот здесь и начнет выявлять свою проблемогенную
функцию только что принятое решение. На второй план отойдет и научно-техническая
революция и исследователи и прямой доступ к интернациональному потоку
научной литературы, если, скажем, сын или внук принес из школы двойку. А
продолжаться такое будет не месяц и не год, а 50—60 лет, во всяком случае вполне
достаточно, чтобы замутить исходную ясность мысли, которая была в момент
голосования указа.
И так будет происходить во всех семьях, а не только в тех, которые
непосредственно причастны к высоким инстанциям, но и еще в большей степени в
семьях, взрослые которых делегировали свое право участвовать в выработке
решений общесоциального значения высоким инстанциям, но реально в этом
процессе участия не принимали и уже поэтому могут и не знать нюансов аргументации,
702
M. К. Петров
которая определила принятие этого закона или указа. И здесь тоже взрослые
могут даже с восторгом принять соответствующий закон или указ, но когда он
начнет действовать, отношение к нему может резко измениться. В предвидении
такого оборота дел древние в подобных случаях поднимались даже на
откровенный фетишизм. В 403 г. до н.э. после свержения «Тридцати тиранов» и
восстановления демократии, афиняне, например, приняли «закон о законах»:
«Неписаным законом не пользоваться ни в коем случае. Ни одному постановлению ни
Совета, ни народа не иметь большей силы, чем закон» [189, с. 309]. В наше время
ни в одной развитой стране подобные решения невозможны, но необходимость
в них явно не исчезла, особенно когда речь заходит об общенародных
предприятиях, требующих на реализацию значительного времени. В нашем случае
переходный период потребует, чтобы комплекс законов и указов, принятых высокими
инстанциями по поводу перехода с экстенсивной модели онаучивания общества
на интенсивную, был каким-то способом заморожен на 50—60 лет и допускал
только те изменения, в основе которых будут лежать не жалобы, петиции,
пожелания взрослых с экстенсивным Ту, в какие бы убедительные формы они ни
облекались, а только данные долготного исследования, проводимого репетиторами
и обрабатываемые национальной службой учебника-терминала. Практически
сделать это можно только в том случае, если высокие инстанции исключат на время
переходного периода из собственной юрисдикции все проблемы, относящиеся к
интенсивному школьному переходу Тп-Ту, делегируют соответствующие права и
проблематику национальной службе учебника-терминала и официально публично
переадресуют поток писем взрослых с жалобами, пожеланиями, требованиями,
предложениями относительно системы образования в эту службу, где совету
национальной службы учебника-терминала с помощью образованных для этой цели
комиссий и комитетов придется разбираться с потоком писем взрослых,
оценивать их в терминах текущих результатов долготного исследования контингента
учеников, принимать и публиковать соответствующие решения в основном,
понятно, отрицательные, но вместе с тем и дающие конкретные данные для гибкой
политики в защиту принятых законов и указов от любых посягательств взрослых
экстенсивного образца помешать реализации полной интенсивной модели
онаучивания общества. К тому же в письмах взрослых могут обнаружится и ценные
мысли и предложения. Поэтому длительный диалог национальной службы
учебника-терминала со взрослым населением страны вовсе не обязательно будет
разговором глухих, особенно если публикация решений по письмам взрослых будет
сопровождаться развернутыми объяснениями в пользу принятого отрицательного
или, тем более, положительного решения.
Наиболее болезненной для взрослых экстенсивного образца будет понятно,
потеря в глазах учеников статуса обладателей атрибута всеведения — близких
людей, к которым, начиная с этапа «от 2 до 5» и до выпускного экзамена в школе
всегда можно обращаться с любым вопросом и получить на этот вопрос
вразумительный ответ или, в крайнем случае, точное указание, где и как можно найти
правильный ответ. Вот сейчас, например, стоит за моей спиной внук и в полной
уверенности, что деду-то заведомо известно это правило, допрашивает меня,
какой чертой — прямой или волнистой — подчеркнуть разделительный мягкий
знак в слове «друзья». И когда я говорю ему, что этому нас не учили, он мне
определенно не верит, а я чувствую себя обделенным по части подчеркивания
разделительных мягких знаков и думаю, что не я один такой бедолага, что по
всей стране наверно сидят такие же вот деды и чешут в затылках, вспоминая,
учили их или не учили подчеркивать разделительный мягкий знак, а если учили,
то какой чертой — прямой или волнистой, — ведь во всех школах страны от
Калининграда до Владивостока учат по одному и тому же учебнику и задают одни
и те же упражнения, так что моя ситуация наверняка не уникальная. Думаю я и
о том, и это уже ближе к тому, что я пишу сейчас на листе бумаги, что в
принципе-то я сторонник, как и большинство в моем возрасте, самостоятельной ра-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 703
боты учеников над домашними заданиями и очередное появление внука за
спиной далеко не всегда приводит меня в благодушное настроение, особенно когда
я занят и работа меня увлекает, но принципы принципами, а если бы я лишился
этих деловых визитов внука, у которого то задача не получается, то Марафонское
сражение путается с бегом на марафонские дистанции, то насчет кометы Галлея
появляются свои соображения, мне бы пришлось туго, в самом смысле моего
существования что-то определенно потерялось бы. И пытаясь понять, как в
подобных условиях могут повести себя экстенсивные взрослые моего возраста в
будущем, я без особого, как мне кажется, риска ошибиться, ссылаюсь на свой
собственный опыт включенности в инфраструктуру наибольшего
благоприятствования ученикам школы.
Такая экстраполированная на будущее генерализация частного случая хромает,
понятно, на обе ноги, но, мне кажется, что срыв этой непосредственной и
доверительной связи с школьником-внуком или школьником — сыном, дочерью, где
я выступал всегда в роли последней инстанции и высшего, обладающего
атрибутом всеведения авторитета в любых затруднениях ученика и все неясности
разрешались с моей помощью, оказался бы болезненным прежде всего для меня, а
затем уже и для ученика, который методом постоянных проб моей способности
все знать и постоянных неудач рано или поздно установил бы к своему
огорчению и разочарованию, что искать ответа на вопросы нужно не у старших, а где-то
в другом месте — лучше всего в учебниках, а в крайних случаях у репетиторов.
По молодости лет школьник, понятно, не будет воспринимать эту ситуацию,
навязываемую ему реформой школы, смену ориентации с одних конечных
инстанций и высших авторитетов (старшие) на другие конечные инстанции и
высшие авторитеты (учебники, репетиторы) трагически, примет такую смену
ориентации как данность, которую приходится принимать без лишних вопросов и
эмоций как нечто естественное, хотя и явно разрушающие его личные, наладившиеся
было связи с семьей и старшими, то есть воспримет как данность то, что до
школы было так, а со входом в школу стало иначе. У нас в этом отношении
богатый опыт: после революции 1917 г. все школьники примерно до конца 1930-х гг.
проходили в своих волнах В групп сверстников школьный курс в ситуации
ощутимого разлада со старшими, когда ученикам постоянно приходилось совершать
выбор между тем, чему учат в школе, и тем, чему учат в семье старшие, что и
заканчивалось не так уж редко трагически, достаточно вспомнить о Павлике
Морозове, памятники которому стоят сегодня повсюду. В случае с переходом на
интенсивную модель онаучивания такого накала страстей по поводу выбора
школьником семейных или школьных ценностей явно не произойдет — из подосновы
возникающего конфликта с семьей будут убраны ужесточающие этот конфликт в
революционных ситуациях классовые антагонизмы. Но почва-то для конфликта
все-таки останется. Старшие, онаученные по интенсивной модели
взрослые-моноглоты, вовсе не обязательно будут безучастными наблюдателями процесса
распада семейных воспитательных связей.
Если бы дело шло только о моей личной реакции, то все было бы ясно: я
предложил перейти на интенсивную модель онаучивания и попытался обосновать
необходимость такого перехода, убедил самого себя, что другого достойного
выхода из создавшейся глобальной ситуации нет. И я конечно же остался бы
сторонником интенсивной модели онаучивания общества на всем переходном
периоде, доведись мне пережить такое, независимо от остроты семейного
конфликта. Но ситуация существенно изменилась бы, если бы подобный проект
предложил бы не я сам, а какой-то другой человек. Здесь уже в силу вступило бы мое
неотъемлемое право на интерпретацию и реинтерпретацию, какими бы
убедительными мне ни казались аргументы этого другого. Согласившись в принципе
и с доводами этого другого и с соответствующим комплексом законов и указов
высоких инстанций относительно перехода с экстенсивной модели онаучивания
на интенсивную, я бы под давлением нарастающего отчуждения учеников и соб-
704
M.К. Петров
ственной беспомощности объяснить им, что и к чему в их школьных огорчениях
и заботах, волей-неволей смещался бы в критическую позицию по отношению к
интенсивной модели онаучивания, стал бы придирчиво искать слабости и
прорехи в аргументации активных сторонников интенсивной модели и конечно же
обнаруживал бы их во множестве, если и не в основных устоях модели — прямой
доступ, гласность, свободная миграция исследовательского таланта, то во всяком
случае в предлагаемых путях достижения этих конечных целей.
Поскольку я для всех кроме себя самого «этот другой», то мне приходится
входить в детали возможных интерпретаций и реинтерпретаций того
подавляющего большинства онаученных по экстенсивной модели взрослых, которое волей-
неволей будет становиться в критическую позицию по отношению к интенсивной
модели онаучивания общества, и оценивать эти интерпретации и
реинтерпретаций в терминах их опасности для нормального протекания переходного периода.
Поскольку же события эти будут развертываться, по всей вероятности, когда моей
возрастной волны сверстников уже не будет, то вместо себя самого мне придется
подставить национальную службу учебника-терминала, которая конечно же будет
в своей коллегиальной мудрости много умнее меня и к тому же получит опору
со стороны института организованного репетиторства, который будет постоянно
снабжать ее генерализуемыми данными о текущей обстановке на интенсивном
школьном переходе Тп-Ту, о действительных проблемах академического движения
учеников и о проблемах мнимых, что позволит службе более четко и оперативно
реагировать на ту критику, которая наверняка будет содержаться в письмах
взрослых по поводу их отношений с учениками-младшими.
В общем-то, нам кажется, ничего особо страшного, угрожающего срывом
процесса реализации интенсивной модели онаучивания на переходном периоде
произойти не должно. Во-первых, уже к началу переходного периода
экспериментальные школы и постшкольные переходы Ту-Тд-TY успеют доставить в
терминалы науки какое-то количество усеченных полиглотов, которые наглядно будут
демонстрировать исследователям экстенсивной формации преимущества прямого
доступа к интернациональному потоку научной литературы перед доступом,
опосредованным переводчиками и референтами, а это явно будет сковывать фантазию
и изобретательность членов национального научно-академического сообщества,
от которых мы ожидаем наиболее чувствительных и опасных для полной
реализации интенсивной модели ударов, и снижать полемическую остроту критики в
их письмах о событиях в их семьях и о возможных способах восстановления
привычной нормы.
От самой опасной составляющей в потоке писем взрослых — от писем членов
национального научно-академического сообщества, где может даже ставиться под
вопрос научная состоятельность основных идей интенсивного способа
онаучивания общества, коль скоро тот анализ текущей глобальной ситуации, который мы
предложили может за 20—30 лет претерпеть и некоторые изменения, —
национальной службе учебника-терминала придется обороняться с помощью самых
светлых и изворотливых умов, которые она сможет обнаружить среди тех же
самых членов национального научно-академического сообщества и вовлечь на
своей стороне в бесконечную дискуссию-полемику. Возможно, что в крайних
случаях придется использовать и ту дискриминационную практику, которой
пользовались Королевское общество и «Философские записки» в XVII—XVIII вв.,
отклоняя доклады и рукописи простым указанием на то, что они идут вразрез с
целями, ради которых создано Королевское общество и которые зафиксированы
в хартии, скрепленной королевской печатью [195]. В общем-то сегодня мы только
можем предполагать, что где-то на подготовительном и на переходном периодах
общей длительностью около сотни лет могут появляться очередные «машинные»
поветрия, в которых «почти решенные» проблемы перевода, например, или
прямого доступа или машинной идентификации возникающих на переднем крае
исследования проблем будут выдаваться за «решенные», производя соответствую-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 705
щую сумятицу в умах, слабо защищенных против выявлений комплекса
Архимеда, где атрибут всеведения используют как точку опоры. В предвидении таких
поветрий, застрельщики которых всегда объявляют реализованными или почти
реализованными (в умозрении, конечно) цели, предполагающие, что атрибут
всеведения достижим для человека, полезно было бы поставить этот атрибут
всеведения в единый ряд с вечным двигателем, с преобразователем с КПД в 100%, с
безлаговым Т-континуумом и другими абсолютами, использовать которые в
качестве ориентиров и стремится приблизиться к которым полезно, но объявлять
их достижимыми или хотя бы почти достижимыми — нелепо, и именно по
основанию скрытого или явного присутствия комплекса Архимеда пресекать те
«машинные поветрия», которые будут мешать полной реализации интенсивной
модели онаучивания общества.
Мы говорим о вероятности появления «машинных» поветрий в среде членов
национальных научно-академических сообществ не столько потому, что в разных
обликах комплекса Архимеда они довольно регулярно появляются во второй
половине XX в., сколько потому, что атмосфера, в которой зарождаются такие
поветрия, неустранима из науки и из научной политики, которая стремится теснее
связать с текущими нуждами общества и сделать науку более эффективной в
экономических терминах затраты-вы годы. Поскольку глобальный поток научных
публикаций не может прерваться, а научные журналы, публикующие рукописи
исследователей, будут и впредь в каждом акте допуска рукописи к публикации
использовать процедуру оценки потенциальных возможностей рукописей, меру ее
будущего участия в появлении новых рукописей — процедуру явно тяготеющую
к комплексу Архимеда с точкой опоры на атрибуте всеведения (редакторы и
рецензенты не могут предвидеть место публикуемой сегодня работы в ранговом
айсберге цитирования лет через 10—20), то эта практика допубликационной
оценки рукописей на их потенциальную значимость, к которой причастны все члены
научно-академических сообществ в роли привратника (редактора, рецензента,
оппонента, члена ученого совета), порождала, порождает и будет порождать
попытки пробить завесу непредсказуемости поведения публикуемой сегодня работы в
потоке цитирования, который пойдет от работ, еще не опубликованных, и
попытки этого рода всегда будут поощряться инстанциями научной политики, перед
которыми всегда стоит производная от редакционной практики [185] задача,
содержащая все тот же комплекс Архимеда, как оперативно и по возможности
надежно выявить в глобальном интернациональном потоке научной публикации
наиболее обещающие, «актуальные», «перспективные» образующие, чтобы
усиленно финансировать не научную деятельность вообще, а только те терминалы
научной деятельности, в которых окупаемость инвестиций в научную
деятельность была бы и кратчайшей и наиболее эффективной.
Этот работающий в режиме положительной обратной связи тандем:
редакционная практика — научная политика, пока он функционирует, а
функционировать он, надо полагать, будет долго — надо и рукописи публиковать и науку
финансировать, — будет неизбежно генерировать попытки логически освоить
непредсказуемость на компьютерной основе, что делает неустранимой вероятность
появления «машинных» поветрий. Эти поветрия могут возникать и за пределами
национальных научно-академических сообществ, в среде прикладников,
например, но с такими поветриями бороться будет проще, поскольку здесь комплекс
Архимеда будет много труднее замаскировать «самоочевидными» постулатами и
допущениями типа тех, которые вводятся «отчаянными кибернетиками» [26].
Письма же взрослых, не занятых в терминалах науки, вряд ли вообще будут
содержать широкие теоретические обобщения с постулатами и допущениями и
будут, по всей вероятности, строиться на конкретных фактах и их неправомерной
генерализации, что сделает их практически безопасными для нормального хода
реализации интенсивной модели при некотором уровне постоянной пропаганды
45 М.К. Петров
706
M. К. Петров
силами национальной службы учебника-терминала по ходу постоянных
дискуссий в своих периодических изданиях.
Далее, следует отметить и то, что трудной для национальной службы
учебника-терминала будет только начальная часть переходного периода. Лет через 20—25
после начала движения по интенсивному школьному переходу Тп-Ту, когда
полные полиглоты начнут в составе своих волн сверстников регулярно входить во
все терминалы взрослой деятельности и вырабатывать в терминалах способ
вынужденного временного сотрудничества полиглотов и моноглотов, все дискуссии
об интенсивной модели онаучивания начнут принимать явно другую форму.
Спорить и полемизировать уже будут не о том, быть или не быть интенсивной модели
онаучивания общества, а о том, как с наименьшими потерями и взаимными
ущемлениями наладить мирное сосуществование под единой крышей терминала,
будь то завод или строительная площадка, поле или ферма, предприятие или
контора, между набирающими численность, силу и влияние интенсивными
полиглотами и постепенно уходящими из терминалов, теряющими и численность и силу
экстенсивными моноглотами. Длиться это будет лет 40—50, пока на пенсию
торжественно не проводят последнего экстенсивного моноглота.
Конечно, сам этот процесс вынужденного сожительства людей разных типов
культуры вряд ли будет идиллическим и безоблачным. Старшие, как это всегда
наблюдалось в истории человечества, всегда будут в чем-то обижены поведением
молодежи и излишне часто напоминать младшим, как это совсем по другому
было в их молодые времена, младшие будут время от времени огрызаться, но за
исключением некоторых терминалов, прежде всего учительских, эти взаимные
претензии старших экстенсивных моноглотов и младших интенсивных
полиглотов будут уже не спецификой переходного периода переориентации общества с
экстенсивной на интенсивную модель онаучивания, а простым, хотя и
болезненным отклонением от нормы процесса смены поколений в терминалах взрослой
деятельности.
Учительское терминальное сообщество и соответствующую группу
специализированных учительских терминалов (русский язык и литература, физик, химик,
биолог и т.д.) мы выделяем в особый случай в анализе проблем переходного
периода не столько потому, что профессиональная структура учительского
сообщества, одного из наиболее многочисленных терминальных сообществ в любой
развитой стране, радикально изменится, как об этом уже говорилось в описании
проблем подготовки кадров А для интенсивного школьного перехода в анализе
проблем подготовительного периода, сколько потому, что здесь вытеснение
экстенсивных учителей должно будет совершаться значительно более быстро, чем в
других терминалах, не на периоде в 40—50 лет, а в темпе движения первой
всеобщей волны первоклашек по интенсивному школьному переходу Тп-Ту, то есть
лет за 10—12. Это раза в четыре быстрее, чем норма процесса смены поколений
в подавляющем большинстве других терминалов, и, соответственно, острота
чувств и эмоций, конфликтов и контраверзий будет в учительском терминале
повышенной, поскольку выработать какой-либо разумный способ длительного
сосуществования учителей экстенсивного и интенсивного школьных переходов
практически невозможно.
Продвигаясь по учебным годам интенсивного школьного перехода Тп-Ту
первая волна В групп сверстников будет автоматически сметать с пути всех
экстенсивных А предыдущей волны В групп сверстников, которая завершит период
господства экстенсивной модели онаучивания общества и возможно даже оставит
после себя отставших от своей волны сверстников учеников, с которыми неясно
будет, что делать, тем более, что среди этих отставших, которых в нормальных
условиях подбирают последующие волны В групп сверстников, редко
оказываются хорошо успевающие ученики, а чаще «тихоходы», включать которых в
академическое движение по интенсивному школьному переходу можно будет только с
первого класса, что вряд ли целесообразно. Но это все-таки частная проблема, а
История европейской культурной традиции и ее проблемы 707
главное, что нас интересует, — это последовательное, в темпе движения первой
волны первоклашек по интенсивному Тп-Ту выбивание всех подряд экстенсивных
А из учительского сообщества с их обжитых мест, хотя здесь в самом худшем
положении окажутся молодые учителя, недавно окончившие педагогические
институты и год-два проработавшие в роли А на экстенсивном школьном переходе
Тп-Ту.
Речь, понятно, не пойдет о каком-то совершенно неожиданном для
экстенсивных учителей событии: достаточно продолжительный подготовительный
период и соответствующая разъяснительная деятельность национального центра по
подготовке перехода с экстенсивной модели онаучивания на интенсивную никого
не оставят в неведении относительно сроков и ожидаемых перемен, так что уже
поступая в педагогический институт лет за десять до намеченного срока,
абитуриент будет знать, что профессия учителя для него не будет нормальной работой
в терминале до выхода на пенсию, и если он все-таки поступит в педагогический
институт, то будет готов к неизбежным переменам хотя бы морально, не окажется
в шоке от того, что произойдет с проходом при его участии последней волны В
групп сверстников по экстенсивному школьному переходу. К этому времени
будут конечно же организованы для молодых, далеких от пенсионного возраста
учителей курсы переподготовки при тех же педагогических институтах. Но
процесс дренирования со школьного перехода первой волной В групп сверстников
учителей А экстенсивной формации вызовет такой быстрый рост числа
оставшихся не у дел учителей, а переподготовка для большинства учителей окажется такой
сложной, что вряд ли все в принципе для них обойдется потерей двух-трех лет
на переподготовку и многим учителям придется эмигрировать из учительского
сообщества в другие терминальные сообщества с частичной или полной потерей
специальности по образованию.
Среди многих других проблем переходного периода проблема экстренного
трудоустройства многочисленной массы устраняемых со школьного перехода
экстенсивных учителей будет, возможно, ядовитой по вероятным последствиям.
Эмигрируя из учительского сообщества в поисках работы в другие терминалы,
они конечно же и сами будут стремиться и общество через краткие курсы
переподготовки будет помогать им в этом трудоустроиться в терминалах, близких по
типу деятельности к их школьным терминалам, а терминалы такого
интеллектуального рода располагаются преимущественно в сфере культуры, а не
производства. Наиболее решительные и не успевшие еще увязнуть в рутине учительской
деятельности уйдут в производство и натурализируются в его терминалах тем же
примерно способом, каким сегодня пестрая по профессиональной подготовке
молодежь уезжает на комсомольские стройки, осваивает новые профессии и на
закате жизни отнюдь не считает эти перемены в жизни самыми мрачными
страницами в своей личной истории. Но большинство явно предпочтет
интеллектуальные виды деятельности в терминалах средств массовой коммуникации, искусства,
литературы, где им постоянно будет докучать нехватка профессионализма, но
всегда будет помогать опыт терпеливой проверки тетрадей учеников и объяснения
ученикам трудных для понимания мест. Соответственно, в культуре переходного
периода будет наблюдаться более или менее четко выраженная «учительская»
струя повышенной назидательности при невысоком профессионализме, а
поскольку обе эти тенденции мы наблюдаем сегодня в искусстве и в литературе, в
журналах и на экранах кино и телевидения, экс-учителя в общем-то впишутся в
общий поток не очень увлекательного и богатого идеями, необычными ходами
мысли, зато назидательного и кого-то определенно воспитывающего показа
картин жизни.
Но проблемогенным и непредсказуемым по своим выявлениям фактором
будет у этой группы экс-учителей, осевших и натурализовавшихся в терминалах
культуры на правах авторов, редакторов, рецензентов, негласных законодателей
моды, стиля и вкуса, будет то обстоятельство, что юность и молодость, школьные
45*
708
M.К. Петров
и студенческие годы прошли у них в эпоху господства экстенсивной модели
онаучивания общества, а этот возрастной период обычно формирует у человека на
всю жизнь нормы и предпочтения, идеалы и формы предсказуемой реакции в
стандартных да и нестандартных ситуациях, формирует человеческий характер.
Поэтому ожидать от этой группы экс-учителей активной помощи в деле полной
и окончательной реализации интенсивной модели онаучивания было бы наивно
и нереально, ожидать скорее приходится неявной, но действенной обструкции на
среднем, так сказать, уровне редакторов, рецензентов, инстанций, формирующих
культурную политику не на уровне конечных целей, а на уровне издательских
планов, редакционных портфелей, доработки рукописей, точек, запятых и других
знаков препинания, общий смысл которой будет состоять в том, чтобы усечь, а
при подходящем случае и пресечь критику в адрес экстенсивной модели
онаучивания, без которой национальной службе учебника-терминала не обойтись в
пропаганде интенсивной модели онаучивания общества, и, соответственно, всячески
поддерживать критику в адрес интенсивной модели онаучивания и хода ее
реализации, помогая авторам критических романов, повестей, рассказов, реприз,
сценариев довести их сомнения и недоумения по поводу происходящего до
предельной ядовитости и остроты. Бороться с этой «учительской струей» в массовой
культуре или «попкультуре» национальной службе учебника-терминала будет
трудно: ярких и выдающихся представителей у этой «школьной струи», похоже,
не будет, а реальные ее оформители на уровне редакторов, рецензентов,
составителей планов, хранителей редакционных портфелей всегда будут оказываться за
пределами критических замечаний в свой адрес.
Но каких бы талантливых авторов ни привлекала на свою сторону или ни
интерпретировала в своих терминах «школьная струя» для чего у нее будут
некоторые возможности, производные от того, какая доля экс-учителей приживется и
натурализируется в терминалах культуры, внятно высказать свое кредо, сказать
окружающим взрослым что-нибудь большее, чем «хочу назад в свои школьные и
студенческие годы», эта «школьная струя» не сможет, поэтому ее критика
интенсивной модели онаучивания общества, какой бы силы она ни достигала, не
сможет подняться выше общего неблагоприятного бесструктурного воздействия на
социальную атмосферу, на социальный настрой, сопутствующий реализации
интенсивной модели. Реальные опасности могут возникать только по поводу
очередных «машинных» поветрий, если то или иное обходное решение на базе
вычислительной техники не будет своевременно разоблачено как очередная
вариация комплекса Архимеда, станет всерьез претендовать на практическое машинное
решение проблем прямого доступа, гласности, свободной миграции таланта,
идентификации проблематики на переднем крае исследований и т.д., и эти
лжеперспективы вдруг увлекут экс-учителей, но вероятность такого совпадения
интересов неуемных, взыскующих всеведения покорителей непредсказуемости
логико-математическими методами и экс-учителей не так уж велика, и вряд ли такой
гетерогенный союз вообще может осуществиться: тоска по прошлому в общем-то
противопоказана тоске по предсказуемому будущему, так что обе составляющие
такого гипотетического союза тянули бы в разные стороны.
В отличие от проблем экс-учителей, связанных в основном с эмиграцией из
учительского терминального сообщества и освоением терминалов
интеллектуальной деятельности схожих в чем-то с терминалами А на школьном всеобщем
переходе, проблемы последних ежегодных волн В групп сверстников, проходящих по
доживающему последние учебные годы экстенсивному школьному переходу, не
кажутся нам потенциально опасными для реализации интенсивной модели и
обладающими какой-то четко выраженной спецификой, позволяющей выделить эти
проблемы в особую группу.
На самом экстенсивном школьном переходе в последних волнах групп
сверстников должен бы объявиться у «тихоходов» растущий страх перед двойкой и
второгодничеством, перед тем фактом, что вышедших по любой причине на обочину
История европейской культурной традиции и ее проблемы 709
академического движения своей волны В групп сверстников некому будет
подбирать и заново включать в академическое движение. Последняя волна в этом
отношении обязана будет подобрать с обочины всех отставших и пройти по
школьному переходу с минимумом потерь, а еще лучше совсем без потерь, что вполне
достижимо с помощью объединенных усилий родителей, дедушек, бабушек,
экстенсивных учителей в последний год их работы, учителей сети вечерних школ,
которым еще два-три года придется обучать взрослых по экстенсивным программам.
Далее, объявятся некоторые осложнения на входе в постшкольные переходы,
особенно на студенческие и студенческо-аспирантские переходы Ту-Тд и Ту-Тд-Тг,
поскольку действующая ныне практика призыва в армию может смешать
экстенсивные и интенсивные волны и вынудить приемные комиссии в высших учебных
заведениях дифференцированно подходить к абитуриентам, но такое в истории
нашей высшей школы уже бывало при переходах школы на новые учебники и
ничего особенно впечатляющего кроме, естественно, путаницы в подсчете баллов
не происходило.
Третья и последняя проблемогенная ситуация поджидает контингент
последних волн В групп сверстников уже в терминалах взрослой деятельности, куда они
в большинстве своем придут раньше первых волн В групп сверстников —
первопроходцев интенсивного школьного перехода. Учившиеся несколько лет в одной
школе с первыми волнами, идущими по интенсивному переходу, бывшие ученики
последних экстенсивных волн лучше других будут знать, чему и как учат входящих
теперь в терминалы интенсивных полиглотов, в чем их сильные и слабые стороны.
Поэтому им, по всей видимости, придется изначально формировать модель
межличностных отношений между членами экстенсивного терминального сообщества
и входящими в него интенсивными моноглотами. Многое здесь будет зависеть от
того, в какой степени данный терминал специализированной взрослой
деятельности причастен к научно-техническому прогрессу и соответственно испытывает
нужду в прямом доступе к интернациональному потоку научной литературы. В
этом смысле крайние линии в едином спектре отношений экстенсивных
терминальных сообществ к интенсивным полиглотам будут задавать, с одной стороны,
терминалы науки, а с другой, скажем, терминалы прикладного искусства типа
сообществ поваров, портных или дегустаторов. Линии всех других терминалов будут
где-то между, поскольку текущее отношение любого терминала взрослой
деятельности к научному прогрессу и, соответственно, нужда в прямом доступе к
интернациональному потоку литературы величины переменные, зависящие от
множества обстоятельств и вовсе не обязательно должны обладать векторной, аддитивной
и кумулятивной характеристиками. Те же терминальные сообщества поваров,
например, или портных могут вдруг испытать под давлением обстоятельств острую
необходимость быть в курсе событий инородных кухонь или мод.
О реакции экстенсивных членов национального научно-академического
сообщества в роли исследователей терминальных научных сообществ Тг мы уже
говорили в другом контексте в связи с возможным появлением в терминалах науки
на подготовительном периоде интенсивных усеченных полиглотов, владеющих
четырьмя «великими языками науки». Тогда мы отметили, что при всех личностных
накладках появление усеченных полиглотов и возможность избавиться от
опосредования доступа к инородным составляющим интернационального потока
научных публикаций переводчиками и референтами неясной парадигматической
ориентации будет встречено экстенсивными исследователями-моноглотами
положительно и они охотно пойдут на тесное сотрудничество с усеченными
полиглотами ради оперативного доступа к нужным им работам, хотя, возможно, и не
встретят со стороны некоторых усеченных полиглотов-исследователей ответного
энтузиазма. Появление в этих терминалах полных интенсивных
полиглотов-исследователей не изменит общего характера первой реакции, поскольку полные
полиглоты будут в состоянии сотрудничать с экстенсивными исследователями -
моноглотами в том же объеме и в тех же целях, что и усеченные полиглоты, но
710
M. К. Петров
с помощью полных полиглотов экстенсивные исследователи получат возможность
более глубоко проникать в ход мыслей иностранных коллег по терминалу и это
конечно же будет укреплять первую реакцию, снимая попутно колебания
экстенсивных исследователей-моноглотов и через них всего национального
научно-академического сообщества в вопросе о том, следует или не следует обучать
классическим языкам в школе, превращать всех членов национального
научно-академического сообщества в активных сторонников полной реализации интенсивной
модели онаучивания общества.
Учитывая, что этому сообществу принадлежит фактическая монополия на
подготовку учебников, учебных пособий и всех А для системы образования
национального Т-континуума, а также и то, что в терминалы науки исследователи
приходят после защиты ученой степени в возрасте 32—33 лет [176, с. 46], можно
предвидеть, что от скорости натурализации в этих терминалах полных
интенсивных полиглотов будет зависеть резкий перелом выжидающего и сомнительного
отношения к интенсивной модели к полной ее поддержке, что и произойдет, если
статистика Уилсона [176] не изменится на 26—28 году с момента начала движения
по интенсивному школьному переходу Тп-Ту, но начнется несколько раньше,
поскольку многие аспиранты укладываются все-таки в предустановленный
академическими инстанциями трехлетний срок.
В том же направлении будут развиваться и реакции на появление
интенсивных полиглотов в приложенческих терминалах, где инженерно-конструкторские
и иные прикладные сообщества испытывают не меньшую, а может быть и
большую нужду в оперативном доступе к тому, что происходит в соответствующих
зарубежных прикладных терминалах. И хотя чрезмерное любопытство этого рода
сегодня всеми развитыми странами квалифицируется как та или иная
разновидность шпионажа, но все развитые страны имеют все-таки наготове или собирают
в случае необходимости группы технических экспертов, чтобы разобраться в
нелегально добытых материалах, для чего обязательно и знание языка страны, в
которой он добыт, и знание прикладной терминальной деятельности, в которой
этот материал появился, к тому же строгая секретность в большинстве случаев
лишь начальный этап в разработке и подготовке технологической или иной
новинки к массовому производству, а на подходе к началу производства положение
резко меняется — новинка патентуется, фирма-владелец выпускает для
привлечения покупателей красочные каталоги с описанием сути и достоинств новинки,
и такие каталоги и рекламные описания входят в состав интернационального
потока научной и паранаучной литературы, обладая значительной информативной
ценностью для коллег по прикладному терминалу в других странах.
Понятно, что идет ли речь о таинственном или легальном появлении
материалов, интересующих прикладное терминальное сообщество, скажем,
самолетостроителей или двигателестроителей, кораблестроителей, сварщиков, оптиков,
селекционеров и т.д. и т.п., коллеги по национальному терминальному
прикладному сообществу всегда будут рады обнаружить в своих рядах подготовленных по
их профилю специалистов, способных на месте и без потерь времени разобраться
с любыми новыми материалами и извлечь из них максимум полезной
информации, а такими специалистами как раз и будут интенсивные
прикладники-полиглоты, способные при активной помощи опытных экстенсивных прикладников-
моноглотов даже по фрагментарному намеку на суть дела в научной или
паранаучной литературе расшифровать в чем именно может состоять эта суть дела в
терминах терминальной прикладной деятельности. Иными словами, в прикладных
терминалах на уровне конструкторских бюро, лабораторий,
научно-исследовательских институтов, комплектуемых выпускниками соответствующих высших
учебных заведений с четырехлетним сроком обучения, каких-либо поводов для
появления конфликтных ситуаций между экстенсивными
прикладниками-моноглотами и входящими в терминал интенсивными прикладниками-полиглотами
обнаруживаться бы не должно.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 711
На уровне цехов, станков, предприятий, рабочих коллективов полиглоттизм
прибывающих в терминалы очередных волн пополнения не будет ощущаться ни
особым достоинством ни ощутимым изъяном входящих в терминал интенсивных
полиглотов, коль скоро они получили на определенной длительности
постшкольного перехода Ту-Тт соответствующую специальную подготовку. То есть
ассимиляция терминалом интенсивных новобранцев будет протекать без каких-либо
осложнений по бытующей в терминале норме освоения новичками специфики
терминальной деятельности. Другой разговор, как поведут себя в процессе такой
ассимиляции интенсивные полиглоты и как отнесется к их поведению
экстенсивное большинство товарищей по работе. Дело здесь в том, что интенсивные
полиглоты принесут с собой в терминал освоенный по учебнику-терминалу новый
образ науки, который радикально будет отличаться от представлений о науке у
их экстенсивных товарищей. Переведенные на язык практической терминальной
деятельности, эти различия облика науки у экстенсивных моноглотов и
интенсивных полиглотов сведутся к тому, что между ними обнаружатся резкие
различия в наборе адресов, по которым можно обратиться за помощью в тех случаях,
когда в голову рабочего придут критические соображения о наличной
терминальной деятельности, а с ними и идеи о возможностях ее улучшения, словом, в
голову придет то, что мы сегодня называем рационализаторством и
изобретательством, рабочим творчеством, инициативой снизу и другими не очень четкими по
содержанию именами.
Если такие критико-конструктивные идеи придут в голову экстенсивного
моноглота, то он, обнаружив недостаточность школьной и постшкольной
подготовки для того, чтобы довести свои ясные в общем-то идеи «до ума», до кондиций,
требуемых для официального признания его заявки на правах рацпредложения
или даже изобретения с вытекающими из этого акта признания правами на
поощрение, он, как это делается и сегодня, обратится по месту работы в отделение
ВОИР, где ему окажут, если найдут его идеи заслуживающими внимания,
квалифицированную помощь, укажут на нужных ему людей и, если повезет, доведут
дело до конца к обоюдной пользе и терминального сообщества и автора:
терминальная деятельность получит инкрементное приращение качества, а автор —
соответствующее вознаграждение. При этом ни у автора, ни у его помощников не
будет как правило возникать «экспансионистских» мыслей насчет того, нельзя ли
те же принципы, которые образуют суть рацпредложения или изобретения,
применить и в других терминалах, где действуют свои отделения ВОИР, свои
команды помощников, а если такие мысли и возникают, то они гасятся под колпаком
справедливых в общем-то опасений, что такая «экспансия» потребовала бы
непосильного для автора и помогающей ему команды выхода на более высокий
уровень признания, обозначенный ведомственными и министерскими НИИ, где
даже при самом корректном отношении к «самотеку» снизу практически любое
ценное предложение или изобретение наверняка запутается в тенетах
официальной проблематики того или иного НИИ, из которых ему уже не выбраться.
Короче говоря, «коридорные ситуации», информационно изолированные стенки,
которые устанавливаются в области приложения специализирующими
постшкольными переходами Ту-Тт и Ту-Тд, окажутся организационно закрепленными
шорами, в рамках которых возможности науки, какими они видятся «снизу» от
рабочего места экстенсивного моноглота, будут представляться бессвязным набором-
конгломератом сведений из разных дисциплин, насильственно и случайно
объединенных в студенческий учебник его потенциальных помощников из местного
отделения ВОИР, которые и сами ходят в тех же шорах, но уже более
детализированных по составу, поскольку эти потенциальные помощники — экстенсивные
прикладники — прошли кроме школьного перехода специализирующий
студенческий четырехлетний курс Ту-Тд. Иными словами, экстенсивному моноглоту с
его рабочего места наука в ее возможностях и сегодня представляется и на
переходном периоде будет представляться чем-то вроде длинного с глухими стенами
712
M. К. Петров
коридора, заполненного элементами научного знания разной дисциплинарной
принадлежности. Сам он находится в начале коридора, перед ним и несколько
поодаль группа его потенциальных помощников из местного отделения ВОИР, а
дальше начинается беспросветная муть, о которой в общем-то известно, что и
там, за спинами потенциальных помощников, можно найти помощь, но по
слухам где-то на уровне НИИ начинается уже запутанный лабиринт, в который не
так уж трудно войти, но очень трудно, почти невозможно из него выбраться.
Существенно иным будет представление о науке и собственных возможностях
у задетого зудом рационализаторства и изобретательства интенсивного полиглота.
Из учебника-терминала он будет знать, что наука знаковый целостный
глобальный феномен с единым для всех миром открытий, что события в мире открытий
непредсказуемы и если человек научился все-таки самое непредсказуемость
событий в мире открытий ставить себе на пользу, то происходит это не потому, что
человек, используя науку как преобразователь универсальной непредсказуемости
в частную предсказуемость всего, что обладает устойчивой частотной
характеристикой, каким-то неясным способом асимптотически
приближается-подкрадывается к недоступному ни для смертного человека, ни для долгоживущих бессмертных
социальных институтов атрибуту универсального всеведения, а только лишь
потому, что в мир открытий глобального феномена науки он выдвигает все новые
и новые форпосты человеческого научного познания — исследовательские
терминалы науки, в каждом из которых, несмотря на различия в парадигматической
оптике опознания-идентификации проблем, действуют одни и те же
универсальные для науки правила преобразования идентифицированных проблем в новые
элементы научного знания, которые, будучи верифицированы экспериментом или
иным способом на бесконечный повтор-репродукцию в строго определенных и
специфических для каждого элемента условиях, как раз и становятся продуктом
науки как преобразователя универсальной непредсказуемости событий в мире
открытий в частную предсказуемость, человеческим научным знанием, практически
вечным и неизменным на уровне элементов научного знания, число которых
неограниченно растет, образуя практически неограниченную по потенциям и
постоянно растущую «фундаментальную» базу приложения научного знания к
решению конкретных человеческих задач, где опять-таки возникает завеса
непредсказуемости относительно того, кем, когда, в какой точке земного шара, каким
способом будет опознана и решена такая конкретная задача, но ориентирована
эта непредсказуемость на уровне приложения будет уже иначе, поскольку
универсальным способом решения прикладных задач является отбор из числа наличных
на время решения задачи элементов наличного знания такой конечной по числу
группы элементов, к какой бы дисциплине они порознь ни принадлежали,
которая в единой упряжке решает задачу вполне предсказуемым образом, поскольку
каждый вовлеченный в такую группу элемент научного знания, появился ли он
год или сто или триста лет тому назад, гарантирует бесконечный повтор при
соблюдении специфических условий собственного воспроизводства и коль скоро
условия эти соблюдены для всех членов упряжки, группа будет дружно работать,
репродуцируя-тиражируя один и тот же результат всегда и везде, в любой точке
земного шара и в любое время.
Уже здесь обнаружится различие между экстенсивным моноглотом и
интенсивным полиглотом в осознании и оценке конкретной ситуации
рационализаторства и изобретательства. Привязанный к своему рабочему месту, где он,
опосредуя свою деятельность той или иной группой элементов научного знания,
репродуцирует в предписанном на единицу времени количестве конкретный результат,
экстенсивный моноглот загнан в один из коридоров единой для национального
Т-континуума, использующего в системе образования экстенсивную модель
онаучивания, коридорной ситуации, и сколько бы он ни размышлял о том, какие
именно перестановки и изменения должны быть сделаны в действующей группе
элементов научного знания, его надежды и поиски будут той подгруппой элемен-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 713
тов научного знания, которые генетически принадлежат к дисциплинам, которые
представлены в студенческом учебнике его потенциальных помощников — членов
местного отделения ВО ИР — и имеют отношение собственно к той скромной
части общего числа накопленных наукой элементов научного знания, которая
многократно уже вовлекалась в решение проблем данного терминала и в
последнем таком акте связала в единую упряжку именно ту группу элементов научного
знания, которую экстенсивный моноглот в роли рационализатора или
изобретателя нацелился изменить. Помощь в этом поиске обновленного набора элементов
научного знания со стороны членов местного отделения ВОИР не расширит
область поиска новых элементов, то есть терминал как бы будет в постоянном
ожидании появления новых элементов научного знания именно в той подгруппе,
которая использовалась в предыдущих актах рационализации и изобретательства и
поставщиком новых элементов для которой выступают те дисциплины и их
разделы, которые представлены в студенческом учебнике подготовки инженерных
кадров для данного терминала.
Находясь в той же позиции, что и экстенсивные моноглоты, интенсивные
полиглоты с самого начала поиска новых комбинаций элементов научного знания
для обновления-совершенствования терминальной деятельности заметят
неправомерно ограниченный характер области поиска экстенсивных моноглотов и
помогающих им членов ВОИР. Будут конечно и с их стороны попытки, во многих
случаях удачные, обратиться за помощью местного отделения ВОИР, но каковы
бы ни были результаты этих обращений, в головах интенсивных полиглотов
всегда будет витать маловероятная для экстенсивных моноглотов мысль о том, почему
бы не расширить область поиска нужных для решения задачи элементов научного
знания на все множество накопленных наукой элементов научного знания, так
ли уж обязательно ограничивать круг поиска только той незначительной группой
элементов, к которой многократно уже обращались и потенциальные
возможности которой могут оказаться в какой-то степени истощены. К тому же почти
одновременно с появлением интенсивных полиглотов на уровне рабочих мест станут
с разрывом в два-три года появляться и инженеры — интенсивные полиглоты в
местных отделениях ВОИР, в головы которых будут приходить те же мысли, то
есть в ненаучных терминалах начнет возникать та новая ситуация, по поводу
которой мы и назвали предлагаемую модель онаучивания общества интенсивной.
Эта новая ситуация начнет возникать где-то во второй половине переходного
периода и коснется в основном постшкольной части системы образования
национального Т-континуума, но она будет развиваться и после переходного периода,
поэтому нам имеет смысл выделить эту ситуацию и связанный с ней круг
проблем в особый раздел.
rv / Изменение области поиска нужных элементов
f научного знания и размывание коридорной ситуации
Мы уже говорили о том, что экстенсивная модель онаучивания общества,
какой мы ее наблюдаем сегодня, игнорирует процессы интеграции продуктов
научного глоттогенеза в страте интернациональной лексики в национальных Т-кон-
тинуумах, где рабочим ядром интеграции выступает лексика, создаваемая по
греко-латинекой норме, и использует как в научном ценообразовании [44], так и
в контуре онаучивания прямые связи между новыми элементами научного знания
и членами национального научно-академического сообщества, которые
собственными усилиями продвигают новые элементы научного знания к ближайшему
действующему учебнику системы образования, решая попутно и одновременно две
разных задачи: а) выявления научной ценности нового элемента по степени его
цитируемости, участия в подготовке новых рукописей; б) онаучивания общества
через обновление в переизданиях всех действующих учебников системы
образования, включая и школьные учебники, поскольку авторами всех учебников сис-
46 M К. Петров
714
M. К. Петров
темы образования всегда оказываются члены национального
научно-академического сообщества, которые в роли исследователей [140, с. 520] осведомлены о
последних событиях в их научном терминале и всегда могут квалифицированно
подготовить действующий учебник к переизданию или, если это необходимо,
написать по предложению инстанций академической политики новый учебник.
Интенсивная модель онаучивания, не затрагивая налаженной традиционной
модели ценообразования в науке, разделит процессы ценообразования и
онаучивания в том смысле, что если действующие учебники постшкольной части
системы образования для студенческих (Ту-Тд) и студенческо-аспирантских (Ту-Тд-Тг)
переходов останутся как и прежде ориентирами для процессов научного
ценообразования, то подготовка к переизданию школьных учебников будет исключена
из научного ценообразования, станет производной не от событий на переднем
крае исследований, а от событий в интернациональном страте лексики, которые
сами по себе конечно же непосредственно связаны с событиями на переднем крае
через акты номинации-определения, но и относительно автономны, поскольку
все акты научного глоттогенеза, в каком бы терминале науки они ни
совершались, имеют отрицательную разность Ti-T0 и, наполняя используемые на правах
Т0-х слова тезауруса естественных языков, в основном греческого и латыни,
новыми терминологическими значениями, не увеличивают их числа.
Это интегрирующее опосредование всего многообразия актов научного
глоттогенеза через конечную по числу знаменательную лексику, используемую на
правах То-х, открывает не только возможность «вертикальной интеграции» мира
науки, о чем так много говорят и пишут системники, но и возможность ее, так
сказать, «антипода» — идентификации любого из накопленных и накопляемых
наукой элементов научного знания, поскольку любая опубликованная научная
работа, входившая или входящая в интернациональный поток научной публикации
есть простой или сложный акт номинации-определения, осуществленный на
конечном и обычно небольшом числе знаменательных слов естественного языка.
Возможность такого «антиподного» хода, как мы только что говорили в
предыдущем разделе, особенно отчетливо выявляется в приложении, поскольку поиск и
опознание нужных для актов рационализации и изобретения элементов научного
знания может уже не ограничиваться той малой частью элементов, которую
накопили и накапливают представленные в студенческом учебнике для инженеров-
прикладников дисциплины, а может быть расширен до полного охвата всей
массы накопленных и накопляемых наукой элементов научного знания.
Но такое расширение области поиска нужных для актов приложения
элементов научного знания неизбежно ставит под вопрос правомерность и неизбежность
«коридорной ситуации», представленной во всех национальных Т-континуумах
развитых стран и вынуждающей всех взрослых этих стран, если они принадлежат
к различным терминальным сообществам, обсуждать интересующие их проблемы
на языке своего школьного детства, на едином для всех взрослых Ту. Пока,
сталкиваясь с выявлениями коридорной ситуации от ежегодных собраний
национальных академий наук до юбилейных встреч выпускников школы, мы следовали
более или менее принятым истолкованиям этого феномена через указания на
ограниченность человеческих возможностей «вмещать» те или иные объемы знания,
через «человекоразмерность» всех происходящих в национальных Т-континуумах
событий и процессов.
Выступая на юбилейном собрании Британской Ассоциации в 1981 г. в Йорке
ее сдающий свои полномочия президент Ф.Дейнтон так говорил о причинах
возникновения господствующей ныне коридорной ситуации: «В свои ранние годы
Британская Ассоциация представляла собой новый и необходимый форум, на
котором ученые могли сообщать о новых открытиях, спорить об их значимости и,
в отличие от Королевского общества, проделывать это в полном блеске рампы в
присутствии прессы и всех, кто желал оплатить свое присутствие на ее собраниях.
Эта публичная пропагандирующая роль Ассоциации сегодня заметно истощилась.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 715
Некоторые могут сказать, что она безвозвратно ушла в прошлое, и я с
некоторыми оговорками разделяю это мнение. Но такое умозаключение поднимает два
вопроса: во-первых, почему это произошло, и, во-вторых, не могут ли тем же
способом истощиться и исчезнуть и другие характеристики деятельности
Британской Ассоциации, дававшие и дающие ей право на существование? Не следует ли
ей упразднить себя и навсегда уйти с британской сцены?» [202, с. 263].
Ответы Дейнтон ищет в истории становления коридорной ситуации: «Я
считаю, что ответ на оба вопроса следует искать в огромном росте научной
деятельности за последние 150 лет — в том росте, который, как нам часто об этом
напоминают, совершается по экспоненте с периодом удвоения в развитых странах
примерно в 15 лет. В 1831 г. отдельный индивид имел еще возможность держать
в голове и понимать все известные математические теоремы и процедуры, все
известные принципы физики и химии, принципы классификации животного и
растительного царств, знать все о коре земли и о законах астрономии. Для того
времени было истиной, что каждый, кто был готов попытаться и кто имел средства,
мог подготовить себя внести свой вклад в рост знания и обсуждать ценность
вкладов других в любую часть науки. Более того, такие в своем большинстве
ученые-любители группировались в организации, подобные Философскому обществу
Йорка, от которого берет начало Британская Ассоциация, где их насчитывалось
лишь несколько тысяч. Но такие ученые-любители были последними из
«совершенных естественных философов». Менее чем через двадцать лет, например,
химическое сообщество почувствовало, что предмет его исследований достаточно
вырос, созрел, интеллектуально независим, перспективен, чтобы оправдать
появление сепаратного химического общества. В течение XIX в. подобным же образом
формировались и другие общества, часто живородящей природы, порождавшие
другие общества, которые либо оставались связанными с материнским
обществом, либо становились полностью независимыми» [202, с. 263].
Дейнтон отмечает и присутствие второй составляющей: «Параллельно с этим
процессом почкования возникло и осознание того, что будущий экономический
успех Британии в промышленном производстве зависит от приложений научного
знания. Просвещенные фабриканты, ученые, включая Томаса Генри Хаксли и
Генри Роскоу, а также и несколько импульсивных и широко мыслящих
политиков, включая Р.Б.Холдейна, начали кампанию в печати за усиление научного
образования на школьном и постшкольном уровнях, которая привела позднее к
учреждению гражданских и технологических университетов. Наука действительно
укрепилась, как возросло и число ученых, достаточное для поддержки еще более
быстрого роста профессиональных обществ. Но эти профессиональные общества
видели свою функцию почти исключительно в том, чтобы продвигать
определенную дисциплину путем публикации информации, которая необходима
исследователям и производится исследователями. Эти общества почти не выявляли
коллективного интереса к сопряжению деятельности в своих дисциплинах с интересами
нации и даже к таким земным материям как квалификация исследователей,
условия трудоустройства и найма своих членов. Чтобы заполнить этот пробел,
создавались другие организации типа Института химии» [202, с. 263—264].
В этих условиях, по Дейнтону, менялись и функции Британской Ассоциации:
«Эти исторические изменения оказывали серьезное воздействие на Британскую
Ассоциацию. Рост научного знания необходимо сопровождался развитием
специализации и разделением научного сообщества на фрагменты, так что число тех,
кто мог понимать и обсуждать новые открытия и концепты в любой из областей
науки, неуклонно снижалось. Даже с ее десятью или большим числом секций
Британская Ассоциация не могла конкурировать в этой сфере с
научно-дисциплинарными обществами и, видимо, никогда уже не будет в состоянии делать это
в будущем. По той же в общем-то причине погруженные в свою текущую
деятельность научно-профессиональные дисциплинарные общества типа
Химического общества или Института химии вряд ли могли самостоятельно выработать сба-
46*
716
M.К. Петров
лансированный взгляд на тематику отношений науки к обществу в целом. Таким
образом Ассоциация, основанная для продвижения и «защиты» науки, оказалась
без одной из своих ролей, отторгнутой у нее самим успехом этого продвижения.
Эта роль перешла теперь к научно-дисциплинарным обществам, но их
постоянный и наследственный интерес к специализации исключает возможность
выполнения ими ролей обгоняющего гида или советника-эксперта для таких проблем,
которые затрагивают одновременно как науку, так и общество, непосредственно
или опосредованно выступающее в роли кредитора дисциплин. Более того, это
быстрое продвижение науки означало также, что в росте набора возможностей и
альтернатив, из которых общество должно выбирать свой путь в будущее,
преобладающим становится научный подход. Если селекция возможностей и
альтернатив должна совершаться и реализоваться со знанием дела, то те, кто в
правительстве и законодательстве принимают решения, как и те, кто вовлечен в их
реализацию, а также и те, кто помогает формировать мнение избирателей, должны
быть в состоянии оценивать научную аргументацию, входящую в процедуры
выбора и принятия решений. Речь идет не о том, что все они должны быть
учеными, а скорее о том, что все они обязаны обладать определенной степенью знаний
о природе науки, ее возможностях и ограничениях. Короче говоря, они должны
обладать достаточной «научной грамотностью», чтобы быть в состоянии осознать
и оценить то, что им необходимо знать, и иметь представление о способах,
какими эту информацию можно получить из мира науки» [202, с. 264].
В схожей ситуации «социально неграмотных» оказываются у Дейнтона и сами
ученые: «Ученые со своей стороны должны быть также поставлены в известность
о социальных приложениях их деятельности, с тем чтобы развивать трудное
искусство демонстрировать науку публике, состоящей в основном из простых, но
справедливо озабоченных людей, понимать проблемы генералиста-политика и ге-
нералиста-администратора, помогать реформе более широкого сообщества и
расширять свое собственное образование за пределами научной области. С точки
зрения истории, традиции и опыта Британская Ассоциация лучше других
организованных групп ученых подготовлена к внесению вкладов для достижения этих
целей. Ее однодневные симпозиумы для избранных аудиторий парламентариев,
гражданских служащих, промышленников, планировщиков, ученых, групп
действия, представителей средств массовой коммуникации для обсуждения проблем,
включающих как научную, так и гражданскую политику, будут и дальше
развиваться, обретая значительное влияние. Равным образом ее годичные собрания с
их широким освещением в прессе могут при должной ориентации заседаний ее
Секций и пленарных заседаний концентрировать внимание широкой публики на
таких проблемах. Далее, через деятельность ее подразделений и особенно через
деятельность энергичной и растущей Британской Ассоциации молодых ученых
можно будет постоянно вести работу по образованию ученых и неученых» [202,
с. 264-265].
Ф.Дейнтон, хотя он и не употребляет термина «коридорная ситуация», да и
вообще описывает этот феномен в терминах скорее истощения и отмирания
одних функций Британской Ассоциации и обретения других на 150-летнем
периоде ее существования, в общем-то довольно четко ограничивает проблему
коридорной ситуации в «смене вех» Британской Ассоциации, которая сначала в
соответствии с заявленными в 1831 г. целями способствовала продвижению науки,
но ее успех в этом направлении привел лишь к тому, что функция экстенсивного
продвижения науки перешла ко множеству информационно-изолированных
научно-дисциплинарных обществ. Взяв на себя эту функцию,
научно-дисциплинарные общества сорвали взаимопонимание членов национального
научно-академического сообщества Англии, так что на 150 году собственного существования
Британская Ассоциация устами ее президента всерьез прокламирует
общенациональный «ликбез», по ходу которого политики, промышленники, государственные
служащие, представители средств массовой коммуникации должны будут обретать
История европейской культурной традиции и ее проблемы 717
«научную грамотность», а ученые — «социальную грамотность», то есть обоюдно
те и другие будут постигать азы взаимопонимания: генералисты политики и
администрации — ученых, а ученые — генералистов политики и администрации.
Нетрудно было бы показать, что общенациональный «ликбез» по поводу
уничтожения коридорной ситуации несерьезная в общем-то затея, явно закрывающая
глаза на механизм воспроизводства коридорной ситуации в постшкольной части
системы образования где располагаются переходы Ту-Тт, Ту-Тд, Ту-Тд-Тг
длительностью от нескольких месяцев до семи лет, которые создают соответствующие
лакуны и надеяться перекрыть однодневными семинарами и симпозиумами
Ассоциации или просветительской самодеятельностью Британской Ассоциации
молодых ученых явно наивно. Но нас в случае с Ф.Дейнтоном должно
заинтересовать то, что срыв взаимопонимания, коридорная ситуация объясняются через
неограниченный рост научного знания и конечный объем человеческих
способностей и возможностей «вместить» научное знание. В 1831 г., появившись на свет,
Британская Ассоциация застала еще индивидов, «имеющих возможность
понимать все», но они были уже последними из «совершенных философов», а далее
рост научного знания намного обогнал возможности единичной человеческой
головы, наука начала почковаться, фрагментироваться и взаимопонимание в рамках
научного сообщества, где каждый когда-то мог «внести вклад в любую часть
науки и обсуждать ценность вкладов других в любую часть науки» [202, с. 263]
уступило место коридорной ситуации. Мы и сами когда-то объясняли
коридорную ситуацию схожим образом [54], да и в начале этой работы использовали
близкую аргументацию, хотя уже и с нажимом на то обстоятельство, что
коридорная ситуация явный артефакт: она отсутствует в Ти-культуре и наблюдается в
Ту-культуре как более или менее очевидный продукт экстенсивной модели
онаучивания общества.
Теперь нам придется взглянуть на коридорную ситуацию с учетом того, что
интенсивная модель онаучивания, хотя она и не прервет действия традиционной
модели ценообразования в науке, которая использует работы вершин айсбергов
рангового распределения цитирования по массивам дисциплинарных публикаций
в соответствии с законом Ципфа [178] для обновления действующих учебников
постшкольной части системы образования в процессе их переиздания, но
определенно исключит из этого процесса школьные учебники и откроет для поиска
и опознания нужных элементов научного знания новый всеобщий путь,
отрицающий фрагментацию научного знания на уровне дисциплин и исследовательских
направлений — «вертикальная интеграция» мира науки — и использующий
интегрирующую роль страта интернациональной лексики в национальных Т-конти-
нуумах.
В условиях действия экстенсивной модели онаучивания интернациональный
поток научной публикации, как уже говорилось, используется крайне
неэффективно. Не говоря уже о потерях на входе в этот поток, где, по Мертону, от 20 до
90% рукописей из портфелей редакции научных журналов направляются прямо
на вечный покой в редакционные корзины [140, с. 471], лишь 6—7% от общего
числа прорывающихся все же в интернациональный поток научной публикации
рукописей — признанных наукой элементов научного знания — оказываются со
временем, лет через 10—15 после публикации [47; 149] в вершинах айсбергов
рангового распределения цитирования по массивам дисциплинарных публикаций
[44], откуда опять-таки только незначительная часть особо активно цитируемых
элементов научного знания попадает в конечные по объему учебники
постшкольной части системы образования, которые в процессе переизданий потребляют
ровно столько новых элементов научного знания, сколько они направляют в
небытие «морально устаревших» элементов научного знания, которые тоже когда-то
были новыми, входили в свое время в вершины айсбергов и вытеснили из
действующих постшкольных учебников «морально устаревшие» элементы научного
знания своего времени. Школьные учебники в экстенсивной модели онаучивания
718
M. К. Петров
довольствуются теми элементами научного знания, которые попадают в
постшкольные студенческие учебники и остаются сокращенной их версией, а если
дисциплина не представлена на школьном переходе учебником-введением, то ее
элементы научного знания вообще не достигают голов школьников, то есть
вообще не участвуют в контуре всеобщего онаучивания общества.
В этой круговерти потерь есть, прежде всего, потери невозвратимые: если уж
претендующий на вход в интернациональный поток научной публикации элемент
научного знания потерпел фиаско и соответствующая рукопись оказалась в
корзине, то в лучшем случае ее отправят обратно автору, а в среднестатистическом
утром следующего дня уборщица редакции отправит ее вместе с другими
отвергнутыми рукописями на городскую свалку. Те же потери, которые наблюдаются в
среде опубликованных рукописей, в принципе возвратимы, но практически не-
возвращаемы. Они оседают в архивах научных журналов, научных обществ,
публичных библиотек, десятилетиями или даже столетиями гнут полки стеллажей
растущими подшивками научной периодики, пылятся, ветшают и время от
времени, когда терпение архивариусов и библиотекарей лопается или хранилище
переполняется, — сдаются в макулатуру.
Частной целью интенсивной модели онаучивания общества является
мобилизация для нужд приложения этой в принципе возвратимой, но практически не-
возвращаемой части потерь в общем-то полноценного с точки зрения
приложения научного продукта, поскольку сам перенос идеи «морального старения» из
области приложения, где эта идея имеет твердые экономические и качественные
основания — в последовательности актов модификации процесса производства
одного и того же конечного продукта качество процесса растет, а совокупные
расходы на производство единицы этого продукта снижаются, — на элементы
научного знания очевидно неправомерен. Для элементов научного знания идея
«морального старения» неприменима, поскольку эти элементы — продукт науки —
практически вечны в предметных рамках той «дисциплинарной вечности», в
которой они появились на научный свет и были верифицированы на бесконечный
повтор в строго определенных условиях воспроизводства, а тот факт, что
подавляющее большинство из них оказывается краткоживущим, выпадающим по ходу
процесса научного ценообразования, движения к ближайшему действующему
учебнику системы образования в осадок потерь, да и в самих этих учебниках
задерживается лишь на период нескольких переизданий, связан уже с частной
жизнью каждого конкретного элемента научного знания в экстенсивной модели
онаучивания общества и не имеет прямого отношения к области приложения,
поскольку, выпадая на том или ином этапе онаучивающего движения в осадок
возврати мых потерь, элемент научного знания не терпит никакого ущерба с точки
зрения своего прикладного потенциала и ярлык «морально устаревший» на этом
элементе — просто дань традиции переносить категории приложения на научную
деятельность.
Процесс научного ценообразования, который в условиях действия
экстенсивной модели нерасторжимо связан с онаучивающим движением публикуемых в
научных журналах элементов научного знания, включая и школьные
учебники-введения в некоторые дисциплины, хотя и не преднамеренно, но практически
игнорирует нужды приложения: порядок перемещения новых элементов научного
знания к ближайшему действующему учебнику системы образования подчинен
примату нужд самой науки в подготовке кадров исследователей для всех терминалов
науки, то есть в первую очередь обслуживаются непосредственно участвующие в
научном ценообразовании университетские студенческо-аспирантские переходы
Ту-Тд-Тг, а уже на базе этих университетских учебников и учебных пособий и
после них создаются усеченные версии-компиляции из университетских
студенческих учебников — студенческие учебники для прикладников, для
педагогических, технических и иных институтов с четырехлетними переходами Ту-Тд, так что
выпавший в осадок на пути в университетский учебник или в список обязатель-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 719
ной литературы элемент научного знания, а таких элементов более 90% из числа
опубликованных, не может уже попасть в поле зрения прикладника, поскольку
он заведомо будет отсутствовать и в университетском студенческом учебнике и в
прикладном студенческом учебнике — компиляции из университетских
студенческих учебников нескольких дисциплин.
Этим способом процесс научного ценообразования, игнорируя нужды
приложения, «гонит в стружку» возвратимых, но невозвращаемых потерь те подводные
части айсбергов рангового распределения цитирования по дисциплинарным
массивам публикаций, которые позволяют этим айсбергам держаться на плаву, но не
используются в научном ценообразовании просто потому, что не входят в 6—7%
наиболее часто цитируемых работ, образующих вершину айсберга, не входят в
университетские учебники и не могут по этой причине принять участие в
онаучивающем общество движении, поскольку оно в экстенсивной модели
онаучивания неразрывно связано с процессом ценообразования в науке.
С этим же режимом функционирования процесса ценообразования в науке,
когда в осадок возвратимых, но невозвращаемых потерь выпадают все элементы
научного знания, не входящие в состав университетских учебников и учебных
пособий студенческо-аспирантских семилетних переходов Ту-Тд-Тг, объясняется и
предельное «обнажение» коридорной ситуации, которая в условиях действия
экстенсивной модели онаучивания существует как бы в космосе, в глубоком вакууме,
когда вся масса неиспользуемых процессом научного ценообразования элементов
научного знания, каким бы приложенческим потенциалом она ни обладала,
выпадает в осадок и «остается на земле», а в космосе плавают только учебники системы
образования, состыкованные в герметическую сплотку всеобщего школьного и
специализирующих постшкольных радиальных переходов, за герметизированными
стенками которых ничего нет и желающим содержательно пообщаться членам
разных терминальных сообществ волей-неволей приходится пробираться в
кают-компанию конца всеобщего школьного перехода Тп-Ту, чтобы зацепиться за Т0
собеседника и обсуждать на Ту интересующие их проблемы, поскольку требовать от
собеседника В взаимопонимания в обсуждении терминальных проблем А значило
бы предполагать, что и В прошел все те специализирующие мегаакты
постшкольной подготовки, которые прошел А, а это заведомо не так, если А и В
принадлежат к разным терминалам: непроходимой в разумное для бесед время оказывается
разность Ti-To любого содержательного акта речи между такими А и В.
Интенсивная модель онаучивания общества, переориентировав набор
школьных учебников с некоторых дисциплинарных студенческих университетских
учебников, откуда они получают сегодня новые элементы научного знания для
карстового вымывания «морально устаревших» элементов в переизданиях, на
устойчивый страт интернациональной знаменательной лексики в национальных Т-кон-
тинуумах, который используется на правах Т0-х в актах научного глоттогенеза-но-
минации во всех без исключения терминалах науки, должна будет нарушить это
«космическое» существование герметической сплотки всеобщего школьного и
специализирующих радиальных постшкольных переходов в том отношении, что
нарушится герметичность всех стыков между университетскими
дисциплинарными студенческими учебниками и студенческими учебниками-компиляциями для
инженерного состава приложенческих терминальных сообществ. Если в условиях
действия экстенсивной модели онаучивания все студенческие
учебники-компиляции для прикладников были наглухо состыкованы с некоторыми
университетскими дисциплинарными студенческими учебниками и отбирали из них
традиционно интересующие прикладников данного терминала те фракции новых элементов
научного знания, которые по их опыту и убеждению обладают наибольшим
прикладным потенциалом, а сами учебники-компиляции, будучи равными по
объему — четыре учебных года, примерно 6 тыс. академических часов, — отличались
друг от друга только тем, к какой именно группе университетских студенческих
дисциплинарных учебников они пристыкованы и какие именно фракции элемен-
720
M. К. Петров
тов научного знания они отбирают для обновления в переизданиях, то в условиях
действия интенсивной модели онаучивания в эти традиционные стыки, разрушая
их герметизацию, начнут поступать и идентифицируемые интенсивными
прикладниками-полиглотами элементы научного знания из числа тех, которые
выпадают в осадок в процессе научного ценообразования, ориентированного на
университетские учебники и учебные пособия для дисциплинарных студенческо-ас-
пирантских переходов Ту-Тд-Тг, но могут оказаться обладателями большого
прикладного потенциала и будут включаться в студенческие учебники для
прикладников соответствующих терминалов независимо от того, включены они или не
включены в университетские учебники и учебные пособия.
Ближайшим результатом разгерметизации этих традиционных стыков науки и
приложения, а произойдет это возможно где-то в конце переходного периода,
будет постепенное насыщение глубокого вакуума, окружающего сегодня
герметическую сплотку всеобщего школьного и специализирующих радиальных
постшкольных переходов, теми диссоциированными элементами научного знания,
которые вместе с их приложенческим потенциалом выпадают сегодня в осадок
возвратимых, но невозвращаемых потерь в текущем процессе научного
ценообразования. Но это будет только началом, датировать которое можно второй
половиной переходного периода, длительного и по сути дела бесконечного процесса
перетряхивания архивов науки в поисках обладающих прикладным потенциалом
элементов научного знания любого возраста и любой дисциплинарной
принадлежности. Мы не решились бы назвать этот процесс раскопкой архивов в том же
смысле, в каком архивы сегодня копают историки науки, в таком названии
определенно было бы что-то от палеонтологии, от поиска останков жизни и
построения таксономии на костях вымерших видов, а в нашем случае речь идет
совсем о другом: выпадающие в осадок элементы научного знания не умирают и
не распадаются, и сколько бы их ни накопилось в архивах науки за 300 лет ее
существования, они просто спят, ждут появления человеческой самости, чтобы
очнуться от спячки и начать обычную жизнь знаковых реалий, которые живут
жизнью людей, использующих эти реалии [87].
Чтобы пробудить этих «спящих красавцев» и вытащить их из архивной пыли
для полезной деятельности, потребуются, понятно, и содействие вычислительных
машин, и компьютерная грамотность, и национальные центры информатики и
документалистики, и какое-то новое, более упорядоченное обустройство
библиотек, архивов и хранилищ, чем в общем-то уже занимаются в большинстве
развитых стран без особо впечатляющих, правда, успехов. О том, как именно пойдет
этот процесс мобилизации архива науки на решение прикладных в основном
задач, гадать пока сложно, интенсивным полиглотам будет все это яснее и
понятнее. Пока же нам ясно лишь одно, что возможность такая есть и что, получив
в школе доступ к интегрирующему механизму страта интернациональной лексики
в национальных Т-континуумах, интенсивные полиглоты и особенно
интенсивные полиглоты-прикладники вряд ли примирятся с безалаберным и
расточительным экстенсивным способом искусственно сокращать жизнь долгоживущим
элементам научного знания, убирая их с глаз долой в архивы, ведь даже те
счастливчики из числа порождаемых на переднем крае элементов научного знания,
которые через университетские учебники и учебные пособия входят в контур
онаучивания и проходят его весь целиком, включая и школьные учебники, живут в
общем-то недолго: выброшенные из школьных учебников более молодыми
элементами, они погружаются в беспробудный сон все в том же архиве вместе со
своим прирожденным прикладным потенциалом.
В рамках этой работы наш интерес ограничен частным следствием
перетряхивания архивов науки в поисках элементов научного знания, обладающих
прикладным потенциалом, — заполнением окружающего сегодня сплотку школьного
и постшкольных переходов глубокого вакуума массой диссоциированных
элементов научного знания, не принадлежащих к переходам этой сплотки, и поведением
История европейской культурной традиции и ее проблемы 721
в этих новых условиях коридорной ситуации. Как уже говорилось, вакуум, почти
полное отсутствие содержательных актов речи на межтерминальном уровне
создается тем обстоятельством, что положительные разности Ti-T0 в принципе
возможных актов речи между А и В разной терминальной принадлежности
оказываются сравнимыми по требуемой длительности на перевод Т0 в Ti с мегаактами
речи специализирующих постшкольных переходов Ту-Тт, Ту-Тд, Ту-Тд-Тг, то есть
требуют на перевод Т0 в Ti от нескольких месяцев до 7 лет. В этих условиях А
и В разных терминальных сообществ, встречаясь в коридоре университета —
классический для нас случай — или на совещаниях, собраниях и получая на акт
речи от 10 минут (перерыв между лекциями) до часа (обычный регламент
собраний с докладами), оказываются перед необходимостью использовать школьный
Ту на правах Т0, коль скоро любому А акта речи в коридорной ситуации о В
доподлинно известно лишь одно, что как взрослый индивид или как группа
взрослых индивидов любой В выпускник общеобразовательной школы, обладатель Ту.
А дается ли А на акт речи 10 минут или час, это уже не имеет особого значения
на фоне месяцев и лет академического движения по постшкольным переходам,
разделяющих А и В в подобных актах речи. Всем А заведомо ясно, что этот
разрыв за минуты или часы не пройти, не стоит и пытаться.
Схожее будет происходить и в условиях длительного действия интенсивной
модели онаучивания, где все та же коридорная ситуация — неизбежное следствие
процесса ценообразования в науке, ориентированного на постшкольные
дисциплинарные студенческо-аспирантские переходы Ту-Тд-Тг, будет с той же
непреложностью требовать от всех А актов речи в коридорной ситуации использовать на
правах То обретенный всеми взрослыми В в школе Ту. Но изменится «геометрия»
таких актов речи, поскольку в отличие от экстенсивного Ту интенсивный Ту будет
содержать известный и А и В по учебнику-терминалу выход на страт
интернациональной лексики в национальных Т-континуумах, а в этих условиях
длительности на перевод Т0 в Ti, замеряемые месяцами и годами чистого академического
времени с экстенсивным Ту на правах Т0, могут оказаться совсем иными для
интенсивного Ту на правах Т0, коль скоро механизм интеграции страта
интернациональной лексики в национальных Т-континуумах объединяет акты речи, акты
номинации-определения не по Ti, а по Т0, по знаменательной лексике
интернационального страта, а сами эти акты речи, акты номинации-определения с
отрицательной разностью Ti-To развертываются авторами-исследователями любых
терминалов науки в рукописи-статьи объемом обычно в печатный лист, что в
переводе на «геометрию» чистого академического времени дает один
академический час — 45 минут календарного времени, а это как раз та норма регламента,
которая предлагается обычно докладчикам в коридорной ситуации типа собрания
или совещания взрослых разной терминальной принадлежности.
В этих новых условиях всегда возможного переключения В, обладающего
интенсивным Ту, на интегрирующий механизм страта интернациональной лексики
в национальных Т-континуумах при достаточно освоенном навыке таких
переключений в интенсивной коридорной ситуации станет возможным многое из
того, что представляется трудным и практически недостижимым в экстенсивной
коридорной ситуации. Сама-то коридорная ситуация останется: дисциплинарно-
изолирующий в своей основе процесс ценообразования в науке и необходимость
держать на постшкольном участке системы образования
студенческо-аспирантские переходы Ту-Тд-Тг в неограниченно растущее число терминалов науки будут
постоянно воспроизводить коридорную ситуацию на всем периоде существования
науки как глобального феномена, но это уже будет новая коридорная ситуация,
информационно-изолирующие перегородки которой не будут уже теми глухими
стенами, какими они являются сегодня в экстенсивной коридорной ситуации.
В конце переходного периода и неограниченно долго после него коридорная
ситуация постоянно будет размываться обращениями к интегрирующему
механизму страта интернациональной лексики в национальных Т-континуумах и одно-
722
M.К. Петров
временно будет наращиваться и восстанавливаться по ходу неограниченного роста
на постшкольном участке системы образования числа студенческо-аспирантских
переходов, учебники и учебные пособия которых фрагментируют процесс
ценообразования в науке. Каким именно будет баланс этих противоборствующих
давлений на коридорную ситуацию и будет ли этот баланс устойчивым сказать
трудно: многое будет зависеть от того, насколько национальной службе
учебника-терминала будут удаваться попытки «вертикальной интеграции» мира науки на базе
страта интернациональной лексики в национальных Т-континуумах. Ясно однако
одно, что в условиях длительного действия интенсивной модели онаучивания
возврата к той строгости и жесткости, которыми обладает сегодня экстенсивная
коридорная ситуация, не будет.
На этом мы кончаем обсуждение основных проблем переходного периода от
экстенсивной к интенсивной модели онаучивания общества и переходим к
подведению общих итогов этой затянувшейся работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагая на суд читателя некоторые размышления об истории европейской
культурной традиции и о роли науки в современном ее развитии, мы,
естественно, не претендуем ни на полноту изложения релевантного материала, ни на
гармоничность и строгость самого изложения. Но мы все же надеемся, что
высказанные нами по ходу изложения идеи и концепты не оставят читателя
равнодушным, дадут ему повод самостоятельно поразмыслить о том, где мы и что мы
сегодня, какие перед нами дороги в будущее и какие из них более соответствуют
достоинству человека и рода человеческого, а какие ведут к тупикам
неразрешимых противоречий, конфронтации, катастроф, в никуда.
Конец XX в. ставит перед каждым человеком и перед человечеством в целом
множество «таймированных» проблем, которые нужно решать не вообще, а на
скупо отмеренной историей человечества длительности, чтобы не оказаться в
смертельно опасной и неуправляемой ситуации, когда любая случайность может
стать фатальной, вызвать непредсказуемый катастрофический ход событий. К
числу таких «таймированных» проблем относится и хорошо сегодня известная и
понятная каждому проблема самоубийственной гонки вооружений, которая
грозит всеобщим уничтожением всего живого на земле и упразднением всякой
истории, но не в последнюю очередь опасна и тем, что самой своей ясностью и
доступностью для понимания прячет в тени, уводит на второй план другие не
менее строго «таймированные» проблемы, которые хотя и не остаются
незамеченными, не решаются своевременно просто потому, что перед угрозой ядерных
и космических войн многим бессмысленным представляется тратить внимание,
время и усилия на поиск решения проблем, условием разрешимости которых
выступает уверенность в том, что человечество выживет и преемственный ход его
исторического развития не будет прерван всемирной катастрофой.
К числу таких теневых таймированных проблем, которые в общих чертах
известны многим исследователям истории философии, культуры и науки, но
исследуются сегодня явно недостаточно и однобоко, мы относим и центральную для
нашей работы проблему сохранения науки как глобального общечеловеческого
феномена, как предмета гордости всего человечества и европейской культурной
традиции в особенности, как демонстрации и гаранта ментального единства
человеческого рода.
Внешне эта проблема представляется довольно простой и не такой уж
актуальной: в эпоху научно-технической революции, когда столько говорят и пишут
о науке, ее социальных функциях, ее величии и мощи, сама мысль о том, что у
науки могут быть какие-то болезни, тем более опасные или даже с возможным
летальным исходом, отскакивают от повсеместно распространенного образа науки
как неуместная и оскорбительная выходка в адрес глубоко и всеми почитаемого
предмета. В этом нам не раз приходилось убеждаться, когда предлагаемая работа
была еще в замысле, а ее автор рассылал по редакциям рукописи, которые иногда
даже публиковались, и исподволь наводил рефераты работ иностранных авторов
на косвенное обсуждение представленных в предлагаемой работе проблем, не
упуская ни одного сколько-нибудь благовидного предлога, чтобы устами
оригинального автора в переводе или в реферате довести до читателей реферативных
сборников И H ИОН АН СССР те волновавшие его мысли, которые в
предлагаемой работе образуют костяк введения и первых двух частей.
724
M. К. Петров
По ходу изложения мы не раз объясняли неизбежность искажения работ
оригинальных авторов в процессе перевода и особенно реферирования, где
приходится не только переводить, но и отбирать наиболее значимые с точки зрения
референта и, предположительно, вероятных читателей фрагменты, поэтому свою
тактику предварительной подготовки потенциального читателя к обсуждению
интересующих нас проблем мы оправдывали и оправдываем тем, что если уж
искажения в переводе и реферировании неизбежны, то лучше уж им быть
нагруженными смыслом и для потенциального автора и для потенциального читателя, что
мы и старались делать в пределах, понятно, «допусков», давая и оригинальному
автору ясно высказать его мысль и себе право прокомментировать эту мысль в
полезном для нас аспекте. Этим способом критического симбиоза вводились
почти все наши ключевые концепты, пока в самом начале работы мы не
обнаружили, что рвемся в открытую дверь, что именно этим способом критического
симбиоза или, говоря языком Гегеля, отрицания, писалось и пишется все то, что
нам приходилось читать и на родном и на иностранных языках. Начало, понятно,
пришлось переделать, а сам повсеместно наблюдаемый факт того, что все и не
только научные работы пишутся способом критического симбиоза, стал для нас
поводом и основанием для ввода основных постулатов тезаурусной динамики, для
чего в классической модели речи Соссюра [66, с. 49—50] мы оставили лишь
позиции сторон общения А и В, а остальное, происходящее между А и В: Т0 и Ti,
длительность акта речи, преобразование Т0 в Ti, разность Ti-T0, возможность
ассоциации актов речи в мегаакты речи по правилу Ti предыдущего акта речи
становится То последующего, позитивные и отрицательные значения разности Ti-T0,
области их использования, критические значения разности Ti-T0 и их отношение
к проходимости мегаактов речи для В групп и т.д. — это уже наша интерпретация
возможностей, открываемых моделью Соссюра. Особой нашей заслуги в
разработке концепта тезаурусной динамики мы не видим — соответствующие идеи, как
говорится, «носятся в воздухе» по крайней мере со времен увлечения лингвистов
машинным переводом, нам просто посчастливилось замкнуть эти идеи
динамического представления языка-системы на образование, на строго упорядоченное
движение взрослеющих индивидов в терминалы взрослой деятельности.
Но проявляя приличествующую случаю скромность, мы все же вынуждены
признать, что не подвернись нам вовремя всеобщее академическое движение
естественно, по биокоду, взрослеющих младенцев в социально необходимые
терминалы взрослой деятельности, предлагаемая работа погибла бы на корню,
лишилась бы интегрирующего проблемогенного стержня — системы образования с ее
строгой «геометрией» в чистом академическом времени и следующего ее
очертаниям национального Т-континуума, по периферии которого локализованы
терминалы взрослой деятельности в том числе и исследовательские терминалы
науки. Не произойди это во многом случайное замыкание основных идей
тезаурусной динамики на академическое движение, не было бы и предлагаемой
работы. А поводом для такого замыкания послужил частный эпизод во время
реферирования статей Дж.Мура и Д.Нелкин о событиях в Калифорнии, где Г.Моррис,
президент Института креационных исследований, нахально потребовал диспута
по теме: «Доказано, что Специальная креационная модель истории Земли и ее
обитателей является более эффективной в корреляции и предсказании научных
данных, чем Эволюционная модель» [157, с. 216], причем победитель должен был
определяться по уровню аплодисментов. Именно эта гипотетическая
аплодирующая аудитория представилась вдруг аудиторией взрослых обладателей Ту, которые
в общем-то аплодируют науке, не различая, где Моисей, а где Дарвин.
Так или иначе, но именно тогда, в интуитивных попытках понять эту
аплодирующую аудиторию взрослых в терминах тезаурусной динамики, появились у
нас смутные тогда еще мысли и о национальном Т-континууме — грибовидном
История европейской культурной традиции и ее проблемы 725
теле, — и о системе образования, выдергивающей Т-континуум из календарного
времени своими ежегодными соскоками 1 сентября в исходное положение для
приема очередной волны первоклашек, и о различии между календарным и
академическом времени, и об ежегодных волнах В групп сверстников, следующих по
переходам системы образования друг за другом, и о встречном движении
элементов научного знания с переднего края науки в школьные учебники, и о
коридорной ситуации, и о принципиальной возможности сдвига этой вневременной про-
блемогенной структуры в прошлое для построения ее преемственной истории.
Прояснение этих по исходу смутных мыслей оказалось не таким уж сложным, но
трудоемким процессом — появился целостный куст проблем глобального и
национального уровней, который рельефно проектировался на похожие друг на друга
национальные Т-континуумы развитых стран со вписанными в них и дающие им
геометрические очертания системами образования. Описание этих взаимно
производных проблем составляет в предлагаемой работе основное содержание первой
и второй частей.
Но по ходу выявления этого довольно сложного, хотя и целостного комплекса
проблем, непосредственно или опосредованно связанного с неразрывным
единством национальных Т-континуумов и их систем образования наш исходный
энтузиазм, проявления которого читатель во множестве обнаружит в первой
половине работы, стал постепенно угасать и сменяться тревогой и озабоченностью по
поводу современных условий функционирования науки как глобального
феномена. Стала выявляться довольно мрачная картина взаимодействия национальных
научно-академических сообществ, обладающих монополией на подготовку
учебников и учебных пособий для всей системы образования, на глобальном уровне,
где они сообща «делают науку» и поддерживают наднациональный, глобальный
статус науки. В немалой степени этому росту беспокойства способствовало и
появление на рабочем столе множества работ американских и английских в
основном исследователей по подготовке научных кадров, по истории университетов, по
миграции ученых и теорий из одного национального Т-континуума в другой.
Складывалось общее впечатление, что если учесть совокупное ингибирующее
воздействие довольно действенных мер национальных правительств и их инстанций
научной и академической политики по информационной изоляции своих Т-кон-
тинуумов, то науке как глобальному феномену уже пора бы исчезнуть, уступив
место группе автономно развивающихся национальных поднаук, которые в
условиях непредсказуемости событий на переднем крае исследований должны были
бы совершать в своем развитии независимо друг от друга «броуново движение»:
разобщенные миры открытий этих поднаук, если каждая поднаука вынуждена
была ориентироваться на свой особый порядок появления и решения новых
проблем во времени, побуждали бы эти поднауки постепенно расходиться в
непредсказуемых направлениях и, если современная практика избирательного
финансирования-стимулирования «актуальных» дисциплин и исследовательских
направлений будет продолжаться, проходить деформации-расподобления, отходя от нормы
уподобления, навязываемой сегодня интегрирующим и уподобляющим
воздействием науки как глобального феномена. В национальных Т-континуумах
упразднялись бы некоторые «малоперспективные» терминалы науки и соответствующие
студенческо-аспирантские переходы Ту-Тд-Тг, ведущие в эти терминалы, а
остающиеся терминалы снова оказывались бы в условиях избирательного
финансирования, и так до полного вырождения и до полной уникальности национальных
Т-континуумов, теряющих черты сходства и общности.
Уже тогда нетрудно было понять, к каким катастрофическим конечным
результатам может повести этот процесс сепаратизма национальных
научно-академических сообществ, следы прогресса которого мы обнаруживали и
обнаруживаем сегодня практически во всех попадающих к нам на реферирование работах,
726
M. К. Петров
особенно в работах американских авторов, среди которых то ли модой, то ли
нормой становятся сегодня сепаратистские заявления о том, что их работа опирается
только на работы американских исследователей. Этот взятый на заметку
прогрессирующий сепаратизм на уровне национальных научно-академических сообществ
позволил нам опознать и его партнера по активному разрушению механизмов
самоорганизации науки на наднациональном уровне. Прогрессирующий моно-
глоттизм среди членов национальных научно-академических сообществ, с одной
стороны, ограничивает прямой доступ исследователей-моноглотов к
интернациональному потоку научных публикаций, а, с другой стороны, если национальная
доля той или иной развитой страны в мировом научном продукте достаточно
велика, как это имеет место сегодня с американским вкладом в науку, провоцирует
исследователей-моноглотов на дремуче-невежественные с точки зрения азов
науковедения заявления насчет того, что с них вполне достаточно исследований
соотечественников для продуктивной работы в науке. Подобные же заявления в
середине XIX в. американцы и англичане — инициаторы «Международной научной
серии» — слышали от немцев, когда уговаривали их участвовать в этом
интернациональном предприятии [193, с. 69—70].
Чтобы оценить масштабы угроз глобальному феномену науки со стороны
прогрессирующего моноглоттизма и связанного с ним и тоже прогрессирующего
сепаратизма национальных научно-академических сообществ, мы в начале третьей
части работы, не слишком афишируя наших истинных намерений, предприняли
затяжной экскурс в историю возникновения и становления современной науки,
который более или менее высветил под интересующим нас углом зрения период
духовного развития Европы с XIII в. до наших дней. Результаты этого экскурса
убедили нас в том, что опасность действительно велика и генетически гнездится в
решениях XVII в. большинства стран Европы публиковать продукты возникающей
опытной науки на официальном языке своих стран и в распространившемся в
середине XIX в. «инструментальном» подходе национальных научно-академических
сообществ к школьному образованию, который особенно ярко и хорошо докумен-
тированно представлен в 150-летней истории Британской Ассоциации для
Продвижение Науки. Более близкое знакомство с историей Британской Ассоциации в
процессе реферирования огромного труда Дж.Моррелла и А.Тэюфи
«Джентльмены науки» [200] и достаточно объемистого юбилейного сборника «Парламент
науки» [202] дало нам возможность с опорой на соответствующие материалы
выделить, так сказать, болевую точку и наиболее слабое звено глобального феномена
науки, а также и общий механизм разрушительных давлений прогрессирующего
моноглоттизма и прогрессирующего сепаратизма национальных
научно-академических сообществ на «шкворень» процессов самоорганизации глобального и
уникального феномена науки — на оперативную коммуникацию коллег по одному и
тому же терминалу науки в разных национальных Т-континуумах.
Открылась в общем-то довольно простая и грустная картина «усердия не по
разуму» научных обществ типа Британской Ассоциации и связанных с ними
инстанций научной и академической политики, которые, с одной стороны,
пытались насаждать в порядке «инструментального» подхода в школьные программы
учебники-введения в некоторые дисциплины, практически вытеснившие со
всеобщего школьного перехода Тп-Ту предметы лингвистического цикла, а, с другой
стороны, с помощью этих же инстанций учреждать дорогостоящие и
неэффективные национальные службы научной информации, которые с помощью армии
переводчиков и референтов тщетно пытаются компенсировать моноглоттизм
исследователей, входящих в терминалы науки. Это бесперспективное и тупиковое,
грозящее распадом науки как целостного и уникального глобального феномена
колесо мы и назвали экстенсивной моделью онаучивания общества, и в начале
третьей части предлагаемой работы попытались сформулировать основные
обвинения в адрес экстенсивной модели онаучивания общества.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 727
Формулируя эти обвинения, мы старались обеспечить переход читателя с
наименьшими психологическими и иными затруднениями к пониманию
неизбежности кардинальных изменений в сложившемся тупиковом положении, вина за
которое ложится на длительное функционирование экстенсивной модели
онаучивания общества во всех развитых странах мира. Вполне возможно, что наша
критика экстенсивной модели онаучивания и наши обвинения в ее адрес в чем-то
излишне резки, поскольку, к примеру, когда мы говорим о массовой гибели
элементов научного знания на пути в школьные учебники, в которых наука
представлена лишь 10% наличных дисциплин, или об общем для системы образования
равнении на «тихохода», в общую картину вмешиваются и относительно
независимые от модели онаучивания, какой бы она ни была, причины — процесс
ценообразования в науке и действие законов о всеобщем и обязательном
образовании, причем разделить эти сопричины, хотя мы и старались делать это, не всегда
было просто. Но в целом нарисованная нами довольно мрачная картина
результатов столетнего господства экстенсивной модели не гротеск, даже если в ней
попадаются излишне четко прорисованные детали кризиса экстенсивной модели
онаучивания. Цель наша состояла не в том, чтобы напугать моноглотов-облада-
телей Ту грозящими бедами и катастрофами, а в том, чтобы через показ весьма
вероятных и не таких уж отдаленных бед и катастроф настроить взрослых моно-
гл ото в-обладателей Ту на активные действия по уничтожению очагов ожидаемых
бед и катастроф.
Выдвигая в третьей части проект замены экстенсивной модели онаучивания
общества на интенсивную, мы старались подчеркнуть три момента: а)
восстановительный, скорее, нежели исключительно новаторский характер предлагаемого
общенационального предприятия, способного восстановить нормальные условия
функционирования науки как глобального целостного и уникального феномена;
б) необходимость для всех развитых стран возможно скорее отказаться от
экстенсивной модели в пользу интенсивной модели или ее вариантов, если таковые
обнаружатся; в) принципиальную возможность начать и завершить переход с
экстенсивной на интенсивную модель в одной отдельно взятой развитой стране, для
чего не требуется ни договоренностей на высшем уровне, которые трудно
достигаются и редко выполняются, ни помощи извне.
Разработка самой интенсивной модели в общем-то не доставляла особых
трудностей, коль скоро предельно четко определились очаги перманентного кризиса
экстенсивной модели онаучивания, угрожающего самому существованию науки
как глобального феномена, — присутствие на школьном переходе ограниченного
числа учебников-введений в некоторые дисциплины, которые не дают полного
представления о дисциплинарном многообразии мира науки, но практически
вытеснили предметы лингвистической группы, и, соответственно, насыщение
терминалов науки и национального научно-академического сообщества в целом
исследователями-моноглотами, имеющими лишь ограниченный официальным
языком данной страны доступ к интернациональному потоку научных публикаций.
Чтобы убрать эти постоянно действующие очаги тупикового кризиса
экстенсивной модели онаучивания общества, которые именно в силу своего постоянного
действия угрожают распадом науки как наднационального феномена и
расподоблением национальных Т-континуумов развитых стран, нужно вернуть на
школьный переход в полном объеме курсы тех естественных языков, которые способны
обеспечить всем исследователям прямой доступ к основным составляющим
интернационального потока научной публикации, а дисциплинарное многообразие
как преемственно изменяющуюся целостность представить на школьном переходе
в форме скромного по объему учебника-терминала онаучивающего движения
элементов научного знания изо всех терминалов науки, что, если говорить в терми-
728
М.К. Петров
нах второй половины XIX в., придаст этому учебнику не столько
информативный, сколько универсально-методологический характер.
Но эта предельно ясная картина необходимых перестроек на школьном
переходе Тп-Ту становится, понятно, не такой уж простой и ясной, когда,
вооружившись сведениями о школьном бюджете чистого академического времени (15—
18 тыс. академических часов), мы начинаем прикидывать возможное
распределение часов по предметам изучения. На все хочется побольше часов и с запасом,
особенно на иностранные языки, а бюджет школьного времени не резиновый и
всерьез рассчитывать на то, что его объем можно каким-то способом увеличить,
не приходится: все взрослые, а равно и дети, которым не терпится стать
взрослыми, будут определенно против попыток продлить сроки обучения в
общеобразовательной школе.
По этой причине соответствующие разделы предлагаемой работы могут
показаться читателю излишне детализированными, если нам удалось убедить его в
желательности и необходимости перехода от экстенсивной модели онаучивания к
интенсивной, или, напротив, недостаточно аргументированными и
поверхностными, если читатель даже и согласился с нашей критикой экстенсивной модели,
но по тем или иным причинам не выработал еще собственной четкой позиции
по отношению к тому, в чем именно должна состоять сумма перемен, которая
позволила бы преодолеть кризисные явления и выйти в светлое, неомраченное
угрозами будущее. Лучше всего, конечно, было бы провести последовательную
серию зондажей мнений членов национальных научно-академических сообществ
того же типа, что и исследование 1854 г. лорда Роттесли [202, с. 188—192], с тем
чтобы методом анкетирования от серии к серии, шаг за шагом, выявляя и по
возможности разъясняя недоумения и сомнения по поводу состава обвинений в
адрес экстенсивной модели онаучивания, состава порождаемых ею угроз, состава
и целей интенсивной модели онаучивания, к концу зондажей из 5—6 раундов по
возможности на интернациональном уровне (под эгидой ЮНЕСКО, например, и
при активном участии национальных академий наук и обществ типа Британской
Ассоциации) получить конечный список проблем, требующих доработки и
дополнительных уточнений для выхода на широкую аудиторию общенациональных
дискуссий о переходе с экстенсивной модели онаучивания общества на
интенсивную. Но организовать такую глобальную серию зондажей нам, понятно, не
удалось: нам просто не приходило это в голову, да и не могло прийти, пока мы сами
не углубились в процесс объяснения интенсивной модели и связанных с ее
реализацией проблем и для себя и для читателя.
В отсутствие таких зондажей и их данных, мы опирались на
«незапланированную информацию», содержащуюся в попадающих к нам на стол для
реферирования и рецензирования работ наших и зарубежных авторов, на приватные
разговоры с коллегами, на данные истории системы образования, что позволило нам
составить для внутреннего пользования свой личный список вопросов и
недоумений, в которых следует добиваться предельной ясности. Понятно, что этот список
далеко не полон, да и ответы наши не всегда, надо полагать, исчерпывающи, но
мы возьмем на себя смелость ознакомить читателя с некоторыми пунктами этого
списка, который постоянно присутствовал у нас в голове на всем периоде работы
над рукописью.
1. Значительная часть из тех, кто знаком с нашими работами последних 5—
10 лет, в той или иной мере испытывает психологические трудности, когда на
месте привычного абсолюта, стороны противоположности-противоречия типа
Мышление, Сознание, Человек, Бог, Дух, Знание, Наука, который если и не
обладает атрибутом всеведения, то активно стремится к нему, как к своей конечной
цели, — обнаруживает орущего в колыбели младенца, выступающего у нас в роли
неустранимого логического абсолюта, единственного и монопольного источника
История европейской культурной традиции и ее проблемы 729
всего многообразия прямых и косвенных определений, который вводит в эти
субъективные определения ограничения по «человекоразмерности», «человеко-
мерности». По нашим наблюдениям этот первичный психологический шок более
или менее регулярно срабатывает, генерируя трудности взаимопонимания, в тех
случаях, когда по ходу изложения нам нужно понимание взрослого человека в
статусе повзрослевшего младенца, а такая необходимость постоянно возникала у
нас в случаях, когда четко нужно было различить иррациональное биологическое
и рациональное социальное кодирование, когда возникала альтернатива
истолкования того или иного феномена типа, скажем, закона Ципфа [178],
распределения цитирования по массивам дисциплинарных публикаций, движения элементов
научного знания по линиям субъективного или объективного определения.
Мы для себя приписываем этот первичный шок по поводу младенца в роли
абсолюта и рецидивы такого шока тому факту, что и наши читатели, как и мы
сами, прошли школу экстенсивного онаучивания и до подкорки приняли как
норму конструирования предмета научного исследования синхронно-статичный
по сути дела постулат о том, что из предмета исследования на время его изучения
должны в духе старинных военных реляций о потерях «не считая женщин и
детей» изгоняться все «случайные», «несущественные», «нерелевантные» для
целей исследования явления, а образующие предмет единичные реальности
должны готовиться к эксперименту на предмет достижения возможно более
однородной реакции на контролируемые исследователем изменения среды их
изолированного экспериментального обитания. Так, к примеру, появляется, как замечал
Эддингтон, ихтиология без мальков, физиология нервной деятельности голодных
животных, сопротивление материалов образцов предустановленной строгой
геометрии, демография взрослых, науковедение, социология, история науки,
философия взрослых «не считая женщин и детей», хотя все прекрасно понимают, пока
они не заняты научными исследованиями, что все взрослые должны были
родиться и пройти долгий путь взросления по программам биокода и социокода,
прежде чем стать взрослыми и войти в предмет исследования. Мы не считаем
себя исключением из общего правила, и в работе над рукописью постоянно
ощущали давление этого постулата — следствия нашей экстенсивной онаученности,
поэтому и в тексте работы можно, видимо, найти немало неясных мест,
позволяющих синхронно-статичное и диахронно-динамичное толкование, но мы все
же старались удерживаться на линии противостояния абсолютов субъективного и
объективного определения, младенца и его окружения и там, где чувствовали, что
может возникнуть путаница, не скупились на пространные объяснения, которые
вполне могут показаться читателю, да и нам иногда кажутся излишними и
загромождающими текст ненужными уточнениями.
2. У части наших читателей, что мы в общем-то тоже списываем на издержки
экстенсивного онаучивания, возникают недоумения по поводу довольно частого
использования термина «самость» и его производных в рамках противостояния
абсолютов субъективного и объективного определений, особенно когда мы
настойчиво приписываем абсолютам (младенцу и окружению) обладание самостью
и в то же время отказываем в обладании самостью всей той структуре, которая
локализована между абсолютами, называется ли она «миром знака»,
«естественным языком-системой», «национальным Т-континуумом», «наукой — глобальным
феноменом» или еще как-нибудь.
Термином «самость» мы пользовались и пользуемся, как и большинство
историков философии, в том первичном логико-лингвистическом смысле, который
вложил в него Аристотель, четко различая «первичные» и «вторичные» сущности
(категории), закреплен александрийцами в их теоретическом нормативном курсе
естественного языка — модели всех ныне существующих нормативных школьных
курсов родного и инородного языков — и в несколько сдвинутой форме по ходу
47 М.К. Петров
730
M. К. Петров
критики дихотомии мышления и протяженности Декарта введен немецкой
классикой, прежде всего Кантом и Гегелем, в философский обиход, как способность
одних единичных реалий обладать многообразием «само» атрибутов
(самодвижение, самодеятельность, самовоспроизводство, самосознание, саморефлексия,
самовыражение, самоубеждение и т.д. и т.п.) и неспособность-«лишенность»
обладания этими атрибутами других реалий. Человек, например, как естественное,
социальное и мыслящее существо — типичная «самость», а знак, как и все, что
в мире знака, — типичная ее «лишенность».
Нам в основном приходилось иметь дело с ментальными движениями в
рамках тезаурусной динамики, где постоянно приходилось различать те реалии,
которые способны к самодвижению (школьники, студенты, аспиранты, члены
учительского и научно-академического сообществ), от тех реалий, которые
неспособны к самодвижению (элементы научного знания, теории, концепты, учебники,
планы, акты и мегаакты речи). При этом всегда оставалось место для путаницы
и недоразумений. Как, например, объяснить движение опубликованных
элементов научного знания в дисциплинарных айсбергах рангового распределения
цитирования по дисциплинарному массиву публикаций? Прайс, например,
использует явно самостную аналогию, когда по поводу этого движения замечает: «Статьи
ведут себя подобно человеческой популяции, отличаясь от нее лишь тем, что
статьям для порождения новой статьи требуется кворум из десяти статей, тогда как
у людей хватает пары, мужчины и женщины» [150, с. 78]. И хотя это явная
метафора, заменяющая долгое строгое рациональное объяснение этого феномена
простым указанием пальца на что-то совсем иное, само такое исследование в
терминах самости исследователей, выбирающих для Т0-х своих рукописей группы
опубликованных уже статей, включает иррациональный момент деятельности
«гносиса», формирующего айсберг рангового цитирования по частоте вовлечения
образующих дисциплинарный массив публикаций статей в Т0-е новых статей. И
в этом и в других случаях и мы часто предпочитали многословию рациональных
объяснений краткость метафор, хотя и не можем поручиться за то, что все наши
метафоры удачны и будут истолкованы читателем именно в том смысле, в каком
он истолковал бы многословное рациональное объяснение.
3. Много недоумении вызывает у читателя и «мир знака», который в нашем
изложении локализован между абсолютами субъективного и объективного
определений (младенцем и окружением), поскольку абсолюты эти все-таки
логические, эмалирующие определенность и активно участвующие в объяснениях, из
своих следствий необъяснимы, как и положено необусловленным логическим
абсолютам. В границах этого «между» и особенно в окрестностях абсолютов
возникает много темных для понимания мест. Мы старались высветлить эти места,
используя для этой цели многократное наложение однотипных, по нашему мнению,
структур: мир знака — естественный язык — национальный Т-континуум —
наука, как глобальный феномен, ответственный за единообразие национальных
Т-континуумов. Получился слоеный пирог определений, в котором различия
между слоями-стратами возникают не как нечто устойчивое, присущее данному
слою-страту, а скорее как жанры, стили, нюансы использования лишенных
самости знаков обладающими самостью людьми. Немотивированность знака и
традиционный способ его существования являются, например, общими свойствами
знаков и знаковых систем, но в одних случаях они выявляются таким способом,
а в других другим. Текстуальность и членораздельность в процессах накопления
знания [54], к примеру, могут и иметь общее и не иметь ничего общего с
правилами уличного движения и соответствующими знаками, точно так же, как
двойка на трамвае и двойка в дневнике школьника могут и иметь что-то общее
и не иметь ничего общего. К тому же некоторые способы использования знаков
можно прекратить или заменить, как, скажем, меняют время от времени, правила
История европейской культурной традиции и ее проблемы 731
уличного движения с правосторонних на левосторонние и обратно. А с другими
способами это не получается: нельзя, например, отменить или чем-либо заменить
текстуальность и членораздельность или механизмы ценообразования в науке,
запрет на повтор-плагиат в любой форме творчества.
Понятно, поэтому, что предложенные в данной работе некоторые объяснения
темных мест вовсе не обязательно должны приниматься читателем как данность.
Это было бы совсем не то, чего мы добивались. Мы, например, способность
индивидов ментально двигаться, оставаясь неподвижным, и в мире знака и в Т-кон-
тинууме, совершать академическое движение, сидя за партой, объясняем тем, что
на периоде «от 2 до 5» взрослеющий младенец, опираясь и на программы биокода
и на коррективы старших, творит личный мир знака и что все ментальные
разновидности движения осуществляются в актах взаимодействия между знаковыми
мирами индивидов, выполняющих роли А и В. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы
это объяснение было принято читателем, но если у него появится более простой
и убедительный способ объяснения ментального движения, мы, хотя и без
особого восторга и удовольствия, примем его.
И точно так же обстоит дело с событиями на переднем крае в мире открытий.
Принадлежность мира открытий к миру знака более или менее очевидно
демонстрируется составом входящих в него событий, которые в принципе подчинены
тем же правилам, что и любое наращивание текста совместного владения группой
индивидов (семья, друзья, близкие, товарищи по работе) когда все наговоренное
в группе к моменту начала нового очередного акта речи, в котором роль А
выполняет один из членов группы, а все остальные оказываются в роли В,
становится определителем Т0 этого нового акта речи. Этот типичный для терминалов
научной деятельности процесс группового, коллегиального наращивания текста
общего владения, в котором каждому коллеге по терминалу предоставляется
право в любой момент выступить в роли А, имеет и сходства и различия с
конечными текстами большой длины и, соответственно, с закритическими
положительными разностями Ti-To, такими как роман или учебник.
Сходство состоит в том, что наращиваемый в терминале науки текст, как и
роман или учебник, подчинен запрету на повтор-плагиат, но, вовлекая
лексический материал проговоренных актов речи в построение Т0-х новых актов речи,
сообщает этому материалу репродуктивную характеристику, которая и становится
для «гносиса» основанием и поводом для выстраивания рангового распределения
меры участия образующих проговоренный материал знаменательных единиц в
новых актах речи. Различие же состоит в том, что наращиваемый в терминале
науки текст по сути дела бесконечен, не имеет ограничений по объему, и в том
также, что он занимает промежуточное место между учебником и романом,
отличаясь от учебника тем, что в нем, как и в романе, не выдерживается правило
построения мегаактов речи Ti предшествующего акта речи становится Т0
последующего, а от романа тем, что в нем, как и в учебнике, частотную характеристику
обретают не только знаменательные слова, а и акты речи.
Когда нас заинтересовали идеи «вертикальной интеграции» системников и их
критиков [93; 94; 95; 134; 135; 136] с точки зрения возможности присутствия в
страте интернациональной лексики в национальных Т-континуумах автономного
механизма интеграции науки в целостность наднационального глобального
феномена, мы обратили внимание именно на это промежуточное между учебником и
романом положение наращиваемых в терминалах науки текстов. То
использованное в основном Прайсом [150] обстоятельство, что эти тексты сообщают
репродуктивные характеристики, а с ними и ценность актам речи предшественников —
массиву научных публикаций, неплохо изучено и большинством исследователей
науки признается как база научного ценообразования. Но при этом в тень отошло
другое обстоятельство, что репродуктивную характеристику получают и знамена-
47*
732
M.К. Петров
тельные слова этих наращиваемых текстов, как это происходит и в романе
Джойса «Улисс» и в других литературных произведениях, которые исследовал Ципф
[178]. И как раз на этом уровне знаменательных слов возникает та изредка
отмечаемая исследователями странность, что в процессе научного глоттогенеза новых
слов практически не появляется — называют, как правило, одно-единственное
изобретенное наукой слово «газ», введенное Гельмонтом в XVII в. [129, с. 70].
Понятно, что вариант Ципфа (частота использования знаменательных слов
тезауруса естественного языка в предложениях связного текста) в отличие от
варианта Прайса (частота использования-цитирования опубликованных уже статей в
потоке публикуемых статей) практически не интересовал исследователей
научного ценообразования, коль скоро для процесса ценообразования в науке решающее
значение имеет связь автор — вклад, представленный опубликованными
рукописями (статьями, обзорами, монографиями, курсами лекций, учебниками, по
которой, произвол но от цитирования вклада устанавливается иерархия статусов,
положений, авторитетов, «кто есть кто» в научно-академическом сообществе, а не
связь автор — тем или иным способом упорядоченное множество слов, по
которой вообще ничего установить нельзя. Вариант Ципфа, после кратковременной
вспышки интереса к нему в 1950-е гг. со стороны машпереводчиков, перестал
интересовать и лингвистов, которые быстро перевели закон Ципфа в статус
данности, о котором всем лингвистам известно, но ничего внятного в терминах почему,
зачем, в силу каких причин, в какой функции сказать ничего нельзя, как и о
членораздельности, например, или текстуальности. К тому же закон Ципфа стал
обнаруживаться и в неорганической природе [179], так что для некоторых под
вопросом оказалась и принадлежность закона Ципфа к миру знака, к линии
субъективного определения.
Мы в варианте Ципфа и в идеях «вертикальной интеграции» системников,
явно тяготеющих к поиску конечного круга концептов, присутствующих в
лексиконе всех дисциплин и всех исследовательских направлений, образующих мир
науки, увидели реальную возможность использовать для школьного
учебника-терминала этот игнорируемый и исследователями ценообразования в науке и
лингвистами уровень интеграции всех актов речи, наращивающих тексты всех
терминалов науки на базе знаменательной лексики естественного языка без
увеличения числа слов в его тезаурусе.
В предлагаемой работе мы пытались в контексте анализа состава
интернациональной лексики в национальных Т-континуумах подвести под эту реальную
возможность теоретическую базу в терминах тезаурусной динамики и получили
несколько неожиданный для нас самих парадоксальный на первый взгляд
результат: отрицательную разность Ti-T0 во всех актах номинации-определения как
условие осуществимости бесконечного наращивания текстов терминалов науки на
конечной базе тезауруса естественного языка. В начале работы со ссылкой на
Хурсина [83] мы упоминали о принципиальной возможности актов речи с
отрицательной разностью Ti-To и квалифицировали такие акты речи, как
встречающуюся в официальной практике откликов на речи и решения речевую ситуацию,
когда не обладающее высокой компетентностью начальство зачитывает
обязательную дежурную речь для галочки перед аудиторией подчиненных, обладающих
более высокой компетенцией, когда равно скучно и дискомфортно и А и В, но
обстоятельства вынуждают выдерживать подобающий декорум.
Теперь же оказывается, что акты речи с отрицательной разностью Ti-T0
имеют более широкий ареал законного существования в национальном Т-конти-
нууме, в массовом порядке воспроизводятся в терминалах науке — именно там,
где мы этого менее всего ожидали.
В основном тексте мы не стали особенно углубляться в этот парадокс и
отметили только, что акты речи с отрицательной разностью Ti-T0, которые ветре-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 733
чаются в практике научного глоттогенеза, могли бы означать «накачку» наукой
знаменательных слов тезауруса естественного языка или языков, на которых она
фиксирует результаты научного поиска, новыми смыслами, якобы извлекаемыми
из самих этих слов. Здесь мы можем добавить, что близкий по механизму
феномен отмечал Сепир, когда он сравнивал знаменательное слово с элеватором, из
которого для непосредственных нужд общения люди извлекают зерна смысла.
Приходилось об этом говорить и нам [54]. Но у Сепира эти зерна смысла
вынимают из слов-элеваторов, а в процессе глоттогенеза науки зерна смысла, похоже,
вкладывают в слова-элеваторы, что влечет за собой множество следствий, анализ
которых мы отложим для другой работы, а пока лишь отметим, что если процесс
использования знаменательных слов в актах номинации-определения типичных
для наращивания текстов в терминалах науки идет в режиме вклада новых
значений в слова-элеваторы, то в контуре онаучивания тезаурус официального
естественного языка национального Т-континуума должен пониматься как первый и
исходный предмет и момент онаучивания, а последний его момент —
онаучивание всех взрослых на всеобщем школьном переходе становится возможным лишь
на базе онаученных знаменательных слов тезауруса официального естественного
языка.
4. По связи и вне связи с проблемой научного глоттогенеза трудности
отмечаются и в понимании читателем природы знаковой реалии и особенно ее
способности совершать челночные движения из лишенного самости мира знака в
самостный мир окружения, реалии которого — первые сущности Аристотеля —
несут врожденные и несмываемые отметки единичности, пространства и времени,
но на входе в мир знака теряют эти отметки и становятся лишенными самости
знаковыми реалиями. Вообще-то говоря, эта проблема границы и ее пересечения,
перехода границы, трансцензуса широко обсуждается философами со времен
Демокрита, Платона и Аристотеля, а специфически научный оттенок она приобрела
в работах Юма и Канта, сохраняющих свое значение для гносеологии и в наши
дни, но в нашем конкретном случае тезаурусно-динамического подхода к миру
знака, ко всему тому, что заключено между самостными абсолютами
субъективного и объективного определений, между младенцем и его окружением, эта
проблема приобретает дополнительные нюансы, по поводу которых и могут
возникать недоразумения.
Массовый переход знаковых реалий из мира знака в самостный мир
окружения, в процессе которого они обретают отметки единичности, пространства и
времени, наблюдается сегодня в приложении, по поводу чего сомнений и
недоумений почти не возникает. Всем в общем-то ясно, что появлению на свет новой
самостной единичной реалии окружения, будь то первая машина или новый
завод, трансформаторная будка или школа, жилой дом или новая железная
дорога, новый пылесос или новый космический корабль, предшествует остающийся в
мире знака ворох бумаг — «техническая документация», — а самому этому вороху
бумаг предшествует несколько локализованных в мире знака стадий движения
сплоченной группы элементов научного знания, отмеченных решениями
релевантного набора инстанций, тогда как само это движение сплоченной группы
элементов научного знания, как и оформление их в группу, начинается от вполне
конкретного самостного, несущего отметки пространства и времени единичного
взрослого индивида, а еще точнее — от его головы, его ума, где что-то на что-то
замкнулось и по причине этого замыкания через некоторое время, пройдя с
риском для жизни положенный набор инстанций, превратившись в ворох бумаги —
техническую документацию, — сплоченная группа элементов научного знания
начинает вторжение из мира знака, в котором остаются все предшествующие стадии
движения этой группы от головы прикладника до технической документации,
через деятельность людей, организуемую этой технической документацией, в
734
M.К. Петров
самостный мир окружения, где организованная деятельность людей одевает эту
сплоченную группу элементов научного знания в железо и бетон, в прочие
одежки в соответствии с технической документацией — реализует, овеществляет,
воплощает знаковую реалию в самостном мире окружения, а когда эта реализация
заканчивается, когда собираются митинги, произносятся речи, поднимаются
тосты, всегда оказывается, что главный виновник торжества — бесплотная
сплоченная группа элементов научного знания — давно уже в бегах и то ли лежит на
полках архива, то ли находится где-то неподалеку в месте, имеющем отметки
пространства и времени, где полным ходом ведется ее реализация другой уже
группой людей, организующей свою деятельность с помощью все той же
технической документации.
Это нехитрое описание процесса перемещения трансцензуса группы
элементов научного знания от головы прикладника, в которой эта группа оформилась,
до ее воплощения в окружении деятельностью людей, организуемой и
направляемой этой группой, следует древним образцам, рассуждению, скажем, Платона о
деятельности ремесленника-мастера: «Обычно мы говорим, что мастер
изготовляет ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею: один делает кровати, другой столы,
нужные нам, и то же самое и в остальных случаях» [Государство, 596 в]. В век
научно-технической революции изменилось лить то, что «техническая
документация» — идея Платона — претерпевает изменения часто даже быстрее, чем
завершается реализация. Но в принципе в понимании прикладного движения
элементов научного или иного (божественного, например) знания из мира знака в
самостный мир единичных реалий окружения почти ничего не изменилось со
времен Платона, и идет ли речь о творении мира богом-автором или о предметах
домашнего обихода, гидростанциях, космических кораблях, в этом процессе
всегда выделяется этап до реализации (движение в мире знака), реализация-транс-
цензус (переход в мир самостных реалий окружения), а если нужно, то и этап
после реализации (доводка, отладка, совершенствование) или, как говорили
христианские теологи: до вещей, в вещах, после вещей, располагая человека с его
способностью познания на этапе после вещей.
Сложности для понимания оказываются не в области приложения, а именно
на этом этапе «после вещей», на путях перевода единичных, имеющих отметки
пространства и времени реалий окружения в знаковый мир на предмет их
изучения и возврата через приложение в самостный мир реалий окружения в
видоизмененной форме, несущей деформирующую нагрузку человеческих нужд и
потребностей.
Пока мир мыслился творением бога, приложением божественного всеведения
к реализации наилучшего из миров и все интеллектуалы в роли исследователей
ставились господствующей теологической моделью процесса творения мира: до
вещей — в вещах — после вещей, в позицию «после вещей», особых трудностей
в понимании того, как совершается переход самостных единичных реалий из
мира окружения в мир знака, в мир открытий не возникало. Исследователи
усматривали в любой реалии окружения продукт реализации составной части
общего божественного плана творения мира самостным, всеведущим и всемогущим
существом и задача исследователя сводилась, собственно, к восстановлению
«технической документации» данного творения, к проникновению силами
человеческого разума, так сказать, в «архивы бога», причем такое осмысление
исследовательской задачи явно подкреплялось тезаурусно-динамическим строением
научного глоттогенеза, в котором на правах Т0-х используются знаменательные слова
тезауруса естественного языка, разность Ti-T0 отрицательна, выхода за пределы
словаря не происходит и претендующая на публикацию рукопись — продукт акта
номинации-определения — собственно и оказывается «технической
документацией» исследуемой единичной реалии окружения, если в правила решения иссле-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 735
довательских задач входят принципы наблюдения и экспериментальной
верификации, обеспечивающие бесконечный повтор и наблюдаемость описанной в
рукописи единичной реалии окружения повсюду и всегда при соблюдении
указанных в рукописи условий.
Хотя теологическая модель творения мира по слову божьему: до вещей — в
вещах — после вещей, сегодня редко появляется в эксплицированном виде в
работах исследователей науки, нам иногда кажется, что это дань моде, своеобразное
научное табу того же примерно типа, что и речевое поведение ученых в
коридорной ситуации, где просто не принято говорить о делах собственного терминала
науки перед случайной аудиторией и на периферию сознания отодвигается тот
факт, что в коридорной ситуации невозможно сказать что-нибудь внятное и
вразумительное для аудитории о делах собственного терминала, коль скоро в этой
случайной аудитории, по всей вероятности, есть люди другой терминальной
принадлежности. Так или иначе, но читая работы и наших и зарубежных авторов,
рецензируя их, переводя и реферируя, невольно проникаешься растущим
убеждением, что секуляризация науки — факт скорее декларируемый, нежели
совершившийся, — и ученые-исследователи в своем большинстве, сознают они это или
нет, привыкли к позиции «после вещей», не ощущают ни потребности, ни повода
для пересмотра этой позиции, а когда повод все-таки появляется, как, к примеру,
у теоретиков систем [134; 135; 136], просто восстанавливается древняя
теологическая модель.
Ответственным за этот феномен безразличия ученых исследователей к
теоретическому обоснованию своей познавательной деятельности может оказаться и то
обстоятельство, что и в эпоху господства теологической модели и сегодня
научный глоттогенез не умножает числа знаменательных слов в тезаурусе
естественного языка или языков, а само это универсальное обстоятельство остается за
пределами внимания исследователей процесса научного ценообразования, поскольку
этот процесс складывается из разобщенных подпроцессов, которые протекают
автономно в дисциплинах и замыкаются лишь на универсализм принципов
наблюдения и экспериментальной верификации, по которым и складываются
представления о целостности науки как глобального феномена.
По ходу изложения мы старались не слишком заострять вопрос о том, как
именно производится перевод реалий окружения в единый для всех национальных
научно-академических сообществ мир открытий науки, мы просто
концентрировали внимание читателя на непредсказуемости событий на переднем крае науки и
на ограниченности дистанции-длительности, на которую исследователям
дозволено удаляться в их «самовольных отлучках» — трансцензусах в область
непознанного, которая в любом терминале науки начинается сразу за передним краем
исследований, за статьями, опубликованными в последнем выпуске научного журнала,
обслуживающего данный терминал. Мы говорили также о том, что
непредсказуемость событий в терминале науки относительно исследователя, с именем которого
будет связано это событие, вернее отчет об этом событии в рукописи, которая
будет написана и опубликована, относительно терминала, в котором произойдет
очередное по счету-последовательности значимое для науки событие,
относительно национального научно-академического сообщества, где такое событие
произойдет, может иметь самые негативные и даже катастрофические последствия,
если развитые страны в погоне за призраком превосходства своей национальной
науки пойдут под давлением узко понятых национальных интересов на отказ от
сотрудничества членов своего научно-академического сообщества в едином для
наднациональной глобальной науки мире открытий, что неизбежно повело бы к
расподоблению национальных Т-континуумов и по числу научных терминалов и
по проявлениям непредсказуемости научно-значимых событий как с точки зрения
их состава, так и с точки зрения порядка их следования.
736
M. К. Петров
Но вот о «челночном» характере переходов-трансцензусов реалий из мира
знака в окружение и из окружения в мир знака мы говорили довольно мало. На
то есть, понятно свои причины и достаточно уважительные — болезненная и
неоправданно бурная реакция коллег по терминалу на некоторые наши работы [182;
53] надолго перекрыла нам дорогу к публикации соответствующих концептов. Но
дело не только в этих причинах, а скорее в том, что соответствующая челночная
модель перехода-трансцензуса реалий из знакового мира в окружение и из
окружения в знаковый мир для науки в целом и для мира открытий науки особенно
оказывается значительно сложнее, чем для области приложения, где созданная
прикладником под четко сформулированные требования той или иной сложности
конечная система из известных уже и экспериментально проверенных на
бесконечный повтор элементов научного знания — бесспорная знаковая реалия —
доводится усилиями заинтересованных коллег и инстанций в пределах мира знака
до «технической документации», которая и выдвигается в окружение в роли
организатора взаимодействия реализующих эту конечную замкнутую систему
элементов научного знания людей и инстанций, а затем, с окончанием реализации,
система уходит обратно в мир знака, оставляя как след своего трансцензуса в
окружение единичную реалию окружения хотя и явно артефактную и ущербную с
точки зрения самости, но обладающую отметками единичности, пространства и
времени, которыми знаковые реалии не обладают.
Трансцензус на переднем крае исследований носит характер избирательного
затаскивания реалий окружения в мир знака для их изучения, которое хотя и не
всегда безболезненно для реалий окружения — экспериментирование может
сопровождаться массовой гибелью участников эксперимента, — но всегда требует
предельно осторожного и даже по возможности «незаинтересованного»
отношения к реалиям — участникам эксперимента, с тем чтобы резко разделить
онтологию и долженствование: закономерности поведения этих реалий «как они есть»,
которые только и могут стать предметом научного изучения, от навязываемых
разумом априорных соображений насчет того, «как им следует быть», включение
которых в предмет изучения может только исказить результаты и нанести ущерб
способности элемента научного знания бесконечно
воспроизводиться-тиражироваться всюду и всегда, если соблюдены условия, в которых эта способность
наблюдалась впервые и которые зафиксированы исследователем в его рукописи и
доведены до сведения коллег в публикации.
Нельзя сказать, как это часто делают популяризаторы науки, что
исследователь, совершая трансцензус на переднем крае, пересекает демаркационную линию
между познанным и непознанным и углубляется в джунгли непознанного,
повинуясь приказу или внутреннему импульсу: «иди туда, не знаю куда, найди и
принеси то, не знаю что». Все происходит много обыденнее и проще.
Прежде всего поиск и избирательный отлов непознанных реалий окружения
для их перевода в мир открытий, для их опредмечивания и изучения совершается
в умозрении и лишь на этапе экспериментирования выловленные реалии вместе
с их непосредственным окружением затаскиваются в исследовательские
лаборатории, чтобы наблюдать их поведение в контролируемых условиях, а сами эти
исследовательские лаборатории возникают по типичной приложенческой схеме
трансцензуса-перехода знаковых реалий из мира знака в окружение, то есть
представляют из себя обычные единичные реалии, обладающие отметками
пространства и времени и хранящие где-то на стеллажах свою «техническую
документацию» как обоснование своего права на существование в окружении.
Далее, исследователь совершает трансцензус-переход не на переднем крае
науки вообще как глобального феномена, а на том узком его участке, на котором
локализован терминал исследователя, а принадлежность исследователя к этому
терминалу науки предполагает, что еще в студенческие и аспирантские годы он
История европейской культурной традиции и ее проблемы 737
получил в личное владение вполне определенную умозрительную снасть и навыки
ее использования в ситуациях трансцендентального выхода в мир непознанного
для избирательного отлова интересующих его терминал реалий окружения.
Снасть эта — парадигма, «штатное имущество» любого терминала и своя,
отличная для всех других, для каждого терминала. В нормальных условиях, на более
или менее длительном периоде кумуляции новых элементов научного знания
между совершившейся уже и предстоящей революциями [30] парадигма для
коллег-исследователей данного терминала науки явно выполняет «текстуальную»
функцию, ту самую функцию в принципе неформализуемого умозаключения-
прыжка, которая в процессе перевода, например, позволяет переводчику, если он
человек, без особого труда идти, «перепрыгивая стыки», по связному инородному
тексту, по потоку уникальных предложений, на которые распространяется
действие запрета на повтор-плагиат, а машину-переводчика вынуждает спотыкаться на
стыках уникальных предложений и в бессилии останавливаться перед очередным
прыжком [70]. При этом наблюдаемая в терминалах науки текстуальная
характеристика парадигм с точки зрения эффекта тезаурусного стяжения значительно
уступает по силе текстуальной характеристике связного текста конечной длины. И
дело здесь не только в том, что наращиваемый в терминале науки текст
бесконечен.
Если использовать для сравнения связный осмысленный текст конечной
длины и упражнение в учебнике родного или инородного языка на закрепление
того или иного грамматического правила, то наращиваемые в терминалах науки
тексты будут располагаться где-то между связными осмысленными текстами и
упражнениями, тяготея скорее к демонстрации правил, чем к организации смысла
под конечный Ti, устанавливаемый автором. Даже в самом запутанном детективе,
например, всегда можно гадать, и в этом особая прелесть запутанных историй,
чем все-таки закончится дело, и иногда это удается, что ласкает самолюбие
читателя и повышает его мнение о собственных интеллектуальных способностях. В
упражнениях учебника ничего нельзя предугадать ни относительно того, о чем
пойдет речь в следующем предложении данного упражнения, ни относительно
того, каким будет следующее упражнение в данном учебнике, хотя можно
конечно обратиться к автору и он, возможно, объяснит механику подбора упражнений.
Ничего нельзя предугадать и в бесконечном наращивании текста научного
терминала и обратиться здесь не к кому. Каждая новая статья, наращивающая такой
бесконечный текст, конечно же поставит свой Ti, но держаться он будет только
до появления новой статьи, которая поставит свой Ть К тому же появление
новых статей здесь идет не по соблюдаемому в учебниках и мегаактах речи
правилу Ti предыдущего акта речи становится Т0 последующего, что позволяет
процесс наращивания соответствующего текста понять линейно, как движение по
прямой, а по правилу, когда в Т0 новой статьи отбираются Ti-e отдельных статей
из числа опубликованных независимо от их возраста и последовательности
публикации во времени. Такой способ наращивания текста нельзя уже представить
линейно, он более похож на ветвление или на иглы хвои на ветках ели. Словом,
непредсказуемость на уровне наращивания бесконечного текста в терминале
науки будет возникать не только по поводу того, кто из коллег напишет
следующую статью, но и по поводу содержания этой следующей статьи и по поводу того,
какие из опубликованных уже статей непредсказуемый автор введет в Т0 своей
непредсказуемой статьи с непредсказуемым Ть Хотя, естественно, любая статья,
публикуемая коллегами терминала в порядке наращивания текста данного
терминала науки, будет демонстрацией правил парадигмы этого терминала.
Далее, отбор реалий окружения для опредмечивания и изучения включает
идею репрезентативности, перевода единичности, типичной для окружения, в
уникальность, которая типична для мира знака. К реалии окружения, вовлекав-
738
M.К. Петров
мой исследователем по ходу трансцензуса — вылазки в непознанное — в мир
открытий, исследователь примысливает диктуемые ему парадигмой отношения
тождества, сходства, изоморфизма, различия и множество других знаковых
отношений, лишая попутно эту реалию самости, отметок единичности, пространства и
времени и заменяя единичность уникальностью, понимая под уникальностью
репрезентативность единичной реалии окружения для класса существующих в
окружении реалий, подобных или схожих в том или ином отношении. Клеток,
скажем, достаточно много и в одном живом организме, но под микроскопом биолога
может оказаться и одна клетка, которую биолог изучает как репрезентативную
для класса клеток в отношении или в отношениях, известных лишь ему самому
и его коллегам по терминалу, да и то только в том случае, если коллеги
посвящены в характер и цели поиска этого биолога у микроскопа. Но и для
уткнувшегося в микроскоп биолога клетка в его голове и в головах его коллег по
терминалу — понятие уникальное, клетка, которую он видит, — реалия самостная,
единичная и репрезентативная для класса реалий того же типа, которая по всей
вероятности погибнет по ходу изучения, но, возможно, внесет свой вклад в
рукопись этого биолога, которую может быть и опубликуют. И так в любом
терминале науки. Везде можно обнаружить исследователей с уникальной идеей в голове
и с наблюдаемой единичной, но репрезентативной в известном исследователю
отношении. Процесс опредмечивания в этом смысле есть некая стадия на пути от
наблюдаемой единичной реалии к глазу исследователя и от глаза исследователя
к уникальной идее в голове исследователя, стадия, на которой исчезают самость,
единичность, отметки пространства и времени наблюдаемой реалии окружения и
остаются лишь отношения репрезентативности, связанные с уникальной идеей.
Понятие уникальности в предлагаемом смысле относительно, и отнесено оно
к процессу опредмечивания реалий окружения в знаковом мире открытий. За
рамками этой отнесенности понятие уникальности широко используется для
знаковых в основном реалий, которые сами могут оказываться предметами научного
изучения по связи с самостными реалиями окружения. Так, к примеру, на земном
шаре насчитывают от 2,5 до 3,5 тысяч естественных языков, каждый из которых
уникален в своем мире знака, но в голове лингвиста уникальна лишь идея языка-
системы.
5. Определенные недоумения вызывают у читателя и проблемы тезаурусной
динамики, особенно когда речь заходит о тезаурусно-динамическом
коллективизме как о норме деятельности исследователей в терминалах науки. Мы старались
показать, что наращивание бесконечного текста в терминале науки под эгидой
соответствующей парадигмы расставляет участников этого наращивания — коллег
по терминалу, к каким бы национальным научно-академическим сообществам
они ни принадлежали, в позицию перманентного соревнования за право
исполнения роли Айв позицию крайне заинтересованной в ознакомлении с каждой
новой опубликованной статьей аудитории В, поскольку каждая новая статья
меняет очертания переднего края исследований в терминале, умножает состав
опубликованных уже по тематике терминала работ, которые могут быть включены в
состав То-х будущих рукописей и статей, и, соответственно, меняет условия
поиска и отбора реалий окружения для опредмечивания и изучения в мире
открытий. Мы настаивали и настаиваем на том, что именно эта стихийно возникающая
по поводу наращивания текста в терминале науки структура заинтересованного
сотрудничества коллег по терминалу — тезаурусно-динамический
коллективизм — лежит в основе всех механизмов самоорганизации науки как глобального
феномена и ее уподобляющего воздействия на структуры национальных Т-кон-
тинуумов развитых стран: каждая такая страна, чтобы не отстать от других
развитых стран в научно-техническом прогрессе, вынуждена оперативно обзаводить-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 739
ся каждым новым терминалом науки, в каком бы национальном Т-континууме
он ни появился.
С тезаурусно-динамическим коллективизмом непосредственно связаны и от
него производны и те условия осуществимости нормального функционирования
науки как наднационального глобального феномена, которые мы определили
набором: прямой доступ, гласность и свободная миграция исследовательского
таланта к местам обнаружения новых проблем на предмет их скорейшего решения.
Сложности в восприятии ключевого характера этого набора условий
осуществимости науки в глобально-уникальном ее статусе возникают, по нашему мнению,
именно потому, что большинство исследователей во всех национальных научно-
академических сообществах сегодня моноглоты, а моноглотами их сделало
длительное господство экстенсивной модели онаучивания общества. Этому
большинству неведомы преимущества оперативного прямого доступа ко всем
составляющим интернационального потока научной публикации и они воспринимают как
данность и норму сложившуюся сегодня ситуацию, когда в любом акте доступа
к иноязычной составляющей интернационального потока научной публикации
нужно ждать и надеяться на случай, на то, что вот внешние дяди и тети —
усеченные полиглоты из институтов иностранных языков удосужатся по наитию или
подсказке других дядей и теть отобрать, закупить, перевести или отреферировать
нужную тебе сегодня литературу и положат тебе на рабочий стол года через 3—4
то, что интересует тебя сегодня. Большинству кажется, и в этом оно отчасти
право, что возведенная между ними и иноязычными составляющими
интернационального потока научной публикации глухая стена непробиваема, поскольку
она, подобно танковой броне, содержит и мягкую и твердую компоненту — одно
пробьешь, в другом завязнешь: будь ты хоть трижды полиглотом и знай, что тебе
нужно, без заявок, запросов, подписей, справок, вороха бумаги и нервов, на что
уходят соды, все равно тебе не обойтись. И моноглоттизм в общем-то излечим
на личностном уровне исследователей за 2—3 года, если всерьез взяться за дело,
а вот бюрократизм и волокита с его планами публикаций на 3—4 года вперед —
вещь посерьезнее, и от этой болячки так просто и скоро не избавишься.
Все это конечно так. И пока действует экстенсивная модель онаучивания
общества, чудес ожидать не приходится, неоткуда им появиться. Но ситуация может
радикально измениться, если на смену экстенсивной модели онаучивания придет
интенсивная и большинство в национальных научно-академических сообществах
окажется уже не моноглоттичным, а полиглоттичным. Тогда у каждого
исследователя, представителя этого полиглоттичного большинства, появиться мощный
«кумулятивный» стимул дырявить эту непробиваемую сегодня броню, из каких
бы мягких и твердых компонентов она ни состояла. И, думается, никакая броня
тогда не устоит, тем более, что вся она сплошь сегодня отлита из благих
намерений, замешанных на элементарном невежестве относительно задач, целей,
способов и условий существования науки как глобального общечеловеческого
феномена.
Можно бы и дальше перечислять очаги возникающих недоумений и
недоразумений, но мы ограничимся этими пятью не столько потому, что мы считаем
предлагаемую работу достаточно ясной и доказательной для любого
потенциального читателя — все авторы так считают и большинство из них глубоко
ошибается, — а просто потому, что нам пора закругляться с этой работой — ждут
другие. Тем более пора, что мы по ходу изложения старательно отодвигали поближе
к концу за явной их схожестью с утопиями XVII в. некоторые проблемы
отдаленного будущего, от которого мы сегодня отделены годами или даже
десятилетиями на раздумья инстанций научной и академической политики, следует ли им
или не следует отказаться от услуг экстенсивной модели онаучивания общества
и перейти на интенсивную, а в случае положительного решения, в чем мы почти
740
M. К. Петров
уверены, коль скоро не видно других альтернатив решения тупикового кризиса
экстенсивного способа онаучивания и сохранения науки в ее
глобально-уникальном статусе агента уподобления национальных Т-континуумов развитых и
стремящихся в развитость стран, то за этим лагом инстанций на раздумья, последуют
еще лаг на подготовку перехода с экстенсивной модели на интенсивную лет в
20—30 и лаг на реализацию интенсивной модели лет в 50—60, так что проблемы
будущего, о которых пойдет речь, в лучшем случае будут локализованы в конце
XXI столетия, а более вероятно уже в XXII столетии.
Заглядывать на такую глубину в будущее, согласитесь, дело и неверное и
скользкое, тем более, что мы сами постоянно по ходу изложения высмеивали
претензии людей и инстанций на всеведение, квалифицируя соответствующие
спекуляции и действия людей и инстанций, будь то рецензенты или редакторы,
оценивающие рукописи на меру их будущего участия в процессе научного
ценообразования [185] или отчаянные кибернетики [26], как типичный комплекс
Архимеда, где за точку опоры принимается всеведение. К этим естественным
колебаниям насчет того, стоит ли пытаться хотя бы штрихами наметить нечто в столь
отдаленном будущем добавочный отрицательный импульс добавило заявление
сдающего полномочия президента Британской Ассоциации Ф.Дейнтона на
юбилейном собрании Ассоциации в 1981 г. в Йорке: «Стремление человека знать, что
он есть и как он стал таким, каков он есть, — фундаментальная человеческая
потребность, которая движет всеми видами познания, и это одно из немногих
стремлений, которые не слабеют в процессе взросления. Мне кажется, что
повышенный интерес стареющих людей к прошлому, к жизнеописаниям и истории в
значительной степени коренится в постоянной потребности знать, как они стали
теми, каковы они есть. Парадоксально, но стремление знать, какими способами
приходишь к наличному состоянию, не притупляет, а обостряет вкус к
спекуляциям о будущем. В самом деле, ретроспектива и перспектива обладают свойством
взаимного обусловливания и необходимой «противоположности». Более того,
старые люди, уверенные в том, что им самим не придется испытывать неудобства
адаптации к будущим изменениям, свободны по этой причине от консервативных
тенденций молодежи. Освобожденные возрастом от ответственности за будущее,
они могут позволить себе быть более радикальными в суждениях о будущем» [202,
с. 361].
Сам Дейнтон распространяет свою модель возрастного сдвига интереса к
истории и будущему на социальные институты: «Как с человеком, так и с его
институтами. Институты лелеют и пестуют свои истории именно как предварительное
условие попыток заглянуть в свое будущее. Военная максима «попятиться и
разбежаться, чтобы дальше прыгнуть» имеет силу и для институтов» [202, с. 361].
Разбежавшись по 150-летней истории Британской Ассоциации и прыгнув в будущее,
Дейнтон оказывается в обескураживающей нас ситуации, в которой Британской
Ассоциации до следующего юбилея в 2031 г. и далее предлагается активно
бороться с ею же созданной коридорной ситуацией методом ликбеза: насаждать
«научную грамотность» среди политиков, предпринимателей и журналистов и
«социальную грамотность» среди ученых-исследователей [202, с. 264—265]. При этом ни
слова упрека не говорится в адрес введенной Британской Ассоциацией
экстенсивной модели онаучивания британского общества: эта порождающая коридорную
ситуацию — предмет будущих усилий Ассоциации — модель онаучивания
принимается как данность, к которой нужно адаптироваться и с которой не имеет
смысла бороться. В этом отношении К.Керр [197] явно последовательнее Ф.Дейнтона.
Керр все же пытается в своем прогнозе показать, в какой комплекс
противостояний, оппозиций, противоречий, конфронтации способна ввергнуть в XXI столетии
экстенсивная модель онаучивания использующие ее общества.
Обескураживающий нас эффект рассуждении Дейнтона о будущих
социальных функциях Британский Ассоциации связан с тем, что мы как раз с научными
История европейской культурной традиции и ее проблемы 741
институтами типа Британской Ассоциации с ее Секциями, Советами,
Комитетами связываем, и об этом мы часто упоминаем в предлагаемой работе, самое
возможность подготовки и реализации перехода с экстенсивной на интенсивную
модель онаучивания общества, а в данном конкретном случае — возможность
прыжка на 100—150 лет в будущее, если предложенные нами Национальный центр по
подготовке перехода с экстенсивной на интенсивную модель онаучивания и
Национальная служба учебника-терминала будут своевременно учреждены и доведут
где-то во второй половине XXI столетия дело до конца: экстенсивная модель
онаучивания общества уйдет в прошлое как хотя и яркая, но грустная страница
в человеческой истории, а интенсивная модель онаучивания общества станет
доминирующим в развитых странах способом онаучивания общества и глобальным
символом развитости для всех стран, стремящихся в развитость, если к тому
времени останутся на земле подобные общества и страны, сознающие свою
ущербность по части развитости. К тому же в нашем отодвинутом на конец работы
сомнительном и скользком случае, дающем повод обвинить нас в возрождении
забытого сегодня жанра чисто умозрительных утопий XVII в., а найдутся и такие
читатели из числа коллег по терминалу философии, которые не упустят такого
повода, чтобы навести чужую, не нашу тень на наш плетень, научные институты
типа Британской Ассоциации должны будут занять, наряду с младенцем,
академическим движением взрослеющих младенцев в терминалы взрослой
деятельности, глобальным феноменом науки, роли определителей нашей удаленной в
далекое будущее ситуации.
Поэтому первая наша микрозадача в этой попытки обозначить контуры
ситуации далекого будущего будет отсечение возможных в принципе аналогий с
утопиями XVII в., хотя во многих отношениях эти утопии не такое уж
самоочевидное зло, от которого нужно всячески открещиваться, в конце концов и «Новая
Атлантида» и «Макария» в момент их появления на свет были типичными
утопиями и только в процессе реализации их идей стали краеугольными
основаниями современной глобальной науки, с тем чтобы сохранить в одной из ролей
определителя ситуации Национальную службу учебника-терминала, принявшую на
переходном периоде функции и обязанности Национального центра по
подготовке перехода с экстенсивной на интенсивную модель онаучивания.
Основное отличие нашей картины далекого будущего от утопий XVII в. в том,
что мы вовсе не стремимся установить, как это делалось в утопиях того времени,
некий идеал гармонизированных по законам логической или математической
демонстрации социальных отношений, к которому надлежит стремиться каждому
разумному человеку, а просто, пресекая на переходе с экстенсивной модели
онаучивания на интенсивную одни тенденции в развитии общества и укрепляя через
ввод интенсивной модели другие, пытаемся проследить вероятный ход событий в
ближайшем и отдаленном будущем при условии, что человечество на этом
периоде не даст себя уговорить совершить акт самоубийства в термоядерной или любой
иной тотальной катастрофе. В рамках этого основного отличия, которое, как уже
догадался проницательный читатель, входит в отношение параллелизма с
марксистским тезисом: «Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть
установлено, не идеал, с которым должна сообразовываться действительность. Мы
называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает
теперешнее состояние» [41, с. 34], можно при желании обнаружить и сколько угодно
других различий прежде всего касательно наличных предпосылок материальной,
социальной, экономической и духовной природы, которые вынуждали авторов
утопий XVII в. объясняться с потенциальными читателями с опорой на одни
знаковые реалии, а нас на совсем другие, вынуждали авторов утопий опираться в
описании состояний-идеалов на тезаурусную статику, а нас вынуждают опираться на
тезаурусную динамику, различие между которыми достаточно четко проведено в
742
M.К. Петров
процессе преобразований статичной классической модели акта речи Соссюра [66,
с. 49—50] в постоянно присутствующую в нашем тексте тезаурусно-динамическую
модель акта речи, объясняющую и академическое движение в чистом
академическом времени и многое другое.
Входить в дальнейшие уточнения и детали по поводу отношения предлагаемой
нами картины к утопиям XVII в. или, скажем, к прототипу всех утопий
«Государству» Платона, мы не будем, оговоримся только, что в этой картине
обязательно присутствие Национальной службы учебника-терминала, которая на
переходном периоде успела уже накопить некоторый опыт переизданий школьных
учебников на интенсивном всеобщем школьном переходе Тп-Ту и волей-неволей
начинает задумываться насчет правомерности и состоятельности унаследованных
от экстенсивной модели онаучивания постшкольных переходов системы
образования Ту-Тт, Ту-Тд, Ту-Тд-Тг.
Засечем на луче календарного времени точку или краткий период где-то в
конце XXI в. и, перебравшись в эту точку, попробуем осмотреться на предмет
поиска и описания возникших за столетие перемен. Раз уж мы, пользуясь
ежегодным сдвигом системы образования национального Т-континуума 1 сентября
для ввода в академическое движение новой волны первоклашек, довольно
свободно совершали экскурсы в прошлое, то в принципе мы столь же свободно
можем совершать подобные экскурсы и в будущее.
При этом национальный Т-континуум со встроенной в него системой
образования должен, если и в XXI в. младенцы будут рождаться принятым сегодня
способом, осваивать на этапе «от 2 до 5» родной язык и творить свой личный
знаковый мир по образу и подобию знаковых миров старших и через год-два
входить в ежегодной волне В групп сверстников в первый класс
общеобразовательной школы, играть роль основного фиксатора и аккумулятора изменений,
способного вызвать расподобление наблюдаемой сегодня картины событий в
национальном Т-континууме развитой страны и той картины, которая станет
наблюдаемой в конце XXI в. Особых изменений в геометрии и во взаимном
расположении характеристических точек Т-континуума: Тп, Ту, Тт, Тд, Тг, мы не ожидаем,
поскольку и геометрия и взаимное расположение характеристических точек
диктуется Т-континууму вписанной в него системой образования, а системе
образования — естественным и неподвластным ей взрослением индивидов по
программам биокода, унаследованным младенцем от родителей. Понятно, что и на
геометрию и на взаимное расположение характеристических точек могут оказать
влияние и решения инстанций научной и академической политики, устанавливая
законодательным порядком официальные сроки академического движения в
чистом академическом времени по тому или иному переходу, но вот инстанций этих
может в конце XXI в. и не обнаружится, поскольку сумма соответствующих прав,
делегированных на подготовительном периоде Национальному центру по
подготовке перехода с экстенсивной модели онаучивания на интенсивную, а центром
переданная Национальной службе учебника-терминала, может к инстанциям
научной и академической политики и не вернуться, да и сами инстанции могут
исчезнуть за ненадобностью.
Область ожидаемых перемен в национальных Т-континуумах развитых стран,
сколько бы их ни оказалось на политической карте конца XXI в., будет
локализована на периферии Т-континуума, фиксирующей расположение терминалов
взрослой деятельности и, соответственно, будет включать всю постшкольную
часть системы образования, где размещаются радиальные переходы выпускников
общеобразовательной школы в терминалы взрослой деятельности: Ту-Тт, Ту-Тд,
Ту-Тд-Тг. Конкретно выражаться изменения будут, по всей вероятности, в
колебаниях числа терминалов, представленных в Т-континууме, с общей тенденцией
к росту этого числа и к сокращению сроков их преемственного существования.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 743
Ничего особенно нового в этой тенденции к росту числа терминалов и к
сокращению сроков существования терминалов взрослой деятельности нет, она
достаточно хорошо наблюдается и сегодня как на уровне терминалов науки, где
появляются все новые и новые исследовательские направления Тг, а вымирает
значительно меньшее их число, так и на уровне прикладных терминалов Тт и Тд, где
уже сегодня много говорят и пишут о быстром «моральном старении» терминалов
этого типа, о «технологической безработице» — спутнике технического прогресса,
об «истощении» базовой подготовки инженеров-прикладников и их быстрой
дисквалификации.
Наиболее инертной, хотя бы внешне, в терминах сроков обучения и
представленных на переходе Тп-Ту учебников, будет оставаться, понятно, всеобщая
школьная часть системы образования в силу ее близости к этапу «от 2 до 5» и к
биокоду младенца, однако и здесь за этой внешней инертностью будут скрываться
изменения в содержании учебников в последовательности переизданий. И здесь
этот скрытый динамизм изменений будет иметь свои потолки и градации.
Изменения-совершенствования, скажем, в «колоде» параллельных курсов 6—7
естественных языков будут ограничены оптимальной с точки зрения их проходимости
В группами упаковкой материала и рано или поздно приблизятся к потолку
совершенства, тогда как учебники истории, литературы, математико-системной
группы и собственно учебник-терминал такого потолка совершенства иметь не
будут, и темп изменения их содержания будет зависеть от ценообразования в
соответствующих дисциплинах, от текущего глоттогенеза науки в целом, а также и
от частоты переизданий учебников.
В принципе число терминалов взрослой деятельности, локализованных на
периферии национального Т-континуума может расти неограниченно, коль скоро
каждый такой терминал суть точка на окружности, проведенной радиусом —
официальным сроком постшкольного перехода Ту-Тт, — а число точек на любой
окружности или ее части — бесконечно. Но такое геометрическое истолкование
процесса умножения терминалов и, соответственно, постшкольных переходов в
терминалы взрослой деятельности немногого стоит, если учесть и естественные,
и экономические, и тезаурусно-динамические и иные ограничения, которые
требуют присутствия в любом терминале, долгоживущий этот терминал или кратко-
живущий, некоторой пороговой по минимуму и максимуму численности группы
людей, образующих терминальное сообщество, а также отвлечения какой-то доли
от числа подготовленных для данного терминала специалистов для исполнения
ролей А в соответствующем постшкольном переходе. На эмпирическом уровне
проблемы эти поставлены и некоторые из них зондировались конкретными
социологическими в основном исследованиями [138; 142; 150] только
применительно к терминалам науки, тогда как они, понятно, возникают в любом терминале,
имеющем свой радиальный переход в постшкольной части системы образования.
Понятно, также, что если область вероятных изменений по времени в
условиях действия интенсивной модели онаучивания, как и в эпоху господства
экстенсивной модели, будет ограничена ростом числа терминалов взрослой
деятельности и числа ведущих в эти терминалы постшкольных переходов, то сам этот
процесс изменений, в который включены знаковые, не обладающие самостью
реалии — программы, учебники — не может совершаться стихийно, без активного
участия человеческого самостного фактора, без человеческой способности
готовить и принимать соответствующие решения. Словом, нужна инстанция научно-
прикладного типа, способная взять под контроль этот процесс.
Реально претендовать на выполнение роли такой научно-прикладной
инстанции, по нашему убеждению, могла бы только Национальная служба учебника-
терминала в порядке расширения области своего контроля и влияния со
школьной на постшкольную часть системы образования, захватывая сначала ту группу
744
M.К. Петров
постшкольных переходов, которые ведут не в терминалы науки, а в приложен-
ческие терминалы Ту-Тт и Ту-Тд и прежде всего педагогические институты,
институты иностранных языков и другие учебные заведения, где готовят «приложен-
ческие» по сути дела кадры А для школьного перехода Тп-Ту. Толкать на эту
научно-административную экспансию в постшкольную часть системы образования
Национальную службу учебника-терминала будет то существенное
обстоятельство, что уже на переходном периоде, организуя на страницах своих изданий
кампании в пользу полной реализации интенсивной модели, широкие дискуссии и
обсуждения возникающих в процессе реализации проблем, налаживая с помощью
института репетиторства и учителей долготное исследование академического
движения волн В групп сверстников, готовя очередные переиздания школьных
учебников, создавая нужные для всего этого банки эмпирических данных, служба
будет много лучше других претендентов подготовлена к изучению процесса
текущих изменений в постшкольной части системы образования и к разработке для
этой области наиболее квалифицированных решений.
Короче говоря, мы принимаем для описания ситуации далекого будущего
допущение, что любые наблюдаемые в национальных Т-континуумах конца XXI в.
изменения будут опосредованы деятельностью Национальной службы учебника-
терминала, то есть эта служба либо сама будет инициировать эти изменения, либо
критически рассматривать, санкционировать и обеспечивать реализацию
поступающих извне проектов реформ. При этом Национальная служба
учебника-терминала сохранит черты организационной схожести с Британской Ассоциацией, то
есть будет иметь президента, избираемого на короткий срок, Совет, члены
которого избираются на неопределенный срок, Секции со своими президентами с
неограниченным сроком исполнения должности, Секционные комитеты,
Генеральные комитеты, Комиссии, обязательные ежегодные или иной периодичности
собрания, длительностью в неделю-две для проведения пленарных и секционных
заседаний, добровольное и свободное членство для всех взрослых, ограниченное
лишь образовательным цензом (окончанием школы) и не использующее каких-
либо формальных процедур приема в члены, причем этим способом
определенному члену будет вменено в обязанность платить членские взносы за право
присутствовать на годичных собраниях и гарантировано право быть избранным на
любую должность вплоть до кратковременной по исполнению должности
президента. Секционная структура Национальной службы учебника-терминала, в
которой будут представлены все терминалы науки, превратит, конечно, это
гарантированное каждому члену право избираться на любую ключевую должность в
структуре Службы в чисто символическое право: в 150-летней истории
Британской Ассоциации, например, не было ни одного президента, хотя они менялись
каждый год, который не имел бы университетского или эквивалентного
университетскому образования. Думается, что и в Национальной службе
учебника-терминала, которую мы ради краткости будем именовать просто Службой, все
ключевые выборные должности, которые исполняются неопределенно долго и
придают организационной структуре Службы достаточно прочную связь
преемственности политики и действий во времени, будут замещаться в основном членами
национального научно-академического сообщества, и это тем более вероятно, что
с самого начала своего существования Служба будет действовать в рамках
наблюдаемой сегодня фактической монополии национальных научно-академических
сообществ на подготовку учебников и учебных пособий для всей системы
образования, а также на подготовку всех А для всех академических переходов этой
системы, и именно в рамках этой де-факто монополии Служба впервые встретится
с рядом довольно сложных проблем.
Мы уже говорили о том, что наблюдаемая сегодня монополия национальных
научно-академических сообществ на подготовку учебных планов, учебников и
История европейской культурной традиций и ее проблемы 745
учебных пособий носит избирательный со стороны инстанций научной и
академической политики характер и личностный характер со стороны членов
национального научно-академического сообщества. Тот факт, что почти все учебники
оказываются написанными единичными авторами и лишь изредка в соавторстве,
объясняется действием довольно простого механизма: инстанции принимают
решение о подготовке нового или переиздании с сокращениями и дополнениями
действующего учебника и сами находят или обращаются с просьбой к научно-
академическому сообществу рекомендовать потенциальных авторов из числа
наиболее авторитетных и уважаемых своих членов. Осечек здесь практически не
бывает и не может быть: каждый член научно-академического сообщества прекрасно
понимает, что предложение написать учебник или подготовить действующий
учебник к переизданию — это счастливая и редко выпадающая на долю ученого
возможность получить высшие баллы признания по шкале научного
ценообразования и к тому же возможность весьма неплохо оплачиваемая, поскольку тиражи
учебников огромны, сбыт обеспечен, а гонорары начисляются производно от
тиража и сбыта. Остановившись на той или иной кандидатуре по избегающим
огласки критериям, инстанции заключают с автором договор, в котором точно
указывается объем рукописи, сроки ее представления, четко оговариваются права
инстанций и менее четко тематика учебника. Инстанциям выгодно иметь дело с
автором-одиночкой, а не с группой, поскольку это проще и в финансовом
отношении и с точки зрения возможных юридических осложнений, если вдруг
договор по той или иной причине придется расторгнуть. А автору много способнее
готовить рукопись одному — соавторы всегда мешают своими бесконечными
сомнениями и замечаниями, претензиями на обособленные разделы, что только
усложняет работу над рукописью и разрушает стилистическое, тематическое и
дидактическое единство текста, не говоря уже о трудностях дележа гонорара и
достижения соглашения о мере участия соавтора или соавторов в конечном
продукте. Результатом совпадения этих интересов инстанций и авторов как раз и
является тот факт, что учебники обычно пишут авторы-одиночки, а если изредка
попадаются учебники, написанные авторской группой, то группа эта всегда
невелика и при ближайшем рассмотрении оказывается состоящей из ведущего автора-
одиночки, который, как правило, указывается на титуле учебника первым, и
одного-двух соавторов, которые на титуле указываются, но в тексте не оставляют
видимых следов своего присутствия.
Национальной службе учебника терминала уже на переходном периоде
придется ломать эту установившуюся обоюдоприемлемую практику и прежде всего
по отношению к школьным учебникам, которая так просто складывается сегодня,
когда практически любой школьный учебник представляет из себя сжатое краткое
введение в историю и свершения дисциплины, представленной в постшкольной
части системы образования развернутым студенческо-аспирантским переходом
Ту-Тд-Тг и практически любой коллега-исследователь из дисциплинарных
терминалов оказывается в состоянии и квалифицированно написать новый учебник-
введение и подготовить к переизданию действующий учебник-введение, вогнав
его в любой предзаданный объем, заменив в нем все «морально устаревшее» на
самоновейшее, используемое исследователями в дисциплинарных терминалах и
представленное в университетских студенческих учебниках.
Уже подготовка первых изданий школьных учебников для первой волны В
групп сверстников, обновляющей интенсивный переход Тп-Ту, станет и для
Национального центра по подготовке перехода с экстенсивной на интенсивную
модель онаучивания и для берущей на себя полномочия Центра Национальной
Службы практическим уроком группового метода написания школьных
учебников. Чтобы подготовить, например, «колоду» из 6—7 курсов естественных языков
и реализовать в ней хотя бы в первом приближении метод параллельного изуче-
48 М.К. Петров
746
М.К. Петров
ния языков-систем, потребуется на такая уж малочисленная комиссия,
включающая специалистов-преподавателей соответствующих языков, психологов,
философов, лингвистов, науковедов, историков науки, с тем чтобы, с одной стороны,
выделить равнообъемный для всех курсов «колоды» грамматический материал и
установить порядок его параллельного изложения, а с другой, — выделить состав
интернациональной лексики в национальных Т-континуумах, на базе которого
следует вводить и закреплять в упражнениях этот грамматический материал. И
точно такая же комиссия, но с другим, понятно, составом потребуется и для
подготовки текстов учебника-терминала и практически всех школьных учебников,
размещаемых на интенсивном переходе Тп-Ту. Нужен будет и какой-то механизм
для координации работы таких комиссий.
Сами эти комиссии, единожды возникнув, должны, видимо будут остаться в
составе Службы как меняющиеся по составу и числу членов внесекционные
автономные организационные структуры, координирующие свою деятельность через
Совет Службы и ее Генеральные комитеты и облеченные правом кооптировать в
свой состав специалистов из любой Секции Службы. Этот отработанный на
переходном периоде «комиссионный» способ подготовки новых и подготовки к
переизданию действующих школьных учебников должен будет стать эмпирико-прак-
тической базой экспансии Службы в значительно более подвижную и
изменчивую область постшкольной части системы образования, что произойдет уже где-
то за пределами переходного периода, когда под каждый новый студенческий
учебник для прикладников нужно будет оперативно создавать свою особую
комиссию на время действия этого учебника и соответствующего терминала в
национальном Т-континууме, для чего, понятное дело, потребуется вовлекать в
такие комиссии «второго поколения» и специалистов из действующего
прикладного терминального сообщества и инициаторов предлагаемых перемен, причем и
те и другие вовсе на обязательно будут членами национального
научно-академического сообщества.
Понятно, что этот «комиссионный» способ написания новых и подготовки к
переизданию действующих прикладных учебников рано или поздно войдет в
соприкосновение с «личностным» более простым и менее трудоемким способом
подготовки учебников и учебных пособий, который господствует сегодня и вряд
ли исчезнет через столетие, поскольку дисциплинарные механизмы
ценообразования в науке, дисциплинарные айсберги рангового распределения цитирования,
из вершин которых берется содержательный материал для учебников студенчес-
ко-аспирантских постшкольных переходов Ту-Тд-Тг, не будут серьезно задеты
переориентацией развитых обществ с экстенсивного на интенсивный способ
онаучивания, а, совсем напротив, получат вместе с
исследователями-полиглотами, имеющими прямой доступ к интернациональному потоку научной
публикации, сильнейший стимул к дальнейшему неограниченно долгому существованию.
Поэтому «комиссионному» и «личностному» способам написания новых и
подготовки к переизданию действующих учебников постшкольной части системы
образования придется неограниченно долго сосуществовать в национальных
Т-континуумах развитых стран.
Серьезных поводов для обострения отношений между ними, которые могли
бы вызвать конфликты, конфронтации, антагонистические противоречия,
взаимную несовместимость, мы не видим, тем более, что и «личностный» способ
подготовки постшкольных дисциплинарных учебников и учебных пособий для сту-
денческо-аспирантских переходов Ту-Тд-Тг не такой уж и «личностный», он по
природе своей корпоративен на этапе выстраивания дисциплинарных айсбергов
рангового распределения цитирования по массивам дисциплинарных публикаций
и лишь на заключительном этапе подготовки курсов лекций и учебников
переходит в «личностную» форму. На наш взгляд, здесь нужно просто теоретическое
История европейской культурной традиции и ее проблемы 747
обоснование разделения сфер влияния, четко обозначенная в постшкольной
части системы образования «демаркационная линия», которую не следует
нарушать ни «комиссионному», ни «личностному» способу написания новых
учебников и подготовки к переизданию действующих.
Проблема того, кому и каким способом — комиссионным или личностным —
писать и готовить к переизданиям учебники и учебные пособия, то есть
выступать в роли практических воспитателей общества, останется, понятно, и в конце
XXI в. внутренней проблемой Т-континуума развитого общества, но кроме этой
внутренней проблемы появится и некоторое множество проблем
интернациональных, без анализа которых наша картина будущего страдала бы национальной
ограниченностью, да и вообще бы была ущербна, поскольку интернациональное
проявляется через национальное и взаимно с ним связано. Но, прежде чем
обратиться к этим интернациональным проблемам, нам придется остановится еще
на одной внутренней проблеме — проблеме «тихохода», определяющего темп
академического движения и по всеобщему школьному и по специализирующим
постшкольным переходам системы образования развитого общества, требующего
строгого исполнения законов о всеобщем и обязательном образовании.
Наш обостренный интерес к проблеме «тихохода» продиктован «моральной
достоверностью» нашего глубокого убеждения в том, что начиная при
пособничестве законов о всеобщем и обязательном образовании проявлять свою
тормозящую силу на школьном переходе Тп-Ту, «тихоход» тем самым, как военный
оркестр на параде, задает определенный замедленный ритм движения, норму
безразличия и наплевательского отношения к конечным целям этого движения не
только для ежегодных волн В групп сверстников в рамках системы образования,
но и для всего общества. Хотя сегодня мы привычно списываем весь комплекс
выявлений безответственности и наплевательского отношения к собственной
деятельности на «зеленого змия», вполне может оказаться, что виноват во всех этих
воинствующих проявлениях ограниченности, чванства, глупости, хамства не
столько «зеленый змий», сколько «серенький тихоход», который невозмутимо, с
сознанием собственной неустранимости из общей картины жизни заставляет
малевать ее в своих скучных красках, от которых действительно тянет выпить.
Касаясь по разным поводам проблемы «тихохода» в тексте предлагаемой
работы, мы в общем-то уже говорили, что основная трудность в решении этой
проблемы найти, если он существует, способ сепарации группы «тихоходов», так
сказать, «по природе», которым идти в ногу со сверстниками мешают какие-то
«мутационные» погрешности и отклонения в унаследованном от родителей биокоде,
от куда более многочисленной группы детей, притворяющихся «тихоходами» и
привыкающих на всю жизнь быть «тихоходами», которые по молодости лет
извлекают сиюминутные выгоды из образа «тихохода» в глазах товарищей и
учителей — спроса меньше — и остаются духовными калеками на всю жизнь, хотя
могли бы «тихоходами» и не быть, если бы в школе царил климат,
стимулирующий повышать успеваемость. В плане изменения школьного климата и выделения
«тихоходов» по природе в группу, которую, возможно, придется вывести из
нормального академического движения и проложить для нее отдельный путь или
пути, соответствующие их врожденным способностям терминалы взрослой
деятельности, мы и предлагали институт репетиторства.
На институт репетиторства, чем и объясняется его довольно полное
изложение в тексте работы, мы возлагаем роль постоянно действующего
агента-мотиватора стремления учеников хорошо учиться и стать репетитором, чтобы уже в
школе зарабатывать «взрослые деньги» с пользой и для общества и для себя
лично, а также и роль постоянно действующего полевого исследователя,
обеспечивающего исследовательские программы Службы эмпирическими данными, в
частности и данными, позволяющими решить проблему «тихохода» научно. Ко-
48*
748
M.К. Петров
нечно же, на репетиторстве свет клином не сошелся, и для стимулирования
стремления учеников хорошо учиться, как и для выделения группы «тихоходов»
по природе можно использовать и другие институты и процедуры, в том числе и
научные процедуры типа тестов на интеллектуальность, но все они от кнута и
пряника до тестов на интеллектуальность имеют в нашем контексте тот
существенный недостаток, что они либо вообще неспособны генерировать информацию
в нужной для исследовательских программ Службы форме, либо крайне
неэффективны и ненадежны в этом отношении. Поэтому мы и пропагандируем институт
репетиторства, в котором репетитор в попытках объяснить непонятное
отстающему сам развивает собственные способности и в стремлении достичь
взаимопонимания с обратившимся к нему за помощью учеником досконально исследует
природу заболевания ученика-клиента, случайна ли она или наследственна,
неизлечима.
Так или иначе, но мы всерьез надеемся, что в общих рамках перехода с
экстенсивной на интенсивную модель онаучивания будет учрежден и институт
организованного репетиторства и институт этот станет долгоживущим.
Концепт «тихохода» имплицитно или эксплицитно содержит представление о
«норме» человеческого биологического кодирования и, соответственно, об
отклонениях от нормы, о «мутационном разбросе» или «генетической изменчивости»
как базовых понятиях эволюционной теории Дарвина, позволившей в середине
XIX в. объяснить механизм сохранения или даже умножения разнообразия форм
жизни в условиях вымирания многих биологических видов [113; 114], но и
представившей возможность использовать идеи эволюции биологических видов в
процессе естественного отбора наиболее приспособленных к условиям окружения
особей и гибели наименее приспособленных для обоснования неравенств
культурных и социальных обустройств обществ на национальном и наднациональном,
глобальном уровнях. Эта возможность в соединении с религиозными,
шовинистическими и иными предрассудками касательно избранности, превосходства,
слепого патриотизма оформлялась в различные виды расизма, дискриминации,
сегрегации и даже государственной официальной политики типа южноафриканского
апартеида. В этом смысле концепт «тихохода» весьма ядовитая знаковая реалия,
способная при неосторожном с нею обращении работать и на пользу
квазинаучному расизму.
Но, с другой стороны, если в условиях строгого действия законов о всеобщем
и обязательном образовании вводимые в систему образования на общих
«поголовных» основаниях «тихоходы» начинают командовать академическим парадом,
задавая академическому движению и общий замедленный ритм и критические
значения разностей Ti-T0, ассоциированных в мегаакты речи уроков и занятий
по пороговому минимуму ментальных способностей и возможностей, то
общество, если оно имеет возможность осознать, опредметить и оценить в точных
терминах наносимый этим обстоятельством ущерб, имеет, по нашему мнению, право
принять ради сохранения ментального здоровья большинства соответствующие
оборонительные меры, поставить заслон разлагающему влиянию «тихоходов» на
все культурные и интеллектуальные формы общественной жизни, примет ли этот
заслон форму отсева по неуспеваемости или какие-то другие формы.
Нет никакого смысла отрицать или стыдливо замалчивать тот научно
доказанный факт, что и в человеческом биологическом кодировании, как и в любом
другом, появляются самые различные отклонения от нормы — мутации и что одни
из этих мутаций нейтральны, другие — способствуют, третьи — вредны для
выживания в среде обитания, которой в случае с человеческим родом определенно
является та сложившаяся социальная данность, куда попадают младенцы,
наследуя биокод родителей, и которая по крайней мере в развитых странах имеет
сегодня в подоснове преемственно изменяющийся национальный Т-континуум со
История европейской культурной традиции и ее проблемы 749
вписанной в него системой образования, но из признания этого факта вовсе не
следует, что поднимая вопрос о норме человеческого биологического
кодирования, на которую опирались бы и строение системы образования и сроки
академического движения в чистом академическом времени и темпы преемственного
изменения национального Т-континуума — развития общества, за основу следует
принимать именно ту среднестатистическую фракцию отклонений-мутаций,
которая вредна для выживания в среде человеческого обитания — в обществе. С
такой генетической философией и политикой, которые автоматически
реализуются через строгое исполнение законов об обязательном и всеобщем образовании
общество, как специфически человеческий и уникальный способ существования
человеческого рода может и исчезнуть, вернув человечество и человеков в
исходное животное состояние.
Мы считаем, что сегодня ни у человечества в целом, ни у той его части,
которая распределена цепью случайных событий в социальные данности развитых
стран, нет пока возможности вскрыть на глобальном уровне научно достоверную
статистическую картину распределения отклонений от среднего значения по
соответствующим фракциям, будь их три — нейтральная, способствующая,
негативная — или тридцать три. Сегодня таким исследованиям, сама идея которых может
появиться на свет и осуществиться только в развитых странах, препоны будет
чинить сам «тихоход». Какой бы репрезентативной ни была выборка и какие бы
хитроумные методы ни прилагались исследователями, «тихоход» окажется во всех
эмпирических данных как некая повсюду развитая «тихоходность». Командовать
общей статистической картиной будет именно «тихоход», следы и влияния
которого будут обнаруживаться повсюду, а сам он будет представлен в любой такой
статистической картине в значительно большем количестве, чем он есть на самом
деле.
Положение начнет меняться только тогда, когда отсев по неуспеваемости
будет узаконен как неизбежная и вполне нормальная, хотя, естественно, и не
очень желательная с любой точки зрения практика массового академического
движения по переходам системы образования и в первую очередь по школьному
всеобщему переходу Тп-Ту, когда исчезнет страх учителей перед академическим
ЧП и само это действительно чрезвычайное происшествие не будет тянуть за
собой хвост обязательных официальных реакций, поиска виновных, оргвыводов.
Нет виновных в том, что природные механизмы эволюции, биологического
кодирования срабатывают далеко не с той точностью и не в тех рамках допусков,
которыми пользовались и пользуются авторы реформ образования и
соответствующие инстанции, полагающие, что из любого младенца, раз уж он угодил на
всеобщий и обязательный конвейер, можно сотворить на переходе во взрослое
состояние все, что придет в голову реформаторам и будет представлено в
железной логике демонстративного дискурса.
Но хотя изменение отношения к отсеву — академическому ЧП не связано
непосредственно с интенсивной моделью онаучивания общества и тем более с
институтом организованного репетиторства в описанной нами телефонно-машино-
п иеной форме дежурств и напечатанных под копирку отчетов о дежурстве в
разные адреса, хотя в принципе соответствующие изменения возможны и в условиях
действия экстенсивной модели онаучивания, мы не рекомендуем вводить
соответствующие коррективы, способные оздоровить академический климат в школе,
да и не только в школе, немедленно не потому, что нас останавливает
естественное в общем-то авторское самолюбие, а потому, во-первых, что введение таких
мер по оздоровлению климата в школе создало бы на 20—30 лет обстановку
благодушия и ожидания чуда, которого определенно не будет, и отодвинуло бы на
соответствующий срок решения о переходе с экстенсивной модели онаучивания
на интенсивную и потому, во-вторых, что эти оздоровительные меры, если их
750
М.К. Петров
вводить сегодня, определенно приняли бы среднестатистическую форму
безличных предписаний и указаний типа: допускается отсев по таким-то и таким-то
причинам до 10% (или до 25, 30, 40%) от числа учеников школы в таких-то
классах, а вот этой среднестатистической безличности в делах, способных круто
изменить судьбу конкретного единичного живого человека, нужно, по нашему
глубокому убеждению всячески избегать. Отсев нельзя планировать, подчинять
демонстративной логике цифр и операций с ними, допуская, например, в старшие
классы школы только треть или четверть наиболее «перспективных» учеников, а
остальных лишая законных прав и возможностей попробовать свои силы и
ментальные способности на студенческо-аспирантских переходах Ту-Тд-Тг. Это и
опасно и несправедливо, какой бы убедительной ни была статистика.
Институт организованного репетиторства задуман нами в частности и как
психологический барьер на пути растущей в наше время всеобщей компьютерной
грамотности тенденции слепо доверять безличной статистике в решении судеб
конкретных единичных людей, не задумываясь о том, что именно исчезает из в
принципе непредсказуемой судьбы человека, его потенциальной личной истории,
творимой по личному выбору, когда его превращают в предмет изучения
безличными методами статистики, а затем уже в форме научно гарантированного
ярлыка, намертво наклеенного на живого человека вынуждают его идти туда и тогда,
куда и когда ему идти определенно не хочется хотя бы потому, что всякая пред-
писанность, всякий железный рок или однозначный детерминизм вызывают у
любого нормального человека неприязнь и отвращение, чувство тоски и
отчаяния, стремление поступать наперекор, даже если они обещают молочные реки и
кисельные берега безоблачного счастья в понимании наших предков и
облеченных властью современников. Институт организованного репетиторства понятно
же будет и звеном в цепи опредмечивания массы учеников для применения
соответствующими исследовательскими подразделениями Службы с их
компьютерами осредняющих и обезличивающих методов статистики. Но серьезное и
решающее различие состояло бы в том, что репетитор всегда имеет дело с конкретным
живым единичным человеком, тестирует именно его, а не группу, на
понятливость, не пользуясь какой-либо предзаданной схемой или опросным листом
обычных статистических исследований, проявляет максимум усилий и
изворотливости, чтобы добиться взаимопонимания и достичь конечного результата —
вернуть ученику-клиенту сорванную какими-то причинами, вовсе не обязательно
врожденными, идти в ногу со сверстниками в предзаданном ритме
академического движения. И если уж по перекрестным данным отчетов нескольких
репетиторов ученик такой-то оказывается бесспорным «тихоходом» по природе, а не
бездумный подражатель беспечному житью «тихоходов» сбитый с толку
нормальный ученик, то устранение таких многократно проверенных репетиторами
«тихоходов» по природе из всеобщего академического движения будет благом и для
общества и для самих этих «тихоходов», какой бы процент в ежегодной волне
сверстников они ни составляли. Здесь не безличные формулы и правила
операций со знаками будут определять величины отсева, а итоги многочисленных
попыток репетиторов добиться возвращения сбившегося с общего ритма ученика в
предписанный ритм академического движения, то есть облеченным на то правами
инстанциям предложено будет решать, чем в тот или иной момент времени
следует пожертвовать: ритмом академического движения ради снижения доли отсева
или представительством «тихоходов» во всеобщем академическом потоке ради
сохранения или даже ускорения ритма академического движения.
Понятно, что при этом способе выявления «тихоходов» с помощью института
организованного репетиторства определение «нормы» человеческого
биологического кодирования будет ограничено врожденными ментальными способностями,
за пределами которых окажутся такие физико-соматические, наследуемые по био-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 751
коду признаки, как цвет кожи, цвет и курчавость волос, разрез глаз, на чем,
собственно, и держатся сегодня наиболее распространенные формы расизма. Кроме
того, определенная и постоянно переопределяемая через организованную
деятельность репетиторов «норма» человеческого биологического кодирования в
формулировках типа: младенец с нормальным биокодом на этапе «от 2 до 5» осваивает
родной язык, творит личный знаковый мир и проходит без серьезных сбоев в
установленные сроки школьный и постшкольный переходы системы образования,
обретает динамическую тезаурусную структуру и способность преемственно
меняться производно от того, какой именно темп и ритм академического движения
установят соответствующие инстанции и какой при этом обнаружится по отчетам
репетиторов отсев «тихоходов», то есть само понятие «нормы» человеческого
биологического кодирования, хотя под ним и понимается независимая ни от
человека, ни от человечества природная данность, примет скорее «касательный» к
этой данности, чем статико-описательный вид: устанавливать-то «норму» будут
сообща репетиторы и инстанции, а такой «касательный» подход к выявлению
«нормы» человеческого биологического кодирования, которая сегодня означает
одно, а завтра другое производно от темпа и ритма академического движения,
интереса для обоснования любых форм расизма не представляет: слишком уж
прозрачна артефактно-функциональная природа такой «нормы».
Вместе с тем понятно и то, что какими бы текучими, производными от темпа
и ритма академического движения характеристиками ни обладали для того или
иного периода на луче календарного времени понятия «норма» и «тихоход» и как
бы мало ни обещали они адептам расизма, наклеенные на живых людей
пожизненные ярлыки «норма» и «тихоход», что бы они ни означали, неизбежно будут
восстанавливать и воспроизводить размытое по ходу ужесточения действия
законов о всеобщем и обязательном образовании и становления экстенсивной модели
онаучивания общества социальное противостояние «образованной» и
«необразованной» частей взрослого населения как раз на базе биологического кодирования
человека. Нужды нет, что в понятия образованности и необразованности будет
вкладываться совершенно иной смысл, что образованные будут заведомо
большинством, а необразованные — меньшинством, коль скоро отсев «тихоходов»
вряд ли превысит 50% — в интересах здравомыслящих инстанций всегда будет
удерживать доли отсева по успеваемости на низком уровне 10, скажем, или от
силы 20% за счет регулирования темпов и сроков академического движения, — в
любом случае пожизненное различение взрослых на «нормально образованное» и
«тихоходно образованное» будет продуцировать и проблемы мирного
сосуществования этих двух фракций при минимуме моральных и иных издержек и проблемы
использования «тихоходов» в посильных для них терминалах взрослой
деятельности, как это делается сегодня, скажем, для инвалидов, по каким бы причинам
они ни становились инвалидами.
С трудоустройством «тихоходов», как уже отмечалось в основном тексте, не
должно бы возникать особых трудностей, и если мы только что сослались на
положение инвалидов в современных развитых обществах, где повсюду
функционируют именно в режиме подготовки и трудоустройства национальные и местные
общества, специальные подготовительные курсы для слепых, глухонемых и других
категорий инвалидов, то сделали это несколько сгоряча, поскольку в основной
своей массе «тихоходы», выявляемые репетиторами на школьном переходе Тп-Ту
не будут инвалидами в обычном понимании: они, как и все дети, благополучно
пройдут этап «от 2 до 5», войдут в очередной годичной волне
сверстников-первоклашек в систему образования и только в школе начнут выявлять свою
тихоходную сущность примерно в том смысле, в каком Ф.У.Фаррар, зачинатель и
активный пропагандист экстенсивной модели онаучивания общества, говорил в
своем докладе Секции Д (Биология) на годичном собрании Британской Ассоциа-
752
M.К. Петров
ции 1864 г. в Ноттингеме: «Наука побуждает к развитию способностей ума,
отличающихся от тех, которые развивают занятия классикой. Существуют дети,
которые по природе невосприимчивы к классической подготовке и которым больше
по вкусу наука» [202, с. 193]. Соответственно, проблемы трудоустройства
выявленных в школе «тихоходов» будут радикально отличаться от проблем
трудоустройства инвалидов в том отношении, что «тихоходом» можно оказаться и по
избирательной пониженной восприимчивости к тем или иным предметам
школьного курса Тп-Ту, тогда как восприимчивость к другим предметам может
оказаться вполне нормальной.
Понятно, например, что слабая восприимчивость к инородным языкам
автоматически закроет ученику вход во все постшкольные студенческо-аспирантские
переходы Ту-Тд-Тг, поскольку прямой доступ к интернациональному потоку
научной публикации станет существенным требованием ко всем новобранцам науки
на входе и в исследовательские терминалы научной деятельности и в
национальное научно-академическое сообщество в целом, но этот существенный для науки
недостаток, который может стать основанием для перевода соответствующего
ученика в «тихоходы», может и не иметь принципиального значения для основной
массы специализирующих постшкольных переходов Ту-Тт в терминалы
репродуктивной в основном природы, где знание инородных языков конечно
желательно — мало ли какая оказия может случиться, — но не обязательно, поскольку
обращения к интернациональному потоку научной и технической литературы
здесь не правило нормальной терминальной взрослой деятельности, а скорее
исключение, требуется от случая к случаю, а на эти случаи среди коллег
терминального сообщества всегда найдутся «нормально образованные» полиглоты.
И точно такое же может произойти и по поводу других предметов
«нормального» интенсивного школьного Тп-Ту, так что, если «тихоход» станет официально
признанной и достаточно массовой при любых значениях доли отсева категорией
академической практики, то и Национальной Службе учебника-терминала и
другим инстанциям академической политики придется решать вопрос о создании
параллельного основному «нормальному» интенсивному школьному переходу Тп-Ту
«тихоходного» перехода Тп-Ту с тем же или иным бюджетом чистого
академического времени, но с иным набором учебников и меньшей среднестатистической
разностью Ti-To уроков или занятий в учебниках-мегаактах речи; опыт в этом
отношении накоплен изрядный — в условиях господства экстенсивной модели
онаучивания школьный переход Тп-Ту обходился без отсева и неявно
ориентировался именно на «тихохода». Для выпускников «тихоходного» перехода Тп-Ту
придется, понятно, четко определять номенклатуру терминалов взрослой
деятельности и соответствующую группу постшкольных переходов Ту-Тт или даже ТУ-Тд, в
которые они смогут идти на равных правах с выпускниками «нормального»
перехода Тп-Ту, при этом, как уже говорилось в основном тексте, вовсе не
обязательно будет складываться такая соревновательная ситуация, когда победителями
будут постоянно оказываться «нормальные», а побежденными «тихоходы» даже на
пути в самые престижные в современном понимании массовые
профессиональные терминалы в сфере услуг, торговли, строительства, транспорта и т.д., то есть
«лишними людьми» в социальности конца XXI в. «тихоходы» определенно не
будут.
Теперь мы уже можем перейти от анализа проблем внутренних,
национальных, которые могут быть решены и будут, по всей вероятности решаться без
особой нужды в договоренностях на наднациональном или глобальном уровнях, к
проблемам интернациональным, которые такие договоренности предполагают.
Ясно, что и внутренние проблемы в общем-то не отделены от
интернациональных и, коль скоро глобальный феномен науки оказывает мощное
уподобляющее воздействие на национальные Т-континуумы развитых стран и по линии упо-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 753
добления числа и обустройства исследовательских терминалов национальных
научно-академических сообществ, и по линии приложенческих терминалов, а
следовательно и по линии постшкольных переходов системы образования,
внутренние проблемы национальных Т-континуумов развитых стран имеют достаточно
высокий уровень сходства, чтобы говорить, к примеру, о необходимости
стимулировать успеваемость, исследовать академическое движение, проблему
«тихохода» не как о проблемах лишь нашего советского Т-континуума, а как о проблемах
всех национальных Т-континуумов развитых стран. Но из этого не следует, что
интернациональные, наднациональные, глобальные проблемы вообще не
существуют.
Встраиваемая наукой — глобальным уникальным феноменом — двухуровневая
иерархия уподобления, на верхнем глобальном уровне которой располагается
глобальный феномен науки, а на нижнем, национальном, — неограниченное по
числу множество национальных Т-континуумов развитых и развивающихся стран,
может существовать и исправно функционировать только при условии, что все
входящие в эту иерархию наличные Т-континуумы развитых стран и все
претендующие на вход в эту иерархию уподобления Т-континуумы других стран,
стремящихся в развитость, сознавая преимущества развитости, принимают единые
строгие правила игры, не сопротивляются уподоблению, а активно стремятся к
нему, сохраняя тем самым глобальный феномен науки в роли уникального
абсолюта, эмалирующего уподобление.
В этом смысле переход с господствующей ныне экстенсивной модели
онаучивания общества на интенсивную модель может рассматриваться и как
нормальная практика срабатывания этой глобальной двухуровневой иерархии
уподобления, в которой появление нового терминала науки или приложения в одном из
национальных Т-континуумов развитых стран автоматически, в силу принятых
правил игры в развитость, ведет к цепной реакции появления точно таких же
терминалов во всех других национальных Т-континуумах развитых стран, входящих
в глобальную иерархию уподобления, — именно такого истолкования этой
иерархии мы придерживались в основном тексте работы, — либо же как нарушающее
правила игры в развитость сепаратистское действие одного из входящих в
иерархию национальных Т-континуумов, коль скоро ввод интенсивной модели
онаучивания радикально меняет корневую систему питания науки кадрами,
подготовленными по экстенсивной модели онаучивания общества, а следовательно вносит
какие-то новые непривычные черты в сложившийся образ развитости, который
используется ныне как глобальный эталон-ориентир движения в будущее всеми
развивающимися и стремящимися в развитость странами. К тому же этот новый,
создаваемый страной-отступником эталон—символ—ориентир развитости
сложнее и для постижения и для реализации, что в переводе на время, потребное для
его реализации, означает, что развитость, к которой стремятся почти все страны
мира отодвигается по лучу календарного времени в более отдаленное будущее, а
это, понятно, не может вызывать восторгов и ликований в странах, нацелившихся
в своих реализуемых уже планах войти в развитость к началу, скажем, XXI в., а
теперь вынужденных вместе с развитыми странами сдвигать эту дату к концу XXI в.
Настаивая на том, что переход с экстенсивной на интенсивную модель
онаучивания общества не выходит за рамки нормальной практики срабатывания
механизма уподобления, мы в основном тексте работы пытались показать, что
ключевой деталью этого механизма уподобления является деятельность по нормам те-
заурусно-динамического коллективизма, направленная на наращивание текста
исследовательского терминального сообщества, распределенного по уподобленным
терминалам национальных научно-академических сообществ и достигающая пика
эффективности, наибольшего приближения к безлаговому абсолюту-идеалу в
условиях, когда все члены-исследователи такого терминального сообщества, в каких
754
M. К. Петров
бы национальных Т-континуумах они ни находились, имеют прямой доступ к
потоку интернациональных публикаций данного терминала, оперативно, с
наименьшим лагом осведомляются о новых публикациях и имеют возможность свободно
мигрировать и собираться в группы (в мире знака, естественно) для решения
поднятых очередной публикацией новых проблем. Указывая на эту ключевую
структуру механизма уподобления национальных Т-континуумов развитых стран и их
научно-академических сообществ, мы подчеркивали, что интенсивная модель
онаучивания, обеспечивая всем исследователям всех терминалов науки прямой
доступ к интернациональному потоку научных публикаций, в который входят
публикации всех наличных терминалов науки, хотя и не решает все разом
проблемы наибольшего благоприятствования процессу уподобления национальных
Т-континуумов на уровне терминалов науки и приложения — чтобы обеспечить
оперативную рассылку и доставку курирующих терминалы научных журналов
всем членам терминального научного сообщества, локализированным во всех
развитых странах, нужны соответствующие решения политиков на международном
правительственном уровне, чего интенсивная модель обеспечить определенно не
может, — она все же обеспечивает главное — прямой доступ, без которого
невозможно все остальное, и в этом смысле не разрушает, а, напротив, укрепляет
механизм уподобления, основу самоорганизации научной деятельности
национальных научно-академических сообществ в глобальное целое феномена науки.
В этом «нормальном» истолковании акта перехода с экстенсивной на
интенсивную модель онаучивания, как вполне приемлемого для практики
срабатывания глобального механизма уподобления национальных Т-континуумов развитых
стран события, развертка этого акта в цепную реакцию на глобальном уровне
представляется растянутой на какой-то период календарного времени цепью
актов-событий отказа от экстенсивной модели и перехода на интенсивную модель
онаучивания. Поскольку подготовительный и переходный периоды реализации
интенсивной модели дают в общей сложности около столетия, лет 80—90, то этот
период развертки предпринятого одной развитой страной перехода с
экстенсивной модели на интенсивную в цепную реакцию может потребовать нескольких
десятилетий или даже полутора-двух столетий, коль скоро даже в ординарных
случаях, когда в одном из национальных Т-континуумов исследовательская
группа добивается признания и выходит в постшкольную часть системы образования
с новым студенческо-аспирантским переходом Ту-Тд-Тг [142], другие развитые
страны обычно некоторое время выжидают и сомневаются (у нас, например, так
происходит с науковедением, теорией систем, информатикой), вводить ли им
соответствующие студенческо-аспирантские переходы в свои Т-континуумы и
делают это лишь убедившись под соответствующим давлением своих
научно-академических сообществ, что без такого нового постшкольного перехода не обойтись. А
в нашем неординарном случае первых устойчивых и убедительных результатов
введения интенсивной модели онаучивания можно в лучшем случае ожидать
лишь с массовым появлением исследователей-полиглотов в терминалах науки, то
есть лет через 50 после принятия развитым обществом соответствующих решений
и лет через 30 после начала академического движения по интенсивному
школьному переходу Тп-Ту.
За такой долгий период заинтересованного или не очень заинтересованного
выжидания в колебаниях и сомнениях, особенно если на переходном периоде не
все у развитой страны-инициатора пойдет гладко, многое может измениться, и
далеко не все, что представляется нам сейчас в советском Т-континууме
понятным и убедительным, останется таким же понятным и убедительным и для
потенциального читателя в том же советском Т-континууме и тем более для
потенциального читателя, если он вообще объявится, в других Т-континуумах развитых
стран. Поводом для сомнений и колебаний, затягивающих начало и скорость
История европейской культурной традиции и ее проблемы 755
протекания цепной реакции актов отказа от экстенсивной модели онаучивания и
перехода на интенсивную может быть что угодно, но прежде всего, по нашему
мнению, то слабо развернутое в нашем основном тексте обстоятельство, что
интенсивная модель в определенном смысле такая же тупиковая, как и модель
экстенсивная, что при определенном ретроградном настрое и при определенном
уровне гибкости и изворотливости аргументации делает не таким уж трудным
делом показать, что менять экстенсивное шило на интенсивное мыло не такая
уж перспективная затея, чтобы оправдать моральные, духовные, психологические
издержки, связанные с переходом от экстенсивной модели онаучивания общества
на интенсивную.
В самом деле, если тупиковая ситуация в экстенсивной модели
прорисовывается в основном на школьном всеобщем переходе Тп-Ту как невозможность
представить в форме учебников-введений в дисциплины все целиком растущее
множество дисциплин в мире науки, не входя в безысходный конфликт с школьным
бюджетом чистого академического времени, то в принципе схожая тупиковая
ситуация возникает и в интенсивном всеобщем школьном переходе Тп-Ту и
локализуется она в «колоде» из 6—7 теоретических курсов естественных языков
(родного, греческого, латинского, английского, русского, немецкого, французского),
которая отнюдь не гарантирована от вторжения новых «великих языков науки»
по той же проторенной русскими в XX в. дорожке, что довела количество
«великих языков науки» от трех в XIX в. (английский, немецкий, французский) до
четырех в XX в. (английский, русский, немецкий, французский), не брать же у
развивающихся стран подписку о нераспространении великих языков науки и о их
заведомом согласии по достижении развитости публиковать научную литературу
только на доминирующей сегодня четверке «великих языков науки». Сегодня они
может быть и дали бы такую подписку, тем более, что освобождаясь от
колониальной и других форм зависимости, развивающиеся страны обычно принимают
сегодня на правах официального языка и языка научной литературы
естественный язык своих бывших поработителей, но сегодня совершенно неясно, что
скажут по этому поводу будущие поколения, для которых колониальное прошлое
станет лишь страницей в учебнике, как для нас сегодня татаро-монгольское иго.
А «колода», понятно, не резиновая, и борьба за место в «колоде» уже в
предлагаемом нами ее составе — родной, греческий, латинский, английский, русский,
немецкий, французский естественные языки — может идти, похоже, только за
счет вытеснения того или иного из четверки «великих языков науки» и
замещения его другим естественным языком, который сегодня не имеет громких
титулов, но где-то на луче календарного времени может превзойти по всем
параметрам любой из современных «великих языков науки». Вокруг этого безвыходного
«колодного» тупика вполне могут разгореться глобальные страсти и появиться
опасные для существования науки как глобального феномена интернациональные
по своей природе проблемы. С точки зрения идущего по интенсивному
школьному переходу ученика более или менее безразлично, будет ли в «колоде»,
связанной принципом параллелизма, предложенный нами набор шести инородных
языков — греческий, латынь, английский, русский, немецкий, французский —
или, скажем, греческий, латынь, китайский, хинду, нутка, малайский, лишь бы
сохранялся принцип параллелизма. Но с точки зрения историка философии,
науковеда, историка науки предлагаемый нами для «колоды» набор естественных
языков предпочтительнее любого другого, поскольку в нем представлены языки,
на которых писались, а позднее и публиковались основополагающие труды
философов, теологов-схоластов, ученых европейской культурной традиции и
которые позволяют в будущем, если в том возникнет надобность, проводить
многоцелевые исторические исследования в порядке «перетряхивания архивов» на
756
M. К. Петров
предмет извлечения, скажем, того же приложенческого потенциала, заживо
погребенного в пыли библиотек, хранилищ, архивов.
К тому же, если глобальному феномену науки человечество не даст по
неосторожности или недомыслию исчезнуть, рассосаться, распасться на национально-
региональные составляющие и наука и впредь неопределенно долго будет
оказывать на национальные Т-континуумы развитых стран упорядочивающее и
уподобляющее воздействие, то предложенный нами для «колоды» набор естественных
языков, отражая тяготеющий к греко-латинской норме словообразования состав
страта интернациональной лексики в национальных Т-континуумах в его ролях
орудия уподобления национальных Т-континуумов и Т0-х актов
номинации-определения в научном глоттогенезе не сможет уже «выйти в отставку» в силу
законов традиционного существования немотивированных знаков [66, с. 107].
Вместе с тем такой утилитарный подход к обоснованию правомерности
нашего набора естественных языков проходит мимо того обстоятельства, что языков-то
на земле много, от 2,5 до 3 тысяч по разным подсчетам, и каждый из них своего
рода «архив» долговременного развития субъект-объектных отношений
пользующегося этим языком общества, содержит в себе определенный категориальный
потенциал в том примерно смысле, в каком писал о категориях Гегель в своем
гимне немецкому языку: «Формы мысли выявляются и отлагаются прежде всего
в человеческом языке. В наше время мы должны неустанно напоминать, что
человек отличается от животного именно тем, что он мыслит. Во все, что для
человека становится чем-то внутренним, вообще представлением, во все, что он
делает своим, проник язык, а все то, что он превращает в язык и выражает в языке,
содержит в скрытом ли, спутанном или более разработанном виде, некоторую
категорию; в такой мере естественно для него логическое, или, правильнее сказать,
последнее есть сама присущая ему природа. Но если противопоставлять природу
вообще как физическое духовному, то следовало бы сказать, что логическое есть,
вернее, сверхлриродное, проникающее во все естественные отношения человека,
в его чувства, созерцания, вожделения, потребности, влечения и тем только и
превращающее их, хотя лишь формально, в нечто человеческое, в представления
и цели. Если язык богат логическими выражениями, и притом специальными и
отвлеченными, для обозначения самих определений мысли, то это его
преимущество. Из предлогов и членов речи многие уже выражают отношения,
основывающиеся на мышлении; китайский язык, говорят, в своем развитии вовсе не достиг
этого или достиг в незначительной степени. Но эти грамматические частицы
выполняют всецело служебную роль, они только немногим более отделены от
соответствующих слов, чем глагольные приставки, знаки склонения и т.д. Гораздо
важнее, если в данном языке определения мысли выражены в виде
существительных и глаголов и таким образом отчеканены так, что получают предметную
форму. Немецкий язык обладает в этом отношении большими преимуществами
перед другими современными языками; к тому же многие из его слов имеют еще
ту особенность, что обладают не только различными, но и противоположными
значениями, так что нельзя не усмотреть в этом спекулятивный дух этого языка;
мышление может только радовать, когда оно неожиданно сталкивается с такого
рода словами и обнаруживает, что соединение противоположностей — результат
спекуляции, который для рассудка представляет собой бессмыслицу, — наивно
выражено уже лексически в виде одного слова, имеющего противоположные
значения. Поэтому философия вообще не нуждается в особой терминологии;
приходится, правда, заимствовать некоторые слова из иностранных языков; эти слова,
однако, благодаря частому употреблению уже получили в нашем языке право
гражданства, и аффектированный пуризм был бы менее всего уместен здесь, где
в особенности важна суть дела» [12, с. 82—83].
История европейской культурной традиции и ее проблемы 757
Оставим на совести Гегеля выпад против китайского языка, где у мышления
поводов для радости в указанном Гегелем смысле было бы, пожалуй, много
больше, чем в немецком. Гегель в общем-то не лингвист, хотя ему как
интеллектуалу-полиглоту были бы вполне понятны волнующие нас сейчас мысли об
интенсивной «колоде», ее составе, ее репрезентативности. Предложенный нами состав
«колоды» в общем и целом достаточно репрезентативен для европейской
культурной традиции и ее рукописных или опубликованных типографским способом
архивных документов, но он заведомо нерепрезентативен по отношению к другим
культурным традициям, где накапливается и откладывается в категориальных
структурах естественных языков свой архив, о чем нам уже приходилось говорить
и писать [53].
Вероятность того, что в отобранных нами для «колоды» шести естественных
языках — греческом, латыни, английском, русском, немецком, французском —
содержится самое ценное с точки зрения философии, теологии, науки весьма
велика для европейской культурной традиции на глубину до первых
философствующих греков и в то же время весьма низка для неевропейских культурных
традиций, начала которых и первые письменные памятники располагаются на
значительно большей глубине в прошлом. Тем самым интернациональная
проблематика, возникающая по поводу состава «колоды» инородных языков, знание
которых сегодня необходимо для прямого доступа к интернациональному потоку
научной публикации, разделяется на две основные группы альтернативных проблем:
а) сохранять в неизменности или периодически менять состав группы инородных
языков, включаемых в «колоду» для всеобщего изучения? б) оставить без
последствий или начать широкое изучение категориальных структур языков, не
представленных в «колоде», но способных хранить в своих структурах весьма
полезные, но неведомые европейской культурной традиции ходы мысли и
концептуальные схемы?
Первая группа проблем более болезненна, актуальна, динамична и
многообразна, чем вторая, поскольку предложенный нами набор языков для всеобщего
изучения в школе, если вынести за скобки греческий и латынь, лексика которых
в прямых заимствованиях или кальках присутствует примерно в равных
количествах во всех официальных языках Т-континуумов развитых стран, в части живых
«великих языков науки» — английский, русский, немецкий, французский —
отражает лишь текущий динамический баланс участия соответствующих развитых
стран, публикующих научную литературу на своем официальном языке, и
регионов, для которых этот язык инороден, но они пользуются им для научных
публикаций, в глобальном процессе научного познания окружения. Английский,
например, присутствует в «колоде» и идет первым в списке подлежащих всеобщему
изучению «великих языков науки» не только, да пожалуй и не столько потому,
что в Великобритании, США, Австралии это родной язык большинства и
официальный язык национальных Т-континуумов, а потому также, что на
английском языке научную литературу публикуют центры научной публикации в
Голландии и Дании, в Париже, в странах Африки и Ближнего Востока, в Японии,
Индии, Гонконге и публикуют много, в общей сложности более 40% глобального
научного продукта, тогда как, скажем, испанский и португальский, родные и
официальные языки стран Южной и Центральной Америки, не включены в
набор «колоды» не потому, что малопредставительны в терминах
народонаселения и политической географии испаноязычных и португалоязычных регионов, а
потому, что доля испанской и португальской научных составляющих в
интернациональном потоке научной публикации небрежимо мала. Конечно же этот
баланс, выдвигающий в число избранных и претендующих на глобальное признание
через всеобщее для взрослых земного шара распределение, если эти взрослые
прошли в детстве по интенсивному школьному переходу Тп-Ту, вряд ли останется
758
M.К. Петров
неизменным на устремленном в будущее луче календарного времени. Уже в
XXI в. этот баланс может быть серьезно нарушен переходом в развитость (и худо
будет, если эта развитость окажется экстенсивной, моноглоттичной) группы
развивающихся ныне стран, что вызовет резкое обострение и актуализацию проблем
первой группы.
Когда баланс изменится и объявятся вполне реальные претенденты на звание
«великих языков науки» и соответственно на вход в «колоду» глобально
признаваемых национальными научно-академическими сообществами естественных
языков всеобщего среди взрослых распределения, прежде всего, надо полагать,
поднимется вопрос о том, а нужна ли вообще эта «колода», поднимется в той самой
постановке, в какой этот вопрос ставили в середине и конце XIX в. классически
образованные интеллектуалы, полиглоты, энтузиасты науки, активные участники
публичных кампаний за исключение из программ школы греческого и латыни и
за насыщение этих программ позитивной наукой, чем почти во всех развитых
странах обрекли своих потомков на моноглоттизм, лишили их прямого доступа к
интернациональному потоку научной публикации. Понятно, что за филиппиками
в адрес «колоды» будет в большинстве случаев, как это было и в XIX в., маячить
голова сына или дочери, внука или внучки, изнемогающая от обилия упражнений
в шести-семи вариантах, а вдохновляться эти филиппики будут стремлением
избавить детей от скуки и муки изучения инородных языков, от мучений, через
которые они сами прошли в школе, а повзрослев, большинство из них — родителей,
бабушек и дедушек, обладателей интенсивного Ту — нашло, как в XIX в.
находили и обладатели Ти, что им лично эти школьные учения с языками оказались
ни к чему; им, не занятым непосредственно в терминалах науки, вполне хватает
для жизни, которую они ведут и которой они желают своим детям и внукам,
хорошего знания родного языка и нескольких крылатых фраз из инородных языков,
причем без последних можно и обойтись, коль скоро они лишь украшения на
ткани речи, а не сама ткань речи. А если покопаться поглубже в этой
гипотетической аргументации обладателей интенсивного Ту конца XXI в. за исключение
из школьных программ большинства языков «колоды», то обнаружится затаенная
мысль-недоумение: а не пора ли уже договориться на глобальном уровне об
едином языке науки, будь он хоть древний, хоть живой, хоть китайский, хоть
испанский, хоть естественный, хоть искусственный, но обязательно один для всех
национальных научно-академических сообществ?
Эта затаенная мысль и будет, по нашему мнению, формировать проблематику
первой группы. В самом деле, если не обольщаться зыбкой мечтой о
перетряхивании архивов европейской культурной традиции, что не так уж и обязательно
поведет к обнаружению непреходящих ценностей, то сама логика жизни по
древней максиме «довлеет дневи злоба его» будет навязывать сознанию мысль о тщете
тревог и забот, выходящих за пределы проблем текущей жизни, а одной из
острейших таких проблем текущей жизни всегда была и видимо надолго останется
забота о настоящем и будущем своих близких, прежде всего подрастающих детей
и внуков, а затем уже и далеко не всегда забота о «дальних», о человечестве в
целом. В этом смысле забота о целостности глобального феномена науки,
который и существует-то только в умозрении, в воображении, не имея отметок ни
места, ни времени и выявляя свое существование как целостности только в
процессах самоорганизации и уподобляющего воздействия на национальные
Т-континуумы, которые опять-таки существуют, как знаковые реалии лишь в
умозрении и воображении, не может претендовать на постоянное присутствие в
сознании большинства взрослых и на остроту восприятия, сравнимую с заботой о
«близких». Проблемы науки, обеспечения среды наибольшего
благоприятствования функционированию науки как глобального феномена всегда были и будут на
периферии человеческого сознания, если данный человек сам непосредственно не
История европейской культурной традиции и ее проблемы 759
занят исследованиями в одном из терминалов науки, не член национального
научно-академического сообщества. Да и в этом случае, наведенная через
уподобление его национального Т-континуума коммуникационная связь с глобальным
феноменом науки будет ощущаться членом национального
научно-академического сообщества много неопределеннее и слабее, чем, к примеру, связь с членами
собственной семьи. Поэтому, скажем, понимая и принимая на время движения
своей В группы сверстников по учебнику-терминалу и до выпускных экзаменов
включительно ключевой характер прямого доступа к интернациональному потоку
научной публикации, на котором зиждется хотя и умозрительное, но отнюдь не
иллюзорное существование глобального феномена науки, «нормальный»,
избежавший отсева ученик, достигнув взрослого состояния и многое подзабыв из
школьной премудрости, если она не напоминает о себе постоянно по условиям
взрослой деятельности в терминале, будет воспринимать этот ключевой характер
прямого доступа в упрощенных терминах многоязычия интернационального
потока научной публикации, который становится интернациональным именно
потому, что в глобальной научной деятельности активно участвуют многие страны,
в которых говорят, пишут и публикуют на разных языках.
От этого факта многоязычия глобального потока научной публикации
подогреваемая постоянными сострадательными наблюдениями над ежедневными
муками детей, которые тратят счастливые годы детства на зазубривание правил и
исключений шести инородных языков только потому, что глобальный поток
научных публикаций многоязычен, мысль взрослого носителя интенсивного Ту
постоянно будет наталкиваться на простенькую внешне дилемму — с чем,
собственно, нужно бороться, затрачивая столь великий объем ментальных усилий и
времени: с естественным моноглоттизмом ребенка, который неистребим, коль
скоро каждый младенец на этапе «от 2 до 5» осваивает тот язык, на котором
говорят окружающие, или же с искусственно ограничиваемым «колодой»
многоязычием глобального потока научной публикации, от чего в принципе можно
освободиться разом и навсегда простым решением на глобальном уровне,
предписывающим всем странам публиковать научную литературу на каком-то одном
естественном языке, который не грех было бы и выучить без всех этих затей с
параллельным изучением шести инородных языков? Основанная на вере мысль о
том, что где-то в будущем человечество сумеет избавиться от «второго
проклятия» — смешения языков [6, с. 333] и восстановит предшествующее
Вавилонскому столпотворению естественное положение «по всей земле один язык и одно
наречие» [Бытие, 11, 1] не оставляет умы людей и в наше секуляризированное
время, входя практически в любые попытки заглянуть в далекое будущее и в
конечные цели направленных преобразований современных социальных структур,
причем сама развитость рассматривается обычно как шаг в направлении к
глобальному единству человеческого рода, увенчанному и единым языком всего
человечества. Как именно будет достигнуто это языковое единство человечества,
говорится обычно глухо и скороговоркой в терминах типа: «начнет складываться»,
«возникнет», «выработается». Пока же, похоже, ничто не обещает скорого
пришествия этого благословенного состояния «по всей земле один язык и одно
наречие», и если, например, затеять сегодня в той же Женеве переговоры на
высшем уровне насчет введения единого и обязательного для всех стран мира
официального языка планеты Земля, остановив выбор на каком-то из существующих
естественных языков, то твердо сказать можно было бы только одно, что
переговоры эти, начавшись в XX в., продолжались бы и в XXI, и в XXII, и в XXIII вв.
к великому удовольствию консультирующих свои делегации языковедов и к
некоторому ущербу для идей единства человеческого рода и его способности
добиваться взаимопонимания в общечеловеческих делах.
760
M. К. Петров
Так или иначе, но под тем или иным соусом и с той или иной степенью
остроты проблема единого языка науки и, возможно, единого языка человечества
рано или поздно всплывет на луче календарного времени, и для человечества
было бы благом, если бы эта проблема не всплывала подольше, а всплыла где-
нибудь этак лет через триста-четыреста после завершения реализации перехода с
экстенсивной модели онаучивания общества на интенсивную в большинстве
развитых стран мира, когда все в интенсивной модели притрется, уйдет в данность,
по поводу которой не принято задавать вопросов: Зачем? и Почему? Наше
скептическое отношение к этой завлекательной проблеме строится на том, что в
существующих ныне постановках это псевдопроблема, в лучшем случае
осознаваемая в динамическом противостоянии естественного моноглотгизма младенца,
входящего в социальную жизнь через этап «от 2 до 5», и во многом
искусственного многоязычия интернационального потока научной публикации, а в худшем
обретающая явно теологические черты и содержащая в неявном виде претензии
смертного и ограниченного по биокоду человека на божественный атрибут
всеведения.
Теперь самое время признаться, что уже где-то с середины предлагаемой
работы, удостоверившись в кризисном состоянии экстенсивной модели
онаучивания общества и начав подбираться к обоснованию интенсивной модели, мы где-
то к началу третьей части начали потихоньку вводить, не афишируя и не
проговаривая ее за малой вероятностью достижения взаимопонимания, мысль о том,
что освоение интенсивной модели онаучивания на всеобщем уровне, даже при
статистически значимом отсеве учеников, было бы определенно шагом в
направлении к более полному использованию потенциальных возможностей биокода
человека.
В основном тексте мы старались изобразить этот шаг как выравнивание
среднестатистического уровня использования ментальных возможностей биокода по
пикам, достигавшимся в прошлом, даже как «восстановления» нормы,
достигнутой во второй половине XIX в. в наших классических гимназиях и, скажем, в
английских публичных школах второй ступени, подчеркивая, что классическое Ти
образование (подготовительные факультеты университетов, гимназии, лицеи,
публичные школы) приближаясь по уровню использования ментальных
возможностей биокода к предлагаемой интенсивной модели и будучи для стран Европы
массовым, способным сказать нечто и о среднестатистических возможностях
человеческого биокода, никогда не было всеобщим и обязательным, так что реализуя в
интенсивной модели онаучивания, в «колоде» из 6—7 языков, примерно тот же
уровень ментальных возможностей человека, мы лишь восстанавливаем то, что
определенно было в европейской культурной традиции нормой для
ограниченного социальными, а не естественными факторами круга взрослых, подготовленных
к интеллектуальным видам терминальной взрослой деятельности, и переводим эту
норму в ранг всеобщей и обязательной.
Уже в рамках этого «обходного» аргументирующего движения,
представленного в основном тексте, выдвигаемая в конечную цель библейская формула «по всей
земле один язык и одно наречие» явно грозит резким снижением того уровня
использования ментального потенциала человеческого биокода, каким он
определился бы при повсеместной реализации в развитых странах интенсивной модели
онаучивания общества. Поэтому мы весьма скептически относимся к идеям
перевода ментального единства человеческого рода на уникальную и тем уже
ограниченную базу одного из 2—3 тысяч фиксируемых сегодня в мире естественных
языков и к подкрепляющему эти идеи предположению об естественном характере
моноглоттизма младенца, осваивающего на этапе «от 2 до 5» естественный язык
окружающих его взрослых людей. Мы склонны рассматривать и Ти норму
использования ментального потенциала человеческого биокода и предлагаемую нами
История европейской культурной традиции и ее проблемы 761
интенсивную норму как шаг на пути к более полному использованию
ментального потенциала человеческого биокода, но не как последний шаг в этом
направлении.
Единожды освоенная как общечеловеческая норма «колода» из 6—7
естественных языков в рамках такого обсуждения рассматривается не как временная мера,
вызванная тем частным обстоятельством, что в конце XX в. человечество в своем
развитии столкнулось с поставленной на повестку дня экстенсивной моделью
онаучивания жесткой альтернативой: либо допустить дальнейший рост моноглот-
тизма и пожертвовать глобальным феноменом науки, либо ввести в школьные
программы «колоду» из шести инородных языков, сохранить глобальный
феномен науки и принести в жертву как прогрессирующий моноглоттизм, так и
стимулирующую его прогресс экстенсивную модель онаучивания общества, а
рассматривается как завоеванный человечеством плацдарм в исследовании пределов
собственных возможностей, с которого можно продолжать движение в том же
направлении более полного использования ментального потенциала человеческого
рода. В этом смысле любая попытка сокращения числа параллельных курсов
естественных инородных языков в предлагаемой «колоде», как бы ее ни
оправдывать древними аргументами от перегрузки учеников и от скуки формального
изучения языков, означала бы отступление от завоеванного уровня не только в
социальном плане накопления «мудрости» человеческого рода, но и в
биологическом плане выживания человеческого рода, если это выживание связывается с
развитием постбиологического знакового социального кодирования.
В основном тексте, да и в других работах [52; 53; 54; 186] мы отмечали, что
в мире открытий глобального феномена науки взаимодействуют в процессе
опредмечивания и дополняют друг друга два «строя» естественных языков-систем:
флективный, типичным представителем которого является древнегреческий, и
аналитический, типичный представитель которого новоанглийский язык
появился на европейской сцене в XV—XVI вв., практически вместе с печатным станком,
и сыграл довольно активную роль в событиях середины XVII в., в результате
которых появилась на свет опытная наука как радикально отличный от теологии
глобальный феномен. Сегодня мы не знаем, какое именно воздействие на
процессы опредмечивания и изучения опредмеченных в мире открытий реалий
окружения оказало бы введение в методологический арсенал науки категориальных
структур другого языкового строя, пока этого не происходило, хотя и в самой
Европе и в ближайшем ее окружении (на Кавказе, например) существует
изрядное многообразие языков различного строя, но мы уверены в том, что включение
новых категориальных структур в методологический арсенал науки не снизило бы
его познавательные возможности, а умножило бы их. С этой точки зрения любая
попытка уменьшить число представленных нами в «колоде» инородных языков
имела бы тот же смысл бомбы замедленного действия для методологического
арсенала науки, что и экстенсивная модель онаучивания для прямого доступа к
интернациональному потоку научной публикации: через какое-то количество
десятилетий или даже столетий обнаружились бы явные симптомы истощения
методологического арсенала науки как результат того, что когда-то раньше
недальновидными предками было принято решение уложить методологический арсенал
науки в прокрустово ложе категориального потенциала одного естественного
языка, возведенного на пьедестал глобальной монополии «По всей земле один
язык и одно наречие».
Но «колода» действительно не резиновая, больше какого-то конечного числа
школьных курсов естественных инородных языков включить в «колоду» нельзя,
и вряд ли это число может превысить 10 даже при самых высоких долях отсева
«тихоходов», а 10 на фоне 2—3 тысяч существующих на земле языков —
представительство в общем-то ничтожное и вряд ли способное в каких-либо вариантах
49 М.К. Петров
762
M. К. Петров
дать оптимальное сочетание категориальных потенциалов языков разного строя.
Повторяется, словом, та самая тупиковая ситуация, что и с
учебниками-введениями в избранный круг дисциплин: увеличить представительство научного мира
разобщенных дисциплин и исследовательских направлений на школьном переходе
Тп-Ту значит претендовать на невозможный в современных условиях рост
школьного бюджета чистого академического времени и сроков всеобщего
академического движения по школьному переходу до абсурдных значений порядка сотни
лет, и точно такая же картина получается с «колодой» инородных языков на
интенсивном школьном переходе, так что с этой «тупиковой» точки зрения переход
с экстенсивной модели онаучивания общества на интенсивную действительно
может представиться бессмысленным обменом экстенсивного мыла на
интенсивное шило.
Но есть в этой проблемогенной ситуации вокруг «колоды» инородных языков
моменты, которые если и не позволяют расширить представительство в «колоде»
инородных языков по тем же причинам, по которым на школьном переходе
нельзя уже увеличивать число учебников-введений в дисциплины, то позволяют все
же использовать складывающийся в тот или иной период на луче календарного
времени баланс объемного представительства естественных языков в
интернациональном потоке научной публикации и как стимулятор активного участия
развитых стран и их национальных научно-академических сообществ в глобальной
научной деятельности и как базу для суждений о том, какие именно инородные
языки должны на этом периоде входить в «колоду» инородных языков всеобщего
среди взрослых распределения.
Дело в том, что в любой изучаемой учениками «колоде» будет присутствовать
и официальный язык развитой страны, родной для большинства ее населения, то
есть в предложенном нами варианте «колоды» из шести общеобязательных
инородных языков — греческий, латинский, английский, русский, немецкий,
французский, — который прошел в истории европейкой культурной традиции
экспериментальную проверку на проходимость учениками XIX в. (классические
гимназии, публичные школы, лицеи) и отражает сложившийся к концу XX в.
объемный динамический баланс разноязычия в интернациональном потоке научной
публикации, дополнительным седьмым языком для большинства в общем-то
населения земли, если говорить в глобальных терминах, многонациональных
развитых стран будет их родной язык этнической группы или национальности,
представители которой входят в стране их проживания в категорию инородцев и
осваивают официальный язык страны проживания как дополнительный школьный
курс инородного языка в своих национальных школах.
Для такого глобального большинства «инородцев» предлагаемая нами
«колода» всегда будет иметь семичленный состав: родной язык — греческий —
латинский — английский — русский — немецкий — французский, и если родной язык,
как это предполагается в основном тексте, будет входить в общую для колоды
систему параллельного изучения учениками всех школьных нормативных курсов
естественных языков, следующих александрийской модели теоретического
представления естественного языка, то в такой теоретически-нормативной форме
родной язык будет, с одной стороны, подтверждать или опровергать всеобщую для
естественных языков применимость александрийской модели, и в этом своем
качестве будет играть роль проблемогенного фактора в исследованиях по
категориальным структурам и потенциалам естественных языков, а с другой стороны,
окажется постоянным и подготовленным к этой акции претендентом на вытеснение
и субституцию в «колоде» инородных языков одного из современных «великих
языков науки», если доля этого родного языка в составе разноязычия
интернационального потока глобальной научной публикации превзойдет соответствующую
История европейской культурной традиции и ее проблемы 763
долю одного из представленных в «колоде» великих для соответствующего
периода языков науки.
Присутствие официального языка данного национального Т-континуума в
числе «великих языков науки» на интенсивном школьном переходе в той или
иной точке на луче календарного времени могло бы считаться символом
глобального признания заслуг этого Т-континуума и высшей наградой человечества
соответствующему национальному научно-академическому сообществу за активное
участие в глобальном процессе научного познания окружения. Конкретно это
выявлялось бы в естественном для столь высокопочитаемой человечеством развитой
страны сокращении состава естественных языков «колоды» на единицу, как это
происходит и сегодня для той части населения многонациональных развитых
стран, для которой один из «великих языков науки» является одновременно и
официальным языком национального Т-континуума и родным языком,
осваиваемым на возрастном этапе «от 2 до 5». Но если не вдаваться в эмоциональные
аспекты такого глобального признания и его стимулирующей роли для стран,
официальный язык которых не входит в число признаваемых на данном периоде
«великих языков науки», то быть символом развитости в глазах всего взрослого
населения планеты и пользоваться при этом привилегией держать на всеобщем
школьном переходе «колоду» параллельных курсов естественных языков, в
которой на один язык меньше, хотя и высокая честь, но не такое уж великое
достоинство: сегодня мы наблюдаем в национальных Т-континуумах развитых стран,
официальные языки которых входят в число «великих языков науки», что
определенное преимущество в этих Т-континуумах на общем моноглоттическом
уровне имеют все-таки инородцы, если они достаточно свободно владеют
официальным языком страны. Во всех наиболее престижных терминалах таких
национальных Т-континуумов, включая и терминалы науки и приложения, инородцы
представлены со значительным превышением доли их представительства в общем
населении данной развитой страны. Это наблюдается повсюду и у нас и в США и
во всех других многонациональных развитых странах, и хотя по инерционной
модели великодержавного шовинизма часто объясняется в различной остроты
«антиинородных» терминах, имеет, похоже, куда более прозаическое основание:
знать на язык больше, чем знает большинство, для отдельного человека всегда и
во всех обстоятельствах благо и преимущество, позволяющее в условиях моно-
глоттизма, например, использовать в решении любых практических задач не
один, а два категориальных потенциала естественных языков с соответствующим
выигрышем и в оперативности и в качестве решения. На фоне полиглоттизма
большинства этот эффект опоры на еще один категориальный потенциал
естественного языка будет выражен, понятно, слабее, но во всех случаях иметь на
личном методологическом вооружении категориальный потенциал еще одного
естественного языка всегда было и будет ощутимым преимуществом индивида,
который этим «еще одним» языком владеет с детства, получив его в отличие от
большинства на этапе «от 2 до 5». И с этой точки зрения явно не проходит идея «по
всей земле один язык и одно наречие», если ее выдают за неоспоримое благо, к
которому человечеству нужно стремиться. Даже в том случае, если бы наука
пожелала сегодня вернуться к греческому и латыни, к правилам словообразования
которых тяготеет сегодня научный глоттогенез в актах номинации-определения,
то с точки зрения методологического арсенала науки глобальному феномену
науки был бы нанесен существенный урон, поэтому проблемы первой группы,
производные от состава «колоды» школьных курсов естественных языков, решать
в принципе надо в духе выяснения пределов ментальных возможностей
человеческого биокода, то есть в экспериментальном порядке в тех же
экспериментальных школах с согласия родителей и под наблюдением врачей-психологов
пробовать увеличивать число представленных в колоде языков, ограничиваясь, понят-
49*
764
M. К. Петров
но, «великими языками науки» с 4 до 5, скажем, 6, 7, пока не обнаружатся
слишком уж большие, порядка 50% величины отсева «тихоходов», которых в этом
экспериментальном случае можно будет переводить на общий интенсивный
школьный переход. И уже по результатам таких экспериментов можно будет решать
вопрос о том, сколько «великих языков науки» должно быть в «колоде», а решение
вопроса о том, каким именно языкам быть «великими языками науки» придется,
похоже, в конце концов делегировать динамическому балансу естественных
языков в составе интернационального глобального потока научной публикации и
решать его производно от доли того или иного естественного языка в производимом
наукой глобальном продукте.
Теперь мы можем перейти к проблемам второй группы, которые связаны с
принципиальной возможностью мобилизации категориальных потенциалов всех
существующих на земле естественных языков. Отправную точку мы уже
наметили — это присутствие в «колоде» нормативного школьного курса родного языка,
который в условиях параллельного изучения всех языков «колоды», что требует
уподобления всех нормативных курсов «колоды» по универсальной
александрийской модели теоретического представления естественного языка, неизбежно
должен будет становиться проблемогенным фактором относительно универсализма
александрийской модели и соответственно отличительных черт категориальной
структуры родного и официального языка данной страны, если она использует
интенсивную модель онаучивания.
Именно то обстоятельство, что в «колоде» нормативных школьных курсов
естественных языков всегда будет присутствовать локальный родной язык местной
социальной данности, идет ли речь о поселке или деревне в Казахстане, Грузии,
Осетии, Украины, Белоруссии, Эстонии и т.д., для любой точки земного шара,
где есть школа с интенсивным школьным переходом Тп-Ту, станет гарантом того,
что естественный язык этой социальной данности, осваиваемый учениками на
периоде «от 2 до 5», входя в отношения параллелизма и уподобления с другими
языками «колоды», всегда будет опредмечен и в какой-то мере исследован
авторами его учебника, поскольку им придется согласовывать материал, его объем,
его порядок изложения в учебнике родного языка с учебниками инородных
языков. При этом авторам любого такого нового учебника родного языка в любой
точке земного шара всегда будет навязываться через инородные учебники
«колоды» александрийская модель теоретического представления естественного языка,
что, надо полагать, во всех подобных случаях будет поляризировать авторское
отношение к материалу родного языка на два, как минимум, подхода: собственно
авторский и исследовательский. Как человек, взявший на себя по договору или
контракту обязательство написать для «колоды» интенсивного школьного
перехода параллельный учебник родного языка для школ в ареале действия этого
естественного языка, автор обязан будет приложить максимум усилий, чтобы и в
отборе материала и в порядке его изложения показать, что предлагаемый им
параллельный курс родного для учеников языка лишь частный вариант универсальной
александрийской модели и в этом смысле подобия ничем не отличается от других
инородных курсов языков, представленных в «колоде». С другой стороны,
прилагая этот максимум усилий, чтобы вогнать материал родного языка в прокрустово
ложе александрийской модели и встречая при этом сопротивление материала —
сомнительные случаи, слишком широкие или, напротив, слишком
детализированные категории александрийцев, автор учебника неизбежно будет
выталкиваться на роль исследователя этих расхождений, пытаясь понять их смысл или даже
описать их в какой-то критической по отношению к александрийской модели
системе понятий.
История европейской культурной традиции знает немало примеров
критического отношения к александрийской модели теоретического представления естест-
История европейской культурной традиции и ее проблемы 765
венного языка и его категориальной структуры. В Англии XVII в. пионером
подобной критики был Т.Гоббс [181], пытавшийся под явным давлением родного
новоанглийского языка перестроить систему категорий Аристотеля,
представленную в модели александрийцев, позднее тем же путем шел и Д.Юм [190]. И когда
мы в основном тексте и в других местах [52; 53; 54] говорили о том, что
современная научная картина мира несет следы явного присутствия категориальных
структур языков флективного и аналитического строя, под следами аналитики мы
имели в виду именно работы Гоббса и Юма, философско-категориальный смысл
которых по достоинству оценил И.Кант [25]. Так или иначе, но по сути дела
автоматическое включение в условиях действия интенсивной модели в предмет
исследований категориальных структур естественных языков всех практически
языков земли, имеющих нормативные школьные учебники, не сможет сколько-
нибудь долгое время оказываться за пределами внимания Национальных служб
Т-континуумов многонациональных развитых стран и соответствующие
исследования на предмет обогащения методологического арсенала науки развернутся в
глобальном масштабе.
Другим кругом проблем второй группы будут, нам представляется, попытки
тем или иным способом перевести глобальный феномен науки из его
умозрительного статуса знаковой реалии, долговременное существование которой
основывается на традиции и на процессах самоорганизации, в нечто более видимое и
осязаемое, в более доступное для наблюдения и изучения типа, скажем Глобального
Парламента Науки, имеющего какие-то права и обязанности по отношению к
национальным научно-академическим сообществам. На национальном уровне
близкий круг прав и обязанностей с XVII в. несут национальные академии наук и
даже когда, как это было, например, и осталось в Великобритании, где рядом с
национальной академией (Королевским Обществом) возникает и длительное
время сосуществует параллельный институт типа Британской Ассоциации для
Продвижения Науки, функции установления и развития интернациональных связей
остаются юрисдикцией национальных академий наук. Но вот когда в 1930-е гг. в
канун Второй мировой войны наметился рост политической активности ученых
[188], то их попытки обзавестись представительными институтами на
наднациональном уровне шли, как правило, в обход национальных официальных
институтов науки и та же самая тенденция наблюдается сегодня, когда угроза ядерного
самоубийства человечества вынуждает ученых занимать определенные
политические позиции. Избежать политической определенности гипотетического
Глобального Парламента Науки, в каких бы организационных формах он ни
реализовался, было бы, понятно сложно, хотя в общем-то Национальные службы
учебника-терминала, отвечая де-факто за темпы социального развития через
совершенствование структуры национальных Т-континуумов, вряд ли будут чураться и
внутренней и внешней политики своих стран, если государственная политика
будет входить в конфликтные ситуации с процессом перестройки Т-континуумов,
и в этом смысле любая организационная форма Глобального Парламента Науки
несла бы и политические функции, коль скоро наиболее вероятный путь
возможного возникновения и становления такого глобального форума науки —
потребность координировать действия Национальных служб учебника-терминала. Но
нам, не ожидающим от жестких организационно-административных форм ничего
хорошего, много больше по душе близкая по типу к Британской Ассоциации,
гибкая и обязательно перипатетическая организационная форма Глобального
Парламента Науки с годичными собраниями, проводимыми каждый год на новом
месте не только для пропаганды глобального феномена науки, но и для реальной
помощи на местах. Не ревизии, а именно помощи.
При таком перипатетическом способе существования Глобальный Парламент
Науки мог бы каждое свое годичное собрание превращать в конкретное обще на-
766
M. К. Петров
учное исследование текущих проблем региона, в котором это собрание
проводится, входить на пленарных заседаниях с предложениями и рекомендациями
властям региона, а на заседаниях Секций той же номенклатуры, что и Секции
Национальных Служб учебника-терминала, сверять и корректировать процесс
уподобления национальных Т-континуумов через уподобление их
научно-академических сообществ на уровне деятельности терминалов науки.
На этом мы заканчиваем работу и, завершая ее, остаемся в убеждении, что
тупиковый кризис европейской культурной традиции, вызванный в частности
распространением с середины XIX в. экстенсивной модели онаучивания
общества, грозящей сегодня распадом глобального феномена науки, останется лишь
грустным эпизодом в бурной истории этой культурной традиции, что и впредь
неопределенно долго европейская культурная традиция будет вносить достойный
вклад в историю человечества, если у развитых стран, которые в большинстве
своем принадлежат сегодня к европейской культурной традиции, достанет
мудрости, решимости и терпения, чтобы отказаться от услуг экстенсивной модели
онаучивания общества и ради спасения и оздоровления глобального феномена
науки перейти на интенсивную модель онаучивания общества.
ЛИТЕРАТУРА
А (1-178)
1. Лнисимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества. M; JI., 1966.
2. Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. Ч. 2.
3. Аристотель. Афинская полития. М, 1948.
4. Верная Дж., Маккей А. На путях к «науке о науке» // Вопросы философии. 1966.
№ 7.
5. Боги, брахманы, люди. М: Наука, 1969.
6. Бэкон Ф. Соч. М.: Мысль, 1971. Т. 1.
7. Бэкон Ф. Соч. М: Мысль, 1972. Т. 2.
8. Винер Н. Творец и робот. М., 1966.
9. Возникновение и развитие земледелия. М., 1967.
10. Ворончак Е. Показатели лексического богатства текста // Семиотика и искусство-
метрия. М., 1972.
11. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1.
12. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. М., 1970. Т. 1.
13. Гоголь Н.В. Собрание художественных произведений в пяти томах. М., 1952. Т. IV.
14. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение
избранных пород в борьбе за жизнь. Соч. М.; Л., 1939. Т. 3.
15. Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». М., 1954.
16. Достоевский Ф. Поли. собр. соч. Л., 1979. Т. 19.
17. Дубинин И.П. Наследование биологическое и социальное // Коммунист. 1980.
№ П.
18. Дубинин Н.П. Современная биология и проблемы социальной сущности
человека // Психологический журнал». 1980. Т. 1. № 1.
19. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. М., 1960.
Вып. 1.
20. Ельмслев Л. Язык и речь // История языкознания XIX и XX вв. в очерках и
извлечениях. М., 1960. Ч. 2.
21. Звегинцев В.А. История языкознания в XIX и XX вв. в очерках и извлечениях. М.,
1960. Ч. 1.
22. Звегинцев В.А. История языкознания в XIX и XX вв. в очерках и извлечениях. М.,
1960. Ч. 2.
23. Ингве В. Гипотеза глубины // Новое в лингвистике. М., 1965. Вып. 4.
24. История языкознания в XIX и XX вв. в очерках и извлечениях. М., 1960. Ч. 1.
25. Кант И. Соч. М.: Мысль, 1964. Т. 3.
26. Колмогоров А. Автоматы и жизнь // Возможное и невозможное в кибернетике. М.,
1963.
27. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М.: Прогресс, 1977.
28. Крылов И.А. Басни. М.; Л., 1950.
29. Кудрявцев М.К. Община и каста в Хиндустане. М., 1971.
768
М.К. Петров
30. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
31. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930.
kl. Лейбниц Г. Письмо Софии Шарлотте // Философские науки. 1973. № 4.
33. Лем С. Сумма технологий. М., 1968.
34. Ленцман А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. М., 1963.
Ï5. Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963.
36. Лоуренс У.Л. Люди и атомы. М., 1967.
37. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М.: Мысль, 1979.
38. Маркс К, Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956.
39. Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 8.
40. Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 23.
41. Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 3.
42. Маслиева О. В. Становление категории причинности. Л.: Наука, 1980.
43. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.: ОГИЗ,
1938.
44. Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация
науки. М.: Наука, 1980.
45. Можейко И. Другие 27 чудес. М., 1969.
46. Мышление и язык. М., 1957.
47. Налимов В.В., Мулъченко З.М. Наукометрия: изучение развития науки как
информационного процесса. М.: Наука, 1969.
48. Новоселов М. Пор-Ройяля логика // Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1967.
49. Огурцов А.П. Дисциплинарное знание и научные коммуникации // Системные
исследования. Методологические проблемы 1979. М., 1980.
50. Парсонс Т., Сторер Н. Научная дисциплина и дифференциация науки // Научная
деятельность: структура и институты. М.: Прогресс, 1980.
51. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969.
52. Петров М.К. Перед «Книгой природы»: Духовные леса и предпосылки научной
революции XVII в. // Природа. 1978. № 8.
53. Петров М.К. Язык и категориальные структуры // Науковедение и история
культуры. Ростов-на-Дону, 1973.
54. Петров М.К. Некоторые константы текстуальности и членораздельности в
процессах накопления знания // Всесоюзное совещание по количественным методам в
социологии (количественные методы изучения и развития науки). М., 1967.
55. Поуэлл С.Ф. Роль теоретической науки в европейской цивилизации // Мир науки.
1965. № 3.
56. Прайс Д., Бивер Д. Сотрудничество в «невидимом колледже» // Коммуникация в
современной науке. М.: Прогресс, 1976.
57. Прайс Д. Квоты цитирования в точных и неточных науках и ненауке // Вопросы
философии. 1971. № 3.
58. Прокл. Первоосновы теологии. Тбилиси, 1972.
59. Пруткова Козьмы сочинения. Казань, 1966.
60. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. М., 1957.
61. Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979.
62. Сепир Э. Язык. М., 1934.
63. Сепир Э. Положение лингвистики как науки // История языкознания XIX—XX вв.
в очерках и извлечениях. М., 1960. Ч. 2.
64. Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1960.
65. Сноу И.П. Две культуры. М., 1973.
66. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 769
ъ1. Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1957. Т. 2.
68. Статистико-комбинаторное моделирование языков. М., Л., 1965.
69. Сторер Н. Отношения между научными дисциплинами // Научная деятельность:
структура и институты. М: Прогресс, 1980.
70. Таубе М. Вычислительные машины и здравый смысл. Миф о думающих машинах.
М, 1964.
71. Томсон Дж. Первые философы. М., 1959.
72. У истоков классической науки. М.: Наука, 1968.
73. Улъдаллъ Х.И. Основы глоссематики (исследование методологии гуманитарных
наук со специальным приложением к лингвистике) // Новое в лингвистике. М.,
1960. Вып. 1.
74. Уорф Б.Л. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. М, 1960. Вып. 1.
75. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в
лингвистике. М., 1960. Вып. 1.
76. Уорф Б.Л. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. М., 1960. Вып. 1.
77. Фреса П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. М.: Прогресс, 1973. Вып. 4.
78. Фриз Ч. Значение и лингвистический анализ // Новое в лингвистике. М., 1962.
Вып. 2.
79. Хоккетш Ч. Грамматика для слушающего // Новое в лингвистике. М.: Прогресс,
1965. Вып. 4.
80. Хрестоматия по истории психологии. М.: МГУ. 1980.
81. Фихте И.Г. Назначение человека. СПб., 1913.
82. Хрестоматия по истории Древней Греции. М.: Мысль, 1964.
83. Хурсин Л.А. Об оптимальных условиях движения информации в научном
коллективе // Науковедение и информатика. Киев, 1978. № 19.
84. Чайлд Г. Древний Восток в свете новых раскопок. М., 1956.
85. Чуковский К. От двух до пяти. М., 1950.
86. Шекспир В. Избранные произведения. М.; Л., 1950.
87. Шлейхер А. Теория Дарвина в применении к науке о языке. СПб., 1864.
88. Юдин Б.Г. Объяснение и понимание в научном познании // Вопросы философии.
1980. № 9.
89. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. М., 1971.
90. Argyll primitive man: An examination some recent speculations. N.Y., 1868.
91. Beers H.W. American experience in Indonesia. Lexington, Kentucky, 1971.
92. Bennet J. W. Anticipation, adaptation, and the concept of culture in anthropology //
Science. 1976. Vol. 192. № 4242.
93. Bertalanffy L. von. General systems theory. Foundations, development, applications.
N.Y., 1968.
94. Bertalanffy L. von. Robots, men, and minds. N.Y., 1967.
95. Bertalanffy L. von. The theory of open systems in physics and biology // Science. 1950.
Vol. III.
96. Bloomfield L. Language. L., 1935.
97. Boas F. Handbook of American Indian Languages. Wash, 1911.
98. Boehm L. Wissenschaft-Wissenschaftenuniversitätsreform. Historische und theoretische
Aspekte zur Wissenschaftlichung von Wissen und zur Wissenschaftsorganisation der
frühen Neuzeit // Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. Wiesbaden, 1978. Bd. 1.
H. 1-2.
99. Bromley D.B. The effects of agening // Impact of Science on Society. P., 1971. Vol. 21.
№. 4.
100. Carroll L. Alice's adventures in wonderland and Through the looking glass. L. Puffing
Books, 1965.
no
M. К. Петров
101. Calliton B.J. NAS: Academy votes NRC changes. New formula on classified research //
Science. 1972. Vol. 176. № 4034.
102. Chinese science, explorations of an ancient tradition. Cambr., Mass., 1973.
103. Chubin D.E., Studer K.E. Knowledge and structures of scientific growth: measurement
of a cancer problem domain // Scientemetrics. 1979. Vol. 1. № 2.
104. Collingwood R.G. An essay on metaphysics. L., Oxf., 1940.
105. Collingwood R.G Idea of nature. L., Oxf, 1945.
106. Cornford FM. From religion to philosophy. Cambr., 1912.
107. Cornford EM. Principium sapientiae. Cambr., 1952.
108. Criticism and the growth of knowledge. Eds: Lakatos I., Musgrave A. Cambr., 1970.
109. Dales R.C. The scientific achivement of the Middle Ages. Philadelphia, 1973.
110. Dart F.E., Pradhan P.L. Cross-cultural teaching of science // Science. Vol. 155. 1967.
№. 3763.
111. Fashing J., Deutsch S.E. Academics in retreat // The politics of educational innovation.
Univ. of New Mexico Press. Albuqerque, 1971.
112. Gattung J. Essays in methodology. Copenhagen: Ejlers, 1977.
113. Gillespie N.C. The duke of Argill, evolutionary anthropology, and the art of scientific
controversy // Isis. Wash., 1977. Vol. 68. JVfe. 271.
114. Greene J. С The Kuhnian paradigm and the Darwinian revolution in natural history //
Perspectives in the history of science and technology. Norman. Oklahoma, 1971.
115. Harris M. The rise of anthropological theory. N.Y., 1968.
116. Hje/mslev L. Principes de grammair générale. Copenhagen, 1928.
117. Heidegger M. Unterwegs zur Sprache // Language in culture. Tübingen, 1959.
118. Holdane JB.С. Proper social application of the knowledge of human genetics // The
science of science. L, 1964.
119. Hoos Ida R. Systems analysis in public policy. Univ. of Calif. Press, 1972.
120. Humboldt W. von. Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java. Bd. 1—3. Berlin, 1836—39.
121. Humboldt W. von. Über der Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihrem
Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts // Gesammelte Werke.
Band 6. Berlin, 1848.
122. Information sciences at Georgia Institute of Technology: the formative years 1963—
1978 // Information Proceeding and Management. Oxf., 1978. Vol. 14. Ns 5.
123. Ingve V.N. A model and an Hypothesis for language structure // Proceedings of the
American Philosophical Society. Vol. 104. № 5. Philadelphia, 1960.
124. Ingve V.N. The depth hypothesis. In: Structure of Language and its mathematical
aspects // Proceedings of symposia in applied mathematics. Vol. XII. American
Mathematical Society, 1961.
125. Ingve V.N. Computer programme for translation // Scientific American. Vol. 206. № 6.
1962.
126. The Intellectual Revolution of the seventeenth century. London-Boston, 1974.
127. Jacob J.R. Robert Boyle and the English Revolution. N.Y., 1977.
128. Killian J.R. Sputnik, scientists, and Eisenhower. A memoir of the first special assistant
to the President for science and technology. Cambr. Mass., MIT Press, 1977.
129. Klaaren E.M. Religions origins of modern science. Belief in Creation in seventeenth
cenury thought. Grand Rapids. Mich., 1977.
130. Knight D. Sources for the history of science, 1660-1914. L., 1975.
131. Knight D. The nature of science in Western culture since 1660. Andre Deutsch Ltd. L.,
1976.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 771
132. Kuhn Т. Reflections on my critics // Criticism and the growth of knowledge. Cambr.,
1970.
133. Language and philosophy. A symposium. N.Y., 1969.
134. Laslo F. Introduction to systems philosophy — Towards a new paradigm of
contemporary thought. N.Y., 1972.
135. Laslo F. The system view of the world. N.Y., 1972.
136. Lilienfeld R. The rise of systems theory: An ideological analysis. N.Y., 1978.
137. Lyell Ch. Principles of geology. N.Y., 1872.
138. Menard H.W. Science: growth and change. Harvard Univ. Press, Cambr. Mass., 1971.
139. Merton R.K. On theoretical sociology. Toronto, 1967.
140. Merton R.K. Sociology of science. Chicago, 1973.
141. Miller G.A. Human memory and the storage of information // I.R.E. Transactions on
information theory. 1956. Vol. 1—2. Nq. 3.
142. Mullins N.Ch. Model for the development of sociological theories. Theories and theory
groups in contemporary American sociology. Harper and Row. N.Y. etc. 1973.
143. Needham J. Science and civilization in China. Cambr., 1953.
144. Needham J. Science and society in East and West // The science of science. L., 1964.
145. Pepper St.C. Concept and quality — a world hypothesis. La Salle, 111., 1967.
146. Pile W. The department of education and science // The New Wit. Sqr. JVfe 16. London:
George Allan & Unwin Ltd., 1979.
147. The politics of American science since 1939 to the present. MIT Press. Cambr., Mass.,
1972.
148. Price DJ. de S. Science since Babylon. Yale Univ. Press, 1962.
149. Price DJ. de S. Nations can publish or perish. In: «International science and
Technology. 1967. Vol. LXX.
150. Price DJ. de S. Little science, big science. N.Y. Columbia Univ. Press., 1963.
151. Price DJ. de S. Measuring the size of science. Preprint. May, 1969.
152. Raffles St. The history of Java. L., 1817.
153. Rahman A. Trimurti: science, technology and society. New Delhi, 1972.
154. Reich Ch. The Greening America. N.Y., 1973.
155. Rivers W.H.R. Social organization. L., 1926.
156. Rogers E.M., Shoemaker CF. A Cross-cultural approach. N.Y., 1971.
157. Science and its public: The changing relation // Boston Studies in the philosophy of
science. Vol. XXXIII. Boston-Dordrecht, 1976.
158. Science and society, 1600—1900. Cambr. Univ. Press, 1972.
159. Schleicher A. Compendium der vergleichender Grammatik der indogermanischer
Sprachen. Weimar, 1876.
160. Schleicher A. Die Deutsche Sprache. Stuttgart, 1869.
161. Shapin S., Thackray A. Prosopography as a scientific tool in history of science: the
British scientific community 1700—1900 // History of Science. 1974. Vol. 12. № 15.
162. Smith H.W. Strategies of social research. The methodological imagination. Englewood
Cliffs. N.Y., 1975.
163. Steinthal P. Grammatik, Logik und Psychologik. Ihre Prinzipien und Verhältnis zu
einander. Berlin, 1855.
164. Stocking G.W. Race, culture and evolution. N.Y., 1968.
165. The structure of scientific theories. Ed: Suppe F. Urbana, 111. 1974.
166. Tylor KB. Primitive Culture. L., 1871.
167. Universal higher education. Wash., 1972.
772
М.К. Петров
168. The University in society. Vol. 1. Princeton, 1974.
169. Webster Ch. The Great Instauration. Science, medicine and reform 1626—1660. N.Y.,
1976.
170. Weisgerber L. Das Gesetz der Sprache als Grundlage des Sprachstudiums. Heidelberg,
1951.
171. Weisgerber L. Die geistige Seite der Sprache und ihre Erforschung. Düsseldorf, 1971.
172. Whately R. Introductory lectures on political economy. L., 1832.
173. Whately R. On the origine of civilization. L., 1855.
174. White A. A history of warfare of science and technology in Christendom. N.Y., 1898.
175. Wilson L. American academics: Then and now. N.Y.: Oxford Univ. Press, 1979.
176. Wilson L. The academic man. N.Y., 1942.
177. Wisan W.L. Galileo scientific method: A reexamination // New Perspectives on Galileo.
Dordrecht-Boston, 1978.
178. Zipf G.K. Human behavior and the principle of least effort. Cambr. Mass., 1949.
В (179-203)
179. Арапов M.B., Шрейдер Ю.А. Закон Ципфа и принцип диссиметрии системы //
Семиотика и информатика. М., 1978. Вып. 10.
180. Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. М; Л., 1933.
481. Гоббс Т. Избранные произведения в двух томах. М.: Мысль, 1965. Т. 1.
181. Моммзен Т. История Рима. М., 1941. Т. 3.
182. Петров М.К Предмет и цели изучения истории философии // Вопросы
философии. 1969. № 2.
183. Петров М.К. Как создавали науку? // Природа. 1977. № 9.
184. Петров М.К. Из истории европейских университетов // Вестник АН СССР. 1979.
№ 8.
185. Петров М.К. Редакционная практика: объективность или волюнтаризм? //
Вестник АН СССР. 1978. №11.
186. Петров М.К. Природа и функция процессов дифференциации и интеграции в
научном познании // Методологические проблемы взаимодействия общественных,
естественных и технических наук. М.: Наука, 1981.
187. Потемкин A.B. Проблема специфики в диатрибической традиции. Ростов-на-
Дону. РГУ, 1980.
188. Прайс Д. Наука о науке // Наука о науке. М.: Прогресс, 1966.
189. Хрестоматия по истории Древней Греции. М.: Мысль, 1964.
190. Юм Д. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1966. Т. 2.
191. Calvin J. Institutes of Christian religion. Philadelphia, 1960.
192. Chubin D.E. The conceptualization of scientific specialties // The Sociological Quaterly.
Vol. 17. 1976. P. 448-476.
193. Development of scientific publishing in Europe. Elsevier Science publ., Amsterdam etc.,
1980.
194. Dolby R.G.A. The transmission of science // History of Science. Vol. 15. Science History
Publication Ltd., 1977. P. 1-43.
195. Emergence of Science in Western Europe. N.Y., Science History Publ., 1976.
196. Helmont J.B. Oriatrike. L., 1662.
197. Kerr С The Speed of Change: Towards 2000 A.P. // Planning in Higher Education.
St. Lucia, Univ. of Queensland Press. 1973. P. 167—177.
История европейской культурной традиции и ее проблемы 773
198. Merton R.K. Technology and society in seventeenth century England. Bruges, 1938.
199. Miller D.Ph. Between hostile camps: sir Humphry Davy's presedency of the Royal
Society of London, 1820—1827 // British Jour, for the History of Science. Chalfont
St. Giles, 1983. Vol. 16. Pt. 1. № 52. P. 1-47.
200. Morrell J., Thackry A. Gentlemen of science: Early years of the British Association for
the Advancement of Science. Oxford: Clarendon Press, 1981.
201. Nisbet R. The degradation of the academic dogma. The university of America, 1945—
1970. N.Y., 1971.
202. Parliament of Science. The British Association for the Advancement of Science, 1831—
1981. Science Revieus Ltd. Northwood, 1981.
203. Shapiro B.J. Probability and certainty in seventeenth century England. A study of the
relationship between natural science, religion, history, law and literature. Princeton
Univ. Press. Princeton. N.J., 1983.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 5
Текущая методологическая ситуация 7
Проблема начала 15
Эквифинальность и человекоразмерность 21
Лишние люди 30
Частк I
ПОСТРЕДАКЦИЯ И ЗНАКОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 49
Глава 1. Репродуктивная характеристика мира, вера в природу
и ее разумное творение 66
Глава 2. Универсалии общения: имя,
текст и тезаурусное отношение 80
Глава 3. Дискуссии вокруг начала человеческой истории 113
Приступ аппендицита в Калифорнии 115
Глава 4. Дискуссии второй половины XIX в.
вокруг начала человеческой истории 124
Тоска Ту по Ти 136
Феномен системы 156
Динамическая запись и общая теория систем 172
Парадигматика выявлений топоса 193
Предварительные итоги 246
Часть II
ПУТЬ К НАУКЕ 249
Глава 1. Грамматика и порядок 251
Свидетельства кризиса традиционной лингвистической парадигмы 257
Гипотеза глубины 265
Лингвистическая относительность 275
Частная и общая теория лингвистической относительности 313
Общая теория лингвистической относительности 337
Глава 2. Категориальный потенциал языка и категориальный потенциал
человечества 400
Национальные Т-континуумы развитых стран мира 426
Часть III.
СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
Т-КОНТИНУУМОВ РАЗВИТЫХ ОБЩЕСТВ 437
Глава 1. Некоторые сведения из истории системы образования 439
Интеллектуальная революция XVII в. (подходы) 445
История европейской культурной традиции и ее проблемы 775
Интеллектуальная революция XVII в. (ход событий) 503
Интеллектуальная революция (на периферии событий) 523
Глава 2. Становление общенаучной коммуникации 532
Королевское общество Лондона во второй половине XVIII
и в начале XIX в 556
Британская ассоциация для Продвижения Науки 586
Глава 3. Экстенсивная модель онаучивания общества 608
Кризис экстенсивной модели онаучивания общества
и вытекающие из него угрожающие перспективы 629
Глава 4. Интенсивная модель онаучивания развитых обществ 638
Проблемы подготовки к реализации интенсивной модели 655
Проблемы переходного периода 680
Изменение области поиска нужных элементов
научного знания и размывание коридорной ситуации 713
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 723
ЛИТЕРАТУРА 767
Михаил Константинович Петров
ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ
ТРАДИЦИИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ
Художественное оформление А.Сорокин
ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 25.09.2003,
Формат 70x100 У16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл.печл. 62,6. Уч.-издл. 81,2. Тираж 1000 экз. Заказ № 2041
Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
Тел. 334-81-87 (дирекция); Тел./факс 334-82-42 (отдел реализации)
ГУП Московская типография № 2 Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций (МПТР России).
Тел.: 282-21-91. 129085, Москва, пр. Мира, 105.