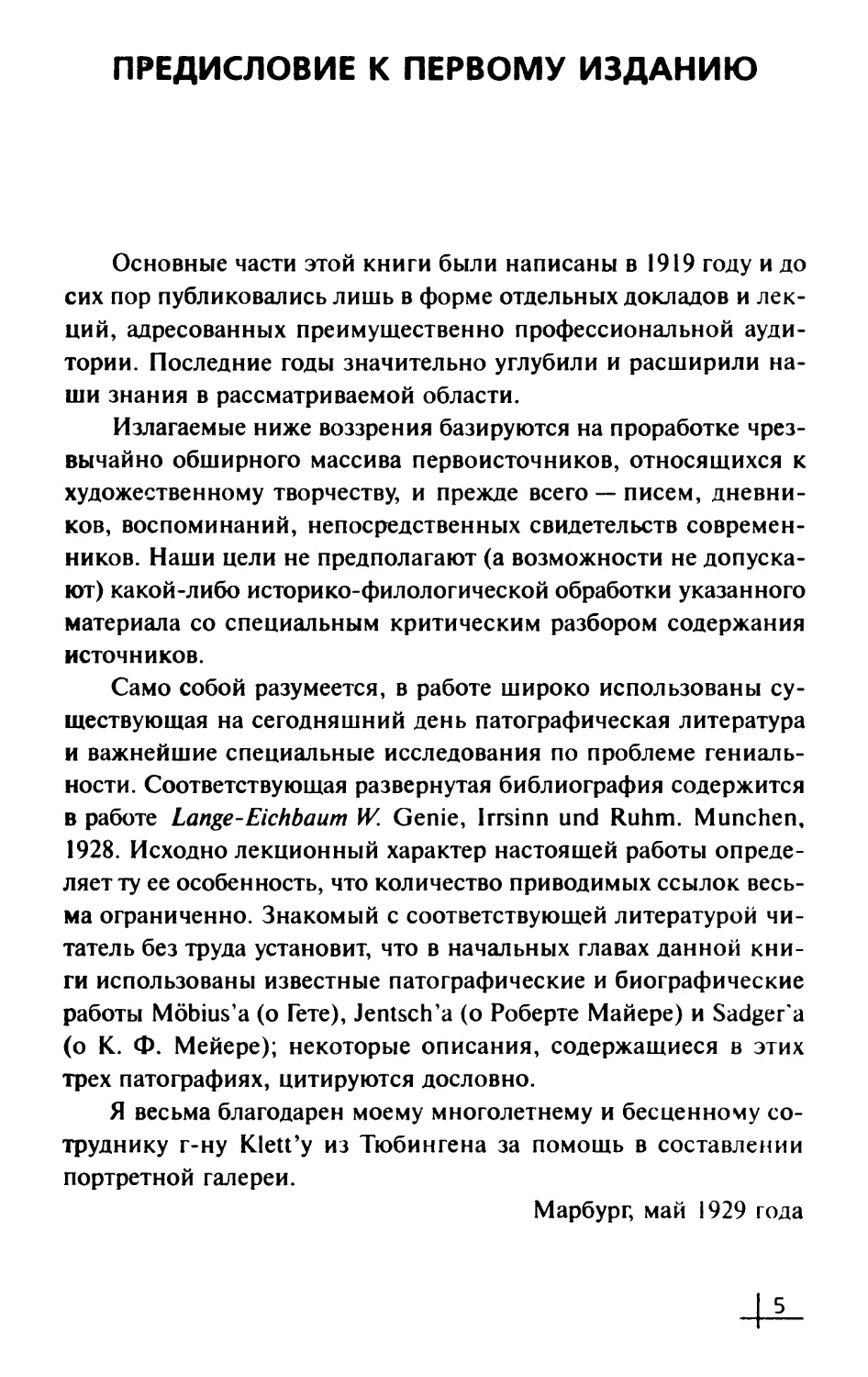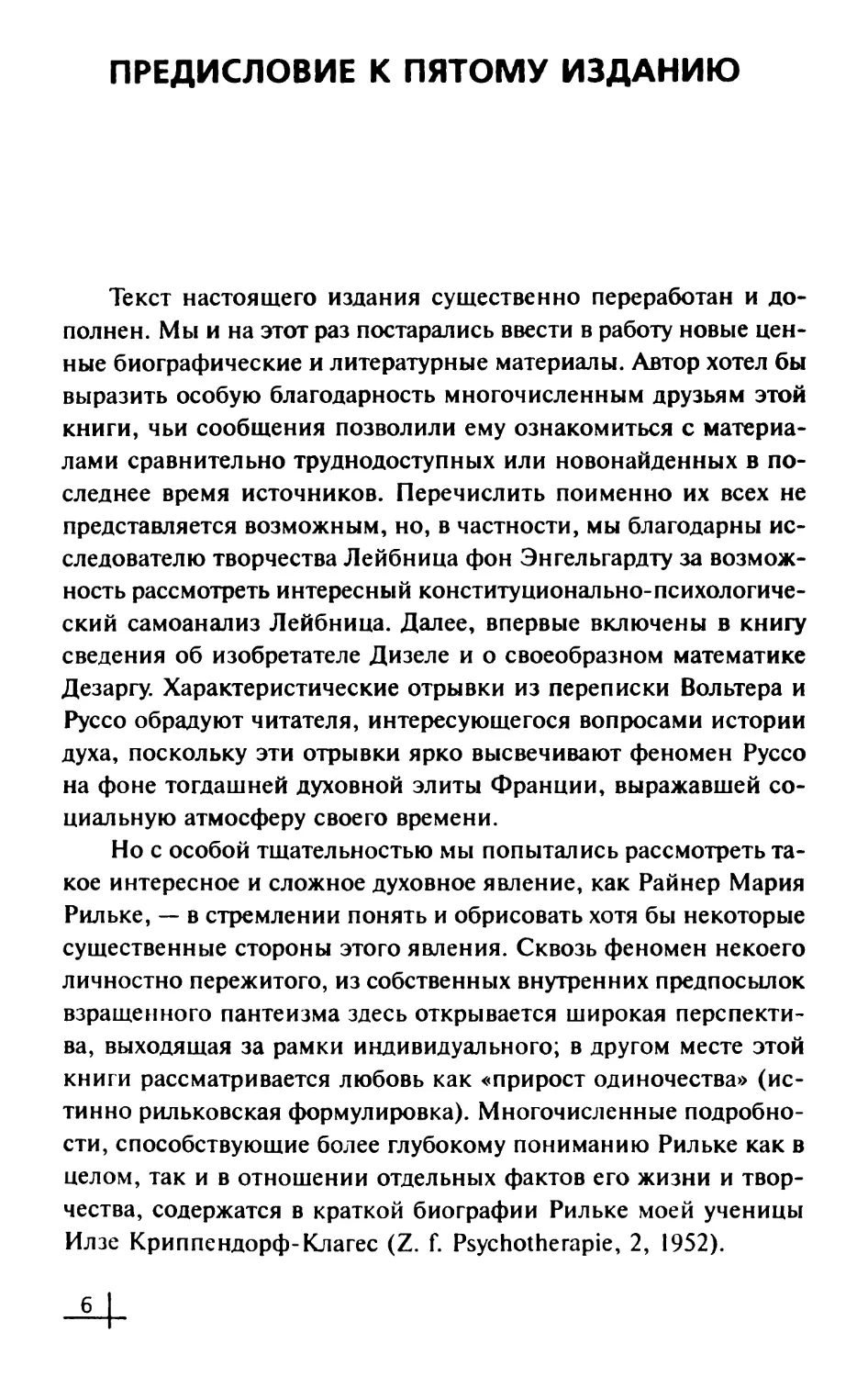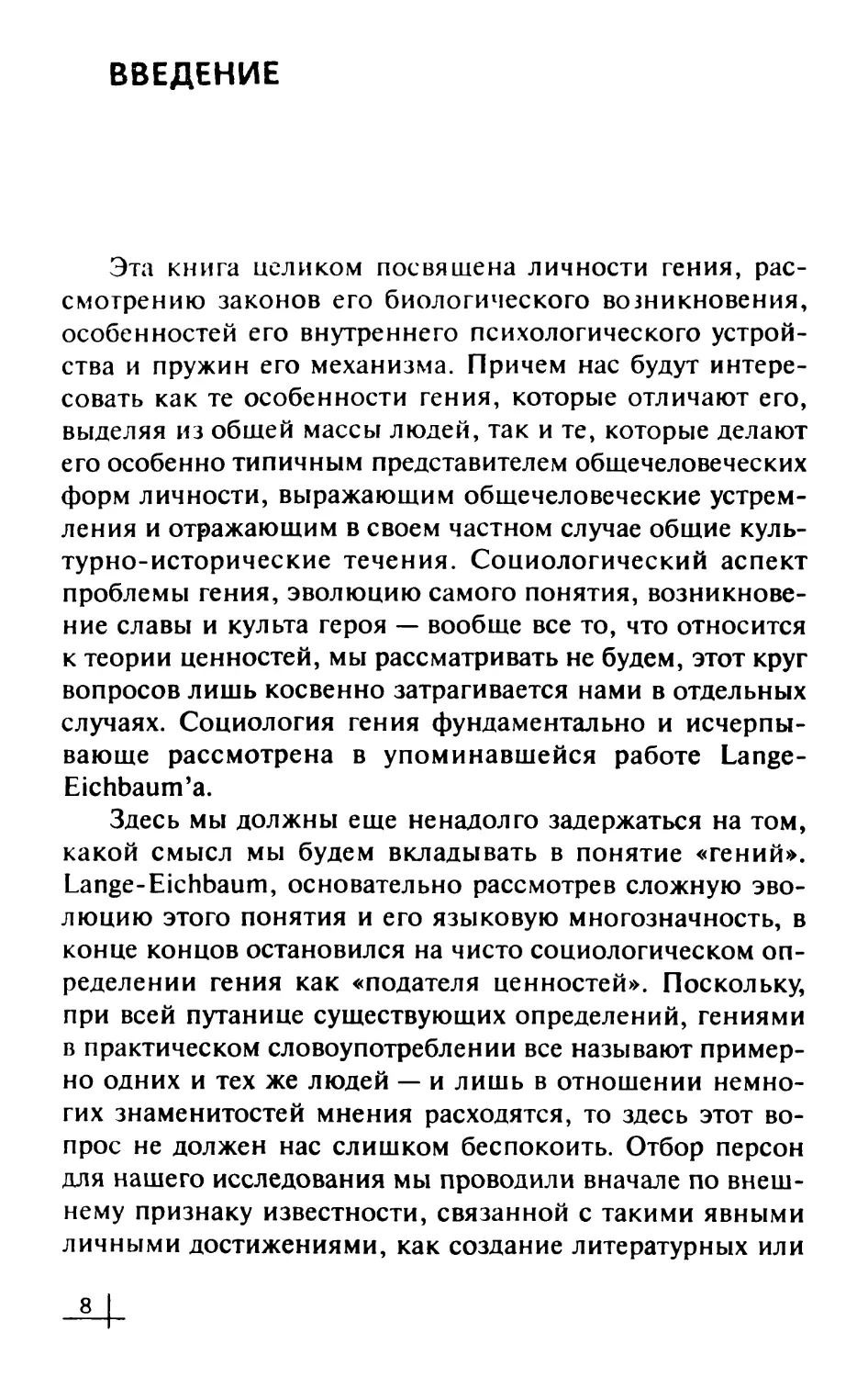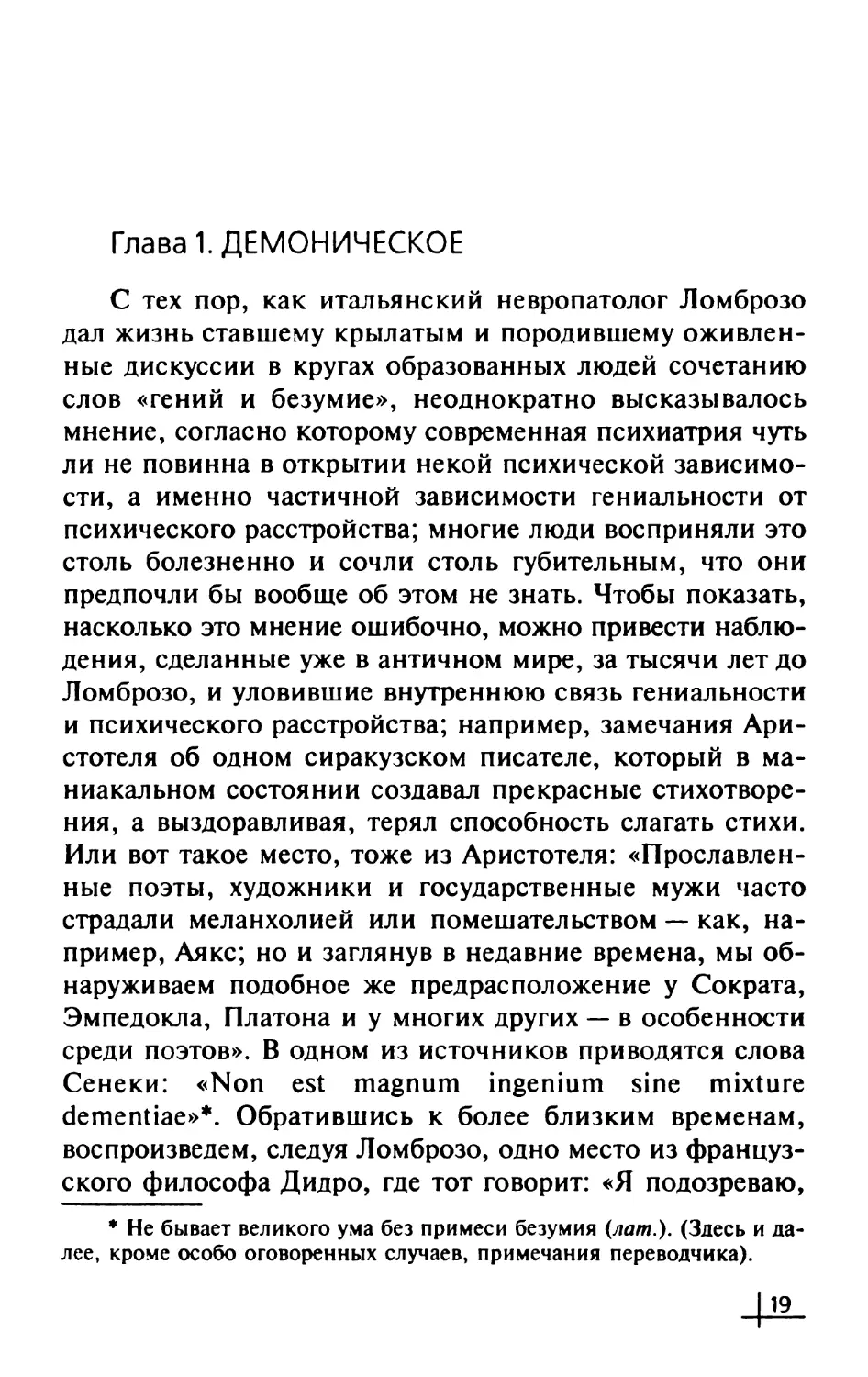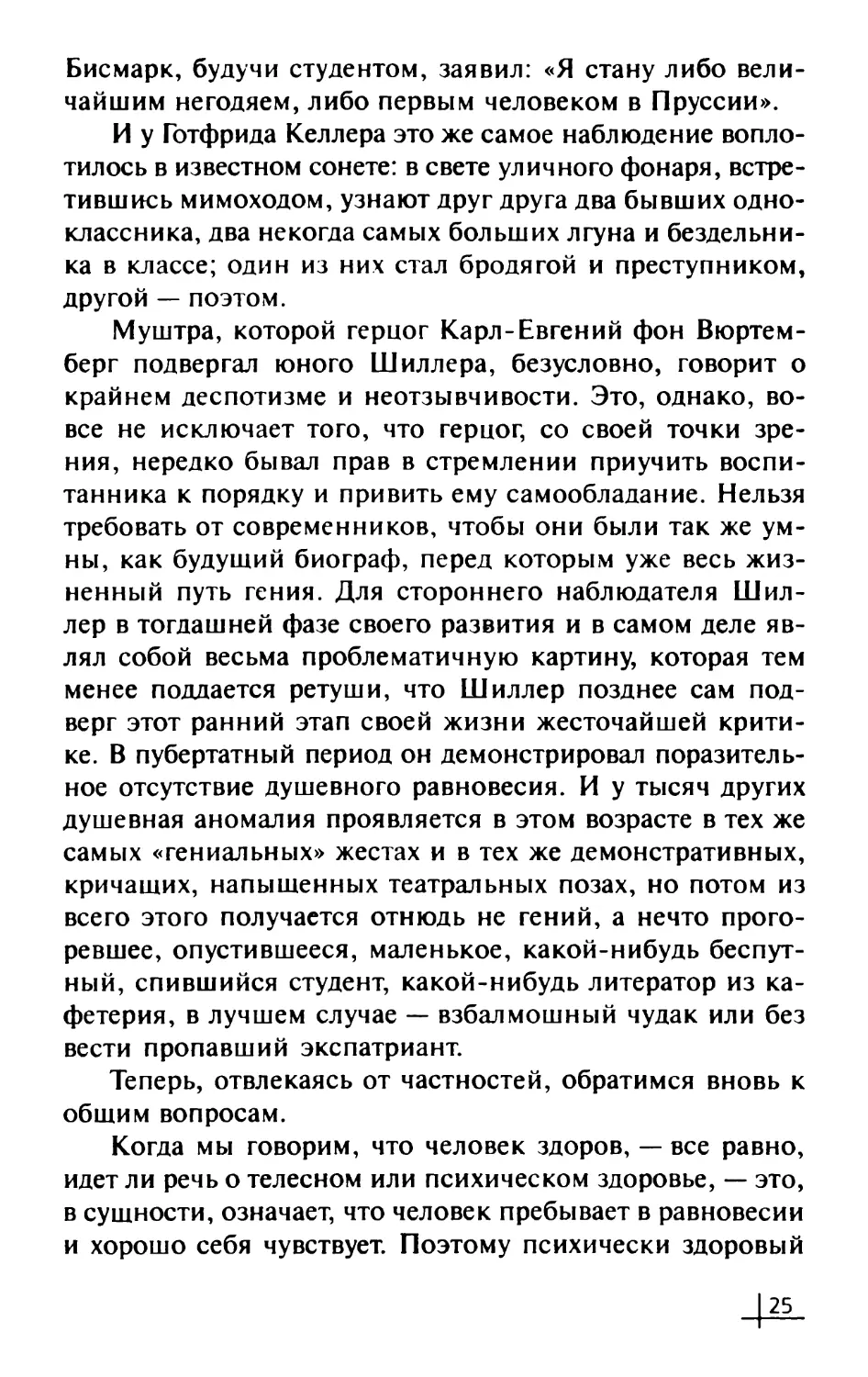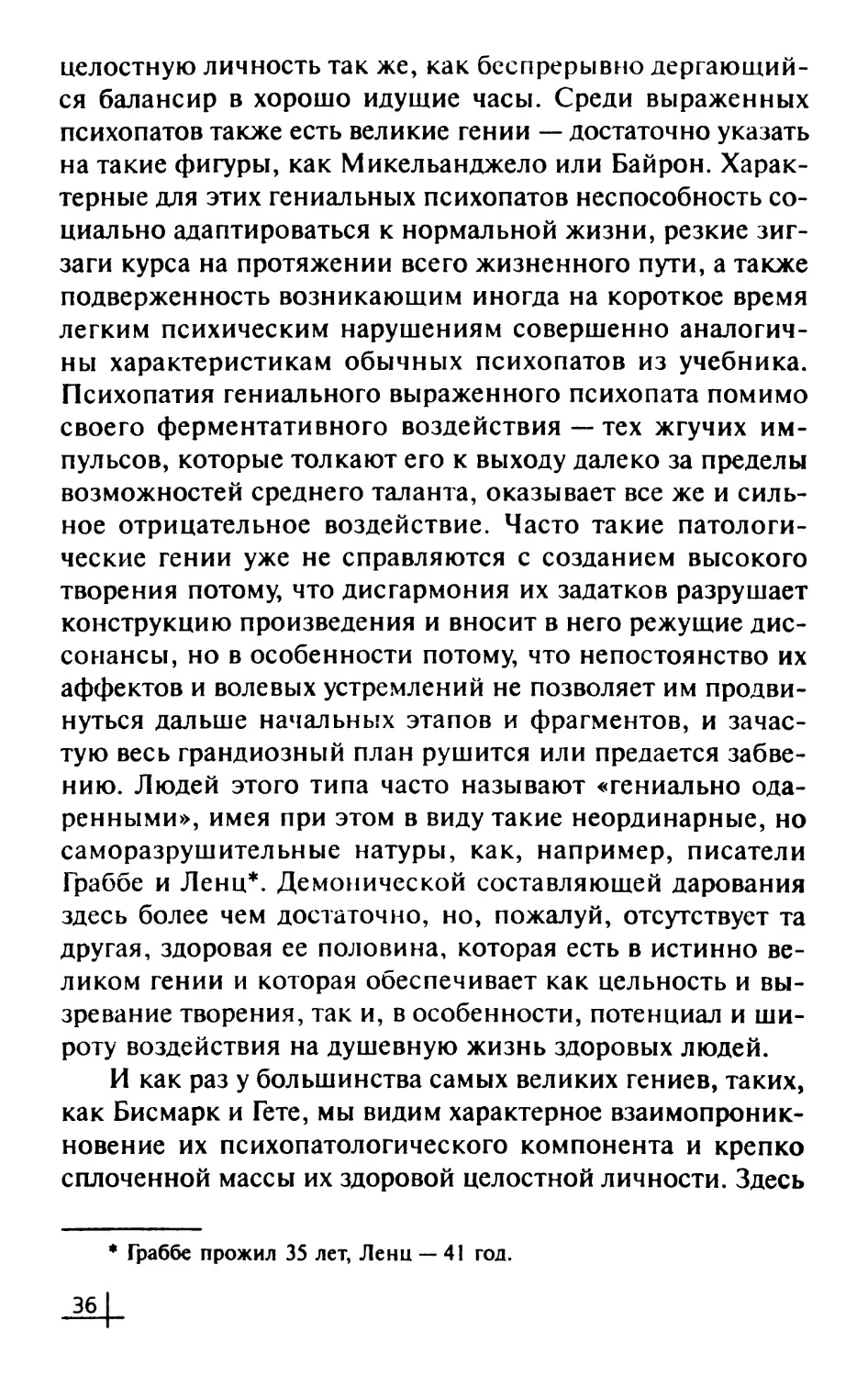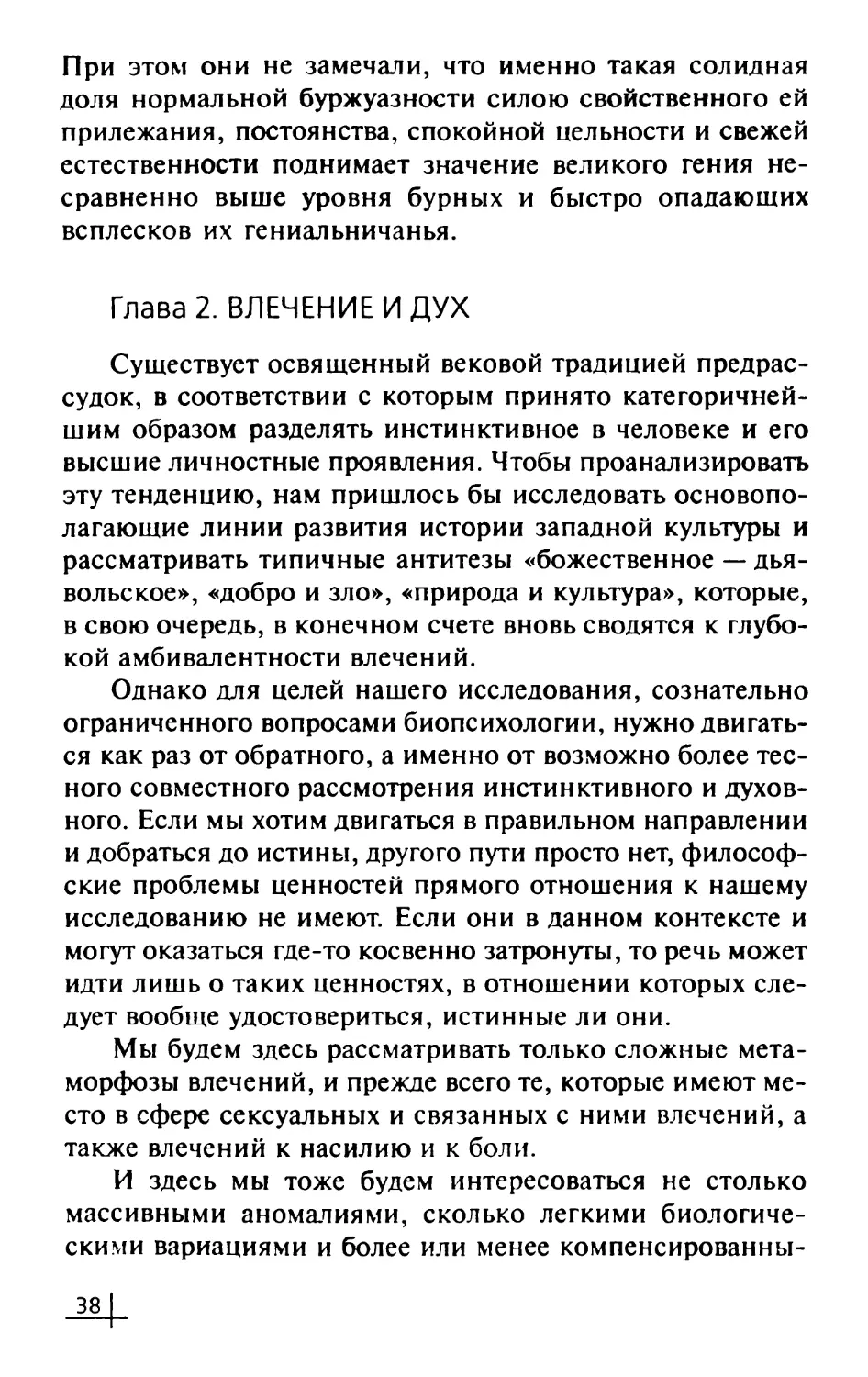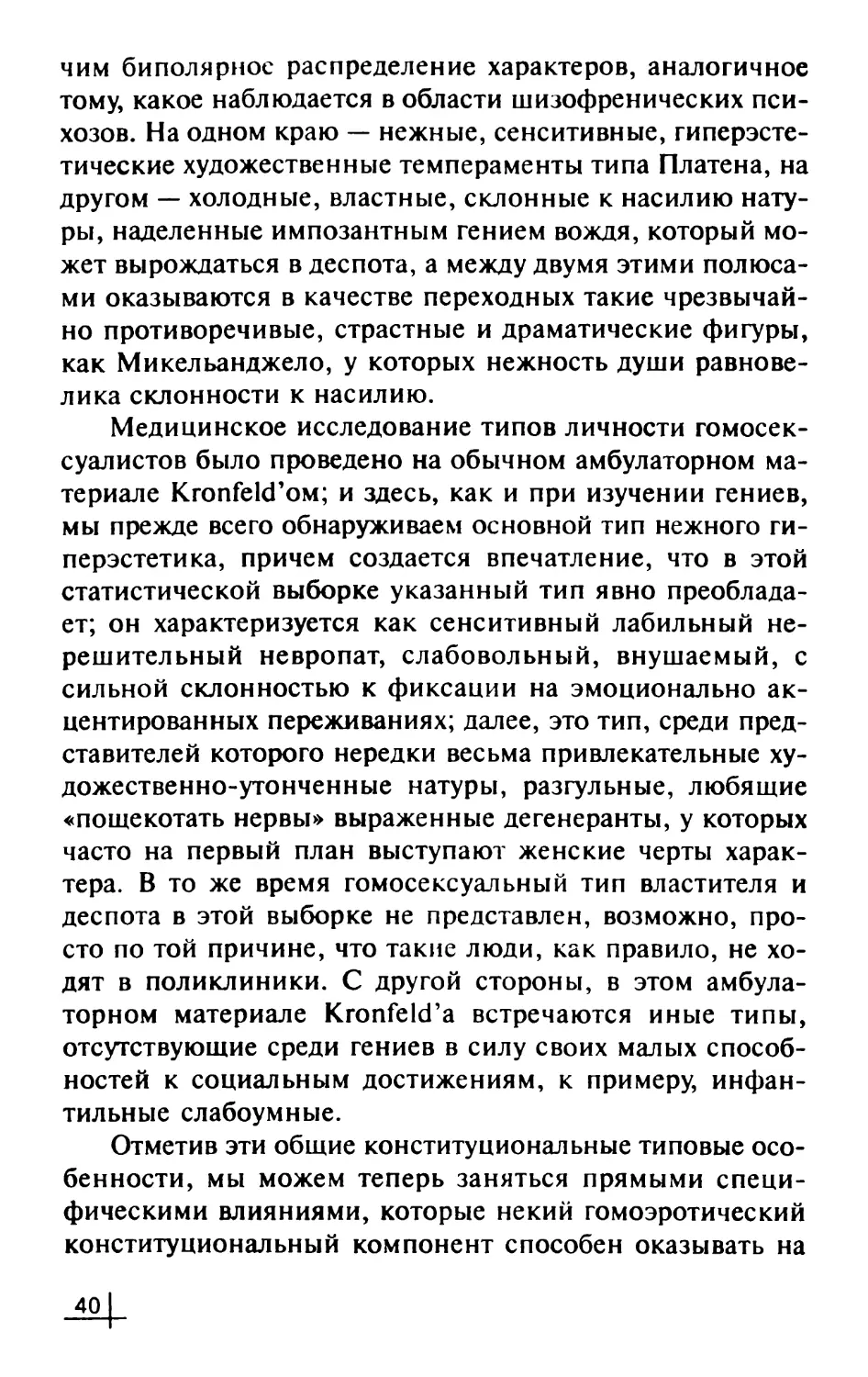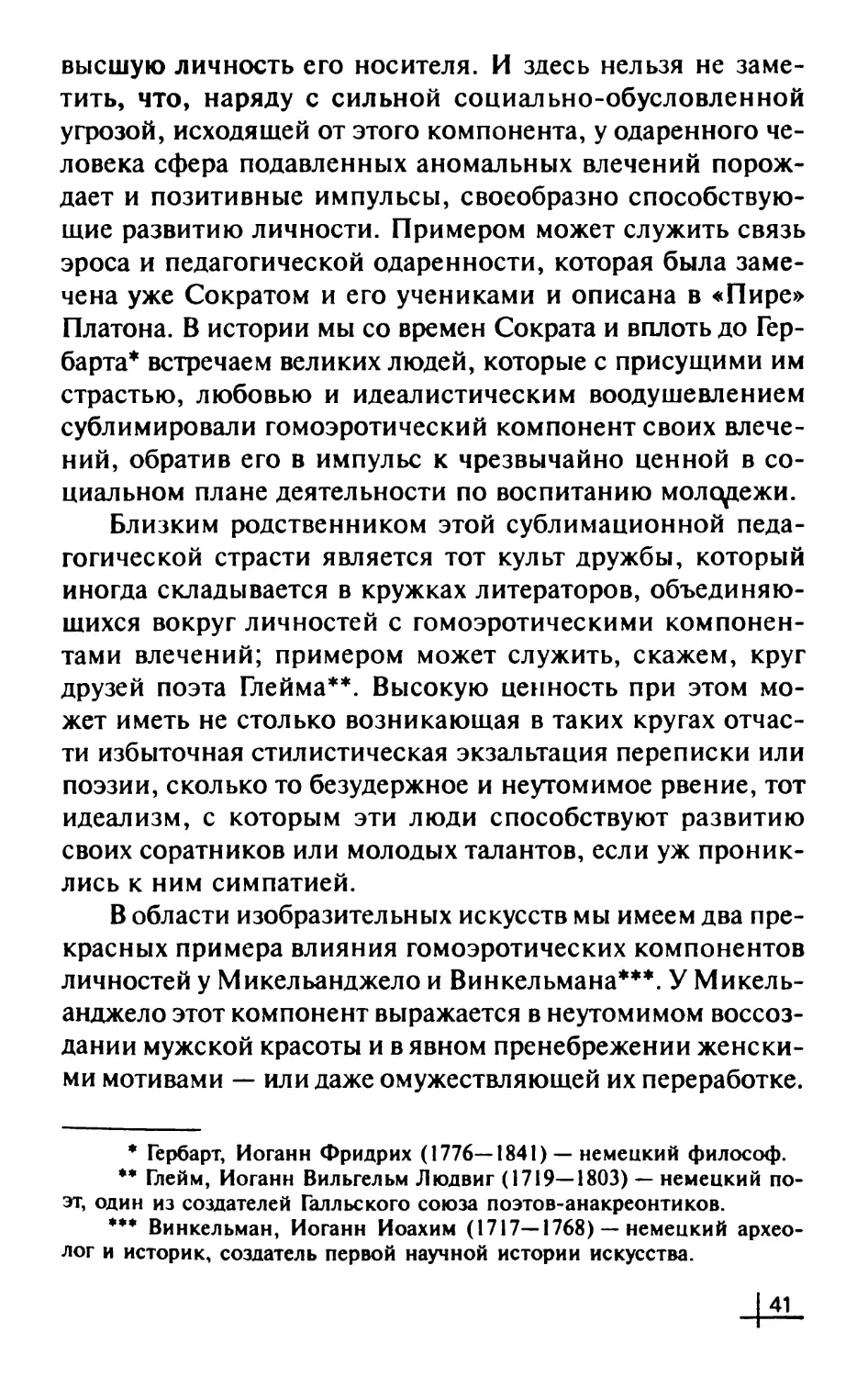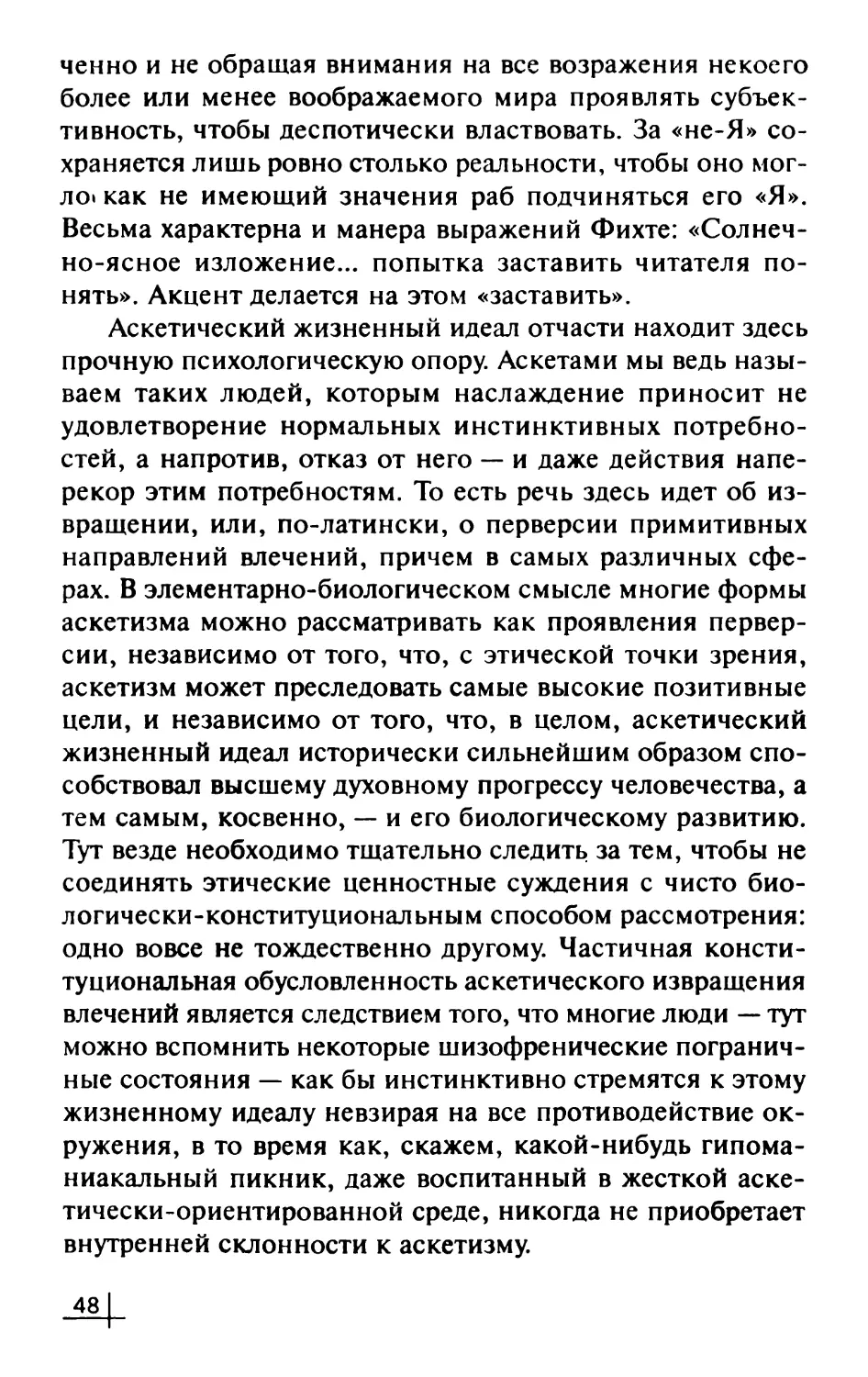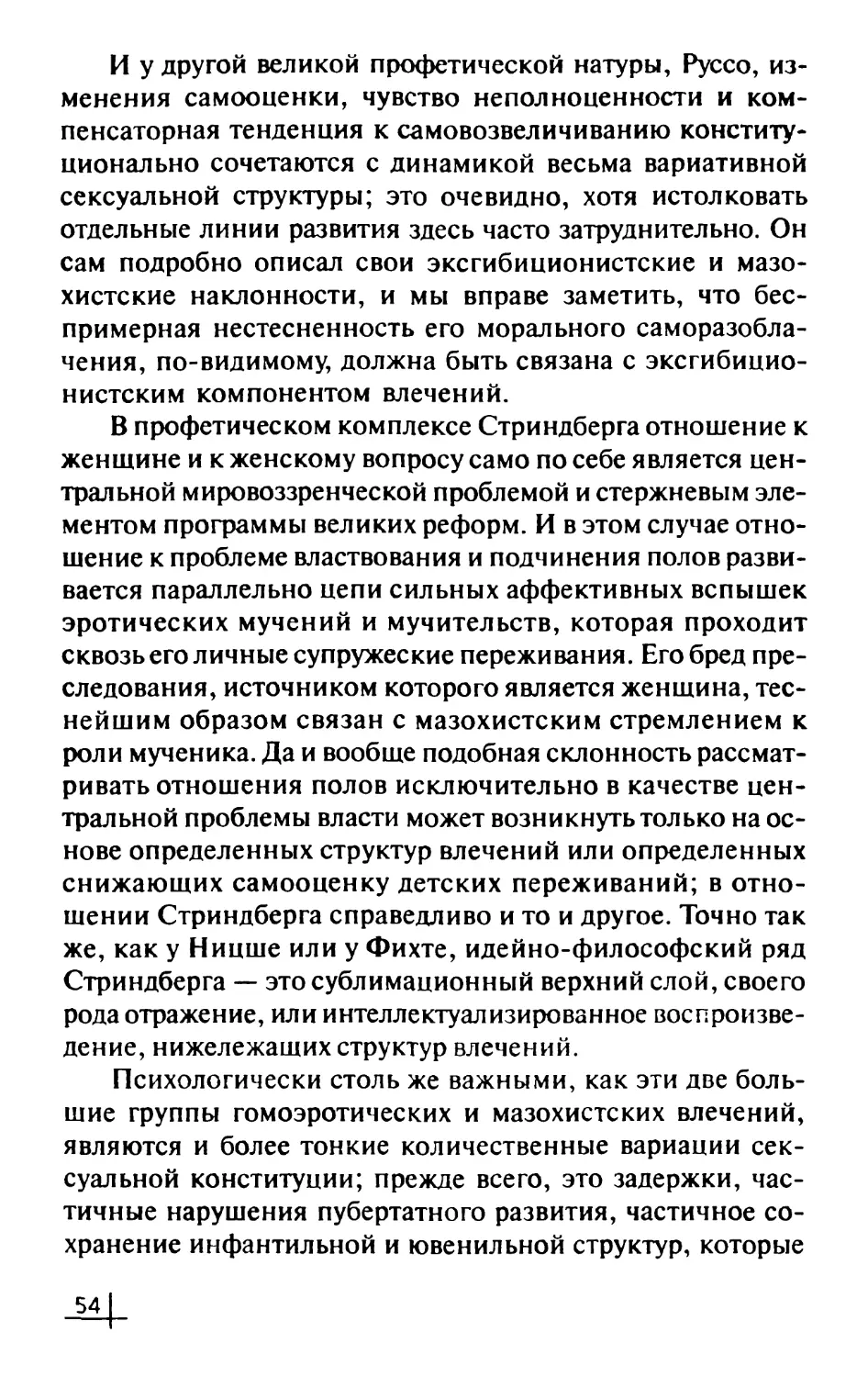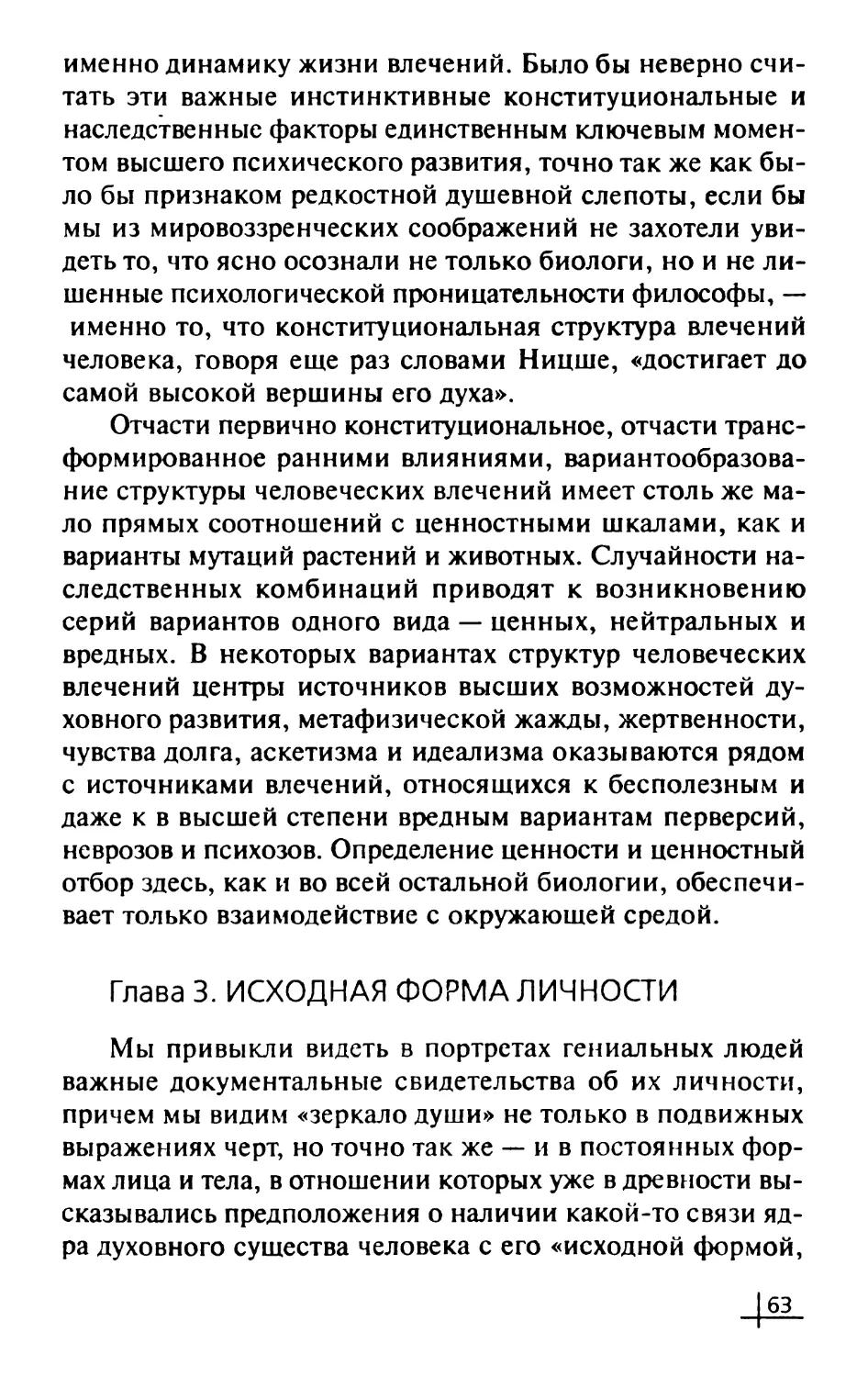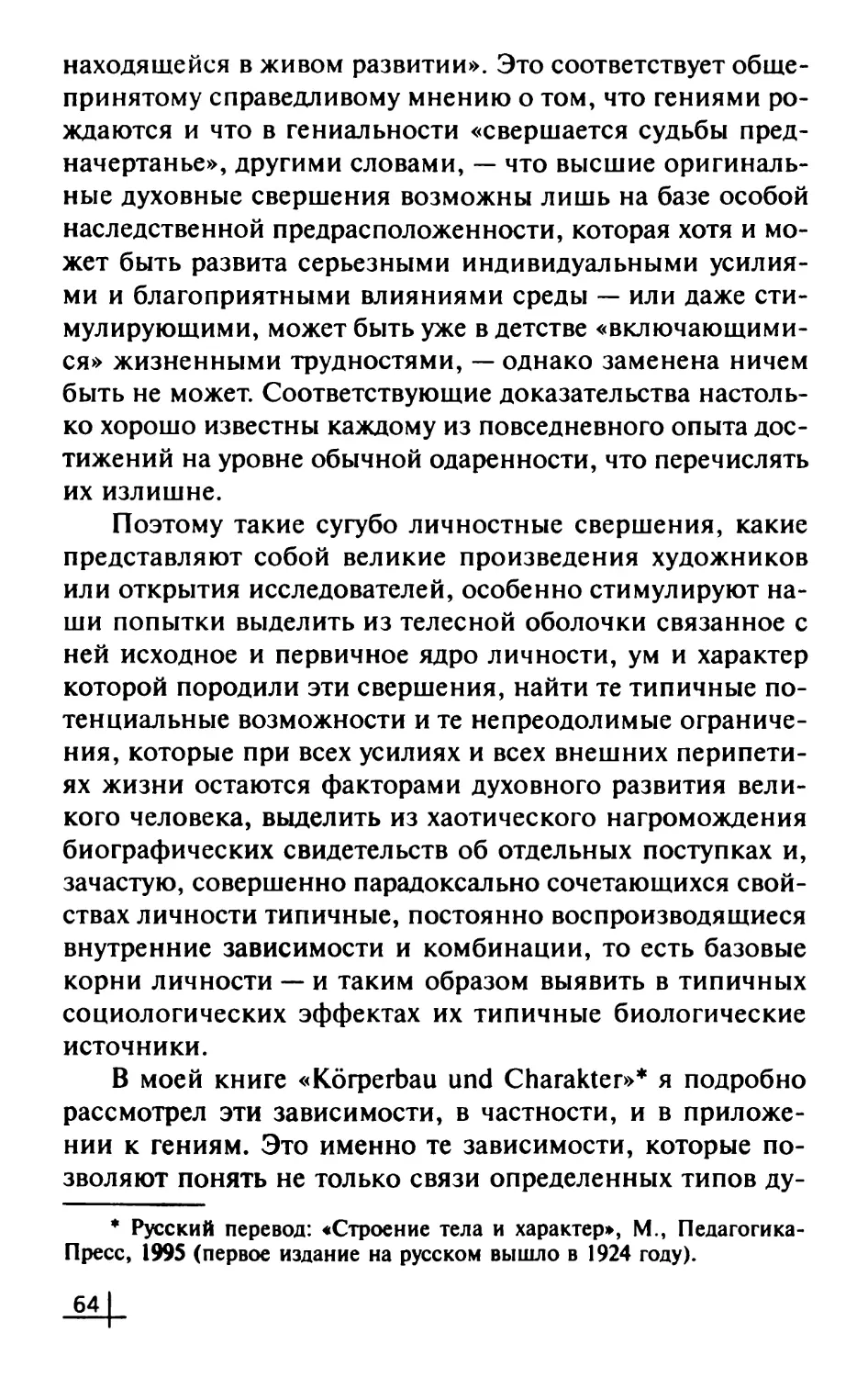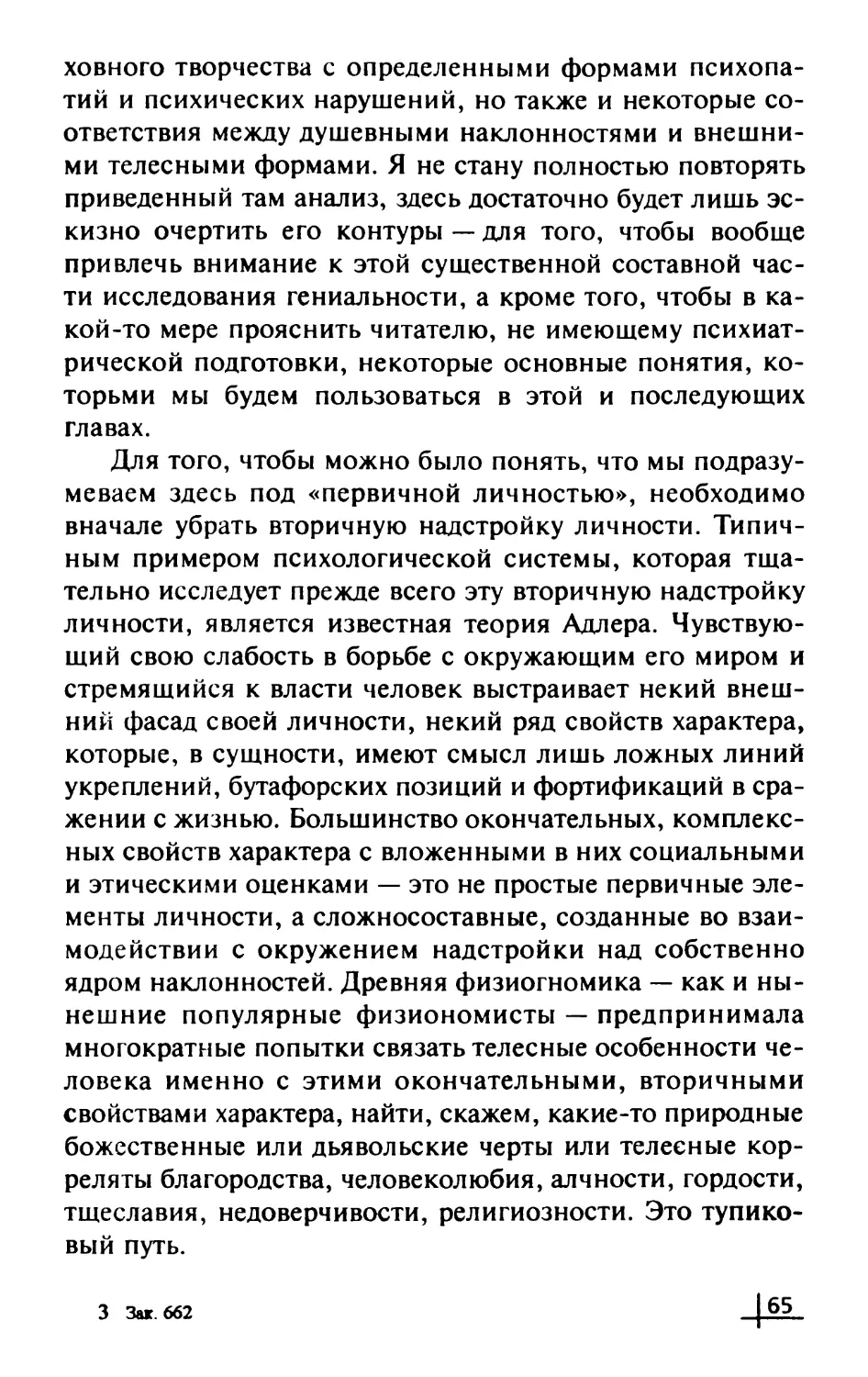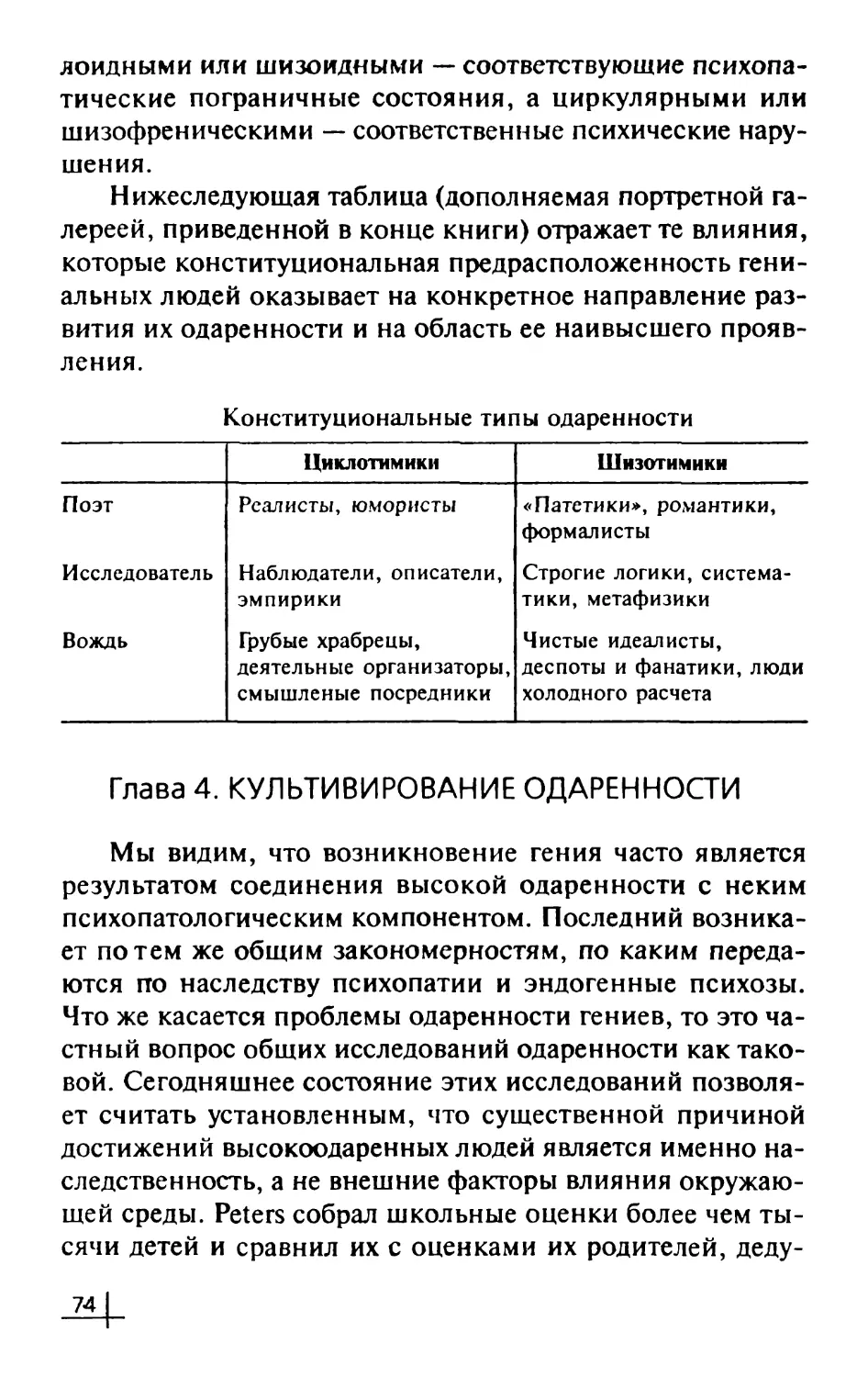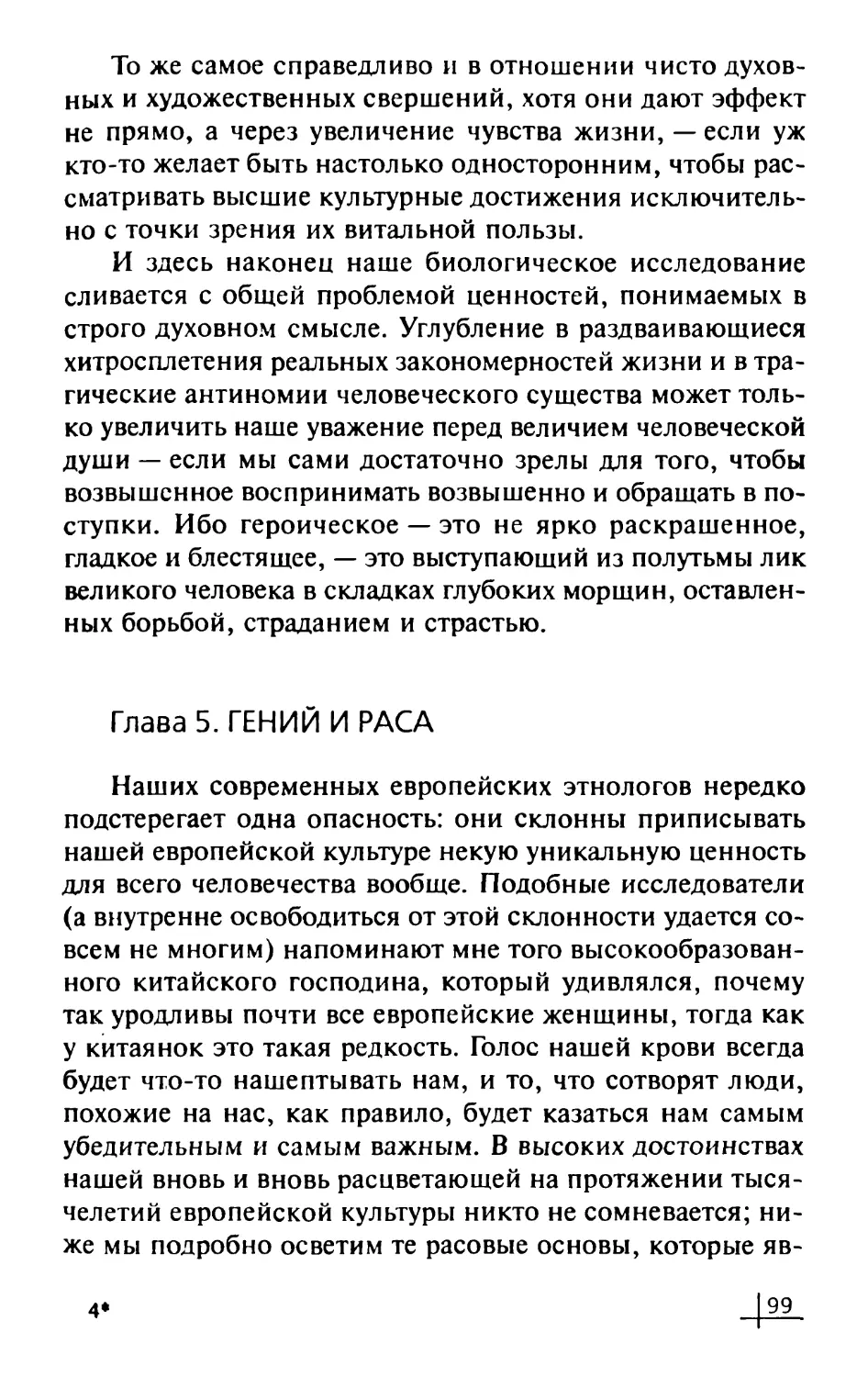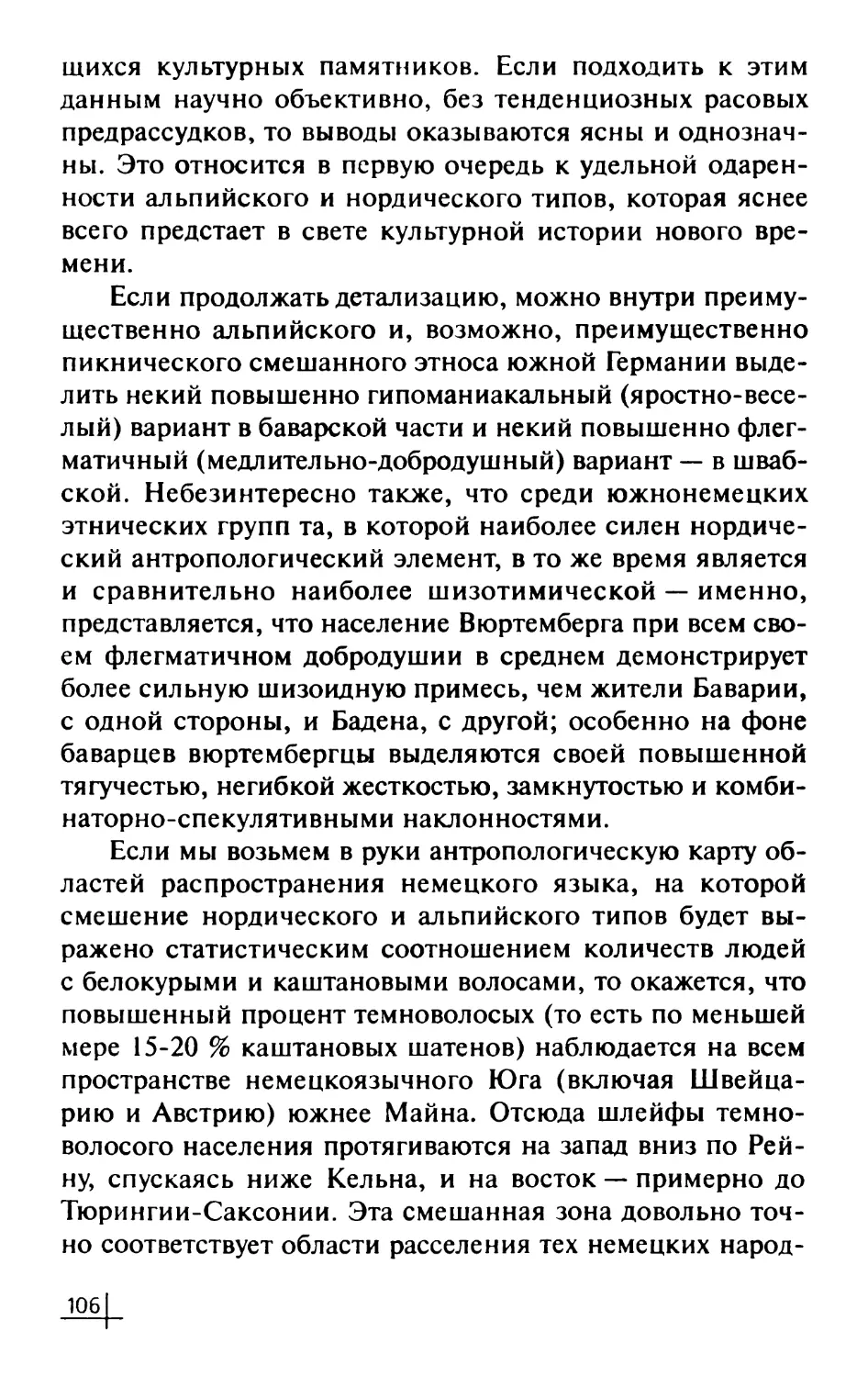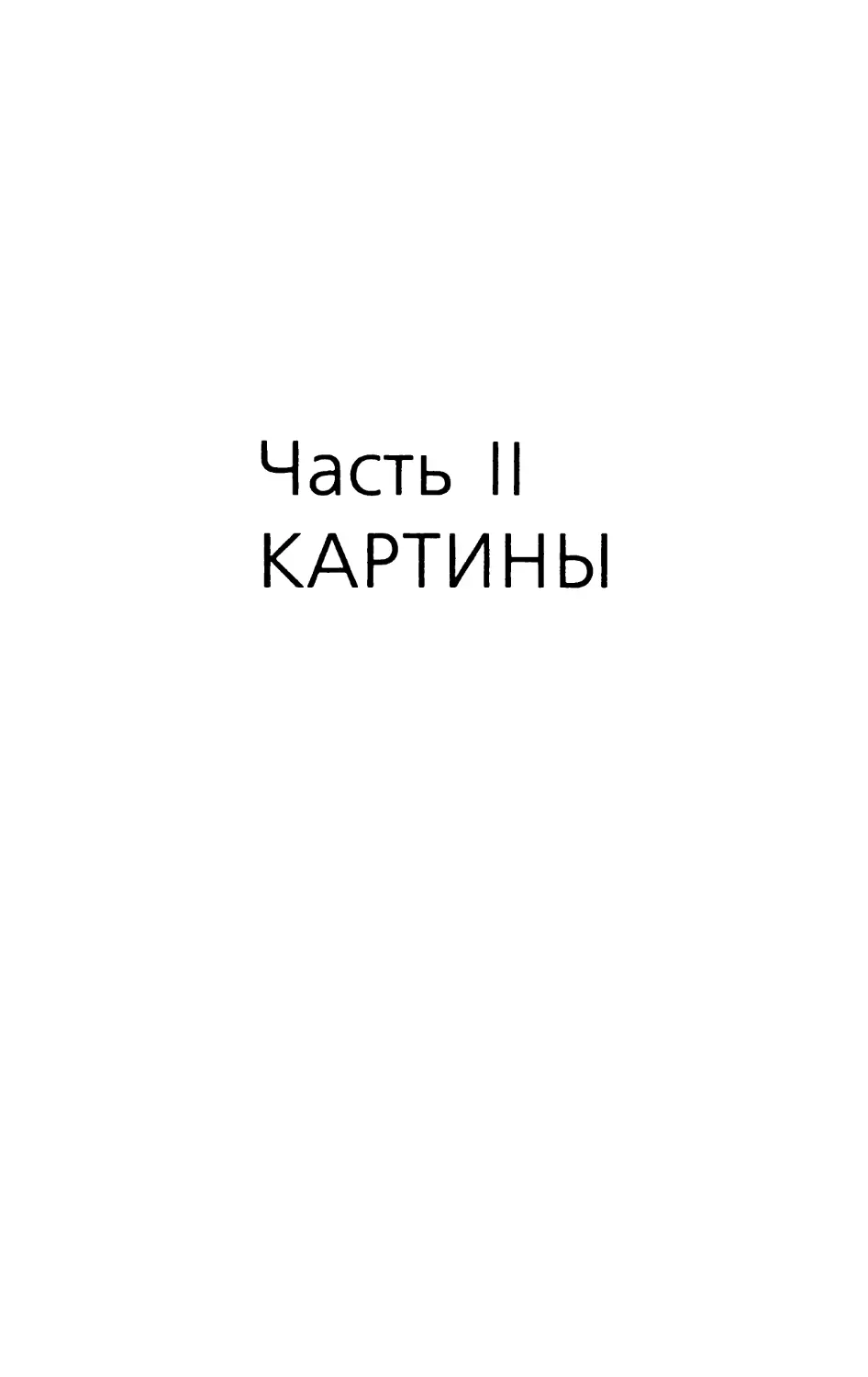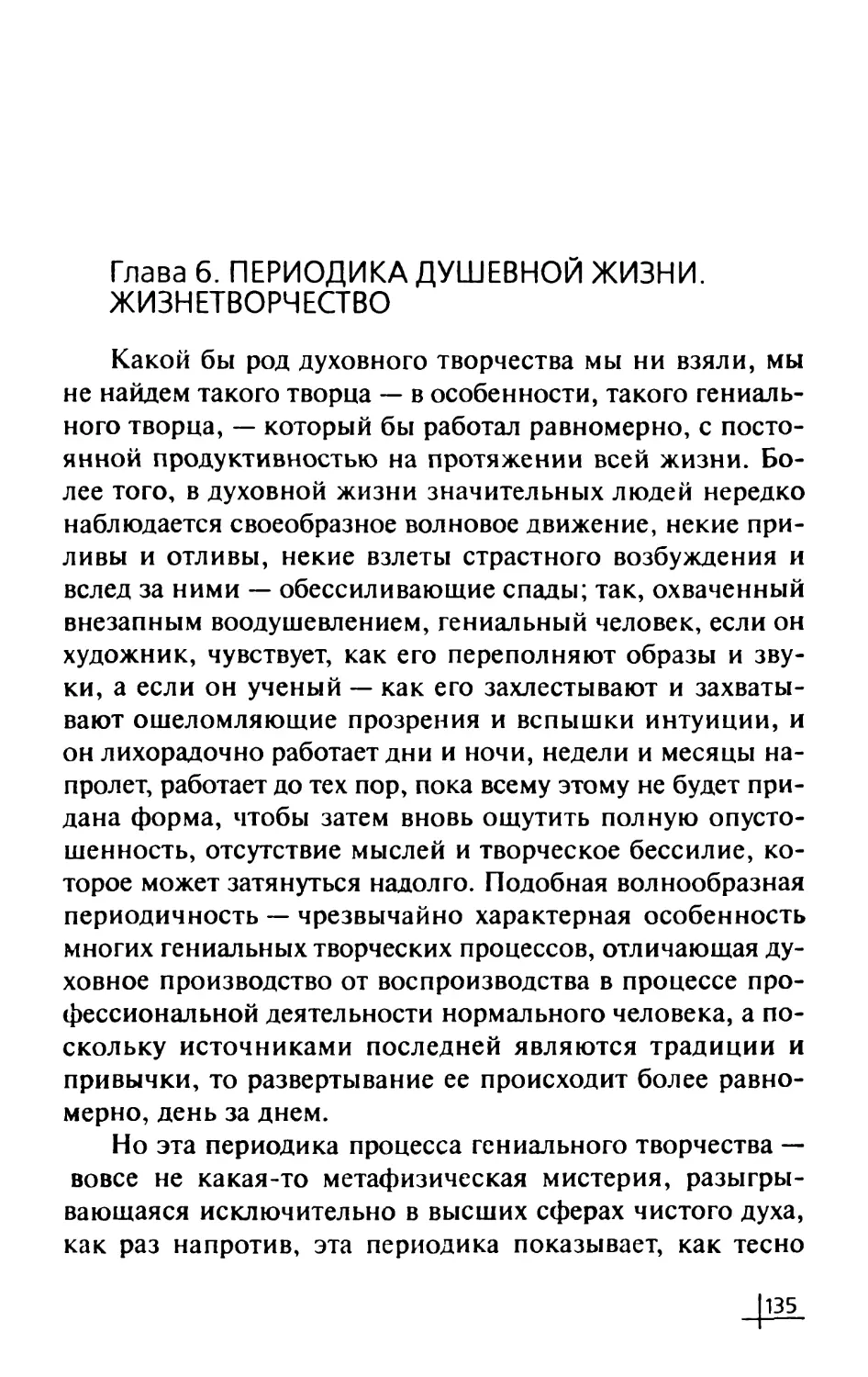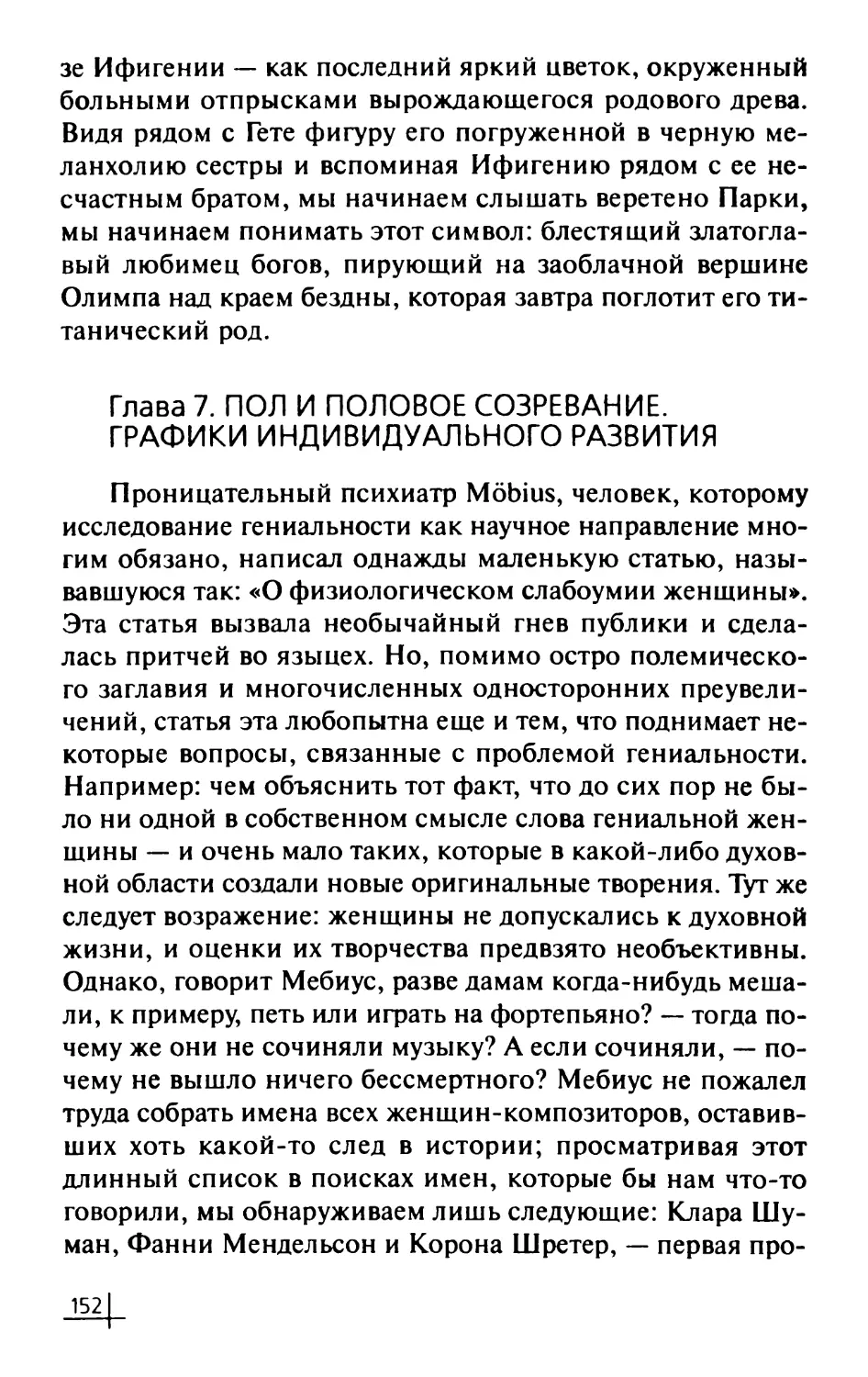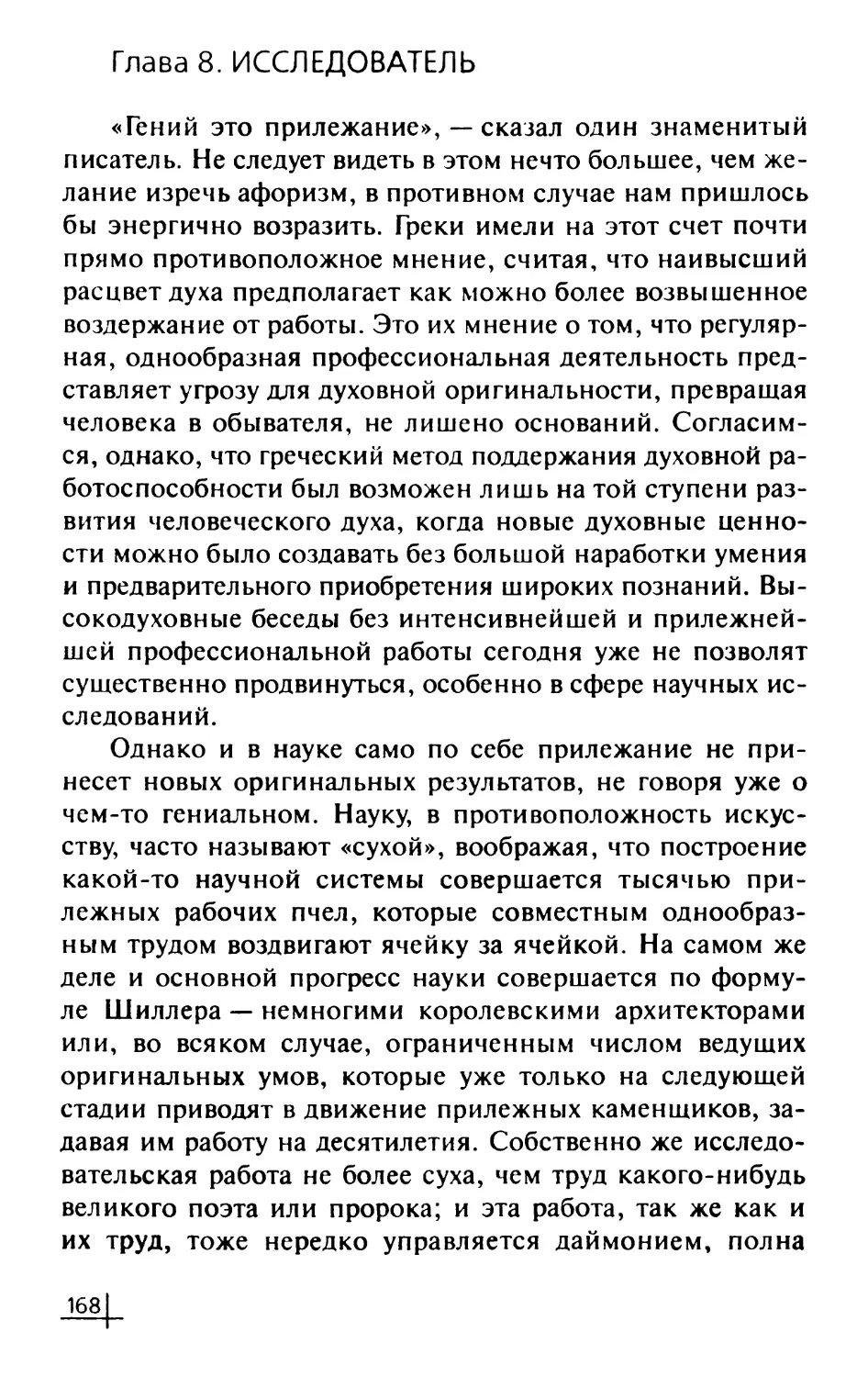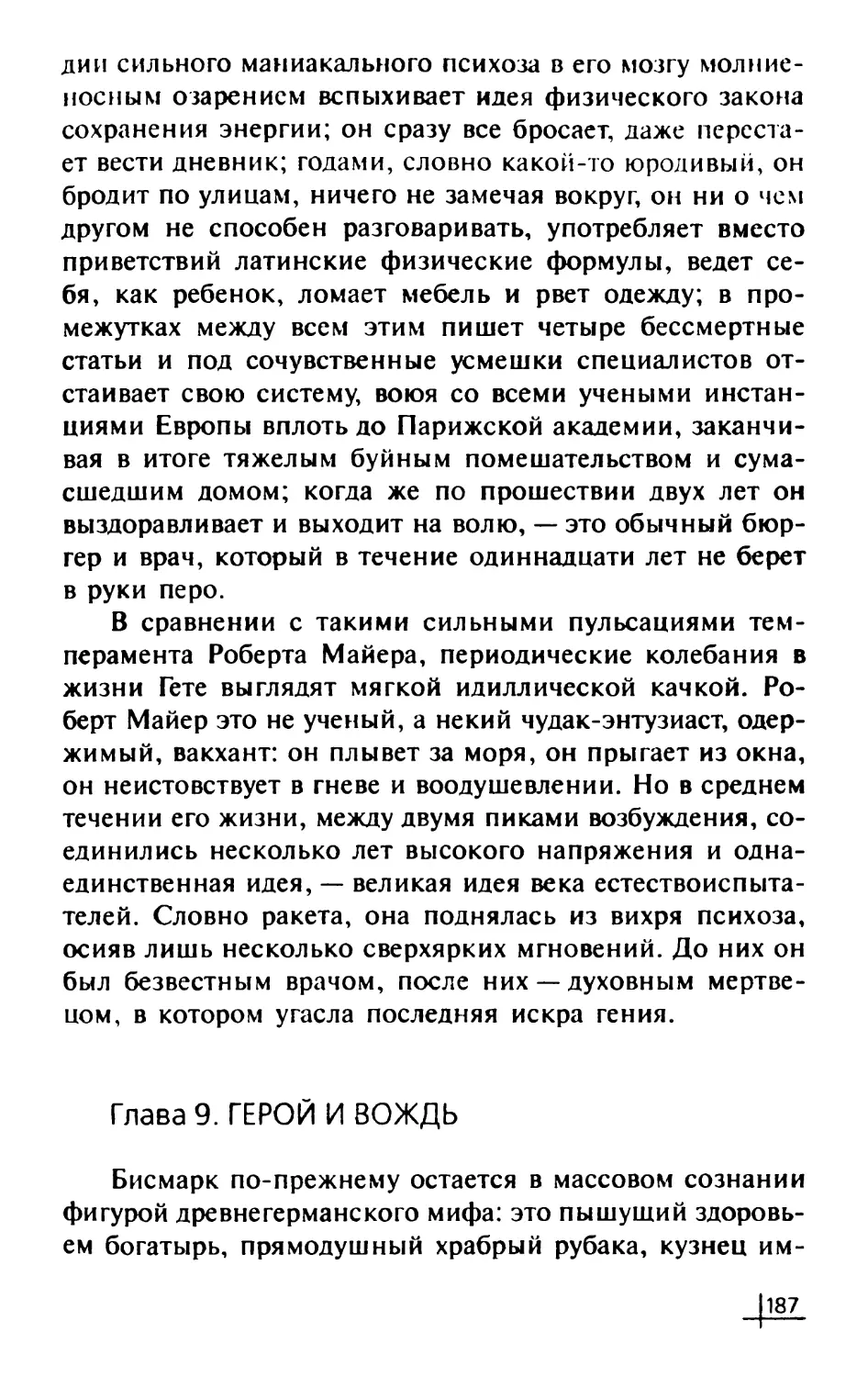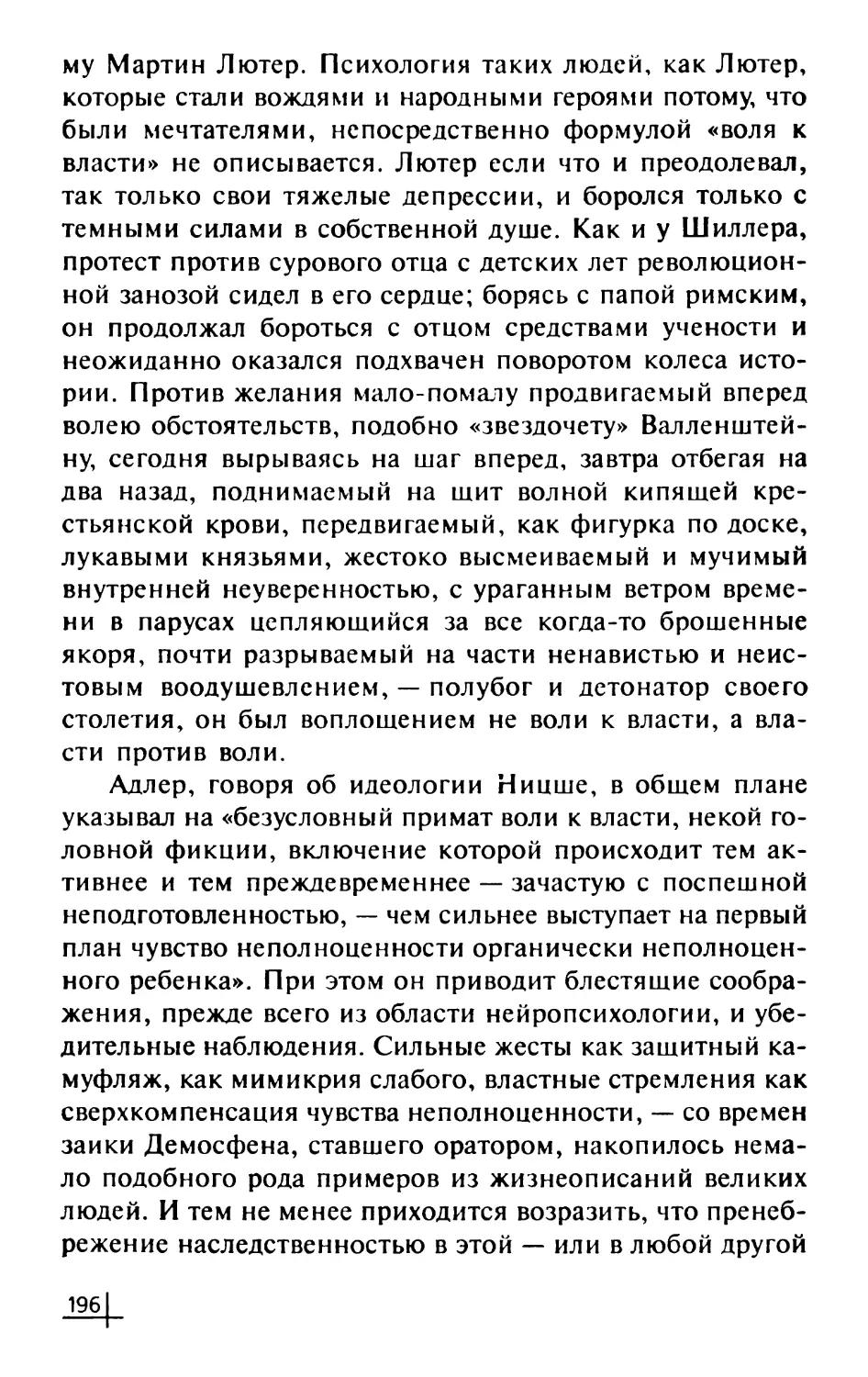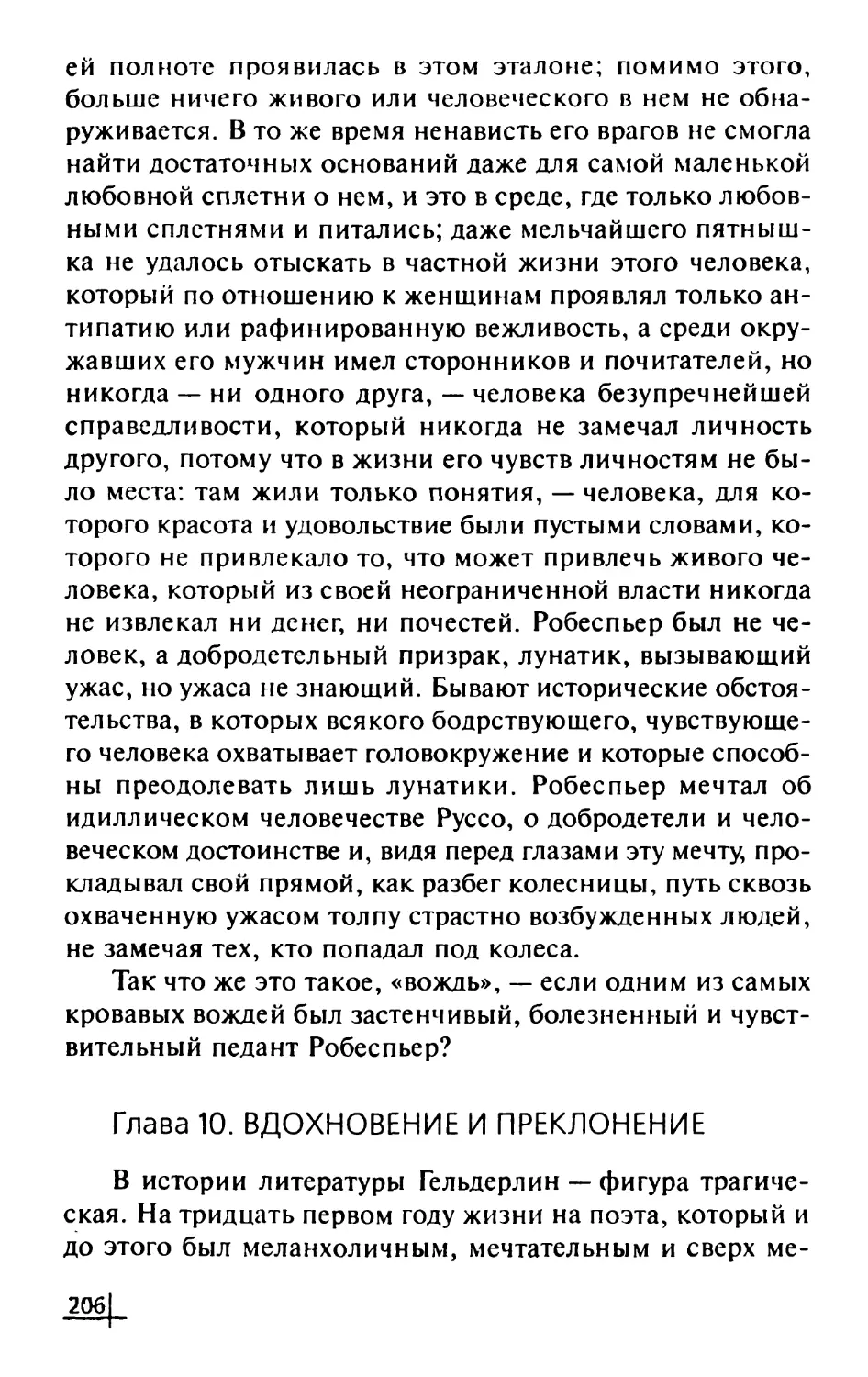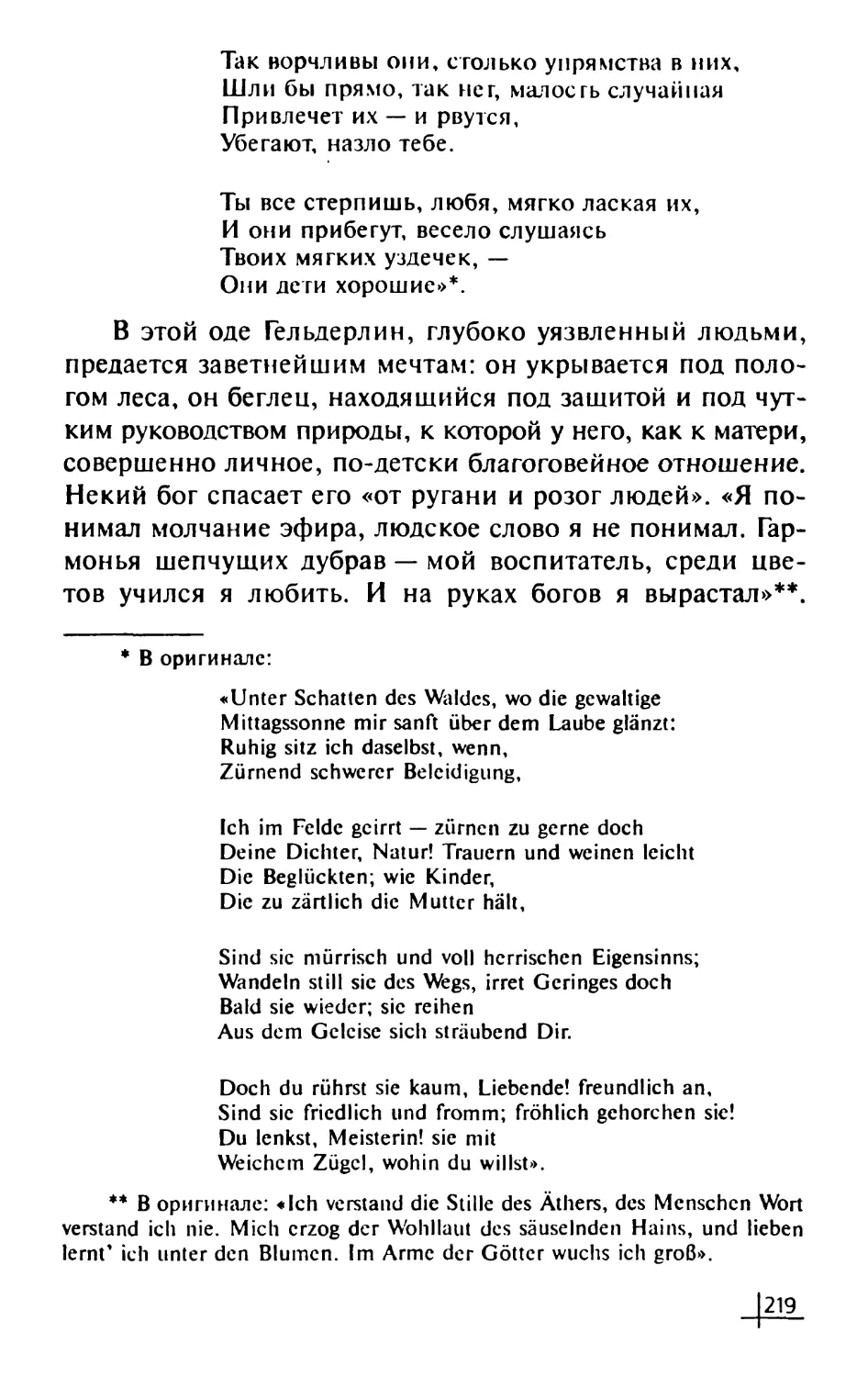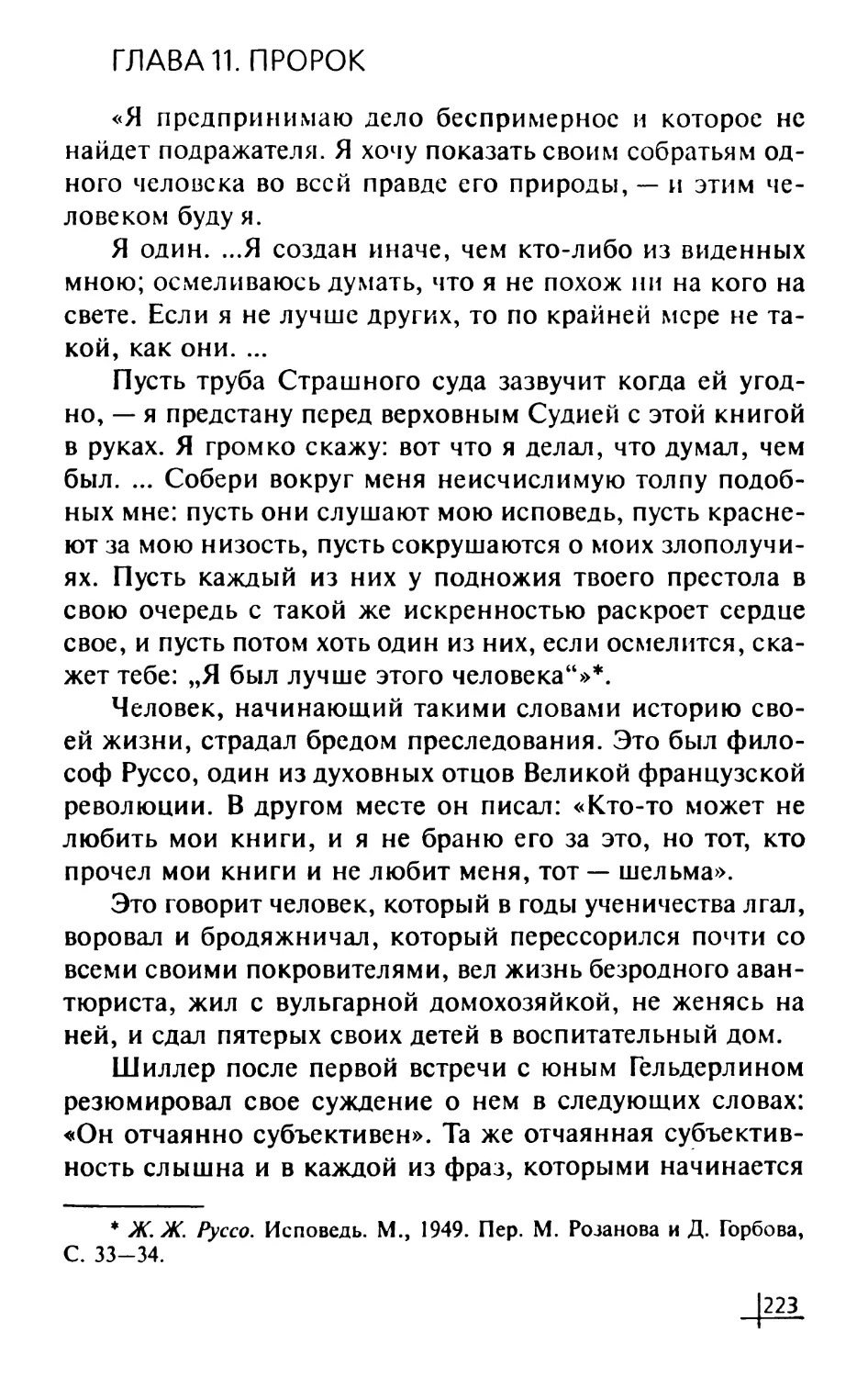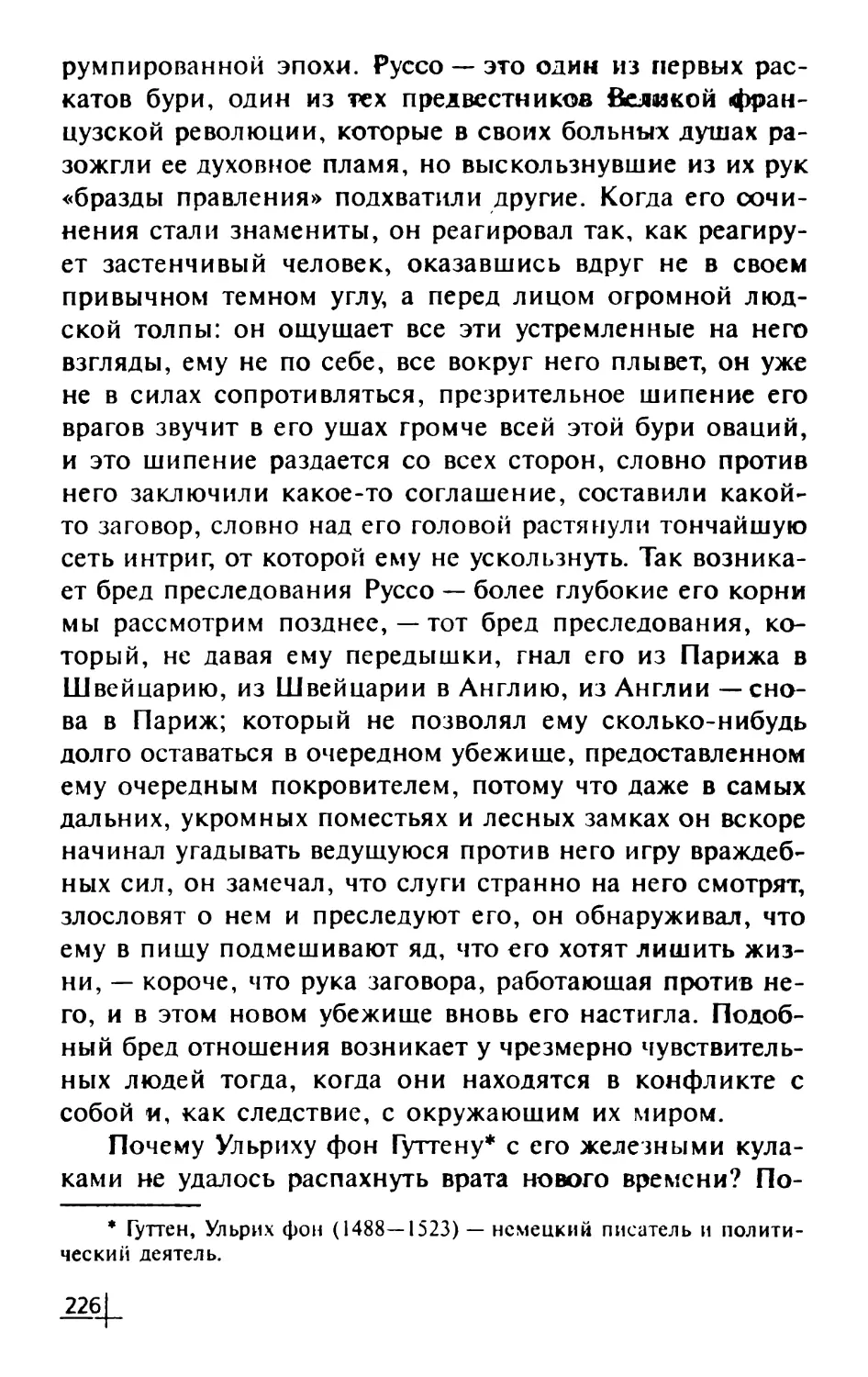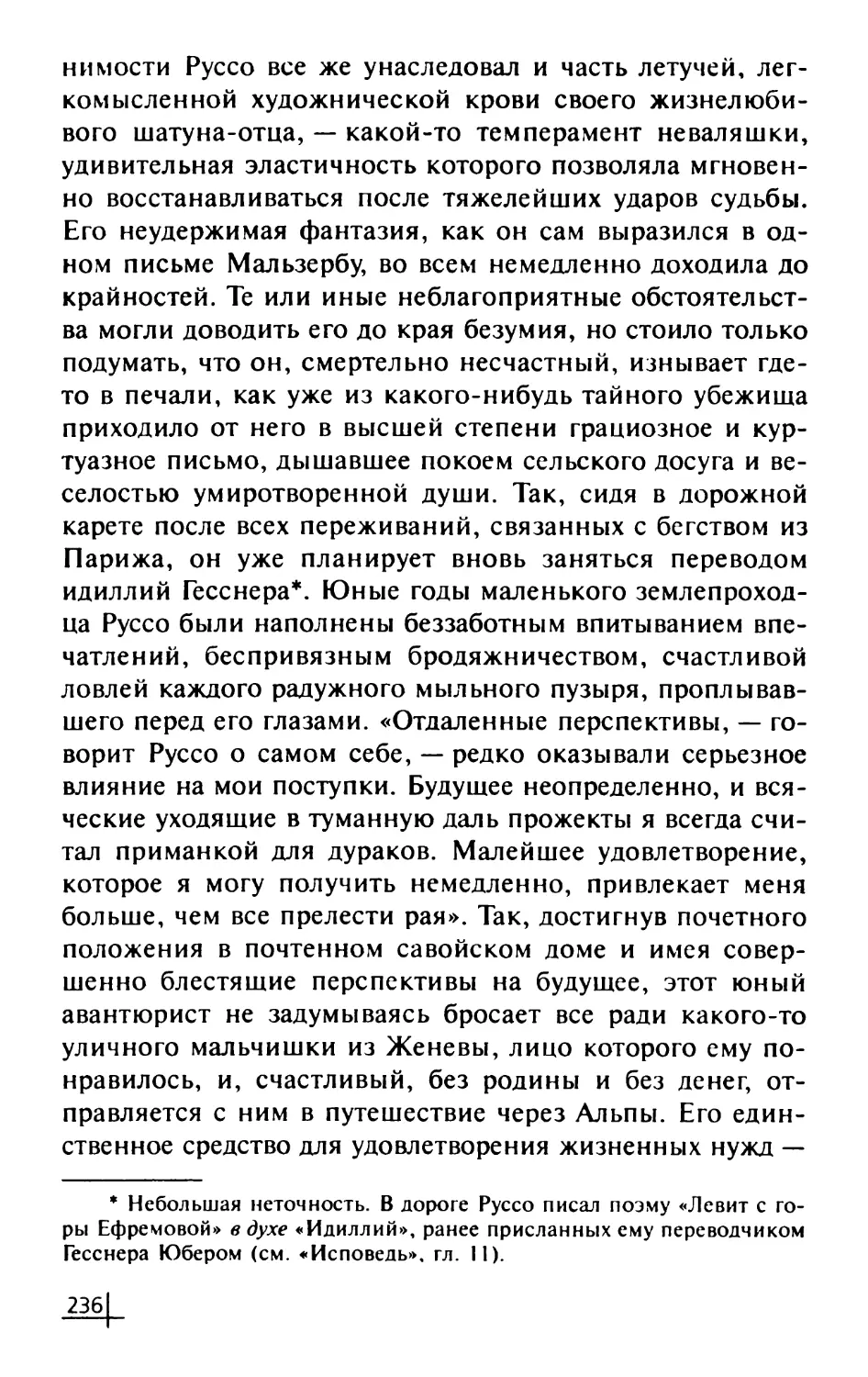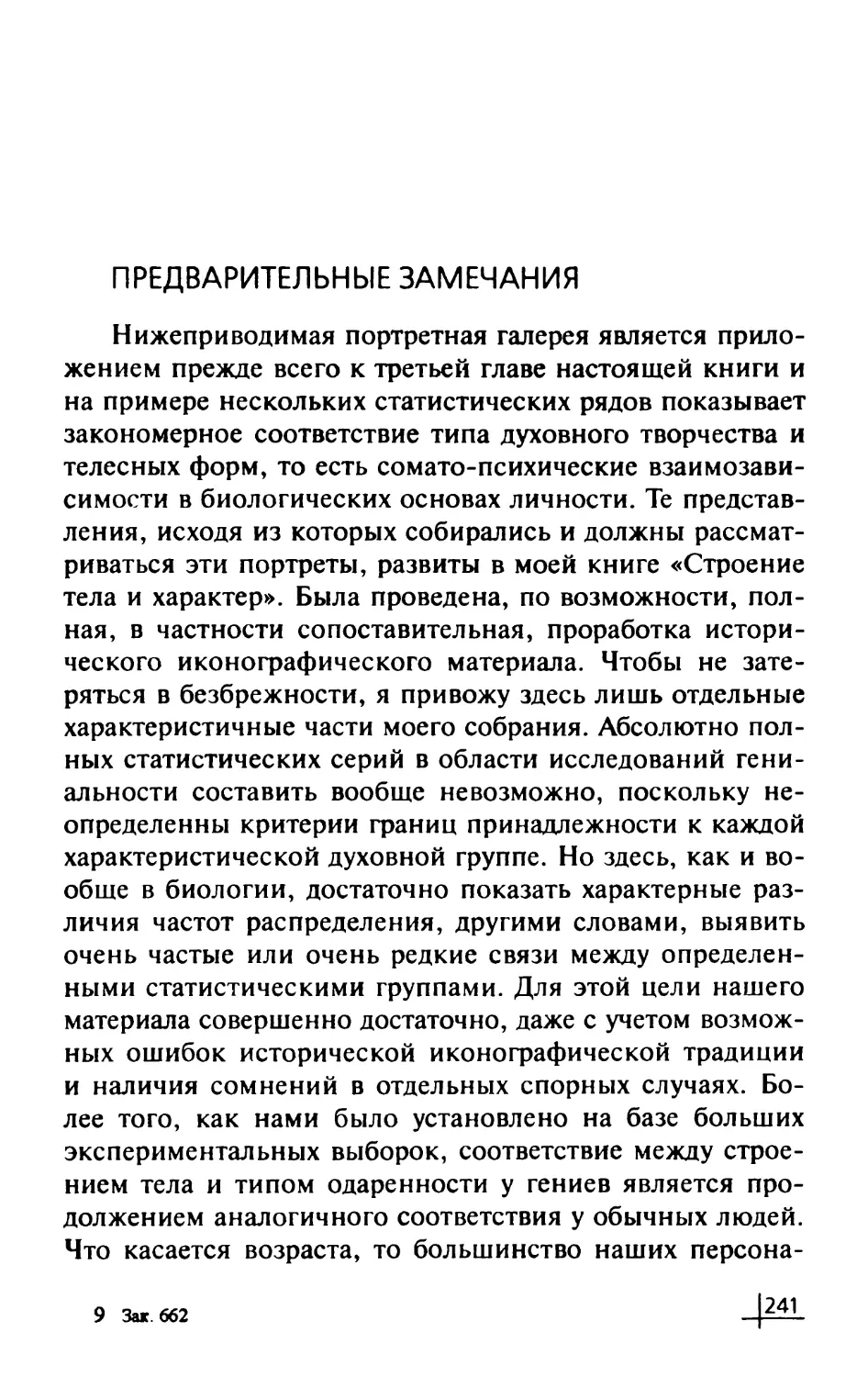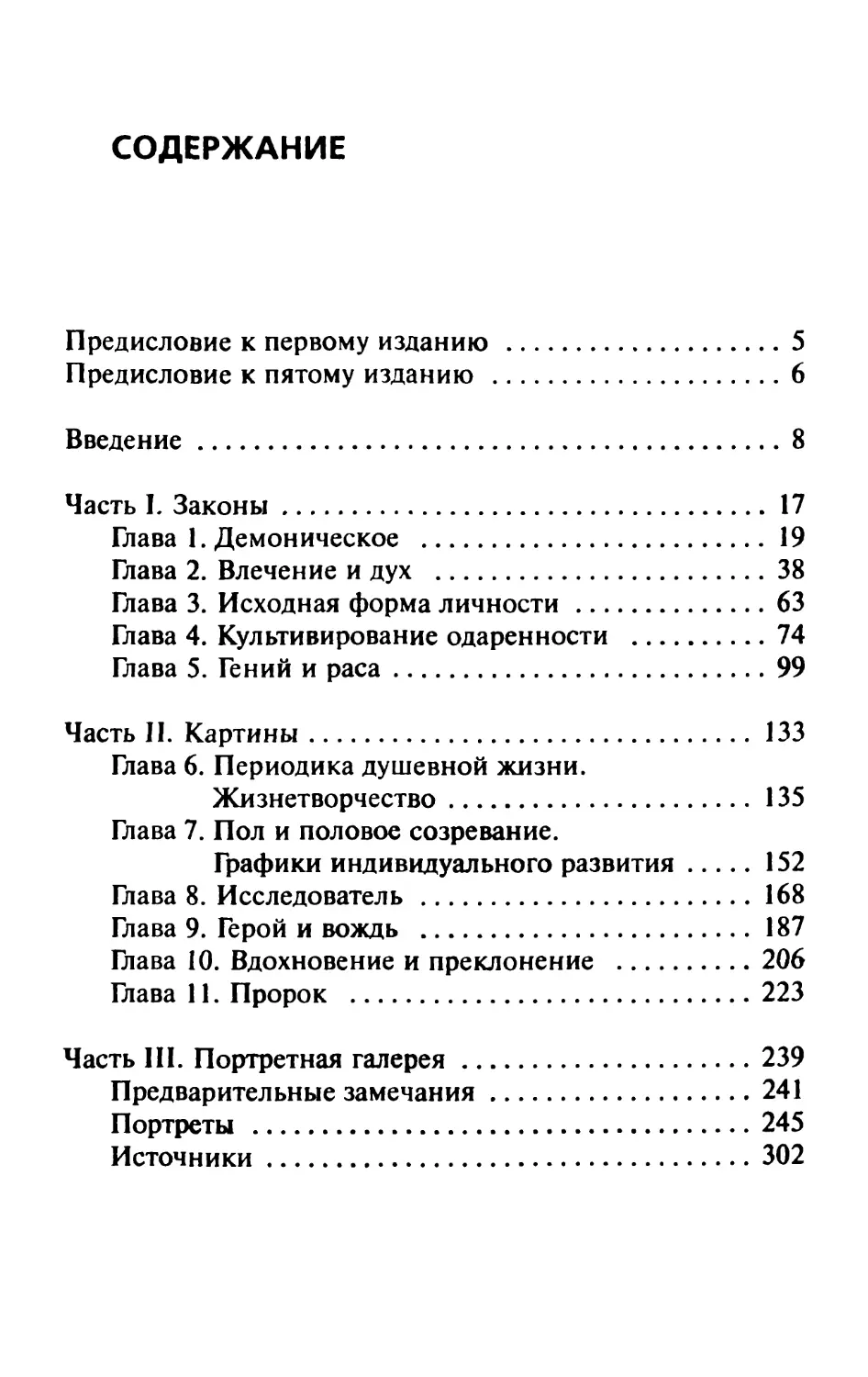Текст
1
БИБЛИОТЕКА ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Э. КРЕЧМЕР
Эрнст Кречмер (1888—1964) — выдающийся немецкий
психиатр, работы которого открыли новые пути не только в
медицине и психологии, но и в философской антропологии.
Мировую славу ем-у принесла работа «Строение тела и
характер», в которой впервые была установлена связь типов
телосложения с типами характера человека него
предрасположенностью к определенным психическим заболеваниям. Эта книга
открыла новую эру в исследовании проблемы взаимосвязи и
взаимообусловленности телесного и душевного, духовного и
физического. Книга стала классической (в 1921 г вышло ее первое
издание, а в 1955 — уже 24-е); большую известность получили него
работы последующих лет: «Медицинская психология» (1922), «Об
истерии» (1923) и др. Основополагающие идеи Кречмера получили
развитие и углубление в его книге «Гениальные люди» (1929), где
помимо психологических и конституциональных корреляций,
установлены вполне определенные этнографические и даже
географические зависимости психологической типологии,
предопределяющие во многом вероятность рождения незаурядной личности.
В 1913—1926 гг. Кречмер работал в психиатрической клинике
Тюбишенского университета. С 1926 г Кречмер возглавлял кафедру
психиатрии в Марбурге, с 1946 г. — в Тюбингене. До 1933 г. он
являлся президентом Германского медицинского общества
психотерапии.
«Предметом антропологического рассмотрения... может быть
только человек как целое, во всей полноте его отношений: без
биологии он предстал бь\ перед нами обескровленным, без тонкого
психологического вчувствования — обездушенным».
Э. Кречмер
ГУМАНИТАРНОЕ АГЕНТСТВО
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»
Э. КРЕЧМЕР
ГЕНИАЛЬНЫЕ
ЛЮДИ
ЭРНСТ КРЕЧМЕР
ГЕНИАЛЬНЫЕ
ЛЮДИ
Эта знаменитая книга
Кречмера о предпосылках
возникновения гениальных
одаренностей и о нелегком
жизненном пути
знаменитых людей нисколько не
утратила своей
увлекательности и свежести. Не только
непреходящая актуальность
отдельных высказываний
(например: «Психопаты
всегда — среди нас. Но в
прохладные времена мы
отправляем на экспертизу их, а в
горячие они управляют
нами»), ной в высшей степени
художественное
изображение душевной организации
гениальных людей, и
прояснение наших представлений
о гении как о воплощенном
идеале человеческого
здоровья, и многое другое делает
эту книгу необходимой
каждому врачу — да и просто
каждому образованному
человеку.
Венский клинический
еженедельник
Эта книга целиком
посвящена личности гения,
рассмотрению законов его
биологического возникновения,
особенностей его
внутреннего психологического
устройства и пружин его механизма.
Э. Кречмер
Эрнст
КРЕЧМЕР
ГЕНИАЛЬНЫЕ
ЛЮДИ
ш
ГУМАНИТАРНОЕ АГЕНТСТВО
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1999
Перевод с немецкого Г. Ноткина
В оформлении суперобложки использована
раскрашенная гравюра У. Блейка «Ньютон» (1795)
© Г. Б. Ноткин, перевод, 1999
© Гуманитарное агентство
«Академический проект», 1999
© Издательская группа
«Прогресс», серийное
ISBN 5-7331-0165-2 оформление, 1999
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Основные части этой книги были написаны в 1919 году и до
сих пор публиковались лишь в форме отдельных докладов и
лекций, адресованных преимущественно профессиональной
аудитории. Последние годы значительно углубили и расширили
наши знания в рассматриваемой области.
Излагаемые ниже воззрения базируются на проработке
чрезвычайно обширного массива первоисточников, относящихся к
художественному творчеству, и прежде всего — писем,
дневников, воспоминаний, непосредственных свидетельств
современников. Наши цели не предполагают (а возможности не
допускают) какой-либо историко-филологической обработки указанного
материала со специальным критическим разбором содержания
источников.
Само собой разумеется, в работе широко использованы
существующая на сегодняшний день патографическая литература
и важнейшие специальные исследования по проблеме
гениальности. Соответствующая развернутая библиография содержится
в работе Lange-Eichbaum W. Genie, Irrsinn und Ruhm. München,
1928. Исходно лекционный характер настоящей работы
определяет ту ее особенность, что количество приводимых ссылок
весьма ограниченно. Знакомый с соответствующей литературой
читатель без труда установит, что в начальных главах данной
книги использованы известные патографические и биографические
работы Möbius'a (о Гете), Jentsch'a (о Роберте Майере) и Sadgera
(о К. Ф. Мейере); некоторые описания, содержащиеся в этих
трех патографиях, цитируются дословно.
Я весьма благодарен моему многолетнему и бесценному
сотруднику г-ну Klett'y из Тюбингена за помощь в составлении
портретной галереи.
Марбург, май 1929 года
Й
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ
Текст настоящего издания существенно переработан и
дополнен. Мы и на этот раз постарались ввести в работу новые
ценные биографические и литературные материалы. Автор хотел бы
выразить особую благодарность многочисленным друзьям этой
книги, чьи сообщения позволили ему ознакомиться с
материалами сравнительно труднодоступных или новонайденных в
последнее время источников. Перечислить поименно их всех не
представляется возможным, но, в частности, мы благодарны
исследователю творчества Лейбница фон Энгельгардту за
возможность рассмотреть интересный
конституционально-психологический самоанализ Лейбница. Далее, впервые включены в книгу
сведения об изобретателе Дизеле и о своеобразном математике
Дезаргу. Характеристические отрывки из переписки Вольтера и
Руссо обрадуют читателя, интересующегося вопросами истории
духа, поскольку эти отрывки ярко высвечивают феномен Руссо
на фоне тогдашней духовной элиты Франции, выражавшей
социальную атмосферу своего времени.
Но с особой тщательностью мы попытались рассмотреть
такое интересное и сложное духовное явление, как Райнер Мария
Рильке, — в стремлении понять и обрисовать хотя бы некоторые
существенные стороны этого явления. Сквозь феномен некоего
личностно пережитого, из собственных внутренних предпосылок
взращенного пантеизма здесь открывается широкая
перспектива, выходящая за рамки индивидуального; в другом месте этой
книги рассматривается любовь как «прирост одиночества»
(истинно рильковская формулировка). Многочисленные
подробности, способствующие более глубокому пониманию Рильке как в
целом, так и в отношении отдельных фактов его жизни и
творчества, содержатся в краткой биографии Рильке моей ученицы
Илзе Криппендорф-Клагес (Z. f. Psychotherapie, 2, 1952).
6 1
Говоря о проблеме в целом, мы и сегодня имеем все
основания повторить: с помощью ретуши нельзя создать ни
впечатляющее полотно, ни серьезное научное исследование. Это
справедливо для описания законов наследственности и обусловленности,
заданной окружающей средой, это справедливо и в тех случаях,
когда возникают психические заболевания; последние всегда
тесно связаны с самыми глубокими корнями целостной личности,
и если не исследовать эти корни или попытаться описать их
упрощенно, без глубочайшего знания психологических феноменов,
то неизбежно возникнет столь же искаженная, сколь и
банальная картина, которая ни каузально, ни феноменологически не
будет удовлетворительна. «Заменить» чем-либо
естественнонаучные результаты можно не более, чем заменить результаты
таблицы умножения. Предметом антропологического
рассмотрения — все равно, употребляем ли мы эти слова в философском
или естественнонаучном смысле — может быть и должен быть
только антропос как целое, во всей полноте его отношений: без
биологии он предстал бы перед нами обескровленным, без
тонкого психологического вчувствования — обездушенным.
Впрочем, мы, как известно, считаем правильным не акцентировать
внимание на болезненных процессах как таковых, но
рассматривать их как передовые посты человеческой экзистенции,
включенные в общий состав того, что может быть пережито
человеком. То же самое справедливо и по отношению ко всем
нормальным биологическим процессам, в ходе которых вырастают
великие люди, и к общим жизненным закономерностям; к
последним относятся и те определяемые социальным окружением
зависимости, которые в рамках данной работы могли быть нами
лишь контурно обозначены.
Наша задача неизменна: исследовать посредством
вчувствования тончайшие разветвления духовных феноменов,
рассматривая их на глубоком фоне естественной жизни и тех великих
ее законов, которые определяют труды, и дни, и бытие великих
людей.
Тюбинген, 20 января 1958 года
ВВЕДЕНИЕ
Эта книга целиком посвящена личности гения,
рассмотрению законов его биологического возникновения,
особенностей его внутреннего психологического
устройства и пружин его механизма. Причем нас будут
интересовать как те особенности гения, которые отличают его,
выделяя из обшей массы людей, так и те, которые делают
его особенно типичным представителем общечеловеческих
форм личности, выражающим общечеловеческие
устремления и отражающим в своем частном случае общие
культурно-исторические течения. Социологический аспект
проблемы гения, эволюцию самого понятия,
возникновение славы и культа героя — вообще все то, что относится
к теории ценностей, мы рассматривать не будем, этот круг
вопросов лишь косвенно затрагивается нами в отдельных
случаях. Социология гения фундаментально и
исчерпывающе рассмотрена в упоминавшейся работе Lange-
Eichbaum'a.
Здесь мы должны еще ненадолго задержаться на том,
какой смысл мы будем вкладывать в понятие «гений».
Lange-Eichbaum, основательно рассмотрев сложную
эволюцию этого понятия и его языковую многозначность, в
конце концов остановился на чисто социологическом
определении гения как «подателя ценностей». Поскольку,
при всей путанице существующих определений, гениями
в практическом словоупотреблении все называют
примерно одних и тех же людей — и лишь в отношении
немногих знаменитостей мнения расходятся, то здесь этот
вопрос не должен нас слишком беспокоить. Отбор персон
для нашего исследования мы проводили вначале по
внешнему признаку известности, связанной с такими явными
личными достижениями, как создание литературных или
8 I
научных трудов, произведений искусства, изобретений,
конкретных исторических документов и т. д. В отличие от
такой известности, те легендарные и
архаически-мифологические формы известности, которые преобладают в
средневековой традиции почитания святых и героев, маю
пригодны для основательных исследований, связанных с
понятием гения. В большинстве случаев эта традиция не
доносит до нас ни каких-то реальных достижений, ни
индивидуальных черт, она вообще в принципе интересуется
не самой реальной личностью, но лишь сильным внешним
эффектом, а за этим прямо проступает благоговение
перед сверхъестественным, прикрытым символическим
именем или типом, причем благоговение тем выше, чем
менее реальной кажется возможность вывести указанной
эффект из психологии соответствующей личности. Напротив,
современное истолкование понятия «гений»
принципиально индивидуалистично, несмотря на то что и по сей день
наблюдаются сильные атавистические откаты к
архаическому культу святых. Понятие гения — это в высшей
степени типичный продукт современного индивидуализма:
личность гения, ее своеобразие и ее ценность находятся в
центре всеобщего внимания. Однако и все многообразие
явлений новой культурной истории мы тоже ограничим,
исключив из нашего рассмотрения, во-первых, значимые
только для текущего момента «исторические» достижения
всевозможных виртуозов, актеров, хроникеров,
спортсменов — хотя и в этой сфере имеются многочисленные
психологические параллели с нашей областью — и, во-вторых,
все те формы проявлений высокой одаренности, которые
по существу исчерпываются высококвалифицированным
исполнением традиционных профессиональных
обязанностей, как это имеет место в большинстве случаев, когда
история сохраняет имена чиновников, дипломатов и
военачальников.
Особые сложности представляет отбор гениев из
числа героев мировой истории, ибо мировая история,
вообще говоря, всегда творится всеми ее участниками вместе,
9
целыми народами, а также многообразием действий и
противодействий влиятельных фигур. Пробным камнем для
определения внутреннего значения какой-либо
выдающейся личности в этой области служит уже не осязаемое
собственноручное авторское произведение, а лишь
внешний успех, и часто бывает трудно определить, насколько
та или иная знаменитость обязана достигнутым успехом
своим собственным исключительным духовным
свершениям и насколько — силе кратковременных (или длительных)
стихийных массовых движений или нерасторопности
своих противников. Таким образом, из этой группы мы
можем привлечь к рассмотрению только тех людей,
своеобразие которых было резко выражено и эффективно
проявлено, в особенности тех немногих, чья личность в
значительной мере наложила свой отпечаток на
современную ей эпоху, став исторически вообще от нее
неотделимой,—таких, например, как Цезарь, Лютер, Наполеон,
Фридрих Великий, Бисмарк. В большинстве случаев эти
люди были настолько разносторонни, что они — и это
весьма характерно — и в области литературы оставили
значительные труды и документы, стиль и содержание
которых явно и надежно очерчивают масштаб личности
автора.
Однако «персональное» ядро всякого исследования
гениальности всегда составляют художники и
ученые-изобретатели, которые, собственно, и послужили исходным
материалом для формирования понятия гения. Известное
предпочтение, отдаваемое поэтам и вообще литературно
продуктивным людям, объясняется не их духовным
превосходством над другими группами творцов, а очевидным
специфическим богатством сохраняющихся во времени
оригинальных психологических документов, дающих нам
в руки прямые и косвенные самоизображения поэта, у
которого манера письма намного более субъективно связана
с личностью автора, чем у ученого, и намного легче
трактуема, чем выразительные средства художника или
музыканта.
Ю|
В остальном мы в нашем исследовании отнюдь не
будем пугливо держаться за какое-то узкое толкование
понятия гения, но время от времени, там, где того
потребуют соображения целесообразности, будем подвергать
рассмотрению личности пусть и не высокоодаренные, но
оригинальные, и, с другой стороны, личности богато
одаренные, но не особенно оригинальные.
Возникновение славы всякого гения, помимо
прочего, сильно зависит и от социальной конъюнктуры. Если к
тому же принять во внимание такую особенность славы,
как ее относительная долговечность (не в
мифологической, а в критической, исторической атмосфере), то
окажется, что случаи чистого духовно-конъюнктурного
успеха и простого ошеломляющего эффекта, вызванногр
особой психопатической неординарностью, в значительной
мере исключены. Если какое-то личностное произведение
преодолевает сиюминутные настроения времени и, по
закону Гегеля, пройдя огненное испытание следующим
антитезисом, переходит в последующий культурный синтез,
то основа воздействия такого произведения лежит, как
правило, в сквозных, глубинных закономерностях
человеческой психологии, выяснение которых представляет
собой особую задачу. Во всяком случае, типичные модные
идолы, являющиеся всего лишь фаворитами тех или иных
групп и удачливыми пловцами в житейском море, как
правило, очень быстро исчезают из позднейших серьезных
историографии науки и искусства — или упоминаются лишь
в качестве курьезных проявлений стиля эпохи.
Нельзя, однако, с той же уверенностью утверждать
обратное: нельзя считать, что неблагоприятное отношение
современников не способно полностью предотвратить
развертывание во времени действительно гениальных
свершений.
С горечью человека, лично пережившего подобное,
говорит об этом Рудольф Дизель, знаменитый,
впавший позднее в депрессию изобретатель дизельного
двигателя:
pi
«И настоящая одаренность тоже нуждается в
поддержке. Самая лживая из всех поговорок — это поговорка про
гения, который „пробьется сам". Из 100 гениев 99
сходят в могилу неузнанными, а потому приходится пройти
через неимоверные трудности, чтобы добиться признания.
Но этот последний факт немедленно обобщается, и
делается ложный вывод, что гениальная одаренность
всегда соединена со столь же большим даром преодоления
внешних трудностей, тогда как между гением и
жизнестойкостью нет ни малейшей связи. Априори
значительно вероятнее предположение, что выдающееся развитие
гения в направлении его гениальной одаренности
оставляет уже немного пространства для всех тех искусств,
которые нужны для успешной борьбы за удовлетворение
внешних жизненных потребностей. Логичным был бы
такой вывод: гению, чтобы пробиться, чтобы выжить в
жизненной борьбе, приходится преодолевать больше
трудностей, чем всякому другому человеку. Поэтому если
гениально одаренный человек не наделен в порядке
исключения еще и необыкновенной одаренностью для
жизненной борьбы, у него очень мало шансов выжить в ней
без посторонней помощи».
Есть, однако, такие высокоодаренные, способные
создавать уникальные произведения люди, которые не
подвергаются риску пасть жертвой в жизненной борьбе, идя
путем отшельников-одиночек, — люди, которые, по
существу, вообще не заботятся о передаче своих идей другим и
даже не знают, «как это делается»; такие люди рискуют
тем, что их идеи могут пропасть для человечества, и слава
гения может так никогда и не осиять их главу. Одним из
таких удивительных мыслителей был, например, Дезаргу,
о котором в одной из биографий говорится следующее:
«Дезаргу (1593—1662) был совершенно гениальным
архитектором и геометром, но представлял собой несколько
эксцентрическое, если не сказать странное явление; так,
свои главные труды он печатал микроскопическими
буквами на отдельных листочках, которые раздавал ближай-
J4
шим друзьям, словно специально делая ровно
противоположное тому, что необходимо для снискания
общественного признания. Но мало того. Даже такого гордого
самоограничения ему было еще недостаточно. В этих и без
того уже почти ни для кого не доступных „брошенных на
ветер" листках он использовал в высшей степени
нематематический, заимствованный из ботаники шифрованный
язык и рассуждал исключительно о корнях, ветвях,
стволах, цветах и тому подобном, в то время как речь шла о
геометрических построениях. Современники были
субъективно правы, считая его то ли мечтателем, то ли шутом.
Лишь самые великие математики, такие, как Ферма и
Паскаль, были иного мнения об этом лионском мудреце, и они
были вполне правы. Ибо именно Дезаргу был, по
существу, основателем проективной геометрии, и ныне
повсеместно называемая его именем теорема играет в построении
современной геометрии столь огромную роль, что по
своему значению едва ли уступит теореме Пифагора...»
(Основной труд Дезаргу был утрачен, — стоит ли
удивляться этому при такой подготовке?)
«Однако, случаю было угодно, чтобы другой великий
французский геометр, Шаль, однажды в 1845 году, гуляя в
Париже по набережной Сены, заинтересовался книжным
развалом какого-то букиниста. И именно этому
подготовленному специалисту и историку математики попадается
в руки некогда утраченный (но в этот момент вновь
обретенный) основной труд Дезаргу».
Стойкие оценочные заблуждения в плане совершенно
необоснованной личной известности время от времени
возникают, преимущественно по отношению к
сомнительным гениальным деяниям (к таковым, по-видимому,
относится открытие Колумба). По причинам, указанным
выше, возникают такие заблуждения в основном именно в
этой группе случаев, поскольку здесь отсутствует
материальное наследие в виде авторских трудов, что крайне
затрудняет потомкам проверку качества личности, а в
случае неясной или неполной исторической традиции делает
№
такую проверку вообще невозможной, как это имеет
место в отношении многих окутанных легендами
основателей религий. Случаи, аналогичные казусу Колумба, когда
некий невежественный подозрительный авантюрист — но
в m) же время мужественный и весьма энергичный
человек, не лишенный фантазии — благодаря великой удаче
натыкается на нечто великое, что, исходя из уровня
знаний эпохи, раньше или позже и без него безусловно было
бы найдено, представляют собой предельные случаи
одностороннего конъюнктурного социологического эффекта;
эти единичные случаи проще исключить из сферы
понятия гения, чем целиком перекраивать ради них
традиционно сложившееся толкование этого понятия. А в
традиционном толковании понятия гения вердикт о том,
оправдано ли присвоение титула гения, выносится в первую
очередь исходя из оценки личных качеств, а не исходя из
социальной конъюнктуры.
Мы, таким образом, придерживаемся того мнения, что
почву для возникновения стойкой славы гения создают
внутренние психологические закономерности,
действующие с двух сторон: и со стороны общества, и со стороны
прославляемого. Это значит, что как в самой личности
«гениального», так и в носящих ее отпечаток творениях
должны присутствовать некие специфические особенности, на
которые общество закономерно реагирует высокими
позитивными ценностными оценками. На такие
закономерности коллективного признания ценностей
(происходящего даже против воли людей) указывал уже Шопенгауэр.
Эти ценности в конечном счете уже не содержат в себе
ничего произвольно в них вложенного и ничего априорного
или метафизического, напротив, они жестко связаны с
законами психологии и жизненными потребностями
людей — либо всех вообще (как, например, отдельные
элементарные воздействия ритма и цвета), либо отдельных
примерно равновеликих групп людей, находящихся в
примерно аналогичных жизненных и культурных
обстоятельствах. Ценностные оценки всегда зависят от таких факто-
14|
ров, которые в принцице, вне зависимости от гениев,
регулярно вызывают у людей сильные положительные
эмоции, связанные с удовольствием, увеличением полноты
ощущения жизни или душевным подъемом.
Итак, наименование «гений» мы будем присваивать,
вообще говоря, таким личностям, которые
вышеупомянутое неслучайно возникающее ощущение позитивной
ценности способны вызывать в течение длительного времени,
в редкостно высокой степени и у большой группы людей;
но это наименование мы будем присваивать им лишь в тех
специальных случаях, когда указанные ценности
возникают с психологической необходимостью — как осадок,
выпавший из особым образом организованной душевной
структуры ее обладателя, а не тогда, когда они падает ему
в руки с неба, благодаря, в первую очередь, счастливой
случайности и конъюнктуре момента.
И вот такая внутренняя, психологическая ценность
гениального человека в большинстве случаев выглядит
совсем иначе, чем ее изображает традиционный культ героя;
она заключается не только в его, по существу, невероятно
высокой одаренности, но, равным образом, и в
напряженной динамике таких душевных качеств, которые в иных
отношениях оцениваются то как возвышенные, то как
трагические, а часто — и как социально негативные,
болезненные, отталкивающие, даже просто отвратительные.
Таким образом, внутренняя ценность гениального
человека определяется не какими-то произвольно
перенесенными на него представлениями о моральном или
эстетическом идеале, а лишь тем, что он благодаря
наследственности является обладателем по-особому организованного
душевного аппарата, в более высокой степени, чем другие,
способного производить вполне определенные позитивные
жизненные или потребительские ценности, которые,
кроме того, несут на себе печать редкой и самобытной
индивидуальности. В таком смысле нужно понимать и
определение понятия гениального как оригинального и нового,
хотя это определение следовало бы заменить выражением:
^
«особая способность к созданию ценностей, несущих на
себе отпечаток личности творца». Ибо революционность —
важная, но отнюдь не отличительная и не главная
особенность гениального. В этом смысле значимы лишь резко
выделяющиеся из потока традиционной
профессиональной практики, особенные произведения, которые, порой
даже спустя столетия, могут быть опознаны специалистом
по их личностной ноте; Рафаэль или, скажем, Бах вовсе
не ниспровергали существовавшие стилевые формы,
напротив, они, скорее, завершали их развитие. Другими
словами, «гений» значит для нас не просто «податель
ценностей», но исключительно «создатель ценностей». И
развитие какой-то отдельной великой личности как таковой, ее
окончательное, стилистически последовательное
формирование в преодолении всех внутренних напряжений и
внешних конфликтов воздействует тогда на людей — в
особенности на потомков — как некий великолепный
памятник и приобретает для них высокую собственную ценность
примера духовного возвышения.
Наше исследование преследует единственную цель:
описать закономерности гениального, касающиеся как
наследственных черт гения, так и влияния того, что им
переживается, и тем самым представить объемный и
жизненно-верный портрет творческой личности. Мы полагаем,
что подобная научная, объективная манера описания
позволит в то же время раскрыть пафос величия и трагедии
гениального человека значительно глубже, чем это
достигается в традиционных идеализированных и
ретушированных изображениях.
Часть I
ЗАКОНЫ
Глава 1. ДЕМОНИЧЕСКОЕ
С тех пор, как итальянский невропатолог Ломброзо
дал жизнь ставшему крылатым и породившему
оживленные дискуссии в кругах образованных людей сочетанию
слов «гений и безумие», неоднократно высказывалось
мнение, согласно которому современная психиатрия чуть
ли не повинна в открытии некой психической
зависимости, а именно частичной зависимости гениальности от
психического расстройства; многие люди восприняли это
столь болезненно и сочли столь губительным, что они
предпочли бы вообще об этом не знать. Чтобы показать,
насколько это мнение ошибочно, можно привести
наблюдения, сделанные уже в античном мире, за тысячи лет до
Ломброзо, и уловившие внутреннюю связь гениальности
и психического расстройства; например, замечания
Аристотеля об одном сиракузском писателе, который в
маниакальном состоянии создавал прекрасные
стихотворения, а выздоравливая, терял способность слагать стихи.
Или вот такое место, тоже из Аристотеля:
«Прославленные поэты, художники и государственные мужи часто
страдали меланхолией или помешательством — как,
например, Аякс; но и заглянув в недавние времена, мы
обнаруживаем подобное же предрасположение у Сократа,
Эмпедокла, Платона и у многих других — в особенности
среди поэтов». В одном из источников приводятся слова
Сенеки: «Non est magnum ingenium sine mixture
dementiae»*. Обратившись к более близким временам,
воспроизведем, следуя Ломброзо, одно место из
французского философа Дидро, где тот говорит: «Я подозреваю,
* Не бывает великого ума без примеси безумия (лат.). (Здесь и
далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика).
JJ9
что эти замкнутые и угрюмые люди своим
необыкновенным, почти божественным всеведением, которое у них
временами обнаруживается и которое приводит их то к
возвышенным, то к сумасбродным мыслям, обязаны всего
лишь временному расстройству своего механизма. При
этом они, быть может, рисуют себе, что некое божество
снисходит, отыскивает их и пребывает в них. Как все-
таки коротко расстояние, отделяющее гения от
помешанного! При этом одного сажают под замок и заковывают
в железо, а другого отливают в бронзе».
Но что говорят об этом сами гениальные люди?
Отношение некоторой части гениев к душевным состояниям,
сопровождающимся необычной экзальтацией, и даже к
душевным болезням странным образом отличается от
соответственного отношения обычных людей. «Ха, как он
безумствует, несчастный, — и не знает, против чего обратить
ему свое безумство», — восклицает молодой Гете, говоря о
самом себе; а вот как Ницше в священном воодушевлении
бранит инертную толпу: «Где то помешательство, которым
вас следовало бы облагородить!» Шопенгауэр, напротив,
высказывается коротко и сухо: «Гений стоит ближе к
безумию, чем к обыкновенному уму». Таким образом, в то
время как сам гениальный человек нередко восхваляет
безумие и сумасшествие как высшее достоинство
исключительных людей, биограф стоит перед ним, растопырив
руки, и защищает его от психиатра. Здесь я хотел бы еще
опереться на прекрасные слова Сократа, которые,
впрочем, — как и многое из того, что пересказано в
Платоновых «Диалогах», — могут быть истолкованы по-разному:
«Упиваются многие, но лишь немногим знакомо
упоение», — в этих словах он, как представляется, тоже требует
от великих мыслителей и исследователей некоего
экстатического душевного состояния. Как сам Сократ приписывал
управление своей внутренней жизнью своему даймонию*,
* Даймоний — внутренний голос, гений — в значении
«дух-покровитель»; см. Платановы диалоги «Феаг», «Евтифрон» и др. (Греч, ôaifioviov —
дух, божество; в отличие от близкого по значению Öaijicov — демон.).
20
так и у всех древних народов существовало родственное
понятие демонической одержимости, которое с тех давних
времен вплоть до нынешних применяется к
душевнобольным и эпилептикам.
Мы считаем, что указанные три круга представлений:
о гениальности в хорошем и в плохом, о божественной
или бесовской одержимости и древние народные
представления о душевной болезни — вообще не поддаются
четкому разграничению; точно так же полумифические
предшественники тех, кого сегодня называют
гениальными исследователями или врачами (примерами могут
служить образ Фауста и родственные средневековые
персонажи), в народной фантазии легко могут превращаться в
волшебников, состоящих в союзе с тем же самым бесом,
который вселяется и в тела одержимых, страдающих
душевным расстройством.
Если мы действительно хотим приблизиться к
пониманию вопроса о связи гениальности с душевным
расстройством, мы должны обратиться непосредственно к
фактам. Прежде всего мы вправе спросить: сколько
гениальных людей либо были, либо впоследствии стали
душевнобольными в самом узком смысле этого слова?
Таких окажется немало. Если ограничиваться лишь
самыми известными именами, я могу назвать философов Руссо
и Ницше, естествоиспытателей Гальтона, Ньютона и
Роберта Майера, старого фельдмаршала Блюхера*, поэтов
и писателей Тассо, Клейста, Гельдерлина, К. Ф. Мейе-
ра**, Ленау, Мопассана, Достоевского и Стриндберга,
художников Ретеля*** и Ван Гога, композиторов Шумана и
Гуго Вольфа.
Если же наряду с этими несомненными
душевнобольными я захочу перечислить также и все личности с тя-
* Блюхер, Гебхард Леберехт (1742—1819) — немецкий полководец;
стал фельдмаршалом в 71 год.
** Мейер, Конрад Фердинанд (1825—1898) — швейцарский
писатель.
*** Ретель, Альфред (1816—1859)— немецкий живописец и график.
Й
желым психопатическим складом характера (типа
Микельанджело, Байрона, Грильпарцера, Платена*), а тем
более если захочу перечислить и все отдельные
психопатические черты, истерические и паранойяльные реакции
и аномалии восприятий, которые в жизни гениальных
людей встречаются на каждом шагу, то, пожалуй, я не
скоро кончу.
Нижнюю границу гениальной одаренности определить
трудно, поэтому трудно вычислить и точные цифры
процентов в частотных соотношениях гениальности и
психопатического предрасположения; да и вообще,
посредством чисто статистической, интегральной обработки
лишь в редких случаях удается адекватно описать
сложный объект. Все, что здесь можно сказать, это то, что
среди гениальных людей — по крайней мере в определенных
группах — психические заболевания и, в особенности,
психопатические пограничные состояния встречаются
определенно чаще, чем в среднем среди населения. Уже этот
факт дает нам пищу для серьезных размышлений.
Но почему признание этого простого факта встречает
столь большое сопротивление? И почему вскрыть его нам
удается лишь при тщательном изучении источников,
тогда как в традиционной биографической литературе он
всячески приукрашивается, оспаривается и
ретушируется? Здесь мы сталкиваемся прежде всего с
предрассудком «психической неполноценности», с мнением, что
здоровый человек не только в биологическом, но и в
социальном плане всегда выше, чем человек менее здоровый.
Душевно здоровый человек, по смыслу самого
понятия, — это нормальный, средний человек (ниже я еще
вернусь к естественнонаучному понятию нормы). Душевно
здоровым мы вправе назвать человека, который
уравновешен и хорошо себя чувствует. Однако ощущение
душевного покоя и комфорта никогда не становилось
импульсом для великих деяний.
* Платен, Август (1796—1835) — немецкий поэт.
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему
гениальный человек часто с такими муками, словно сквозь
какие-то бесконечные заросли терновника, продирается
сквозь свою жизнь? Почему он оказывается неузнанным
своими учителями, отвергнутым своими родителями и
проигнорированным своими коллегами? почему он
вечно ссорится со своими покровителями? почему самые
блестящие перспективы вечно оказываются для него
закрыты из-за чьих-то тайных козней? почему всю свою
жизнь он проводит в заботах, в гневе, в горечи и в
печали?
Конечно, в значительной мере виноват в этом, как и
принято считать, окружающий мир, с его непониманием
духовной исключительности и — осознанной или
неосознанной — простой человеческой завистью заурядных
людей, которых незаурядная личность обгоняет.
Однако другая значительная группа причин типичных
жизненных трудностей гениального человека имеет иное
происхождение. Здоровый человек адаптируется, в
конечном счете он адаптируется даже к самой тяжелой
ситуации; он пробивается, он терпелив, он постоянно
сохраняет бодрое настроение, он умеет принимать жизнь
такой, какова она есть, его здоровый инстинкт помогает
ему найти свое место в обществе здоровых людей. И
гении с относительно более здоровыми нервами, такие,
например, как Гете или Шиллер — хотя у них и был в
юности период весьма конфликтнонасыщенного развития, —
в конце концов также находят возможность
приспособиться к окружающей их неблагоприятной среде. Но тот,
кто длительное время не может найти свое место в
обществе здоровых людей, тот ведь как раз и является не
вполне здоровым человеком. Вспомним биографии таких,
например, людей, как Микельанджело или Фейербах:
постоянное чередование внезапных успехов и неудач, цепь
огорчений, приступов отчаяния, разочарований, яростных
столкновений, какое-то шараханье из одного конфликта
в другой. Но наиболее надежный медицинский индика-
№
тор аномальной, психопатичной личности состоит как раз
в том, что такая личность выпадает из нормальной
упорядоченной жизни и приходит с ней в столкновение. И
у гениальных натур этого типа мы обнаруживаем
множественные признаки, которые должны быть оценены как
явно болезненные; мы обнаруживаем
предрасположенность к бреду преследования, склонность к психогенным
аффективным реакциям, выраженные психические
нарушения у ближайших кровных родственников и т. п.
Таким образом, чтобы правильно понять всю
трагичность жизненного пути многих гениальных людей,
нужно рассмотреть обе стороны этой медали. На одной
стороне — окружение, нормальный человек с его здоровой
филистерской натурой, противящейся всякому
беспокойству, и наивной завистью к ослепляющему его блеску
необычайного, но на другой стороне — гений, несколько
психопатичный исключительный человек со
сверхчувствительными нервами, с бурными аффективными
реакциями, с малой способностью к приспособлению, с
капризами и перепадами настроения, который не только по
отношению к почтенным обывателям часто выказывает себя
довольно раздражительным, обидчивым, бесцеремонным
и надменным, но к тому же еще затрудняет жизнь и
истощает терпение тех, кто его искренне любит,
поддерживает его и хочет ему помочь.
Как все рады посмеяться над школьными учителями,
предрекавшими будущим гениям место в исправительном
заведении: еще бы, ведь эти учителя не смогли разглядеть
в своих учениках великий дух, и видели в них только
прогуливающих уроки бездельников. Эти учителя были
совершенно правы. Ибо частичная аномалия склада характера
наличествует и отчетливо проявляется уже в самой ранней
юности, гений же разовьется на этой почве лишь
значительно позже. В годы юности обе аномальные
предрасположенности — та, что ведет к гению, и та, что ведет к
маргиналу, — часто еще развиваются в одной общей колее.
Лучше всего это понимали опять-таки сами гении. Так,
24
Бисмарк, будучи студентом, заявил: «Я стану либо
величайшим негодяем, либо первым человеком в Пруссии».
И у Готфрида Келлера это же самое наблюдение
воплотилось в известном сонете: в свете уличного фонаря,
встретившись мимоходом, узнают друг друга два бывших
одноклассника, два некогда самых больших лгуна и
бездельника в классе; один из них стал бродягой и преступником,
другой — поэтом.
Муштра, которой герцог Карл-Евгений фон Вюртем-
берг подвергал юного Шиллера, безусловно, говорит о
крайнем деспотизме и неотзывчивости. Это, однако,
вовсе не исключает того, что герцог, со своей точки
зрения, нередко бывал прав в стремлении приучить
воспитанника к порядку и привить ему самообладание. Нельзя
требовать от современников, чтобы они были так же
умны, как будущий биограф, перед которым уже весь
жизненный путь гения. Для стороннего наблюдателя
Шиллер в тогдашней фазе своего развития и в самом деле
являл собой весьма проблематичную картину, которая тем
менее поддается ретуши, что Шиллер позднее сам
подверг этот ранний этап своей жизни жесточайшей
критике. В пубертатный период он демонстрировал
поразительное отсутствие душевного равновесия. И у тысяч других
душевная аномалия проявляется в этом возрасте в тех же
самых «гениальных» жестах и в тех же демонстративных,
кричащих, напыщенных театральных позах, но потом из
всего этого получается отнюдь не гений, а нечто
прогоревшее, опустившееся, маленькое, какой-нибудь
беспутный, спившийся студент, какой-нибудь литератор из
кафетерия, в лучшем случае — взбалмошный чудак или без
вести пропавший экспатриант.
Теперь, отвлекаясь от частностей, обратимся вновь к
общим вопросам.
Когда мы говорим, что человек здоров, — все равно,
идет ли речь о телесном или психическом здоровье, — это,
в сущности, означает, что человек пребывает в равновесии
и хорошо себя чувствует. Поэтому психически здоровый
№
человек — именно в силу того, что он не испытывает
беспокойства и умеет разумно приспосабливаться, — находясь
в сносных условиях, не станет творить ни безобразий, ни
стихов; однако чем менее устойчиво внутреннее
равновесие человека, тем легче внешние толчки могут довести его
до этих крайностей, и чем менее благополучно
внутреннее самоощущение человека, тем скорее он придет к
убеждению, что внешние условия его существования
невыносимы, и почувствует себя вынужденным принять меры по
решительному изменению ситуации, в которой здоровый
человек еще долго сохранял бы терпение.
Присмотримся к тем группам радикальных
политических элементов, которые в поворотные моменты
истории, находясь на самом краю политического спектра,
овладевали ситуацией и, привнося собственную нервозность
в сознание масс, снова и снова вызывали в душе зачастую
измученного и нуждавшегося в отдыхе народа бурные
приливы волнений. Не было ли среди них, с одной
стороны, фанатиков, людей буйных, озлобленных и
склонных к аффектам, натур пророческих и
энтузиастических, — а с другой стороны, декадентствующих
литераторов, люмпен-пролетариев, «бывших» (осколков ушедшего
времени) и пресыщенных (искателей новых ощущений),
мошенников и авантюристов, болтунов и позеров, убийц
и извращенцев?
Возьмем три самых знаменитых имени пионеров
духа и вождей Великой французской революции: Руссо,
Мирабо и Робеспьера. Все трое, вне всякого сомнения,
значительные и интересные личности. Робеспьер — сын
душевнобольного отца и образчик шизоидного
психопата и невротичного одиночки; Мирабо — человек
авантюрного склада с более чем сомнительным прошлым,
выраженный дегенерант с гипоманиакальной окраской
темперамента; и, наконец, Руссо, по критериям широты и
глубины духовного воздействия на общество намного
превосходящий двух предыдущих, — философ Руссо,
сумасшедший с тяжелой формой бреда преследования.
26J
Психопаты и душевнобольные нередко играют в
истории развития народа чрезвычайно важную роль,
которую можно образно сравнить с ролью бацилл. Когда
духовная температура эпохи не дает скачков и социальный
организм здоров, девианты, которыми он кишит,
растворены в массе здоровых людей, бессильны и
малозаметны. Но стоит только появиться где-нибудь больному
месту, возникнуть духоте и напряжению в атмосфере, стоит
чему-нибудь прогнить или треснуть, как бациллы тут же
становятся вирулентными и активными, они проникают
во все органы и приводят всю здоровую народную массу
в воспаленное и возбужденное состояние. Существуют,
впрочем, совершенно иные способы рассмотрения
подобных массовых процессов, а возможно, и иные условия,
при которых они могут возникать. Окончательные
заключения о подобных вещах можно делать лишь на
материале прошлого и лишь постольку, поскольку этот материал
полностью проработан исторически и биографически.
Поэтому когда говорят, что такой-то или такой-то
фанатик (или энтузиаст-радикал, или пророчествующий
идеалист) зажег пожар революции, то в этих словах лишь
малая частица правды. Роскошные фанатики, пророки и
энтузиасты — так же, как мелкие жулики и
преступники, — есть всегда, их полно в окружающей атмосфере; но
только тогда, когда дух эпохи достигнет определенной
степени разогрева, они становятся способны породить
войну, революцию или массовое духовное течение. Мы
можем с полным правом оказать: «Психопаты всегда —
среди нас». Но в прохладные времена мы отправляем на
экспертизу их, а в горячие они управляют нами.
Итак, мы отметили следующие связи между
психопатологией и гениальной одаренностью: у гениев, в
особенности у гениев определенных типов, сравнительно часто
наблюдаются психозы и психопатии; далее, у многих
гениев, с одной стороны, и у обыкновенных психопатов, с
другой, наблюдается ряд сходных черт в графиках
индивидуального развития, особенно в юношеский период; и
is
наконец, в социологическом плане обе рассматриваемые
группы оказывают ферментативное воздействие на ход
мировой истории и духовного развития человечества.
Должны ли мы теперь сделать из этого вывод, к
которому пришел Ломброзо: гений — это безумие? Мы
определенно не намерены этого делать. Вместо этого мы
намерены сказать: с чисто биологической точки зрения,
гений возникает на основе редких и экстремальных
вариантов сочетаний человеческих родов. Биология не раз
доказывала, что подобные экстремальные сочетания
пород, по сравнению с типовыми стандартами для одной
породы, обладают меньшей стабильностью структуры и
более высокой склонностью к распаду и создают
повышенные трудности для племенного разведения. Я
упомяну здесь, пожалуй, только такие человеческие формы, как
гигантов и карликов, с их относительно пониженной
жизненной силой, — или сошлюсь на чувствительность и
подверженность заболеваниям выведенных посредством
экстремального отбора чистокровных лошадей. Поэтому
нас не должно удивлять, если и в тех вариантах
человеческой породы, которые являются определяющими в
контексте нашего исследования, мы именно в сфере
психического обнаружим чрезвычайную лабильность и
чувствительность, а также весьма значительную
подверженность психозам, неврозам и психопатиям, — как это
в самом деле и подтверждается нашей биографической
статистикой. Таким образом, есть все основания считать,
что если, в плане некоего ценностно-философского
понимания нормы, гения действительно следует
рассматривать как идеал человеческой породы, то пытаясь
защищать звучащее время от времени утверждение о том, что
гений — это воплощение высшей степени человеческого
здоровья и биологических качеств человека, мы
приходим в полное противоречие с подавляющим
большинством фактических наблюдений. Нигде социологическая и
биологическая оценки не расходятся так далеко, как
здесь.
28J
Биологическая ущербность гения по сравнению с
человеком среднего духовного уровня отчетливо видна не
только из психопатологической статистики
индивидуальных проявлений, но и из положения гения в
наследственной цепи. Одна из глубоко трагических сторон жизни
гениальных людей — это родовая судьба гениев. В частоте
повторений этой судьбы есть что-то почти типическое.
Талант передается по наследству в родах и в кастах. Мы
имеем многочисленные доказательства того, что подобный вы-
сококультивированный талантливый род является одной
из наиболее частых предпосылок возникновения гения. Но
саму гениальность передать по наследству трудно. Среди
наиболее странных биологических фактов — почти
закономерное быстрое вымирание потомства гения по
мужской линии. У многих гениев мы обнаруживаем безбрачие,
бездетность, у некоторых — ослабление полового
влечения, его извращение или, даже при активной половой
жизни, нежелание иметь потомство. Но и в тех случаях, когда
потомки наличествуют, вам редко удастся сообщить о них
много хорошего. Причем не следует рассматривать этот
резкий спад одаренности как некую биологическую
аномалию. И опять-таки, в потомствах гениев, в
особенности — гениальных правителей и художников, мы часто
встречаем весьма безрадостные картины психопатий,
вырождений, тяжелых форм наследственных отягощений и
умственной отсталости. Это вырождение в родах гениев
нередко дает о себе знать уже в поколении самого гения и
в предыдущем поколении (опять же преимущественно в
виде психопатических и психотических проявлений).
Такое фамильное вырождение — поразительно частое (и
тяжелое) явление в родах как раз самых великих гениев;
достаточно вспомнить хотя бы имена Гете, Байрона,
Бетховена, Баха, Микельанджело, Фейербаха. Это наводит на
мысль, что гений охотнее всего возникает в той точке
наследственной цепи, где высокоодаренный род начинает
вырождаться. И та длящаяся десятилетиями безуспешная
борьба гения с вырождением в собственном роду, о кото-
29
рой свидетельствуют биографии Бетховена или
Микельанджело, наполняет нас чувством глубокого трагического
сопереживания.
Итак, если в самом деле основательно проштудировать
большой массив биографических материалов, очищая их
от налипшей словесной шелухи, то не остается сомнений
в том, что между гениальностью и областью
психопатически-дегенеративных явлений в самом деле существует
глубокая биологическая взаимосвязь. При этом, разумеется,
ясно, что одна эта зависимость, даже биологически,
отнюдь не исчерпывает проблему гениальности, но лишь
освещает одну важную ее сторону.
Теперь мы должны поставить следующий вопрос:
является ли эта эмпирическая частичная взаимосвязь
гениальности и индивидуальной психопатологии внешней,
или она внутренняя? Другими словами, является ли эта
волею судьбы тесно соседствующая с гением склонность
к распаду лишь неким прискорбным, но неизбежным
явлением, сопутствующим возникновению экстремальных
биологических вариантов, или же этот
психопатологический компонент есть необходимая внутренняя составная
часть структуры самой гениальности? Короче: является
ли гений гением вопреки своему психопатологическому
компоненту или именно благодаря ему? Препятствует ли
этот психопатологический уклон гениальному творчеству
или способствует ему? Ну, сразу скажем, что никакой
прямой связи между психопатической
предрасположенностью и степенью одаренности не существует. Среди
психопатов есть люди высокого интеллекта и есть
слабоумные, так же как среди здоровых есть люди
интеллектуальные и люди со слабыми способностями.
Психопатия сама по себе это, безусловно, еще не пропуск на
Парнас. С другой стороны, точно так же неоспоримо, что есть
высокоинтеллектуальные люди, ни в малой мере не
обладающие именно той исключительной особенностью
гения, которая состоит в способности создавать
выдающиеся духовные ценности. Исследование родословных гени-
30J
альных людей показывает, что определенный уровень
одаренности культивируется независимо от психопатического
компонента; одаренность определенной степени может
возникнуть благодаря счастливой случайности — удачной
наследственной комбинации, образовавшейся
непосредственно «в народе», но значительно чаще такая
одаренность возникает в результате достаточно систематического
ее культивирования — и именно в определенной сфере
деятельности — благодаря родовому и поместному
инбридингу*. Я ограничусь ссылками на очень интенсивное ин-
бридинговое культивирование одаренности в
средневековых гильдиях музыкантов и художественных
ремесленников (семейство Бахов — один из классических тому
примеров) и на аналогичные традиционные поместные
процессы в старинных чиновных и пасторских родах,
особенно заметные в генеалогиях немецких поэтов и ученых,
например, Гете, Гельдерлина, Мерике, Уланда,
Шеллинга, Гегеля и др. Сопоставительное изучение большого
материала заставляет предположить, что всякий раз, когда
в таких старых высококультивированных родах
появляется признак вырождения, именно в этой точке
наследственной цепи возникает максимальная вероятность
появления гения. К простой одаренности у гения должен
присоединяться еще сократовский даймоний, и
складывается впечатление, что именно этот даймоний
внутренне весьма связан с психопатическим элементом. Это
демоническое, которое кажется необъяснимым,
пронизывает в качестве сущности гения его выдающиеся духовные
свершения, его необыкновенные идеи и необыкновенные
страсти. По сравнению с прочими одаренными людьми
своей группы и своей семьи, не выходящими за рамки
высококвалифицированного участия в традиционном
духовном производстве, многие гении демонстрируют как
раз определенное ослабление своей связи с традицией,
определенное ослабление своих инстинктов и мыслитель-
* Инбридинг — скрещивание близкородственных форм в пределах
одной популяции.
I*
ных стереотипов, что как раз и приводит к
ошеломляющим новым соединениям мыслей. Это ослабление
душевной структуры, эта лабильность и сверхвосприимчивость
к различиям и связям, эти — часто причудливые —
контрасты внутри личности, которые обусловливают
огромные душевные диапазоны гения, его страсти и его
беспокойную внутреннюю активность, — все эти
демонические черты существа гения идентичны психопатическим
чертам в структуре гениальной личности; указанные два
элемента, психопатологический и демонический, часто
вообще не поддаются разделению при биографическом
анализе. Такое внутреннее ослабление душевной
структуры, такая страстная внутренняя контрастность
личности является — по крайней мере для определенных групп
гениально одаренных людей — необходимой
предпосылкой гениальности; это та же самая внутренняя
лабильность и неуравновешенность, которая по самой природе
вещей должна быть обусловлена повышенной
психопатической реакционной способностью, и которая в самом
деле ею обусловлена.
Гете отчетливо видел в связи гения с патологической
предрасположенностью не просто что-то фактически
существующее, но именно нечто внутренне необходимое,
и он выразил это со свойственным ему изяществом: «То
необыкновенное, что свершают эти люди, предполагает
весьма тонкую душевную организацию, способную к
редкостным восприятиям и уловлению небесных голосов. Ну,
а такая организация с миром в ссоре, и элементы ее
легко нарушаемы, и ранимы, и... продолжительным
недомоганиям легко подвержены» (Эккерман. Разговор с Гете
20. 12. 1829).
Так какой же степени развития и какого положения
должен достичь этот психопатологический элемент
внутри одаренной личности, чтобы он мог играть роль даймо-
ния? Если взять для начала случаи тяжелых психозов, то
ясно, что психические нарушения должны достигать здесь
такой степени, при которой заранее исключается всякая
32
полезная духовная деятельность и, соответственно,
невозможны никакие гениальные свершения. Тем не менее мы
не вправе заходить так далеко, чтобы заявлять: всякий
истинный психоз только подавляет гениальность и не может
в каких-то исключительных случаях, напротив, ей
способствовать. В отношении интеллектуальных способностей
здоровый человек склонен относиться к
душевнобольному с иронической пренебрежительностью; в дискуссиях по
проблеме гениальности это постоянно проявляется и
постоянно мешает. Тот, кто имеет частую возможность
наблюдать (непредвзято исследуя) больных, скажем, с
острой шизофренией в начальных стадиях заболевания, тот
временами бывает поражен выходящей за всякие рамки
мощью, наполненностью и космической напряженностью
переживаний, которые вдруг вспыхивают в самом
обыкновенном человеке, чтобы тут же снова угаснуть. Такие
переживания в редких случаях могут на краткое время
поднять даже самые заурядные натуры намного выше их
обычного уровня. Сравнительно легкие, не приводящие к
распаду психотические экстазы подобного рода при
определенных условиях оказываются психологически
значительно ближе к общеизвестным приливам гениального
вдохновения — в особенности, религиозного, — чем
упорядоченный мыслительный процесс здорового человека.
Такое психологическое наблюдение здоровый
человеческий рассудок принимает крайне неохотно. Ведь человек
может представить себе божество только в виде
увеличенной человеческой фигуры — точно так же и филистер
может представить себе гения только в образе
монументального филистера. На самом деле бывают исключительные
случаи, когда психотический шуб* (в особенности,
шизофренического характера) подхватывает какую-то прежде
скрытую под совершенно рутинным образом мышления
частную одаренность и, как вулкан — какую-нибудь
глубоко залегавшую глыбу, выносит ее на поверхность.
* Шуб (от нем. Schub — «толчок, сдвиг») — приступ душевной
болезни, исключающий возврат в исходное состояние.
2 За*. 662
&
Если переживания шизофренических пограничных
состояний (в особенности, благодаря свойственной им
экстатической силе чувств и редкостным
иррациональным комбинациям элементов мыслительного содержания)
в некоторых случаях могут привести к творческим
достижениям — и именно в области религии,
изобразительного искусства и поэзии, то и легкие
маниакально-депрессивные пограничные состояния не совсем
безразличны в отношении творческой продуктивности. В этом
плане надо прежде всего говорить о легких степенях ги-
поманиакального симптомокомплекса, когда подъем
настроения и готовность загораться идеями сочетаются с
легкостью и массовостью их продуцирования. Сошлюсь
на открытую Мебиусом своеобразную периодику
душевной жизни Гете: депрессивные фазы регулярно
приносили с собой непреодолимую сухость — и даже
раздражительность в общении и художническое бессилие, тогда как
с регулярно сменявшими их фазами подъема настроения,
напоминавшими гипоманиакальное состояние, связаны
почти все гениальные творения Гете. Отмечу также
психопатологическую подпочву рода Гете: у самого Гете она
сказалась только в этих легких циклических колебаниях,
способствовавших проявлению его гения, но у его
сестры Корнелии она выступила в явной форме тяжелых
приступов душевной болезни. Подобное мы наблюдаем и у
Роберта Майера: здесь гениальные достижения
сопровождаются еще более сильными маниакальными фазовыми
колебаниями.
Мы можем заметить, что даже у таких гениев, как
Ницше и Гуго Вольф, у которых позднее обнаружился паралич,
душевному краху предшествуют длившиеся годами фазы в
высшей степени гениального творчества в состоянии
своеобразного перевозбуждения; таким образом, даже здесь
представляется не совсем бессмысленным вопрос, не могут
ли легкие токсические раздражения мозга, проявляющиеся
как ранние предвестники будущего распада, вызывать у
высокоодаренных людей временную активацию гения.
34
При всем том следует признать: психические
заболевания всех типов в подавляющем большинстве случаев
естественно приводят лишь к тяжелому сужению
духовной сферы деятельности, в том числе и в социальном
плане. Катализатором гениальности они являются лишь в
исключительных случаях, при совершенно определенном
сочетании условий и не зависимой от болезни высокой
одаренности человека. Чаще всего такое каталитическое
действие проявляется в инициальных стадиях болезни и
в легких пограничных состояниях.
То, что справедливо для психозов, справедливо и для
психопатических личностей. Большинство психопатов как
в частной, так и в общественной жизни играют
отрицательную роль. Однако у одаренных людей встречаются
такие особые сочетания наследственных признаков, при
которых психопатический элемент не только не снижает
способность к духовному творчеству, но
непосредственно входит в качестве неотъемлемого компонента в тот
сложный психологический комплекс, который мы
называем гениальностью. При этом следует заметить, что
если бы мы вычли из конституции такого гениального
человека этот психопатологический элемент, этот фермент
демонического беспокойства и духовного напряжения, то
в остатке мы получили бы всего лишь обычного
одаренного человека, не более того. И чем больше изучаешь
биографии, тем больше укрепляешься в предположении,
что этот постоянно встречающийся психопатологический
компонент гения есть не просто некая, к сожалению,
неизбежная внешняя сторона биологического явления, но
внутренне необходимая, существенная составная часть,
быть может, некий необходимый фермент всякой
гениальности в самом узком смысле этого слова.
Занявшись поиском психопатов среди гениев, мы
обнаружим среди них, с одной стороны, выраженных
психопатов, с другой, — что, быть может, еще более важно, —
таких людей, у которых определенный психопатический
компонент встроен в крепкую, преимущественно здоровую
2»
№
целостную личность так же, как беспрерывно
дергающийся балансир в хорошо идущие часы. Среди выраженных
психопатов также есть великие гении — достаточно указать
на такие фигуры, как Микельанджело или Байрон.
Характерные для этих гениальных психопатов неспособность
социально адаптироваться к нормальной жизни, резкие
зигзаги курса на протяжении всего жизненного пути, а также
подверженность возникающим иногда на короткое время
легким психическим нарушениям совершенно
аналогичны характеристикам обычных психопатов из учебника.
Психопатия гениального выраженного психопата помимо
своего ферментативного воздействия — тех жгучих
импульсов, которые толкают его к выходу далеко за пределы
возможностей среднего таланта, оказывает все же и
сильное отрицательное воздействие. Часто такие
патологические гении уже не справляются с созданием высокого
творения потому, что дисгармония их задатков разрушает
конструкцию произведения и вносит в него режущие
диссонансы, но в особенности потому, что непостоянство их
аффектов и волевых устремлений не позволяет им
продвинуться дальше начальных этапов и фрагментов, и
зачастую весь грандиозный план рушится или предается
забвению. Людей этого типа часто называют «гениально
одаренными», имея при этом в виду такие неординарные, но
саморазрушительные натуры, как, например, писатели
Граббе и Ленц*. Демонической составляющей дарования
здесь более чем достаточно, но, пожалуй, отсутствует та
другая, здоровая ее половина, которая есть в истинно
великом гении и которая обеспечивает как цельность и
вызревание творения, так и, в особенности, потенциал и
широту воздействия на душевную жизнь здоровых людей.
И как раз у большинства самых великих гениев, таких,
как Бисмарк и Гете, мы видим характерное
взаимопроникновение их психопатологического компонента и крепко
сплоченной массы их здоровой целостной личности. Здесь
* Граббе прожил 35 лет, Ленц — 41 год.
364
также весьма заметна психопатология у ближайших
кровных родственников: у матери Бисмарка и у сестры Гете. А
при более тонком анализе индивидуальностей именно этих
двух гениев, психопатология обнаружится, пожалуй, и в
них самих — в предельной чувствительности и
сверхвосприимчивости в эмоциональной сфере, в сверхсильной
передаче нервного возбуждения в виде невропатических
реакций вегетативной нервной системы и в отмеченных
выше психогенных реакциях. Однако здесь, в случаях типа
Бисмарка и Гете, психопатологический уклон почти
исключительно помогает гению, сенсибилизируя личность до
сверхутонченности, стимулируя, создавая контрасты,
углубляя сознание, делая личность сложнее и богаче. Те
резкие внутренние антитезы и та лабильная нервическая
сверхутонченность, которые несет с собой родовой
психопатологический компонент, здесь не только обуздываются
здоровой массой целостной личности, но и используются
в общем гениальном творчестве как обогащающий и
вносящий динамику элемент.
Об этом не следует забывать: в состав истинно
великого гения, как правило, входит солидная порция
прочной и здоровой структуры. Это та порция нормальной
буржуазности — с ее неизвращенными основными
человеческими инстинктами, с удовольствием от еды и питья,
от подобающего исполнения обязанностей и
гражданского долга, от должностей и отличий, от семьи и детей, —
которая находит свое выражение в таких, например,
творениях, как «Германн и Доротея» Гете или «Колокол»
Шиллера. Но как обыватель не способен увидеть
психопатологию в гении, так и «гениальный» законченный
психопат не способен правильно оценить здоровую
составляющую великого гения. Снобы, декадентствующие
столичные литераторы и «гениальные» революционеры-
однодневки снисходительно посмеиваются над Шилле-
ровским «Колоколом» так же, как это уже делали сине-
чулочные декадентки вкупе с деятельными психопатами
и литераторами из круга романтиков Тика и Шлегеля.
№
При этом они не замечали, что именно такая солидная
доля нормальной буржуазности силою свойственного ей
прилежания, постоянства, спокойной цельности и свежей
естественности поднимает значение великого гения
несравненно выше уровня бурных и быстро опадающих
всплесков их гениальничанья.
Глава 2. ВЛЕЧЕНИЕ И ДУХ
Существует освященный вековой традицией
предрассудок, в соответствии с которым принято категоричней-
шим образом разделять инстинктивное в человеке и его
высшие личностные проявления. Чтобы проанализировать
эту тенденцию, нам пришлось бы исследовать
основополагающие линии развития истории западной культуры и
рассматривать типичные антитезы «божественное —
дьявольское», «добро и зло», «природа и культура», которые,
в свою очередь, в конечном счете вновь сводятся к
глубокой амбивалентности влечений.
Однако для целей нашего исследования, сознательно
ограниченного вопросами биопсихологии, нужно
двигаться как раз от обратного, а именно от возможно более
тесного совместного рассмотрения инстинктивного и
духовного. Если мы хотим двигаться в правильном направлении
и добраться до истины, другого пути просто нет,
философские проблемы ценностей прямого отношения к нашему
исследованию не имеют. Если они в данном контексте и
могут оказаться где-то косвенно затронуты, то речь может
идти лишь о таких ценностях, в отношении которых
следует вообще удостовериться, истинные ли они.
Мы будем здесь рассматривать только сложные
метаморфозы влечений, и прежде всего те, которые имеют
место в сфере сексуальных и связанных с ними влечений, а
также влечений к насилию и к боли.
И здесь мы тоже будем интересоваться не столько
массивными аномалиями, сколько легкими
биологическими вариациями и более или менее компенсированны-
38
ми частными инстинктивными отклонениями с их
тонкими, сложными и сдержанными проявлениями у
высокодуховных личностей.
Если бы мы вознамерились в рамках настоящей
книги точно установить, в какой мере отдельные факторы,
относящиеся к влечениям и темпераменту, первично
задаются наследственностью, а в какой — определяются
соматическими влияниями и травмами эмбрионального и
ранневозрастного периода или отклонениями вследствие
ранних психологических воздействий, это далеко бы нас
завело. К тому же эти вопросы и в принципиальном
плане на сегодняшний день далеко еще не решены, и в
ответах на них часто с догматической односторонностью
преувеличивается роль то биологии наследственности, то
реакции на окружающую среду. Понятие конституции в
том смысле, в каком мы его здесь используем,
охватывает как первичные наследственно-биологически заданные
группы особенностей психофизической личности, так и
группы особенностей, возникших из первичных
вследствие ранних отклонений.
Когда я, опираясь, в основном, на работу Moll'a,
составил список из примерно сорока значительных в
духовном плане людей, о которых имеются исторические
свидетельства, позволяющие с определенной вероятностью
констатировать у них или у их ближайших кровных
родственников наличие гомосексуальности или частных гомо-
эротических психических компонентов, то в этом ряду
обнаружилась статистически очень сильная наклонность к
шизотимической характерологии и, напротив, весьма
слабая — к циклотимической. В этом ряду знаменитых
полных или частичных гомоэротиков мы обнаруживаем
также несколько шизофренических — или близких к
шизофреническому кругу — больных (каковы, например: Людвиг
II Баварский, Кристиан VII Датский, Рудольф II Габсбург)
и, далее, личности с резко выраженными шизоидными
чертами: Платен, Микельанджело и Грильпарцер.
Проведя психологическую классификацию всего ряда, мы полу-
139
чим биполярное распределение характеров, аналогичное
тому, какое наблюдается в области шизофренических
психозов. На одном краю — нежные, сенситивные,
гиперэстетические художественные темпераменты типа Платена, на
другом — холодные, властные, склонные к насилию
натуры, наделенные импозантным гением вождя, который
может вырождаться в деспота, а между двумя этими
полюсами оказываются в качестве переходных такие
чрезвычайно противоречивые, страстные и драматические фигуры,
как Микельанджело, у которых нежность души
равновелика склонности к насилию.
Медицинское исследование типов личности
гомосексуалистов было проведено на обычном амбулаторном
материале Kronfeld'oM; и здесь, как и при изучении гениев,
мы прежде всего обнаруживаем основной тип нежного
гиперэстетика, причем создается впечатление, что в этой
статистической выборке указанный тип явно
преобладает; он характеризуется как сенситивный лабильный
нерешительный невропат, слабовольный, внушаемый, с
сильной склонностью к фиксации на эмоционально
акцентированных переживаниях; далее, это тип, среди
представителей которого нередки весьма привлекательные
художественно-утонченные натуры, разгульные, любящие
«пощекотать нервы» выраженные дегенеранты, у которых
часто на первый план выступают женские черты
характера. В то же время гомосексуальный тип властителя и
деспота в этой выборке не представлен, возможно,
просто по той причине, что такие люди, как правило, не
ходят в поликлиники. С другой стороны, в этом
амбулаторном материале Kronfeld'a встречаются иные типы,
отсутствующие среди гениев в силу своих малых
способностей к социальным достижениям, к примеру,
инфантильные слабоумные.
Отметив эти общие конституциональные типовые
особенности, мы можем теперь заняться прямыми
специфическими влияниями, которые некий гомоэротический
конституциональный компонент способен оказывать на
40 I
высшую личность его носителя. И здесь нельзя не
заметить, что, наряду с сильной социально-обусловленной
угрозой, исходящей от этого компонента, у одаренного
человека сфера подавленных аномальных влечений
порождает и позитивные импульсы, своеобразно
способствующие развитию личности. Примером может служить связь
эроса и педагогической одаренности, которая была
замечена уже Сократом и его учениками и описана в «Пире»
Платона. В истории мы со времен Сократа и вплоть до Гер-
барта* встречаем великих людей, которые с присущими им
страстью, любовью и идеалистическим воодушевлением
сублимировали гомоэротический компонент своих
влечений, обратив его в импульс к чрезвычайно ценной в
социальном плане деятельности по воспитанию молс^ежи.
Близким родственником этой сублимационной
педагогической страсти является тот культ дружбы, который
иногда складывается в кружках литераторов,
объединяющихся вокруг личностей с гомоэротическими
компонентами влечений; примером может служить, скажем, круг
друзей поэта Глейма**. Высокую ценность при этом
может иметь не столько возникающая в таких кругах
отчасти избыточная стилистическая экзальтация переписки или
поэзии, сколько то безудержное и неутомимое рвение, тот
идеализм, с которым эти люди способствуют развитию
своих соратников или молодых талантов, если уж
прониклись к ним симпатией.
В области изобразительных искусств мы имеем два
прекрасных примера влияния гомоэротических компонентов
личностей у Микельанджело и Винкельмана***. У
Микельанджело этот компонент выражается в неутомимом
воссоздании мужской красоты и в явном пренебрежении
женскими мотивами — или даже омужествляющей их переработке.
* Гербарт, Иоганн Фридрих (1776—1841) — немецкий философ.
** Глейм, Иоганн Вильгельм Людвиг (1719—1803) — немецкий
поэт, один из создателей Галльского союза поэтов-анакреонтиков.
*** Винкельман, Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий
археолог и историк, создатель первой научной истории искусства.
+ 41
У Винкельмана он становится существенной движущей
силой его прекрасного и культурно плодотворного энтузиазма
по отношению к греческой пластике и к возрождению на
этой основе греческого культурного идеала вообще.
» Перейдем теперь к психологически особенно
интересной группе влечений к насилию и боли; проявления их, как
известно, парно-противоположны: властвовать — служить,
мучить — претерпевать мучения. То, что эти влечения
первично сцеплены с сексуальными влечениями — и только с
ними, отнюдь не представляется вероятным, тем не менее
соответствующие связи чрезвычайно глубоки и
многочисленны. Ниже мы будем говорить о садизме и мазохизме, не
касаясь вопроса сексуальных сцеплений этих влечений, о
котором не всегда можно судить с уверенностью.
Поскольку рассматриваемые влечения, особенно в их активной
форме, сталкиваются со многими, часто непреодолимыми
препятствиями социального характера, то их сублимации —- и
вообще те непрямые пути, по которым они проникают в
высшую жизнь духа и в гениальные творения, — часто
особенно запутанны, парадоксальны и сложны.
Насколько очевиден инстинктивный характер этих
влечений в деструктивной жестокости их конечных
проявлений, скажем, в известных национальных катастрофах,
настолько же точно эти влечения подходят под
альтруистический шаблон героического самопожертвования, в
каковом виде они только и терпимы для культурного
сознания. Культурный человек и по сей день так же мало
способен не проявлять своих влечений к агрессии и боли, как
и прямо назвать эти вещи их жестокими именами. Из-за
этого повсеместно возникли характерные компромиссы в
этической терминологии и обрисовке идеалов. Этот
лейтмотив красной нитью проходит через всю историю
культуры, придавая бесконечное количество оттенков
понятиям «добродетель» и «долг»; его внутренняя связь с
проблемой гениальности проявляется в почитании импозантных
«демонических» личностей, чьи свершения в конечном
счете носили преимущественно разрушительный характер.
42
Одно из простейших — поскольку оно является в
наибольшей мере разрешенным — средств проявления
влечения к боли это, как и в простой эротике, фантазия
желания, художественно-литературное изображение. Нет
лучшего доказательства соответствующего широкого,
всечеловеческого резонанса, чем богатство фантазий мучения,
содержащихся как раз в самых популярных детских
книжках (сказки братьев Гримм, «Макс и Мориц»*,
«Растрепа»**). И в высокой литературе писатели с сильным
элементом влечения к боли часто прибегают к эффектам
захватывающе-ужасного, демонического. Это справедливо и
в отношении долгих, угнетающих фантазий убийства
Достоевского, и в отношении вызванной противоречивейши-
ми инстинктивными импульсами порывистости Югейста,
разряжавшейся как громоподобными ударами
кровожадной эротики или фантомным видением ужасной амазонки,
так и изображением приниженного служения в «Кэтхен из
Хейльбронна». Та же группа влечений — в
ласково-сентиментальных вариациях — обнаруживается и у Шамиссо в
его вчувствовании в душу прелестной, смиренной, рабски
любящей и погибающей женщины («Любовь и жизнь
женщины»), растерзанной львом невесты или почти гомо-
эротически фиксированного солдата, который должен
расстрелять своего единственного друга. По внешнему
впечатлению, весьма непохожими на вышеозначенные являются
юмористические эпизоды в многочисленных фантазиях о
мучениях и историях о водяных Вильгельма Буша, однако
эта инстинктивная частная сторона его сложной личности
находит ясное выражение в стихотворении о картине Брау-
эра*** из книги «Критика сердца».
* Знаменитая книжка Вильгельма Буша (1832—1908), немецкого
писателя, поэта и художника-карикатуриста.
** Книжка врача и писателя Г. Гофмана, одна из первых детских
книг с картинками.
*** Брауэр, Адриан (1605 или 1606—1638) — фламандский художник,
один из крупнейших мастеров бытового жанра; на упомянутой картине
изображена мучительная хирургическая операция.
J43
В областях этики и религии одним из ключевых
факторов является психология невроза навязчивых состояний.
Аналитическими и клиническими исследованиями уже,
можно считать, доказано, что по меньшей мере часть
неврозов навязчивых состояний возникает на почве
конституционально аномальных влечений, в частности, из
садомазохистских импульсов, — хотя и не прямо, а в высшей
степени сложными обходными психологическими путями.
Навязчивые сексуальные импульсы отклоняются
целостной личностью и тормозятся по типу табуирования
посредством разрастающегося ритуала защитных и
искупительных действий. Однако чем больше эти моральные
угрызения и самонаказания переходят в самомучительство,
тем больше они, уже со своей стороны, служат
удовлетворению мазохистского влечения. Сладострастие боли
порождает в качестве защиты моральное самоедство, а это
моральное самомучительство, в свою очередь, вновь
порождает сладострастие боли, — так возникает порочный круг,
который при сильной конституциональной
обусловленности влечений иногда препятствует любому
терапевтическому вмешательству. Но даже отвлекаясь от таких особенно
тяжелых заколдованных кругов влечения к боли,
приходится иногда наблюдать, как серьезная
морально-религиозная озабоченность жизнью собственных влечений в
конечном счете становится у невротиков, как и у здоровых,
навязчивой и — с известным мучительским
вожделением — вновь и вновь возбуждаемой игрой фантазии,
которая может, к примеру, превратиться у отдельных прихожан
в поистине сексуальное бешенство исповеди — и в сущее
бедствие для католического духовника.
От невроза навязчивых состояний протягиваются
интересные цепочки связей к области этики, например, к
психологии чувства долга. Это справедливо как для
обычных людей, так и для исторических героев нравственного
идеализма и ригоризма из числа великих теологов и
философов, революционеров и законодателей. Как известно,
человек со здоровой структурой влечений относится к мо-
44
рали, как к соли в супе: она нужна, но не должна забивать
вкус. «Моральное всегда подразумевается само собой».
Иначе обстоит дело у людей с гипертрофированным
чувством долга. В них есть некая черта угрюмой холодности
или той пугливой педантичности, которая является
типичным характерологическим симптомом, сопутствующим
неврозу навязчивых состояний. Моральный акцент такие
люди всегда делают на представлениях о должном и
необходимом или на идеях служения и самопожертвования.
Они не дают себе ни минуты покоя, у них нет времени на
усталость, они жертвуют всеми радостями жизни, они
жертвуют своими перерывами на отдых и своими
выходными, и они стараются добиться того же от тех, кто их
окружает. В их чувстве долга есть что-то мучительское, и они
способны превратить его в тяжкое наказание для самих
себя, своей семьи и своих сослуживцев. И все это
проистекает не от нескончаемого избытка сил и радости
творчества, как у многих гипоманьяков, а, по-видимому, от
самого абстрактного идеализма, от априорного кантовского
принципа долга. Инстинктивную противоположность
этого принципа восприятию обычного человека выразил
Шиллер в известной, намекающей на Канта, эпиграмме:
«Рад услужить я друзьям, но, увы, — по велению сердца,
И беспокоюсь порой: где ж добродетель моя?» —
«Выхода нет у тебя! Презирать их ты должен стараться
И с отвращеньем потом делать, что долг повелит»*.
Подобное чувство долга может быть
преимущественно «садистским», направленным на мучительское
подчинение окружающих, либо воздействовать более «мазохи-
стски», самомучительски. В случаях легких, хорошо
компенсированных уклонов такие компоненты влечений
* В оригинале:
«Gerne dien' ich den Freunden, doch tu' ich es leider mit Neigung,
Und so wurmt es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin».
«Da ist kein anderer Rat! Du mußt suchen, sie zu verachten
Und mit Abscheu alsdann tun, wie die Pflicht dir gebeut».
J45
могут вносить свой вклад в процессы, приводящие к
действительно высоким этическим свершениям и
героическим событиям мировой истории.
Мы отнеслись бы несправедливо к великой
исторической личности Кальвина и его всемирному учению, если
бы не захотели увидеть, что даже ему, основателю
Женевского религиозного государства, не удалось насадить в нем
чистое божественное согласие, человеческую любовь и
человеческое счастье; более того, в тесном сплетении всех
этих идеальных целей и импульсов ощущается атмосфера
принуждения, жесткости, безрадостности и даже
мрачного фанатизма. Представляется заведомо невероятным,
чтобы эти черты государства были совершенно независимы
от личности основателя. Мы опустим ряд близких по
характеру событий, о психологических мотивах которых
было много споров (и среди которых особенно пугающее
впечатление производит казнь Сервета*), и укажем лишь на
те факты, которые изложены в протоколах Женевского
муниципального совета о процессе над ведьмами Пигни в
октябре 1545 года и опубликованы, в частности, О. Pfister'oM
(Цюрих, 1947). Из них следует, что Кальвин вмешивается
в застопорившийся процесс, хвалит Совет за прошлые
казни и предлагает, в добавление к ним, значительно
увеличить количество жертв, то есть казнить всех, в том числе
и волшебников, безвредных для людей и скота. То, что
Кальвин здесь был не просто жертвой всеобщих
настроений времени, следует из того факта, что Женевский совет
возражал — и, кажется, небезуспешно — против этих
предложений. Кстати, религиозное государство Савонаролы во
Флоренции своей атмосферой во многом напоминает
Женеву Кальвина.
У великих героев мировой истории влечение к
холодной, кровавой жестокости редко проявляется так
отчетливо, как при основании государства добродетели. Чис-
* Испанский мыслитель и врач Мигель Сервет (1509 или 1511 —
1553), резко полемизировавший с Кальвином, по требованию Кальвина
был сожжен как еретик.
46 I
тейшая и абстрактнейшая мораль, основанная на чувстве
долга, высший нравственный идеализм — вот главные
цели таких деспотов, как Робеспьер. Почему они так
мрачны и угрюмы? Почему рядом с ними всегда палач? Эти
великие люди превратили отрубание головы в систему;
они совершили гекатомбы людей во цвете лет, принеся
их на алтарь добродетели, а остальных или изгнали, или
замучили, как в застенке, — и все во имя добра. Но
разве добро — не доброта? Едва только добро захочет быть
больше доброты и моральное —- больше того, что «всегда
подразумевается само собой», как тут же изменяются их
инстинктивные основы. Долг-аскетизм-мучение — вот
ступени, или стадии, последовательного развертывания
одного и того же влечения к боли. Как только мораль
переходит какую-то определенную грань, она становится
извращением.
Говоря в общем, можно ли принуждением заставить
людей стать добродетельными? Нет ли здесь определенной
трагической закономерности, в силу которой подобные
попытки принуждения возбуждают встречные
взаимодействующие влечения к боли и агрессии у властвующих и у
подвластных, то есть те опаснейшие влечения, которые
несет в себе человек и которые тем опаснее, что они здесь
постоянно выступают в одеянии высшей добродетели,
призванной социально или религиозно осчастливить
людей? Но мы не можем ставить перед собой задачу ответить
здесь на этот вопрос.
Мораль, основанная на подчеркнутом чувстве долга,
являет сходные черты и в рамках чисто
интеллектуального рассмотрения, например, у Фихте, ярчайшего
представителя философского идеализма. Из его частной
переписки возникает образ тактика макиавеллиевского толка,
человека, стремящегося к достижению власти любой ценой.
Его склоняющаяся к солипсизму философская система
представляется чистейшим интеллектуальным
отражением лежащей в ее основе структуры влечений.
Интеллектуальность здесь — лишь средство для того, чтобы неограни-
J47
ченно и не обращая внимания на все возражения некоего
более или менее воображаемого мира проявлять
субъективность, чтобы деспотически властвовать. За «не-Я»
сохраняется лишь ровно столько реальности, чтобы оно
могло» как не имеющий значения раб подчиняться его «Я».
Весьма характерна и манера выражений Фихте:
«Солнечно-ясное изложение... попытка заставить читателя
понять». Акцент делается на этом «заставить».
Аскетический жизненный идеал отчасти находит здесь
прочную психологическую опору. Аскетами мы ведь
называем таких людей, которым наслаждение приносит не
удовлетворение нормальных инстинктивных
потребностей, а напротив, отказ от него — и даже действия
наперекор этим потребностям. То есть речь здесь идет об
извращении, или, по-латински, о перверсии примитивных
направлений влечений, причем в самых различных
сферах. В элементарно-биологическом смысле многие формы
аскетизма можно рассматривать как проявления
перверсии, независимо от того, что, с этической точки зрения,
аскетизм может преследовать самые высокие позитивные
цели, и независимо от того, что, в целом, аскетический
жизненный идеал исторически сильнейшим образом
способствовал высшему духовному прогрессу человечества, а
тем самым, косвенно, — и его биологическому развитию.
Тут везде необходимо тщательно следить за тем, чтобы не
соединять этические ценностные суждения с чисто
биологически-конституциональным способом рассмотрения:
одно вовсе не тождественно другому. Частичная
конституциональная обусловленность аскетического извращения
влечений является следствием того, что многие люди — тут
можно вспомнить некоторые шизофренические
пограничные состояния — как бы инстинктивно стремятся к этому
жизненному идеалу невзирая на все противодействие
окружения, в то время как, скажем, какой-нибудь гипома-
ниакальный пикник, даже воспитанный в жесткой
аскетически-ориентированной среде, никогда не приобретает
внутренней склонности к аскетизму.
48 I
Заметим, что этот аскетический жизненный идеал — в
высшей степени сложный феномен; чрезмерная
альтруистическая и метафизическая проникнутость здесь тесно
соседствует с самой жесткой тенденцией к
самовозвеличиванию. Со стороны элементарных конституциональных
факторов, простое недоразвитие некоторых структур
влечений, простое—истинное—отсутствие потребностей
вплоть до аутистически инертной бесчувственности
является элементом аскетического предрасположения. И
наконец, у некоторых адептов этого образа жизни — особенно,
когда он приобретает крайние, карикатурные формы —
определенную роль играют и явно перверсные структуры
влечений: в сексуальной сфере особенно характерны
импульсы влечений к боли, в сфере пищевых влечений и
прочих общетелесных чувств также наблюдаются аналогичные
странные прихоти, намеки на которые мы встречаем у
беременных женщин и у истериков. Так, у мадам де ла
Мот-Гион, основательницы религиозной секты во
времена Людовика XIV, уже с юных лет проявилась потребность
съедать извергнутое в рвоте больными, за которыми она
ухаживала. К слову, такие перверсии не только
сексуальных и агрессивных, но и оральных групп влечений мы
наблюдаем и при повреждениях промежуточного мозга, в
частности, возникающих, как можно показать, при
переломах основания черепа.
Любовь к больным и увечным, к самым
заброшенным, самым грязным и самым отталкивающим, вообще
к самомучительству и мученичеству, при одной и той же
инстинктивной основе, может в случаях легких, хорошо
компенсированных форм порождать
общественно-значимые акты высокого самопожертвования, а в более
тяжелых случаях — бесполезную мистически-аскетическую
игру, которая, несмотря на свои религиозные одежды, по
существу не отличается от обычных мазохистских и ко-
профильных перверсий. Из житийной литературы видно,
что самые высокие и самые необычные проявления этой
группы влечений нередко переплетаются, и иногда пер-
|49
версная необычность проявления больше отвечает
религиозному вкусу эпохи, чем производимый социальный
эффект. Поэтому венком религиозного гения и
«святого», наряду со многими духовно значительными
личностями, увенчивались и такие люди, которые с
сегодняшней точки зрения должны были бы стать не предметом
религиозного поклонения, но, скорее, материалом
газетной сенсации, а может быть, и просто объектом
больничного надзора.
Впрочем, внутреннее переплетение значимых духовных
импульсов и религиозно-организаторских свершений с
некими произрастающими из того же корня влечений
вьюнками перверсных арабесок мы встречаем во все эпохи
вплоть до нового времени; к примеру, в своеобразном
религиозном воспевании ран Христовых у Цинцендорфа*
(направление, имеющее отдельных предшественников в
средневековой мистике).
В области религии инстинктивные проявления
влечения к власти и потребности в слепом подчинении
выступают не только в классическом ролевом раздвоении:
наказывающий исповедник и подчиняющийся грешник
(например, Конрад Марбургский и святая Елизавета**), но
они могут одновременно сосуществовать в одной и той же
личности, конституируя тип религиозного пророка,
порождая мнимо парадоксальную психологическую ситуацию,
описанную, например, в автобиографии Юнг-Штиллин-
га***: слепое подчинение внутреннему пророческому
голосу божественной воли, которая, далее, является
внутренним оправданием для навязывания этой воли другим — в
качестве избранного орудием божьим — и для
осуществления власти над ними — в качестве вождя.
* Цинцендорф, Николаус (1700—1760) — писатель и миссионер.
** Св. Елизавета (1207—1231, канон. 1235) — дочь короля Венгрии
Андреаса II; после смерти мужа, ландграфа Тюрингии, следуя
наставлениям духовного отца, Конрада Марбургского, прославившегося своей
суровостью инквизитора, учредила в Марбурге лечебницу для бедных и
посвятила остаток жизни уходу за больными.
*** Юнг-Штиллинг, Иоганн (1740—1817)— ученый и писатель.
5Ç4
И важнейшим объектом упражнений, находящимся в
ядре многих аскетических систем, является опять-таки
половое влечение. Речь здесь идет о простых сублимациях
влечений в духе мистических переживаний; при этом на
относительно примитивном, игровом уровне простые
эротические фантазии желания переводятся в сферу
духовного, а на высших уровнях достигается прямое превращение
эротического возбуждения в пылающее блаженное
чувство единения с Богом, которое почти не сопровождается
представлениями и, расплавляя границы «я»,
выплескивается в космос.
От этого аскетизма, весьма родственного
мистическому переживанию, аскетизм в более узком понимании
отличается тем, что стремится не к насыщению в единении
с Богом, а как раз к мнимому отсутствию насыщения, к
чистому умерщвлению влечений. При
конституциональной слабости влечений достигнуть этого несложно. В
остальных случаях наше отношение к аскетическому образу
жизни с якобы отсутствующими влечениями весьма
скептическое. Ибо там, где аскетический подход к жизни
достигает своего культурно-исторического апогея, мы видим
почти типичные пограничные случаи извращения
влечений в перверсном, и именно садомазохистском
направлении. Eulenburg весьма основательно говорит о временами
возникавших в средние века периодах «спортивного
бичевания» ради установления «рекорда святости» и приводит
поучительные примеры знаменитых криминальных
эпизодов церковной истории, когда сублимация влечения к
боли в чистую практику аскезы не удавалась, и религиозные
бичевания кающегося давали естественную «отдачу»,
приводя к мазохистскому половому акту.
Нам следует несколько задержаться на
конституциональной структуре влечений некоторых пророков и
основателей сект, поскольку между ними и великими гениями,
внесшими вклад в историю культуры, имеются еще
некоторые интересные параллели. Мы возьмем два наиболее
ярких примера такого рода из архивов нашей Тюбинген-
51
ской клиники: опубликованный Саирр'ом случай
организатора массового убийства Вагнера с его мессианской
идеей в духе Ницше и обработанный Reiss'oM случай пророка
Хейссера, — и добавим к ним, пожалуй, многократно
обсуждавшийся случай так называемой кенигсбергской
секты святош под водительством Эбеля. У всех этих людей,
достоинства личностей и учений которых в целом весьма
различны, явно просматриваются два неизменно
повторяющихся основных источника их пророческого
самосознания: это, во-первых, выраженная тенденция к
самовозвеличиванию, тщеславное стремление к роли вождя,
граничащее с самообожествлением, а во-вторых, —
определенные своеобразные особенности структуры
полового влечения, которые срастаются с упомянутой
тенденцией и в теснейшем переплетении с нею порождают особую
форму профетической идейной или бредовой системы.
Неоднородность такой конституциональной структуры
влечений приводит у людей типа старшего учителя Вагнера к
тяжелой разорванности всей конструкции личности;
отклоненные перверсные компоненты влечений (в данном
случае — чувство вины за акты содомии) сильнейшим
образом нарушают поддержание баланса самооценки и с
большим трудом сверхкомпенсируются болезненным,
взвинчивающимся до бреда величия самосознанием.
Однако подобные аномальные компоненты влечений не
только подавляются этими пророками или
сверхкомпенсируются в идеях величия, но и прямо проявляются во
вводимом основателем секты ритуале. Частичный отказ от
полового влечения приводит к возникновению у
Хейссера эксгибиционистских наклонностей, которые затем
прямо сказались на общении с сектантками, выразившись в
церемониях причащения непорочности и святости.
Последние удивительно напоминают еще более
разработанный церемониал кенигсбергских святош проповедника
Эбеля (начало XIX века), в котором эксгибиционистские
акты также играли определенную роль в культовых
освящающих действиях, кроме того, весьма обстоятельные и
52
беззастенчивые речи о сексуальных предметах здесь, как,
впрочем, и во многих аналогичных тайных религиозных
собраниях, не удерживаясь в каких-либо границах,
переходят в сферу собственно эксгибиционистского поведения.
К этому у Эбеля добавляются еще явно садомазохистские
элементы, выразившиеся в идее взаимного бичевания в
полуобнаженном виде. Наличие некоторого садистского
компонента можно заподозрить и в откровенно
аномальных влечениях старшего учителя Вагнера, если
представить, в какой степени он еще за годы до совершенного им
деяния насыщал свое воображение фантазиями убийства.
Намного прозрачнее структура влечений его
духовного отца, куда более масштабной и исторически наиболее
ясной из всех гениальных пророческих фигур, — Ницше.
Было бы весьма интересно показать в деталях, как
переплетение боли и сладострастия, ненависти и любви,
властолюбия и любви проходит лейтмотивом сквозь всю его
личность, причем сквозь все ее слои от
инстинктивно-эротического и вплоть до высших этических сублимаций его
учения. Он сам совершенно ясно понимал это и выразил
так: «Вид и градус сексуальности человека достигает до
самой высокой вершины его духа». О соответствующих
инстинктивных корнях говорит его известный афоризм: «Ты
идешь к женщинам? Не забудь хлыст» — и его
обозначение любви как «мучительного жара». Отсюда мы можем
обозреть весь горизонт его внутреннего мира от идеала
расы господ и восхищения страстью к убийству у
«белокурой бестии» вплоть до продуманной теории сострадания
и христианской любви, о которой он в связи с ее
историческим происхождением из древнееврейской общины
говорит: «Эта новая любовь, глубочайшая и
возвышеннейшая из всех видов любви, — побег от того древа
ненависти и мести». Мы мгновенно поймем всю односторонность
и, в то же самое время, всю чудовищную проницательность
этого частного психологического суждения, если
сопоставим его основную формулу: «любовь от ненависти» с
формулой влечения: «сладострастие от боли».
m
И у другой великой профетической натуры, Руссо,
изменения самооценки, чувство неполноценности и
компенсаторная тенденция к самовозвеличиванию
конституционально сочетаются с динамикой весьма вариативной
сексуальной структуры; это очевидно, хотя истолковать
отдельные линии развития здесь часто затруднительно. Он
сам подробно описал свои эксгибиционистские и
мазохистские наклонности, и мы вправе заметить, что
беспримерная нестесненность его морального
саморазоблачения, по-видимому, должна быть связана с
эксгибиционистским компонентом влечений.
В профетическом комплексе Стриндберга отношение к
женщине и к женскому вопросу само по себе является
центральной мировоззренческой проблемой и стержневым
элементом программы великих реформ. И в этом случае
отношение к проблеме властвования и подчинения полов
развивается параллельно цепи сильных аффективных вспышек
эротических мучений и мучительств, которая проходит
сквозь его личные супружеские переживания. Его бред
преследования, источником которого является женщина,
теснейшим образом связан с мазохистским стремлением к
роли мученика. Да и вообще подобная склонность
рассматривать отношения полов исключительно в качестве
центральной проблемы власти может возникнуть только на
основе определенных структур влечений или определенных
снижающих самооценку детских переживаний; в
отношении Стриндберга справедливо и то и другое. Точно так
же, как у Ницше или у Фихте, идейно-философский ряд
Стриндберга — это сублимационный верхний слой, своего
рода отражение, или интеллектуализированное
воспроизведение, нижележащих структур влечений.
Психологически столь же важными, как эти две
большие группы гомоэротических и мазохистских влечений,
являются и более тонкие количественные вариации
сексуальной конституции; прежде всего, это задержки,
частичные нарушения пубертатного развития, частичное
сохранение инфантильной и ювенильной структур, которые
54|
особенно часто встречаются в психологии истерии и
шизофрении, но играют свою роль и в конституциональной
психологии высокоодаренных людей.
У истериков и шизофреников мы наблюдаем
затягивание и неравномерное прохождение психического
созревания в пубертатном периоде, а также — в ряде случаев —
длительное сохранение пубертатных стигм с
соответствующими искажениями взрослой личности. Мы
наблюдаем неполное духовное освобождение от инстинктивной
связи с отцом и матерью или от инстинктивного
пубертатного бунта против родителей, параллельно с
соответствующим запаздыванием нормальных влюбленностей.
Женщины-истерички нередко сохраняют психические
стигмы раннего пубертата: отказ от телесной половой
жизни при перенапряженных эротических фантазиях,
быстро проносящиеся порывы чувств, девическую
мечтательность, театральный пафос, резко контрастирующий
с наивной, капризничающей детскостью, склонность к
броским, блестящим ролям и игру с мыслями о
самоубийстве, — всю ту причудливую смесь забавного и
трагического, которая характерна для определенной фазы
пубертата. Из столкновения этой невызревшей конституции
влечений с задачами взрослой жизни — в особенности, в
эротической сфере — легко возникают те атавистические
инстинктивные реакции и аффективные кризисы,
которые мы объединяем названием «истерия».
У шизофреников и шизоидных психопатов также
зачастую сохраняются пубертатоподобные стигмы, причем
не только в сфере собственно полового влечения, но и в
иных компонентах личности; к числу таких стигм
относятся неловкость и блокирование выражения души или
психической подвижности, аутистические сны наяву и, в
особенности, выраженные сублимационные феномены:
склонность к пафосу, к далекому от жизни идеализму и к
безбрежным метафизическим размышлениям.
Возникновение философских,
метафизически-спекулятивных умонастроений у мужчин можно рассматривать
№
просто как нормальный пубертатный признак, в области
патологии возникновение таких умонастроений сильно и
типично связано с ювенильным психозом и с
психологией шизофреников. Это явление резко отделяет
соответствующий период жизни как от наивности связанных с
мгновенными впечатлениями детских переживаний, так и
от реалистической духовной установки зрелого мужчины,
в которой идеализм пубертата, как правило, исчезает. Те
же случаи, когда центр тяжести духовных интересов и в
среднем возрасте лежит в сфере спекулятивного,
биологически можно рассматривать как проявления ювенилизма,
или задержки пубертатного развития. Соответствующая
связь с сексуальной конституцией особенно хорошо
иллюстрируется отношением философов к браку. Так, Ницше
говорит: «Женатый философ — это комедийный
персонаж». В самом деле, статистика показывает, что у
философов частота браков намного ниже средней, а у тех,
которые все-таки женятся, браки часто оказываются
несчастливыми (Сократ, Бэкон, Конт, Вольф*, Д. Ф. Штраус** и
др.). В плане задержки развития весьма характерен также
возраст вступления в брак. Средний процент европейцев,
которые женятся после сорока лет, составляет 9%, тогда
как у философов таких поздних браков оказывается 40%.
Но классический тип личности философа — это тип
Канта и Шопенгауэра: склонный к уединению старый
холостяк, относящийся к женскому полу с явной антипатией.
Лампе, слуга Канта, даже не осмелился сообщить хозяину
о своей свадьбе; когда же Лампе женился во второй раз,
Кант был возмущен, обнаружив, что уже долгие годы у
него служит женатый.
Аналогично философии зависит от пубертата и
лирика, очевиднейшим образом питающаяся из внутреннего
источника юношеской эротики и связанных с ней групп
* Вольф, Христиан (1679—1754) — немецкий философ и математик.
** Штраус, Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий теолог и
философ, автор знаменитой книги «Жизнь Иисуса, критически
переработанная».
5б|
мечтательных чувств. И у великих лириков произведения
этой художественной формы — нередко в совершенно
преобладающей степени — продукт юных лет; их резкое
количественное сокращение в среднем возрасте также
доказано надежной литературоведческой статистикой; в
это же время на первый план выходит реалистическое
прозаическое повествование. Очевидно, что с возрастом
обычно исчезает не способность к самовыражению в
лирических формах, а внутренняя тяга к активному их
использованию. В тех же случаях, когда и в более зрелом
возрасте продолжается богатое и прочувствованное
лирическое творчество или когда, как у Гете, оно время от
времени поднимается островками и в поздние периоды
жизни, это — отвлекаясь от сильных внешних эротических
переживаний случайного характера — служит указанием
на более глубокое конституциональное вариантообразо-
вание.
Склонность к идеалистическому пафосу составляет, в
известной степени, специфику пубертатного периода: до
этого времени ее, как правило, нет, а по мере вхождения
в мужской возраст она в большинстве случаев уступает
место некоему реалистическому успокоению. Сохранение
этого идеалистического пафоса, этого «юношеского
огня», может являться свойством высшей социальной
ценности, тем не менее биологически оно относится к
разряду частичных задержек пубертатного развития.
Поэтому у творцов великих патетических творений, особенно
у трагических драматургов, мы наблюдаем то склонность
к пубертатным психозам и шизофреническому распаду,
как у Ленца и Клейста, то сильное вариантообразование
в сфере влечений, как у Микельанджело, того же
Клейста, Грильпарцера или Граббе. Но мы встречаем и таких
великих патетических творцов, у которых не
наблюдается каких-либо грубых нарушений полового влечения,
однако психическая сторона сексуальности не получает у
них полного развития; я имею в виду такие натуры, как
Корнель и Шиллер. Первый известен своим почти ис-
№
ключительным предпочтением драматургии героического
пафоса и пренебрежением эротическими мотивами; у
более взрослого Шиллера эротика тоже играет очень
малую роль, по сравнению с патетикой и философией, — в
том числе и в его зрелых драмах, хотя он охотно
вплетает в них в качестве второстепенных эпизодов
общепринятые любовные сцены; при этом, однако, всякий раз
поражаешься тому, как плохо такой мастер слова слышит
естественный голос любви, как сильно его любовные
диалоги напоминают перенапряженные слащавые
декламации, выдуманные юнцом, внутренне далеко еще не
прочувствовавшим реальную жизнь любви. Итак,
несомненно имеется группа конституций, в которых сохранение
патетических умонастроений и легкие задержки развития
психоэротики взаимосвязаны.
Еще одна близко связанная с предыдущей и даже
находящаяся от нее в прямо пропорциональной
зависимости задержка пубертатного развития стала у Шиллера
лейтмотивом, проходящим сквозь все его творчество и сквозь
всю жизнь его чувств; речь идет о затянувшемся бунте
против отца, о незаконченной борьбе с авторитетом, которая
обычно представляет собой лишь короткую типичную
проходную фазу пубертатного психологического развития.
Этот бунт против отца, продолжавшийся у него на
протяжении всей жизни, переходит в протест против
заступившего место отца и сознательно игравшего его роль
герцога Карла-Евгения и, далее, становится неугасимым огнем,
распалявшим его поэтические фантазии отцеубийства,
тираноубийства и революционного жеста и, эволюционируя
от «Разбойников» к «Вильгельму Теллю», в конце концов
принявшим глубоко одухотворенную, этически
сублимированную форму того типично шиллеровского идеализма
свободы, который духовно полностью слился с
современными ему идеалами человечества. Примерно то же
происходило и с Лютером.
Из учения о неврозах известна и обратная форма
задержки пубертатного созревания: сохранение инстинктив-
58
но обусловленной духовной зависимости от родителей, в
частности, у мужчин — от матери. В этих случаях идеал
матери — или материнский идеал женщины продолжает
действовать на заднем плане сферы чувств взрослого
мужчины, мешает соединению с юной партнершей, часто
приводит к почти паническому, невротическому обрыву
любовных отношений или вызывает такой род
компромиссной эротики, который допускает только любовь к
зрелым женщинам, играющим роль матери, причем в этих
случаях происходит постоянное прорастание друг в друга
ролевых отношений любовника к возлюбленной и
ребенка к матери. Разумеется, эта фиксация на образе матери
не должна рассматриваться просто как причина
позднейшей неспособности прийти к насыщенной любовной
жизни, поскольку и то и другое — тесно
взаимосвязанные выражения более глубоких биологических задержек
юношеского созревания. К описанному эротическому
типу относятся Руссо и Гете. У Гете мы наблюдаем в
качестве характерного отражения амбивалентности влечений
почти загадочный постоянно повторяющийся отказ —
даже просто какое-то паническое бегство — от
прекраснейших юношеских любовных отношений (Фридерика
Брион, Лотта, Лили Шенеман), за которым всякий раз
следуют неврозоподобное чувство вины и период
самомучительства. Позднее мы замечаем чувство избавления
при увлечении более зрелой женщиной, напоминавшей
мать (г-жа фон Штейн), и наконец, мы видим
ошеломляющий побег от всех внутренних конфликтов в брак с
духовно неразвитой, простой женщиной, которая не
могла создать столь страшных для него духовных проблем.
Значение этой биологической задержки развития для
гениального творчества Гете отнюдь не следует
недооценивать. Без таких постоянных помех и вмешательств,
исходящих из биологической подосновы его существа, не
возникло бы и его временами такой «широкоохватной» и
проблемно-насыщенной любовной и эмоциональной
жизни, а значит, — и многих больших и малых произведе-
J59
ний, в динамике и основных мотивах которых
вспышками чувств озарены одни и те же критические
поворотные пункты: самомучительство предателя в любви (Вейс-
линген, Фауст) и освобождающее поклонение душевно
зрелой женщине, превосходство которой признается
(Орест, Тассо). У Руссо собственно инфантильные черты
еще больше выходят на первый план: бегство и
припадание к коленям женщины, заменяющей мать,
являющейся одновременно и возлюбленной, и «маменькой» (г-жа
де Варане, г-жа д'Эпинэ), с вспышками
амбивалентности и чувства вины, которые, после дальнейшего отчасти
паранойяльного развития в неизменном направлении,
войдут в качестве компонентов в гениальное творение.
И под конец, в точности, как у Гете, рационально
совершенно необъяснимое бегство в брак с духовно крайне
неразвитой, но не создающей проблем женщиной.
И такой вариант влечений, как нарциссизм, наивная
самовлюбленность, тоже нередко привносится в
торжественное самоизображение поэтов и героев; более того, как
только начинается почитание гения, этот вариант прямо
извлекается им из окружающего мира. Эта сторона
сильно выражена у Гете; в годы его юности она даже была
отдельно отреагирована в Эгмонте, выступающем в виде
несколько женоподобного сердцееда, временами по-павли-
ньи распускающего хвост («смотри же вволю...»). Когда
Гете переходит в более почтенный возраст, эта черта
весьма утонченно, сдержанно и стилизованно включается в его
манеру поведения художника жизни, мудреца и князя
поэтов, не совсем свободную от легкого налета
торжественного позерства, эгоизма и кокетства красивого
мужчины, — то есть в такую манеру, в которой как юношеский
нарциссизм, так и потребность защиты
сверхчувствительной сферы внутренней жизни органично и стилистически
последовательно усваивается духовно наполненной
целостной личностью.
Весьма примечателен характер восприятия любви у
другого поэта, временами ходившего по самому краю ши-
60 I
зофренической пропасти, у Райнера Марии Рильке. В
атмосфере глубочайшего аутизма и застенчиво прятавшейся
в себя внутренней живости развилась некая оранжерейная
форма любви, которая все дальше дистанцировалась от
естественного удовлетворения желания или, вернее сказать,
которой достигнутое удовлетворение желания все время
грозило глубочайшим разочарованием. Отчетливее всего
это состояние поэта выразилось в строках о трубадурах,
которые ничего так не боятся, как быть услышанными. Он
завидует «покинутым, которые любят несравненно
сильнее умиротворенных». «Что значат тьмы, с тех пор
окружавшие меня, в сравнении с непроглядной печалью тех
объятий, в которых исчезало все». Соединение означает
лишь «прирост одиночества». Идеал Рильке — это
одинокая любовь без обладания, которая вне этого высокого
духовного контекста соответствует тому, что в клинике
спокойных шизоидов мы обозначаем как параноидную
«любовь вдали». «Любить значит быть в одиночестве». Душа
не должна «касаться» другой души. Рильке тем самым
высвобождает любовь из естественных отношений «ты» и «я»,
выводя ее на метафизическую сцену. Любовь утрачивает
свой предмет, трансцендируется, и в конце концов от нее
остается лишь некое направление чувства, уходящего в
вечность. (Ilse Krippendorf детально проанализировала это
в прекрасном биографическом исследовании, которое мы
здесь использовали.)
Здесь мы опять дошли до такого пункта, в котором
биологические и культурные оценки резко расходятся. С
одной стороны, это состояние поэта Рильке отражает
предельную степень аутизма, уже находящегося на пороге
утраты последних витальных точек соприкосновения с
человеческим общежитием, и некий вид эротической
предрасположенности, которая, несмотря на живую
сексуальную восприимчивость, при потере здорового основного
инстинкта повисает в воздухе. С другой стороны, мы
вновь и вновь убеждаемся, что именно такие особые
сублимации влечений лежат в основе высших культурных
61
достижений в сфере поэзии и религии. Именно там, где
отказ от влечений парализует переживание
удовлетворения, — именно там зачастую распускаются самые
изысканные цветы человеческого духа; именно так время от
времени происходило с любовной лирикой Гете.
Половую холодность — или даже стойкую антипатию
к эротическому — мы, далее, обнаруживаем у таких
героических деятельных натур (в чем-то подобных драматургам),
как Тилли* и Робеспьер; в этой подгруппе гениев она, по-
видимому, связана частью с аномальной направленностью
влечений, частью с общей холодностью темперамента,
которая является основным фактором успеха многих
великих практических деятелей. Впрочем, другие варианты
влечений тоже нередко обнаруживаются у великих людей с
властной натурой и у их ближайших кровных
родственников; отчасти и здесь определенную роль играет половая и
общая холодность темперамента. Но, разумеется, эти
холодные натуры составляют лишь какую-то часть людей,
добивающихся практического успеха.
И наконец, мы находим среди гениев достаточно много
людей со слабым или совершенно заурядным развитием
элементарных влечений — например, среди ученых
(преимущественно теоретического склада). Здесь мы нередко
обнаруживаем высокую степень общего отсутствия
потребностей, в частности, относящихся к питанию и прочим
приятностям телесной жизни; что касается полового
влечения, то среди них нередко встречаются эротически
индифферентные, и многие вследствие своей
индифферентности влечений остаются неженатыми. Это может быть
связано и с физическими недостатками, как, например, у
Канта; во всяком случае, астеническое телосложение в
этой группе встречается очень часто.
В этой главе нашего краткого очерка мы из всего
множества факторов, играющих ту или иную роль в структуре
высшей психической жизни, рассмотрели лишь один, а
* Тилли, Иоганн Церклас (1559—1632)— уроженец Брабанта,
полководец, служивший в испанской, австрийской, немецкой армиях.
Ml
именно динамику жизни влечений. Было бы неверно
считать эти важные инстинктивные конституциональные и
наследственные факторы единственным ключевым
моментом высшего психического развития, точно так же как
было бы признаком редкостной душевной слепоты, если бы
мы из мировоззренческих соображений не захотели
увидеть то, что ясно осознали не только биологи, но и не
лишенные психологической проницательности философы, —
именно то, что конституциональная структура влечений
человека, говоря еще раз словами Ницше, «достигает до
самой высокой вершины его духа».
Отчасти первично конституциональное, отчасти
трансформированное ранними влияниями, вариантообразова-
ние структуры человеческих влечений имеет столь же
мало прямых соотношений с ценностными шкалами, как и
варианты мутаций растений и животных. Случайности
наследственных комбинаций приводят к возникновению
серий вариантов одного вида — ценных, нейтральных и
вредных. В некоторых вариантах структур человеческих
влечений центры источников высших возможностей
духовного развития, метафизической жажды, жертвенности,
чувства долга, аскетизма и идеализма оказываются рядом
с источниками влечений, относящихся к бесполезным и
даже к в высшей степени вредным вариантам перверсий,
неврозов и психозов. Определение ценности и ценностный
отбор здесь, как и во всей остальной биологии,
обеспечивает только взаимодействие с окружающей средой.
Глава 3. ИСХОДНАЯ ФОРМА ЛИЧНОСТИ
Мы привыкли видеть в портретах гениальных людей
важные документальные свидетельства об их личности,
причем мы видим «зеркало души» не только в подвижных
выражениях черт, но точно так же — и в постоянных
формах лица и тела, в отношении которых уже в древности
высказывались предположения о наличии какой-то связи
ядра духовного существа человека с его «исходной формой,
J63
находящейся в живом развитии». Это соответствует
общепринятому справедливому мнению о том, что гениями
рождаются и что в гениальности «свершается судьбы пред-
начертанье», другими словами, — что высшие
оригинальные духовные свершения возможны лишь на базе особой
наследственной предрасположенности, которая хотя и
может быть развита серьезными индивидуальными
усилиями и благоприятными влияниями среды — или даже
стимулирующими, может быть уже в детстве
«включающимися» жизненными трудностями, — однако заменена ничем
быть не может. Соответствующие доказательства
настолько хорошо известны каждому из повседневного опыта
достижений на уровне обычной одаренности, что перечислять
их излишне.
Поэтому такие сугубо личностные свершения, какие
представляют собой великие произведения художников
или открытия исследователей, особенно стимулируют
наши попытки выделить из телесной оболочки связанное с
ней исходное и первичное ядро личности, ум и характер
которой породили эти свершения, найти те типичные
потенциальные возможности и те непреодолимые
ограничения, которые при всех усилиях и всех внешних
перипетиях жизни остаются факторами духовного развития
великого человека, выделить из хаотического нагромождения
биографических свидетельств об отдельных поступках и,
зачастую, совершенно парадоксально сочетающихся
свойствах личности типичные, постоянно воспроизводящиеся
внутренние зависимости и комбинации, то есть базовые
корни личности — и таким образом выявить в типичных
социологических эффектах их типичные биологические
источники.
В моей книге «Körperbau und Charakter»* я подробно
рассмотрел эти зависимости, в частности, и в
приложении к гениям. Это именно те зависимости, которые
позволяют понять не только связи определенных типов ду-
* Русский перевод: «Строение тела и характер», М., Педагогика-
Пресс, 1995 (первое издание на русском вышло в 1924 году).
64 I
ховного творчества с определенными формами
психопатий и психических нарушений, но также и некоторые
соответствия между душевными наклонностями и
внешними телесными формами. Я не стану полностью повторять
приведенный там анализ, здесь достаточно будет лишь
эскизно очертить его контуры — для того, чтобы вообще
привлечь внимание к этой существенной составной
части исследования гениальности, а кроме того, чтобы в
какой-то мере прояснить читателю, не имеющему
психиатрической подготовки, некоторые основные понятия, ко-
торьми мы будем пользоваться в этой и последующих
главах.
Для того, чтобы можно было понять, что мы
подразумеваем здесь под «первичной личностью», необходимо
вначале убрать вторичную надстройку личности.
Типичным примером психологической системы, которая
тщательно исследует прежде всего эту вторичную надстройку
личности, является известная теория Адлера.
Чувствующий свою слабость в борьбе с окружающим его миром и
стремящийся к власти человек выстраивает некий
внешний фасад своей личности, некий ряд свойств характера,
которые, в сущности, имеют смысл лишь ложных линий
укреплений, бутафорских позиций и фортификаций в
сражении с жизнью. Большинство окончательных,
комплексных свойств характера с вложенными в них социальными
и этическими оценками — это не простые первичные
элементы личности, а сложносоставные, созданные во
взаимодействии с окружением надстройки над собственно
ядром наклонностей. Древняя физиогномика — как и
нынешние популярные физиономисты — предпринимала
многократные попытки связать телесные особенности
человека именно с этими окончательными, вторичными
свойствами характера, найти, скажем, какие-то природные
божественные или дьявольские черты или телесные
корреляты благородства, человеколюбия, алчности, гордости,
тщеславия, недоверчивости, религиозности. Это
тупиковый путь.
3 Зак. 662
165
Но за обманчивым внешним фасадом скрывается
собственно первичное ядро личности, жестко заданное
наследственностью, хотя форма его границ и может
изменяться под давлением жизни. Для всякого
естественнонаучно мыслящего и философски подготовленного человека
очевидно, что это наследственно-обусловленное ядро
личности не может включать в себя фиксированные свойства
характера — но лишь определенные элементарные
предрасположенности, определенные тенденции реагирования.
Эти тенденции реагирования могут быть различны и
зависят от типа конституции; только эти элементарные
психические предрасположенности и могут непосредственно
коррелировать с телесными свойствами. С другой
стороны, для нас наличие такой корреляции некоторого
психического фактора с комплексами телесных свойств —
индикатор того, что мы нащупали какой-то фактор,
связанный с первичными душевными задатками.
В аффективной сфере такими элементарными предрас-
положенностями являются, например, привычная
склонность к преимущественно веселому или печальному
расположению духа, к нервической раздражительности или
невозмутимости в условиях психических воздействий. Это
такие факторы, которые в самом деле обнаруживают
сильную корреляцию с телесными свойствами; примером
может служить повсеместно признанная сегодня связь
между маниакально-депрессивным симптомокомплексом и
пикническим габитусом.
Отыскание таких первичных, простых факторов
склонностей и сведение сложных личностных различий и
различий в одаренности к сравнительно ограниченному
числу простых предрасположенностей является дальнейшей
целью нашего исследования, важным подспорьем
которого, наряду с описательной статистикой, будет именно
экспериментальная психология. Эти факторы мы обозначим
как «коренные формы личности».
Нами уже выполнена большая серия
экспериментальных исследований в области психологии эмоций и психо-
66 I
логии мышления. К примеру, была проведена целая
группа различных экспериментов с одной общей постановкой
задачи: испытуемый должен был мгновенно разлагать
быстро появляющиеся комплексы смешанных восприятий
света, цвета, форм и букв. Способность расщеплять
сложные внешние восприятия мы обозначаем как
«расщепляющую способность». Она является элементарным
конституционально-обусловленным фактором и, например, как
показали эксперименты в самых разных условиях, у
людей с лептосомным телосложением намного выше, чем у
пикников. Эта расщепляющая способность представляет
собой источник, к которому восходит ряд сложных
психических свойств, играющих фундаментальную роль в
возникновении различий типов личности и одаренности (в
том числе и в гениальных проявлениях), — таких свойств,
как склонность к абстрактному или конкретному
мышлению, к анализу или синтезу, а в аффективной сфере — к
образованию эмоционально акцентированных
комплексов. Совместно с другими элементарными факторами эта
расщепляющая способность обусловливает также
склонность к формированию идеалистической или
реалистической жизненной установки.
Сходные конституциональные различия элементарных
предрасположенностей существуют, помимо прочего, в
отношении восприимчивости к цветам и формам,
имеющей особенно большое значение для формирования
художественного образа мира и, далее, в отношении
устойчивости в затяжных процессах, способности к
длительному напряжению мысли и воли, —то есть в отношении
фактора выносливости, в значительной мере
определяющего индивидуальный тип энергии, постоянства или
подвижности, душевной восприимчивости и способности к
концентрации, а значит, и характер высших достижений
великих людей.
Телесные моменты, с определенной частотной
вероятностью указывающие на такие психические
предрасположенности, заключаются не в отдельных чертах, каждая из
з*
|б7
которых сама по себе говорит немного, а в типичных
группах таких черт, то есть в совокупных типах телесного
облика, которые нередко оказываются хорошо выражены на
портретах гениальных людей и могут быть подробнее
изучены на основе прилагаемой к настоящей книге
портретной галереи. При оценке портретов с целью выявления той
или иной духовной предрасположенности,
рассматриваются следующие типы строения тела: пикнический,
отличающийся округлой приземистой фигурой (как у матери Гете
или у Александра фон Гумбольдта) и мягко очерченным
широким лицом с пропорциональными чертами; для
мужчин этого типа характерны густая борода и усы и раннее
облысение; лептосомныи*, узкогрудый (встречается у очень
многих философов и драматургов-трагиков), с острым,
худым, чеканным профилем, иногда — с признаками
«ретардаций», например, с детскими, неразвитыми чертами
лица (Кант, Клейст), и шплетический, костно-мускульный.
Рассматривать сложные частные особенности этих
основных форм мы здесь не имеем возможности. Кроме того,
существует еще ряд редких малых типов, частные
особенности и дисплазии которых определяют, например, такие
моменты, как эндокринный статус или сексуальная
конституция, а тем самым, и связанные с ними факторы
психической предрасположенности, варианты развития и его
задержки.
Чрезвычайно интересно понаблюдать за тем, как
основательно великие мыслители прошлых столетий
занимались исследованием собственной конституции. Так, в
работах философа Лейбница, написанных на латинском
языке, содержится его самоанализ, в котором автор,
опираясь на античное учение о темпераментах, дает звучащий
почти современно обзор, охватывающий все стороны его
натуры: основные телесные и психические особенности,
здоровье и болезненные склонности, морфологию, обмен
веществ и темперамент. Из этого протокола самонаблю-
* В книге Кречмера «Строение тела и характер» для обозначения
этого типа используется также термин «астенический».
68 1
дения, написанного от третьего лица, мы выбираем и
воспроизводим дословно только те фразы, которые нас здесь
интересуют. Лейбниц говорит о себе следующим образом:
«Росту он среднего, худ, с лица бледен. Руки
обыкновенно холодные, к потению не склонен; ноги и пальцы
имеет длинные и худые весьма. Ладони его
бесчисленными линиями исчерчены. Волос на теле не слишком много.
Голос имеет слабый и не столь глубокий, сколь высокий и
чистый. Весьма расположен к укрепляющим дух
благоуханиям. Охоч до сладкого, до сахару, которого к вину
примешивать обычай имеет.
Потребность его в беседе невелика, а любит он
одинокое размышление и чтение. Касательно движений души
его можно сказать, что никогда не бывает он очень уж
весел или очень уж гневен, и ни радости, ни боли никогда
не бывает у него без меры. Смех большею частью
приводит в движение лишь лицо его, груди не сотрясая.
Двигается он нельзя сказать, чтоб слишком много. Во сне
покоен. Особливо одарен к изобретениям и произведению
суждений. Без труда способен разнообразнейшие вещи
примысливать, читать и писать, и без предуготовлений об
оных говорить, и всякий духовный предмет проникать и
до последних глубин исследовать.
Материя духовная напряжена в нем чрезмерно.
Поэтому опасаюсь я, как бы от своего бесконечного
штудирования и своих меры не знающих размышлений не получил
он когда-нибудь мозговой горячки или не испустил бы дух
по причине полного израсходования мозговой жидкости.
Должно также полагать, что следует ему остерегаться
какого-нибудь рода чахотки».
Это самоописание, как замечал сам Лейбниц, не
укладывается в схему греческого учения о темпераментах.
Зато оно представляет собой классическое описание
высокоодаренного лептосомного шизотимика с худощавым
телосложением и наклонностью к аутистической интро-
версии; при этом показателен контраст между внешней
психомоторной сдержанностью и интенсивнейшей внут-
|б9
ренней духовной жизнью. Отчетливо просматривается
сильная наклонность к логическому абстрактному
мышлению, в то же время о каких-либо образных
представлениях вообще не идет речи, а известные диатетические*
броски темперамента циклотимиков — от веселого к
печальному — представляются явно ослабленными и
приглушенными. Таков этот самоанализ Лейбница (в
немецком переводе опубликованный профессором Engelhar-
dt'oM).
Что касается болезненных психических явлений, то у
пикников наблюдается склонность к периодическим
колебаниям состояния духа (Гете), к беспричинным
спорадическим подъемам и спадам настроения, но в
особенности — к болезненной меланхолии в среднем возрасте или
в возрасте инволюции. Болезненные
предрасположенности такого рода обозначают как циркулярные. В отличие
от пикников, у лептосомных, худощавых людей наиболее
критический возраст — пубертатный, время полового
созревания; в этот период те из них, кто не отличается
крепким здоровьем, склонны к избыточным перенапряженным
мечтаниям, философским размышлениям, конфликтам с
родителями и окружающими; они испытывают трудности
в выборе профессии, увлекаются то одним, то другим, но
затем остывают и забрасывают начатое (кризисы
пубертатного периода). Если дело доходит до психического
заболевания, то заболевают они в этом возрасте
преимущественно шизофренией (гебефрения), которая чревата
катастрофическим распадом психики (Гельдерлин).
Атлетически сложенные люди психологически
отчасти схожи с лептосомными и в норме, и в патологии; так,
эксперименты подтвердили, что фактор выносливости
(устойчивости в затяжных процессах) у обеих групп
одинаков. Но в целом атлеты образуют самостоятельный тип
* «Соотношение, при котором в циклоидной личности сочетаются
гипоманиакальные и мрачные черты темперамента, мы называем диа-
тетической пропорцией» {Кречмер Э. Строение тела и характер. М, 1995,
с. 453-454).
*4
темперамента, который мы обозначаем как «вязкий»,
имея в виду некую характерную «вязкотекучесть» их
реакций (подробнее смотри об этом в книге Kretschmer'a и
Enke «Die Persönlichkeit der Athletiker»). Если начинать с
негативных характеристик духовных качеств атлетических
людей, то надо прежде всего отметить типичное
отсутствие того, что французы называют остротой ума, то есть
легкости, текучести, полетности мысли, а также
тонкости и чувствительности. В целом, для образа мышления
атлетов характерны спокойные, простые, взвешенные
суждения; при высокой одаренности, проявляющейся,
например, в научных работах, это производит впечатление
некой спокойной солидности и надежности. Почти всех
атлетов считают сухими и рассудочными;
многосторонность и наличие стойких побочных интересов для них —
исключение. Роль фантазии и спекулятивного духа
незначительна. Но зато в качестве сильной позитивной
черты у некоторых исследователей этого типа на первый
план выходит большая работоспособность и
основательность. У атлетов не наблюдается такого характерного и
обладающего высоким творческим потенциалом
духовного комплекса, каким является, например, для пикников
гипоманиакальный синдром с его бьющим через край
изобилием идей, а для лептосомных — восприимчивая
рафинированная тонкость ума или строгая абстрагирующая
систематичность. Поэты и художники среди атлетов очень
редки. У исследователей и мыслителей элементы
атлетического темперамента могут оказывать благоприятное
воздействие в плане увеличения стабильности и
работоспособности; так, Гегель, в чертах лица которого отчетливо
просматриваются атлетические стигмы, выделяется
среди философов спокойной рассудительностью, твердостью
и уравновешенностью как поведения, так и духовной
структуры. В практической сфере основой силы
характера выдающихся атлетов является их непоколебимый
душевный покой, отсутствие нервозности и малая
чувствительность к раздражениям. При смешении атлетического
7\
и пикнического типов (как, например, у Гинденбурга),
могут достигаться поразительные степени здравомыслия,
здорового хладнокровия и устойчивой надежности,
которые у этих людей не отказывают и ни в малой мере не
изменяются даже в условиях самых ужасных катастроф;
такие люди, находясь в центре вихря самых потрясающих
событий, способны с аппетитом есть и хорошо спать.
Этот род душевной силы есть нечто совершенно иное,
чем напряженная холодность и внешнее самообладание
таких внутренне высокочувствительных лептосомных
шизотимиков, как, например, Фридрих Великий или
Мольтке.
В области патологий мы обнаруживаем, что атлеты
сильнее представлены, во-первых, среди гебефреников, а
во-вторых, и главным образом, — среди эпилептиков.
Наконец, телесные уродства (дисплазии) тоже чаще всего
встречаются у гебефреников и эпилептиков, тогда как у
циркулярных и меланхоликов они очень редки.
У здоровых людей с различными типами строения
тела мы прежде всего обнаруживаем различия в
темпераментах, то есть в складах характера и в психической
подвижности; эти различия, далее, очень сильно
сказываются и в сфере интеллектуальной предрасположенности.
Если мы теперь отвлечемся от многочисленных
факторов конституционального вариантообразования, которых
мы еще коснемся в последующем изложении (к ним
относятся, например: особенности эндокринной системы,
ретардации, инфантилизм и ювенилизм, сексуальная
конституция), и ограничимся рассмотрением трех главных
типов строения тела, то, помимо вышеописанного
вязкого темперамента атлета, мы сможем выделить шесть
различных темпераментов, из которых три связаны
преимущественно с пикническим телосложением, а три
других — преимущественно с лептосомным. Темпераменты,
встречающиеся преимущественно у пикников, мы,
принимая во внимание склонность людей такого
телосложения к периодическим колебаниям душевного состояния,
^4
будем называть циклотимическими*, а темпераменты,
встречающиеся преимущественно у лептосомных, — ши-
зотимическими**, учитывая сильно выраженную
способность людей этого типа к расщеплению психики,
обнаруживающуюся как при наблюдении за
соответствующими душевнобольными, так и в экспериментах на
здоровых. Специальные исследования показали, что цик-
лотимический темперамент демонстрируют почти 95%
пикников, а шизотимический — более 70% лептосомных.
Темпераменты циклотимиков варьируются в диапазоне от
веселого до печального; среди них мы выделяем
следующие три: гипоманиакальный (весело-подвижный), син-
тонный*** (прагматический и юмористический) и
медлительно-тягучий. Общими свойствами всех этих трех
циклотимических групп являются: обращенность вовне,
открытость миру, общительность, приветливость. У ши-
зотимических темпераментов, напротив, общей является
склонность к аутизму, то есть к уходу в себя, к
отшельничеству, к лишенной какого бы то ни было юмора
серьезности. Состояние их духа варьируется не в измерении
весел ый-печальный, а в измерении
раздражительный-бесчувственный. Здесь выделяются следующие три
темперамента: гиперэстетический**** (нервически
раздражительные тонкочувствующие и нежные люди, живущие
преимущественно внутренней жизнью), промежуточный
(холодно-энергичные и систематически последовательные
люди) и, наконец, анэстетический***** (холодные,
чудаки-одиночки, инертные, медлительно-равнодушные).
Таким образом, и здесь, и в последующих главах мы
будем называть циклотимическими или шизотимически-
ми большие группы психических предрасположенностей
и темпераментов как больных, так и здоровых людей; цик-
* От rp. KVKA.OÇ — круг и ОлЗцбс — дух, душа.
** От гр. axiçw — раскалываю и (НЗцбс — дух, душа.
'** От гр. aùv-xovoç — созвучный, согласованный.
'** От гр. \тер-шает|то<; — сверхчувствительный.
** От гр. àv-aio9r)xoç — бесчувственный.
m
лоидными или шизоидными — соответствующие
психопатические пограничные состояния, а циркулярными или
шизофреническими — соответственные психические
нарушения.
Нижеследующая таблица (дополняемая портретной
галереей, приведенной в конце книги) отражает те влияния,
которые конституциональная предрасположенность
гениальных людей оказывает на конкретное направление
развития их одаренности и на область ее наивысшего
проявления.
Конституциональные типы одаренности
Поэт
Исследователь
Вождь
Циклотимики
Реалисты, юмористы
Наблюдатели, описатели,
эмпирики
Грубые храбрецы,
деятельные организаторы,
смышленые посредники
Шнзотимики
«Патетики*, романтики,
формалисты
Строгие логики,
систематики, метафизики
Чистые идеалисты,
деспоты и фанатики, люди
холодного расчета
Глава 4. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ОДАРЕННОСТИ
Мы видим, что возникновение гения часто является
результатом соединения высокой одаренности с неким
психопатологическим компонентом. Последний
возникает по тем же общим закономерностям, по каким
передаются гто наследству психопатии и эндогенные психозы.
Что же касается проблемы одаренности гениев, то это
частный вопрос общих исследований одаренности как
таковой. Сегодняшнее состояние этих исследований
позволяет считать установленным, что существенной причиной
достижений высокоодаренных людей является именно
наследственность, а не внешние факторы влияния
окружающей среды. Peters собрал школьные оценки более чем
тысячи детей и сравнил их с оценками их родителей, деду-
74
шек и бабушек. Оценки детей в целом закономерно
отличались от средних детских оценок в ту же сторону, что и у
их родителей, то есть дети высокоодаренных родителей в
среднем тоже являются высокоодаренными, а дети
малоодаренных — в среднем — тоже малоодаренными. Причем
соответствующее отклонение у детей в среднем
составляет примерно одну треть от такового у родителей.
Соответствие между средними оценками дедов и внуков оказалось
лишь ненамного меньшим.
Наиболее существенного продвижения в решении
вопроса о соотношении значимости наследственности и
влияний окружающей среды для проявлений одаренности
добился Gottschaldt (1936), использовавший строгий с
точки зрения биологии наследственности метод близнецов и
представивший общее состояние проблемы в
справочнике по биологии наследственности, вышедшем под общей
редакцией Just'a. Он собрал вместе 44 пары однояйцевых
и 25 пар двуяйцевых близнецов, месяцами жил с ними,
детально изучил их личности и провел 4076 отдельных
экспериментов по изучению их способностей.
Корреляционно-статистические подсчеты показали, что в области
интеллектуальных возможностей влияние наследственности
намного превосходит воздействия окружающей среды. В
цифрах относительное влияние факторов
наследственности и среды выражается соотношением 2,4 : 1, то есть
наследственность влияет примерно в два с половиной раза
сильнее, чем окружающая среда. Этот вывод
подтверждается результатами обработки больших массивов данных по
близнецам, выполненной другими немецкими авторами и
американцами: и у этих авторов наследственность в сфере
интеллектуальных возможностей оказалась примерно в два
раза более значимым фактором, чем модифицирующее
воздействие среды. В отношении других важных для
проблемы высших достижений личностных факторов этот
перевес наследственности еще сильнее. По расчетам Gott-
schaldt'a, соответствующее отношение наследственность-
среда для активности (энергичности, живости) составило
№■
6,3 : 1, для реактивности — 4,7 : 1, для исходной
мотивации — 12 : 1. Таким образом, в том, что мы называем
«глубинной личностью», перевес наследственности
оказывается подавляющим.
Этому выводу полностью соответствуют результаты
статистических подсчетов, выполненных на материале
исследований знаменитых людей. Woods изучил родственные
связи 3500 известных американцев. Выяснилось, что для
среднего американца вероятность оказаться близким
родственником знаменитого человека составляет 1/500, в то
время как статистическая вероятность оказаться близким
родственником выдающегося человека в среде самих этих
выдающихся людей составляет 1/5. То есть, — если, для
ясности, высказать это в несколько наивной форме, — эти
выдающиеся американцы в сто раз более родственны друг
другу, чем всем прочим американцам. Сходным образом
Galton изучил родственные связи примерно тысячи
известнейших людей Англии; по его данным, на сто
выдающихся англичан в среднем приходится 31 выдающийся отец,
41 выдающийся сын, 17 выдающихся дедов и 14
выдающихся внуков. Совершенно аналогичные соотношения
нам дает генеалогия немецкой интеллигенции. Так, совсем
недавно H. W. Rath исследовал близкие
кровно-родственные связи большинства швабских поэтов и мыслителей. В
потомстве супружеской четы Буркхардт-Бардили он
обнаружил общих родственников у Шеллинга, Гельдерлина,
Уланда и Мерике, от которых, далее, линии родственных
связей протягиваются к Гауффу, Кернеру*, Гегелю и
Моцарту. Фундаментальные генеалогические изыскания Som-
mer'a позволили обнаружить линию происхождения Гете
от Лукаса Кранаха. Проведение подобных широких
исследований наследственности, несомненно, позволит выявить
целый ряд не известных ныне кровно-родственных связей
знаменитых людей, в особенности в тех регионах, где
существуют генеалогические описания родов и где частота
* Кернер, Юстинус (1786—1862) — немецкий писатель,
представитель «швабской школы» немецкого романтизма.
76
появления гениев столь же высока, как в Швабии, —
например, в Саксонии-Тюрингии. В этом плане весьма
впечатляющие примеры мы обнаруживаем в княжеских и
дворянских родах, члены которых с давних пор интересуются
своей генеалогией; я упомяну лишь отпрысков рода Нас-
сау-Оранье, известных частой наследственной передачей
одаренности в кровно-родственных связях друг с другом,
со знаменитыми французскими маршалами, с не менее
знаменитыми Гогенцоллернами и т. д. Во всяком случае,
уже сегодня можно сказать, что и в Германии в среде
личностей, оставивших след в истории развития духа,
частота их родственных связей между собой значительно выше
уровня, соответствующего простым статистическим
ожиданиям.
Если, однако, мы углубимся в подробности, то
обнаружим не только сам факт наличия наследственных
связей между одаренными людьми, но и увидим, как
ручейки определенных частных одаренностей в процессе
поместного и семейного культивирования сливаются в четко
выраженное русло таланта. При этом, правда, мы
постоянно встречаем и такие случаи, когда гений вырастает на
непредвиденном месте, из народной почвы, без какого-
либо явного предварительного культивирования, как
случайный самосев, когда в его роду не просматривается ни
особенно высокой одаренности, ни какой-то, допустим,
явной преимущественной предрасположенности,
выражающейся в профессиональных предпочтениях (Кант,
Фихте, Гайдн и др.).
Тем не менее и в таких случаях, когда, скажем, гений
происходит из крестьянского или ремесленного сословия,
следует обращать внимание на социальное положение его
предков внутри ремесленного цеха или деревенской
общины: оно может указать на увеличение признаков
одаренности в роду. Так, родословная Гайдна показывает, что и
его отец, каретный мастер Матиас Гайдн, и отец его
матери Лоренц Коллер, мировой в своем родном селе Рорау,
были, так сказать, интеллигентными, толковыми людьмрт,
I*
пользовавшимися уважением и доверием как своих
сограждан, так и местных властей. То же справедливо и для кре-
стьянско-мещанской ветви предков Шиллера, в которой
представители мужской части рода по отцовской линии из
поколения в поколение становились судебными
заседателями и сельскими старостами, а начиная с отца Шиллера
определился уже видимый социальный подъем рода.
Такие примеры, при желании, можно множить сколь угодно
долго (при этом, переходя к условиям новой
хозяйственной жизни, следует обращать внимание на такие
означавшие типичное социальное продвижение профессии, как
машинист локомотива, фабричный мастер и т. п.). Таким
образом, культивирование одаренности не связано с
привилегированными сословиями (точно так же, как и с
хаотическим перемешиванием населения): оно не зависит от
благосостояния и власти. Аристократия духа неизменно
возникает там, где в культивированных родовых и
профессиональных группах накапливаются конкретно
направленные одаренности и качества характера.
То, что среди миллионов людей временами случайно
возникают удачные наследственные комбинации,
соответствует вероятностным ожиданиям. Однако этих
случайностей было бы недостаточно для того, чтобы покрыть
потребность в лидерах, существующую у всякого народа. В
то же время мы видим, что определенные роды и
профессиональные группы, связанные внутри
кровно-родственными отношениями, участвуют в направленном
культивировании талантов и гениев какого-либо народа намного
активнее, чем другие.
Предпосылкой поддержания такого высокого уровня
культивирования является естественное разделение
народа на роды и сословия и длительное укоренение
отдельных групп населения на определенном пространстве
малой родины, то есть высокая степень оседлости.
Постоянные перемещения больших масс народа внутри страны и
разбухание флюктуирующего городского населения едва
ли могут способствовать появлению очагов инбридинго-
78|
вого взращивания частных высоких одарснностей,
которые, в свою очередь, составляют предварительную стадию
в накопительном процессе культивирования гениальности.
Ведь даже феномены типа скрещивания внутри одного
народа могут возникать лишь там, где противостоят друг
другу закрепленные инбридингом наследственные массы и где
сохраняется богатый фонд прочных очагов инбридингово-
го взращивания.
К таковым в первую очередь относятся роды
художественных ремесленников, которые, как можно показать,
играют особенно большую роль в появлении bcjhkhx
музыкантов и художников. При этом гениально одаренный
либо сам происходит из рода художественных
ремесленников или занимавшихся искусством как фамильным
ремеслом, либо состоит в ближайшем кровном родстве с
такими людьми; назову для примера имена следующих
знаменитых музыкантов*: д'Альбер, Бетховен, Боккери-
ни, Брамс, Брукнер, Керубини, Гуммель, Леве, Люлли,
Моцарт, Оффенбах, Рамо, Регер, Шуберт, Стамиц,
Рихард Штраус, Вивальди — и знаменитых художников**:
Беклин, Кранах, Дюрер, Гольбейн, Менцель, Пилотти,
Рафаэль, Л. Рихтер, Ханс Тома. А в некоторых
предельных случаях образуются даже целые семейства, дающие
несколько поколений знаменитых высокоталантливых
людей; примерами могут служить известные семейства
музыкантов (Бах, Куперен, Бенда, Иоганн Штраус).
Среди предков гениев музыки значительную роль в качестве
носителей музыкального наследственного материала
играют канторы и учителя сельских школ, затем просто
профессиональные музыканты (оркестранты,
капельмейстеры и т. п.), а также одаренные дилетанты. В то же вре-
* Альбер, Эжен д' (1864—1932) — композитор и пианист; Леве,
Карл (1796—1869) — немецкий композитор, певец, органист.
** Беклин, Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец;
Менцель, Адольф фон (1815—1905) — немецкий живописец и график;
Пилотти, Карл фон (1826—1886) — немецкий исторический живописец;
Рихтер, Людвиг (1803—1884) — немецкий живописец и график; Тома,
Ханс (1839—1924) —немецкий живописец и график.
J79
мя среди ближайших кровных родственников великих
художников мы обнаруживаем и безвестных живописцев
(Беклин), и собственно художественных ремесленников,
например, литографов (Менцель, Пилотти), граверов по
меди (Л. Рихтер), златокузнецов (Дюрер) или, как в
случае X. Тома, шварцвальдского часового художника.
Вторая родовая группа, исключительно важная для
культивирования в особенности немецких гениев, — это
старинные роды ученых и пасторов. Здесь также
наблюдается своя резко выраженная односторонность развития
одаренности, хотя и в этих родах встречаются отдельные
значительные музыканты (Шуман) и художники
(Фейербах*). Политические вожди среди представителей этих
немецких родов единичны; напротив, новой истории
Франции такие французские роды дали и значительное число
политических вождей. Но в Германии такие роды
становятся основным и почти единственным наследственным
источником появления поэтов и мыслителей. Эти две
последние группы выступают в Германии в качестве почти
замкнутой однородной касты носителей соответствующих
наследственных признаков; одни и те же роды дают обе
формы одаренности, более того, в одаренности
отдельных гениев зачастую оба вида предрасположенности
смешиваются: философы являются одновременно и поэтами
(Шеллинг, Ницше), а поэты — одновременно
мыслителями и учеными (Лессинг, Гердер, Шиллер, Гельдерлин,
Уланд). Проще всего рассмотреть это на примере
большой группы швабских поэтов и мыслителей. Как
великие, так и менее значительные фигуры здесь, за
немногими исключениями, относятся к совершенно замкнутому
слою, несколько напоминающему касту, резко
выделенную по признакам национальности, образования,
социального положения и — прежде всего — кровного
родства. Их родословные постоянно переплетаются; среди
* Фейербах, Ансельм (1829—1880) — немецкий живописец, внук А.
Фейербаха, известного немецкого криминалиста, отца Людвига
Фейербаха.
80 I
предков большинства этих знаменитостей мы вновь и
вновь встречаем одни и те же известные фамилии.
Другими словами: эти гении — просто особенно
привлекающие внимание своей яркостью сгустки одаренности
большого кровно-родственного клана, в котором столетиями
шло чрезвычайно единообразное местное
культивирование бюргерской интеллигенции; причем отличием этого
клана является не какая-то конкретно-направленная
одаренность отдельных его представителей, а лишь уровень
их одаренности. Значительная часть предков Гегеля,
Шеллинга, Гельдерлина, Уланда, Мерике и многих других
принадлежит к этой сословной группе. Новейшие
генеалогические изыскания (Schwarz и др.) показали, что и
Фридрих Шиллер отнюдь ке так спонтанно выделяется
из цепи наследственности, как это казалось ранее. Так,
выяснилось, что через прабабку по материнской линии,
Ушальк, в его генеалогию входит целый ряд
значительных древних родов швабских гуманистов (таких как Ауль-
беры, Шретлины, Брассиканусы, Фоглеры, фон Плинин-
гены и др.), которые были известны еще в XVI веке и
дали видных прелатов, профессоров и докторов и — уже
тогда — одного poeta laureatus*, Александера Брассикану-
са, весьма уважаемого латинского поэта и профессора
Венского университета; а родоначальник рода Аульберов,
Матиас Аульбер, был выдающейся фигурой в истории
южнонемецкой Реформации и предком не только
Шиллера, но также Гегеля, Уланда и других. Если в числе
предков Шиллера были фон Плинингены (что не вполне
достоверно установлено), то они могли быть каким-то
образом связаны с родом Парацельса, настоящее имя
которого, как известно, Теофраст фон Гогенгейм, а Гоген-
гейм — название деревни под Штутгартом, родового
гнезда Плинингенов, и отец Парацельса, Вильгельм фон
Гогенгейм, — выходец из этой деревни или из соседнего
вюртембергского родового владения Плинингенов.
* поэт-лауреат (лат.).
I«
Рассматриваемый нами пример прекрасно
иллюстрирует характер отбора и последующего замкнутого
культивирования одного определенного направления
одаренности. Поскольку потребность в образованных юристах и
медиках в прошлые столетия была очень мала, то среди
представителей ученых профессий подавляющее
большинство составляли теологи, одновременно занимавшие
и высшие посты в системе образования. Этим
объясняется их значительное количественное преобладание в
большинстве старинных родов немецкой интеллигенции.
Отбор для соответствующего обучения происходил — мы
по-прежнему продолжаем наше рассмотрение на
примере Швабии — еще в школьном возрасте; будущий
схоластик должен был выдержать ряд поистине нелегких
экзаменов. Так осуществлялся постоянный отбор по
одаренности, а далее шло бесплатное обучение одаренных,
причем это распространялось как на детей, чьи родители
уже принадлежали к ученому сословию, так и на
выходцев из других сословий. И этот отбор одаренностей на
протяжении столетий имел почти исключительно
гуманистическую направленность; это была типично ренес-
сансная идея, внедрение и практическое воплощение
которой в Германии осуществляли, в основном, Меланхтон*
и Бренц**, имея первоначальной целью создать
просвещенное, интеллектуально тренированное, свободно
владеющее речью и письмом, пригодное как для
дипломатических сношений, так и для народного образования
новое дворянство — особенно в больших имперских
городах, — которое властители земель могли бы
использовать для построения новых государственных форм.
Это значит, что, помимо испытания характера
спартански-строгим воспитанием, отбор проводился
преимущественно по способностям к языку и абстрактному
логическому мышлению. Иные способности, скажем, му-
* Меланхтон, Филипп (1497—1560) — немецкий гуманист и теолог.
* Бренц, Иоганнес (1499—1570) — деятель немецкой Реформации.
84
зыкально-художественные, при высокой общей
одаренности школяров тоже могли присутствовать, но
специально их не выявляли. (Аналогичное семейное
культивирование существовало и в старинных родах юристов и
медиков, но, ввиду незначительности их числа, большой
роли оно не играло.) Представители выявленного этими
гуманистическими тестами на одаренность круга семейств
вступали в браки почти исключительно между собой, не
выходя за пределы одних и тех же узких
территориальных образований, что с очевидностью подтверждается
всеми имеющимися родословными и генеалогиями.
Если бы можно было развернуть полную генеалогическую
сеть наследственных связей старинных интеллигентных
родов какой-то определенной территории, мы увидели
бы, что высокоодаренные знаменитые представители этих
родов связаны между собой кровным родством еще
сильнее, чем об этом свидетельствуют проводившиеся до сих
пор выборочные исследования. Под воздействием
указанных двух факторов: одностороннего экзаменационного
отбора и преимущественно поместных браков —
происходило культивирование старой пасторско-гуманистиче-
ской интеллигенции, которая все более обогащалась
одаренностью именно такого, ученого направления, и нет
ничего удивительного в том, что это начавшееся в XVI
веке культивирование привело к появлению в XVIII и
XIX веках целого ряда выдающихся личностей, причем
почти у всех высокая одаренность несла на себе резко
выраженный единообразный и редкий лингво-логический
отпечаток, другими словами, эти люди вошли в историю
немецкой культуры в качестве поэтов, или мыслителей,
или тех, кто соединял в себе обе эти одаренности.
Данный пример генезиса швабской ученой
интеллигенции для меня особенно прозрачен благодаря отдельным
собственным исследованиям, а также благодаря
сведениям, почерпнутым из многочисленных частных сообщений.
Очень похожие условия гуманистического образования и
межсемейных взаимоотношений были в те времена и в
83
Саксонии; богатый урожай поэтов и мыслителей (Лессинг,
Ницше), который дала эта земля, по-видимому,
объясняется — помимо всегда подразумевающейся общеродовой
одаренности — влиянием аналогичных факторов.
Родословная Гете в ее существенных частях, и прежде всего в
ветви бабки с материнской стороны, Линдтхеймер, также
демонстрирует весьма похожее плотное скопление
региональных ученых родов из Гессена, Тюрингии и — через
материнский род Тексторов — из приграничных областей
Швабии и Франции. Весьма вероятно, что последние
являются генеалогическим связующим звеном между
предками Гете и вышеописанной группой великих швабов,
поскольку известные в северо-восточной Швабии фамилии
(Текстор, Энсслин, Пристер и др.) встречаются в
родословных с обеих сторон.
Что касается политической и военной одаренности, то
в прежние времена лица, прославившиеся в этих областях,
в большинстве своем были представителями высшей
дворянской аристократии либо мелкопоместного дворянства.
В этих сферах происходили совершенно те же самые
процессы отбора и культивирования, которые мы только что
обсудили. Однако здесь роль биологических факторов
менее прозрачна в силу того, что дворянство является
привилегированным сословием, поэтому всегда может быть
высказано возражение, что большое число дворян среди
известных политиков и полководцев объясняется внешней
привилегией допуска в эти профессиональные сферы, а не
настоящим отбором по одаренности. На это прежде всего
можно ответить, что и вообще привилегии возникли,
естественно, в результате отбора по одаренности, а кроме
того, такие привилегии не могли бы сохраниться на долгое
время, если бы соответствующие им достоинства стойко
отсутствовали. Когда различия в достоинствах
сглаживаются, через какое-то время исчезают и привилегии, как это
повсеместно и происходит в новое время.
Таким образом, везде, где имеет место накопление
высокой одаренности, мы наблюдаем сословные или сословно-
84 I
региональные процессы отбора и культивирования,
которые именно в данном месте интенсивно концентрируют и
обогащают обычно скудно рассеянные в общей массе
народа и сильно разбавленные предрасположенности. Это
относится не только к одаренности гениев, но также и к
коллективной одаренности, к общей купеческой сметке
патрицианских семей старых торговых городов или к незаменимой
роли старинных династий рабочих местной индустрии,
носителей важных достоинств психомоторной одаренности
(например, рабочих часовой индустрии и различных
отраслей точной механики в Швейцарии и Шварцвальде).
Не следует пренебрегать и влиянием чисто
социального фактора в рамках замкнутых, скованных
традициями областей, деревень и родов: это древний, связанный
с воспитанием механизм передачи интеллектуальных или
ремесленных правил, навыков и способностей
(«натаскивание»). Соотношение значимости этого фактора и
наследственности должно быть оценено количественно —
например, по методике Gottschaldt'a и других
цитированных выше авторов.
Хотя культивирование накапливающейся одаренности
в силу самой природы этого процесса оказывается
специфически односторонним, все же при таком
культивировании, помимо тех качеств, к которым изначально
целенаправленно стремились, иногда как побочные
продукты вырабатываются еще некоторые отдельные качества,
соответствующие другим сферам одаренности, однако
последние проявляются значительно реже, чем
специфические главные одаренности данного сословия. Так, из
среды дворянства — по прошествии столетий, когда оно
духовно начало облагораживаться (а возможно, уже и
биологически в какой-то мере начало отцветать), —
нередко стали выходить поэтически и художественно
одаренные люди (Микельанджело, Тициан, Клейст, Шамис-
со, Гарденберг, Эйхендорф).
Одаренность сословно культивированного
специального таланта по самой своей природе узка. Всякая резко
J85
очерченная специальная одаренность позволяет человеку
чувствовать себя уверенно в своей области, но делает его
беспомощным в том, что лежит за ее пределами. В самом
характере сословной одаренности всегда была известная
ограниченность, связанность с жесткими формами и
традициями, и сословные предрассудки — неизбежная
оборотная сторона этой ограниченности. Как же тогда в
процессе такого культивирования может возникнуть гений,
ведь отличительной особенностью гения мы считаем как
раз духовную широту, ведь гений зачастую как раз
взрывает традицию и, как правило, утверждает себя в борьбе с
застывшими формами окружающего мира? Здесь в
качестве важного фактора влияния вмешиваются процессы ме-
тизационного* типа — отчасти между близкими и хорошо
сочетающимися племенами, отчасти между возникшими в
результате инбридингового культивирования группами
внутри одного и того же народа. (Роль как инбридинга, так
и метизации особенно ясно продемонстрировал Reibmayr.)
Это опять-таки те вещи, которые нам хорошо известны из
биологии растений и животных и которые там
обозначаются как гетерозис, или «гибридная сила». Гибрид
получается крупнее и сильнее родительских пород. И когда мы
подходим к проблеме гениальности со стороны биологии,
мы сталкиваемся с такими процессами скрещивания.
Племена и расы, проходившие очень долгое инбридинговое
культивирование без метизации, часто — при явно
выраженных общих способностях — оказываются на удивление
бедны гениями, как, например, древние лакедемоняне с
их жесткой племенной замкнутостью, и наоборот, мы
видим, как те же племена, подвергшиеся в результате
завоевания или притока иноземного торгового люда через
портовые города сильному перемешиванию с другими также
одаренными и благоприятно сочетающимися с ними
племенами, через несколько столетий дают иногда такие
«демографические взрывы» гениальности, какие имели место
* Метизация — межпородное скрещивание.
8б|
в древней Элладе или во Флоренции эпохи Ренессанса:
вначале миграция народов (вторжение чужих
воинственных племен), затем столетия относительного духовного
затишья и затем период изобилия гениев. Sommer
объясняет это «кучное» появление гениальных личностей во
Флоренции главным образом начинающимся усилением
перемешивания приезжей немецкой военной знати с
местными художественно-одаренными родами. Многое
говорит в пользу этой гипотезы. Во всяком случае, известная
теория чистоты расы в строгом смысле слова (эту
«расовую чистоту» следует ясно отличать от справедливо высо-
коценимой традиционной, зрелой народности), то есть
мнение, согласно которому некая отдельная одаренная
раса якобы одна, сама по себе, является носителем всех
видов гениальной одаренности, находится в полном
противоречии с накопленными историко-географическими
статистическими данными.
К тому же понятие метизации распространяется здесь
не только на смешение рас, но на всякое смешение двух
различных человеческих групп, которые долгое время
развивались в какой-то мере замкнуто, «в себе», и вследствие этого
приобрели некий закрепленный, замкнутый характер, — то
есть на смешение народов, племен, территориальных групп,
наций, родов с выраженным биологическим своеобразием.
И здесь опять-таки бросается в глаза то обстоятельство, что
сильно смешанные роды, живущие на границе двух разных
народов (в Нидерландах, Саксонии, Австрии) производят
гениев в изобилии, в то время как во многих других родах —
по крайней мере, немецких —- производство гениев
приблизительно обратно пропорционально оседлости и
родовой несмешанности. Соответственно, основные положения
теории Reibmayr'a в главных своих чертах остаются
справедливы и по сей день, несмотря на то что, создавая ее, он еще
не располагал сегодняшними знаниями европейской
этнологии.
И в индивидуальной генеалогической статистике
отдельный гений выступает не просто в качестве продукта
87
«чистопородного» сословно-территориального выведения
одаренности, но чаще — как продукт скрещивания таких
одаренностей. Примеры гениев, возникших от смешения
разных наций, родов или сословий, то есть происходящих
из семейств переселенцев или от родителей-иммигрантов,
многочисленны: Фридрих Великий, внук француженки
Элеоноры д'Ольбрез; Гете, в родословной которого
смешались тюрингские, гессенские и швабско-французские
(Тексторы) роды; Бетховен и Шопенгауэр, потомки
голландских эмигрантов; Мерике, предки которого —
переселенцы из Бранденбурга; Шопен — и многие другие. (См.
у Reibmayr'a соответствующий список, который может
быть расширен.) В тех примерах из истории европейской
культуры, с которыми мы могли достаточно близко
ознакомиться, речь идет почти исключительно о смешении
близких родственных рас и племен. Как обстоит дело в
случае более удаленных друг от друга рас, в какой мере там
проявляются упоминавшиеся преимущества ускоренного
развития, а в какой, напротив, превалируют известные
недостатки и опасности метизации, — это можно выяснить,
по-видимому, только на материале великих азиатских и
американских культурных народов, и в первую очередь, на
материале их ранней предыстории.
На примерах отдельных выдающихся личностей очень
удобно исследовать влияние биологических процессов
скрещивания и причины, в силу которых эти процессы
могли привести к появлению гения. Противоположность
контрастирующих частей родословной в крайних случаях
приобретает характер поистине «вражды зародышей»,
играющей важную роль в человеческой биологии и
патологии, на что справедливо указывал в первую очередь
Hoffmann. В этих случаях возникает сложная
индивидуально-психологическая конструкция, части которой,
происходящие из двух резко конфликтных наследственных
масс, всю жизнь находятся в поле напряжений
противоположных полюсов. Это конфликтное напряжение
возникает, прежде всего, как аффективно-динамический
88
фактор, вызывая лабильность равновесия, чрезмерное
аффективное давление, не знающую покоя внутреннюю
заряженность гениев, высоко поднимающую их над
уровнем спокойных традиционных профессиональных
занятий и сыто-довольного наслаждения жизнью. А в
интеллектуальной сфере это напряжение создает большой
духовный диапазон, многосторонность, сложность и
богатство одаренности, широту личности.
Это с наибольшей ясностью проявляется в тех
случаях, когда гений возникает из смешения двух очень
разных родительских темпераментов, из некоего
контрастного брака (позднее мы еще вернемся к рассмотрению
таких случаев). Полярно противоположными натурами
были сухой, педантичный, сарьезный имперский
советник Гете, отец поэта, и солнечно-веселая, брызжущая
юмором госпожа Гете, его мать, и, зная тонкие,
обусловленные темпераментом взаимосвязи отдельных черт
характера поэта, нетрудно проследить в его жизни линии,
идущие от каждого из родителей: благородный
классицизм, серьезность, основательность и прилежание ученого
и собирателя, а также несколько чопорная важность
тайного советника — это одна, отцовская, шизотимическая
линия, тогда как искрящийся, раскованный темперамент,
душевная теплота и способность к любви — другая,
материнская, гипоманиакальная. Обе они то смешиваются
в его жизни и в его сочинениях, то непосредственно
соседствуют друг с другом, разделенные границами фаз,
сочинений и умонастроений. Аналогичным образом резко
контрастировали в натуре Бисмарка грубый реализм и
юнкерский инстинкт отца с возвышенным духовным
благородством бюргерского ученого рода его матери и с ее
беспокойной нервностью, возбудимостью и язвительной
холодностью.
При таком соединении разнородных компонентов
возникают внутренние разлады, аффективные напряжения,
страстная неуравновешенность и лабильность психики;
тем самым создаются предпосылки гениальности — и пси-
I 89
хопатологических осложнений. Это соединение, таким
образом, отнюдь не безобидный, но обоюдоострый процесс,
в благоприятном случае порождающий плодотворнейшие
новообразования, а при неблагоприятных композициях
приводящий к размыванию характера и инстинктов, к
распаду и катастрофе. Здесь проблема метизации вновь
приводит нас к внутренне связанной с ней проблеме «гений и
безумие».
Неизбежно возникает здесь и совершенно
самостоятельный вопрос о том, как соотносятся вышеизложенные
положения с евгеническими устремлениями культурных
народов, имеющими целью поддержание
наследственного здоровья.
Обсуждая вопросы, связанные с выведением чистых по-
род и межпородным скрещиванием в приложении к людям,
всегда неплохо на минутку вспомнить, что чистые
доисторические расы и относящиеся к ним теории —- это
фикции, практически нигде не встречающиеся; на практике
же мы имеем дело с народами и племенами, возникшими
в результате многократного межплеменного скрещивания,
с народами «многоплеменного ядра». Практически такое
становление невозможно отрицать, и его невозможно
обратить вспять; ни от одного из источников
происхождения какого-либо народа нельзя отрекаться, и ни одним
нельзя пренебрегать. Исходя из этого, следует с
любовью, — но, в то же время, научно добросовестно и
ответственно — исследовать богатую, многокрасочную
народную россыпь одаренностей, характеров и самореализаций.
И тогда станет понятно, что именно такое происхождение
из различных близких друг другу и хорошо
интегрирующихся племен обеспечивает народу внутреннюю
жизненность, богатство и огромное разнообразие форм
одаренности; только это и позволяет ему решать то множество
разнообразных практических задач, которые встают перед
каждым великим культурным народом.
От вышерассмотренного нужно отличать вопрос,
лежащий в существенно иной плоскости: следует ли уже
90 1
сформировавшемуся дееспособному народу вступать во
все новые внешние метизационные сношения, следует ли
их поощрять — или же их следует предотвращать? Ответ
на этот вопрос довольно ясен и прост. Всякое
скрещивание — это по-своему уникальный процесс, благоприятные
или неблагоприятные последствия которого в каждом
отдельном случае с уверенностью предсказать невозможно;
люди и народы — не растения и не животные, на них
нельзя — и преступно — проводить широкомасштабные
эксперименты по скрещиванию с последующим отбором
удачных комбинаций и уничтожением неудачных.
Отсюда вывод: пока этнос жизнеспособен, естественным и
обоснованным будет отказ от изменений его доказавшей
свою жизнеспособность наследственной субстанции, то
есть от введения сильных примесей и непредсказуемых
компонентов, угрожающих сформировавшемуся
этническому типу, ставшему чем-то вроде его личности. Когда
же этнос становится нежизнеспособен, он начинает
регулярно, через более или менее значительные
промежутки времени, подвергаться набегам других, более
витальных племен; тогда, как показывает история, происходят
широкомасштабные и самопроизвольные смешения; тут
уже, как приговор, звучит грозное «умри и стань»; тут
ночь и страсть вершат судьбами народа, и наступает
закат —- или рождение нового племени. Но когда
происходят такие катастрофы, все дальнейшее уже не в нашей
власти.
Итак, практический вывод, простой, ясный и
понятный для всякого здорового человека: надо способствовать
оседлости и развитию присущих данному племени
положительных наследственных качеств, то есть целости и
сохранности доказавших свою силу биологических
источников исторически сложившейся народной или родопле-
менной общности; этого вполне достаточно для всех
практических государственных решений, и не надо
пытаться подводить под них бесконечные фундаменты
предыстории и не всегда верных наследственных теорий. При
J91
серьезном научном подходе, эффекты гибридизации и
отбора в приложении к человеческим «породам» слишком
сложны и неоднозначны, чтобы их можно было
подогнать под какие-то шаблоны. Исследователь, сознающий
свою ответственность перед истиной, здесь, так же как в
ботанике или зоологии, не может утверждать, что
гибридизация как таковая или отбор как таковой полезны или
вредны; он может только шаг на шагом выяснять, при
каких предпосылках, для каких (хорошо или плохо
сочетающихся) пород скрещивание полезно или вредно или,
в иной постановке, при какой длительности жесткого
отбора его продолжение показано, а при какой — уже
вредно.
Напротив, требование способствовать оседлости и
развитию положительных наследственных качеств не
только просто и ясно, но и имеет прочное
естественнонаучное обоснование: оно созвучно теории ботанической
или зоологической селекции, которая показывает, что для
всех групп живых организмов предпосылкой развития
является хороший наследственный отбор и — не
абсолютная, но тем не менее играющая важную роль
—связанность с определенным местонахождением и жизненным
пространством. В настоящей книге эти вопросы
особенно подробно рассматриваются в плане проблемы
культивирования одаренности, и из нашего материала ясно
видно, как идущее на протяжении столетий устойчивое ин-
бридинговое взращивание в пределах сравнительно узко
ограниченных территорий, сословий и оседлых родов в
конце концов дает то обогащение и наследственное
закрепление особых способностей и высоких специальных
одаренностей, из которых в результате смешения родов
или групп населения возникает такой сложный и
оказывающий такое могучее воздействие на общество феномен,
как гениальность.
Уже не раз отмечалось, что этот исторический ритм
чередования периодов взращивания и смешения, или, в
географических терминах, роста из внутренних и окра-
92
инных областей, из зон взращивания и из зон
смешения, — этот ритм есть нечто совершенно иное, чем то,
что еще Reibmayr* называл «хаосом кровей», это не пан-
миксия**, не те беспорядочные многократные
самосмешения произвольно сливающихся гетерогенных масс,
которое особенно характерно для космополитических
мировых центров и отмирающих великих империй. В
настоящей книге это ясно показано. При панмиксии
всегда перевешивают недостатки: потеря инстинктов,
утрата корней, раздвоенность и суетная подвижность, мелкий
духовный снобизм и бесхарактерность выродившихся
масс, — тут уже более нет почвы для того, что можно
было бы назвать культивированием, если понимать его как
комплекс направленных и закономерно протекающих
биологических процессов.
От панмиксии следует отличать те процессы
смешения, с которыми связано зарождение всех известных нам
великих культурных народов. В последнем случае речь
идет об однократных или повторяющихся через большие
промежутки времени процессах, которые ритмически
сменяются длительными периодами взращивания, а
предпосылкой возникновения таких процессов является
наличие не какой-то случайной флюктуирующей массы, а
предварительно многократно закрепленных
взращиванием племен с наследственно-развитыми способностями.
Если при этом повезет и встретятся близкие и хорошо
сочетающиеся племена, тогда смешение этих племен
ознаменует начало истории действительно нового народа —
или нового продуктивного периода истории старого
народа. Рассматриваемые процессы — так же, как и
периоды взращивания, — в зависимости от своего типа и
продолжительности, в благоприятных случаях приводят
к структурированию и укреплению характера, а в небла-
* Reibmayr A. Die Entwicklungsgeschichte des Talentes und Genies.
München, 1908. — Прим. автора.
** Панмиксия — свободное скрещивание особей в пределах
популяции какой-либо другой внутривидовой группы.
J93
гоприятных — к его роковому окостенению и
сокращению жизненного ресурса.
Таким образом, выводы нашего историко-биологиче-
ского исследования человеческих популяций весьма
точно согласуются с результатами строгой теории
наследственности, которые Wright* (1932) резюмировал
следующим образом: «Временное преобладание инбридинга
имеет, вообще говоря, исключительно благоприятные
последствия для эволюции, однако слишком сильный
инбридинг приводит к вымиранию. Какая-то определенная,
но не слишком высокая частота скрещиваний полезна...
Таким образом, жизнь на всех ступенях ее организации
зависит от некоего определенного равновесия
действующих сил».
И теперь мы подходим ко второму важному для
проблемы общей наследственной дееспособности вопросу, а
именно к вопросу связи между психопатологией и высокой
одаренностью. То, что телесное и душевное здоровье народа
в конечном счете, если смотреть в целом, составляет
основной вопрос его существования, является в такой мере
самоочевидным, что, собственно, нет необходимости это
как-то особо подчеркивать. Здоровье нужно иметь, но не
нужно делать из него культа; здоровье само по себе это еще
не достижение. Еще менее нужно делать культ из
болезни — это вернейший признак упадка и утраты инстинкта.
К такой запутанной проблеме, как возникновение гения,
можно подходить только с позиции полной и строгой
объективности поиска истины.
Никакая нормальная группа населения никогда не
соответствует по своему составу какой-то желательной для
нас теоретической модели единообразного здорового или
нормального состояния, — напротив, как и все живое, она
представляет собой ряд вариаций нормы, или даже состо-
* Цитируется по: Th. Dobzhansky. Die genetischen Grundlagen der
Artbildung. Deutsch bei: G. Fischer. Jena, 1939. Ср. также: И. Lundborg. Die
Rassenmischung beim Menschen. Bibbiographia genetica VIII, 1931. — Прим.
автора.
94 I
ит из рядов таких вариаций, то есть наряду с большим
количеством хорошо адаптированных средних индивидуумов
она постоянно порождает некое меньшее количество
крайних наследственных вариантов, которые при неизменных
в среднем условиях окружающей среды оказываются
менее устойчивыми, менее жизнеспособными и, зачастую,
более склонными к разрушению (более болезненными),
чем прочие. Возникновение таких отклонений является
частью нормы, мы не можем его предотвратить, и когда оно
не превышает обычного уровня, оно не должно нас
тревожить; более того, если вглядеться пристальнее, мы
увидим, что и за этим явлением скрывается позитивно
направленный и необходимый жизненный закон,
вмешаться в действие которого мы можем, только если развернем
активное евгеническое противодействие распространению
болезненных и плохо адаптированных вариантов или
если, тщательно изучив великие процессы саморегуляции
природы, сможем поддержать их в меру нашего
понимания и наших сил.
Если нам позволено будет прибегнуть для ясности
выражения к сугубо теологическому лексикону и если мы не
хотим со всеми нашими высокими устремлениями впасть
в самый плоский рационализм, то мы скажем, что стоило
бы серьезно задуматься над тем, чего хочет природа,
создавая свои крайние варианты. Не нам учить природу, и
если бы мы в качестве ее учеников смогли понять те
запутанные пути, которые она выбирает, сохраняя по сей день
свое равновесие, то и это было бы уже очень много — в
чем не раз убеждались в тех областях, где пытались
вводить новые, технически рациональные и, казалось бы,
превосходно продуманные методы разведения и
культивирования животных и растений. Очевидно, что порождением
очень широкого ряда вариаций природа способствует
сохранению видов при изменении условий окружающей
среды, то есть увеличивает свою общую устойчивость,
соглашаясь ради этого с возникновением множества
нецелесообразных, болезненных и разрушающихся особей; при
№
каких-то сдвигах параметров жизненного пространства
вчерашние плохо приспособленные завтра могут
оказаться приспособленными лучше всех — и наоборот.
И здесь тоже выводы наших исследований
полезности или опасности возникновения крайних вариантов у
людей в точности совпадают с результатами строгой
теории наследственности; так, Dobzhansky в связи со
своими исследованиями популяций дрозофил в природе
говорит следующее: «Вид, словно губка, всасывает мутации
и хромосомные аберрации, и таким образом постепенно
накапливается большой запас генетической
вариативности — в основном, в гетерозиготном состоянии. Оценить
значение такого аккумулирования наследственных
изменений в популяции трудно. При поверхностном взгляде,
это прогрессирующее наполнение наследственного
материала как правило неблагоприятно влияющими генами
является процессом разрушения, ухудшением
наследственного материала, которое ставит под угрозу
существование вида и в конечном счете может даже привести к
его вымиранию. Однако, с другой стороны, в плане
долгосрочного выживания накопление наследственных
изменений в популяции требуется для того, чтобы вид
сохранял необходимую для развития (и адаптации при
изменении окружающей среды) изменчивость... Природа была
не настолько любезна, чтобы дать организму способность
во всякое время отвечать соответствующими мутациями
на изменившиеся и неблагоприятные условия
окружающей среды. Мутации — это случайные изменения, и
поэтому каждый вид должен постоянно располагать каким-
то определенным запасом латентного многообразия. В этом
запасе, по-видимому, найдутся такие варианты, которые
ни при каких условиях не будут полезны... и, наконец,
такие, которые в момент своего возникновения были
нейтральны или вредны, но которые позднее могут
пригодиться... Вид, полностью приспособленный к какой-то
определенной окружающей среде, при изменении этой
среды может быть уничтожен, если в час нужды у него
964
не окажется наследственного многообразия. Необходимая
для развития изменчивость может быть куплена только
дорогой ценой хронического принесения в жертву
отдельных существ с неудачно мутировавшими генами. Однако
жалобы на это несовершенство природы все же...
неуместны». Таково мнение Добжанского.
И если продуктивные высшие одаренности у людей
всегда представляют собой в биологическом смысле
крайние варианты и как таковые, естественно, не относятся
к наиболее приспособленным и наиболее устойчивым с
точки зрения здоровья формам, то это еще не причина
беспокоиться за великие планы природы, или
по-учительски делать ей замечания, или оправдывать ее. И это не
повод отказываться от само собой разумеющегося
главного требования: народ в своей основной витальной массе
раньше всего и прежде всего должен быть просто здоров.
Если многие современные культурные народы
стремятся евгеническим путем предотвратить передачу по
наследству тяжелых форм вырождения — когда этого не
сделала сама природа, — то, с точки зрения нашего
исследования гениальности, для такой (проводимой в
цивилизованных формах) активной заботы о
наследственном здоровье народа никаких противопоказаний нет.
Мнение о том, что нам следует как-то оберегать или
предпочитать все в наследственном плане болезненное и
вырожденное, — это чистый снобизм, даже не требующий
особых опровержений. Ибо столько крайних вариантов,
сколько нужно природе по ее высшим законам, она сама
постоянно воспроизводит вновь, и нам определенно нет
нужды об этом заботиться. Но наше исследование
показывает, что известная осторожность может быть уместна
там, где в высококультивированных и высокоодаренных
кланах любой сословной группы появляются
вариационные явления, которые с общемедицинской точки зрения
мы не можем приветствовать. В этом случае после
детального и полного анализа личности и клана мы
должны определить, что в итоге перевешивает: субстанцио-
4 Зм.662
49L
нальная ценность или вырождение — и уже в зависимости
от этого принимать решение. Мы согласны с Günter'oM,
когда он говорит, что наследственная передача высокой
одаренности значит для народа «так много, что следует
примириться с некоторыми связанными с ней
наследственными дефектами». Точное знание механизма
передачи гениальности защитило бы нас, в частности, от
желания совершить ошибку спартанцев, которые уничтожали
в раннем возрасте все живое, казавшееся на первый
взгляд не слишком жизнестойким, не давая
возможности живым организмам проявить, быть может, скрытые в
них особые потенции, — или от желания определять
ценность человека для мироздания, исходя только из его
телесной витальности.
Некоторая часть того, что можно было бы назвать
«разумом» природы, явственно предстает перед нами именно
в этих высокоодаренных крайних вариантах. Во
множестве случаев они не могут служить нам ни образцами
здоровья, ни образцами хорошей наследственности, но при
удачном стечении обстоятельств один-единственный
подобный человек, к примеру гениальный исследователь или
изобретатель, способен своими духовными свершениями
кардинально улучшить витальные условия существования
миллионов и миллионов людей, современников и
потомков, и этим помочь им достигнуть решающего успеха в
жизненной борьбе. Природа здесь, как и везде, творит не
в частности, а в общем, она не соединяет в одном
человеке все достоинства, максимальное здоровье, силу и
гениальные способности, но посредством создания вариаций
так рассеивает и распределяет эти достоинства по всей
совокупной группе, что для любой цели находятся
подходящие индивидуумы. И гении в конечном счете тоже служат
достижению высшей степени здоровья и силы всего
народа, а недостаток уравновешенной индивидуальной
витальности они с лихвой компенсируют своими особыми
частными способностями, обеспечивающими целому изобилие
витальных ценностей.
98 I
То же самое справедливо и в отношении чисто
духовных и художественных свершений, хотя они дают эффект
не прямо, а через увеличение чувства жизни, — если уж
кто-то желает быть настолько односторонним, чтобы
рассматривать высшие культурные достижения
исключительно с точки зрения их витальной пользы.
И здесь наконец наше биологическое исследование
сливается с общей проблемой ценностей, понимаемых в
строго духовном смысле. Углубление в раздваивающиеся
хитросплетения реальных закономерностей жизни и в
трагические антиномии человеческого существа может
только увеличить наше уважение перед величием человеческой
души — если мы сами достаточно зрелы для того, чтобы
возвышенное воспринимать возвышенно и обращать в
поступки. Ибо героическое — это не ярко раскрашенное,
гладкое и блестящее, — это выступающий из полутьмы лик
великого человека в складках глубоких морщин,
оставленных борьбой, страданием и страстью.
Глава 5. ГЕНИЙ И РАСА
Наших современных европейских этнологов нередко
подстерегает одна опасность: они склонны приписывать
нашей европейской культуре некую уникальную ценность
для всего человечества вообще. Подобные исследователи
(а внутренне освободиться от этой склонности удается
совсем не многим) напоминают мне того
высокообразованного китайского господина, который удивлялся, почему
так уродливы почти все европейские женщины, тогда как
у китаянок это такая редкость. Голос нашей крови всегда
будет что-то нашептывать нам, и то, что сотворят люди,
похожие на нас, как правило, будет казаться нам самым
убедительным и самым важным. В высоких достоинствах
нашей вновь и вновь расцветающей на протяжении
тысячелетий европейской культуры никто не сомневается;
ниже мы подробно осветим те расовые основы, которые яв-
4*
I 99
ляются одним из существенных моментов,
обусловливающих и ограничивающих эти достоинства. Познание
специфических расовых основ какой-либо истинной
культуры не снизит уважения к значительным культурам других
рас, напротив, их характеристические особенности, их
красота и сила станут заметнее благодаря контрасту.
Каждая раса стремится подчеркнуть и утвердить свое
существование и свои специфические достоинства, но к научной
истине и к познанию это не имеет никакого отношения.
Сознание достоинства и характерного своеобразия
всякой хорошо культивированной расы, а также осознание
расовых достоинств собственной народности придает
свободу и благородство позиции внутренне уверенного
человека, который знает и защищает собственные достоинства,
не нуждаясь в карикатурном обесценивании других ради
искусственного повышения чувства собственного
достоинства. Такая позиция со времен Гердера, Гете и немецких
романтиков стала одной из лучших традиций немецкой
культуры.
Правда, некоторая часть не строго научной,
популярной литературы, посвященной расовому вопросу, создает
духовное течение прямо противоположной ориентации.
Голландский философ Хейзинга (который само
существование взаимовлияния расовых и культурных факторов
полностью признавал) в своей заставляющей задуматься книге
«В тени завтрашнего дня» говорит по этому поводу
следующее: «Тезис о расизме, принятый в качестве аргумента
в борьбе внутри культуры, всегда служит самовосхвалению.
Признал ли хоть однажды какой-нибудь теоретик
расизма, испытывая при этом ужас и стыд, что раса, к которой
он себя причисляет, должна быть названа низшей?
Расовая теория всегда враждебно направлена, всегда
выступает с приставкой „анти". Это плохой показатель для
учения, выдающего себя за науку»*. Критика многоязычной
популярной литературы по расовым вопросам не являет-
* Й. Хейзинга. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
С. 283-284. Пер. В. В. Ошиса.
1001
ся здесь нащей задачей. Я могу здесь лишь повторить то,
что — с тяжелым чувством и серьезной озабоченностью —
говорил на протяжении многих лет именно в отношении
нашего народа: «Этот путь ведет не к обьективному
знанию, но лишь к углублению предрассудков, поощрению
заносчивости и разжиганию враждебности между
отдельными сословиями, нациями и народами, а в
общественной жизни — к совершенно преждевременным
экспериментам».
Что же касается строго научной разработки учения о
расах, то уже его соматические основы требуют
прояснения и изучения. Даже в отношении различий форм
черепа, которые и образуют фундамент дифференциации
доисторических рас, нет уверенности, что они
наследственно закреплены. Более того, согласно новым
статистическим и экспериментальным данным, в особенности
Boes'a и Eugen'a Fischera, весьма вероятно, что под
влиянием окружающей среды формы черепа преобразуются,
и причем очень быстро; американские исследователи
даже утверждают, что формы черепа у американских
иммигрантов уже через несколько поколений становятся там
другими.
Если мы продумаем эту гипотезу до конца, мы придем
к заключению, что расы примерно соответствуют тому, что
в биологии растений обозначают как «местные
разновидности». В этом случае сомато-психические признаки
расы не были бы неизменяемым «остовом» из жестко
сцепленных друг с другом наследственных признаков, но лишь
изображали бы его в то время, пока соответствующее
население подвергается воздействию приблизительно одних
и тех же физико-химических условий окружающей среды,
определяемых климатом, химией почвы и т. д. И с
изменением какой-то части этих факторов окружающей среды
изменялась бы и обусловленная ими часть расовых
признаков. Так, к примеру, из какой-нибудь расы, которая с
незапамятных времен жила где-нибудь на побережье и
всегда отличалась светлыми волосами, высоким ростом и уд-
1101
линейным черепом, мог бы, скажем, при переселении в
горный климат, даже без смешения с другими расами
возникнуть вариант, отличающийся светлыми волосами и
сплюснутым черепом и т. д.
В этом случае, естественно, и вывод о неизменности
психических свойств расы оказался бы совершенно
необоснованным. И даже если мы будем исходить из той
типологии рас, которая большинством сегодня признана, то
для того, чтобы точно установить какие-то факты,
касающиеся психических особенностей отдельных этносов,
потребуется еще значительный объем конкретных
исследований и статистических данных. Только на основе фактов
мы можем прийти к суждениям об этнических качествах.
И эти суждения будут тогда намного осторожнее и —
определенно не в пользу одной нации.
Сделав эти необходимые оговорки о сложности и
научной неразработанности расовой проблемы, мы будем в
дальнейшем пользоваться простыми
общеупотребительными типологиями, беря их в том виде, в каком они чаще
всего встречаются сегодня в учебниках по антропологии.
Мы ограничимся европейскими антропологическими
типами, ибо только по ним мы располагаем доступным и
достаточно обширным материалом.
Нордический тип наиболее широко и в относительно
наиболее чистом виде распространен на немецком
побережье Северного и Балтийского морей, а кроме того — в
Англии и Скандинавии; по мере продвижения к югу
Германии он в среднем все сильнее смешивается с
альпийским типом. Динарский тип, к которому относится часть
населения немецкого Юго-Востока, мы исключим из
рассмотрения — прежде всего потому, что он пока еще
недостаточно исследован в психологическом отношении. Таким
образом, можно лишь очень грубо обсудить
типологические различия между севером и югом Германии, исходя из
того, что на юге в среднем сильнее примесь альпийского
типа, тогда как северо-запад — сравнительно более чистая
нордическая область. К северо-востоку от Эльбы этниче-
1021
ский состав сложен — как вследствие колонизации из
районов внутренней Германии, так и, главным образом,
вследствие временного притока этнических элементов из
обширных русско-азиатских пространств. С точки зрения
антропологии нордический тип описывается следующим
образом: высокий и гибкий, склонный более к худобе, чем
к полноте, с длинными конечностями; череп длинный и
узкий, сильная выпуклость затылка; лицо также
удлиненное и узкое, нос выдающийся вперед, узкий; подбородок
заметно выдается вперед, скулы узкие, утопленные;
волосы мягкие и светлые, кожа бледная, довольно прозрачная.
В отличие от него, альпийский тип описывается как
среднерослый, плотный, приземистый, с короткими
конечностями, склонный к полноте; череп округлый и
короткий; лицо широкое и круглое, нос несколько уширен
и курнос; кожа менее прозрачная, желтовато-смуглая,
волосы и брови каштановые, волосы на голове густые и
жестко-упругие, борода — негустая. Из этих телесных
типологических признаков подтверждены большой и точной
статистикой только цвет волос и бровей, форма черепа и
длина конечностей; все прочее — это, скорее, обобщение
по впечатлению и, соответственно, не должно
приниматься безоговорочно.
Приведенные описания в силу известных
соответствий дали основания предположить, что
антропологические типы могут быть идентифицированы с
определенными клинически изученными конституциональными
формами — или наоборот — таким образом, что
альпийский антропологический тип будет соответствовать
пикническому (приземистому с округлыми формами)
телосложению, нордический — лептосомному (сухопарому с
узкой грудью), а динарский — атлетическому. Для
антропологической психологии это было бы большим
удобством, поскольку психология конституциональных типов
нам хорошо известна. Мы знаем циклотимические
темпераменты пикников с их то весело-подвижным (гипо-
маниакальным), то флегматичным реализмом, и точно так
103
же знаем шизотимический характер лептосомных,
внешне холодных и прячущих в себе свою нервически
утонченную внутреннюю жизнь.
Но сегодня вопрос об идентичности
конституциональных и антропологических типов можно считать
окончательно решенным, и именно в отрицательном смысле.
Точные статистические подсчеты показали нам, равно как
v. Rohden'y и, в особенности, НепскеГю, что пикники и
лептосомные как раз по определяющим и надежным
антропологическим признакам, по цвету волос и бровей,
форме черепа и размерам тела, отличаются друг от друга
совершенно не так, как альпийский и нордический типы.
Weidenreich, основываясь на большом материале,
справедливо указал, что широко- и узкогрудые телосложения
встречаются у всех без исключения рас и народов. Таким
образом, альпийский антропологический тип
определенно не равен пикническому конституциональному, а
нордический не равен лептосомному. И японские
исследователи (Saza, Ikemi, Sugihara) посредством тщательного
статистического анализа показали, что и у антропологически
совершенно иначе сложенных восточноазиатских народов
обнаруживаются в принципе те же самые
конституциональные типы, что и у нас, и, соответственно,
наблюдаются те же сомато-психические корреляции.
Сохраняется, однако, возможность выявления у
определенных чистых или смешанных антропологических
типов повышенной — в процентном отношении —
склонности в одном случае к пикническому, в другом — к
лептосомному варианту телосложения. То есть, другими
словами, это будут в таком случае не пикнический и леп-
тосомный типы, а преимущественно пикнический и
преимущественно лептосомный — и, в связи с этим,
соответственно, преимущественно циклотимический и
преимущественно шизотимический антропологические типы.
Точно так же могут существовать и антропологические
типы с повышенным процентом атлетических форм
телосложения и, соответственно, вязких темпераментов; в
1041
этом плане привлекает к себе внимание динарский тип,
однако он еще недостаточно изучен в сегодняшнем
культурно-психологическом европейском контексте, и
рассматривать его мы не будем. Но по отношению к двум
важнейшим для нашего рассмотрения типам,
нордическому и альпийскому, вновь и вновь настойчиво возникают
конституционально-психологические сближения, причем
не только во взаимных оценках этих этнических групп,
но и в некоторых клинических статистических
исследованиях. Распространенность типичных циркулярных
психических заболеваний (тесно связанных с циклотимиче-
ской основой темперамента здоровых) определенно
различна у разных этнических групп, как, по-видимому,
различна и распространенность красивых пикнических
форм телосложения. А то, что, к примеру, в Швабии
выраженных депрессивных, равно как и маниакальных,
душевнобольных больше, чем в Гессене, я на основе
собственного опыта могу утверждать с уверенностью. При этом
понятно, что такими
конституционально-биологическими сближениями этнопсихология отнюдь не
исчерпывается, они в лучшем случае лишь проясняют некий
важный, но частный аспект ее проблематики. Ибо раса не
определяется конституцией, и конституция не
определяется расой.
Что касается психической предрасположенности, то
в плане общих характерологических свойств какого-либо
этноса мы будем опираться на издревле возникшие у
отдельных этнических групп суждения и предрассудки в
отношении друг друга, в которых, естественно, всегда есть
некое рациональное зерно (иначе их возникновение
психологически было бы едва ли объяснимо). Но
пользоваться ими мы будем лишь ввиду отсутствия точных статисти-
ко-экспериментальных данных — и предельно осторожно.
Напротив, в определении специфических направлений
одаренности отдельных этнических групп мы имеем
вполне надежные ориентиры, располагая географической
статистикой мест рождения гениев и распределения выдаю-
[105
щихся культурных памятников. Если подходить к этим
данным научно объективно, без тенденциозных расовых
предрассудков, то выводы оказываются ясны и
однозначны. Это относится в первую очередь к удельной
одаренности альпийского и нордического типов, которая яснее
всего предстает в свете культурной истории нового
времени.
Если продолжать детализацию, можно внутри
преимущественно альпийского и, возможно, преимущественно
пикнического смешанного этноса южной Германии
выделить некий повышенно гипоманиакальный
(яростно-веселый) вариант в баварской части и некий повышенно
флегматичный (медлительно-добродушный) вариант — в
швабской. Небезинтересно также, что среди южнонемецких
этнических групп та, в которой наиболее силен
нордический антропологический элемент, в то же время является
и сравнительно наиболее шизотимической — именно,
представляется, что население Вюртемберга при всем
своем флегматичном добродушии в среднем демонстрирует
более сильную шизоидную примесь, чем жители Баварии,
с одной стороны, и Бадена, с другой; особенно на фоне
баварцев вюртембергцы выделяются своей повышенной
тягучестью, негибкой жесткостью, замкнутостью и
комбинаторно-спекулятивными наклонностями.
Если мы возьмем в руки антропологическую карту
областей распространения немецкого языка, на которой
смешение нордического и альпийского типов будет
выражено статистическим соотношением количеств людей
с белокурыми и каштановыми волосами, то окажется, что
повышенный процент темноволосых (то есть по меньшей
мере 15-20 % каштановых шатенов) наблюдается на всем
пространстве немецкоязычного Юга (включая
Швейцарию и Австрию) южнее Майна. Отсюда шлейфы
темноволосого населения протягиваются на запад вниз по
Рейну, спускаясь ниже Кельна, и на восток — примерно до
Тюрингии-Саксонии. Эта смешанная зона довольно
точно соответствует области расселения тех немецких народ-
106
ностей, которые в общественном мнении выступают как
«добродушные», то есть преимущественно циклотими-
ческие; к ним относятся: рейнско-франкская, швабско-
алеманская и баварско-австрийская этнические группы,
а также — частично — и тюрингско-саксонская. Внутри
этих этнических зон с сильной примесью альпийского
типа выделяются две довольно резко отличающиеся друг от
друга подгруппы; с одной стороны, это
рейнско-франкская и баварско-австрийская народности, в
темпераменте которых сравнительно явно выражен гипоманиакаль-
ный элемент (чувственно-радостные, наслаждающиеся,
веселые, подвижные и разговорчивые); с другой — шваб-
ско-алеманская народность, характерология которой в
швабском варианте колеблется от выраженной
флегматичности или медлительности до солнечного благодушия
и тяжеловатого юмора Мерике, однако редко при этом
достигает гипоманиакальной бодрости, а в швейцарском
варианте более соответствует среднестатистической цик-
лотимической реалистичности, практичности,
домовитости, деловитости, склонности к приобретению и
сохранению. И во французском национальном характере этот
мелкобуржуазно-реалистический дух среднего циклотими-
ка проявляет себя, наряду с гипоманиакальным
элементом, в известном типе мелкого французского рантье. Ши-
зотимические примеси упомянутых народностей мы здесь
рассматривать не будем. Конечно, все эти народности не
односторонне циклотимичны, однако явно циклотимич-
нее, чем более нордические северо-западные немцы.
Предположение о том, что у весело-подвижных
немецких народностей их гипоманиакальный компонент идет
от альпийской примеси, мы принуждены были сделать
per exclusionem*. Дело в том, что в рейнской и
франкской зонах, по-видимому, активно этнически
смешивались только два типа: нордический и альпийский. Но
нордический тип, хотя он и не совсем свободен от цик-
* в виде исключения (лат.).
|Ю7
лотимических (в первую очередь, реалистических)
составляющих темперамента, едва ли можно рассматривать в
качестве донора гипоманиакального компонента,
поскольку в тех областях расселения, которые ближе к чисто
нордическим, совершенно не проявляется чего-то
характерно гипоманиакального — скорее, ощущается некая
серьезность и тяжеловесность, а если ориентироваться на
старинные героические саги, то и просто угрюмость.
И в основных областях расселения альпийского типа
вне немецких земель, а именно во Франции (особенно в
центральной и юго-западной) и в Италии (особенно в
северной Италии), весело-подвижный элемент этнического
характера (так называемый «галльский» темперамент),
очень возможно, объясняется в том числе и пикническо-
циклотимической составляющей альпийского типа,
однако при рассмотрении французского и итальянского
национальных характеров необходимо учитывать и примесь
средиземноморского антропологического типа.
Итак, наиболее чистую картину конституциональных
различий темпераментов нордического и альпийского
типов мы, очевидно, получим, сравнив народности,
населяющие немецкий Северо-Запад и немецкий Юго-Запад.
На немецком Юго-Востоке, в частности в
австрийско-баварских Альпах, уже заметнее сказывается влияние ди-
нарского типа. Если сравнить обе немецкие «гипома-
ниакальные» народности, рейнско-франкскую и бавар-
ско-австрийскую, в особенности живущую в Альпах, мы
обнаружим у последней более выраженный элемент
грубой силы, вязкости и упрямого своеволия. Поскольку
влияние нордического типа здесь сравнительно
невелико, то указанный элемент, по-видимому, можно
объяснить смешением с динарским типом.
Итак, мы наблюдаем некую окружающую Альпийский
горный массив волну преимущественно циклотимическо-
го темперамента, зона распространения которой
довольно точно соответствует основным зонам смешения
альпийского типа с другими антропологическими типами.
108
Там, где альпийский тип смешивается со
средиземноморским, именно — в Южной Франции и южных частях
Италии (в которых, судя по карте ареалов характерных форм
черепа, альпийский тип должен еще быть достаточно
представлен), — там этот циклотимический элемент
темперамента принимает ту крайнюю форму наивной
детскости и беззаботной болтливой веселости, которая в
смеси со специфическими средиземноморскими чертами
(свирепостью, бешеными взрывами аффектов)
воспринимается нами в качестве натуры «южанина». Однако и в
южно- и средненемецких землях вплоть до Рейнской
долины, и в Средней Франции мы находим широкое
распространение тех же самых гипоманиакальных черт,
только — вследствие смешения с северными типами — qp
значительной примесью таких черт, как вязкость, серьезность
и целеустремленность. Если мы будем отходить от этой
выраженно циклотимической кольцевой зоны вокруг Альп
в любом радиальном направлении, мы увидим, что цик-
лотимические черты этнического характера убывают в той
же степени, в какой уменьшается и примесь
альпийского типа. Это справедливо как для зоны
преимущественно нордического типа, так и для зоны преимущественно
средиземноморского типа, а возможно, — также и для ди-
нарской зоны. Наличие этого эффекта при движении в
северном направлении очевидно и уже обсуждалось выше.
Средиземноморский тип в целом представляется
далеко не столь циклотимически предрасположенным, как
альпийский; это следует совершенно особо подчеркнуть,
поскольку уже не раз совершались поползновения обогатить
психологию средиземноморцев гипоманиакальным компо-
ненто\* альпийцев. Средиземноморский тип это
низкорослый грациозный промежуточный тип, у которого формы
тела и, в особенности, лица мягче, а нос короче и шире,
чем у нордического, но, по сравнению с альпийским,
лицо намного уже, а в фигуре намного больше гибкости. На
изображениях в трудах по этнографии средиземноморцы
выглядят привлекательными и пропорционально
сложенное
ными; конституциональной характерности альпийского
или нордического типов нет и в помине.
Надо прежде всего заметить, что психологию
средиземноморцев нельзя изучать на жителях Италии и юга
Франции — областей с альпийской примесью (точно так
же, как психологию нордического типа не изучают в
южнонемецких областях), для подобного изучения нужно
брать типологически сравнительно чистую
средиземноморскую область, каковой является Испания и большие
острова (например, Корсика). И тогда немедленно
обнаруживается, что коренные обитатели средиземноморских
областей куда менее циклотимичны, чем, скажем,
жители Италии, Южной Франции и некоторых частей
Южной Германии, — у средиземноморцев намного
отчетливее выступают совершенно нециклотимические, а отчасти
и явно шизотимические черты. В истории и культуре
испанцев обращает на себя внимание одна весьма
серьезная и часто почти мрачная черта — некая сильная
склонность к торжественным церемониям, ко всему
аристократическому и величественному. В религиозной сфере,
в противоположность чувственно-радостным вариантам
приальпийского католицизма (в Италии, Южной
Германии и Франции), проявляется склонность к строгой
организаторской последовательности с широкими
властными замыслами (орден иезуитов), к мрачному фанатизму
(инквизиция) и к пылкому мистицизму. И в
политическом аспекте склонность к господству несомненна: вслед
за англичанами Испания второй среди европейских
государств развернула мощную, хотя и сравнительно
быстро затухшую колониальную экспансию. Эта группа
специфично шизотимических отличительных черт:
стремление властвовать, религиозная серьезность и характерное
контрастное сочетание организаторской холодности с
мистическим пылом — общая особенность как испанцев,
так и нордических народов. В то же время свирепость и
склонность к неожиданным бешеным взрывам
аффектов — общая стигма всех средиземноморских и смешан-
по I
ных с ними народов. При этом в средиземноморском
темпераменте должны быть заложены и сильные циклоти-
мические черты, это следует из того факта, что характер
проявления альпийского типа в тех областях, где он
смешан со средиземноморским (Италия, Южная Франция),
все еще тяготеет к гипоманиакальному, тогда как в тех
областях, где альпийский тип смешан с нордическим, он
проявляется более приглушенно.
Четвертый главный европейский тип, динарский, не
удается непосредственно привлечь к рассмотрению,
поскольку все еще в значительной мере отсутствуют
соответствующие фундаментальные сведения, результаты точных
психологических исследований и культурно-исторические
документы. Если судить по местам расселения, это —
собственно балканская раса, находящаяся, по мнению
антропологов, в близком родстве с народами Передней Азии.
Этот сильный, витальный тип хорошо известен, но очень
недостает надежных данных.
Особый интерес представляет специфика участия
определенных этнически чистых и этнически смешанных
зон в процессе формирования европейской культуры и
то, как ярко проявляются именно в этом процессе
преобладающие компоненты темпераментов разных этносов.
Религиозная карта Европы в значительной мере
совпадает с этнической. Достаточно характерен уже тот факт, что
зоны протестантизма с его холодностью, трезвостью,
абстрактной без-образностью и индивидуализмом в общем
совпадают с областями наиболее сильного
распространения нордического типа: Северной Германией,
Голландией, Скандинавией, Англией. Среди южнонемецких
альпийских народностей характерно различаются гипоманиа-
кальный и флегматичный варианты, и если отвлечься от
территориальных частностей, можно сказать, что
области гипоманиакального альпийского смешанного
темперамента: Австрия, Бавария, Восточная и Рейнская
Франкония — в основном остались католическими, в то время
как там, где нордический тип смешан с флегматичным
jni
альпийским вариантом, а именно в Вюртемберге и
Швейцарии, опять-таки возникают основные центры
протестантизма. И жизнерадостный альпийский типологический
вариант Франции и Италии в совершенно
преобладающей степени присоединился к образному, сравнительно
более наивному, теплому и чувственно-радостному
католицизму, — так же, как и почти вся зона распространения
средиземноморского типа, в которой, однако, возникла
совершенно иная разновидность католицизма: очень
серьезный, фанатичный, мистический, жестко
организованный католицизм испанцев, резко отличающийся своими
значительно более шизотимичными чертами от циклоти-
мично окрашенного приальпийского католицизма. Таким
образом, в целом можно довольно уверенно
констатировать наличие этно-религиозного сродства:
протестантизм — это конфессия, во-первых, преимущественно
нордических народностей и, во-вторых, зоны смешения
нордического типа с флегматичным вариантом альпийского
типа. А католицизм — конфессия сравнительно более ги-
поманиакального варианта зоны смешения альпийского
и средиземноморского типов. Если мы отметим на карте
Европы те места, откуда вышли самые выдающиеся
гении искусства и науки, и, далее, места, где находятся
самые выдающиеся стационарные культурные памятники
(например, архитектурные), и наложим эту
«культурологическую» карту на этническую, нам бросится в глаза
факт преобладания вклада нордическо-альпийской
смешанной зоны в новую европейскую культуру. Эта норди-
ческо-альпийская смешанная зона, то есть зона, в
которой сильно проявляются элементы обоих этих типов,
охватывает большую часть Франции, далее, Фландрию и
Голландию, большую часть Германии (прежде всего —
центральную и южную часть области распространения
немецкого языка, включая Рейнскую область и
Тюрингию-Саксонию) и, наконец, Северную и Центральную
Италию. Эта этническая зона известна как родина новой
европейской культуры. Вокруг этой нордическо-альпий-
щ|
ской центральной зоны располагаются зоны других
народностей, культурный вклад которых значителен, но не
столь велик; эхо, во-первых, зоны относительно
этнически чистых нордических народов: нордическая зона в
Скандинавии, нордические шлейфы в северной Германии
и на севере Англии — и, во-вторых, относительно
этнически чистые зоны средиземноморского типа: Испания,
большие острова Средиземного моря и отдельные
районы крайнего юга Италии и Франции. Аналогично,
заметные, однако до сих пор пока еще сравнительно более
редкие «месторождения» гениев мы наблюдаем также в
зоне нордическо-монгольского смешения на севере
славянского Востока, в России и в Польше. Напротив, вклад
балканской, «динарской» зоны смешения пока что
сравнительно мал. И только там, где динарский тип
вторгается в нордическо-альпийскую зону смешения, как,
например, в Австрии, мы наблюдаем расцвет культуры. Все
сказанное относится, естественно, только к
сегодняшнему состоянию культуры, но никак не к возможностям
будущего ее развития.
В этой довольно ясной и наглядной картине
этнического распределения европейской культуры есть лишь
одно сомнительное место: это южная часть Англии, главный
очаг английской культуры. И в этой зоне этнический тип
населения также в значительной мере смешанный,
однако те антропологические элементы, с которыми смешан
здесь нордический тип, еще не вполне ясны;
несомненным кажется присутствие средиземноморского элемента,
но Günther добавляет к нему еще и альпийский. Эта
южноанглийская смешанная зона в культурном отношении
весьма родственна северной части нордическо-альпийской
смешанной зоны, и их можно рассматривать совместно.
Несомненно, во всяком случае, одно: в области
нордического типа наиболее заметные подъемы высокой
культуры возникают всегда там, где этот тип сильно
смешивается с другим, как правило, также одаренным типом; это
справедливо как для современного нордическо-альпийско-
|Ш
го культурного круга, так и для древней Греции и Индии.
Однако, одну из наиболее универсальных и в
количественном измерении богатейших на сегодняшний день культур
создало именно это нордическо-альпийское смешение. И
точно так же несомненно, что, напротив, наиболее
этнически чистые нордические области Германии, например,
Нижняя Саксония и Восточная Фрисландия, очень
богаты характером и сметкой, но сравнительно бедны в
отношении гениальности и культурной продуктивности. В свое
время Reibmayr, еще не располагая знаниями современной
этнологии, интуитивно почувствовал эти вещи и
подтвердил их статистически. Духовные центры высокой
культуры до сего дня никогда не возникали в Скандинавии, в
прибрежных немецких землях и в Шотландии, но всегда —
в смешанных зонах. И медленное продвижение немецкой
культуры на север, начавшееся в XVIII веке, идет
параллельно с увеличением примеси альпийского элемента в
Северной Германии. Это нисколько не снижает достоинств
нордического типа, которые исторически очевидны, но это
говорит не в пользу идеала расовой чистоты (не путать с
обоснованным идеалом заботы об исторически
сложившихся коренных народностях), не в пользу
одностороннего возвеличивания только нордической расы и не в
пользу карикатурной недооценки других европейских
этнических элементов.
В подробно описанной выше альпийско-нордической
смешанной зоне происходят почти все события,
связанные с расцветом как готической, так и ренессансно-бароч-
ной культуры; в этой зоне возникла и классическая
французская культура (от времен Людовика XIV до
Просвещения), и культурная эпоха Гете и Бетховена. Однако внутри
этой совокупной смешанной зоны мы вновь можем четко
выделить два частично перекрывающихся региона: один,
лежащий несколько севернее, сравнительно более
нордический пояс, нашедший свое специфическое духовное
выражение в готике, и второй, — несколько южнее, —
альпийский пояс, выразившийся в ренессансно-барочной
114 I
культуре; первый регион, соответственно темпераменту
этнической композиции, несколько холоднее, шизотимич-
нее, второй — более теплая, циклотимичная зона.
Возникновение и расцвет готики весьма
избирательно связаны с северной и восточной частями Франции
(Нормандией и Бургундией), откуда она
распространяется полосой, протягивающейся параллельно границам на
этнической карте: Северная и Центральная Франция,
Фландрия, Центральная и Южная Германия; в
альпийской Северной Италии готики, кажется, не было и в
помине, в юго-западной Франции — тоже, то есть
смешанная альпийско-средиземноморская зона вовлекается — и
это показательно — намного слабее; с другой стороны, в
нордических областях (Англия, немецкое побережье
Северного моря, Скандинавия) готика дает весьма
значительные, однако в среднем все же сравнительно слабые
и поздние побеги, а продвигаясь в сторону Восточной
Европы, мы видим еще более резкое и значительное
снижение ее влияния. Эта готическая культура, по
сравнению с ренессансной культурой, намного шизотимичнее:
она строга, глубоко серьезна, метафизична, аскетична; в
ее постройках виден столь характерный для шизотими-
ческой психологии контраст мистики и холодно
просчитанной схемы. Расцвет ренессансно-барочной культуры,
выявляя, в свою очередь, отчетливое сродство с этногео-
графическими реалиями, возникает в полосе, идущей
параллельно аналогичной готической, с которой она в
средней части перекрывается, хотя явно сдвинута несколько
южнее. Эта полоса этнического смешения охватывает
Северную и Центральную Италию, и именно там, то есть в
области со значительным преобладанием альпийского
элемента, находится основной очаг соответствующей
культуры; эта культура, наряду с готикой, бурно
расцветает также во Франции, в Южной и Центральной
Германии; напротив, собственно северная зона демонстрирует
к этой культуре существенно меньшее сродство, чем к
готике; в особенности выделяются здесь Англия и Сканди-
|Я5
навия, где, в эту эпоху расцвета искусств, во всем, что
касается изобразительного искусства, царит удивительная
тишина. Само жизнерадостное ренессансное
мироощущение с его насквозь земным, посюсторонним,
гедонистическим, образно-художническим духом несет в себе, по
сравнению с готикой, некий циклотимический элемент
и поэтому с точки зрения этнографии представляет
собой, очевидно, скорее альпийское явление; и хотя
некоторые отдельные нордические личности и даже
выраженные шизотимики вроде Микельанджело были ведущими
творцами Ренессанса, но то чувство жизни, которое
пронизывает их творения, разительно отличается от чувства
жизни в готике. Поэтому памятниками ренессансно-ба-
рочного искусства перенасыщены именно альпийские
области смешанной зоны: Италия, Франция, Южная и
Центральная Германия. Наиболее благодатную почву это
специфическое ренессансное чувство жизни находит в очагах
высокой художественной культуры — в больших, сильных,
роскошных, расточительных городах-республиках
Северной Италии и Южной Германии: во Флоренции,
Венеции, Нюрнберге, Аугсбурге, — которые, как цветочный
венок, окружали Альпы.
Мы здесь намеренно не выделяем особо роль
нордического элемента населения Италии в культуре
Возрождения: она достаточно известна и нередко слишком
односторонне выставлялась в качестве исключительной. Ре-
нессансный человек власти — это ближайший кровный
родственник шотландского дворянина Макбета. Во
Флоренции особенно отчетливо проявились две линии этого
родства: кровавое самоуничтожение благороднейших
родов и, непосредственно рядом, — нежное, метафизически-
идеалистическое мировосприятие, которое в Италии — от
раннего Возрождения и вплоть до позднего Высокого
Возрождения — соответствовало нордическому
готическому мировосприятию. Не эти моменты так резко
отличают ренессансное мировосприятие от готической
культуры, а те, другие, которые мы упоминали чуть выше. По
1161
мере становления культуры Ренессанса мы наблюдаем
некий характерный переворот (окончательно
завершившийся с переходом к барокко) также и в идеале телесной
красоты: хрупко-нежные, узкие фигуры готики и раннего
Ренессанса постепенно все более и более округляются, и в
конце концов художники начинают так же восхищаться
телесной полнотой (Пальма Веккьо*, Рубенс), как
раньше — стилизованной прозрачностью худобы. Чем шизо-
тимичнее дух времени, тем больше приближается идеал
телесной красоты к лептосомному, даже астеническому
телосложению; чем циклотимичнее дух, тем больше
склонность к пикническому идеалу. Будь этот переворот
в художественном и общем чувстве жизни делом рук
нордической расы, было бы не понятно, почему же эта
художническая эпоха оказывается в особенно слабом
сродстве именно с нордическим элементом населения. Мы,
однако, полностью разделяем мнение Sommer'a о том, что
легендарный расцвет гениальности итальянского
Ренессанса связан с предшествующим постепенным
смешением немецкой военной знати с поднимающимися
бюргерскими родами художественно высокоодаренного
городского населения в больших городах-республиках,
особенно во Флоренции, то есть опять-таки является
результатом нордическо-альпийской метизации. При этом
портреты и происхождение великих гениев Ренессанса,
похоже, говорят о том, что важным энергетическим
ресурсом этого духовного движения была нордическая часть
населения; но и эта нордическая часть населения
Италии должна была уже быть в значительной мере
обогащена альпийской кровью, иначе просто невозможно
объяснить массовый прорыв музыкально-художнических ода-
ренностей в эпоху ренессанса-барокко, поскольку это
именно те одаренности, которые столь откровенно слабо
и спорадично проявляются у этнически чистых
нордических народностей и географически столь откровенно
* Пальма Старший (Веккьо, собств. Негретти, ок. 1480—1528) —
итальянский живописец Высокого Возрождения.
\ш-
предпочитают основные альпийские смешанные области.
Кроме того, с точки зрения этнобиологии, очевидно,
немыслимо, чтобы один из двух основных этнических
типов Северной и Центральной Италии после многих
веков их совместного там проживания все еще мог ко
времени Ренессанса оставаться в какой-то степени чистым.
Итак, нам совершенно ясно, что все эти европейские
культурные круги формировались преимущественно не по
зонам общности языка или политических границ и не
везде — посредством внешних сношений, но в первую
очередь — по этническим зонам.
И дальнейшее культурное развитие современной
Европы представляется связанным прежде всего с нордиче-
ско-альпийской зоной этнического смешения. Заметим
только, что зона культурного расцвета при переходе от
средневековья к новому времени медленно расширяется
дальше на север, и вновь, в основном, независимо от
национальности, проходя от запада к востоку сплошной
этнической полосой, захватывающей уже несколько более
нордическое население: раньше всех — уже в средние
века — начала выдвигаться Англия (и этот процесс все
нарастает со временем), затем включилась и полоса
севера Германии; ныне балтийские прибрежные регионы и
Скандинавия идут рука об руку с более старыми
культурными зонами, переживая духовный подъем и расцвет,
что нетрудно заметить по статистике мест рождения
гениев. Это культурное развитие очень легко может быть
увязано с биологическим процессом постепенно
продвигающейся все дальше на север метизации при смешении
нордического типа в первую очередь опять-таки с
альпийским элементом. С культурологической точки зрения
это совершающееся на наших глазах расширение на
север нордическо-альпийской смешанной зоны не может
вызывать никаких возражений, поскольку означает лишь
смешение двух исторически утвердивших себя и
сыгравших центральную, определяющую роль в формировании
европейских культурных народов одаренных этнических
118 I
элементов. Ни какое бы то ни было «вычитание» одного
из этих элементов, ни нивелировка этнических различий
никоим образом невозможны, поскольку как духовная,
так и культивационная продуктивность существенно
зависят от сохранения противонаправленных напряжений.
Если ясно и до конца последовательно продумать эту
позицию, мы придем к выводу о богатом содержании и
необходимости сохранения возможно более четко
выраженного «этнического ядра», которое, помимо своей
самоценности является также предпосылкой и резервуаром
для продуктивных метизаций. Придерживаясь той же
позиции в масштабах одной народности, мы должны
выступать за поощрение оседлости и против всесмешения,
то есть против слишком сильных и продолжительных
перемещений населения внутри страны, в первую очередь —
против нивелирующего чрезмерного разрастания больших
городов. Мы видим, что инбридинг и метизация
взаимно обусловлены в отношении меры и ритма, и
односторонне поддерживать в качестве полезного принципа
только инбридинг или только метизацию было бы
чрезвычайно близоруко.
И в новой культурной истории внутри совокупного
нордическо-альпийского пояса смешения вновь
отчетливо различаются более холодные по темпераменту (то есть
сравнительно более нордические и, соответственно, более
шизотимичные) и расположенные южнее более теплые (то
есть сравнительно более альпийские и, соответственно,
более циклотимичные) области.
В холодной зоне сейчас в большей мере
сосредоточены политическая одаренность и центры
научно-технического развития (Англия, Северная Германия, а также
сравнительно нордическая Северная Америка), тогда как
большинство достижений художественной культуры,
требующих особенно большой чувственной образности или
особенно большой непосредственности и теплоты
чувства, в частности, в изобразительном искусстве и, более
всего, в музыке, согласно статистике, как прежде, так и
|119
теперь приходится на сравнительно более альпийскую
южную зону (Южная и Центральная Германия, Северная
и Центральная Италия и Франция). Посередине между
двумя этими флангами располагается область наивысших
достижений в сфере более рассудочных, более
рациональных форм культурного движения, то есть творений
поэтов и мыслителей. Таковые обильно рождаются в обеих
зонах, от Англии и Северной Германии на севере до
Центральной Италии на юге, однако тут имеются
характерные различия: самое шизотимичное крыло этой группы,
а именно философия и трагическая драматургия, в
северном и центральном этнических поясах представлены
значительно сильнее, и количество их по мере движения
на юг — в Италию и зону наиболее циклотимичных из
немецких народностей — резко снижается; Локк, Юм,
Декарт, Кант, Гердер, Гербарт, Шопенгауэр родом из
северной зоны — точно так же, как Шекспир, Корнель,
Вольтер, Клейст и Геббель. В то же время классические
области изобразительных искусств и музыки, Италия и
наиболее гипоманиакальные из южнонемецких земель,
лишь совершенно спорадическим образом порождают
отдельных гениальных философов (Дж. Бруно) или
трагических драматургов (Грильпарцер).
Это конституциональное различие одаренностей
между более нордической и более альпийской смешанными
зонами предстает при статистическом обсчете
«месторождений» гениев в новой истории столь же очевидным, как и
географическое различие зон готической и ренессансно-
барочной культур. Общее зональное разделение
просматривается совершенно отчетливо.
Однако каждая из этих двух зон имеет свои,
территориально маленькие, но культурологически важные
эксклавы*. Так, швабская группа, находящаяся внутри южной
зоны, не только религиозно, но и по многим задаткам
одаренностей (великие гении в философии и драматургии,
* В биологии: частичный ареал.
1201
малая музыкальная одаренность) явно относится и более
холодной зоне. И наоборот, внутри более нордического
пояса Нидерланды и Фландрия образуют маленький,
однако замечательный по задаткам остров, или, лучше
сказать, географическую диаспору художнической
одаренности. Но подобная исключительность в обоих случаях
распространяется лишь на некоторую часть задатков. Так,
швабы обладают теми же способностями к живописи и
архитектуре, что и остальное население альпийской зоны, а
Голландия как в плане религии (протестантизм), так и в
плане политической предрасположенности относится к
более холодной зоне.
В обоих случаях эту частичную особость одаренности
можно прочесть и на этнической карте. В Вюртемберге и
особенно в старой протестантской Неккарской области, из
которой как раз и происходят все швабские мыслители и
поэты, имеется сильная примесь нордического типа;
географически там проходит русло того «майнско-неккарско-
го притока» северной крови (Günther), который
соответствует древним путям миграции германских народов (см.,
например, у Deniker-Fischer'a карту ареалов различных
форм черепа) и, весьма удивительным образом
вытягиваясь от Центральной Германии через Майн и долину Нек-
кара, как острый наконечник, или узкий, далеко
выступающий клин, врезается в альпийскую зону.
Аналогично — но с переменой ролей — в Нидерландах,
по-видимому, присутствуют активные альпийские
этнические островки. Günther, отталкиваясь от статистической
этнологической карты, констатирует: «Этот сход, этот спад
нордического типа (то есть снижение его этнической
чистоты) от севера к югу в Голландии происходит быстрее, чем
внутри Германской империи. Вообще, в Германии, как
правило, представляют себе голландскую область
намного более нордической, чем это есть на самом деле». Günther
далее перечисляет ряд островков альпийского населения,
которые частично расположены во внутренних областях
Нидерландов и, «с учетом северного положения Голлан-
J121
дии, вызывают удивление». К этому ряду островков
следует присоединить и тесно примыкающую к ним более
крупную альпийскую этническую область в бельгийско-
голландской Валлонии.
Достойно удивления и, возможно, этнологически
значимо то, что внутри области распространения немецкого
языка обнаруживаются три района, где крохотные
пятачки пространства дают невероятно богатый урожай
гениальности и специальных одаренностей отдельных групп,
то есть районы, где по статистике места рождений
гениев географически максимально тесно сближены друг с
другом; вот эти три местности максимальной плотности
гениев: Саксония (с прилегающими к ней районами
Тюрингии), Швабия и Нидерланды. Нельзя не обратить
внимания на то, что во всех трех случаях это места особенно
резкого непосредственного перехода друг в друга
этнических зон: Саксония лежит между густо-альпийской
Богемией и резко нордическими прусскими провинциями;
аналогичный «сильный спад» нордического типа, как
отмечалось выше, происходит в Нидерландах; и в Вюртем-
берге нордический неккарский клин глубоко врезается в
альпийскую область. Можно предположить, что и
повышенная плотность гениев итальянского Ренессанса и
Древней Греции возникла аналогичным образом как
следствие непосредственного смешения слоев нордической
знати, активно осваивавшей новые территории, с
этнически отличающимся от них местным населением;
представляется, что в обоих этих случаях повышенная
рождаемость гениев находится во временной связи с
социальным прорывом сословных, а вместе с ними и этнических
ограничений. При этом важен не только вообще сам факт
этнического смешения, которое, как показали Sommer и
Reibmayr, может в благоприятных случаях хорошей
сочетаемости привести к появлению гениев, но мы хотели бы
еще конкретно указать на места особенно резких
этнических переходов как на возможные места повышенной
рождаемости гениев.
1221
Внутри нордическо-альпийской смешанной зоны мы
нередко обнаруживаем интересные особые зоны, в
которых оказывается повышенной плотность специальных
одаренностей какого-то определенного направления. Эти
особые зоны подчиняются общей закономерности
распределения этнических одаренностей, однако, кроме того, в
них просматривается влияние вторичных национально-
племенных культивационных процессов. Так, в Германии
творческая музыкальная одаренность возникает
преимущественно в вышеописанной этнической зоне, которая
полукольцом охватывает альпийский этнический центр в
Богемии, и отсюда полосы этой одаренности проникают
в Альпы. В самом деле, большая часть немецких
музыкальных гениев происходит из Саксонии-Тюрингии (Бах,
Гендель, Шуман, Рихард Вагнер), северо-восточной
Баварии (Глюк, Регер) и из Австрии (Гайдн, Шуберт, Ве-
бер, Лист, Брукнер, Гуго Вольф). Моцарт лишь условно
может быть причислен к австрийской группе, поскольку
его музыкально высокоодаренный отец был швабом
родом из Аугсбурга. В то же время все остальные земли
Германии вместе дали лишь совсем немного великих имен
(Бетховен, Брамс). Очевидно, что для музыкальной
гениальности, то есть для способности самое глубокое
душевное содержание выразить в музыке, решающим
фактором до сего дня является альпийский элемент; пока что
европейскую музыкальную историю в ее существенной
части создавали лишь три народа с наиболее сильной
альпийской примесью (это народы Германии, Италии и
Франции с прилегающими к ним областями), а среди
них, в свою очередь, вновь первенствуют обладающие
наиболее мягким темпераментом Италия, Австрия и
Саксония. Созданная ими за последние столетия
музыкальная культура — явление уникальное для всех времен и
народов. И у других рас и народов музыкальные задатки
ярко выявляются вкраплениями выдающихся
одаренностей, однако нигде до сих пор не возникало такого
монументального подъема и такой концентрации музыкаль-
|Ш
ного гения, как в этой области альпийского этнического
смешения. То, что альпийский этнический элемент
является главным фактором музыкальной одаренности,
подтверждается и доказательством от противного: чистые
этнические зоны, нордическая и средиземноморская
(Испания), в плане «производства» музыкальных гениев
разительно отстают от зон с сильной альпийской
примесью. Многие нордические области, такие, как Англия и
некоторые районы северо-запада Германии, даже
прославились своим отсутствием музыкальности (Frisia non
cantat*). Учитывая эти говорящие сами за себя геогра-
фостатистические данные, следует всякий раз
предполагать присутствие известной примеси альпийской крови у
музыкальных гениев нордическо-альпийской смешанной
зоны даже и в тех случаях, когда альпийские этнические
особенности не являются определяющими в
соматическом фенотипе.
Что касается философско-поэтинеской одаренности, то
мы обнаруживаем в Германии два «богатых
месторождения»: Саксонию (с прилегающими к ней районами
Тюрингии-Шлезвига) и Вюртемберг. Первую зону прославили,
среди прочих: Лютер, Лейбниц, Лессинг, Фихте, Отто
Людвиг* и Ницше; вторую — Виланд, Шиллер, Гельдерлин,
Уланд, Мерике, Гегель и Шеллинг. (Свой поэтический
вклад внесли также Кеплер, Мейер и Готхельф**.)
Помимо наличия великих имен обе местности отличаются
высокой географической и исторической плотностью
появления более мелких одаренностей. Саксония, оказавшись
местом перекрытия зон взращивания музыкальных и фи-
лософско-поэтических одаренностей, является самой
богатой гениями землей Германии. Большинство других
великих имен из этих групп одаренностей появляется в
нордической части Северной Германии, однако там они
* Фрисландия не поет {лат. поговорка).
** Людвиг, Отто (1813—1865) — немецкий писатель.
*** Готхельф, Иеремия (собств. Альберт Вициус, 1797—1854) —
швейцарский писатель.
1241
возникают значительно более спорадично и рассеяны с
малой плотностью на больших пространствах; это, например:
Клопшток, Кант, Гердер, Гербарт, Шопенгауэр, Клейст,
Геббель, Дросте-Хюльсхоф*, Шторм и Фонтане. Напротив,
слабо представлены в этой группе, по крайней мере в
философской ее части, гипоманиакальные области
альпийской зоны, именно Австрия, Бавария, Восточная и
Рейнская Франкония; в этой обширной зоне мы
обнаруживаем лишь два великих имени: Гете и Грильпарцера, к
которым можно еще добавить Вольфрама фон Эшенбаха,
Жан-Поля и Штифтера. У Гете к тому же имеются
сильные генеалогические связи с тюрингской Саксонией и
равниной Гогенлоэ (Вюртембергом). Зато в Австрии — одно
из крупнейших «месторождений» гениев музыки, а во
Франконии — гениев изобразительных искусств.
Упомянутые изобразительные искусства в области
распространения немецкого языка интенсивно
концентрируются в Нидерландах и, далее, во Франконии (Дюрер,
Грюневальд**, Кранах, Петер Фишер***, Фейербах). Во
втором эшелоне идут баварско-австрийская зона (Ленбах****,
Шпицвег*****, Швинд******) и швабско-алеманская
(знаменитые школы художников и архитекторов эпохи
средневековья — вплоть до барокко: Гольбейн, Беклин, Тома).
Здесь проявляется одна этнически очень характерная
черта: если в философе ко-поэтической одаренности явное
лидерство принадлежит более нордической Неккарской
области, то в изобразительном искусстве столь же явно
лидирует более альпийская верхнешвабско-алеманская зона:
Ульм, Аугсбург, Форарльберг (барокко), Швейцария и Юж-
* Дросте-Хюльсхоф, Аннета (Анна Элизабет, 1797—1848) —
немецкая поэтесса; о ней — см. ниже.
** Грюневальд (собств. Нитхардт), Матис (между 1470 и 1475—
1528) — немецкий живописец.
*** Фишер Старший, Петер (ок. 1460—1529) — глава семьи
немецких скульпторов эпохи Возрождения.
**** Ленбах, Франц фон (1836—1904) — немецкий живописец.
***** Шпицвег, Карл (1808—1885) — немецкий живописец.
****** Швинд, Мориц фон (1804—1871) — австрийский живописец
и график.
125
ный Шварцвальд. Старый Вюртембсрг не дал ни одного
по-настоящему знаменитого художника — равно как и ни
одного знаменитого композитора.
Военно-политические одаренности (в основном, старой
чеканки) сильнее всего сконцентрированы в дворянстве,
которое у всех народов нордическо-альпийской
смешанной зоны с самого своего зарождения преимущественно
нордическое. Центр сосредоточения этих одаренностей,
очевидно, в средние века сместился несколько к северу,
так что сегодня военно-политические задатки
безусловно преимущественное распространение получили в
Англии, Северной Германии и Северной Франции. В целом
военно-политическая одаренность у всех народов,
принадлежащих к смешанной зоне, отчетливо убывает в
направлении от севера к югу, что однозначно указывает на
связи этой одаренности в первую очередь с нордическим
этническим элементом. Но и тут не следует впадать в
географический схематизм: так, по крайней мере четыре
величайших европейских рода правителей — Гогенштауфе-
ны*, Вельфы**, Габсбурги и Гогенцоллерны — родом не с
севера, а с юго-запада, именно из древнего Швабского
герцогства. К тому же само понятие
«военно-политическая одаренность» психологически отнюдь не является
унифицированным. Современные политика и хозяйство
весьма существенно отличаются по своим методам и
постановке задач от старой дворянской политики. В
отличие от зачастую несколько окостеневшей старой
идеологизированное™, новая политика требует от вождей
значительно большей духовной гибкости, способности
вчувствования, широты взглядов и принципиально
реалистического подхода.
И здесь некоторая примесь чужой крови,
по-видимому, также оказывает ферментативное воздействие,
поскольку только она позволяет по-настоящему проявить-
* Гогенштауфены—династия германских королей и императоров
«Священной Римской империи» в 1138—1254 гг.
** Вельфы — немецкий княжеский род.
1261
ся специфическим этническим одаренностям, в то время
как относительно чистые этнические типы после
длительного инбридинга явно склонны приобретать известную
узость и закостенелость, на что указывал уже Reibmayr.
Поэтому у нордических народов их политические центры
тяжести располагаются не в этнически чистых, а в
смешанных районах; так, политический центр
Великобритании находится не в Шотландии, а на английском юге. И
в Германской империи он располагался не на
северо-западе Германии, а в лежащей восточнее Пруссии.
По-видимому, в качестве обратной аналогии можно
рассматривать тот факт, что музыкальное творчество достигает
своей вершины не в безусловно высокоразвитом в
музыкальном отношении альпийском этническом центре,
Богемии, а вокруг нее, на периферии.
Проведя это сравнение частот появления гениев в
разных географических зонах, мы получили по большинству
позиций вполне ясную и с обеих сторон подтвержденную
картину духовных задатков нордического и альпийского
антропологических типов: у первого преобладают
философские и драматургические задатки, второй отличается
выраженным художественным темпераментом, в
особенности же — предрасположенностью к музыке и
изобразительным искусствам.
Мы не можем здесь углубляться в вопросы вторичного
инбридинга внутри отдельных политических и языковых
общностей и возникновения из них тех или иных типов
этносов и племен. Однако, в отношении народов,
возникших вследствие нордическо-альпийского этнического
смешения, — как в отношении детей одних и тех же
родителей, — можно полагать, что они не только отличаются друг
от друга процентным соотношением унаследованных
признаков, но и что в различных инбридинговых кругах
возникают как бы новые индивидуальности народов и наций,
чьи духовные свойства вследствие различного
комбинирования и отбора особенностей приобретают специфическую
окраску.
|Ш
Это нордическо-альпийское этническое смешение
дает нам особенно прозрачный пример того, как благодаря
метизации двух отчасти несхожих, но близких и хорошо
дополняющих своими свойствами друг друга
антропологических типов возникает целая культура, то есть
взращивается ряд гениев. К тому же это единственный пример,
когда в нашем распоряжении имеется достаточно
надежный и обширный статистический массив
антропологических и культурно-исторических данных, позволяющий в
принципе основывать на нем какие-то научные выводы.
И можно с достаточной долей уверенности предполагать,
что причиной возникновения отмеченных гениальностью
высоких культур других этнических групп других времен
и народов были аналогичные биологические метизации. С
общебиологической точки зрения подобные благоприятные
метизации у вида homo sapiens ведут, очевидно, к
образованию особенно быстро развивающихся гибридов,
превосходящих размерами родительские «породы». Если это так,
то культивирование гениальности наполовину
определяется тем процессом, который в общей биологии
обозначается как гетерозис. Поэтому рассматриваемые высокие
культуры обычно возникают через определенный
промежуток времени после переселения народов или после
вторжения племен завоевателей и их постепенного смешения
с местным населением.
Этот факт легко может подтолкнуть к ложному
выводу о том, что уже само вторгающееся племя как таковое
способно принести с собой гениальность. Подобной
ошибки легко избежать: для этого достаточно
исследовать то же самое племя в максимально чистом,
несмешанном состоянии, на местах его исконного расселения,
где оно живет, занимаясь земледелием и сохраняя
древние обычаи с тем же усердием, с той же
основательностью и духовной ограниченностью, что и всякое другое
дееспособное племя. И частые завоевательные походы
могут рассматриваться лишь как доказательство нормальной
витальности и храбрости, свойственных здоровым и не-
128
истощенным племенам самых разных народов; это равно
проявилось в великих исторических завоевательных
походах не только германцев, но и монголов, индейцев или
арабов. Народы, которые часто производили такие
массовые переселения, — это храбрые и здоровые, но не
обязательно в каком-то особенном смысле героические
народы; в первую очередь это народы севера и пустынь (то
есть плохих, малоплодородных, климатически угрожаемых
местностей обитания), которые под действием сильного
внешнего давления среды стремятся вторгнуться в
богатые культурные земли. Таким образом, вторгающиеся
сами по себе — отнюдь не «раса господ», а оседлые — не
«раса рабов». И успех всякой такой попытки завоевания
в первую очередь зависит от той стадии культурного
развития, в которой находится подвергшийся нашествию
народ (эти фазы жизни некоторого
культурно-территориального образования никак не связаны с силой и
дееспособностью проживающего там коренного этноса, что с
особенным блеском показал Шпенглер). Если культура
этого оседлого народа как раз находится в стадии
мощного расцвета, то напавшие племена будут разбиты и
уничтожены, совершенно независимо от того,
нордические они (кимвры и тевтоны) или монгольские. Если же
культура оседлого народа одряхлела, вторжение удается,
и только в этом случае дело доходит до метизации и, при
благоприятной сочетаемости этносов или племен, до
рождения новой культуры и новых гениев, — но не в
местах исконного расселения вторгшегося племени, а там,
где произошла метизация, — в покоренной стране.
Легко может возникнуть предположение, что
закономерности расцвета и умирания высоких культур,
выявленные прежде всего Шпенглером, имеют ту же
биологическую основу и так же определяются чередованием
инбридинга и метизации, как и социальные факторы жизни
сословий, народов и этнических групп. В этом случае
должны существовать два инбредных рода, то есть два
таких рода, в каждом из которых вследствие долгой осед-
5 За*. 662
|129
лости и всеобщих близкородственных браков возникает
замкнутый наследственный комплекс — некая группа
телесных и психических особенностей, причем
особенности этих двух групп в плане степени их сходства и
несходства друг с другом должны находиться в тех же хорошо
известных соотношениях, какие вообще необходимы для
выведения удачных гибридов растений и животных. Еще
Reibmayr указывал, что к возникновению гениев может
привести метизация инбредных талантливых родов, — но
не такое смешение хаотично стекающихся масс населения,
какое происходит в мировых центрах («хаос кровей»).
Мировые столицы потребляют много гениев, но на
удивление мало производят сами, это ясно видно из
статистических данных.
Метизация может происходить в результате военного
или мирного притока иноземцев, благодаря смешению
ранее кастово замкнутых сословий и т. д. Через
определенный промежуток времени после такой метизации
происходит мощный «выброс» гениальности и наступает
период расцвета культуры, который длится до тех пор,
пока продолжает действовать лежащий в его основе
биологический эффект. «Умирание» подобной высокой
культуры происходит на одном из двух биологических путей:
либо рост народонаселения остается ничем не
ограниченным, и тогда после исчерпания ферментативного
духовного воздействия прошедшей метизации вновь наступает
стабильный период инбридинга, а вместе с ним — при
беспрепятственном продолжении национального
существования — и некоторое известное духовное окостенение
(китайский вариант); либо инстинкт продолжения рода
испытывает тормозящее воздействие высокой культуры,
и тогда вследствие быстрого сокращения населения
наступает катастрофа (позднеримский вариант). В обоих
случаях сохраняется биологическая возможность того, что
новая метизация оседлой коренной этнической группы с
каким-то другим подходящим племенем вызовет новый
расцвет культуры и гениальности, причем этот процесс
1301
теоретически может повторяться неограниченно; древние
«культуры-долгожители», такие, как египетская или
ассиро-вавилонская, по-видимому, и в самом деле обязаны
своими все новыми возрождениями на одной и той же
почве подобным повторным метизациям.
Базой этого теоретически неограниченного ряда
повторных возрождений, повторных расцветов культуры на
какой-то территории является, как правило, удивительная
стойкая сохранность оседлой коренной народности, которая
в пределах коротких временных отрезков отдельных
исторических периодов не имеет возраста и растет, как простая
трава, как сорняки этой земли, не замечая прихода и
ухода роскошных гибридизированных садовых цветов:
гениев, культур больших городов и политических властных
образований, — всего того, что возникло из нее посредством
метизаций.
Поэтому сравнение отдельных периодов высокой
культуры с жизнью индивида, с его рождением и смертью, не
вполне корректно. Представление отдельных культурных
эпох в качестве чего-то уникального, несравненного,
неповторимого — это гипертрофия принципа
индивидуализации. Культура итальянского Ренессанса — это нечто
иное, чем античная культура, но лишь отчасти иное; она
обусловлена, ее создала новая метизация той же самой
коренной народности, ее связывает с античностью некая
часть одного и того же чувства жизни — и широкий поток
общего мыслительного содержания и сквозных духовных
традиций. С точки зрения отдаленных времен и народов,
и греко-римская, и современная, и, быть может,
тысячелетний ряд грядущих расцветов и периодов спячки
европейской культуры будут выглядеть как одна-единственная
замкнутая европейская культура, как некая культурная
индивидуальность.
Разве древние мексиканцы и перуанцы мертвы? Разве
индейское население не продолжает жить на местах своих
древних поселений? разве не может оно продолжать там
расти до тех пор, пока в нем нельзя будет обнаружить уже
5*
131
ни капли крови белых пришельцев?— и разве не может оно
с этими же белыми или с кем-то еще дать новый пышный
метизационный расцвет, породить новую цивилизацию
инков, которая будет иной, но так же кровно и духовно
родственной той, древней, как родственны античность и
Ренессанс? Кто знает, когда вновь расцветут пустыни
Вавилона или Аравии, Египта или Китая? Расцвет всегда
возникал и, возможно, всегда будет возникать на одних и тех
же старых местах. Кто может это знать? И что значат в
такой гигантской перспективе слова «закат» и «умирание»?
У жизни длинное дыхание, и она понятия не имеет о
наших маленьких исторических эпохах, «культурных
индивидуальностях» и просто индивидуальностях. Она вообще
не знает никаких «я», и это самое главное. Она
расцветает, увядает и расцветает вновь, но к чему она стремится в
расцвете и в увядании, этого мы не знаем. В следующие
тысячелетия у нас могут еще сотню раз повториться
пышные метизационные расцветы, и каждый будет
отличаться от других, и все будут похожи. Европа даже на закате
может надеяться на сотни новых культур и гениев — если
мы готовы видеть в культуре и гениях нечто такое, на что
стоит возлагать надежды, — потому что до тех пор, пока в
ней пульсирует воля к жизни, Европа должна исполнять
предначертанное судьбой и порождать их вновь и вновь.
Часть II
КАРТИНЫ
Глава б. ПЕРИОДИКА ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ.
ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО
Какой бы род духовного творчества мы ни взяли, мы
не найдем такого творца — в особенности, такого
гениального творца, — который бы работал равномерно, с
постоянной продуктивностью на протяжении всей жизни.
Более того, в духовной жизни значительных людей нередко
наблюдается своеобразное волновое движение, некие
приливы и отливы, некие взлеты страстного возбуждения и
вслед за ними — обессиливающие спады; так, охваченный
внезапным воодушевлением, гениальный человек, если он
художник, чувствует, как его переполняют образы и
звуки, а если он ученый — как его захлестывают и
захватывают ошеломляющие прозрения и вспышки интуиции, и
он лихорадочно работает дни и ночи, недели и месяцы
напролет, работает до тех пор, пока всему этому не будет
придана форма, чтобы затем вновь ощутить полную
опустошенность, отсутствие мыслей и творческое бессилие,
которое может затянуться надолго. Подобная волнообразная
периодичность — чрезвычайно характерная особенность
многих гениальных творческих процессов, отличающая
духовное производство от воспроизводства в процессе
профессиональной деятельности нормального человека, а
поскольку источниками последней являются традиции и
привычки, то развертывание ее происходит более
равномерно, день за днем.
Но эта периодика процесса гениального творчества —
вовсе не какая-то метафизическая мистерия,
разыгрывающаяся исключительно в высших сферах чистого духа,
как раз напротив, эта периодика показывает, как тесно
|Ш
связаны даже высшие взлеты духа с космическими
ритмами, с зависимостями духа от тела и с законами
протекания естественных процессов в окружающем мире.
Движение земли и небесных тел делают периодической всю
нашу жизнь. Смены времен года, фаз луны, дня и ночи
разделяют растительную и животную жизнь на
чередующиеся периоды деятельности и покоя. У человека
важнейшим биологическим фоном периодического членения
духовной жизни является периодика жизни любовной.
«Буря и натиск» пубертата, глубокие колебания
душевного состояния в климактерический период, инволюция
старения и мелкие, постоянно возвращающиеся
душевные подъемы и спады, обусловленные влиянием
времени года на инстинктивные восприятия — все эти эффекты
должны быть учтены, ибо это имеет решающее значение
для понимания человеческого самочувствия, поведения и,
в особенности, гениального творчества. Кроме этих
универсальных закономерностей имеются еще определенные
связанные с соматической конституцией типы
темперамента, которые сильно подвержены влиянию указанных
периодических феноменов (в то время как аналогичное
влияние на другие типы незначительно). В редких
крайних случаях такие нормальные феномены ритмо-темпе-
раментных связей гипертрофируются до степени
психического расстройства; именно оно и получило
наименование периодического, или циркулярного, душевного
заболевания, возникающего на почве наследственной
предрасположенности, которую мы обозначаем как
маниакально-депрессивную. Люди с
маниакально-депрессивной симптоматикой часто отличаются обостренной
реакцией на вышеописанные биологические воздействия,
но такими нормальными ритмическими колебаниями
дело не ограничивается: в выраженных случаях вся жизнь
человека состоит из регулярно сменяющих друг друга
периодов тоски и духовной апатии в депрессивной фазе и
бодрой творческой устремленности в другой,
маниакальной фазе.
136
Степень выраженности этого
маниакально-депрессивного, или циркулярного, предрасположения варьируется в
самых широких пределах: от легчайших, едва ощутимых
периодических колебаний настроения у эмоциональных
натур до тяжелых состояний меланхолии и возбуждения.
Это предрасположение наблюдается и у гениальных
людей, и иногда даже проявляется в семьях одаренных
потомственных художников в виде регулярно, из поколения
в поколение вспыхивающих фамильных психозов. Нам
будет легче это принять, если мы обратим внимание на то,
как близок маниакальный симптомокомплекс с его
бьющей ключом жизнерадостностью, вихрем теснящихся
мыслей и творческим восторгом к периодам гениальной
продуктивности некоторых художников и исследователей, и
как, с другой стороны, близка меланхолическая фаза
циркулярных состояний к той душевной опустошенности и
творческой немощности, к тому ощущению собственной
несостоятельности и чувству отчаяния, которые
переполняли столь многих гениев в промежутках между их
активными творческими периодами.
Гете с точностью и объективностью
естествоиспытателя вел наблюдения за периодикой собственного
душевного и общего состояния. Он тщательно описал легкие
циклоидные колебания, а серьезные, достигающие степени
патологии отклонения прямо определил как таковые.
Ценными дополнениями к его наблюдениям служат
свидетельства его друзей и близких соратников.
26 марта 1780 года Гете записывает: «Мне должно
присмотреться поближе к этому во мне обращающемуся
колесу добрых и дурных дней; страсть, привязанность,
стремленье, то или иное деянье, изобретение,
исполнение, порядок — все переменяется и свершает какой-то
правильный круговорот. Веселость, грусть, сила, гибкость,
слабость, спокойствие, вожделение — все так. А
поскольку жизнь я веду весьма умеренную, то и движение это
ненарушимо, и мне надо только дознаться, за какое вре-
|Ш
мя и в каком порядке я этак сам вокруг себя
обращаюсь» (Schriften der Goethegesellschaft, 45, 115).
То, что наряду с этими явно частыми и
кратковременными внутренними колебаниями в душевной жизни Гете
возникали и настоящие циклические ежегодные
отклонения, с той же очевидностью подтверждается
свидетельствами Эккермана и Римера*: «...он всякий год в
преддверии самых коротких дней неделями ходит удрученный и
вздыхает» (Эккерман — Соре, от 21 декабря 1823 года).
Но на все это накладываются еще крупные,
длинноволновые циклы, расчленяющие жизнь Гете на отдельные
периоды. Среди них есть и такие, как известная
депрессивная фаза времен написания «Вертера»; свое состояние
в такие периоды Гете прямо определял как
«патологическое» и, даже будучи уже в преклонных годах, при их
наступлении чувствовал себя неуютно (Эккерман. Запись от
2 января 1824 года). Свой суицидный порыв, свое «taedium
vitae»** Гете определяет как некую «болезнь» «со всеми ее
симптомами», которая в свое время «пронзила его до
глубины души», и делает акцент на том, каких усилий ему
стоило «ускользнуть тогда от этих волн смерти» (письмо к
Цельтеру от 3 декабря 1812 года). Внутреннюю взаимосвязь
гения и патологической предрасположенности Гете также
объяснил сам, и весьма изящным образом; его
высказывание по этому поводу мы привели в первой главе.
После всего вышеизложенного не остается ни
малейших сомнений в том, что Гете был цикликом; и то, что его
циклические отклонения временами достигали степени
патологии, также определенно подтверждается им самим.
Оспаривать это может лишь тот, кто, подобно Veil'io,
демонстрирует недостаточное знакомство как с тонкостями
психопатологии, так и с литературой, посвященной
жизни и творчеству Гете.
Но для нас важнее всего распознать в этих ритмах
проявления великих жизненных законов. В отношении вре-
* Секретари Гете.
** отвращение к жизни (лат.).
1381
менных и характеристических особенностей духовного
творческого процесса Гете многое еще остается
непонятным. Вопрос о том, какие из всех этих колебаний следует
считать «нормальными», а какие — «патологическими», не
столь уж важен. Не столь важен и вопрос о том,
действительно ли в многократных длинноволновых циклических
отклонениях просматривается сквозной семилетний ритм,
как это пытался — и не без добросовестных
обоснований — утверждать Möbius.
Если рассмотреть жизнь Гете с указанных позиций (в
этом плане нам более всего близок подробный анализ
Möbius'a, к изложению которого мы неоднократно будем
возвращаться), то нетрудно заметить, что неизменное
спокойствие и невозмутимость, которые ему столь
единодушно приписывались поверхностными наблюдателями, на
самом деле для него отнюдь не столь характерны, что его
настроение то и дело меняется и что длительные периоды
духовной засухи и бесплодия чередуются у него с более
короткими промежутками общего душевного, эротического
и поэтического возбуждения, образуя некий непрерывный
упорядоченный круговорот.
Те резкие отклонения от ровного течения жизни и
творчества, которые были вызваны своеобразной
сексуальной конституцией Гете, уже освещались нами ранее в
связи с анализом психологии влечений гениальных людей.
Ниже мы будем рассматривать лишь собственно
периодические явления.
Для большей ясности мы начнем с периодики поздних
лет Гете. Известно его собственное весьма
характеристическое высказывание: «У гениальных натур пубертат
повторяется, тогда как прочие люди бывают молоды лишь раз
в жизни». В последние годы жизни Гете жаловался, что ему
нередко приходится заставлять себя выполнять ту работу,
которая прежде была для него просто игрой.
«Исключение в этом смысле составляло лишь лето 1831 года, —
сообщает его личный врач Фогель, — когда он часто уверял,
что такого расположения к умственной деятельности — ра
|139
и такой продуктивности у него уж тридцать лет как не
было». И в самом деле, в 1830—1831 годах Гете владело
своеобразное возбуждение, проявлявшееся в хлопотливой
деятельности и раздражительности; его письма к Цельтеру
дышат прямо-таки лихорадочным энтузиазмом. Это время,
когда Гете завершает написание своей биографии, но
прежде всего это время завершения «Фауста».
Отступив от этого последнего взлета примерно на
семь лет назад, мы окажемся в 1821 — 1823 годах, и перед
нами развернется в высшей степени замечательный
период жизни Гете, неожиданно прервавший мирное
существование семидесятичетырехлетнего старца.
Невозмутимый мудрец, достопочтенный, несколько чопорный
министр вдруг вновь молодеет и оттаивает; он влюбляется
в девятнадцатилетнюю Ульрику фон Леветцов. Он
является в Мариенбаде и Карлсбаде веселым и галантным,
он испытывает своеобразное эротическое возбуждение:
музыка трогает его до слез, у него «любезные грезы», в
его письмах — поистине экстатический подъем, он
уверяет, что он уже давно не был так «хорошо здоров» и
душой и телом. Невзирая на предельную разницу в летах,
строятся планы супружества, великий герцог должен
выступить в качестве свата, Гете пишет своей избраннице
письма, содержание которых весьма близко к тому, что в
общежитии называют «объяснением». В сентябре,
возвращаясь домой, он пишет «Элегию»:
«Сомненья, скорбь, укоры, боль живая
Теснят его, как туча грозовая»*.
Настроение переменилось, наступает тяжелая
депрессия; глубоко удрученный, он сидит дома, он льет слезы,
он изводит себя в ипохондрическом самобичевании, и
лишь постепенно, утешаемый добросердечным Цельтером,
восстанавливает душевное равновесие.
* Перевод В. Левика. В оригинале:
«Mißmut, Reue, Vbrwurf, Sorgenschwere
belasten nun in schwüler Atmosphäre».
1401
Отступив от этой последней любви поэта еще
примерно на семь лет назад, в 1814—1815 годы, мы
обнаруживаем не менее любопытный эпизод из жизни души
Гете: это период «Западно-восточного дивана» и любви к
Марианне фон Виллемер. Серьезная, размеренная жизнь
государственного чиновника, естествоиспытателя,
собирателя и искусствоведа, того достопочтенного стареющего
Гете, отличительными чертами духовного облика
которого являются прилежание и степенность, здесь
совершенно неожиданно вновь прерывается чем-то вроде нового
пубертатного периода. Животворный источник поэзии
становится похожим на фонтан. 21 июля 1814 года Гете
пишет первые строки «Дивана», к концу августа
написано уже тридцать стихотворений к Хафизу, к маю 1815
года закончены первые сто стихотворений. Далее следует
любовь к Марианне фон Виллемер и «Книга Зулейки» —
новая творческая вершина. По некоторым
стихотворениям мы и сегодня можем представить себе, какое
страстное возбуждение им владело:
«Но для сердиа нет предела,
Снова юных сил полно,
Под снегами закипело
Этной огненной оно.
Ты зажгла лучом рассвета
Льды холодной крутизны
И опять изведал Хатем
Лета жар и мощь весны.
Кубок пуст! Еще налей-ка!
Ей во славу — пьем до дна!
И пускай вздохнет Зулейка,
Что меня сожгла она»*.
* Перевод В. Левика. В оригинале:
Nur dies Herz, es ist von Dauer,
Schwillt in jugendlichstem Flor;
Unter Schnee und Nebelschauer
Rast ein Ätna Dir hervor.
141
В некоторых из этих стихотворений вырывается
наружу мощный темперамент и совершенно юношеское
мировосприятие. Это те самые стихотворения, которые
и сегодня продолжают жить в звуках Шуберта и Гуго
Вольфа, тогда как множество достойных и значительных
стихотворений Гете если и не потеряли для нас своей
художественной и дидактической ценности за те долгие
годы, что протекли со времени их создания, то все же для
наших чувств — поблекли. Вообще, сегодня продолжают
жить лишь стихи, написанные Гете в периоды его
возбуждения. Гете сам совершенно ясно ощущал, что
поэтическое состояние возникает в нем как лихорадочное: в это
время он должен писать стихи, но когда возбуждение
спадает, источник песен пересыхает. И во время
наступившего вслед за этим подъемом «сухого» периода он сам
сказал Эккерману: «Песни „Дивана" не имеют ко мне
вообще никакого отношения. Все, что было в них
восточного, и все, что было в них страстного, — все это уже
отмерло во мне; это — словно сброшенная змеиная
кожа, оставшаяся лежать на дороге».
Напрашивается очевидное объяснение: любовь
рождает песни; встреча с той или иной женщиной
воздействовала на чувства Гете и оживляла в нем песенный
источник. Соображение очевидное и, однако, неверное.
Привлекательные юные девушки и женщины были в окружении
Гете всегда. Но влюблялся он только тогда, когда
наступало его время. А уж тогда избранница могла и не обладать
никакими выдающимися качествами — этому мы имеем
подтверждения. Для периодики душевной жизни Гете ха-
Du beschämst wie Morgenröte
Jener Gipfel ernste Wand.
Und noch einmal fühlet Hatem
Frühlingshauch und Sommerbrand.
Schenke her! Noch eine Flasche!
Diesen Becher bring ich ihr:
Findet sie ein Häufchen Asche,
Sagt sie: der verbrannte mir.
1421
рактерно также и то, что когда его симпатии
пробуждались, они в короткое время распространялись, как
правило, сразу на нескольких женщин; почти все «предметы»
Гете соединяются во времени в довольно тесные группы:
Лотта в Вецларе и Максимилиана Ларош, Лили Шенеман
и госпожа фон Штейн, прекрасная миланка и Христиана
Вульпиус, Минна Херцлиб и Сильвия Цигезар*.
И как раз возникновение «Западно-восточного
дивана» особенно ясно доказывает, что те или иные особы
женского пола сами по себе отнюдь не являлись
причинами поэтического оживления Гете, но напротив, уже
существовавшее возбуждение вызывало его любовь к тем
женщинам, которые именно в этот период возбуждения
оказывались в поле его зрения. Ведь при возникновении
«Западно-восточного дивана» оживление поэтического
источника после долгих лет молчания произошло
совершенно неожиданно и не было ничем подготовлено.
Возбуждение, чувство всеобъемлющей любви появилось у
Гете за несколько месяцев до сближения с Марианной фон
Виллемер, и она стала предметом его любви потому, что
Гете был в состоянии поэтического возбуждения, а не
наоборот. Встреть он ее не в 1814, а, скажем, в 1811 году,
она, скорее всего, не произвела бы на него впечатления.
Особенно показательно в этом плане то, что после 1816
года (когда период возбуждения у него уже миновал) он
больше не встречался с Марианной, а позднейшие
планы поездки к ней не осуществил из-за каких-то
незначительных причин. И только в своем следующем
периоде возбуждения, в 1823 году, в пору своей любви к Уль-
рике фон Леветцов, он по дороге домой вдруг пишет
Марианне. По его собственным словам, он вспоминает о
ней, «когда в нем вновь начинает что-то шевелиться».
Итак, как мы теперь видим, периоды возбуждения
Гете длятся примерно два года каждый, в то время как спо-
* Соответствующие годы: 1772—1774 — Лотта и Максимилиана,
1775—1776 — Лили и фон Штейн, 1787—1788 «миланка» (Магдалена Рид-
жи) и Христиана, 1807—1808 — Минна и Сильвия.
1143
койные «сухие» промежутки между ними составляют
каждый около семи лет. И попробовав вновь отступить на
семь лет назад, мы в самом деле снова попадаем в период
омоложения 1807—1808 годов, отмеченный сдвоенной
любовью к Минне Херцлиб и Сильвии фон Цигезар и
возникновением сонетов и «Избирательного сродства».
Возбуждение, а вместе с ним и эротический подъем,
начинается во время поправки здоровья на Карлсбадских водах в
1807 году. Осенью на фоне оживленной поэтической
активности возникает симпатия к Минне Херцлиб; после
хорошо прошедшей зимы, на следующее лето к этому
чувству добавляется душевная привязанность к Сильвии.
Продвигается «Избирательное сродство», пишется дневник.
Хорошее настроение держится до зимы, но с 1809 года
вновь начинается обычная духовная засуха.
Если, таким образом, в поздних годах Гете
совершенно отчетливо просматриваются четыре возникающих
через регулярные промежутки времени периода возбуждения:
1807-1808, 1814-1815, 1822-1823 и 1830-1831 годы, то
в предшествующие два десятилетия соответствующая
волновая периодичность выражена не столь явно. Годы
зрелости Гете, 1789—1807, — это время его наибольшего
духовного здоровья и наибольшей духовной трезвости. Годы
зрелости были поэтически непродуктивным временем его
жизни, и если брать те его творения, которые и по сей день
не утратили живого дыхания, то подавляющее
большинство их было создано (или по крайней мере начато) либо
в годы юности, предшествовавшие итальянскому
путешествию*, либо, как «Западно-восточный диван», уже в
старости. Вспомним то своеобразное духовное опустошение,
то отчуждение, которое долгие годы владело Гете после его
возвращения из Италии**, и было прервано лишь
появлением Шиллера. Это время холодного поэтического
искусства, античных стилизаций, новых начинаний, не полу-
* Очевидно, первому, 1786—1788 годов.
** Очевидно, имеется в виду второе итальянское путешествие 1790
года и время с 1790 по 1794 год —до начала «великой дружбы».
1441
чающих продолжений, и маленьких злободневных драм, не
вызывающих резонанса. Предположение автора одной из
популярных биографий, согласно которому после
возвращения из Италии Гете был столь угнетен затхлостью
веймарской жизни, что долгие годы оставался поэтически
бесплоден, малоубедительно. Поэт, когда приходит его час,
слагает стихи и в самой убогой, промерзшей мансарде, а
жизнь в Веймаре была все же относительно интересной и
духовно насыщенной, и чтобы она не позволяла Гете
писать стихи, — в это трудно поверить. В ком есть
внутреннее духовное волнение, с тем всегда будут происходить
интересные вещи, даже в самом заурядном маленьком
городишке, а вот у кого нет этой внутренней движущей силы,
тот и в самом блестящем окружении будет испытывать
только скуку. Гете был одинок и подавлен не потому, что
окружение было ему чуждо, нет; окружение ничего не
могло ему предложить именно потому, что он переживал
упадок духа.
Шиллер уже несколько лет жил в непосредственной
близости от Гете (а в 1788—1789 годах — даже в самом
Веймаре), он всячески искал контактов с Гете, и их общие
знакомые не жалели усилий, пытаясь свести их, и все было
тщетно. Все разбивалось о ледяную сдержанность Гете.
«Дон Карлос» прошел для него незамеченным,
стихотворения Шиллера не вызывали у него одобрения, а работа о
грации и достоинстве вызвала просто раздражение. И вот,
через несколько лет, вдруг и, в общем-то, непонятно с
чего наступает перелом. На письмо Шиллера следует теплое
ответное письмо, в котором речь идет ни более ни менее
как о дружбе, и словно по волшебству возникают близкие
отношения и живая, полнокровная жизнь. Рождение
такой дружбы из многолетней антипатии столь необычно,
что этому не перестают удивляться. Но давайте от
последнего из рассматривавшихся нами периодов возбуждения
Гете, то есть от 1807—1808 годов, отсчитаем назад два раза
по семь лет, — мы попадаем в год 1794. А 1794 — это год,
в котором Гете неожиданно подружился с Шиллером. Так
|145
простое арифметическое упражнение проясняет для нас
один из загадочных и поворотных моментов в истории
духовного развития Гете. После семилетнего периода
сухости и несколько пониженного настроения Гете снова
циклически оживляется, появляются продуктивность,
общительность, способность к любви и дружбе и потребность в
них. Но вместо любви к женщинам, которая его в такие
моменты обычно захватывала, на этот раз возникает
чрезвычайно значительная и глубокая дружба с мужчиной. И
так же, как обычно влияла на него возлюбленная
женщина, так на этот раз влияет проникновенный друг, — он
пробуждает в нем живую поэтическую активность; в
следующие годы возникают баллады Гете и «Германн и Доротея».
Определенно, с вступлением Шиллера в духовный мир Гете
включается некий особо значимый, воздействующий
извне фактор, причем этот фактор в большей мере, чем
обычно, сохраняет свое значение и в последующие годы —
после окончания собственно периода возбуждения. Но
как этот внешний фактор вообще мог включиться, как
вообще Гете мог подружиться с Шиллером после не один год
длившейся неприязни к нему, — вот вопрос, ответ на
который дает не историко-литературный, а исключительно
биологический анализ.
Годы между 1794 и 1808 мы пока пропускаем; это
время не отмечено какими-либо особенными достижениями,
хотя и не совсем незначительно. В частности, в 1800—1801
годах написаны важные части «Фауста»: прогулка, сцена
в кабачке и второй монолог, то есть как раз те части,
которые по своей поэтической силе ближе всего к «Пра-Фау-
сту» юного Гете.
Итак, мы рассмотрели зрелые годы Гете. Если теперь
мы, наконец, обратимся к его юношеским годам, то мы
обнаружим две вершины, возвышающиеся над
ландшафтом этого времени. Первая из них — это большой
«гениальный» период, начинающийся приблизительно с
окончания времени студенчества в Страсбурге, достигающий
своей высшей точки в «Вертере» в 1773 году и, по мино-
1461
вании любви к Лили Шенеман, далее постепенно
исчезающий в возвышенном покое веймарского Гете,
сочиняющего «Ифигению» и «Тассо». В душевной жизни Гете тех лет
происходят бурные движения, вихри чувств то возносят его
к сумасшедшей радости жизни, то бросают в отчаяние,
играющее с самоубийством; страстная влюбленность и
лихорадочный жар поэтического творчества не дают ему
передышки: от Фридерики в Зезенгейме к Лотте в Вецларе и
вплоть до Лили Шенеман одна юношеская любовь
сменяет другую; Гец, Фауст и Вертер — лишь немногие из тех
великих образов, которыми фонтанировала тогда его
неисчерпаемая фантазия. Для Гете это было время самого
пламенного существования, самой прекрасной любви и самой
бессмертной поэзии.
Вторая вершина — это итальянское путешествие 1786—
1788 годов, внешне и внутренне обозначившее окончание
юношеских лет Гете. В поэзии и в своей любви к госпоже
фон Штейн Гете постепенно вплывает в мертвую зыбь. Его
большие вещи — «Эгмонт» и «Эльпенор» —
застопорились, «Фауст» не продвигается ни на шаг, «Тассо» после
двух незадавшихся актов прерван, «Вильгельм Мейстер»
отложен. И в сентябре 1786 года государственный
чиновник и тайный министерский советник Гете вдруг
бесследно, словно полуночный вор, исчезает из Карлсбада и
отправляется в Италию, где почти два года развлекается,
ведет веселую и беззаботную жизнь, влюбляется и пишет
прекраснейшие стихи, после чего возвращается в Веймар,
немедленно еще раз влюбляется (в цветочницу, на
которой в конце концов женится) и, заканчивая все это, вновь
становится тем почтенным и верным своему долгу
человеком, которым и остается на протяжении подавляющей
части своей последующей жизни.
Давайте теперь попытаемся очистить этот эпизод от
всех тех фраз, в которые его одевает традиционный культ
героя, и, взглянув на него трезвым обывательским
взглядом, увидеть его таким, каков он есть. Представьте себе,
что некий тайный советник Икс вдруг, бросив все дела и
147
не получив отпуска, сбегает из своего министерства, два
года ведет в Италии разгульную жизнь и в конце концов
женится на девушке очень скромного происхождения,
которая ему не ровня ни в социальном, ни в духовном
плане, причем и до и после всего этого ведет себя как
солиднейший, разумнейший и ответственнейший
человек, — что бы вы об этом сказали? Обычные историко-
литературные попытки объяснения, смешивающие
причины и следствия, и в данном случае тоже явно
неудовлетворительны. Но если теперь мы вновь отсчитаем от
загадочного начала дружбы с Шиллером семь лет назад,
мы немедленно узнаем здесь одно из регулярных
внутренних колебаний духовной жизни Гете: вначале
нарастающая в течение ряда лет духовная сухость, поэтическая
стерильность, замкнутость и раздражительность,
доводящие до некоторого эмоционального перенапряжения,
затем внезапный прорыв, импульсивные, рискованные
поступки, бурная деятельность, отчаянная жажда жизни,
эротическое возбуждение и взлет творческого гения и,
наконец, вновь медленное оседание к спокойной
упорядоченной размеренности. Таков график жизненного
движения Гете и, одновременно, — типичный график жизни
циклоидной личности.
Отсчитав дважды по семь лет назад, мы попадаем в
1773 год; это год «Вертера», высшая точка большого
гениального периода возбуждения юного Гете, — периода,
отличающегося особой выраженностью и
продолжительностью благодаря сочетанию с бурями пубертатного
возраста. Промежуточная точка 1880—1881 годов при более
тонком анализе также может быть выделена по
торжественно-серьезным мыслям о смерти, за которыми следует
эротическое и поэтическое оживление, особенно легко
прослеживаемое по письмам к госпоже фон Штейн.
И наконец, мы добрались до 1767 года, — года
первого циркулярного отклонения восемнадцатилетнего
Гете, года страстной любви к Кетхен Шенкопф,
сумасшедшего студенческого года в Лейпциге, за которым после-
148
довала странная франкфуртская депрессия,
ипохондрические фантазии и поэтические грезы.
Это были юные, горячие годы. Повзрослев, Гете
наденет маску художника жизни, невозмутимого князя
поэзии; такая маска представляет собой некую
сверхкомпенсацию, некий широкий стилистический жест,
призванный скрыть и вытеснить все собранные вместе и с
трудом заглушённые боли и страсти. Художником в
искусстве жизни становится лишь тот, кто в проживание
жизни привносит искусство. И за этой завесой можно не
разглядеть легкий, но неостановимо текущий поток
душевной периодики Гете, взбаламученную темную
подоснову его человеческой сущности. Но если мы не хотим
ее проглядеть, мы не сможем пройти мимо того
тяжелого наследственного предопределения, которое за время
жизни четырех поколений уничтожило его род: в
странностях его отца, душевной болезни сестры и
стремительном вырождении его детей и внуков проявилась опасная,
чреватая отклонениями наследственность, в которой
циклическая предрасположенность поэта была лишь
благоприятным пограничным случаем.
Отец Гете был чудаком без какой-либо профессии,
страдавшим в конце жизни психическими нарушениями
на почве атеросклероза. Никто из шести братьев и
сестер Гете не был наделен ни телесным, ни душевным
здоровьем: четверо умерли от болезней в самом раннем
детстве, у дожившего до шестилетнего возраста младшего
брата наблюдались признаки дегенерации, он был
инертен и упрям, а единственная взрослая сестра, Корнелия,
была совершенно патологической личностью с
предрасположенностью к психическому заболеванию, что
временами проявлялось с полной очевидностью. Будучи в
отношении многих телесных особенностей точной копией
своего блестящего брата, она в то же время была
некрасиво сложена, постоянно болела, черты ее лица были
резки и отталкивающе неправильны; совершенно
неразвитая в сексуальном плане, неспособная ни к нежности, ни
[149
к любви — «неопределимое существо», как говорил о ней
брат, — она являла собой более чем странную смесь
жесткости и мягкости, упрямства и податливости; она была
строга, жестка и в известном смысле бессердечна. По
мнению Гете, о ней можно было сказать, что в ней нет
ни веры, ни надежды, ни любви. Портрет, возникающий
из описаний самых близких к ней людей, просто
приводит в уныние. От любого душевного волнения она
заболевает. Состояние ее духа мрачно и подавленно, она
постоянно недовольна и собой, и окружающим миром. Она
могла бы быть повеселее, но просто не имеет тех
иллюзий, которые способны утешать. Она жаждет любви, но
в то же время отталкивает всякое нежное прикосновение;
она могла бы кому-то открыться, но ее горечь
отпугивает всех. После первых родов в 1774 году у нее возникают
психические нарушения. Почти два года она пребывает в
глубокой меланхолии, очень мало двигается, ничем не
занимается, мучается постоянными страхами и
кошмарными бредовыми фантазиями. Затем, после короткого
светлого промежутка, она окончательно погружается в
болезнь, чахнет и в 1777 году умирает в возрасте всего лишь
двадцати семи лет.
Итак, сестру Гете можно определить как шизоидную
личность с сильной депрессивной предрасположенностью
и эпизодическими приступами мсманхолии; в этой
душевной патологии нетрудно увидеть звено в цепи
наследственных психических аномалий рода Гете. Таким образом,
предрасположенность, аналогичная той, которая в
тяжелом, болезненном проявлении полностью разрушила
счастье и жизнь сестры, в случае брата выразилась в легких
циклических колебаниях душевного состояния, и это
привело лишь к тому, что воодушевление и фантазия
периодически осыпали его дождем богатейших даров.
Наследственное проклятие, тяготевшее над родом
Гете, быстро настигло потомков поэта. Из пяти его детей
четверо умирают в младенчестве, выживает только один,
Август Гете, тяжелобольной и глубоко несчастный человек.
1501
Для окружающих он — «спятивший тип». Тяга к
алкоголю проявляется у него уже в детском возрасте; вся его
жизнь — цепь бурных безуспешных начинаний и
ошибочных поступков, приводивших к несчастьям, виной
которых был он сам. Все, чего он достигал своим
добросердечием, верностью дружбе, искренним стремлением к
приобретению основательных познаний, — все это он портил
горячностью, непоседливой безалаберностью, мрачной
угрюмостью. Другими словами, у него наблюдались черты
тяжелейшего наследственного вырождения, которые в
последние годы его жизни перешли в выраженное
психическое заболевание. Он умер по дороге в Италию, по всей
видимости от последствий запойного пьянства, в
возрасте всего только сорока одного года.
Два оставленных им чахлых отпрыска завершают
историю вымирания дома Гете. Старший, Вальтер Вольфганг,
получивший в удел маленькое, слабое, искалеченное тело
и тихую, согбенную, страдающую душу, никаких особых
способностей, кроме способности любить музыку, не
проявил и умер от чахотки. Младший, Вольф Гете, обладая
поэтическим дарованием и большими духовными задатками,
страдал тяжелым нервным расстройством, был замкнут,
тревожен и, разорвав позднее всякую связь с миром,
погрузился в болезнь и уединение. Со смертью этих двух
братьев несчастья рода Гете заканчиваются.
Гете любят представлять эталоном крепкого здорового
духа и уравновешенной гармоничной души. Однако из
судеб его близких составляется совсем иная картина. И
когда мы видим, как его братья и сестры увядают в нежном
младенчестве, как жизнь единственной оставшейся у него
сестры словно лишь для того оказалась сохранена, чтобы
окончиться в горечи, немощи и бессилии, при том что и
сам поэт лишь по счастью избежал участи, постигшей его
сестру, только тогда мы начинаем что-то понимать в
действительной человеческой судьбе. В той самой родовой
судьбе, которая отравила и жизнь Бетховена, и жизнь
Микельанджело. И тогда гений предстает перед нами в обра-
JJ51
зе Ифигении — как последний яркий цветок, окруженный
больными отпрысками вырождающегося родового древа.
Видя рядом с Гете фигуру его погруженной в черную
меланхолию сестры и вспоминая Ифигению рядом с ее
несчастным братом, мы начинаем слышать веретено Парки,
мы начинаем понимать этот символ: блестящий
златоглавый любимец богов, пирующий на заоблачной вершине
Олимпа над краем бездны, которая завтра поглотит его
титанический род.
Глава 7. ПОЛ И ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ.
ГРАФИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Проницательный психиатр Möbius, человек, которому
исследование гениальности как научное направление
многим обязано, написал однажды маленькую статью,
называвшуюся так: «О физиологическом слабоумии женщины».
Эта статья вызвала необычайный гнев публики и
сделалась притчей во языцех. Но, помимо остро
полемического заглавия и многочисленных односторонних
преувеличений, статья эта любопытна еще и тем, что поднимает
некоторые вопросы, связанные с проблемой гениальности.
Например: чем объяснить тот факт, что до сих пор не
было ни одной в собственном смысле слова гениальной
женщины — и очень мало таких, которые в какой-либо
духовной области создали новые оригинальные творения. Тут же
следует возражение: женщины не допускались к духовной
жизни, и оценки их творчества предвзято необъективны.
Однако, говорит Мебиус, разве дамам когда-нибудь
мешали, к примеру, петь или играть на фортепьяно? — тогда
почему же они не сочиняли музыку? А если сочиняли, —
почему не вышло ничего бессмертного? Мебиус не пожалел
труда собрать имена всех женщин-композиторов,
оставивших хоть какой-то след в истории; просматривая этот
длинный список в поисках имен, которые бы нам что-то
говорили, мы обнаруживаем лишь следующие: Клара
Шуман, Фанни Мендельсон и Корона Шретер, — первая про-
154
славилась благодаря своему мужу, вторая — благодаря
своему брату, а третья — благодаря своему другу Гете. Что же
касается предвзятости оценок творчества, то по
отношению к прекрасным музицирующим дамам она обычно ис-
чезающе мала.
Таким образом, воспитатальная теория не проходит.
Однако, возразят нам снова, вследствие тысячелетнего
подчиненного положения женщины ущербность женской
духовной жизни стала наследуемым свойством, которое в
достойных культурных условиях может исчезнуть.
Подобная теория едва ли может быть приведена в соответствие
с современными биологическими представлениями; но
если бы психические различия между мужским и женским
полом возникли и закрепились именно таким образом, на
протяжении бесконечно долгого времени, то и обратное
развитие тоже должно было бы представлять собой
длительный процесс и не могло бы являться предметом
современного психологического рассмотрения.
Гениальность женщины — в ее сыновьях, другими
словами, те существенные духовные задатки, которые
женщина как носительница важного наследственного материала
в себе заключает, могут найти свое полное
социально-значимое выражение в ее сыновьях, как мы это видим на
примере матери Гете. Встречаются, впрочем, и такие
женщины, которые хотя и не совершают собственно гениальных
великих деяний, тем не менее создают новые,
несомненно оригинальные и долговечные творения. В немецкой
словесности — помимо ряда хороших писательниц — есть
одна такая личность: Аннета фон Дросте-Хюльсхоф. Но и
тут мы сталкиваемся с одним своеобразным
обстоятельством. Дело в том, что звучание стихов Дросте столь
сурово, мощно и реалистично, а выражения столь резки и
мужественны, что лирика многих мужчин-поэтов кажется
рядом с ними женственно-нежной. Еще своеобразнее
содержание. Лишь завуалированно, опосредованно, в
религиозных интонациях и привязанностях к обычаям и к
семье проявляются здесь женские мотивы. И в то же время
153
бросается в глаза отсутствие в ее стихах богатой темы
детства и почти полное отсутствие любовных мотивов.
Именно в той сфере, где так богато и специфично
развертывается душевная жизнь женщины, у Дросте — зияющая
пустота. Более того, ее стихи, кажется, сложены каким-то
жестоким егерем: в них травля зверя, и гром оружия, и
вольные, одинокие блужданья в диких лесах, они полны
насилий и кровавых убийств, закованных в броню
крестоносцев и ландскнехтов, мрачных могильных курганов, над
которыми жестокие германские боги встряхивают
кудрями облаков. Это ее самые захватывающие и глубоко
прочувствованные мотивы. Но Дросте-Хюльсхоф не только
чувствует, как мужчина, — она хочет быть мужчиной. В
последней строфе одной из ее Боденских песен, где она стоит
в бурю на вершине башни, у нее вырывается страстное
желание: «Мне б в поле широком коня добыть, быть егерем
или солдатом, — о, если б мне просто мужчиной быть...»
И от этих мечтаний у каменного парапета ее отвлекает
слуга, обращаясь к ней со словами: «Ненастье, господин». Эта
маленькая черточка весьма характерна. Чтобы войти в то
настроение, в котором она находит свои самые сильные и
истинные интонации, она должна представить себя
одетой в мужское платье. Но именно эта склонность к
ношению мужской одежды представляет собой хорошо
известную черту, обличающую в женщине характер
противоположного пола, интерсексуальность ее духовного
чувствования. Этот женско-мужской элемент мы
обнаруживаем и у великих женщин истории, таких, как
Елизавета Английская или императрица Екатерина, но в
особенно ярком выражении — у Кристины Шведской.
Сравним теперь с Дросте-Хюльсхоф тех писательниц
и поэтесс последнего столетия, которые действительно
воспевали весну и любовь или детей, дом и семейный очаг,
создав значительнейшие и по сей день наиболее
читаемые — наряду со стихами Дросте — произведения, то есть
создательниц изящных лирических томиков с золотым
обрезом и семейных романов. Эти женщины поистине ми-
154|
лы живостью своих чувств, однако в поэтических
творениях остаются заурядны и традиционны. Величие же
великих женщин, как правило, в том, что они — великие
мужчины.
В целом к вопросу сцецифически половой
одаренности следует подходить с большей осторожностью, чем это
делал Мебиус. Рассмотрение этой проблемы не будет
корректным, если не затронуть биологическую сторону
вопроса интерсексуальных конституциональных вариантов.
К примеру, в художественном творчестве феминные
элементы у мужчин могут в благоприятных случаях
оказывать столь же большое положительное влияние, как и
маскулинные у женщин. Соответственно, в сфере
духовного творчества невозможно противопоставление
абсолютных женщин абсолютным мужчинам. На
сегодняшний день можно лишь предполагать, что те женщины,
которые своими оригинальными незаурядными
свершениями вписали свои имена в политическую или
духовную историю, были в том, что касалось их совокупного
соматопсихического габитуса, в среднем несколько
сдвинуты в пределах конституционального вариационного
ряда в сторону маскулинности. При этом нужно учитывать
тонкость проявлений и незаметность многих таких
вариантов; речь тут отнюдь не всегда идет о бросающихся в
глаза так называемых «мужеподобных» вариантах женской
конституции.
В литературном пространстве имеются, однако, такие
области, где специфически женские одаренности
приобретают большое и отнюдь не скоропреходящее значение,
например, область женского эпистолярного творчества, в
котором преуспели духовно развитые женщины
французской классической культуры или такие женщины
Германии, как мать Гете и Лизелотга фон дер Пфальц*. При этом
следует обратить внимание на специфически женскую чер-
* Пфальц, Лизелотта (Элизабет Шарлотта) фон дер (1652—1722) —
герцогиня Орлеанская, дочь курфюрста Карла Пфальцского и жена брата
Людовика XIV.
J155
ту: на первый план выдвигаются не литературные
амбиции, а приватно-личностная атмосфера и личностная
эмоциональная связь с адресатом.
В упомянутой статье Мебиус приводит и еще один
аргумент, имеющий отношение к проблеме гениальности. А
именно, он говорит: время духовного расцвета
большинства женщин очень коротко и в лучшем случае
простирается до первых лет брака. Затем наступает некая духовная
атрофия, превращающая полную огня и блеска девушку в
ничем не примечательную рядовую женщину. Этот иногда
незаметный, иногда явственный перелом в духовном
развитии личности, или, иначе, это неощутимое, медленное
угасание духовной витальности, которое особенно часто
происходит в послепубертатный период, но у многих
может наблюдаться и позднее, на самом деле имеет большое
значение. Мебиус ошибается здесь лишь в том, что
распространяет это явление только на женский пол.
Важные биологические знания можно иногда
почерпнуть даже из сборника студенческих песен. Эти песни
часто вызывали нарекания за то, что в них человеческая
жизнь состоит лишь из четырех студенческих лет, тогда
как все остальное время жизни, все нестуденческое
существование изображается в принципе не имеющим
цены довеском, каким-то миром зияющего ничто и
зевающих ничтожеств. И тем не менее студенческая песня в
известном смысле права. В самом деле, у обычных
людей в годы их юности мы не только видим большую
свежесть и живость общего духовного существования, но —
даже у совершенно банальных в будущем натур — мы
обнаруживаем какие-то попытки самостоятельного
мышления, задатки каких-то, пусть небольших, музыкальных,
поэтических или ораторских талантов, толику остроумия
и силы духа, то есть все те вещи, которые затем, после
двадцати пяти лет, постепенно или внезапно исчезают у
таких среднеодаренных натур без следа. И тогда, после
механического исполнения профессиональных
обязанностей, сна и еды, остается очень немного того «прочего»,
1561
что можно было бы назвать индивидуальностью.
Происходит это, разумеется, не только под тяжестью не раз
обвиненной в этом канцелярской пыли, ибо пыль оседает
лишь на почве, уже высохшей изнутри. И когда
появляется живая личность, эти так называемые «иссушающие»
профессии одухотворяются и наполняются жизнью.
Итак, то «mutatio rerum»*, которое в студенческой
песне сопровождается известными меланхолическими
восклицаниями, — вовсе не сентиментальный вздох,
отнюдь; это mutatio rerum есть выражение глубокого
биологического переворота, который в силу внутренних
законов совершается в душевном организме
обыкновенного человека по миновании пубертатного периода. Хотя
вершины своей социальной значимости, зрелости и
опытности обыкновенный человек достигает лишь в среднем,
возмужалом возрасте, вершина самостоятельной духовной
восприимчивости и продуктивности чаще всего
достигается во второй половине пубертатного периода. (В
жесткой и неканонической стилистике Мебиуса эта
истина звучала бы так: примерно на двадцать пятом году
жизни у обыкновенного человека наступает
проявляющееся в легкой форме стойкое поглупение; с этого
возраста начинается приобретенное физиологическое
слабоумие не только у женщин, но и у мужчин. Однако общая
принципиальная ошибка подхода Мебиуса в том, что в
качестве мерила для определения масштаба ценностей
человеческой жизни он выбирает короткие и к тому же
весьма относительные по своей значимости временные
отрезки.)
Итак, воздействие пубертата на духовное творчество
человека можно сравнить с вводом запала, — это
называют гормональным воздействием. Связанный с половым
созреванием химизм крови воздействует на мозг воспламе-
няюще, как вино, извлекая все те индивидуальные
задатки личностных достоинств, которые присутствуют хотя бы
* изменение вешей (лат.).
157
в зачаточном состоянии, заставляя их блеснуть и на
какое-то время расцвести.
Такие гормональные воздействия, воздействия
внутреннего химизма живой субстанции, именно инкретов
определенных желез, существенно участвуют не только в
пубертате, но и во всех иных типах душевной периодики и
стадийных жизненных процессов. Сила этих воздействий
так велика, что они способны совершенно подавить и
задержать развитие духовных задатков вплоть до второй
половины жизни человека, чтобы затем позволить им с тем
большей интенсивностью и яркостью расцвести и, быть
может, вновь увянуть к концу жизни. И гениальный дух
тоже отнюдь не какая-то свободнопарящая абсолютная
величина, напротив, он жестко связан с этими законами
химизма крови и желез внутренней секреции. Один из
наиболее удивительных примеров такой связи — история
жизни поэта К. Ф. Мейера. У него, помимо своеобразных
отклонений в строении черепа и щитовидной железы,
наблюдалось необычайное отставание телесного развития —
некая форма истощения, по-видимому, близкая к
известным нарушениям регуляторных функций гипофиза или
системы гипофиз-промежуточный мозг; примерно до
сорока лет он был чахлым и тощим, как скелет; только с
этого возраста у него начала расти борода, а его фигура
приобрела полноту и внушительность, — и только в этом
возрасте он выпустил свой первый стихотворный сборник.
И психические различия полов в отношении их
участия в создании гениальных произведений, по-видимому,
существенным образом связаны с этими периодическими,
регулируемыми центральной нервной системой
гормональными воздействиями. Они, очевидно, вызывают
формирование определенных духовных предрасположенно-
стей, некоего «вторичного полового характера».
Нам следует рассмотреть эти процессы подробнее,
поскольку они вообще дают отправную точку для
понимания периодов гениальной продуктивности. Мы уже
вспоминали слова Гете: «У гениальных натур пубертат повто-
1581
ряется, тогда как прочие люди бывают молоды лишь раз в
жизни». Если мы попытаемся как-то структурировать
наши представления о заключенной в этих словах
биологической истине, то в качестве первой группы мы сможем
сразу выделить таких конституционально гипоманиакаль-
ных людей, как мать Гете или фельдмаршал Блюхер,
неубывающая живость которых бесследно стирает границы
возрастных периодов; они могут впервые вступить на свою
истинную жизненную стезю даже в старческом возрасте,
как это и было у Блюхера.
Но и отвлекаясь от этой группы, мы должны
констатировать, что графики индивидуального развития
высокоодаренных людей часто выглядят иначе, чем у
обыкновенных. После бурь собственно юношеского возраста,
необычайная интенсивность которых иногда не помогает, а,
скорее, мешает гармоничному духовному творчеству
одаренных людей, у них начинается важнейший период
развития личности, — как раз тогда, когда у обыкновенных
людей оно заканчивается; в это время они создают свои
самые зрелые и индивидуально окрашенные работы,
продолжая неустанно творить вплоть до приближения
старости; вершина их жизни достигается в том возрасте, в
каком ее должен, как предполагается (большей частью —
ошибочно), достигать всякий человек; и в зрелые годы
они нисколько не теряют своей бодрости, духовности и
энергии, — они становятся только сильнее духом
благодаря прояснению сознания. Даже начинающееся
окостенение старости лишь способствует еще более импозантному
выявлению жесткой структуры их личности. В ярко
выраженном виде этот график гениального развития:
мешающая избыточная напряженность пубертата, а затем
длительная неослабевающая творческая продуктивность в
зрелом возрасте — мы наблюдаем в масштабе первой
половины жизни у Шиллера и в полномасштабном
варианте у Бисмарка.
Этот Шиллер-Бисмарковский вариант духовного
становления мы можем назвать одним из основных типич-
|159
ных графиков гениального развития. Но когда
гениальное творчество определяется не какой-то постоянно
действующей предрасположенностью, а переменными
биологическими воздействиями, тогда возникают
многообразные и иногда совершенно парадоксальные картины.
Регулярные циклические колебания, которые мы видели
у Гете, — это еще график, в максимальной степени
родственный нормальному протеканию психических
процессов. Но уже совершенно странное впечатление
производит циркулярно-паранойяльный тип Роберта Майера:
человека в середине его жизни вдруг осеняет гениальность,
и он порождает одну-единственную великую идею,
чтобы затем на всю оставшуюся жизнь вновь погрузиться в
среднестатистическую массу.
Любопытный, но достаточно частый и типичный вид
графика развития мы находим, например, у Людвига
Уланда или у Шеффеля. Эти люди в пубертатный или
постпубертатный период создали одно-единственное
выдающееся творение (Шеффель — «Эккехарда»*, Уланд—
книгу песен и баллад), затем, как раз в то время, когда
только и можно было ожидать богатейшего расцвета их
творчества, гений неожиданно исчезает, быть может,
истощившись от беспрерывного употребления, и на
протяжении всей последующей жизни более уже не
проявляется. Эти люди могут позднее быть все еще намного
духовнее и содержательнее обыкновенного человека, но
никакого сравнения с блестящим взлетом своей юности
не выдерживают. Наиболее тяжелые случаи такого рода
внутренне связаны с обширной областью
шизофренических нарушений психики, получившей название гебеф-
рении. Они повторяют нормальный график развития в
чрезвычайно усиленной, словно бы гротескной форме,
при этом пубертатный взлет у них еще более
блистателен, а спад после него еще более глубок, чем обычно.
Мы наблюдаем здесь все переходные ступени от нормаль-
* Шеффель, Иозеф Виктор (1826—1886) — писатель и поэт;
исторический роман «Эккехард» написан в 1857 году.
1601
ного снижения психического напряжения в
постпубертатный период до тяжелых типичных случаев гебефрении.
У Уланда духовный откат постпубертата проходит еще
незаметно и приглушенно, в форме некоторого
артистического очерствения, у Шеффеля мы уже наблюдаем
рецидивирующие приступы психических нарушений,
акцентуированные меланхолией и бредом преследования, а у
Гельдерлина мы имеем развернутую драматическую
картину тяжелого шизофренического помешательства, после
которого в зрелый и старческий возраст переходит уже
только духовная руина.
В принципе, во всяком возрасте жизни так же
возможен новый взлет внутренней витальности, как и ее
внезапное или незаметное угасание и исчезновение. Даже
казалось бы «отвердевший» поздний зрелый возраст не
составляет здесь исключения. Конституциональные
причины могут при этом быть совершенно иными, чем в
кризисах пубертата. К примеру, Бильрот, врач-творец,
отличавшийся выраженными пикнико-гипоманиакальными
чертами темперамента, человек могучего витального
порыва, всегда воодушевленный, брызжущий идеями энтузиаст,
живущий полной жизнью, любимый и любящий
наслаждения, богатый, знаменитый, счастливо и разнообразно
одаренный, — ведь он уже в среднем возрасте был не
только сердечником, но и просто истощенным, телесно и
душевно изношенным человеком, утратившим после
смерти всех четырех своих братьев и трех из шести детей
всякую радость жизни. С другой стороны, и спокойное, без
каких-либо внешних потрясений существование, и тонкий
юмор, и умение жить не спасают, когда иссякает
внутренний источник; лучше всего это видно на примере
жизненного пути поэта Мерике, которому в возрасте тридцати
девяти лет стал невыносимо тяжел груз его легкой службы,
и с этого времени он вел жизнь хворающего ипохондрика
без определенных занятий.
И у Эдуарда Мерике, и, очевидно, также у Бильрота
речь идет не о шизоидных пубертатных кризисах, как в
6 Зак.662
[161
предыдущей группе, а о преждевременном истощении
вегетативной нервной системы, о некой «вегетативной дис-
тонии», проявляющейся в нарушении важных функций
соматической регуляции, а в психической сфере — в
снижении настроения и утрате энергии; у Мерике эти
явления стали заметны уже к тридцати годам и в дальнейшем
прогрессировали. Поскольку Мерике по преимуществу
лирик, то ориентировочным показателем его витального
настроя является количество созданных им в том или ином
году стихотворений, тем более что он обычно
отказывался от активной целенаправленной работы и, следуя
внутренним законам своей натуры, лишь пассивно ждал
минуты просветления, минуты прихода поэтического
вдохновения. Проведя соответствующие подсчеты, мы увидим,
что его поэтическое творчество подчиняется некой
двойственной закономерности. Именно, сквозь постепенное
снижение уровня витального напряжения у него время от
времени прорываются циклические всплески,
чрезвычайно похожие на те, что мы видели у Гете. Такие
поэтические порывы возникают в 1827—1828 годах, затем в 1837
и, наконец, в 1845—1846. И здесь —по крайней мере, в
1827—1828 годах, — как и в случае с «Западно-восточным
диваном» Гете, не любовь рождает песни, а сперва
возрастает поэтическая продуктивность и уже за ней следует
любовь к Луизе Pay. Да и в последней фазе 1845—1846 годов
отнюдь не очевидно, что любовь была причиной
поэтического возбуждения, а не наоборот, ибо с учетом
привходящих обстоятельств его помолвка с Маргарет фон Шпет
была поступком весьма странным, заставившим его
ближайших друзей в недоумении покачивать головами. Что же
касается пика высочайшей продуктивности 1837 года, то
он возник абсолютно вне всяких внешних причин;
состоявшееся за три года до этого переселение Мерике в
благоприятную среду Клеверзульцбаха не вызвало никакого
поэтического подъема, и точно так же эта благоприятная
среда не смогла предотвратить начавшегося в последующие
годы снижения творческой продуктивности и общего ос-
162
лабления чувства жизни, которое привело к тому, что он,
страдая депрессией и тяжелой вегетативной дистонией,
должен был в тридцать девять лет выйти на пенсию. Его
реактивные депрессивные состояния (в точности, как у
Гете) подтверждают предположение, что здесь определенную
роль играют циклические колебания.
Впрочем, эти пики высокой творческой
продуктивности у Мерике, как и у Гете, — не всегда чисто гипоманиа-
кальные фазы с переизбытком ощущений счастья и
собственных сил, с «пестрым роем мыслей и картин»,
«чувством восхищенных сил» и этим: «Душа парит под куполом
небес, и гений ликует во мне!», — такие пики приходятся
и на кризисные периоды беспокойства и лабильного
высокого напряжения, которые нередко сопровождаются
субъективным ощущением нездоровья и реактивными
депрессивными состояниями. И короткие циклические
колебания, которые отмечал у себя Гете, Мерике ощущал в
себе с пронзительной ясностью, распознавая в них чисто
внутренние, из глубины поднимающиеся волны:
«Непонятная тоска,
Сам себя не понимаю;
Слезы взор мой застилают,
Сердце сжато, как в тисках.
Неизвестность впереди.
Может, радость вдруг проснется?
И сквозь слезы рассмеется
Сердце у меня в груди?»*
На другом полюсе находятся случаи необычно
позднего прорыва пубертата. В этом смысле поэт К. Ф. Мейер
* В оригинале:
«Was ich traure, weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe,
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.
Oft bin ich mir kaum bewußt
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, so mich drücket
Wonniglich in meine Brust».
6*
163
являет собой редкий даже с точки зрения психиатрии
случай парадоксального, по-видимому, диэнцефально
управляемого функционирования желез внутренней секреции,
переворачивающего с ног на голову все законы
нормального жизненного развития, поскольку его юношеские
годы были глубокой зимой его жизни, а весна началась лишь
в позднем зрелом возрасте. (Некоторые отчасти сходные с
таким графиком элементы развития мы наблюдаем у
Достоевского и Лилиенкрона*.) Один из наиболее личностных
мотивов его стихотворений, — причем подобного не
переживал после него никакой другой поэт, — это
беспрецедентно позднее пробуждение души под вечер жизни,
переполненность чувством счастья и жаждой деятельности,
которыми его уже давно закончившаяся молодость,
продлившись еще на несколько мгновений, торопится теперь
насладиться. Словно пробудившийся от злых чар, он
теперь только начинает жить:
«Как проклятый, в смирительной одежде,
Я жил во сне, не чувствуя потерь.
И все часы, не прожитые прежде,
Кричат мне, каждый о своем, теперь»**.
С этих пор каждую весну его охватывает тоска, но это
не самодельная мировая скорбь юного поэта, а горькое
личное переживание:
«Когда все полно вешних сил,
Когда окно отворено,
Тому, кто юность упустил,
Томиться сердцем суждено.
В утере юности — вина,
И в вечных поисках — тоска,
* Лилиенкрон, Дстлев фон (1844—1909) — немецкий поэт.
** В оригинале:
«Ich war von einem schweren Bann gebunden.
Ich lebte nicht. Ich lag im Traum erstarrt.
\fon vielen tausend unverbrauchten Stunden
Schwillt ungestüm mir nun die Gegenwart».
1641
А к сердцу тянется весна
Издалека, издалека»*.
Если бы К. Ф. Мейер умер, не дожив до сорока лет,
те немногие, которые его знали, стояли бы у его могилы
с чувством сострадательного недоумения и некоторого
облегчения: бездарный, неудачный отпрыск почтенного
рода, недоросль, которому ничем нельзя было помочь, крест
и позор своей семьи, бессмысленно и нелепо
растративший жизнь человек, — вот все, что о нем могли бы
сказать в Цюрихе. Тем не менее, семья пыталась сделать все,
что только было возможно; его отменно бесталанные
юношеские стихи показали поэту Густаву Пфицеру,
который не смог одобрить продолжение таких поэтических
усилий. В конце концов его младшая сестра решила
изучить какую-нибудь профессию, поскольку ее уже
двадцативосьмилетний в ту пору братец, бездельничая, висел на
шее семьи. Когда этот давно уже взрослый мужчина
наконец расстался с музами, его мать приветствовала
такой очевидный прогресс, но его проекты женитьбы
энергично отклоняла. Однажды она написала о нем: «Мой
бедный сын почти всегда пребывает в одном и том же
меланхолическом состоянии и непреодолимо неспособен
заниматься какой-то регулярной работой. Он страдает от
отсутствия цели и карьеры и не может ни на что
решиться. Редкие прогулки, чтение и кое-какие штудии
заполняют все его время, не принося ни малейшего
жизненного успеха. И могу сказать, что в этом мире я уж
ничего более от него не жду».
* В оригинале:
«Zu wandern ist das Herz verdammt,
Das seinen Jugendtag versäumt,
Sobald die Lenzessonne flammt.
Sobald die Welle wieder schäumt.
Verscherzte Jugend ist ein Schmerz
Und einer ewg'en Sehnsucht Hort,
Nach seinem Lenze sucht das Herz
In einem fort, in einem fort».
lies
Вялый, сторонящийся людей, мечтательно и горько
замкнувшийся в себе, он появлялся то здесь, то там,
предпринимал всяческие попытки, нигде ни на шаг не
продвинулся, ни в чем не проявил настоящего таланта,
собирался стать то художником, то поэтом, то юристом, пробовал
переводить, давать частные уроки, вновь начинал учиться
сам. Он съездил в Париж и Берлин, промечтал там какое-
то время и возвратился в Цюрих; он ненасытно читал —
много и без видимой пользы — и как-то даже собирался
написать историю апостолов. Друзья семьи вынуждены
были о нем заботиться, а мать оплачивала расходы по его
содержанию.
Возле его дома был большой запущенный сад. Там он
гулял в одиночестве, вымеривая шагами всегда одну и ту
же тропинку, змеившуюся вокруг лужайки, и если кто-то
вдруг попадался ему навстречу, скрывался глубоко в
зарослях или убегал. Люди считали его умершим, поскольку он
нигде больше не появлялся; в конце концов он вообще
перестал выходить днем, покидал дом только ночью и
бродил вокруг по пустым улицам.
В его поведении появилась какая-то диковатость,
раздражительность. Даже в минуты мимолетного веселья на
него часто нападал какой-то непостижимо сильный
нервический страх, он заливался слезами и не отвечал ни на
какие вопросы; или вдруг разражался такими резкими,
обидными словами, что для его нежной, чувствительной
матери подобное обращение становилось временами
невыносимым. Он не любил, когда кто-то физически
слишком близко к нему приближался и, здороваясь, всегда
протягивал лишь два пальца правой руки.
В двадцать семь лет состоялось его первое
посещение психиатрической лечебницы. Он страдал гогда
меланхолией, ипохондрией и бредовыми представлениями,
так, к примеру, он воображал, что он всем неприятен и
что у него смрадное дыхание. «Он испытывал такое
чувство, словно он стоит в пустоте, — говорил его друг, — у
него, собственно, не было никакой реальной жизни, он
166
лишь витал среди призраков, рожденных в его мозгу; у
него не было никаких обязанностей, никакого круга
общения, никакого распорядка дня. Он приходил в
отчаяние от самого себя, и искушение роковым образом
оборвать свою жизнь близко подступало к нему». И это
тоже — один из тех его мотивов, на который надо обратить
внимание. В своих одиноких лодочных прогулках он
уплывал так далеко, что его лодка скрывалась из глаз, и
возвращался заполночь. Какой-то темный демон взывал
к нему из темной воды как бы голосом его матери,
которая в приступе тоски покончила с собой, бросившись в
озеро. «Все тот же голос милый, вечно милый, зовет
меня из водяной могилы»; в прибрежных камышах ему
виделись колеблющиеся и шепчущиеся призраки, а в шуме
волн глубокой ночью слышался звон бокалов умерших
друзей.
Но в преддверии его сорокалетия пляска призраков
неожиданно прекратилась, и он воспевает это
превращение как наступление благословенного дня, свет которого
проник в мрачную камеру. В этот период, с тридцать
девятого по шестьдесят седьмой год своей жизни, К. Ф.
Мейер создал все свои художественные творения, хотя и
продолжал страдать от чрезвычайной чувствительности
нервов, непредсказуемых перемен настроения и
временами наступавшего изнеможения. Под маской внешней
бесстрастности он скрывал сверхвосприимчивую душевную
организацию, которую ранил всякий, даже отдаленный
диссонанс, и которая не могла выносить никаких
сильных душевных движений ни в самой себе, ни в других.
Но хотя и сохранялись по-прежнему его одиночество,
ужас перед действительностью и мечтательность, все же
теперь это была жизнь, стоившая того, чтобы жить,
приносившая богатейшие плоды и вновь и вновь дарившая
ему одинокие, переполнявшие душу минуты высшего
счастья, которое словно яркое спокойное светило окрасило
в золото клонившийся к закату вечер его жизни.
167
Глава 8. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
«Гений это прилежание», — сказал один знаменитый
писатель. Не следует видеть в этом нечто большее, чем
желание изречь афоризм, в противном случае нам пришлось
бы энергично возразить. Греки имели на этот счет почти
прямо противоположное мнение, считая, что наивысший
расцвет духа предполагает как можно более возвышенное
воздержание от работы. Это их мнение о том, что
регулярная, однообразная профессиональная деятельность
представляет угрозу для духовной оригинальности, превращая
человека в обывателя, не лишено оснований.
Согласимся, однако, что греческий метод поддержания духовной
работоспособности был возможен лишь на той ступени
развития человеческого духа, когда новые духовные
ценности можно было создавать без большой наработки умения
и предварительного приобретения широких познаний.
Высокодуховные беседы без интенсивнейшей и прилежней-
шей профессиональной работы сегодня уже не позволят
существенно продвинуться, особенно в сфере научных
исследований.
Однако и в науке само по себе прилежание не
принесет новых оригинальных результатов, не говоря уже о
чем-то гениальном. Науку, в противоположность
искусству, часто называют «сухой», воображая, что построение
какой-то научной системы совершается тысячью
прилежных рабочих пчел, которые совместным
однообразным трудом воздвигают ячейку за ячейкой. На самом же
деле и основной прогресс науки совершается по
формуле Шиллера — немногими королевскими архитекторами
или, во всяком случае, ограниченным числом ведущих
оригинальных умов, которые уже только на следующей
стадии приводят в движение прилежных каменщиков,
задавая им работу на десятилетия. Собственно же
исследовательская работа не более суха, чем труд какого-нибудь
великого поэта или пророка; и эта работа, так же как и
их труд, тоже нередко управляется даймонием, полна
168
сильнейших страстей и зависима от внезапных озарений.
И как таковая, являясь продуктом функционирования
совершенно определенного мыслительно-аффективного
механизма, она закономерно связана с определенными
душевными задатками, которыми обладает лишь
сравнительно небольшое число людей.
Духовный потенциал исследователя количественно
определяется уровнем интеллекта (к примеру, такими его
компонентами, как чувственная восприимчивость, емкость
памяти, объем лексического запаса, богатство
представлений и связей между ними), а качественно — конкретной
направленностью, типом одаренности, наследственно
заданным ментальной организацией, конституцией и
этнической принадлежностью. Нами были проведены большие
серии экспериментов по исследованию этих имеющих
глубокие корни различий конституциональных направленно-
стей одаренности, так, например, исследовались
конкретное и абстрактное мышление, восприимчивость к цвету и
форме, систематичность, вязкость и подвижность
представлений и т. п. Было бы, однако, большой ошибкой
считать, что успешность работы исследователя — это лишь
вопрос интеллекта, на самом деле в эту работу глубоко
вовлекается вся личность.
Часто создается впечатление — по крайней мере, при
взгляде со стороны, —что значительные
исследовательские достижения являются следствием спокойной,
уравновешенной деловитости. Можно ли совершить великие
исследовательские деяния с помощью только лишь
выдающегося интеллекта и чистой холодной деловитости, это
вопрос, который легко сразу задать, но на который не легко
сразу ответить. Ясно, однако, что с уверенностью ответить
на него утвердительно нельзя. Хирург Бильрот, один из
классиков периода великих медицинских открытий XIX
века, друживший с Иоганнесом Брамсом и бывший сам
музыкально одаренной натурой, как-то сказал,
основываясь на своем богатом знании исторических личностей: «В
великих естествоиспытателях и врачах всегда есть что-то
[169
мечтательное, фантастическое, какое-то стремление к
всеобщему и, как правило, тяга к искусству; часто они были
в то же время и поэтами, художниками, музыкантами».
Биографические материалы о великих исследователях
по большей части чрезвычайно скудны с углубленно-
психологической точки зрения. Разумеется, вполне
возможно, что многие даровитые ученые были
уравновешенными натурами. Однако у наиболее значительных
исследователей, давших великие плодотворные идеи,
психологически на первый план более отчетливо выступают
другие черты: они часто выделяются причудливой
оригинальностью, их чувствительность и их внутреннее
напряжение создают некое вибрато. Под холодным течением
мысли плавится какое-то страстное ядро или
простирается какой-то, может быть, тщательно оберегаемый ау-
тистический мир мечты. Есть классические примеры,
когда тяжелые личные несчастья становились движителями
создания великих научных систем. И пресловутая
деловитость здесь не первичное свойство личности, а
приобретенное под влиянием известного фанатизма познания
качество, некий прошедший закалку конечный продукт,
рожденный высоким внутренним напряжением.
Эти возникающие из глубин психической жизни и
темперамента движущие силы великих научных свершений
могут быть различны. Любовь и ненависть, тщеславие и
воля к власти. Amor dei* и amor fati**. В человеческой
природе заложена великая мистическая любовь к
божественному (такая, какая была у астровидца Иоганна Кеплера) —
и влечение помогать, и влечение властвовать, и
авантюристическая тяга к далекому и опасному, как у многих
исследователей-путешественников, и не в последнюю
очередь — чистое влечение к познанию, которое может
превратиться во всепоглощающую страсть.
Гениальное научное исследование часто совершается
по психиатрической формуле сверхценной, или, как лю-
* Любовь к Богу (лат.).
** Любовь к судьбе (лат.).
170
били выражаться раньше, фиксированной идеи, механизм
которой может здесь послужить нам моделью для
понимания и непатологических форм этого типа мышления.
Пастер, великий первооткрыватель в бактериологии,
говорил: «Иллюзии экспериментаторов составляют часть их
силы. Их путеводная звезда — предвзятая идея».
Сохранившего способность мыслить, но захваченного какой-
то сверхценной идеей человека называют — когда хотят
указать на аномалию — параноиком. Сущность
паранойяльного мышления заключается в том, что мысли
человека, обладающего вязкими и сильными страстями, под
влиянием какого-то глубокого переживания
устремляются в некотором определенном направлении, которое
затем годами и десятилетиями неотступно, с величайшей
последовательностью выдерживается, в результате чего
душевная жизнь человека оказывается односторонне и
тиранически подчиненной одной предвзятой идее. Там, где
эта идея вступает в конфликт с окружающим миром,
быстро развиваются лавинообразно нарастающие попытки
преодоления сопротивления среды, предельным случаем
которых в сфере патологии является паранойяльное кве-
рулянтство. За фиксацией в психике человека подобной
сверхценной идеи часто следует бред отношения, то есть
усиленная комбинаторная мыслительная деятельность по
привлечению и истолкованию всяческих, даже
мельчайших и ничего на самом деле не значащих будничных
событий для обоснования этой идеи, в результате чего
вокруг доминирующих в сознании человека мыслей
выстраивается целая система поддерживающих идей, тогда
как все, что не может быть для этого использовано, в
сознание не допускается и с абсолютной, страстной
слепотой не замечается. В любовной страсти и в партийной
политике такие сверхценные идеи возникают ежедневно
и, в зависимости от обстоятельств и духовной
одаренности их носителей, одних ввергают в тяжкие несчастья и
приводят в сумасшедшие дома, а других могут
подвигнуть на самые славные свершения.
|Ш
Часто необычные идеи бывают порождены
необычными страстями. Однако, гений это все-таки прилежание. Но
не просто прилежание, не экстенсивное прилежание, а
прилежание интенсивное, которое с самой односторонней
страстностью устремлено к определенной цели. Гений
исследователя и изобретателя это прилежание на службе у
какой-то сверхценной идеи.
Присмотримся. Вот стоит на пороге нового времени
некий сварливый герой. Это Бомбаст фон Гогенгейм, он
же Парацельс, великий ученый и врач, величавший своих
коллег лекарями хнычущих, шарлатанами, докторами
денежных мешков и коновалами, предпочитавший
докторской мантии и шапочке — «отличиям шутов и
золотарей» — кожаную куртку и меч, бражничавший в тавернах
с бродячими артистами и участвовавший в их грубых
проделках; человек, который, протрудившись весь день без
роздыха над больными или над химическими ретортами,
возвращался домой и, завалившись в сапогах и шпорах на
кровать и посадив рядом ученика с быстрым пером,
несколько часов диктовал ему сквозь сон главы новой
науки, ибо ночью, «когда все телесное убывает, утихает и
успокаивается, — лучшее и полезнейшее время для
спекуляций, умствования и вдохновения». Грубый шваб с
глубокой, мистического склада душой; чистый эмпирик, в то
же время с избытком наделенный спекулятивной
фантазией и фонтанирующий идеями; буйный сорвиголова
огромной силы и удали и кверулянтски упорный,
озлобленный человек. На каждом новом месте он немедленно
впутывался в какие-то конфликты; он стал профессором в
Базеле и оказался в блестящем окружении уважавших его
людей, — через одиннадцать месяцев все настолько
переменилось и все уже были так против него настроены, что
его отъезд из города напоминал бегство. То и дело
переезжая из страны в страну, приглашаемый, прославляемый,
ненавидимый, гонимый все дальше каким-то внутренним
беспокойством, он наконец истощил свои силы, и жизнь
этого странника закончилась в трагическом одиночестве
JZ2J.
уже на сорок восьмом году. У него был девиз: «Alterius non
sit, qui suus esse potest»*. «Если есть у тебя дар
свободомыслия, освободи сам себя; когда твое сердце станет
свободным, никто тебя не остановит». (В том же духе в
XVIII веке великий врач Бурхаве** говорил о своем
ученике Линнее, что тот был свободным человеком
неконвенционального поведения, не льстил ни королям, ни
князьям, никогда не обращал никакого внимания на родных или
соседей и находил свой рай в своем саду.) Парацельс не
жаловал ни княжеские дворы, ни магистраты. «Господь
позволяет солнцу и луне светить и на добро, и на зло... Так
что если ты наделен свободном даром, поступай с ним, как
солнце». «Болтать, елей лить, изнеживаться значит
служить рылом, а вот помогать, быть полезным,
изматываться значит служить сердцем. Врач вырастает в сердце, врач
идет от Бога, от природного света, от опыта. Обыщите все
сердца в поисках великой любви -— нигде не найдется
большей, чем в сердце врача». Прославленный и до
нищеты бедный, движимый глубоким, сердечным желанием
помогать людям и неспособный уживаться с ними, —такой
до странности оригинальный человек совершил под гром
сочных грубостей переход от средневековой схоластики к
эмпирической медицине.
Вспомним графа Цеппелина, который год за годом
терял на Боденском озере один воздушный корабль за
другим, который с самым твердолобым упрямством
растрачивал свое состояние во имя воплощения идеи
управляемого воздушного судна, — идеи, которую все признавали
преждевременной и неосуществимой. В то время
склонялись к мнению, что граф Цеппелин — несчастный чудак,
нуждающийся в стационарном психиатрическом лечении.
Но стоило ему добиться успеха, и из «душевнобольного»,
из «параноика» он превратился в «знаменитейшего
человека XX столетия».
* Да не будет другим toi, кто может быть собой (.шт.).
** Бурхаве, Герман (1668—1738) — голландский врач, ботаник и
химик.
JJZ3
Но разве этот успех изменил что-то в его личности?
Или в то время, когда со своим безнадежным «бредом
изобретательства» в голове он терял состояние и положение
в обществе, он еще не был гением? А если он тогда был
чудаком, то разве позднее, из-за того, что все
провозгласили его гением, он стал меньшим чудаком?
Изобретатели бывают удачливые и неудачливые.
Неудачливых называют параноиками.
Сужение духовного кругозора под влиянием
сверхценной идеи у исследователей и изобретателей особенно
наглядно проявляется в их часто доходящем до гротеска
пренебрежении повседневной жизнью. Рассеянность ученых
вошла в поговорку, но уточним: это не рассеянность, а
сверхконцентрация внимания, делающая человека слепым
и глухим ко всему окружающему; это как бы род
самогипноза, когда напряженно, не отрываясь смотрят в одну
точку. Такая способность собирать всю духовную энергию в
один главный фокус — общая отличительная способность
многих исследователей; само собой разумеется, что эта
способность связана с наследственной
предрасположенностью и не может быть выработана прилежанием.
У многих значительных исследователей с первого
взгляда заметны упоминавшаяся выше вибрирующая
чувствительность, порыв и страстность темперамента. К
примеру, у Эмиля Беринга*, отличавшегося явными
циклоидными колебаниями темперамента, его исследовательская
жизнь протекала весьма напряженно, в ней сочетались
односторонняя, упрямая, твердолобая устремленность,
коллизии и конфликты, сильнейшие притяжения и
отталкивания в личной сфере, настырность и
бесцеремонный напор в сфере деловой и мощные ритмические
смены периодов депрессии и подъема духа, причем как
приливы организаторской энергии, так и все гениальные
озарения возникали в гипоманиакальных фазах, и его
марбургский творческий кружок порождал столь мощные
* Беринг, Эмиль Адольф (1854—1917) — немецкий микробиолог,
лауреат Нобелевской премии.
1741
возмущения, что они затем расходились волнами по
всему миру.
У Рудольфа Дизеля, одного из выдающихся корифеев
того изобретательского бума, который разразился на
переломе столетий, хорошо заметен еще более резко
выраженный фазовый характер душевной динамики. «Время от
времени он впадал в меланхолию и, случалось, стоя
ночью на мосту и неотрывно глядя в Сену, подумывал, не
положить ли ему конец этой жизни» (это еще в 80-е годы);
позднее он несколько раз оказывался в психиатрической
лечебнице (1898, 1901), но ничего не помогло, и в 1913 году
очередной приступ депрессии привел к трагическому
концу. В какой мере за этим могли скрываться внутренние
циклоидные колебания психики, из биографии,
написанной его сыном, понять невозможно. Несомненно лишь,
что реактивные моменты играли значительную роль. 3
июля 1895 года он пишет своей жене: «Мой двигатель
продолжает делать большие успехи; я теперь настолько
превзошел все, что было до сих пор, что могу сказать: в этой
первейшей и благороднейшей отрасли техники,
моторостроении, я на этом нашем маленьком земном шарике —
первый, я полководец всего этого отряда по ту и по эту
сторону океана. У тебя не распирает в груди от таких
слов?..» Наряду с подобными взлетами он переживал и
столь же сильные упадки духа, следовавшие за неудачами,
обусловленными его бурным темпераментом.
Наследственность в роду Дизелей заслуживает нашего
внимания. Это ремесленный род выходцев из Тюрингии,
который позднее обосновался в Швабии (Вюртемберг,
затем Мемминген и Аугсбург) и члены которого на
протяжении ряда поколений неоднократно сочетались браками
с представителями других народностей; о роли таких
метизаций мы уже говорили выше. Спекулятивную
фантазию в этом роду, по-видимому, можно связать с швабским
наследственным элементом. Причем надо заметить, что у
представителей местных родов часто обнаруживается
особенно ярко выраженное своеобразное и привлекательное
175
сцепление спекулятивно-мистического и математико-ес-
тественнонаучного исследовательских влечений, как это
имело место, например, у Кеплера, у Роберта Майера или,
с инверсией акцентов, у теософа Этингера с его
проектами горных выработок — или у Филиппа Матеуса Хана,
который был и одним из лидеров пиетизма, и известным
конструктором часов. Именно такая атмосфера — в
уменьшенном масштабе — царила в доме родителей Рудольфа
Дизеля.
Контраст материнской и отцовской наследственности
в данном случае был столь велик, что кое-кто и тут уже
пытался говорить о «вражде зародышей»: мать с молодых
лет отличалась сокрушительной энергией, деловой
хваткой, самостоятельностью, предприимчивостью и
некоторой морализаторской жесткостью, а отец был фантазером
и в конечном счете неудачником. Непостоянный, он
вечно носился с прожектами каких-то изобретательских
начинаний и никогда не был последователен в их
осуществлении. В конце концов все деловые планы и надобности
были заглушены его религиозно-мечтательными и оккуль-
тистскими фантазиями; он занялся спиритизмом и, под
влиянием одной выдававшей себя за медиума женщины,
начал эволюционировать в сторону католицизма. Сын
впоследствии скажет о нем так: «Папа никогда не станет
великим реформатором, первооткрывателем, как ему
мечтается... Я признаюсь, что спокойнее всего к этому отношусь,
когда думаю, что причина всего этого дела — душевная
болезнь. Это очень грустно, но это единственное утешение,
когда начинаешь об этом думать. Иногда мне кажется, что
и я унаследовал что-то в этом роде; я ощущаю такие
завихрения в голове, которые очень похожи на безумие».
Возникающую из такой наследственности опасную
внутреннюю динамику у Рудольфа Дизеля усилили ранние
детские впечатления. Его отец был жертвой эпохи
перемен: он был уже не вполне ремесленник, но еще далеко
не заводчик; они были в Париже иностранцами, жили в
мрачных квартирах, с трудом сводя концы с концами; в
176
1870 году их выслали*. Живой, чувствительный птенец
рано выпал из гнезда: тринадцатилетним нежным
мальчиком Рудольфу Дизелю пришлось в разгар войны одному
добираться из Лондона в Аугсбург и в условиях
неустойчивой хозяйственной жизни — и против воли родителей —
с муками получать техническое образование. Бурлившие
в нем изобретательские идеи вскипали в русле одного
стремления: вырваться из бедности, ненадежности и
постоянных хозяйственных забот, вырваться из всей этой
нищеты, добиться положения, богатства и власти.
Так из резких внутренних контрастов и борьбы с
безжалостной нуждой у молодого человека, отличавшегося
чувствительной душевной структурой, честолюбивыми
устремлениями и нежной ранимостью, к зрелому
возрасту сложился своеобразный характер, который сын
изобретателя, основываясь на своем близком знании
отцовской натуры, описывает следующим образом: «Он был
всегда одинаков! Он всегда колебался между гордым
сознанием достигнутого и меланхолией, предчувствием
краха, ощущением неудачи. Он всегда мучительно
стремился скрыть слабые стороны своей натуры, до
чрезмерности размахивая гордым знаменем». (Эти слова как нельзя
лучше описывают сильную динамику сенситивной
структуры характера.) «К тому же у восприимчивых людей
успех ведь нередко влечет за собой меланхолию, от
которой Дизель и без того время от времени страдал, внешне
всегда это скрывая. Успех высвечивает как раз то, что не
достигнуто, и тем самым вызывает у застенчивых людей
некое своеобразное ощущение нечистой совести. Уже
тогда Дизель, возможно, часто замыкался в неком
уединенном уголке своей души, о котором он никогда никому не
рассказывал; по-видимому, он никогда не верил вполне
и в большую любовь — из боязни, что он ее не
заслуживает, он всегда относился к любви с какой-то странной
последней оговоркой испуга — даже к любви своей жены
* В связи с начавшейся франко-прусской войной.
I32L
в те времена, когда он еще не был богат; и для жены
остались невидимыми некоторые окутанные страхом
тропинки его души. По этой же причине и чувства многих
людей, испытывавших к нему большую симпатию,
временами страдали от его замкнутости, скрытой под
деятельным характером. Быть может, и его удивительная
практичность, и внешняя рассудочность представляли
собой не что иное как способ сокрытия внутренней муки и
робости, заставлявших его стремиться к уединению.
Погружение в шум и суету этого мира требовало от него
постоянного самопреодоления, и токи энергии высокого
напряжения текли у него по очень тонким жилам. Лишь
любовь к делу заставляла его с мучительнейшим усилием
подниматься на трибуну, где он в свои великие времена
как бы преобразовывал робость в энергию и увлекал
людей. Он не стремился к блеску, он избегал общества, и
тем не менее оживленнейшее общественное движение в
конце концов возникало вокруг него само собой. Он
презирал титулы и ордена и в то же время был честолюбив.
До самого конца жизни он так блестяще скрывал
таившуюся в нем слабость, что о ней не догадывалась даже
его жена. До самого последнего времени его овевала
какая-то удивительная свежесть, какой-то трудно
поддающийся описанию флюид, которому он, быть может,
обязан частью своего успеха и который скрывал смертельные
ростки в его душе».
Он работал, «как одержимый», упрямо, жестко,
беспощадно, перенапрягая нервы, работал с
сокрушительной энергией, невзирая ни на что и при всех
разочарованиях и неудачах ни на миг не отступаясь от своей
конечной цели, от своей сверхценной идеи; это был человек
едва ли контролируемых фантазий, в предвосхищении
успеха постоянно забегавший вперед и выпустивший свои
двигатели в продажу на несколько лет раньше, чем
нужно было; это был изобретатель, который сумел пройти
сквозь тяжелые экономические кризисы, и человек,
который испытывал неукротимое сердечное влечение к бо-
178
гатству и аристократическому образу жизни, став на
вершине своего успеха всемирно знаменитым и богатым, —
изобретатель, заработавший миллионы и выстроивший
себе вместо дома замок, и человек, затеявший неудачные
спекуляции и в конце концов потерявший все. Перед его
глазами были «гигантские беспорядочные нагромождения
бесконечных безуспешных попыток, а в памяти —
оскорбления и преследования, неверно поставленные цели и
разочарования». Ночью тридцатого сентября 1913 года,
по пути в Англию, этот гордый и нежный посетитель
нашей земли, никому не сказав ни слова, бесшумно исчез
в сонном, спокойном море.
Но и такие духовные личности, которые, — как,
например, ботаник и врач Карл Линней, — при взгляде со
стороны кажутся образцовыми представителями сухой
гелертерской систематики, начинают выглядеть
совершенно иначе, если мы биографически осветим их
внутреннюю динамику. «Живой чайный куст! — пишет
пятидесятишестилетний Линней капитану Ост-Индской компании
Эккебергу, присылавшему ему экзотические растения, —
если это возможно, если это действительно чай, то я
сделаю имя господина капитана бессмертным более, чем имя
Александра Великого... Судьба вечно мешает великим
делам. Возбуждение и страх не позволяют мне даже
помыслить о том, что они (растения) могут пострадать в
дороге. Я стар, но будь я уверен, что это настоящие чайные
кусты, я решился бы отправиться в Гетеборг, ы
самому, на своих руках, перенести их в Упсалу. Если это
настоящие чайные кусты, то — ради Бога, ради любви к
отечеству, ради науки о природе, ради всего святого и
великого на свете — я прошу господина капитана проявить
о них наинежнейшую заботу».
Такова динамика «сверхценной идеи»: истинная
страсть, концентрирующаяся на мельчайшем пунктике и
тем самым заставляющая его развернуться в великое
систематическое древо, — страсть смешная или безумная,
если учитывать малость объекта, на который устремлен дух,
179
и величественная, если видеть, как из этого исходного
пункта вырастают контуры новой великой науки о
природе.
«Только когда все мысли человека связываются с
одной какой-то вещью, — высказывается Линней по поводу
своей собственной духовной структуры, — и он теряет вкус
к другим наукам, тогда и полагается начало меланхолии...
Поскольку меланхолия это и есть не что иное как
упорное и упрямое предпочтение какой-то одной вещи,
презирающее и принижающее все прочие. К ней, однако,
большею частью предрасположены те, кто обладает
остротою ума, —так же, как острое перо списывается
быстрее, чем тупое, которое служит дольше». При этих словах
перед глазами возникает другая «Меланхолия»,
знаменитая аллегорическая фигура Альбрехта Дюрера, с циркулем
исследователя в руке и сверхсосредоточенным,
устремленным к какой-то далекой цели взглядом, — еще одно
самоизображение ищущего художника.
Жизнь Линнея, внешне исполненная блеска,
богатства и успеха, нередко омрачалась меланхолией, которая
шла исключительно изнутри. Колебания его душевного
состояния очень сильны, он быстро падал духом и резко
вновь распрямлялся. На сорок первом году жизни у него
наступил клинически слишком понятный внутренний
кризис, сопровождавшийся утомлением, сумрачным
расположением духа и мрачными мыслями и оставивший
после себя стойкие изменения в его темпераменте, так что
перепады душевного состояния и аффективные
вспышки проявлялись и в последующем, в особенности в его
переписке с придворным врачом Бекком: он предстает в
ней непостоянным, ребячливым, легко умиляющимся,
недоверчивым. У него часто возникают депрессивные или
паранойяльные состояния, а в промежутках между ними
наблюдаются импульсивные подъемы духа, поэтические
настроения, он проявляет дружелюбие и общительность,
умно-расчетливую реалистичность и знание людей.
«Superbissima bulla, — так называет он человеческое серд-
^О)
це, — е spumantis libidinis bulla»: «великолепный сосуд, в
котором кипит желание»*.
У гениальных исследователей нередко
обнаруживается и то навязчивое соотнесение мельчайших будничных
наблюдений со сверхценной идеей, которое у
параноиков мы называем бредом отношения. В самом деле, у
первооткрывателей, которые годами с величайшей
страстностью и односторонностью устремляли свои мысли в
одном определенном направлении, часто как раз маленькое
будничное происшествие вызывало «короткое
замыкание», проскок искры озарения. Так, о Галилее
рассказывают, что вид качающейся в соборе лампы высветил ему
закономерности движения маятника.
Аналогичная история произошла и с открытием закона
сохранения энергии хейльброннским врачом Робертом
Майером. Этот с детских лет чрезвычайно страстный и
темпераментный человек уже в студенческие годы удивлял
окружающих своими то блестяще-глубокими, то причудливо
скачущими мыслями, а также своей постоянной
рассеянностью. У него было явно выраженное нарушение механизма
ассоциаций: собеседнику было почти невозможно удержать
его в потоке какого-то определенного движения мысли, он
имел обыкновение быстро перескакивать к окончательным
выводам, опуская промежуточные стадии развития идеи. И
насколько привлекательным в общении было его живое
остроумие, настолько смущала та неожиданность, с которой он
вдруг перескакивал в разговоре на посторонние предметы и
делал выводы, до которых было еще очень далеко. Кроме
того, этот своеобразный мыслительный аппарат приводился у
него в действие могучим темпераментом, переходившим
всякие границы как в чрезмерных проявлениях
дружелюбия, так и в длившихся целыми днями вспышках гнева.
Уже в десятилетнем возрасте вид водяной мельницы
навел его на связанный с perpetuum mobile* вопрос о со-
* У Линнея здесь, очевидно, игра слов: латинское «bulla», кроме
значения «сосуд», имеет еще одно, основное значение — «водяной пузырь».
** вечный двигатель (лат.).
1131
хранении и превращении физической энергии. Он
увлекся этой — одной-единственной — проблемой, которая
впоследствии стала занимать все его мысли.
Когда в качестве судового врача он плыл из Голландии
в Индию — ему было тогда двадцать шесть лет, — два
мелких случайных наблюдения стали той искрой, от которой
в его мозгу вспыхнула решающая мысль. Вначале он
отметил оброненное мимоходом замечание шкипера о том,
что после шторма морская вода теплее, чем до него.
Когда же потом, на рейде Сурабаи, ему пришлось отворять
матросам кровь, он заметил, что здесь, в тропиках,
венозная кровь не темно-вишневая, как в более холодных
широтах, а ярко-красная. И один из тех внезапных скачков
мысли, которые мы уже описали выше, привел его к
прорыву от биологической терморегуляции к закону
механического эквивалента теплоты.
Этот вид алой матросской крови настолько его
поразил, что несколько недель после этого он забывал вносить
записи в дневник, который вел, и, полный своей идеей,
не задерживаясь, на этом же корабле поплыл обратно. Еще
на пути в Индию он испытывал перепады настроения, а
по дороге домой у него начались тяжелые, длившиеся
целыми днями «делириозные» приступы внезапного
возбуждения и психических нарушений.
После возвращения и женитьбы, став практикующим
врачом в Хейльбронне, он приступил к литературной
разработке своей идеи и в результате опубликовал четыре
статьи, выходившие с интервалами в три года: «Заметки
о силах в неживой природе», 1842 год, «Органическое
движение и его взаимосвязи с обменом веществ», 1845,
«К вопросу о небесной динамике», 1848, и, наконец,
итоговые «Замечания о механическом эквиваленте теплоты»,
1851.
Рассказывая о состоянии духа Майера в этот
решающий период его жизни, его жена сообщает, что
окружающим бросались в глаза некоторые странности его
поведения, и в особенности, склонность внезапно приходить
1821
в состояние непомерного возбуждения. При этом, если
пользоваться ее мягкими выражениями, имели место
«маленькие безрассудства», когда он, к примеру, ломал
мебель или рвал одежду. К своему ближайшему окружению,
в частности, к своей жене, он часто предъявлял
странные, неразумные требования, «впадал в детство», как он
сам выражался.
Со времени того индийского путешествия 1840 года
Майер в течение ряда лет настолько был поглощен
разработкой своей гипотезы и ее следствий, что даже в частных
беседах с ним было трудно говорить о чем-то другом, не
относящимся к этой теме, это заходило так далеко, что он
даже приветствовал и провожал своих друзей научными
формулами вроде: «causa aequat effectum»*, «ex nihilo nihil
fit»** или «nihil fit ad nihilum»***.
Как только Роберт Майер начал публикацию своих
работ, немедленно началась борьба, с одной стороны, за
признание закона сохранения энергии, а с другой, за
признание приоритета Майера в открытии этого закона. Ученый
мир вначале почти не замечал работ какого-то
безвестного практикующего врача, человека со стороны;
знаменитый Гельмгольц много лет относился к нему небрежно-
пренебрежительно; Зейфер, обозреватель аугсбургской
«Allgemeine Zeitung», безжалостно третировал его. А
Майер, проникнувшийся величием найденной идеи, после
публикации первых своих работ ожидал широкого
научного признания и громкой славы. Эти годы
напряженнейшего ожидания, тяжелые разочарования и
перемежающиеся приливы гордости и стыда приводят его теперь в самое
беспокойное состояние духа. Он борется: в энергичном
послании, адресованном Парижской академии наук, он
защищает свою честь первооткрывателя от посягательств
английского физика Джоуля, считавшего, что первым
открыл этот закон именно он.
* причина адекватна следствию (лат.).
** ничто не происходит из ничего {лат.).
*** ничего не превращается в ничто (лат.).
|183
Но высшей точки возбуждение борьбы достигло
весной 1850 года после полемических статей Зейфера; Май-
ер почувствовал себя лично оскорбленным этими
статьями и, посылая все новые письма в редакцию и
издательство «Allgemeine Zeitung», тшетно пытался получить
возможность публично ответить. В отличие от прочих
людей, Майер не обладал способностью, отвлекаясь,
снимать психическое напряжение. Наоборот, он упрямо, не
глядя по сторонам, целиком уходил именно в те мысли,
которые им владели. И как в предшествующие годы он
не мог ни на миг освободиться от идеи своего открытия,
так теперь он был не в состоянии выбросить из головы
те несправедливости, которые претерпевал, служа этой
идее. Он был до последней степени возмущен
отношением к нему прессы и ученого мира, никакие уговоры
друзей уже не помогали, от ярости он уже не мог писать,
проводил ночи без сна, не знал покоя.
В конце концов 18 мая 1850 года после душной
бессонной весенней ночи у него происходит сильный приступ
внезапного душевного расстройства. Еще неодетый, на
глазах только что проснувшейся жены он выпрыгивает из
окна третьего этажа на мощеную улицу и остается лежать
там, получив тяжелые повреждения.
Душевное здоровье, восстановившееся после этого
прыжка из окна, сохранялось недолго. Еще раньше, в
последние годы его борьбы за сделанное открытие, то есть в
годы, предшествовавшие 1850 г., у Майера произошел
неожиданный поворот к строгой ортодоксальной
религиозности, находившейся в некоем странном противоречии с
уничтожавшей всякую мистику холодной причинностью
найденного им энергетического закона, — противоречии,
которое временами ощущал и он сам. Разумеется, в этом
внезапном переключении духовных интересов с научной
точности на религиозную мистику не обошлось без
внутренней связи с горькими разочарованиями тяжкого пути
первооткрывателя, однако первопричина лежит глубже и
может быть понята лишь с позиций психиатрии.
1841
Как считал сам Роберт Майер, «возможно, что
полное отсутствие признания, на которое я опрометчиво
рассчитывал, внесло свою лепту в то, что на время моя
ревность к науке охладела; это точно, что в то время
интерес к трансцендентным религиозным истинам начал у
меня с непреодолимой силой выдвигаться на первый
план. Со страстной горячностью, с той безоглядностью,
о которой я как человек темпераментно чувствующий
вынужден сожалеть, я тут же бросился в эту область. Но
теперь я хочу откровенно признаться в том, о чем в то
время я запрещал себе думать. Во мне жила потребность
признания; как сильно ни старался я победить это
чувство, этот грех гордыни, но подавить в себе научное
самомнение было выше моих сил, и то систематическое
неприятие, которое повсюду встречали мои утверждения,
должно было вызывать у меня нарастающую изо дня в
день горечь». Описанное им здесь столкновение
уязвленного, перенапряженного чувства собственного
достоинства изобретателя и совестливо-смиренной религиозной
идеи греховности, раздиравших душевную жизнь Майера
во второй половине его периода гениальной
продуктивности, дает нам ключ для глубинного психиатрического
понимания всего этого периода.
Маниакально-депрессивная «промежуточная фаза» и возникающий в ней
напряженный «смешанный аффект» со склонностью к
«паранойяльным» сверхценным мыслям уже давно подробно
изучены наукой. И, кстати говоря, патологический
момент религиозного обращения Майера был замечен уже
одним из его современников, сказавшим: «Даже в том,
как Майер принял эту позитивную религиозную идею и
как проникался ею, было что-то пугающе беспокойное и
одностороннее».
Вслед за тем последовал длительный период тяжелой
душевной болезни, продолжавшийся до осени 1853 года,
то есть в обшей сложности два года. Картину психоза
составляли повторные, возникавшие с многодневными
интервалами сильнейшие припадки буйного помешательст-
|185
ва, а промежутки между ними заполнялись вначале
депрессивной подавленностью с идеями греховности, а
позднее — маниакальной веселостью с шаловливым озорством
и самодовольными высказываниями.
Для этого второго отрезка жизни Роберта Майера еще
в большей степени, чем для первого, характерны
возникающие с регулярной периодичностью колебания
психического состояния. Хотя возбуждение больше не достигает
такой силы, как в 1852 году, тем не менее в последующем
Майера приходится еще трижды помещать на несколько
месяцев в лечебницу Кенненбург, именно в 1856, 1865 и
1871 годах. Периоды возбуждения наблюдались и вне
стационара, проявляясь в крайней чувствительности, в
огромной, иногда поразительной недоверчивости к
ближайшему окружению и в сильных, длившихся часы, дни и ночи
приступах гнева, во время которых он беспрестанно
метался по дому и непомерно много пил. После таких периодов
возбуждения часто возникало подавленное,
меланхолическое состояние и появлялась склонность к
самообвинениям. Тем не менее его врачебная практика продолжалась,
хотя и в ограниченном объеме.
С 1851 по 1862 год он ничего больше не писал и был
для научного мира «без вести пропавшим», некоторые из
его сторонников считали его умершим в сумасшедшем
доме или страдающим неизлечимым помрачением ума. И
лишь примерно с 1862 года, с тех пор как один из
ведущих английских физиков, Тиндаль, проявляя личное
участие к Майеру, начал борьбу за признание его научных
заслуг, к Роберту Майеру постепенно стала приходить
известность.
Периоды возбуждения с течением лет становились все
мягче и случались все реже. Роберт Майер умер 20 марта
1878 года, увенчанный всевозможными регалиями,
которые под конец жизни в изобилии сыпались на него со всех
концов Европы.
Путь исследователя Роберта Майера необычен. Вдруг,
во время морского путешествия, в продромальной ста-
1861
дии сильного маниакального психоза в его мозгу
молниеносным озарением вспыхивает идея физического закона
сохранения энергии; он сразу все бросает, даже
перестает вести дневник; годами, словно какой-то юродивый, он
бродит по улицам, ничего не замечая вокруг, он ни о чем
другом не способен разговаривать, употребляет вместо
приветствий латинские физические формулы, ведет
себя, как ребенок, ломает мебель и рвет одежду; в
промежутках между всем этим пишет четыре бессмертные
статьи и под сочувственные усмешки специалистов
отстаивает свою систему, воюя со всеми учеными
инстанциями Европы вплоть до Парижской академии,
заканчивая в итоге тяжелым буйным помешательством и
сумасшедшим домом; когда же по прошествии двух лет он
выздоравливает и выходит на волю, — это обычный
бюргер и врач, который в течение одиннадцати лет не берет
в руки перо.
В сравнении с такими сильными пульсациями
темперамента Роберта Майера, периодические колебания в
жизни Гете выглядят мягкой идиллической качкой.
Роберт Майер это не ученый, а некий чудак-энтузиаст,
одержимый, вакхант: он плывет за моря, он прыгает из окна,
он неистовствует в гневе и воодушевлении. Но в среднем
течении его жизни, между двумя пиками возбуждения,
соединились несколько лет высокого напряжения и одна-
единственная идея, — великая идея века
естествоиспытателей. Словно ракета, она поднялась из вихря психоза,
осияв лишь несколько сверхярких мгновений. До них он
был безвестным врачом, после них —духовным
мертвецом, в котором угасла последняя искра гения.
Глава 9. ГЕРОЙ И ВОЖДЬ
Бисмарк по-прежнему остается в массовом сознании
фигурой древнегерманского мифа: это пышуший
здоровьем богатырь, прямодушный храбрый рубака, кузнец им-
[187
перии с атлетическими мускулами и стальной волей,
человек железа и крови, боявшийся только Бога и более
никого, короче, символ несокрушимого здоровья и немецкой
прямоты.
В действительности Бисмарк выглядел совсем иначе.
Английский художник Ричмонд говорит о нем так: «Он
невероятно обворожителен, любезен, нервно-чувствителен,
это необычайно тонкий человек. Я спросил его, на самом
ли деле он „железный Бисмарк". Нет, отвечал он, моя
твердость — приобретенная. Я весь из нервов, и до такой даже
степени, что самообладание было единственной задачей
моей жизни». То, что это не просто слова, подтверждается
фактографией наследственности; дед Бисмарка был
человеком болезненно-тонкой чувствительности, а мать с ее
постоянным нездоровьем, непреходящей нервностью,
равнодушием и язвительным эгоизмом вполне соответствует
известному клиническому типу.
Родители Бисмарка — в то время, когда они были
молодой супружеской четой, — следующим образом
охарактеризованы сослуживцем одного из их родственников,
Менкеном, в письме от 20 июня 1817 года: «Она очень
слаба нервами, в связи с чем и находится здесь уже в течение
шести месяцев, магнетизируясь у Вольфарта; утверждает,
что она ясновидящая и что магнетизация ей помогла. Муж,
однако, сетует, что при всем ее провидческом даре она не
смогла предвидеть, что цены на шерсть к моменту
закрытия торгов окажутся ниже, чем при начале». Трудно
представить более непохожих друг на друга супругов; мужем
этой женщины был ражий помещик, любитель поесть и
выпить красного винца, не забивавший себе голову
немецкой грамматикой и не разбиравший падежных окончаний,
человек добродушный, не лишенный чувства юмора и
сердечно привязанный к своим детям. Таковы были
родители, их правдивые портреты представлены в биографии,
написанной Marcks'oM. Преодоление такого внутреннего
противоречия наследственных компонентов до степени
превращения в стилистически цельное монументальное
188|
явление своей эпохи — это почти невероятное достижение
Бисмарка.
Уже в юношеские годы, и в особенности в период его
пубертатного развития, для Бисмарка были характерны
постоянная неудовлетворенность самим собой и миром,
неуравновешенность и душевная дисгармоничность. Все
его поведение со времен студенчества и до его помолвки
было сплошным, не знающим меры сумасбродством, он
постоянно превосходил сам себя в диких кутежах,
скачках и поединках, происходивших не от бурной
юношеской пылкости, а от мрачного недовольства и полного
разлада с Богом и миром; показательны в этом смысле
его зигзаги при выборе профессии, он все время
разрывался между службой и сельским хозяйством, и стоило
ему на что-то решиться, как он тут же все разрушал
каким-нибудь аффективно-импульсивным поступком
вроде внезапного, без отпуска, оставления службы и отъезда
под влиянием минутного любовного увлечения. Его
внутреннее состояние беспрестанно менялось, его бросало из
одной крайности в другую: от мечтательной глубокой
душевной мягкости к холодной элегантности светского
человека (высокого и интересного мужчины), от
абсолютно скептического атеизма к буквально пиетистской
набожности.
И позднее, даже в самом зрелом мужском возрасте,
Бисмарк никогда не был человеком уравновешенной,
спокойной, собранной силы. Соратникам приходилось
мириться не только с его нервической раздражительностью,
но и с его эксцентрическим образом жизни,
превращавшим ночь в день, когда он ночами напролет лихорадочно
диктовал, а потом шел спать и вставал далеко за полдень.
В сопоставлении с образом стального богатыря, живущим
в массовом сознании, довольно забавно выглядят
некоторые брошенные мимоходом высказывания жены
Бисмарка о человеке, который по всякому случаю валится с ног
от перевозбуждения нервов, ревматизма, простуды или
сильнейших нервных болей, человеке, который в такой по-
189
воротный момент истории, как, например, после битвы
при Кениггрецс, мог разразиться истерическими слезами,
который мог неделями валяться в постели и которого
рвало желчью, когда он уж совсем выходил из себя.
Так все-таки был Бисмарк прямым и честным рубакой?
Безусловно! Более того, он был истинным представителем
рыцарского немецкого дворянства, наездником и
фехтовальщиком, мужественным, отчаянным человеком с
ясными, открытыми убеждениями, в любой момент готовым
пожертвовать собой ради великой цели, — он был
джентльменом в лучших традициях старинной европейской
аристократии. Но и более того, разве не был он в то же время
хитрым Одиссеем в океане коварных интриг европейской
дипломатии, игроком, не раз с отчаянной решимостью
ставившим на карту королевский трон и само
существование своего государства, холодным, расчетливым
циником, который подталкивал Венгрию к революции, в то
время как в собственной стране был самым ожесточенным
реакционером, который перехитрил и использовал в своих
целях Наполеона*, — человеком, который сегодня в силу
глубоких внутренних убеждений консерватор, а завтра —
из тактических соображений —либерал? «По-моему, —
сказал как-то Бисмарк своей философствующей кузине, —
идти по жизни, придерживаясь принципов, это все равно
что идти по узкой лесной тропинке, держа в зубах
длинный шест». У Бисмарка много лиц; вот он — посланник
за границей, утонченный, претенциозный салонный лев,
находящий, что манеры французов слишком вульгарны, и
лишь в самых узких кругах высшей русской аристократии
достаточно тонкости в обращении; вот он едва ли не
декадентски сверхцивилизованный придворный, элегантный
собеседник, друг императрицы-матери, который в лунном
свете наслаждается вместе с русской княгиней сонатой
Бетховена, и музыка трогает его до слез; вот он одинокий,
мечтательный друг природы, который на заросших камы-
* Очевидно, имеются в виду дипломатические неудачи
Наполеона III в 1864—1866 годах.
190
шом прудах во время утиной охоты, с заряженным
ружьем по правую руку и бутылкой шампанского по левую,
читает «Гамлета»; вот он нежный, заботливый супруг, а вот —
тонкий стилист, мастер политических афоризмов и
отточенных ораторских приемов. Чем глубже проникаешь в
личность Бисмарка, тем сильнее ощущение сложности,
новизны, нервности и постоянной изменчивости.
Безусловно, Бисмарку были присущи — и даже в
высшей степени — и прямота, и храбрость. Он служил своему
королю с гордой верностью свободного человека, который
сам выбрал себе господина. Достигнув своей цели, он
проявлял поразительную сдержанность и верность слову и со
временем вырос в импозантную фигуру большого
европейского масштаба. Вот таким оказался запутанный и в то же
время логичный результат наследственного процесса, в
котором простая несокрушимая сила отцовского юнкерско-
солдатского рода и нервические симптомы
начинающегося вырождения высокоодаренного ученого материнского
рода смешались в немыслимых контрастах. Не будь в нем
этих нервических напряжений и своеобразных
противоречий характера, он остался бы грубым, хозяйственным
юнкером, какими веками были почти все его предки по
отцовской линии. Наследство отцов, их здоровая
первозданная сила для сложных новых задач годилась не больше, чем
пудовый богатырский меч, но бюргерский усложненный
интеллект и сверхтонкие чувства, полученные от матери,
позволили ему правильно использовать эту силу в
лабиринте хитросплетений и интриг, да и вообще, только его
нервность и внутреннее беспокойство заставили его
вступить в борьбу.
Таков истинный портрет Бисмарка: исполинский
богатырь с вегетативной чувствительностью дистоника; свое-
нравнейший помещик и просвещеннейший гражданин
мира в одном лице; непостижимая смесь элегантности,
грубости, цивилизованности и непосредственности,
мощного обаяния и досадливой сверхраздражительности;
утонченный эстете несокрушимыми крестьянскими инстинк-
|191
тами; гений, у которого сверхчувствительность и
напряженные нервы только возбуждали силу воли.
У героев древних времен мужество являлось
примитивным влечением, рожденным постоянной, горькой
жизненной нуждой, и схватка даже в спокойные времена была
одной из немногих возможностей дать разрядку чувству
телесной силы и элементарной психической потребности в
деятельности, но прежде всего — возможностью
удовлетворить хищную жажду крови, разрушения и жестокой боли;
эта жажда, спрятанная под широкими патетическими
жестами, и сегодня хотела бы размозжить ударом лапы
тонкие произведения связывающей ее культуры. Во времена
спокойного развития культуры мыслитель и поэт,
создающие культурные ценности, общественным мнением
ставятся, как правило, выше героя, в тени которого они
впервые развились в ранний исторический период; так
возникли священник, певец, врач и искусный кузнец — заметный
побочный персонаж героических эпосов. Поэтому в
безветренные благодатно-летние периоды человеческой
истории атрибут гениальности приписывался, в основном,
людям мысли, первооткрывателям, исследователям и
художникам, да и само понятие гения развилось в приложении
к ним.
Однако как только для какого-либо культурного
народа наступают времена великих катастроф, герой снова
вступает в свои изначальные права. Но это уже не тот
герой, что был при начале времен; из мужества и силы
воли теперь возникают сложные моральные композиции.
Одной силой в новых условиях вообще ничего нельзя
достичь, и лишь чрезвычайно утонченные чувства и
незаурядный интеллект могут помочь герою великого
культурного народа найти надежный выход из
хитросплетений борьбы. Если уж даже древний герой не мог обойтись
без прославленного в сагах искусного кузнеца, то в
битвах современных культурных народов неустанная
мозговая работа умнейших исследователей и изобретателей,
предварительно обеспечивающая все необходимые усло-
1921
вия и средства борьбы и продолжающаяся в разгар
любой суеты, становится одним из решающих, одним из
главных факторов успеха; эту работу ума роднит с
любым геройством энергия готовности к
самопожертвованию, и без этой работы самый героический боевой дух
окажется беззащитен и истечет кровью. Поэтому
величайшие из героев нового времени отчасти тоже были
интеллектуалами и обладали известными способностями
ученого и художника. Фридрих Великий по своим
духовным интересам был не только полководец и
государственный деятель, но, как минимум в той же мере, —
философ, историк и эстет-флейтист; и Бисмарк, один из
умнейших немецкоязычных стилистов, доброй половиной
своего дарования обязан наследственности ученого рода
матери. Мольтке*, как известно, начинал с
новеллистики, его по праву называли полководцем-мыслителем, и
своими утонченными, одухотворенными чертами
ученого он никак не напоминает гомеровских героев. Человек
старомодного скромного достоинства, он ненавидел
громкую славу и всякие героические жесты. «У меня какая-то
антипатия к льстецам, как — ну, как у некоторых людей
к некоторым животным. Когда я слышу что-нибудь в
этом роде, у меня потом настроение испорчено на весь
день». Он полностью контролировал свое внутреннее
напряжение и великие дела совершал без шума, без
ненависти, не оскорбляя побежденного врага, не становясь в
позу, сухо, молчаливо, с серьезной собранностью, с
основательностью и деловитостью ученого, решающего
профессиональную задачу. Скупой на похвалы, на жесты и
слова, он вообще предпочитал молчать, на тост в честь
императора тратил едва ли более дюжины слов, и только
о предметах эстетических и художественных
разглагольствовал долго и возбужденно.
И преимуществом выдающихся личностей новейшей
истории нередко бывало то, что они получали сквозь це-
* Мольтке, Хельмут Карл (1800—1891) — германский фельдмаршал
и военный теоретик.
7 Заж.662
|193
почку цивилизованных предков добрую толику
«коренного инстинкта», первозданной отваги, твердости и
силы в бою тех самых легендарных богатырей. Более всего
этих древних персонажей напоминают гипоманиакальные
натуры таких сорвиголов, как старый Блюхер. Он
принадлежал к разряду людей, которые хорошо себя
чувствуют только в бою и которые, подобно древним
германцам, воспринимают долгий покой и досуг как нечто
достойное презрения. Гарнизонную службу он называл
«пыткой бездействием». Без постоянного риска жизнь для
него теряла вкус, и в спокойные, мирные времена он
замещал этот раздражитель своей отваги высокими
ставками в азартной игре, которой был привержен так же
страстно, как те легендарные богатыри, и благодаря которой
лишился значительных сумм. Его полководческая метода
носила характер, скорее, быстрой отчаянной гусарской
хитрости, чем какой-то хитроумной искусной стратегии,
да и вообще его манера управления людьми была
совершенно инстинктивной, чувственно-непосредственной,
«народной».
Поэтому простое геройство Блюхера, который был
весьма оригинальным и энергичным человеком, но, как и
многие чистые полководцы, отнюдь не обладал универсальным
умом, всегда единообразно оценивалось и друзьями, и
врагами. Рядом с ним большинство великих практиков
новейшей истории, таких, как Валленштейн*, Фридрих Великий
и Бисмарк — в Германии, или таких, как Цезарь и
Наполеон, выглядят крайне сложными и неоднозначными. Все это
люди необычайных внутренних противоположностей
характера; внешне они нравственно противоречивы, а их
мужество и сила воли — не что-то изначальное, но результат
работы сложного и внутренне чрезвычайно неоднородного
душевного механизма. Такого любимейшего плода
фантазии современных литераторов, как «раса господ», в
действительности никогда не существовало. «Сверхчеловек», изо-
* Валленштейн, Альбрехт (1583—1634) — полководец времен
Тридцатилетней войны.
1941
брстенный Фридрихом Ницше, это некая спекулятивная
историческая конструкция: комбинация, с одной стороны,
«белокурой бестии», здорового доисторического героя, а с
другой, сомнительной фигуры извращенного,
вырожденного интригана, тирана и отравителя, извлеченной из среды
князей итальянского Ренессанса и перешедшей в
идеологию Ницше из исследований Якоба Буркхардта, —
диковинная смесь Флоренции и доисторического леса, древней
саги и Макиавелли. Здесь начало и конец биологического
развития; персонаж из детства человечества и перезрелый
плод высококультурного периода насильственно
соединяются воедино и в образе «сверхчеловека» выставляются в
качестве идеала будущего развития человечества. Героический
человек по Ницше должен был бы сочетать в себе высшее
здоровье с высшей гениальностью. Но такая комбинация
нереальна. Эта роскошная идеологическая конструкция, к
сожалению, биологически абсурдна. Такой вариант
сверхчеловека в качестве селекционной цели будущего
человечества примерно так же перспективен, как попытка какого-
нибудь конного завода вывести с целью
усовершенствования породы благородную скаковую лошадь, которая в то же
время должна обладать выносливостью,
нечувствительностью к погоде и неприхотливостью степного коня.
Так же обстоит и с пресловутой «волей к власти»,
которая якобы представляет собой простой основной
инстинкт гениев-практиков, некое их специфическое
свойство. Но тем, кто имеет эту волю к власти, часто,
несмотря на все их усилия, не выпадает великой
исторической роли; с другой стороны, те робкие, те медлители и
мечтатели, которые продвигаются вперед шаг за шагом,
всегда останавливаются, когда надо сделать решительный
шаг, —такие люди, когда народ в увлечении облекает и
почти раздавливает их властью, против воли могут
становиться источниками величайших народных бедствий.
Примером может служить немецкий Ренессанс, когда
духовно-политическим лидером стремился стать Ульрих фон
Гуттен, а вынужден был им стать сопротивлявшийся это-
7*
195
му Мартин Лютер. Психология таких людей, как Лютер,
которые стали вождями и народными героями потому, что
были мечтателями, непосредственно формулой «воля к
власти» не описывается. Лютер если что и преодолевал,
так только свои тяжелые депрессии, и боролся только с
темными силами в собственной душе. Как и у Шиллера,
протест против сурового отца с детских лет
революционной занозой сидел в его сердце; борясь с папой римским,
он продолжал бороться с отцом средствами учености и
неожиданно оказался подхвачен поворотом колеса
истории. Против желания мало-помалу продвигаемый вперед
волею обстоятельств, подобно «звездочету» Валленштей-
ну, сегодня вырываясь на шаг вперед, завтра отбегая на
два назад, поднимаемый на шит волной кипящей
крестьянской крови, передвигаемый, как фигурка подоске,
лукавыми князьями, жестоко высмеиваемый и мучимый
внутренней неуверенностью, с ураганным ветром
времени в парусах цепляющийся за все когда-то брошенные
якоря, почти разрываемый на части ненавистью и
неистовым воодушевлением, — полубог и детонатор своего
столетия, он был воплощением не воли к власти, а
власти против воли.
Адлер, говоря об идеологии Ницше, в общем плане
указывал на «безусловный примат воли к власти, некой
головной фикции, включение которой происходит тем
активнее и тем преждевременнее — зачастую с поспешной
неподготовленностью, — чем сильнее выступает на первый
план чувство неполноценности органически
неполноценного ребенка». При этом он приводит блестящие
соображения, прежде всего из области нейропсихологии, и
убедительные наблюдения. Сильные жесты как защитный
камуфляж, как мимикрия слабого, властные стремления как
сверхкомпенсация чувства неполноценности, — со времен
заики Демосфена, ставшего оратором, накопилось
немало подобного рода примеров из жизнеописаний великих
людей. И тем не менее приходится возразить, что
пренебрежение наследственностью в этой — или в любой другой
1961
чисто психологической теории, рассматривающей,
главным образом, реакции на окружающую среду, в чем-то
оказывается ошибочным. Человеческое «я» и его свойства
нельзя полностью заменить набором личин, сменяемых в
жизненной борьбе, нельзя заменить сценическими
кулисами. Где-то за сценой всегда должна найтись архимедова
точка, с опорой на которую выдвигаются и
перемещаются эти кулисы. В ней как раз и находится первичное «я»,
то есть сумма заданных наследственностью предрасполо-
женностей и реакционных способностей, весьма
различных у разных индивидуумов; школа Адлера
демонстрирует сегодня несколько сомнительную склонность считать их
почти одинаковыми для всех. Попытки решать почти все
проблемы личности по единому шаблону сверхкомпенси-
рованной неполноценности делают банальной и
обесценивают эту прекрасную и верную — когда она
применяется там, где нужно — теорию. Проблему гениальных,
исключительных достижений уже потому нельзя исчерпать
универсальными невротическими формулами, что здесь
никак не обойтись без учета фактора основанной на
наследственности специальной интеллектуальной
одаренности. Тысячи тщеславных невротиков сверхкомпенсируют
свои слабости, и, при всем напряжении их сил, не
возникает ничего, кроме неврозов, пустой театральности или
вымученных посредственных творений. Лишь немногим
удается достичь на этом пути заметных
социально-значимых результатов, и лишь в особенно редких,
исключительных случаях, выделенных благоприятной
наследственностью, судорожное невротическое напряжение приводит к
гениальному свершению.
Но и сама сверхкомпенсация возникает отнюдь не у
всех витально слабых людей. Напротив, в клинике часто
наблюдаются такие неврозы, когда стойко сохраняется
астеническое, устало-депрессивное, упадочное отношение к
жизни без серьезных попыток выстроить, отталкиваясь от
этого, какую-то позитивную позицию силы. В
действительности сверхкомпенсация возникает лишь там, где уже
[197
в первичных задатках человека наряду с определенной
витальной слабостью содержатся и стенические
компоненты, истинные факторы позитивного ошушения силы и
позитивной энергетики. Контрастирующие задатки могут,
далее, поляризоваться внутри одной и той же личности,
войти в резкое противоречие друг с другом и вызвать
сильные противонаправленные напряжения. Если личность в
достаточной мере обладает упомянутыми частичными сте-
ническими задатками, то они под действием астенических
компонентов перевозбуждаются и в предельных случаях
подвигают на высшие достижения. Эта стеническо-асте-
ническая полярность, как было мною показано в другом
месте*, является динамическим фактором
первостепенного значения и в области психиатрии — в формировании
бреда кверулянтов и сенситивных, и в плане
возникновения высших гениальных творений.
Так, например, у Лютера, наряду с острейшим
чувством неудовлетворенности, депрессией, страхом,
колебаниями, неуверенностью в принятых решениях,
навязчивым цеплянием за определенные традиционные
символы, — наряду и в тесном соседстве со всем этим мы
отмечаем симптомы почти крестьянски могучей
витальности, энергичность и большую убойную силу
выражений, победительный юмор, мужество при встречах с
серьезными личными опасностями и уже чисто физически
внушительную работоспособность, выражавшуюся в
темпах литературного творчества. Аналогичным образом, у
Бисмарка с огромной раздражительной слабостью и
уязвимостью вегетативной нервной системы тесно
соседствует функциональная устойчивость жизненно важных
органов, позволившая ему несмотря на величайшие
нагрузки и нездоровый образ жизни достичь преклонного
возраста. Разумеется, источник стенической части
чувства жизни не обязательно должен заключаться в таких
периферических телесных свойствах; им точно так же мо-
* «Der sensitive Beziehunswahn», З.АиП., 1950. — Прим. автора.
1981
жст быть вязкость воли, сознание интеллектуального
превосходства, шизоидный аутизм или какой-то гипоманиа-
кальный конституциональный фактор. Таким образом,
творения высшей душевной силы возникают не из
простой силы — равно как и не из мимикрии простой
невротической слабости, — но из внутренней полярности
противонаправленных стеническо-астенических
напряжений. Во многих случаях эта полярность, так же, как и у
Бисмарка, появляется вследствие большой несхожести
отцовской и материнской наследственных масс, то есть
вследствие «вражды зародышей».
Чувствительная самокритичность и даже мучительное
чувство неудовлетворенности собой нередко
поддерживают и возбуждают данную в задатках вязкость воли,
которая, лишь постепенно развиваясь под этим воздействием,
нерешительно подходит к своим дифференцированным
высшим свершениям; такой процесс описывает на
собственном примере двадцатидевятилетний Мольтке в письме
своему брату Людвигу: «Поскольку получал я не
воспитание, а только колотушки, то и не мог я выстроить в себе
никакого характера. Я это часто и болезненно ощущаю.
Отсутствие опоры в самом себе, беспрестанное оглядыва-
нье на мненья других и даже само преобладание рассудка
над склонностью часто рождают во мне угрызения
совести... вот так и возникла эта несчастнейшая черта моего
характера: слабохарактерность. И при том же к ней
прибавлен внутренний принцип, да столь чувствительный, столь
всякое неблагородство презирающий, да даже и столь
гордый, что уж не раз выводил он мой утлый челн в открытое
бушующее море... Как завидую я почти всем прочим
людям! нередко завидую и их ошибкам, их грубости,
беззаботности и прямоте...»
Нельзя лучше, чем это сделал здесь Мольтке, показать
основной сенситивный феномен, стеническо-астениче-
скую поляризацию гордости и острого чувства
неудовлетворенности собой, в качестве подлинного приводного
двигателя развития характера. Эта внутренняя неуверен-
|199
ность, связанная со скептической самооценкой, и в
последующем оставалась одним из подводных течений его
жизни. В сорок восемь лет, будучи начальником отдела
Генерального штаба, он пишет: «Поскольку я и так уж должен
признаться себе в том, что способностями, потребными
для большей эффективности, чем моя нынешняя, я не
обладаю, то все более зреет во мне мысль выключить себя
из этих обстоятельств». Аналогичные высказывания,
которые следует воспринимать совершенно буквально,
повторяются и много позже. Он считает себя человеком
«восприимчивого и раздражительного характера».
Окончательное состояние соматической и психической
личности, которое в процессе позднейшего созревания в
конце концов развилось у Мольтке, соответствует тому, что
мы называем «психэстетической пропорциональностью»,
в приложении к поистине классическому типу лептосом-
ного шизотимика. И если во времена молодости
неуравновешенность внешнего рисунка движений долговязого
тощего лейтенанта еще доставляла ему значительные
затруднения на военном поприще, то позднее высокая
внутренняя чувствительность уже была незаметна и даже,
более того, послужила фундаментом построения некой
стилистически последовательной, всецело контролируемой,
скупой и сдержанной моторики. Старый Мольтке внешне
был человеком «высоким, как струна прямым», точным в
движениях, очень серьезным, лаконичным, с твердыми,
чеканными чертами лица. Его вошедшее в поговорку
железное спокойствие в моменты опаснейших военных
кризисов, передаваясь окружению, на рефлекторном уровне
подчиняло людей и управляло ими.
Однако, при смещении акцентов внутри того же круга
темпераментов, эта сторона натур типа Мольтке приводит
к совершенно другим формам героических свершений,
базирующимся на холодности темперамента,
нечувствительности к лишениям и опасностям, педантической
настойчивости и аутистической невосприимчивости к реальным
трудностям в достижении поставленной идеологической
200
цели. Этот типичный, передаваемый наследственно сим-
птомокомплекс мы обнаруживаем, в частности, у
холодных шизоидов; свой вклад при этом может вносить и
невротическая сверхкомпенсация.
У последней названной группы внутренним мотором,
позитивно продвигающим к необыкновенным
свершениям, могут стать сублимированные влечения
садо-мазохистского круга, как это уже рассматривалось нами выше.
По-видимому, исторически предельное воплощение этого
героического типа холодного шизоида с этически
сублимированной жестокостью мы находим в Робеспьере.
Прежде всего отметим тот важный медицинский факт,
что отец Робеспьера, еще будучи молодым, впал в
неизлечимую меланхолию, тщетно пытался убежать от
мучительных самообвинений и после четырех лет странствий умер
вдали от дома. В исторических свидетельствах о самом
Робеспьере привлекает внимание такой важный шизоидный
симптом, как странные телесные движения,
непроизвольное подергивание плечами, жесткость и машиноподоб-
ность жестов, нечто претенциозное, чопорное, педантское
в мимике и выражениях. Нижеприводимую удачную
характеристику Робеспьера я взял из одного сравнительно
старого описания, в главных чертах совпадающего с теми,
которые содержатся в известных монографических
исследованиях.
«Человек, на которого Париж и Франция в первую
очередь возлагают ответственность за все ужасы,
совершенные во славу свободы и равенства, человек, при одном
имени которого и роялисты, и республиканцы
непроизвольно и одинаково бледнели, — этот человек,
Максимилиан Робеспьер, был не только депутатом и членом
Комитета общественного спасения, но и мягким, любезным
и чувствительным другом мирного дома Дюпле.
Психологическая загадка, связанная с именем Робеспьера,
полностью так никогда и не была разгадана. То, что этот
создатель диктатуры террора не был просто безбожным и
аморальным полусумасшедшим изувером, каким его рисовала
1201
жажда мести и слепая ненависть его победителей, это в
один голос признают все специалисты, к каким бы
партиям они ни принадлежали. И его противники, и
сторонники единодушны в том, что в своей частной жизни
Робеспьер был безупречен, а его внешняя манера поведения
была приличной и скромно-гражданской; из своего
властного положения он никогда не извлекал для себя
никаких преимуществ и был абсолютно серьезно уверен в
правильности своей политической системы. Высказывание
Мирабо: „Этот человек верит во все, что он говорит", —
проницательные современники неизменно считали самой
точной характеристикой этого фанатика холодной, и тем
не менее обезумевшей рефлексии. Наполеон, близко
знавший младшего брата Робеспьера, высказывался о
знаменитом террористе в том же духе, что и Мирабо: „Он был
фанатиком, чудовищем, но он был неподкупен и
неспособен послать людей на смерть из чисто личных
побуждений или ради обогащения. В этом смысле его можно
назвать порядочным человеком". С другой стороны, и
защитники Робеспьера — из числа тех, кого можно назвать
разумными людьми — не отрицают, что этот человек,
много лет господствовавший над общественным мнением
Франции, был желчен, недоверчив, холоден и, несмотря
на известную сентиментальность, бессердечен; что
педантичность и некая полузастенчивость-полузаносчивость
лишали его всякой привлекательности, а его скрытность и
угрюмость просто отталкивали, и что фразерски
напыщенный, многословный и менторский стиль его речей не идет
ни в какое сравнение с гениальным красноречием
Мирабо, мощью Дантона и идеальным порывом жирондиста
Берньо. Наконец, все свидетельства современников
сходятся в том, что этот слабонервный, дрожавший при
всякой физической опасности трус был „гигантом воли" и что
твердостью характера и дерзкой решимостью он
превосходил всех своих соперников...
Но как же тогда объяснить тот факт, что риторика
человека, лишенного всякого личного обаяния и собствен-
2021
но ораторского таланта, и в парламенте, и в клубе, и в
массовых собраниях приносила ему ораторские успехи,
которые в течение пяти лет непрерывно росли, и позволяла ему
одерживать верх над всеми его соперниками? И, далее, как
объяснить, что этого педантичного, желчного и
чопорного ипохондрика его ближайшее окружение считало
образцом дружелюбия и доброты? И каким образом этот
угрюмый, нелюбезный книжный человек внушал женщинам
самых разных возрастов и уровней образованности
нежность и почтительное благоговение? Ведь он не обладал ни
одним из тех внешних достоинств, которые обычно
нравятся женщинам. В тридцать с небольшим лет он уже
выглядел, как высохший старый холостяк. Среднего роста,
гибкий и пропорционально сложенный, он вышагивал,
как жесткая проволочная кукла: голова вечно была
откинута назад, а руки и ноги двигались, как на шарнирах. Его
манеры были претенциозно торжественны, но лицо, по
меньшей мере, привлекало внимание. С первого взгляда
на этом лице нельзя было прочесть ничего, кроме
болезненности и внутреннего недовольства, но при более
внимательном рассмотрении оно выдавало наличие
своеобразного и незурядного характера. Зеленоватые, горящие
глаза, смотревшие из-под низкого лба, прячась за стеклами
очков, говорили о серьезности и склонности к
размышлениям, а крупный, с легкой горбинкой, нос — о силе и
необыкновенном самолюбии. Худое лицо было
желто-коричневого цвета, какой бывает у печеночных больных.
Плотно сжатые губы резко очерченного рта при малейшем
возбуждении начинали у этого слабонервного человека
конвульсивно подергиваться, их движение передавалось
всему телу, в особенности плечам, от чего несколько
страдало отрепетированное достоинство осанки. Когда черты
этого угрюмого лица пытались изобразить улыбку, оно
искажалось гримасой, производившей не веселое, а
пугающее впечатление. Голос у Робеспьера был сильный, но
грубый и негибкий; у него были с ним трудности, которые
он сумел преодолеть лишь к концу своей ораторской карь-
Ï203
еры. Его упрекали в лицемерии за то, что, говоря, — в
особенности, о самом себе, — он легко приходил в умиление
и часто лил слезы; упреки были несправедливы. Как у
многих холодных, важных, занятых самими собой и своими
мыслями людей, у Робеспьера была сильна
сентиментальная струнка, и, несмотря на наличие в его характере и
совершенно иных черт, тот круг идей, в котором проходило
становление его личности, сформировал из него истинного
сына умильного XVIII века. Руссо был любимым,
почитаемым и боготворимым писателем Робеспьера,
«Общественный договор» был его социально-политической библией,
а желание всеми средствами добиться выполнения
невыполнимых требований этой книги и силой обратить
людей к добродетели, простоте и самоотверженной братской
любви было мечтой его жизни. В «Новой Элоизе» он
нашел высший идеал женственности, в «Эмиле» — основной
принцип организации личной жизни и, наконец, в
пафосе, с которым Руссо провозглашал свое учение о
гражданской добродетели и верности природе, — воплощение
самой поэзии...
Из членов семьи Дюпле двое, отец и младшая дочь, на
много десятилетий пережили знаменитого друга их дома
и до преклонных лет сохранили к нему чувства
благодарности и почтительного восхищения. По их рассказам, в
приватной жизни этот наводивший ужас деспот был
самым непритязательным, самым приятным и покладистым
из всех смертных, любимцем и взрослых, и детей, и
прислуги дома. Это тем более интересно, что в общении с
остальными Робеспьер был исключительно сдержан,
болезненно чувствителен и решительно не склонен к модному
революционному тону доверительности и
фамильярности».
Предвидя свое падение еще за несколько месяцев до
того, как оно произошло, Робеспьер тем не менее не
пожелал сделать то единственное, что могло бы его спасти, —
присоединиться к нужной политической партии.
Вовлеченный в поток событий, грозивший смести его самого,
204
он оказался совершенно несостоятелен там, где
требовалось прежде всего проявлять тактическую изворотливость
и быстро вникать в характер людей и обстоятельств. Он
не принял тех кардинальных решений, на которых
настаивали его друзья. Почти против воли освобожденный,
рассчитывая на какое-то театральное оправдание, он
растратил драгоценные часы на пустые фразы. После того как
он сам, с педантичной неподкупностью ментора и с contrat
social* в руке, отрубил головы столь многих врагов своего
идеального государства, его формализм не позволил ему
подписать воззвание к народу его Парижа, — воззвание,
которое должно было его спасти в эту последнюю минуту.
Во имя чего, спрашивал он себя, можно призывать народ
к выступлению против законного национального
собрания? Не найдя ответа, он не подписал воззвание и
позволил себя обезглавить.
Когда педантичность переходит некую определенную
грань, она становится величием души; и оторванность от
мира, вознесшаяся на вершину общества, приобретает
величайшее всемирно-историческое значение. В кипящем
адском котле революционного Парижа Мирабо, этот
опытнейший в житейских делах человек, разбиравшийся
в людях, как мало кто во Франции, лишь с огромным
трудом смог всплыть на поверхность, тогда как Робеспьер на
значительно более позднем и еще более катастрофическом
этапе исторического развития годами удерживался
наверху и властвовал; Робеспьер, книжный человек и идеолог,
веривший, что нескольких дюжин гильотин достаточно,
чтобы превратить народ эпохи французского рококо в
население некоего абстрактного государства добродетели;
Робеспьер, который на протяжении всей своей жизни
понятия не имел о том, что такое человек («воплощенный
принцип», — так назвал его один из биографов).
Инстинктивная агрессивность его душевной подосновы
превратилась в абстрактную идеологию добродетели и во всей сво-
* общественный договор — (франц.).
1205
ей полноте проявилась в этом эталоне; помимо этого,
больше ничего живого или человеческого в нем не
обнаруживается. В то же время ненависть его врагов не смогла
найти достаточных оснований даже для самой маленькой
любовной сплетни о нем, и это в среде, где только
любовными сплетнями и питались; даже мельчайшего
пятнышка не удалось отыскать в частной жизни этого человека,
который по отношению к женщинам проявлял только
антипатию или рафинированную вежливость, а среди
окружавших его мужчин имел сторонников и почитателей, но
никогда — ни одного друга, — человека безупречнейшей
справедливости, который никогда не замечал личность
другого, потому что в жизни его чувств личностям не
было места: там жили только понятия, — человека, для
которого красота и удовольствие были пустыми словами,
которого не привлекало то, что может привлечь живого
человека, который из своей неограниченной власти никогда
не извлекал ни денег, ни почестей. Робеспьер был не
человек, а добродетельный призрак, лунатик, вызывающий
ужас, но ужаса не знающий. Бывают исторические
обстоятельства, в которых всякого бодрствующего,
чувствующего человека охватывает головокружение и которые
способны преодолевать лишь лунатики. Робеспьер мечтал об
идиллическом человечестве Руссо, о добродетели и
человеческом достоинстве и, видя перед глазами эту мечту,
прокладывал свой прямой, как разбег колесницы, путь сквозь
охваченную ужасом толпу страстно возбужденных людей,
не замечая тех, кто попадал под колеса.
Так что же это такое, «вождь», — если одним из самых
кровавых вождей был застенчивый, болезненный и
чувствительный педант Робеспьер?
Глава 10. ВДОХНОВЕНИЕ И ПРЕКЛОНЕНИЕ
В истории литературы Гельдерлин — фигура
трагическая. На тридцать первом году жизни на поэта, который и
до этого был меланхоличным, мечтательным и сверх ме-
20б|
ры чувствительным, обрушивается неизлечимое безумие,
и остаток своей долгой семидесятитрехлетней жизни он
проводит в Тюбингене в замке Гельдерлинов над Некка-
ром, погруженный во мрак шизофренического психоза. В
одном из окон замка часто можно было видеть странную
фигуру в белом остроконечном колпаке, которая, словно
привидение, то появлялась, то исчезала. Под
впечатлением от этой картины молодой студент Мерике написал
фантастическую балладу об огненном всаднике: «Видите вон
там, в окошке, / Шапку красную опять...» Однако
постепенное остывание чувств и окоченение души можно было
за много лет до вспышки собственно психоза
почувствовать в звуках стихов Гельдерлина, от которых веет
шизофреническим ужасом, постепенно превращающим его
собственный дух и окружающий мир в мир призраков:
«Так где Ты? Мало жил я, но вечер мой
Уж дышит холодом. И уже я здесь —
Тень тишины; уже безгласно
Дремлет, в груди содрогаясь, сердце»*.
Это ощущение какой-то вызывающей содрогание
перемены, какой-то глубочайшей чужеродности всех своих
переживаний испытывают многие шизофреники в начале
психоза; более того, у них появляется ощущение, что
даже их собственные мысли уже не принадлежат им, что чья-
то чужая воля магическим путем вмешивается в их
душевную жизнь, что их мысли внушены им извне и что эти
мысли у них то включают, то выключают, так что сами они
превращаются в инструменты управляющих ими чужих
сил. Аналогично Роберт Шуман в начале своей странной
душевной болезни полагал, что музыкальные темы,
которые порождал его перевозбужденный мозг, возвещены ему
* В оригинале:
«Wo bist Du? Wenig lebt ich, doch atmet kalt
Mein Abend schon. Und stille,den Schatten gleich
Bin ich schon hier; und schon gesanglos
Schlummert das schauernde Herz im Busen».
|207
ангельскими голосами — и даже Шубертом и
Мендельсоном с того света. Целыми днями стоял он у пюпитра
перед листом нотной бумаги и с благоговением во взоре
вслушивался в то, что они ему пели.
Существует определенная закономерность, по которой
духовно развитые шизофреники угрозу собственной
личности, исходящую от внутренне пережитых болезненных
процессов, и тот факт, что «все рушится от чуждой моему
„я" руки», проецируют на всю Вселенную и переживают
как конец света. Возникает навязчивое ощущение великих
метафизических зависимостей, глубокой связи с
мирозданием, с божественным. Все становится ясным, как
озаренный вспышкой край пропасти, все видится сверхярким и
странно угрожающим. Из леденящего ужаса и
экстатического восторга, переходящих друг в друга, рождается идея
самоуничтожения, гибели богов, надвигающихся зловещих
катастроф, — идея конца света, из которого, как феникс
из пепла, как пророк и спаситель, да просто как Бог, как
сам Христос, является шизофрения, чтобы увести
преданных ей людей к какой-то новой жизни. Микрокосм и
макрокосм, как в музыке, непрерывно перетекают друг в
друга; все со всем связано странными, жуткими,
восхитительными зависимостями; глубочайшее, окончательное
проникновение в Божью волю; все планеты глубокими,
символическими путями соучаствуют в судьбе
заболевшего; его личные прегрешения, его эротические стремления,
его спасение через посредство магической силы
сопровождаются соответствующими движениями в космосе.
Старое прошло, все стало новым.
Это ощущение внезапной и полной перестройки
личности, порабощения какой-то чуждой силой, прорыва за
границы собственного «я» с выходом в бесконечное
может приобретать огромное значение, если
шизофренический процесс не доходит до последней стадии
психического распада, а оставляет после себя какую-то своеобразно
измененную, аутистически отрешенную, фанатичную или
мечтательную личность. И именно это потрясающее, вдох-
208
новляющее и преображающее переживание, это
захватывающее чувство проникнутости до последних глубин
души какой-то сверхъестественной силой, — это
вдохновение чувства, когда оно пробуждается в сильной личности,
может, в принципе, становиться точкой зарождения
событий исторического значения или монументальных
религиозных новообразований. Но как велика была роль
подобных процессов в зарождении великих религий, сказать
трудно, поскольку личности их основателей окутаны
туманом традиционной веры в чудеса.
Такие мощные, эмоционально захватывающие
переживания высшего метафизического восторга часто
наблюдаются и у эпилептиков непосредственно перед
припадками. Эти переживания с величайшей достоверностью
описал в своих романах эпилептик Достоевский: «„Есть
секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы
вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии,
совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно
небесное, а про то, что человек в земном виде не может
перенести. Надо перемениться физически или умереть.
<...> Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг
говорите: да, это правда". <...> „Берегитесь, Кириллов, я
слышал, что именно так падучая начинается. <...>
Вспомните Магометов кувшин, не успевший пролиться, пока
он облетел на коне своем рай. Кувшин — это те же пять
секунд <...>, а Магомет был эпилептик"».
В отношении таких исторически неясных фигур, как
Магомет, попыток точного врачебного диагноза быть не
может. Известно, что и апостола Павла, по его
собственному свидетельству, поразила некая хроническая болезнь,
«жало в плоть»; его достигающие седьмого неба восторги
и его связанное с падением переживание молниеносного
обращения под Дамаском дают основания подозревать
эпилепсию.
Это вовсе не случайность, что именно у эпилептиков
и шизофреников обнаруживается некий религиозный
уклон; более того, регулярность и выраженность подоб-
|209
ных явлений даже заставили одного современного
философа предположить, что в шизофренических душевных
состояниях метафизическое проявляется особенно
ощутимо*. Религиозные переживания шизофреников в
острых состояниях более глубоки, насильственны и
катастрофичны, чем таковые у истериков, также играющих
существенную роль в распространении знамений,
чудесных исцелений и религиозных эпидемий. Точно так
же историческая роль вдохновляющих шизофренических
переживаний, по-видимому, выше соответствующей
роли переживаний духовно менее рафинированных
эпилептиков.
В туманных сказаниях об истоках вероучений, об их
основателях и апостолах, витает дух болезни, экстаза и
страданий нищеты. Нищие духом, душевнобольные когда-
то, очевидно, обретут обетованное царство небесное.
Здоровые и сильные построили на этом систему и механизм
власти. И все с уверенностью, как знатоки, рассуждают о
сверхъестественном. Но где он, истинный голос
потустороннего: в диких звуках речей экстатических
шизофреников, взмыленных эпилептиков, завывающих дервишей,
заунывно распевающих псалмы монахов-отшельников —
или в точных, язвительных словах философов и стертых
от постоянного употребления благословениях умных
первосвященников? Все они перекликаются с эхом
собственных слов в пустом и гулком пространстве, полагая, что с
ними разговаривает то великое метафизическое, которое
молчаливо их окутывает.
Несколько иначе выглядит то ощущение
метафизической подоплеки бытия, которое во все времена внутренне
переживали тонкие и глубоко чувствующие люди. Однако
соответствующее изображение отнюдь не является здесь
нашей задачей — равно как и толкование религии вообще
как некоего всеобъемлющего феномена.
* Очевидно, имеется в виду К. Ясперс и его работа «Стриндберг и
Ван Гог» (русский перевод: «Академический проект», СПб, 1999).
2101
Если же мы теперь вернемся к тонким религиозным
переживаниям в шизофренических пограничных
состояниях, то помимо уже упоминавшихся кататоников с их
метафизическими экстазами и наряду с профетическими
личностями со стенически прогрессирующими
хроническими процессами мы обнаружим еще исключительно
чувствительных, нуждающихся в защите, интровертиро-
ванных шизоидов, которые, «закутавшись в шелк
собственной души», вытягивают из себя удивительную нить
поэтически-религиозной мысли, доходя до вполне
сформированного, внутренне пережитого, образно и
символически богатого пантеизма.
Райнер Мария Рильке на протяжении долгих лет, как
лунатик, шел по краю пропасти, на каждом шагу рискуя
сорваться в бездну шизофрении, но, в отличие от Гель-
дерлина, не сорвался. У Рильке мы видим лишь некие
шубообразные нарушения с растягивающимися на годы
мучительными периодами непродуктивности,
акцентуированными чувствами страха и тревоги — и иногда
галлюцинаторными ощущениями магического воздействия.
Так, почти десятилетнее молчание выпадает на время,
предшествующее 1922 году. До и после таких
болезненных состояний упадка духа возвышаются пики бурной
творческой активности, сопровождающейся
непосредственным переживанием мистического и божественного, за
которым тем не менее ощущается присутствие грозных
призраков страха и смерти.
Основные черты вполне сформировавшегося
мировосприятия Рильке отразились уже в раннем его сборнике
«Часослов», и здесь оно, несмотря на всю сложность
образной символики, структурировано, строение фраз и
движение мысли понятно.
Но после тяжелого кризисного периода поэтической
немоты, в необычайно продуктивном творчестве
последних лет жизни происходит отчетливое изменение стиля,
проявившееся, например, в «Дуинских элегиях» и
«Сонетах к Орфею». Здесь уже наблюдается прогрессирую-
211
шее распадение языковых и логических связей и их
замещение бьюшей через край образной символикой.
Рациональные построения все более замещаются
интуитивными схемами, неосознанными душевными движениями,
увлекаемыми ритмом и мелодией языка. Эти свободно
дрейфующие, теснящиеся и громоздящиеся друг на
друга яркие символы и для восприимчивого читателя
обладают каким-то таинственным, волшебным очарованием,
сквозь которое лишь смутно угадывается смысл. Таково
воздействие поэзии. Но для врача эти произведения, как
и поздние гимны Гельдерлина, — сигналы наиболее
выдвинутых передовых постов оповещения психически
угрожаемой зоны, приграничной полосы человеческого
существования, в которой нельзя долго задерживаться:
задержавшийся погибает. Здесь буквально чувствуешь, как
структура личности грозит распасться. «Ночной дозор
безумия» бродит вокруг и будит «гигантские неописуемые
страхи детства»:
«Покачивает детскую кровать
безумье, не умеющее спать.
Собаки мечутся и цепи рвут,
они дрожат, в их жилах стынет кровь,
и в ужасе его ухода ждут
и знают, что оно вернется вновь»*.
Но и в «Часослове» уже начиналось это «шизобытие»,
это расщепление «я», когда человек уже более не уверен в
собственной целостности, когда он отдан во власть
внешнего, чуждого, грубого и враждебного, и власть эта
безгранична, а он беззащитен:
* В оригинале:
«Die Kinder haben eine gute Nacht
und hören träumend, daß der Wahnsinn wacht.
Die Hunde aber reißen sich vom Ring
und gehen in den Häusern groß umher
und zittern, wenn er schon vorüberging
und fürchten sich vor seiner Wiederkehr».
214
«На части буйною толпою,
О Боже, был разорван я;
Смеясь, они смеялись мною
И каждый пивший пил меня»*
В разговоре он временами словно раздваивался:
кроме «я» с ним был еще кто-то «другой». «Лишь „я"
сказать — ведь это риск и преувеличение».
И отдельные части тела начинают вести себя
независимо:
«И правая уж хочет врозь от левой,
чтоб защититься иль заняться девой —
и чтоб с иной побыть одной»**.
И вот возникает «собственная вытянутая рука»,
которая, «немного напоминая какую-то водяную тварь,
шевелится где-то внизу» и самовольно шарит вокруг. Тут же ей
навстречу выходит из стены другая рука, она больше и
необыкновенно худа. «Обе эти протянутые руки слепо
приближаются друг к другу» — но вдруг все кончается, «и
остается лишь ужас».
Тут не только то, что терминологически обозначают
как деперсонализацию, тут утрата действительности,
утрата отношения к вещам и к самому себе:
«Они твердят: мой сад, мой двор, мой дом,
не сознавая, кто хозяин в нем.
Так может и вульгарный шарлатан
назвать своими солнце, дождь и гром.
Мои, — они привыкли повторять, —
В оригинале:
«Ich war zerstreut; an Widersacher
In Stucken war verteilt mein Ich
О Gott, mich lachten alle Lacher
Und alle Trinker tranken mich».
** В оригинале:
«Denn seine Rechte will schon von der Linken
um sich zu wehren oder um zu winken
und um am Arm allein zu sein».
213
жена и сын, но могут ли не знагь,
что все: жена, и сын, и жизни дни —
чужие сны, которые они,
лунатики, руками слепо ловят»*.
Все это тревожно, ирреально и безлюбовно. Мир,
полный страха и отчуждения.
«Словно стена тюремная вокруг,
глухая, без единого оконца.
У врат ее железные засовы,
и заменяют цепи и оковы
ее решетки человечьих рук»**.
— и если он станет «рваться от себя», эта «тюрьма его
удержит, ненавидя».
Вот так этот одинокий, потерянный, беззащитный и
распадающийся, — этот удивительный человек ощупью
пробирается к тому, что его поддерживает и окутывает, к
тому, что он называет «Богом». Находясь «дальше от
людей, чем от вещей», он и в вещах не находит
собственной истинной жизни, — что-то должно быть за ними,
какое-то «великое чудо», последнее, волшебное:
«Всей этой жизни слышу каждый звук.
Но кто живет? Иль эти звуки — те,
* В оригинале:
«Sic sagen mein und nennen das Besitz»
«und kennen gar nicht ihres Hauses Herrn»
«So wie ein abgeschmackter Scharlatan
Vielleicht die Sonne sein nennt und den Blitz.
So sagen sie: mein Leben, meine Frau
mein Hund, mein Kind und wissen doch genau,
daß alles: Leben, Frau und Hund und Kind
fremde Gebilde sind, daran sie blind
mit ihren ausgestreckten Händen stoßen».
** В оригинале:
«Wie um ein Gefängnis hängt die Wand
ganz fensterlos in siebenfachem Ringe.
Und ihre Tore mit den Eisenspangen,
die denen wehren, welche hinverlangcn,
und ihre Gitter sind von Menschenhand».
214
что в призрачной вечерней темноте,
как в струнах арфы, прячутся и ждут?..
Иль веток жесты так на речь похожи?..
Иль это звери теплые идут?
Иль птицы вчуже пустоту тревожат?
Но кто живет? Иль это Ты, о Боже?»*
Божественное — это как бы тонкая корневая система,
которая пронизывает все живое и мертвое, нечто еще
более имманентное и пронизывающее, чем чувство жизни
Франциска Ассизского, называвшего своими братьями и
сестрами все живые существа. Однако у Франциска эти
существа выступают все же в качестве индивидуумов,
тогда как у Рильке деперсонализация, размытие границ
всякого «я» — не только собственного, — полное растворение
всех вещей в Боге порождает до конца последовательный,
пережитый пантеизм, заслоняющий то «братское», на
которое он, собственно, вообще не способен и которое
дает лишь слабый отзвук, косвенно и мимоходом задетое
на пути к божественной имманентности.
«Ты здесь во всем, с чем связан я душою,
как с братом брат; я узнаю Твой лик:
в твореньях малых — семя небольшое,
в вешах великих — им равновелик.
Как эти силы облик изменяют!
Кто в состояньи их игру понять?
В оригинале:
«Ich fühle alles Leben wird gelebt.
Wer lebt es denn? Sind das die Dinge, die
wie eine ungcspielte Melodie
im Abend, wie in einer Harfe stehn...»
«Sind das die Zweige, die sich Zeichen geben...
Sind das die warmen Tiere, welche gehn
sind das die Vögel, die sich fremd erheben?
Wer lebt es denn? Lebst du es, Gott, — das Leben?»
215
В корнях растут, в стволах как будто тают,
А в кронах возрождаются опять?»>*
Однако в борьбе с такими силами внутреннего, в
борьбе за то последнее, что еще осталось, за спасение
экзистенции, не всегда удается достичь этого переживания само
собой разумеющейся спокойной вездесущности
божественного: «Кто Тебя удержит, Бог?» «Но дорога к Тебе страшно
длинная и, поскольку по ней давно уже никто не ходил,
заросшая. О, Ты одинок...» «Глубокой ночью я ищу Твой
клад...»
«Лишь руки, на которых сохнет кровь,
я из окопа вскидываю вновь
так, что они растут в пространство сами.
Как дерево, я пью Тебя ветвями,
Ты словно расплескался надо мной
в чудовищно-нетерпеливом жесте,
и распыленный в бездне мир земной
на землю снова падает с созвездий,
легко, как теплый дождь весной»**.
* В оригинале:
«Ich finde dich in allen diesen Dingen,
denen ich gut und wie ein Bruder bin;
als Samen sonnst du dich in den geringen
und in den großen gibst du groß dich hin.
Das ist das wundersame Spiel der Kräfte
daß sie so dienend durch die Dinge gehn:
in Wurzeln wachsend, schwindend in die Schäfte
und in den Wipfeln wie ein Auferstcbn».
В оригинале:
«Nur meine Hände, welche blutig sind
vom Graben, heb ich offen in den Wind,
so daß sie sich verzweigen wie ein Baum
Ich sauge dich mit ihnen aus dem Raum
als hättest du dich einmal dort zerschellt
in einer ungeduldigen Gebärde
und fielest jetzt, eine zerstäubte Welt,
aus fernen Sternen wieder auf die Erde
sanft, wie ein Frühlingsrcgcn fallt».
216
Таковы состояния кризисов, когда душевнобольной
цепляется за божество и пытается схватить его
окровавленными руками до тех пор, пока не будет вновь найдено
успокаивающее мистическое созвучие. Его душе нужен не
тот бог, о котором спорят, которого спрашивают или взы-
скуют:
«Дар Твой взыскующим невелик:
кроткий Твой лик
к страждущим обращен»*.
Его бог —словно «круг, очерченный вокруг
бездомных», он проходит «в личинах и метаморфозах сквозь все
голоса, которые возносит время». Он прежде всего тихий,
бесшумный, страдающий, все окутывающий; он — тот,
которого чувствуют, не слыша его и не говоря о нем:
«Ты вновь пришел, и створка двери
беззвучно движется сама.
Ты тише всех, в кого я верю,
вступаешь в тихие дома.
К Твоим приходам привыкаю;
не подниму от книги взгляд,
когда страницы, оживая,
вдруг о Тебе прошелестят, —
так, голосов своих не зная,
с Тобой все вещи говорят»**.
* В оригинале:
«Dir liegt an den Ffagenden nichts /sanften Gesichts/ siehst Du den
Tragenden zu».
** В оригинале:
«Du kommst und gehst. Die Türen fallen
viel sanfter zu, fast ohne Wehn.
Du bist der Leiseste von allen,
die durch die leisen Häuser gehn.
Man kann sich so an dich gewöhnen
daß man nicht aus dem Buche schaut
wenn seine Bilder sich verschönen
von deinen Schatten überblaut;
weil dich die Dinge immer tönen
nur einmal leis und einmal laut».
1217
И поэт Гельдерлин, отличавшийся чрезвычайно
сенситивной, нежной, нуждавшейся в защите душевной
организацией, был глубоко религиозной натурой. Уже в
поздние годы своего безумия он вдруг попросил ходившего за
ним умелого столяра Циммера смастерить для него из
дерева греческий храм и написал ему на доске такие слова:
«Зигзаги жизни вычертят такое,
Что путь тропы и склон горы напомнит,
Бог Вечности нас, здешних, там исполнит
Гармонией, воздаянием и покоем»*.
Чувства Гельдерлина и до его болезни часто бывали
уязвлены. Внутренне он никогда не мог преодолеть
глубокую пропасть между аутистическими мечтами своей
нежной и гордой души и грубыми, травмирующими реалиями
человеческого мира. Но сильно развитое чувство духовной
независимости не позволяло ему искать в учении церкви
удовлетворения своей внутренней потребности в
«гармонии и покое». Поэтому его религиозное чувство нашло для
себя весьма показательный выход в скромном глубоком
пантеизме, который с самой юности оставался у него
некой исходной точкой его личности и его поэтического
творчества. Внутренние истоки этой его мистической
любви к природе он сам указывает в оде «Капризные»:
«Где под сенью лесной солнце могучее
В полдень тело мое греет так ласково,
В тишине там сижу я,
Мучась злыми обидами;
Часто бродят в полях, мучаясь горечью,
Все природы певцы. Дети счастливые!
Обижаются, плачут,
Избалованы матерью;
* В оригинале:
«Die Linien des Lebens sind verschieden,
Wie Wege sind und wie der Berge Grenzen,
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden».
218
Так ворчливы они, столько упрямства в них.
Шли бы прямо, так нет, малость случайная
Привлечет их — и рвутся,
Убегают, назло тебе.
Ты все стерпишь, любя, мягко лаская их,
И они прибегут, весело слушаясь
Твоих мягких уздечек, —
Они дети хорошие»*.
В этой оде Гельдерлин, глубоко уязвленный людьми,
предается заветнейшим мечтам: он укрывается под
пологом леса, он беглец, находящийся под зашитой и под
чутким руководством природы, к которой у него, как к матери,
совершенно личное, по-детски благоговейное отношение.
Некий бог спасает его «от ругани и розог людей». «Я
понимал молчание эфира, людское слово я не понимал. Гар-
монья шепчущих дубрав — мой воспитатель, среди
цветов учился я любить. И на руках богов я вырастал»**.
* В оригинале:
«Unter Schatten des Waldes, wo die gewaltige
Mittagssonne mir sanft über dem Laube glänzt:
Ruhig sitz ich daselbst, wenn,
Zürnend schwerer Beleidigung,
Ich im Felde geirrt — zürnen zu gerne doch
Deine Dichter, Natur! Trauern und weinen leicht
Die Beglückten; wie Kinder,
Die zu zärtlich die Mutter hält,
Sind sie mürrisch und voll herrischen Eigensinns;
Wandeln still sie des Wegs, irret Geringes doch
Bald sie wieder; sie reihen
Aus dem Geleise sich sträubend Dir.
Doch du rührst sie kaum. Liebende! freundlich an.
Sind sie friedlich und fromm; fröhlich gehorchen sie!
Du lenkst, Meisterin! sie mit
Weichem Zügel, wohin du willst».
** В оригинале: «Ich verstand die Stille des Äthers, des Menschen Wort
verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Hains, und lieben
lernt' ich unter den Blumen. Im Arme der Götter wuchs ich groß».
|219
Шизоидные люди обычно серьезны, и Гельдерлин тоже
был в значительной мере лишен чувства юмора. Он был
не только аутистически сверхвосприимчив к
впечатлениям реальной жизни людей, но у него еще и
отсутствовала способность примиряющего внутреннего синтеза этих
впечатлений. Оказываясь в обществе, он решительно не
понимал невиннейших шуток, с подозрением относился
к безобиднейшим замечаниям и способен был
почувствовать, что чья-то мимолетная усмешка «бесчестит его
самое святое». Поэтому его слишком напряженное,
идеалистически возвышенное представление о
взаимоотношениях людей в обществе постоянно бросало его то в экстаз
фанатического культа дружбы, то в изнеможенное и
разочарованное уныние. Свое чувство отчуждения и страха,
которое он испытывал перед действительностью, он сам
описывает такими словами: «Я почти уверился, что
педантичен единственно из любви, и не потому я робок,
чтобы я боялся, что эта действительность помешает мне
в моем эгоизме, но я робок, ибо я боюсь, что эта
действительность помешает мне в том внутреннем участии, с
которым я тщусь присоединиться к чему-то другому; я
боюсь, что эта жизнь, теплящаяся во мне, вмерзнет в
ледяную историю дня».
Гельдерлин выразил здесь те ощущения, которые, в
сущности, испытывают все тонко чувствующие шизоти-
мики по отношению к реальным занятиям людей. Такой
человек, который даже безобидную шутку воспринимает
как смертельную рану, несмотря на иногда возникающие
нежно перенапряженные дружеские отношения с
отдельными людьми, в целом не может хорошо себя
чувствовать, находясь среди людей. И если малочувствительный
шизоид —это угрюмый, мизантропичный нелюдим,
погруженный в самого себя, то наделенный тонкими
чувствами шизоидный художник, испытывающий
глубочайшую потребность в ласкающей любви, неизменно
убегает туда, где воля других людей не подавляет и не ранит
его нежную фантазию: в какое-нибудь идеализированное
220
прошлое, в мир художественных собраний и книг, но
чаше всего — в прекрасное и безлюдное царство природы.
Эта потребность в каком-то человекозамешаюшем
предмете душевной склонности создает—при менее
значительном уровне духовности — часть тех бесчисленных
старых холостяков и чудаков с их далекими от всего
человеческого увлечениями и причудами, которых художник
Шпицвег (сам имевший несколько сходную
предрасположенность) собрал в восхитительную портретную
галерею: цветовод и кактусовод, пчеловод, звездочет,
коллекционер и книжный червь.
Но гениальный шизофреник Гельдерлин в качестве
убежища от обид грубой и враждебной человеческой
деятельности возводит из своих любимейших грез наяву храм
своего мировоззрения, в котором греческие боги
существуют рядом с матерью-природой и отцом-эфиром, —
храм, в котором благородная стилевая чистота
классицизма приглушена нежной мистической полутьмой
романтизма. Себя самого и людей, которых он любит, он
ощущает эллинами, заблудившимися в поздней
варварской эпохе, а в идеальных, по его представлениям,
фигурах перикловых Афин он видит своих братьев, которых
он тщетно искал среди современников. И синее ясное
небо Эллады становится для него своего рода божеством,
отцом-эфиром, воплощением бесконечной, все
охватывающей и всех любящей природы, тихо и ласково
благословляющей всех людей. Все фигуры, возникающие в
фантазии Гельдерлина и, затем, в его стихах, кротки,
тихи и прекрасны. Нигде не слышится шум
действительности, везде — персонифицированные чувства самого
поэта и мягкий, приглушенный внутренний свет его аути-
стично-мечтательной личности. Предмет его любви и
почитания должен иметь красивые линии, и на то, что
показалось ему красивым, он и молится. Так религия и
поэзия сплавляются у него воедино; его стихи и его
мировоззрение соединяются в некое единое, нежное и
совершенно нереальное образование. В благоговейном по-
J221
читании природы проявляется его в высшей степени
личностная, интимная потребность любви, влекущая его к
каждому цветку, к каждому дереву, к каждому облаку,
потому что и они, и сам этот больной шизофренией
человек—тихи, мечтательны, одиноки и не способны ранить,
как все эти люди вокруг.
Таков же и роман Гельдерлина «Гиперион» — создание,
напоминающее остров грез: вокруг — пустота, время не
течет и ничего не происходит. Персонажи — не
человеческие существа, но некие прозрачные, трепетные
образы желаний, лишенные собственной воли, взлетающие и
падающие по кадансу какой-то речи, которая уже почти
что музыка, и, с помощью двух волшебных слов:
природа и Эллада, претворяющие диссонансы этого мира в ту
гармонию, к которой сей несчастный поэт тщетно
стремился всю свою жизнь.
Для шизоидов всякое отношение к действительности
человеческой жизни — диссонанс, а гармония — только в
грезоподобной красоте безлюдной природы. Таков тот
внутренний пантеизм Гельдерлина, отзвуком которого
становится «Гиперион», — освобождение от действительности
и затопление потоком любви всего того, что он еще
способен был любить:
«О источники земли, цветы, и леса, и орлы, и ты, свет
братства, как стара и как нова наша любовь! Мы
свободны, не будем испуганно равняться на окружающих; разве
мудрость жизни может оставаться прежней? Ибо все мы
любим Эфир, и в глубине глубин наших душ мы равны. О
душа, ты — красота мира! что значит смерть и все скорби
человеческие? Ах, эти чудаки наговорили столько пустых
слов. Пусть же все совершается страстью, и пусть все
оканчивается миром. Словно ссоры влюбленных, диссонансы
этого мира. Но примирение — в сердце ссоры, и все
разделенное соединится вновь».
?22|
ГЛАВА 11. ПРОРОК
«Я предпринимаю дело беспримерное и которое не
найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям
одного человека во всей правде его природы, — и этим
человеком буду я.
Я один. ...Я создан иначе, чем кто-либо из виденных
мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на
свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не
такой, как они. ...
Пусть труба Страшного суда зазвучит когда ей
угодно, — я предстану перед верховным Судией с этой книгой
в руках. Я громко скажу: вот что я делал, что думал, чем
был. ... Собери вокруг меня неисчислимую толпу
подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть
краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучи-
ях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола в
свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце
свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится,
скажет тебе: „Я был лучше этого человека"»*.
Человек, начинающий такими словами историю
своей жизни, страдал бредом преследования. Это был
философ Руссо, один из духовных отцов Великой французской
революции. В другом месте он писал: «Кто-то может не
любить мои книги, и я не браню его за это, но тот, кто
прочел мои книги и не любит меня, тот — шельма».
Это говорит человек, который в годы ученичества лгал,
воровал и бродяжничал, который перессорился почти со
всеми своими покровителями, вел жизнь безродного
авантюриста, жил с вульгарной домохозяйкой, не женясь на
ней, и сдал пятерых своих детей в воспитательный дом.
Шиллер после первой встречи с юным Гельдерлином
резюмировал свое суждение о нем в следующих словах:
«Он отчаянно субъективен». Та же отчаянная
субъективность слышна и в каждой из фраз, которыми начинается
* Ж. Ж. Руссо. Исповедь. М., 1949. Пер. М. Розанова и Д. Горбова,
С. 33-34.
1223
«Исповедь» Руссо. Оба, и Гельдерлин и Руссо, превыше
всего ценили безграничную внешнюю и внутреннюю
независимость, ради нее они готовы были голодать и
скитаться. Для переписчика нот Руссо было так же
естественно страшиться теплых доходных местечек, как и для
домашнего учителя Гельдерлина.
В этой особенности их натуры коренится причина их
жизненной слабости, ранимости и чрезмерной
чувствительности к будничным вещам. В ситуации борьбы они
были не способны мобилизовать свои силы, но они были
способны мобилизовать свою гордость, и это
облагораживало даже их слабости. В характере Руссо было много
взаимоисключающих черт; он, между прочим, был
добросовестным человеком. За то, что он творил как представитель
богемы, он не мог отвечать как моралист. И если для
ушлого бродяги он был чрезмерно нежен и благороден, то для
моралиста — чрезмерно наивен. Для чувствительных
людей бурные внутренние противоречия между гордостью и
слабостью — это источник величия души и подводный риф
для их душевного здоровья. Подобно тому, как сила пара
возникает из огня и воды, самые мощные духовные силы
возникают из столкновения враждебных элементов, из
непримиримо контрастных влечений, сосуществующих в
груди одного и того же человека и разрывающих ее.
Поэтому чувствительный человек, несмотря на свою
жизненную слабость, может в социальном плане подняться выше
обычного здорового человека, в душе которого есть сила,
но нет никаких контрастов.
Самые великие реформаторы — это нерешительные
люди. Чувствительный человек, крайне ранимый и
восприимчивый к таким мельчайшим жизненным
диссонансам, которых здоровый человек просто не ощущает,
слишком мягок и сдержан и не может сразу разрядиться,
выплеснув наружу в форме энергичных поступков мучающие
его впечатления; это человек внутреннего конфликта, в
нравственном сознании которого долгое время будет
происходить тяжелая борьба, прежде чем дело дойдет до
2241
каких-то внешних проявлений. Когда же, наконец, в
испуге и в тревоге сомнений, он высказывает свое кредо, он,
по-видимому, тут же пугается угрожающего резонанса,
мгновенно вызванного в массе народа его робким словом.
Так было с нерешительным, неуклюжим, не умевшим
вести себя в обществе вагантом Руссо; так было с Лютером,
мужиковатым монахом с черными горящими глазами,
скрывавшим под простецкими шуточками и сочными
грубостями внутреннюю муку и неуверенность. Их тихая
личная исповедь словно по мановению руки превращалась в
громовый боевой клич целого столетия, и уединенный
ученый или художник благодаря страстности своих
приверженцев выдвигался на роль деятельного вождя, которая
была глубочайшим образом противна его робкой
чувствительности.
Давид Фридрих Штраус своей книгой «Жизнь
Иисуса» вызвал настоящий тектонический сдвиг в
религиозном сознании девятнадцатого века и настолько потряс
фундамент церковной традиции, что отголоски этого
землетрясения ощущались даже в деревнях, а, скажем, в
Цюрихе привели к массовым народным волнениям. В
декабре 1838 года парижский журнал «Revue des deux mondes»
опубликовал критическую статью об этой книге, в
которой критик так охарактеризовал Штрауса: «Когда
читаешь такой труд, представляешь себе автора бронзовым
идолом, которого не может тронуть ничто человеческое.
Признаюсь, я и сам так думал о докторе Штраусе, пока
не познакомился с ним покороче; когда же это
произошло, я обнаружил, что за некоей судьбой ему
определенной маской скрывается молодой человек с чистыми
помыслами и мягкой, скромной душой, чуть ли не
мистически настроенный и явно омраченный всем тем шумом,
который он вызвал». Эту статью цитировал, явно
подтверждая справедливость оценок, друг Штрауса Эдуард
Мерике (неопубликованная переписка, 91, Cotta).
Естественная нота глубоко личностного переживания,
словно горящий фитиль, взрывает самоощущение кор-
8 Зак.662
J225
румпированной эпохи. Руссо — это один из первых
раскатов бури, один из тех предвестников Белмкой
французской революции, которые в своих больных душах
разожгли ее духовное пламя, но выскользнувшие из их рук
«бразды правления» подхватили другие. Когда его
сочинения стали знамениты, он реагировал так, как
реагирует застенчивый человек, оказавшись вдруг не в своем
привычном темном углу, а перед лицом огромной
людской толпы: он ощущает все эти устремленные на него
взгляды, ему не по себе, все вокруг него плывет, он уже
не в силах сопротивляться, презрительное шипение его
врагов звучит в его ушах громче всей этой бури оваций,
и это шипение раздается со всех сторон, словно против
него заключили какое-то соглашение, составили какой-
то заговор, словно над его головой растянули тончайшую
сеть интриг, от которой ему не ускользнуть. Так
возникает бред преследования Руссо — более глубокие его корни
мы рассмотрим позднее, — тот бред преследования,
который, не давая ему передышки, гнал его из Парижа в
Швейцарию, из Швейцарии в Англию, из Англии —
снова в Париж; который не позволял ему сколько-нибудь
долго оставаться в очередном убежище, предоставленном
ему очередным покровителем, потому что даже в самых
дальних, укромных поместьях и лесных замках он вскоре
начинал угадывать ведущуюся против него игру
враждебных сил, он замечал, что слуги странно на него смотрят,
злословят о нем и преследуют его, он обнаруживал, что
ему в пищу подмешивают яд, что его хотят лишить
жизни, — короче, что рука заговора, работающая против
него, и в этом новом убежище вновь его настигла.
Подобный бред отношения возникает у чрезмерно
чувствительных людей тогда, когда они находятся в конфликте с
собой и, как следствие, с окружающим их миром.
Почему Ульриху фон Гуттену* с его железными
кулаками не удалось распахнуть врата нового времени? По-
* Гуттен, Ульрих фон (1488—1523) — немецкий писатель и
политический деятель.
22б|_
чему саркастический насмешник Вольтер не заставил
покраснеть старую Францию? Конечно, и эти люди тоже
сыграли огромную роль в истории. Это были люди,
наделенные тщеславием, стремившиеся любой ценой стать
вождями своего времени. Гуттен на родном немецком
языке без устали призывал народ к борьбе; упрямство и
вызов звучали уже в его девизе: «Я дерзнул!» Но массы
не поднимались. А витиеватая монастырская латынь, на
которой далекий от мира богослов писал в виттенберг-
ской кирхе трактаты для своих ученых коллег, в
считанные дни дошла до отдаленнейших уголков Европы. И
когда разбрасывающийся дилетант и робкий мечтатель
Руссо в возрасте тридцати семи лет впервые решается
ответить на конкурсный академический вопрос
«Способствует ли прогресс наук и искусств падению нравов или
их очищению?» — у всей Франции от удивления
перехватывает дыхание.
Юность Руссо провел в садах и долинах родной
Швейцарии, под защитой своей розлюбленной, игравшей роль
матери, — и провел ее, несмотря на сотни маленьких
причуд и проступков, все-таки невинно, мечтательно,
безалаберно и счастливо; это была юность не буржуа, но
беспризорника и правонарушителя. У него была нежная детская
душа, которую люди, столь часто его предававшие,
считали доброй, и от полноты переполнявших ее чувств он
готов был обнять весь мир.
Переезд в Париж обеспечил ему величие и безумие.
Он был человеком богемы, наделенным разнообразными
талантами, и все же в Париж он влетел, как барашек в
змеиный террарий. Словно ребенок с широко раскрытым
в искреннем удивлении глазами стоял он в окружении
самых легкомысленных повес, самых злоречивых
остроумцев и самых продувных бестий своей эпохи. Когда его
тогдашнего друга, философа Дидро, посадили в Венсенн-
ский замок, верный Руссо навещал его там чуть ли не
ежедневно, — два часа пути по проселочной дороге под
палящим летним солнцем. Накануне первого из этих по-
8*
1227
сещений он едва не спятил от нетерпения и радости
предстоящей встречи. У Дидро в камере он видит еще
несколько знакомых лиц. «Какое невыразимое мгновение! —
вспоминает Руссо в „Исповеди". — Войдя туда, увидев
его, я лишь вскрикнул и бросился к нему; я прижался
лицом к его лицу, я крепко обнял его, слезы мешали мне
говорить, рыдания душили меня, я задыхался от
нежности и радости». А Дидро спокойно обернулся к какому-
то стоявшему рядом духовному лицу и сказал: «Видите,
месье, как любят меня мои друзья». Этот маленький
эпизод чрезвычайно символичен изображением того, как
Руссо бросался на грудь парижским просветителям и чем они
ему на это отвечали. Взрыв дружеских чувств Руссо
светский человек Дидро встречает совершенно спокойно — и
умно использует его в своих целях, кокетничая им перед
окружением.
Стиль жизни духовной элиты Франции эпохи рококо
в корне отличался от свойственной Руссо манеры
существования, хотя и эта элита боролась отшлифованным
оружием диалектики с пороками своего времени. К примеру,
Вольтер, благодаря за подаренную ему книгу Руссо
«Рассуждение о происхождении и причинах неравенства
между людьми», 17 августа 1755 года послал автору умное
письмо, содержащее много грациозно-изящных мест, в
котором, в частности, писал: «Сударь мой, Вашу новую книгу,
направленную противу всего рода человеческого, я прочел
и приношу Вам свою благодарность. Высказав людям
Ваши истины, Вы сумеете им понравиться, но не сумеете их
исправить. Нельзя резче высветить мерзости
человеческого общества, от которого мы в нашей слабости и простоте
ожидаем столь многих утешений. Никому, как Вам, еще не
удавалось проявить такой блеск ума в стремлении вновь
превратить нас в скотов; читая Вашу книгу, испытываешь
поистине непреодолимое желание вновь опуститься на
четвереньки. Но поскольку минуло уж больше
шестидесяти лет, с тех пор как я оставил эту привычку, то, к
глубокому моему сожалению, я уже не вижу возможности вновь
2281
ее себе усвоить. А посему принужден оставить эту столь
естественную привычку тем, кто более ее достоин, чем Вы
или я...
...Однако же несмотря на все злоупотребления
науками, их приходится любить, как приходится любить
общество, невзирая на все отравляющую злобу отдельных его
членов; не так ли принуждены мы любить и свое
отечество даже тогда, когда претерпеваем в нем
несправедливости? и разве не с тою же любовью приходится нам
склоняться перед высшим существом, несмотря на тот
фанатизм и те суеверия, которыми столь часто запятнан его
культ? От месье Шапюи я слышал, что не все
благополучно со здоровьем Вашим. Приезжайте-ка Вы ко мне
поздороветь в воздухе Вашей родины, попить со мной молока
наших коров и попастись на наших лугах, где
произрастают целебные травы и процветают свободы.
Философически с Вами
дружески преданный Вам
Вольтер».
Прежде всего заметим, что в таком тоне
систематический злобный преследователь писать никак не может. В
отличие от смертельно-серьезного, революционного, вечного
пафоса Руссо, Вольтер пишет в манере не только светской
по форме, но и раскованно-живой, весело и грациозно-
пренебрежительно играя с такими вещами, серьезность
которых он прекрасно осознавал.
Да и вообще, нельзя сказать, что парижское общество
встретило Руссо недружелюбно. Напротив, его ввели в
лучшие дома, салоны умнейших парижских дам распахнули
перед ним свои двери, — его неуклюжесть, его странности
ничуть этому не помешали, его находили восхитительно
наивным, этот простодушный стал просто парижской
модой. Ученые и художники, светские дамы и кавалеры
вскоре уже относились к нему как к человеку их круга, и, по
укоренившейся у них привычке, постепенно начали
затевать вокруг него игры и интриги. Ведь жизнь этой роко-
|229
ню-Францию и в самом деле была игрой: ее участи иней
питались колкостями и художественными сплетням*! и
получали наибольшее удовольствие от милых фривольностей
и маленьких измен, при этом никто никому не причинял
серьезного вреда.
Вот тут-то и проявилась вся странность Руссо. Он
воспринимал жизнь, если можно так выразиться,
дословно. Когда его друг Гримм слегка утеснил его в милостях
своей покровительницы, тот воспринял это как
нешуточную подлость; и когда философ Юм, одной рукой
протягивая ему выхлопотанную для него королевскую
пенсию, другой в то же время весело указывал на него как
на цель сатир его завистникам, для Руссо это было
решительное предательство. Так Руссо стал новооткрывате-
лем естественной, безыскусной морали. Ибо в эпоху
рококо так вещи не воспринимали: это считалось
безвкусным. И один-единственный человек с совершенно
аномально сенситивной структурой характера, Руссо, смог
вновь пробудить это восприятие, потому что вопреки
мощному суггестивному воздействию морали целого
общества он в глубине своей души должен был чувствовать
так, как он чувствовал.
В этой «отчаянной субъективности» Руссо, в его
страстной искренности — источник его борьбы со старыми
порядками. Те болезненные столкновения с неправдами
культуры высокоразвитого общества, которые он
испытал на собственном опыте общения со своими друзьями,
придали его девизу «Назад к природе!» убеждающую
интонацию личного переживания. Но в тех же самых
парижских переживаниях — и источник его бреда
преследования. Он не понимал, как можно в одно и то же
время и защищать, и обижать человека; поэтому его
глубокая, обостренная восприимчивость, поддержанная
оживленно работающей автономизированной
комбинаторной способностью рассудка, заставляла его в каждой
мимолетной будничной склоке литературных клик
подозревать глубоко продуманный системный заговор. Он мог
230
воспринимать только глубоко и серьезно; то, что не
задевало его за живое, для него просто не существовало.
Психология этих прошедших огонь и воду светских
людей была для него какими-то запертыми воротами, перед
которыми он беспомощно останавливался; изменчивая
игра их настроений, их постоянные смены позиций
вносили смятение в его душу; там, где он ожидал найти
бессмертную дружбу, его ждала шпилька, а там, где он
предполагал смертельную вражду, его встречали лишь улыбки
приветливых лиц. И всюду — во Франции ли, или в
Англии, — картина повторялась. В конце концов дошло до
того, что от их дружбы и от их шпилек он тронулся
рассудком: там, где проявлялись лишь минутные прихоти
ревнивых литераторов, игравших в свои привычные
игры, он стал подозревать изощреннейшую, тайно
объединяющую все страны воображаемым враждебным к нему
отношением систему злобных происков, направленных
лично против него. Именно поэтому тогдашние
властители дум, определявшие литературную жизнь, Гримм и
Дидро, Вольтер и Юм, оказались в центре его бредовой
системы; в их руках, полагал он, сходятся все нити,
сплетавшиеся в сеть над его головой. Он ненавидел культуру
своего времени, и он ненавидел вождей этой культуры;
одно чувство породило гениальные труды, другое —
бредовую систему; его бред преследования и его
пророчества — это две стороны одной медали.
При этом не следует забывать, что в жизни Руссо не
было недостатка в объективно тяжелых обидах. Его
эксплуатировали, с его рукописями обходились
беспардонно; после выхода «Эмиля» он под угрозой ареста
вынужден был бежать из Парижа; едва только он нашел
убежище на острове Сен-Пьер, как бернское правительство
выслало его, причем на этого нежного и
восприимчивого человека натравили чернь, которая преследовала его и
забрасывала камнями. Таким образом, в жизни Руссо
объективно имели место преследования. Но преследования
сами по себе никогда не вызывают бреда преследования.
№
И точно так же не способны были инициировать его бред
маленькие литераторские колкости и фривольные
интриганские игры; они могли его смутить, вызвать у него
горечь, недоверие и чувство одиночества, но они не могли
породить в нем ту глубочайшую, страстную убежденность,
которая только и придавала его реформаторским
философским трудам их сокрушительную силу, а его
ощущениям преследуемого — устойчивость систематического
бреда.
Наконец, третий, самый глубокий и самый тайный
источник его гениальности и его болезни возникает из
того, из чего он всегда возникает у чувствительных
людей, — из чувства собственной вины. Руссо не был
уверен, что он сам избежал влияния той культуры, которую
презирал, существуя в ней. Он был очень далек от
простой и строгой древнеримской добродетели,
представлявшейся ему идеалом; более того, обладая в высшей
степени впечатлительной, подвижной, импульсивной натурой
художника, он сам с головой окунался в пеструю
действительность своего времени. И в этом — значительная
часть его величия. Он не был похож на большинство
моралистов; он не был, как, скажем, Робеспьер, одним из
представителей той сухой, абстрактной добродетели,
которая не грешит, потому что у нее не хватает на это
способностей; в отличие от них, он боролся с тем, что он
испытал сам. Такая двойственность натуры делала его
особенно мягкосердечным и всегда была подводным
рифом для его суждений; даже сталкиваясь с самой
вульгарной низостью, он никогда не утрачивал свойственной
ему солнечной улыбки. Своим отношением он в чем-то
облагораживал сомнительнейшие фигуры, при этом в нем
самом каких-либо стойких перемен под их воздействием
не происходило; втянутый в самые мутные водовороты,
он мог вращаться там годами и потом снова появляться
на свет божий, сохраняя в первозданной чистоте свои
детские чувства. Так же, как другие моралисты, он был
способен возводить абстрактную конструкцию своего уче-
234
ния, не обращая внимания на действительность, но он
обладал и поистине редкой способностью совмещать
противоположности: презирая окружавшую его жизнь, он
наслаждался ею; он понимал и нежно любил ту
действительность, невозможность которой доказывал. В этом
заключается главный контраст его личности, сделавший его
противоречивым — но и гениальным — и позволивший
Шопенгауэру сказать о нем, что природа только его
наделила даром морализировать, не вызывая скуку.
Источник чувства вины Руссо — в его переживаниях.
Источник его переживаний — в глубинном слое его
предрасположенности, в противоречивости влечений,
связанной с его конституцией. Здесь корень его
инфантильности, его безграничной наивности, его упрямого и
робкого нрава ребенка. Здесь же и объяснение его фиксации
на образе матери; эротически привлекательной для него
всегда была женщина старше его годами,
женщина-заступница, женщина, к которой можно прибежать и
спрятаться, обняв ее колени, такая, как де Варане, такая, как
д'Эпинэ; мать для него одновременно — и возлюбленная,
а возлюбленную он зовет «маменькой». Другой
возможный для него вариант: любовь к совсем простой,
духовно неразвитой женщине, перед которой ему не
приходится робеть, бояться или краснеть, — к его будущей
жене.
В его дружбе с мужчинами сохраняются черты
фанатичности, свойственной пубертатному периоду; из-за нее
он в личностных взаимоотношениях «перегревается» — и
тем более глубоким оказывается последующее охлаждение;
она — главный источник его разочарований, его
недоверчивости и, в конечном счете, его бреда. Он горячо
требовал, чтобы его любили те мужчины, которые его в лучшем
случае уважали, а когда они его только уважали, он
горячечно воображал, что они его ненавидят. Позднее у него
появляется странная привычка носить длинные восточные
одеяния; в этом можно, при желании, усмотреть
наклонность к ношению женской одежды. А вот черты мазохиз-
£33
ма и эксгибиционизма несомненны и описаны им самим;
они отчетливо просматриваются в той роли, лсодаорую
играли в его юношеских -переживаниях жажда побоев м
обнажения. В сублимированной, одухотворенной форме эти
инстинктивные побочные линии его существа продлились
и в последующие периоды его жизни; мы узнаем их и в
его склонности к роли мученика (роли, которая
навязывается ему то волею обстоятельств, как будто не
зависящих от него, то — как будто им и спровоцированных), и в
тех по-особому беспощадных саморазоблачениях,
которыми отличается его «Исповедь», — именно этой черте мы и
обязаны его исключительно глубоким проникновением в
строение собственной души.
При столь противоречивых глубинных влечениях
невозможно идти прямым путем. И каким бы путем он ни
шел, этот путь с точки зрения противонаправленного
влечения всегда выглядел ложным, неистинным,
недостойным. Какой бы путь он ни избирал, он вступал на него
виновным, преступившим закон природы, предавшим
собственную внутреннюю суть. Его самоопределение в
жизни всегда было неуверенным, отягощенным
мучительным отказом от чего-то иного, и это должно было еще
больше усиливать яростный внутренний протест его
честолюбия.
От взаимодействия подобных противоречий в душе,
как правило, остается некий нерастворимый осадок;
таким осадком является чувство вины сенситивного
идеалиста, с душевной болью оглядывающегося на
извилистый, зигзагообразный путь, в который жизненная
действительность превратила его устремления. И это чувство
вины превратило вторую половину его жизни в период
гениальности, преобразив боль от взгляда на прошлое в
страстный пафос программы будущего. Но это же
чувство вины положило начало и его бреду преследования,
когда причины своих собственных мучений он стал
приписывать воображаемым интригам врагов. То, что он отдал
своих детей в воспитательный дом, то, что его любовь к
234
покровительствовавшей; ему госпоже д'Эпинэ должна
была казаться* ей небескорыстной, то, что, вовлеченный в
хитросплетения тщеславных и карьерных устремлений
знаменитостей-однодневок, он не всегда мог сохранять
верность своим друзьям, которая представлялась ему
высшей ценностью, — все эти болевые точки, которые в
действительности существовали лишь в его измученной
совести, превращались его бредовым воображением в
компрометирующий материал, старательно используемый
против него его врагами. Его самое нетленное творение,
его жизнеописание, возникло под влиянием этого бреда
и представляет собой не что иное как объяснительную
записку параноика, защищающегося от воображаемых
врагов. А поскольку источник его бреда — в чувстве
вины, то и история жизни получает название «Исповедь».
В том, что касается чувствительности, у Руссо
наблюдается необычайное — вплоть до мельчайших деталей —
сходство о шизофреником Гельдерлином. Мечтательная
восприимчивость Гельдерлина отталкивала все
действительное, она устремлялась к прошлому, к спокойному
величию античного человека и неживой природы; и для
Руссо почитание прошлого стало религией.
Но для пассивного Гельдерлина это почитание было
проявлением пессимизма, бегством, усталым
воспоминанием о чем-то неповторимом, для Руссо же — напротив,
преклонением перед живым идеалом лучшего будущего,
к которому нужно стремиться. Для Гельдерлина это была
резиньяция, для Руссо — программа. Руссо обладал
оптимизмом легкого, кипучего, подвижного духа. В его
натуре было что-то истинно музыкальное, — он, кстати, имел
большой успех в Париже в качестве оперного
композитора. Кажется почти неправдоподобным, что в одной
груди уживались рядом душа солнечного сангвиника и
тяжелое, чувствительное, серьезное мировосприятие. Такая
удивительно контрастная, причудливая личностная
композиция была порождена редкостным в плане
наследственности капризом природы. При всей своей нежной ра-
J23S
нимости Руссо все же унаследовал и часть летучей,
легкомысленной художнической крови своего
жизнелюбивого шатуна-отца, — какой-то темперамент неваляшки,
удивительная эластичность которого позволяла
мгновенно восстанавливаться после тяжелейших ударов судьбы.
Его неудержимая фантазия, как он сам выразился в
одном письме Мальзербу, во всем немедленно доходила до
крайностей. Те или иные неблагоприятные
обстоятельства могли доводить его до края безумия, но стоило только
подумать, что он, смертельно несчастный, изнывает где-
то в печали, как уже из какого-нибудь тайного убежища
приходило от него в высшей степени грациозное и
куртуазное письмо, дышавшее покоем сельского досуга и
веселостью умиротворенной души. Так, сидя в дорожной
карете после всех переживаний, связанных с бегством из
Парижа, он уже планирует вновь заняться переводом
идиллий Гесснера*. Юные годы маленького
землепроходца Руссо были наполнены беззаботным впитыванием
впечатлений, беспривязным бродяжничеством, счастливой
ловлей каждого радужного мыльного пузыря,
проплывавшего перед его глазами. «Отдаленные перспективы, —
говорит Руссо о самом себе, — редко оказывали серьезное
влияние на мои поступки. Будущее неопределенно, и
всяческие уходящие в туманную даль прожекты я всегда
считал приманкой для дураков. Малейшее удовлетворение,
которое я могу получить немедленно, привлекает меня
больше, чем все прелести рая». Так, достигнув почетного
положения в почтенном савойском доме и имея
совершенно блестящие перспективы на будущее, этот юный
авантюрист не задумываясь бросает все ради какого-то
уличного мальчишки из Женевы, лицо которого ему
понравилось, и, счастливый, без родины и без денег,
отправляется с ним в путешествие через Альпы. Его
единственное средство для удовлетворения жизненных нужд —
* Небольшая неточность. В дороге Руссо писал поэму «Левит с
горы Ефремовой» в духе «Идиллий», ранее присланных ему переводчиком
Гесснера Юбером (см. «Исповедь», гл. II).
236
игрушечный Геронов фонтан, которым он поражает
воображение кухарок, и когда игрушка разбивается,
удовлетворять их становится труднее. С головой,
наполненной планами грандиознейших воздушных замков, он
шатается в поисках приключений в этих прекрасных горах,
постепенно снашивая одежду и башмаки. Он делается
монастырским служкой и музыкантом, подмастерьем и
пажом, универсальным художником и уличным
разносчиком, — всем, что только может прийти в голову; сегодня
он бродяга, не имеющий хлеба и крова, а завтра
—любимец прекрасных женщин, весело болтающий за столом
богатого патера или барона; наконец, он прибивается к
госпоже де Варане, к доброй фее и удивительной святой,
заступнице всех попрошаек, авантюристов и гениальных
побродяг, к женщине, которая становится его нежно
любимой «маменькой» и его возлюбленной, к женщине,
которая добротой и непрактичностью, игривостью и
непостоянством, легкомыслием и приветливостью не
уступает ему самому. Совместными усилиями они растрачивают
ее состояние и после многих приключений в конце
концов оседают в деревеньке Шарметты, в дремучей глуши,
в долине с каштановой рощей, журчащим ручьем и
террасами садов. В этом простом сельском раю начинается
недолгий, но самый счастливый период его жизни.
Когда, уже стариком, он описывает это время, волшебные
воспоминания юности вновь охватывают его: «В тот день
на исходе лета, в тот первый день, когда мы спали там,
я едва помнил себя от счастья. О Маменька, восклицал
я, сжимая ее в объятьях, и слезы бежали у меня из глаз,
здесь — счастье, здесь — невинность. Если мы не найдем
их здесь, больше нам уже негде их искать».
Такого рода поэтические грезы и философские
системы—это не что иное как исполнение желаний. Юный
Руссо приехал в Париж с сердцем, полным смелых и
наивных планов — и Париж сделал его старым и несчастным.
Старый Руссо, прожив жизнь, полную блеска, славы и
заблуждений, с горечью и разочарованием ностальгически
1237
вспоминает того молодого Руссо, который, имея так
мало», был так счастлив. Из этого желания: «Назад!» и
возникла философская система, стремившаяся избавить
человечество от блестящих страданий культуры, возвратив
его в скромный рай его детства, в котором обитают лишь
простые пастухи и земледельцы и нет никаких законов,
кроме законов милосердной матери-природы.
Очарование этого братского человеческого рая,
который и по сей день для многих людей остается путеводной
звездой, Руссо подарили канувшие в небытие дни его
юности, голубые савойские горы и далекие сады деревеньки
Шарметты.
Часть III
ПОРТРЕТНАЯ
ГАЛЕРЕЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Нижеприводимая портретная галерея является
приложением прежде всего к третьей главе настоящей книги и
на примере нескольких статистических рядов показывает
закономерное соответствие типа духовного творчества и
телесных форм, то есть сомато-психические
взаимозависимости в биологических основах личности. Те
представления, исходя из которых собирались и должны
рассматриваться эти портреты, развиты в моей книге «Строение
тела и характер». Была проведена, по возможности,
полная, в частности сопоставительная, проработка
исторического иконографического материала. Чтобы не
затеряться в безбрежности, я привожу здесь лишь отдельные
характеристичные части моего собрания. Абсолютно
полных статистических серий в области исследований
гениальности составить вообще невозможно, поскольку
неопределенны критерии границ принадлежности к каждой
характеристической духовной группе. Но здесь, как и
вообще в биологии, достаточно показать характерные
различия частот распределения, другими словами, выявить
очень частые или очень редкие связи между
определенными статистическими группами. Для этой цели нашего
материала совершенно достаточно, даже с учетом
возможных ошибок исторической иконографической традиции
и наличия сомнений в отдельных спорных случаях.
Более того, как нами было установлено на базе больших
экспериментальных выборок, соответствие между
строением тела и типом одаренности у гениев является
продолжением аналогичного соответствия у обычных людей.
Что касается возраста, то большинство наших персона-
9 Зак. 662
241
жей изображены в средних летах или в более зрелом
возрасте. Соответственно, в основной своей массе, эти
портреты хорошо идентифицированы и образуют примерно
сопоставимые возрастные группы. Есть, правда, и
отдельные юношеские изображения, в частности, лириков и
драматургов, но даже если их исключить,
статистического сдвига результатов не происходит.
Если говорить об отдельных «отраслях духовного
производства», то надо заметить, что философы
демонстрируют совершенно поразительное преобладание лепто-
сомных групп телосложения, причем в первую очередь
классического типа, с тонкими, остро прорисованными
чертами, а также в инфантильном (Кант) или диспласти-
ческом (Ницше) вариантах. Атлетические черты здесь
встречаются редко; больше всего их у Гегеля, Фихте и Га-
мана. Пикники среди классиков философии, начиная с
XVI века, встречаются на удивление редко. Вполне
выраженного пикнического типа среди них, насколько я
могу судить, вообще не обнаруживается, более или
менее отчетливые пикнические элементы заметны только у
Шеллинга.
В то же время пикников и смешанные пикнические
типы мы без труда и в большом количестве находим —
причем в первых шеренгах — на крайнем фланге
естествоиспытателей, где в первую очередь требуется высокая
одаренность для собственно эмпирики, то есть чрезвычайно
сильная способность конкретного, чувственного
восприятия: зрения, слуха, осязания — и дар пластического
объективного описания. Напротив, на
физико-математическом, то есть на абстрактном фланге естественных наук
доля пикников отчетливо снижается, а доля лептосомных
увеличивается. В совокупной области естественных наук
и медицины обнаруживается — и требуется — особенно
много сложных смешанных одаренностей, поэтому в
центре между двумя указанными флангами мы видим
многочисленные смешанные типы телосложения. Пикнические
типы мы встречаем в разных группах, но особенно часто —
2421
среди классиков биологических наук (ботаники, зоологии,
бактериологии и т. д.), а также в более широкой группе
знаменитых медиков-клиницистов. Не случайно и то, что
оба патриарха популярного материализма XIX века, Фогт
и Молешотт были пикниками. Необычайно интересно
сопоставление друг с другом братьев Гумбольдтов,
поскольку в их случае параллельное расхождение типов
духовности* и анатомических структур дает нам особенно
элегантный частный пример.
Столь же ясное соответствие телосложения и
направленности одаренности мы находим и у писателей. Здесь
бросается в глаза обилие пикнических портретов в кругу
мастеров описательной, многокрасочной реалистической
прозы и сочного реалистического юмора. Этот
литературный ряд конституционально оказывается почти чисто
пикническим. Не менее отчетлива повышенная
статистическая плотность лептосомных в группах драматургов и «па-
тетиков», а также романтиков и стилистов, причем в этих
группах, так же как и у философов, тоже встречаются дис-
пластические варианты (Граббе, Фр. Шлегель) и
варианты инфантильные (Клейст), в то время как атлетики и
здесь попадаются редко.
Основная — в количественном отношении — часть
всей массы гениальных творений и наиболее выраженные
образцы типов духовного творчества принадлежат лепто-
сомным и пикникам, тогда как атлетический тип и
тяжелые диспластические аномалии представлены слабее.
При отборе лиц, чьи портреты здесь воспроизведены,
мы не сопоставляли масштабы одаренности и не просто
следовали устоявшимся литературно-историческим
классификациям, но руководствовались принадлежностью к
типично предпочитаемым в определенных соматических
конституциональных группах «отраслям» духовного
производства.
* Гумбольдт, Вильгельм (1767—1835) — немецкий государственный
деятель, философ, языковед. Гумбольдт, Александр (1769—1859) —
немецкий естествоиспытатель.
9*
|243
Помимо представления de visu* вышеописанных
основополагающих биологических корреляций, наша
портретная галерея оживляет в образах «отпечатки души»
отдельных исторических лиц, что, по нашему мнению, также
следует приветствовать.
* воочию {лат.).
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие к первому изданию 5
Предисловие к пятому изданию 6
Введение 8
Часть I. Законы 17
Глава 1. Демоническое 19
Глава 2. Влечение и дух 38
Глава 3. Исходная форма личности 63
Глава 4. Культивирование одаренности 74
Глава 5. Гений и раса 99
Часть II. Картины 133
Глава 6. Периодика душевной жизни.
Жизнетворчество 135
Глава 7. Пол и половое созревание.
Графики индивидуального развития 152
Глава 8. Исследователь 168
Глава 9. Герой и вождь 187
1лава 10. Вдохновение и преклонение 206
Глава 11. Пророк 223
Часть III. Портретная галерея 239
Предварительные замечания 241
Портреты 245
Источники 302
Э. Кречмер
Гениальные люди / Перевод с немецкого Г. Б. Ноткина —
Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999 — 303 с,
илл.
ISBN 5-7331-0165-2
Выдающийся немецкий психиатр и психолог Э. Кречмер вписал
свое имя в историю науки установлением связи между конституцией
человека, его характером и предрасположенностью к определенным
формам психических заболевании. Одна из глав его классического труда
«Строение тела и характер» была отведена описанию
конституциональных и характерологических особенностей ряда гениальных творцов.
Последовательная разработка этой темы привела Кречмера к созданию
книги «Гениальные люди», целиком посвященной исследованию проблемы
гениальности. Она создана на основе изучения огромного историко-био-
графического материала, относящегося к жизни и творчеству
выдающихся людей, а также патографической литературы и специальных
исследований. Автор рассматривает общие факторы, влияющие на истоки и
механизмы гениальности: наследственность, социальное окружение,
культурно-историческая среда, бессознательные влечения, психические
отклонения («гений и безумие»), этническое происхождение, пол и
сексуальное развитие, география места рождения и др.
Завершает книгу портретная галерея, представляющая собой
своеобразную типологию гениальности в лицах.
Художник Ю. С. Александров
Художественный редактор В. Г. Бахтин
Технический редактор А. Ю. Шмарцев
Корректор О. И. Абрамович
Л Р №066191 от 27.11.98