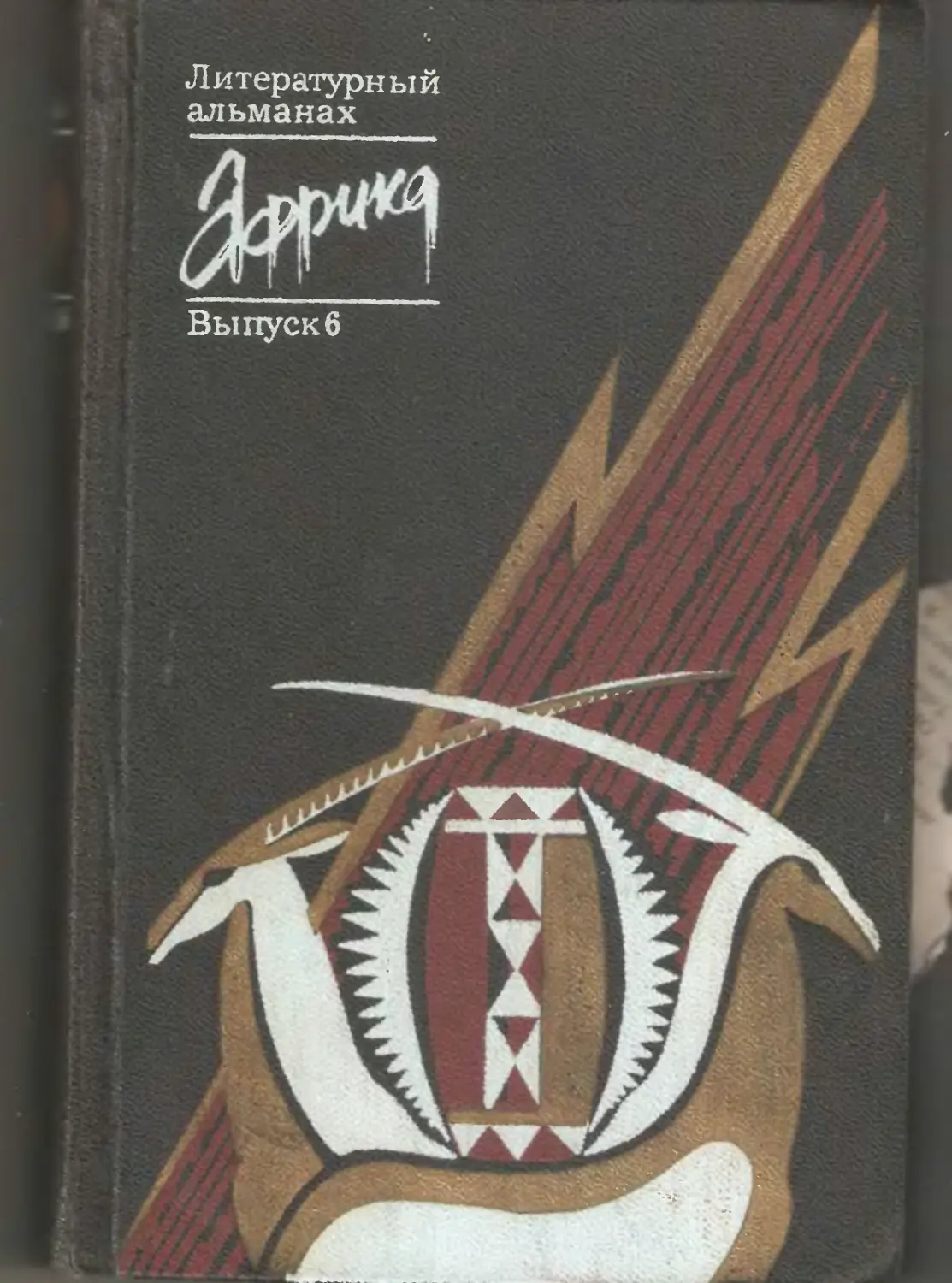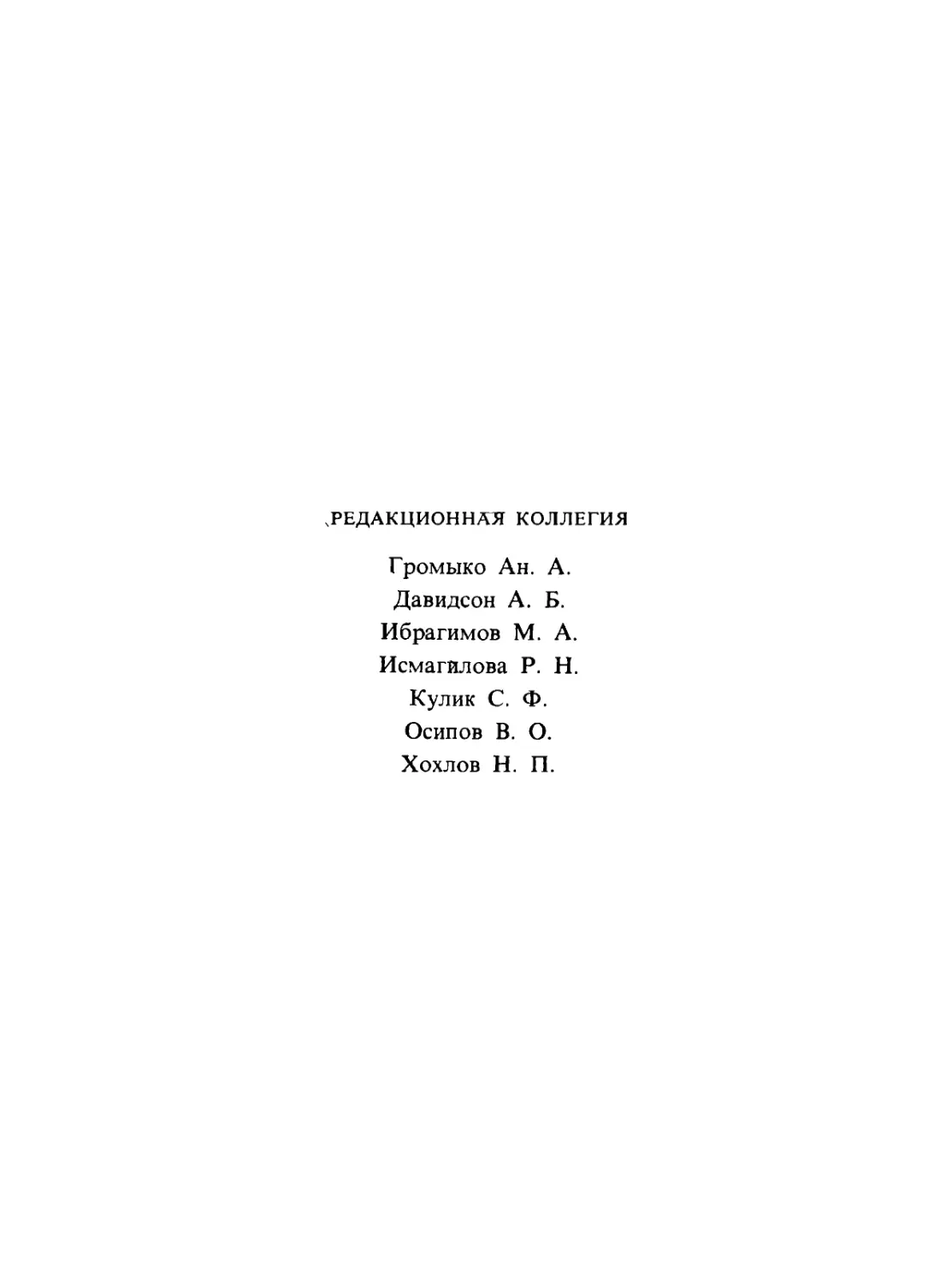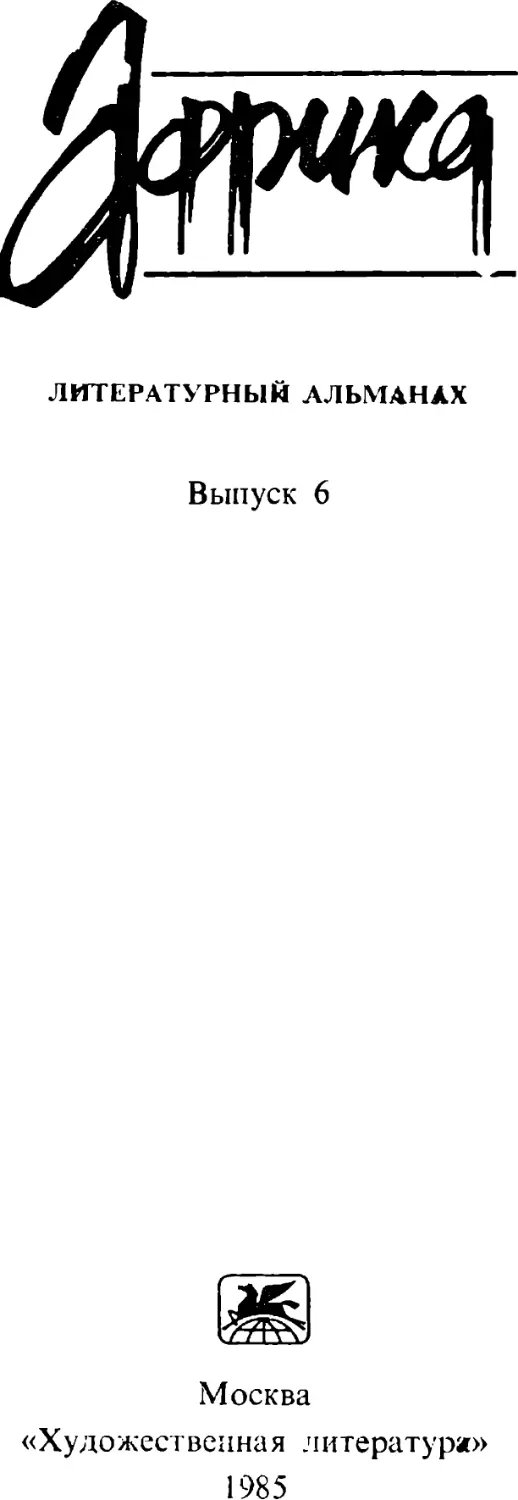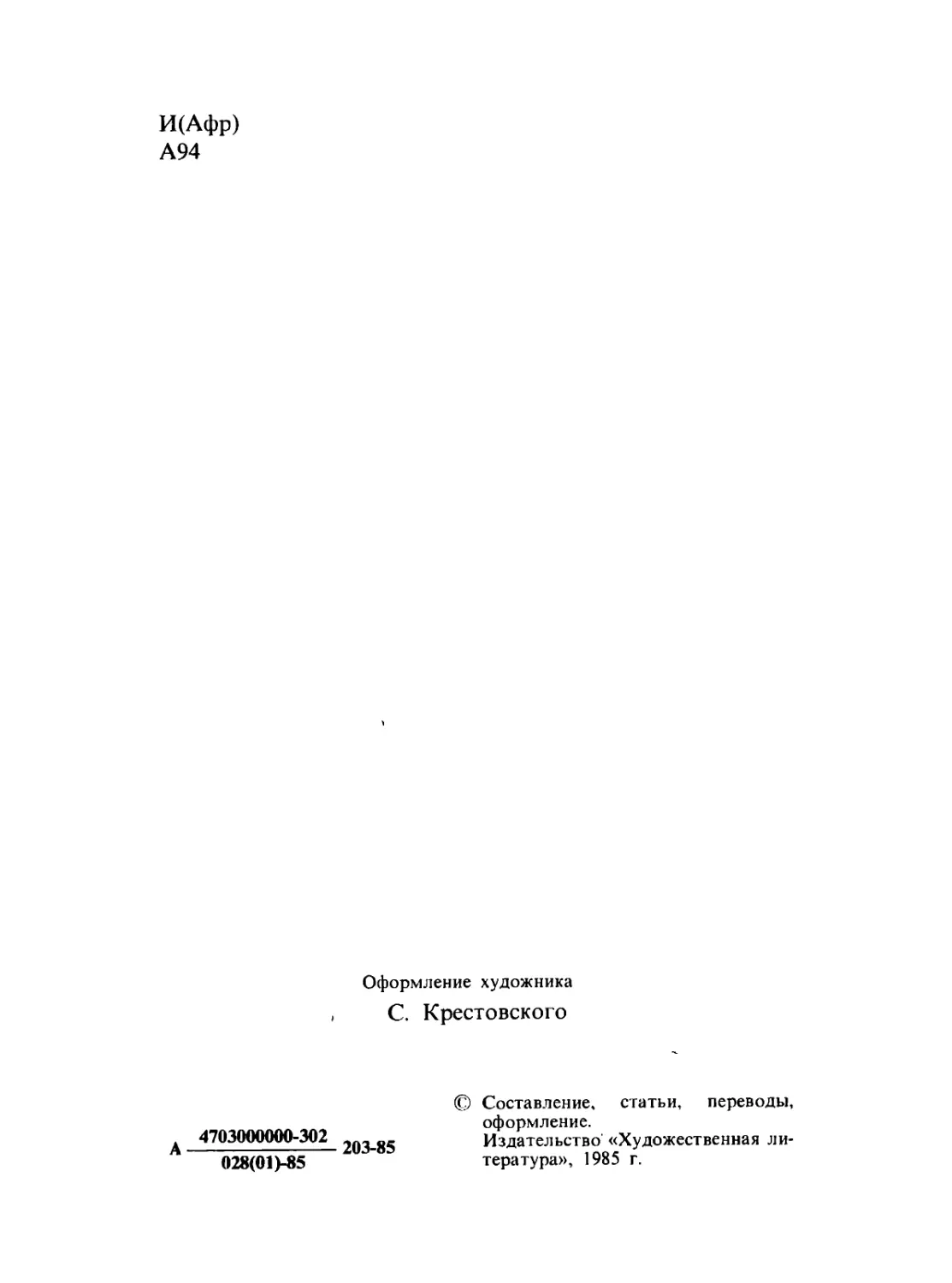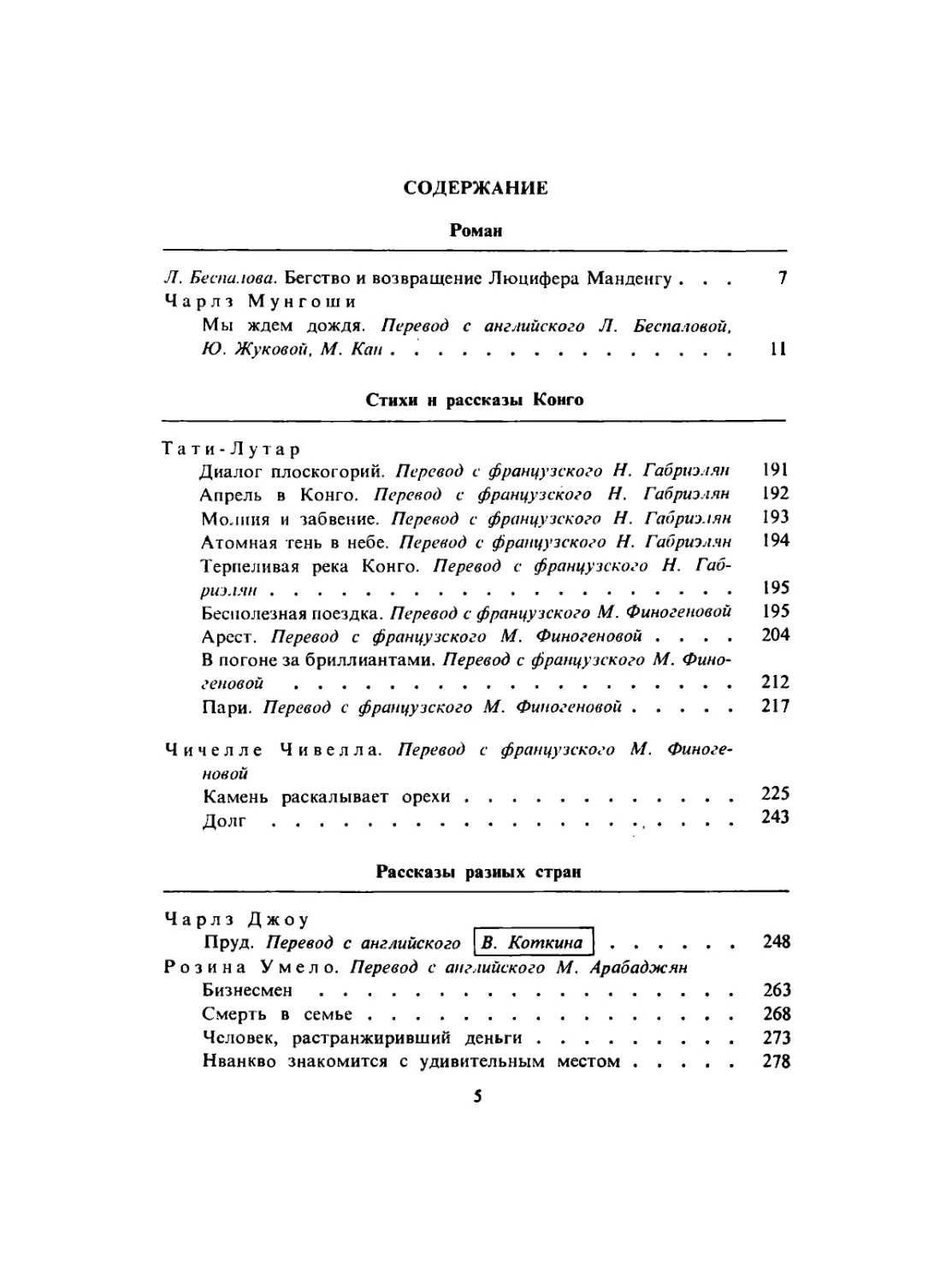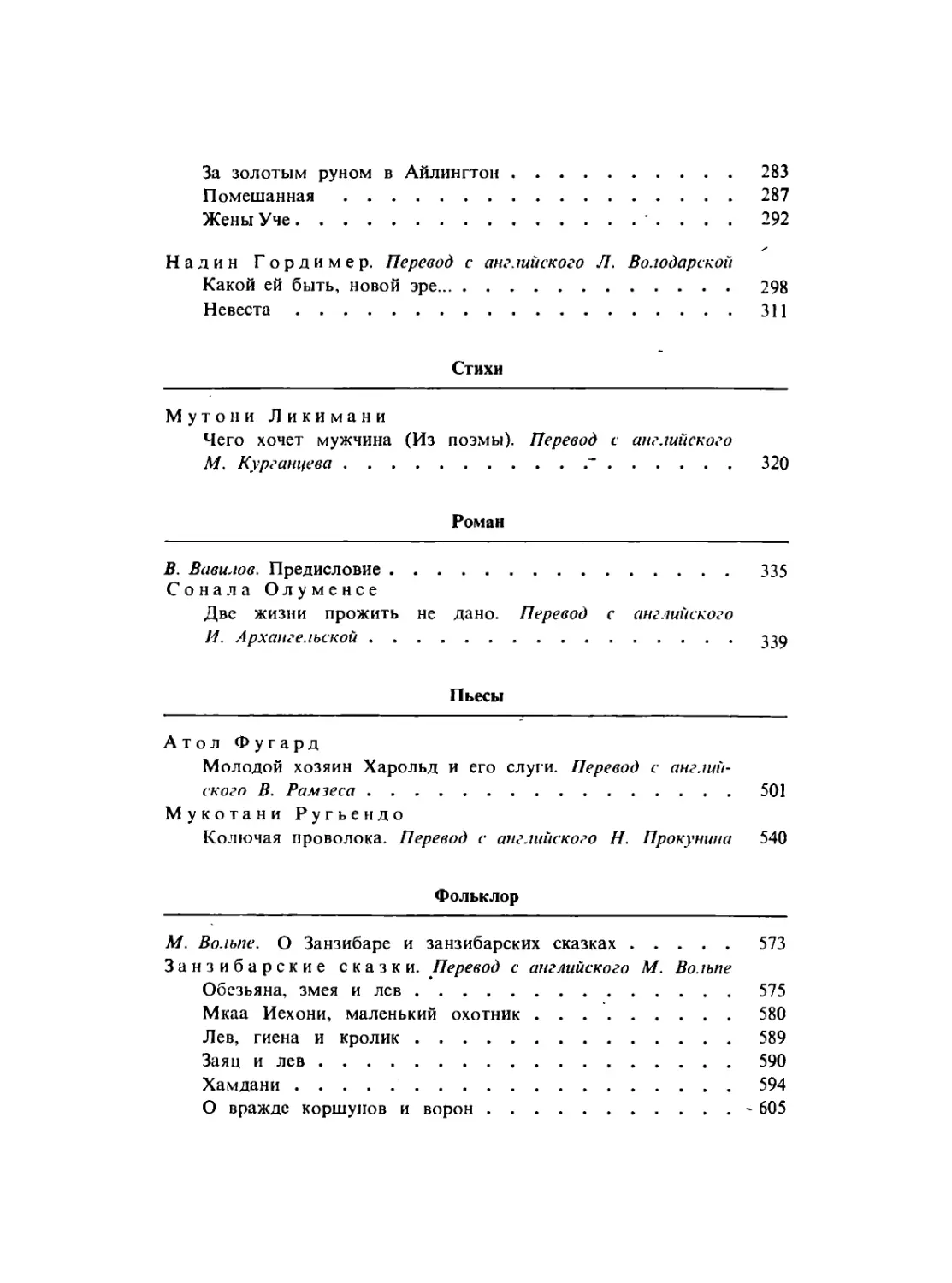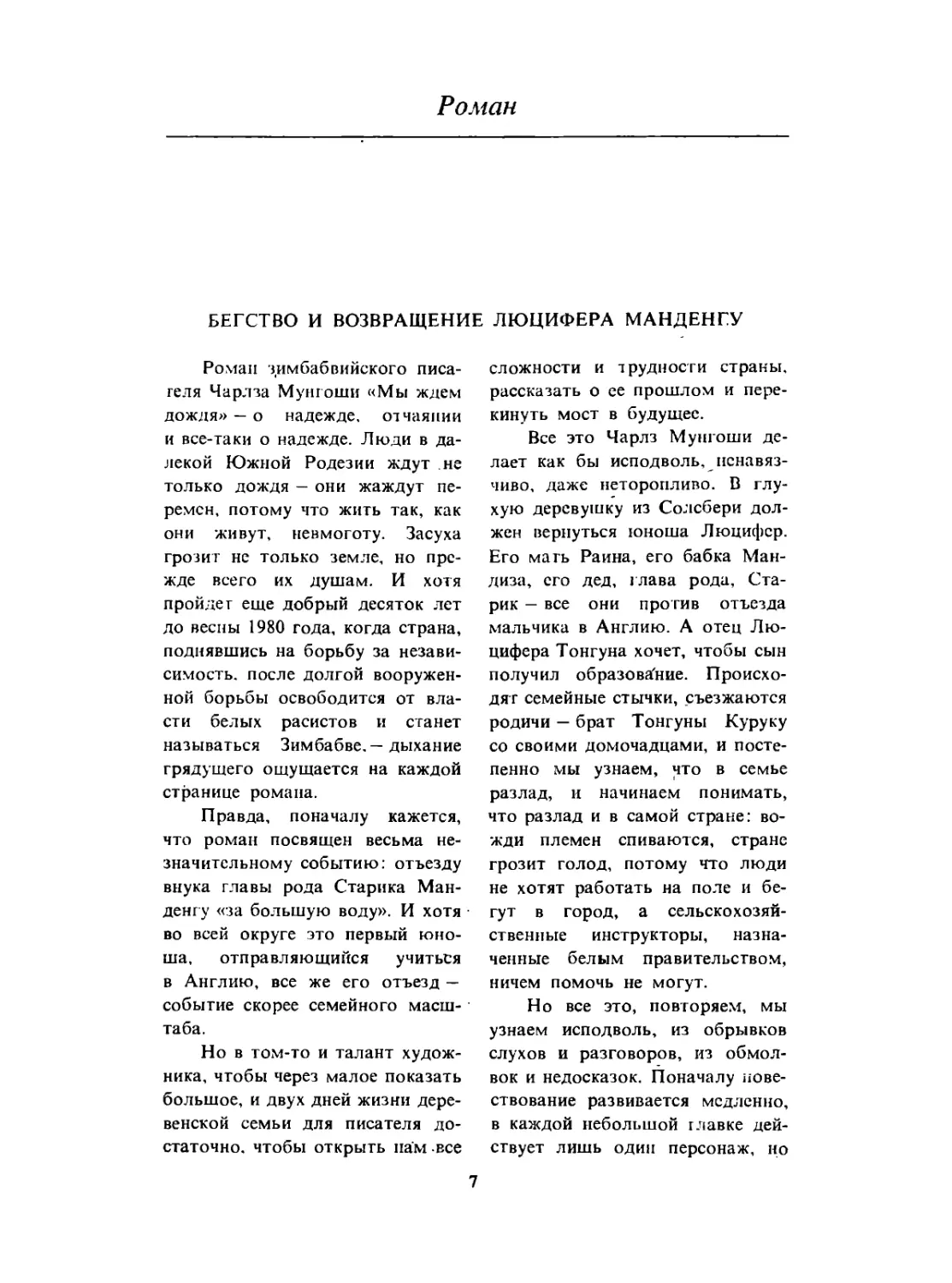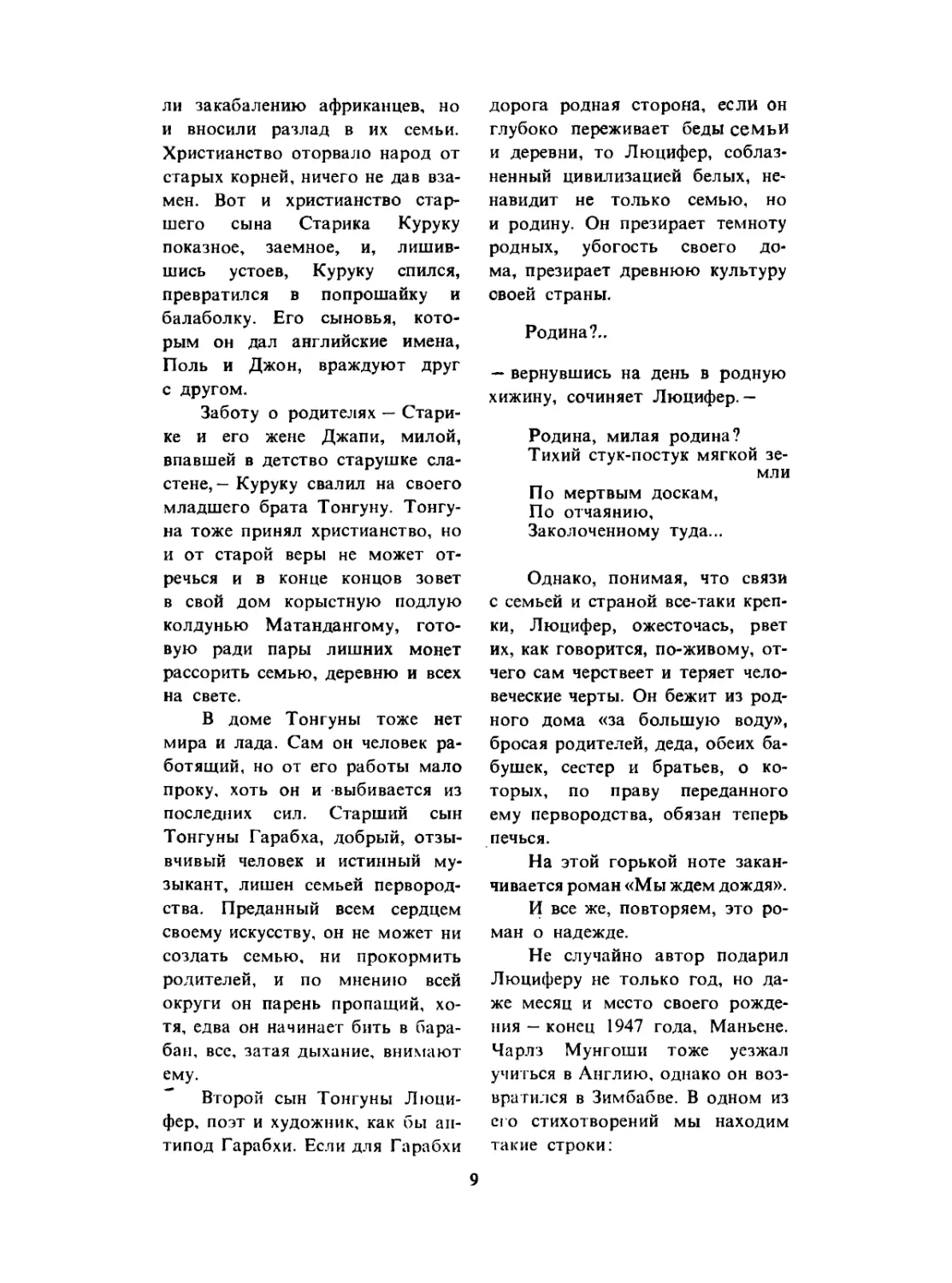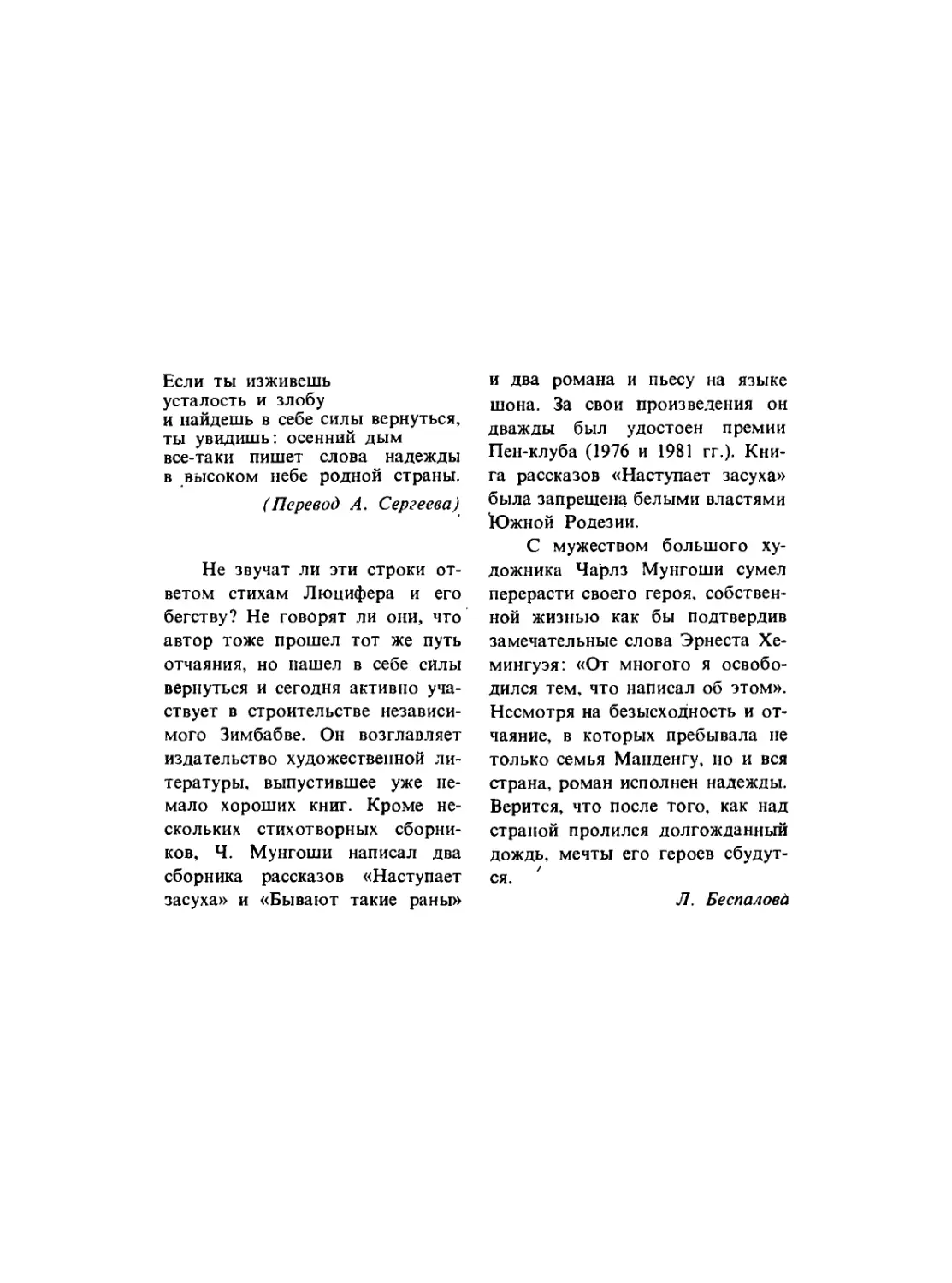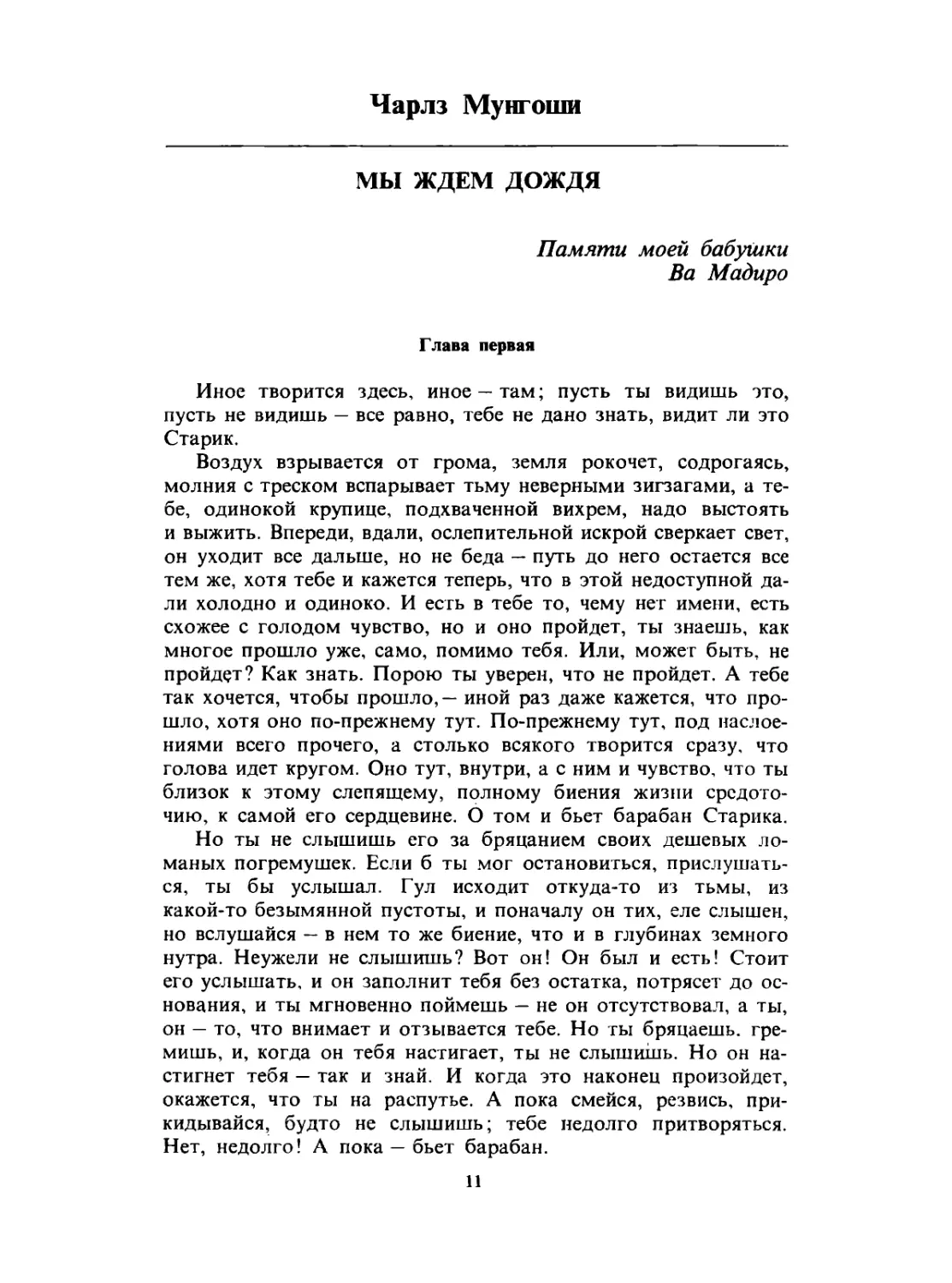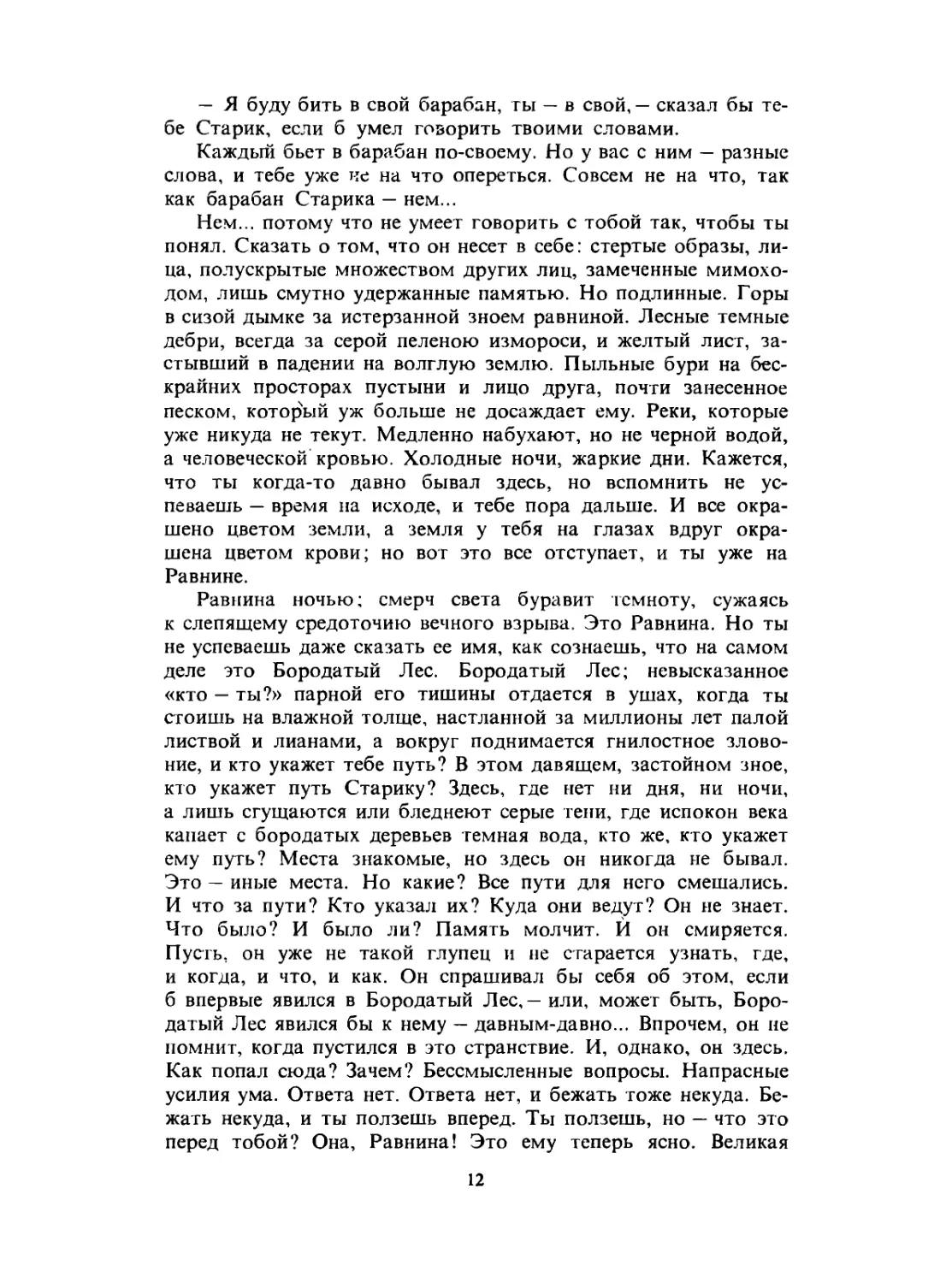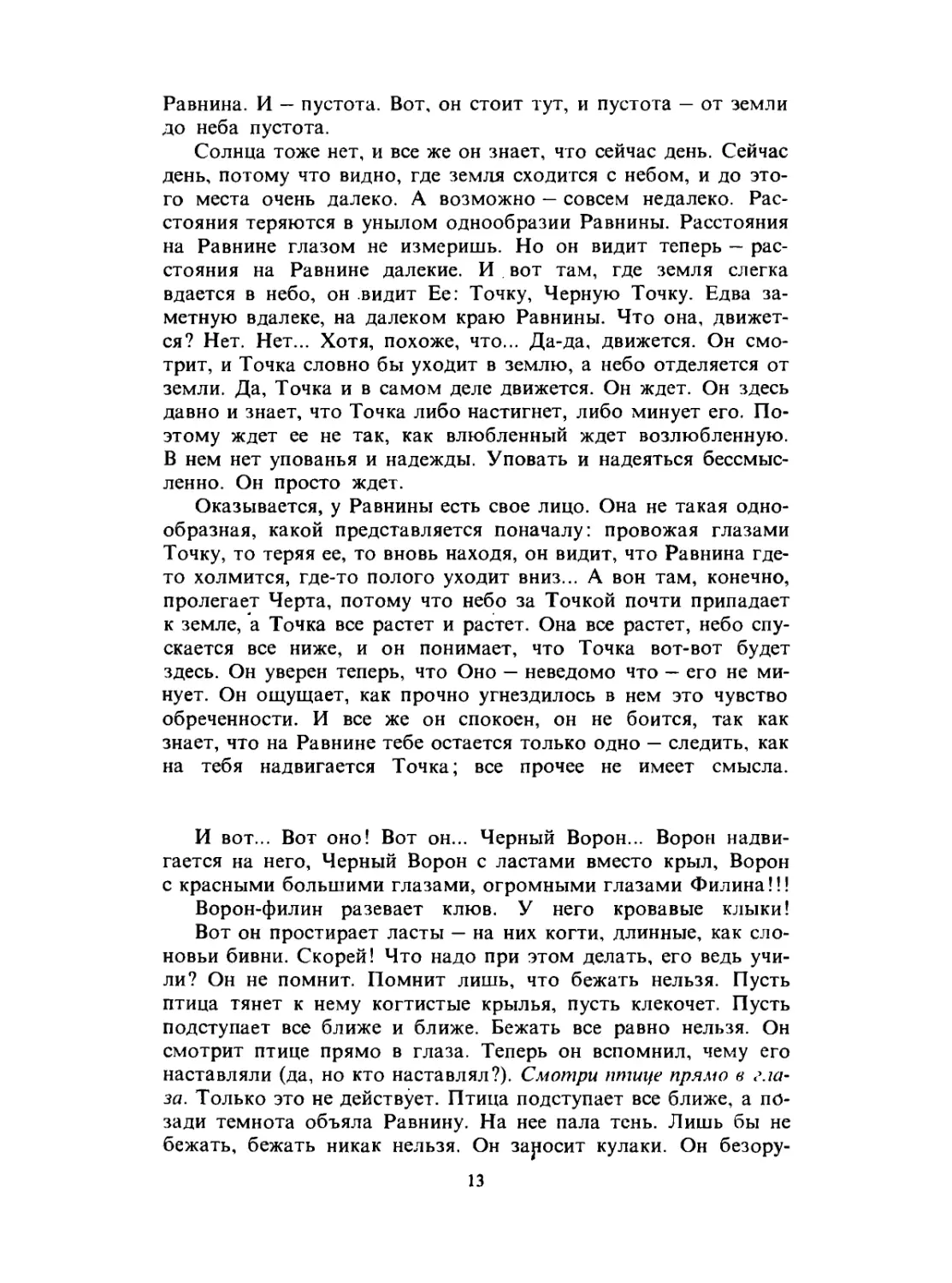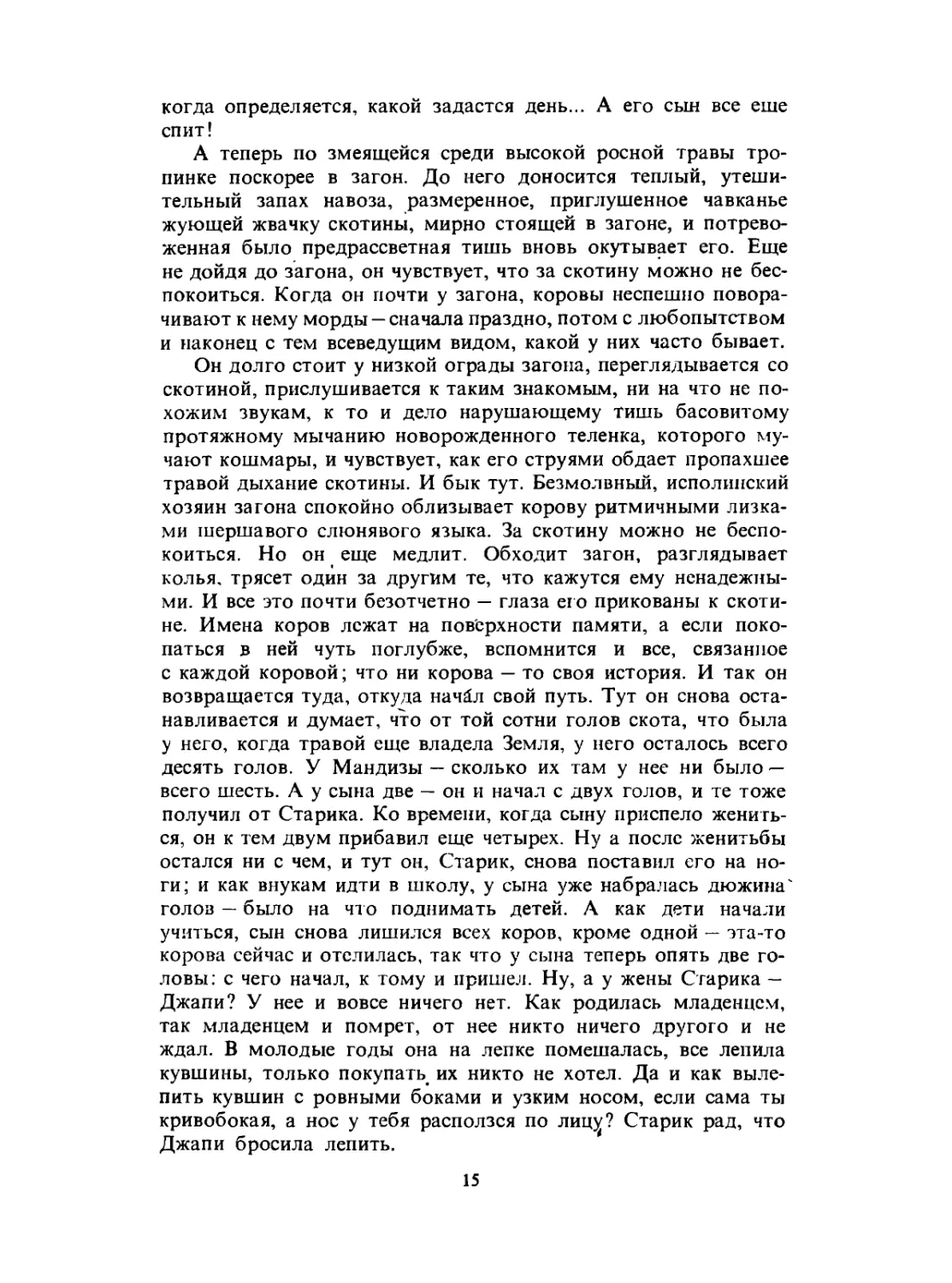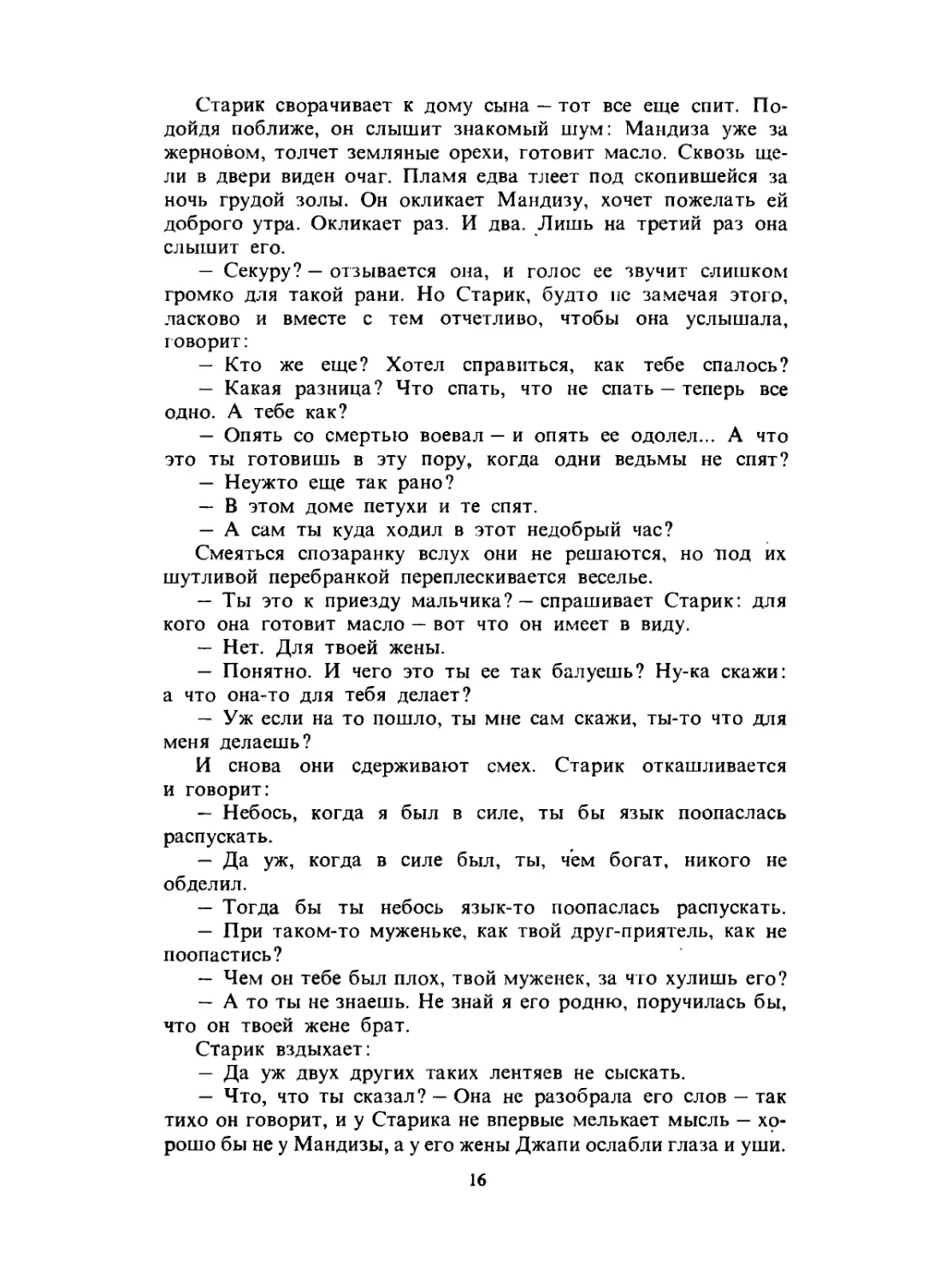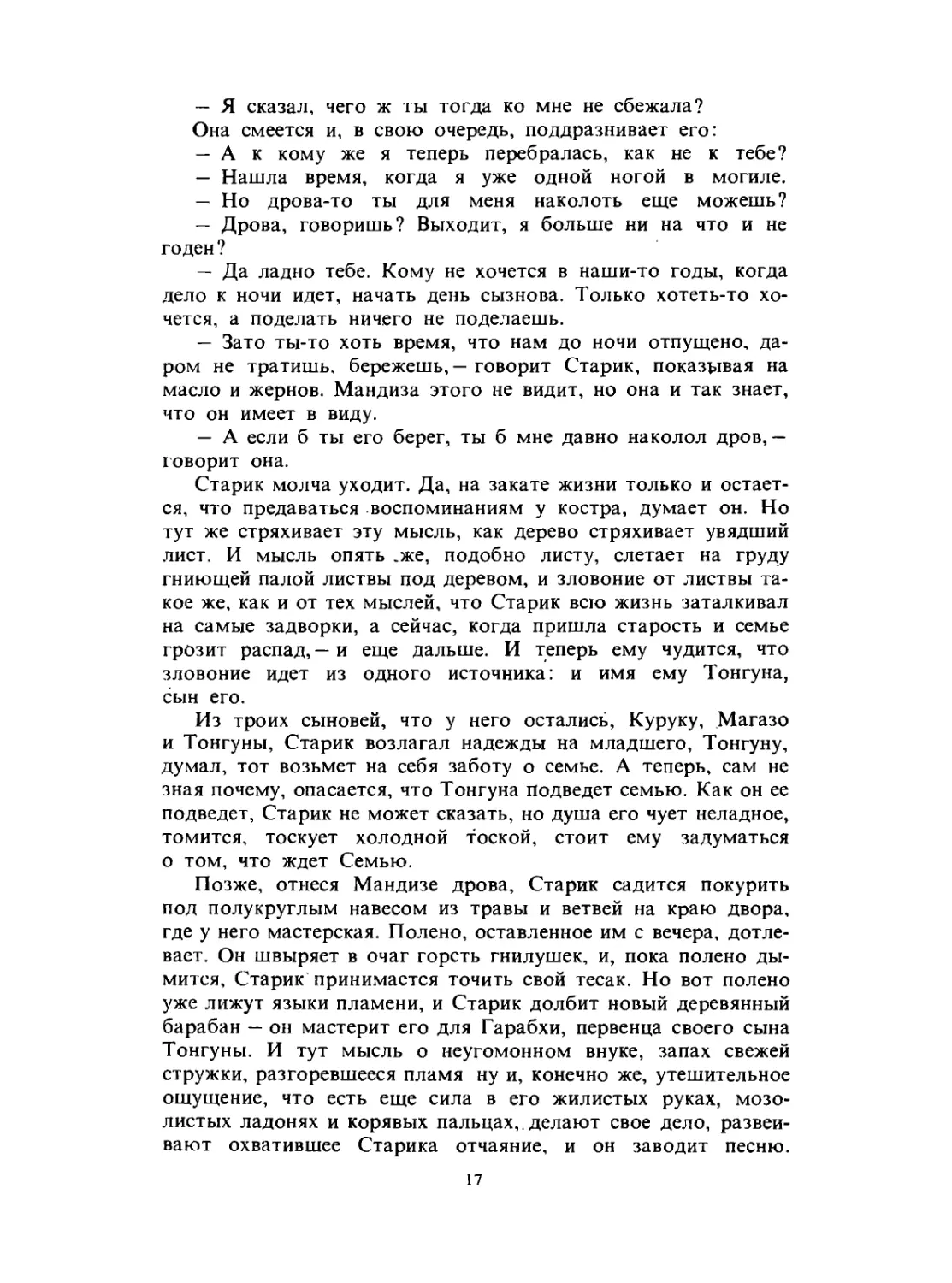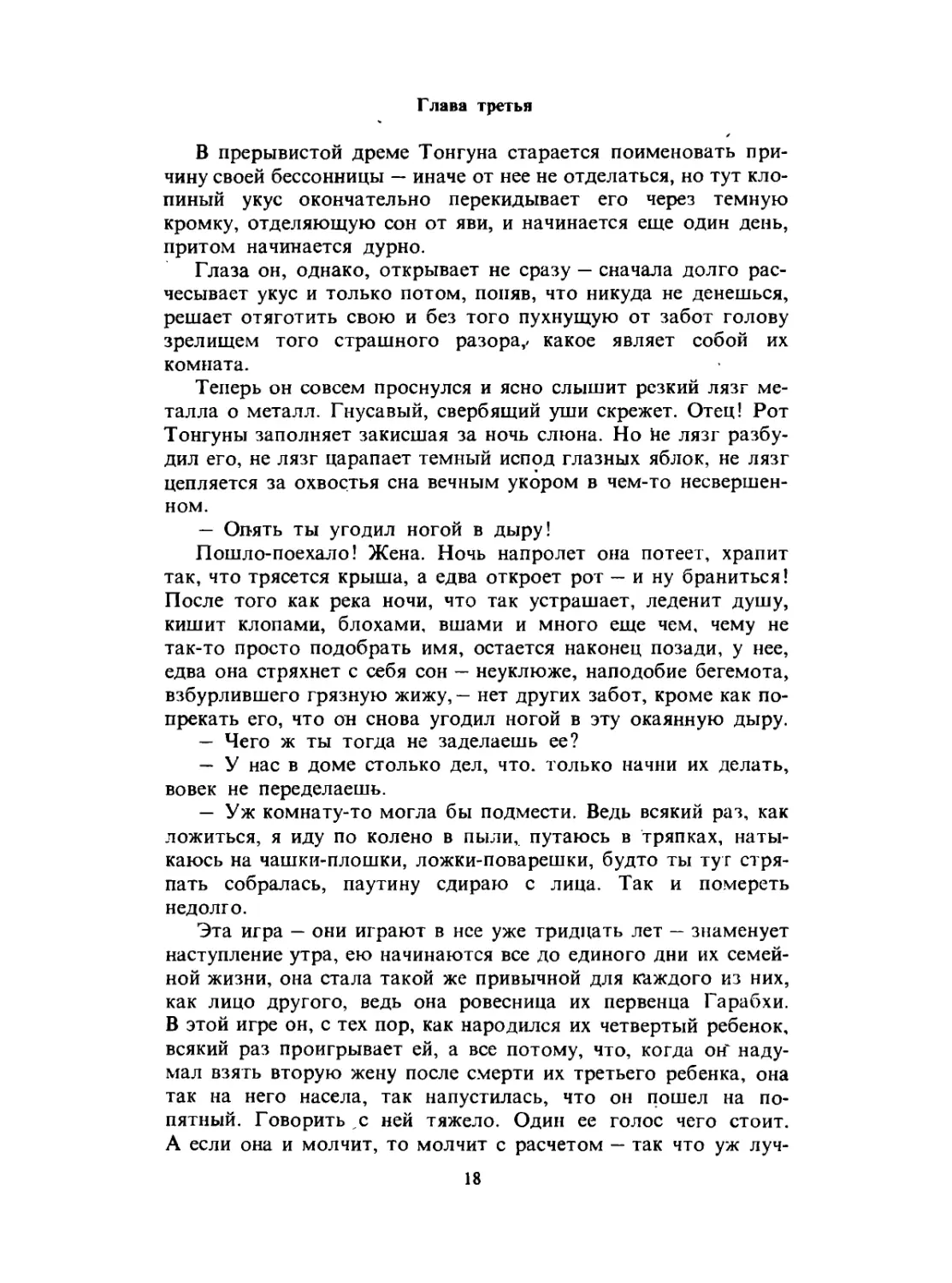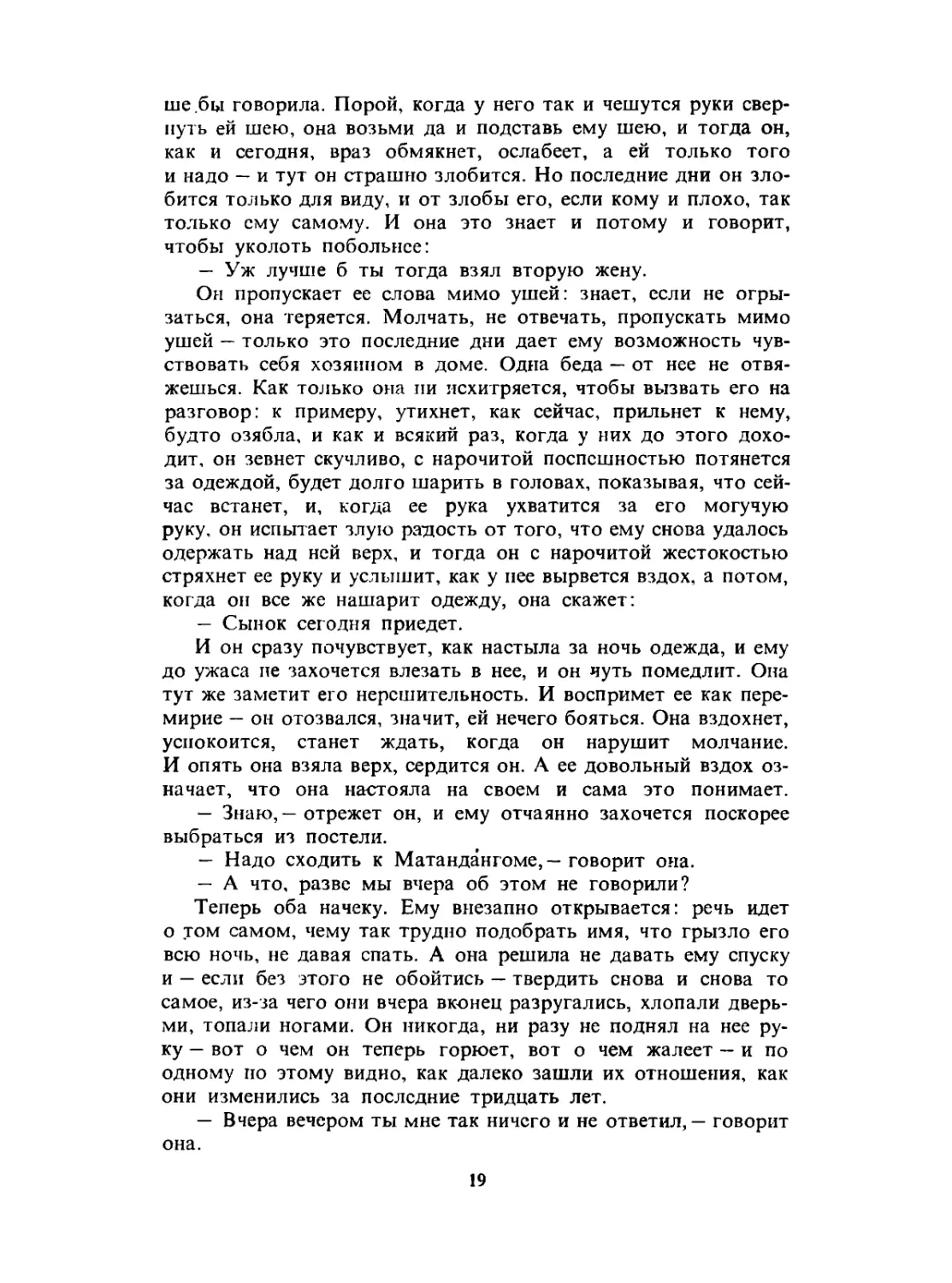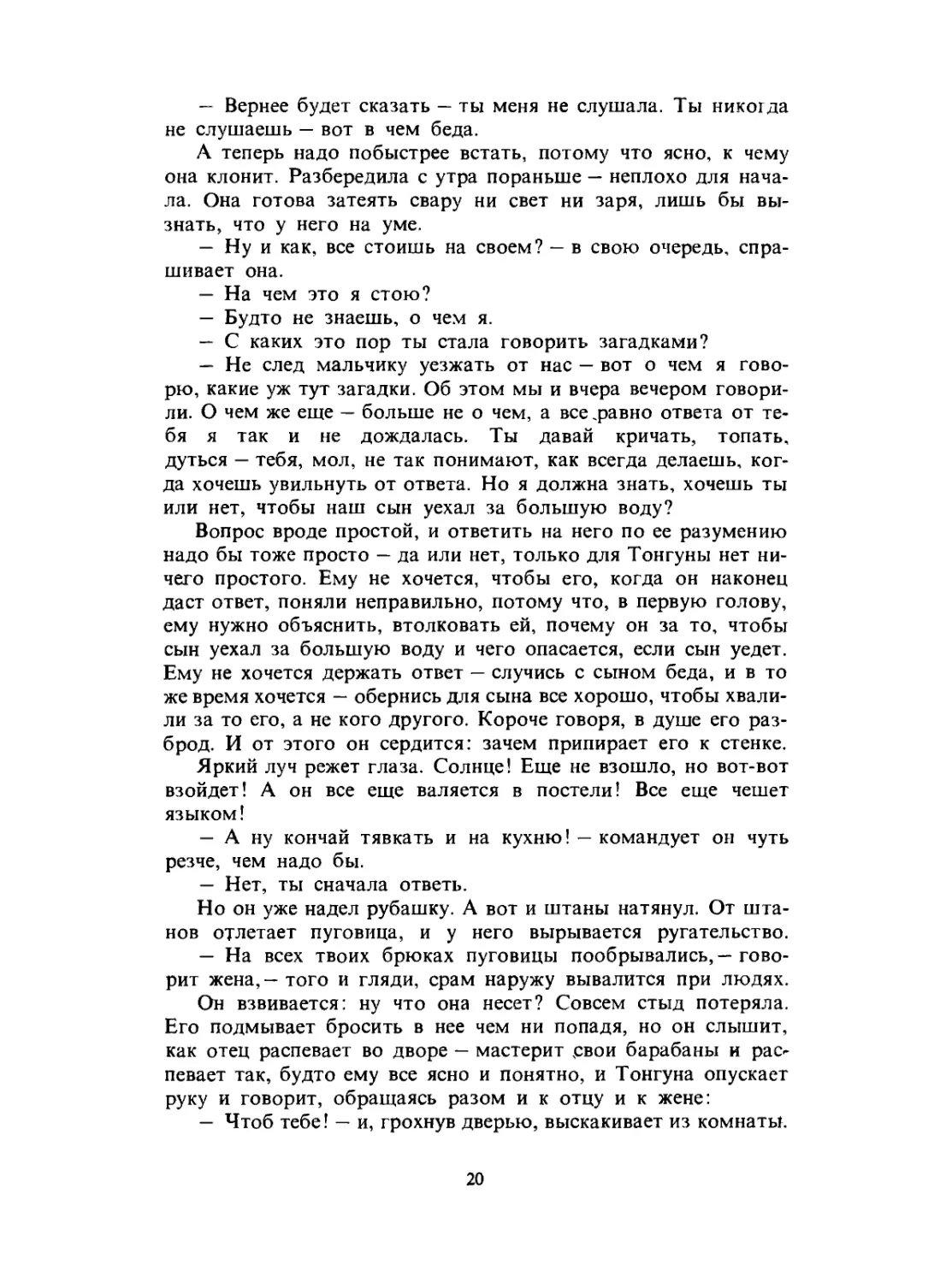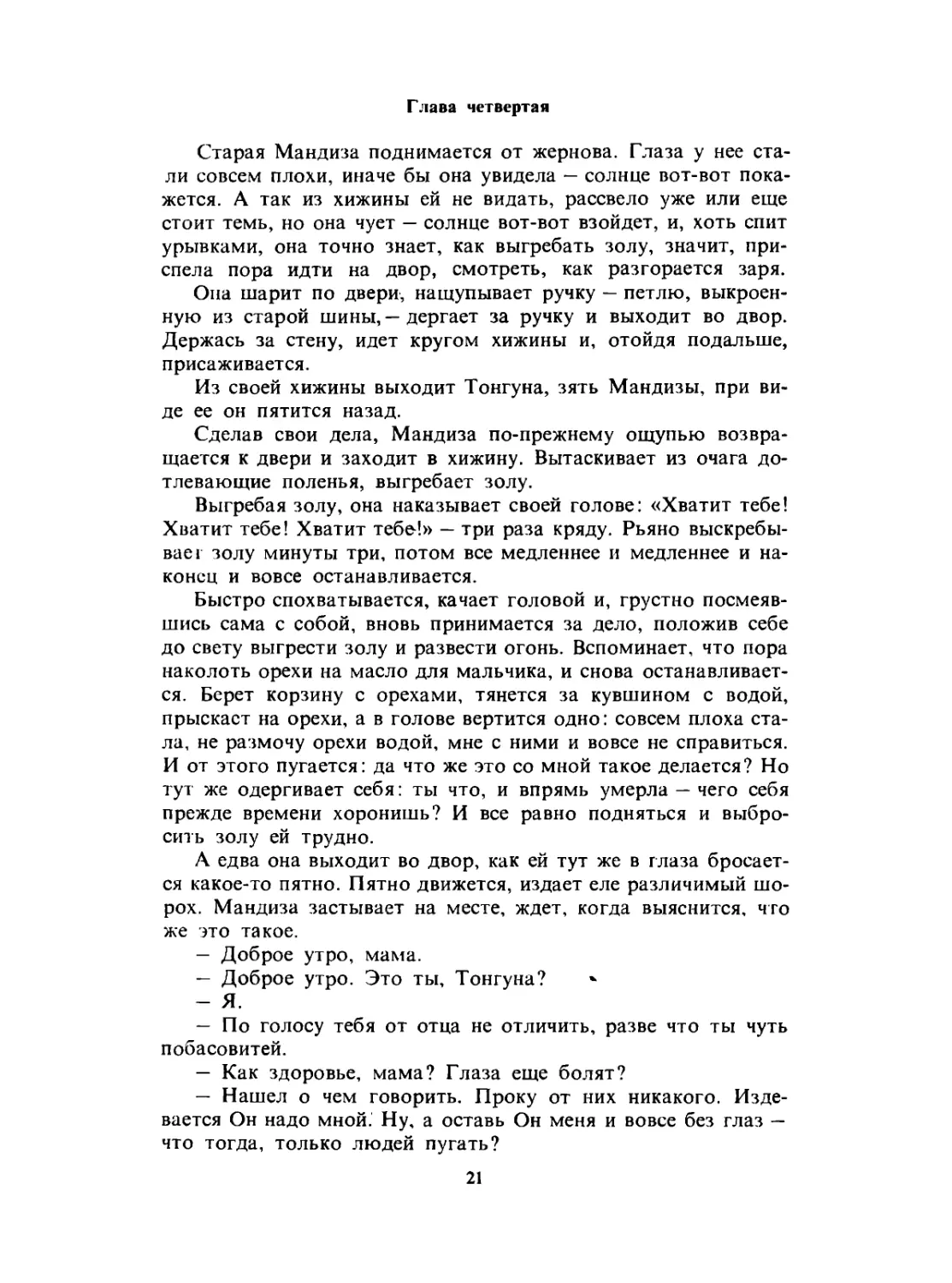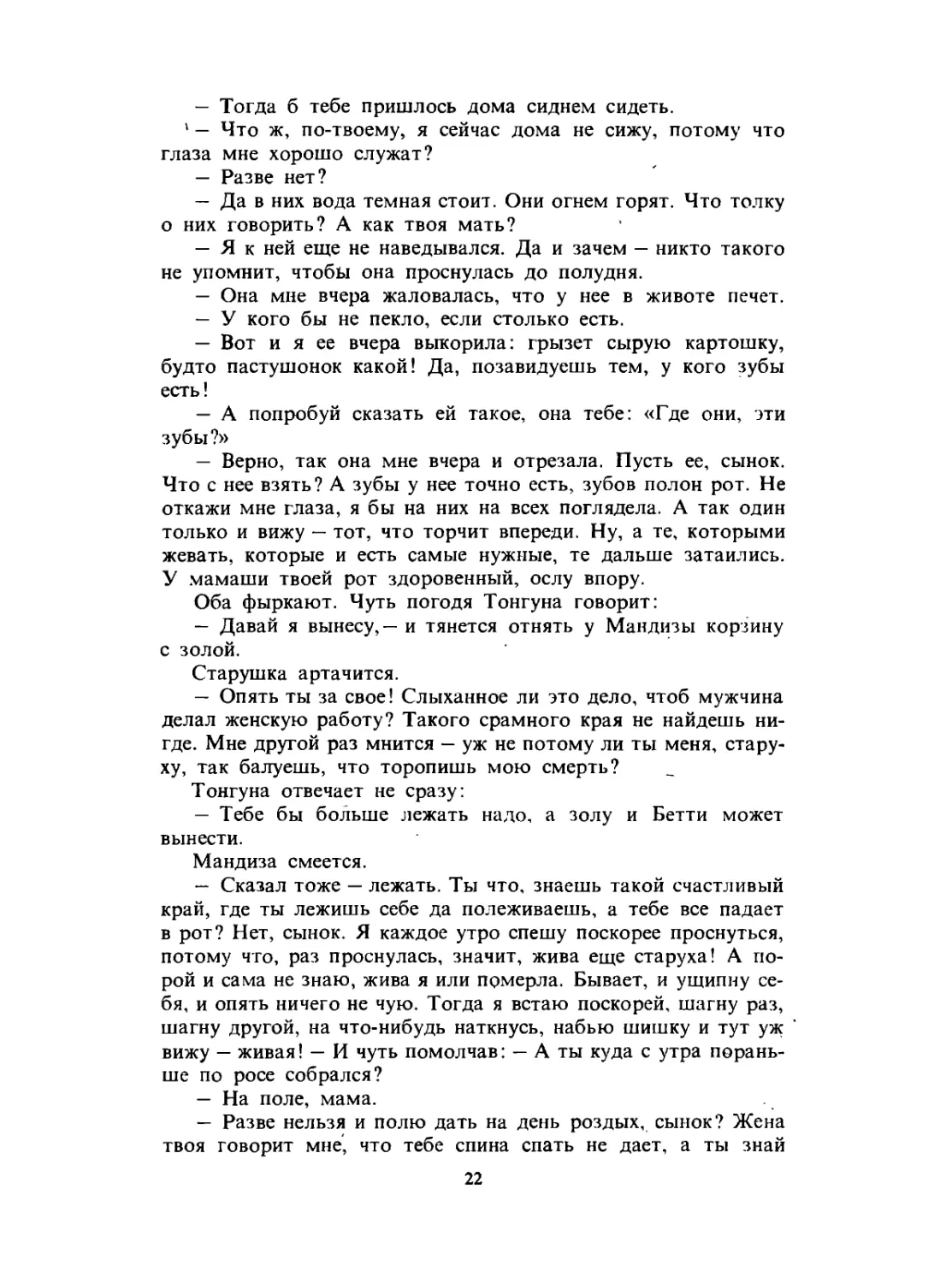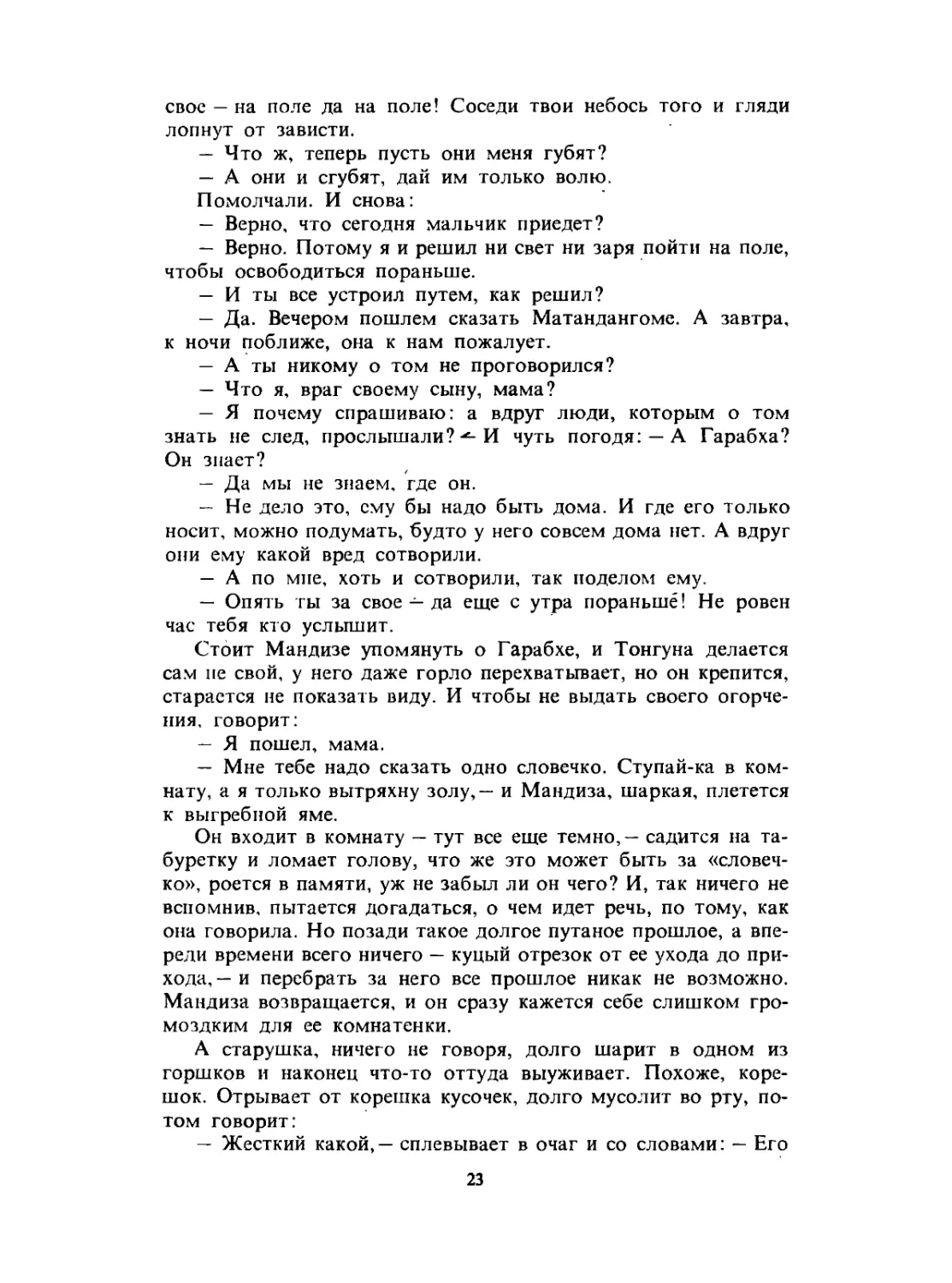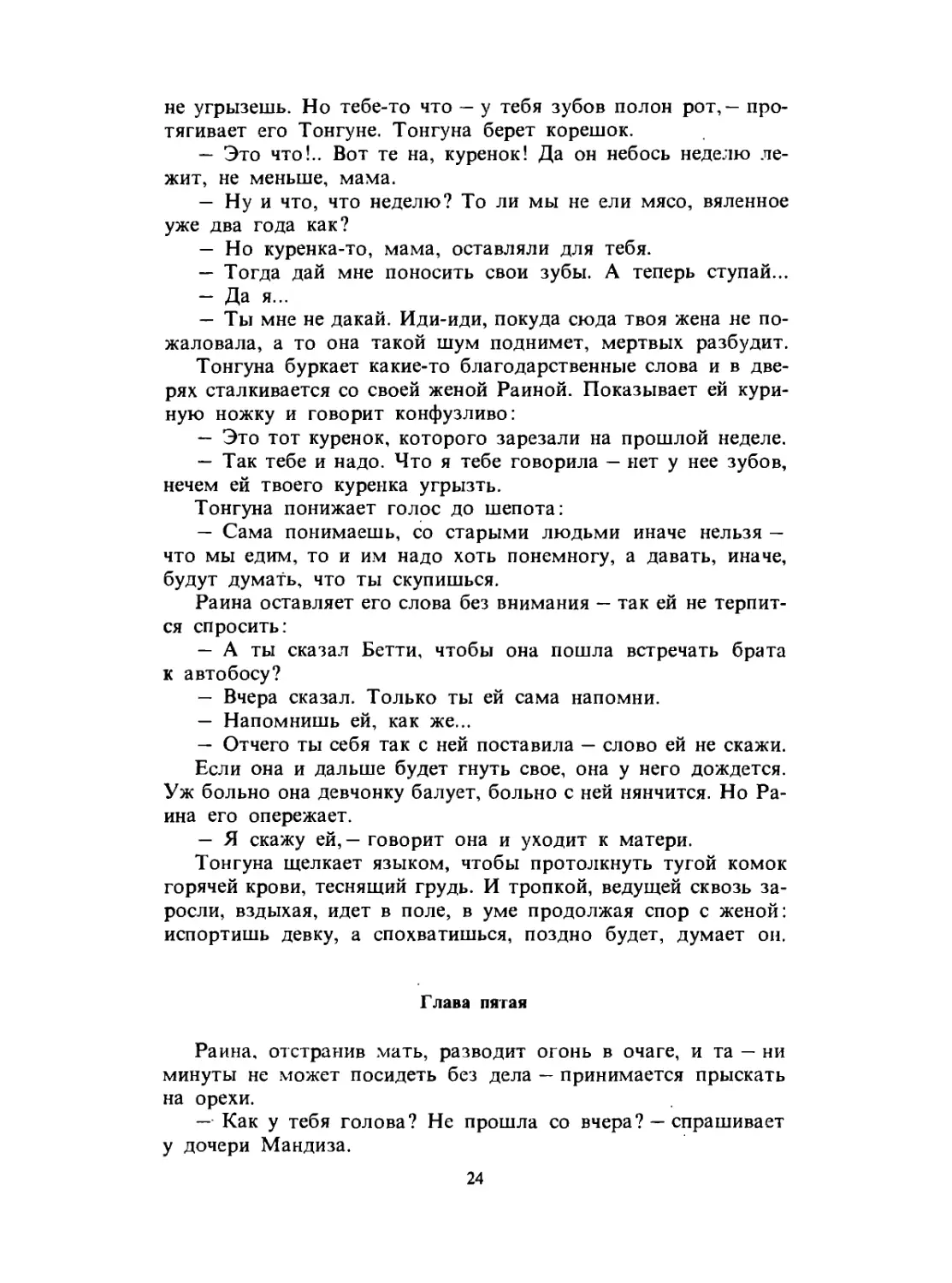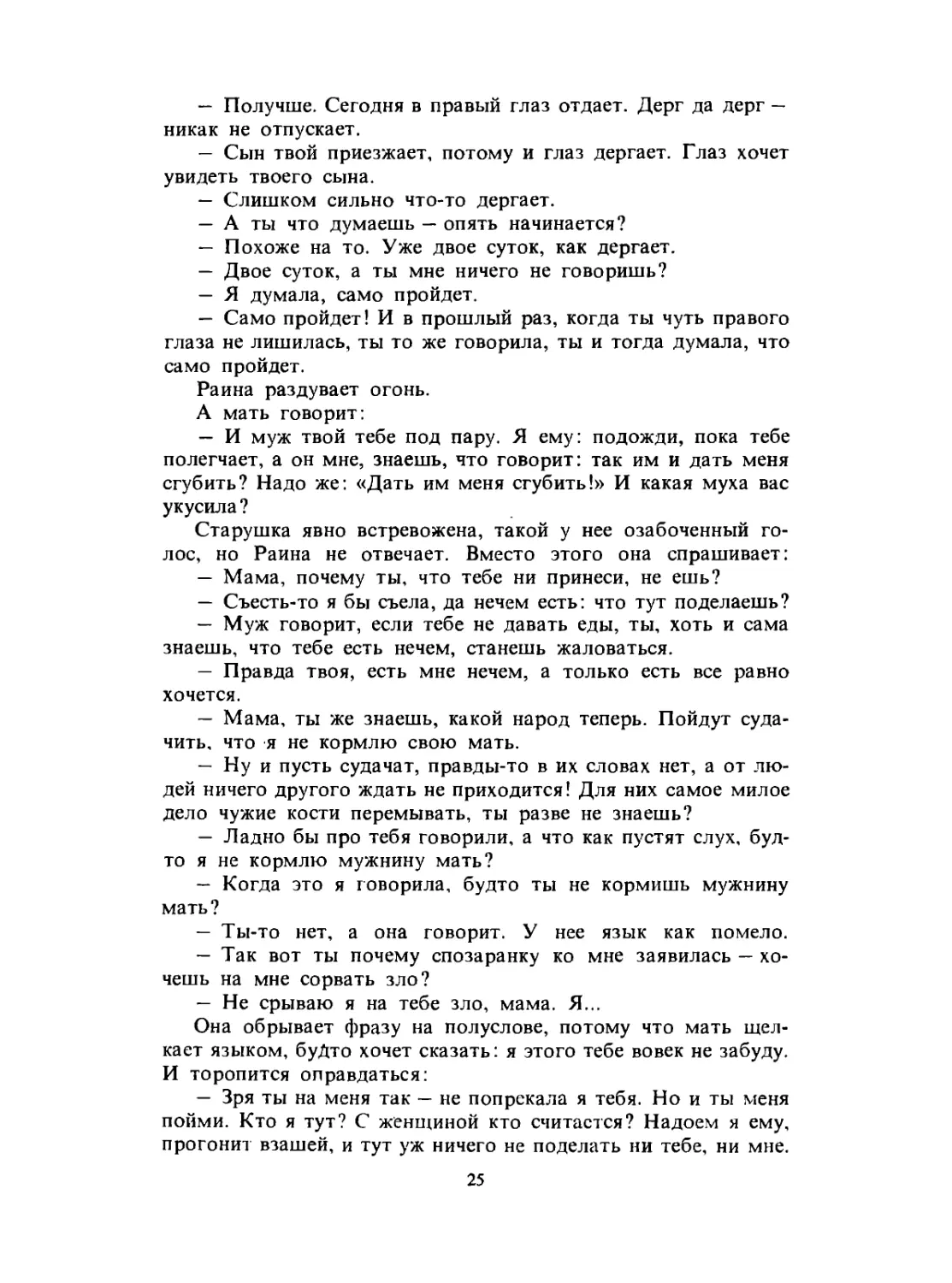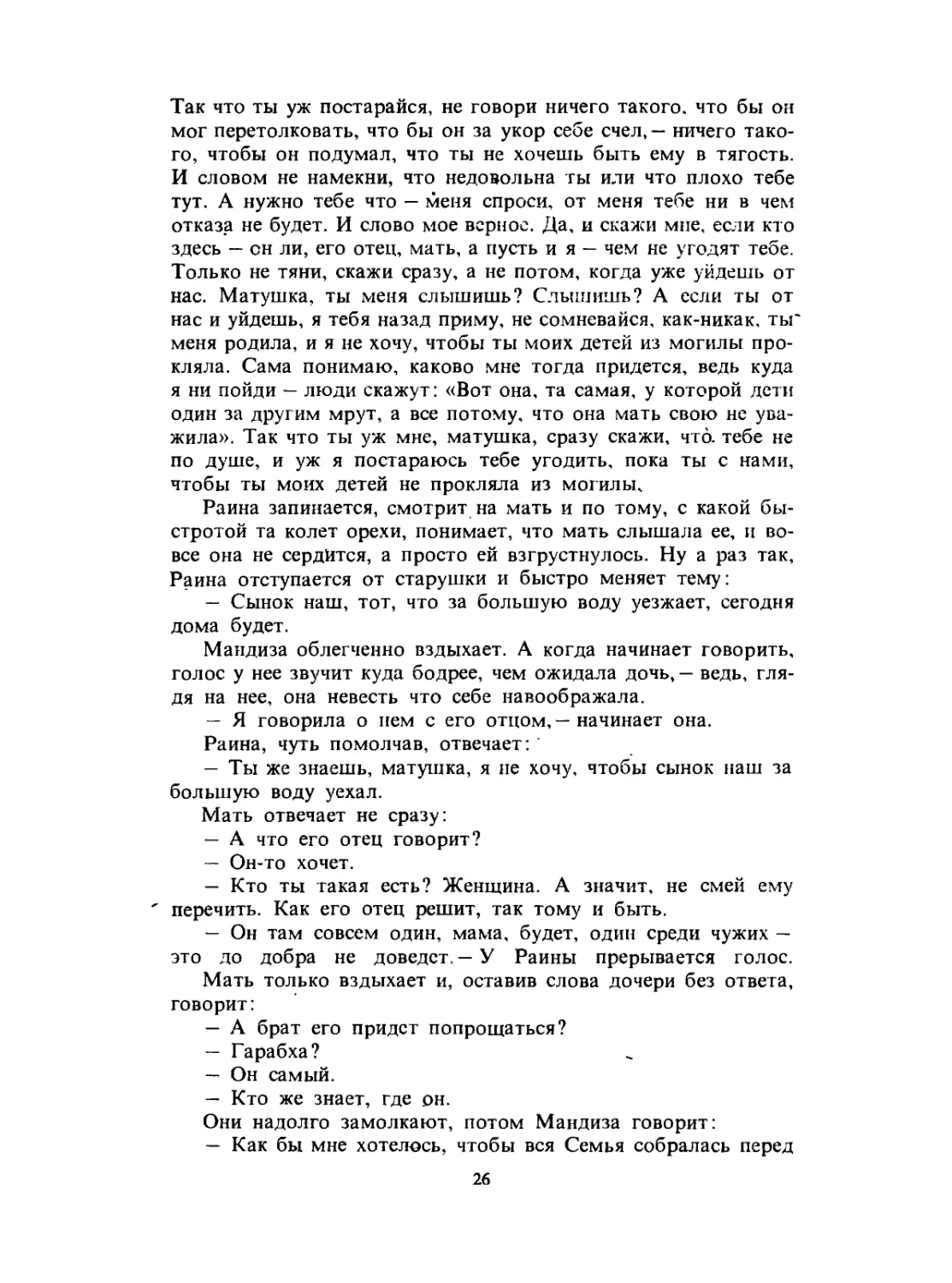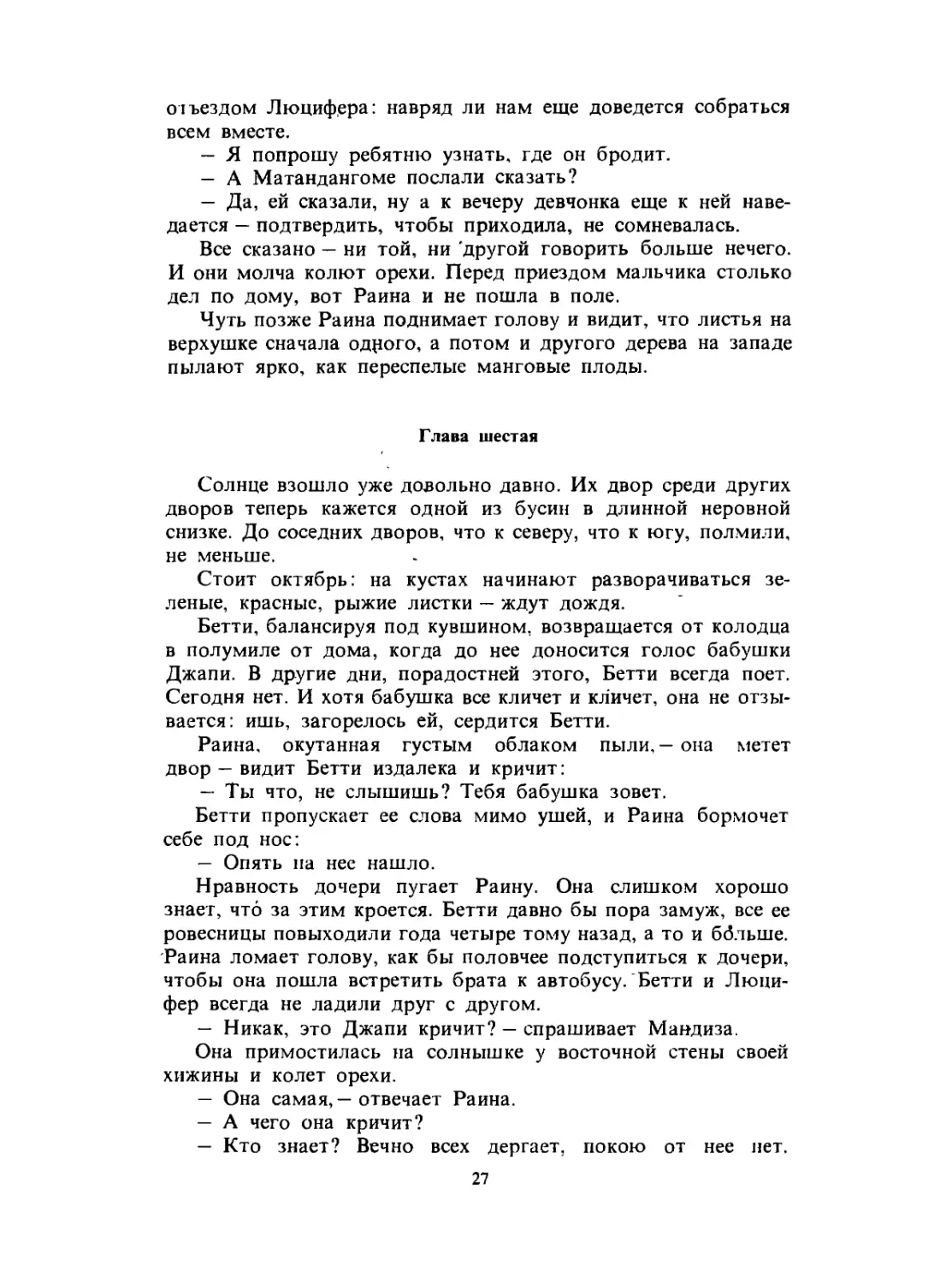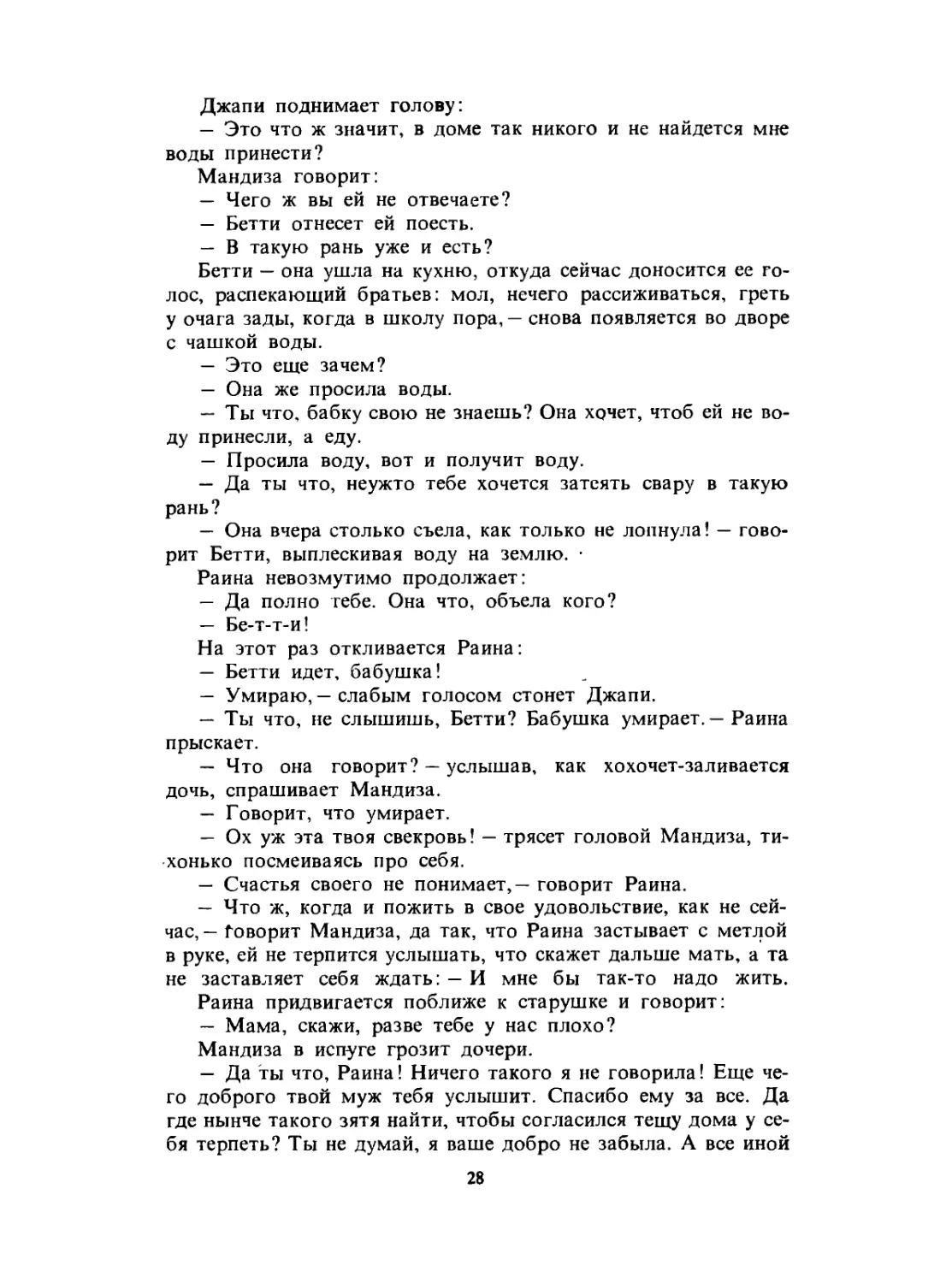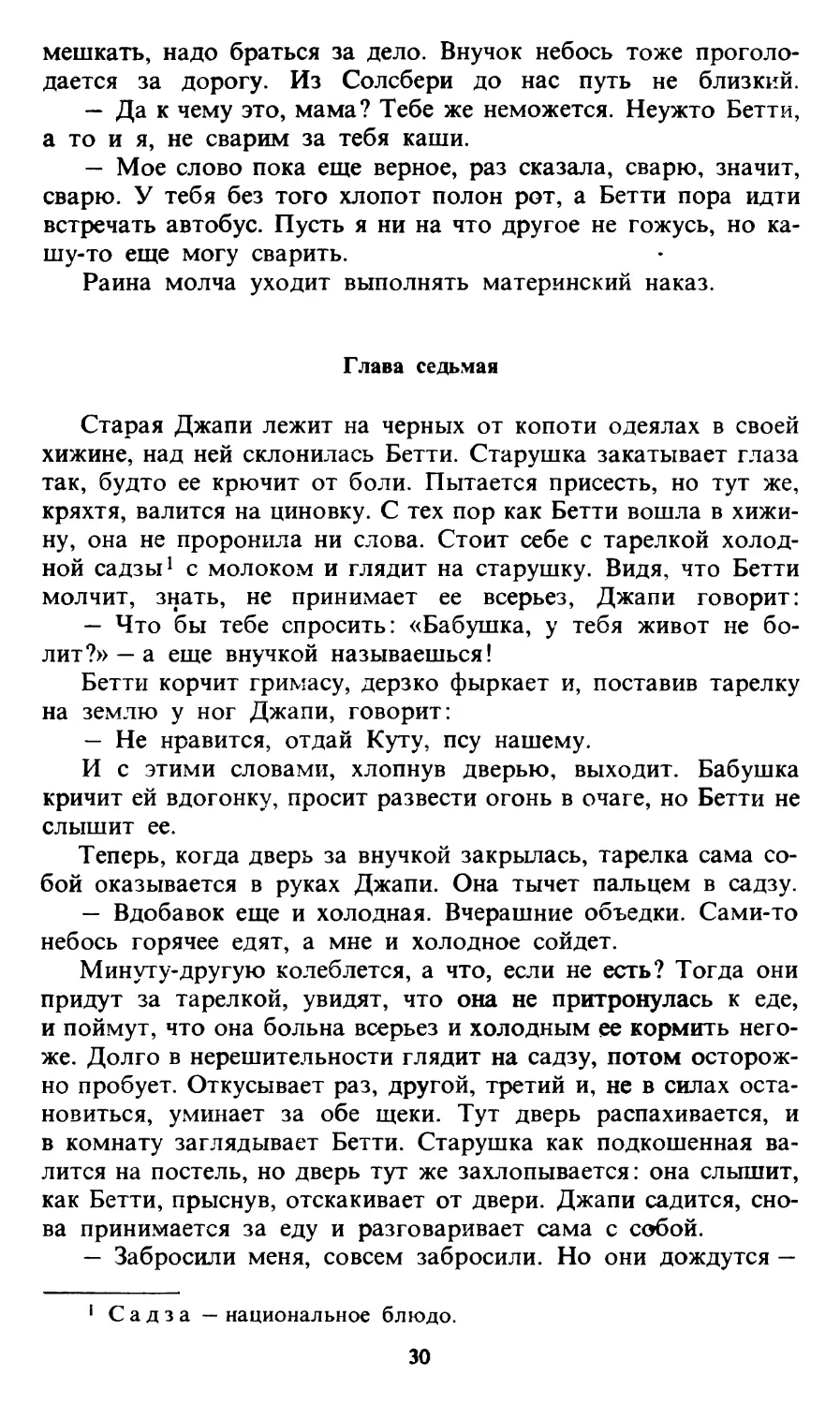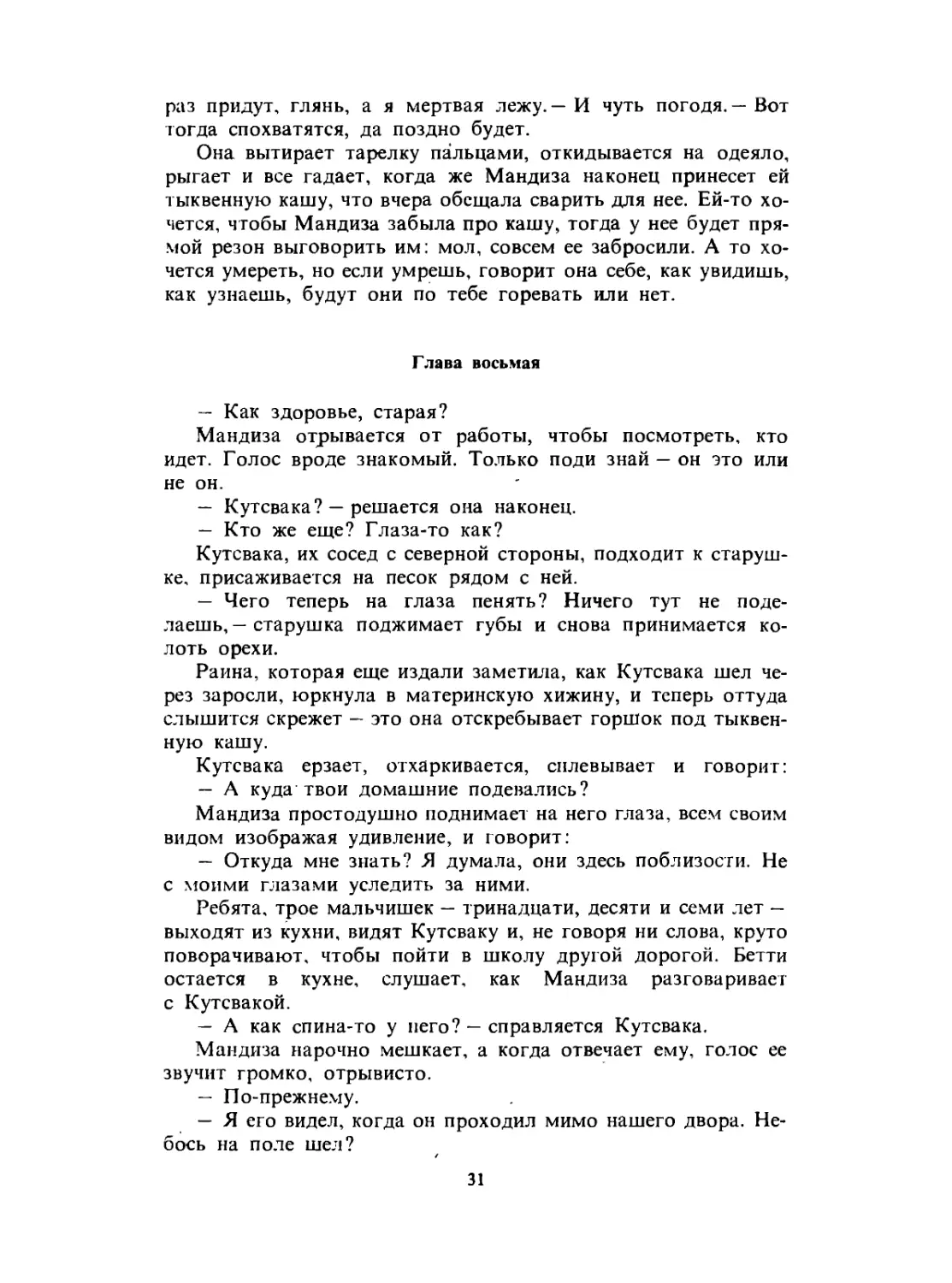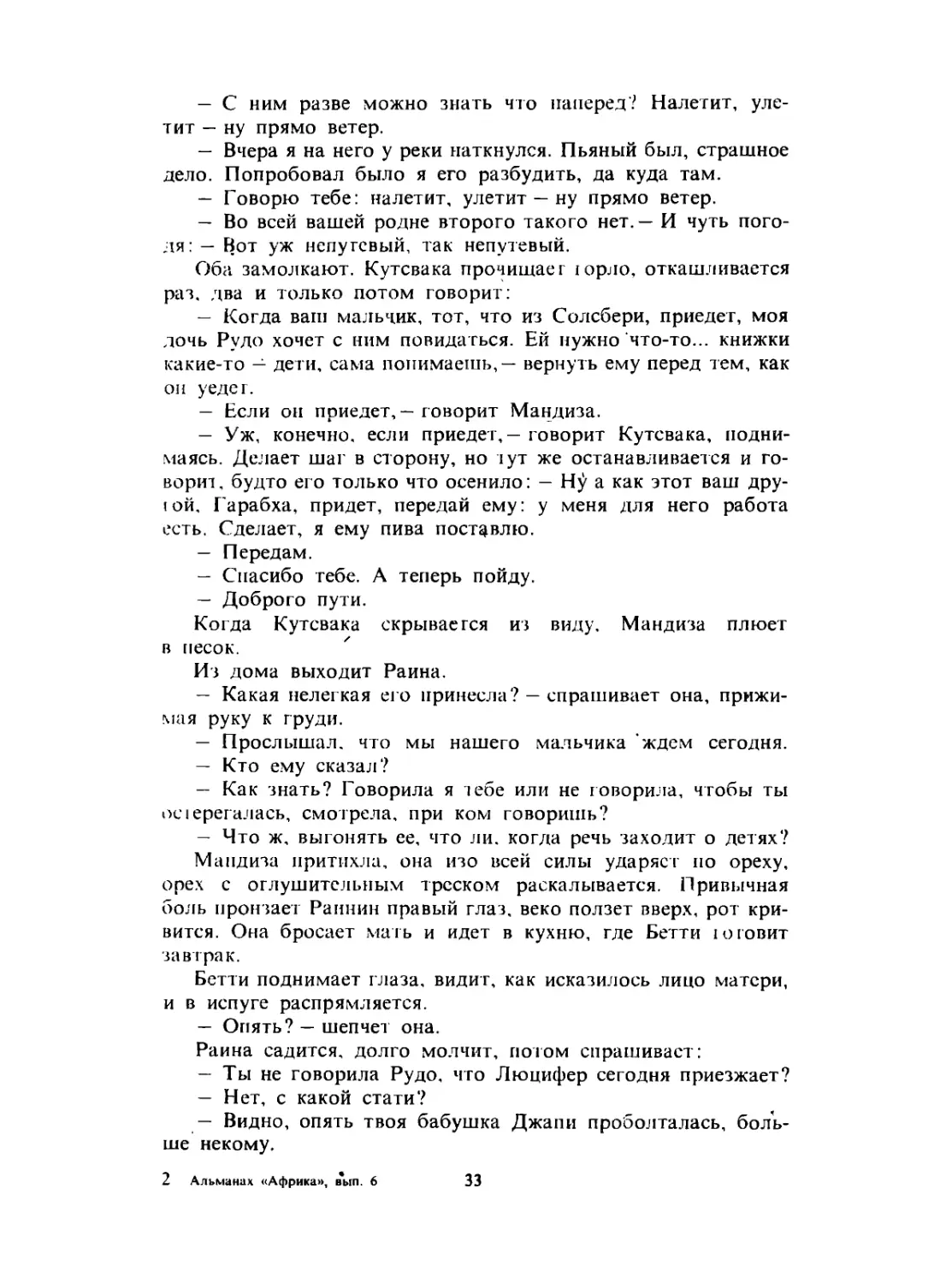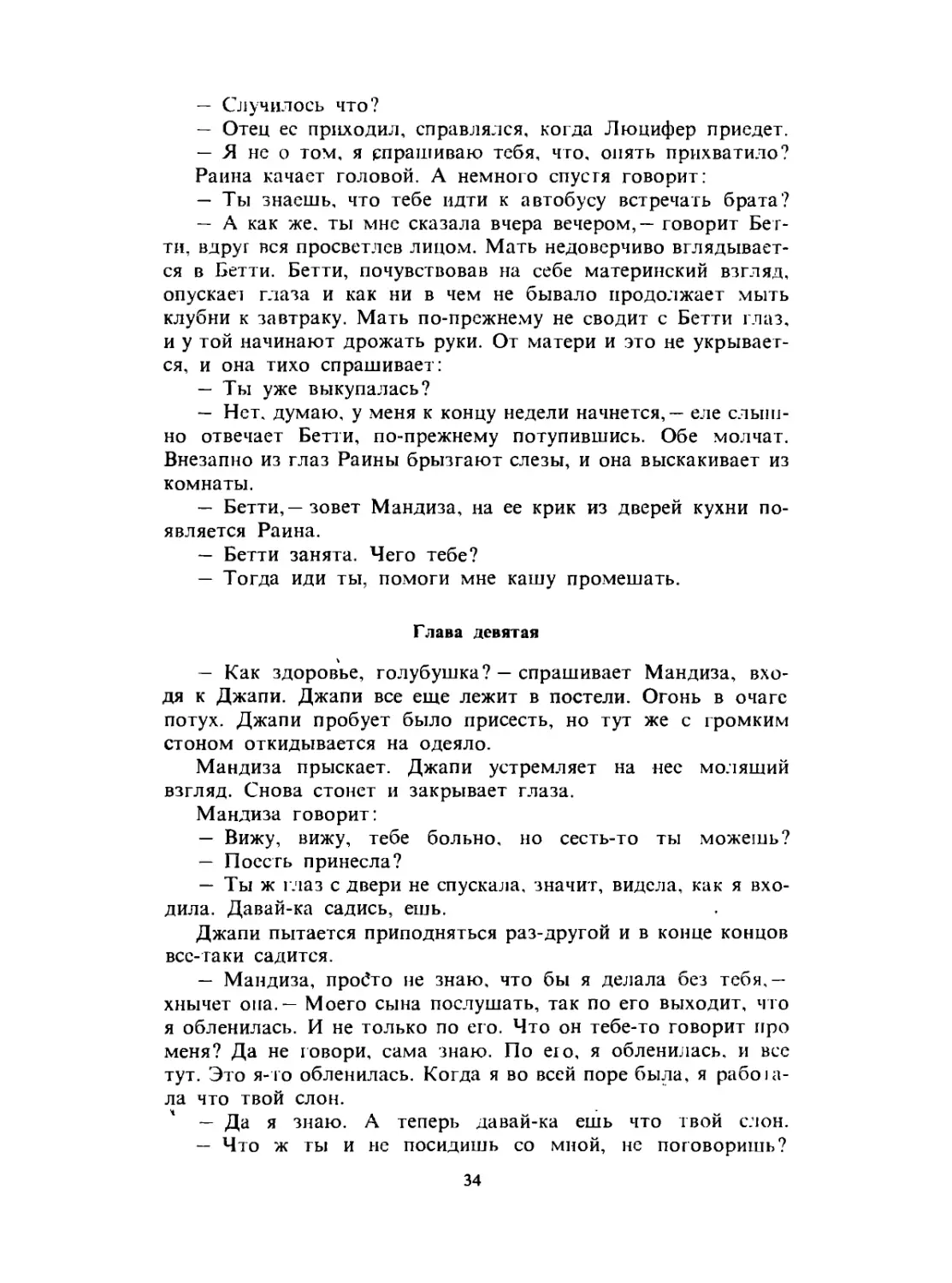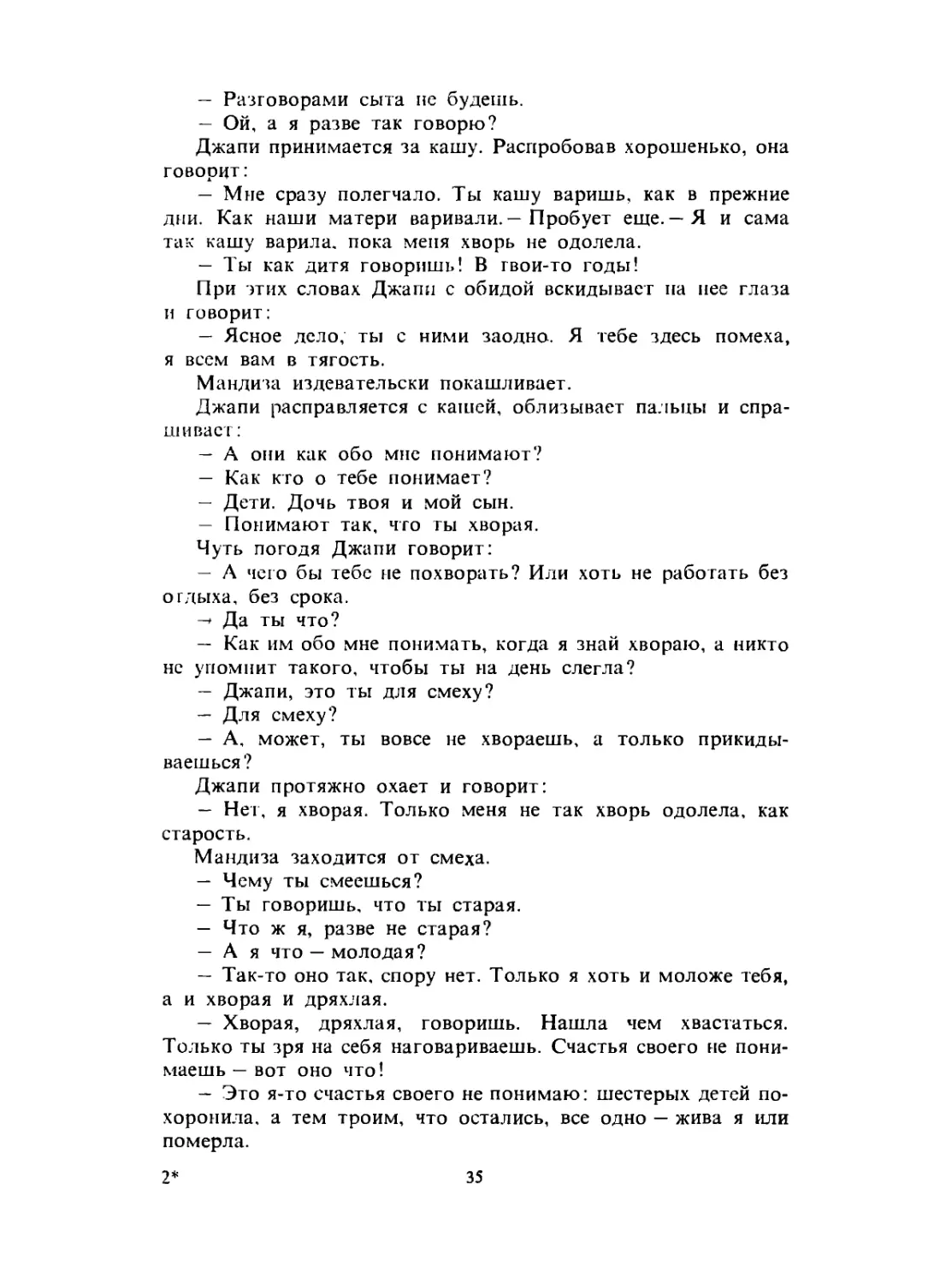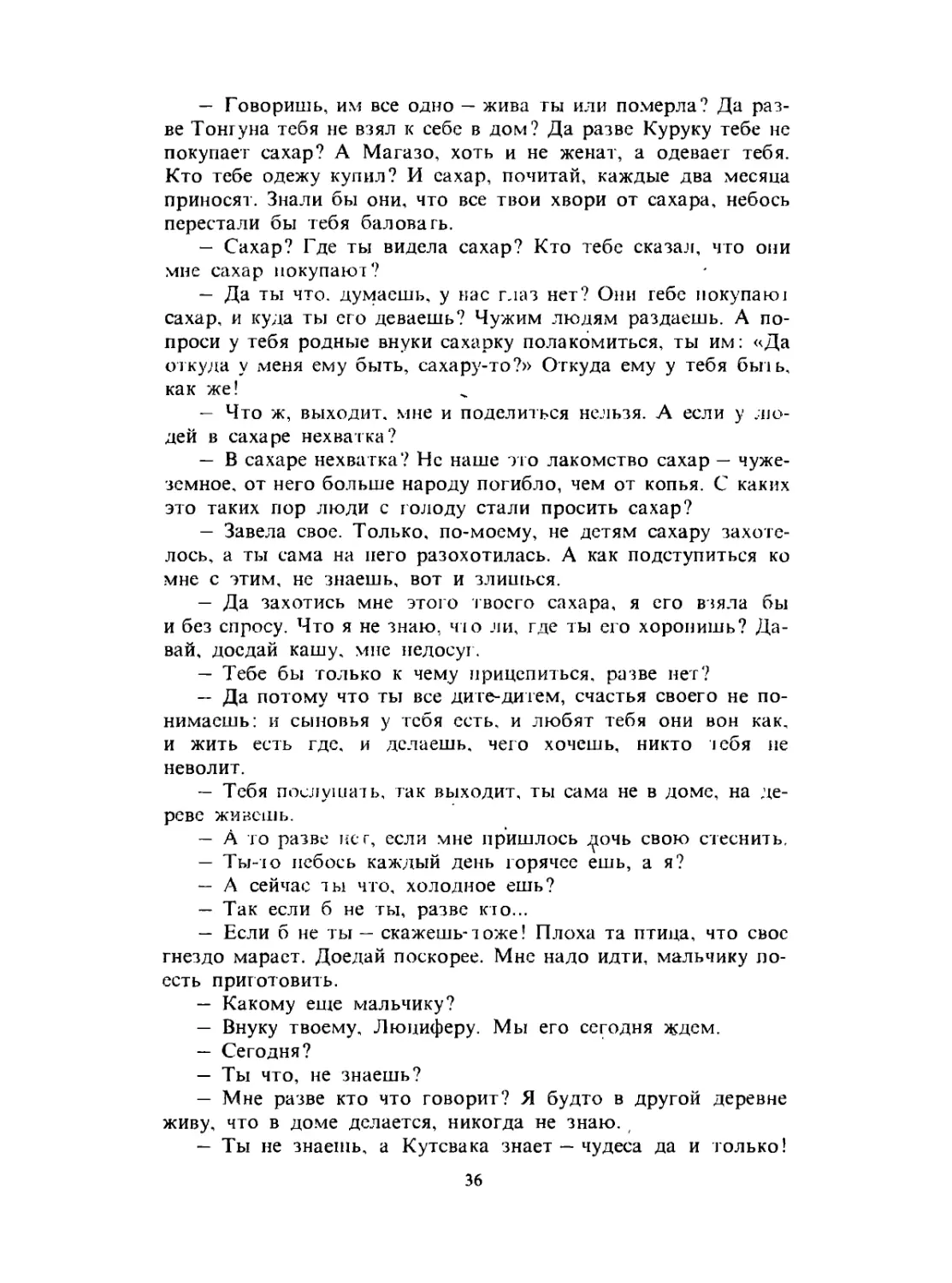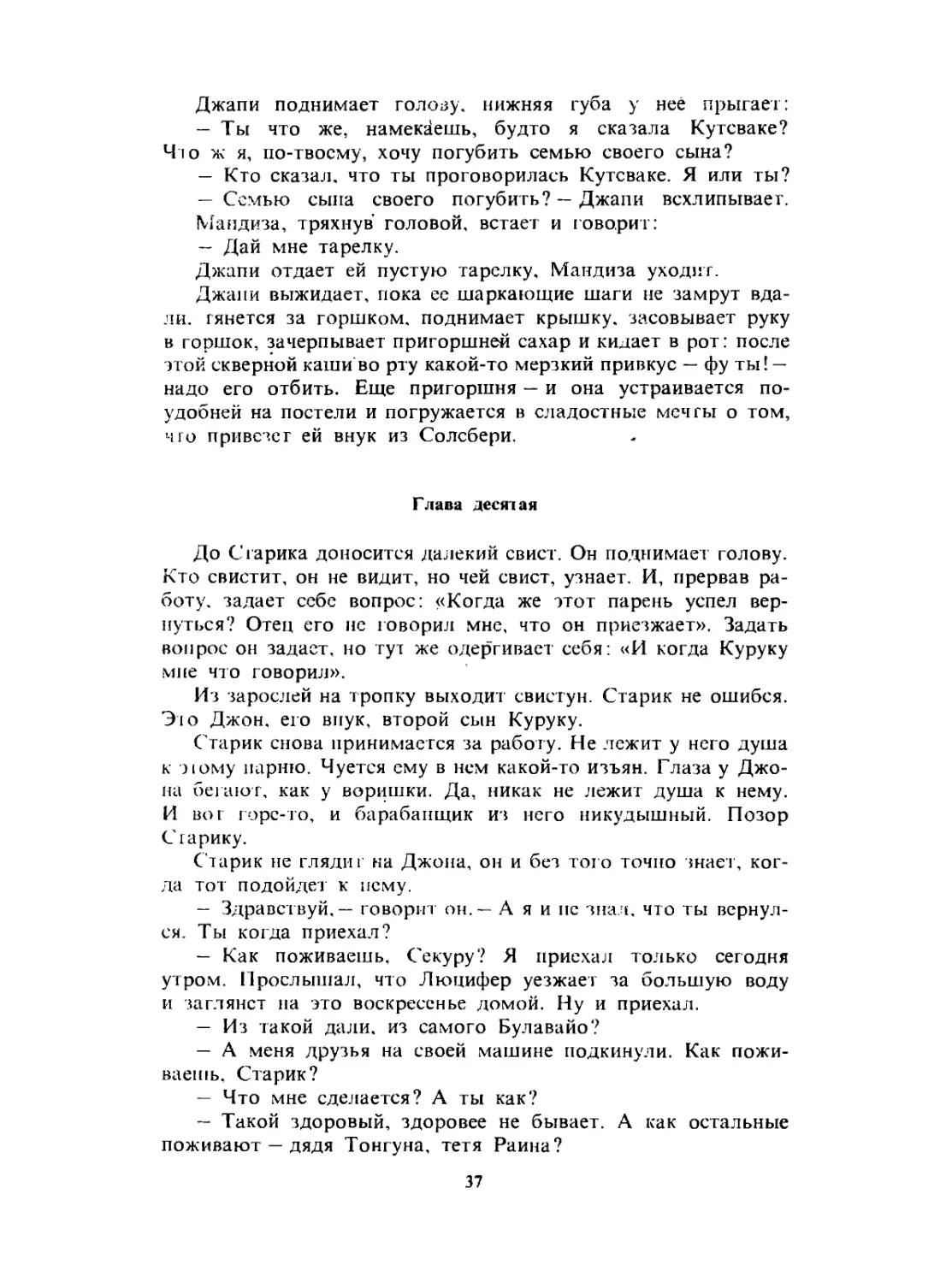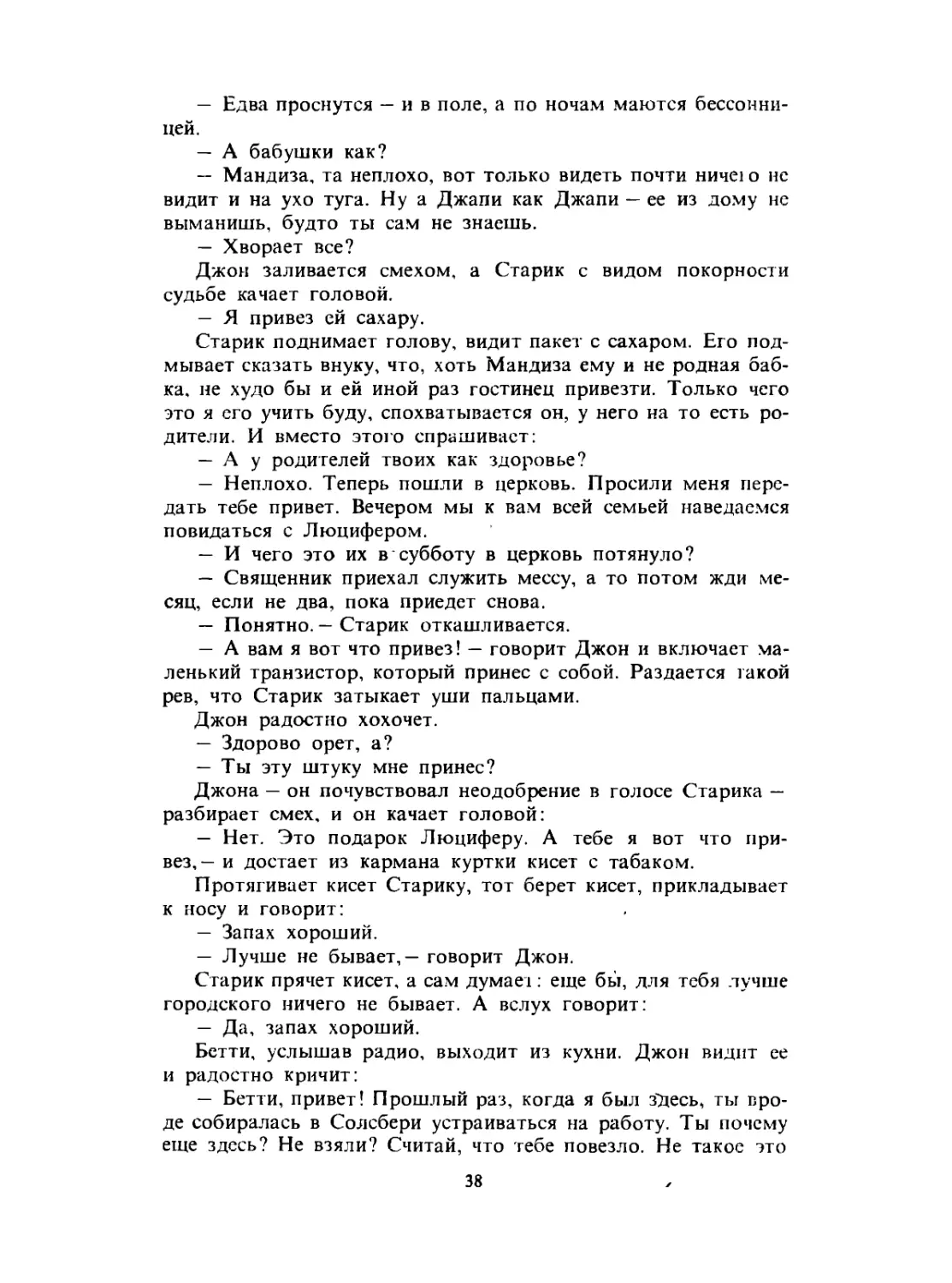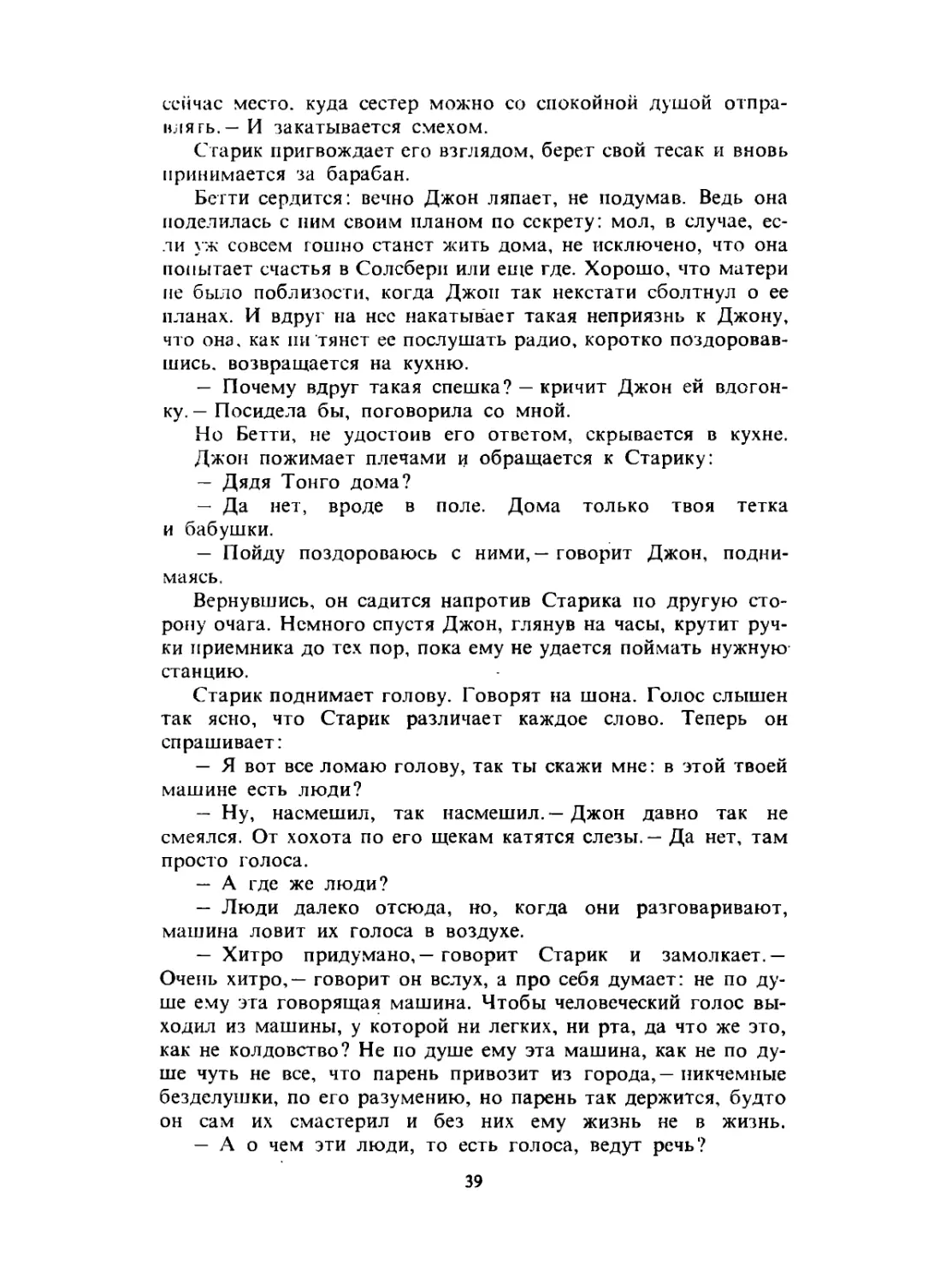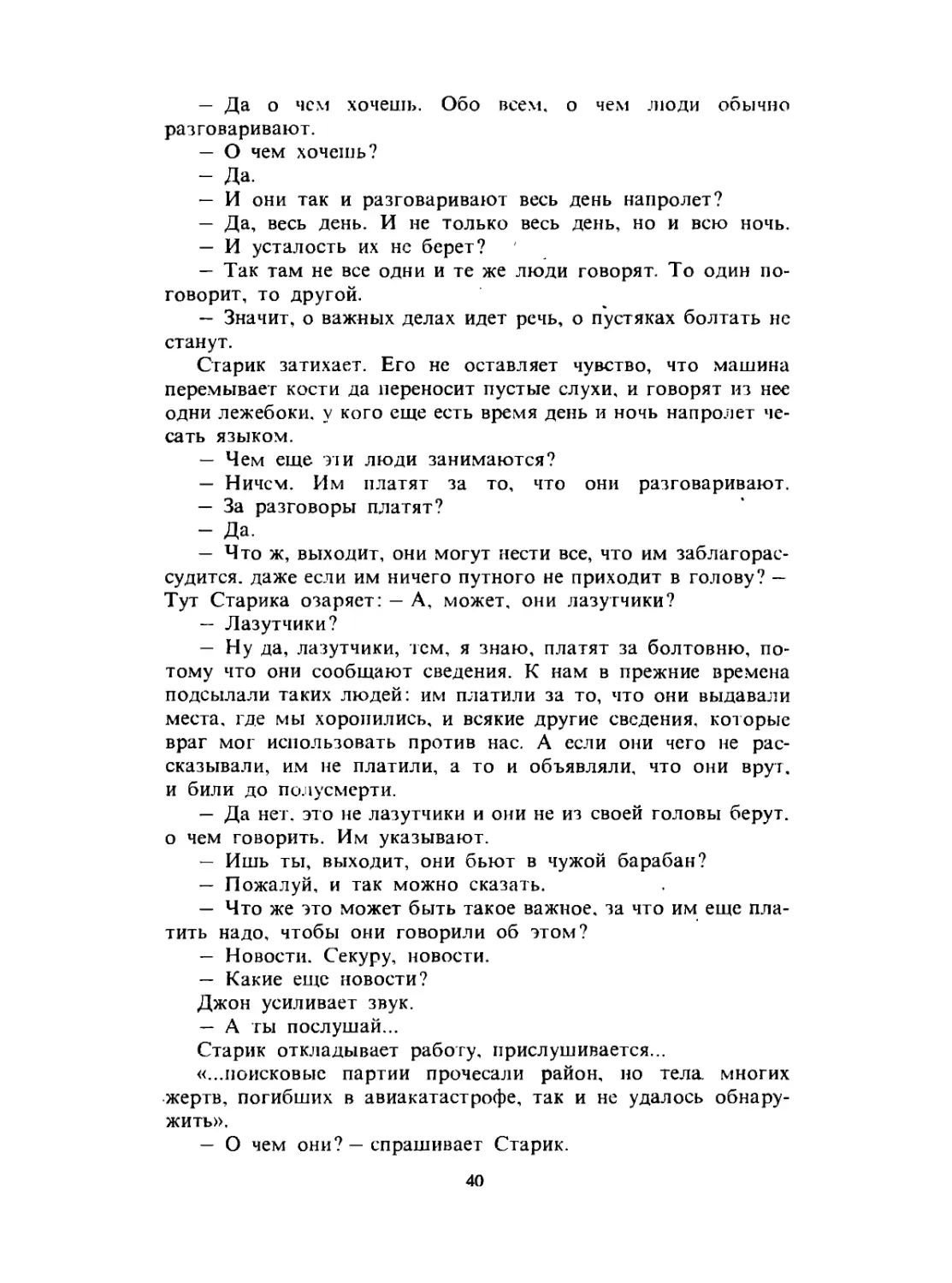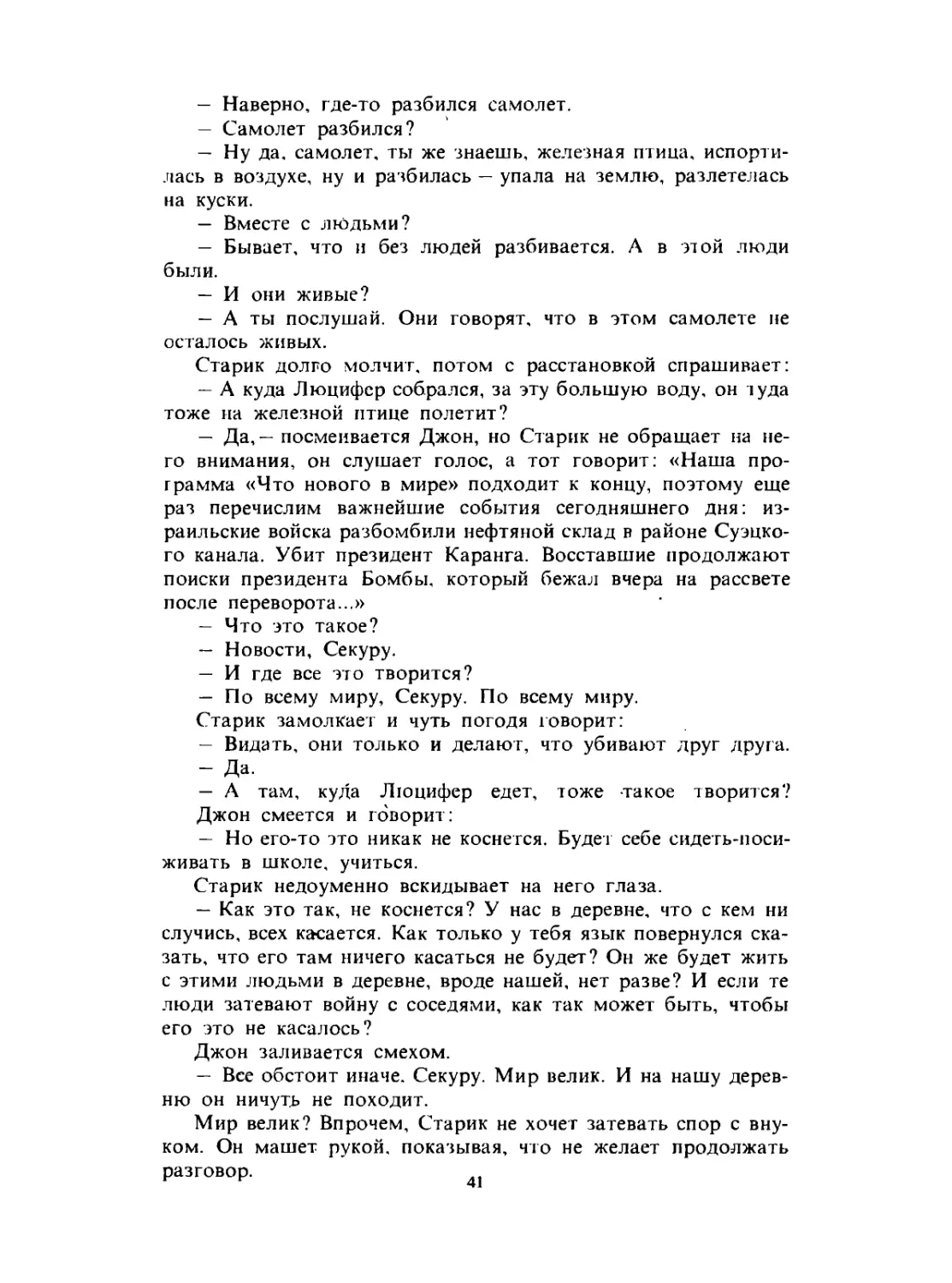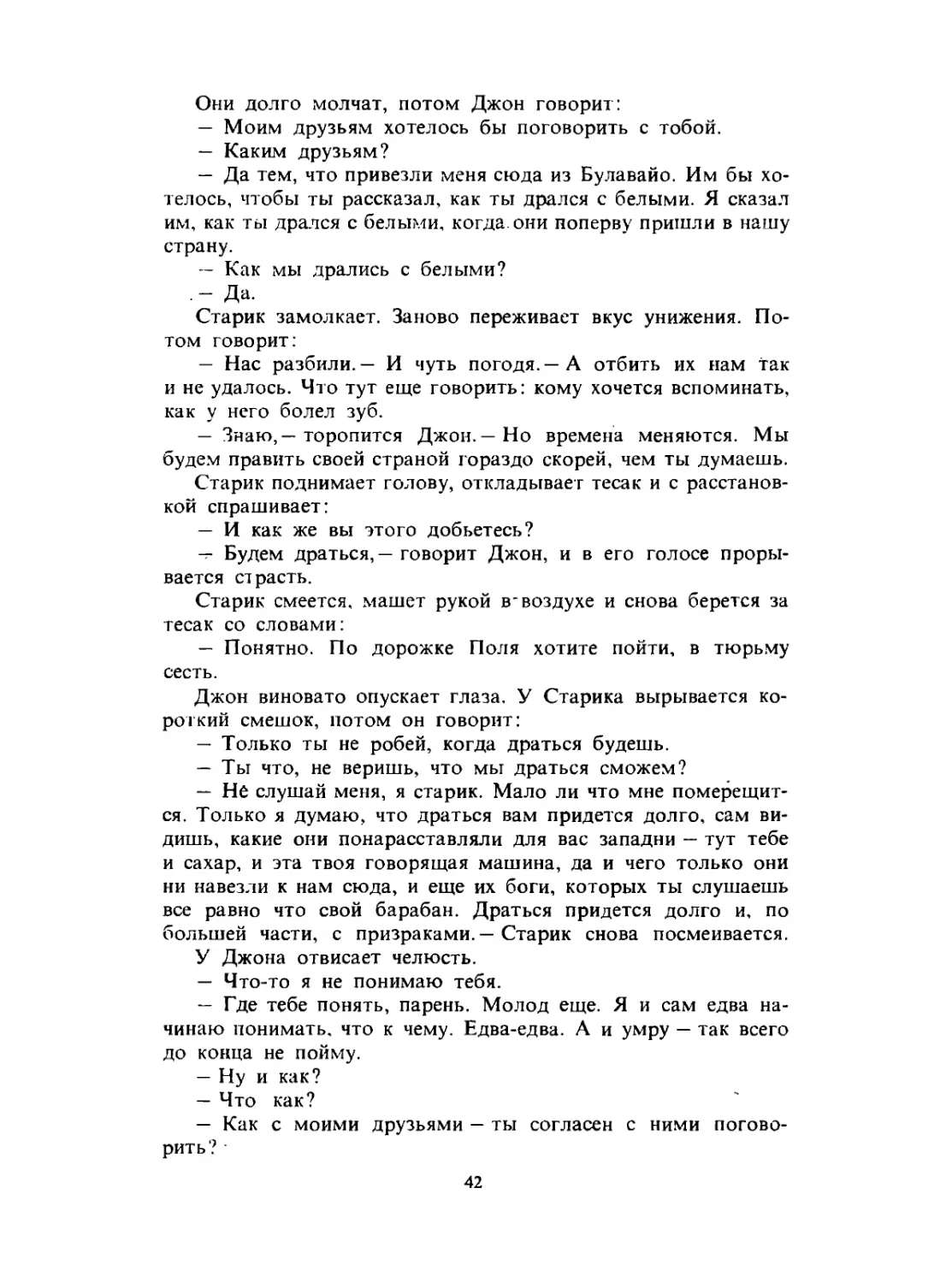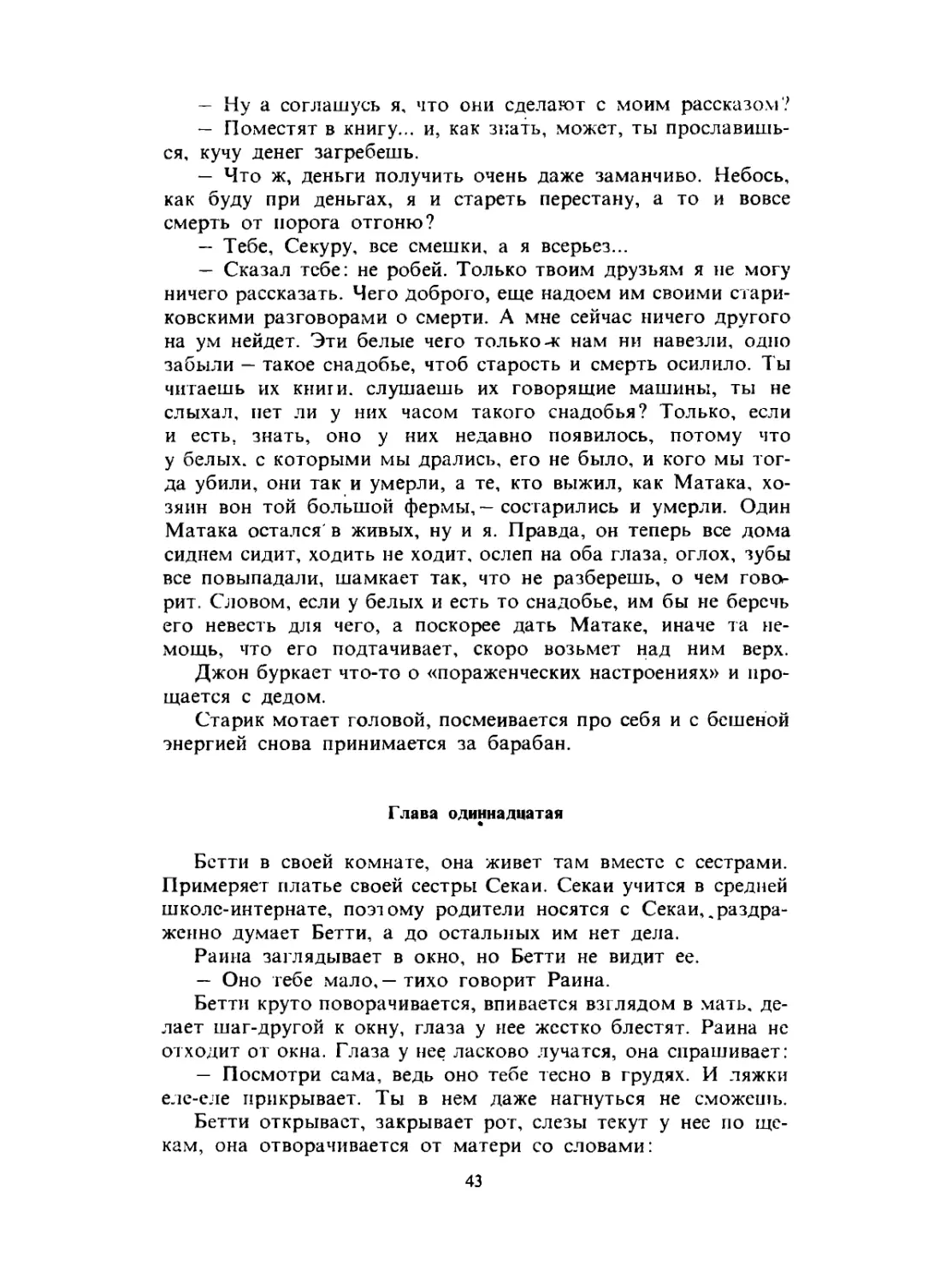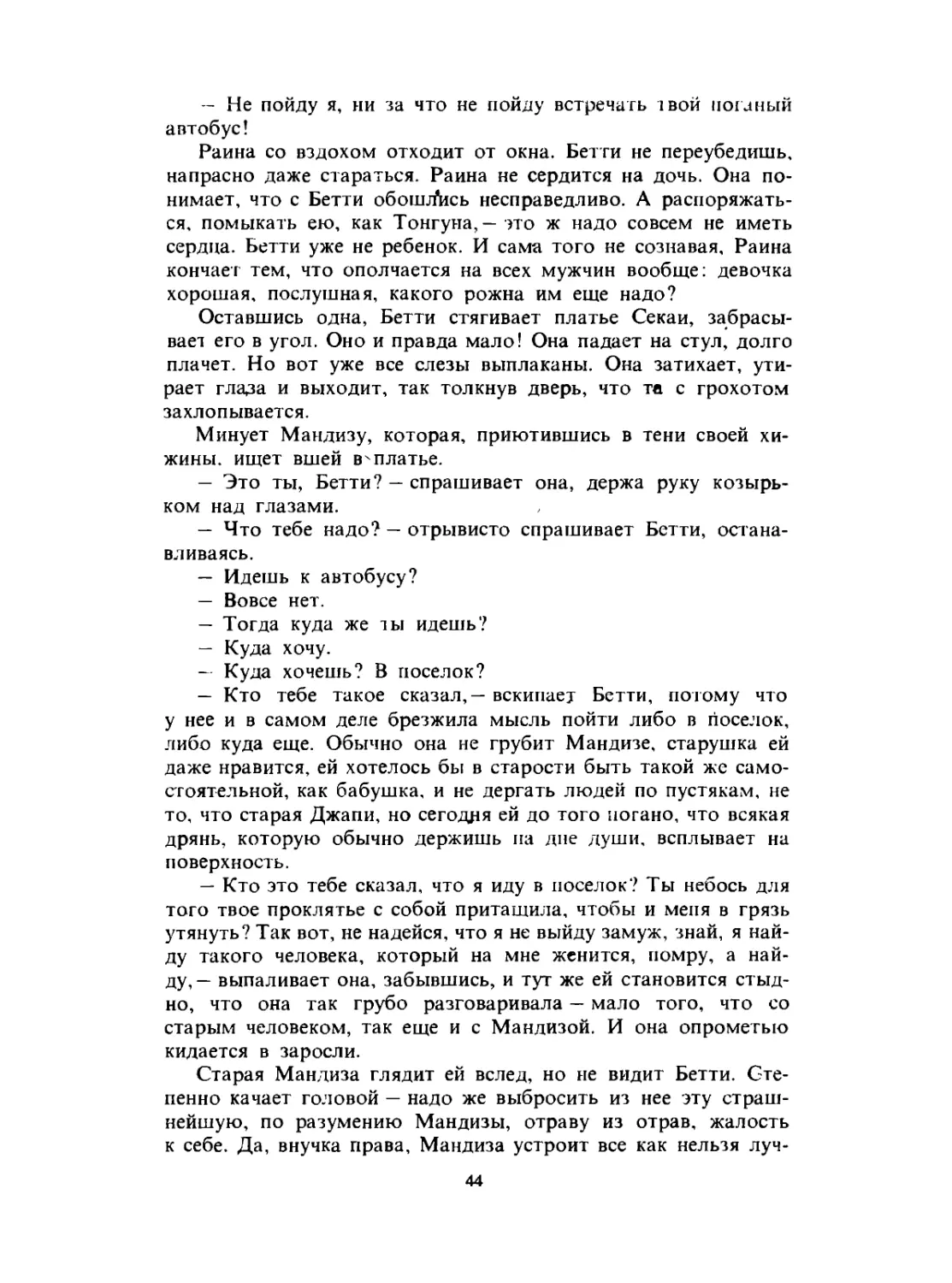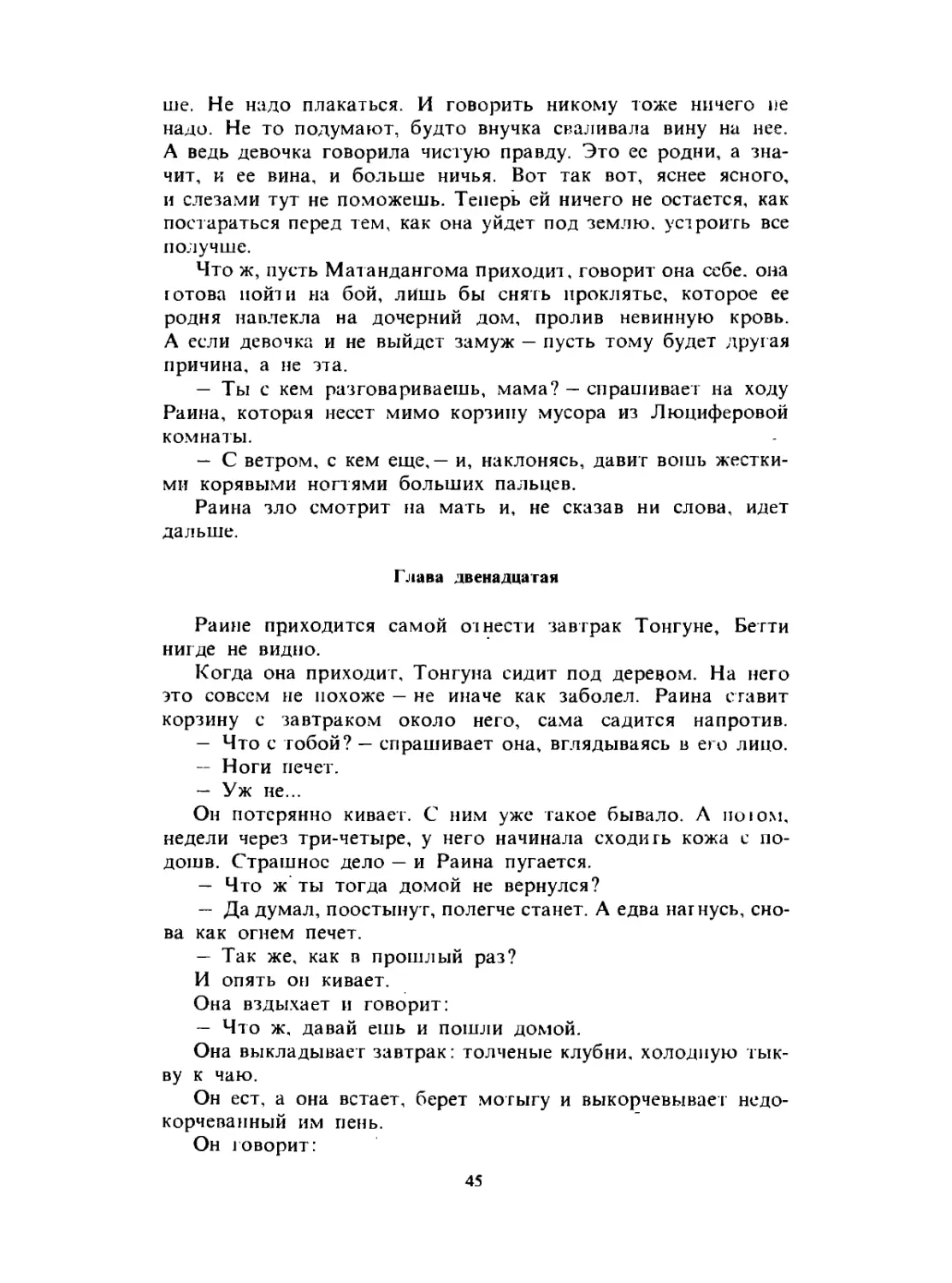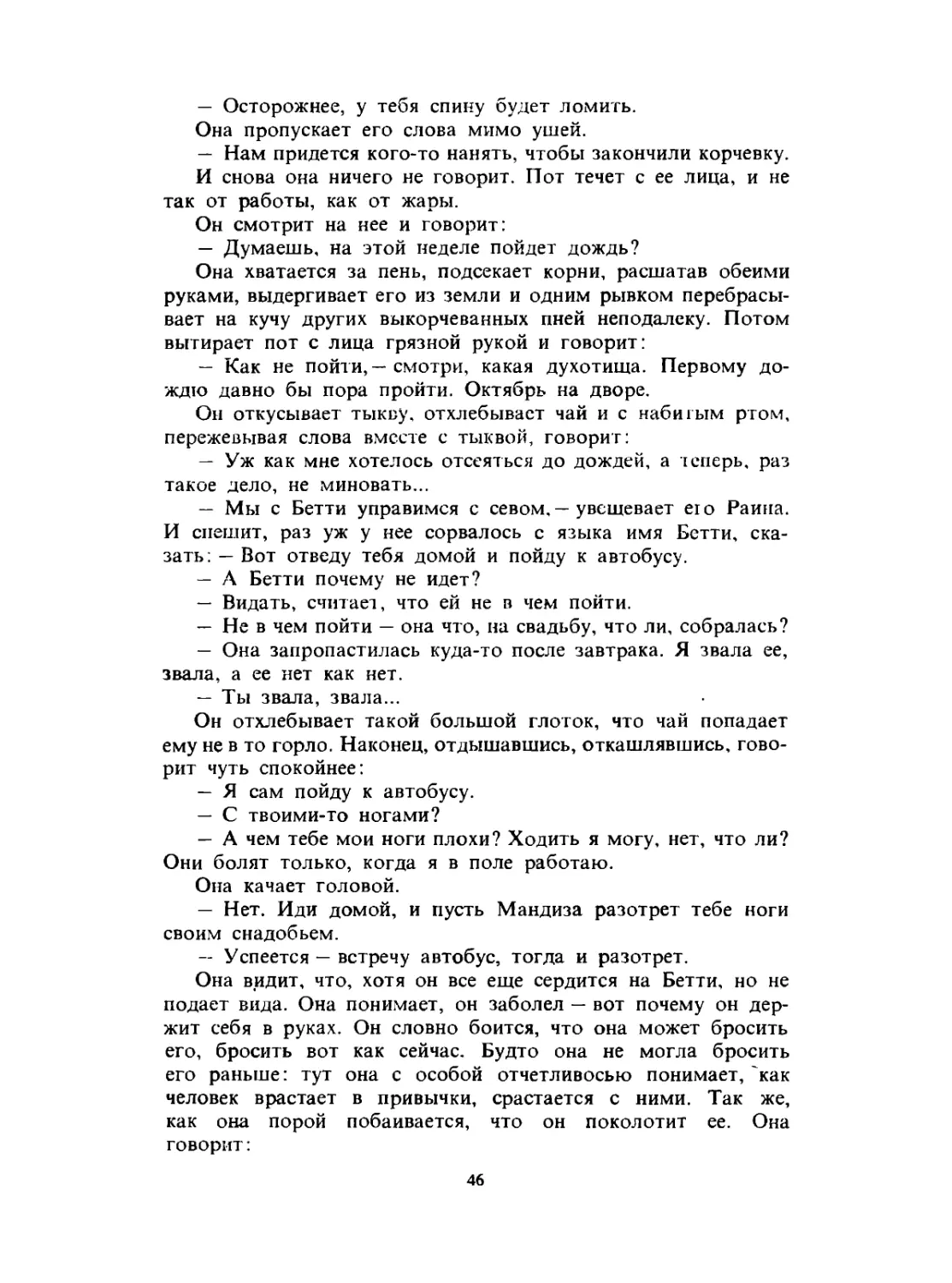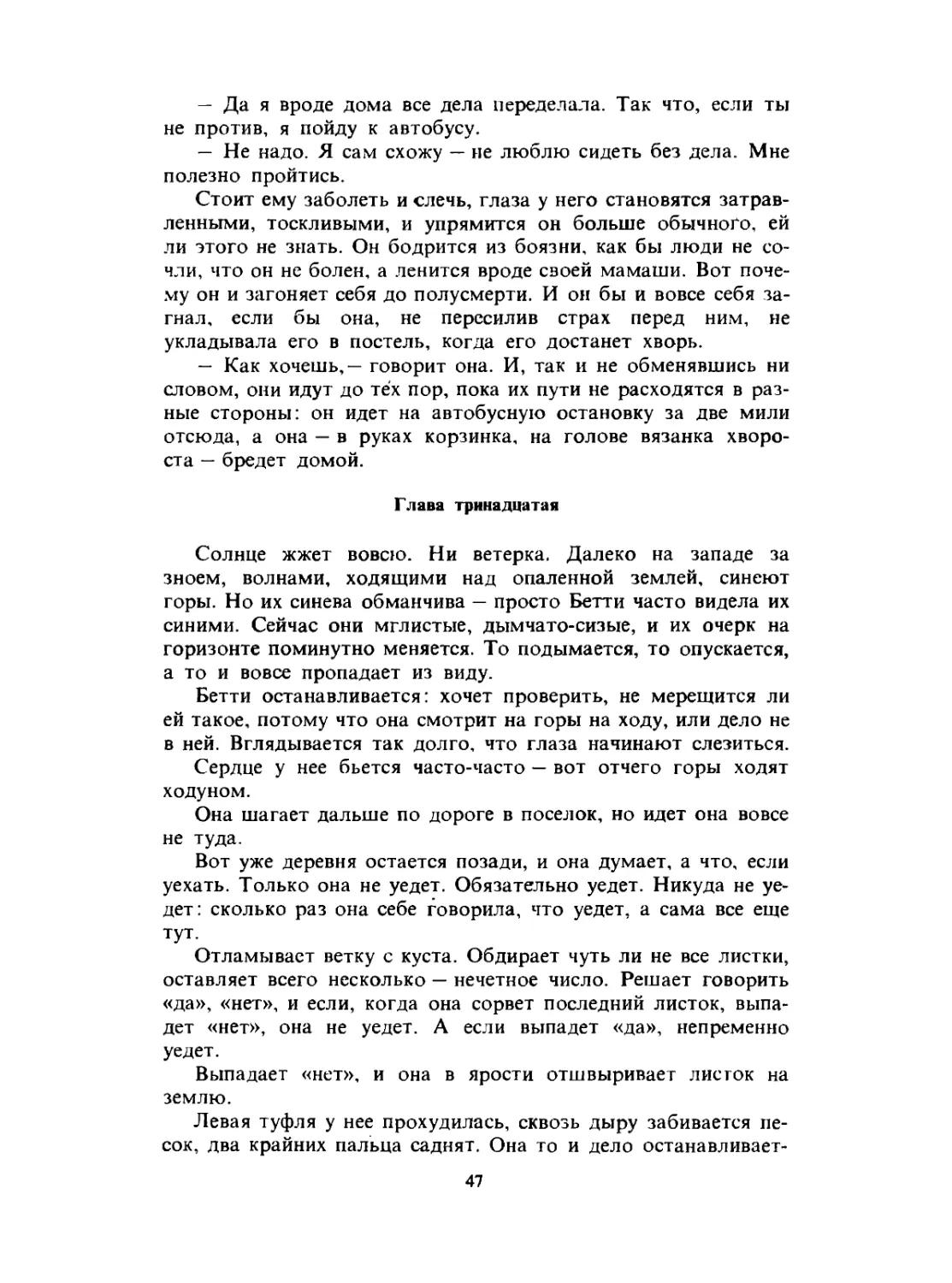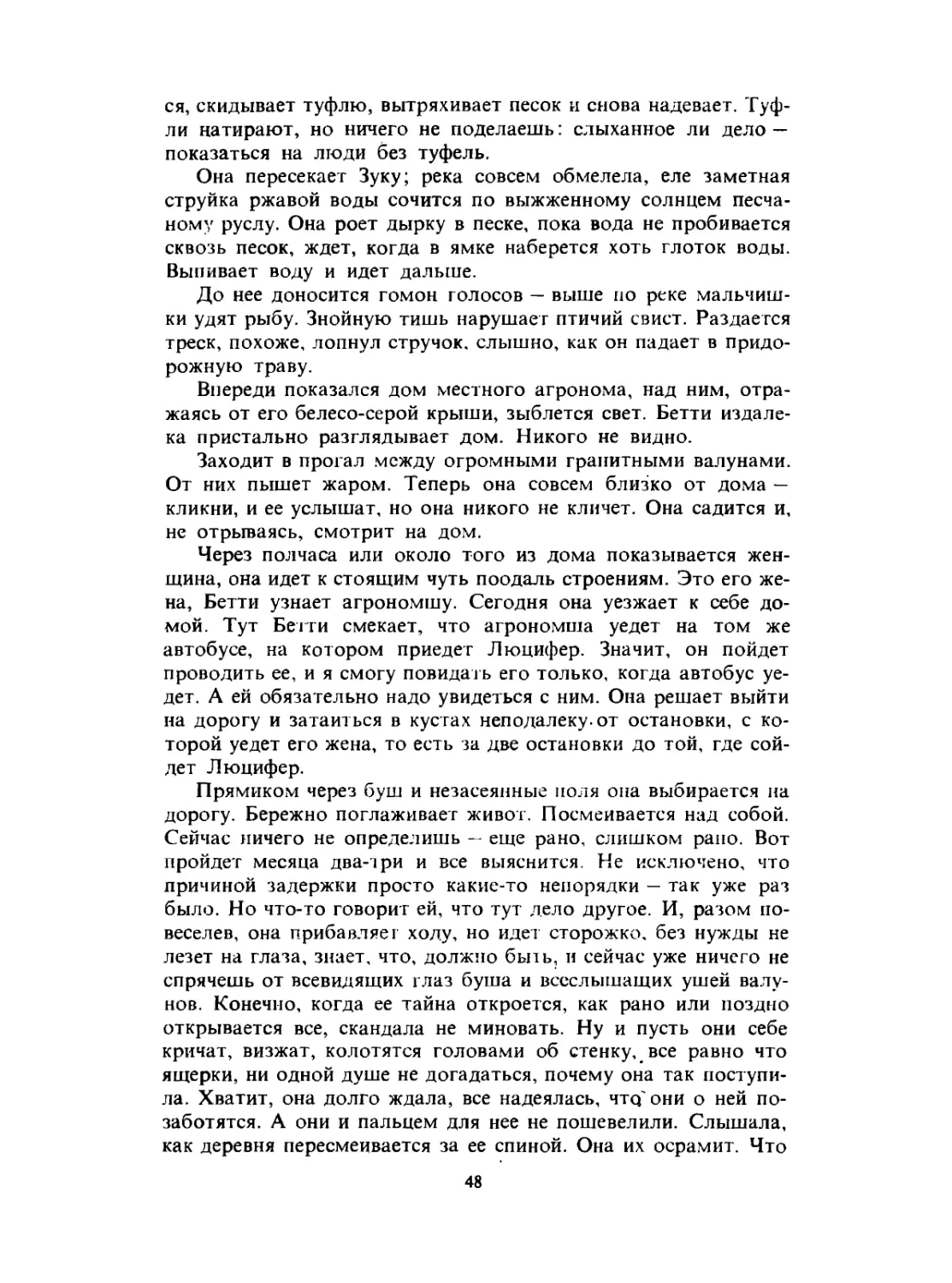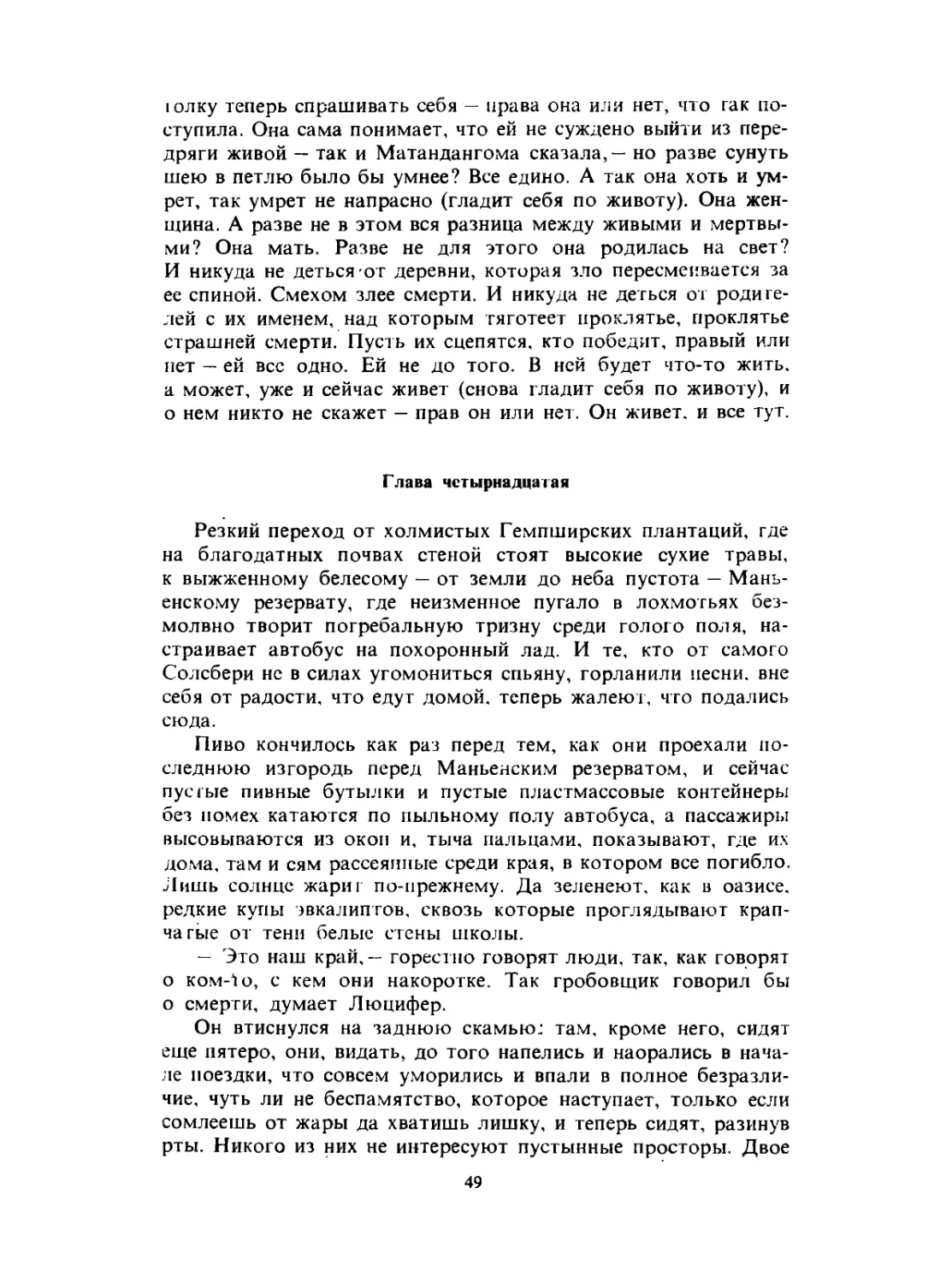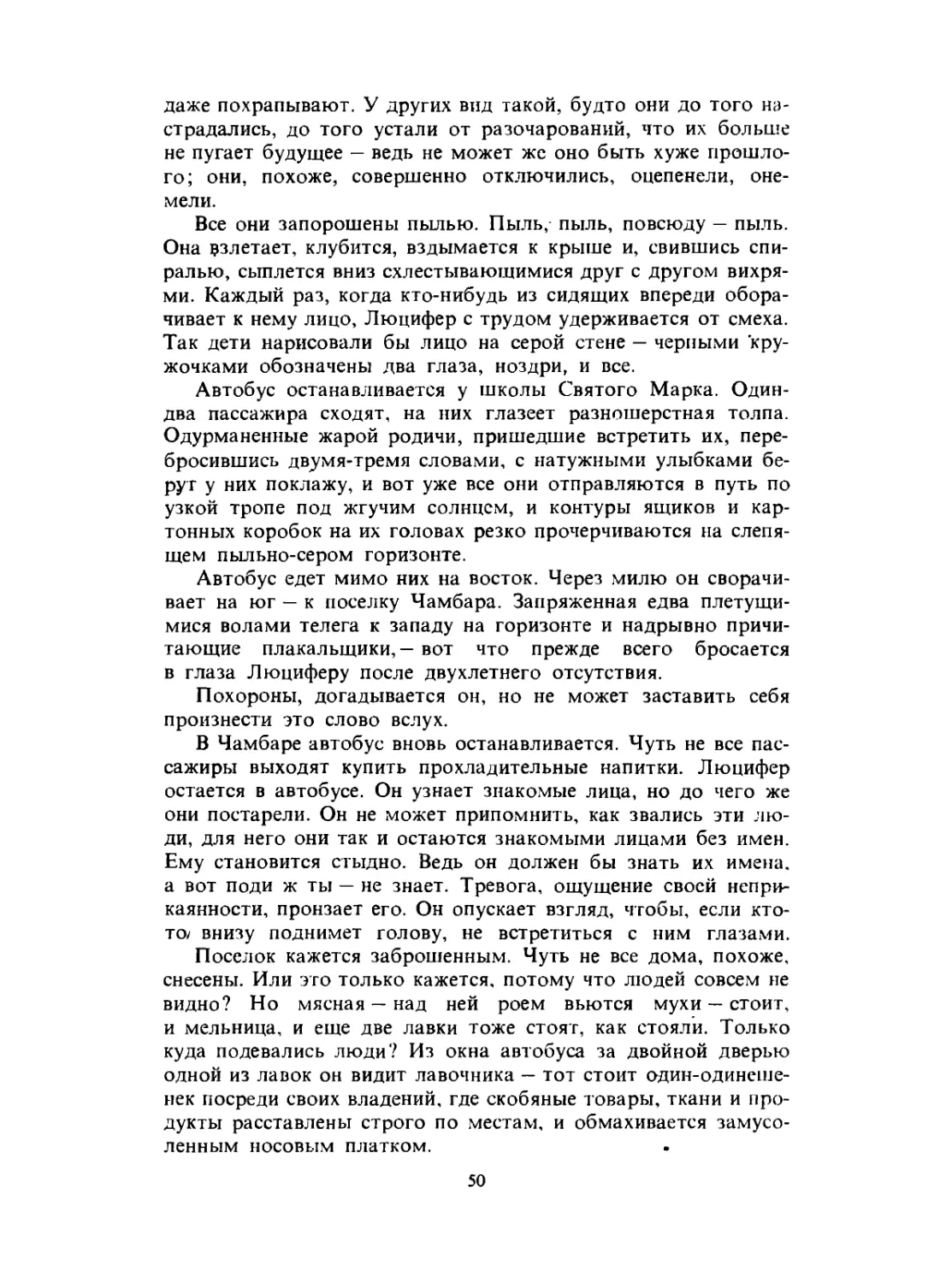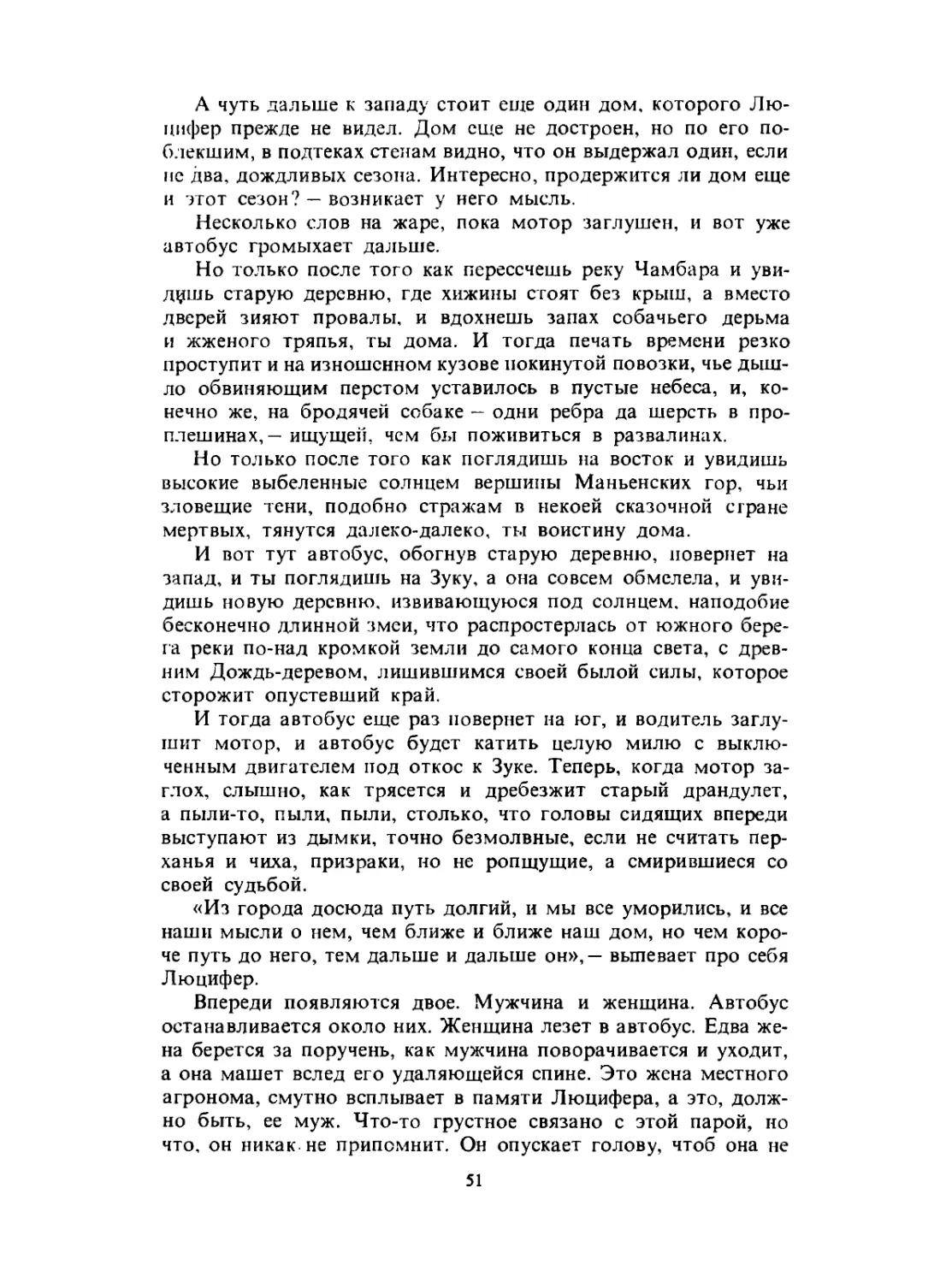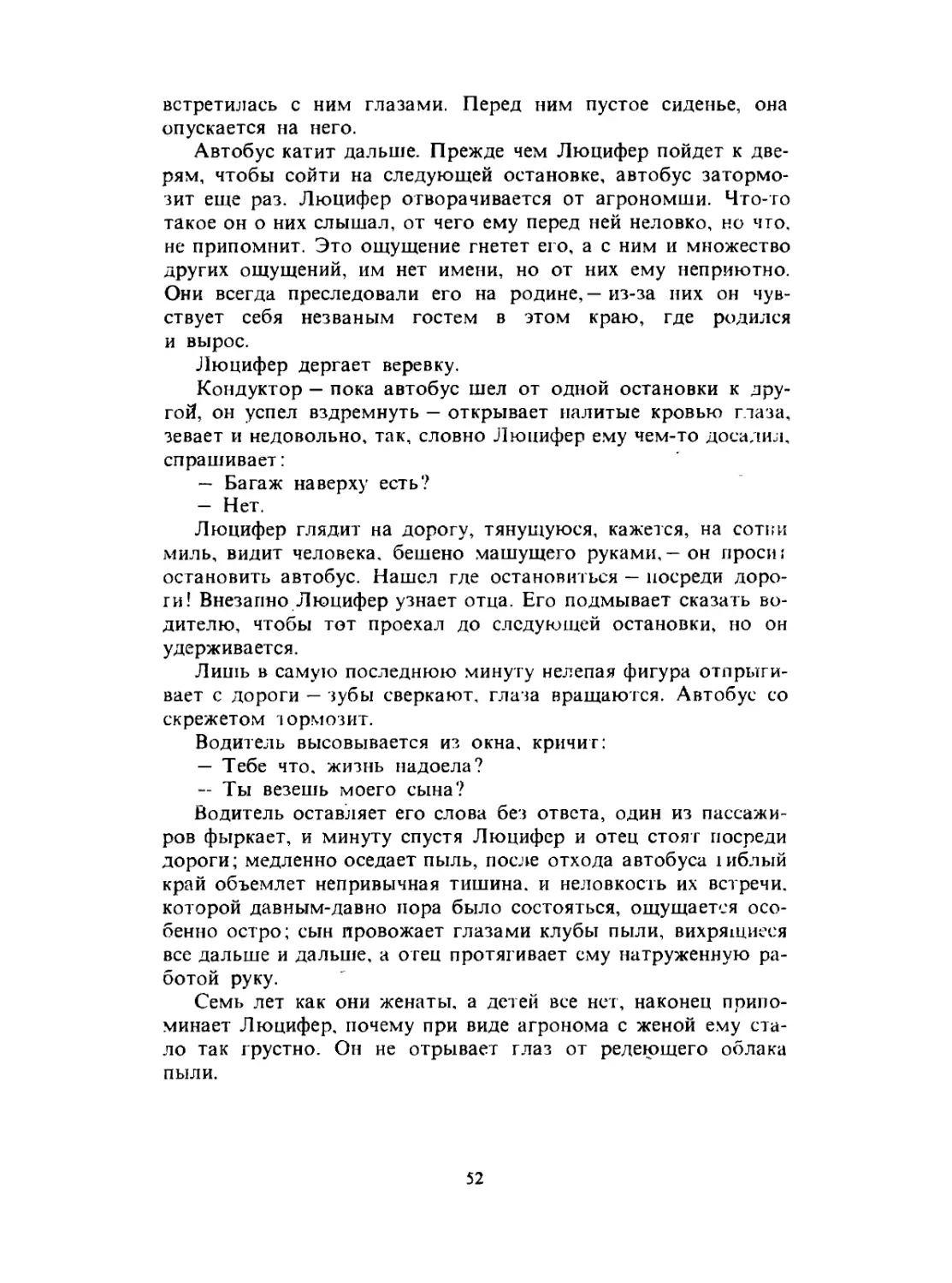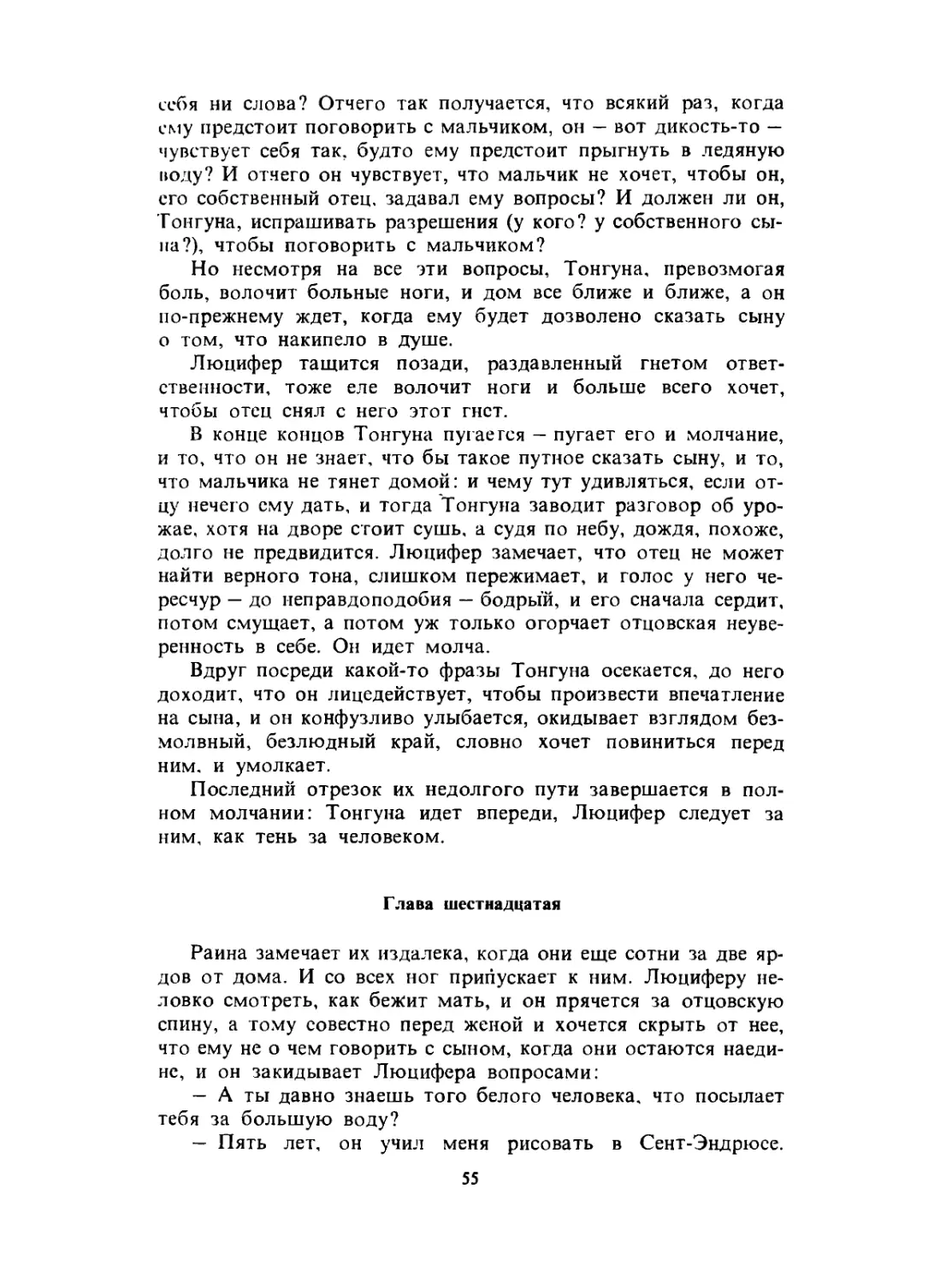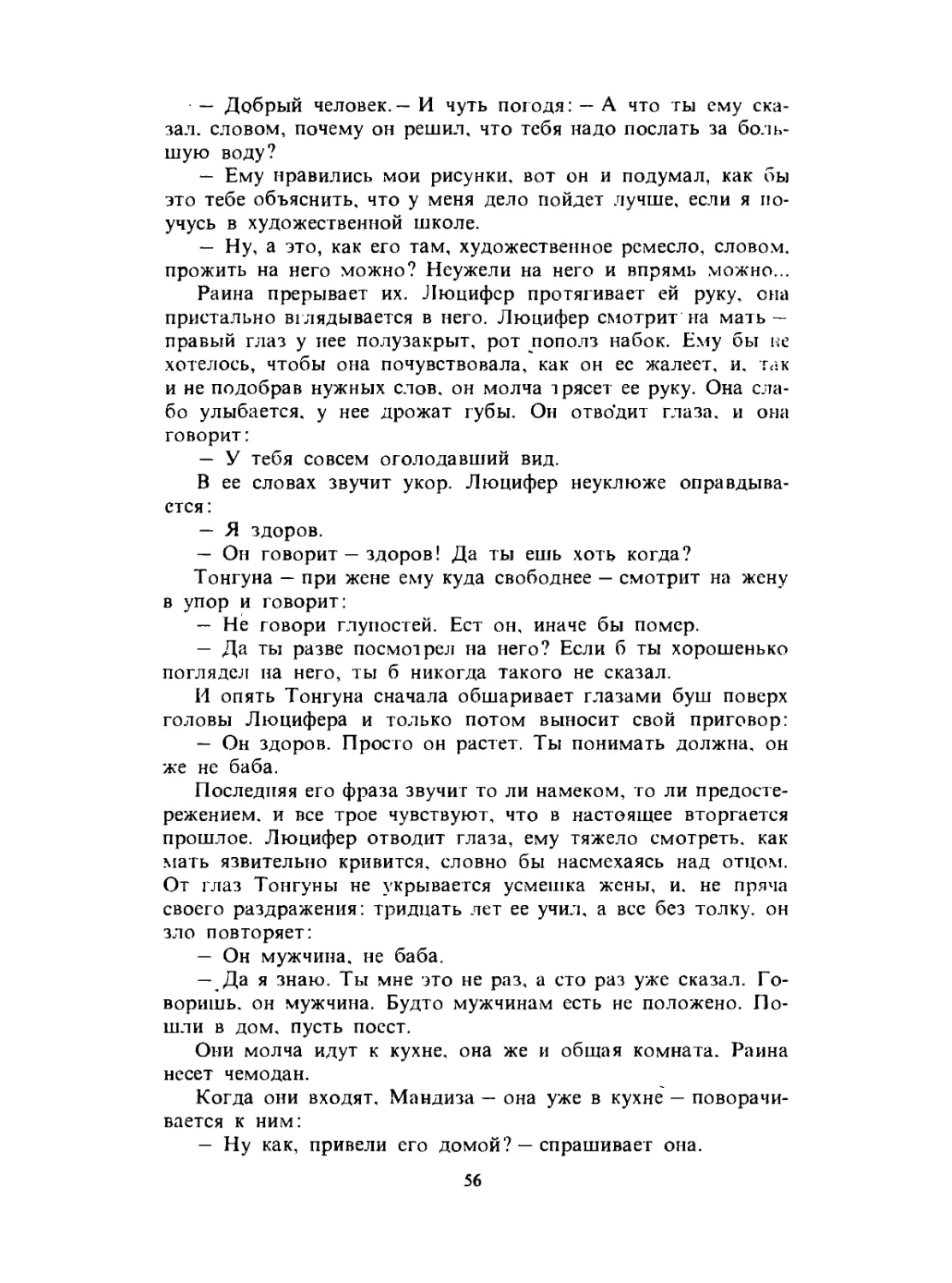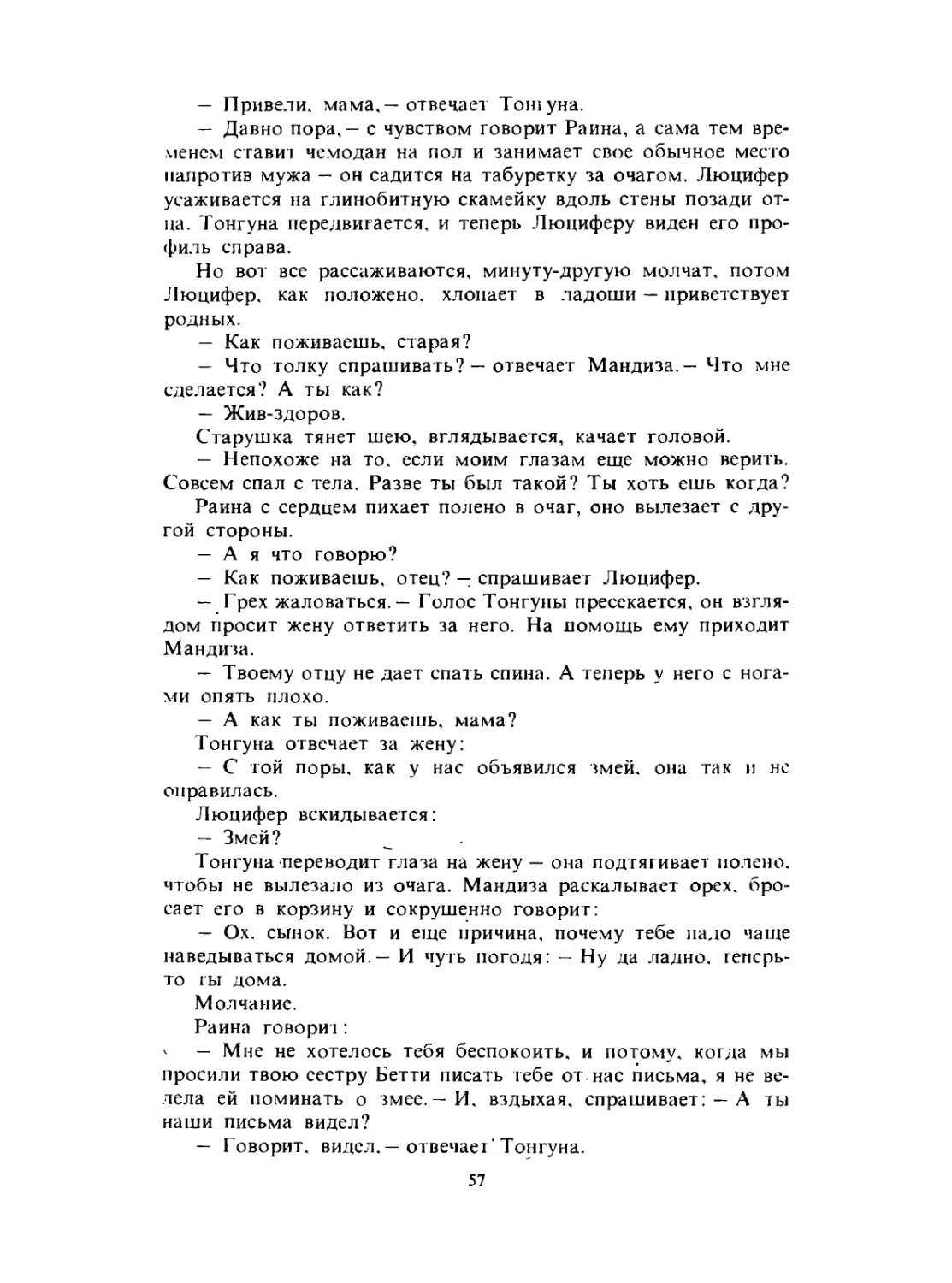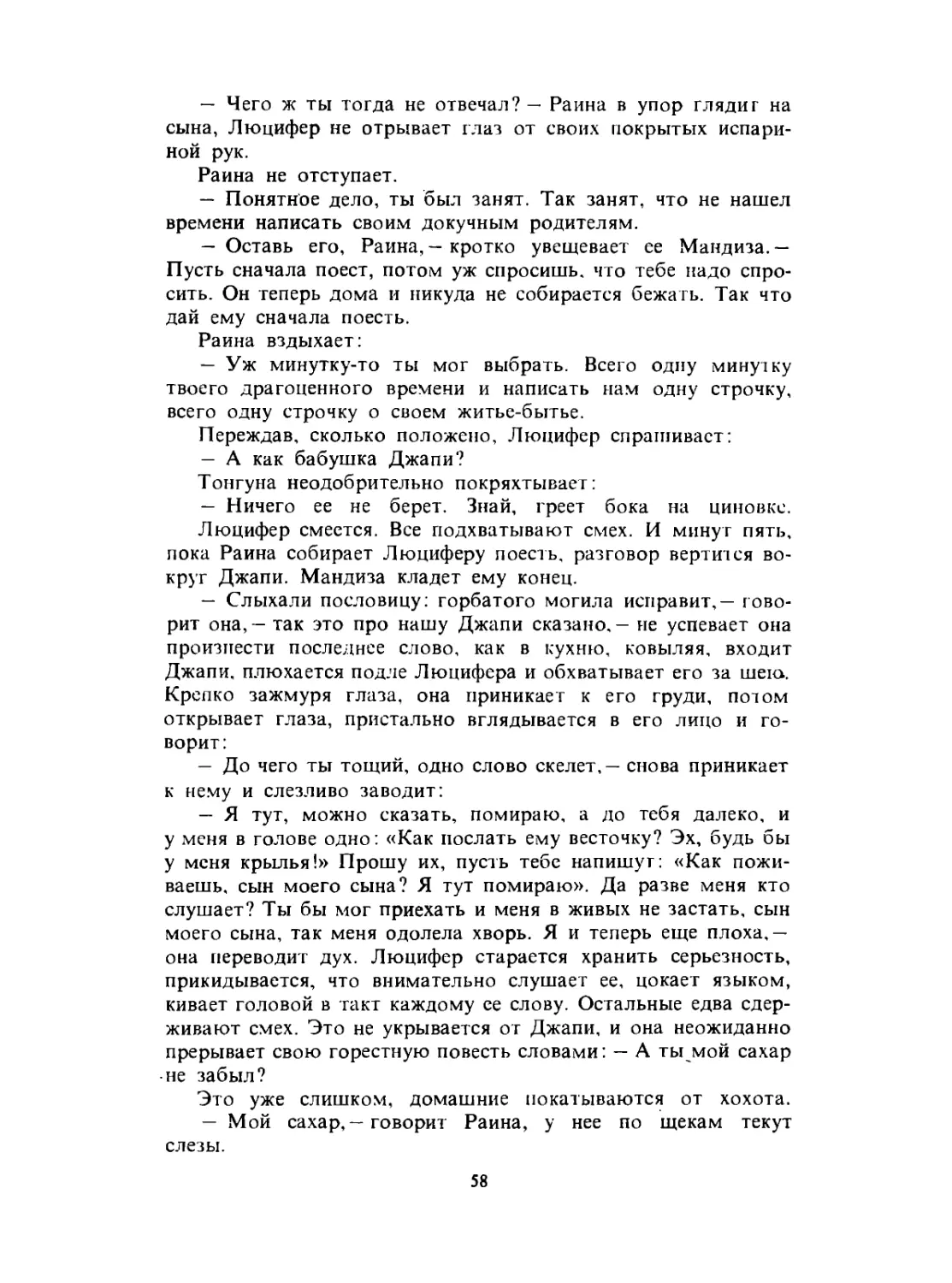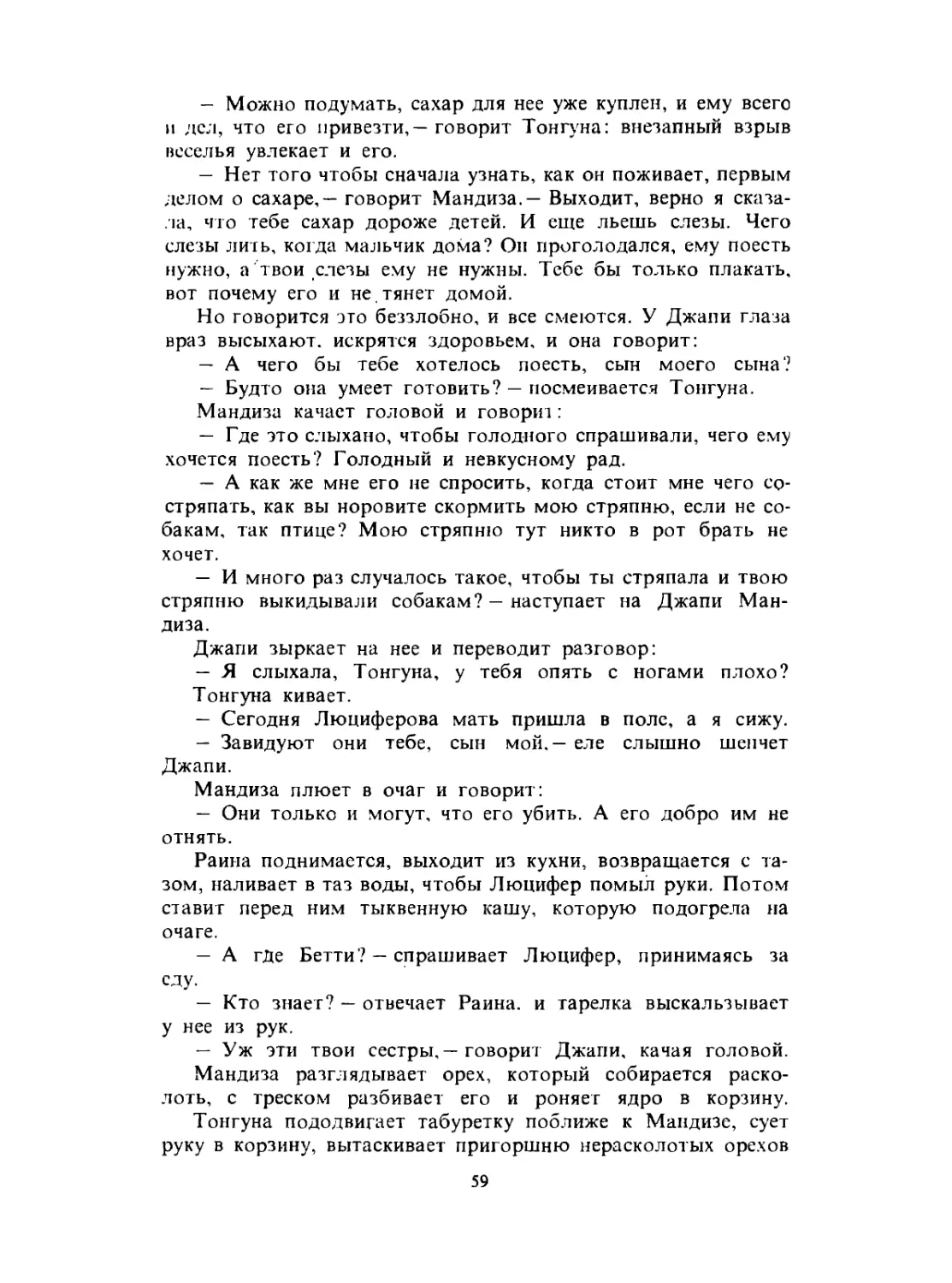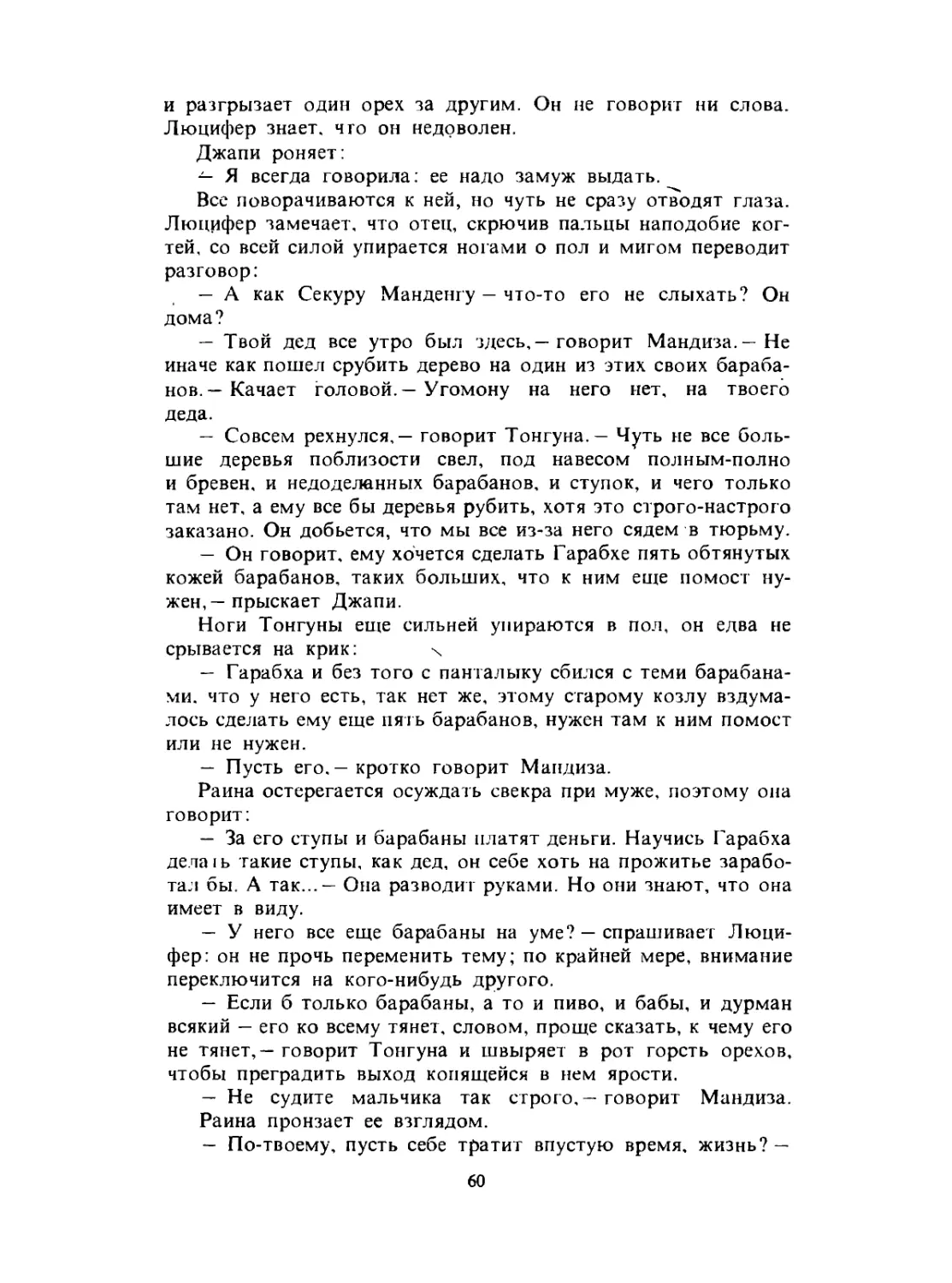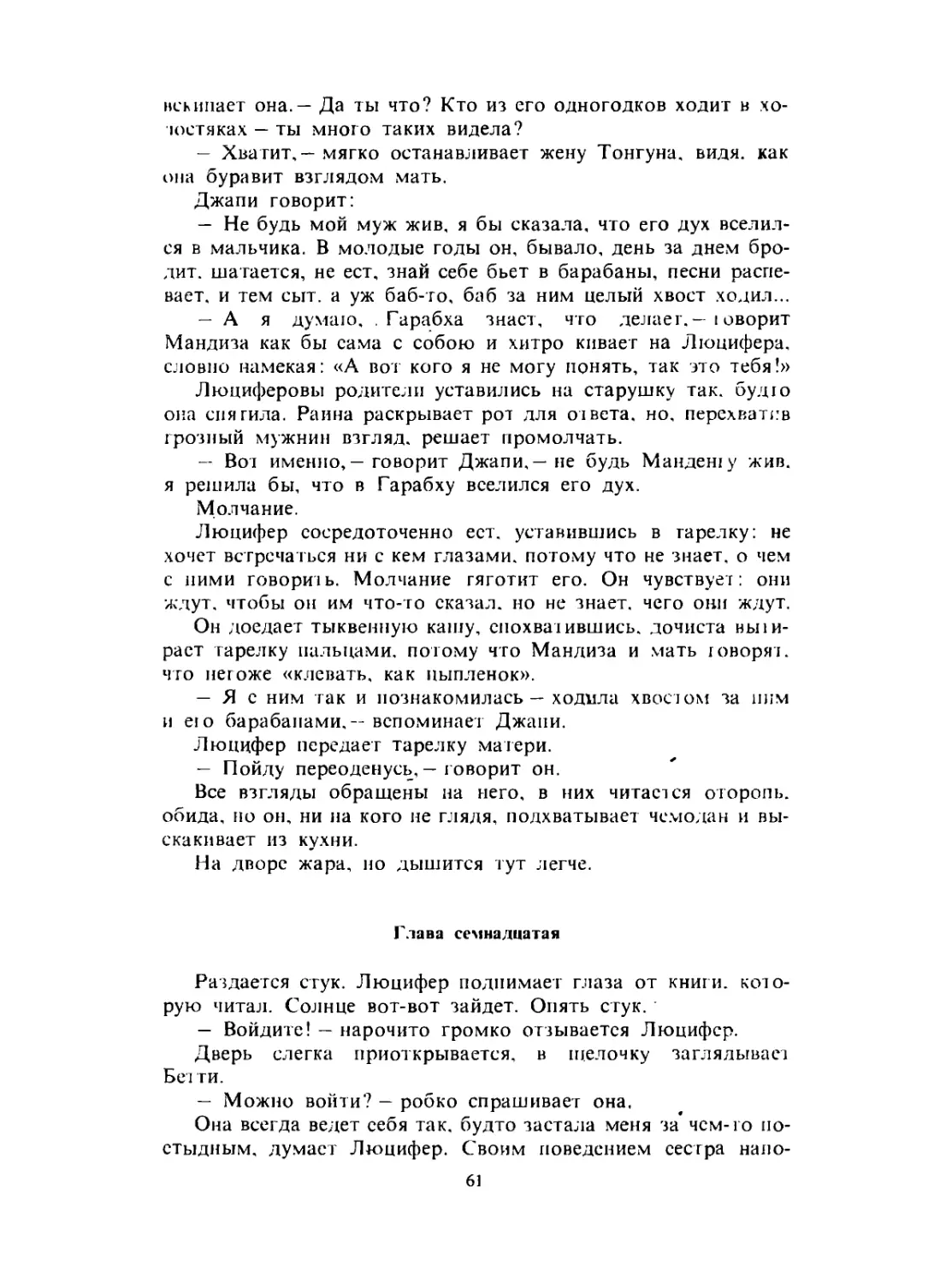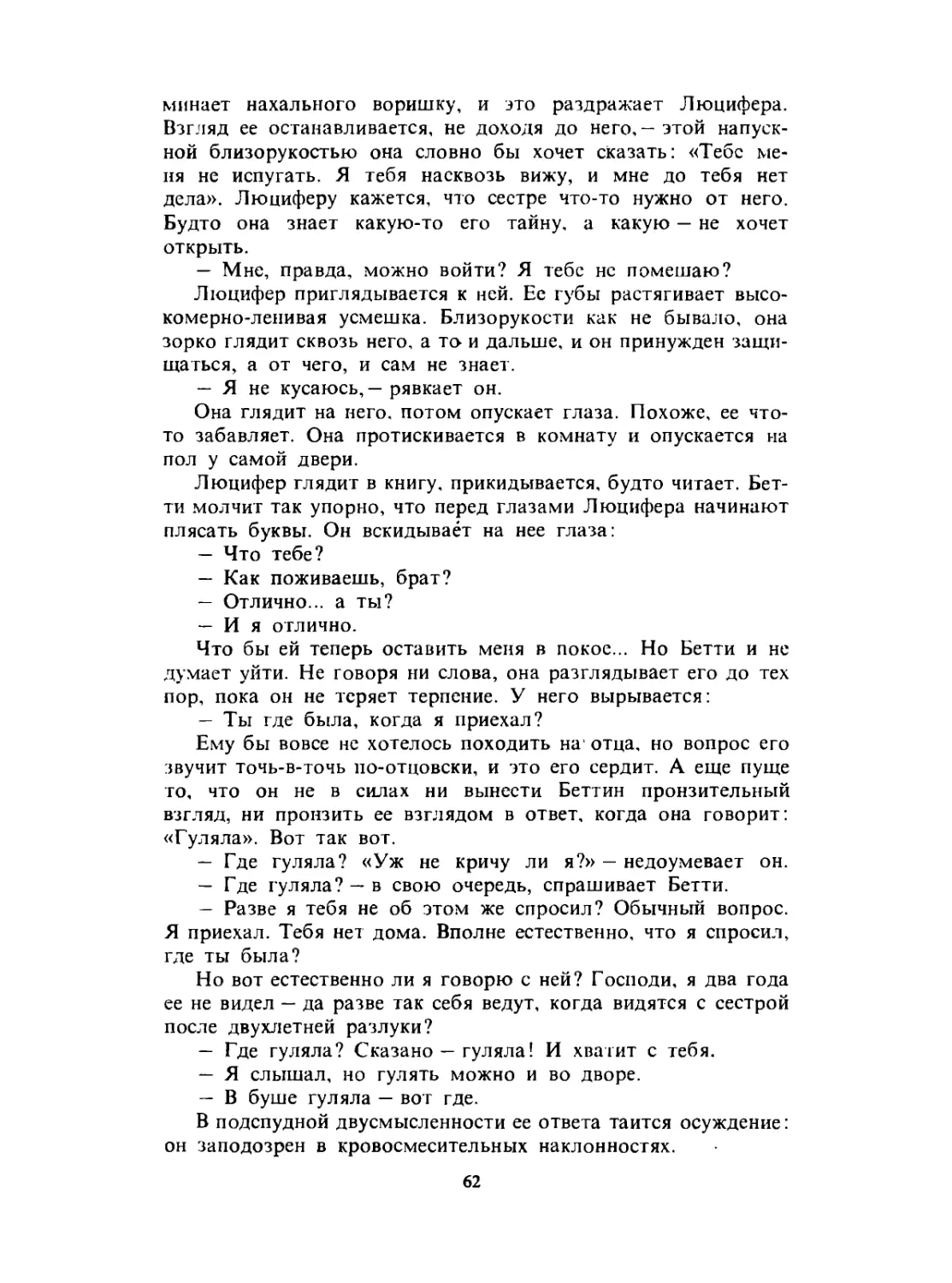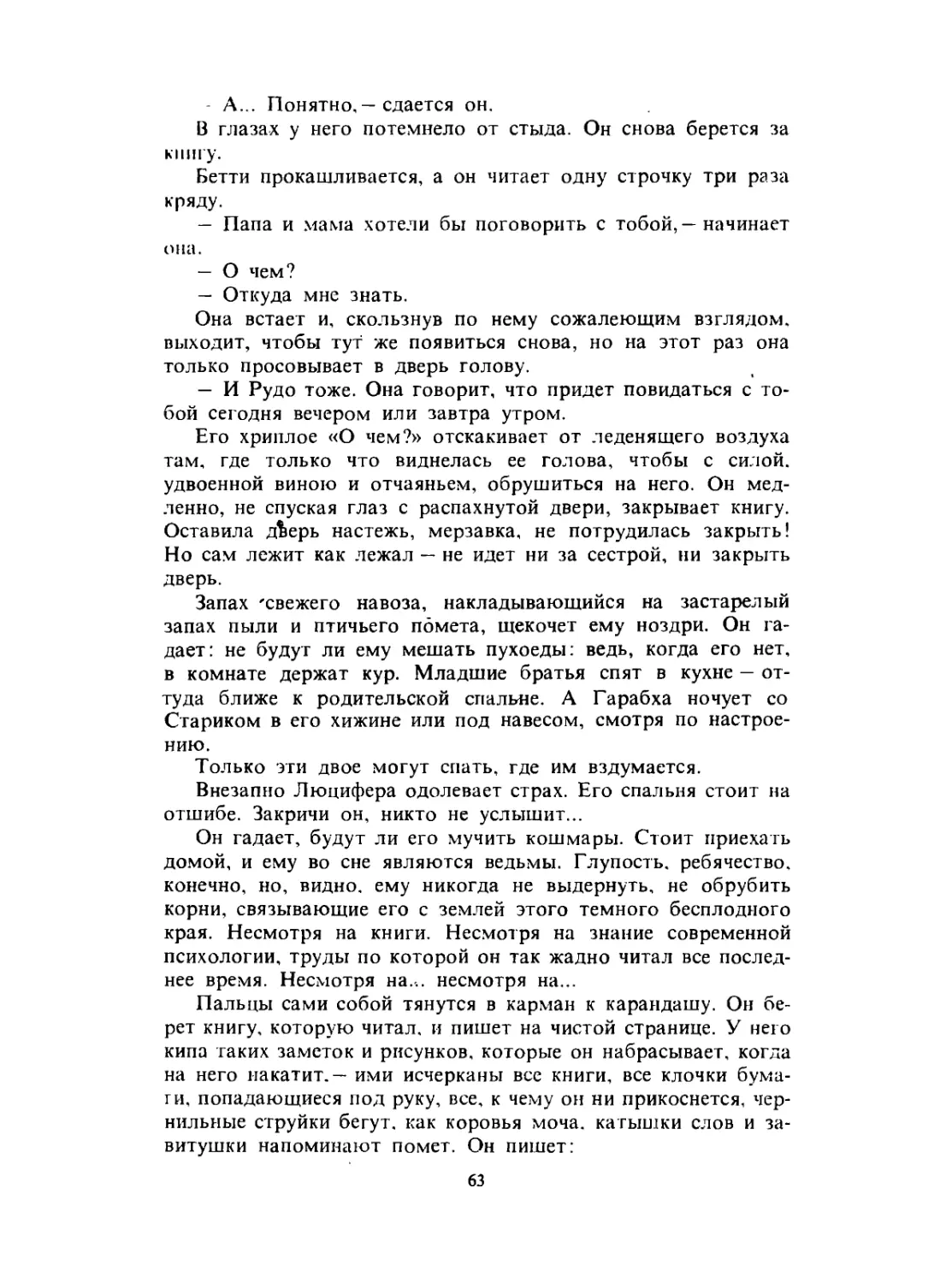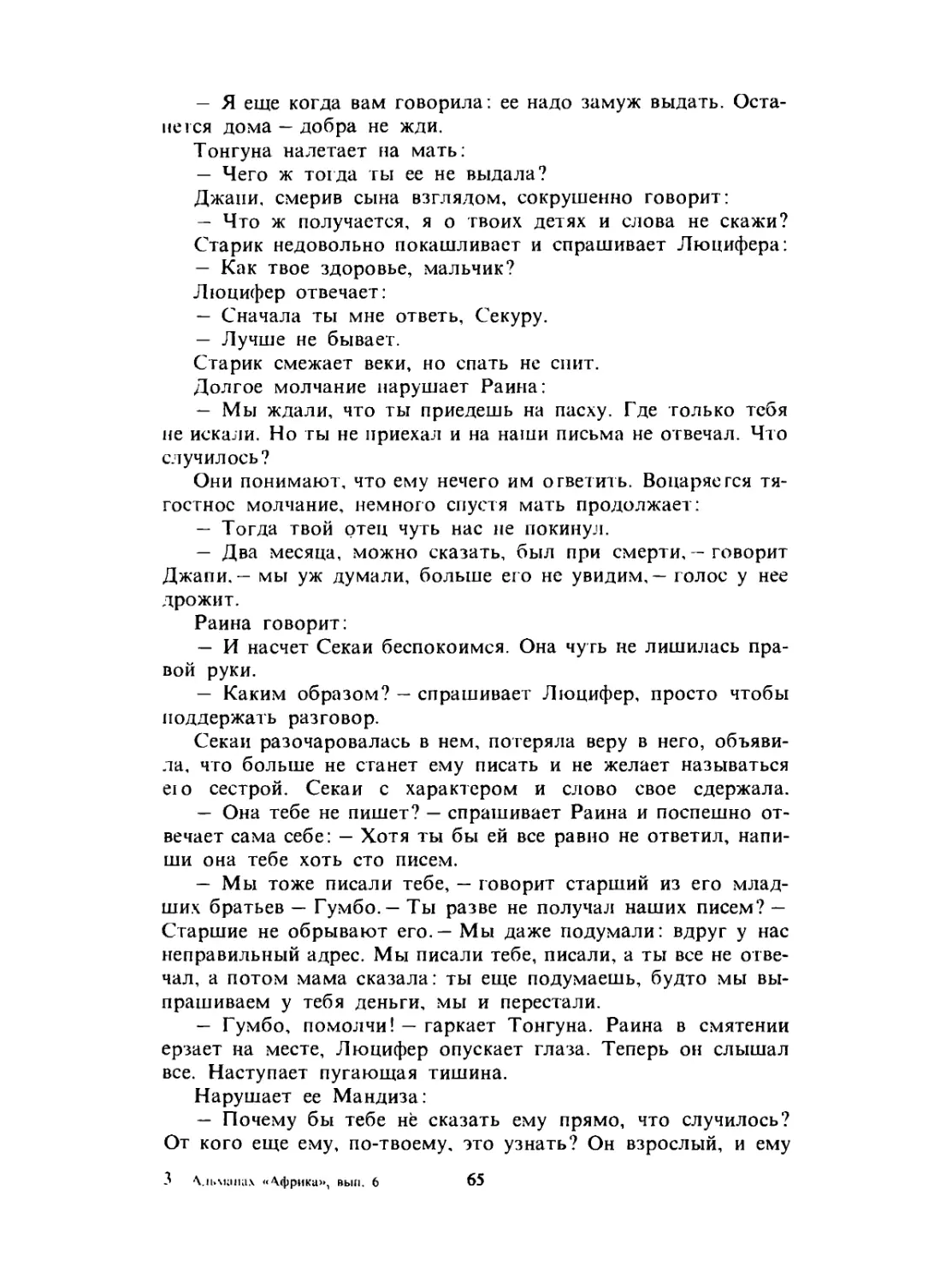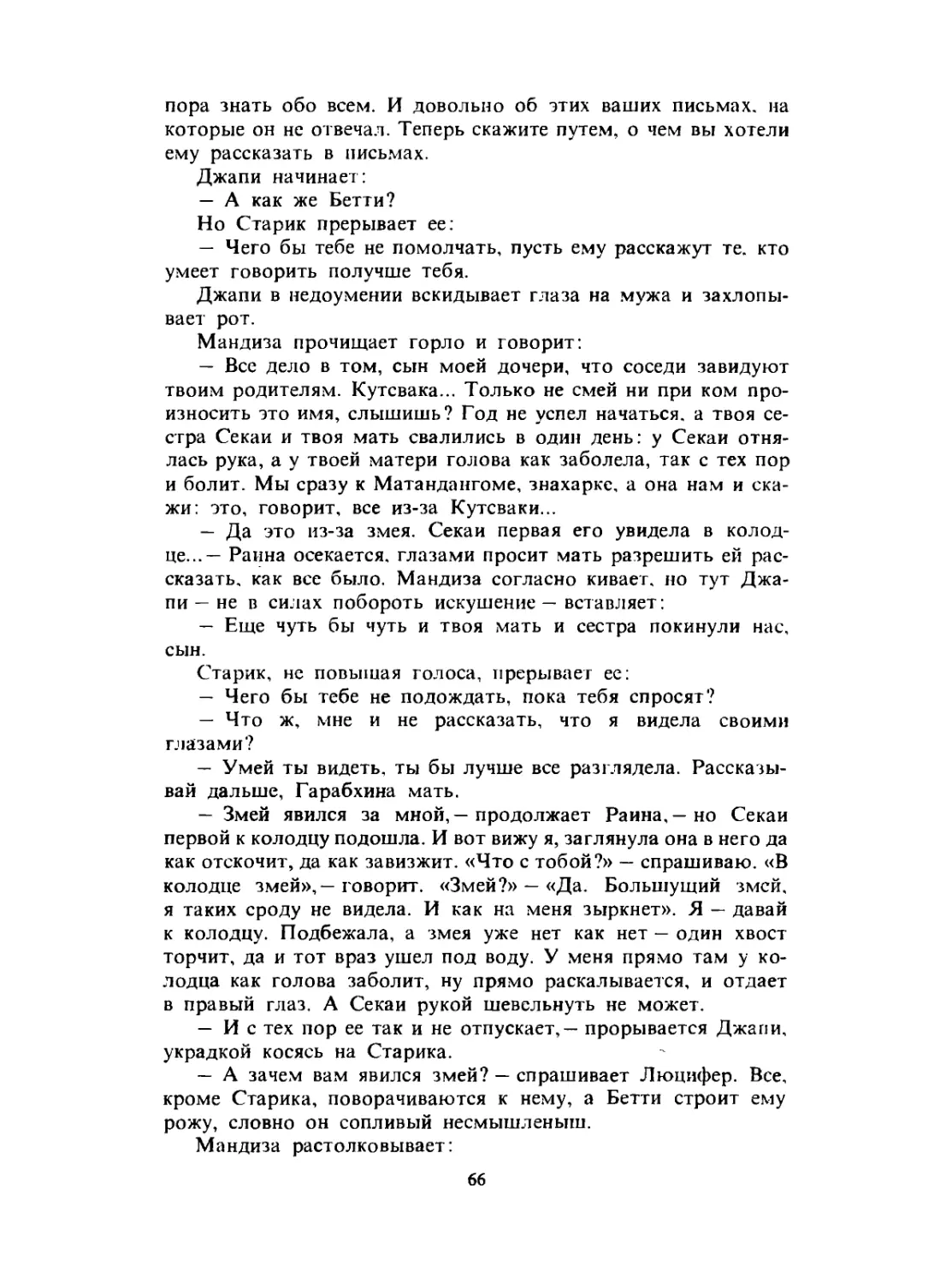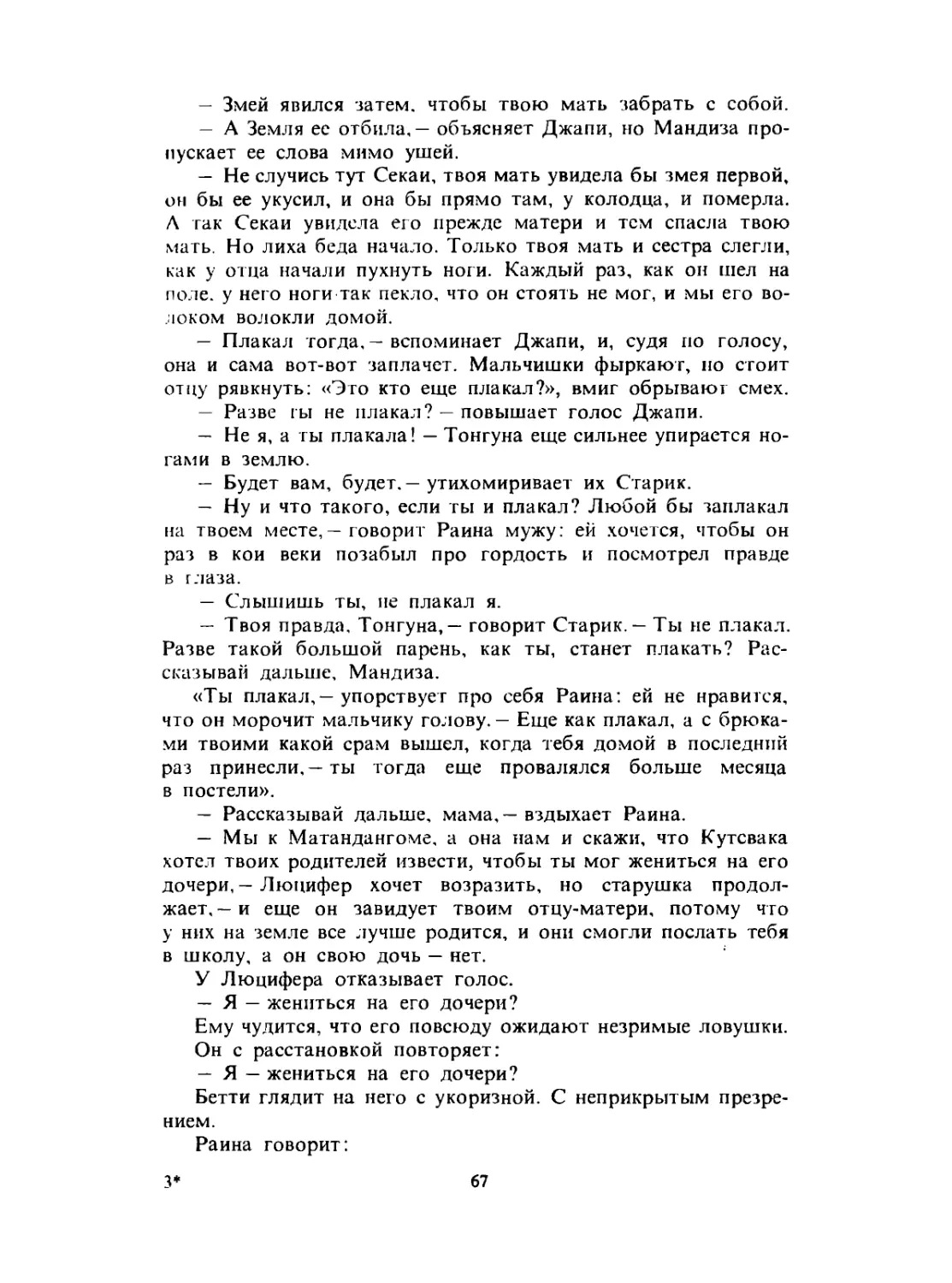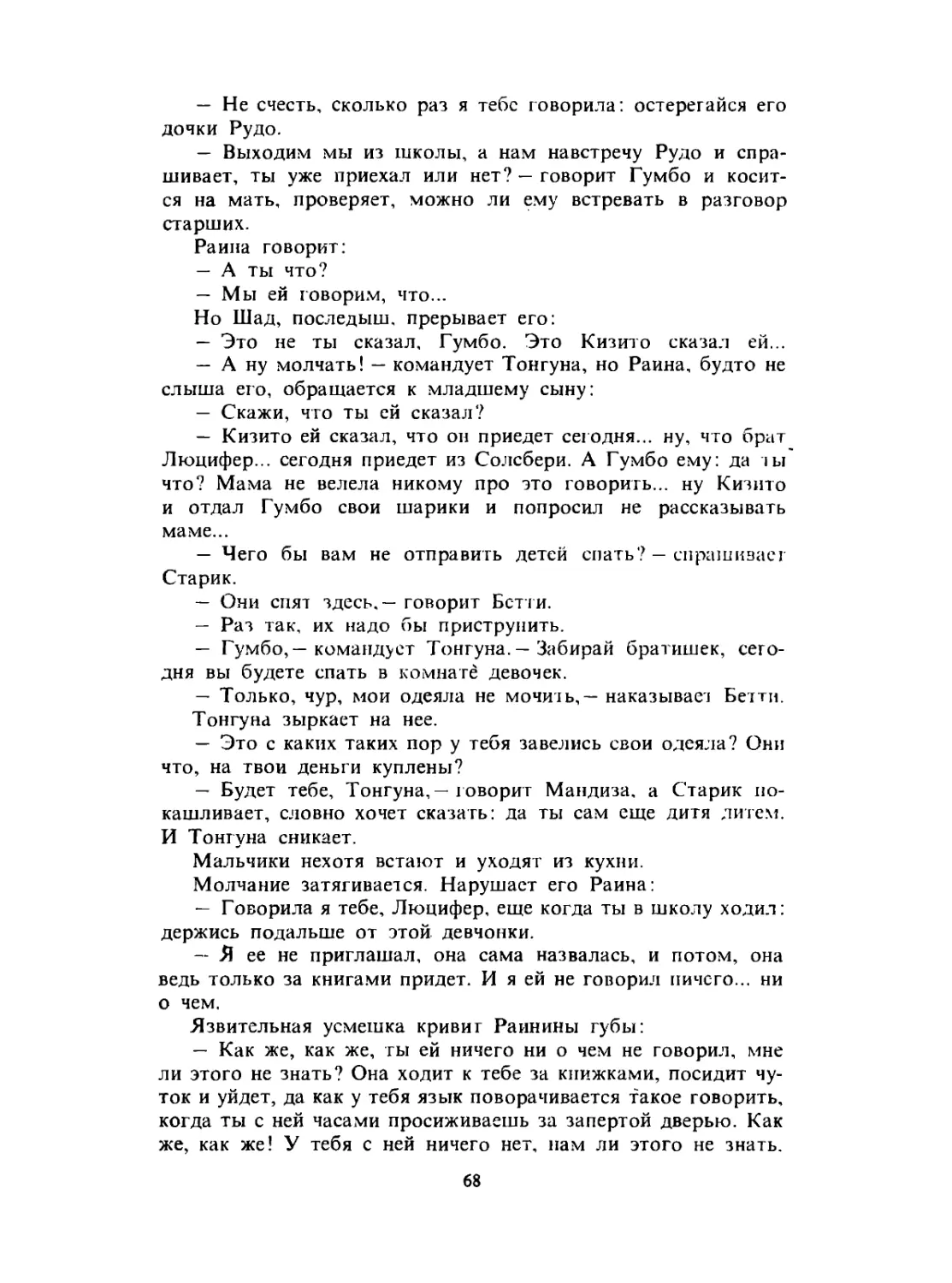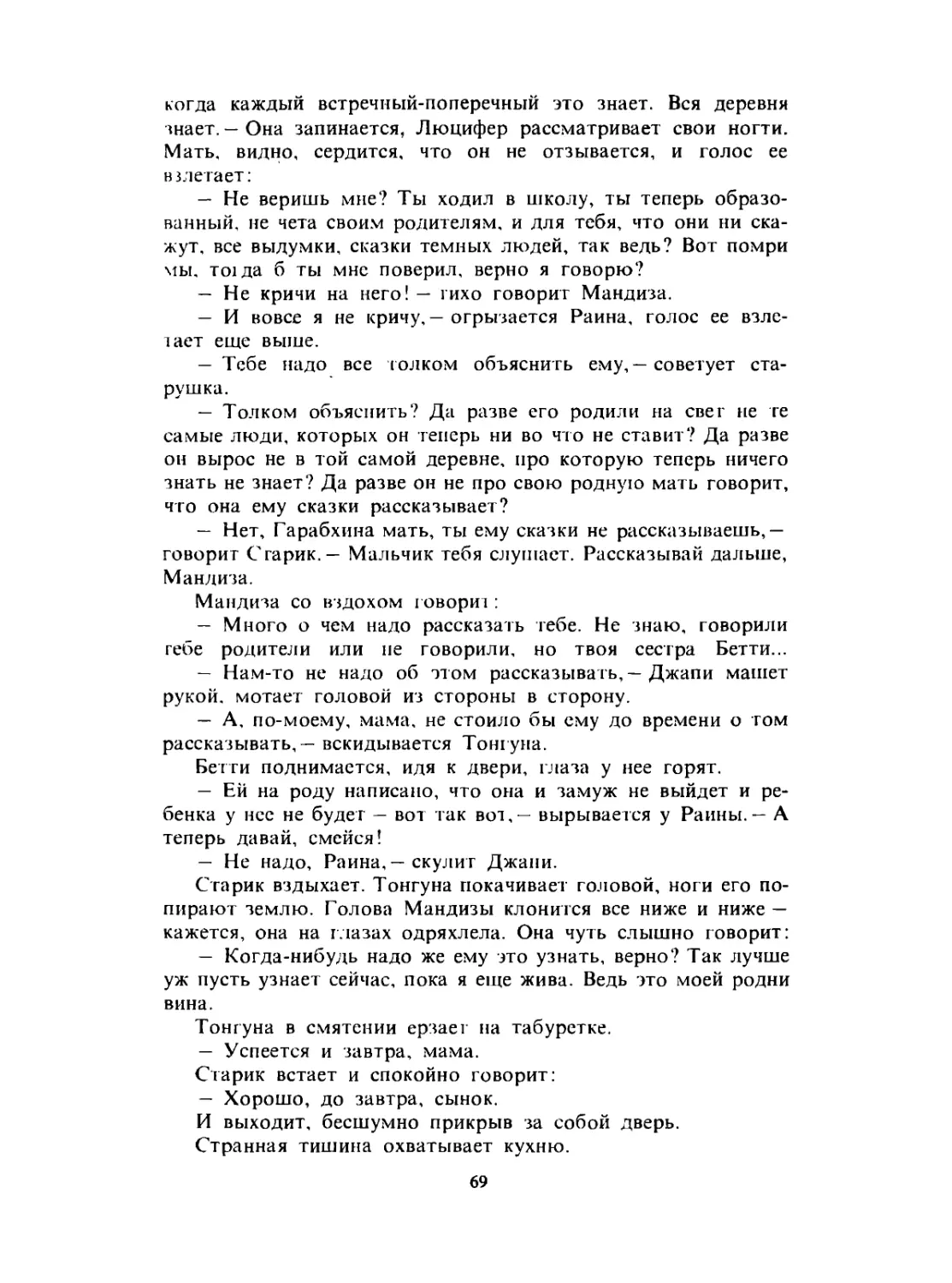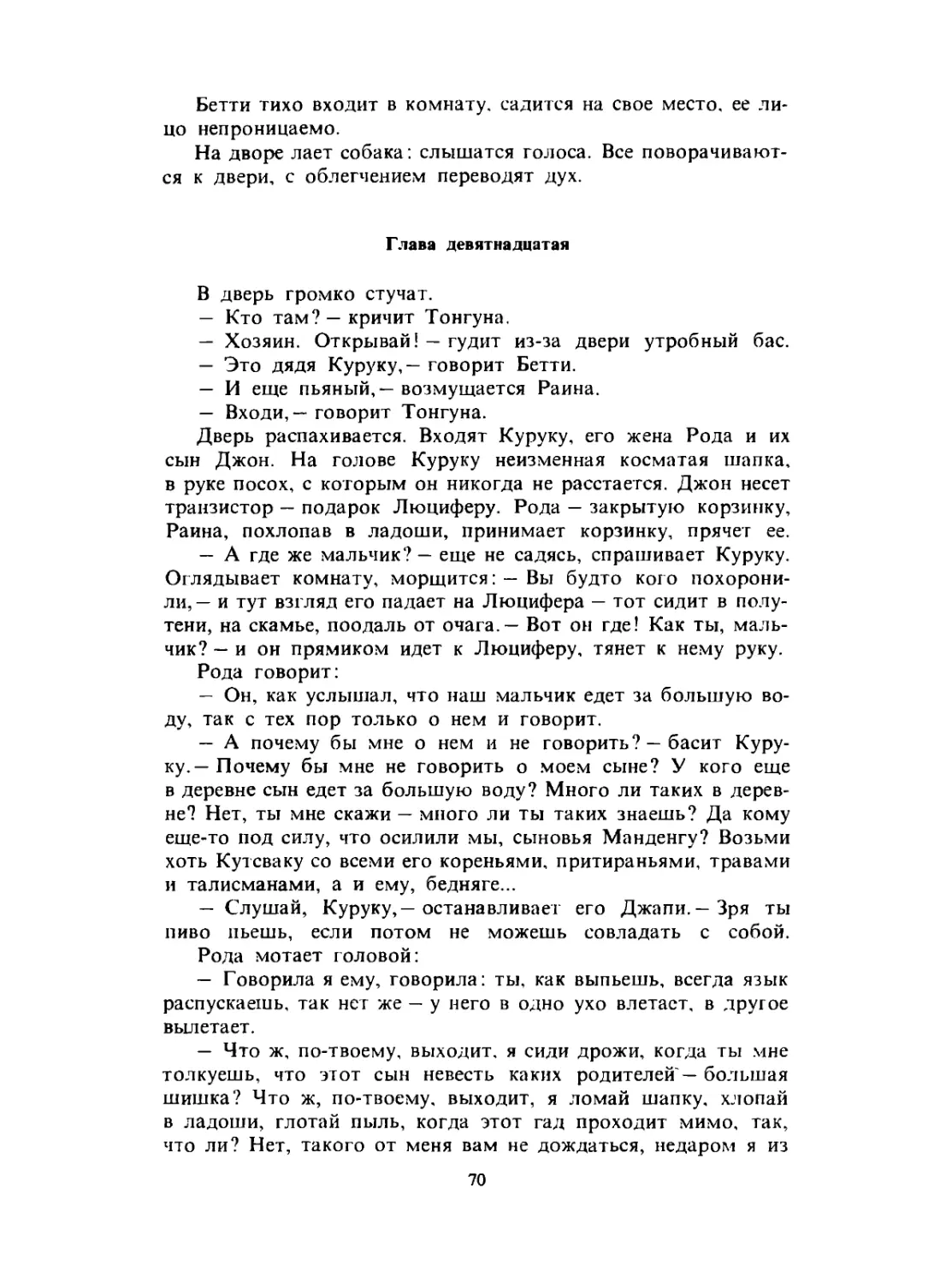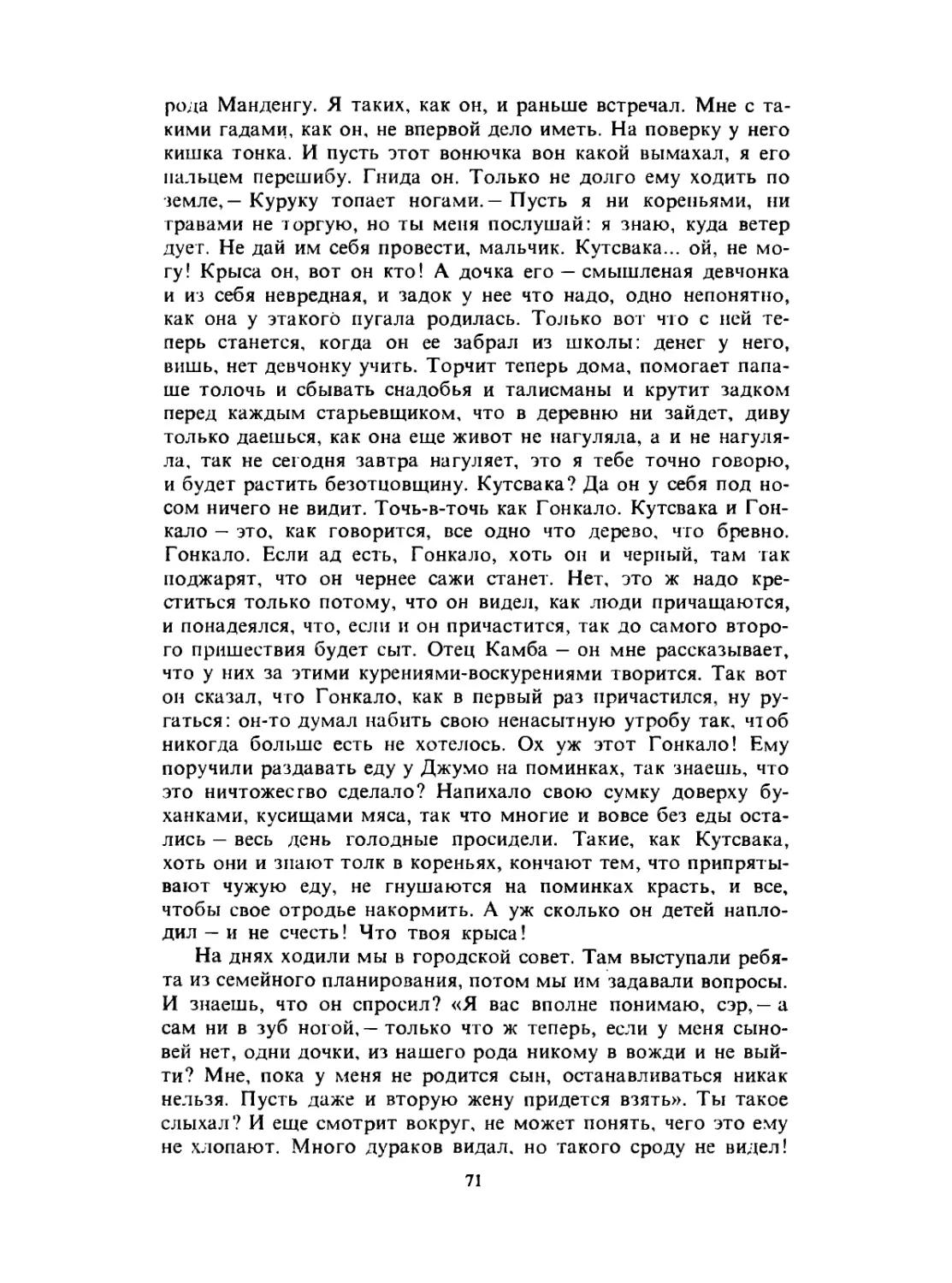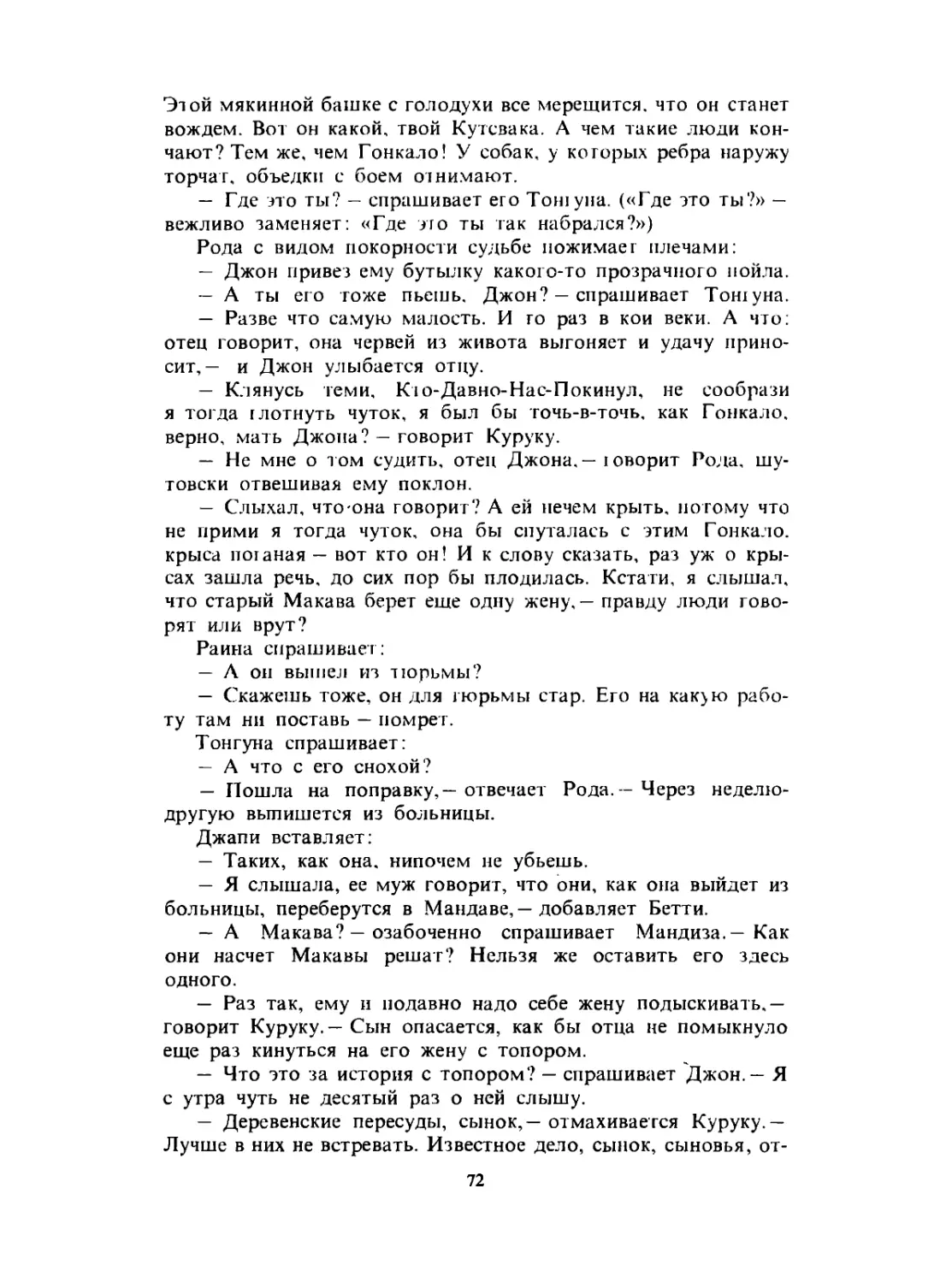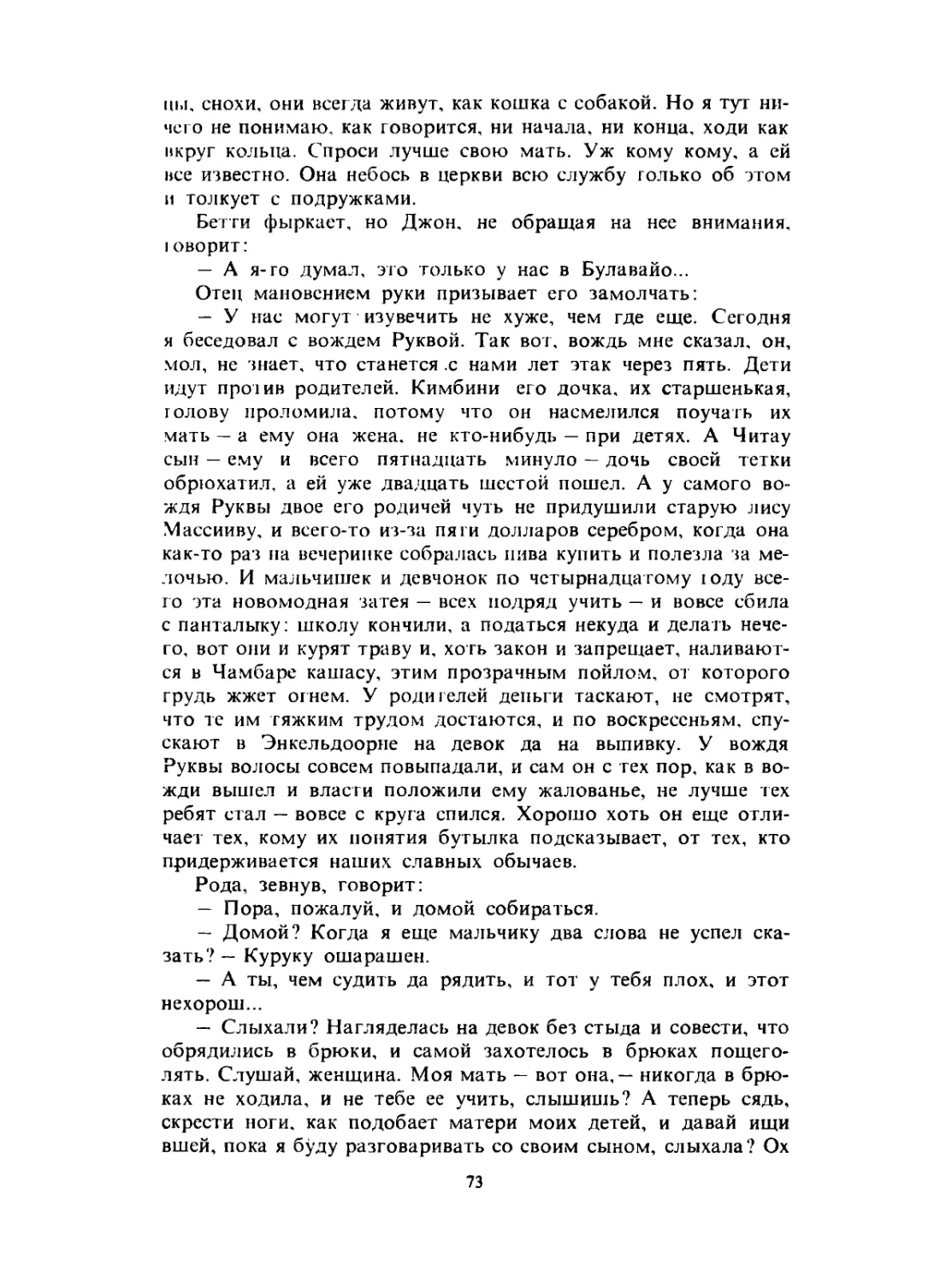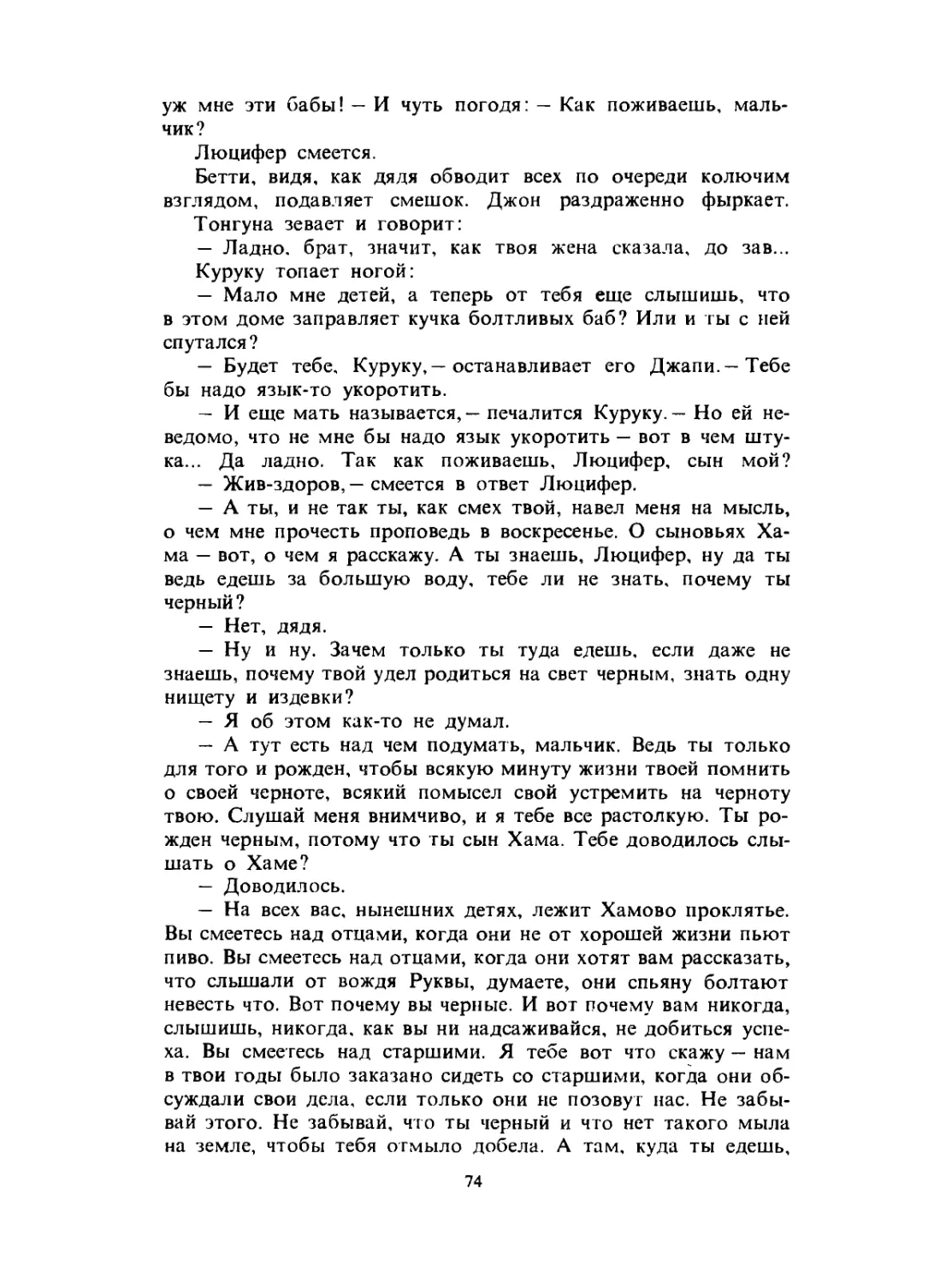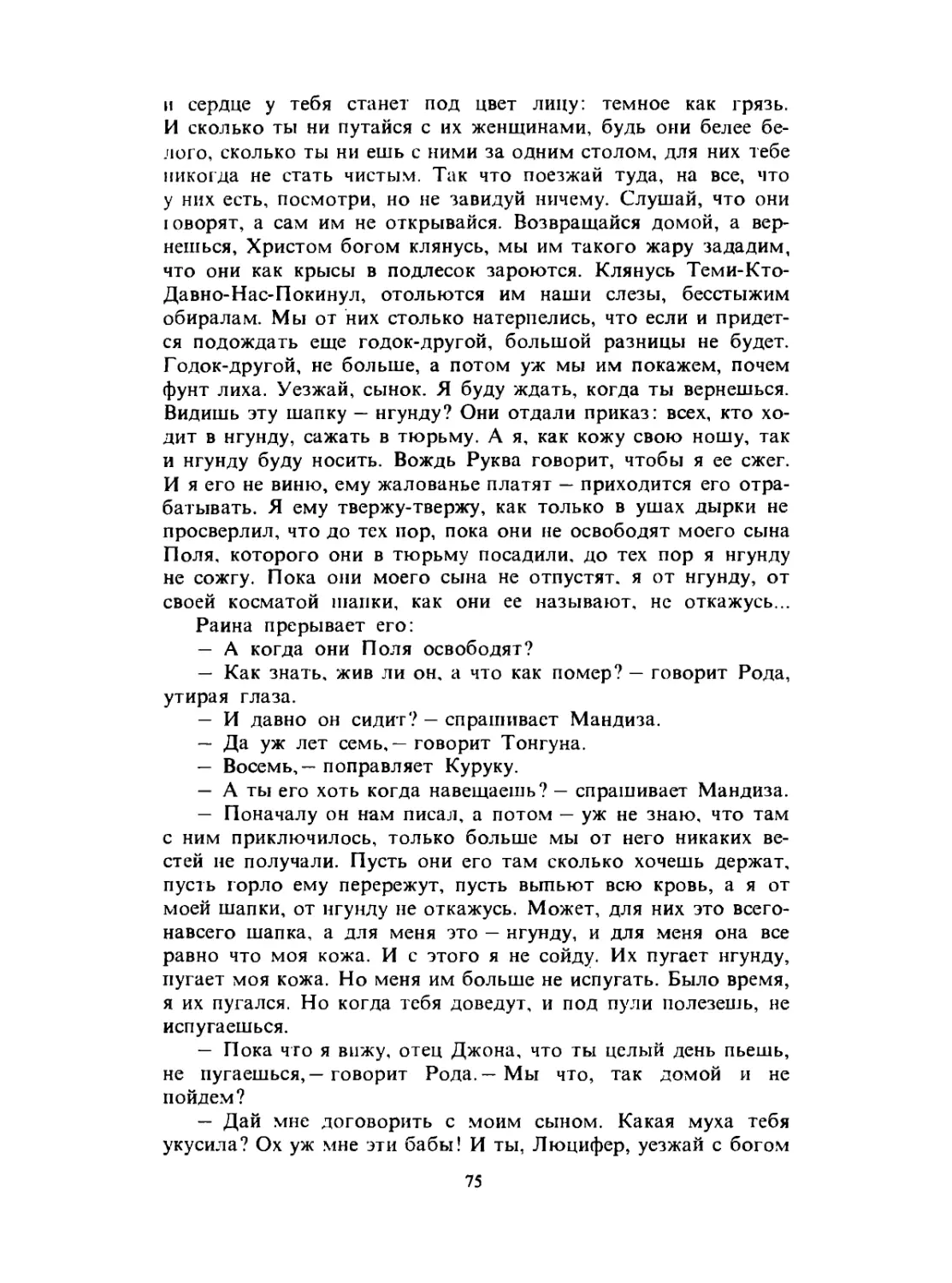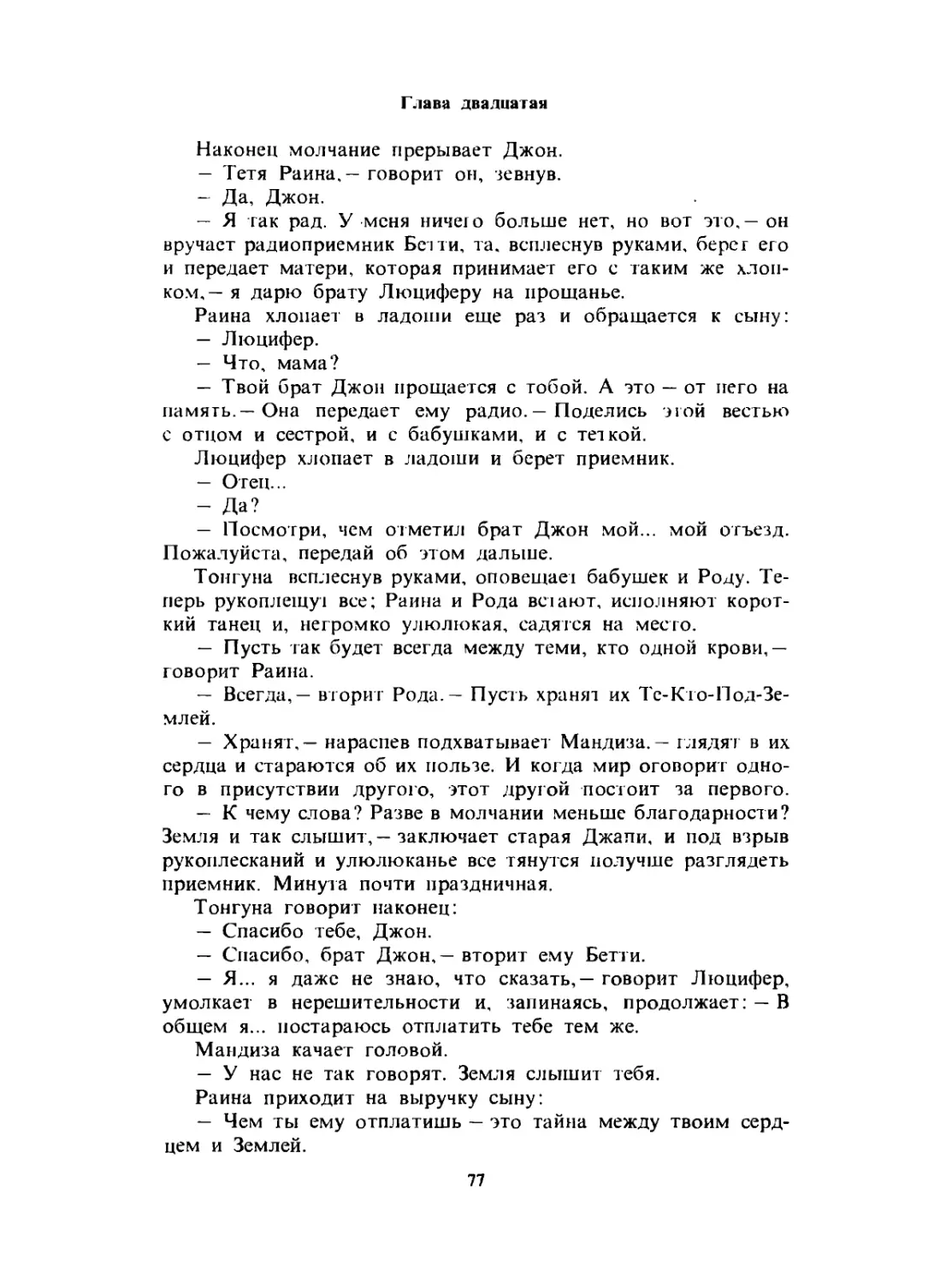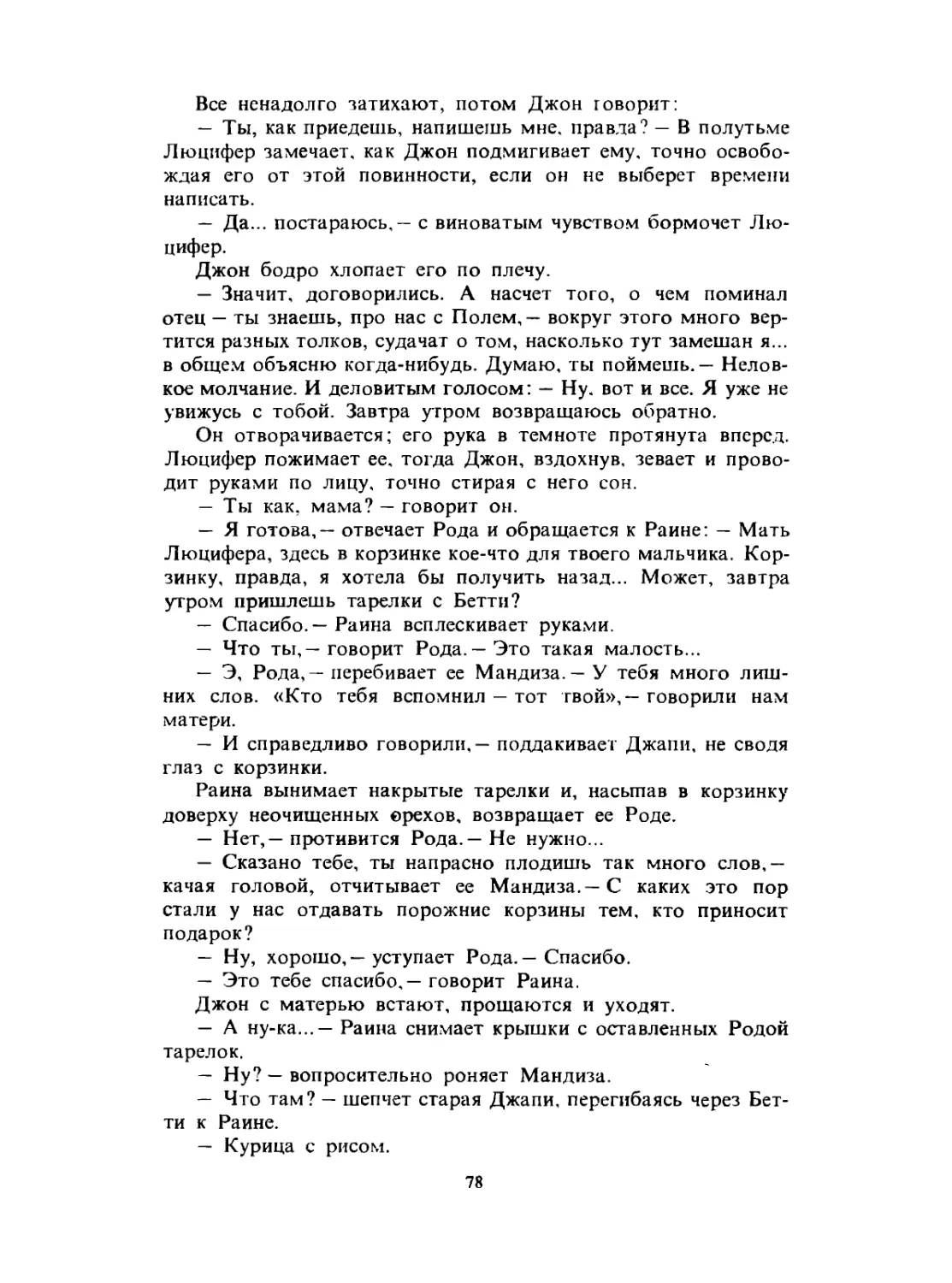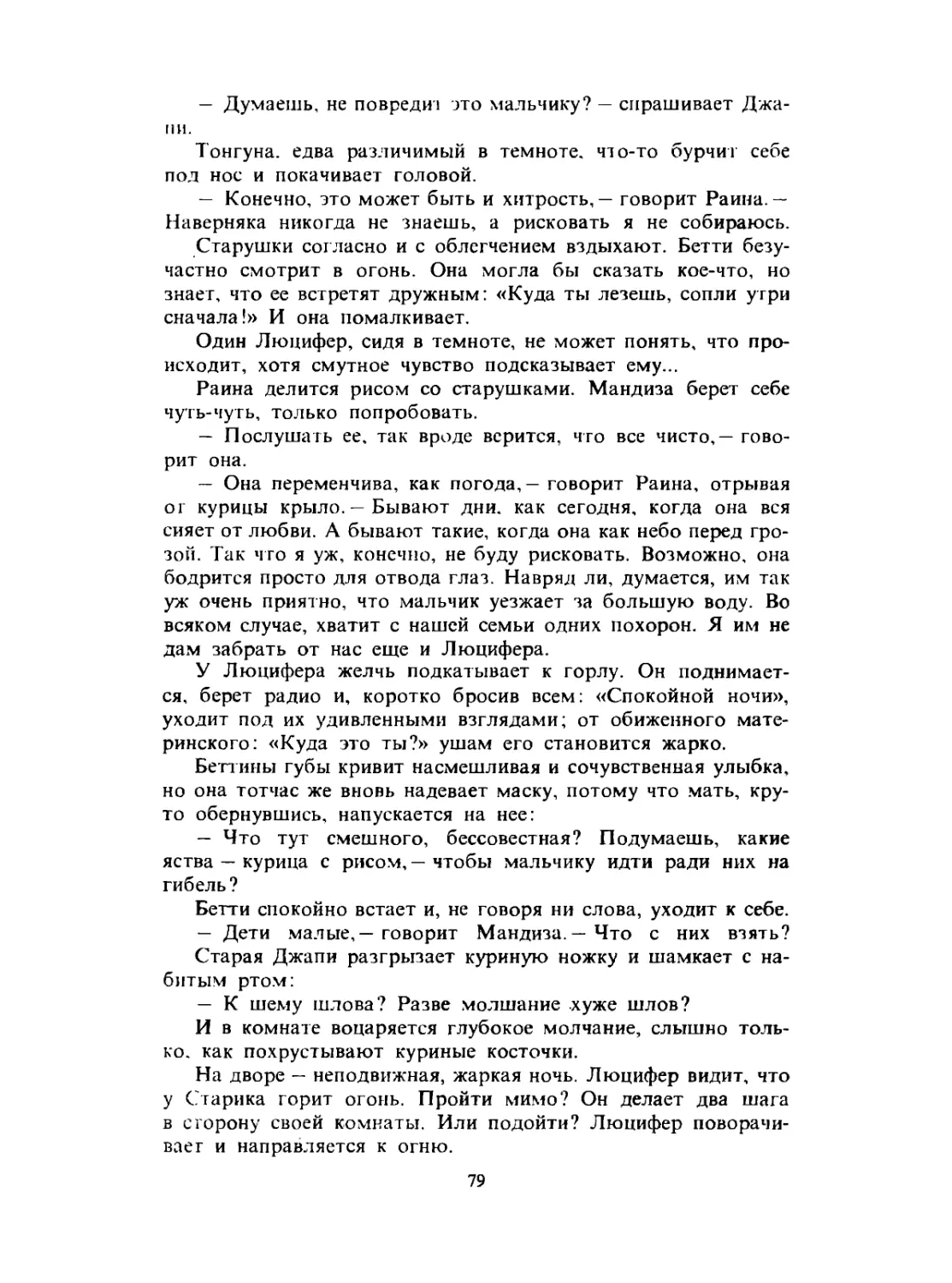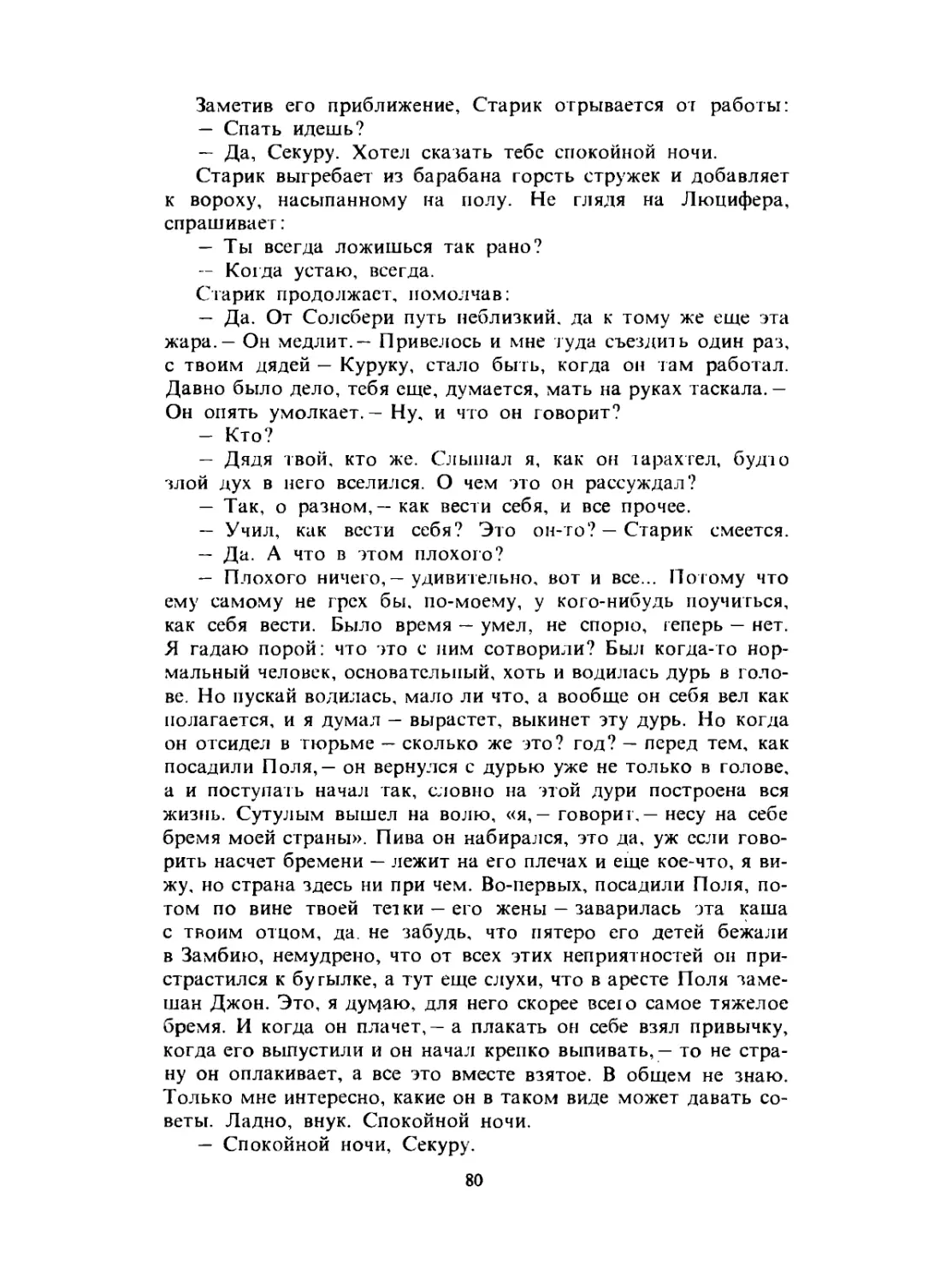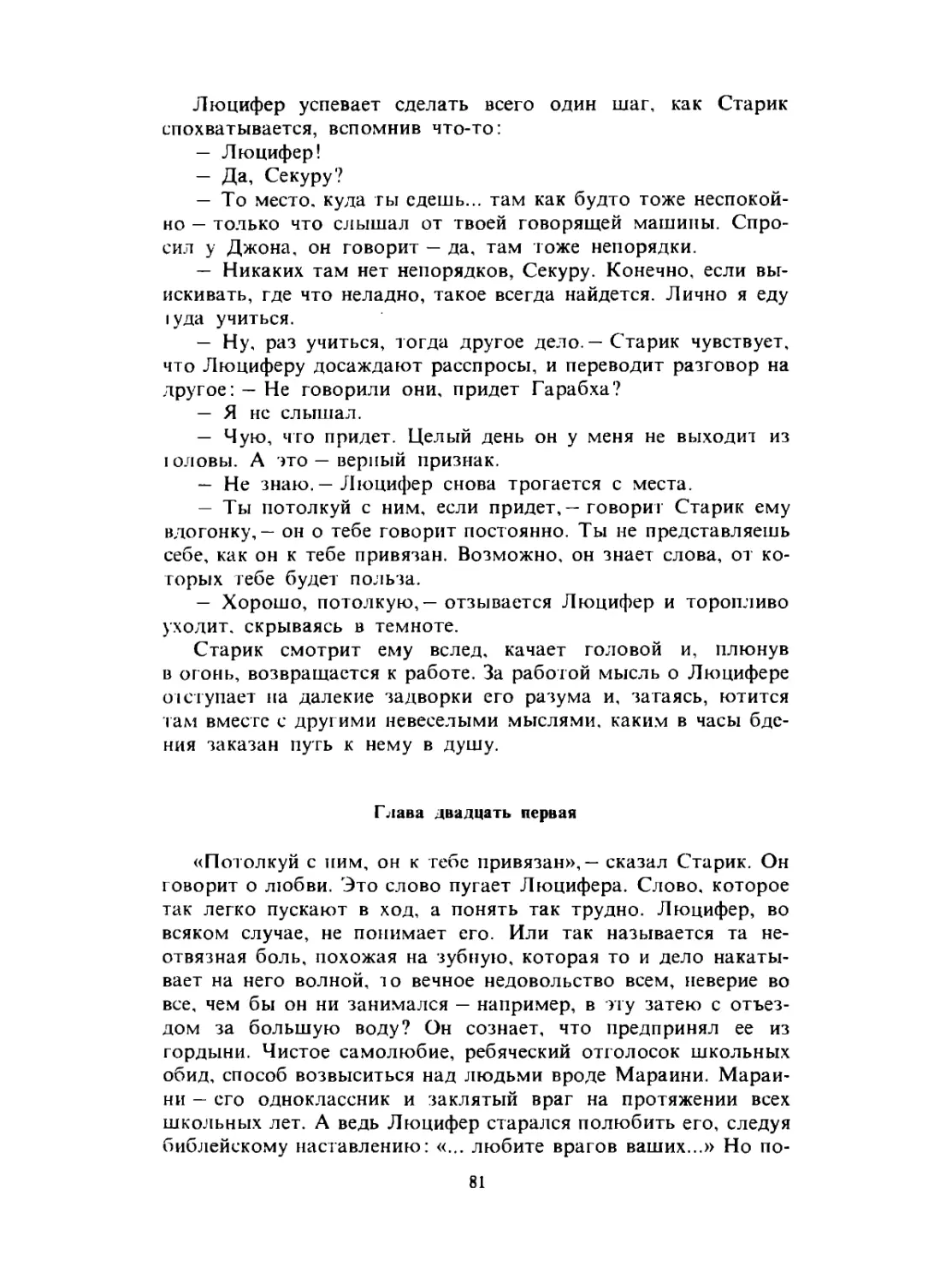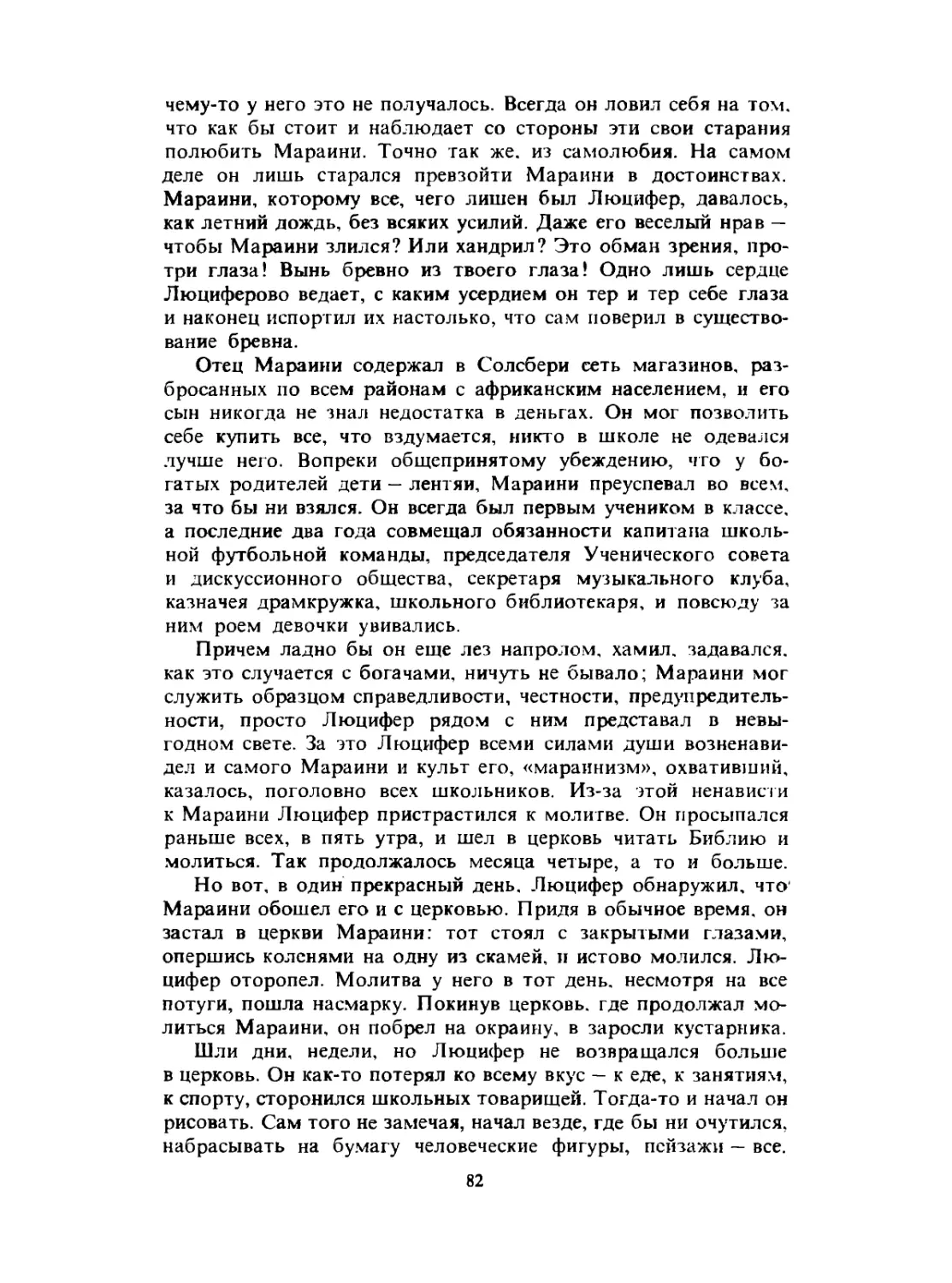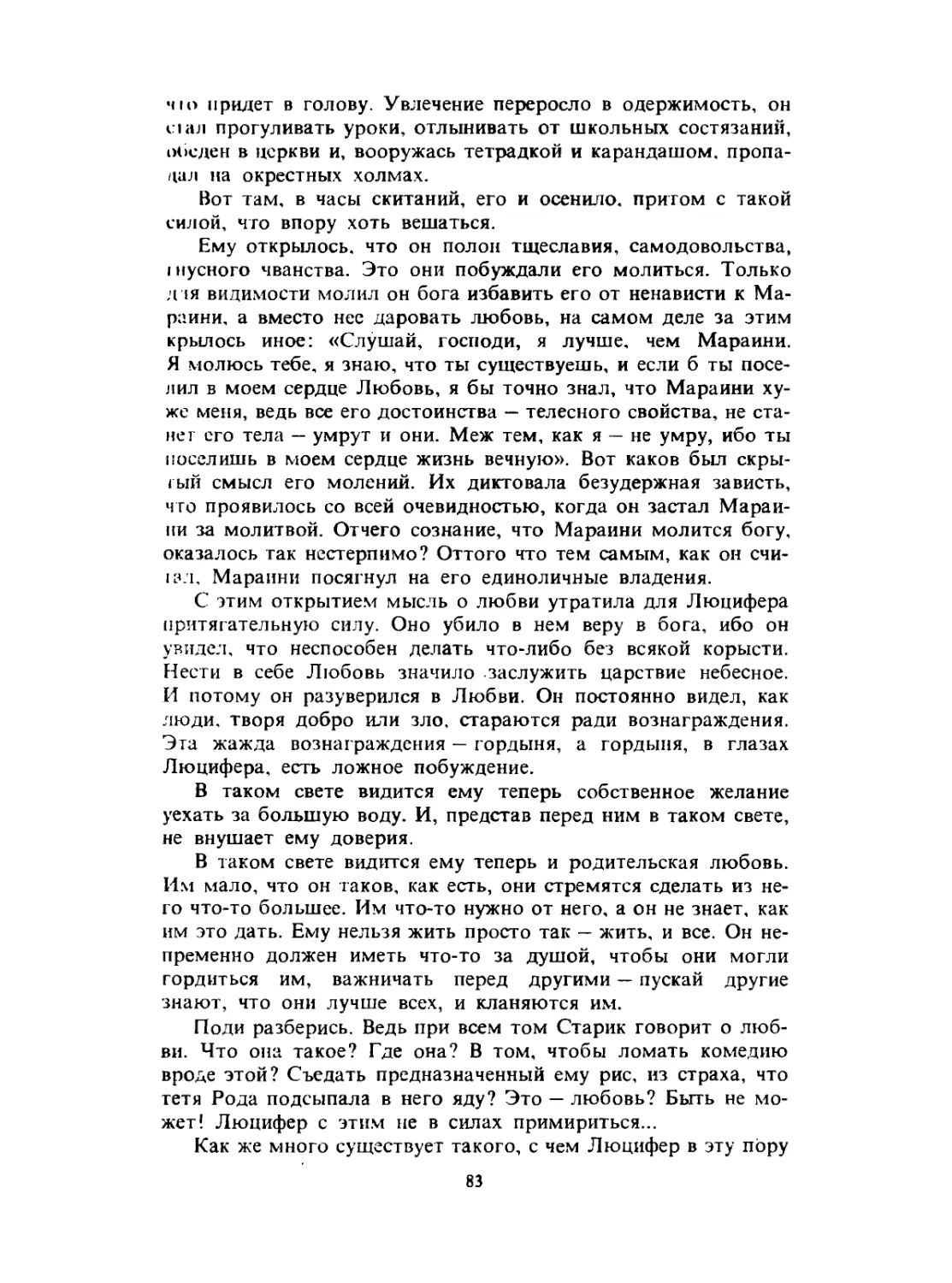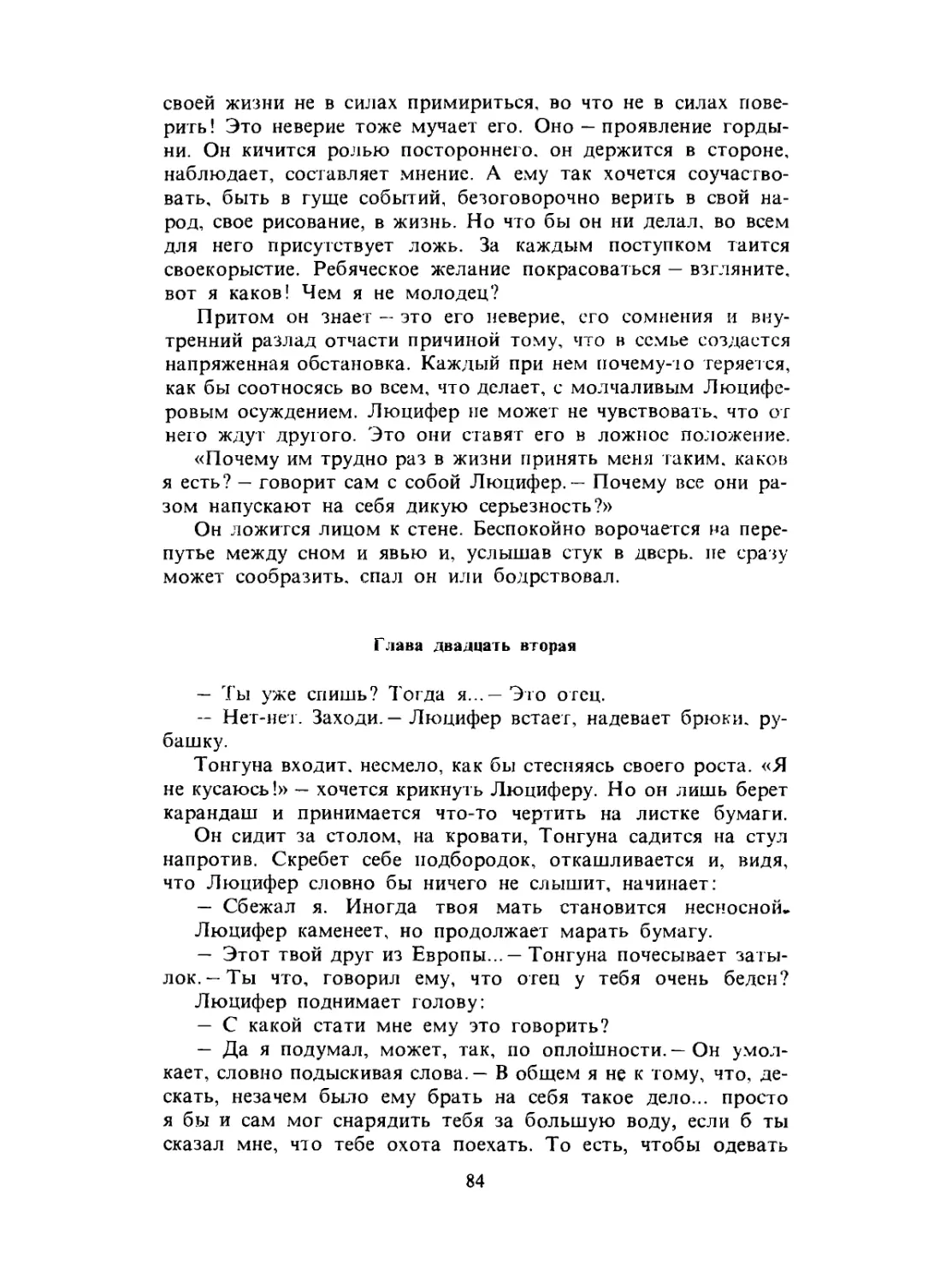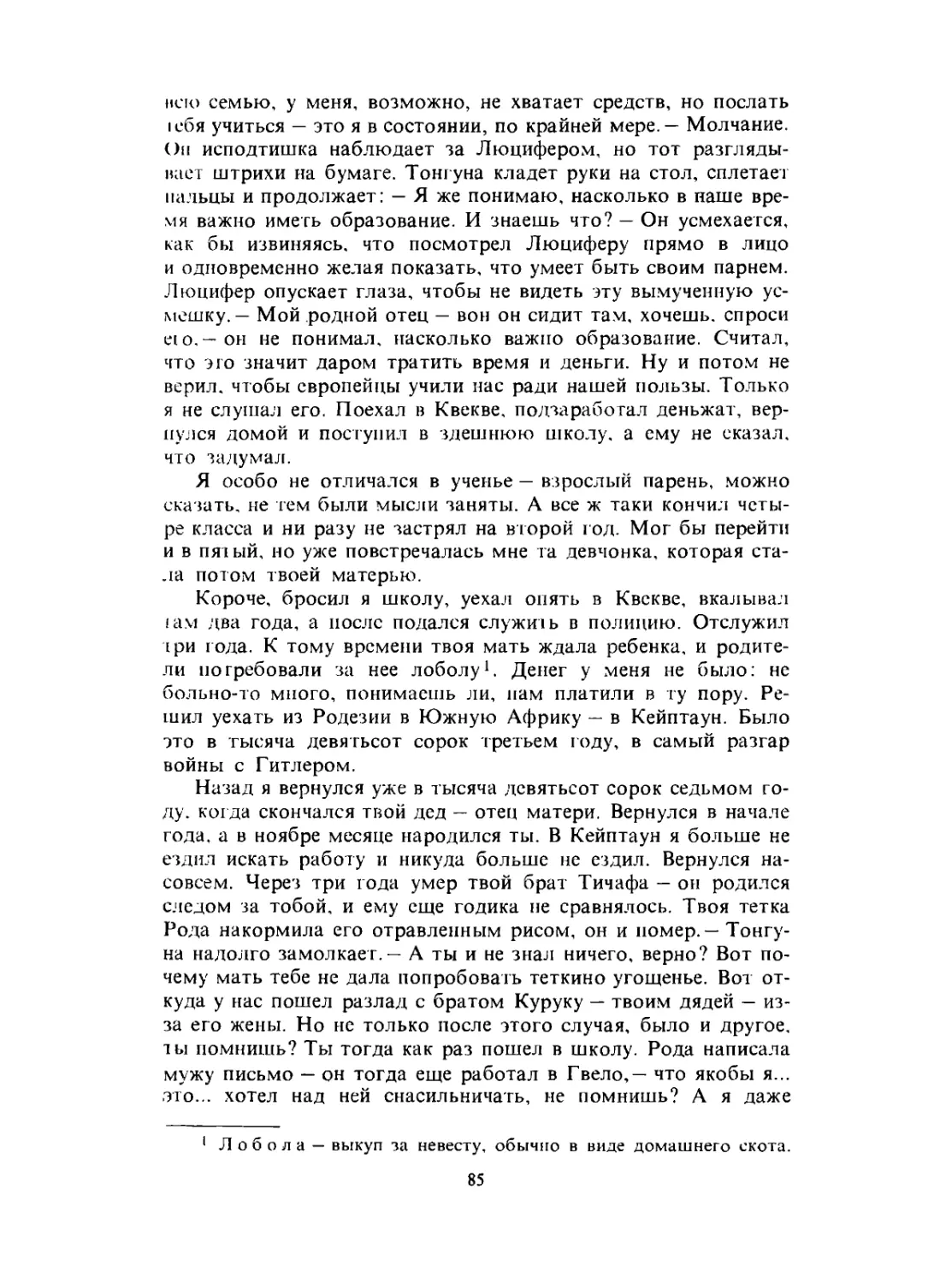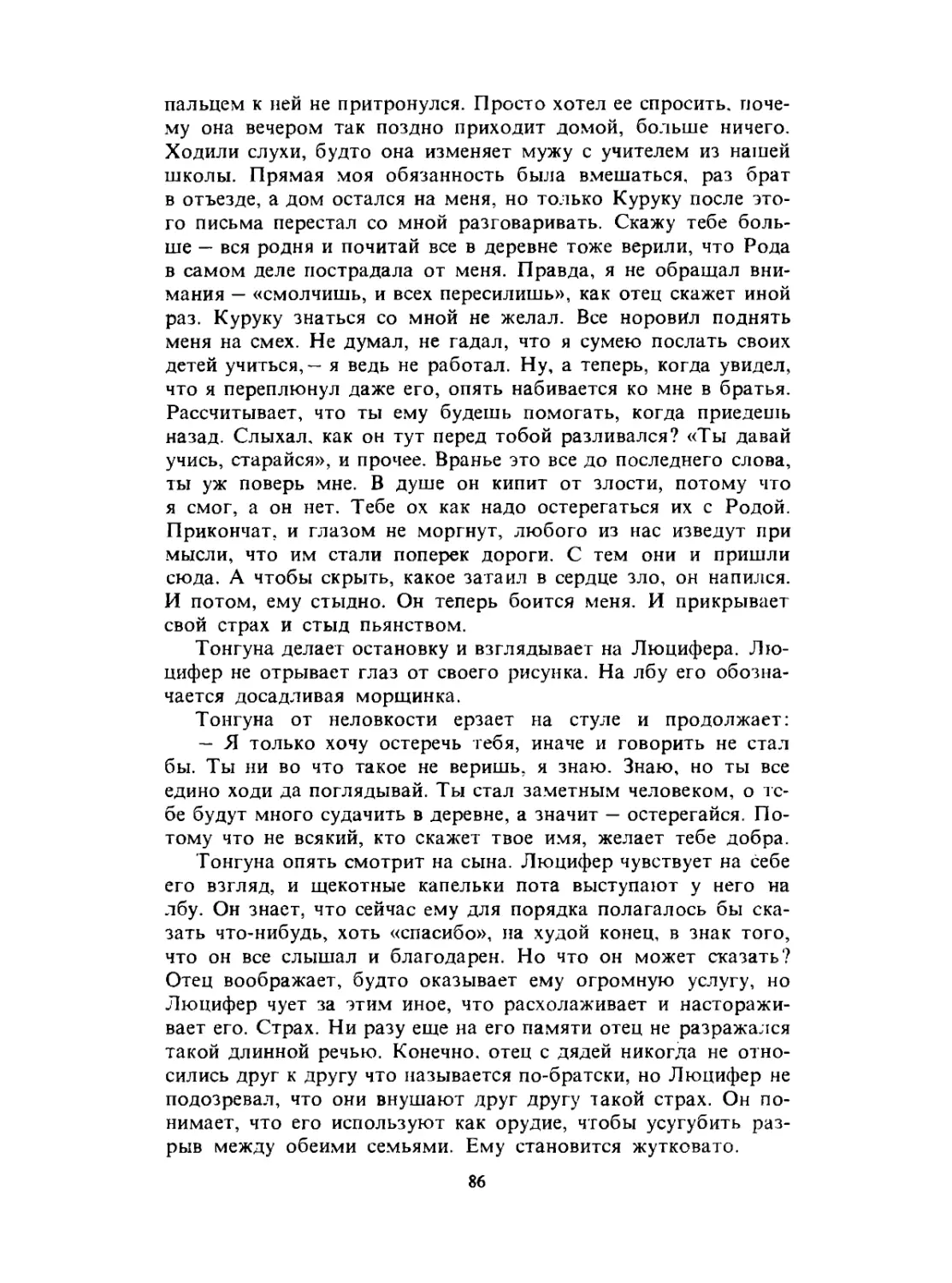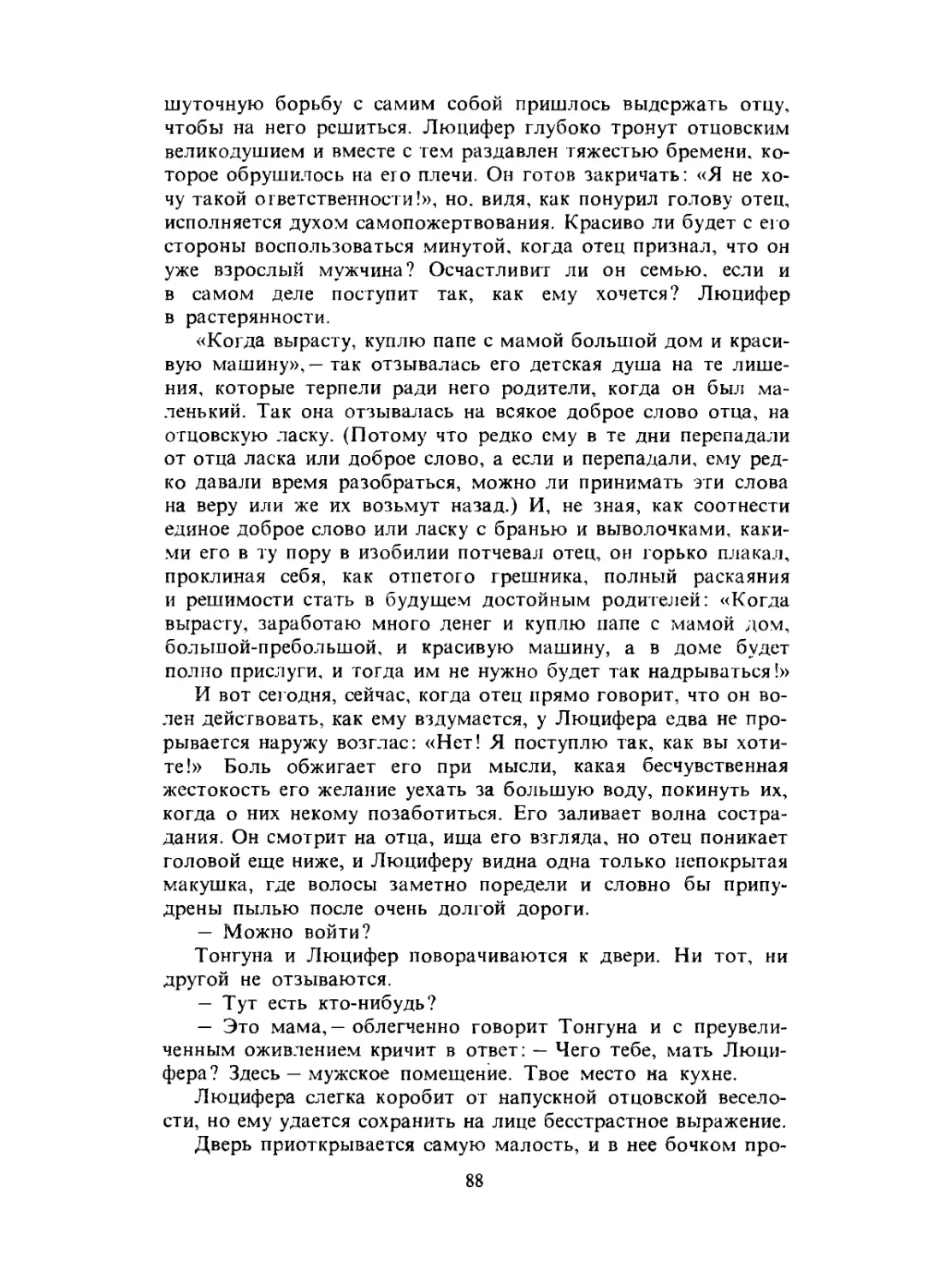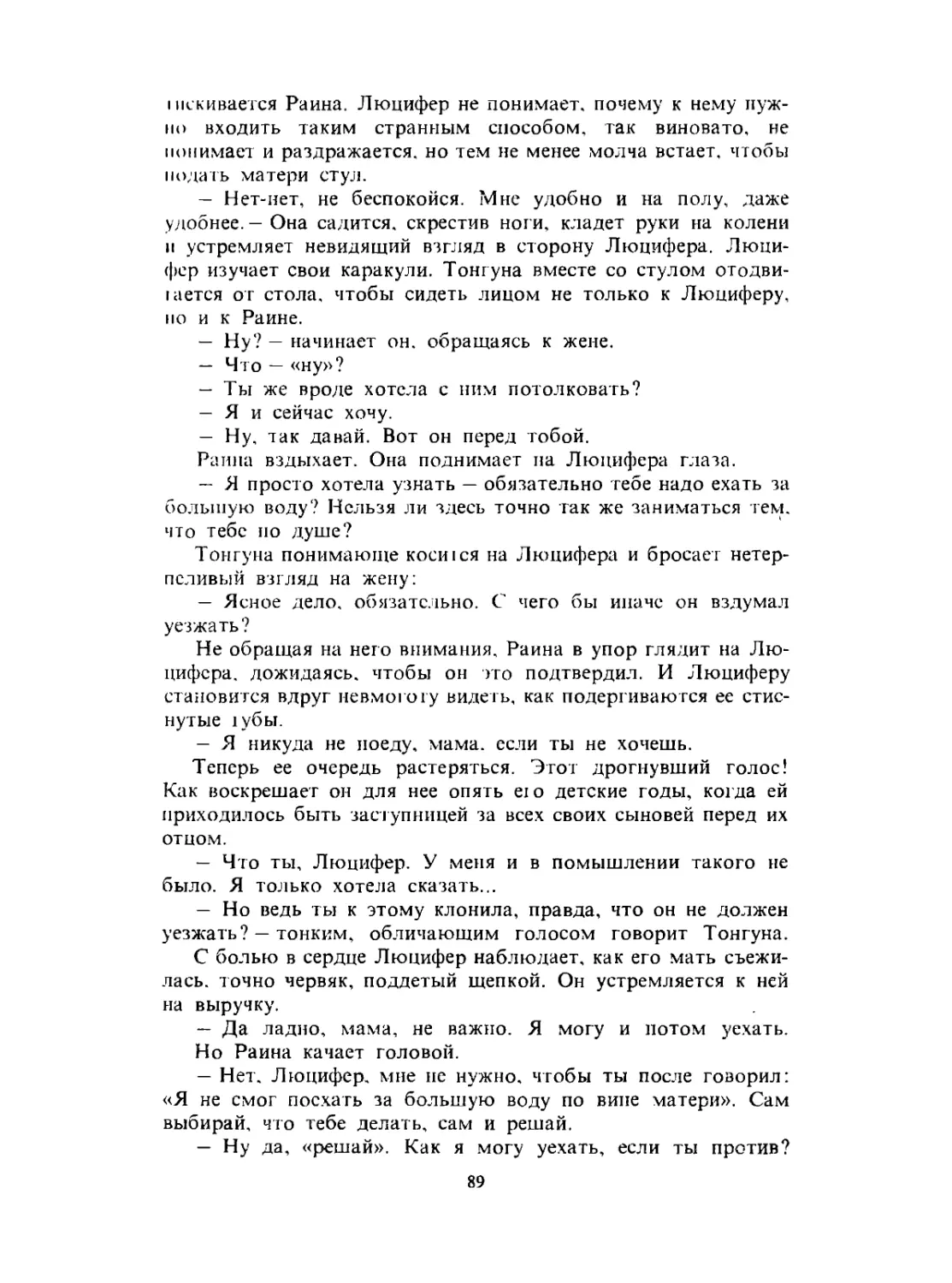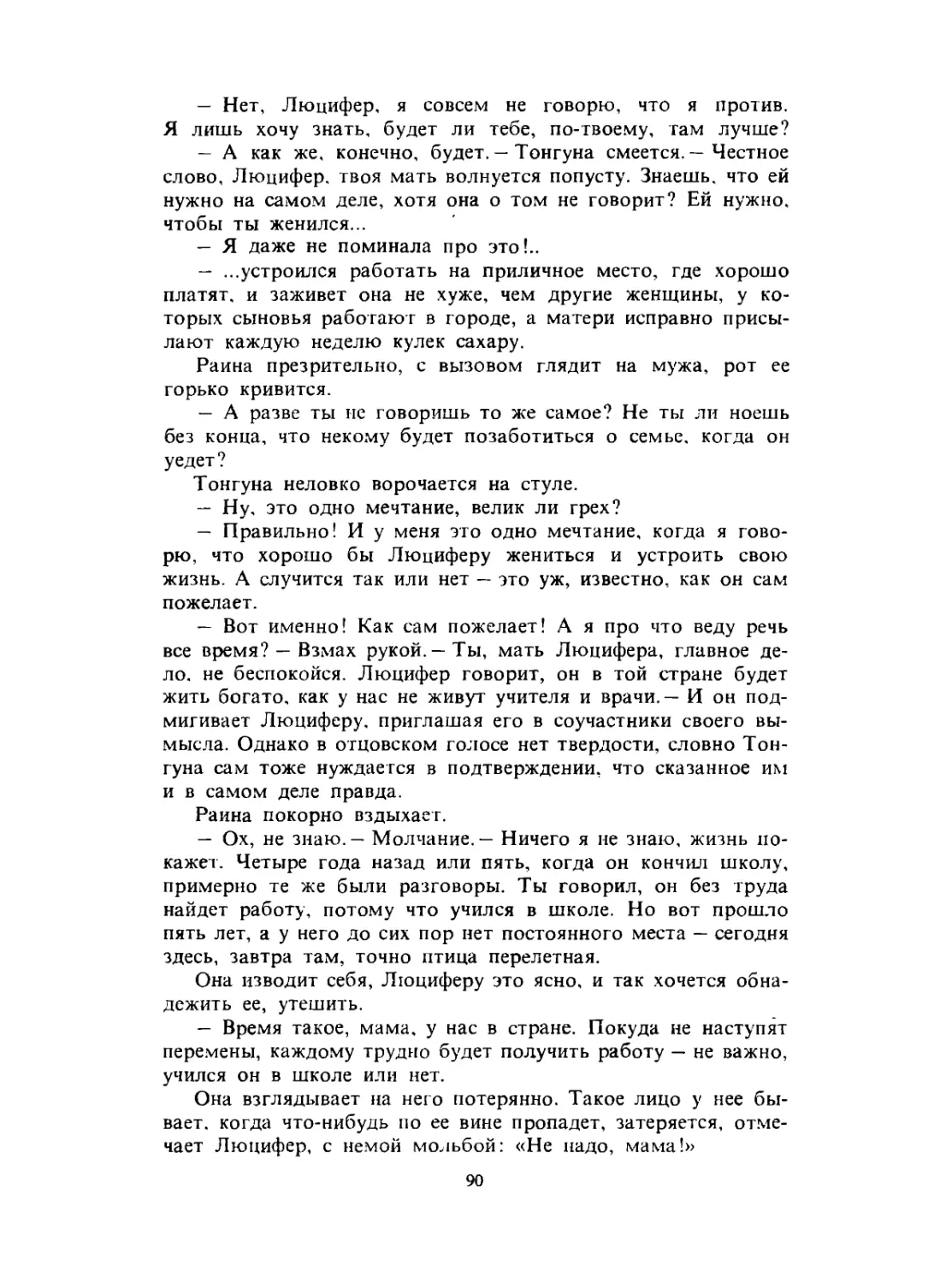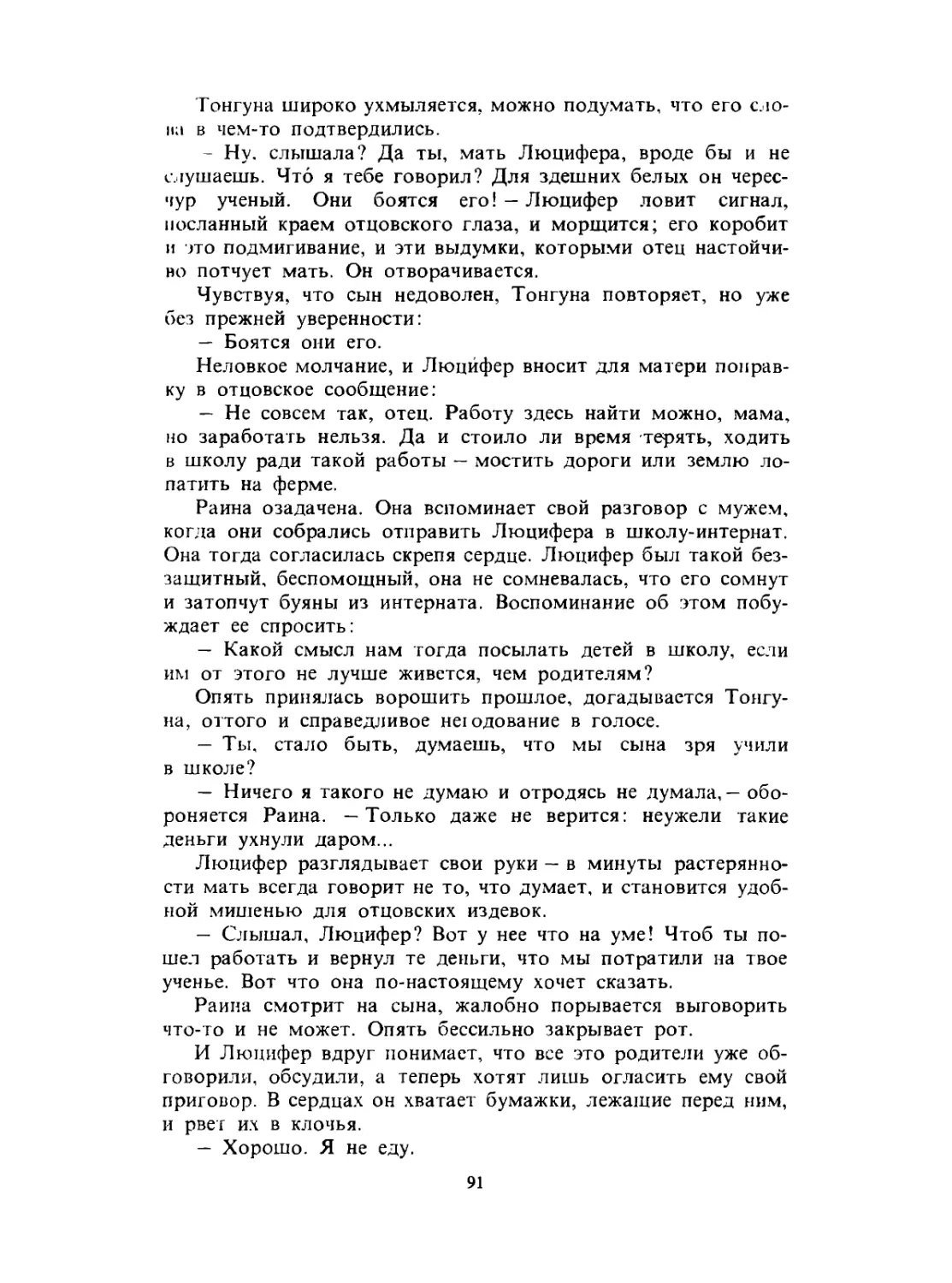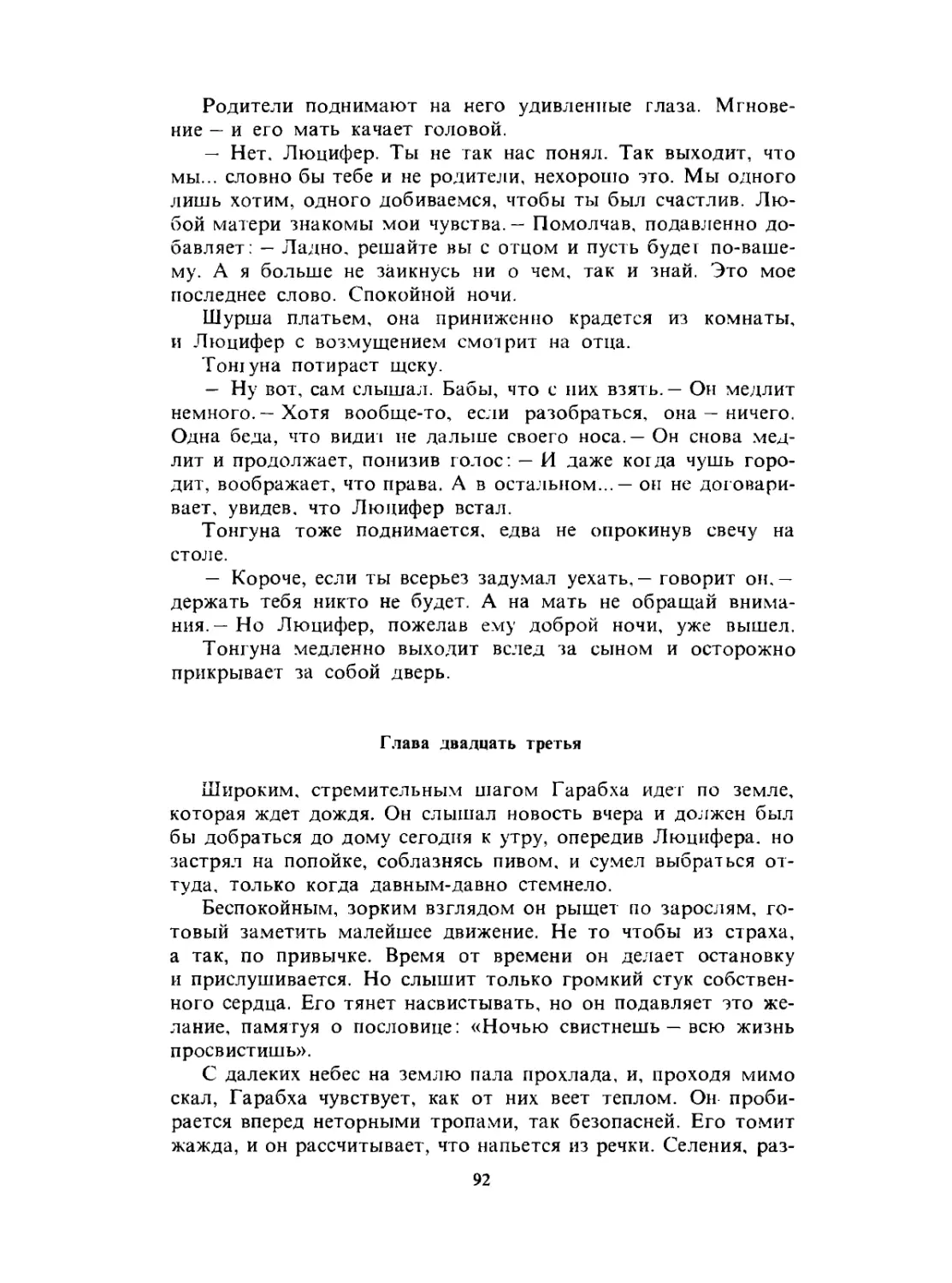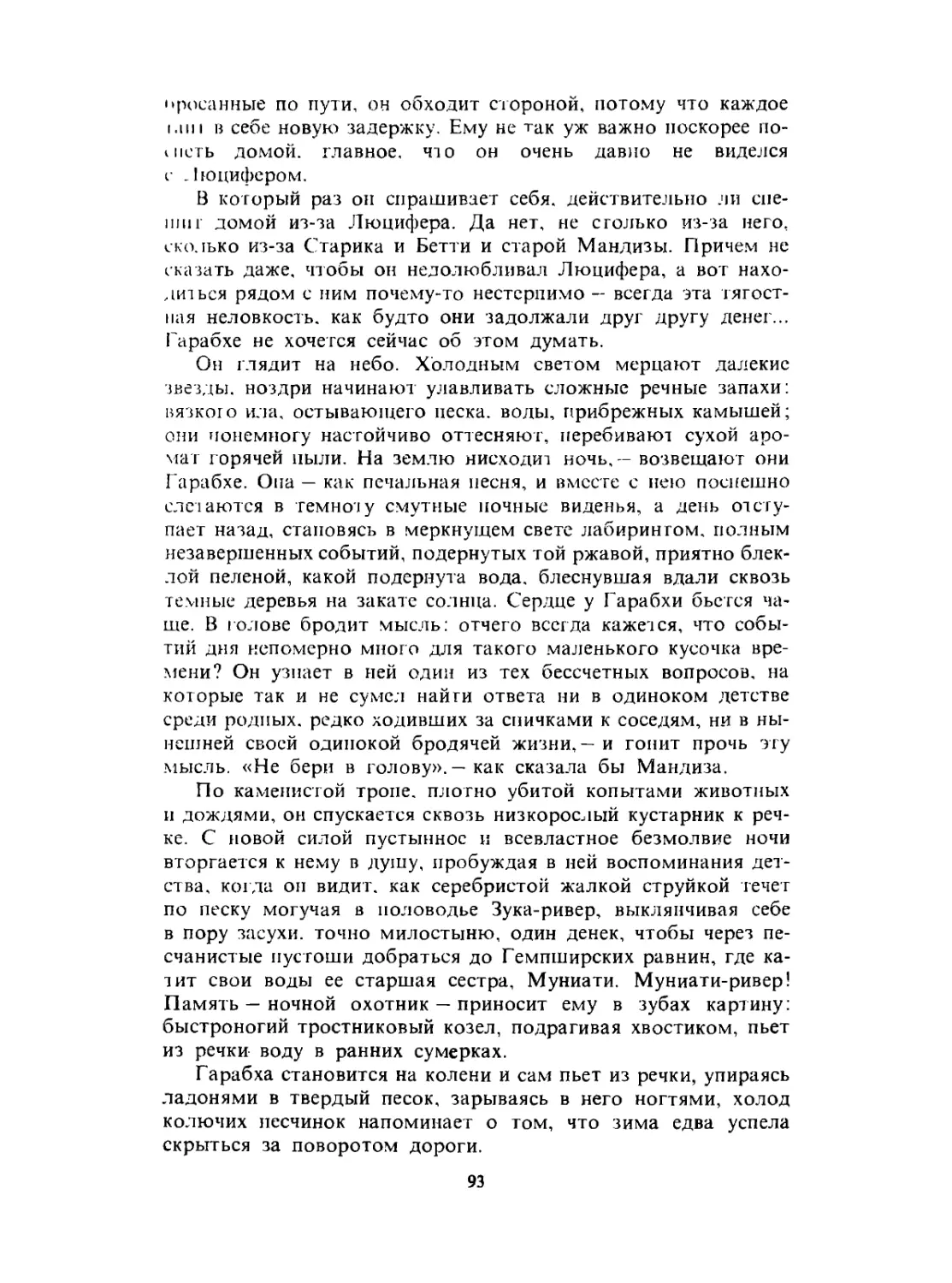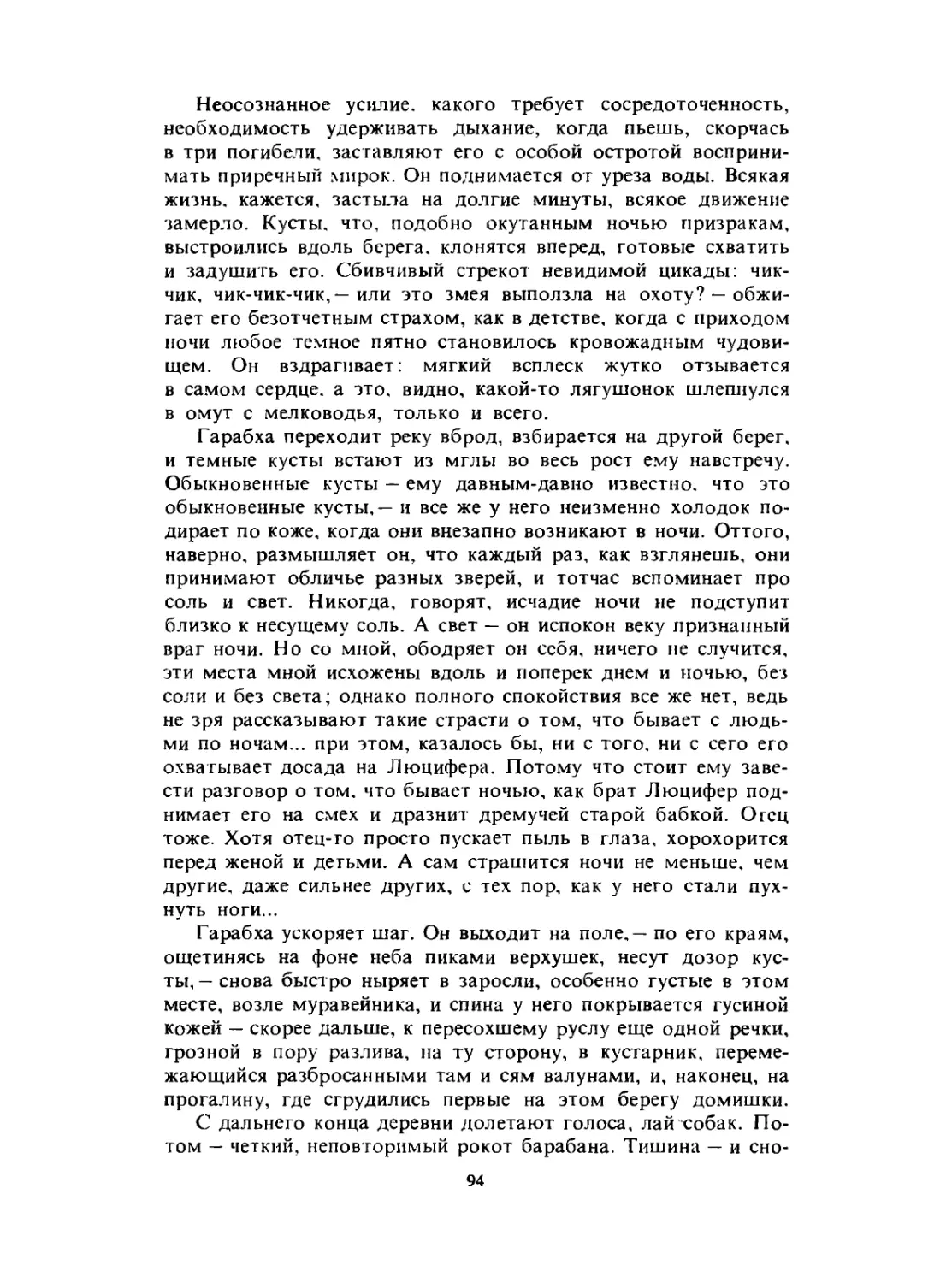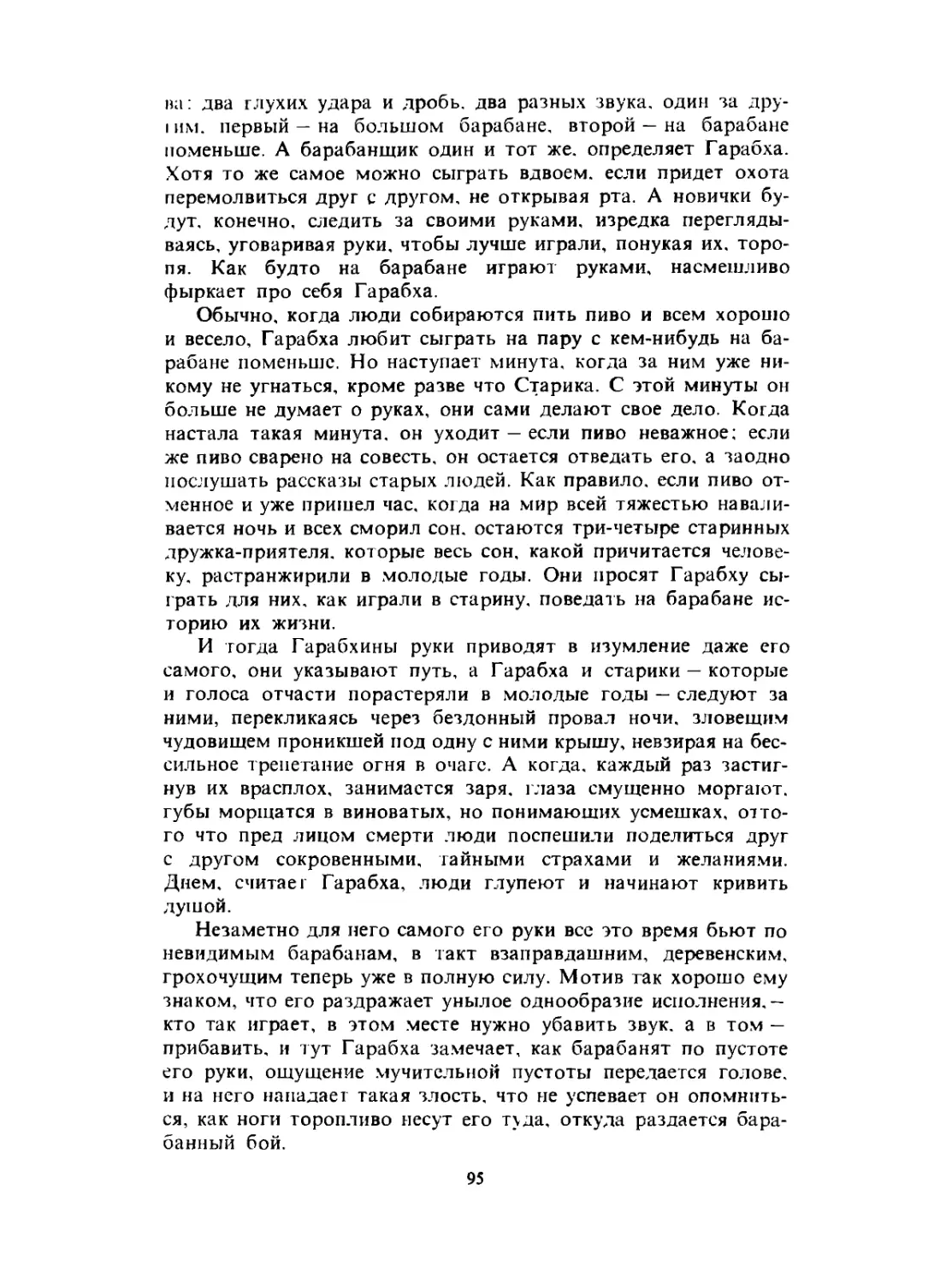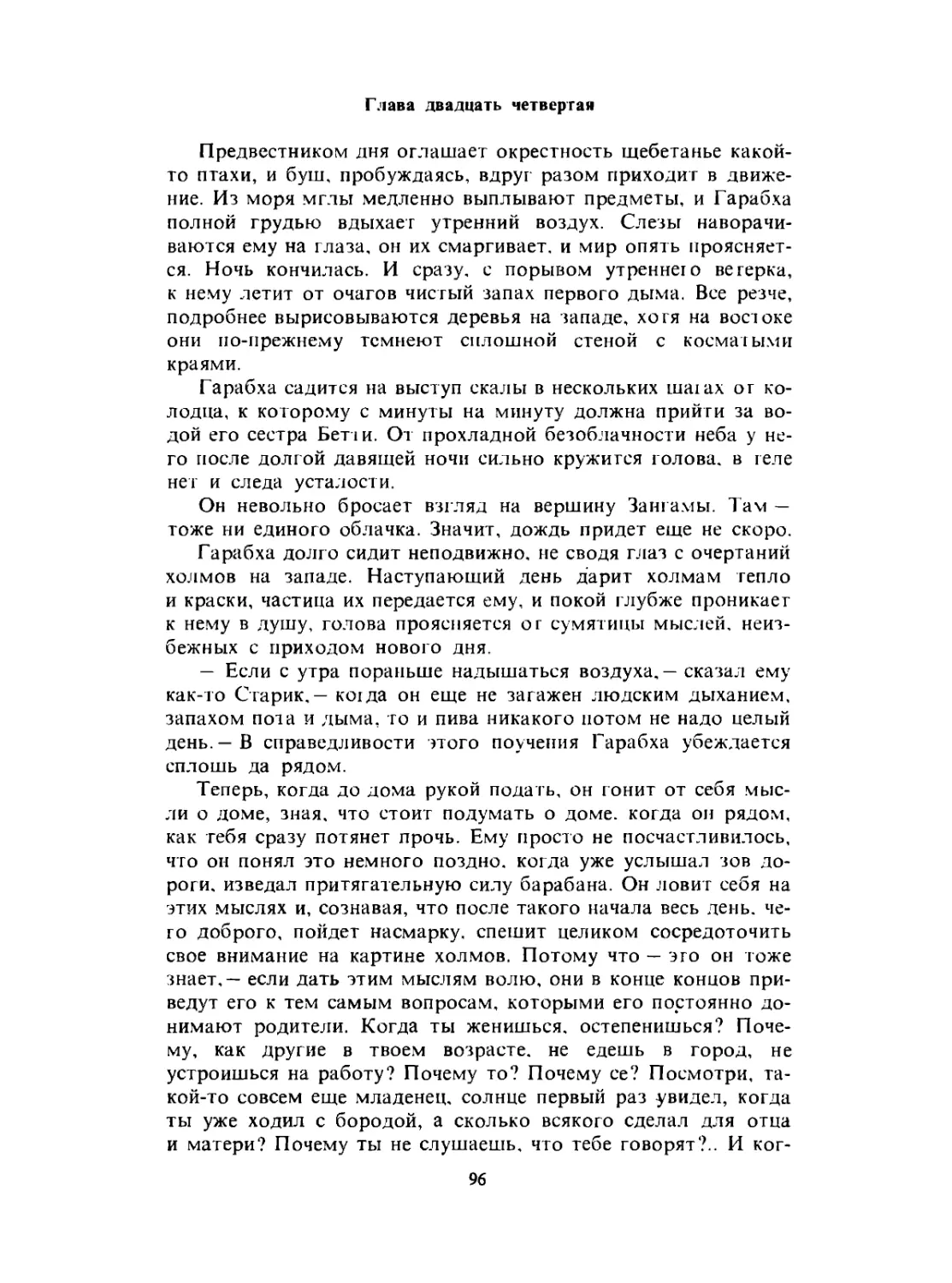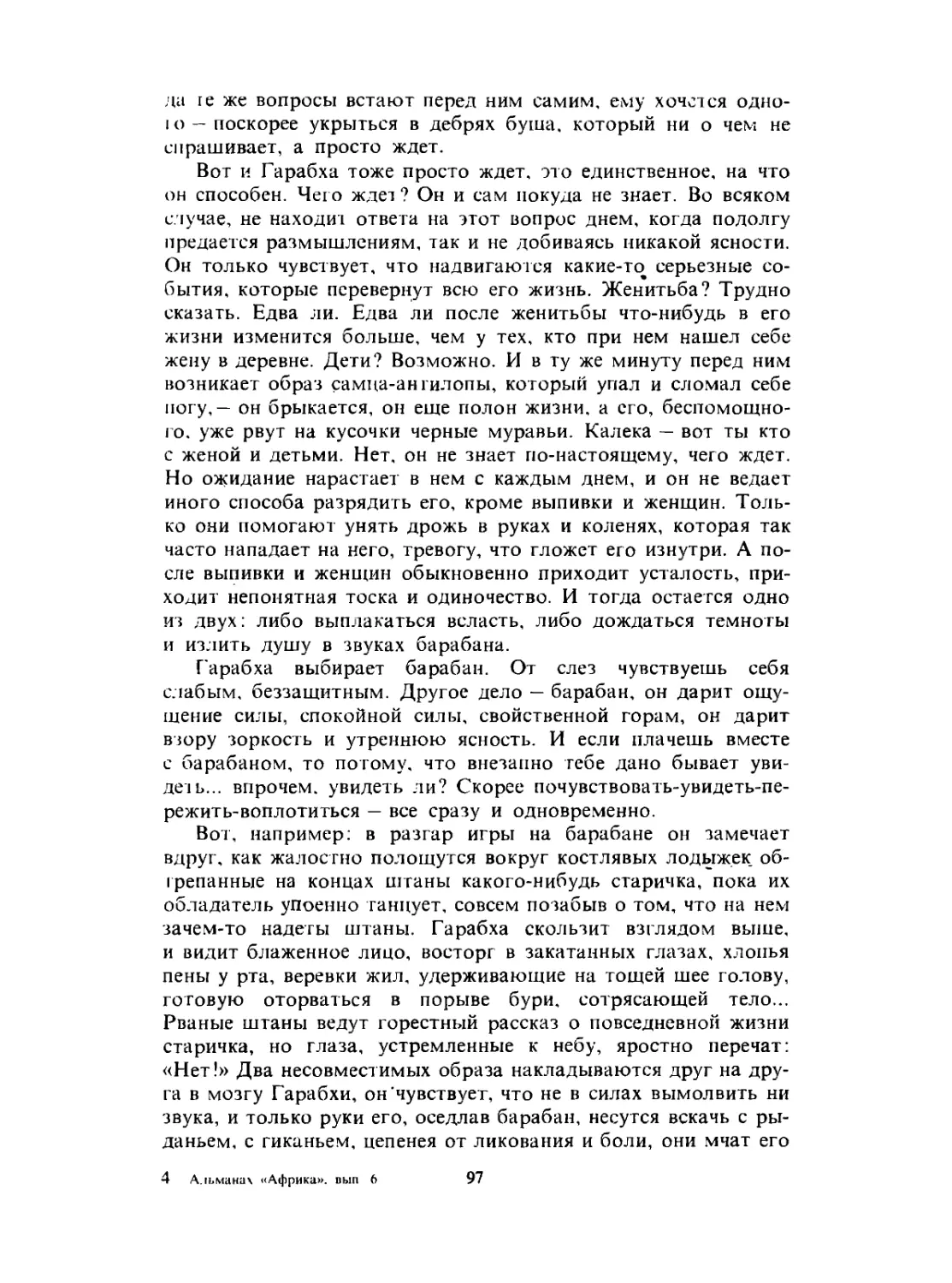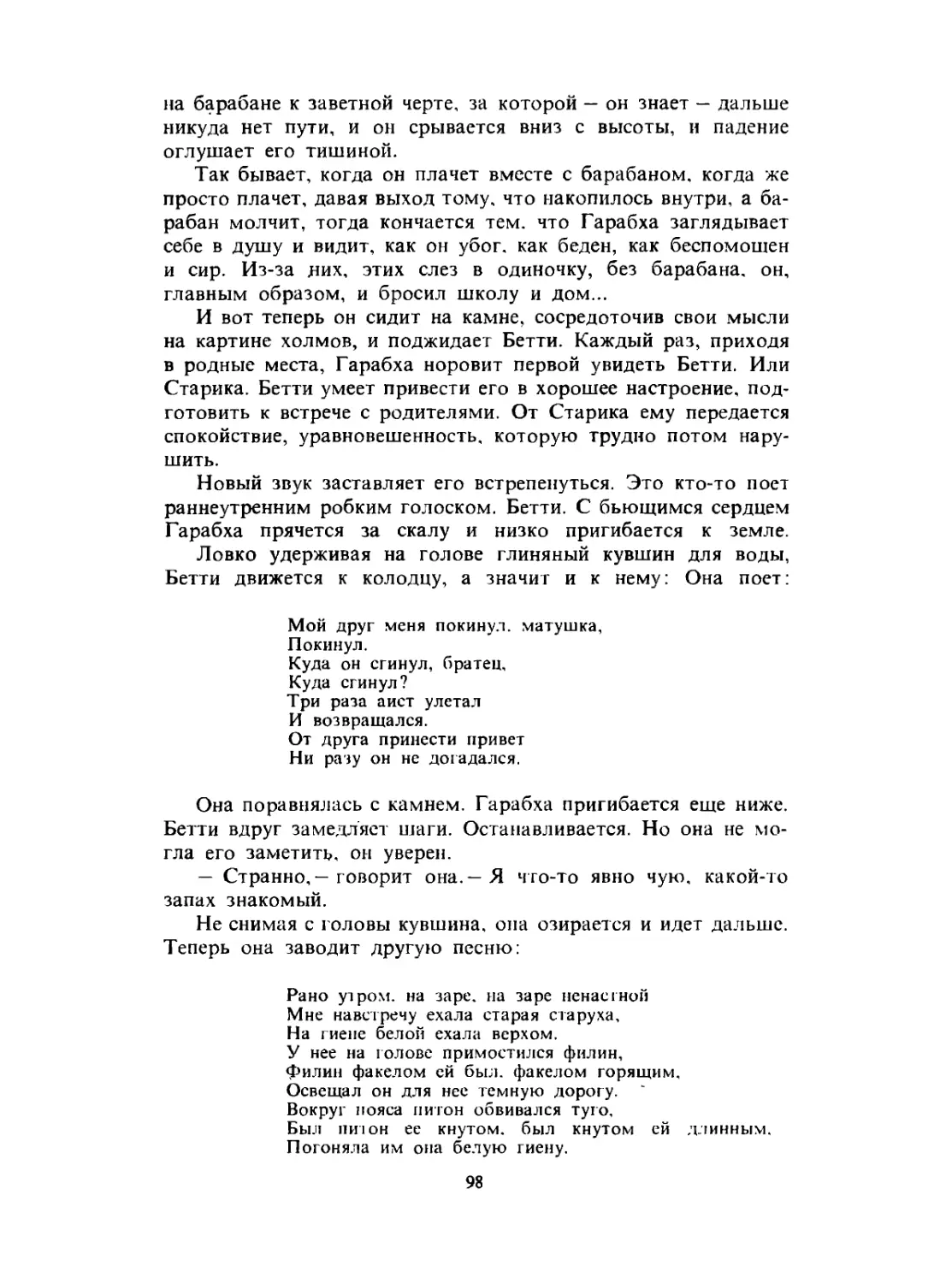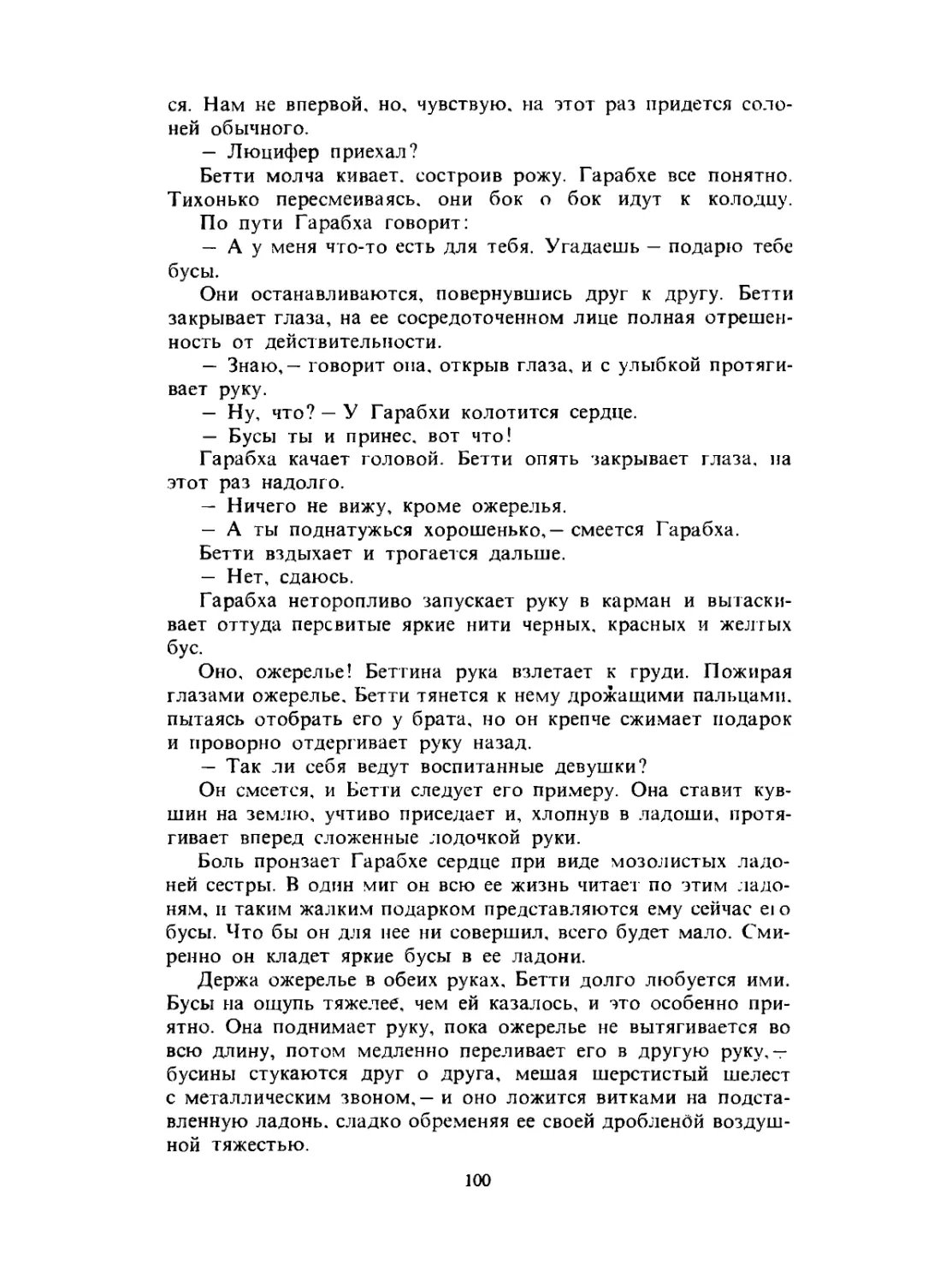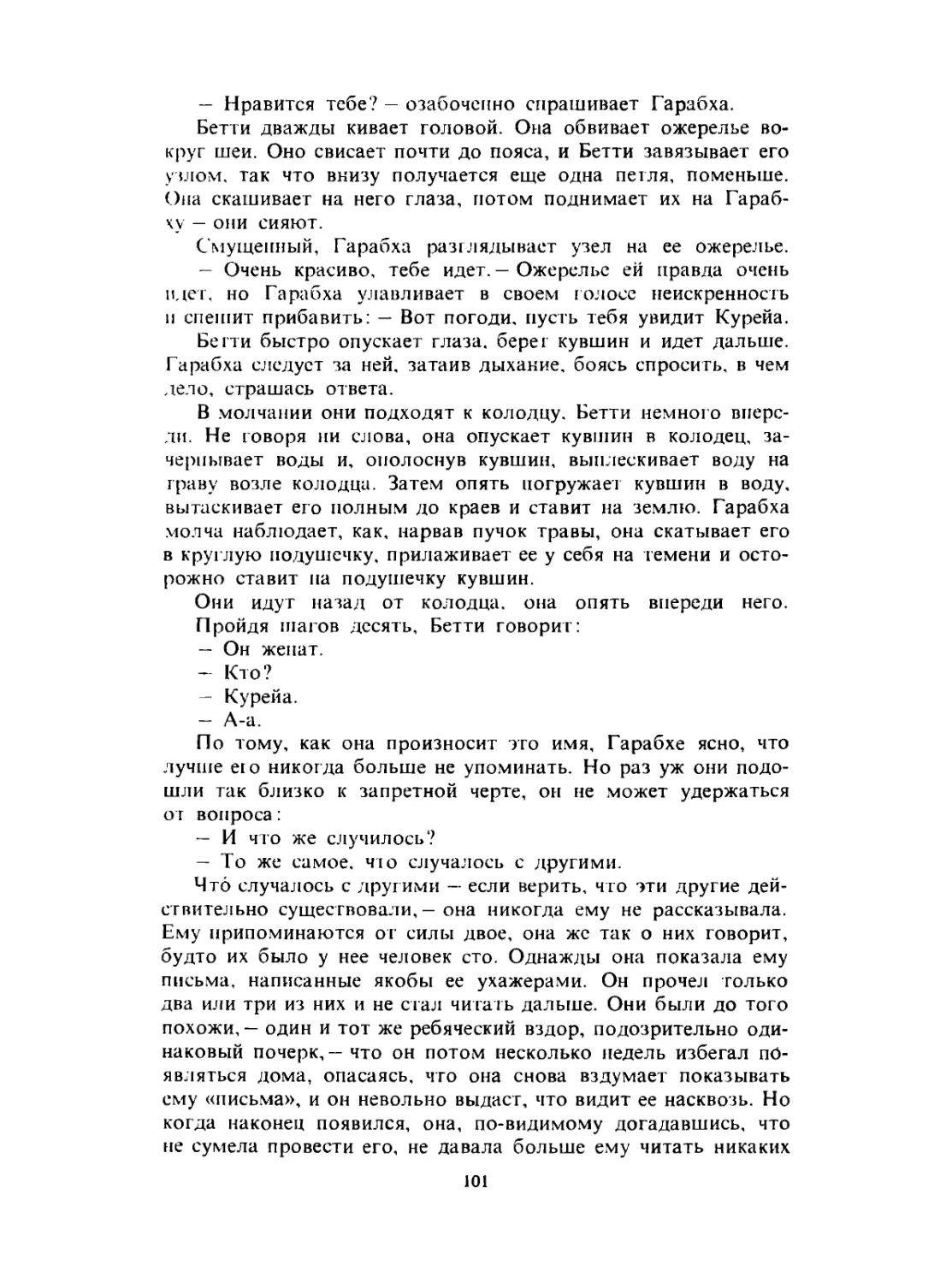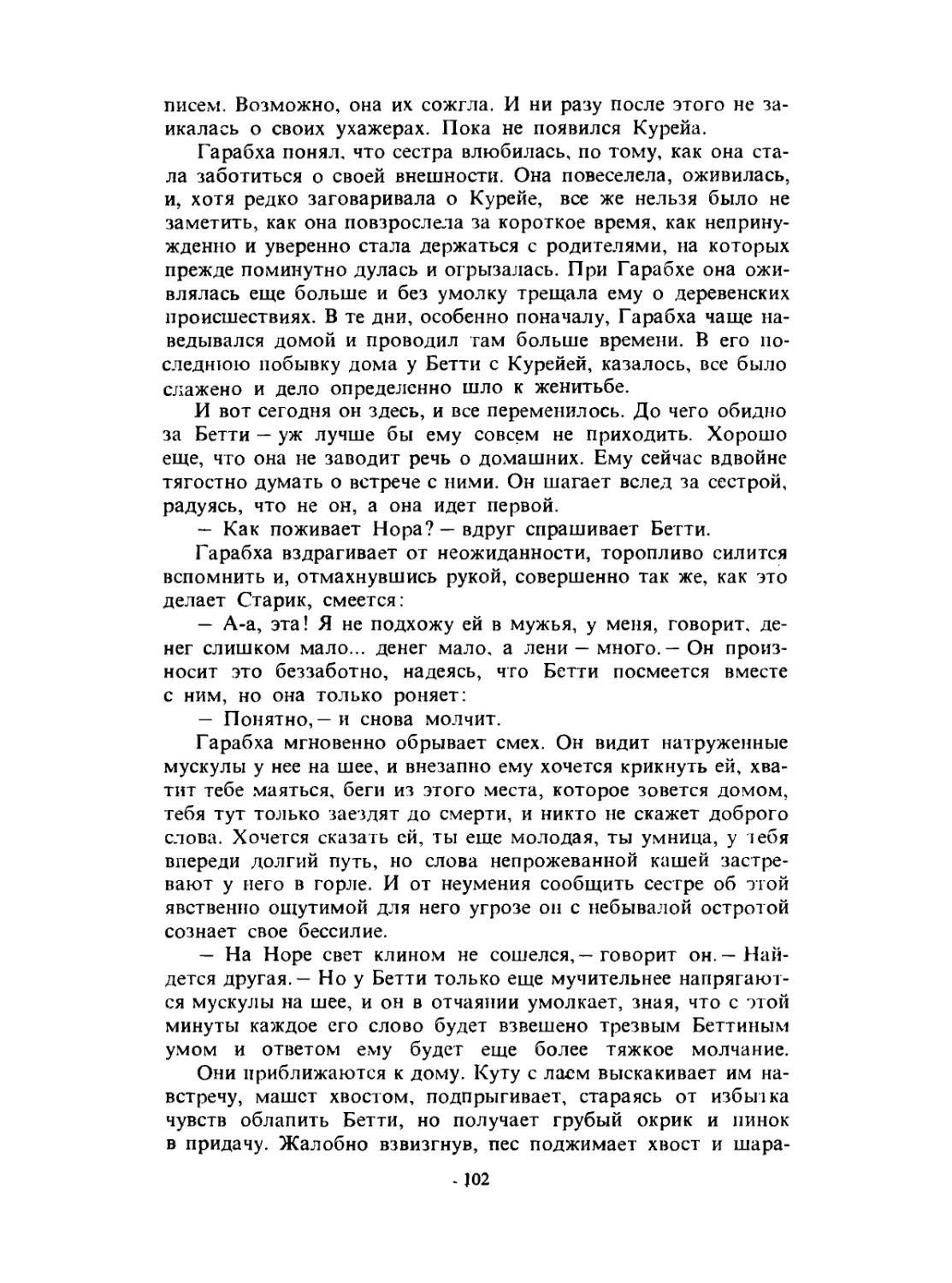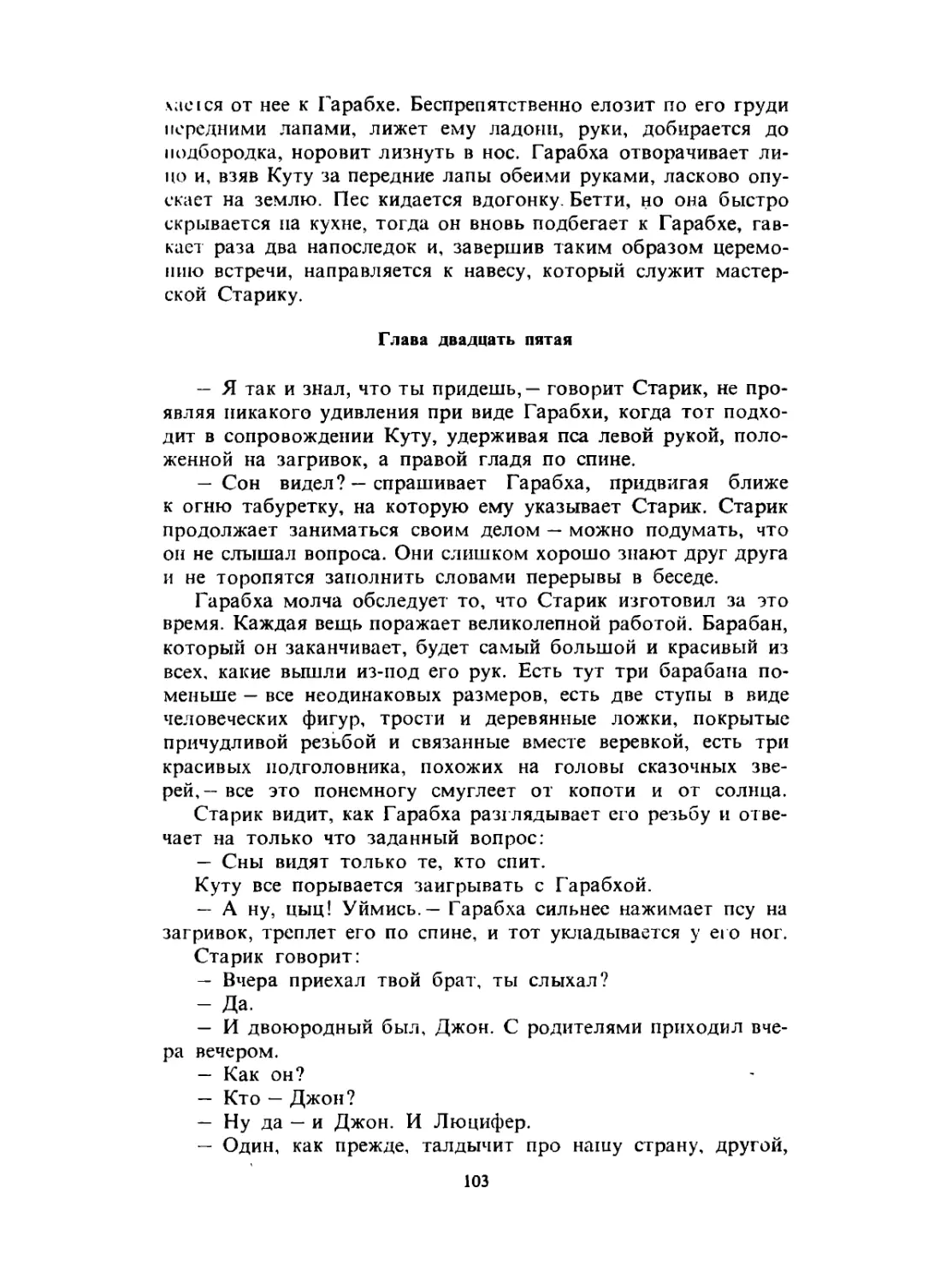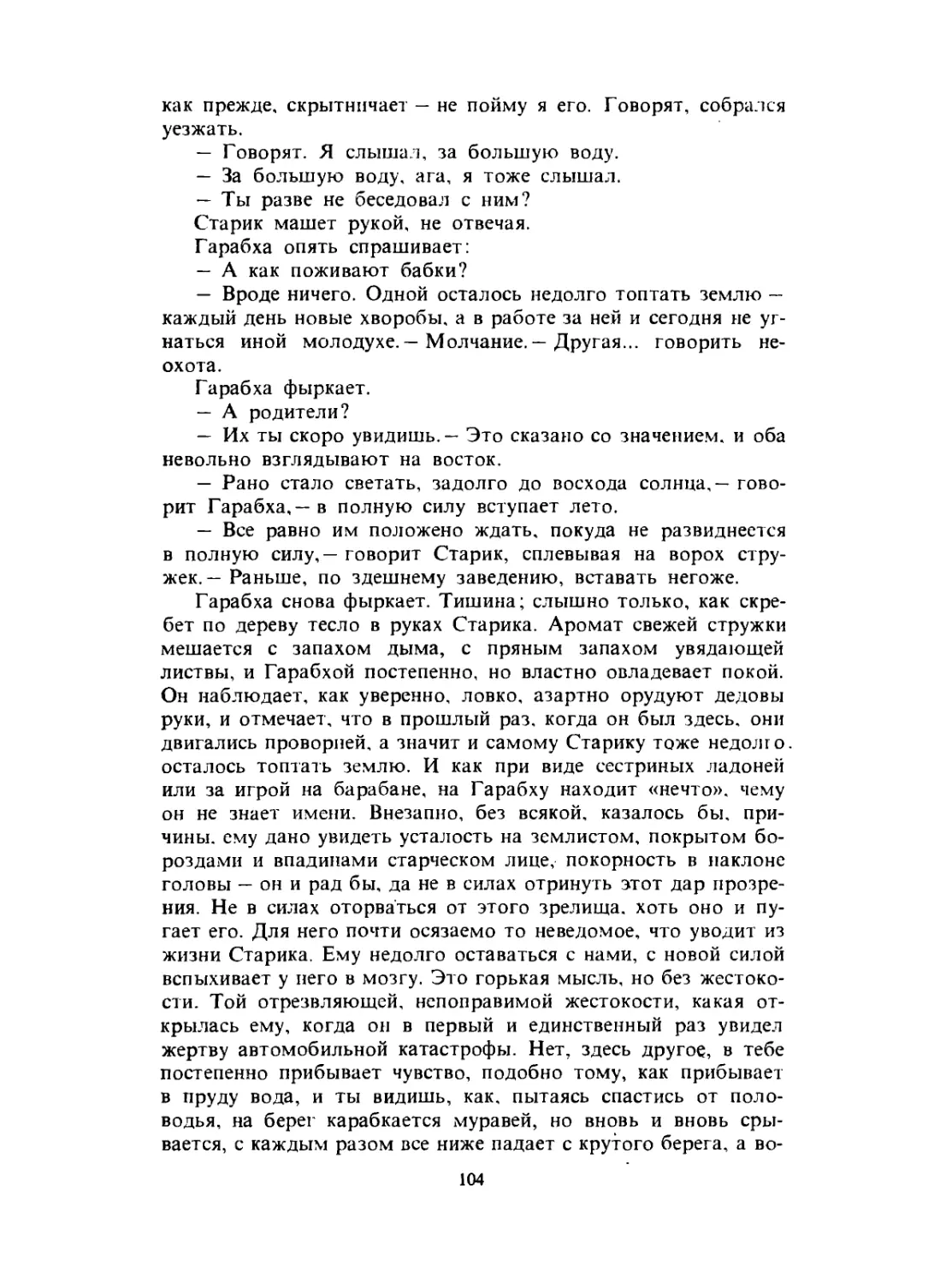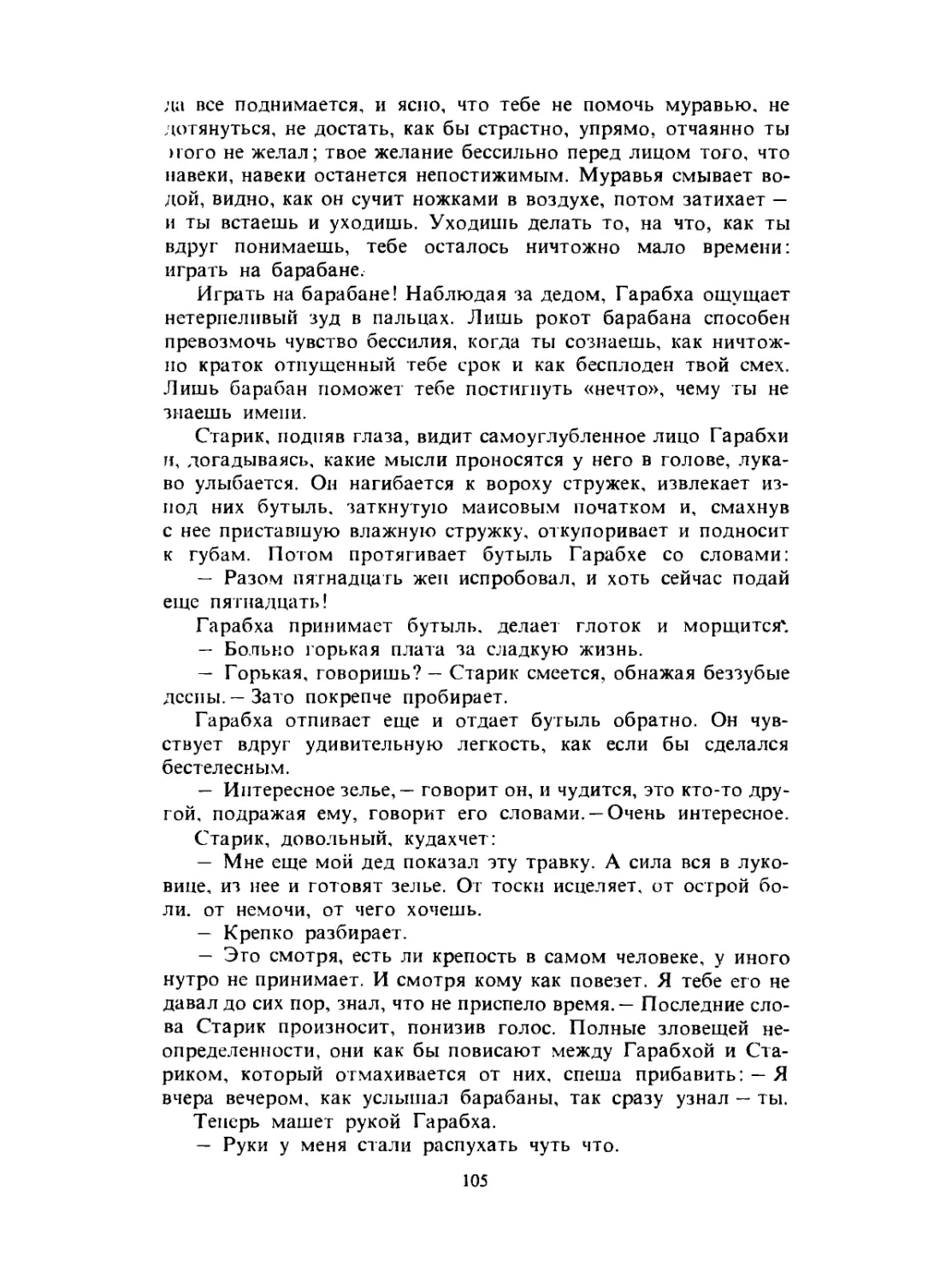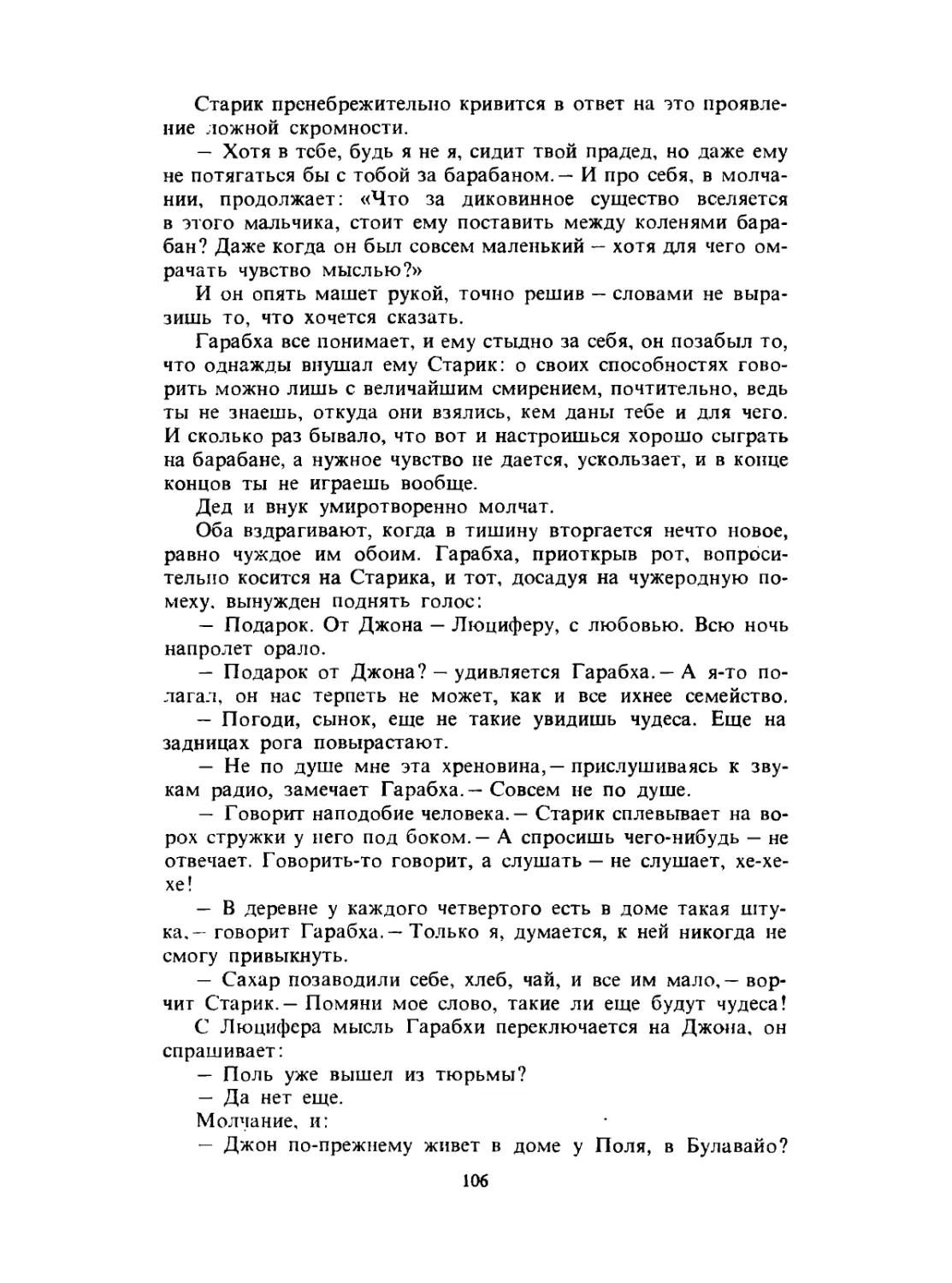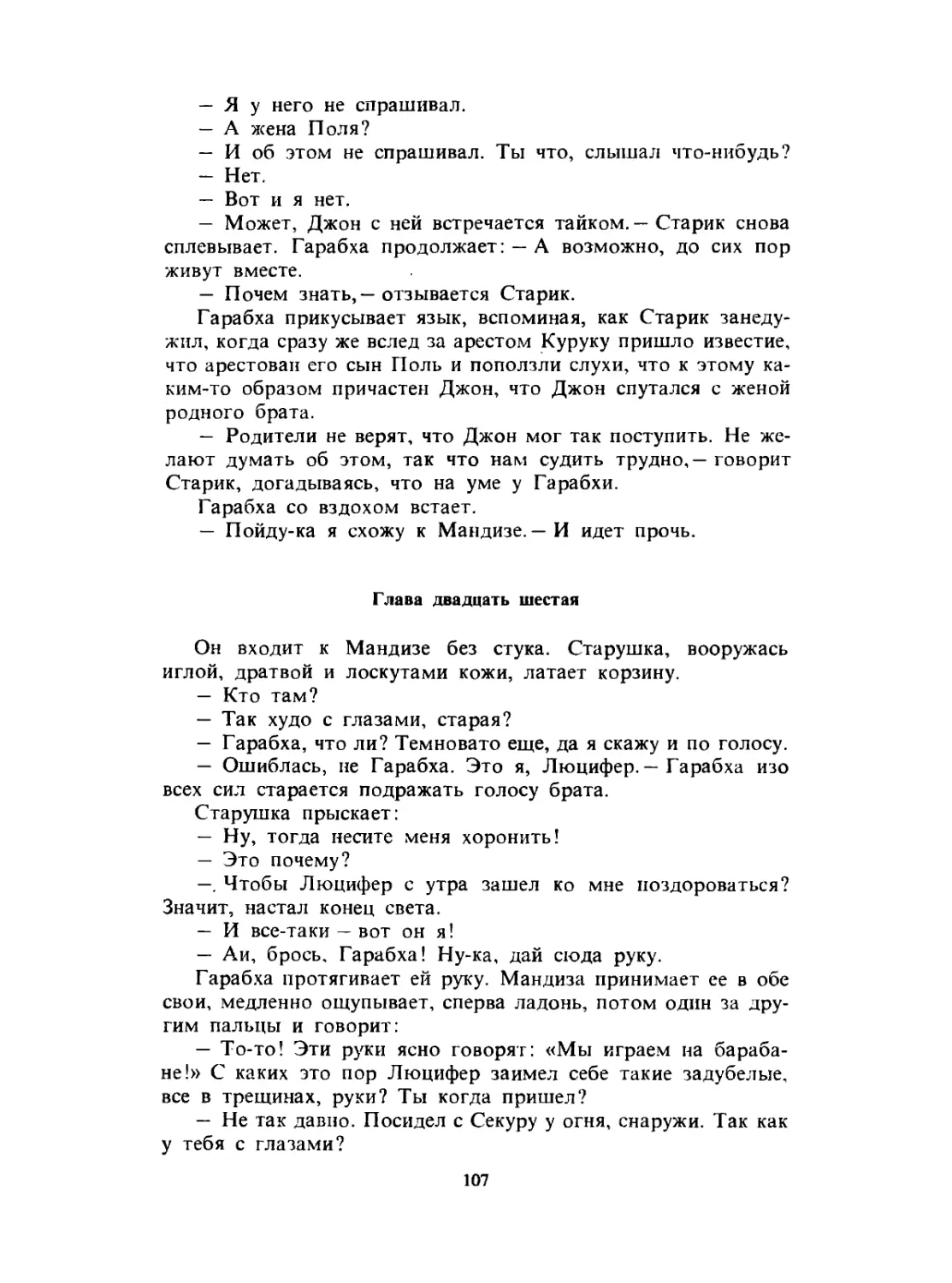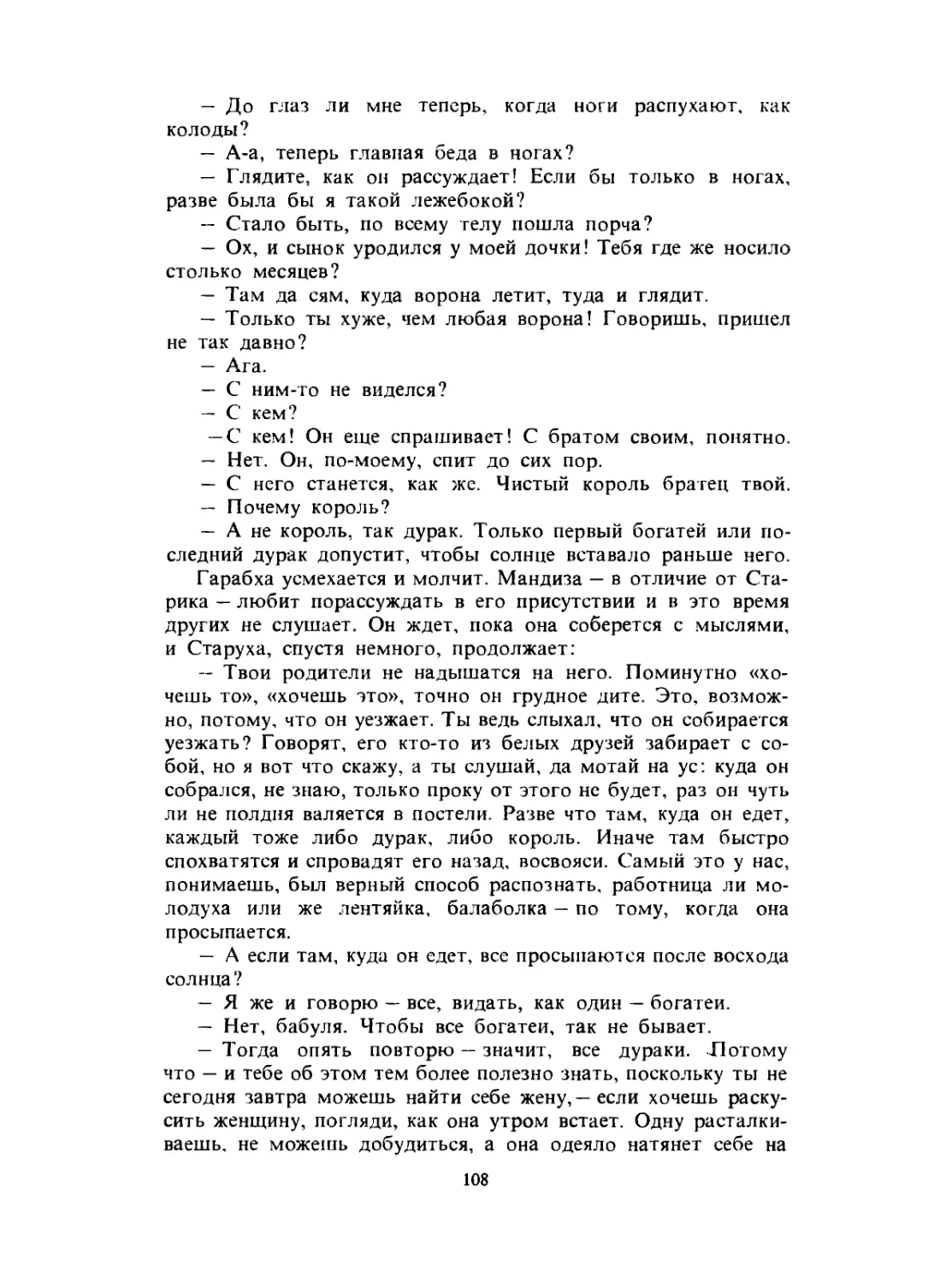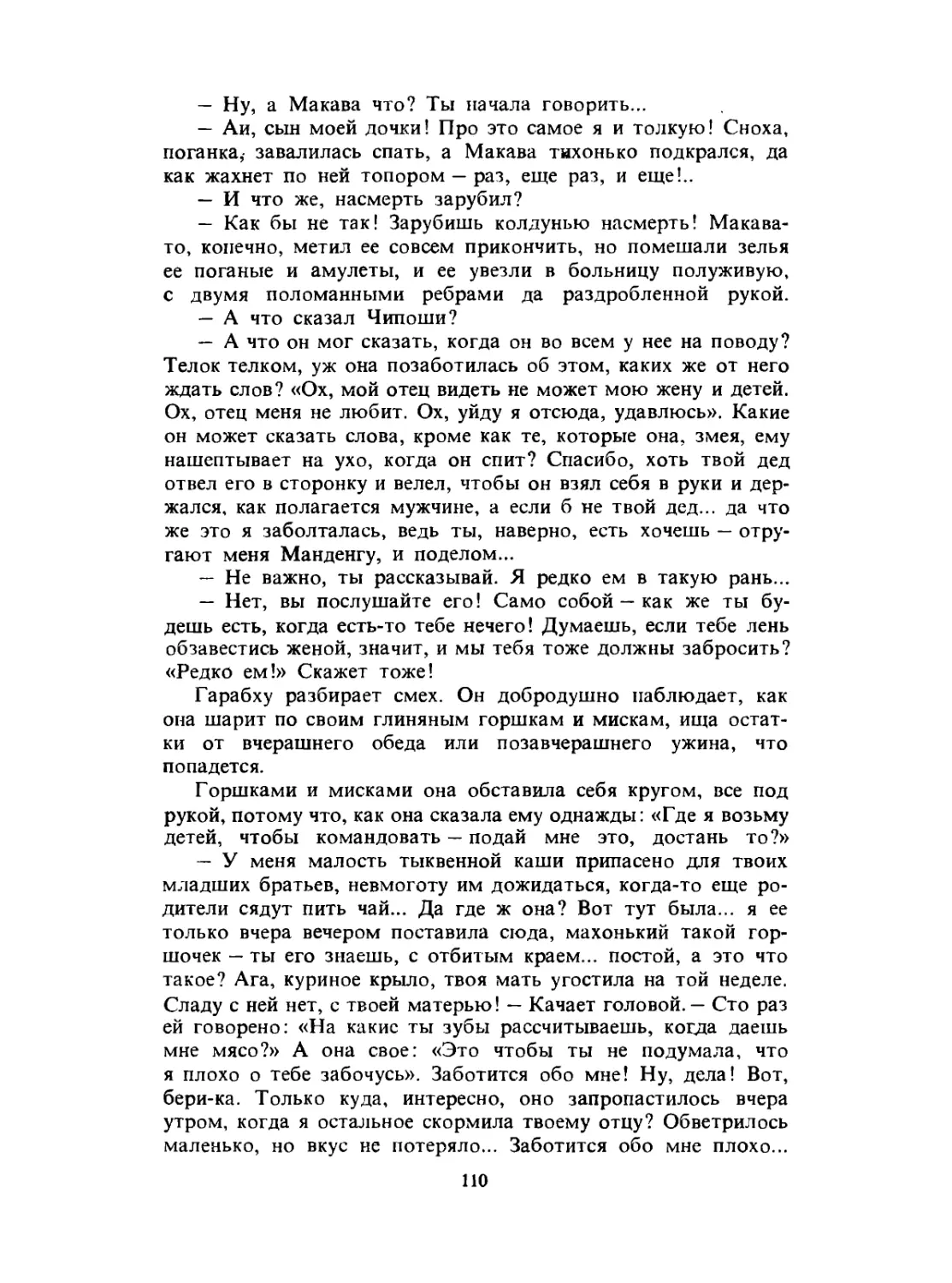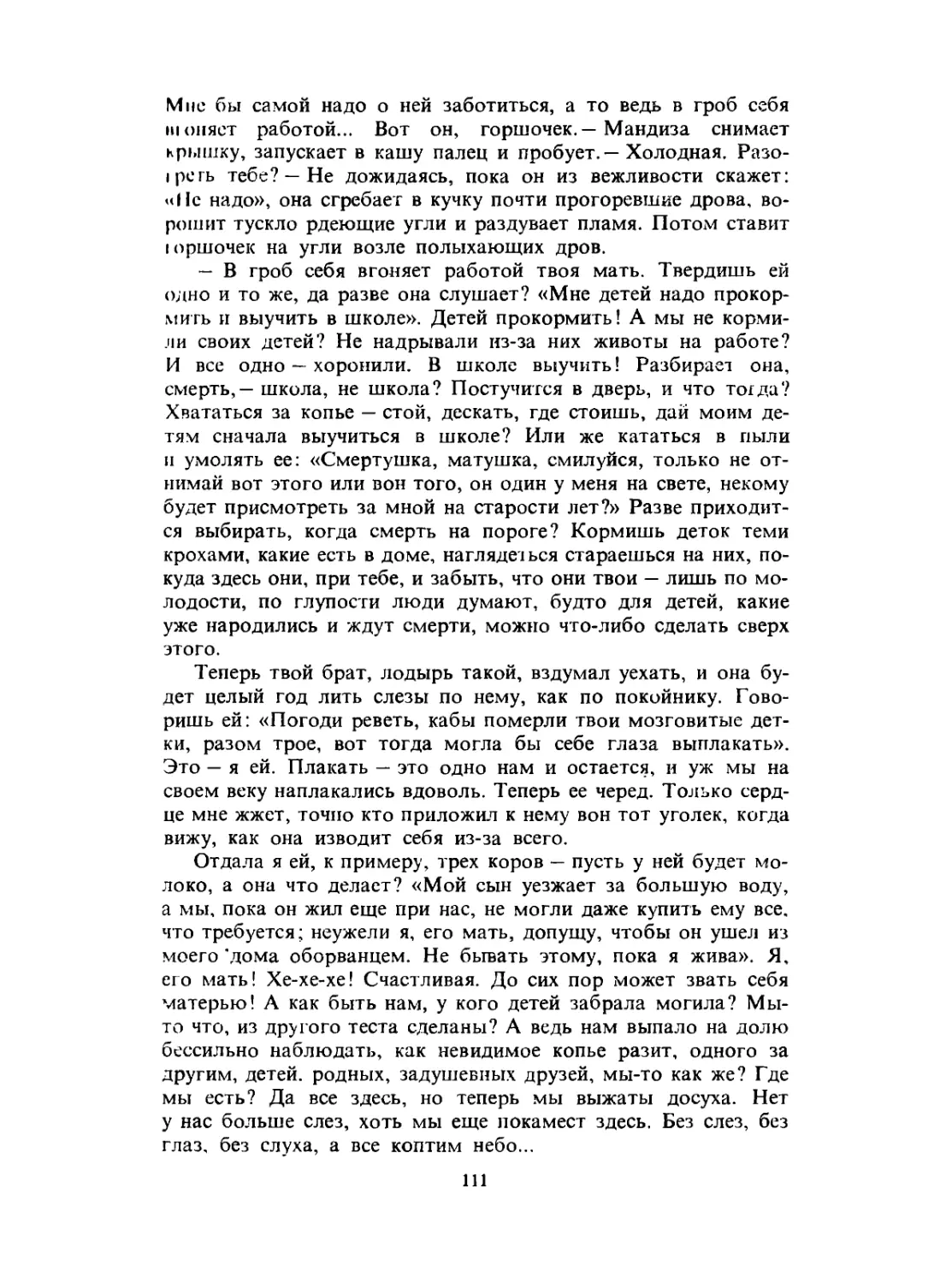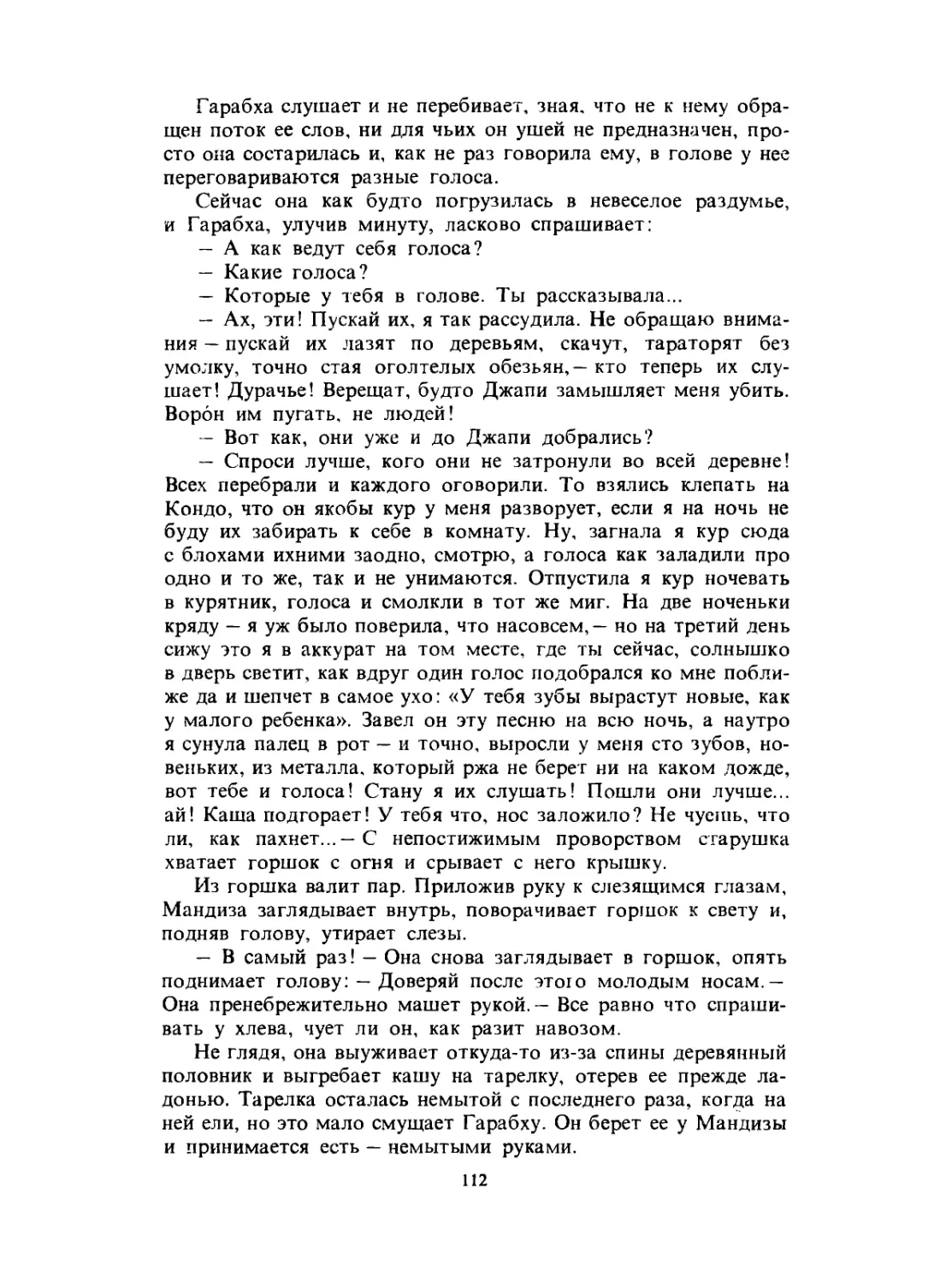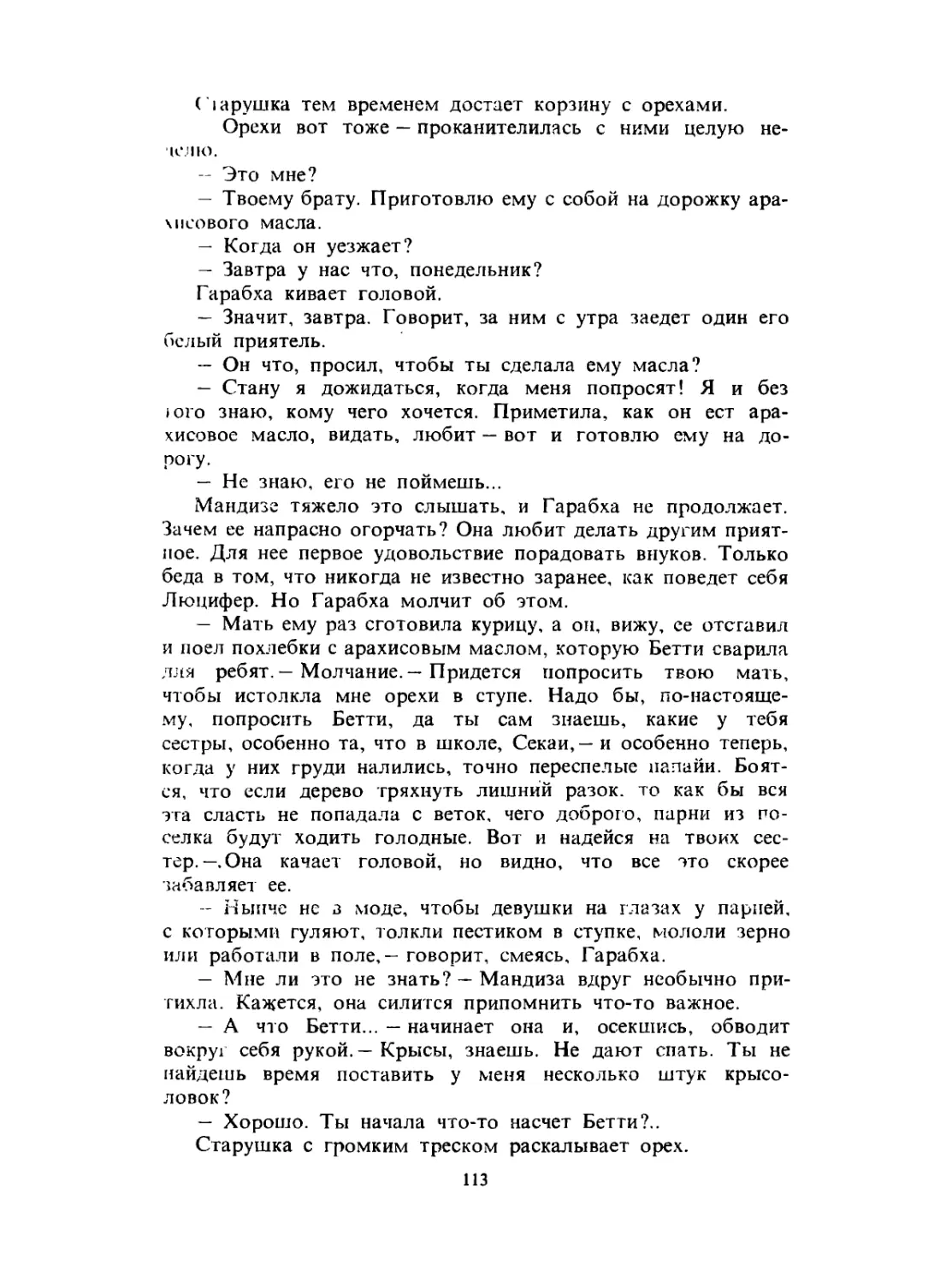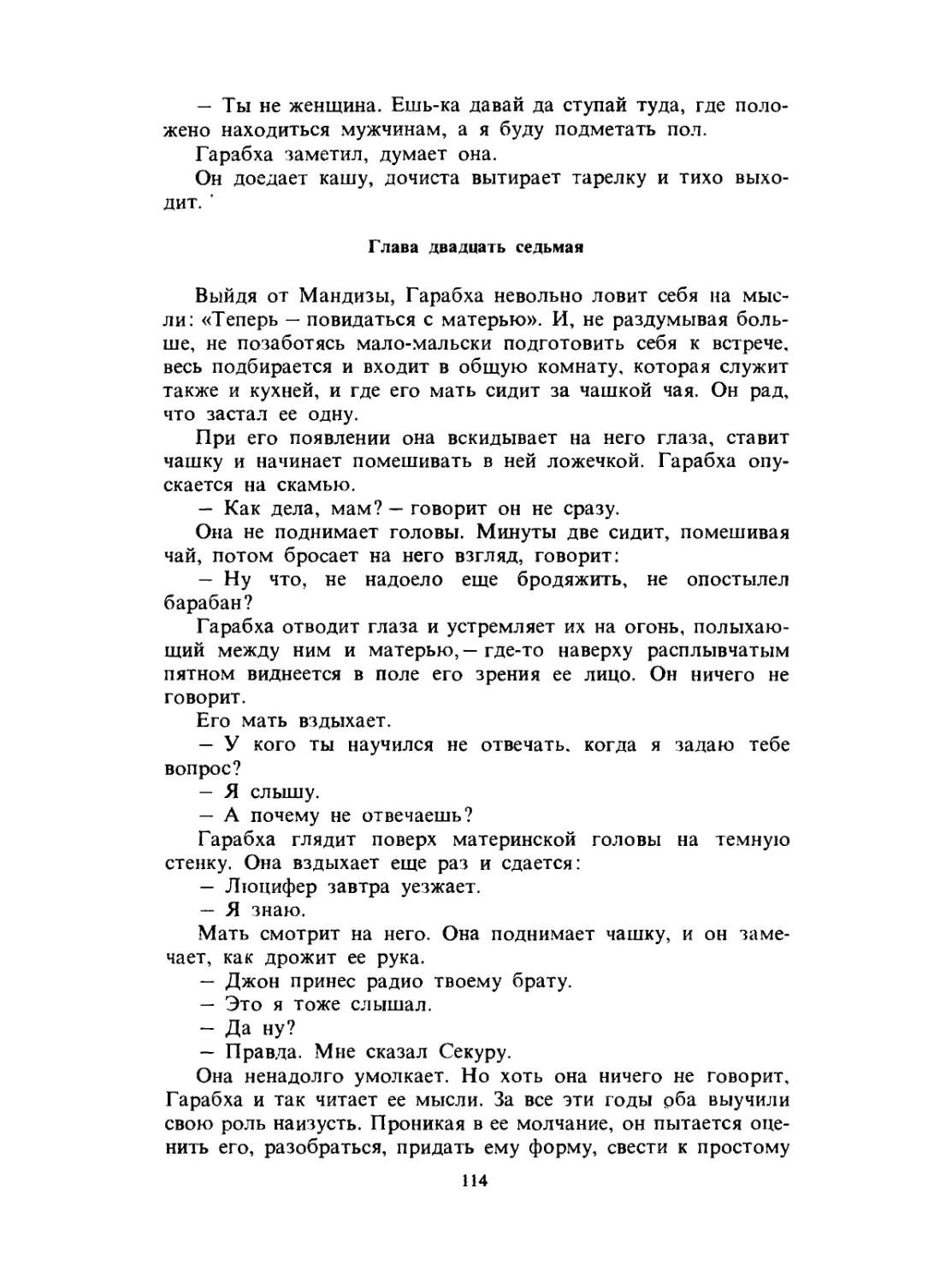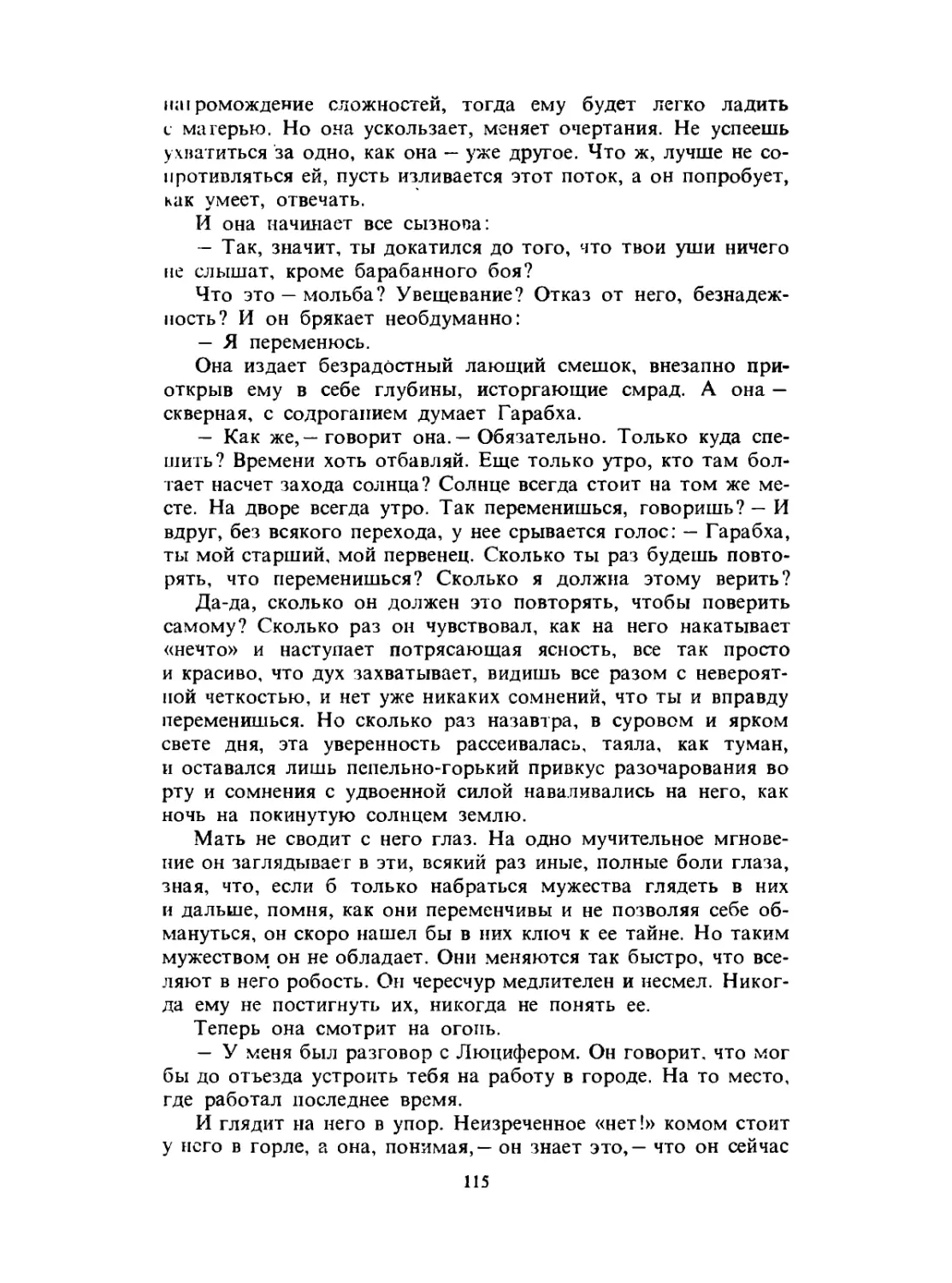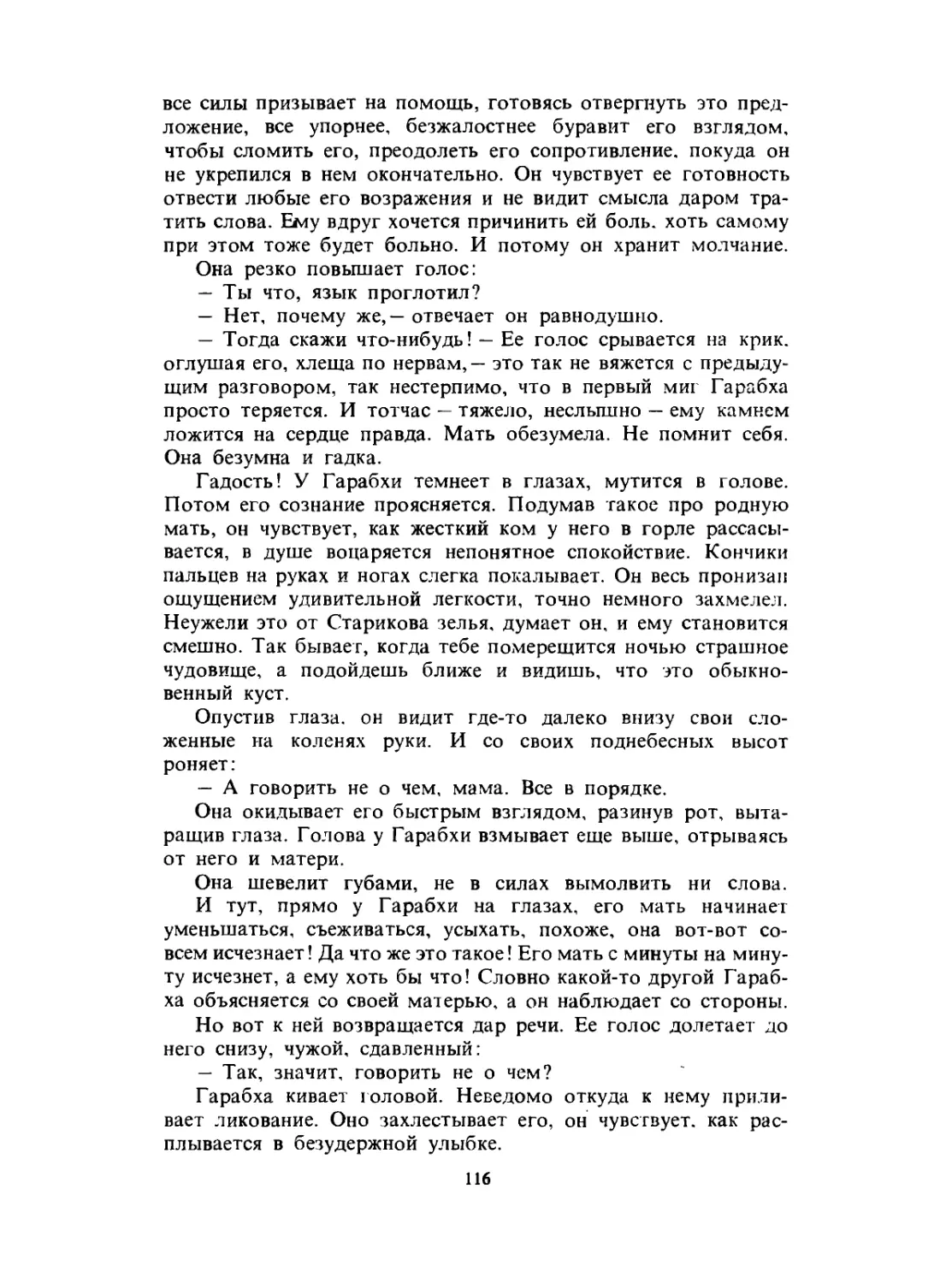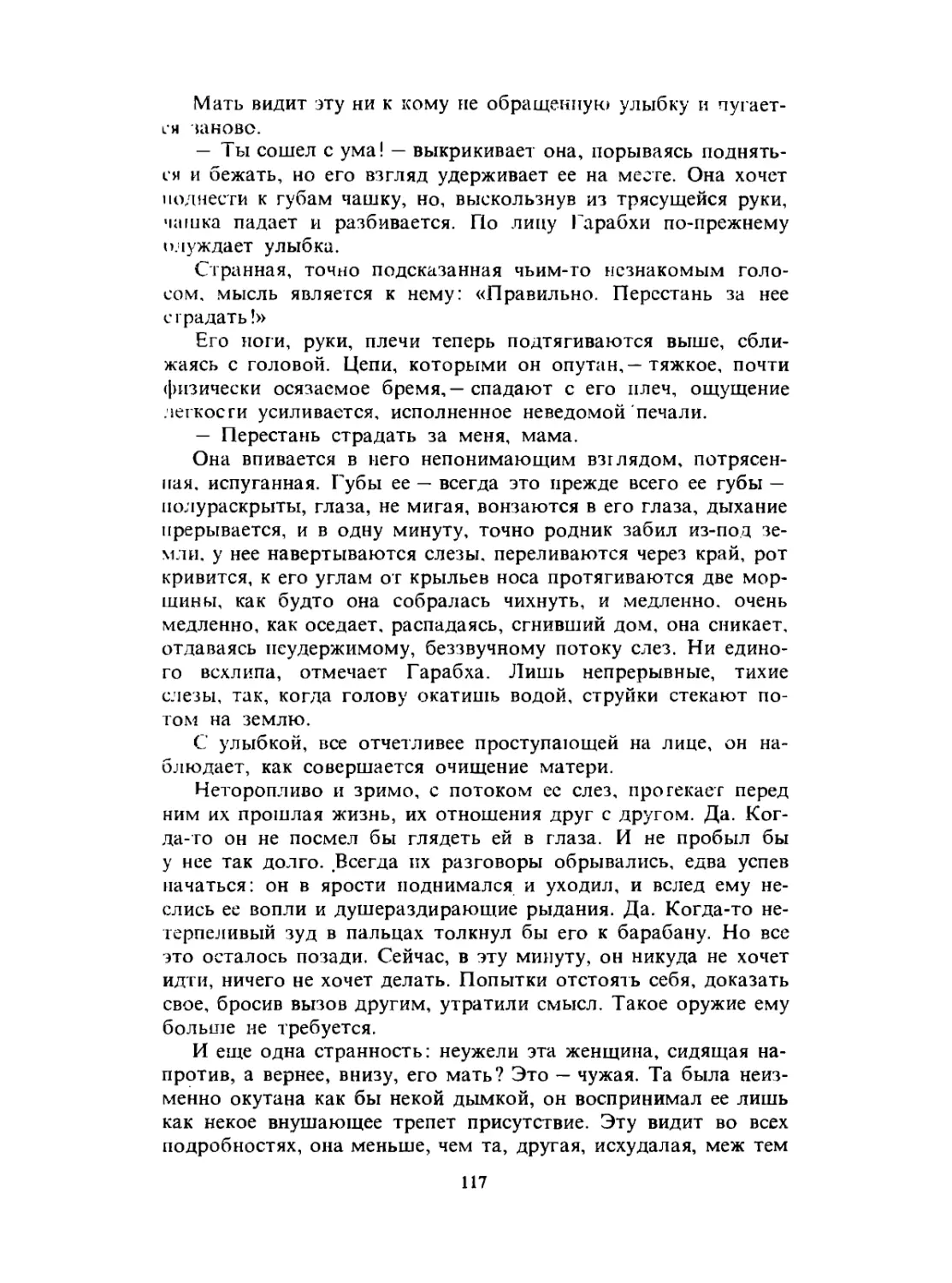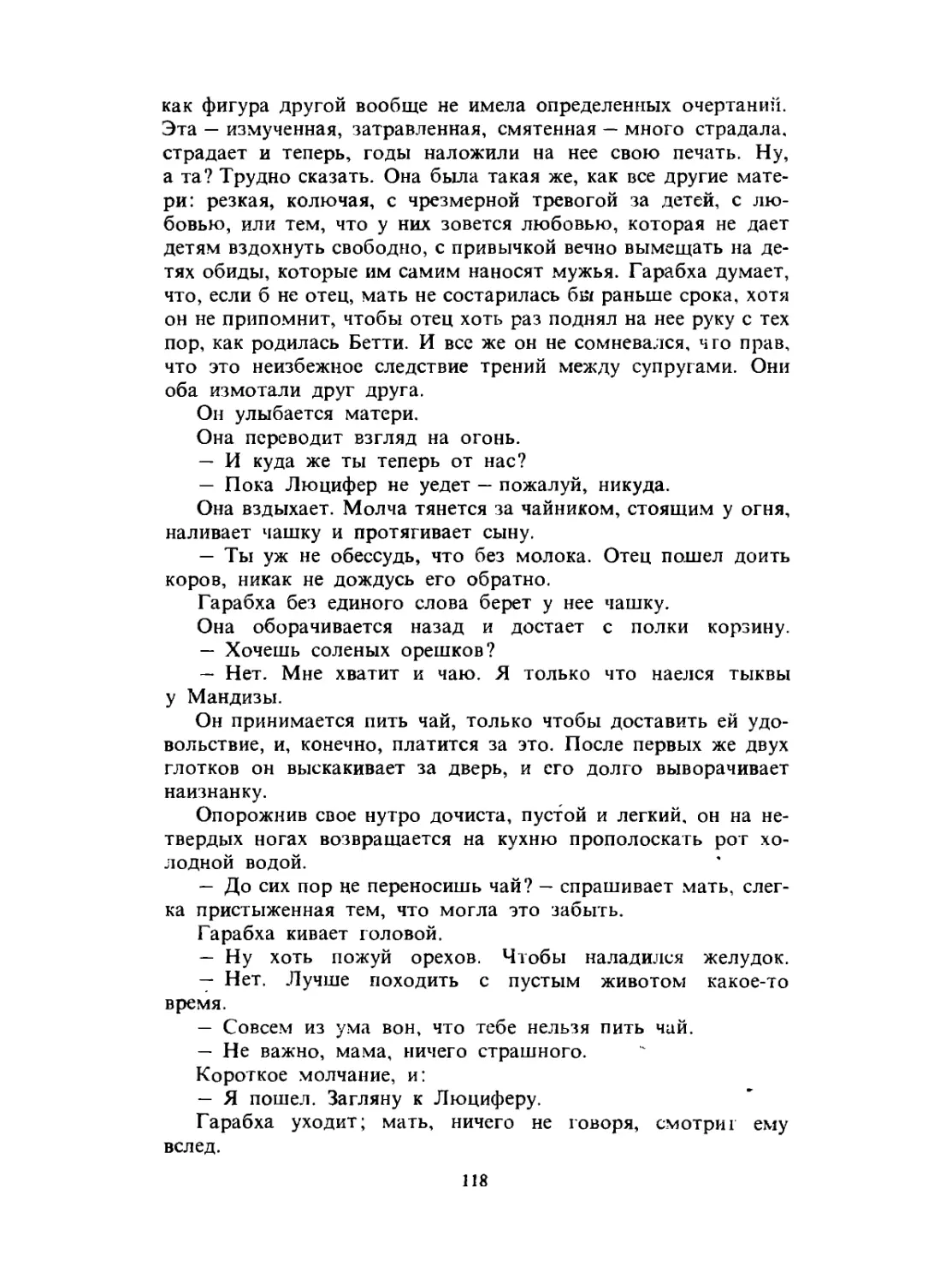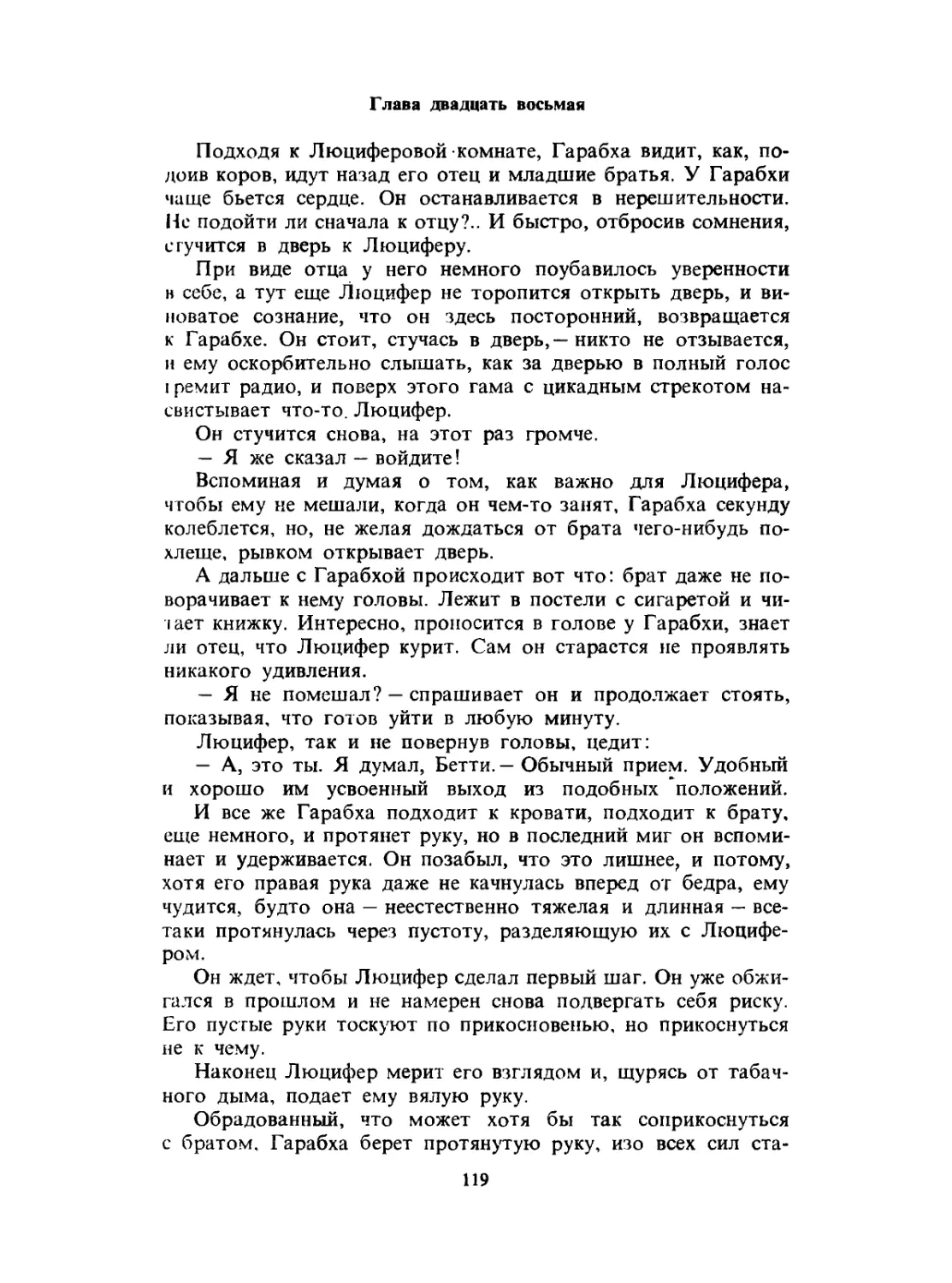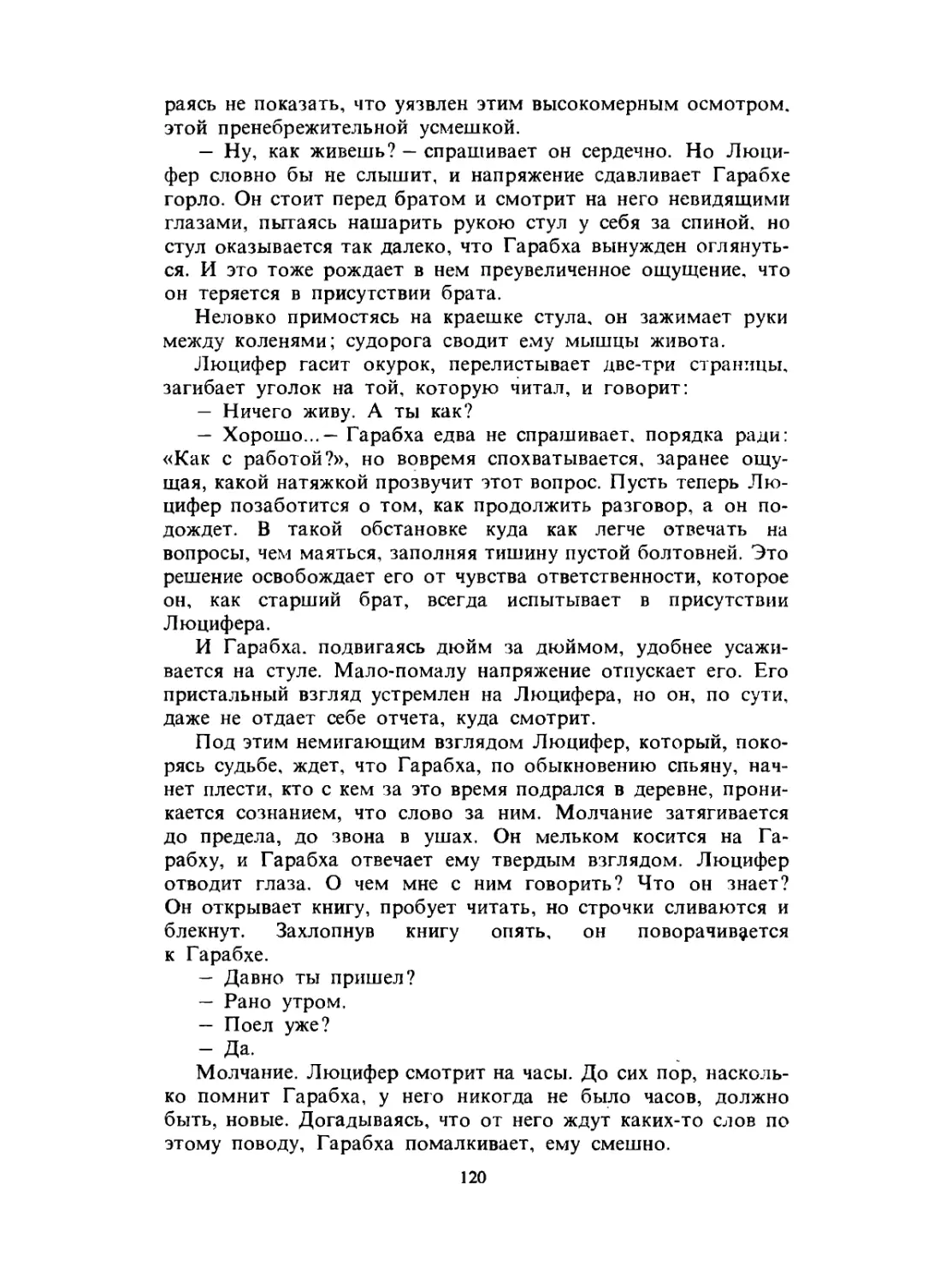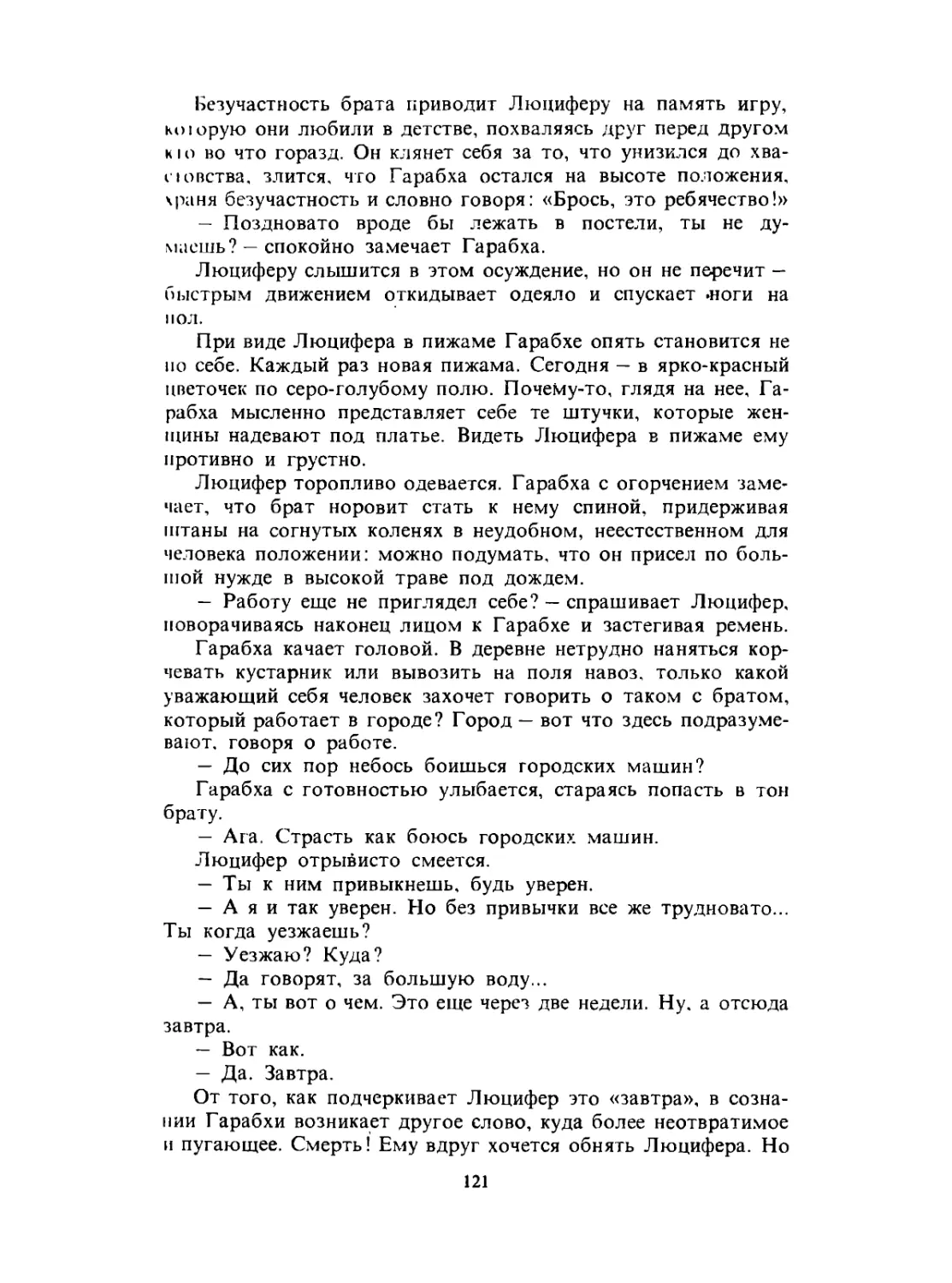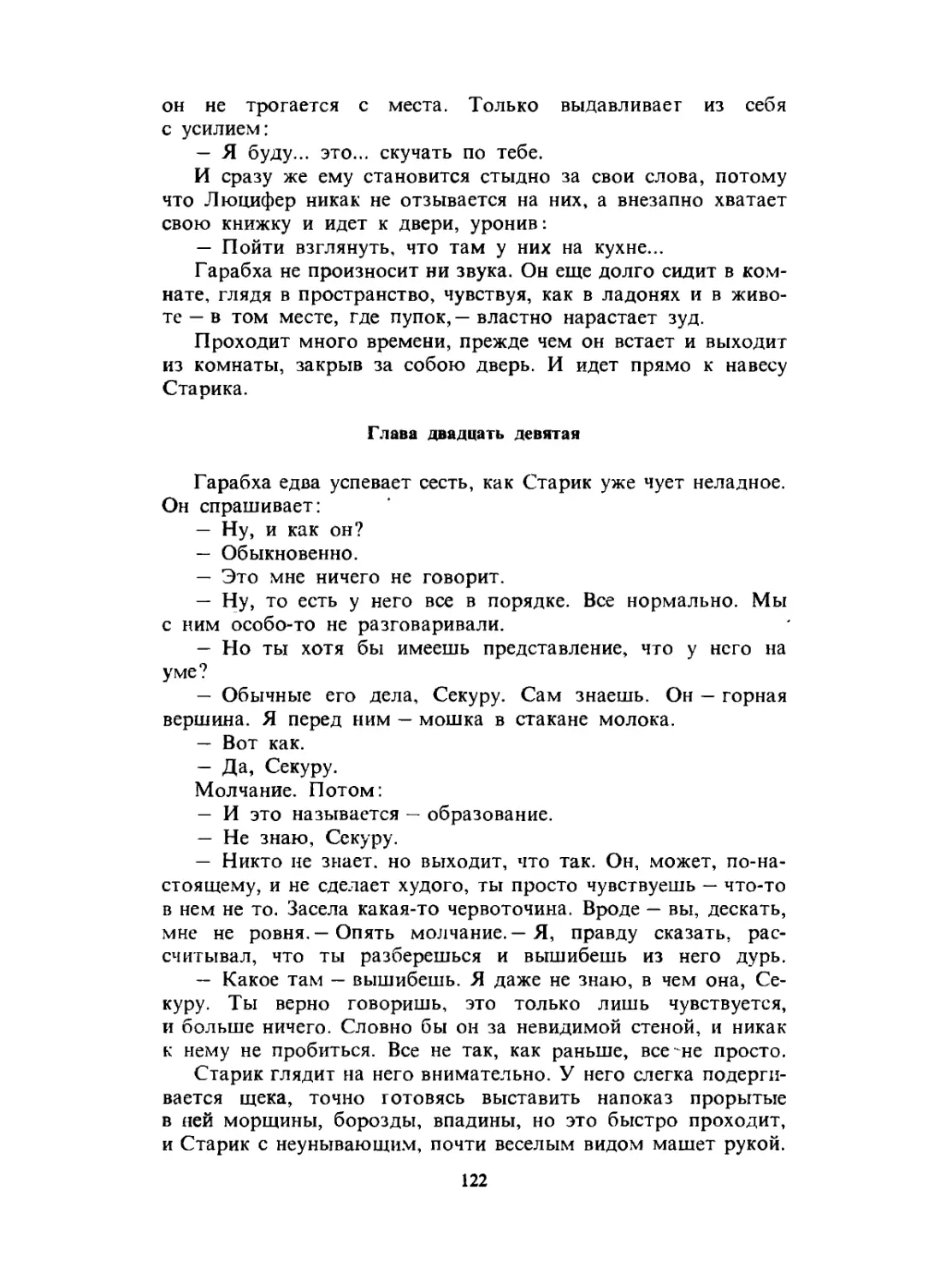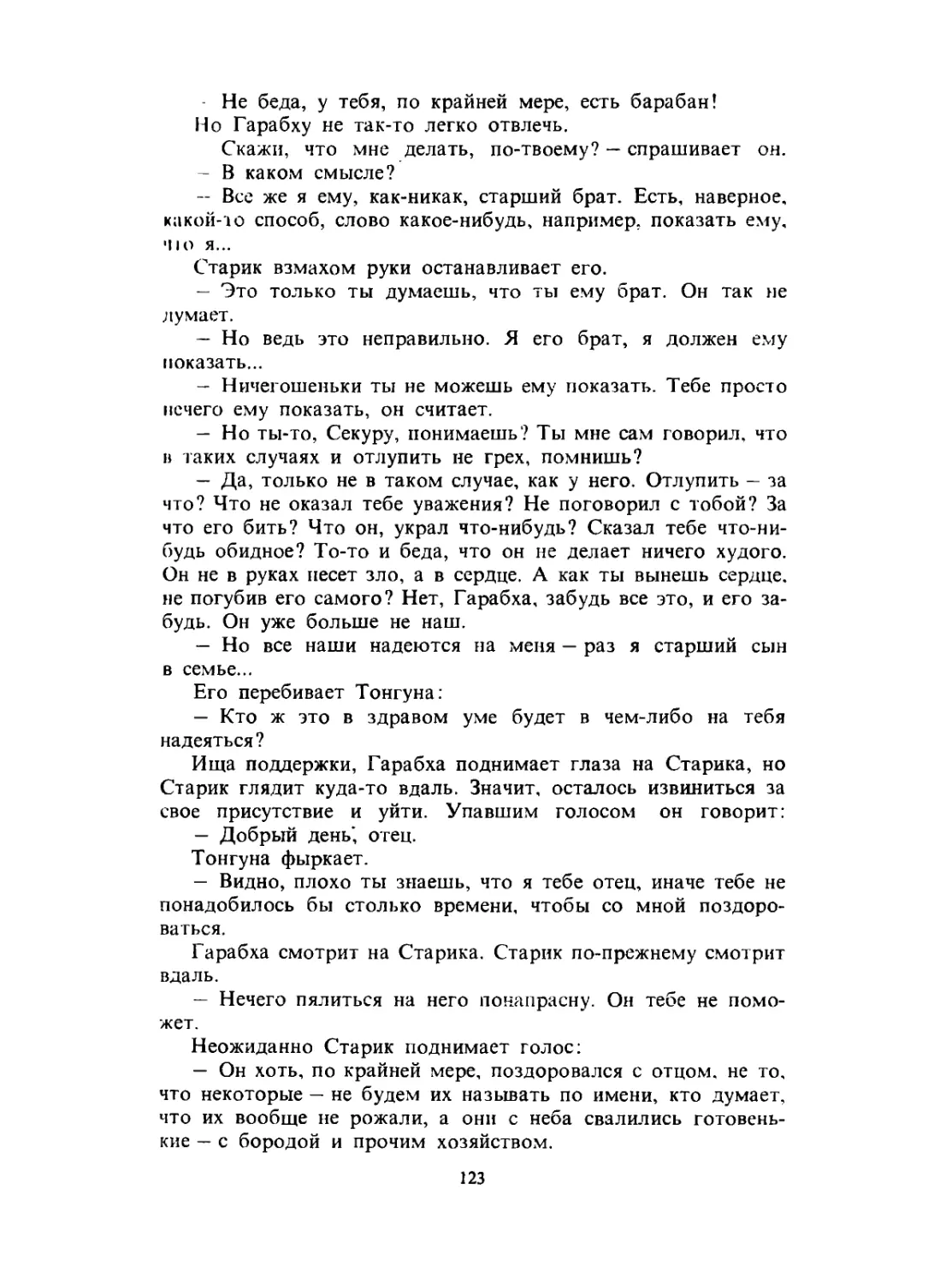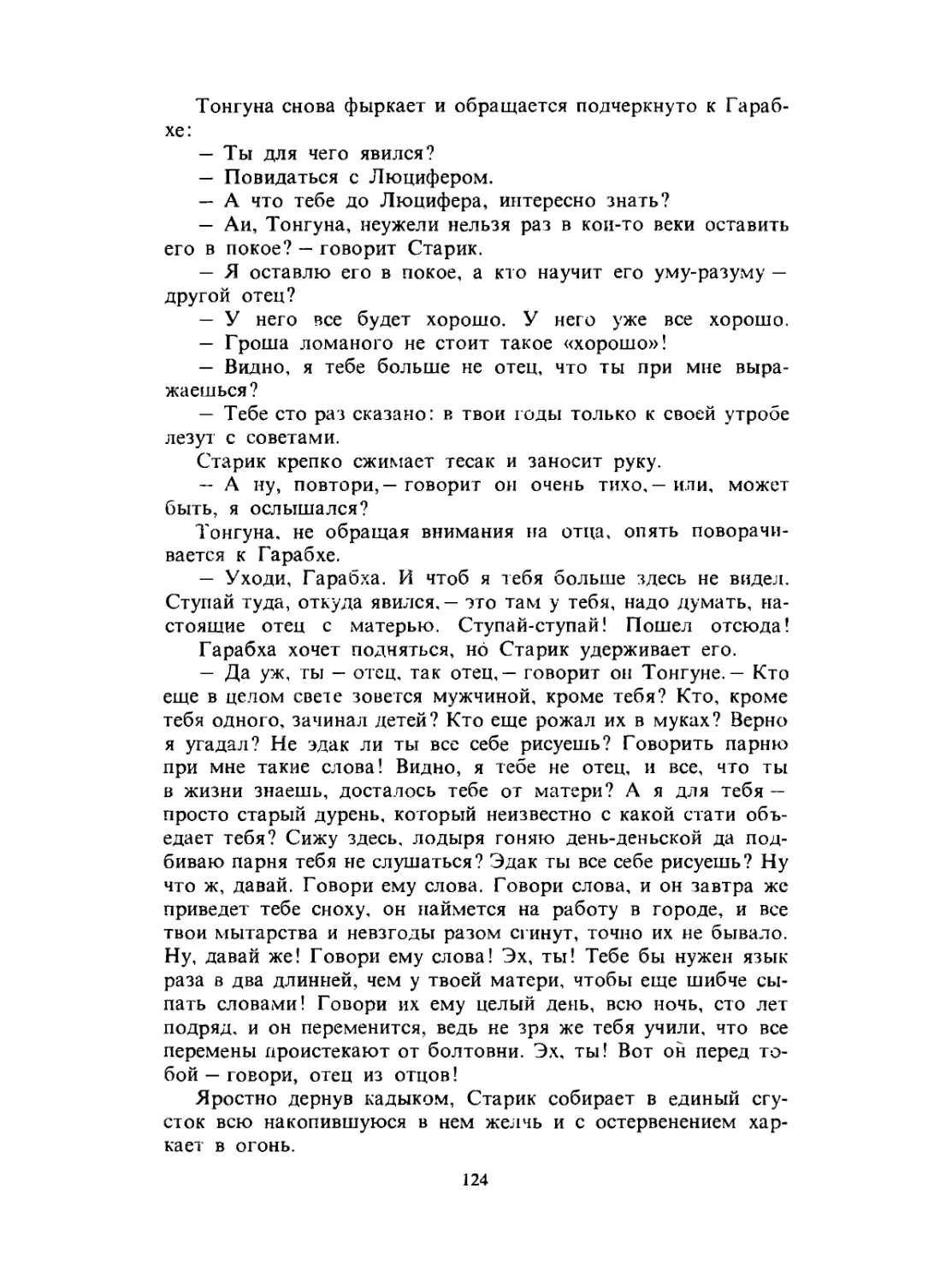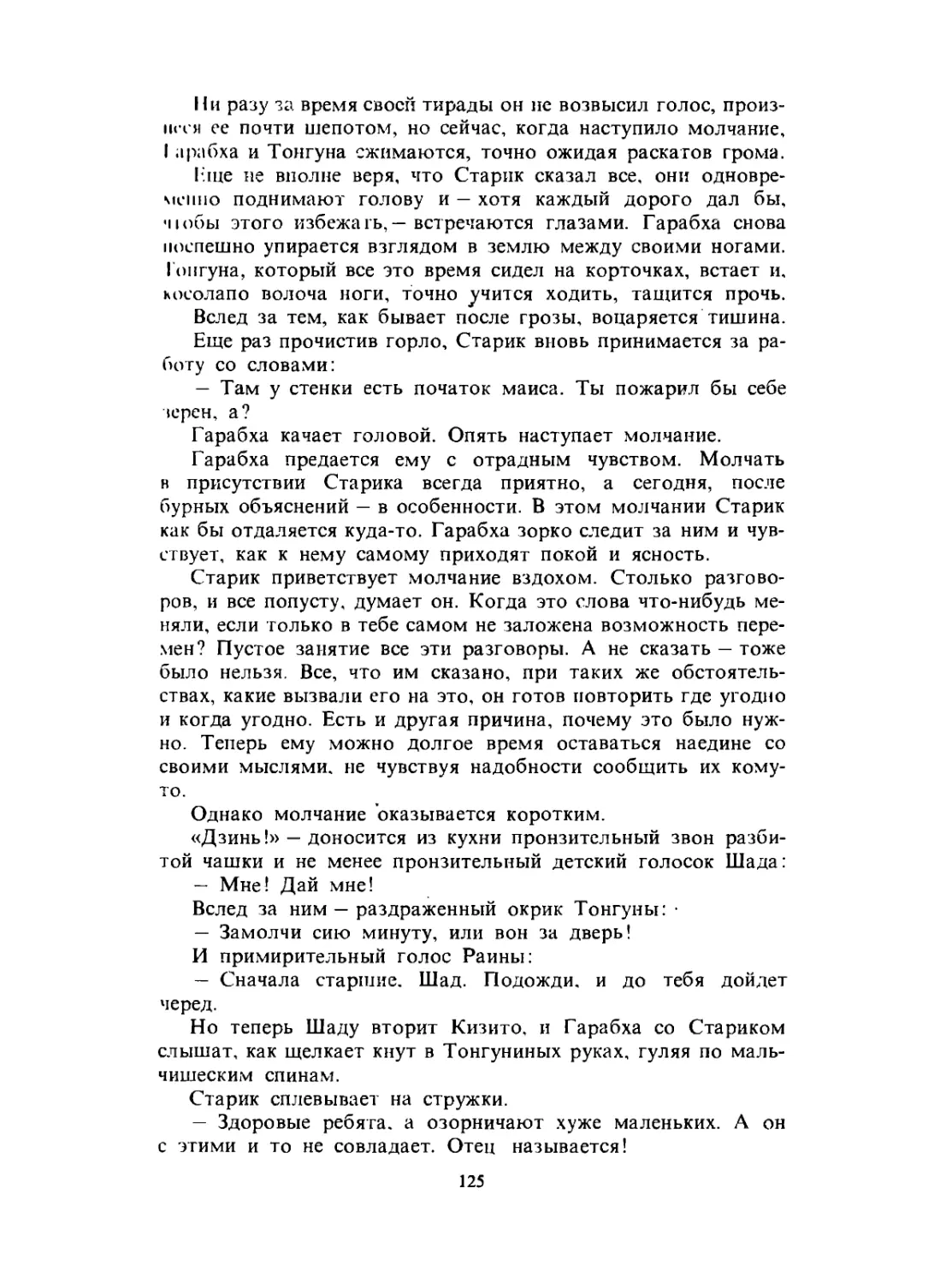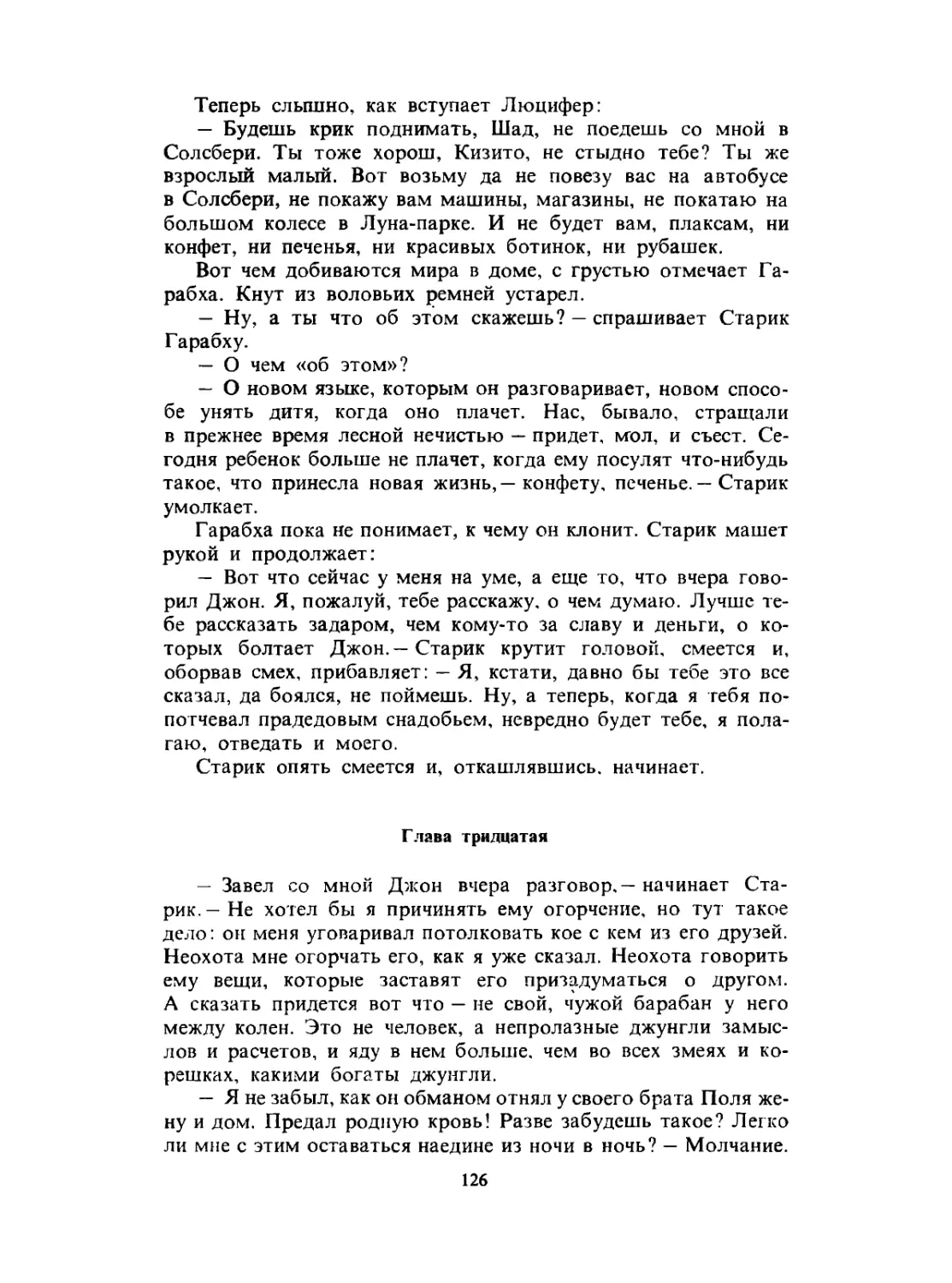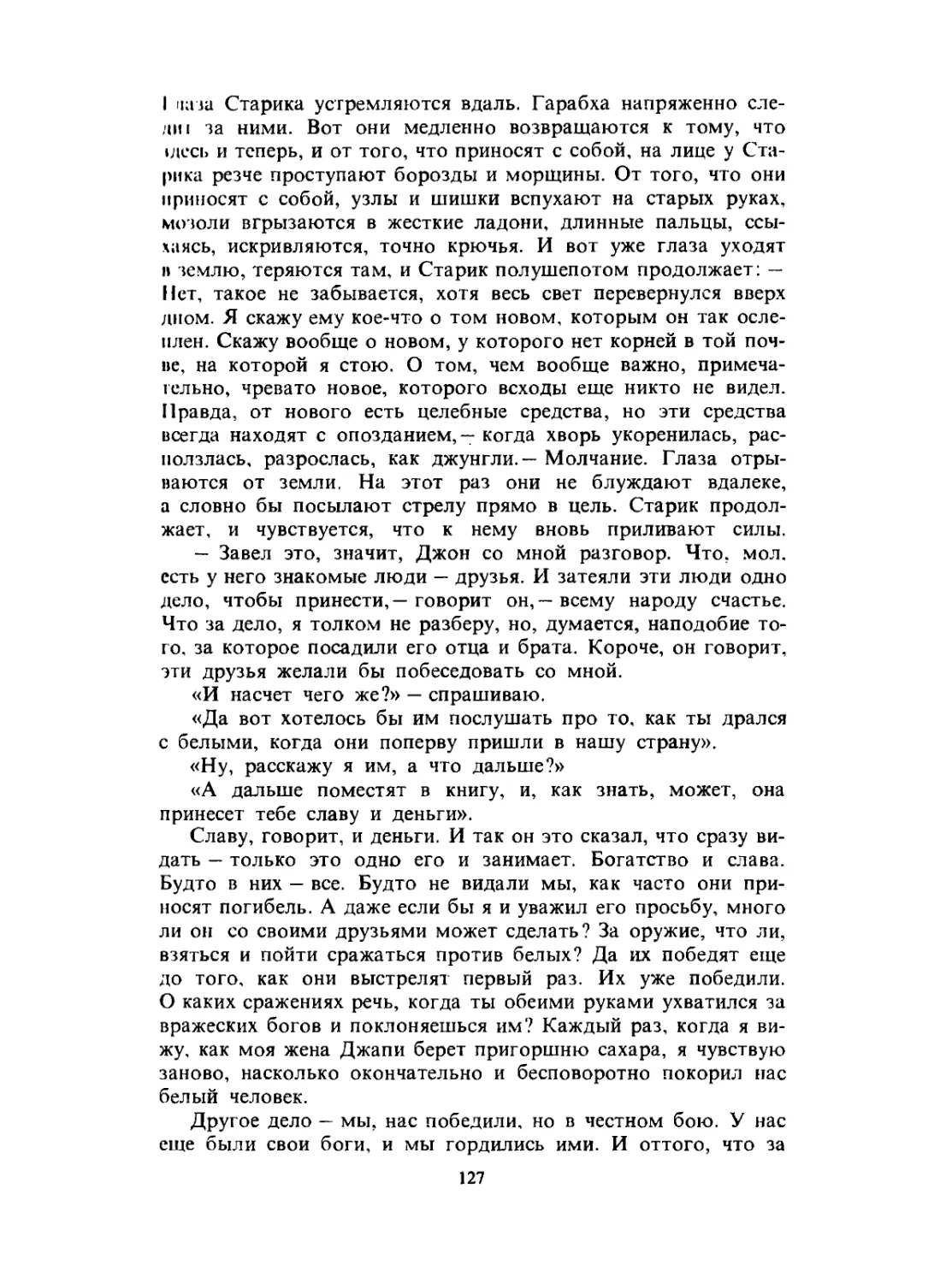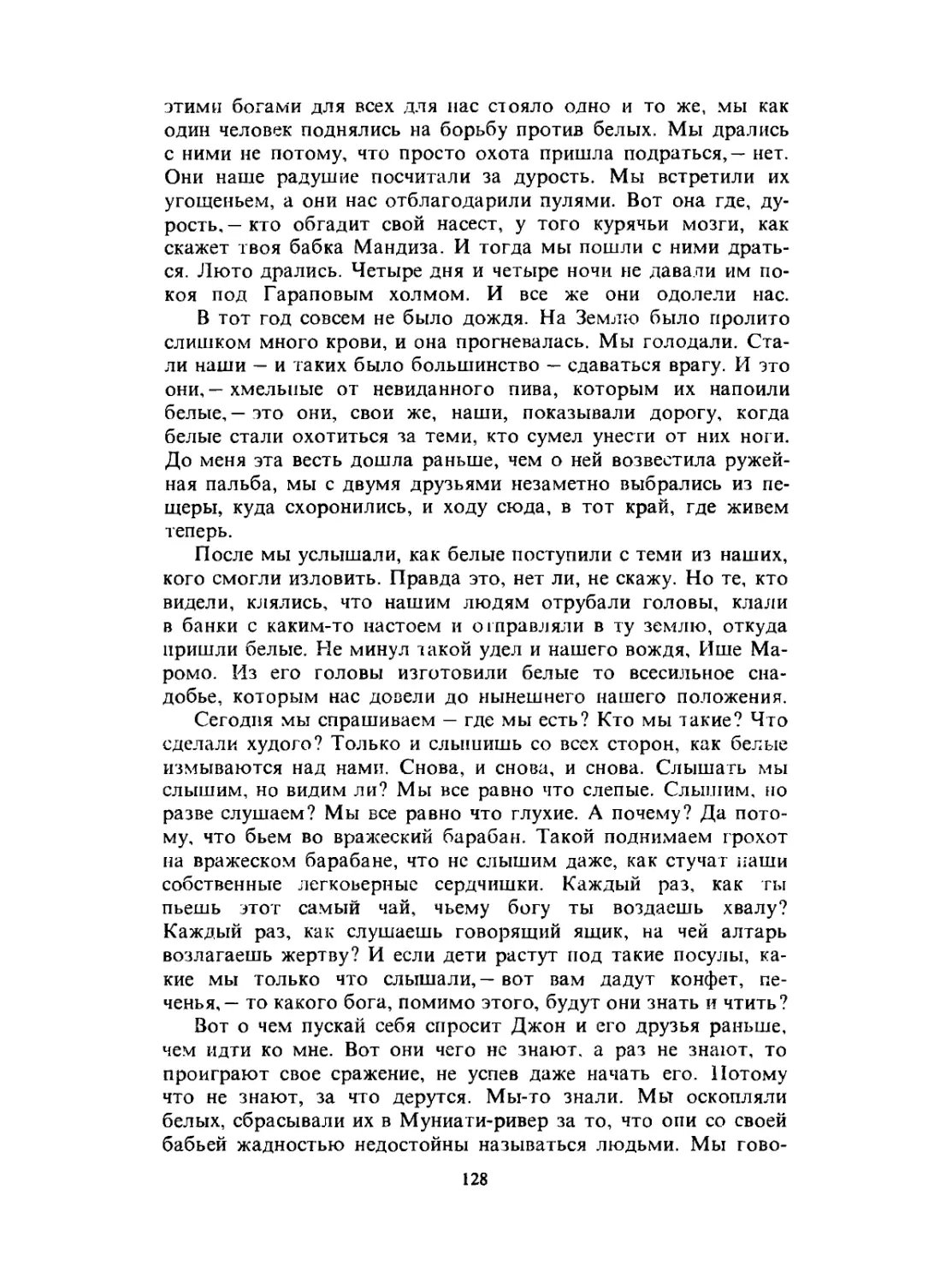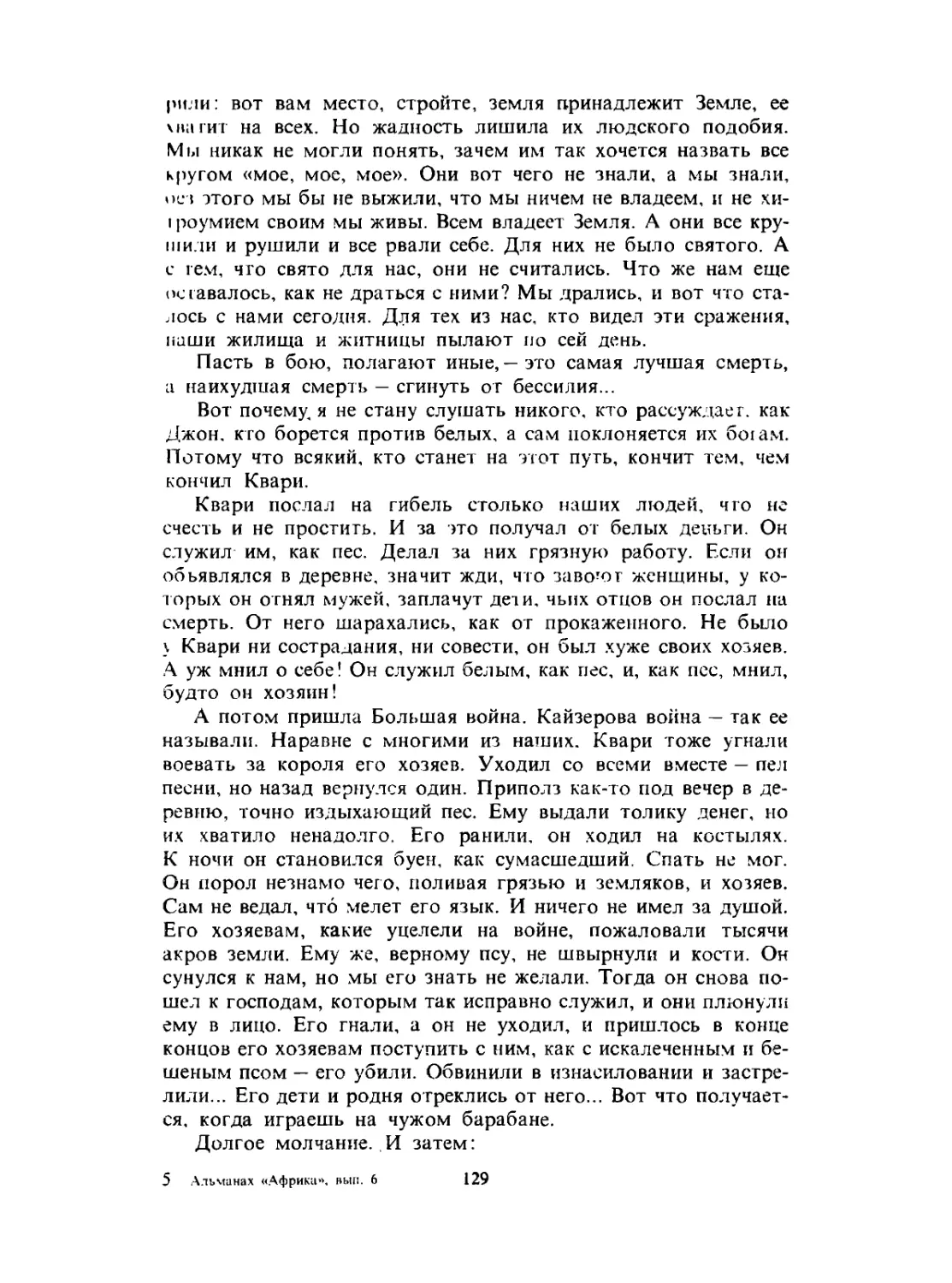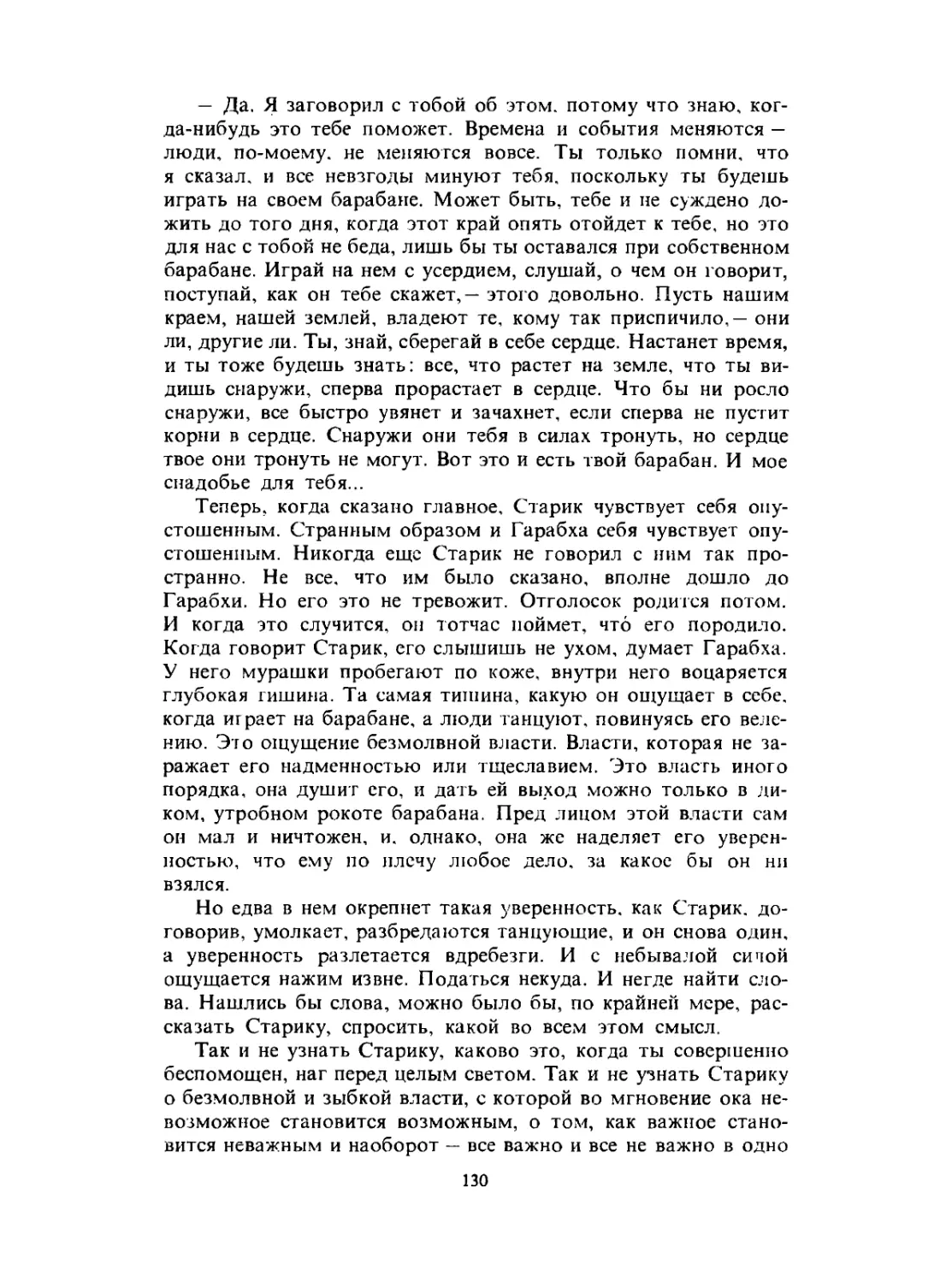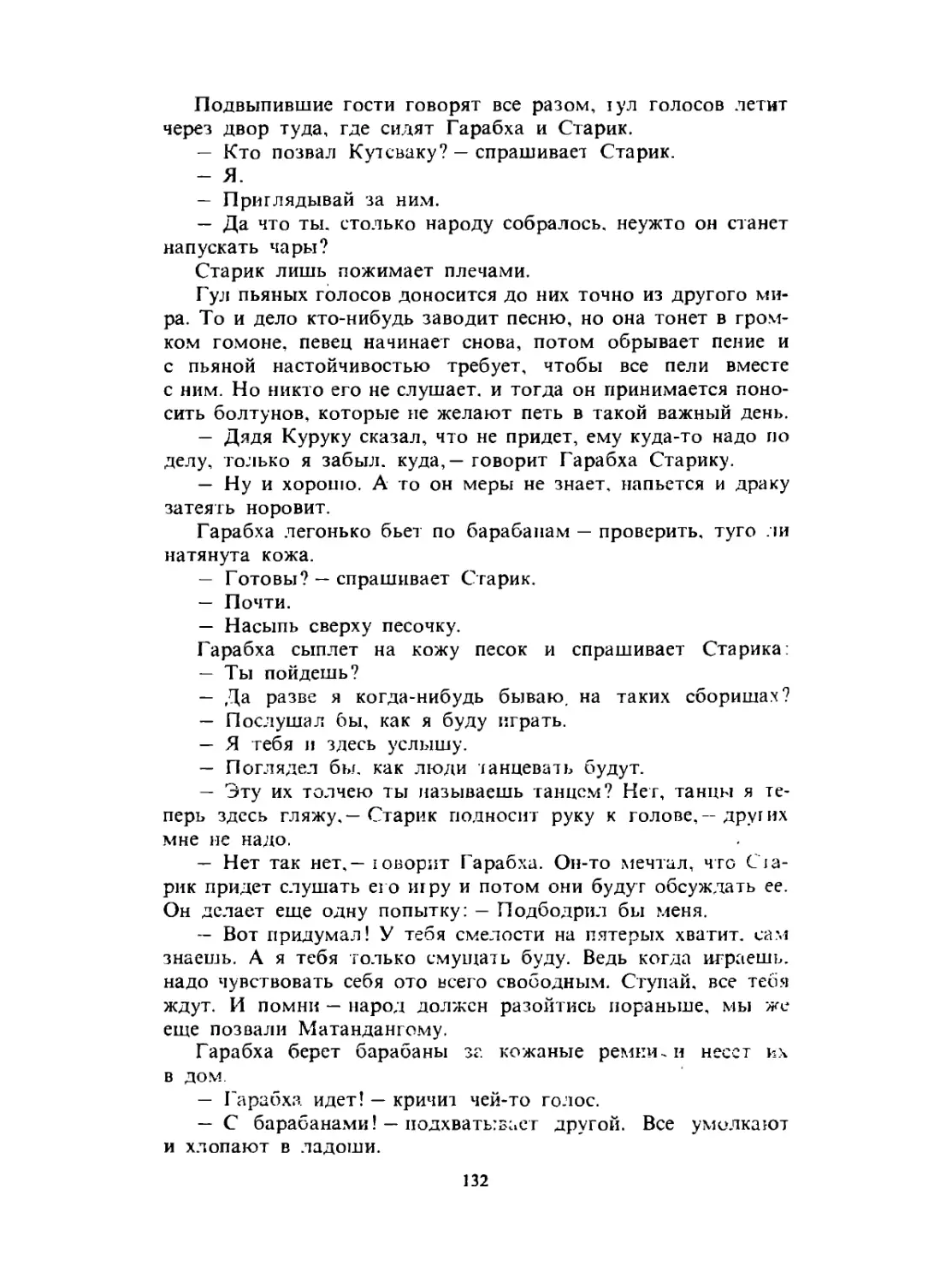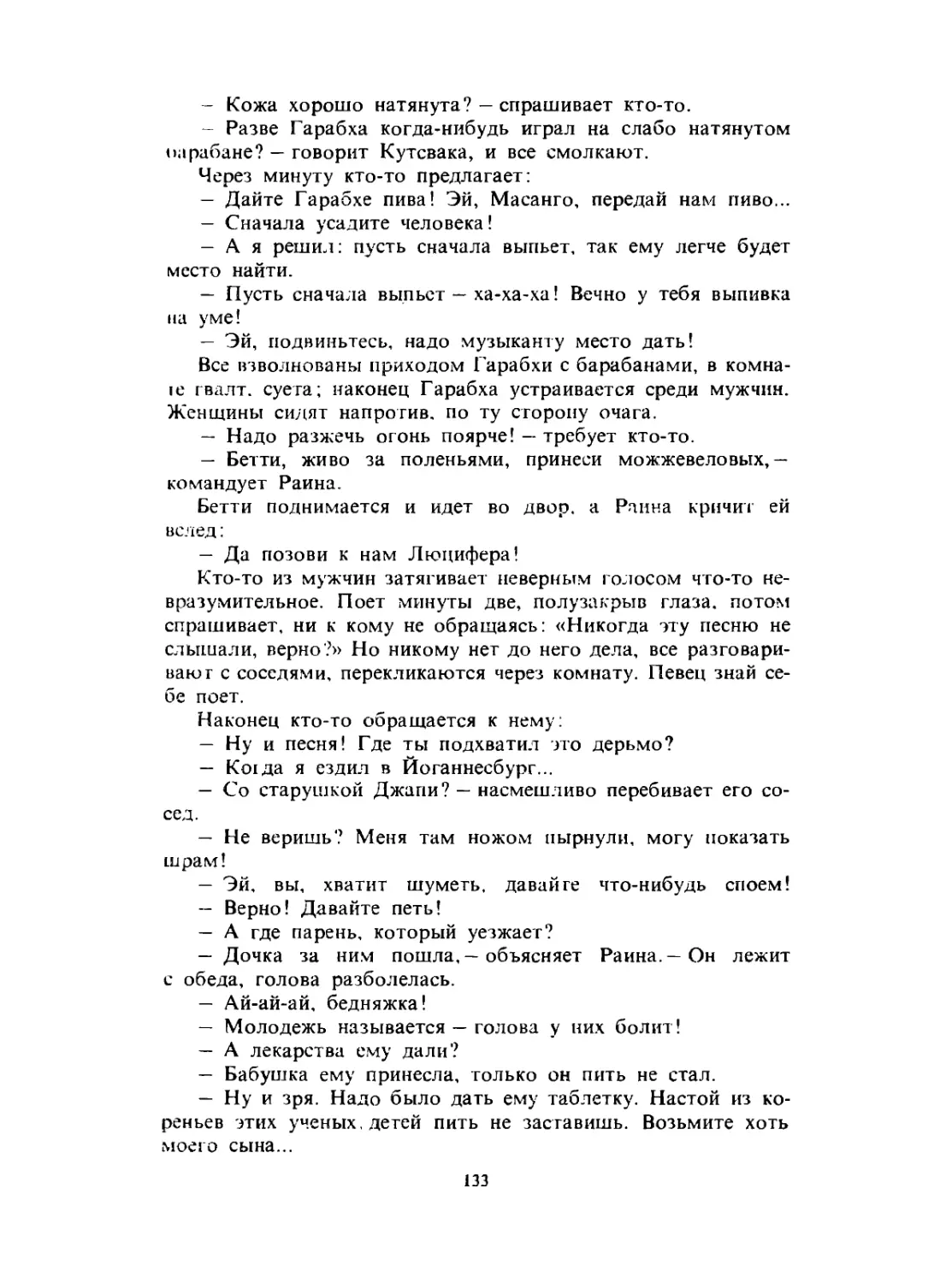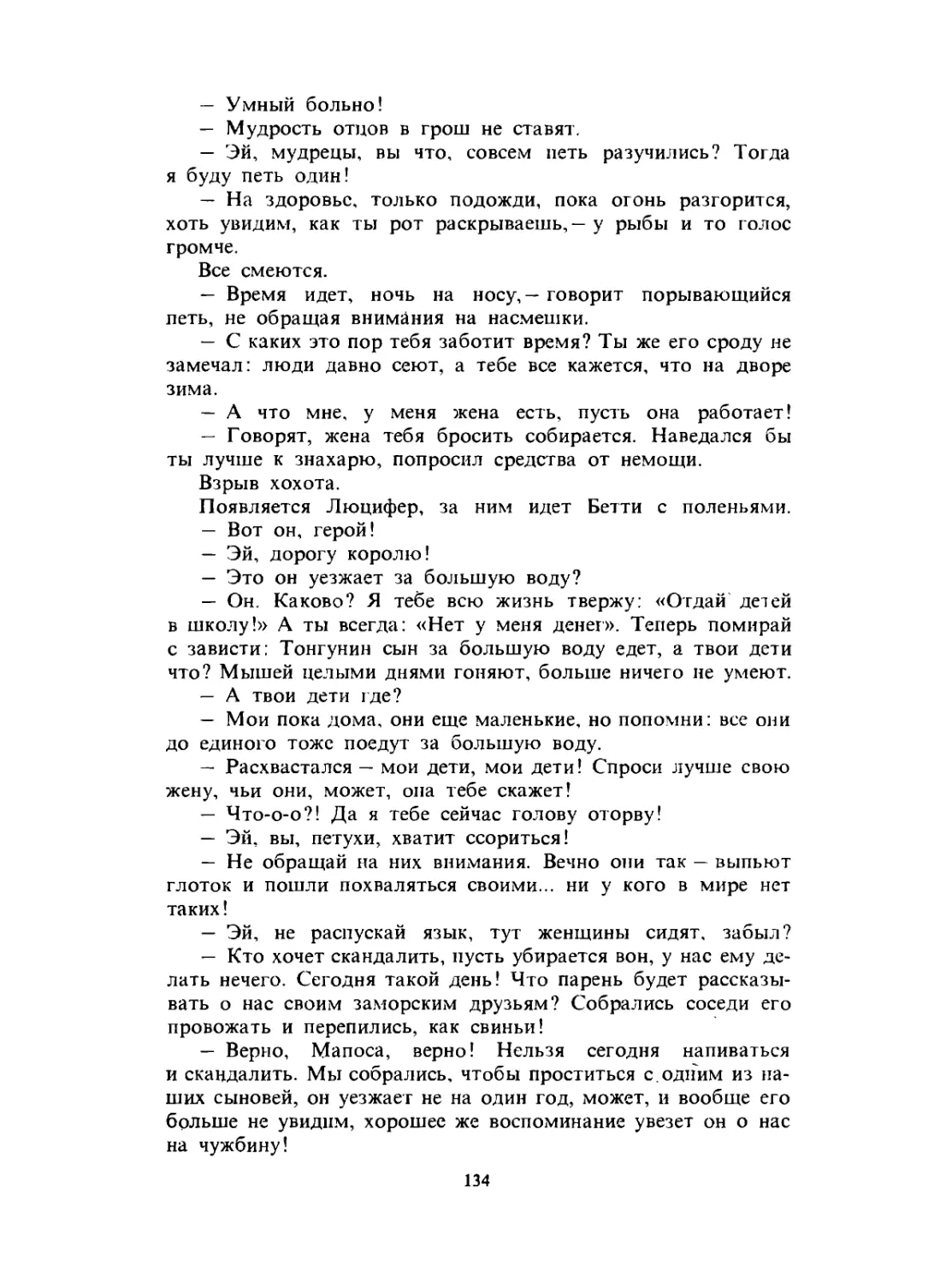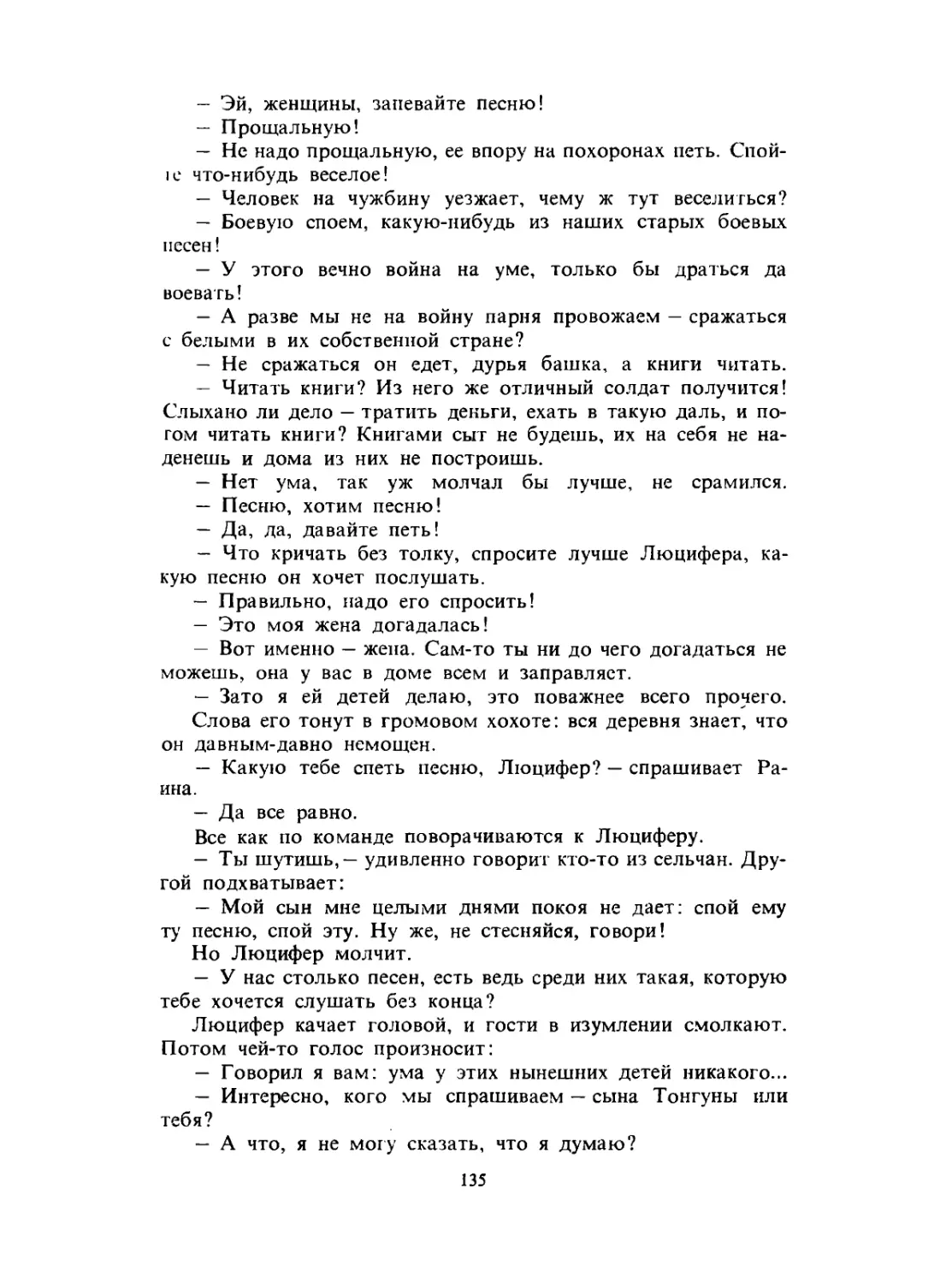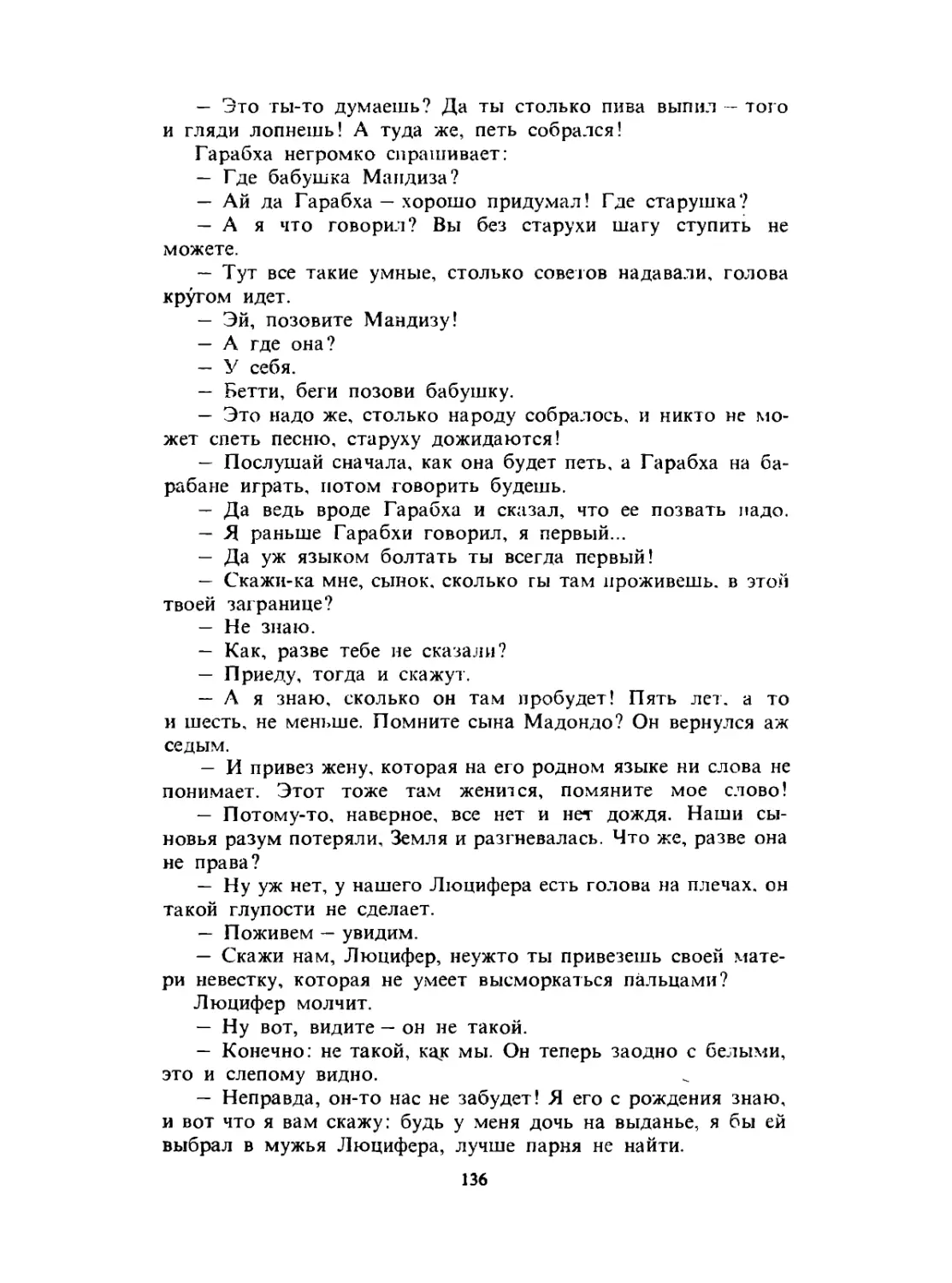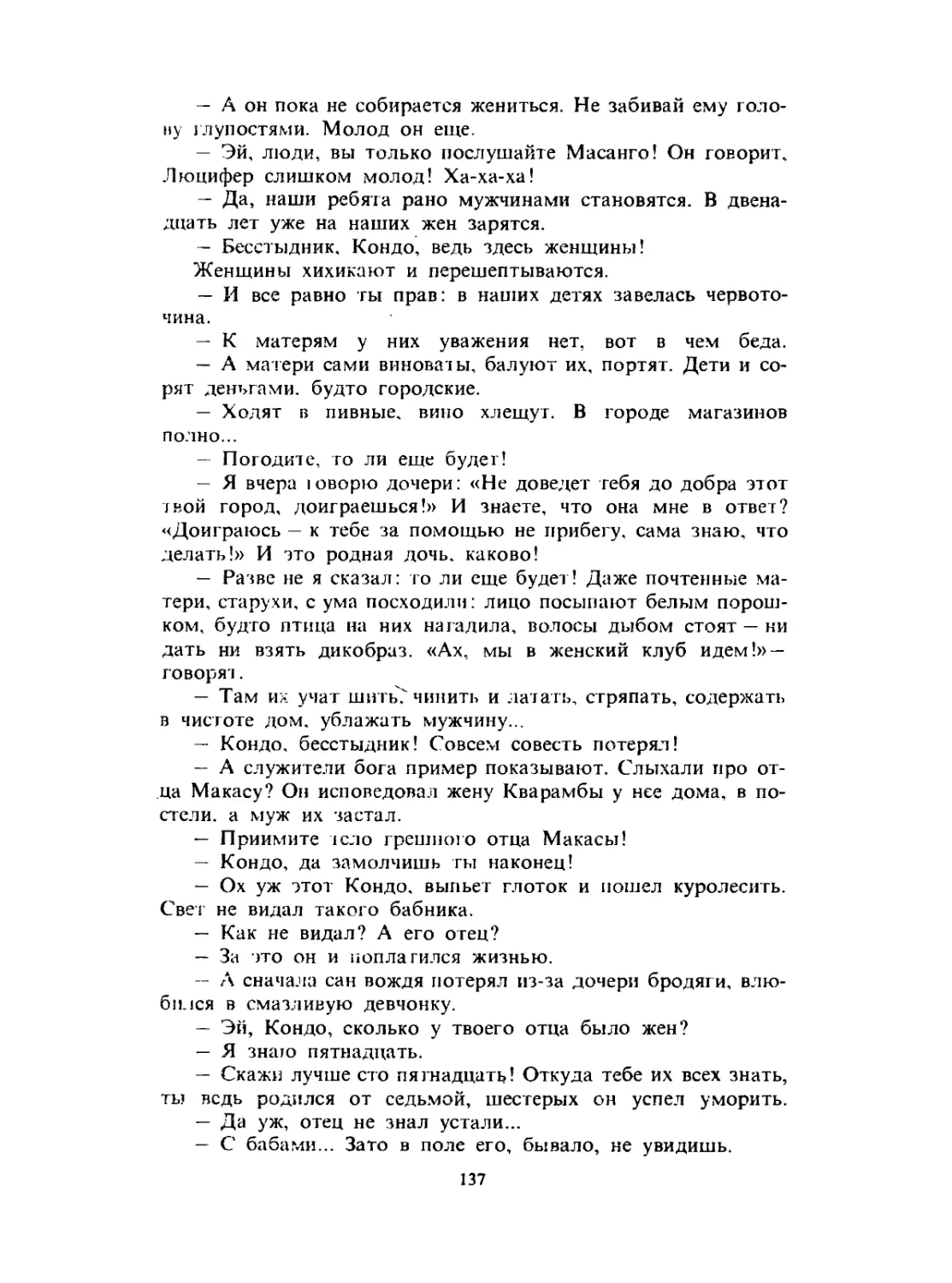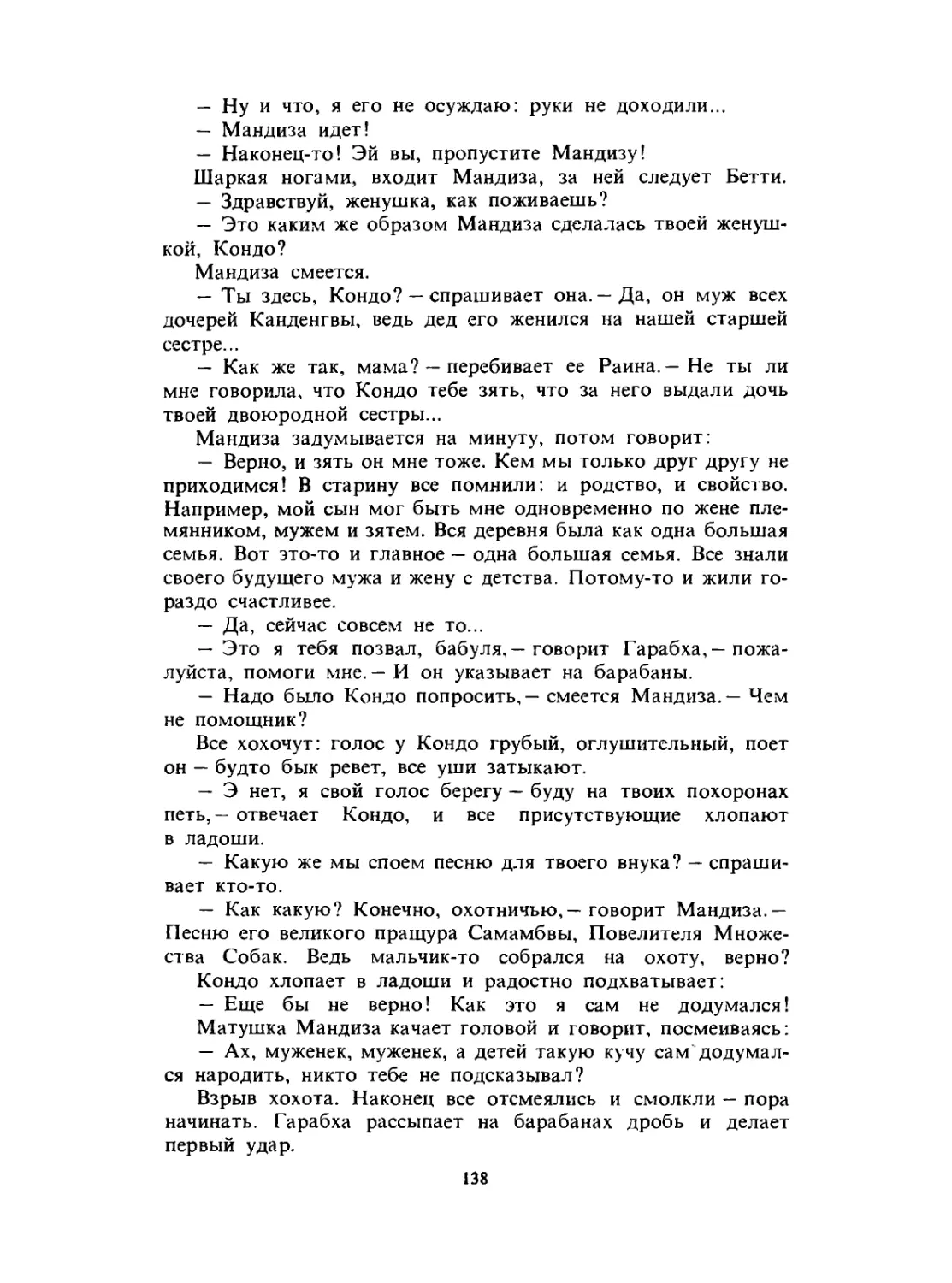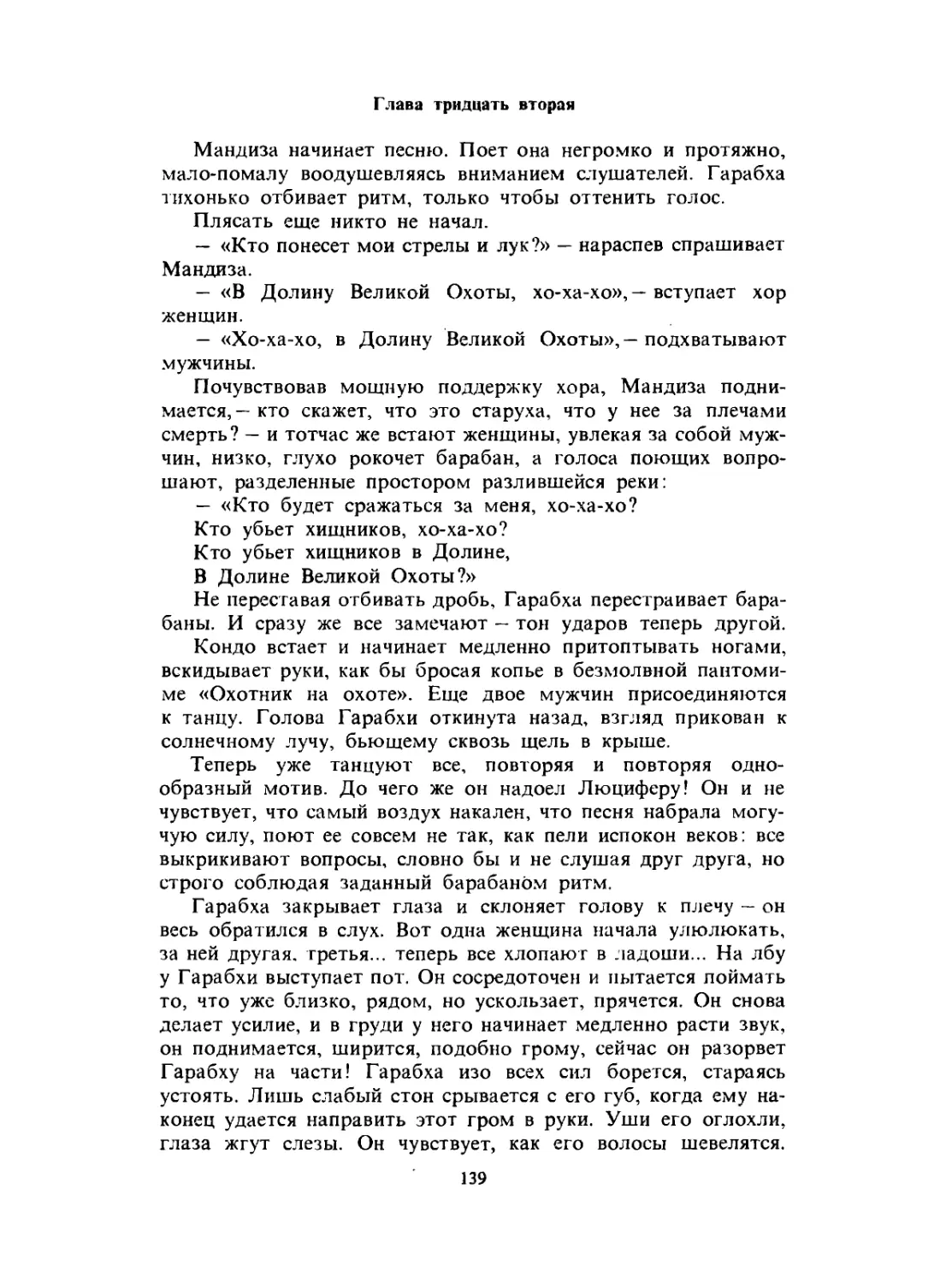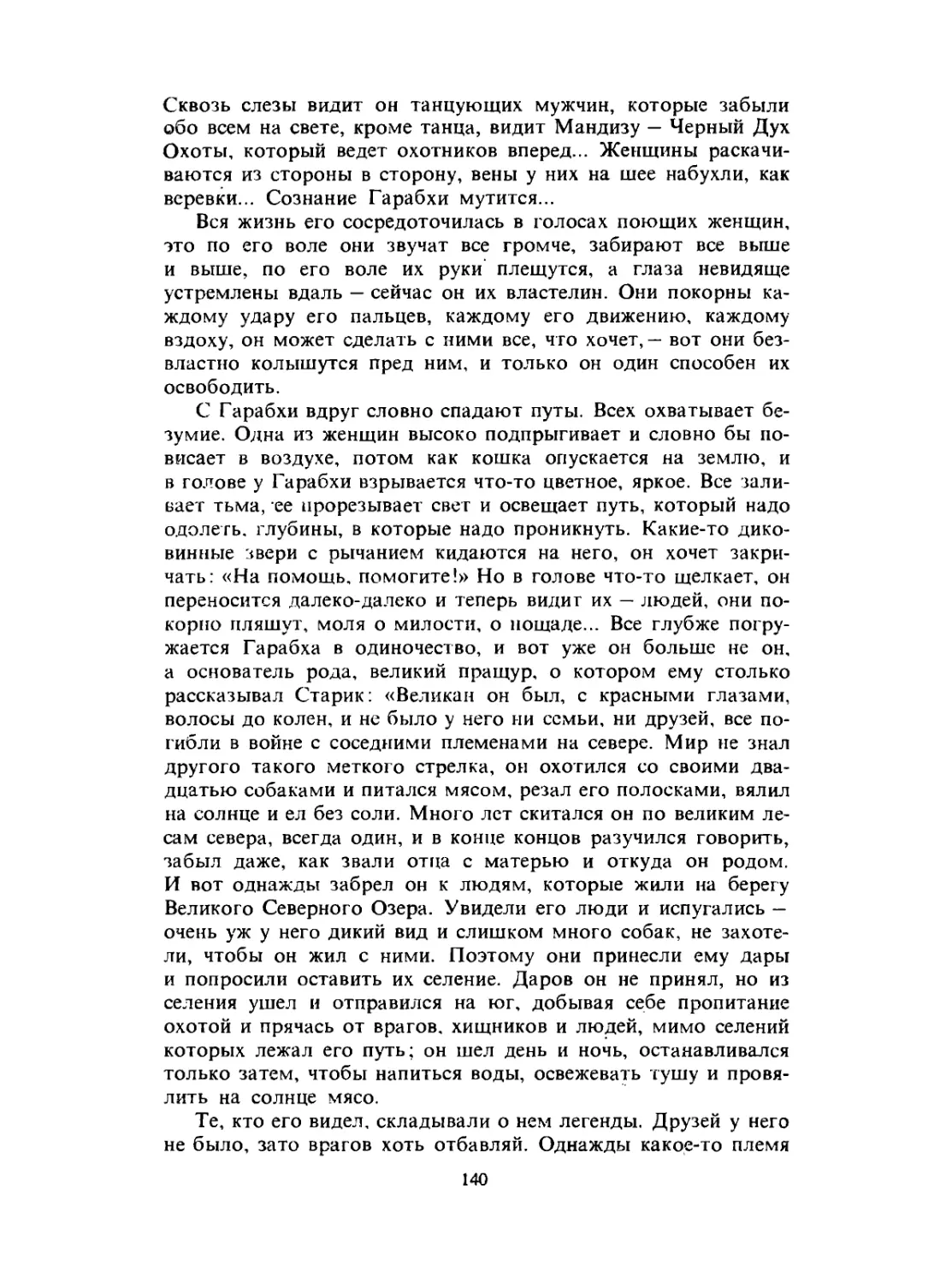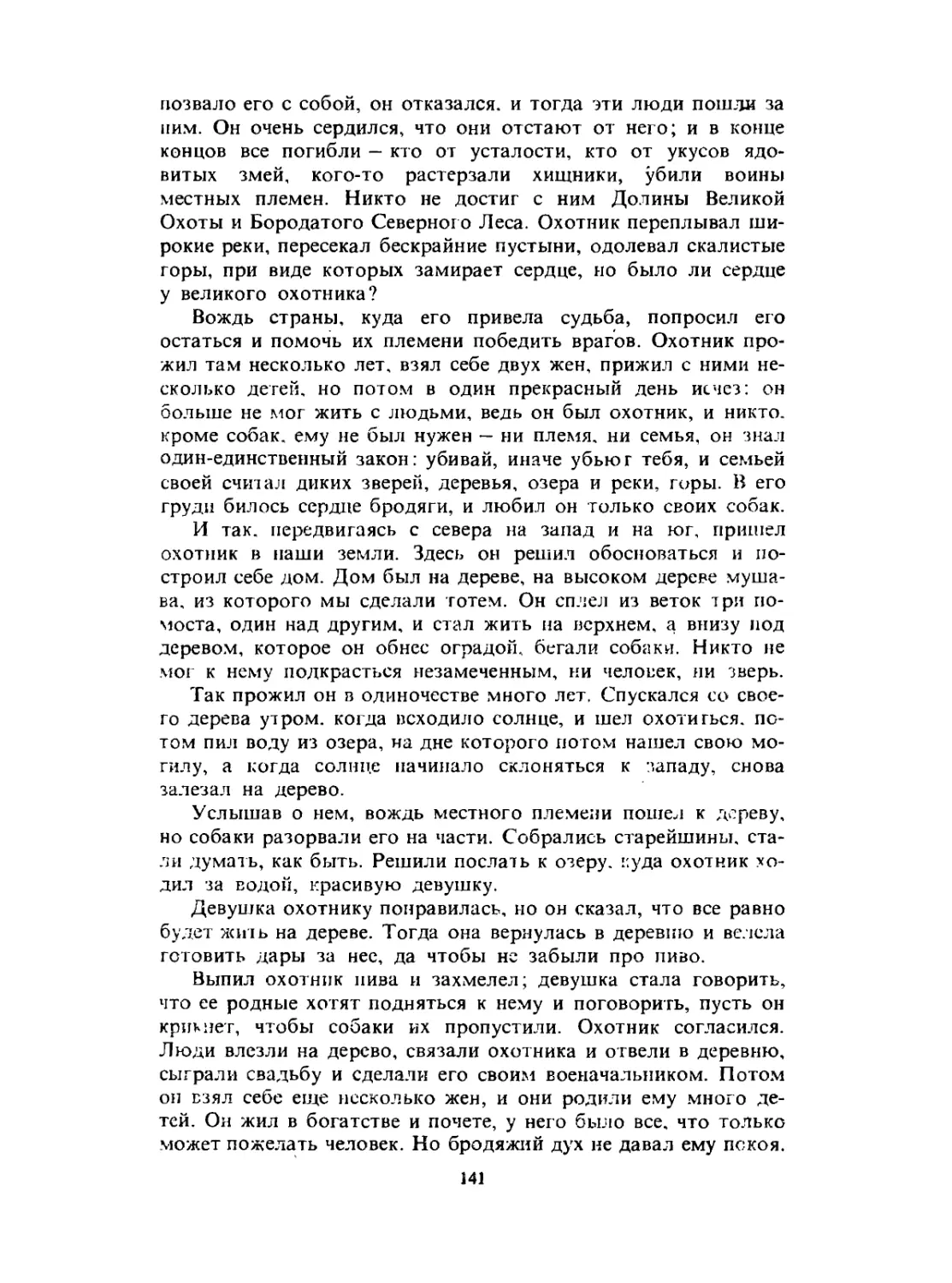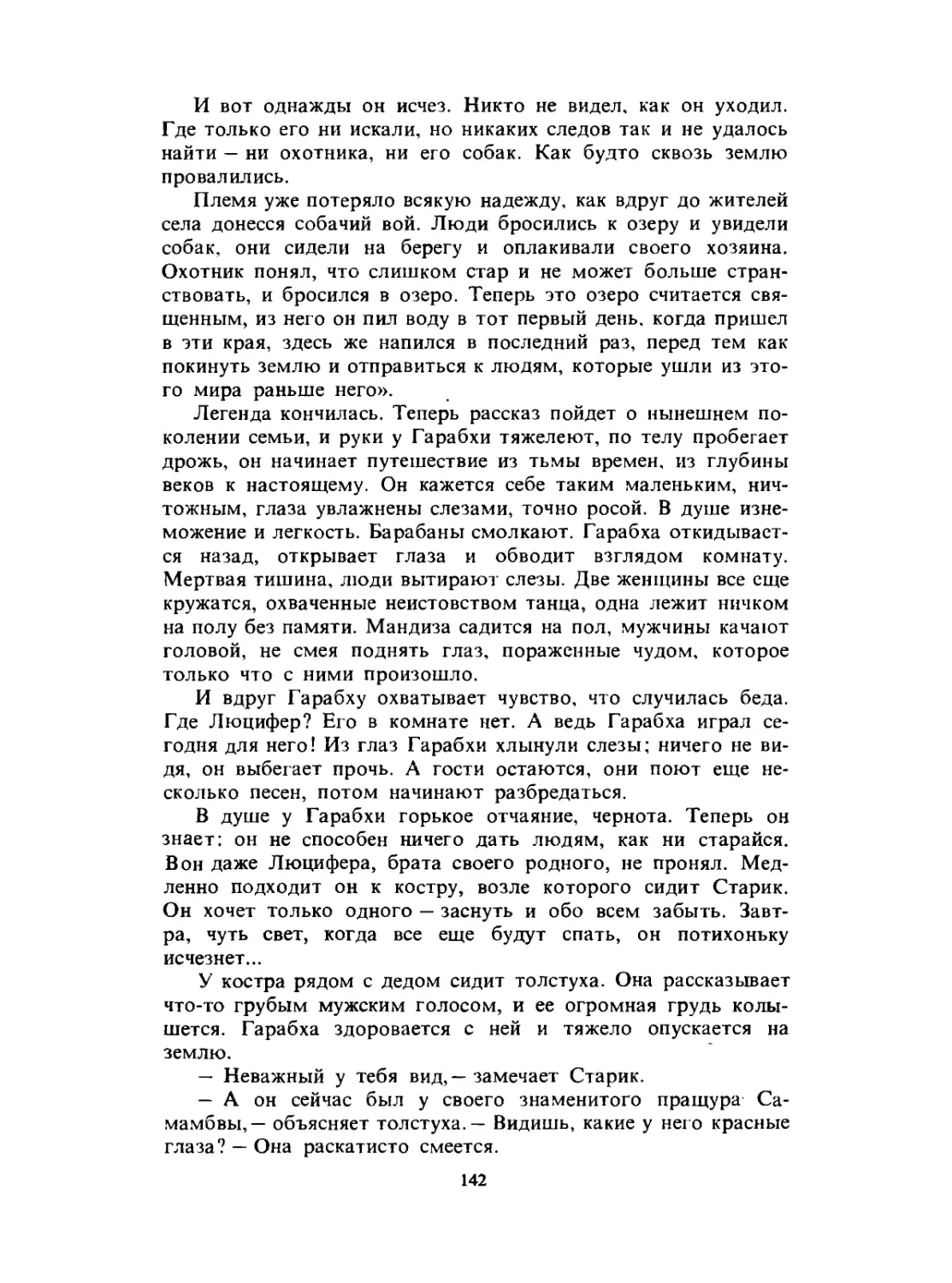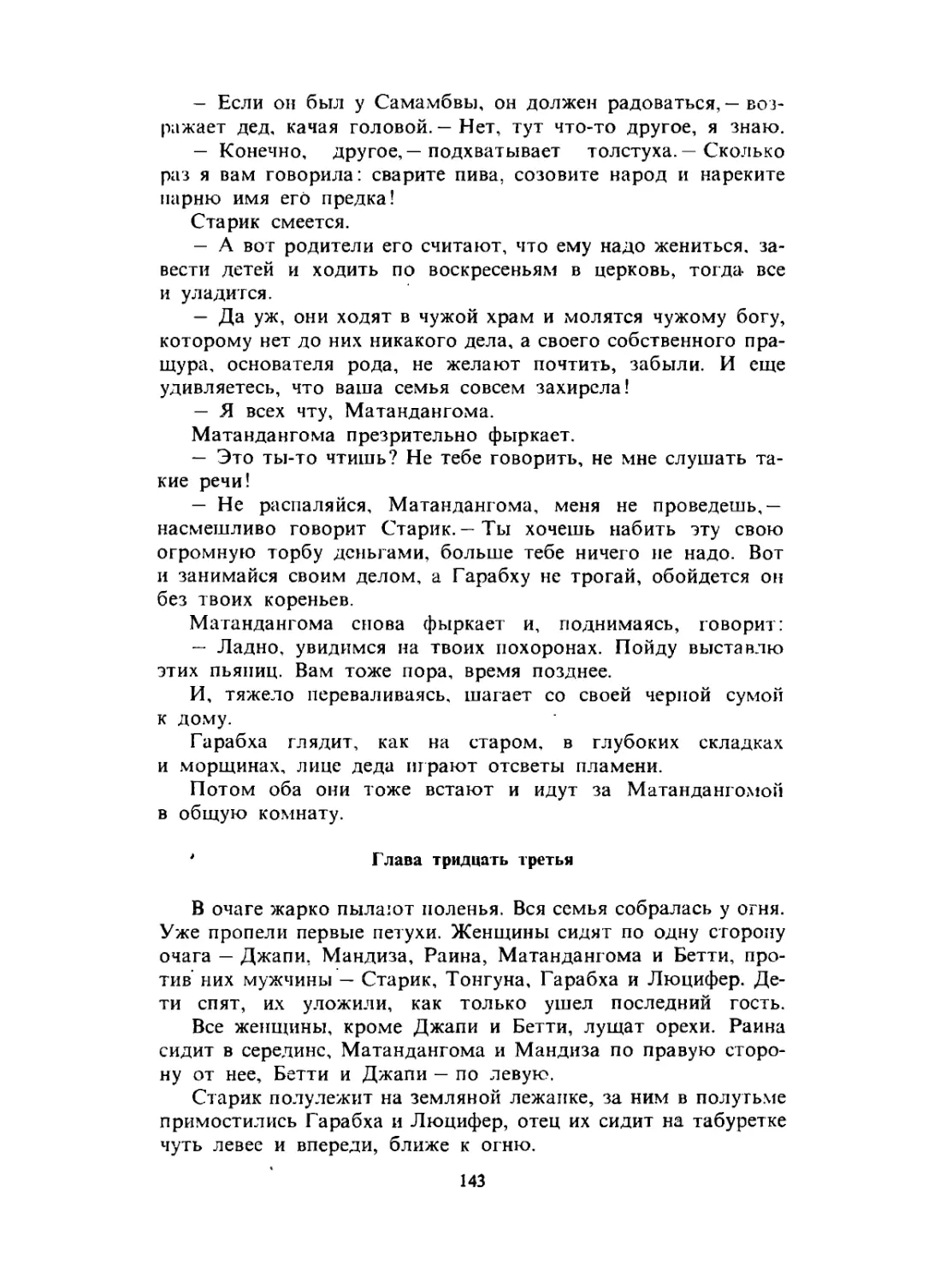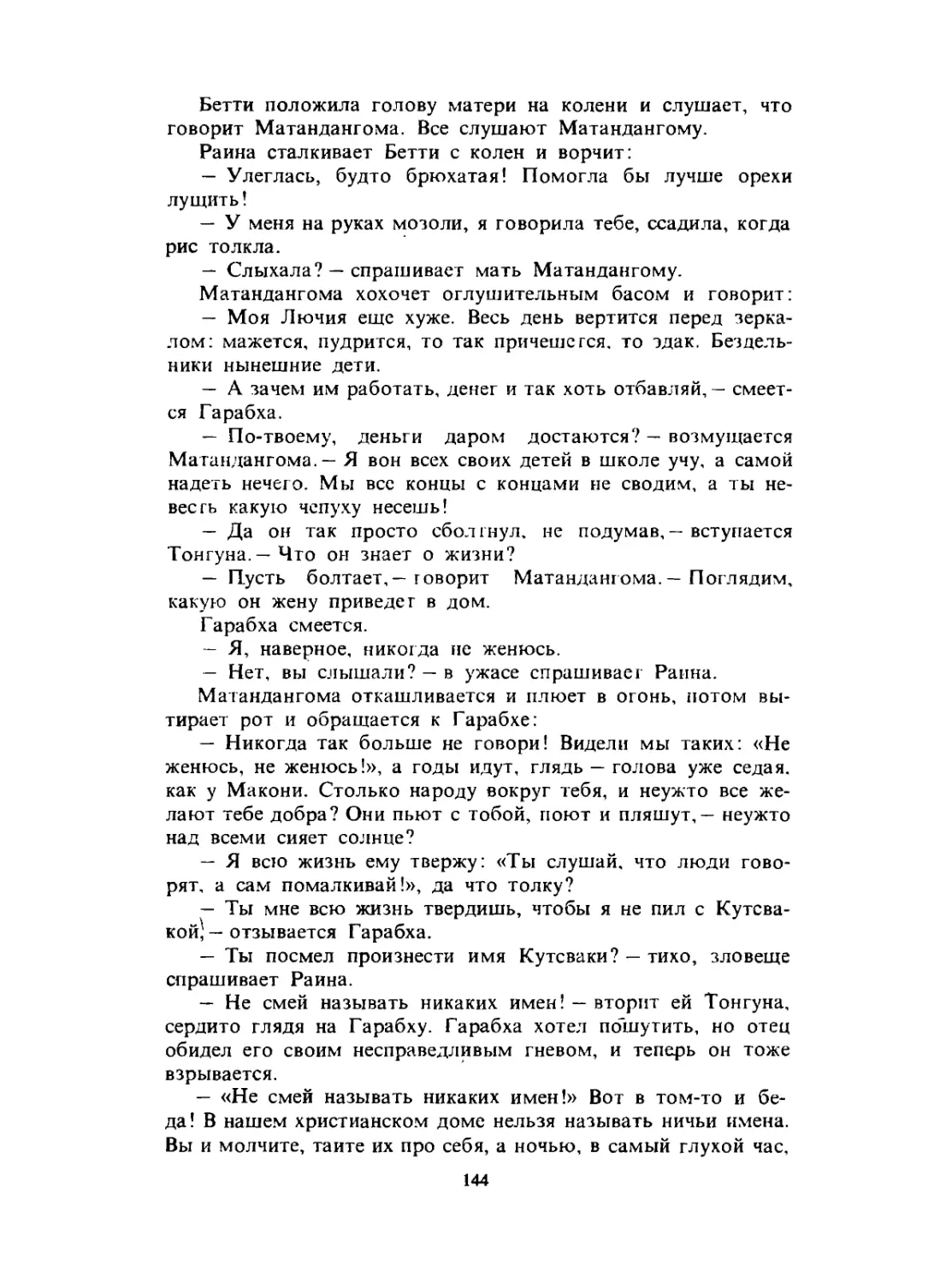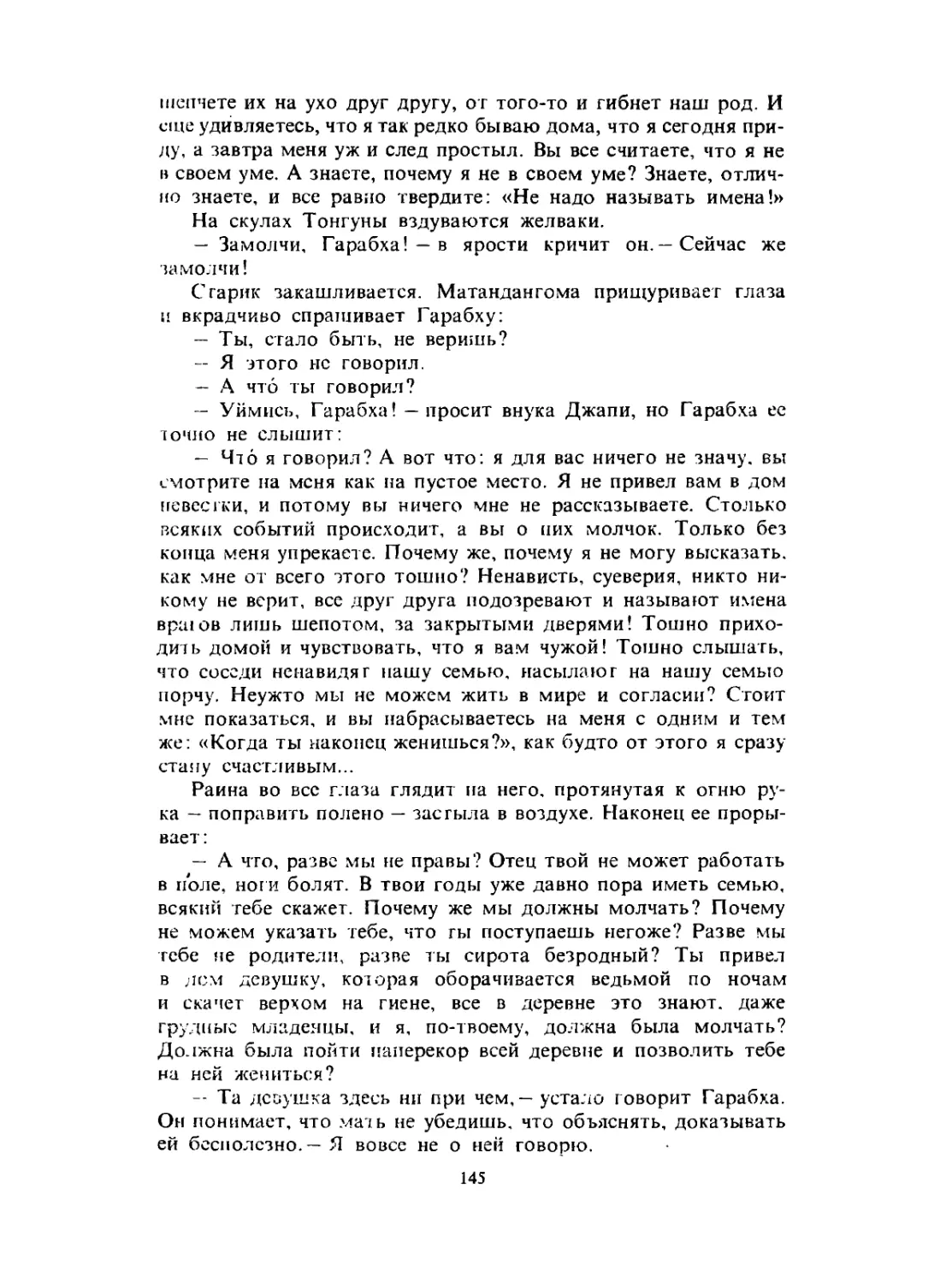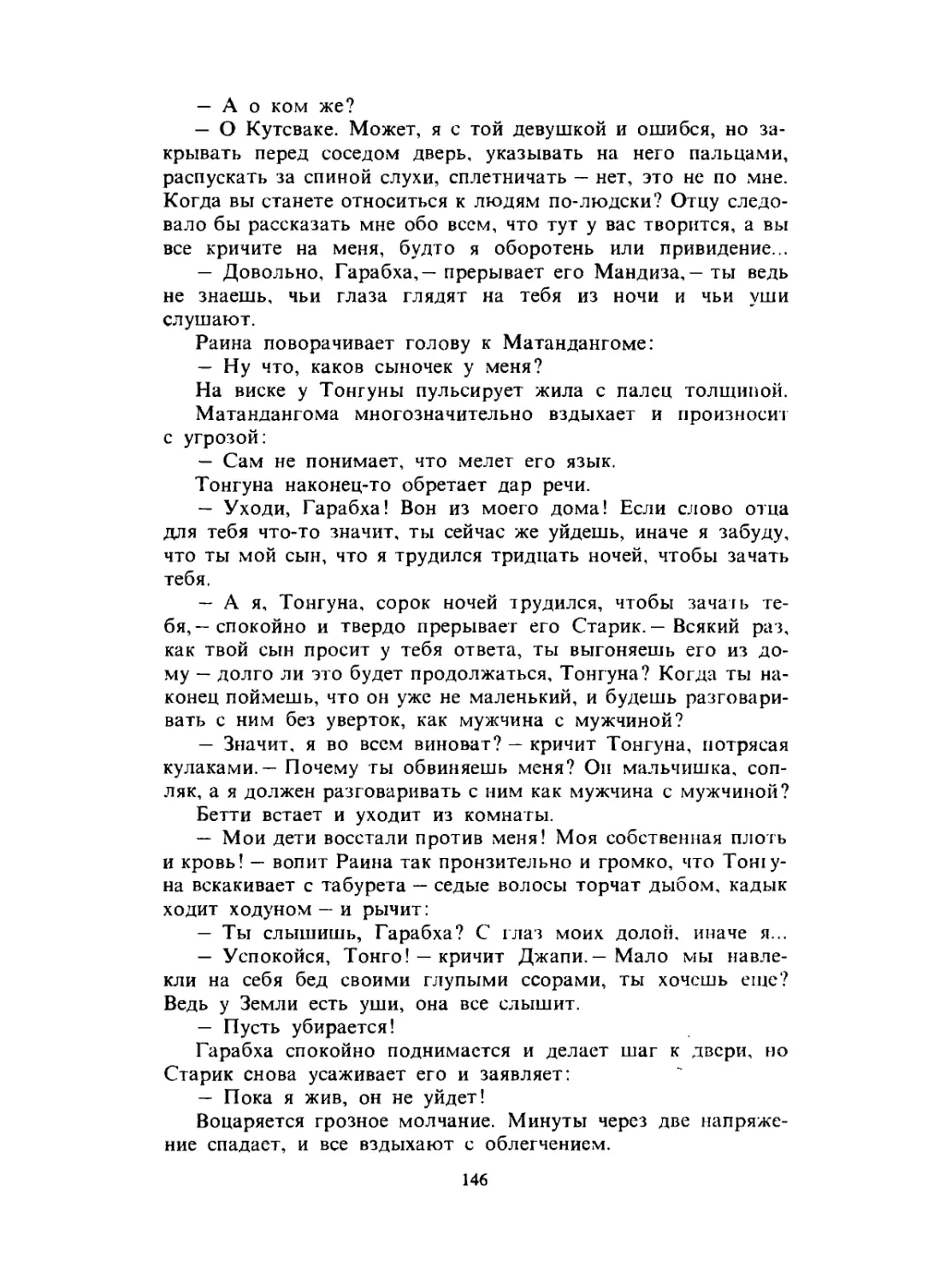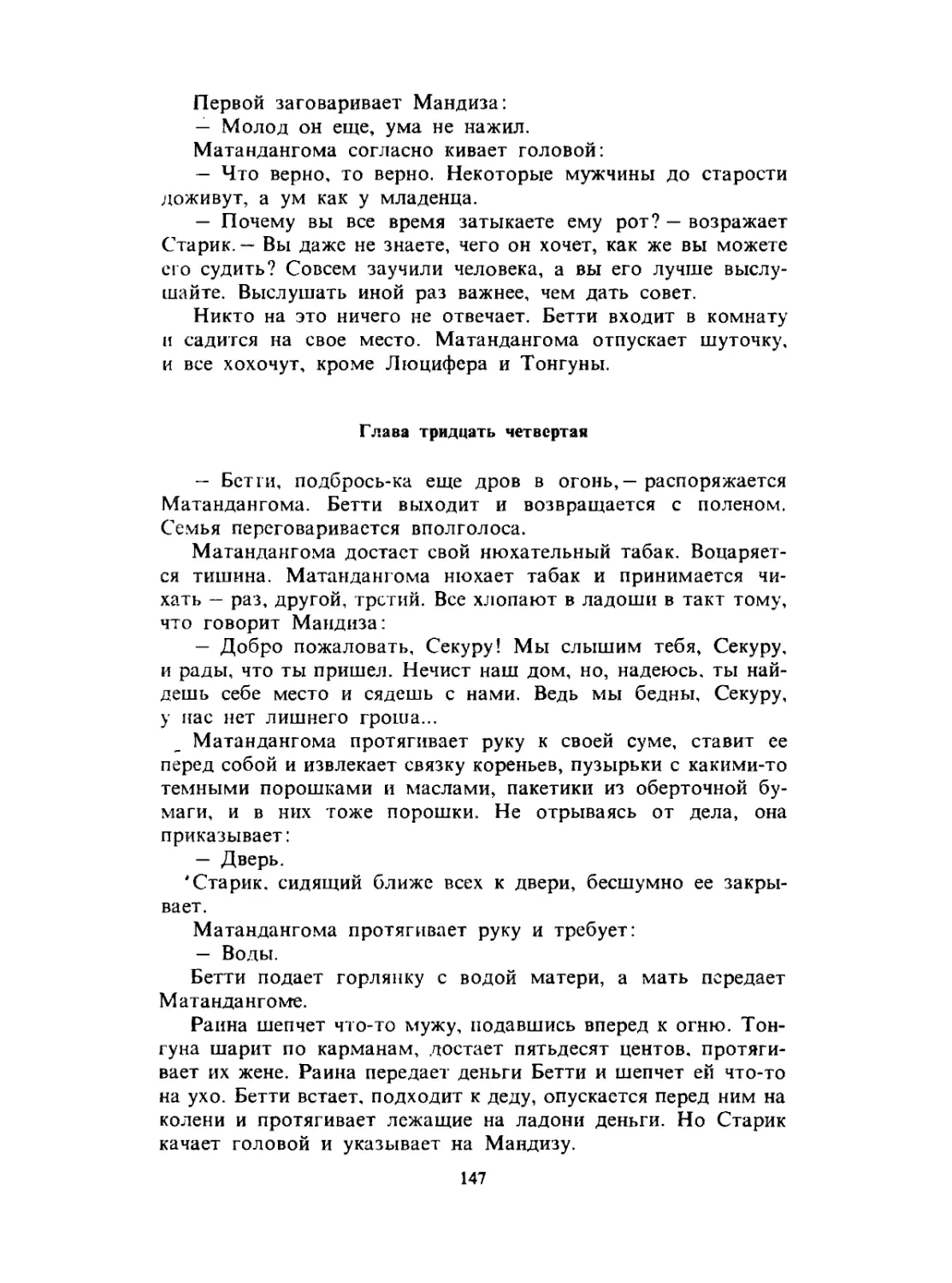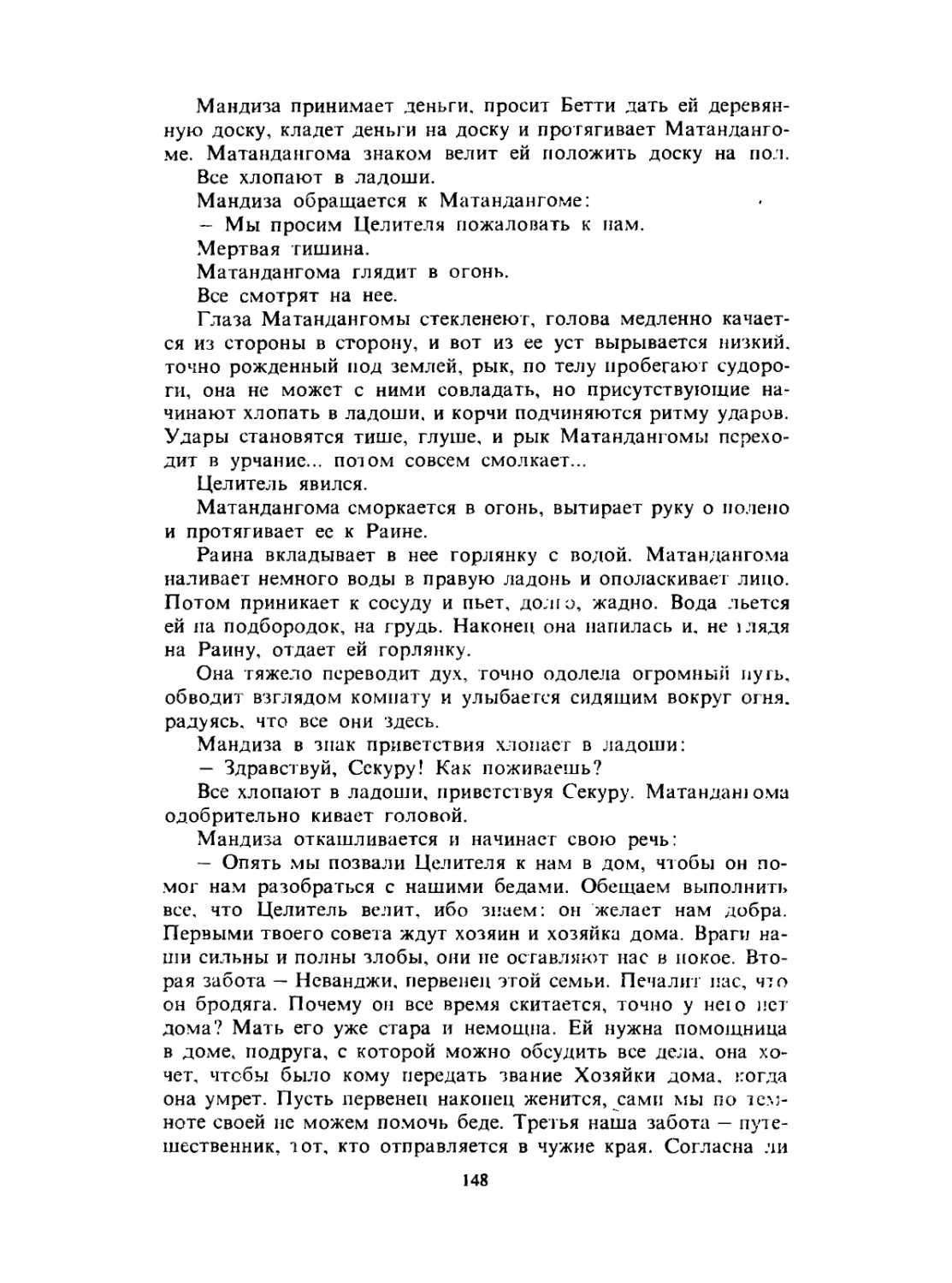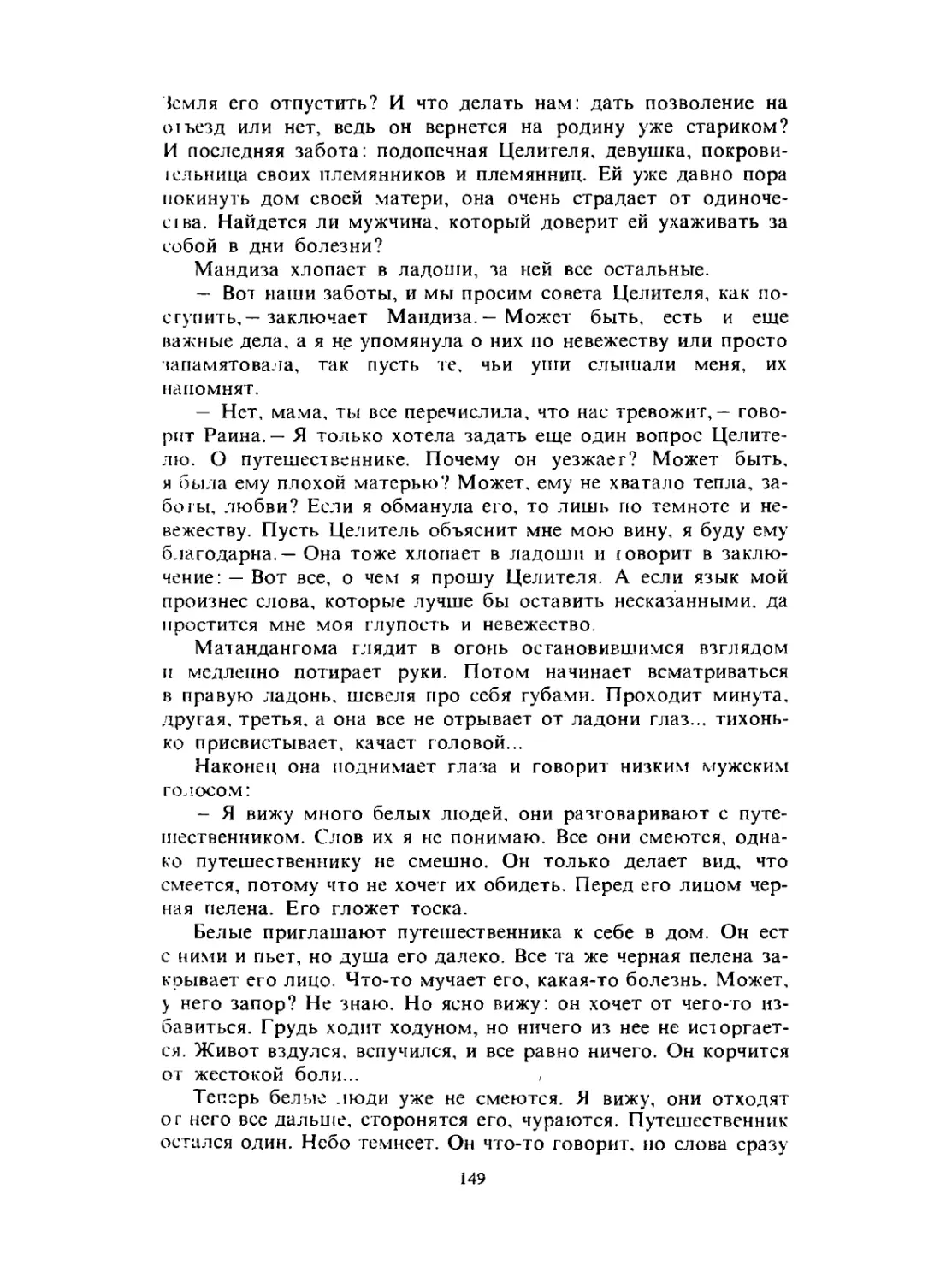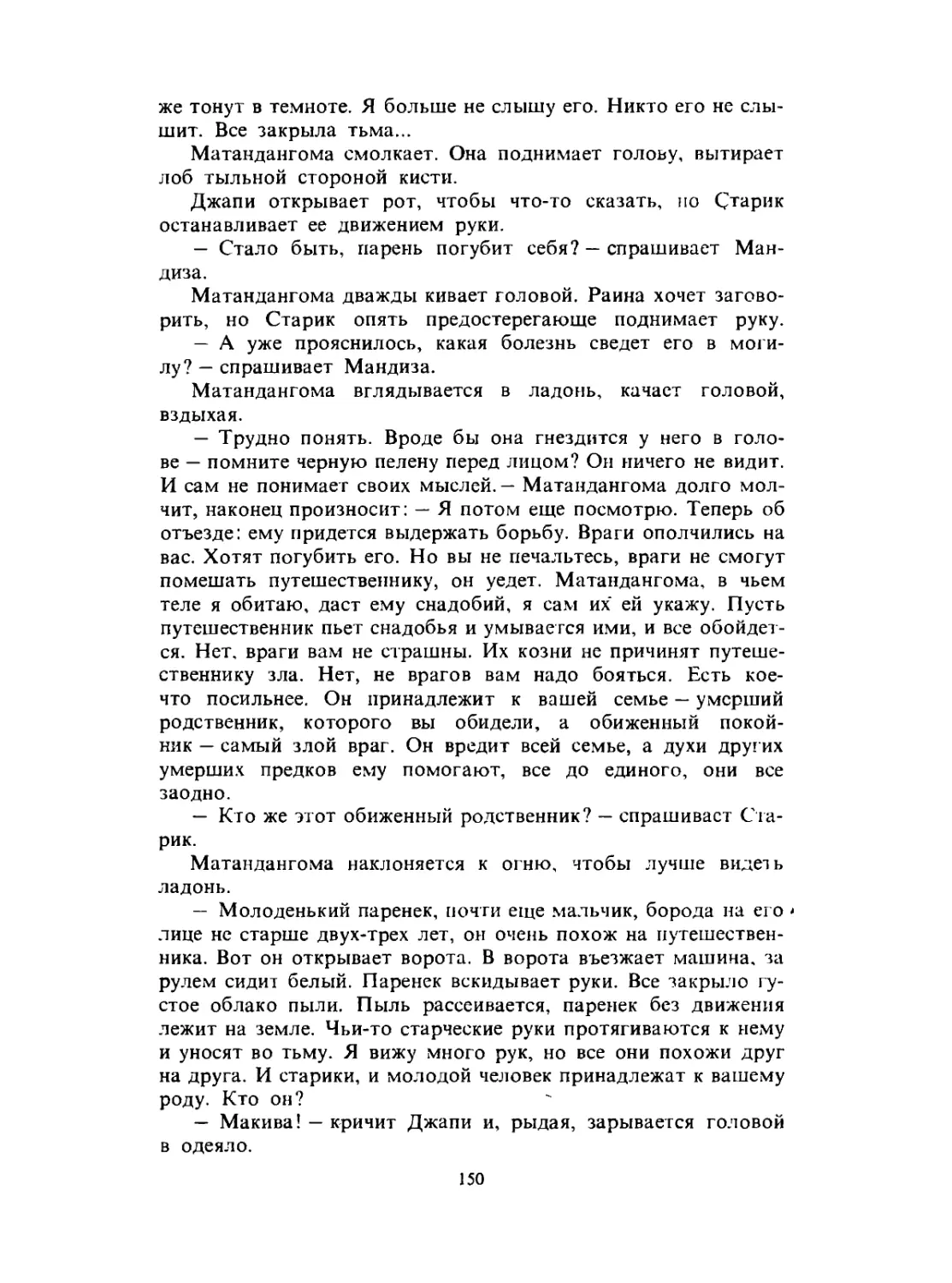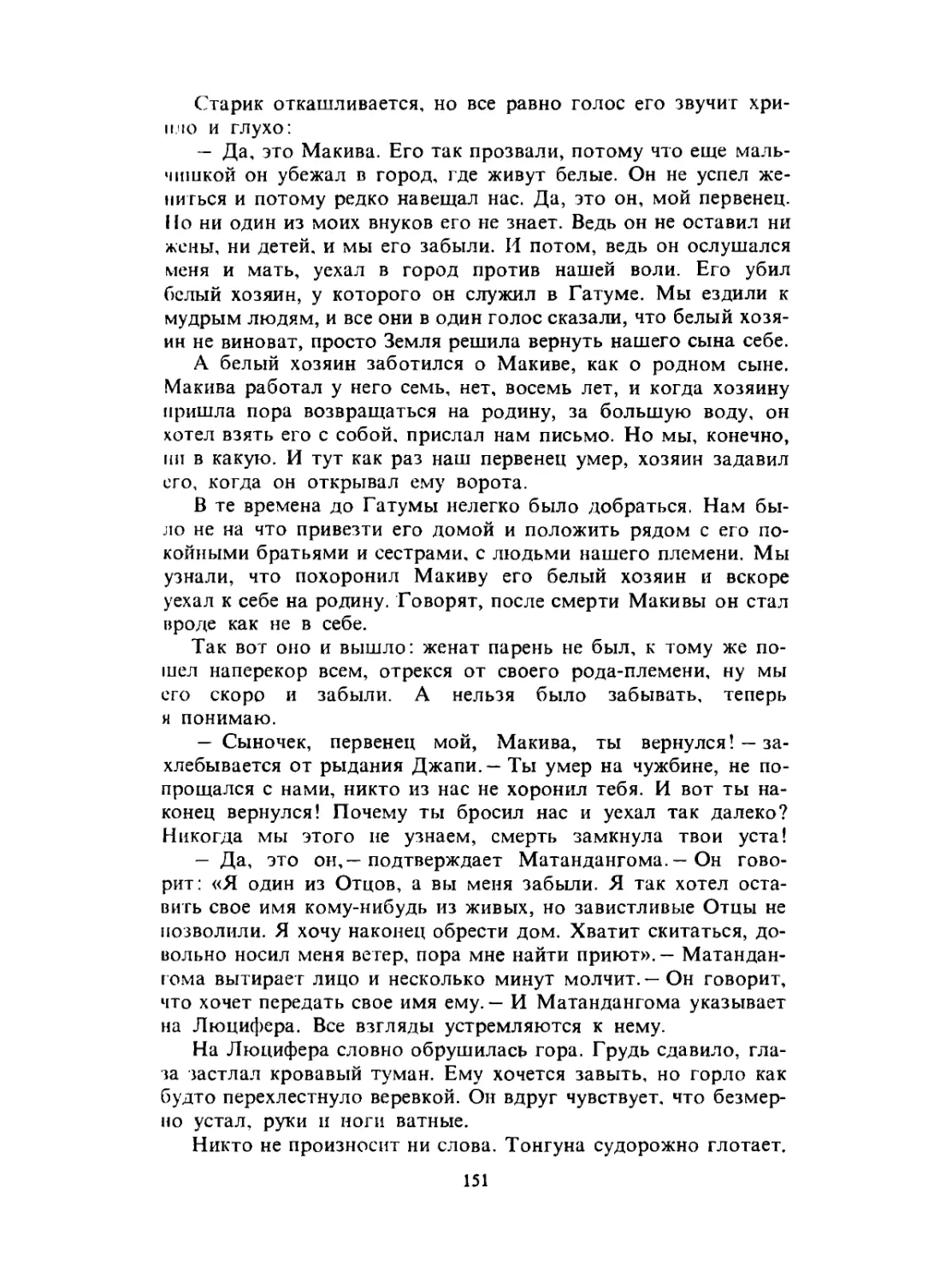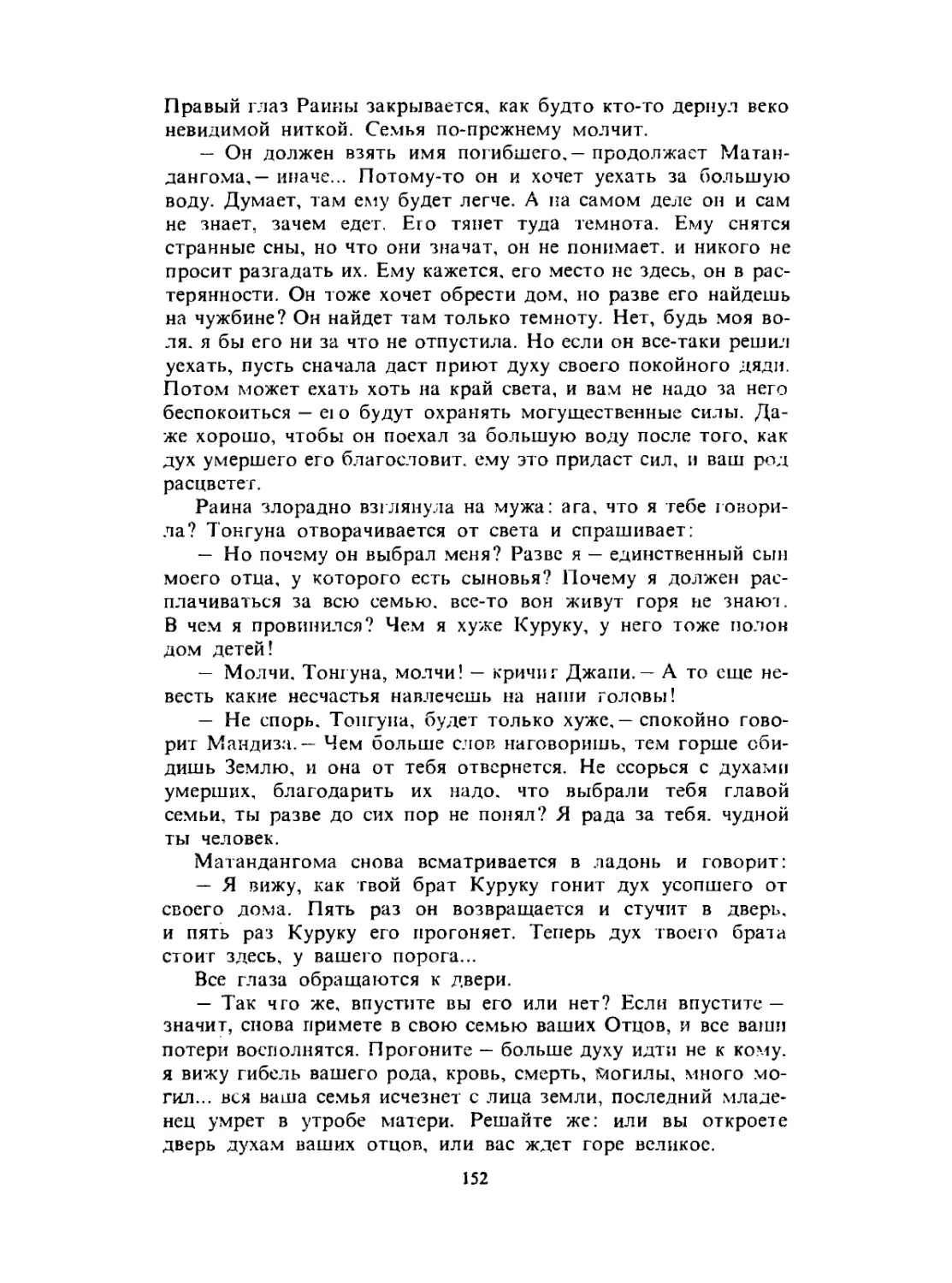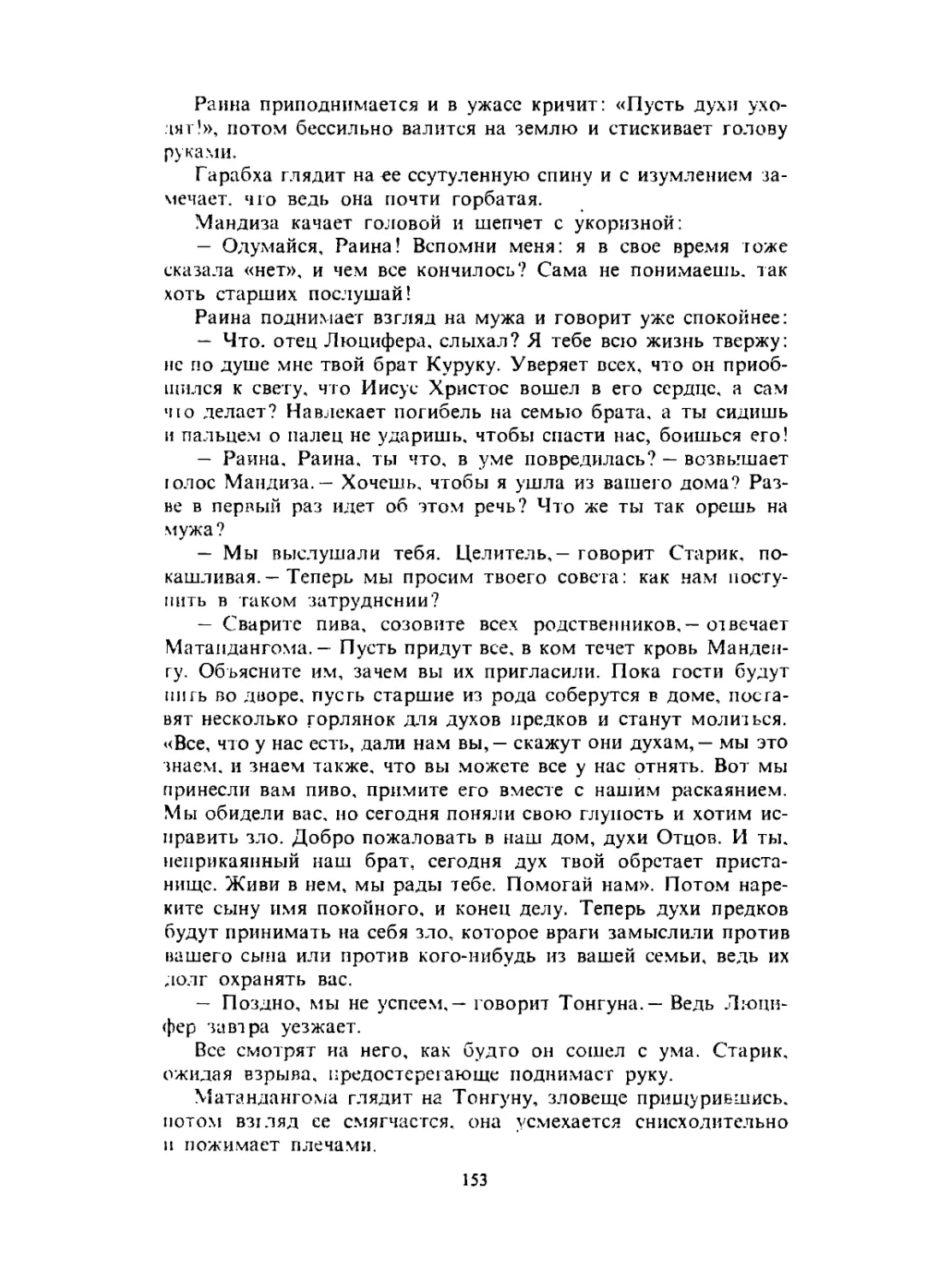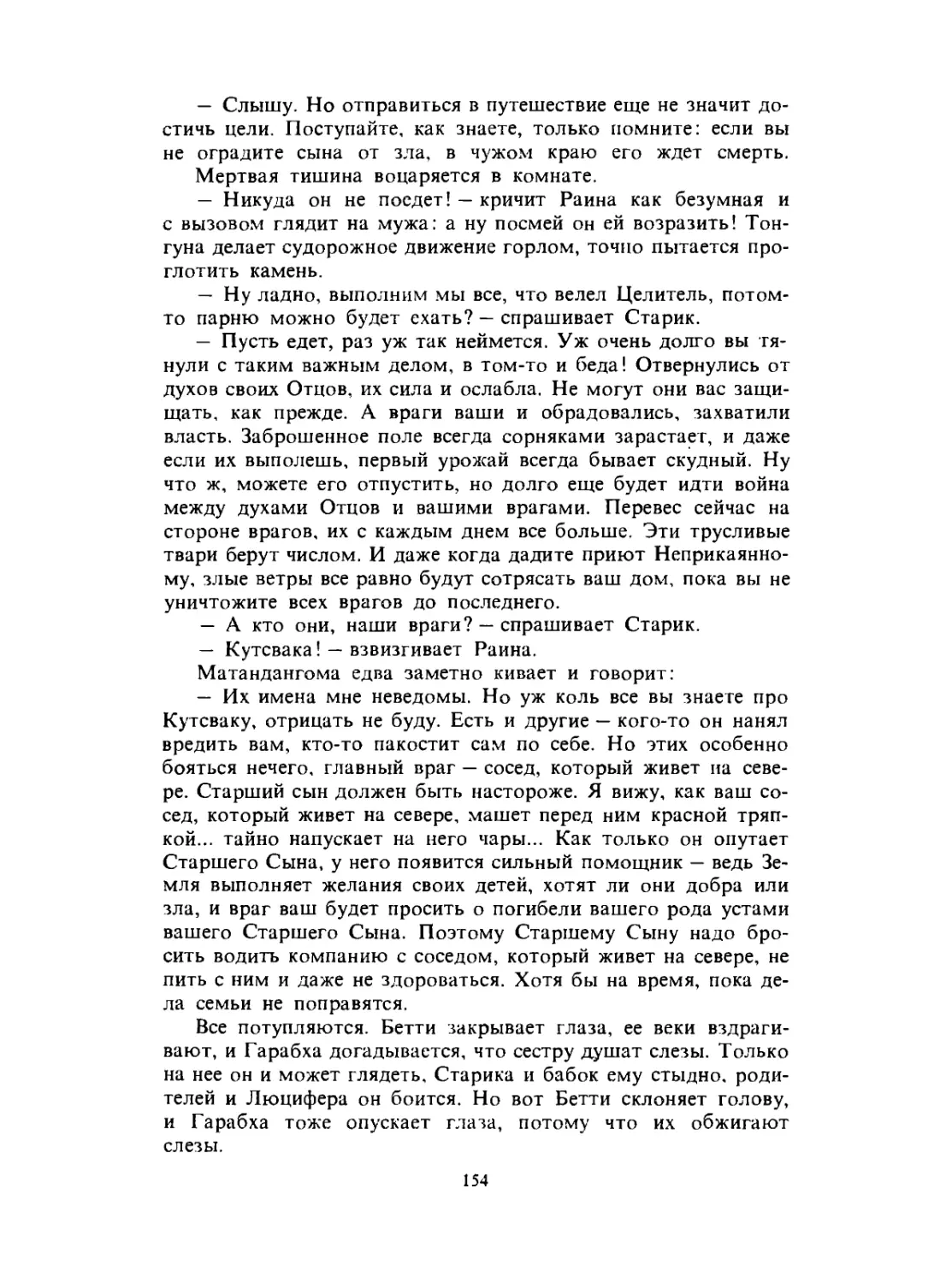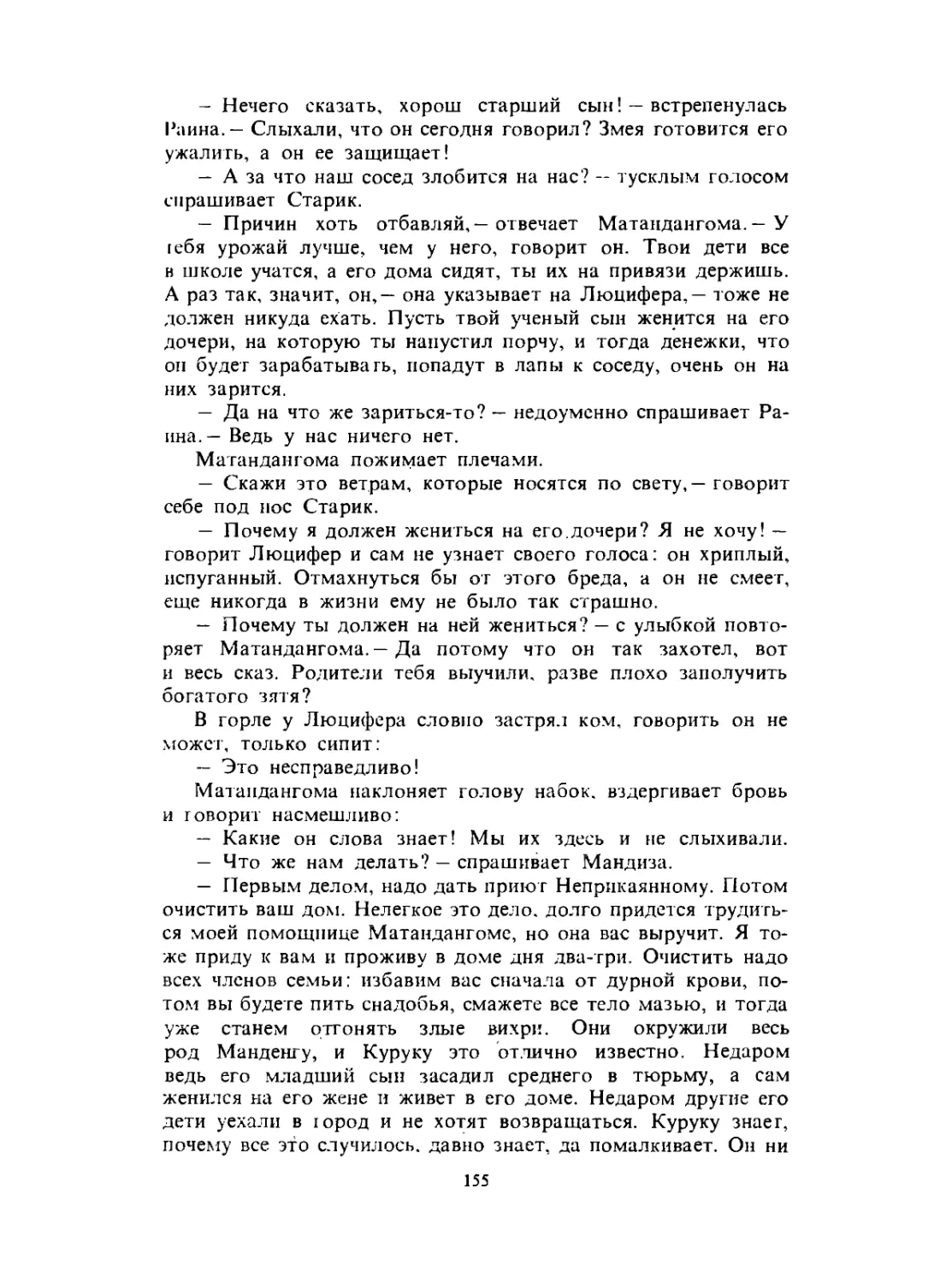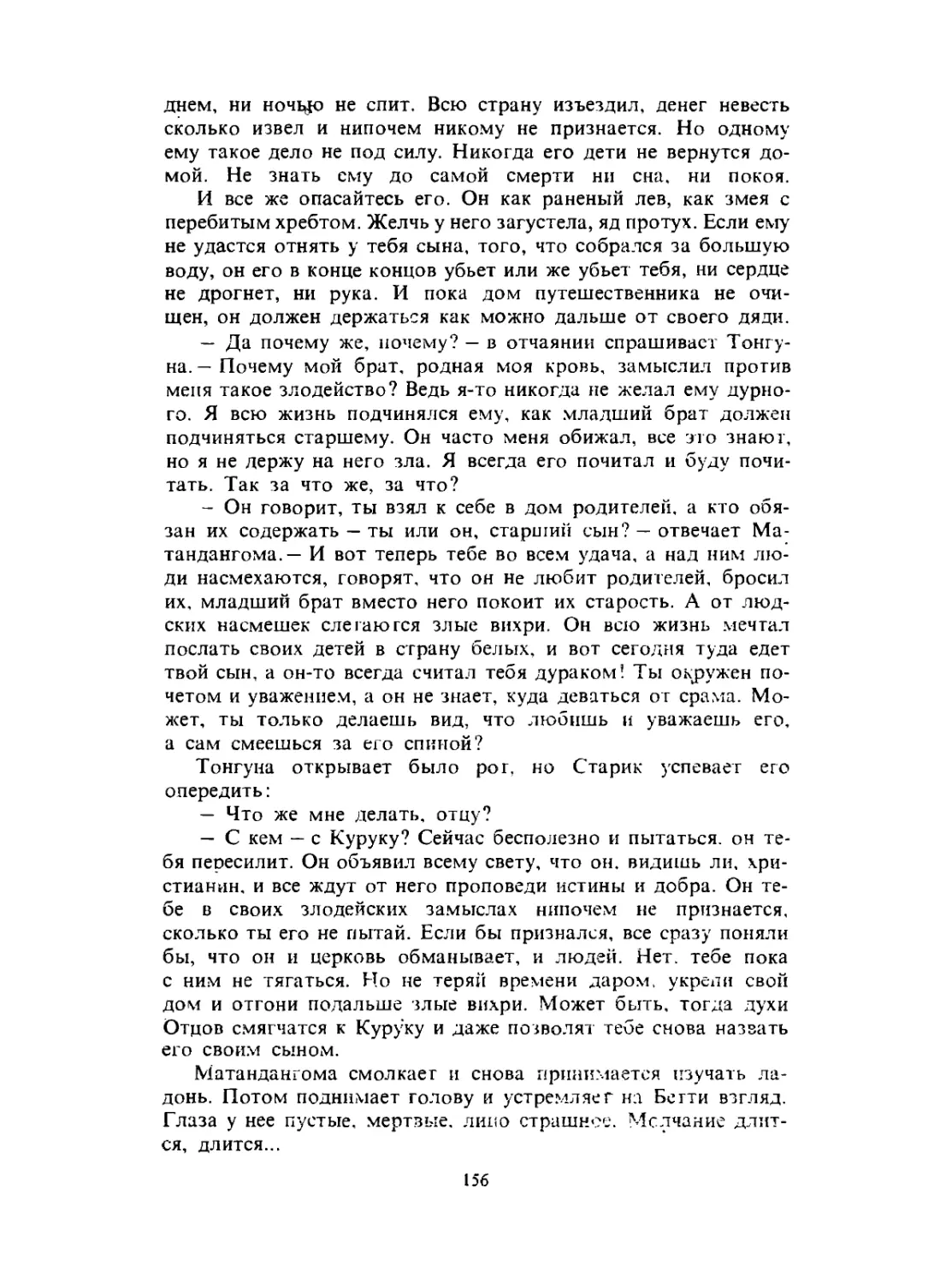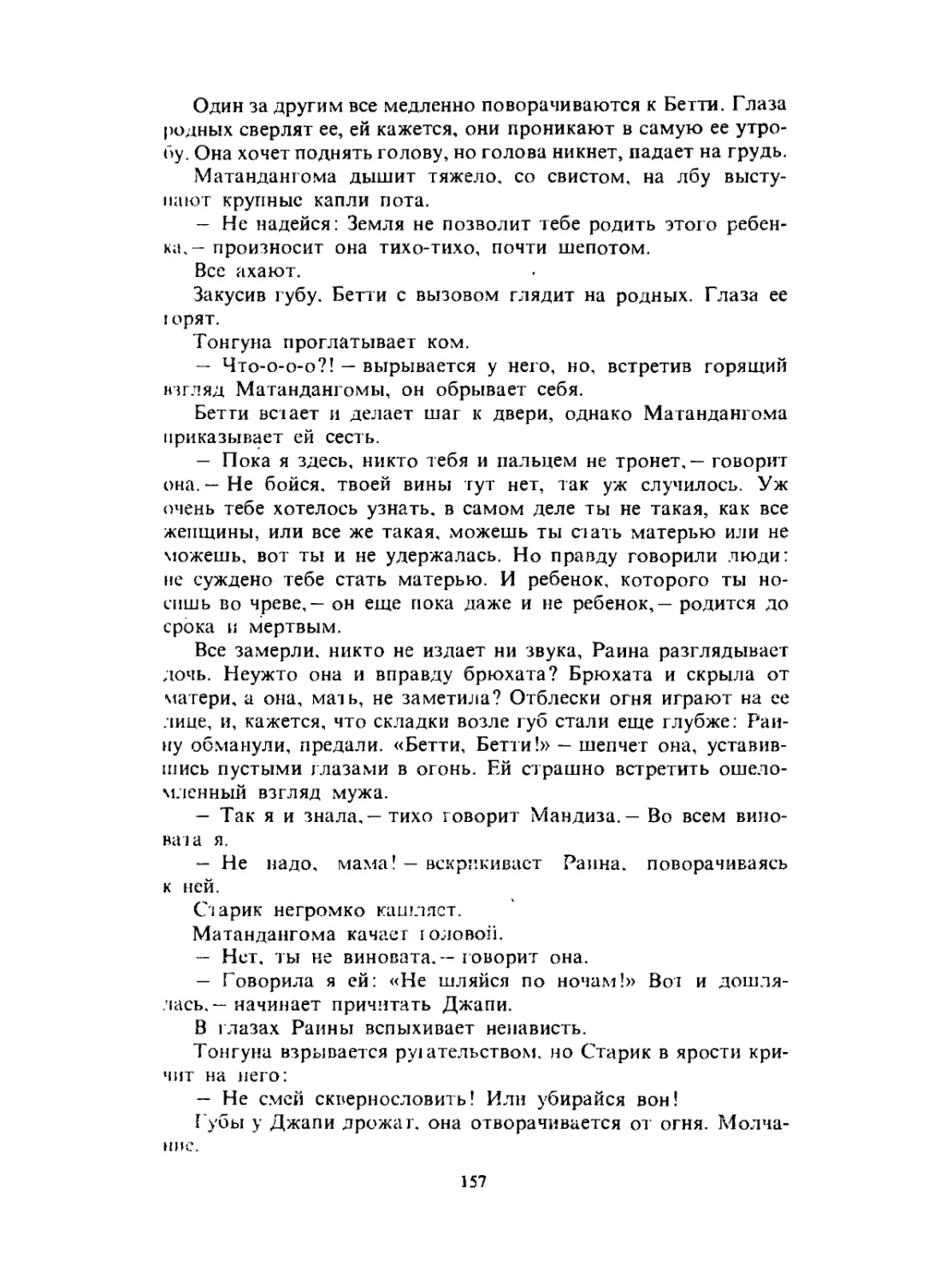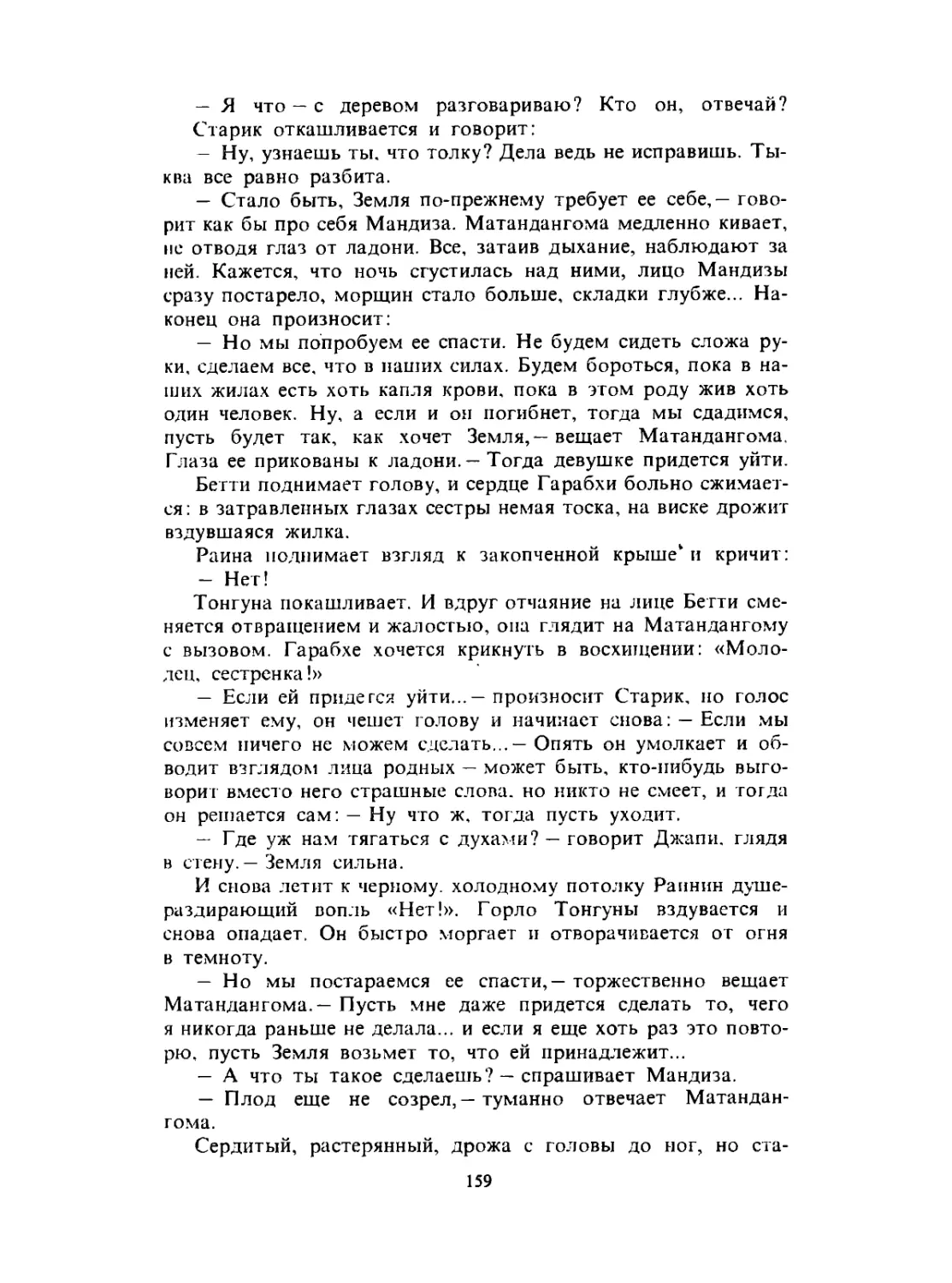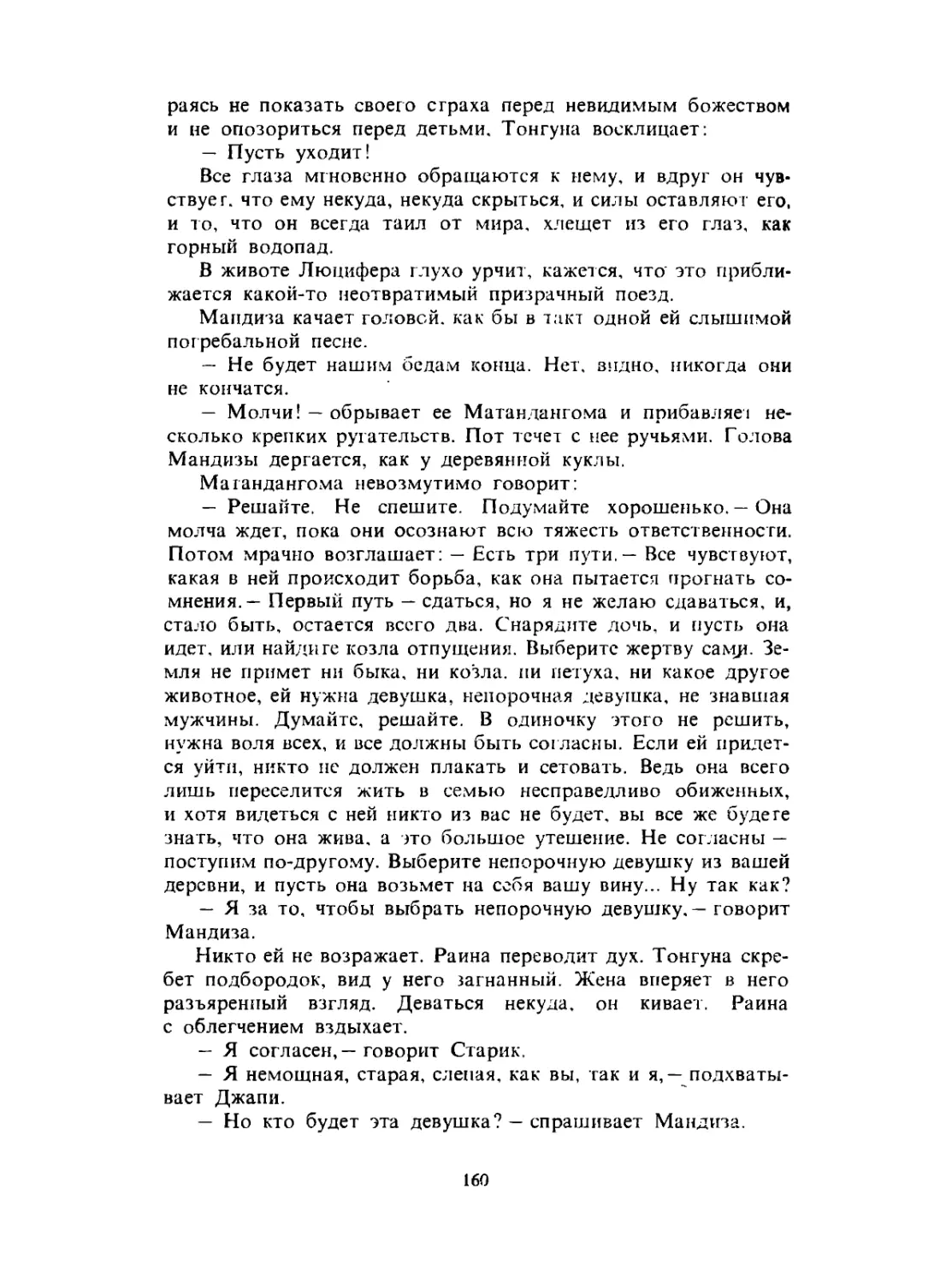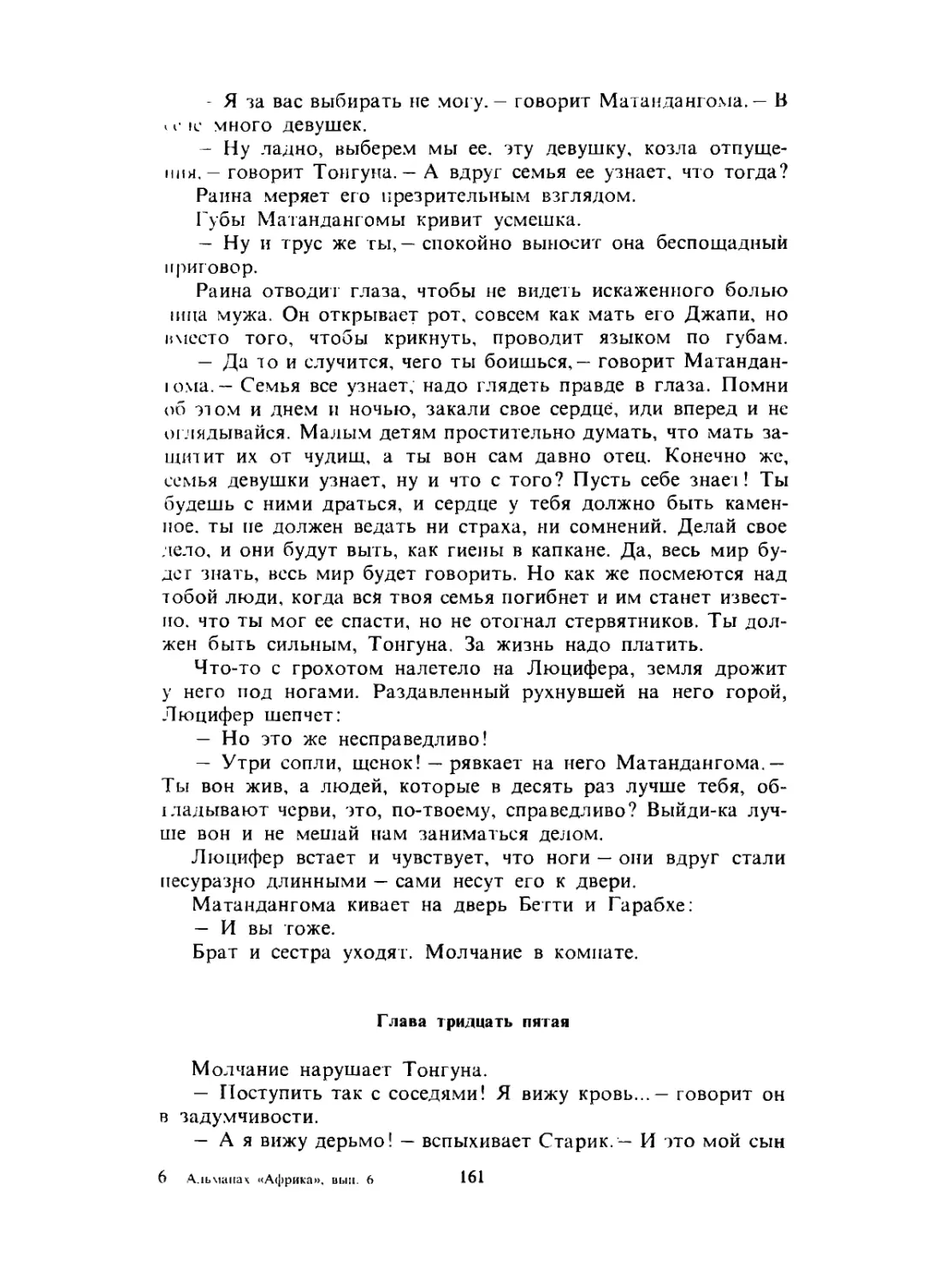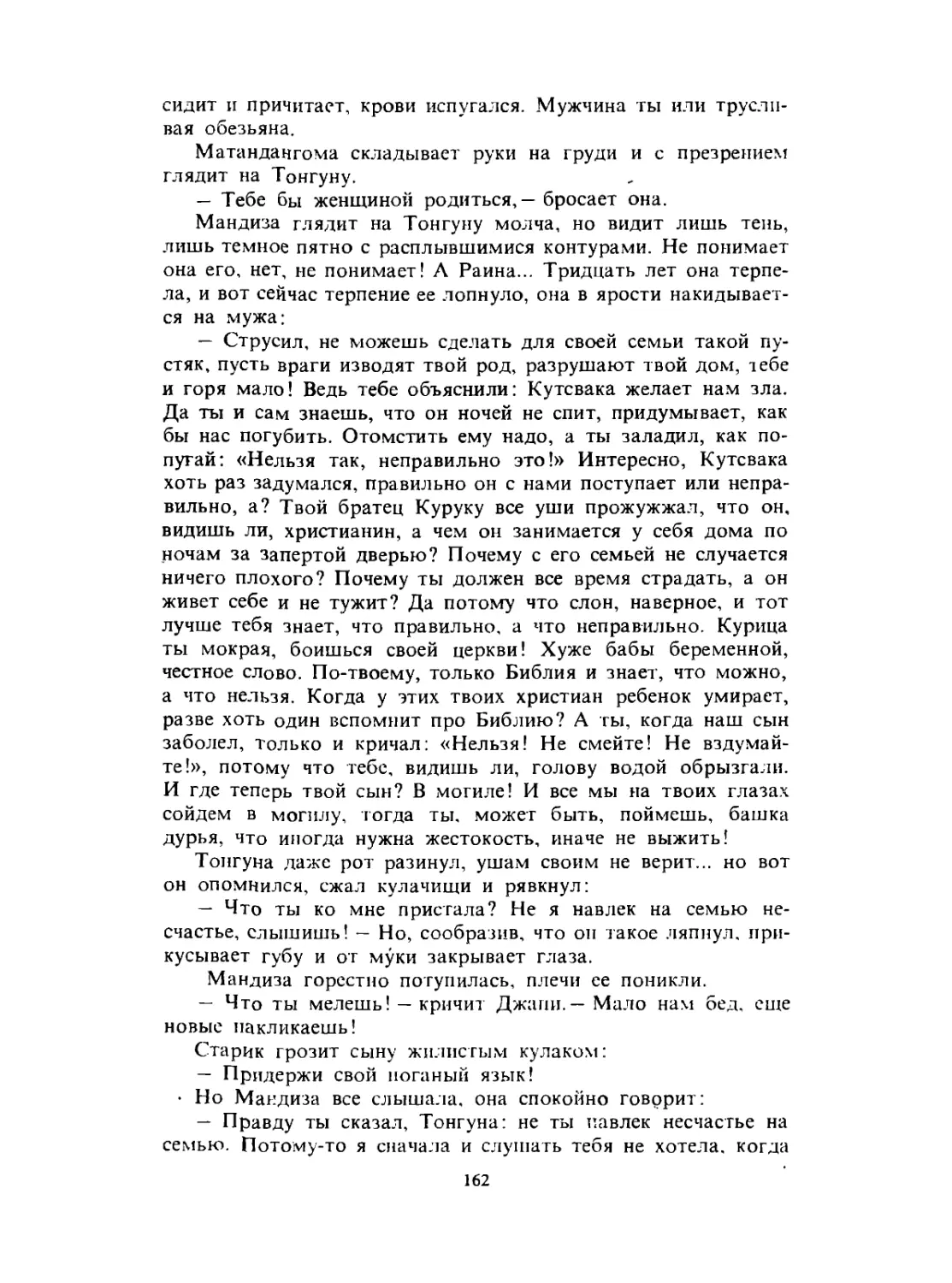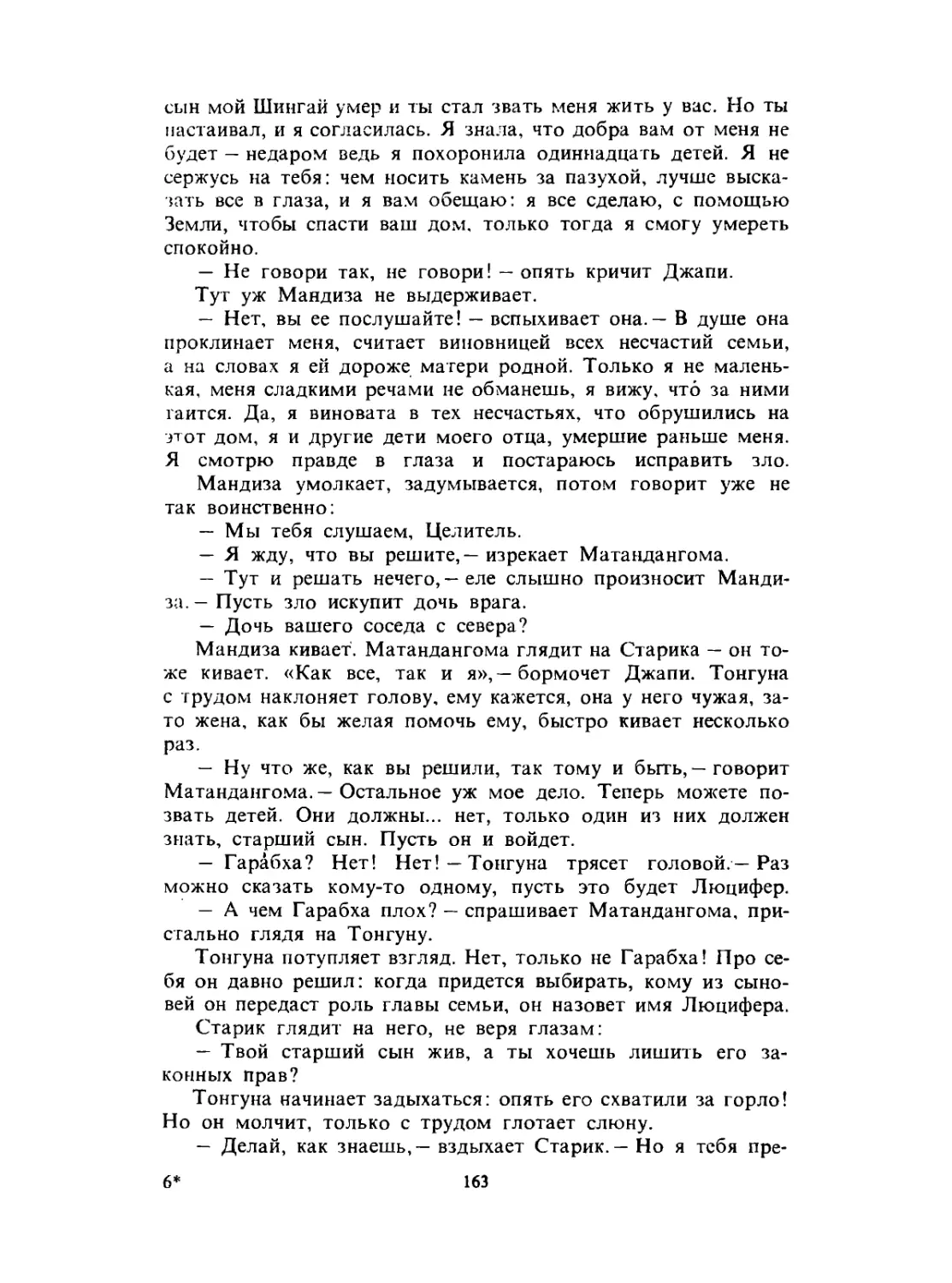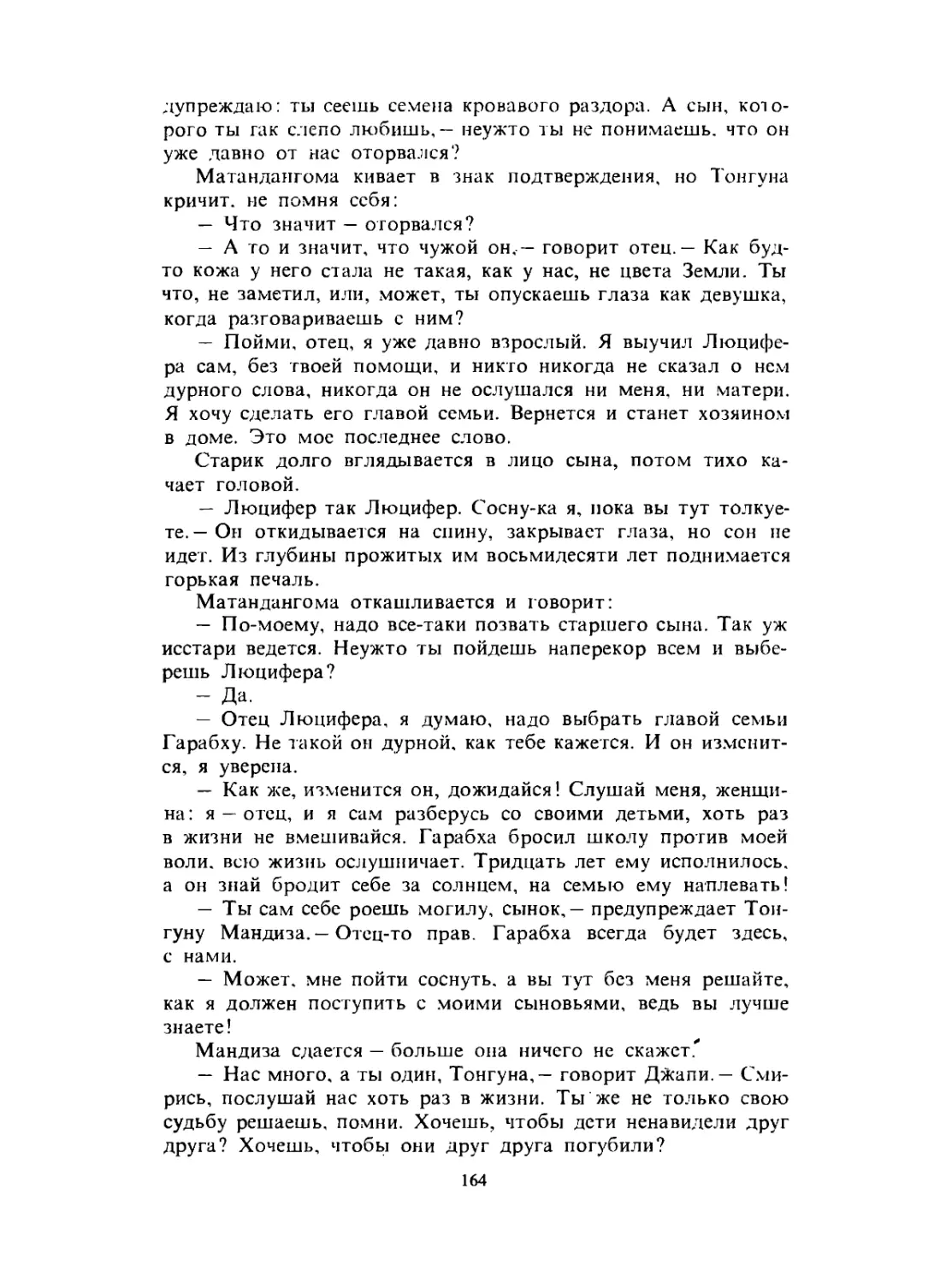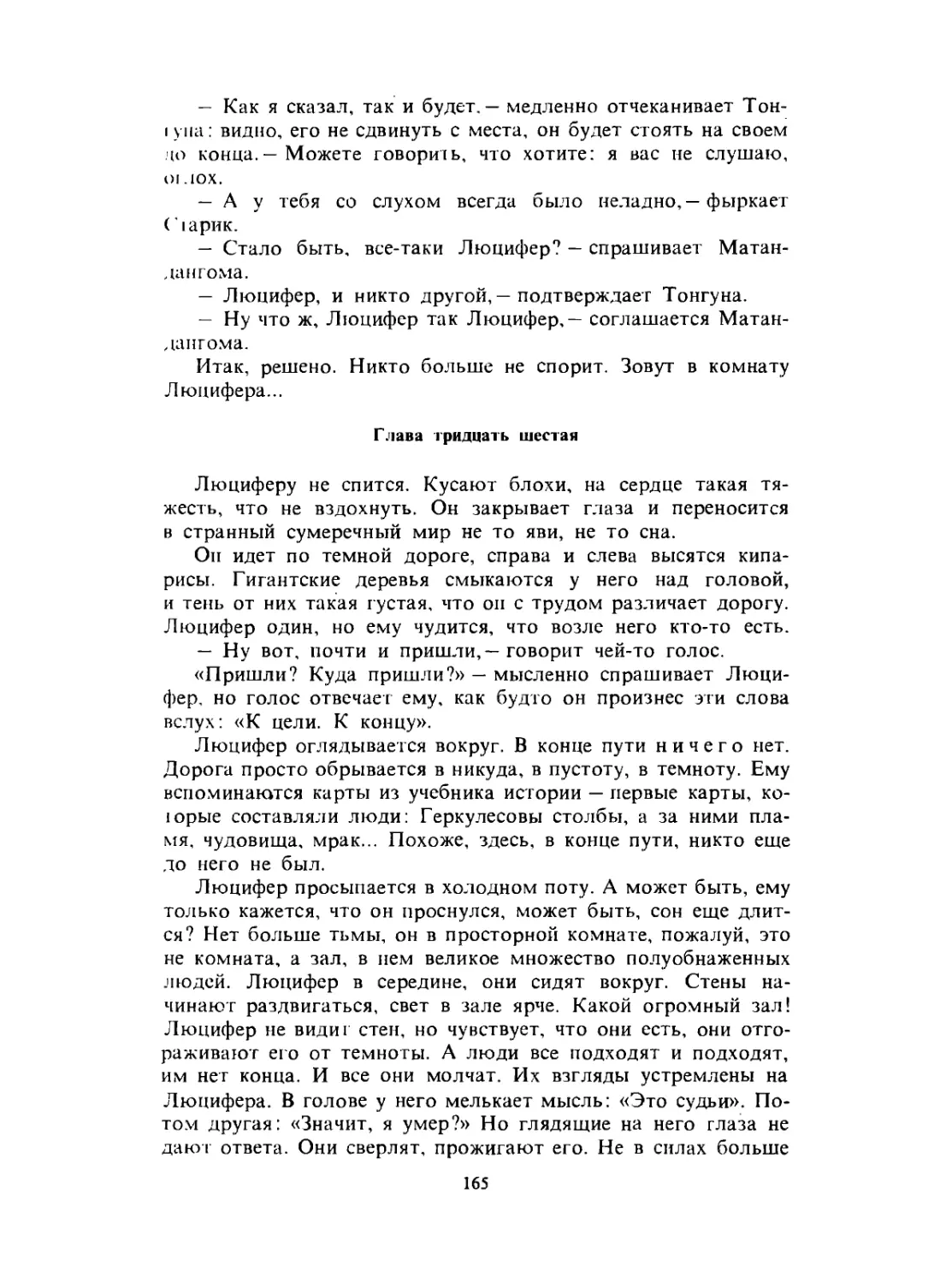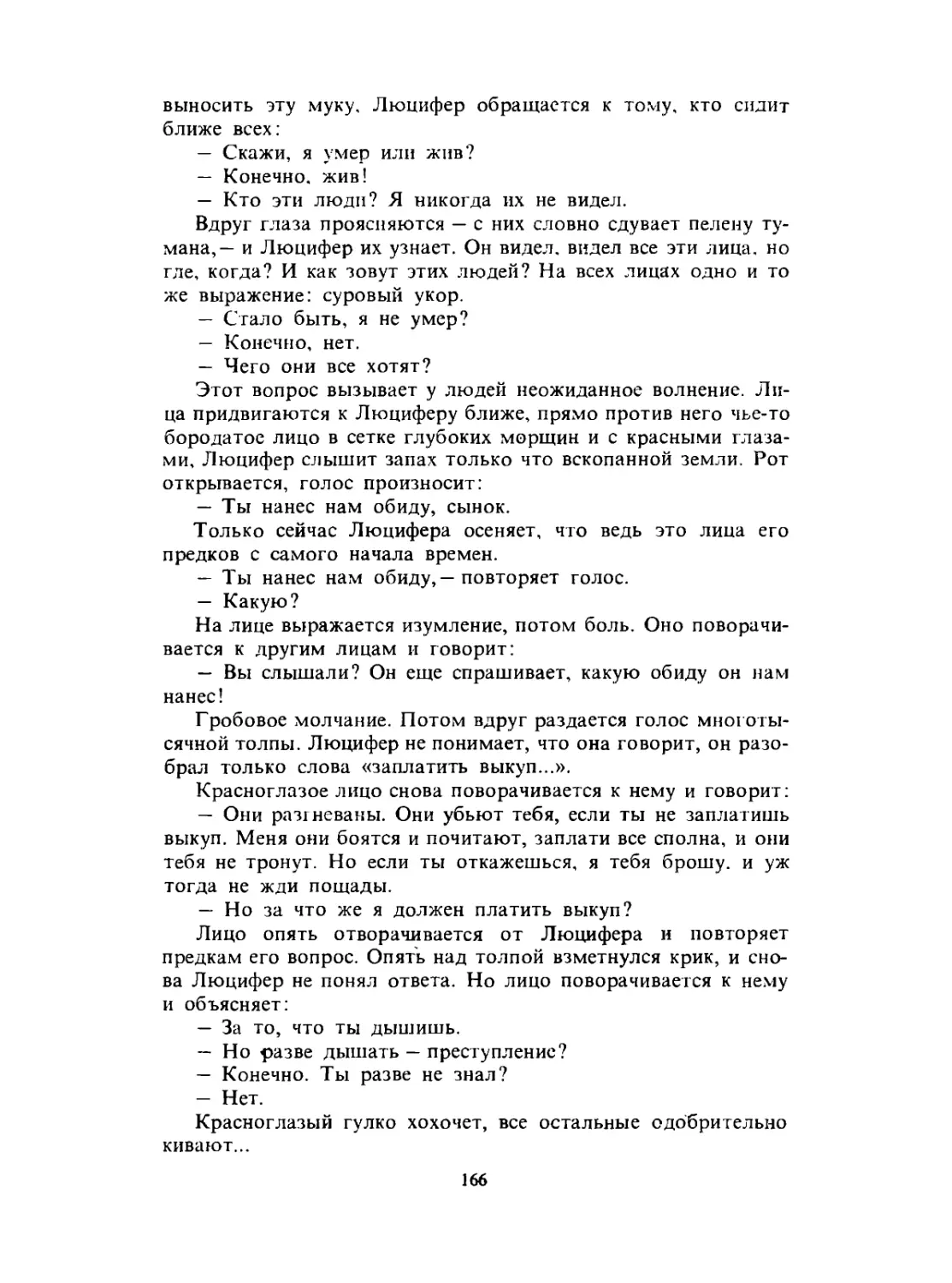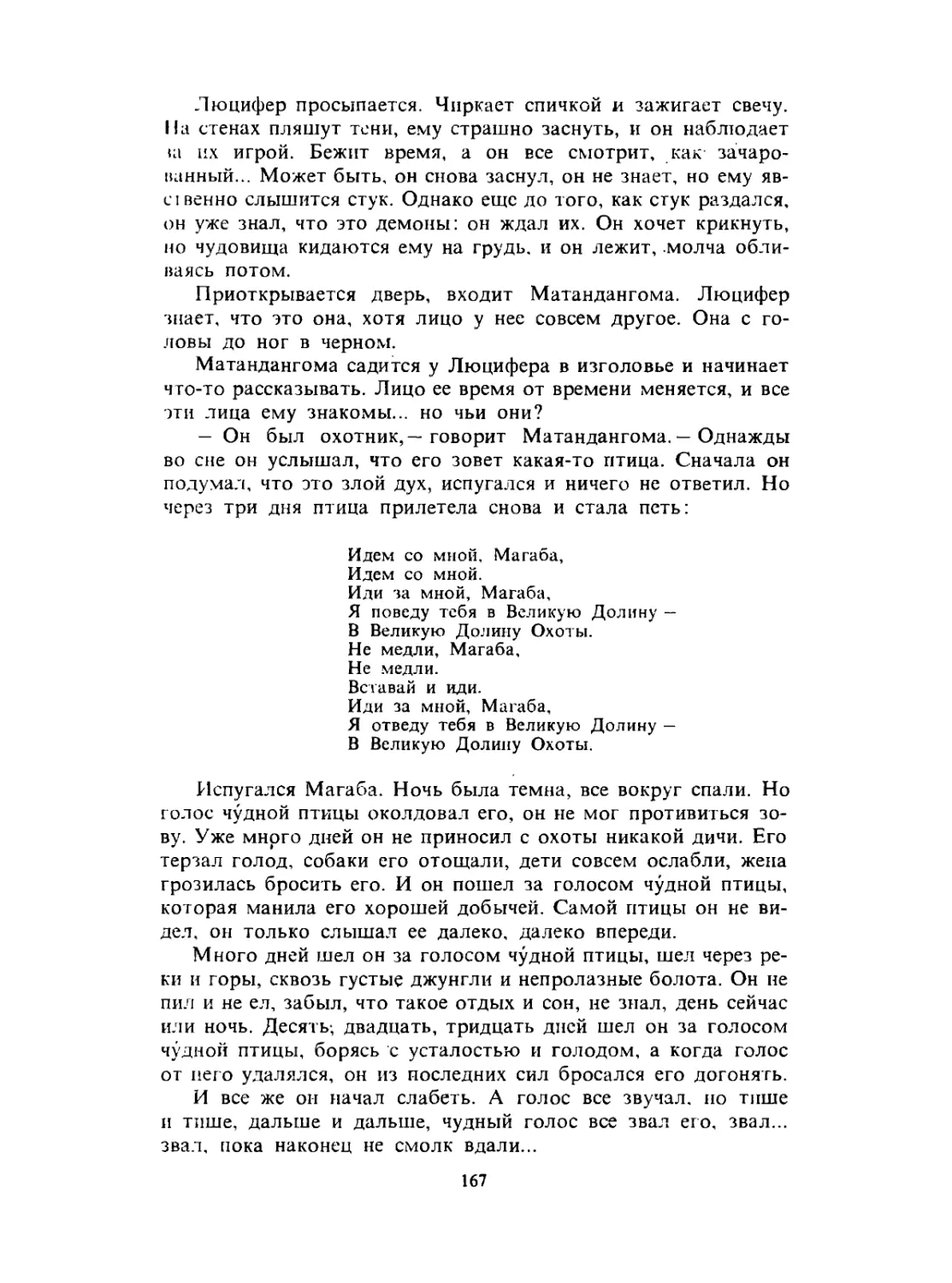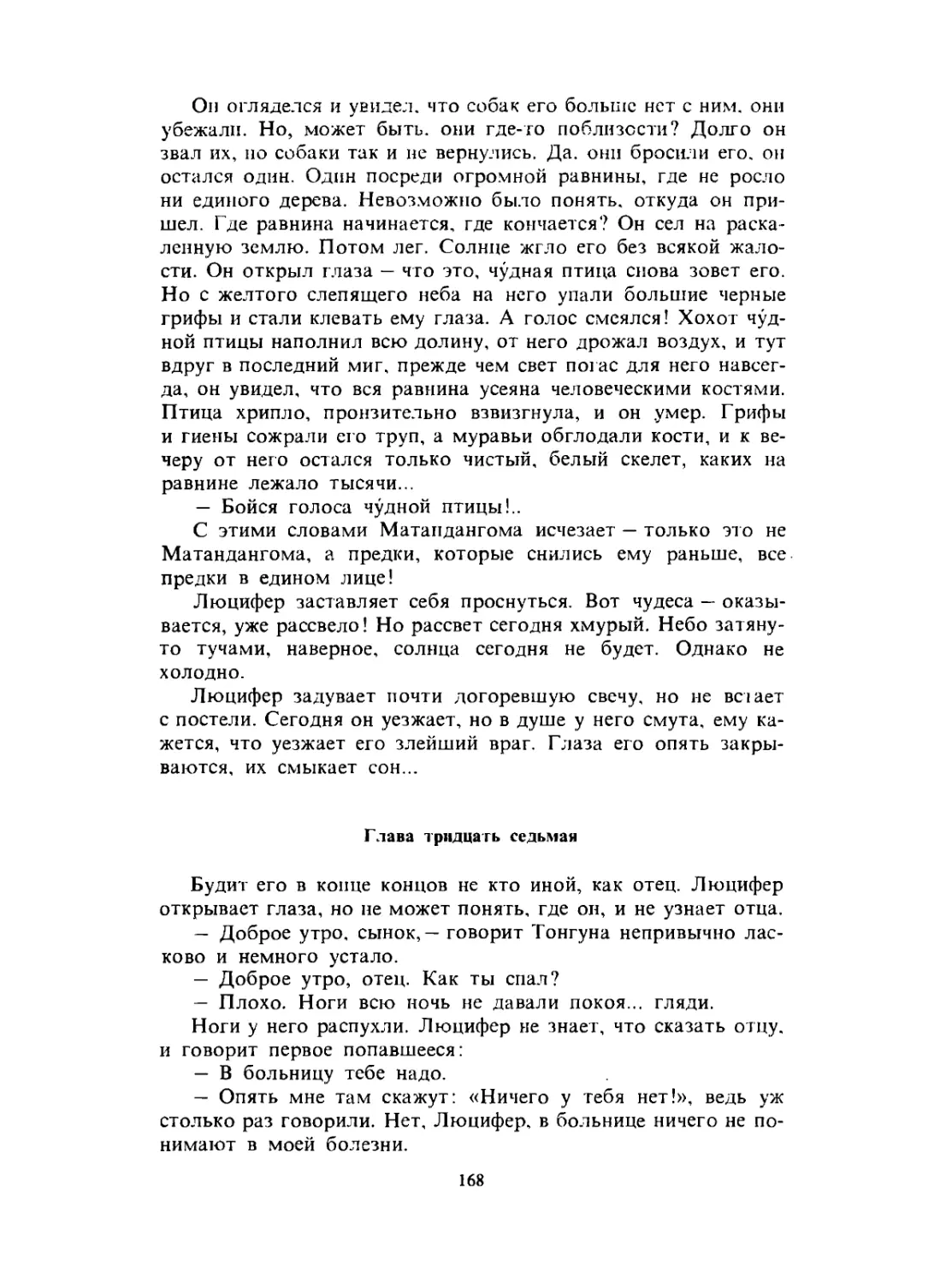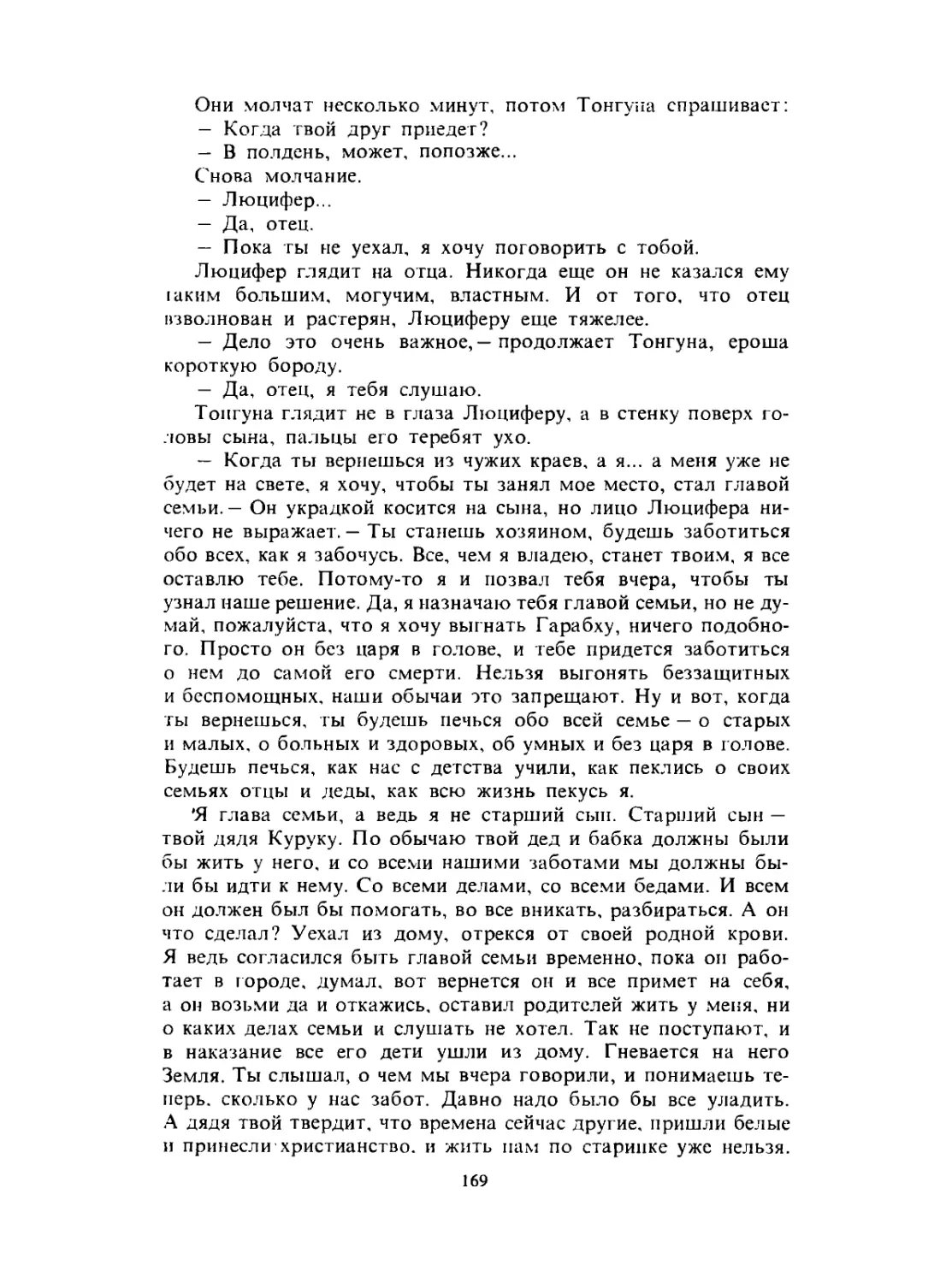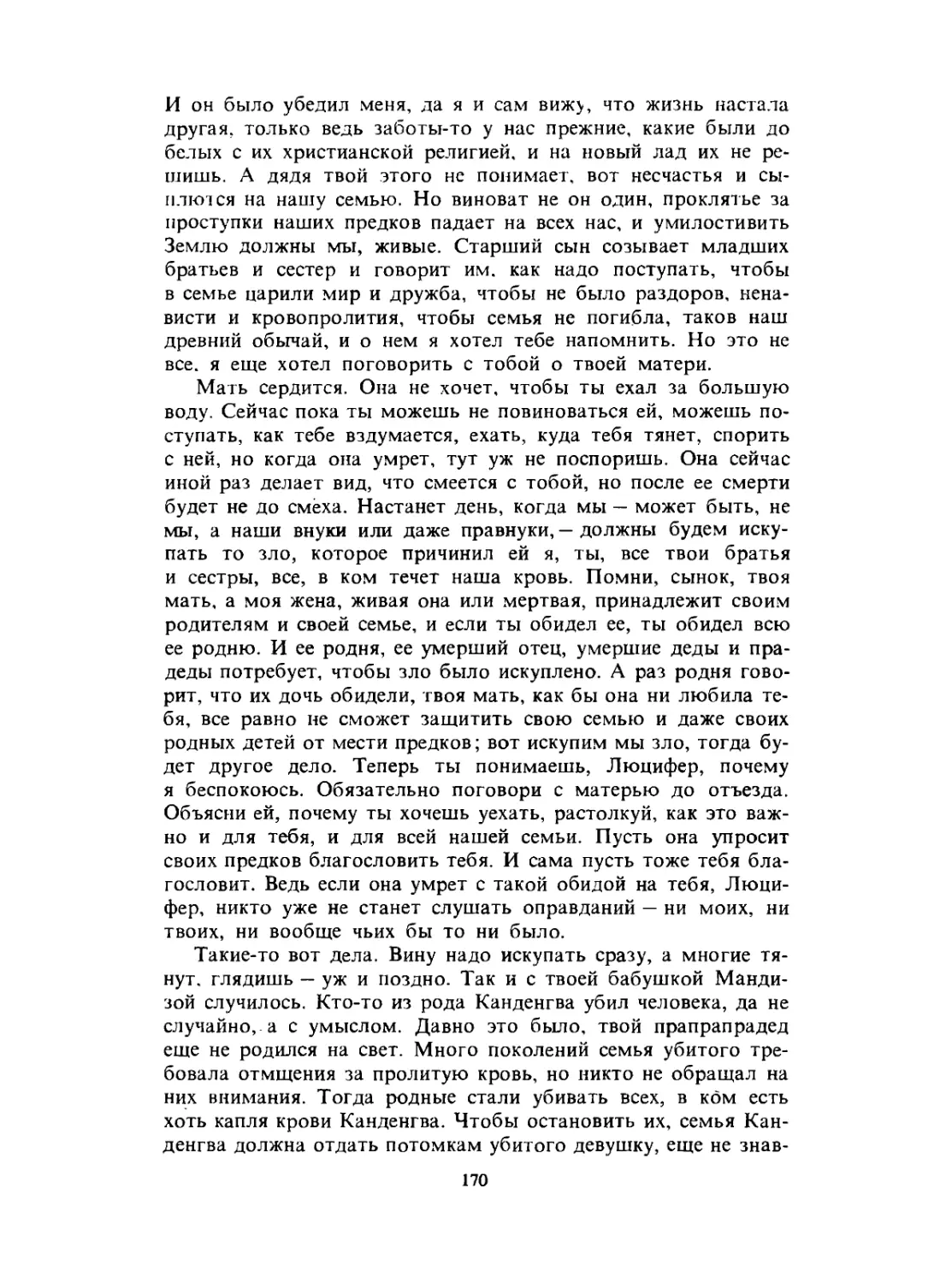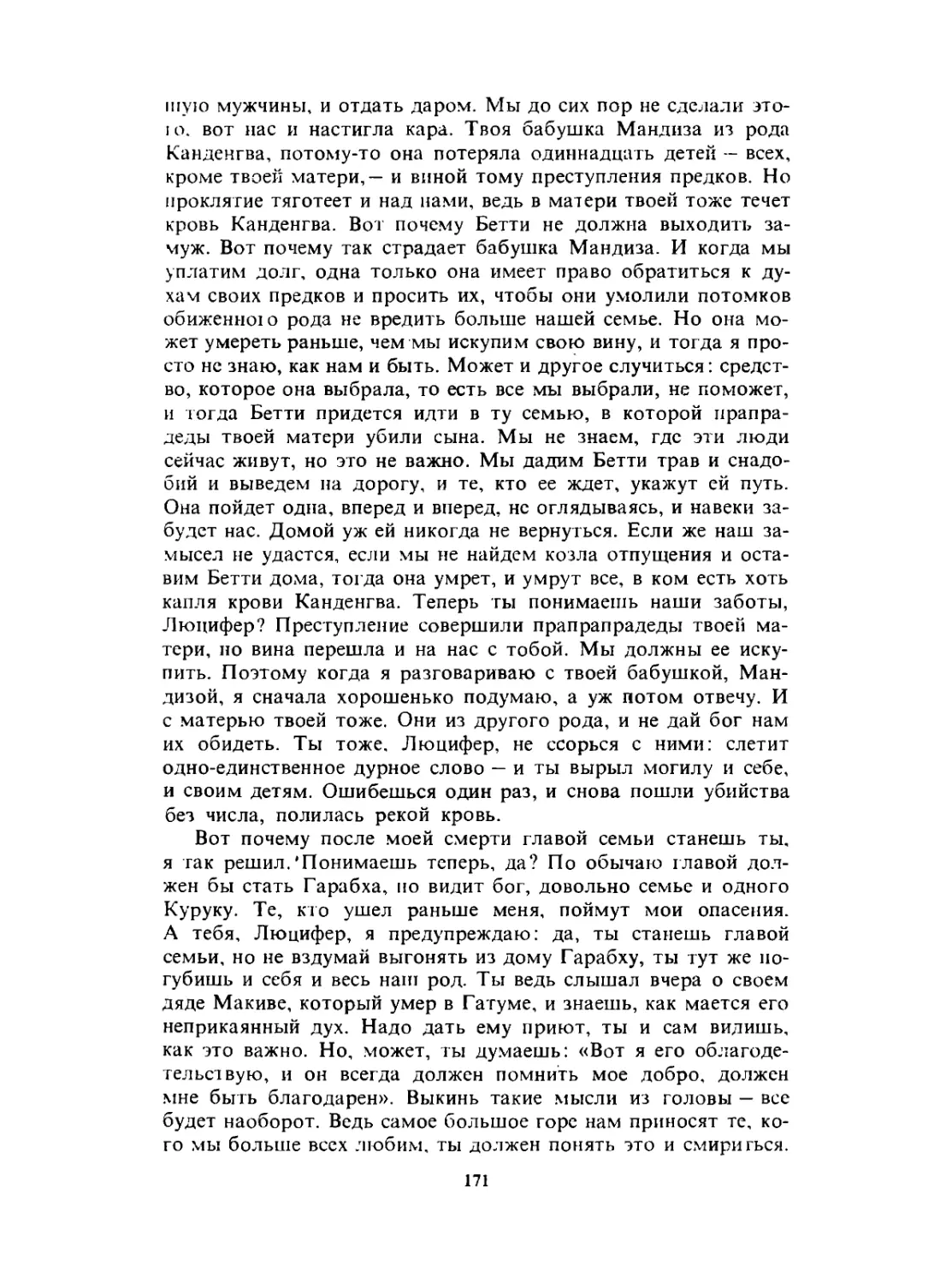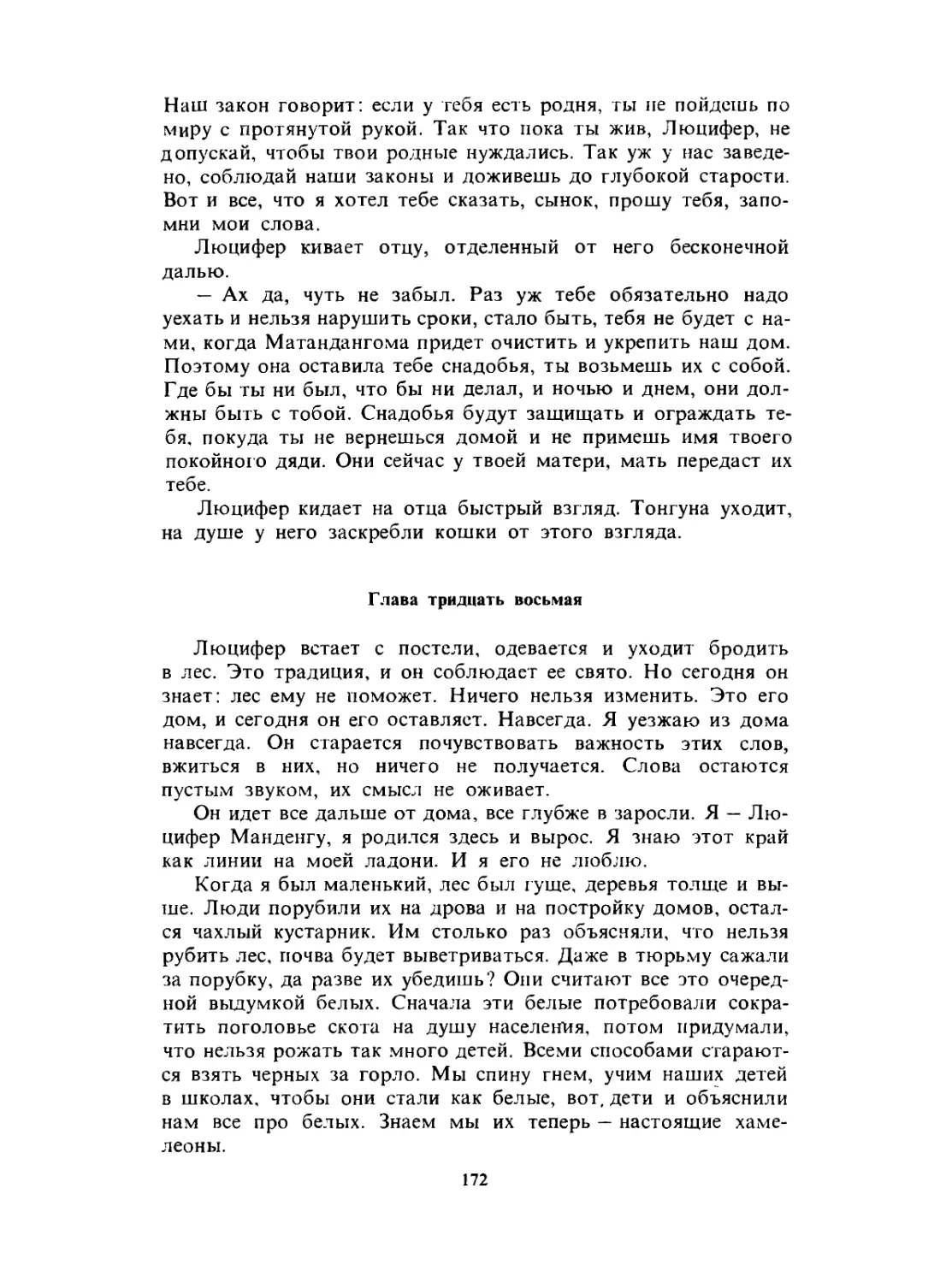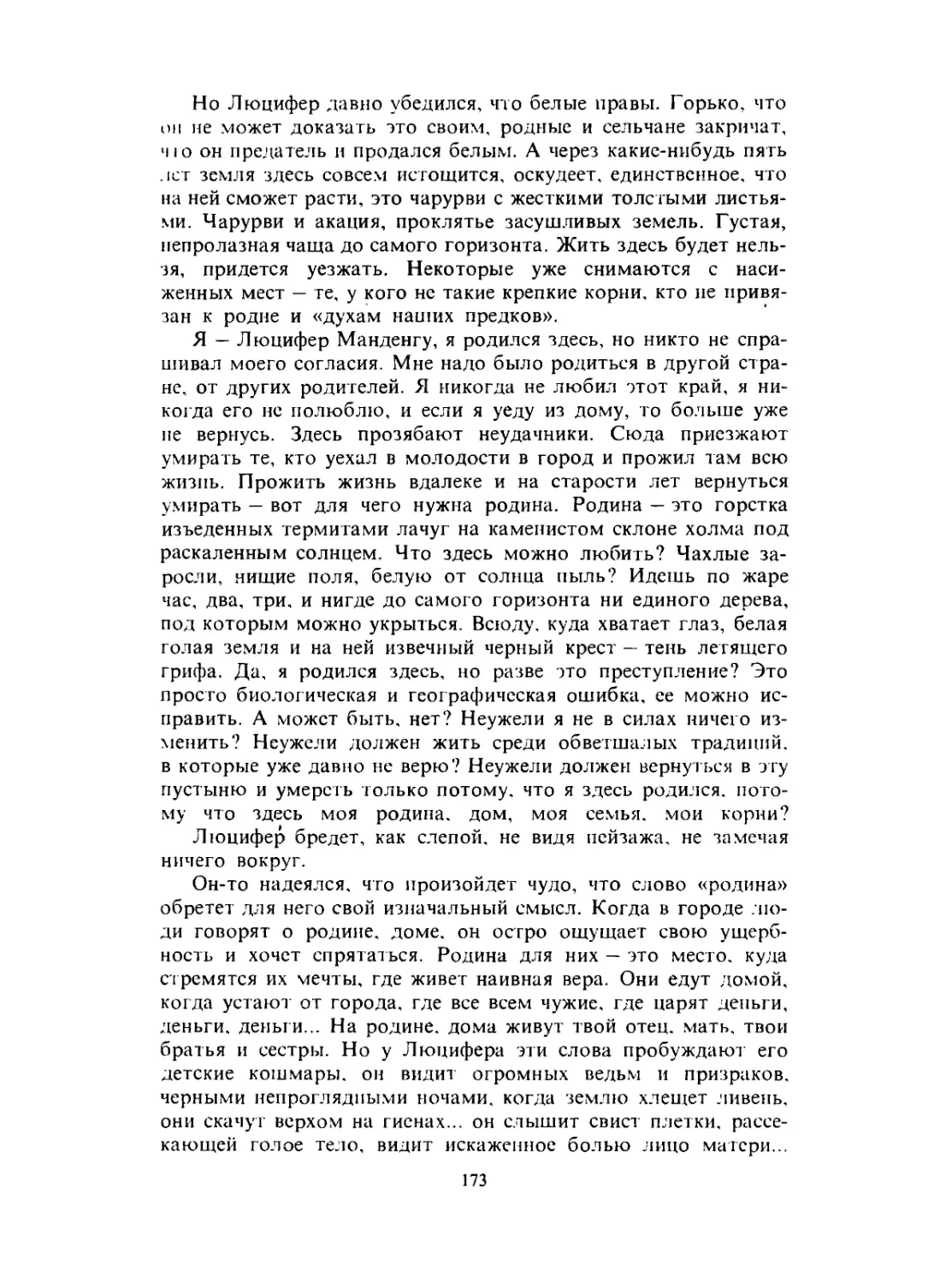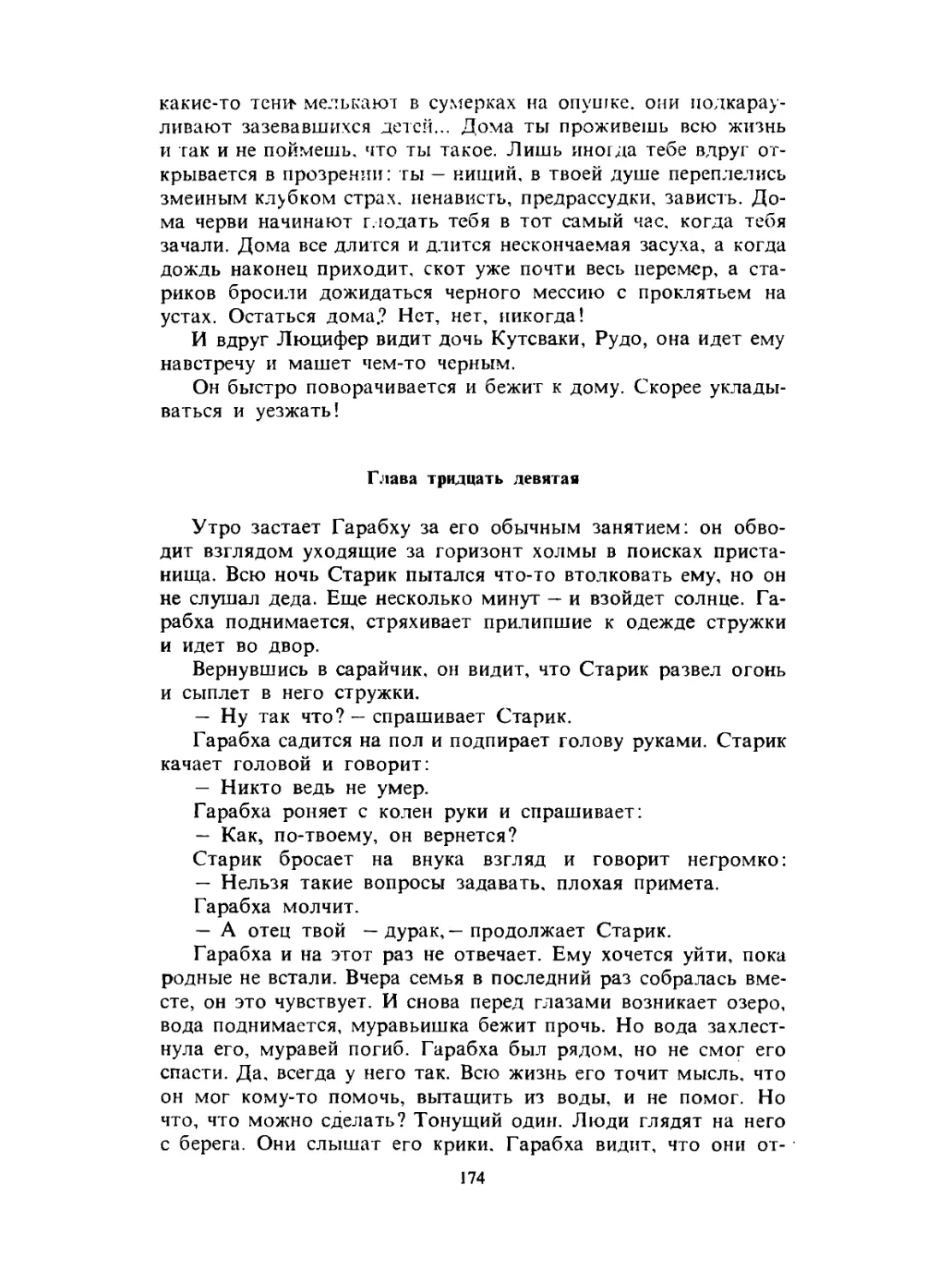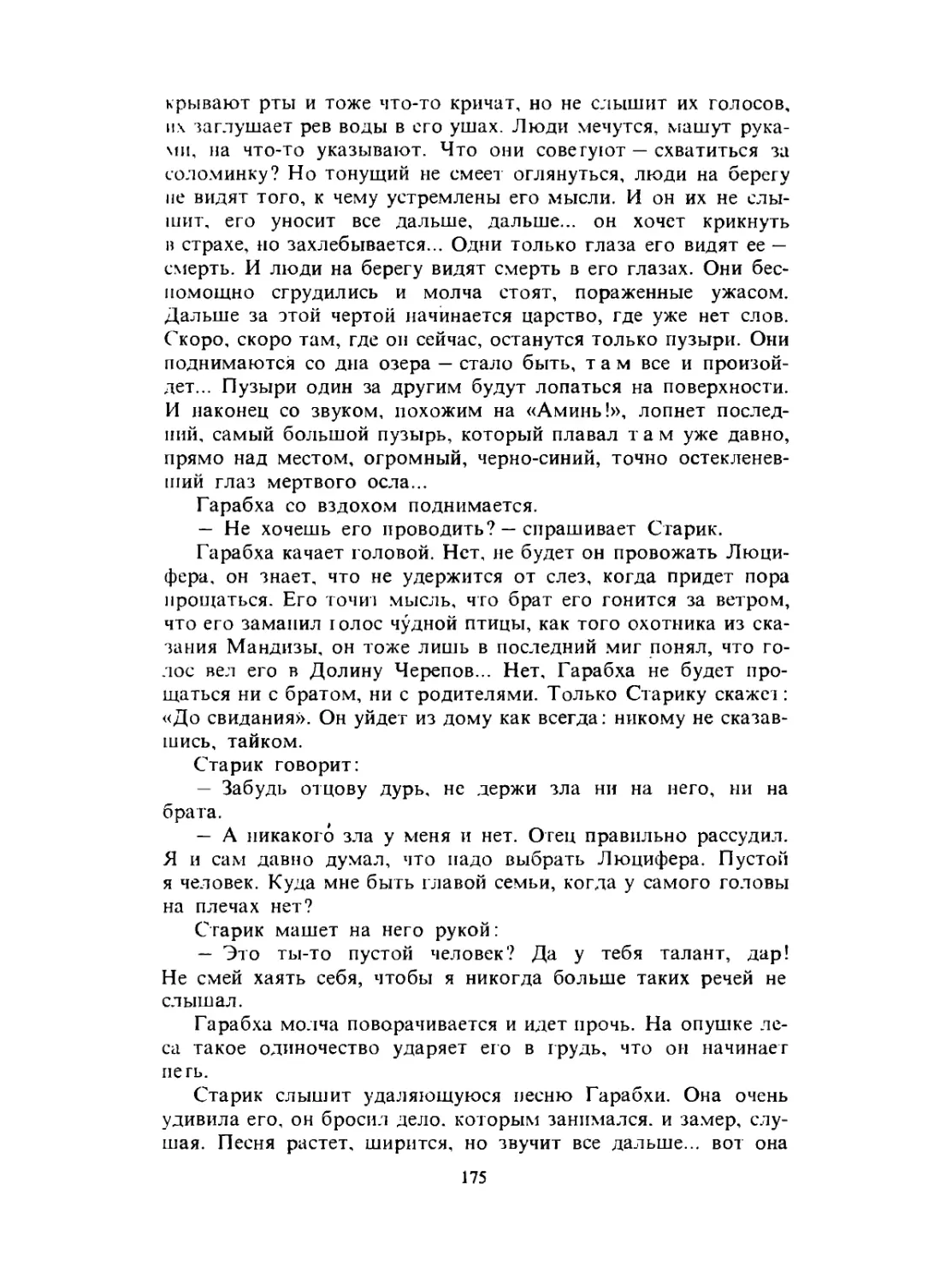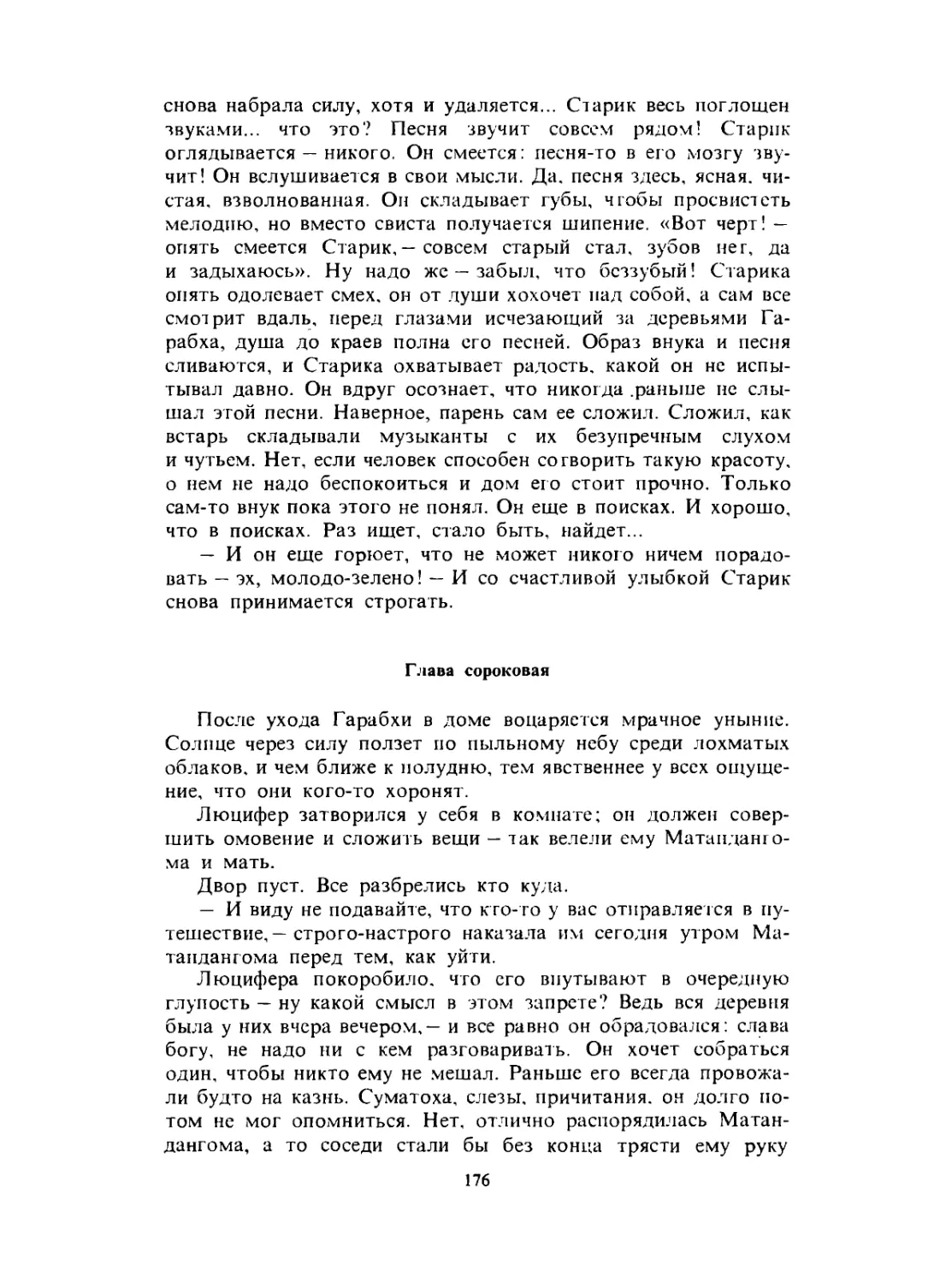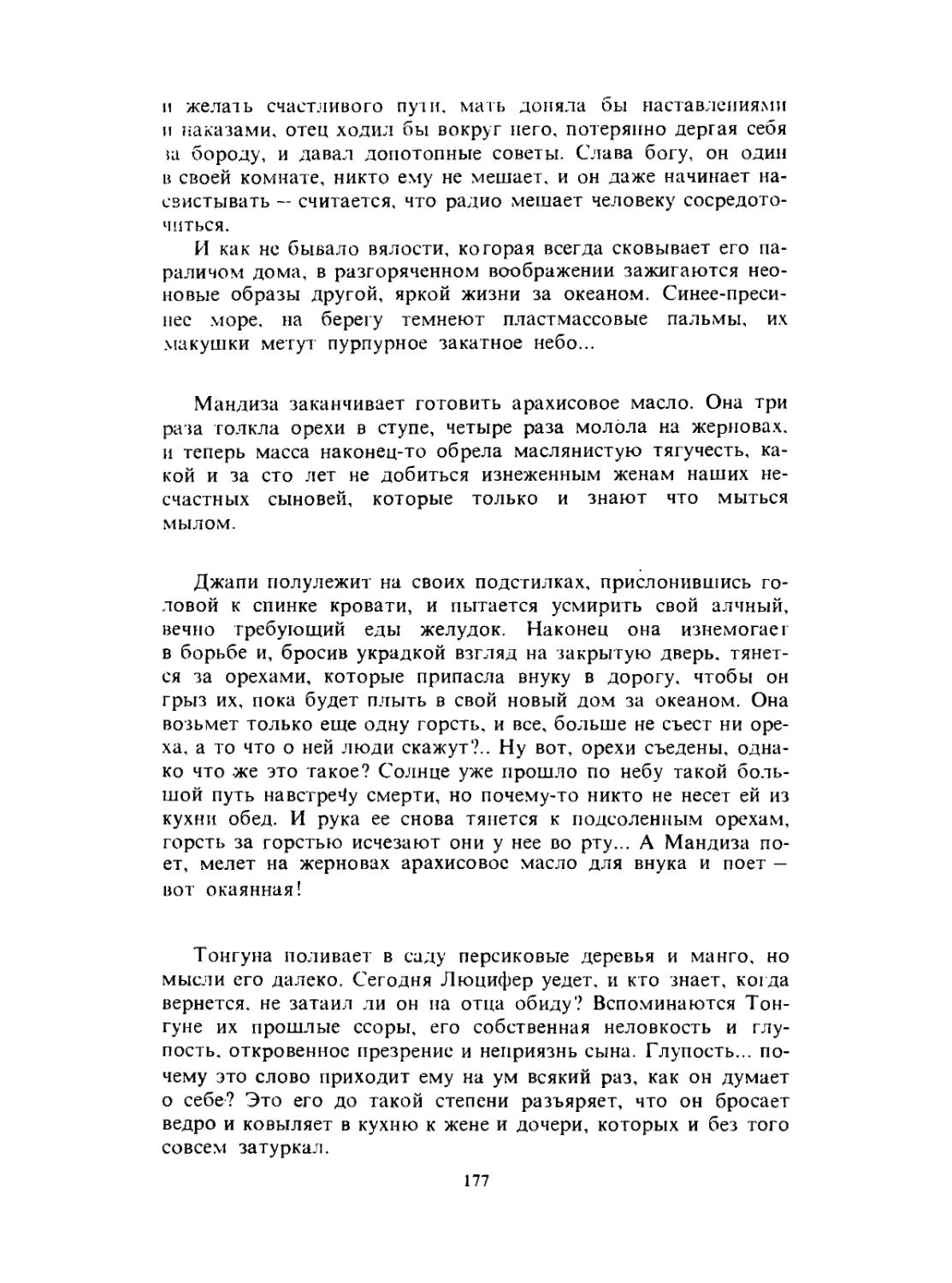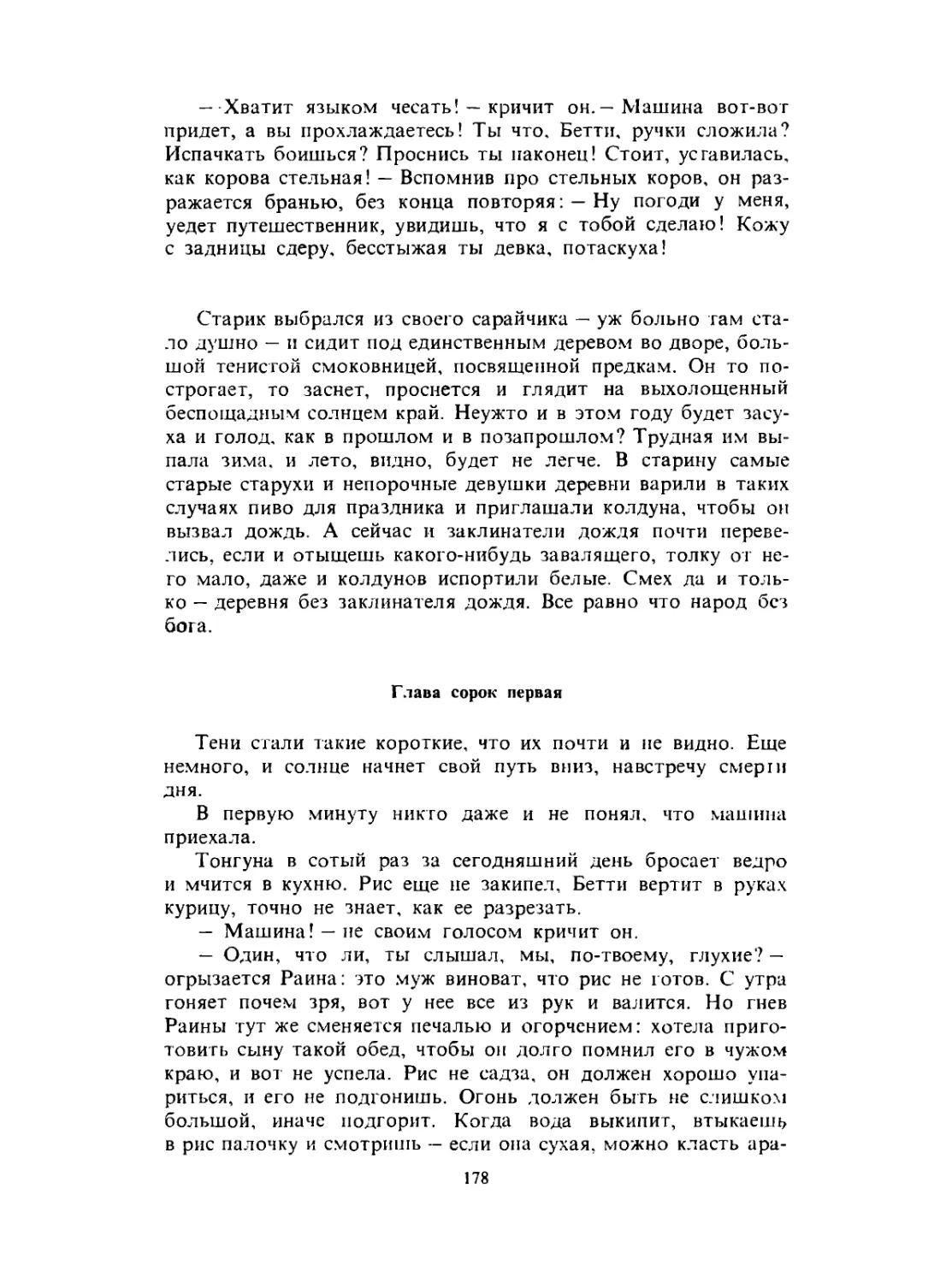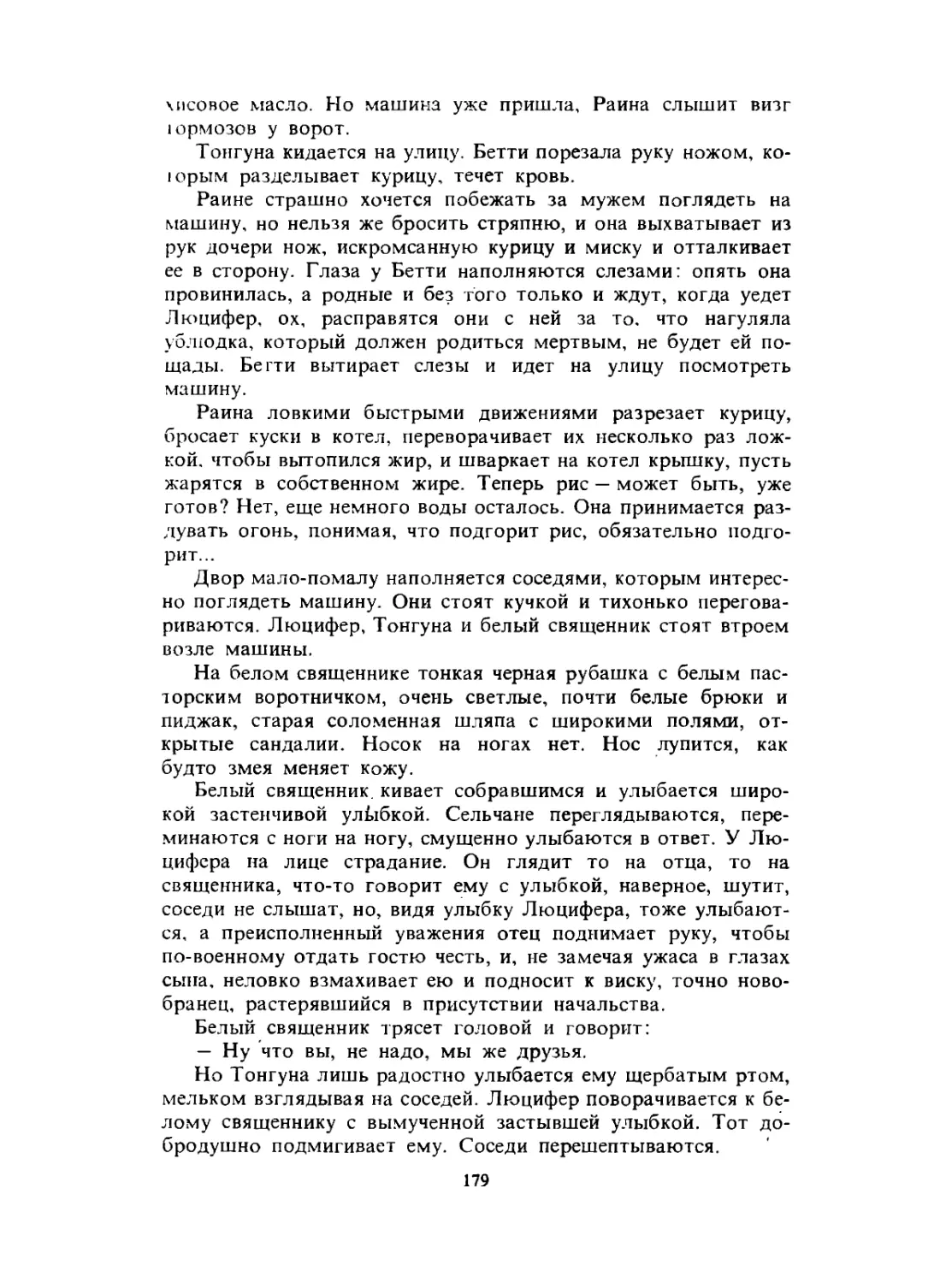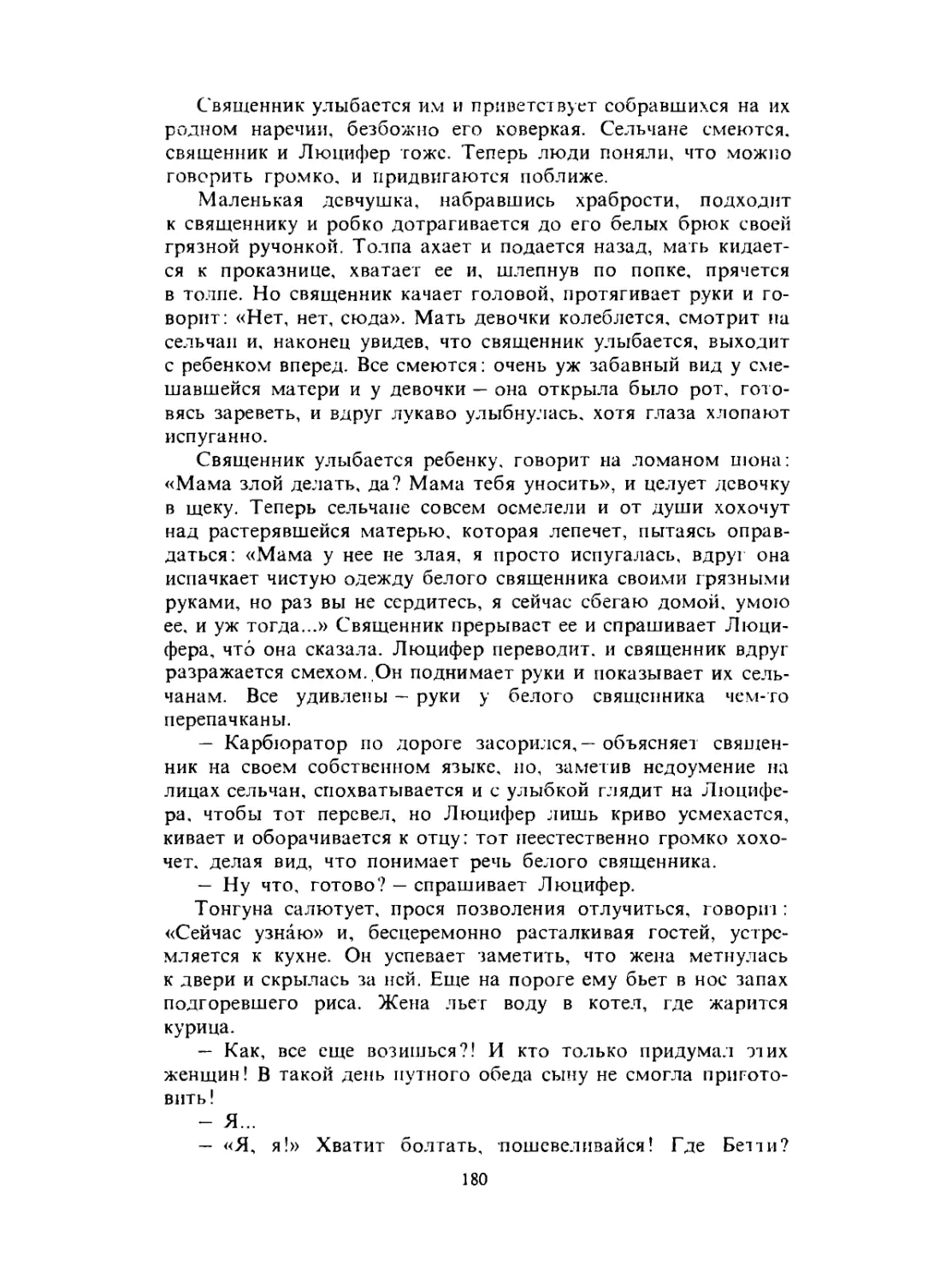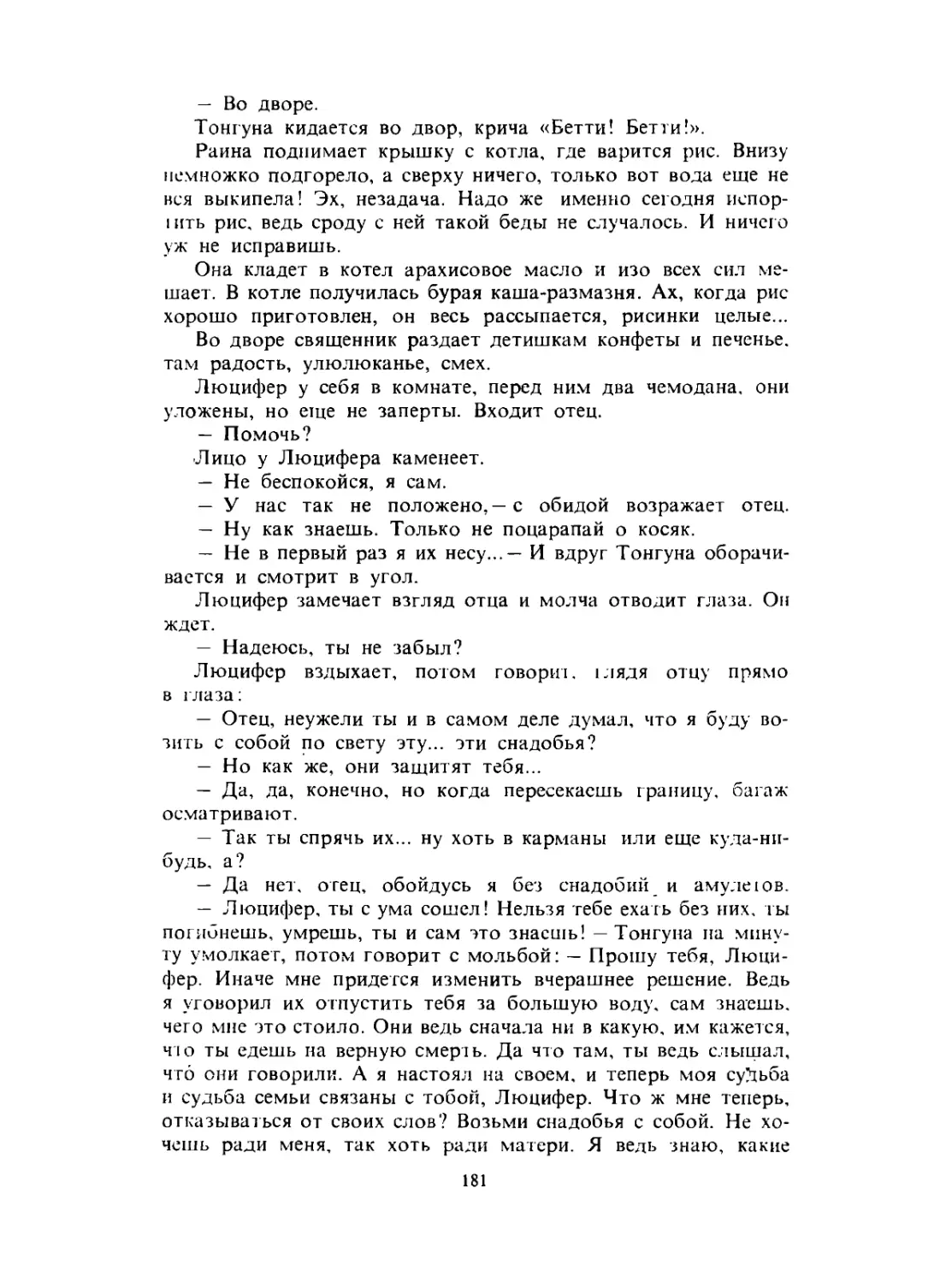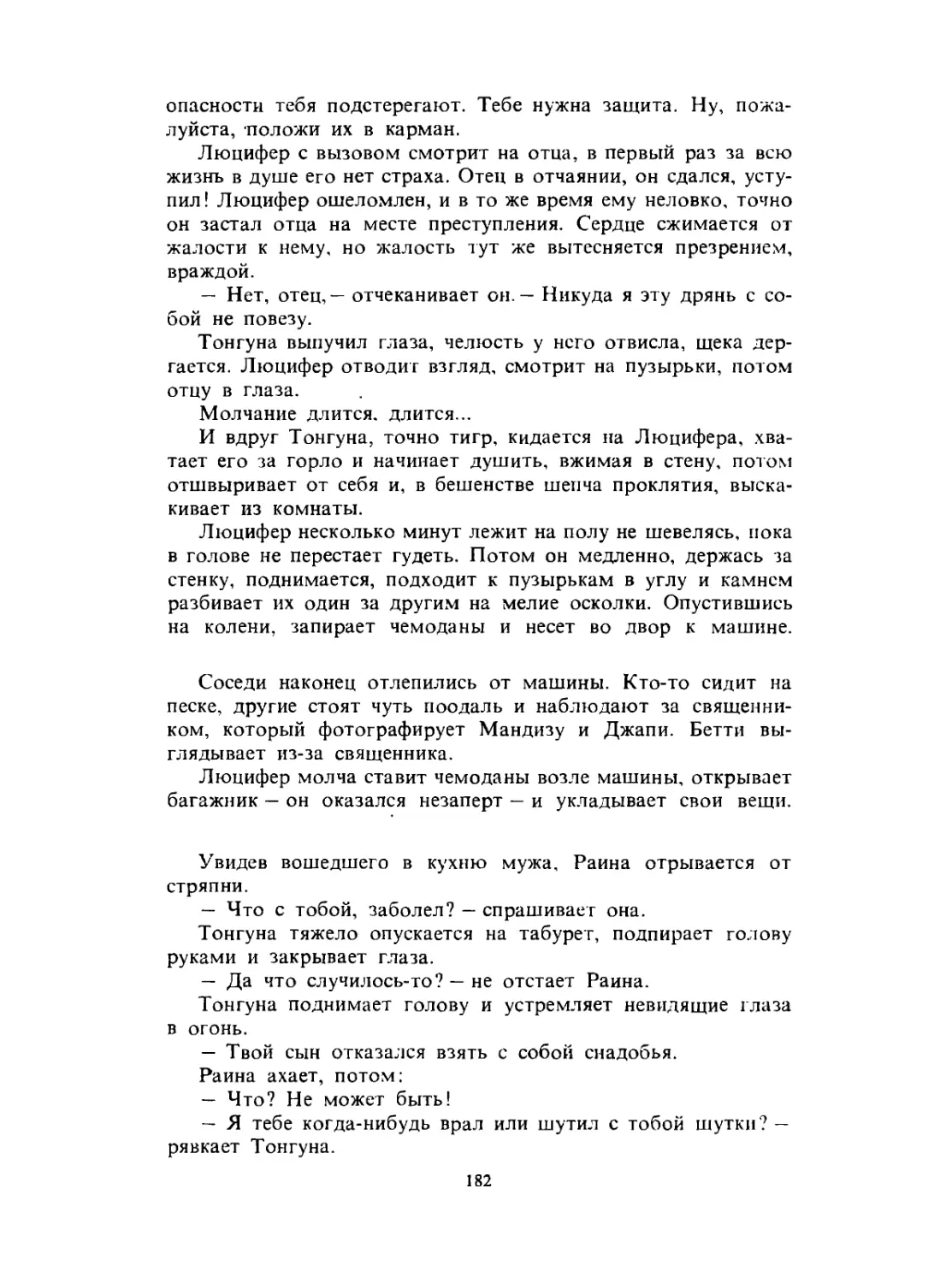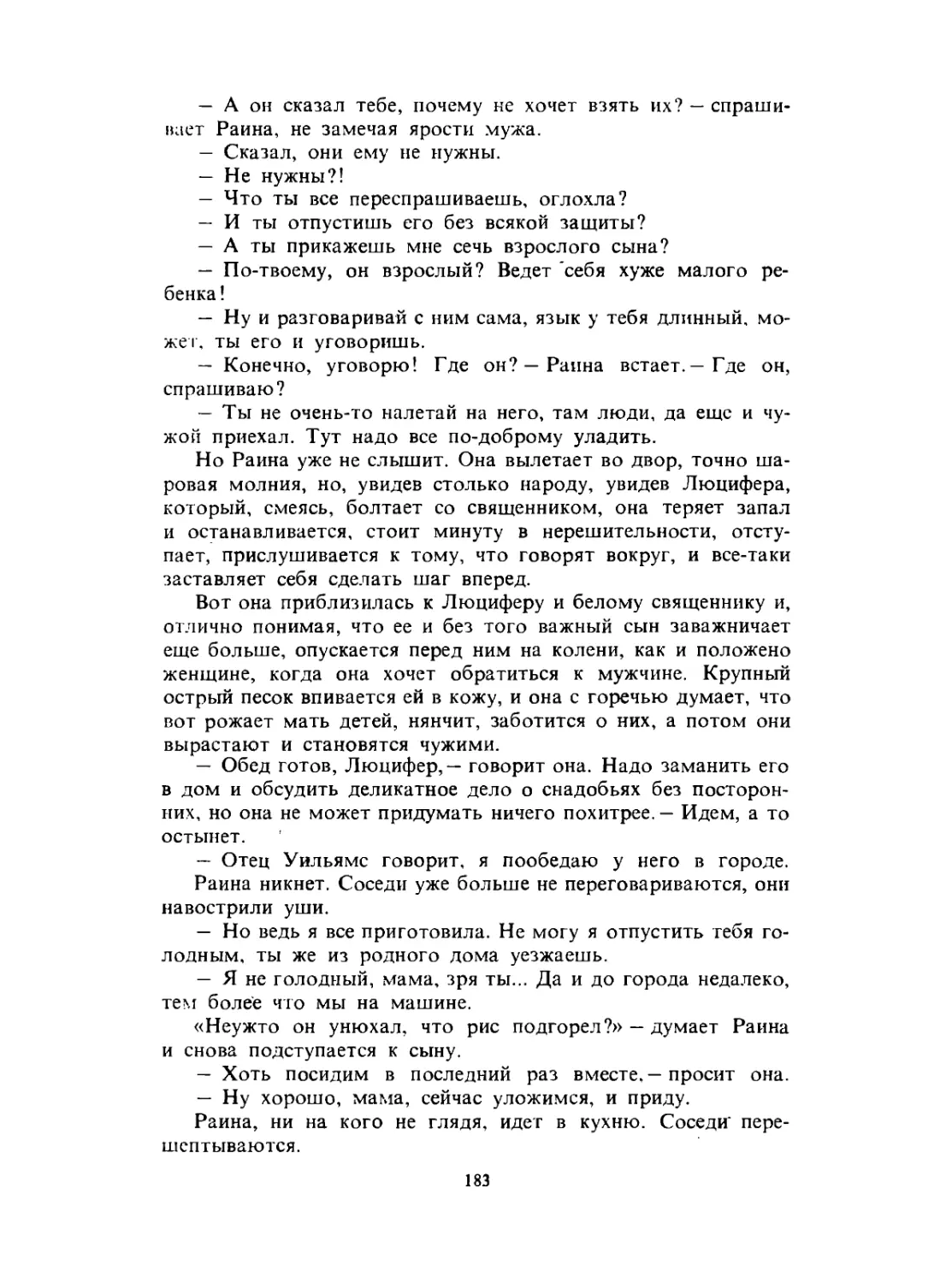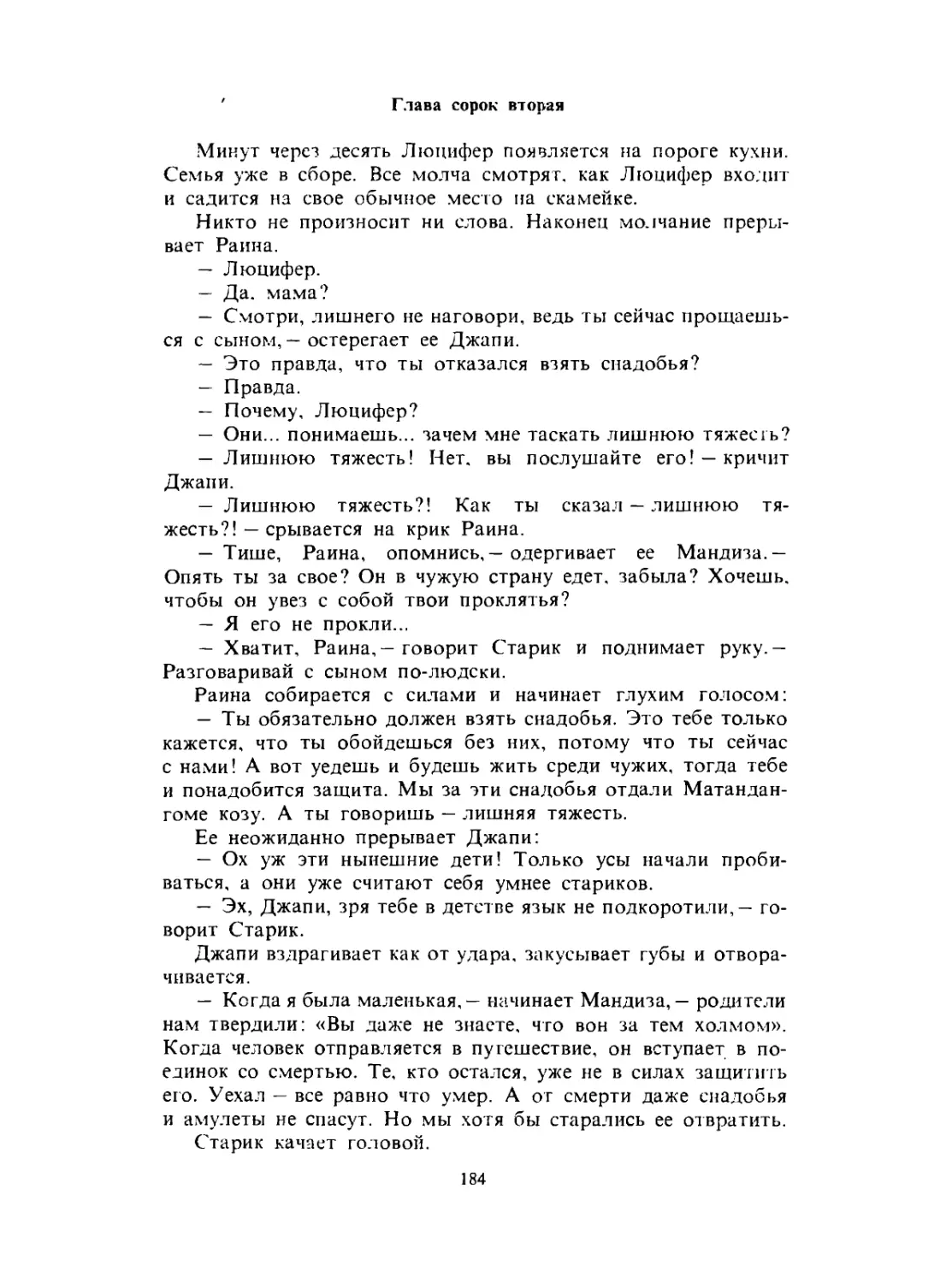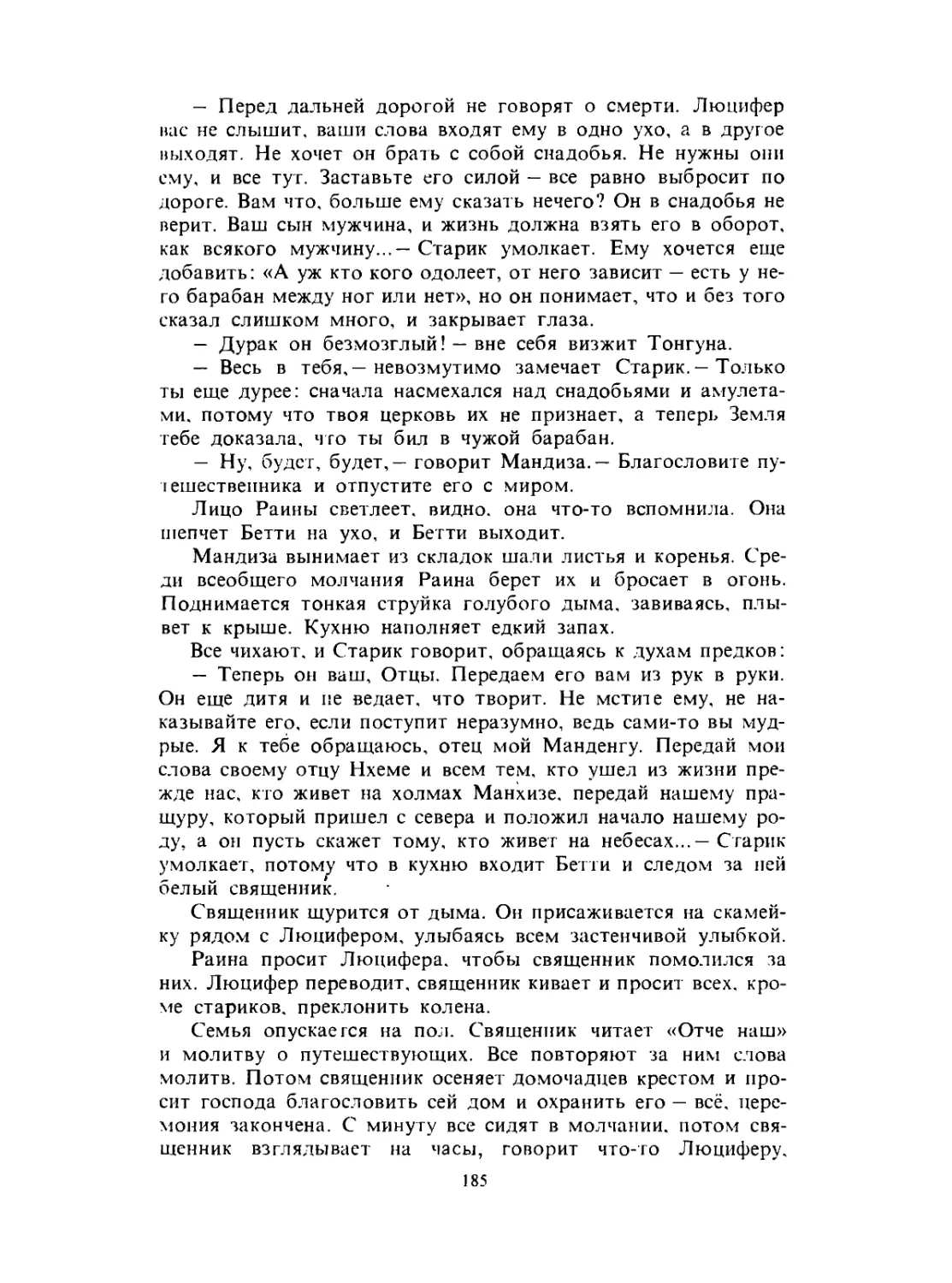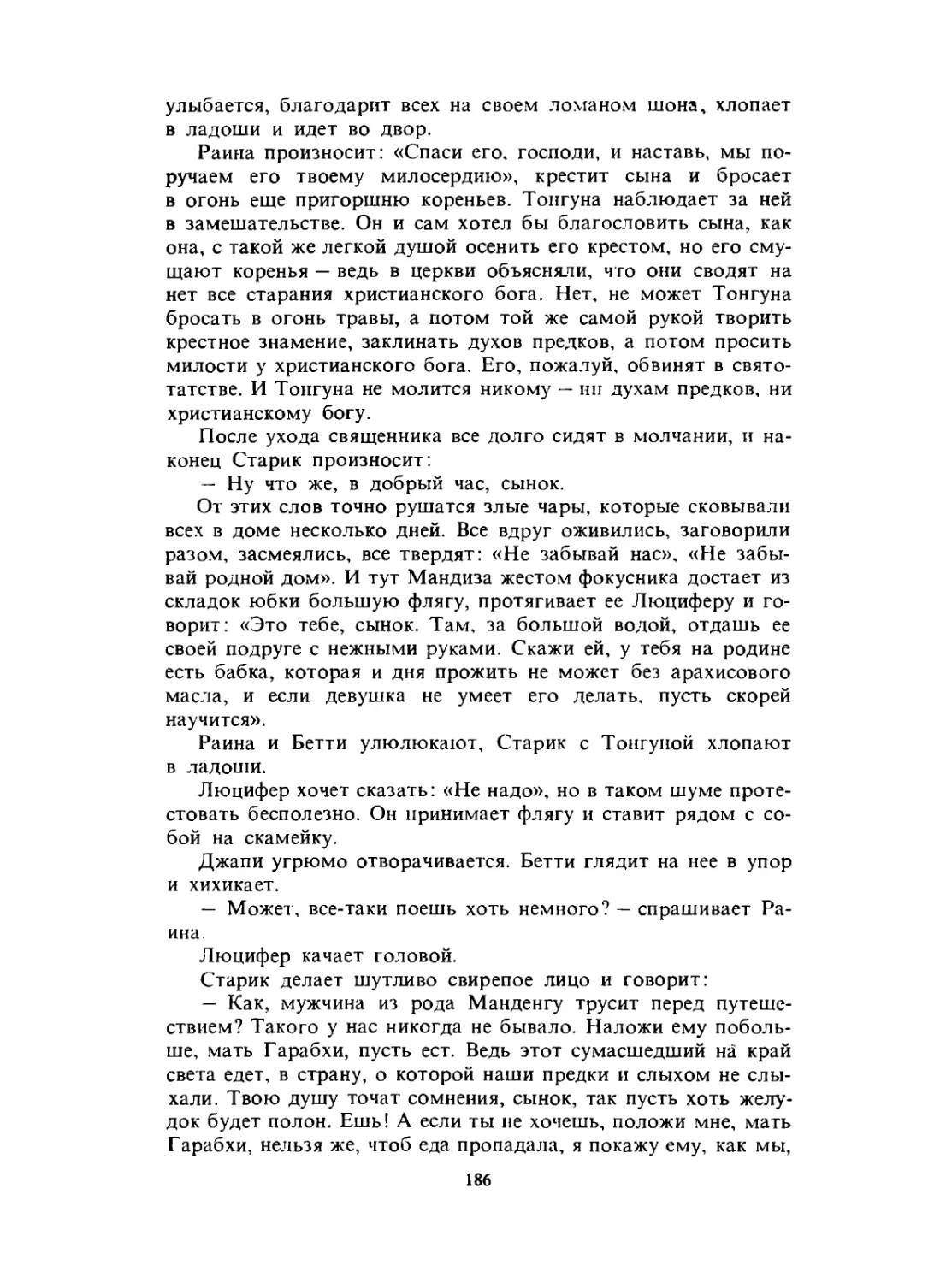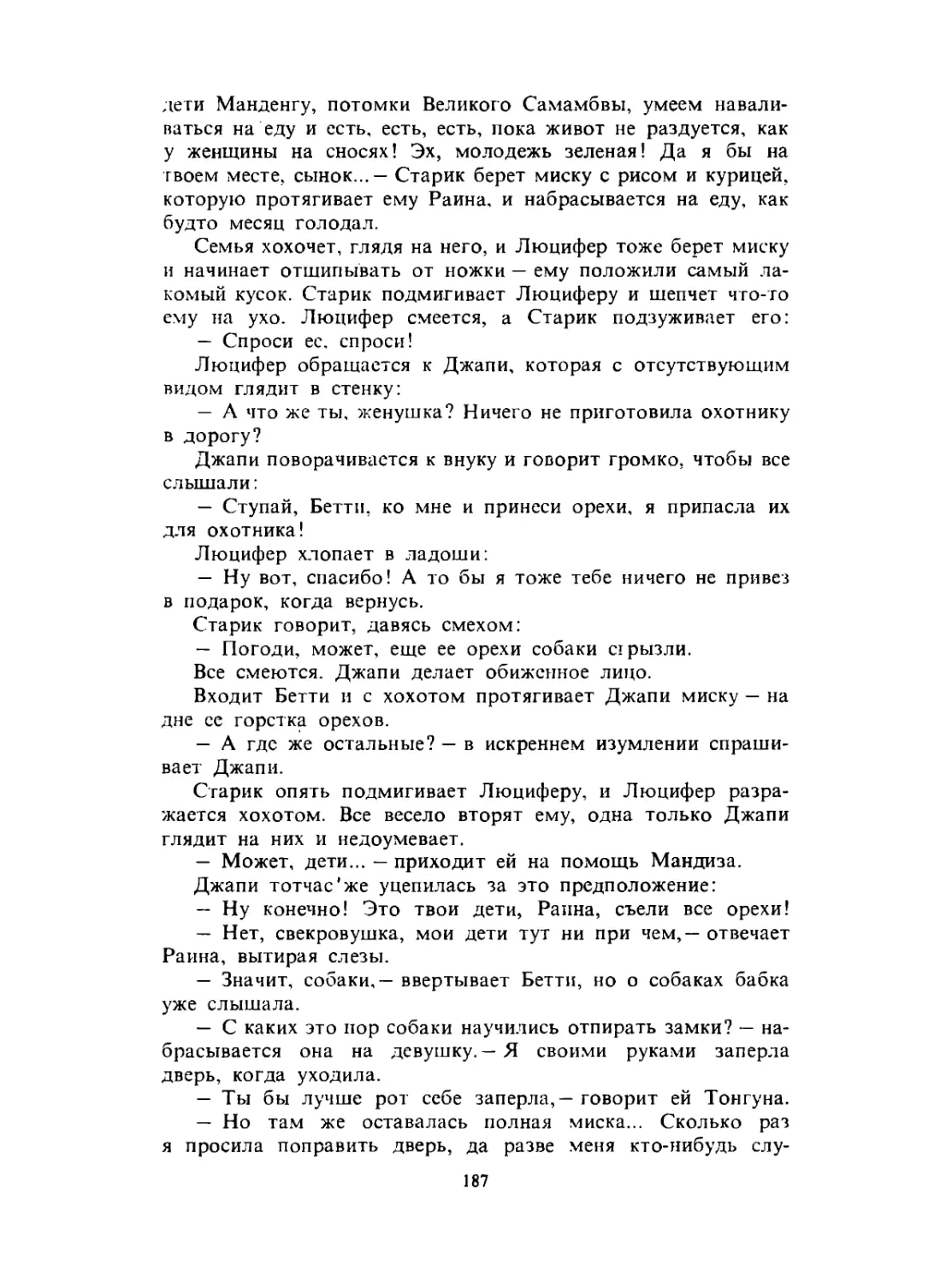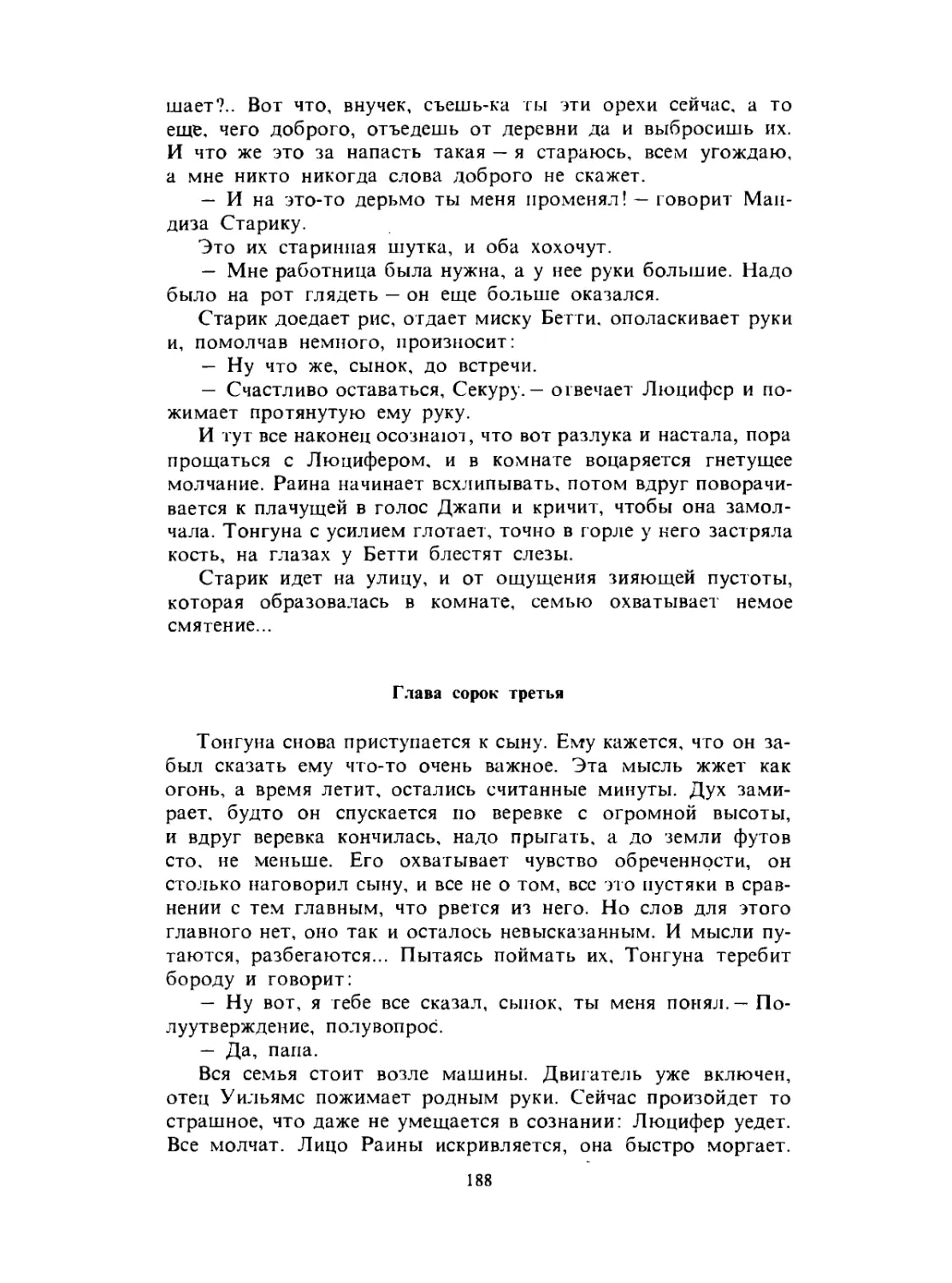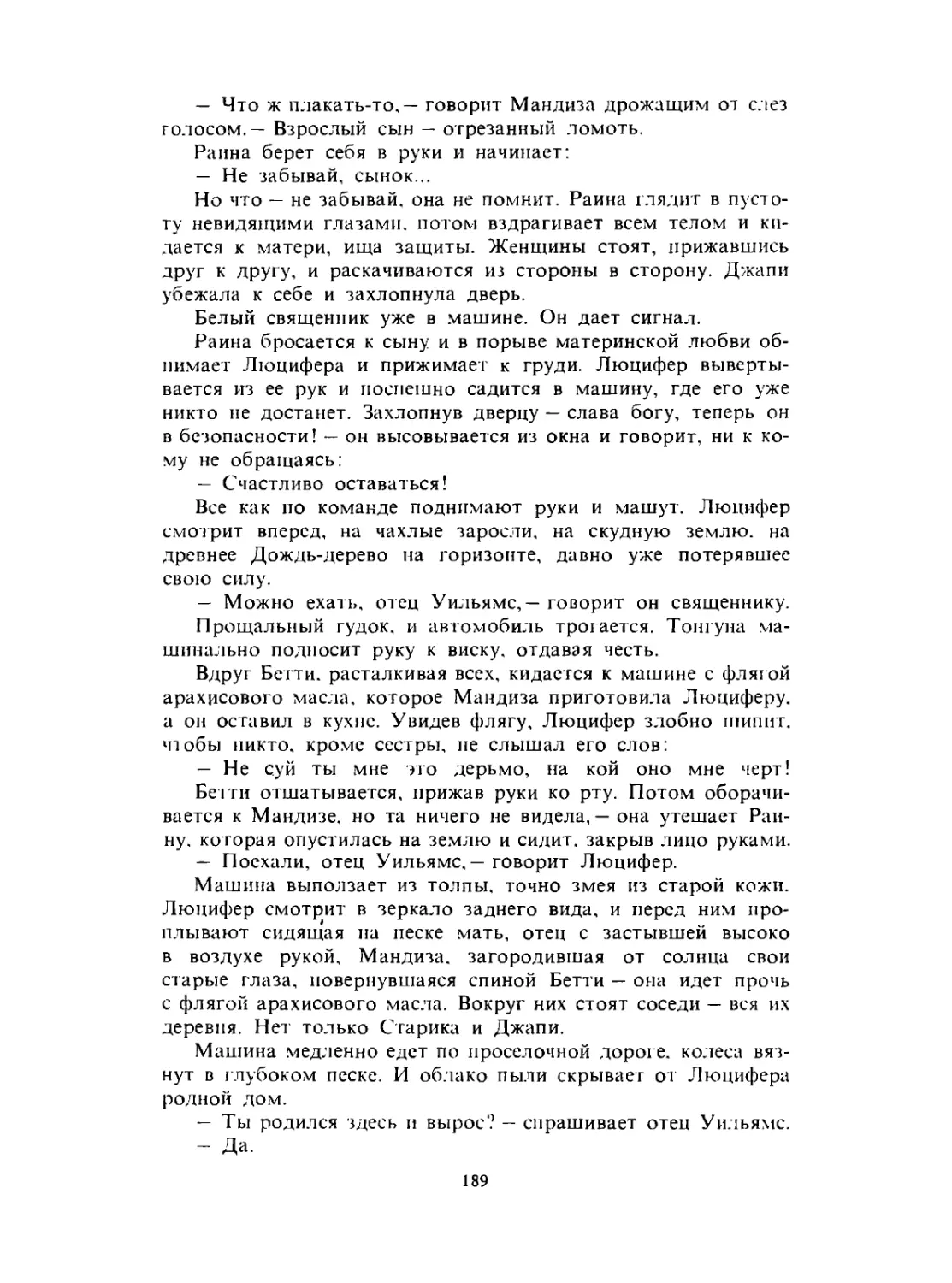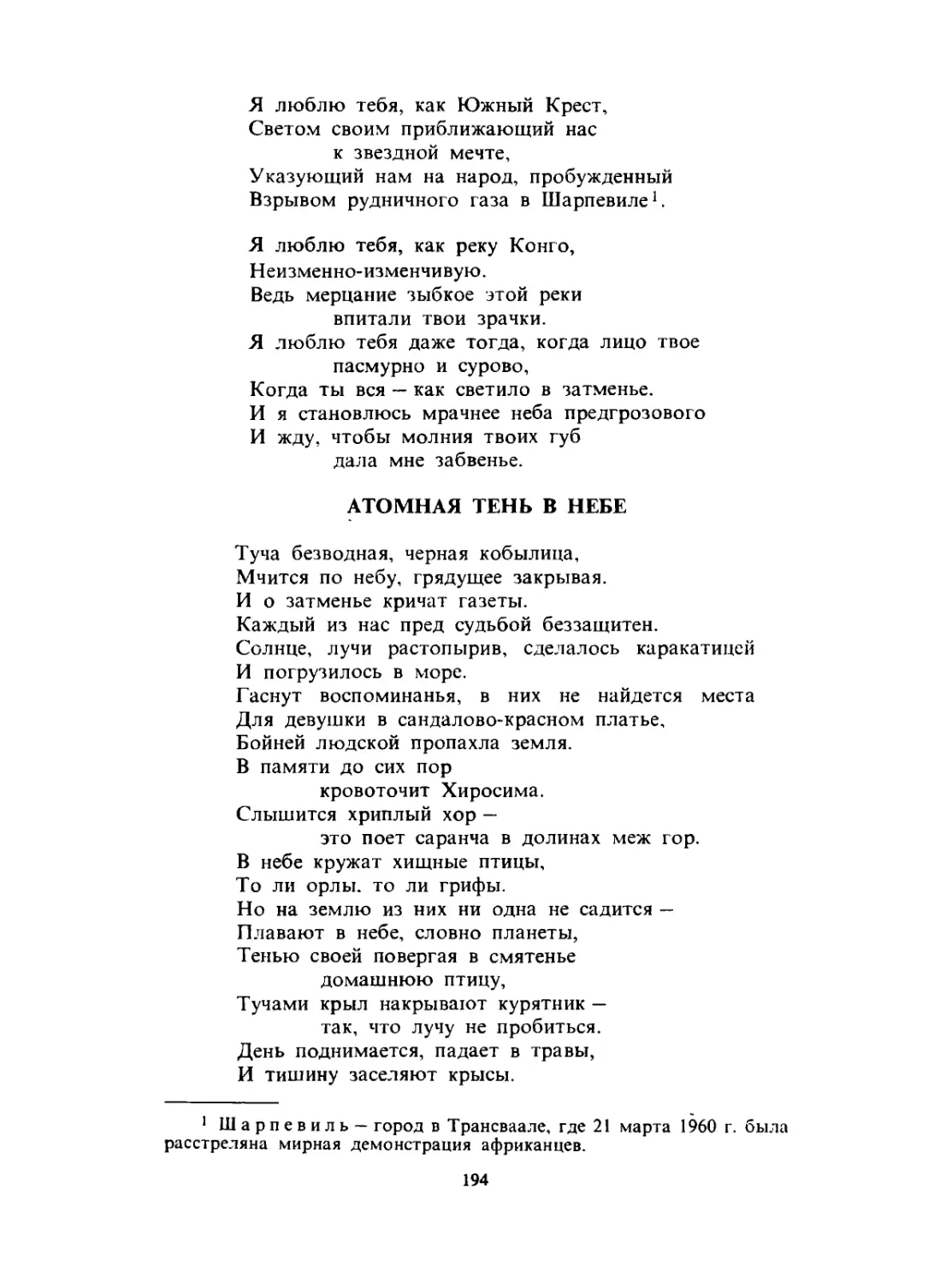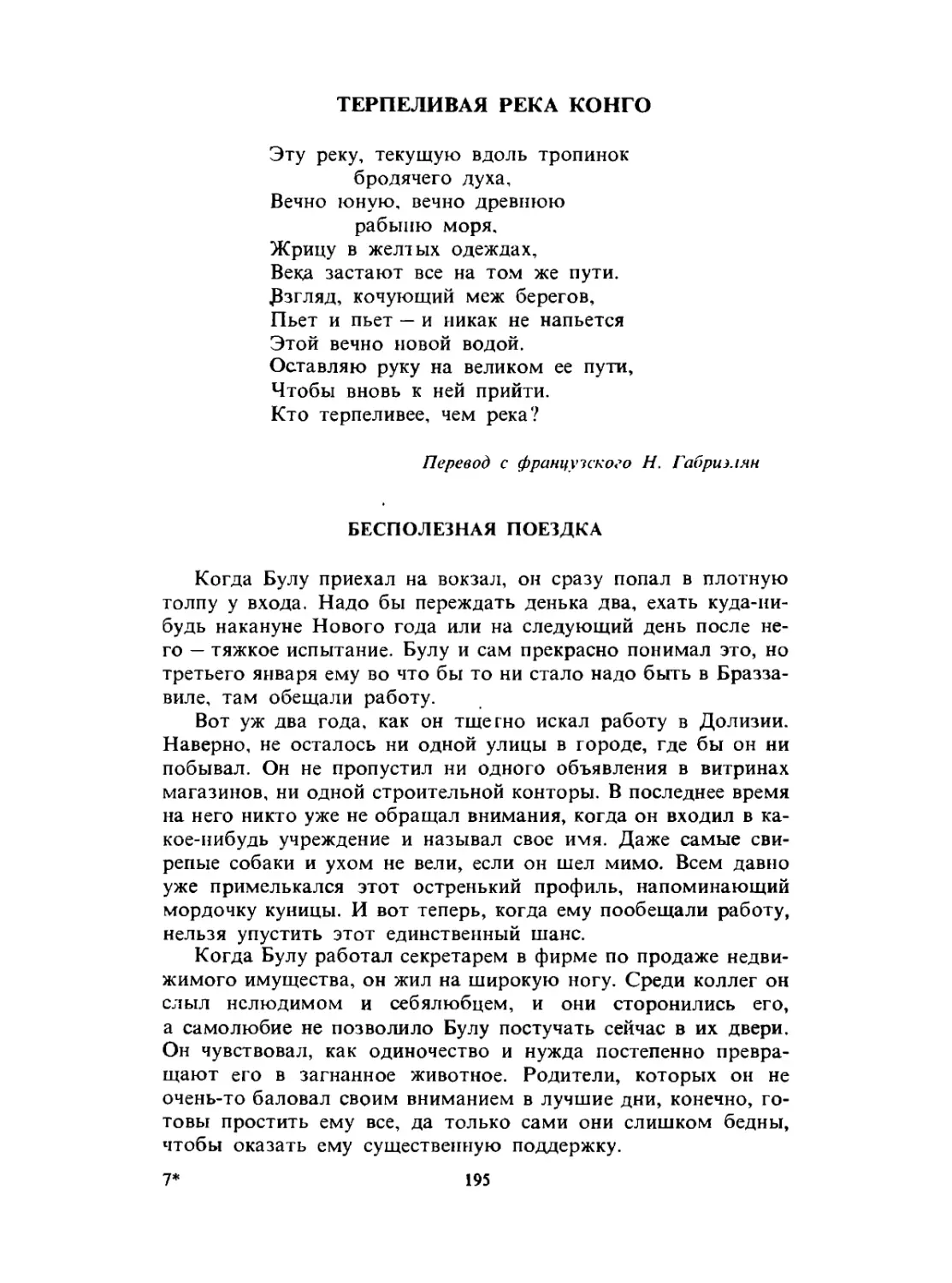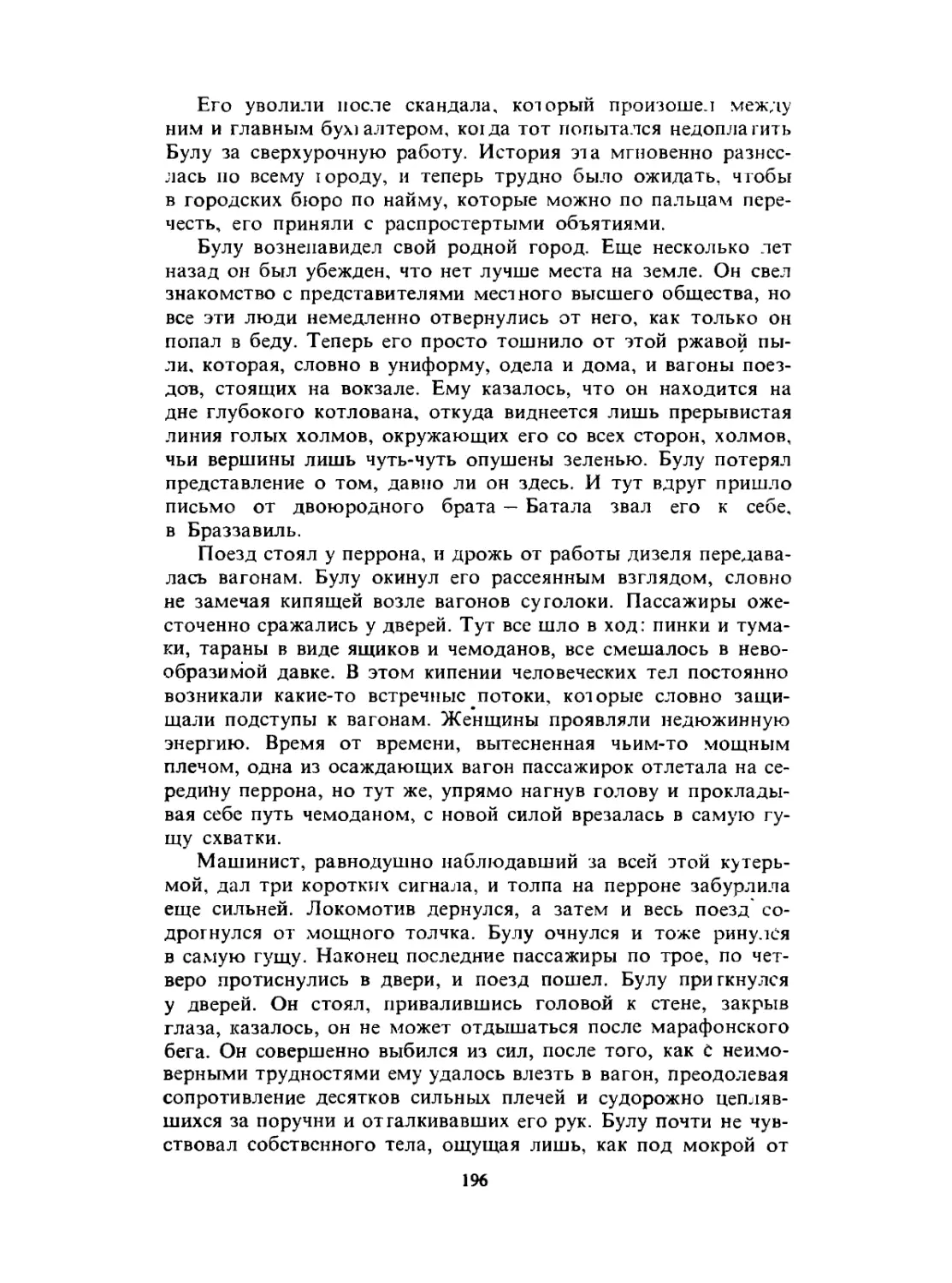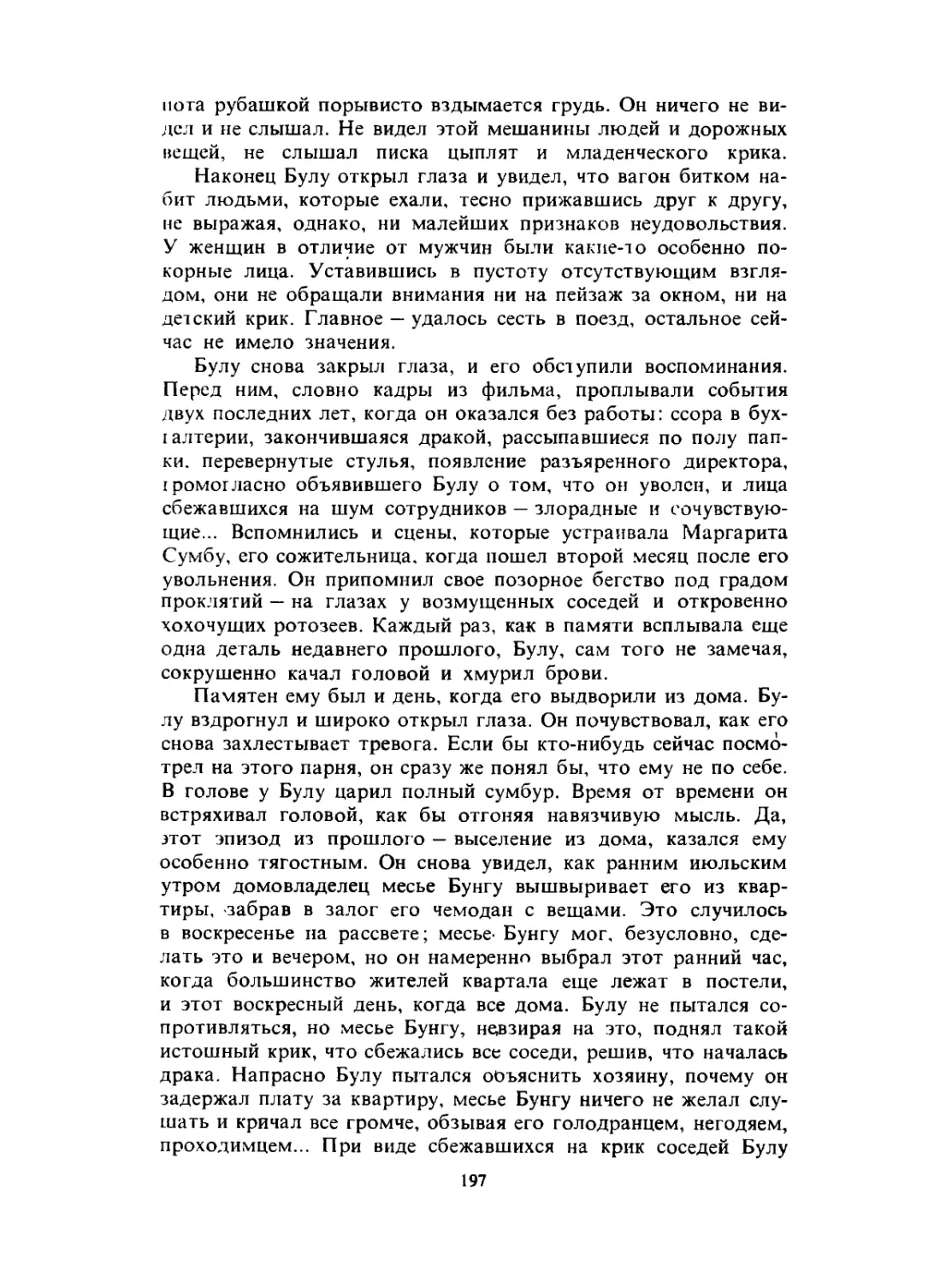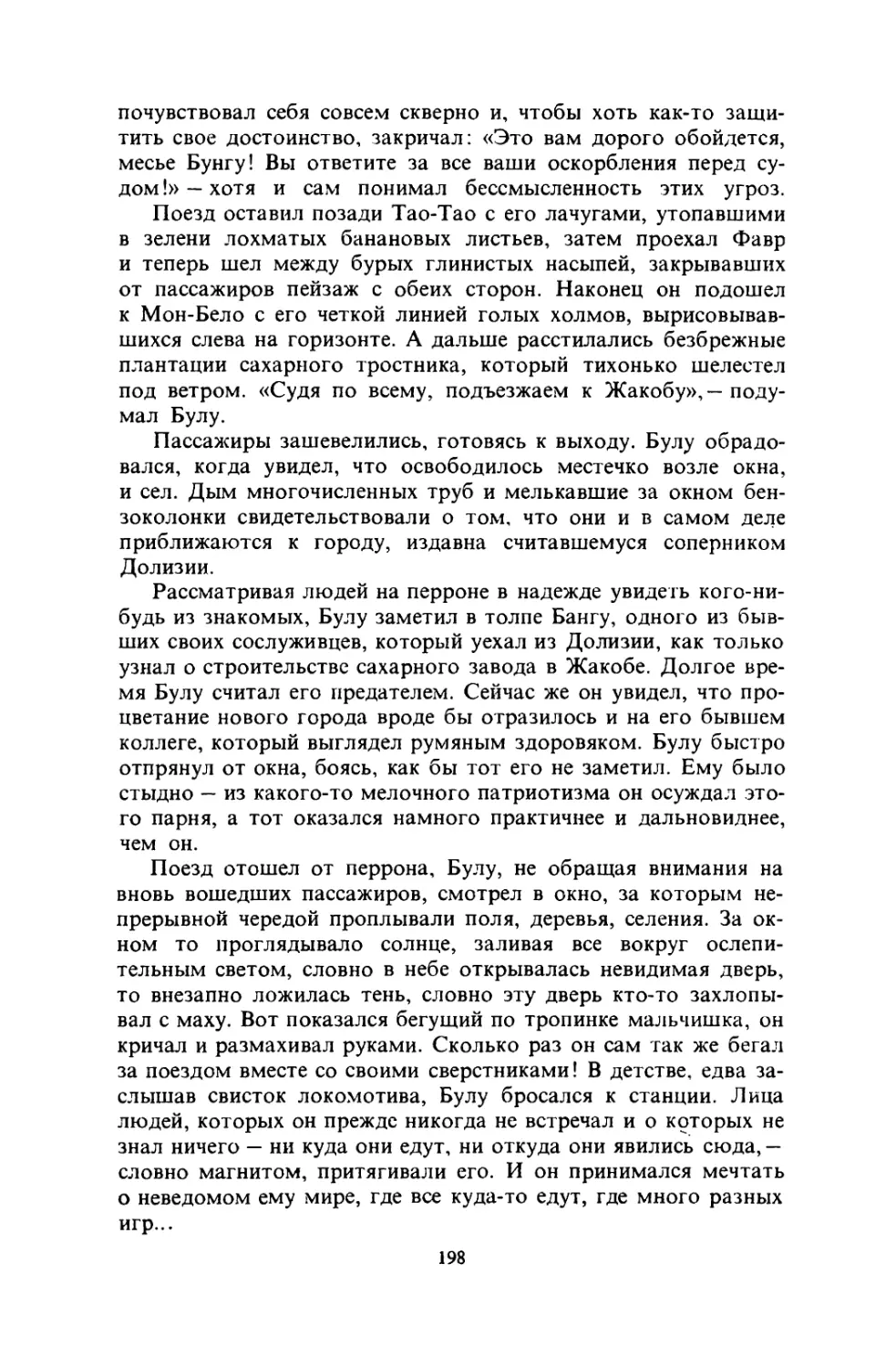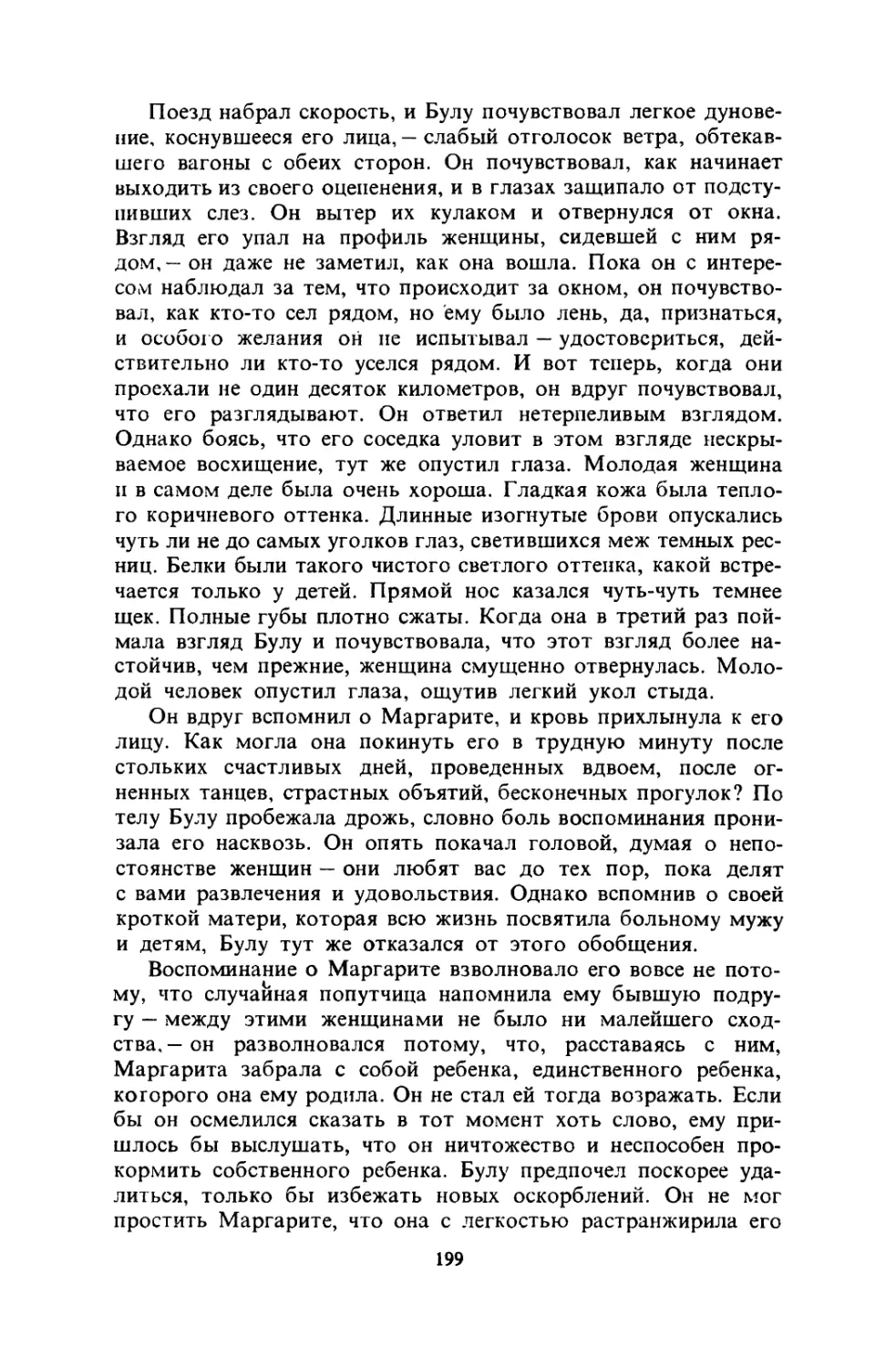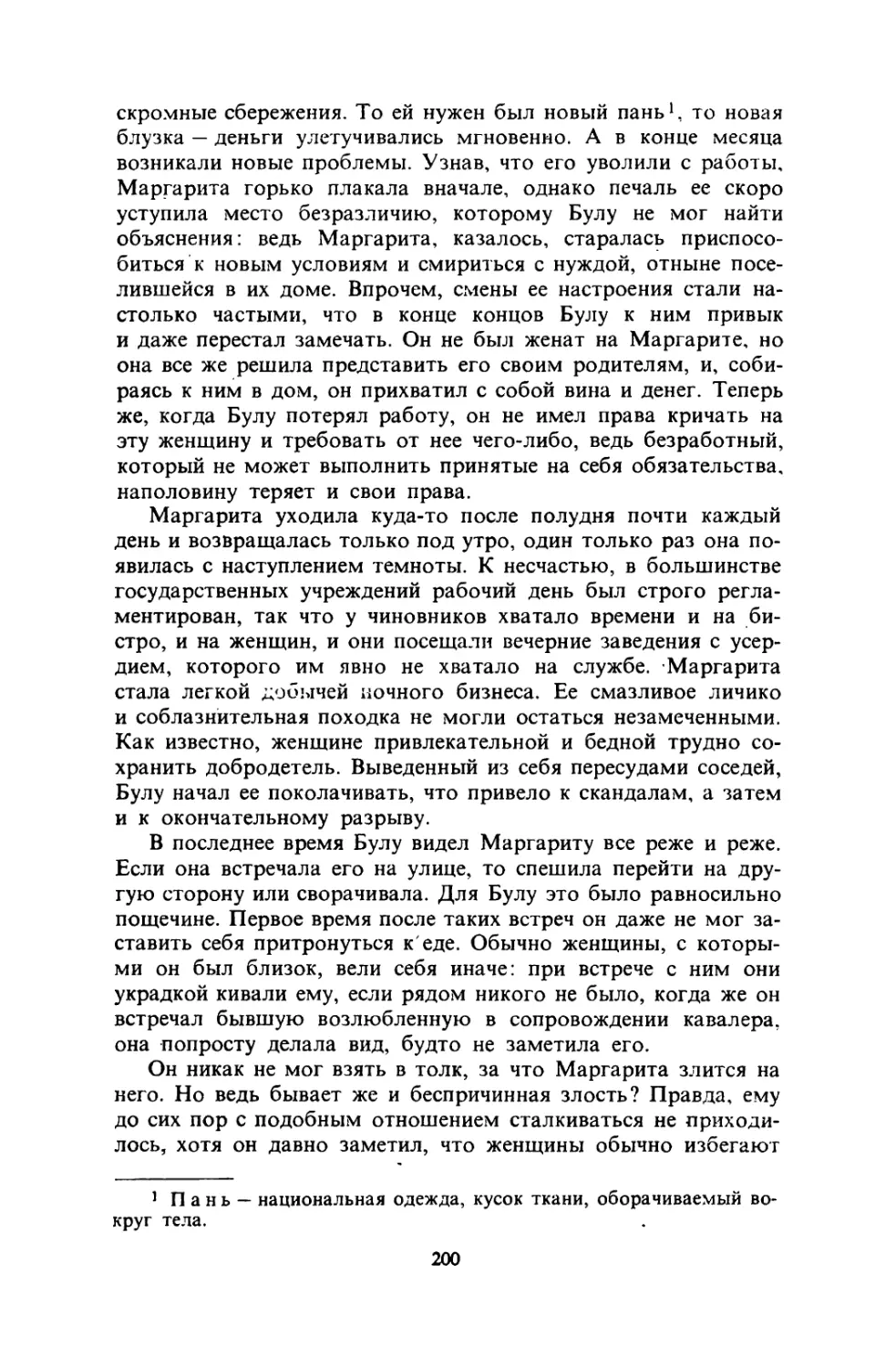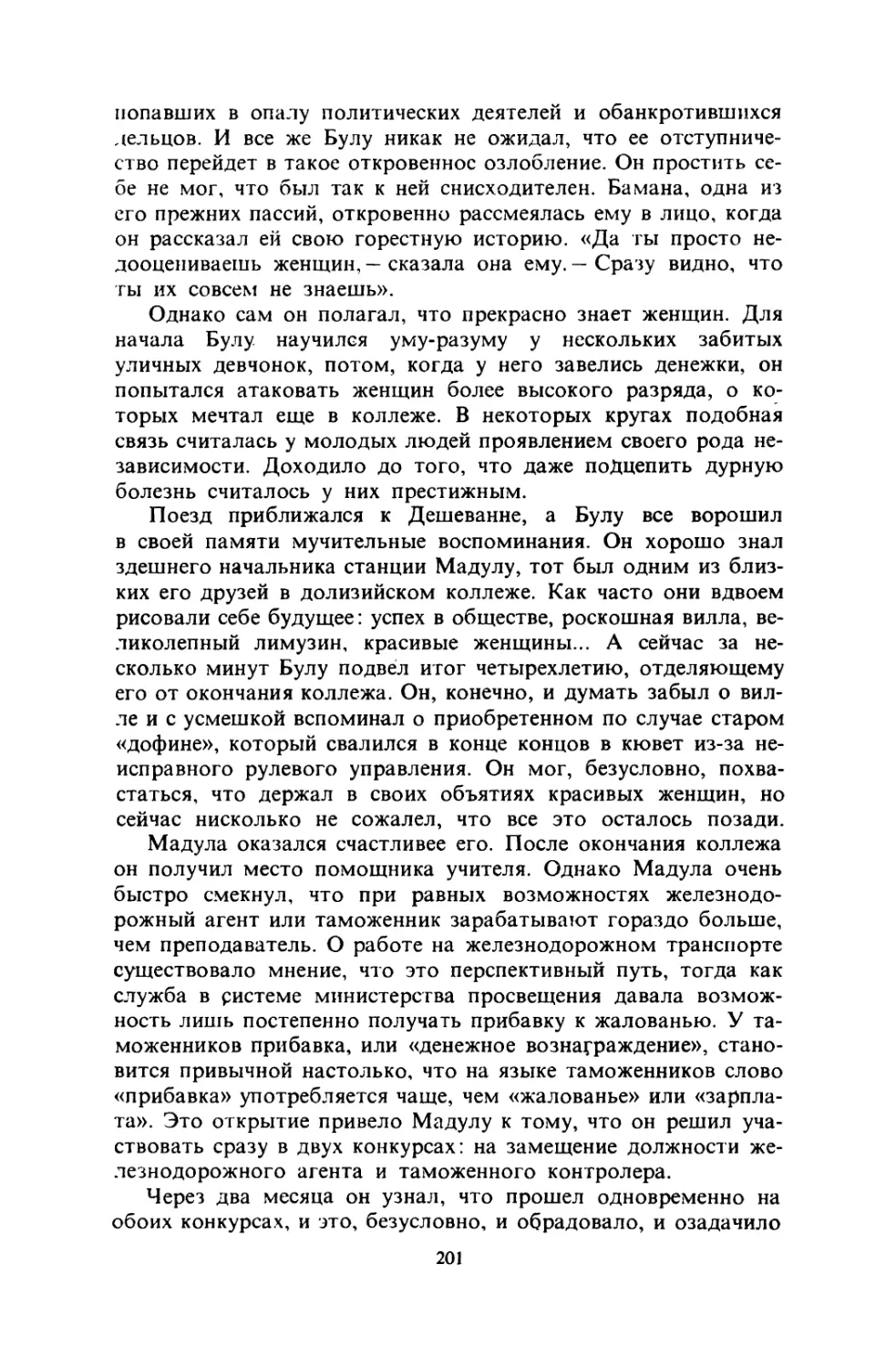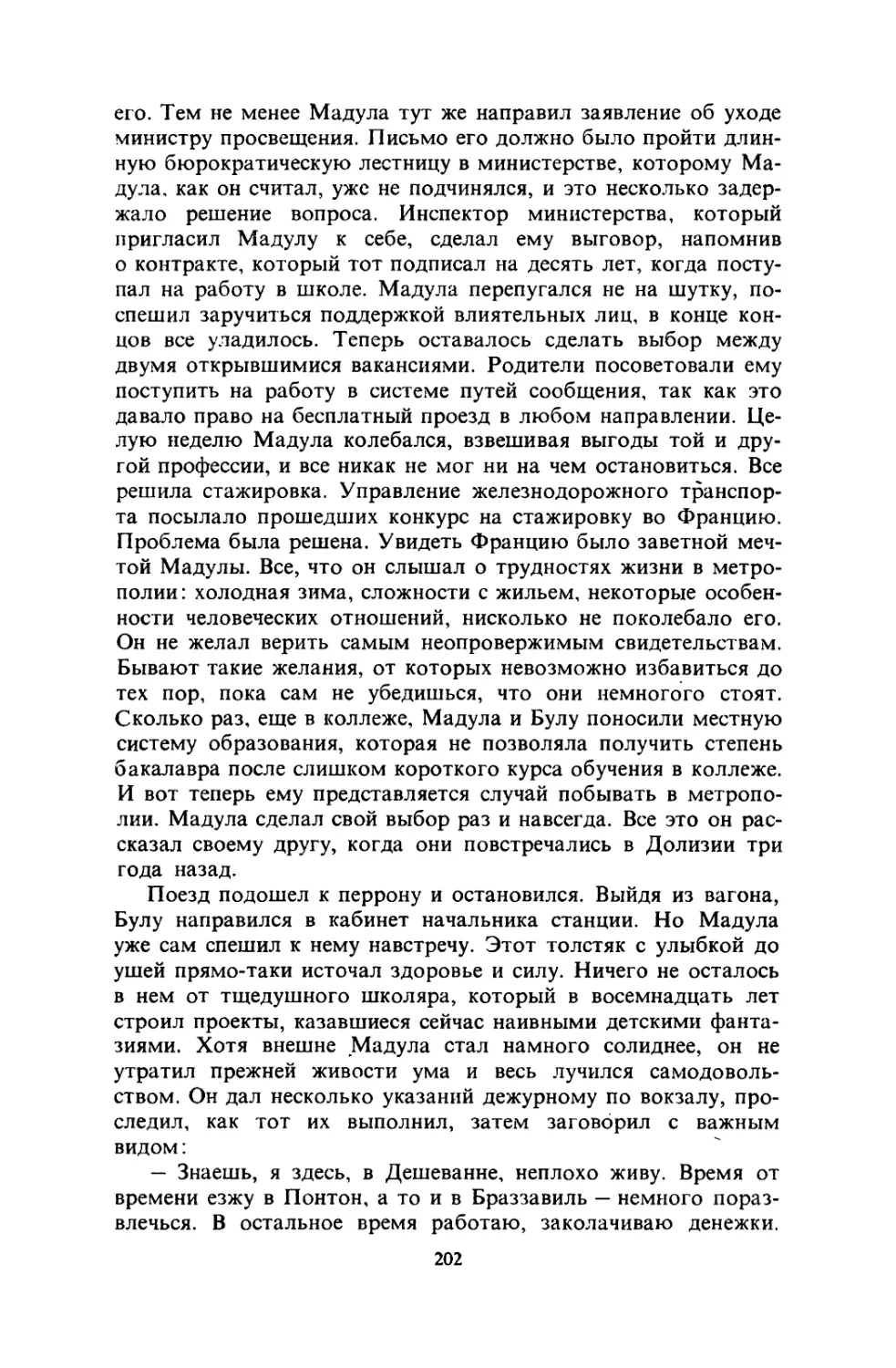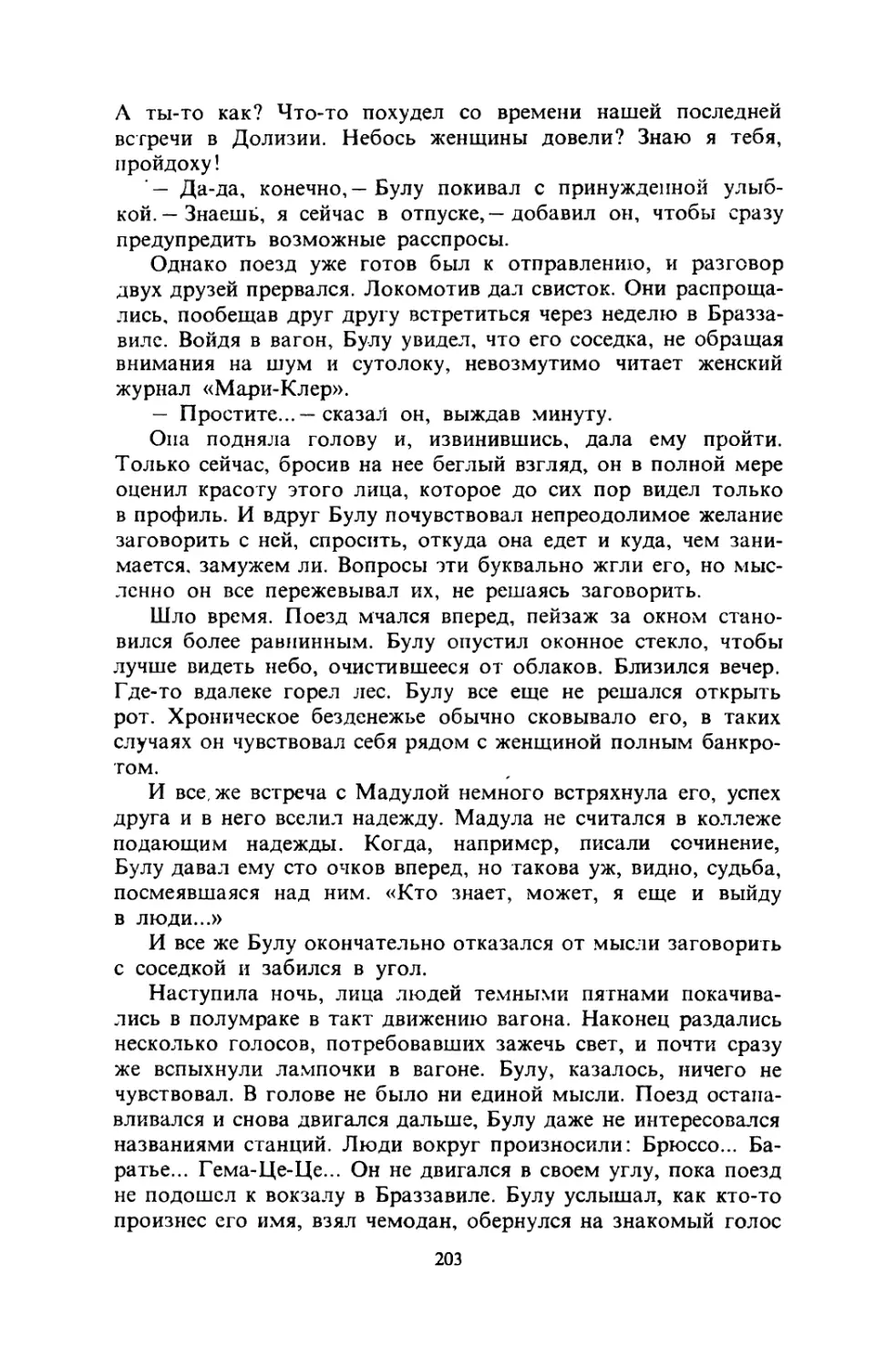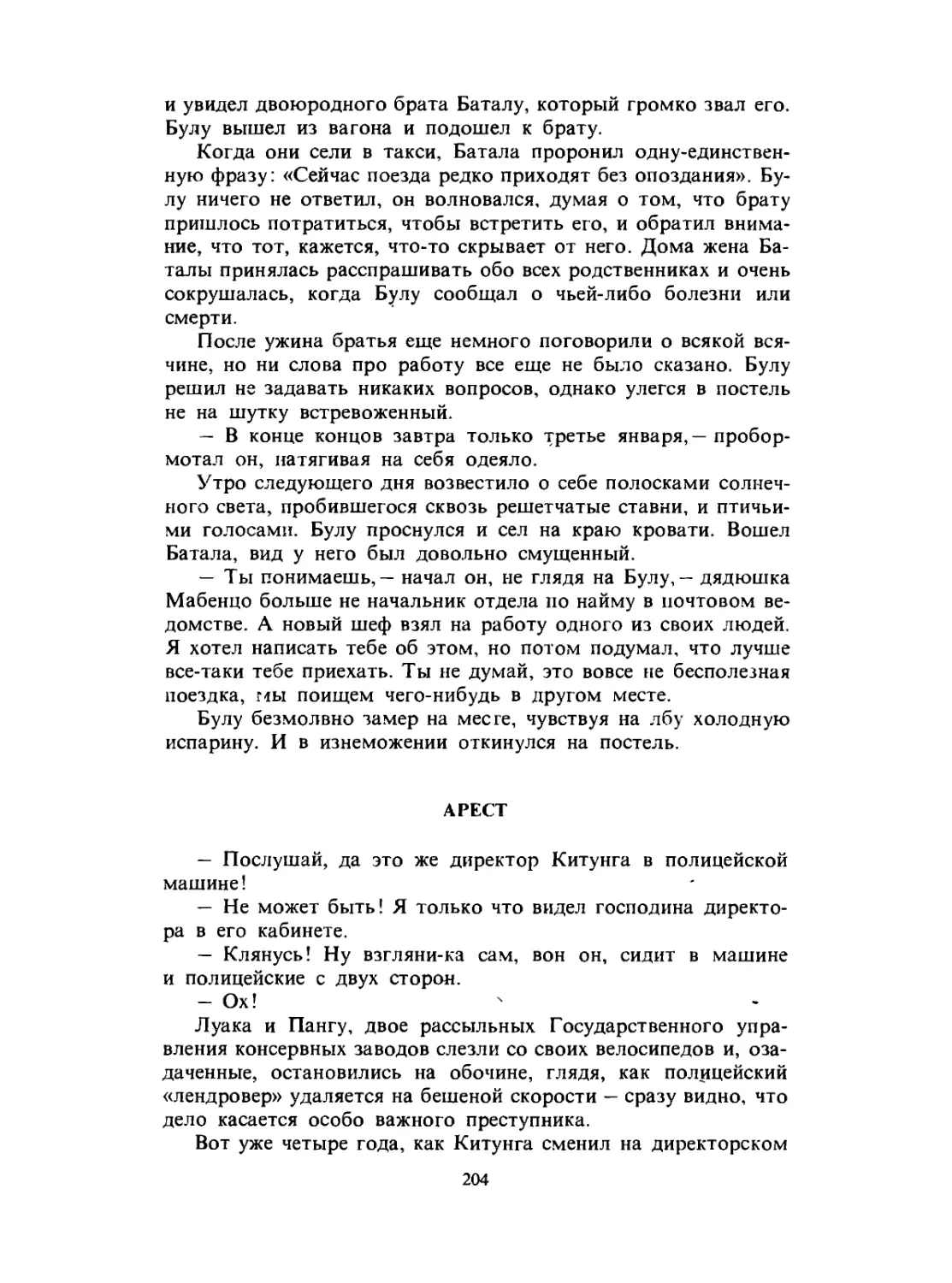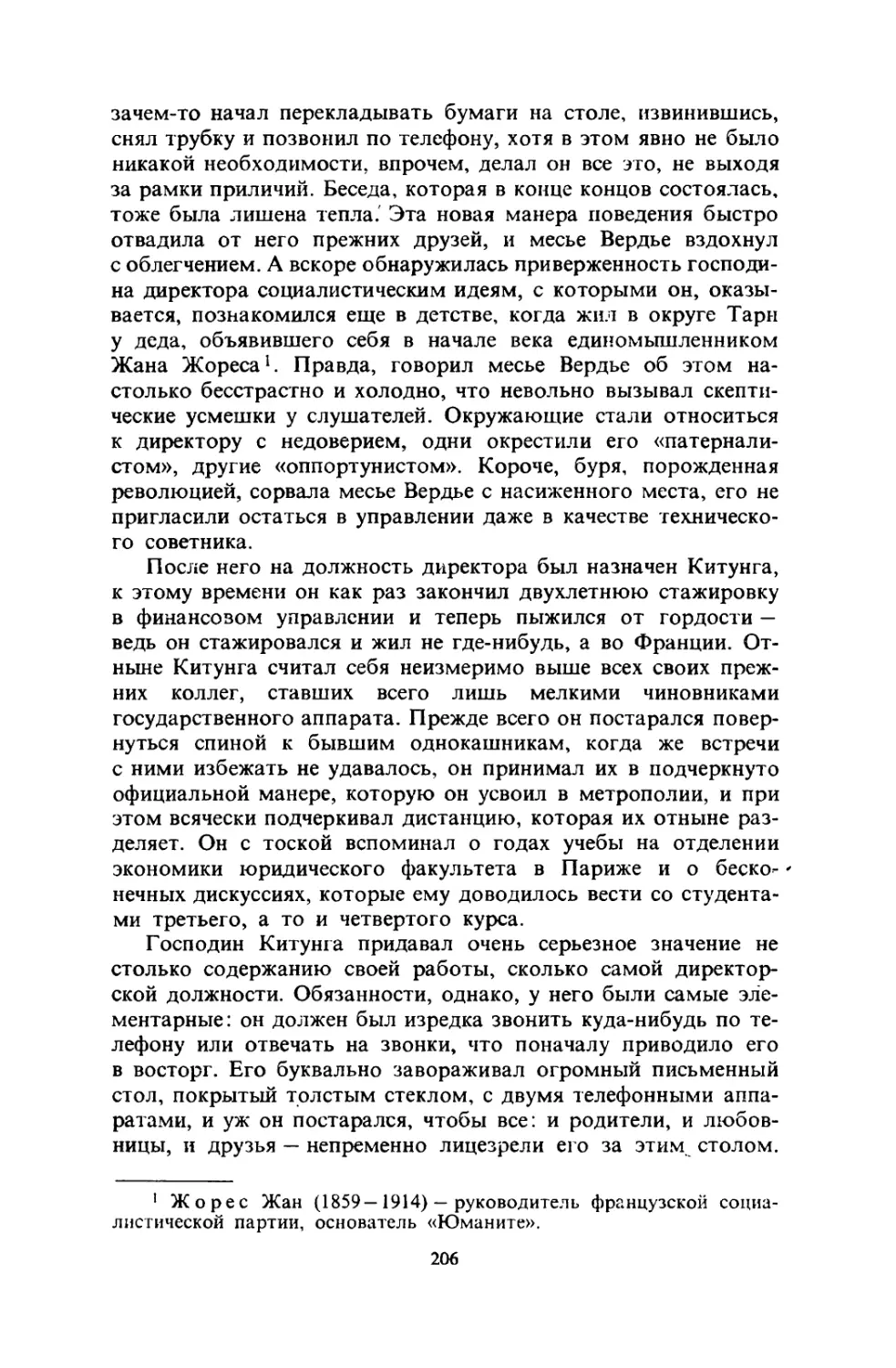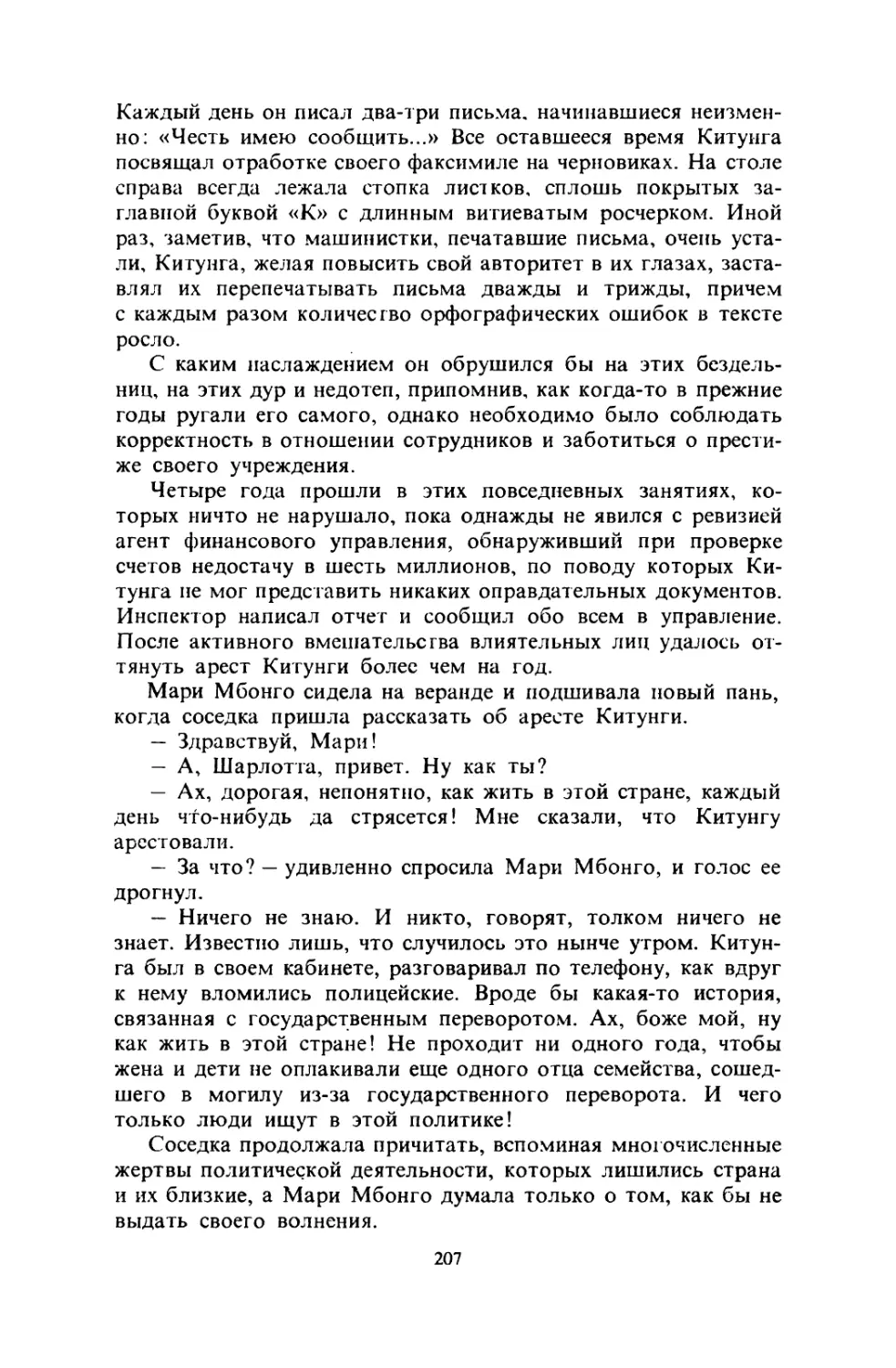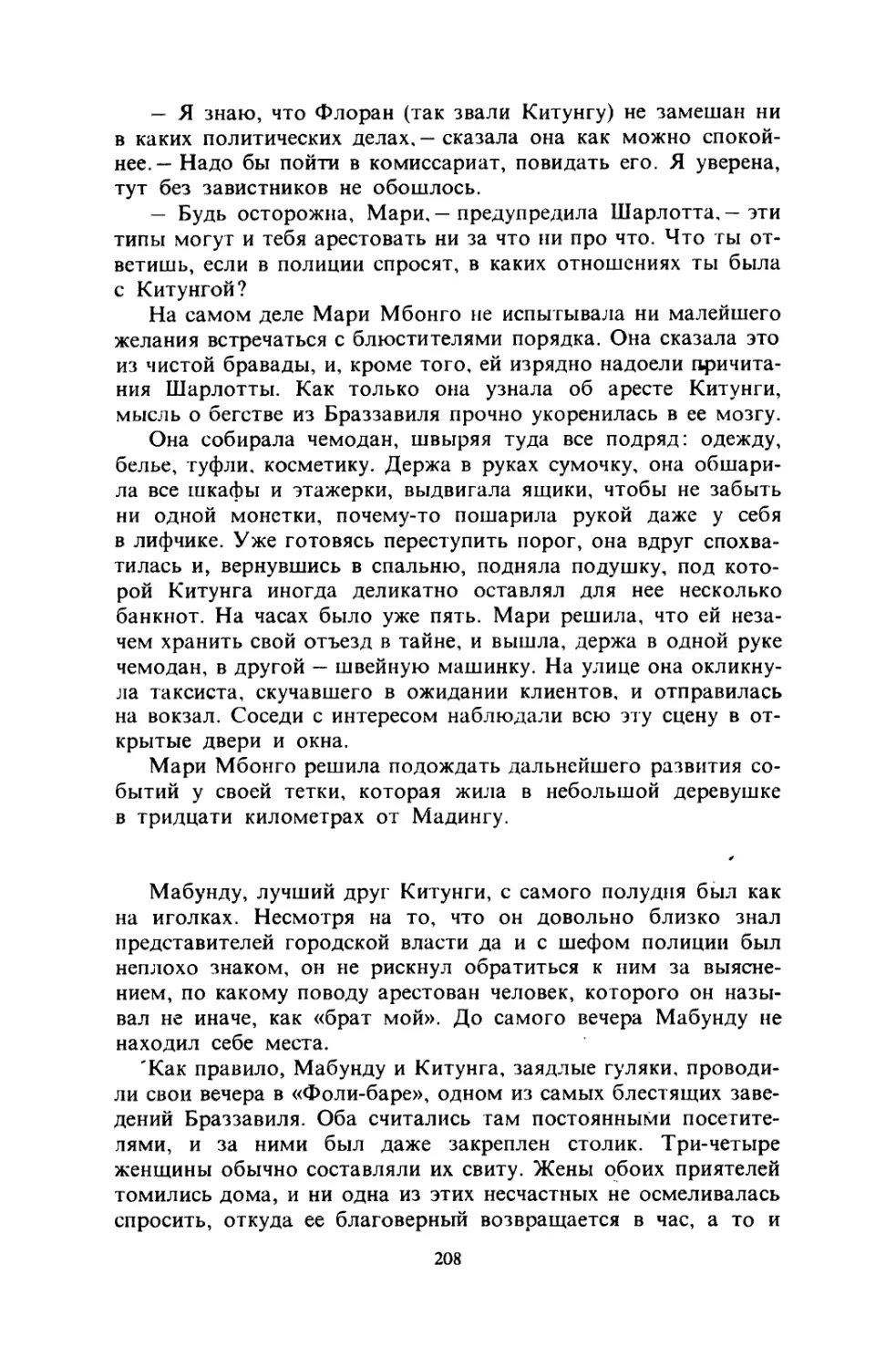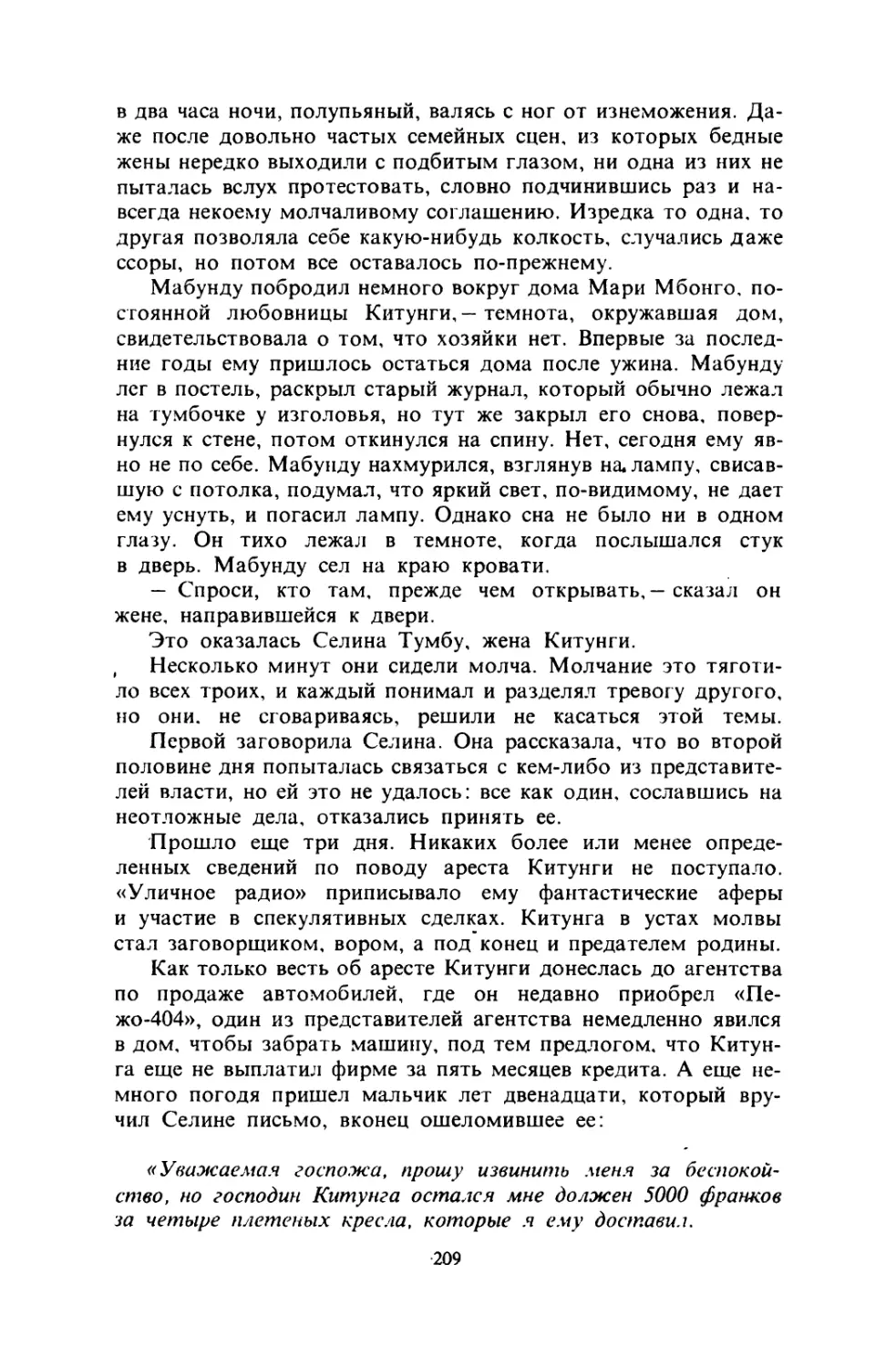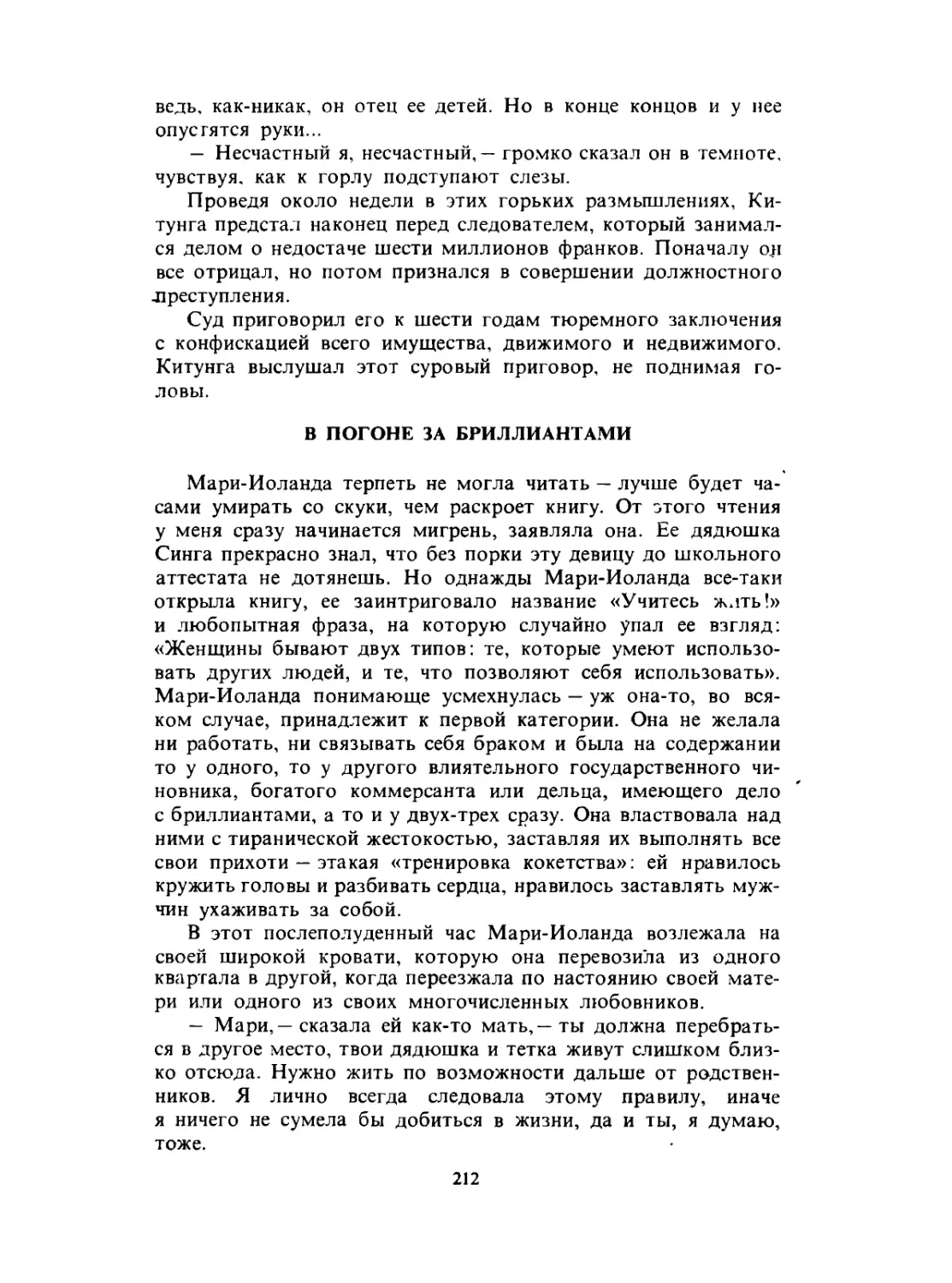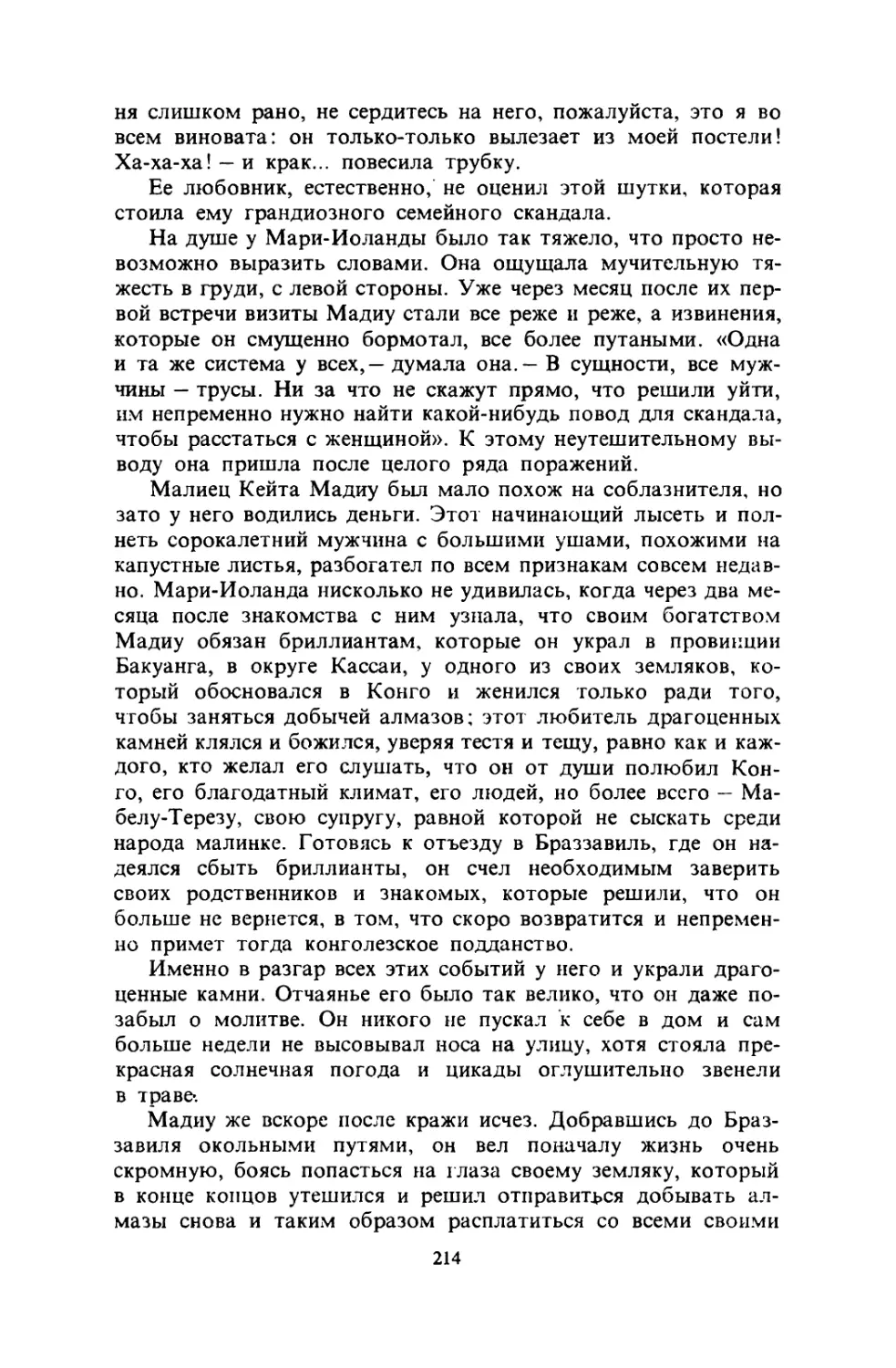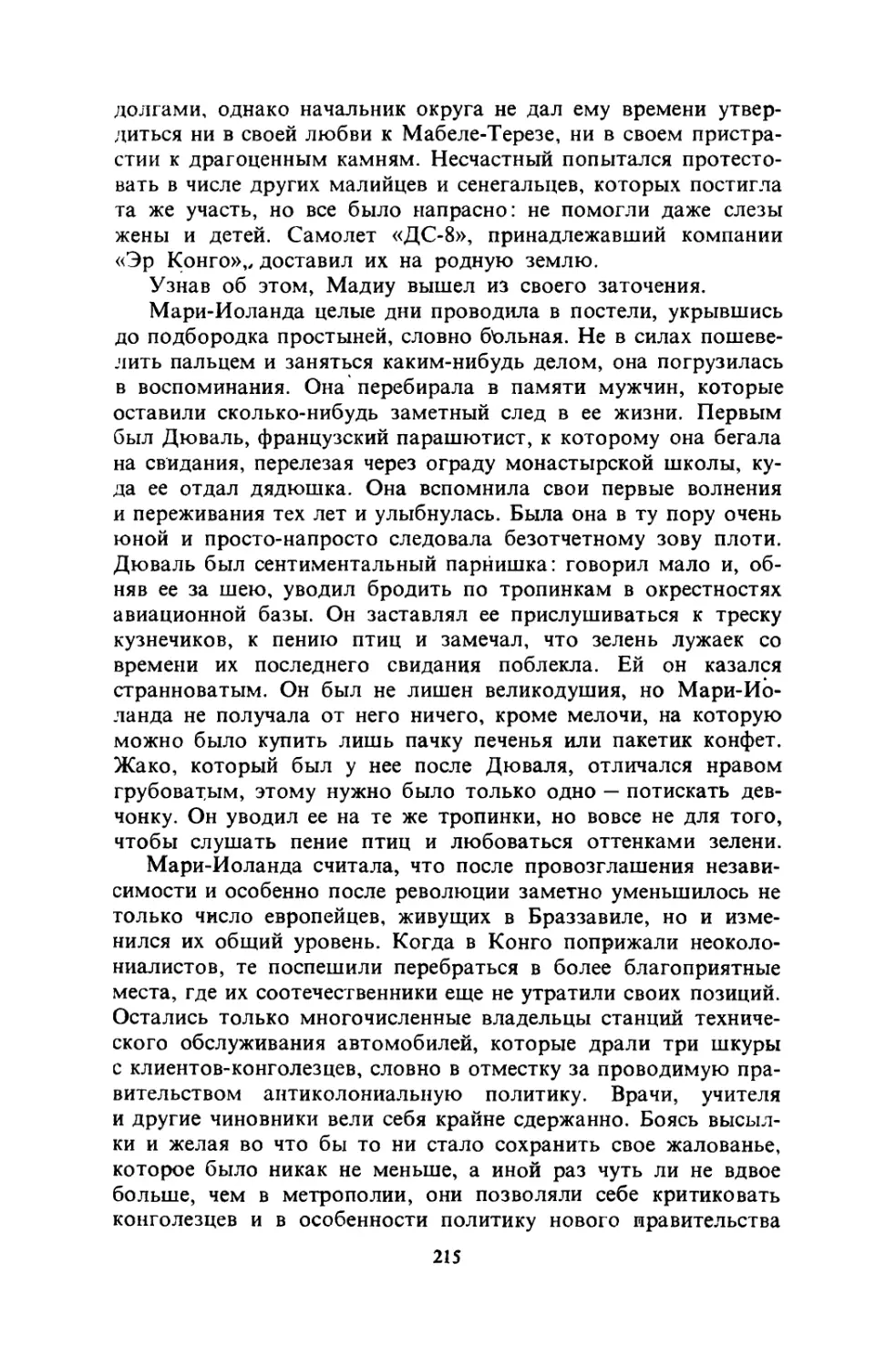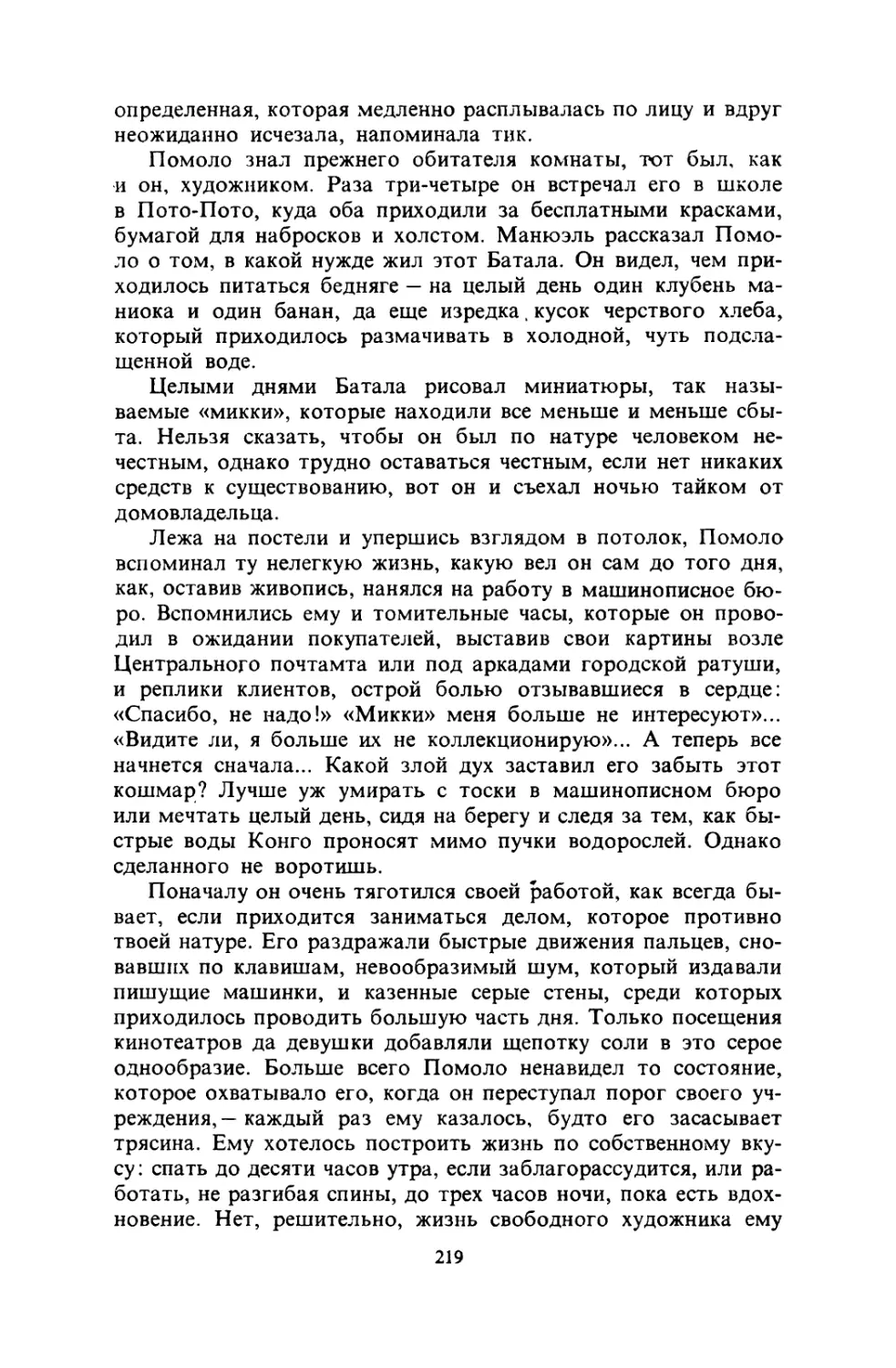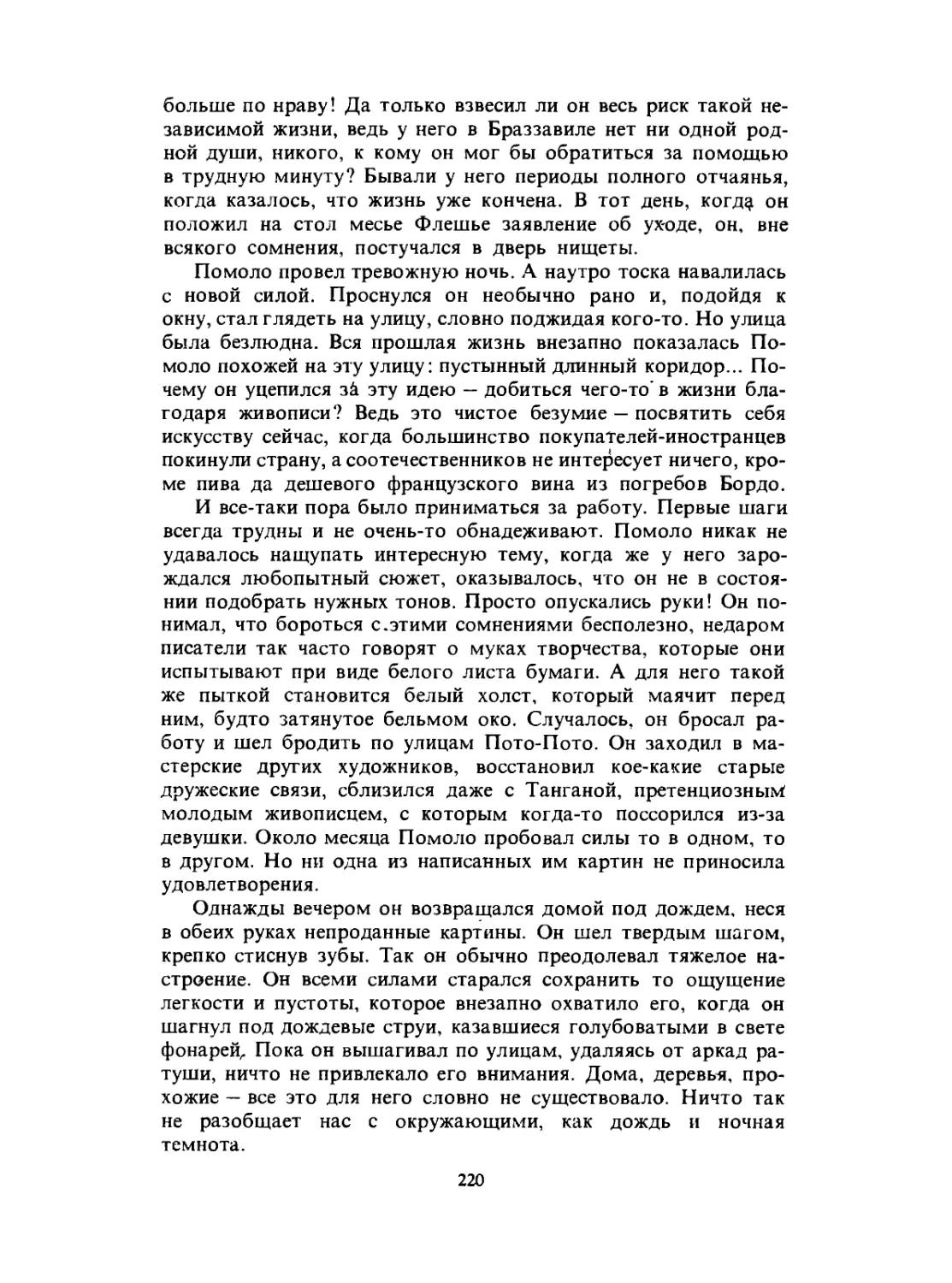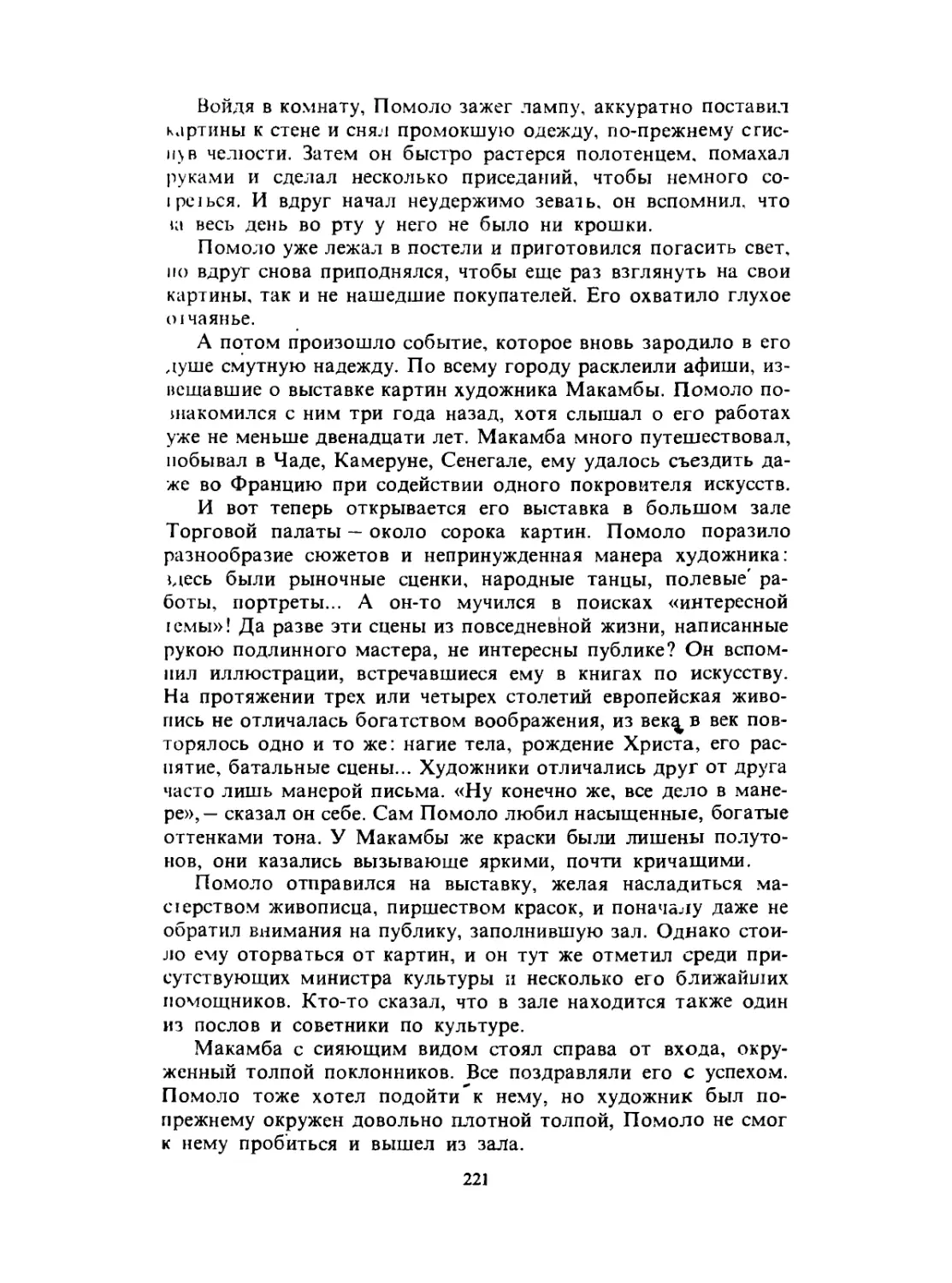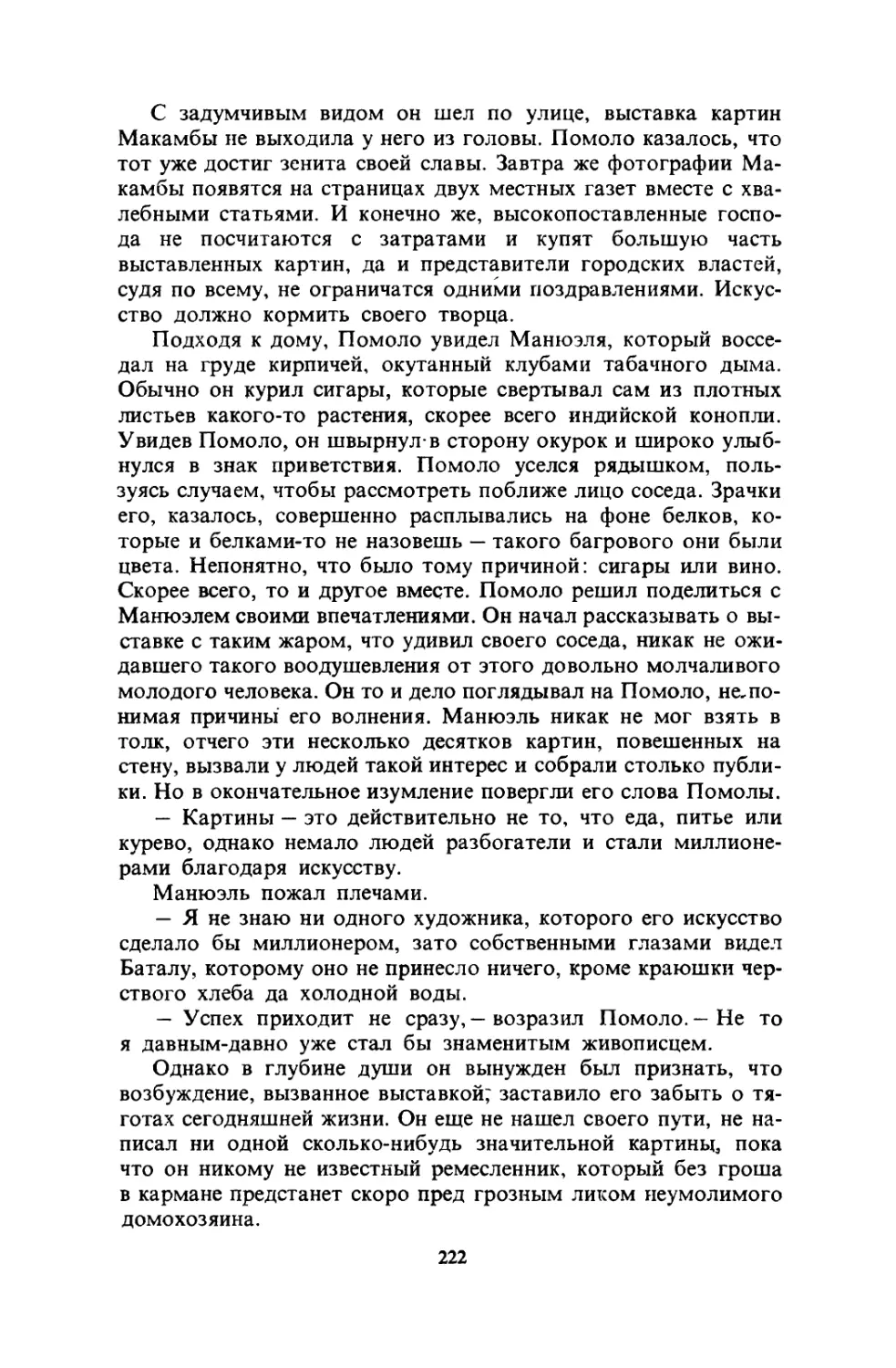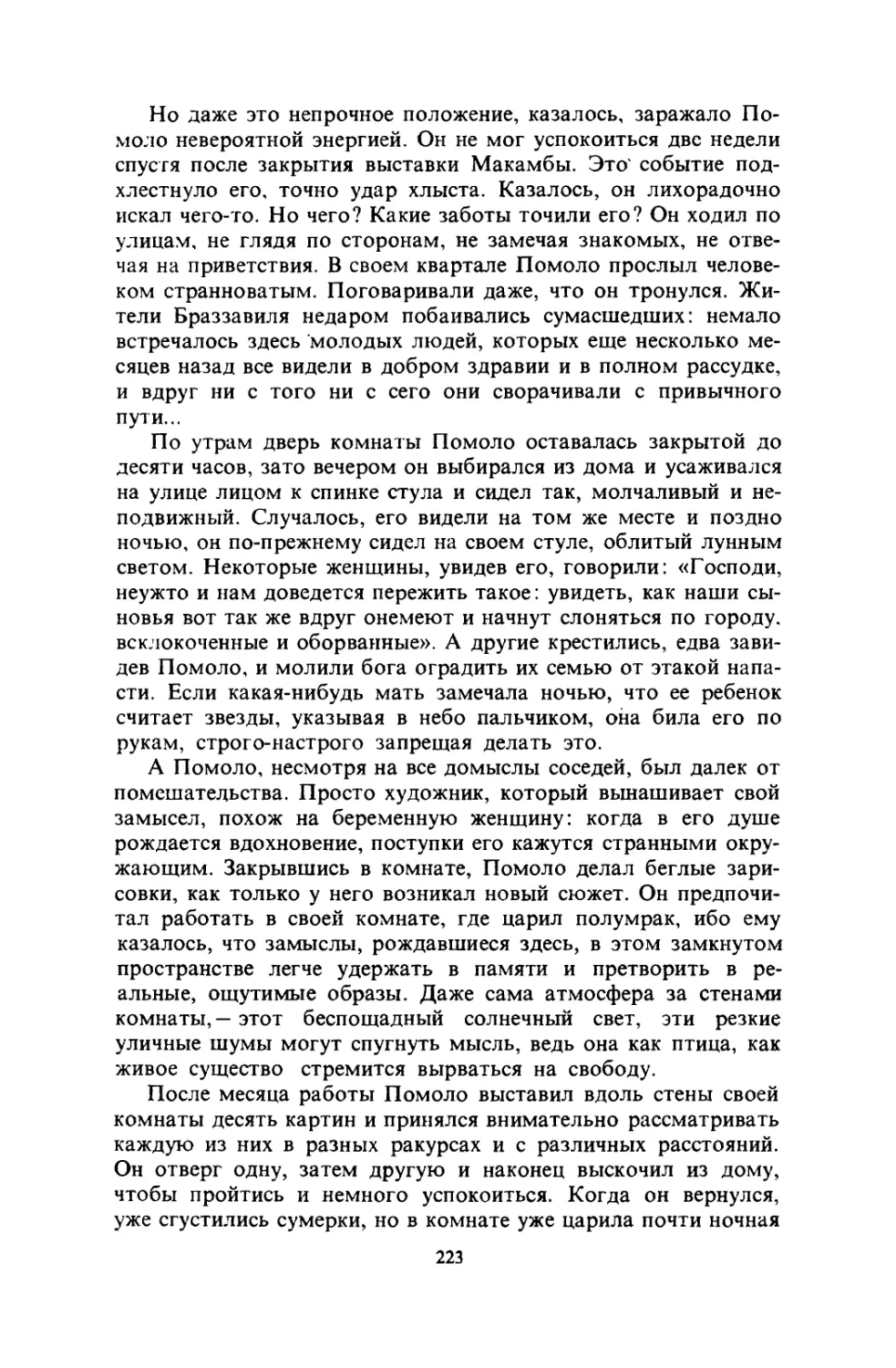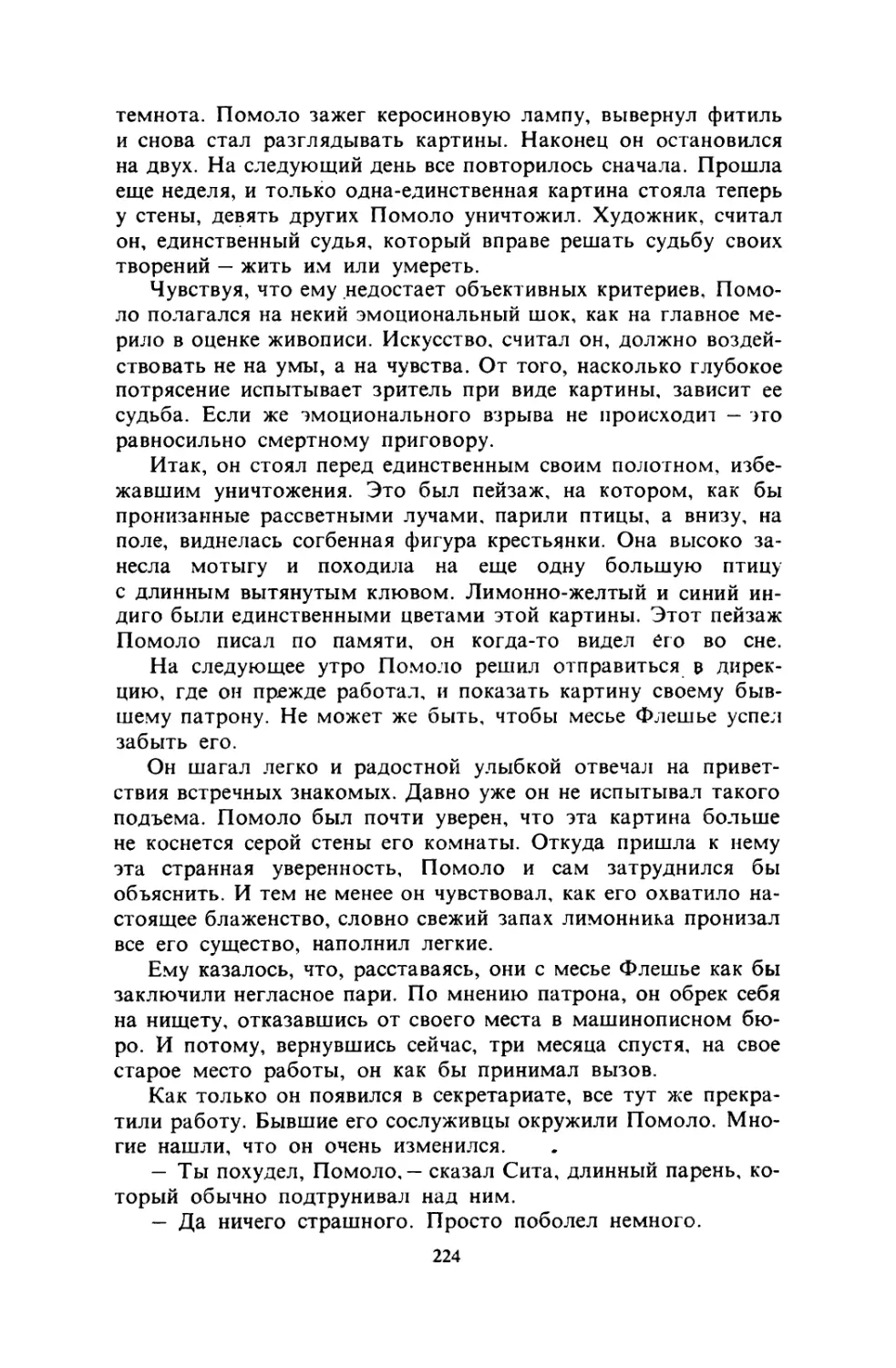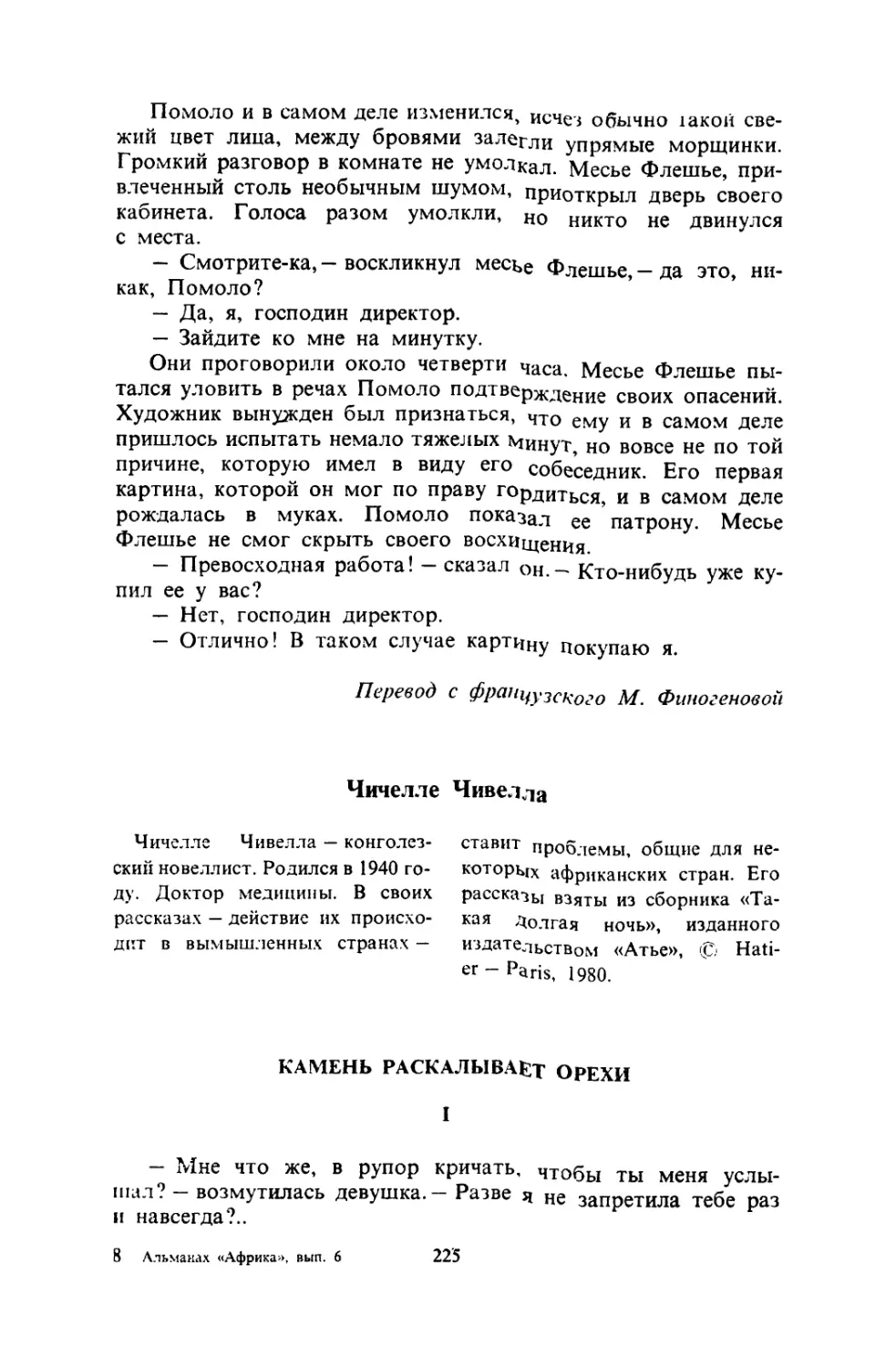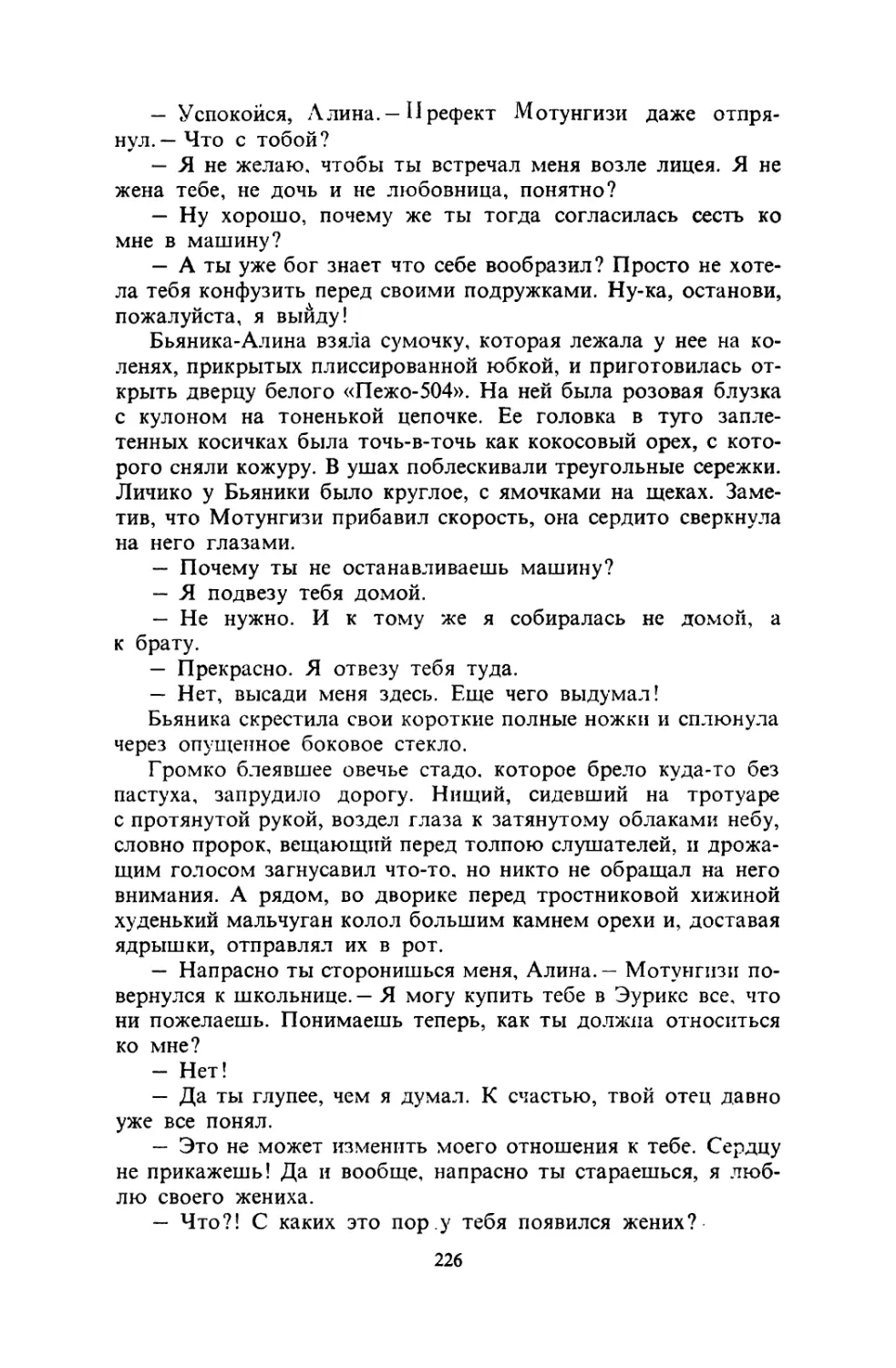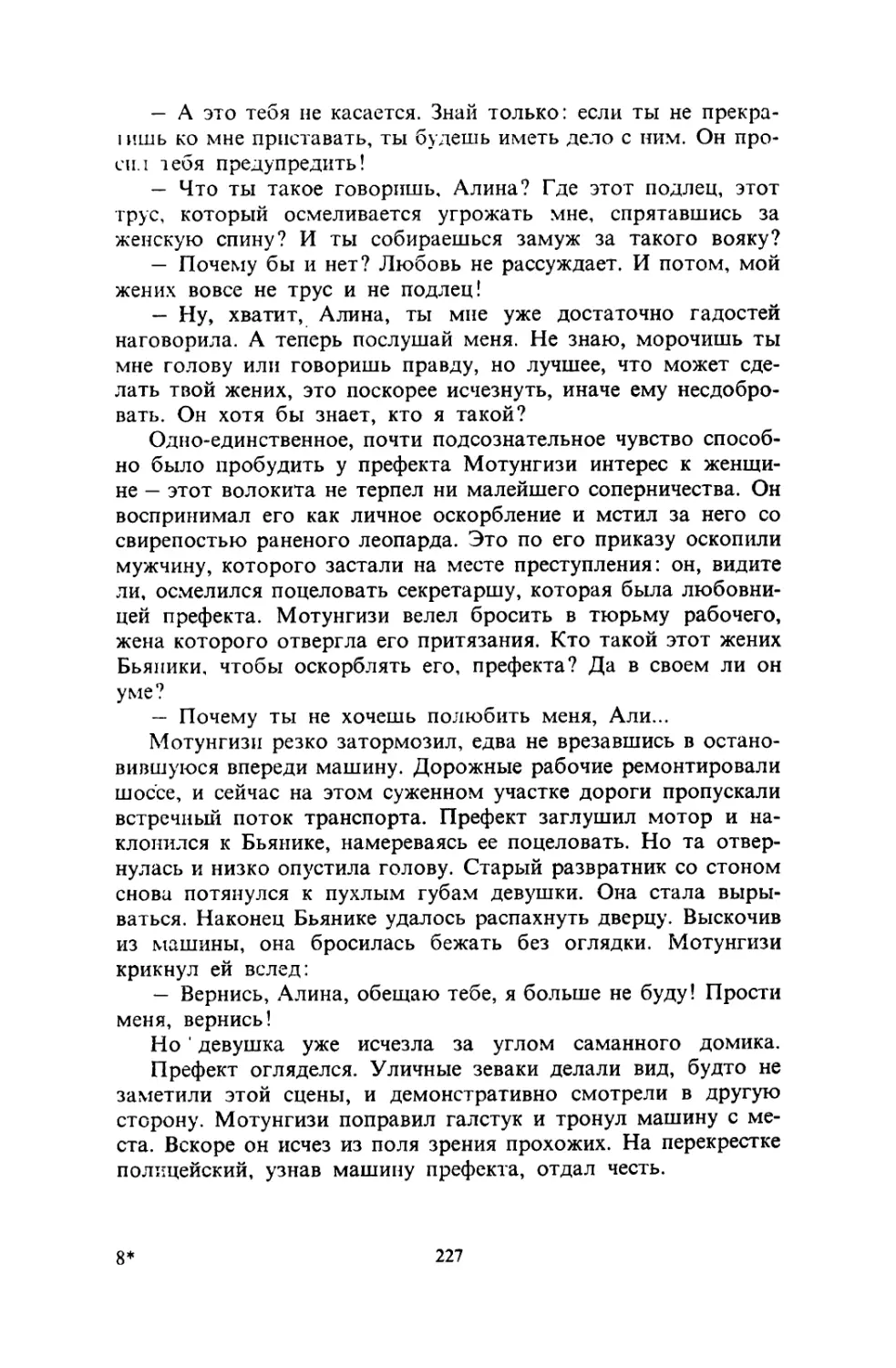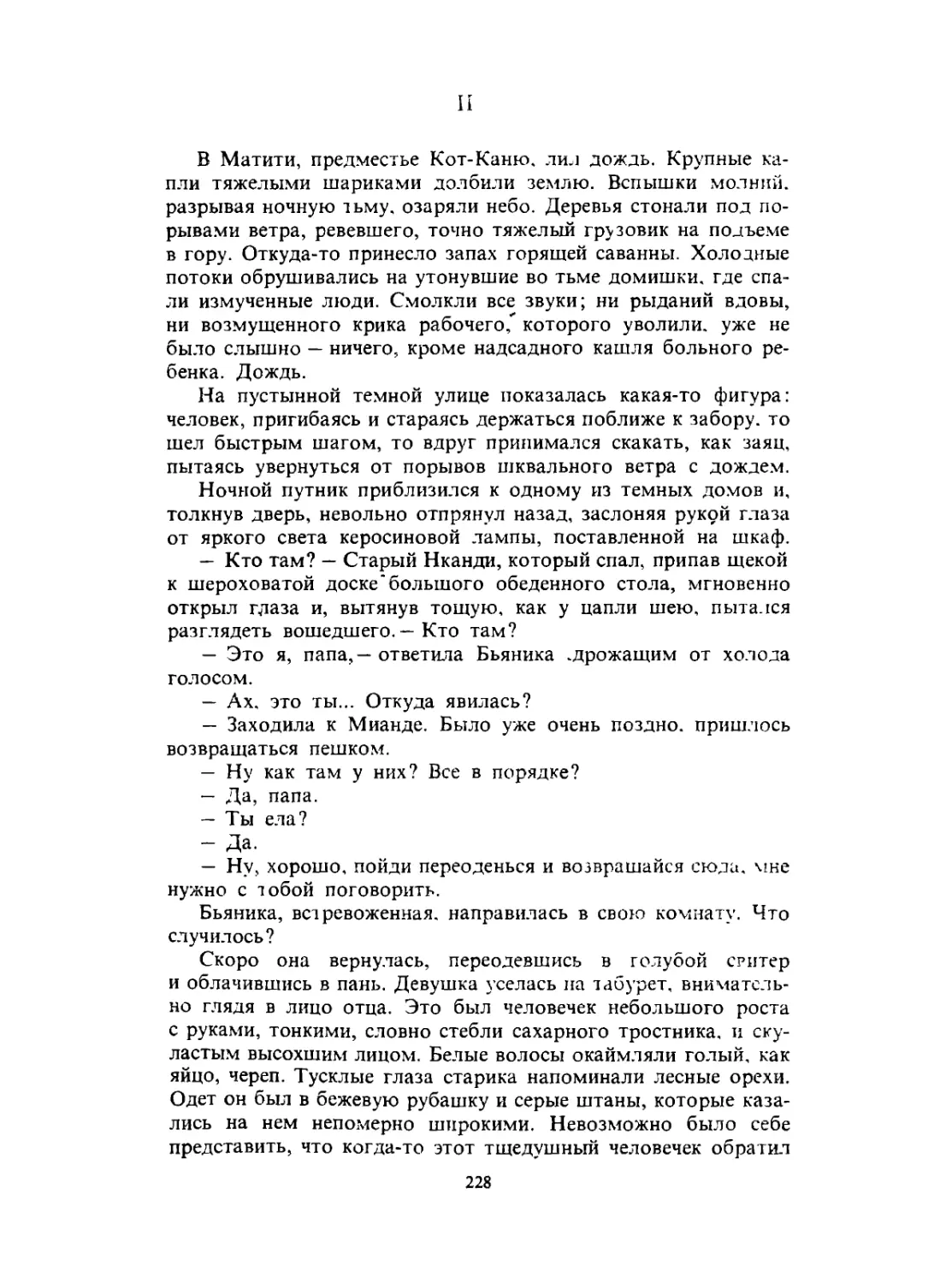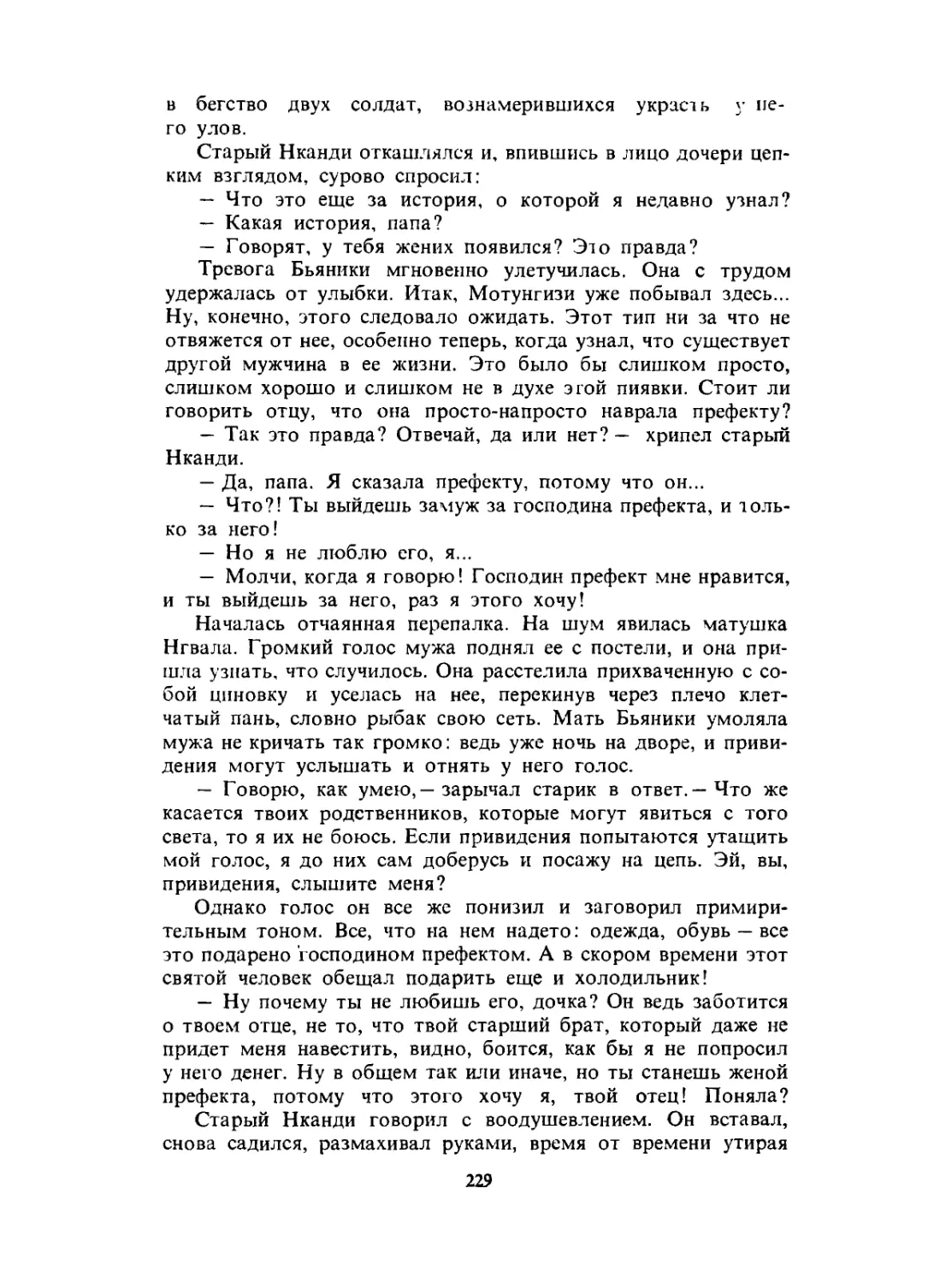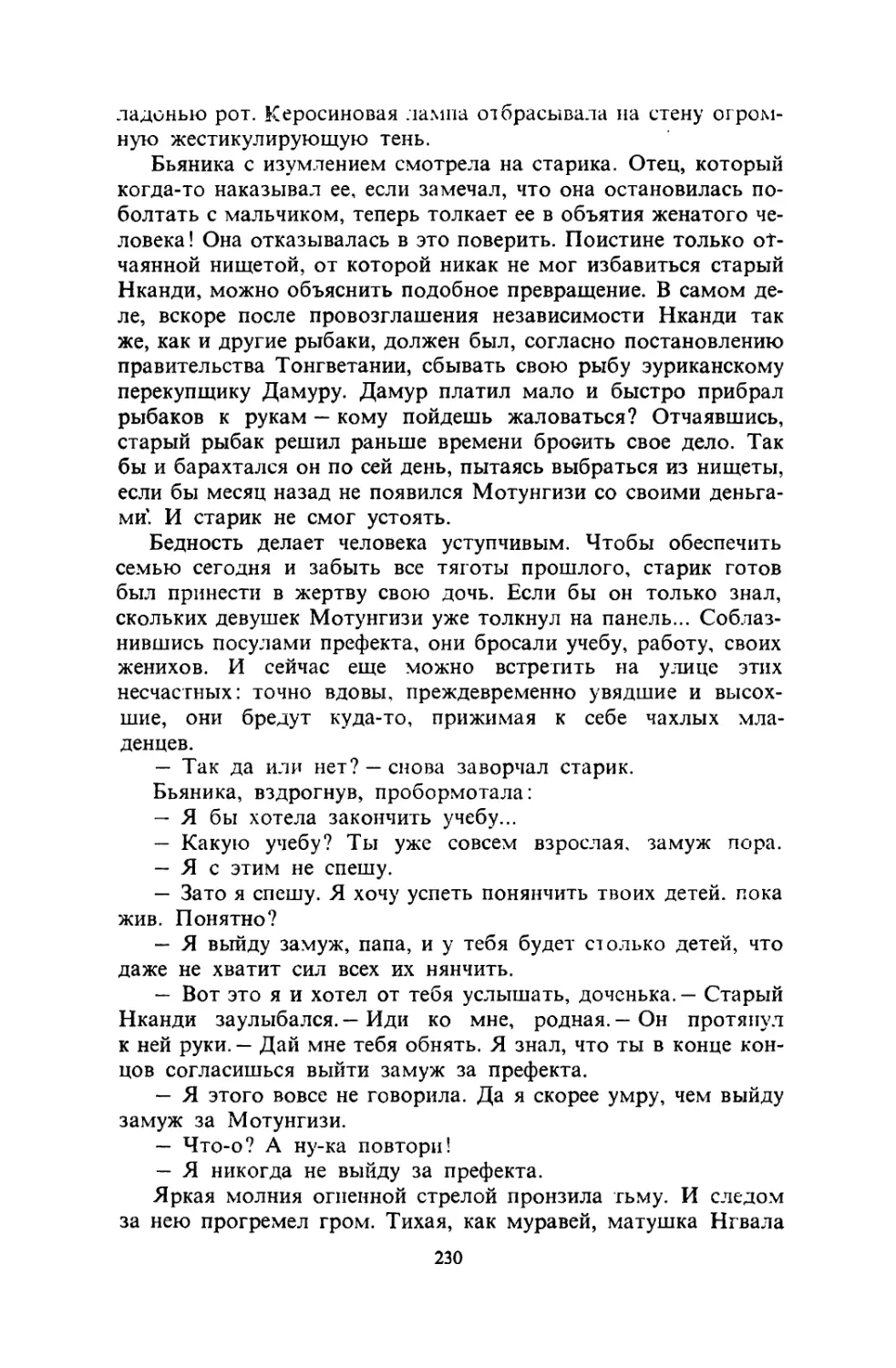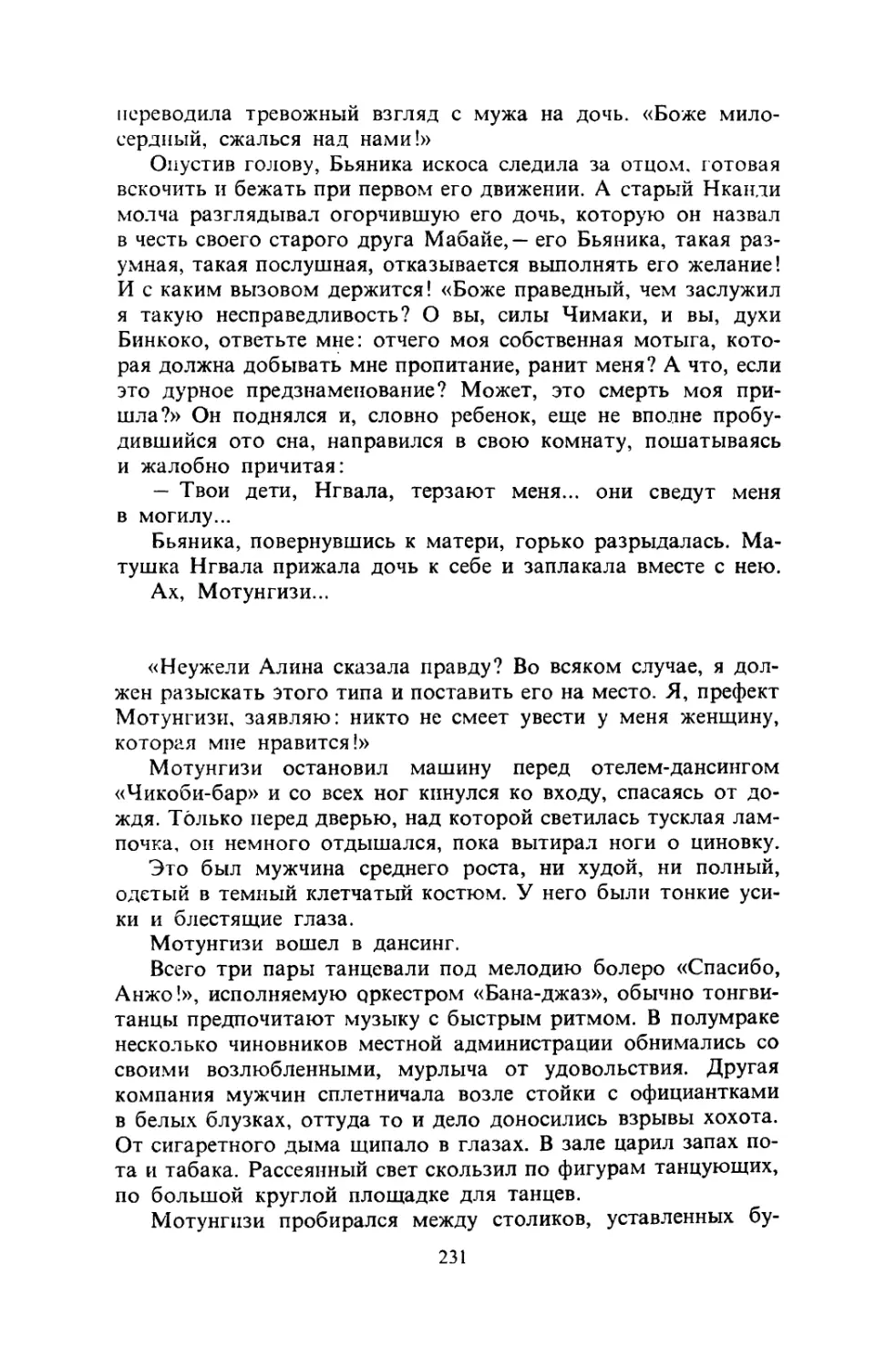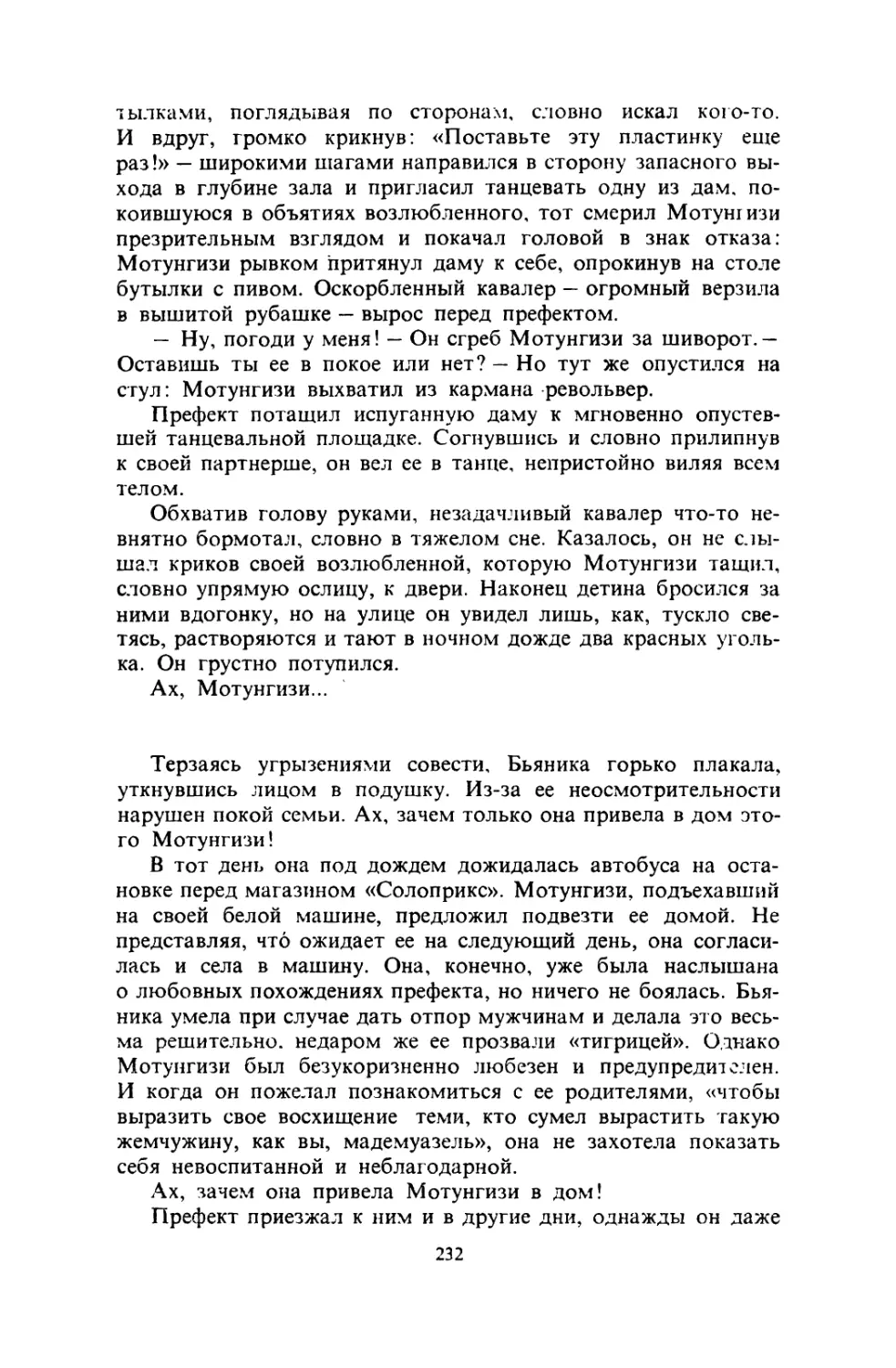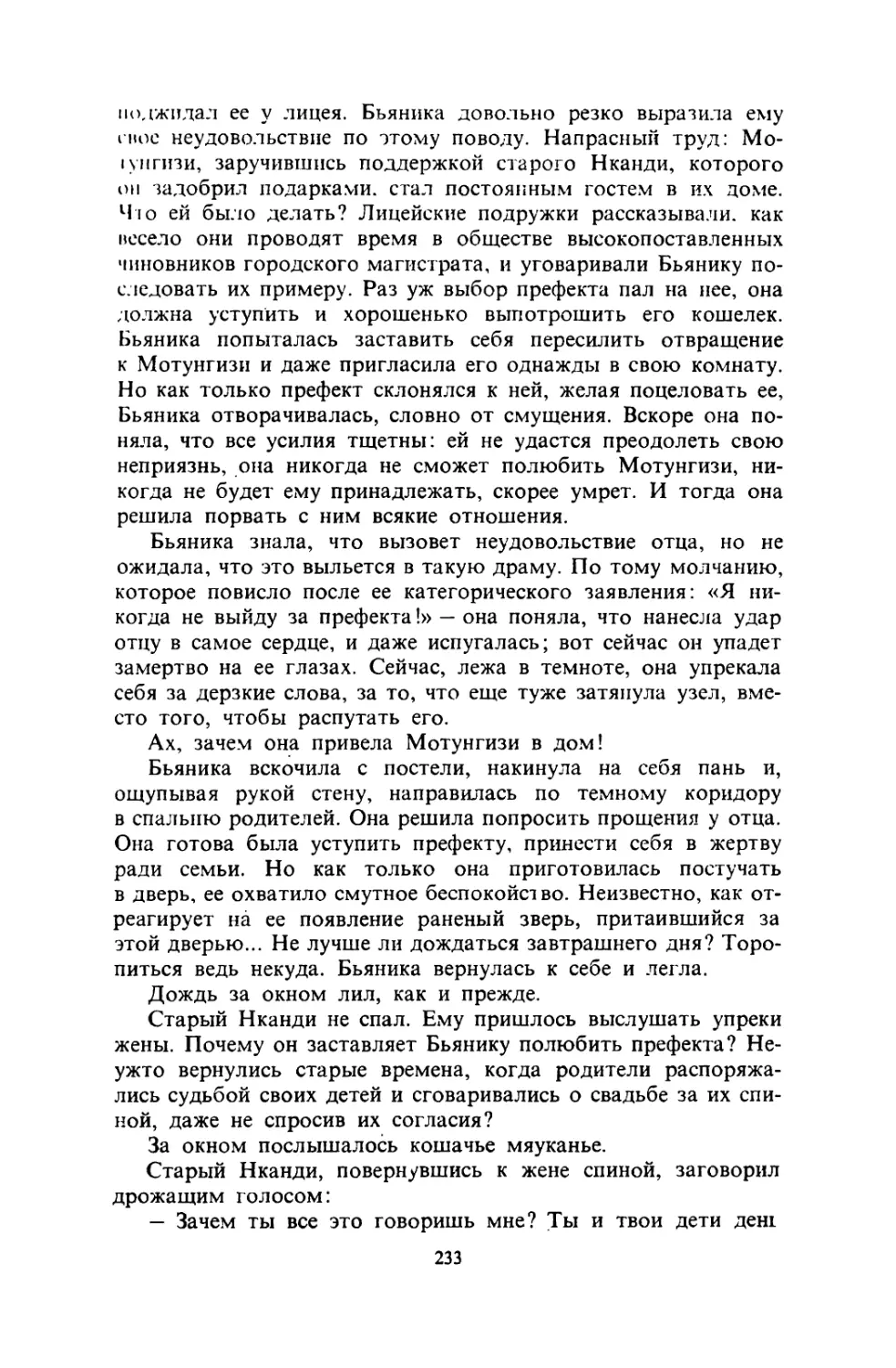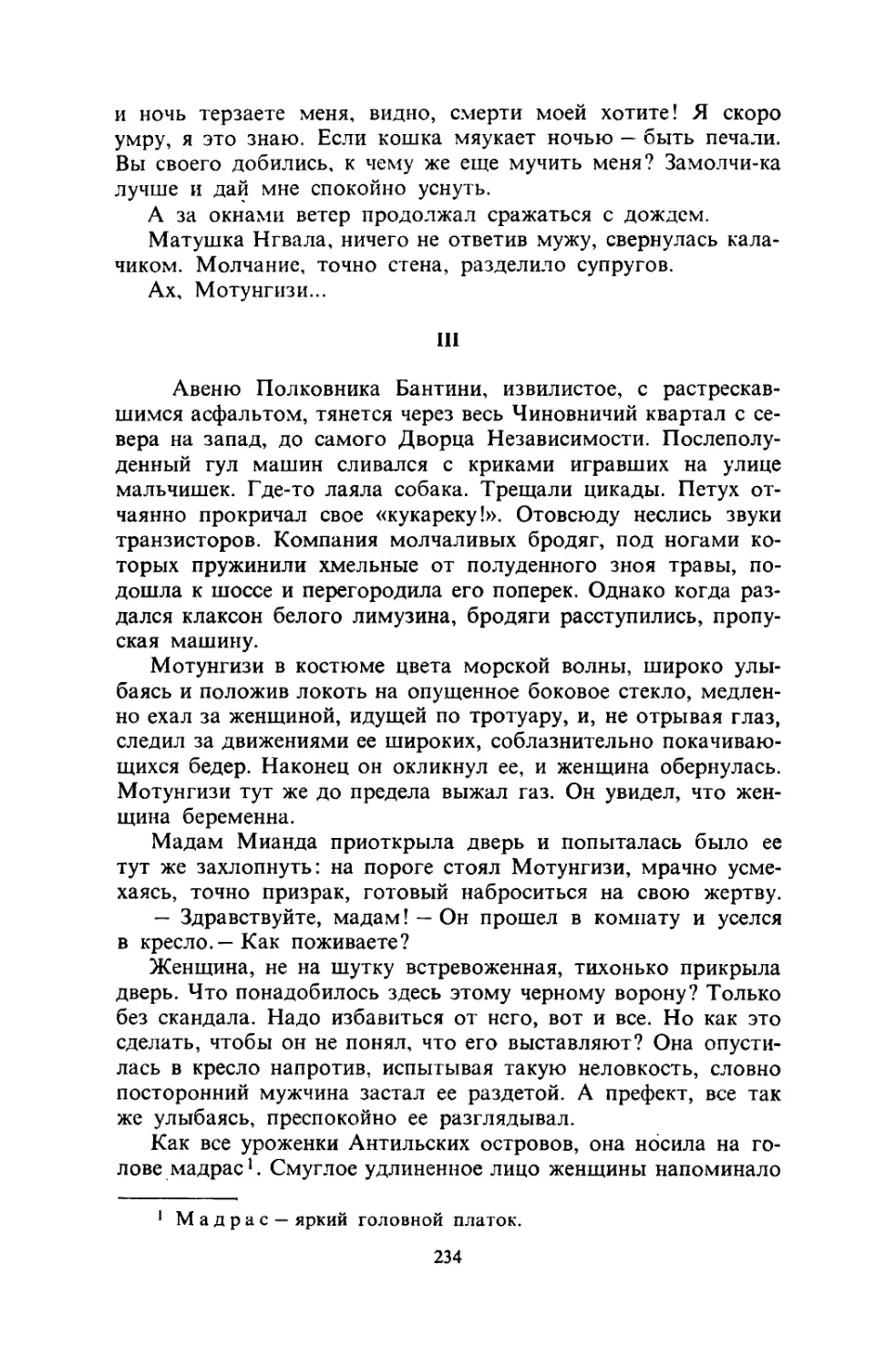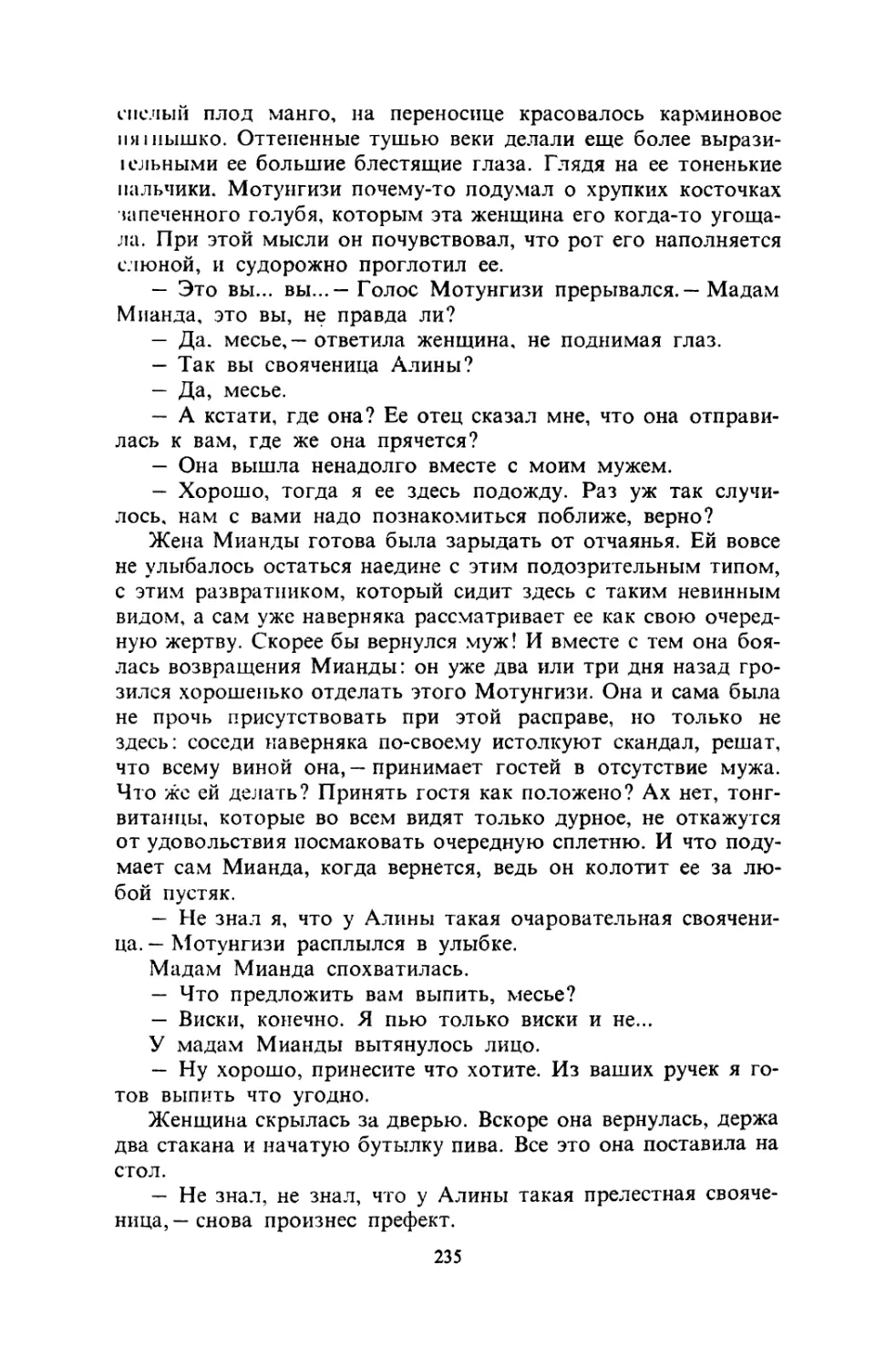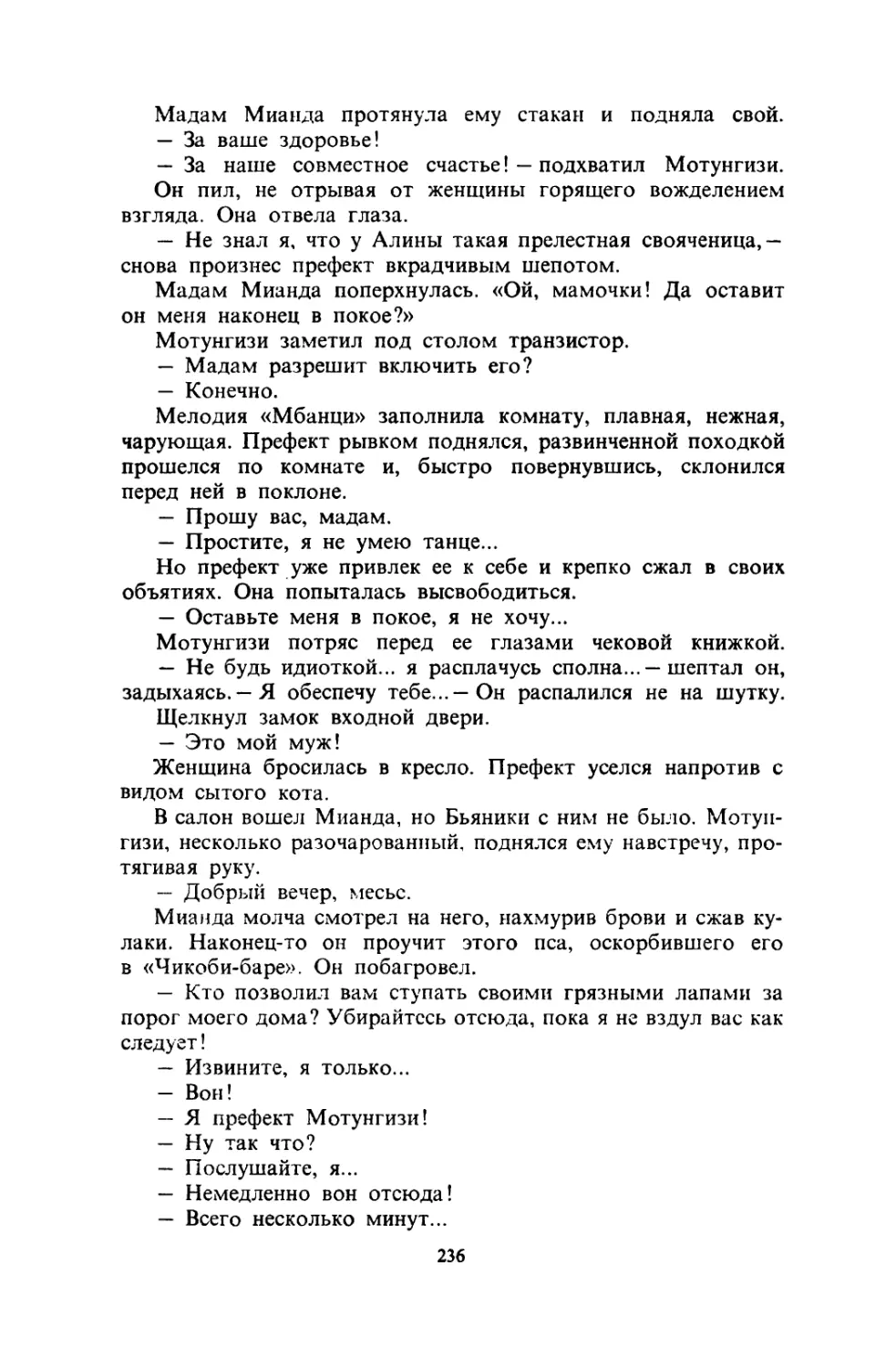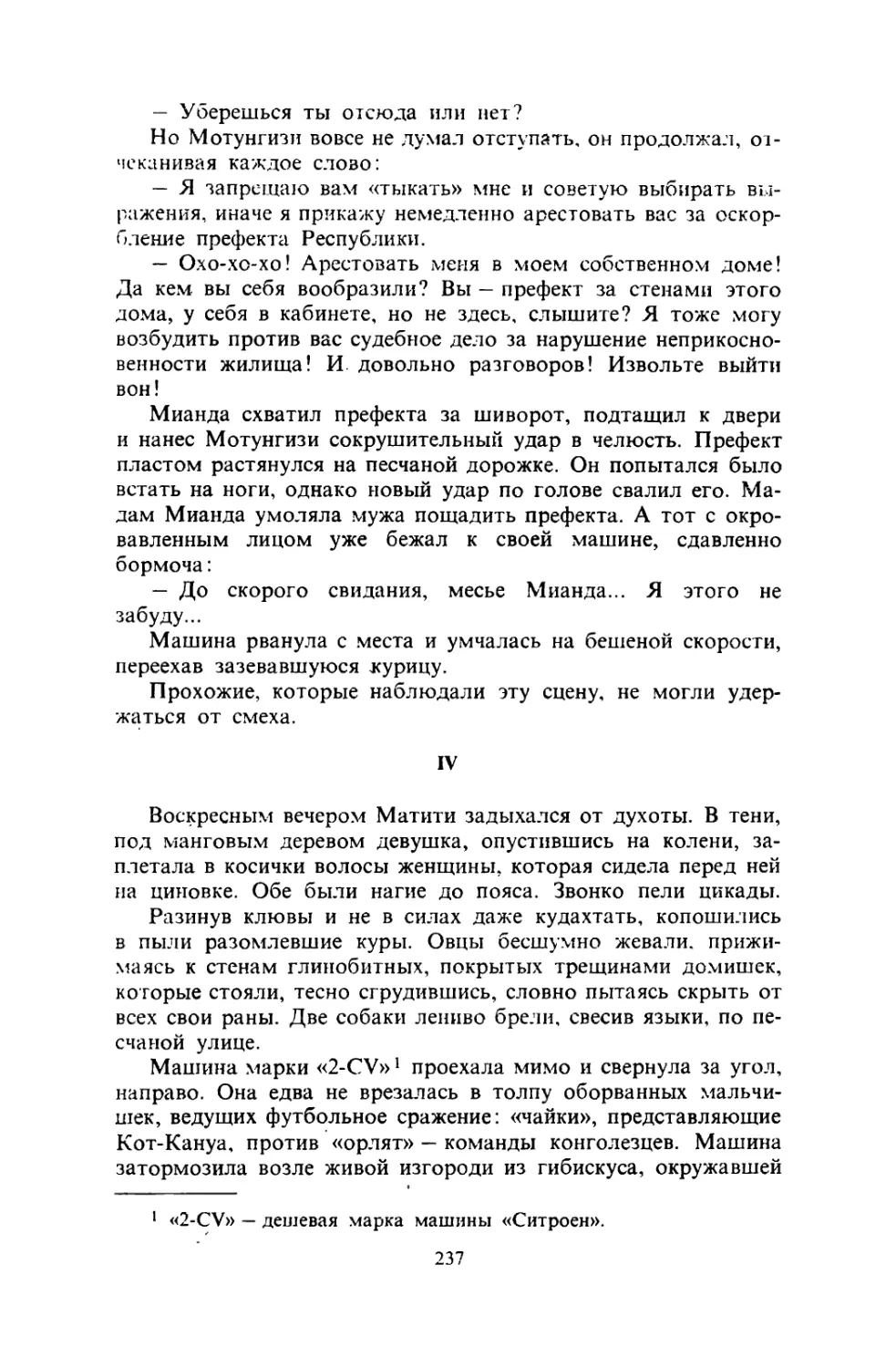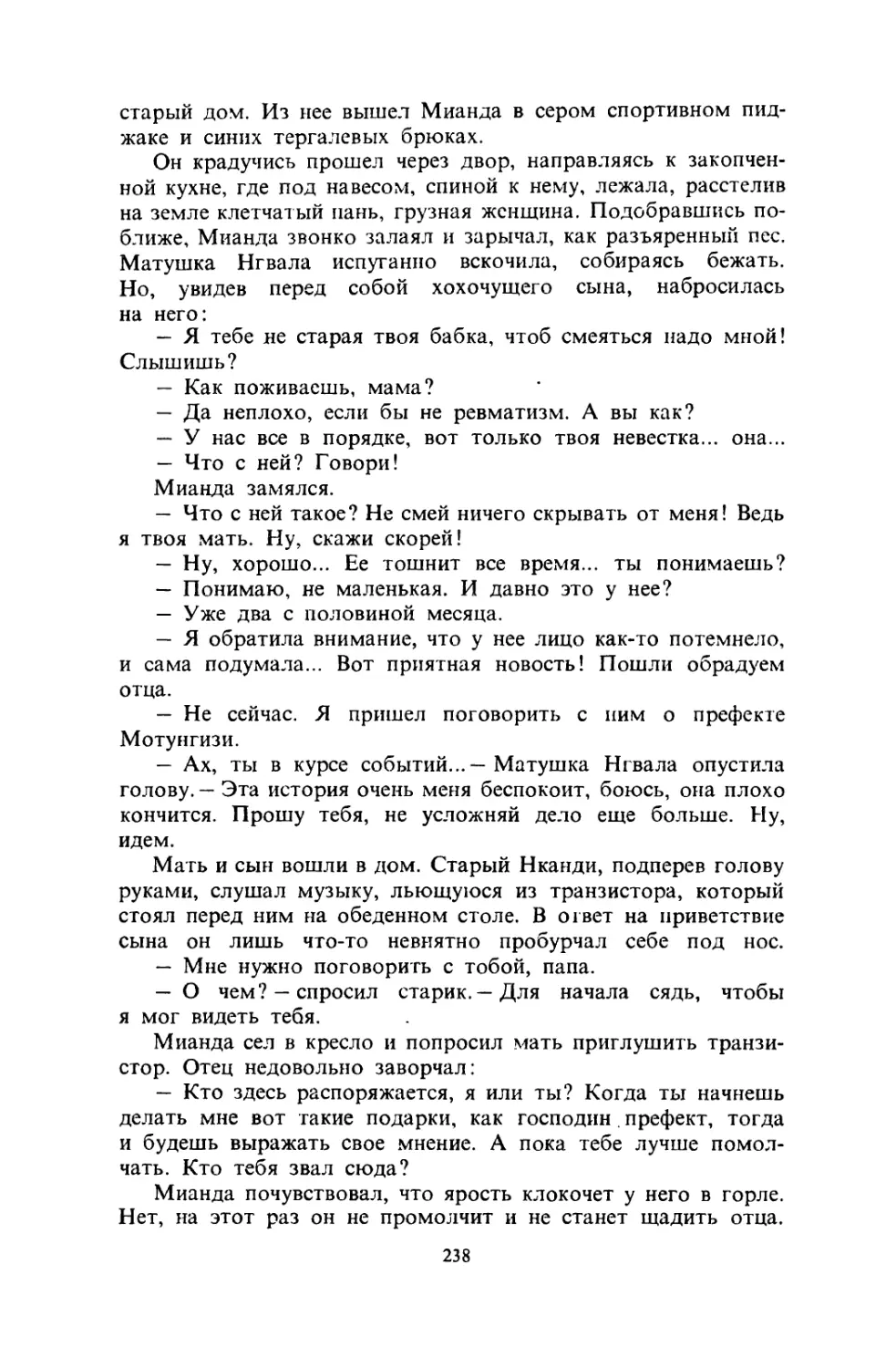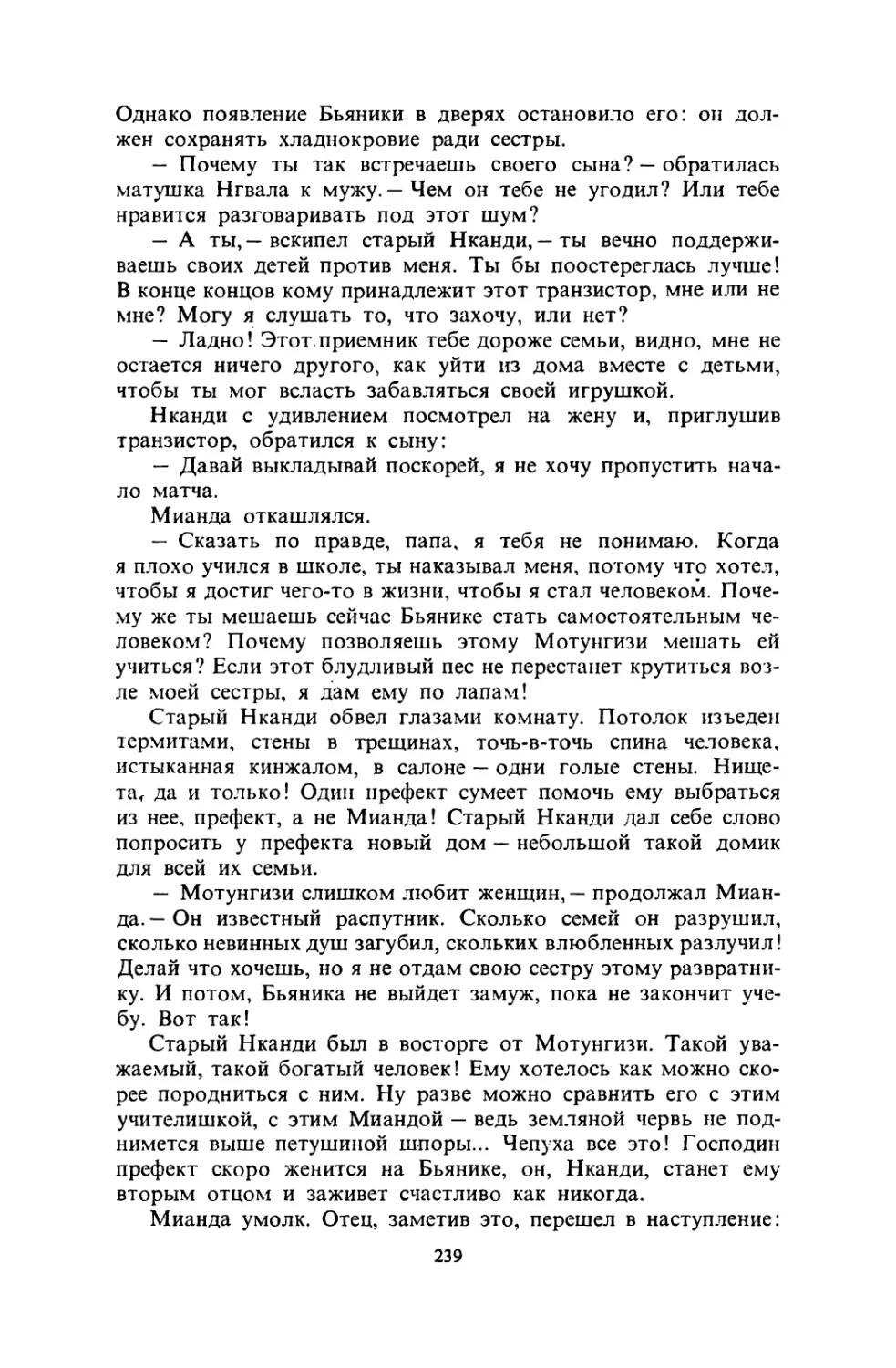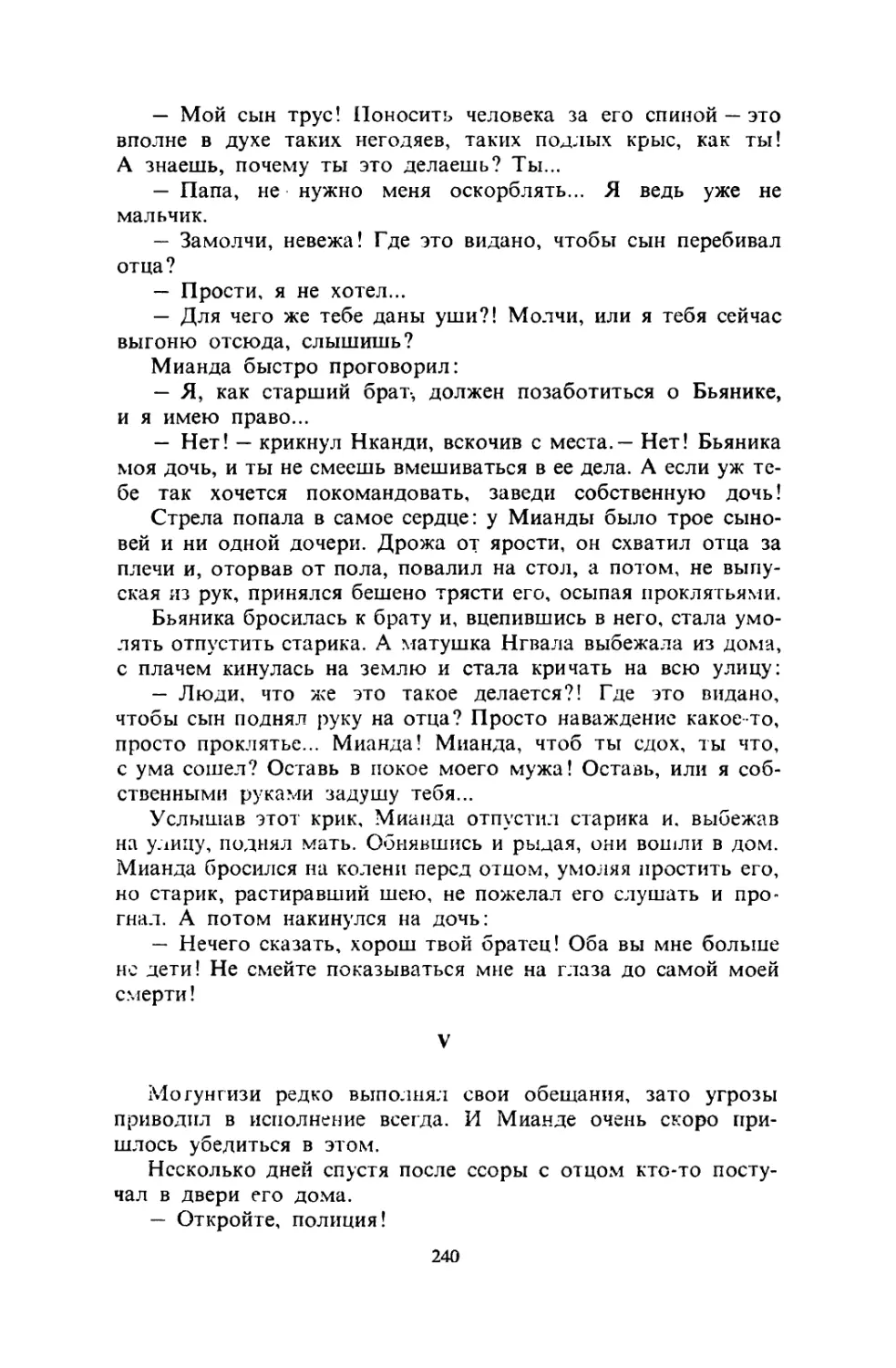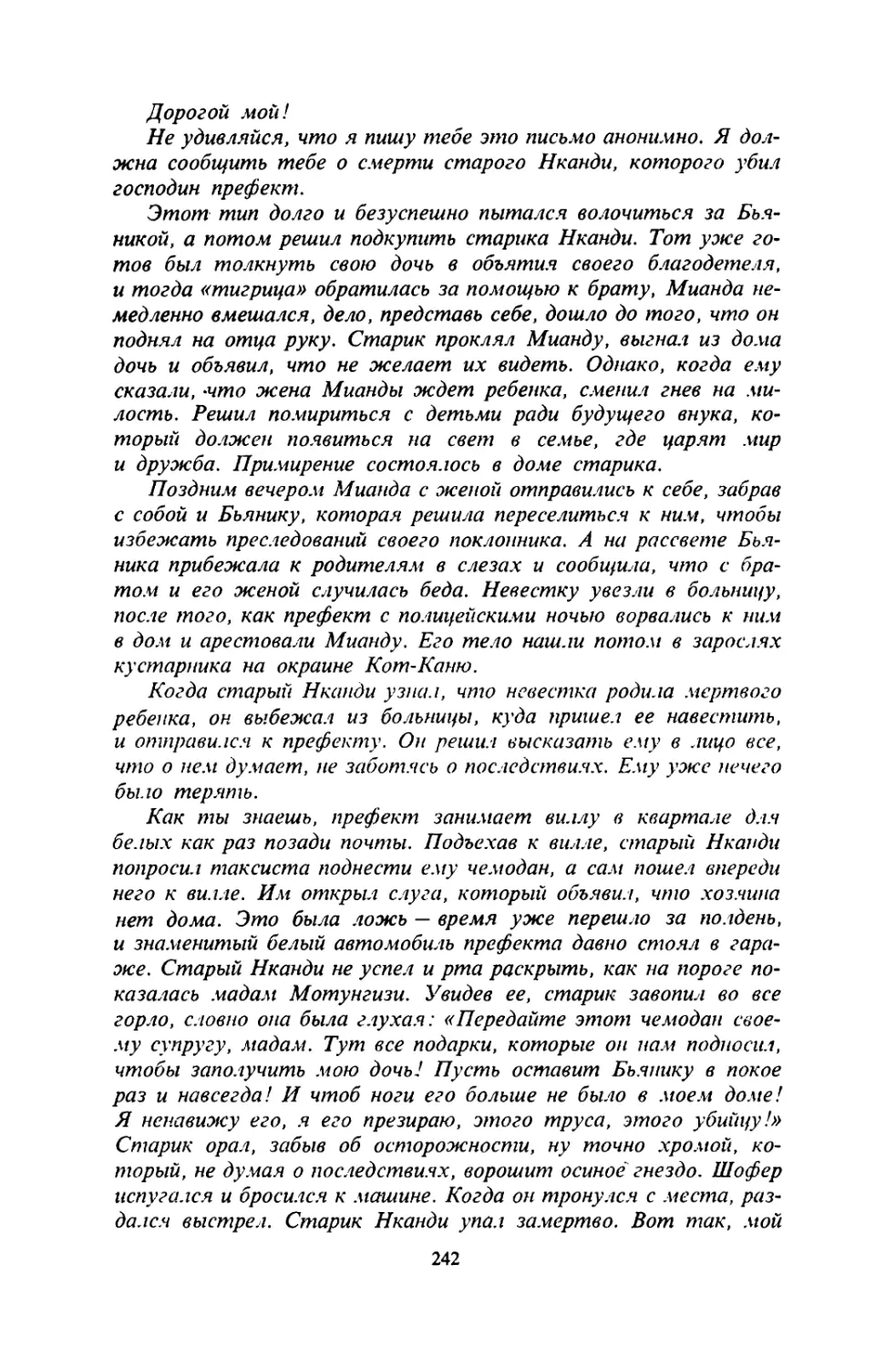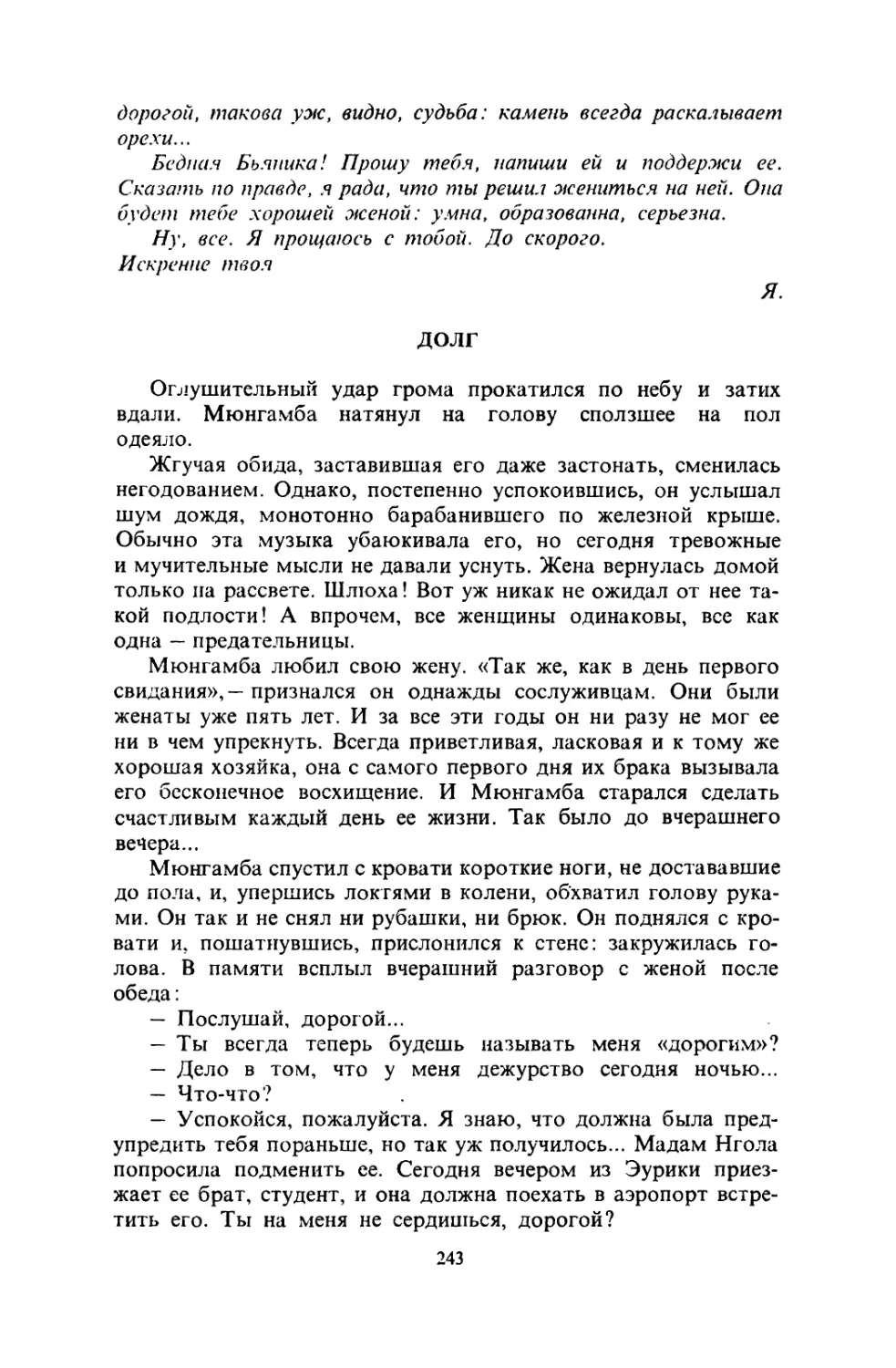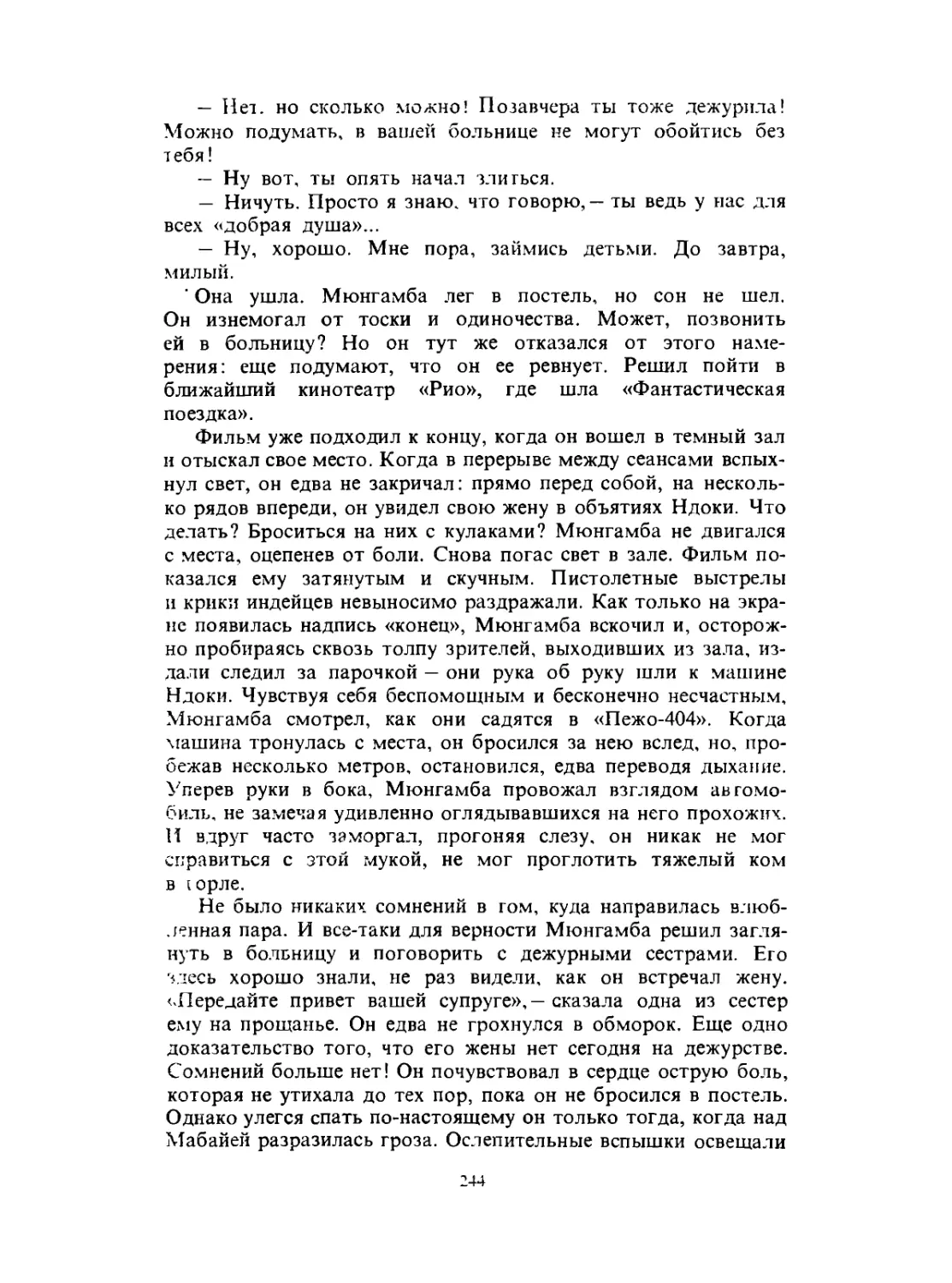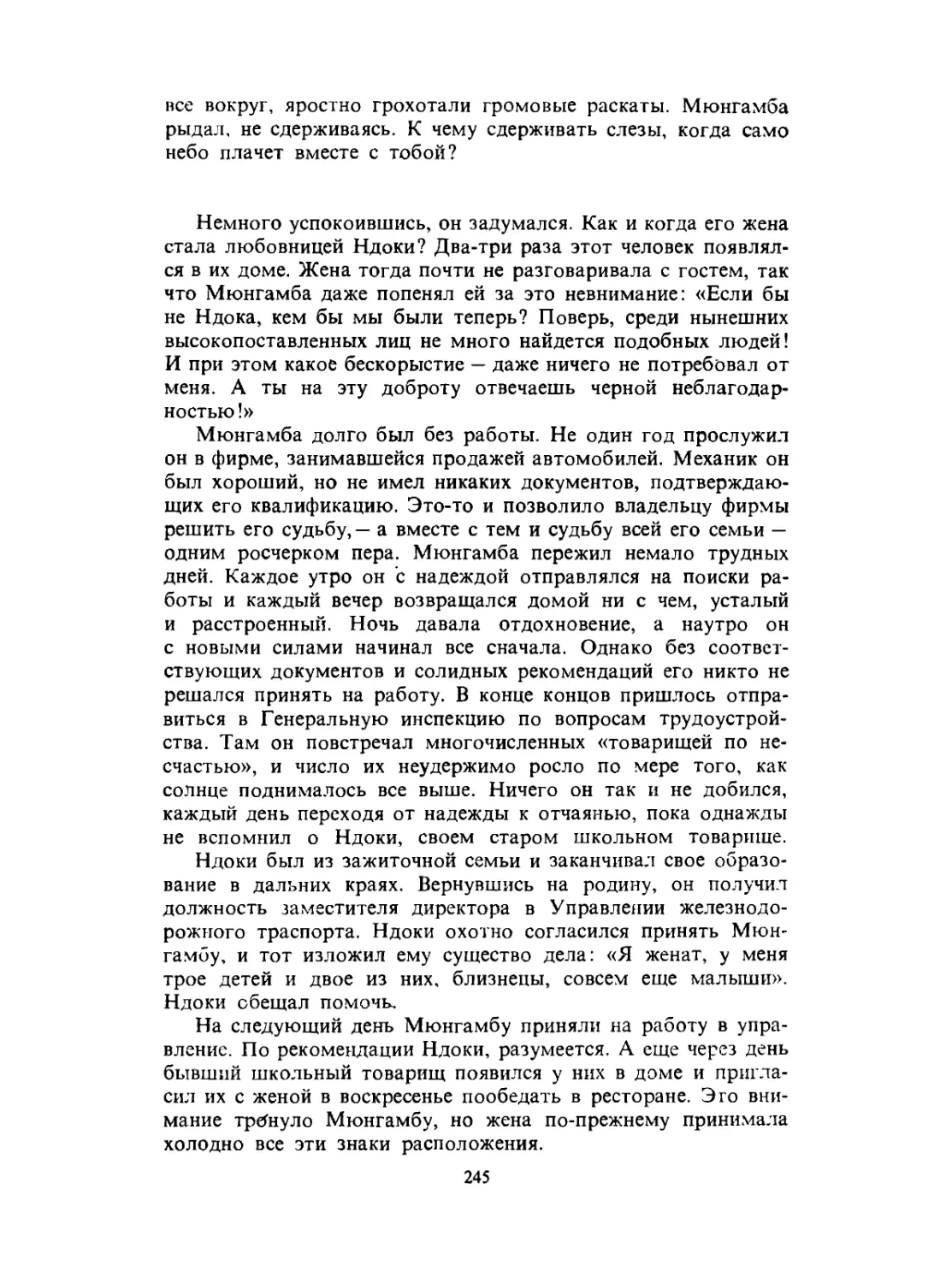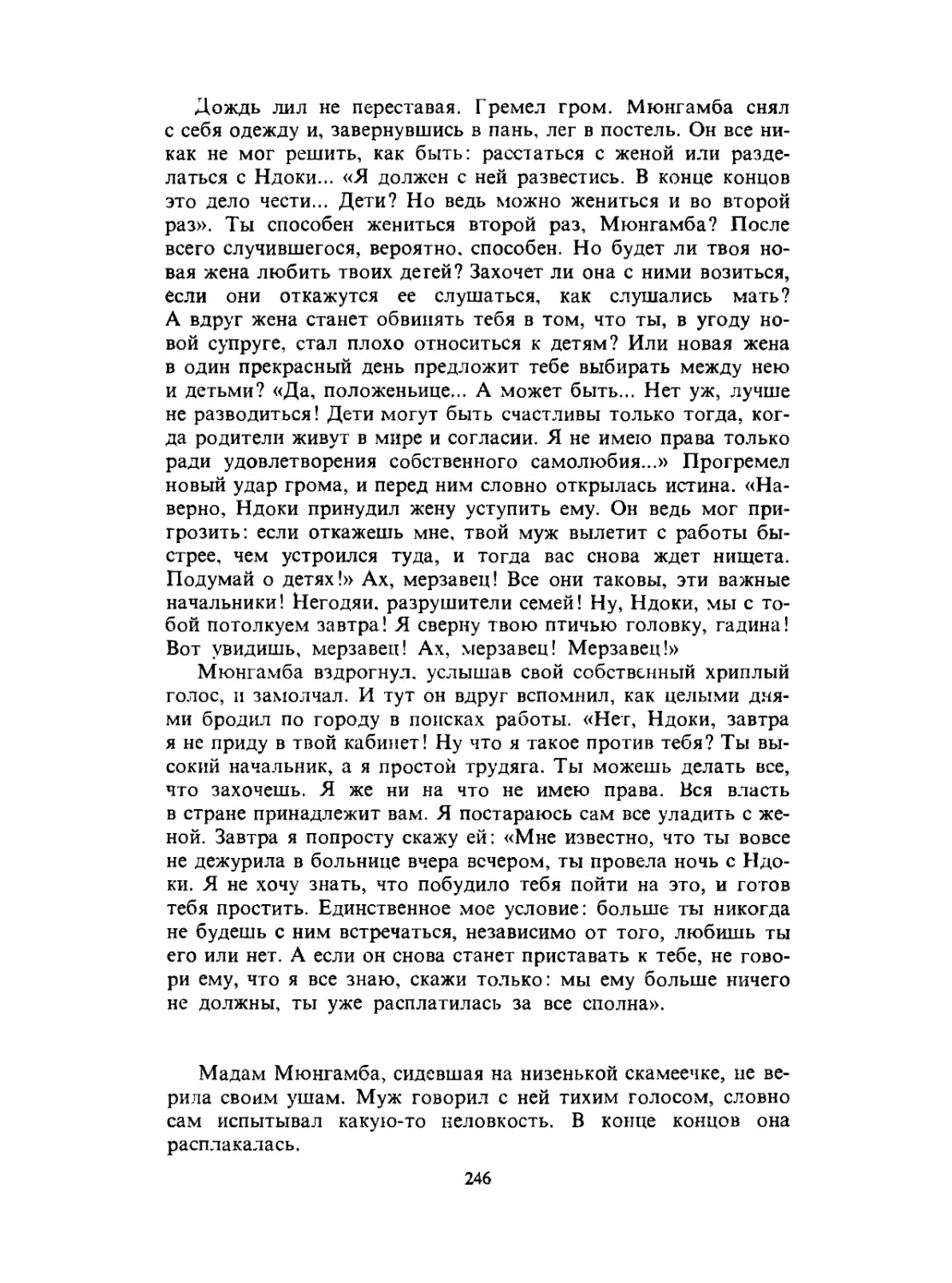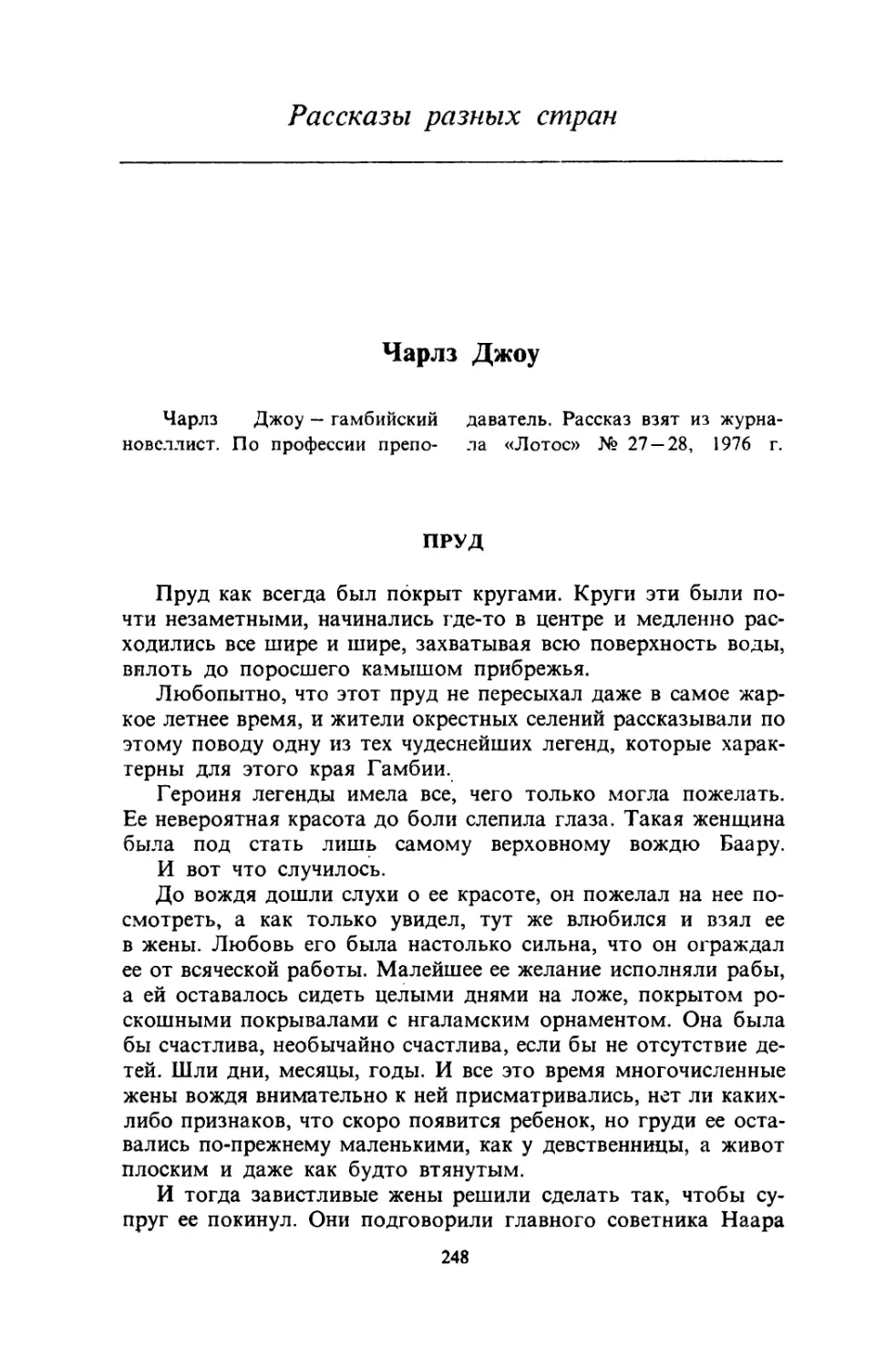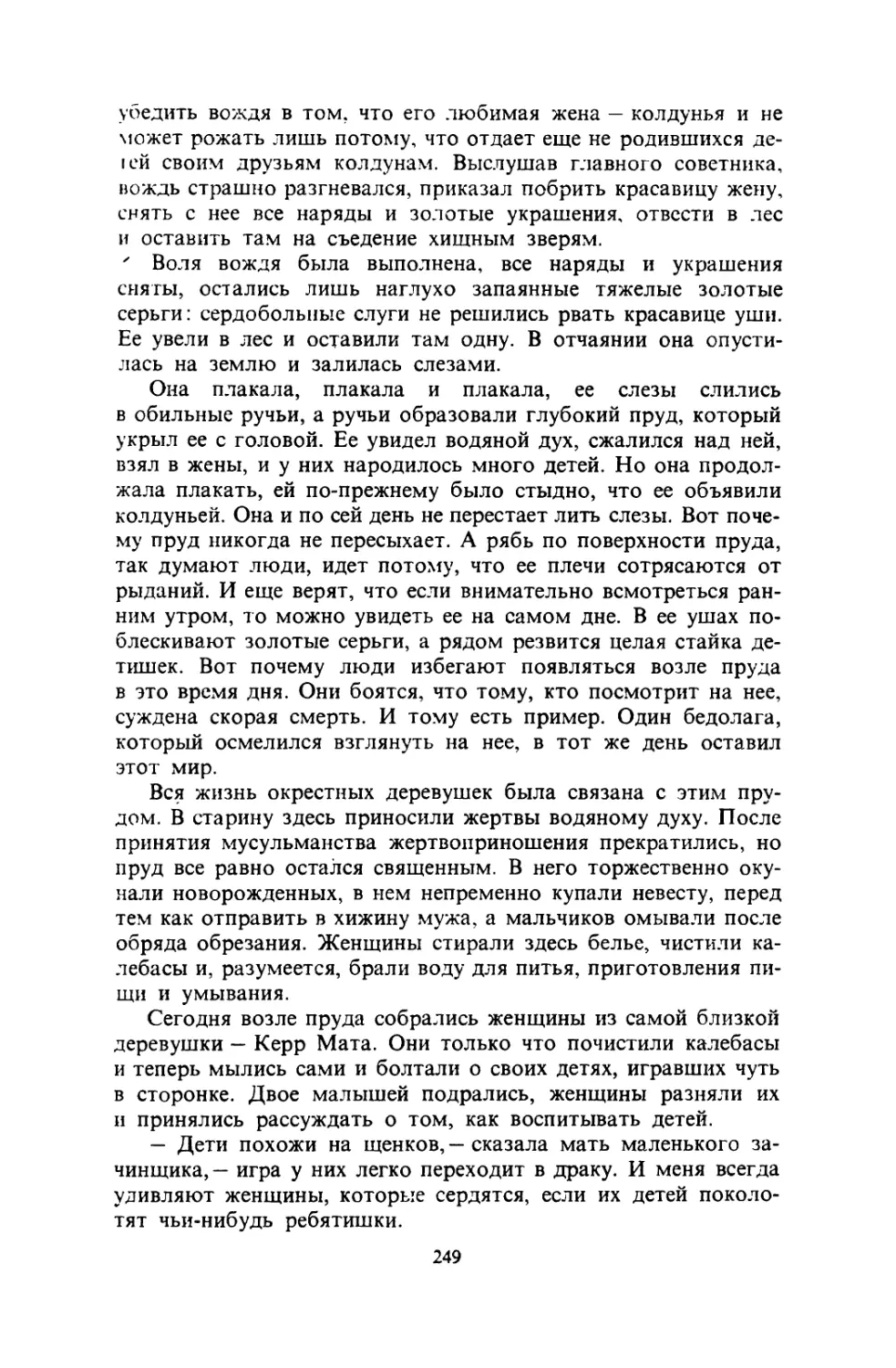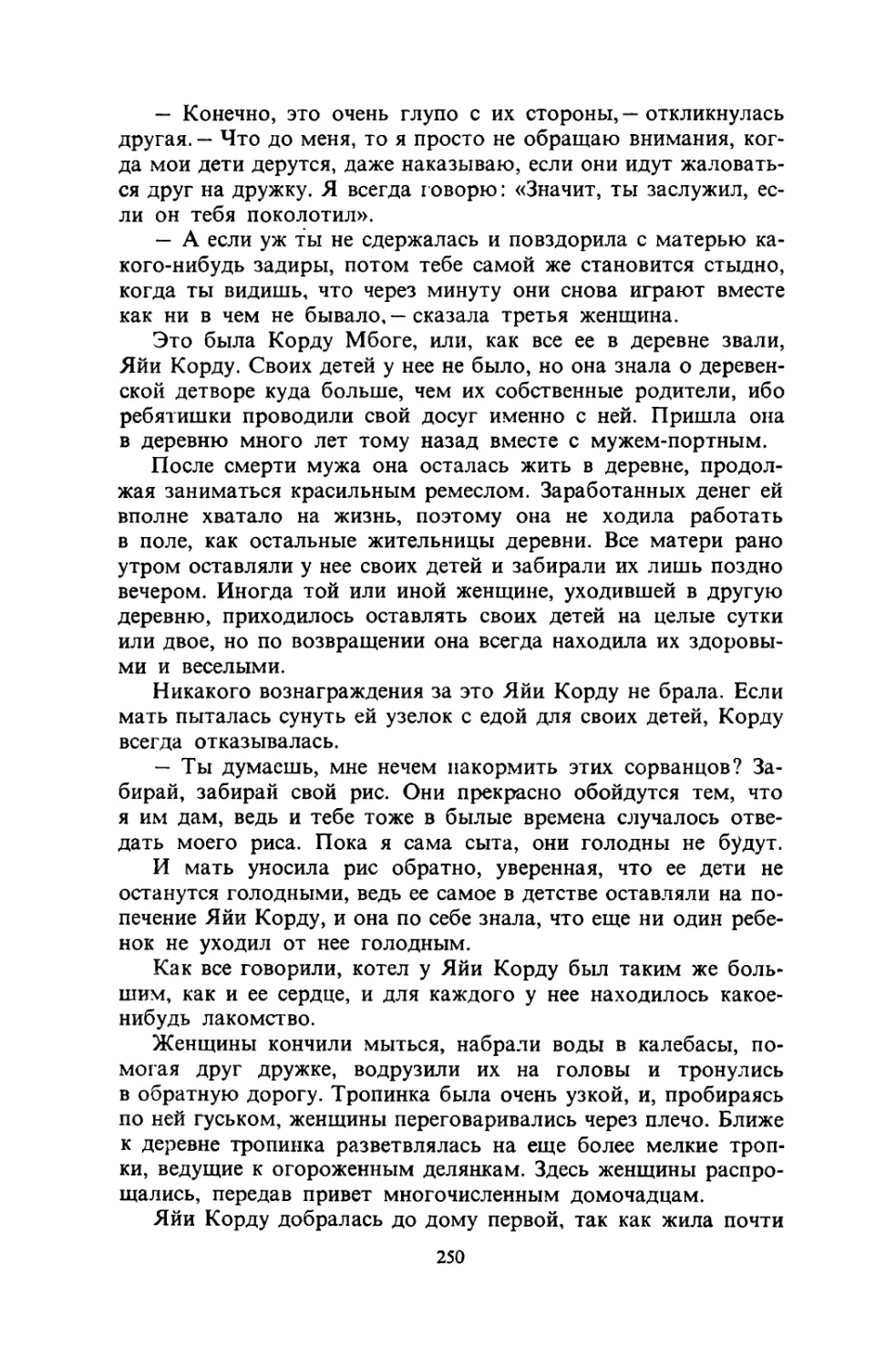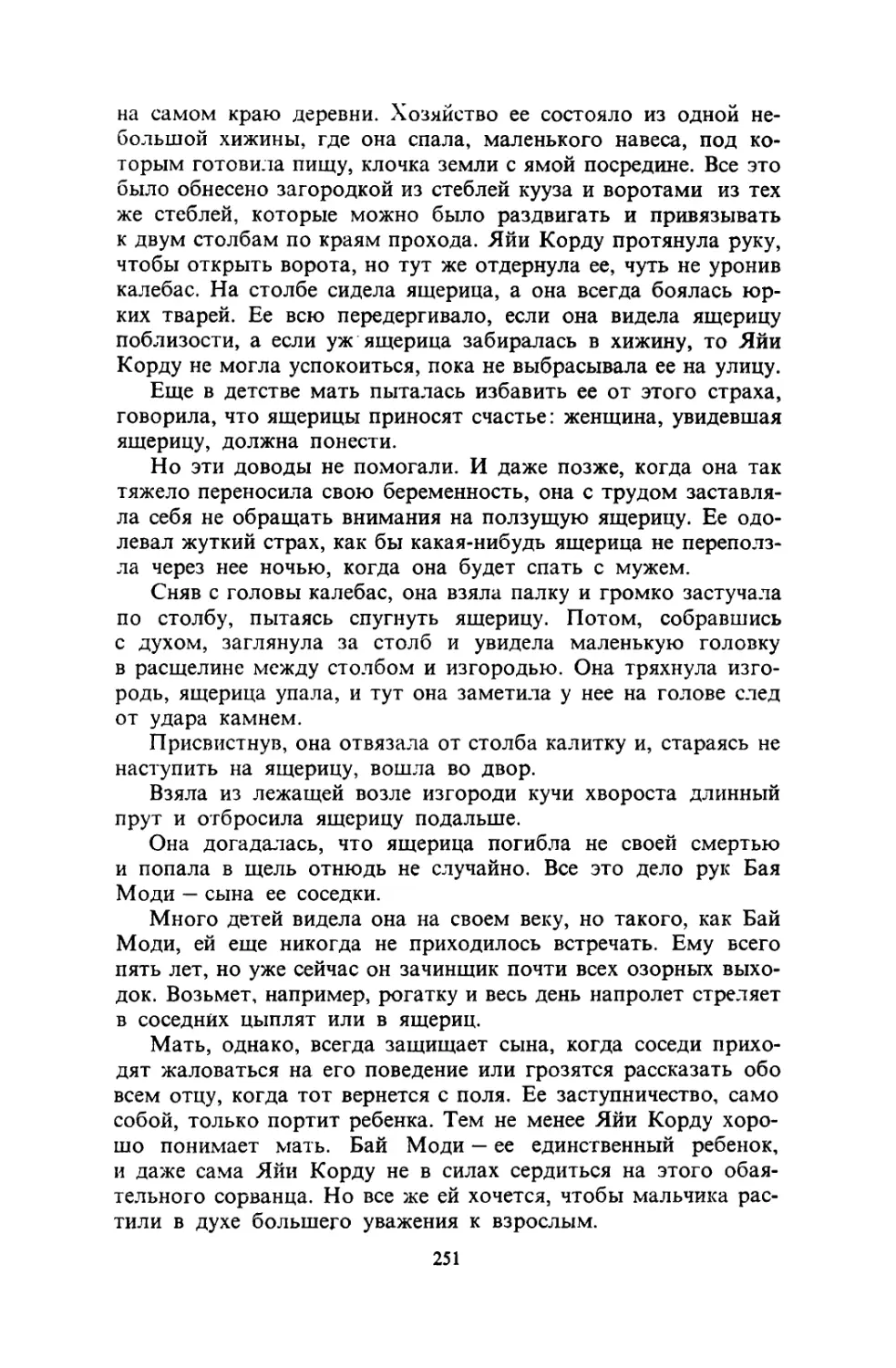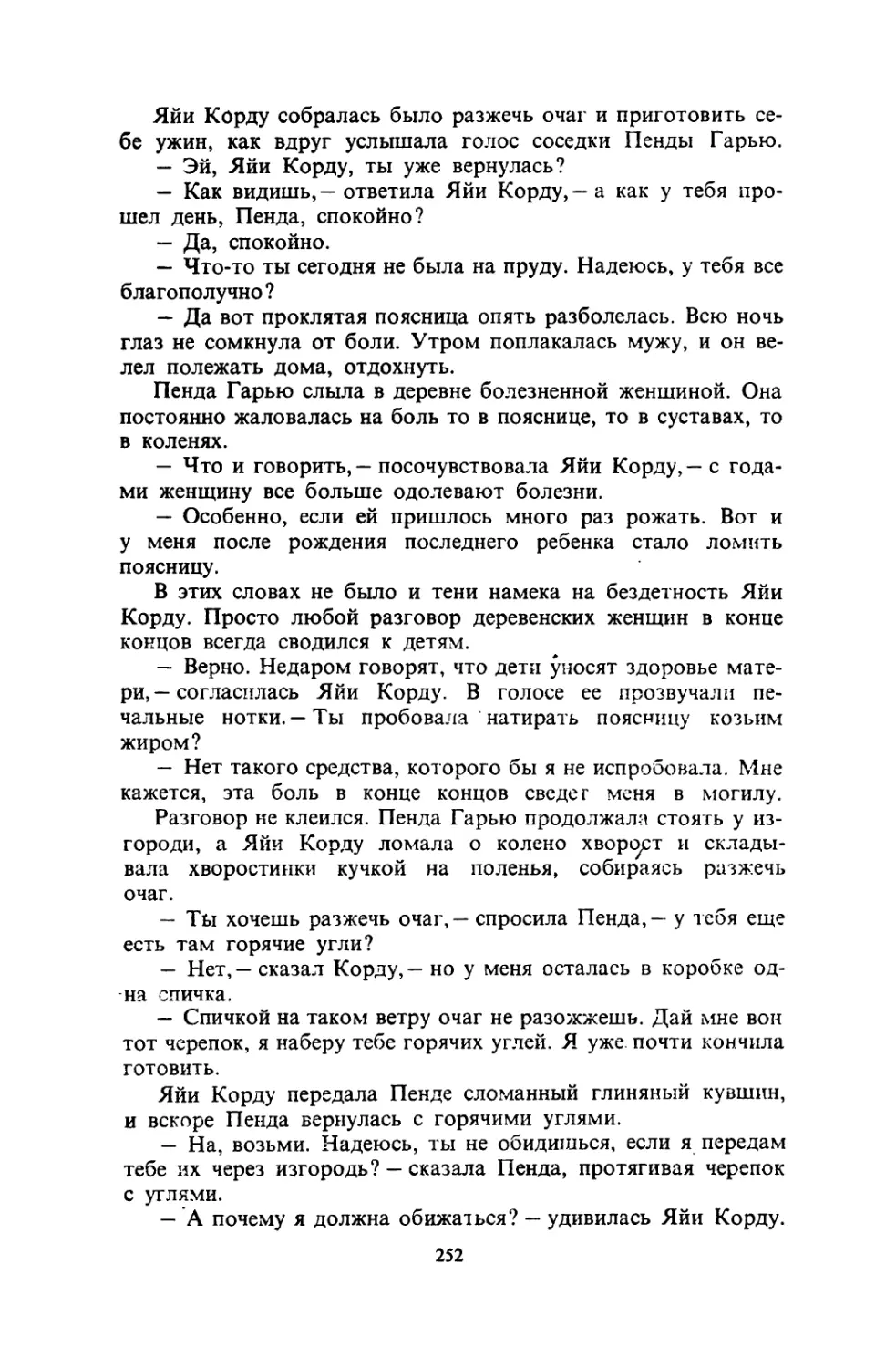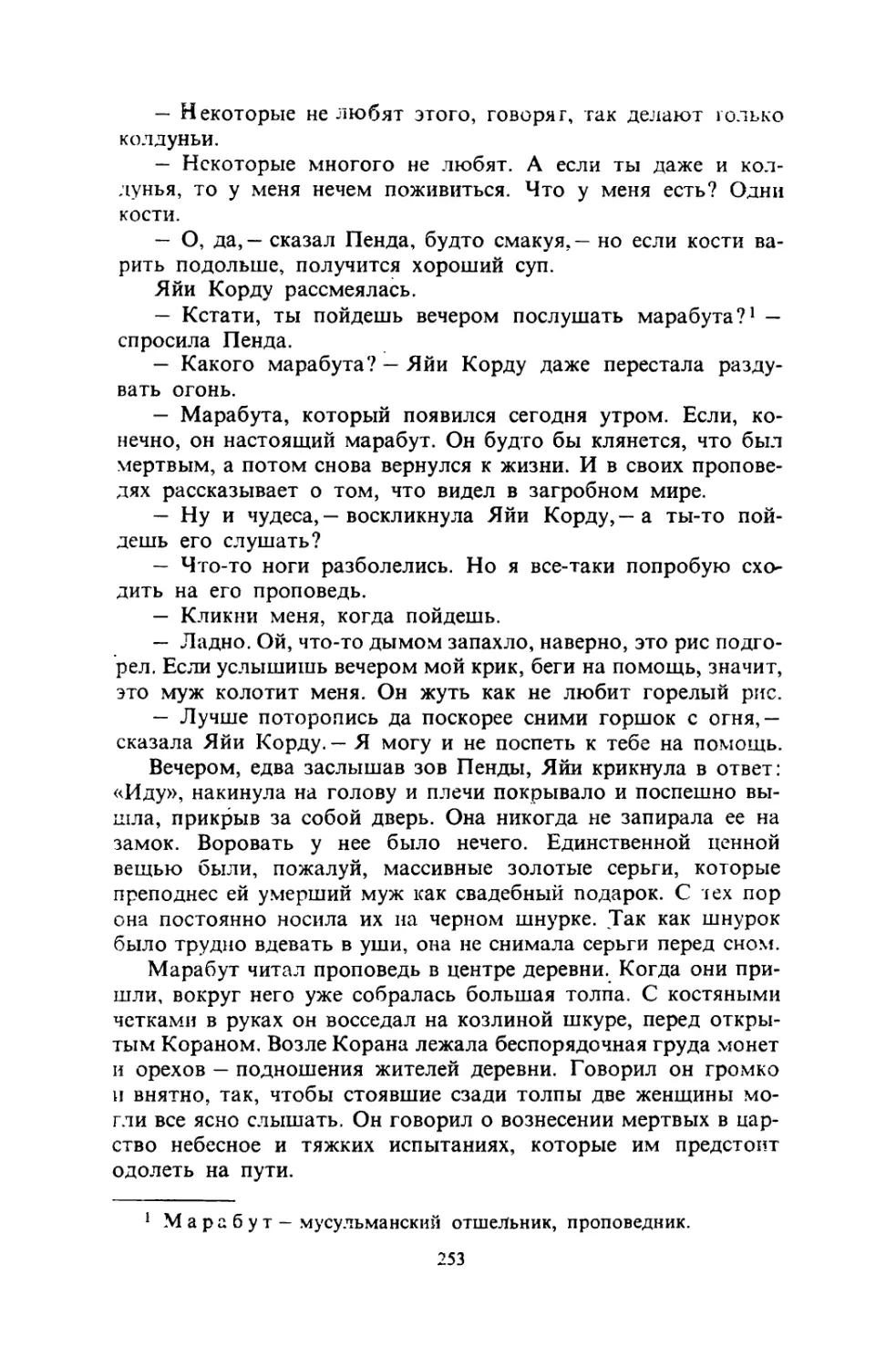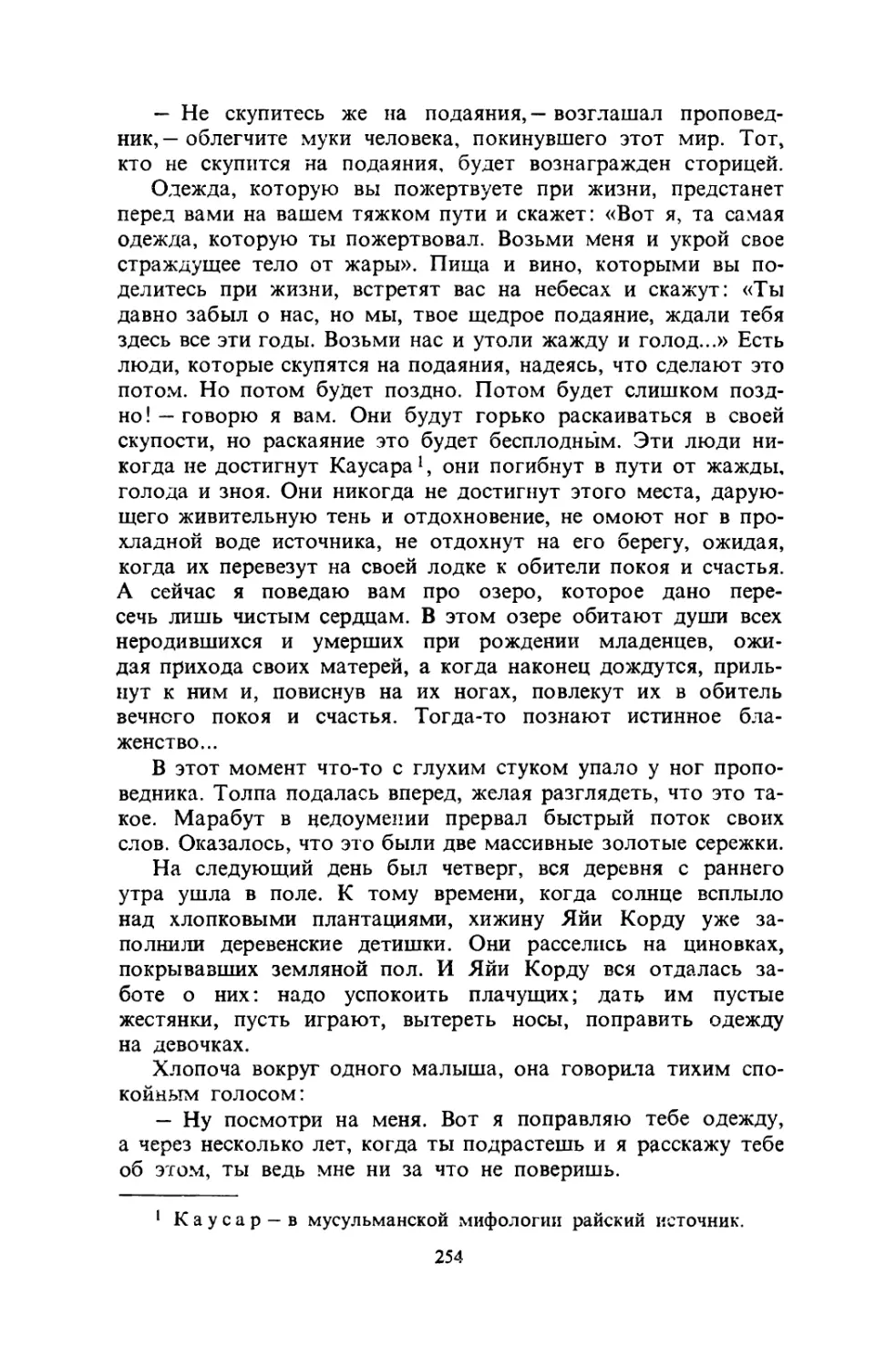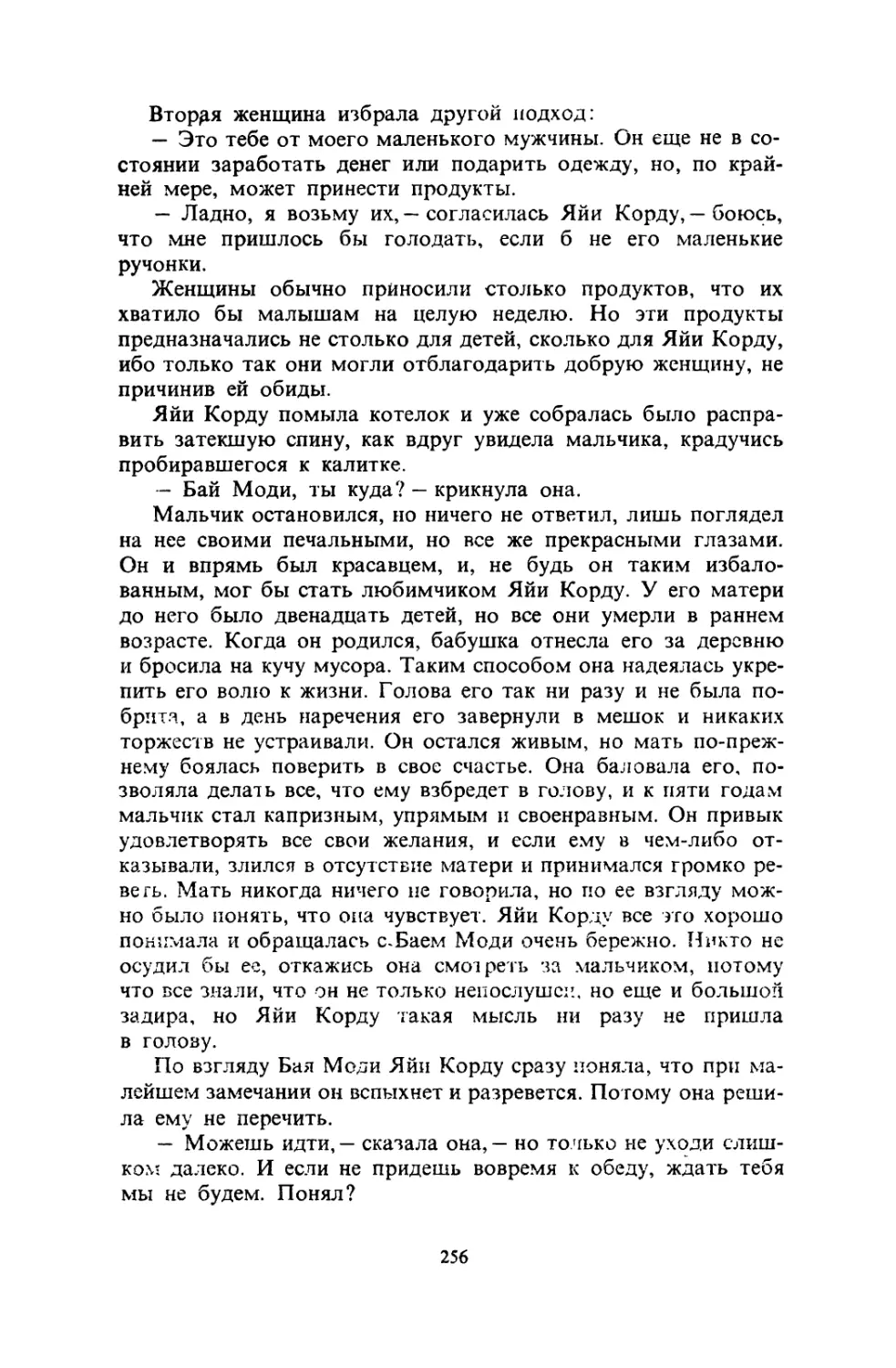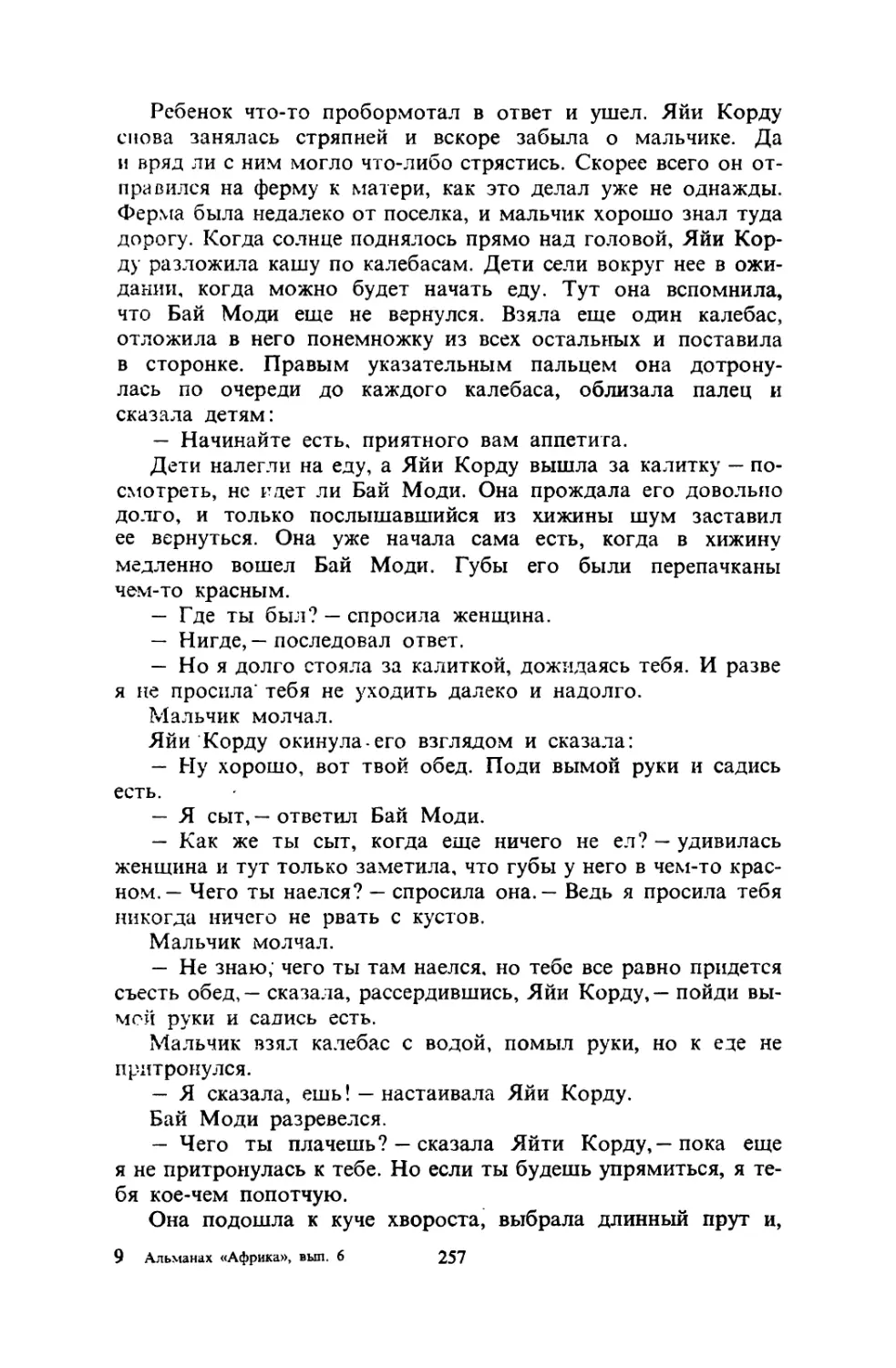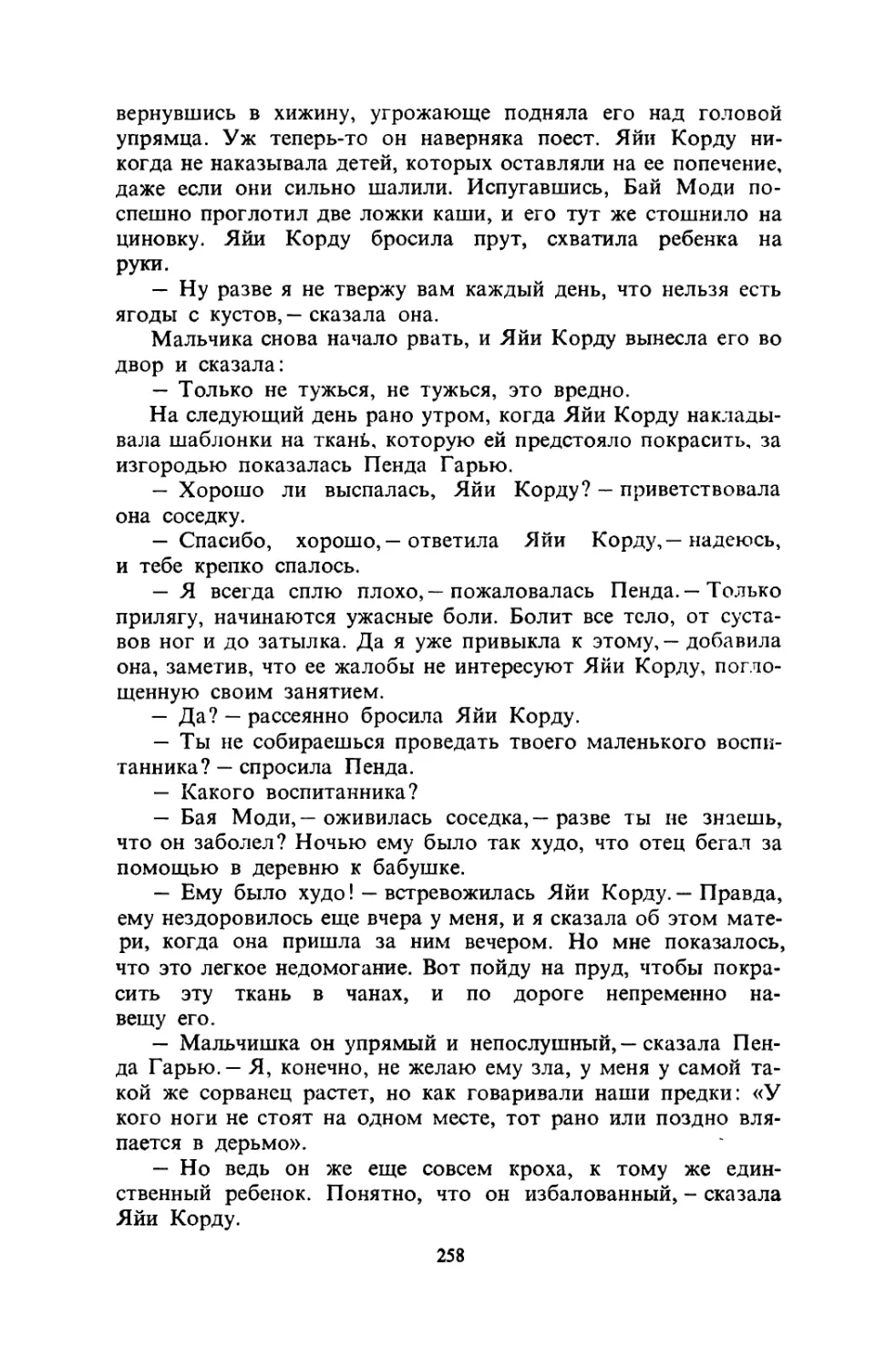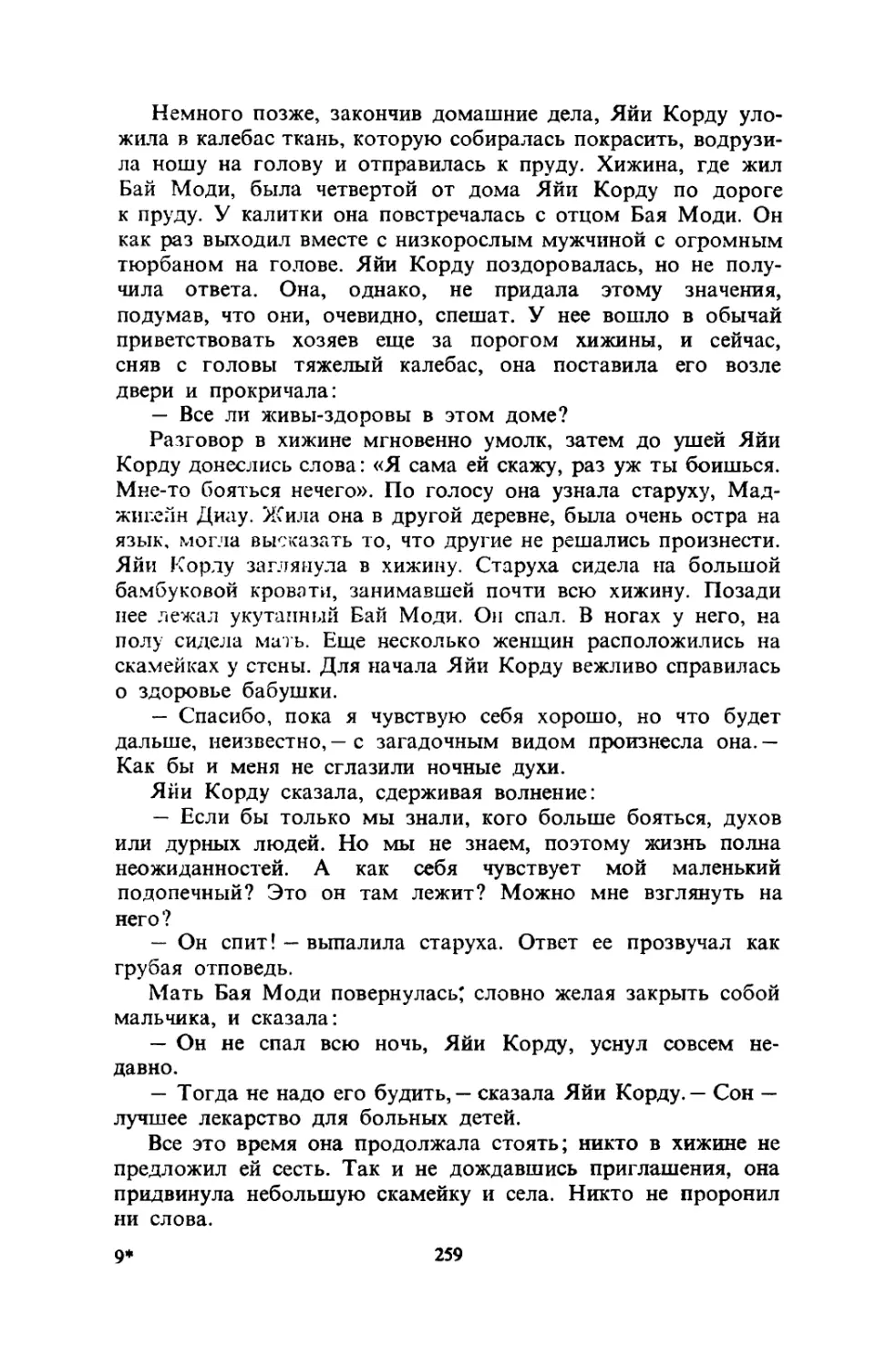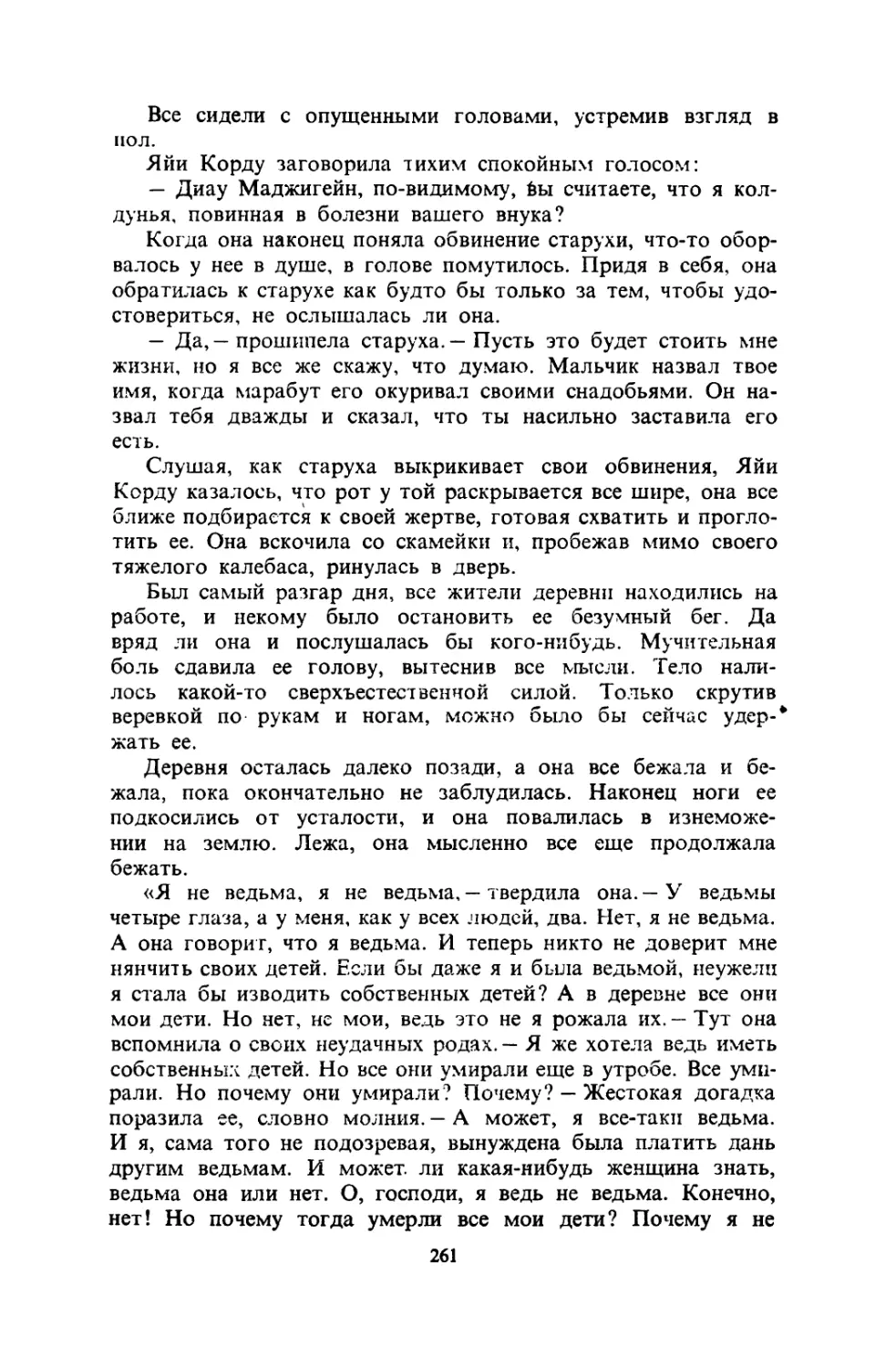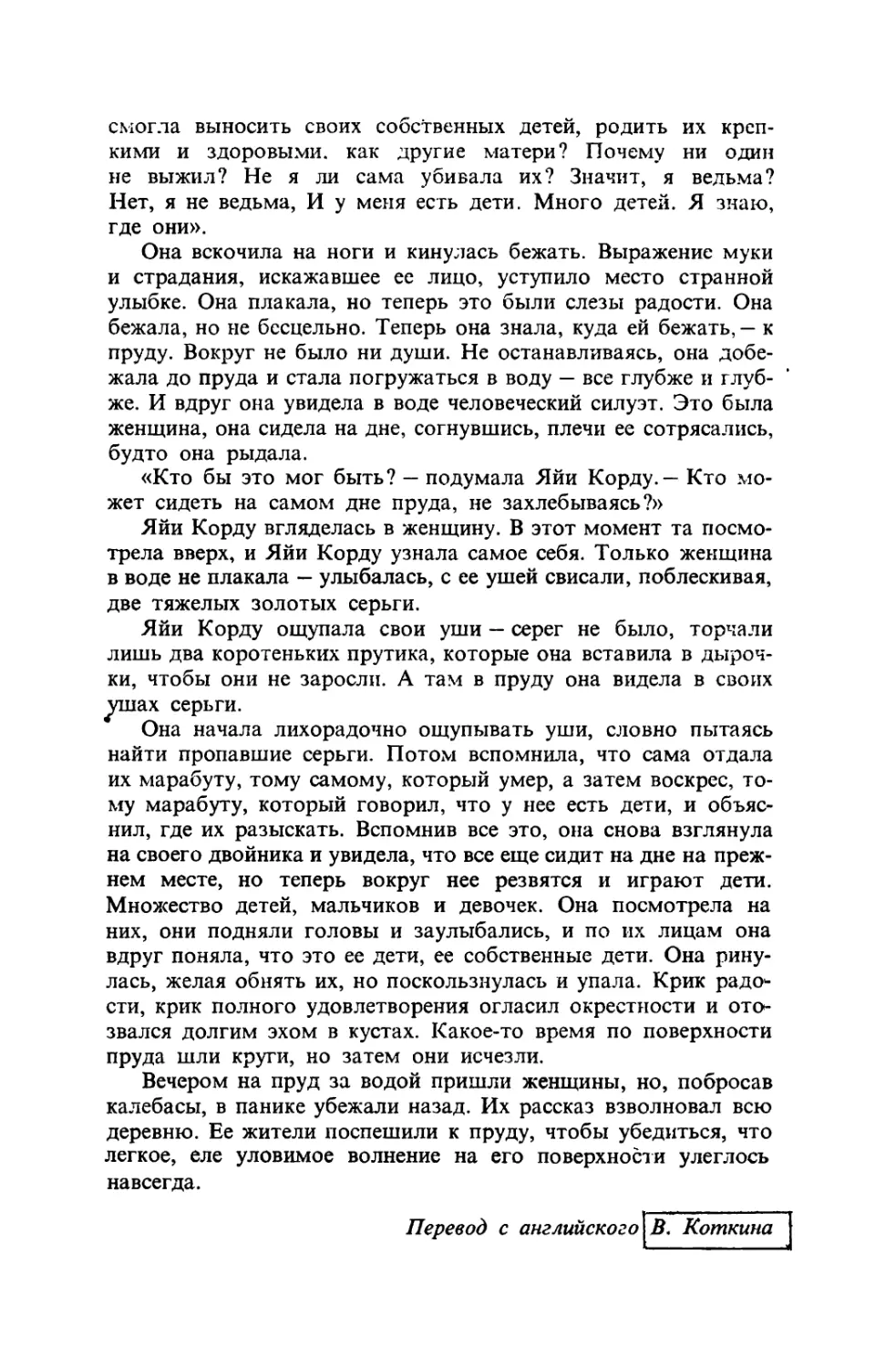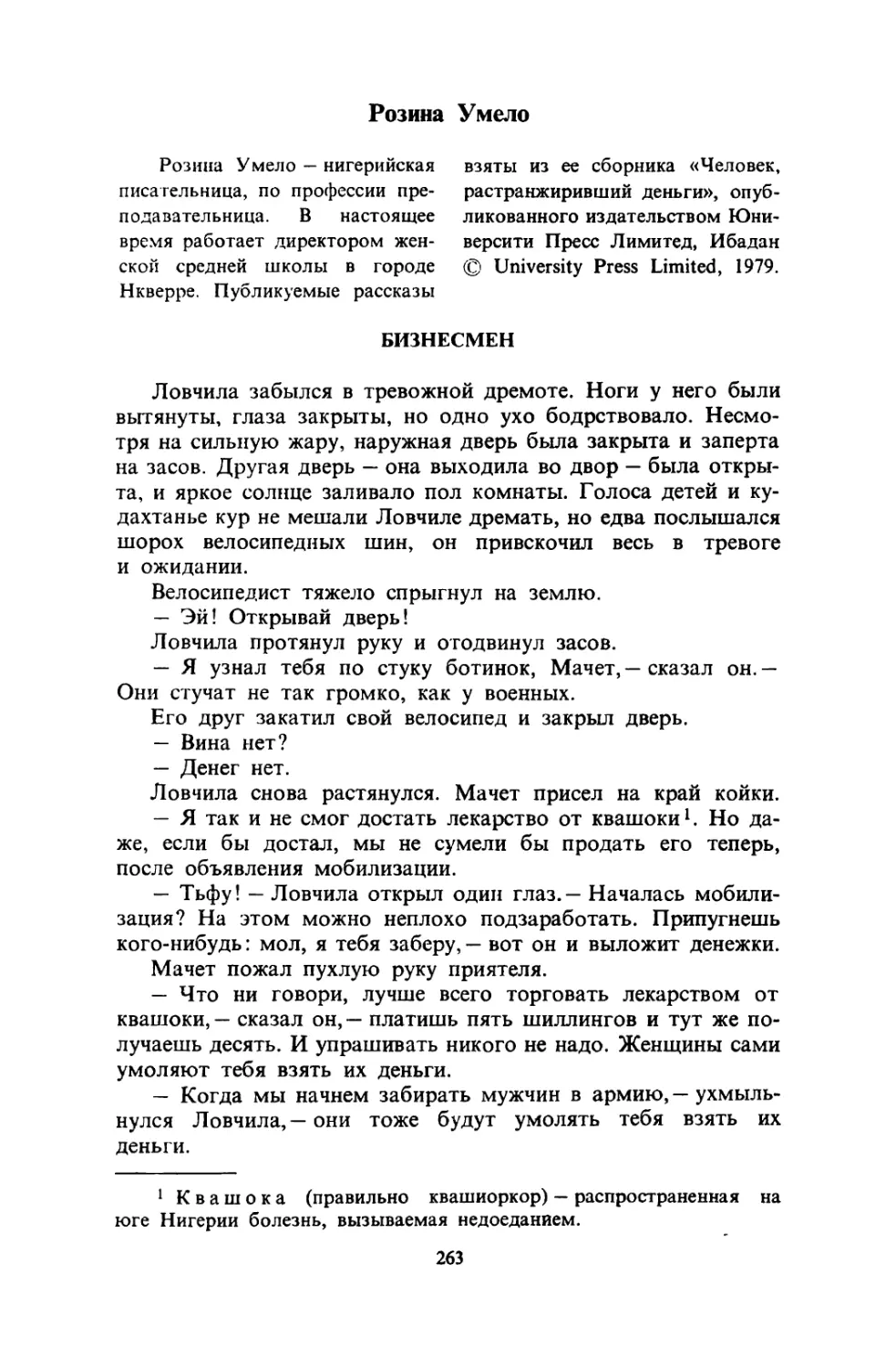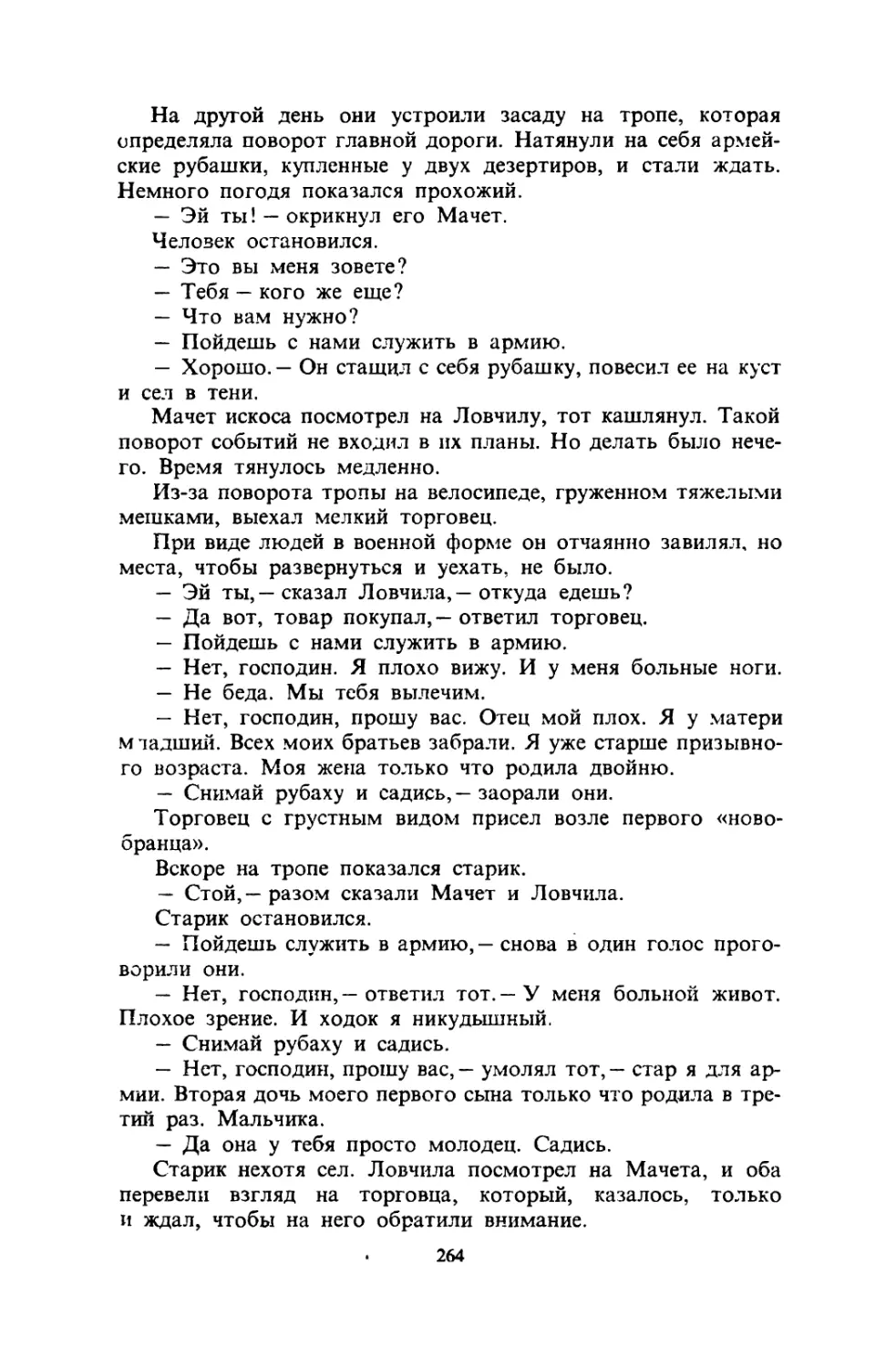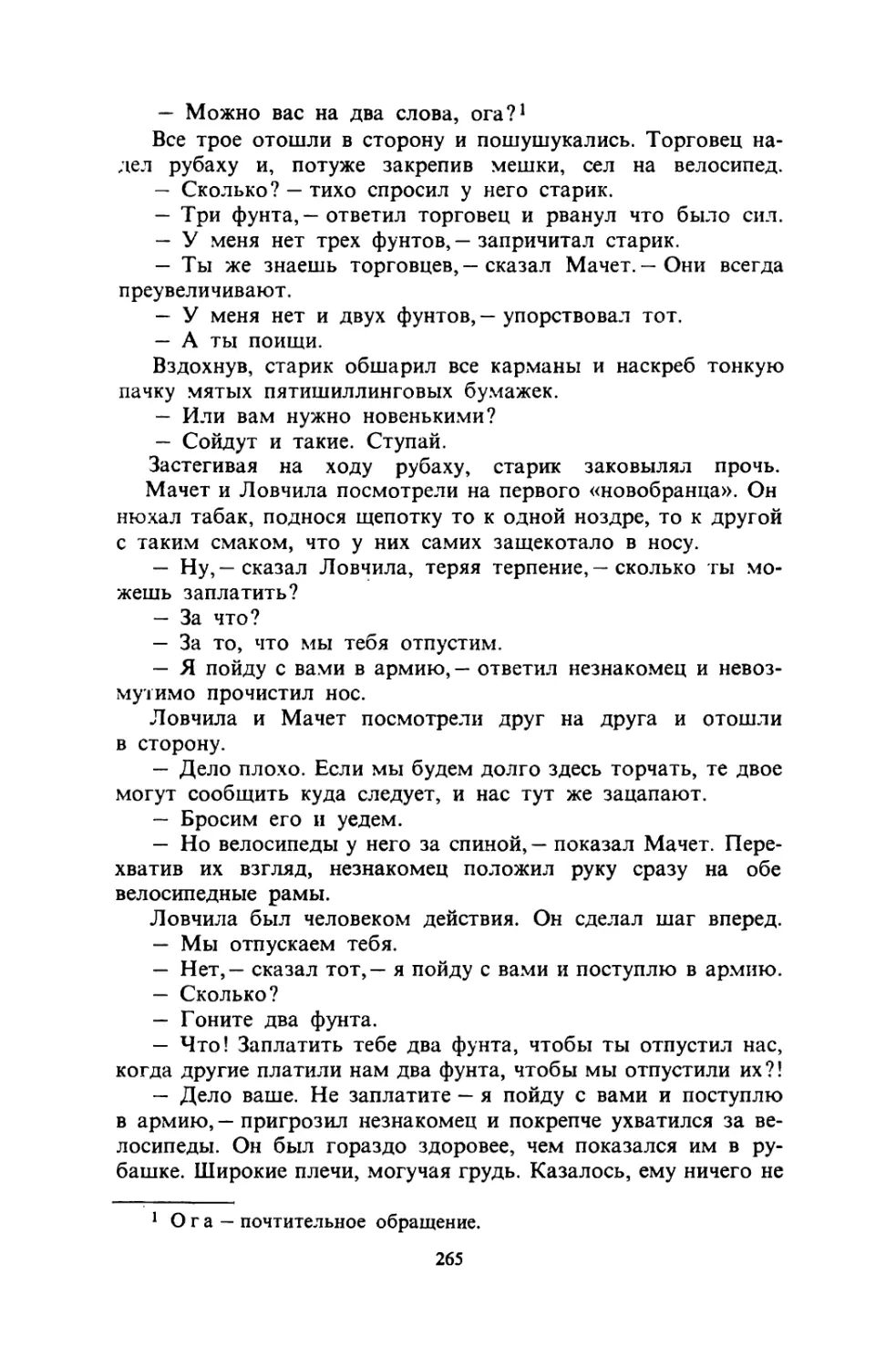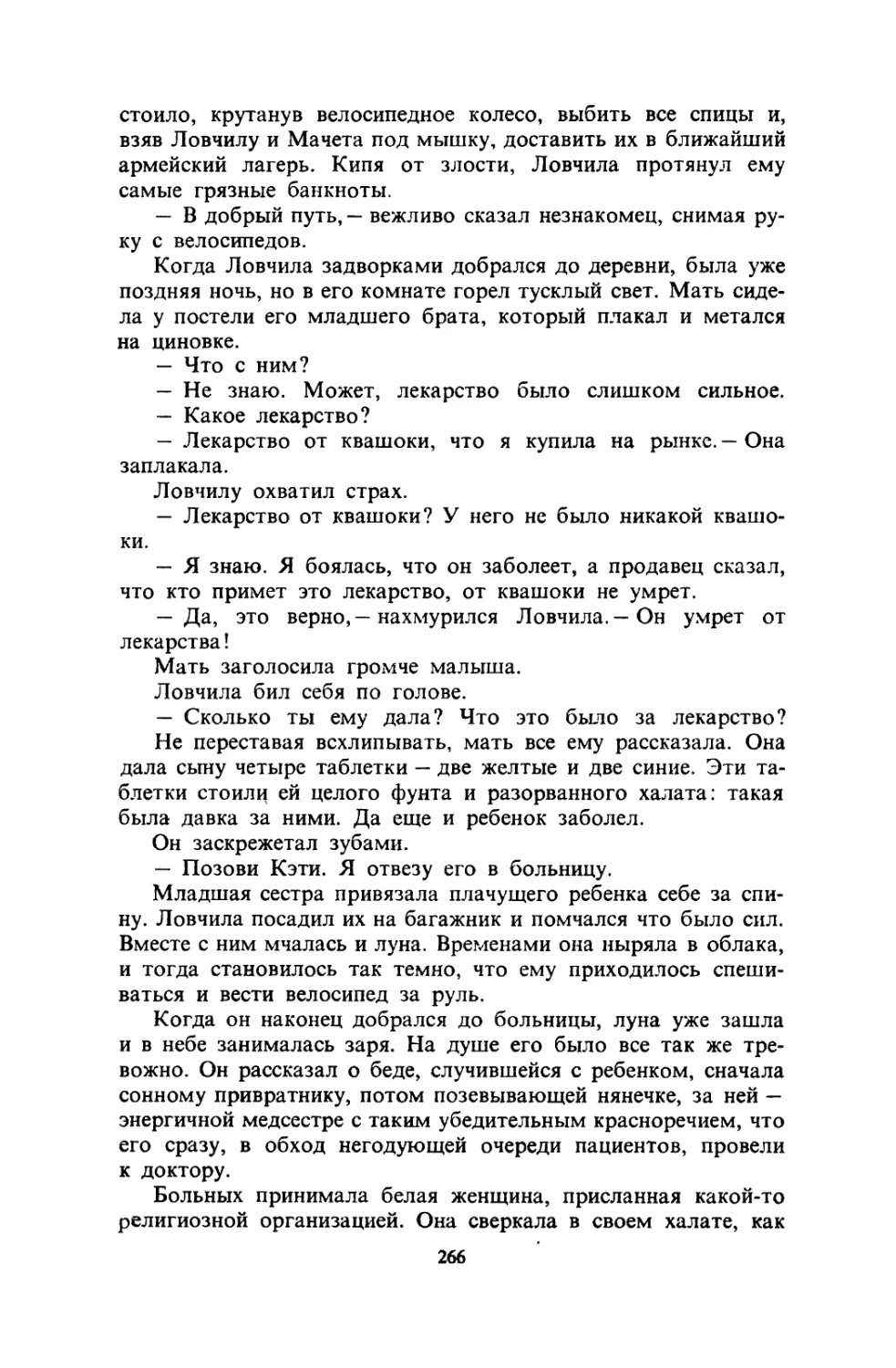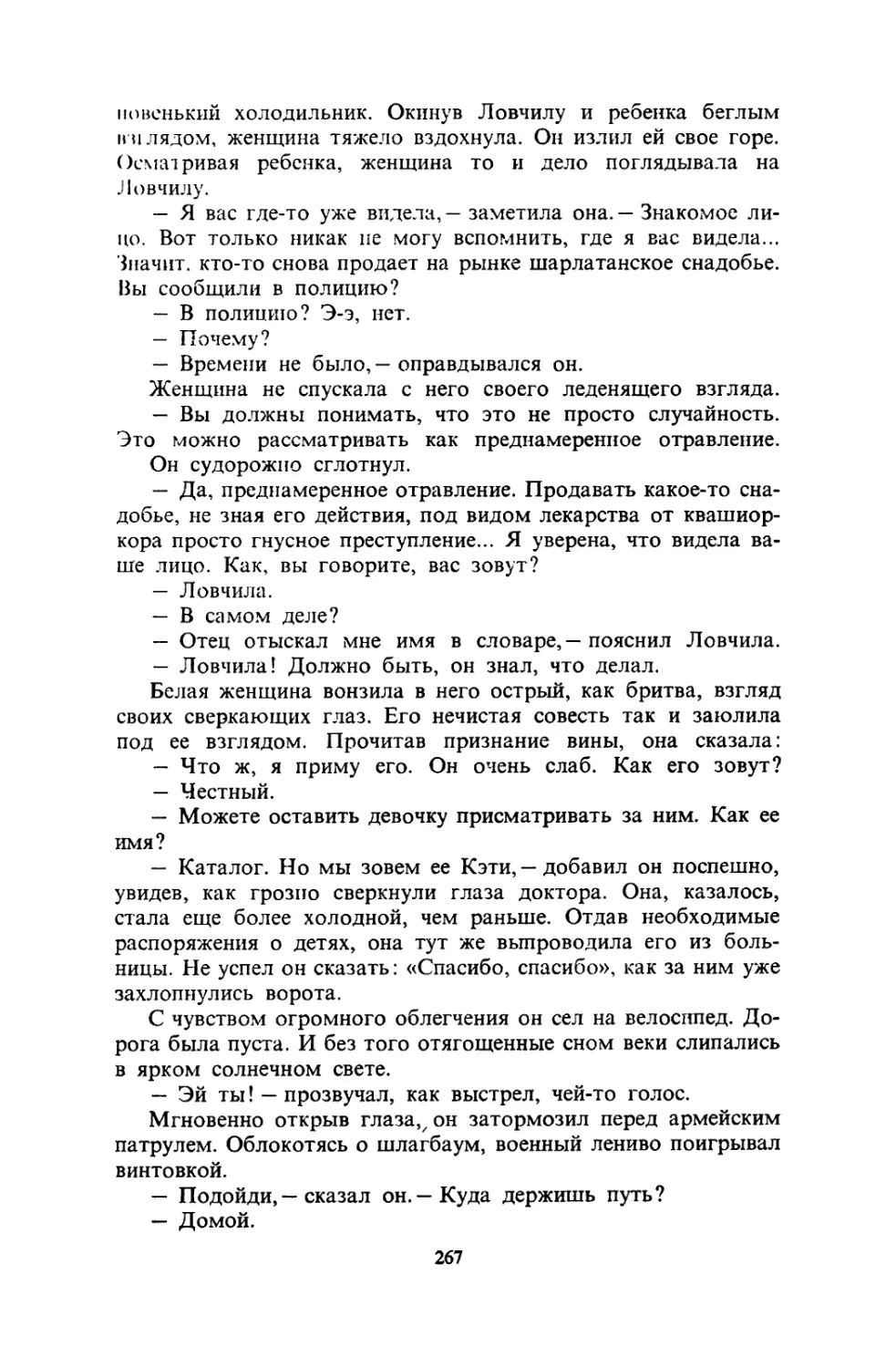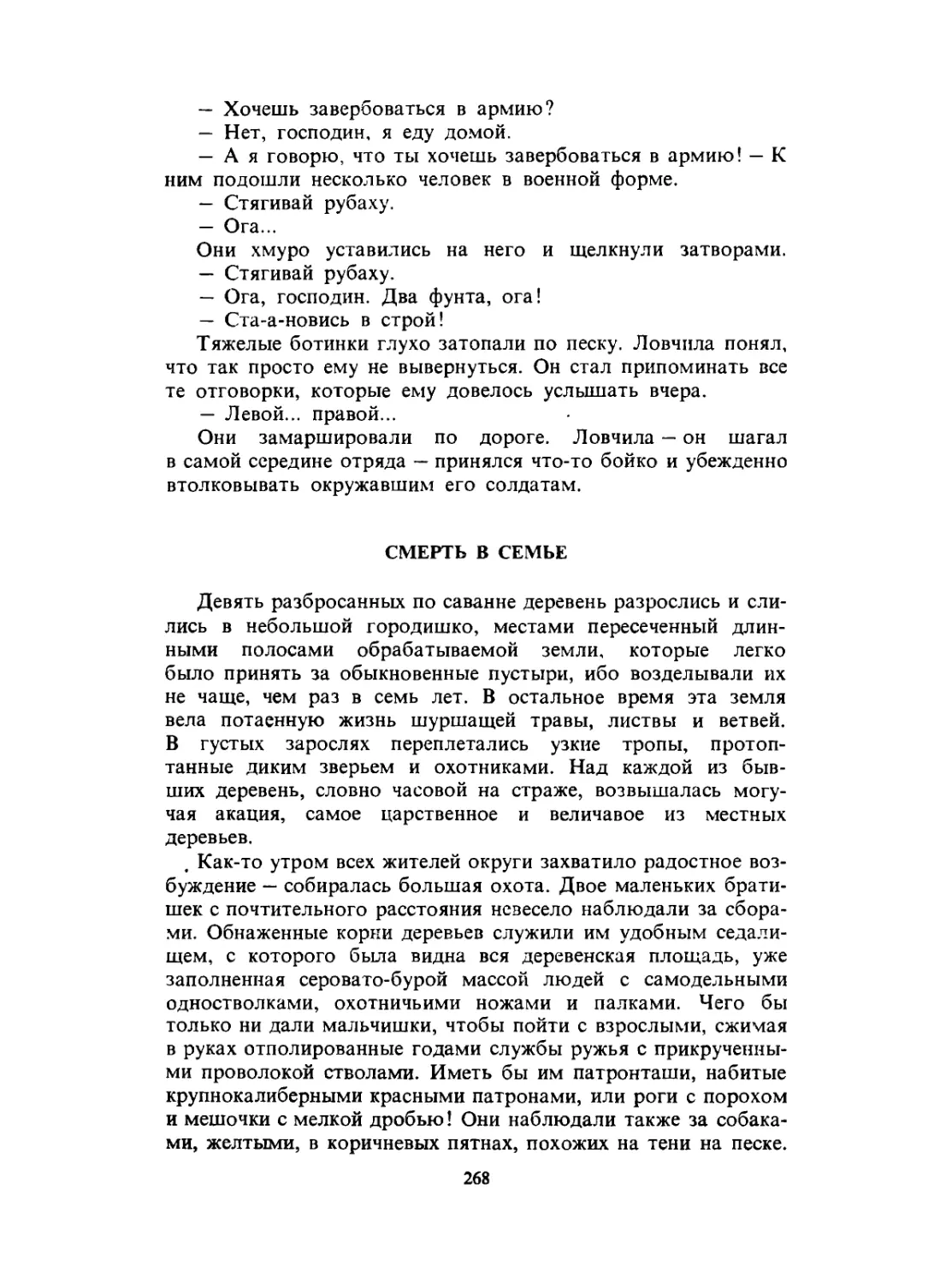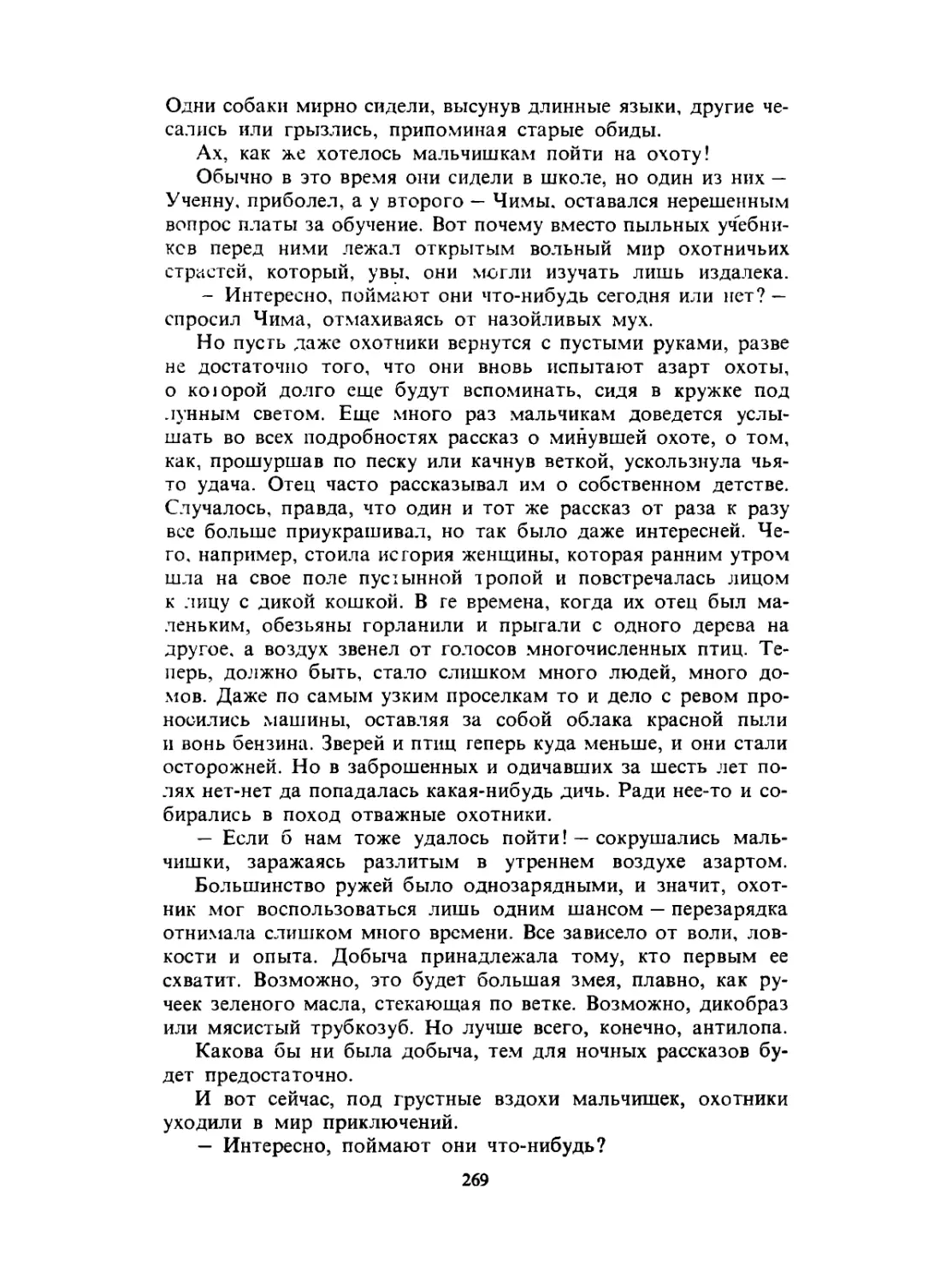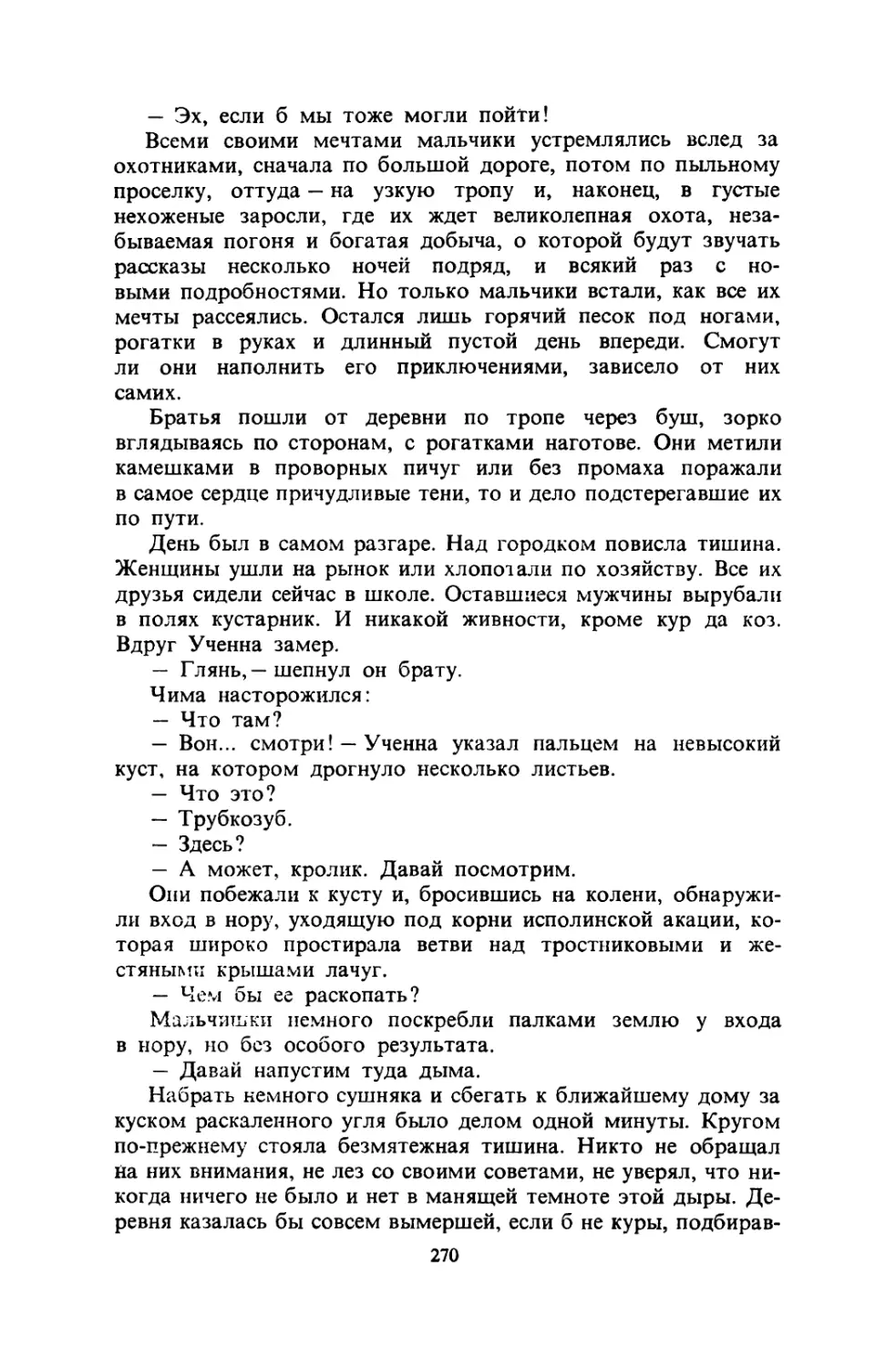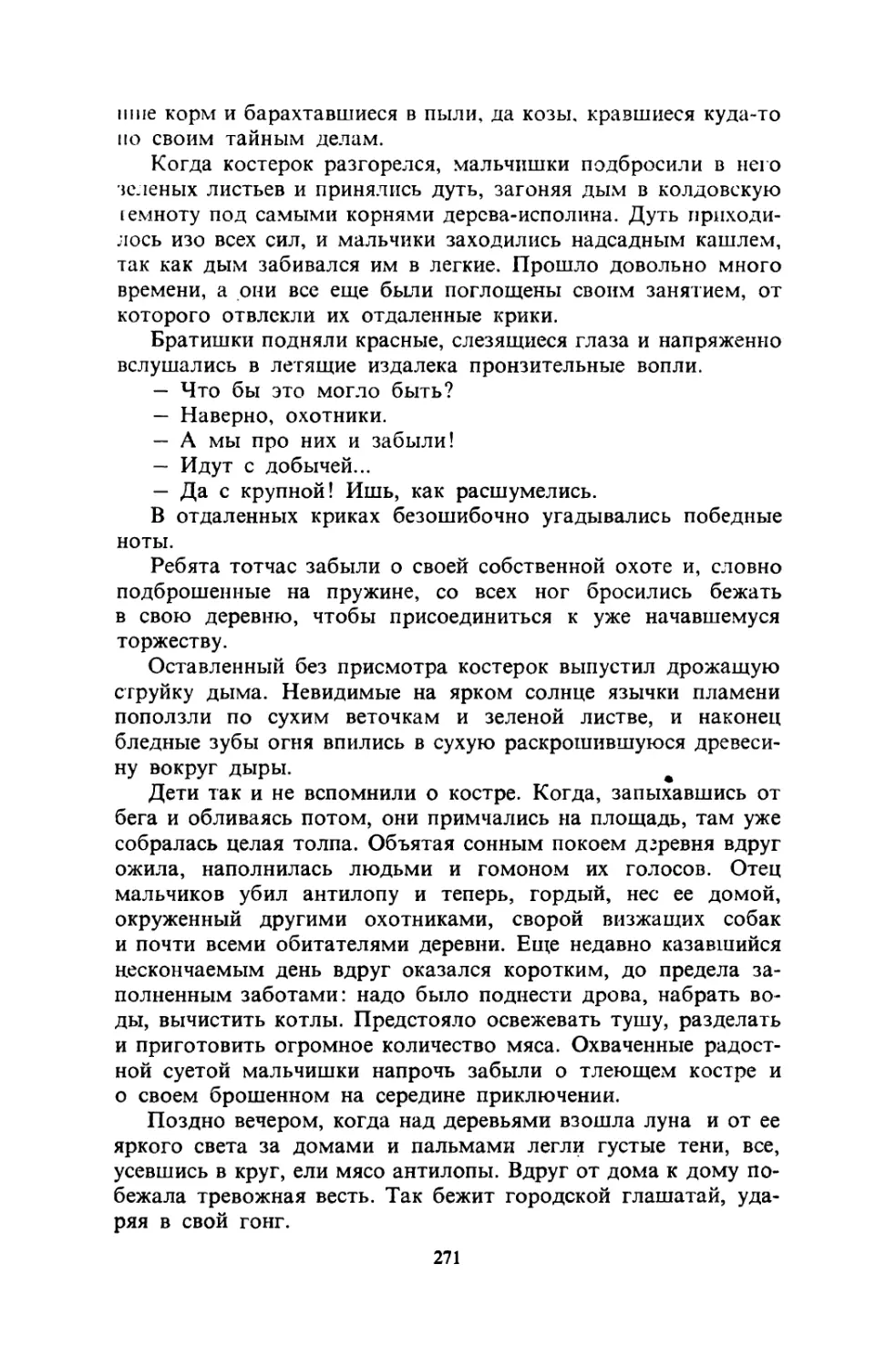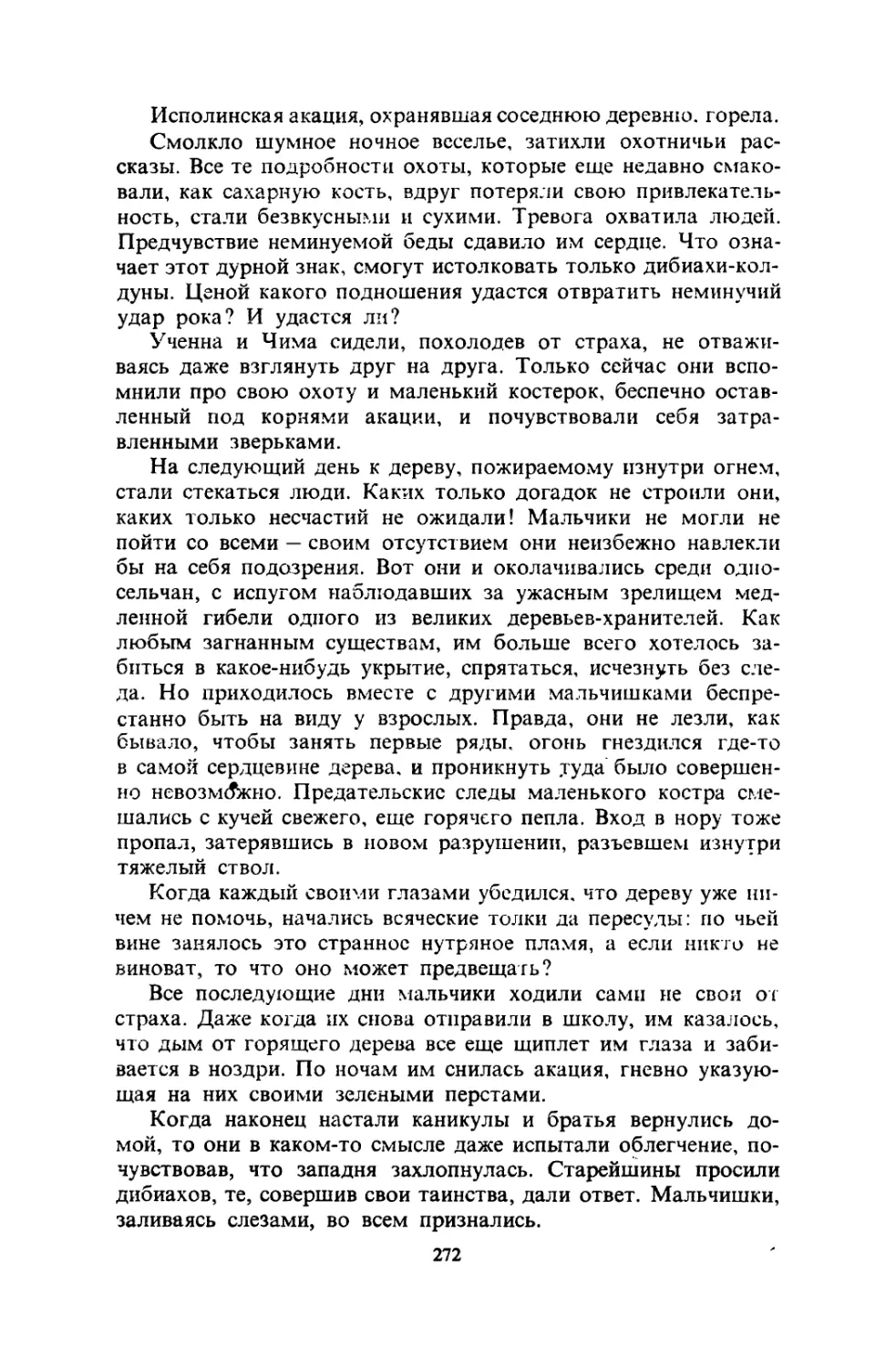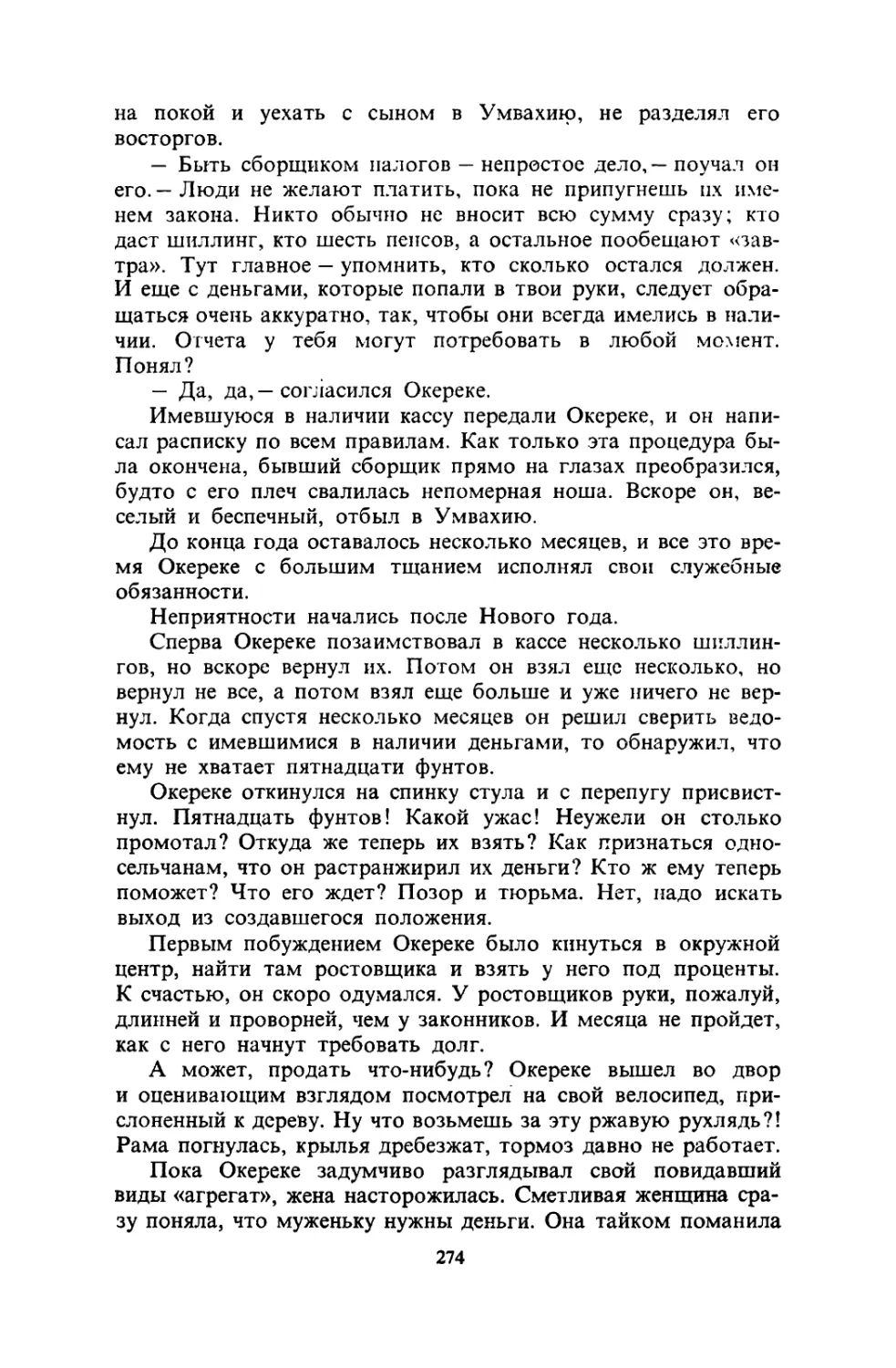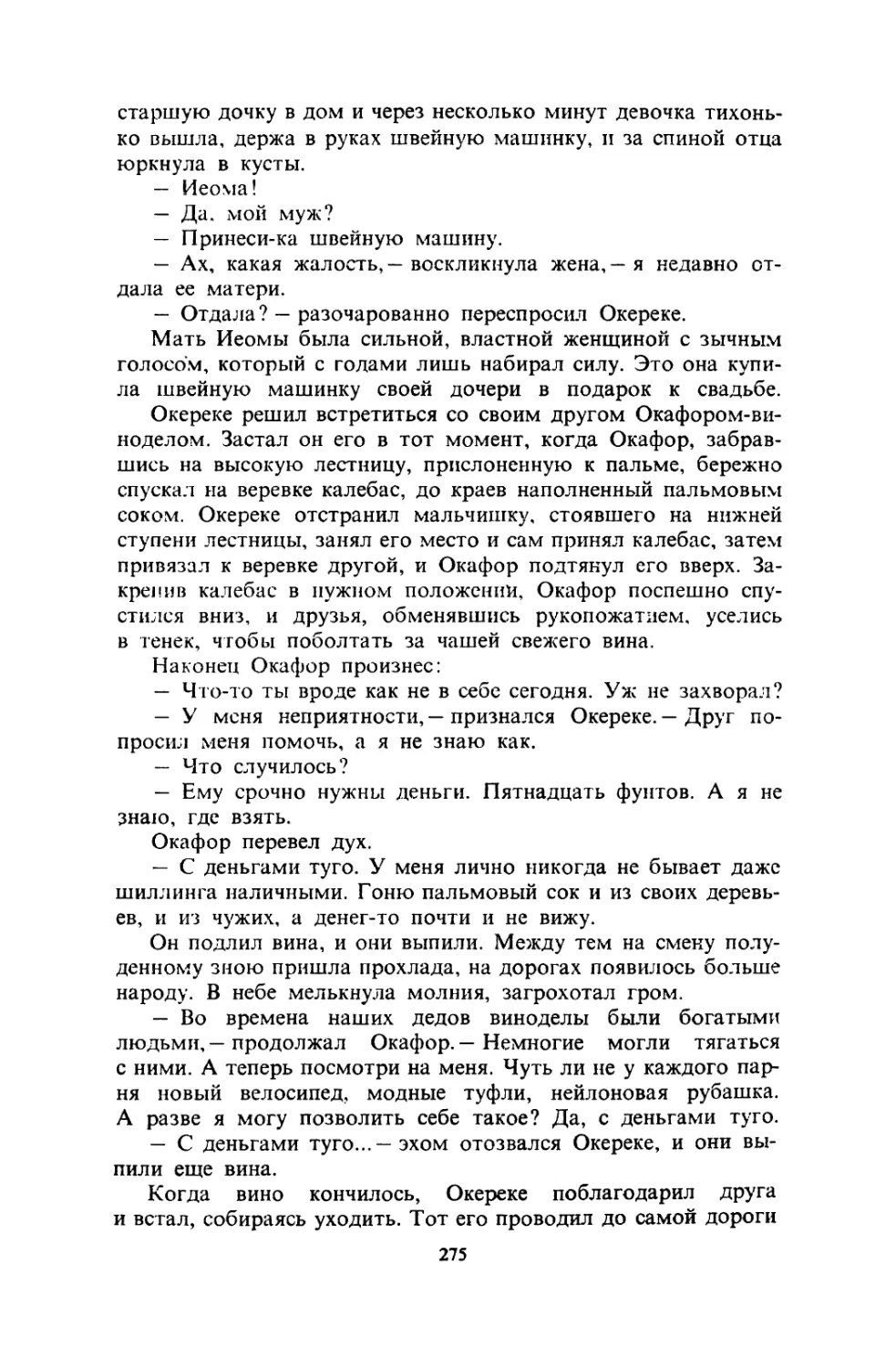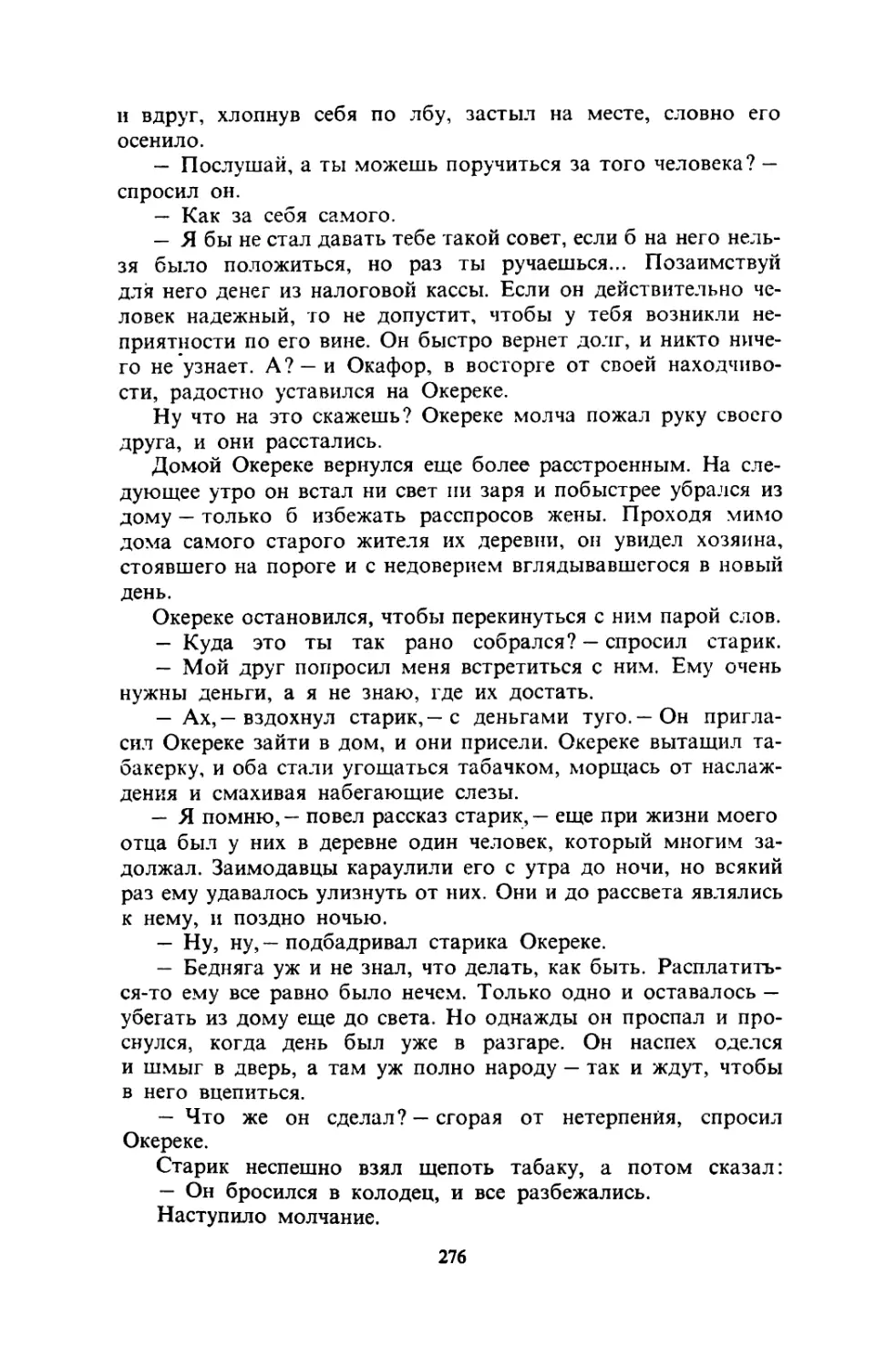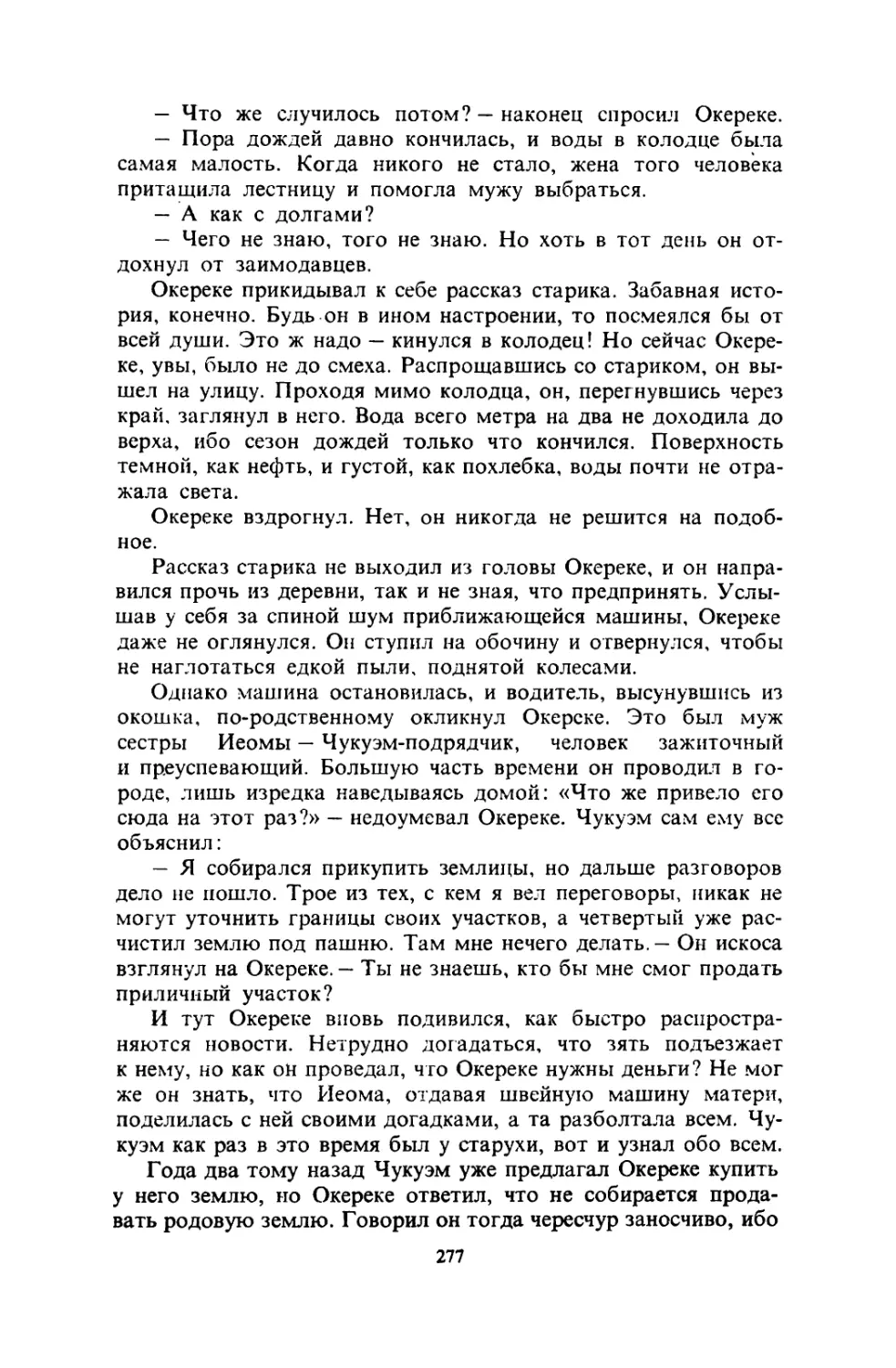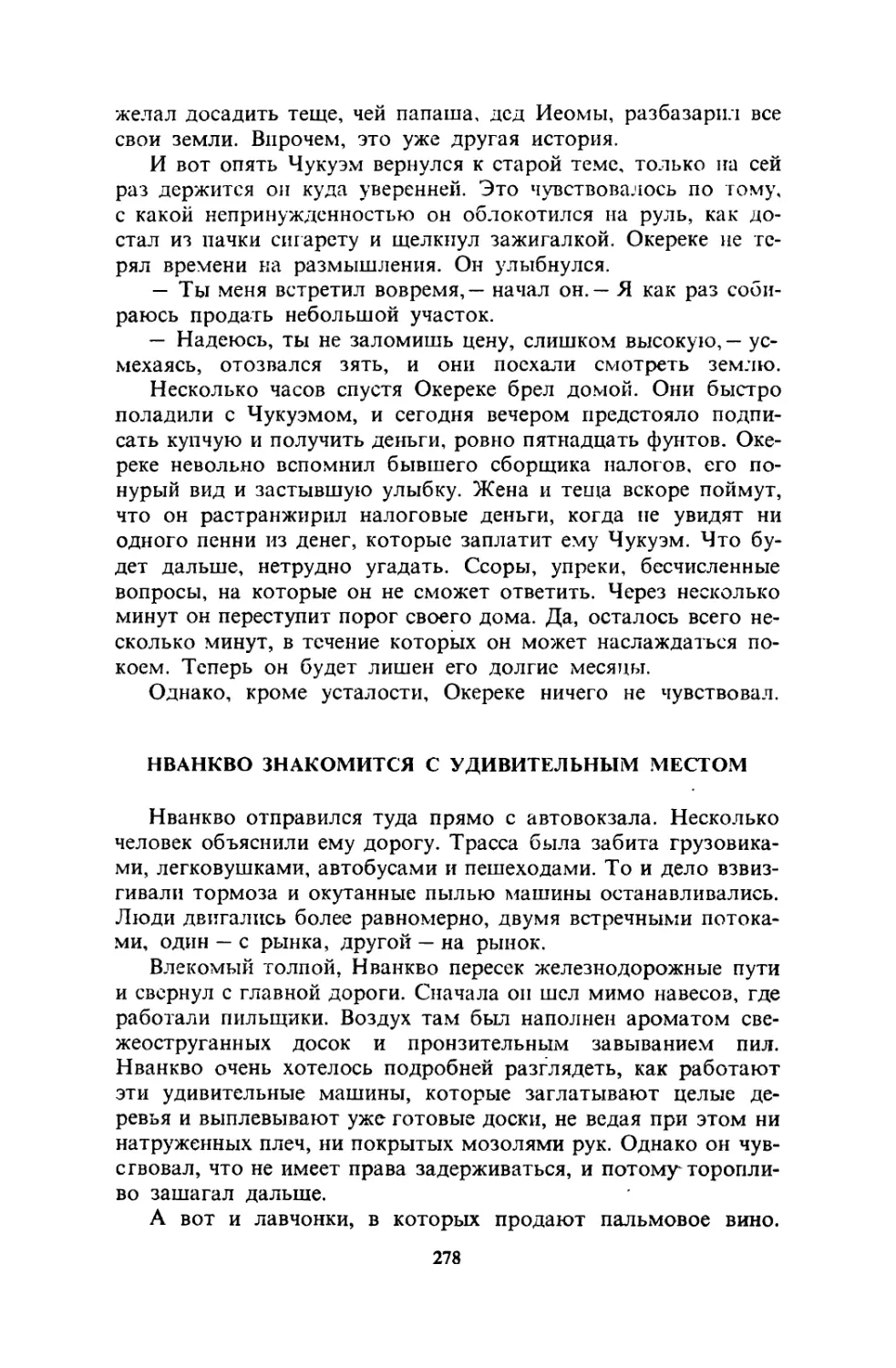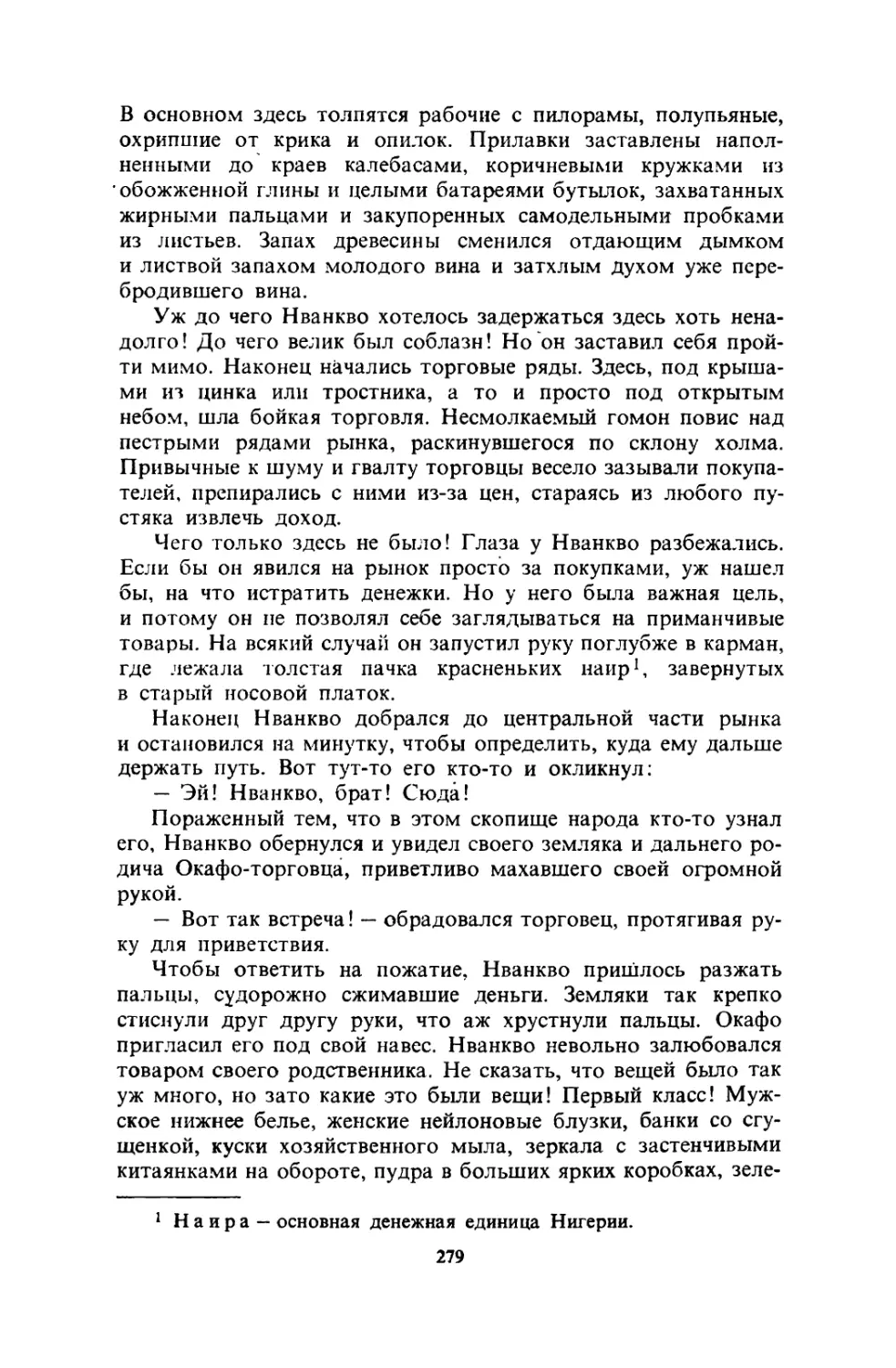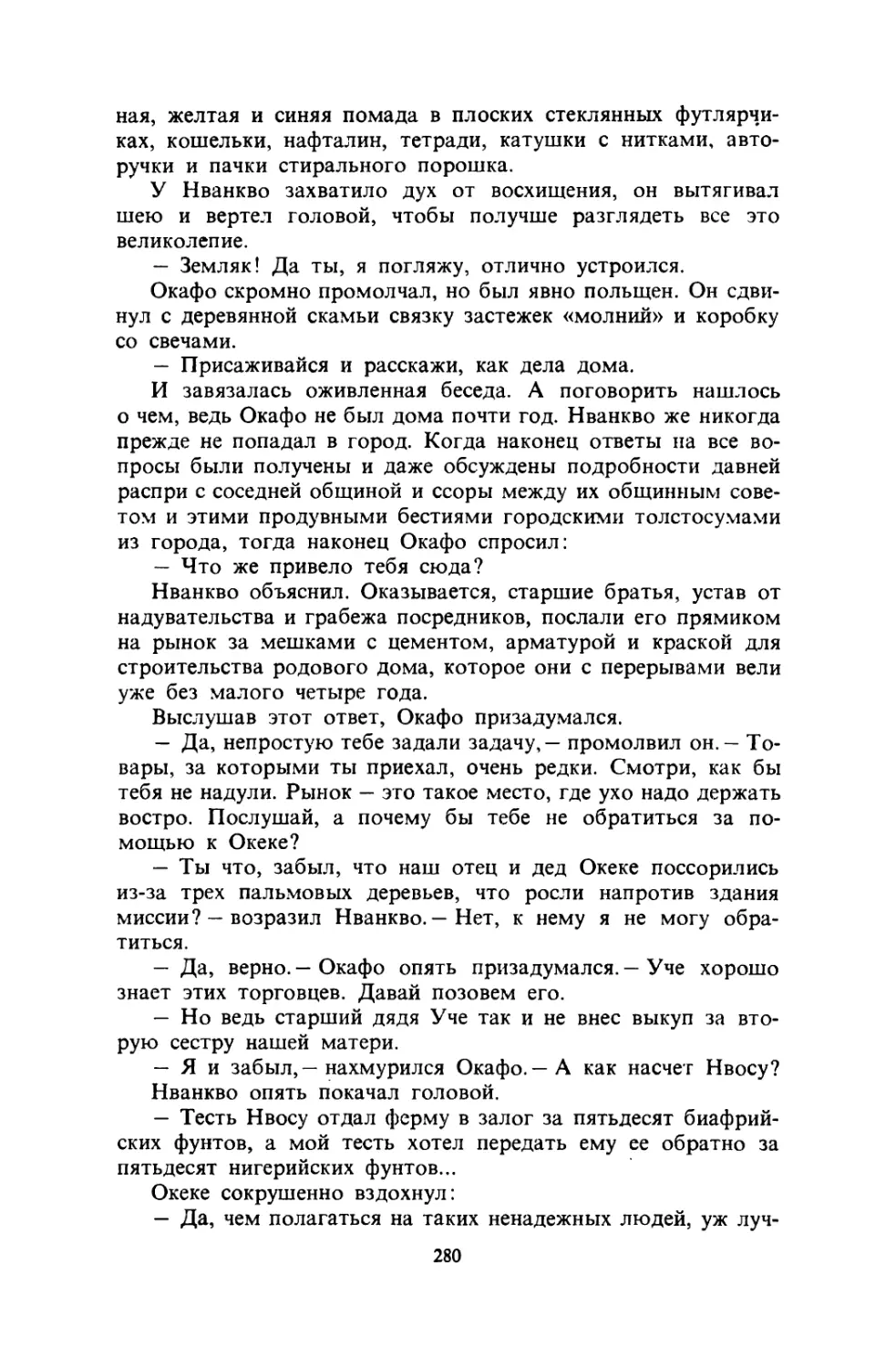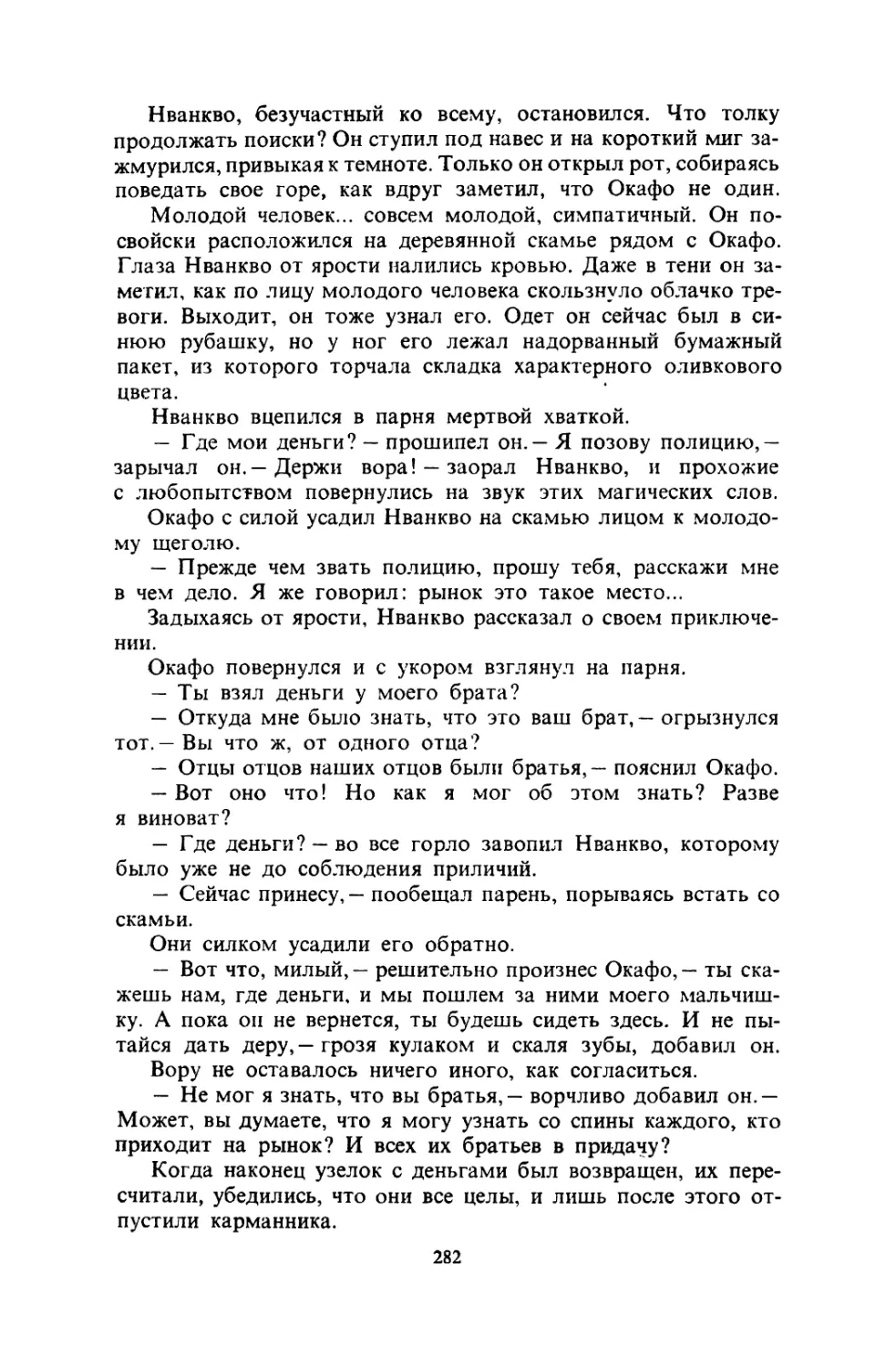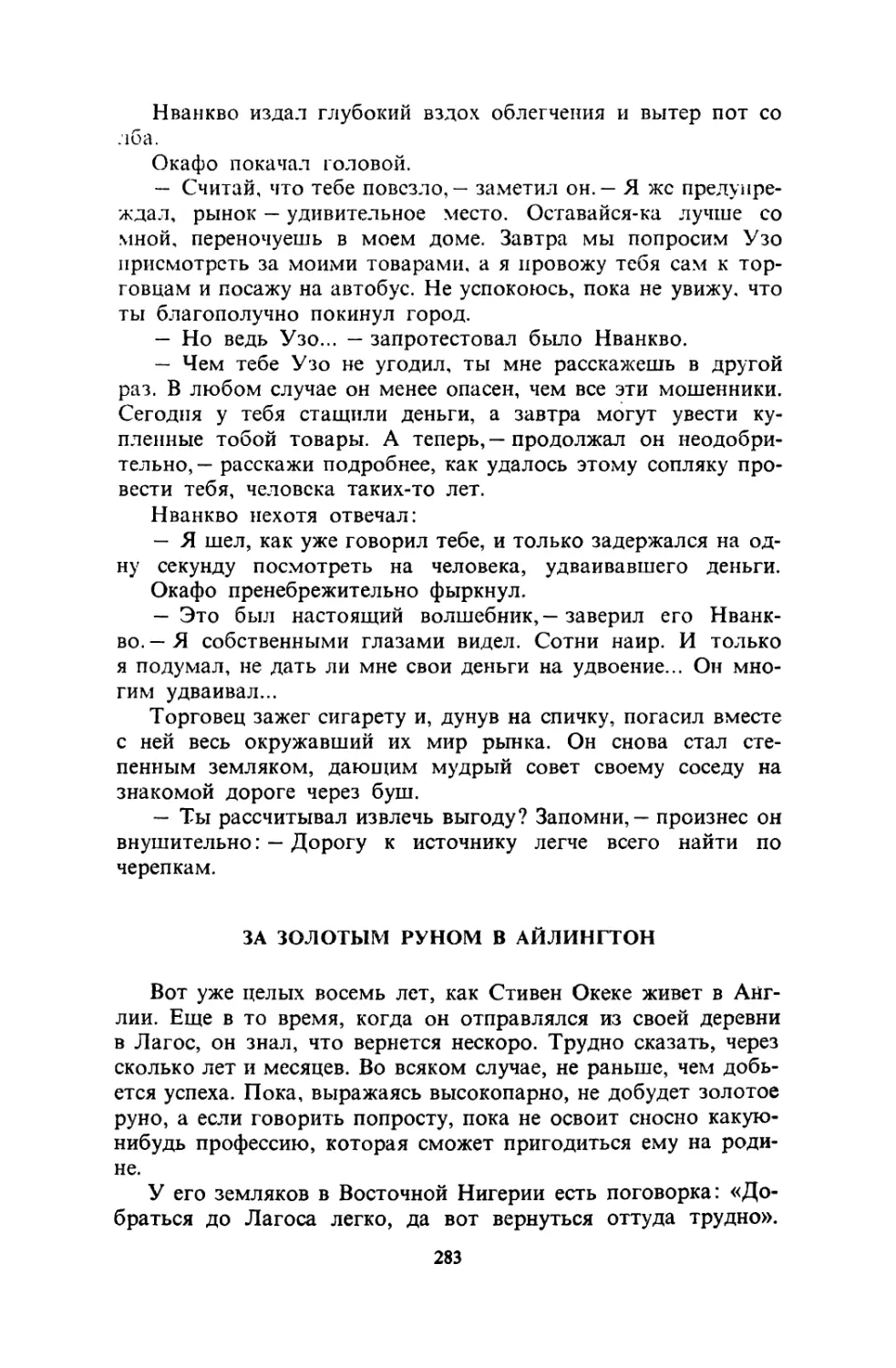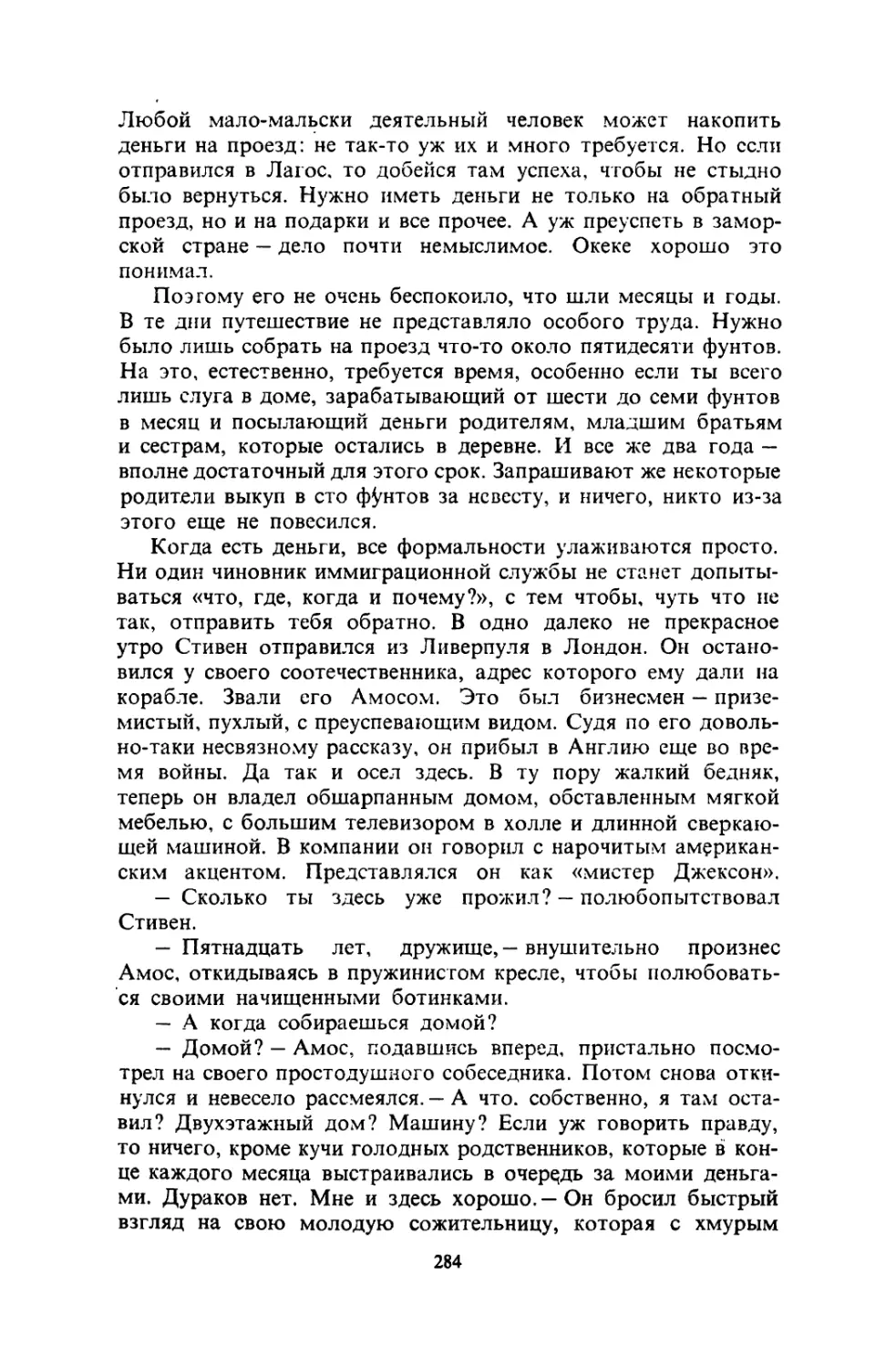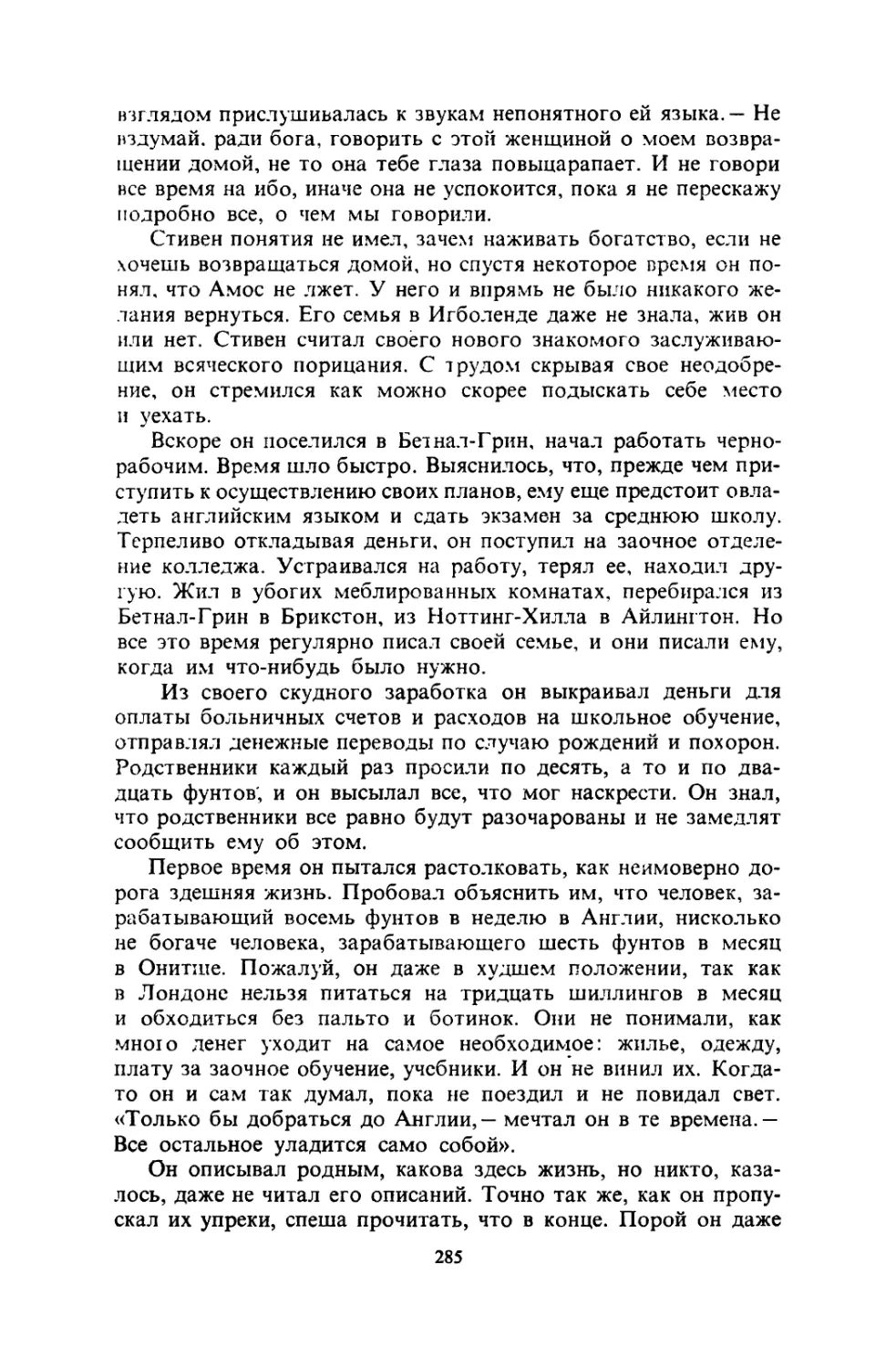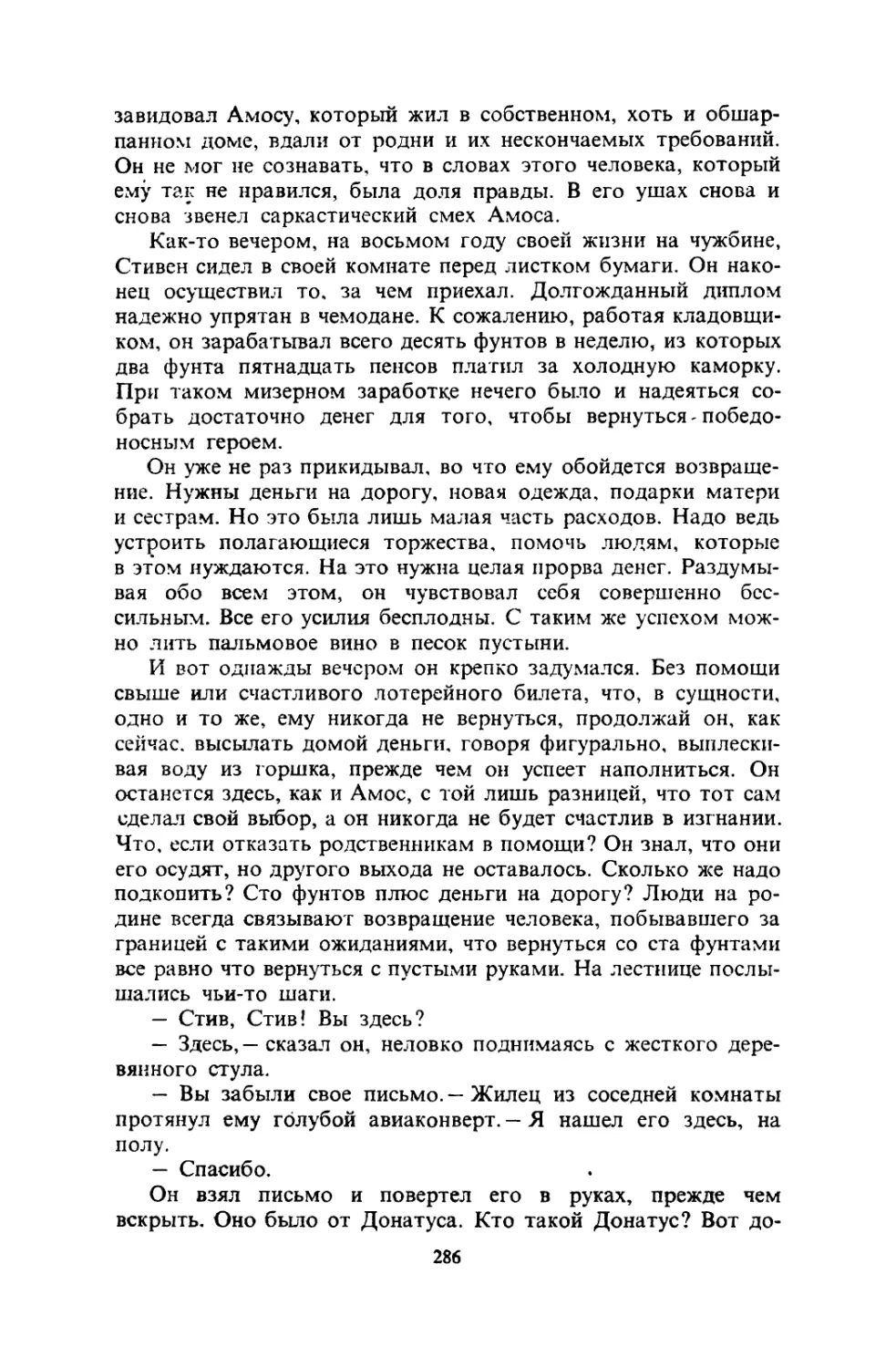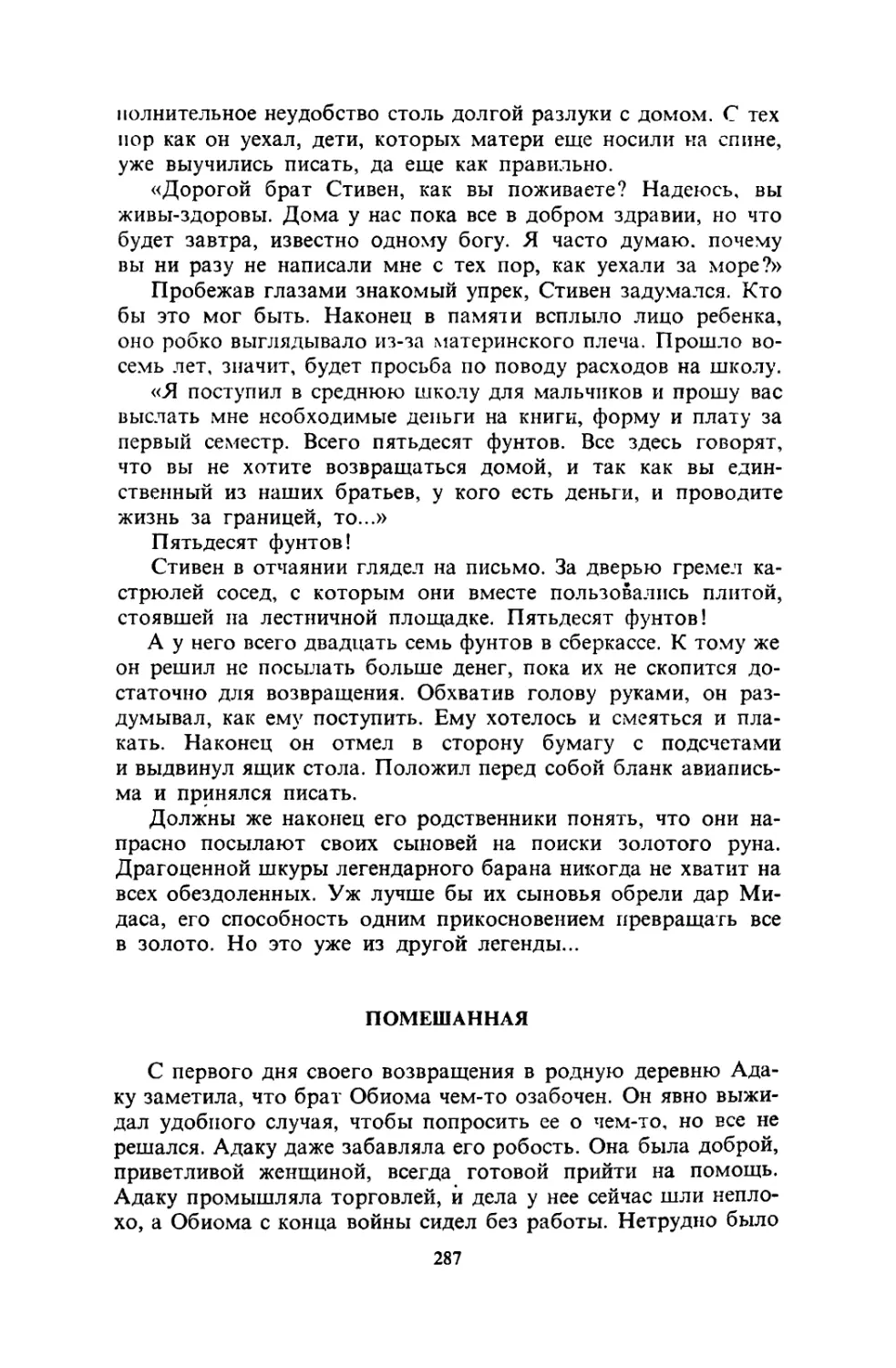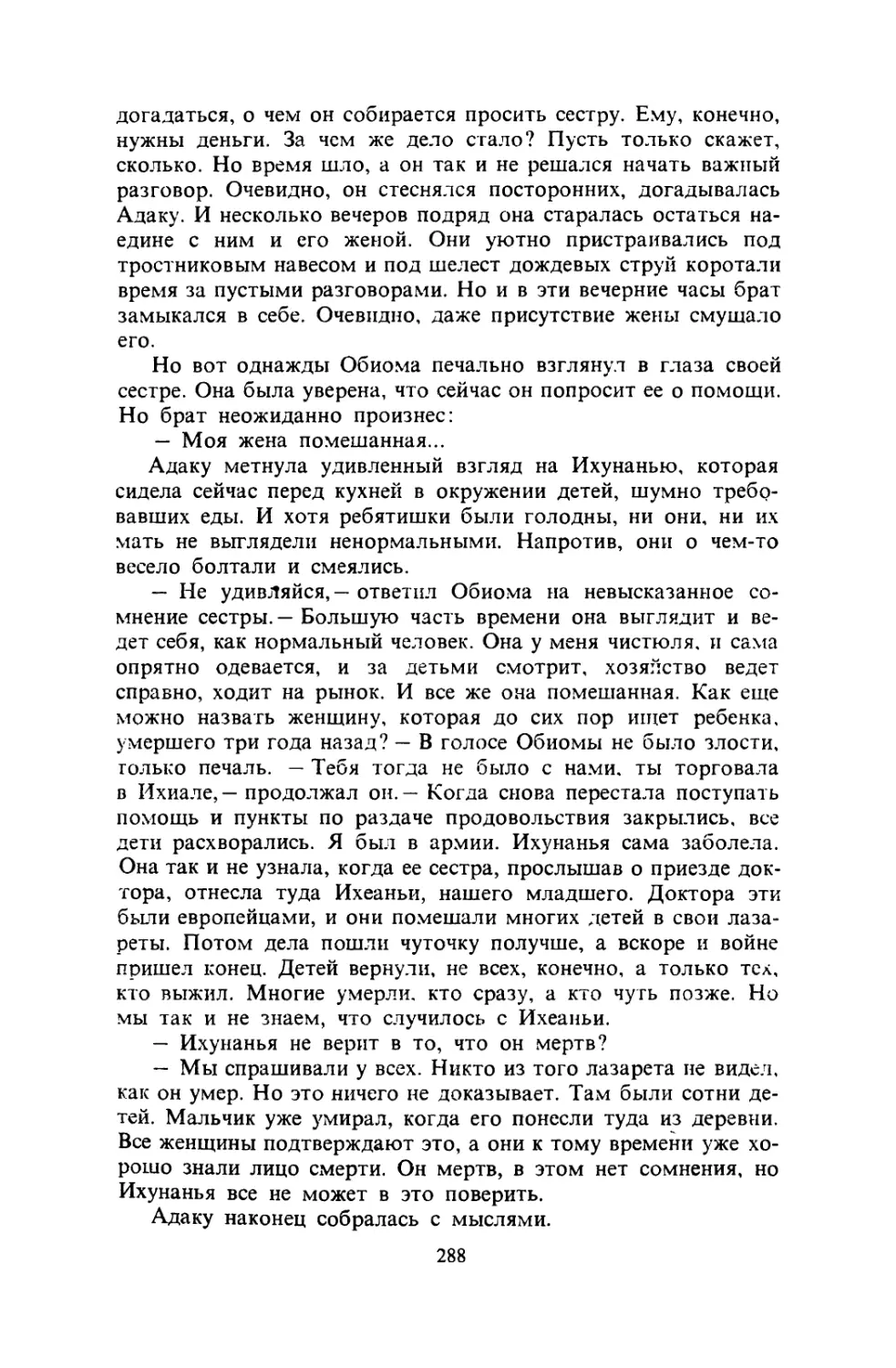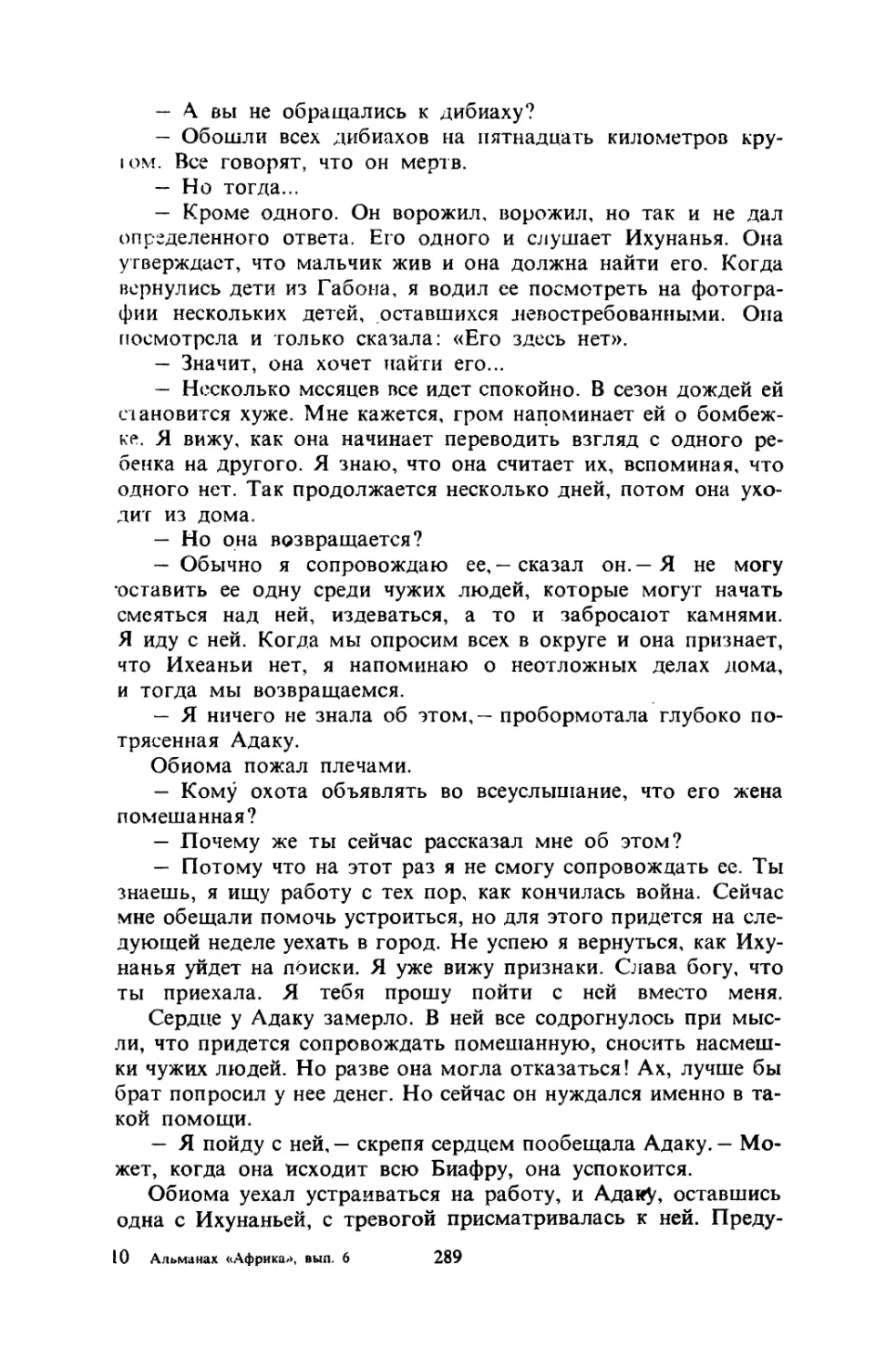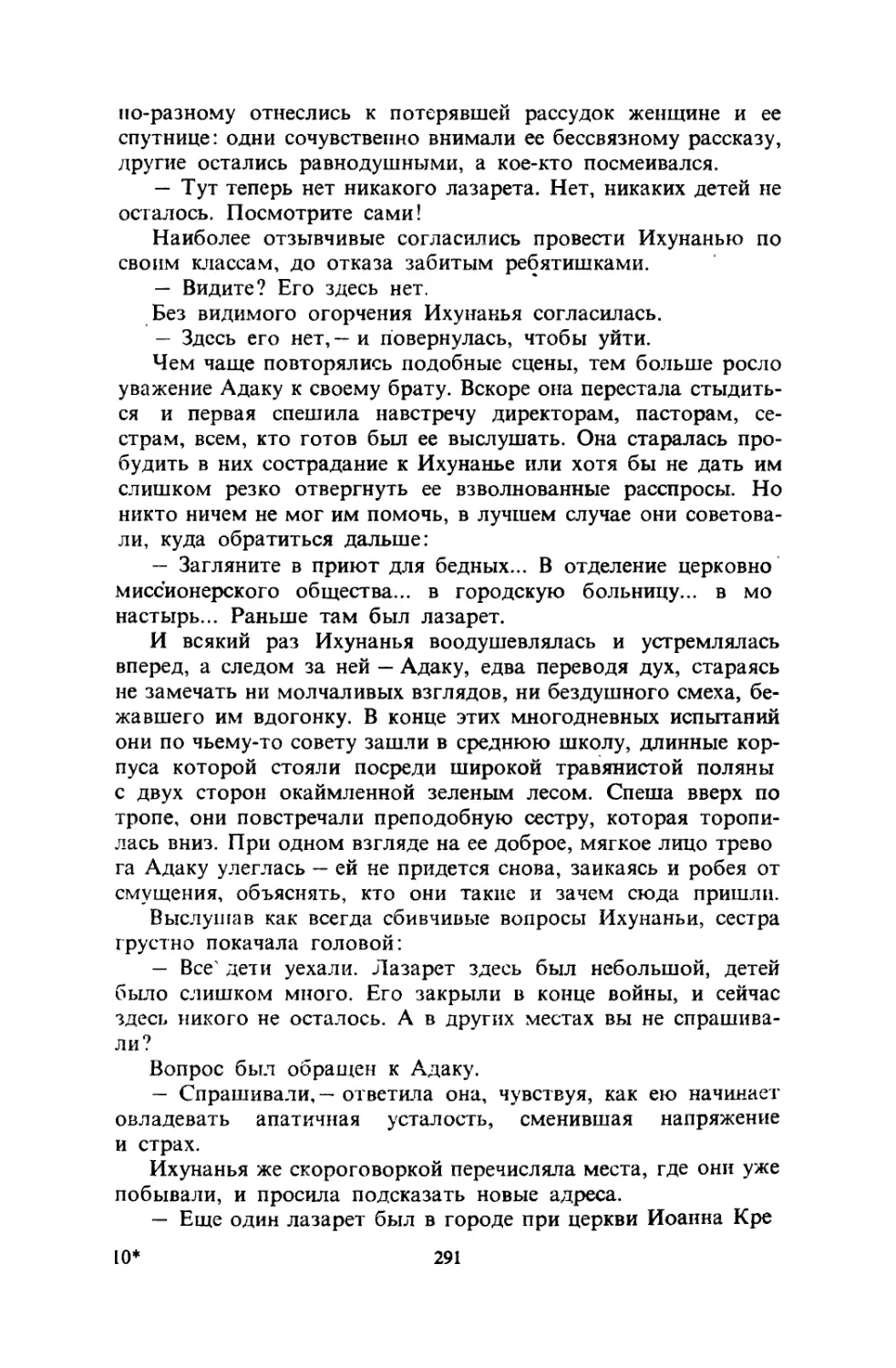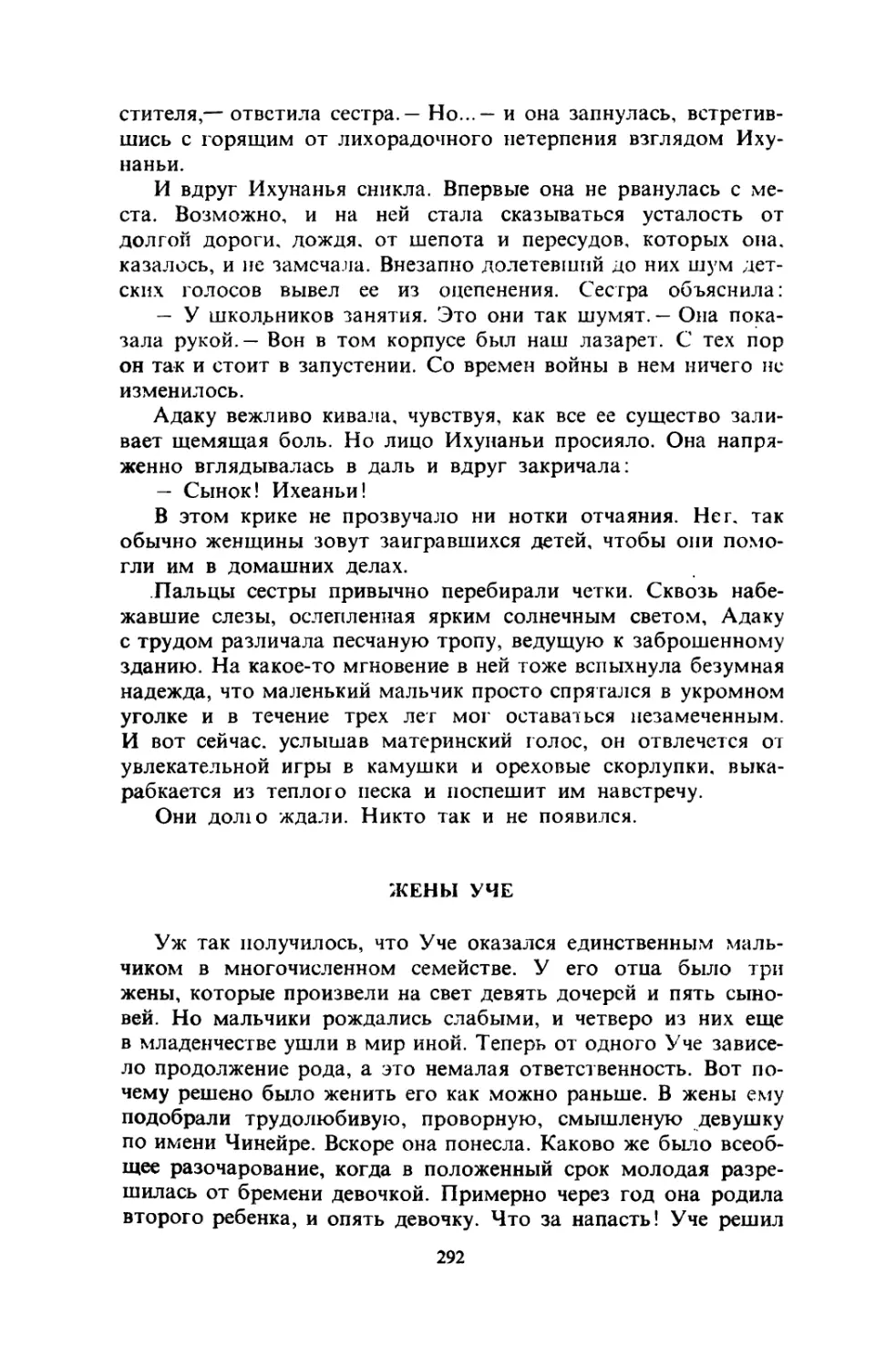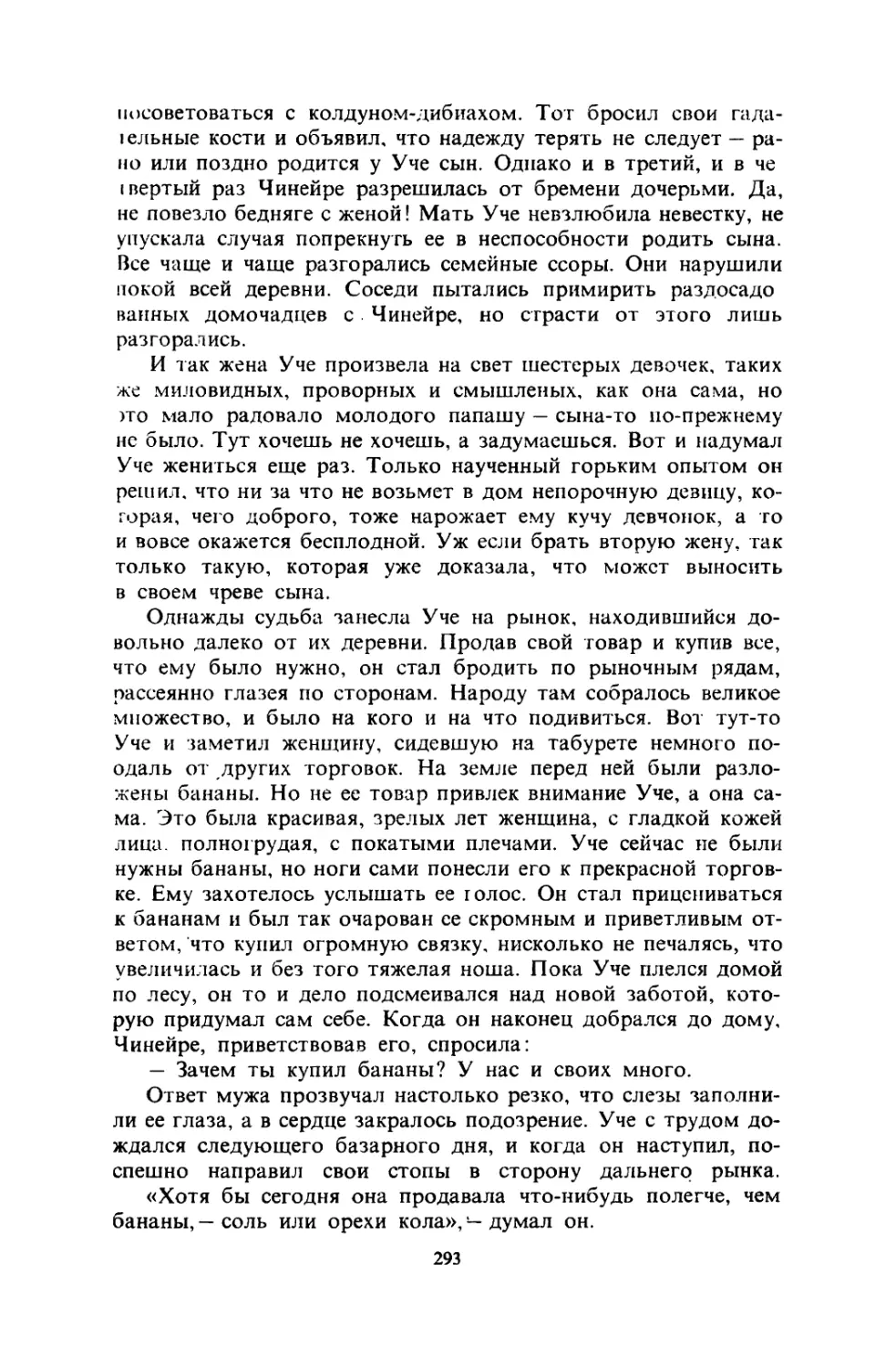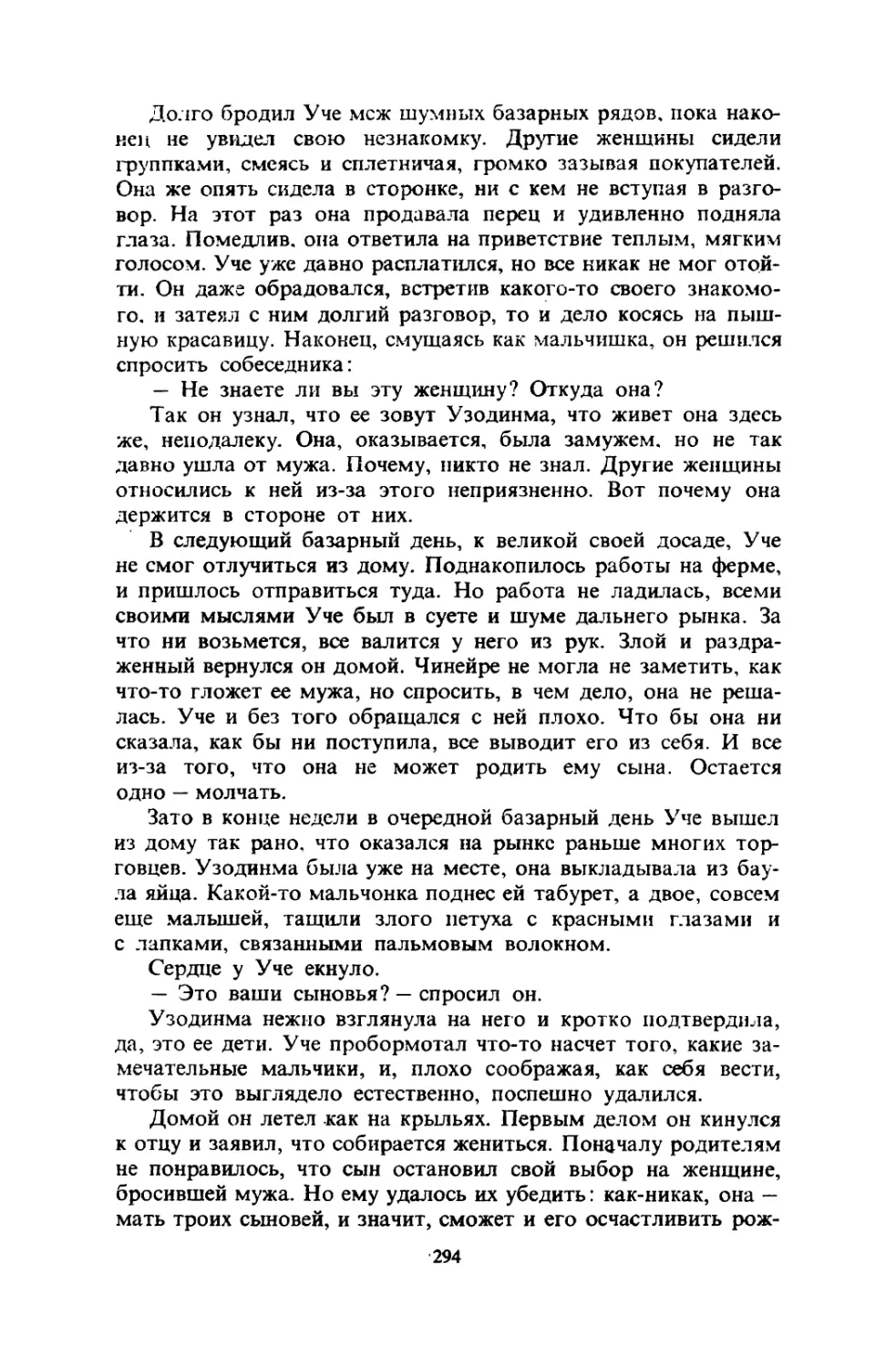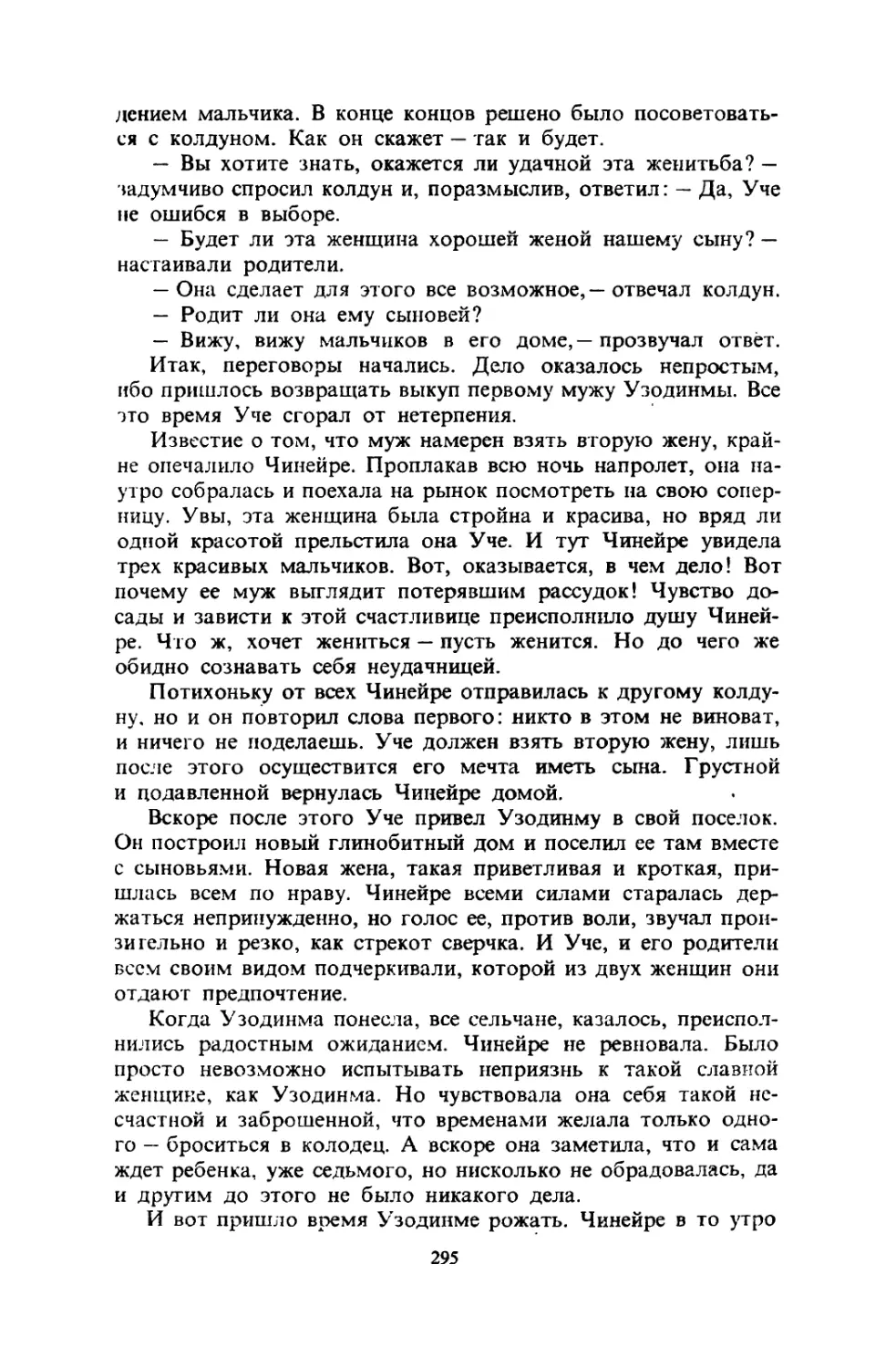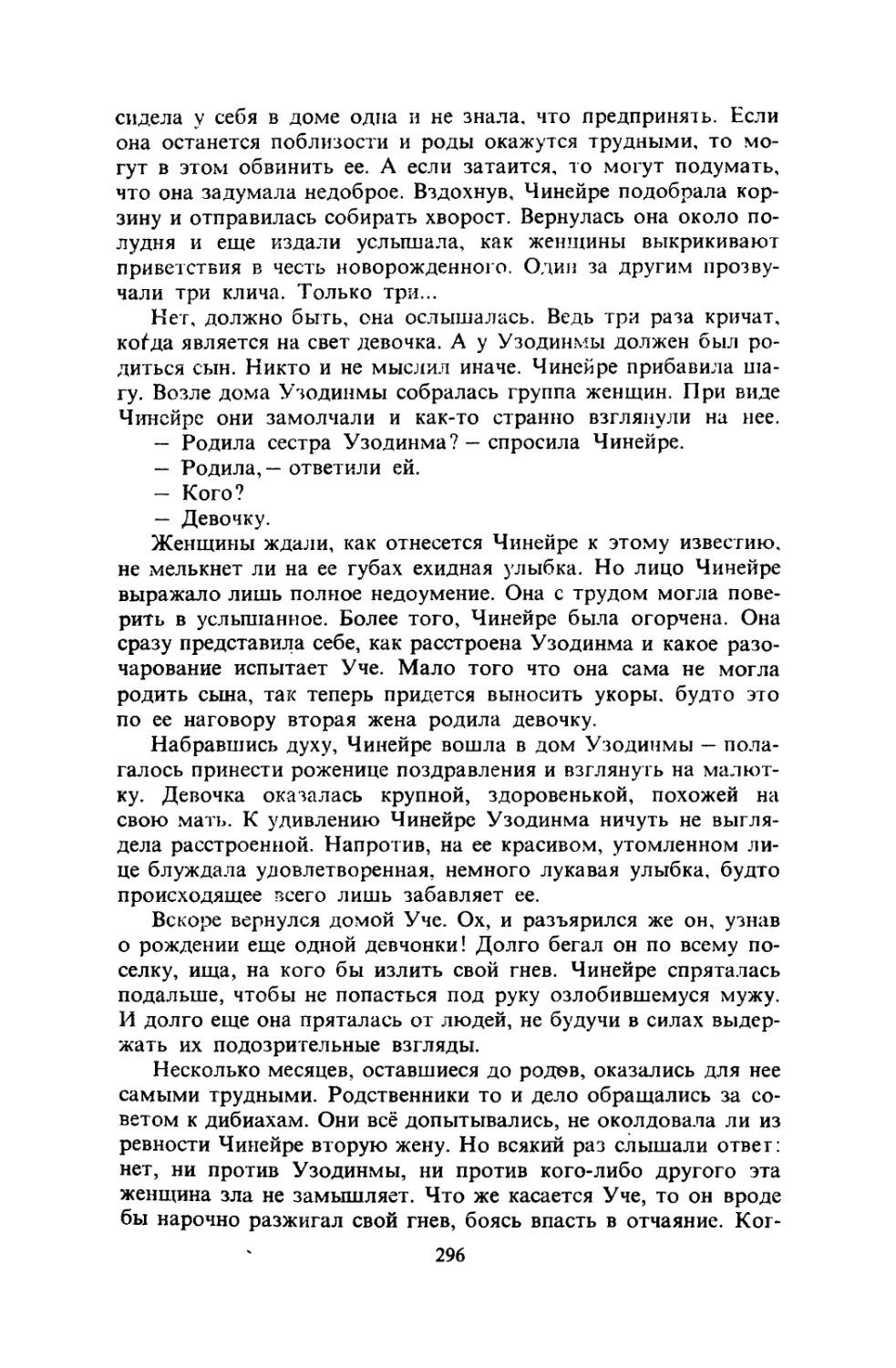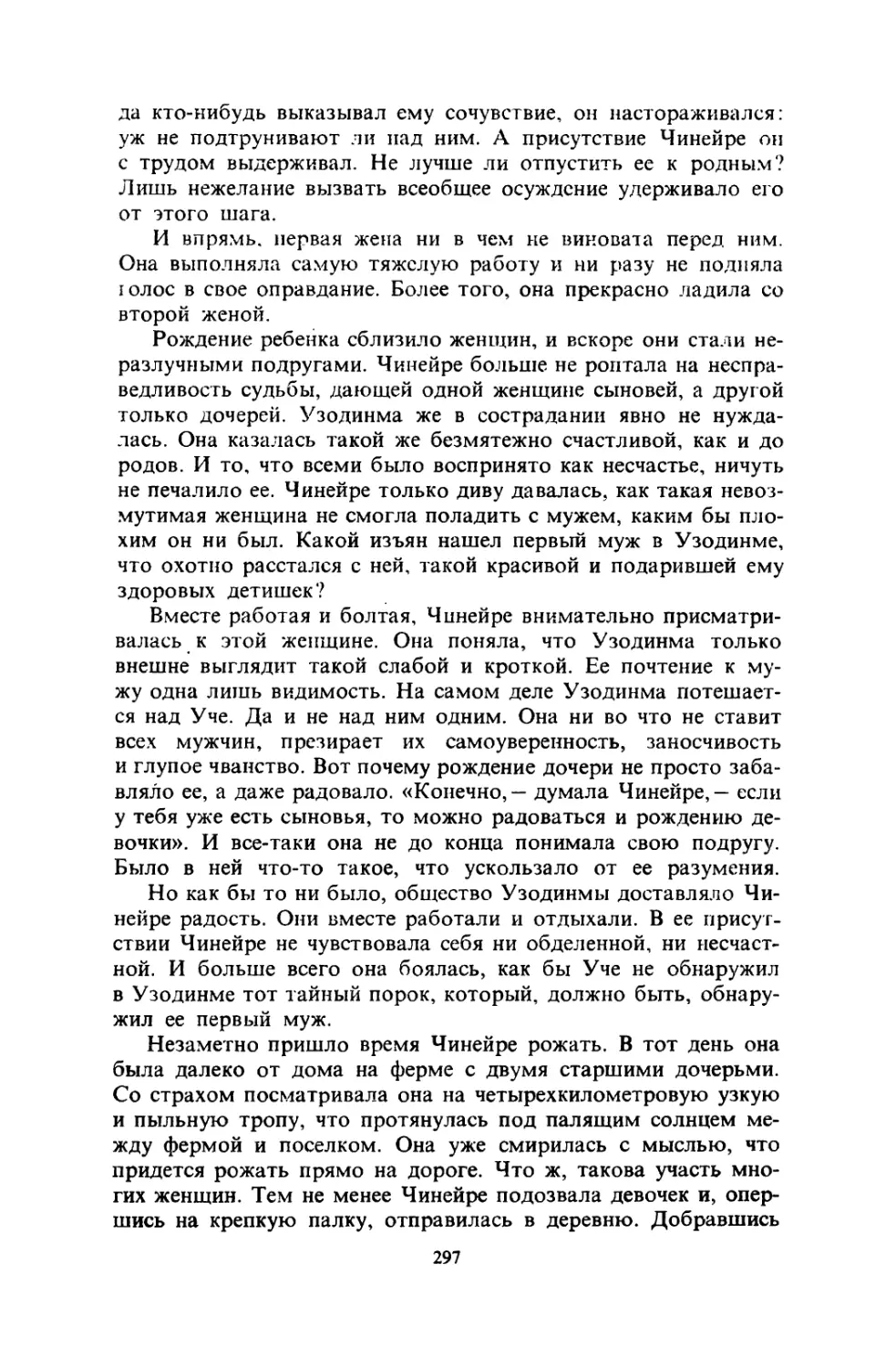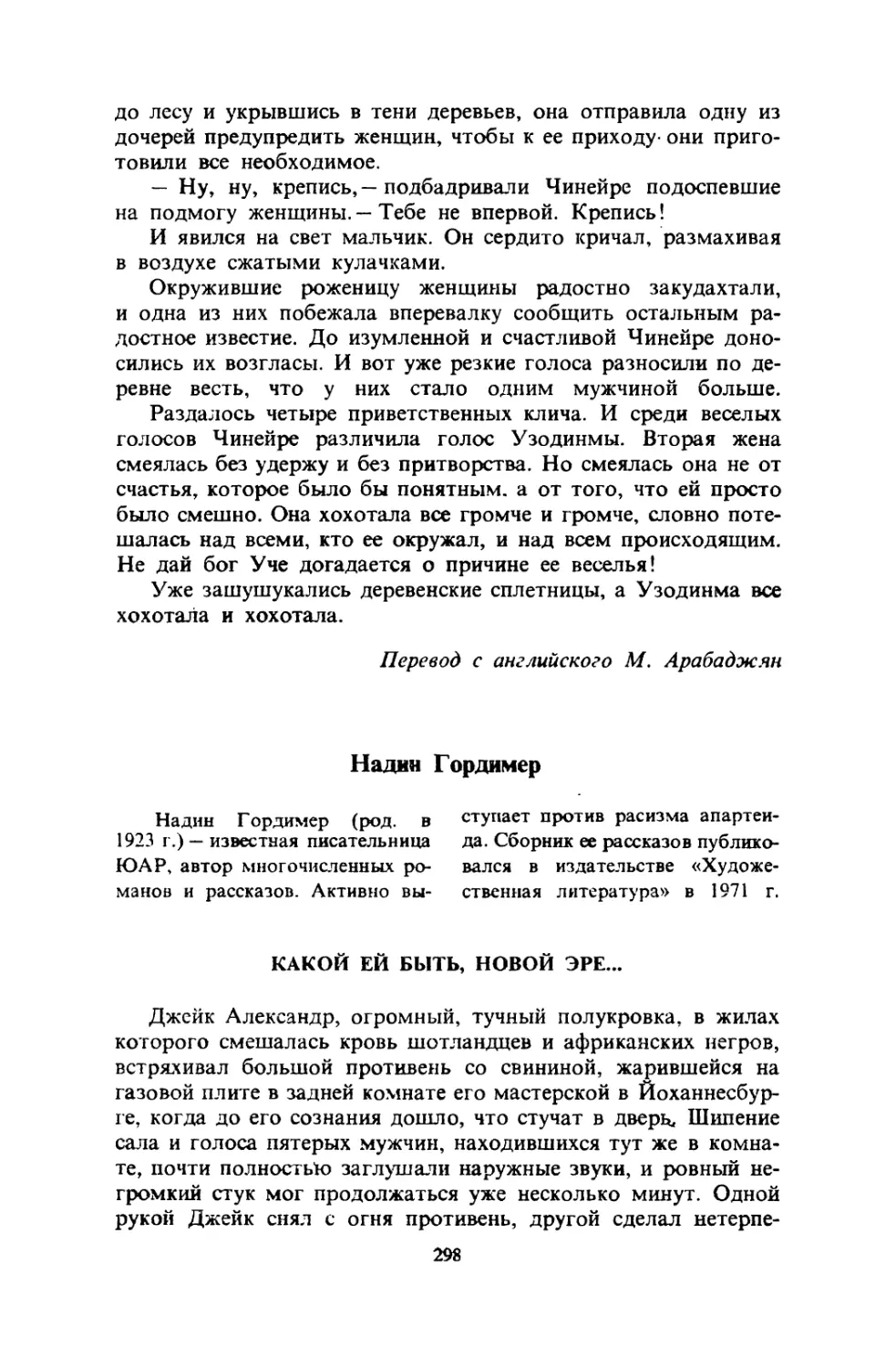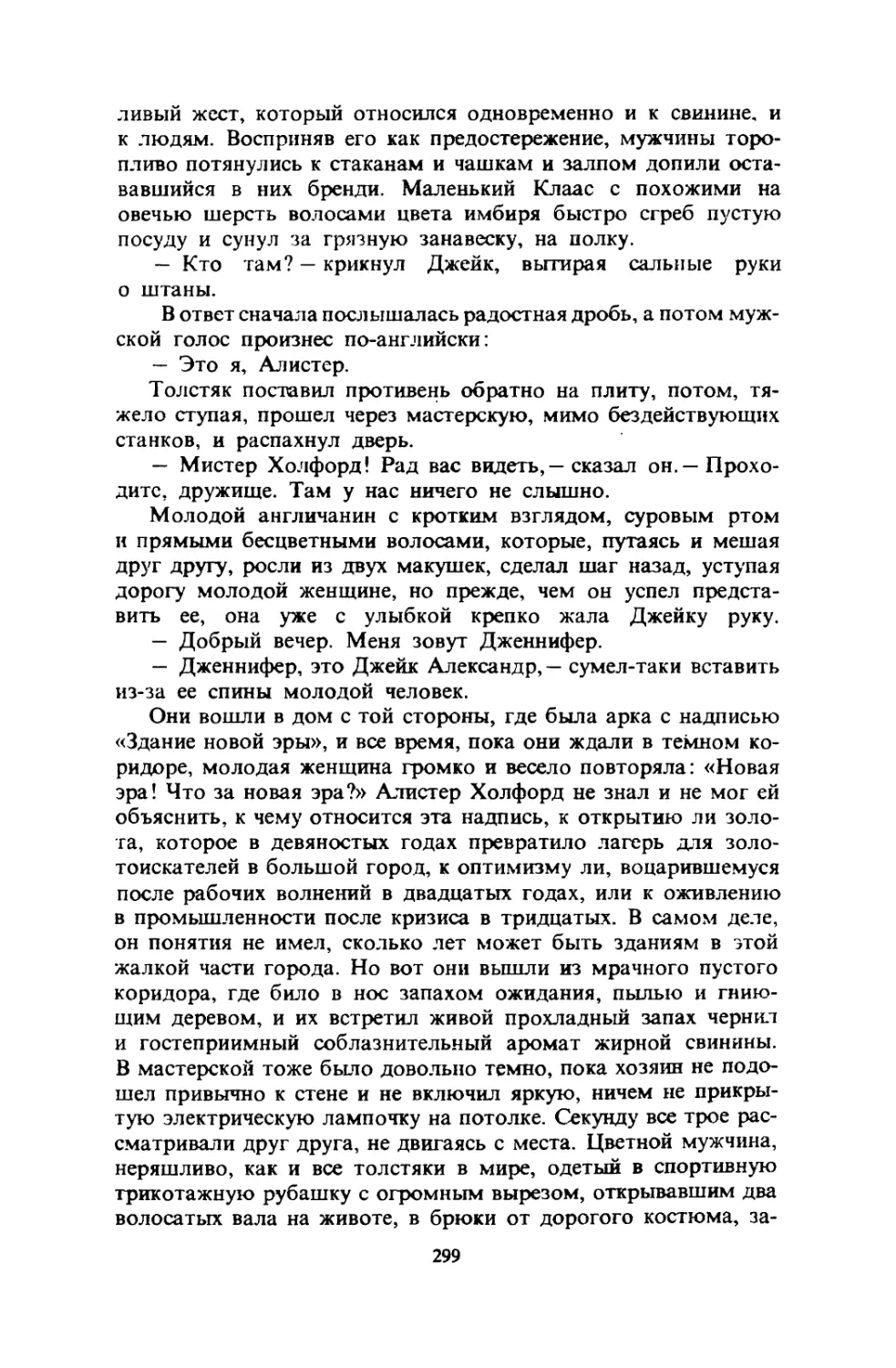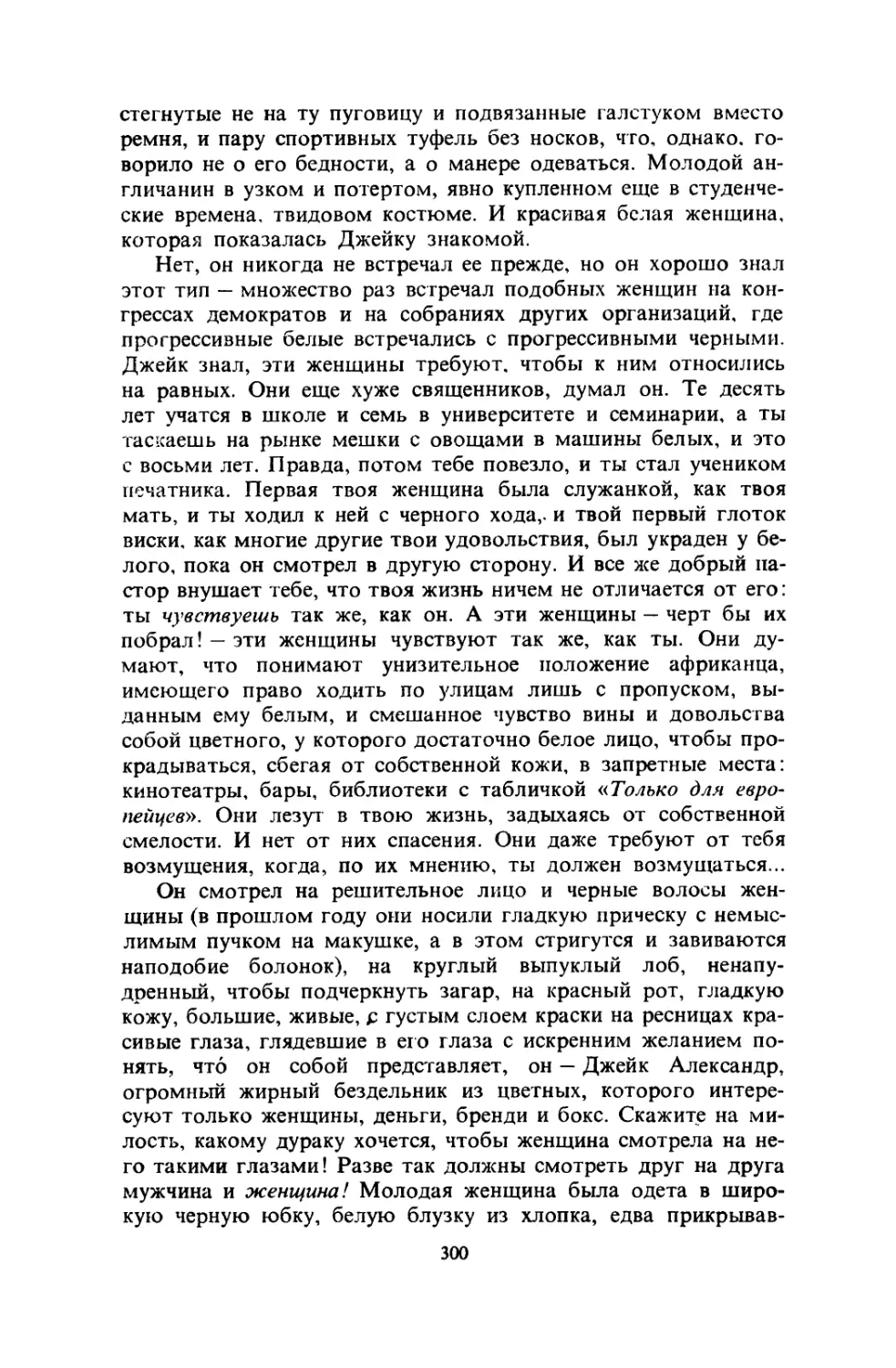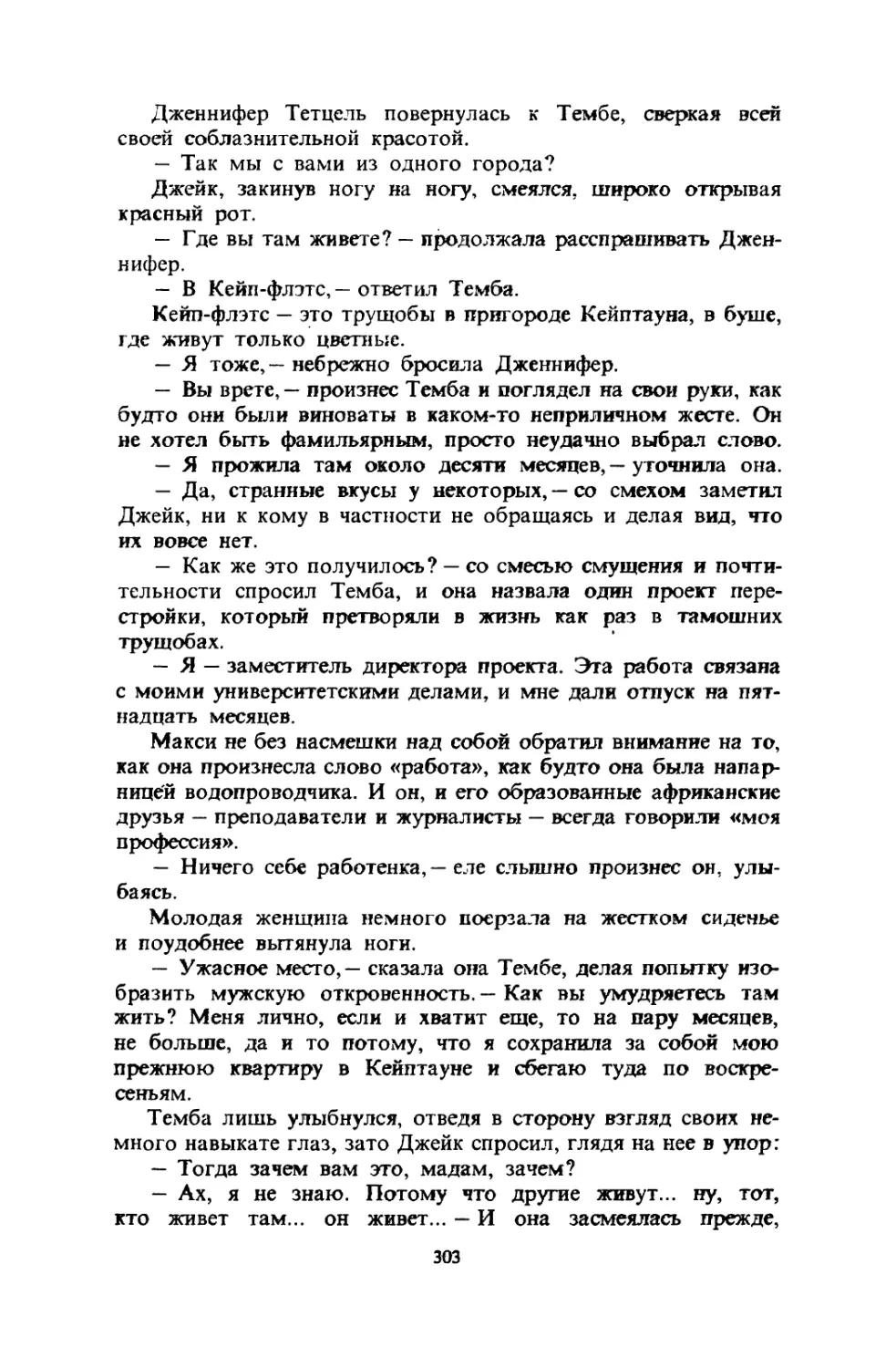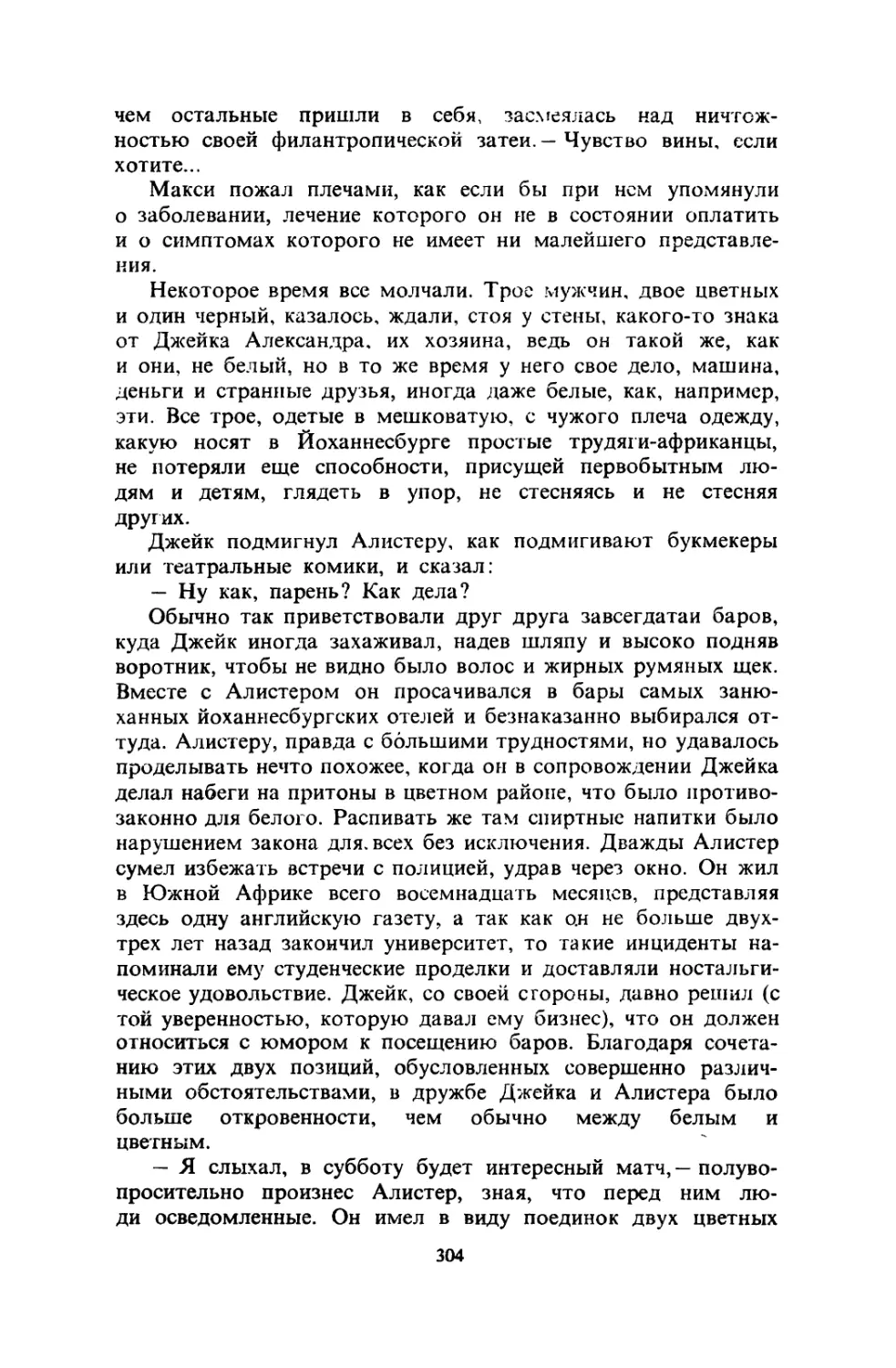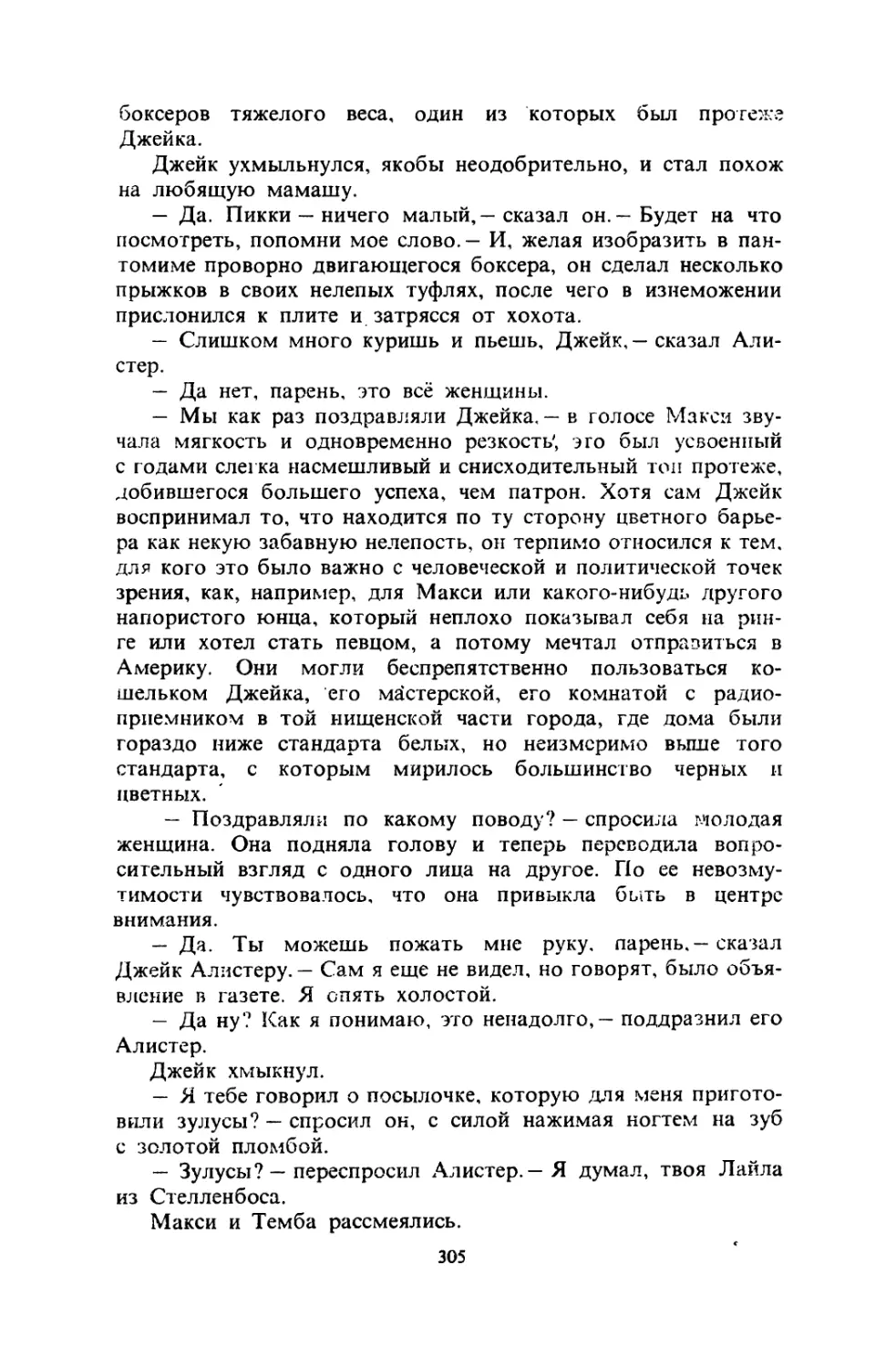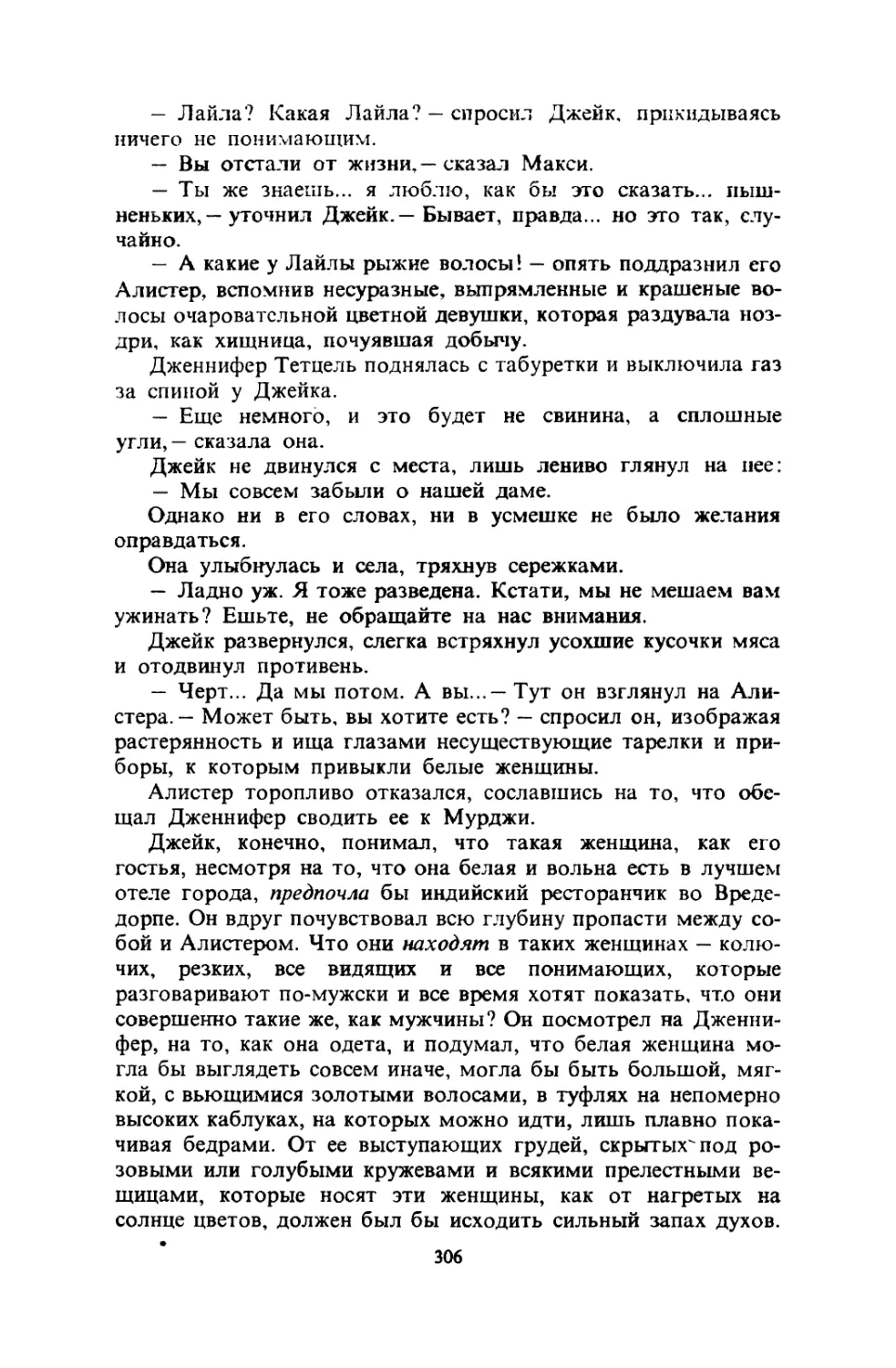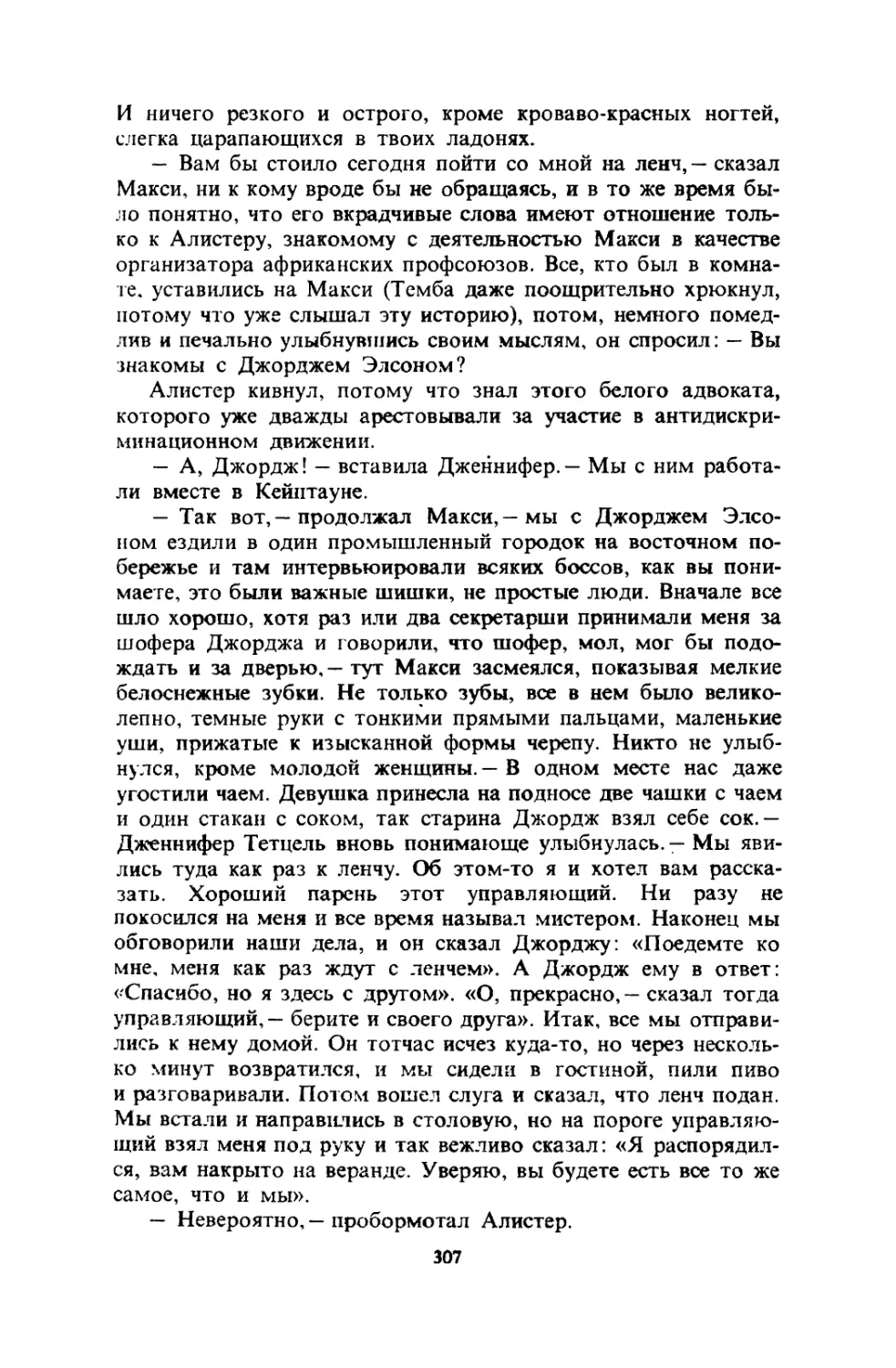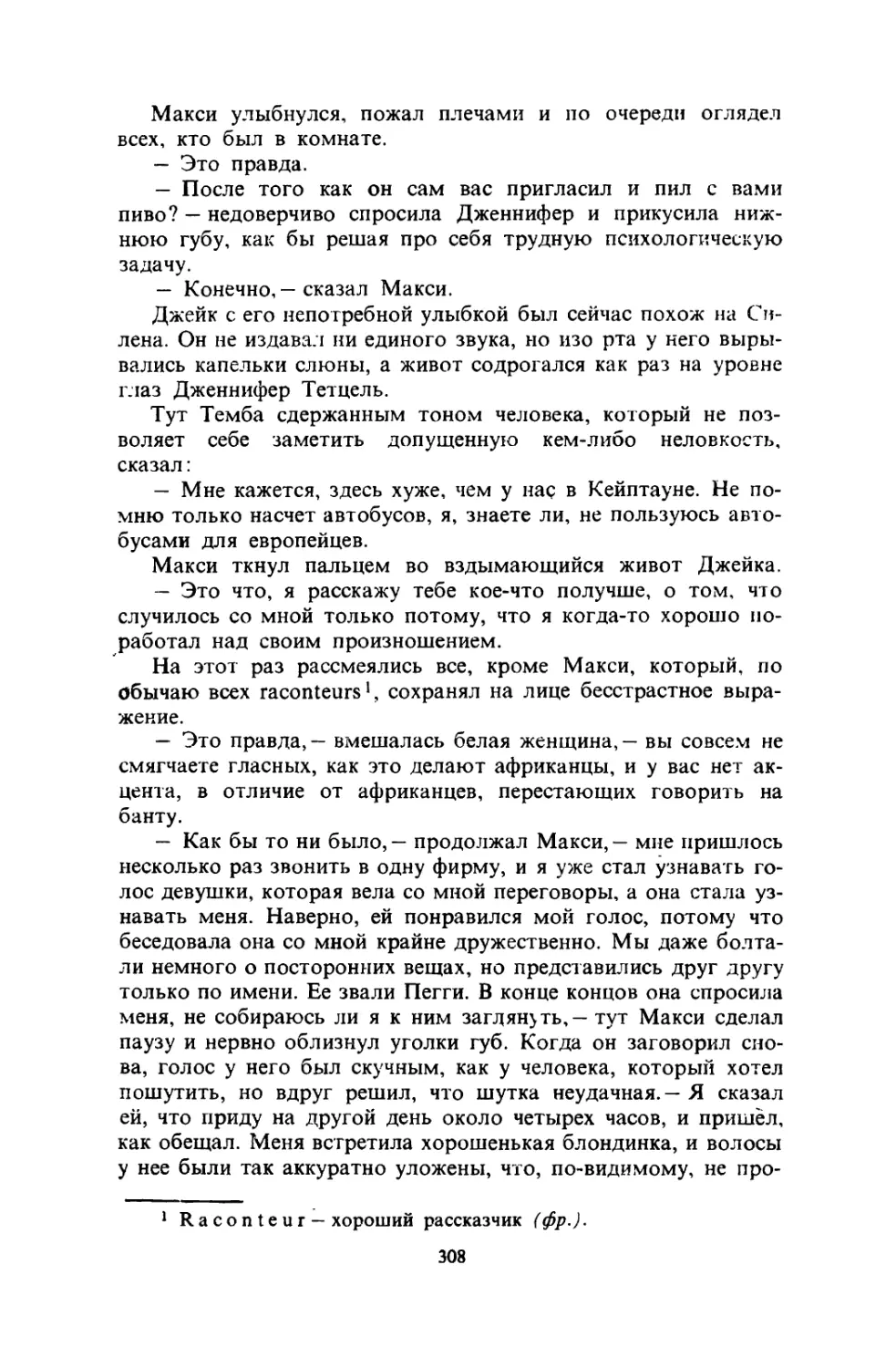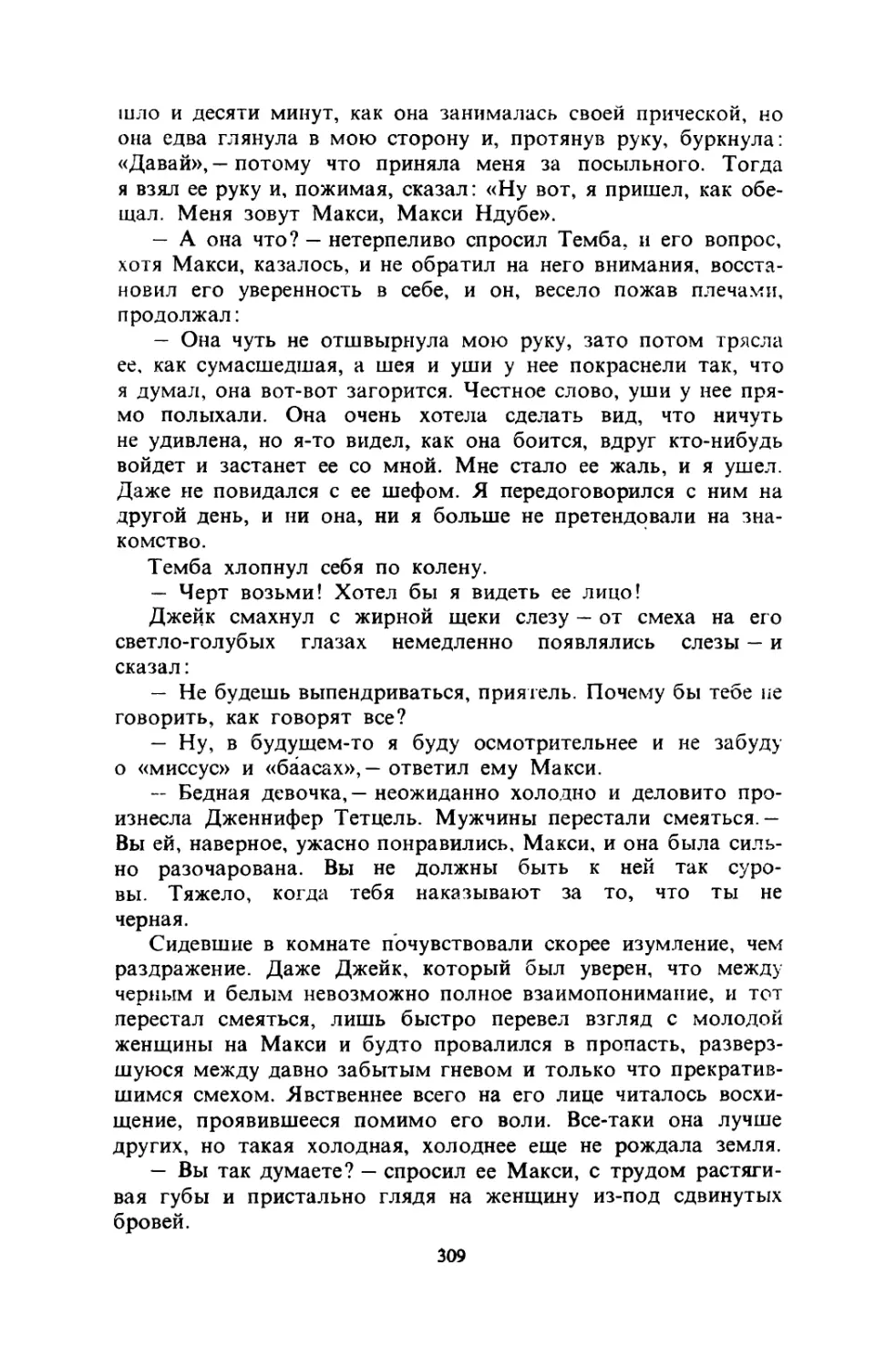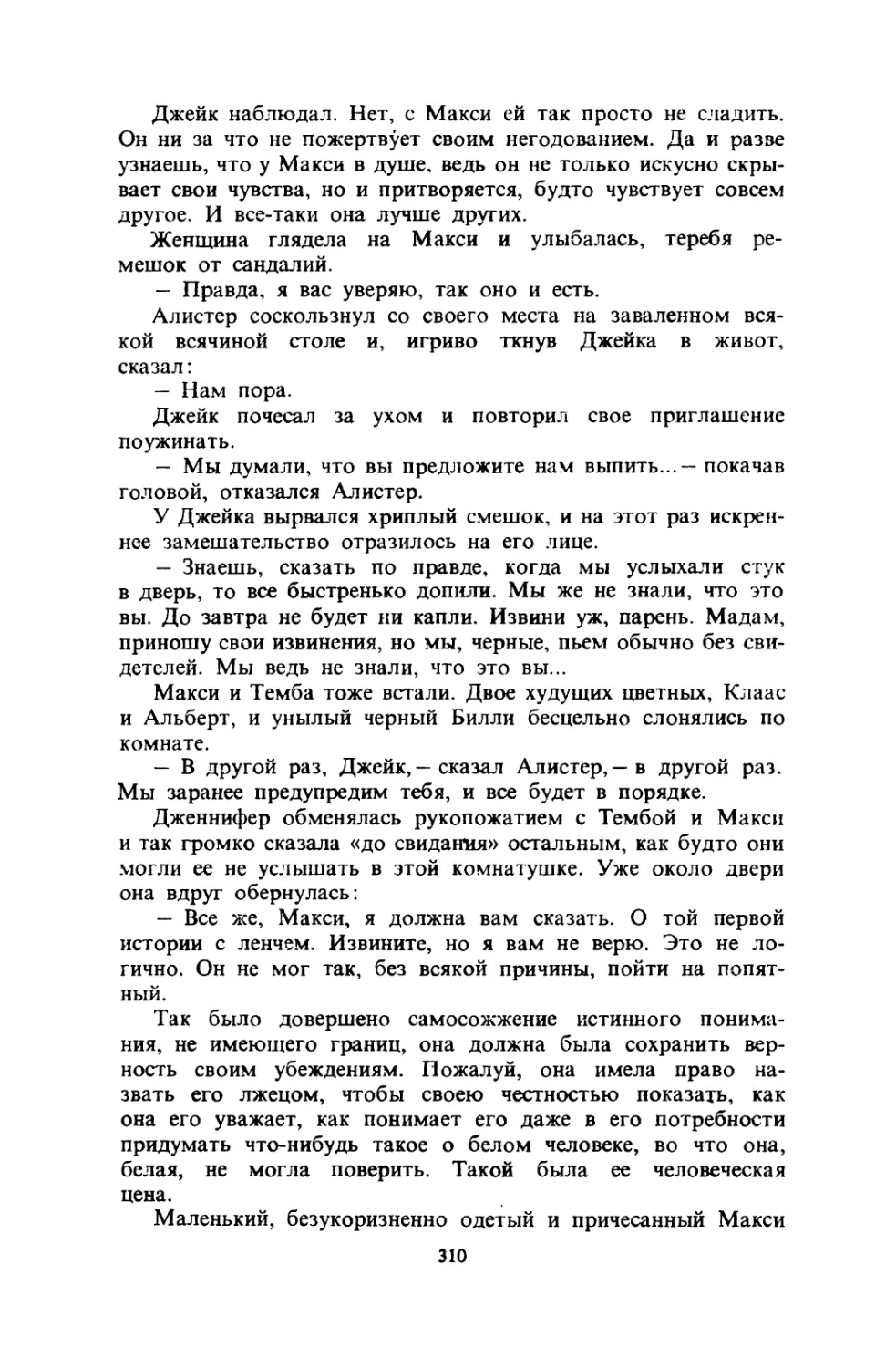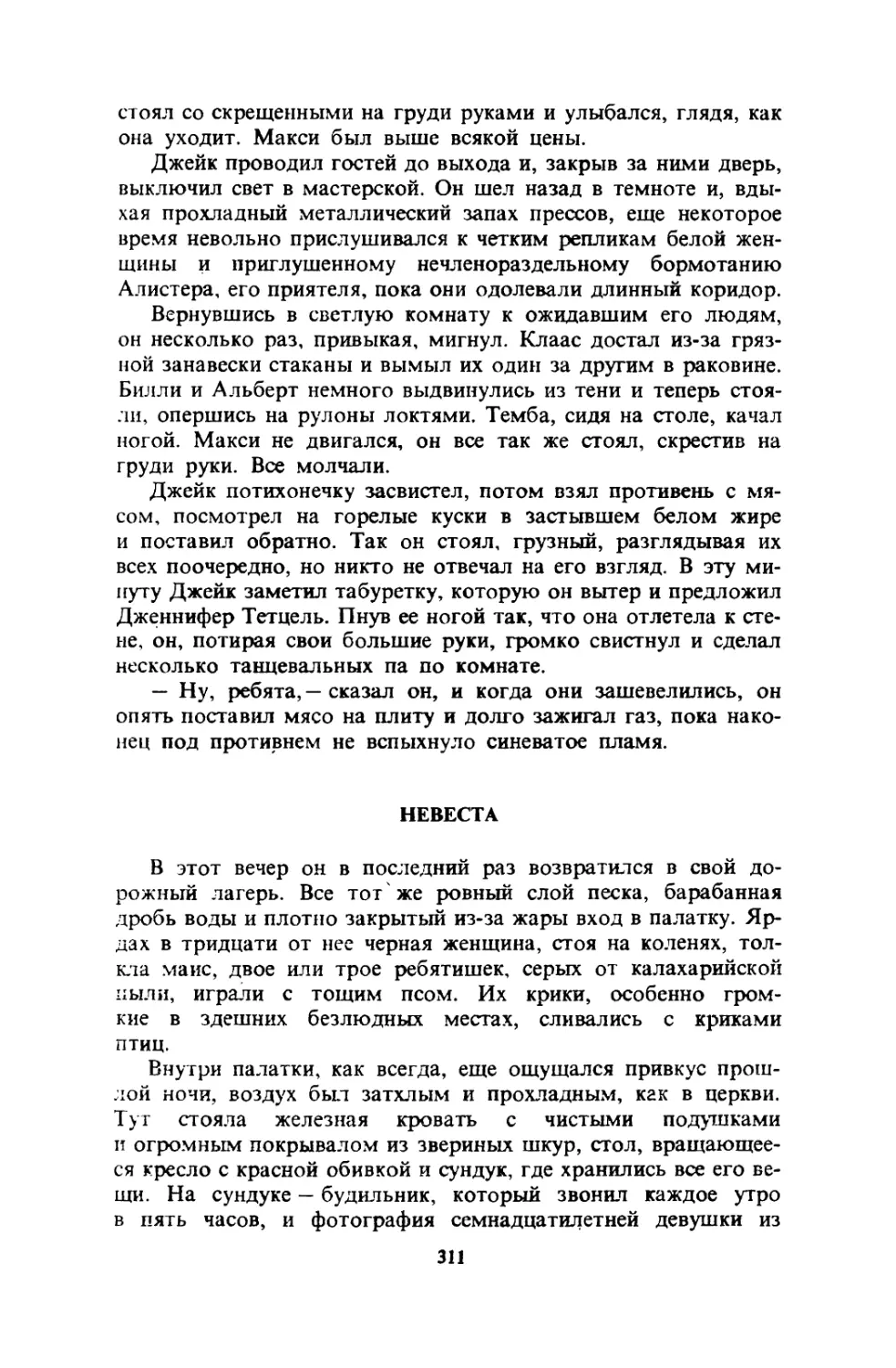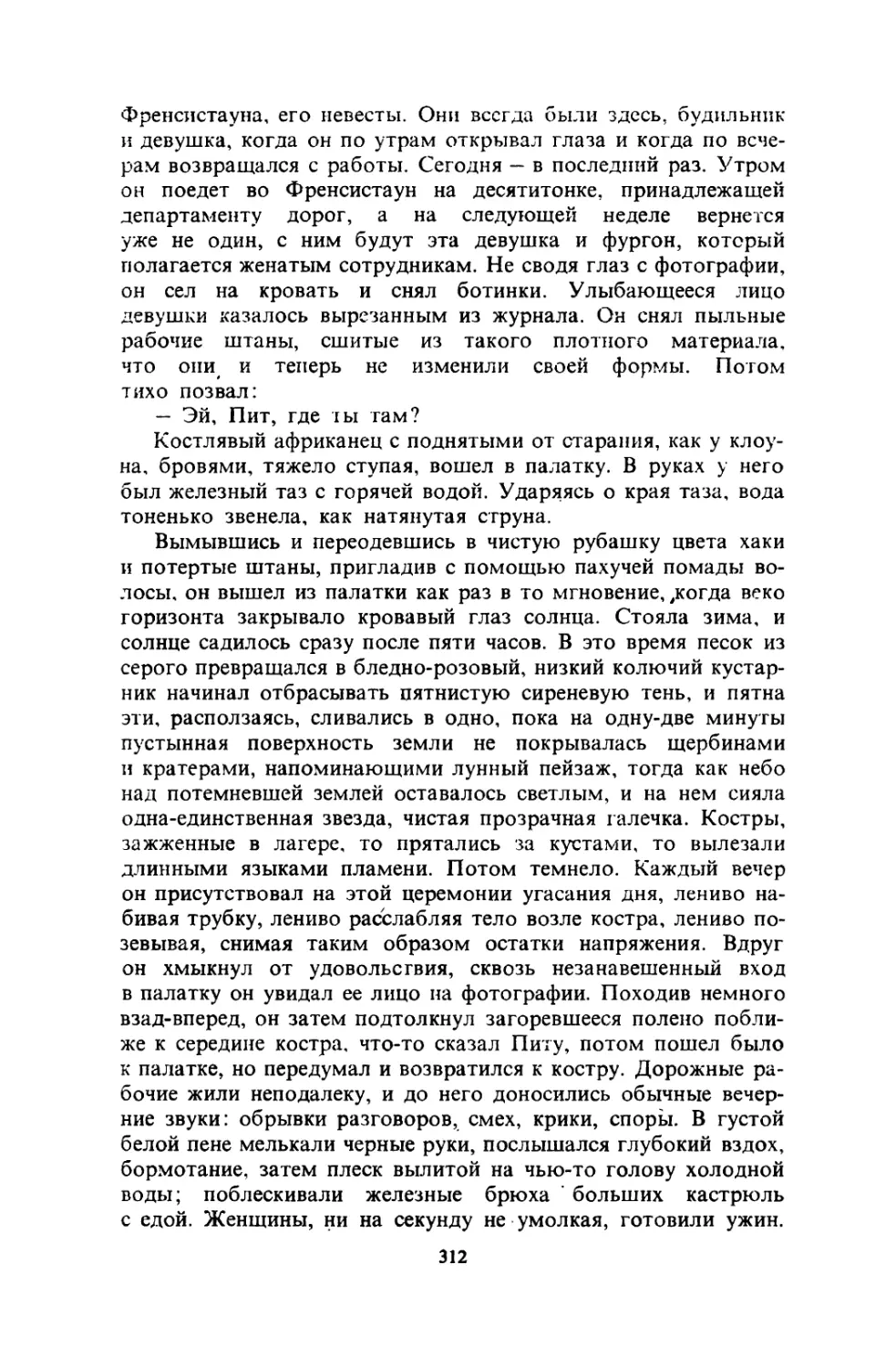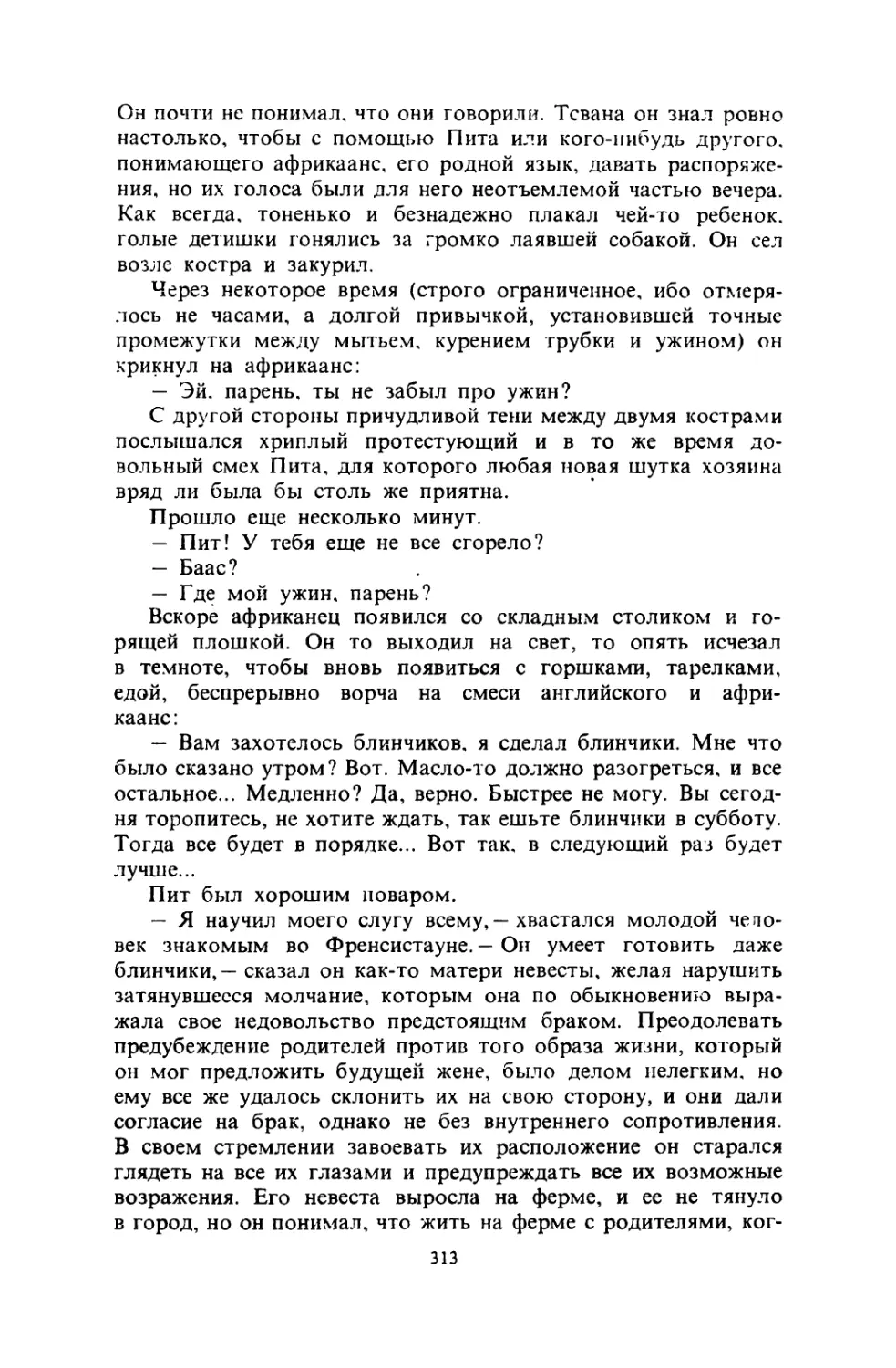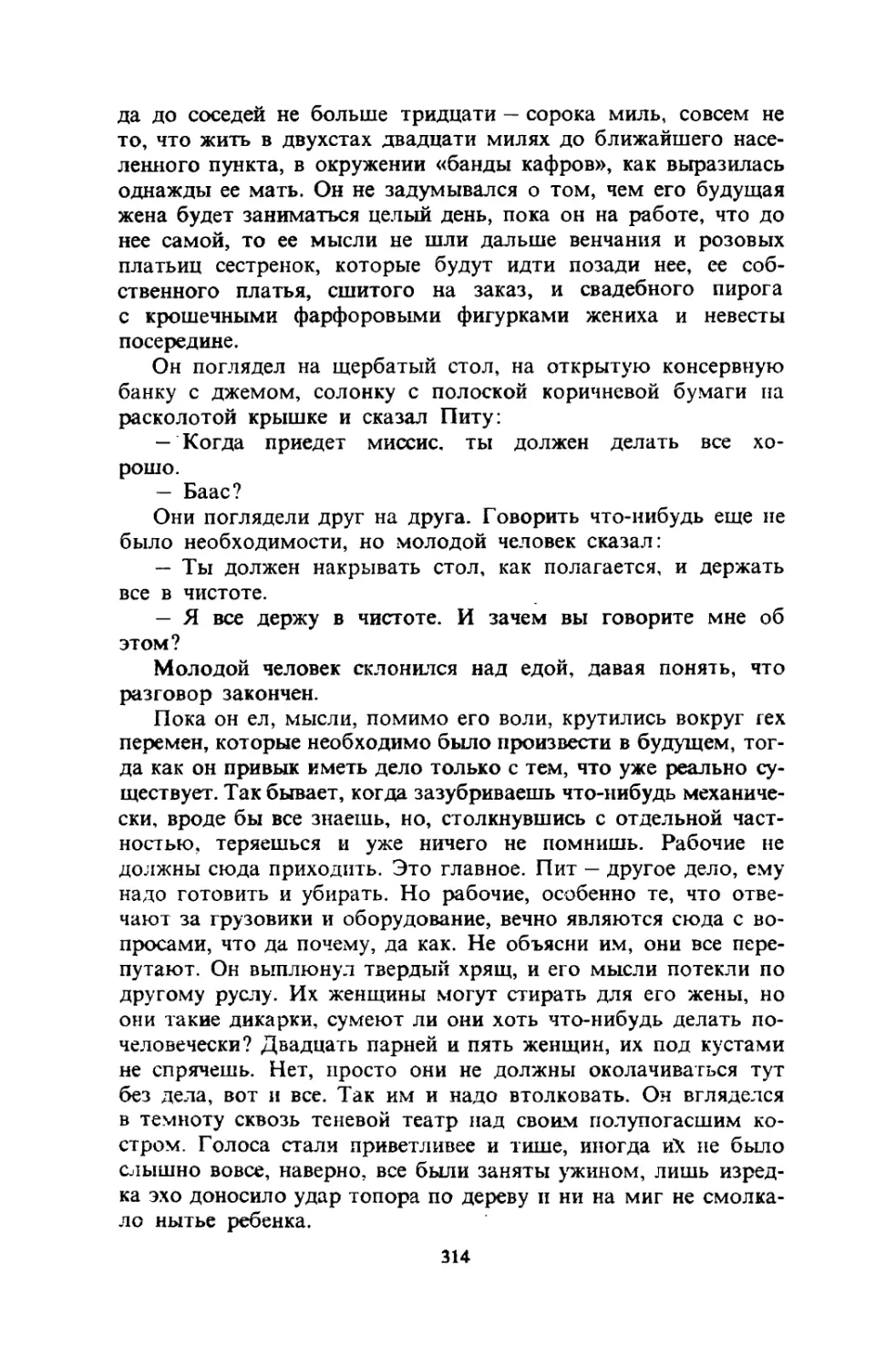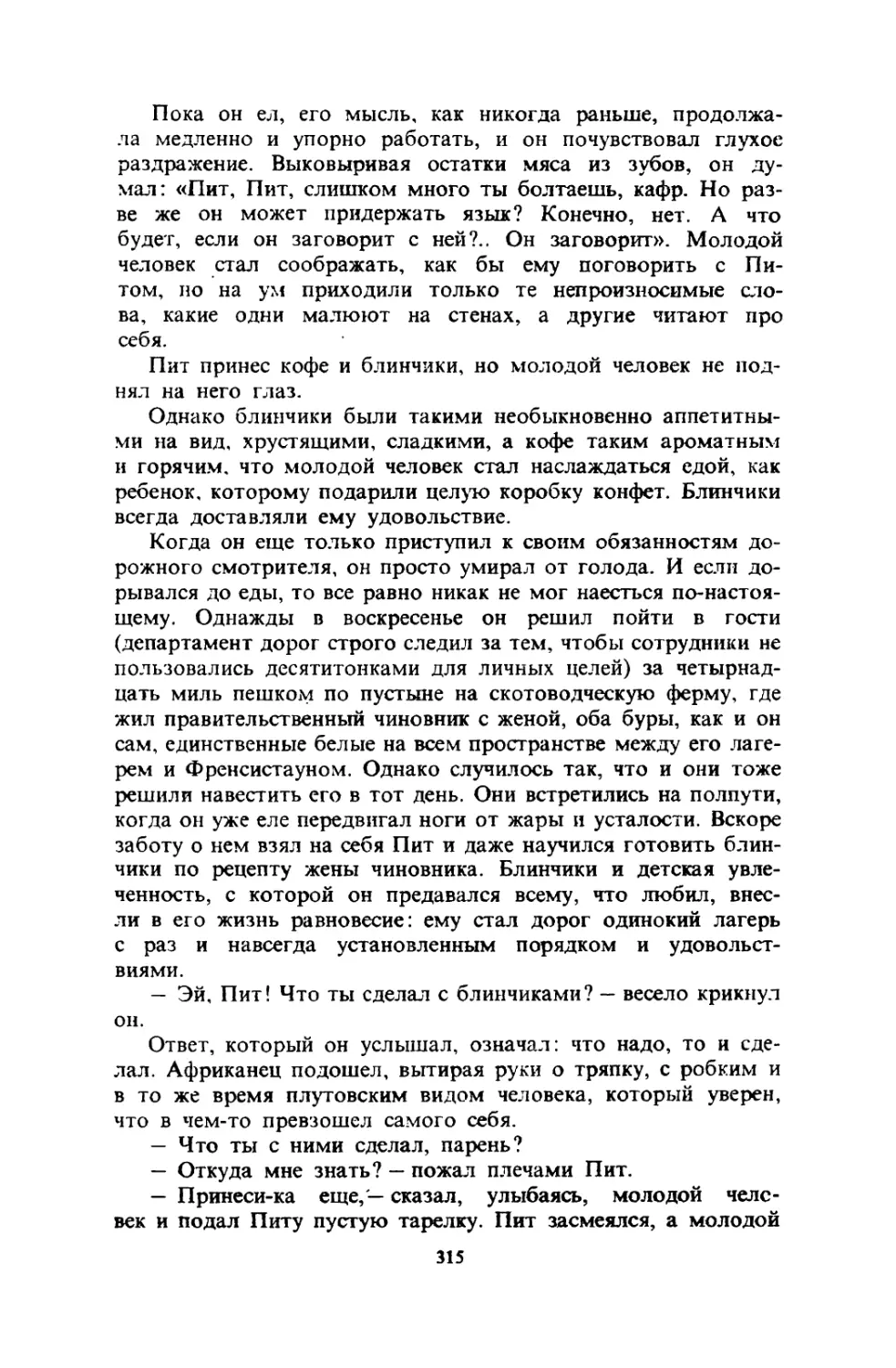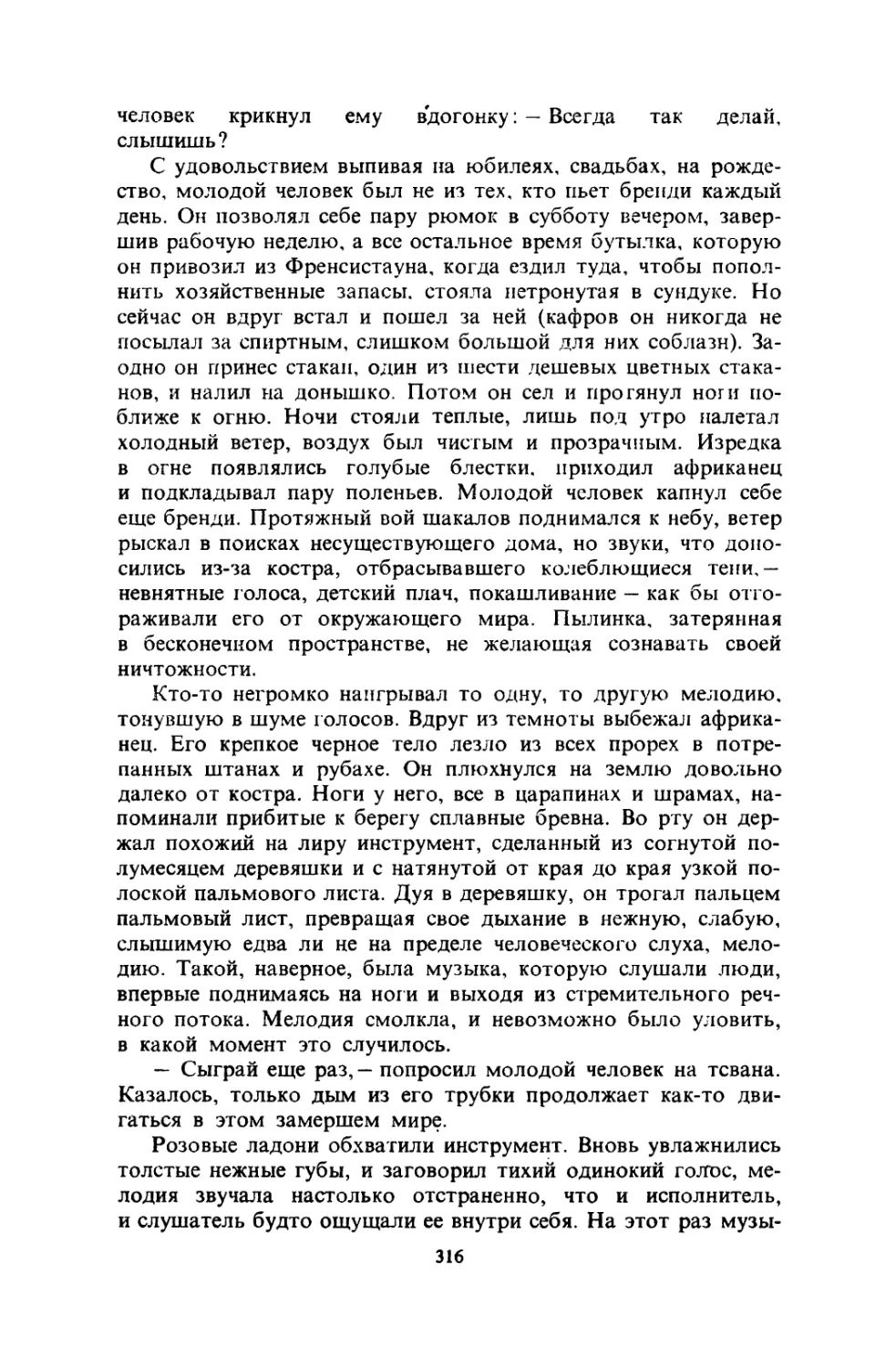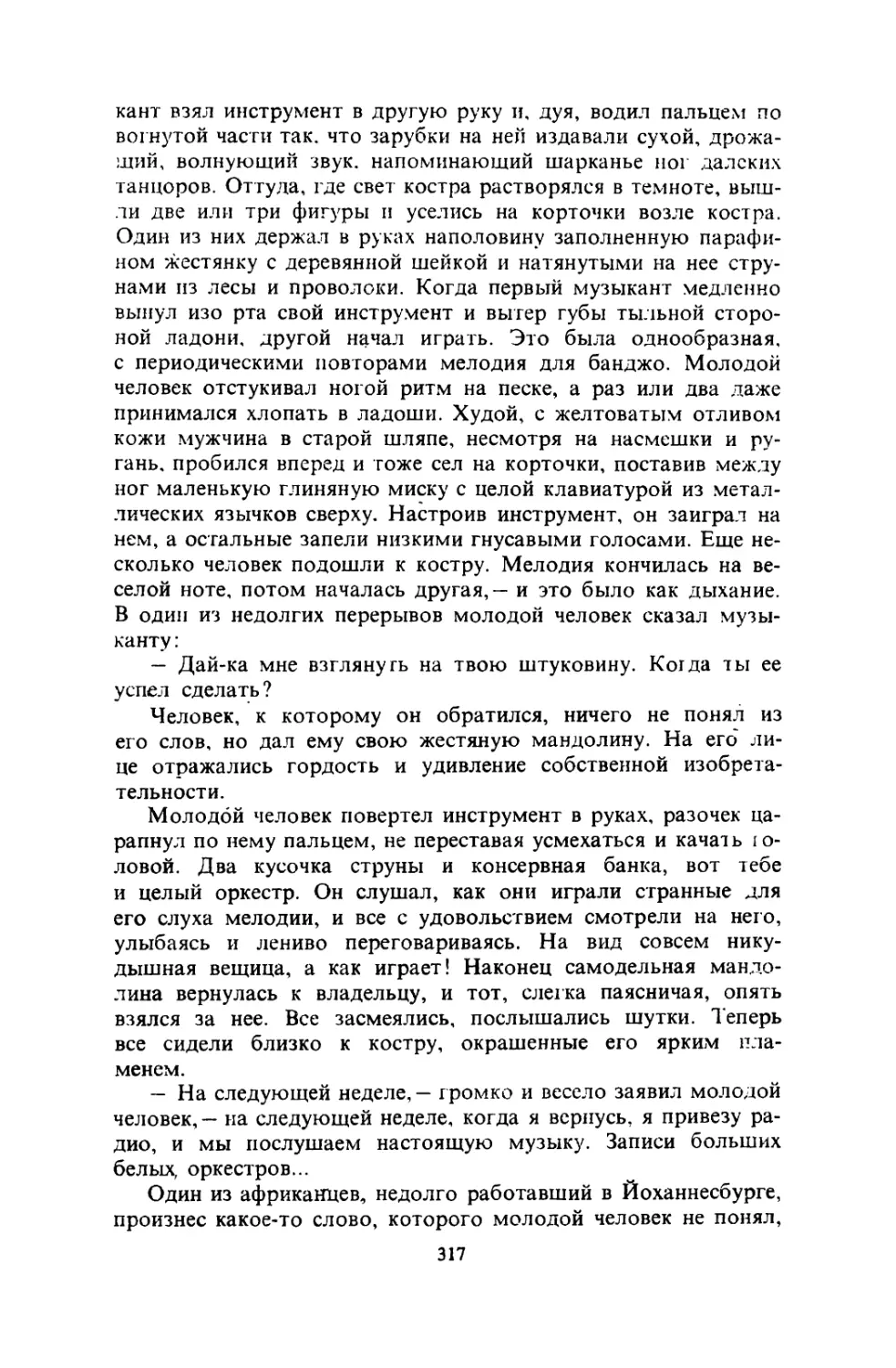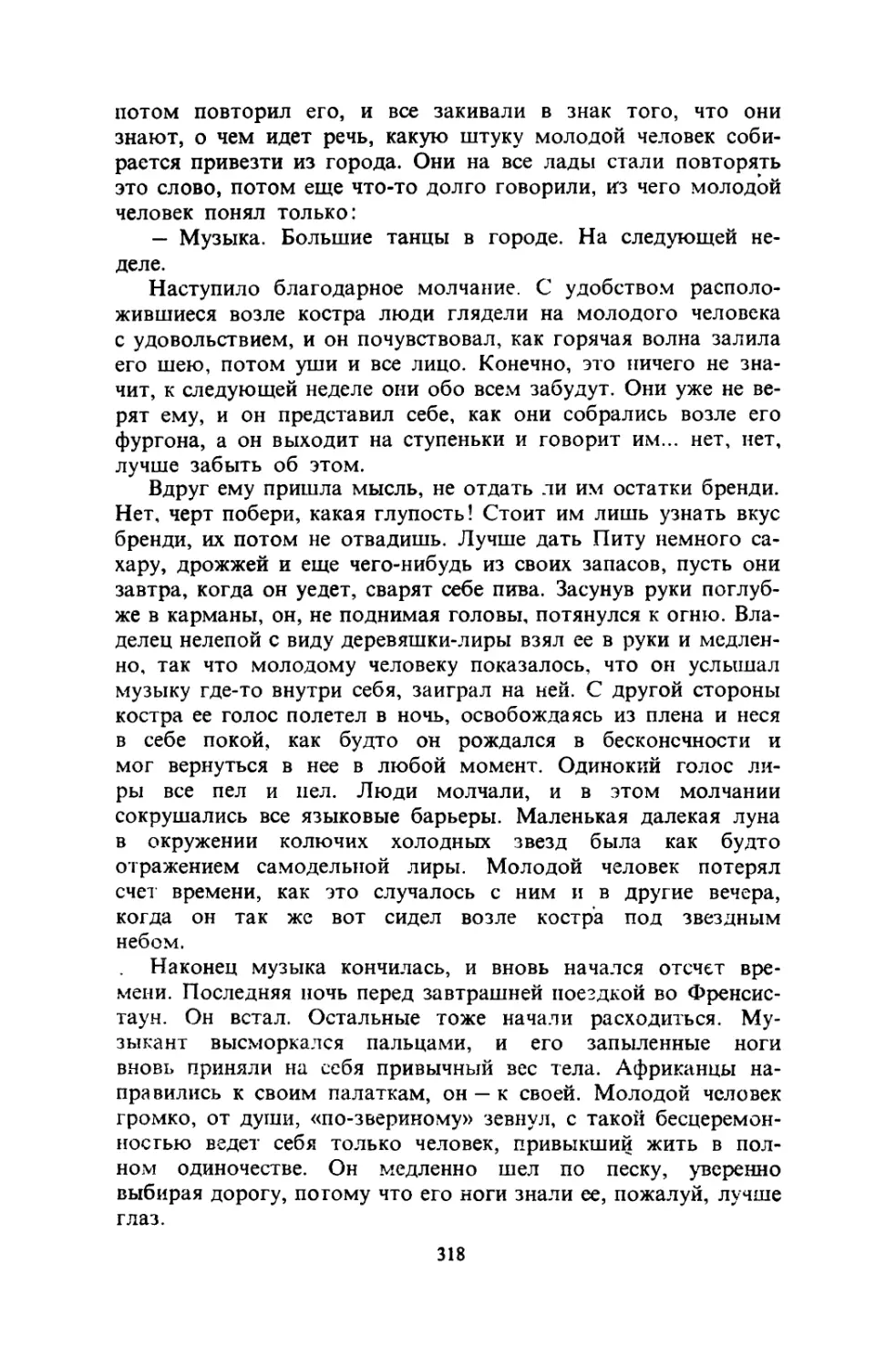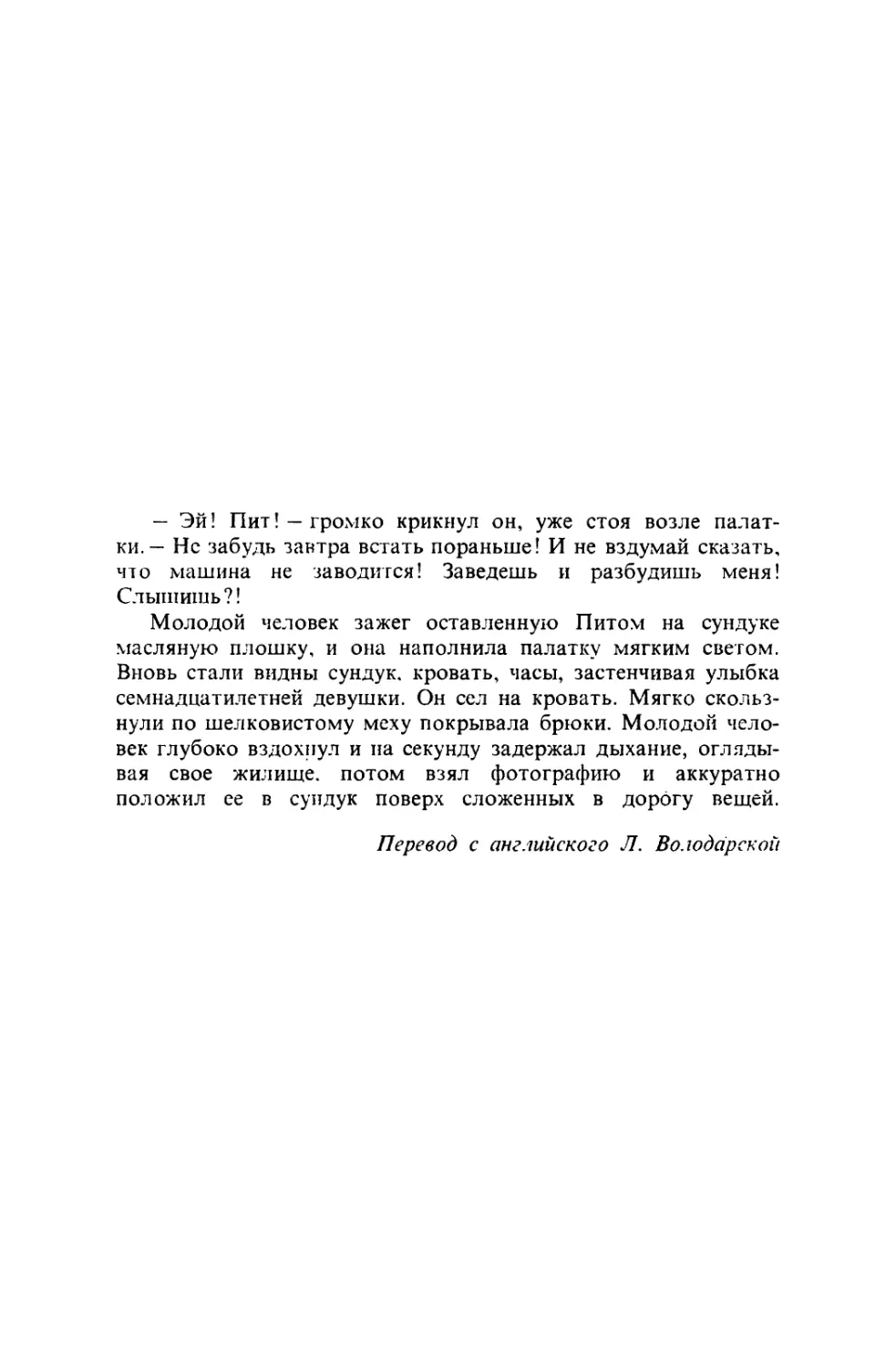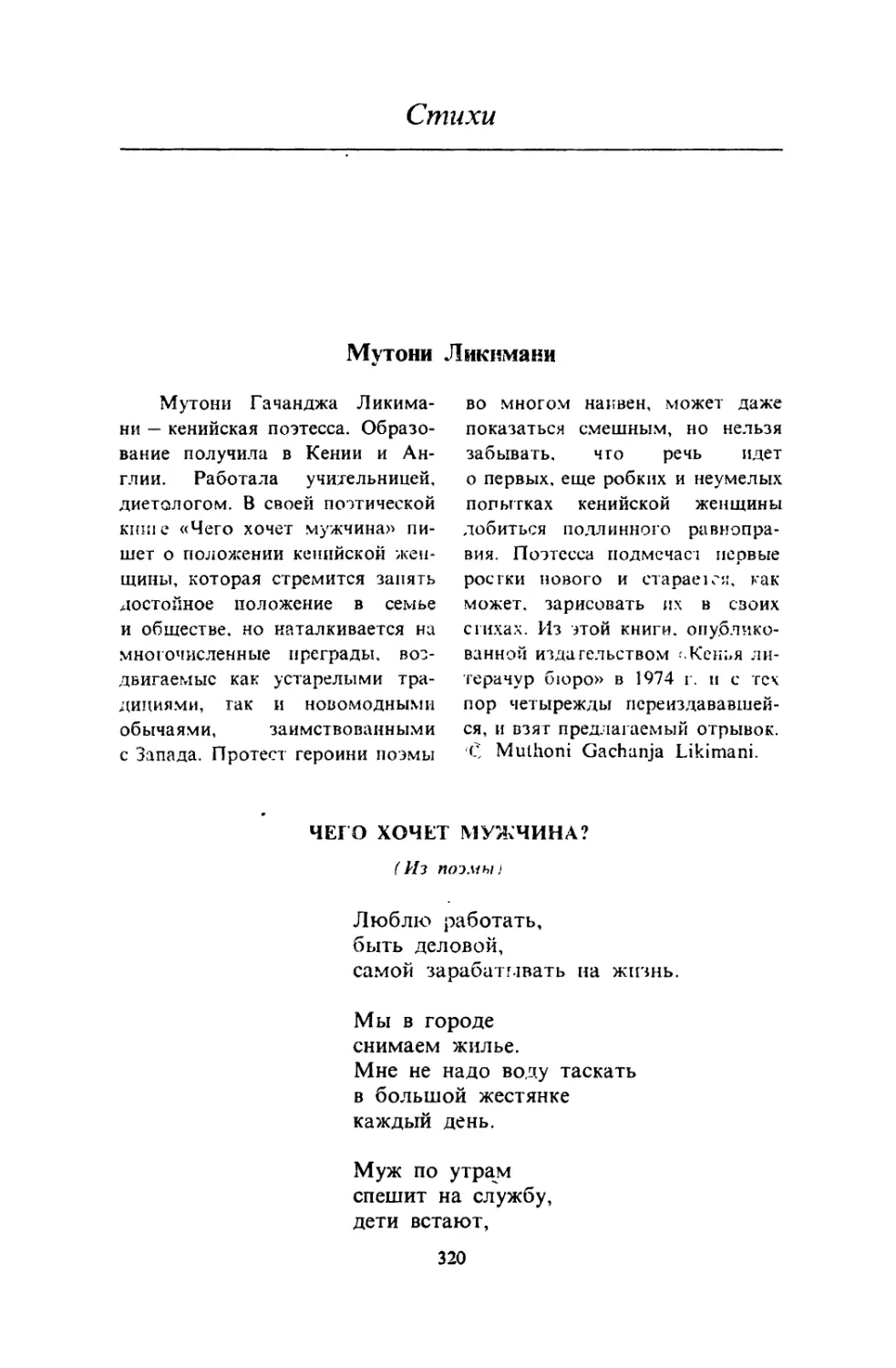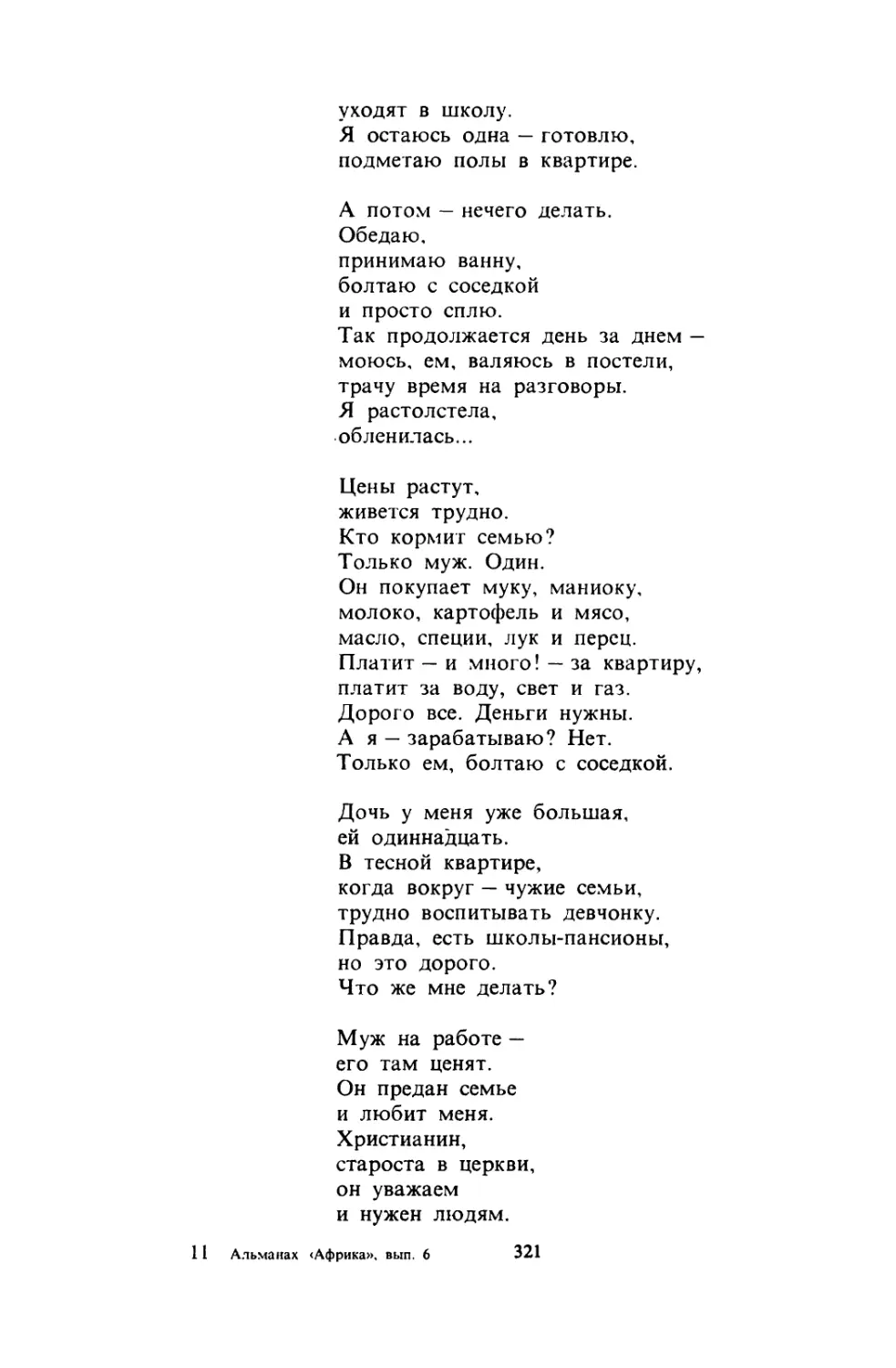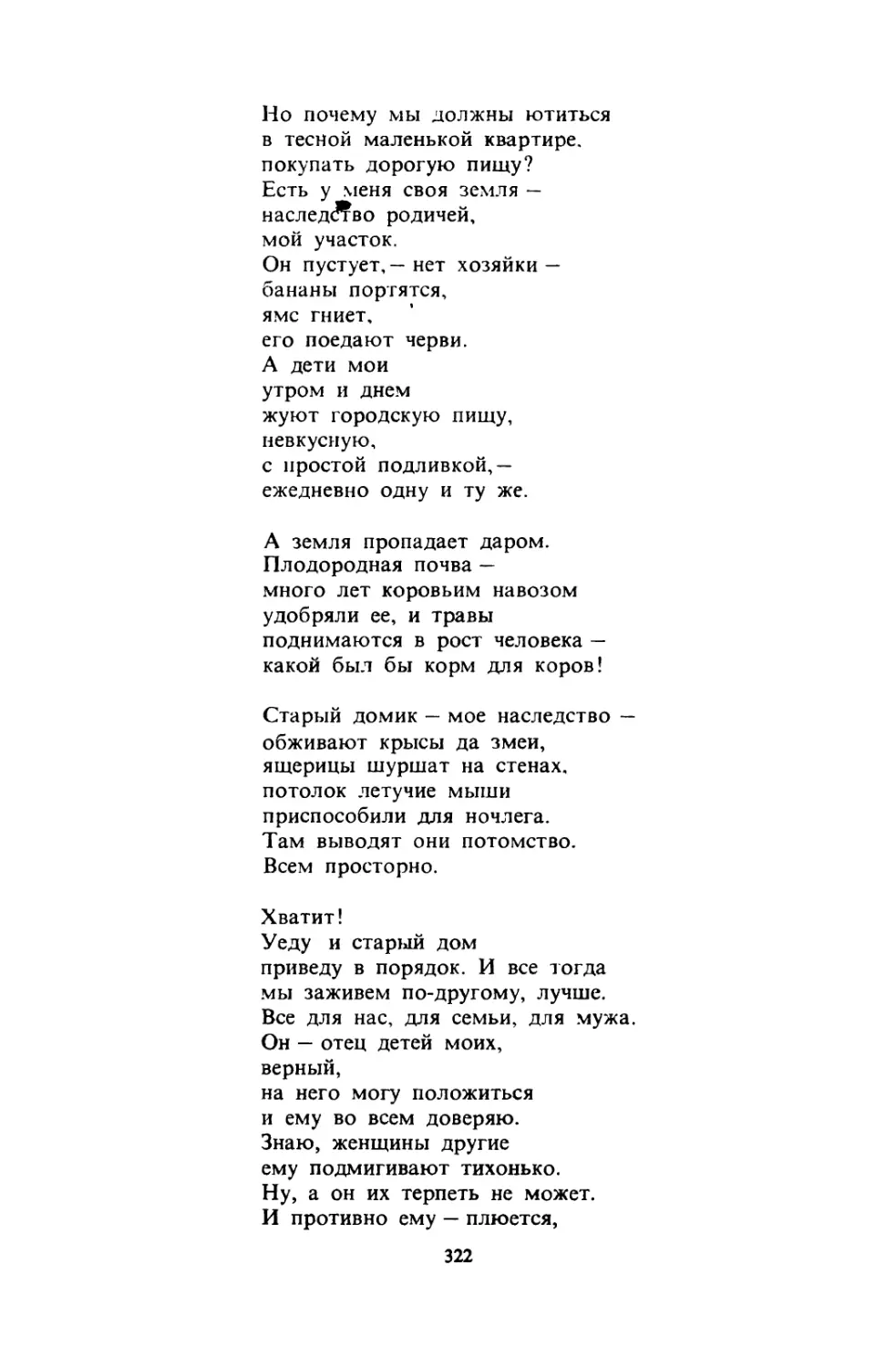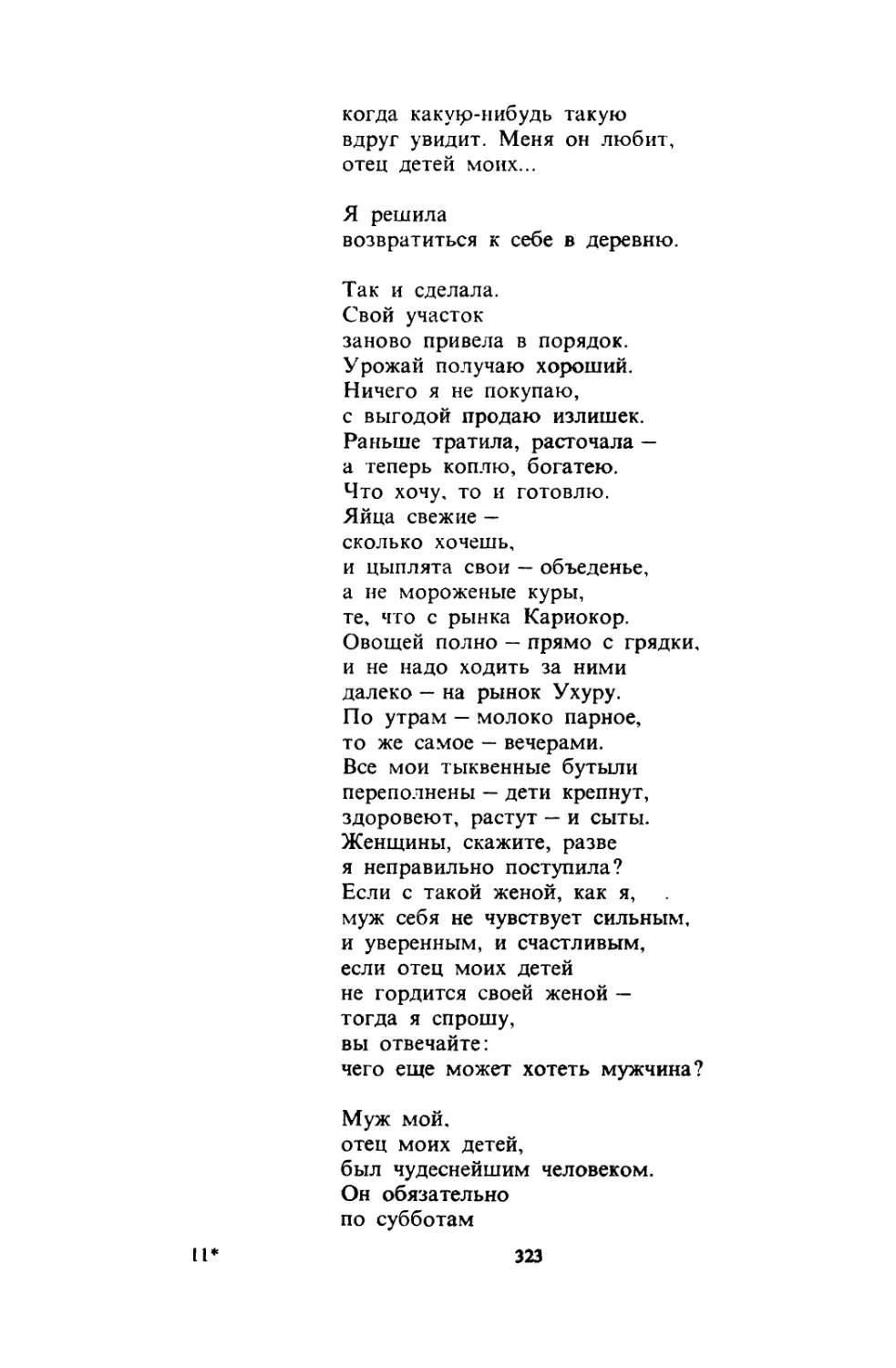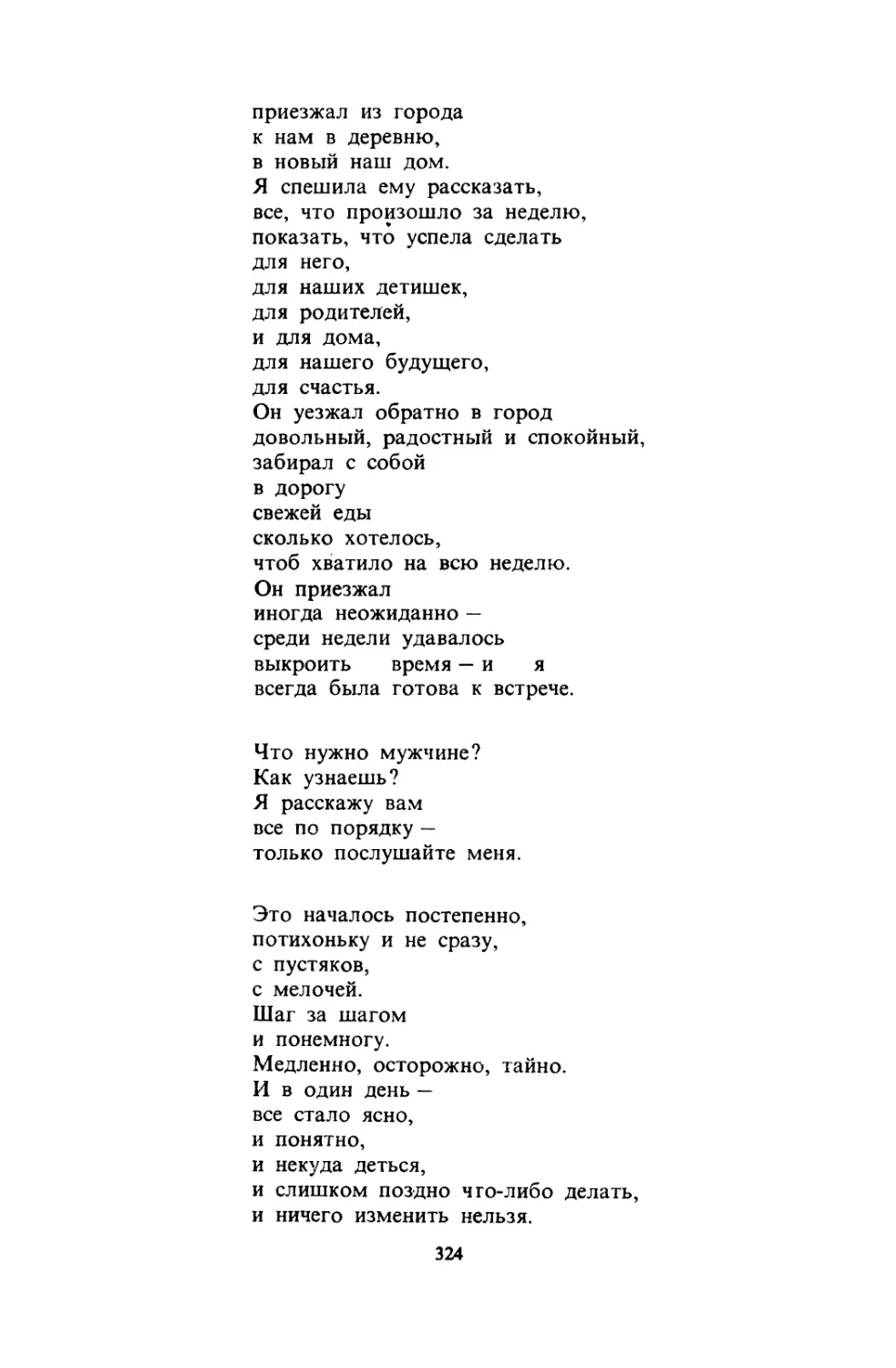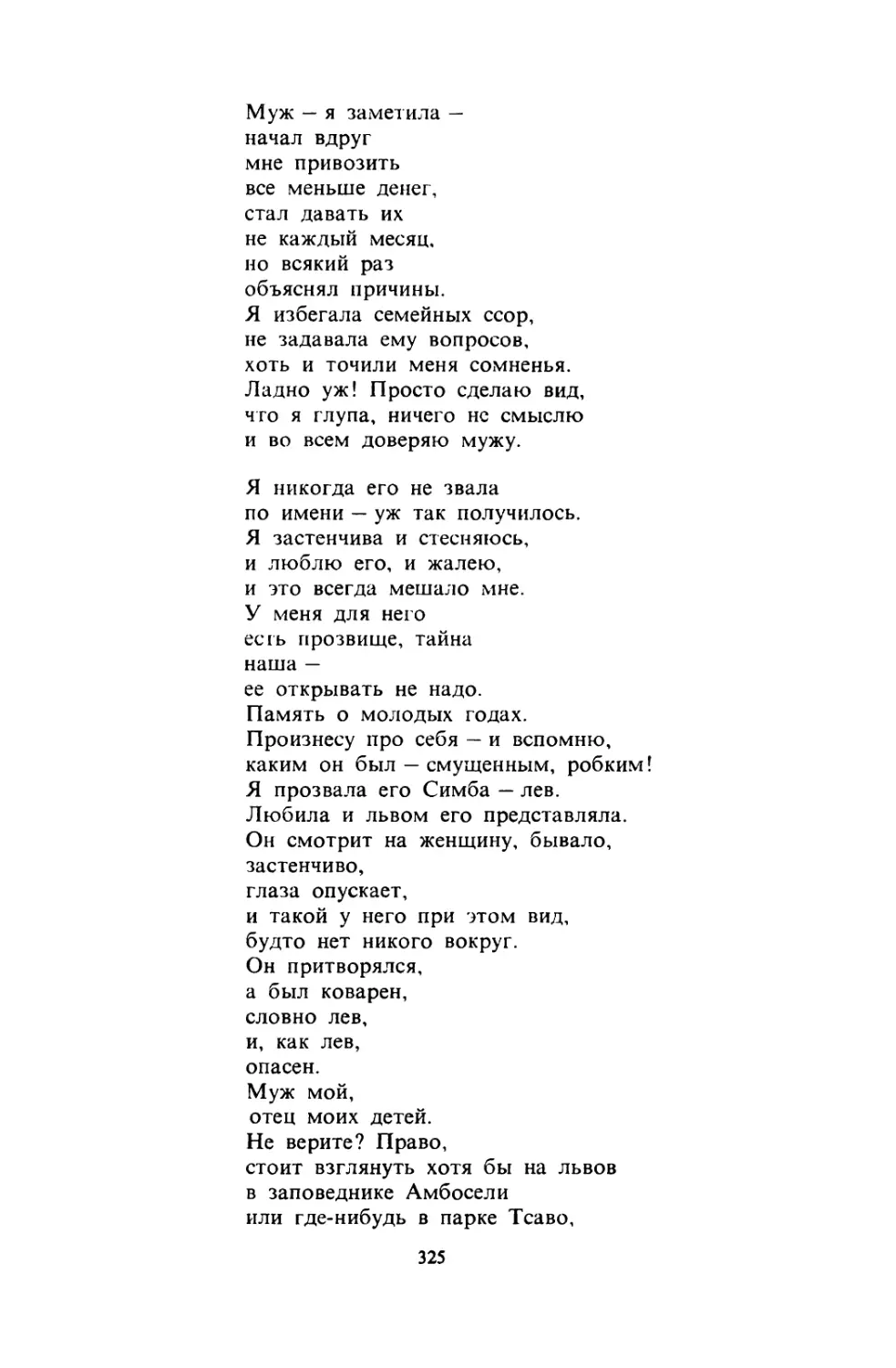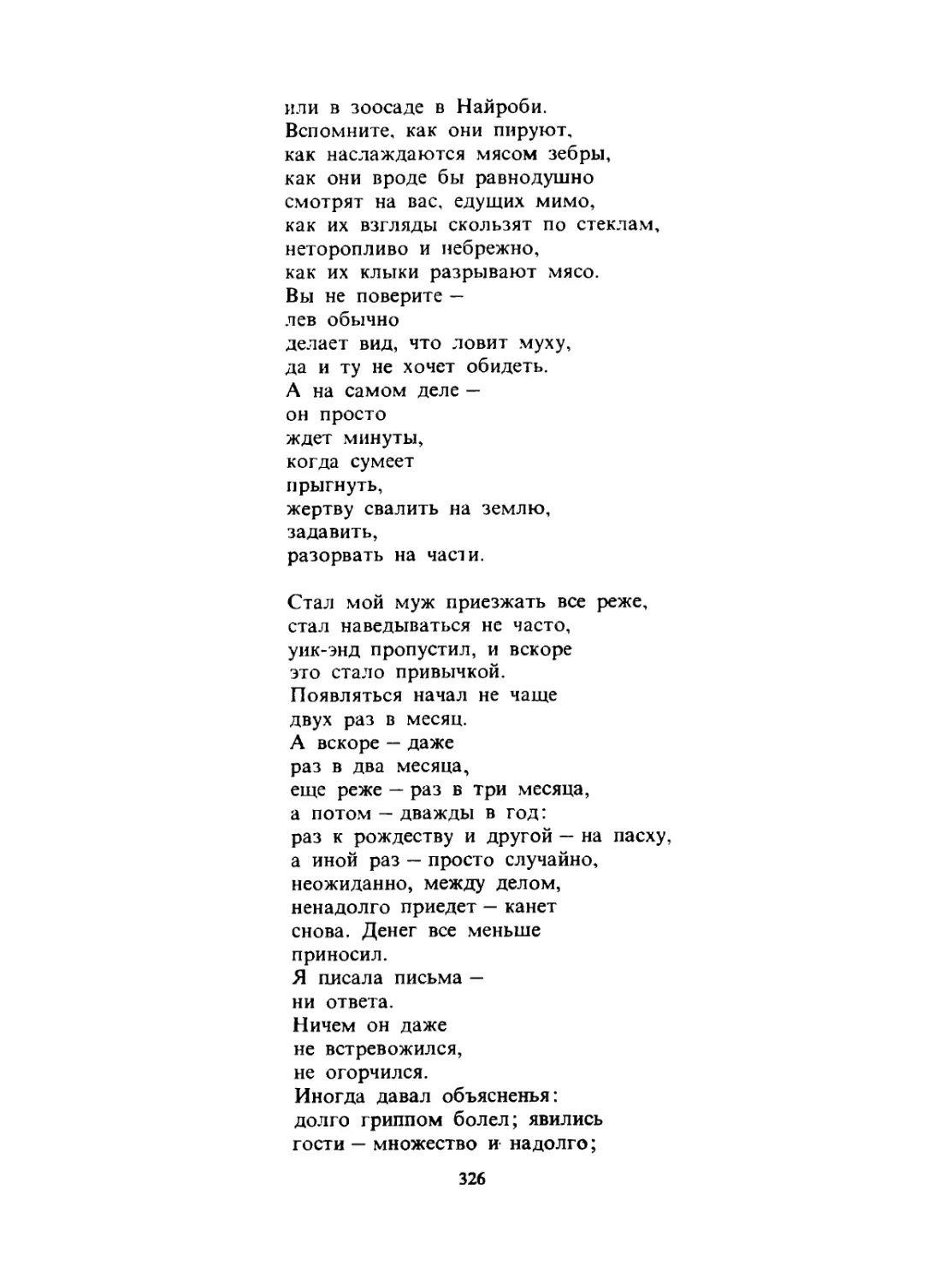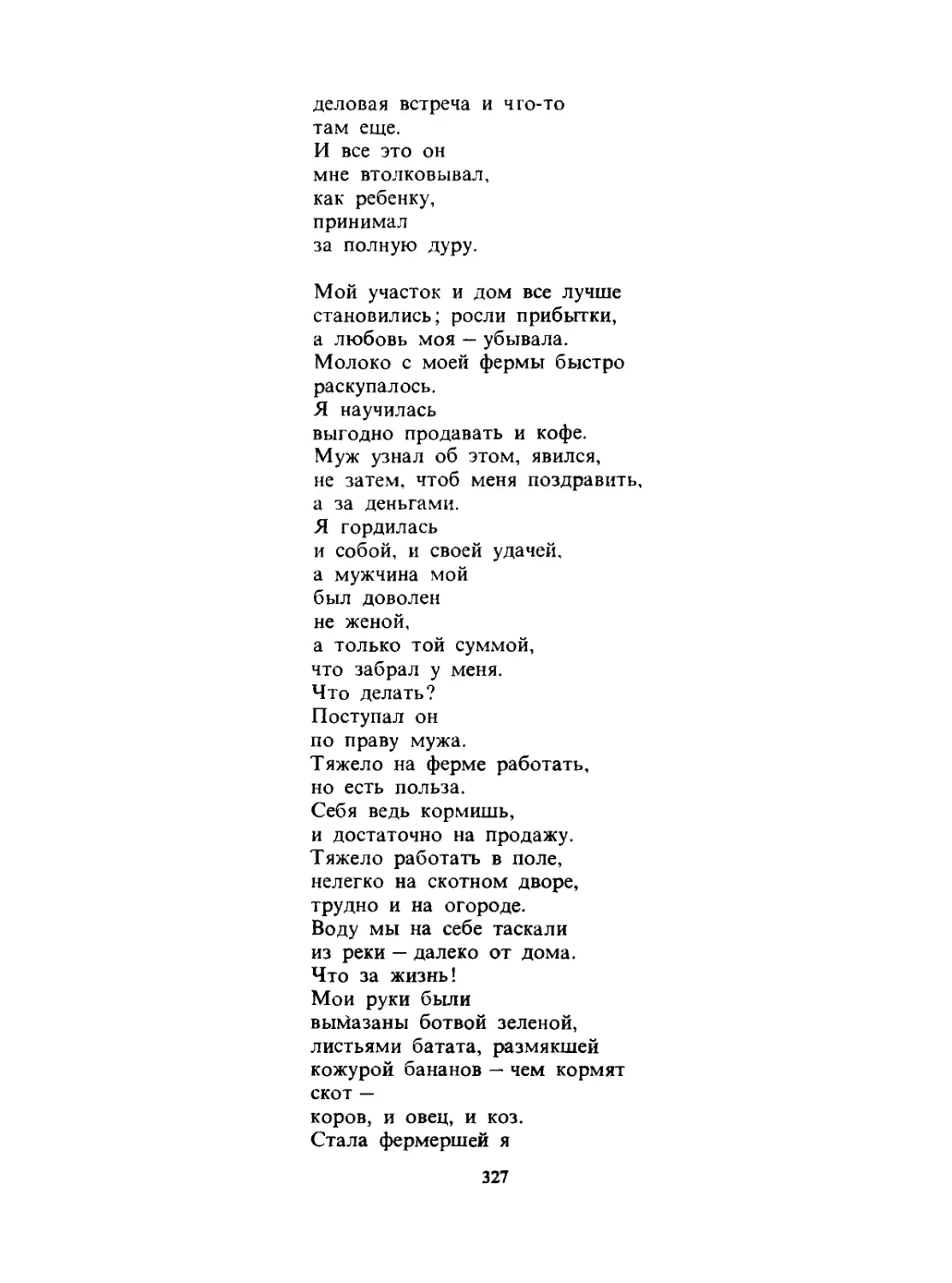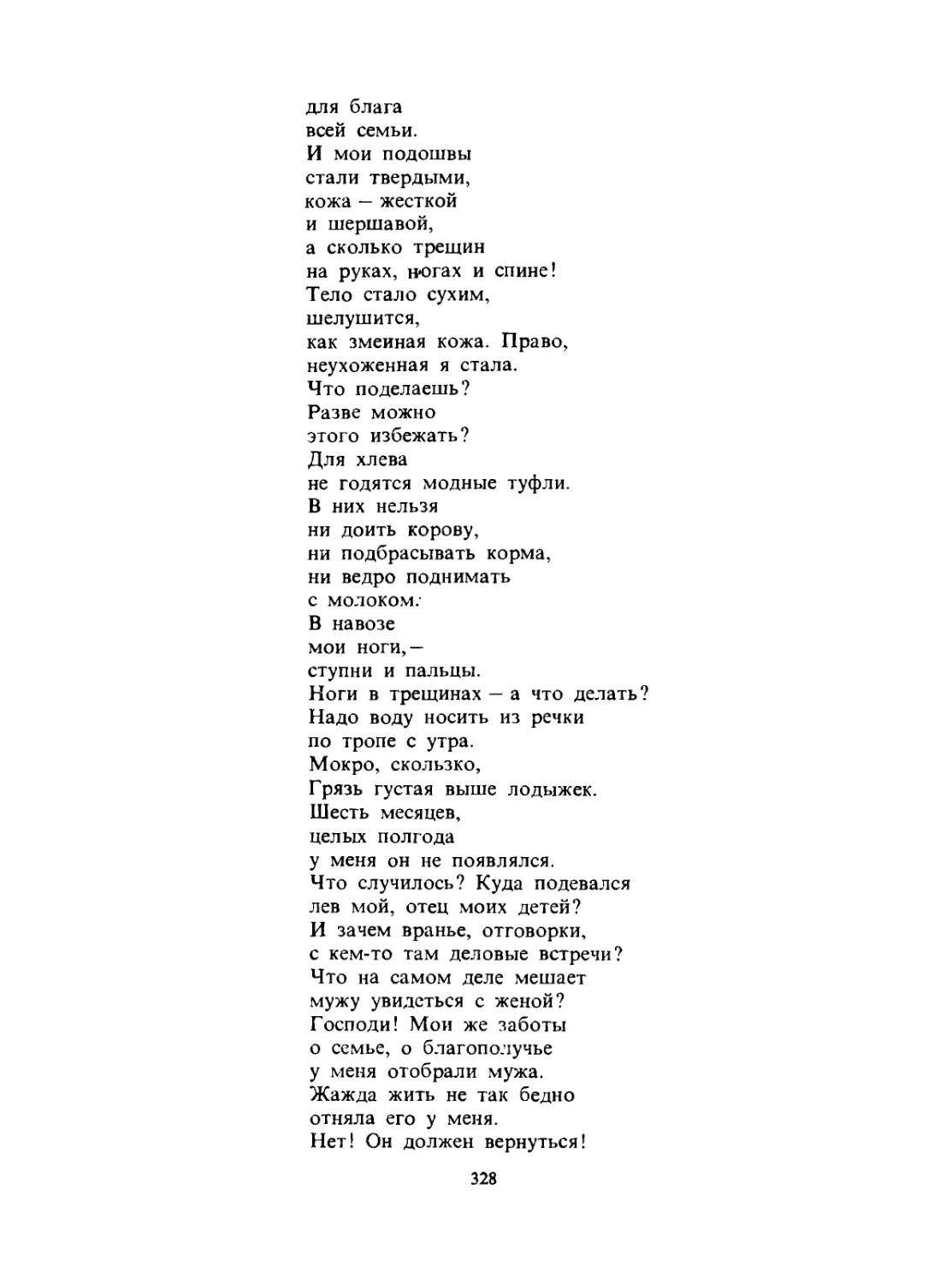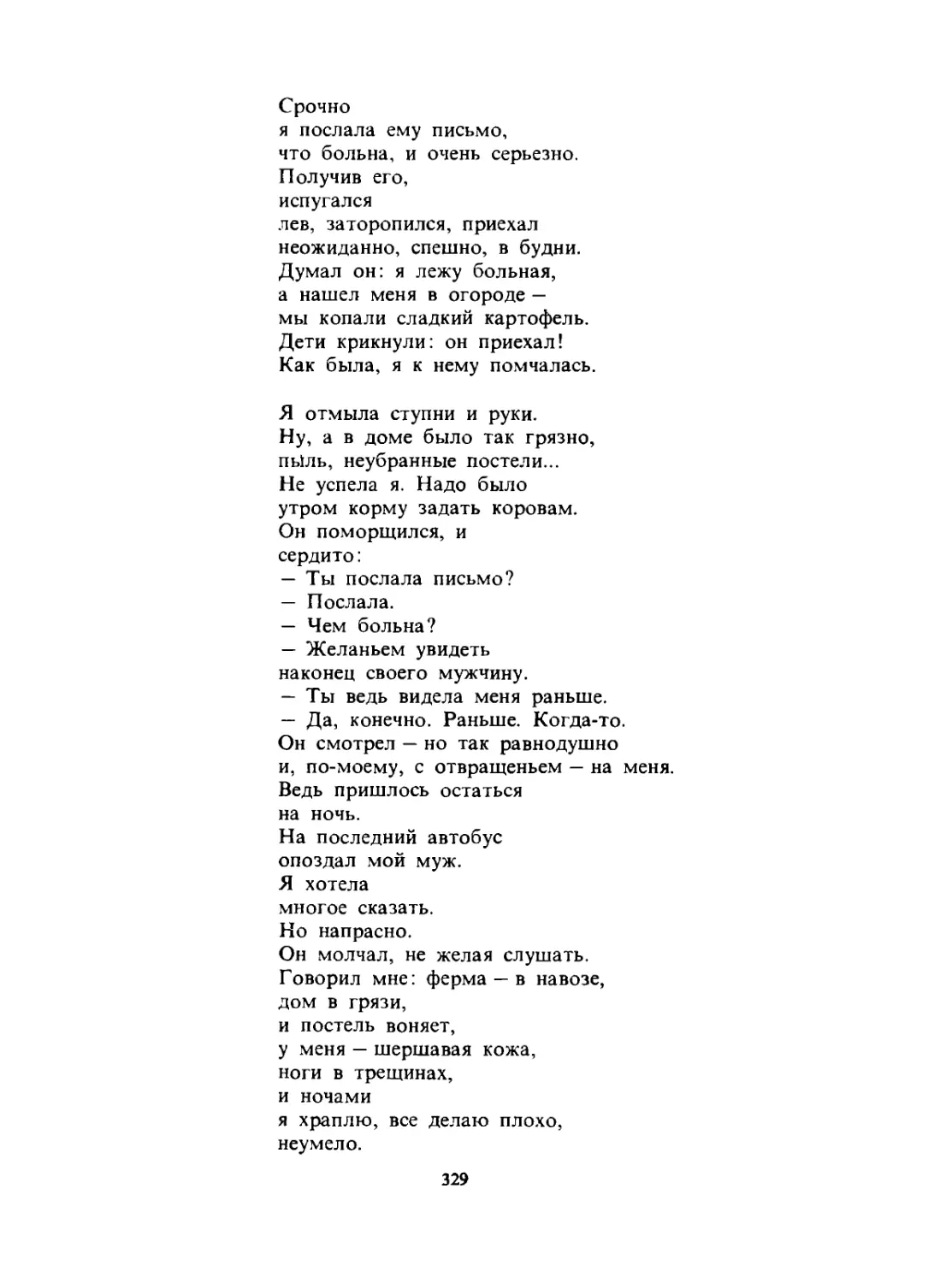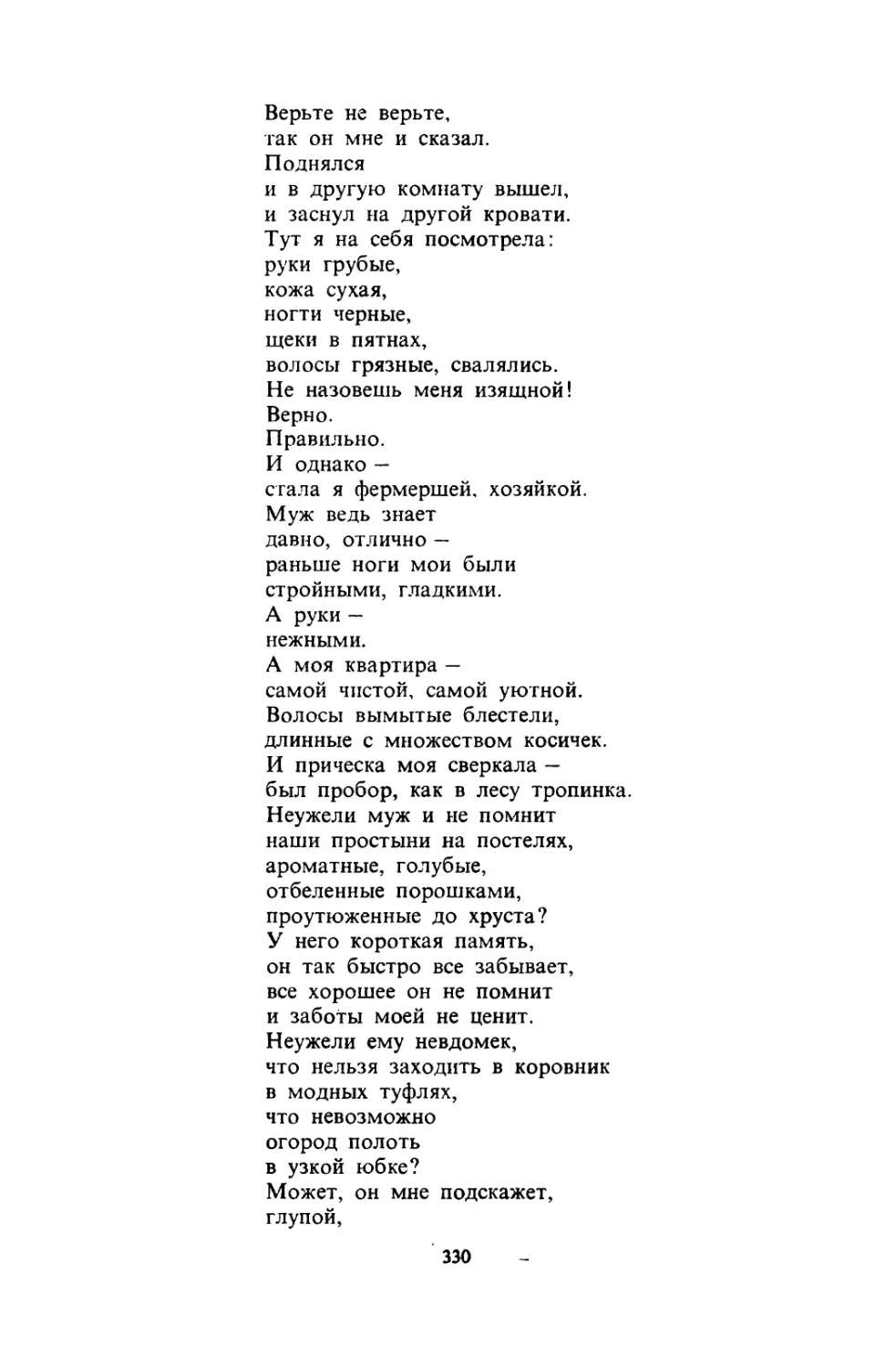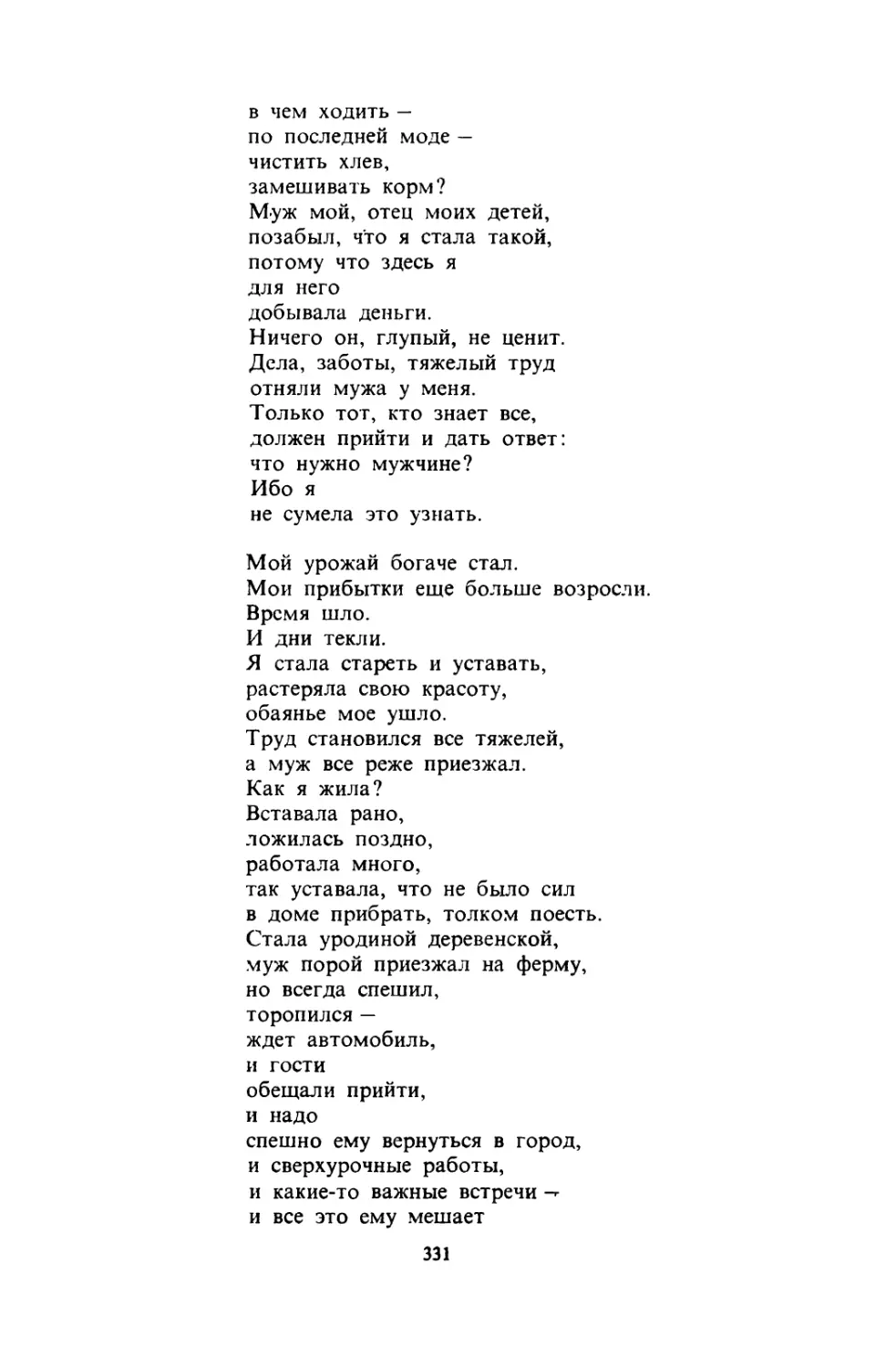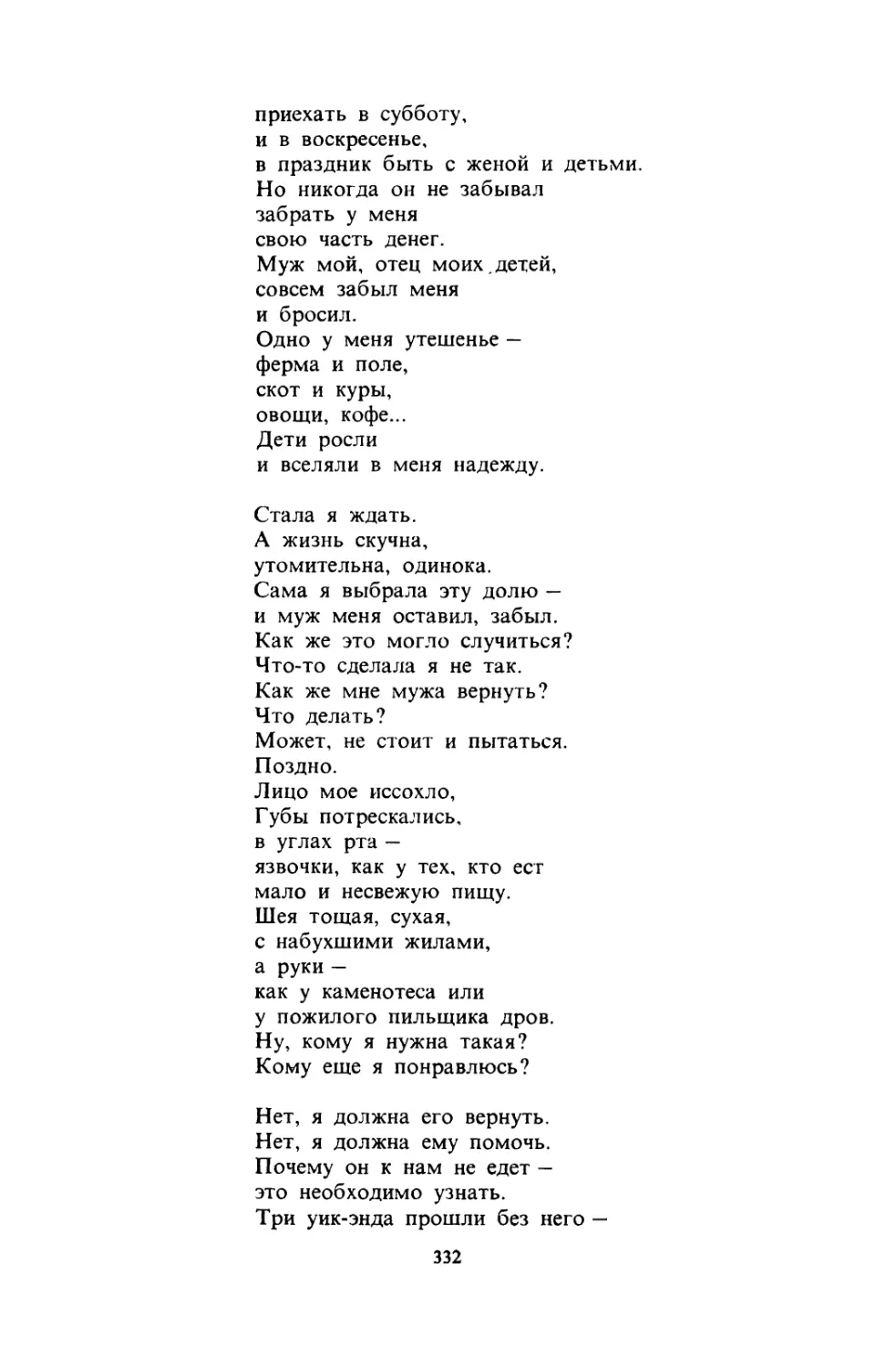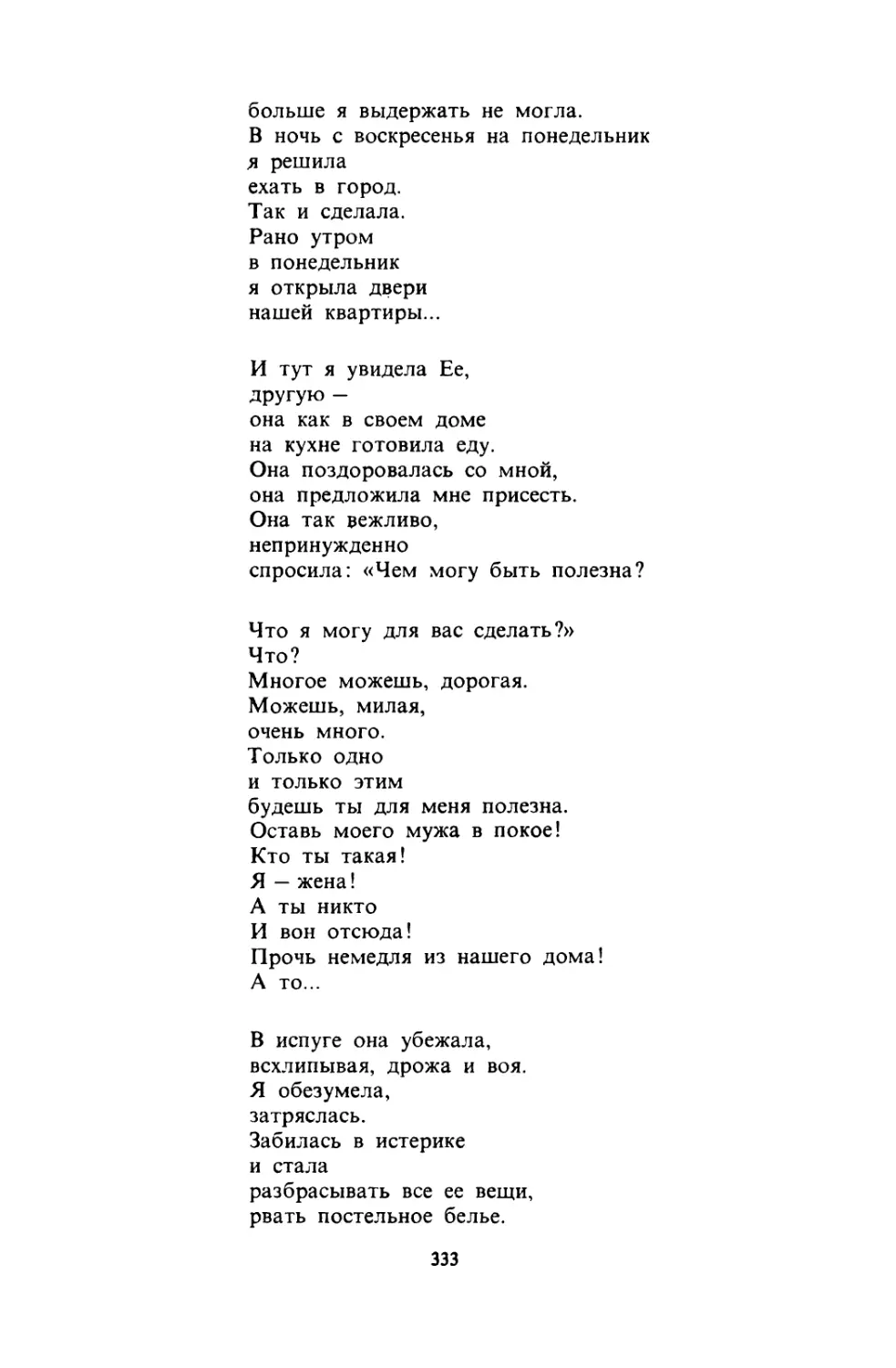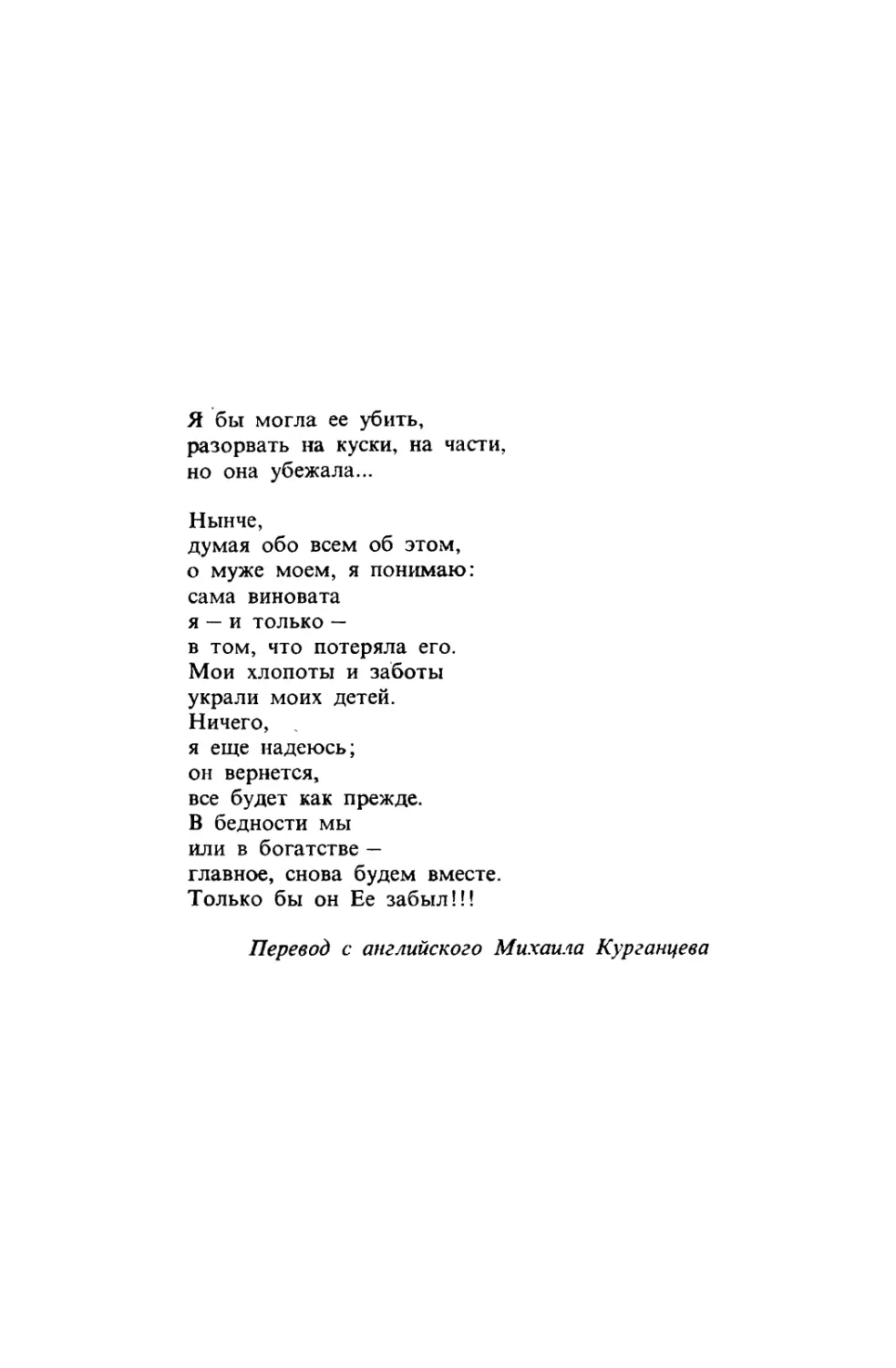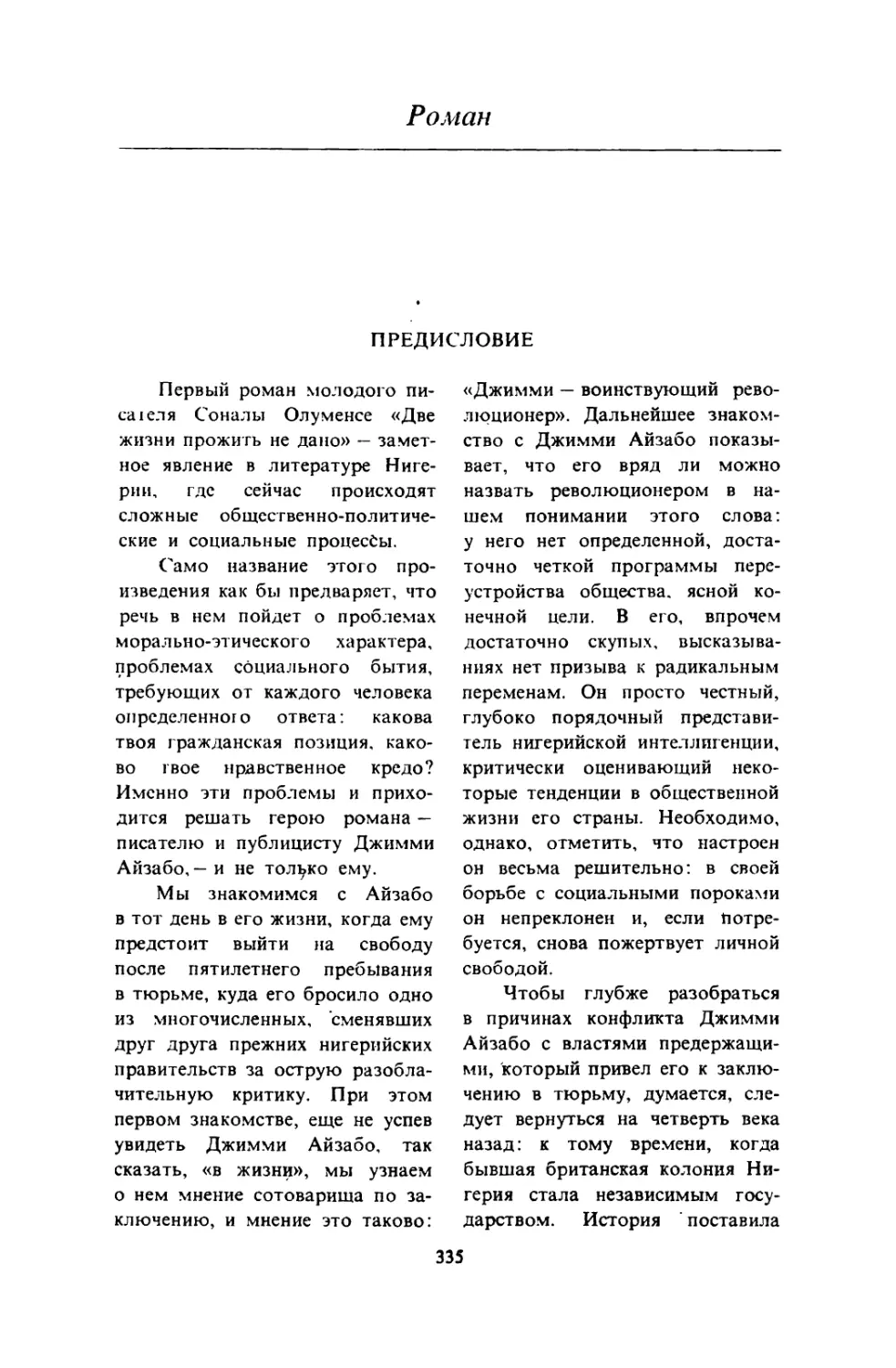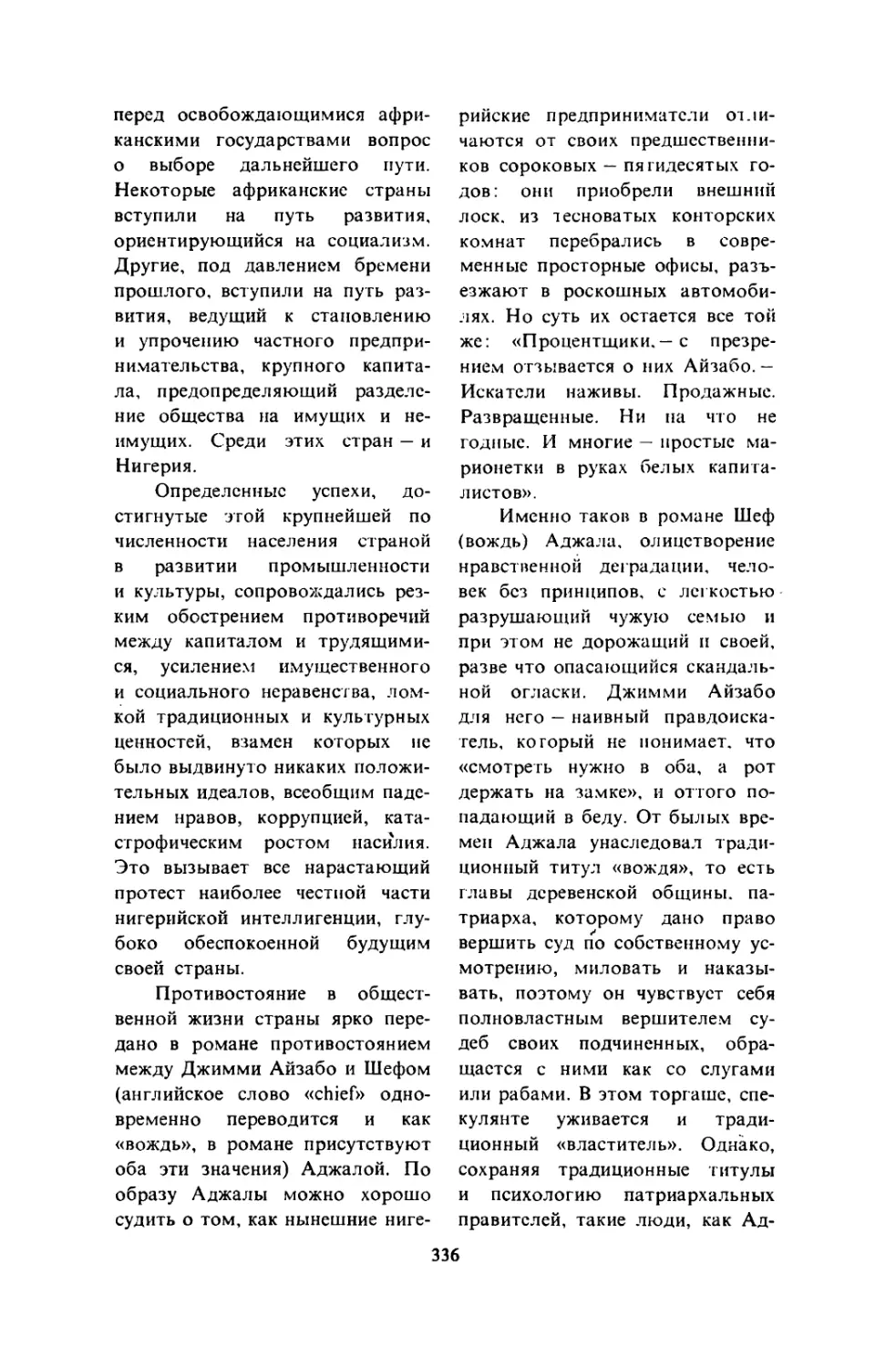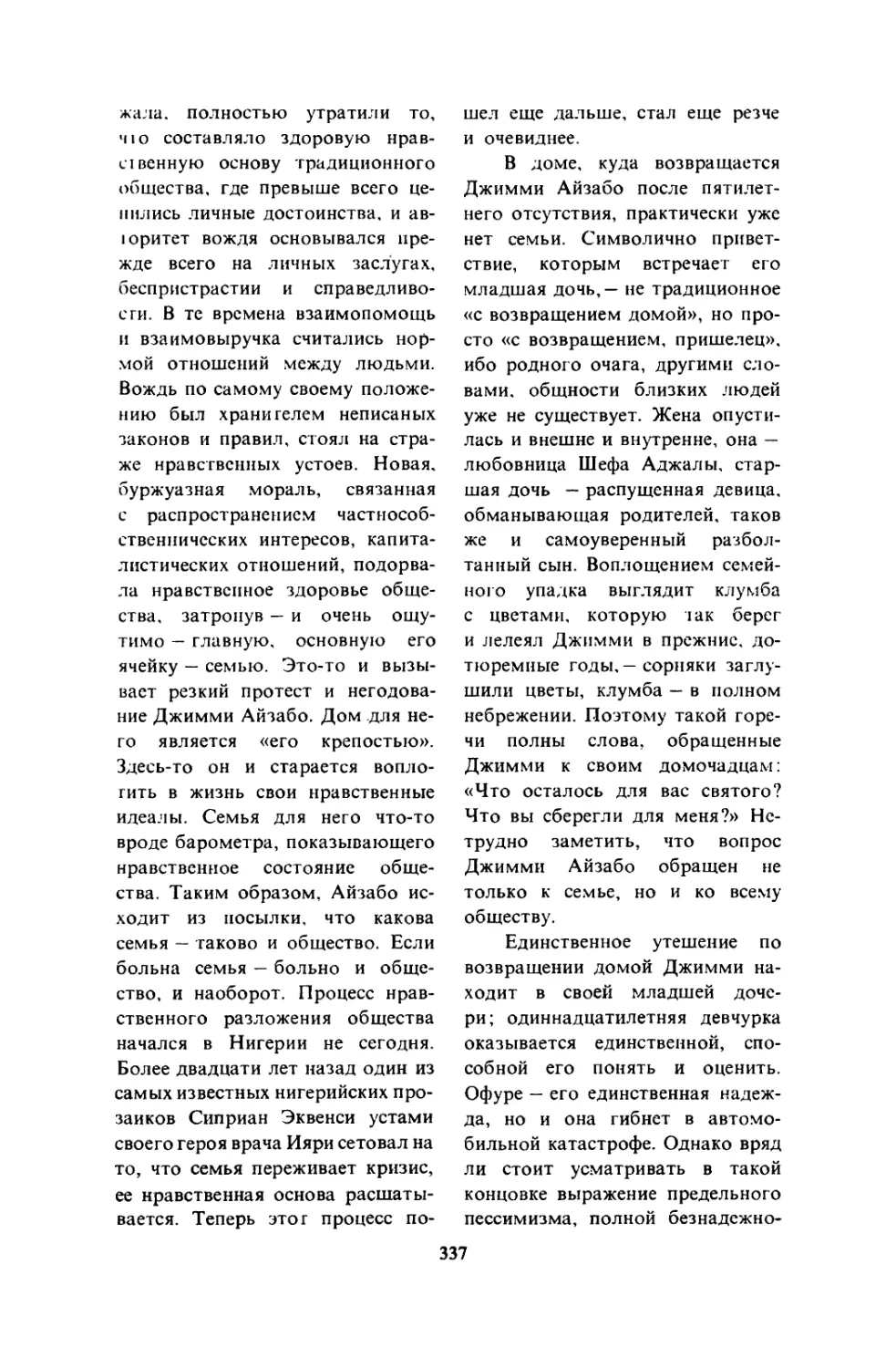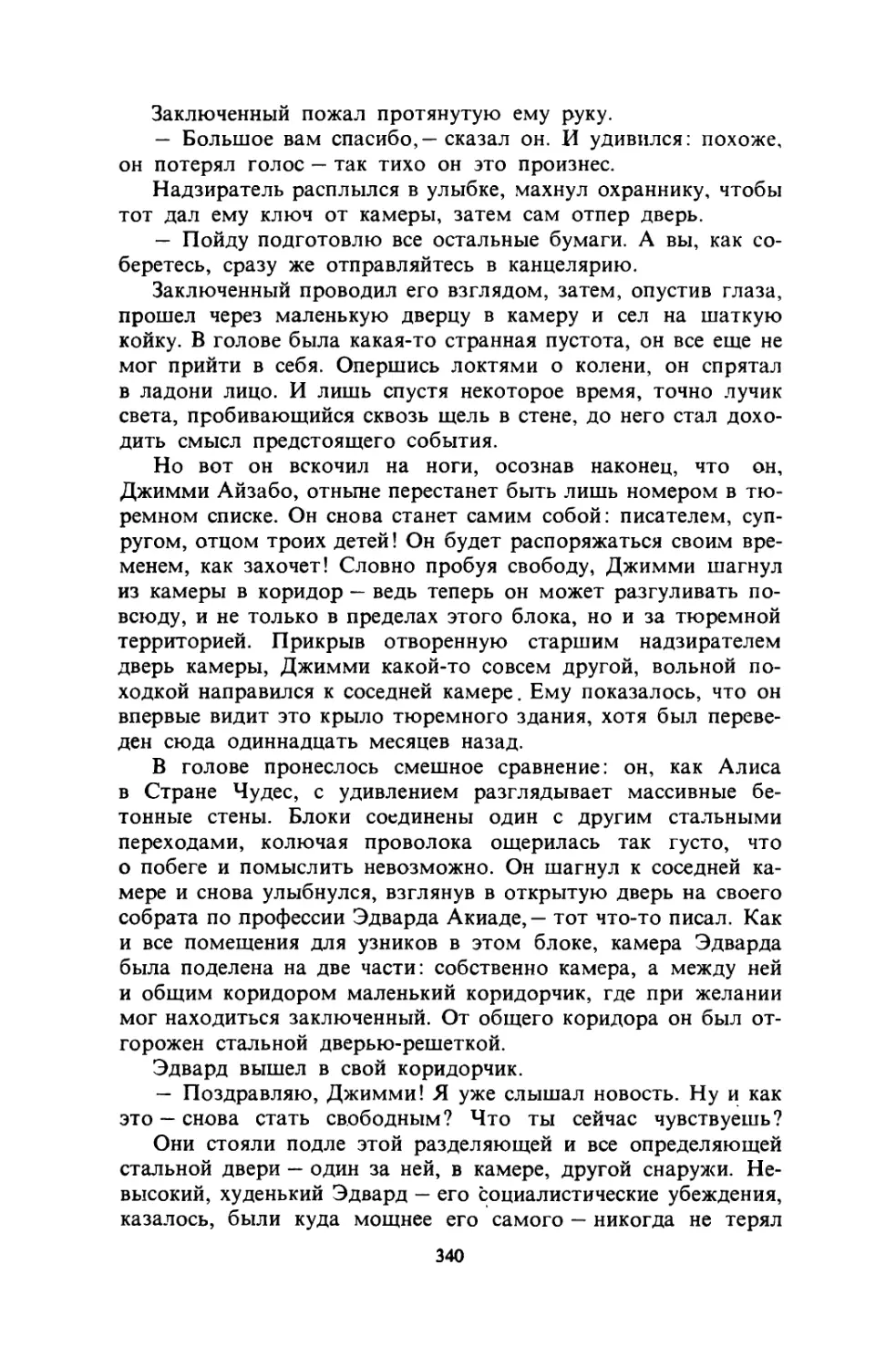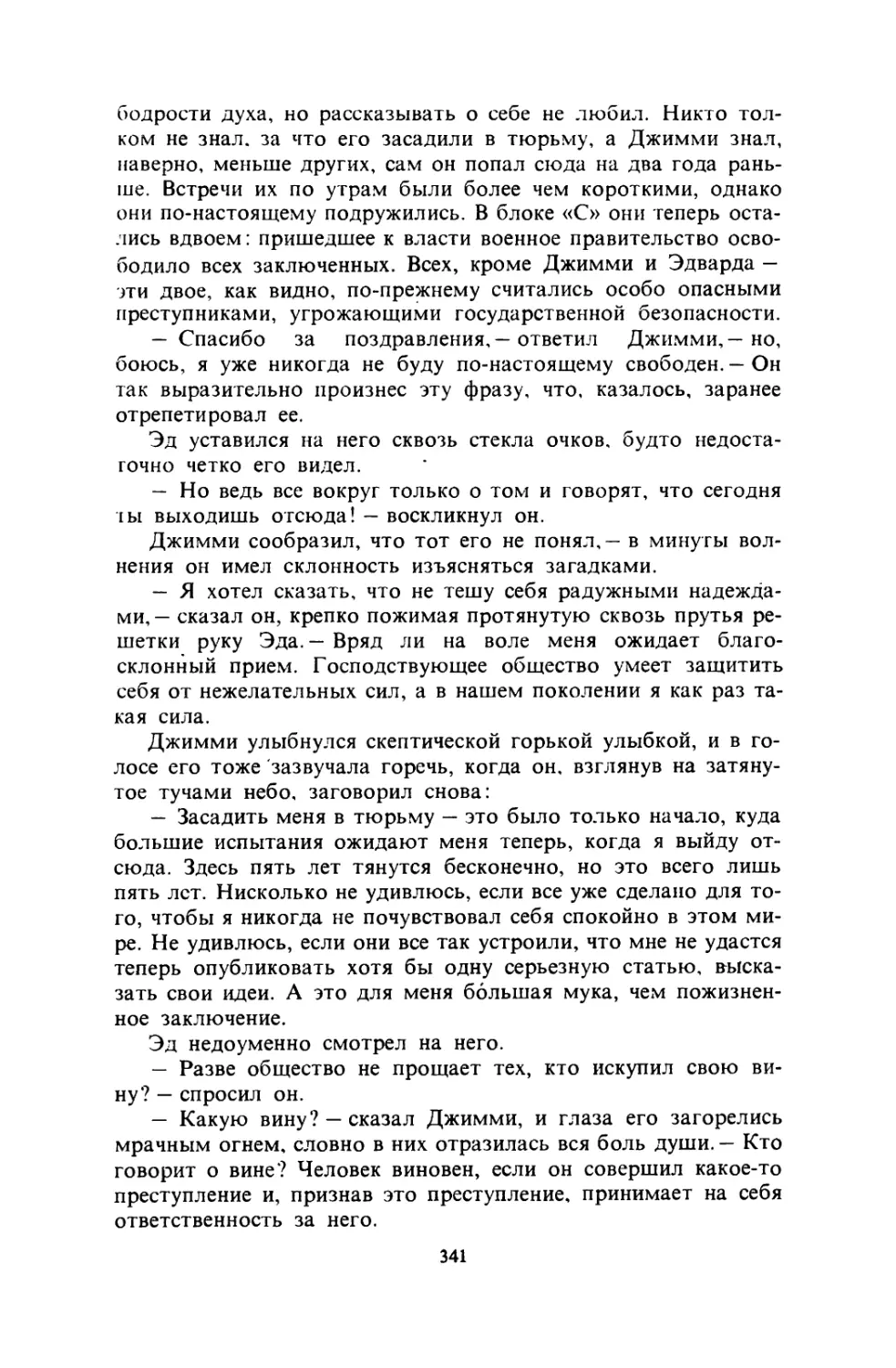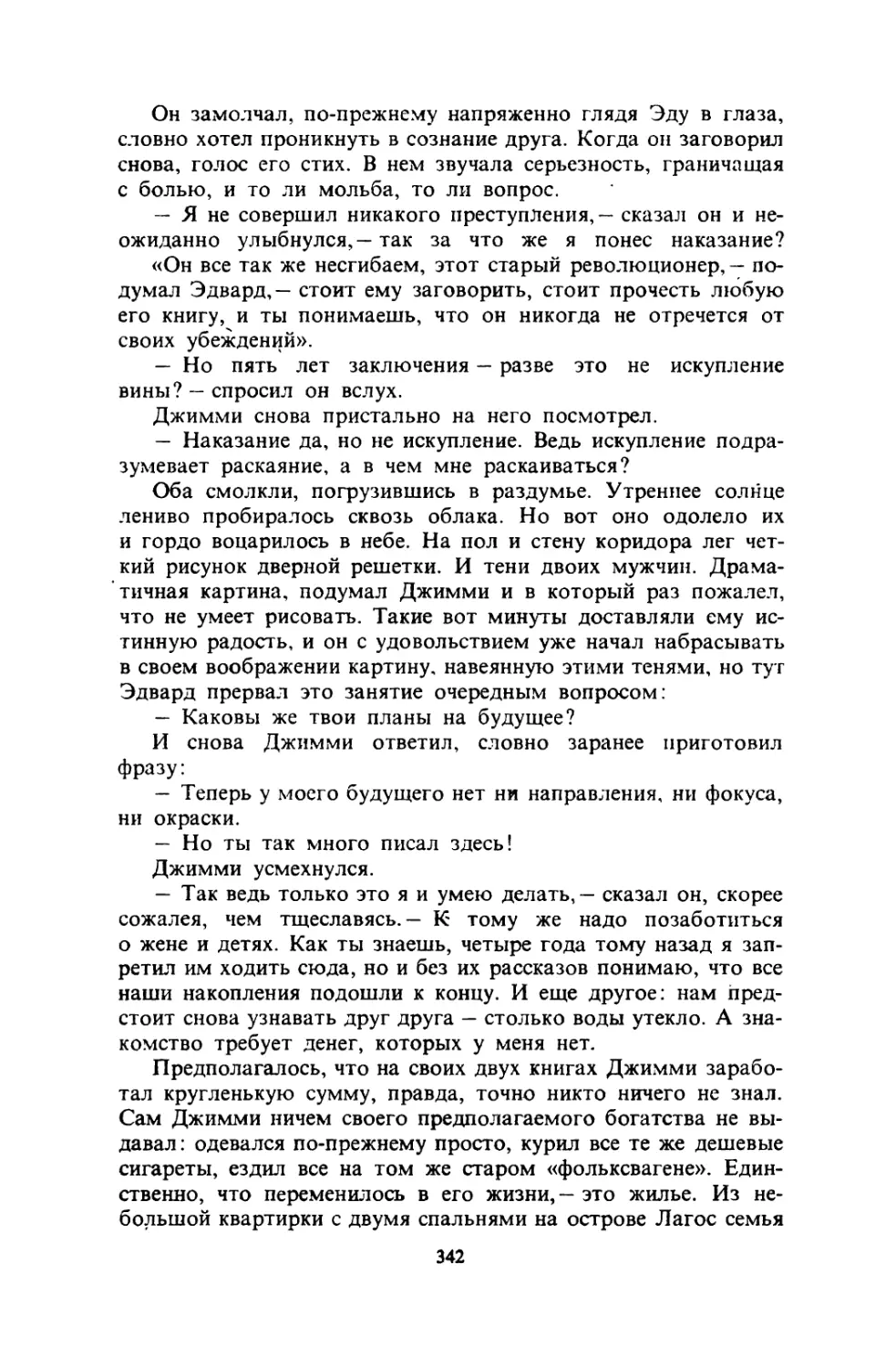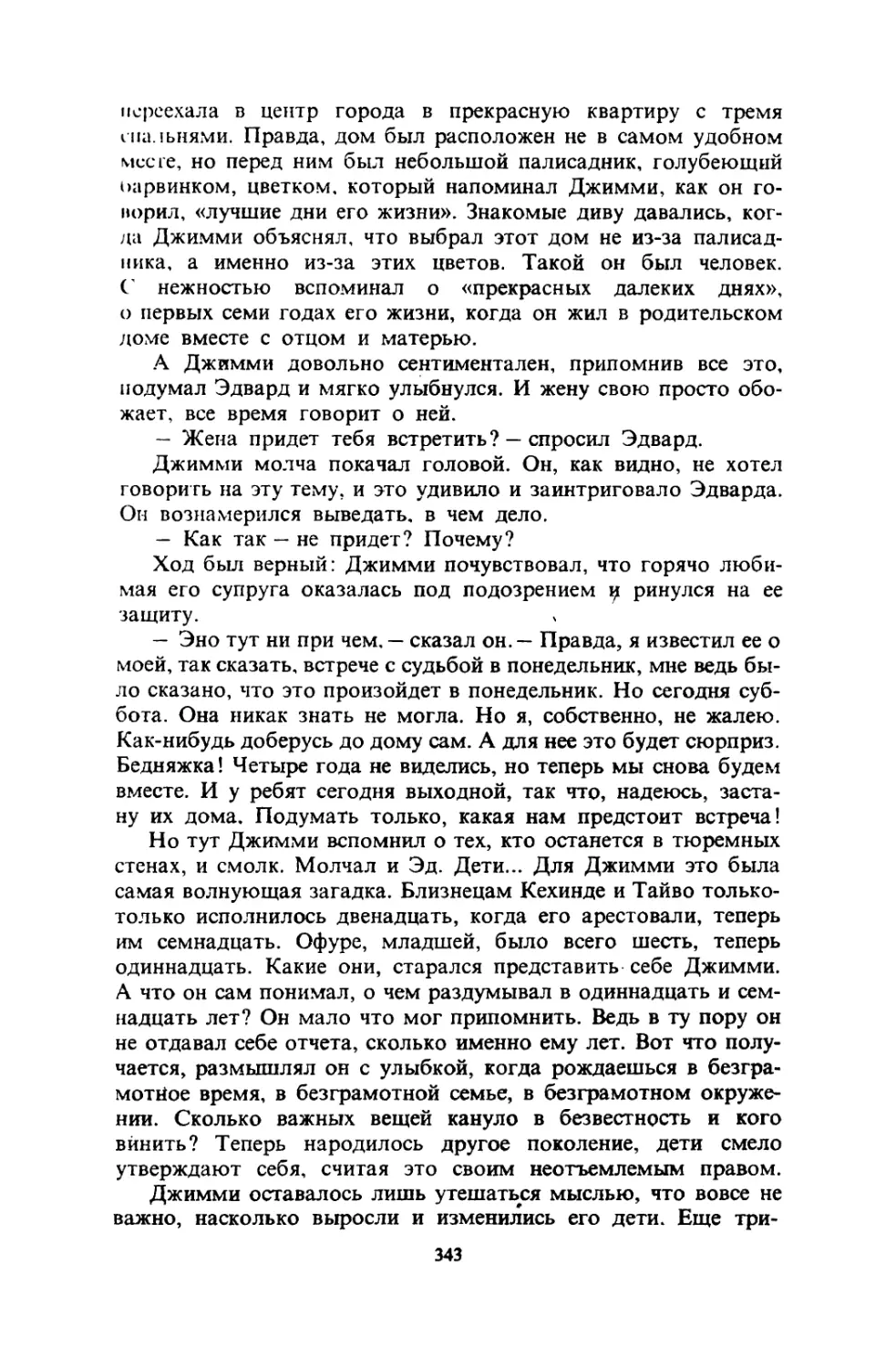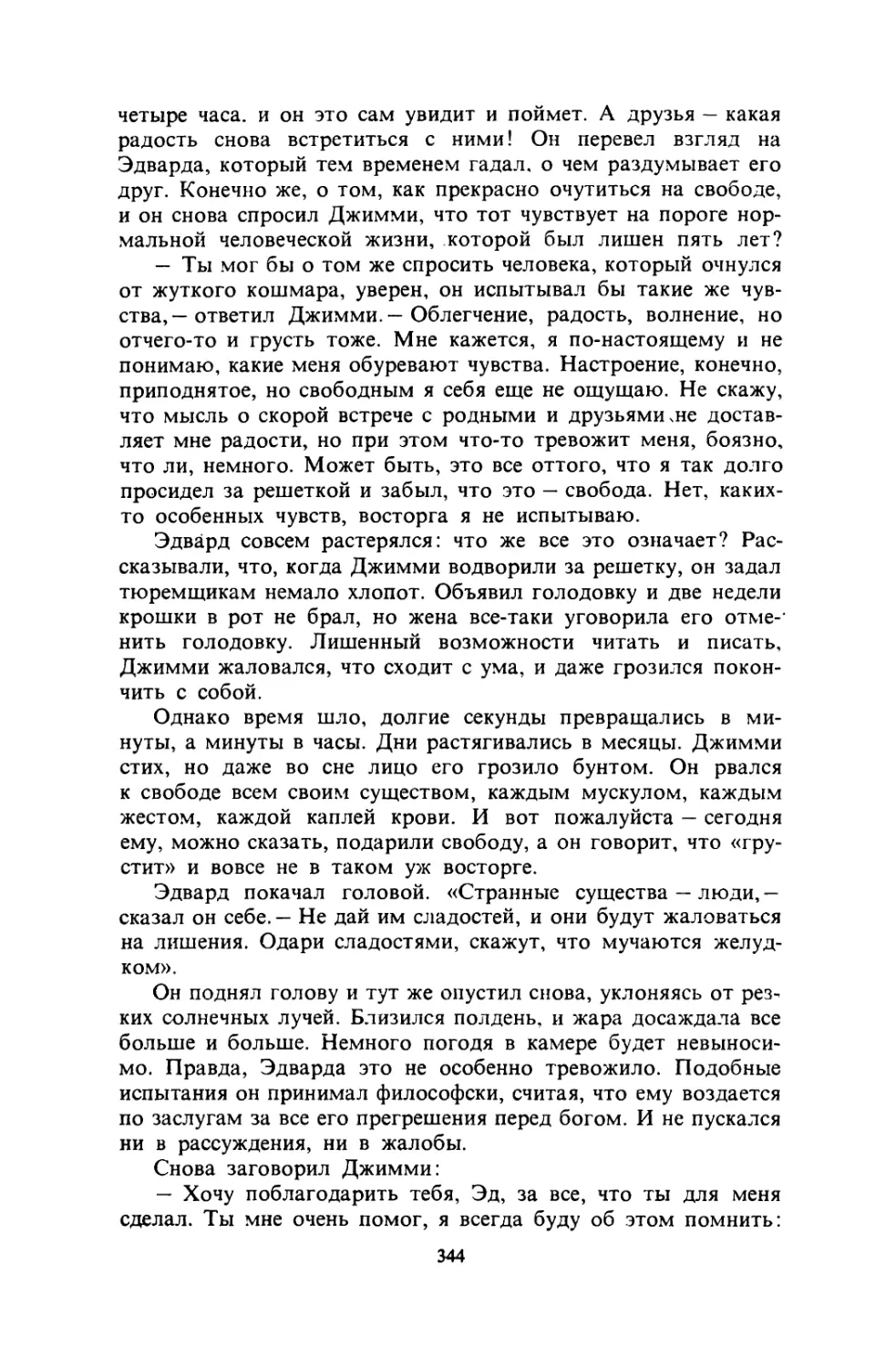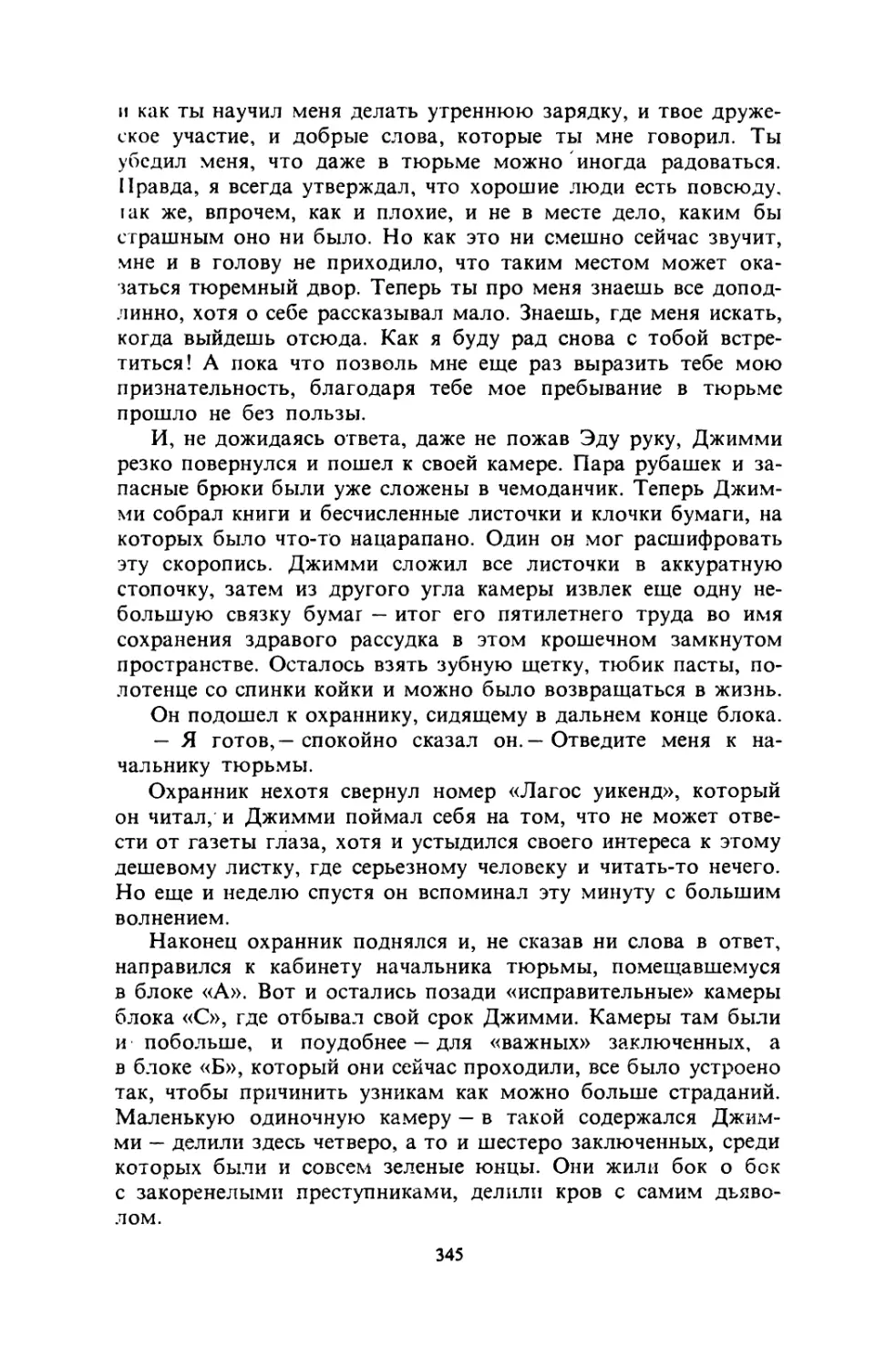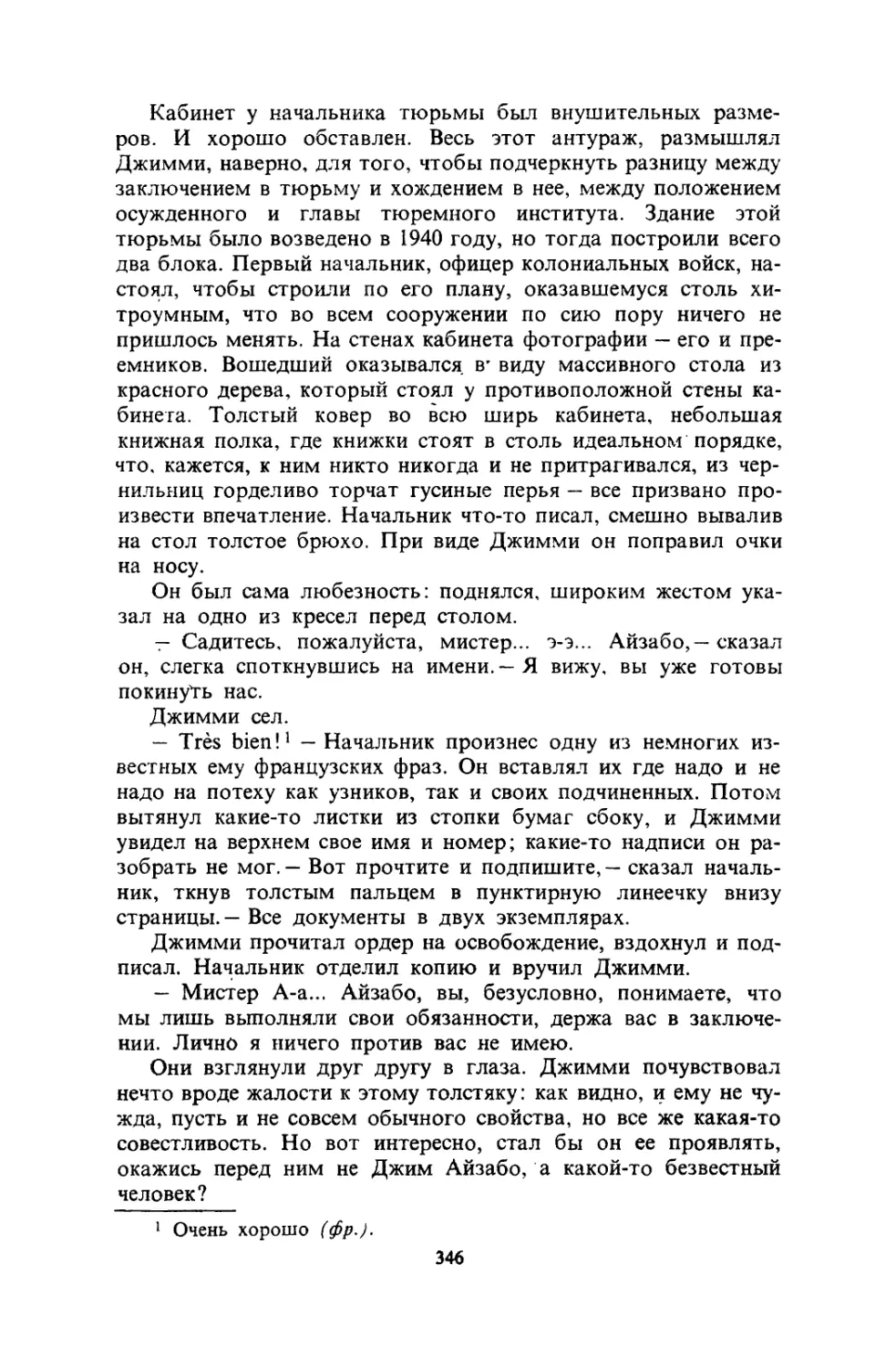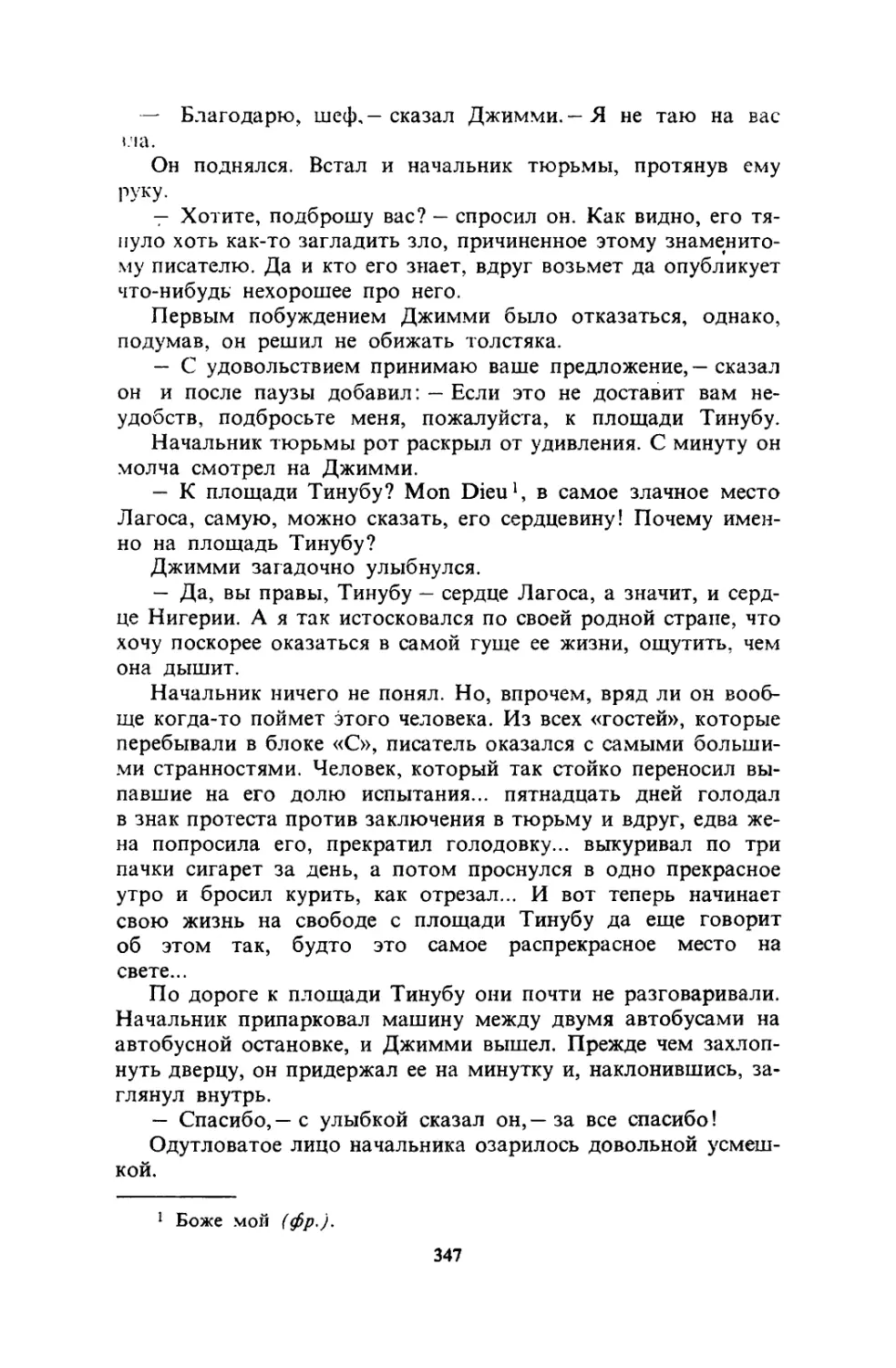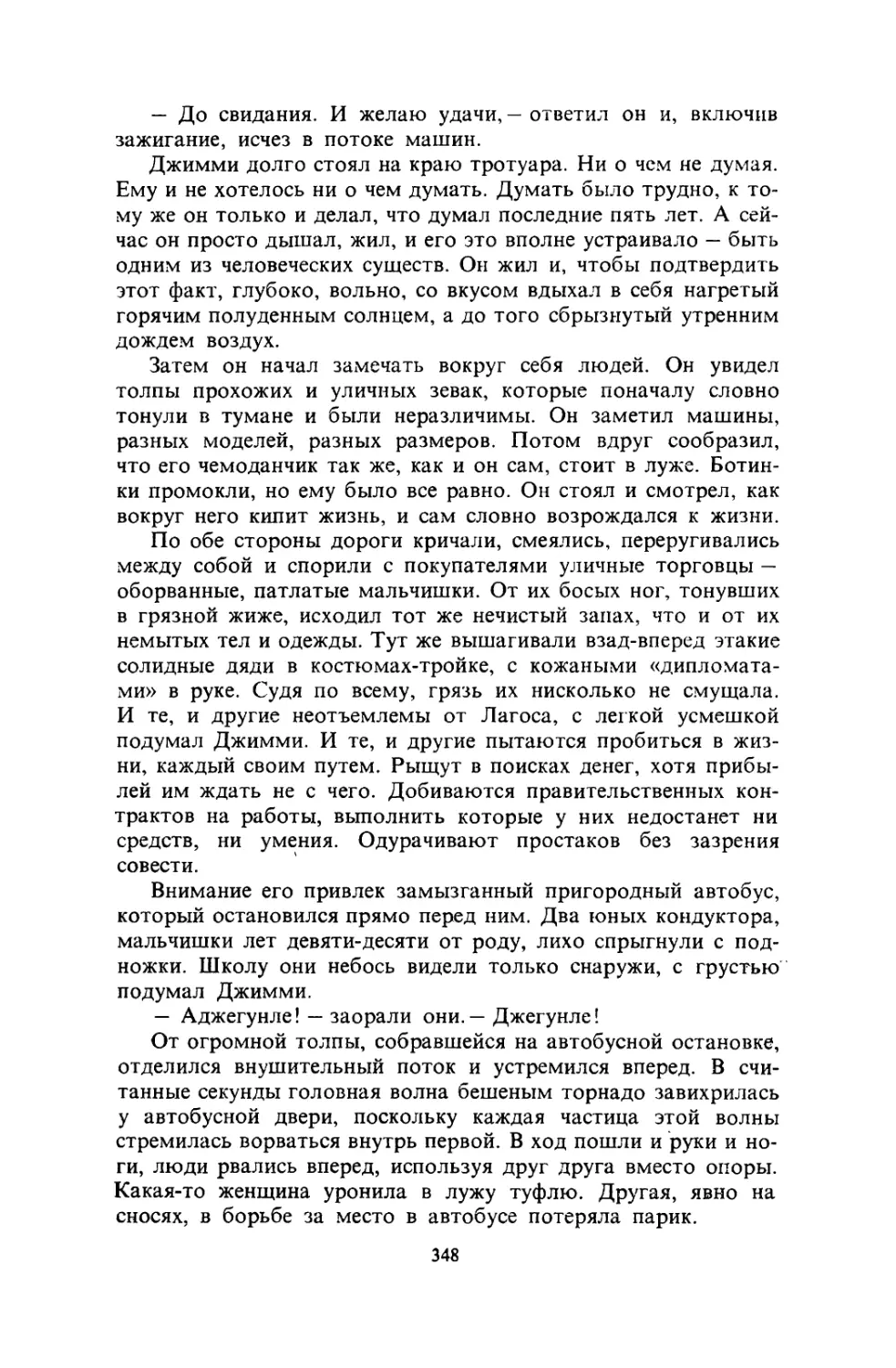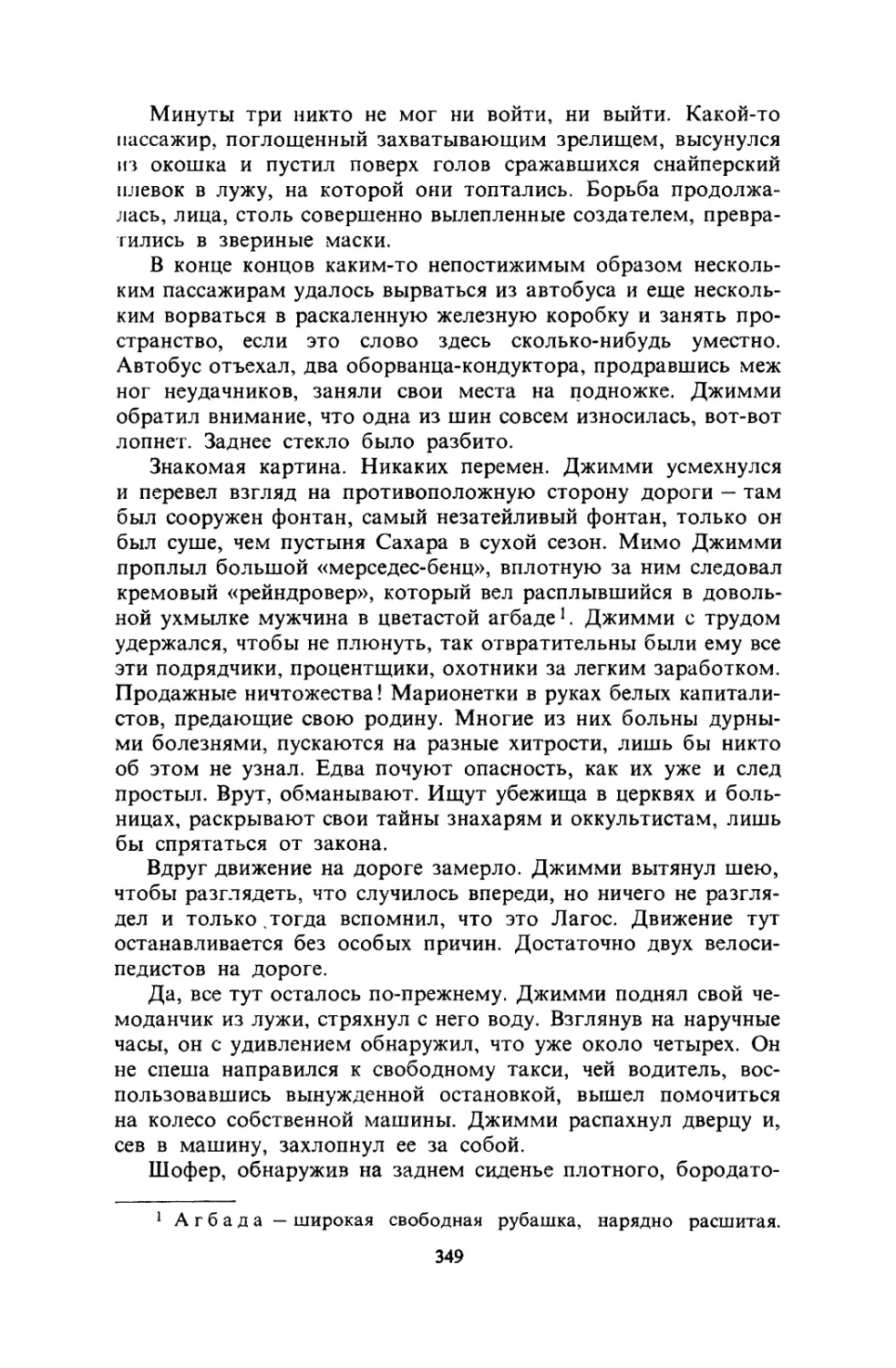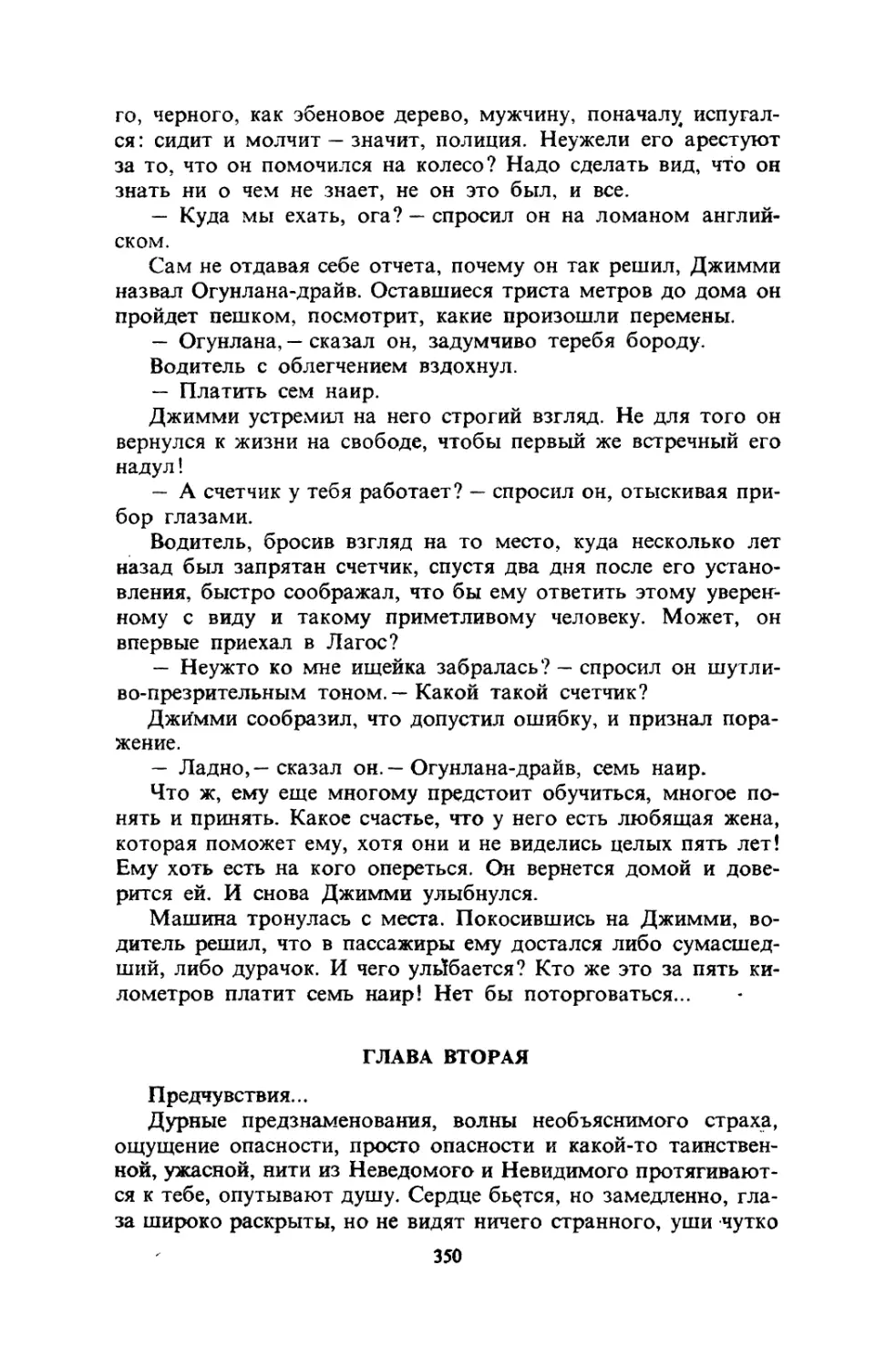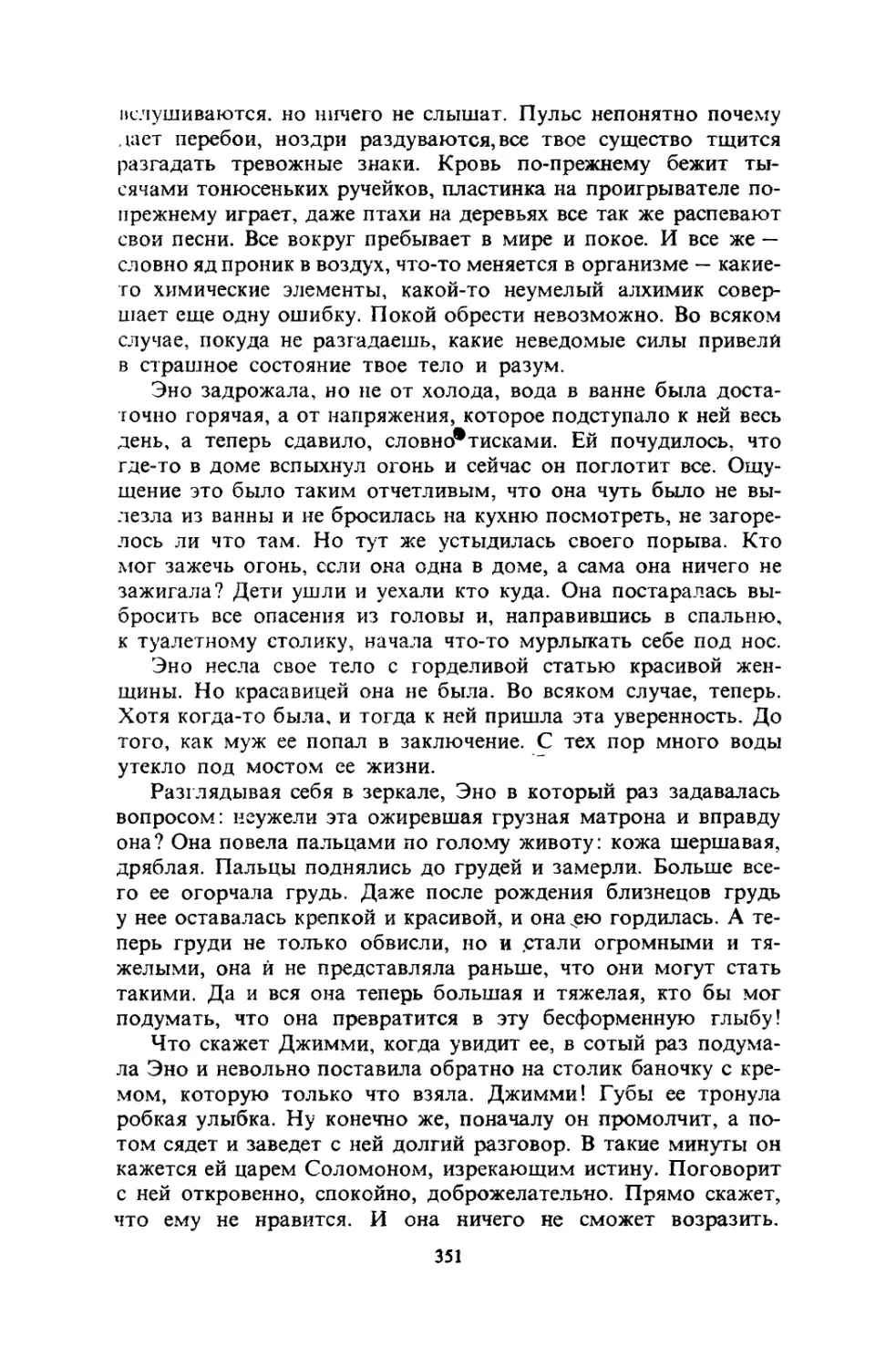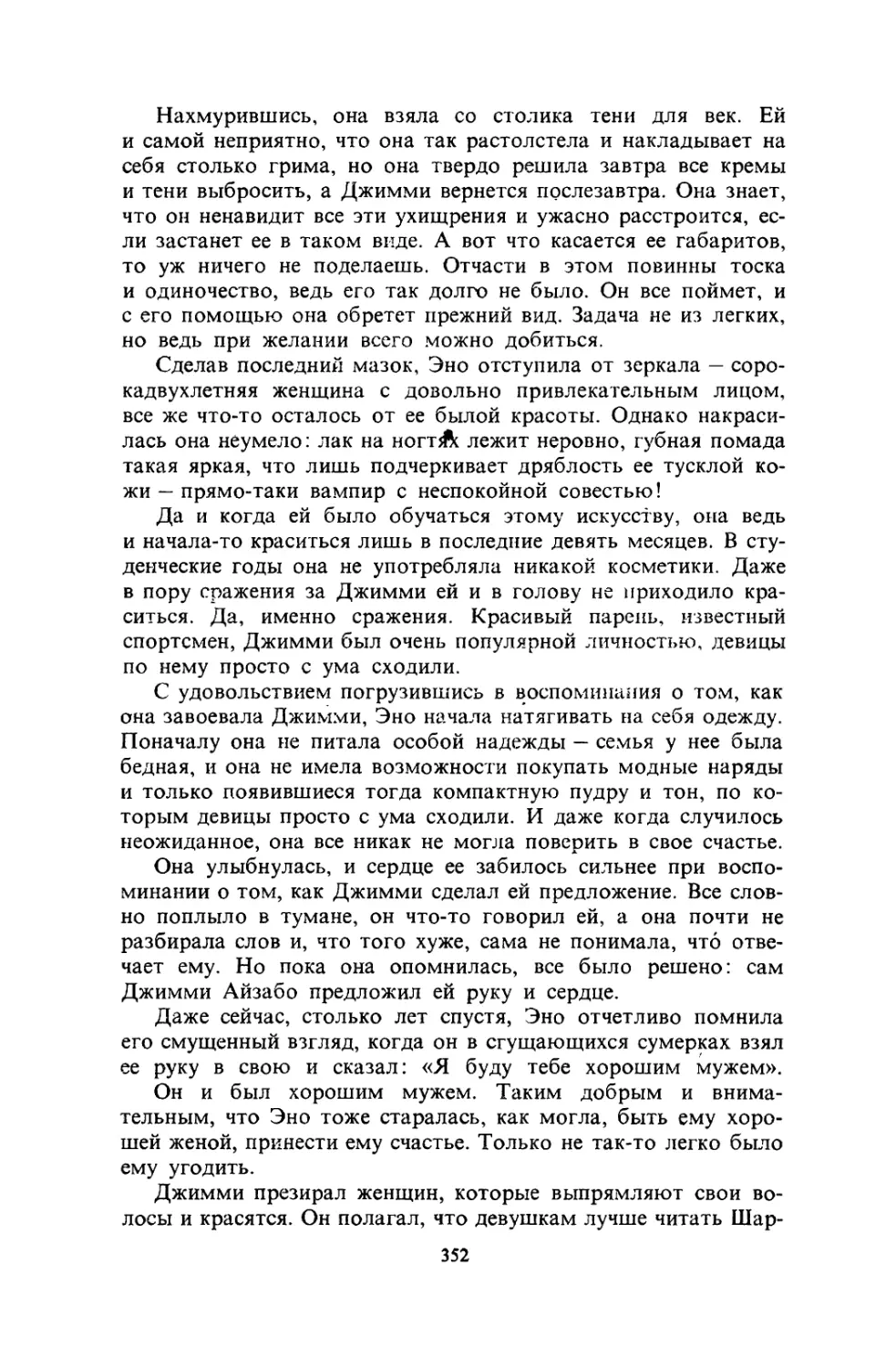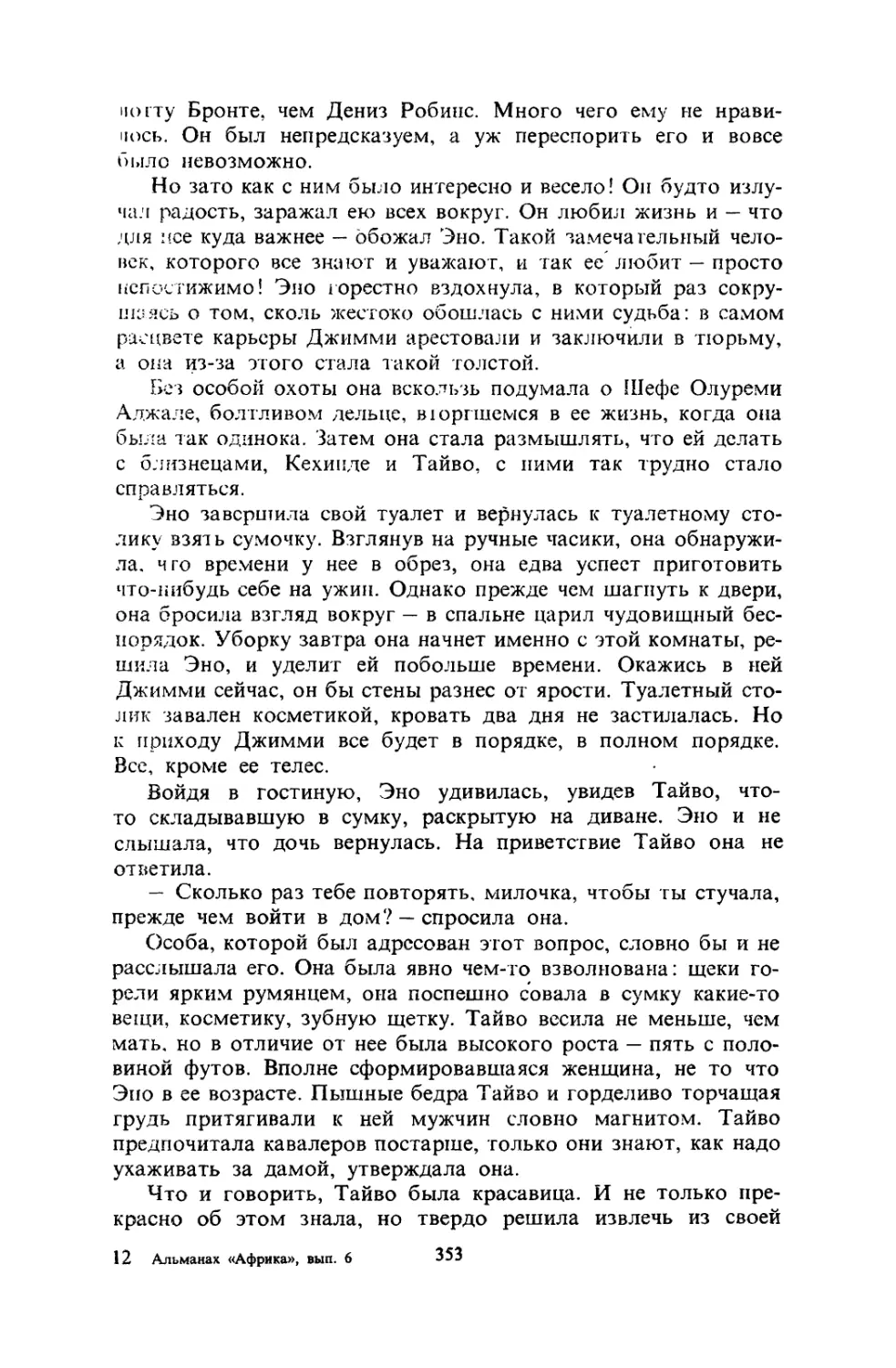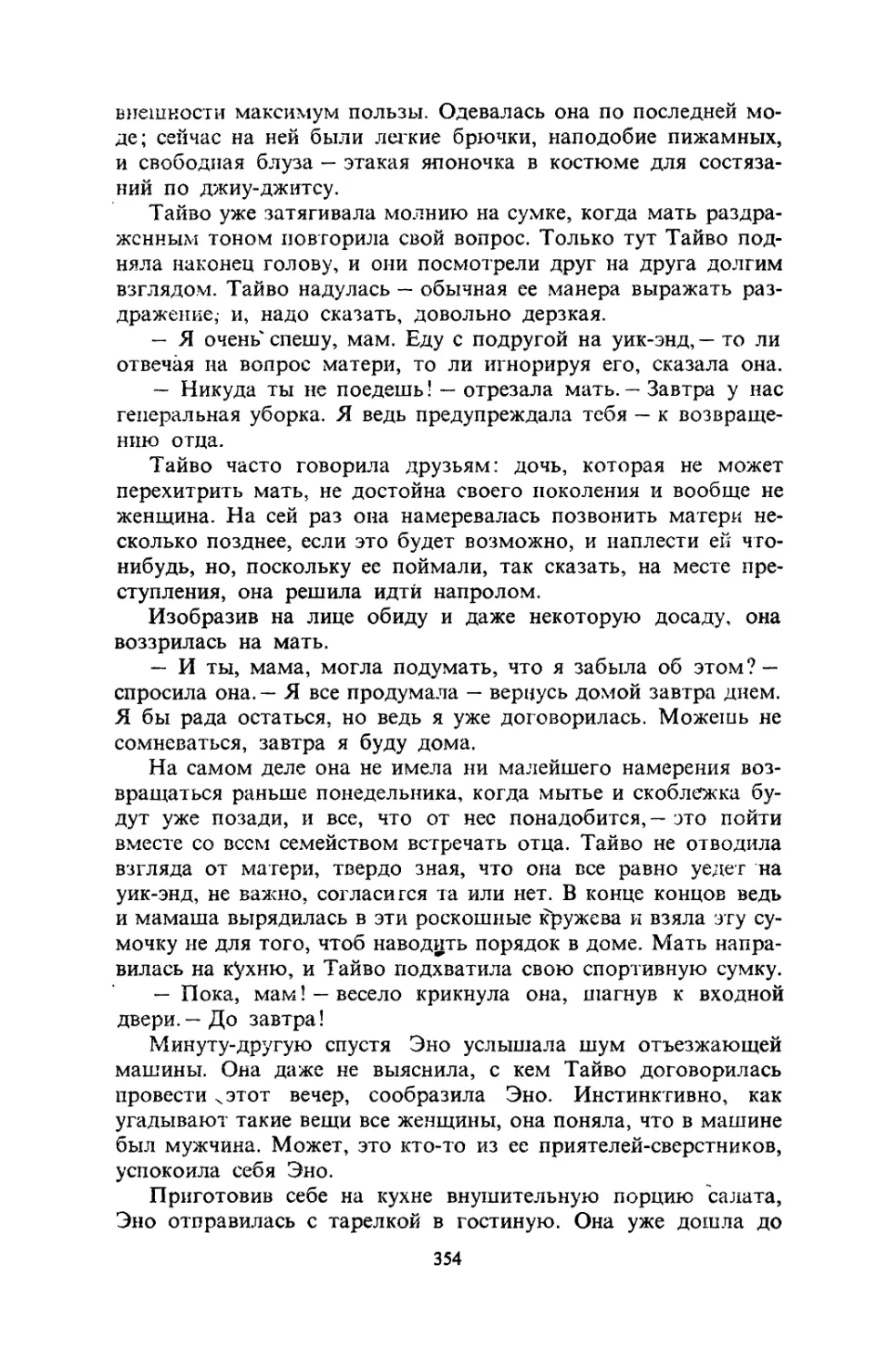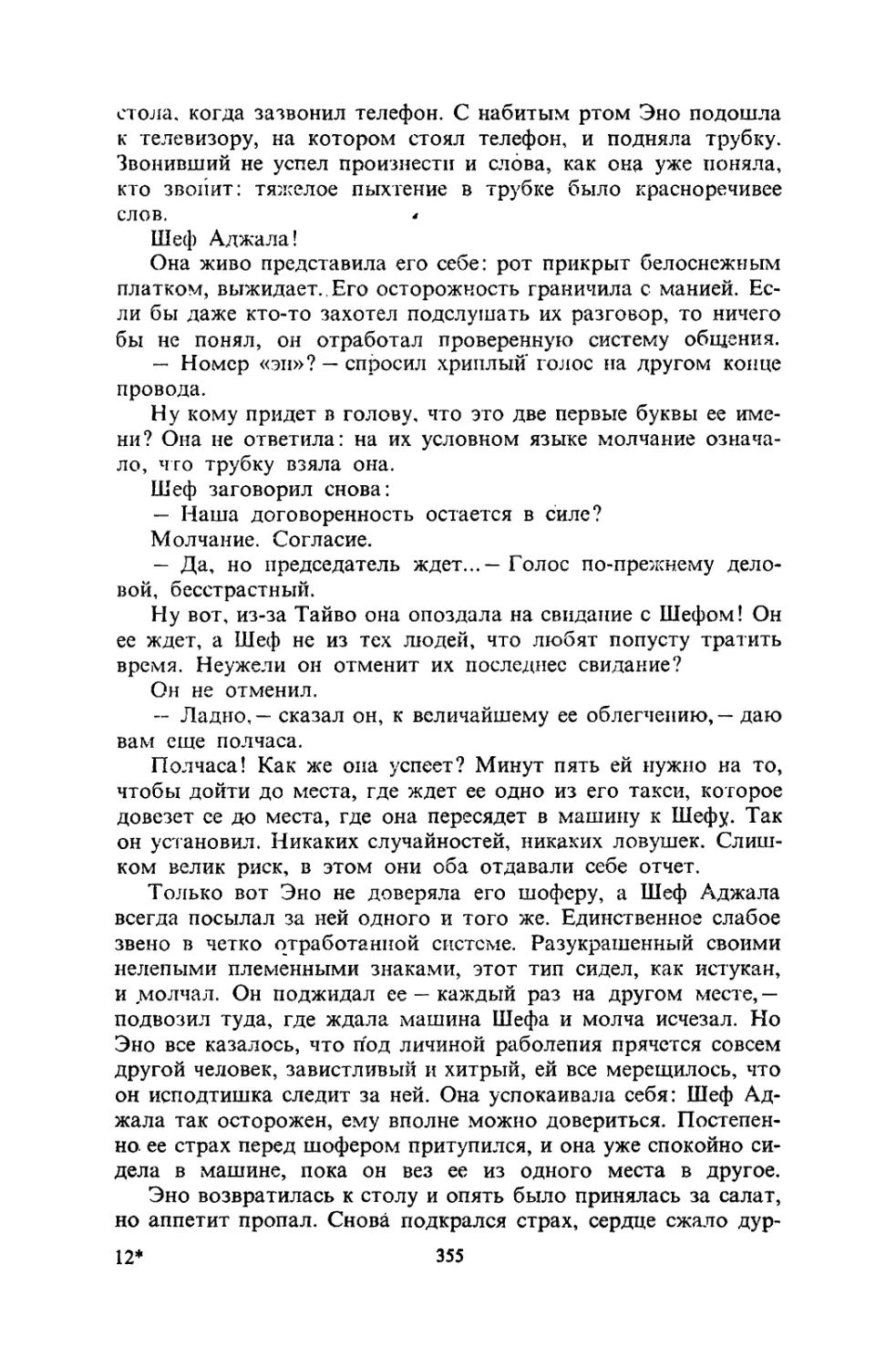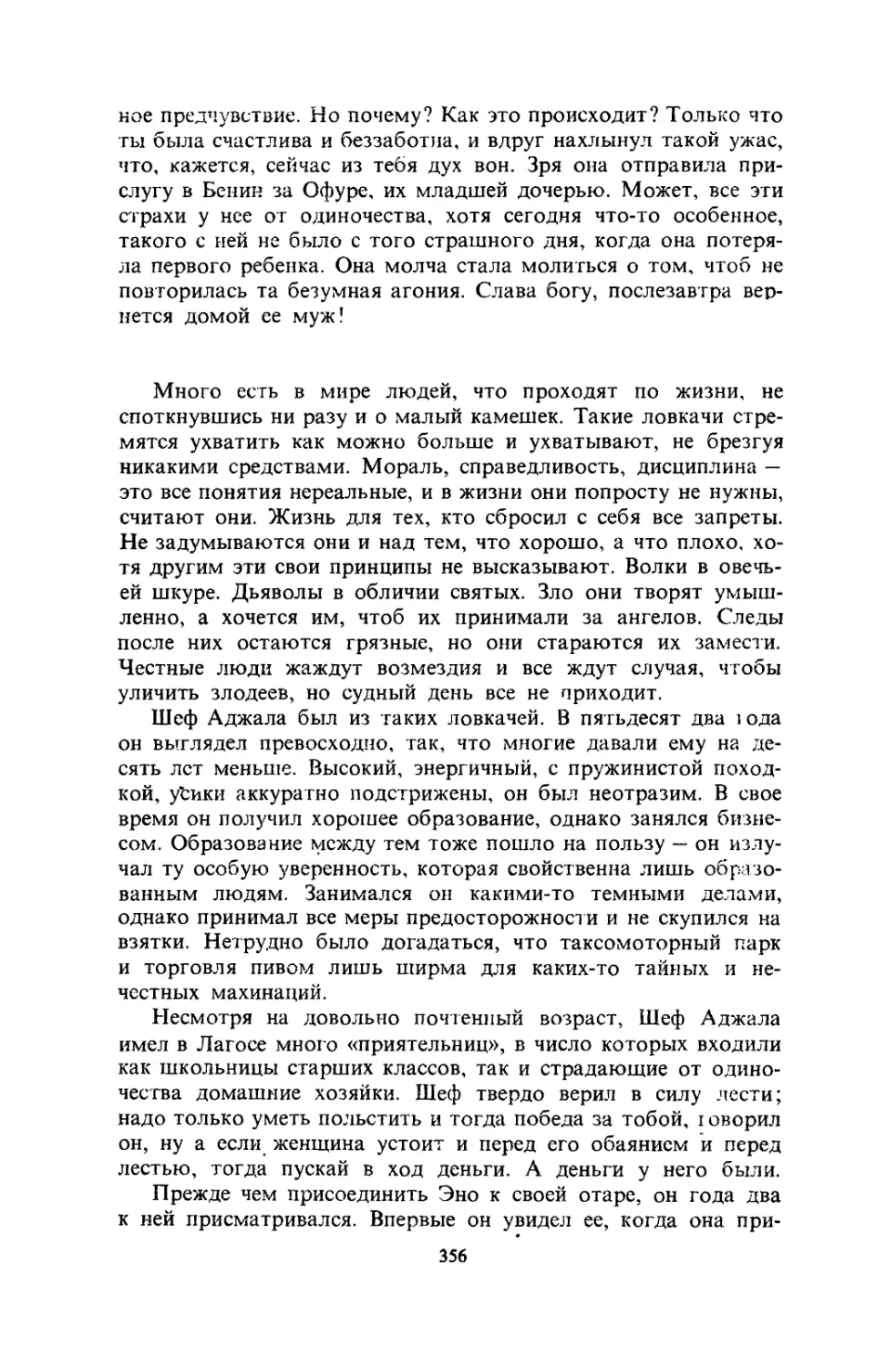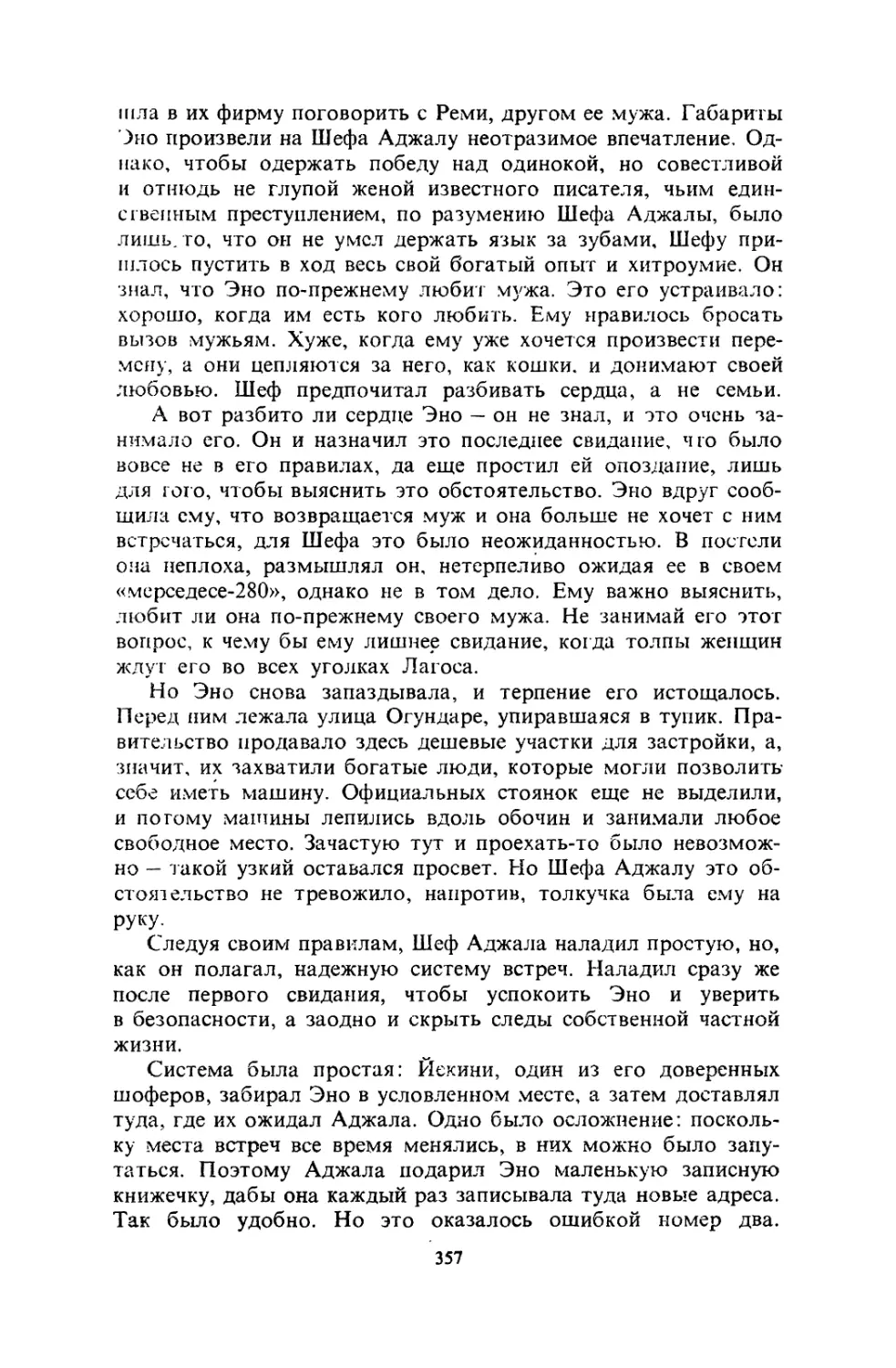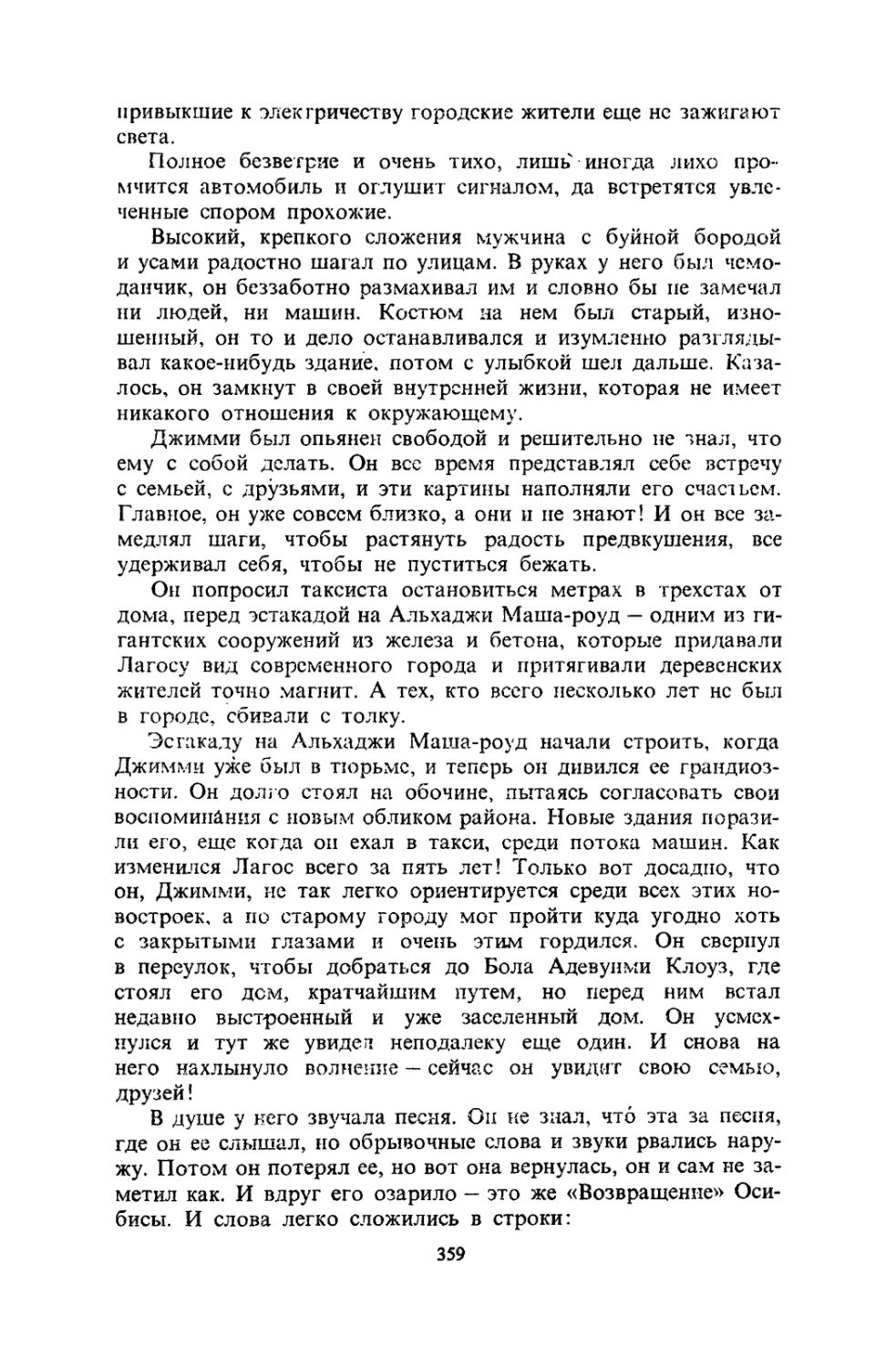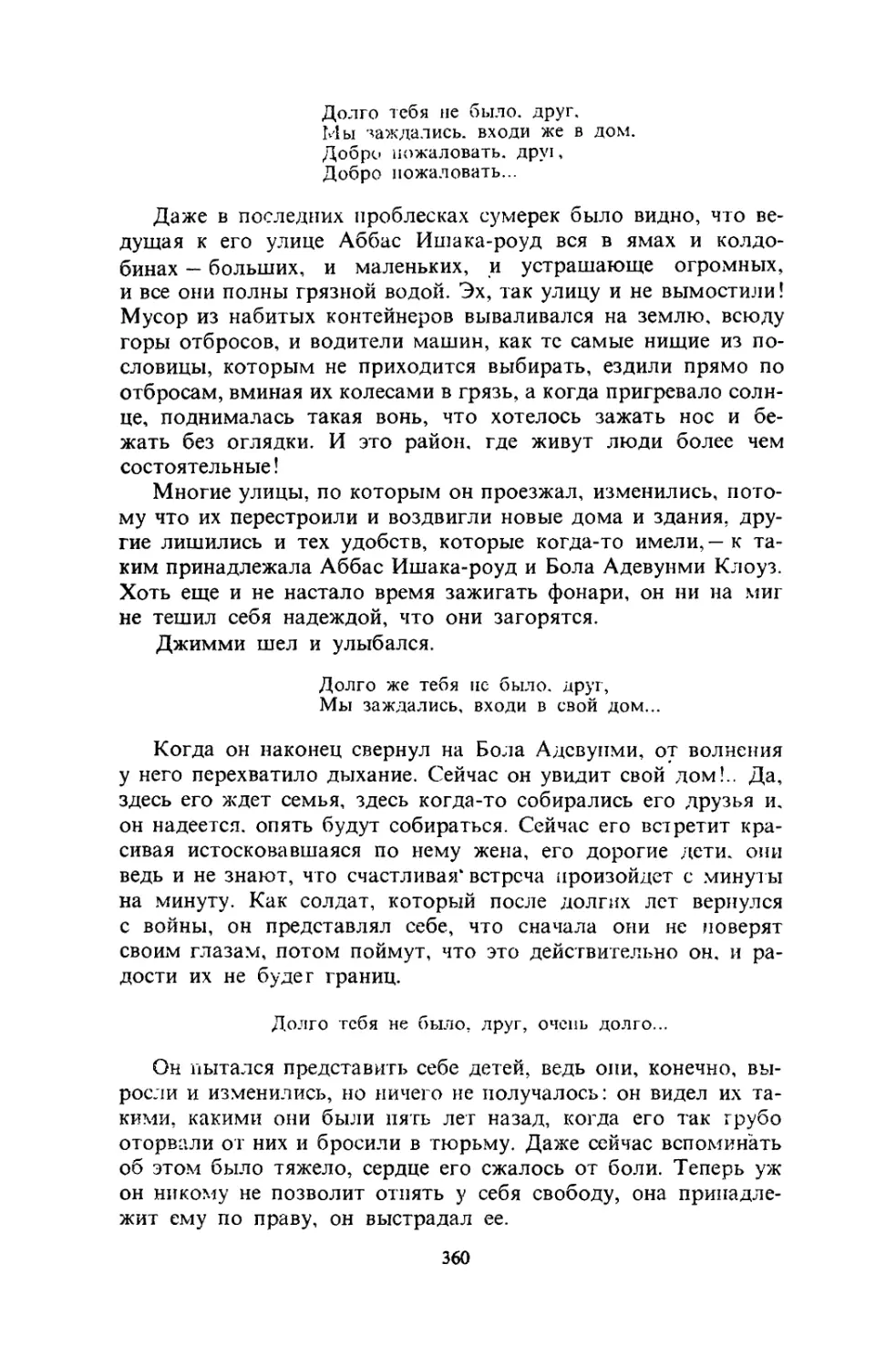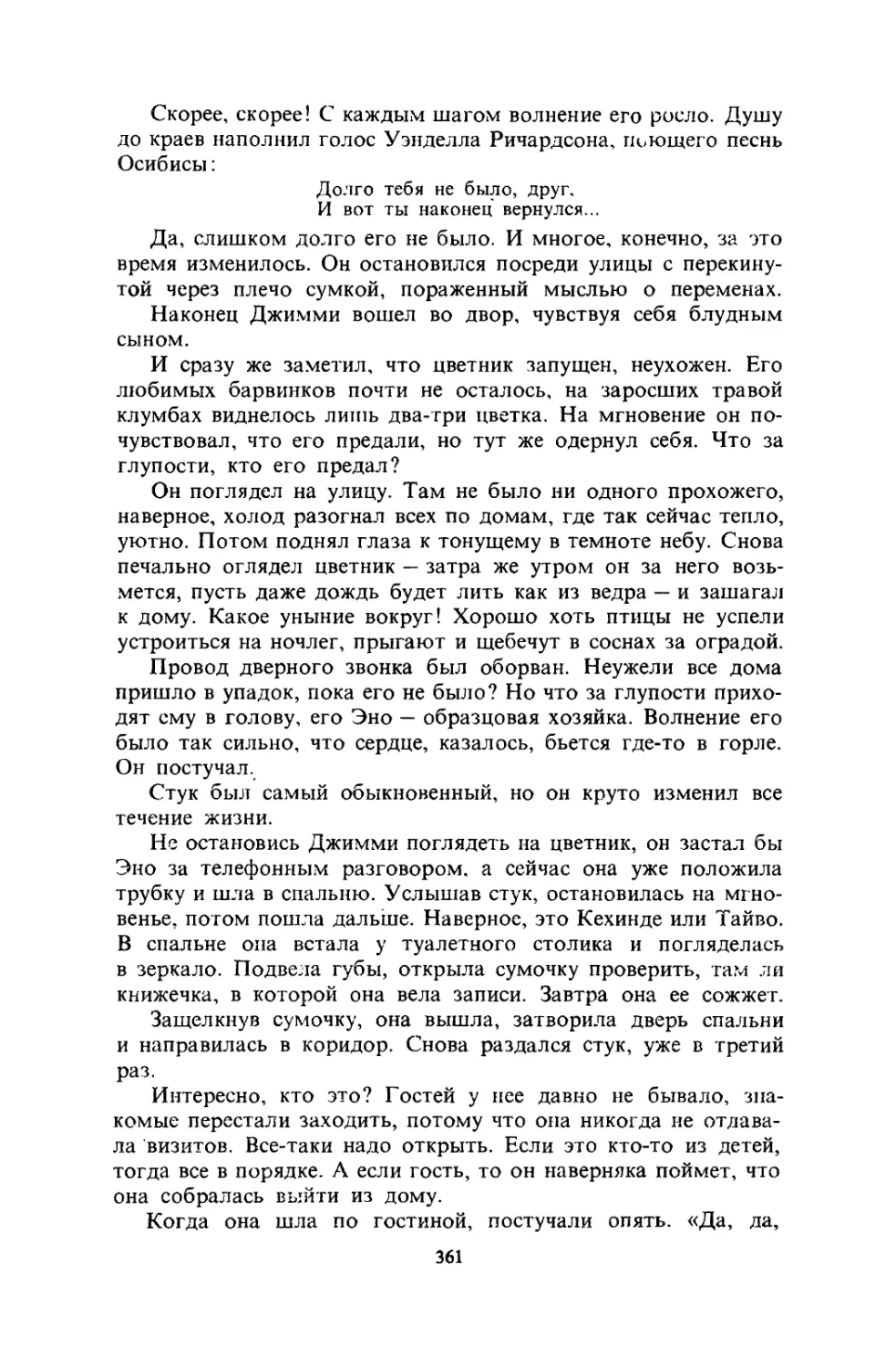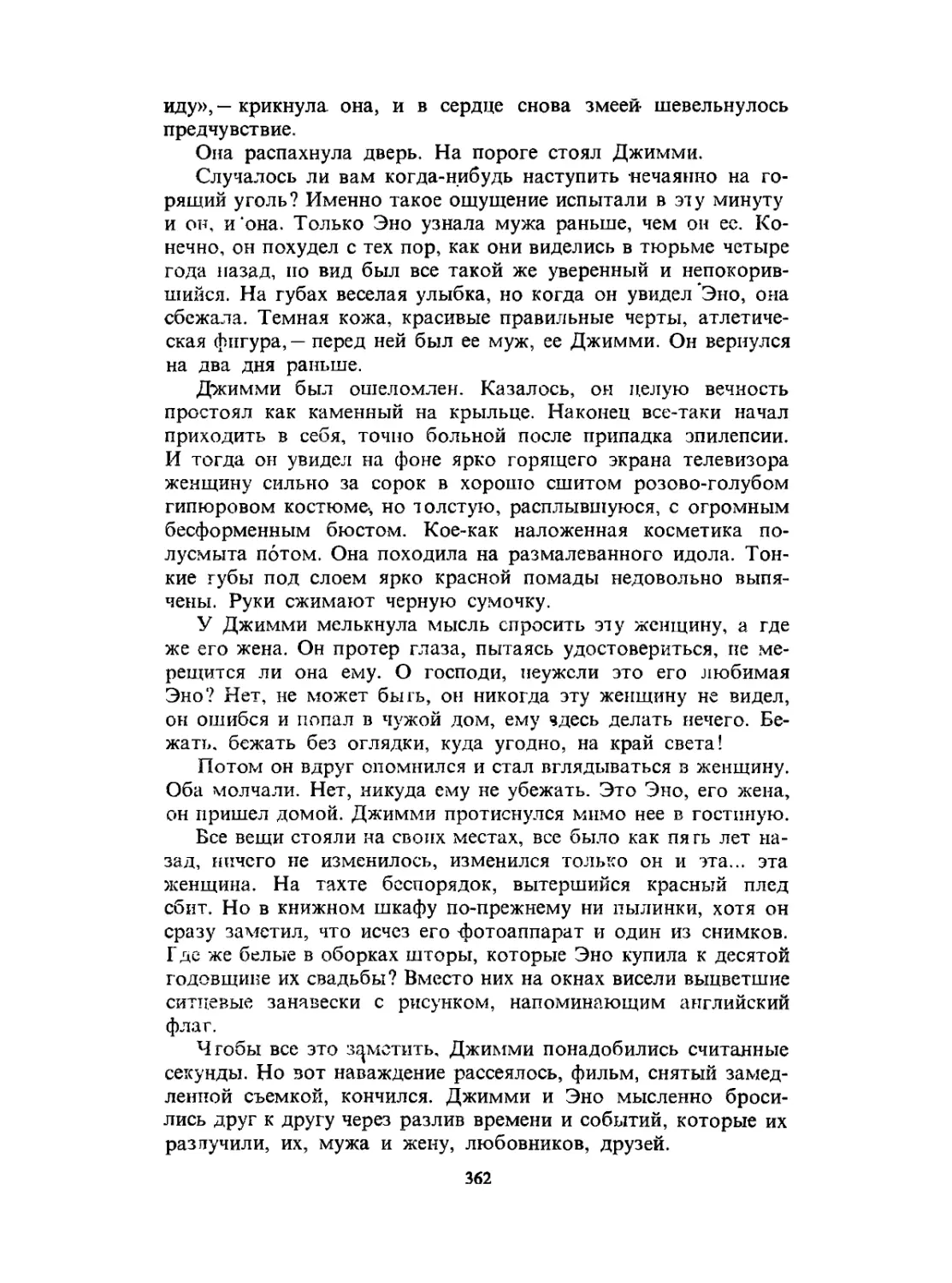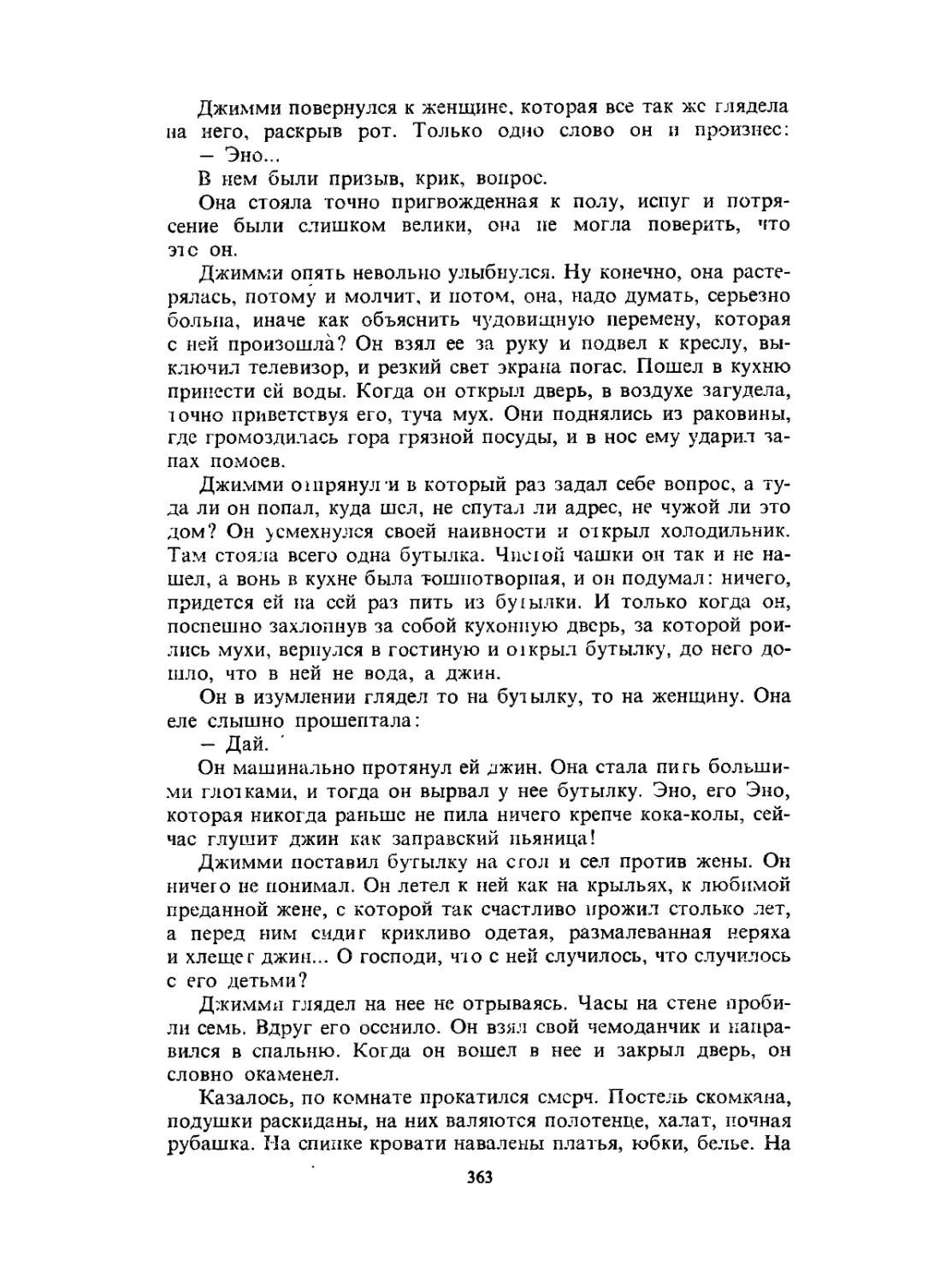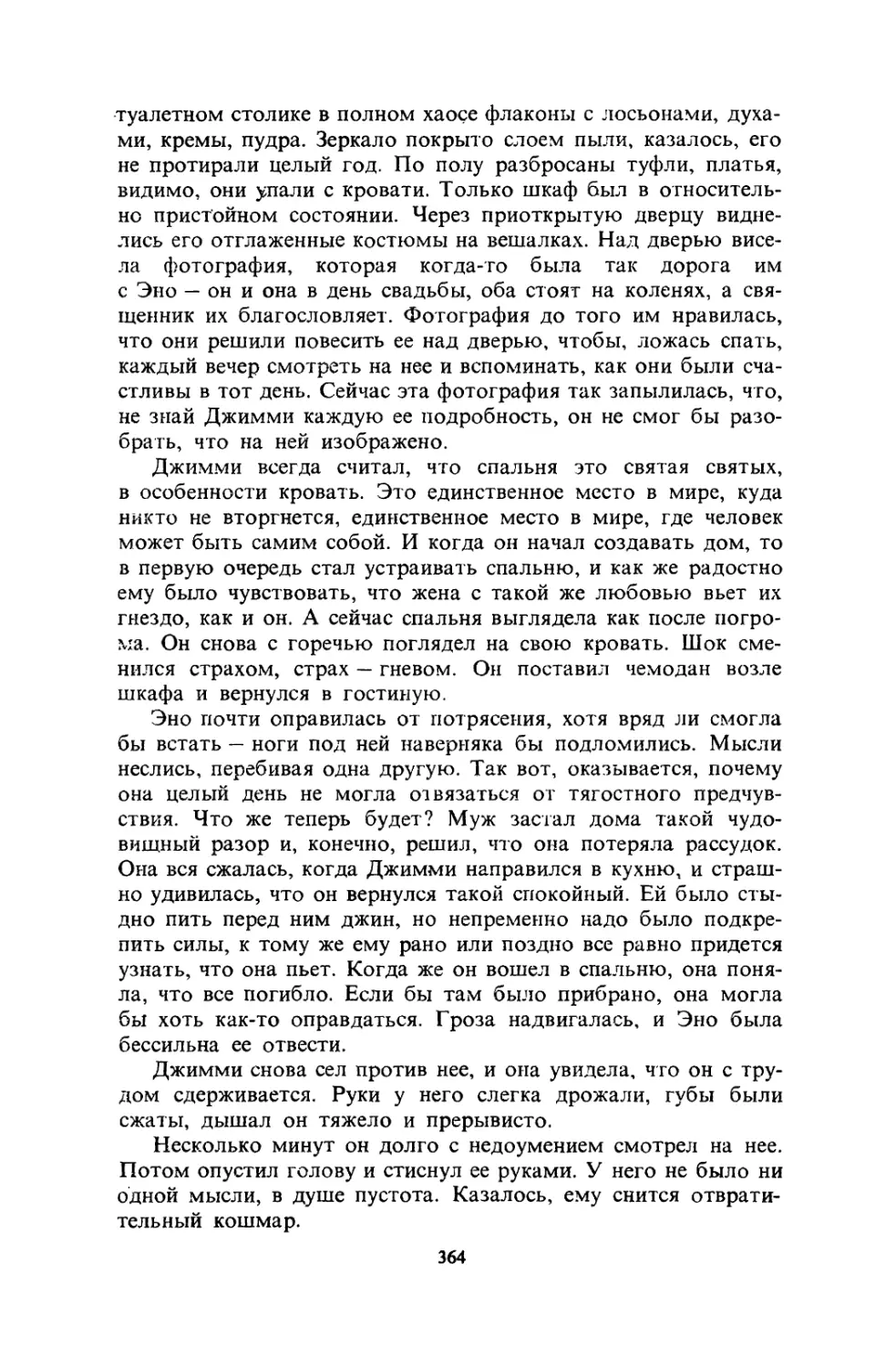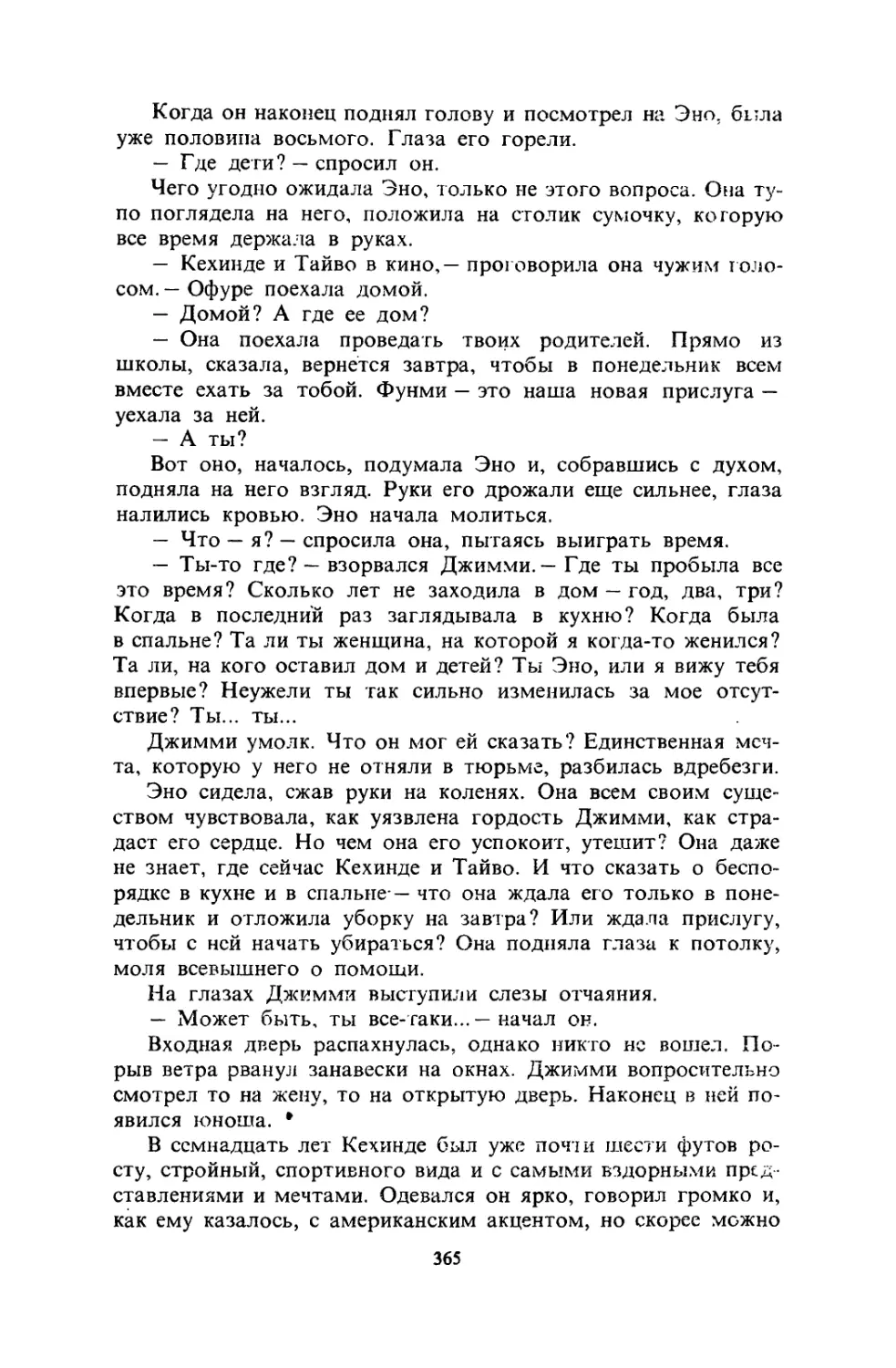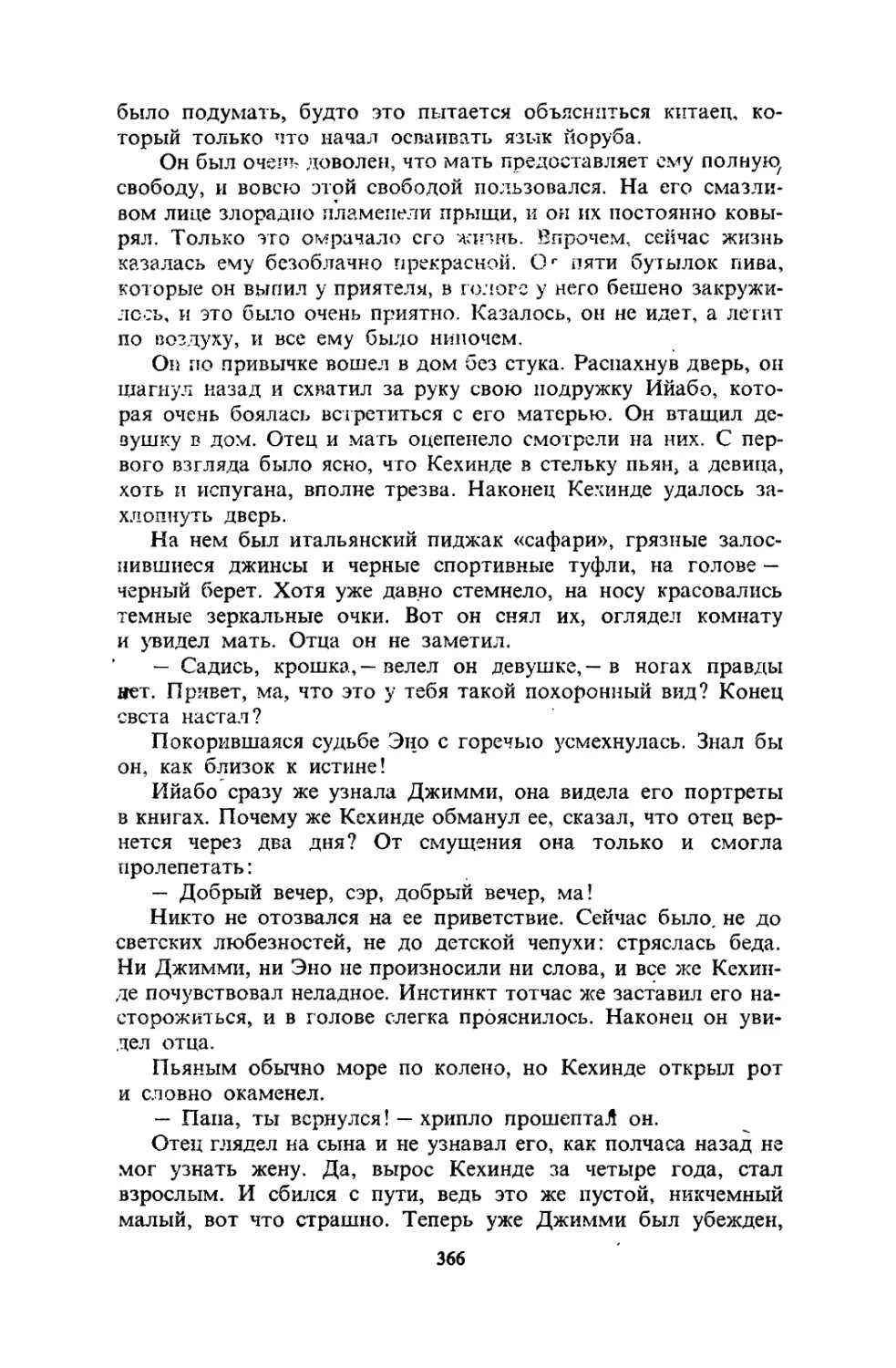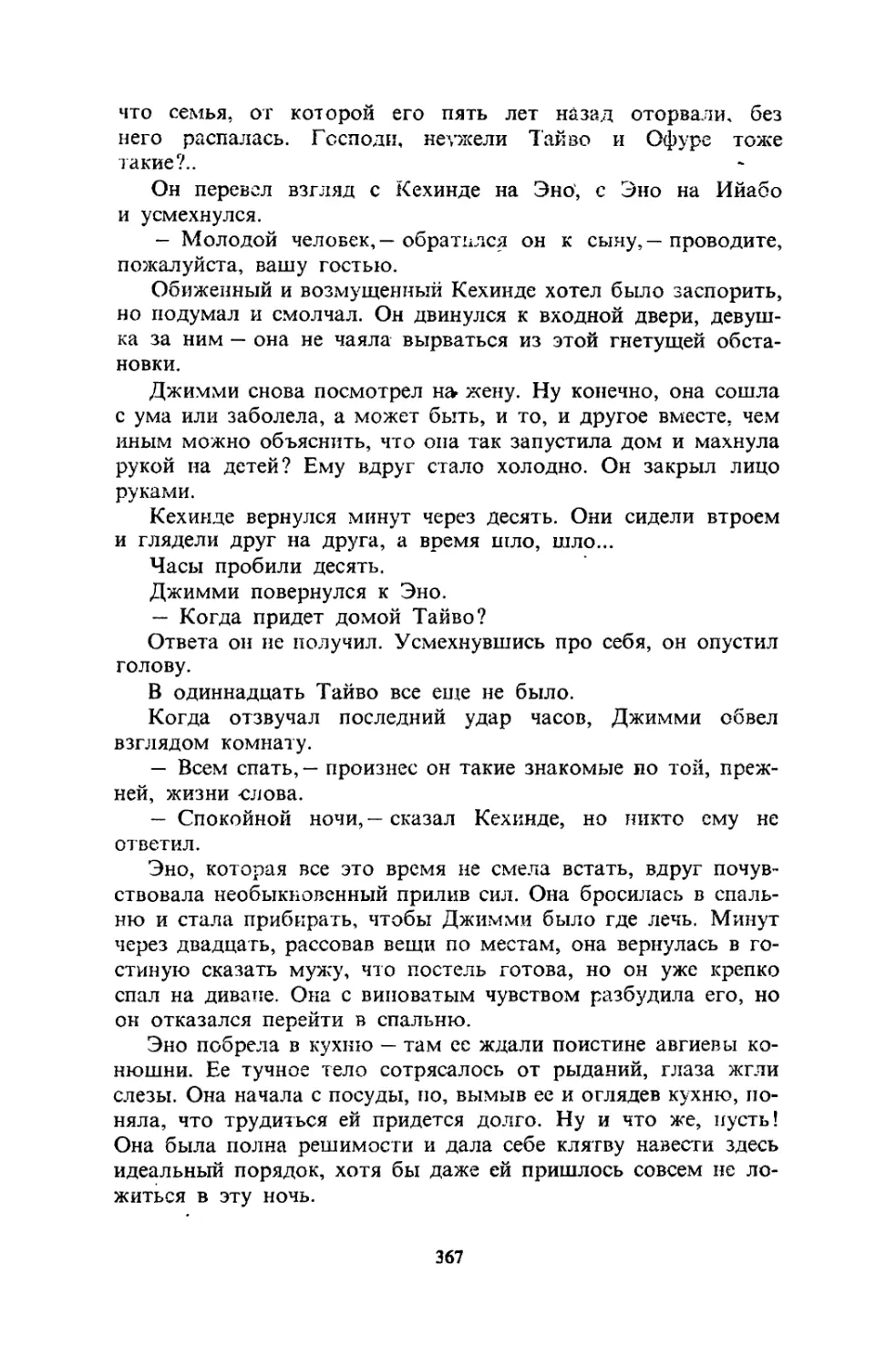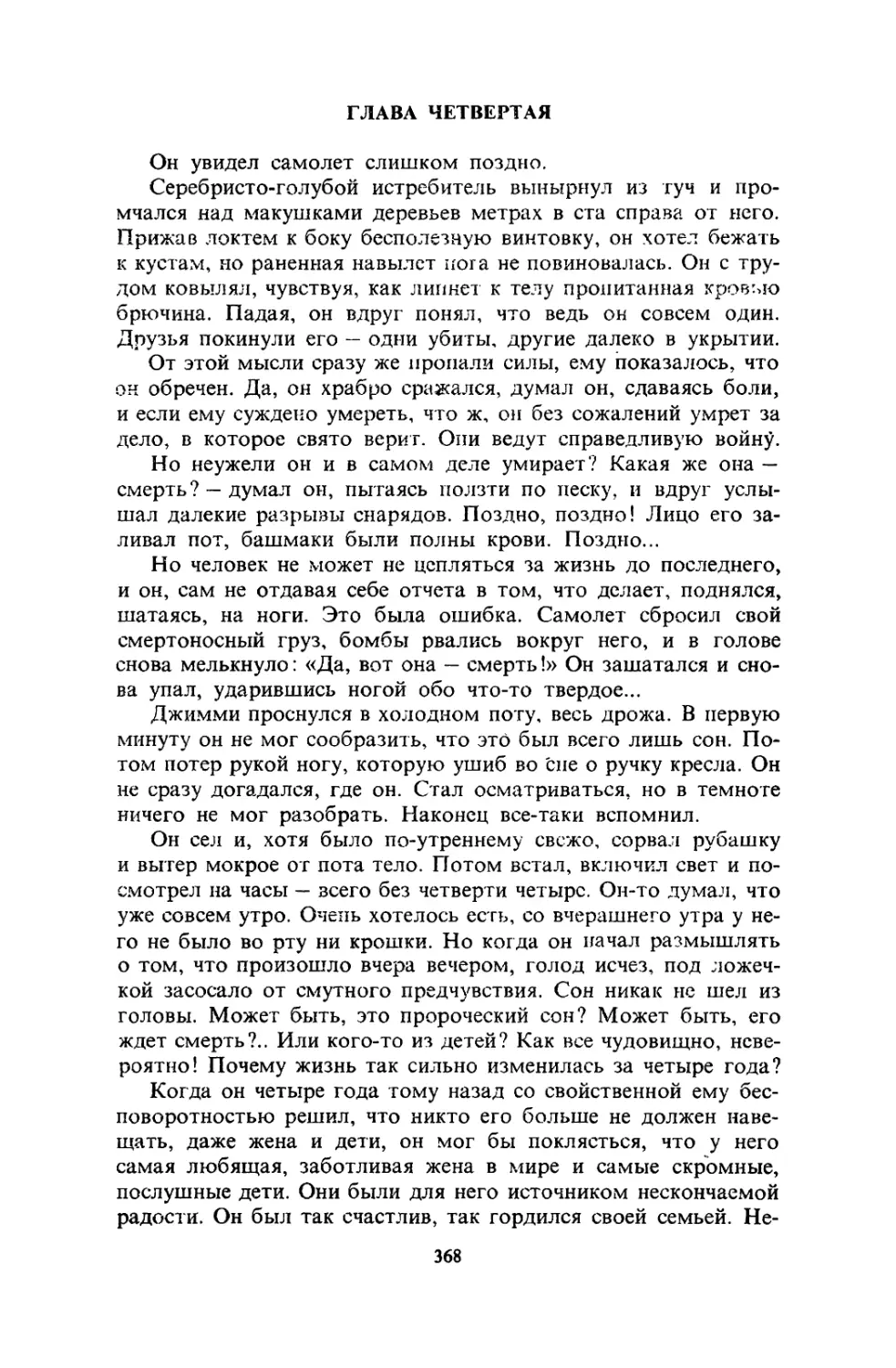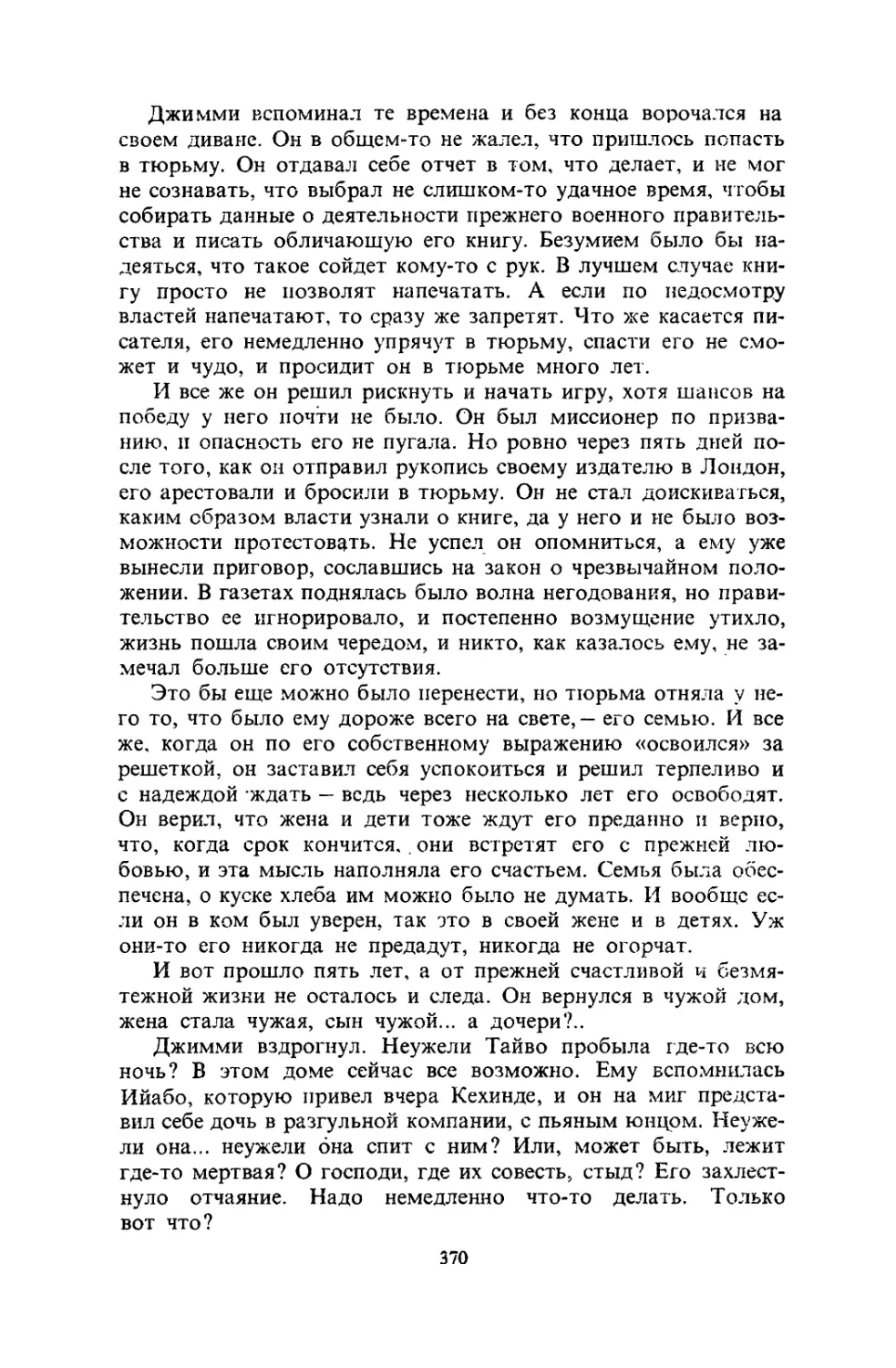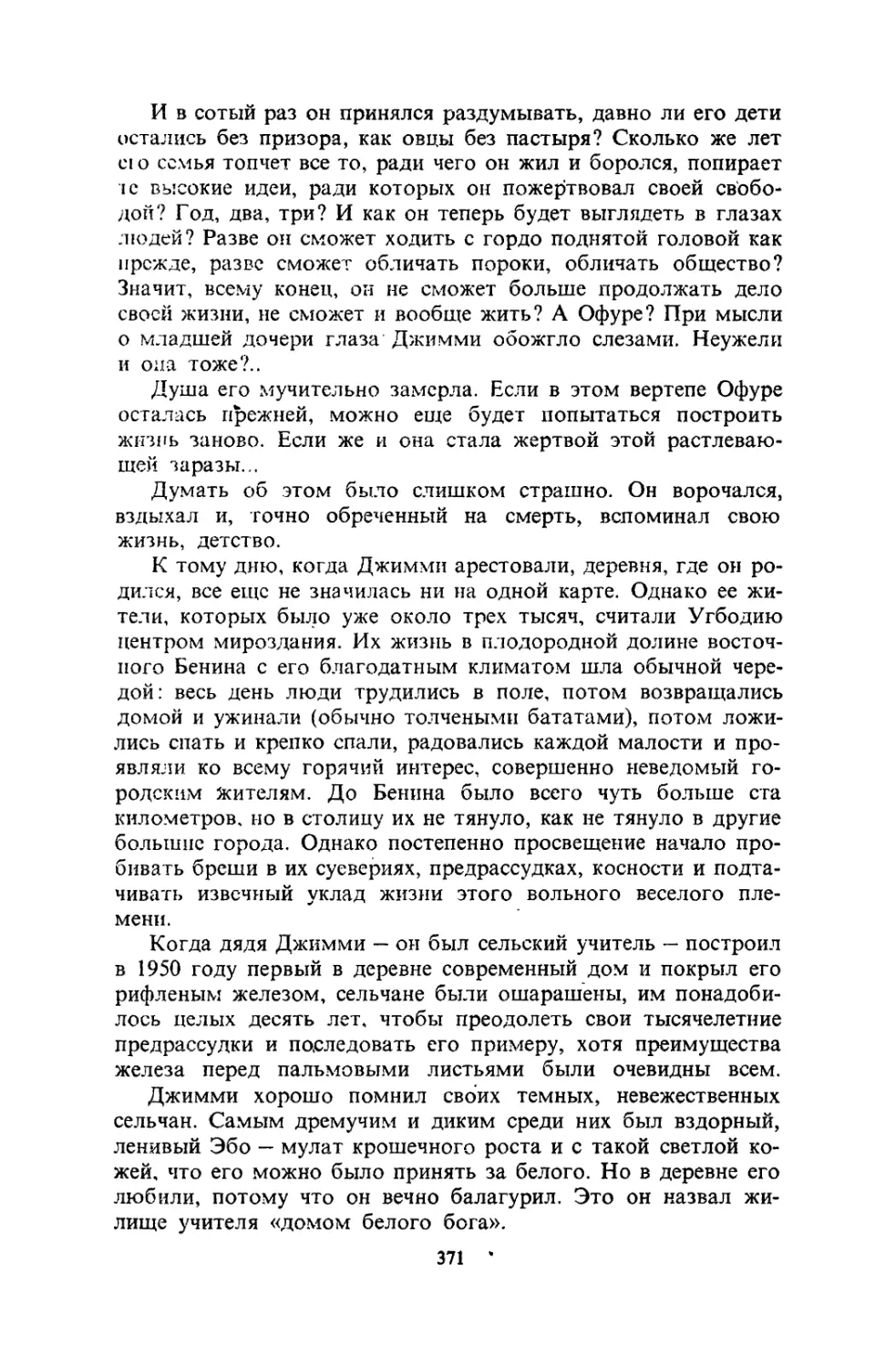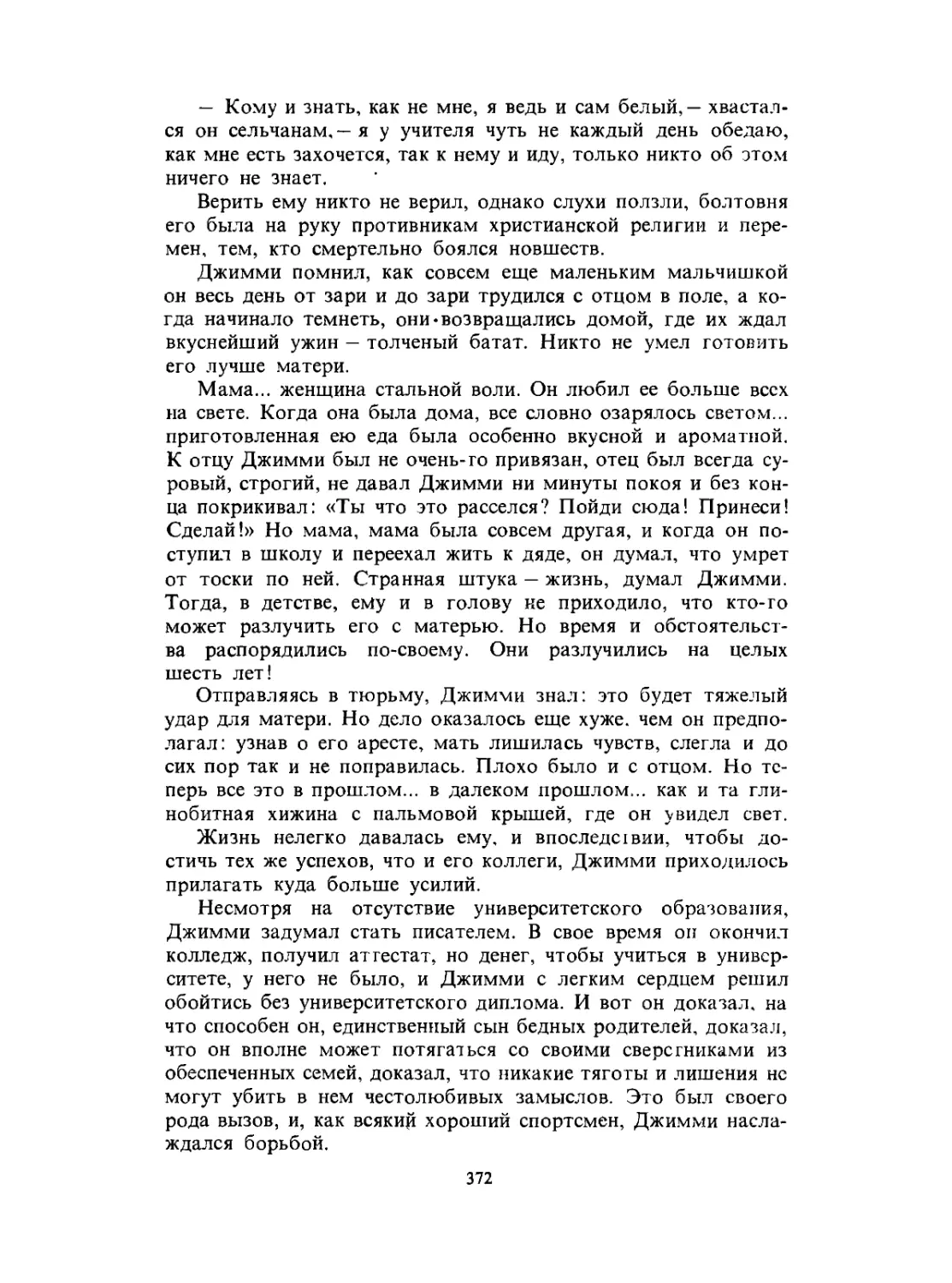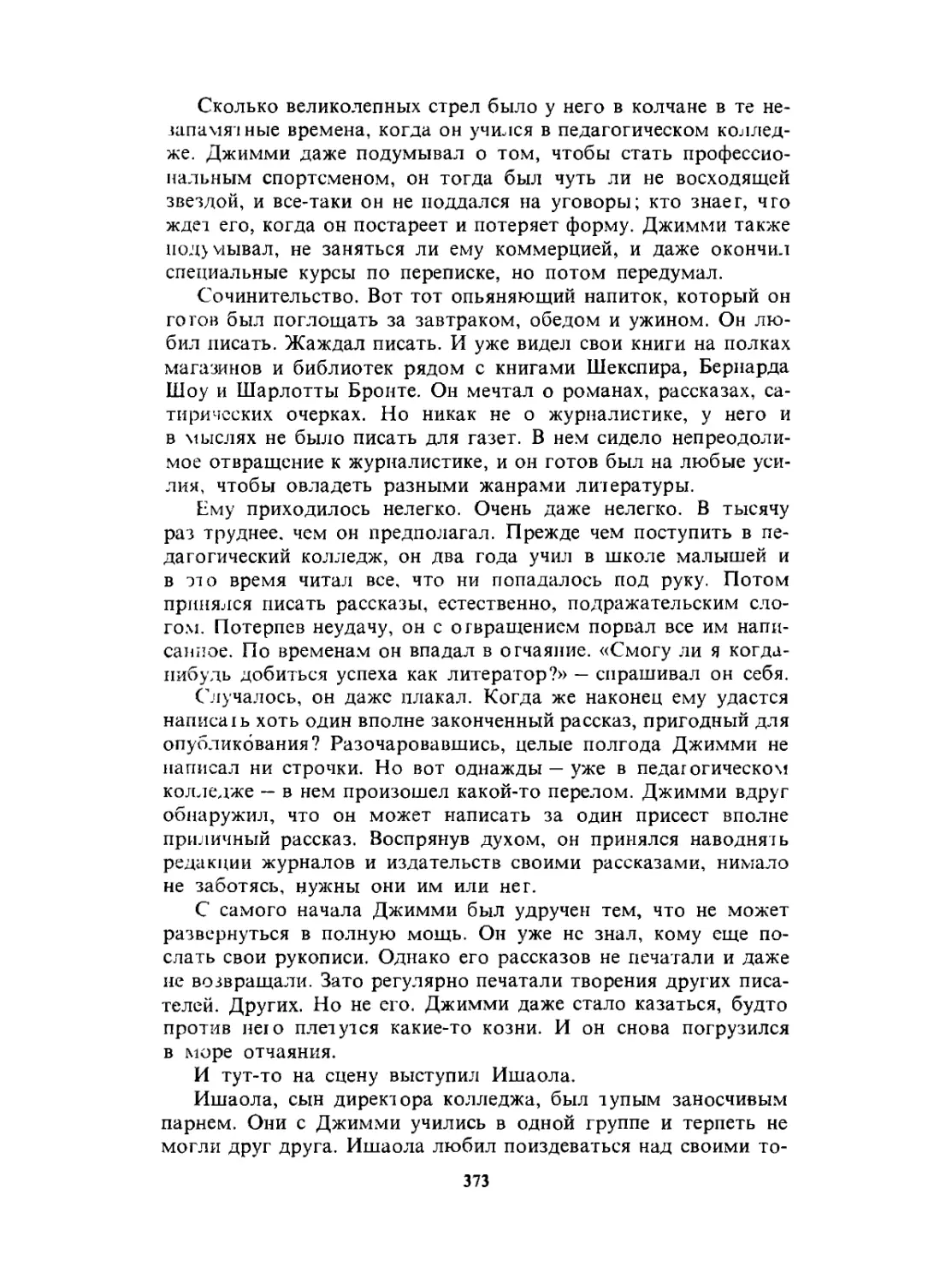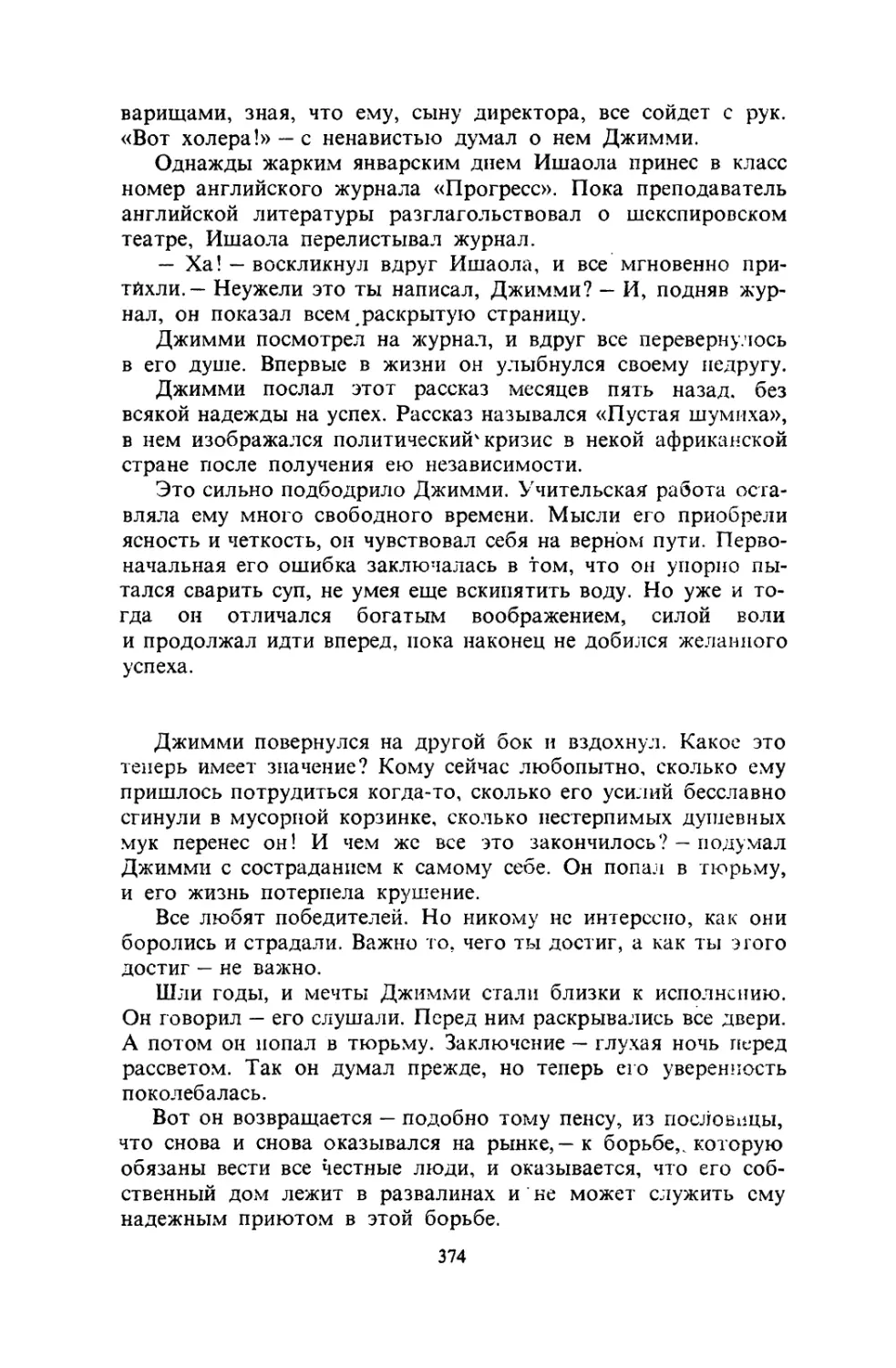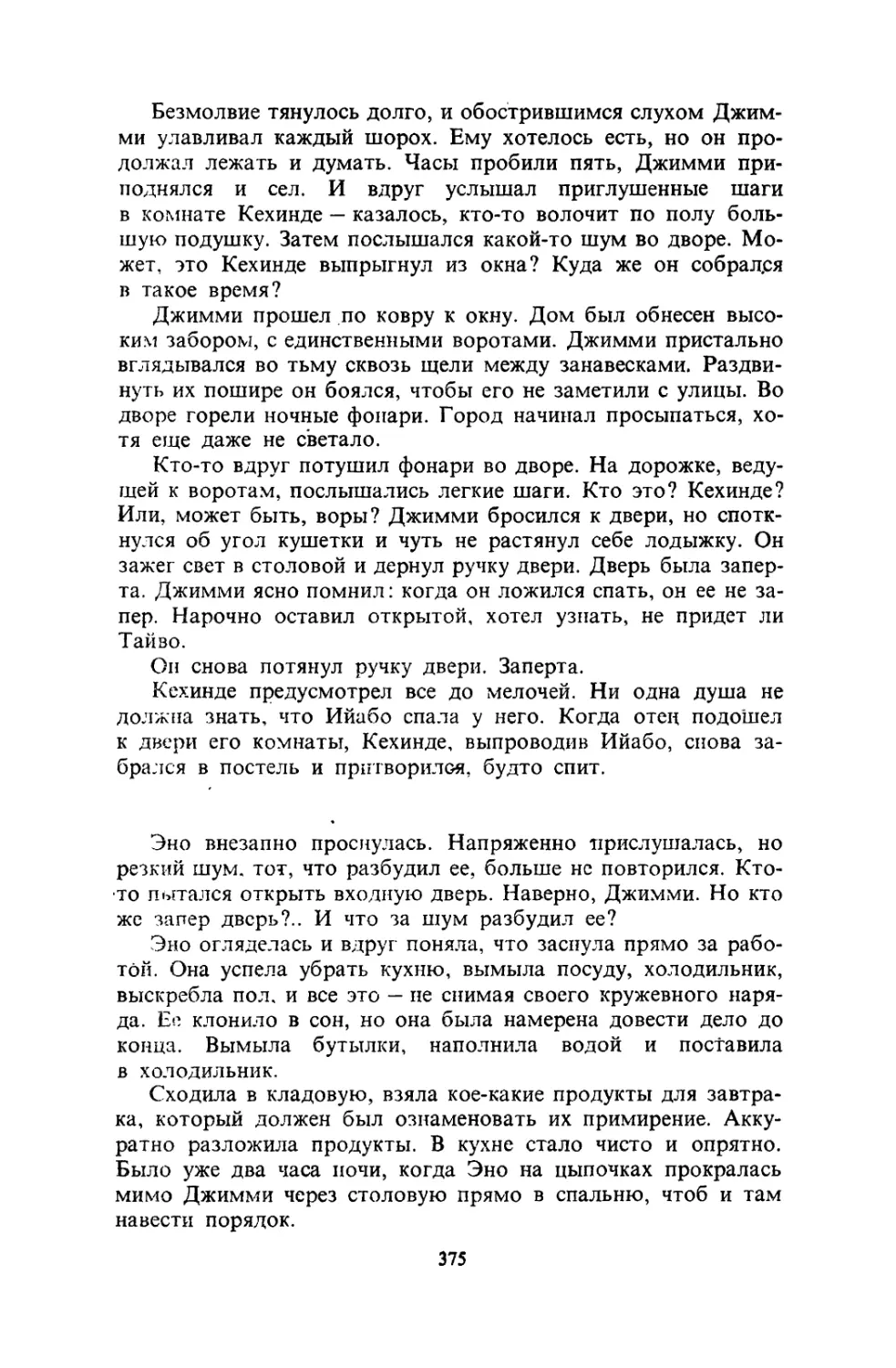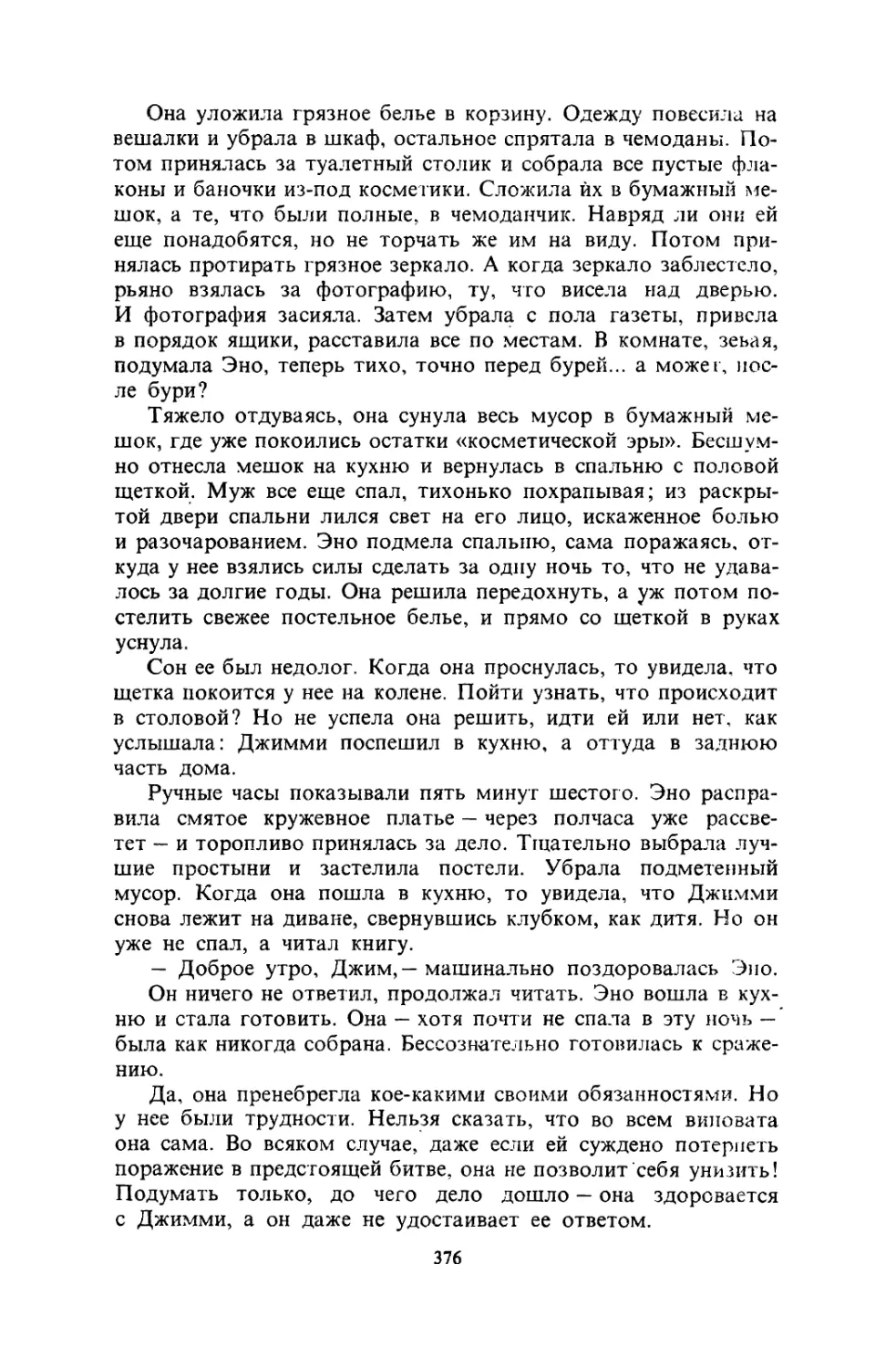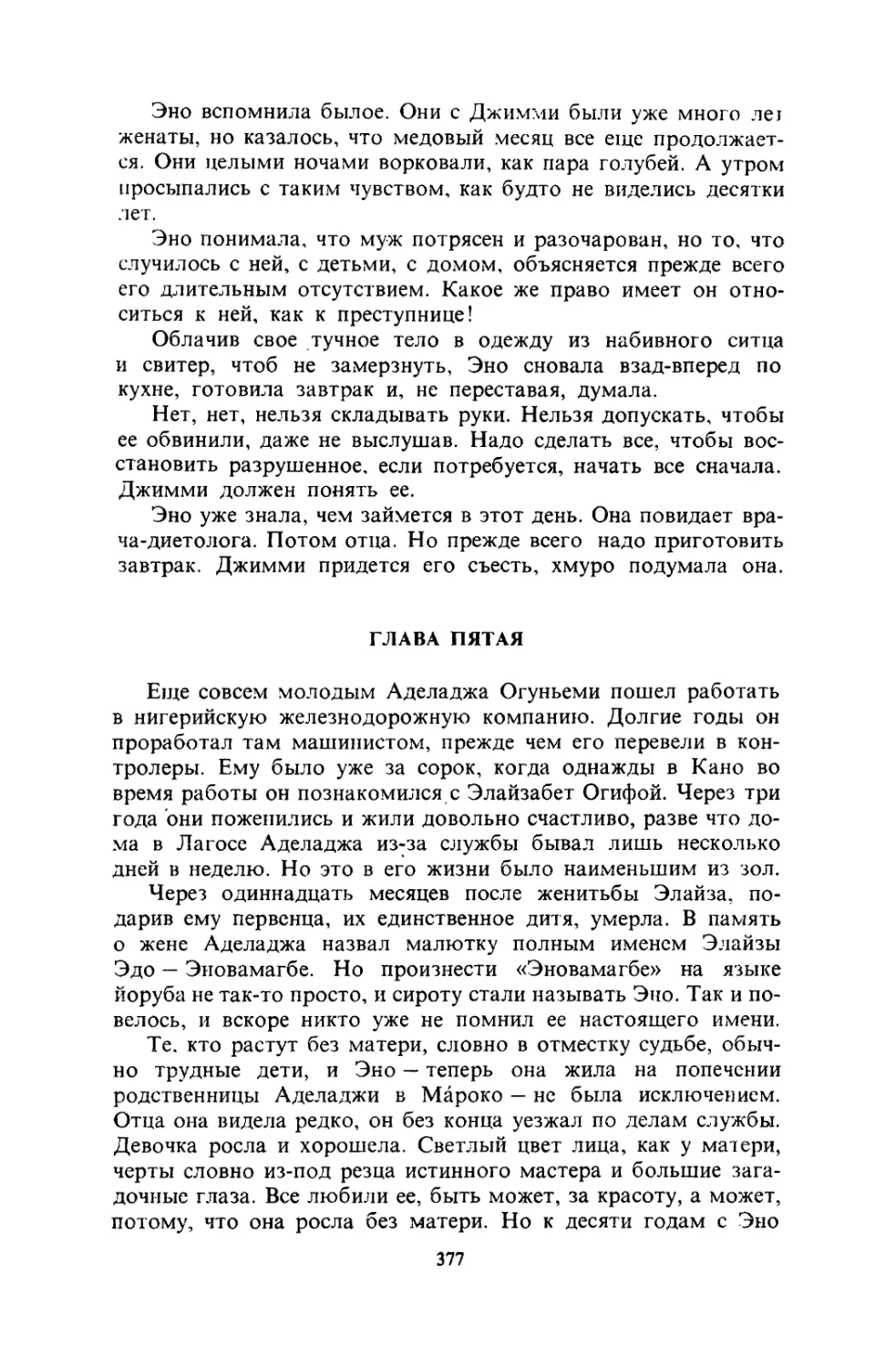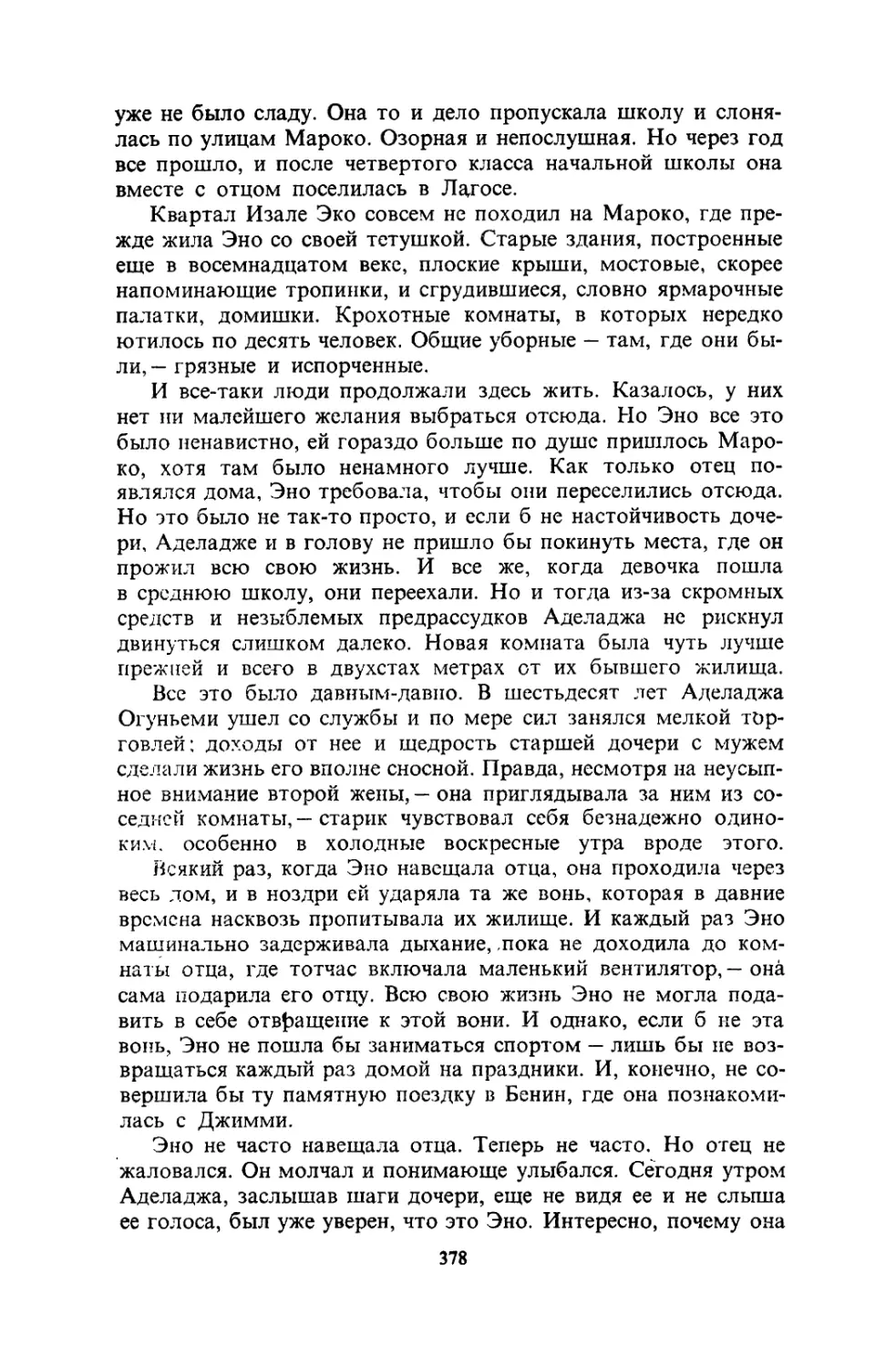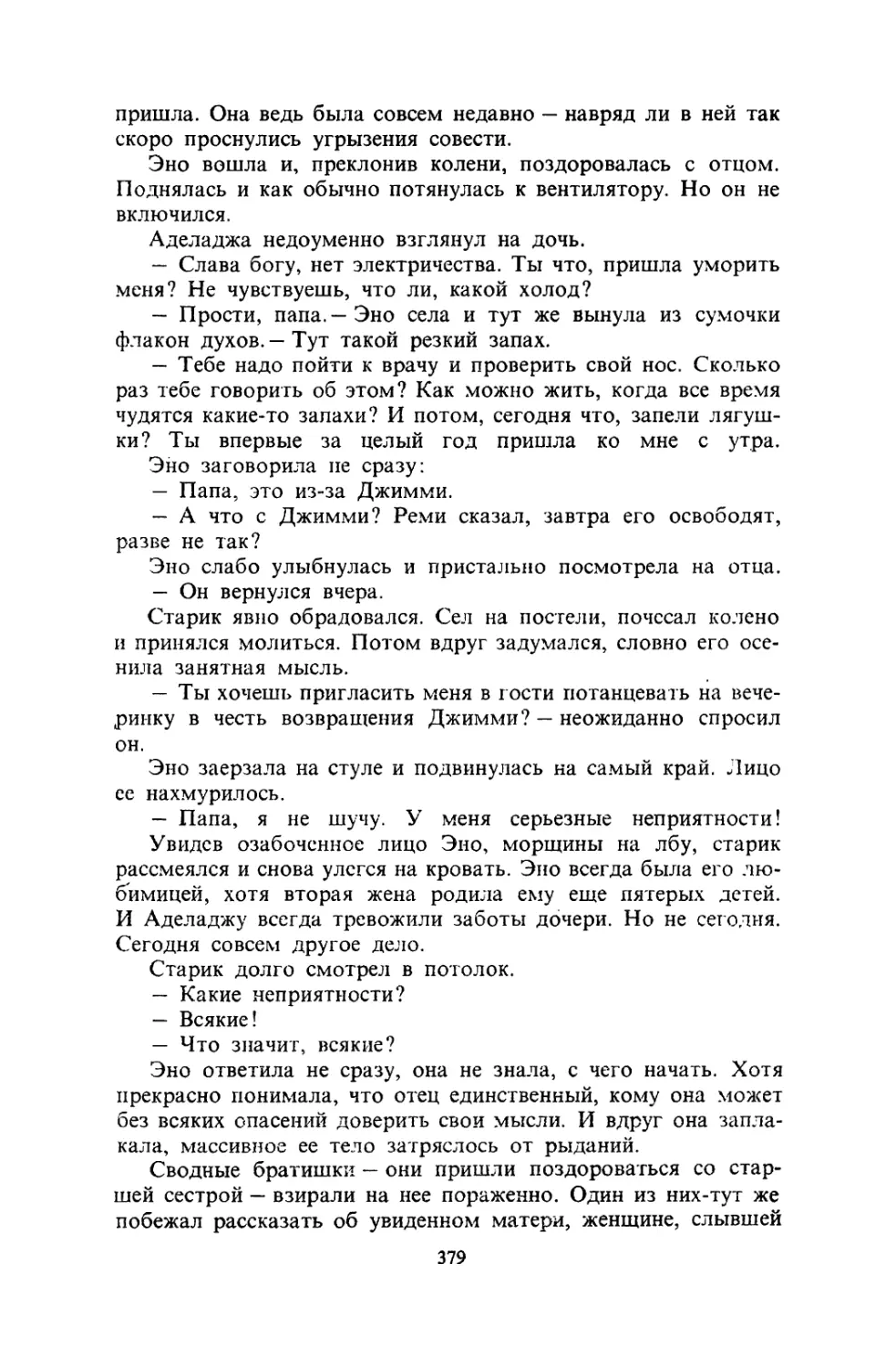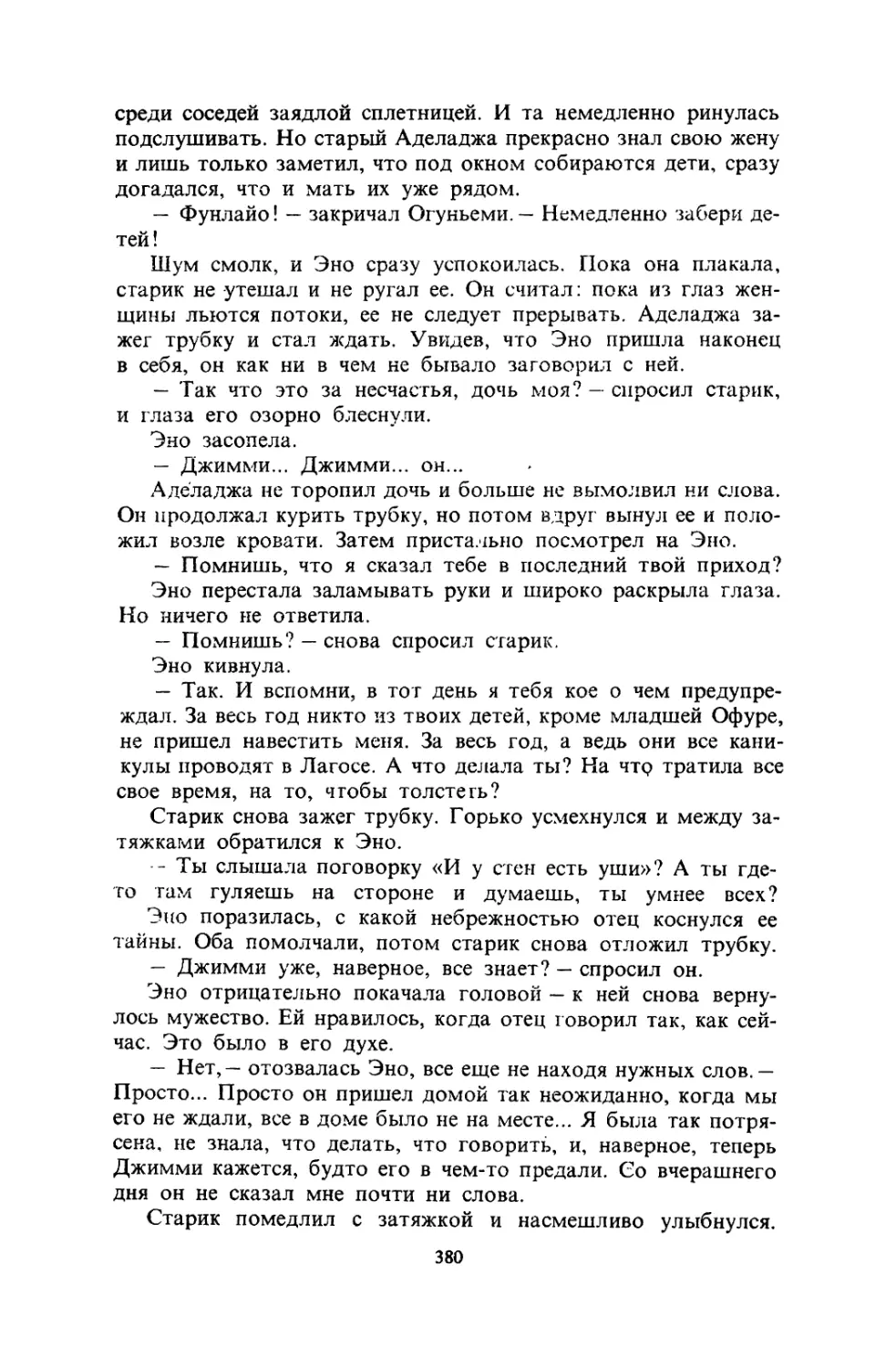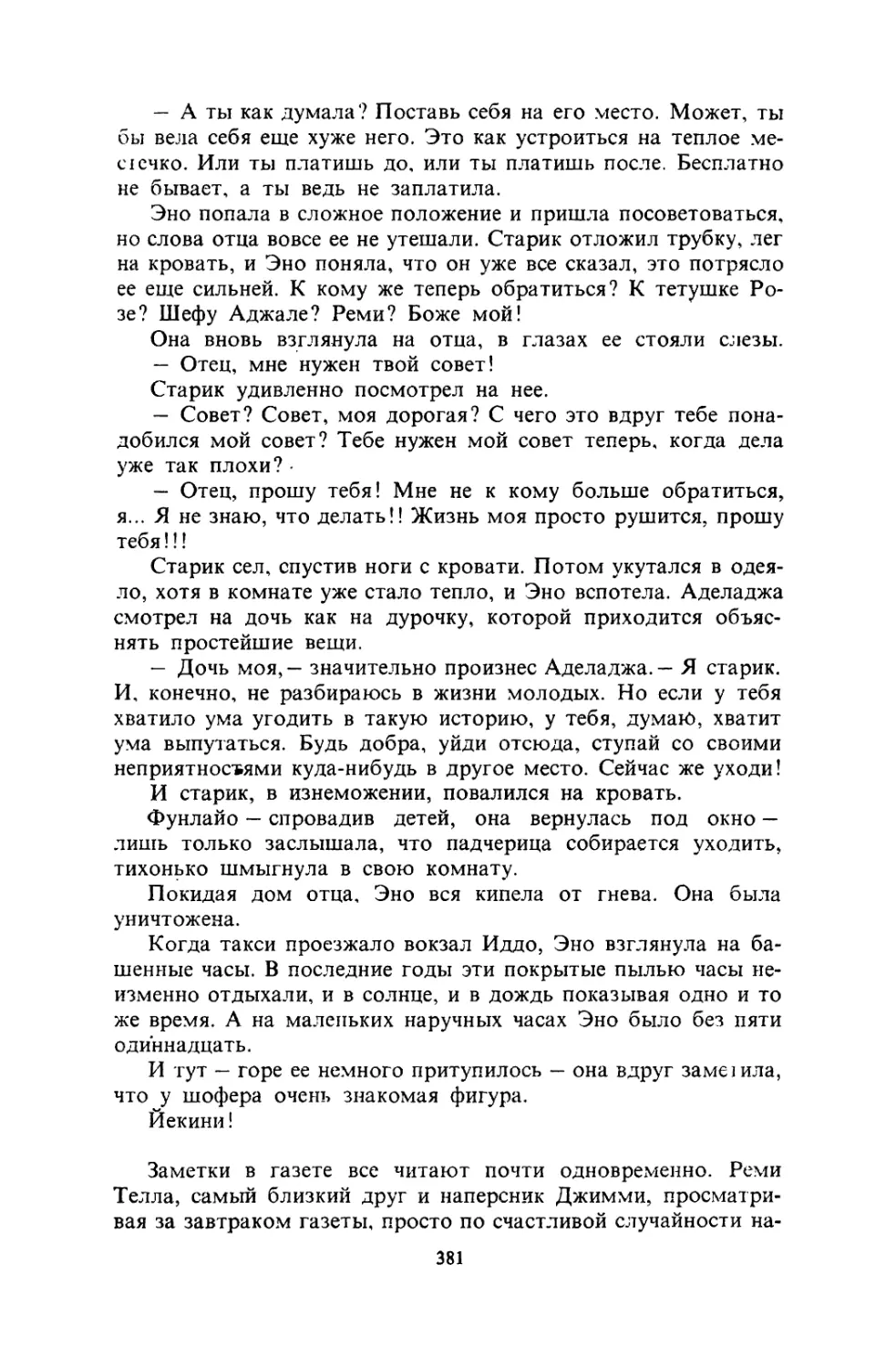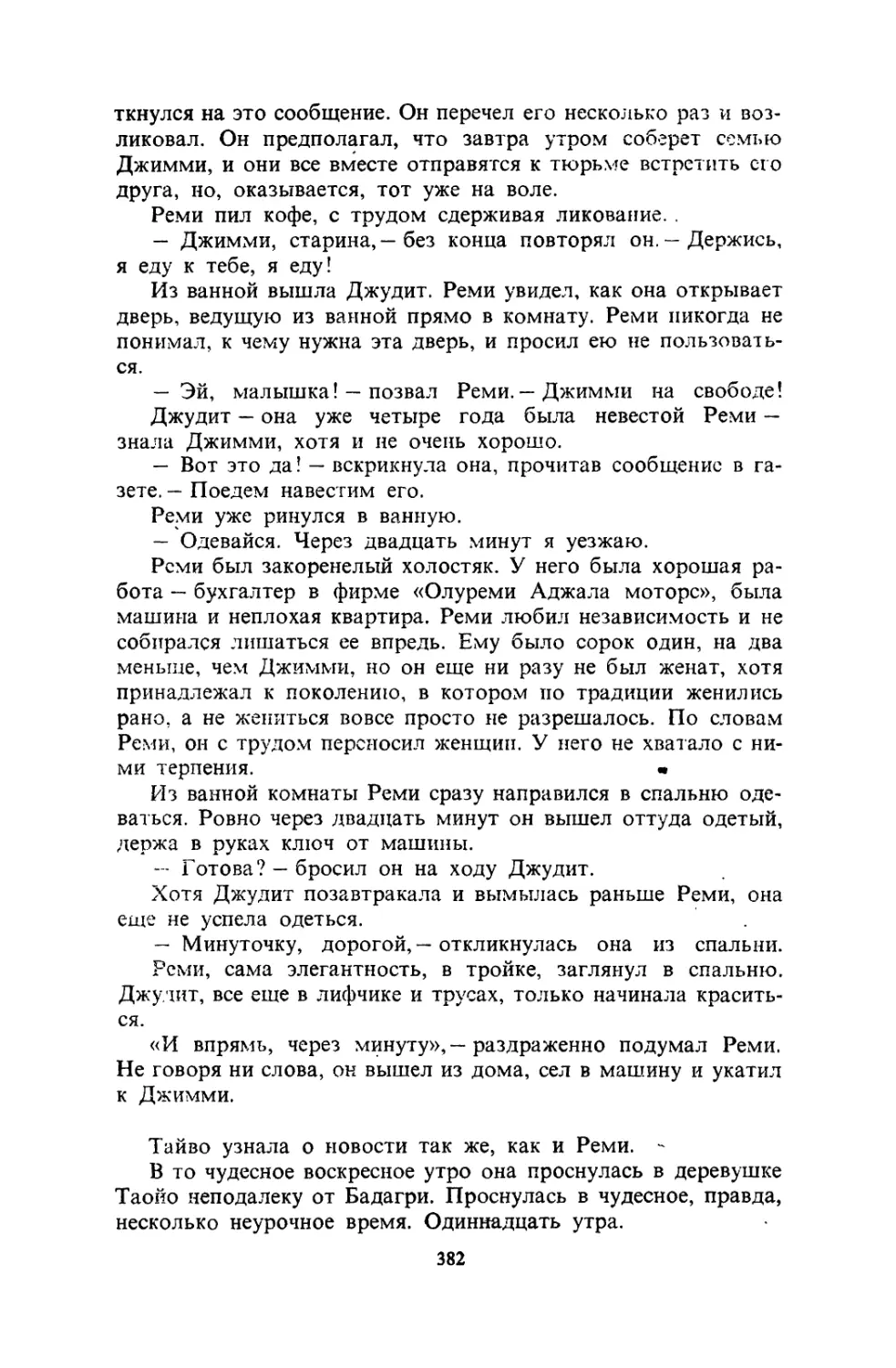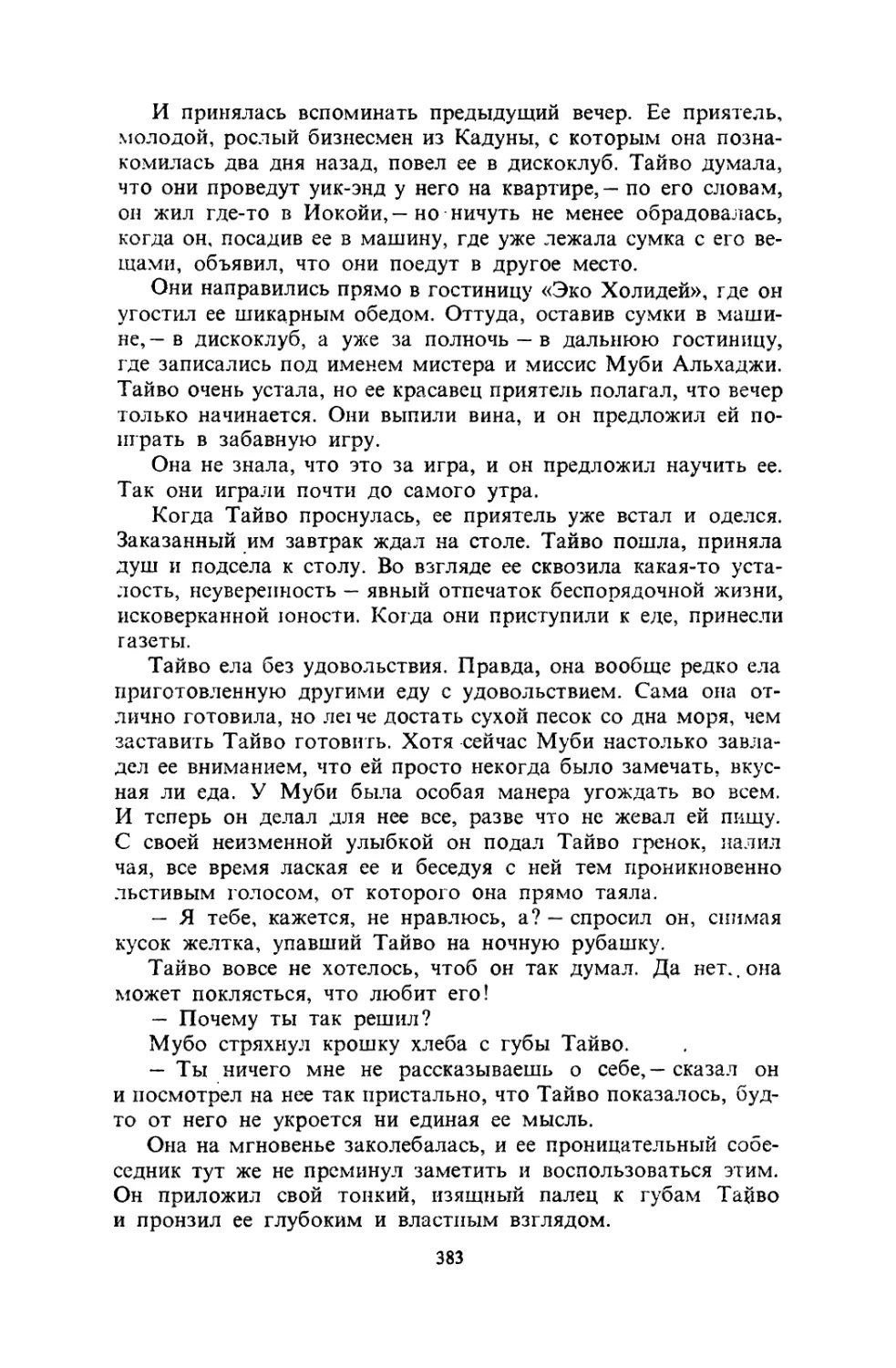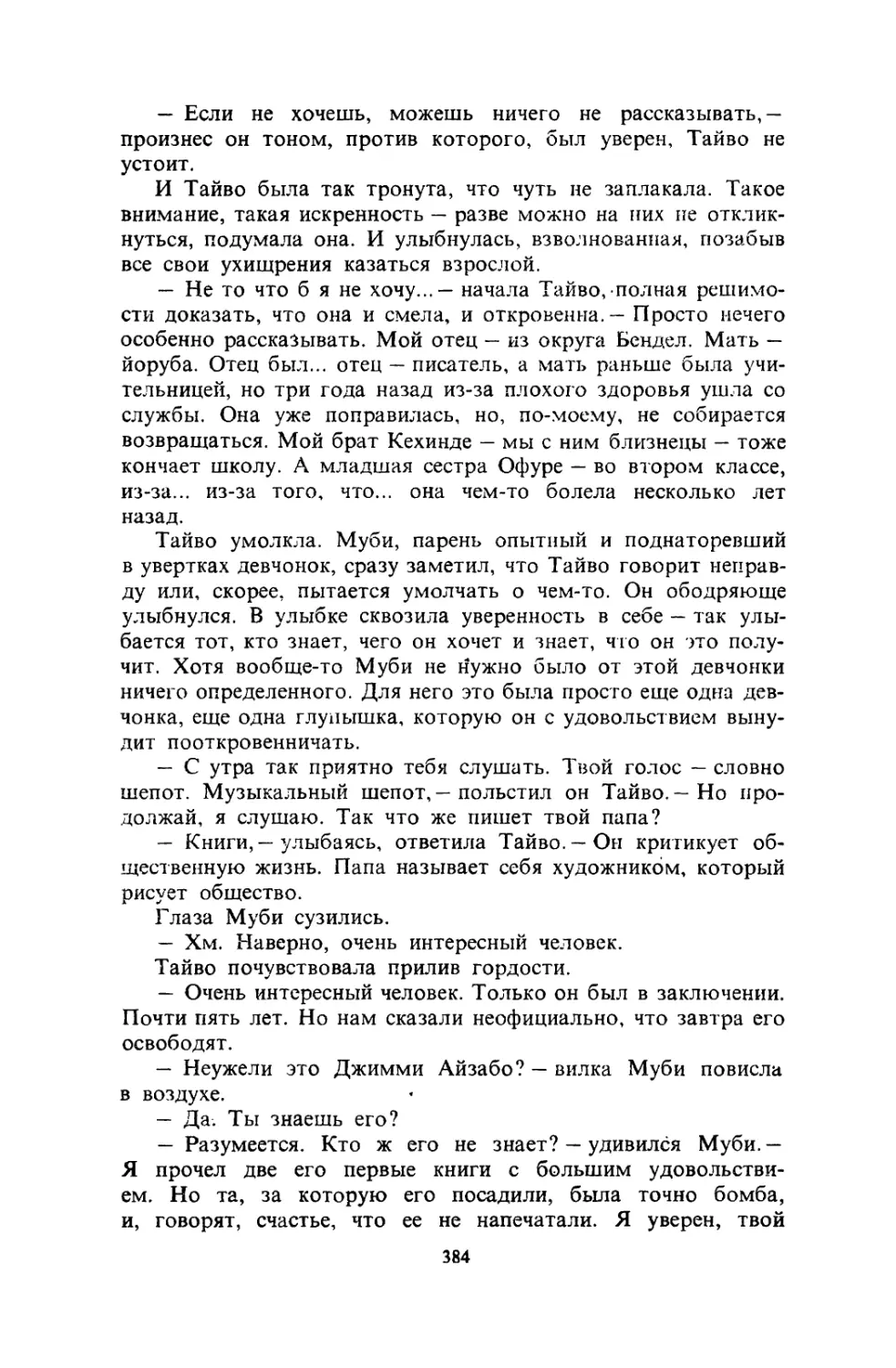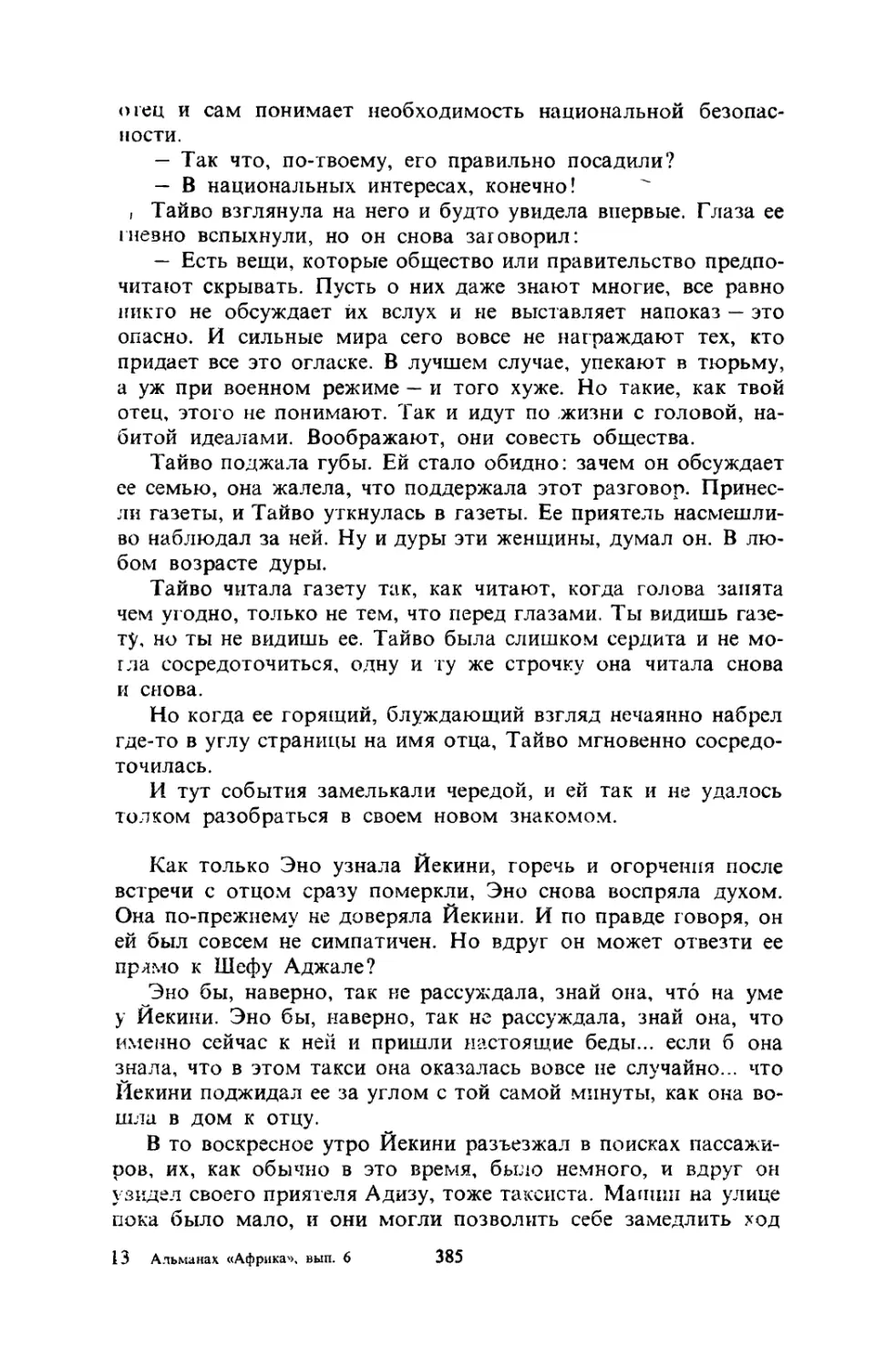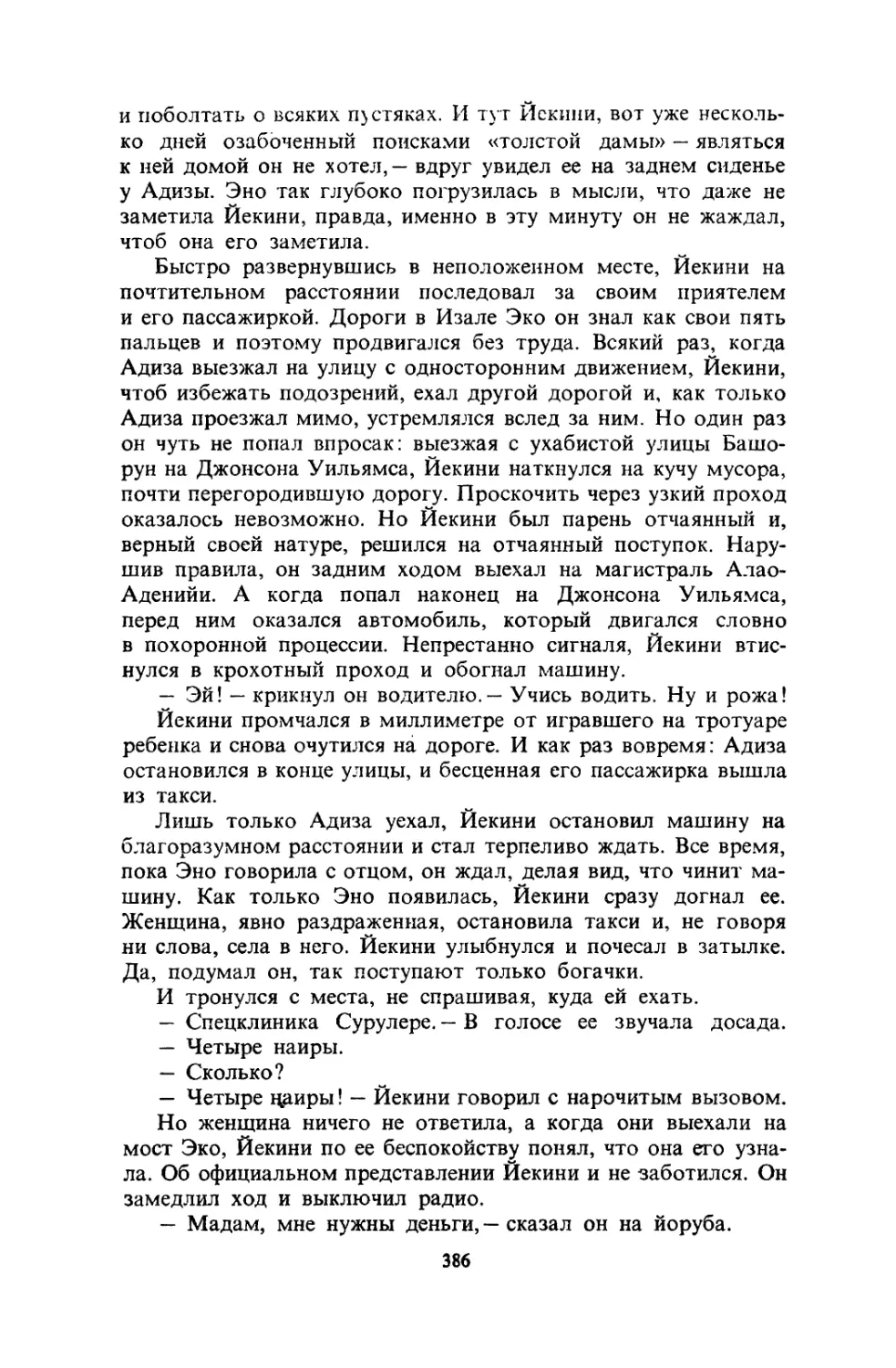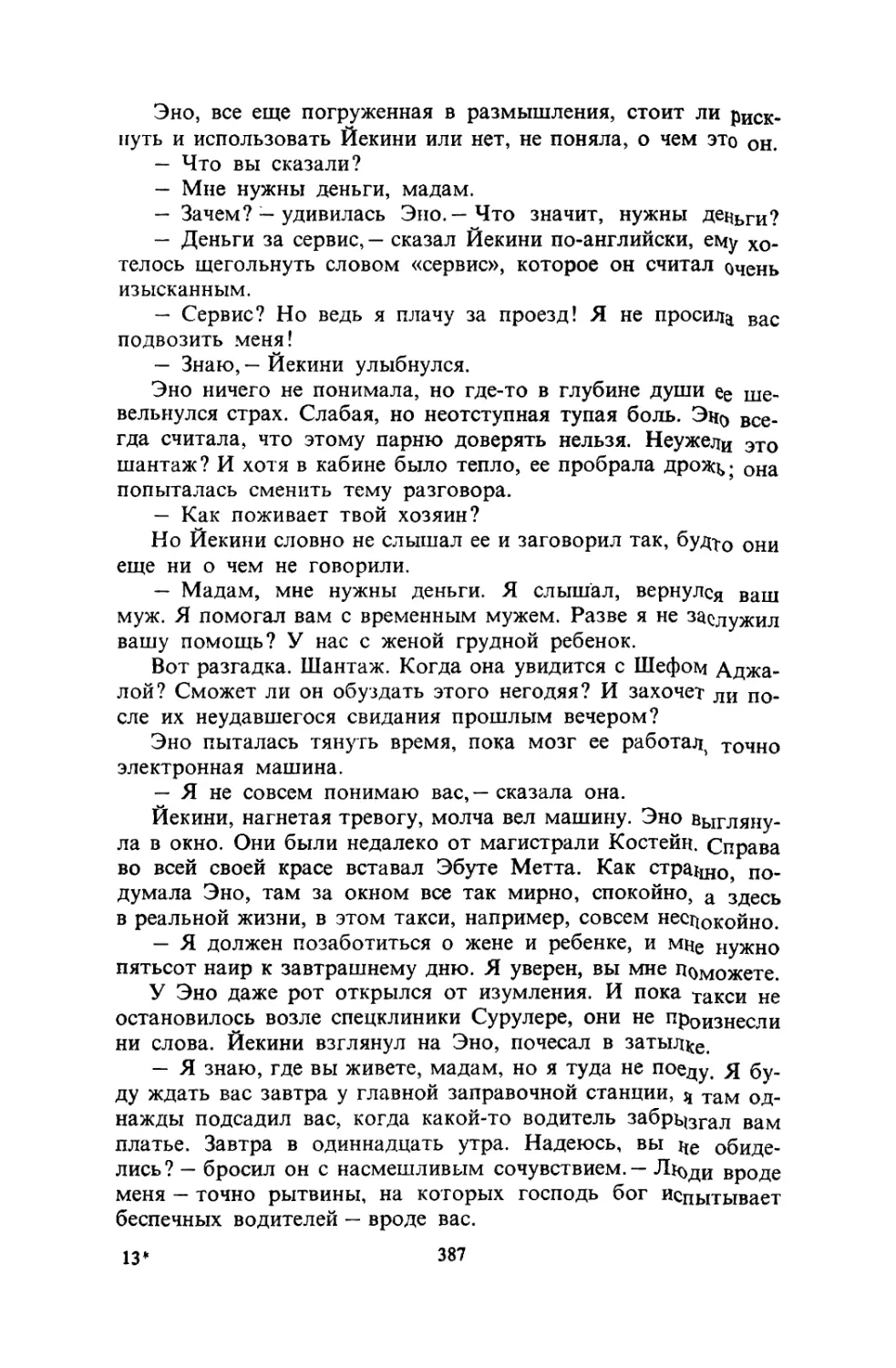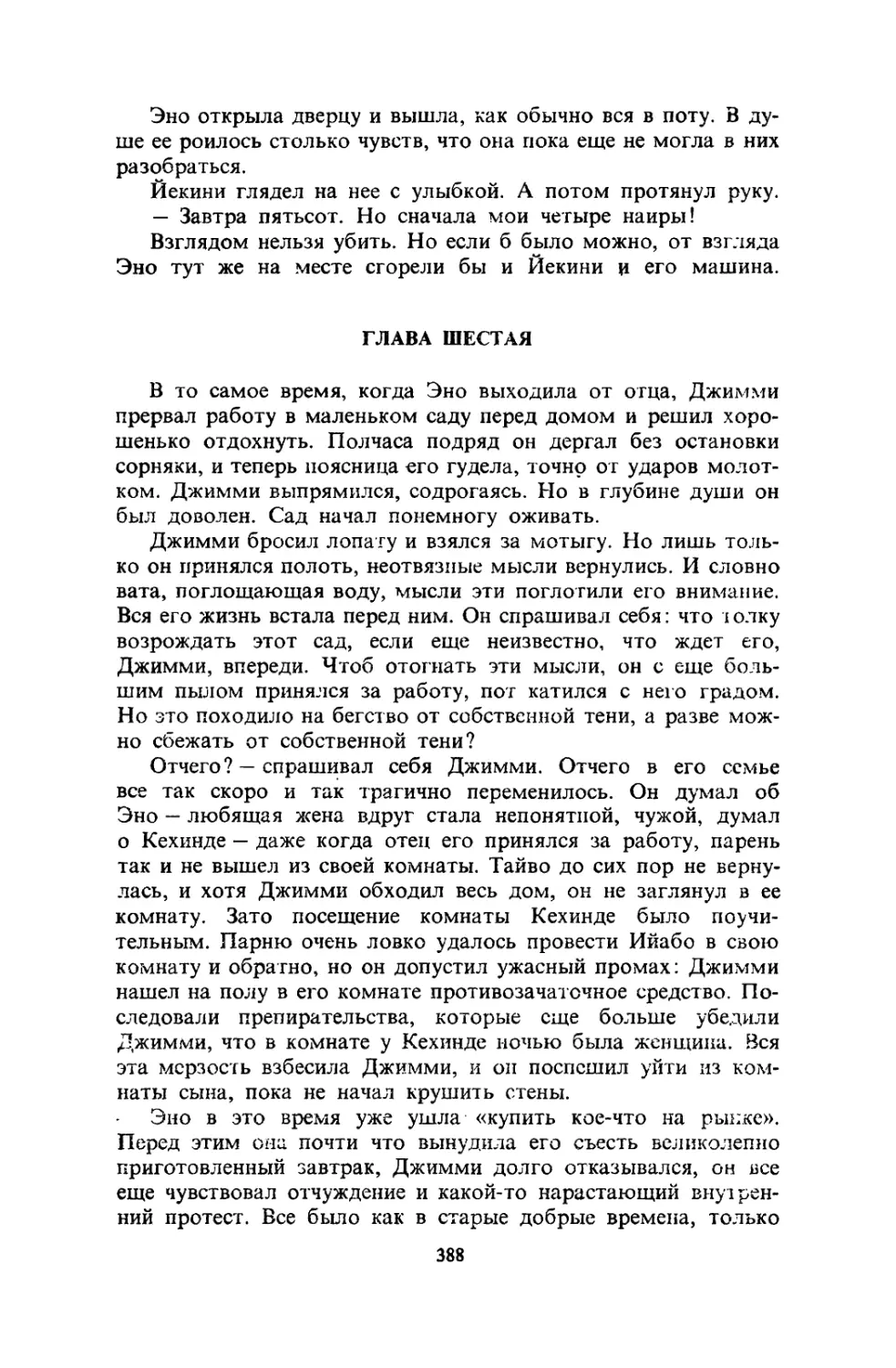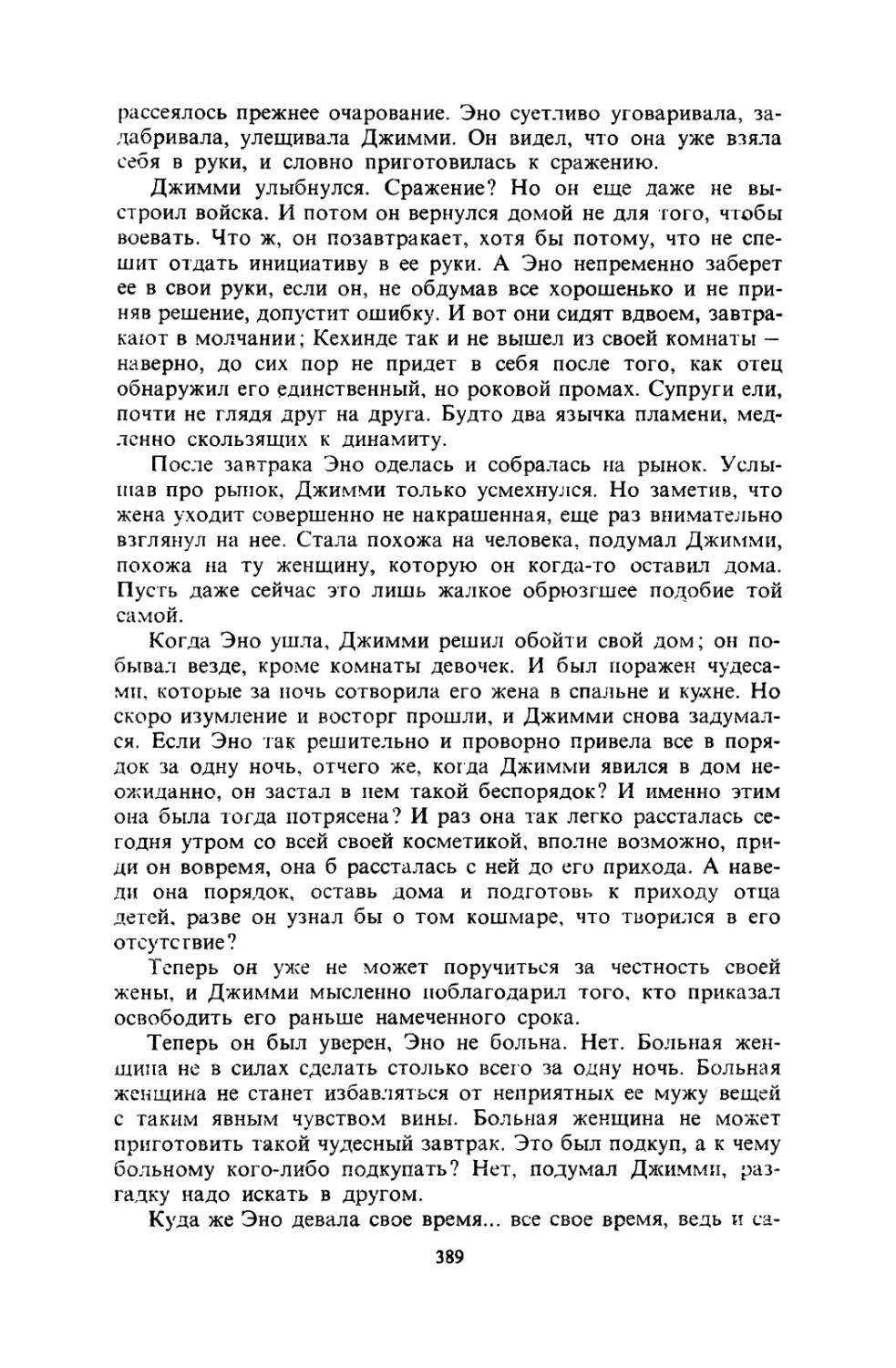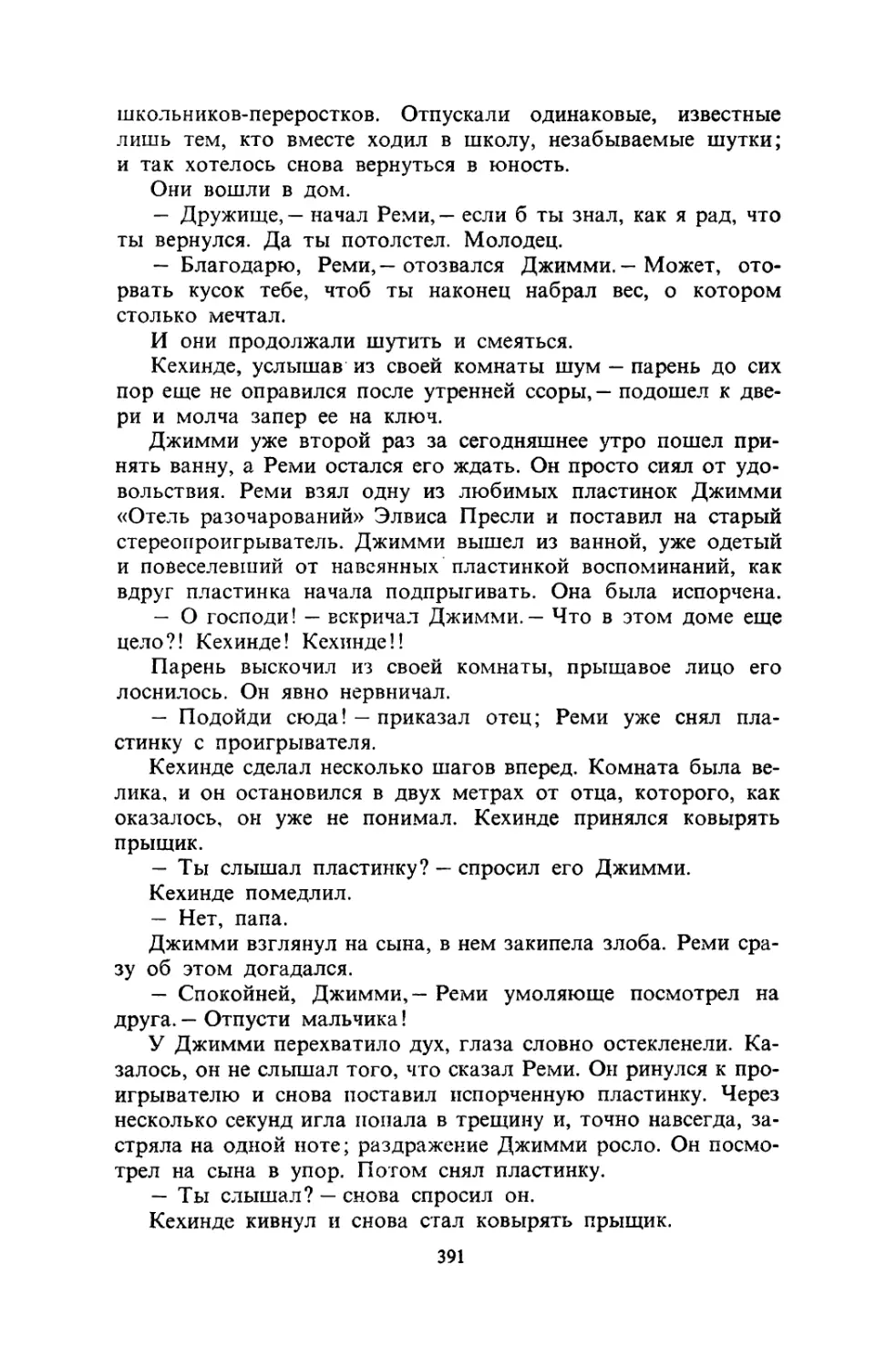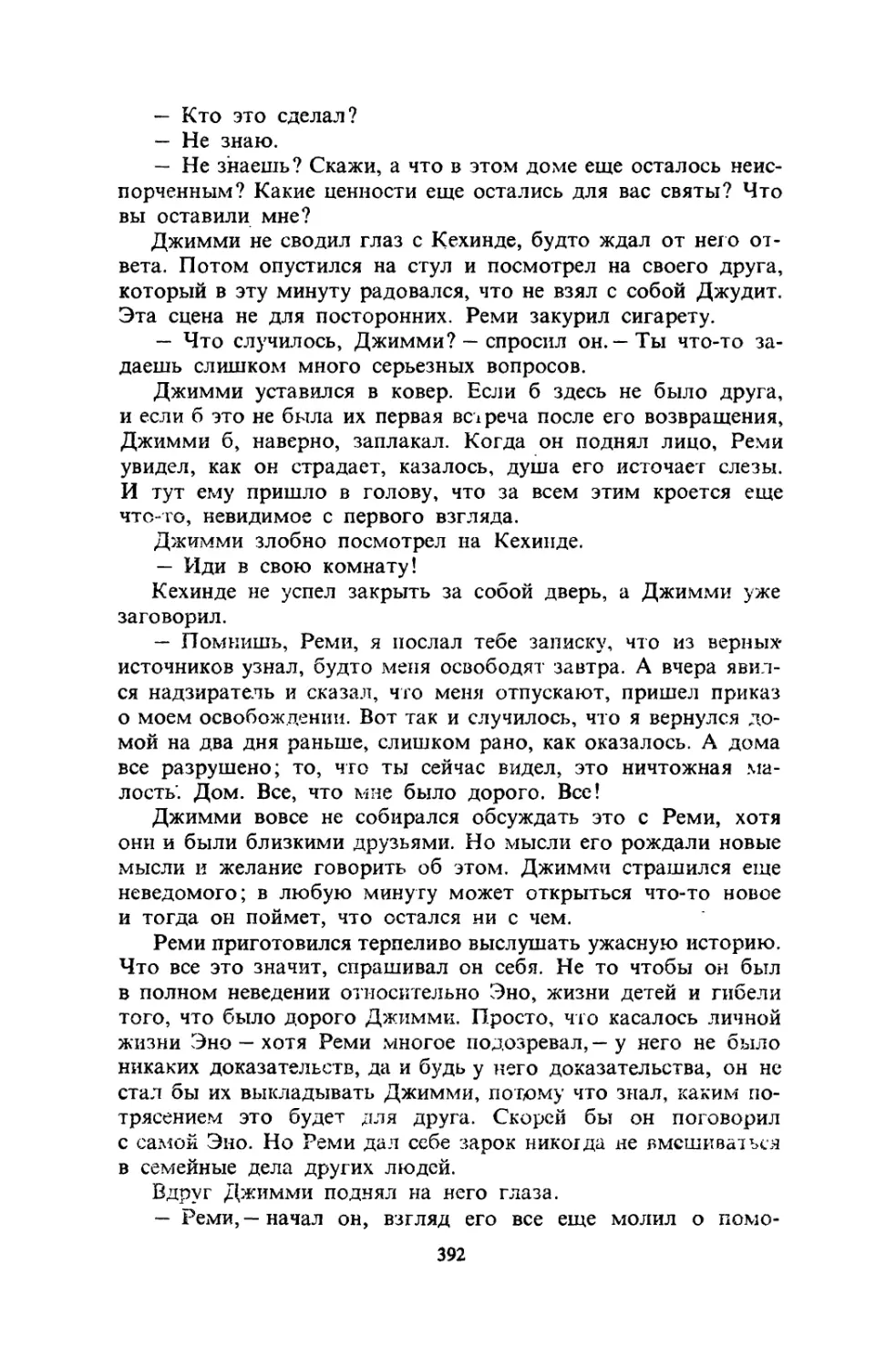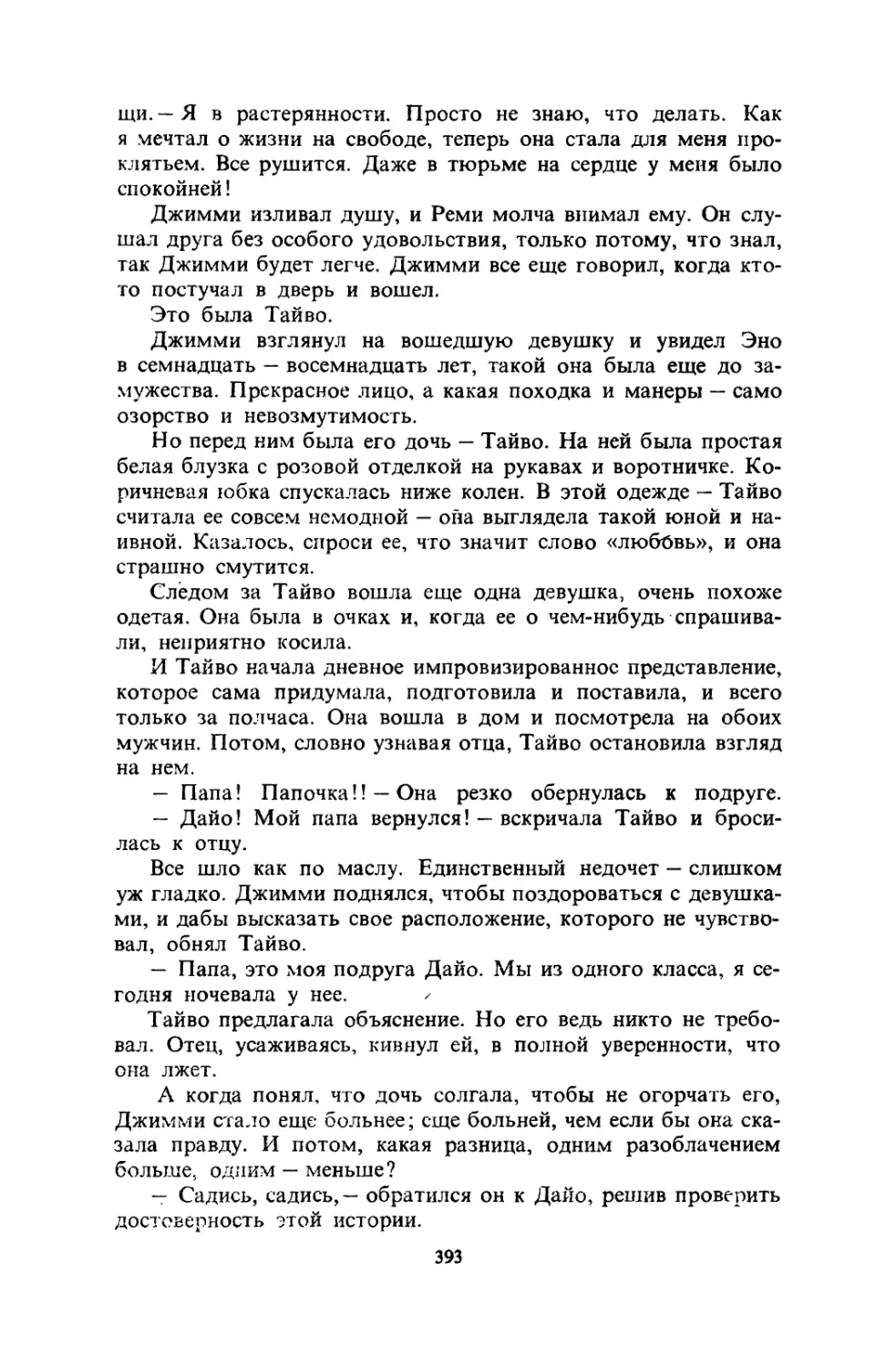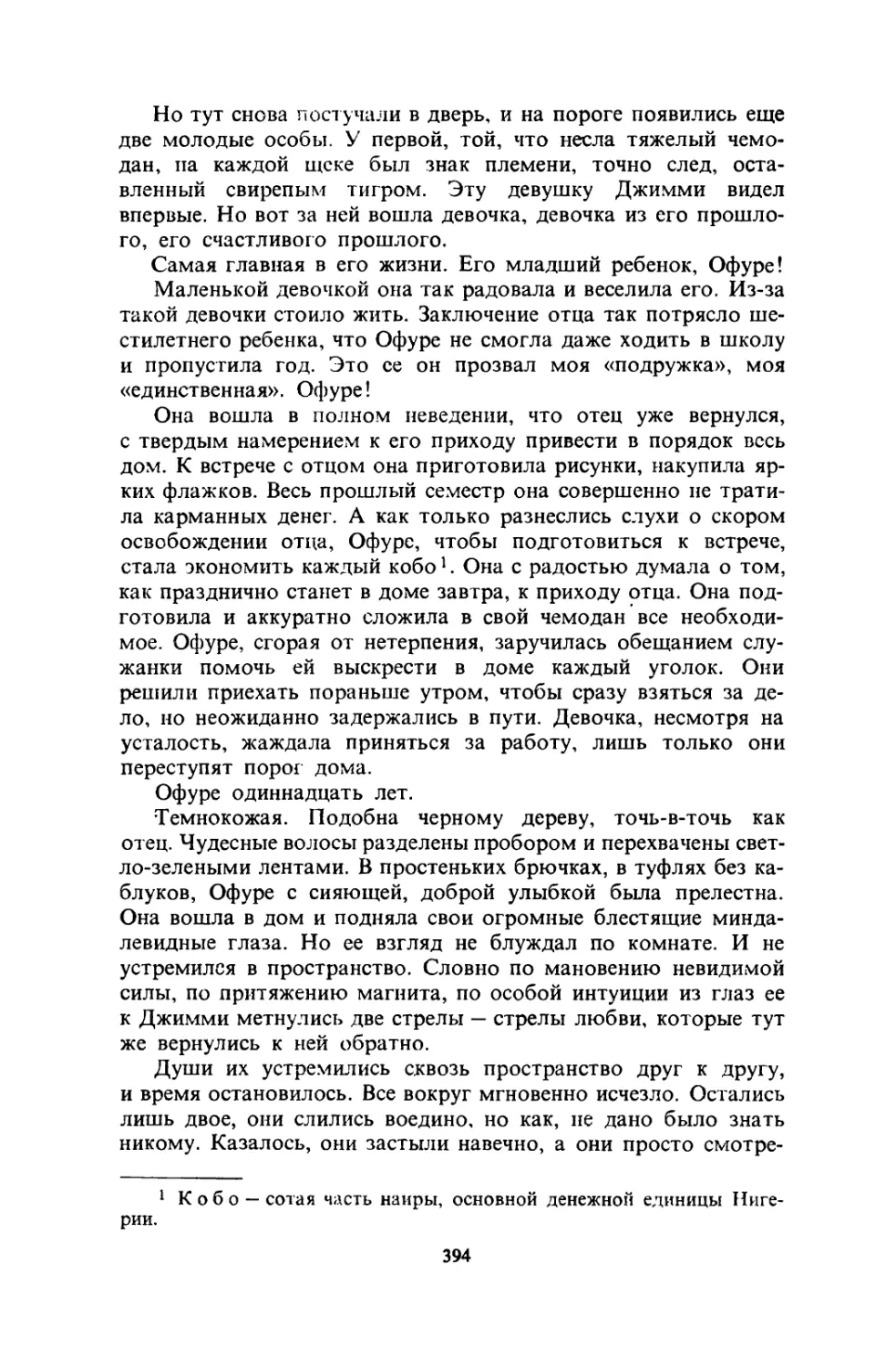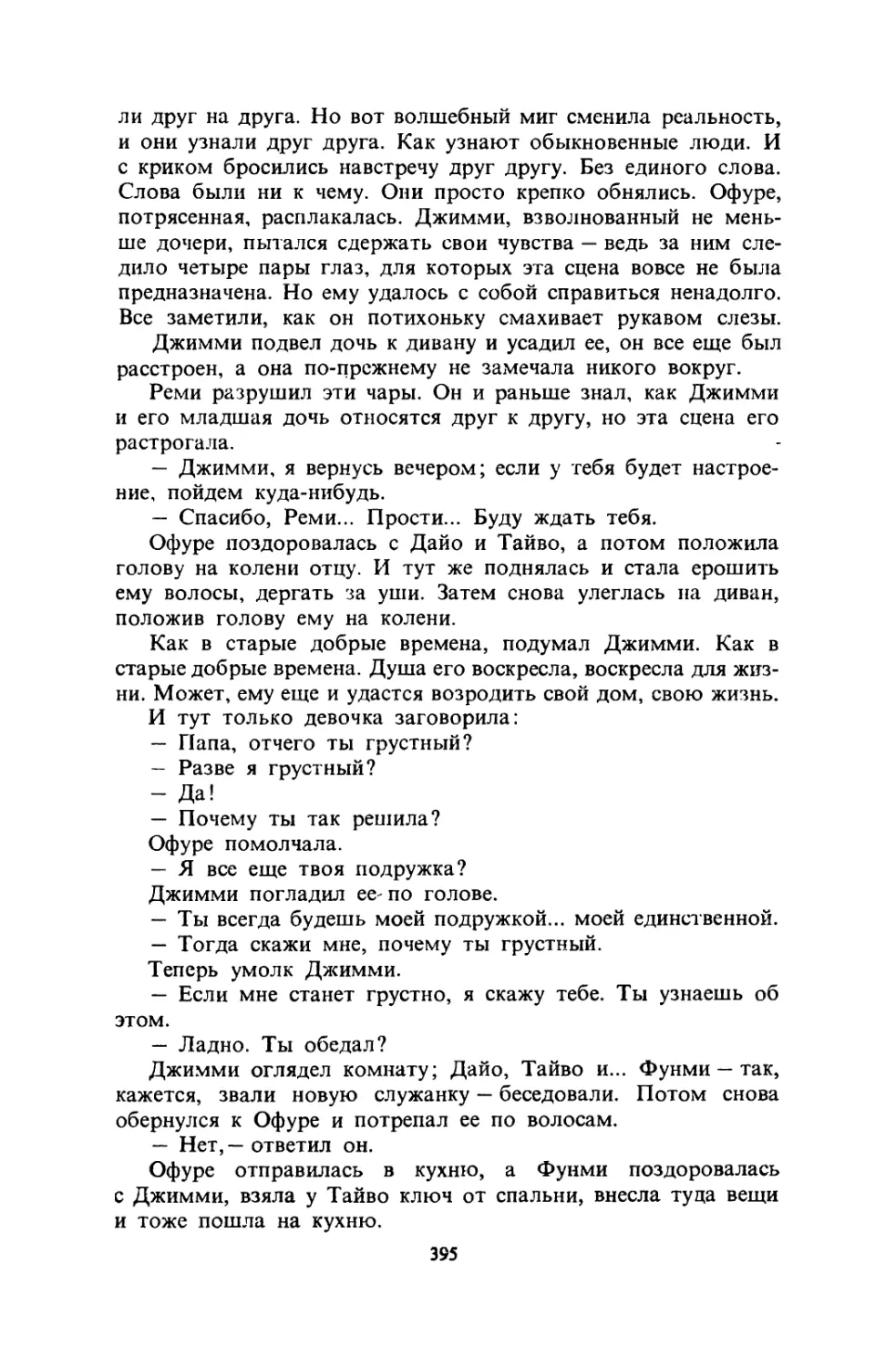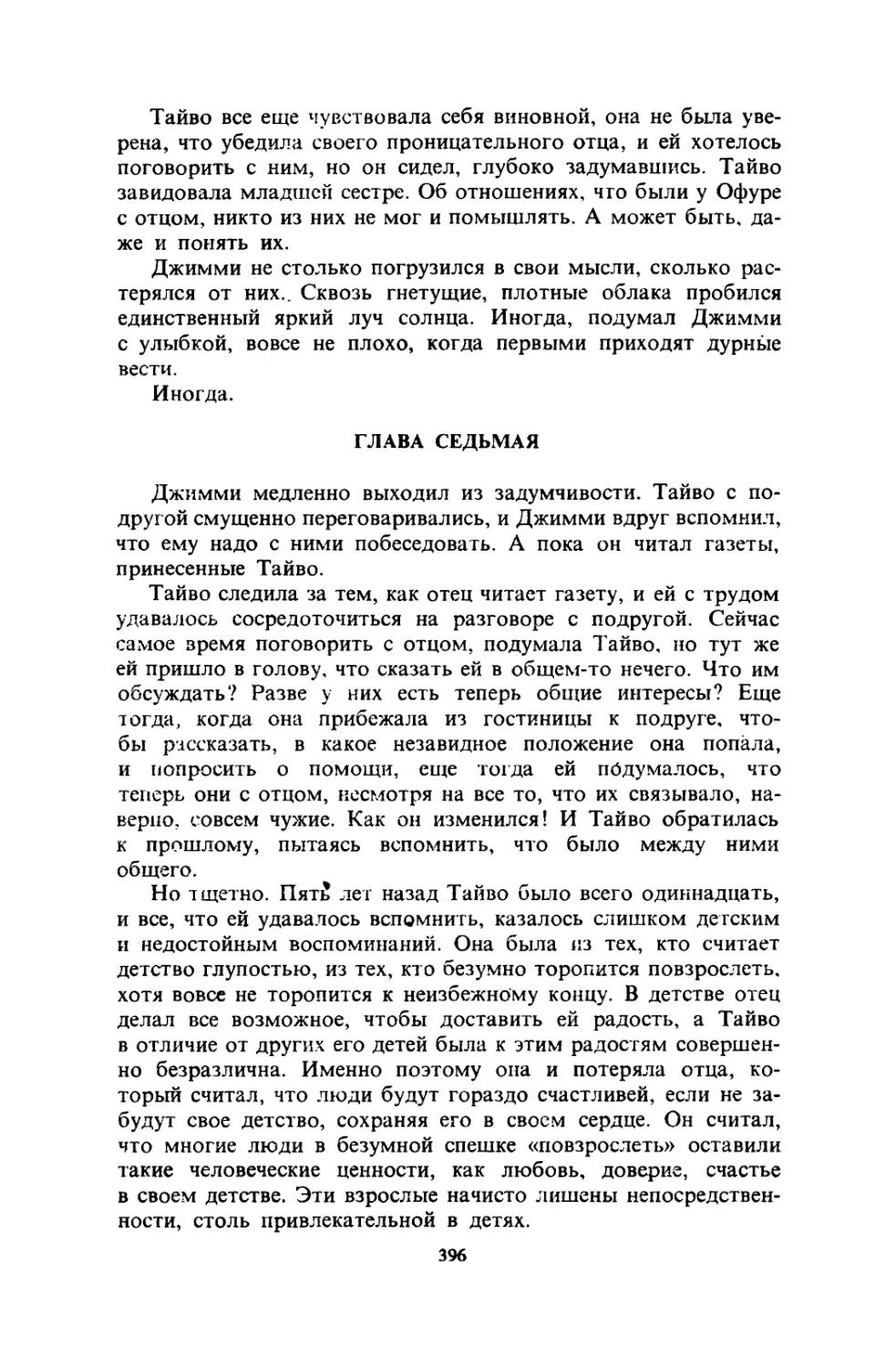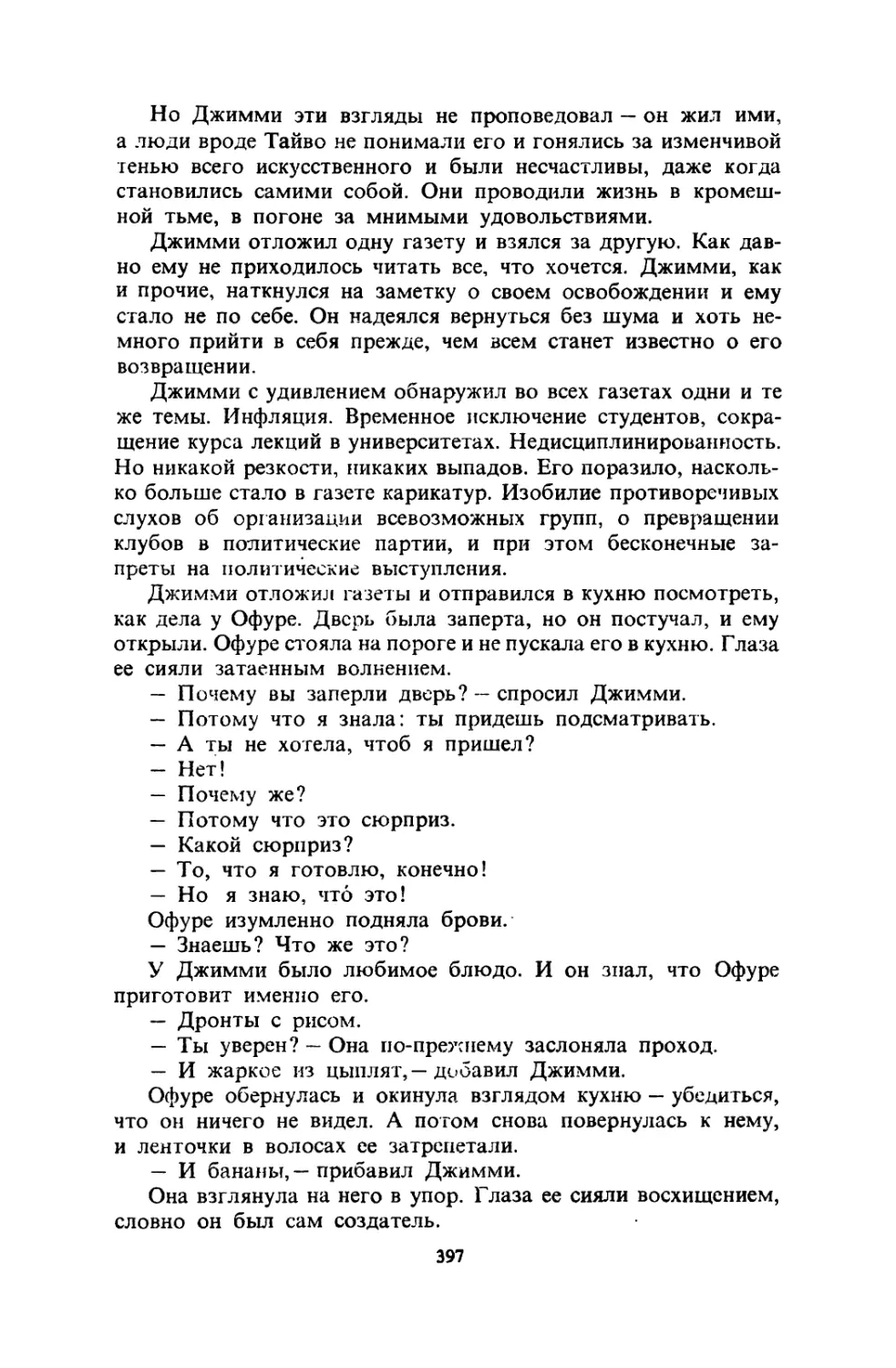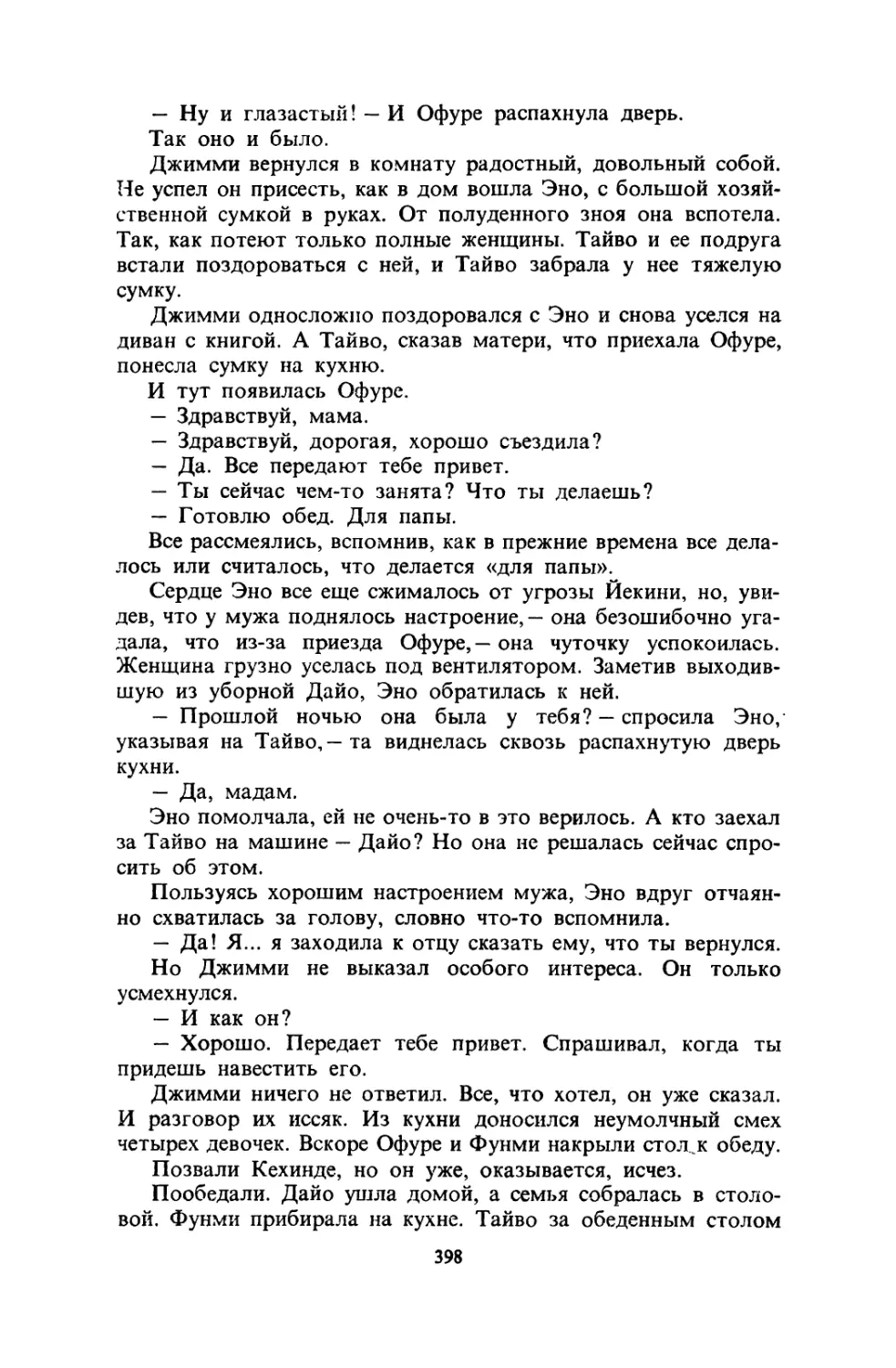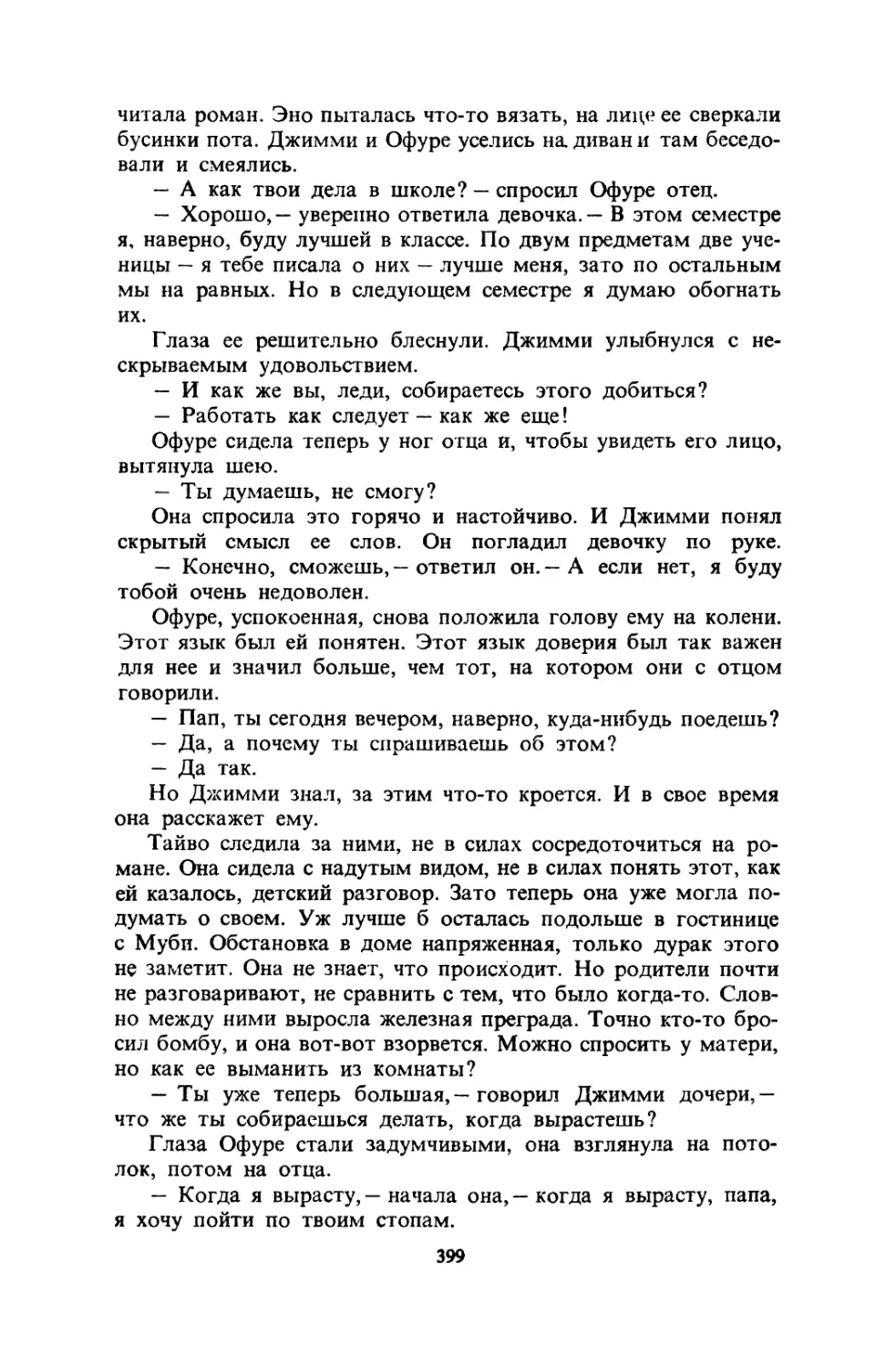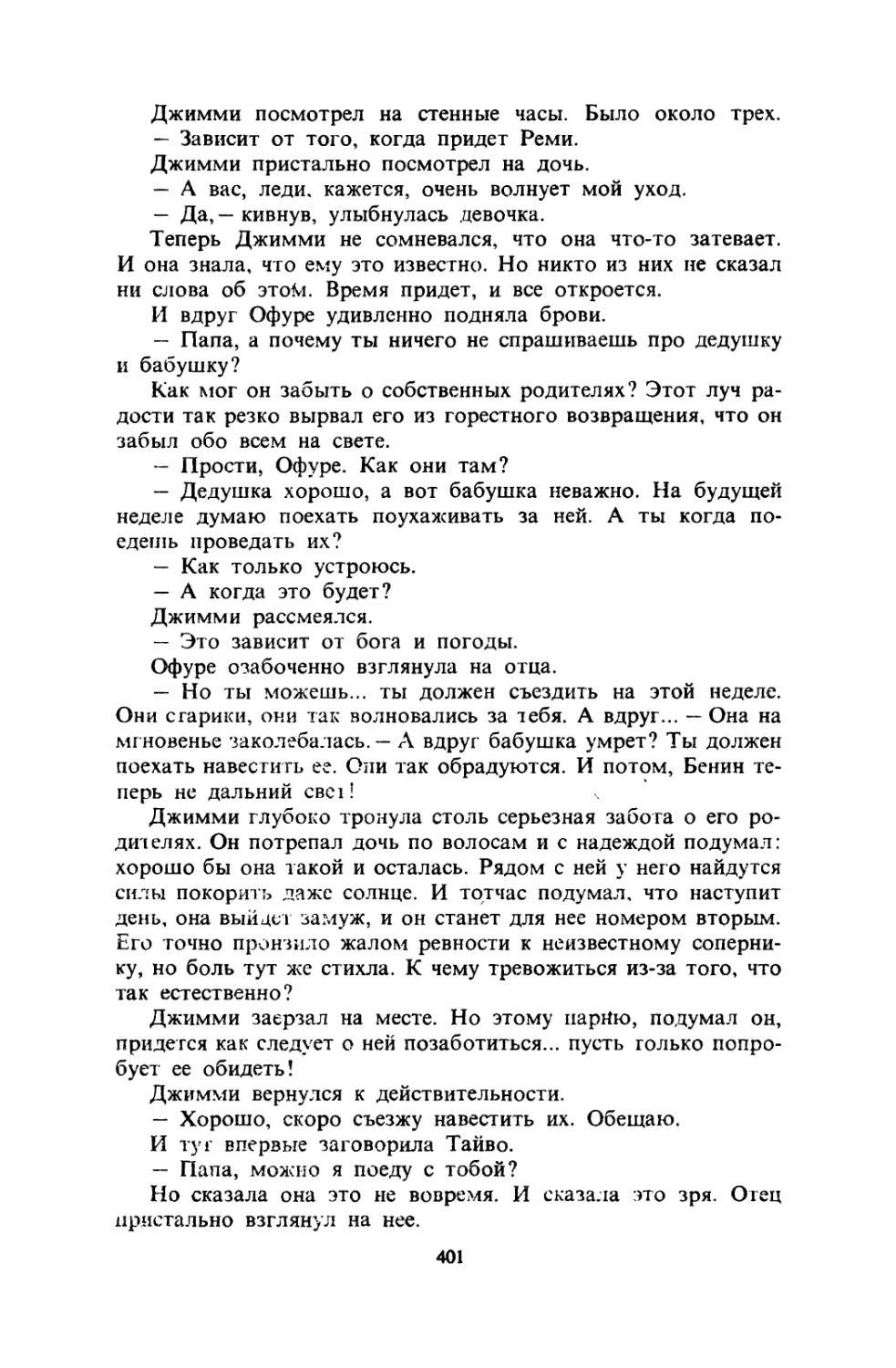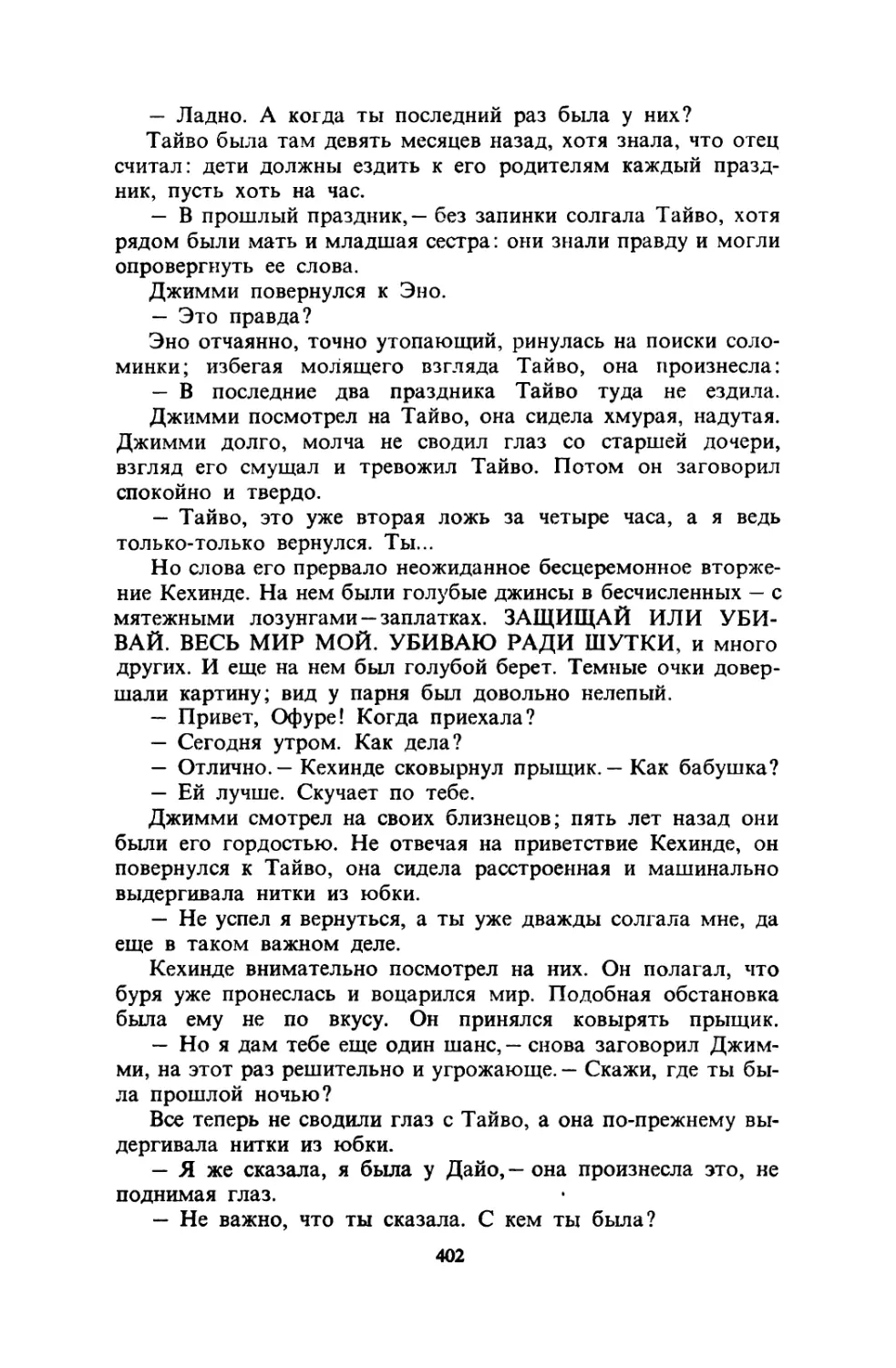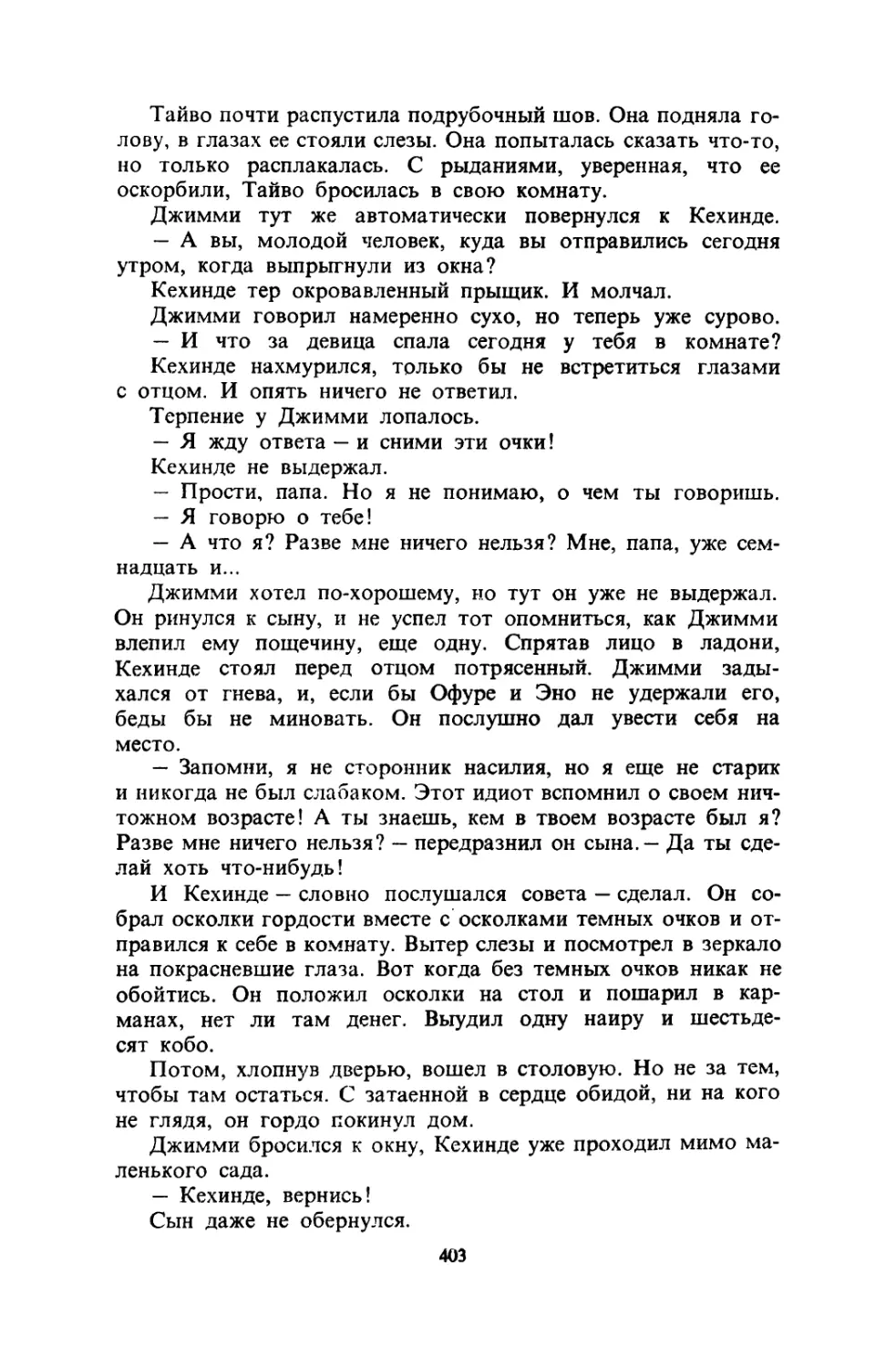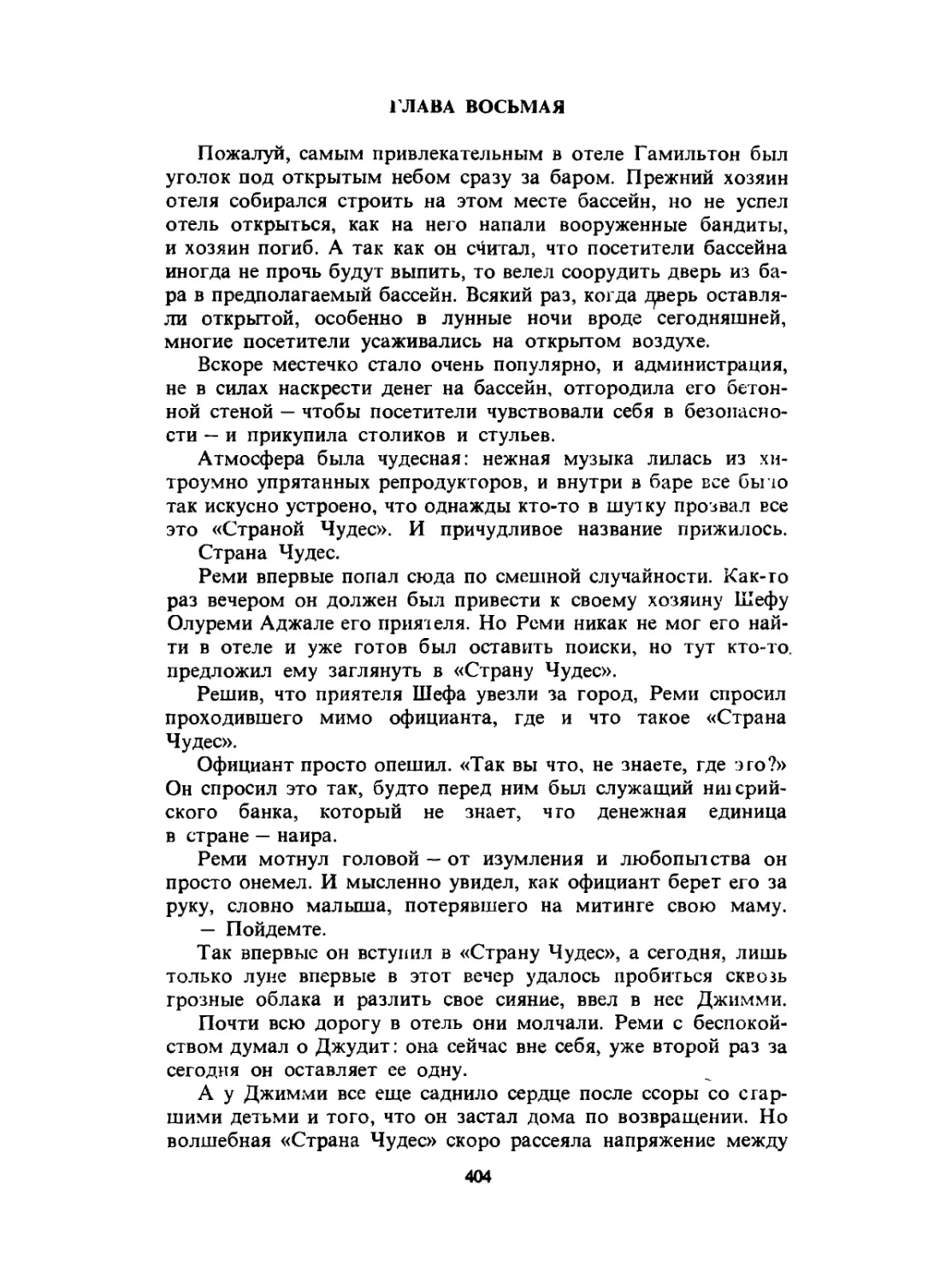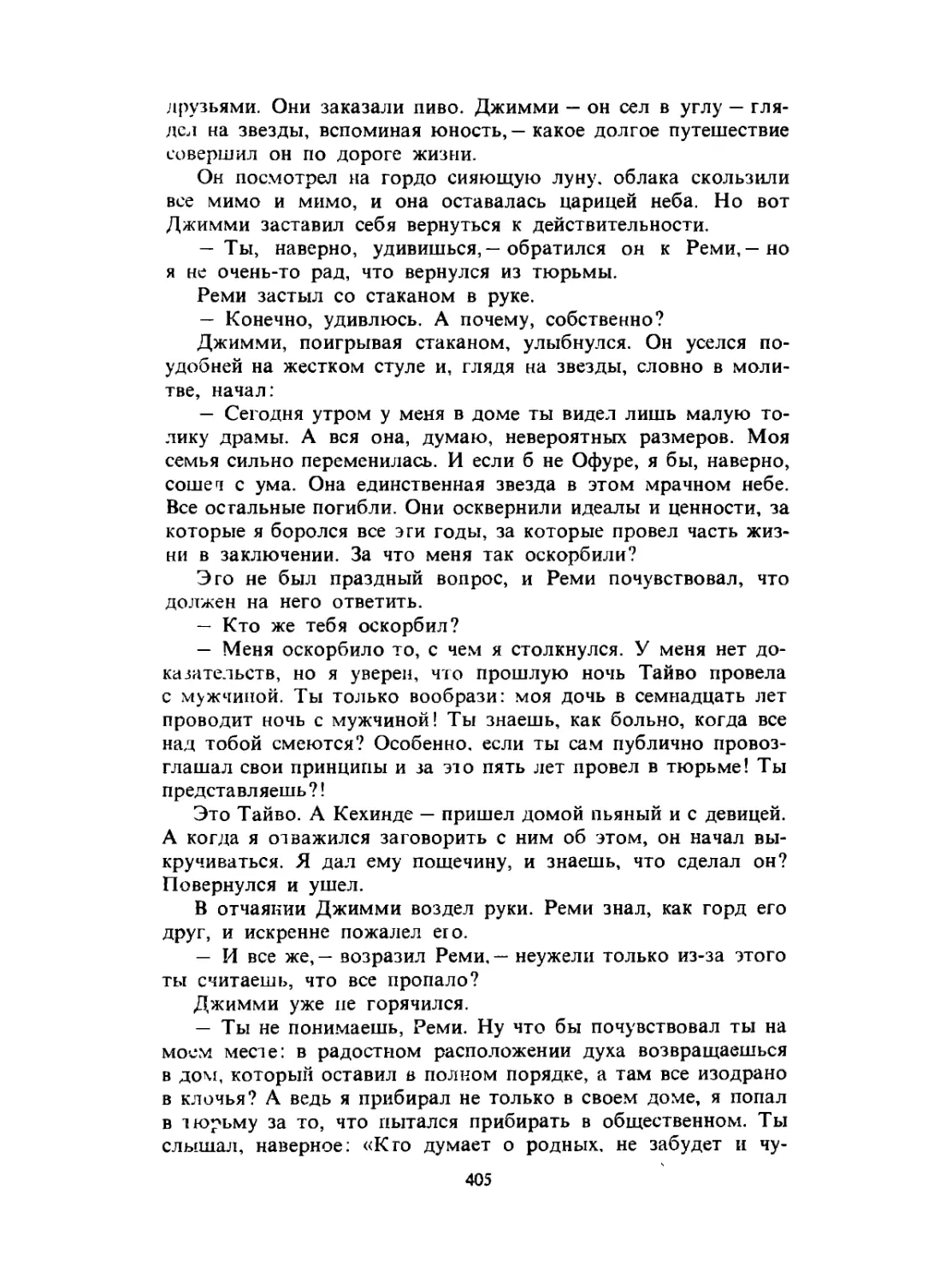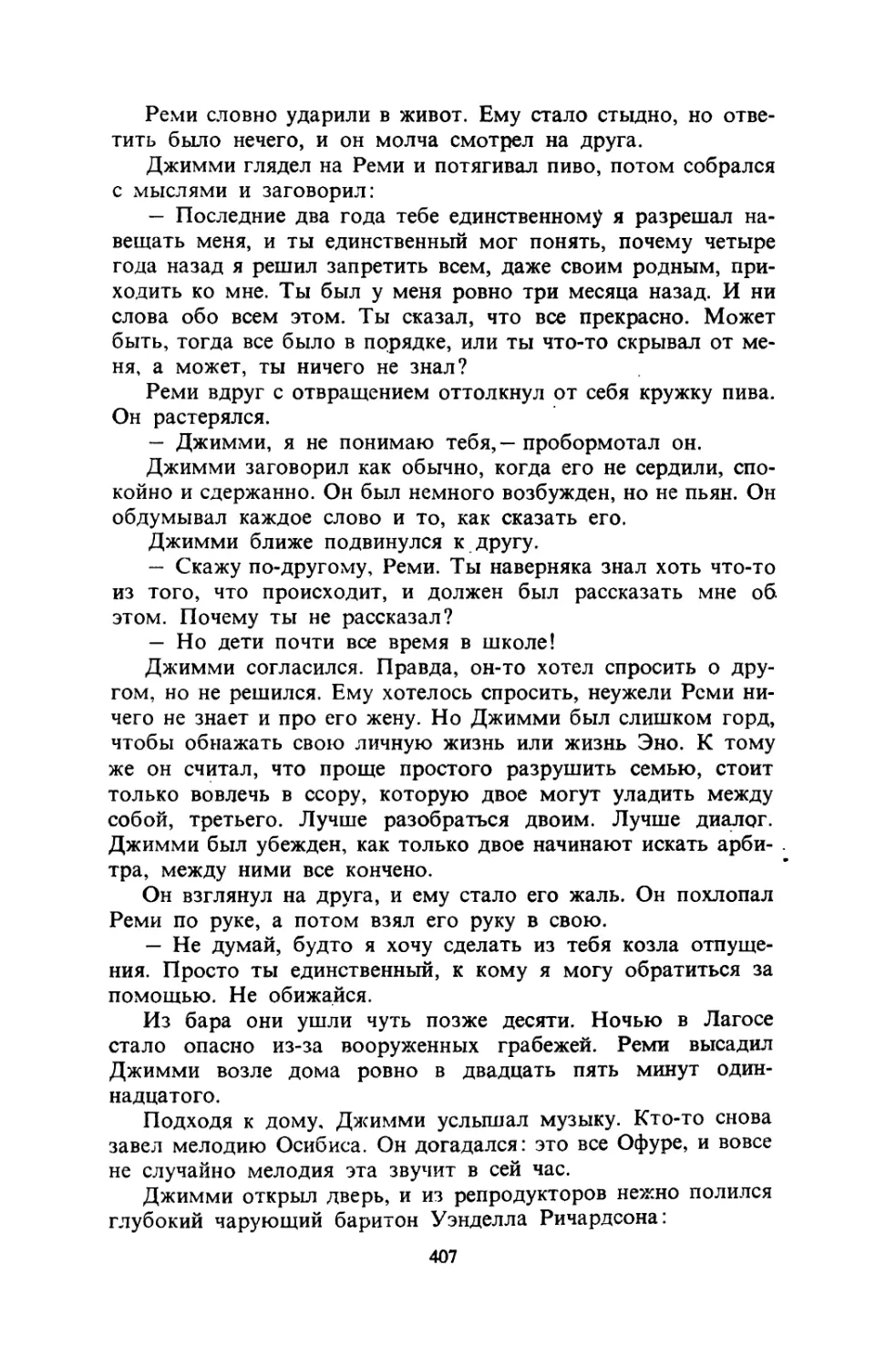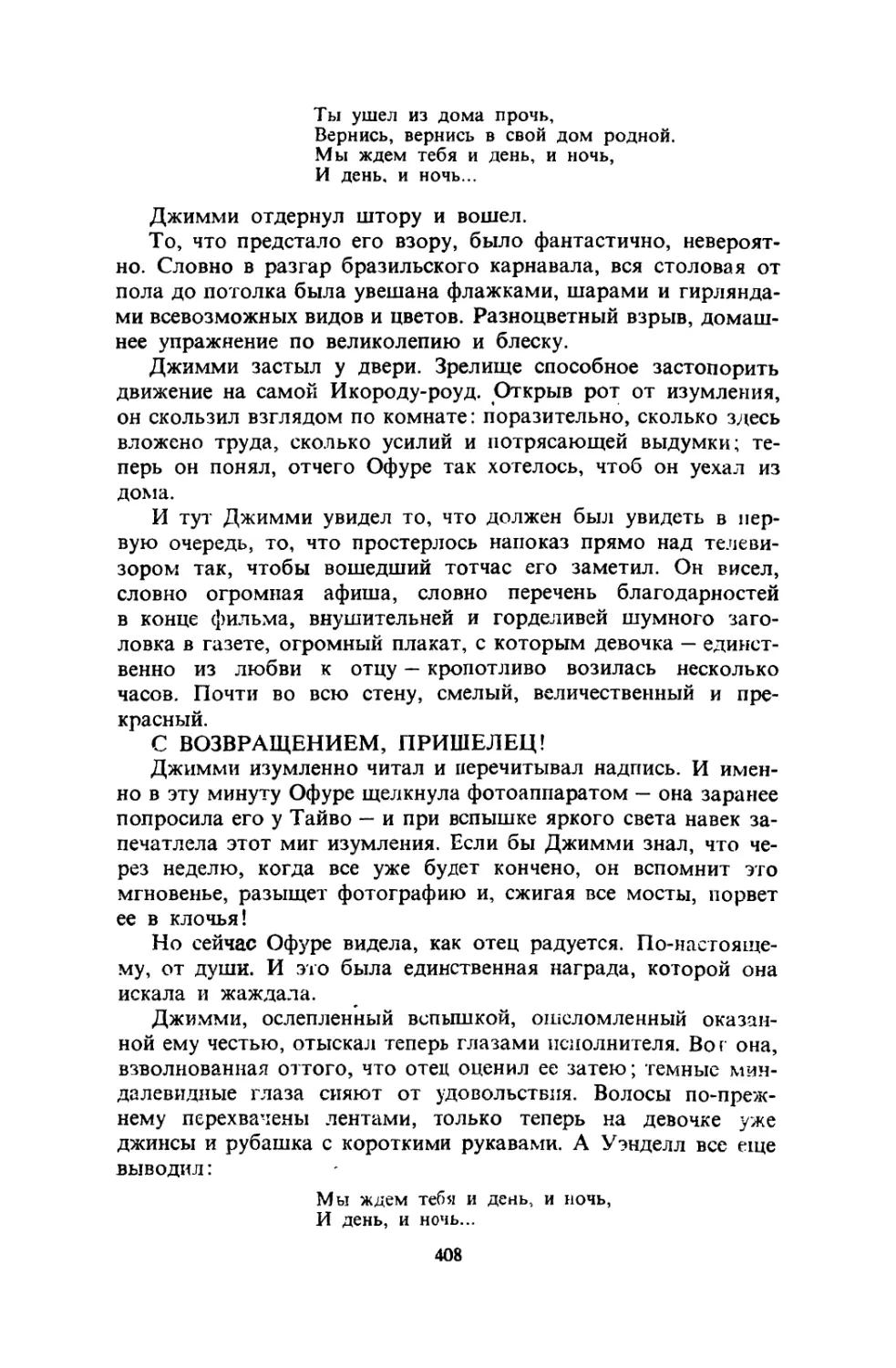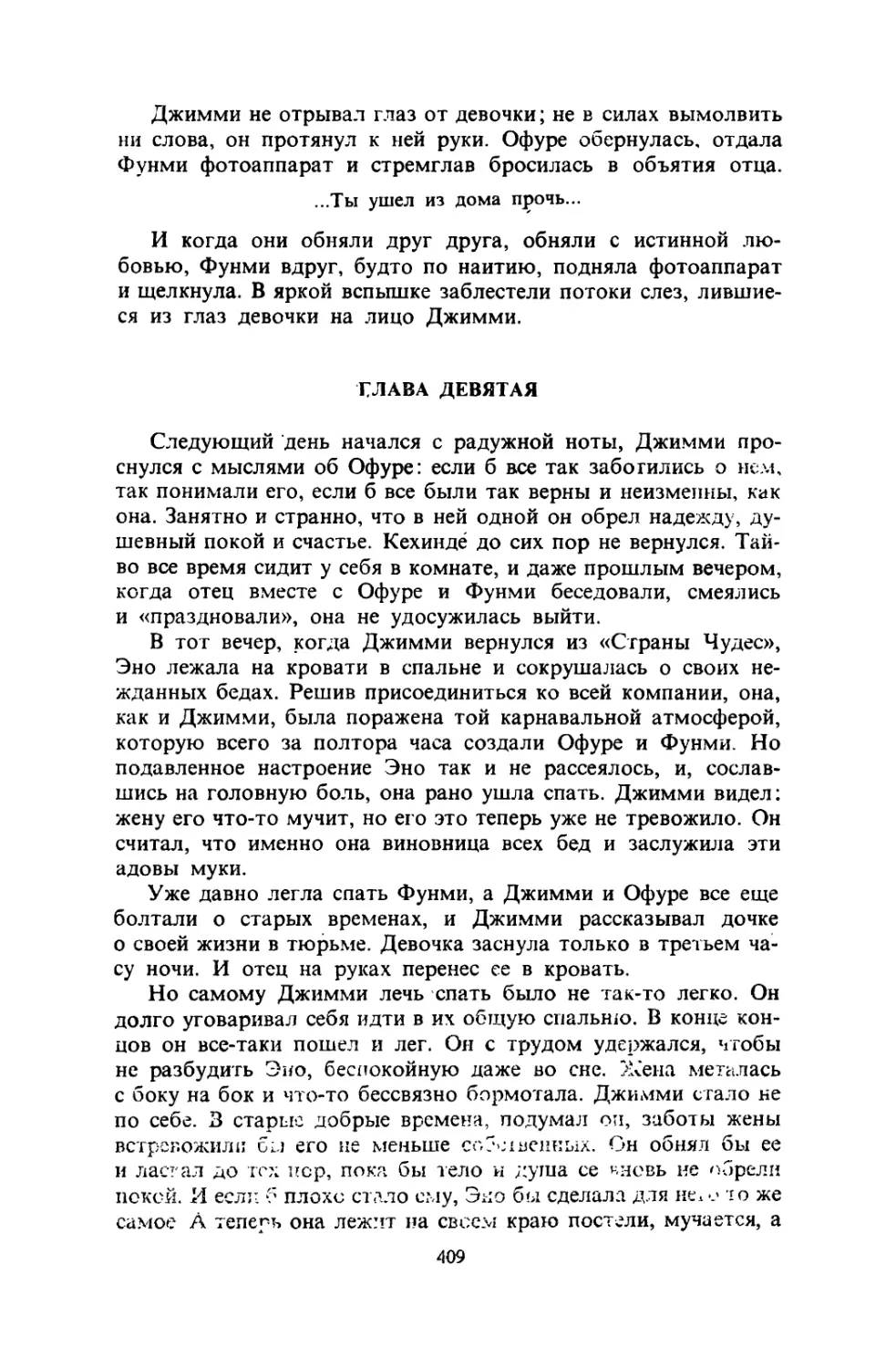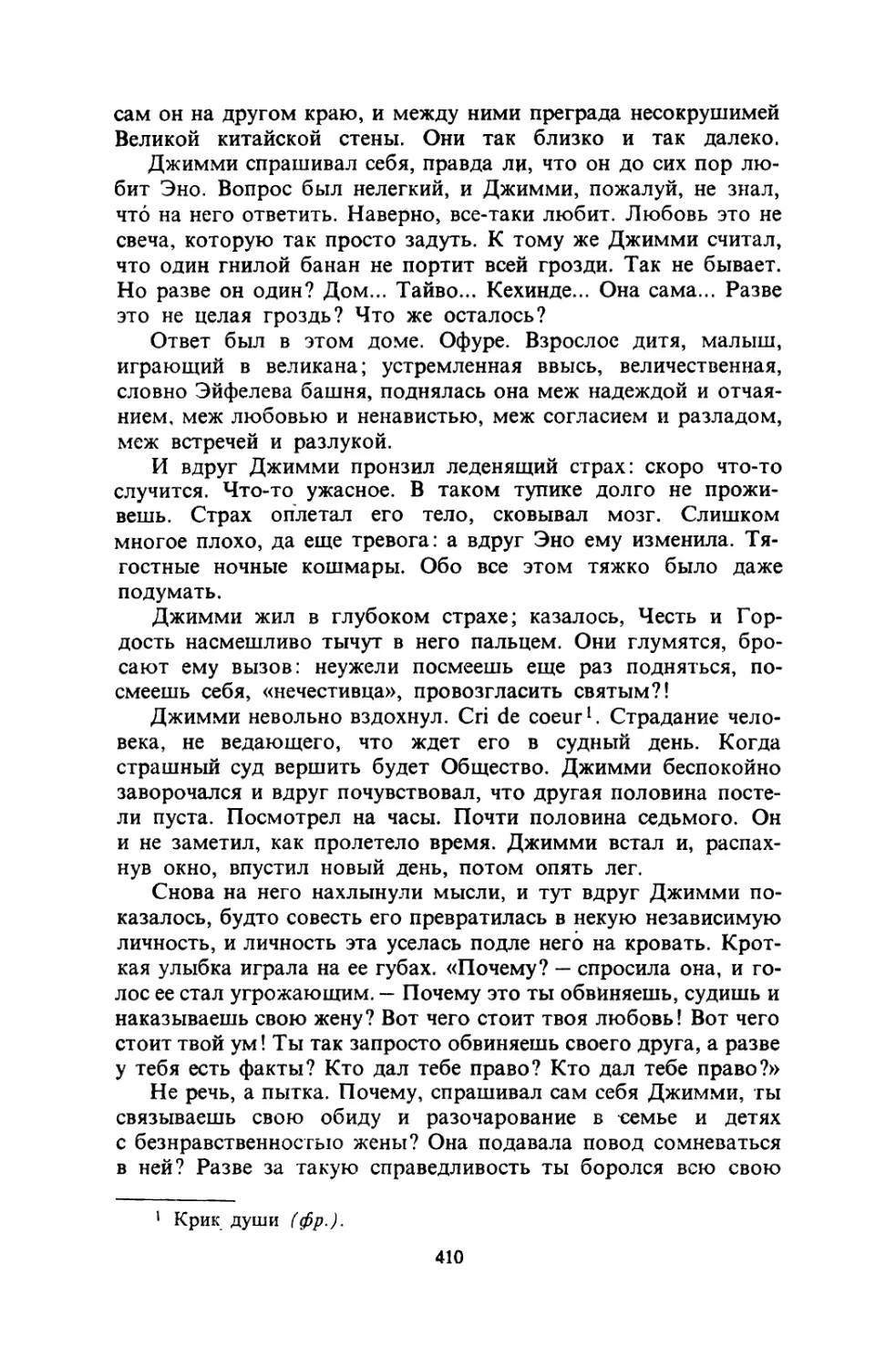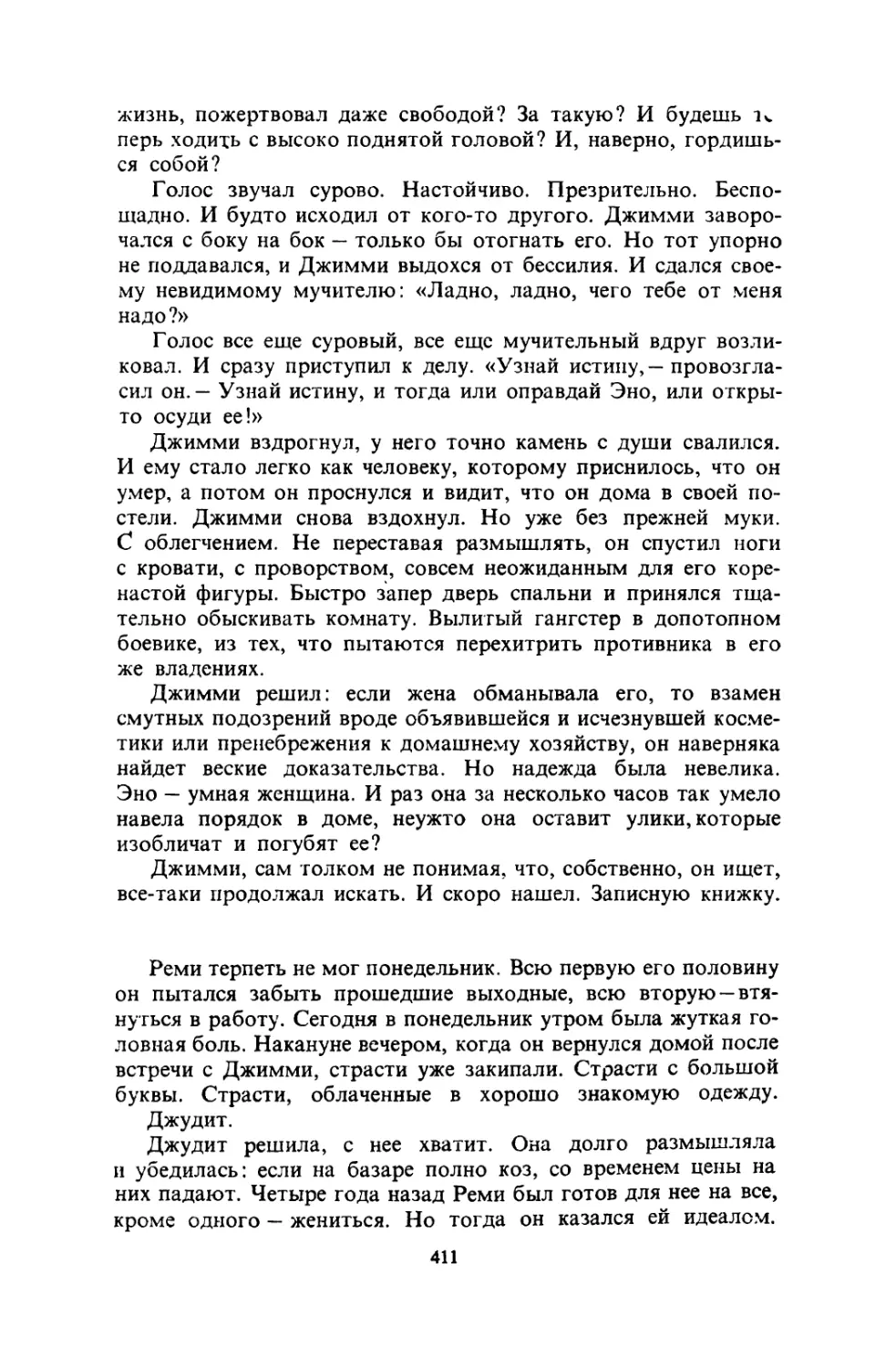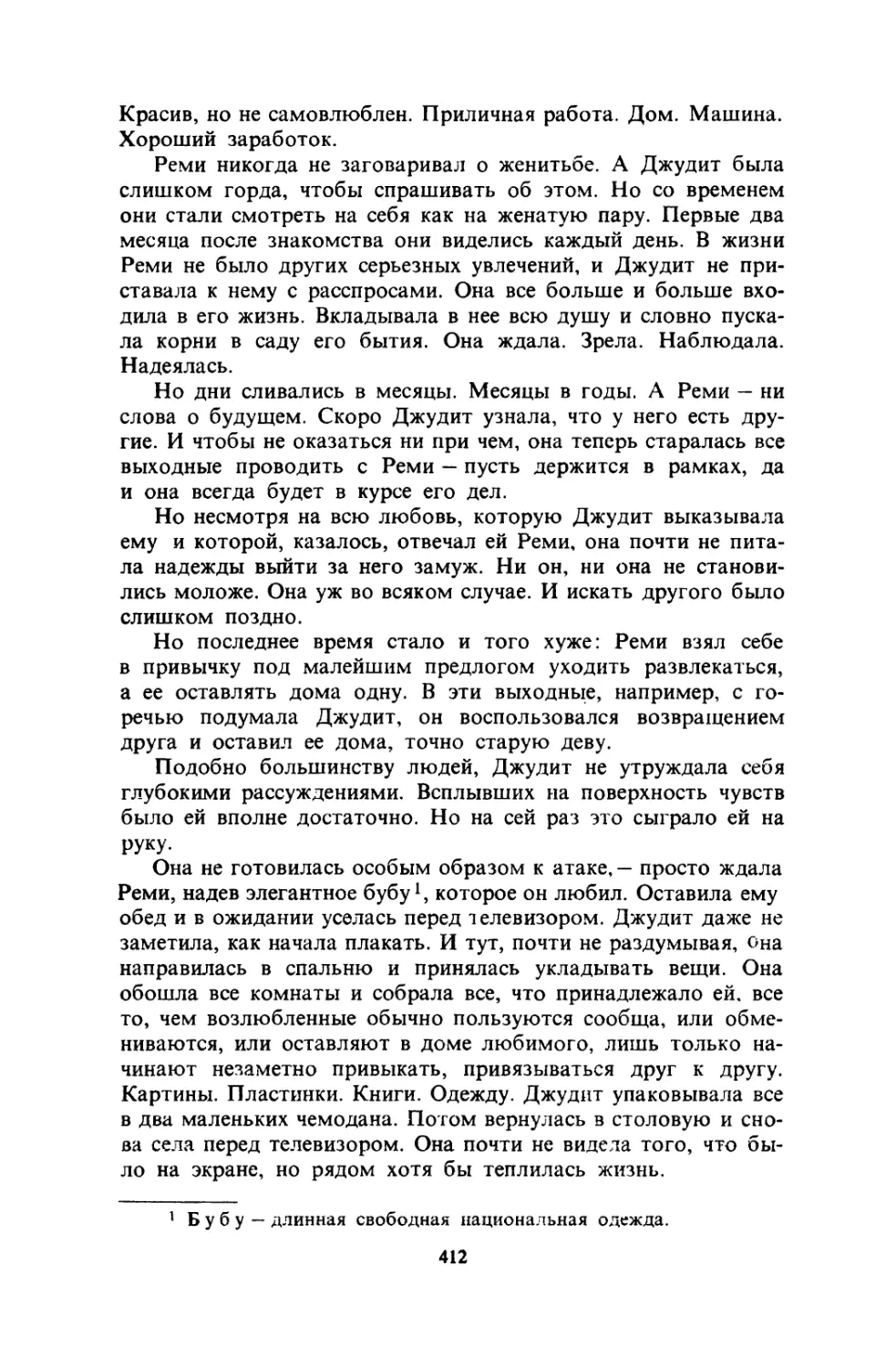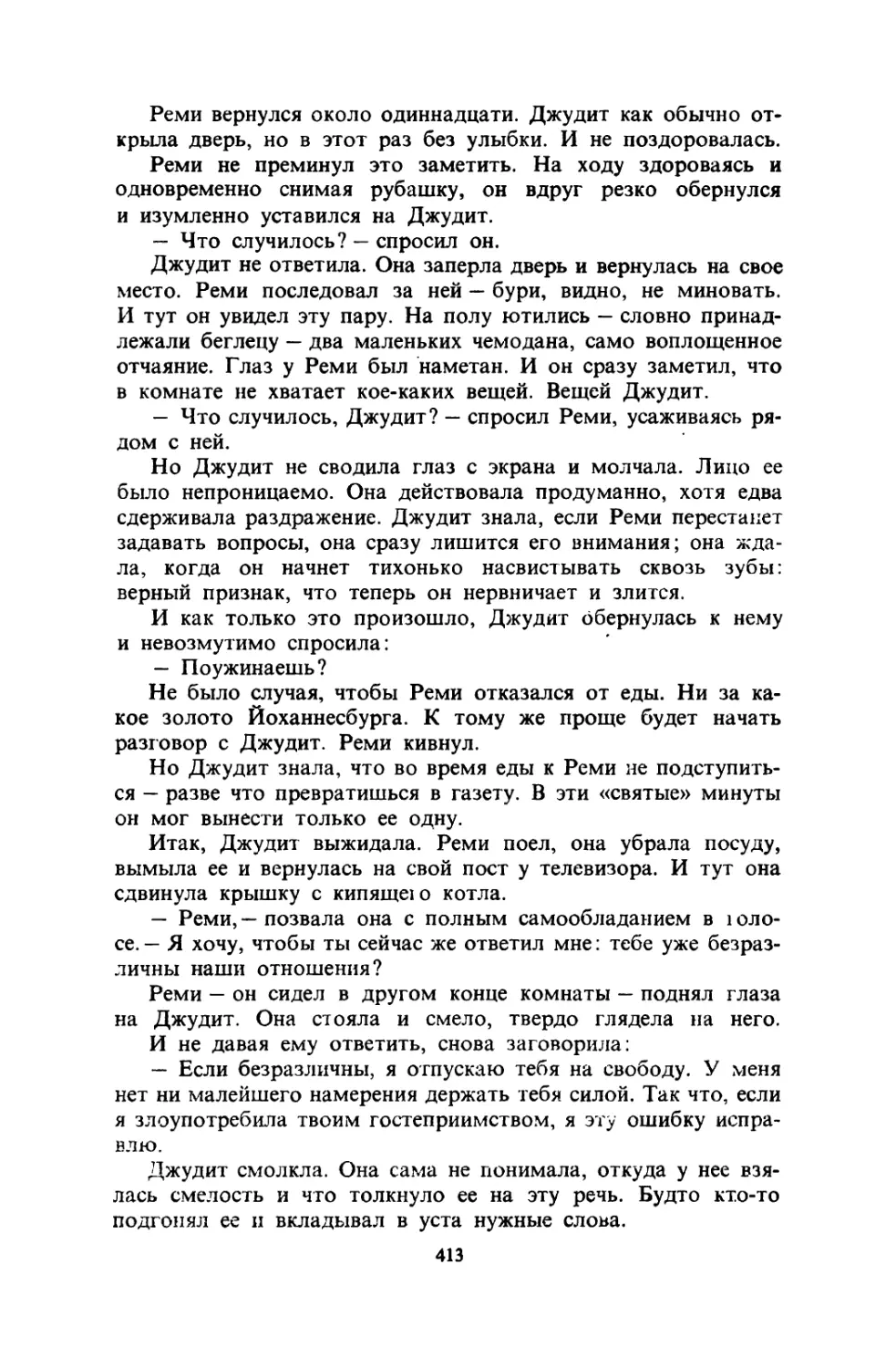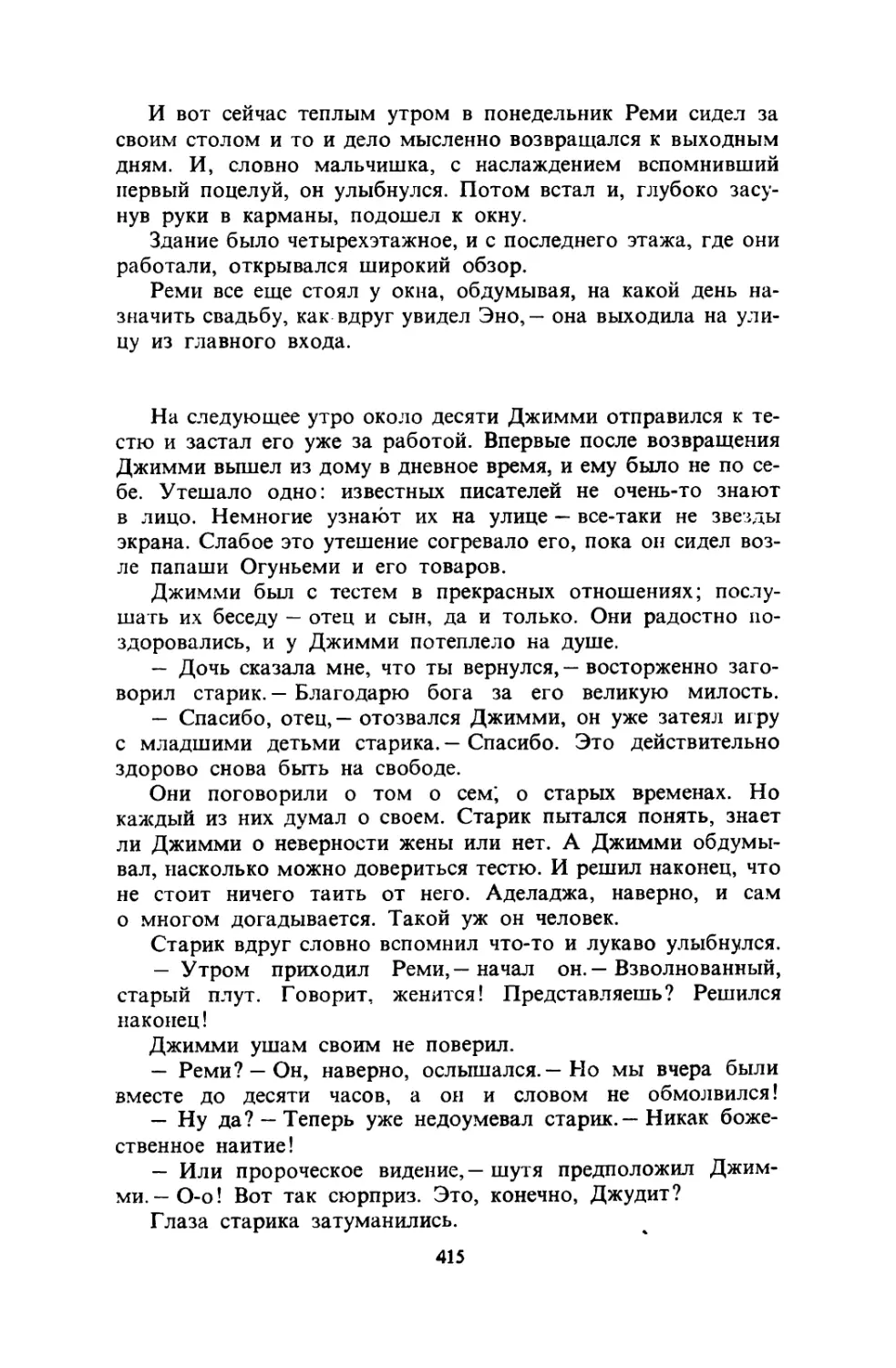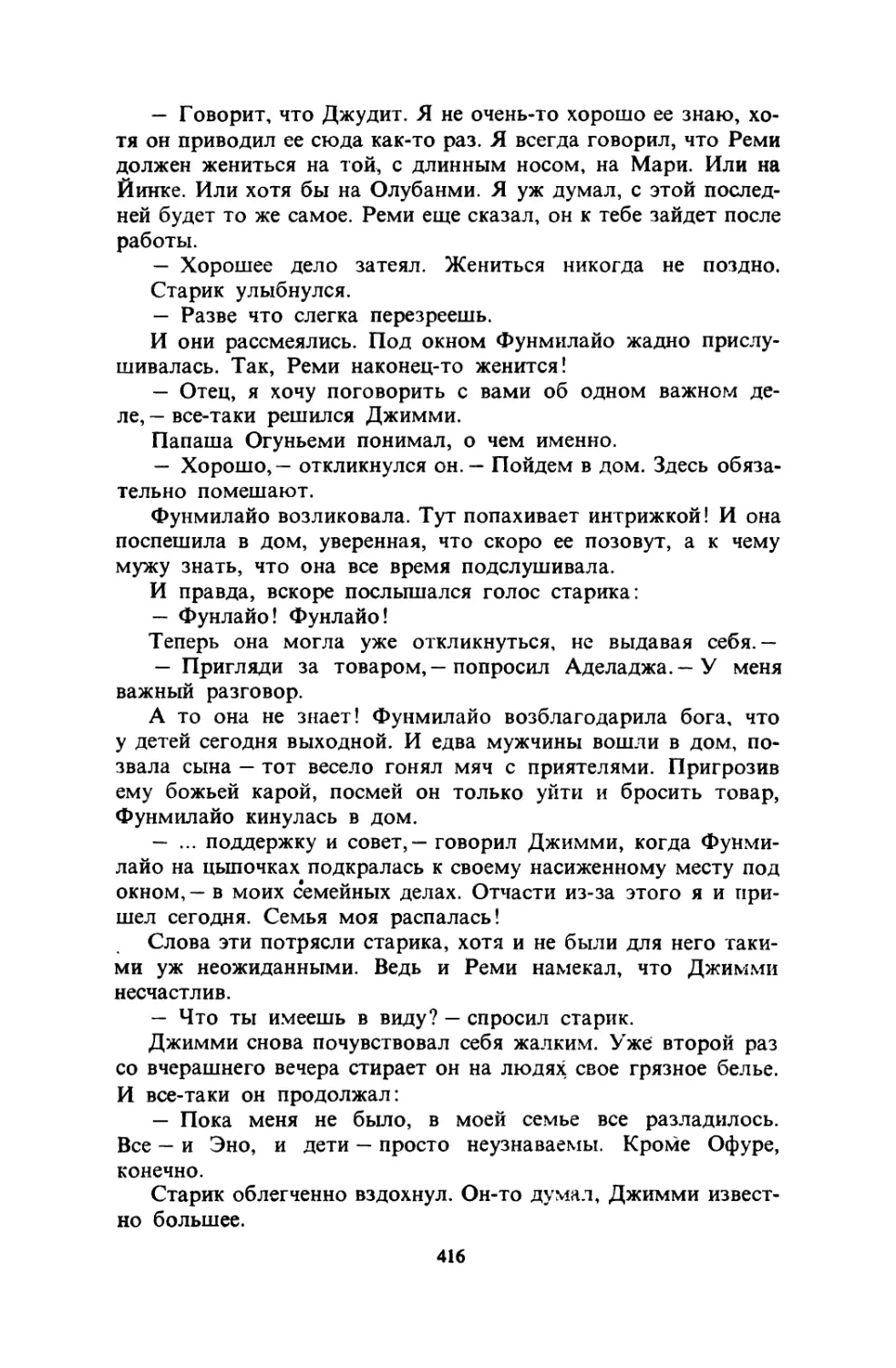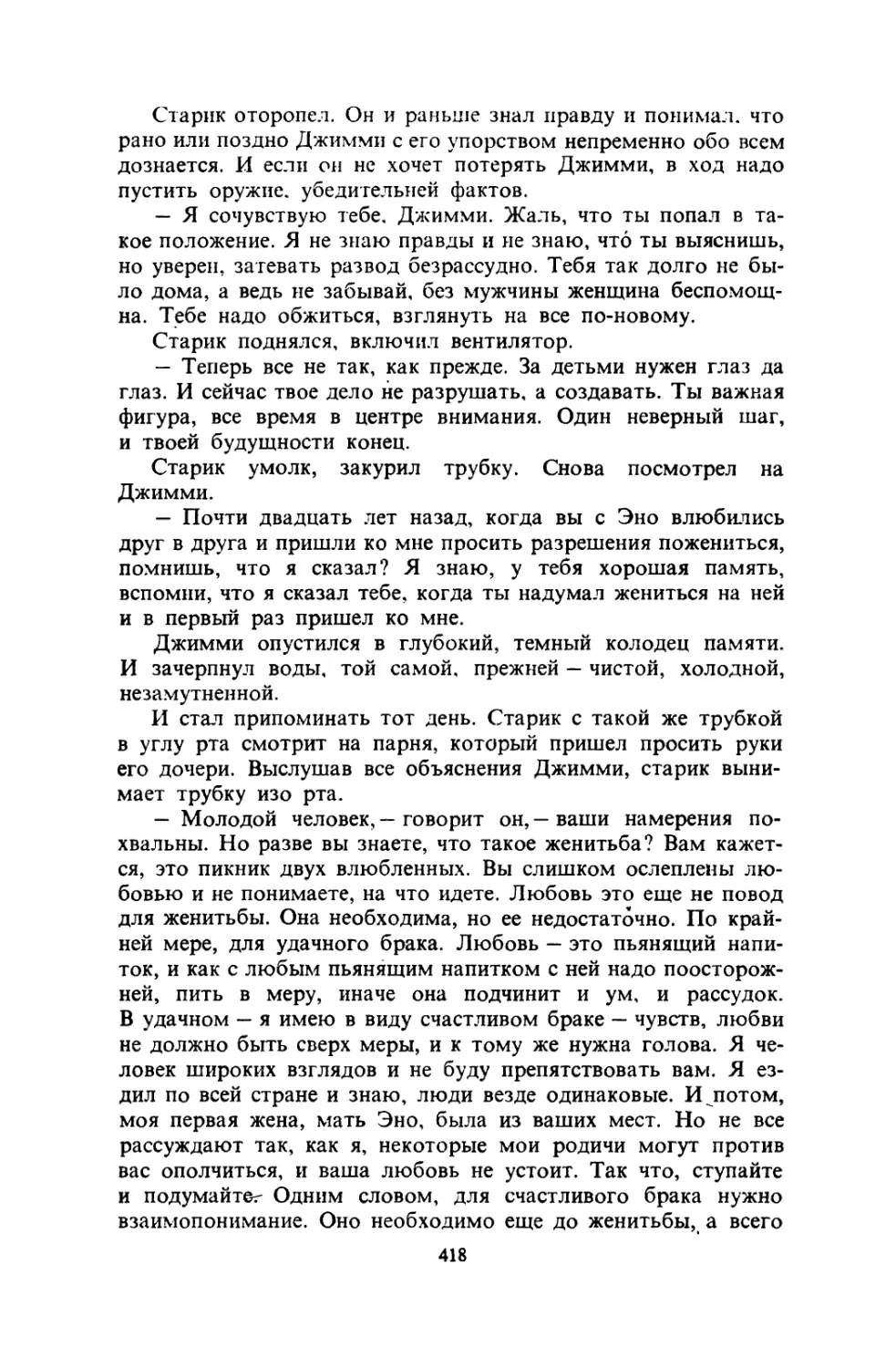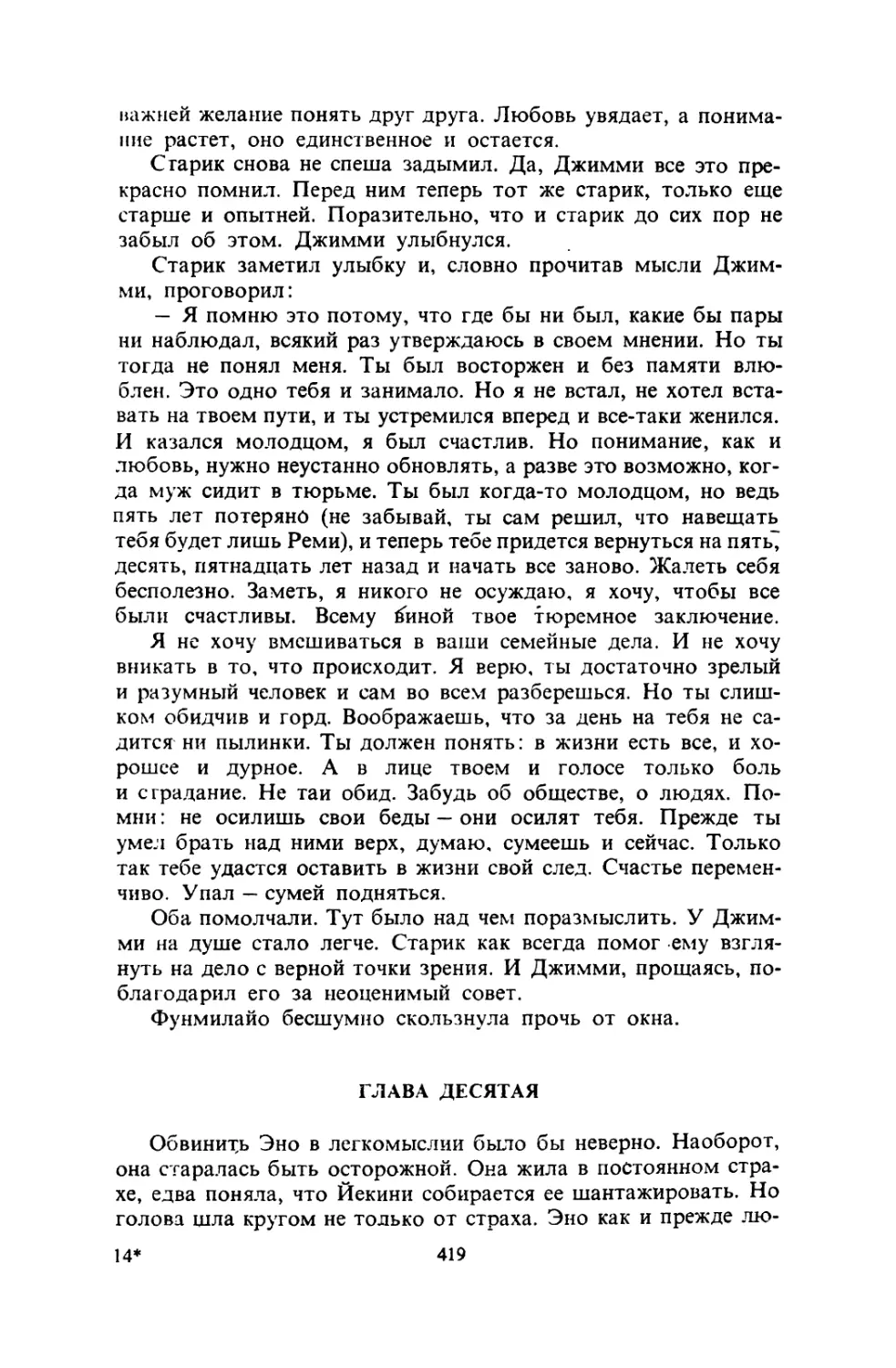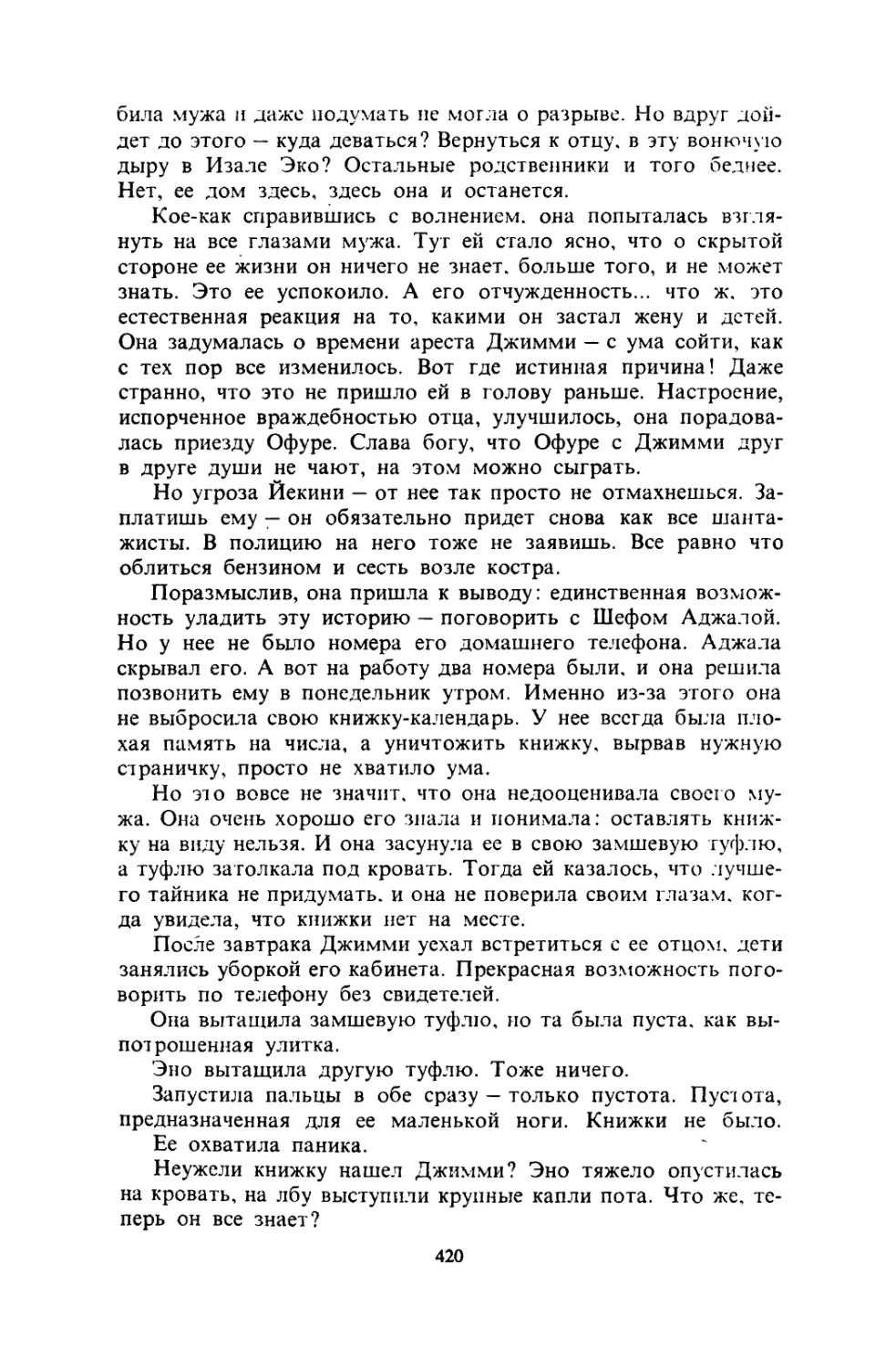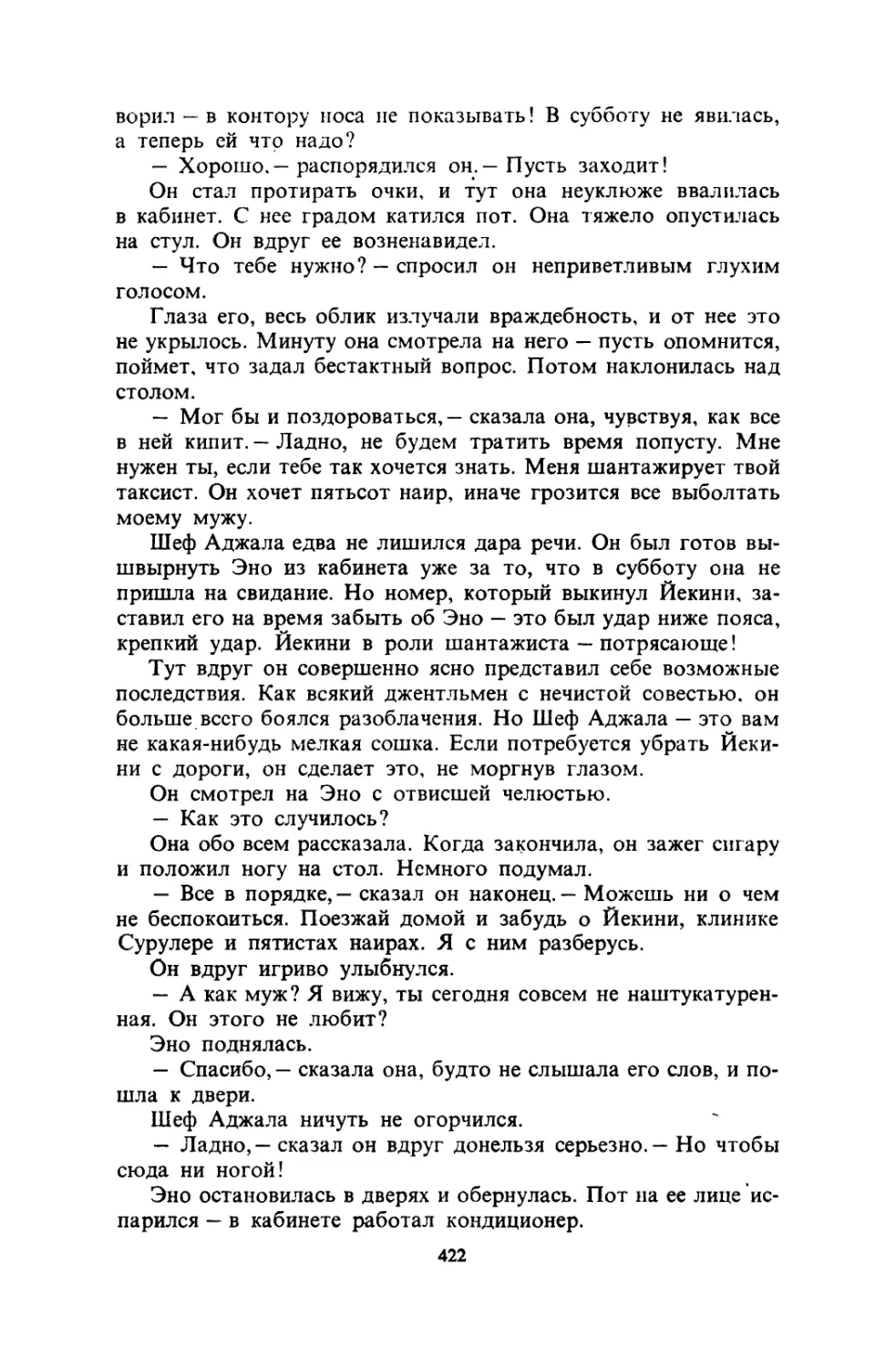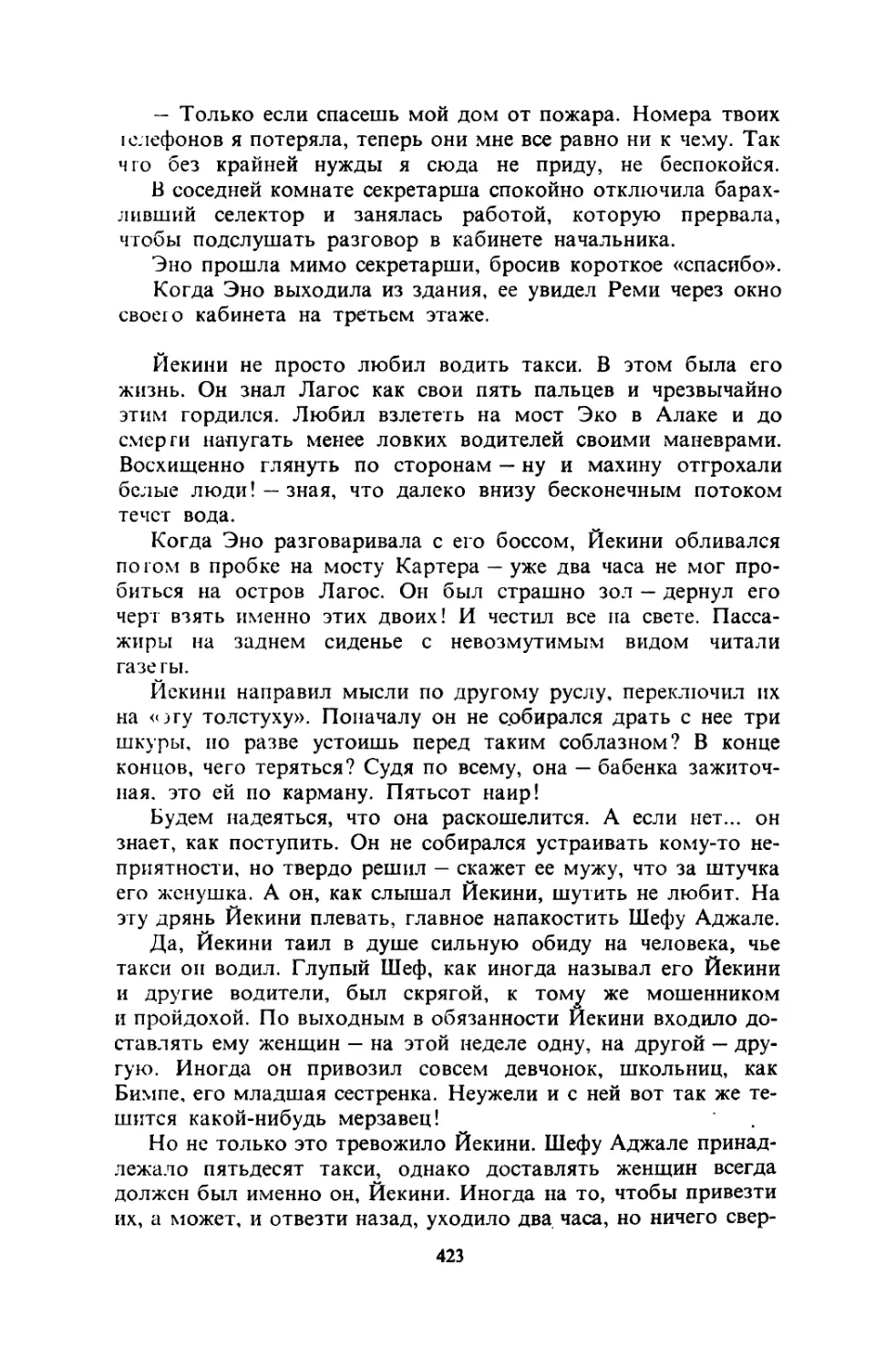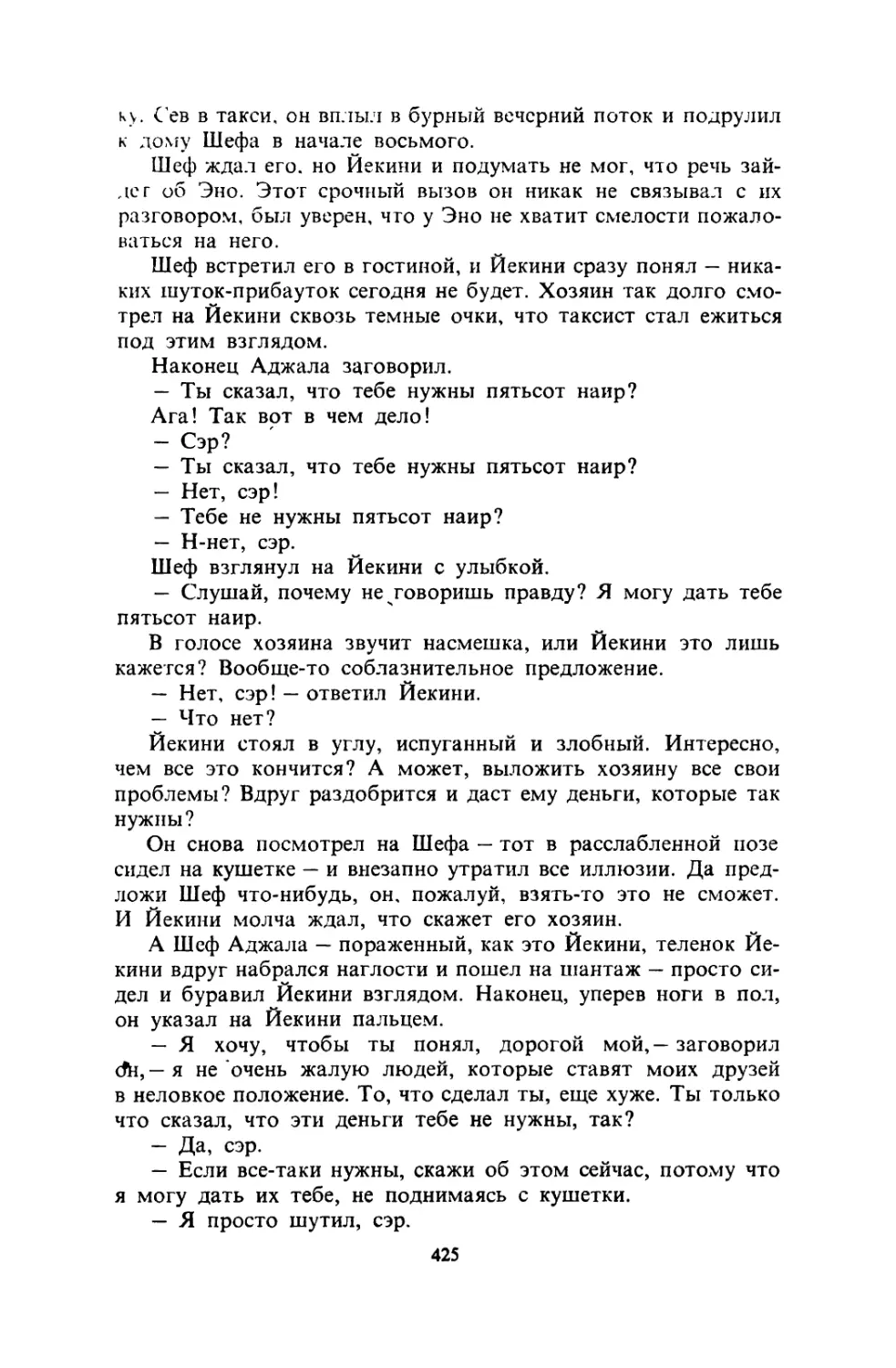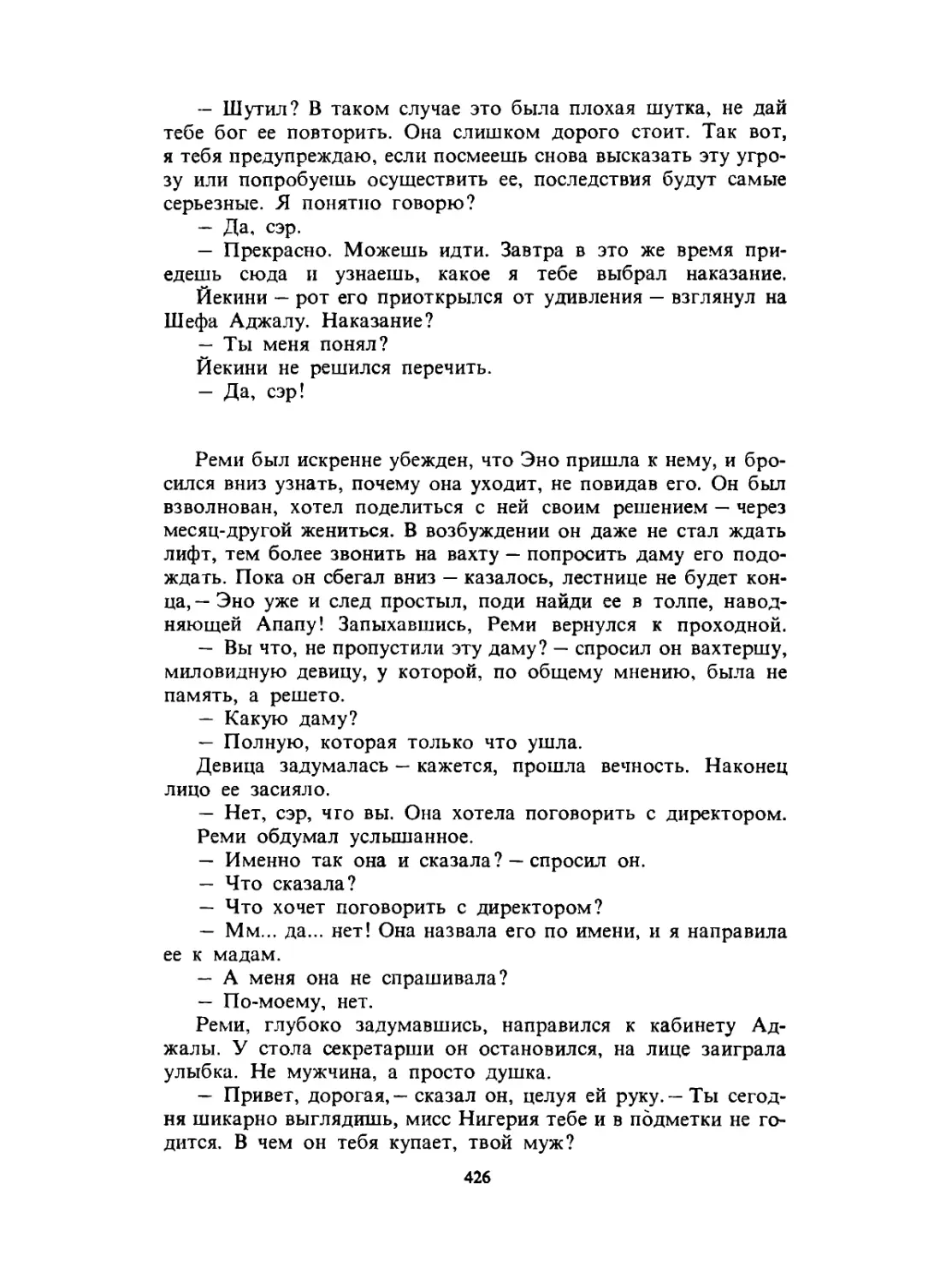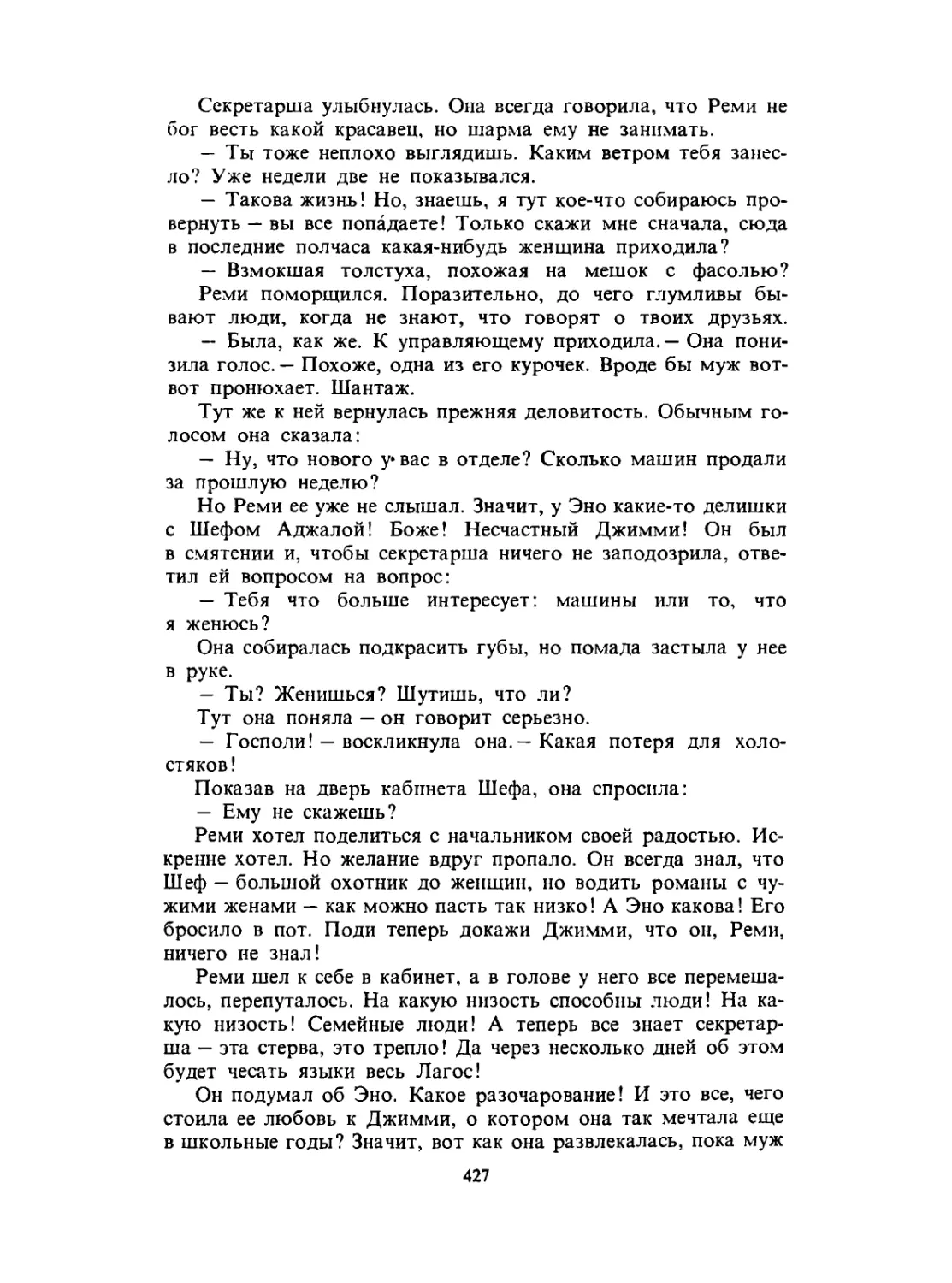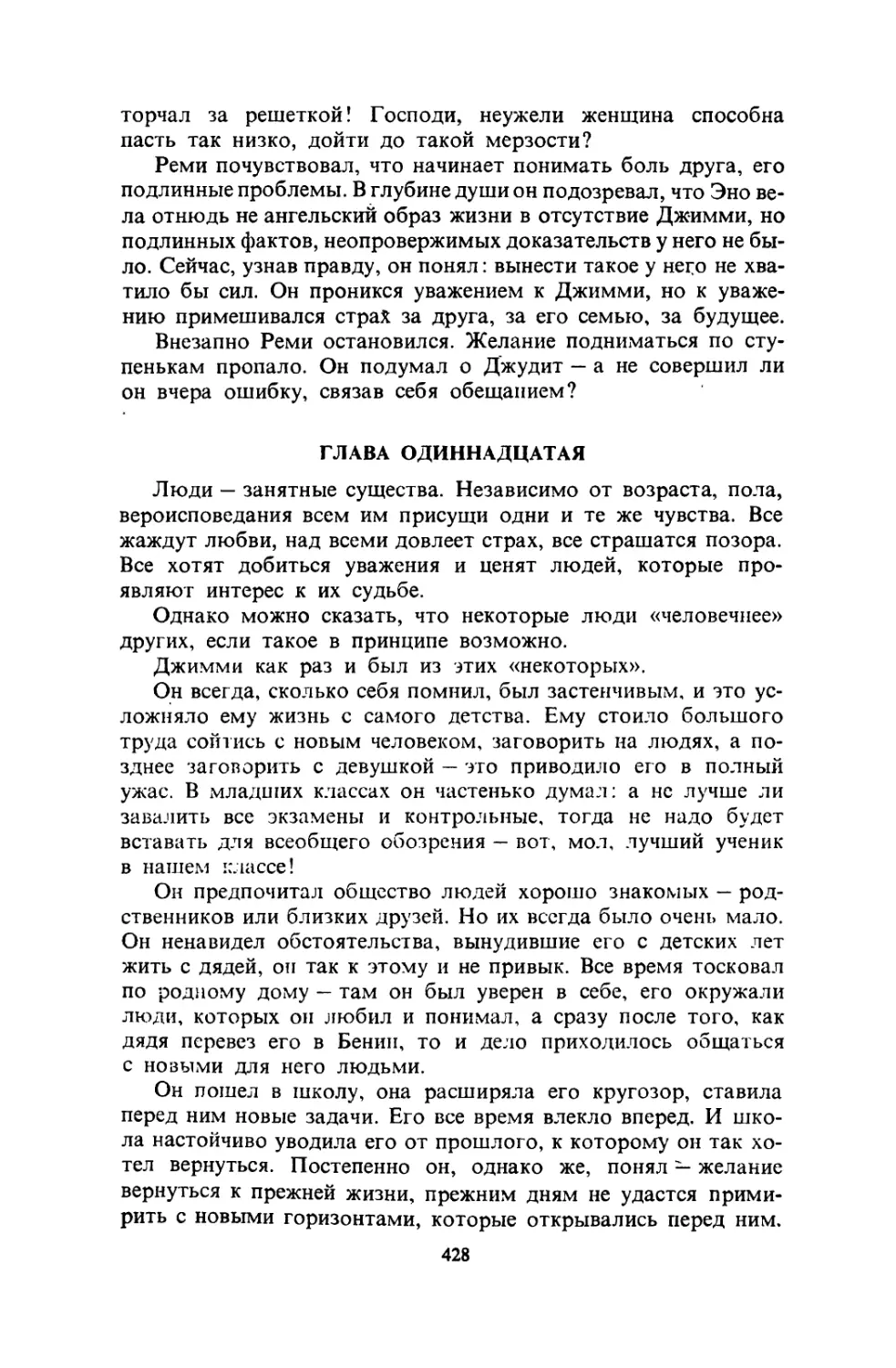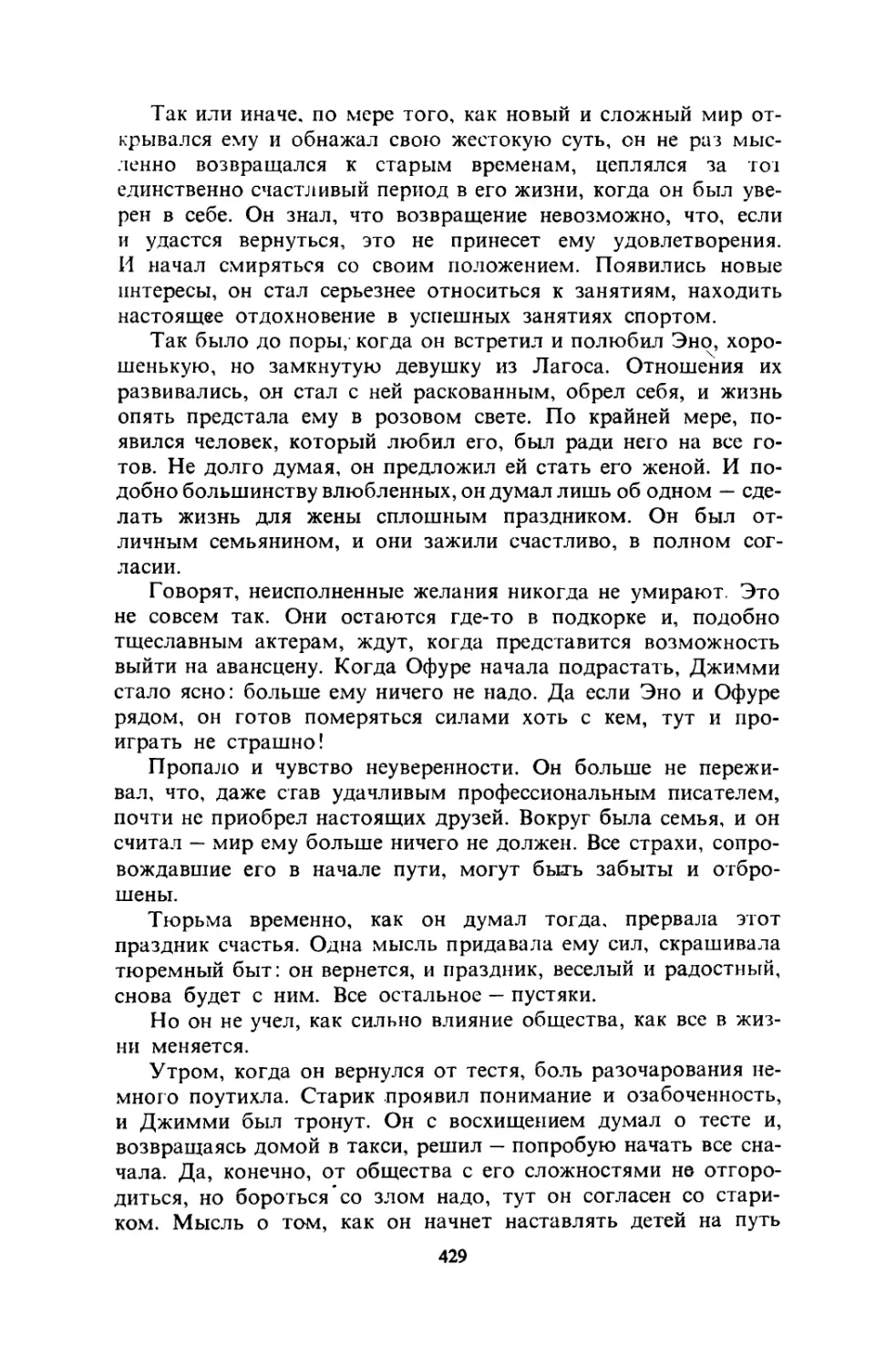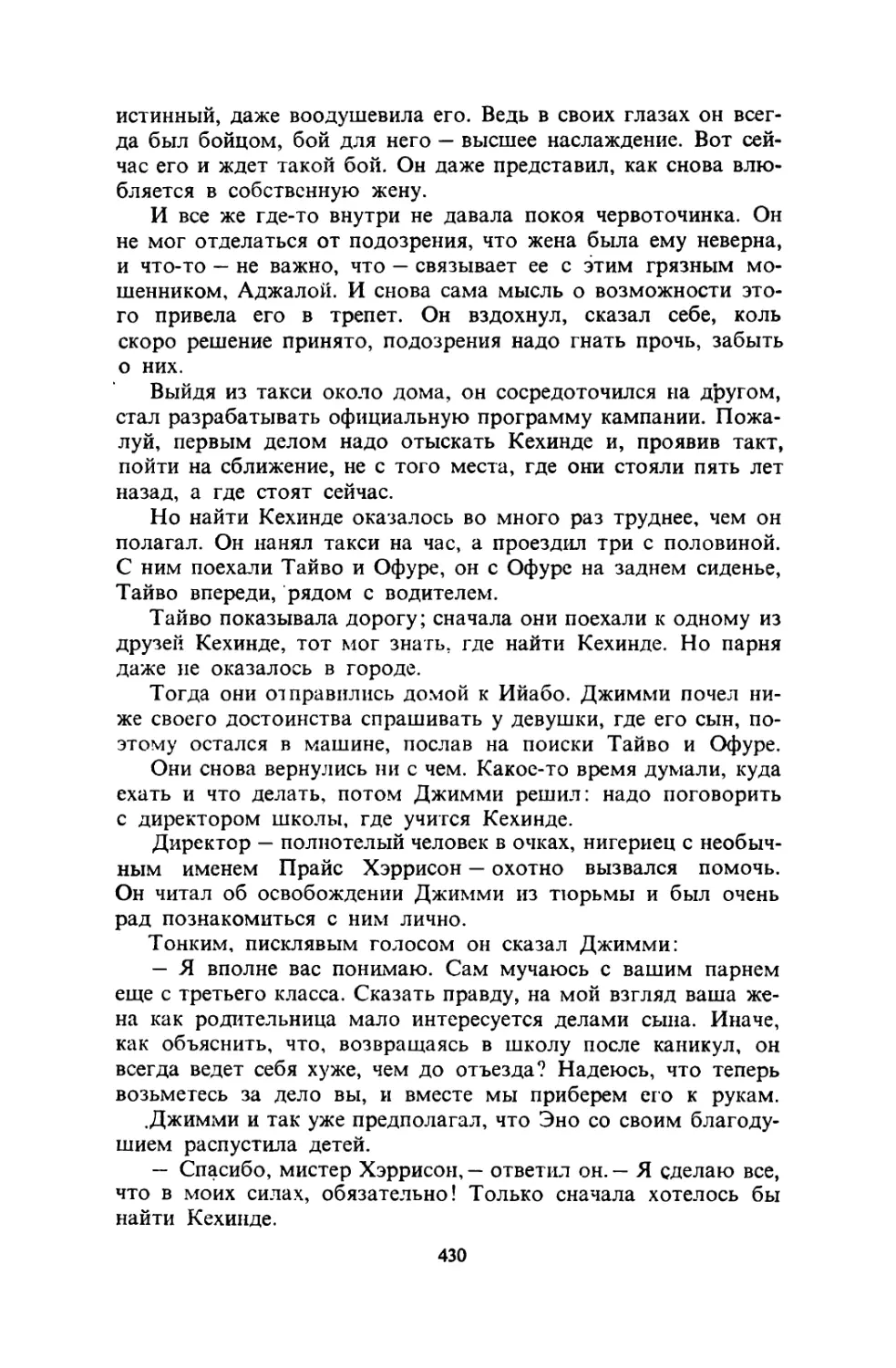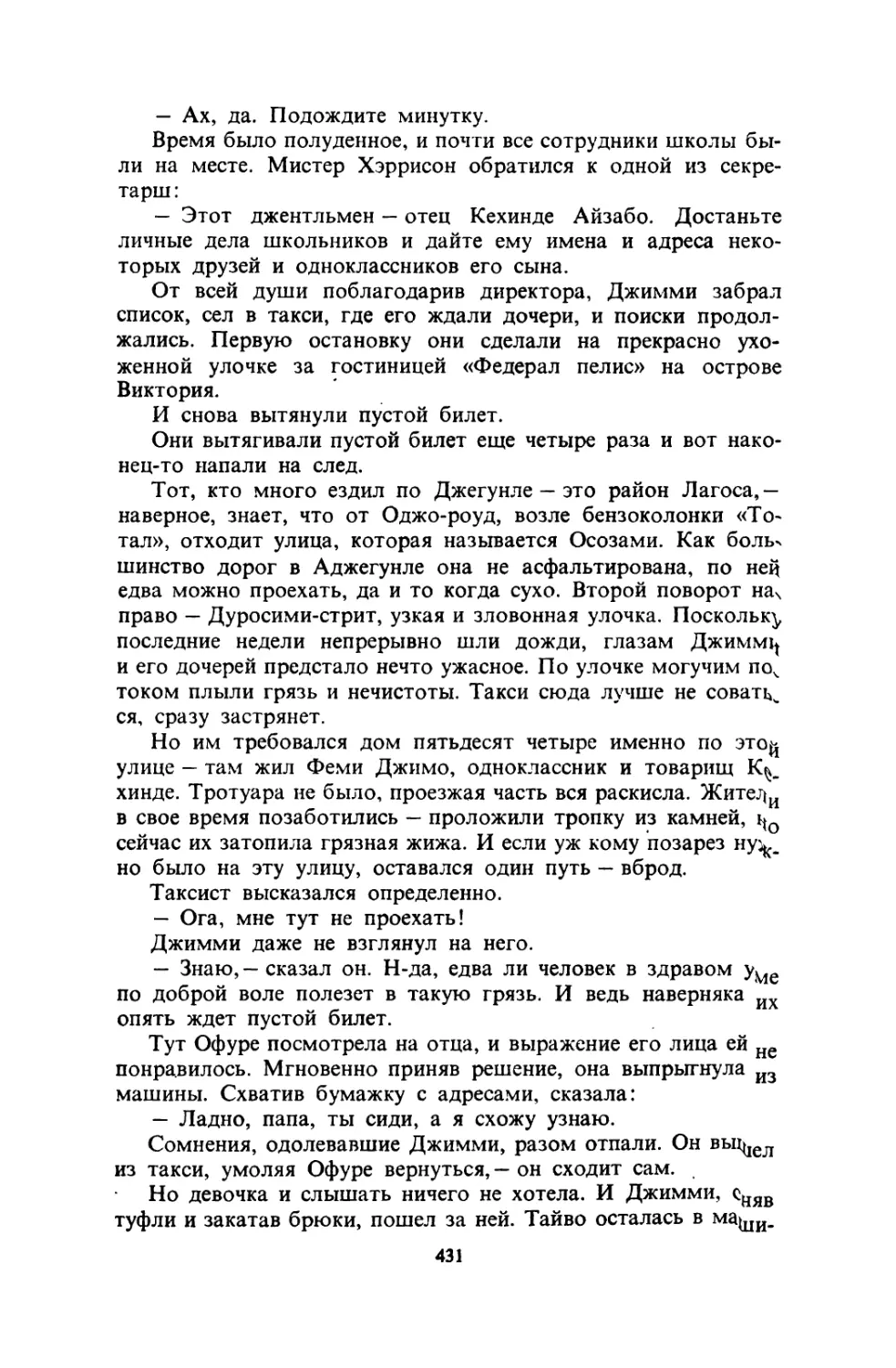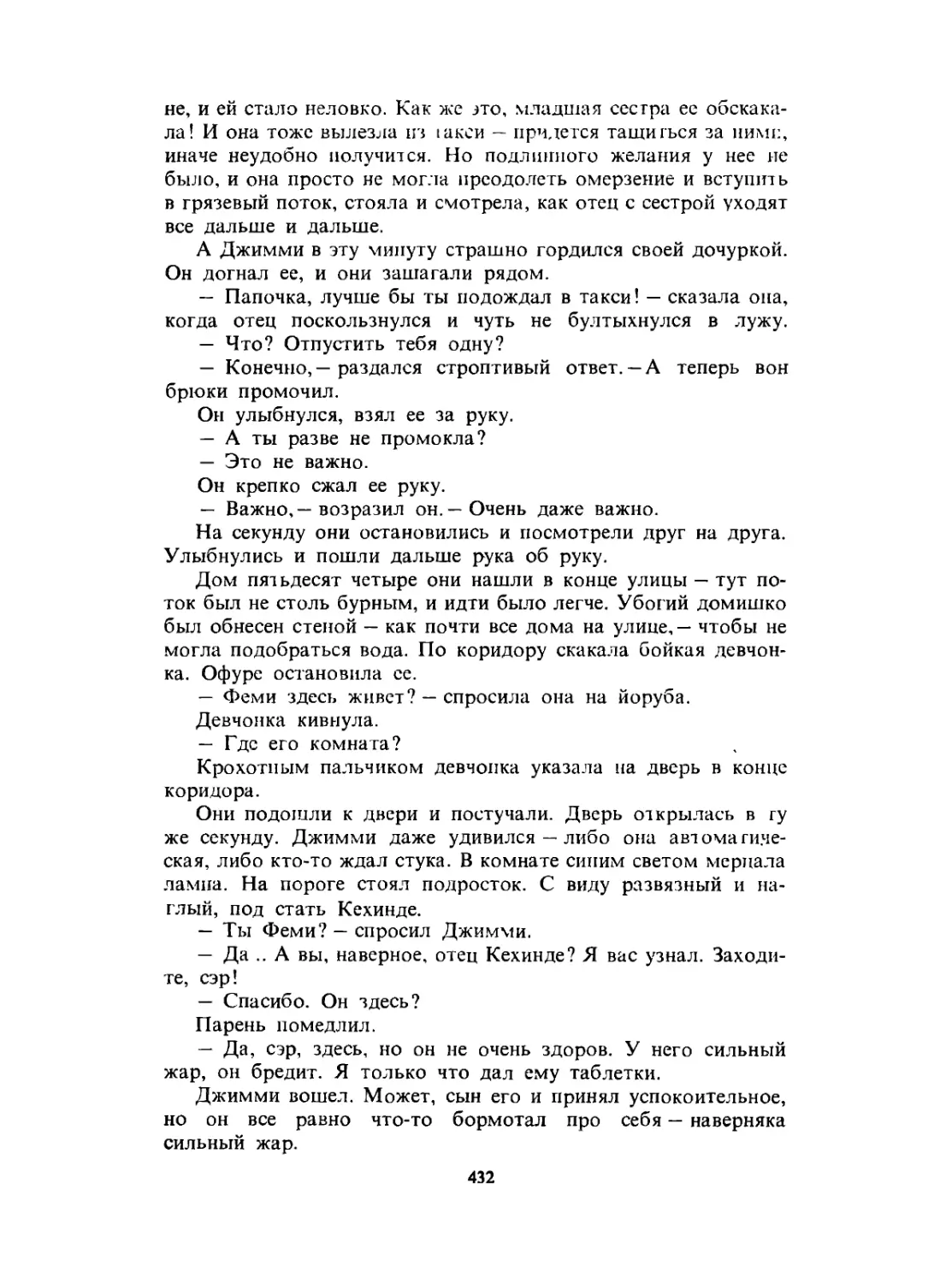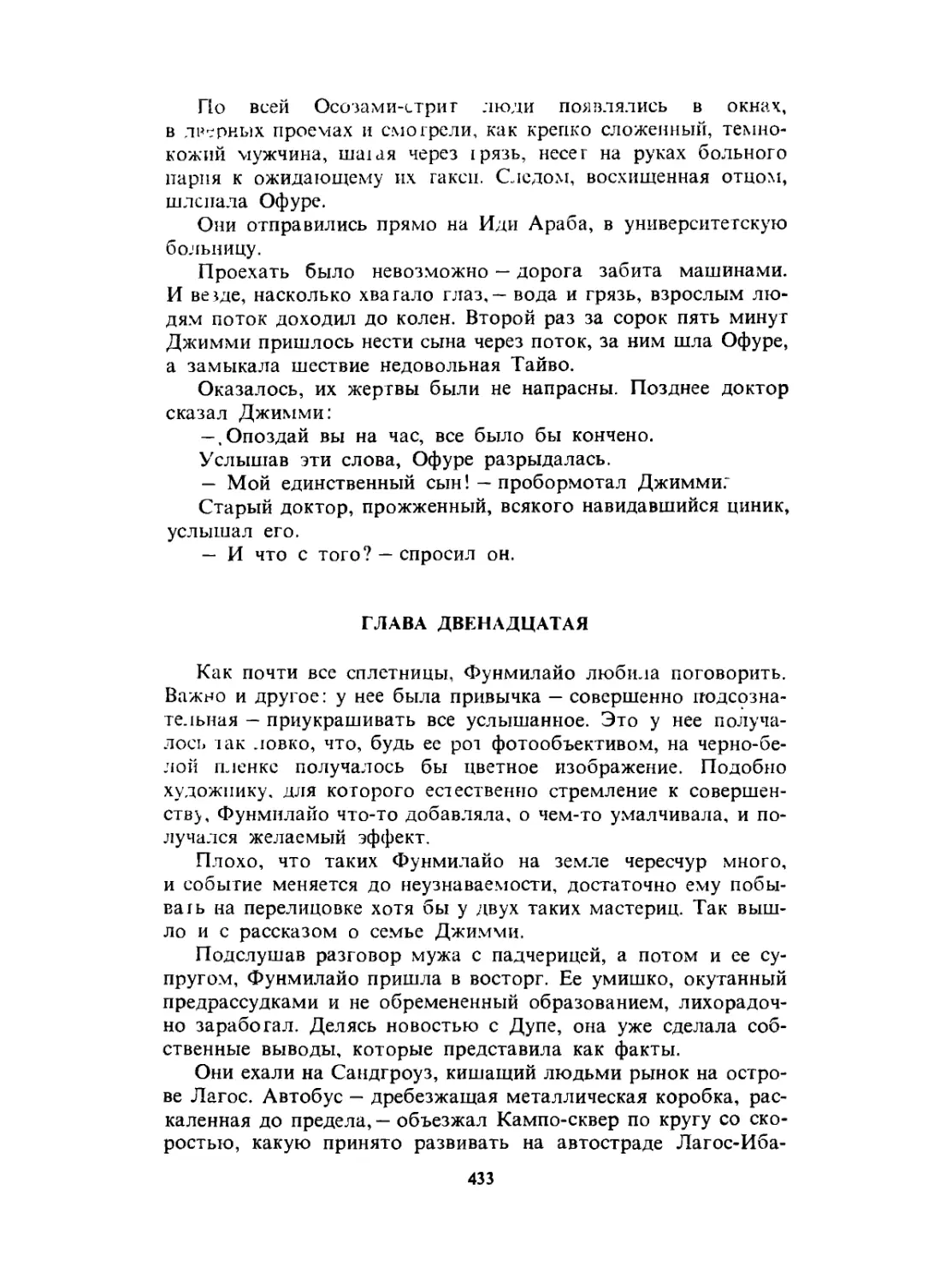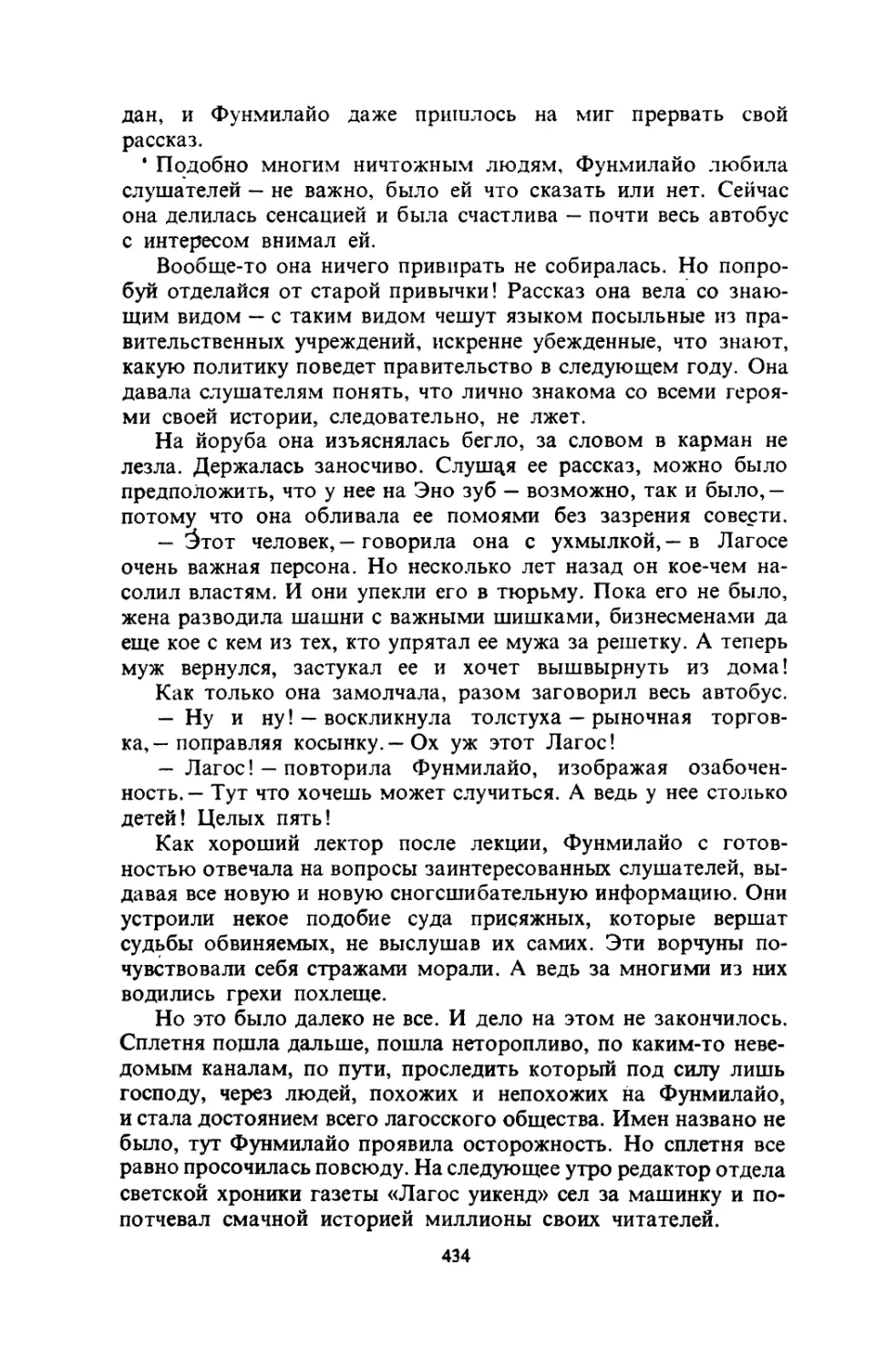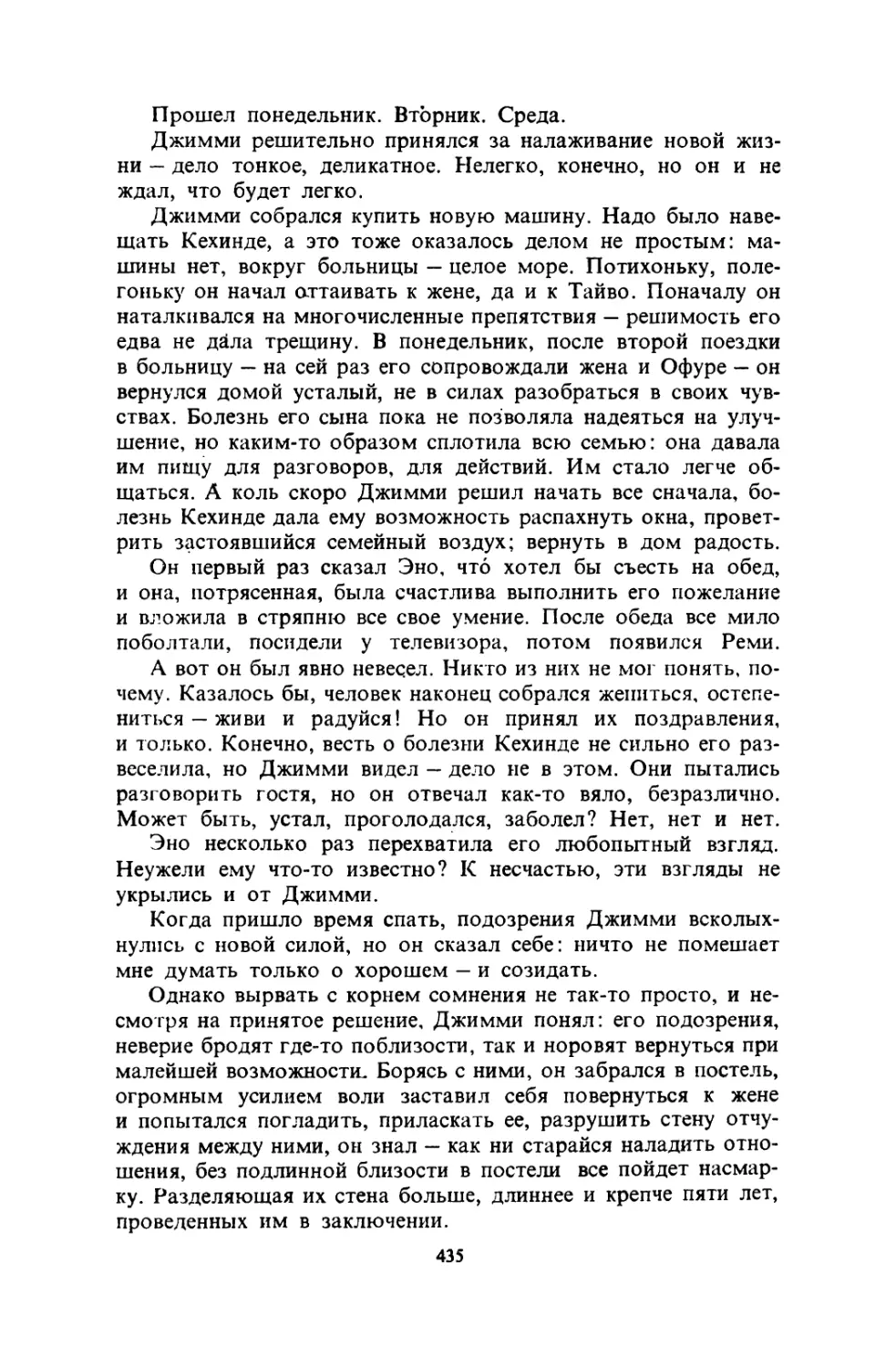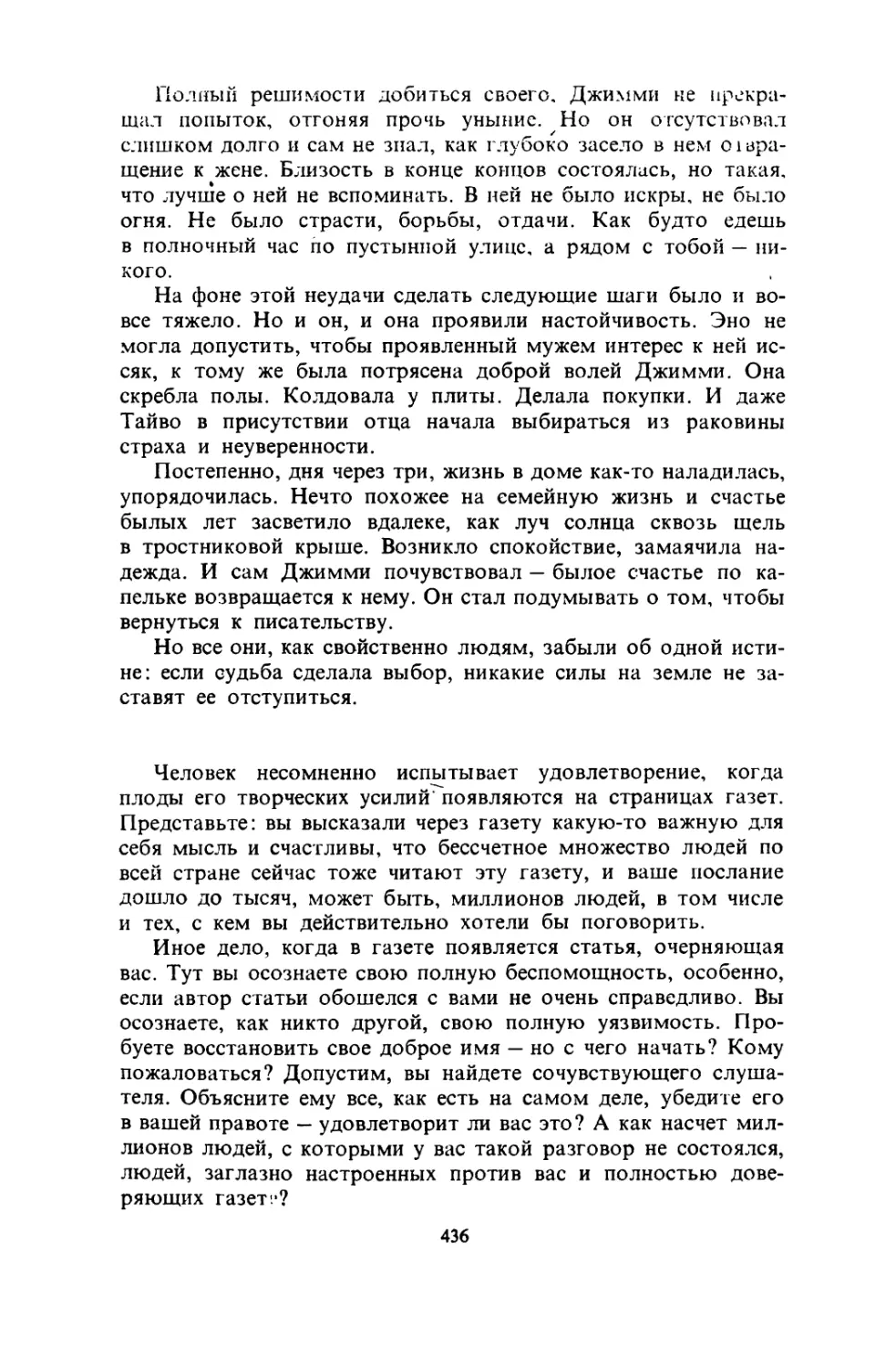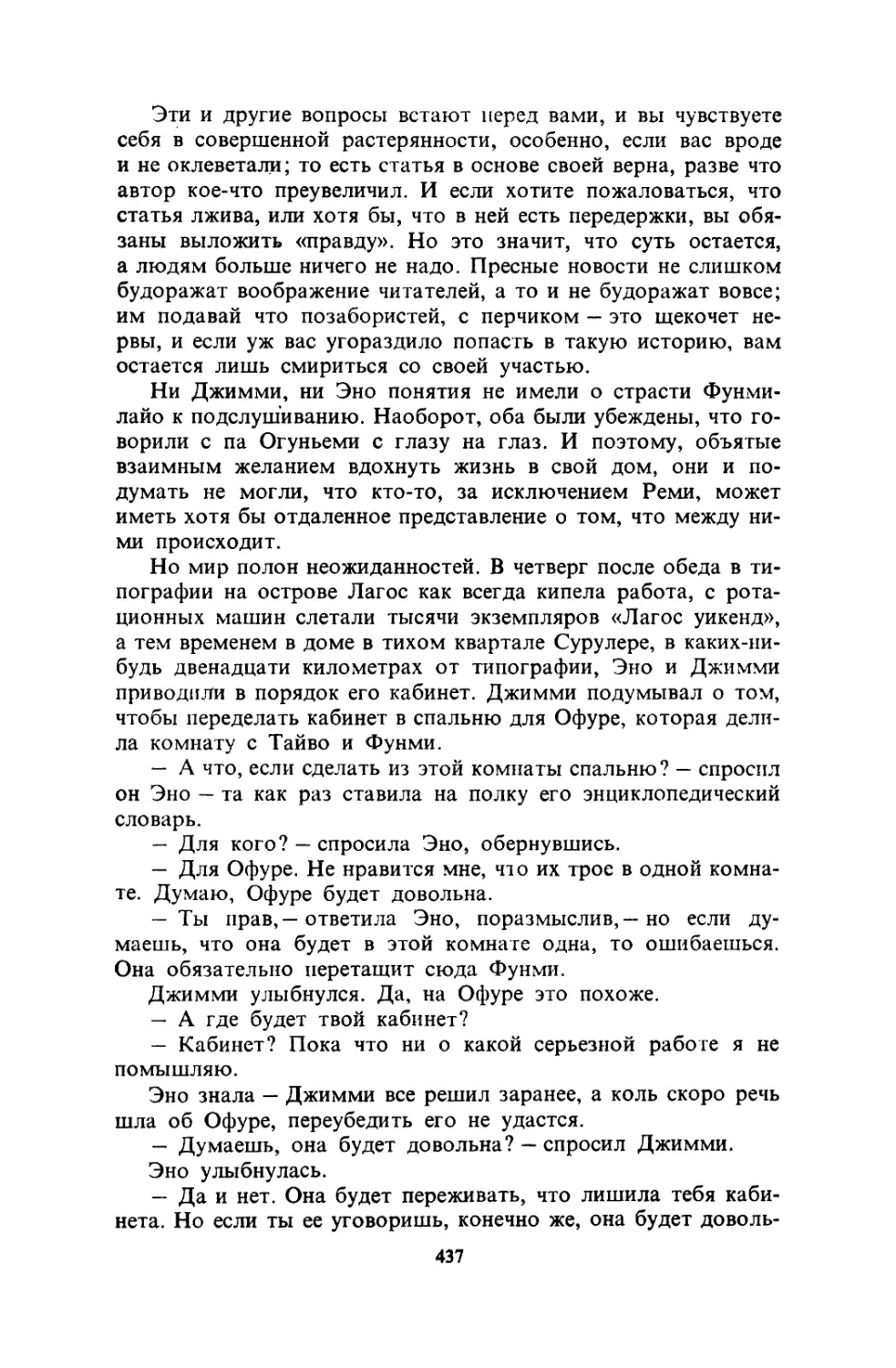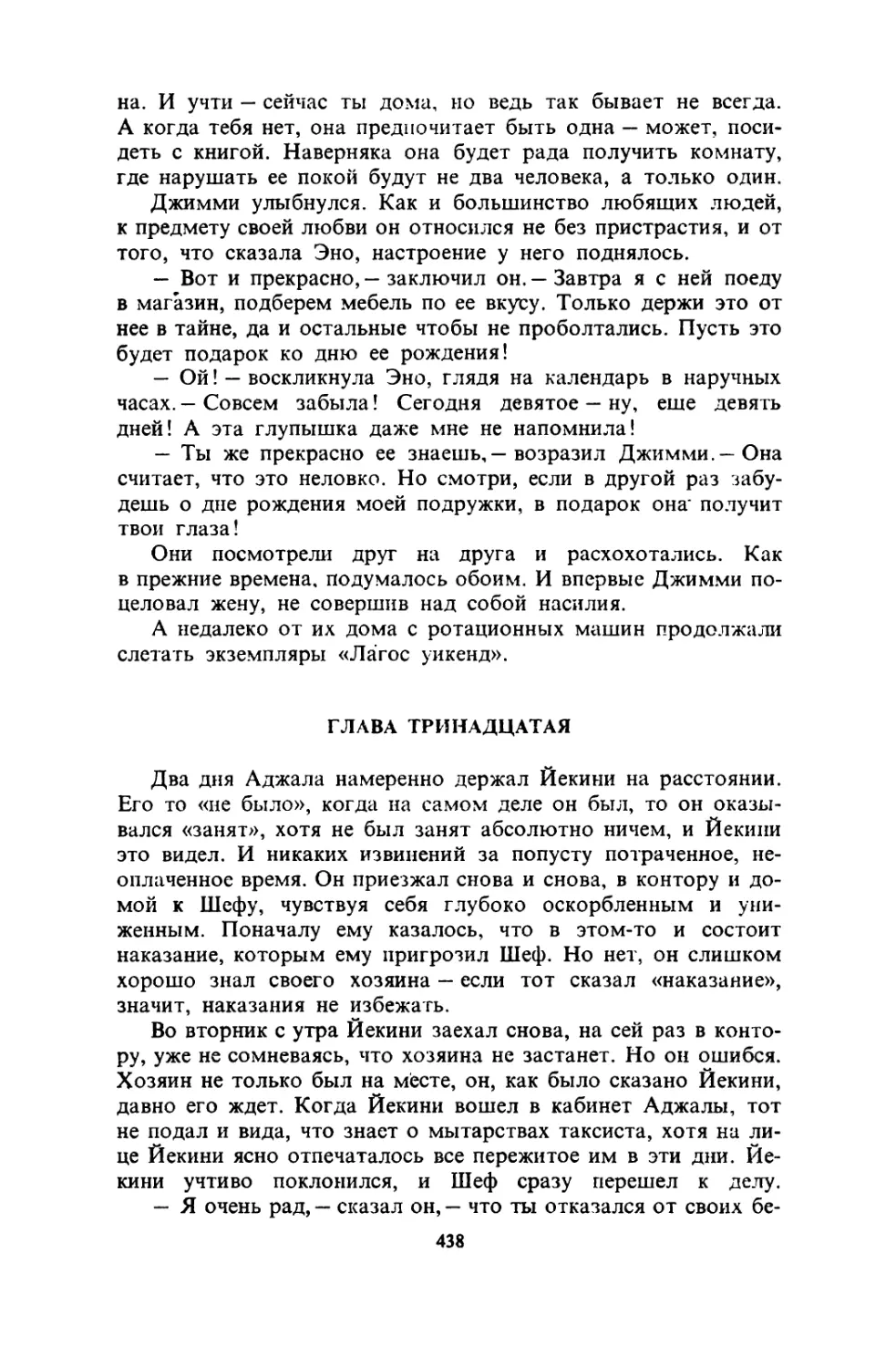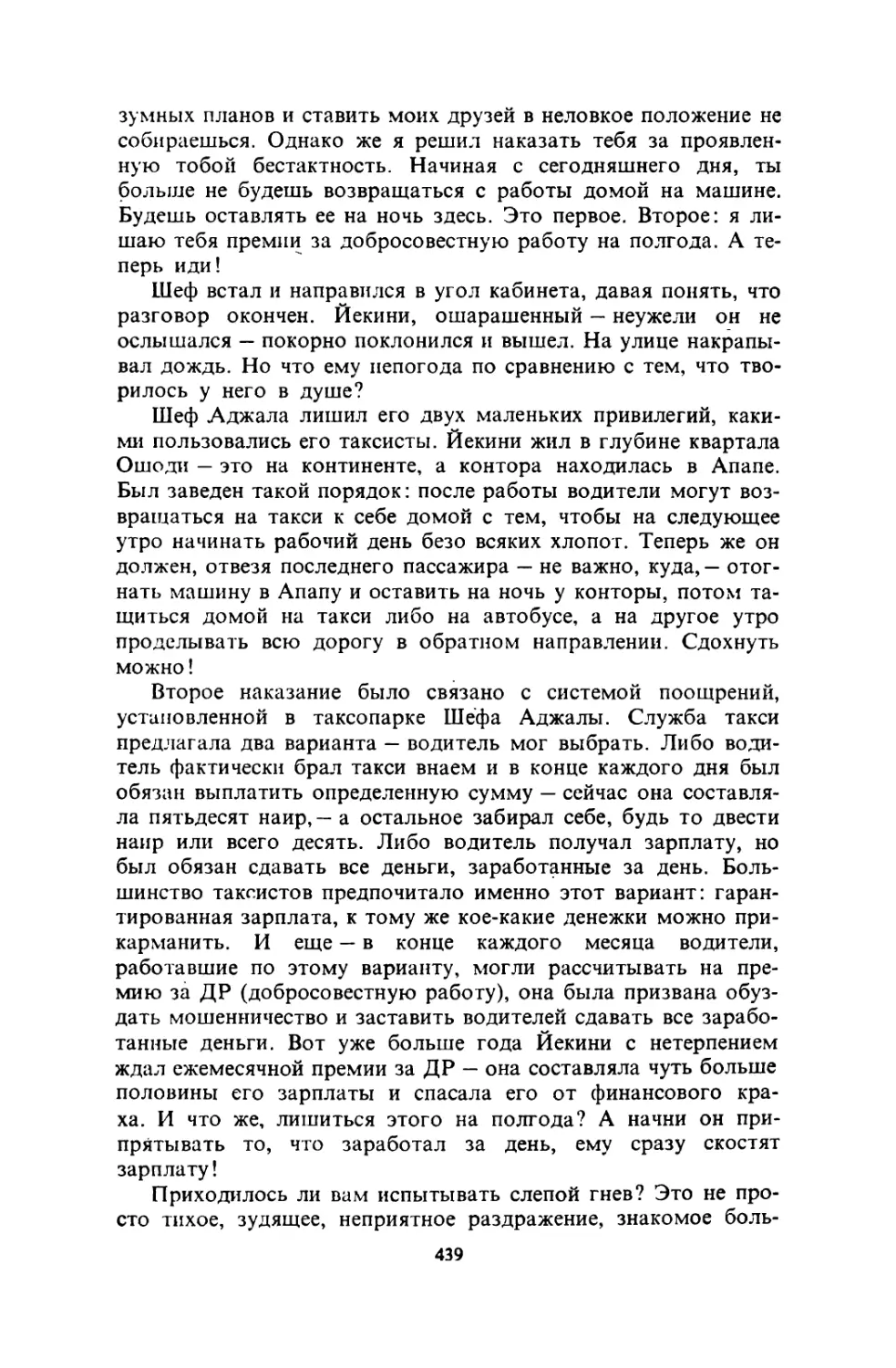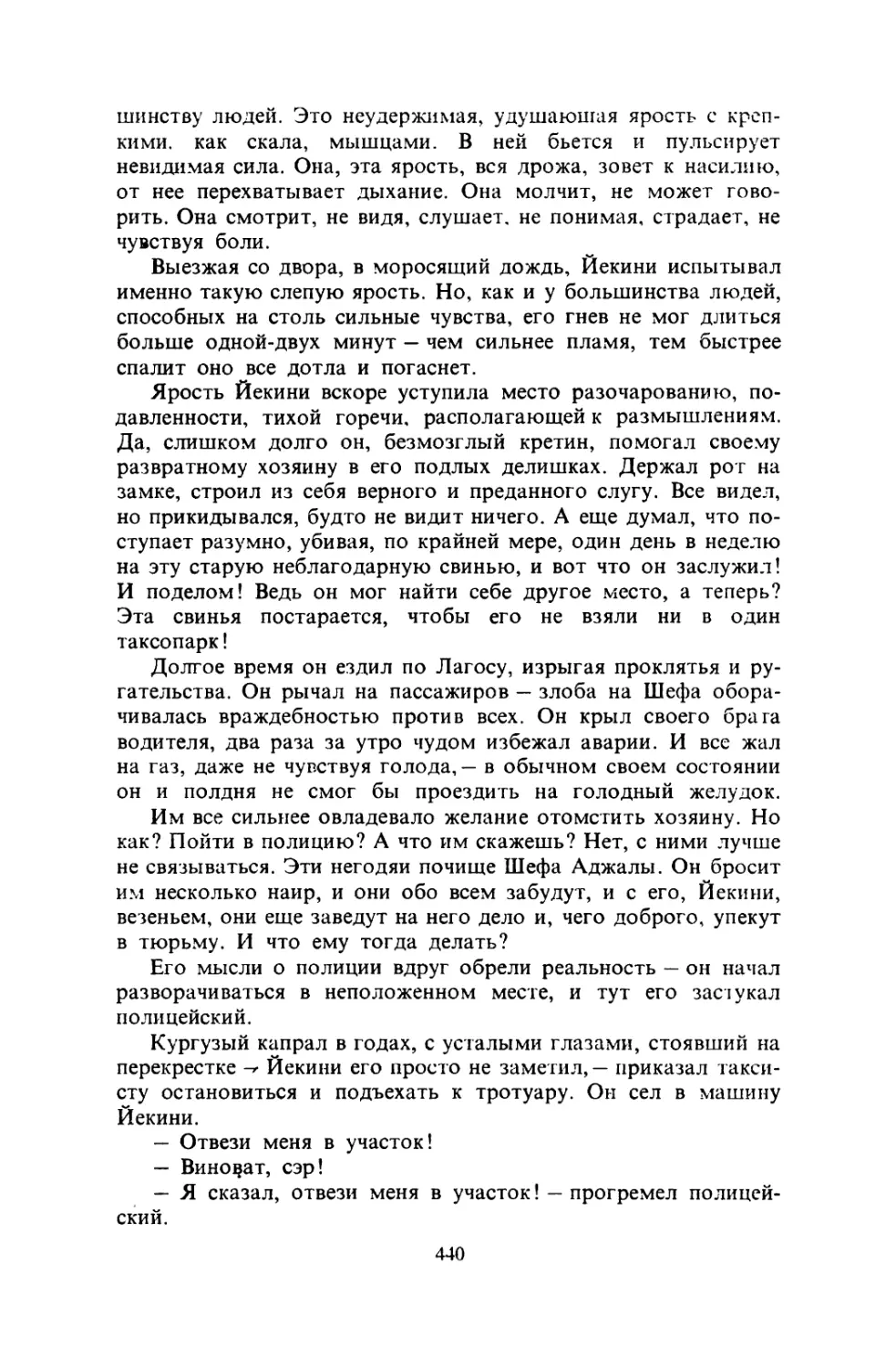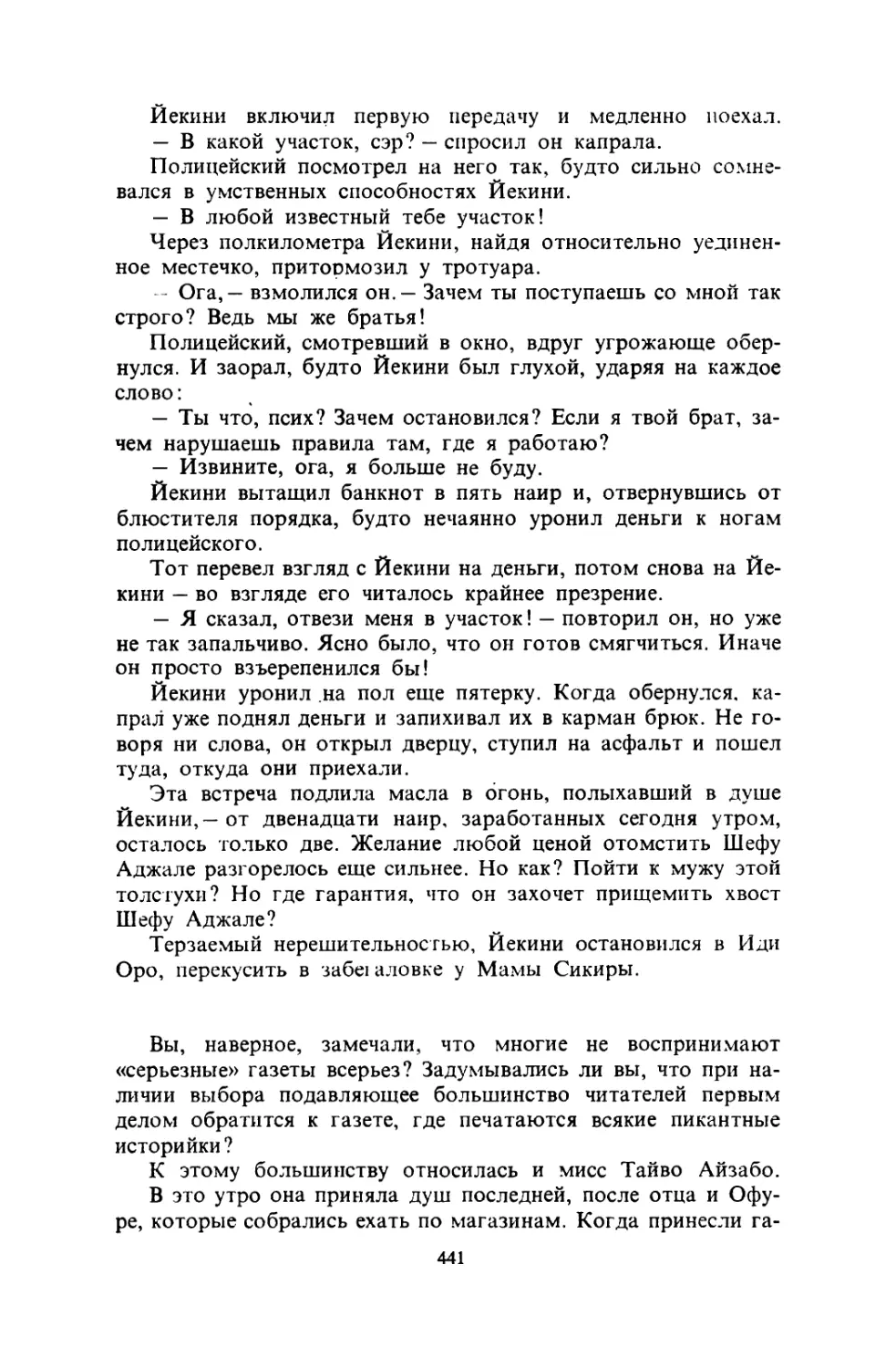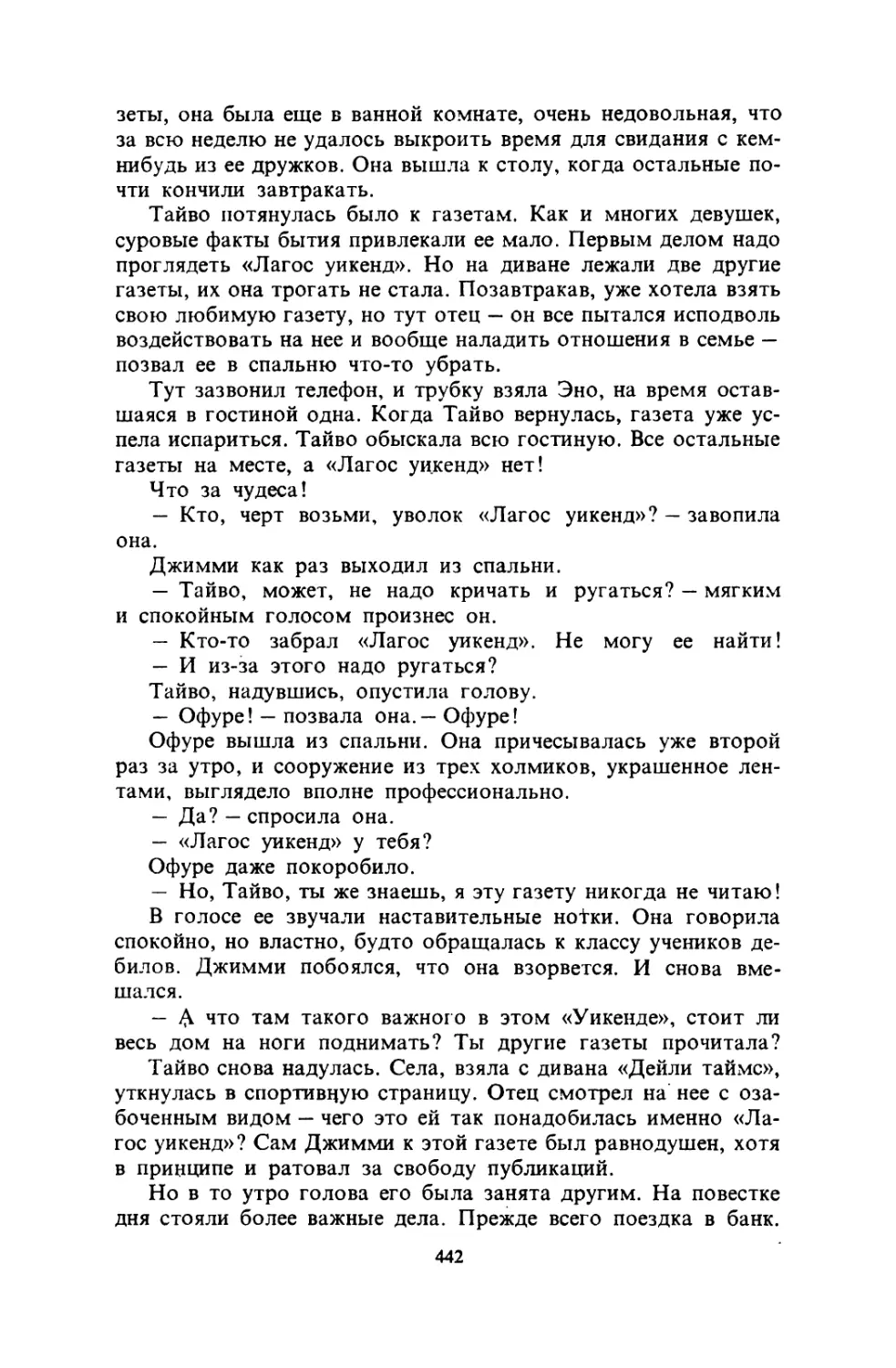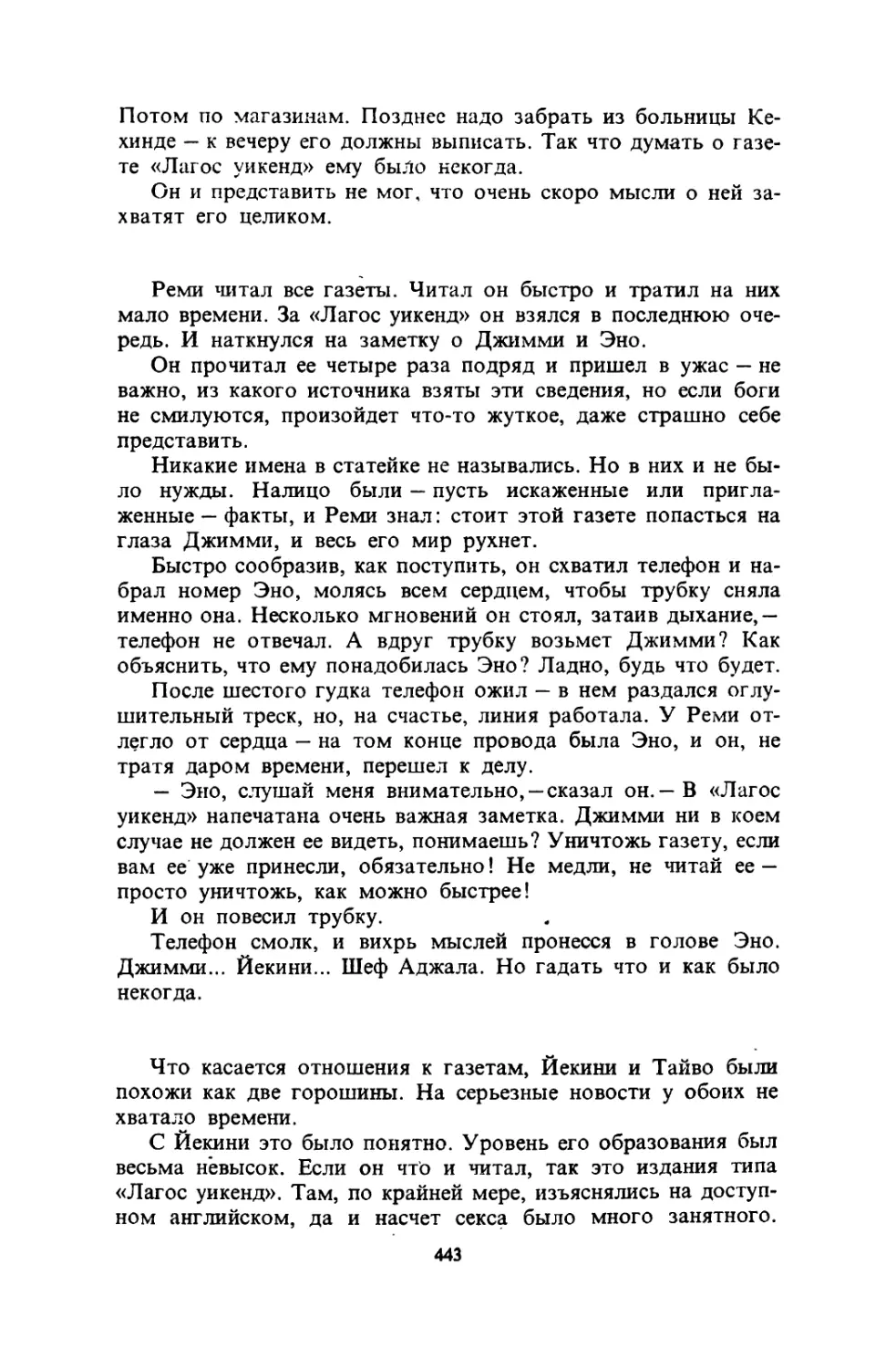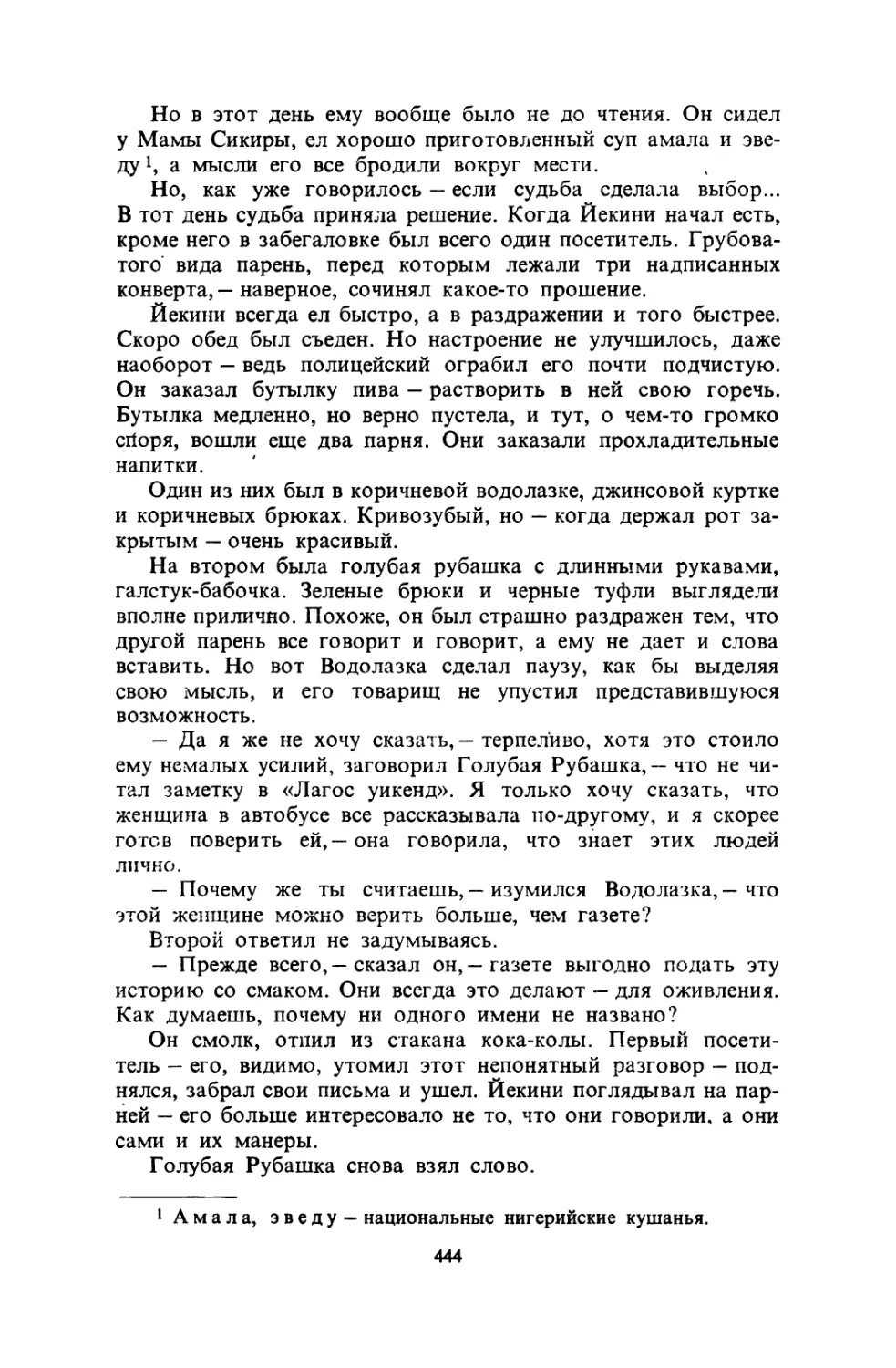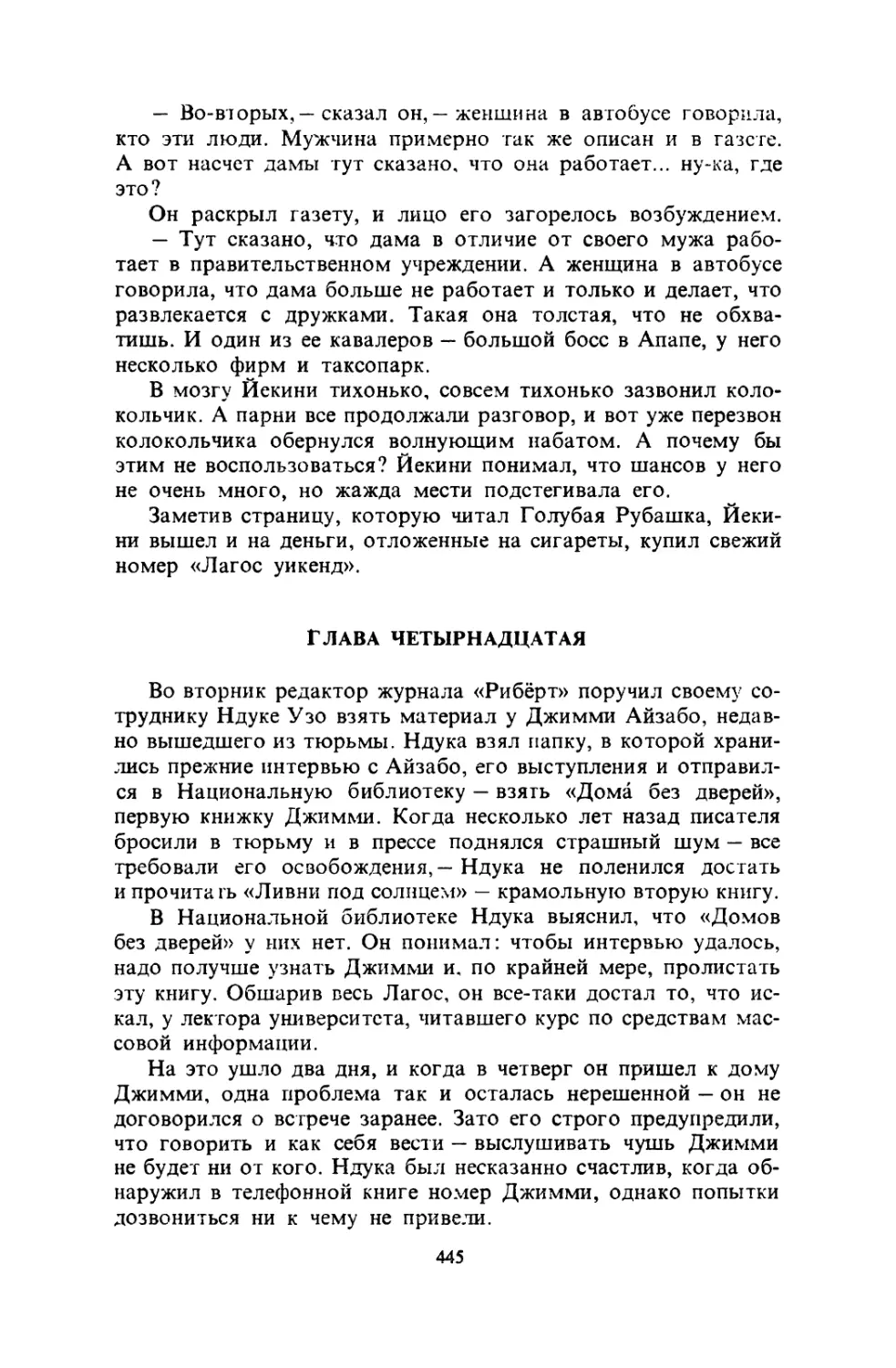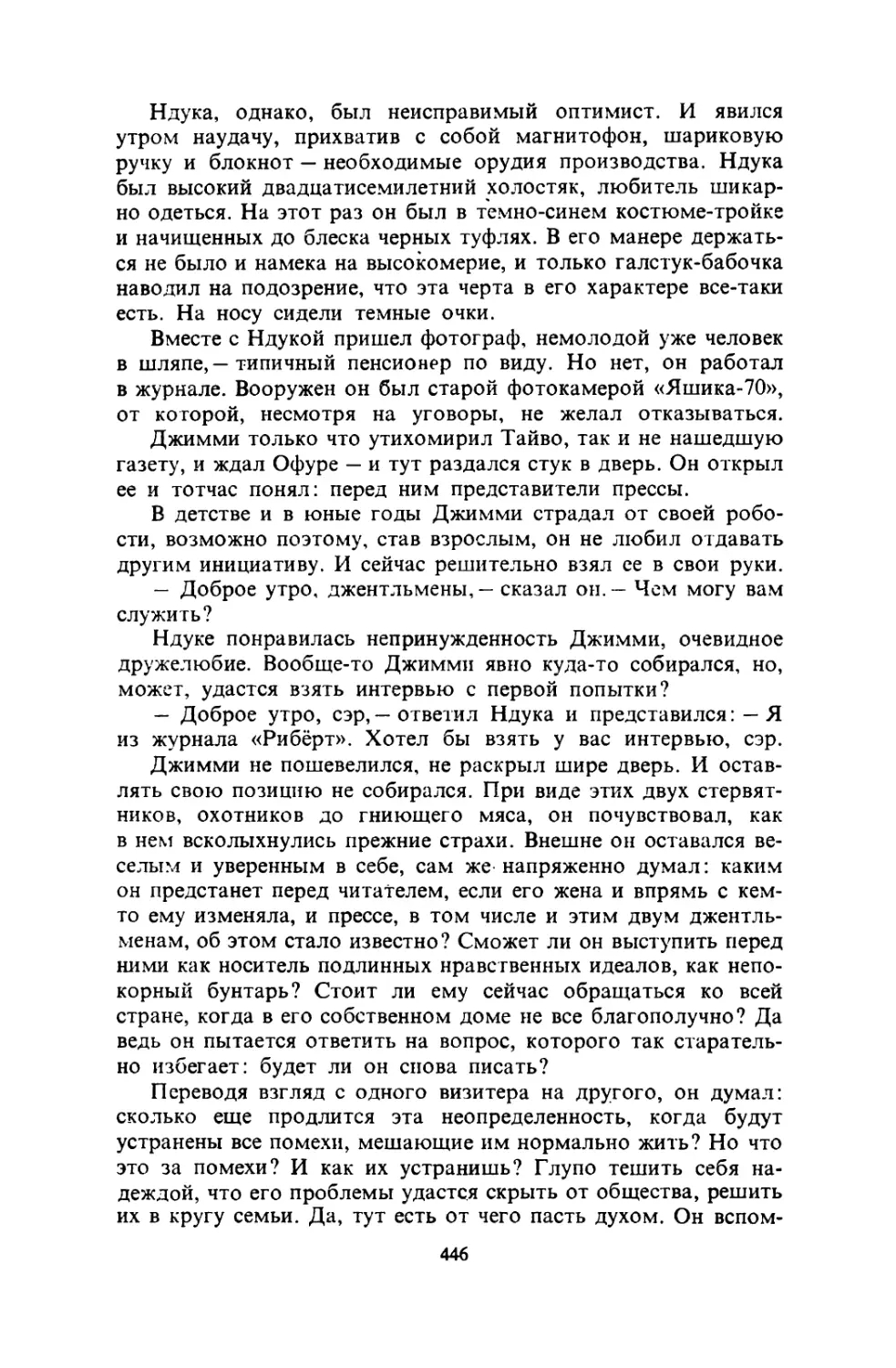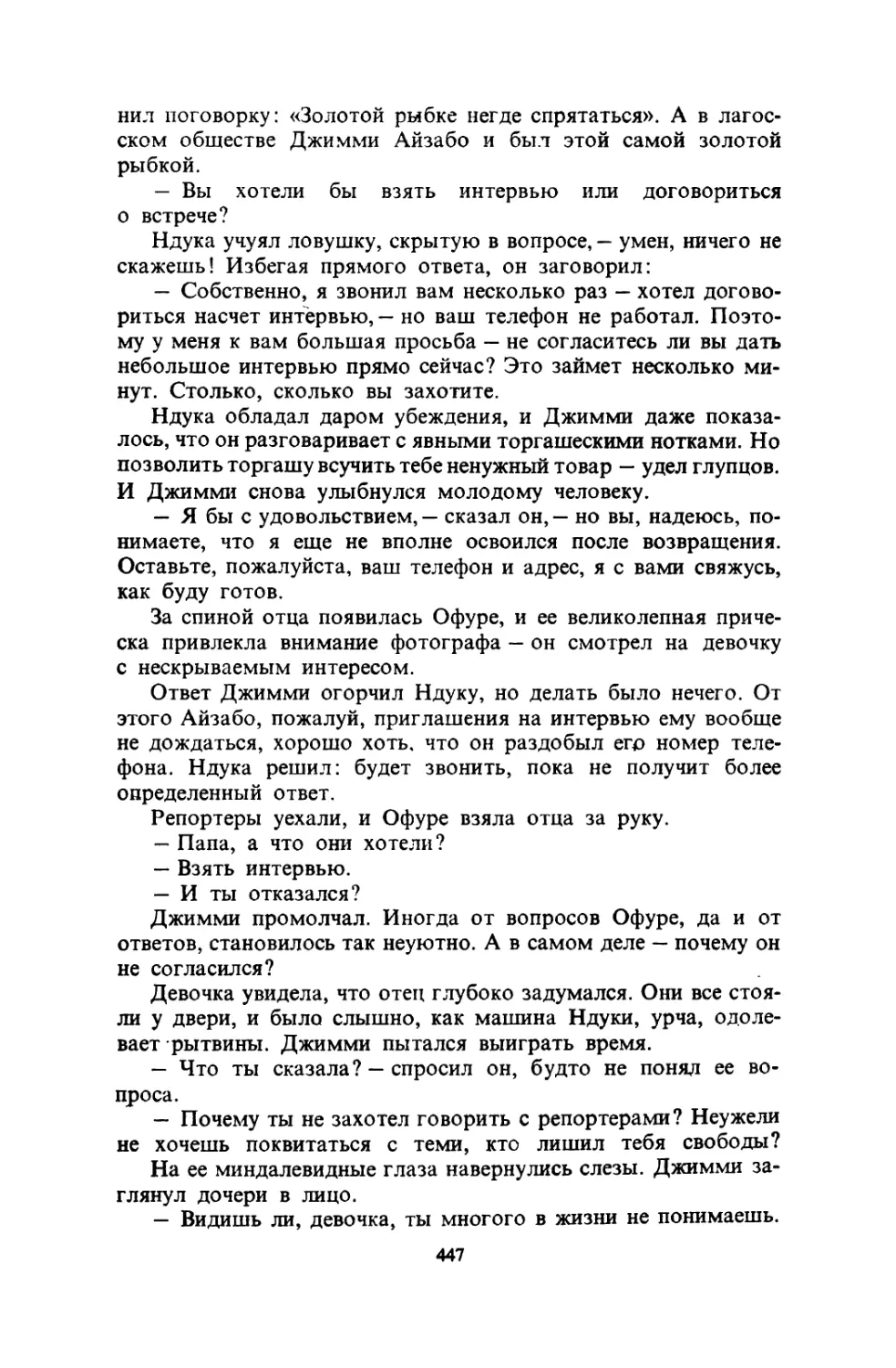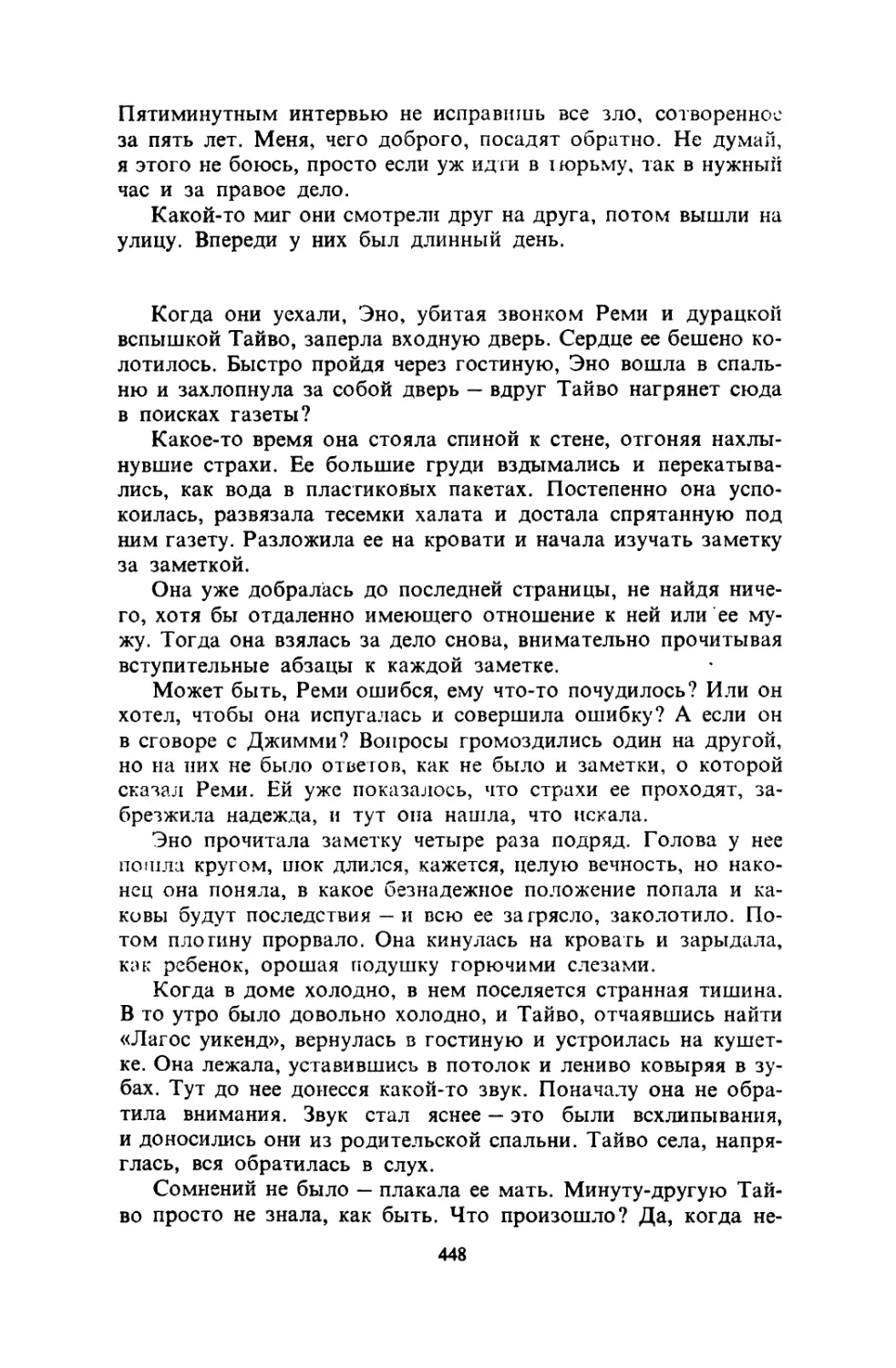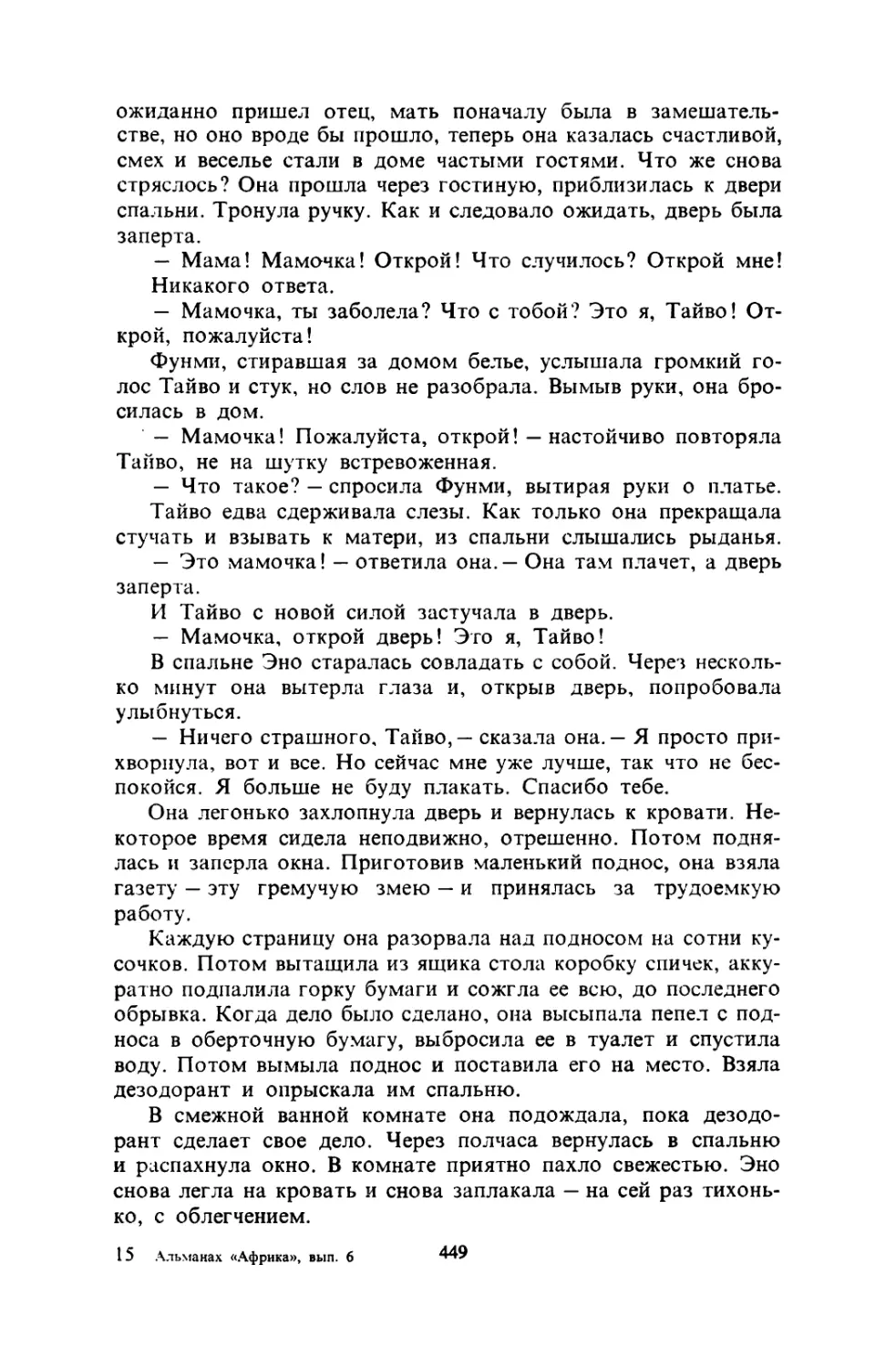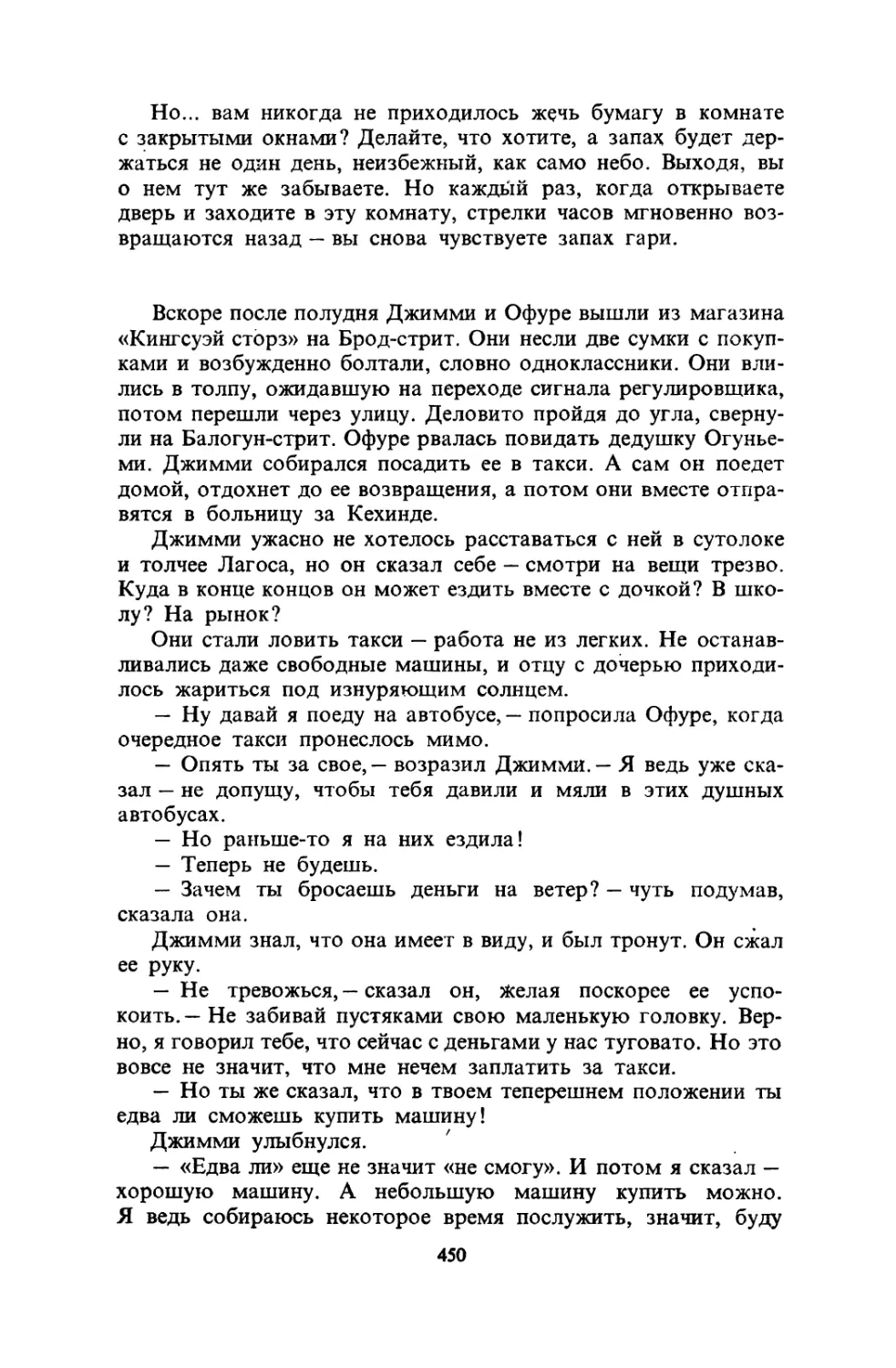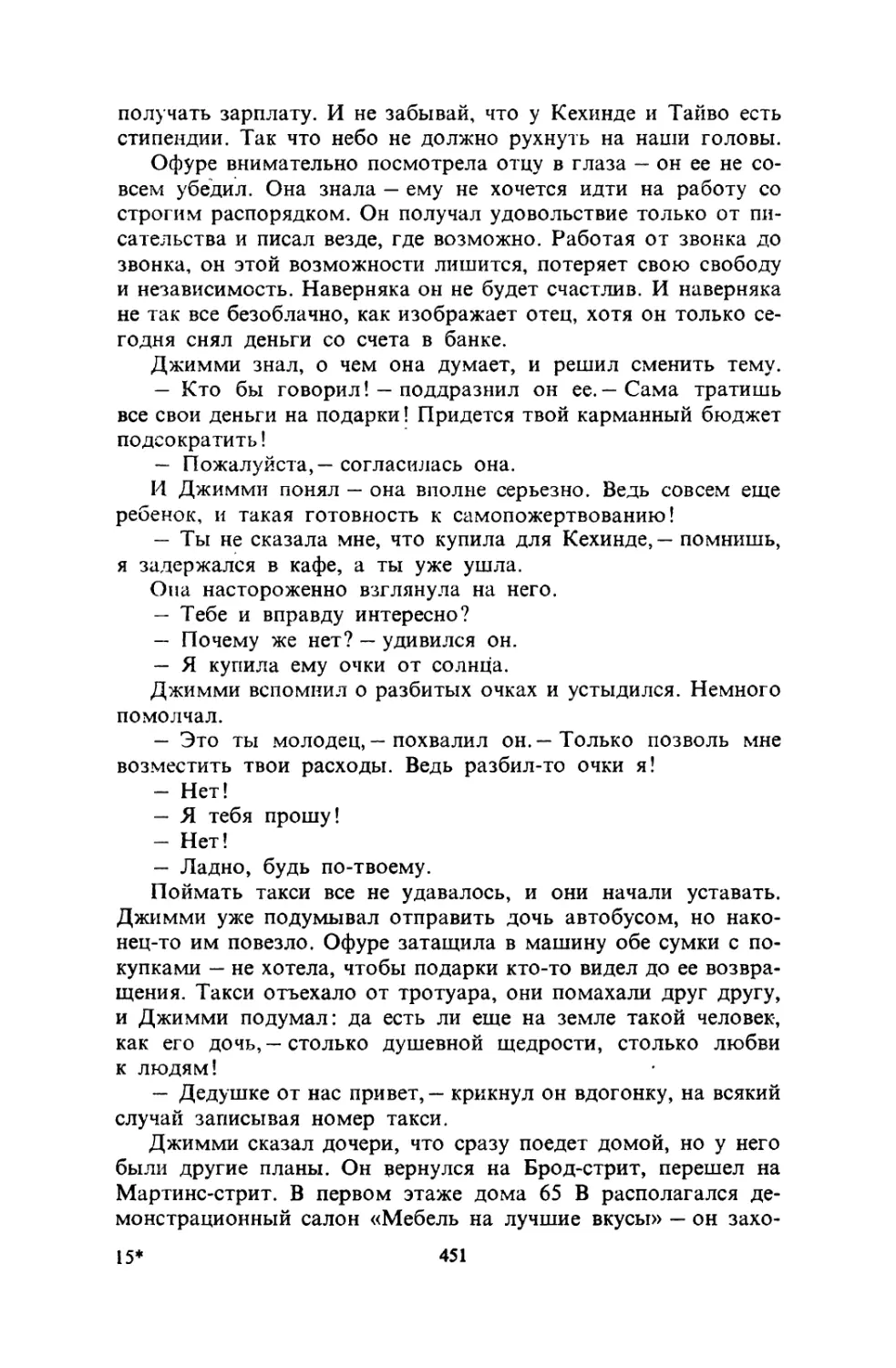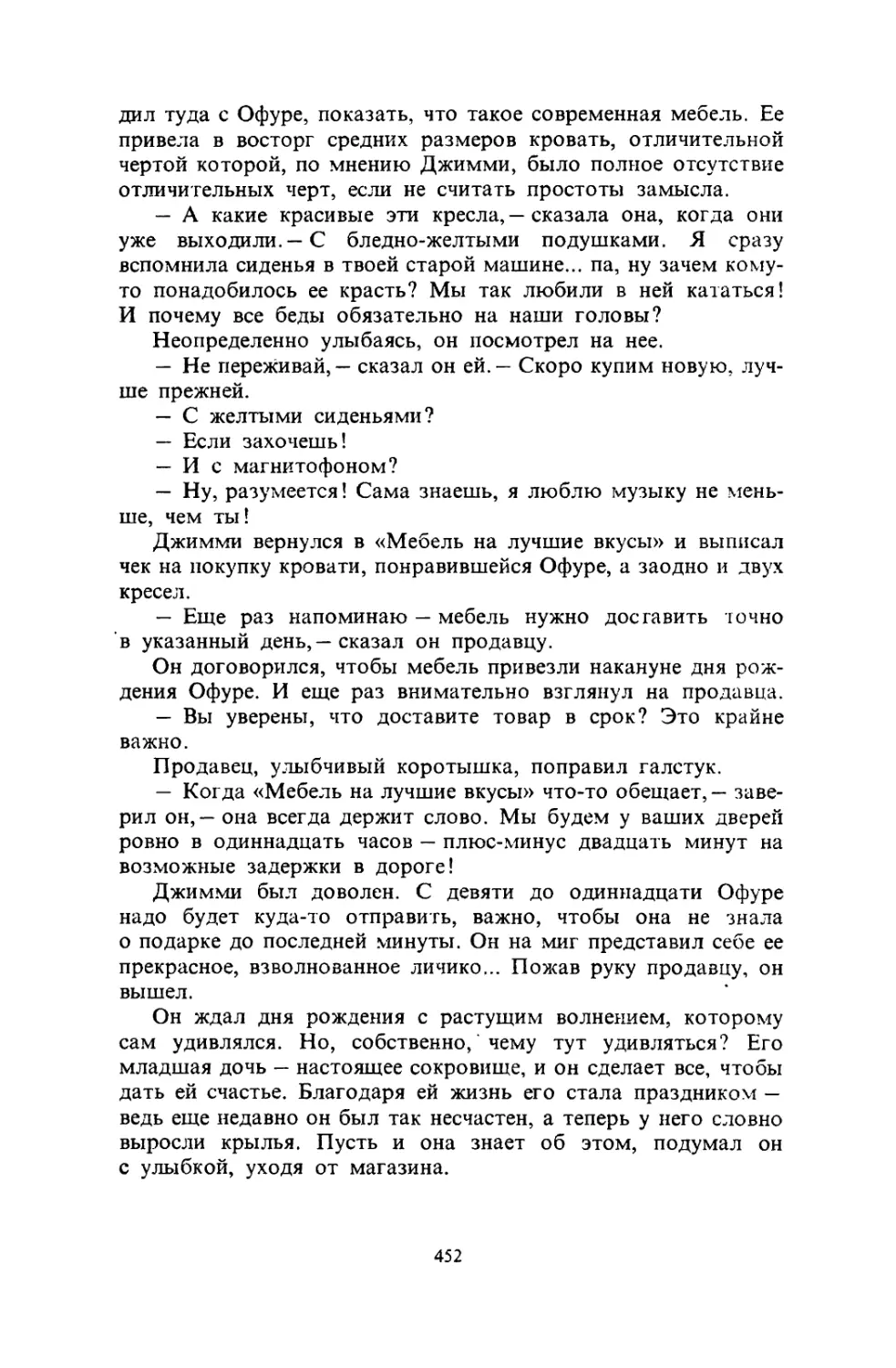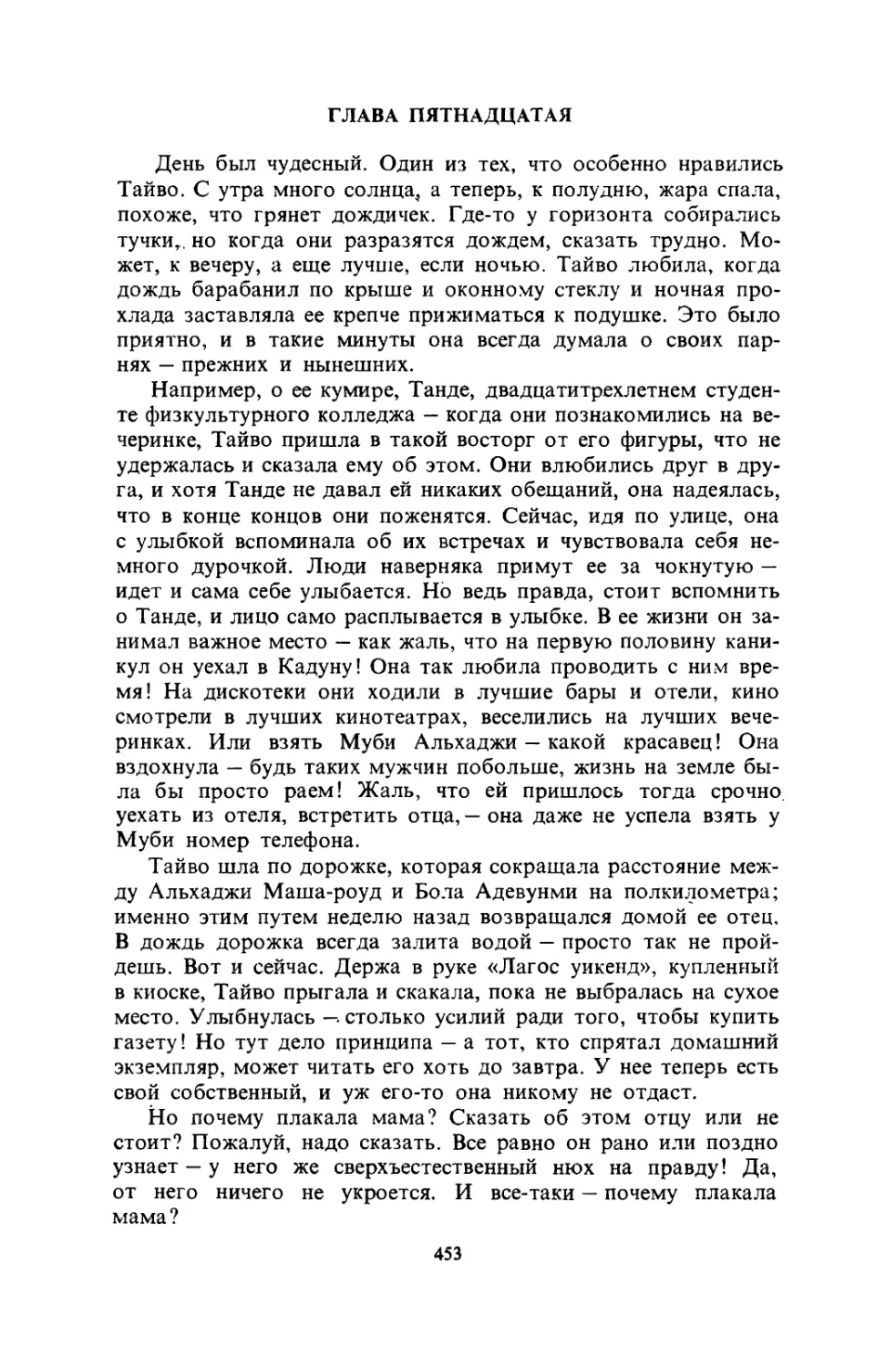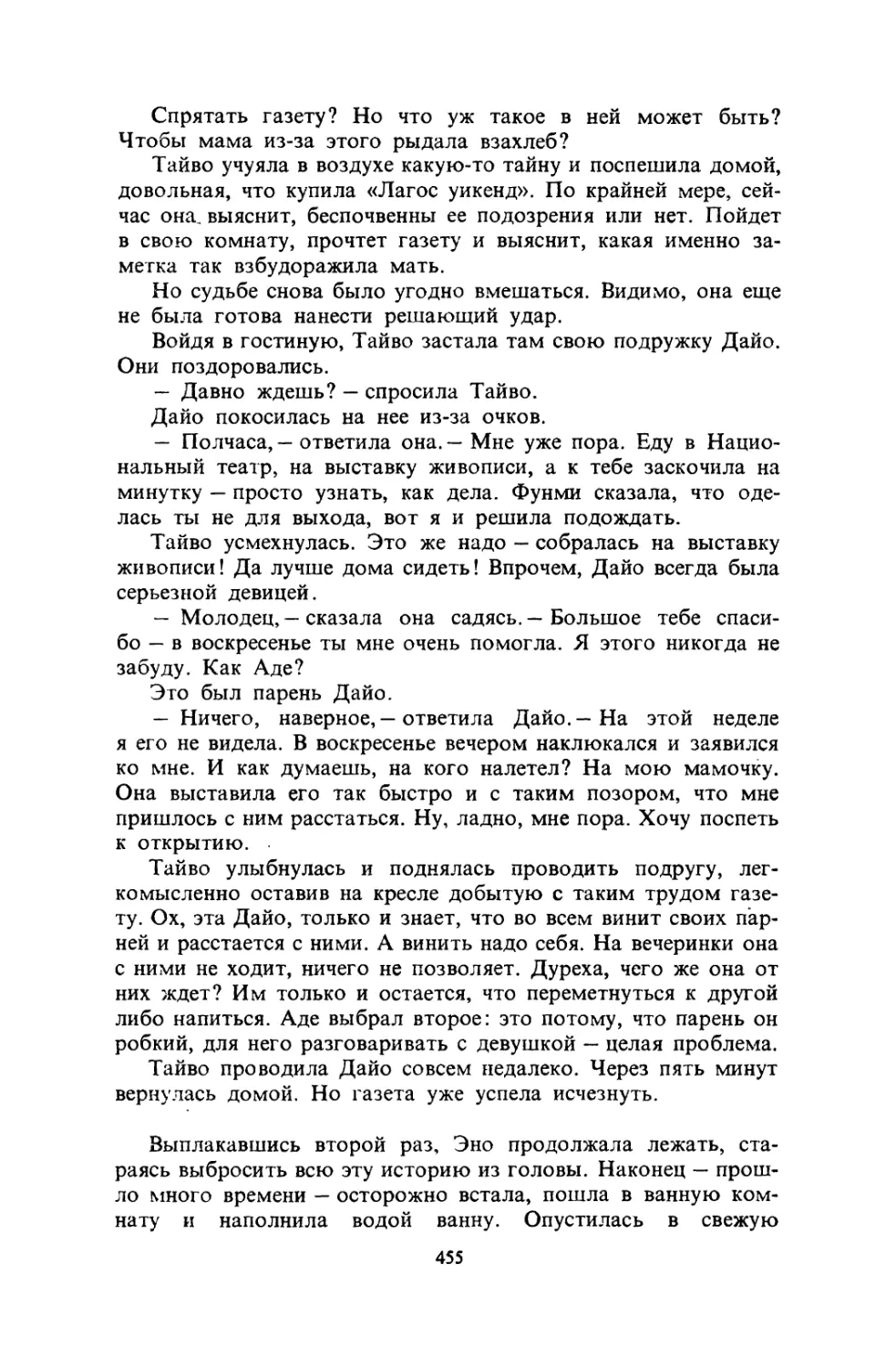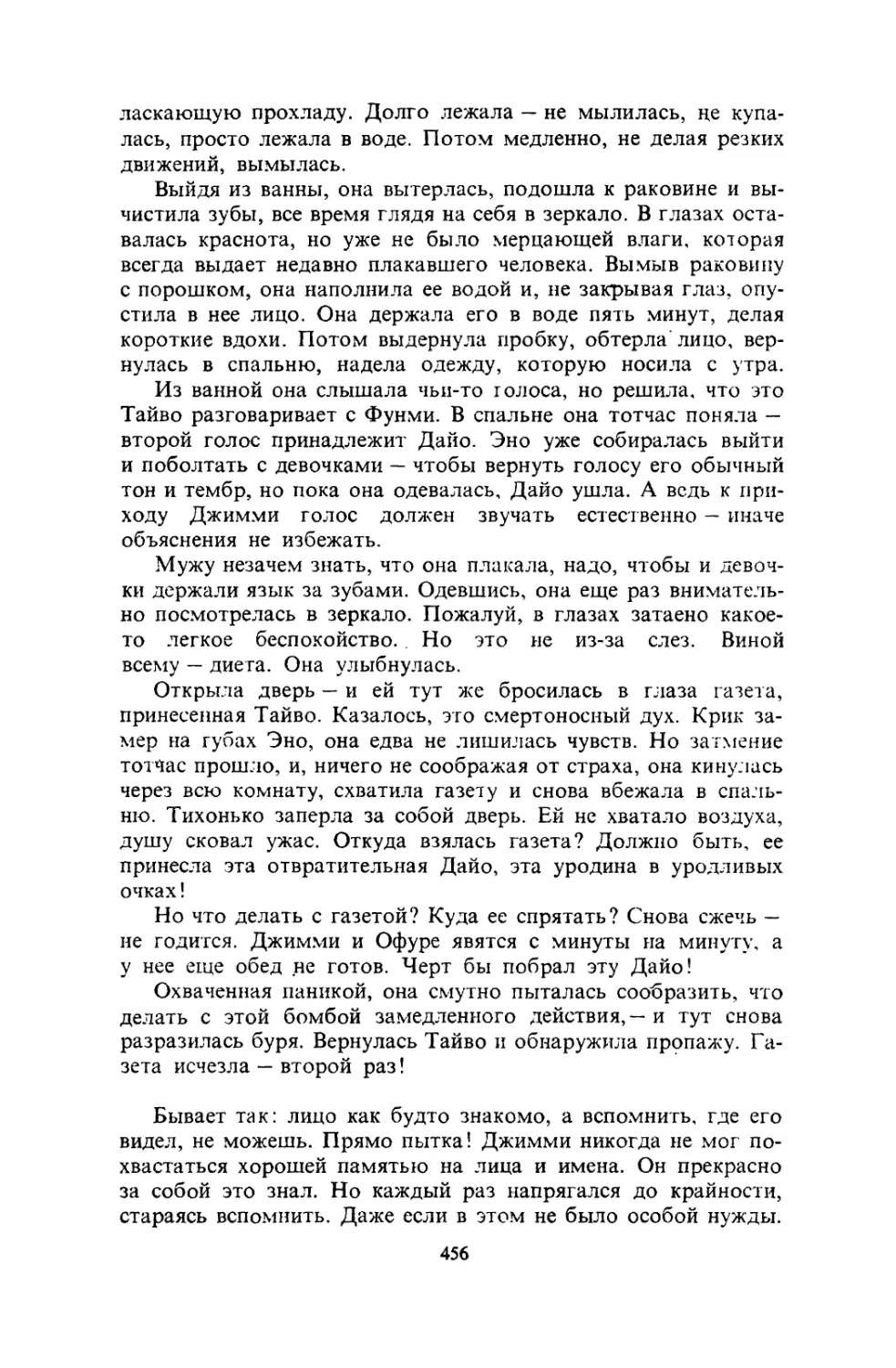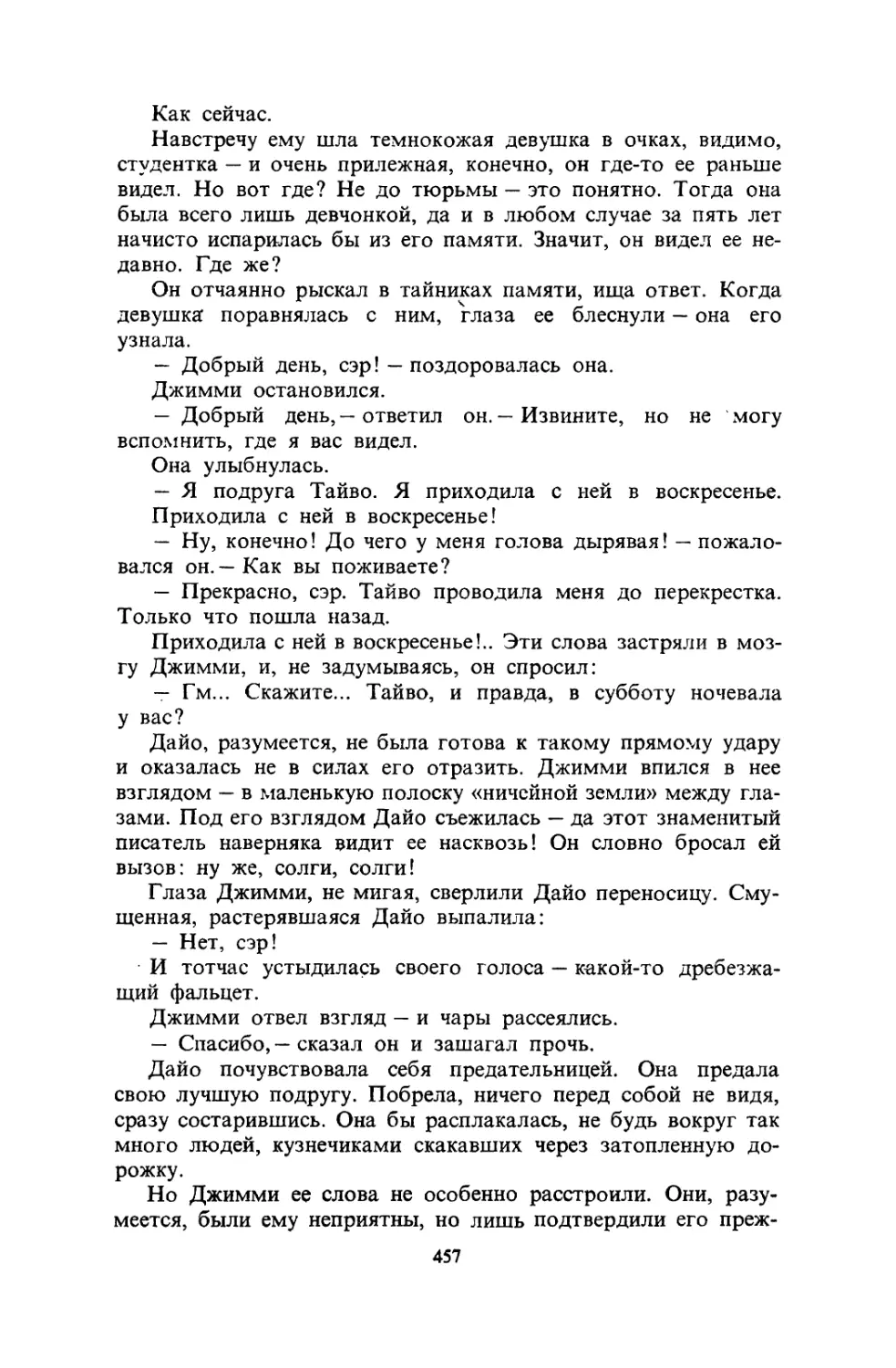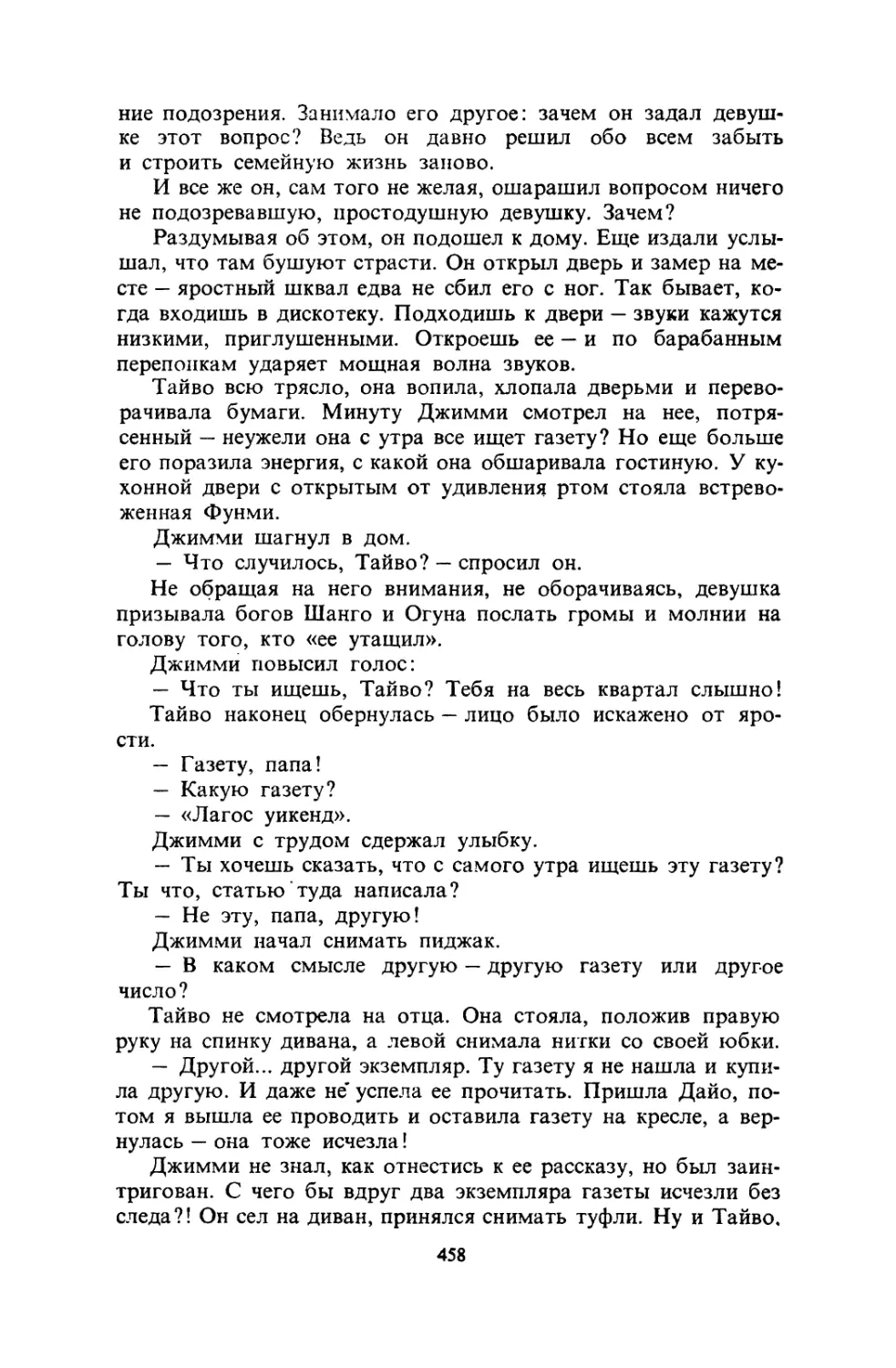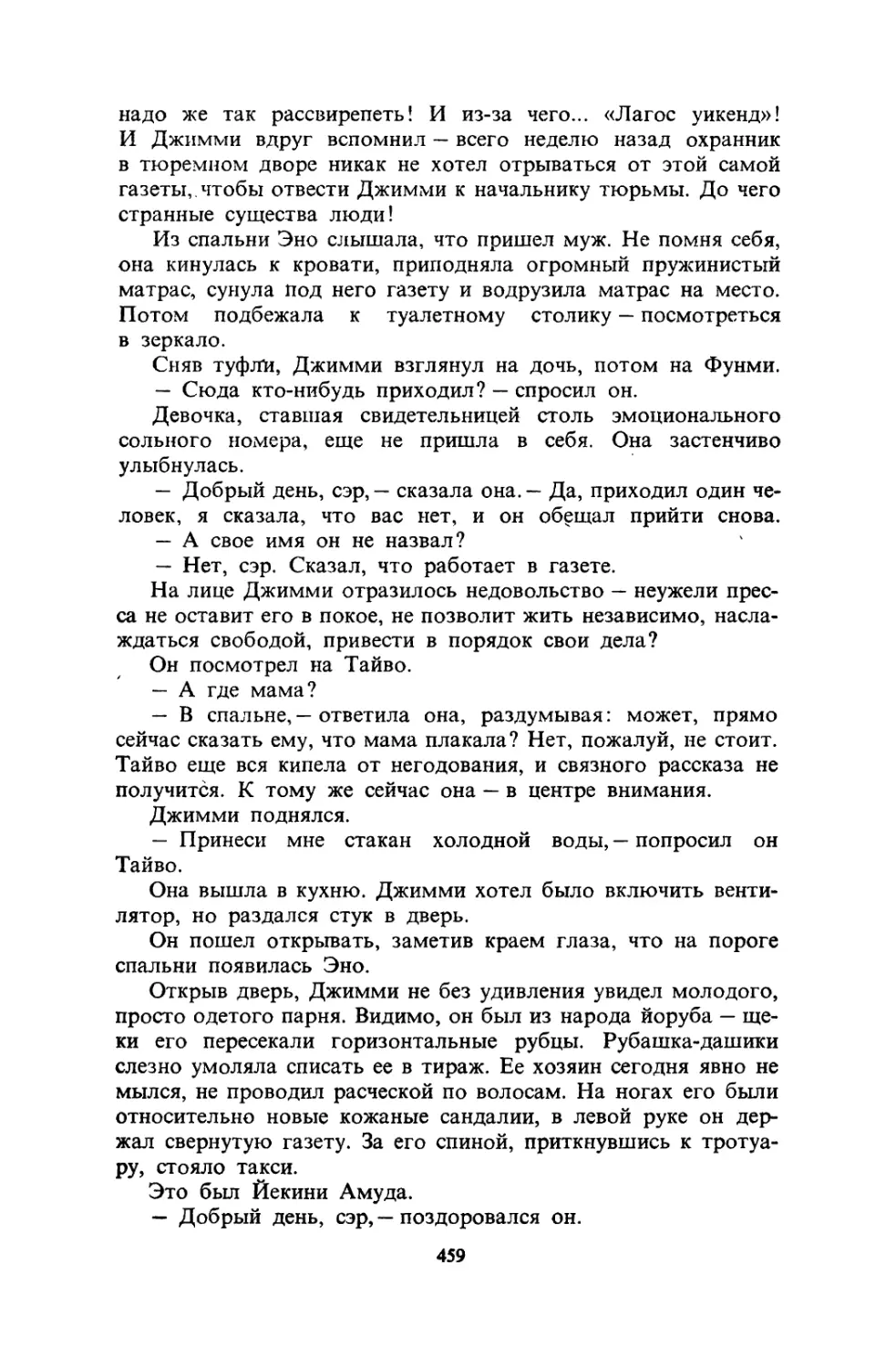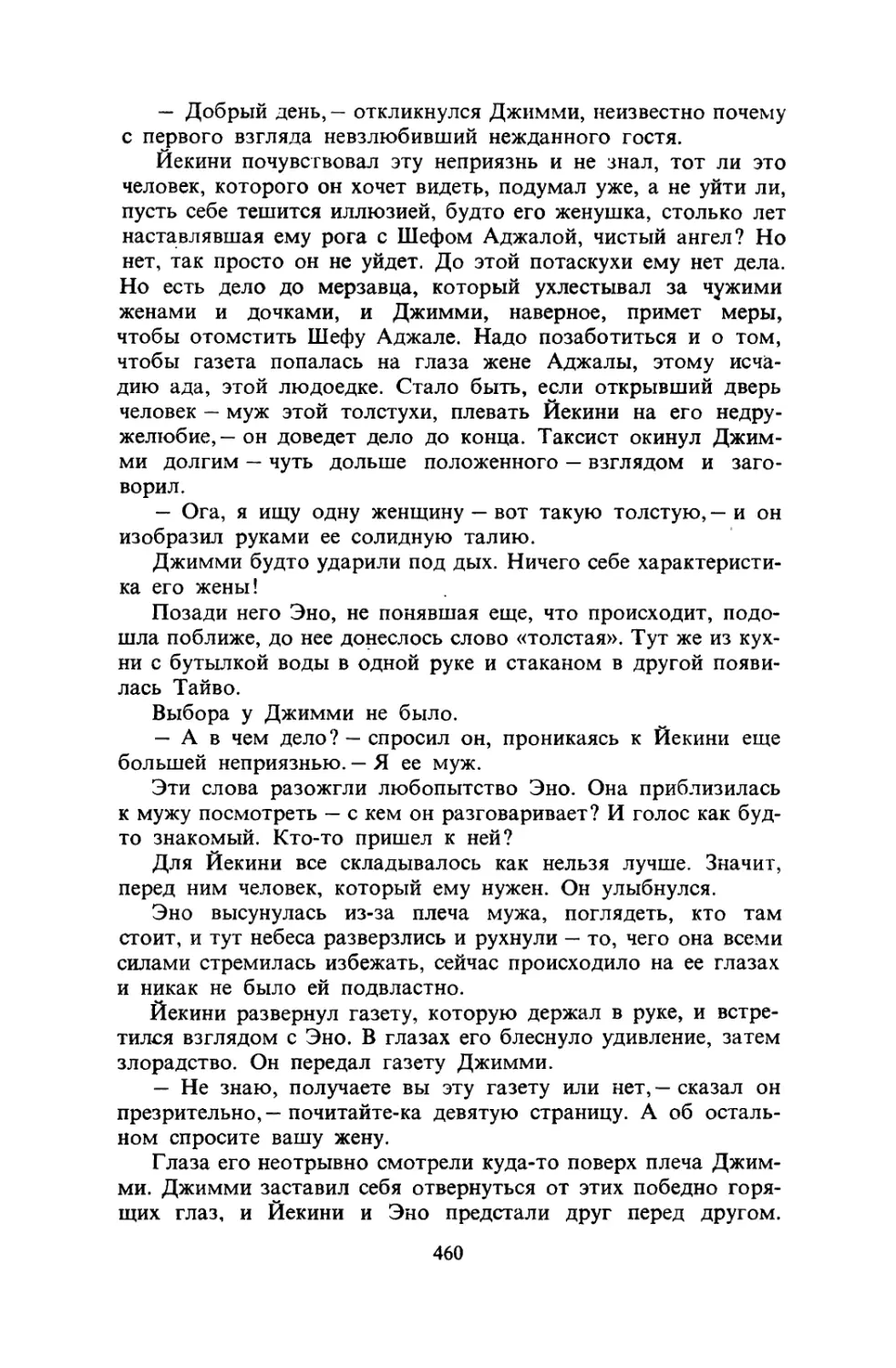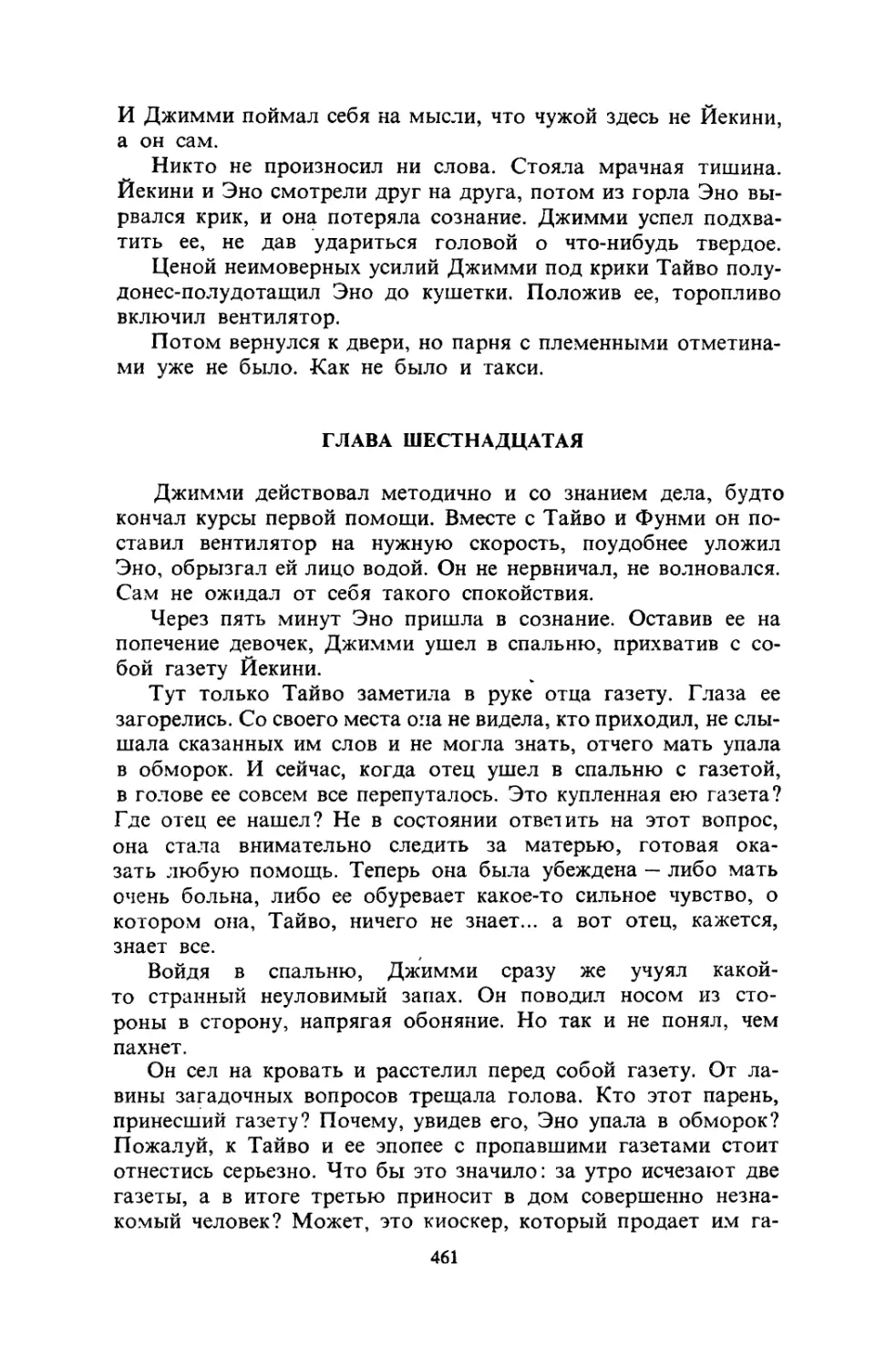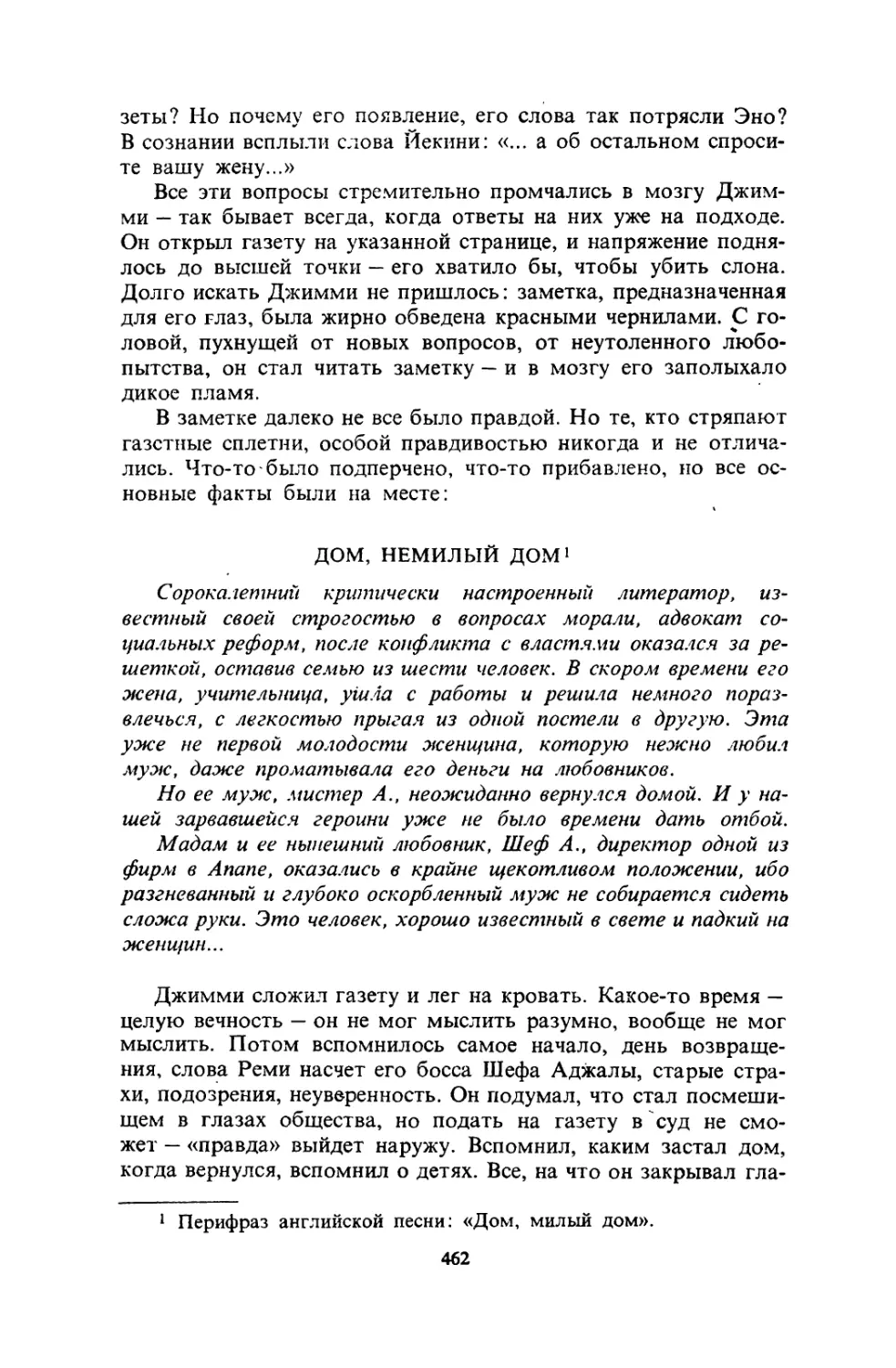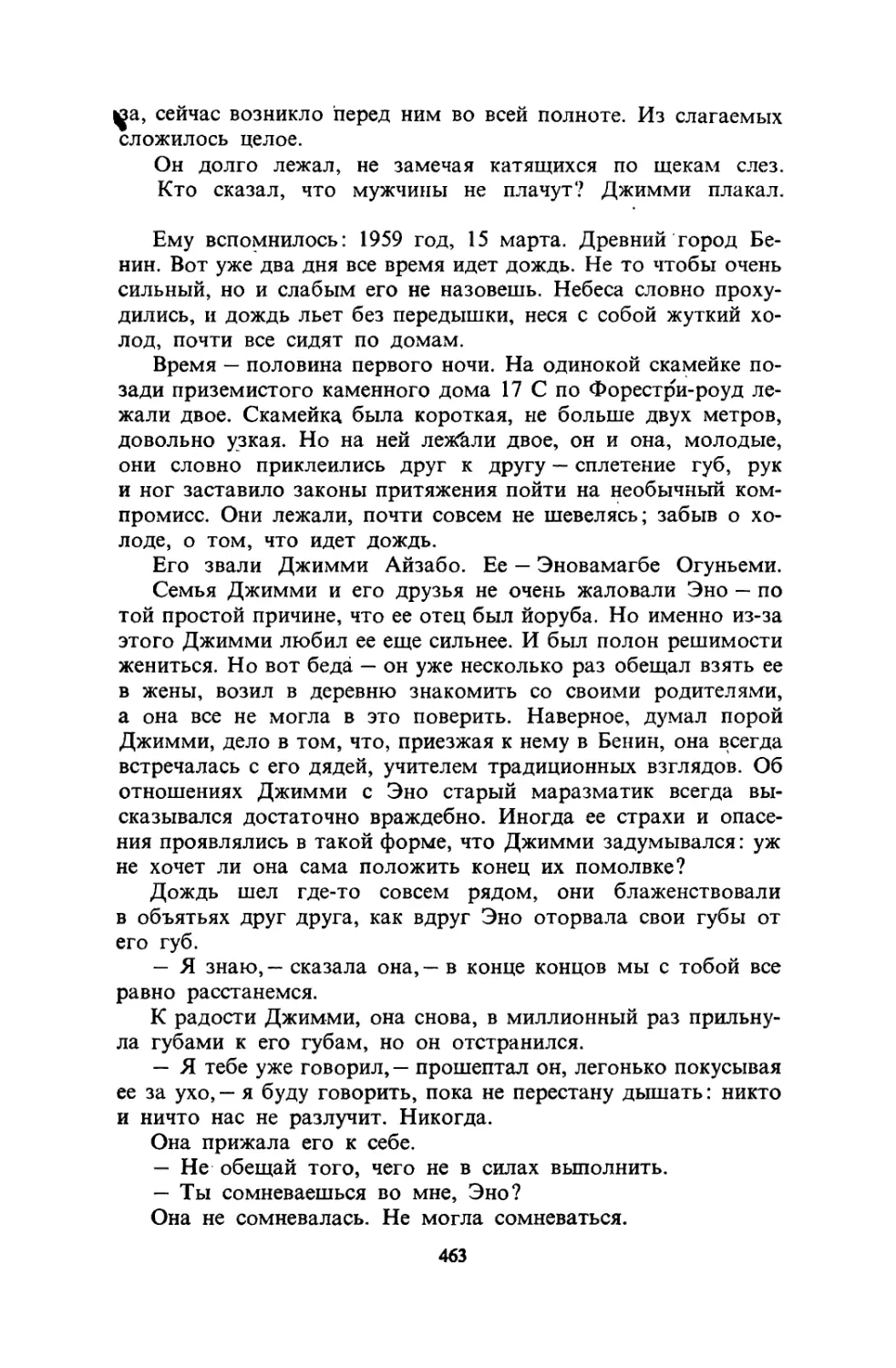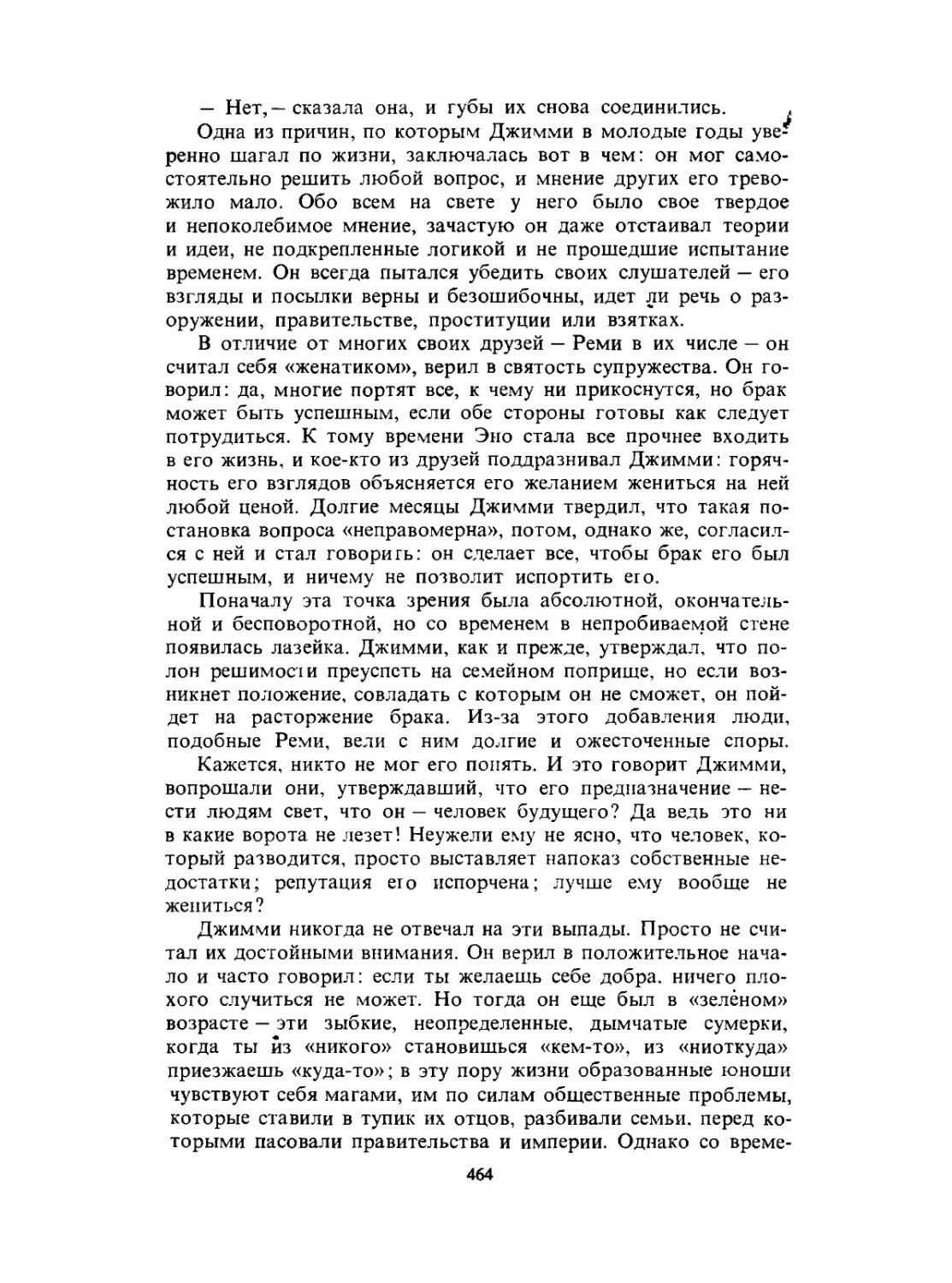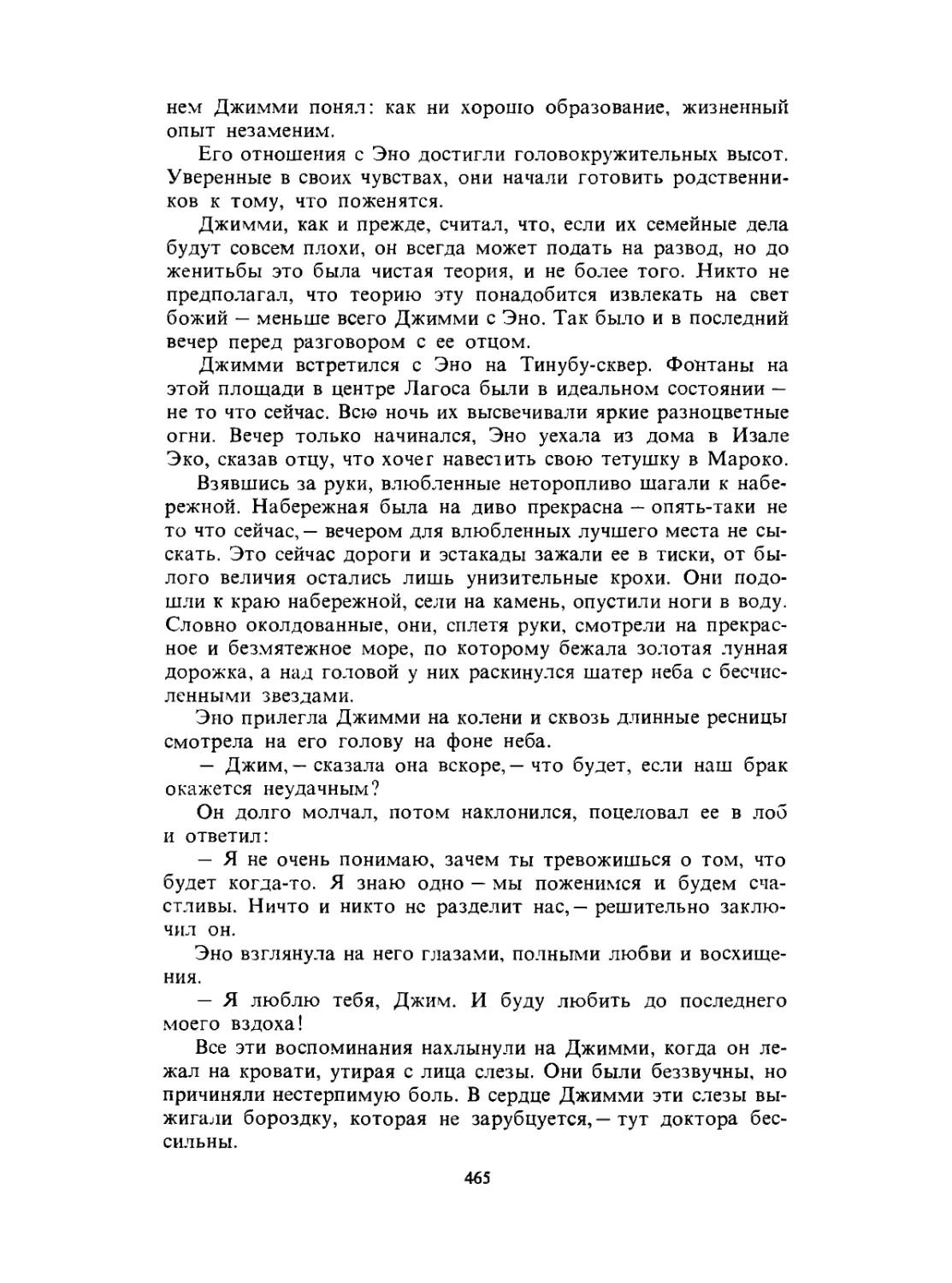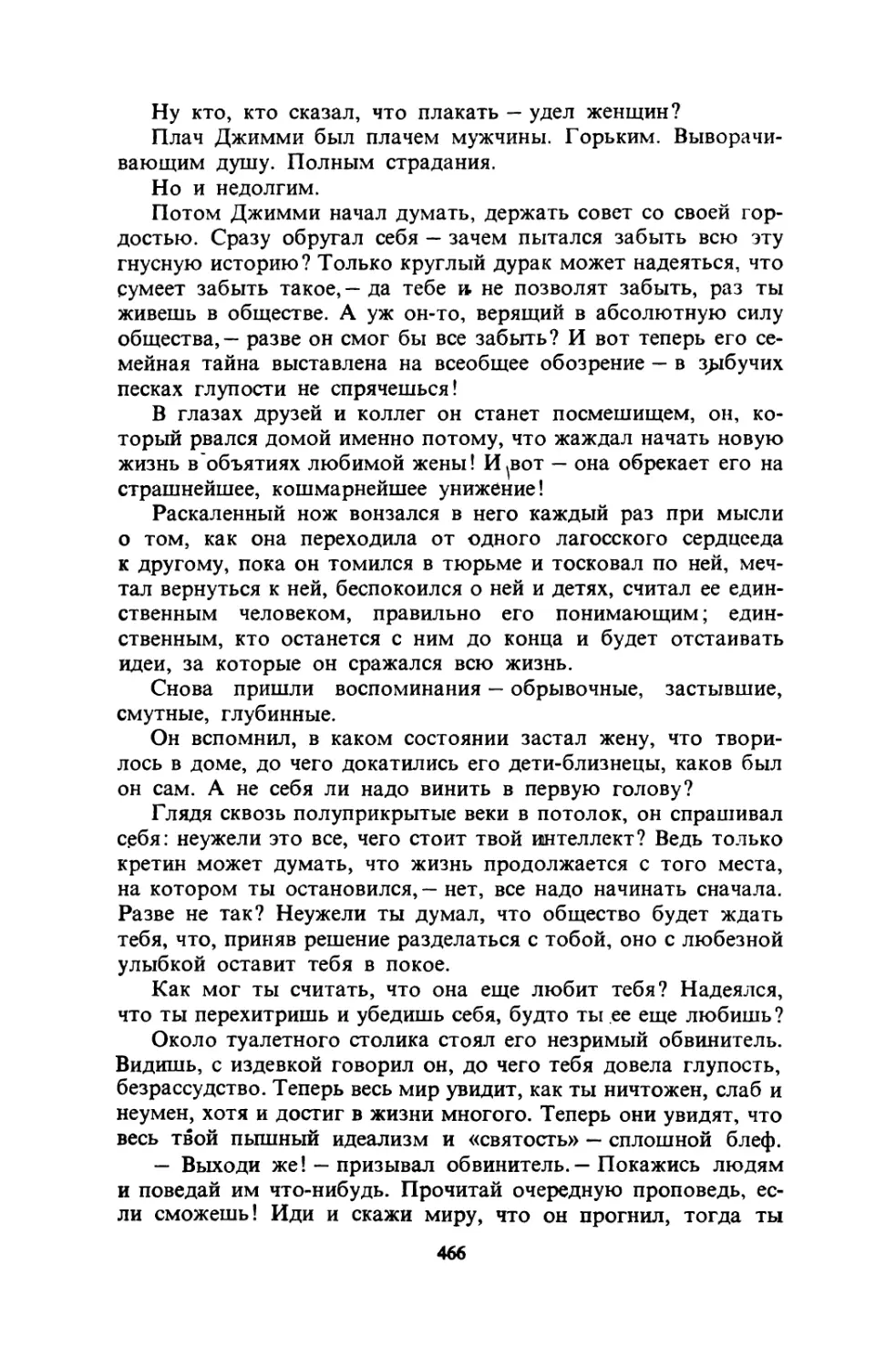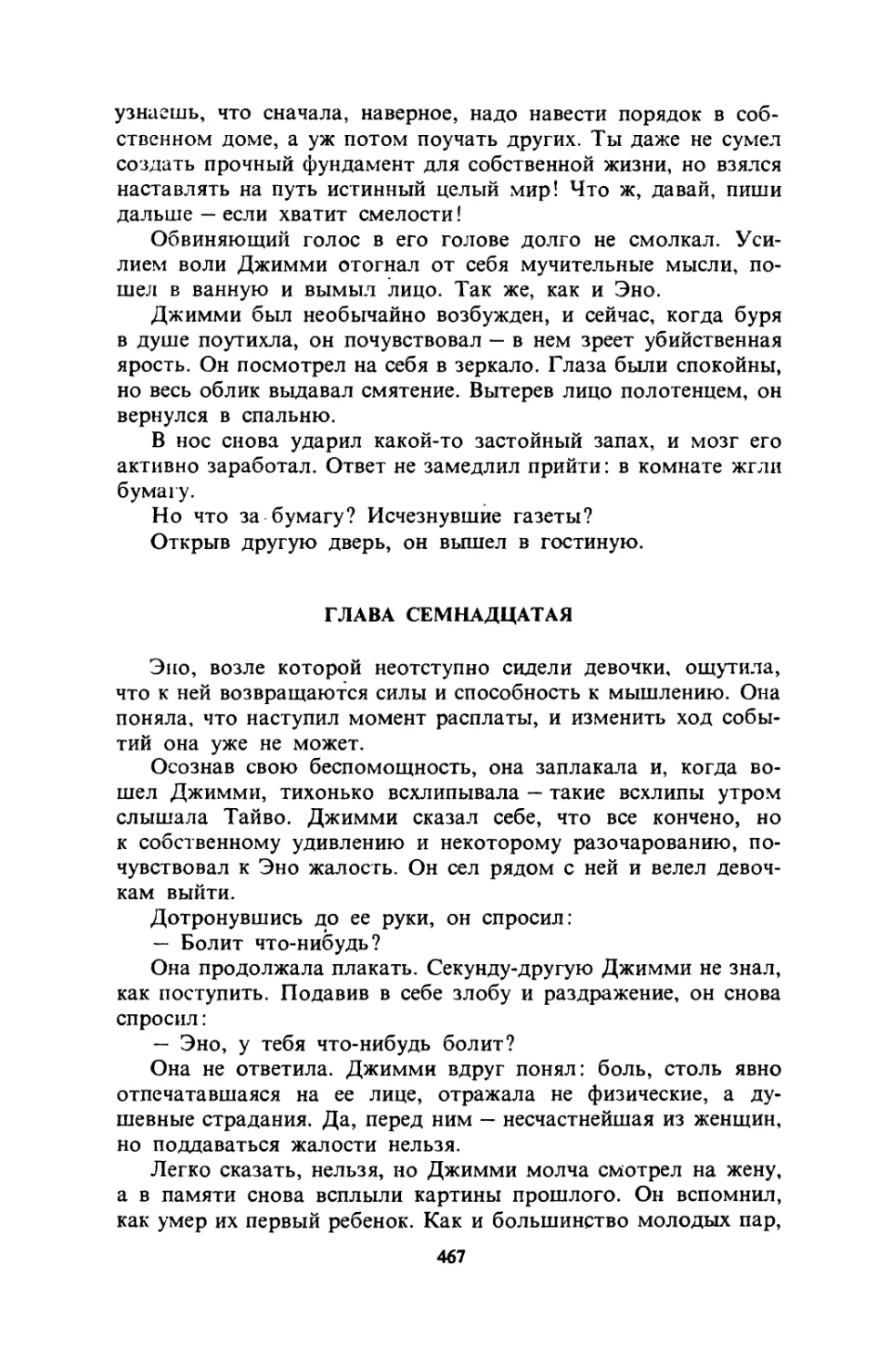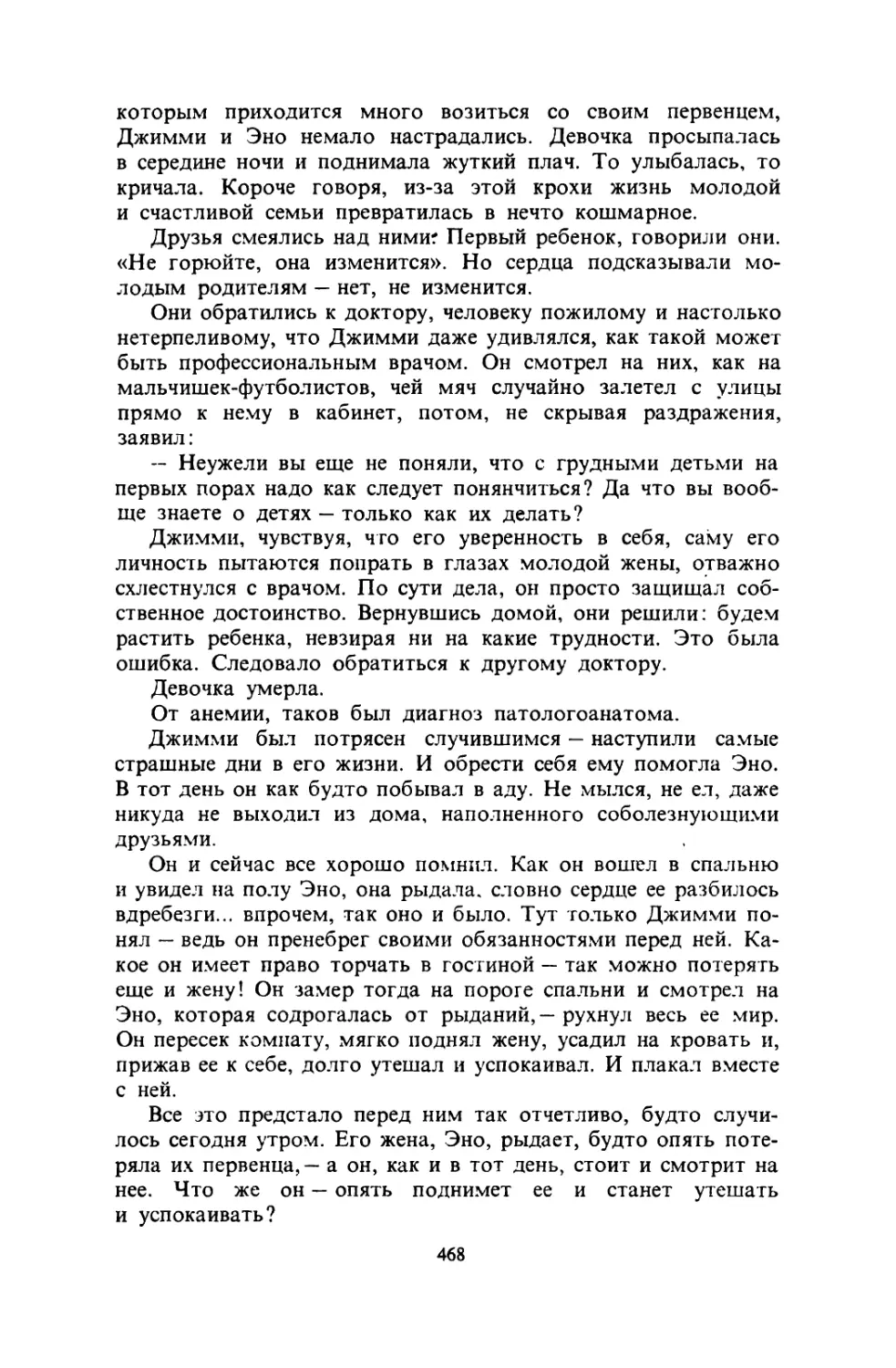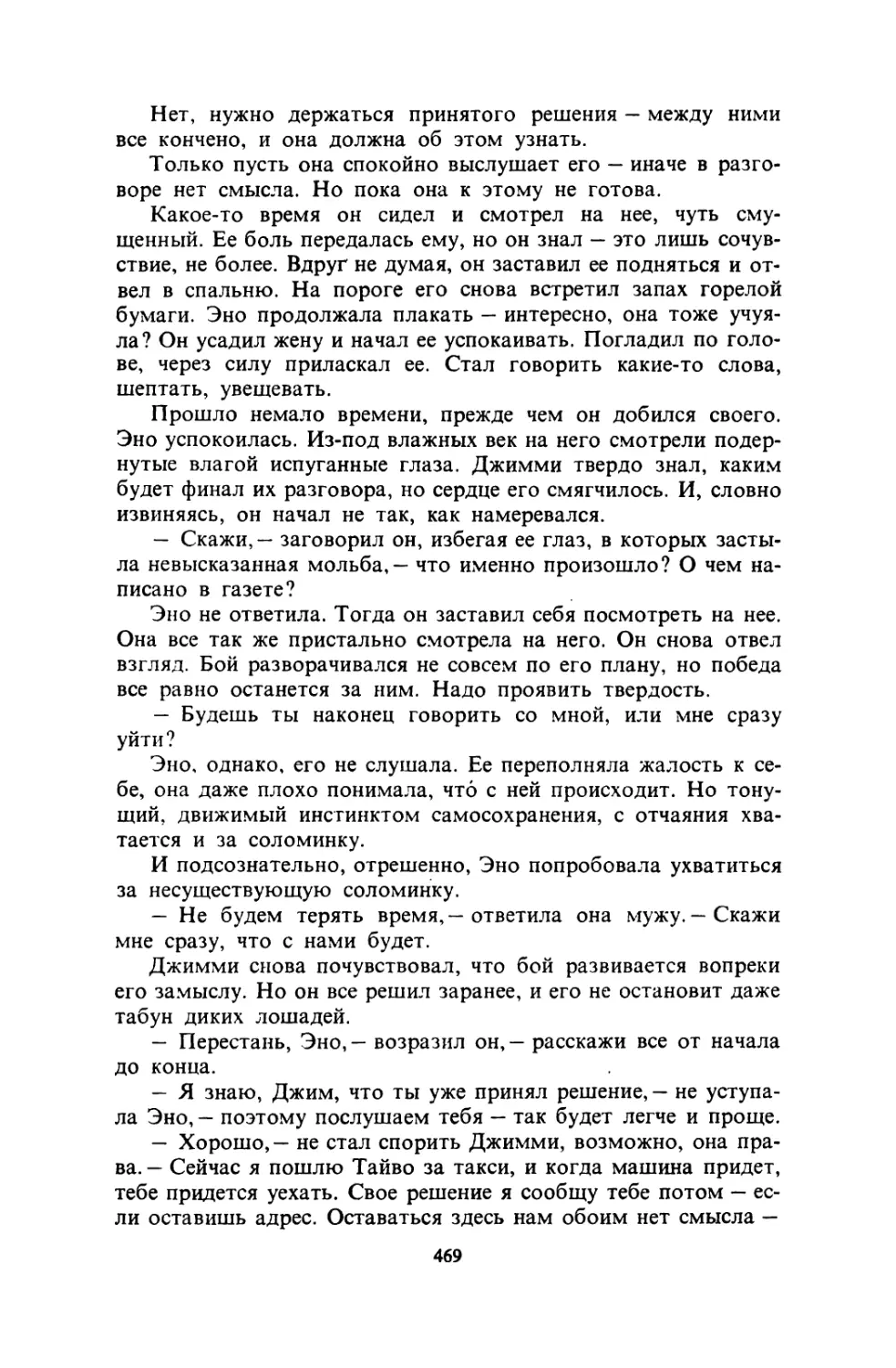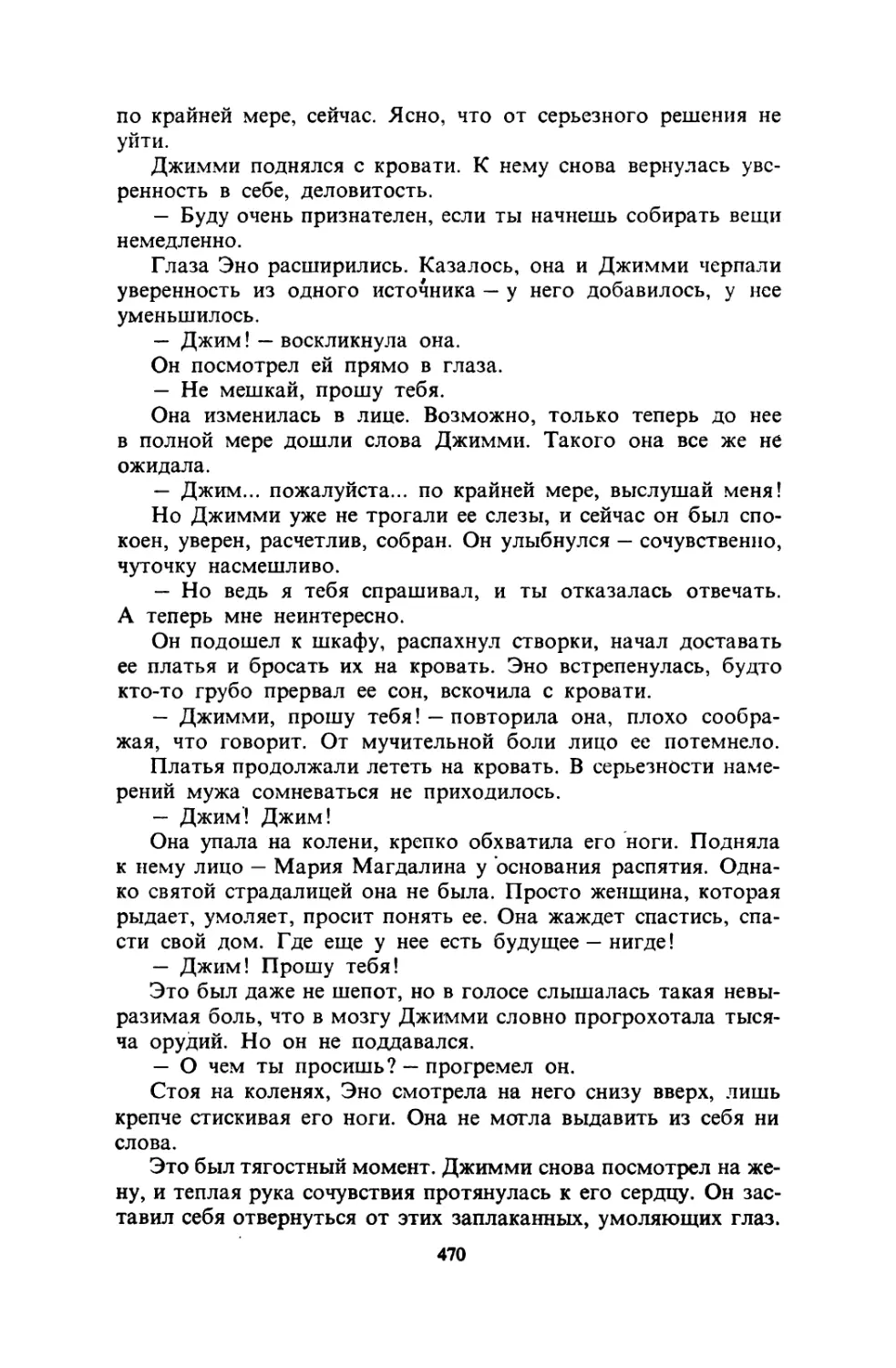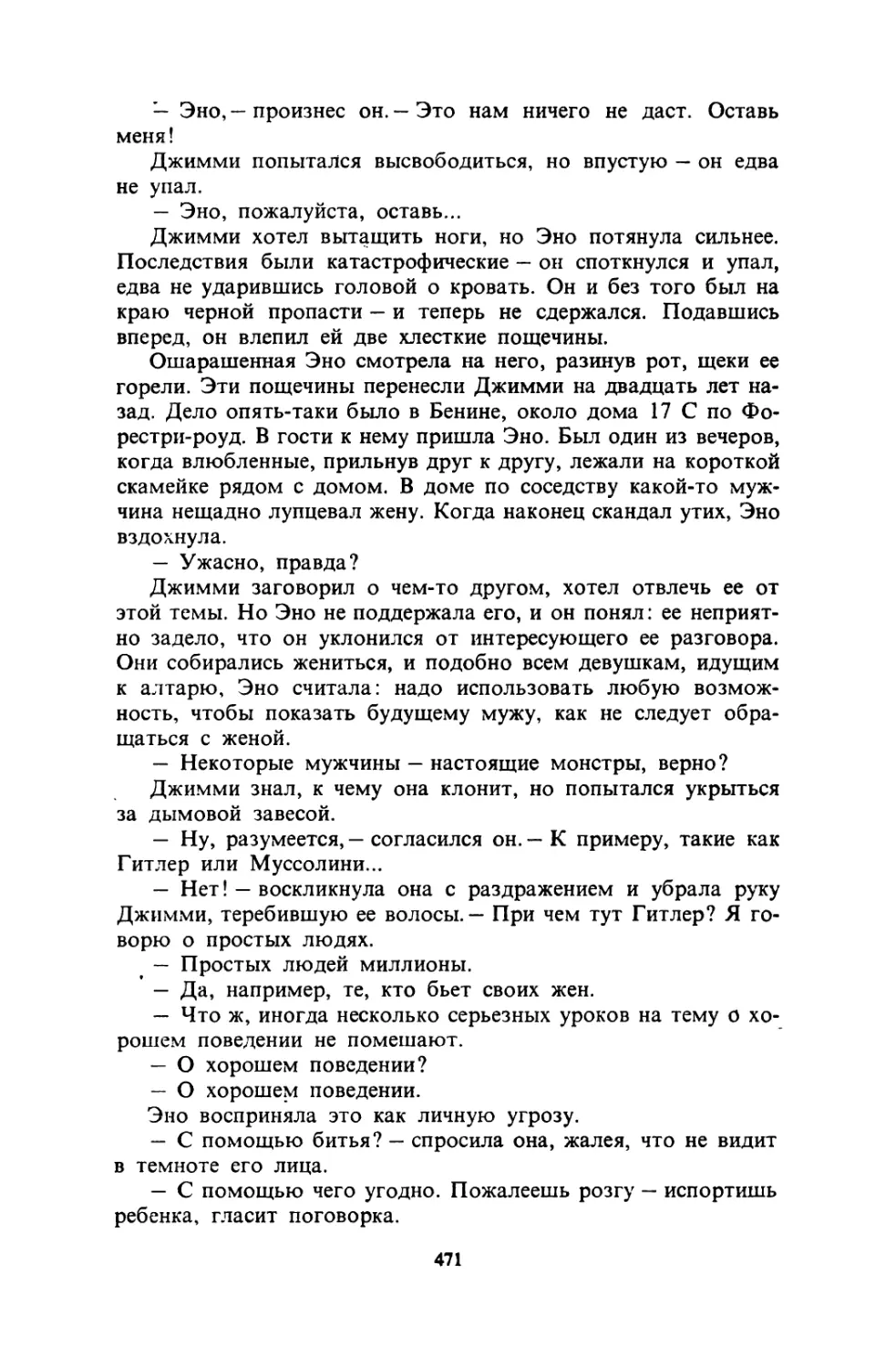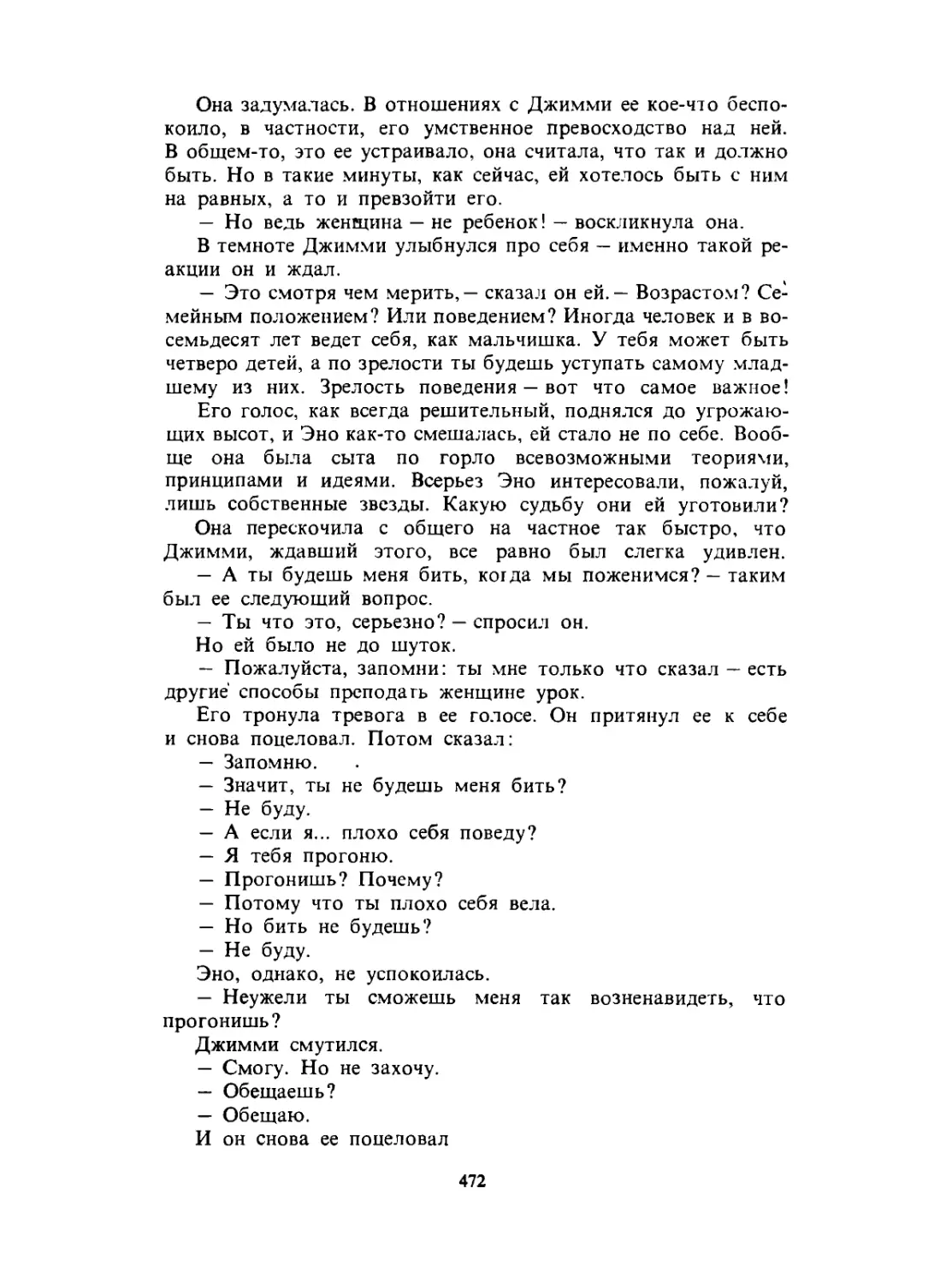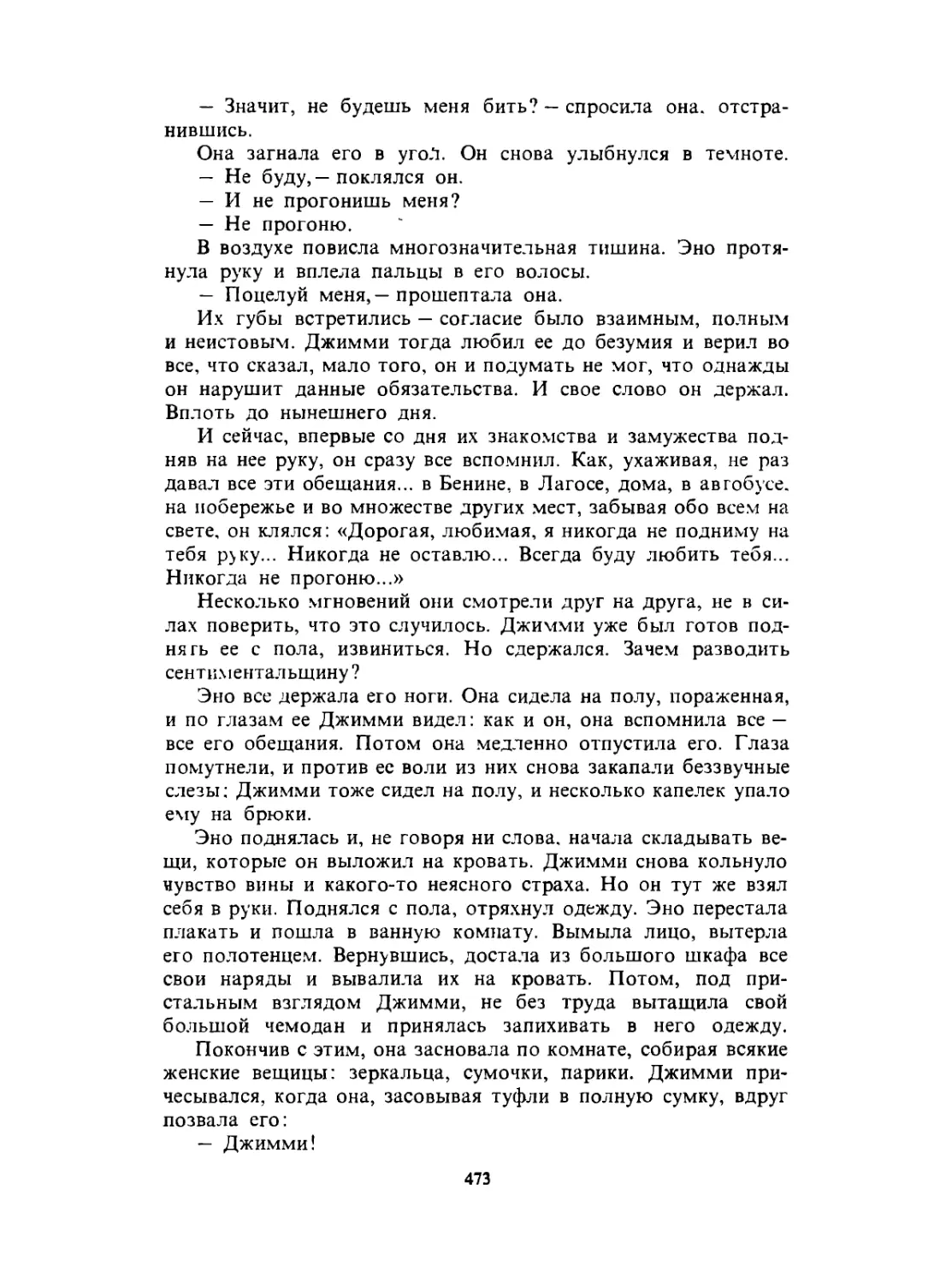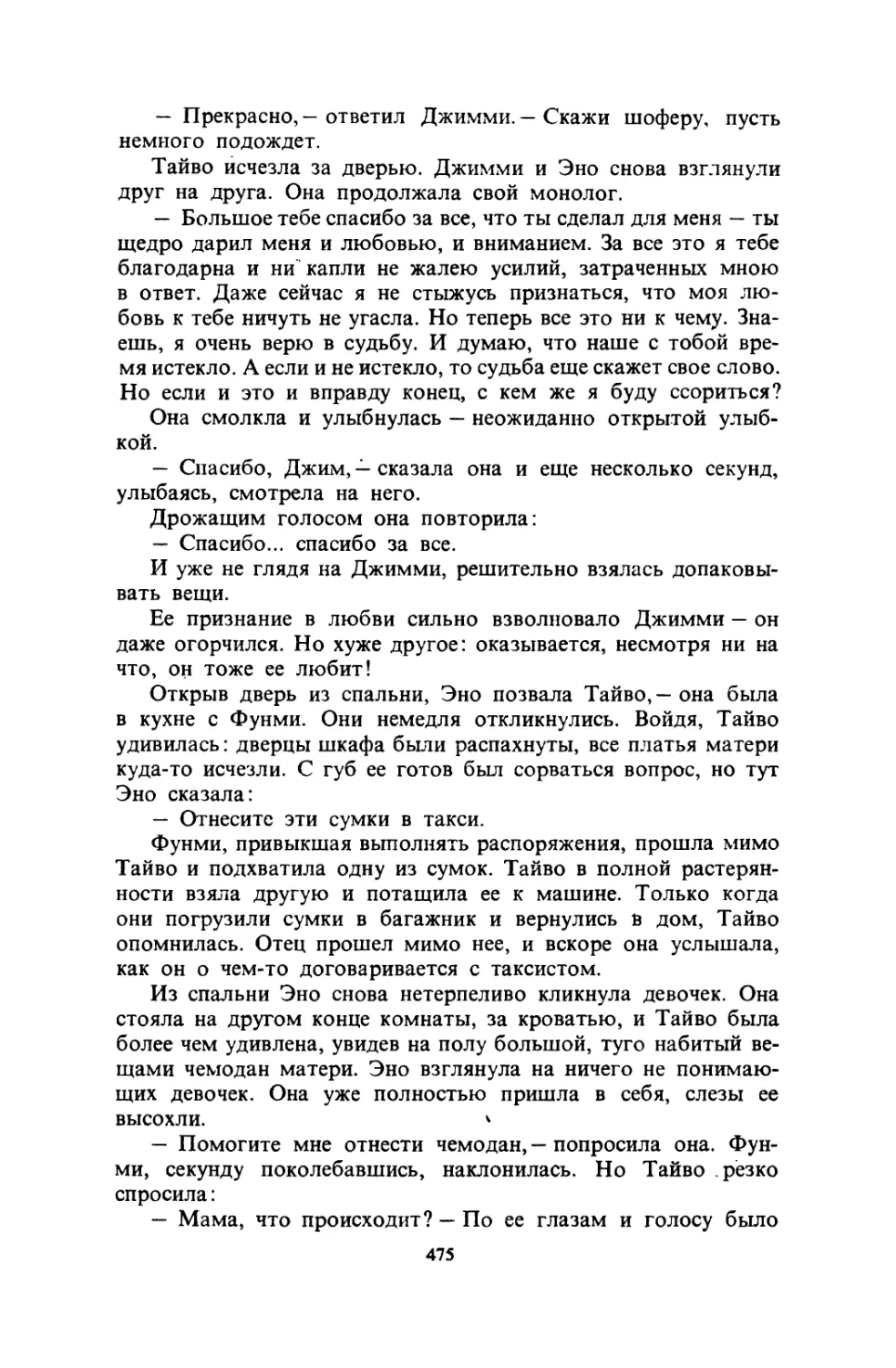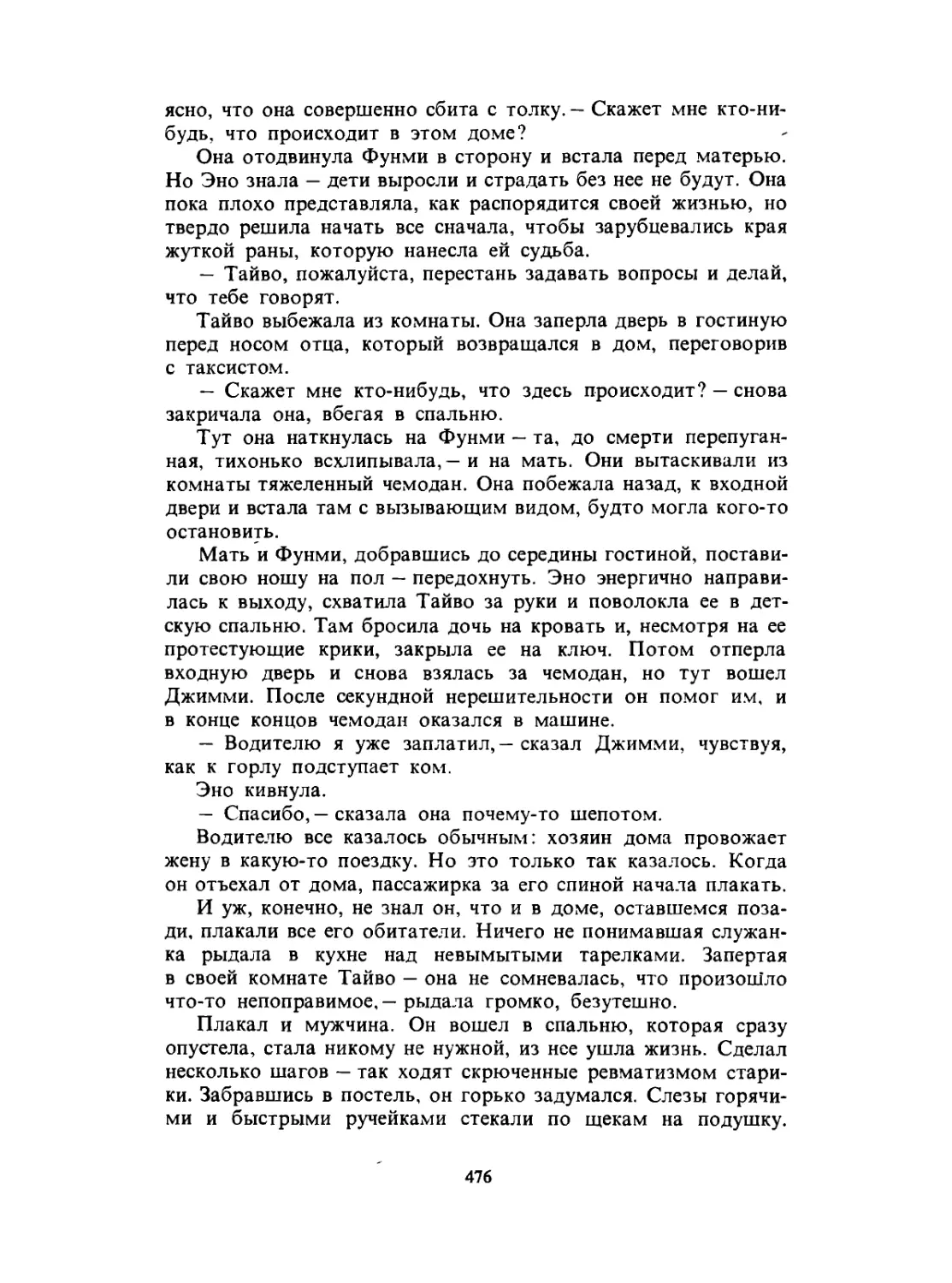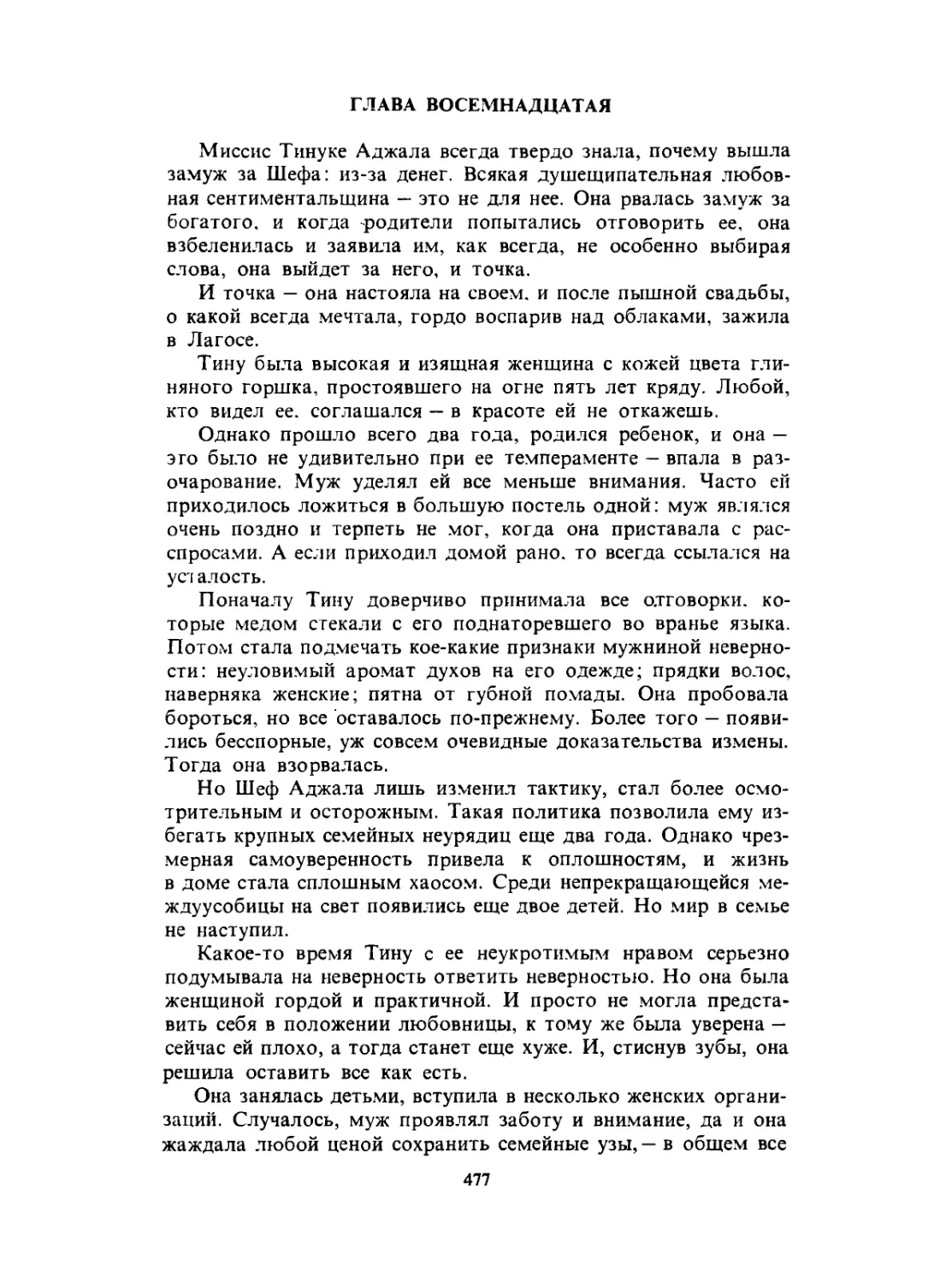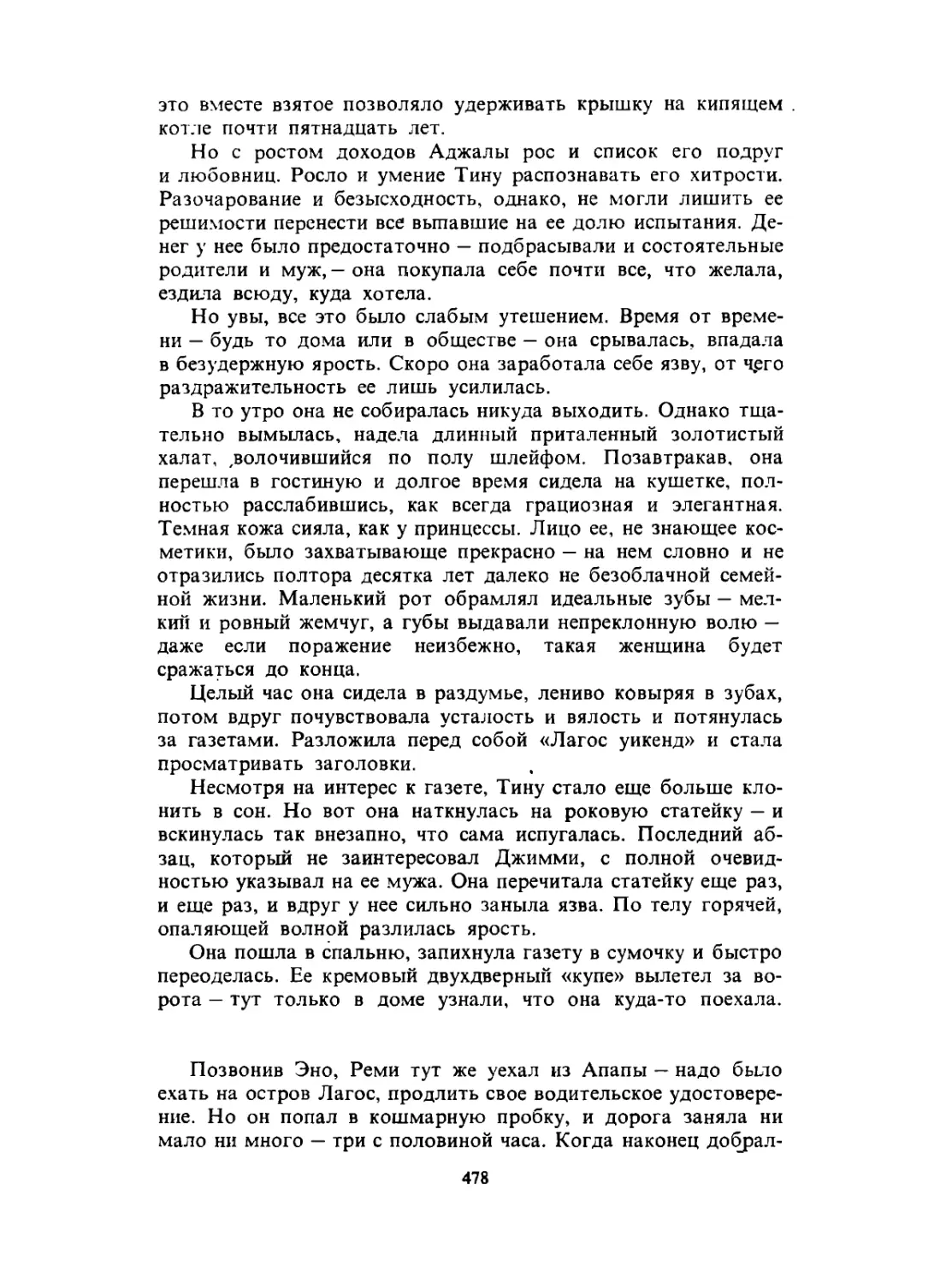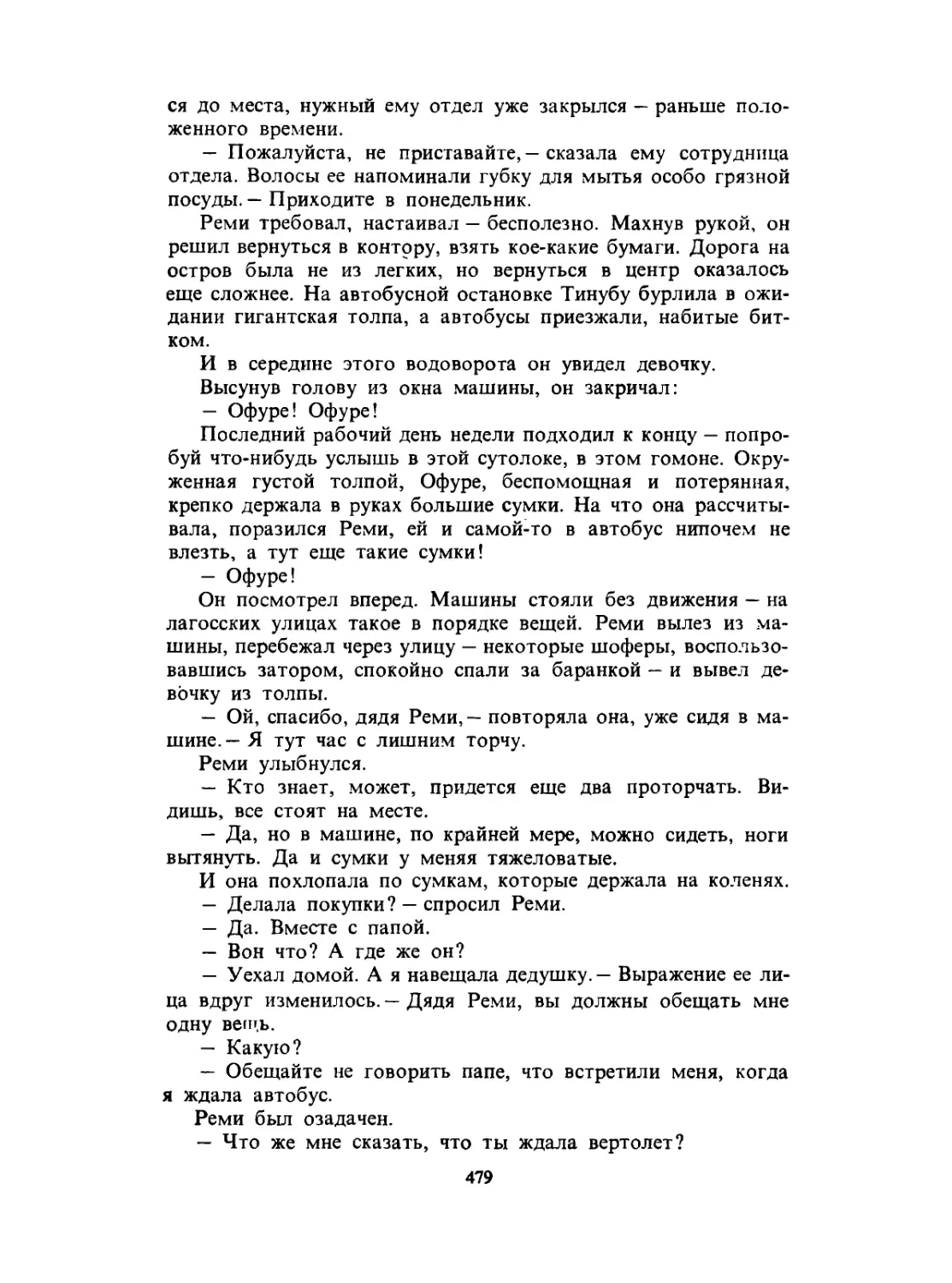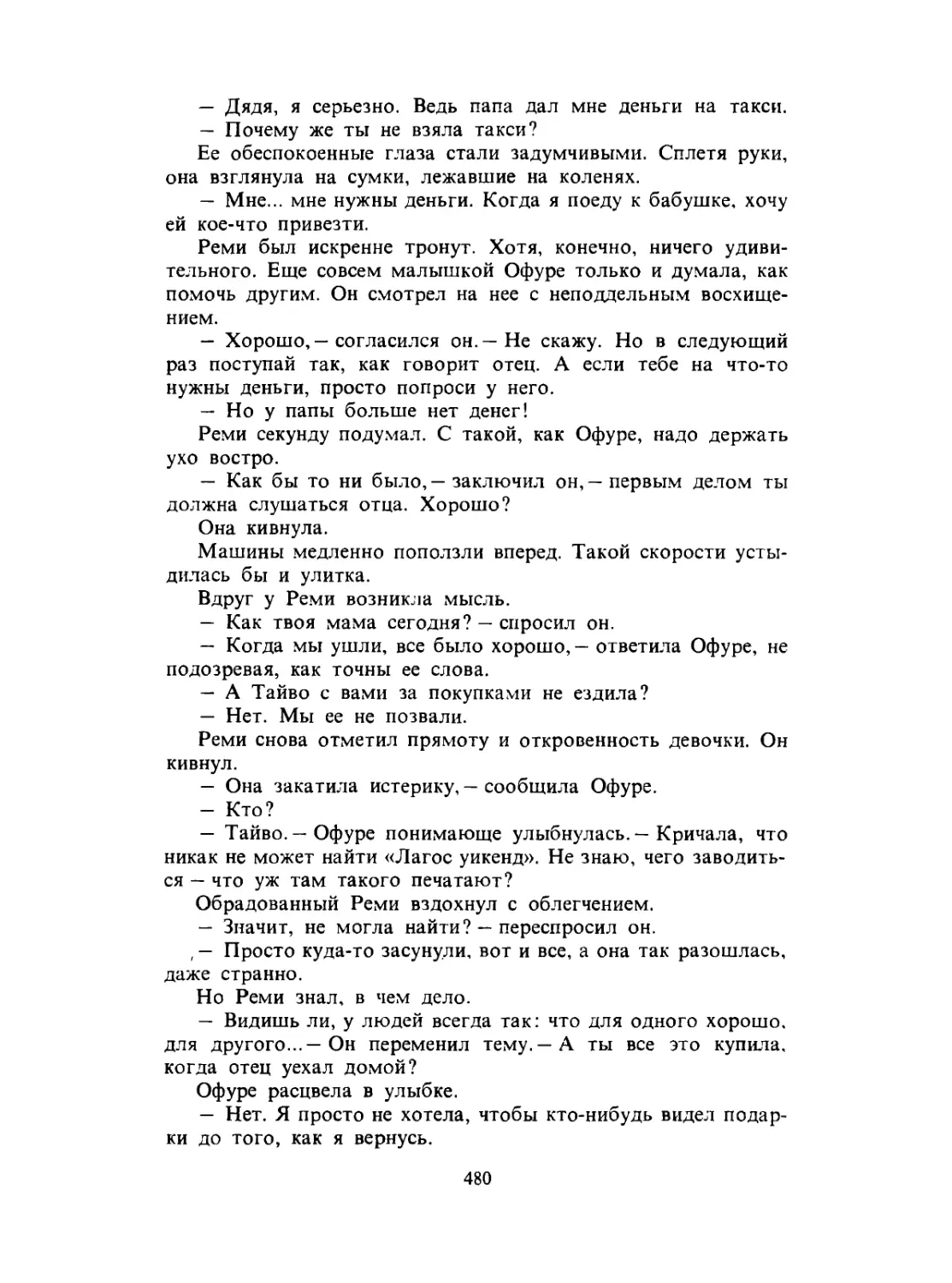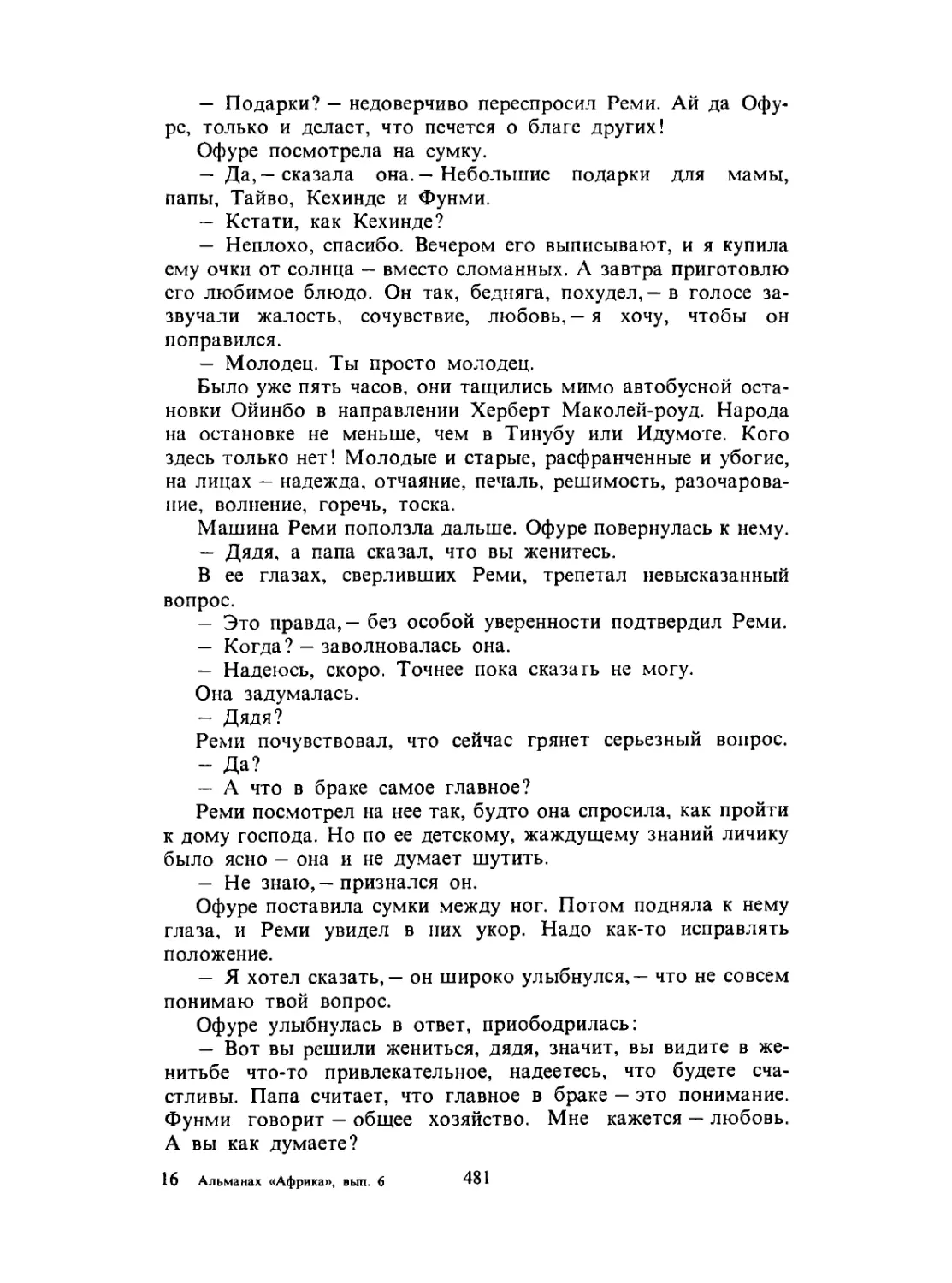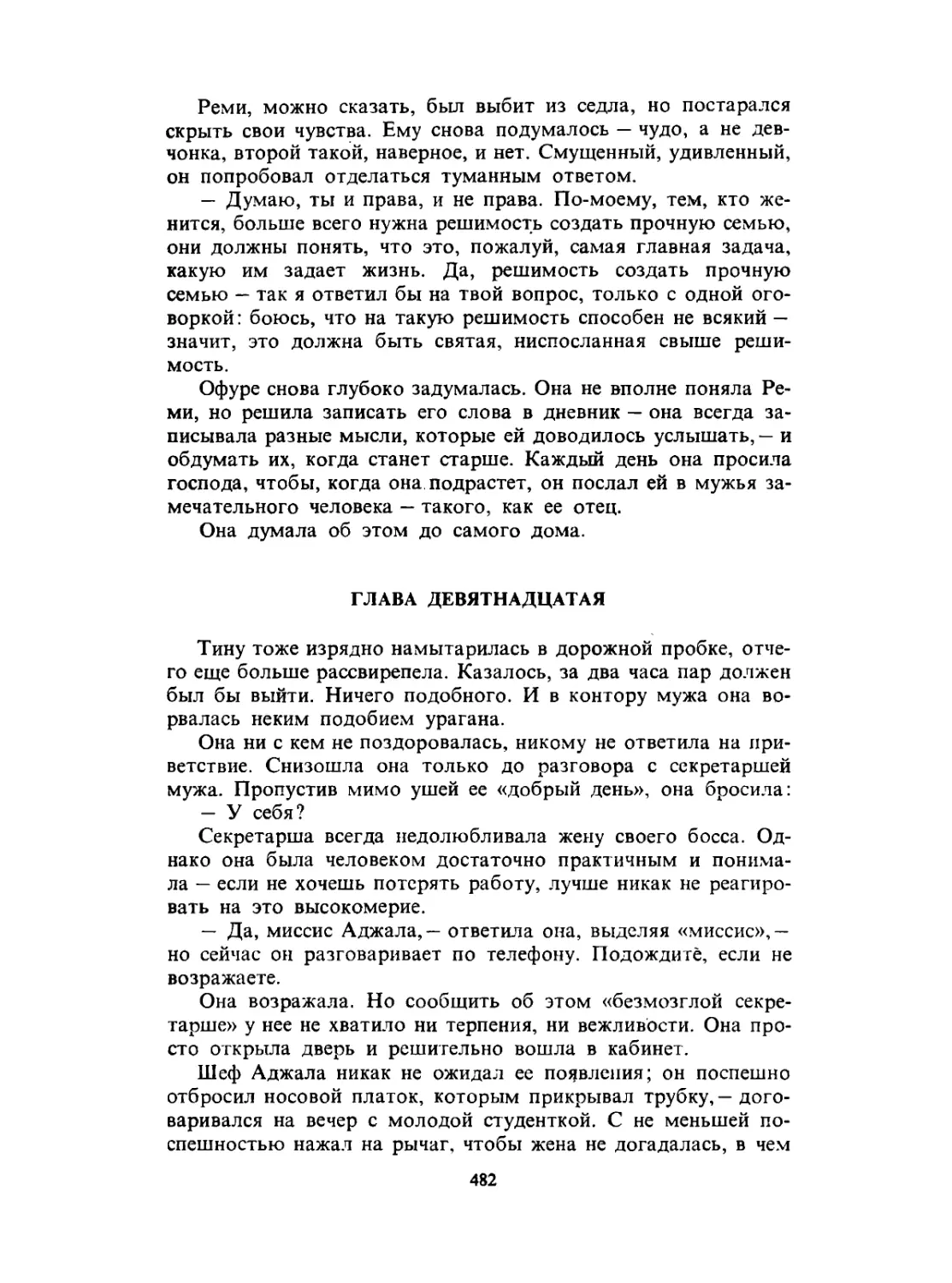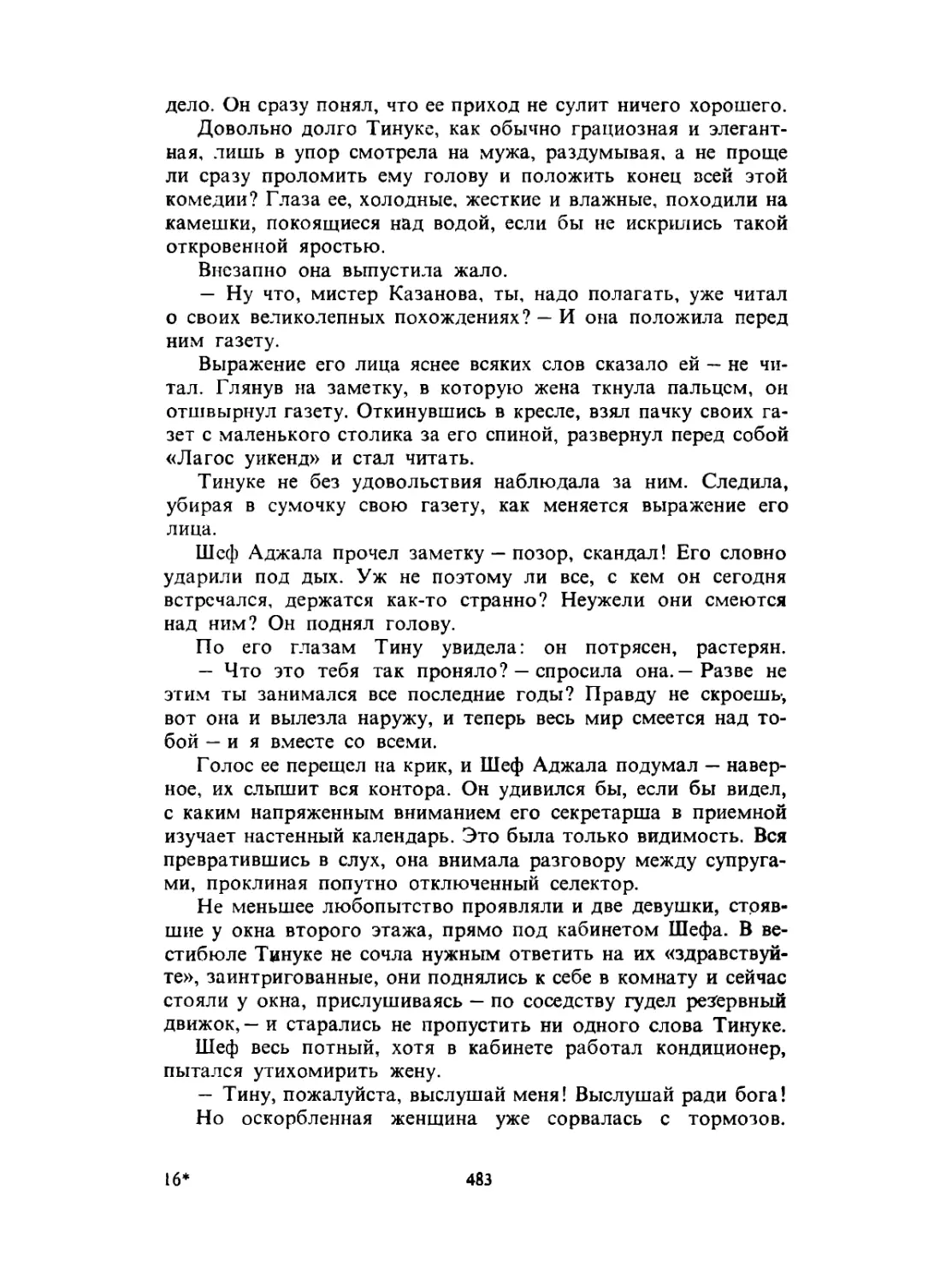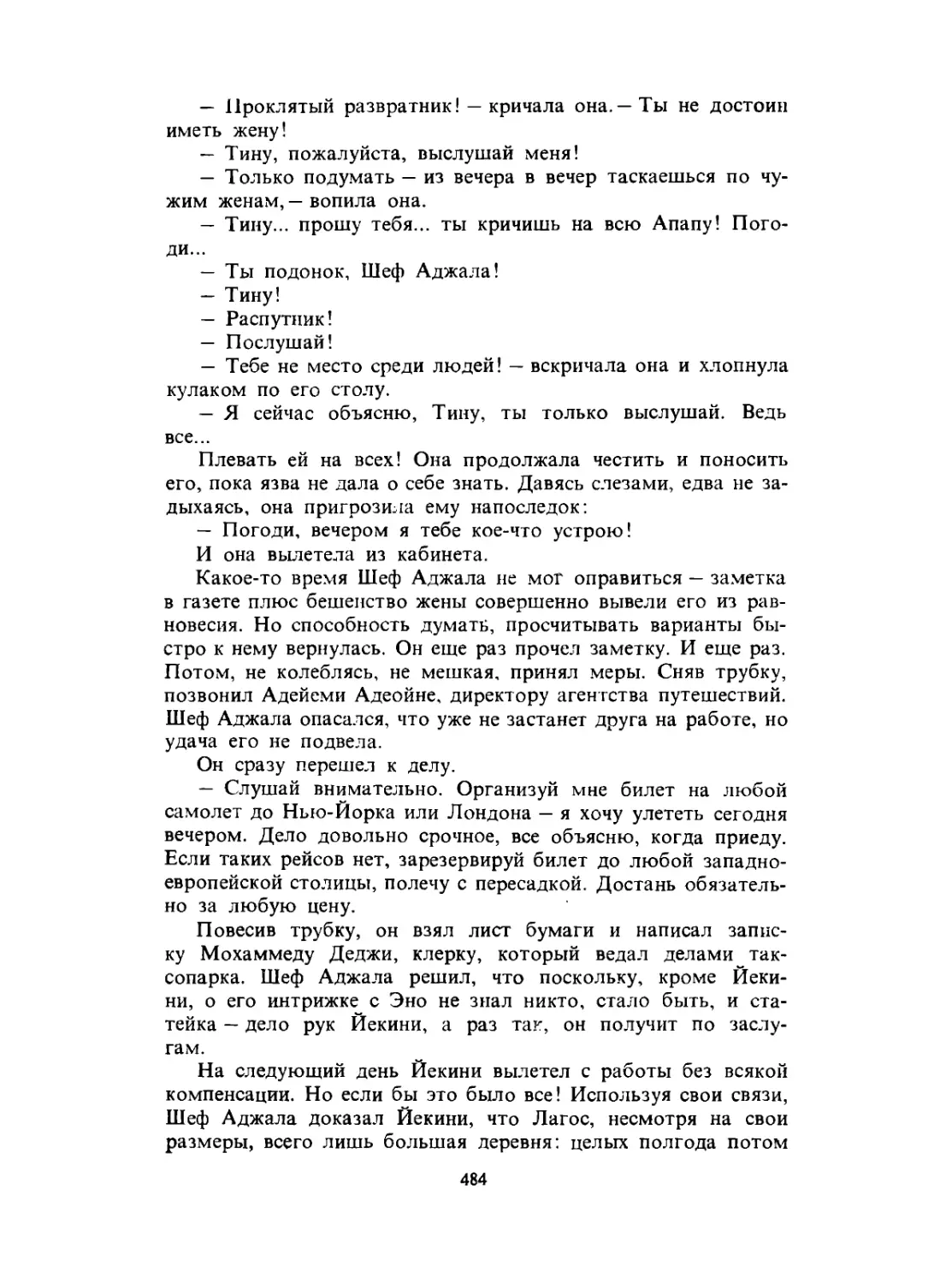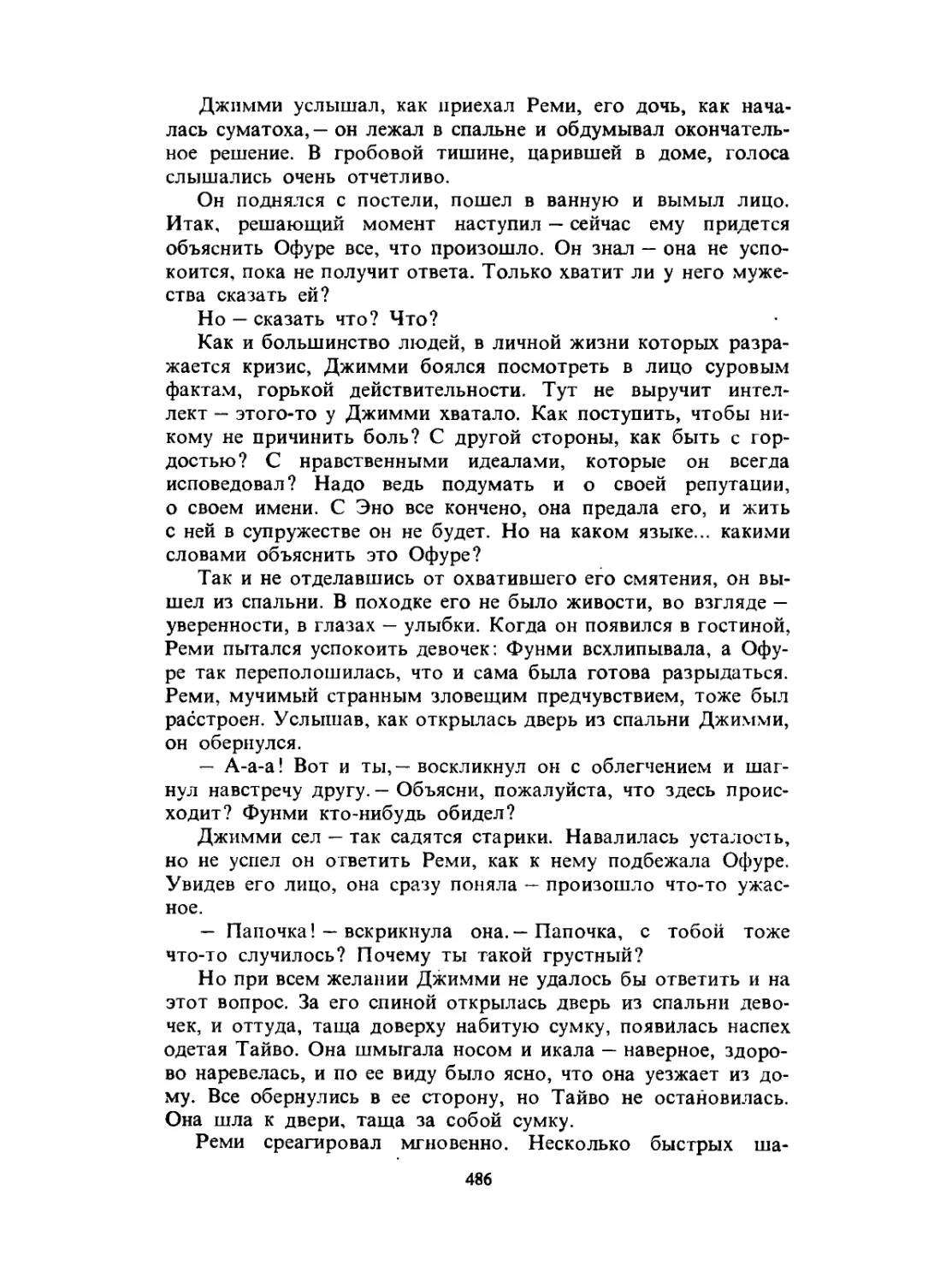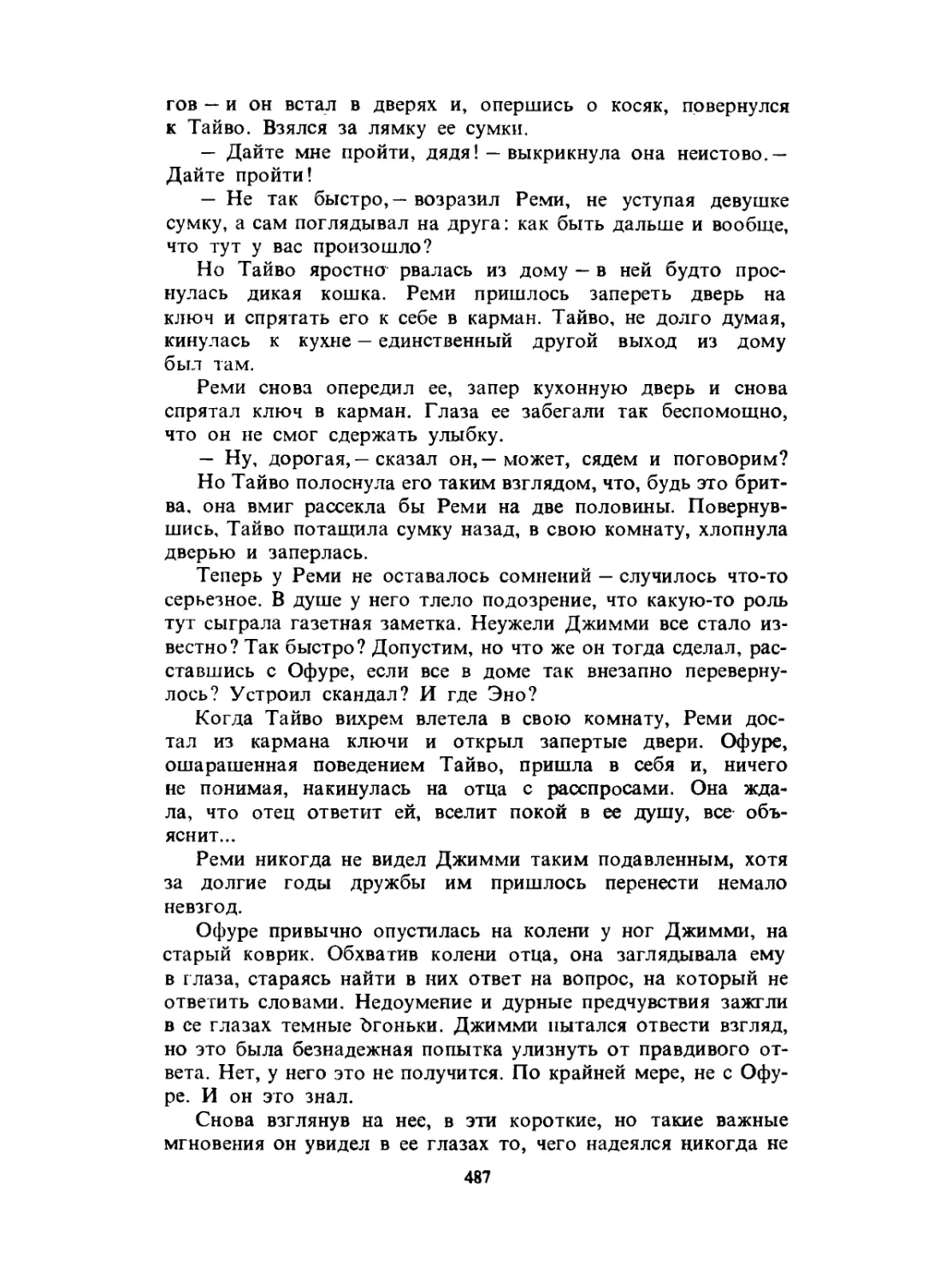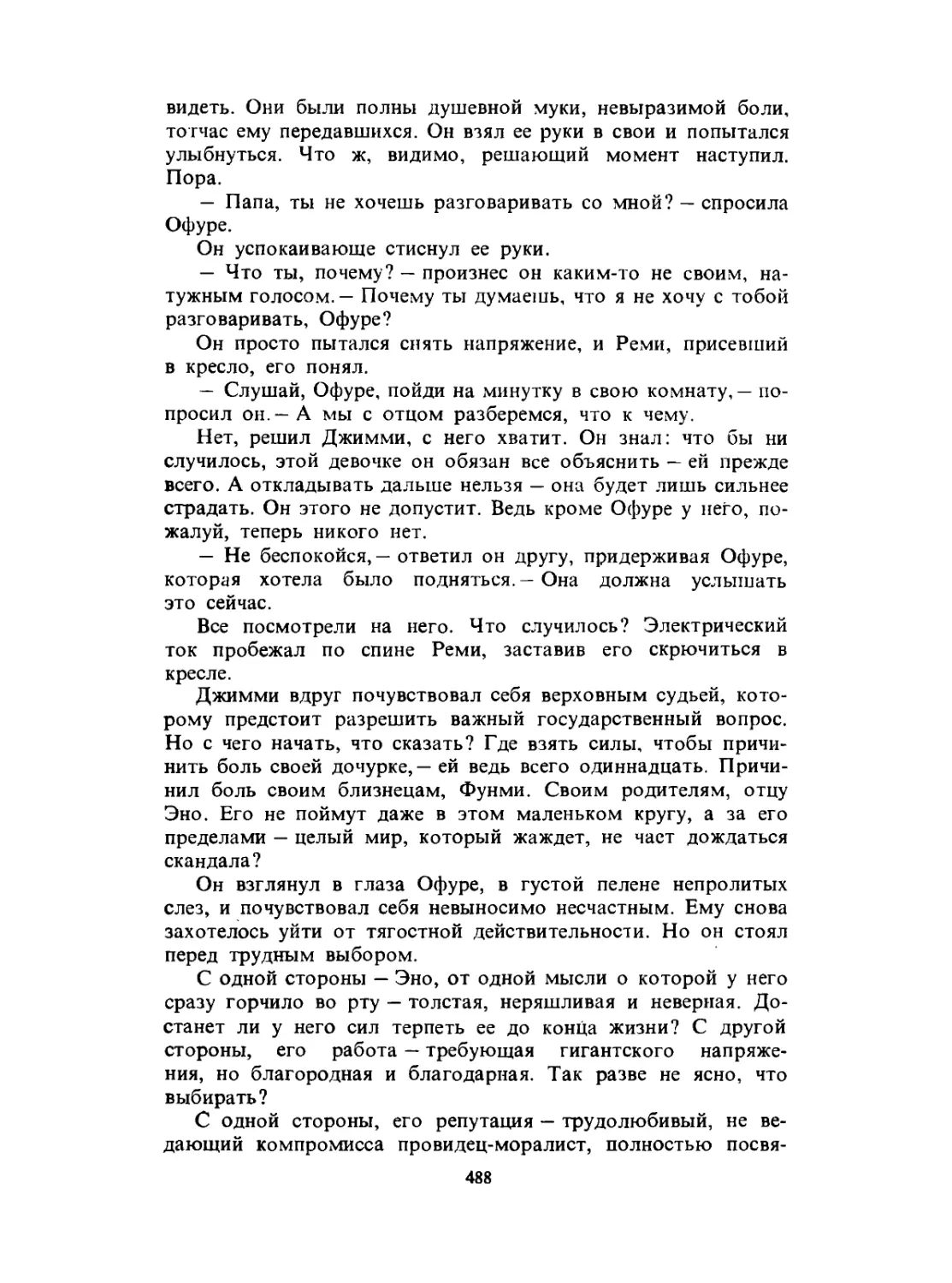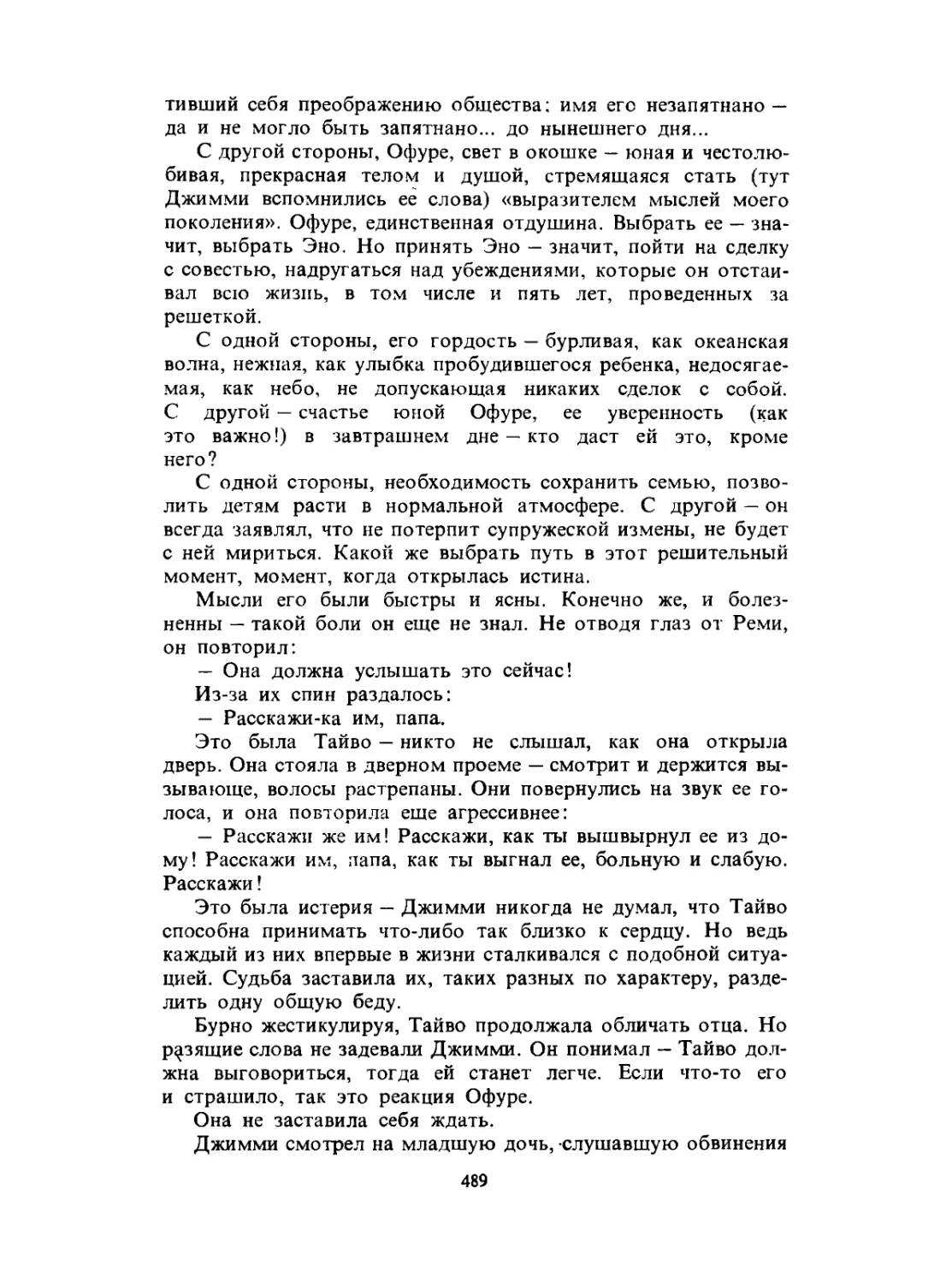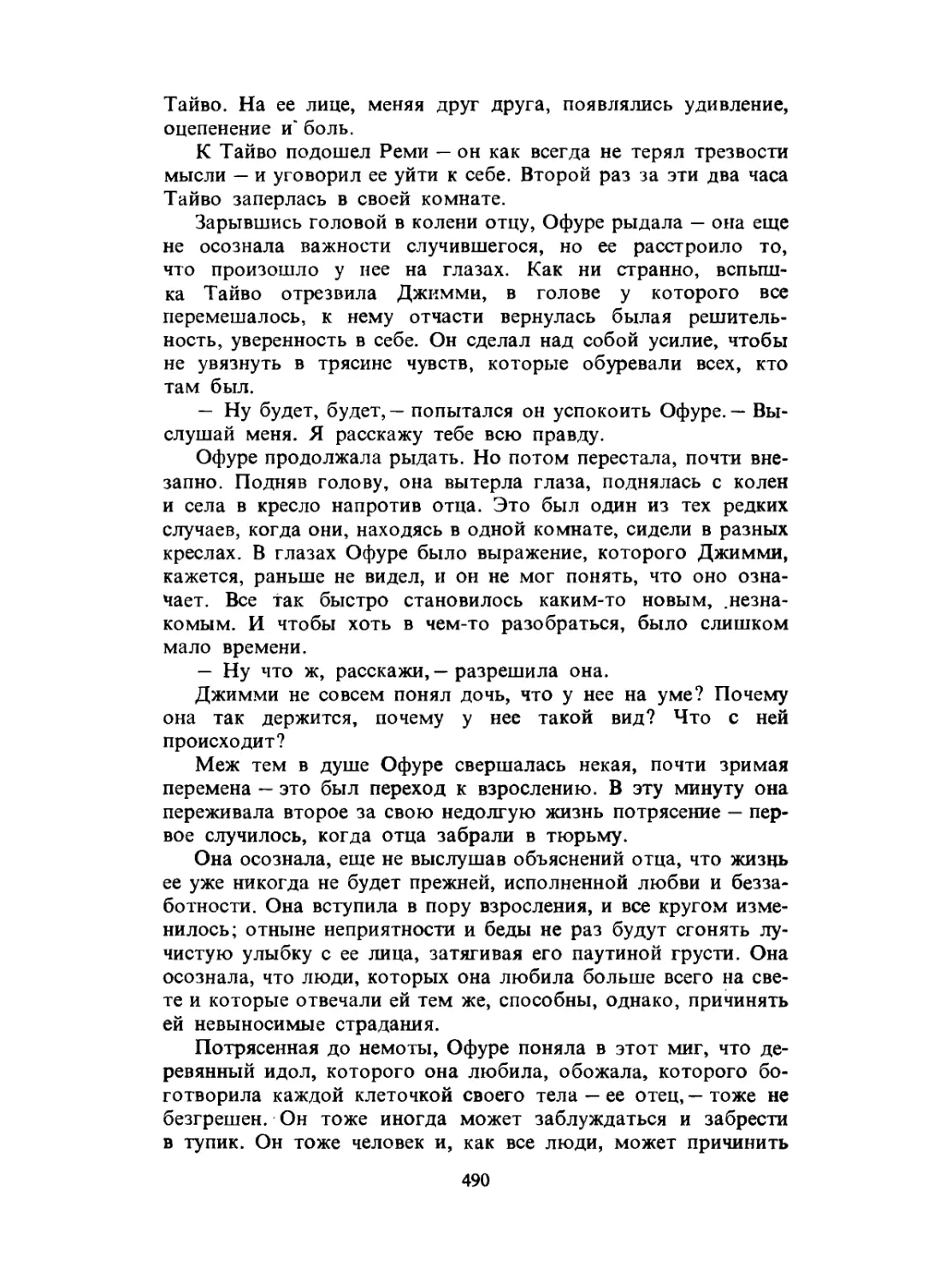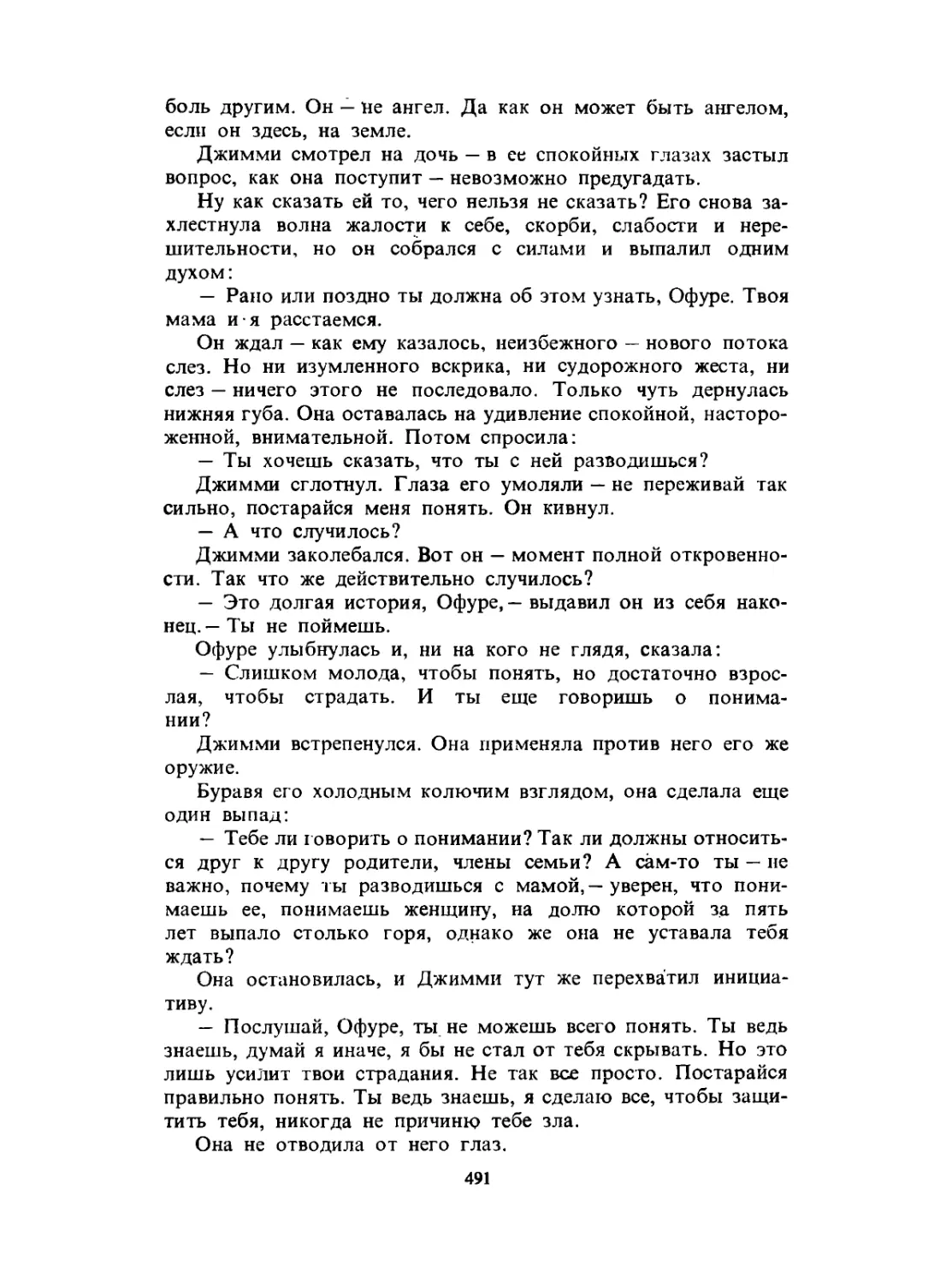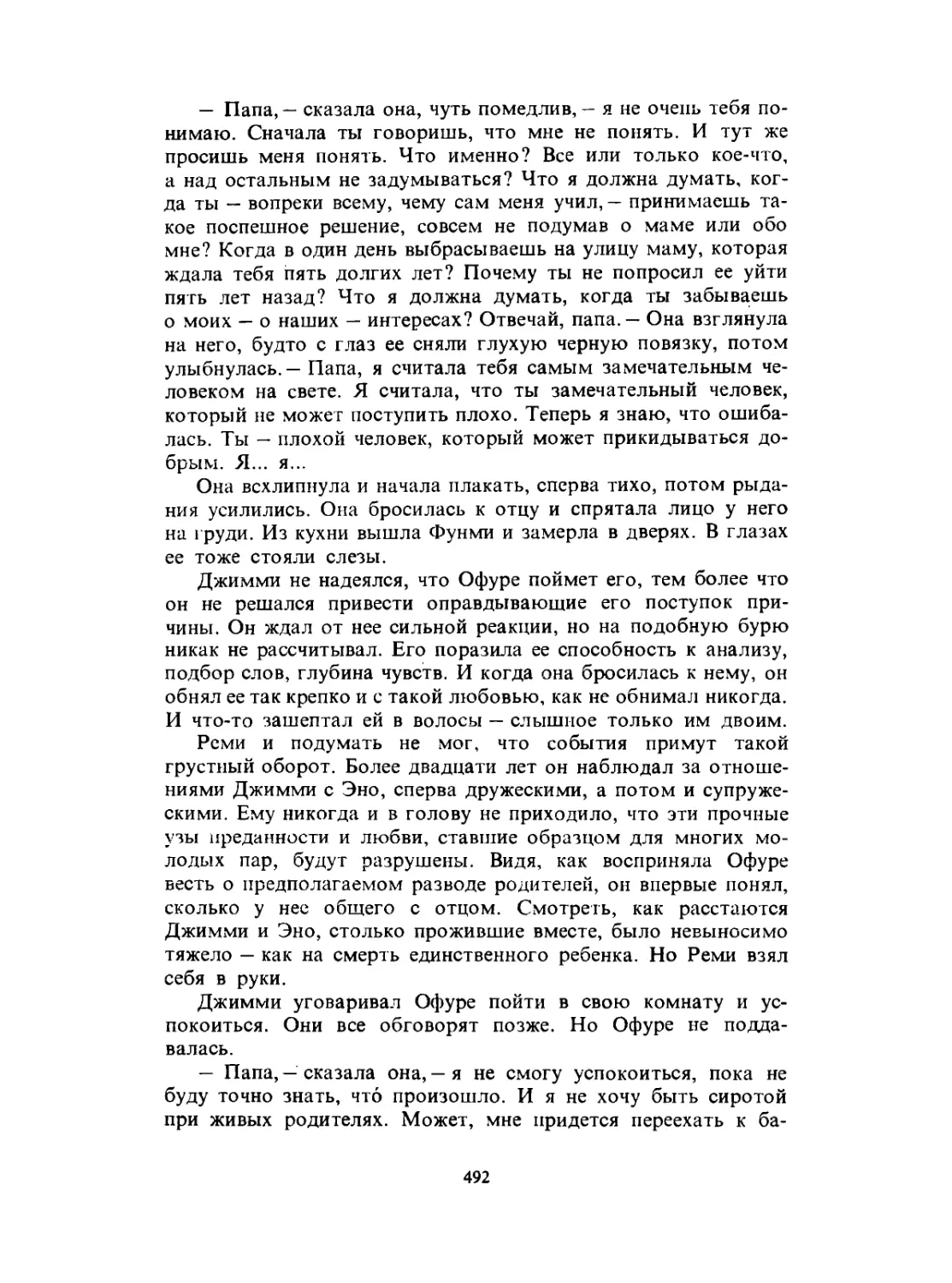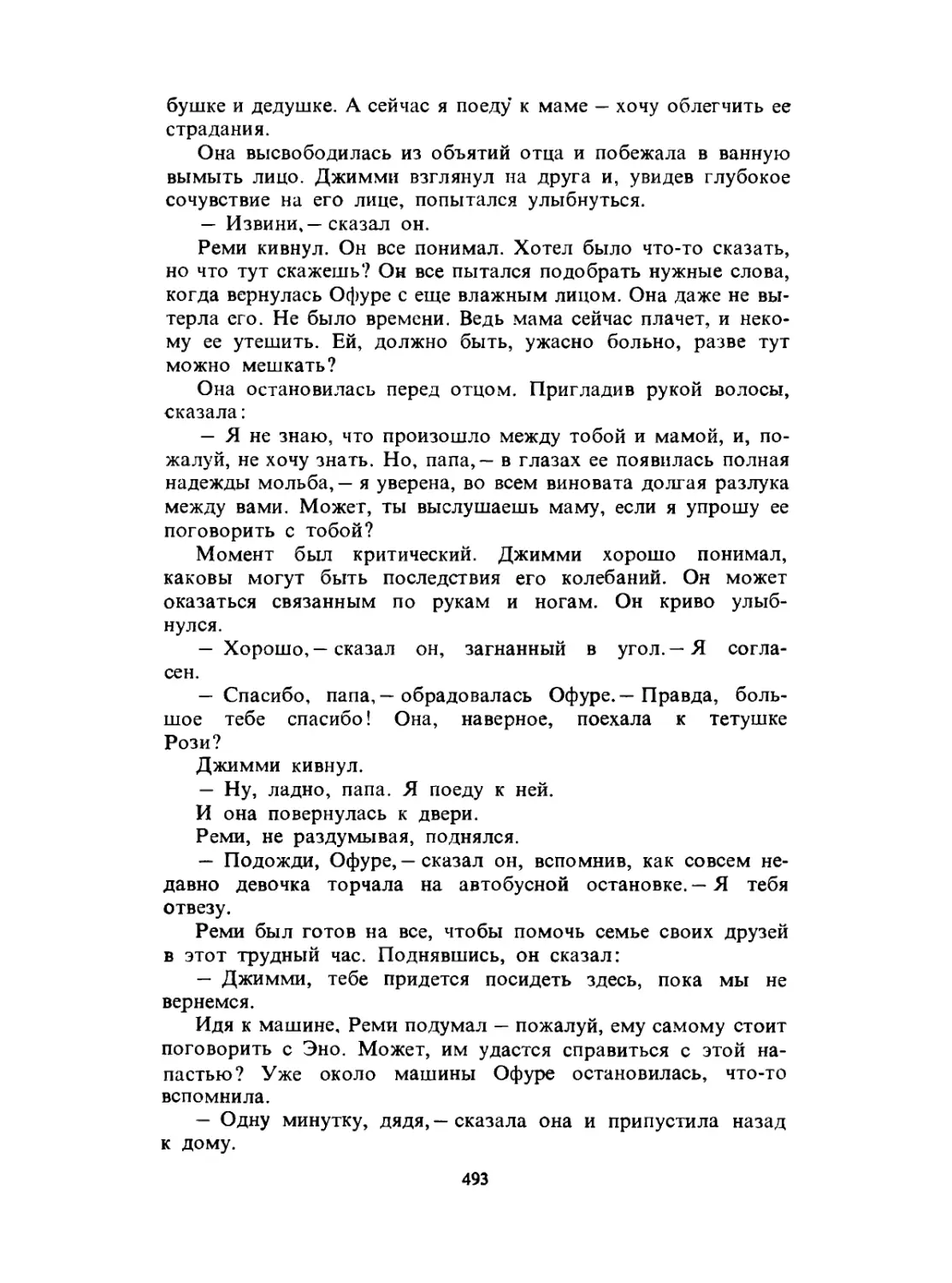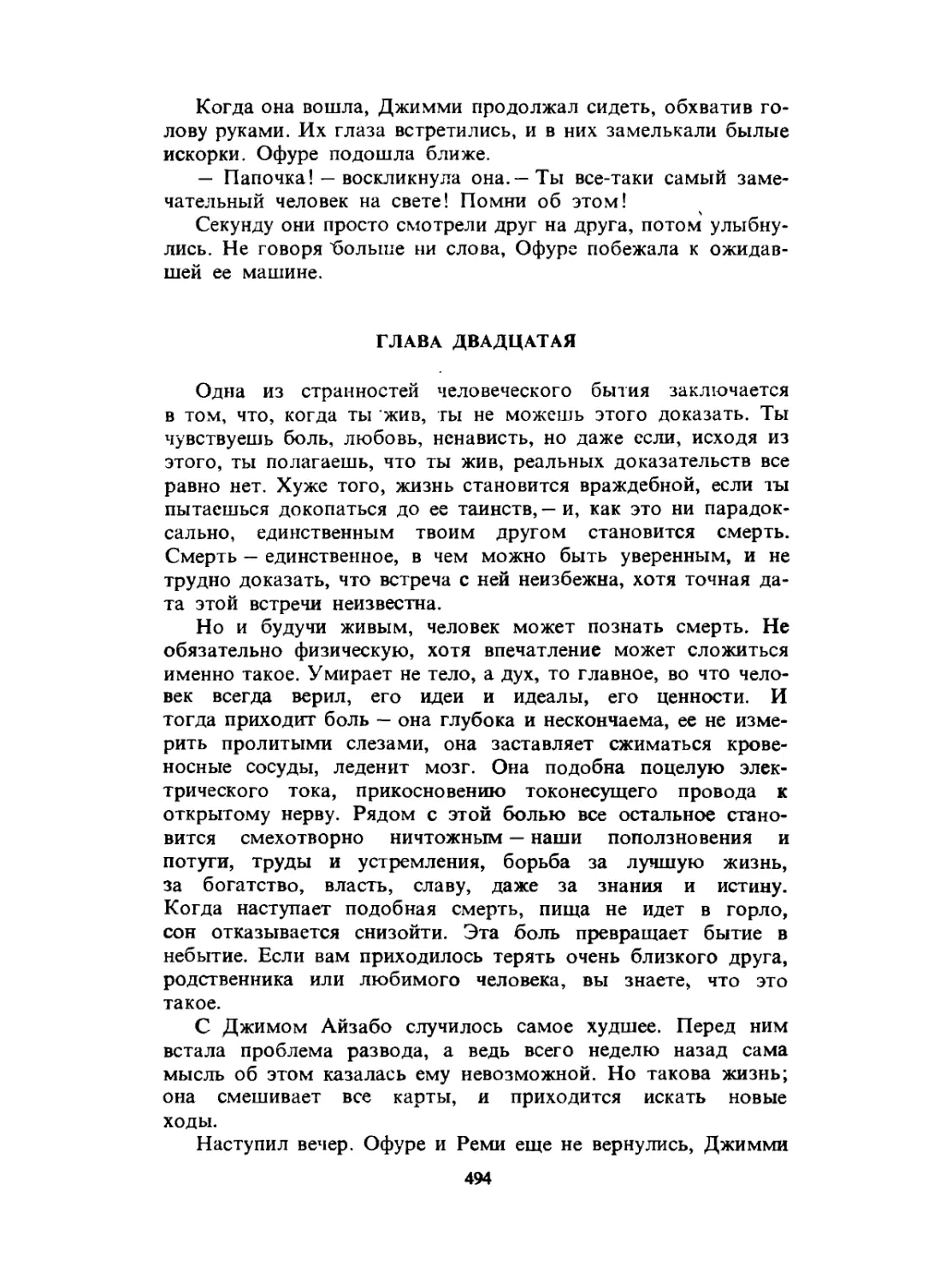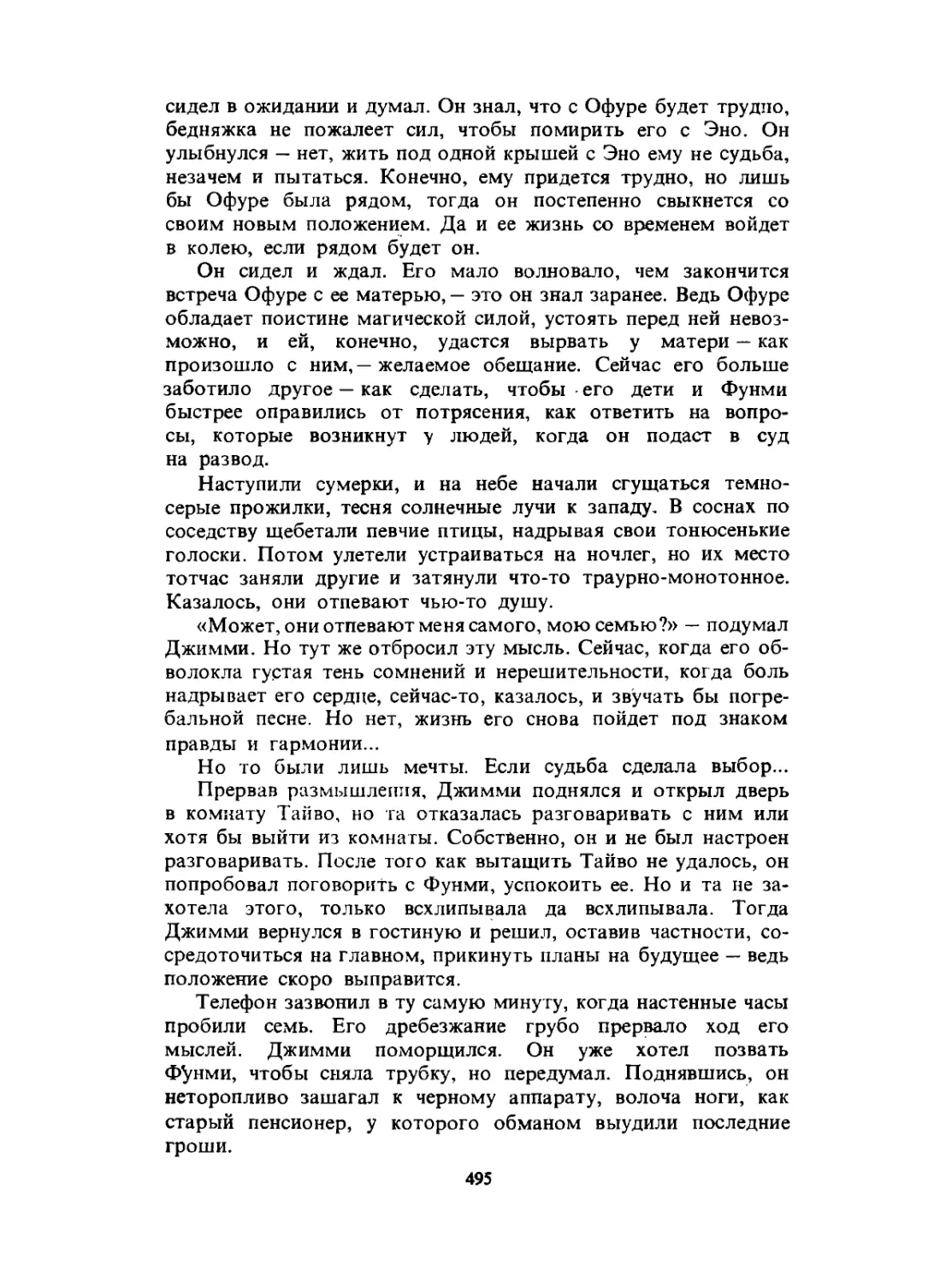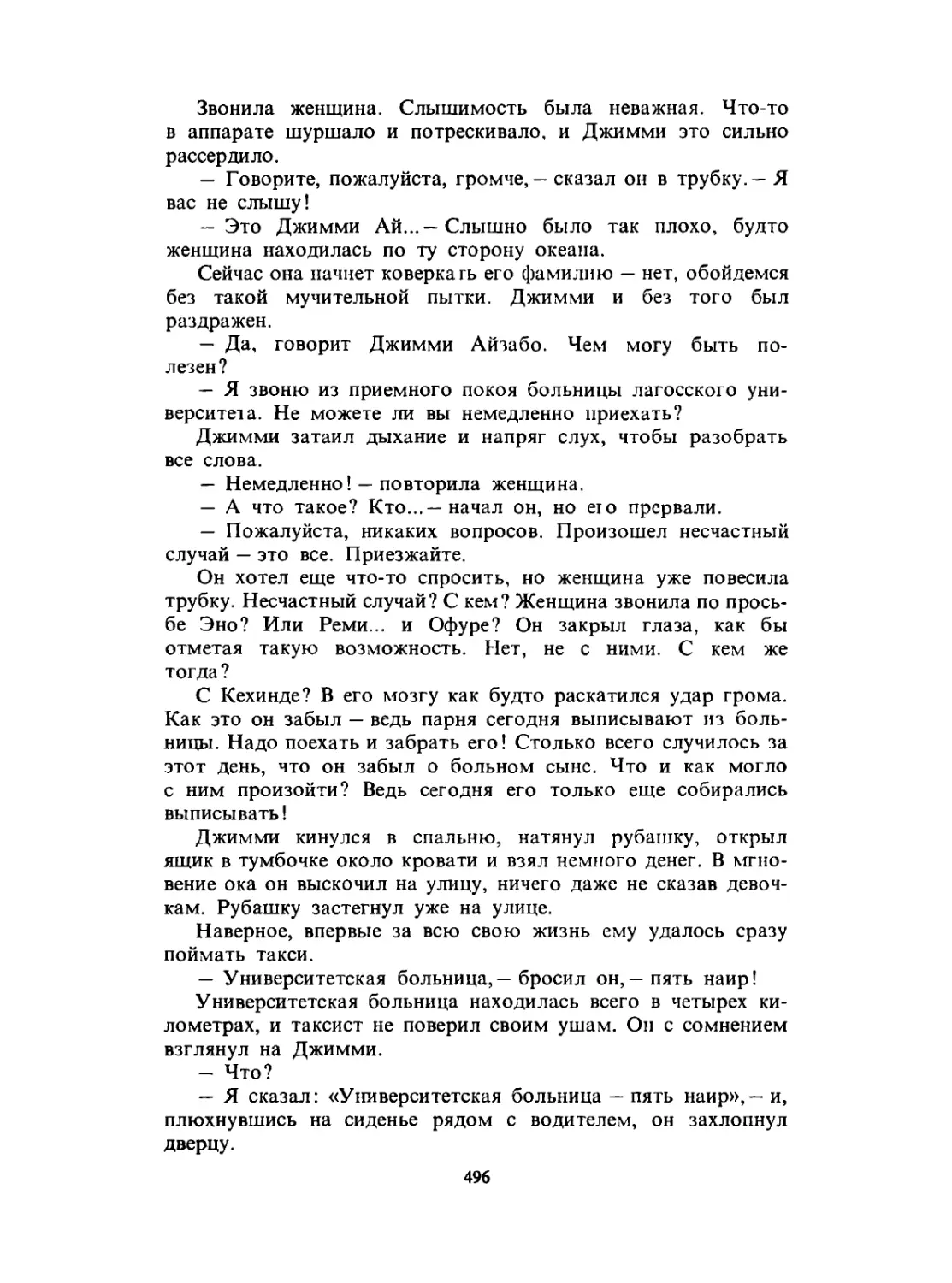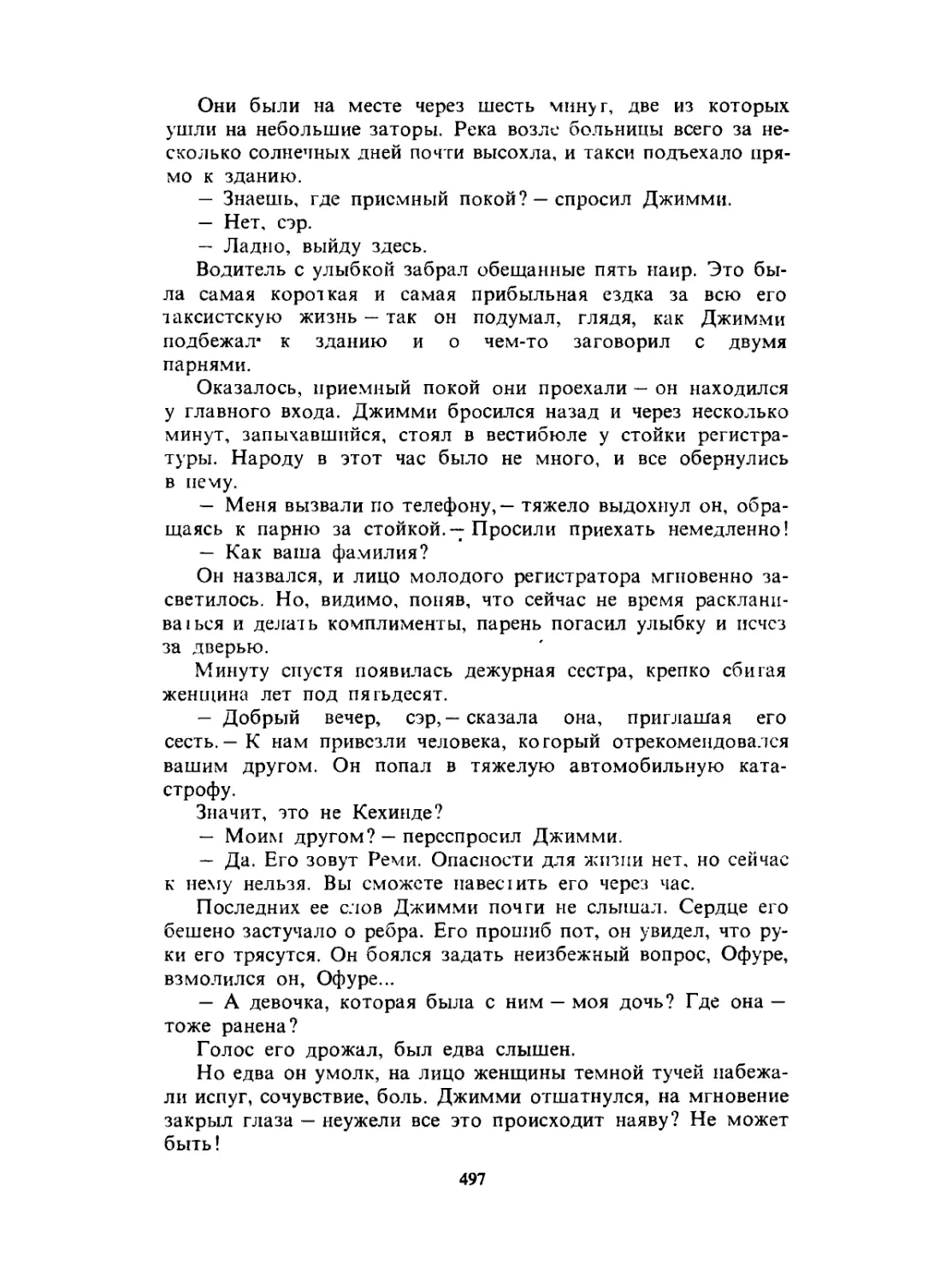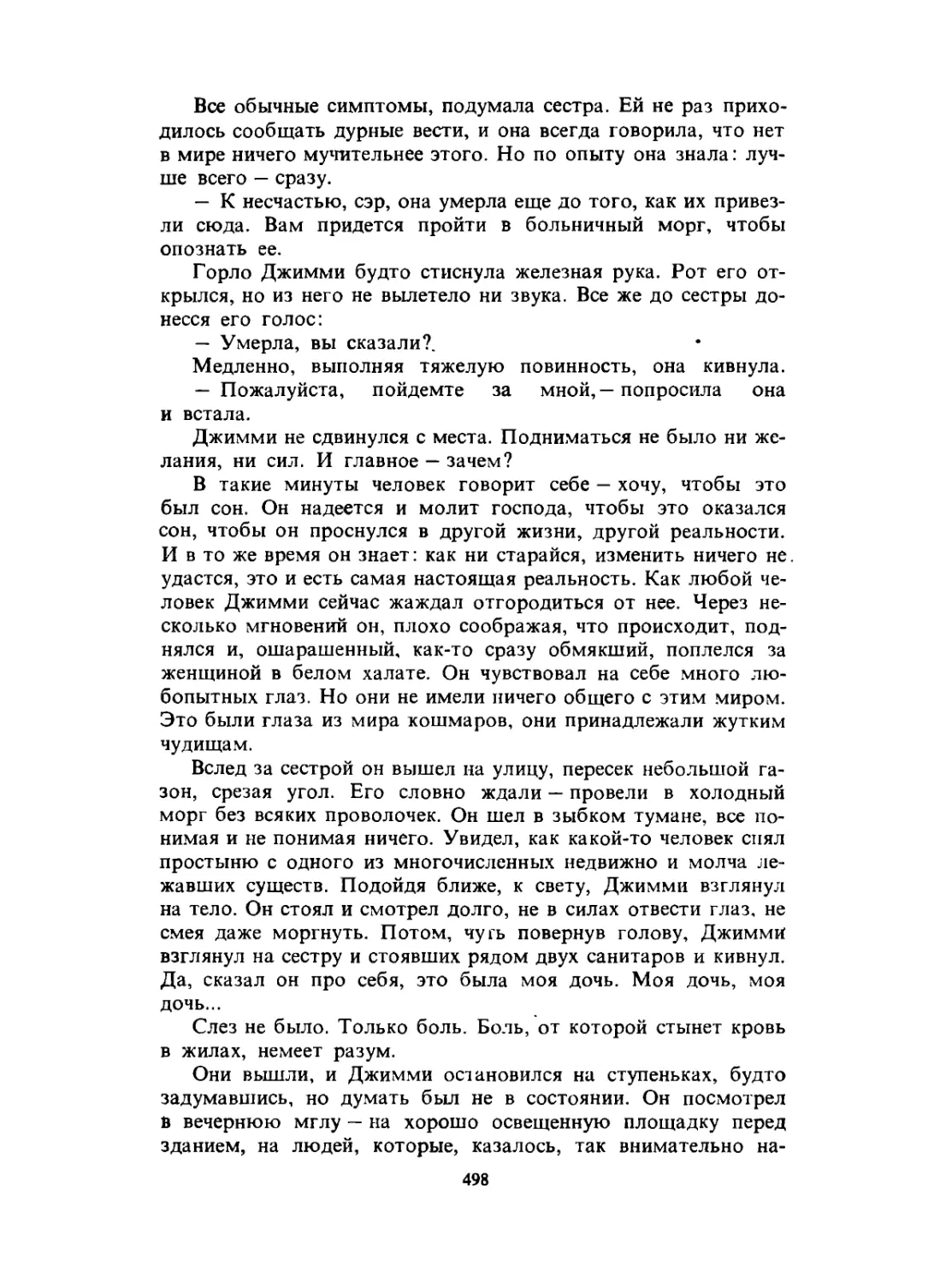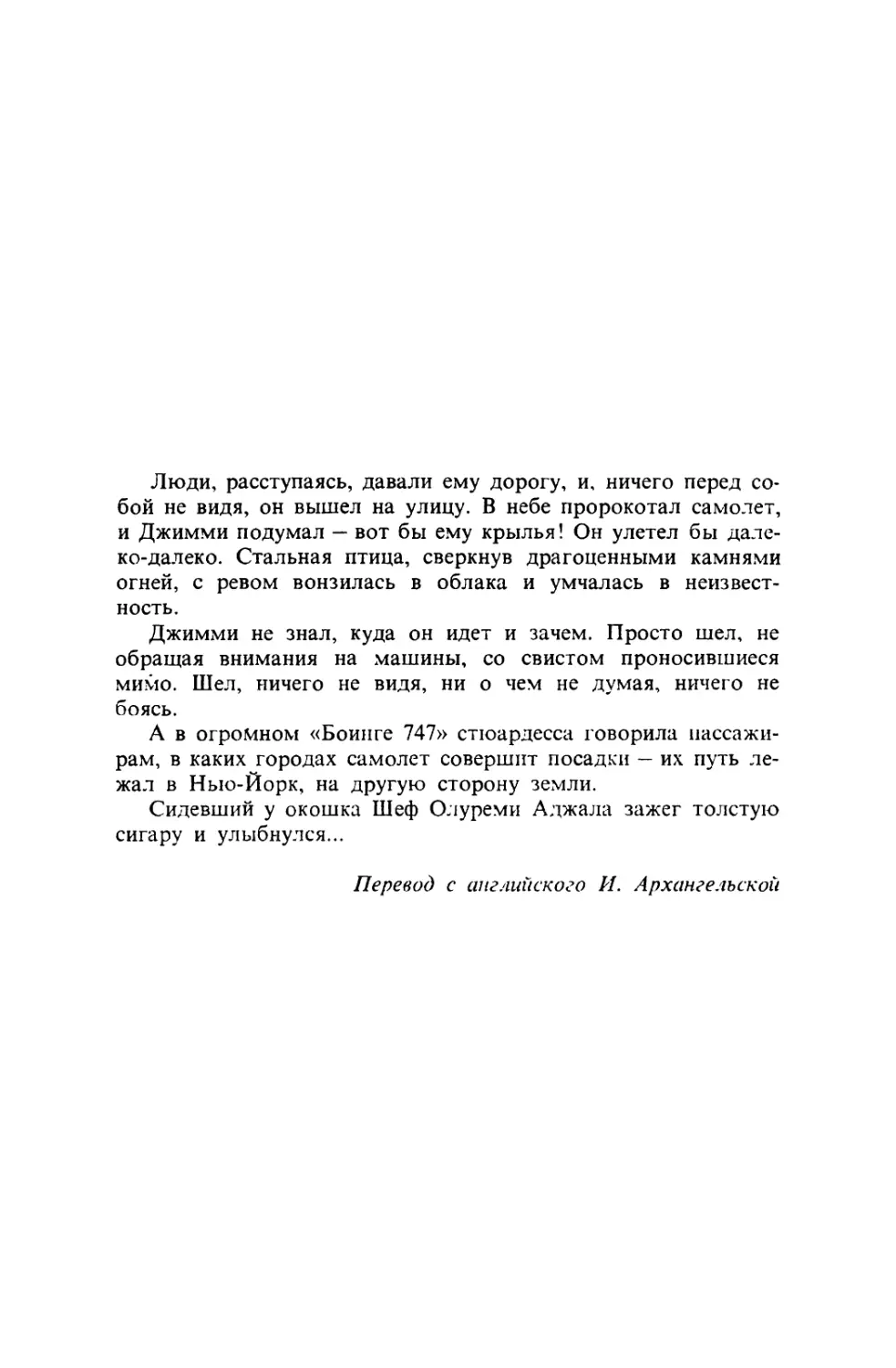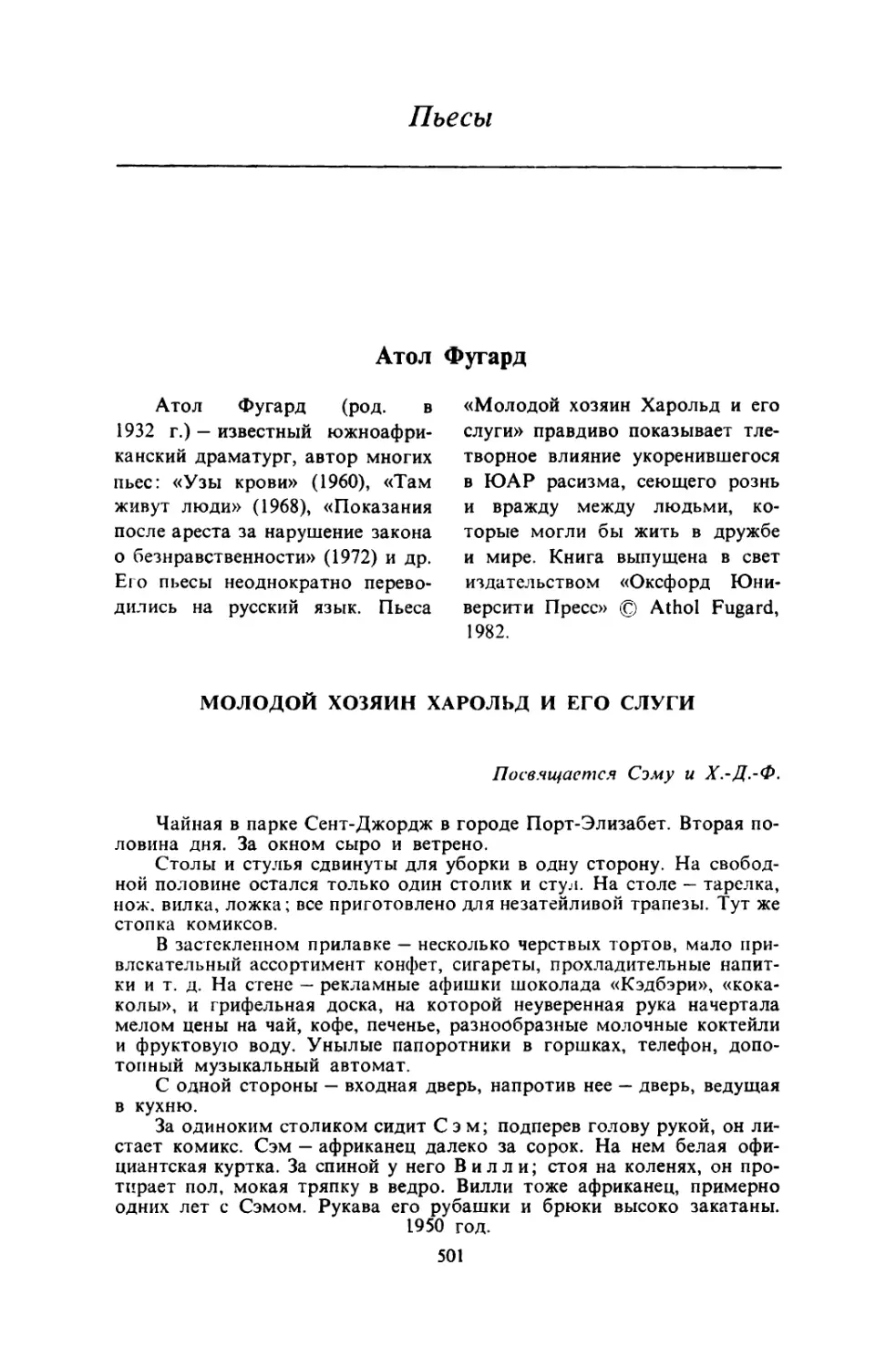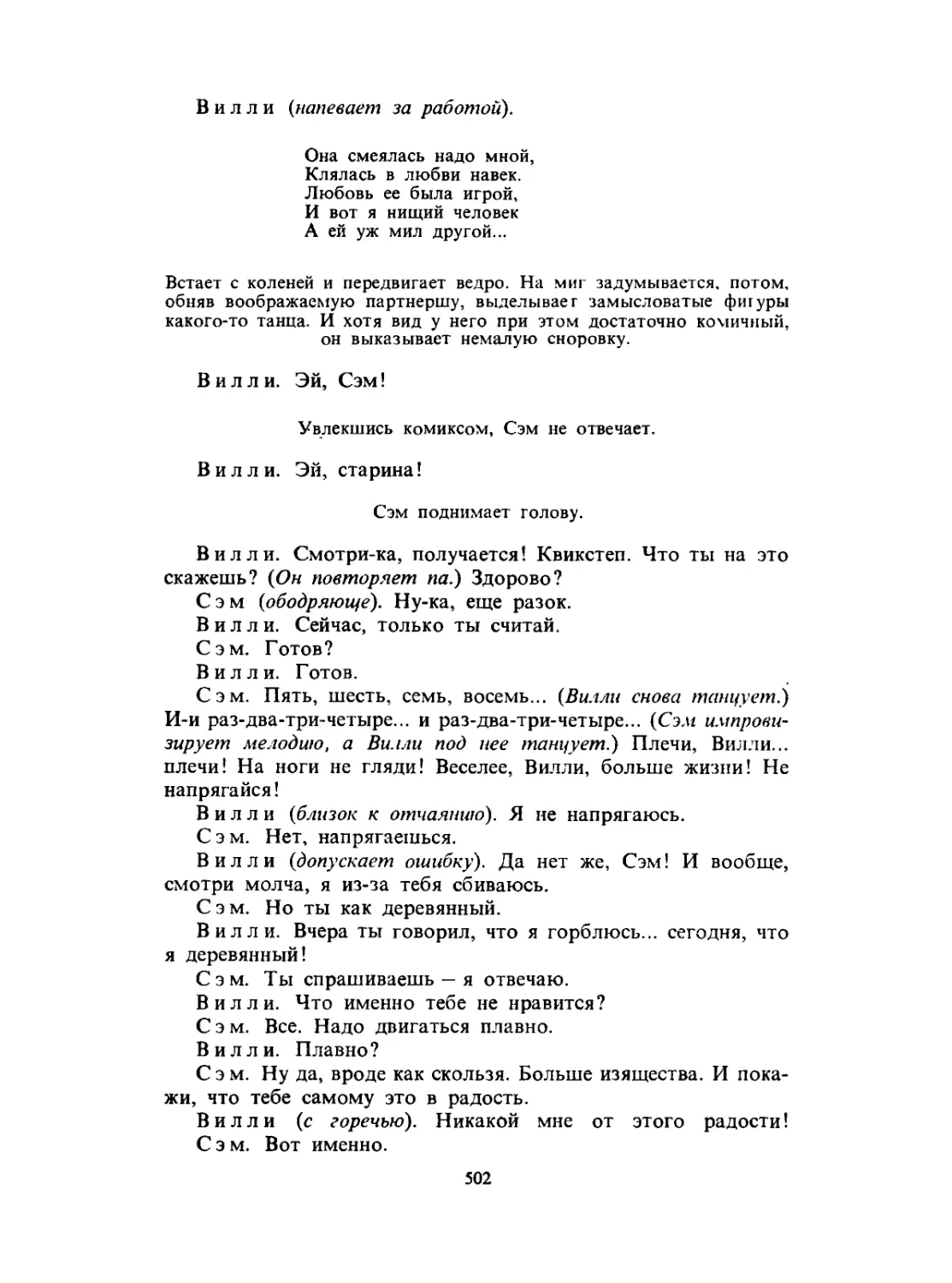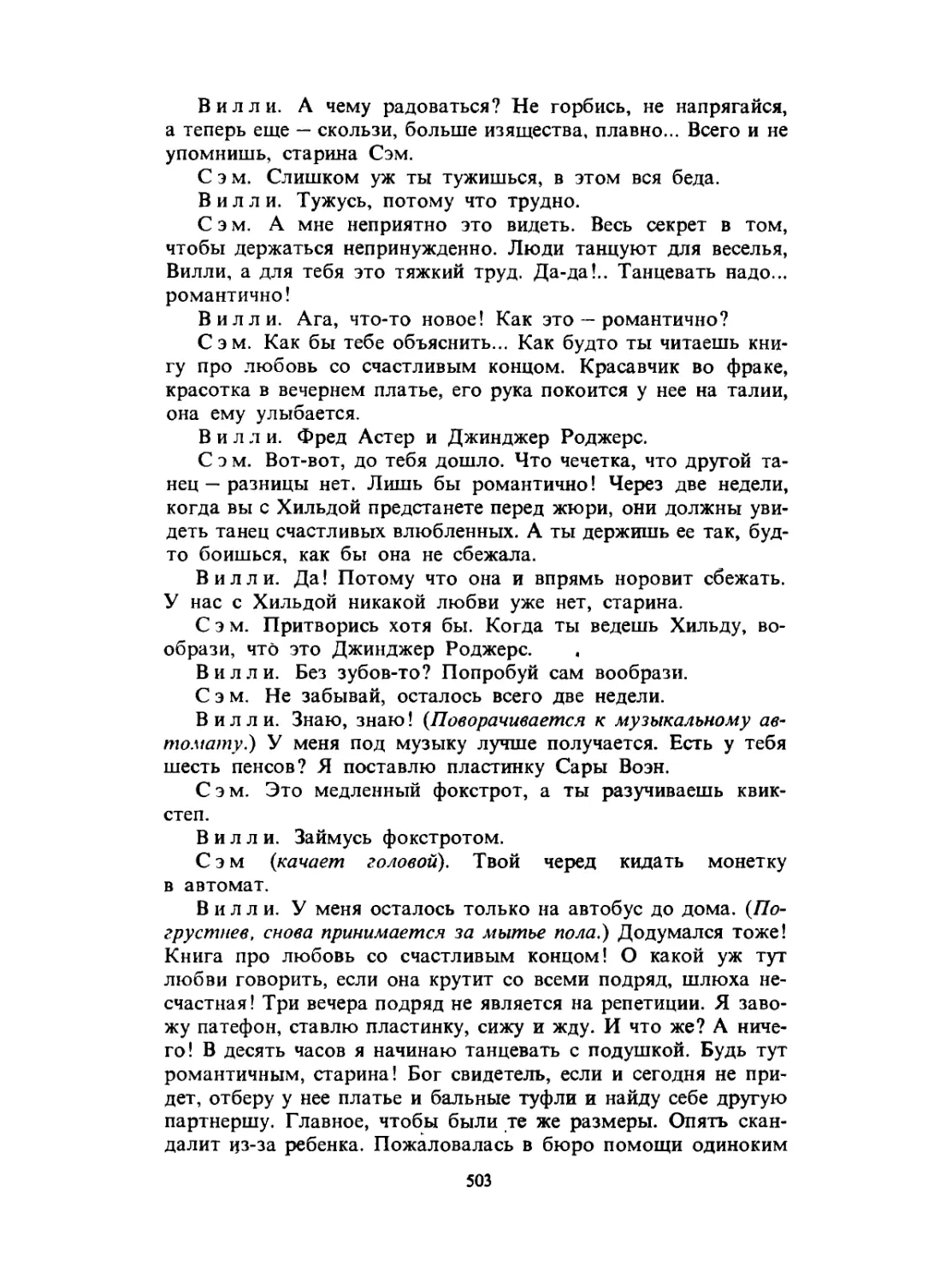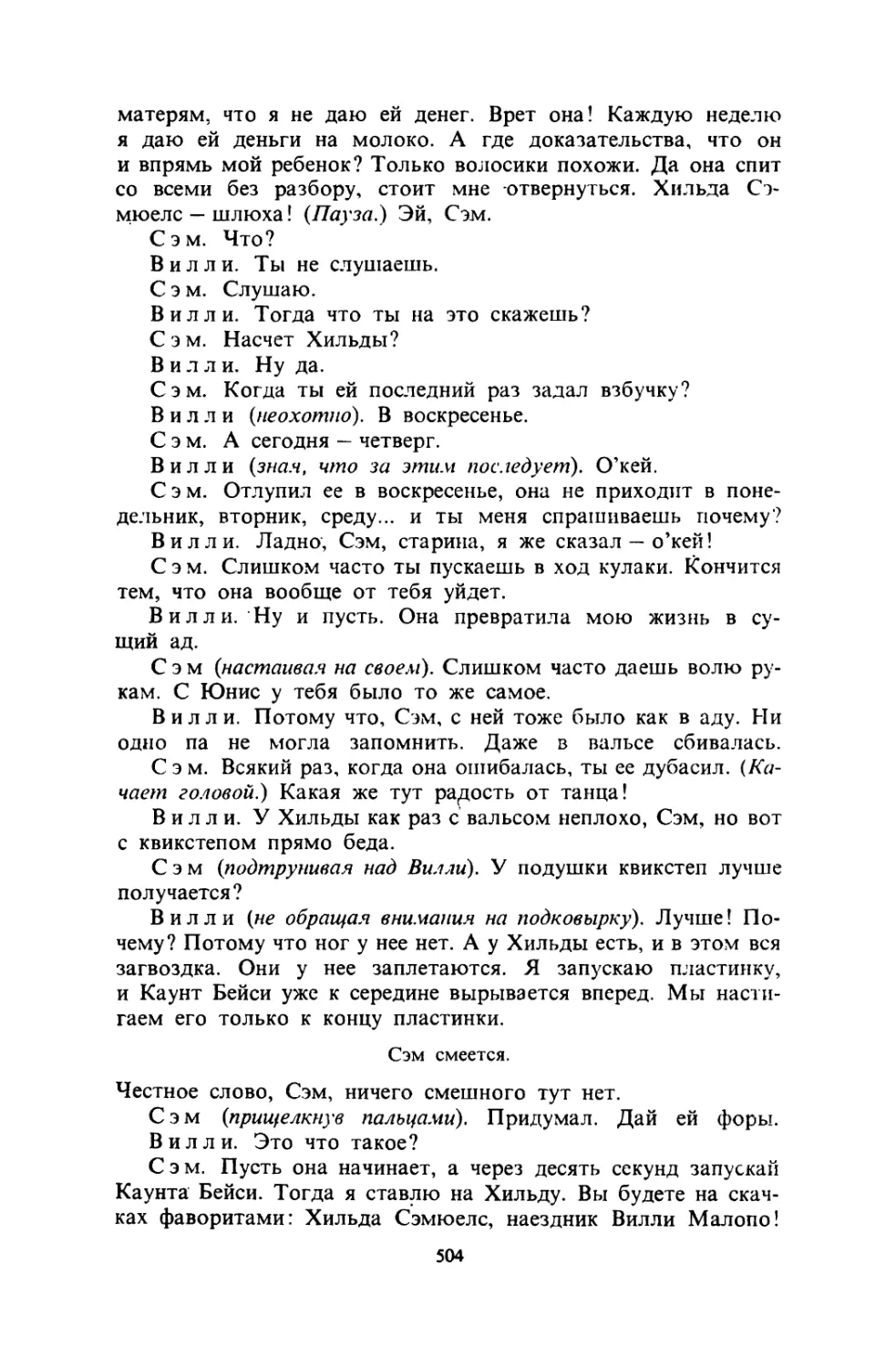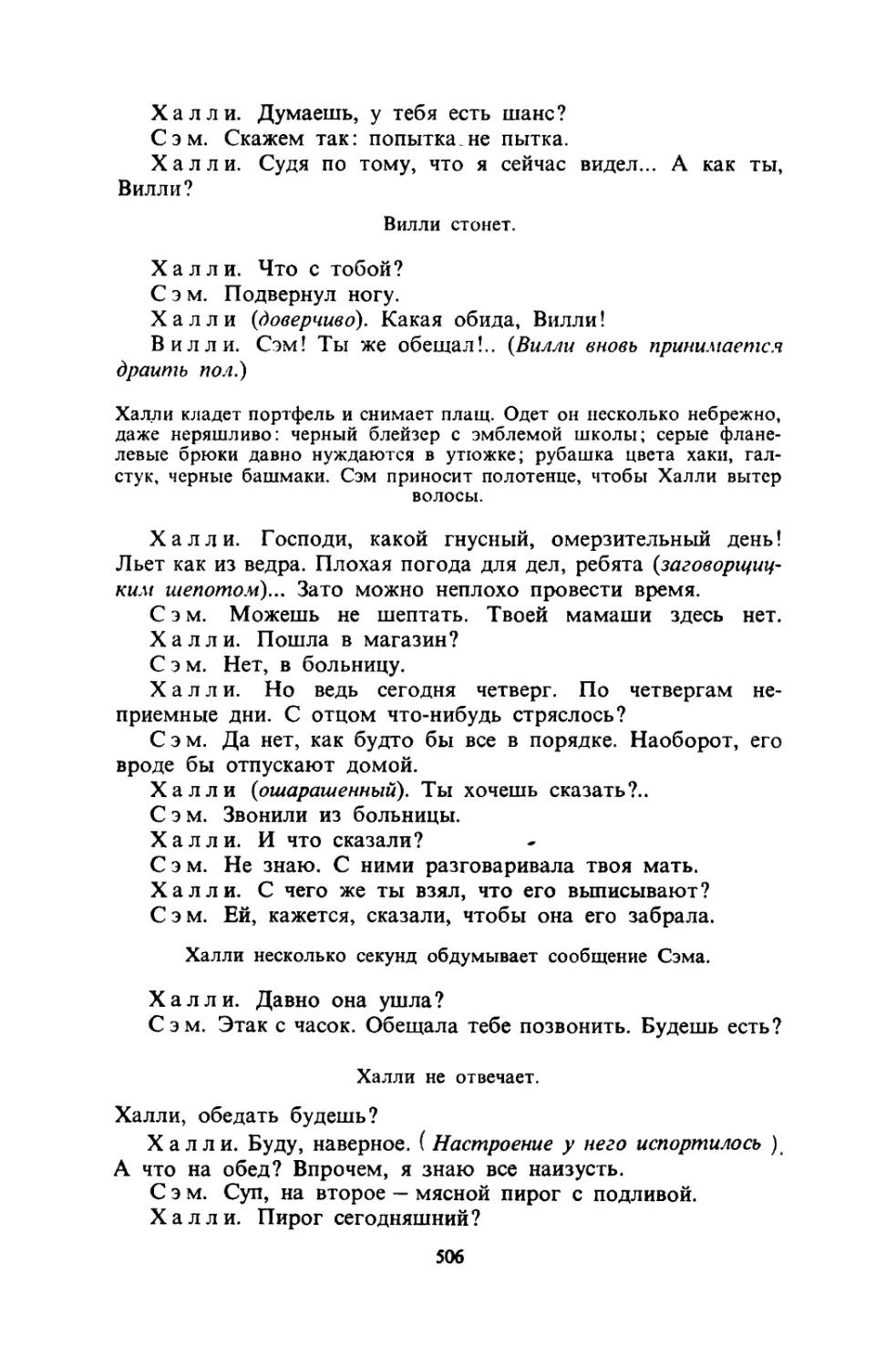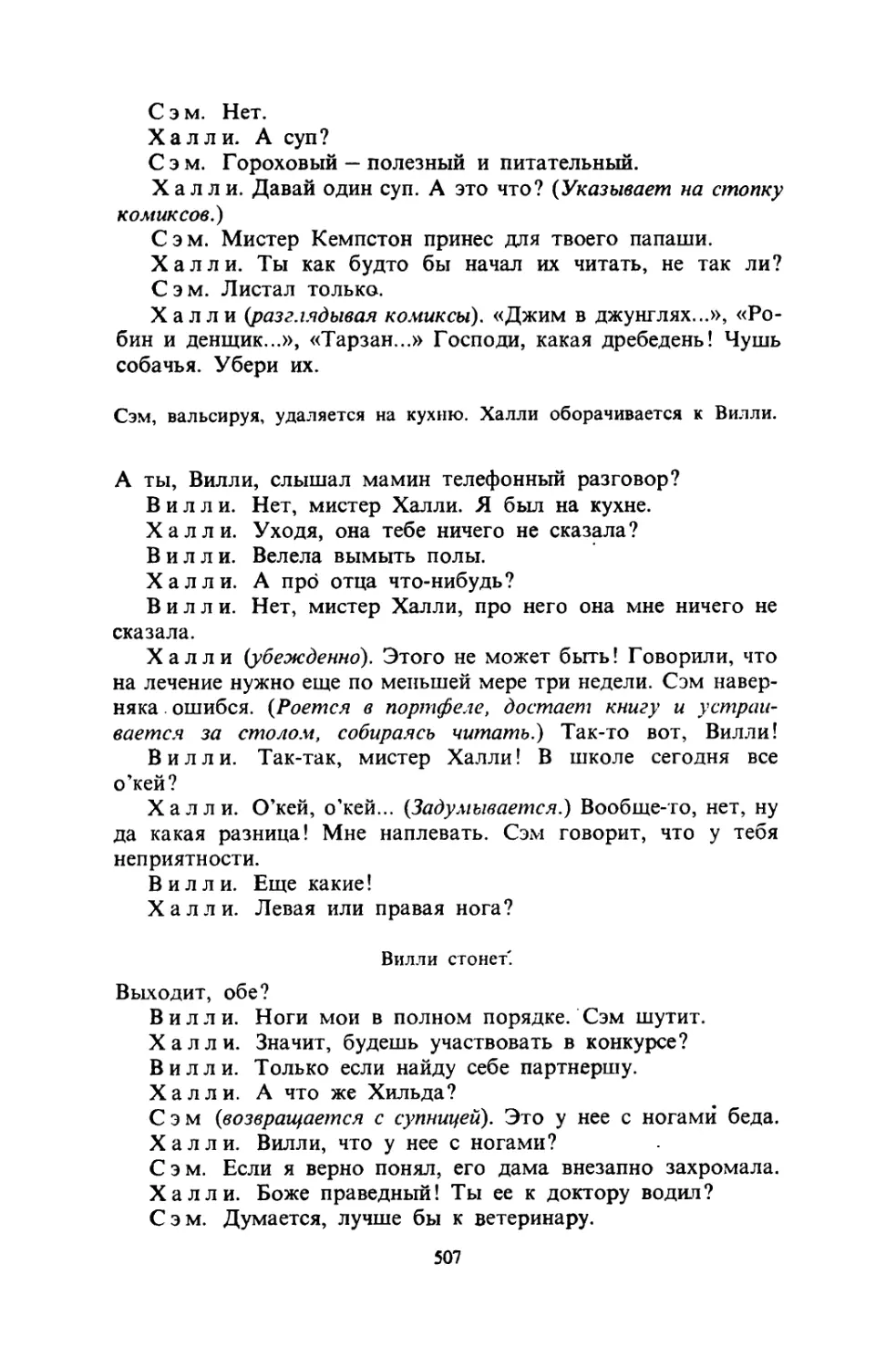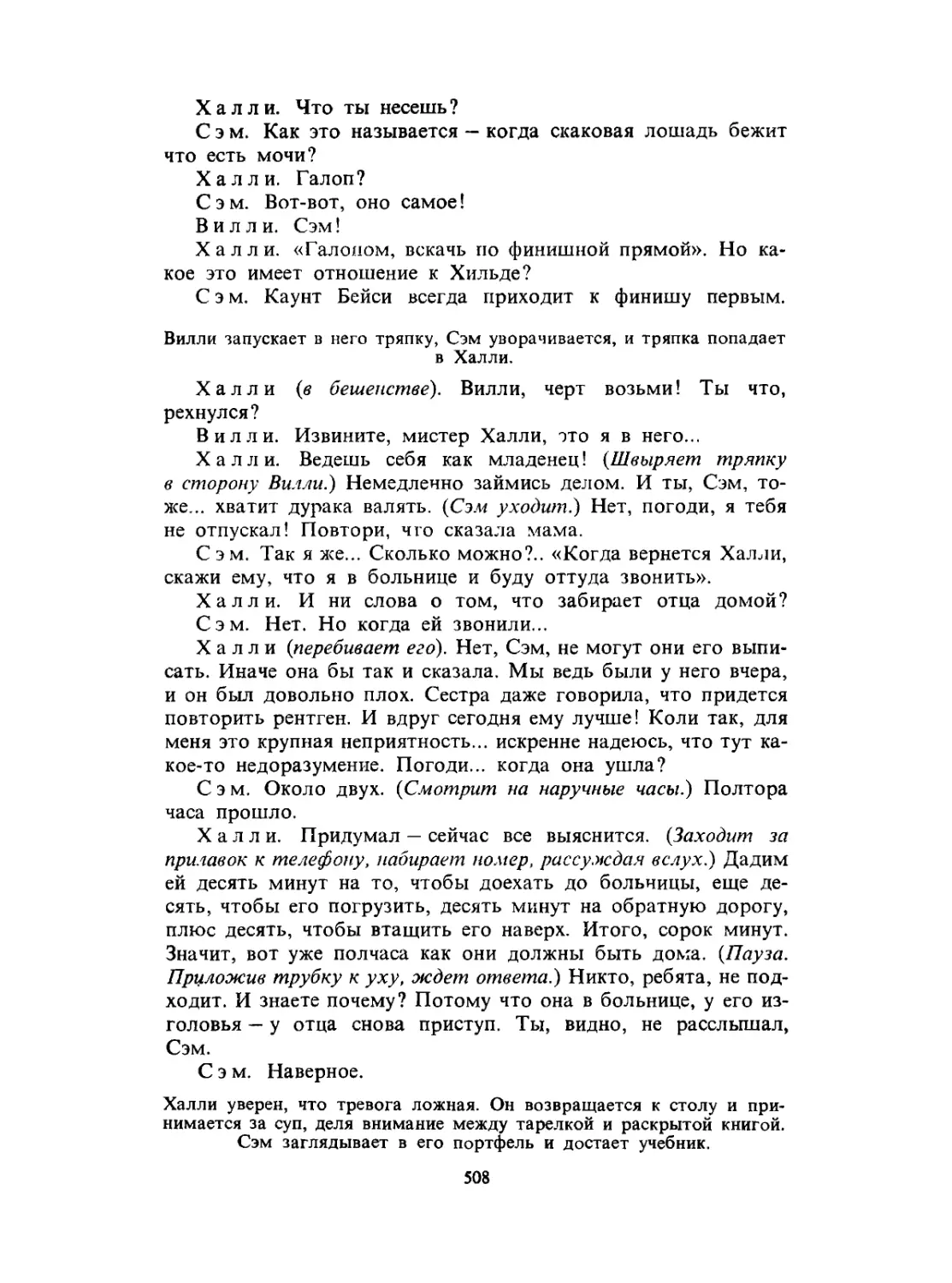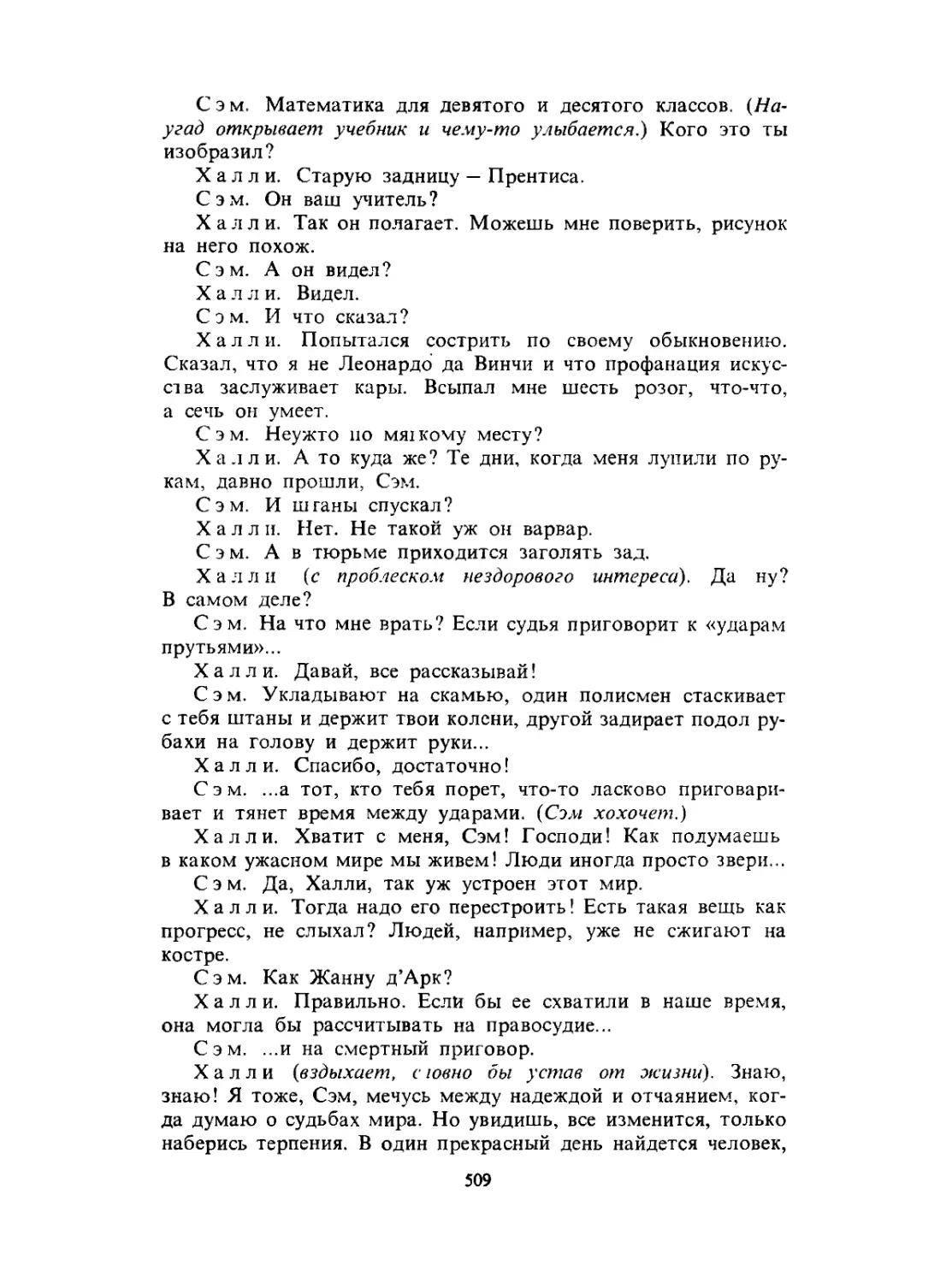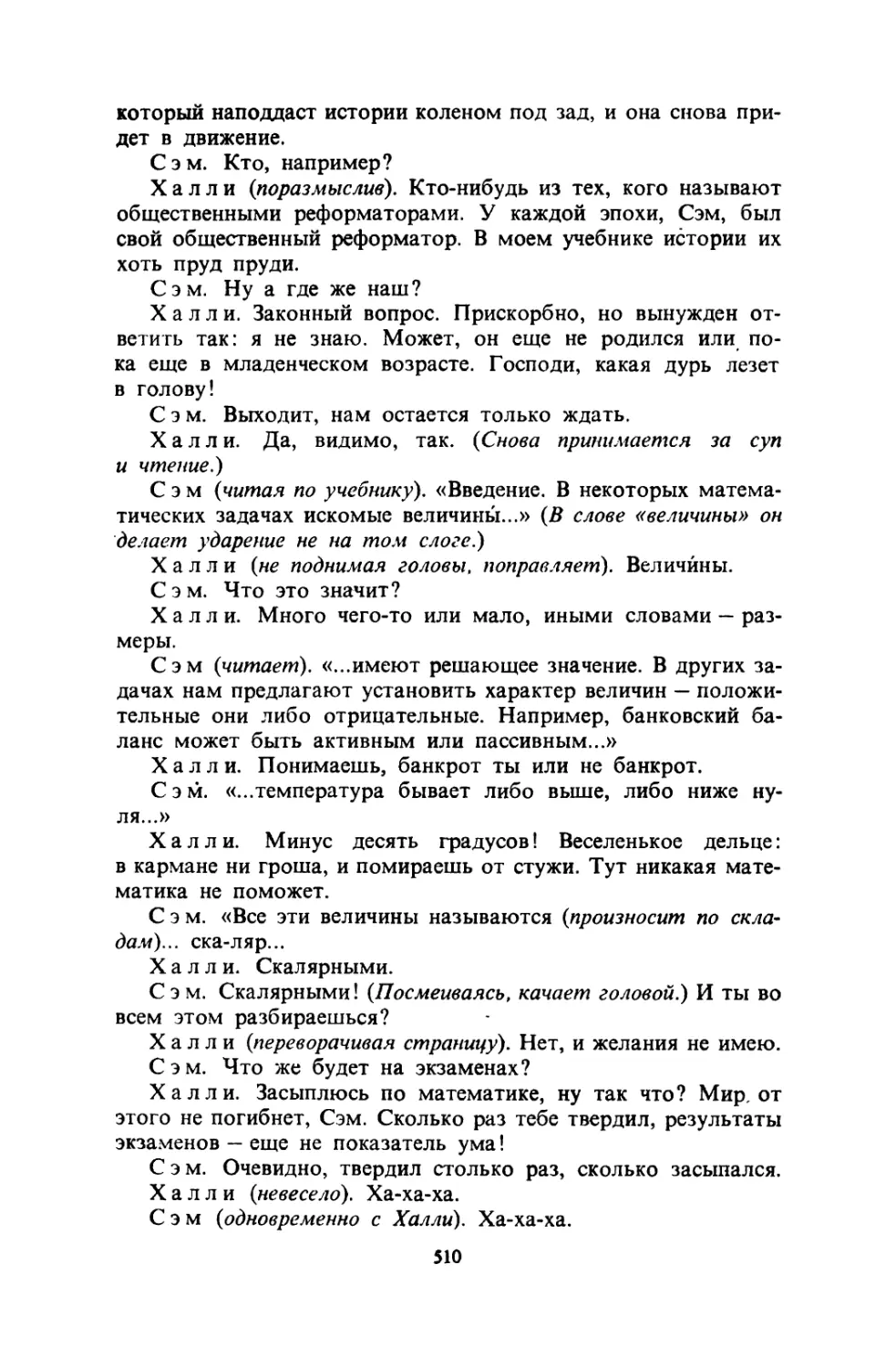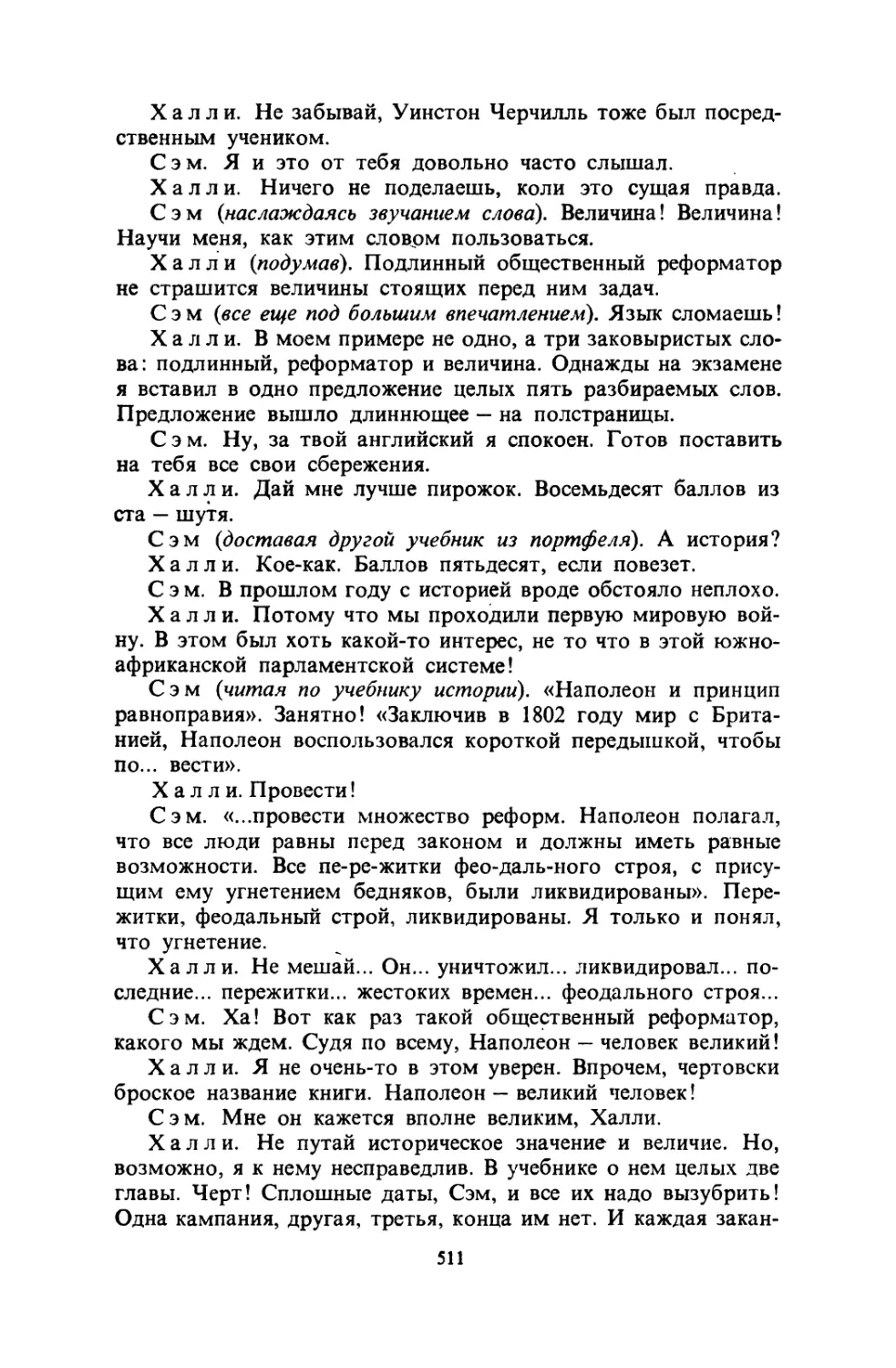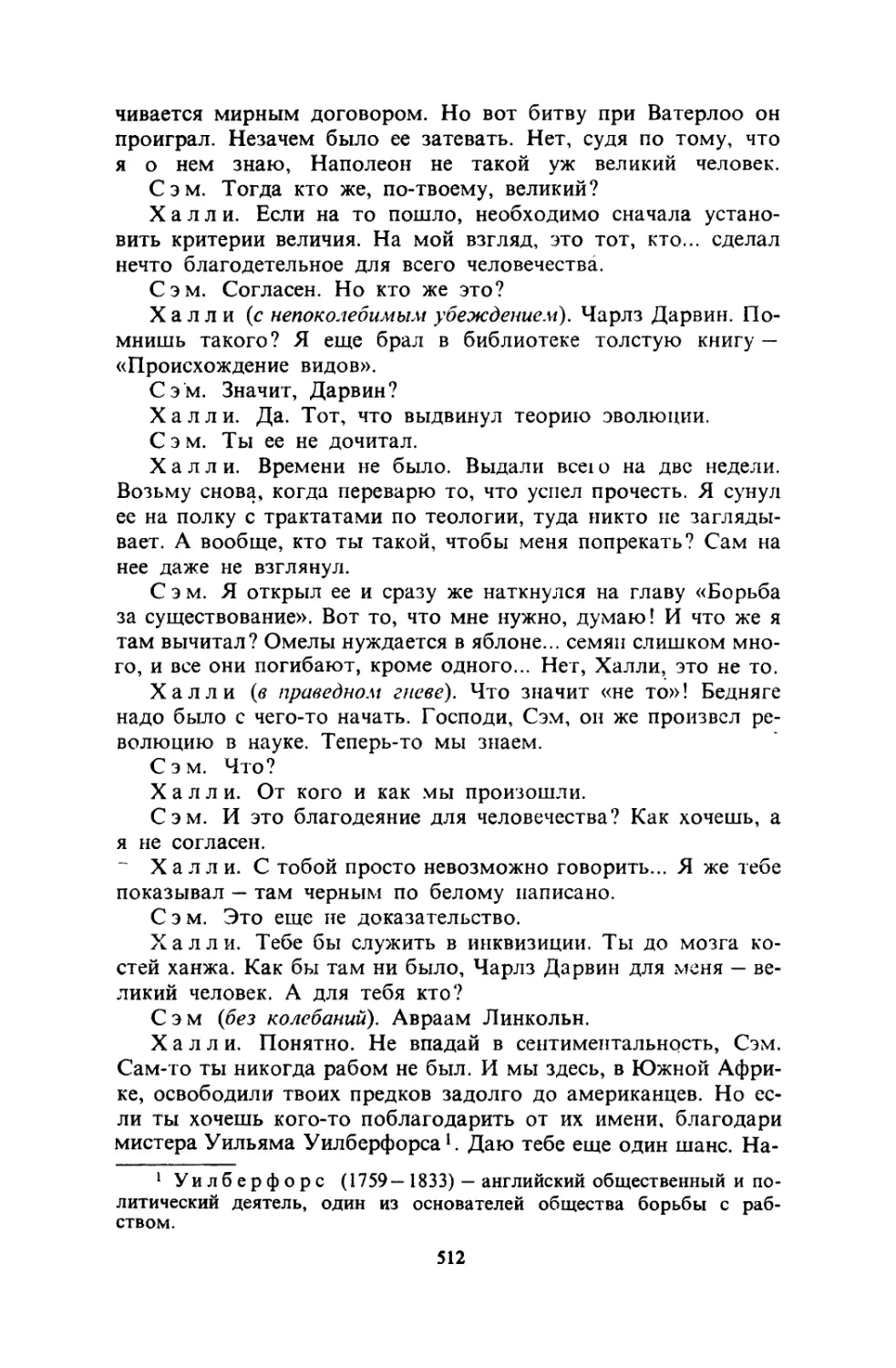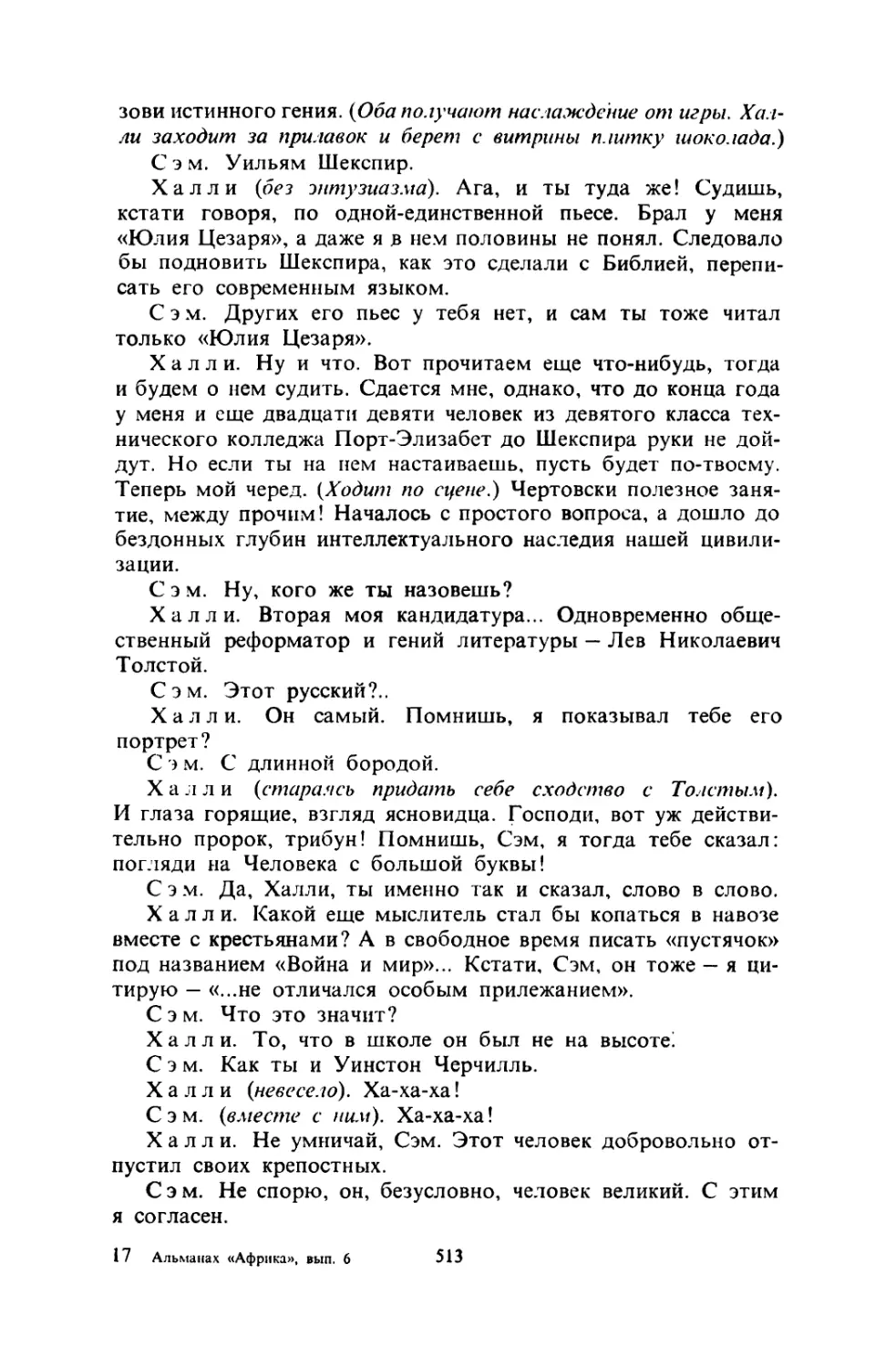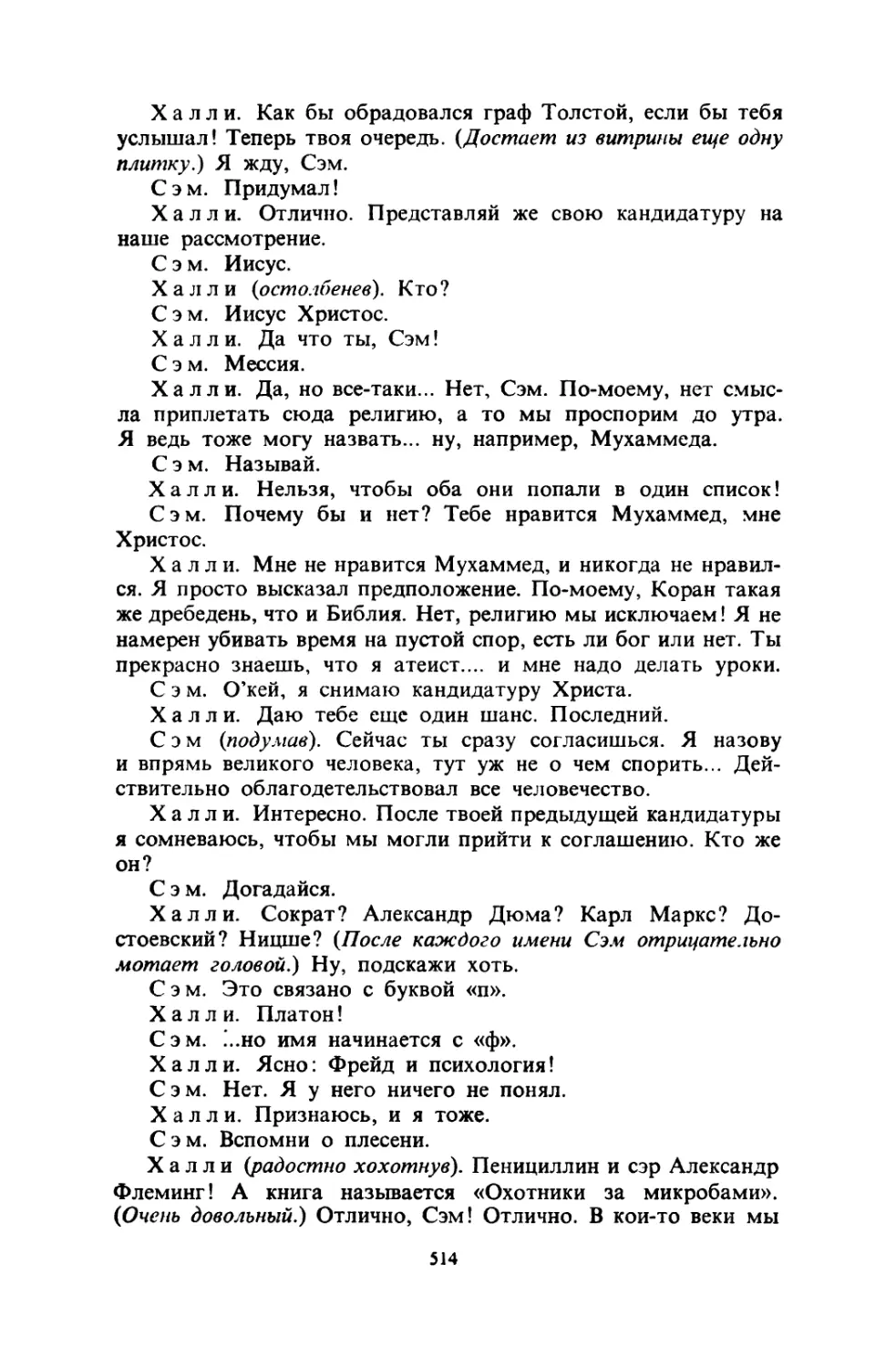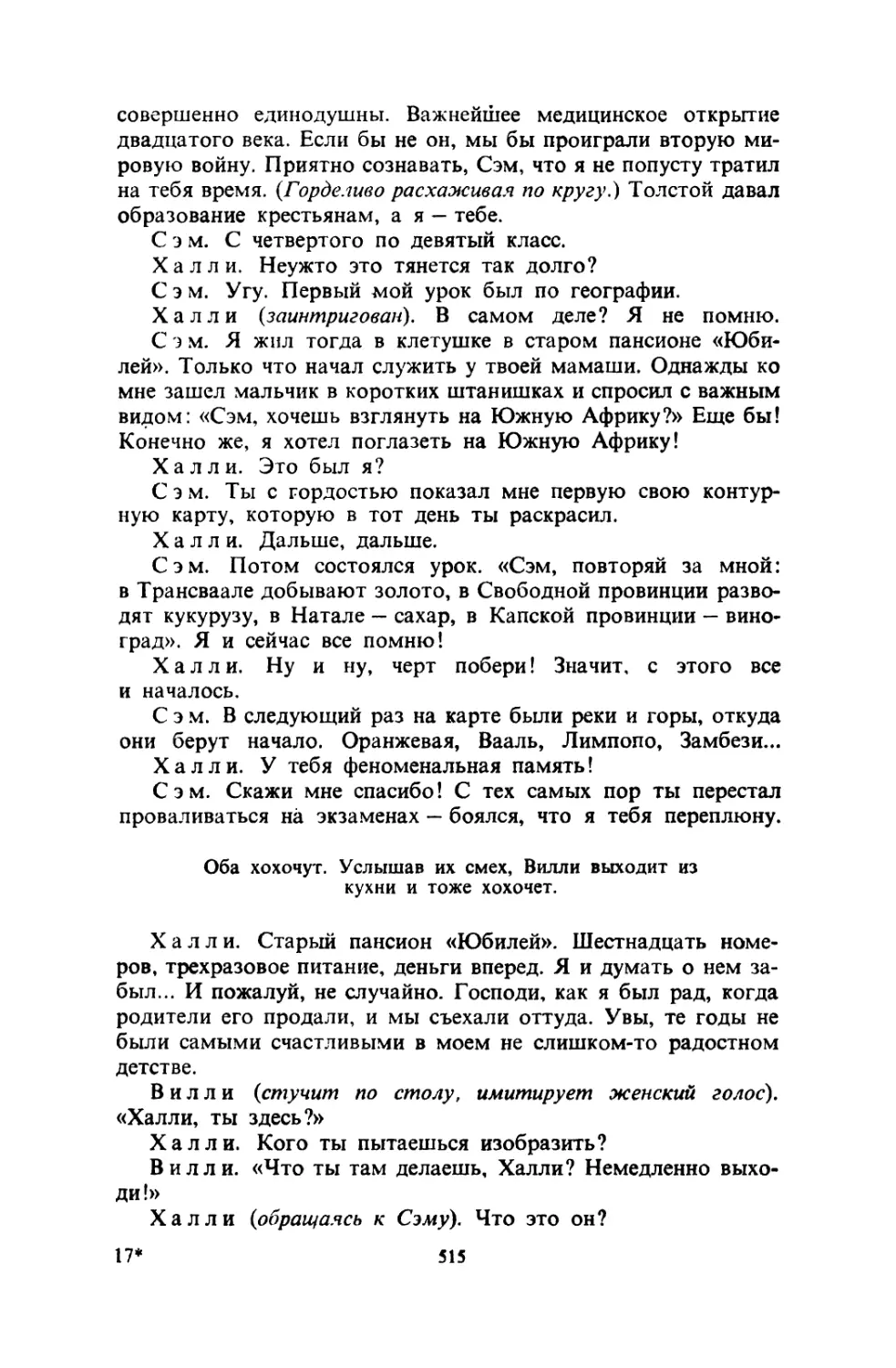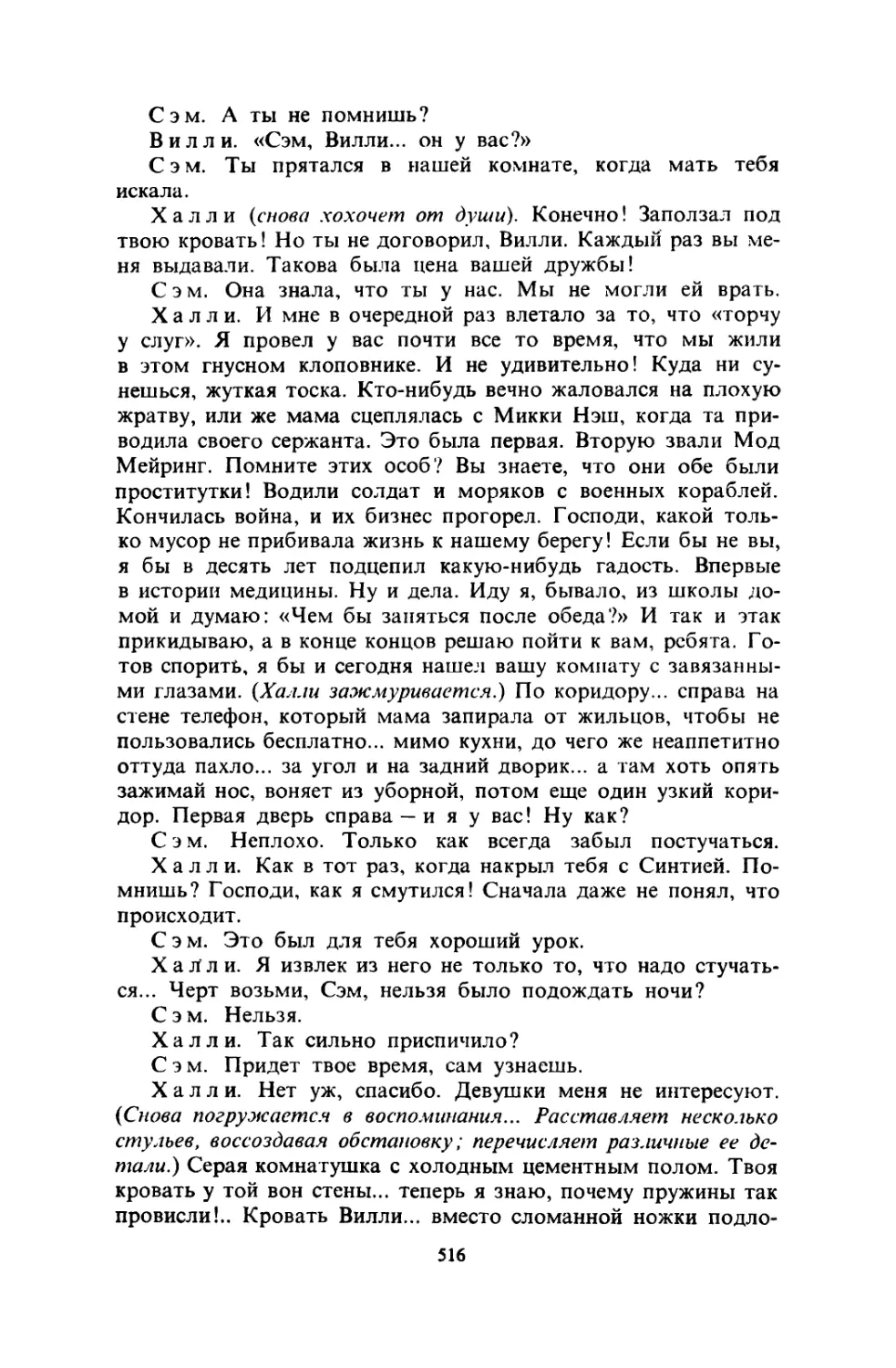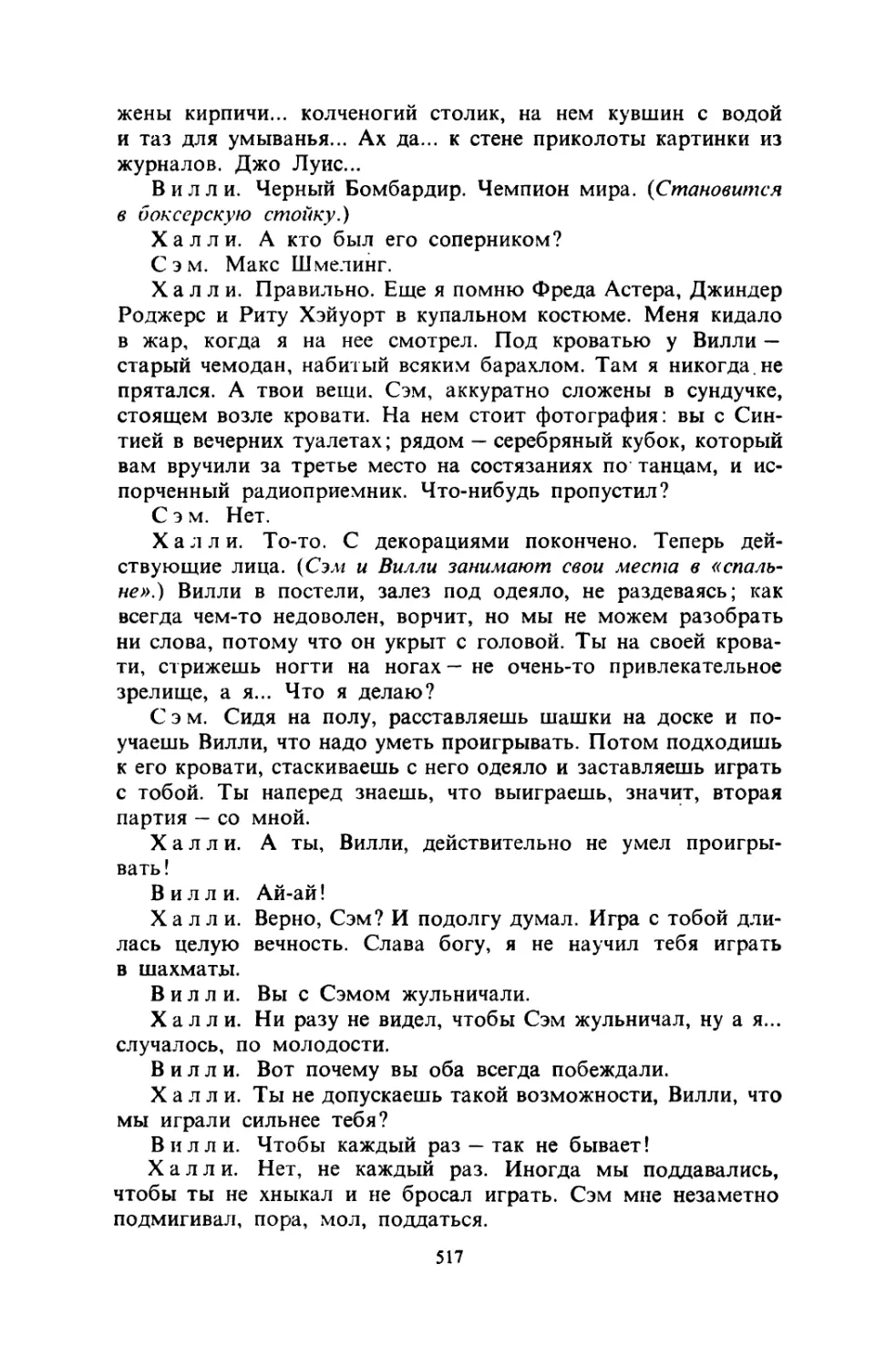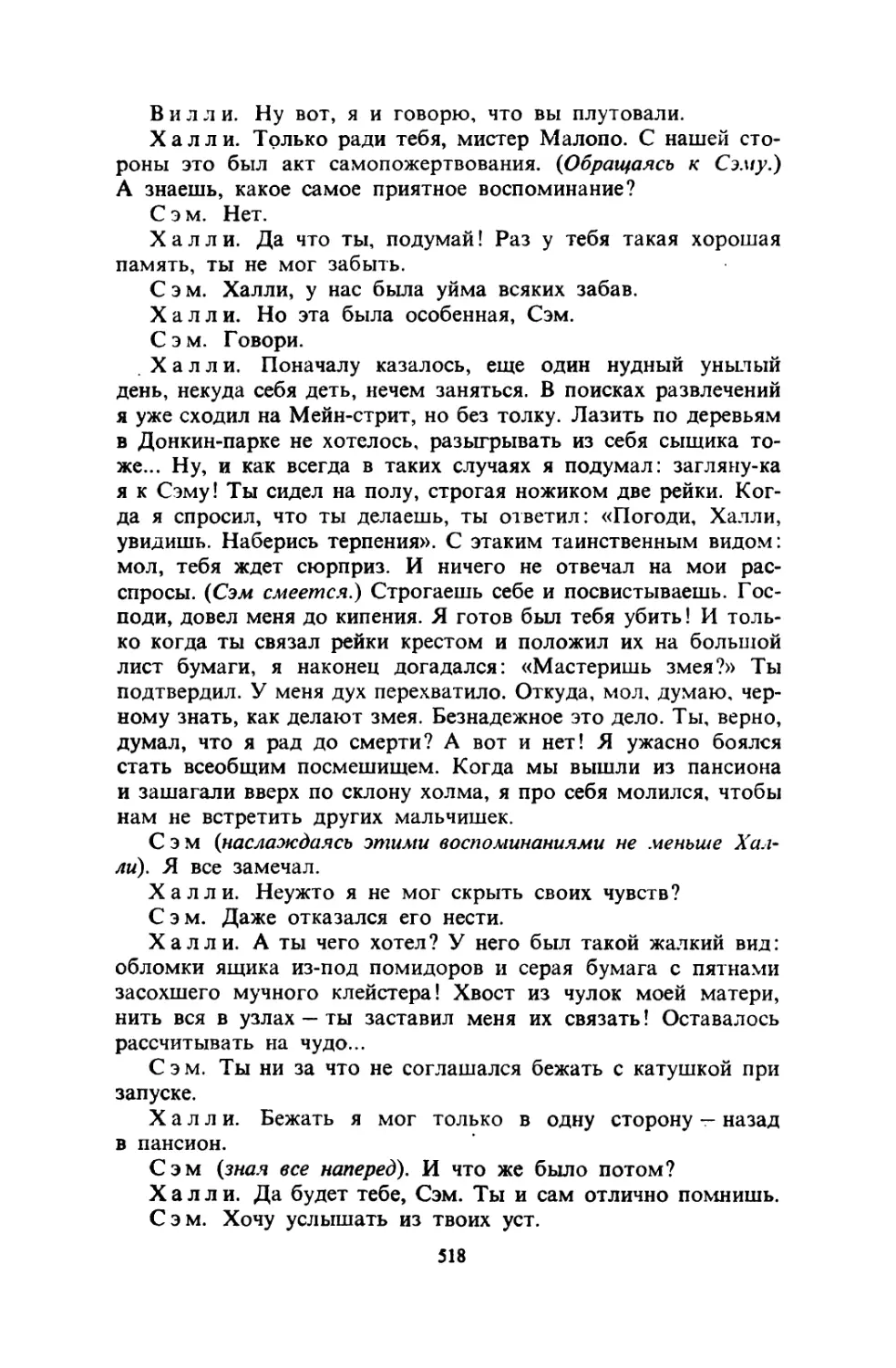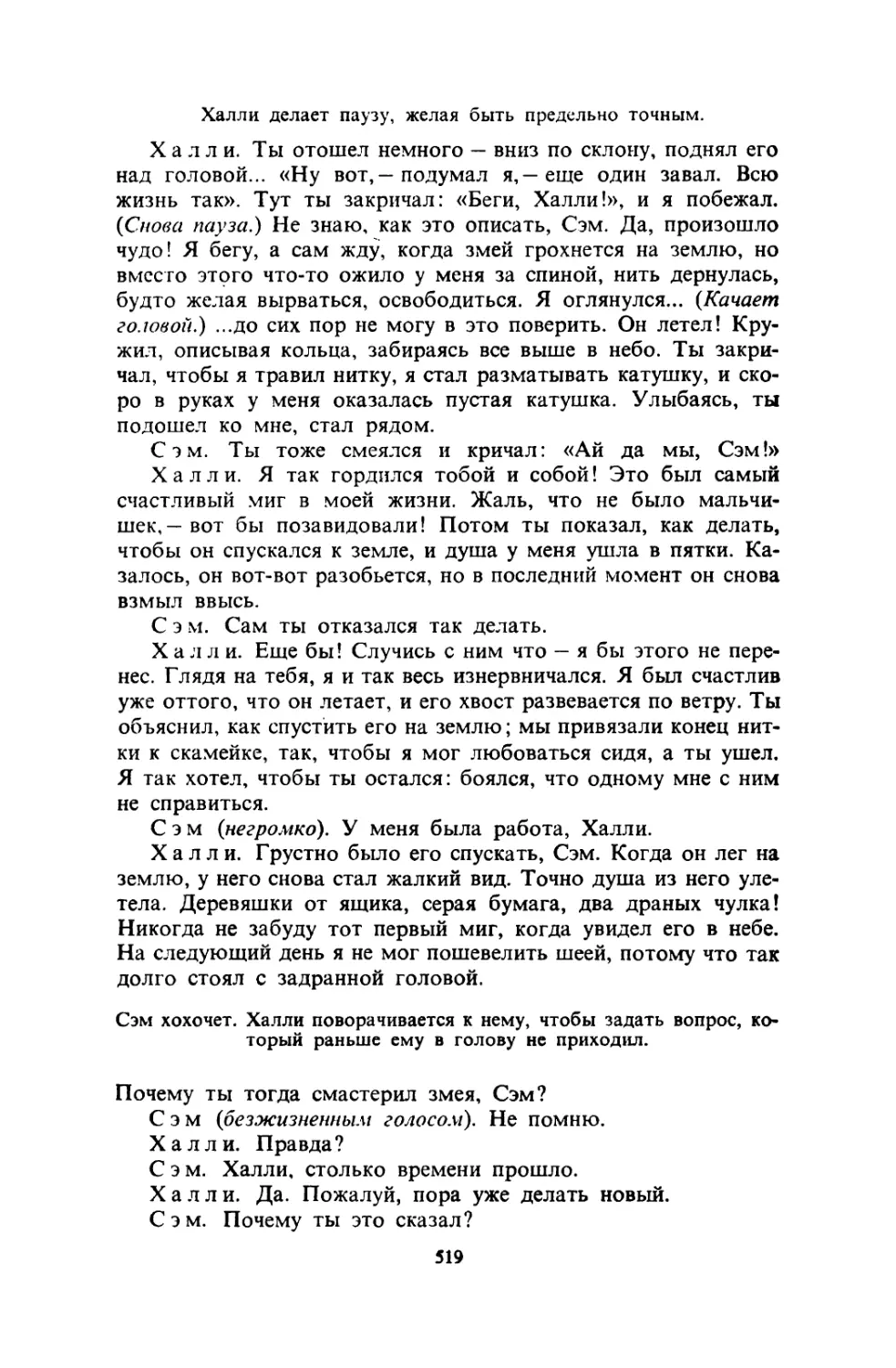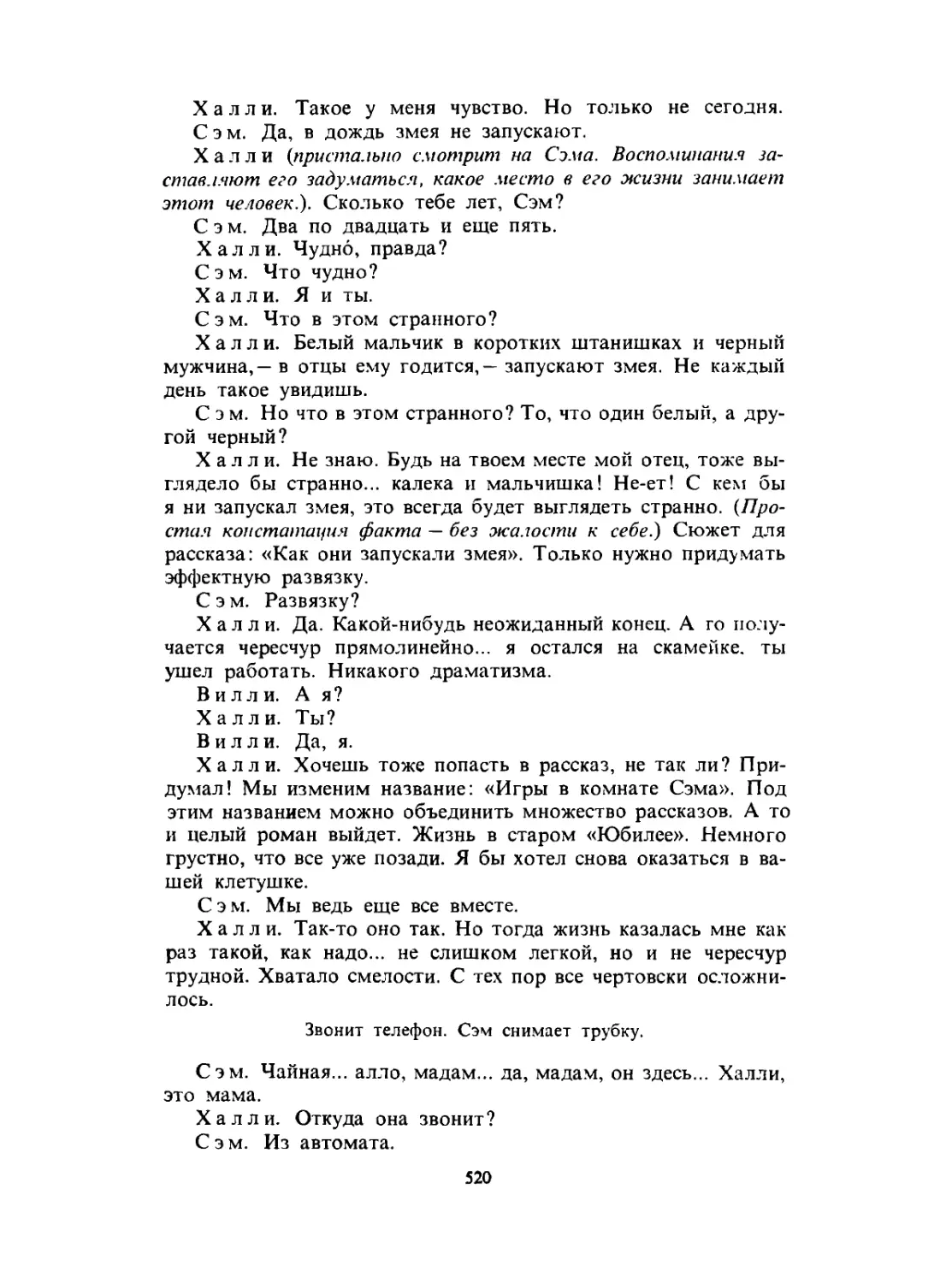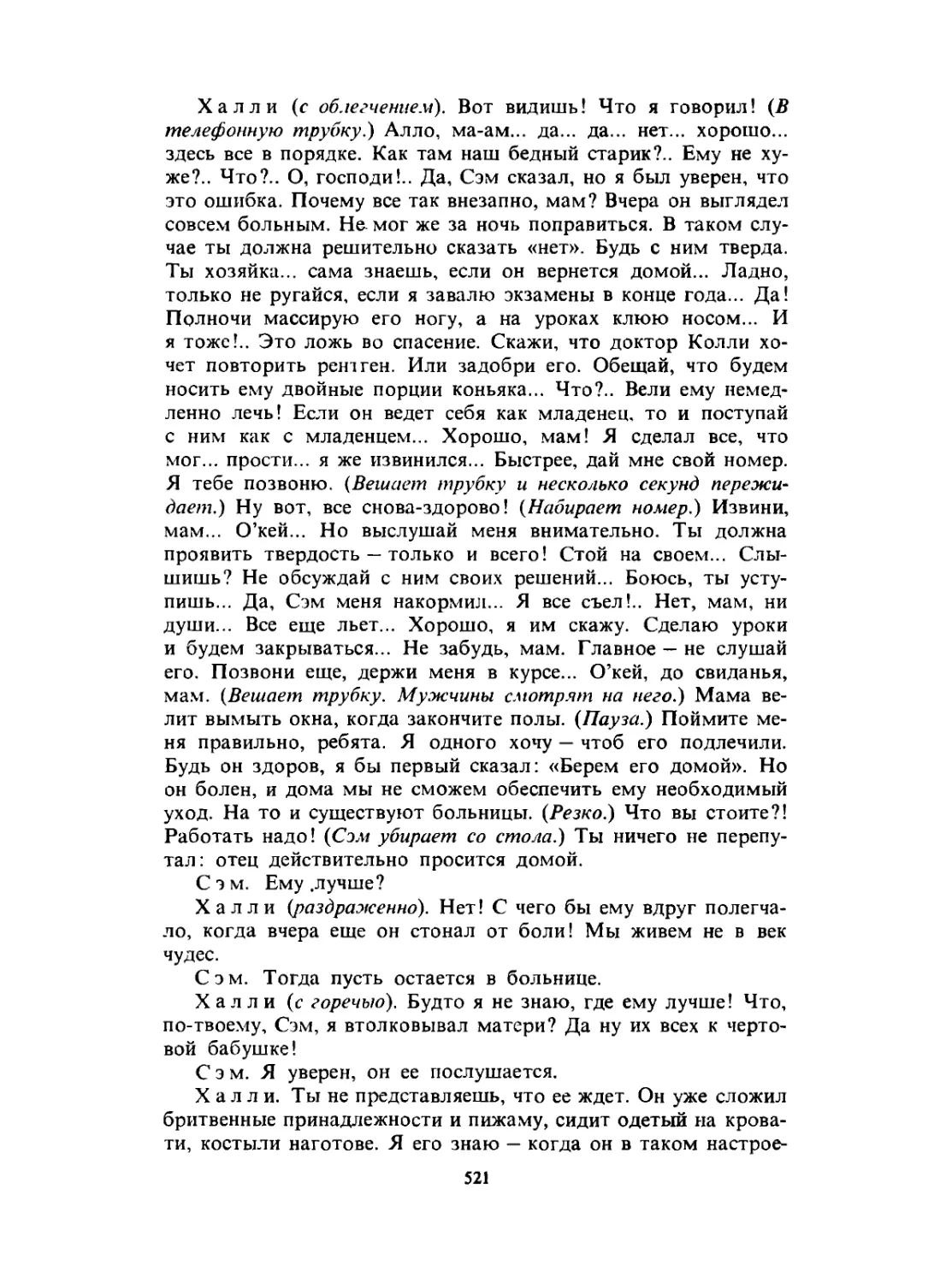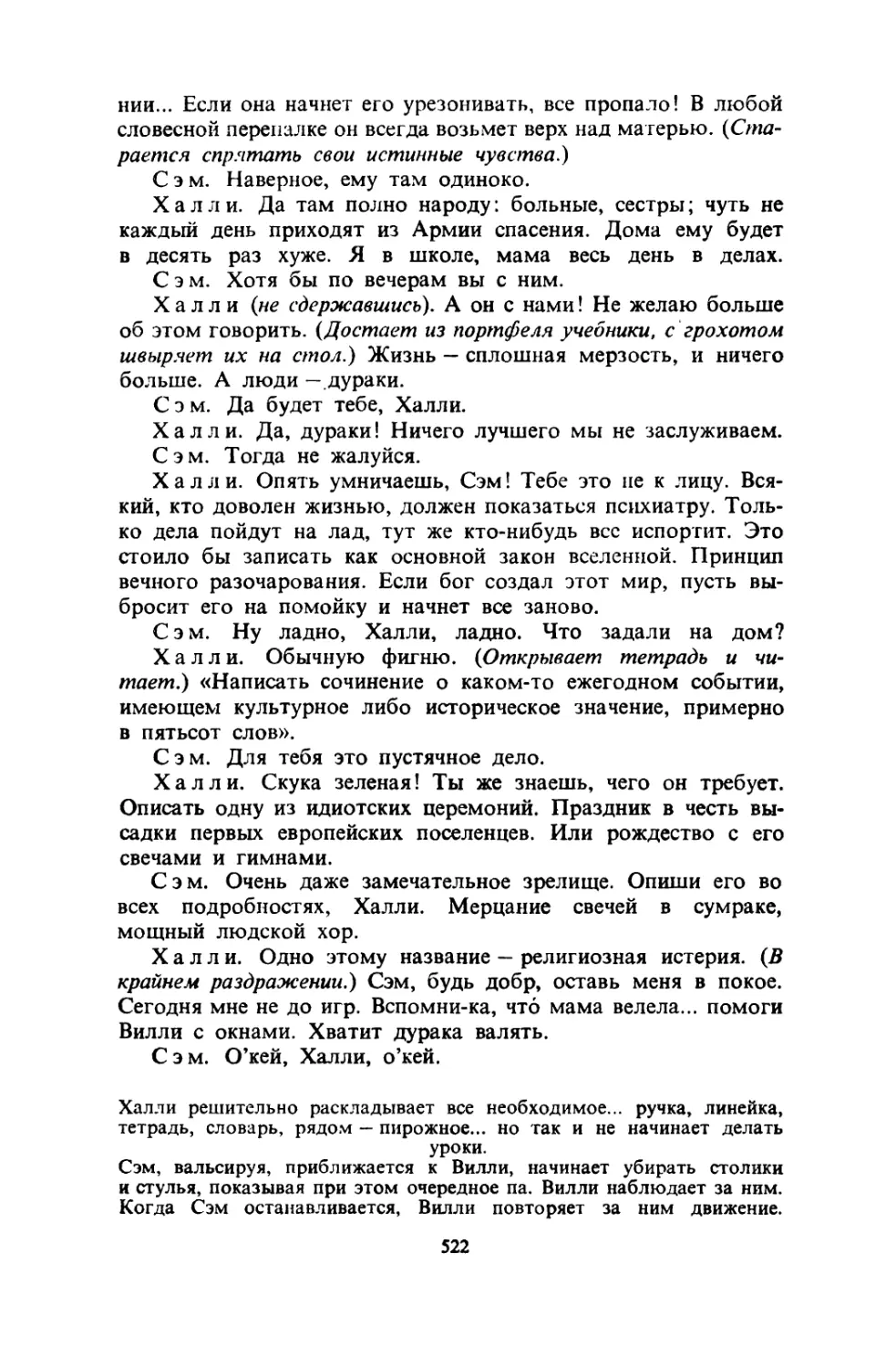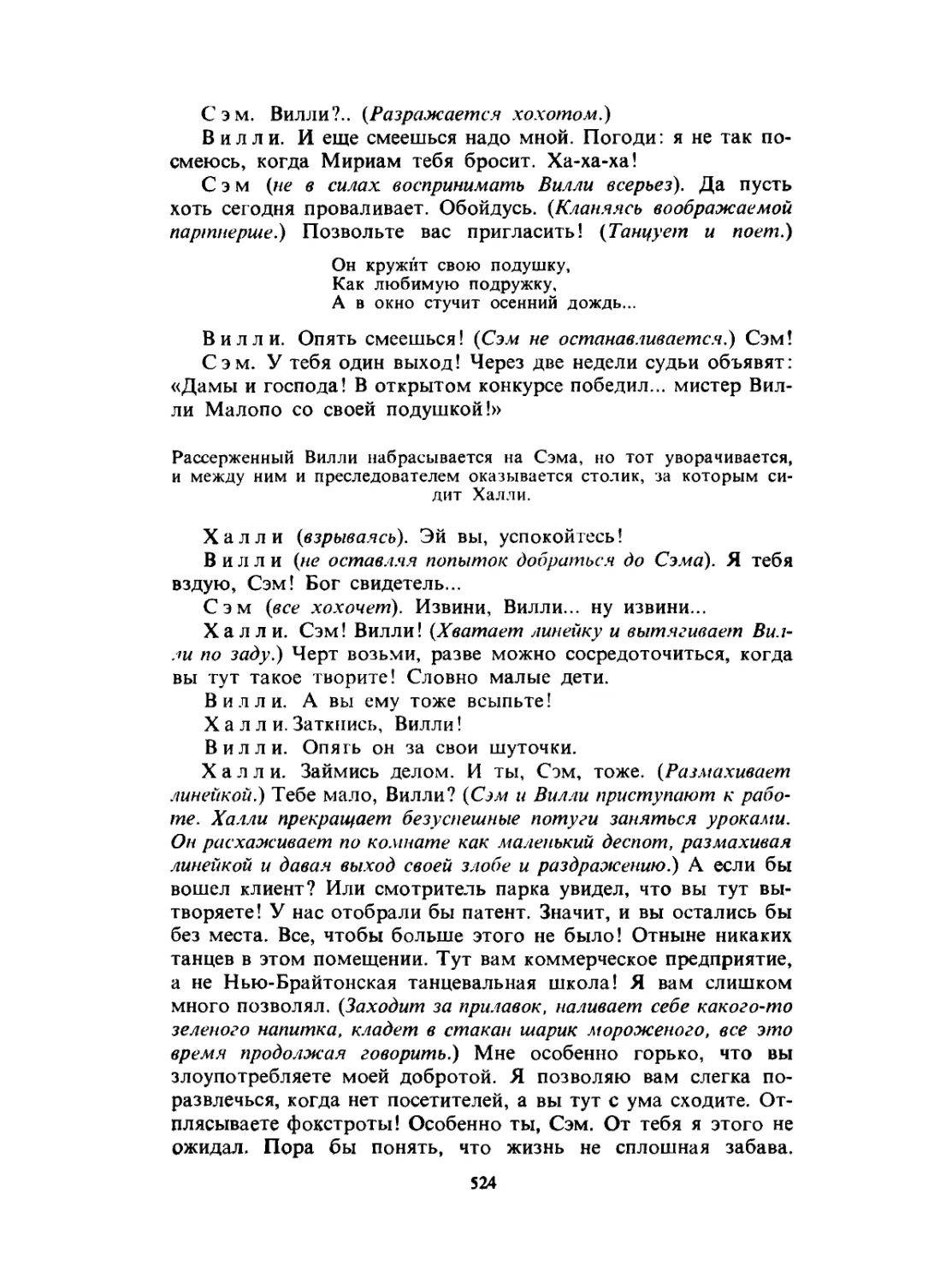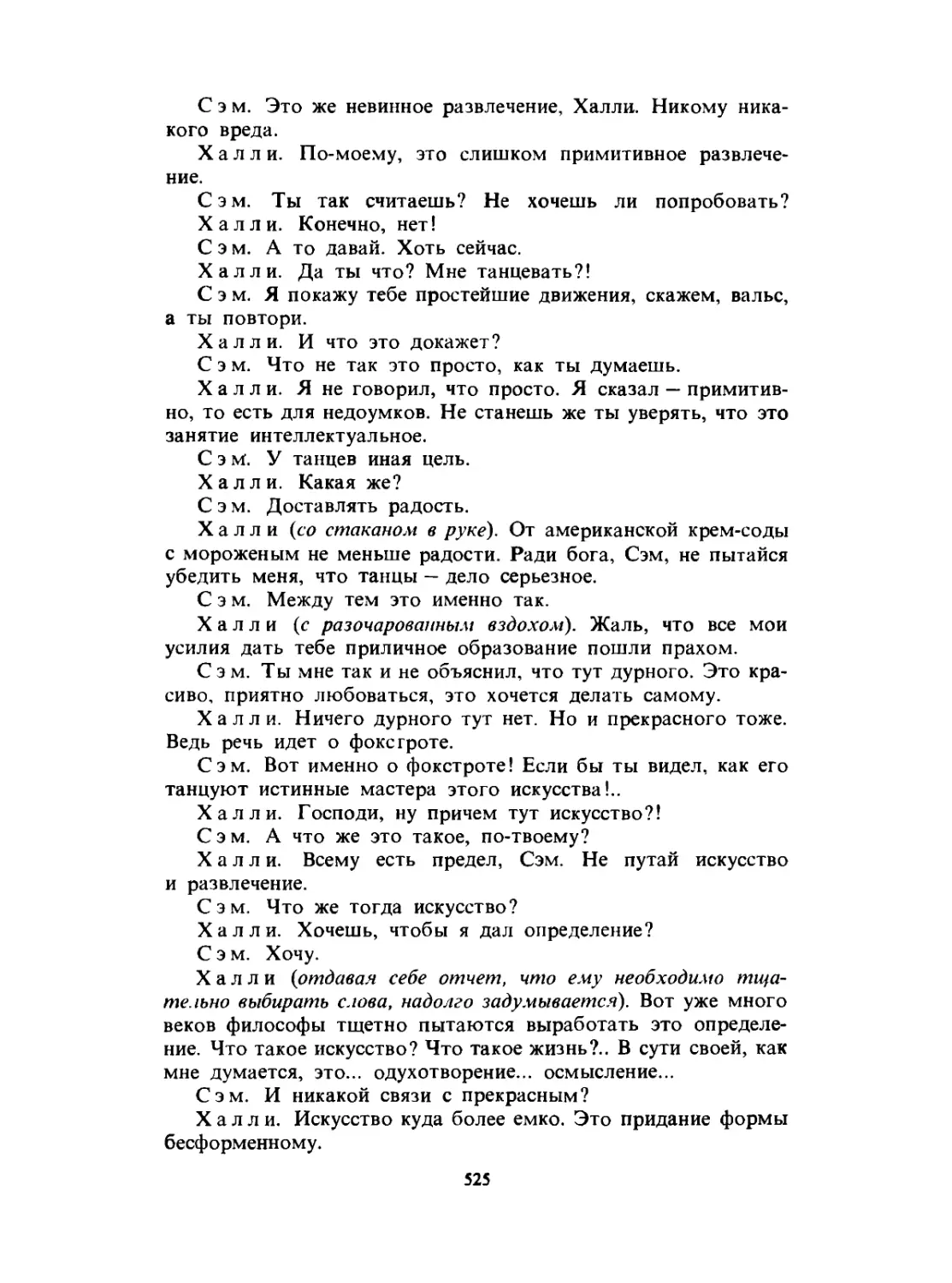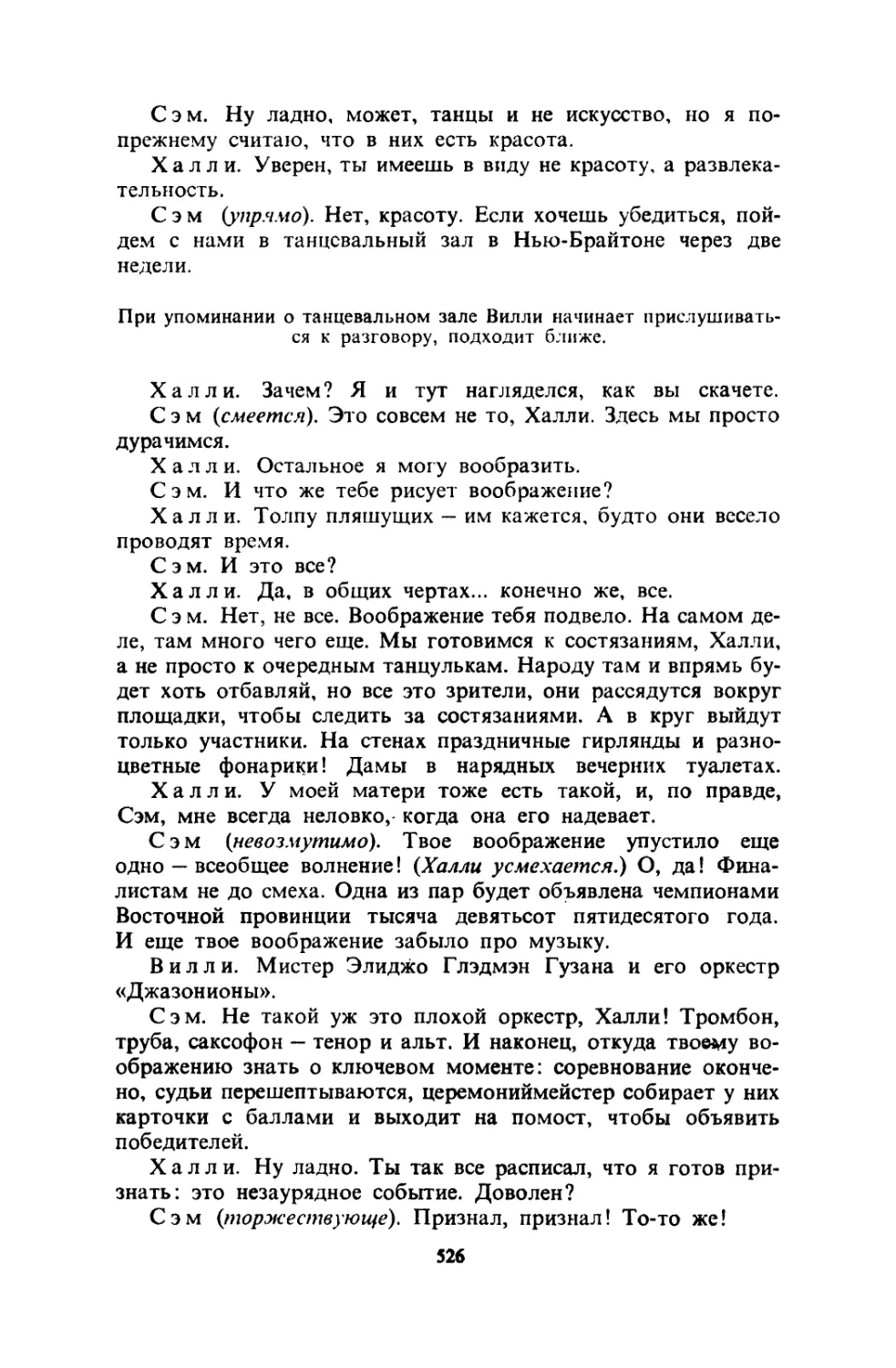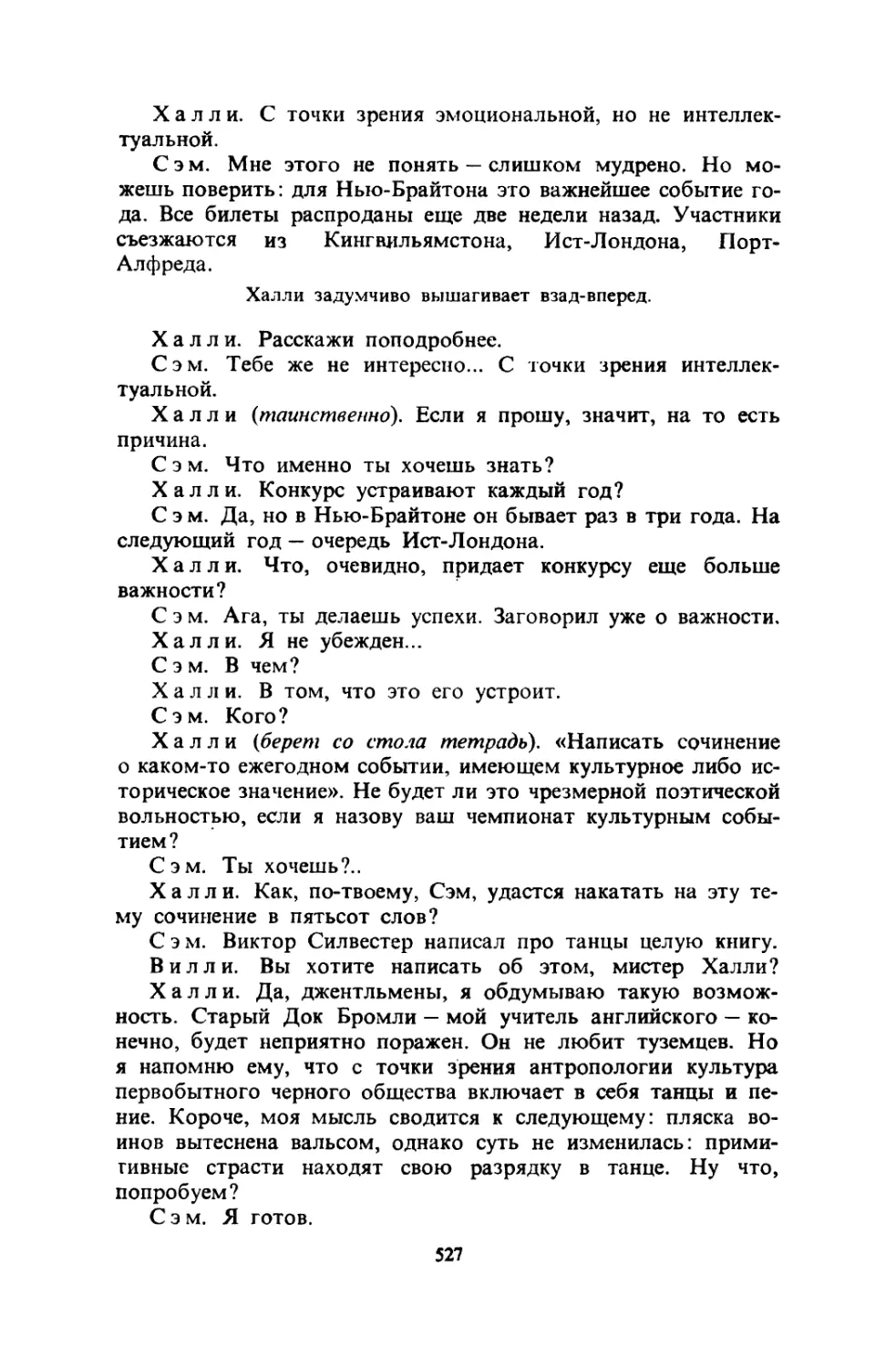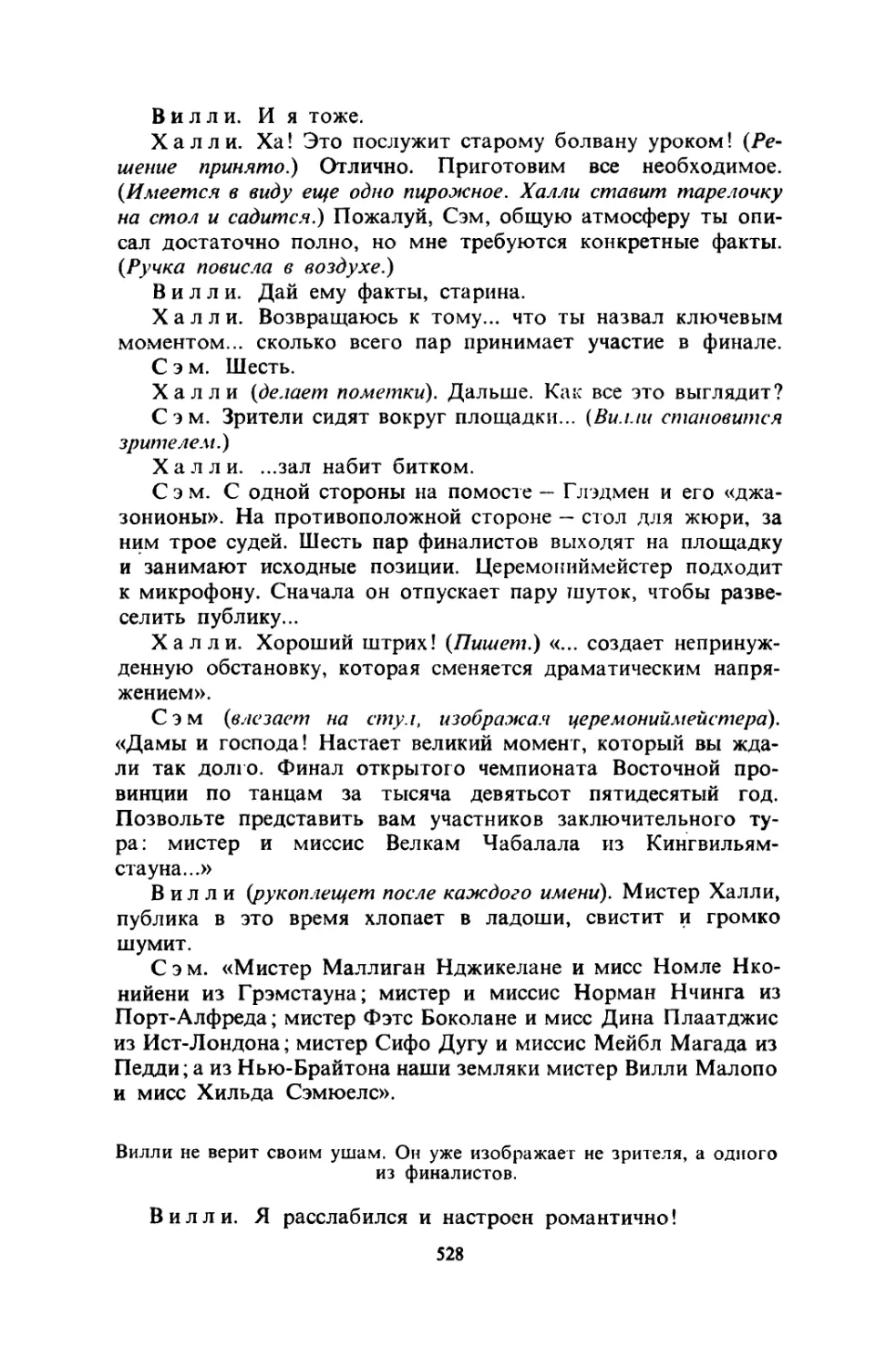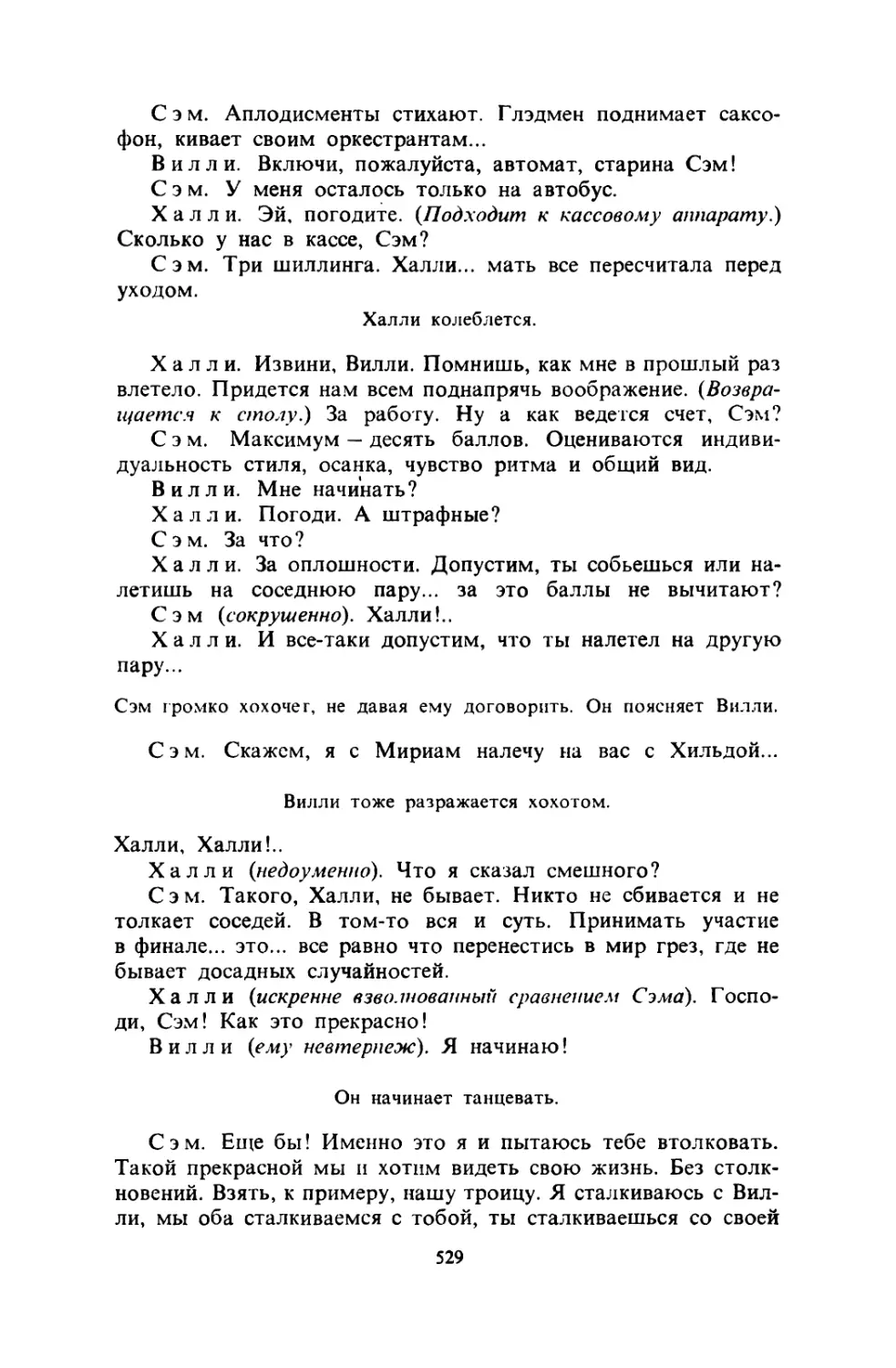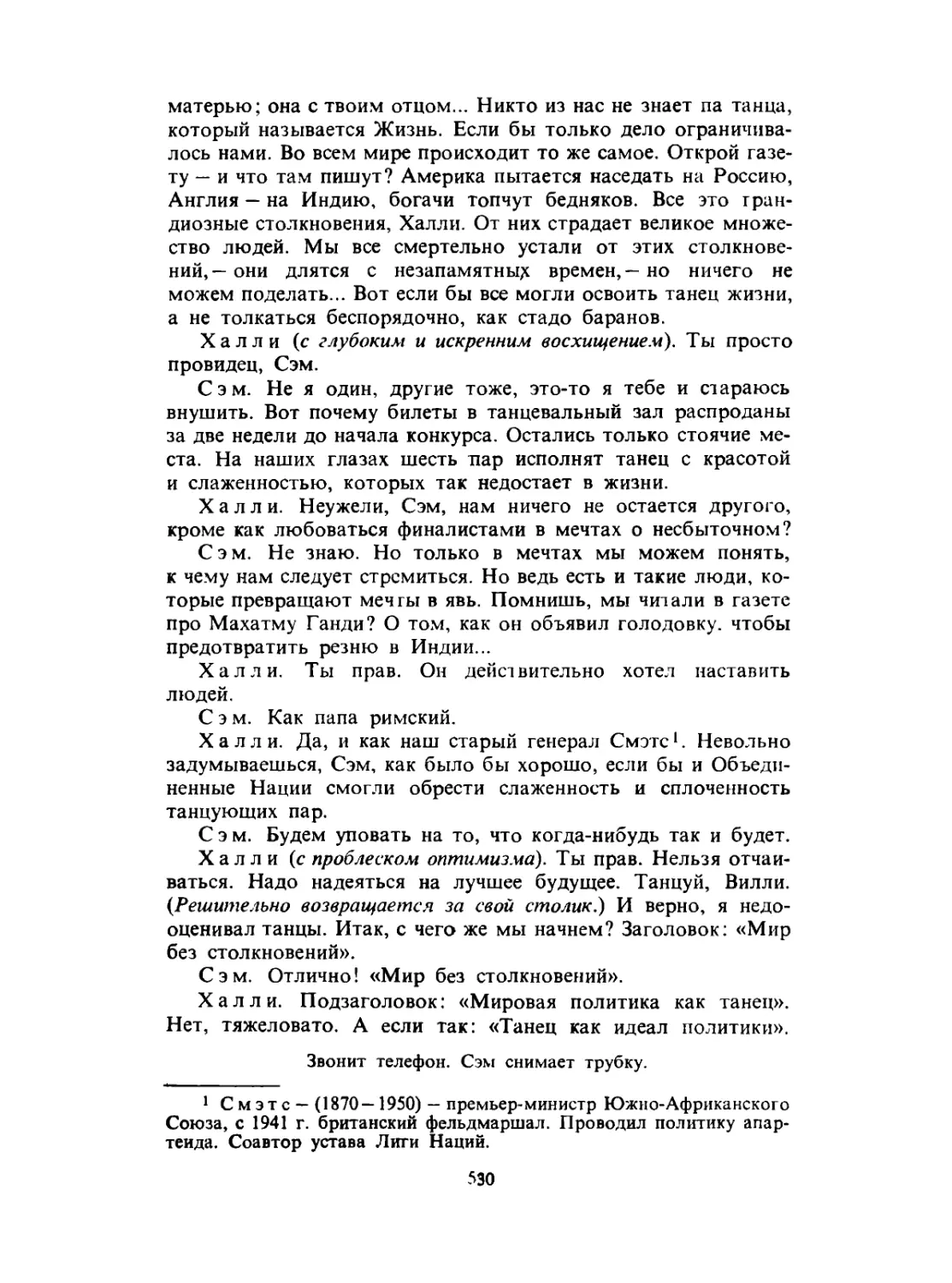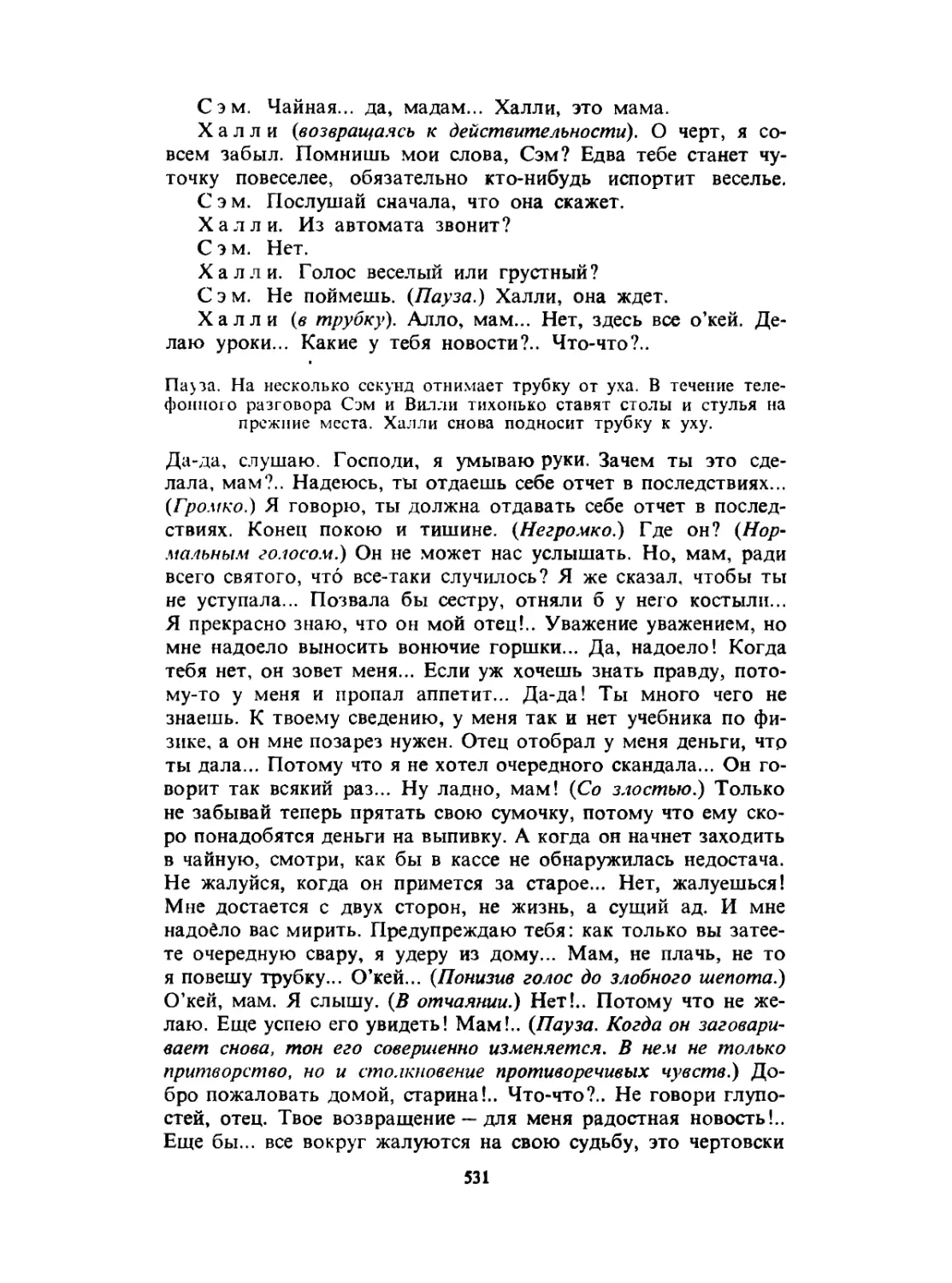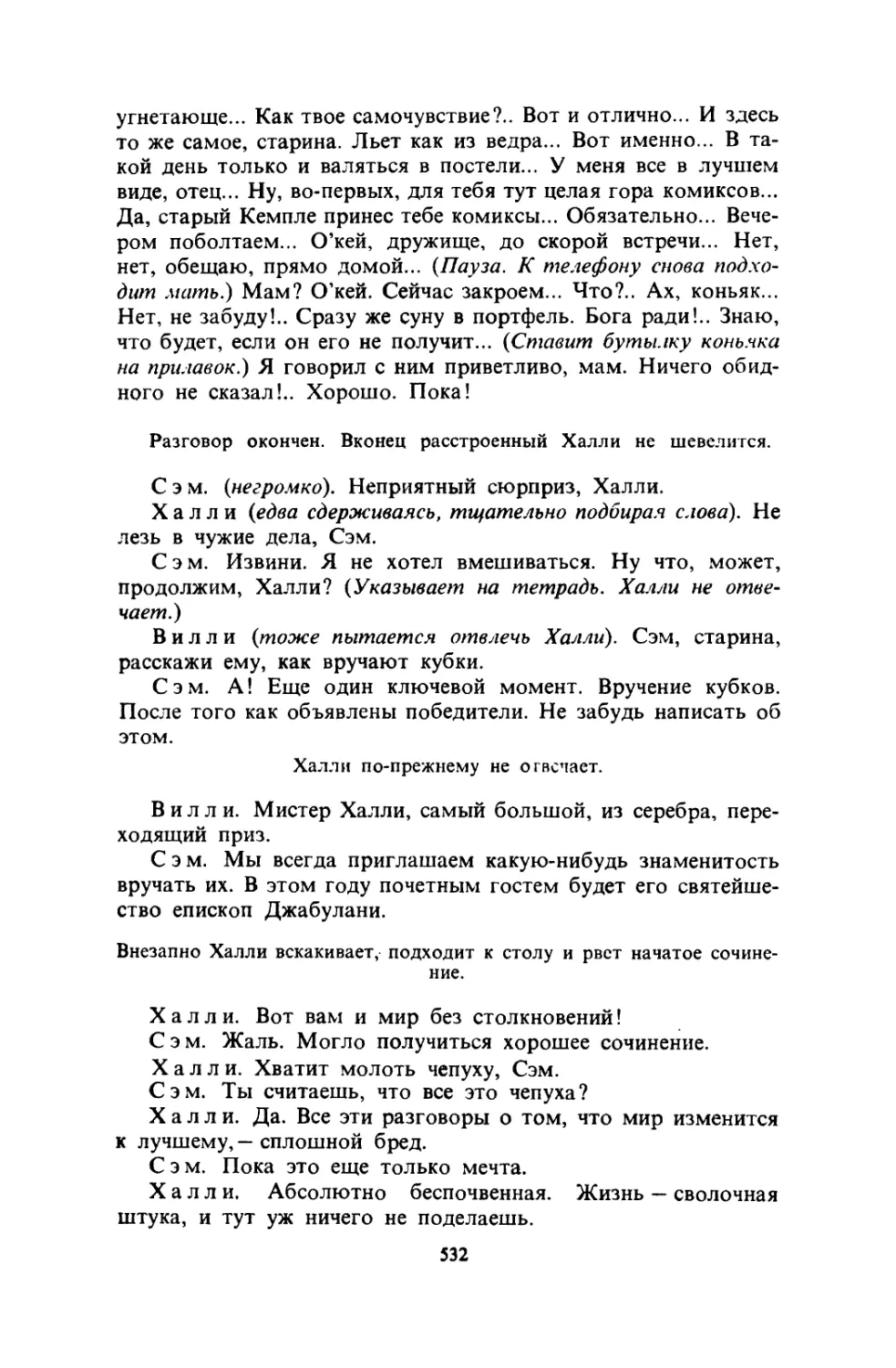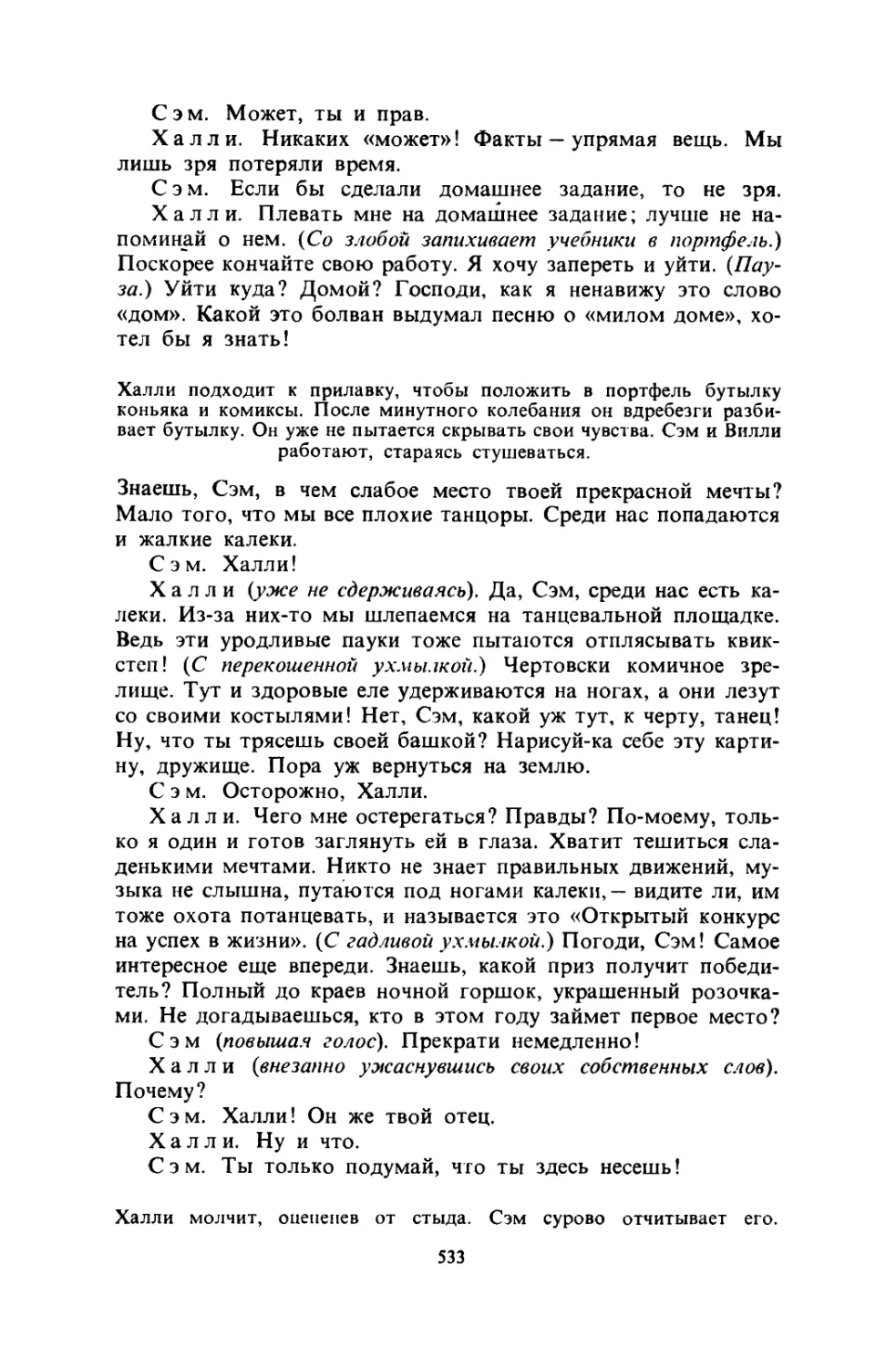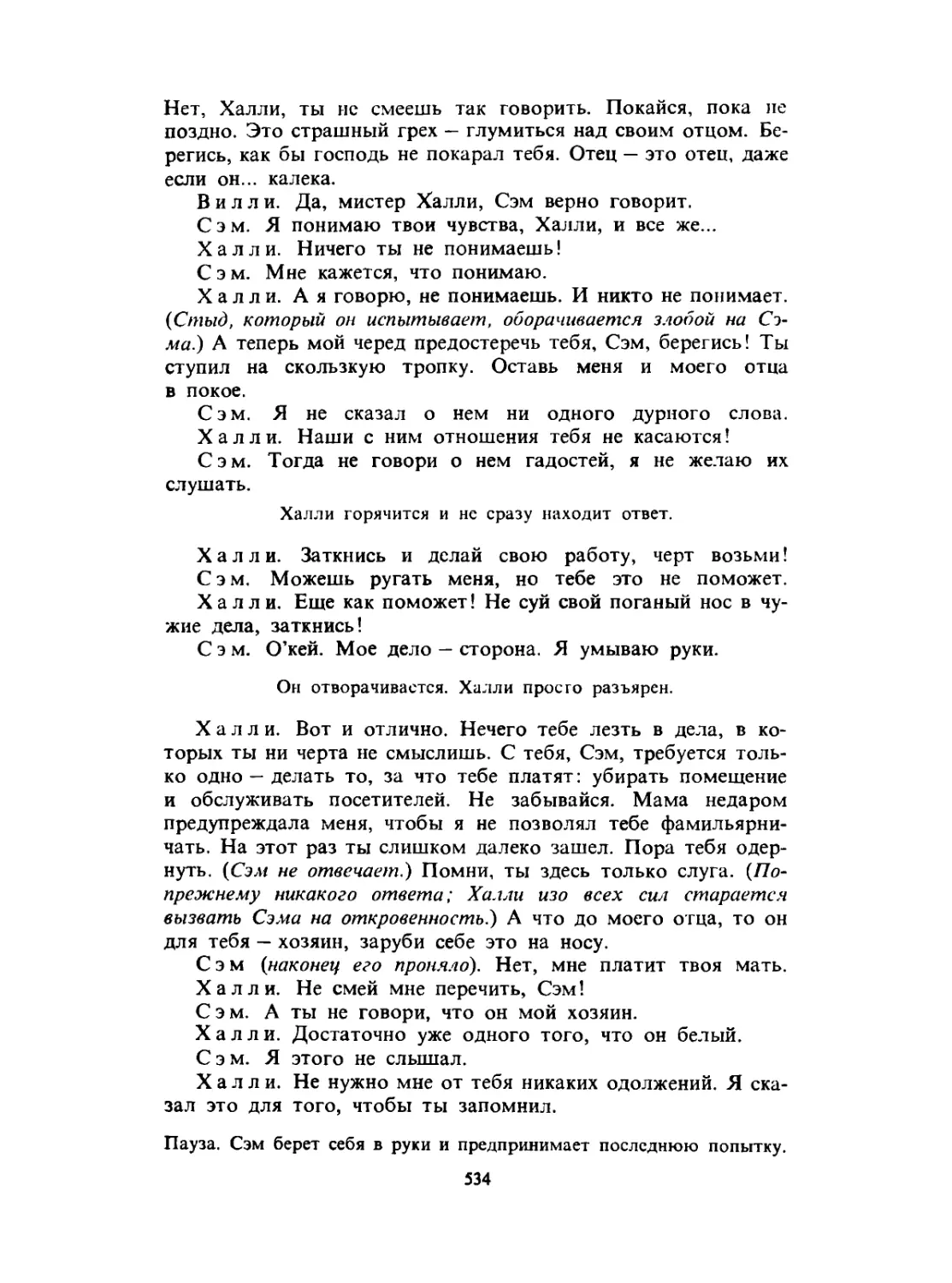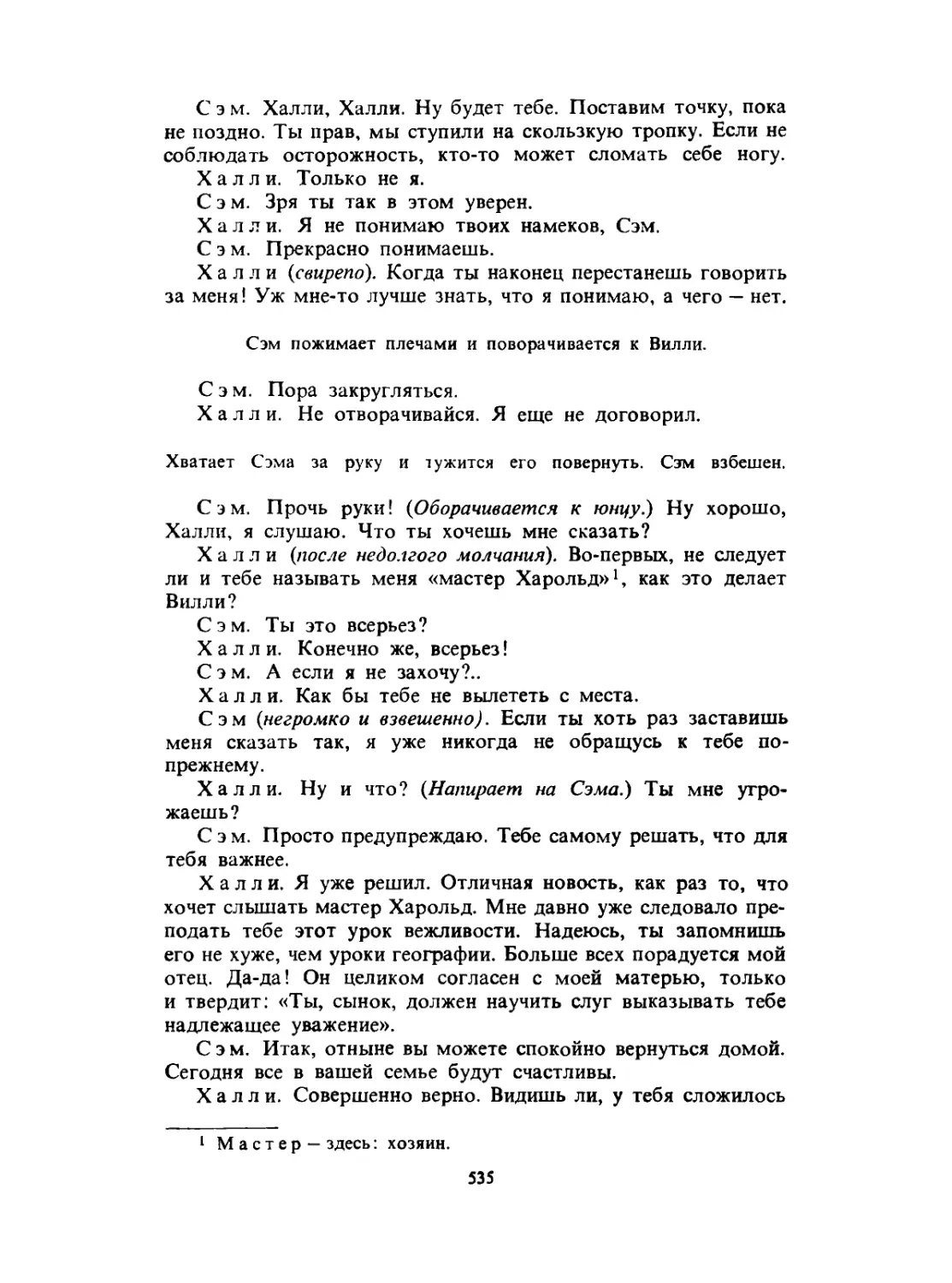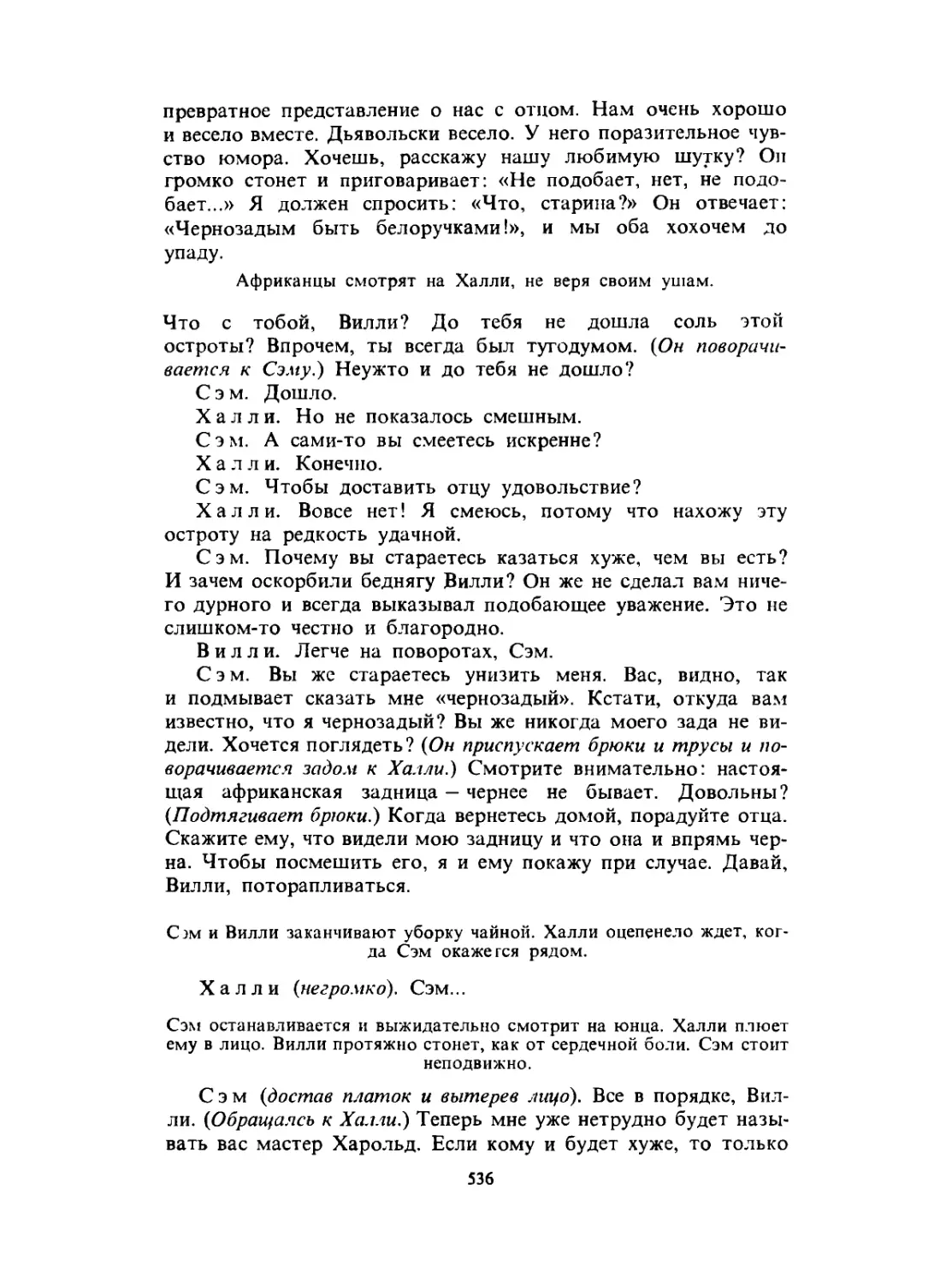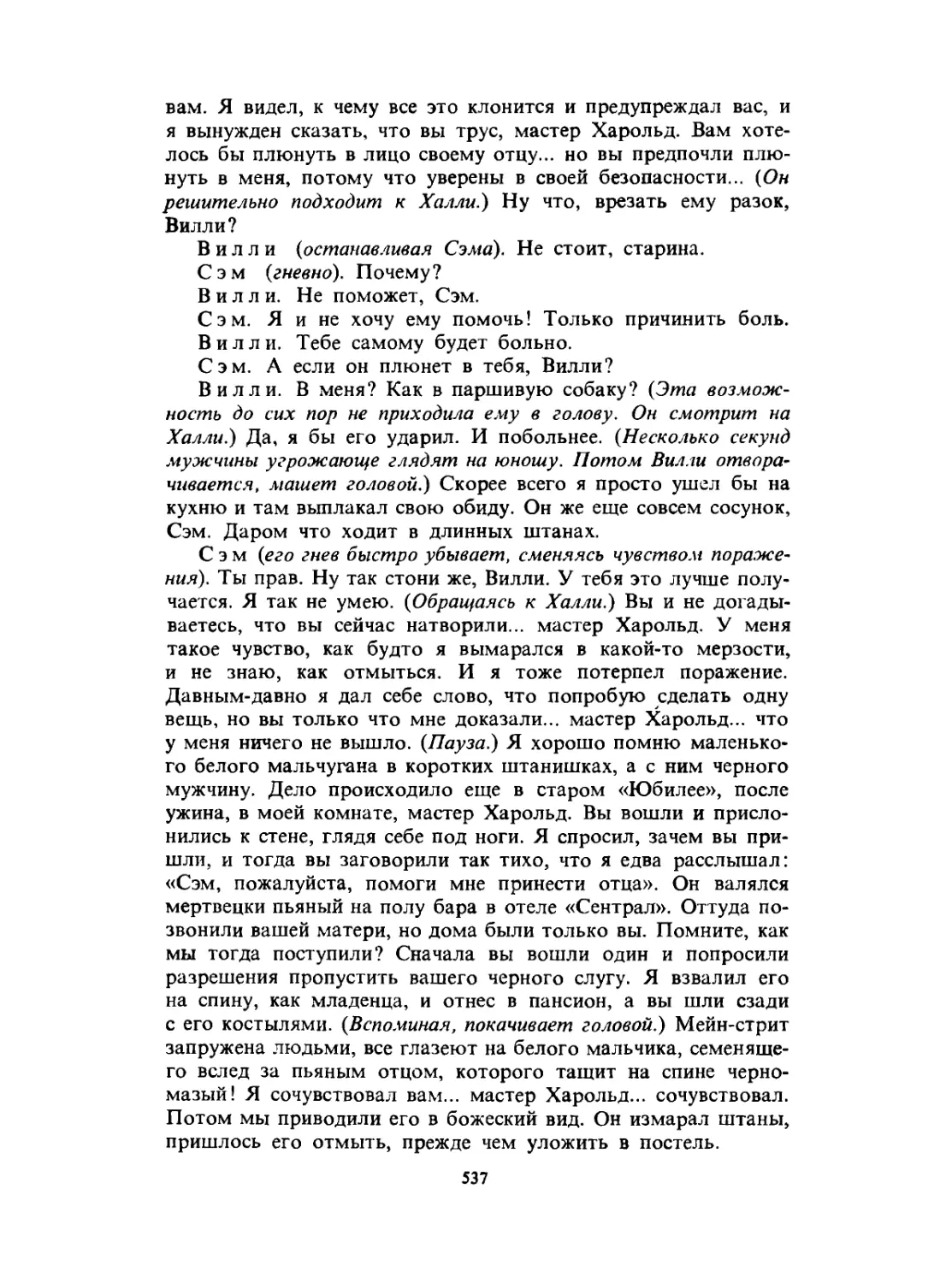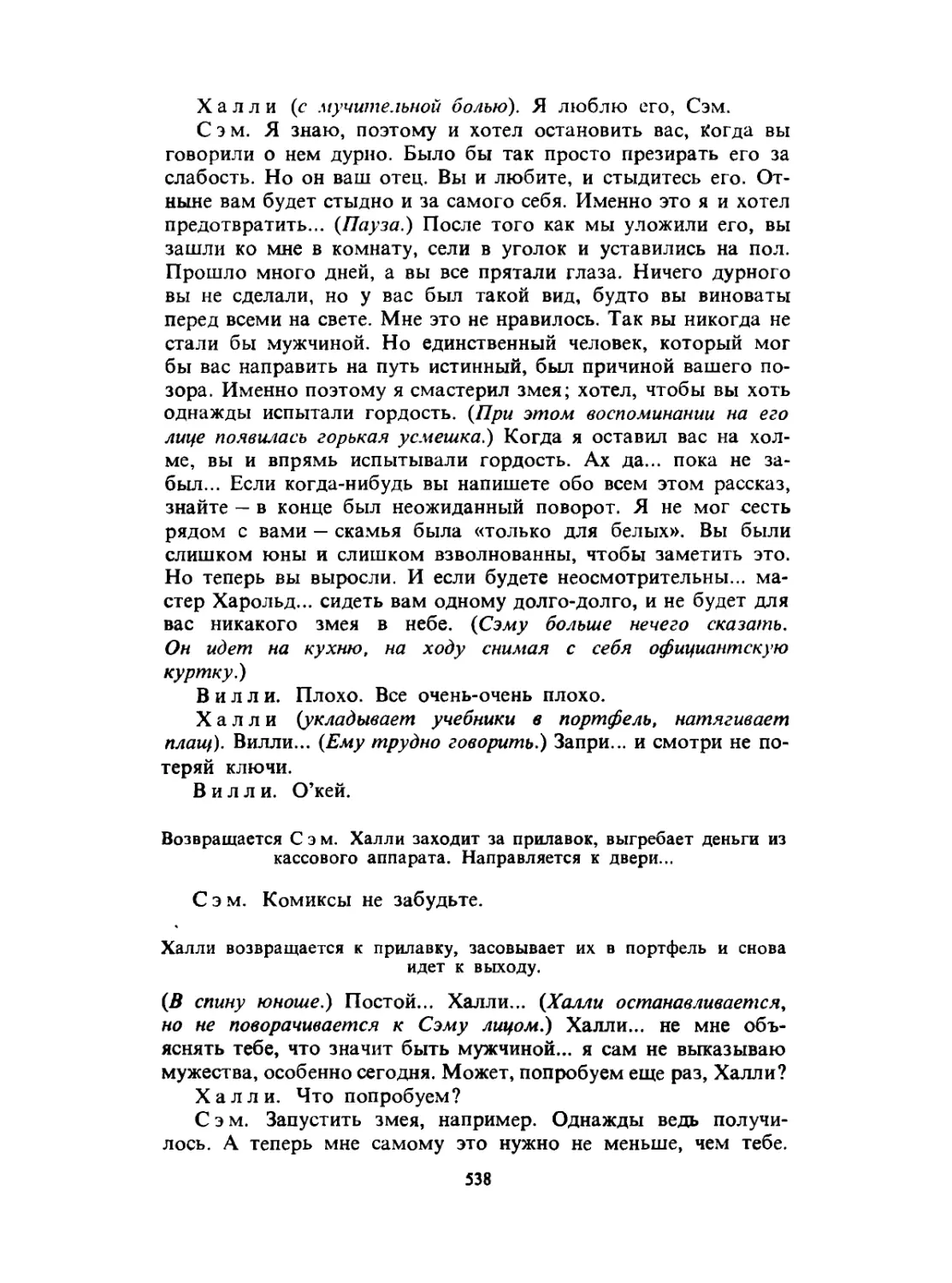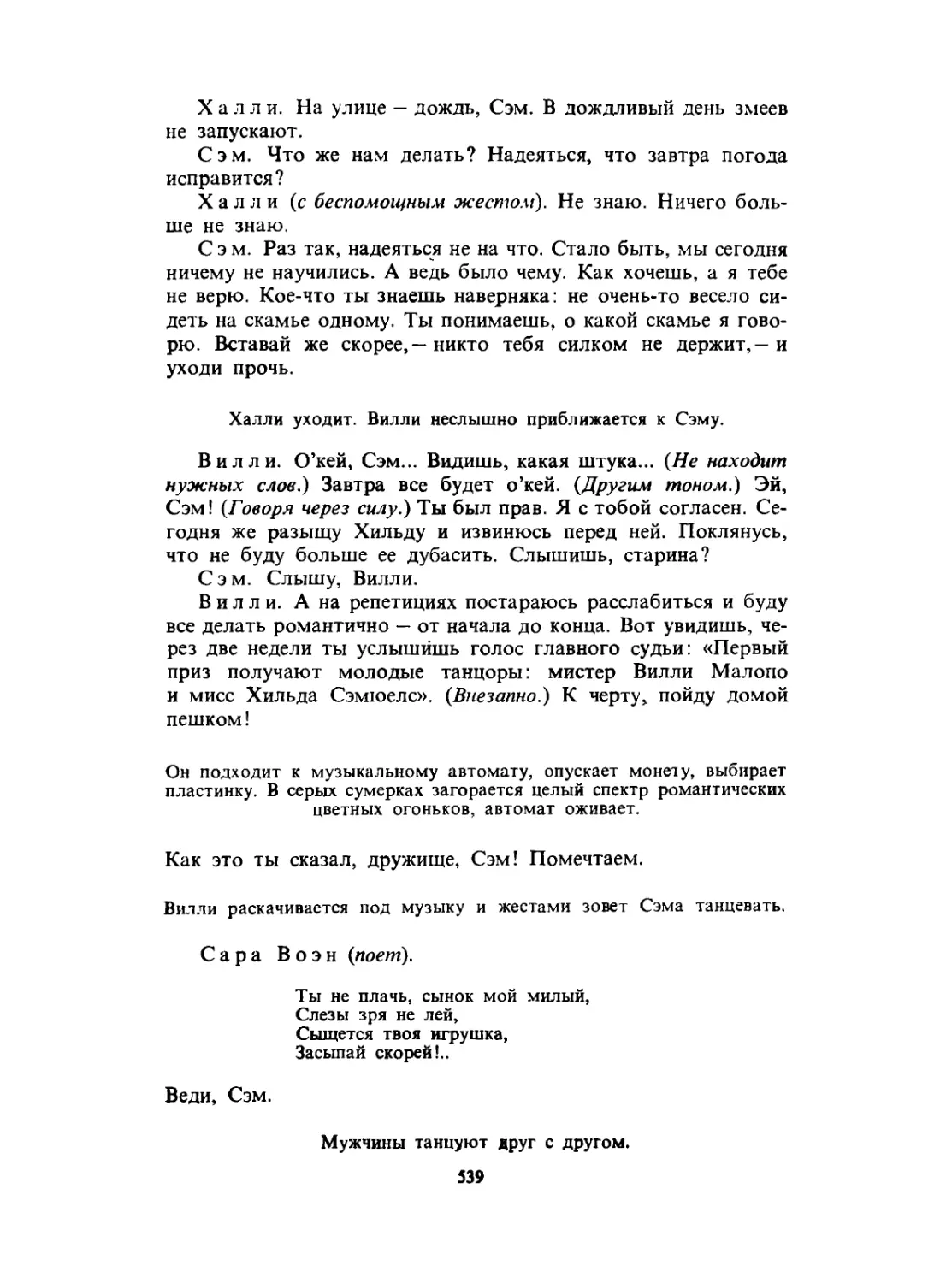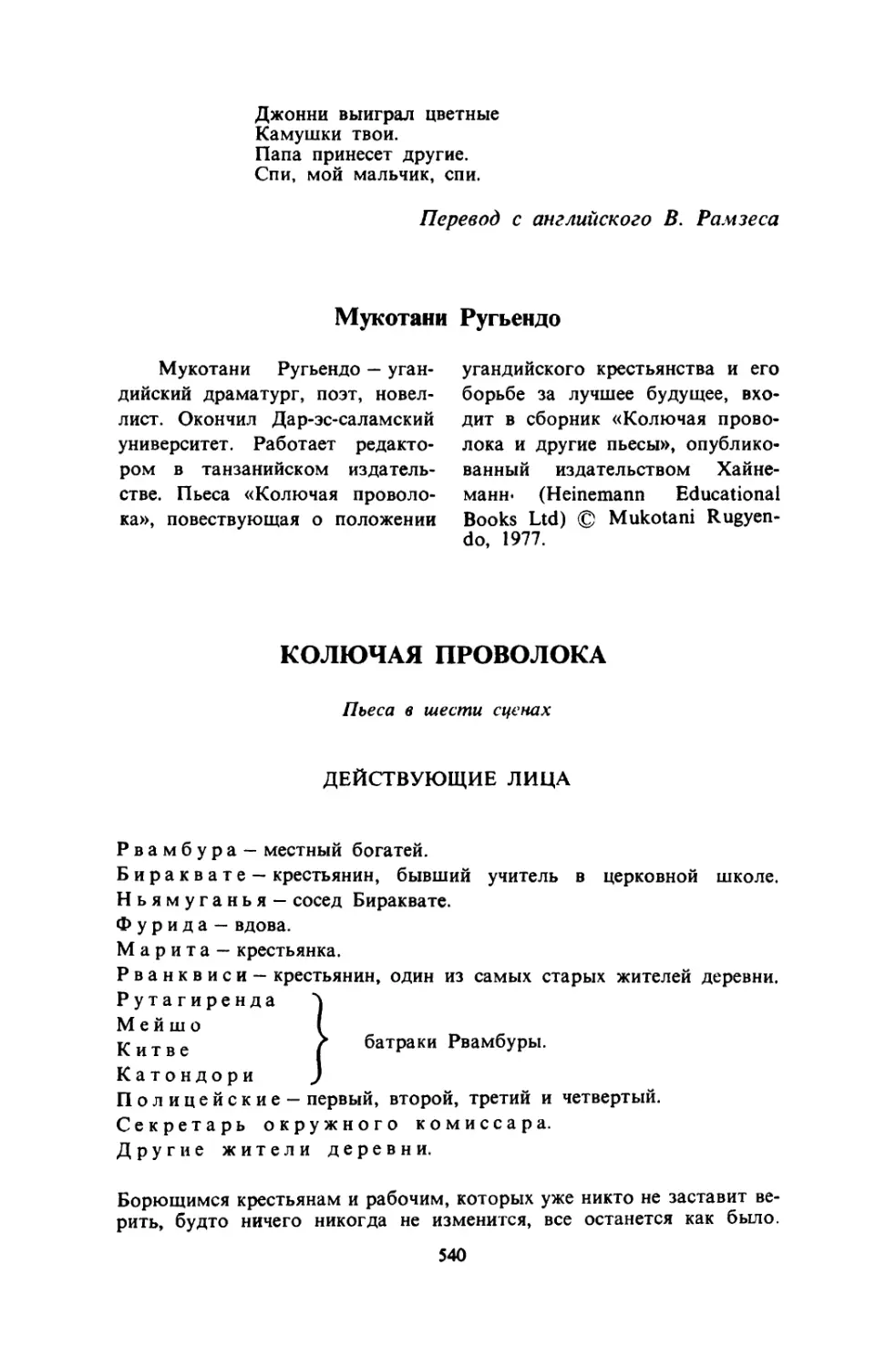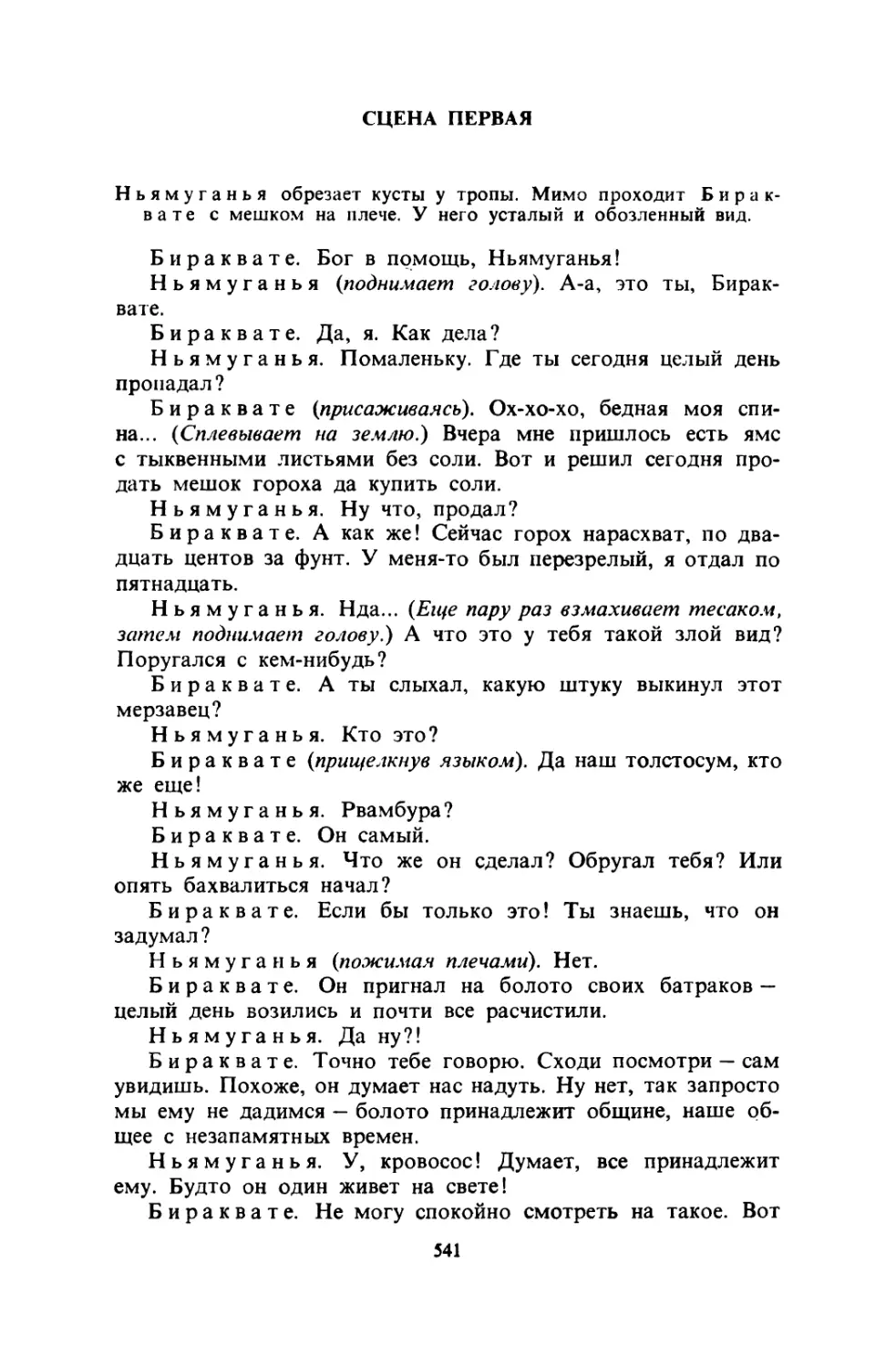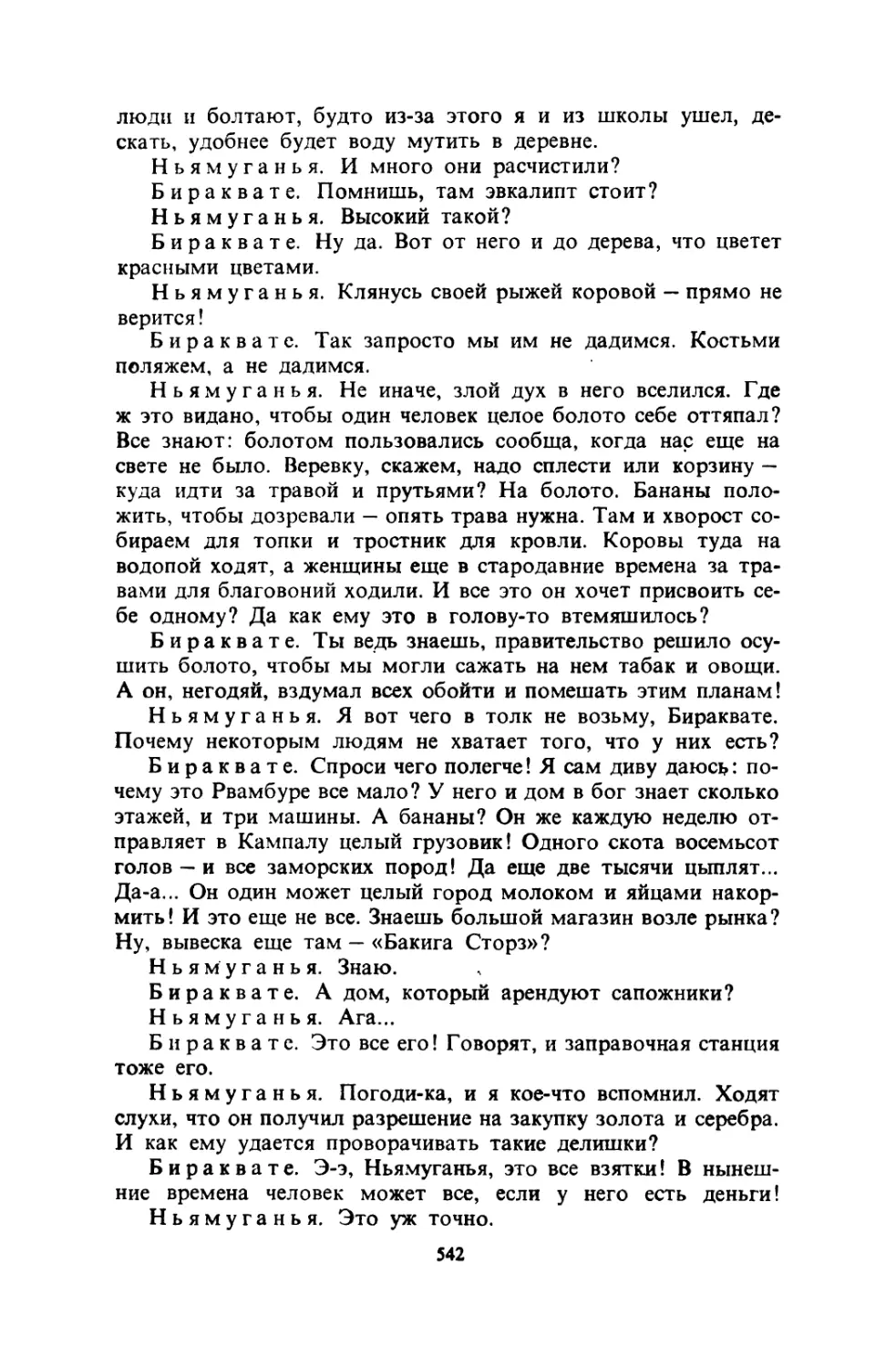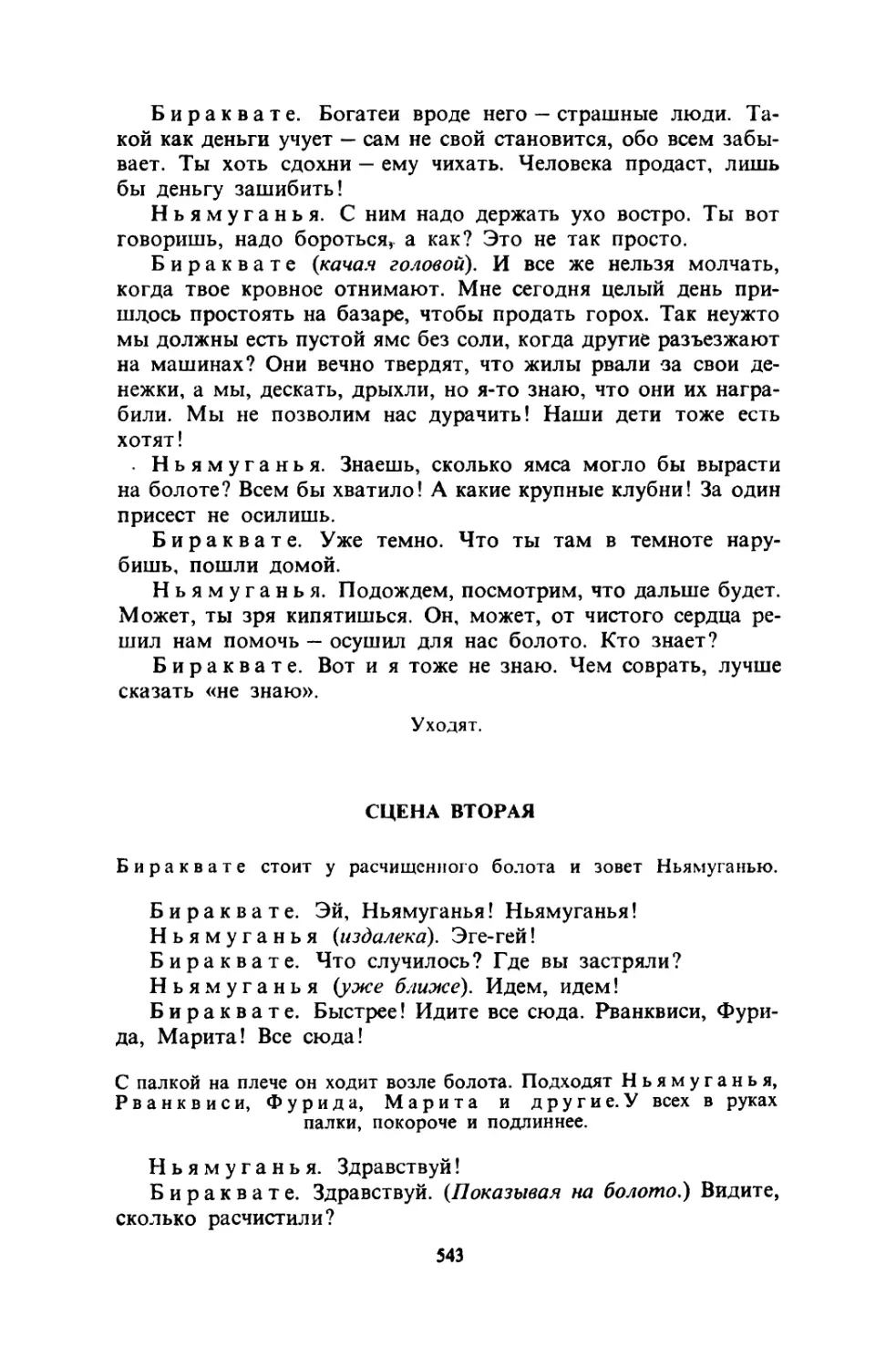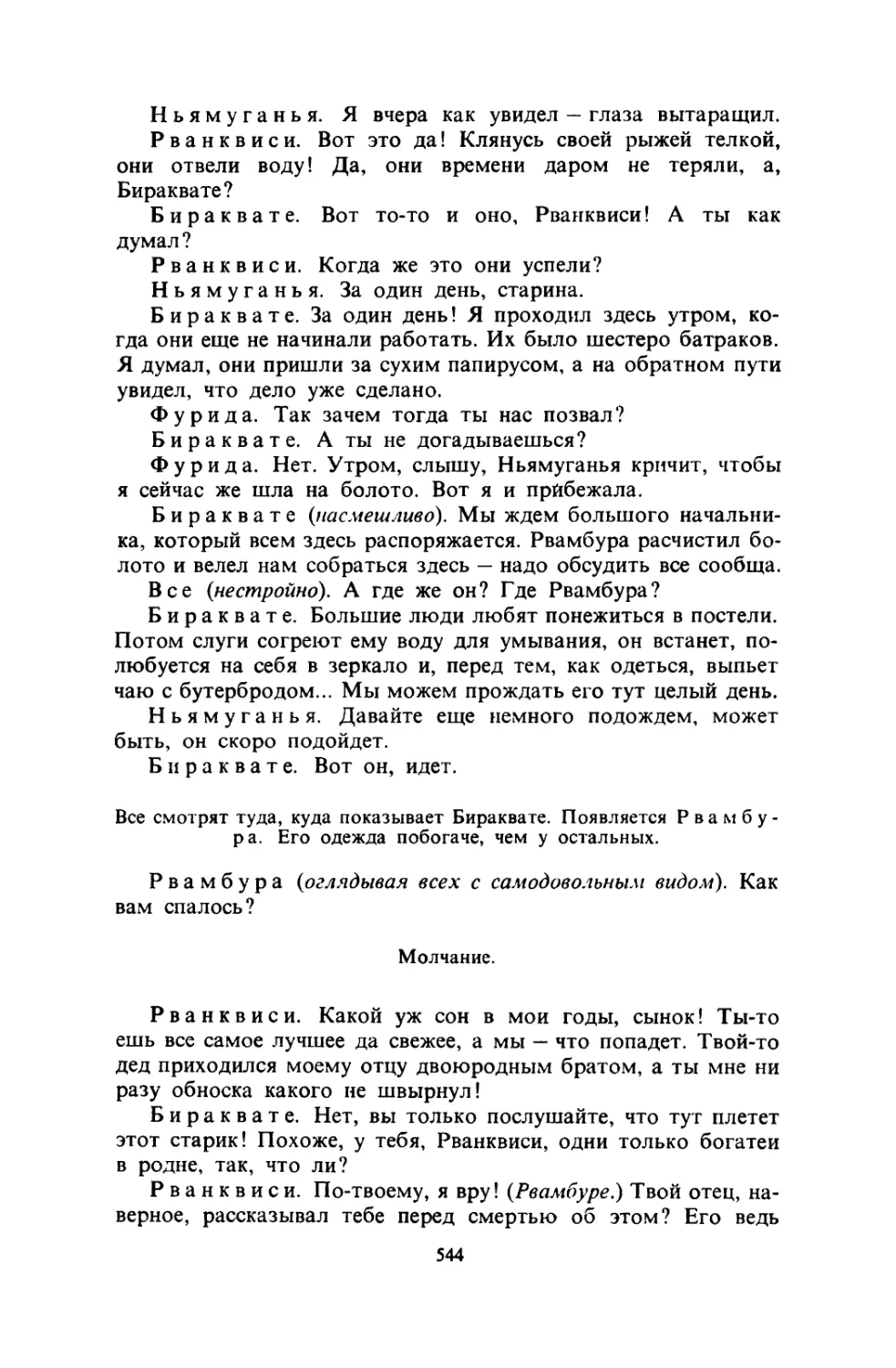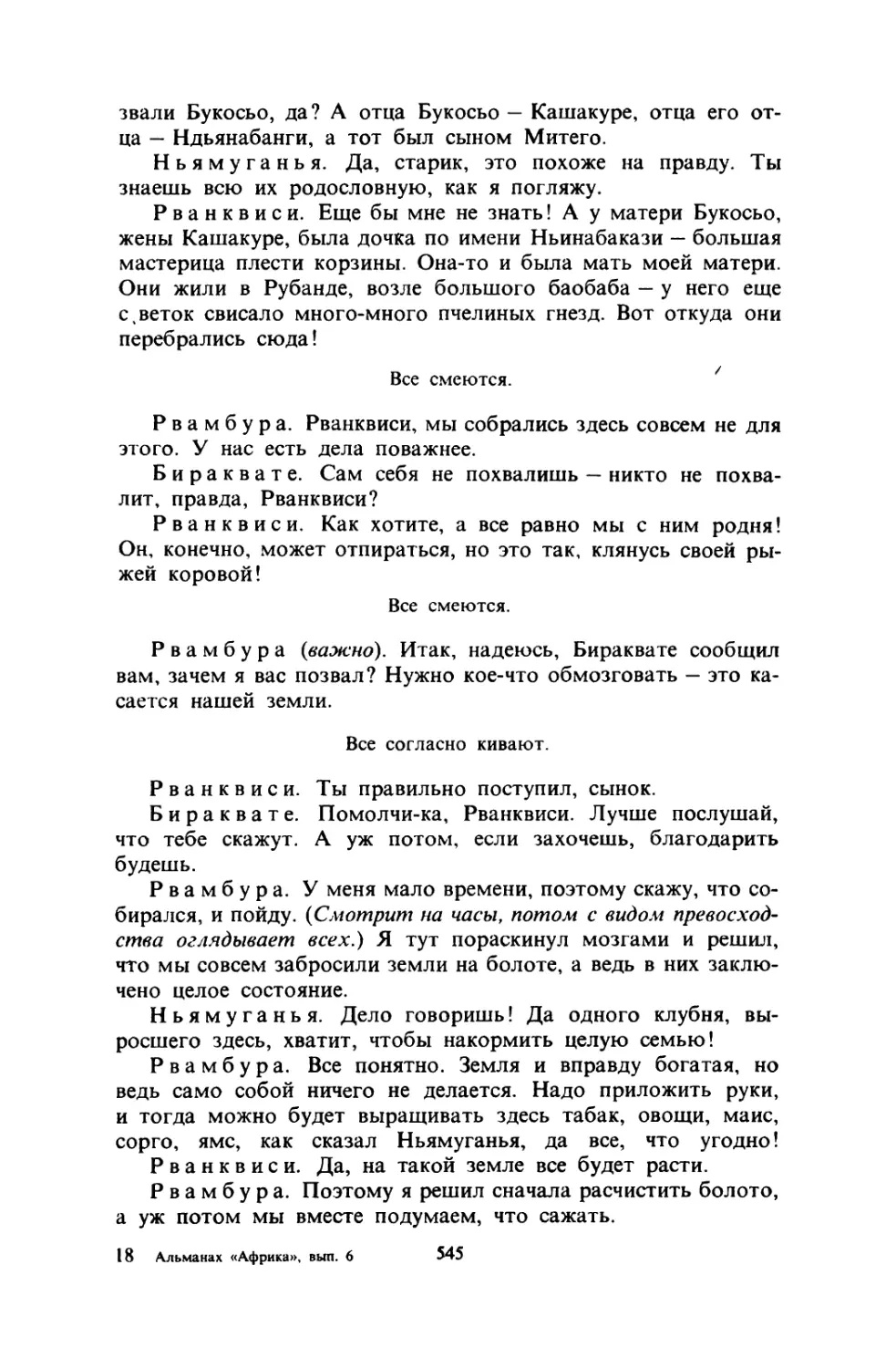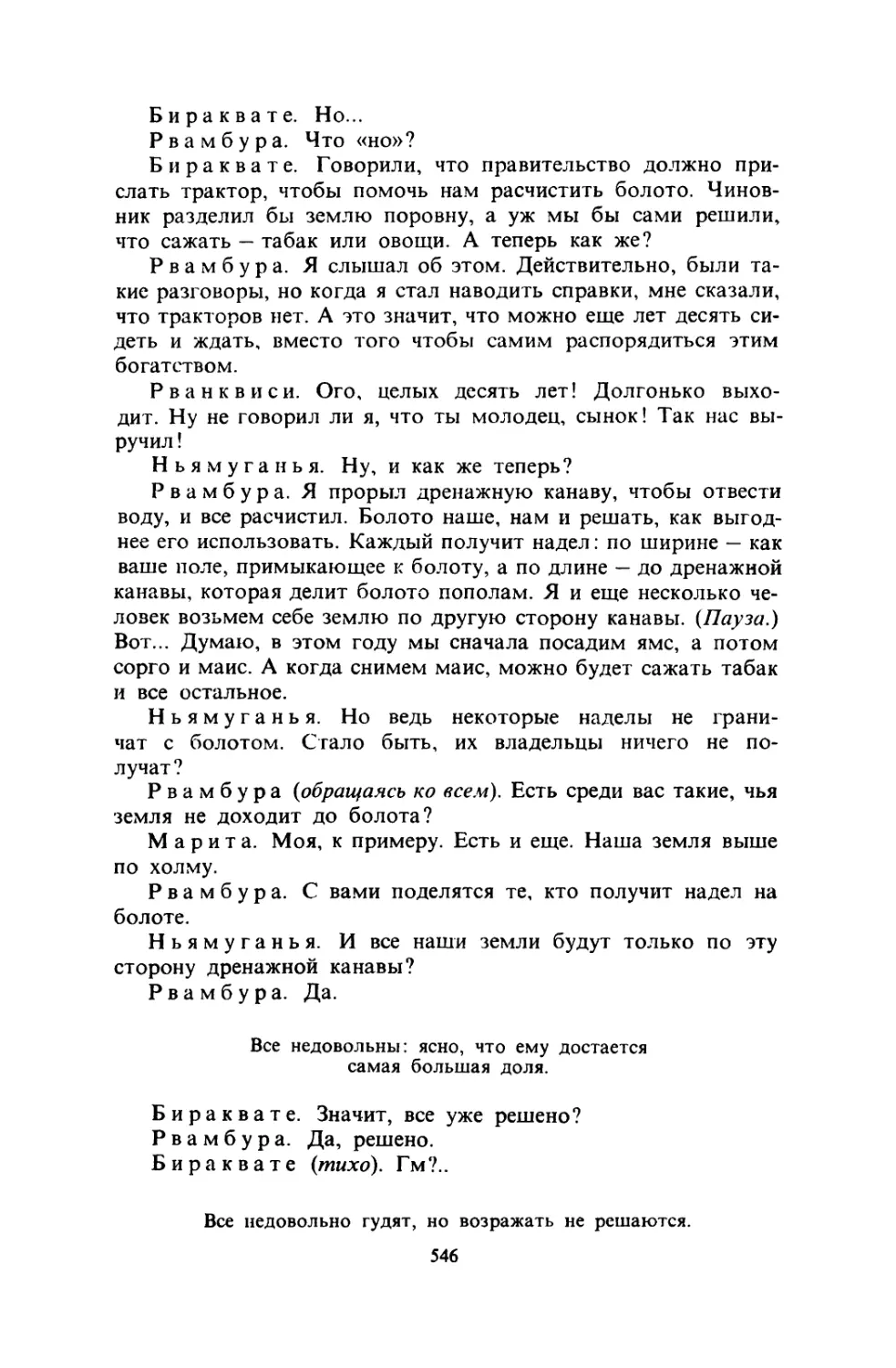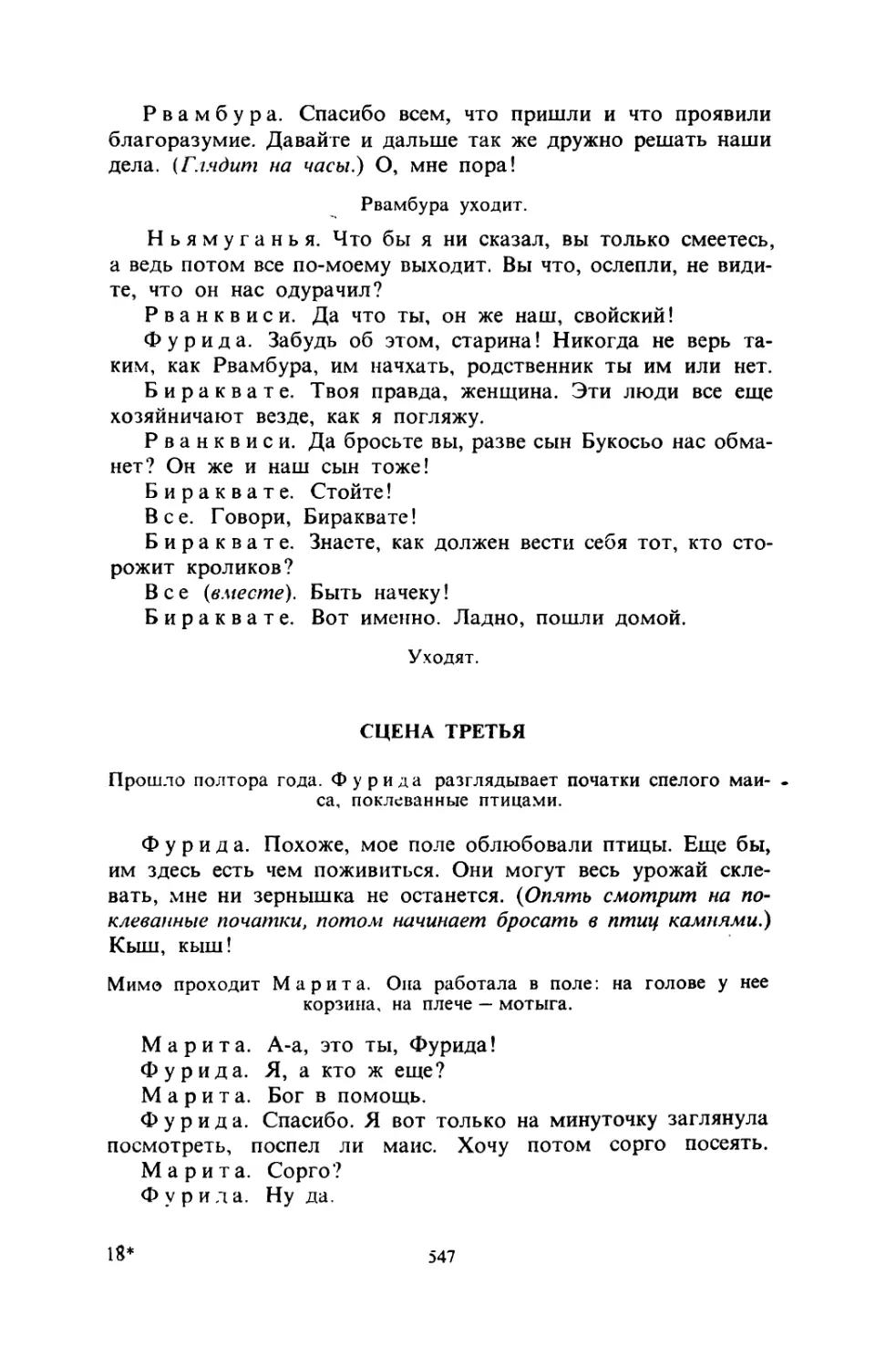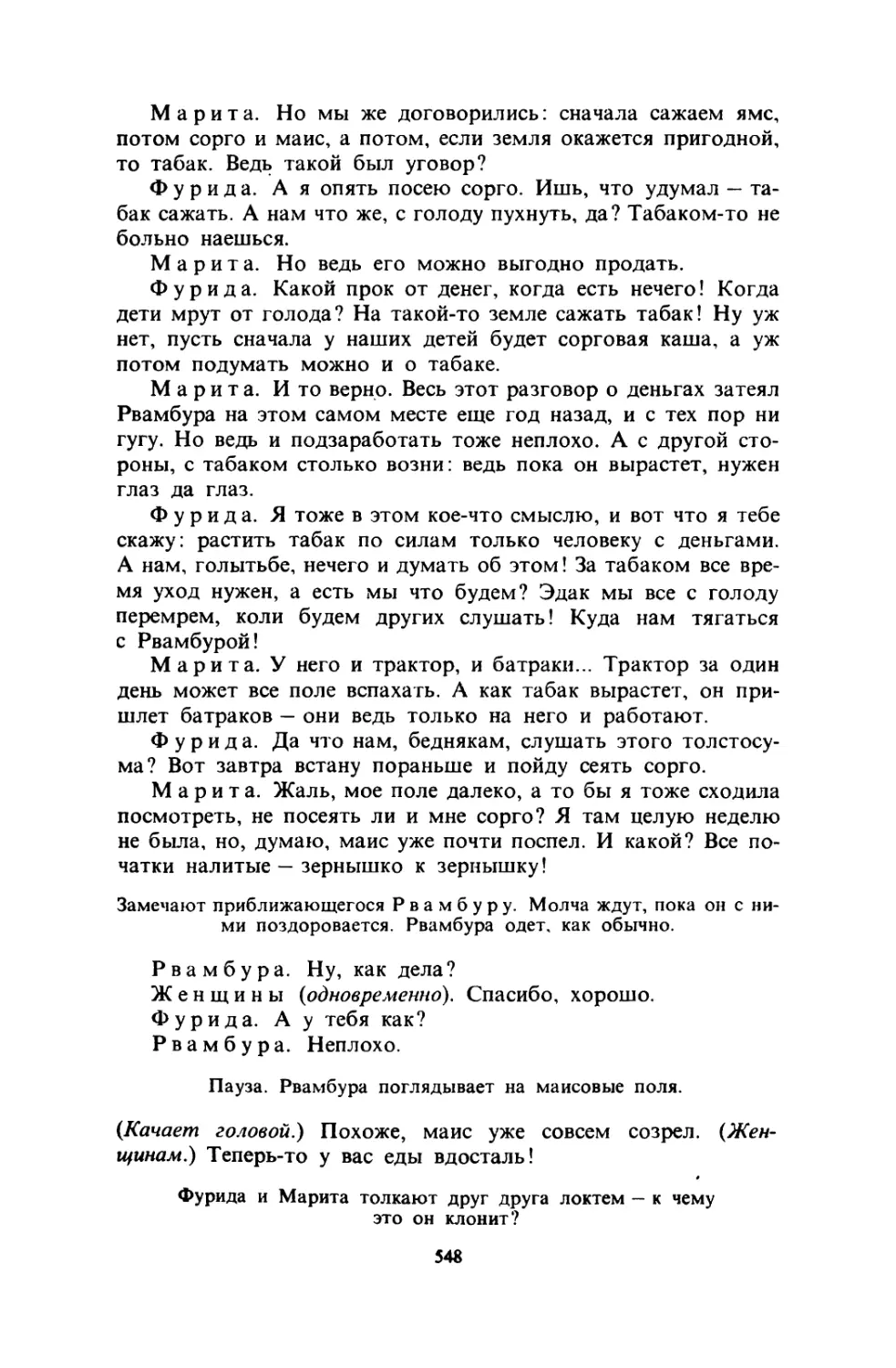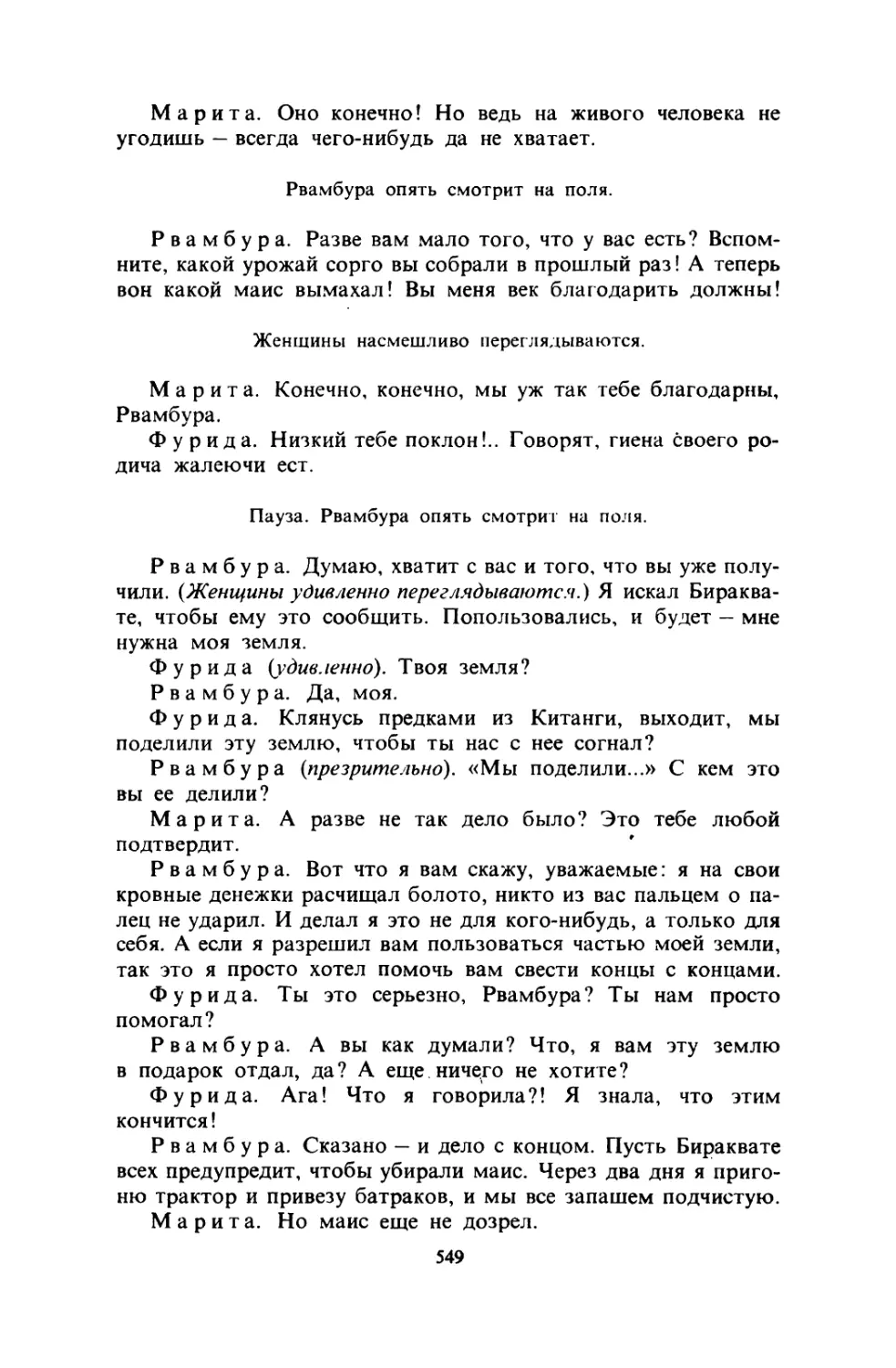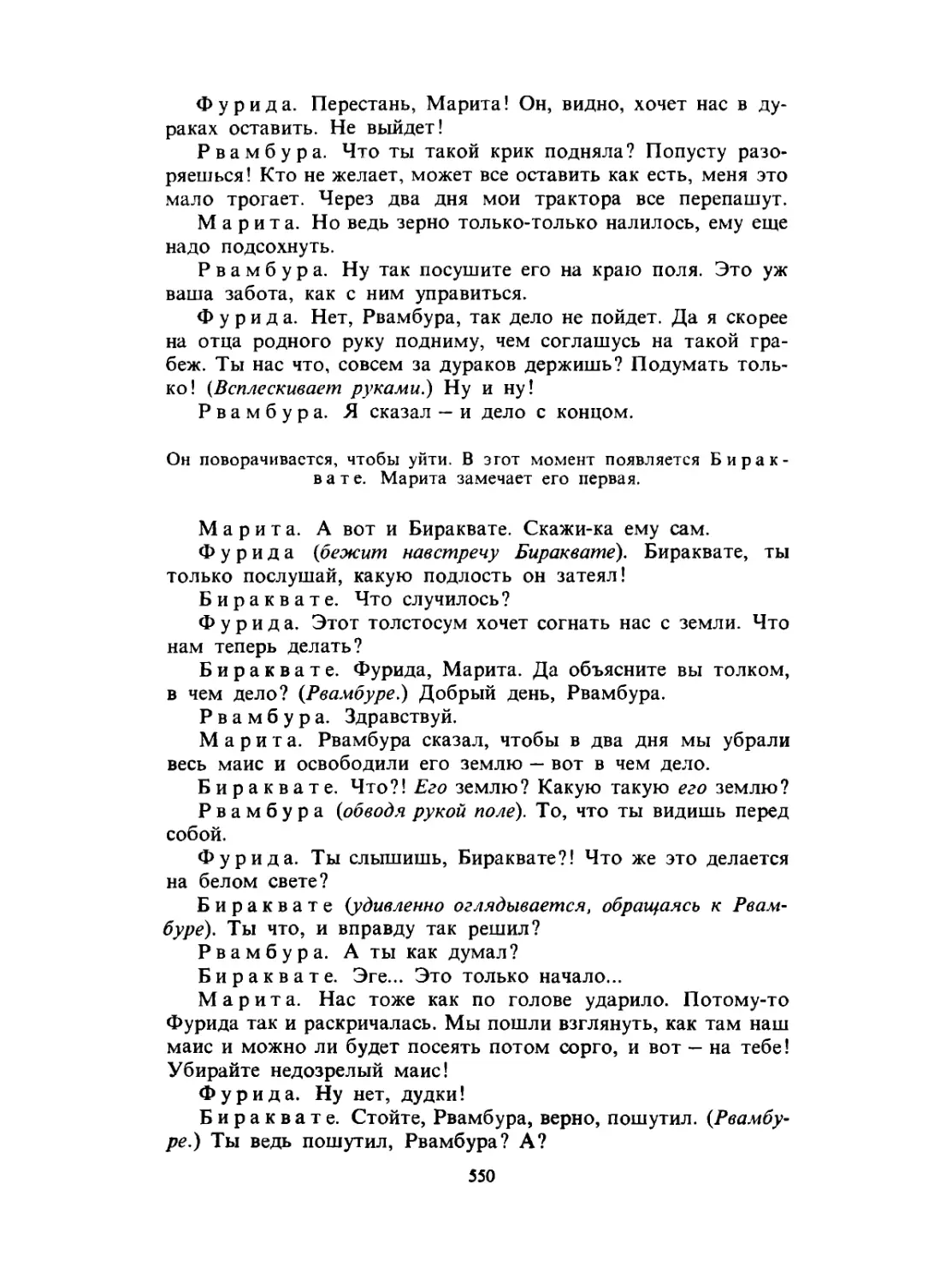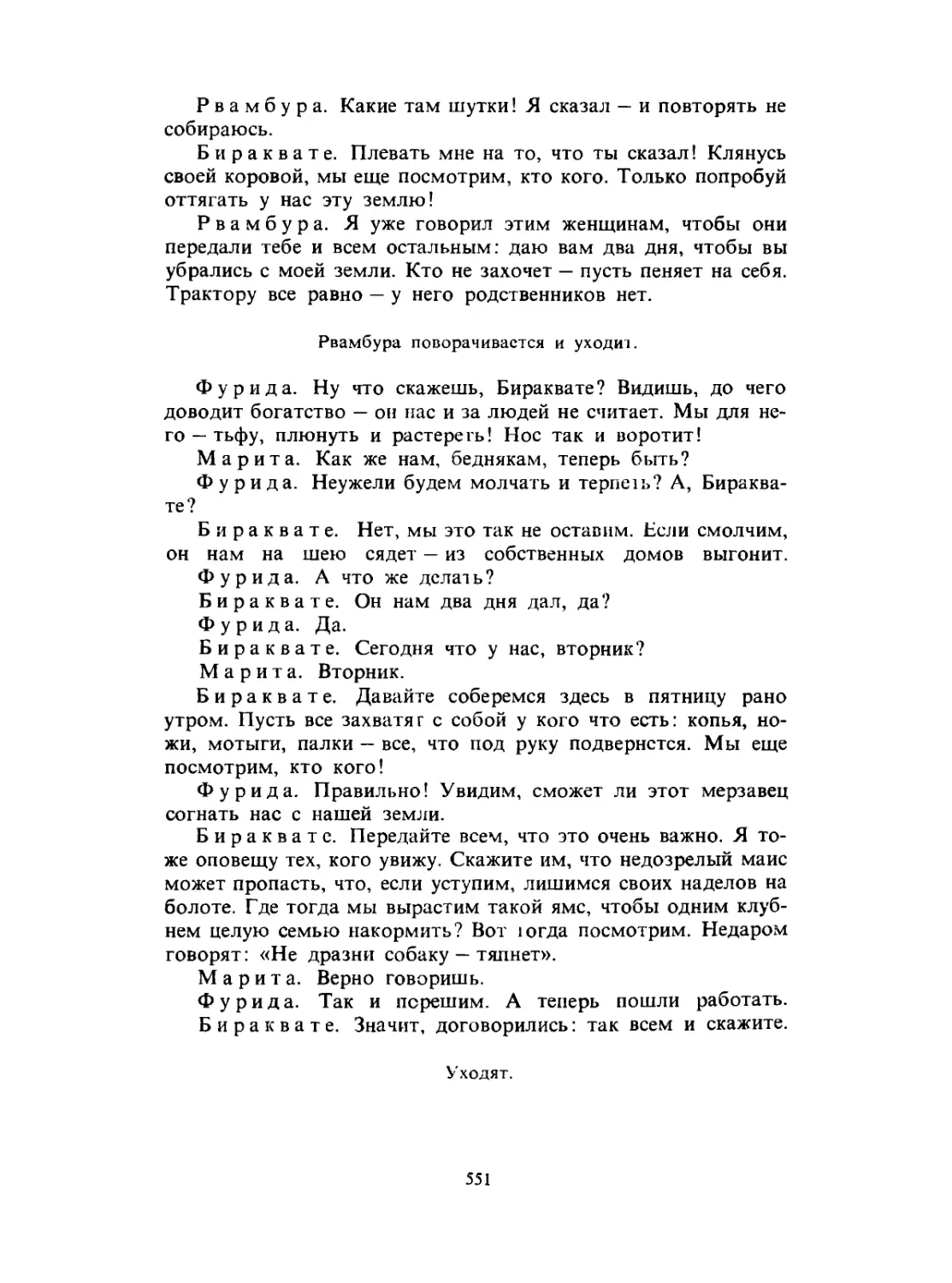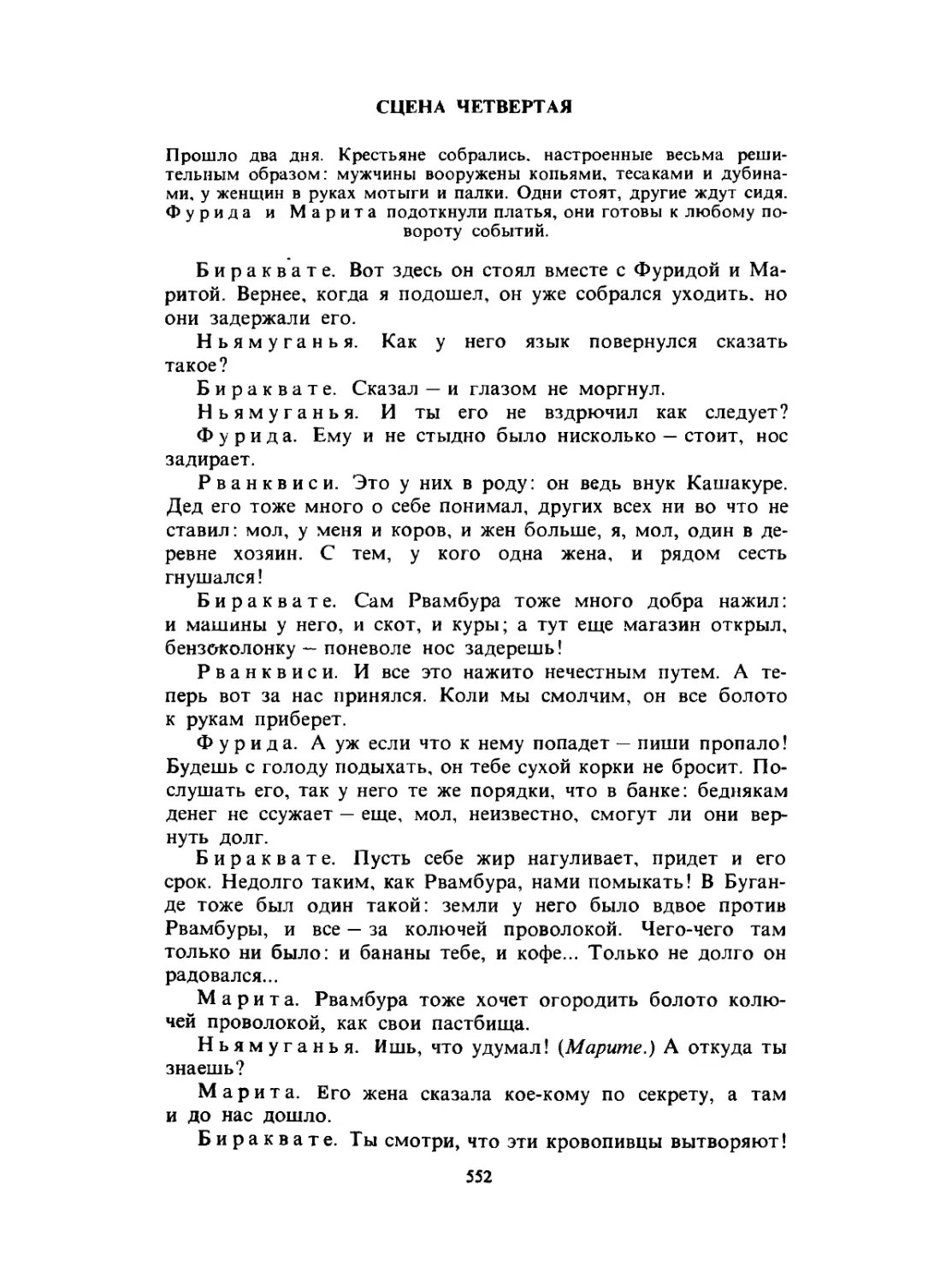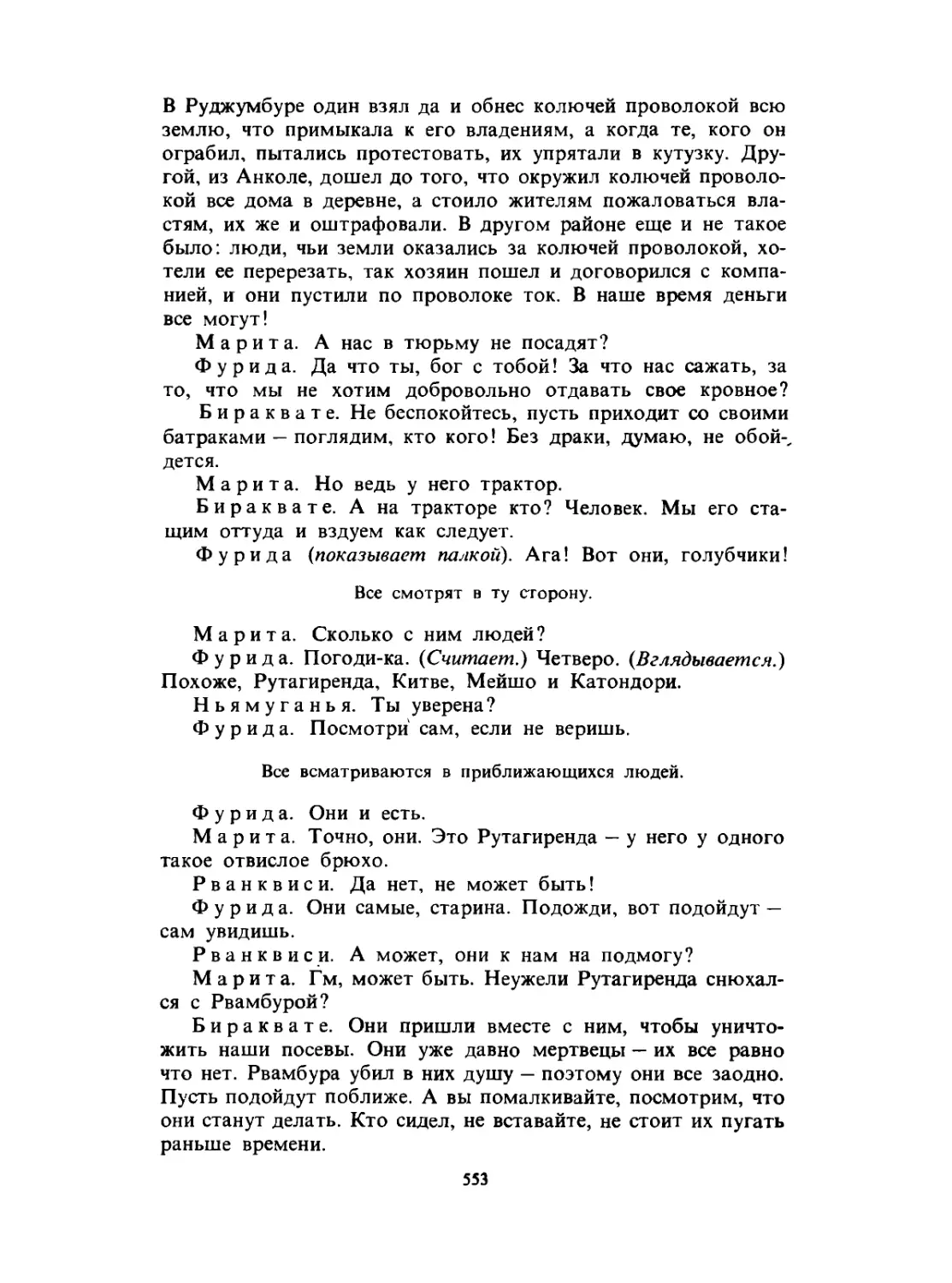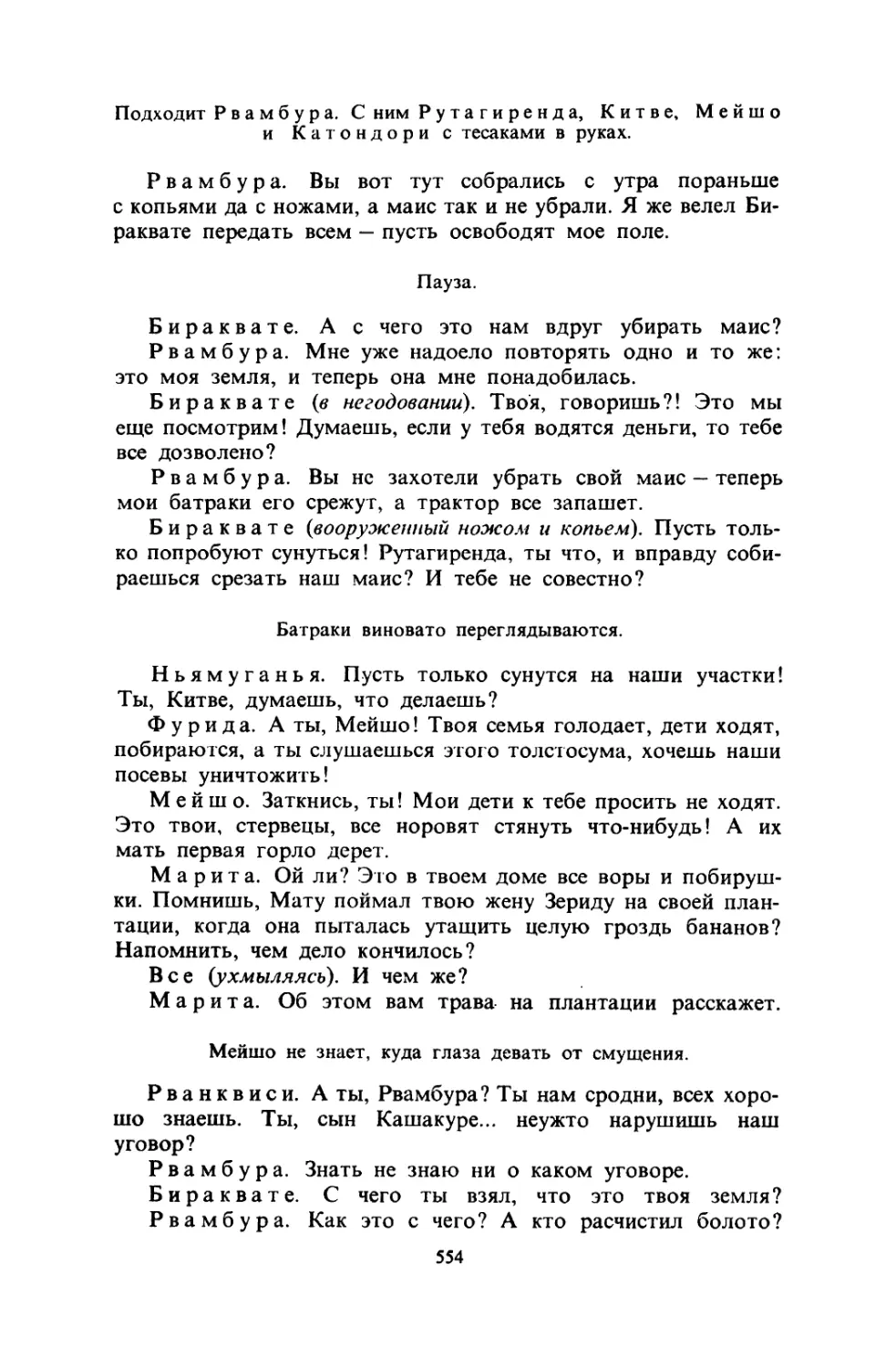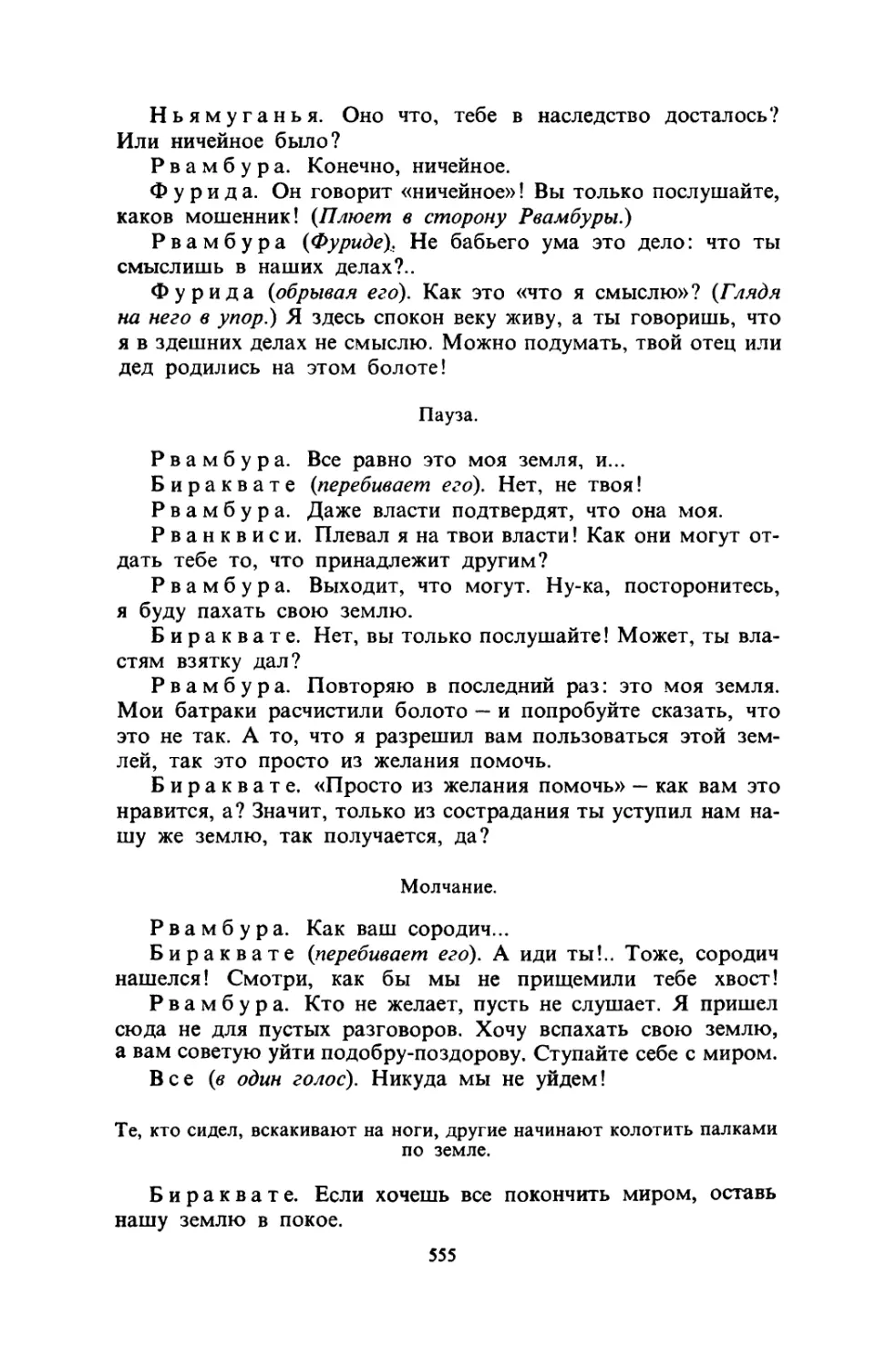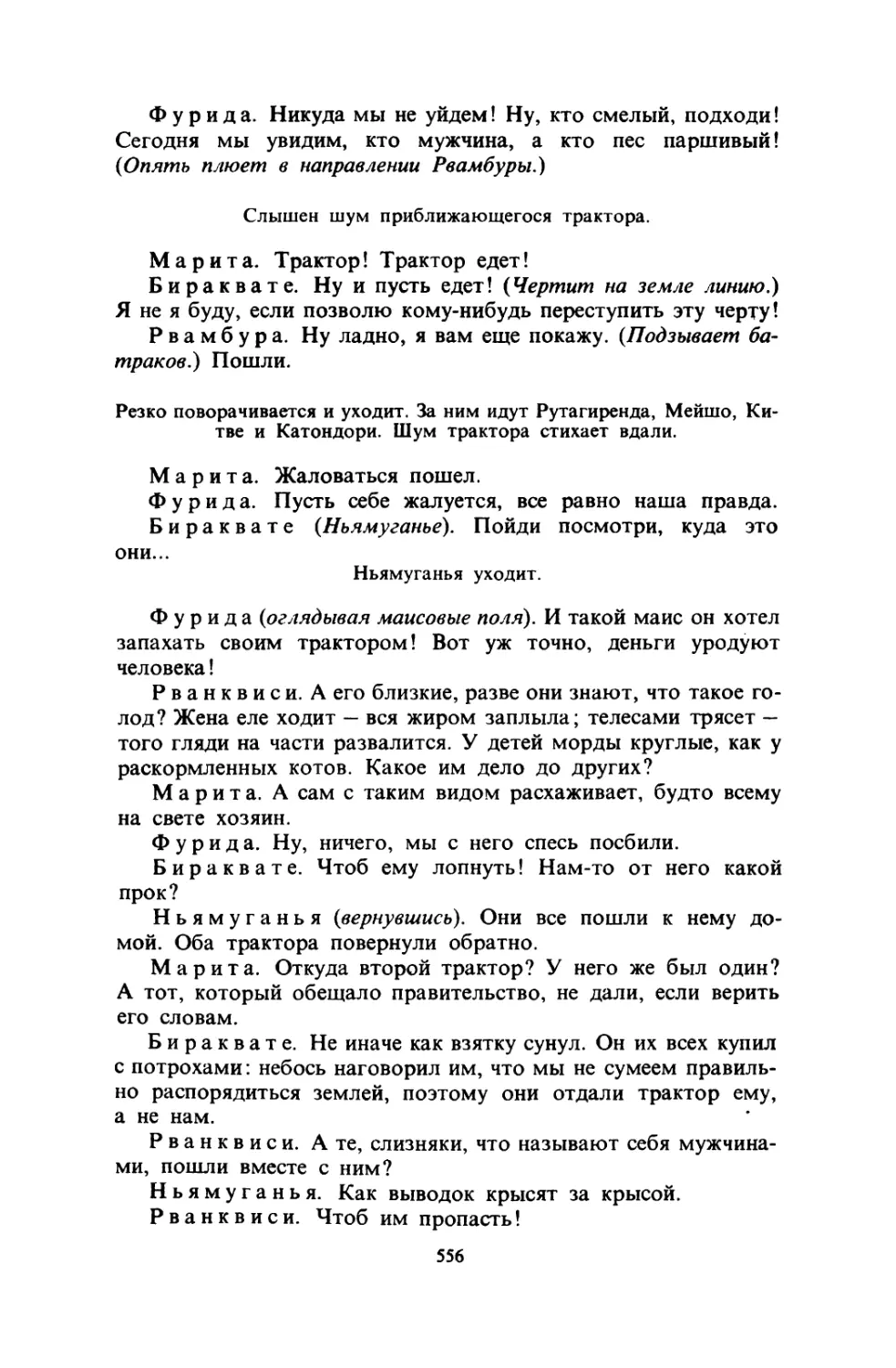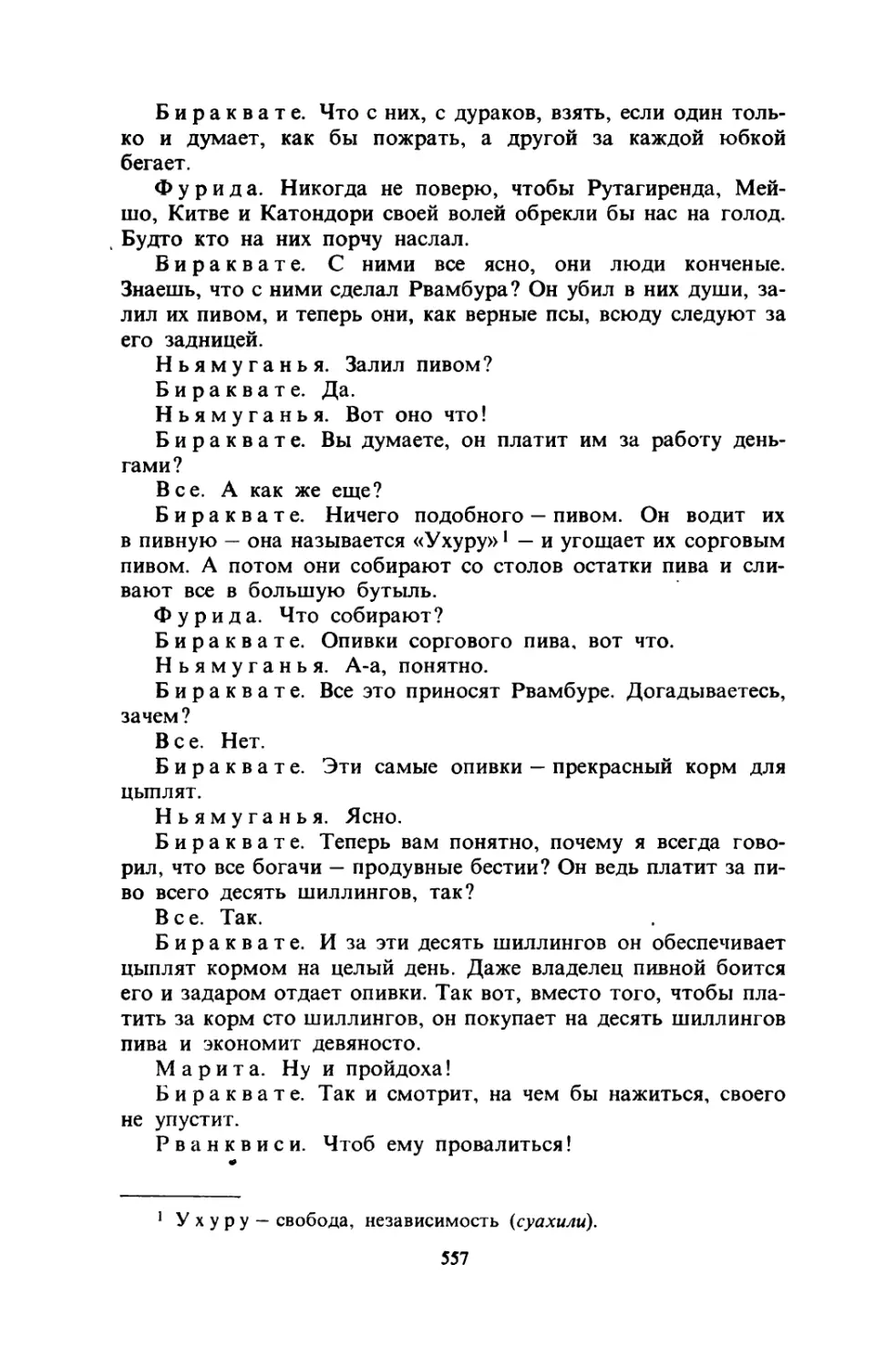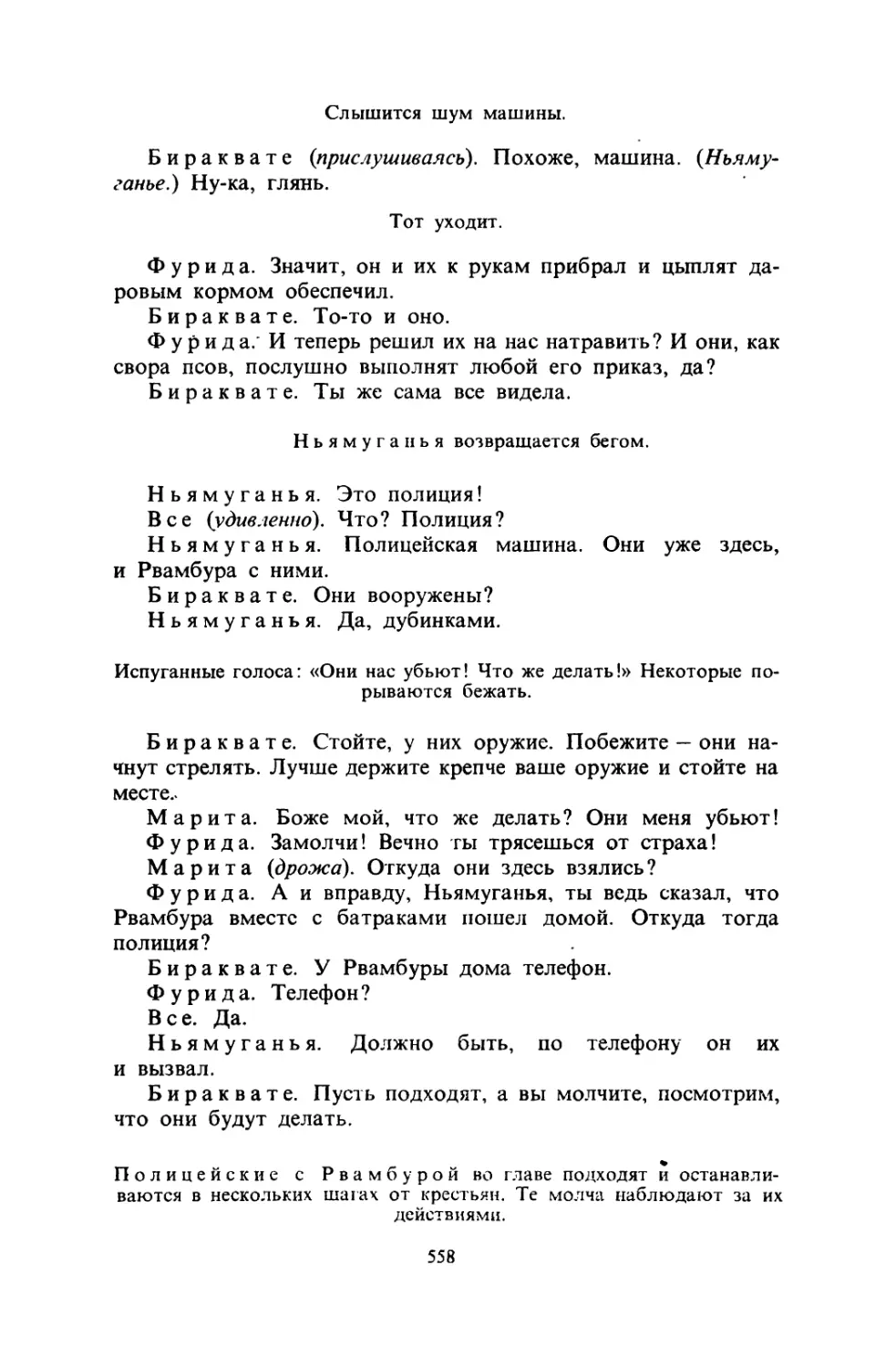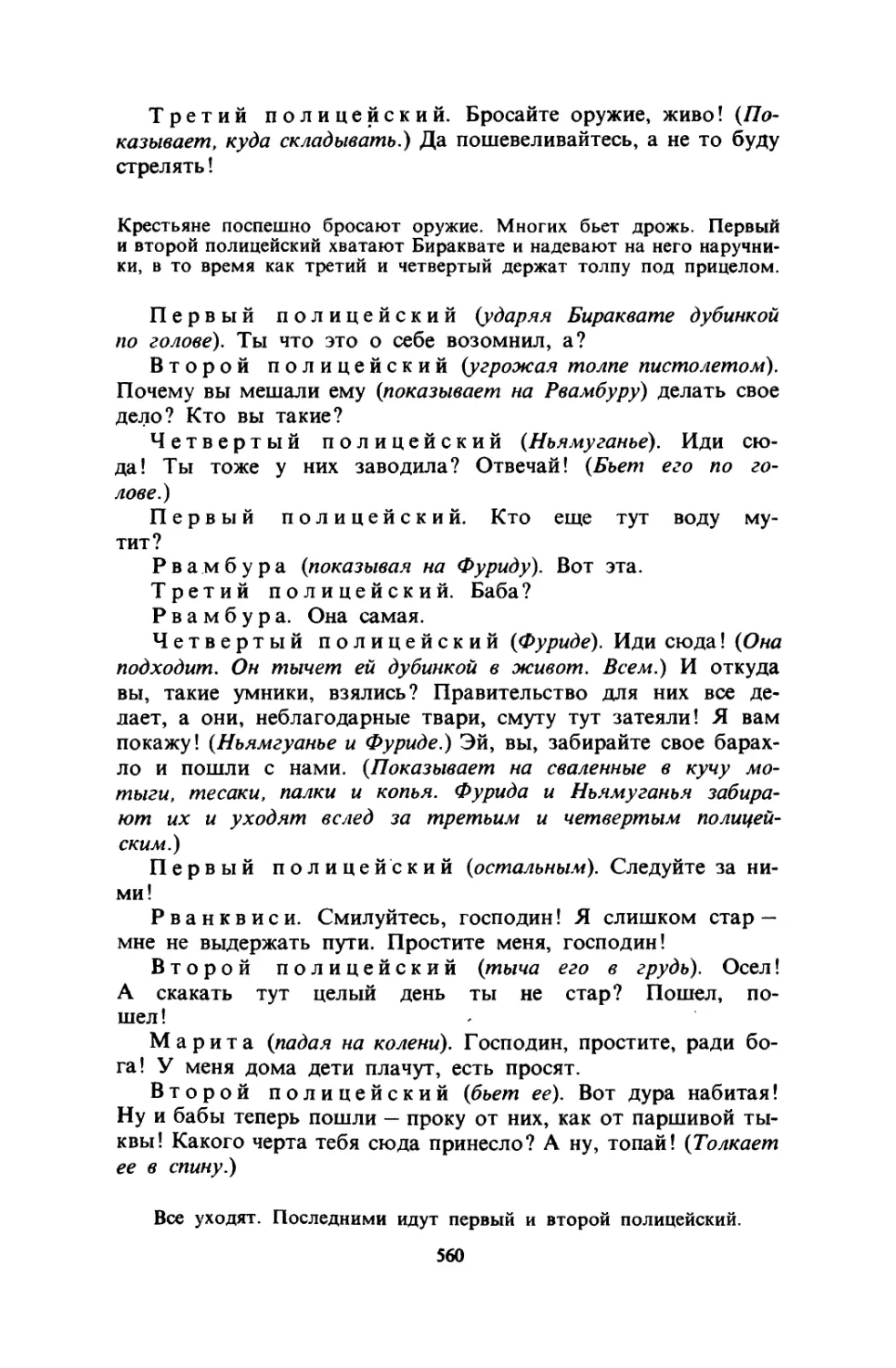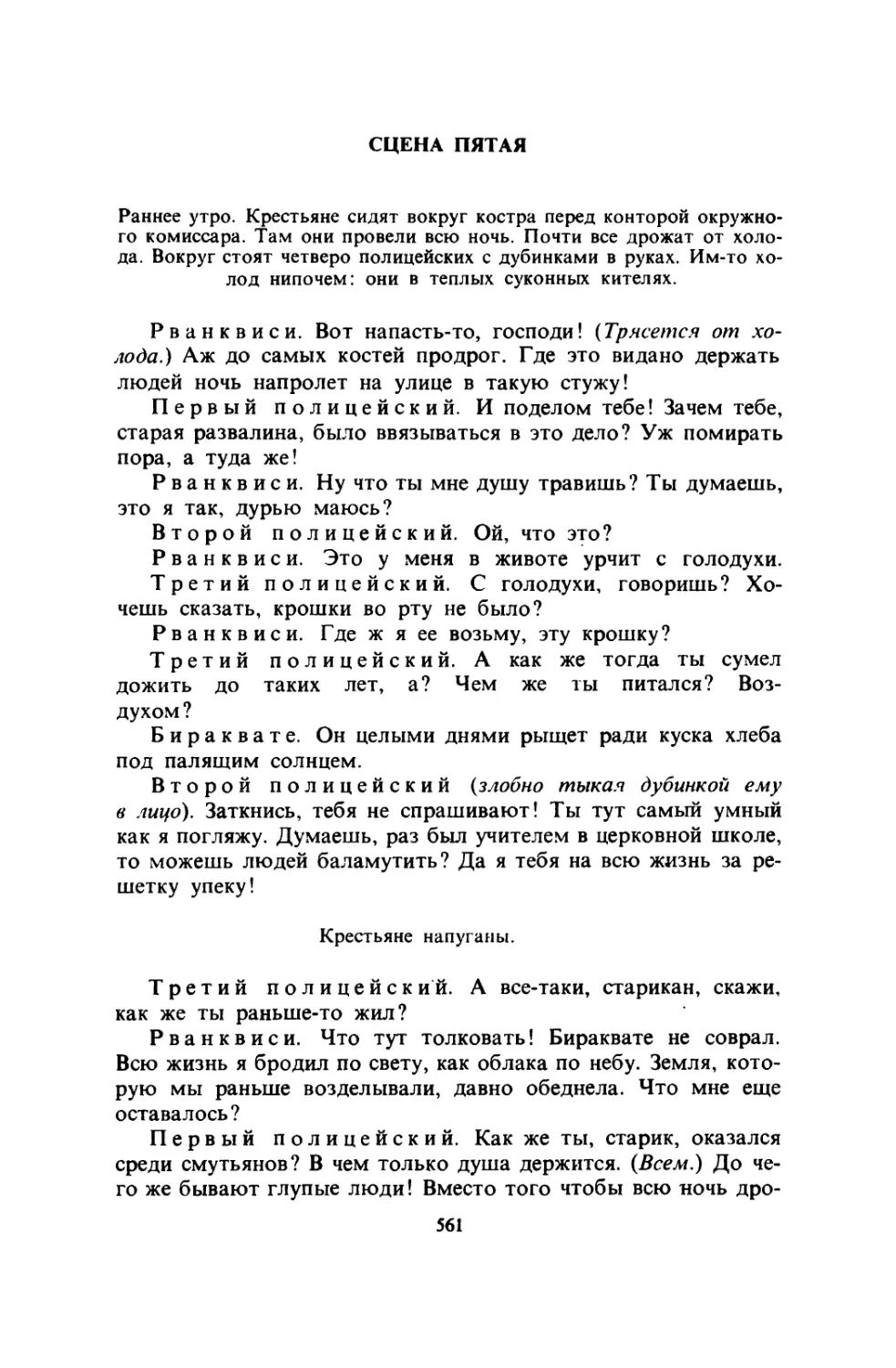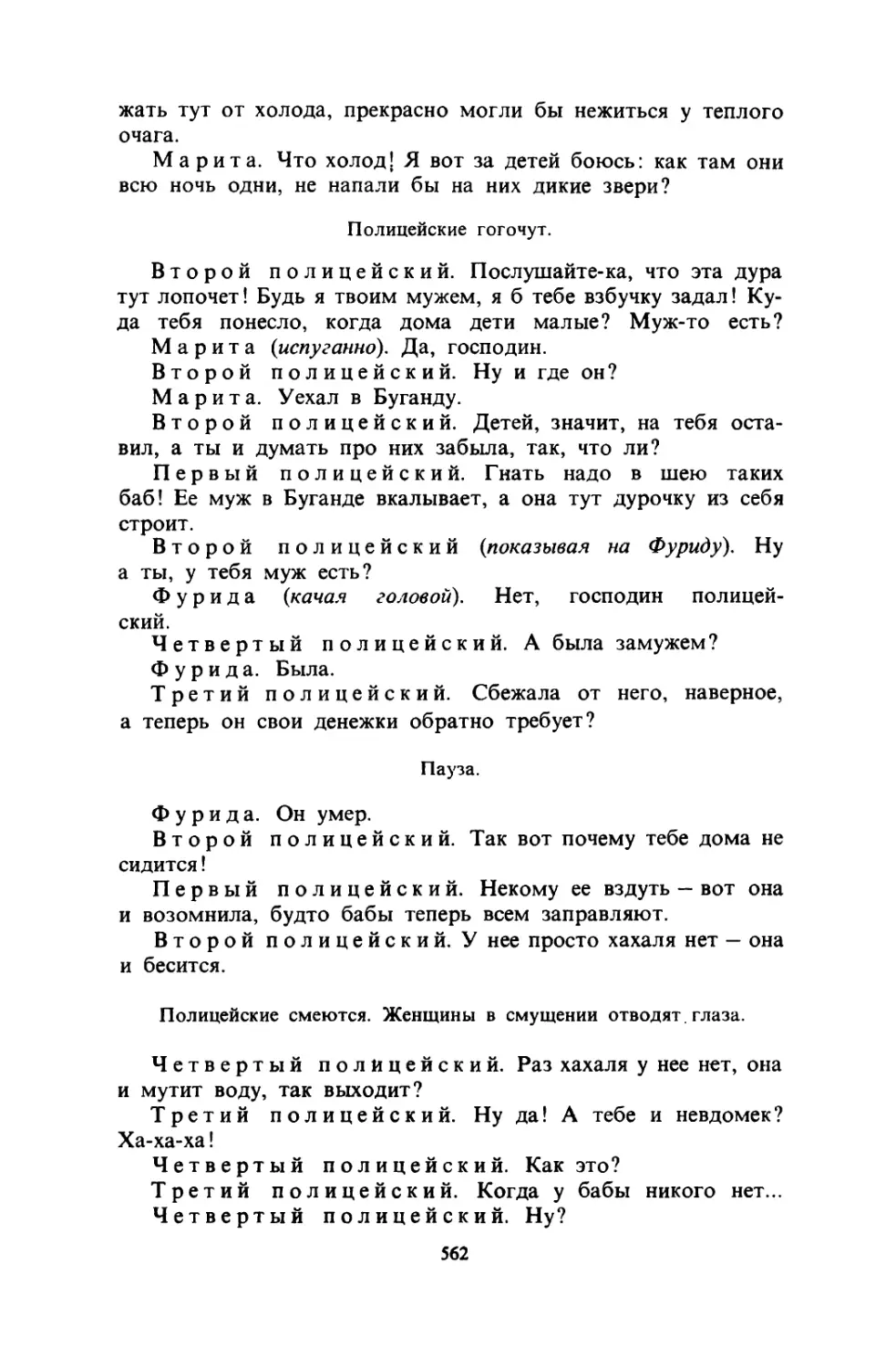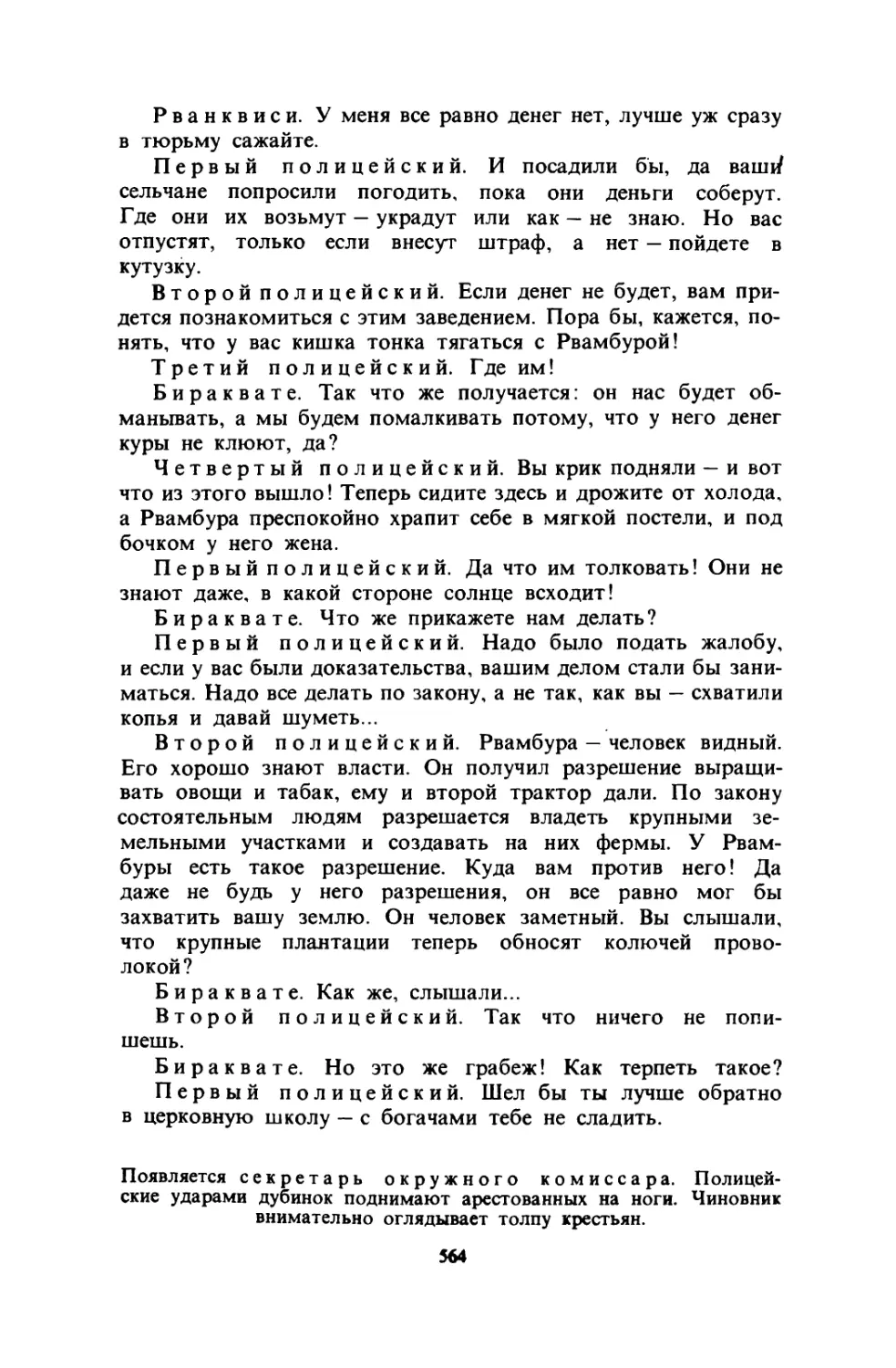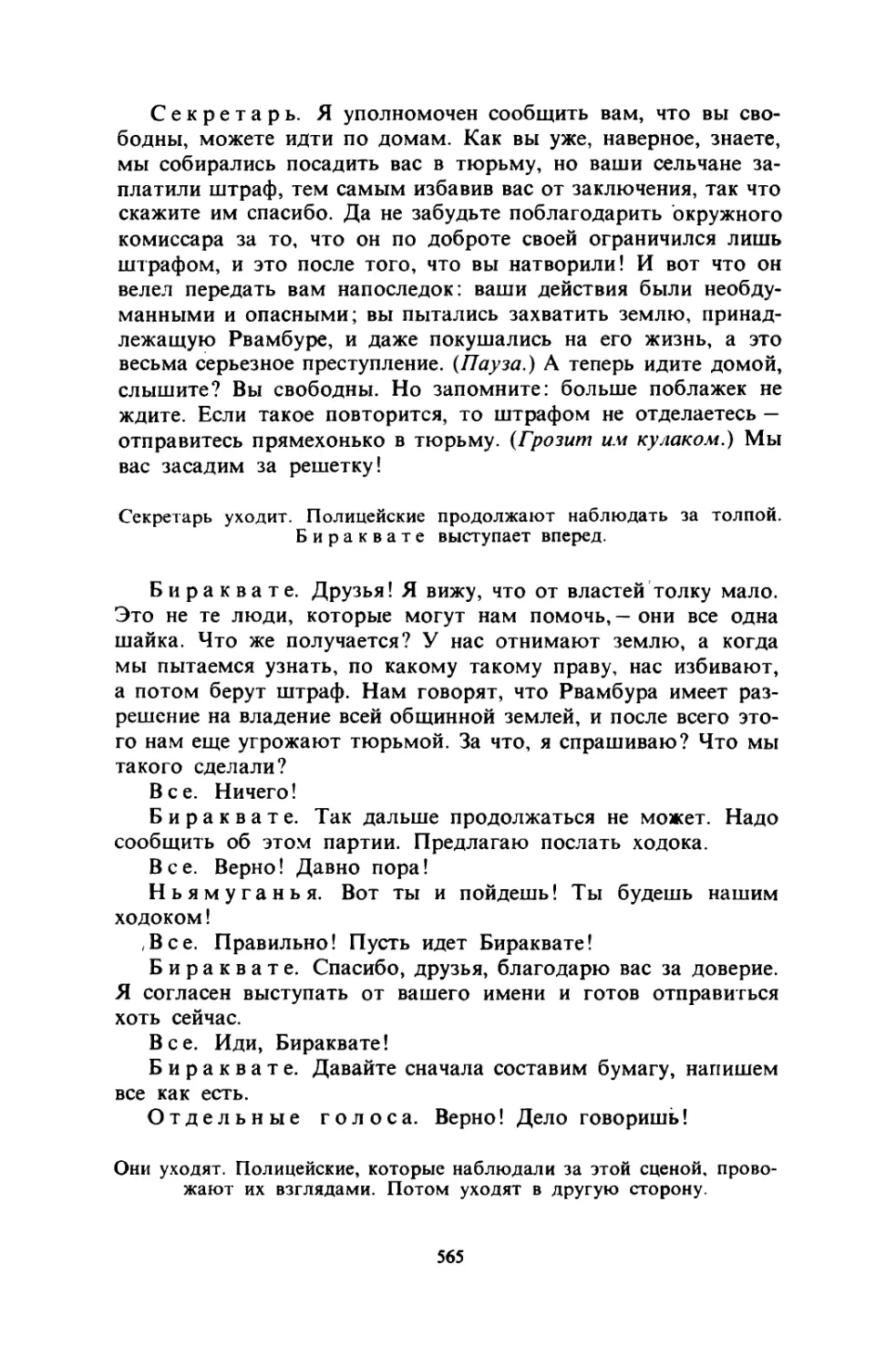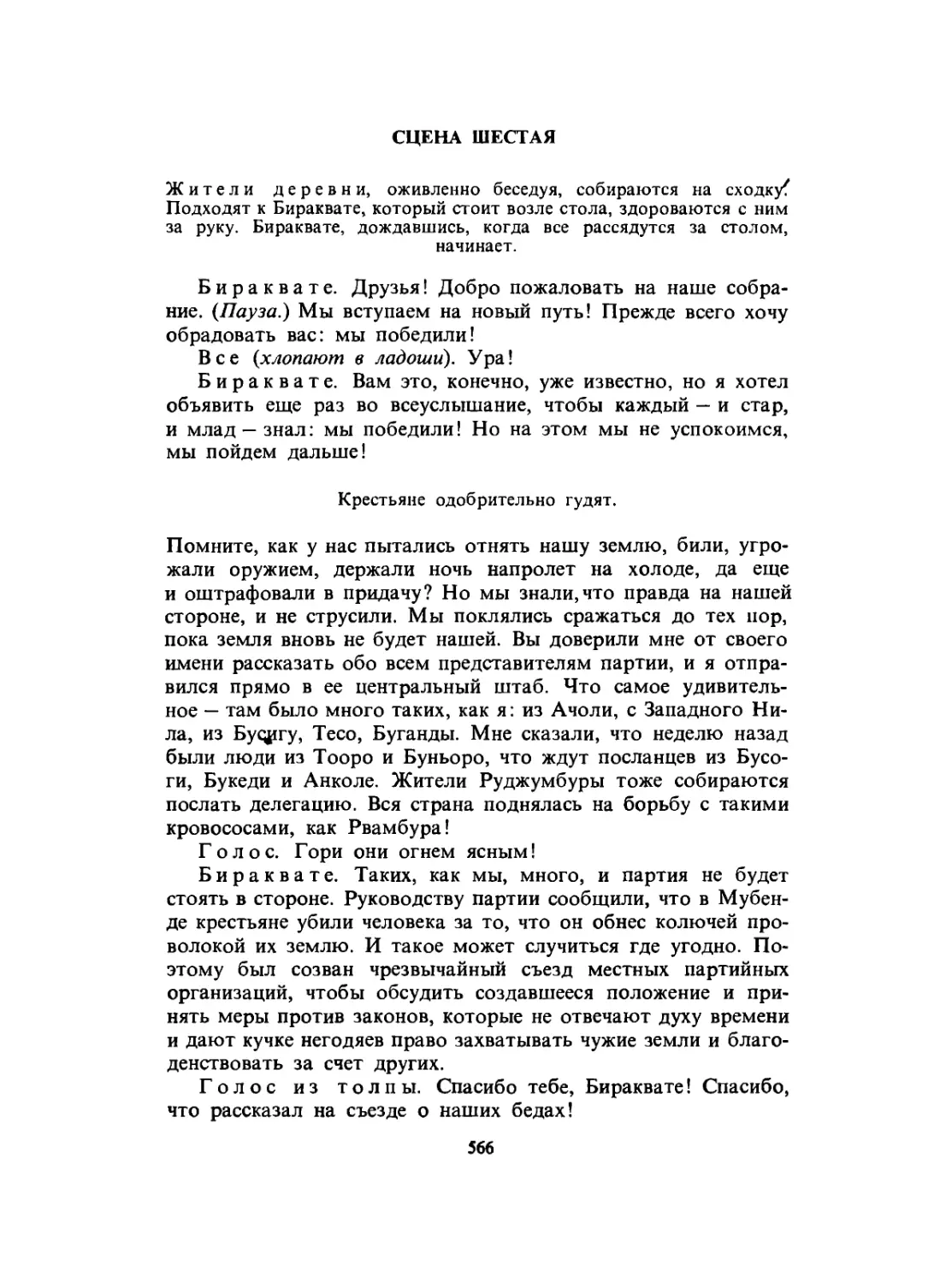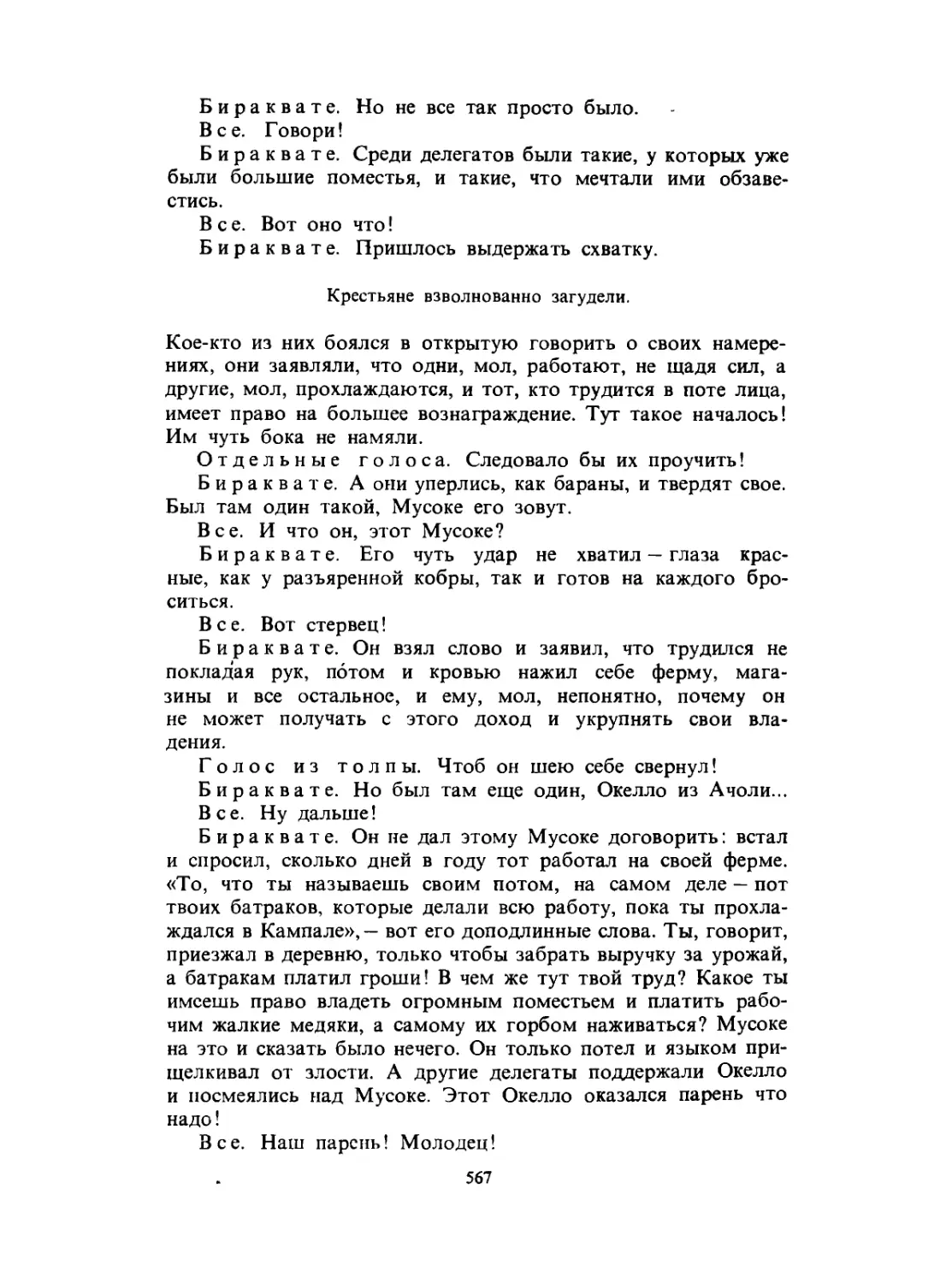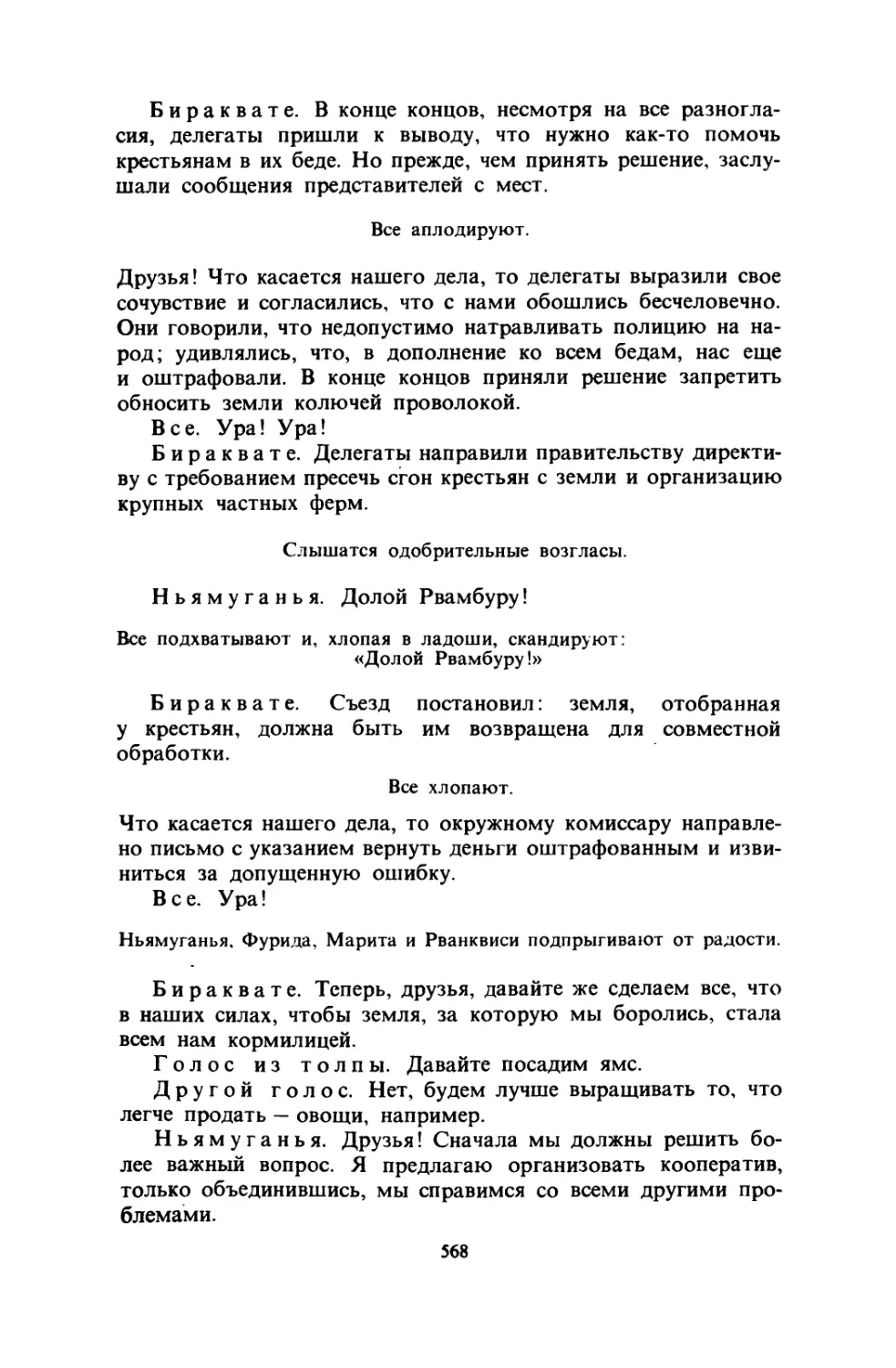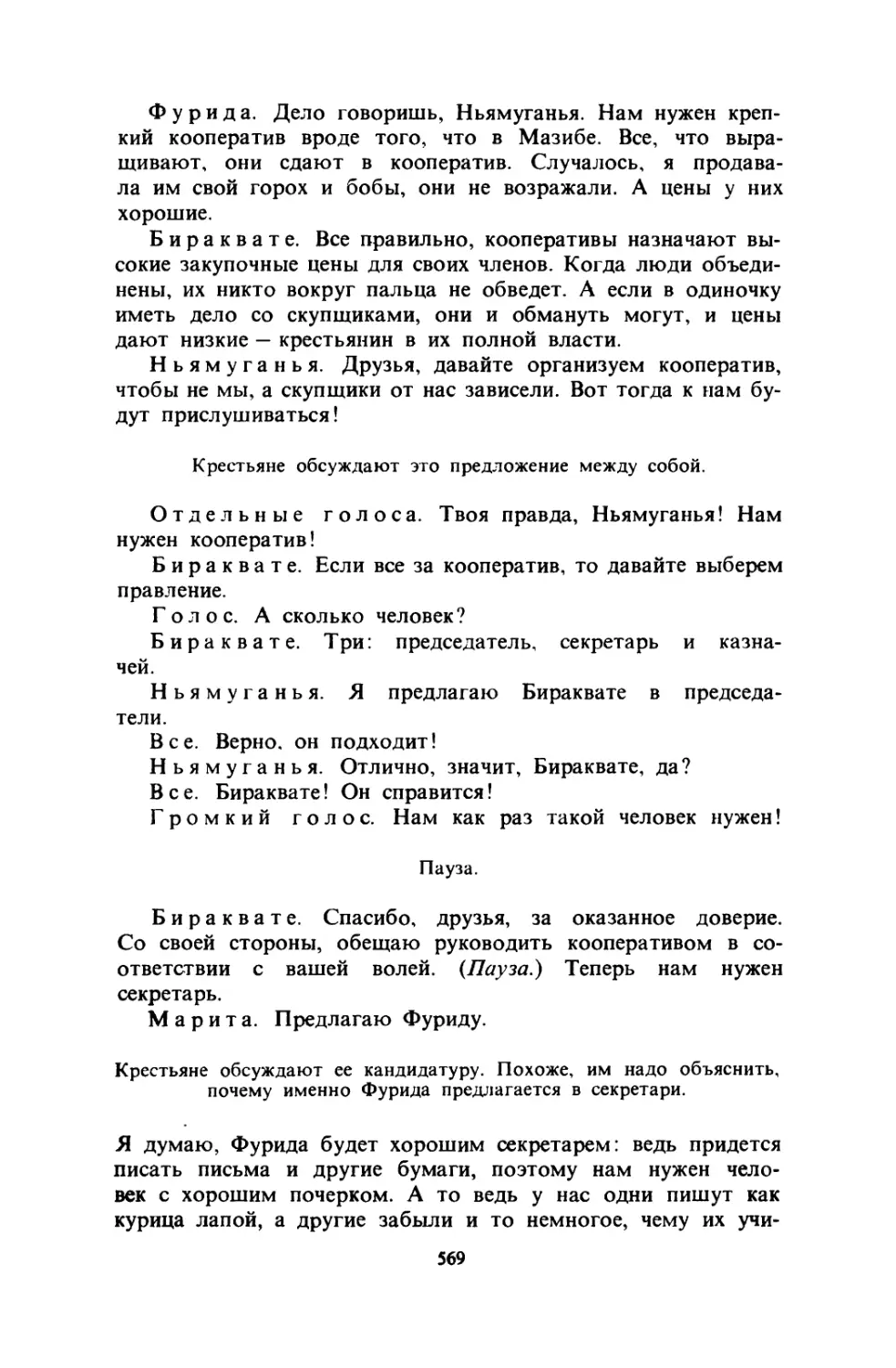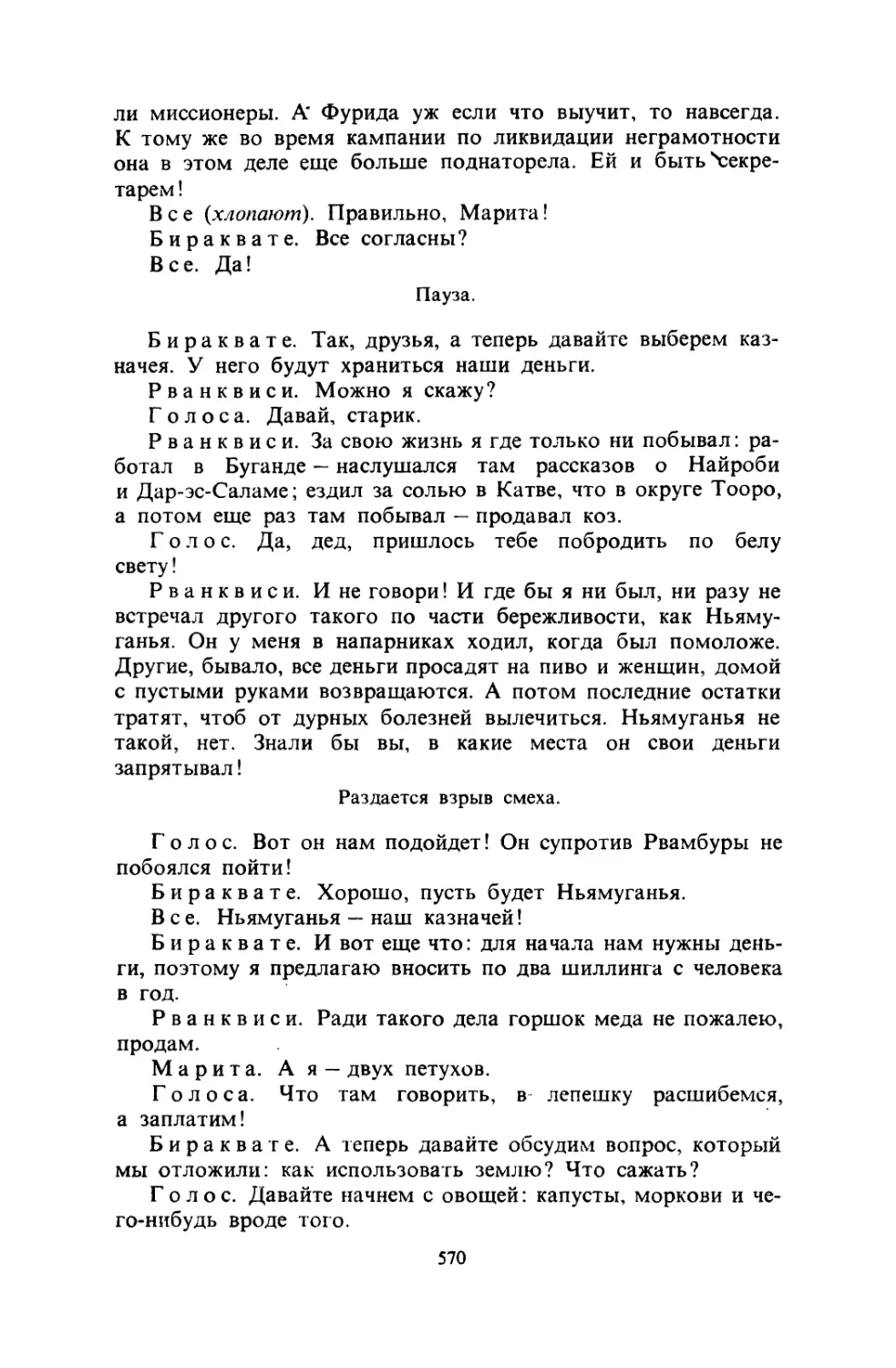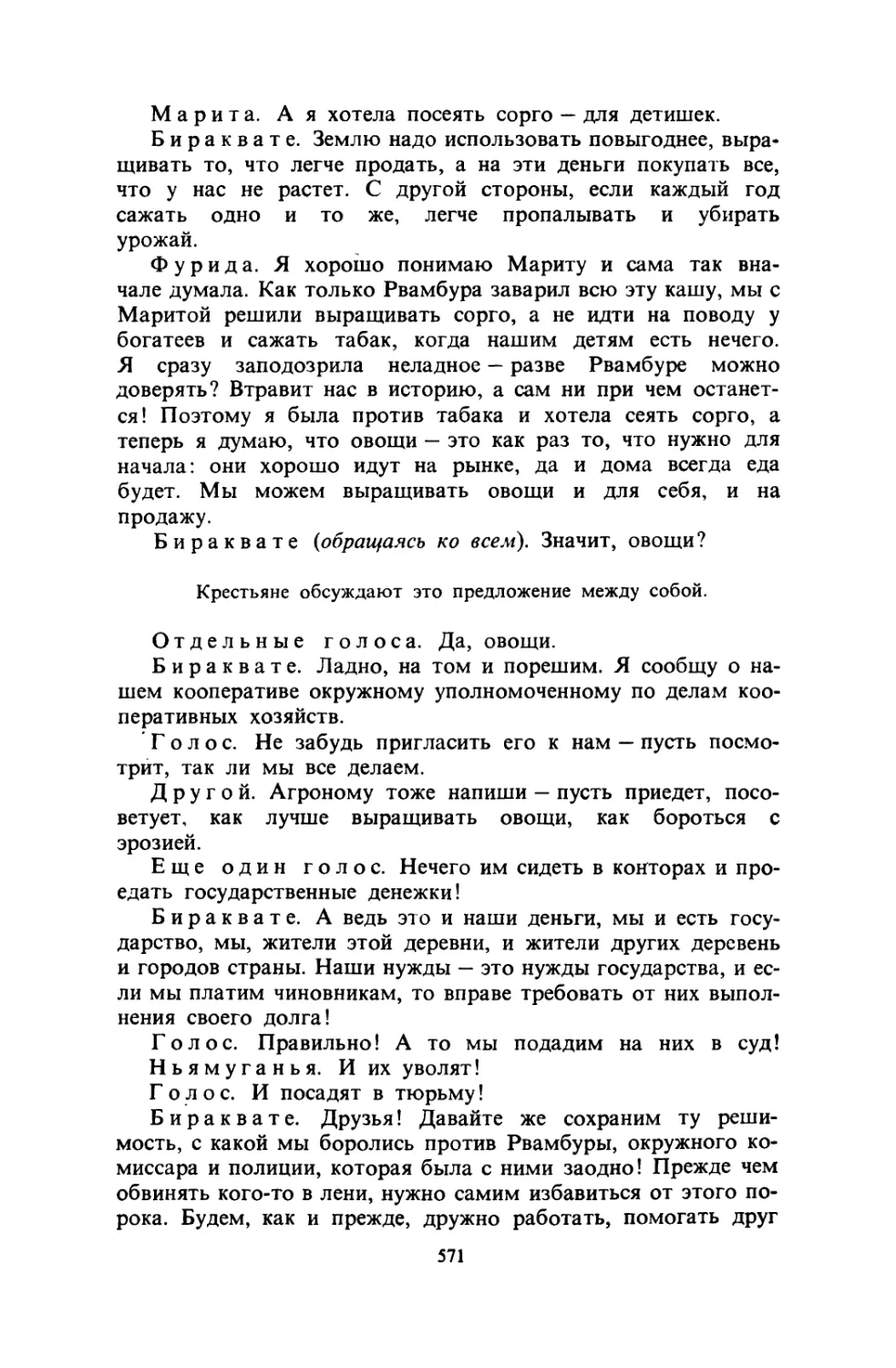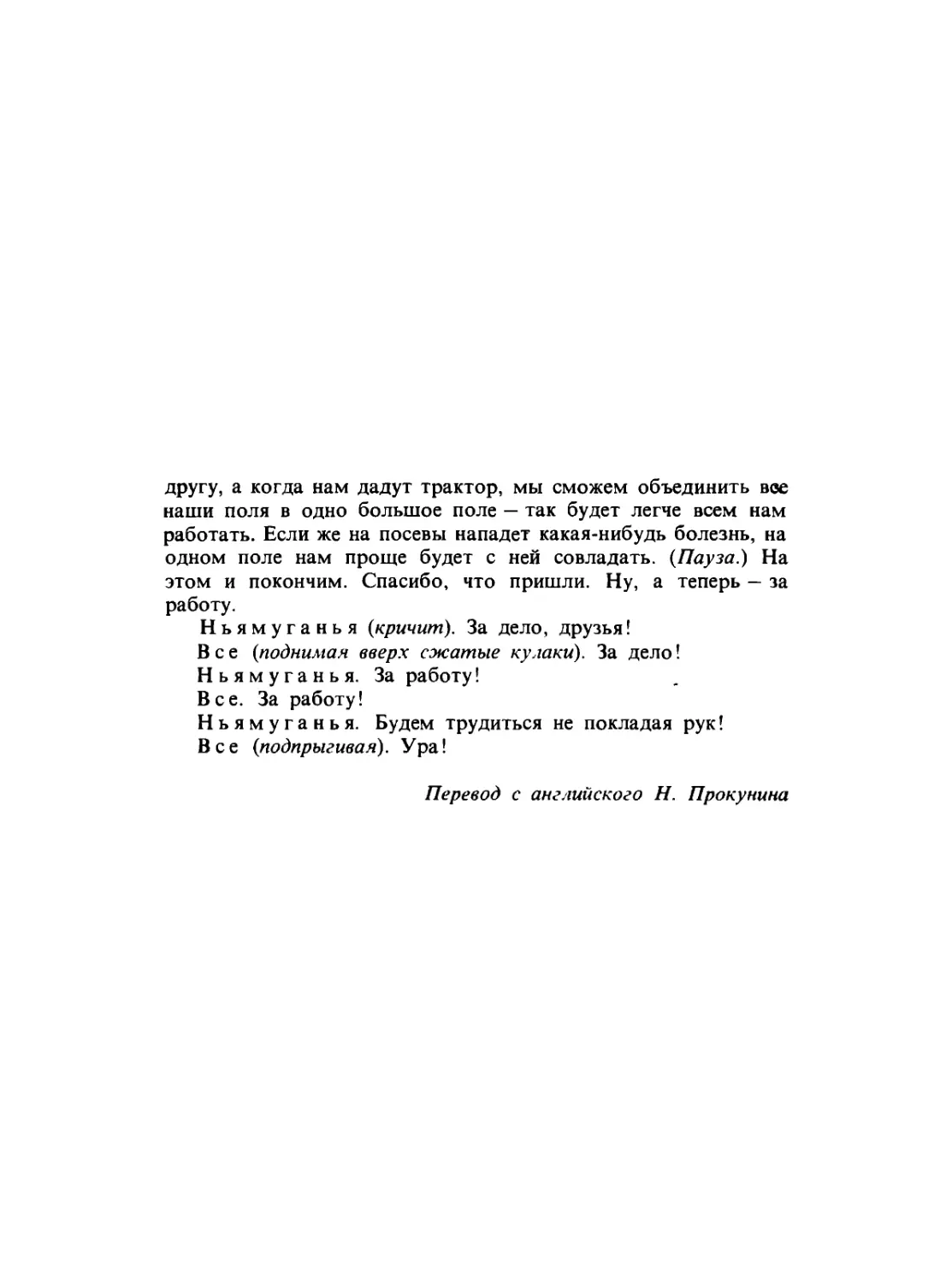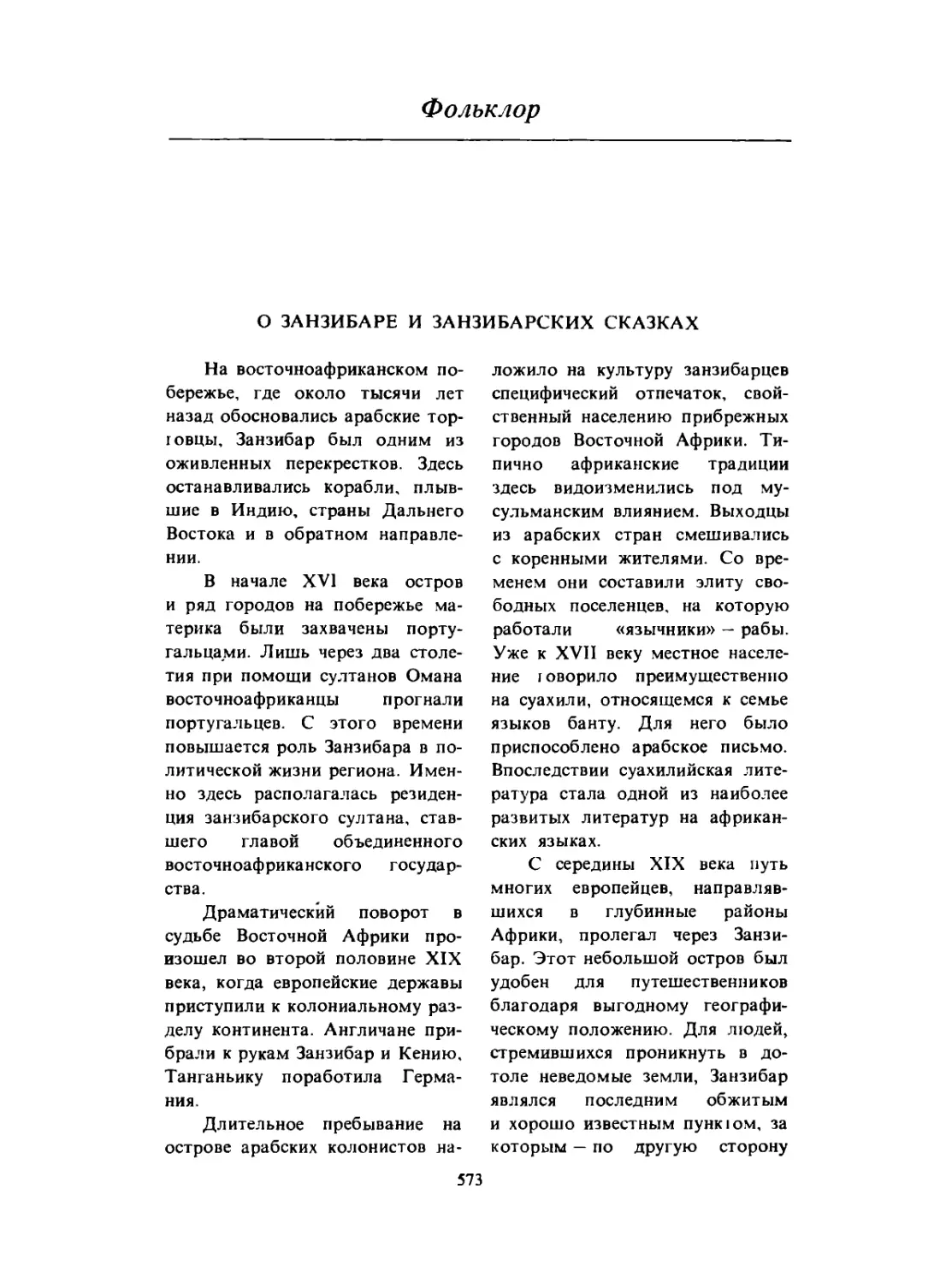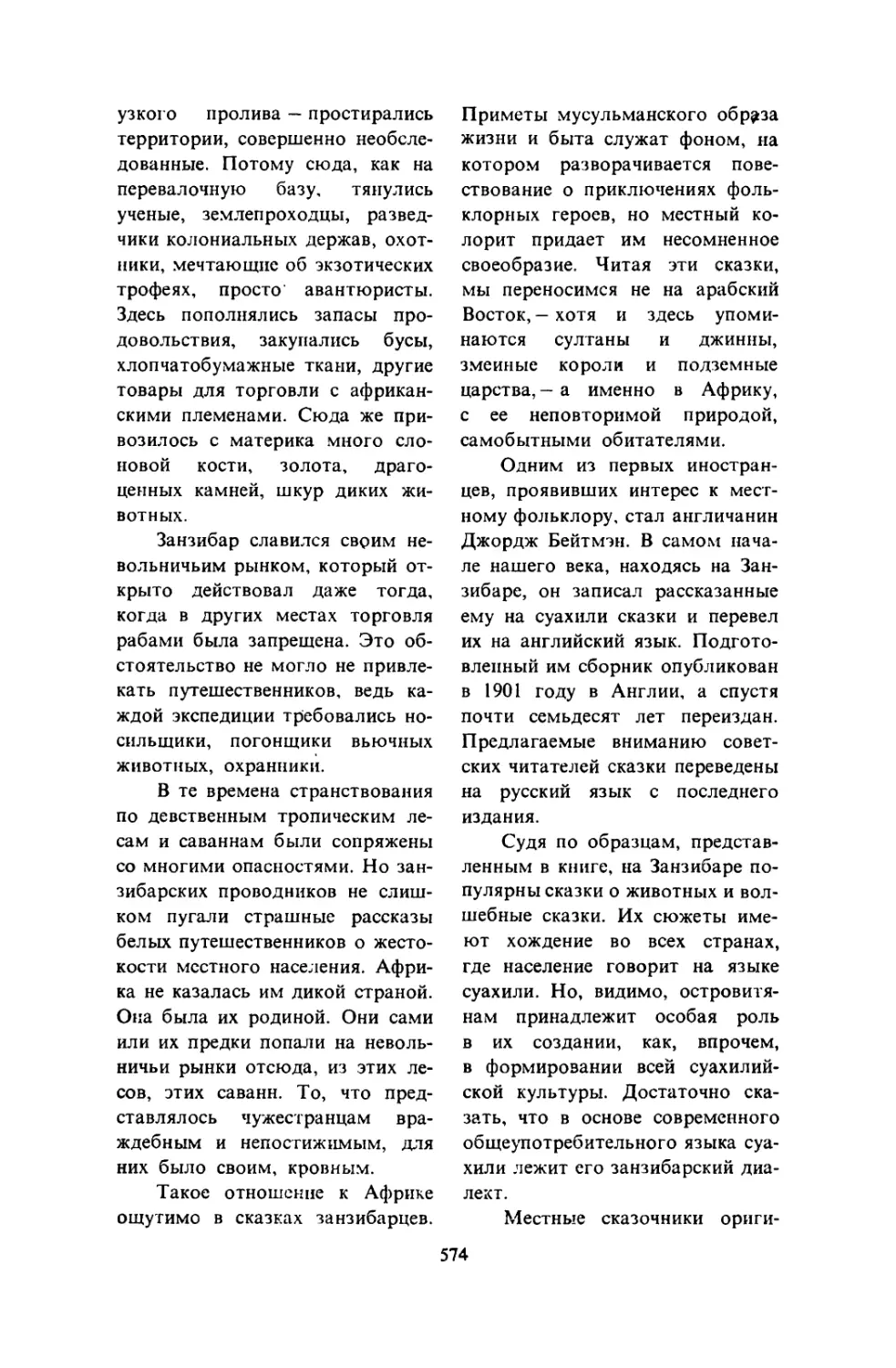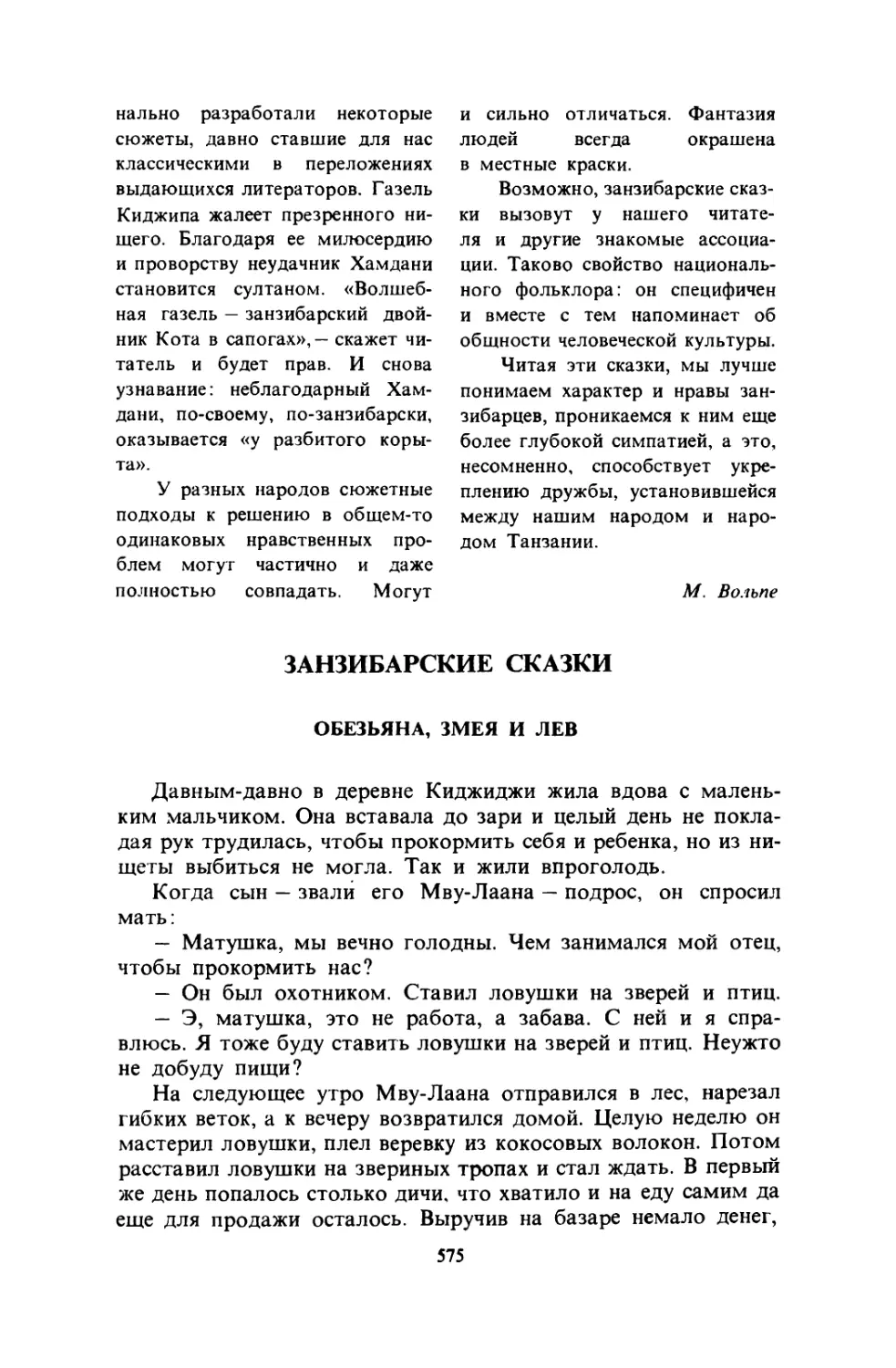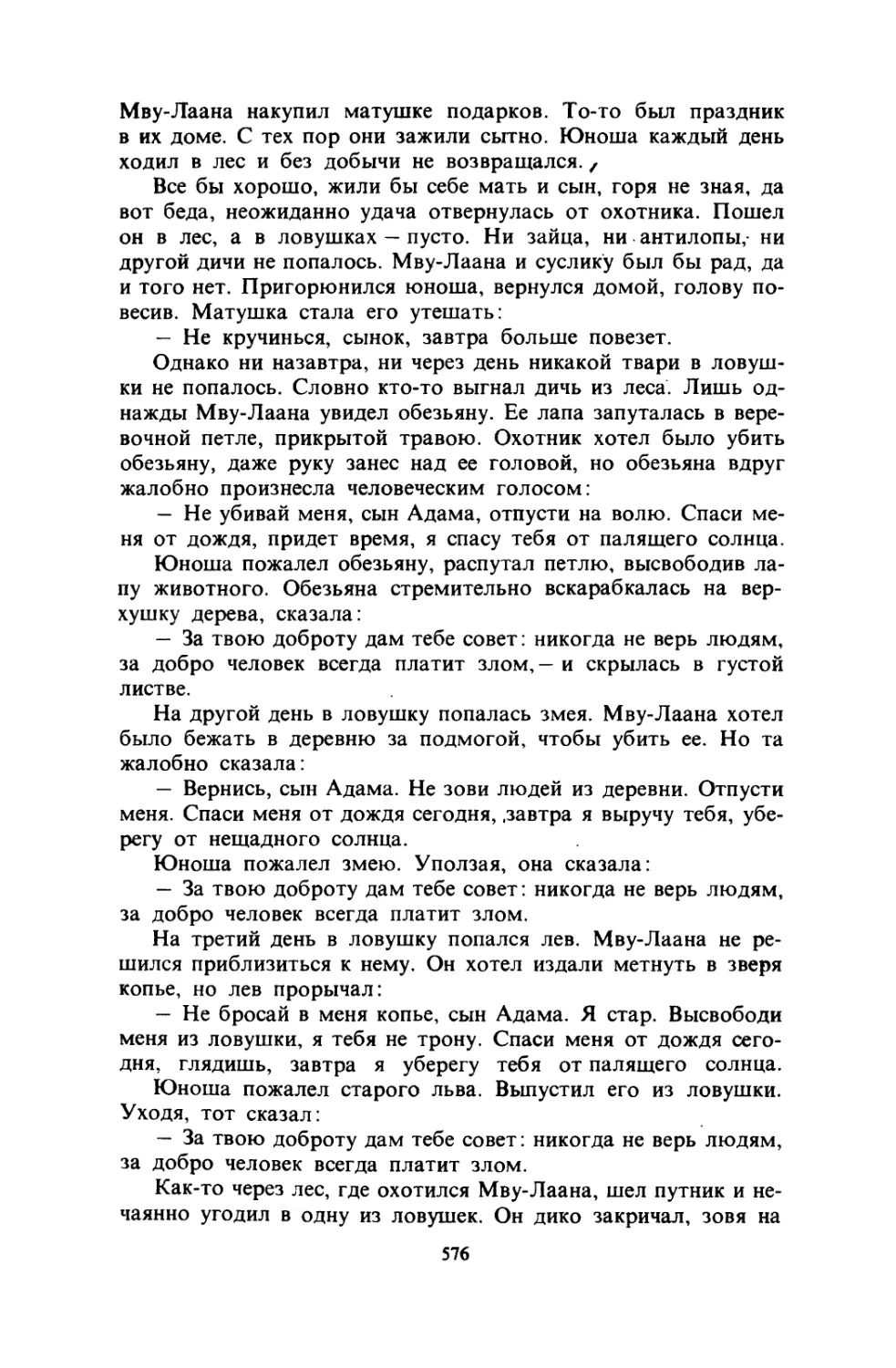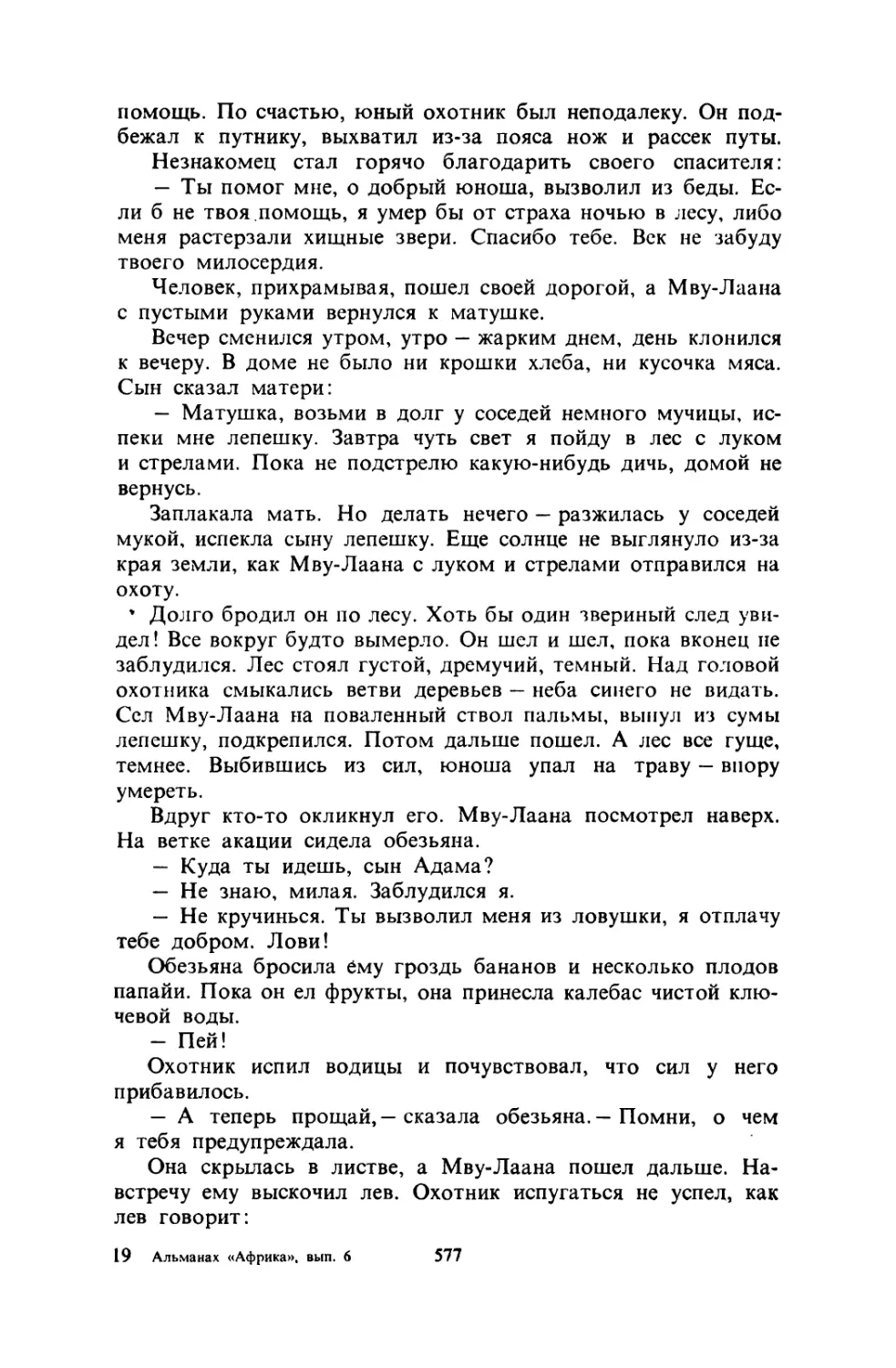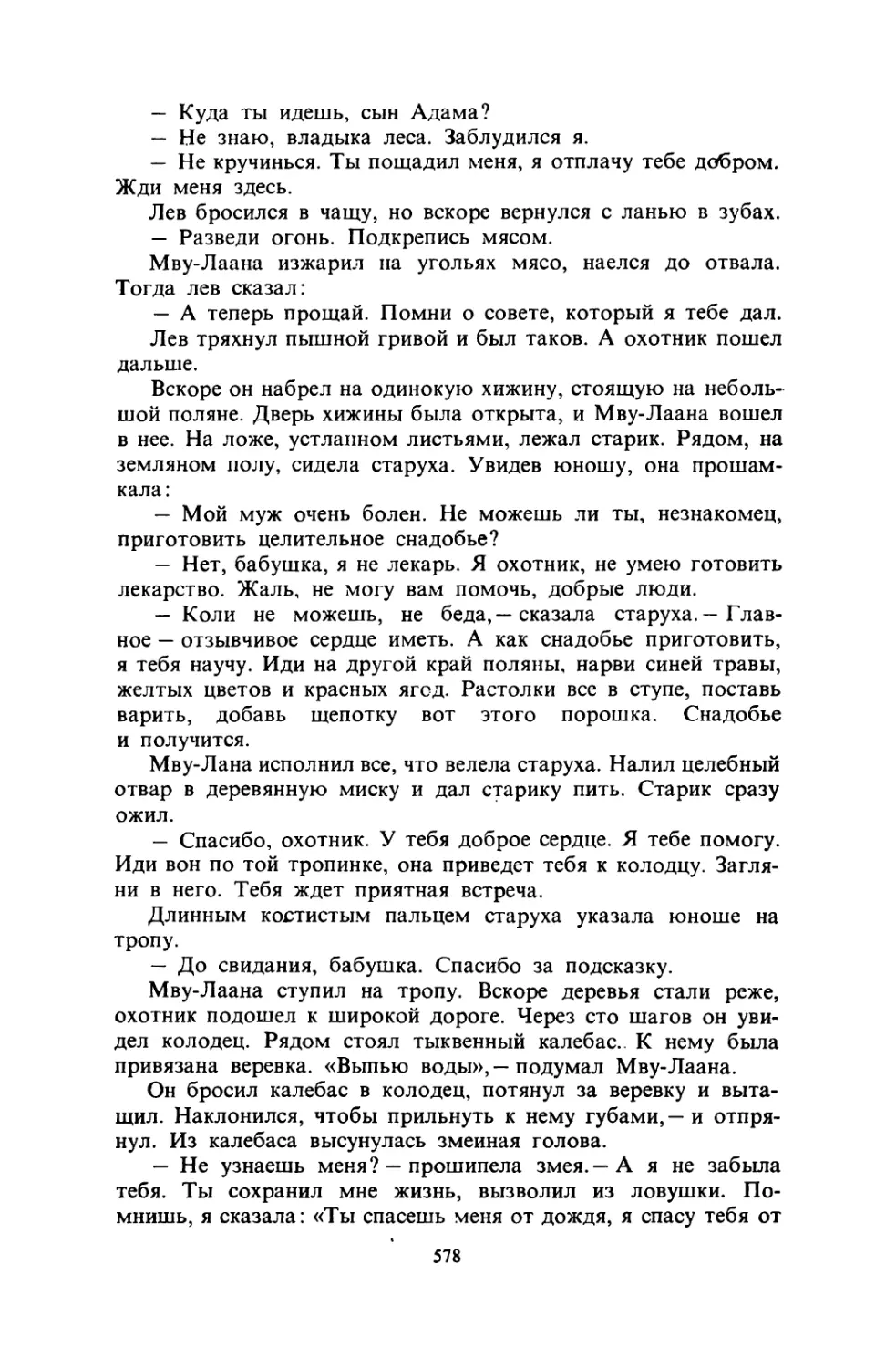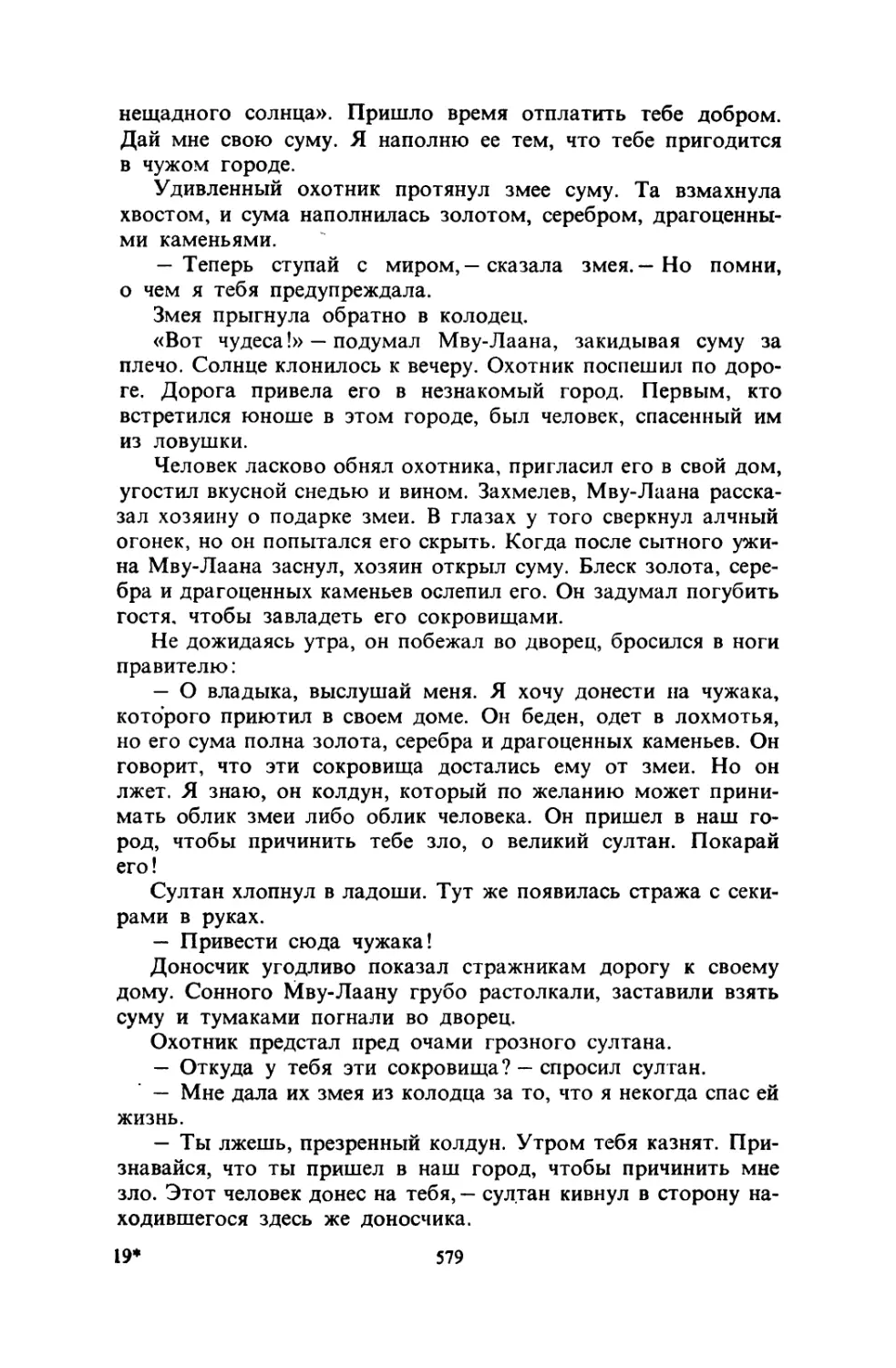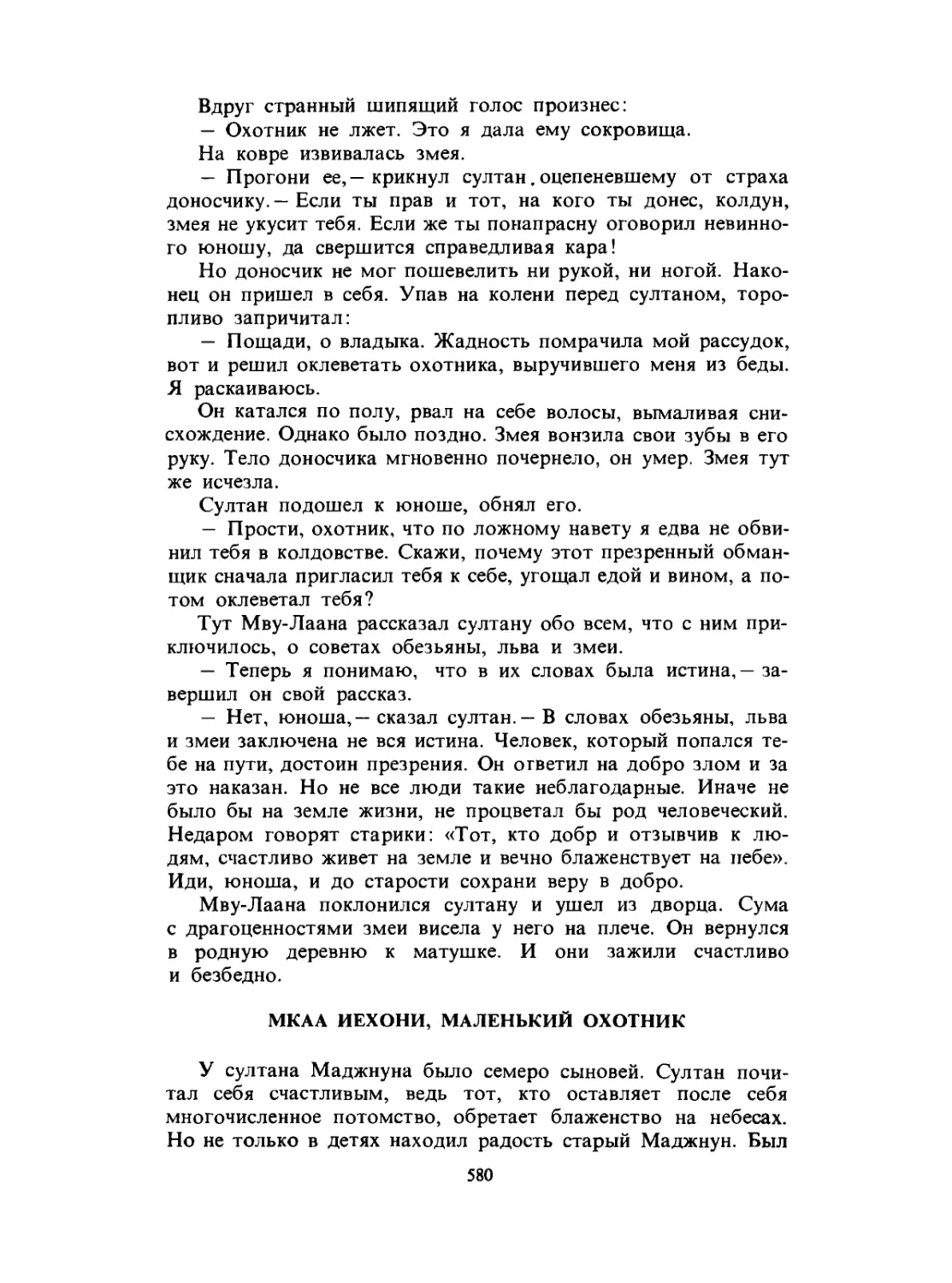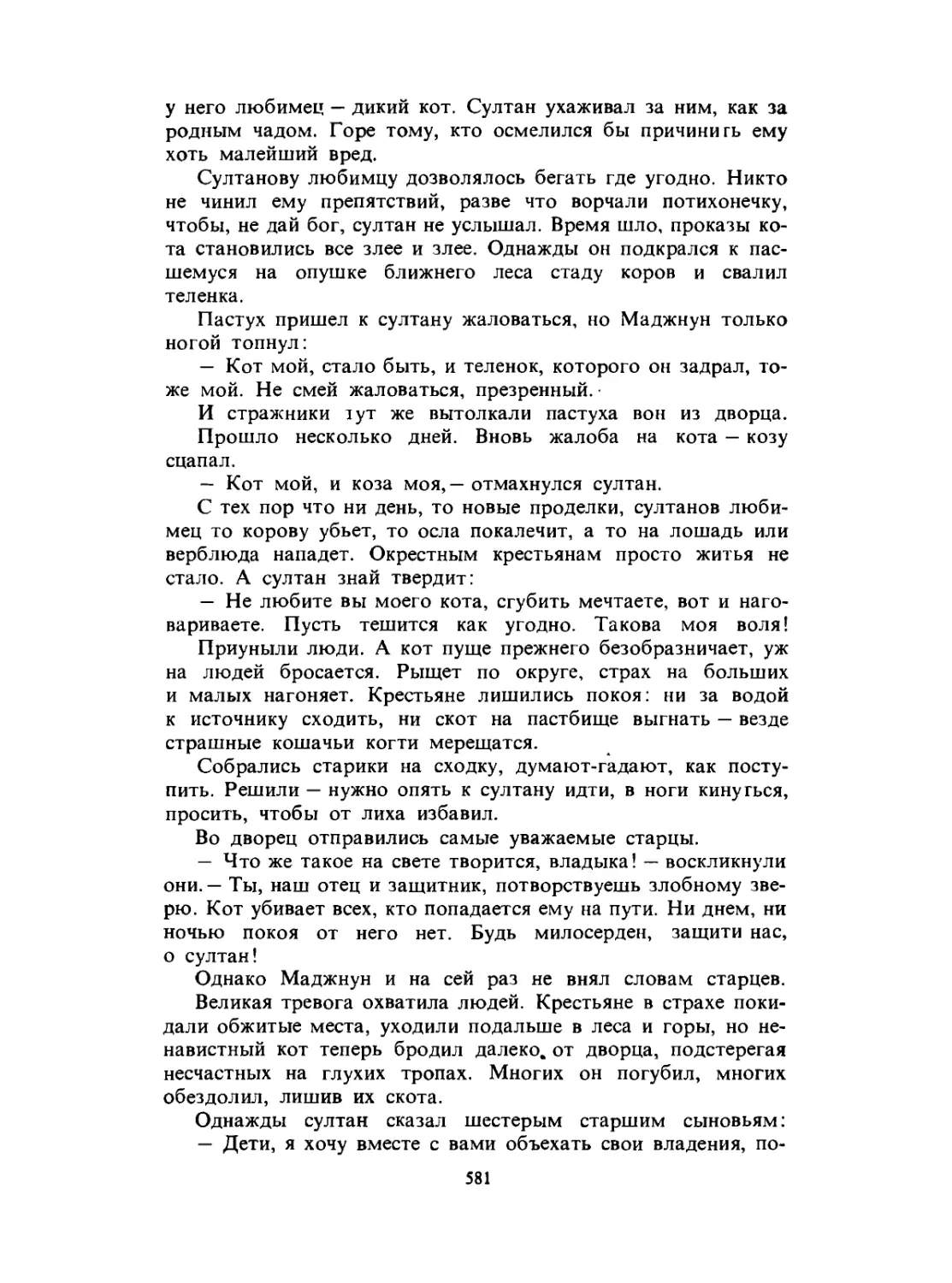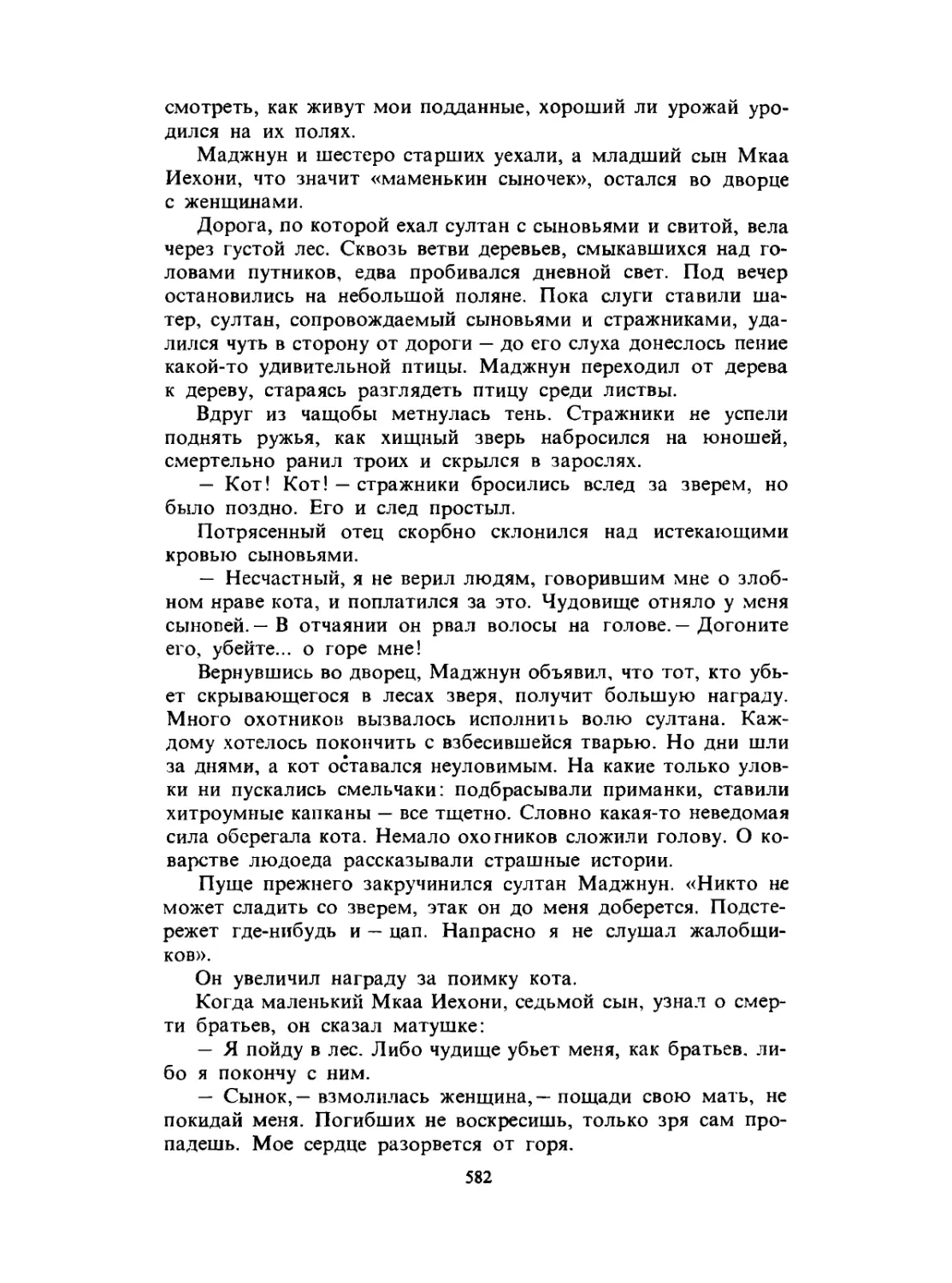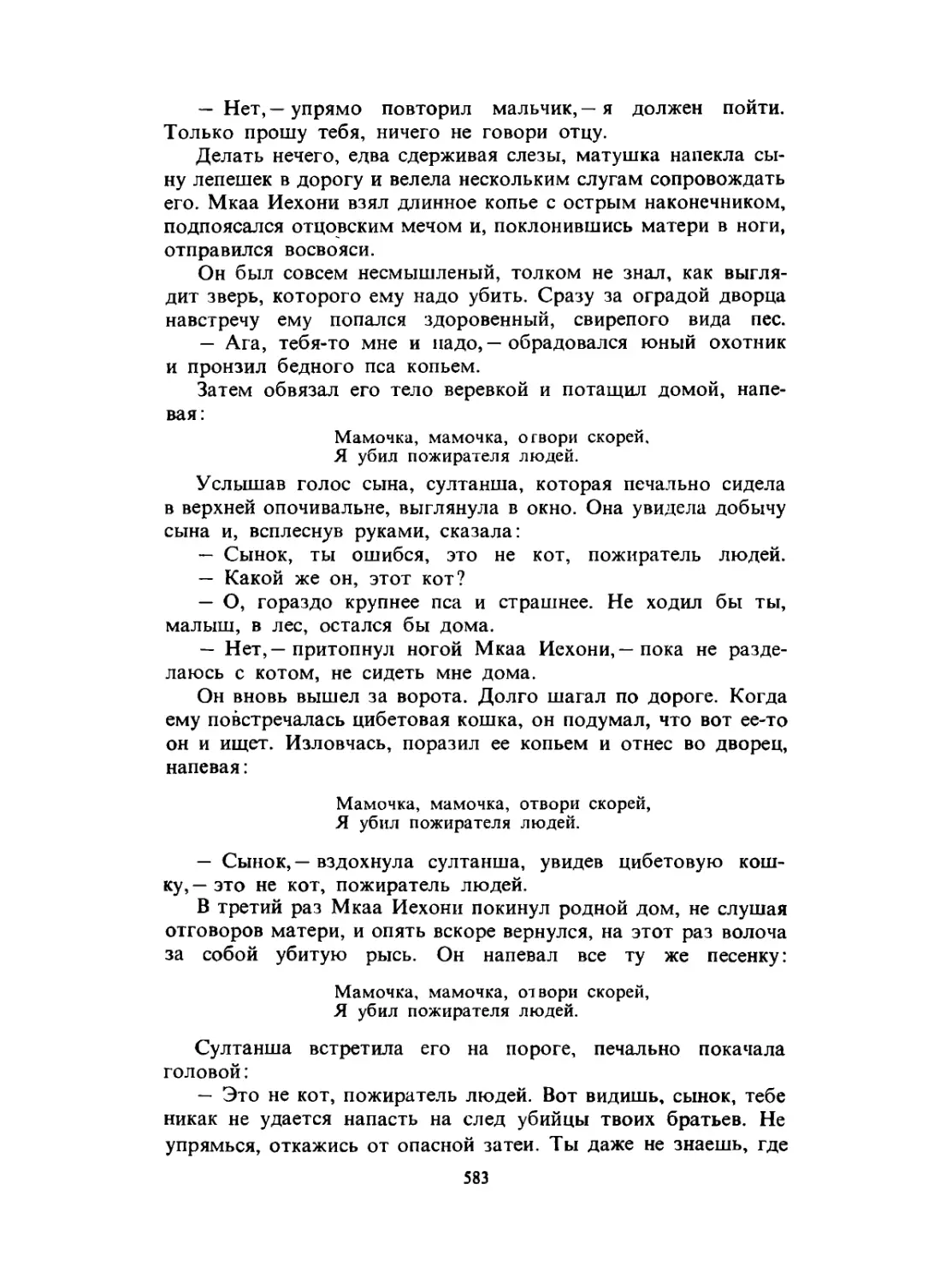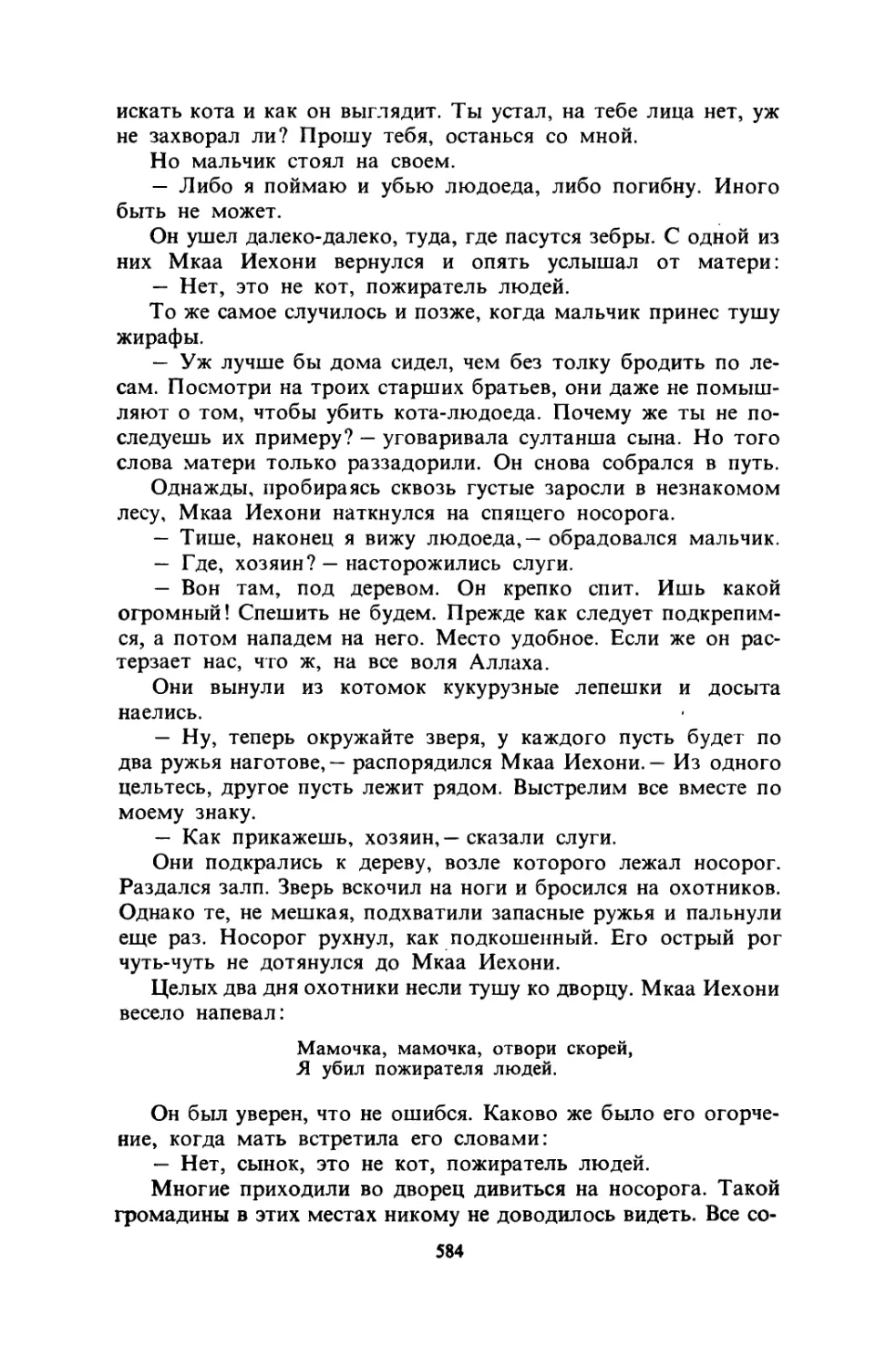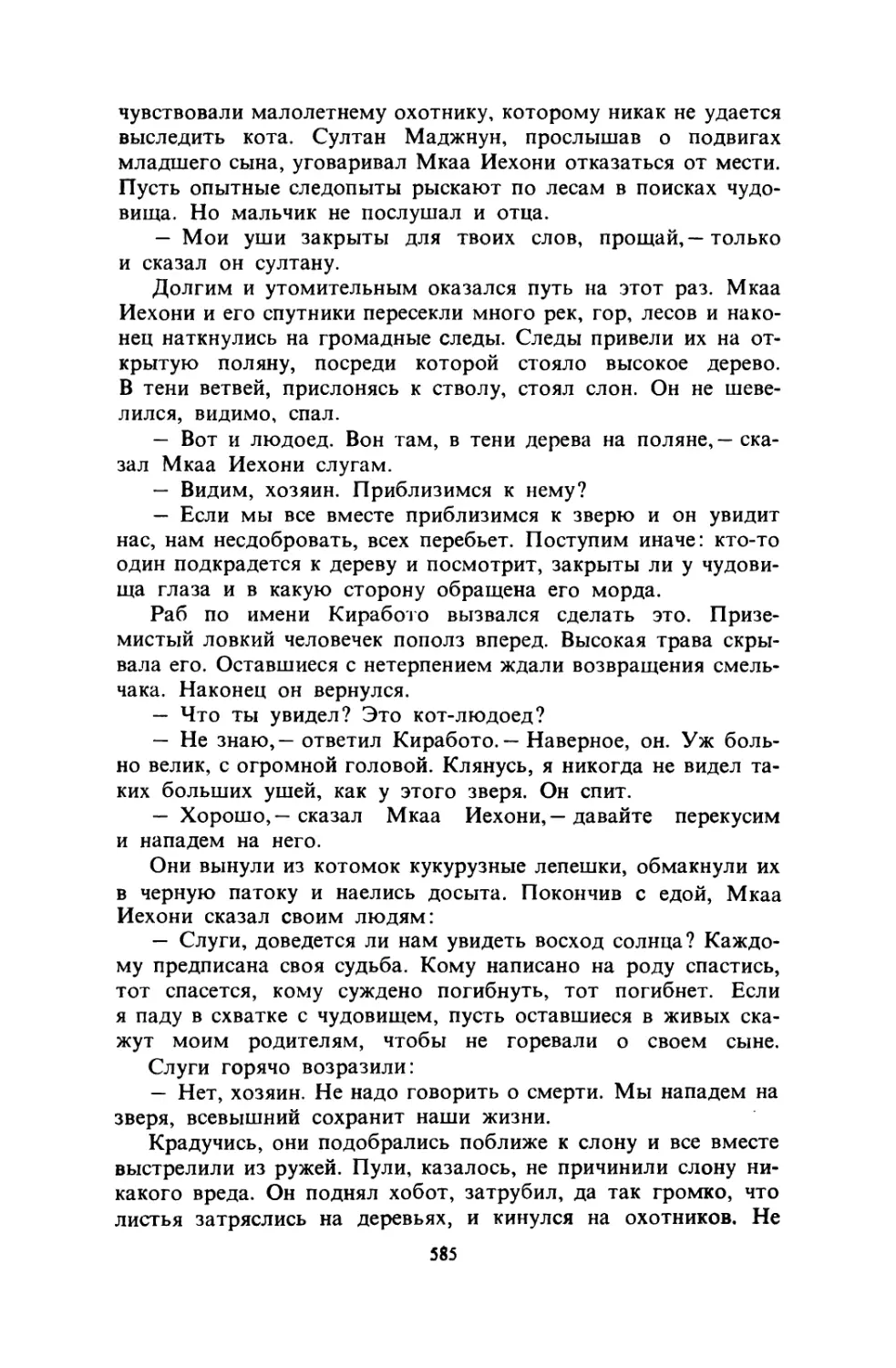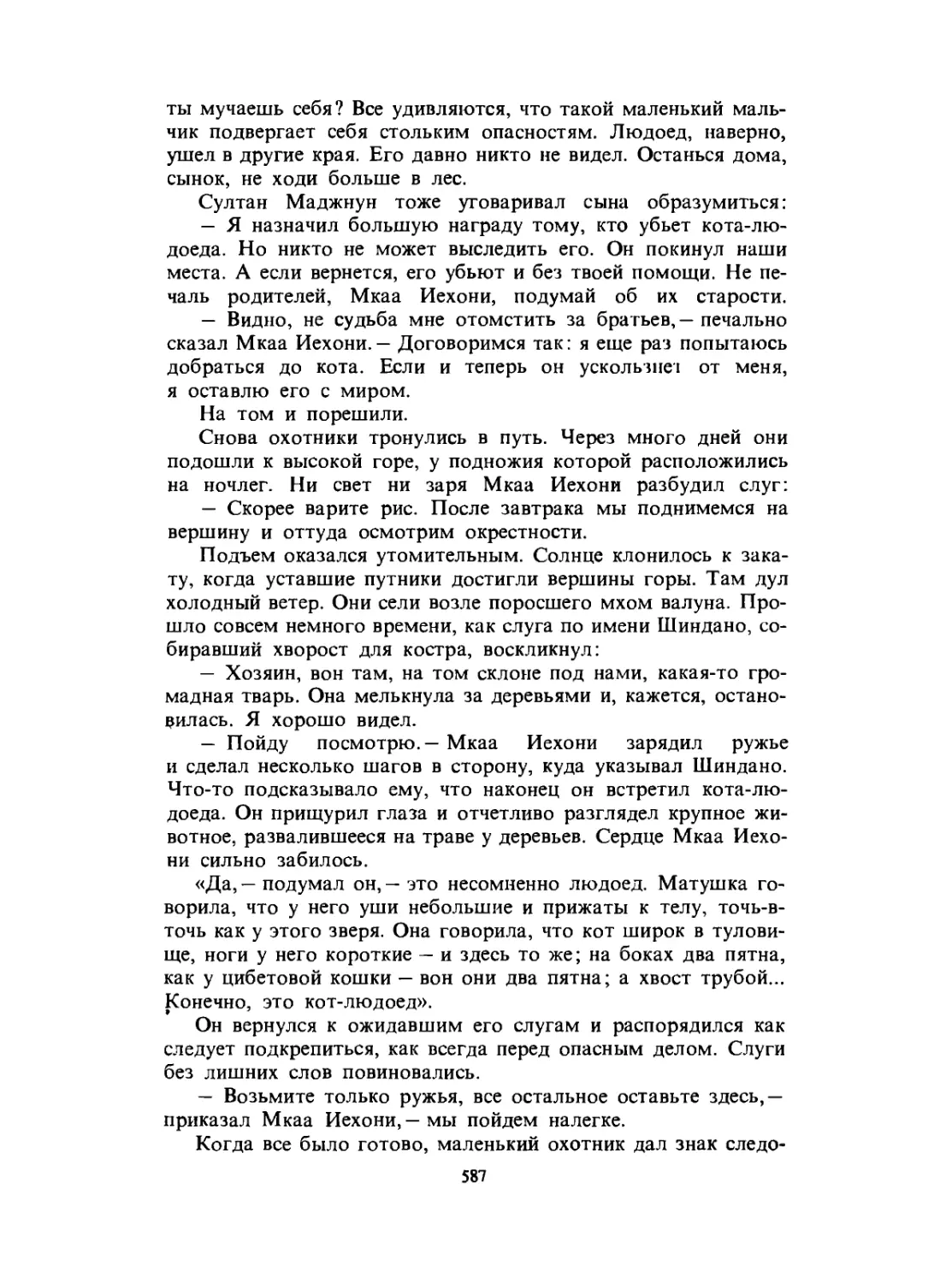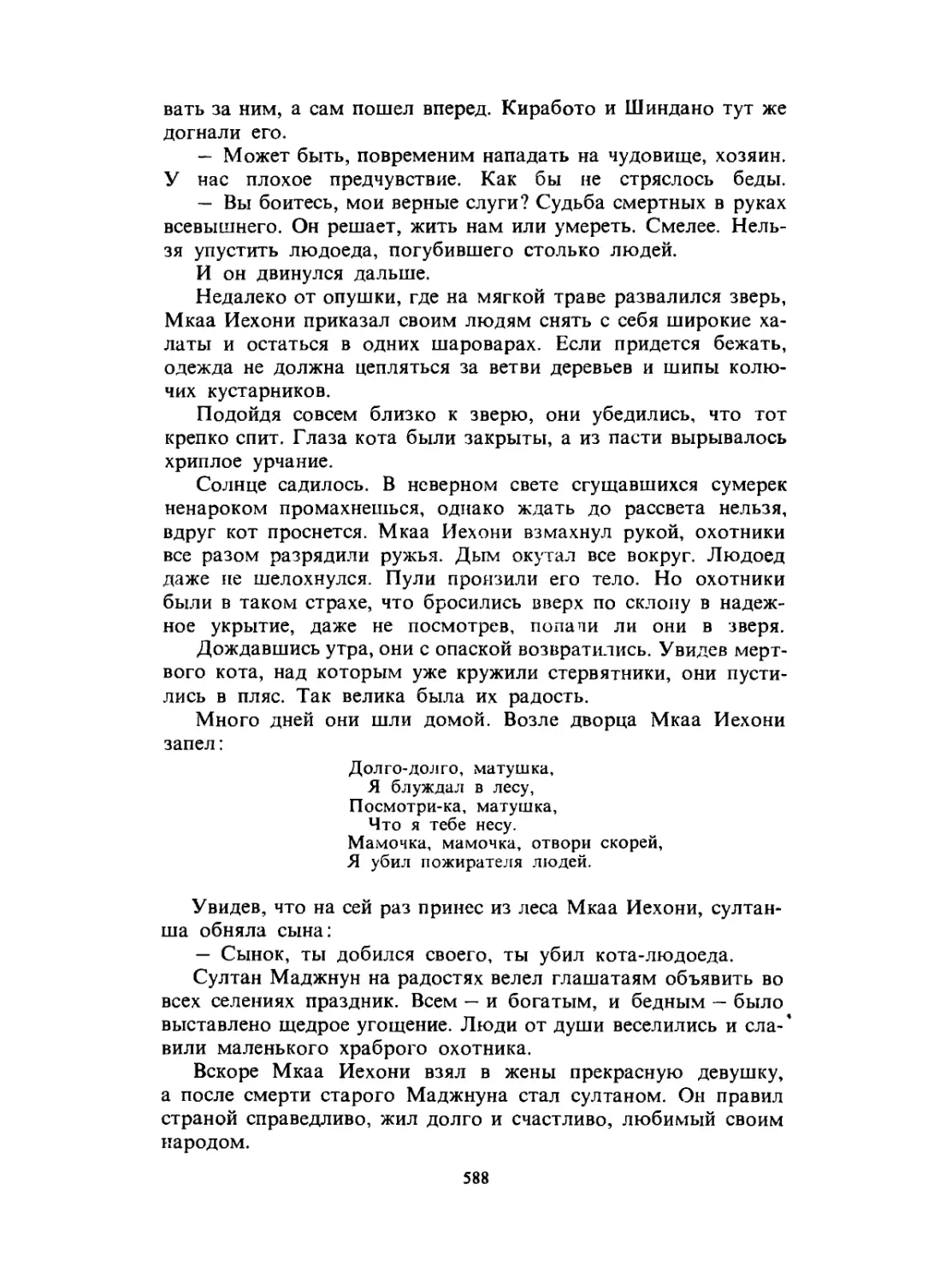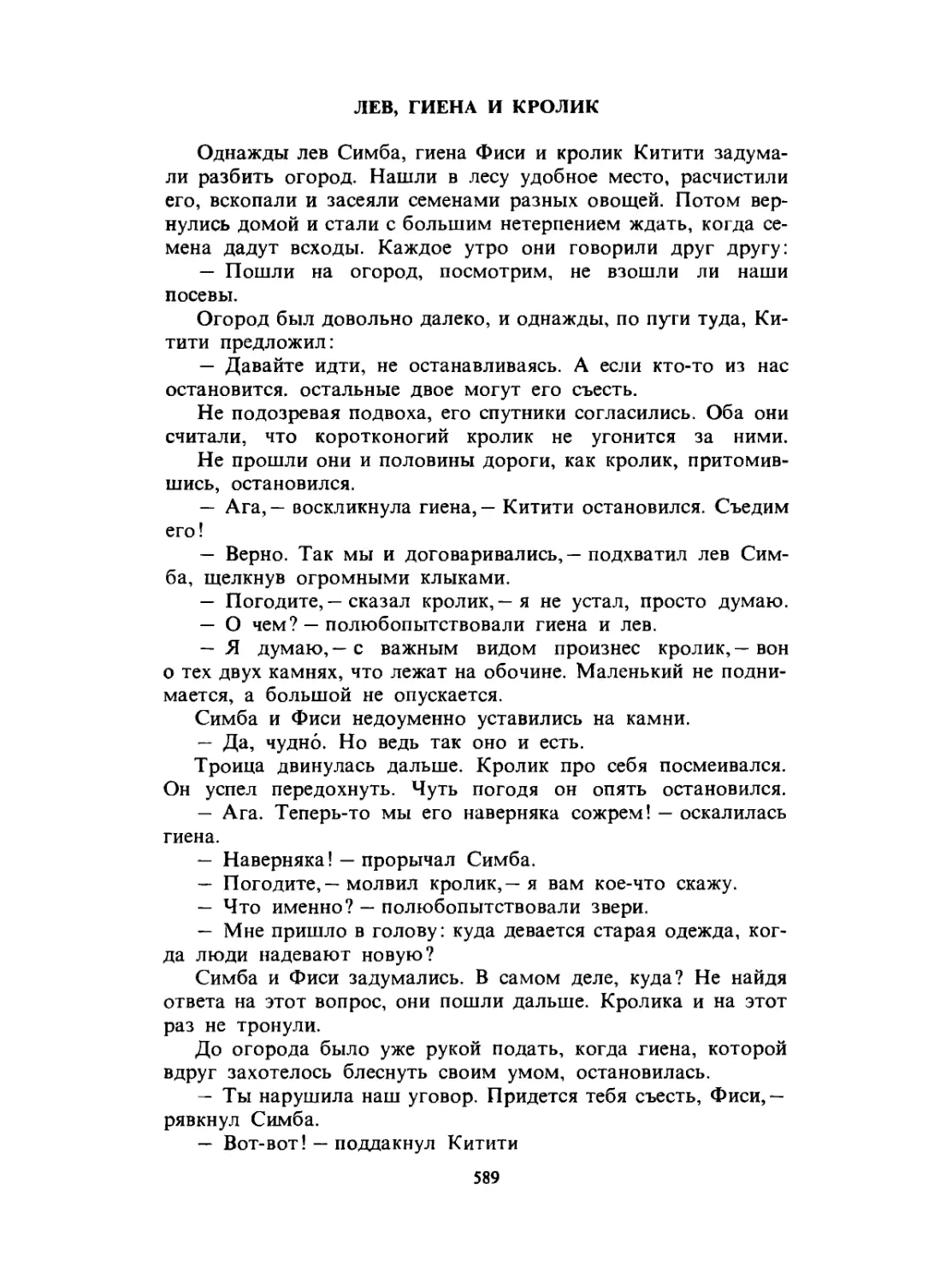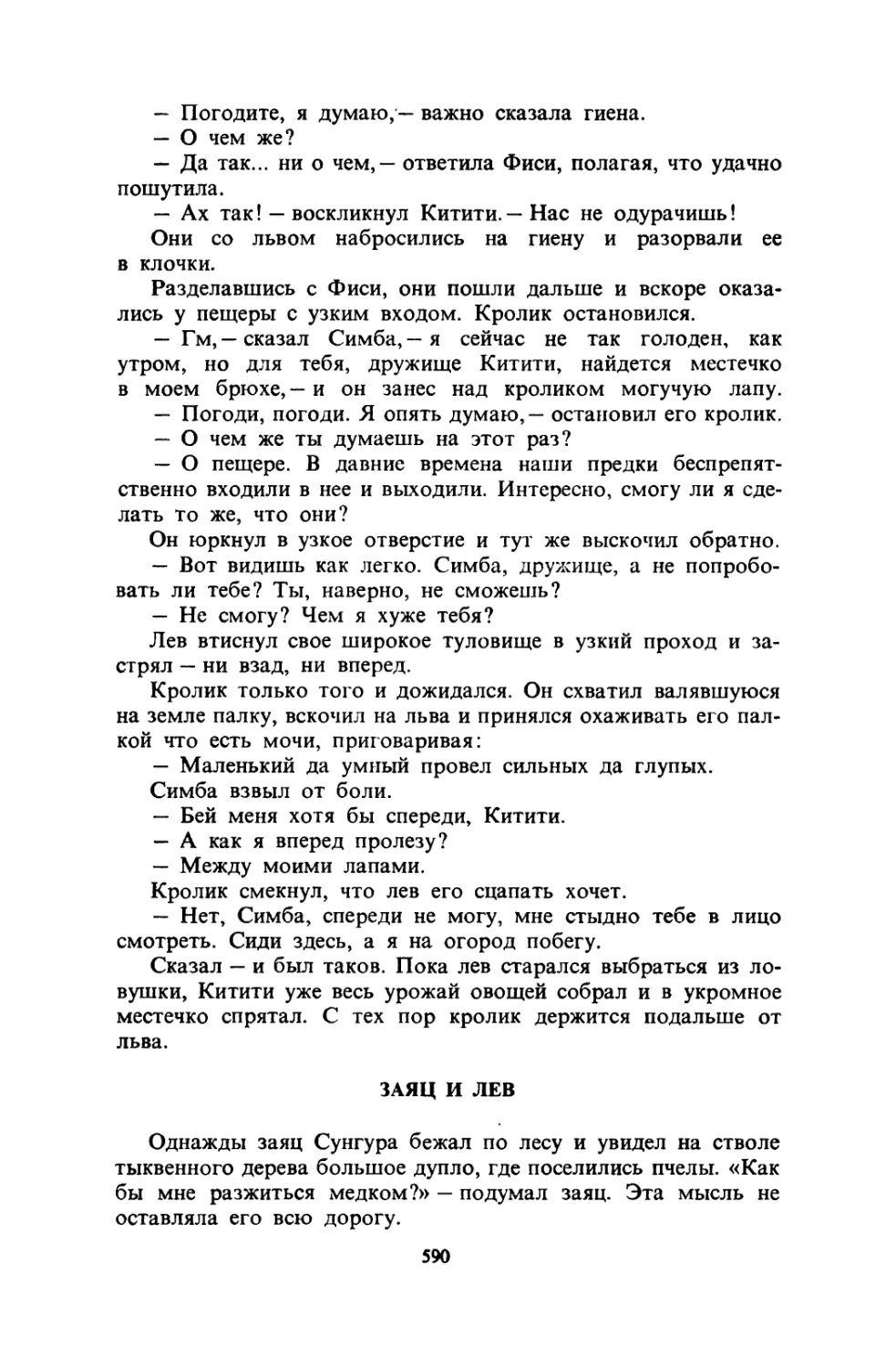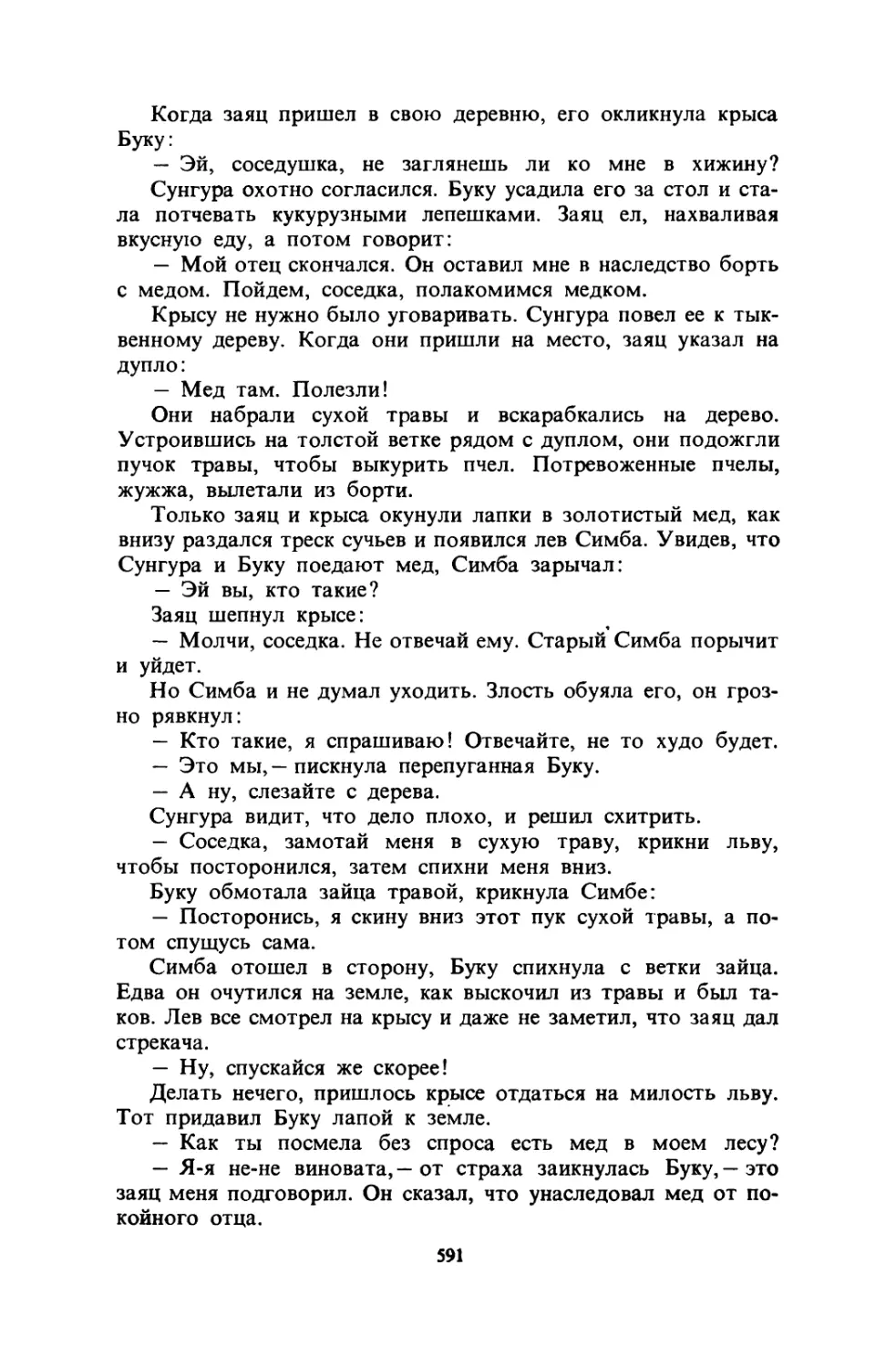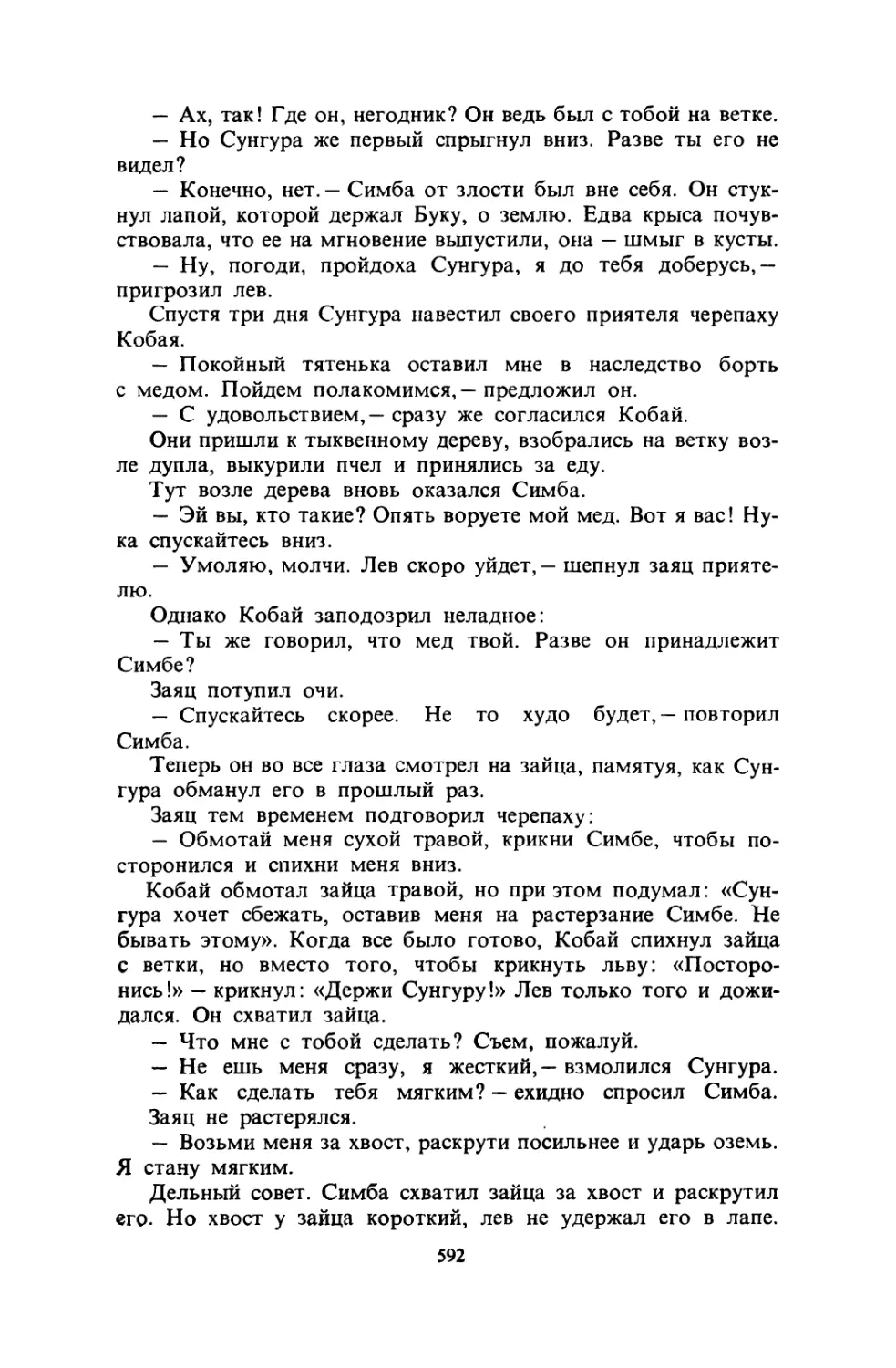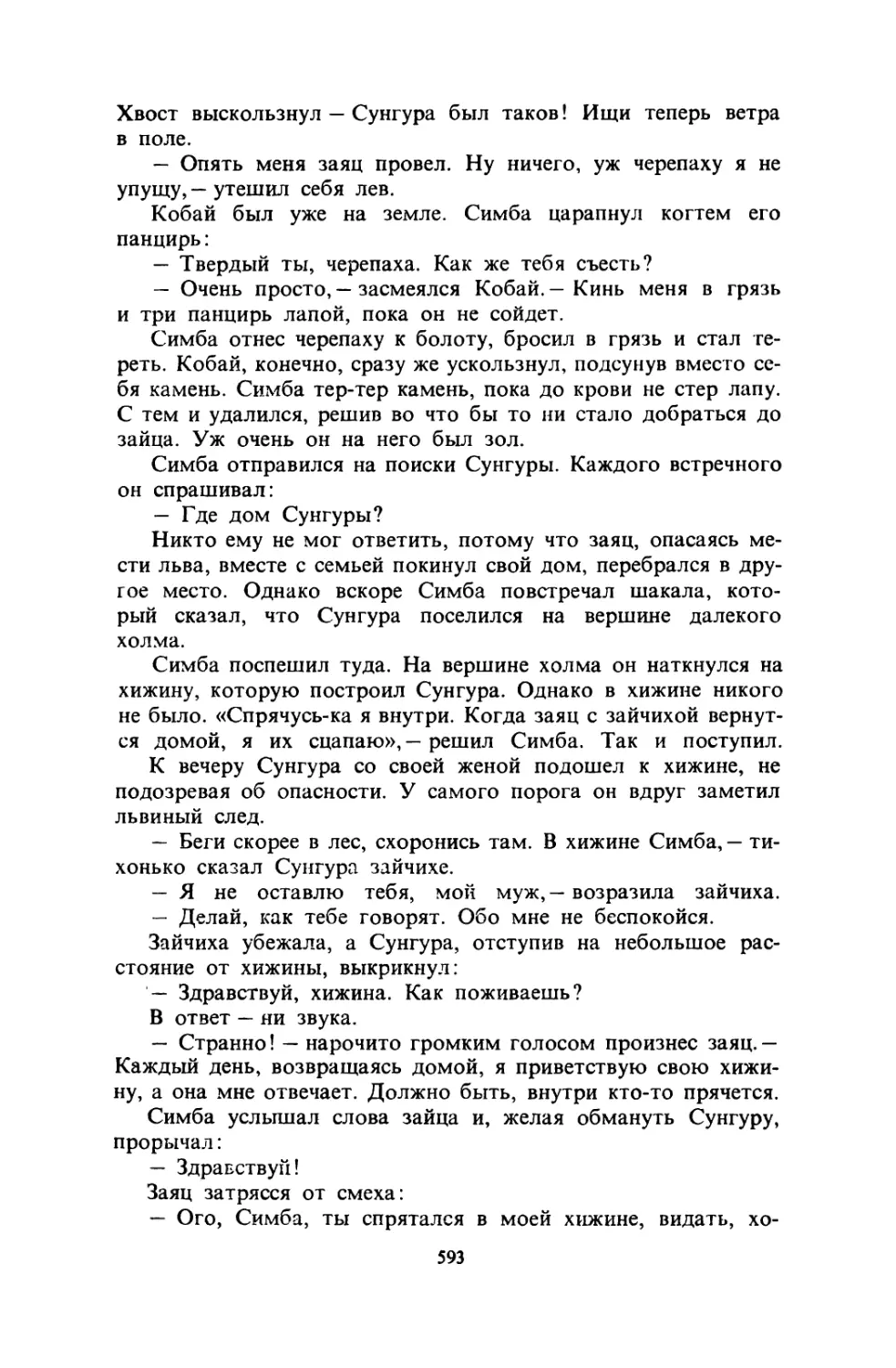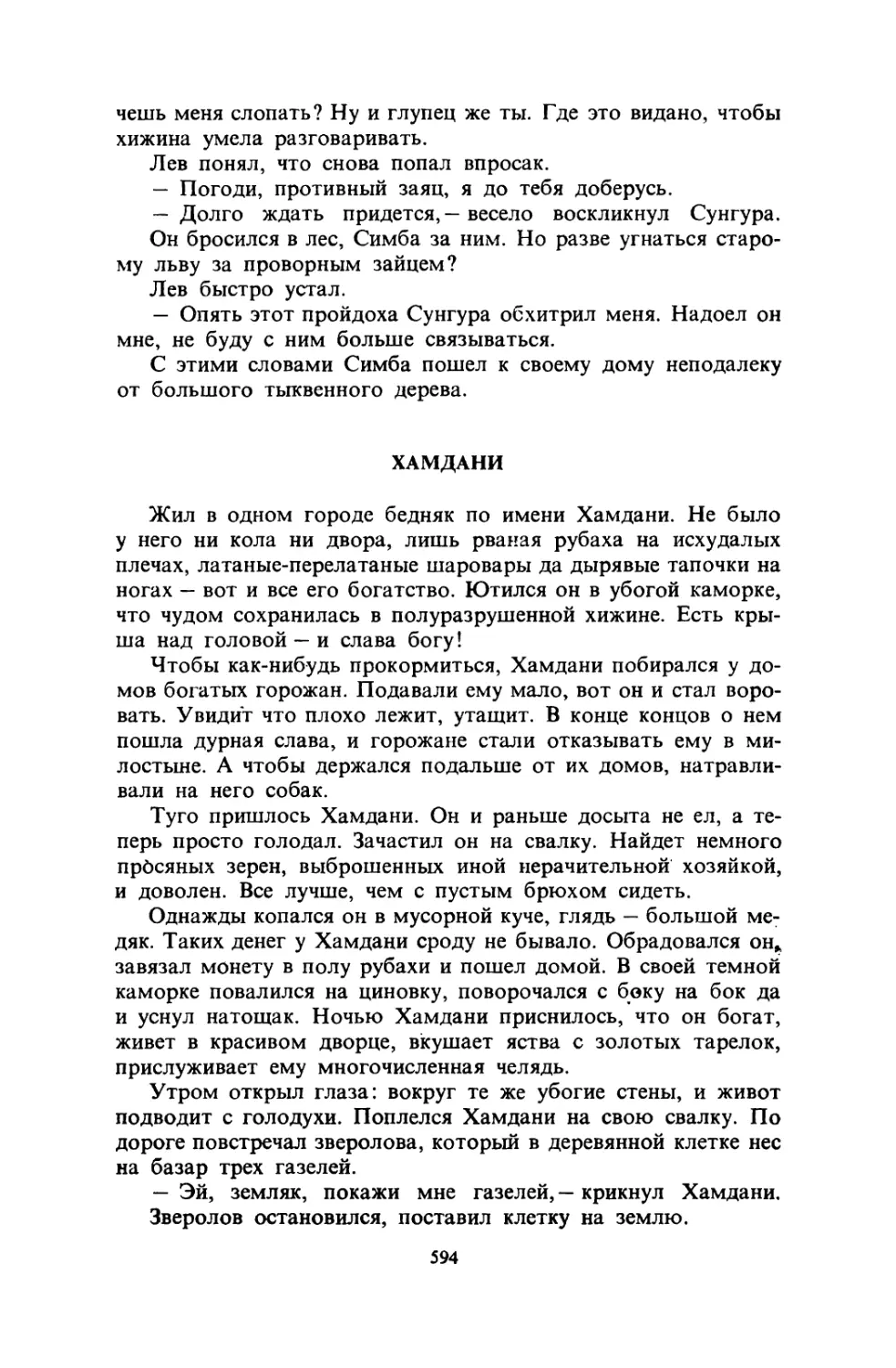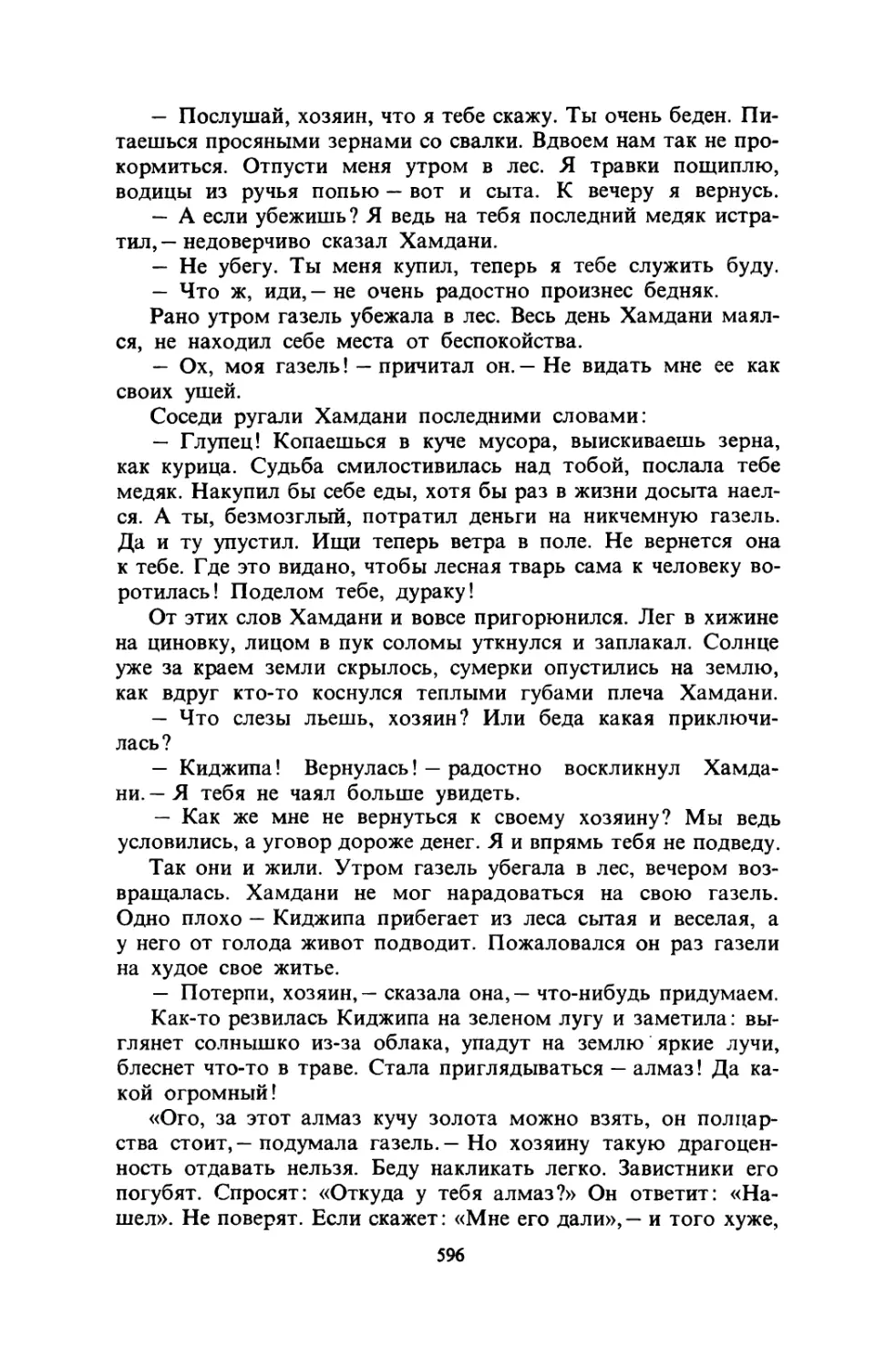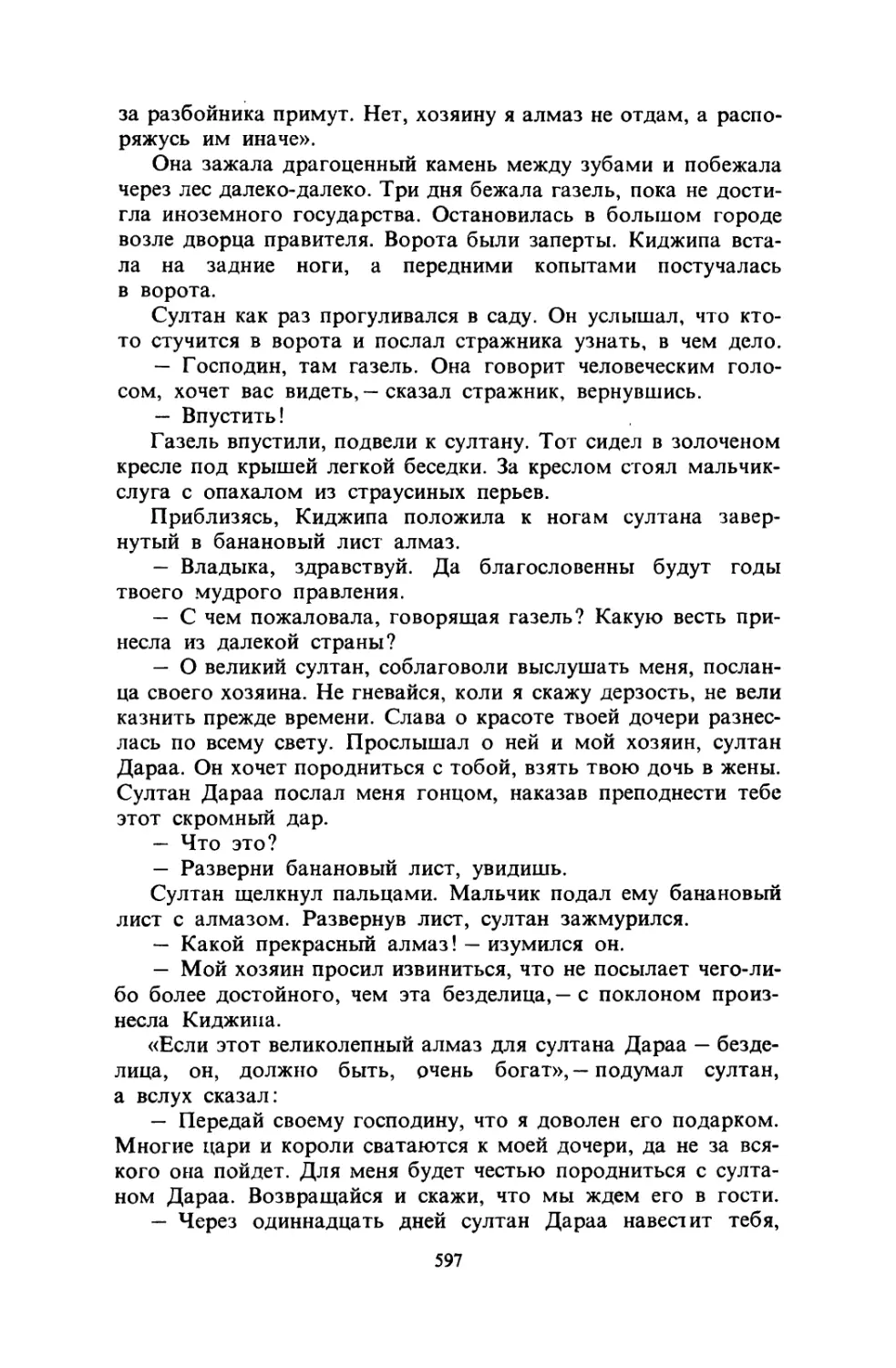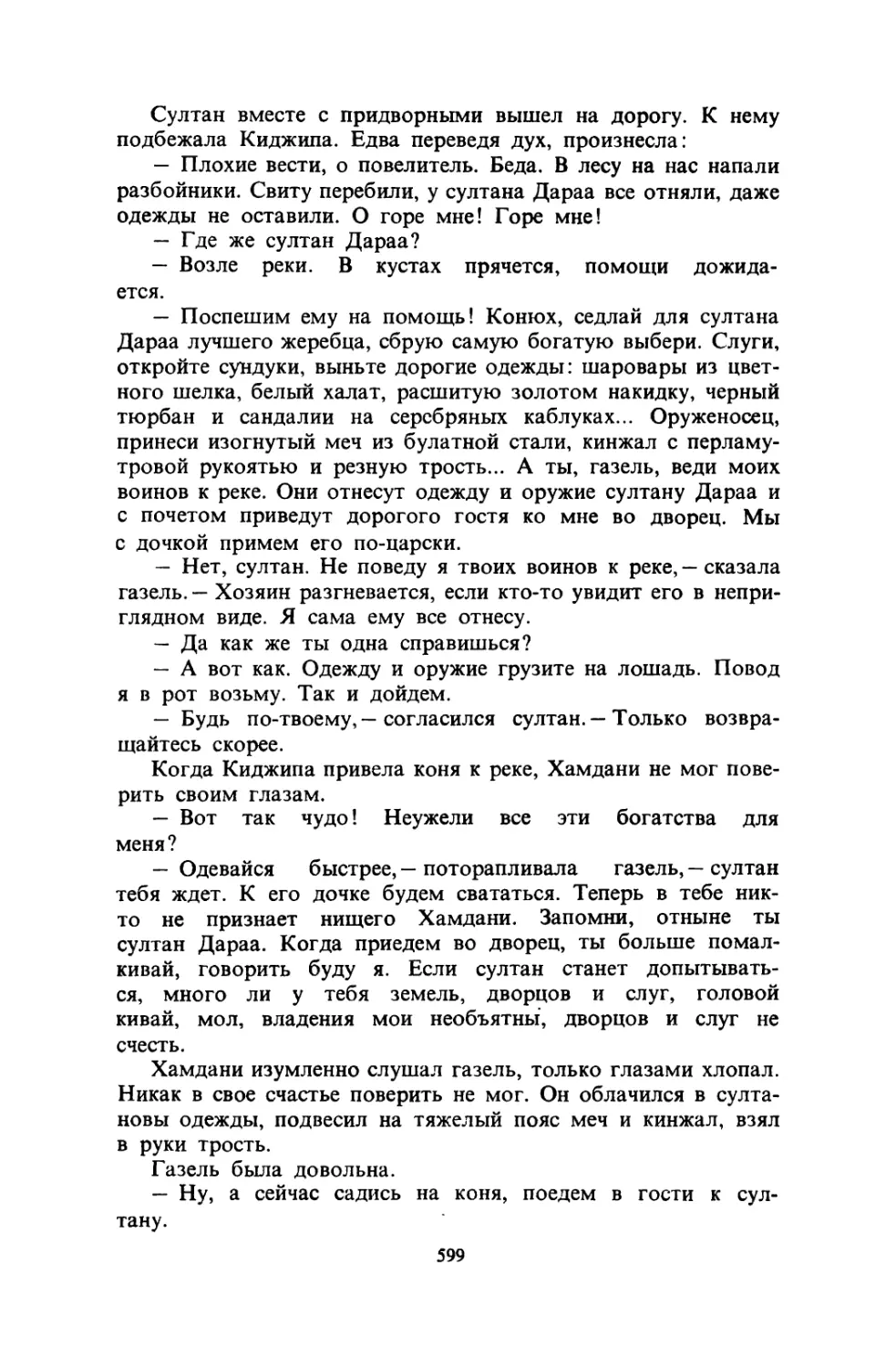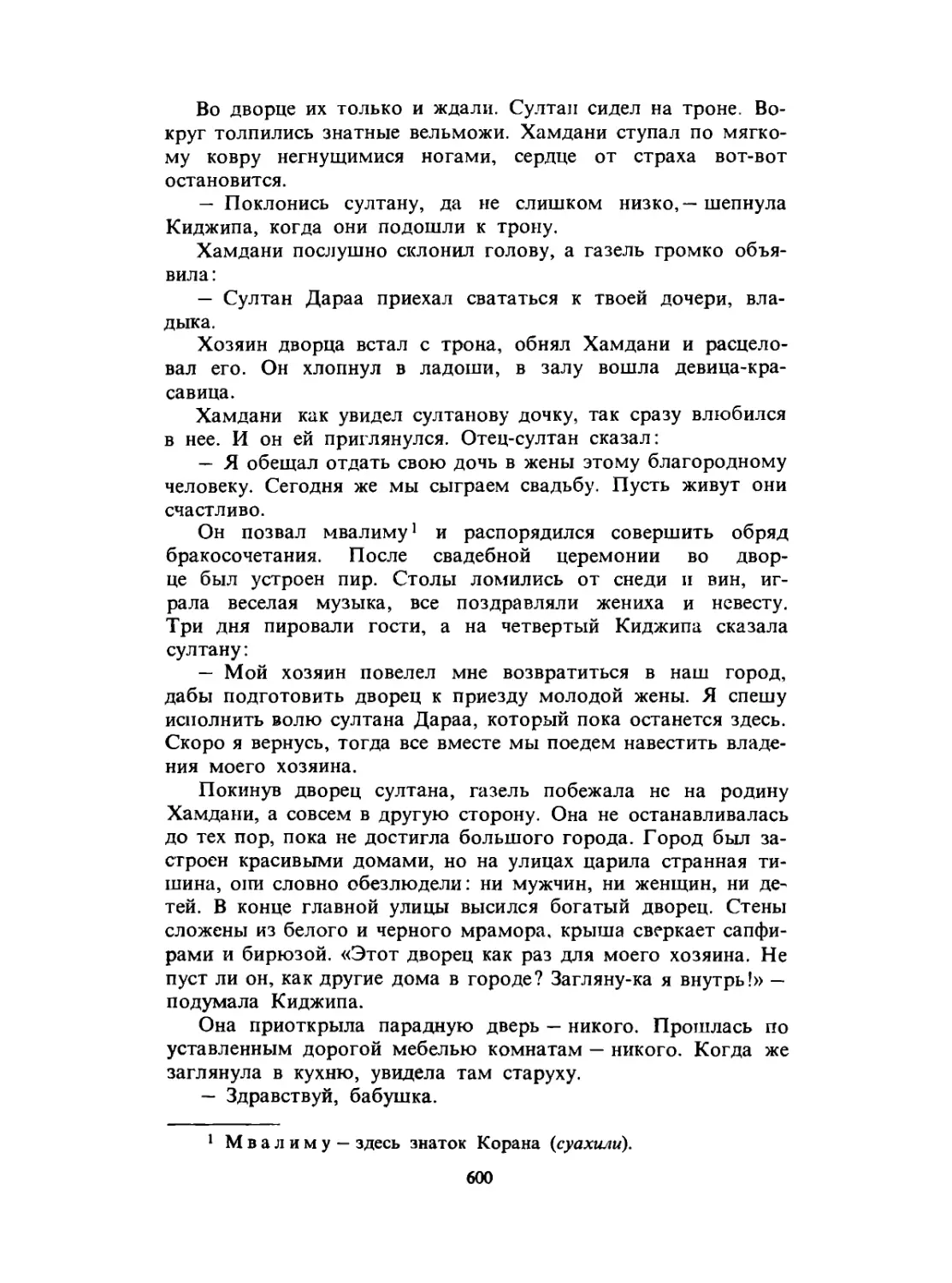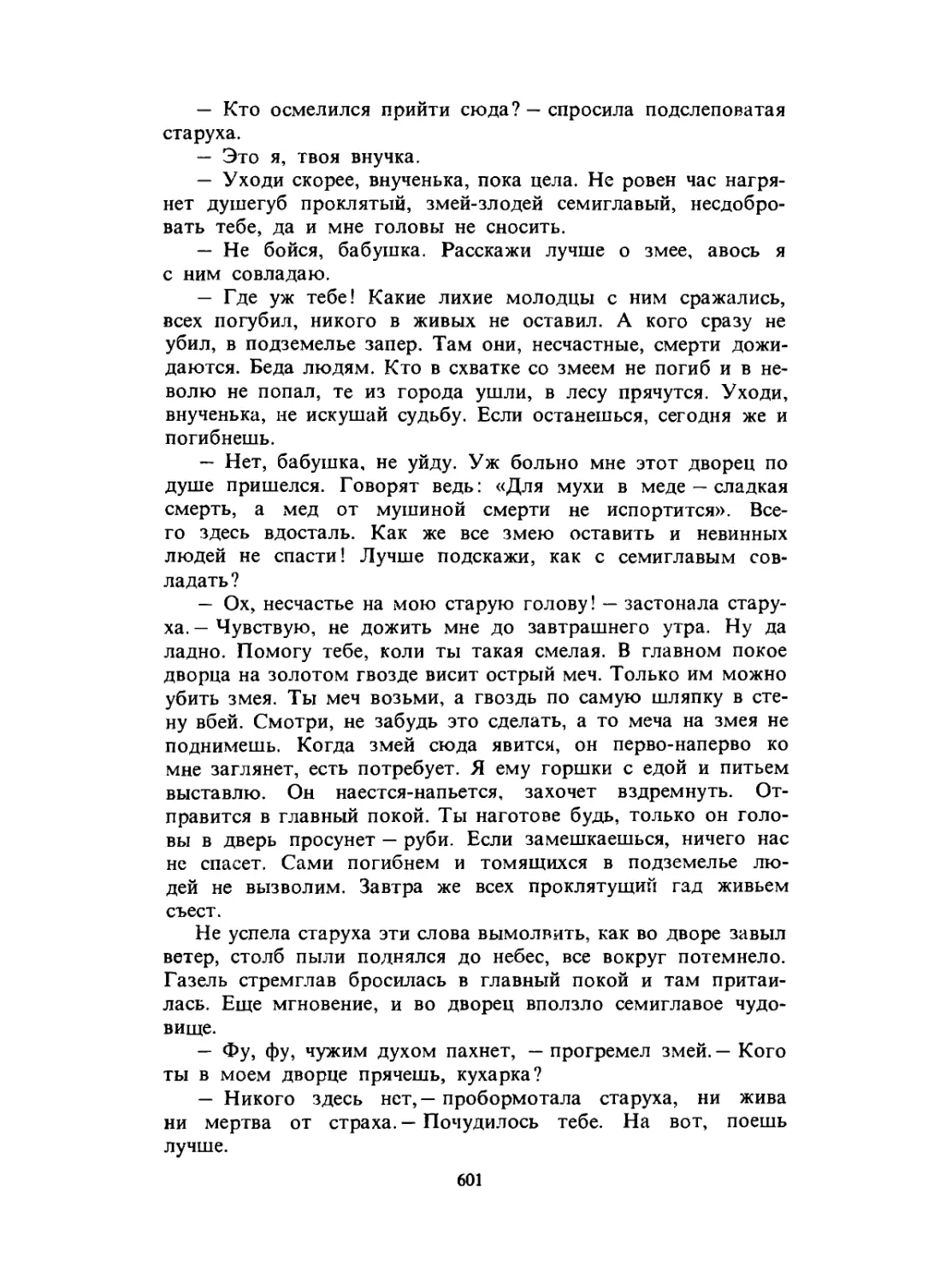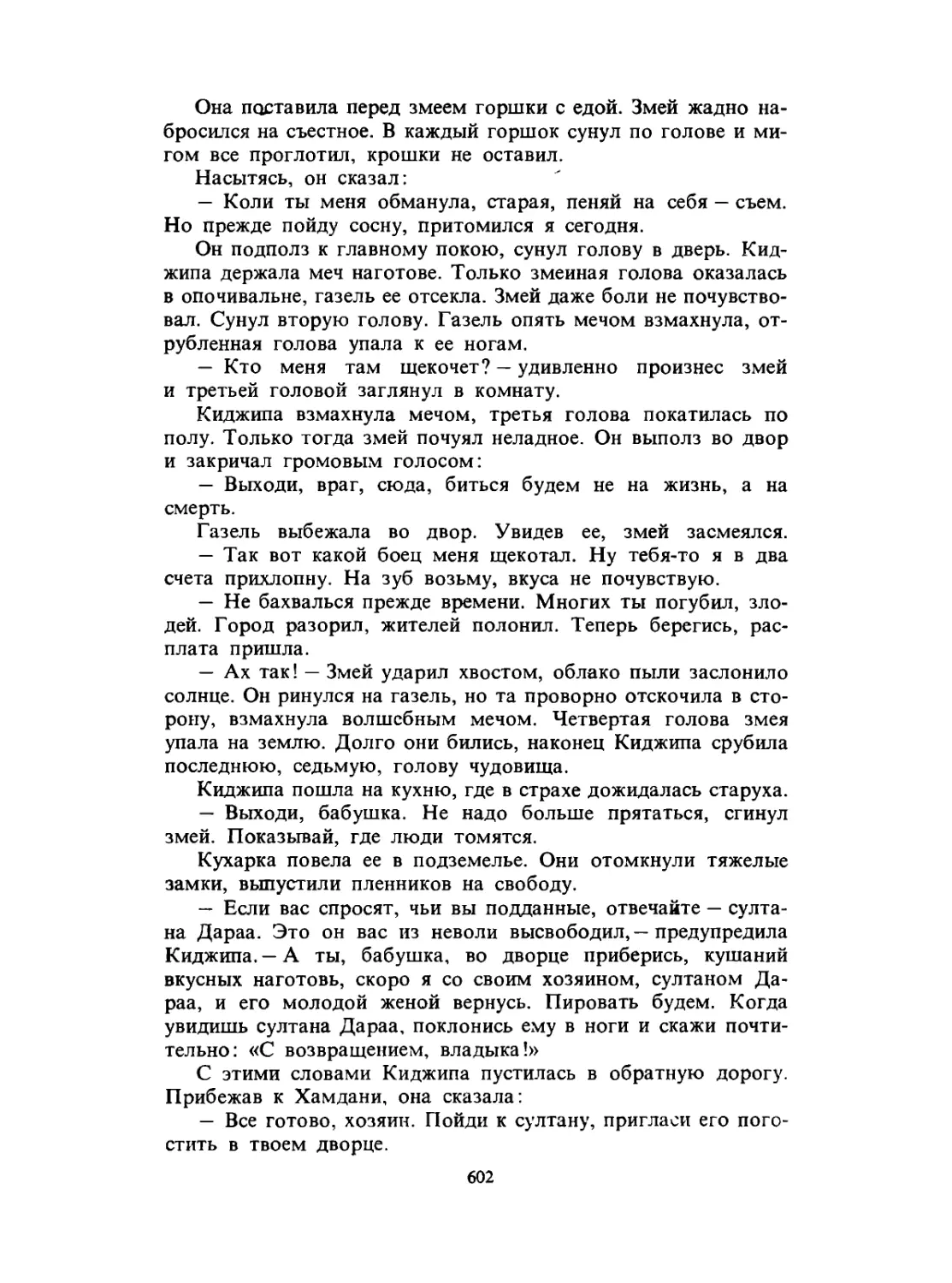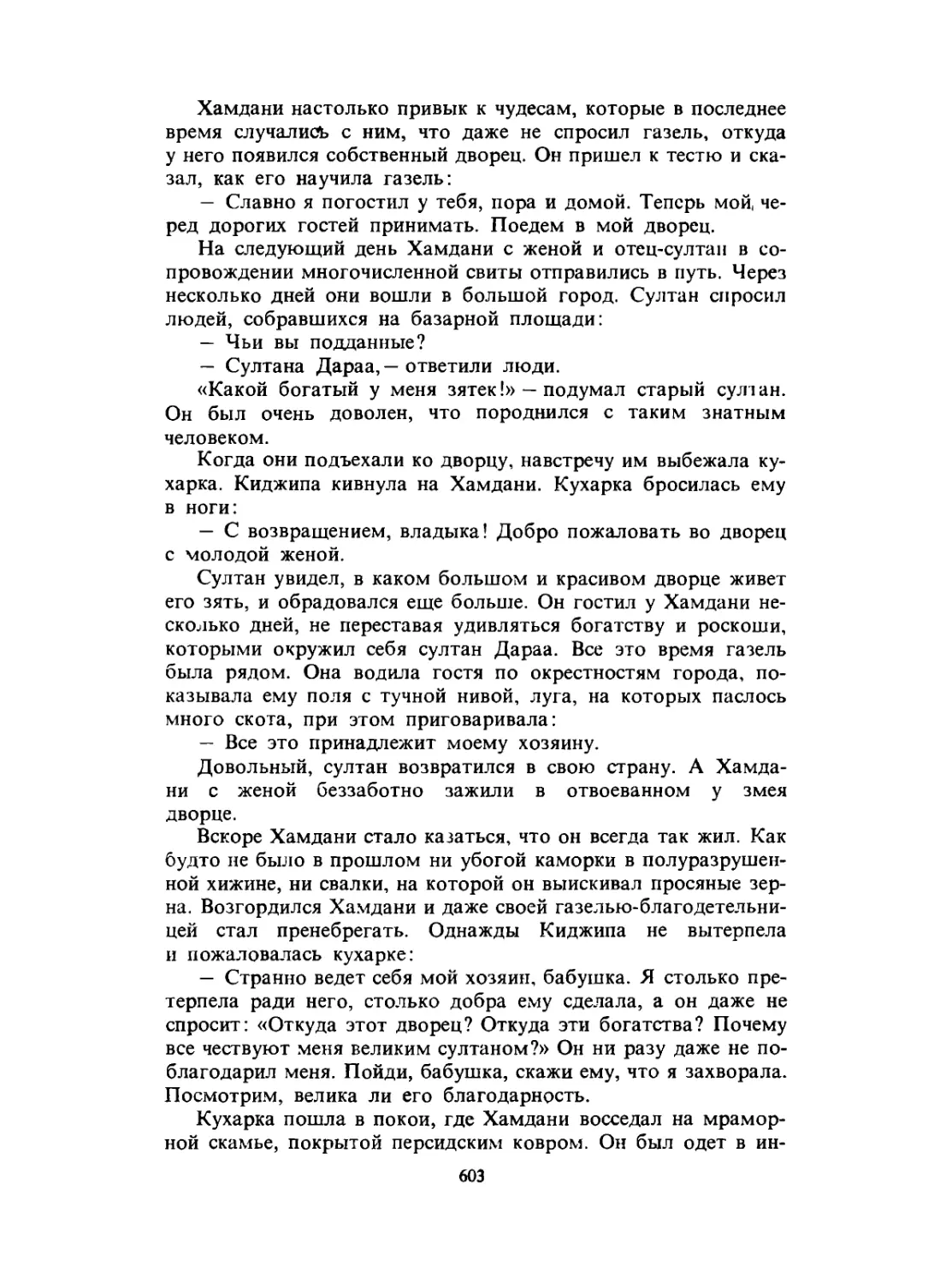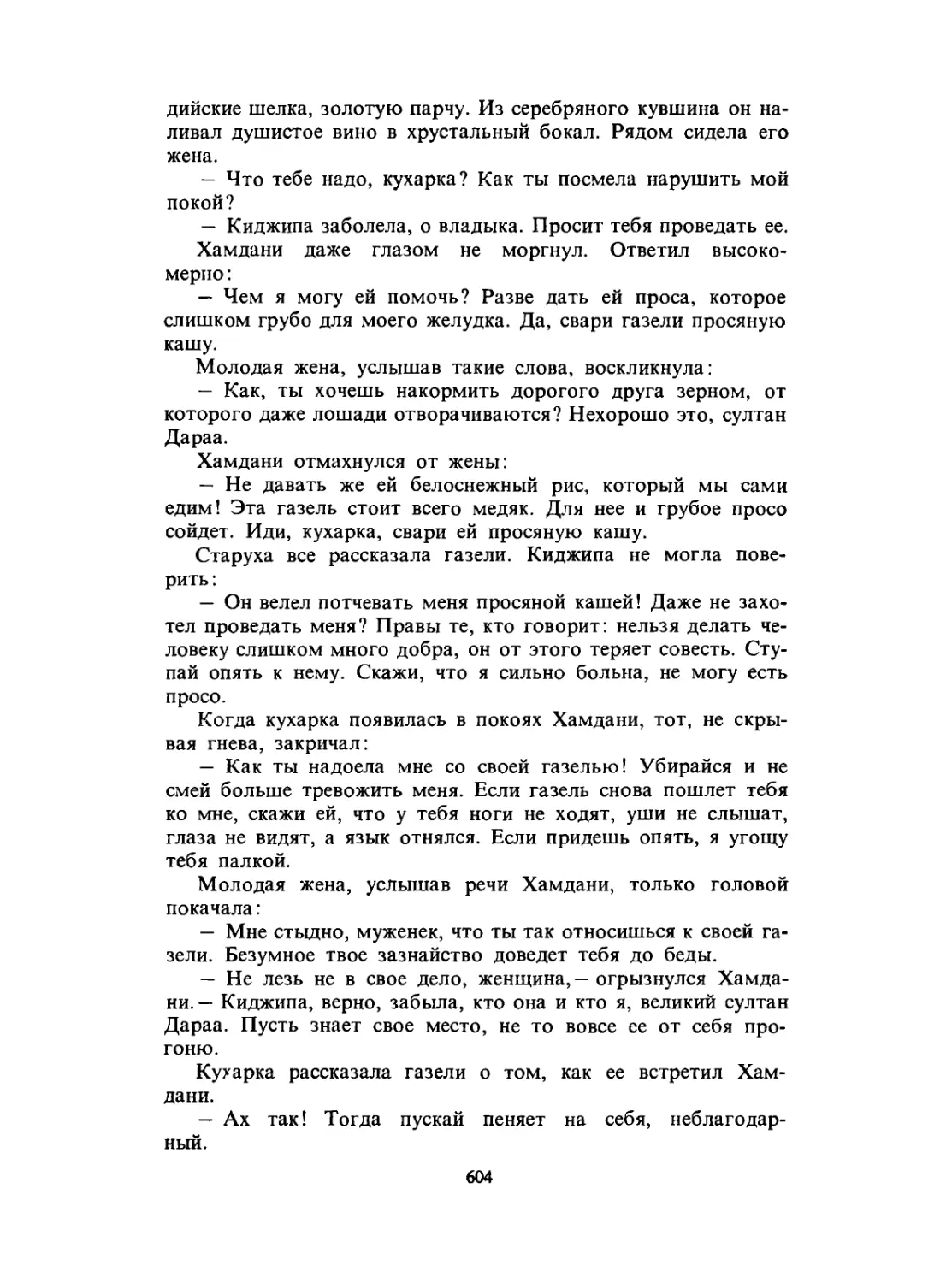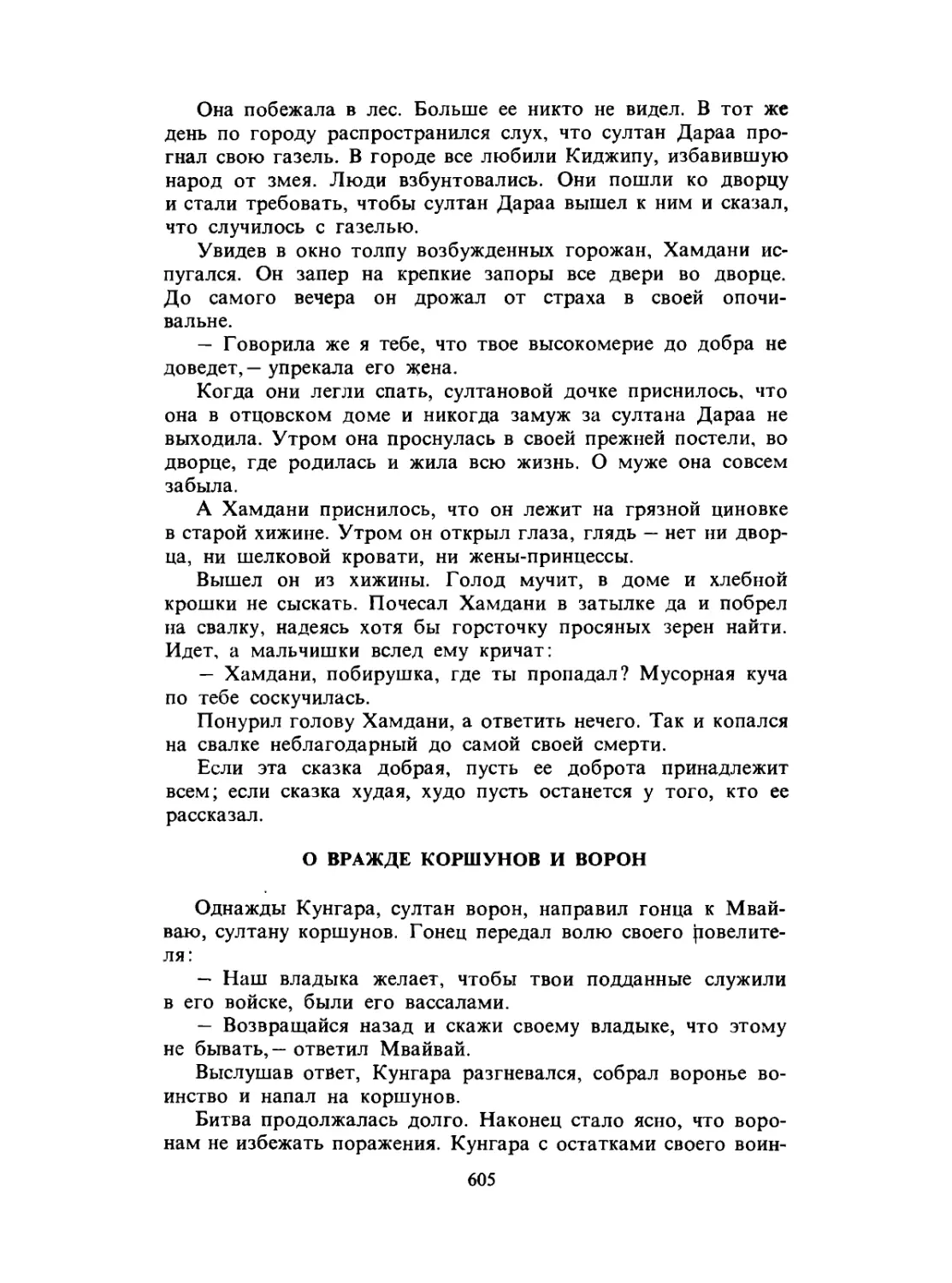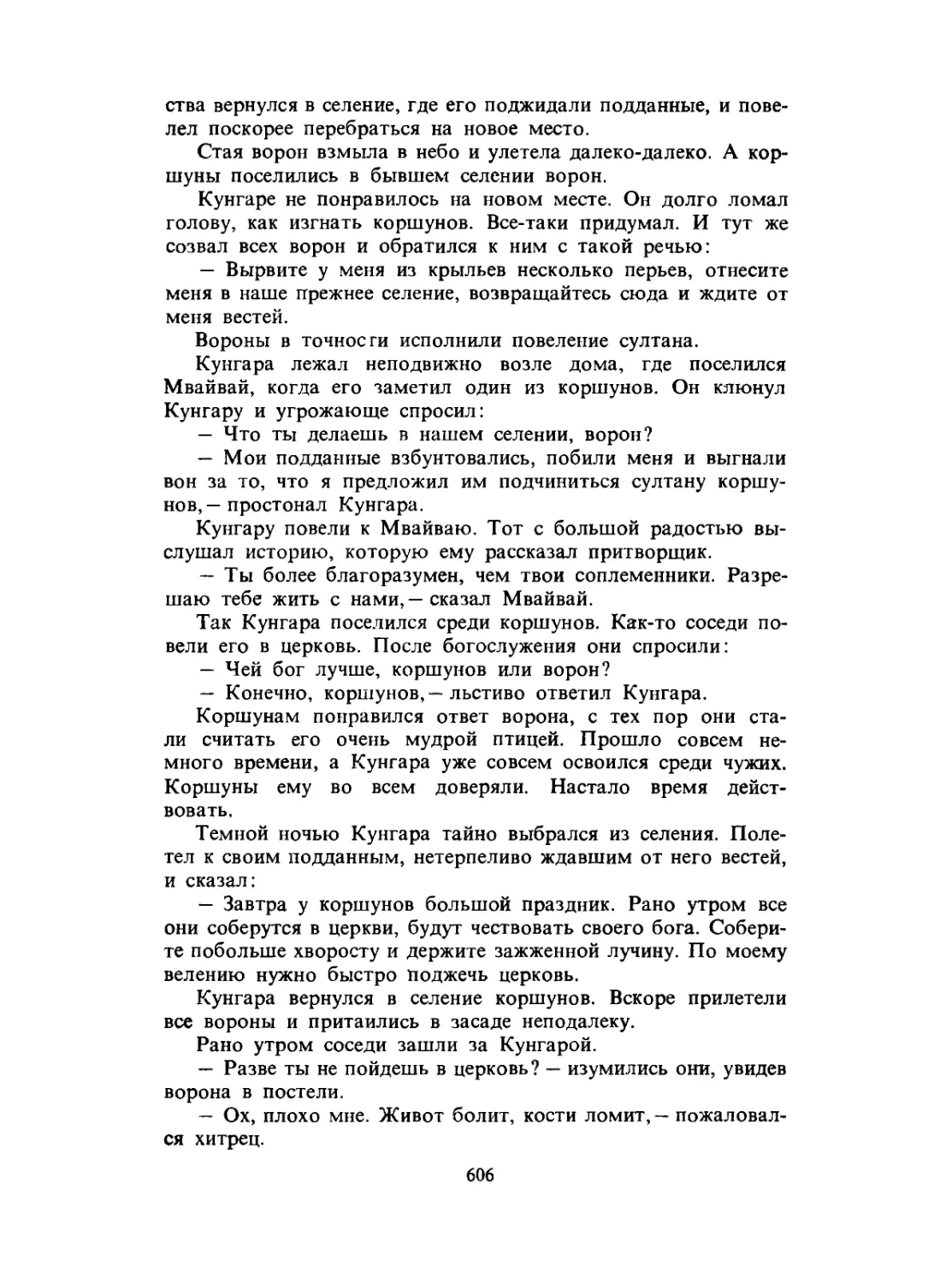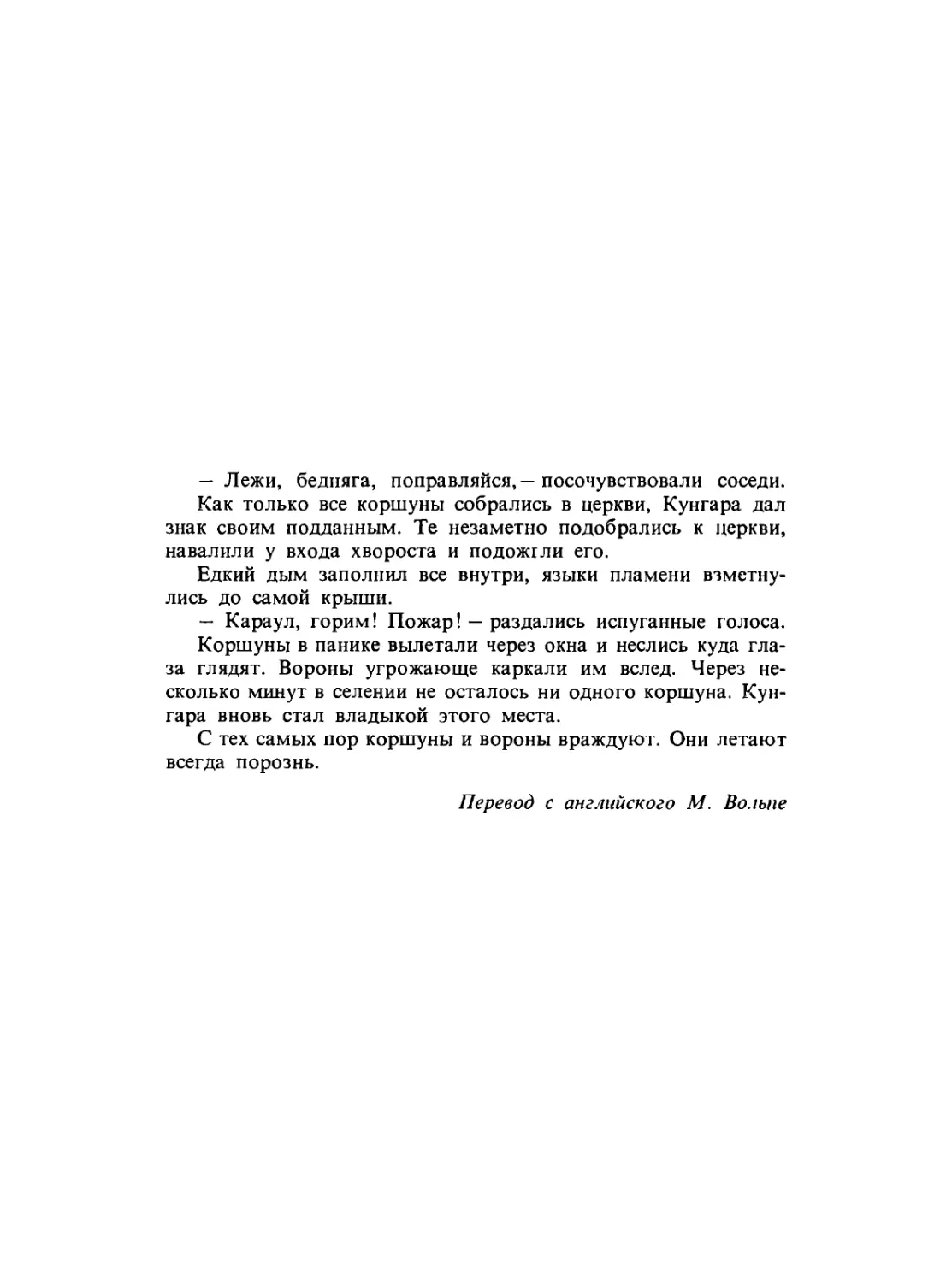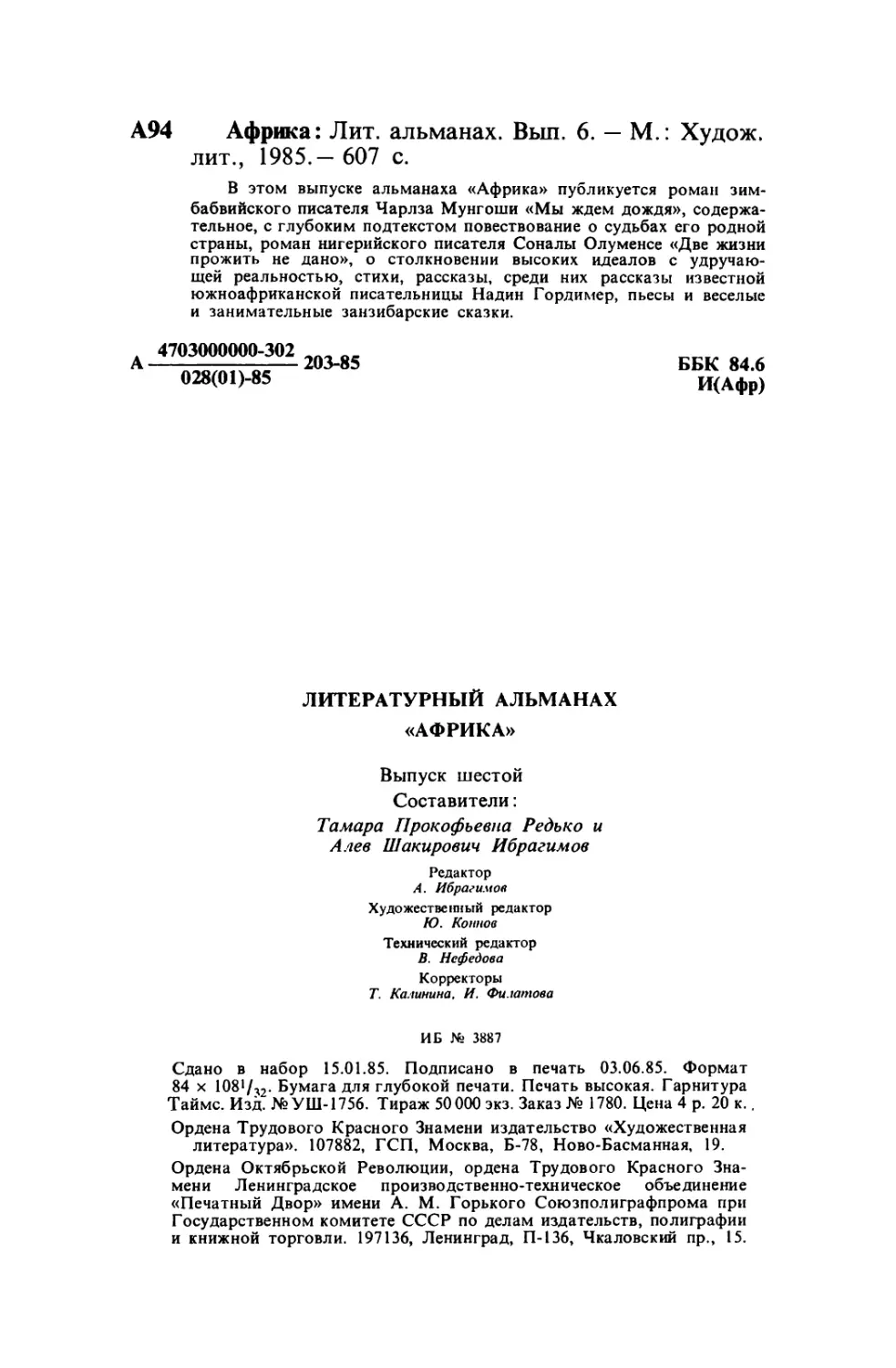Текст
я
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ «АФРИКА»
.РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Громыко Ан. А.
Давидсон А. Б.
Ибрагимов М. А.
Исмагилова Р. Н.
Кулик С. Ф.
Осипов В. О.
Хохлов Н. П.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
Выпуск 6
Москва «Художественная литература» 1985
И(Афр) А94
Оформление художника
С. Крестовского
. 4703000000-302 ос 028(01>85
© Составление, статьи, переводы, оформление.
Издательство «Художественная литература», 1985 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Роман
Л. Беспалова. Бегство и возвращение Люцифера Манденгу ... 7
Чарлз Мунгоши
Мы ждем дождя. Перевод с английского Л. Беспаловой, Ю. Жуковой, М. Кан ............... 11
Стихи и рассказы Конго
Тати-Лутар
Диалог плоскогорий. Перевод с французского Н. Габриэлян 191
Апрель в Конго. Перевод с французского Н. Габриэлян 192 Молния и забвение. Перевод с французского Н. Габриэлян 193
Атомная тень в небе. Перевод с французского Н. Габриэлян 194
Терпеливая река Конго. Перевод с французского Н. Габриэлян ............................................... 195
Бесполезная поездка. Перевод с французского М. Финогеновой 195 Арест. Перевод с французского М. Финогеновой .... 204
В погоне за бриллиантами. Перевод с французского М. Финогеновой ................... 212
Пари. Перевод с французского М. Финогеновой............217
Чичелле Чивелла. Перевод с французского М. Финогеновой
Камень раскалывает орехи...............................225
Долг................................................. 243
Рассказы разных стран
Чарлз Джоу Пруд. Перевод с английского | В. Кошкина |...........248
Розина Умело. Перевод с английского М. Арабаджян Бизнесмен...............................................263
Смерть в семье.........................................268
Человек, растранжиривший деньги........................273
Нванкво знакомится с удивительным местом...............278
5
За золотым руном в Айлингтон...............283
Помешанная.................................287
Жены Уче................................. 292
Надин Гордимер. Перевод с английского Л. Володарской Какой ей быть, новой эре.................. 298
Невеста....................................311
Стихи
Мутони Ликимани
Чего хочет мужчина (Из поэмы). Перевод с английского М. Курганцева.................~............320
Роман
В. Вавилов. Предисловие...................... 335
Сонал а Олуменсе
Две жизни прожить не дано. Перевод с английского И. Архангельской ................ 339
Пьесы
Атол Фугард
Молодой хозяин Харольд и его слуги. Перевод с английского В. Рамзеса ................ 501
Мукотани Ругьендо
Колючая проволока. Перевод с английского Н. Прокунина 540
Фольклор
М. Вольпе. О Занзибаре и занзибарских сказках.573
Занзибарские сказки. Перевод с английского М. Вольпе Обезьяна, змея и лев.......................575
Мкаа Иехони, маленький охотник.............580
Лев, гиена и кролик........................589
Заяц и лев.................................590
Хамдани................................... 594
О вражде коршунов и ворон..................~ 605
Роман
БЕГСТВО И ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮЦИФЕРА МАНДЕНГУ
Роман зимбабвийского писателя Чарлза Мунгоши «Мы ждем дождя» — о надежде, отчаянии и все-таки о надежде. Люди в далекой Южной Родезии ждут не только дождя — они жаждут перемен, потому что жить так, как они живут, невмоготу. Засуха грозит не только земле, но прежде всего их душам. И хотя пройдет еще добрый десяток лет до весны 1980 года, когда страна, поднявшись на борьбу за независимость. после долгой вооруженной борьбы освободится от власти белых расистов и станет называться Зимбабве, — дыхание грядущего ощущается на каждой странице романа.
Правда, поначалу кажется, что роман посвящен весьма незначительному событию: отъезду внука главы рода Старика Ман-денгу «за большую воду». И хотя во всей округе это первый юноша, отправляющийся учиться в Англию, все же его отъезд — событие скорее семейного масштаба.
Но в том-то и талант художника, чтобы через малое показать большое, и двух дней жизни деревенской семьи для писателя достаточно. чтобы открыть нам -все
сложности и трудности страны, рассказать о ее прошлом и перекинуть мост в будущее.
Все это Чарлз Мунгоши делает как бы исподволь, ненавязчиво, даже неторопливо. В глухую деревушку из Солсбери должен вернуться юноша Люцифер. Его мать Раина, его бабка Ман-диза, его дед, глава рода, Старик — все они против отъезда мальчика в Англию. А отец Люцифера Тонгуна хочет, чтобы сын получил образование. Происходят семейные стычки, съезжаются родичи — брат Тонгуны Куруку со своими домочадцами, и постепенно мы узнаем, что в семье разлад, и начинаем понимать, что разлад и в самой стране: вожди племен спиваются, стране грозит голод, потому Что люди не хотят работать на поле и бегут в город, а сельскохозяйственные инструкторы, назначенные белым правительством, ничем помочь не могут.
Но все это, повторяем, мы узнаем исподволь, из обрывков слухов и разговоров, из обмолвок и недосказок. Поначалу повествование развивается медленно, в каждой небольшой главке действует лишь один персонаж, но
7
выписан он так живо и ярко — кто с иронией, к го с насмешкой, кто с жалостью, кто с благоговением, — что сразу врезается в нашу память. Каждый из героев как бы принимает нить повествования и затем бережно передает ее следующему персонажу. Сначала голоса звучат порознь с тем, чтобы в конце книги слиться в многоголосый хор.
Необыкновенно просто, как бы походя, автор показывает нам полную хитросплетений, интриг, доброты и злобы, безнадежности и веры, самоотверженности и эгоизма жизнь далеких от нас людей, но показывает ее так, что далекое становится для нас близким, почти осязаемым, а проблемы забытой богом африканской деревушки становятся для нас чуть ли не своими.
При этом автор нигде не излагает историю семьи. Все открывается как бы невзначай, и мы вдруг начинаем преклоняться перед Стариком, мудрым, мужественным, достойным, многое повидавшим за свою долгую жизнь человеком. Мы начинаем восхищаться барабанщиком Га-рабхой, сочувствовать неудачнику Тонгупе, ненавидеть колдунью Матандангому, ужасаться черствости Люцифера.
Старик Мандепгу неграмотен, он даже не знает, что такое радио. Но за ним стоит многовековая культура африканского материка и, прежде всего, высокая культура человеческих отношений. В конце прошлого века он сражался против английских захватчиков. «Нас победили, но
в открытом бою, — говорит он своему старшему внуку виртуозу барабанщику. — У нас были свои боги, и мы гордились ими... Сегодня мы спрашиваем — где мы есть? Мы все равно что слепые. Слышим, но разве слушаем? Мы все равно что глухие. А почему? А потому что бьем во вражеский барабан».
И Старик по-своему прав: те перемены, то новое, что приходит в маленькую деревушку, пока что носит обличье чужого, иноземного. Нужно искать свои пути и свои формы жизни. Поиску этих путей и посвящен роман.
Сам Старик Манденгу охраняет старые устои, но и ему ясно, как важно человеку, семье (да и стране) найти свой новый путь, «...все невзгоды минуют тебя,— говорит он любимому внуку Га-рабхе, — поскольку ты будешь играть на своем барабане». Не случайно своя судьба, своя дорога принимают для Старика символический образ барабана, того самого барабана, без которого немыслима жизнь африканцев, да и жизнь Старика, — недаром он в своем преклонном возрасте неустанно мастерит барабаны.
Но не так-то просто «бить в свой барабан», то есть найти свой путь, если тебя то и дело сманивают на чужую дорогу. В конце романа мелькает фигура белого миссионера, по поверхностному впечатлению, ' добродушного незлобивого человека, но объективно он и такие люди, как он. не только способствова
8
ли закабалению африканцев, но и вносили разлад в их семьи. Христианство оторвало народ от старых корней, ничего не дав взамен. Вот и христианство старшего сына Старика Куруку показное, заемное, и, лишившись устоев, Куруку спился, превратился в попрошайку и балаболку. Его сыновья, которым он дал английские имена, Поль и Джон, враждуют друг с другом.
Заботу о родителях — Старике и его жене Джапи, милой, впавшей в детство старушке сластене,— Куруку свалил на своего младшего брата Тонгуну. Тонгу-на тоже принял христианство, но и от старой веры не может отречься и в конце концов зовет в свой дом корыстную подлую колдунью Матандангому, готовую ради пары лишних монет рассорить семью, деревню и всех на свете.
В доме Тонгуны тоже нет мира и лада. Сам он человек работящий, но от его работы мало проку, хоть он и выбивается из последних сил. Старший сын Тонгуны Гарабха, добрый, отзывчивый человек и истинный музыкант, лишен семьей первородства. Преданный всем сердцем своему искусству, он не может ни создать семью, ни прокормить родителей, и по мнению всей округи он парень пропащий, хотя, едва он начинает бить в барабан, все, затая дыхание, внимают ему.
Второй сын Тонгуны Люцифер, поэт и художник, как бы антипод Гарабхи. Если для Гарабхи
дорога родная сторона, если он глубоко переживает беды семьи и деревни, то Люцифер, соблазненный цивилизацией белых, ненавидит не только семью, но и родину. Он презирает темноту родных, убогость своего дома, презирает древнюю культуру своей страны.
Родина?..
— вернувшись на день в родную хижину, сочиняет Люцифер.—
Родина, милая родина?
Тихий стук-постук мягкой земли
По мертвым доскам, По отчаянию. Заколоченному туда...
Однако, понимая, что связи с семьей и страной все-таки крепки, Люцифер, ожесточась, рвет их, как говорится, по-живому, отчего сам черствеет и теряет человеческие черты. Он бежит из родного дома «за большую воду», бросая родителей, деда, обеих бабушек, сестер и братьев, о которых, по праву переданного ему первородства, обязан теперь печься.
На этой горькой ноте заканчивается роман «Мы ждем дождя».
И все же, повторяем, это роман о надежде.
Не случайно автор подарил Люциферу не только год, но даже месяц и место своего рождения — конец 1947 года, Маньене. Чарлз Мунгоши тоже уезжал учиться в Англию, однако он возвратился в Зимбабве. В одном из его стихотворений мы находим такие строки:
9
Если ты изживешь усталость и злобу и найдешь в себе силы вернуться, ты увидишь: осенний дым все-таки пишет слова надежды в высоком небе родной страны. (Перевод А. Сергеева)
Не звучат ли эти строки ответом стихам Люцифера и его бегству? Не говорят ли они, что автор тоже прошел тот же путь отчаяния, но нашел в себе силы вернуться и сегодня активно участвует в строительстве независимого Зимбабве. Он возглавляет издательство художественной литературы, выпустившее уже немало хороших книг. Кроме нескольких стихотворных сборников, Ч. Мунгоши написал два сборника рассказов «Наступает засуха» и «Бывают такие раны»
и два романа и пьесу на языке шона. За свои произведения он дважды был удостоен премии Пен-клуба (1976 и 1981 гг.). Книга рассказов «Наступает засуха» была запрещена белыми властями 'Южной Родезии.
С мужеством большого художника Чарлз Мунгоши сумел перерасти своего героя, собственной жизнью как бы подтвердив замечательные слова Эрнеста Хемингуэя: «От многого я освободился тем, что написал об этом». Несмотря на безысходность и отчаяние, в которых пребывала не только семья Манденгу, но и вся страна, роман исполнен надежды. Верится, что после того, как над страной пролился долгожданный дождь, мечты его героев сбудут-/ ся.
Л. Беспалова
Чарлз Мунгоши
МЫ ЖДЕМ ДОЖДЯ
Памяти моей бабушки Ва Мадиро
Глава первая
Иное творится здесь, иное — там; пусть ты видишь это, пусть не видишь — все равно, тебе не дано знать, видит ли это Старик.
Воздух взрывается от грома, земля рокочет, содрогаясь, молния с треском вспарывает тьму неверными зигзагами, а тебе, одинокой крупице, подхваченной вихрем, надо выстоять и выжить. Впереди, вдали, ослепительной искрой сверкает свет, он уходит все дальше, но не беда — путь до него остается все тем же, хотя тебе и кажется теперь, что в этой недоступной дали холодно и одиноко. И есть в тебе то, чему нет имени, есть схожее с голодом чувство, но и оно пройдет, ты знаешь, как многое прошло уже, само, помимо тебя. Или, может быть, не пройдет? Как знать. Порою ты уверен, что не пройдет. А тебе так хочется, чтобы прошло, — иной раз даже кажется, что прошло, хотя оно по-прежнему тут. По-прежнему тут, под наслоениями всего прочего, а столько всякого творится сразу, что голова идет кругом. Оно тут, внутри, а с ним и чувство, что ты близок к этому слепящему, полному биения жизни средоточию, к самой его сердцевине. О том и бьет барабан Старика.
Но ты не слышишь его за бряцанием своих дешевых ломаных погремушек. Если б ты мог остановиться, прислушаться, ты бы услышал. Гул исходит откуда-то из тьмы, из какой-то безымянной пустоты, и поначалу он тих, еле слышен, но вслушайся — в нем то же биение, что и в глубинах земного нутра. Неужели не слышишь? Вот он! Он был и есть! Стоит его услышать, и он заполнит тебя без остатка, потрясет до основания, и ты мгновенно поймешь — не он отсутствовал, а ты, он — то, что внимает и отзывается тебе. Но ты бряцаешь, гремишь, и, когда он тебя настигает, ты не слышишь. Но он настигнет тебя — так и знай. И когда это наконец произойдет, окажется, что ты на распутье. А пока смейся, резвись, прикидывайся, будто не слышишь; тебе недолго притворяться. Нет, недолго! А пока — бьет барабан.
11
— Я буду бить в свой барабан, ты — в свой, — сказал бы тебе Старик, если б умел говорить твоими словами.
Каждый бьет в барабан по-своему. Но у вас с ним — разные слова, и тебе уже не на что опереться. Совсем не на что, так как барабан Старика — нем...
Нем... потому что не умеет говорить с тобой так, чтобы ты понял. Сказать о том, что он несет в себе: стертые образы, лица, полускрытые множеством других лиц, замеченные мимоходом, лишь смутно удержанные памятью. Но подлинные. Горы в сизой дымке за истерзанной зноем равниной. Лесные темные дебри, всегда за серой пеленою измороси, и желтый лист, застывший в падении на волглую землю. Пыльные бури на бескрайних просторах пустыни и лицо друга, почти занесенное песком, который уж больше не досаждает ему. Реки, которые уже никуда не текут. Медленно набухают, но не черной водой, а человеческой кровью. Холодные ночи, жаркие дни. Кажется, что ты когда-то давно бывал здесь, но вспомнить не успеваешь — время па исходе, и тебе пора дальше. И все окрашено цветом земли, а земля у тебя на глазах вдруг окрашена цветом крови; но вот это все отступает, и ты уже на Равнине.
Равнина ночью; смерч света буравит темноту, сужаясь к слепящему средоточию вечного взрыва. Это Равнина. Но ты не успеваешь даже сказать ее имя, как сознаешь, что на самом деле это Бородатый Лес. Бородатый Лес; невысказанное «кто — ты?» парной его тишины отдается в ушах, когда ты стоишь на влажной толще, настланной за миллионы лет палой листвой и лианами, а вокруг поднимается гнилостное зловоние, и кто укажет тебе путь? В этом давящем, застойном зное, кто укажет путь Старику? Здесь, где нет ни дня, ни ночи, а лишь сгущаются или бледнеют серые тени, где испокон века капает с бородатых деревьев темная вода, кто же, кто укажет ему путь? Места знакомые, но здесь он никогда не бывал. Это — иные места. Но какие? Все пути для него смешались. И что за пути? Кто указал их? Куда они ведут? Он не знает. Что было? И было ли? Память молчит. И он смиряется. Пусть, он уже не такой глупец и не старается узнать, где, и когда, и что, и как. Он спрашивал бы себя об этом, если б впервые явился в Бородатый Лес, — или, может быть, Бородатый Лес явился бы к нему — давным-давно... Впрочем, он не помнит, когда пустился в это странствие. И, однако, он здесь. Как попал сюда? Зачем? Бессмысленные вопросы. Напрасные усилия ума. Ответа нет. Ответа нет, и бежать тоже некуда. Бежать некуда, и ты ползешь вперед. Ты ползешь, но — что это перед тобой? Она, Равнина! Это ему теперь ясно. Великая
12
Равнина. И — пустота. Вот, он стоит тут, и пустота — от земли до неба пустота.
Солнца тоже нет, и все же он знает, что сейчас день. Сейчас день, потому что видно, где земля сходится с небом, и до этого места очень далеко. А возможно — совсем недалеко. Расстояния теряются в унылом однообразии Равнины. Расстояния на Равнине глазом не измеришь. Но он видит теперь — расстояния на Равнине далекие. И вот там, где земля слегка вдается в небо, он видит Ее: Точку, Черную Точку. Едва заметную вдалеке, на далеком краю Равнины. Что она, движется? Нет. Нет... Хотя, похоже, что... Да-да, движется. Он смотрит, и Точка словно бы уходит в землю, а небо отделяется от земли. Да, Точка и в самом деле движется. Он ждет. Он здесь давно и знает, что Точка либо настигнет, либо минует его. Поэтому ждет ее не так, как влюбленный ждет возлюбленную. В нем нет упованья и надежды. Уповать и надеяться бессмысленно. Он просто ждет.
Оказывается, у Равнины есть свое лицо. Она не такая однообразная, какой представляется поначалу: провожая глазами Точку, то теряя ее, то вновь находя, он видит, что Равнина где-то холмится, где-то полого уходит вниз... А вон там, конечно, пролегает Черта, потому что небо за Точкой почти припадает к земле, а Точка все растет и растет. Она все растет, небо спускается все ниже, и он понимает, что Точка вот-вот будет здесь. Он уверен теперь, что Оно — неведомо что — его не минует. Он ощущает, как прочно угнездилось в нем это чувство обреченности. И все же он спокоен, он не боится, так как знает, что на Равнине тебе остается только одно — следить, как на тебя надвигается Точка; все прочее не имеет смысла.
И вот... Вот оно! Вот он... Черный Ворон... Ворон надвигается на него, Черный Ворон с ластами вместо крыл, Ворон с красными большими глазами, огромными глазами Филина!!!
Ворон-филин разевает клюв. У него кровавые клыки!
Вот он простирает ласты — на них когти, длинные, как слоновьи бивни. Скорей! Что надо при этом делать, его ведь учили? Он не помнит. Помнит лишь, что бежать нельзя. Пусть птица тянет к нему когтистые крылья, пусть клекочет. Пусть подступает все ближе и ближе. Бежать все равно нельзя. Он смотрит птице прямо в глаза. Теперь он вспомнил, чему его наставляли (да, но кто наставлял?). Смотри птице прямо в глаза. Только это не действует. Птица подступает все ближе, а позади темнота объяла Равнину. На нее пала тень. Лишь бы не бежать, бежать никак нельзя. Он заносит кулаки. Он безору
13
жен, но он сразится с ней голыми руками. Где-то в нем сидит ощущение, что такое с ним не впервые... Он уверен, что снова одолеет ее. Но тут происходит нежданное. Она заносит когти. Для УДАРА!
Он убегает!..
И просыпается. Светает. Он вспоминает свой сон со слезами:
— Что бы тебе было подойти еще ближе и проверить, на что я годен?
Сказав это, он встает с циновки, открывает дверь и выходит наружу. От утренней тишины и прохлады в голове и глазах у него проясняется после сна. И древний боевой клич сам собою рвется из груди.
Глава вторая
Движения у пего заученные, привычные, зато зрение и слух (слава Земле, хоть их его не лишила) по-прежнему остры.
Он находит свою хижину, хижину Джапи, своей жены, хижину старой Мандизы, тещи своего сына. Обходя хижину Мандизы, он даже слегка торжествует: ему снова удалось встать раньше ее. Потому что раз, если не два, каждую луну, она опережает его. Так ведь Мандизе нет равных ни среди молодых, пи среди старух. Вот на ком надо было жениться. Да что теперь говорить.
Он останавливается за хижиной Мандизы, долго рассматривает заросли позади, а тем временем уже занимается день. Долго вглядывается в заросли, напряженно вслушивается. Ни шороха. Лишь обычный рассветный гомон в кустах да где-то в деревне кричит петух. Он бессознательно отмечает, что из всей деревни только у его сына петухи еще спят. Отмечает бессознательно, но от этого из самых глубин сознания всплывают такие тоска и отчаяние, что и предрассветная тишь уже меньше радует его, и заросли меньше занимают, и он возобновляет свой обход, хотя не ему бы, а сыну надлежало его совершать. Надо осмотреть скотину. Но прежде всего жилье.
Он обходит каждую хижину, каждое строение, разглядывает двери — не перемазаны ли они кровью, землю — не осталось ли на ней каких следов или чего еще подозрительного, затем кустарник и заросли вокруг дома — не таят ли они в себе чего опасного — ведь сейчас та самая пора, когда враг норовит захватить тебя врасплох, пора пагубно-сладкого сна, пора, когда ведьмы догуливают свой последний час перед тем, как нырнуть в постель, где их ждут до времени исчахшие мужья. Пора,
14
когда определяется, какой задастся день... А его сын все еше спит!
А теперь по змеящейся среди высокой росной травы тропинке поскорее в загон. До него доносится теплый, утешительный запах навоза, размеренное, приглушенное чавканье жующей жвачку скотины, мирно стоящей в загоне, и потревоженная было предрассветная тишь вновь окутывает его. Еще не дойдя до загона, он чувствует, что за скотину можно не беспокоиться. Когда он почти у загона, коровы неспешно поворачивают к нему морды — сначала праздно, потом с любопытством и наконец с тем всеведущим видом, какой у них часто бывает.
Он долго стоит у низкой ограды загона, переглядывается со скотиной, прислушивается к таким знакомым, ни на что не похожим звукам, к то и дело нарушающему тишь басовитому протяжному мычанию новорожденного теленка, которого мучают кошмары, и чувствует, как его струями обдает пропахшее травой дыхание скотины. И бык тут. Безмолвный, исполинский хозяин загона спокойно облизывает корову ритмичными лизка-ми шершавого слюнявого языка. За скотину можно не беспокоиться. Но он еще медлит. Обходит загон, разглядывает колья, трясет один за другим те, что кажутся ему ненадежными. И все это почти безотчетно — глаза его прикованы к скотине. Имена коров лежат на поверхности памяти, а если покопаться в ней чуть поглубже, вспомнится и все, связанное с каждой коровой; что ни корова — то своя история. И так он возвращается туда, откуда начДл свой путь. Тут он снова останавливается и думает, что от той сотни голов скота, что была у него, когда травой еще владела Земля, у него осталось всего десять голов. У Мандизы — сколько их там у нее ни было — всего шесть. А у сына две — он и начал с двух голов, и те тоже получил от Старика. Ко времени, когда сыну приспело жениться, он к тем двум прибавил еще четырех. Ну а после женитьбы остался ни с чем, и тут он, Старик, снова поставил его на ноги; и как внукам идти в школу, у сына уже набралась дюжина' голов — было на что поднимать детей. А как дети начали учиться, сын снова лишился всех коров, кроме одной — эта-то корова сейчас и отелилась, так что у сына теперь опять две головы: с чего начал, к тому и пришел. Ну, а у жены Старика — Джапи? У нее и вовсе ничего нет. Как родилась младенцем, так младенцем и помрет, от нее никто ничего другого и не ждал. В молодые годы она на лепке помешалась, все лепила кувшины, только покупать их никто не хотел. Да и как вылепить кувшин с ровными боками и узким носом, если сама ты кривобокая, а нос у тебя расползся по лицу? Старик рад, что Джапи бросила лепить.
15
Старик сворачивает к дому сына — тот все еще спит. Подойдя поближе, он слышит знакомый шум: Мандиза уже за жерновом, толчет земляные орехи, готовит масло. Сквозь щели в двери виден очаг. Пламя едва тлеет под скопившейся за ночь грудой золы. Он окликает Мандизу, хочет пожелать ей доброго утра. Окликает раз. И два. Лишь на третий раз она слышит его.
— Секуру? — отзывается она, и голос ее звучит слишком громко для такой рани. Но Старик, будто не замечая этого, ласково и вместе с тем отчетливо, чтобы она услышала, говорит:
— Кто же еще? Хотел справиться, как тебе спалось?
— Какая разница? Что спать, что не спать — теперь все одно. А тебе как?
— Опять со смертью воевал — и опять ее одолел... А что это ты готовишь в эту пору, когда одни ведьмы не спят?
— Неужто еще так рано?
— В этом доме петухи и те спят.
— А сам ты куда ходил в этот недобрый час?
Смеяться спозаранку вслух они не решаются, но под их шутливой перебранкой переплескивается веселье.
— Ты это к приезду мальчика? — спрашивает Старик: для кого она готовит масло — вот что он имеет в виду.
— Нет. Для твоей жены.
— Понятно. И чего это ты ее так балуешь? Ну-ка скажи: а что она-то для тебя делает?
— Уж если на то пошло, ты мне сам скажи, ты-то что для меня делаешь?
И снова они сдерживают смех. Старик откашливается и говорит:
— Небось, когда я был в силе, ты бы язык поопаслась распускать.
— Да уж, когда в силе был, ты, чем богат, никого не обделил.
— Тогда бы ты небось язык-то поопаслась распускать.
— При таком-то муженьке, как твой друг-приятель, как не поопастись?
— Чем он тебе был плох, твой муженек, за что хулишь его?
— А то ты не знаешь. Не знай я его родню, поручилась бы, что он твоей жене брат.
Старик вздыхает:
— Да уж двух других таких лентяев не сыскать.
— Что, что ты сказал? — Она не разобрала его слов — так тихо он говорит, и у Старика не впервые мелькает мысль — хорошо бы не у Мандизы, а у его жены Джапи ослабли глаза и уши.
16
— Я сказал, чего ж ты тогда ко мне не сбежала?
Она смеется и, в свою очередь, поддразнивает его:
— А к кому же я теперь перебралась, как не к тебе? — Нашла время, когда я уже одной ногой в могиле. — Но дрова-то ты для меня наколоть еще можешь? — Дрова, говоришь? Выходит, я больше ни на что и не годен ?
— Да ладно тебе. Кому не хочется в наши-то годы, когда дело к ночи идет, начать день сызнова. Только хотеть-то хочется, а поделать ничего не поделаешь.
— Зато ты-то хоть время, что нам до ночи отпущено, даром не тратишь, бережешь, — говорит Старик, показывая на масло и жернов. Мандиза этого не видит, но она и так знает, что он имеет в виду.
— А если б ты его берег, ты б мне давно наколол дров,— говорит она.
Старик молча уходит. Да, на закате жизни только и остается, что предаваться воспоминаниям у костра, думает он. Но тут же стряхивает эту мысль, как дерево стряхивает увядший лист. И мысль опять .же, подобно листу, слетает на груду гниющей палой листвы под деревом, и зловоние от листвы такое же, как и от тех мыслей, что Старик всю жизнь заталкивал на самые задворки, а сейчас, когда пришла старость и семье грозит распад, — и еще дальше. И теперь ему чудится, что зловоние идет из одного источника: и имя ему Тонгуна, сын его.
Из троих сыновей, что у него остались, Куруку, Магазо и Тонгуны, Старик возлагал надежды на младшего, Тонгуну, думал, тот возьмет на себя заботу о семье. А теперь, сам не зная почему, опасается, что Тонгуна подведет семью. Как он ее подведет, Старик не может сказать, но душа его чует неладное, томится, тоскует холодной тоской, стоит ему задуматься о том, что ждет Семью.
Позже, отнеся Мандизе дрова, Старик садится покурить под полукруглым навесом из травы и ветвей на краю двора, где у него мастерская. Полено, оставленное им с вечера, дотлевает. Он швыряет в очаг горсть гнилушек, и, пока полено дымится, Старик принимается точить свой тесак. Но вот полено уже лижут языки пламени, и Старик долбит новый деревянный барабан — он мастерит его для Гарабхи, первенца своего сына Тонгуны. И тут мысль о неугомонном внуке, запах свежей стружки, разгоревшееся пламя ну и, конечно же, утешительное ощущение, что есть еще сила в его жилистых руках, мозолистых ладонях и корявых пальцах,, делают свое дело, развеивают охватившее Старика отчаяние, и он заводит песню.
17
Глава третья
В прерывистой дреме Топтуна старается поименовать причину своей бессонницы — иначе от нее не отделаться, но тут клопиный укус окончательно перекидывает его через темную кромку, отделяющую сон от яви, и начинается еще один день, притом начинается дурно.
Глаза он, однако, открывает не сразу — сначала долго расчесывает укус и только потом, поняв, что никуда не денешься, решает отяготить свою и без того пухнущую от забот голову зрелищем того страшного разора,- какое являет собой их комната.
Теперь он совсем проснулся и ясно слышит резкий лязг металла о металл. Гнусавый, свербящий уши скрежет. Отец! Рот Тонгуны заполняет закисшая за ночь слюна. Но не лязг разбудил его, не лязг царапает темный испод глазных яблок, не лязг цепляется за охвостья сна вечным укором в чем-то несвершенном.
— Опять ты угодил ногой в дыру!
Пошло-поехало! Жена. Ночь напролет она потеет, храпит так, что трясется крыша, а едва откроет рот — и ну браниться! После того как река ночи, что так устрашает, леденит душу, кишит клопами, блохами, вшами и много еще чем, чему не так-то просто подобрать имя, остается наконец позади, у нее, едва она стряхнет с себя сон — неуклюже, наподобие бегемота, взбурлившего грязную жижу, — нет других забот, кроме как попрекать его, что он снова угодил ногой в эту окаянную дыру.
— Чего ж ты тогда не заделаешь ее?
— У нас в доме столько дел, что. только начни их делать, вовек не переделаешь.
— Уж комнату-то могла бы подмести. Ведь всякий раз, как ложиться, я иду по колено в пыли, путаюсь в тряпках, натыкаюсь на чашки-плошки, ложки-поварешки, будто ты туг стряпать собралась, паутину сдираю с лица. Так и помереть недолго.
Эта игра — они играют в нее уже тридцать лет — знаменует наступление утра, ею начинаются все до единого дни их семейной жизни, она стала такой же привычной для каждого из них, как лицо другого, ведь она ровесница их первенца Гарабхи. В этой игре он, с тех пор, как народился их четвертый ребенок, всякий раз проигрывает ей, а все потому, что, когда он' надумал взять вторую жену после смерти их третьего ребенка, она так на него насела, так напустилась, что он пошел на попятный. Говорить хс ней тяжело. Один ее голос чего стоит. А если она и молчит, то молчит с расчетом — так что уж луч
18
ше.бы говорила. Порой, когда у него так и чешутся руки свернуть ей шею, она возьми да и подставь ему шею, и тогда он, как и сегодня, враз обмякнет, ослабеет, а ей только того и надо — и тут он страшно злобится. Но последние дни он злобится только для виду, и от злобы его, если кому и плохо, так только ему самому. И она это знает и потому и говорит, чтобы уколоть побольнее:
— Уж лучше б ты тогда взял вторую жену.
Он пропускает ее слова мимо ушей: знает, если не огрызаться, она теряется. Молчать, не отвечать, пропускать мимо ушей — только это последние дни дает ему возможность чувствовать себя хозяином в доме. Одна беда — от нее не отвяжешься. Как только она пи исхитряется, чтобы вызвать его на разговор: к примеру, утихнет, как сейчас, прильнет к нему, будто озябла, и как и всякий раз, когда у них до этого доходит, он зевнет скучливо, с нарочитой поспешностью потянется за одеждой, будет долго шарить в головах, показывая, что сейчас встанет, и, когда ее рука ухватится за его могучую руку, он испытает злую радость от того, что ему снова удалось одержать над ней верх, и тогда он с нарочитой жестокостью стряхнет ее руку и услышит, как у нее вырвется вздох, а потом, когда он все же нашарит одежду, она скажет:
— Сынок сегодня приедет.
И он сразу почувствует, как настыла за ночь одежда, и ему до ужаса не захочется влезать в нее, и он чуть помедлит. Она тут же заметит его нерешительность. И воспримет ее как перемирие — он отозвался, значит, ей нечего бояться. Она вздохнет, успокоится, станет ждать, когда он нарушит молчание. И опять она взяла верх, сердится он. А ее довольный вздох означает, что она настояла на своем и сама это понимает.
— Знаю, — отрежет он, и ему отчаянно захочется поскорее выбраться из постели.
— Надо сходить к Матандангоме, — говорит она.
— А что, разве мы вчера об этом не говорили?
Теперь оба начеку. Ему внезапно открывается: речь идет о том самом, чему так трудно подобрать имя, что грызло его всю ночь, не давая спать. А она решила не давать ему спуску и — если без этого не обойтись — твердить снова и снова то самое, из-за чего они вчера вконец разругались, хлопали дверьми, топали ногами. Он никогда, ни разу не поднял на нее руку — вот о чем он теперь горюет, вот о чем жалеет — и по одному по этому видно, как далеко зашли их отношения, как они изменились за последние тридцать лет.
— Вчера вечером ты мне так ничего и не ответил, — говорит она.
19
— Вернее будет сказать — ты меня не слушала. Ты никогда не слушаешь — вот в чем беда.
А теперь надо побыстрее встать, потому что ясно, к чему она клонит. Разбередила с утра пораньше — неплохо для начала. Она готова затеять свару ни свет ни заря, лишь бы вызнать, что у него на уме.
— Ну и как, все стоишь на своем? — в свою очередь, спрашивает она.
— На чем это я стою?
— Будто не знаешь, о чем я.
— С каких это пор ты стала говорить загадками?
— Не след мальчику уезжать от нас — вот о чем я говорю, какие уж тут загадки. Об этом мы и вчера вечером говорили. О чем же еще — больше не о чем, а все .равно ответа от тебя я так и не дождалась. Ты давай кричать, топать, дуться — тебя, мол, не так понимают, как всегда делаешь, когда хочешь увильнуть от ответа. Но я должна знать, хочешь ты или нет, чтобы наш сын уехал за большую воду?
Вопрос вроде простой, и ответить на него по ее разумению надо бы тоже просто — да или нет, только для Тонгуны нет ничего простого. Ему не хочется, чтобы его, когда он наконец даст ответ, поняли неправильно, потому что, в первую голову, ему нужно объяснить, втолковать ей, почему он за то, чтобы сын уехал за большую воду и чего опасается, если сын уедет. Ему не хочется держать ответ — случись с сыном беда, и в то же время хочется — обернись для сына все хорошо, чтобы хвалили за то его, а не кого другого. Короче говоря, в душе его разброд. И от этого он сердится: зачем припирает его к стенке.
Яркий луч режет глаза. Солнце! Еще не взошло, но вот-вот взойдет! А он все еще валяется в постели! Все еще чешет языком!
— А ну кончай тявкать и на кухню! — командует он чуть резче, чем надо бы.
— Нет, ты сначала ответь.
Но он уже надел рубашку. А вот и штаны натянул. От штанов отлетает пуговица, и у него вырывается ругательство.
— На всех твоих брюках пуговицы пообрывались, — говорит жена, — того и гляди, срам наружу вывалится при людях.
Он взвивается: ну что она несет? Совсем стыд потеряла. Его подмывает бросить в нее чем ни попадя, но он слышит, как отец распевает во дворе — мастерит свои барабаны и распевает так, будто ему все ясно и понятно, и Тонгуна опускает руку и говорит, обращаясь разом и к отцу и к жене:
— Чтоб тебе! — и, грохнув дверью, выскакивает из комнаты.
20
Глава четвертая
Старая Мандиза поднимается от жернова. Глаза у нее стали совсем плохи, иначе бы она увидела — солнце вот-вот покажется. А так из хижины ей не видать, рассвело уже или еще стоит темь, но она чует — солнце вот-вот взойдет, и, хоть спит урывками, она точно знает, как выгребать золу, значит, приспела пора идти на двор, смотреть, как разгорается заря.
Она шарит по двери, нащупывает ручку — петлю, выкроенную из старой шины, — дергает за ручку и выходит во двор. Держась за стену, идет кругом хижины и, отойдя подальше, присаживается.
Из своей хижины выходит Тонгуна, зять Мандизы, при виде ее он пятится назад.
Сделав свои дела, Мандиза по-прежнему ощупью возвращается к двери и заходит в хижину. Вытаскивает из очага дотлевающие поленья, выгребает золу.
Выгребая золу, она наказывает своей голове: «Хватит тебе! Хватит тебе! Хватит тебе!» — три раза кряду. Рьяно выскребывает золу минуты три, потом все медленнее и медленнее и наконец и вовсе останавливается.
Быстро спохватывается, качает головой и, грустно посмеявшись сама с собой, вновь принимается за дело, положив себе до свету выгрести золу и развести огонь. Вспоминает, что пора наколоть орехи на масло для мальчика, и снова останавливается. Берет корзину с орехами, тянется за кувшином с водой, прыскает на орехи, а в голове вертится одно: совсем плоха стала, не размочу орехи водой, мне с ними и вовсе не справиться. И от этого пугается: да что же это со мной такое делается? Но тут же одергивает себя: ты что, и впрямь умерла — чего себя прежде времени хоронишь? И все равно подняться и выбросить золу ей трудно.
А едва она выходит во двор, как ей тут же в глаза бросается какое-то пятно. Пятно движется, издает еле различимый шорох. Мандиза застывает на месте, ждет, когда выяснится, что же это такое.
— Доброе утро, мама.
- Доброе утро. Это ты, Тонгуна? *
- Я.
— По голосу тебя от отца не отличить, разве что ты чуть побасовитей.
— Как здоровье, мама? Глаза еще болят?
— Нашел о чем говорить. Проку от них никакого. Издевается Он надо мной. Ну, а оставь Он меня и вовсе без глаз — что тогда, только людей пугать?
21
— Тогда б тебе пришлось дома сиднем сидеть.
' — Что ж, по-твоему, я сейчас дома не сижу, потому что глаза мне хорошо служат?
— Разве нет?
— Да в них вода темная стоит. Они огнем горят. Что толку о них говорить? А как твоя мать?
— Я к ней еще не наведывался. Да и зачем — никто такого не упомнит, чтобы она проснулась до полудня.
— Она мне вчера жаловалась, что у нее в животе печет.
— У кого бы не пекло, если столько есть.
— Вот и я ее вчера выкорила: грызет сырую картошку, будто пастушонок какой! Да, позавидуешь тем, у кого зубы есть!
— А попробуй сказать ей такое, она тебе: «Где они, эти зубы?»
— Верно, так она мне вчера и отрезала. Пусть ее, сынок. Что с нее взять? А зубы у нее точно есть, зубов полон рот. Не откажи мне глаза, я бы на них на всех поглядела. А так один только и вижу — тот, что торчит впереди. Ну, а те, которыми жевать, которые и есть самые нужные, те дальше затаились. У мамаши твоей рот здоровенный, ослу впору.
Оба фыркают. Чуть погодя Тонгуна говорит:
— Давай я вынесу, — и тянется отнять у Мандизы корзину с золой.
Старушка артачится.
— Опять ты за свое! Слыханное ли это дело, чтоб мужчина делал женскую работу? Такого срамного края не найдешь нигде. Мне другой раз мнится — уж не потому ли ты меня, старуху, так балуешь, что торопишь мою смерть?
Тонгуна отвечает не сразу:
— Тебе бы больше лежать надо, а золу и Бетти может вынести.
Мандиза смеется.
— Сказал тоже — лежать. Ты что, знаешь такой счастливый край, где ты лежишь себе да полеживаешь, а тебе все падает в рот? Нет, сынок. Я каждое утро спешу поскорее проснуться, потому что, раз проснулась, значит, жива еще старуха! А порой и сама не знаю, жива я или померла. Бывает, и ущипну себя, и опять ничего не чую. Тогда я встаю поскорей, шагну раз, шагну другой, на что-нибудь наткнусь, набью шишку и тут уж вижу — живая! — И чуть помолчав: — А ты куда с утра пораньше по росе собрался?
— На поле, мама.
— Разве нельзя и полю дать на день роздых, сынок? Жена твоя говорит мне, что тебе спина спать не дает, а ты знай
22
свое — на поле да на поле! Соседи твои небось того и гляди лопнут от зависти.
— Что ж, теперь пусть они меня губят?
— А они и сгубят, дай им только волю.
Помолчали. И снова:
— Верно, что сегодня мальчик приедет?
— Верно. Потому я и решил ни свет ни заря пойти на поле, чтобы освободиться пораньше.
— И ты все устроил путем, как решил?
— Да. Вечером пошлем сказать Матандангоме. А завтра, к ночи поближе, она к нам пожалует.
— А ты никому о том не проговорился?
— Что я, враг своему сыну, мама?
— Я почему спрашиваю: а вдруг люди, которым о том знать не след, прослышали? И чуть погодя: — А Гарабха? Он знает?
— Да мы не знаем, где он.
- Не дело это, ему бы надо быть дома. И где его только носит, можно подумать, будто у него совсем дома нет. А вдруг они ему какой вред сотворили.
— А по мне, хоть и сотворили, так поделом ему.
— Опять гы за свое — да еще с утра пораньше! Не ровен час тебя кто услышит.
Стоит Мандизе упомянуть о Гарабхе, и Тонгуна делается сам не свой, у него даже горло перехватывает, но он крепится, старается не показать виду. И чтобы не выдать своего огорчения, говорит:
— Я пошел, мама.
— Мне тебе надо сказать одно словечко. Ступай-ка в комнату, а я только вытряхну золу, — и Мандиза, шаркая, плетется к выгребной яме.
Он входит в комнату — тут все еще темно, — садится на табуретку и ломает голову, что же это может быть за «словечко», роется в памяти, уж не забыл ли он чего? И, так ничего не вспомнив, пытается догадаться, о чем идет речь, по тому, как она говорила. Но позади такое долгое путаное прошлое, а впереди времени всего ничего — куцый отрезок от ее ухода до прихода, — и перебрать за него все прошлое никак не возможно. Мандиза возвращается, и он сразу кажется себе слишком громоздким для ее комнатенки.
А старушка, ничего не говоря, долго шарит в одном из горшков и наконец что-то оттуда выуживает. Похоже, корешок. Отрывает от корешка кусочек, долго мусолит во рту, потом говорит:
— Жесткий какой, — сплевывает в очаг и со словами: — Его
23
не угрызешь. Но тебе-то что — у тебя зубов полон рот, — протягивает его Тонгуне. Тонгуна берет корешок.
— Это что!.. Вот те на, куренок! Да он небось неделю лежит, не меньше, мама.
— Ну и что, что неделю? То ли мы не ели мясо, вяленное уже два года как?
— Но куренка-то, мама, оставляли для тебя.
— Тогда дай мне поносить свои зубы. А теперь ступай...
- Да я...
— Ты мне не дакай. Иди-иди, покуда сюда твоя жена не пожаловала, а то она такой шум поднимет, мертвых разбудит.
Тонгуна буркает какие-то благодарственные слова и в дверях сталкивается со своей женой Раиной. Показывает ей куриную ножку и говорит конфузливо:
— Это тот куренок, которого зарезали на прошлой неделе.
— Так тебе и надо. Что я тебе говорила — нет у нее зубов, нечем ей твоего куренка угрызть.
Тонгуна понижает голос до шепота:
— Сама понимаешь, со старыми людьми иначе нельзя — что мы едим, то и им надо хоть понемногу, а давать, иначе, будут думать, что ты скупишься.
Раина оставляет его слова без внимания — так ей не терпится спросить:
— А ты сказал Бетти, чтобы она пошла встречать брата к автобосу?
— Вчера сказал. Только ты ей сама напомни.
— Напомнишь ей, как же...
— Отчего ты себя так с ней поставила — слово ей не скажи.
Если она и дальше будет гнуть свое, она у него дождется. Уж больно она девчонку балует, больно с ней нянчится. Но Раина его опережает.
— Я скажу ей, — говорит она и уходит к матери.
Тонгуна щелкает языком, чтобы протолкнуть тугой комок горячей крови, теснящий грудь. И тропкой, ведущей сквозь заросли, вздыхая, идет в поле, в уме продолжая спор с женой: испортишь девку, а спохватишься, поздно будет, думает он.
Глава пятая
Раина, отстранив мать, разводит огонь в очаге, и та — ни минуты не может посидеть без дела — принимается прыскать на орехи.
— Как у тебя голова? Не прошла со вчера? — спрашивает у дочери Мандиза.
24
— Получше. Сегодня в правый глаз отдает. Дерг да дерг — никак не отпускает.
— Сын твой приезжает, потому и глаз дергает. Глаз хочет увидеть твоего сына.
— Слишком сильно что-то дергает.
— А ты что думаешь — опять начинается?
— Похоже на то. Уже двое суток, как дергает.
— Двое суток, а ты мне ничего не говоришь?
— Я думала, само пройдет.
— Само пройдет! И в прошлый раз, когда ты чуть правого глаза не лишилась, ты то же говорила, ты и тогда думала, что само пройдет.
Раина раздувает огонь.
А мать говорит:
— И муж твой тебе под пару. Я ему: подожди, пока тебе полегчает, а он мне, знаешь, что говорит: так им и дать меня сгубить? Надо же: «Дать им меня сгубить!» И какая муха вас укусила?
Старушка явно встревожена, такой у нее озабоченный голос, но Раина не отвечает. Вместо этого она спрашивает:
— Мама, почему ты, что тебе ни принеси, не ешь?
— Съесть-то я бы съела, да нечем есть: что тут поделаешь?
— Муж говорит, если тебе не давать еды, ты, хоть и сама знаешь, что тебе есть нечем, станешь жаловаться.
— Правда твоя, есть мне нечем, а только есть все равно хочется.
— Мама, ты же знаешь, какой народ теперь. Пойдут судачить, что я не кормлю свою мать.
— Ну и пусть судачат, правды-то в их словах нет, а от людей ничего другого ждать не приходится! Для них самое милое дело чужие кости перемывать, ты разве не знаешь?
— Ладно бы про тебя говорили, а что как пустят слух, будто я не кормлю мужнину мать?
— Когда это я говорила, будто ты не кормишь мужнину мать?
— Ты-то нет, а она говорит. У нее язык как помело.
— Так вот ты почему спозаранку ко мне заявилась — хочешь на мне сорвать зло?
— Не срываю я на тебе зло, мама. Я...
Она обрывает фразу на полуслове, потому что мать щелкает языком, будто хочет сказать: я этого тебе вовек не забуду. И торопится оправдаться:
— Зря ты на меня так — не попрекала я тебя. Но и ты меня пойми. Кто я тут? С женщиной кто считается? Надоем я ему, прогони! взашей, и тут уж ничего не поделать ни тебе, ни мне.
25
Так что ты уж постарайся, не говори ничего такого, что бы он мог перетолковать, что бы он за укор себе счел, — ничего такого, чтобы он подумал, что ты не хочешь быть ему в тягость. И словом не намекни, что недовольна ты или что плохо тебе тут. А нужно тебе что — меня спроси, от меня тебе ни в чем отказа не будет. И слово мое верное. Да, и скажи мне, если кто здесь — он ли, его отец, мать, а пусть и я — чем не угодят тебе. Только не тяни, скажи сразу, а не потом, когда уже уйдешь от нас. Матушка, ты меня слышишь? Слышишь? А если ты от нас и уйдешь, я тебя назад приму, не сомневайся, как-никак, ты' меня родила, и я не хочу, чтобы ты моих детей из могилы прокляла. Сама понимаю, каково мне тогда придется, ведь куда я ни пойди — люди скажут: «Вот она, та самая, у которой дети один за другим мрут, а все потому, что она мать свою не уважила». Так что ты уж мне, матушка, сразу скажи, что. тебе не по душе, и уж я постараюсь тебе угодить, пока ты с нами, чтобы ты моих детей не прокляла из могилы,
Раина запинается, смотрит на мать и по тому, с какой быстротой та колет орехи, понимает, что мать слышала ее, и вовсе она не сердится, а просто ей взгрустнулось. Ну а раз так, Раина отступается от старушки и быстро меняет тему:
— Сынок наш, тот, что за большую воду уезжает, сегодня дома будет.
Мандиза облегченно вздыхает. А когда начинает говорить, голос у нее звучит куда бодрее, чем ожидала дочь, — ведь, глядя на нее, она невесть что себе навоображала.
- Я говорила о нем с его отцом, — начинает она.
Раина, чуть помолчав, отвечает:
— Ты же знаешь, матушка, я не хочу, чтобы сынок наш за большую воду уехал.
Мать отвечает не сразу:
— А что его отец говорит?
— Он-то хочет.
— Кто ты такая есть? Женщина. А значит, не смей ему перечить. Как его отец решит, так тому и быть.
— Он там совсем один, мама, будет, один среди чужих — это до добра не доведет. — У Раины прерывается голос.
Мать только вздыхает и, оставив слова дочери без ответа, говорит:
— А брат его придет попрощаться?
— Гарабха?
— Он самый.
— Кто же знает, где он.
Они надолго замолкают, потом Мандиза говорит:
— Как бы мне хотелось, чтобы вся Семья собралась перед
26
отъездом Люцифера: навряд ли нам еще доведется собраться всем вместе.
— Я попрошу ребятню узнать, где он бродит.
- А Матандангоме послали сказать?
— Да, ей сказали, ну а к вечеру девчонка еще к ней наведается — подтвердить, чтобы приходила, не сомневалась.
Все сказано — ни той, ни 'другой говорить больше нечего. И они молча колют орехи. Перед приездом мальчика столько дел по дому, вот Раина и не пошла в поле.
Чуть позже Раина поднимает голову и видит, что листья на верхушке сначала одрого, а потом и другого дерева на западе пылают ярко, как переспелые манговые плоды.
Глава шестая
Солнце взошло уже довольно давно. Их двор среди других дворов теперь кажется одной из бусин в длинной неровной снизке. До соседних дворов, что к северу, что к югу, полмили, не меньше.
Стоит октябрь: на кустах начинают разворачиваться зеленые, красные, рыжие листки — ждут дождя.
Бетти, балансируя под кувшином, возвращается от колодца в полумиле от дома, когда до нее доносится голос бабушки Джапи. В другие дни, порадостней этого, Бетти всегда поет. Сегодня нет. И хотя бабушка все кличет и кличет, она не отзывается: ишь, загорелось ей, сердится Бетти.
Раина, окутанная густым облаком пыли, — она метет двор — видит Бетти издалека и кричит:
— Ты что, не слышишь? Тебя бабушка зовет.
Бетти пропускает ее слова мимо ушей, и Раина бормочет себе под нос:
— Опять па нее нашло.
Нравность дочери пугает Раину. Она слишком хорошо знает, что за этим кроется. Бетти давно бы пора замуж, все ее ровесницы повыходили года четыре тому назад, а то и ббльше. Раина ломает голову, как бы половчее подступиться к дочери, чтобы она пошла встретить брата к автобусу. Бетти и Люцифер всегда не ладили друг с другом.
- Никак, это Джапи кричит? — спрашивает Мандиза.
Она примостилась на солнышке у восточной стены своей хижины и колет орехи.
— Она самая,—отвечает Раина.
— А чего она кричит?
— Кто знает? Вечно всех дергает, покою от нее нет.
27
Джапи поднимает голову:
— Это что ж значит, в доме так никого и не найдется мне воды принести?
Мандиза говорит:
— Чего ж вы ей не отвечаете?
— Бетти отнесет ей поесть.
— В такую рань уже и есть?
Бетти — она ушла на кухню, откуда сейчас доносится ее голос, распекающий братьев: мол, нечего рассиживаться, греть у очага зады, когда в школу пора, — снова появляется во дворе с чашкой воды.
— Это еще зачем?
— Она же просила воды.
— Ты что, бабку свою не знаешь? Она хочет, чтоб ей не воду принесли, а еду.
— Просила воду, вот и получит воду.
— Да ты что, неужто тебе хочется затеять свару в такую рань?
— Она вчера столько съела, как только не лопнула! — говорит Бетти, выплескивая воду на землю.
Раина невозмутимо продолжает:
— Да полно тебе. Она что, объела кого?
— Бе-т-т-и!
На этот раз откливается Раина:
— Бетти идет, бабушка!
- Умираю, — слабым голосом стонет Джапи.
— Ты что, не слышишь, Бетти? Бабушка умирает. — Раина прыскает.
— Что она говорит? — услышав, как хохочет-заливается дочь, спрашивает Мандиза.
— Говорит, что умирает.
— Ох уж эта твоя свекровь! — трясет головой Мандиза, тихонько посмеиваясь про себя.
— Счастья своего не понимает, — говорит Раина.
— Что ж, когда и пожить в свое удовольствие, как не сейчас, — Говорит Мандиза, да так, что Раина застывает с метлой в руке, ей не терпится услышать, что скажет дальше мать, а та не заставляет себя ждать: — И мне бы так-то надо жить.
Раина придвигается поближе к старушке и говорит:
— Мама, скажи, разве тебе у нас плохо?
Мандиза в испуге грозит дочери.
— Да ты что, Раина! Ничего такого я не говорила! Еще чего доброго твой муж тебя услышит. Спасибо ему за все. Да где нынче такого зятя найти, чтобы согласился тещу дома у себя терпеть? Ты не думай, я ваше добро не забыла. А все иной
28
раз и взропщу на Него: мог бы мне хоть одного сына оставить. Всего одного. Неужели это так уж много?
— Не твоя в том вина, что так получилось. Ты беду на себя не накликала. С кем такое не случается — с каждым может случиться. Земля дала, Земля взяла.
Старушка замолкает и молчит так долго, что Раина понимает: она думает все о том же, и ловко отвлекает старушку от мрачных мыслей:
— Не нарадуюсь я на твоих коров. Сколько в этом году отелилось?
— Одна, а еще три отелятся по весне.
— Сколько их всего тогда будет?
— Девять, если ничего не стрясется.
— Девять?
— Ну да, девять. Почитай что всех оставили в загоне вместе с дедовыми.
— До чего ж хочется посмотреть на них — вот когда пожалеешь, что глаза отказали.
— Коров и так никто у тебя не отнимает. Смотри не смотри — больше их не станет.
— Ой, да не к тому я.
— Тебя послушать, получается, будто мы хотим украсть этих твоих...
— Украсть? Вот уж нет, Раина, я и в мыслях ничего такого не держала. Я Тонгуне верю. Брат, тот четырех моих коров прибрал к рукам, — ну да ладно, дело прошлое. А эти, что здесь, они и так твои. Я тебе их, когда хочешь, отдам. У тебя дети в школу ходят, а у меня есть крыша над головой, спасибо тебе.
— Тебя послушать, так получается, будто мы берем с тебя за прожитье плату. А ведь кто, как не муж мой, сам тебя просил пожить у нас последние твои дни.
— Ох, Раина, сколько слов, а все попусту.
И Мандиза снова берется за орехи, а Раина принимается мести двор. Потом решает поручить двор Бетти — отправит детей в школу, там и подметет. А она лучше приберется у Люцифера. Самолично выметет куриный помет, обмажет пол навозом, чтобы поменьше пыли было, обмахнет паутину по углам. Вообще-то Люциферову комнату надо бы Бетти убрать, только Бетти для Люцифера... нет, куда там...
— Раина! — кличет ее Мандиза.
— Что тебе, мама?
— Совсем запамятовала. Я ведь обещала сварить Джапи тыквенную кашу. Не откажи, поставь большой горшок на огонь. А потом принеси из амбара тыкву побольше. Нечего
29
мешкать, надо браться за дело. Внучок небось тоже проголодается за дорогу. Из Солсбери до нас путь не близкий.
— Да к чему это, мама? Тебе же неможется. Неужто Бетти, а то и я, не сварим за тебя каши.
— Мое слово пока еще верное, раз сказала, сварю, значит, сварю. У тебя без того хлопот полон рот, а Бетти пора идти встречать автобус. Пусть я ни на что другое не гожусь, но ка-шу-то еще могу сварить.
Раина молча уходит выполнять материнский наказ.
Глава седьмая
Старая Джапи лежит на черных от копоти одеялах в своей хижине, над ней склонилась Бетти. Старушка закатывает глаза так, будто ее крючит от боли. Пытается присесть, но тут же, кряхтя, валится на циновку. С тех пор как Бетти вошла в хижину, она не проронила ни слова. Стоит себе с тарелкой холодной садзы1 с молоком и глядит на старушку. Видя, что Бетти молчит, знать, не принимает ее всерьез, Джапи говорит:
— Что бы тебе спросить: «Бабушка, у тебя живот не болит?» — а еще внучкой называешься!
Бетти корчит гримасу, дерзко фыркает и, поставив тарелку на землю у ног Джапи, говорит:
— Не нравится, отдай Куту, псу нашему.
И с этими словами, хлопнув дверью, выходит. Бабушка кричит ей вдогонку, просит развести огонь в очаге, но Бетти не слышит ее.
Теперь, когда дверь за внучкой закрылась, тарелка сама собой оказывается в руках Джапи. Она тычет пальцем в садзу.
— Вдобавок еще и холодная. Вчерашние объедки. Сами-то небось горячее едят, а мне и холодное сойдет.
Минуту-другую колеблется, а что, если не есть? Тогда они придут за тарелкой, увидят, что она не притронулась к еде, и поймут, что она больна всерьез и холодным ее кормить негоже. Долго в нерешительности глядит на садзу, потом осторожно пробует. Откусывает раз, другой, третий и, не в силах остановиться, уминает за обе щеки. Тут дверь распахивается, и в комнату заглядывает Бетти. Старушка как подкошенная валится на постель, но дверь тут же захлопывается: она слышит, как Бетти, прыснув, отскакивает от двери. Джапи садится, снова принимается за еду и разговаривает сама с собой.
— Забросили меня, совсем забросили. Но они дождутся —
1 С а д з а — национальное блюдо.
30
раз придут, глянь, а я мертвая лежу. — И чуть погодя.—Вот тогда спохватятся, да поздно будет.
Она вытирает тарелку пальцами, откидывается на одеяло, рыгает и все гадает, когда же Мандиза наконец принесет ей тыквенную кашу, что вчера обещала сварить для нее. Ей-то хочется, чтобы Мандиза забыла про кашу, тогда у нее будет прямой резон выговорить им: мол, совсем ее забросили. А то хочется умереть, но если умрешь, говорит она себе, как увидишь, как узнаешь, будут они по тебе горевать или нет.
Глава восьмая
— Как здоровье, старая?
Мандиза отрывается от работы, чтобы посмотреть, кто идет. Голос вроде знакомый. Только поди знай — он это или не он.
— Кутсвака? — решается она наконец.
— Кто же еще? Гл аза-то как?
Кутсвака, их сосед с северной стороны, подходит к старушке, присаживается на песок рядом с ней.
— Чего теперь на глаза пенять? Ничего тут не поделаешь, — старушка поджимает губы и снова принимается колоть орехи.
Раина, которая еще издали заметила, как Кутсвака шел через заросли, юркнула в материнскую хижину, и теперь оттуда слышится скрежет — это она отскребывает горшок под тыквенную кашу.
Кутсвака ерзает, отхаркивается, сплевывает и говорит: — А куда твои домашние подевались?
Мандиза простодушно поднимает на него глаза, всем своим видом изображая удивление, и говорит:
— Откуда мне знать? Я думала, они здесь поблизости. Не с моими глазами уследить за ними.
Ребята, трое мальчишек — тринадцати, десяти и семи лет — выходят из кухни, видят Кутсваку и, не говоря ни слова, круто поворачивают, чтобы пойти в школу другой дорогой. Бетти остается в кухне, слушает, как Мандиза разговаривает с Кутсвакой.
— А как спина-то у пего? — справляется Кутсвака.
Мандиза нарочно мешкает, а когда отвечает ему, голос ее звучит громко, отрывисто.
— По-прежнему.
— Я его видел, когда он проходил мимо нашего двора. Небось на поле шел?
31
Мандиза трясет головой.
— Его жена говорит, ему спина по ночам спать не дает, так что навряд ли он туда шел, куда ты думаешь.
Кутсвака, выждав время, спрашивает:
— А мать семейства?
— Спит она. У нее болит голова. Куда ей в поле.
— Вот оно что.
Мандиза вскидывает на Кутсваку глаза, он тут же отводит взгляд. Молчит. И чуть позже:
— Я слышал, твой внук сегодня приезжает?
Мандиза не спеша опускает корзину на землю, поднимает взгляд на Кутсваку — тот отводит глаза — и спрашивает:
— Это который же?
— Тот, что за большую воду собрался, какой еще?
— За большую воду? И с чего ты взял, что у нас кто-то собрался за большую воду?
— Земля слухом полнится.
— Так-то оно так. А ты не всякому слуху верь. Не едет у нас никто за большую воду.
— Но приехать-то он сегодня приедет?
— Кто приедет?
— Мальчик ваш, что в Солсбери живет.
— Вот ты о ком. Не знаю я. Тебе бы лучше его родителей спросить. Кому, как не им, знать. А со мной разве кто говорит? Ты что, его повидать хочешь?
— А что тут плохого? Мы, как-никак, соседи, он на моих глазах рос.
— Как же... как же... Ну а жена твоя как, как дети?
— Жена слегла. Дети в школу не ходят.
— Чем болеют?
— У нее грудь ноет, а сейчас хворь на детей перекинулась. Обычное дело. Они знают, что вот-вот дожди начнутся, и как только не исхитряются, чтоб не дать мне управиться до дождей.
— От людей ничего другого ждать не приходится.
—' Больно много бед на меня одного. И что все на меня да на меня валится, будто никого другого нет. Каждый год, как дождям начаться, если я не захвораю, так жена занеможет. Каждый год, как экзамены сдавать, к детям моим, если не та, так другая хворь прилипнет. Что ж, один я, что ли, тут ем досыта, чтобы все напасти на меня сыпались?
Мандиза не отвечает.
Кутсвака спрашивает:
— Ну а тот, другой, этот ваш непутевый Гарабха, его тоже ждете?
32
— С ним разве можно знать что наперед? Налетит, улетит — ну прямо ветер.
— Вчера я на него у реки наткнулся. Пьяный был, страшное дело. Попробовал было я его разбудить, да куда там.
— Говорю тебе: налетит, улетит — ну прямо ветер.
— Во всей вашей родне второго такого нет, — И чуть погодя: — Вот уж непутевый, так непутевый.
Оба замолкают. Кутсвака прочищает юрло, откашливается раз, два и только потом говорит:
— Когда ваш мальчик, тот, что из Солсбери, приедет, моя дочь Рудо хочет с ним повидаться. Ей нужно что-то... книжки какие-то — дети, сама понимаешь, — вернуть ему перед тем, как он уедег.
— Если он приедет, — говорит Мандиза.
— Уж, конечно, если приедет, — говорит Кутсвака, поднимаясь. Делает шаг в сторону, но тут же останавливается и говорит, будто его только что осенило: — Ну а как этот ваш дру-юй, Гарабха, придет, передай ему: у меня для него работа есть. Сделает, я ему пива поставлю.
— Передам.
— Спасибо тебе. А теперь пойду.
— Доброго пути.
Когда Кутсвака скрывается из виду, Мандиза плюет в песок.
Из дома выходит Раина.
— Какая нелегкая его принесла? — спрашивает она, прижимая руку к груди.
— Прослышал, что мы нашего мальчика ждем сегодня.
— Кто ему сказал?
— Как знать? Говорила я тебе или не говорила, чтобы ты остерегалась, смотрела, при ком говоришь?
— Что ж, выгонять ее, что ли, когда речь заходит о детях?
Мандиза притихла, она изо всей силы ударяет но ореху, орех с оглушительным треском раскалывается. Привычная боль пронзает Раинин правый глаз, веко ползет вверх, рот кривится. Она бросает мать и идет в кухню, где Бетти юговит завтрак.
Бетти поднимает глаза, видит, как исказилось лицо матери, и в испуге распрямляется.
— Опять? — шепчет она.
Раина садится, долго молчит, потом спрашивает:
— Ты не говорила Рудо, что Люцифер сегодня приезжает?
— Нет, с какой стати?
— Видно, опять твоя бабушка Джапи проболталась, больше некому.
2 Альманах «Африка», вып. 6
33
— Случилось что?
— Отец ес приходил, справлялся, когда Люцифер приедет.
— Я не о том, я спрашиваю тебя, что, опять прихватило? Раина качает головой. А немного спустя говорит:
— Ты знаешь, что тебе идти к автобусу встречать брата?
— А как же. ты мне сказала вчера вечером, — говорит Бетти, вдруг вся просветлев лицом. Мать недоверчиво вглядывается в Бетти. Бетти, почувствовав на себе материнский взгляд, опускает глаза и как ни в чем не бывало продолжает мыть клубни к завтраку. Мать по-прежнему не сводит с Бетти глаз, и у той начинают дрожать руки. От матери и это не укрывается, и она тихо спрашивает:
— Ты уже выкупалась?
— Нет. думаю, у меня к концу недели начнется, — еле слышно отвечает Бетти, по-прежнему потупившись. Обе молчат. Внезапно из глаз Раины брызгают слезы, и она выскакивает из комнаты.
— Бетти,— зовет Мандиза, на ее крик из дверей кухни появляется Раина.
— Бетти занята. Чего тебе?
— Тогда иди ты, помоги мне кашу промешать.
Глава девятая
— Как здоровье, голубушка? — спрашивает Мандиза, входя к Джапи. Джапи все еще лежит в постели. Огонь в очаге потух. Джапи пробует было присесть, но тут же с громким стоном откидывается на одеяло.
Мандиза прыскает. Джапи устремляет на нес молящий взгляд. Снова стонет и закрывает глаза.
Мандиза говорит:
— Вижу, вижу, тебе больно, но сесть-то ты можешь?
— Поесть принесла?
— Ты ж глаз с двери не спускала, значит, видела, как я входила. Давай-ка садись, ешь.
Джапи пытается приподняться раз-другой и в конце концов все-гаки садится.
— Мандиза, просто не знаю, что бы я делала без тебя,— хнычет опа. — Моего сына послушать, так по его выходит, что я обленилась. И не только по его. Что он тебе-то говорит про меня? Да не говори, сама знаю. По его, я обленилась, и все тут. Это я-то обленилась. Когда я во всей поре была, я рабош-ла что твой слон.
4 — Да я знаю. А теперь давай-ка ешь что твой слон.
— Что ж ты и не посидишь со мной, не поговоришь?
34
— Разговорами сыта не будешь.
— Ой, а я разве так говорю?
Джапи принимается за кашу. Распробовав хорошенько, она говорит:
— Мне сразу полегчало. Ты кашу варишь, как в прежние дни. Как наши матери варивали. — Пробует еще.—Я и сама так кашу варила, пока меня хворь не одолела.
— Ты как дитя говоришь! В гвои-то годы!
При этих словах Джапи с обидой вскидывает на нее глаза и говорит:
— Ясное дело, ты с ними заодно. Я тебе здесь помеха, я всем вам в тягость.
Мандиза издевательски покашливает.
Джапи расправляется с кашей, облизывает пальцы и спрашивает:
— А они как обо мне понимают?
— Как кто о тебе понимает?
— Дети. Дочь твоя и мой сын.
— Понимают так, что ты хворая.
Чуть погодя Джапи говорит:
— А чего бы тебе не похворать? Или хоть не работать без отдыха, без срока.
-> Да ты что?
— Как им обо мне понимать, когда я знай хвораю, а никто нс упомнит такого, чтобы ты на день слегла?
— Джапи, это ты для смеху?
— Для смеху?
— А, может, ты вовсе не хвораешь, а только прикидываешься?
Джапи протяжно охает и говорит:
— Her, я хворая. Только меня не так хворь одолела, как старость.
Мандиза заходится от смеха.
— Чему ты смеешься?
— Ты говоришь, что ты старая.
— Что ж я, разве не старая?
— А я что — молодая?
— Так-то оно так, спору нет. Только я хоть и моложе тебя, а и хворая и дряхлая.
— Хворая, дряхлая, говоришь. Нашла чем хвастаться. Только ты зря на себя наговариваешь. Счастья своего не понимаешь — вот оно что!
— Это я-то счастья своего не понимаю: шестерых детей похоронила, а тем троим, что остались, все одно — жива я или померла.
2*
35
— Говоришь, им все одно — жива ты или померла? Да разве Тонгуна тебя не взял к себе в дом? Да разве Куруку тебе не покупает сахар? А Магазо, хоть и не женат, а одевает тебя. Кто тебе одежу купил? И сахар, почитай, каждые два месяца принося!. Знали бы они, что все твои хвори от сахара, небось перестали бы тебя баловать.
— Сахар? Где ты видела сахар? Кто тебе сказал, что они мне сахар покупают?
— Да ты что. думаешь, у нас глаз нет? Они гебе покупаю! сахар, и куда ты его деваешь? Чужим людям раздаешь. А попроси у тебя родные внуки сахарку полакомиться, ты им: «Да откуда у меня ему быть, сахару-то?» Откуда ему у тебя быть, как же!
— Что ж, выходит, мне и поделиться нельзя. А если у людей в сахаре нехватка?
— В сахаре нехватка? Нс наше эго лакомство сахар — чужеземное, от него больше народу погибло, чем от копья. С каких это таких пор люди с голоду стали просить сахар?
— Завела свое. Только, по-моему, не детям сахару захотелось, а ты сама на пего разохотилась. А как подступиться ко мне с этим, не знаешь, вот и злишься.
— Да захотись мне этого твоего сахара, я его взяла бы и без спросу. Что я не знаю, чю ли, где ты его хоронишь? Давай, досдай кашу, мне недосуг.
— Тебе бы только к чему прицепиться, разве нет?
— Да потому что ты все дите-дитем, счастья своего не понимаешь: и сыновья у тебя есть, и любят тебя они вон как, и жить есть где. и делаешь, чего хочешь, никто тебя не неволит.
— Тебя послушать, так выходит, ты сама не в доме, на дереве живешь.
— А го разве кет, если мне пришлось ^очь свою стеснить,
— Ты-то небось каждый день горячее ешь, а я?
— А сейчас ты что, холодное ешь?
— Так если б не ты, разве кто...
— Если б не ты — скажешь-1 оже! Плоха та птица, что свое гнездо марает. Доедай поскорее. Мне надо идти, мальчику поесть приготовить.
— Какому еще мальчику?
— Внуку твоему, Люциферу. Мы его сегодня ждем.
— Сегодня?
— Ты что, не знаешь?
— Мне разве кто что говорит? Я будто в другой деревне живу, что в доме делается, никогда не знаю.
— Ты не знаешь, а Кутсвака знает — чудеса да и только!
36
Джапи поднимает голову, нижняя губа у неё прыгает:
— Ты что же, намекаешь, будто я сказала Кутсваке? Чю ж я, по-твоему, хочу погубить семью своего сына?
— Кто сказал, что ты проговорилась Кутсваке. Я или ты?
— Семью сына своего погубить? — Джапи всхлипывает.
Мандиза, тряхнув головой, встает и говорит:
— Дай мне тарелку.
Джапи отдает ей пустую тарелку, Мандиза уходит.
Джапи выжидает, пока ее шаркающие шаги не замрут вдали. тянется за горшком, поднимает крышку, засовывает руку в горшок, зачерпывает пригоршней сахар и кидает в рот: после этой скверной каши во рту какой-то мерзкий привкус — фу ты! — надо его отбить. Еще пригоршня — и она устраивается поудобней на постели и погружается в сладостные мечты о том, hi о привезет ей внук из Солсбери.
Глава десятая
До Старика доносится далекий свист. Он поднимает голову. Кто свистит, он не видит, но чей свист, узнает. И, прервав работу. задает себе вопрос: «Когда же этот парень успел вернуться? Отец его не говорил мне, что он приезжает». Задать вопрос он задает, но тут же одергивает себя: «И когда Куруку мне что говорил».
Из зарослей на тропку выходит свистун. Старик не ошибся. Это Джон, его внук, второй сын Куруку.
Старик снова принимается за работу. Не лежит у него душа к л ому парню. Чуется ему в нем какой-то изъян. Глаза у Джона бегают, как у воришки. Да, никак не лежит душа к нему. И вог горс-то, и барабанщик из него никудышный. Позор С гарику.
Старик не глядит на Джона, он и без того точно знает, когда тот подойдет к нему.
— Здравствуй, — говорит он. — А я и пс знал, что ты вернулся. Ты когда приехал?
— Как поживаешь, Секуру? Я приехал только сегодня утром. Прослышал, что Люцифер уезжает за большую воду и заглянет на это воскресенье домой. Ну и приехал.
— Из такой дали, из самого Булавайо?
— А меня друзья на своей машине подкинули. Как поживаешь, Старик?
— Что мне сделается? А ты как?
— Такой здоровый, здоровее не бывает. А как остальные поживают — дядя Тонгуна, тетя Раина?
37
— Едва проснутся — и в поле, а по ночам маются бессонницей.
— А бабушки как?
— Мандиза, та неплохо, вот только видеть почти ниче1 о нс видит и на ухо туга. Ну а Джапи как Джапи — ее из дому не выманишь, будто ты сам не знаешь.
— Хворает все?
Джон заливается смехом, а Старик с видом покорности судьбе качает головой.
— Я привез ей сахару.
Старик поднимает голову, видит пакет с сахаром. Его подмывает сказать внуку, что, хоть Мандиза ему и не родная бабка. не худо бы и ей иной раз гостинец привезти. Только чего это я его учить буду, спохватывается он, у него на то есть родители. И вместо этого спрашивает:
— А у родителей твоих как здоровье?
— Неплохо. Теперь пошли в церковь. Просили меня передать тебе привет. Вечером мы к вам всей семьей наведаемся повидаться с Люцифером.
— И чего это их в субботу в церковь потянуло?
— Священник приехал служить мессу, а то потом жди месяц, если не два, пока приедет снова.
— Понятно. — Старик откашливается.
— А вам я вот что привез! — говорит Джон и включает маленький транзистор, который принес с собой. Раздается такой рев, что Старик затыкает уши пальцами.
Джон радостно хохочет.
— Здорово орет, а?
— Ты эту штуку мне принес?
Джона — он почувствовал неодобрение в голосе Старика — разбирает смех, и он качает головой:
— Нет. Это подарок Люциферу. А тебе я вот что привез,— и достает из кармана куртки кисет с табаком.
Протягивает кисет Старику, тот берет кисет, прикладывает к носу и говорит:
— Запах хороший.
— Лучше не бывает, — говорит Джон.
Старик прячет кисет, а сам думает: еще бы, для тебя лучше городского ничего не бывает. А вслух говорит:
— Да, запах хороший.
Бетти, услышав радио, выходит из кухни. Джон видит ее и радостно кричит:
— Бетти, привет! Прошлый раз, когда я был здесь, ты вроде собиралась в Солсбери устраиваться на работу. Ты почему еще здесь? Не взяли? Считай, что тебе повезло. Не такое это
38
сейчас место, куда сестер можно со спокойной душой отправлять,— И закатывается смехом.
Старик пригвождает его взглядом, берег свой тесак и вновь принимается за барабан.
Бетти сердится: вечно Джон ляпает, не подумав. Ведь она поделилась с ним своим планом по секрету: мол, в случае, если уж совсем тошно станет жить дома, не исключено, что она попытает счастья в Солсбери или еще где. Хорошо, что матери не было поблизости, когда Джон так некстати сболтнул о ее планах. И вдруг на нес накатывает такая неприязнь к Джону, что она, как пи тянет ее послушать радио, коротко поздоровавшись. возвращается на кухню.
— Почему вдруг такая спешка? — кричит Джон ей вдогонку. — Посидела бы, поговорила со мной.
Но Бетти, не удостоив его ответом, скрывается в кухне.
Джон пожимает плечами и обращается к Старику:
— Дядя Тонго дома?
— Да нет, вроде в поле. Дома только твоя тетка и бабушки.
— Пойду поздороваюсь с ними, — говорит Джон, поднимаясь.
Вернувшись, он садится напротив Старика по другую сторону очага. Немного спустя Джон, глянув на часы, крутит ручки приемника до тех пор, пока ему не удается поймать нужную станцию.
Старик поднимает голову. Говорят на шона. Голос слышен так ясно, что Старик различает каждое слово. Теперь он спрашивает:
— Я вот все ломаю голову, так ты скажи мне: в этой твоей машине есть люди?
— Ну, насмешил, так насмешил. — Джон давно так не смеялся. От хохота по его щекам катятся слезы. — Да нет, там просто голоса.
— А где же люди?
— Люди далеко отсюда, но, когда они разговаривают, машина ловит их голоса в воздухе.
— Хитро придумано, — говорит Старик и замолкает.— Очень хитро, — говорит он вслух, а про себя думает: не по душе ему эта говорящая машина. Чтобы человеческий голос выходил из машины, у которой ни легких, ни рта, да что же это, как не колдовство? Не по душе ему эта машина, как не по душе чуть не все, что парень привозит из города, — никчемные безделушки, по его разумению, но парень так держится, будто он сам их смастерил и без них ему жизнь не в жизнь.
— А о чем эти люди, то есть голоса, ведут речь?
39
— Да о чем хочешь. Обо всем, о чем люди обычно разговаривают.
— О чем хочешь?
- Да.
— И они так и разговаривают весь день напролет?
— Да, весь день. И не только весь день, но и всю ночь.
— И усталость их не берет?
— Так там не все одни и те же люди говорят. То один поговорит, то другой.
— Значит, о важных делах идет речь, о пустяках болтать не станут.
Старик затихает. Его не оставляет чувство, что машина перемывает кости да переносит пустые слухи, и говорят из нее одни лежебоки, у кого еще есть время день и ночь напролет чесать языком.
— Чем еще эти люди занимаются?
— Ничем. Им платят за то, что они разговаривают.
— За разговоры платят?
- Да.
— Что ж, выходит, они могут нести все, что им заблагорассудится. даже если им ничего путного не приходит в голову? — Тут Старика озаряет: — А, может, они лазутчики?
— Лазутчики?
— Ну да, лазутчики, тем, я знаю, платят за болтовню, потому что они сообщают сведения. К нам в прежние времена подсылали таких людей: им платили за то, что они выдавали места, где мы хоронились, и всякие другие сведения, которые враг мог использовать против нас. А если они чего не рассказывали, им не платили, а то и объявляли, что они врут, и били до полусмерти.
— Да нет, это не лазутчики и они не из своей головы берут, о чем говорить. Им указывают.
— Ишь ты, выходит, они бьют в чужой барабан?
— Пожалуй, и так можно сказать.
— Что же это может быть такое важное, за что им еще платить надо, чтобы они говорили об этом?
— Новости. Секуру, новости.
— Какие еще новости?
Джон усиливает звук.
— А ты послушай...
Старик откладывает работу, прислушивается...
«...поисковые партии прочесали район, но тела, многих жертв, погибших в авиакатастрофе, так и не удалось обнаружить».
— О чем они? — спрашивает Старик.
40
— Наверно, где-то разбился самолет.
— Самолет разбился?
— Ну да, самолет, ты же знаешь, железная птица, испортилась в воздухе, ну и разбилась — упала на землю, разлетелась на куски.
— Вместе с людьми?
— Бывает, что и без людей разбивается. Л в этой люди были.
— И они живые?
— А ты послушай. Они говорят, что в этом самолете не осталось живых.
Старик долго молчит, потом с расстановкой спрашивает:
— А куда Люцифер собрался, за эту большую воду, он луда тоже на железной птице полетит?
— Да, — посмеивается Джон, но Старик не обращает на него внимания, он слушает голос, а тот говорит: «Наша программа «Что нового в мире» подходит к концу, поэтому еще раз перечислим важнейшие события сегодняшнего дня: израильские войска разбомбили нефтяной склад в районе Суэцкого канала. Убит президент Каранга. Восставшие продолжают поиски президента Бомбы, который бежал вчера на рассвете после переворота...»
— Что это такое?
— Новости, Секуру.
— И где все это творится?
— По всему миру, Секуру. По всему миру.
Старик замолкает и чуть погодя говорит:
— Видать, они только и делают, что убивают друг друга.
- Да.
— А там, куда Люцифер едет, тоже такое творится?
Джон смеется и говорит:
— Но его-то это никак не коснется. Будет себе сидеть-поси-живать в школе, учиться.
Старик недоуменно вскидывает на него глаза.
— Как это так, не коснется? У нас в деревне, что с кем ни случись, всех касается. Как только у тебя язык повернулся сказать, что его там ничего касаться не будет? Он же будет жить с этими людьми в деревне, вроде нашей, нет разве? И если те люди затевают войну с соседями, как так может быть, чтобы его это не касалось?
Джон заливается смехом.
— Все обстоит иначе. Секуру. Мир велик. И на нашу деревню он ничуть не походит.
Мир велик? Впрочем, Старик не хочет затевать спор с внуком. Он машет рукой, показывая, что не желает продолжать разговор.
Они долго молчат, потом Джон говорит:
— Моим друзьям хотелось бы поговорить с тобой.
— Каким друзьям?
— Да тем, что привезли меня сюда из Булавайо. Им бы хотелось, чтобы ты рассказал, как ты дрался с белыми. Я сказал им, как ты дрался с белыми, когда, они поперву пришли в нашу страну.
— Как мы дрались с белыми?
Да.
Старик замолкает. Заново переживает вкус унижения. Потом говорит:
— Нас разбили.— И чуть погодя.—А отбить их нам так и не удалось. Что тут еще говорить: кому хочется вспоминать, как у него болел зуб.
— Знаю, — торопится Джон.—Но времена меняются. Мы будем править своей страной гораздо скорей, чем ты думаешь.
Старик поднимает голову, откладывает тесак и с расстановкой спрашивает:
— И как же вы этого добьетесь?
— Будем драться, — говорит Джон, и в его голосе прорывается страсть.
Старик смеется, машет рукой в'воздухе и снова берется за тесак со словами:
— Понятно. По дорожке Поля хотите пойти, в тюрьму сесть.
Джон виновато опускает глаза. У Старика вырывается короткий смешок, потом он говорит:
— Только ты не робей, когда драться будешь.
— Ты что, не веришь, что мы драться сможем?
— Не слушай меня, я старик. Мало ли что мне померещится. Только я думаю, что драться вам придется долго, сам видишь, какие они понарасставляли для вас западни — тут тебе и сахар, и эта твоя говорящая машина, да и чего только они ни навезли к нам сюда, и еще их боги, которых ты слушаешь все равно что свой барабан. Драться придется долго и, по большей части, с призраками.—Старик снова посмеивается.
У Джона отвисает челюсть.
— Что-то я не понимаю тебя.
— Где тебе понять, парень. Молод еще. Я и сам едва начинаю понимать, что к чему. Едва-едва. А и умру — так всего до конца не пойму.
— Ну и как?
— Что как?
— Как с моими друзьями — ты согласен с ними поговорить?
42
— Ну а соглашусь я, что они сделают с моим рассказом?
— Поместят в книгу... и, как знать, может, ты прославишься, кучу денег загребешь.
— Что ж, деньги получить очень даже заманчиво. Небось, как буду при деньгах, я и стареть перестану, а то и вовсе смерть от порога отгоню?
— Тебе, Секуру, все смешки, а я всерьез...
— Сказал тебе: не робей. Только твоим друзьям я не могу ничего рассказать. Чего доброго, еще надоем им своими стариковскими разговорами о смерти. А мне сейчас ничего другого на ум нейдет. Эти белые чего только-к нам ни навезли, одно забыли — такое снадобье, чтоб старость и смерть осилило. Ты читаешь их книги, слушаешь их говорящие машины, ты не слыхал, пет ли у них часом такого снадобья? Только, если и есть, знать, оно у них недавно появилось, потому что у белых, с которыми мы дрались, его не было, и кого мы тогда убили, они так и умерли, а те, кто выжил, как Матака, хозяин вон той большой фермы, — состарились и умерли. Один Матака остался в живых, ну и я. Правда, он теперь все дома сиднем сидит, ходить не ходит, ослеп на оба глаза, оглох, зубы все повыпадали, шамкает так, что не разберешь, о чем говорит. Словом, если у белых и есть то снадобье, им бы не беречь его невесть для чего, а поскорее дать Матаке, иначе та немощь, что его подтачивает, скоро возьмет над ним верх.
Джон буркает что-то о «пораженческих настроениях» и прощается с дедом.
Старик мотает головой, посмеивается про себя и с бешеной энергией снова принимается за барабан.
Глава одиннадцатая
Бетти в своей комнате, она живет там вместе с сестрами. Примеряет платье своей сестры Секаи. Секаи учится в средней школе-интернате, поэтому родители носятся с Секаи,_раздраженно думает Бетти, а до остальных им нет дела.
Раина заглядывает в окно, но Бетти не видит ее.
— Оно тебе мало,— тихо говорит Раина.
Бетти круто поворачивается, впивается взглядом в мать, делает шаг-другой к окну, глаза у нее жестко блестят. Раина нс отходит от окна. Глаза у нее ласково лучатся, она спрашивает:
— Посмотри сама, ведь оно тебе тесно в грудях. И ляжки еле-еле прикрывает. Ты в нем даже нагнуться не сможешь.
Бетти открывает, закрывает рот, слезы текут у нее по щекам, она отворачивается от матери со словами:
43
— Не пойду я, ни за что не пойду встречать твой поганый автобус!
Раина со вздохом отходит от окна. Бетти не переубедишь, напрасно даже стараться. Раина не сердится на дочь. Она понимает, что с Бетти обошт/ись несправедливо. А распоряжаться, помыкать ею, как Тонгуна, — это ж надо совсем не иметь сердца. Бетти уже не ребенок. И сама того не сознавая, Раина кончает тем, что ополчается на всех мужчин вообще: девочка хорошая, послушная, какого рожна им еще надо?
Оставшись одна, Бетти стягивает платье Секаи, забрасывает его в угол. Оно и правда мало! Она падает на стул, долго плачет. Но вот уже все слезы выплаканы. Она затихает, утирает глада и выходит, так толкнув дверь, что та с грохотом захлопывается.
Минует Мандизу, которая, приютившись в тени своей хижины. ищет вшей вч платье.
— Это ты, Бетти? — спрашивает она, держа руку козырьком над глазами.
— Что тебе надо? — отрывисто спрашивает Бетти, останавливаясь.
— Идешь к автобусу?
— Вовсе нет.
— Тогда куда же зы идешь?
— Куда хочу.
— Куда хочешь? В поселок?
— Кто тебе такое сказал, — вскипает Бетти, поз ому что у нее и в самом деле брезжила мысль пойти либо в поселок, либо куда еще. Обычно она не грубит Мандизе, старушка ей даже нравится, ей хотелось бы в старости быть такой же самостоятельной, как бабушка, и не дергать людей по пустякам, не то, что старая Джапи, но сегодня ей до того погано, что всякая дрянь, которую обычно держишь на дне души, всплывает на поверхность.
— Кто это тебе сказал, что я иду в поселок? Ты небось для того твое проклятье с собой притащила, чтобы и меня в грязь утянуть? Так вот, не надейся, что я не выйду замуж, знай, я найду такого человека, который на мне женится, помру, а найду, — выпаливает она, забывшись, и тут же ей становится стыдно, что она так грубо разговаривала — мало того, что со старым человеком, так еще и с Мандизой. И она опрометью кидается в заросли.
Старая Мандиза глядит ей вслед, но не видит Бетти. Степенно качает головой — надо же выбросить из нее эту страшнейшую, по разумению Мандизы, отраву из отрав, жалость к себе. Да, внучка права, Мандиза устроит все как нельзя луч
44
ше. Не надо плакаться. И говорить никому тоже ничего не надо. Не то подумают, будто внучка сваливала вину на нее. А ведь девочка говорила чистую правду. Это ее родни, а значит, и ее вина, и больше ничья. Вот так вот, яснее ясного, и слезами тут не поможешь. Теперь ей ничего не остается, как постараться перед тем, как она уйдет под землю, устроить все получше.
Что ж, пусть Матандангома приходит, говорит она себе, она готова пойти на бой, лишь бы снять проклятье, которое ее родня навлекла на дочерний дом, пролив невинную кровь. А если девочка и не выйдет замуж — пусть тому будет другая причина, а не эта.
— Ты с кем разговариваешь, мама? — спрашивает на ходу Раина, которая несет мимо корзину мусора из Люциферовой комнаты.
— С ветром, с кем еще, — и, наклонясь, давит вошь жесткими корявыми ногтями больших пальцев.
Раина зло смотрит на мать и, не сказав ни слова, идет дальше.
Глава двенадцатая
Раине приходится самой отнести завтрак Тонгуне, Бетти нигде не видно.
Когда она приходит, Тонгуна сидит под деревом. На него это совсем не похоже — не иначе как заболел. Раина ставит корзину с завтраком около него, сама садится напротив.
— Что с тобой? — спрашивает она, вглядываясь в его лицо. — Ноги печет.
— Уж не...
Он потерянно кивает. С ним уже такое бывало. А поюм, недели через три-четыре, у него начинала сходить кожа с подошв. Страшное дело — и Раина пугается.
— Что ж ты тогда домой не вернулся?
— Да думал, поостынут, полегче станет. А едва нагнусь, снова как огнем печет.
— Так же, как в прошлый раз?
И опять он кивает.
Она вздыхает и говорит:
— Что ж, давай ешь и пошли домой.
Она выкладывает завтрак: толченые клубни, холодную тыкву к чаю.
Он ест, а она встает, берет мотыгу и выкорчевывает недо-корчеванный им пень.
Он говорит:
45
— Осторожнее, у тебя спину будет ломить.
Она пропускает его слова мимо ушей.
— Нам придется кого-то нанять, чтобы закончили корчевку.
И снова она ничего не говорит. Пот течет с ее лица, и не так от работы, как от жары.
Он смотрит на нее и говорит:
— Думаешь, на этой неделе пойдет дождь?
Она хватается за пень, подсекает корни, расшатав обеими руками, выдергивает его из земли и одним рывком перебрасывает на кучу других выкорчеванных пней неподалеку. Потом вытирает пот с лица грязной рукой и говорит:
— Как не пойти, — смотри, какая духотища. Первому дождю давно бы пора пройти. Октябрь на дворе.
Он откусывает тыкву, отхлебывает чай и с набитым ргом, пережевывая слова вместе с тыквой, говорит:
— Уж как мне хотелось отсеяться до дождей, а зсперь, раз такое дело, не миновать...
— Мы с Бетти управимся с севом, — увещевает ею Раина. И спешит, раз уж у нее сорвалось с языка имя Бетти, сказать: — Вот отведу тебя домой и пойду к автобусу.
— А Бетти почему не идет?
— Видать, считает, что ей не в чем пойти.
— Не в чем пойти — она что, на свадьбу, что ли, собралась?
— Она запропастилась куда-то после завтрака. Я звала ее, звала, а ее нет как нет.
— Ты звала, звала...
Он отхлебывает такой большой глоток, что чай попадает ему не в то горло. Наконец, отдышавшись, откашлявшись, говорит чуть спокойнее:
— Я сам пойду к автобусу.
— С твоими-то ногами?
— А чем тебе мои ноги плохи? Ходить я могу, нет, что ли? Они болят только, когда я в поле работаю.
Она качает головой.
— Нет. Иди домой, и пусть Мандиза разотрет тебе ноги своим снадобьем.
— Успеется — встречу автобус, тогда и разотрет.
Она видит, что, хотя он все еще сердится на Бетти, но не подает вида. Она понимает, он заболел — вот почему он держит себя в руках. Он словно боится, что она может бросить его, бросить вот как сейчас. Будто она не могла бросить его раньше: тут она с особой отчетливосью понимает, 'как человек врастает в привычки, срастается с ними. Так же, как она порой побаивается, что он поколотит ее. Она говорит:
46
— Да я вроде дома все дела переделала. Так что, если ты не против, я пойду к автобусу.
— Не надо. Я сам схожу — не люблю сидеть без дела. Мне полезно пройтись.
Стоит ему заболеть и слечь, глаза у него становятся затравленными, тоскливыми, и упрямится он больше обычного, ей ли этого не знать. Он бодрится из боязни, как бы люди не сочли, что он не болен, а ленится вроде своей мамаши. Вот почему он и загоняет себя до полусмерти. И он бы и вовсе себя загнал, если бы она, не пересилив страх перед ним, не укладывала его в постель, когда его достанет хворь.
— Как хочешь, — говорит она. И, так и не обменявшись ни словом, они идут до тех пор, пока их пути не расходятся в разные стороны: он идет на автобусную остановку за две мили отсюда, а она — в руках корзинка, на голове вязанка хвороста — бредет домой.
Глава тринадцатая
Солнце жжет вовсю. Ни ветерка. Далеко на западе за зноем, волнами, ходящими над опаленной землей, синеют горы. Но их синева обманчива — просто Бетти часто видела их синими. Сейчас они мглистые, дымчато-сизые, и их очерк на горизонте поминутно меняется. То подымается, то опускается, а то и вовсе пропадает из виду.
Бетти останавливается: хочет проверить, не мерещится ли ей такое, потому что она смотрит на горы на ходу, или дело не в ней. Вглядывается так долго, что глаза начинают слезиться.
Сердце у нее бьется часто-часто — вот отчего горы ходят ходуном.
Она шагает дальше по дороге в поселок, но идет она вовсе не туда.
Вот уже деревня остается позади, и она думает, а что, если уехать. Только она не уедет. Обязательно уедет. Никуда не уедет: сколько раз она себе говорила, что уедет, а сама все еще тут.
Отламывает ветку с куста. Обдирает чуть ли не все листки, оставляет всего несколько — нечетное число. Решает говорить «да», «нет», и если, когда она сорвет последний листок, выпадет «нет», она не уедет. А если выпадет «да», непременно уедет.
Выпадает «нет», и она в ярости отшвыривает листок на землю.
Левая туфля у нее прохудилась, сквозь дыру забивается песок, два крайних пальца саднят. Она то и дело останавливает
47
ся, скидывает туфлю, вытряхивает песок и снова надевает. Туфли натирают, но ничего не поделаешь: слыханное ли дело— показаться на люди без туфель.
Она пересекает Зуку; река совсем обмелела, еле заметная струйка ржавой воды сочится по выжженному солнцем песчаному руслу. Она роет дырку в песке, пока вода не пробивается сквозь песок, ждет, когда в ямке наберется хоть глоток воды. Выпивает воду и идет дальше.
До нее доносится гомон голосов — выше по реке мальчишки удят рыбу. Знойную тишь нарушает птичий свист. Раздается треск, похоже, лопнул стручок, слышно, как он падает в придорожную траву.
Впереди показался дом местного агронома, над ним, отражаясь от его белесо-серой крыши, зыблется свет. Бетти издалека пристально разглядывает дом. Никого не видно.
Заходит в прогал между огромными гранитными валунами. От них пышет жаром. Теперь она совсем близко от дома — кликни, и ее услышат, но она никого не кличет. Она садится и, не отрываясь, смотрит на дом.
Через полчаса или около того из дома показывается женщина, она идет к стоящим чуть поодаль строениям. Это его жена, Бетти узнает агрономшу. Сегодня она уезжает к себе домой. Тут Бетти смекает, что агрономша уедет на том же автобусе, на котором приедет Люцифер. Значит, он пойдет проводить ее, и я смогу повидать его только, когда автобус уедет. А ей обязательно надо увидеться с ним. Она решает выйти на дорогу и затаиться в кустах неподалеку, от остановки, с которой уедет его жена, то есть за две остановки до той, где сойдет Люцифер.
Прямиком через буш и незасеянные поля она выбирается на дорогу. Бережно поглаживает живот. Посмеивается над собой. Сейчас ничего не определишь -- еще рано, слишком рано. Вот пройдет месяца два-три и все выяснится. Не исключено, что причиной задержки просто какие-то непорядки — так уже раз было. Но что-то говорит ей, что тут дело другое. И, разом повеселев, она прибавляет ходу, но идет сторожко, без нужды не лезет на глаза, знает, что, должно быть, и сейчас уже ничего не спрячешь от всевидящих глаз буша и вссслышащих ушей валунов. Конечно, когда ее тайна откроется, как рано или поздно открывается все, скандала не миновать. Ну и пусть они себе кричат, визжат, колотятся головами об стенку, все равно что ящерки, ни одной душе не догадаться, почему она так поступила. Хватит, она долго ждала, все надеялась, что они о ней позаботятся. А они и пальцем для нее не пошевелили. Слышала, как деревня пересмеивается за ее спиной. Она их осрамит. Что
48
юлку теперь спрашивать себя — права она или нет, что гак поступила. Она сама понимает, что ей не суждено выйти из передряги живой — так и Матандангома сказала, — но разве сунуть шею в петлю было бы умнее? Все едино. А так она хоть и умрет, так умрет не напрасно (гладит себя по животу). Она женщина. А разве не в этом вся разница между живыми и мертвыми? Она мать. Разве не для этого она родилась на свет? И никуда не деться от деревни, которая зло пересмеивается за ее спиной. Смехом злее смерти. И никуда не деться от родителей с их именем, над которым тяготеет проклятье, проклятье страшней смерти. Пусть их сцепятся, кто победит, правый или нет — ей все одно. Ей не до того. В ней будет что-то жить, а может, уже и сейчас живет (снова гладит себя по животу), и о нем никто не скажет — прав он или нет. Он живет, и все тут.
Глава четырнадцатая
Резкий переход от холмистых Гемпширских плантаций, где на благодатных почвах стеной стоят высокие сухие травы, к выжженному белесому — от земли до неба пустота — Мань-енскому резервату, где неизменное пугало в лохмотьях безмолвно творит погребальную тризну среди голого поля, настраивает автобус на похоронный лад. И те, кто от самого Солсбери не в силах угомониться спьяну, горланили песни, вне себя от радости, что едут домой, теперь жалеют, что подались сюда.
Пиво кончилось как раз перед тем, как они проехали последнюю изгородь перед Маньенским резерватом, и сейчас пусгые пивные бутылки и пустые пластмассовые контейнеры без помех катаются по пыльному полу автобуса, а пассажиры высовываются из окон и, тыча пальцами, показывают, где их дома, там и сям рассеянные среди края, в котором все погибло. Лишь солнце жариг по-прежнему. Да зеленеют, как в оазисе, редкие купы эвкалиптов, сквозь которые проглядывают крапчатые от тени белые стены школы.
— Это наш край, — горестно говорят люди, так, как говорят о ком-1 о, с кем они накоротке. Так гробовщик говорил бы о смерти, думает Люцифер.
Он втиснулся на заднюю скамью: там, кроме него, сидят еще пятеро, они, видать, до того напелись и наорались в начале поездки, что совсем уморились и впали в полное безразличие, чуть ли не беспамятство, которое наступает, только если сомлеешь от жары да хватишь лишку, и теперь сидят, разинув рты. Никого из них не интересуют пустынные просторы. Двое
49
даже похрапывают. У других вид такой, будто они до того настрадались, до того устали от разочарований, что их больше не пугает будущее — ведь не может же оно быть хуже прошлого; они, похоже, совершенно отключились, оцепенели, онемели.
Все они запорошены пылью. Пыль, пыль, повсюду — пыль. Она взлетает, клубится, вздымается к крыше и, свившись спиралью, сыплется вниз схлестывающимися друг с другом вихрями. Каждый раз, когда кто-нибудь из сидящих впереди оборачивает к нему лицо, Люцифер с трудом удерживается от смеха. Так дети нарисовали бы лицо на серой стене — черными кружочками обозначены два глаза, ноздри, и все.
Автобус останавливается у школы Святого Марка. Один-два пассажира сходят, на них глазеет разношерстная толпа. Одурманенные жарой родичи, пришедшие встретить их, перебросившись двумя-тремя словами, с натужными улыбками берут у них поклажу, и вот уже все они отправляются в путь по узкой тропе под жгучим солнцем, и контуры ящиков и картонных коробок на их головах резко прочерчиваются на слепящем пыльно-сером горизонте.
Автобус едет мимо них на восток. Через милю он сворачивает на юг — к поселку Чамбара. Запряженная едва плетущимися волами телега к западу на горизонте и надрывно причитающие плакальщики, — вот что прежде всего бросается в глаза Люциферу после двухлетнего отсутствия.
Похороны, догадывается он, но не может заставить себя произнести это слово вслух.
В Чамбаре автобус вновь останавливается. Чуть не все пассажиры выходят купить прохладительные напитки. Люцифер остается в автобусе. Он узнает знакомые лица, но до чего же они постарели. Он не может припомнить, как звались эти люди, для него они так и остаются знакомыми лицами без имен. Ему становится стыдно. Ведь он должен бы знать их имена, а вот поди ж ты — не знает. Тревога, ощущение своей неприкаянности, пронзает его. Он опускает взгляд, чтобы, если кто-то/ внизу поднимет голову, не встретиться с ним глазами.
Поселок кажется заброшенным. Чуть не все дома, похоже, снесены. Или это только кажется, потому что людей совсем не видно? Но мясная — над ней роем вьются мухи — стоит, и мельница, и еще две лавки тоже стоят, как стояли. Только куда подевались люди? Из окна автобуса за двойной дверью одной из лавок он видит лавочника — тот стоит один-одинешенек посреди своих владений, где скобяные товары, ткани и продукты расставлены строго по местам, и обмахивается замусоленным носовым платком.
50
А чуть дальше к западу стоит еще один дом, которого Люцифер прежде не видел. Дом еще не достроен, но по его поблекшим, в подтеках стенам видно, что он выдержал один, если не два, дождливых сезона. Интересно, продержится ли дом еще и этот сезон? — возникает у него мысль.
Несколько слов на жаре, пока мотор заглушен, и вот уже автобус громыхает дальше.
Но только после того как пересечешь реку Чамбара и увидишь старую деревню, где хижины стоят без крыш, а вместо дверей зияют провалы, и вдохнешь запах собачьего дерьма и жженого тряпья, ты дома. И тогда печать времени резко проступит и на изношенном кузове покинутой повозки, чье дышло обвиняющим перстом уставилось в пустые небеса, и, конечно же, на бродячей собаке — одни ребра да шерсть в проплешинах,— ищущей, чем бы поживиться в развалинах.
Но только после того как поглядишь на восток и увидишь высокие выбеленные солнцем вершины Маньенских гор, чьи зловещие тени, подобно стражам в некоей сказочной стране мертвых, тянутся далеко-далеко, ты воистину дома.
И вот тут автобус, обогнув старую деревню, повернет на запад, и ты поглядишь на Зуку, а она совсем обмелела, и увидишь новую деревню, извивающуюся под солнцем, наподобие бесконечно длинной змеи, что распростерлась от южного берега реки по-над кромкой земли до самого конца света, с древним Дождь-деревом, лишившимся своей былой силы, которое сторожит опустевший край.
И тогда автобус еще раз повернет на юг, и водитель заглушит мотор, и автобус будет катить целую милю с выключенным двигателем под откос к Зуке. Теперь, когда мотор заглох, слышно, как трясется и дребезжит старый драндулет, а пыли-то, пыли, пыли, столько, что головы сидящих впереди выступают из дымки, точно безмолвные, если не считать пер-ханья и чиха, призраки, но не ропщущие, а смирившиеся со своей судьбой.
«Из города досюда путь долгий, и мы все уморились, и все наши мысли о нем, чем ближе и ближе наш дом, но чем короче путь до него, тем дальше и дальше он», — выпевает про себя Люцифер.
Впереди появляются двое. Мужчина и женщина. Автобус останавливается около них. Женщина лезет в автобус. Едва жена берется за поручень, как мужчина поворачивается и уходит, а она машет вслед его удаляющейся спине. Это жена местного агронома, смутно всплывает в памяти Люцифера, а это, должно быть, ее муж. Что-то грустное связано с этой парой, но что, он никак не припомнит. Он опускает голову, чтоб она не
51
встретилась с ним глазами. Перед ним пустое сиденье, она опускается на него.
Автобус катит дальше. Прежде чем Люцифер пойдет к дверям, чтобы сойти на следующей остановке, автобус затормозит еще раз. Люцифер отворачивается от агрономши. Что-то такое он о них слышал, от чего ему перед ней неловко, но что, не припомнит. Это ощущение гнетет его, а с ним и множество других ощущений, им нет имени, но от них ему неприютно. Они всегда преследовали его на родине, — из-за них он чувствует себя незваным гостем в этом краю, где родился и вырос.
Люцифер дергает веревку.
Кондуктор — пока автобус шел от одной остановки к другой, он успел вздремнуть — открывает налитые кровью глаза, зевает и недовольно, так, словно Люцифер ему чем-то досалил, спрашивает:
— Багаж наверху есть?
— Нет.
Люцифер глядит на дорогу, тянущуюся, кажется, на сотки миль, видит человека, бешено машущего руками,—он проси; остановить автобус. Нашел где остановиться — посреди дороги! Внезапно Люцифер узнает отца. Его подмывает сказать водителю, чтобы тот проехал до следующей остановки, но он удерживается.
Лишь в самую последнюю минуту нелепая фигура отпрыгивает с дороги — зубы сверкают, глаза вращаются. Автобус со скрежетом тормозит.
Водитель высовывается из окна, кричит:
— Тебе что, жизнь надоела?
— Ты везешь моего сына?
Водитель оставляет его слова без ответа, один из пассажиров фыркает, и минуту спустя Люцифер и отец стоят посреди дороги; медленно оседает пыль, после отхода автобуса тблый край объемлет непривычная тишина, и неловкость их встречи, которой давным-давно пора было состояться, ощущается особенно остро; сын провожает глазами клубы пыли, вихрящиеся все дальше и дальше, а отец протягивает ему натруженную работой руку.
Семь лет как они женаты, а детей все нет, наконец припоминает Люцифер, почему при виде агронома с женой ему стало так грустно. Он не отрывает глаз от редеющего облака пыли.
52
Глава п«1надцатаа
Но вот наконец Люцифер переводит взгляд с облака пыл» па отца.
Они молча жмут друг другу руки: отец в захлебе чувств обеими руками трясет руку сына, лицо у него исказилось, искривилось, такая буря чувств бушует в нем, глаза обшаривают буш поверх головы сына, а у сына в душе смута — он и стесняется отца, и жалеет его, и недоволен им, и ощущает свою вину перед ним, и не может оторвать глаз от поросшей слипшимися от грязи волосами твердокаменной отцовой груди.
>Какое-то время кажется, будто они так и застыли на дороге, отец все жмет и жмет руку сына, а сын ждет не дождется, когда тог отпустит его. Наконец Тонгуна роняет руку сына и говорит:
— Это вся твоя пойлажа?
Оба глядят на чемодан, стоящий в пыли у их ног. Люцифер поднимает глаза, но на отца не глядит — гадает, что отец хотел сказать своим вопросом. Озирает знакомый каменистый край и думает, хорошо бы очутиться подальше отсюда.
- Да.
Тонгуна поднимает чемодан.
— Ух ты, какой тяжелый! Что в нем — книги?
Люцифер кивает. Надо бы не дать отцу тащить чемодан, но тот уходит вперед, прежде чем он успевает его остановить.
- Всё книжки читаешь? Упорный гы малый.
Люцифер понимает, что на самом деле отец хочет сказать: «Я тобой горжусь». Ему не хочется обманывать огца, и он признается:
— Последнее время столько дел, просто нет времени чи-та [ ь.
— А...
Неловкое молчание. Люцифер гадает, не опечалился ли отец тем, что он читает меньше, чем следовало бы. <«А что если сказать ему, что за последние полгода я вообще не раскрыл ни одной книги! — думает Люцифер, — Да-нет, это было бы жестоко». Он знает, как много значит для отца, что он любит читать. Огец не устает гордиться им, отец и сам признался ему в этом в одну из редких между ними доверительных минут. Отцовская гордость легла на Люцифера тяжким бременем. Он не чувствует себя свободным от нее, даже когда отец далеко. И теперь, когда он вот уже полгода, как не открывал ни одной книги, он чувствует себя перед отцом последним Прохвостом, преступником. От этого и от других не вполне поддающихся определению чувств, и еще от того, что ни один из них не мо
53
жет открыто смотреть другому в глаза. Люциферу хочется, чтоб у него был иной отец. Мысль эта так ужасает его своей жестокостью, что он подавляет ее, даже не успев в ней толком разобраться. В порыве раскаянья он говорит: «А как гам наши?» и, не успев закончить фразу, ужасается ее фальши. Он-то хотел спросить как бы между прочим, но произнесенный вслух вопрос звучит безразлично, и у Люцифера сковывает язык.
— Живы-здоровы, — выдавливает из себя отец, и по его тону Люцифер понимает, что отца не проведешь. Наступившее молчание лишь подтверждает его подозрение.
Похоже, им больше нечего друг другу сказать. И они отправляются домой через буш. Минут десять идут молча, потом Тонгуна спрашивает:
— Ты когда уедешь?
— Назад в город?
— Да нет, туда, куда ты уезжать собрался, за большую воду?
— Недели через две, если считать от сегодняшнего дня.
И еще минут десять они молчат, потом: •
— Ты получил наши письма?
- Да.
Один шаг, два, десять:
— Чего ж ты тогда нс писал?
Люцифер не отвечает. Он заранее съеживается — ждет, сейчас отец его ударит. Но ничего подобного. Люцифер никак не ожидал, что отец не станет его бить. Никогда больше отец не поднимет на него руки. Он теперь сам себе хозяин, ни от кого не зависит. Люцифера это почему-то огорчает, собственная независимость едва ли не пугает его. Он чувствует себя ничтожным, угнетенным этой, такой непонятной для него ответственностью. Ударь его отец наотмашь, ему, похоже, было бы куда легче это снести, чем ответственность, которую налагает на него независимость.
Отец спрашивает, и голос его звучит глухо:
— Откуда нам, по-твоему, знать, что с тобой, если ты нам не пишешь?
И снова Люцифер не отвечает. Ему хочется, чтобы oieu ударил его, снял с него этот гнет, освободил его. Но отец и не думает его ударить, и Люциферу невыносимо тяжело.
Тонгуну молчание сына снова повергает в замешательство, и он и вовсе перестает говорить. Он досадует на себя, отчего у него не выходит просто, обычно, разговаривать с собственным сыном? Отчего так получается, что он все обдумывает, обдумывает, как повести разговор с сыном, но присутствие сына так сковывает его, что он не может выдавить из
54
себя ни слова? Отчего так получается, что всякий раз, когда ему предстоит поговорить с мальчиком, он — вот дикость-то — чувствует себя так, будто ему предстоит прыгнуть в ледяную воду? И отчего он чувствует, что мальчик не хочет, чтобы он, его собственный отец, задавал ему вопросы? И должен ли он, Тонгуна, испрашивать разрешения (у кого? у собственного сына?), чтобы поговорить с мальчиком?
Но несмотря на все эти вопросы, Тонгуна, превозмогая боль, волочит больные ноги, и дом все ближе и ближе, а он по-прежнему ждет, когда ему будет дозволено сказать сыну о том, что накипело в душе.
Люцифер тащится позади, раздавленный гнетом ответственности, тоже еле волочит ноги и больше всего хочет, чтобы отец снял с него этот гнет.
В конце концов Тонгуна пугается — пугает его и молчание, и то, что он не знает, что бы такое путное сказать сыну, и то, что мальчика не тянет домой: и чему тут удивляться, если отцу нечего ему дать, и тогда Тонгуна заводит разговор об урожае, хотя на дворе стоит сушь, а судя по небу, дождя, похоже, долго не предвидится. Люцифер замечает, что отец не может найти верного тона, слишком пережимает, и голос у него чересчур — до неправдоподобия — бодрый, и его сначала сердит, потом смущает, а потом уж только огорчает отцовская неуверенность в себе. Он идет молча.
Вдруг посреди какой-то фразы Тонгуна осекается, до него доходит, что он лицедействует, чтобы произвести впечатление на сына, и он конфузливо улыбается, окидывает взглядом безмолвный, безлюдный край, словно хочет повиниться перед ним. и умолкает.
Последний отрезок их недолгого пути завершается в полном молчании: Тонгуна идет впереди, Люцифер следует за ним, как тень за человеком.
Глава шестнадцатая
Раина замечает их издалека, когда они еще сотни за две ярдов от дома. И со всех ног припускает к ним. Люциферу неловко смотреть, как бежит мать, и он прячется за отцовскую спину, а тому совестно перед женой и хочется скрыть от нее, что ему не о чем говорить с сыном, когда они остаются наедине, и он закидывает Люцифера вопросами:
— А ты давно знаешь того белого человека, что посылает тебя за большую воду?
— Пять лет, он учил меня рисовать в Сент-Эндрюсе.
55
— Добрый человек. — И чуть погодя: — А что ты ему сказал. словом, почему он решил, что тебя надо послать за большую воду?
— Ему нравились мои рисунки, вот он и подумал, как бы это тебе объяснить, что у меня дело пойдет лучше, если я поучусь в художественной школе.
— Ну, а это, как его там, художественное ремесло, словом, прожить на него можно? Неужели на него и впрямь можно...
Раина прерывает их. Люцифер протягивает ей руку, она пристально вглядывается в него. Люцифер смотрит на мать— правый глаз у нее полузакрыт, рот пополз набок. Ему бы не хотелось, чтобы она почувствовала, как он ее жалеет, и. так и не подобрав нужных слов, он молча трясет ее руку. Она слабо улыбается, у нее дрожат губы. Он отводит глаза, и она говорит:
— У тебя совсем оголодавший вид.
В ее словах звучит укор. Люцифер неуклюже оправдывается:
— Я здоров.
— Он говорит — здоров! Да ты ешь хоть когда?
Тонгуна — при жене ему куда свободнее — смотрит на жену в упор и говорит:
— Не говори глупостей. Ест он. иначе бы помер.
— Да ты разве посмотрел на него? Если б ты хорошенько поглядел на него, ты б никогда такого не сказал.
И опять Тонгуна сначала обшаривает глазами буш поверх головы Люцифера и только потом выносит свой приговор:
— Он здоров. Просто он растет. Ты понимать должна, он же не баба.
Последняя его фраза звучит то ли намеком, то ли предостережением. и все трое чувствуют, что в настоящее вторгается прошлое. Люцифер отводит глаза, ему тяжело смотреть, как мать язвительно кривится, словно бы насмехаясь над отцом. От глаз Тонгуны не укрывается усмешка жены, и. не пряча своего раздражения: тридцать лет ее учил, а все без толку, он зло повторяет:
— Он мужчина, не баба.
— Да я знаю. Ты мне это не раз, а сто раз уже сказал. Говоришь. он мужчина. Будто мужчинам есть не положено. Пошли в дом. пусть поест.
Они молча идут к кухне, она же и общая комната. Раина несет чемодан.
Когда они входят, Мандиза — она уже в кухне — поворачивается к ним:
— Ну как, привели его домой? — спрашивает она.
56
— Привели, мама,—отвечает Тошуна.
— Давно пора, — с чувством говорит Раина, а сама тем временем ставит чемодан на лол и занимает свое обычное место напротив мужа — он садится на табуретку за очагом. Люцифер усаживается на глинобитную скамейку вдоль стены позади отца. Тонгуна передвигается, и теперь Люциферу виден его профиль справа.
Но вот все рассаживаются, минуту-другую молчат, потом Люцифер, как положено, хлопает в ладоши — приветствует родных.
— Как поживаешь, старая?
— Что толку спрашивать? — отвечает Мандиза,—Что мне сделается? А ты как?
— Жив-здоров.
Старушка тянет шею, вглядывается, качает головой.
— Непохоже на то. если моим глазам еще можно верить. Совсем спал с тела. Разве ты был такой? Ты хоть ешь когда?
Раина с сердцем пихает полено в очаг, оно вылезает с другой стороны.
— А я что говорю?
— Как поживаешь, отец? — спрашивает Люцифер.
— Грех жаловаться. — Голос Тонгуны пресекается, он взглядом просит жену ответить за него. На помощь ему приходит Мандиза.
— Твоему отцу не дает спать спина. А теперь у него с ногами опять плохо.
— А как ты поживаешь, мама?
Тонгуна отвечает за жену:
— С гой поры, как у нас объявился змей, она так и нс оправилась.
Люцифер вскидывается:
— Змей?
Тонгуна переводит глаза на жену — она подтягивает полено, чтобы не вылезало из очага. Мандиза раскалывает орех, бросает его в корзину и сокрушенно говорит:
— Ох. сынок. Вот и еще причина, почему тебе надо чаще наведываться домой, — И чуть погодя: — Ну да ладно, гепсрь-то гы дома.
Молчание.
Раина говорил:
' — Мне не хотелось тебя беспокоить, и потому, когда мы
просили твою сестру Бетти писать тебе от нас письма, я не велела ей поминать о змее.— И. вздыхая, спрашивает: — А ты наши письма видел?
— Говорит, видел. — отвечает'Тонгуна.
57
— Чего ж ты тогда не отвечал? — Раина в упор гляди г на сына, Люцифер не отрывает глаз от своих покрытых испариной рук.
Раина не отступает.
— Понятное дело, ты был занят. Так занят, что не нашел времени написать своим докучным родителям.
— Оставь его, Раина, — кротко увещевает ее Мандиза. — Пусть сначала поест, потом уж спросишь, что тебе надо спросить. Он теперь дома и никуда не собирается бежать. Так что дай ему сначала поесть.
Раина вздыхает:
— Уж минутку-то ты мог выбрать. Всего одну минул ку твоего драгоценного времени и написать нам одну строчку, всего одну строчку о своем житье-бытье.
Переждав, сколько положено, Люцифер спрашивает:
— А как бабушка Джапи?
Тонгуна неодобрительно покряхтывает:
— Ничего ее не берет. Знай, греет бока на циновке.
Люцифер смеется. Все подхватывают смех. И минут пять, пока Раина собирает Люциферу поесть, разговор вертится вокруг Джапи. Мандиза кладет ему конец.
— Слыхали пословицу: горбатого могила исправит,— говорит она, — так это про нашу Джапи сказано, — не успевает она произнести последнее слово, как в кухню, ковыляя, входит Джапи, плюхается подле Люцифера и обхватывает его за шею. Крепко зажмуря глаза, она приникает к его груди, потом открывает глаза, пристально вглядывается в его лицо и говорит:
— До чего ты тощий, одно слово скелет, — снова приникает к нему и слезливо заводит:
— Я тут, можно сказать, помираю, а до тебя далеко, и у меня в голове одно: «Как послать ему весточку? Эх, будь бы у меня крылья!» Прошу их, пусть тебе напишут: «Как поживаешь, сын моего сына? Я тут помираю». Да разве меня кто слушает? Ты бы мог приехать и меня в живых не застать, сын моего сына, так меня одолела хворь. Я и теперь еще плоха,— она переводит дух. Люцифер старается хранить серьезность, прикидывается, что внимательно слушает ее, цокает языком, кивает головой в такт каждому се слову. Остальные едва сдерживают смех. Это не укрывается от Джапи, и она неожиданно прерывает свою горестную повесть словами: — А ты мой сахар не забыл?
Это уже слишком, домашние покатываются от хохота.
— Мой сахар, — говорит Раина, у нее по щекам текут слезы.
58
- Можно подумать, сахар для нее уже куплен, и ему всего и дел, что его привезти, — говорит Тонгуна: внезапный взрыв веселья увлекает и его.
— Нет того чтобы сначала узнать, как он поживает, первым делом о сахаре, — говорит Мандиза. — Выходит, верно я сказала, что тебе сахар дороже детей. И еще льешь слезы. Чего слезы лить, когда мальчик дома? Он проголодался, ему поесть нужно, а твои слезы ему не нужны. Тебе бы только плакать, вот почему его и не. тянет домой.
Но говорится это беззлобно, и все смеются. У Джапи глаза враз высыхают, искрятся здоровьем, и она говорит:
— А чего бы тебе хотелось поесть, сын моего сына?
— Будто она умеет готовить? — посмеивается Тонгуна.
Мандиза качает головой и говори!:
— Где это слыхано, чтобы голодного спрашивали, чего ему хочется поесть1? Голодный и невкусному рад.
— А как же мне его не спросить, когда стоит мне чего состряпать, как вы норовите скормить мою стряпню, если не собакам, так птице? Мою стряпню тут никто в рот брать не хочет.
— И много раз случалось такое, чтобы ты стряпала и твою стряпню выкидывали собакам? — наступает на Джапи Мандиза.
Джапи зыркает на нее и переводит разговор:
— Я слыхала, Тонгуна, у тебя опять с ногами плохо? Тонгуна кивает.
— Сегодня Люциферова мать пришла в поле, а я сижу.
— Завидуют они тебе, сын мой, — еле слышно шепчет Джапи.
Мандиза плюет в очаг и говорит:
— Они только и могут, что его убить. А его добро им не отнять.
Раина поднимается, выходит из кухни, возвращается с тазом, наливает в таз воды, чтобы Люцифер помыл руки. Потом ставит перед ним тыквенную кашу, которую подогрела на очаге.
— А где Бетти? — спрашивает Люцифер, принимаясь за еду.
— Кто знает? — отвечает Раина, и тарелка выскальзывает у нее из рук.
— Уж эти твои сестры, — говори! Джапи, качая головой.
Мандиза разглядывает орех, который собирается расколоть, с треском разбивает его и роняет ядро в корзину.
Тонгуна пододвигает табуретку поближе к Мандизе, сует руку в корзину, вытаскивает пригоршню нерасколотых орехов
59
и разгрызает один орех за другим. Он не говорит ни слова. Люцифер знает, что он недоволен.
Джапи роняет:
— Я всегда говорила: ее надо замуж выдать.
Все поворачиваются к ней, но чуть не сразу отводят глаза. Люцифер замечает, что отец, скрючив пальцы наподобие когтей, со всей силой упирается ногами о пол и мигом переводит разговор:
— А как Секуру Манденгу — что-то его не слыхать? Он дома?
— Твой дед все утро был здесь,—говорит Мандиза.—Не иначе как пошел срубить дерево на один из этих своих барабанов,—Качает головой. — Угомону на него нет, на твоего деда.
— Совсем рехнулся, — говорит Тонгуна. — Чуть не все большие деревья поблизости свел, под навесом полным-полно и бревен, и недоделанных барабанов, и ступок, и чего только там нет, а ему все бы деревья рубить, хотя это строго-настрого заказано. Он добьется, что мы все из-за него сядем в тюрьму.
— Он говорит, ему хочется сделать Гарабхе пять обтянутых кожей барабанов, таких больших, что к ним еще помост нужен, — прыскает Джапи.
Ноги Тонгуны еще сильней упираются в пол, он едва не срывается на крик: \
— Гарабха и без того с панталыку сбился с теми барабанами. что у него есть, так нет же, этому старому козлу вздумалось сделать ему еще пять барабанов, нужен там к ним помост или не нужен.
— Пусть его,—кротко говорит Мандиза.
Раина остерегается осуждать свекра при муже, поэтому она говорит:
— За его ступы и барабаны платят деньги. Научись Гарабха делжь такие ступы, как дед, он себе хоть на прожитье заработал бы. А так... — Опа разводит руками. Но они знают, что она имеет в виду.
— У него все еще барабаны на уме? — спрашивает Люцифер: он не прочь переменить тему; по крайней мере, внимание переключится на кого-нибудь другого.
— Если б только барабаны, а то и пиво, и бабы, и дурман всякий — его ко всему тянет, словом, проще сказать, к чему его не тянет, — говорит Тонгуна и швыряет в рот горсть орехов, чтобы преградить выход копящейся в нем ярости.
— Не судите мальчика так строго, — говорит Мандиза.
Раина пронзает ее взглядом.
— По-твоему, пусть себе тратит впустую время, жизнь? —
60
вскипает она. — Да ты что? Кто из его одногодков ходит в хо-юстяках — ты много таких видела?
— Хватит, — мягко останавливает жену Тонгуна, видя, как она буравит взглядом мать.
Джапи говорит:
— Не будь мой муж жив, я бы сказала, что его дух вселился в мальчика. В молодые годы он, бывало, день за днем бродит. шатается, не ест, знай себе бьет в барабаны, песни распевает. и тем сыт. а уж баб-то, баб за ним целый хвост ходил...
— А я думаю. . Гарабха знает, что делаег. — i оворит Мандиза как бы сама с собою и хитро кивает на Люцифера, словно намекая: «А воз кого я не могу понять, так это тебя!» Люциферовы родители уставились на старушку так. будто она спя гида. Раина раскрывает рот для ответа, но, перехватив грозный мужнин взгляд, решает промолчать.
— Вот именно, — говорит Джапи,—не будь Манденту жив. я решила бы, что в Гарабху вселился его дух.
Молчание.
Люцифер сосредоточенно ест. уставившись в тарелку: не хочет встречаться ни с кем глазами, потому что не знает, о чем с ними говорить. Молчание тяготит его. Он чувствует: они ждут, чтобы он им что-то сказал, но не знает, чего они ждут.
Он доедает тыквенную кашу, спохватившись, дочиста вьпи-раст тарелку пальцами, потому что Мандиза и мать говоря!, что негоже «клевать, как цыпленок».
-Яс ним так и познакомилась — ходила хвостом за ним и ею барабанами, — вспоминает Джапи.
Люцифер передает тарелку матери.
— Пойду переоденусь, — говорит он.
Все взгляды обращены на него, в них читается оторопь, обида, но он, ни на кого не глядя, подхватывает чемодан и выскакивает из кухни.
На дворе жара, но дышится гут легче.
Глава семнадцатая
Раздается стук. Люцифер поднимает глаза от книги, которую читал. Солнце вот-вот зайдет. Опять стук.
— Войдите! — нарочито громко отзывается Люцифер.
Дверь слегка приоткрывается, в щелочку заглядывает Бет ти.
— Можно войти? — робко спрашивает она.
Она всегда ведет себя так. будто застала меня за чем-то постыдным. думает Люцифер. Своим поведением сестра напо
61
минает нахального воришку, и это раздражает Люцифера. Взгляд ее останавливается, не доходя до него, — этой напускной близорукостью она словно бы хочет сказать: «Тебе меня не испугать. Я тебя насквозь вижу, и мне до тебя нет дела». Люциферу кажется, что сестре что-то нужно от него. Будто она знает какую-то его тайну, а какую — не хочет открыть.
— Мне, правда, можно войти? Я тебе нс помешаю?
Люцифер приглядывается к ней. Ее губы растягивает высокомерно-ленивая усмешка. Близорукости как не бывало, она зорко глядит сквозь него, а тон дальше, и он принужден защищаться, а от чего, и сам не знает.
— Я не кусаюсь, — рявкает он.
Она глядит на него, потом опускает глаза. Похоже, ее что-то забавляет. Она протискивается в комнату и опускается на пол у самой двери.
Люцифер глядит в книгу, прикидывается, будто читает. Бетти молчит так упорно, что перед глазами Люцифера начинают плясать буквы. Он вскидывает на нее глаза:
— Что тебе?
— Как поживаешь, брат?
— Отлично... а ты?
— И я отлично.
Что бы ей теперь оставить меня в покое... Но Бетти и не думает уйти. Не говоря ни слова, она разглядывает его до тех пор, пока он не теряет терпение. У него вырывается:
— Ты где была, когда я приехал?
Ему бы вовсе не хотелось походить на' отца, но вопрос его звучит точь-в-точь по-отцовски, и это его сердит. А еще пуще то, что он не в силах ни вынести Беттин пронзительный взгляд, ни пронзить ее взглядом в ответ, когда она говорит: «Гуляла». Вот так вот.
— Где гуляла? «Уж не кричу ли я?» — недоумевает он.
— Где гуляла? — в свою очередь, спрашивает Бетти.
— Разве я тебя не об этом же спросил? Обычный вопрос. Я приехал. Тебя нет дома. Вполне естественно, что я спросил, где ты была?
Но вот естественно ли я говорю с ней? Господи, я два года ее не видел — да разве так себя ведут, когда видятся с сестрой после двухлетней разлуки?
— Где гуляла? Сказано — гуляла! И хватит с тебя.
— Я слышал, но гулять можно и во дворе.
— В буше гуляла — вот где.
В подспудной двусмысленности ее ответа таится осуждение: он заподозрен в кровосмесительных наклонностях.
62
А... Понятно, — сдается он.
В глазах у него потемнело от стыда. Он снова берется за книгу.
Бетти прокашливается, а он читает одну строчку три раза кряду.
— Папа и мама хотели бы поговорить с тобой,—начинает она.
— О чем?
— Откуда мне знать.
Она встает и, скользнув по нему сожалеющим взглядом, выходит, чтобы тут же появиться снова, но на этот раз она только просовывает в дверь голову.
— И Рудо тоже. Она говорит, что придет повидаться с тобой сегодня вечером или завтра утром.
Его хриплое «О чем?» отскакивает от леденящего воздуха там, где только что виднелась ее голова, чтобы с силой, удвоенной виною и отчаяньем, обрушиться на него. Он медленно, не спуская глаз с распахнутой двери, закрывает книгу. Оставила дЪерь настежь, мерзавка, не потрудилась закрыть! Но сам лежит как лежал — не идет ни за сестрой, ни закрыть дверь.
Запах 'свежего навоза, накладывающийся на застарелый запах пыли и птичьего помета, щекочет ему ноздри. Он гадает: не будут ли ему мешать пухоеды: ведь, когда его нет, в комнате держат кур. Младшие братья спят в кухне — оттуда ближе к родительской спальне. А Гарабха ночует со Стариком в его хижине или под навесом, смотря по настроению.
Только эти двое могут спать, где им вздумается.
Внезапно Люцифера одолевает страх. Его спальня стоит на отшибе. Закричи он, никто не услышит...
Он гадает, будут ли его мучить кошмары. Стоит приехать домой, и ему во сне являются ведьмы. Глупость, ребячество, конечно, но, видно, ему никогда не выдернуть, не обрубить корни, связывающие его с землей этого темного бесплодного края. Несмотря на книги. Несмотря на знание современной психологии, труды по которой он так жадно читал все последнее время. Несмотря на... несмотря на...
Пальцы сами собой тянутся в карман к карандашу. Он берет книгу, которую читал, и пишет на чистой странице. У него кипа таких заметок и рисунков, которые он набрасывает, когда на него накатит, — ими исчерканы все книги, все клочки бумаги, попадающиеся под руку, все, к чему он ни прикоснется, чернильные струйки бегут, как коровья моча, катышки слов и завитушки напоминают помет. Он пишет:
63
Робина...
Итог незримой войны.
Куча праха и хлама.
Белый недвижный зной над сморенным от пекла краем.
Родина...
Остроклювый стервятник
Чует падаль —
Юбки древней старухи
Пахнут временем, угодившим в капкан.
Родина...
Возврати хозяевам всю и.у мудрость,
Ведьме — выкуп за душу твою.
И фунт плоти — корням, поскольку она их по праву.
Родина?..
Родина милая, родина1.
Тихий стук-постук мягкой земли
По мертвым доскам.
По отчаянию,
Заколоченному туда.
Родина...
Вечный скрип-поскрип
Влекомой волами повозки
По песчаной, по самой короткой дороге деревни.
Никуда не ведущей дороге —
Так земля отбирает назад свой дар.
Внизу он набрасывает вереницу плакальщиков, горюющих каждый на свой лад, они бредут вслед за повозкой на высоких колесах, запряженной тощими волами, а их обволакивает, хоть оно и высоко над ними, кроваво-красное закатное солнце с темной, пасти чудища подобной, сердцевиной...
Он долго глядит на рисунок, потом за окно на край, над которым сгущаются сумерки, отшвыривает книгу и идет в кухню, где его давно уже ждут.
Глава восемнадцатая
— Где это видано: не успел приехать и сразу заперся в комнате? — спрашивает Джапи, едва Люцифер переступает порог.
Люцифер не отвечает. Глаза всех устремлены на него. Даже младшие братья, поначалу взбудораженные его приездом, и те угомонились. Понимают, сейчас время не их, а старших. Все здесь: и Старик, и обе бабушки, и родители, и трое младших братьев, и Бетти — она сйдит, обхватив руками голову.
Раина оборачивается к Бетти и говорит:
— Разве у тебя .кто умер, что ты так сидишь?
— Пусть ее. Хватит с нее на сегодня, — говорит Мандиза.
Джапи прорывается:
1 Слова из популярной песни. Текст Д.-Г. Пейна (1791 — 1852).
64
— Я еще когда вам говорила: ее надо замуж выдать. Останется дома — добра не жди.
Тонгуна налетает на мать:
— Чего ж тогда ты ее не выдала?
Джапи, смерив сына взглядом, сокрушенно говорит:
— Что ж получается, я о твоих детях и слова не скажи? Старик недовольно покашливает и спрашивает Люцифера: — Как твое здоровье, мальчик?
Люцифер отвечает:
— Сначала ты мне ответь, Секуру.
— Лучше не бывает.
Старик смежает веки, но спать не спит.
Долгое молчание нарушает Раина:
— Мы ждали, что ты приедешь на пасху. Где только тебя не искали. Но гы не приехал и на наши письма не отвечал. Что случилось?
Они понимают, что ему нечего им ответить. Воцаряется тягостное молчание, немного спустя мать продолжает:
— Тогда твой отец чуть нас не покинул.
— Два месяца, можно сказать, был при смерти, — говорит Джапи, — мы уж думали, больше его не увидим, — голос у нее дрожит.
Раина говорит:
— И насчет Секаи беспокоимся. Она чуть не лишилась правой руки.
— Каким образом? — спрашивает Люцифер, просто чтобы поддержать разговор.
Секаи разочаровалась в нем, потеряла веру в него, объявила, что больше не станет ему писать и не желает называться ею сестрой. Секаи с характером и слово свое сдержала.
— Она тебе не пишет? — спрашивает Раина и поспешно отвечает сама себе: — Хотя ты бы ей все равно не ответил, напиши она тебе хоть сто писем.
— Мы тоже писали тебе, — говорит старший из его младших братьев — Гумбо. — Ты разве не получал наших писем? — Старшие не обрывают его. — Мы даже подумали: вдруг у нас неправильный адрес. Мы писали тебе, писали, а ты все не отвечал, а потом мама сказала: ты еще подумаешь, будто мы выпрашиваем у тебя деньги, мы и перестали.
— Гумбо, помолчи! — гаркает Тонгуна. Раина в смятении ерзает на месте, Люцифер опускает глаза. Теперь он слышал все. Наступает пугающая тишина.
Нарушает ее Мандиза:
— Почему бы тебе не сказать ему прямо, что случилось? От кого еще ему, по-твоему, это узнать? Он взрослый, и ему
3 А.н.маиах «Африка», вып. 6 65
пора знать обо всем. И довольно об этих ваших письмах, на которые он не отвечал. Теперь скажите путем, о чем вы хотели ему рассказать в письмах.
Джапи начинает:
— А как же Бетти?
Но Старик прерывает ее:
— Чего бы тебе не помолчать, пусть ему расскажут те. кто умеет говорить получше тебя.
Джапи в недоумении вскидывает глаза на мужа и захлопывает рот.
Мандиза прочищает горло и говорит:
— Все дело в том, сын моей дочери, что соседи завидуют твоим родителям. Кутсвака... Только не смей ни при ком произносить это имя, слышишь? Год не успел начаться, а твоя сестра Секаи и твоя мать свалились в один день: у Секаи отнялась рука, а у твоей матери голова как заболела, так с тех пор и болит. Мы сразу к Матандангоме, знахарке, а она нам и скажи: это, говорит, все из-за Кутсваки...
— Да это из-за змея. Секаи первая его увидела в колодце...— Раина осекается, глазами просит мать разрешить ей рассказать, как все было. Мандиза согласно кивает, но тут Джапи — не в силах побороть искушение — вставляет:
— Еще чуть бы чуть и твоя мать и сестра покинули нас, сын.
Старик, не повышая голоса, прерывает ее:
— Чего бы тебе не подождать, пока тебя спросят?
— Что ж, мне и не рассказать, что я видела своими глазами?
— Умей ты видеть, ты бы лучше все разглядела. Рассказывай дальше, Гарабхина мать.
— Змей явился за мной, — продолжает Раина,—но Секаи первой к колодцу подошла. И вот вижу я, заглянула она в него да как отскочит, да как завизжит. «Что с тобой?» — спрашиваю. «В колодце змей», — говорит. «Змей?» — «Да. Большущий змей, я таких сроду не видела. И как на меня зыркнет». Я — давай к колодцу. Подбежала, а змея уже нет как нет — один хвост торчит, да и тот враз ушел под воду. У меня прямо там у колодца как голова заболит, ну прямо раскалывается, и отдает в правый глаз. А Секаи рукой шевельнуть не может.
— И с тех пор ее так и не отпускает, — прорывается Джапи, украдкой косясь на Старика.
— А зачем вам явился змей? — спрашивает Люцифер. Все, кроме Старика, поворачиваются к нему, а Бетти строит ему рожу, словно он сопливый несмышленыш.
Мандиза растолковывает:
66
— Змей явился затем, чтобы твою мать забрать с собой.
— А Земля ее отбила, — объясняет Джапи, но Мандиза пропускает ее слова мимо ушей.
— Не случись тут Секаи, твоя мать увидела бы змея первой, он бы ее укусил, и она бы прямо там, у колодца, и померла. Л так Секаи увидела его прежде матери и тем спасла твою мать. Но лиха беда начало. Только твоя мать и сестра слегли, как у отца начали пухнуть ноги. Каждый раз, как он шел на поле, у него ноги так пекло, что он стоять не мог, и мы его волоком волокли домой.
— Плакал тогда, — вспоминает Джапи, и, судя по голосу, она и сама вот-вот заплачет. Мальчишки фыркают, но стоит отцу рявкнуть: «Это кто еще плакал?», вмиг обрывают смех.
— Разве гы не плакал? — повышает голос Джапи.
— Не я, а ты плакала! — Тонгуна еще сильнее упирается ногами в землю.
— Будет вам, будет. — утихомиривает их Старик.
— Ну и что такого, если ты и плакал? Любой бы заплакал на твоем месте, — говорит Раина мужу: ей хочется, чтобы он раз в кои веки позабыл про гордость и посмотрел правде в глаза.
— Слышишь гы, не плакал я.
— Твоя правда, Тонгуна,— говорит Старик, — Ты не плакал. Разве такой большой парень, как ты, станет плакать? Рассказывай дальше, Мандиза.
«Ты плакал, — упорствует про себя Раина: ей не нравится, что он морочит мальчику голову. — Еще как плакал, а с брюками твоими какой срам вышел, когда тебя домой в последний раз принесли,—ты тогда еще провалялся больше месяца в постели».
— Рассказывай дальше, мама, — вздыхает Раина.
— Мы к Матандангоме, а она нам и скажи, что Кутсвака хотел твоих родителей извести, чтобы ты мог жениться на его дочери, — Люцифер хочет возразить, но старушка продолжает, — и еще он завидует твоим отцу-матери, потому что у них на земле все лучше родится, и они смогли послать тебя в школу, а он свою дочь — нет.
У Люцифера отказывает голос.
— Я — жениться на его дочери?
Ему чудится, что его повсюду ожидают незримые ловушки.
Он с расстановкой повторяет:
— Я — жениться на его дочери?
Бетти глядит на него с укоризной. С неприкрытым презрением.
Раина говорит:
3*
67
— Не счесть, сколько раз я тебе говорила: остерегайся его дочки Рудо.
— Выходим мы из школы, а нам навстречу Рудо и спрашивает, ты уже приехал или нет? — говорит Гумбо и косится на мать, проверяет, можно ли ему встревать в разговор старших.
Раина говорит:
— А ты что?
— Мы ей говорим, что...
Но Шад, последыш, прерывает его:
— Это не ты сказал. Гумбо. Это Кизито сказал ей...
— А ну молчать! — командует Тонгуна, но Раина, будто не слыша его, обращается к младшему сыну:
— Скажи, что ты ей сказал?
— Кизито ей сказал, что он приедет сегодня... ну, что брат Люцифер... сегодня приедет из Солсбери. А Гумбо ему: да 1ы что? Мама не велела никому про это говорить... ну Кизито и отдал Гумбо свои шарики и попросил не рассказывать маме...
— Чего бы вам не отправить детей спать? — спрашивает Старик.
— Они спяз здесь. — говорит Бетти.
— Раз так, их надо бы приструнить.
— Гумбо,—командует Тонгуна. — Забирай братишек, сегодня вы будете спать в комнате девочек.
— Только, чур, мои одеяла не мочигь, — наказывает Бетти.
Тонгуна зыркает на нее.
— Это с каких таких пор у тебя завелись свои одеяла? Они что, на твои деньги куплены?
— Будет тебе, Тонгуна, — говорит Мандиза, а Старик покашливает, словно хочет сказать: да ты сам еще дитя дитем. И Тонгуна сникает.
Мальчики нехотя встают и уходят из кухни.
Молчание затягивается. Нарушает его Раина:
— Говорила я тебе, Люцифер, еще когда ты в школу ходил: держись подальше от этой девчонки.
— Я ее не приглашал, она сама назвалась, и потом, она ведь только за книгами придет. И я ей не говорил ничего... ни о чем.
Язвительная усмешка кривиг Раинины губы:
— Как же, как же, ты ей ничего ни о чем не говорил, мне ли этого не знать? Она ходит к тебе за книжками, посидит чуток и уйдет, да как у тебя язык поворачивается такое говорить, когда ты с ней часами просиживаешь за запертой дверью. Как же, как же! У тебя с ней ничего нет, нам ли этого не знать.
68
когда каждый встречный-поперечный это знает. Вся деревня знает. — Она запинается, Люцифер рассматривает свои ногти. Мать, видно, сердится, что он не отзывается, и голос ее взлетает:
— Не веришь мне? Ты ходил в школу, ты теперь образованный, не чета своим родителям, и для тебя, что они ни скажут, все выдумки, сказки темных людей, так ведь? Вот помри мы, тозда б ты мне поверил, верно я говорю?
— Не кричи на него! — гихо говорит Мандиза.
— И вовсе я не кричу, — огрызается Раина, голос ее взлетает еще выше.
— Тебе надо все толком объяснить ему, — советует старушка.
— Толком объяснить? Да разве его родили на свет не те самые люди, которых он теперь ни во что не ставит? Да разве он вырос не в той самой деревне, про которую теперь ничего знать не знает? Да разве он не про свою родную мать говорит, что она ему сказки рассказывает?
— Нет, Гарабхина мать, ты ему сказки не рассказываешь,— говорит Старик. — Мальчик тебя слушает. Рассказывай дальше, Мандиза.
Мандиза со вздохом говорит:
— Много о чем надо рассказать тебе. Не знаю, говорили гебе родители или не говорили, но твоя сестра Бетти...
— Нам-то не надо об этом рассказывать, — Джапи машет рукой, мотает головой из стороны в сторону.
— А, по-моему, мама, не стоило бы ему до времени о том рассказывать, — вскидывается Тонгуна.
Бетти поднимается, идя к двери, глаза у нее горят.
— Ей на роду написано, что она и замуж не выйдет и ребенка у нее не будет — вот так вот, — вырываезся у Раины. — А теперь давай, смейся!
— Не надо, Раина, — скулит Джапи.
Старик вздыхает. Тонгуна покачивает головой, ноги его попирают землю. Голова Мандизы клонится все ниже и ниже— кажется, она на глазах одряхлела. Она чуть слышно говорит:
— Когда-нибудь надо же ему это узнать, верно? Так лучше уж пусть узнает сейчас, пока я еще жива. Ведь это моей родни вина.
Тонгуна в смятении ерзаег на табуретке.
— Успеется и завтра, мама.
Старик встает и спокойно говорит:
— Хорошо, до завтра, сынок.
И выходит, бесшумно прикрыв за собой дверь.
Странная тишина охватывает кухню.
69
Бетти тихо входит в комнату, садится на свое место, ее лицо непроницаемо.
На дворе лает собака: слышатся голоса. Все поворачиваются к двери, с облегчением переводят дух.
Глава девятнадцатая
В дверь громко стучат.
— Кто там? —кричит Тонгуна.
— Хозяин. Открывай! — гудит из-за двери утробный бас.
— Это дядя Куруку, — говорит Бетти.
— И еще пьяный, — возмущается Раина.
— Входи, — говорит Тонгуна.
Дверь распахивается. Входят Куруку, его жена Рода и их сын Джон. На голове Куруку неизменная косматая шапка, в руке посох, с которым он никогда не расстается. Джон несет транзистор — подарок Люциферу. Рода — закрытую корзинку, Раина, похлопав в ладоши, принимает корзинку, прячет ее.
— А где же мальчик? — еще не садясь, спрашивает Куруку. Оглядывает комнату, морщится: — Вы будто кого похоронили, — и тут взгляд его падает на Люцифера — тот сидит в полутени, на скамье, поодаль от очага, — Вот он где! Как ты, мальчик? — и он прямиком идет к Люциферу, тянет к нему руку.
Рода говорит:
— Он, как услышал, что наш мальчик едет за большую воду, так с тех пор только о нем и говорит.
— А почему бы мне о нем и не говорить? — басит Куруку,—Почему бы мне не говорить о моем сыне? У кого еще в деревне сын едет за большую воду? Много ли таких в деревне? Нет, ты мне скажи — много ли ты таких знаешь? Да кому еще-то под силу, что осилили мы, сыновья Манденгу? Возьми хоть Кутсваку со всеми его кореньями, притираньями, травами и талисманами, а и ему, бедняге...
— Слушай, Куруку,—останавливает его Джапи.—Зря ты пиво пьешь, если потом не можешь совладать с собой.
Рода мотает головой:
— Говорила я ему, говорила: ты, как выпьешь, всегда язык распускаешь, так нет же — у него в одно ухо влетает, в другое вылетает.
— Что ж, по-твоему, выходит, я сиди дрожи, когда ты мне толкуешь, что этот сын невесть каких родителей'— большая шишка? Что ж, по-твоему, выходит, я ломай шапку, хлопай в ладоши, глотай пыль, когда этот гад проходит мимо, так, что ли? Нет, такого от меня вам не дождаться, недаром я из
70
рода Манденгу. Я таких, как он, и раньше встречал. Мне с такими гадами, как он, не впервой дело иметь. На поверку у него кишка тонка. И пусть этот вонючка вон какой вымахал, я его пальцем перешибу. Гнида он. Только не долго ему ходить по земле, — Куруку топает ногами. — Пусть я ни кореньями, ни травами не горгую, но ты меня послушай: я знаю, куда ветер дует. Не дай им себя провести, мальчик. Кутсвака... ой, не могу! Крыса он, вот он кто! А дочка его — смышленая девчонка и из себя невредная, и задок у нее что надо, одно непонятно, как она у этакого пугала родилась. Только вот что с ней теперь станется, когда он ее забрал из школы: денег у него, вишь, нет девчонку учить. Торчит теперь дома, помогает папаше толочь и сбывать снадобья и талисманы и крутит задком перед каждым старьевщиком, что в деревню ни зайдет, диву только даешься, как она еще живот не нагуляла, а и не нагуляла, так не сегодня завтра нагуляет, это я тебе точно говорю, и будет растить безотцовщину. Кутсвака? Да он у себя под носом ничего не видит. Точь-в-точь как Гонкало. Кутсвака и Гон-кало — это, как говорится, все одно что дерево, что бревно. Гонкало. Если ад есть, Гонкало, хоть он и черный, там так поджарят, что он чернее сажи станет. Нет, это ж надо креститься только потому, что он видел, как люди причащаются, и понадеялся, что, если и он причастится, так до самого второго пришествия будет сыт. Отец Камба — он мне рассказывает, что у них за этими курениями-воскурениями творится. Так вот он сказал, что Гонкало, как в первый раз причастился, ну ругаться: он-то думал набить свою ненасытную утробу так, чтоб никогда больше есть не хотелось. Ох уж этот Гонкало! Ему поручили раздавать еду у Джумо на поминках, так знаешь, что это ничтожество сделало? Напихало свою сумку доверху буханками, кусищами мяса, так что многие и вовсе без еды остались — весь день голодные просидели. Такие, как Кутсвака, хоть они и знают толк в кореньях, кончают тем, что припрятывают чужую еду, не гнушаются на поминках красть, и все, чтобы свое отродье накормить. А уж сколько он детей наплодил — и не счесть! Что твоя крыса!
На днях ходили мы в городской совет. Там выступали ребята из семейного планирования, потом мы им задавали вопросы. И знаешь, что он спросил? «Я вас вполне понимаю, сэр,— а сам ни в зуб ногой, — только что ж теперь, если у меня сыновей нет, одни дочки, из нашего рода никому в вожди и не выйти? Мне, пока у меня не родится сын, останавливаться никак нельзя. Пусть даже и вторую жену придется взять». Ты такое слыхал? И еще смотрит вокруг, не может понять, чего это ему не хлопают. Много дураков видал, но такого сроду не видел!
71
Этой мякинной башке с голодухи все мерещится, что он станет вождем. Вот он какой, твой Кутсвака. А чем такие люди кончают? Тем же, чем Гонкало! У собак, у которых ребра наружу торчат, объедки с боем отнимают.
— Где это ты? — спрашивает его Тошуна. («Где это ты?» — вежливо заменяет: «Где эго ты гак набрался?»)
Рода с видом покорности судьбе пожимает плечами:
— Джон привез ему бутылку какого-то прозрачного пойла.
— А ты его тоже пьешь. Джон? — спрашивает Тонгуна.
— Разве что самую малость. И го раз в кои веки. А что: отец говорит, она червей из живота выгоняет и удачу приносит,— и Джон улыбается отцу.
— Клянусь геми, Кго-Давно-Нас-Покинул, не сообрази я тогда глотнуть чуток, я был бы точь-в-точь, как Гонкало. верно, мать Джона? — говорит Куруку.
— Не мне о том судить, отец Джона, — г оворит Рода, шутовски отвешивая ему поклон.
— Слыхал, что-она говорит? А ей нечем крыть, потому что не прими я тогда чуток, она бы спуталась с этим Гонкало. крыса поганая — вот кто он! И к слову сказать, раз уж о крысах зашла речь, до сих пор бы плодилась. Кстати, я слышал, что старый Макава берет еще одну жену, — правду люди говорят или врут?
Раина спрашивает:
— А он вышел из тюрьмы?
— Скажешь тоже, он для тюрьмы стар. Его на какую работу там ни поставь — помрет.
Тонгуна спрашивает:
— А что с его снохой ?
— Пошла на поправку, — отвечает Рода. — Через неделю-другую выпишется из больницы.
Джапи вставляет:
— Таких, как она. нипочем не убьешь.
— Я слышала, ее муж говорит, что они, как она выйдет из больницы, переберутся в Мандаве, — добавляет Бетти.
— А Макава? — озабоченно спрашивает Мандиза.—Как они насчет Макавы решат? Нельзя же оставить его здесь одного.
— Раз так, ему и ггодавно надо себе жену подыскивать,— говорит Куруку. — Сын опасается, как бы отца не помыкнуло еще раз кинуться на его жену с топором.
— Что это за история с топором? — спрашивает Джон. — Я с утра чуть не десятый раз о ней слышу.
— Деревенские пересуды, сынок,—отмахивается Куруку,— Лучше в них не встревать. Известное дело, сынок, сыновья, от
72
цы, снохи, они всегда живут, как кошка с собакой. Но я тут ничего не понимаю, как говорится, ни начала, ни конца, ходи как вкруг кольца. Спроси лучше свою мать. Уж кому кому, а ей все известно. Она небось в церкви всю службу только об этом и толкует с подружками.
Бетти фыркает, но Джон, не обращая на нее внимания, ।оворит:
— А я-го думал, это только у нас в Булавайо...
Отец мановением руки призывает его замолчать:
— У нас могут изувечить не хуже, чем где еще. Сегодня я беседовал с вождем Руквой. Так вот, вождь мне сказал, он, мол, не знает, что станется .с нами лет этак через пять. Дети идут против родителей. Кимбини его дочка, их старшенькая, голову проломила, потому что он насмелился поучать их мать — а ему она жена, не кто-нибудь — при детях. А Читау сын — ему и всего пятнадцать минуло — дочь своей тетки обрюхатил, а ей уже двадцать шестой пошел. А у самого вождя Руквы двое его родичей чуть не придушили старую лису Массииву, и всего-то из-за пяти долларов серебром, когда она как-то раз на вечеринке собралась пива купить и полезла за мелочью. И мальчишек и девчонок по четырнадцатому тоду всего эта новомодная затея — всех подряд учить — и вовсе сбила с панталыку: школу кончили, а податься некуда и делать нечего, вот они и курят траву и, хоть закон и запрещает, наливаются в Чамбаре кашасу, этим прозрачным пойлом, от которого грудь жжет огнем. У родителей деньги таскают, не смотрят, что те им тяжким трудом достаются, и по воскресеньям, спускают в Энкельдоорне на девок да на выпивку. У вождя Руквы волосы совсем повыпадали, и сам он с гех пор, как в вожди вышел и власти положили ему жалованье, не лучше гех ребят стал — вовсе с круга спился. Хорошо хоть он еще отли-чаег тех, кому их понятия бутылка подсказывает, от тех, кто придерживается наших славных обычаев.
Рода, зевнув, говорит:
— Пора, пожалуй, и домой собираться.
— Домой? Когда я еще мальчику два слова не успел сказать? — Куруку ошарашен.
— А ты, чем судить да рядить, и тот у тебя плох, и этот нехорош...
— Слыхали? Нагляделась на девок без стыда и совести, что обрядились в брюки, и самой захотелось в брюках пощеголять. Слушай, женщина. Моя мать — вот она, — никогда в брюках не ходила, и не тебе ее учить, слышишь? А теперь сядь, скрести ноги, как подобает матери моих детей, и давай ищи вшей, пока я буду разговаривать со своим сыном, слыхала? Ох
73
уж мне эти бабы! — И чуть погодя: — Как поживаешь, мальчик?
Люцифер смеется.
Бетти, видя, как дядя обводит всех по очереди колючим взглядом, подавляет смешок. Джон раздраженно фыркает.
Тонгуна зевает и говорит:
— Ладно, брат, значит, как твоя жена сказала, до зав... Куруку топает ногой:
— Мало мне детей, а теперь от тебя еще слышишь, что в этом доме заправляет кучка болтливых баб? Или и ты с ней спутался ?
— Будет тебе, Куруку, — останавливает его Джапи.—Тебе бы надо язык-то укоротить.
— И еще мать называется, — печалится Куруку. — Но ей неведомо, что не мне бы надо язык укоротить — вот в чем штука... Да ладно. Так как поживаешь, Люцифер, сын мой?
— Жив-здоров, — смеется в ответ Люцифер.
— А ты, и не так ты, как смех твой, навел меня на мысль, о чем мне прочесть проповедь в воскресенье. О сыновьях Хама — вот, о чем я расскажу. А ты знаешь, Люцифер, ну да ты ведь едешь за большую воду, тебе ли не знать, почему ты черный ?
— Нет, дядя.
— Ну и ну. Зачем только ты туда едешь, если даже не знаешь, почему твой удел родиться на свет черным, знать одну нищету и издевки?
— Я об этом как-то не думал.
— А тут есть над чем подумать, мальчик. Ведь ты только для того и рожден, чтобы всякую минуту жизни твоей помнить о своей черноте, всякий помысел свой устремить на черноту твою. Слушай меня внимчиво, и я тебе все растолкую. Ты рожден черным, потому что ты сын Хама. Тебе доводилось слышать о Хаме?
— Доводилось.
— На всех вас, нынешних детях, лежит Хамово проклятье. Вы смеетесь над отцами, когда они не от хорошей жизни пьют пиво. Вы смеетесь над отцами, когда они хотят вам рассказать, что слышали от вождя Руквы, думаете, они спьяну болтают невесть что. Вот почему вы черные. И вот почему вам никогда, слышишь, никогда, как вы ни надсаживайся, не добиться успеха. Вы смеетесь над старшими. Я тебе вот что скажу — нам в твои годы было заказано сидеть со старшими, когда они обсуждали свои дела, если только они не позовут нас. Не забывай этого. Не забывай, что ты черный и что нет такого мыла на земле, чтобы тебя отмыло добела. А там, куда ты едешь.
74
и сердце у тебя станет под цвет лицу: темное как грязь. И сколько ты ни путайся с их женщинами, будь они белее белого, сколько ты ни ешь с ними за одним столом, для них тебе никогда не стать чистым. Так что поезжай туда, на все, что у них есть, посмотри, но не завидуй ничему. Слушай, что они юворят, а сам им не открывайся. Возвращайся домой, а вернешься, Христом богом клянусь, мы им такого жару зададим, что они как крысы в подлесок зароются. Клянусь Теми-Кто-Давно-Нас-Покинул, отольются им наши слезы, бесстыжим обиралам. Мы от них столько натерпелись, что если и придется подождать еще годок-другой, большой разницы не будет. Годок-другой, не больше, а потом уж мы им покажем, почем фунт лиха. Уезжай, сынок. Я буду ждать, когда ты вернешься. Видишь эту шапку — нгунду? Они отдали приказ: всех, кто ходит в нгунду, сажать в тюрьму. А я, как кожу свою ношу, так и нгунду буду носить. Вождь Руква говорит, чтобы я ее сжег. И я его не виню, ему жалованье платят — приходится его отрабатывать. Я ему твержу-твержу, как только в ушах дырки не просверлил, что до тех пор, пока они не освободят моего сына Поля, которого они в тюрьму посадили, до тех пор я нгунду не сожгу. Пока они моего сына не отпустят, я от нгунду, от своей косматой шапки, как они ее называют, не откажусь...
Раина прерывает его:
— А когда они Поля освободят?
— Как знать, жив ли он, а что как помер? — говорит Рода, утирая глаза.
— И давно он сидит? — спрашивает Мандиза.
— Да уж лет семь, — говорит Тонгуна.
— Восемь, — поправляет Куруку.
— А ты его хоть когда навещаешь? — спрашивает Мандиза.
— Поначалу он нам писал, а потом — уж не знаю, что там с ним приключилось, только больше мы от него никаких вестей не получали. Пусть они его там сколько хочешь держат, пусть горло ему перережут, пусть выпьют всю кровь, а я от моей шапки, от нгунду не откажусь. Может, для них это всего-навсего шапка, а для меня это — нгунду, и для меня она все равно что моя кожа. И с этого я не сойду. Их пугает нгунду, пугает моя кожа. Но меня им больше не испугать. Было время, я их пугался. Но когда тебя доведут, и под пули полезешь, не испугаешься.
— Пока что я вижу, отец Джона, что ты целый день пьешь, не пугаешься, — говорит Рода.—Мы что, так домой и не пойдем?
— Дай мне договорить с моим сыном. Какая муха тебя укусила? Ох уж мне эти бабы! И ты, Люцифер, уезжай с богом
75
и не забывай нас. Ты вернешься, я знаю. Только мы-то к тому времени небось уже ум... умрем... — Голос у него прерывается.
— Эк завел, — говорит Рода.
Джон говорит:
— Ну, отец...
Куруку ударяет посохом об пол, гремит: — Ты мне не нукай! Я дело говорю, вот почему ты нукаешь! Верно я тебя понял? С каких это пор ты так зачванился, что мне нукать стал? Ты мне потому нукаешь, что решил, будто все превзошел, а сам, знай, штаны протираешь, когда твои братья слезы и кровь проливают. Не тебе со мной так говорить, — я семерых детей произвел на свет, а их тут учат, что отец — пустое слово, будто не я их родил и они не мое семя. Да и какой я отец, если, что детям обещал, выполнить не могу, а на кого, кроме меня, им надеяться, на кого опереться — больше не на кого. Ты мне нукаешь, потому что я и заикнуться не могу, что для меня и для моих детей нужно место в этом краю, где я родился: ведь чужих краев мне не надо, при том. что сами они по всему свету расползлись хуже молокана. Что ж я, преступник какой, что хочу дышать и хочу, чтобы мне отвели место, где я могу дышать свободно. Посмотри на мальчика на нашего, на Люцифера. Когда он вернется — только навряд ли он вернется, — он здесь жить не станет. Почему, слышишь? Да потому что в этой пустыне нечем дышать. Вот он и отряхнет ее прах со своих ног и даст деру в другую страну, а нет, так пробьется в город, где его заманят в яму. он — прыг туда, и тут крышку над ним захлопнут и еще сверху ее попридержат, пока он и трепыхаться не перестанет. А куда деться его родителям? И вообще кто они такие есть? И родители мы еще или больше уже и не родители? И что ты такое есть, если нашими детьми, которым мы всех себя отдаем до последней кровиночки, если ими все, кому ни лень, помыкают, а мы — и еще родителями называемся—ничего не можем поделать. А ты мне нукаешь! Нет, каков!
И, погрозив Джону посохом, уходит.
Тонгуна вздыхает.
— Весь в мать, — говорит Рода, насмешливо поглядывая на Джапи. — Плачет-заливается, дитя дитем.
Джапи пронзает ее взглядом и говорит:
— Кому бы ты дерзила, не будь меня?
— Ловко отбрила, бабушка Джапи! — ликует Джон, хлопая в ладоши.
Все смеются, но смех звучит натянуто и быстро обрывается. В воздухе чувствуется что-то гнетущее, от чего не хочется веселиться. И это ощущают все.
Наступает тягостное молчание.
76
Глава двадцатая
Наконец молчание прерывает Джон.
— Тетя Раина, — говорит он, зевнув.
- Да, Джон.
— Я так рад. У меня ничего больше нет, но вот это,- он вручает радиоприемник Бетти, та. всплеснув руками, берег его и передает матери, которая принимает его с таким же хлопком,— я дарю брату Люциферу на прощанье.
Раина хлопает в ладоши еще раз и обращается к сыну:
— Люцифер.
— Что, мама?
— Твой брат Джон прощается с тобой. А это — от пего на память.—Она передает ему радио. — Поделись этой вестью с отцом и сестрой, и с бабушками, и с теткой.
Люцифер хлопает в ладоши и берет приемник.
— Отец...
- Да?
— Посмотри, чем отметил брат Джон мой... мой отъезд. Пожалуйста, передай об этом дальше.
Тонгуна всплеснув руками, оповещает бабушек и Роду. Теперь рукоплещут все; Раина и Рода встают, исполняют короткий танец и, негромко улюлюкая, садятся на место.
— Пусть гак будет всегда между теми, кто одной крови,— говорит Раина.
— Всегда, — вт орит Рода. — Пуст ь хранят их Те-Кт о-Под-Землей.
— Хранят, — нараспев подхватывает Мандиза, — глядят в их сердца и стараются об их пользе. И когда мир оговорит одного в присутствии другого, этот другой постоит за первого.
— К чему слова? Разве в молчании меньше благодарности? Земля и так слышит, — заключает старая Джапи, и под взрыв рукоплесканий и улюлюканье все тянутся получше разглядеть приемник. Минута почти праздничная.
Тонгуна говорит наконец:
— Спасибо тебе, Джон.
— Спасибо, брат Джон, — вторит ему Бетти.
— Я... я даже не знаю, что сказать, — говорит Люцифер, умолкает в нерешительности и, запинаясь, продолжает: — В общем я... постараюсь отплатить тебе тем же.
Мандиза качает головой.
— У нас не так говорят. Земля слышит тебя.
Раина приходит на выручку сыну:
— Чем ты ему отплатишь — это тайна между твоим сердцем и Землей.
77
Все ненадолго затихают, потом Джон говорит:
— Ты, как приедешь, напишешь мне, правда? — В полутьме Люцифер замечает, как Джон подмигивает ему, точно освобождая его от этой повинности, если он не выберет времени написать.
— Да... постараюсь, — с виноватым чувством бормочет Люцифер.
Джон бодро хлопает его по плечу.
— Значит, договорились. А насчет того, о чем поминал отец — ты знаешь, про нас с Полем, — вокруг этого много вертится разных толков, судачат о том, насколько тут замешан я... в общем объясню когда-нибудь. Думаю, ты поймешь, — Неловкое молчание. И деловитым голосом: — Ну. вот и все. Я уже не увижусь с тобой. Завтра утром возвращаюсь обратно.
Он отворачивается; его рука в темноте протянута вперед. Люцифер пожимает ее. тогда Джон, вздохнув, зевает и проводит руками по лицу, точно стирая с него сон.
— Ты как, мама? — говорит он.
— Я готова, — отвечает Рода и обращается к Раине: — Мать Люцифера, здесь в корзинке кое-что для твоего мальчика. Корзинку, правда, я хотела бы получить назад... Может, завтра утром пришлешь тарелки с Бетти?
— Спасибо.—Раина всплескивает рука,ми.
— Что ты,—говорит Рода,—Это такая малость...
— Э, Рода, — перебивает ее Мандиза. — У тебя много лишних слов. «Кто тебя вспомнил — тот твой», — говорили нам матери.
— И справедливо говорили, — поддакивает Джапи, не сводя глаз с корзинки.
Раина вынимает накрытые тарелки и, насыпав в корзинку доверху неочищенных орехов, возвращает ее Роде.
— Нет,—противится Рода.— Не нужно...
— Сказано тебе, ты напрасно плодишь так много слов,— качая головой, отчитывает ее Мандиза.—С каких это пор стали у нас отдавать порожние корзины тем, кто приносит подарок?
— Ну, хорошо, — уступает Рода. — Спасибо.
— Это тебе спасибо, — говорит Раина.
Джон с матерью встают, прощаются и уходят.
— А ну-ка... — Раина снимает крышки с оставленных Родой тарелок.
— Ну? — вопросительно роняет Мандиза.
— Что там? — шепчет старая Джапи, перегибаясь через Бетти к Раине.
— Курица с рисом.
78
— Думаешь, не повреди! это мальчику? — спрашивает Джаин.
Тонгуна. едва различимый в темноте, что-то бурчит себе под нос и покачивает головой.
— Конечно, это может быть и хитрость, — говорит Раина. — Наверняка никогда не знаешь, а рисковать я не собираюсь.
Старушки согласно и с облегчением вздыхают. Бетти безучастно смотрит в огонь. Она могла бы сказать кое-что, но знает, что ее встретят дружным: «Куда ты лезешь, сопли утри сначала!» И она помалкивает.
Один Люцифер, сидя в темноте, не может понять, что происходит, хотя смутное чувство подсказывает ему...
Раина делится рисом со старушками. Мандиза берет себе чуть-чуть, только попробовать.
— Послушать ее, так вроде верится, что все чисто, — говорит она.
— Она переменчива, как погода, — говорит Раина, отрывая ог курицы крыло. — Бывают дни. как сегодня, когда она вся сияет от любви. А бывают такие, когда она как небо перед грозой. Так что я уж, конечно, не буду рисковать. Возможно, она бодрится просто для отвода глаз. Навряд ли, думается, им так уж очень приятно, что мальчик уезжает за большую воду. Во всяком случае, хватит с нашей семьи одних похорон. Я им не дам забрать от нас еще и Люцифера.
У Люцифера желчь подкатывает к горлу. Он поднимается, берет радио и, коротко бросив всем: «Спокойной ночи», уходит под их удивленными взглядами; от обиженного материнского: «Куда это ты?» ушам его становится жарко.
Бегтины губы кривит насмешливая и сочувственная улыбка, но она тотчас же вновь надевает маску, потому что мать, круто обернувшись, напускается на нее:
— Что тут смешного, бессовестная? Подумаешь, какие яства — курица с рисом, — чтобы мальчику идти ради них на гибель?
Бетти спокойно встает и, не говоря ни слова, уходит к себе.
— Дети малые,—говорит Мандиза.— Что с них взять? Старая Джапи разгрызает куриную ножку и шамкает с набитым ртом:
— К шему шлова? Разве молшание хуже шлов?
И в комнате воцаряется глубокое молчание, слышно только. как похрустывают куриные косточки.
На дворе — неподвижная, жаркая ночь. Люцифер видит, что у Старика горит огонь. Пройти мимо? Он делает два шага в сторону своей комнаты. Или подойти? Люцифер поворачивает и направляется к огню.
79
Заметив его приближение, Старик отрывается от работы: — Спать идешь?
— Да, Секуру. Хотел сказать тебе спокойной ночи.
Старик выгребает из барабана горсть стружек и добавляет к вороху, насыпанному на полу. Не глядя на Люцифера, спрашивает:
— Ты всегда ложишься так рано?
— Когда устаю, всегда.
Старик продолжает, помолчав:
— Да. От Солсбери путь неблизкий, да к тому же еще эта жара, — Он медлит, — Привелось и мне зуда съездиль один раз, с твоим дядей — Куруку, стало быть, когда он там работал. Давно было дело, тебя еще, думается, мать на руках таскала. — Он опять умолкает. — Ну, и что он говорит?
- Кто?
— Дядя твой, кто же. Слышал я, как он тарахтел, будто злой дух в него вселился. О чем это он рассуждал?
— Так, о разном, — как вести себя, и все прочее.
— Учил, как вести себя? Это он-то? — Старик смеется.
— Да. А что в этом плохого?
— Плохого ничего, — удивительно, вот и все... Потому что ему самому не грех бы. по-моему, у кого-нибудь поучиться, как себя вести. Было время — умел, не спорю, теперь — нет. Я гадаю порой: что это с ним сотворили? Был когда-то нормальный человек, основательный, хоть и водилась дурь в голове. Но пускай водилась, мало ли что, а вообще он себя вел как полагается, и я думал — вырастет, выкинет эту дурь. Но когда он отсидел в тюрьме — сколько же это? год? — перед тем, как посадили Поля, — он вернулся с дурью уже не только в голове, а и поступать начал так, словно на этой дури построена вся жизнь. Сутулым вышел на волю, «я, — говорит, — несу на себе бремя моей страны». Пива он набирался, это да, уж если говорить насчет бремени — лежит на его плечах и еще кое-что, я вижу, но страна здесь ни при чем. Во-первых, посадили Поля, потом по вине твоей тетки —его жены — заварилась эта каша с твоим отцом, да. не забудь, что пятеро его детей бежали в Замбию, немудрено, что от всех этих неприятностей он пристрастился к бутылке, а тут еще слухи, что в аресте Поля замешан Джон. Это, я дуг^аю, для него скорее всею самое тяжелое бремя. И когда он плачет, — а плакать он себе взял привычку, когда его выпустили и он начал крепко выпивать, — то не страну он оплакивает, а все это вместе взятое. В общем не знаю. Только мне интересно, какие он в таком виде может давать советы. Ладно, внук. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Секуру.
80
Люцифер успевает сделать всего один шаг, как Старик спохватывается, вспомнив что-то:
— Люцифер!
— Да, Секуру?
— То место, куда ты едешь... там как будто тоже неспокойно — только что слышал от твоей говорящей машины. Спросил у Джона, он говорит — да, там гоже непорядки.
— Никаких там нет непорядков, Секуру. Конечно, если выискивать, где что неладно, такое всегда найдется. Лично я еду |уда учиться.
— Ну, раз учиться, тогда другое дело.—Старик чувствует, что Люциферу досаждают расспросы, и переводит разговор на другое: — Не говорили они, придет Гарабха?
— Я нс слышал.
— Чую, что придет. Целый день он у меня не выходит из юловы. А это — верный признак.
— Не знаю. — Люцифер снова трогается с места.
— Ты потолкуй с ним, если придет, — говори г Старик ему вдогонку, — он о тебе говорит постоянно. Ты не представляешь себе, как он к тебе привязан. Возможно, он знает слова, от которых тебе будет польза.
— Хорошо, потолкую, — отзывается Люцифер и торопливо уходит, скрываясь в темноте.
Старик смотрит ему вслед, качает головой и, плюнув в огонь, возвращается к работе. За работой мысль о Люцифере отступает на далекие задворки его разума и, затаясь, ютится гам вместе с другими невеселыми мыслями, каким в часы бдения заказан путь к нему в душу.
Глава двадцать первая
«Потолкуй с ним, он к тебе привязан», — сказал Старик. Он говорит о любви. Это слово пугает Люцифера. Слово, которое так легко пускают в ход, а понять так трудно. Люцифер, во всяком случае, не понимает его. Или так называется та неотвязная боль, похожая на зубную, которая то и дело накатывает на него волной, то вечное недовольство всем, неверие во все, чем бы он ни занимался — например, в эту затею с отъездом за большую воду? Он сознает, что предпринял ее из гордыни. Чистое самолюбие, ребяческий отголосок школьных обид, способ возвыситься над людьми вроде Мараини. Мараи-ни — его одноклассник и заклятый враг на протяжении всех школьных лет. А ведь Люцифер старался полюбить его, следуя библейскому наставлению: «... любите врагов ваших...» Но по
81
чему-то у него это не получалось. Всегда он ловил себя на том. что как бы стоит и наблюдает со стороны эти свои старания полюбить Мараини. Точно так же. из самолюбия. На самом деле он лишь старался превзойти Мараини в достоинствах. Мараини, которому все, чего лишен был Люцифер, давалось, как летний дождь, без всяких усилий. Даже его веселый нрав — чтобы Мараини злился? Или хандрил? Это обман зрения, протри глаза! Вынь бревно из твоего глаза! Одно лишь сердце Люциферово ведает, с каким усердием он тер и тер себе глаза и наконец испортил их настолько, что сам поверил в существование бревна.
Отец Мараини содержал в Солсбери сеть магазинов, разбросанных по всем районам с африканским населением, и его сын никогда не знал недостатка в деньгах. Он мог позволить себе купить все, что вздумается, никто в школе не одевался лучше него. Вопреки общепринятому убеждению, что у богатых родителей дети — лентяи, Мараини преуспевал во всем, за что бы ни взялся. Он всегда был первым учеником в классе, а последние два года совмещал обязанности капитана школьной футбольной команды, председателя Ученического совета и дискуссионного общества, секретаря музыкального клуба, казначея драмкружка, школьного библиотекаря, и повсюду за ним роем девочки увивались.
Причем ладно бы он еще лез напролом, хамил, задавался, как это случается с богачами, ничуть не бывало; Мараини мог служить образцом справедливости, честности, предупредительности, просто Люцифер рядом с ним представал в невыгодном свете. За это Люцифер всеми силами души возненавидел и самого Мараини и культ его, «мараинизм», охвативший, казалось, поголовно всех школьников. Из-за этой ненависти к Мараини Люцифер пристрастился к молитве. Он просыпался раньше всех, в пять утра, и шел в церковь читать Библию и молиться. Так продолжалось месяца четыре, а то и больше.
Но вот, в один прекрасный день. Люцифер обнаружил, что1 Мараини обошел его и с церковью. Придя в обычное время, он застал в церкви Мараини: тот стоял с закрытыми глазами, опершись коленями на одну из скамей, и истово молился. Люцифер оторопел. Молитва у него в тот день, несмотря на все потуги, пошла насмарку. Покинув церковь, где продолжал молиться Мараини, он побрел на окраину, в заросли кустарника.
Шли дни, недели, но Люцифер не возвращался больше в церковь. Он как-то потерял ко всему вкус — к еде, к занятиям, к спорту, сторонился школьных товарищей. Тогда-то и начал он рисовать. Сам того не замечая, начал везде, где бы ни очутился, набрасывать на бумагу человеческие фигуры, пейзажи — все.
82
чю придет в голову. Увлечение переросло в одержимость, он ciaji прогуливать уроки, отлынивать от школьных состязаний, обеден в церкви и, вооружась тетрадкой и карандашом, пропадал на окрестных холмах.
Вот там, в часы скитаний, его и осенило, притом с такой силой, что впору хоть вешаться.
Ему открылось, что он полон тщеславия, самодовольства, 1нусного чванства. Это они побуждали его молиться. Только для видимости молил он бога избавить его от ненависти к Ма-раини, а вместо нее даровать любовь, на самом деле за этим крылось иное: «Слушай, господи, я лучше, чем Мараини. Я молюсь тебе, я знаю, что ты существуешь, и если б ты поселил в моем сердце Любовь, я бы точно знал, что Мараини хуже меня, ведь все его достоинства — телесного свойства, не станет его тела — умрут и они. Меж тем, как я — не умру, ибо ты поселишь в моем сердце жизнь вечную». Вот каков был скрытый смысл его молений. Их диктовала безудержная зависть, что проявилось со всей очевидностью, когда он застал Мараини за молитвой. Отчего сознание, что Мараини молится богу, оказалось так нестерпимо? Оттого что тем самым, как он счи-1эл. Мараини посягнул на его единоличные владения.
С этим открытием мысль о любви утратила для Люцифера притягательную силу. Оно убило в нем веру в бога, ибо он увидел, что неспособен делать что-либо без всякой корысти. Нести в себе Любовь значило заслужить царствие небесное. И потому он разуверился в Любви. Он постоянно видел, как люди, творя добро или зло. стараются ради вознаграждения. Эта жажда вознаграждения — гордыня, а гордыня, в глазах Люцифера, есть ложное побуждение.
В таком свете видится ему теперь собственное желание уехать за большую воду. И, представ перед ним в таком свете, не внушает ему доверия.
В таком свете видится ему теперь и родительская любовь. Им мало, что он гаков, как есть, они стремятся сделать из него что-то большее. Им что-то нужно от него, а он не знает, как им это дать. Ему нельзя жить просто так — жить, и все. Он непременно должен иметь что-то за душой, чтобы они могли гордиться им, важничать перед другими — пускай другие знают, что они лучше всех, и кланяются им.
Поди разберись. Ведь при всем том Старик говорит о любви. Что она такое? Где она? В том, чтобы ломать комедию вроде этой? Съедать предназначенный ему рис, из страха, что тетя Рода подсыпала в него яду? Это — любовь? Быть не может! Люцифер с этим не в силах примириться...
Как же много существует такого, с чем Люцифер в эту пору
83
своей жизни не в силах примириться, во что не в силах поверить! Это неверие тоже мучает его. Оно — проявление гордыни. Он кичится ролью постороннего, он держится в стороне, наблюдает, составляет мнение. А ему так хочется соучаствовать, быть в гуще событий, безоговорочно верить в свой народ, свое рисование, в жизнь. Но что бы он ни делал, во всем для него присутствует ложь. За каждым поступком таится своекорыстие. Ребяческое желание покрасоваться — взгляните, вот я каков! Чем я не молодец?
Притом он знает — это его неверие, его сомнения и внутренний разлад отчасти причиной тому, что в семье создается напряженная обстановка. Каждый при нем почему-то теряется, как бы соотносясь во всем, что делает, с молчаливым Люциферовым осуждением. Люцифер не может не чувствовать, что от него ждут другого. Это они ставят его в ложное положение.
«Почему им трудно раз в жизни принять меня таким, каков я есть? — говорит сам с собой Люцифер. — Почему все они разом напускают на себя дикую серьезность?»
Он ложится лицом к стене. Беспокойно ворочается на перепутье между сном и явью и, услышав стук в дверь, не сразу может сообразить, спал он или бодрствовал.
Глава двадцать вторая
— Ты уже спишь? Тогда я...—Это отец.
— Нет-нет. Заходи. — Люцифер встает, надевает брюки, рубашку.
Тонгуна входит, несмело, как бы стесняясь своего роста. «Я не кусаюсь!» — хочется крикнуть Люциферу. Но он лишь берет карандаш и принимается что-то чертить на листке бумаги.
Он сидит за столом, на кровати, Тонгуна садится на стул напротив. Скребет себе подбородок, откашливается и, видя, что Люцифер словно бы ничего не слышит, начинает:
— Сбежал я. Иногда твоя мать становится несносной. Люцифер каменеет, но продолжает марать бумагу.
— Этот твой друг из Европы... — Тонгуна почесывает затылок,—Ты что, говорил ему, что отец у тебя очень беден?
Люцифер поднимает голову:
— С какой стати мне ему это говорить?
— Да я подумал, может, так, по оплошности. — Он умолкает, словно подыскивая слова, — В общем я не к тому, что, дескать, незачем было ему брать на себя такое дело... просто я бы и сам мог снарядить тебя за большую воду, если б ты сказал мне, что тебе охота поехать. То есть, чтобы одевать
84
нею семью, у меня, возможно, не хватает средств, но послать 1сбя учиться — это я в состоянии, по крайней мере. — Молчание. Оп исподтишка наблюдает за Люцифером, но тот разглядывает штрихи на бумаге. Тонгуна кладет руки на стол, сплетает пальцы и продолжает: — Я же понимаю, насколько в наше время важно иметь образование. И знаешь что? — Он усмехается, как бы извиняясь, что посмотрел Люциферу прямо в лицо и одновременно желая показать, что умеет быть своим парнем. Люцифер опускает глаза, чтобы не видеть эту вымученную усмешку,— Мой родной отец — вон он сидит там, хочешь, спроси ею,—он не понимал, насколько важно образование. Считал, что эго значит даром тратить время и деньги. Ну и потом не верил, чтобы европейцы учили нас ради нашей пользы. Только я не слушал его. Поехал в Квекве, подзаработал деньжат, вернулся домой и поступил в здешнюю школу, а ему не сказал, что задумал.
Я особо не отличался в ученье — взрослый парень, можно сказать, не гем были мысли заняты. А все ж таки кончил четыре класса и ни разу не застрял на второй год. Мог бы перейти и в пят ый, но уже повстречалась мне та девчонка, которая стала потом твоей матерью.
Короче, бросил я школу, уехал опять в Квекве, вкалывал !ам два года, а после подался служи! ь в полицию. Отслужил три года. К тому времени твоя мать ждала ребенка, и родители потребовали за нее лоболу1. Денег у меня не было: не больно-то много, понимаешь ли, нам платили в ту пору. Решил уехать из Родезии в Южную Африку — в Кейптаун. Было это в тысяча девятьсот сорок третьем году, в самый разгар войны с Гитлером.
Назад я вернулся уже в тысяча девятьсот сорок седьмом году. когда скончался твой дед — отец матери. Вернулся в начале года, а в ноябре месяце народился ты. В Кейптаун я больше не ездил искать работу и никуда больше не ездил. Вернулся насовсем. Через три года умер твой брат Тичафа — он родился следом за тобой, и ему еще годика не сравнялось. Твоя тетка Рода накормила его отравленным рисом, он и помер. — Тонгуна надолго замолкает, — А ты и не знал ничего, верно? Вот почему мать тебе не дала попробовать теткино угощенье. Вот откуда у нас пошел разлад с братом Куруку — твоим дядей — из-за его жены. Но не только после этого случая, было и другое, ты помнишь? Ты тогда как раз пошел в школу. Рода написала мужу письмо — он тогда еще работал в Гвело,— что якобы я... это... хотел над ней снасильничать, не помнишь? А я даже
1 Л о б о л а — выкуп за невесту, обычно в виде домашнего скота.
85
пальцем к ней не притронулся. Просто хотел ее спросить, почему она вечером так поздно приходит домой, больше ничего. Ходили слухи, будто она изменяет мужу с учителем из нашей школы. Прямая моя обязанность была вмешаться, раз брат в отъезде, а дом остался на меня, но только Куруку после этого письма перестал со мной разговаривать. Скажу тебе больше — вся родня и почитай все в деревне тоже верили, что Рода в самом деле пострадала от меня. Правда, я не обращал внимания — «смолчишь, и всех пересилишь», как отец скажет иной раз. Куруку знаться со мной не желал. Все норовил поднять меня на смех. Не думал, не гадал, что я сумею послать своих детей учиться, — я ведь не работал. Ну, а теперь, когда увидел, что я переплюнул даже его, опять набивается ко мне в братья. Рассчитывает, что ты ему будешь помогать, когда приедешь назад. Слыхал, как он тут перед тобой разливался? «Ты давай учись, старайся», и прочее. Вранье это все до последнего слова, ты уж поверь мне. В душе он кипит от злости, потому что я смог, а он нет. Тебе ох как надо остерегаться их с Родой. Прикончат, и глазом не моргнут, любого из нас изведут при мысли, что им стали поперек дороги. С тем они и пришли сюда. А чтобы скрыть, какое затаил в сердце зло, он напился. И потом, ему стыдно. Он теперь боится меня. И прикрывает свой страх и стыд пьянством.
Тонгуна делает остановку и взглядывает на Люцифера. Люцифер не отрывает глаз от своего рисунка. На лбу его обозначается досадливая морщинка.
Тонгуна от неловкости ерзает на стуле и продолжает: — Я только хочу остеречь тебя, иначе и говорить не стал бы. Ты ни во что такое не веришь, я знаю. Знаю, но ты все едино ходи да поглядывай. Ты стал заметным человеком, о тебе будут много судачить в деревне, а значит — остерегайся. Потому что не всякий, кто скажет твое имя, желает тебе добра.
Тонгуна опять смотрит на сына. Люцифер чувствует на себе его взгляд, и щекотные капельки пота выступают у него на лбу. Он знает, что сейчас ему для порядка полагалось бы сказать что-нибудь, хоть «спасибо», на худой конец, в знак того, что он все слышал и благодарен. Но что он может сказать? Отец воображает, будто оказывает ему огромную услугу, но Люцифер чует за этим иное, что расхолаживает и настораживает его. Страх. Ни разу еще на его памяти отец не разражался такой длинной речью. Конечно, отец с дядей никогда не относились друг к другу что называется по-братски, но Люцифер не подозревал, что они внушают друг другу такой страх. Он понимает, что его используют как орудие, чтобы усугубить разрыв между обеими семьями. Ему становится жутковато.
86
Тонгуна завершает:
— Ну, вот и все, что ты, по-моему, обязан знать. — Он мед-ниг и откашливается. — Твоя мать тоже хотела бы поговорить с гобой.
— Что ж она не зайдет сюда?
— Вот и я ей сказал то же самое. Она думает, ты из-за меня не хочешь с ней вести разговоры. Из-за того, что я, мол, против. Но что-то я не помню, чтобы хоть раз вам это запретил.
Люцифер бросает на отца быстрый взгляд. Нет, мать говорит правду. С детских лет въелось ему в память вечное: «Он мужчина, не баба. Не порть мне парня бабьими нежностями». Вот почему мать, по сути, может свободно разговаривать с ним только при посторонних. И даже тогда в материнском голосе Люциферу невольно слышится то ли неприязнь к мужчинам, то ли затаенная женская обида — в легком оттенке насмешливой пренебрежительности, с примесью тревоги и страха. Отец всегда был незаслуженно жесток к ней. Люцифер зол на отца, но ему тут же становится стыдно за себя, он замечает, как отец избегает встречаться с ним взглядом, как он понижает голос, словно хочет оправдаться, зная, что обвинение справедливо, но не имея сил это признать.
Тонгуна вздыхает:
— В общем с твоей матерью очень трудно. Я. во всяком случае, ее не понимаю. Никогда не знаешь, чего она хочет. Когда тебя здесь нету, как, например, в тот раз, когда ты почти три года пробыл в городе без постоянной работы и приличного заработка, она только о тебе и говорит. Все-то ей чудятся всякие глупости, можно подумать, что тебя съест кто-нибудь. Никак не может взять в толк, что ты уже мужчина,—Тонгуна запинается, видя, что в глазах Люцифера мелькает тень, точно от боли. И договаривает: — Вот почему она и жалуется, что я не даю ей поговорить с тобой. Ну, с какой стати мне ей мешать?
— А я почем знаю, — честно говорит Люцифер, жалея, что это прозвучало так резко и неприятно. Его тянет выйти из комнаты.
— Вог и я тоже не знаю. Я только всегда говорил одно — ты мужчина, не баба, и в нужное время сам себе выберешь занятие по душе, нам с ней тебя не остановить.
Тонгуна со вздохом смиренно склоняет голову, точно одолев серьезное препятствие.
Люцифера бросает в жар, он теряется. Первый раз в жизни отец признал, что он, Люцифер, волен поступать, как хочет. Правда, он чувствует, что это признание сделано нехотя. Не
87
шуточную борьбу с самим собой пришлось выдержать отцу, чтобы на него решиться. Люцифер глубоко тронут отцовским великодушием и вместе с тем раздавлен тяжестью бремени, которое обрушилось на его плечи. Он готов закричать: «Я не хочу такой ответственности!», но. видя, как понурил голову отец, исполняется духом самопожертвования. Красиво ли будет с его стороны воспользоваться минутой, когда отец признал, что он уже взрослый мужчина? Осчастливит ли он семью, если и в самом деле поступит так, как ему хочется? Люцифер в растерянности.
«Когда вырасту, куплю папе с мамой большой дом и красивую машину», — так отзывалась его детская душа на те лишения, которые терпели ради него родители, когда он был маленький. Так она отзывалась на всякое доброе слово отца, на отцовскую ласку. (Потому что редко ему в те дни перепадали от отца ласка или доброе слово, а если и перепадали, ему редко давали время разобраться, можно ли принимать эти слова на веру или же их возьмут назад.) И, не зная, как соотнести единое доброе слово или ласку с бранью и выволочками, какими его в ту пору в изобилии потчевал отец, он горько плакал, проклиная себя, как отпетого грешника, полный раскаяния и решимости стать в будущем достойным родителей: «Когда вырасту, заработаю много денег и куплю папе с мамой дом, болыпой-пребольшой, и красивую машину, а в доме будет полно прислуги, и тогда им не нужно будет так надрываться!»
И вот сегодня, сейчас, когда отец прямо говорит, что он волен действовать, как ему вздумается, у Люцифера едва не прорывается наружу возглас: «Нет! Я поступлю так, как вы хотите!» Боль обжигает его при мысли, какая бесчувственная жестокость его желание уехать за большую воду, покинуть их, когда о них некому позаботиться. Его заливает волна сострадания. Он смотрит на отца, ища его взгляда, но отец поникает головой еще ниже, и Люциферу видна одна только непокрытая макушка, где волосы заметно поредели и словно бы припудрены пылью после очень долгой дороги.
— Можно войти?
Тонгуна и Люцифер поворачиваются к двери. Ни тот, ни другой не отзываются.
— Тут есть кто-нибудь?
— Это мама, — облегченно говорит Тонгуна и с преувеличенным оживлением кричит в ответ: — Чего тебе, мать Люцифера? Здесь — мужское помещение. Твое место на кухне.
Люцифера слегка коробит от напускной отцовской веселости, но ему удается сохранить на лице бесстрастное выражение.
Дверь приоткрывается самую малость, и в нее бочком про-
88
шскивается Раина. Люцифер не понимает, почему к нему нужно входить таким странным способом, так виновато, не понимает и раздражается, но тем не менее молча встает, чтобы подать матери стул.
— Нет-нет, не беспокойся. Мне удобно и на полу, даже удобнее. — Она садится, скрестив ноги, кладет руки на колени и устремляет невидящий взгляд в сторону Люцифера. Люцифер изучает свои каракули. Тонгуна вместе со стулом отодви-1ается от стола, чтобы сидеть лицом не только к Люциферу, но и к Раине.
— Ну? — начинает он. обращаясь к жене.
— Что — «ну»?
— Ты же вроде хотела с ним потолковать?
— Я и сейчас хочу.
— Ну, так давай. Вот он перед тобой.
Раина вздыхает. Она поднимает на Люцифера глаза.
— Я просто хотела узнать — обязательно тебе надо ехать за большую воду? Нельзя ли здесь точно так же заниматься тем. что тебе по душе?
Тонгуна понимающе косшся на Люцифера и бросает нетерпеливый взгляд на жену:
— Ясное дело, обязательно. С чего бы иначе он вздумал уезжать?
Не обращая на него внимания, Раина в упор глядит на Люцифера. дожидаясь, чтобы он что подтвердил. И Люциферу становится вдруг невмоготу видеть, как подергиваются ее стиснутые 1убы.
— Я никуда не поеду, мама, если ты не хочешь.
Теперь ее очередь растеряться. Этот дрогнувший голос! Как воскрешает он для нее опять ею детские годы, когда ей приходилось быть заступницей за всех своих сыновей перед их отцом.
— Что ты, Люцифер. У меня и в помышлении такого не было. Я только хотела сказать...
— Но ведь ты к этому клонила, правда, что он не должен уезжать? — тонким, обличающим голосом говорит Тонгуна.
С болью в сердце Люцифер наблюдает, как его мать съежилась. точно червяк, поддетый щепкой. Он устремляется к ней на выручку.
— Да ладно, мама, не важно. Я могу и потом уехать.
Но Раина качает головой.
— Нет. Люцифер, мне не нужно, чтобы ты после говорил: «Я не смог поехать за большую воду по вине матери». Сам выбирай, что тебе делать, сам и решай.
— Ну да, «решай». Как я могу уехать, если ты против?
89
— Нет, Люцифер, я совсем не говорю, что я против. Я лишь хочу знать, будет ли тебе, по-твоему, там лучше?
— А как же, конечно, будет. — Тонгуна смеется. — Честное слово, Люцифер, твоя мать волнуется попусту. Знаешь, что ей нужно на самом деле, хотя она о том не говорит? Ей нужно, чтобы ты женился...
— Я даже не поминала про это!..
— ...устроился работать на приличное место, где хорошо платят, и заживет она не хуже, чем другие женщины, у которых сыновья работают в городе, а матери исправно присылают каждую неделю кулек сахару.
Раина презрительно, с вызовом глядит на мужа, рот ее горько кривится.
— А разве ты не говоришь то же самое? Не ты ли ноешь без конца, что некоему будет позаботиться о семье, когда он уедет?
Тонгуна неловко ворочается на стуле.
— Ну, это одно мечтание, велик ли грех?
— Правильно! И у меня эго одно мечтание, когда я говорю, что хорошо бы Люциферу жениться и устроить свою жизнь. А случится так или нет — это уж, известно, как он сам пожелает.
— Вот именно! Как сам пожелает! А я про что веду речь все время? — Взмах рукой.—Ты, мать Люцифера, главное дело. не беспокойся. Люцифер говорит, он в той стране будет жить богато, как у нас не живут учителя и врачи. — И он подмигивает Люциферу, приглашая его в соучастники своего вымысла. Однако в отцовском голосе нет твердости, словно Тонгуна сам тоже нуждается в подтверждении, что сказанное им и в самом деле правда.
Раина покорно вздыхает.
— Ох, не знаю. — Молчание, — Ничего я не знаю, жизнь покажет. Четыре года назад или пять, когда он кончил школу, примерно те же были разговоры. Ты говорил, он без труда найдет работу, потому что учился в школе. Но вот прошло пять лет, а у него до сих пор нет постоянного места — сегодня здесь, завтра там, точно птица перелетная.
Она изводит себя, Люциферу это ясно, и так хочется обнадежить ее, утешить.
— Время такое, мама, у нас в стране. Покуда не наступят перемены, каждому трудно будет получить работу — не важно, учился он в школе или нет.
Она взглядывает на него потерянно. Такое лицо у нее бывает. когда что-нибудь по ее вине пропадет, затеряется, отмечает Люцифер, с немой мольбой: «Не надо, мама!»
90
Тонгуна широко ухмыляется, можно подумать, что его слона в чем-то подтвердились.
- Ну. слышала? Да ты, мать Люцифера, вроде бы и не слушаешь. Что я тебе говорил? Для здешних белых он чересчур ученый. Они боятся его! — Люцифер ловит сигнал, посланный краем отцовского глаза, и морщится; его коробит н это подмигивание, и эти выдумки, которыми отец настойчиво потчует мать. Он отворачивается.
Чувствуя, что сын недоволен, Тонгуна повторяет, но уже без прежней уверенности:
— Боятся они его.
Неловкое молчание, и Люцифер вносит для матери поправку в отцовское сообщение:
— Не совсем так, отец. Работу здесь найти можно, мама, но заработать нельзя. Да и стоило ли время терять, ходить в школу ради такой работы — мостить дороги или землю лопатить на ферме.
Раина озадачена. Она вспоминает свой разговор с мужем, когда они собрались отправить Люцифера в школу-интернат. Она тогда согласилась скрепя сердце. Люцифер был такой беззащитный, беспомощный, она не сомневалась, что его сомнут и затопчут буяны из интерната. Воспоминание об этом побуждает ее спросить:
— Какой смысл нам тогда посылать детей в школу, если им от этого не лучше живется, чем родителям?
Опять принялась ворошить прошлое, догадывается Тонгуна, оттого и справедливое неюдование в голосе.
— Ты, стало быть, думаешь, что мы сына зря учили в школе?
— Ничего я такого не думаю и отродясь не думала, — обороняется Раина. —Только даже не верится: неужели такие деньги ухнули даром...
Люцифер разглядывает свои руки — в минуты растерянности мать всегда говорит не то, что думает, и становится удобной мишенью для отцовских издевок.
— Слышал, Люцифер? Вот у нее что на уме! Чтоб ты пошел работать и вернул те деньги, что мы потратили на твое ученье. Вот что она по-настоящему хочет сказать.
Раина смотрит на сына, жалобно порывается выговорить что-то и не может. Опять бессильно закрывает рот.
И Люцифер вдруг понимает, что все это родители уже обговорили, обсудили, а теперь хотят лишь огласить ему свой приговор. В сердцах он хватает бумажки, лежащие перед ним, и рвет их в клочья.
— Хорошо. Я не еду.
91
Родители поднимают на него удивленные глаза. Мгновение — и его мать качает головой.
— Нет. Люцифер. Ты не так нас понял. Так выходит, что мы... словно бы тебе и не родители, нехорошо это. Мы одного лишь хотим, одного добиваемся, чтобы ты был счастлив. Любой матери знакомы мои чувства. — Помолчав, подавленно добавляет: — Ладно, решайте вы с отцом и пусть будет по-вашему. А я больше не заикнусь ни о чем, так и знай. Это мое последнее слово. Спокойной ночи.
Шурша платьем, она приниженно крадется из комнаты, и Люцифер с возмущением смотрит на отца.
Тонтуна потирает щеку.
— Ну вот, сам слышал. Бабы, что с них взять, — Он медлит немного. — Хотя вообще-то, если разобраться, она — ничего. Одна беда, что видит не дальше своего носа, — Он снова медлит и продолжает, понизив голос: — И даже когда чушь городит, воображает, что права. А в остальном... — он не договаривает, увидев, что Люцифер встал.
Тонгуна тоже поднимается, едва не опрокинув свечу на столе.
— Короче, если ты всерьез задумал уехать, — говорит он. — держать тебя никто не будет. А на мать не обращай внимания,—Но Люцифер, пожелав ему доброй ночи, уже вышел.
Тонгуна медленно выходит вслед за сыном и осторожно прикрывает за собой дверь.
Глава двадцать третья
Широким, стремительным шагом Гарабха идет по земле, которая ждет дождя. Он слышал новость вчера и должен был бы добраться до дому сегодня к утру, опередив Люцифера, но застрял на попойке, соблазнясь пивом, и сумел выбраться оттуда, только когда давным-давно стемнело.
Беспокойным, зорким взглядом он рыщет по зарослям, готовый заметить малейшее движение. Не то чтобы из страха, а так, по привычке. Время от времени он делает остановку и прислушивается. Но слышит только громкий стук собственного сердца. Его тянет насвистывать, но он подавляет это желание, памятуя о пословице: «Ночью свистнешь — всю жизнь просвистишь».
С далеких небес на землю пала прохлада, и, проходя мимо скал, Гарабха чувствует, как от них веет теплом. Он пробирается вперед неторными тропами, так безопасней. Его томит жажда, и он рассчитывает, что напьется из речки. Селения, раз-
92
просанные по пути, он обходит стороной, потому что каждое ।ли । в себе новую задержку. Ему не так уж важно поскорее по-*. петь домой, главное, что он очень давно не виделся с _1юцифером.
В который раз он спрашивает себя, действительно ли спеши г домой из-за Люцифера. Да нет, не столько из-за него, сколько из-за Старика и Бетти и старой Мандизы. Причем не сказать даже, чтобы он недолюбливал Люцифера, а вот находиться рядом с ним почему-то нестерпимо — всегда эта тягостная неловкость, как будто они задолжали друг другу денег... Гарабхе не хочется сейчас об этом думать.
Он глядит на небо. Холодным светом мерцают далекие звезды, ноздри начинают улавливать сложные речные запахи: вязкого ила, остывающего песка, воды, прибрежных камышей; они понемногу настойчиво оттесняют, перебивают сухой аромат горячей ныли. На землю нисходит ночь, — возвещают они Гарабхе. Она — как печальная песня, и вместе с нею поспешно слетаются в темноту смутные ночные виденья, а день отступает назад, становясь в меркнущем свете лабиринтом, полным незавершенных событий, подернутых той ржавой, приятно блеклой пеленой, какой подернута вода, блеснувшая вдали сквозь темные деревья на закате солнца. Сердце у Гарабхи бьется чаще. В голове бродит мысль: отчего всегда кажется, что событий дня непомерно много для такого маленького кусочка времени? Он узнает в ней один из тех бессчетных вопросов, на которые так и не сумел найги ответа ни в одиноком детстве среди родных, редко ходивших за спичками к соседям, ни в нынешней своей одинокой бродячей жизни, — и гонит прочь эту мысль. «Не бери в голову»,—как сказала бы Мандиза.
По каменистой тропе, плотно убитой копытами животных и дождями, он спускается сквозь низкорослый кустарник к речке. С новой силой пустынное и всевластное безмолвие ночи вторгается к нему в душу, пробуждая в ней воспоминания детства, когда он видит, как серебристой жалкой струйкой течет по песку могучая в половодье Зука-ривер, выклянчивая себе в пору засухи, точно милостыню, один денек, чтобы через песчанистые пустоши добраться до Гемпширских равнин, где катит свои воды ее старшая сестра, Муниати. Муниати-ривер! Память — ночной охотник — приносит ему в зубах картину: быстроногий тростниковый козел, подрагивая хвостиком, пьет из речки воду в ранних сумерках.
Гарабха становится на колени и сам пьет из речки, упираясь ладонями в твердый песок, зарываясь в него ногтями, холод колючих песчинок напоминает о том, что зима едва успела скрыться за поворотом дороги.
93
Неосознанное усилие, какого требует сосредоточенность, необходимость удерживать дыхание, когда пьешь, скорчась в три погибели, заставляют его с особой остротой воспринимать приречный .мирок. Он поднимается от уреза воды. Всякая жизнь, кажется, застыла на долгие минуты, всякое движение замерло. Кусты, что, подобно окутанным ночью призракам, выстроились вдоль берега, клонятся вперед, готовые схватить и задушить его. Сбивчивый стрекот невидимой цикады: чик-чик, чик-чик-чик,—или это змея выползла на охоту? — обжигает его безотчетным страхом, как в детстве, когда с приходом ночи любое темное пятно становилось кровожадным чудовищем. Он вздрагивает: мягкий всплеск жутко отзывается в самом сердце, а это, видно, какой-то лягушонок шлепнулся в омут с мелководья, только и всего.
Гарабха переходит реку вброд, взбирается на другой берег, и темные кусты встают из мглы во весь рост ему навстречу. Обыкновенные кусты — ему давным-давно известно, что это обыкновенные кусты, — и все же у него неизменно холодок подирает по коже, когда они внезапно возникают в ночи. Оттого, наверно, размышляет он, что каждый раз, как взглянешь, они принимают обличье разных зверей, и тотчас вспоминает про соль и свет. Никогда, говорят, исчадие ночи не подступит близко к несущему соль. А свет — он испокон веку признанный враг ночи. Но со мной, ободряет он себя, ничего не случится, эти места мной исхожены вдоль и поперек днем и ночью, без соли и без света; однако полного спокойствия все же нет, ведь не зря рассказывают такие страсти о том, что бывает с людьми по ночам... при этом, казалось бы, ни с того, ни с сего его охватывает досада на Люцифера. Потому что стоит ему завести разговор о том. что бывает ночью, как брат Люцифер поднимает его на смех и дразнит дремучей старой бабкой. Огсц тоже. Хотя отец-то просто пускает пыль в глаза, хорохорится перед женой и детьми. А сам страшится ночи не меньше, чем другие, даже сильнее других, с тех пор, как у него стали пухнуть ноги...
Гарабха ускоряет шаг. Он выходит на поле, — по его краям, ощетинясь на фоне неба пиками верхушек, несут дозор кусты, — снова быстро ныряет в заросли, особенно густые в этом месте, возле муравейника, и спина у него покрывается гусиной кожей — скорее дальше, к пересохшему руслу еще одной речки, грозной в пору разлива, на ту сторону, в кустарник, перемежающийся разбросанными там и сям валунами, и, наконец, на прогалину, где сгрудились первые на этом берегу домишки.
С дальнего конца деревни долетают голоса, лай собак. Потом — четкий, неповторимый рокот барабана. Тишина — и сно-
94
на: два глухих удара и дробь, два разных звука, один за дру-। им. первый — на большом барабане, второй — на барабане поменьше. А барабанщик один и тот же. определяет Гарабха. Хотя то же самое можно сыграть вдвоем, если придет охота перемолвиться друг с другом, не открывая рта. А новички будут. конечно, следить за своими руками, изредка переглядываясь, уговаривая руки, чтобы лучше играли, понукая их, торопя. Как будто на барабане играют руками, насмешливо фыркает про себя Гарабха.
Обычно, когда люди собираются пить пиво и всем хорошо и весело, Гарабха любит сыграть на пару с кем-нибудь на барабане поменьше. Но наступает минута, когда за ним уже никому не угнаться, кроме разве что Старика. С этой минуты он больше не думает о руках, они сами делают свое дело. Когда настала такая минута, он уходит — если пиво неважное; если же пиво сварено на совесть, он остается отведать его, а заодно послушать рассказы старых людей. Как правило, если пиво отменное и уже пришел час. когда на мир всей тяжестью наваливается ночь и всех сморил сон. остаются три-четыре старинных дружка-приятеля, которые весь сон, какой причитается человеку. растранжирили в молодые годы. Они просят Гарабху сыграть для них. как играли в старину, поведать на барабане историю их жизни.
И тогда Гарабхины руки приводят в изумление даже его самого, они указывают путь, а Гарабха и старики — которые и голоса отчасти порастеряли в молодые годы — следуют за ними, перекликаясь через бездонный провал ночи, зловещим чудовищем проникшей под одну с ними крышу, невзирая на бессильное трепетание огня в очаге. А когда, каждый раз застигнув их врасплох, занимается заря, глаза смущенно моргают, губы морщатся в виноватых, но понимающих усмешках, оттого что пред лицом смерти люди поспешили поделиться друг с другом сокровенными, тайными страхами и желаниями. Днем, считает Гарабха, люди глупеют и начинают кривить душой.
Незаметно для него самого его руки все это время бьют по невидимым барабанам, в такт взаправдашним, деревенским, грохочущим теперь уже в полную силу. Мотив так хорошо ему знаком, что его раздражает унылое однообразие исполнения,— кто так играет, в этом месте нужно убавить звук, а в том — прибавить, и тут Гарабха замечает, как барабанят по пустоте его руки, ощущение мучительной пустоты передается голове, и на него нападает такая злость, что не успевает он опомниться, как ноги торопливо несут его туда, откуда раздается барабанный бой.
95
Глава двадцать четвертая
Предвестником дня оглашает окрестность щебетанье какой-то птахи, и буш, пробуждаясь, вдруг разом приходит в движение. Из моря мглы медленно выплывают предметы, и Гарабха полной грудью вдыхает утренний воздух. Слезы наворачиваются ему на глаза, он их смаргивает. и мир опять проясняется. Ночь кончилась. И сразу, с порывом утреннею вегерка, к нему летит от очагов чистый запах первого дыма. Все резче, подробнее вырисовываются деревья на западе, хотя на востоке они по-прежнему темнеют сплошной стеной с косматыми краями.
Гарабха садится на выступ скалы в нескольких шагах ог колодца, к которому с минуты на минуту должна прийти за водой его сестра Бетти. От прохладной безоблачности неба у него после долгой давящей ночи сильно кружится голова, в геле нет и следа усталости.
Он невольно бросает взгляд на вершину Зангамы. Там — тоже ни единого облачка. Значит, дождь придет еще не скоро.
Гарабха долго сидит неподвижно, не сводя глаз с очертаний холмов на западе. Наступающий день дарит холмам тепло и краски, частица их передается ему, и покой глубже проникает к нему в душу, голова проясняется о г сумятицы мыслей, неизбежных с приходом нового дня.
— Если с угра пораньше надышаться воздуха, — сказал ему как-то Старик, — когда он еще не загажен людским дыханием, запахом пота и дыма, то и пива никакого гготом не надо целый день.— В справедливости этого поучения Гарабха убеждается сплошь да рядом.
Теперь, когда до дома рукой подать, он гонит от себя мысли о доме, зная, что стоит подумать о доме, когда он рядом, как тебя сразу потянет прочь. Ему просто не посчастливилось, что он понял это немного поздно, когда уже услышал зов дороги, изведал притягательную силу барабана. Он ловит себя на этих мыслях и, сознавая, что после такого начала весь день, чего доброго, пойдет насмарку, спешит целиком сосредоточить свое внимание на картине холмов. Потому что — эго он тоже знает, — если дать этим мыслям волю, они в конце концов приведут его к тем самым вопросам, которыми его постоянно донимают родители. Когда ты женишься, остепенишься? Почему, как другие в твоем возрасте, не едешь в город, не устроишься на работу? Почему то? Почему се? Посмотри, такой-то совсем еще младенец, солнце первый раз увидел, когда ты уже ходил с бородой, а сколько всякого сделал для отца и матери? Почему ты не слушаешь, что тебе говорят?.. И ког
96
да ie же вопросы встают перед ним самим, ему хочется одно-I о —поскорее укрыться в дебрях буша, который ни о чем не спрашивает, а просто ждет.
Вот и Гарабха тоже просто ждет, это единственное, на что он способен. Чего ждет ? Он и сам покуда не знает. Во всяком случае, не находит ответа на этот вопрос днем, когда подолгу предается размышлениям, так и не добиваясь никакой ясности. Он только чувствует, что надвигаются какие-то серьезные события, которые перевернут всю его жизнь. Женитьба? Трудно сказать. Едва ли. Едва ли после женитьбы что-нибудь в его жизни изменится больше, чем у тех, кто при нем нашел себе жену в деревне. Дети? Возможно. И в ту же минуту перед ним возникает образ самца-ангилопы, который упал и сломал себе йогу, — он брыкается, он еще полон жизни, а его, беспомощного. уже рвут на кусочки черные муравьи. Калека — вот ты кто с женой и детьми. Нет, он не знает по-настоящему, чего ждет. Но ожидание нарастает в нем с каждым днем, и он не ведает иного способа разрядить его, кроме выпивки и женщин. Только они помогают унять дрожь в руках и коленях, которая так часто нападает на него, тревогу, что гложет его изнутри. А после выпивки и женщин обыкновенно приходит усталость, приходит непонятная тоска и одиночество. И тогда остается одно из двух: либо выплакаться всласть, либо дождаться темноты и излить душу в звуках барабана.
Гарабха выбирает барабан. От слез чувствуешь себя слабым, беззащитным. Другое дело — барабан, он дарит ощущение силы, спокойной силы, свойственной горам, он дарит взору зоркость и утреннюю ясность. И если плачешь вместе с барабаном, то потому, что внезапно тебе дано бывает увидеть... впрочем, увидеть ли? Скорее почувствовать-увидеть-пе-режить-воплотиться — все сразу и одновременно.
Вот, например: в разгар игры на барабане он замечает вдруг, как жалостно полощутся вокруг костлявых лодыжек обтрепанные на концах штаны какого-нибудь старичка, пока их обладатель упоенно танцует, совсем позабыв о том, что на нем зачем-то надеты штаны. Гарабха скользит взглядом выше, и видит блаженное лицо, восторг в закатанных глазах, хлопья пены у рта, веревки жил, удерживающие на тощей шее голову, готовую оторваться в порыве бури, сотрясающей тело... Рваные штаны ведут горестный рассказ о повседневной жизни старичка, но глаза, устремленные к небу, яростно перечат: «Нет!» Два несовместимых образа накладываются друг на друга в мозгу Гарабхи, он’чувствует, что не в силах вымолвить ни звука, и только руки его, оседлав барабан, несутся вскачь с рыданьем, с гиканьем, цепенея от ликования и боли, они мчат его
4 Альманах «Африка», пып 6
97
на барабане к заветной черте, за которой — он знает — дальше никуда нет пути, и он срывается вниз с высоты, и падение оглушает его тишиной.
Так бывает, когда он плачет вместе с барабаном, когда же просто плачет, давая выход тому, что накопилось внутри, а барабан молчит, тогда кончается тем. что Гарабха заглядывает себе в душу и видит, как он убог, как беден, как беспомощен и сир. Из-за них, этих слез в одиночку, без барабана, он, главным образом, и бросил школу и дом...
И вот теперь он сидит на камне, сосредоточив свои мысли на картине холмов, и поджидает Бетти. Каждый раз, приходя в родные места, Гарабха норовит первой увидеть Бетти. Или Старика. Бетти умеет привести его в хорошее настроение, подготовить к встрече с родителями. От Старика ему передается спокойствие, уравновешенность, которую трудно потом нарушить.
Новый звук заставляет его встрепенуться. Это кто-то поет раннеутренним робким голоском. Бетти. С бьющимся сердцем Гарабха прячется за скалу и низко пригибается к земле.
Ловко удерживая на голове глиняный кувшин для воды, Бетти движется к колодцу, а значит и к нему: Она поет:
Мой друг меня покинул, матушка,
Покинул.
Куда он сгинул, братец.
Куда сгинул?
Три раза аист улетал
И возвращался.
От друга принести привет
Ни разу он не догадался.
Она поравнялась с камнем. Гарабха пригибается еще ниже. Бетти вдруг замедляет шаги. Останавливается. Но она не могла его заметить, он уверен.
— Странно, — говорит она.—Я что-то явно чую, какой-то запах знакомый.
Не снимая с головы кувшина, опа озирается и идет дальше. Теперь она заводит другую песню:
Рано утром, на заре, на заре ненастной Мне навстречу ехала старая старуха. На гиене белой ехала верхом.
У нее на голове примостился филин, филин факелом ей был. факелом горящим. Освещал он для нее темную дорогу. Вокруг пояса питон обвивался туго. Был питон ее кнутом, был кнутом ей длинным. Погоняла им она белую гиену.
98
Гарабха разражается долгим, рыдающим смехом и обрывает его. Бетти вздрагивает. Однако не роняет кувшин с головы. Она оглядывается, но ничего особенного не видит: скала, кустарник, и ни души кругом. Продолжая вглядываться в заросли, она смешливо фыркает, и негромко, но так, что Гарабхе все-таки слышно, говорит:
— Знаешь, Гарабха, мне приснилось, что ты вернулся домой и ссоришься с отцом. — И смеется снова. Понятно, что она еще не знает наверняка, кто это. Но Гарабха ниже приникает к земле, потому что Бетти умеет непостижимым образом угадывать то, что должно случиться. Сейчас она тихо стоит на месте, держа на голове кувшин, и прислушивается. «Не туда 1лядишь»,— мысленно сообщает ей Гарабха. Бетти медленно оборачивается и смотрит на скалу. «Опять не туда», — посылает ей новый сигнал Гарабха. Бетти неуверенно поводит головой, но ее взгляд снова останавливается на скале. Гарабха мысленно признает себя побежденным, однако все-таки не спешит показаться из своего укрытия. Бетти направляется к камню, и Гарабха плашмя припадает к земле. Он подпустит ее к себе шагов на пять, и тогда...
— За тобой змея!
Гарабха подскакивает, как ошпаренный, и пулей вылетает из-за выступа скалы. Он оглядывается на то место, где только что лежал. Ничего там нет. Бетти подбоченясь покатывается со смеху. Гарабха тоже прыскает, и они хохочут вдвоем, покуда слезы не наворачиваются им на глаза.
— Я как дошла до этого камня, так в тот же миг чув-C1 вую — что-то здесь не то, что-то постороннее посреди буша и скал, — говорит Бетти, утирая слезы. Свой кувшин она поставила на землю.
— Я думал, сам вскочу и крикну: «За тобой змея!», ждал только, когда ты подойдешь поближе к камню. А ты, похоже, опять прочла мои мысли! — Они снова заливаются хохотом.— Ты откуда узнала, что это я?
— Почуяла. Когда ты пришел? Видать, под крышей вовсе не спал сегодня?
— Пришел недавно.
— Мы вчера вечером слышали барабаны, догадались, кто это играет.
— Я хотел еще вчера попасть домой, да...
— Ясное дело. Удивляюсь, как ты еще не додумался класть с собой барабан под одеяло, когда ложишься спать. — Бетти говорит, подражая отцовскому голосу, и Гарабха усмехается:
— Ну, как он?
— Он-то? Ты оз’ него сегодня много кой-чего наслушаешь
4* 99
ся. Нам не впервой, но, чувствую, на этот раз придется солоней обычного.
— Люцифер приехал?
Бетти молча кивает, состроив рожу. Гарабхе все понятно. Тихонько пересмеиваясь, они бок о бок идут к колодцу.
По пути Гарабха говорит:
— А у меня что-то есть для тебя. Угадаешь — подарю тебе бусы.
Они останавливаются, повернувшись друг к другу. Бетти закрывает глаза, на ее сосредоточенном лице полная отрешенность от действительности.
— Знаю, — говорит она, открыв глаза, и с улыбкой протягивает руку.
— Ну, что? — У Гарабхи колотится сердце.
— Бусы ты и принес, вот что!
Гарабха качает головой. Бетти опять закрывает глаза, на этот раз надолго.
— Ничего не вижу, кроме ожерелья.
— А ты поднатужься хорошенько, — смеется Гарабха.
Бетти вздыхает и трогается дальше.
— Нет, сдаюсь.
Гарабха неторопливо запускает руку в карман и вытаскивает оттуда перевитые яркие нити черных, красных и желтых бус.
Оно, ожерелье! Беттина рука взлетает к груди. Пожирая глазами ожерелье. Бетти тянется к нему дрожащими пальцами, пытаясь отобрать его у брата, но он крепче сжимает подарок и проворно отдергивает руку назад.
— Так ли себя ведут воспитанные девушки?
Он смеется, и Бетти следует его примеру. Она ставит кувшин на землю, учтиво приседает и, хлопнув в ладоши, протягивает вперед сложенные лодочкой руки.
Боль пронзаез' Гарабхе сердце при виде мозолистых ладоней сестры. В один миг он всю ее жизнь читает по этим ладоням, и таким жалким подарком представляются ему сейчас ei о бусы. Что бы он для нее ни совершил, всего будет мало. Смиренно он кладет яркие бусы в ее ладони.
Держа ожерелье в обеих руках, Бетти долго любуется ими. Бусы на ощупь тяжелее, чем ей казалось, и это особенно приятно. Она поднимает руку, пока ожерелье не вытягивается во всю длину, потом медленно переливает его в другую руку,— бусины стукаются друг о друга, мешая шерстистый шелест с металлическим звоном, — и оно ложится витками на подставленную ладонь, сладко обременяя ее своей дробленбй воздушной тяжестью.
100
— Нравится тебе? — озабоченно спрашивает Гарабха.
Бетти дважды кивает головой. Она обвивает ожерелье вокруг шеи. Оно свисает почти до пояса, и Бетти завязывает его узлом, так что внизу получается еще одна петля, поменьше. Она скашивает на него глаза, потом поднимает их на Гараб-ху — они сияют.
Смущенный, Гарабха разглядывает узел на ее ожерелье.
— Очень красиво, тебе идет. — Ожерелье ей правда очень идет, но Гарабха улавливает в своем голосе неискренность и спешит прибавить: — Вот погоди, пусть тебя увидит Курейа.
Бегти быстро опускает глаза, берег кувшин и идет дальше. Гарабха следует за ней. затаив дыхание, боясь спросить, в чем дело, страшась ответа.
В молчании они подходят к колодцу. Бетти немного впереди. Не говоря ни слова, она опускает кувшин в колодец, зачерпывает воды и, ополоснув кувшин, выплескивает воду на граву возле колодца. Затем опять погружает кувшин в воду, вытаскивает его полным до краев и ставит на землю. Гарабха молча наблюдает, как, нарвав пучок травы, она скатывает его в круглую подушечку, прилаживает ее у себя на темени и осторожно ставит па подушечку кувшин.
Они идут назад от колодца, она опять впереди него.
Пройдя шагов десять, Бетти говорит:
— Он женат.
- Кто?
- Курейа.
— А-а.
По тому, как она произносит эго имя, Гарабхе ясно, что лучше его никогда больше не упоминать. Но раз уж они подошли так близко к запретной черте, он не может удержаться от вопроса:
— И что же случилось?
— То же самое, что случалось с другими.
Что случалось с другими — если верить, что эти другие действительно существовали, — она никогда ему не рассказывала. Ему припоминаются от силы двое, она же так о них говорит, будто их было у нее человек сто. Однажды она показала ему письма, написанные якобы ее ухажерами. Он прочел только два или три из них и не стал читать дальше. Они были до того похожи, — один и тот же ребяческий вздор, подозрительно одинаковый почерк,— что он потом несколько педель избегал появляться дома, опасаясь, что она снова вздумает показывать ему «письма», и он невольно выдаст, что видит ее насквозь. Но когда наконец появился, она, по-видимому догадавшись, что не сумела провести его, не давала больше ему читать никаких
101
писем. Возможно, она их сожгла. И ни разу после этого не заикалась о своих ухажерах. Пока не появился Курейа.
Гарабха понял, что сестра влюбилась, по тому, как она стала заботиться о своей внешности. Она повеселела, оживилась, и, хотя редко заговаривала о Курейе, все же нельзя было не заметить, как она повзрослела за короткое время, как непринужденно и уверенно стала держаться с родителями, на которых прежде поминутно дулась и огрызалась. При Гарабхе она оживлялась еще больше и без умолку трещала ему о деревенских происшествиях. В те дни, особенно поначалу, Гарабха чаще наведывался домой и проводил там больше времени. В его последнюю побывку дома у Бетти с Курейей, казалось, все было слажено и дело определенно шло к женитьбе.
И вот сегодня он здесь, и все переменилось. До чего обидно за Бетти — уж лучше бы ему совсем не приходить. Хорошо еще, что она не заводит речь о домашних. Ему сейчас вдвойне тягостно думать о встрече с ними. Он шагает вслед за сестрой, радуясь, что не он, а она идет первой.
— Как поживает Нора? — вдруг спрашивает Бегти.
Гарабха вздрагивает от неожиданности, торопливо силится вспомнить и, отмахнувшись рукой, совершенно так же, как это делает Старик, смеется:
— A-а, эта! Я не подхожу ей в мужья, у меня, говорит, денег слишком мало... денег мало, а лени — много. — Он произносит это беззаботно, надеясь, что Бетти посмеется вместе с ним, но она только роняет:
— Понятно,— и снова молчит.
Гарабха мгновенно обрывает смех. Он видит натруженные мускулы у нее на шее, и внезапно ему хочется крикнуть ей, хватит тебе маяться, беги из этого места, которое зовется домом, тебя тут только заездят до смерти, и никто не скажет доброго слова. Хочется сказать ей, ты еще молодая, ты умница, у тебя впереди долгий путь, но слова непрожеванной кашей застревают у него в горле. И от неумения сообщить сестре об этой явственно ощутимой для него угрозе он с небывалой остротой сознает свое бессилие.
— На Норе свет клином не сошелся, — говорит он.— Найдется другая. — Но у Бетти только еще мучительнее напрягаются мускулы на шее, и он в отчаянии умолкает, зная, что с этой минуты каждое его слово будет взвешено трезвым Бегтиным умом и ответом ему будет еще более тяжкое молчание.
Они приближаются к дому. Куту с лаем выскакивает им навстречу, машет хвостом, подпрыгивает, стараясь от избьпка чувств облапить Бетти, но получает грубый окрик и пинок в придачу. Жалобно взвизгнув, пес поджимает хвост и шара-
- J02
хасчся от нее к Гарабхе. Беспрепятственно елозит по его груди передними лапами, лижет ему ладони, руки, добирается до подбородка, норовит лизнуть в нос. Гарабха отворачивает лицо и, взяв Куту за передние лапы обеими руками, ласково опускает на землю. Пес кидается вдогонку. Бетти, но она быстро скрывается на кухне, тогда он вновь подбегает к Гарабхе, гавкает раза два напоследок и, завершив таким образом церемонию встречи, направляется к навесу, который служит мастерской Старику.
Глава двадцать пятая
— Я так и знал, что ты придешь, — говорит Старик, не проявляя никакого удивления при виде Гарабхи, когда тот подходит в сопровождении Куту, удерживая пса левой рукой, положенной на загривок, а правой гладя по спине.
— Сон видел? — спрашивает Гарабха, придвигая ближе к огню табуретку, на которую ему указывает Старик. Старик продолжает заниматься своим делом — можно подумать, что он не слышал вопроса. Они слишком хорошо знают друг друга и не торопятся заполнить словами перерывы в беседе.
Гарабха молча обследует то, что Старик изготовил за это время. Каждая вещь поражает великолепной работой. Барабан, который он заканчивает, будет самый большой и красивый из всех, какие вышли из-под его рук. Есть тут три барабана поменьше — все неодинаковых размеров, есть две ступы в виде человеческих фигур, трости и деревянные ложки, покрытые причудливой резьбой и связанные вместе веревкой, есть три красивых подголовника, похожих на головы сказочных зверей,— все это понемногу смуглеет от копоти и от солнца.
Старик видит, как Гарабха разглядывает его резьбу и отвечает на только что заданный вопрос:
— Сны видят только те, кто спит.
Куту все порывается заигрывать с Гарабхой.
— А ну, цыц! Уймись, — Гарабха сильнее нажимает псу на загривок, треплет его по спине, и тот укладывается у его ног.
Старик говорит:
— Вчера приехал твой брат, ты слыхал?
- Да.
— И двоюродный был, Джон. С родителями приходил вчера вечером.
— Как он?
— Кто — Джон?
— Ну да — и Джон. И Люцифер.
— Один, как прежде, талдычит про нашу страну, другой,
ЮЗ
как прежде, скрытничает — не пойму я его. Говорят, собрался уезжать.
— Говорят. Я слышал, за большую воду.
— За большую воду, ага, я тоже слышал.
— Ты разве не беседовал с ним?
Старик машет рукой, не отвечая.
Гарабха опять спрашивает:
— А как поживают бабки?
— Вроде ничего. Одной осталось недолго топтать землю — каждый день новые хворобы, а в работе за ней и сегодня не угнаться иной молодухе. — Молчание. — Другая... говорить неохота.
Гарабха фыркает.
— А родители?
— Их ты скоро увидишь. — Это сказано со значением, и оба невольно взглядывают на восток.
— Рано стало светать, задолго до восхода солнца, — говорит Гарабха, — в полную силу вступает лето.
— Все равно им положено ждать, покуда не развиднеется в полную силу, — говорит Старик, сплевывая на ворох стружек,— Раньше, по здешнему заведению, вставать негоже.
Гарабха снова фыркает. Тишина; слышно только, как скребет по дереву тесло в руках Старика. Аромат свежей стружки мешается с запахом дыма, с пряным запахом увядающей листвы, и Гарабхой постепенно, но властно овладевает покой. Он наблюдает, как уверенно, ловко, азартно орудуют дедовы руки, и отмечает, что в прошлый раз, когда он был здесь, они двигались проворней, а значит и самому Старику тоже недолго осталось топтать землю. И как при виде сестриных ладоней или за игрой на барабане, на Гарабху находит «нечто», чему он не знает имени. Внезапно, без всякой, казалось бы, причины. ему дано увидеть усталость на землистом, покрытом бороздами и впадинами старческом лице, покорность в наклоне головы — он и рад бы, да не в силах отринуть этот дар прозрения. Не в силах оторваться от этого зрелища, хоть оно и пугает его. Для него почти осязаемо то неведомое, что уводит из жизни Старика. Ему недолго оставаться с нами, с новой силой вспыхивает у пего в мозгу. Это горькая мысль, но без жестокости. Той отрезвляющей, непоправимой жестокости, какая открылась ему, когда он в первый и единственный раз увидел жертву автомобильной катастрофы. Нет, здесь другое, в тебе постепенно прибывает чувство, подобно тому, как прибывает в пруду вода, и ты видишь, как, пытаясь спастись от половодья, на берег карабкается муравей, но вновь и вновь срывается, с каждым разом все ниже падает с крутого берега, а во
104
да все поднимается, и ясно, что тебе не помочь муравью, не дотянуться, не достать, как бы страстно, упрямо, отчаянно ты )гого не желал; твое желание бессильно перед лицом того, что навеки, навеки останется непостижимым. Муравья смывает водой, видно, как он сучит ножками в воздухе, потом затихает — и ты встаешь и уходишь. Уходишь делать то, на что, как ты вдруг понимаешь, тебе осталось ничтожно мало времени: играть на барабане.
Играть на барабане! Наблюдая за дедом, Гарабха ощущает нетерпеливый зуд в пальцах. Лишь рокот барабана способен превозмочь чувство бессилия, когда ты сознаешь, как ничтожно краток отпущенный тебе срок и как бесплоден твой смех. Лишь барабан поможет тебе постигнуть «нечто», чему ты не знаешь имени.
Старик, подняв глаза, видит самоуглубленное лицо Гарабхи и, догадываясь, какие мысли проносятся у него в голове, лукаво улыбается. Он нагибается к вороху стружек, извлекает из-под них бутыль, заткнутую маисовым початком и, смахнув с нее приставшую влажную стружку, откупоривает и подносит к губам. Потом протягивает бутыль Гарабхе со словами:
— Разом пятнадцать жен испробовал, и хоть сейчас подай еще пятнадцать!
Гарабха принимает бутыль, делает глоток и морщится4.
— Больно горькая плата за сладкую жизнь.
— Горькая, говоришь? — Старик смеется, обнажая беззубые десны,—Зато покрепче пробирает.
Гарабха отпивает еще и отдает бутыль обратно. Он чувствует вдруг удивительную легкость, как если бы сделался бестелесным.
— Интересное зелье, — говорит он, и чудится, это кто-то другой, подражая ему, говорит его словами. — Очень интересное.
Старик, довольный, кудахчет:
— Мне еще мой дед показал эту травку. А сила вся в луковице, из нее и готовят зелье. От тоски исцеляет, от острой боли. от немочи, от чего хочешь.
— Крепко разбирает.
— Эго смотря, есть ли крепость в самом человеке, у иного нутро не принимает. И смотря кому как повезет. Я тебе его не давал до сих пор, знал, что не приспело время. — Последние слова Старик произносит, понизив голос. Полные зловещей неопределенности, они как бы повисают между Гарабхой и Стариком, который отмахивается от них, спеша прибавить: — Я вчера вечером, как услышал барабаны, так сразу узнал — ты.
Теперь машет рукой Гарабха.
— Руки у меня стали распухать чуть что.
105
Старик пренебрежительно кривится в ответ на это проявление ложной скромности.
— Хотя в тебе, будь я не я, сидит твой прадед, но даже ему не потягаться бы с тобой за барабаном. — И про себя, в молчании, продолжает: «Что за диковинное существо вселяется в этого мальчика, стоит ему поставить между коленями барабан? Даже когда он был совсем маленький — хотя для чего омрачать чувство мыслью?»
И он опять машет рукой, точно решив — словами не выразишь то, что хочется сказать.
Гарабха все понимает, и ему стыдно за себя, он позабыл то, что однажды внушал ему Старик: о своих способностях говорить можно лишь с величайшим смирением, почтительно, ведь ты не знаешь, откуда они взялись, кем даны тебе и для чего. И сколько раз бывало, что вот и настроишься хорошо сыграть на барабане, а нужное чувство не дается, ускользает, и в конце концов ты не играешь вообще.
Дед и внук умиротворенно молчат.
Оба вздрагивают, когда в тишину вторгается нечто новое, равно чуждое им обоим. Гарабха, приоткрыв рот, вопросительно косится на Старика, и тот, досадуя на чужеродную помеху. вынужден поднять голос:
— Подарок. От Джона — Люциферу, с любовью. Всю ночь напролет орало.
— Подарок от Джона? — удивляется Гарабха.—А я-то полагал, он нас терпеть не может, как и все ихнее семейство.
— Погоди, сынок, еще не такие увидишь чудеса. Еще на задницах рога повырастают.
— Не по душе мне эта хреновина,—прислушиваясь к звукам радио, замечает Гарабха.—Совсем не по душе.
— Говорит наподобие человека. — Старик сплевывает на ворох стружки у него под боком. — А спросишь чего-нибудь — не отвечает. Говорить-то говорит, а слушать — не слушает, хе-хе-хе!
— В деревне у каждого четвертого есть в доме такая штука,— говорит Гарабха. — Только я, думается, к ней никогда не смогу привыкнуть.
— Сахар позаводили себе, хлеб, чай, и все им мало, — ворчит Старик,—Помяни мое слово, такие ли еще будут чудеса!
С Люцифера мысль Гарабхи переключается на Джона, он спрашивает:
— Поль уже вышел из тюрьмы?
— Да нет еще.
Молчание, и:
— Джон по-прежнему живет в доме у Поля, в Булавайо?
106
— Я у него не спрашивал.
— А жена Поля?
— И об этом не спрашивал. Ты что, слышал что-нибудь? — Нет.
— Вот и я нет.
— Может, Джон с ней встречается тайком. — Старик снова сплевывает. Гарабха продолжает: — А возможно, до сих пор живут вместе.
— Почем знать, — отзывается Старик.
Гарабха прикусывает язык, вспоминая, как Старик занедужил, когда сразу же вслед за арестом Куруку пришло известие, что арестован его сын Поль и поползли слухи, что к этому каким-то образом причастен Джон, что Джон спутался с женой родного брата.
— Родители не верят, что Джон мог так поступить. Не желают думать об этом, так что нам судить трудно, — говорит Старик, догадываясь, что на уме у Гарабхи.
Гарабха со вздохом встает.
— Пойду-ка я схожу к Мандизе. — И идет прочь.
Глава двадцать шестая
Он входит к Мандизе без стука. Старушка, вооружась иглой, дратвой и лоскутами кожи, латает корзину.
— Кто там?
— Так худо с глазами, старая?
— Гарабха, что ли? Темновато еще, да я скажу и по голосу.
— Ошиблась, не Гарабха. Это я, Люцифер. — Гарабха изо всех сил старается подражать голосу брата.
Старушка прыскает:
— Ну, тогда несите меня хоронить!
— Это почему?
—. Чтобы Люцифер с утра зашел ко мне поздороваться? Значит, настал конец света.
— И все-таки — вот он я!
— Аи, брось. Гарабха! Ну-ка, дай сюда руку.
Гарабха протягивает ей руку. Мандиза принимает ее в обе свои, медленно ощупывает, сперва ладонь, потом один за другим пальцы и говорит:
— То-то! Эти руки ясно говорят: «Мы играем на барабане!» С каких это пор Люцифер заимел себе такие задубелые, все в трещинах, руки? Ты когда пришел?
— Не так давно. Посидел с Секуру у огня, снаружи. Так как у тебя с глазами?
107
— До глаз ли мне теперь, когда ноги распухают, как колоды?
— A-а, теперь главная беда в ногах?
— Глядите, как он рассуждает! Если бы только в ногах, разве была бы я такой лежебокой?
— Стало быть, по всему телу пошла порча?
— Ох, и сынок уродился у моей дочки! Тебя где же носило столько месяцев?
— Там да сям, куда ворона летит, туда и глядит.
— Только ты хуже, чем любая ворона! Говоришь, пришел не так давно?
— Ага.
— С ним-то не виделся?
— С кем?
— С кем! Он еще спрашивает! С братом своим, понятно. — Нет. Он, по-моему, спит до сих пор.
— С него станется, как же. Чистый король братец твой. — Почему король?
— А не король, так дурак. Только первый богатей или последний дурак допустит, чтобы солнце вставало раньше него.
Гарабха усмехается и молчит. Мандиза — в отличие от Старика — любит порассуждать в его присутствии и в это время других не слушает. Он ждет, пока она соберется с мыслями, и Старуха, спустя немного, продолжает:
— Твои родители не надышатся на него. Поминутно «хочешь то», «хочешь это», точно он грудное дите. Это, возможно, потому, что он уезжает. Ты ведь слыхал, что он собирается уезжать? Говорят, его кто-то из белых друзей забирает с собой, но я вот что скажу, а ты слушай, да мотай на ус: куда он собрался, не знаю, только проку от этого не будет, раз он чуть ли не полдня валяется в постели. Разве что там, куда он едет, каждый тоже либо дурак, либо король. Иначе там быстро спохватятся и спровадят его назад, восвояси. Самый это у нас, понимаешь, был верный способ распознать, работница ли молодуха или же лентяйка, балаболка — по тому, когда она просыпается.
— А если там, куда он едет, все просыпаются после восхода солнца?
— Я же и говорю — все, видать, как один — богатеи.
— Нет, бабуля. Чтобы все богатеи, так не бывает.
— Тогда опять повторю — значит, все дураки. Потому что — и тебе об этом тем более полезно знать, поскольку ты не сегодня завтра можешь найти себе жену,— если хочешь раскусить женщину, погляди, как она утром встает. Одну расталкиваешь, не можешь добудиться, а она одеяло натянет себе на
108
н>нову и бормочет: «А? Что?» — тогда, мой тебе совет, поищи другую. С такой женой только горе наживешь! То же самое — если женщина встает вместе с мужем. Не зря нас учили матери, что мыть на ночь миски после еды, — это табу, кощунство. С таким делом женщина управляется рано утром, когда ее муж и другие в семье еще не вставали. Но в ту пору люди жили иначе. Никаких тебе завтраков не было и в помине. Это теперь пошли чаи да сахары — какая хозяйка нос согласится высунуть из дому, покуда солнце не начнет припекать самую макушку? Ей сперва надо чаю напиться с хлебушком, да при полном свете, пускай соседи поглядят, что у нее на столе не хуже, чем у белых. Возьми того же Макаву — небось слышал про него? Хотя пет, откуда, ведь ты нечасто захаживаешь домой...
— Слышал, как же. Его посадили в тюрьму, верно?
— Уже выпустили. Такое в его-то годы! Это ли не позор? А все знаешь из-за чего?
Гарабха качает головой.
— Не знаешь. Из-за того, что сноха — Чипошина баба — не давала ему чаю. Встанет попозже, когда он, известно, уже уйдет со двора, и садится пить чай, а случись ему оказаться рядом, запрется у себя с детьми и дует чай, а Макава, как побитый, топчется под дверью. Можешь себе представить? Мужнин отец за порогом помирает с голоду, а она затворилась и чаевничает.
Кто же осудит Макаву, если он решил, что не потерпит такую сноху, как Чипошина баба? Кто его, горемыку, осудит, если он схватился за топор, ну а каков у него топор, ты сам знаешь. Макава, бывало, что ни день, то его затачивает, а народ кругом потешается — куда, мол, тебе, старому, теперь колоть дрова! Много они понимали! Топорик-то был для снохи! Он уже раскумекал, что она за птица, и задумал прикончить ее топором, когда она завалится спать со своим приплодом, с ублюдками своими балованными...
— Как это, бабуля, ублюдками?
— А кто же они еще у нее? Можешь ты хотя бы про одного — хоть про единого — сказать по чистой совести, что эго Чипошино дите? У Чипоши — красивое лицо, скулы широкие, лоб -высокий, нос, правда, разлаповатый, зато прямой. Тогда откуда, скажи ты мне, взялись у его детей носищи гулей и рожи, как коровьи лепешки? Даже ведь и не от матери: она хоть и колдунья, и шлюха, но из себя ничего, невеличка, а приятная, и носик аккуратный, дождь чует загодя. Откуда же у ее детей такие рожи, что, когда улыбаются, все равно плаксивые? Да уж, пусть лучше не клянется жена Чипоши, будто не зналась ни с одним другим мужчиной...
109
— Ну, а Макава что? Ты начала говорить...
— Аи, сын моей дочки! Про это самое я и толкую! Сноха, поганка,- завалилась спать, а Макава тихонько подкрался, да как жахнет по ней топором — раз, еще раз, и еще!..
— И что же, насмерть зарубил?
— Как бы не так! Зарубишь колдунью насмерть! Макава-то, конечно, метил ее совсем прикончить, но помешали зелья ее поганые и амулеты, и ее увезли в больницу полуживую, с двумя поломанными ребрами да раздробленной рукой.
— А что сказал Чипоши?
— А что он мог сказать, когда он во всем у нее на поводу? Телок телком, уж она позаботилась об этом, каких же от него ждать слов? «Ох, мой отец видеть не может мою жену и детей. Ох, отец меня не любит. Ох, уйду я отсюда, удавлюсь». Какие он может сказать слова, кроме как те, которые она, змея, ему нашептывает на ухо, когда он спит? Спасибо, хоть твой дед отвел его в сторонку и велел, чтобы он взял себя в руки и держался, как полагается мужчине, а если б не твой дед... да что же это я заболталась, ведь ты, наверно, есть хочешь — отругают меня Манденгу, и поделом...
— Не важно, ты рассказывай. Я редко ем в такую рань...
— Нет, вы послушайте его! Само собой — как же ты будешь есть, когда есть-то тебе нечего! Думаешь, если тебе лень обзавестись женой, значит, и мы тебя тоже должны забросить? «Редко ем!» Скажет тоже!
Гарабху разбирает смех. Он добродушно наблюдает, как она шарит по своим глиняным горшкам и мискам, ища остатки от вчерашнего обеда или позавчерашнего ужина, что попадется.
Горшками и мисками она обставила себя кругом, все под рукой, потому что, как она сказала ему однажды: «Где я возьму детей, чтобы командовать — подай мне это, достань то?»
— У меня малость тыквенной каши припасено для твоих младших братьев, невмоготу им дожидаться, когда-то еще родители сядут пить чай... Да где ж она? Вот тут была... я ее только вчера вечером поставила сюда, махонький такой горшочек — ты его знаешь, с отбитым краем... постой, а это что такое? Ага, куриное крыло, твоя мать угостила на той неделе. Сладу с ней нет, с твоей матерью! — Качает головой. — Сто раз ей говорено: «На какие ты зубы рассчитываешь, когда даешь мне мясо?» А она свое: «Это чтобы ты не подумала, что я плохо о тебе забочусь». Заботится обо мне! Ну, дела! Вот, бери-ка. Только куда, интересно, оно запропастилось вчера утром, когда я остальное скормила твоему отцу? Обветрилось маленько, но вкус не потеряло... Заботится обо мне плохо...
110
Мне бы самой надо о ней заботиться, а то ведь в гроб себя Н1ОНЯСТ работой... Вот он, горшочек.—Мандиза снимает крышку, запускает в кашу палец и пробует. — Холодная. Разо-1регь тебе? — Не дожидаясь, пока он из вежливости скажет: «Нс надо», она сгребает в кучку почти прогоревшие дрова, ворошит тускло рдеющие угли и раздувает пламя. Потом ставит । оршочек на угли возле полыхающих дров.
— В гроб себя вгоняет работой твоя мать. Твердишь ей одно и то же, да разве она слушает? «Мне детей надо прокормить и выучить в школе». Детей прокормить! А мы не кормили своих детей? Не надрывали из-за них животы на работе? И все одно — хоронили. В школе выучить! Разбирает она, смерть, — школа, не школа? Постучится в дверь, и что тогда? Хвататься за копье — стой, дескать, где стоишь, дай моим детям сначала выучиться в школе? Или же кататься в пыли и умолять ее: «Смертушка, матушка, смилуйся, только не отнимай вот этого или вон того, он один у меня на свете, некому будет присмотреть за мной на старости лет?» Разве приходится выбирать, когда смерть на пороге? Кормишь деток теми крохами, какие есть в доме, наглядеться стараешься на них, покуда здесь они, при тебе, и забыть, что они твои — лишь по молодости, по глупости люди думают, будто для детей, какие уже народились и ждут смерти, можно что-либо сделать сверх этого.
Теперь твой брат, лодырь такой, вздумал уехать, и она будет целый год лить слезы по нему, как по покойнику. Говоришь ей: «Погоди реветь, кабы померли твои мозговитые детки, разом трое, вот тогда могла бы себе глаза выплакать». Это — я ей. Плакать — это одно нам и остается, и уж мы на своем веку наплакались вдоволь. Теперь ее черед. Только сердце мне жжет, точно кто приложил к нему вон тот уголек, когда вижу, как она изводит себя из-за всего.
Отдала я ей, к примеру, трех коров — пусть у ней будет молоко, а она что делает? «Мой сын уезжает за большую воду, а мы, пока он жил еще при нас, не могли даже купить ему все, что требуется; неужели я, его мать, допущу, чтобы он ушел из моего 'дома оборванцем. Не бывать этому, пока я жива». Я, его мать! Хе-хе-хе! Счастливая. До сих пор может звать себя матерью! А как быть нам, у кого детей забрала могила? Мыто что, из другого теста сделаны? А ведь нам выпало на долю бессильно наблюдать, как невидимое копье разит, одного за другим, детей, родных, задушевных друзей, мы-то как же? Где мы есть? Да все здесь, но теперь мы выжаты досуха. Нет у нас больше слез, хоть мы еще покамест здесь. Без слез, без глаз, без слуха, а все коптим небо...
111
Гарабха слушает и не перебивает, зная, что не к нему обращен поток ее слов, ни для чьих он ушей не предназначен, просто она состарилась и, как не раз говорила ему, в голове у нее переговариваются разные голоса.
Сейчас она как будто погрузилась в невеселое раздумье, и Гарабха, улучив минуту, ласково спрашивает:
— А как ведут себя голоса?
— Какие голоса?
— Которые у тебя в голове. Ты рассказывала...
— Ах, эти! Пускай их, я так рассудила. Не обращаю внимания — пускай их лазят по деревьям, скачут, тараторят без умолку, точно стая оголтелых обезьян, — кто теперь их слушает! Дурачье! Верещат, будто Джапи замышляет меня убить. Ворон им пугать, не людей!
— Вот как, они уже и до Джапи добрались?
— Спроси лучше, кого они не затронули во всей деревне! Всех перебрали и каждого оговорили. То взялись клепать на Кондо, что он якобы кур у меня разворует, если я на ночь не буду их забирать к себе в комнату. Ну, загнала я кур сюда с блохами ихними заодно, смотрю, а голоса как заладили про одно и то же, так и не унимаются. Отпустила я кур ночевать в курятник, голоса и смолкли в тот же миг. На две ноченьки кряду — я уж было поверила, что насовсем, — но на третий день сижу это я в аккурат на том месте, где ты сейчас, солнышко в дверь светит, как вдруг один голос подобрался ко мне поближе да и шепчет в самое ухо: «У тебя зубы вырастут новые, как у малого ребенка». Завел он эту песню на всю ночь, а наутро я сунула палец в рот — и точно, выросли у меня сто зубов, новеньких, из металла, который ржа не берет ни на каком дожде, вот тебе и голоса! Стану я их слушать! Пошли они лучше... ай! Каша подгорает! У тебя что, нос заложило? Не чуешь, что ли, как пахнет...—С непостижимым проворством старушка хватает горшок с огня и срывает с него крышку.
Из горшка валит пар. Приложив руку к слезящимся глазам, Мандиза заглядывает внутрь, поворачивает горшок к свету и, подняв голову, утирает слезы.
— В самый раз! — Она снова заглядывает в горшок, опять поднимает голову: — Доверяй после этою молодым носам,— Она пренебрежительно машет рукой. — Все равно что спрашивать у хлева, чует ли он, как разит навозом.
Не глядя, она выуживает откуда-то из-за спины деревянный половник и выгребает кашу на тарелку, отерев ее прежде ладонью. Тарелка осталась немытой с последнего раза, когда на ней ели, но это мало смущает Гарабху. Он берет ее у Мандизы и принимается есть — немытыми руками.
112
(Зарушка тем временем достает корзину с орехами.
Орехи вот тоже — проканителилась с ними целую не-1СЛ1О.
-- Это мне?
— Твоему брату. Приготовлю ему с собой на дорожку арахисового масла.
— Когда он уезжает?
— Завтра у нас что, понедельник?
Гарабха кивает головой.
— Значит, завтра. Говорит, за ним с утра заедет один его белый приятель.
— Он что, просил, чтобы ты сделала ему масла?
— Стану я дожидаться, когда меня попросят! Я и без юго знаю, кому чего хочется. Приметила, как он ест арахисовое масло, видать, любит — вот и готовлю ему на дорогу.
— Не знаю, его не поймешь...
Мандизе тяжело это слышать, и Гарабха не продолжает. Зачем ее напрасно огорчать? Она любит делать другим приятное. Для нее первое удовольствие порадовать внуков. Только беда в том, что никогда не известно заранее, как поведет себя Люцифер. Но Гарабха молчит об этом.
— Мать ему раз сготовила курицу, а он, вижу, ее отставил и поел похлебки с арахисовым маслом, которую Бетти сварила для ребят. — Молчание. — Придется попросить твою мать, чтобы истолкла мне орехи в ступе. Надо бы, по-настоящему, попросить Бетти, да ты сам знаешь, какие у тебя сестры, особенно та, что в школе, Секаи, — и особенно теперь, когда у них груди налились, точно переспелые папайи. Боятся, что если дерево тряхнуть лишний разок, то как бы вся эта сласть не попадала с веток, чего доброго, парни из поселка будут ходить голодные. Вот и надейся на твоих сестер.—.Она качает головой, но видно, что все это скорее забавляет ее.
- Нынче не в моде, чтобы девушки на глазах у парней, с которыми гуляют, толкли пестиком в ступке, мололи зерно или работали в поле, — говорит, смеясь, Гарабха.
— Мне ли это не знать? — Мандиза вдруг необычно притихла. Кажется, она силится припомнить что-то важное.
— А что Бетти... — начинает она и, осекшись, обводит вокруг себя рукой. — Крысы, знаешь. Не дают спать. Ты не найдешь время поставить у меня несколько штук крысоловок?
— Хорошо. Ты начала что-то насчет Бетти?..
Старушка с громким треском раскалывает орех.
113
— Ты не женщина. Ешь-ка давай да ступай туда, где положено находиться мужчинам, а я буду подметать пол.
Гарабха заметил, думает она.
Он доедает кашу, дочиста вытирает тарелку и тихо выходит. ’
Глава двадцать седьмая
Выйдя от Мандизы, Гарабха невольно ловит себя на мысли: «Теперь — повидаться с матерью». И, не раздумывая больше, не позаботясь мало-мальски подготовить себя к встрече, весь подбирается и входит в общую комнату, которая служит также и кухней, и где его мать сидит за чашкой чая. Он рад, что застал ее одну.
При его появлении она вскидывает на него глаза, ставит чашку и начинает помешивать в ней ложечкой. Гарабха опускается на скамью.
— Как дела, мам? — говорит он не сразу.
Она не поднимает головы. Минуты две сидит, помешивая чай, потом бросает на него взгляд, говорит:
— Ну что, не надоело еще бродяжить, не опостылел барабан?
Гарабха отводит глаза и устремляет их на огонь, полыхающий между ним и матерью, — где-то наверху расплывчатым пятном виднеется в поле его зрения ее лицо. Он ничего не говорит.
Его мать вздыхает.
— У кого ты научился не отвечать, когда я задаю тебе вопрос?
— Я слышу.
— А почему не отвечаешь?
Гарабха глядит поверх материнской головы на темную стенку. Она вздыхает еще раз и сдается:
— Люцифер завтра уезжает.
— Я знаю.
Мать смотрит на него. Она поднимает чашку, и он замечает, как дрожит ее рука.
— Джон принес радио твоему брату.
— Это я тоже слышал.
- Да ну?
— Правда. Мне сказал Секуру.
Она ненадолго умолкает. Но хоть она ничего не говорит, Гарабха и так читает ее мысли. За все эти годы оба выучили свою роль наизусть. Проникая в ее молчание, он пытается оценить его, разобраться, придать ему форму, свести к простому
114
шн ромождеяие сложностей, тогда ему будет легко ладить с матерью. Но она ускользает, меняет очертания. Не успеешь ухватиться за одно, как она — уже другое. Что ж, лучше не сопротивляться ей, пусть изливается этот поток, а он попробует, как умеет, отвечать.
И она начинает все сызнова:
— Так, значит, ты докатился до того, что твои уши ничего не слышат, кроме барабанного боя?
Что это — мольба? Увещевание? Отказ от него, безнадежность? И он брякает необдуманно:
— Я переменюсь.
Она издает безрадостный лающий смешок, внезапно приоткрыв ему в себе глубины, исторгающие смрад. А она — скверная, с содроганием думает Гарабха.
— Как же,—говорит она. — Обязательно. Только куда спешить? Времени хоть отбавляй. Еще только утро, кто там болтает насчет захода солнца? Солнце всегда стоит на том же месте. На дворе всегда утро. Так переменишься, говоришь? — И вдруг, без всякого перехода, у нее срывается голос: — Гарабха, ты мой старший, мой первенец. Сколько ты раз будешь повторять, что переменишься? Сколько я должна этому верить?
Да-да, сколько он должен это повторять, чтобы поверить самому? Сколько раз он чувствовал, как на него накатывает «нечто» и наступает потрясающая ясность, все так просто и красиво, что дух захватывает, видишь все разом с невероятной четкостью, и нет уже никаких сомнений, что ты и вправду переменишься. Но сколько раз назавтра, в суровом и ярком свете дня, эта уверенность рассеивалась, таяла, как туман, и оставался лишь пепельно-горький привкус разочарования во рту и сомнения с удвоенной силой наваливались на него, как ночь на покинутую солнцем землю.
Мать не сводит с него глаз. На одно мучительное мгновение он заглядывает в эти, всякий раз иные, полные боли глаза, зная, что, если б только набраться мужества глядеть в них и дальше, помня, как они переменчивы и не позволяя себе обмануться, он скоро нашел бы в них ключ к ее тайне. Но таким мужеством он не обладает. Они меняются так быстро, что вселяют в него робость. Он чересчур медлителен и несмел. Никогда ему не постигнуть их, никогда не понять ее.
Теперь она смотрит на огонь.
— У меня был разговор с Люцифером. Он говорит, что мог бы до отъезда устроить тебя на работу в городе. На то место, где работал последнее время.
И глядит на него в упор. Неизреченное «нет!» комом стоит у него в горле, а она, понимая, — он знает это, — что он сейчас
115
все силы призывает на помощь, готовясь отвергнуть это предложение, все упорнее, безжалостнее буравит его взглядом, чтобы сломить его, преодолеть его сопротивление, покуда он не укрепился в нем окончательно. Он чувствует ее готовность отвести любые его возражения и не видит смысла даром тратить слова. Е/иу вдруг хочется причинить ей боль, хоть самому при этом тоже будет больно. И потому он хранит молчание.
Она резко повышает голос:
— Ты что, язык проглотил?
— Нет, почему же, — отвечает он равнодушно.
— Тогда скажи что-нибудь! — Ее голос срывается на крик, оглушая его, хлеща по нервам, — это так не вяжется с предыдущим разговором, так нестерпимо, что в первый миг Гарабха просто теряется. И тотчас — тяжело, неслышно — ему камнем ложится на сердце правда. Мать обезумела. Не помнит себя. Она безумна и гадка.
Гадость! У Гарабхи темнеет в глазах, мутится в голове. Потом его сознание проясняется. Подумав такое про родную мать, он чувствует, как жесткий ком у него в горле рассасывается, в душе воцаряется непонятное спокойствие. Кончики пальцев на руках и ногах слегка покалывает. Он весь пронизан ощущением удивительной легкости, точно немного захмелел. Неужели это от Старикова зелья, думает он, и ему становится смешно. Так бывает, когда тебе померещится ночью страшное чудовище, а подойдешь ближе и видишь, что это обыкновенный куст.
Опустив глаза, он видит где-то далеко внизу свои сложенные на коленях руки. И со своих поднебесных высот роняет:
— А говорить не о чем, мама. Все в порядке.
Она окидывает его быстрым взглядом, разинув рот, вытаращив глаза. Голова у Гарабхи взмывает еще выше, отрываясь от него и матери.
Она шевелит губами, не в силах вымолвить ни слова.
И тут, прямо у Гарабхи на глазах, его мать начинает уменьшаться, съеживаться, усыхать, похоже, она вот-вот совсем исчезнает! Да что же это такое! Его мать с минуты на минуту исчезнет, а ему хоть бы что! Словно какой-то другой Гарабха объясняется со своей матерью, а он наблюдает со стороны.
Но вот к ней возвращается дар речи. Ее голос долетает до него снизу, чужой, сдавленный:
— Так, значит, говорить не о чем?
Гарабха кивает головой. Неведомо откуда к нему приливает ликование. Оно захлестывает его, он чувствует, как расплывается в безудержной улыбке.
116
Мать видит эту ни к кому не обращенную улыбку и пугается заново.
— Ты сошел с ума! — выкрикивает она, порываясь подняться и бежать, но его взгляд удерживает ее на месте. Она хочет поднести к губам чашку, но, выскользнув из трясущейся руки, чашка падает и разбивается. По лицу Гарабхи по-прежнему олуждает улыбка.
Странная, точно подсказанная чьим-то незнакомым голосом, мысль является к нему: «Правильно. Перестань за нее страдать!»
Его ноги, руки, плечи теперь подтягиваются выше, сближаясь с головой. Цепи, которыми он опутан,—тяжкое, почти физически осязаемое бремя, — спадают с его плеч, ощущение легкости усиливается, исполненное неведомой печали.
— Перестань страдать за меня, мама.
Она впивается в него непонимающим взглядом, потрясенная, испуганная. Губы ее — всегда это прежде всего ее губы — полураскрыты, глаза, не мигая, вонзаются в его глаза, дыхание прерывается, и в одну минуту, точно родник забил из-под земли. у нее навертываются слезы, переливаются через край, рот кривится, к его углам от крыльев носа протягиваются две морщины, как будто она собралась чихнуть, и медленно, очень медленно, как оседает, распадаясь, сгнивший дом, она сникает, отдаваясь неудержимому, беззвучному потоку слез. Ни единого всхлипа, отмечает Гарабха. Лишь непрерывные, тихие слезы, так, когда голову окатишь водой, струйки стекают потом на землю.
С улыбкой, все отчетливее проступающей на лице, он наблюдает, как совершается очищение матери.
Неторопливо и зримо, с потоком ее слез, протекает перед ним их прошлая жизнь, их отношения друг с другом. Да. Когда-то он не посмел бы глядеть ей в глаза. И не пробыл бы у нее так долго. Всегда их разговоры обрывались, едва успев начаться: он в ярости поднимался и уходил, и вслед ему неслись ее вопли и душераздирающие рыдания. Да. Когда-то нетерпеливый зуд в пальцах толкнул бы его к барабану. Но все это осталось позади. Сейчас, в эту минуту, он никуда не хочет идти, ничего не хочет делать. Попытки отстоять себя, доказать свое, бросив вызов другим, утратили смысл. Такое оружие ему больше не требуется.
И еще одна странность: неужели эта женщина, сидящая напротив, а вернее, внизу, его мать? Это — чужая. Та была неизменно окутана как бы некой дымкой, он воспринимал ее лишь как некое внушающее трепет присутствие. Эту видит во всех подробностях, она меньше, чем та, другая, исхудалая, меж тем
117
как фигура другой вообще не имела определенных очертаний. Эта — измученная, затравленная, смятенная — много страдала, страдает и теперь, годы наложили на нее свою печать. Ну, а та? Трудно сказать. Она была такая же, как все другие матери: резкая, колючая, с чрезмерной тревогой за детей, с любовью, или тем, что у них зовется любовью, которая не дает детям вздохнуть свободно, с привычкой вечно вымещать на детях обиды, которые им самим наносят мужья. Гарабха думает, что, если б не отец, мать не состарилась бы раньше срока, хотя он не припомнит, чтобы отец хоть раз поднял на нее руку с тех пор, как родилась Бетти. И все же он не сомневался, чго прав, что это неизбежное следствие трений между супругами. Они оба измотали друг друга.
Он улыбается матери.
Она переводит взгляд на огонь.
— И куда же ты теперь от нас?
— Пока Люцифер не уедет — пожалуй, никуда.
Она вздыхает. Молча тянется за чайником, стоящим у огня, наливает чашку и протягивает сыну.
— Ты уж не обессудь, что без молока. Отец пошел доить коров, никак не дождусь его обратно.
Гарабха без единого слова берет у нее чашку.
Она оборачивается назад и достает с полки корзину. — Хочешь соленых орешков?
— Нет. Мне хватит и чаю. Я только что наелся тыквы у Мандизы.
Он принимается пить чай, только чтобы доставить ей удовольствие, и, конечно, платится за это. После первых же двух глотков он выскакивает за дверь, и его долго выворачивает наизнанку.
Опорожнив свое нутро дочиста, пустой и легкий, он на нетвердых ногах возвращается на кухню прополоскать рог холодной водой.
— До сих пор не переносишь чай? — спрашивает мать, слегка пристыженная тем, что могла это забыть.
Гарабха кивает головой.
— Ну хоть пожуй орехов. Чтобы наладился желудок.
— Нет. Лучше походить с пустым животом какое-то время.
— Совсем из ума вон, что тебе нельзя пить чай.
— Не важно, мама, ничего страшного.
Короткое молчание, и:
— Я пошел. Загляну к Люциферу.
Гарабха уходит; мать, ничего не говоря, смотрит ему вслед.
118
Глава двадцать восьмая
Подходя к Люциферовой комнате, Гарабха видит, как, подоив коров, идут назад его отец и младшие братья. У Гарабхи чаще бьется сердце. Он останавливается в нерешительности. Не подойти ли сначала к отцу?.. И быстро, отбросив сомнения, сгучится в дверь к Люциферу.
При виде отца у него немного поубавилось уверенности н себе, а тут еще Люцифер не торопится открыть дверь, и виноватое сознание, что он здесь посторонний, возвращается к Гарабхе. Он стоит, стучась в дверь,—никто не отзывается, и ему оскорбительно слышать, как за дверью в полный голос I ремит радио, и поверх этого гама с цикадным стрекотом насвистывает что-то. Люцифер.
Он стучится снова, на этот раз громче.
— Я же сказал — войдите!
Вспоминая и думая о том, как важно для Люцифера, чтобы ему не мешали, когда он чем-то занят, Гарабха секунду колеблется, но, не желая дождаться от брата чего-нибудь похлеще, рывком открывает дверь.
А дальше с Гарабхой происходит вот что: брат даже не поворачивает к нему головы. Лежит в постели с сигаретой и читает книжку. Интересно, проносится в голове у Гарабхи, знает ли отец, что Люцифер курит. Сам он старается не проявлять никакого удивления.
— Я не помешал? — спрашивает он и продолжает стоять, показывая, что готов уйти в любую минуту.
Люцифер, так и не повернув головы, цедит:
— А, это ты. Я думал, Бетти. — Обычный прием. Удобный и хорошо им усвоенный выход из подобных положений.
И все же Гарабха подходит к кровати, подходит к брату, еще немного, и протянет руку, но в последний миг он вспоминает и удерживается. Он позабыл, что это лишнее, и потому, хотя его правая рука даже не качнулась вперед от бедра, ему чудится, будто она — неестественно тяжелая и длинная — все-таки протянулась через пустоту, разделяющую их с Люцифером.
Он ждет, чтобы Люцифер сделал первый шаг. Он уже обжигался в прошлом и не намерен снова подвергать себя риску. Его пустые руки тоскуют по прикосновенью, но прикоснуться не к чему.
Наконец Люцифер мерит его взглядом и, щурясь от табачного дыма, подает ему вялую руку.
Обрадованный, что может хотя бы так соприкоснуться с братом, Гарабха берет протянутую руку, изо всех сил ста
119
раясь не показать, что уязвлен этим высокомерным осмотром, этой пренебрежительной усмешкой.
— Ну, как живешь? — спрашивает он сердечно. Но Люцифер словно бы не слышит, и напряжение сдавливает Гарабхе горло. Он стоит перед братом и смотрит на него невидящими глазами, пытаясь нашарить рукою стул у себя за спиной, но стул оказывается так далеко, что Гарабха вынужден оглянуться. И это тоже рождает в нем преувеличенное ощущение, что он теряется в присутствии брата.
Неловко примостясь на краешке стула, он зажимает руки между коленями; судорога сводит ему мышцы живота.
Люцифер гасит окурок, перелистывает две-три страницы, загибает уголок на той, которую читал, и говорит:
— Ничего живу. А ты как?
— Хорошо... — Гарабха едва не спрашивает, порядка ради: «Как с работой?», но вовремя спохватывается, заранее ощущая, какой натяжкой прозвучит этот вопрос. Пусть теперь Люцифер позаботится о том, как продолжить разговор, а он подождет. В такой обстановке куда как легче отвечать на вопросы, чем маяться, заполняя тишину пустой болтовней. Это решение освобождает его от чувства ответственности, которое он, как старший брат, всегда испытывает в присутствии Люцифера.
И Гарабха. подвигаясь дюйм за дюймом, удобнее усаживается на стуле. Мало-помалу напряжение отпускает его. Его пристальный взгляд устремлен на Люцифера, но он, по сути, даже не отдает себе отчета, куда смотрит.
Под этим немигающим взглядом Люцифер, который, покорясь судьбе, ждет, что Гарабха, по обыкновению спьяну, начнет плести, кто с кем за это время подрался в деревне, проникается сознанием, что слово за ним. Молчание затягивается до предела, до звона в ушах. Он мельком косится на Га-рабху, и Гарабха отвечает ему твердым взглядом. Люцифер отводит глаза. О чем мне с ним говорить? Что он знает? Он открывает книгу, пробует читать, но строчки сливаются и блекнут. Захлопнув книгу опять, он поворачивается к Гарабхе.
— Давно ты пришел?
— Рано утром.
— Поел уже?
- Да.
Молчание. Люцифер смотрит на часы. До сих пор, насколько помнит Гарабха, у него никогда не было часов, должно быть, новые. Догадываясь, что от него ждут каких-то слов по этому поводу, Гарабха помалкивает, ему смешно.
120
Безучастность брата приводит Люциферу на память игру, коюрую они любили в детстве, похваляясь друг перед другом кю во что горазд. Он клянет себя за то, что унизился до хва-сювства, злится, что Гарабха остался на высоте положения, храня безучастность и словно говоря: «Брось, это ребячество!»
— Поздновато вроде бы лежать в постели, ты не думаешь? — спокойно замечает Гарабха.
Люциферу слышится в этом осуждение, но он не перечит — быстрым движением откидывает одеяло и спускает .ноги на пол.
При виде Люцифера в пижаме Гарабхе опять становится не по себе. Каждый раз новая пижама. Сегодня — в ярко-красный цветочек по серо-голубому полю. Почему-то, глядя на нее, Гарабха мысленно представляет себе те штучки, которые женщины надевают под платье. Видеть Люцифера в пижаме ему противно и грустно.
Люцифер торопливо одевается. Гарабха с огорчением замечает, что брат норовит стать к нему спиной, придерживая штаны на согнутых коленях в неудобном, неестественном для человека положении: можно подумать, что он присел по большой нужде в высокой траве под дождем.
— Работу еще не приглядел себе? — спрашивает Люцифер, поворачиваясь наконец лицом к Гарабхе и застегивая ремень.
Гарабха качает головой. В деревне нетрудно наняться корчевать кустарник или вывозить на поля навоз, только какой уважающий себя человек захочет говорить о таком с братом, который работает в городе? Город — вот что здесь подразумевают, говоря о работе.
— До сих пор небось боишься городских машин?
Гарабха с готовностью улыбается, стараясь попасть в тон брату.
— Ага. Страсть как боюсь городских машин.
Люцифер отрывисто смеется.
— Ты к ним привыкнешь, будь уверен.
— А я и так уверен. Но без привычки все же трудновато... Ты когда уезжаешь?
— Уезжаю? Куда?
— Да говорят, за большую воду...
— А, ты вот о чем. Это еще через две недели. Ну. а отсюда завтра.
— Вот как.
— Да. Завтра.
От того, как подчеркивает Люцифер это «завтра», в сознании Гарабхи возникает другое слово, куда более неотвратимое и пугающее. Смерть! Ему вдруг хочется обнять Люцифера. Но
121
он не трогается с места. Только выдавливает из себя с усилием:
— Я буду... это... скучать по тебе.
И сразу же ему становится стыдно за свои слова, потому что Люцифер никак не отзывается на них, а внезапно хватает свою книжку и идет к двери, уронив:
— Пойти взглянуть, что там у них на кухне...
Гарабха не произносит ни звука. Он еще долго сидит в комнате, глядя в пространство, чувствуя, как в ладонях и в животе — в том месте, где пупок, — властно нарастает зуд.
Проходит много времени, прежде чем он встает и выходит из комнаты, закрыв за собою дверь. И идет прямо к навесу Старика.
Глава двадцать девятая
Гарабха едва успевает сесть, как Старик уже чует неладное. Он спрашивает:
— Ну, и как он?
— Обыкновенно.
— Это мне ничего не говорит.
— Ну, то есть у него все в порядке. Все нормально. Мы с ним особо-то не разговаривали.
— Но ты хотя бы имеешь представление, что у него на уме?
— Обычные его дела, Секуру. Сам знаешь. Он — горная вершина. Я перед ним — мошка в стакане молока.
— Вот как.
— Да, Секуру.
Молчание. Потом:
— И это называется — образование.
— Не знаю, Секуру.
— Никто не знает, но выходит, что так. Он, может, по-настоящему, и не сделает худого, ты просто чувствуешь — что-то в нем не то. Засела какая-то червоточина. Вроде — вы, дескать, мне не ровня,—Опять молчание.—Я, правду сказать, рассчитывал, что ты разберешься и вышибешь из него дурь.
— Какое там — вышибешь. Я даже не знаю, в чем она, Секуру. Ты верно говоришь, это только лишь чувствуется, и больше ничего. Словно бы он за невидимой стеной, и никак к нему не пробиться. Все не так, как раньше, все не просто.
Старик глядит на него внимательно. У него слегка подергивается щека, точно готовясь выставить напоказ прорытые в ней морщины, борозды, впадины, но это быстро проходит, и Старик с неунывающим, почти веселым видом машет рукой.
122
Не беда, у тебя, по крайней мере, есть барабан!
Но Гарабху не так-то легко отвлечь.
Скажи, что мне делать, по-твоему? — спрашивает он. - В каком смысле?
- Все же я ему, как-никак, старший брат. Есть, наверное, какой-io способ, слово какое-нибудь, например, показать ему, по я...
Старик взмахом руки останавливает его.
— Это только ты думаешь, что ты ему брат. Он так не думает.
— Но ведь это неправильно. Я его брат, я должен ему показать...
— Ничегошеньки ты не можешь ему показать. Тебе просто нечего ему показать, он считает.
— Но ты-то, Секуру, понимаешь? Ты мне сам говорил, что в таких случаях и отлупить не грех, помнишь?
— Да, только не в таком случае, как у него. Отлупить — за что? Что не оказал тебе уважения? Не поговорил с тобой? За что его бить? Что он, украл что-нибудь? Сказал тебе что-нибудь обидное? То-то и беда, что он не делает ничего худого. Он не в руках песет зло, а в сердце. А как ты вынешь сердце, не погубив его самого? Нет, Гарабха, забудь все это, и его забудь. Он уже больше не наш.
— Но все наши надеются на меня — раз я старший сын в семье...
Его перебивает Тонгуна:
— Кто ж это в здравом уме будет в чем-либо на тебя надеяться?
Ища поддержки, Гарабха поднимает глаза на Старика, но Старик глядит куда-то вдаль. Значит, осталось извиниться за свое присутствие и уйти. Упавшим голосом он говорит:
— Добрый день’ отец.
Тонгуна фыркает.
— Видно, плохо ты знаешь, что я тебе отец, иначе тебе не понадобилось бы столько времени, чтобы со мной поздороваться.
Гарабха смотрит на Старика. Старик по-прежнему смотрит вдаль.
— Нечего пялиться на него понапрасну. Он тебе не поможет.
Неожиданно Старик поднимает голос:
— Он хоть, по крайней мере, поздоровался с отцом, не то, что некоторые — не будем их называть по имени, кто думает, что их вообще не рожали, а они с неба свалились готовенькие — с бородой и прочим хозяйством.
123
Тонгуна снова фыркает и обращается подчеркнуто к Гарабхе:
— Ты для чего явился?
— Повидаться с Люцифером.
— А что тебе до Люцифера, интересно знать?
— Аи, Тонгуна, неужели нельзя раз в кои-то веки оставить его в покое? — говорит Старик.
— Я оставлю его в покое, а кто научит его уму-разуму — другой отец?
— У него все будет хорошо. У него уже все хорошо.
— Гроша ломаного не стоит такое «хорошо»!
— Видно, я тебе больше не отец, что ты при мне выражаешься?
— Тебе сто раз сказано: в твои годы только к своей утробе лезут с советами.
Старик крепко сжимает тесак и заносит руку.
— А ну, повтори, — говорит он очень тихо, — или, может быть, я ослышался?
Тонгуна, не обращая внимания на отца, опять поворачивается к Гарабхе.
— Уходи, Гарабха. И чтоб я тебя больше здесь не видел. Ступай туда, откуда явился, — это там у тебя, надо думать, настоящие отец с матерью. Ступай-ступай! Пошел отсюда!
Гарабха хочет подняться, но Старик удерживает его.
— Да уж, ты — отец, так отец, — говорит он Тонгуне. — Кто еще в целом свете зовется мужчиной, кроме тебя? Кто, кроме тебя одного, зачинал детей? Кто еще рожал их в муках? Верно я угадал? Не эдак ли ты все себе рисуешь? Говорить парню при мне такие слова! Видно, я тебе не отец, и все, что ты в жизни знаешь, досталось тебе от матери? А я для тебя — просто старый дурень, который неизвестно с какой стати объедает тебя? Сижу здесь, лодыря гоняю день-деньской да подбиваю парня тебя не слушаться? Эдак ты все себе рисуешь? Ну что ж, давай. Говори ему слова. Говори слова, и он завтра же приведет тебе сноху, он наймется на работу в городе, и все твои мытарства и невзгоды разом сгинут, точно их не бывало. Ну, давай же! Говори ему слова! Эх, ты! Тебе бы нужен язык раза в два длинней, чем у твоей матери, чтобы еще шибче сыпать словами! Говори их ему целый день, всю ночь, сто лет подряд, и он переменится, ведь не зря же тебя учили, что все перемены проистекают от болтовни. Эх, ты! Вот он перед тобой — говори, отец из отцов!
Яростно дернув кадыком, Старик собирает в единый сгусток всю накопившуюся в нем желчь и с остервенением харкает в огонь.
124
Ни разу за время своей тирады он не возвысил голос, произнеся ее почти шепотом, но сейчас, когда наступило молчание, I арабха и Тонгуна сжимаются, точно ожидая раскатов грома.
Еще не вполне веря, что Старик сказал все, они одновременно поднимаю!' голову и — хотя каждый дорого дал бы, чюбы этого избежать, — встречаются глазами. Гарабха снова поспешно упирается взглядом в землю между своими ногами. Гонгуна, который все это время сидел на корточках, встает и, косолапо волоча ноги, точно учится ходить, тащится прочь.
Вслед за тем, как бывает после грозы, воцаряется тишина.
Еще раз прочистив горло, Старик вновь принимается за работу со словами:
— Там у стенки есть початок маиса. Ты пожарил бы себе зерен, а?
Гарабха качает головой. Опять наступает молчание.
Гарабха предается ему с отрадным чувством. Молчать в присутствии Старика всегда приятно, а сегодня, после бурных объяснений — в особенности. В этом молчании Старик как бы отдаляется куда-то. Гарабха зорко следит за ним и чувствует, как к нему самому приходят покой и ясность.
Старик приветствует молчание вздохом. Столько разговоров, и все попусту, думает он. Когда это слова что-нибудь меняли, если только в тебе самом не заложена возможность перемен? Пустое занятие все эти разговоры. А не сказать — тоже было нельзя. Все, что им сказано, при таких же обстоятельствах, какие вызвали его на это, он готов повторить где угодно и когда угодно. Есть и другая причина, почему это было нужно. Теперь ему можно долгое время оставаться наедине со своими мыслями, не чувствуя надобности сообщить их кому-то.
Однако молчание оказывается коротким.
«Дзинь!» —доносится из кухни пронзительный звон разбитой чашки и не менее пронзительный детский голосок Шада:
— Мне! Дай мне!
Вслед за ним — раздраженный окрик Тонгуны: •
— Замолчи сию минуту, или вон за дверь!
И примирительный голос Раины:
— Сначала старшие. Шад. Подожди, и до тебя дойдет черед.
Но теперь Шаду вторит Кизито, и Гарабха со Стариком слышат, как щелкает кнут в Тонгуниных руках, гуляя по мальчишеским спинам.
Старик сплевывает на стружки.
— Здоровые ребята, а озорничают хуже маленьких. А он с этими и то не совладает. Отец называется!
125
Теперь слышно, как вступает Люцифер:
— Будешь крик поднимать, Шад, не поедешь со мной в Солсбери. Ты тоже хорош, Кизито, не стыдно тебе? Ты же взрослый малый. Вот возьму да не повезу вас на автобусе в Солсбери, не покажу вам машины, магазины, не покатаю на большом колесе в Луна-парке. И не будет вам, плаксам, ни конфет, ни печенья, ни красивых ботинок, ни рубашек.
Вот чем добиваются мира в доме, с грустью отмечает Гарабха. Кнут из воловьих ремней устарел.
— Ну, а ты что об этом скажешь? — спрашивает Старик Гарабху.
— О чем «об этом»?
— О новом языке, которым он разговаривает, новом способе унять дитя, когда оно плачет. Нас, бывало, стращали в прежнее время лесной нечистью — придет, мол, и съест. Сегодня ребенок больше не плачет, когда ему посулят что-нибудь такое, что принесла новая жизнь,—конфету, печенье. — Старик умолкает.
Гарабха пока не понимает, к чему он клонит. Старик машет рукой и продолжает:
— Вот что сейчас у меня на уме, а еще то, что вчера говорил Джон. Я, пожалуй, тебе расскажу, о чем думаю. Лучше тебе рассказать задаром, чем кому-то за славу и деньги, о которых болтает Джон. — Старик крутит головой, смеется и, оборвав смех, прибавляет: — Я, кстати, давно бы тебе это все сказал, да боялся, не поймешь. Ну, а теперь, когда я тебя попотчевал прадедовым снадобьем, невредно будет тебе, я полагаю, отведать и моего.
Старик опять смеется и, откашлявшись, начинает.
Глава тридцатая
— Завел со мной Джон вчера разговор,—начинает Старик.— Не хотел бы я причинять ему огорчение, но тут такое дело: он меня уговаривал потолковать кое с кем из его друзей. Неохота мне огорчать его, как я уже сказал. Неохота говорить ему вещи, которые заставят его призадуматься о другом. А сказать придется вот что — не свой, чужой барабан у него между колен. Это не человек, а непролазные джунгли замыслов и расчетов, и яду в нем больше, чем во всех змеях и корешках, какими богаты джунгли.
— Я не забыл, как он обманом отнял у своего брата Поля жену и дом. Предал родную кровь! Разве забудешь такое? Легко ли мне с этим оставаться наедине из ночи в ночь? — Молчание.
126
I паза Старика устремляются вдаль. Гарабха напряженно следи । за ними. Вот они медленно возвращаются к тому, что |десь и теперь, и от того, что приносят с собой, на лице у Старика резче проступают борозды и морщины. От того, что они приносят с собой, узлы и шишки вспухают на старых руках, мозоли вгрызаются в жесткие ладони, длинные пальцы, ссыхаясь, искривляются, точно крючья. И вот уже глаза уходят » землю, теряются там, и Старик полушепотом продолжает: — Нет, такое не забывается, хотя весь свет перевернулся вверх дном. Я скажу ему кое-что о том новом, которым он так ослеплен. Скажу вообще о новом, у которого нет корней в той почве, на которой я стою. О том, чем вообще важно, примечательно, чревато новое, которого всходы еще никто не видел. Правда, от нового есть целебные средства, но эти средства всегда находят с опозданием, — когда хворь укоренилась, расползлась, разрослась, как джунгли. — Молчание. Глаза отрываются от земли. На этот раз они не блуждают вдалеке, а словно бы посылают стрелу прямо в цель. Старик продолжает, и чувствуется, что к нему вновь приливают силы.
— Завел это, значит, Джон со мной разговор. Что, мол. есть у него знакомые люди — друзья. И затеяли эти люди одно дело, чтобы принести, — говорит он,— всему народу счастье. Что за дело, я толком не разберу, но, думается, наподобие того, за которое посадили его отца и брата. Короче, он говорит, эти друзья желали бы побеседовать со мной.
«И насчет чего же?» — спрашиваю.
«Да вот хотелось бы им послушать про то, как ты дрался с белыми, когда они поперву пришли в нашу страну».
«Ну, расскажу я им, а что дальше?»
«А дальше поместят в книгу, и, как знать, может, она принесет тебе славу и деньги».
Славу, говорит, и деньги. И так он это сказал, что сразу видать — только это одно его и занимает. Богатство и слава. Будто в них — все. Будто не видали мы, как часто они приносят погибель. А даже если бы я и уважил его просьбу, много ли он со своими друзьями может сделать? За оружие, что ли, взяться и пойти сражаться против белых? Да их победят еще до того, как они выстрелят первый раз. Их уже победили. О каких сражениях речь, когда ты обеими руками ухватился за вражеских богов и поклоняешься им? Каждый раз, когда я вижу, как моя жена Джапи берет пригоршню сахара, я чувствую заново, насколько окончательно и бесповоротно покорил нас белый человек.
Другое дело — мы, нас победили, но в честном бою. У нас еще были свои боги, и мы гордились ими. И оттого, что за
127
этими богами для всех для нас стояло одно и то же, мы как один человек поднялись на борьбу против белых. Мы дрались с ними не потому, что просто охота пришла подраться, — нет. Они наше радушие посчитали за дурость. Мы встретили их угощеньем, а они нас отблагодарили пулями. Вот она где, дурость, — кто обгадит свой насест, у того курячьи мозги, как скажет твоя бабка Мандиза. И тогда мы пошли с ними драться. Люто дрались. Четыре дня и четыре ночи не давали им покоя под Гараповым холмом. И все же они одолели нас.
В тот год совсем не было дождя. На Землю было пролито слишком много крови, и она прогневалась. Мы голодали. Стали наши — и таких было большинство — сдаваться врагу. И это они, — хмельные от невиданного пива, которым их напоили белые,— это они, свои же, наши, показывали дорогу, когда белые стали охотиться за теми, кто сумел унести от них ноги. До меня эта весть дошла раньше, чем о ней возвестила ружейная пальба, мы с двумя друзьями незаметно выбрались из пещеры, куда схоронились, и ходу сюда, в тот край, где живем теперь.
После мы услышали, как белые поступили с теми из наших, кого смогли изловить. Правда это, нет ли, не скажу. Но те, кто видели, клялись, что нашим людям отрубали головы, клали в банки с каким-то настоем и отправляли в ту землю, откуда пришли белые. Не минул такой удел и нашего вождя, Ише Ма-ромо. Из его головы изготовили белые то всесильное снадобье, которым нас довели до нынешнего нашего положения.
Сегодня мы спрашиваем — где мы есть? Кто мы такие? Что сделали худого? Только и слышишь со всех сторон, как белые измываются над нами. Снова, и снова, и снова. Слышать мы слышим, но видим ли? Мы все равно что слепые. Слышим, но разве слушаем? Мы все равно что глухие. А почему? Да потому, что бьем во вражеский барабан. Такой поднимаем грохот на вражеском барабане, что не слышим даже, как стучат наши собственные легковерные сердчишки. Каждый раз, как гы пьешь этот самый чай, чьему богу ты воздаешь хвалу? Каждый раз, как слушаешь говорящий ящик, на чей алтарь возлагаешь жертву? И если дети растут под такие посулы, какие мы только что слышали, — вот вам дадут конфет, печенья, — то какого бога, помимо этого, будут они знать и чтить?
Вот о чем пускай себя спросит Джон и его друзья раньше, чем идти ко мне. Вот они чего не знают, а раз не знают, то проиграют свое сражение, не успев даже начать его. Потому что не знают, за что дерутся. Мы-то знали. Мы оскопляли белых, сбрасывали их в Муниаги-ривер за то, что они со своей бабьей жадностью недостойны называться людьми. Мы гово
128
рили: вот вам место, стройте, земля принадлежит Земле, ее хватит на всех. Но жадность лишила их людского подобия. Мы никак не могли понять, зачем им так хочется назвать все кругом «мое, мое, мое». Они вот чего не знали, а мы знали, оез этого мы бы не выжили, что мы ничем не владеем, и не хи-I роумием своим мы живы. Всем владеет Земля. А они все крушили и рушили и все рвали себе. Для них не было святого. А с гем, что свято для нас, они не считались. Что же нам еще оставалось, как не драться с ними? Мы дрались, и вот что сталось с нами сегодня. Для тех из нас, кто видел эти сражения, наши жилища и житницы пылают по сей день.
Пасть в бою, полагают иные,— это самая лучшая смерть, а наихудшая смерть — сгинуть от бессилия...
Вот почему, я не стану слушать никого, кто рассуждает, как Джон, кто борется против белых, а сам поклоняется их 6oiaM. Потому что всякий, кто станет на этот путь, кончит тем, чем кончил Квари.
Квари послал на гибель столько наших людей, что не счесть и не простить. И за это получал от белых деньги. Он служил им, как пес. Делал за них грязную работу. Если он обьявлялся в деревне, значит жди, что завоют женщины, у которых он отнял мужей, заплачут дети, чьих отцов он послал на смерть. От него шарахались, как от прокаженного. Не было \ Квари ни сострадания, ни совести, он был хуже своих хозяев. А уж мнил о себе! Он служил белым, как пес, и, как пес, мнил, будто он хозяин!
А потом пришла Большая война. Кайзерова война — так ее называли. Наравне с многими из наших. Квари тоже угнали воевать за короля его хозяев. Уходил со всеми вместе — пел песни, но назад вернулся один. Приполз как-то под вечер в деревню, точно издыхающий пес. Ему выдали толику денег, но их хватило ненадолго. Его ранили, он ходил на костылях. К ночи он становился буен, как сумасшедший. Спать не мог. Он порол незнамо чего, поливая грязью и земляков, и хозяев. Сам не ведал, что мелет его язык. И ничего не имел за душой. Его хозяевам, какие уцелели на войне, пожаловали тысячи акров земли. Ему же, верному псу, не швырнули и кости. Он сунулся к нам, но мы его знать не желали. Тогда он снова пошел к господам, которым так исправно служил, и они плюнули ему в лицо. Его гнали, а он не уходил, и пришлось в конце концов его хозяевам поступить с ним, как с искалеченным и бешеным псом — его убили. Обвинили в изнасиловании и застрелили... Его дети и родня отреклись от него... Вот что получается, когда играешь на чужом барабане.
Долгое молчание., И затем:
5 Альманах «Африка1», вып. 6
129
— Да. Я заговорил с тобой об этом, потому что знаю, когда-нибудь это тебе поможет. Времена и события меняются — люди, по-моему, не меняются вовсе. Ты только помни, что я сказал, и все невзгоды минуют тебя, поскольку ты будешь играть на своем барабане. Может быть, тебе и не суждено дожить до того дня, когда этот край опять отойдет к тебе, но это для нас с тобой не беда, лишь бы ты оставался при собственном барабане. Играй на нем с усердием, слушай, о чем он говорит, поступай, как он тебе скажет, — этого довольно. Пусть нашим краем, нашей землей, владеют те, кому так приспичило, — они ли, другие ли. Ты, знай, сберегай в себе сердце. Настанет время, и ты тоже будешь знать: все, что растет на земле, что ты видишь снаружи, сперва прорастает в сердце. Что бы ни росло снаружи, все быстро увянет и зачахнет, если сперва не пустит корни в сердце. Снаружи они тебя в силах тронуть, но сердце твое они тронуть не могут. Вот это и есть твой барабан. И мое снадобье для тебя...
Теперь, когда сказано главное. Старик чувствует себя опустошенным. Странным образом и Гарабха себя чувствует опустошенным. Никогда еще Старик не говорил с ним так пространно. Не все, что им было сказано, вполне дошло до Гарабхи. Но его это не тревожит. Отголосок роди гея потом. И когда это случится, он тотчас поймет, что его породило. Когда говорит Старик, его слышишь не ухом, думает Гарабха. У него мурашки пробегают по коже, внутри него воцаряется глубокая тишина. Та самая тишина, какую он ощущает в себе, когда играет на барабане, а люди танцуют, повинуясь его велению. Это ощущение безмолвной власти. Власти, которая не заражает его надменностью или тщеславием. Это власть иного порядка, она душит его, и дать ей выход можно только в диком, утробном рокоте барабана. Пред лицом этой власти сам он мал и ничтожен, и. однако, она же наделяет его уверенностью, что ему по плечу любое дело, за какое бы он ни взялся.
Но едва в нем окрепнет такая уверенность, как Старик, договорив, умолкает, разбредаются танцующие, и он снова один, а уверенность разлетается вдребезги. И с небывалой сичой ощущается нажим извне. Податься некуда. И негде найти слова. Нашлись бы слова, можно было бы, по крайней мере, рассказать Старику, спросить, какой во всем этом смысл.
Так и не узнать Старику, каково это, когда ты совершенно беспомощен, наг перед целым светом. Так и не узнать Старику о безмолвной и зыбкой власти, с которой во мгновение ока невозможное становится возможным, о том, как важное становится неважным и наоборот — все важно и все не важно в одно
130
и го же время. Так и не узнать Старику, что жизнь является I арабхе во всем ее многообразии, где все в равной мере важно, где выбирать что-то одно — значит напрасно тратить время, а самое лучшее — выжидать, ничего не делать. Не выбирать, а подстерегать.
Все так, но сколько можно ничего не делать, когда ты мужчина? Сколько можно, когда ты мужчина, играть на барабане?
— Ты держись своего барабана, — говорит Старик.
А как же мой долг перед всеми? Как же семья — жена, дети, работа?
Но эти слова не идут на язык Гарабхе. Он поникает головой, как цветок на сломанном стебле.
И Старик, в молчании следя за ним глубокими, горящими глазами, протягивает руку и касается его плеча.
Глава тридцать первая
Солнце село. Ветер гонит по двору пыль. Соседи, начавшие собираться на прощальный вечер еще с четырех часов, толпой идут в дом. Гарабха остается во дворе возле очага, они со Стариком пробуют барабаны. Голова у него пустая, ему очень весело. Выпил он немало, однако не пьян. Так с ним часто бывает, когда он что-то задумал.
Весь день он пытался поймать отца и перекинуться с ним хоть словом, весь день после давешнего разговора со Стариком.
Все сидят в общей комнате, только отца нет, он не любит этих сборищ с пивом. Где он скрывается, никому не известно, но Гарабха знает: как только гости разойдутся, он объявится. Тонгуна и вообще не хотел созывать народ, да разве одному всех домочадцев переспорить? Он и ушел, заявив, что они своими руками выдают Люцифера врагам. «Слыханное ли дело — называть соседей в лицо врагами? — возразила Мандиза. — Завтра тебя будут спрашивать, куда девался твой сын, и что ты ответишь людям? Нет, Тонгуна, так не годится. Купи пива, созови соседей и объяви им, что сын уезжает за большую воду! Скрыть от них такую важную новость, уехать, ни с кем не попрощавшись, — да уж лучше прямо войну объявить! А кому нужна война, когда сын на край света собрался ?»
И пиво было куплено. Но платили за него Старик и Раина, Тонгуна отказался бросать деньги на ветер, у него их и без того мало.
5*
131
Подвыпившие гости говорят все разом, гул голосов летит через двор туда, где сидят Гарабха и Старик.
— Кто позвал Кутсваку? — спрашивает Старик.
- Я.
— Приглядывай за ним.
— Да что ты. столько народу собралось, неужто он станет напускать чары?
Старик лишь пожимает плечами.
Гул пьяных голосов доносится до них точно из другого мира. То и дело кто-нибудь заводит песню, но она тонет в громком гомоне, певец начинает снова, потом обрывает пение и с пьяной настойчивостью требует, чтобы все пели вместе с ним. Но никто его не слушает, и тогда он принимается поносить болтунов, которые не желают петь в такой важный день.
— Дядя Куруку сказал, что не придет, ему куда-то надо по делу, только я забыл, куда, — говорит Гарабха Старику.
— Ну и хорошо. А то он меры не знает, напьется и драку затеять норовит.
Гарабха легонько бьет по барабанам — проверить, туго ли натянута кожа.
— Готовы? — спрашивает Старик.
— Почти.
— Насыпь сверху песочку.
Гарабха сыплет на кожу песок и спрашивает Старика:
— Ты пойдешь?
— Да разве я когда-нибудь бываю, на таких сборишах?
— Послушал бы, как я буду играть.
— Я тебя и здесь услышу.
— Поглядел бы, как люди танцевать будут.
— Эту их толчею ты называешь танцем? Нет, танцы я теперь здесь гляжу,—Старик подносит руку к голове, — друг их мне не надо.
— Нет так нет, — говорит Гарабха. Он-то мечтал, что Старик придет слушать его игру и потом они будут обсуждать ее. Он делает еще одну попытку: — Подбодрил бы меня.
— Вот придумал! У тебя смелости на пятерых хватит, сам знаешь. А я тебя только смущать буду. Ведь когда играешь, надо чувствовать себя ото всего свободным. Ступай, все тебя ждут. И помни — народ должен разойтись пораньше, мы же еще позвали Матандангому.
Гарабха берет барабаны за кожаные ремни-и несет их в дом
— Гарабха идет! — кричит чей-то голос.
— С барабанами! —подхватывает другой. Все умолкают и хлопают в ладоши.
132
- Кожа хорошо натянута? — спрашивает кто-то.
- Разве Гарабха когда-нибудь играл на слабо натянутом оарабане? — говорит Кутсвака, и все смолкают.
Через минуту кто-то предлагает:
— Дайте Гарабхе пива! Эй, Масанго, передай нам пиво...
— Сначала усадите человека!
— А я решил: пусть сначала выпьет, так ему легче будет место найти.
— Пусть сначала выпьет — ха-ха-ха! Вечно у тебя выпивка на уме!
— Эй, подвиньтесь, надо музыканту место дать!
Все взволнованы приходом Гарабхи с барабанами, в комна-ie гвалт, суета; наконец Гарабха устраивается среди мужчин. Женщины сидят напротив, по ту сторону очага.
— Надо разжечь огонь поярче! — требует кто-то.
— Бетти, живо за поленьями, принеси можжевеловых,— командует Раина.
Бетти поднимается и идет во двор, а Р-тина кричит ей вслед:
— Да позови к нам Люцифера!
Кто-то из мужчин затягивает неверным голосом что-то невразумительное. Поет минуты две, полузакрыв глаза, потом спрашивает, ни к кому не обращаясь: «Никогда эту песню не слышали, верно?» Но никому нет до него дела, все разговаривают с соседями, перекликаются через комнату. Певец знай себе поет.
Наконец кто-то обращается к нему:
— Ну и песня! Где ты подхватил это дерьмо?
— Koi да я ездил в Йоганнесбург...
— Со старушкой Джапи? — насмешливо перебивает его сосед.
— Не веришь? Меня там ножом пырнули, могу показать ш рам!
— Эй, вы, хватит шуметь, давайте что-нибудь споем!
— Верно! Давайте петь!
— А где парень, который уезжает?
— Дочка за ним пошла, — объясняет Раина. — Он лежит с обеда, голова разболелась.
— Ай-ай-ай, бедняжка!
— Молодежь называется — голова у них болит!
— А лекарства ему дали?
— Бабушка ему принесла, только он пить не стал.
— Ну и зря. Надо было дать ему таблетку. Настой из кореньев этих ученых , детей пить не заставишь. Возьмите хоть моего сына...
133
— Умный больно!
— Мудрость отцов в грош не ставят.
— Эй, мудрецы, вы что, совсем петь разучились? Тогда я буду петь один!
— На здоровье, только подожди, пока огонь разгорится, хоть увидим, как ты рот раскрываешь, — у рыбы и то голос громче.
Все смеются.
— Время идет, ночь на носу, — говорит порывающийся петь, не обращая внимания на насмешки.
— С каких это пор тебя заботит время? Ты же его сроду не замечал: люди давно сеют, а тебе все кажется, что на дворе зима.
— А что мне, у меня жена есть, пусть она работает!
— Говорят, жена тебя бросить собирается. Наведался бы ты лучше к знахарю, попросил средства от немощи.
Взрыв хохота.
Появляется Люцифер, за ним идет Бетти с поленьями.
— Вот он, герой!
— Эй, дорогу королю!
— Это он уезжает за большую воду?
— Он. Каково? Я тебе всю жизнь твержу: «Отдай детей в школу!» А ты всегда: «Нет у меня денег». Теперь помирай с зависти: Тонгунин сын за большую воду едет, а твои дети что? Мышей целыми днями гоняют, больше ничего не умеют.
— А твои дети где?
— Мои пока дома, они еще маленькие, но попомни: все они до единого тоже поедут за большую воду.
— Расхвастался — мои дети, мои дети! Спроси лучше свою жену, чьи они, может, опа тебе скажет!
— Что-о-о?! Да я тебе сейчас голову оторву!
— Эй, вы, петухи, хватит ссориться!
— Не обращай на них внимания. Вечно они так — выпьют глоток и пошли похваляться своими... ни у кого в мире нет таких!
— Эй, не распускай язык, тут женщины сидят, забыл?
— Кто хочет скандалить, пусть убирается вон, у нас ему делать нечего. Сегодня такой день! Что парень будет рассказывать о нас своим заморским друзьям? Собрались соседи его провожать и перепились, как свиньи!
— Верно, Мапоса, верно! Нельзя сегодня напиваться и скандалить. Мы собрались, чтобы проститься с. одним из наших сыновей, он уезжает не на один год, может, и вообще его больше не увидим, хорошее же воспоминание увезет он о нас на чужбину!
134
- Эй, женщины, запевайте песню!
— Прощальную!
— Не надо прощальную, ее впору на похоронах петь. Спой-ie что-нибудь веселое!
— Человек на чужбину уезжает, чему ж тут веселиться?
— Боевую споем, какую-нибудь из наших старых боевых несен!
— У этого вечно война на уме, только бы драться да воевать!
— А разве мы не на войну парня провожаем — сражаться с белыми в их собственной стране?
— Не сражаться он едет, дурья башка, а книги читать.
— Читать книги? Из него же отличный солдат получится! Слыхано ли дело — тратить деньги, ехать в такую даль, и потом читать книги? Книгами сыт не будешь, их на себя не наденешь и дома из них не построишь.
— Нет ума, так уж молчал бы лучше, не срамился.
— Песню, хотим песню!
— Да, да, давайте петь!
- Что кричать без толку, спросите лучше Люцифера, какую песню он хочет послушать.
— Правильно, надо его спросить!
— Это моя жена догадалась!
— Вот именно — жена. Сам-то ты ни до чего догадаться не можешь, она у вас в доме всем и заправляет.
— Зато я ей детей делаю, это поважнее всего прочего.
Слова его тонут в громовом хохоте: вся деревня знает, что он давным-давно немощен.
— Какую тебе спеть песню, Люцифер? — спрашивает Раина.
— Да все равно.
Все как по команде поворачиваются к Люциферу.
— Ты шутишь, — удивленно говорит кто-то из сельчан. Другой подхватывает:
— Мой сын мне целыми днями покоя не дает: спой ему ту песню, спой эту. Ну же, не стесняйся, говори!
Но Люцифер молчит.
— У нас столько песен, есть ведь среди них такая, которую тебе хочется слушать без конца?
Люцифер качает головой, и гости в изумлении смолкают. Потом чей-то голос произносит:
— Говорил я вам: ума у этих нынешних детей никакого...
— Интересно, кого мы спрашиваем — сына Тонгуны или тебя?
— А что, я не могу сказать, что я думаю?
135
— Это ты-то думаешь? Да ты столько пива выпил — того и гляди лопнешь! А туда же, петь собрался!
Гарабха негромко спрашивает:
— Где бабушка Мандиза?
— Ай да Гарабха — хорошо придумал! Где старушка?
— А я что говорил? Вы без старухи шагу ступить не можете.
— Тут все такие умные, столько советов надавали, голова кругом идет.
— Эй, позовите Мандизу!
— А где она?
— У себя.
— Бетти, беги позови бабушку.
— Это надо же, столько народу собралось, и никто не может спеть песню, старуху дожидаются!
— Послушай сначала, как она будет петь, а Гарабха на барабане играть, потом говорить будешь.
— Да ведь вроде Гарабха и сказал, что ее позвать надо.
— Я раньше Гарабхи говорил, я первый...
— Да уж языком болтать ты всегда первый!
— Скажи-ка мне, сынок, сколько гы там проживешь, в этой твоей загранице?
— Не знаю.
— Как, разве тебе не сказали?
— Приеду, тогда и скажут.
— А я знаю, сколько он там пробудет! Пять лез. а то и шесть, не меньше. Помните сына Мадондо? Он вернулся аж седым.
— И привез жену, которая на его родном языке ни слова не понимает. Этот тоже там женится, помяните мое слово!
— Потому-то, наверное, все нет и нет дождя. Наши сыновья разум потеряли, Земля и разгневалась. Что же, разве она не права?
— Ну уж нет, у нашего Люцифера есть голова на плечах, он такой глупости не сделает.
— Поживем — увидим.
— Скажи нам, Люцифер, неужто ты привезешь своей матери невестку, которая не умеет высморкаться пальцами?
Люцифер молчит.
— Ну вот, видите — он не такой.
— Конечно: не такой, как мы. Он теперь заодно с белыми, это и слепому видно.
— Неправда, он-то нас не забудет! Я его с рождения знаю, и вот что я вам скажу: будь у меня дочь на выданье, я бы ей выбрал в мужья Люцифера, лучше парня не найти.
136
— А он пока не собирается жениться. Не забивай ему голову глупостями. Молод он еще.
— Эй, люди, вы только послушайте Масанго! Он говорит, Люцифер слишком молод! Ха-ха-ха!
— Да, наши ребята рано мужчинами становятся. В двенадцать лет уже на наших жен зарятся.
- Бесстыдник. Кондо, ведь здесь женщины!
Женщины хихикают и перешептываются.
— И все равно гы прав: в наших детях завелась червоточина.
— К матерям у них уважения нет, вот в чем беда.
— А матери сами виноваты, балуют их, портят. Дети и сорят деньгами, будто городские.
— Ходят в пивные, вино хлещут. В городе магазинов полно...
— Погодите, то ли еще будет!
— Я вчера юворю дочери: «Не доведет тебя до добра этот твой город, доиграешься!» И знаете, что она мне в ответ? «Доиграюсь — к тебе за помощью не прибегу, сама знаю, что делать!» И это родная дочь, каково!
— Разве не я сказал: го ли еще будет! Даже почтенные матери, старухи, с ума посходили: лицо посыпают белым порошком, будто птица на них нагадила, волосы дыбом стоят — ни дать ни взять дикобраз. «Ах, мы в женский клуб идем!» — говорят.
— Там их учат шить? чинить и лагать, стряпать, содержать в чистоте дом. ублажать мужчину...
— Кондо, бесстыдник! Совсем совесть потерял!
— А служители бога пример показывают. Слыхали про отца Макасу? Он исповедовал жену Кварамбы у нее дома, в постели. а муж их застал.
— Приимите тело грешного отца Макасы!
— Кондо, да замолчишь гы наконец!
— Ох уж этот Кондо, выпьет глоток и пошел куролесить. Свет не видал такого бабника.
— Как не видал? А его отец?
— За это он и поплатился жизнью.
— А сначала сан вождя потерял из-за дочери бродяги, влюбился в смазливую девчонку.
— Эй, Кондо, сколько у твоего отца было жен?
— Я знаю пятнадцать.
— Скажи лучше сто пятнадцать! Откуда тебе их всех знать, ты ведь родился от седьмой, шестерых он успел уморить.
— Да уж, отец не знал устали...
— С бабами... Зато в поле его, бывало, не увидишь.
137
— Ну и что, я его не осуждаю: руки не доходили...
— Мандиза идет!
— Наконец-то! Эй вы, пропустите Мандизу!
Шаркая ногами, входит Мандиза, за ней следует Бетти.
— Здравствуй, женушка, как поживаешь?
— Это каким же образом Мандиза сделалась твоей женушкой, Кондо?
Мандиза смеется.
— Ты здесь, Кондо? — спрашивает она.—Да, он муж всех дочерей Канденгвы, ведь дед его женился на нашей старшей сестре...
— Как же так, мама? — перебивает ее Раина.—Не ты ли мне говорила, что Кондо тебе зять, что за него выдали дочь твоей двоюродной сестры...
Мандиза задумывается на минуту, потом говорит:
— Верно, и зять он мне тоже. Кем мы только друг другу не приходимся! В старину все помнили: и родство, и свойство. Например, мой сын мог быть мне одновременно по жене племянником, мужем и зятем. Вся деревня была как одна большая семья. Вот это-то и главное — одна большая семья. Все знали своего будущего мужа и жену с детства. Потому-то и жили гораздо счастливее.
— Да, сейчас совсем не то...
— Это я тебя позвал, бабуля, — говорит Гарабха,—пожалуйста, помоги мне. — И он указывает на барабаны.
— Надо было Кондо попросить, — смеется Мандиза. — Чем не помощник?
Все хохочут: голос у Кондо грубый, оглушительный, поет он — будто бык ревет, все уши затыкают.
— Э нет, я свой голос берегу — буду на твоих похоронах петь, — отвечает Кондо, и все присутствующие хлопают в ладоши.
— Какую же мы споем песню для твоего внука? — спрашивает кто-то.
— Как какую? Конечно, охотничью, — говорит Мандиза.— Песню его великого пращура Самамбвы, Повелителя Множества Собак. Ведь мальчик-то собрался на охоту, верно?
Кондо хлопает в ладоши и радостно подхватывает:
— Еще бы не верно! Как это я сам не додумался! Матушка Мандиза качает головой и говорит, посмеиваясь: — Ах, муженек, муженек, а детей такую кучу сам додумался народить, никто тебе не подсказывал?
Взрыв хохота. Наконец все отсмеялись и смолкли — пора начинать. Гарабха рассыпает на барабанах дробь и делает первый удар.
138
Глава тридцать вторая
Мандиза начинает песню. Поет она негромко и протяжно, мало-помалу воодушевляясь вниманием слушателей. Гарабха тихонько отбивает ритм, только чтобы оттенить голос.
Плясать еще никто не начал.
— «Кто понесет мои стрелы и лук?» — нараспев спрашивает Мандиза.
— «В Долину Великой Охоты, хо-ха-хо», — вступает хор женщин.
— «Хо-ха-хо, в Долину Великой Охоты», — подхватывают мужчины.
Почувствовав мощную поддержку хора, Мандиза поднимается,—кто скажет, что это старуха, что у нее за плечами смерть? — и тотчас же встают женщины, увлекая за собой мужчин, низко, глухо рокочет барабан, а голоса поющих вопрошают, разделенные простором разлившейся реки:
— «Кто будет сражаться за меня, хо-ха-хо?
Кто убьет хищников, хо-ха-хо?
Кто убьет хищников в Долине,
В Долине Великой Охоты?»
Не переставая отбивать дробь, Гарабха перестраивает барабаны. И сразу же все замечают — тон ударов теперь другой.
Кондо встает и начинает медленно притоптывать ногами, вскидывает руки, как бы бросая копье в безмолвной пантомиме «Охотник на охоте». Еще двое мужчин присоединяются к танцу. Голова Гарабхи откинута назад, взгляд прикован к солнечному лучу, бьющему сквозь щель в крыше.
Теперь уже танцуют все, повторяя и повторяя однообразный мотив. До чего же он надоел Люциферу! Он и не чувствует, что самый воздух накален, что песня набрала могучую силу, поют ее совсем не так, как пели испокон веков: все выкрикивают вопросы, словно бы и не слушая друг друга, но строго соблюдая заданный барабаном ритм.
Гарабха закрывает глаза и склоняет голову к плечу — он весь обратился в слух. Вот одна женщина начала улюлюкать, за ней другая, третья... теперь все хлопают в ладоши... На лбу у Гарабхи выступает пот. Он сосредоточен и пытается поймать то, что уже близко, рядом, но ускользает, прячется. Он снова делает усилие, и в груди у него начинает медленно расти звук, он поднимается, ширится, подобно грому, сейчас он разорвет Гарабху на части! Гарабха изо всех сил борется, стараясь устоять. Лишь слабый стон срывается с его губ, когда ему наконец удается направить этот гром в руки. Уши его оглохли, глаза жгут слезы. Он чувствует, как его волосы шевелятся.
139
Сквозь слезы видит он танцующих мужчин, которые забыли обо всем на свете, кроме танца, видит Мандизу — Черный Дух Охоты, который ведет охотников вперед... Женщины раскачиваются из стороны в сторону, вены у них на шее набухли, как веревки... Сознание Гарабхи мутится...
Вся жизнь его сосредоточилась в голосах поющих женщин, это по его воле они звучат все громче, забирают все выше и выше, по его воле их руки плещутся, а глаза невидяще устремлены вдаль — сейчас он их властелин. Они покорны каждому удару его пальцев, каждому его движению, каждому вздоху, он может сделать с ними все, что хочет, — вот они безвластно колышутся пред ним, и только он один способен их освободить.
С Гарабхи вдруг словно спадают путы. Всех охватывает безумие. Одна из женщин высоко подпрыгивает и словно бы повисает в воздухе, потом как кошка опускается на землю, и в голове у Гарабхи взрывается что-то цветное, яркое. Все заливает тьма, ее прорезывает свет и освещает путь, который надо одолеть, глубины, в которые надо проникнуть. Какие-то диковинные звери с рычанием кидаются на него, он хочет закричать: «На помощь, помогите!» Но в голове что-то щелкает, он переносится далеко-далеко и теперь видит их — людей, они покорно пляшут, моля о милости, о пощаде... Все глубже погружается Гарабха в одиночество, и вот уже он больше не он, а основатель рода, великий пращур, о котором ему столько рассказывал Старик: «Великан он был, с красными глазами, волосы до колен, и не было у него ни семьи, ни друзей, все погибли в войне с соседними племенами на севере. Мир не знал другого такого меткого стрелка, он охотился со своими двадцатью собаками и питался мясом, резал его полосками, вялил на солнце и ел без соли. Много лет скитался он по великим лесам севера, всегда один, и в конце концов разучился говорить, забыл даже, как звали отца с матерью и откуда он родом. И вот однажды забрел он к людям, которые жили на берегу Великого Северного Озера. Увидели его люди и испугались — очень уж у него дикий вид и слишком много собак, не захотели, чтобы он жил с ними. Поэтому они принесли ему дары и попросили оставить их селение. Даров он не принял, но из селения ушел и отправился на юг, добывая себе пропитание охотой и прячась от врагов, хищников и людей, мимо селений которых лежал его путь; он шел день и ночь, останавливался только затем, чтобы напиться воды, освежевать тушу и провялить на солнце мясо.
Те, кто его видел, складывали о нем легенды. Друзей у него не было, зато врагов хоть отбавляй. Однажды какое-то племя
140
позвало его с собой, он отказался, и тогда эти люди пошли за ним. Он очень сердился, что они отстают от него; и в конце концов все погибли — кто от усталости, кто от укусов ядовитых змей, кого-то растерзали хищники, убили воины местных племен. Никто не достиг с ним Долины Великой Охоты и Бородатого Северного Леса. Охотник переплывал широкие реки, пересекал бескрайние пустыни, одолевал скалистые горы, при виде которых замирает сердце, но было ли сердце у великого охотника?
Вождь страны, куда его привела судьба, попросил его остаться и помочь их племени победить врагов. Охотник прожил там несколько лет, взял себе двух жен, прижил с ними несколько детей, но потом в один прекрасный день исчез: он больше не мог жить с людьми, ведь он был охотник, и никто, кроме собак, ему не был нужен — ни племя, ни семья, он знал один-единственный закон: убивай, иначе убью г тебя, и семьей своей считал диких зверей, деревья, озера и реки, горы. В его груди билось сердце бродяги, и любил он только своих собак.
И так. передвигаясь с севера на запад и на юг, пришел охотник в наши земли. Здесь он решил обосноваться и построил себе дом. Дом был на дереве, на высоком дереве муша-ва, из которого мы сделали тотем. Он сплел из веток три помоста, один над другим, и стал жить на верхнем, а внизу под деревом, которое он обнес оградой, бегали собаки. Никто не мог к нему подкрасться незамеченным, ни человек, ни зверь.
Так прожил он в одиночестве много лет. Спускался со своего дерева утром, когда всходило солнце, и шел охотиться, потом пил воду из озера, на дне которого потом нашел свою могилу, а когда солнце начинало склоняться к западу, снова залезал на дерево.
Услышав о нем, вождь местного племени пошел к дереву, но собаки разорвали его на части. Собрались старейшины, стали думать, как быть. Решили послать к озеру, куда охотник ходил за водой, красивую девушку.
Девушка охотнику понравилась, но он сказал, что все равно будет жить на дереве. Тогда она вернулась в деревню и велела готовить дары за нес, да чтобы не забыли про пиво.
Выпил охотник пива и захмелел; девушка стала говорить, что ее родные хотят подняться к нему и поговорить, пусть он крикнет, чтобы собаки их пропустили. Охотник согласился. Люди влезли на дерево, связали охотника и отвели в деревню, сыграли свадьбу и сделали его своим военачальником. Потом он взял себе еще несколько жен, и они родили ему много детей. Он жил в богатстве и почете, у него было все. что только может пожелать человек. Но бродяжий дух не давал ему покоя.
141
И вот однажды он исчез. Никто не видел, как он уходил. Где только его ни искали, но никаких следов так и не удалось найти — ни охотника, ни его собак. Как будто сквозь землю провалились.
Племя уже потеряло всякую надежду, как вдруг до жителей села донесся собачий вой. Люди бросились к озеру и увидели собак, они сидели на берегу и оплакивали своего хозяина. Охотник понял, что слишком стар и не может больше странствовать, и бросился в озеро. Теперь это озеро считается священным, из него он пил воду в тот первый день, когда пришел в эти края, здесь же напился в последний раз, перед тем как покинуть землю и отправиться к людям, которые ушли из этого мира раньше него».
Легенда кончилась. Теперь рассказ пойдет о нынешнем поколении семьи, и руки у Гарабхи тяжелеют, по телу пробегает дрожь, он начинает путешествие из тьмы времен, из глубины веков к настоящему. Он кажется себе таким маленьким, ничтожным, глаза увлажнены слезами, точно росой. В душе изнеможение и легкость. Барабаны смолкают. Гарабха откидывается назад, открывает глаза и обводит взглядом комнату. Мертвая тишина, люди вытирают слезы. Две женщины все еще кружатся, охваченные неистовством танца, одна лежит ничком на полу без памяти. Мандиза садится на пол, мужчины качают головой, не смея поднять глаз, пораженные чудом, которое только что с ними произошло.
И вдруг Гарабху охватывает чувство, что случилась беда. Где Люцифер? Его в комнате нет. А ведь Гарабха играл сегодня для него! Из глаз Гарабхи хлынули слезы; ничего не видя, он выбегает прочь. А гости остаются, они поют еще несколько песен, потом начинают разбредаться.
В душе у Гарабхи горькое отчаяние, чернота. Теперь он знает: он не способен ничего дать людям, как ни старайся. Вон даже Люцифера, брата своего родного, не пронял. Медленно подходит он к костру, возле которого сидит Старик. Он хочет только одного — заснуть и обо всем забыть. Завтра, чуть свет, когда все еще будут спать, он потихоньку исчезнет...
У костра рядом с дедом сидит толстуха. Она рассказывает что-то грубым мужским голосом, и ее огромная грудь колышется. Гарабха здоровается с ней и тяжело опускается на землю.
— Неважный у тебя вид, — замечает Старик.
— А он сейчас был у своего знаменитого пращура Са-мамбвы, — объясняет толстуха. — Видишь, какие у него красные глаза? — Она раскатисто смеется.
142
— Если он был у Самамбвы, он должен радоваться, — возражает дед, качая головой. — Нет, тут что-то другое, я знаю.
— Конечно, другое, — подхватывает толстуха. — Сколько раз я вам говорила: сварите пива, созовите народ и нареките парню имя его предка!
Старик смеется.
— А вот родители его считают, что ему надо жениться, завести детей и ходить по воскресеньям в церковь, тогда- все и уладится.
— Да уж, они ходят в чужой храм и молятся чужому богу, которому нет до них никакого дела, а своего собственного пращура, основателя рода, не желают почтить, забыли. И еще удивляетесь, что ваша семья совсем захирела!
— Я всех чту, Матандангохма.
Матандангома презрительно фыркает.
— Это ты-то чтишь? Не тебе говорить, не мне слушать такие речи!
— Не распаляйся, Матандангома, меня не проведешь,— насмешливо говорит Старик.—Ты хочешь набить эту свою огромную торбу деньгами, больше тебе ничего не надо. Вот и занимайся своим делом, а Гарабху не трогай, обойдется он без твоих кореньев.
Матандангома снова фыркает и, поднимаясь, говорит:
— Ладно, увидимся на твоих похоронах. Пойду выставлю этих пьяниц. Вам тоже пора, время позднее.
И, тяжело переваливаясь, шагает со своей черной сумой к дому.
Гарабха глядит, как на старом, в глубоких складках и морщинах, лице деда играют отсветы пламени.
Потом оба они тоже встают и идут за Матандангомой в общую комнату.
' Глава тридцать третья
В очаге жарко пылают поленья. Вся семья собралась у огня. Уже пропели первые петухи. Женщины сидят по одну сторону очага — Джапи, Мандиза, Раина, Матандангома и Бетти, против’ них мужчины — Старик, Тонгуна, Гарабха и Люцифер. Дети спят, их уложили, как только ушел последний гость.
Все женщины, кроме Джапи и Бетти, лущат орехи. Раина сидит в середине, Матандангома и Мандиза по правую сторону от нее, Бетти и Джапи — по левую.
Старик полулежит на земляной лежанке, за ним в полутьме примостились Гарабха и Люцифер, отец их сидит на табуретке чуть левее и впереди, ближе к огню.
143
Бетти положила голову матери на колени и слушает, что говорит Матандангома. Все слушают Матандангому.
Раина сталкивает Бетти с колен и ворчит:
— Улеглась, будто брюхатая! Помогла бы лучше орехи лущить!
— У меня на руках мозоли, я говорила тебе, ссадила, когда рис толкла.
— Слыхала? — спрашивает мать Матандангому.
Матандангома хохочет оглушительным басом и говорит:
— Моя Лючия еще хуже. Весь день вертится перед зеркалом: мажется, пудрится, то так причешется, то эдак. Бездельники нынешние дети.
— А зачем им работать, денег и так хоть отбавляй, — смеется Гарабха.
— По-твоему, деньги даром достаются? — возмущается Матандангома. — Я вон всех своих детей в школе учу, а самой надеть нечего. Мы все концы с концами не сводим, а ты невесть какую чепуху несешь!
— Да он так просто сбол гнул, не подумав, — вступается Тонгуна.—Что он знает о жизни?
— Пусть болтает,—говорит Матандангома. — Поглядим, какую он жену приведет в дом.
Гарабха смеется.
— Я, наверное, никогда не женюсь.
— Нет, вы слышали? — в ужасе спрашивает Раина.
Матандангома откашливается и плюет в огонь, потом вытирает рот и обращается к Гарабхе:
— Никогда так больше не говори! Видели мы таких: «Не женюсь, не женюсь!», а годы идут, глядь — голова уже седая, как у Макони. Столько народу вокруг тебя, и неужто все желают тебе добра? Они пьют с тобой, поют и пляшут, — неужто над всеми сияет солнце?
— Я всю жизнь ему твержу: «Ты слушай, что люди говорят, а сам помалкивай!», да что толку?
— Ты мне всю жизнь твердишь, чтобы я не пил с Кутсва-кой,'— отзывается Гарабха.
— Ты посмел произнести имя Кутсваки? — тихо, зловеще спрашивает Раина.
— Не смей называть никаких имен! — вторит ей Тонгуна, сердито глядя на Гарабху. Гарабха хотел пошутить, но отец обидел его своим несправедливым гневом, и теперь он тоже взрывается.
— «Не смей называть никаких имен!» Вот в том-то и беда! В нашем христианском доме нельзя называть ничьи имена. Вы и молчите, таите их про себя, а ночью, в самый глухой час,
144
шепчете их на ухо друг другу, от того-то и гибнет наш род. И еще удивляетесь, что я так редко бываю дома, что я сегодня приду, а завтра меня уж и след простыл. Вы все считаете, что я не в своем уме. А знаете, почему я не в своем уме? Знаете, отлично знаете, и все равно твердите: «Не надо называть имена!»
На скулах Тонгуны вздуваются желваки.
— Замолчи, Гарабха! — в ярости кричит он.—Сейчас же замолчи!
Старик закашливается. Матандангома прищуривает глаза и вкрадчиво спрашивает Гарабху:
— Ты, стало быть, не веришь?
— Я этого нс говорил.
— А что ты говорил?
— Уймись, Гарабха! — просит внука Джапи, но Гарабха ее точно не слышит:
— Что я говорил? А вот что: я для вас ничего не значу, вы смотрите на меня как на пустое место. Я не привел вам в дом невестки, и потому вы ничего мне не рассказываете. Столько всяких событий происходит, а вы о них молчок. Только без конца меня упрекаете. Почему же, почему я не могу высказать, как мне от всего этого тошно? Ненависть, суеверия, никто никому не верит, все друг друга подозревают и называют имена враюв лишь шепотом, за закрытыми дверями! Тошно приходить домой и чувствовать, что я вам чужой! Тошно слышать, что соседи ненавидят нашу семью, насылают на нашу семью порчу. Неужто мы не можем жить в мире и согласии? Стоит мне показаться, и вы набрасываетесь на меня с одним и тем же: «Когда ты наконец женишься?», как будто от этого я сразу стану счастливым...
Раина во все глаза глядит на него, протянутая к огню рука — поправить полено — застыла в воздухе. Наконец ее прорывает :
— А что, разве мы не правы? Отец твой не может работать в поле, ноги болят. В твои годы уже давно пора иметь семью, всякий тебе скажет. Почему же мы должны молчать? Почему не можем указать тебе, что гы поступаешь негоже? Разве мы тебе не родители, разве ты сирота безродный? Ты привел в дем девушку, которая оборачивается ведьмой по ночам и скачет верхом на гиене, все в деревне это знают, даже грудные младенцы, и я, по-твоему, должна была молчать? Должна была пойти наперекор всей деревне и позволить тебе на ней жениться?
-- Та девушка здесь ни при чем, — устало говорит Гарабха. Он понимает, что мать не убедишь, что объяснять, доказывать ей бесполезно. — Я вовсе не о ней говорю.
145
— А о ком же?
— О Кутсваке. Может, я с той девушкой и ошибся, но закрывать перед соседом дверь, указывать на него пальцами, распускать за спиной слухи, сплетничать — нет, это не по мне. Когда вы станете относиться к людям по-людски? Отцу следовало бы рассказать мне обо всем, что тут у вас творится, а вы все кричите на меня, будто я оборотень или привидение...
— Довольно, Гарабха,— прерывает его Мандиза,—ты ведь не знаешь, чьи глаза глядят на тебя из ночи и чьи уши слушают.
Раина поворачивает голову к Матандангоме:
— Ну что, каков сыночек у меня?
На виске у Тонгуны пульсирует жила с палец толщиной. Матандангома многозначительно вздыхает и произноси! с угрозой:
— Сам не понимает, что мелет его язык.
Тонгуна наконец-то обретает дар речи.
— Уходи, Гарабха! Вон из моего дома! Если слово отца для тебя что-то значит, ты сейчас же уйдешь, иначе я забуду, что ты мой сын, что я трудился тридцать ночей, чтобы зачать тебя.
— А я, Тонгуна, сорок ночей трудился, чтобы зачать тебя,—спокойно и твердо прерывает его Старик,—Всякий раз, как твой сын просит у тебя ответа, ты выгоняешь его из дому — долго ли это будет продолжаться, Тонгуна? Когда ты наконец поймешь, что он уже не маленький, и будешь разговаривать с ним без уверток, как мужчина с мужчиной?
— Значит, я во всем виноват? — кричит Тонгуна, потрясая кулаками. — Почему ты обвиняешь меня? Он мальчишка, сопляк, а я должен разговаривать с ним как мужчина с мужчиной?
Бетти встает и уходит из комнаты.
— Мои дети восстали против меня! Моя собственная плоть и кровь! — вопит Раина так пронзительно и громко, что Тошу-на вскакивает с табурета — седые волосы торчат дыбом, кадык ходит ходуном — и рычит:
— Ты слышишь, Гарабха? С глаз моих долой, иначе я...
— Успокойся, Тонго! — кричит Джапи,—Мало мы навлекли на себя бед своими глупыми ссорами, ты хочешь еще? Ведь у Земли есть уши, она все слышит.
— Пусть убирается!
Гарабха спокойно поднимается и делает шаг к двери, но Старик снова усаживает его и заявляет:
— Пока я жив, он не уйдет!
Воцаряется грозное молчание. Минуты через две напряжение спадает, и все вздыхают с облегчением.
146
Первой заговаривает Мандиза:
— Молод он еще, ума не нажил.
Матандангома согласно кивает головой:
— Что верно, то верно. Некоторые мужчины до старости доживут, а ум как у младенца.
— Почему вы все время затыкаете ему рот? — возражает Старик. — Вы даже не знаете, чего он хочет, как же вы можете его судить? Совсем заучили человека, а вы его лучше выслушайте. Выслушать иной раз важнее, чем дать совет.
Никто на это ничего не отвечает. Бетти входит в комнату и садится на свое место. Матандангома отпускает шуточку, и все хохочут, кроме Люцифера и Тонгуны.
Глава тридцать четвертая
— Бстги, подбрось-ка еще дров в огонь, — распоряжается Матандангома. Бетти выходит и возвращается с поленом. Семья переговаривается вполголоса.
Матандангома достает свой нюхательный табак. Воцаряется тишина. Матандангома нюхает табак и принимается чихать — раз, другой, третий. Все хлопают в ладоши в такт тому, что говорит Мандиза:
— Добро пожаловать, Секуру! Мы слышим тебя, Секуру, и рады, что ты пришел. Нечист наш дом, но, надеюсь, ты найдешь себе место и сядешь с нами. Ведь мы бедны, Секуру, у нас нет лишнего гроша...
Матандангома протягивает руку к своей суме, ставит ее перед собой и извлекает связку кореньев, пузырьки с какими-то темными порошками и маслами, пакетики из оберточной бумаги, и в них тоже порошки. Не отрываясь от дела, она приказывает:
— Дверь.
'Старик, сидящий ближе всех к двери, бесшумно ее закрывает.
Матандангома протягивает руку и требует:
— Воды.
Бетти подает горлянку с водой матери, а мать передает Матандангоме.
Раина шепчет что-то мужу, подавшись вперед к огню. Тонгуна шарит по карманам, достает пятьдесят центов, протягивает их жене. Раина передает деньги Бетти и шепчет ей что-то на ухо. Бетти встает, подходит к деду, опускается перед ним на колени и протягивает лежащие на ладони деньги. Но Старик качает головой и указывает на Мандизу.
147
Мандиза принимает деньги, просит Бетти дать ей деревянную доску, кладет деньги на доску и протягивает Матанданго-ме. Матандангома знаком велит ей положить доску на пол.
Все хлопают в ладоши.
Мандиза обращается к Матандангоме:
— Мы просим Целителя пожаловать к нам.
Мертвая тишина.
Матандангома глядит в огонь.
Все смотрят на нее.
Глаза Матандангомы стекленеют, голова медленно качается из стороны в сторону, и вот из ее уст вырывается низкий, точно рожденный под землей, рык, по телу пробегают судороги, она не может с ними совладать, но присутствующие начинают хлопать в ладоши, и корчи подчиняются ритму ударов. Удары становятся тише, глуше, и рык Матандангомы переходит в урчание... потом совсем смолкает...
Целитель явился.
Матандангома сморкается в огонь, вытирает руку о полено и протягивает ее к Раине.
Раина вкладывает в нее горлянку с водой. Матандангома наливает немного воды в правую ладонь и ополаскивает лицо. Потом приникает к сосуду и пьет, долю, жадно. Вода льется ей па подбородок, на грудь. Наконец она напилась и. не )лядя на Раину, отдает ей горлянку.
Она тяжело переводит дух, точно одолела огромный путь, обводит взглядом комнату и улыбается сидящим вокруг огня, радуясь, что все они здесь.
Мандиза в знак приветствия хлопает в ладоши:
— Здравствуй, Секуру! Как поживаешь?
Все хлопают в ладоши, приветствуя Секуру. Матандашома одобрительно кивает головой.
Мандиза откашливается и начинает свою речь:
— Опять мы позвали Целителя к нам в дом, чтобы он помог нам разобраться с нашими бедами. Обещаем выполнить все, что Целитель велит, ибо знаем: он желает нам добра. Первыми твоего совета ждут хозяин и хозяйка дома. Враги наши сильны и полны злобы, они не оставляют нас в покое. Вторая забота — Неванджи. первенец этой семьи. Печалит пас, что он бродяга. Почему он все время скитается, точно у нею нет дома? Мать его уже стара и немощна. Ей нужна помощница в доме, подруга, с которой можно обсудить все дела, она хочет, чтобы было кому передать звание Хозяйки дома, когда она умрет. Пусть первенец наконец женится, сами мы по темноте своей не можем помочь беде. Третья наша забота — путешественник, тот, кто отправляется в чужие края. Согласна ли
148
Земля его отпустить? И что делать нам: дать позволение на О1ъезд или нет, ведь он вернется на родину уже стариком? И последняя забота: подопечная Целителя, девушка, покрови-1ельница своих племянников и племянниц. Ей уже давно пора покинуть дом своей матери, она очень страдает от одиноче-ciBa. Найдется ли мужчина, который доверит ей ухаживать за собой в дни болезни?
Мандиза хлопает в ладоши, за ней все остальные.
— Вот наши заботы, и мы просим совета Целителя, как поступить, — заключает Мандиза. — Может быть, есть и еще важные дела, а я не упомянула о них по невежеству или просто запамятовала, так пусть те, чьи уши слышали меня, их напомнят.
— Нет, мама, ты все перечислила, что нас тревожит, — говорит Раина. — Я только хотела задать еще один вопрос Целителю. О путешественнике. Почему он уезжает? Может быть, я была ему плохой матерью? Может, ему не хватало тепла, заботы, любви? Если я обманула его, то лишь по темноте и невежеству. Пусть Целитель объяснит мне мою вину, я буду ему благодарна. — Она тоже хлопает в ладоши и говорит в заключение: — Вот все, о чем я прошу Целителя. А если язык мой произнес слова, которые лучше бы оставить несказанными, да простится мне моя глупость и невежество.
Матандангома глядит в огонь остановившимся взглядом и медленно потирает руки. Потом начинает всматриваться в правую ладонь, шевеля про себя губами. Проходит минута, другая, третья, а она все не отрывает от ладони глаз... тихонько присвистывает, качает головой...
Наконец она поднимает глаза и говорит низким мужским голосом:
- Я вижу много белых людей, они разговаривают с путешественником. Слов их я не понимаю. Все они смеются, однако путешественнику не смешно. Он только делает вид, что смеется, потому что не хочет их обидеть. Перед его лицом черная пелена. Его гложет тоска.
Белые приглашают путешественника к себе в дом. Он ест с ними и пьет, но душа его далеко. Все та же черная пелена закрывает его лицо. Что-то мучает его, какая-то болезнь. Может, у него запор? Не знаю. Но ясно вижу: он хочет от чего-то избавиться. Грудь ходит ходуном, но ничего из нее не исторгается. Живот вздулся, вспучился, и все равно ничего. Он корчится от жестокой боли... ,
Теперь белые люди уже не смеются. Я вижу, они отходят о г него все дальше, сторонятся его, чураются. Путешественник остался один. Небо темнеет. Он что-то говорит, но слова сразу
149
же тонут в темноте. Я больше не слышу его. Никто его не слышит. Все закрыла тьма...
Матандангома смолкает. Она поднимает голову, вытирает лоб тыльной стороной кисти.
Джапи открывает рот, чтобы что-то сказать, но Старик останавливает ее движением руки.
— Стало быть, парень погубит себя? — спрашивает Мандиза.
Матандангома дважды кивает головой. Раина хочет заговорить, но Старик опять предостерегающе поднимает руку.
— А уже прояснилось, какая болезнь сведет его в могилу? — спрашивает Мандиза.
Матандангома вглядывается в ладонь, качает головой, вздыхая.
— Трудно понять. Вроде бы она гнездится у него в голове — помните черную пелену перед лицом? Он ничего не видит. И сам не понимает своих мыслей. — Матандангома долго молчит, наконец произносит: — Я потом еще посмотрю. Теперь об отъезде: ему придется выдержать борьбу. Враги ополчились на вас. Хотят погубить его. Но вы не печальтесь, враги не смогут помешать путешественнику, он уедет. Матандангома, в чьем теле я обитаю, даст ему снадобий, я сам их' ей укажу. Пусть путешественник пьет снадобья и умывается ими, и все обойдется. Нет. враги вам не страшны. Их козни не причинят путешественнику зла. Нет, не врагов вам надо бояться. Есть кое-что посильнее. Он принадлежит к вашей семье — умерший родственник, которого вы обидели, а обиженный покойник — самый злой враг. Он вредит всей семье, а духи других умерших предков ему помогают, все до единого, они все заодно.
— Кто же этот обиженный родственник? — спрашивает Старик.
Матандангома наклоняется к огню, чтобы лучше видеть ладонь.
— Молоденький паренек, почти еще мальчик, борода на его • лице не старше двух-трех лет, он очень похож на путешественника. Вот он открывает ворота. В ворота въезжает машина, за рулем сидит белый. Паренек вскидывает руки. Все закрыло густое облако пыли. Пыль рассеивается, паренек без движения лежит на земле. Чьи-то старческие руки протягиваются к нему и уносят во тьму. Я вижу много рук, но все они похожи друг на друга. И старики, и молодой человек принадлежат к вашему роду. Кто он?
— Макива! — кричит Джапи и, рыдая, зарывается головой в одеяло.
150
Старик откашливается, но все равно голос его звучит хрипло и глухо:
— Да, это Макива. Его так прозвали, потому что еще мальчишкой он убежал в город, где живут белые. Он не успел жениться и потому редко навещал нас. Да, это он, мой первенец. Но ни один из моих внуков его не знает. Ведь он не оставил ни жены, ни детей, и мы его забыли. И потом, ведь он ослушался меня и мать, уехал в город против нашей воли. Его убил белый хозяин, у которого он служил в Гатуме. Мы ездили к мудрым людям, и все они в один голос сказали, что белый хозяин не виноват, просто Земля решила вернуть нашего сына себе.
А белый хозяин заботился о Макиве, как о родном сыне. Макива работал у него семь, нет, восемь лет, и когда хозяину пришла пора возвращаться на родину, за большую воду, он хотел взять его с собой, прислал нам письмо. Но мы, конечно, пи в какую. И тут как раз наш первенец умер, хозяин задавил его, когда он открывал ему ворота.
В те времена до Гатумы нелегко было добраться. Нам было не на что привезти его домой и положить рядом с его покойными братьями и сестрами, с людьми нашего племени. Мы узнали, что похоронил Макиву его белый хозяин и вскоре уехал к себе на родину. Говорят, после смерти Макивы он стал вроде как не в себе.
Так вот оно и вышло: женат парень не был, к тому же пошел наперекор всем, отрекся от своего рода-племени, ну мы его скоро и забыли. А нельзя было забывать, теперь я понимаю.
— Сыночек, первенец мой, Макива, ты вернулся! — захлебывается от рыдания Джапи, — Ты умер на чужбине, не попрощался с нами, никто из нас не хоронил тебя. И вот ты наконец вернулся! Почему ты бросил нас и уехал так далеко? Никогда мы этого не узнаем, смерть замкнула твои уста!
— Да, это он,—подтверждает Матандангома. — Он говорит: «Я один из Отцов, а вы меня забыли. Я так хотел оставить свое имя кому-нибудь из живых, но завистливые Отцы не позволили. Я хочу наконец обрести дом. Хватит скитаться, довольно носил меня ветер, пора мне найти приют». — Матандангома вытирает лицо и несколько минут молчит. — Он говорит, что хочет передать свое имя ему. — И Матандангома указывает на Люцифера. Все взгляды устремляются к нему.
На Люцифера словно обрушилась гора. Грудь сдавило, глаза застлал кровавый туман. Ему хочется завыть, но горло как будто перехлестнуло веревкой. Он вдруг чувствует, что безмерно устал, руки и ноги ватные.
Никто не произносит ни слова. Тонгуна судорожно глотает.
151
Правый глаз Раины закрывается, как будто кто-то дернул веко невидимой ниткой. Семья по-прежнему молчит.
— Он должен взять имя погибшего, — продолжает Матандангома,— иначе... Потому-то он и хочет уехать за большую воду. Думает, там ему будет легче. А на самом деле он и сам не знает, зачем едет. Его тянет туда темнота. Ему снятся странные сны, но что они значат, он не понимает, и никого не просит разгадать их. Ему кажется, его место не здесь, он в растерянности. Он тоже хочет обрести дом, но разве его найдешь на чужбине? Он найдет там только темноту. Нет, будь моя воля. я бы его ни за что не отпустила. Но если он все-таки решил уехать, пусть сначала даст приют духу своего покойного дяди. Потом может ехать хоть на край света, и вам не надо за него беспокоиться — ею будут охранять могущественные силы. Даже хорошо, чтобы он поехал за большую воду после того, как дух умершего его благословит, ему это придаст сил, и ваш род расцветет.
Раина злорадно взглянула на мужа: ага, что я тебе говорила? Тонгуна отворачивается от света и спрашивает:
— Но почему он выбрал меня? Разве я — единственный сын моего отца, у которого есть сыновья? Почему я должен расплачиваться за всю семью, все-то вон живут горя не знают. В чем я провинился? Чем я хуже Куруку, у него тоже полон дом детей!
— Молчи, Тонгуна, молчи! — кричи г Джапи. — А то еще невесть какие несчастья навлечешь на наши головы!
— Не спорь. Тонгуна, будет только хуже, — спокойно говорит Мандиза, — Чем больше слов наговоришь, тем горше обидишь Землю, и она от тебя отвернется. Не ссорься с духами умерших, благодарить их надо, что выбрали тебя главой семьи, ты разве до сих пор не понял? Я рада за тебя, чудной ты человек.
Матандангома снова всматривается в ладонь и говорит:
— Я вижу, как твой брат Куруку гонит дух усопшего от своего дома. Пять раз он возвращается и стучит в дверь, и пять раз Куруку его прогоняет. Теперь дух твоего брата стоит здесь, у вашего порога...
Все глаза обращаются к двери.
— Так чго же, впустите вы его или нет? Если впустите — значит, снова примете в свою семью ваших Отцов, и все ваши потери восполнятся. Прогоните — больше духу идти не к кому, я вижу гибель вашего рода, кровь, смерть, Могилы, много могил... вся ваша семья исчезнет с лица земли, последний младенец умрет в утробе матери. Решайте же: или вы откроете дверь духам ваших отцов, или вас ждет горе великое.
152
Раина приподнимается и в ужасе кричит: «Пусть духи уходят’», потом бессильно валится на землю и стискивает голову руками.
Гарабха глядит на«е ссутуленную спину и с изумлением замечает. 41 о ведь она почти горбатая.
Мандиза качает головой и шепчет с укоризной:
— Одумайся, Раина! Вспомни меня: я в свое время тоже сказала «нет», и чем все кончилось? Сама не понимаешь, так хоть старших послушай!
Раина поднимает взгляд на мужа и говорит уже спокойнее:
— Что. отец Люцифера, слыхал? Я тебе всю жизнь твержу: не по душе мне твой брат Куруку. Уверяет всех, что он приобщился к свету, что Иисус Христос вошел в его сердце, а сам •по делает? Навлекает погибель на семью брата, а ты сидишь и пальцем о палец не ударишь, чтобы спасти нас, боишься его!
— Раина, Раина, ты что, в уме повредилась? — возвышает юлос Мандиза. — Хочешь, чтобы я ушла из вашего дома? Разве в первый раз идет об этом речь? Что же ты так орешь на мужа?
— Мы выслушали тебя. Целитель, — говорит Старик, покашливая. — Теперь мы просим твоего совета: как нам поступить в таком затруднении?
— Сварите пива, созовите всех родственников, — отвечает Матандангома. — Пусть придут все, в ком течет кровь Манден-гу. Объясните им, зачем вы их пригласили. Пока гости будут пнгь во дворе, пусть старшие из рода соберутся в доме, поставят несколько горлянок для духов предков и станут молиться. «Все, что у нас есть, дали нам вы, — скажут они духам, — мы это знаем, и знаем также, что вы можете все у нас отнять. Вот мы принесли вам пиво, примите его вместе с нашим раскаянием. Мы обидели вас, но сегодня поняли свою глупость и хотим исправить зло. Добро пожаловать в наш дом, духи Отцов. И ты. неприкаянный наш брат, сегодня дух твой обретает пристанище. Живи в нем, мы рады тебе. Помогай нам». Потом нареките сыну имя покойного, и конец делу. Теперь духи предков будут принимать на себя зло, которое враги замыслили против вашего сына или против кого-нибудь из вашей семьи, ведь их долг охранять вас.
— Поздно, мы не успеем, — говорит Тонгуна. — Ведь Люцифер завтра уезжает.
Все смотрят на него, как будто он сошел с ума. Старик, ожидая взрыва, предостерегающе поднимает руку.
Матандангома глядит на Тонгуну, зловеще прищурившись, потом взгляд ее смягчается, она усмехается снисходительно и пожимает плечами.
153
— Слышу. Но отправиться в путешествие еще не значит достичь цели. Поступайте, как знаете, только помните: если вы не оградите сына от зла, в чужом краю его ждет смерть.
Мертвая тишина воцаряется в комнате.
— Никуда он не поедет! — кричит Раина как безумная и с вызовом глядит на мужа: а ну посмей он ей возразить! Тонгуна делает судорожное движение горлом, точно пытается проглотить камень.
— Ну ладно, выполним мы все, что велел Целитель, потом-то парню можно будет ехать? — спрашивает Старик.
— Пусть едет, раз уж так неймется. Уж очень долго вы тянули с таким важным делом, в том-то и беда! Отвернулись от духов своих Отцов, их сила и ослабла. Не могут они вас защищать, как прежде. А враги ваши и обрадовались, захватили власть. Заброшенное поле всегда сорняками зарастает, и даже если их выполешь, первый урожай всегда бывает скудный. Ну что ж, можете его отпустить, но долго еще будет идти война между духами Отцов и вашими врагами. Перевес сейчас на стороне врагов, их с каждым днем все больше. Эти трусливые твари берут числом. И даже когда дадите приют Неприкаянному, злые ветры все равно будут сотрясать ваш дом, пока вы не уничтожите всех врагов до последнего.
— А кто они, наши враги? — спрашивает Старик.
— Кутсвака! — взвизгивает Раина.
Матандангома едва заметно кивает и говорит:
— Их имена мне неведомы. Но уж коль все вы знаете про Кутсваку, отрицать не буду. Есть и другие — кого-то он нанял вредить вам, кто-то пакостит сам по себе. Но этих особенно бояться нечего, главный враг — сосед, который живет на севере. Старший сын должен быть настороже. Я вижу, как ваш сосед, который живет на севере, машет перед ним красной тряпкой... тайно напускает на него чары... Как только он опутает Старшего Сына, у него появится сильный помощник — ведь Земля выполняет желания своих детей, хотят ли они добра или зла, и враг ваш будет просить о погибели вашего рода устами вашего Старшего Сына. Поэтому Старшему Сыну надо бросить водить компанию с соседом, который живет на севере, не пить с ним и даже не здороваться. Хотя бы на время, пока дела семьи не поправятся.
Все потупляются. Бетти закрывает глаза, ее веки вздрагивают, и Гарабха догадывается, что сестру душат слезы. Только на нее он и может глядеть. Старика и бабок ему стыдно, родителей и Люцифера он боится. Но вот Бетти склоняет голову, и Гарабха тоже опускает глаза, потому что их обжигают слезы.
154
- Нечего сказать, хорош старший сын! —встрепенулась Раина. — Слыхали, что он сегодня говорил? Змея готовится его ужалить, а он ее защищает!
— А за что наш сосед злобится на нас? — тусклым голосом спрашивает Старик.
— Причин хоть отбавляй, — отвечает Матандангома,—У (ебя урожай лучше, чем у него, говорит он. Твои дети все в школе учатся, а его дома сидят, ты их на привязи держишь. А раз так, значит, он, — она указывает на Люцифера, — тоже не должен никуда ехать. Пусть твой ученый сын женится на его дочери, на которую ты напустил порчу, и тогда денежки, что он будет зарабатывать, попадут в лапы к соседу, очень он на них зарится.
— Да на что же зариться-то? — недоуменно спрашивает Раина.— Ведь у нас ничего нет.
Матандангома пожимает плечами.
— Скажи это ветрам, которые носятся по свету, — говорит себе под нос Старик.
— Почему я должен жениться на его.дочери? Я не хочу! — говорит Люцифер и сам не узнает своего голоса: он хриплый, испуганный. Отмахнуться бы от этого бреда, а он не смеет, еще никогда в жизни ему не было так страшно.
— Почему ты должен на ней жениться? — с улыбкой повторяет Матандангома. — Да потому что он так захотел, вот и весь сказ. Родители тебя выучили, разве плохо заполучить богатого зятя?
В горле у Люцифера словно застрял ком, говорить он не может, только сипит:
— Это несправедливо!
Матандангома наклоняет голову набок, вздергивает бровь и говорит насмешливо:
— Какие он слова знает! Мы их здесь и не слыхивали.
— Что же нам делать? — спрашивает Мандиза.
— Первым делом, надо дать приют Неприкаянному. Потом очистить ваш дом. Нелегкое это дело, долго придется трудиться моей помощнице Матандангоме, но она вас выручит. Я тоже приду к вам и проживу в доме дня два-три. Очистить надо всех членов семьи: избавим вас сначала от дурной крови, потом вы будете пить снадобья, смажете все тело мазью, и тогда уже станем отгонять злые вихри. Они окружили весь род Манденгу, и Куруку это отлично известно. Недаром ведь его младший сын засадил среднего в тюрьму, а сам женился на его жене и живет в его доме. Недаром другие его дети уехали в юрод и не хотят возвращаться. Куруку знаег, почему все это случилось, давно знает, да помалкивает. Он ни
155
днем, ни HO4b,jo не спит. Всю страну изъездил, денег невесть сколько извел и нипочем никому не признается. Но одному ему такое дело не под силу. Никогда его дети не вернутся домой. Не знать ему до самой смерти ни сна, ни покоя.
И все же опасайтесь его. Он как раненый лев, как змея с перебитым хребтом. Желчь у него загустела, яд протух. Если ему не удастся отнять у тебя сына, того, что собрался за большую воду, он его в конце концов убьет или же убьет тебя, ни сердце не дрогнет, ни рука. И пока дом путешественника не очищен, он должен держаться как можно дальше от своего дяди.
— Да почему же, почему? — в отчаянии спрашивает Тонгуна.— Почему мой брат, родная моя кровь, замыслил против меня такое злодейство? Ведь я-то никогда не желал ему дурного. Я всю жизнь подчинялся ему, как младший брат должен подчиняться старшему. Он часто меня обижал, все эго знают, но я не держу на него зла. Я всегда его почитал и буду почитать. Так за что же, за что?
- Он говорит, ты взял к себе в дом родителей, а кто обязан их содержать — ты или он, старший сын? — отвечает Матандангома.— И вот теперь тебе во всем удача, а над ним люди насмехаются, говорят, что он не любит родителей, бросил их, младший брат вместо него покоит их старость. А от людских насмешек слетаются злые вихри. Он всю жизнь мечтал послать своих детей в страну белых, и вот сегодня туда едет твой сын, а он-то всегда считал тебя дураком! Ты окружен почетом и уважением, а он не знает, куда деваться от срама. Может, ты только делаешь вид, что любишь и уважаешь его, а сам смеешься за его спиной?
Тонгуна открывает было рог, но Старик успевает его опередить:
— Что же мне делать, отцу?
— С кем — с Куруку? Сейчас бесполезно и пытаться, он тебя пересилит. Он объявил всему свету, что он. видишь ли, христианин, и все ждут от него проповеди истины и добра. Он тебе в своих злодейских замыслах нипочем не признается, сколько ты его не пытай. Если бы признался, все сразу поняли бы, что он и церковь обманывает, и людей. Нет. тебе пока с ним не тягаться. Но не теряй времени даром, укрепи свой дом и отгони подальше злые вихри. Может быть, тогда духи Отцов смягчатся к Куруку и даже позволят тебе снова назвать его своим сыном.
Матандангома смолкает и снова принимается изучать ладонь. Потом поднимает голову и устремляет на Бетти взгляд. Глаза у нее пустые, мертвые, лино страшное. Молчание длится, длится...
156
Один за другим все медленно поворачиваются к Бетти. Глаза родных сверлят ее, ей кажется, они проникают в самую ее утробу. Она хочет поднять голову, но голова никнет, падает на грудь.
Матандангома дышит тяжело, со свистом, на лбу выступают крупные капли пота.
— Не надейся: Земля не позволит тебе родить этого ребенка,— произносит она тихо-тихо, почти шепотом.
Все ахают.
Закусив губу, Бетти с вызовом глядит на родных. Глаза ее I орят.
Тонгуна проглатывает ком.
— Что-о-о-о?! — вырывается у него, но, встретив горящий взгляд Матандангомы, он обрывает себя.
Бетги встает и делает шаг к двери, однако Матандангома приказывает ей сесть.
— Пока я здесь, никто тебя и пальцем не тронет, — говорит она. — Не бойся, твоей вины тут нет, так уж случилось. Уж очень тебе хотелось узнать, в самом деле ты не такая, как все женщины, или все же такая, можешь ты стать матерью или не можешь, вот ты и не удержалась. Но правду говорили люди: не суждено тебе стать матерью. И ребенок, которого ты носишь во чреве, — он еще пока даже и не ребенок, — родится до срока и мертвым.
Все замерли, никто не издает ни звука, Раина разглядывает дочь. Неужто она и вправду брюхата? Брюхата и скрыла от матери, а она, мать, не заметила? Отблески огня играют на ее лице, и, кажется, что складки возле губ стали еще глубже: Раину обманули, предали. «Бетти, Бетги!» — шепчет она, уставившись пустыми глазами в огонь. Ей страшно встретить ошеломленный взгляд мужа.
— Так я и знала, — тихо говорит Мандиза, — Во всем виновата я.
— Не надо, мама! — вскрикивает Раина, поворачиваясь к ней.
Старик негромко кашляет.
Матандангома качает головой.
— Нет, ты не виновата. — говорит она.
— Говорила я ей: «Не шляйся по ночам!» Вот и дошля-лась. — начинает причитать Джапи.
В глазах Раины вспыхивает ненависть.
Тонгуна взрывается ругательством, но Старик в ярости кричит на него:
— Не смей сквернословить! Или убирайся вон!
Губы у Джапи дрожат, она отворачивается от огня. Молчание.
157
В животе у Люцифера урчит, желудок и кишки сводит судорогой. Он сидит в тупом, покорном оцепенении, без единой мысли. Перед глазами вспыхивают разноцветные круги, голова кружится, звенит...
Гарабха приподнимается на лежанке, сурово глядя на Бетти. Но вот до него доходит смысл того, что произошло, и взгляд его смягчается, но слез нет. Что ж, она хотела знать и узнала. Страшный ей дали ответ, но все же дали.
— Что же нам делать? — спрашивает Мандиза. — Я выполнила все твои повеления. И все вроде шло хорошо, как ты и обещал, но вот видишь — случилась беда. Может, я что-нибудь перепутала? Ты ничего дурного не предсказывал. Что мне теперь делать? Жить мне осталось недолго, и если я не успею исправить зло...
— Молчи! — приказывает Джапи.
— Да если я буду молчать, оставлю все как есть и умру, разве вы без меня расхлебаете эту кашу? Ведь мне полагалось жить в доме сына, а я вот живу у дочери, нарушив все законы и обычаи, и ты велишь мне молчать? У нас горе, и не сама ли ты будешь говорить каждому встречному и поперечному, что я виновата во всех несчастьях, которые постигли семью твоего сына?
— Мама! — Голос Раины срывается. Она с мольбой глядит на мать, потом со страхом на мужа. Старик качает головой. Джапи отвернулась к стене. Надо же ей было отмочить такую глупость! И без того худо, а тут еще она как дите несмышленое...
— Мы... мы не гоним тебя, мама, — говорит Тонгуна.
— Ты-то не гонишь, сынок, я знаю, а вот мать твоя иной раз не стесняется...
— Да она же без царя в голове, — возражает Старик. — Не такая ведь еще древняя старуха, а лежит целыми днями, как только спина не отсохла!
Матандангома вздыхает и говорит:
— Ты спрашиваешь, не перепутала ли чего? Нет, ты все правильно сделала. Но Земля над тобой посмеялась, вот в чем беда. Надо смириться и начать все сначала. — Матандангома опять вздыхает, вытирает со лба пот и всматривается в ладонь.
И тут Тонгуна набрасывается на Бетти.
— Кто этот... эта сволочь? — рявкает он. — С кем нагуляла ребенка, признавайся! — Глаза его грозно горят.
Старик глядит на него с гневной укоризной. Бетти еще больнее закусывает губу, глаза ее устремлены на огонь. Никто не произносит ни слова.
158
— Я что — с деревом разговариваю? Кто он, отвечай?
Старик откашливается и говорит:
- Ну, узнаешь ты. что толку? Дела ведь не исправишь. Тыква все равно разбита.
— Стало быть, Земля по-прежнему требует ее себе, — говорит как бы про себя Мандиза. Матандангома медленно кивает, нс отводя глаз от ладони. Все, затаив дыхание, наблюдают за ней. Кажется, что ночь сгустилась над ними, лицо Мандизы сразу постарело, морщин стало больше, складки глубже... Наконец она произносит:
— Но мы попробуем ее спасти. Не будем сидеть сложа руки, сделаем все, что в наших силах. Будем бороться, пока в наших жилах есть хоть капля крови, пока в этом роду жив хоть один человек. Ну, а если и он погибнет, тогда мы сдадимся, пусть будет так, как хочет Земля, — вещает Матандангома. Глаза ее прикованы к ладони. — Тогда девушке придется уйти.
Бетти поднимает голову, и сердце Гарабхи больно сжимается: в затравленных глазах сестры немая тоска, на виске дрожит вздувшаяся жилка.
Раина поднимает взгляд к закопченной крыше* и кричит: — Нет!
Тонгуна покашливает. И вдруг отчаяние на лице Бетти сменяется отвращением и жалостью, она глядит на Матандангому с вызовом. Гарабхе хочется крикнуть в восхищении: «Молодец, сестренка!»
— Если ей придется уйти... — произносит Старик, но голос изменяет ему, он чешет голову и начинает снова: — Если мы совсем ничего не можем сделать,.. — Опять он умолкает и обводит взглядом лица родных — может быть, кто-нибудь выговорит вместо него страшные слова, но никто не смеет, и тогда он решается сам: — Ну что ж, тогда пусть уходит.
— Где уж нам тягаться с духами? — говорит Джапи. глядя в стену.—Земля сильна.
И снова летит к черному, холодному потолку Раинин душераздирающий вопль «Нет!». Горло Тонгуны вздувается и снова опадает. Он быстро моргает и отворачивается от огня в темноту.
— Но мы постараемся ее спасти, — торжественно вещает Матандангома. — Пусть мне даже придется сделать то, чего я никогда раньше не делала... и если я еще хоть раз это повторю, пусть Земля возьмет то, что ей принадлежит...
— А что ты такое сделаешь? — спрашивает Мандиза.
— Плод еще не созрел, — туманно отвечает Матандангома.
Сердитый, растерянный, дрожа с головы до ног, но ста-
159
раясь не показать своего страха перед невидимым божеством и не опозориться перед детьми. Тонгуна восклицает:
— Пусть уходит!
Все глаза мгновенно обращаются к нему, и вдруг он чувствует. что ему некуда, некуда скрыться, и силы оставляют его, и то, что он всегда таил от мира, хлещет из его глаз, как горный водопад.
В животе Люцифера глухо урчит, кажется, что' это приближается какой-то неотвратимый призрачный поезд.
Мандиза качает головой, как бы в такт одной ей слышимой погребальной песне.
— Не будет нашим бедам конца. Нет. видно, никогда они не кончатся.
— Молчи! — обрывает ее Матандангома и прибавляет несколько крепких ругательств. Пот течет с нее ручьями. Голова Мандизы дергается, как у деревянной куклы.
Матандангома невозмутимо говорит:
— Решайте. Не спешите. Подумайте хорошенько. — Она молча ждет, пока они осознают всю тяжесть ответственности. Потом мрачно возглашает: — Есть три пути, — Все чувствуют, какая в ней происходит борьба, как она пытается прогнать сомнения. — Первый путь — сдаться, но я не желаю сдаваться, и, стало быть, остается всего два. Снарядите дочь, и пусть она идет, или найдите козла отпущения. Выберите жертву сам^з. Земля не примет ни быка, ни ко'зла. пи петуха, ни какое другое животное, ей нужна девушка, непорочная девушка, не знавшая мужчины. Думайте, решайте. В одиночку этого не решить, нужна воля всех, и все должны быть согласны. Если ей придется уйти, никто не должен плакать и сетовать. Ведь она всего лишь переселится жить в семью несправедливо обиженных, и хотя видеться с ней никто из вас не будет, вы все же будете знать, что она жива, а это большое утешение. Не согласны — поступим по-другому. Выберите непорочную девушку из вашей деревни, и пусть она возьмет на себя вашу вину... Ну так как?
— Я за то, чтобы выбрать непорочную девушку, — говорит Мандиза.
Никто ей не возражает. Раина переводит дух. Тонгуна скребет подбородок, вид у него загнанный. Жена вперяет в него разъяренный взгляд. Деваться некуда, он кивает. Раина с облегчением вздыхает.
— Я согласен, — говорит Старик.
— Я немощная, старая, слепая, как вы, так и я, — подхватывает Джапи.
— Но кто будет эта девушка? — спрашивает Мандиза.
160
- Я за вас выбирать не могу. — говорит Матандангома. — В «с ic много девушек.
- Ну ладно, выберем мы ее. эту девушку, козла отпущения,— говорит Тонгуна, — А вдруг семья ее узнает, что тогда?
Раина меряет его презрительным взглядом.
Губы Матандангомы кривит усмешка.
— Ну и трус же ты,—спокойно выносит она беспощадный приговор.
Раина отводит глаза, чтобы не видеть искаженного болью ища мужа. Он открывает рот, совсем как мать его Джапи, но вместо того, чтобы крикнуть, проводит языком по губам.
— Да то и случится, чего ты боишься, — говорит Магандан-юма.— Семья все узнает, надо глядеть правде в глаза. Помни об этом и днем и ночью, закали свое сердце, иди вперед и не oi лядывайся. Малым детям простительно думать, что мать защитит их от чудищ, а ты вон сам давно отец. Конечно же, семья девушки узнает, ну и что с того? Пусть себе знает! Ты будешь с ними драться, и сердце у тебя должно быть каменное. ты не должен ведать ни страха, ни сомнений. Делай свое дело, и они будут выть, как гиены в капкане. Да, весь мир будет знать, весь мир будет говорить. Но как же посмеются над тобой люди, когда вся твоя семья погибнет и им станет известно. что ты мог ее спасти, но не отогнал стервятников. Ты должен быть сильным, Тонгуна. За жизнь надо платить.
Что-то с грохотом налетело на Люцифера, земля дрожит у него под ногами. Раздавленный рухнувшей на него горой, Люцифер шепчет:
— Но это же несправедливо!
— Утри сопли, щенок! — рявкает на него Матандангома,— Ты вон жив, а людей, которые в десять раз лучше тебя, об-ьтадывают черви, это, по-твоему, справедливо? Выйди-ка лучше вон и не мешай нам заниматься делом.
Люцифер встает и чувствует, что ноги — они вдруг стали песуразро длинными — сами несут его к двери.
Матандангома кивает на дверь Бетти и Гарабхе:
— И вы тоже.
Брат и сестра уходят. Молчание в комнате.
Глава тридцать пятая
Молчание нарушает Тонгуна.
— Поступить так с соседями! Я вижу кровь... — говорит он в задумчивости.
— А я вижу дерьмо! — вспыхивает Старик. — И это мой сын
6 Альманах «Африка», bi.hi. 6
161
сидит и причитает, крови испугался. Мужчина ты или трусливая обезьяна.
Матандангома складывает руки на груди и с презрением глядит на Тонгуну.
— Тебе бы женщиной родиться, — бросает она.
Мандиза глядит на Тонгуну молча, но видит лишь тень, лишь темное пятно с расплывшимися контурами. Не понимает она его, нет, не понимает! А Раина... Тридцать лет она терпела, и вот сейчас терпение ее лопнуло, она в ярости накидывается на мужа:
— Струсил, не можешь сделать для своей семьи такой пустяк, пусть враги изводят твой род, разрушают твой дом, тебе и горя мало! Ведь тебе объяснили: Кутсвака желает нам зла. Да ты и сам знаешь, что он ночей не спит, придумывает, как бы нас погубить. Отомстить ему надо, а ты заладил, как попугай: «Нельзя так, неправильно это!» Интересно, Кутсвака хоть раз задумался, правильно он с нами поступает или неправильно, а? Твой братец Куруку все уши прожужжал, что он, видишь ли, христианин, а чем он занимается у себя дома по ночам за запертой дверью? Почему с его семьей не случается ничего плохого? Почему ты должен все время страдать, а он живет себе и не тужит? Да потому что слон, наверное, и тот лучше тебя знает, что правильно, а что неправильно. Курица ты мокрая, боишься своей церкви! Хуже бабы беременной, честное слово. По-твоему, только Библия и знает, что можно, а что нельзя. Когда у этих твоих христиан ребенок умирает, разве хоть один вспомнит про Библию? А ты, когда наш сын заболел, только и кричал: «Нельзя! Не смейте! Не вздумайте!», потому что тебе, видишь ли, голову водой обрызгали. И где теперь твой сын? В могиле! И все мы на твоих глазах сойдем в могилу, тогда ты, может быть, поймешь, башка дурья, что иногда нужна жестокость, иначе не выжить!
Тонгуна лаже рот разинул, ушам своим не верит... но вот он опомнился, сжал кулачищи и рявкнул:
— Что ты ко мне пристала? Не я навлек на семью несчастье, слышишь! — Но, сообразив, что он такое ляпнул, прикусывает губу и от муки закрывает глаза.
Мандиза горестно потупилась, плечи ее поникли.
— Что ты мелешь! — кричит Джапи. — Мало нам бед, еще новые накликаешь!
Старик грозит сыну жилистым кулаком:
— Придержи свой поганый язык!
• Но Мандиза все слышала, она спокойно говорит:
— Правду ты сказал, Тонгуна: не ты навлек несчастье на семью. Потому-то я сначала и слушать тебя не хотела, когда
162
сын мой Шингай умер и ты стал звать меня жить у вас. Но ты настаивал, и я согласилась. Я знала, что добра вам от меня не будет — недаром ведь я похоронила одиннадцать детей. Я не сержусь на тебя: чем носить камень за пазухой, лучше высказать все в глаза, и я вам обещаю: я все сделаю, с помощью Земли, чтобы спасти ваш дом. только тогда я смогу умереть спокойно.
— Не говори так, не говори! — опять кричит Джапи.
Туг уж Мандиза не выдерживает.
— Нет, вы ее послушайте! — вспыхивает она. — В душе она проклинает меня, считает виновницей всех несчастий семьи, а на словах я ей дороже матери родной. Только я не маленькая, меня сладкими речами не обманешь, я вижу, что за ними таится. Да, я виновата в тех несчастьях, что обрушились на этот дом, я и другие дети моего отца, умершие раньше меня. Я смотрю правде в глаза и постараюсь исправить зло.
Мандиза умолкает, задумывается, потом говорит уже не так воинственно:
— Мы тебя слушаем, Целитель.
— Я жду, что вы решите, — изрекает Матандангома.
— Тут и решать нечего,— еле слышно произносит Мандиза.— Пусть зло искупит дочь врага.
— Дочь вашего соседа с севера?
Мандиза кивает. Матандангома глядит на Старика — он тоже кивает. «Как все, так и я»,— бормочет Джапи. Тонгуна с трудом наклоняет голову, ему кажется, она у него чужая, зато жена, как бы желая помочь ему, быстро кивает несколько раз.
— Ну что же, как вы решили, так тому и быть, — говорит Матандангома. — Остальное уж мое дело. Теперь можете позвать детей. Они должны... нет, только один из них должен знать, старший сын. Пусть он и войдет.
— Гарабха? Нет! Нет!—Тонгуна трясет головой.—Раз можно сказать кому-то одному, пусть это будет Люцифер.
— А чем Гарабха плох? — спрашивает Матандангома, пристально глядя на Тонгуну.
Тонгуна потупляет взгляд. Нет, только не Гарабха! Про себя он давно решил: когда придется выбирать, кому из сыновей он передаст роль главы семьи, он назовет имя Люцифера.
Старик глядит на него, не веря глазам:
— Твой старший сын жив, а ты хочешь лишить его законных прав?
Тонгуна начинает задыхаться: опять его схватили за горло! Но он молчит, только с трудом глотает слюну.
— Делай, как знаешь, — вздыхает Старик. — Но я тебя пре
6*
163
дупреждаю: ты сеешь семена кровавого раздора. А сын, которого ты гак слепо любишь, — неужто ты не понимаешь, что он уже давно от нас оторвался?
Матандангома кивает в знак подтверждения, но Тонгуна кричит, не помня себя:
— Что значит — оторвался?
— А то и значит, что чужой он, — говорит отец. — Как будто кожа у него стала не такая, как у нас, не цвета Земли. Ты что, не заметил, или, может, ты опускаешь глаза как девушка, когда разговариваешь с ним?
— Пойми, отец, я уже давно взрослый. Я выучил Люцифера сам, без твоей помощи, и никто никогда не сказал о нем дурного слова, никогда он не ослушался ни меня, ни матери. Я хочу сделать его главой семьи. Вернется и станет хозяином в доме. Это мое последнее слово.
Старик долго вглядывается в лицо сына, потом тихо качает головой.
— Люцифер так Люцифер. Сосну-ка я, пока вы тут толкуете. — Он откидывается на спину, закрывает глаза, но сон не идет. Из глубины прожитых им восьмидесяти лет поднимается горькая печаль.
Матандангома откашливается и говорит:
— По-моему, надо все-таки позвать старшего сына. Так уж исстари ведется. Неужто ты пойдешь наперекор всем и выберешь Люцифера?
- Да.
— Отец Люцифера, я думаю, надо выбрать главой семьи Гарабху. Не закон он дурной, как тебе кажется. И он изменится, я уверена.
— Как же, изменится он, дожидайся! Слушай меня, женщина: я — отец, и я сам разберусь со своими детьми, хоть раз в жизни не вмешивайся. Гарабха бросил школу против моей воли, всю жизнь ослушничает. Тридцать лет ему исполнилось, а он знай бродит себе за солнцем, на семью ему наплевать!
— Ты сам себе роешь могилу, сынок, — предупреждает Топтуну Мандиза. — Отсц-то прав. Гарабха всегда будет здесь, с нами.
— Может, мне пойти соснуть, а вы тут без меня решайте, как я должен поступить с моими сыновьями, ведь вы лучше знаете!
Мандиза сдается — больше она ничего не скажет*
— Нас много, а ты один, Тонгуна, — говорит Джапи. — Смирись, послушай нас хоть раз в жизни. Ты же не только свою судьбу решаешь, помни. Хочешь, чтобы дети ненавидели друг друга? Хочешь, чтобы они друг друга погубили?
164
— Как я сказал, так и будет, — медленно отчеканивает Тон-i yna: видно, его не сдвинуть с места, он будет стоять на своем io конца. — Можете говорить, что хотите: я вас не слушаю, oi лох.
— А у тебя со слухом всегда было неладно, — фыркает ('тарик.
— Стало быть, все-таки Люцифер? — спрашивает Матан-дангома.
— Люцифер, и никто другой, — подтверждает Тонгуна.
— Ну что ж, Люцифер так Люцифер, — соглашается Матан-дапгома.
Итак, решено. Никто больше не спорит. Зовут в комнату Люцифера...
Глава тридцать шестая
Люциферу не спится. Кусают блохи, на сердце такая тяжесть, что не вздохнуть. Он закрывает глаза и переносится в странный сумеречный мир не то яви, не то сна.
Он идет по темной дороге, справа и слева высятся кипарисы. Гигантские деревья смыкаются у него над головой, и тень от них такая густая, что он с трудом различает дорогу. Люцифер один, но ему чудится, что возле него кто-то есть.
— Ну вот, почти и пришли,—говорит чей-то голос.
«Пришли? Куда пришли?» — мысленно спрашивает Люцифер, но голос отвечает ему, как будто он произнес эти слова вслух: «К цели. К концу».
Люцифер оглядывается вокруг. В конце пути ничего нет. Дорога просто обрывается в никуда, в пустоту, в темноту. Ему вспоминаются карты из учебника истории — первые карты, ко-юрые составляли люди: Геркулесовы столбы, а за ними пламя, чудовища, мрак... Похоже, здесь, в конце пути, никто еще до него не был.
Люцифер просыпается в холодном поту. А может быть, ему только кажется, что он проснулся, может быть, сон еще длится? Нет больше тьмы, он в просторной комнате, пожалуй, это не комната, а зал, в нем великое множество полуобнаженных людей. Люцифер в середине, они сидят вокруг. Стены начинают раздвигаться, свет в зале ярче. Какой огромный зал! Люцифер не видиг стен, но чувствует, что они есть, они отгораживают его от темноты. А люди все подходят и подходят, им нет конца. И все они молчат. Их взгляды устремлены на Люцифера. В голове у него мелькает мысль: «Это судьи». Потом другая: «Значит, я умер?» Но глядящие на него глаза не дают ответа. Они сверлят, прожигают его. Не в силах больше
165
выносить эту муку, Люцифер обращается к тому, кто сидит ближе всех:
— Скажи, я умер или жив?
— Конечно, жив!
— Кто эти люди? Я никогда их не видел.
Вдруг глаза проясняются — с них словно сдувает пелену тумана,— и Люцифер их узнает. Он видел, видел все эти лица, но где, когда? И как зовут этих людей? На всех лицах одно и то же выражение: суровый укор.
— Стало быть, я не умер?
— Конечно, нет.
— Чего они все хотят?
Этот вопрос вызывает у людей неожиданное волнение. Лица придвигаются к Люциферу ближе, прямо против него чье-то бородатое лицо в сетке глубоких морщин и с красными глазами, Люцифер слышит запах только что вскопанной земли. Рот открывается, голос произносит:
— Ты нанес нам обиду, сынок.
Только сейчас Люцифера осеняет, что ведь это лица его предков с самого начала времен.
— Ты нанес нам обиду,—повторяет голос.
— Какую?
На лице выражается изумление, потом боль. Оно поворачивается к другим лицам и говорит:
— Вы слышали? Он еще спрашивает, какую обиду он нам нанес!
Гробовое молчание. Потом вдруг раздается голос многотысячной толпы. Люцифер не понимает, что она говорит, он разобрал только слова «заплатить выкуп...».
Красноглазое лицо снова поворачивается к нему и говорит:
— Они разгневаны. Они убьют тебя, если ты не заплатишь выкуп. Меня они боятся и почитают, заплати все сполна, и они тебя не тронут. Но если ты откажешься, я тебя брошу, и уж тогда не жди пощады.
— Но за что же я должен платить выкуп?
Лицо опять отворачивается от Люцифера и повторяет предкам его вопрос. Опять над толпой взметнулся крик, и снова Люцифер не понял ответа. Но лицо поворачивается к нему и объясняет:
— За то, что ты дышишь.
— Но разве дышать — преступление?
— Конечно. Ты разве не знал?
— Нет.
Красноглазый гулко хохочет, все остальные одобрительно кивают...
166
Люцифер просыпается. Чиркает спичкой и зажигает свечу. На стенах пляшут тени, ему страшно заснуть, и он наблюдает <а их игрой. Бежит время, а он все смотрит, как зачарованный... Может быть, он снова заснул, он не знает, но ему яв-снвенно слышится стук. Однако еще до того, как стук раздался, он уже знал, что это демоны: он ждал их. Он хочет крикнуть, но чудовища кидаются ему на грудь, и он лежит, молча обливаясь потом.
Приоткрывается дверь, входит Матандангома. Люцифер знает, что это она, хотя лицо у нее совсем другое. Она с головы до ног в черном.
Матандангома садится у Люцифера в изголовье и начинает что-то рассказывать. Лицо ее время от времени меняется, и все эти лица ему знакомы... но чьи они?
— Он был охотник, — говорит Матандангома. — Однажды во сне он услышал, что его зовет какая-то птица. Сначала он подумал, что это злой дух, испугался и ничего не ответил. Но через три дня птица прилетела снова и стала петь:
Идем со мной, Магаба,
Идем со мной.
Иди за мной, Магаба,
Я поведу тебя в Великую Долину —
В Великую Долину Охоты.
Не медли, Магаба, Не медли.
Вставай и иди.
Иди за мной, Магаба, Я отведу тебя в Великую Долину — В Великую Долину Охоты.
Испугался Магаба. Ночь была темна, все вокруг спали. Но голос чудной птицы околдовал его, он не мог противиться зову. Уже много дней он не приносил с охоты никакой дичи. Его терзал голод, собаки его отощали, дети совсем ослабли, жена грозилась бросить его. И он пошел за голосом чудной птицы, которая манила его хорошей добычей. Самой птицы он не видел, он только слышал ее далеко, далеко впереди.
Много дней шел он за голосом чудной птицы, шел через реки и горы, сквозь густые джунгли и непролазные болота. Он не пил и не ел, забыл, что такое отдых и сон, не знал, день сейчас или ночь. Десять; двадцать, тридцать дней шел он за голосом чудной птицы, борясь с усталостью и голодом, а когда голос от него удалялся, он из последних сил бросался его догонять.
И все же он начал слабеть. А голос все звучал, но тише и тише, дальше и дальше, чудный голос все звал его, звал... звал, пока наконец не смолк вдали...
167
Ои огляделся и увидел, что собак его больше нет с ним. они убежали. Но, может быть, они где-то поблизости? Долго он звал их, но собаки так и не вернулись. Да. они бросили его. он остался один. Один посреди огромной равнины, где не росло ни единого дерева. Невозможно было понять, откуда он пришел. Где равнина начинается, где кончается? Он сел на раскаленную землю. Потом лег. Солнце жгло его без всякой жалости. Он открыл глаза — что это, чудная птица снова зовет его. Но с желтого слепящего неба на него упали большие черные грифы и стали клевать ему глаза. А голос смеялся! Хохот чудной птицы наполнил всю долину, от него дрожал воздух, и тут вдруг в последний миг, прежде чем свет погас для него навсегда, он увидел, что вся равнина усеяна человеческими костями. Птица хрипло, пронзительно взвизгнула, и он умер. Грифы и гиены сожрали его труп, а муравьи обглодали кости, и к вечеру от него остался только чистый, белый скелет, каких на равнине лежало тысячи...
— Бойся голоса чудной птицы!..
С этими словами Матандангома исчезает — только это не Матандангома, а предки, которые снились ему раньше, все предки в едином лице!
Люцифер заставляет себя проснуться. Вот чудеса — оказывается, уже рассвело! Но рассвет сегодня хмурый. Небо затянуто тучами, наверное, солнца сегодня не будет. Однако не холодно.
Люцифер задувает почти догоревшую свечу, но не вслает с постели. Сегодня он уезжает, но в душе у него смута, ему кажется, что уезжает его злейший враг. Глаза его опять закрываются, их смыкает сон...
Глава тридцать седьмая
Будит его в конце концов не кто иной, как отец. Люцифер открывает глаза, но не может понять, где он, и не узнает отца.
— Доброе утро, сынок, — говорит Тонгуна непривычно ласково и немного устало.
— Доброе утро, отец. Как ты спал?
— Плохо. Ноги всю ночь не давали покоя... гляди.
Ноги у него распухли. Люцифер не знает, что сказать отцу, и говорит первое попавшееся:
— В больницу тебе надо.
— Опять мне там скажут: «Ничего у тебя нет!», ведь уж столько раз говорили. Нет, Люцифер, в больнице ничего не понимают в моей болезни.
168
Они молчат несколько минут, потом Тонгуна спрашивает: — Когда твой друг приедет?
— В полдень, может, попозже...
Снова молчание.
— Люцифер...
— Да, отец.
— Пока ты не уехал, я хочу поговорить с тобой.
Люцифер глядит на отца. Никогда еще он не казался ему [аким большим, могучим, властным. И от того, что отец взволнован и растерян, Люциферу еще тяжелее.
— Дело это очень важное, — продолжает Тонгуна, ероша короткую бороду.
— Да, отец, я тебя слушаю.
Тонгуна глядит не в глаза Люциферу, а в стенку поверх головы сына, пальцы его теребят ухо.
— Когда ты вернешься из чужих краев, а я... а меня уже не будет на свете, я хочу, чтобы ты занял мое место, стал главой семьи. — Он украдкой косится на сына, но лицо Люцифера ничего не выражает.— Ты станешь хозяином, будешь заботиться обо всех, как я забочусь. Все, чем я владею, станет твоим, я все оставлю тебе. Потому-то я и позвал тебя вчера, чтобы ты узнал наше решение. Да, я назначаю тебя главой семьи, но не думай, пожалуйста, что я хочу выгнать Гарабху, ничего подобного. Просто он без царя в голове, и тебе придется заботиться о нем до самой его смерти. Нельзя выгонять беззащитных и беспомощных, наши обычаи это запрещают. Ну и вот, когда ты вернешься, ты будешь печься обо всей семье — о старых и малых, о больных и здоровых, об умных и без царя в голове. Будешь печься, как нас с детства учили, как пеклись о своих семьях отцы и деды, как всю жизнь пекусь я.
'Я глава семьи, а ведь я не старший сын. Старший сын — твой дядя Куруку. По обычаю твой дед и бабка должны были бы жить у него, и со всеми нашими заботами мы должны были бы идти к нему. Со всеми делами, со всеми бедами. И всем он должен был бы помогать, во все вникать, разбираться. А он что сделал? Уехал из дому, отрекся от своей родной крови. Я ведь согласился быть главой семьи временно, пока он работает в городе, думал, вот вернется он и все примет на себя, а он возьми да и откажись, оставил родителей жить у меня, ни о каких делах семьи и слушать не хотел. Так не поступают, и в наказание все его дети ушли из дому. Гневается на него Земля. Ты слышал, о чем мы вчера говорили, и понимаешь теперь. сколько у нас забот. Давно надо было бы все уладить. А дядя твой твердит, что времена сейчас другие, пришли белые и принесли христианство, и жить нам по старинке уже нельзя.
169
И он было убедил меня, да я и сам вижу, что жизнь настала другая, только ведь заботы-то у нас прежние, какие были до белых с их христианской религией, и на новый лад их не решишь. А дядя твой этого не понимает, вот несчастья и сыплются на нашу семью. Но виноват не он один, проклятье за проступки наших предков падает на всех нас, и умилостивить Землю должны мы, живые. Старший сын созывает младших братьев и сестер и говорит им. как надо поступать, чтобы в семье царили мир и дружба, чтобы не было раздоров, ненависти и кровопролития, чтобы семья не погибла, таков наш древний обычай, и о нем я хотел тебе напомнить. Но это не все. я еще хотел поговорить с тобой о твоей матери.
Мать сердится. Она не хочет, чтобы ты ехал за большую воду. Сейчас пока ты можешь не повиноваться ей, можешь поступать, как тебе вздумается, ехать, куда тебя тянет, спорить с ней, но когда она умрет, тут уж не поспоришь. Она сейчас иной раз делает вид, что смеется с тобой, но после ее смерти будет не до смеха. Настанет день, когда мы — может быть, не мы, а наши внуки или даже правнуки, — должны будем искупать то зло, которое причинил ей я, ты, все твои братья и сестры, все, в ком течет наша кровь. Помни, сынок, твоя мать, а моя жена, живая она или мертвая, принадлежит своим родителям и своей семье, и если ты обидел ее, ты обидел всю ее родню. И ее родня, ее умерший отец, умершие деды и прадеды потребует, чтобы зло было искуплено. А раз родня говорит, что их дочь обидели, твоя мать, как бы она ни любила тебя, все равно не сможет защитить свою семью и даже своих родных детей от мести предков; вот искупим мы зло, тогда будет другое дело. Теперь ты понимаешь, Люцифер, почему я беспокоюсь. Обязательно поговори с матерью до отъезда. Объясни ей, почему ты хочешь уехать, растолкуй, как это важно и для тебя, и для всей нашей семьи. Пусть она упросит своих предков благословить тебя. И сама пусть тоже тебя благословит. Ведь если она умрет с такой обидой на тебя, Люцифер, никто уже не станет слушать оправданий — ни моих, ни твоих, ни вообще чьих бы то ни было.
Такие-то вот дела. Вину надо искупать сразу, а многие тянут. глядишь — уж и поздно. Так и с твоей бабушкой Манди-зой случилось. Кто-то из рода Канденгва убил человека, да не случайно, а с умыслом. Давно это было, твой прапрапрадед еще не родился на свет. Много поколений семья убитого требовала отмщения за пролитую кровь, но никто не обращал на них внимания. Тогда родные стали убивать всех, в кбм есть хоть капля крови Канденгва. Чтобы остановить их, семья Канденгва должна отдать потомкам убитого девушку, еще не знав
170
шую мужчины, и отдать даром. Мы до сих пор не сделали это-ю. вот нас и настигла кара. Твоя бабушка Мандиза из рода Канденгва, потому-то она потеряла одиннадцать детей — всех, кроме твоей матери, — и виной тому преступления предков. Но проклятие тяготеет и над нами, ведь в матери твоей тоже течет кровь Канденгва. Вог почему Бетти не должна выходить замуж. Вот почему так страдает бабушка Мандиза. И когда мы уплатим долг, одна только она имеет право обратиться к духам своих предков и просить их, чтобы они умолили потомков обиженною рода не вредить больше нашей семье. Но она может умереть раньше, чем мы искупим свою вину, и тогда я просто не знаю, как нам и быть. Может и другое случиться: средство, которое она выбрала, то есть все мы выбрали, не поможет, и тогда Бетти придется идти в ту семью, в которой прапрадеды твоей матери убили сына. Мы не знаем, где эти люди сейчас живут, но это не важно. Мы дадим Бетти трав и снадобий и выведем на дорогу, и те, кто ее ждет, укажут ей путь. Она пойдет одна, вперед и вперед, нс оглядываясь, и навеки забудет нас. Домой уж ей никогда не вернуться. Если же наш замысел не удастся, если мы не найдем козла отпущения и оставим Бетти до*ма, тогда она умрет, и умрут все, в ком есть хоть капля крови Канденгва. Теперь ты понимаешь наши заботы, Люцифер? Преступление совершили прапрапрадеды твоей матери, но вина перешла и на нас с тобой. Мы должны ее искупить. Поэтому когда я разговариваю с твоей бабушкой, Ман-дизой, я сначала хорошенько подумаю, а уж потом отвечу. И с матерью твоей тоже. Они из другого рода, и не дай бог нам их обидеть. Ты тоже. Люцифер, не ссорься с ними: слетит одно-единственное дурное слово — и ты вырыл могилу и себе, и своим детям. Ошибешься один раз, и снова пошли убийства без числа, полилась рекой кровь.
Вот почему после моей смерти главой семьи станешь ты, я так решил.'Понимаешь теперь, да? По обычаю главой должен бы стать Гарабха, но видит бог, довольно семье и одного Куруку. Те, кто ушел раньше меня, поймут мои опасения. А тебя, Люцифер, я предупреждаю: да, ты станешь главой семьи, но не вздумай выгонять из дому Гарабху, ты тут же погубишь и себя и весь наш род. Ты ведь слышал вчера о своем дяде Макиве, который умер в Гатуме, и знаешь, как мается его неприкаянный дух. Надо дать ему приют, ты и сам видишь, как это важно. Но, может, ты думаешь: «Вот я его облагодетельствую, и он всегда должен помнить мое добро, должен мне быть благодарен». Выкинь такие мысли из головы — все будет наоборот. Ведь самое большое горе нам приносят те, кого мы больше всех любим, ты должен понять это и смириться.
171
Наш закон говорит: если у тебя есть родня, ты не пойдешь по миру с протянутой рукой. Так что пока ты жив, Люцифер, не допускай, чтобы твои родные нуждались. Так уж у нас заведено, соблюдай наши законы и доживешь до глубокой старости. Вот и все, что я хотел тебе сказать, сынок, прошу тебя, запомни мои слова.
Люцифер кивает отцу, отделенный от него бесконечной далью.
— Ах да, чуть не забыл. Раз уж тебе обязательно надо уехать и нельзя нарушить сроки, стало быть, тебя не будет с нами, когда Матандангома придет очистить и укрепить наш дом. Поэтому она оставила тебе снадобья, ты возьмешь их с собой. Где бы ты ни был, что бы ни делал, и ночью и днем, они должны быть с тобой. Снадобья будут защищать и ограждать тебя, покуда ты не вернешься домой и не примешь имя твоего покойного дяди. Они сейчас у твоей матери, мать передаст их тебе.
Люцифер кидает на отца быстрый взгляд. Тонгуна уходит, на душе у него заскребли кошки от этого взгляда.
Глава тридцать восьмая
Люцифер встает с постели, одевается и уходит бродить в лес. Это традиция, и он соблюдает ее свято. Но сегодня он знает: лес ему не поможет. Ничего нельзя изменить. Это его дом, и сегодня он его оставляет. Навсегда. Я уезжаю из дома навсегда. Он старается почувствовать важность этих слов, вжиться в них, но ничего не получается. Слова остаются пустым звуком, их смысл не оживает.
Он идет все дальше от дома, все глубже в заросли. Я — Люцифер Манденгу, я родился здесь и вырос. Я знаю этот край как линии на моей ладони. И я его не люблю.
Когда я был маленький, лес был гуще, деревья толще и выше. Люди порубили их на дрова и на постройку домов, остался чахлый кустарник. Им столько раз объясняли, что нельзя рубить лес, почва будет выветриваться. Даже в тюрьму сажали за порубку, да разве их убедишь? Они считают все это очередной выдумкой белых. Сначала эти белые потребовали сократить поголовье скота на душу населения, потом придумали, что нельзя рожать так много детей. Всеми способами стараются взять черных за горло. Мы спину гнем, учим наших детей в школах, чтобы они стали как белые, вот, дети и объяснили нам все про белых. Знаем мы их теперь — настоящие хамелеоны.
172
Но Люцифер давно убедился, что белые правы. Горько, что он не может доказать это своим, родные и сельчане закричат, чю он предатель и продался белым. А через какие-нибудь пять лет земля здесь совсем истощится, оскудеет, единственное, что на ней сможет расти, это чарурви с жесткими толстыми листьями. Чарурви и акация, проклятье засушливых земель. Густая, непролазная чаща до самого горизонта. Жить здесь будет нельзя, придется уезжать. Некоторые уже снимаются с насиженных мест — те, у кого не такие крепкие корни, кто не привязан к родне и «духам наших предков».
Я — Люцифер Манденгу, я родился здесь, но никто не спрашивал моего согласия. Мне надо было родиться в другой стране, от других родителей. Я никогда не любил этот край, я никогда его не полюблю, и если я уеду из дому, то больше уже не вернусь. Здесь прозябают неудачники. Сюда приезжают умирать те, кто уехал в молодости в город и прожил там всю жизнь. Прожить жизнь вдалеке и на старости лет вернуться умирать — вот для чего нужна родина. Родина — это горстка изъеденных термитами лачуг на каменистом склоне холма под раскаленным солнцем. Что здесь можно любить? Чахлые заросли, нищие поля, белую от солнца пыль? Идешь по жаре час, два, три, и нигде до самого горизонта ни единого дерева, под которым можно укрыться. Всюду, куда хватает глаз, белая голая земля и на ней извечный черный крест — тень летящего грифа. Да, я родился здесь, но разве это преступление? Это просто биологическая и географическая ошибка, ее можно исправить. А может быть, нет? Неужели я не в силах ничего изменить? Неужели должен жить среди обветшалых традиций, в которые уже давно не верю? Неужели должен вернуться в эту пустыню и умереть только потому, что я здесь родился, потому что здесь моя родина, дом, моя семья, мои корни?
Люцифер бредет, как слепой, не видя пейзажа, не замечая ничего вокруг.
Он-то надеялся, что произойдет чудо, что слово «родина» обретет для него свой изначальный смысл. Когда в городе люди говорят о родине, доме, он остро ощущает свою ущербность и хочет спрятаться. Родина для них — это место, куда стремятся их мечты, где живет наивная вера. Они едут домой, когда устают от города, где все всем чужие, где царят деньги, деньги, деньги... На родине, дома живут твой отец, мать, твои братья и сестры. Но у Люцифера эти слова пробуждаю! его детские кошмары, он видит огромных ведьм и призраков, черными непроглядными ночами, когда землю хлещет ливень, они скачут верхом на гиенах... он слышит свист плетки, рассекающей голое тело, видит искаженное болью лицо матери...
173
какие-то тенгг мелькают в сумерках на опушке, они подкарауливают зазевавшихся детей... Дома ты проживешь всю жизнь и так и не поймешь, что ты такое. Лишь иногда тебе вдруг открывается в прозрении: ты — нищий, в твоей душе переплелись змеиным клубком страх, ненависть, предрассудки, зависть. Дома черви начинают глодать тебя в тот самый час, когда тебя зачали. Дома все длится и длится нескончаемая засуха, а когда дождь наконец приходит, скот уже почти весь перемер, а стариков бросили дожидаться черного мессию с проклятьем на устах. Остаться дома.? Нет, нет, никогда!
И вдруг Люцифер видит дочь Кутсваки, Рудо, она идет ему навстречу и машет чем-то черным.
Он быстро поворачивается и бежит к дому. Скорее укладываться и уезжать!
Глава тридцать девятая
Утро застает Гарабху за его обычным занятием: он обводит взглядом уходящие за горизонт холмы в поисках пристанища. Всю ночь Старик пытался что-то втолковать ему, но он не слушал деда. Еще несколько минут — и взойдет солнце. Гарабха поднимается, стряхивает прилипшие к одежде стружки и идет во двор.
Вернувшись в сарайчик, он видит, что Старик развел огонь и сыплет в него стружки.
— Ну так что? — спрашивает Старик.
Гарабха садится на пол и подпирает голову руками. Старик качает головой и говорит:
— Никто ведь не умер.
Гарабха роняет с колен руки и спрашивает:
— Как, по-твоему, он вернется?
Старик бросает на внука взгляд и говорит негромко: — Нельзя такие вопросы задавать, плохая примета.
Гарабха молчит.
— А отец твой — дурак, — продолжает Старик.
Гарабха и на этот раз не отвечает. Ему хочется уйти, пока родные не встали. Вчера семья в последний раз собралась вместе, он это чувствует. И снова перед глазами возникает озеро, вода поднимается, муравьишка бежит прочь. Но вода захлестнула его, муравей погиб. Гарабха был рядом, но не смог его спасти. Да. всегда у него так. Всю жизнь его точит мысль, что он мог кому-то помочь, вытащить из воды, и не помог. Но что, что можно сделать? Тонущий один. Люди глядят на него с берега. Они слышат его крики. Гарабха видит, что они от
174
крывают рты и тоже что-то кричат, но не слышит их голосов, их заглушает рев воды в его ушах. Люди мечутся, машут руками, на что-то указывают. Что они советуют — схватиться за соломинку? Но тонущий не смеет оглянуться, люди на берегу не видят того, к чему устремлены его мысли. И он их не слышит, его уносит все дальше, дальше... он хочет крикнуть в страхе, но захлебывается... Одни только глаза его видят ее — смерть. И люди на берегу видят смерть в его глазах. Они беспомощно сгрудились и молча стоят, пораженные ужасом. Дальше за этой чертой начинается царство, где уже нет слов. Скоро, скоро там, где он сейчас, останутся только пузыри. Они поднимаются со дна озера — стало быть, там все и произойдет... Пузыри один за другим будут лопаться на поверхности. И наконец со звуком, похожим на «Аминь!», лопнет последний, самый большой пузырь, который плавал там уже давно, прямо над местом, огромный, черно-синий, точно остекленевший глаз мертвого осла...
Гарабха со вздохом поднимается.
— Не хочешь его проводить? — спрашивает Старик.
Гарабха качает головой. Нет, не будет он провожать Люцифера, он знает, что не удержится от слез, когда придет пора прощаться. Его точил мысль, что брат его гонится за ветром, что его заманил голос чудной птицы, как того охотника из сказания Мандизы, он тоже лишь в последний миг понял, что голос вел его в Долину Черепов... Нет, Гарабха не будет прощаться ни с братом, ни с родителями. Только Старику скажет : «До свидания». Он уйдет из дому как всегда: никому не сказавшись, тайком.
Старик говорит:
— Забудь отцову дурь, не держи зла ни на него, ни на брага.
— А никакого зла у меня и нет. Отец правильно рассудил. Я и сам давно думал, что надо выбрать Люцифера. Пустой я человек. Куда мне быть главой семьи, когда у самого головы на плечах нет?
Старик машет на него рукой:
— Это ты-то пустой человек? Да у тебя талант, дар! Не смей хаять себя, чтобы я никогда больше таких речей не слышал.
Гарабха молча поворачивается и идет прочь. На опушке леса такое одиночество ударяет его в грудь, что он начинает пегь.
Старик слышит удаляющуюся песню Гарабхи. Она очень удивила его, он бросил дело, которым занимался, и замер, слушая. Песня растет, ширится, но звучит все дальше... вот она
175
снова набрала силу, хотя и удаляется... Старик весь поглощен звуками... что это? Песня звучит совсем рядом’ Старик оглядывается — никого. Он смеется: песня-то в его мозгу звучит! Он вслушивается в свои мысли. Да. песня здесь, ясная, чистая, взволнованная. Он складывает губы, чтобы просвистеть мелодию, но вместо свиста получается шипение. «Вот черт! — опять смеется Старик, — совсем старый стал, зубов не г, да и задыхаюсь». Ну надо же — забыл, что беззубый! Старика опять одолевает смех, он от души хохочет пал собой, а сам все смотрит вдаль, перед глазами исчезающий за деревьями Гарабха, душа до краев полна его песней. Образ внука и песня сливаются, и Старика охватывает радость, какой он не испытывал давно. Он вдруг осознает, что никогда .раньше не слышал этой песни. Наверное, парень сам ее сложил. Сложил, как встарь складывали музыканты с их безупречным слухом и чутьем. Нет, если человек способен сотворить такую красоту, о нем не надо беспокоиться и дом его стоит прочно. Только сам-то внук пока этого не понял. Он еще в поисках. И хорошо, что в поисках. Раз ищет, слало быть, найдет...
— И он еще горюет, что не может никого ничем порадовать — эх, молодо-зелено! — И со счастливой улыбкой Старик снова принимается строгать.
Глава сороковая
После ухода Гарабхи в доме воцаряется мрачное уныние. Солнце через силу ползет по пыльному небу среди лохматых облаков, и чем ближе к полудню, тем явственнее у всех ощущение, что они кого-то хоронят.
Люцифер затворился у себя в комнате; он должен совершить омовение и сложить вещи — так велели ему Матандангома и мать.
Двор пуст. Все разбрелись кто куда.
— И виду не подавайте, что кто-то у вас отправляется в путешествие, — строго-настрого наказала им сегодня утром Матандангома перед тем, как уйти.
Люцифера покоробило, что его впутывают в очередную глупость — ну какой смысл в этом запрете? Ведь вся деревня была у них вчера вечером, — и все равно он обрадовался: слава богу, не надо ни с кем разговаривать. Он хочет собраться один, чтобы никто ему не мешал. Раньше его всегда провожали будто на казнь. Суматоха, слезы, причитания, он долго потом не мог опомниться. Нет, отлично распорядилась Матандангома, а то соседи стали бы без конца трясти ему руку
176
и желать счастливого пути, мать доняла бы наставлениями и наказами, отец ходил бы вокруг него, потерянно дергая себя ш бороду, и давал допотопные советы. Слава богу, он один в своей комнате, никто ему не мешает, и он даже начинает насвистывать — считается, что радио мешает человеку сосредоточиться.
И как не бывало вялости, которая всегда сковывает его параличом дома, в разгоряченном воображении зажигаются неоновые образы другой, яркой жизни за океаном. Синее-преси-нес море, на берегу темнеют пластмассовые пальмы, их макушки метут пурпурное закатное небо...
Мандиза заканчивает готовить арахисовое масло. Она три раза толкла орехи в ступе, четыре раза молола на жерновах, и теперь масса наконец-то обрела маслянистую тягучесть, какой и за сто лет не добиться изнеженным женам наших несчастных сыновей, которые только и знают что мыться мылом.
Джапи полулежит на своих подстилках, прислонившись головой к спинке кровати, и пытается усмирить свой алчный, вечно требующий еды желудок. Наконец она изнемогает в борьбе и, бросив украдкой взгляд на закрытую дверь, тянется за орехами, которые припасла внуку в дорогу, чтобы он грыз их, пока будет плыть в свой новый дом за океаном. Она возьмет только еще одну горсть, и все, больше не съест ни ореха, а то что о ней люди скажут?.. Ну вот, орехи съедены, однако что же это такое? Солнце уже прошло по небу такой большой путь навстречу смерти, но почему-то никто не несет ей из кухни обед. И рука ее снова тянется к подсоленным орехам, горсть за горстью исчезают они у нее во рту... А Мандиза поет, мелет на жерновах арахисовое масло для внука и поет — вот окаянная!
Тонгуна поливает в саду персиковые деревья и манго, но мысли его далеко. Сегодня Люцифер уедет, и кто знает, когда вернется, не затаил ли он на отца обиду? Вспоминаются Тон-гуне их прошлые ссоры, его собственная неловкость и глупость. откровенное презрение и неприязнь сына. Глупость... почему это слово приходит ему на ум всякий раз, как он думает о себе? Это его до такой степени разъяряет, что он бросает ведро и ковыляет в кухню к жене и дочери, которых и без того совсем затуркал.
177
— Хватит языком чесать! — кричит он.—Машина вот-вот придет, а вы прохлаждаетесь! Ты что. Бетти, ручки сложила? Испачкать боишься? Проснись ты наконец! Стоит, уставилась, как корова стельная! — Вспомнив про стельных коров, он разражается бранью, без конца повторяя: — Ну погоди у меня, уедет путешественник, увидишь, что я с тобой сделаю! Кожу с задницы сдеру, бесстыжая ты девка, потаскуха!
Старик выбрался из своего сарайчика — уж больно там стало душно — и сидит под единственным деревом во дворе, большой тенистой смоковницей, посвященной предкам. Он то построгает, то заснет, проснется и глядит на выхолощенный беспощадным солнцем край. Неужто и в этом году будет засуха и голод, как в прошлом и в позапрошлом? Трудная им выпала зима, и лето, видно, будет не легче. В старину самые старые старухи и непорочные девушки деревни варили в таких случаях пиво для праздника и приглашали колдуна, чтобы он вызвал дождь. А сейчас и заклинатели дождя почти перевелись, если и отыщешь какого-нибудь завалящего, толку от него мало, даже и колдунов испортили белые. Смех да и только — деревня без заклинателя дождя. Все равно что народ без бога.
Глава сорок первая
Тени стали такие короткие, что их почти и не видно. Еще немного, и солнце начнет свой путь вниз, навстречу смерти дня.
В первую минуту никто даже и не понял, что машина приехала.
Тонгуна в сотый раз за сегодняшний день бросает ведро и мчится в кухню. Рис еще не закипел, Бетти вертит в руках курицу, точно не знает, как ее разрезать.
— Машина! — не своим голосом кричит он.
— Один, что ли, ты слышал, мы, по-твоему, глухие? — огрызается Раина: это муж виноват, что рис не готов. С утра гоняет почем зря, вот у нее все из рук и валится. Но гнев Раины тут же сменяется печалью и огорчением: хотела приготовить сыну такой обед, чтобы он долго помнил его в чужом краю, и вот не успела. Рис не садза, он должен хорошо упариться, и его не подгонишь. Огонь должен быть не слишком большой, иначе подгорит. Когда вода выкипит, втыкаешь в рис палочку и смотришь — если она сухая, можно класть ара-
178
\псовое масло. Но машина уже пришла, Раина слышит визг юрмозов у ворот.
Тонгуна кидается на улицу. Бетти порезала руку ножом, ко-юрым разделывает курицу, течет кровь.
Раине страшно хочется побежать за мужем поглядеть на машину, но нельзя же бросить стряпню, и она выхватывает из рук дочери нож, искромсанную курицу и миску и отталкивает ее в сторону. Глаза у Бетти наполняются слезами: опять она провинилась, а родные и без того только и ждут, когда уедет Люцифер, ох, расправятся они с ней за то, что нагуляла ублюдка, который должен родиться мертвым, не будет ей пощады. Бегти вытирает слезы и идет на улицу посмотреть машину.
Раина ловкими быстрыми движениями разрезает курицу, бросает куски в котел, переворачивает их несколько раз ложкой, чтобы вытопился жир, и шваркает на котел крышку, пусть жарятся в собственном жире. Теперь рис — может быть, уже готов? Нет, еще немного воды осталось. Она принимается раздувать огонь, понимая, что подгорит рис, обязательно подгорит...
Двор мало-помалу наполняется соседями, которым интересно поглядеть машину. Они стоят кучкой и тихонько переговариваются. Люцифер, Тонгуна и белый священник стоят втроем возле машины.
На белом священнике тонкая черная рубашка с белым пасторским воротничком, очень светлые, почти белые брюки и пиджак, старая соломенная шляпа с широкими полями, открытые сандалии. Носок на ногах нет. Нос лупится, как будто змея меняет кожу.
Белый священник, кивает собравшимся и улыбается широкой застенчивой улкбкой. Сельчане переглядываются, переминаются с ноги на ногу, смущенно улыбаются в ответ. У Люцифера на лице страдание. Он глядит то на отца, то на священника, что-то говорит ему с улыбкой, наверное, шутит, соседи не слышат, но, видя улыбку Люцифера, тоже улыбаются, а преисполненный уважения отец поднимает руку, чтобы по-военному отдать гостю честь, и, не замечая ужаса в глазах сына, неловко взмахивает ею и подносит к виску, точно новобранец, растерявшийся в присутствии начальства.
Белый священник трясет головой и говорит:
— Ну что вы, не надо, мы же друзья.
Но Тонгуна лишь радостно улыбается ему щербатым ртом, мельком взглядывая на соседей. Люцифер поворачивается к белому священнику с вымученной застывшей улыбкой. Тот добродушно подмигивает ему. Соседи перешептываются.
179
Священник улыбается им и приветствует собравшихся на их родном наречии, безбожно его коверкая. Сельчане смеются, священник и Люцифер тоже. Теперь люди поняли, что можно говорить громко, и придвигаются поближе.
Маленькая девчушка, набравшись храбрости, подходит к священнику и робко дотрагивается до его белых брюк своей грязной ручонкой. Толпа ахает и подается назад, мать кидается к проказнице, хватает ее и, шлепнув по попке, прячется в толпе. Но священник качает головой, протягивает руки и говорит: «Нет, нет, сюда». Мать девочки колеблется, смотрит на сельчан и, наконец увидев, что священник улыбается, выходит с ребенком вперед. Все смеются: очень уж забавный вид у смешавшейся матери и у девочки — она открыла было рот, готовясь зареветь, и вдруг лукаво улыбнулась, хотя глаза хлопают испуганно.
Священник улыбается ребенку, говорит на ломаном шона: «Мама злой делать, да? Мама тебя уносить», и целует девочку в щеку. Теперь сельчане совсем осмелели и от души хохочут над растерявшейся матерью, которая лепечет, пытаясь оправдаться: «Мама у нее не злая, я просто испугалась, вдруг она испачкает чистую одежду белого священника своими грязными руками, но раз вы не сердитесь, я сейчас сбегаю домой, умою ее, и уж тогда...» Священник прерывает ее и спрашивает Люцифера, что она сказала. Люцифер переводит, и священник вдруг разражается смехом. .Он поднимает руки и показывает их сельчанам. Все удивлены — руки у белого священника чем-то перепачканы.
— Карбюратор по дороге засорился, — объясняет священник на своем собственном языке, но, заметив недоумение на лицах сельчан, спохватывается и с улыбкой глядит на Люцифера. чтобы тот перевел, но Люцифер лишь криво усмехается, кивает и оборачивается к отцу: тот неестественно громко хохочет. делая вид, что понимает речь белого священника.
— Ну что, готово? — спрашивает Люцифер.
Тонгуна салютует, прося позволения отлучиться, говори!: «Сейчас узнаю» и, бесцеремонно расталкивая гостей, устремляется к кухне. Он успевает заметить, что жена метнулась к двери и скрылась за ней. Еще на пороге ему бьет в нос запах подгоревшего риса. Жена льет воду в котел, где жарится курица.
— Как, все еще возишься?! И кто только придумал этих женщин! В такой день путного обеда сыну не смогла приготовить!
- Я...
— «Я, я!» Хватит болтать, пошевеливайся! Где Бетти?
180
— Во дворе.
Тонгуна кидается во двор, крича «Бетти! Бетти!».
Раина поднимает крышку с котла, где варится рис. Внизу немножко подгорело, а сверху ничего, только вот вода еще не вся выкипела! Эх, незадача. Надо же именно сегодня испор-1ить рис, ведь сроду с ней такой беды не случалось. И ничего уж не исправишь.
Она кладет в котел арахисовое масло и изо всех сил мешает. В котле получилась бурая каша-размазня. Ах, когда рис хорошо приготовлен, он весь рассыпается, рисинки целые...
Во дворе священник раздает детишкам конфеты и печенье, там радость, улюлюканье, смех.
Люцифер у себя в комнате, перед ним два чемодана, они уложены, но еще не заперты. Входит отец.
— Помочь?
Лицо у Люцифера каменеет.
— Не беспокойся, я сам.
— У нас так не положено,— с обидой возражает отец.
— Ну как знаешь. Только не поцарапай о косяк.
— Не в первый раз я их несу... — И вдруг Тонгуна оборачивается и смотрит в угол.
Люцифер замечает взгляд отца и молча отводит глаза. Он ждет.
— Надеюсь, ты не забыл?
Люцифер вздыхает, потом говори!, ыядя отцу прямо в глаза:
— Отец, неужели ты и в самом деле думал, что я буду возить с собой по свету эту... эти снадобья?
— Но как же, они защитят тебя...
— Да, да, конечно, но когда пересекаешь границу, багаж осматривают.
— Так ты спрячь их... ну хоть в карманы или еще куда-нибудь, а?
— Да нет, огец, обойдусь я без снадобий и амулеюв.
— Люцифер, ты с ума сошел! Нельзя тебе ехать без них, гы погибнешь, умрешь, ты и сам это знаешь! — Тонгуна на минуту умолкает, потом говорит с мольбой: — Прошу тебя, Люцифер. Иначе мне придется изменить вчерашнее решение. Ведь я уговорил их отпустить тебя за большую воду, сам знаешь, чего мне это стоило. Они ведь сначала ни в какую, им кажется, чю ты едешь на верную смерть. Да что там, ты ведь слышал, что они говорили. А я настоял на своем, и теперь моя судьба и судьба семьи связаны с тобой, Люцифер. Что ж мне теперь, отказываться от своих слов? Возьми снадобья с собой. Не хочешь ради меня, так хоть ради матери. Я ведь знаю, какие
181
опасности тебя подстерегают. Тебе нужна защита. Ну, пожалуйста, положи их в карман.
Люцифер с вызовом смотрит на отца, в первый раз за всю жизнь в душе его нет страха. Отец в отчаянии, он сдался, уступил ! Люцифер ошеломлен, и в то же время ему неловко, точно он застал отца на месте преступления. Сердце сжимается от жалости к нему, но жалость тут же вытесняется презрением, враждой.
— Нет, отец, — отчеканивает он. — Никуда я эту дрянь с собой не повезу.
Тонгуна выпучил глаза, челюсть у него отвисла, щека дергается. Люцифер отводит взгляд, смотрит на пузырьки, потом отцу в глаза.
Молчание длится, длится...
И вдруг Тонгуна, точно тигр, кидается па Люцифера, хватает его за горло и начинает душить, вжимая в стену, потом отшвыривает от себя и, в бешенстве шепча проклятия, выскакивает из комнаты.
Люцифер несколько минут лежит на полу не шевелясь, пока в голове не перестает гудеть. Потом он медленно, держась за стенку, поднимается, подходит к пузырькам в углу и камнем разбивает их один за другим на мелие осколки. Опустившись на колени, запирает чемоданы и несет во двор к машине.
Соседи наконец отлепились от машины. Кто-то сидит на песке, другие стоят чуть поодаль и наблюдают за священником, который фотографирует Мандизу и Джапи. Бетти выглядывает из-за священника.
Люцифер молча ставит чемоданы возле машины, открывает багажник — он оказался незаперт — и укладывает свои вещи.
Увидев вошедшего в кухню мужа, Раина отрывается от стряпни.
— Что с тобой, заболел? — спрашивает она.
Тонгуна тяжело опускается на табурет, подпирает голову руками и закрывает глаза.
— Да что случилось-то? — не отстает Раина.
Тонгуна поднимает голову и устремляет невидящие глаза в огонь.
— Твой сын отказался взять с собой снадобья.
Раина ахает, потом;
— Что? Не может быть!
— Я тебе когда-нибудь врал или шутил с тобой шутки? — рявкает Тонгуна.
182
— А он сказал тебе, почему не хочет взять их? — спрашивает Раина, не замечая ярости мужа.
— Сказал, они ему не нужны.
— Не нужны?!
— Что ты все переспрашиваешь, оглохла?
— И ты отпустишь его без всякой защиты?
— А ты прикажешь мне сечь взрослого сына?
— По-твоему, он взрослый? Ведет ‘себя хуже малого ребенка !
— Ну и разговаривай с ним сама, язык у тебя длинный, может, ты его и уговоришь.
— Конечно, уговорю! Где он? — Раина встает.—Где он, спрашиваю?
— Ты не очень-то налетай на него, там люди, да еще и чужой приехал. Тут надо все по-доброму уладить.
Но Раина уже не слышит. Она вылетает во двор, точно шаровая молния, но, увидев столько народу, увидев Люцифера, который, смеясь, болтает со священником, она теряет запал и останавливается, стоит минуту в нерешительности, отступает, прислушивается к тому, что говорят вокруг, и все-таки заставляет себя сделать шаг вперед.
Вот она приблизилась к Люциферу и белому священнику и, отлично понимая, что ее и без того важный сын заважничает еще больше, опускается перед ним на колени, как и положено женщине, когда она хочет обратиться к мужчине. Крупный острый песок впивается ей в кожу, и она с горечью думает, что вот рожает мать детей, нянчит, заботится о них, а потом они вырастают и становятся чужими.
— Обед готов, Люцифер, — говорит она. Надо заманить его в дом и обсудить деликатное дело о снадобьях без посторонних, но она не может придумать ничего похитрее. — Идем, а то остынет.
— Отец Уильямс говорит, я пообедаю у него в городе.
Раина никнет. Соседи уже больше не переговариваются, они навострили уши.
— Но ведь я все приготовила. Не могу я отпустить тебя голодным, ты же из родного дома уезжаешь.
— Я не голодный, мама, зря ты... Да и до города недалеко, тем более что мы на машине.
«Неужто он унюхал, что рис подгорел?» — думает Раина и снова подступается к сыну.
— Хоть посидим в последний раз вместе, — просит она.
— Ну хорошо, мама, сейчас уложимся, и приду.
Раина, ни на кого не глядя, идет в кухню. Соседи’ перешептываются.
183
Глава сорок вторая
Минут через десять Люцифер появляется на пороге кухни. Семья уже в сборе. Все молча смотрят, как Люцифер входит и садится на свое обычное место на скамейке.
Никто не произносит ни слова. Наконец молчание прерывает Раина.
— Люцифер.
— Да. мама?
— Смотри, лишнего не наговори, ведь ты сейчас прощаешься с сыном, — остерегает ее Джапи.
— Это правда, что ты отказался взять снадобья?
— Правда.
— Почему, Люцифер?
— Они... понимаешь... зачем мне таскать лишнюю тяжесть?
— Лишнюю тяжесть! Нет. вы послушайте его! —кричит Джапи.
— Лишнюю тяжесть?! Как ты сказал — лишнюю тяжесть?! — срывается на крик Раина.
— Тише, Раина, опомнись, — одергивает ее Мандиза.— Опять ты за свое? Он в чужую страну едет, забыла? Хочешь, чтобы он увез с собой твои проклятья?
— Я его не прокли...
— Хватит, Раина, — говорит Старик и поднимает руку.— Разговаривай с сыном по-людски.
Раина собирается с силами и начинает глухим голосом:
— Ты обязательно должен взять снадобья. Это тебе только кажется, что ты обойдешься без них, потому что ты сейчас с нами! А вот уедешь и будешь жить среди чужих, тогда тебе и понадобится защита. Мы за эти снадобья отдали Матандан-гоме козу. А ты говоришь — лишняя тяжесть.
Ее неожиданно прерывает Джапи:
— Ох уж эти нынешние дети! Только усы начали пробиваться, а они уже считают себя умнее стариков.
— Эх, Джапи, зря тебе в детстве язык не подкоротили, — говорит Старик.
Джапи вздрагивает как от удара, закусывает губы и отворачивается.
— Когда я была маленькая, — начинает Мандиза, — родители нам твердили: «Вы даже не знаете, что вон за тем холмом». Когда человек отправляется в путешествие, он вступает в поединок со смертью. Те, кто остался, уже не в силах защитить его. Уехал — все равно что умер. А от смерти даже снадобья и амулеты не спасут. Но мы хотя бы старались ее отвратить.
Старик качает головой.
184
— Перед дальней дорогой не говорят о смерти. Люцифер нас не слышит, ваши слова входят ему в одно ухо, а в другое выходят. Не хочет он брать с собой снадобья. Не нужны они ему, и все тут. Заставьте его силой — все равно выбросит по дороге. Вам что, больше ему сказать нечего? Он в снадобья не верит. Ваш сын мужчина, и жизнь должна взять его в оборот, как всякого мужчину... — Старик умолкает. Ему хочется еще добавить: «А уж кто кого одолеет, от него зависит — есть у него барабан между ног или нет», но он понимает, что и без того сказал слишком много, и закрывает глаза.
— Дурак он безмозглый! —вне себя визжит Тонгуна.
— Весь в тебя,—невозмутимо замечает Старик. — Только ты еще дурее: сначала насмехался над снадобьями и амулетами. потому что твоя церковь их не признает, а теперь Земля тебе доказала, что ты бил в чужой барабан.
— Ну, будет, будет, — говорит Мандиза. — Благословите пу-лешествепника и отпустите его с миром.
Лицо Раины светлеет, видно, она что-то вспомнила. Она шепчет Бетти на ухо, и Бетти выходит.
Мандиза вынимает из складок шали листья и коренья. Среди всеобщего молчания Раина берет их и бросает в огонь. Поднимается тонкая струйка голубого дыма, завиваясь, плывет к крыше. Кухню наполняет едкий запах.
Все чихают, и Старик говорит, обращаясь к духам предков:
— Теперь он ваш, Отцы. Передаем его вам из рук в руки. Он еще дитя и пе ведает, что творит. Не мстите ему, не наказывайте его, если поступит неразумно, ведь сами-то вы мудрые. Я к тебе обращаюсь, отец мой Манденгу. Передай мои слова своему отцу Нхеме и всем тем, кто ушел из жизни прежде нас, кто живет на холмах Манхизе, передай нашему пращуру, который пришел с севера и положил начало нашему роду, а он пусть скажет тому, кто живет на небесах... — Старик умолкает, потому что в кухню входит Бетти и следом за пей белый священник.
Священник щурится от дыма. Он присаживается на скамейку рядом с Люцифером, улыбаясь всем застенчивой улыбкой.
Раина просит Люцифера, чтобы священник помолился за них. Люцифер переводит, священник кивает и просит всех, кроме стариков, преклонить колена.
Семья опускается на пол. Священник читает «Отче наш» и молитву о путешествующих. Все повторяют за ним словг! молитв. Потом священник осеняет домочадцев крестом и просит господа благословить сей дом и охранить его — всё, церемония закончена. С минуту все сидят в молчании, потом священник взглядывает на часы, говорит что-то Люциферу,
185
улыбается, благодарит всех на своем ломаном шона, хлопает в ладоши и идет во двор.
Раина произносит: «Спаси его, господи, и наставь, мы поручаем его твоему милосердию», крестит сына и бросает в огонь еще пригоршню кореньев. Тонгуна наблюдает за ней в замешательстве. Он и сам хотел бы благословить сына, как она, с такой же легкой душой осенить его крестом, но его смущают коренья — ведь в церкви объясняли, что они сводят на нет все старания христианского бога. Нет, не может Тонгуна бросать в огонь травы, а потом той же самой рукой творить крестное знамение, заклинать духов предков, а потом просить милости у христианского бога. Его, пожалуй, обвинят в святотатстве. И Тонгуна не молится никому — ни духам предков, ни христианскому богу.
После ухода священника все долго сидят в молчании, и наконец Старик произносит:
— Ну что же, в добрый час, сынок.
От этих слов точно рушатся злые чары, которые сковывали всех в доме несколько дней. Все вдруг оживились, заговорили разом, засмеялись, все твердят: «Не забывай нас», «Не забывай родной дом». И тут Мандиза жестом фокусника достает из складок юбки большую флягу, протягивает ее Люциферу и говорит: «Это тебе, сынок. Там, за большой водой, отдашь ее своей подруге с нежными руками. Скажи ей, у тебя на родине есть бабка, которая и дня прожить не может без арахисового масла, и если девушка не умеет его делать, пусть скорей научится».
Раина и Бетти улюлюкают. Старик с Тонгуной хлопают в ладоши.
Люцифер хочет сказать: «Не надо», но в таком шуме протестовать бесполезно. Он принимает флягу и ставит рядом с собой на скамейку.
Джапи угрюмо отворачивается. Бетти глядит на нее в упор и хихикает.
— Может, все-таки поешь хоть немного? — спрашивает Раина.
Люцифер качает головой.
Старик делает шутливо свирепое лицо и говорит:
— Как, мужчина из рода Манденгу трусит перед путешествием? Такого у нас никогда не бывало. Наложи ему побольше, мать Гарабхи, пусть ест. Ведь этот сумасшедший на край света едет, в страну, о которой наши предки и слыхом не слыхали. Твою душу точат сомнения, сынок, так пусть хоть желудок будет полон. Ешь! А если ты не хочешь, положи мне, мать Гарабхи, нельзя же, чтоб еда пропадала, я покажу ему, как мы,
186
дети Манденгу, потомки Великого Самамбвы, умеем наваливаться на еду и есть, есть, есть, пока живот не раздуется, как у женщины на сносях! Эх, молодежь зеленая! Да я бы на твоем месте, сынок... — Старик берет миску с рисом и курицей, которую протягивает ему Раина, и набрасывается на еду, как будто месяц голодал.
Семья хохочет, глядя на него, и Люцифер тоже берет миску и начинает отщипывать от ножки — ему положили самый лакомый кусок. Старик подмигивает Люциферу и шепчет что-то ему на ухо. Люцифер смеется, а Старик подзуживает его:
— Спроси ес, спроси!
Люцифер обращается к Джапи, которая с отсутствующим видом глядит в стенку:
— А что же ты, женушка? Ничего не приготовила охотнику в дорогу?
Джапи поворачивается к внуку и говорит громко, чтобы все слышали:
— Ступай, Бетти, ко мне и принеси орехи, я припасла их для охотника!
Люцифер хлопает в ладоши:
— Ну вот, спасибо! А то бы я тоже тебе ничего не привез в подарок, когда вернусь.
Старик говорит, давясь смехом:
— Погоди, может, еще ее орехи собаки сгрызли.
Все смеются. Джапи делает обиженное лицо.
Входит Бетти и с хохотом протягивает Джапи миску — на дне ее горстка орехов.
— А где же остальные? — в искреннем изумлении спрашивает Джапи.
Старик опять подмигивает Люциферу, и Люцифер разражается хохотом. Все весело вторят ему, одна только Джапи глядит на них и недоумевает.
— Может, дети... — приходит ей на помощь Мандиза.
Джапи тотчас'же уцепилась за это предположение:
— Ну конечно! Это твои дети, Раина, съели все орехи!
— Нет, свекровушка, мои дети тут ни при чем, — отвечает Раина, вытирая слезы.
— Значит, собаки, — ввертывает Бетти, но о собаках бабка уже слышала.
— С каких это пор собаки научились отпирать замки? — набрасывается она на девушку.— Я своими руками заперла дверь, когда уходила.
— Ты бы лучше рот себе заперла,—говорит ей Тонгуна.
— Но там же оставалась полная миска... Сколько раз я просила поправить дверь, да разве меня кто-нибудь слу
187
шает?.. Вот что, внучек, съешь-ка гы эти орехи сейчас, а то еще, чего доброго, отъедешь от деревни да и выбросишь их. И что же это за напасть такая — я стараюсь, всем угождаю, а мне никто никогда слова доброго не скажет.
— И на это-то дерьмо ты меня променял! — говорит Мап-диза Старику.
Это их старинная шутка, и оба хохочут.
— Мне работница была нужна, а у нее руки большие. Надо было на рот глядеть — он еще больше оказался.
Старик доедает рис, отдает миску Бетти, ополаскивает руки и, помолчав немного, произносит:
— Ну что же, сынок, до встречи.
— Счастливо оставаться, Секуру. — отвечает Люцифер и пожимает протянутую ему руку.
И тут все наконец осознают, что вот разлука и настала, пора прощаться с Люцифером, и в комнате воцаряется гнетущее молчание. Раина начинает всхлипывать, потом вдруг поворачивается к плачущей в голос Джапи и кричит, чтобы она замолчала. Тонгуна с усилием глотает, точно в горле у него застряла кость, на глазах у Бетти блестят слезы.
Старик идет на улицу, и от ощущения зияющей пустоты, которая образовалась в комнате, семью охватывает немое смятение...
Глава сорок третья
Тонгуна снова приступается к сыну. Ему кажется, что он забыл сказать ему что-то очень важное. Эта мысль жжет как огонь, а время летит, остались считанные минуты. Дух замирает, будто он спускается по веревке с огромной высоты, и вдруг веревка кончилась, надо прыгать, а до земли футов сто. не меньше. Его охватывает чувство обреченности, он столько наговорил сыну, и все не о том, все эго пустяки в сравнении с тем главным, что рвется из него. Но слов для этого главного нет, оно так и осталось невысказанным. И мысли путаются, разбегаются... Пытаясь поймать их, Тонгуна теребит бороду и говорит:
— Ну вот, я тебе все сказал, сынок, ты меня понял. — Полуутверждение, полувопрос.
— Да, папа.
Вся семья стоит возле машины. Двигатель уже включен, отец Уильямс пожимает родным руки. Сейчас произойдет то страшное, что даже не умещается в сознании: Люцифер уедет. Все молчат. Лицо Раины искривляется, она быстро моргает.
188
— Что ж плакать-то,— говорит Мандиза дрожащим от слез голосом, — Взрослый сын — отрезанный ломоть.
Раина берет себя в руки и начинает:
— Не забывай, сынок...
Но что — не забывай, она не помнит. Раина глядит в пустоту невидящими глазами, потом вздрагивает всем телом и кидается к матери, ища защиты. Женщины стоят, прижавшись друг к другу, и раскачиваются из стороны в сторону. Джапи убежала к себе и захлопнула дверь.
Белый священник уже в машине. Он дает сигнал.
Раина бросается к сыну и в порыве материнской любви обнимает Люцифера и прижимает к груди. Люцифер вывертывается из ее рук и поспешно садится в машину, где его уже никто не достанет. Захлопнув дверцу — слава богу, теперь он в безопасности! — он высовывается из окна и говорит, ни к кому не обращаясь:
— Счастливо оставаться!
Все как по команде поднимают руки и машут. Люцифер смотрит вперед, на чахлые заросли, на скудную землю, на древнее Дождь-дерево на горизонте, давно уже потерявшее свою силу.
— Можно ехать, отец Уильямс, — говорит он священнику.
Прощальный гудок, и автомобиль трогается. Тонгунгз машинально подносит руку к виску, отдавая честь.
Вдруг Бетти, расталкивая всех, кидается к машине с флягой арахисового масла, которое Мандиза приготовила Люциферу, а он оставил в кухне. Увидев флягу, Люцифер злобно шипит, чтобы никто, кроме сестры, не слышал его слов:
— Не суй ты мне это дерьмо, на кой оно мне черт!
Бетти отшатывается, прижав руки ко рту. Потом оборачивается к Мандизе, но та ничего не видела, — она утешает Раину. которая опустилась на землю и сидит, закрыв лицо руками.
— Поехали, отец Уильямс, — говорит Люцифер.
Машина выползает из толпы, точно змея из старой кожи. Люцифер смотрит в зеркало заднего вида, и перед ним проплывают сидящая на песке мать, отец с застывшей высоко в воздухе рукой, Мандиза. загородившая от солнца свои старые глаза, повернувшаяся спиной Бетти — она идет прочь с флягой арахисового масла. Вокруг них стоят соседи — вся их деревня. Нез только Старика и Джапи.
Машина медленно едет по проселочной дороге, колеса вязнут в глубоком песке. И облако пыли скрывает от Люцифера родной дом.
— Ты родился здесь и вырос? — спрашивает отец Уильямс.
- Да.
189
— Какой красивый край!
Люцифер молчит. Священник притормаживает, чтобы пропустить вола с повозкой. Сидящие в ней люди растерянно глядят на встречную машину и, когда она уже проехала, вдруг спохватываются и поднимают руки. Отец Уильямс машет им в ответ и говорит:
— И люди здесь чудесные.
Люцифер глядит вперед, где высоко в небе летит на север птица. Интересно, кто это — гриф или ястреб?
— Приветливые, сердечные. Знаешь, я тебе завидую.
— Люди как люди, — говорит Люцифер и решает, что, наверное, это все-таки гриф.
Машина набирает скорость, и родимый край отваливается, точно кусок изъеденного проказой тела, и остается сзади, мертвый и ненужный. В окна задувает легкий ветерок, и Люцифер в первый раз за много дней с облегчением вздыхает. Через два часа они будут в Солсбери.
Люцифер откидывается на спинку сиденья и пытается увидеть свою родину со стороны, глазами туриста.
Перевод с английского Л. Беспаловой, Ю. Жуковой, М. Кан
Стихи и рассказы Конго
Таги-Лутар
Ж.-Б. Тати-Лугар - известный поэт, новеллист, общественный деятель Народной Республики Конго. Родился в 1938 году. Учился в Браззавиле, затем на филологическом факультете университета в Бордо. Темой его докторской диссертации была «Африканская франкофонная литература». Среди его книг: «Сти-
хи о море» (1968), «Конголезские корни» (1968), «Около солнца» (1970) и др. Публикуемые стихи — из книги «Диалог плато», выпущенной издательством Пре-занс Африкэн © Edition Presence Africaine, 1982, рассказы — из книги «Конголезская хроника», выпущенной издательством «Хар-маттан» 1’Harmattan (Fonds Oswald). 1978.
ДИАЛОГ ПЛОСКОГОРИЙ
Я сегодня иду на голос новой своей страсти. Вот они, голые плоскогорья: музыка камня, Хилый кустарник.
Тщетно пытающийся вцепиться в крылья дикого ветра.
Здесь на камни нисходят ливни, сверкая звонко, Торжественные, словно гордые женщины Конго пятидесятых годов1.
А потом средь камней разгорается день.
Я кажусь себе крохотным среди девственной наготы плоскогорья.
Солнце молотом огневым расплющивает мою тень.
И я забываю город, где голос природы Звоном стенных часов заглушен, лишен свободы, Где память улочек тесных распухает
от воспоминаний
Т. е. в годы, предшествовавшие освобождению Конго (1960).
191
О тех, кто сгинул безвестно, о тех. кто объелся по горло своей нищетою;
Город, где сами мы стали опухолям подобны.
Слушая каждой ночью мощную поступь смерти;
Город, где горе стонет каждый день неустанно.
Где слезы не иссякают в глазах никогда.
Как не иссякает вода старого городского фонтана.
Там религия заполняет умы,
Купол церковный правит переговорами крыш, Колокол заповеди свои возглашает.
Но голос нужды, скорбный и грозный, громче, чем колокольная бронза.
Там завтрашний день затерялся где-то за горизонтом, И горе тому, в чьих глазах все еще есть гордость... А плоскогорья — это непорочная необъятность. Где ни одна ветка не гнется под весом самоубийства.
Где ничто не наводит на мысль удавиться.
Я сюда прихожу — и длится немой разговор губ и воды, сбегающей с гор.
Диалог ладоней и трав.
АПРЕЛЬ В КОНГО
Здесь высится непреклонно стена апрельских дождей. Вместе с ветрами южного антициклона. Вместе с влагою атлантическою соленой, Въевшейся в шкуры диких коней, Приходит тревога.
Мы внемлем дождливой речи апреля.
Насколько она грубей, чем речь ноября!
Из толчеи огней перекрестка
Приближается кто-то, чей голос жесткий громче голоса бури.
В этих местах невозможен равный дележ.
Никогда не могли вы урвать кусок от мира, от щедрой лазури.
Пращуры ваши вместе с рудой спят под землей, Их лица смешались с песком и смолою тропинок. Превратились в плоские маски.
Все под дождем поникает, травы к земле прибиты.
192
Высятся лишь одни термитников пирамиды.
В тишине распадается время. Крики птиц, в поднебесье рея, Жизнь отпевают на островах. Солнце уходит, уже не помня об апогее. Всюду вода, и все-таки нам не хватает воды. Как хищники, рыщем — ищем кровавую пищу. Подкрадываемся туда, где врассыпную пасутся стада.
Нас укрывают сплошные тучи дождей и злых насекомых.
Нагромождаются горести, обременяют время — и время теряет свою непрерывность.
Больше ничто не смущает шакала.
А прежде, чувствуя царственный запах льва, Он дрожал, поджимая хвост.
А теперь, поднимая гордо острую морду к небу,
Он посягает на запах звезд.
Он разевает пасть на звезды, имевшие некогда власть
Над огнем и железом, Над благородными и рабами.
МОЛНИЯ И ЗАБВЕНИЕ
Я люблю тебя, как пестрого мотылька
С Голубого озера на плато Батеке.
Яркость красок его живых наполняет меня •Жаром юношеского огня.
Я люблю тебя, как листву соседнего дерева, Пламенеющего от октябрьского солнца. ПЬнье птицы, гнездящейся там, столь гармоничное по утрам, Меня очищает от горечи ночи бессонной.
Я люблю тебя, как плоды воскресные, Исцеляющие от изнуренья недельного, Одаряющие свежестью, столь чудесною. Что я становлюсь моложе последней ветви Моего родословного дерева.
7 Альманах «Африка», вып 6
193
Я люблю тебя, как Южный Крест, Светом своим приближающий нас к звездной мечте,
Указующий нам на народ, пробужденный Взрывом рудничного газа в Шарпевиле1.
Я люблю тебя, как реку Конго, Неизменно-изменчивую.
Ведь мерцание зыбкое этой реки впитали твои зрачки.
Я люблю тебя даже тогда, когда лицо твое пасмурно и сурово, Когда ты вся — как светило в затменье.
И я становлюсь мрачнее неба предгрозового И жду, чтобы молния твоих губ дала мне забвенье.
АТОМНАЯ ТЕНЬ В НЕБЕ
Туча безводная, черная кобылица, Мчится по небу, грядущее закрывая. И о затменье кричат газеты.
Каждый из нас пред судьбой беззащитен.
Солнце, лучи растопырив, сделалось каракатицей И погрузилось в море.
Гаснут воспоминанья, в них не найдется места Для девушки в сандалово-красном платье. Бойней людской пропахла земля.
В памяти до сих пор
кровоточит Хиросима.
Слышится хриплый хор — это поет саранча в долинах меж гор.
В небе кружат хищные птицы, То ли орлы, то ли грифы.
Но на землю из них ни одна не садится — Плавают в небе, словно планеты, Тенью своей повергая в смятенье домашнюю птицу, Тучами крыл накрывают курятник — так, что лучу не пробиться.
День поднимается, падает в травы, И тишину заселяют крысы.
1 Шарпевиль — город в Трансваале, где 21 марта 1960 г. была расстреляна мирная демонстрация африканцев.
194
ТЕРПЕЛИВАЯ РЕКА КОНГО
Эту реку, текущую вдоль тропинок бродячего духа, Вечно юную, вечно древнюю рабыню моря.
Жрицу в желтых одеждах, Века застают все на том же пути, взгляд, кочующий меж берегов, Пьет и пьет — и никак не напьется Этой вечно новой водой.
Оставляю руку на великом ее пути, Чтобы вновь к ней прийти.
Кто терпеливее, чем река?
Перевод с французского Н. Габризяян
БЕСПОЛЕЗНАЯ ПОЕЗДКА
Когда Булу приехал на вокзал, он сразу попал в плотную толпу у входа. Надо бы переждать денька два, ехать куда-нибудь накануне Нового года или на следующий день после него — тяжкое испытание. Булу и сам прекрасно понимал это, но третьего января ему во что бы то ни стало надо быть в Браззавиле, там обещали работу.
Вот уж два года, как он тщегно искал работу в Долизии. Наверно, не осталось ни одной улицы в городе, где бы он ни побывал. Он не пропустил ни одного объявления в витринах магазинов, ни одной строительной конторы. В последнее время на него никто уже не обращал внимания, когда он входил в какое-нибудь учреждение и называл свое имя. Даже самые свирепые собаки и ухом не вели, если он шел мимо. Всем давно уже примелькался этот остренький профиль, напоминающий мордочку куницы. И вот теперь, когда ему пообещали работу, нельзя упустить этот единственный шанс.
Когда Булу работал секретарем в фирме по продаже недвижимого имущества, он жил на широкую ногу. Среди коллег он слыл нелюдимом и себялюбцем, и они сторонились его, а самолюбие не позволило Булу постучать сейчас в их двери. Он чувствовал, как одиночество и нужда постепенно превращают его в загнанное животное. Родители, которых он не очень-то баловал своим вниманием в лучшие дни, конечно, готовы простить ему все, да только сами они слишком бедны, чтобы оказать ему существенную поддержку.
7* 195
Его уволили после скандала, который произошел между ним и главным бух) алтером, когда тот попытался недоплатить Булу за сверхурочную работу. История эта мгновенно разнеслась по всему юроду, и теперь трудно было ожидать, чтобы в городских бюро по найму, которые можно по пальцам перечесть, его приняли с распростертыми объятиями.
Булу возненавидел свой родной город. Еще несколько лет назад он был убежден, что нет лучше места на земле. Он свел знакомство с представителями местного высшего общества, но все эти люди немедленно отвернулись от него, как только он попал в беду. Теперь его просто тошнило от этой ржавой пыли, которая, словно в униформу, одела и дома, и вагоны поездов, стоящих на вокзале. Ему казалось, что он находится на дне глубокого котлована, откуда виднеется лишь прерывистая линия голых холмов, окружающих его со всех сторон, холмов, чьи вершины лишь чуть-чуть опушены зеленью. Булу потерял представление о том, давно ли он здесь. И тут вдруг пришло письмо от двоюродного брата — Батала звал его к себе, в Браззавиль.
Поезд стоял у перрона, и дрожь от работы дизеля передавалась вагонам. Булу окинул его рассеянным взглядом, словно не замечая кипящей возле вагонов суголоки. Пассажиры ожесточенно сражались у дверей. Тут все шло в ход: пинки и тумаки, тараны в виде ящиков и чемоданов, все смешалось в невообразимой давке. В этом кипении человеческих тел постоянно возникали какие-то встречные потоки, которые словно защищали подступы к вагонам. Женщины проявляли недюжинную энергию. Время от времени, вытесненная чьим-то мощным плечом, одна из осаждающих вагон пассажирок отлетала на середину перрона, но тут же, упрямо нагнув голову и прокладывая себе путь чемоданом, с новой силой врезалась в самую гущу схватки.
Машинист, равнодушно наблюдавший за всей этой кутерьмой, дал три коротких сигнала, и толпа на перроне забурлила еще сильней. Локомотив дернулся, а затем и весь поезд содрогнулся от мощного толчка. Булу очнулся и тоже ринулся в самую гущу. Наконец последние пассажиры по трое, по четверо протиснулись в двери, и поезд пошел. Булу приткнулся у дверей. Он стоял, привалившись головой к стене, закрыв глаза, казалось, он не может отдышаться после марафонского бега. Он совершенно выбился из сил, после того, как С неимоверными трудностями ему удалось влезть в вагон, преодолевая сопротивление десятков сильных плечей и судорожно цеплявшихся за поручни и отталкивавших его рук. Булу почти не чувствовал собственного тела, ощущая лишь, как под мокрой от
196
пота рубашкой порывисто вздымается грудь. Он ничего не видел и не слышал. Не видел этой мешанины людей и дорожных вещей, не слышал писка цыплят и младенческого крика.
Наконец Буду открыл глаза и увидел, что вагон битком набит людьми, которые ехали, тесно прижавшись друг к другу, не выражая, однако, ни малейших признаков неудовольствия. У женщин в отличие от мужчин были какие-io особенно покорные лица. Уставившись в пустоту отсутствующим взглядом, они не обращали внимания ни на пейзаж за окном, ни на детский крик. Главное — удалось сесть в поезд, остальное сейчас не имело значения.
Буду снова закрыл глаза, и его обступили воспоминания. Перед ним, словно кадры из фильма, проплывали события двух последних лет, когда он оказался без работы: ссора в бухгалтерии, закончившаяся дракой, рассыпавшиеся по полу папки. перевернутые стулья, появление разъяренного директора, громогласно объявившего Буду о том, что он уволен, и лица сбежавшихся на шум сотрудников — злорадные и сочувствующие... Вспомнились и сцены, которые устраивала Маргарита Сумбу, его сожительница, когда пошел второй месяц после его увольнения. Он припомнил свое позорное бегство под градом проклятий — на глазах у возмущенных соседей и откровенно хохочущих ротозеев. Каждый раз, как в памяти всплывала еще одна деталь недавнего прошлого, Буду, сам того не замечая, сокрушенно качал головой и хмурил брови.
Памятен ему был и день, когда его выдворили из дома. Буду вздрогнул и широко открыл глаза. Он почувствовал, как его снова захлестывает тревога. Если бы кто-нибудь сейчас посмотрел на этого парня, он сразу же понял бы, что ему не по себе. В голове у Булу царил полный сумбур. Время от времени он встряхивал головой, как бы отгоняя навязчивую мысль. Да, этот эпизод из прошлого — выселение из дома, казался ему особенно тягостным. Он снова увидел, как ранним июльским утром домовладелец месье Бунгу вышвыривает его из квартиры, забрав в залог его чемодан с вещами. Это случилось в воскресенье па рассвете; месье- Бунгу мог, безусловно, сделать это и вечером, но он намеренно выбрал этот ранний час, когда большинство жителей квартала еще лежат в постели, и этот воскресный день, когда все дома. Булу не пытался сопротивляться, но месье Бунгу, недзирая на это, поднял такой истошный крик, что сбежались все соседи, решив, что началась драка. Напрасно Булу пытался объяснить хозяину, почему он задержал плату за квартиру, месье Бунгу ничего не желал слушать и кричал все громче, обзывая его голодранцем, негодяем, проходимцем... При виде сбежавшихся на крик соседей Булу
197
почувствовал себя совсем скверно и, чтобы хоть как-то защитить свое достоинство, закричал: «Это вам дорого обойдется, месье Бунгу! Вы ответите за все ваши оскорбления перед судом!»—хотя и сам понимал бессмысленность этих угроз.
Поезд оставил позади Тао-Тао с его лачугами, утопавшими в зелени лохматых банановых листьев, затем проехал Фавр и теперь шел между бурых глинистых насыпей, закрывавших от пассажиров пейзаж с обеих сторон. Наконец он подошел к Мон-Бело с его четкой линией голых холмов, вырисовывавшихся слева на горизонте. А дальше расстилались безбрежные плантации сахарного тростника, который тихонько шелестел под ветром. «Судя по всему, подъезжаем к Жакобу»,—подумал Булу.
Пассажиры зашевелились, готовясь к выходу. Булу обрадовался, когда увидел, что освободилось местечко возле окна, и сел. Дым многочисленных труб и мелькавшие за окном бензоколонки свидетельствовали о том, что они и в самом деле приближаются к городу, издавна считавшемуся соперником Долизии.
Рассматривая людей на перроне в надежде увидеть кого-нибудь из знакомых, Булу заметил в толпе Бангу, одного из бывших своих сослуживцев, который уехал из Долизии, как только узнал о строительстве сахарного завода в Жакобе. Долгое время Булу считал его предателем. Сейчас же он увидел, что процветание нового города вроде бы отразилось и на его бывшем коллеге, который выглядел румяным здоровяком. Булу быстро отпрянул от окна, боясь, как бы тот его не заметил. Ему было стыдно — из какого-то мелочного патриотизма он осуждал этого парня, а тот оказался намного практичнее и дальновиднее, чем он.
Поезд отошел от перрона, Булу, не обращая внимания на вновь вошедших пассажиров, смотрел в окно, за которым непрерывной чередой проплывали поля, деревья, селения. За окном то проглядывало солнце, заливая все вокруг ослепительным светом, словно в небе открывалась невидимая дверь, то внезапно ложилась тень, словно эту дверь кто-то захлопывал с маху. Вот показался бегущий по тропинке мальчишка, он кричал и размахивал руками. Сколько раз он сам так же бегал за поездом вместе со своими сверстниками! В детстве, едва заслышав свисток локомотива, Булу бросался к станции. Лица людей, которых он прежде никогда не встречал и о которых не знал ничего — ни куда они едут, ни откуда они явились сюда, — словно магнитом, притягивали его. И он принимался мечтать о неведомом ему мире, где все куда-то едут, где много разных игр...
198
Поезд набрал скорость, и Булу почувствовал легкое дуновение, коснувшееся его лица, — слабый отголосок ветра, обтекавшего вагоны с обеих сторон. Он почувствовал, как начинает выходить из своего оцепенения, и в глазах защипало от подступивших слез. Он вытер их кулаком и отвернулся от окна. Взгляд его упал на профиль женщины, сидевшей с ним рядом, — он даже не заметил, как она вошла. Пока он с интересом наблюдал за тем, что происходит за окном, он почувствовал, как кто-то сел рядом, но ему было лень, да, признаться, и особого желания он не испытывал — удостовериться, действительно ли кто-то уселся рядом. И вот теперь, когда они проехали не один десяток километров, он вдруг почувствовал, что его разглядывают. Он ответил нетерпеливым взглядом. Однако боясь, что его соседка уловит в этом взгляде нескрываемое восхищение, тут же опустил глаза. Молодая женщина п в самом деле была очень хороша. Гладкая кожа была теплого коричневого оттенка. Длинные изогнутые брови опускались чуть ли не до самых уголков глаз, светившихся меж темных ресниц. Белки были такого чистого светлого оттенка, какой встречается только у детей. Прямой нос казался чуть-чуть темнее щек. Полные губы плотно сжаты. Когда она в третий раз поймала взгляд Булу и почувствовала, что этот взгляд более настойчив, чем прежние, женщина смущенно отвернулась. Молодой человек опустил глаза, ощутив легкий укол стыда.
Он вдруг вспомнил о Маргарите, и кровь прихлынула к его лицу. Как могла она покинуть его в трудную минуту после стольких счастливых дней, проведенных вдвоем, после огненных танцев, страстных объятий, бесконечных прогулок? По телу Булу пробежала дрожь, словно боль воспоминания пронизала его насквозь. Он опять покачал головой, думая о непостоянстве женщин — они любят вас до тех пор, пока делят с вами развлечения и удовольствия. Однако вспомнив о своей кроткой матери, которая всю жизнь посвятила больному мужу и детям, Булу тут же отказался от этого обобщения.
Воспоминание о Маргарите взволновало его вовсе не потому, что случайная попутчица напомнила ему бывшую подругу — между этими женщинами не было ни малейшего сходства, — он разволновался потому, что, расставаясь с ним, Маргарита забрала с собой ребенка, единственного ребенка, которого она ему родила. Он не стал ей тогда возражать. Если бы он осмелился сказать в тот момент хоть слово, ему пришлось бы выслушать, что он ничтожество и неспособен прокормить собственного ребенка. Булу предпочел поскорее удалиться, только бы избежать новых оскорблений. Он не мог простить Маргарите, что она с легкостью растранжирила его
199
скромные сбережения. То ей нужен был новый пань1, то новая блузка — деньги улетучивались мгновенно. А в конце месяца возникали новые проблемы. Узнав, что его уволили с работы, Маргарита горько плакала вначале, однако печаль ее скоро уступила место безразличию, которому Булу не мог найти объяснения: ведь Маргарита, казалось, старалась приспособиться к новым условиям и смириться с нуждой, отныне поселившейся в их доме. Впрочем, смены ее настроения стали настолько частыми, что в конце концов Булу к ним привык и даже перестал замечать. Он не был женат на Маргарите, но она все же решила представить его своим родителям, и, собираясь к ним в дом, он прихватил с собой вина и денег. Теперь же, когда Булу потерял работу, он не имел права кричать на эту женщину и требовать от нее чего-либо, ведь безработный, который не может выполнить принятые на себя обязательства, наполовину теряет и свои права.
Маргарита уходила куда-то после полудня почти каждый день и возвращалась только под утро, один только раз она появилась с наступлением темноты. К несчастью, в большинстве государственных учреждений рабочий день был строго регламентирован, так что у чиновников хватало времени и на бистро, и на женщин, и они посещали вечерние заведения с усердием, которого им явно не хватало на службе. Маргарита стала легкой добычей ночного бизнеса. Ее смазливое личико и соблазнительная походка не могли остаться незамеченными. Как известно, женщине привлекательной и бедной трудно сохранить добродетель. Выведенный из себя пересудами соседей, Булу начал ее поколачивать, что привело к скандалам, а затем и к окончательному разрыву.
В последнее время Булу видел Маргариту все реже и реже. Если она встречала его на улице, то спешила перейти на другую сторону или сворачивала. Для Булу это было равносильно пощечине. Первое время после таких встреч он даже не мог заставить себя притронуться к еде. Обычно женщины, с которыми он был близок, вели себя иначе: при встрече с ним они украдкой кивали ему, если рядом никого не было, когда же он встречал бывшую возлюбленную в сопровождении кавалера, она попросту делала вид, будто не заметила его.
Он никак не мог взять в толк, за что Маргарита злится на него. Но ведь бывает же и беспричинная злость? Правда, ему до сих пор с подобным отношением сталкиваться не приходилось, хотя он давно заметил, что женщины обычно избегают
1 Пань — национальная одежда, кусок ткани, оборачиваемый вокруг тела.
200
попавших в опалу политических деятелей и обанкротившихся дельцов. И все же Булу никак не ожидал, что ее отступничество перейдет в такое откровенное озлобление. Он простить себе не мог, что был так к ней снисходителен. Ба мана, одна из его прежних пассий, откровенно рассмеялась ему в лицо, когда он рассказал ей свою горестную историю. «Да ты просто недооцениваешь женщин, — сказала она ему. — Сразу видно, что ты их совсем не знаешь».
Однако сам он полагал, что прекрасно знает женщин. Для начала Булу научился уму-разуму у нескольких забитых уличных девчонок, потом, когда у него завелись денежки, он попытался атаковать женщин более высокого разряда, о которых мечтал еще в коллеже. В некоторых кругах подобная связь считалась у молодых людей проявлением своего рода независимости. Доходило до того, что даже подцепить дурную болезнь считалось у них престижным.
Поезд приближался к Дешеванне, а Булу все ворошил в своей памяти мучительные воспоминания. Он хорошо знал здешнего начальника станции Мадулу, тот был одним из близких его друзей в долизийском коллеже. Как часто они вдвоем рисовали себе будущее: успех в обществе, роскошная вилла, великолепный лимузин, красивые женщины... А сейчас за несколько минут Булу подвёл итог четырехлетию, отделяющему его от окончания коллежа. Он, конечно, и думать забыл о вилле и с усмешкой вспоминал о приобретенном по случае старом «дофине», который свалился в конце концов в кювет из-за неисправного рулевого управления. Он мог, безусловно, похвастаться, что держал в своих объятиях красивых женщин, но сейчас нисколько не сожалел, что все это осталось позади.
Мадула оказался счастливее его. После окончания коллежа он получил место помощника учителя. Однако Мадула очень быстро смекнул, что при равных возможностях железнодорожный агент или таможенник зарабатывают гораздо больше, чем преподаватель. О работе на железнодорожном транспорте существовало мнение, что это перспективный путь, тогда как служба в ристеме министерства просвещения давала возможность лишь постепенно получать прибавку к жалованью. У таможенников прибавка, или «денежное вознаграждение», становится привычной настолько, что на языке таможенников слово «прибавка» употребляется чаще, чем «жалованье» или «зарплата». Это открытие привело Мадулу к тому, что он решил участвовать сразу в двух конкурсах: на замещение должности железнодорожного агента и таможенного контролера.
Через два месяца он узнал, что прошел одновременно на обоих конкурсах, и это, безусловно, и обрадовало, и озадачило
201
его. Тем не менее Мадула тут же направил заявление об уходе министру просвещения. Письмо его должно было пройти длинную бюрократическую лестницу в министерстве, которому Мадула, как он считал, уже не подчинялся, и это несколько задержало решение вопроса. Инспектор министерства, который пригласил Мадулу к себе, сделал ему выговор, напомнив о контракте, который тот подписал на десять лет, когда поступал на работу в школе. Мадула перепугался не на шутку, поспешил заручиться поддержкой влиятельных лиц, в конце концов все уладилось. Теперь оставалось сделать выбор между двумя открывшимися вакансиями. Родители посоветовали ему поступить на работу в системе путей сообщения, так как это давало право на бесплатный проезд в любом направлении. Целую неделю Мадула колебался, взвешивая выгоды той и другой профессии, и все никак не мог ни на чем остановиться. Все решила стажировка. Управление железнодорожного транспорта посылало прошедших конкурс на стажировку во Францию. Проблема была решена. Увидеть Францию было заветной мечтой Мадулы. Все, что он слышал о трудностях жизни в метрополии: холодная зима, сложности с жильем, некоторые особенности человеческих отношений, нисколько не поколебало его. Он не желал верить самым неопровержимым свидетельствам. Бывают такие желания, от которых невозможно избавиться до тех пор, пока сам не убедишься, что они немногого стоят. Сколько раз, еще в коллеже, Мадула и Булу поносили местную систему образования, которая не позволяла получить степень бакалавра после слишком короткого курса обучения в коллеже. И вот теперь ему представляется случай побывать в метрополии. Мадула сделал свой выбор раз и навсегда. Все это он рассказал своему другу, когда они повстречались в Долизии три года назад.
Поезд подошел к перрону и остановился. Выйдя из вагона, Булу направился в кабинет начальника станции. Но Мадула уже сам спешил к нему навстречу. Этот толстяк с улыбкой до ушей прямо-таки источал здоровье и силу. Ничего не осталось в нем от тщедушного школяра, который в восемнадцать лет строил проекты, казавшиеся сейчас наивными детскими фантазиями. Хотя внешне .Мадула стал намного солиднее, он не утратил прежней живости ума и весь лучился самодовольством. Он дал несколько указаний дежурному по вокзалу, проследил, как тот их выполнил, затем заговорил с важным видом:
— Знаешь, я здесь, в Дешеванне, неплохо живу. Время от времени езжу в Понтон, а то и в Браззавиль — немного поразвлечься. В остальное время работаю, заколачиваю денежки.
202
А ты-то как? Что-то похудел со времени нашей последней встречи в Долизии. Небось женщины довели? Знаю я тебя, пройдоху!
Да-да, конечно, — Булу покивал с принужденной улыбкой.—Знаешь, я сейчас в отпуске, — добавил он, чтобы сразу предупредить возможные расспросы.
Однако поезд уже готов был к отправлению, и разговор двух друзей прервался. Локомотив дал свисток. Они распрощались, пообещав друг другу встретиться через неделю в Браззавиле. Войдя в вагон, Булу увидел, что его соседка, не обращая внимания на шум и сутолоку, невозмутимо читает женский журнал «Мари-Клер».
— Простите...—сказал он, выждав минуту.
Она подняла голову и, извинившись, дала ему пройти. Только сейчас, бросив на нее беглый взгляд, он в полной мере оценил красоту этого лица, которое до сих пор видел только в профиль. И вдруг Булу почувствовал непреодолимое желание заговорить с ней, спросить, откуда она едет и куда, чем занимается, замужем ли. Вопросы эти буквально жгли его, но мысленно он все пережевывал их, не решаясь заговорить.
Шло время. Поезд мчался вперед, пейзаж за окном становился более равнинным. Булу опустил оконное стекло, чтобы лучше видеть небо, очистившееся от облаков. Близился вечер. Где-то вдалеке горел лес. Булу все еще не решался открыть рот. Хроническое безденежье обычно сковывало его, в таких случаях он чувствовал себя рядом с женщиной полным банкротом.
И все, же встреча с Мадулой немного встряхнула его, успех друга и в него вселил надежду. Мадула не считался в коллеже подающим надежды. Когда, например, писали сочинение, Булу давал ему сто очков вперед, но такова уж, видно, судьба, посмеявшаяся над ним. «Кто знает, может, я еще и выйду в люди...»
И все же Булу окончательно отказался от мысли заговорить с соседкой и забился в угол.
Наступила ночь, лица людей темными пятнами покачивались в полумраке в такт движению вагона. Наконец раздались несколько голосов, потребовавших зажечь свет, и почти сразу же вспыхнули лампочки в вагоне. Булу, казалось, ничего не чувствовал. В голове не было ни единой мысли. Поезд останавливался и снова двигался дальше, Булу даже не интересовался названиями станций. Люди вокруг произносили: Брюссо... Ба-ратье... Гема-Це-Це... Он не двигался в своем углу, пока поезд не подошел к вокзалу в Браззавиле. Булу услышал, как кто-то произнес его имя, взял чемодан, обернулся на знакомый голос
203
и увидел двоюродного брата Баталу, который громко звал его. Булу вышел из вагона и подошел к брату.
Когда они сели в такси, Батала проронил одну-единствен-ную фразу: «Сейчас поезда редко приходят без опоздания». Булу ничего не ответил, он волновался, думая о том, что брату пришлось потратиться, чтобы встретить его, и обратил внимание, что тот, кажется, что-то скрывает от него. Дома жена Ба-талы принялась расспрашивать обо всех родственниках и очень сокрушалась, когда Булу сообщал о чьей-либо болезни или смерти.
После ужина братья еще немного поговорили о всякой всячине, но ни слова про работу все еще не было сказано. Булу решил не задавать никаких вопросов, однако улегся в постель не на шутку встревоженный.
— В конце концов завтра только третье января, — пробормотал он, натягивая на себя одеяло.
Утро следующего дня возвестило о себе полосками солнечного света, пробившегося сквозь решетчатые ставни, и птичьими голосами. Булу проснулся и сел на краю кровати. Вошел Батала, вид у него был довольно смущенный.
— Ты понимаешь, — начал он, не глядя на Булу, — дядюшка Мабенцо больше не начальник отдела по найму в почтовом ведомстве. А новый шеф взял на работу одного из своих людей. Я хотел написать тебе об этом, но потом подумал, что лучше все-таки тебе приехать. Ты не думай, это вовсе не бесполезная поездка, мы поищем чего-нибудь в другом месте.
Булу безмолвно замер на месте, чувствуя на лбу холодную испарину. И в изнеможении откинулся на постель.
АРЕСТ
— Послушай, да это же директор Китунга в полицейской машине!
— Не может быть! Я только что видел господина директора в его кабинете.
— Клянусь! Ну взгляни-ка сам, вон он, сидит в машине и полицейские с двух сторон.
- Ох!
Луака и Пангу, двое рассыльных Государственного управления консервных заводов слезли со своих велосипедов и, озадаченные, остановились на обочине, глядя, как полицейский «лендровер» удаляется на бешеной скорости — сразу видно, что дело касается особо важного преступника.
Вот уже четыре года, как Китунга сменил на директорском
204
посту месье Вердье — одного из немногих представителей ко-юниальной администрации, которые остались на своих местах после провозглашения независимости, большинство же перешли на роль технических советников при конголезцах, назначенных на различные государственные должности. За два года месье Вердье сумел завоевать уважение как своих соотечественников, так и местных представителей власти. Французы, видя, как он проезжает мимо в своей машине, говорили ему вслед: «Этот господин крепенько сидит на своем месте». И действительно, любые попытки местных чиновников подорвать репутацию господина директора неизменно кончались крахом.
Месье Вердье сразу почуял необычность внутренней ситуации в стране. Еще задолго до своего назначения на пост директора он понял, что Африка переживает время перемен, и решил, что надо постараться завязать добрые отношения с местными жителями. Он не позволял себе ни малейших оскорбительных высказываний на их счет даже за глаза, отлично понимая, что все слухи разносятся мгновенно. Он обращался на «вы» даже к самым мелким чиновникам администрации и был особенно осторожен, когда сталкивался с каким-нибудь тупицей. «Эти тупицы делают погоду!» — говорил он себе в таких случаях. Таким образом месье Вердье довольно скоро удалось завоевать симпатии тамошних уроженцев. Его слава не-грофила вышла за пределы возглавляемого им управления, и эту репутацию директору удалось сохранить вплоть до провозглашения независимости. Уже с первых дней установления автономии страны1 ему удалось укрепить свои связи с политическими деятелями, находившимися у власти, и с теми, кто, по его представлениям, мог получить эту власть в недалеком будущем.
Однако вскоре после революции положение месье Вердье резко изменилось, и причиной тому оказались как раз ею прежние связи. Он попытался обновить круг своих друзей и старался чаще встречаться с новыми деятелями, которые состязались друг с другом в ораторском искусстве. Ораторам в эти дни не было числа, и нужно было выбрать среди них наиболее многообещающих.
Как-то один из старых знакомых месье Вердье, попавший в опалу при новых властях, решил, нанести ему визит, но тот встретил его появление без особого восторга. Словно не замечая вошедшего, он встал из-за стола, подошел к окну и принялся смотреть на улицу, делая вид, будто ждет кого-то, потом
1 В 1958 г Конго обрела автономию в рамках Французскою Сообщества.
205
зачем-то начал перекладывать бумаги на столе, извинившись, снял трубку и позвонил по телефону, хотя в этом явно не было никакой необходимости, впрочем, делал он все это, не выходя за рамки приличий. Беседа, которая в конце концов состоялась, тоже была лишена тепла.' Эта новая манера поведения быстро отвадила от него прежних друзей, и месье Вердье вздохнул с облегчением. А вскоре обнаружилась приверженность господина директора социалистическим идеям, с которыми он, оказывается, познакомился еще в детстве, когда жил в округе Тары у деда, объявившего себя в начале века единомышленником Жана Жореса1. Правда, говорил месье Вердье об этом настолько бесстрастно и холодно, что невольно вызывал скептические усмешки у слушателей. Окружающие стали относиться к директору с недоверием, одни окрестили его «патерналистом», другие «оппортунистом». Короче, буря, порожденная революцией, сорвала месье Вердье с насиженного места, его не пригласили остаться в управлении даже в качестве технического советника.
После него на должность директора был назначен Китунга, к этому времени он как раз закончил двухлетнюю стажировку в финансовом управлении и теперь пыжился от гордости — ведь он стажировался и жил не где-нибудь, а во Франции. Отныне Китунга считал себя неизмеримо выше всех своих прежних коллег, ставших всего лишь мелкими чиновниками государственного аппарата. Прежде всего он постарался повернуться спиной к бывшим однокашникам, когда же встречи с ними избежать не удавалось, он принимал их в подчеркнуто официальной манере, которую он усвоил в метрополии, и при этом всячески подчеркивал дистанцию, которая их отныне разделяет. Он с тоской вспоминал о годах учебы на отделении экономики юридического факультета в Париже и о беско-* нечных дискуссиях, которые ему доводилось вести со студентами третьего, а то и четвертого курса.
Господин Китунга придавал очень серьезное значение не столько содержанию своей работы, сколько самой директорской должности. Обязанности, однако, у него были самые элементарные: он должен был изредка звонить куда-нибудь по телефону или отвечать на звонки, что поначалу приводило его в восторг. Его буквально завораживал огромный письменный стол, покрытый толстым стеклом, с двумя телефонными аппаратами, и уж он постарался, чтобы все: и родители, и любовницы, и друзья — непременно лицезрели его за этим столом.
1 Жорес Жан (1859—1914) — руководитель французской социалистической партии, основатель «Юманите».
206
Каждый день он писал два-три письма, начинавшиеся неизменно: «Честь имею сообщить...» Все оставшееся время Китунга посвящал отработке своего факсимиле на черновиках. На столе справа всегда лежала стопка листков, сплошь покрытых заглавной буквой «К» с длинным витиеватым росчерком. Иной раз, заметив, что машинистки, печатавшие письма, очень устали, Китунга, желая повысить свой авторитет в их глазах, заставлял их перепечатывать письма дважды и трижды, причем с каждым разом количество орфографических ошибок в тексте росло.
С каким наслаждением он обрушился бы на этих бездельниц, на этих дур и недотеп, припомнив, как когда-то в прежние годы ругали его самого, однако необходимо было соблюдать корректность в отношении сотрудников и заботиться о престиже своего учреждения.
Четыре года прошли в этих повседневных занятиях, которых ничто не нарушало, пока однажды не явился с ревизией агент финансового управления, обнаруживший при проверке счетов недостачу в шесть миллионов, по поводу которых Китунга не мог представить никаких оправдательных документов. Инспектор написал отчет и сообщил обо всем в управление. После активного вмешательства влиятельных лиц удалось оттянуть арест Кигунги более чем на год.
Мари Мбонго сидела на веранде и подшивала новый пань, когда соседка пришла рассказать об аресте Китунги.
— Здравствуй, Мари!
— А, Шарлотта, привет. Ну как ты?
— Ах, дорогая, непонятно, как жить в этой стране, каждый день что-нибудь да стрясется! Мне сказали, что Китунгу арестовали.
— За что? — удивленно спросила Мари Мбонго, и голос ее дрогнул,
— Ничего не знаю. И никто, говорят, толком ничего не знает. Известно лишь, что случилось это нынче утром. Китунга был в своем кабинете, разговаривал по телефону, как вдруг к нему вломились полицейские. Вроде бы какая-то история, связанная с государственным переворотом. Ах, боже мой, ну как жить в этой стране! Не проходит ни одного года, чтобы жена и дети не оплакивали еще одного отца семейства, сошедшего в могилу из-за государственного переворота. И чего только люди ищут в этой политике!
Соседка продолжала причитать, вспоминая многочисленные жертвы политической деятельности, которых лишились страна и их близкие, а Мари Мбонго думала только о том, как бы не выдать своего волнения.
207
— Я знаю, что Флоран (так звали Китунгу) не замешан ни в каких политических делах, — сказала она как можно спокойнее.— Надо бы пойти в комиссариат, повидать его. Я уверена, тут без завистников не обошлось.
— Будь осторожна, Мари, — предупредила Шарлотта, — эти типы могут и тебя арестовать ни за что ни про что. Что ты ответишь, если в полиции спросят, в каких отношениях ты была с Китунгой?
На самом деле Мари Мбонго не испытывала ни малейшего желания встречаться с блюстителями порядка. Она сказала это из чистой бравады, и, кроме того, ей изрядно надоели причитания Шарлотты. Как только она узнала об аресте Китунги, мысль о бегстве из Браззавиля прочно укоренилась в ее мозгу.
Она собирала чемодан, швыряя туда все подряд: одежду, белье, туфли, косметику. Держа в руках сумочку, она обшарила все шкафы и этажерки, выдвигала ящики, чтобы не забыть ни одной монетки, почему-то пошарила рукой даже у себя в лифчике. Уже готовясь переступить порог, она вдруг спохватилась и, вернувшись в спальню, подняла подушку, под которой Китунга иногда деликатно оставлял для нее несколько банкнот. На часах было уже пять. Мари решила, что ей незачем хранить свой отъезд в тайне, и вышла, держа в одной руке чемодан, в другой — швейную машинку. На улице она окликнула таксиста, скучавшего в ожидании клиентов, и отправилась на вокзал. Соседи с интересом наблюдали всю эту сцену в открытые двери и окна.
Мари Мбонго решила подождать дальнейшего развития событий у своей тетки, которая жила в небольшой деревушке в тридцати километрах от Мадингу.
Мабунду, лучший друг Китунги, с самого полудня был как на иголках. Несмотря на то, что он довольно близко знал представителей городской власти да и с шефом полиции был неплохо знаком, он не рискнул обратиться к ним за выяснением, по какому поводу арестован человек, которого он называл не иначе, как «брат мой». До самого вечера Мабунду не находил себе места.
'Как правило, Мабунду и Китунга, заядлые гуляки, проводили свои вечера в «Фоли-баре», одном из самых блестящих заведений Браззавиля. Оба считались там постоянными посетителями, и за ними был даже закреплен столик. Три-четыре женщины обычно составляли их свиту. Жены обоих приятелей томились дома, и ни одна из этих несчастных не осмеливалась спросить, откуда ее благоверный возвращается в час, а то и
208
в два часа ночи, полупьяный, валясь с ног от изнеможения. Даже после довольно частых семейных сцен, из которых бедные жены нередко выходили с подбитым глазом, ни одна из них не пыталась вслух протестовать, словно подчинившись раз и навсегда некоему молчаливому соглашению. Изредка то одна, то другая позволяла себе какую-нибудь колкость, случались даже ссоры, но потом все оставалось по-прежнему.
Мабунду побродил немного вокруг дома Мари Мбонго, постоянной любовницы Китунги, — темнота, окружавшая дом, свидетельствовала о том, что хозяйки нет. Впервые за последние годы ему пришлось остаться дома после ужина. Мабунду лег в постель, раскрыл старый журнал, который обычно лежал на тумбочке у изголовья, но тут же закрыл его снова, повернулся к стене, потом откинулся на спину. Нет, сегодня ему явно не по себе. Мабунду нахмурился, взглянув на* лампу, свисавшую с потолка, подумал, что яркий свет, по-видимому, не дает ему уснуть, и погасил лампу. Однако сна не было ни в одном глазу. Он тихо лежал в темноте, когда послышался стук в дверь. Мабунду сел на краю кровати.
— Спроси, кто там, прежде чем открывать, — сказал он жене, направившейся к двери.
Это оказалась Селина Тумбу, жена Китунги.
, Несколько минут они сидели молча. Молчание это тяготило всех троих, и каждый понимал и разделял тревогу другого, но они. не сговариваясь, решили не касаться этой темы.
Первой заговорила Селина. Она рассказала, что во второй половине дня попыталась связаться с кем-либо из представителей власти, но ей это не удалось: все как один, сославшись на неотложные дела, отказались принять ее.
Прошло еще три дня. Никаких более или менее определенных сведений по поводу ареста Китунги не поступало. «Уличное радио» приписывало ему фантастические аферы и участие в спекулятивных сделках. Китунга в устах молвы стал заговорщиком, вором, а под конец и предателем родины.
Как только весть об аресте Китунги донеслась до агентства по продаже автомобилей, где он недавно приобрел «Пе-жо-404», один из представителей агентства немедленно явился в дом, чтобы забрать машину, под тем предлогом, что Китунга еще не выплатил фирме за пять месяцев кредита. А еще немного погодя пришел мальчик лет двенадцати, который вручил Селине письмо, вконец ошеломившее ее:
«Уважаемая госпожа, прошу извинить меня за беспокойство, но господин Китунга остался мне должен 5000 франков за четыре плетеных кресла, которые я ему доставил.
209
В настоящее время я, моя жена и шестеро детей находимся в затруднительном положении. Прощу Вас передать указанную сумму подателю сего письма, моему старшему сыну.
Заранее благодарю.
Калунту, Жан-Барте ле ми Менюизье, 20, ул. Бюттафуско Талангай (Браззавиль) »
Селина никогда не видела этих кресел ни в собственном доме, ни в доме родителей мужа.
Итак, Китунга находился под арестом в полицейском комиссариате. Никто не приходил узнать о нем. «По-видимому, все боятся себя скомпрометировать», — решил Китунга, и эта мысль привела его в отчаянье. Вог уж никогда не думал он, что окажется в тюрьме. Такое не могло привидеться даже во сне, а уж каких только снов он не навидался, когда был на свободе! Тюрьма — подходящее место лишь для преступников и мелких воришек, всегда считал он. Внезапно ему вспомнилось высказывание его друга Мабунду. Однажды он сказал полушутя-полусерьезно между двумя глотками пива: «Тюрьма в Конго — что могила: никто не минует ее рано или поздно, и потому первостепенная задача сейчас — построить новую тюрьму или, по крайней мере, привести в порядок арестантскую, оборудовать туалеты или хотя бы бросить циновки на цементный пол. Надо же позаботиться о собственном будущем. Разница между тюрьмой и могилой, которые ждут нас так или иначе, в том, что в первом случае мы знаем, что нас ждет, тогда как во втором мы не увидим ничего — только скелет в темной яме...»
Жена считала своей обязанностью каждый день приносить арестованному еду. Это несколько утешало Китунгу, хотя видеться им по-прежнему не разрешали. Все прежние приятели и веселые компании, в которых он проводил время, старались теперь держаться от него подальше — словно арест был заразной болезнью. Он был похож сейчас на животное, отбившееся от стада и попавшее в капкан. Он чувствовал, что в одно мгновенье превратился в нуль. Документы, часы, обручальное кольцо, все, что было у него в карманах, в тюрьме отобрали. Китунга стонал от ярости, стуча зубами, словно в ознобе. Сам похожий на тень в потемках тюремной камеры, он чувствовал, что начинает слепнуть. Однажды даже мелькнула мысль о самоубийстве. Порой он принимался бессмысленно шагать взад и вперед вдоль стены, из-за которой чуть слышно доносился уличный шум. Впрочем, за массивной дверью постоянно слышался стук кованых каблуков. В половине первого раздавался торопливый скрежет ключа в замочной скважине, дверь
210
распахивалась, и в камере появлялась тень человека, произносившего нарочито суровым тоном: «Вот вам еда». Затем дверь захлопывалась снова, и узник опять слышал все тот же звук шагов.
Томясь от безделья, Китунга принялся вспоминать всю свою прошедшую жизнь, и она показалась ему поразительно пустой, особенно начиная с того момента, когда он вернулся после стажировки на родину. Когда-то он мечтал стать крупным деятелем, на самом же деле стал мелким персонажем нелепой комедии, и если чем-то прославился, то только своими похождениями в Пото-Пото. За четыре года он сменил три машины и множество любовниц. А каковы его достижения на общественном поприще? Они сводились к тому, что он чувствовал себя в любом ресторане, как дома, мог похвастаться, что был любовником самых красивых женщин, как замужних так и одиноких, да еще довольно часто слышал упоминание своего имени в конце длинных речей, которые, казалось, были извлечены из сборников стереотипных приветственных выступлений; время от времени он посещал посольства, о чем торжественно объявлялось во всеуслышанье.
Он оказался плохим мужем и плохим отцом. Он почти не знал своих детей: Гюи, Ивонну и Робера, видел их только за столом. А они за всю свою жизнь не слышали от него ни ,одного доброго слова, лишь изредка он обращался к ним, грозясь выпороть кого-нибудь из них, если тот не прекратит шуметь и безобразничать за столом. Дети были для него неизбежными атрибутами домашнего очага, и заботы о них он целиком возложил на жену. Кроме того, он считал, что дети не должны отравлять остаток молодости, когда же он приблизится к порогу старости, птенцы все равно упорхнут из дома.
Да, надо честно признать, он не отличался любящим сердцем. Об этом свидетельствовало то, как быстро он отдалился от жены почти сразу же после свадьбы, и то, как легко он находил и бросал многочисленных любовниц. Правда, в свое время он готов был собственными руками задушить всякого, кто осмелился бы помешать его браку с Селиной, очаровательной темноволосой женщиной с густыми, почти сходившимися на переносице бровями, оттенявшими глаза. Но уже через три месяца он совершенно охладел к ней. Красота жены лишь изредка вызывала у него приливы желания.
А чего стоит пресловутый успех в обществе? Только сейчас он понял, до какой степени заблуждался, и вот первое подтверждение: он в тюремной камере, но никто не спешит вызволять его отсюда. Жена приносит ему еду просто из чувства долга,
211
ведь, как-никак, он отец ее детей. Но в конце концов и у нее опустятся руки...
— Несчастный я, несчастный, — громко сказал он в темноте, чувствуя, как к горлу подступают слезы.
Проведя около недели в этих горьких размышлениях, Китунга предстал наконец перед следователем, который занимался делом о недостаче шести миллионов франков. Поначалу од все отрицал, но потом признался в совершении должностного лреступления.
Суд приговорил его к шести годам тюремного заключения с конфискацией всего имущества, движимого и недвижимого. Китунга выслушал этот суровый приговор, не поднимая головы.
В ПОГОНЕ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ
Мари-Иоланда терпеть не могла читать — лучше будет часами умирать со скуки, чем раскроет книгу. От этого чтения у меня сразу начинается мигрень, заявляла она. Ее дядюшка Синга прекрасно знал, что без порки эту девицу до школьного аттестата не дотянешь. Но однажды Мари-Иоланда все-таки открыла книгу, ее заинтриговало название «Учитесь жить!» и любопытная фраза, на которую случайно упал ее взгляд: «Женщины бывают двух типов: те, которые умеют использовать других людей, и те, что позволяют себя использовать». Мари-Иоланда понимающе усмехнулась — уж она-то, во всяком случае, принадлежит к первой категории. Она не желала ни работать, ни связывать себя браком и была на содержании то у одного, то у другого влиятельного государственного чиновника, богатого коммерсанта или дельца, имеющего дело с бриллиантами, а то и у двух-трех сразу. Она властвовала над ними с тиранической жестокостью, заставляя их выполнять все свои прихоти — этакая «тренировка кокетства»: ей нравилось кружить головы и разбивать сердца, нравилось заставлять мужчин ухаживать за собой.
В этот послеполуденный час Мари-Иоланда возлежала на своей широкой кровати, которую она перевозила из одного квартала в другой, когда переезжала по настоянию своей матери или одного из своих многочисленных любовников.
— Мари, — сказала ей как-то мать,— ты должна перебраться в другое место, твои дядюшка и тетка живут слишком близко отсюда. Нужно жить по возможности дальше от родственников. Я лично всегда следовала этому правилу, иначе я ничего не сумела бы добиться в жизни, да и ты, я думаю, тоже.
212
Кейта Мадиу, последний любовник Мари-Иоланды, снял для нее домик в Плато-де-Кез-Ан, принадлежавший фирме по продаже недвижимого имущества, — очень скромный, но вполне комфортабельный, с водопроводом и электрическим освещением. А сам, кажется, не собирался там жить. Вот уж неделя прошла, а он все не появлялся. Мари-Иоланда не допускала и мысли, что он ее бросил, но тем не менее каждый вечер ждала его у дверей или, лежа в постели до одиннадцати часов, чутко прислушивалась к каждому шороху, пока у нее не разбаливалась голова. Пять месяцев прошли в напрасном ожидании. «Не может этого быть!» — твердила она, переходя от отчаяния к надежде. До сих пор ни один из ее возлюбленных не покидал ее так быстро.
Ее вдруг охватила тревога, откинув простыню, она вскочила с постели и, полуголая, пробежала в ванную комнату. Остановившись перед зеркалом, висящим над раковиной, она долго изучала, разглаживая, свое лицо. Ни единой складочки на лбу, ни одной морщинки в уголках глаз. Мари-Иоланда взглянула на грудь и решила, что грудь у нее еще довольно упругая, в общем она осталась довольна собой.
Конечно, в свои тридцать три года она уже не столь зажигательна, как в двадцать, но еще довольно соблазнительная метиска. В юности кожа у нее была почти совсем светлая, но с годами лицо ее приобрело под палящим солнцем медный оттенок. Когда она перестала носить европейские платья и юбки, Мари-Иоланда стала выглядеть намного элегантнее, особенно когда туго стягивала на талии пань, подчеркивающий округлые линии бедер. Мужчины оборачивались ей вслед, а она не давала себе труда даже взглянуть на них. Когда она гуляла после обеда, важные господа нередко останавливали машину, чтобы пригласить ее прокатиться, но Мари-Иоланда предпочитала прогуливаться пешком. Многие считали, что она просто набивает себе цену.
Несмотря на свою весьма беспорядочную жизнь, она все же сохранила некоторые признаки хорошего воспитания, в часто-ности, она никогда не вступала ни в какие разговоры с женами своих любовников и твердо придерживалась этого правила, за что мужчины ей были, безусловно, благодарны, ибо находились такие нахалки, которые, встретив на улице супругу своего любовника, осмеливались даже плевать ей вслед. Как-то одна из таких особ устроила пакостное развлечение: позвонила в дом к своему любовнику:
— Алло! Нельзя ли попросить к телефону мадам?
— Я слушаю.
— Ах, простите меня, мадам! Если ваш супруг уснет сегод
213
ня слишком рано, не сердитесь на него, пожалуйста, это я во всем виновата: он только-только вылезает из моей постели! Ха-ха-ха! —и крак... повесила трубку.
Ее любовник, естественно, не оценил этой шутки, которая стоила ему грандиозного семейного скандала.
На душе у Мари-Иоланды было так тяжело, что просто невозможно выразить словами. Она ощущала мучительную тяжесть в груди, с левой стороны. Уже через месяц после их первой встречи визиты Мадиу стали все реже и реже, а извинения, которые он смущенно бормотал, все более путаными. «Одна и та же система у всех, — думала она. — В сущности, все мужчины — трусы. Ни за что не скажут прямо, что решили уйти, им непременно нужно найти какой-нибудь повод для скандала, чтобы расстаться с женщиной». К этому неутешительному выводу она пришла после целого ряда поражений.
Малиец Кейта Мадиу был мало похож на соблазнителя, но зато у него водились деньги. Этот начинающий лысеть и полнеть сорокалетний мужчина с большими ушами, похожими на капустные листья, разбогател по всем признакам совсем недавно. Мари-Иоланда нисколько не удивилась, когда через два месяца после знакомства с ним узнала, что своим богатством Мадиу обязан бриллиантам, которые он украл в провинции Бакуанга, в округе Кассаи, у одного из своих земляков, который обосновался в Конго и женился только ради того, чтобы заняться добычей алмазов; этот любитель драгоценных камней клялся и божился, уверяя тестя и тещу, равно как и каждого, кто желал его слушать, что он от души полюбил Конго, его благодатный климат, его людей, но более всего — Ма-белу-Терезу, свою супругу, равной которой не сыскать среди народа малинке. Готовясь к отъезду в Браззавиль, где он надеялся сбыть бриллианты, он счел необходимым заверить своих родственников и знакомых, которые решили, что он больше не вернется, в том, что скоро возвратится и непременно примет тогда конголезское подданство.
Именно в разгар всех этих событий у него и украли драгоценные камни. Отчаянье его было так велико, что он даже позабыл о молитве. Он никого не пускал к себе в дом и сам больше недели не высовывал носа на улицу, хотя стояла прекрасная солнечная погода и цикады оглушительно звенели в траве’.
Мадиу же вскоре после кражи исчез. Добравшись до Браззавиля окольными путями, он вел поначалу жизнь очень скромную, боясь попасться на глаза своему земляку, который в конце концов утешился и решил отправиться добывать алмазы снова и таким образом расплатиться со всеми своими
214
долгами, однако начальник округа не дал ему времени утвердиться ни в своей любви к Мабеле-Терезе, ни в своем пристрастии к драгоценным камням. Несчастный попытался протестовать в числе других малийцев и сенегальцев, которых постигла та же участь, но все было напрасно: не помогли даже слезы жены и детей. Самолет «ДС-8», принадлежавший компании «Эр Конго»,У доставил их на родную землю.
Узнав об этом, Мадиу вышел из своего заточения.
Мари-Иоланда целые дни проводила в постели, укрывшись до подбородка простыней, словно бЪльная. Не в силах пошевелить пальцем и заняться каким-нибудь делом, она погрузилась в воспоминания. Она перебирала в памяти мужчин, которые оставили сколько-нибудь заметный след в ее жизни. Первым был Дюваль, французский парашютист, к которому она бегала на свидания, перелезая через ограду монастырской школы, куда ее отдал дядюшка. Она вспомнила свои первые волнения и переживания тех лет и улыбнулась. Была она в ту пору очень юной и просто-напросто следовала безотчетному зову плоти. Дюваль был сентиментальный парнишка: говорил мало и, обняв ее за шею, уводил бродить по тропинкам в окрестностях авиационной базы. Он заставлял ее прислушиваться к треску кузнечиков, к пению птиц и замечал, что зелень лужаек со времени их последнего свидания поблекла. Ей он казался странноватым. Он был не лишен великодушия, но Мари-Иоланда не получала от него ничего, кроме мелочи, на которую можно было купить лишь пачку печенья или пакетик конфет. Жако, который был у нее после Дюваля, отличался нравом грубоватым, этому нужно было только одно — потискать девчонку. Он уводил ее на те же тропинки, но вовсе не для того, чтобы слушать пение птиц и любоваться оттенками зелени.
Мари-Иоланда считала, что после провозглашения независимости и особенно после революции заметно уменьшилось не только число европейцев, живущих в Браззавиле, но и изменился их общий уровень. Когда в Конго поприжали неоколониалистов, те поспешили перебраться в более благоприятные места, где их соотечественники еще не утратили своих позиций. Остались только многочисленные владельцы станций технического обслуживания автомобилей, которые драли три шкуры с клиентов-конголезцев, словно в отместку за проводимую правительством антиколониальную политику. Врачи, учителя и другие чиновники вели себя крайне сдержанно. Боясь высылки и желая во что бы то ни стало сохранить свое жалованье, которое было никак не меньше, а иной раз чуть ли не вдвое больше, чем в метрополии, они позволяли себе критиковать конголезцев и в особенности политику нового правительства
215
только в тесном кругу и за закрытыми дверями. Даже крупные дельцы и богатые торговцы, которым никто не мешал по-прежнему ворочать делами, постарались уйти в тень. Только португальцев конголезцы не принимали за европейцев. Женщины-португалки, бледные, с потухшими глазами, обычно весь свой день проводили за прилавком или за стойкой. Вечерами их иногда можно было встретить в кино, где они, казалось, безучастно следили за сменой эпизодов на экране.
Молодые люди, которые прибывали сейчас из Европы, были разительно непохожи на тех, что Мари-Иоланда знавала прежде — в годы автономии и в первый период после провозглашения независимости, — тогда это были элегантные мужчины, гладко выбритые, аккуратно причесанные. Те же, что прибывали из Европы сейчас, походили, считала Мари-Иоланда, скорее на каторжников, сбежавших из заключения, или на изыскателей, только что выбравшихся из лесной чащи, — до того у них был запущенный вид. Мари-Иоланда, поняв, насколько упала репутация родственной ей расы, сделала соответствующие выводы. Она теперь не удостаивала внимания никого, кто был бы положением ниже министра или владельца алмазных копей. Мать поддерживала ее. Она редко вмешивалась в дела дочери, а если и вмешивалась, то лишь для того, чтобы дать ей полезный совет;: нужно уделять этим министрам времени ровно столько, чтобы заполучить возможность открыть парикмахерский салон или добыть себе тепленькое местечко секретаря. «Надеяться на перемены к лучшему больше нечего, — говорила она дочери, — времена настали тяжелые. Оглянись вокруг — сколько интересных людей повсюду». Но Мари-Иоланду не надо было учить, она уже и сама старалась наладить связи с людьми, имеющими отношение к торговле бриллиантами. Она открыла для себя целый мир, населенный подозрительными личностями, — сидя в шезлонгах, они целыми днями грелись на солнышке или раскатывали в роскошных, похожих на американские, лимузинах, приземистых и длинных, с множеством сигнальных огней сзади. Образ жизни, который вели скупщики бриллиантов, никак не вязался с кампанией, проводимой правительством, призывавшим «засучив рукава, взяться за работу». На почте, когда эти дельцы оформляли денежные переводы, они неизменно собирали толпу зевак, в испуге таращивших глаза на толстые пачки денег.
Кейта Мадиу, в отличие от других, никогда не посылал ниг каких переводов: в Мали у него никого не осталось, если не считать двух троюродных братцев, живших в округе Колокани, бодее чем в ста километрах к северу от Бамако. На первое место в жизни этот человек ставил удовольствия и быстро приобрел
216
славу бонвивана. Этот пресытившийся лестью и всяческими жизненными усладами толстяк всегда сиял от удовольствия. Тень заботы ни разу не омрачила его вечно улыбающегося лица. Его приглашали всюду, он сам был готов обнять весь мир. Особенно охоч был Мадиу до женщин. Он щедро расплачивался, когда пил в ресторане в кругу друзей, где всегда чувствовал себя в высшей степени непринужденно. Когда же наступал тягостный момент уплаты по счету за обильные возлияния, и Мадиу замечал, что беседа за столом становится принужденной и вялой, он, не позволяя никому вытащить кошелек, кричал бармену: «Посчитайте, сколько с меня».
Мадиу не любил разговоров о политике. Если обстоятельства вынуждали его участвовать в подобных дискуссиях, он обычно принимал сторону того, кто, как ему казалось, брал верх в споре: «Да, да, совершенно верно, друг мой!» Когда же в разговор вступал другой собеседник, который опровергал первого, Мадиу без тени смущения заявлял: «Да, да, это совсем другой аспект проблемы, ведь жизнь так переменчива, не правда ли?» И его толстая физиономия расплывалась в широчайшей улыбке, перед которой никто не мог устоять.
Когда Мари-Иоланда познакомилась с Кейтой Мадиу, точно вихрь подхватил и завертел ее. Этот человек буквально носил ее на руках: она разъезжала в машине, летала самолетом, то уезжала, то приезжала, — одним словом, это была не жизнь, а мечта. Однако и в ее жизни, целиком посвященной погоне за бриллиантами, случались дни, когда отчаянье давило ее невыносимым гнетом. Когда Мадиу покинул ее, ей показалось, что она отброшена куда-то в пустоту. Все тело налилось свинцовой тяжестью, и Мари-Иоланда словно очнулась от грез, которым разом пришел конец.
ПАРИ
Войдя утром в свой кабинет, месье Мартин Флешье сразу же заметил на столе адресованный ему желтый конверт, который заинтересовал его. Рядом лежали папки с самыми неотложными делами, но любопытство одержало верх, и он взял конверт в руки. Открыл его.
Господин директор!
Имею честь сообщить Вам, что я не создан для чиновничьей службы. В самом деле, за то время, что я проработал в Вашем аппарате, этот род деятельности так и не заинтересовал меня, и я не переставал сожалеть о том, что расстался со своими кистями и мольбертом.
217.
В связи с вышеизложенным, прошу принять мое заявление об уходе, я хотел бы снова заняться искусством, к которому чувствую призвание, — ведь я художник.
Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении. Заранее благодарен Вам.
Помоло, Жак.
С минуту месье Флешье постоял в растерянности, затем лицо его выразило недоумение, он пожал плечами. Просто в голове не укладывалось, как этот Помоло мог предпочесть ненадежное ремесло художника работе в аппарате дирекции, которая обеспечивала ему верный кусок хлеба. К тому же, работая в машинописном бюро, он недавно получил повышение — второй разряд, а значит, и весьма ощутимую прибавку к жалованью, на целых двенадцать процентов. «Чистое безумие»,—подумал месье Флешье и велел позвать Помоло, надеясь его урезонить.
— Конечно, работая в нашем аппарате, состояния не наживешь, — начал он, — эта служба может обеспечить лишь прожиточный минимум, но ремесло художника...
Помоло молча слушал увещевания патрона. Месье Флешье, который был человеком разносторонне образованным, приводил в качестве примеров многих художников, над которыми извечно тяготело проклятие, напомнил историю Ван Гога, постоянно жившего в нищете, несмотря на то, что он был одним из величайших мастеров своего времени. Все было тщетно. Помоло упорно стоял на своем, он хотел уволиться.
— Тем хуже для вас! —сказал в сердцах месье Флешье, швырнув заявление на стол.
Помоло снимал маленькую комнатушку на улице Бакукуа, где стекла единственного окна, дававшего свет и выходившего как раз на улицу, были сверху донизу закрашены желтой краской, а переплеты рам поражали прохожих своим пронзительно-алым цветом. Прошло всего два дня с того момента, как хозяин вручил ему ключ от двери, после того, как Помоло предъявил квитанцию об оплате счета.
— Возьмите ключ, да смотрите, не потеряйте. Он у меня последний.
Батала, прежний жилец, унес ключ с собой, когда тайком от хозяина съехал с квартиры среди ночи. Помоло узнал всю эту историю от жившего по соседству Манюэля — человека неопределенного возраста, у которого широкая улыбка почти не сходила с лица, и все-таки главной достопримечательностью этого лица был огромный нос. Тусклый взгляд выдавал пристрастие к наркотикам, а эта постоянная улыбка, ленивая и не
218
определенная, которая медленно расплывалась по лицу и вдруг неожиданно исчезала, напоминала тик.
Помоло знал прежнего обитателя комнаты, тот был, как и он, художником. Раза три-четыре он встречал его в школе в Пото-Пото, куда оба приходили за бесплатными красками, бумагой для набросков и холстом. Манюэль рассказал Помоло о том, в какой нужде жил этот Батала. Он видел, чем приходилось питаться бедняге — на целый день один клубень маниока и один банан, да еще изредка,кусок черствого хлеба, который приходилось размачивать в холодной, чуть подслащенной воде.
Целыми днями Батала рисовал миниатюры, так называемые «микки», которые находили все меньше и меньше сбыта. Нельзя сказать, чтобы он был по натуре человеком нечестным, однако трудно оставаться честным, если нет никаких средств к существованию, вот он и съехал ночью тайком от домовладельца.
Лежа на постели и упершись взглядом в потолок, Помоло вспоминал ту нелегкую жизнь, какую вел он сам до того дня, как, оставив живопись, нанялся на работу в машинописное бюро. Вспомнились ему и томительные часы, которые он проводил в ожидании покупателей, выставив свои картины возле Центрального почтамта или под аркадами городской ратуши, и реплики клиентов, острой болью отзывавшиеся в сердце: «Спасибо, не надо!» «Микки» меня больше не интересуют»... «Видите ли, я больше их не коллекционирую»... А теперь все начнется сначала... Какой злой дух заставил его забыть этот кошмар? Лучше уж умирать с тоски в машинописном бюро или мечтать целый день, сидя на берегу и следя за тем, как быстрые воды Конго проносят мимо пучки водорослей. Однако сделанного не воротишь.
Поначалу он очень тяготился своей работой, как всегда бывает, если приходится заниматься делом, которое противно твоей натуре. Его раздражали быстрые движения пальцев, сновавших по клавишам, невообразимый шум, который издавали пишущие машинки, и казенные серые стены, среди которых приходилось проводить большую часть дня. Только посещения кинотеатров да девушки добавляли щепотку соли в это серое однообразие. Больше всего Помоло ненавидел то состояние, которое охватывало его, когда он переступал порог своего учреждения, — каждый раз ему казалось, будто его засасывает трясина. Ему хотелось построить жизнь по собственному вкусу: спать до десяти часов утра, если заблагорассудится, или работать, не разгибая спины, до трех часов ночи, пока есть вдохновение. Нет, решительно, жизнь свободного художника ему
219
больше по нраву! Да только взвесил ли он весь риск такой независимой жизни, ведь у него в Браззавиле нет ни одной родной души, никого, к кому он мог бы обратиться за помощью в трудную минуту? Бывали у него периоды полного отчаянья, когда казалось, что жизнь уже кончена. В тот день, когдз он положил на стол месье Флешье заявление об уходе, он, вне всякого сомнения, постучался в дверь нищеты.
Помоло провел тревожную ночь. А наутро тоска навалилась с новой силой. Проснулся он необычно рано и, подойдя к окну, стал глядеть на улицу, словно поджидая кого-то. Но улица была безлюдна. Вся прошлая жизнь внезапно показалась Помоло похожей на эту улицу: пустынный длинный коридор... Почему он уцепился з4 эту идею — добиться чего-то’ в жизни благодаря живописи? Ведь это чистое безумие — посвятить себя искусству сейчас, когда большинство покупателей-иностранцев покинули страну, а соотечественников не интересует ничего, кроме пива да дешевого французского вина из погребов Бордо.
И все-таки пора было приниматься за работу. Первые шаги всегда трудны и не очень-то обнадеживают. Помоло никак не удавалось нащупать интересную тему, когда же у него зарождался любопытный сюжет, оказывалось, что он не в состоянии подобрать нужных тонов. Просто опускались руки! Он понимал, что бороться с.этими сомнениями бесполезно, недаром писатели так часто говорят о муках творчества, которые они испытывают при виде белого листа бумаги. А для него такой же пыткой становится белый холст, который маячит перед ним, будто затянутое бельмом око. Случалось, он бросал работу и шел бродить по улицам Пото-Пото. Он заходил в мастерские других художников, восстановил кое-какие старые дружеские связи, сблизился даже с Танганой, претенциозный молодым живописцем, с которым когда-то поссорился из-за девушки. Около месяца Помоло пробовал силы то в одном, то в другом. Но ни одна из написанных им картин не приносила удовлетворения.
Однажды вечером он возвращался домой под дождем, неся в обеих руках непроданные картины. Он шел твердым шагом, крепко стиснув зубы. Так он обычно преодолевал тяжелое настроение. Он всеми силами старался сохранить то ощущение легкости и пустоты, которое внезапно охватило его, когда он шагнул под дождевые струи, казавшиеся голубоватыми в свете фонарей,. Пока он вышагивал по улицам, удаляясь от аркад ратуши, ничто не привлекало его внимания. Дома, деревья, прохожие — все это для него словно не существовало. Ничто так не разобщает нас с окружающими, как дождь и ночная темнота.
220
Войдя в комнату, Помоло зажег лампу, аккуратно поставил картины к стене и снял промокшую одежду, по-прежнему стиснув челюсти. Затем он быстро растерся полотенцем, помахал руками и сделал несколько приседаний, чтобы немного со-ipeibca. И вдруг начал неудержимо зевать, он вспомнил, что ui весь день во рту у него не было ни крошки.
Помоло уже лежал в постели и приготовился погасить свет, по вдруг снова приподнялся, чтобы еще раз взглянуть на свои картины, так и не нашедшие покупателей. Его охватило глухое о I чаянье.
А потом произошло событие, которое вновь зародило в его душе смутную надежду. По всему городу расклеили афиши, извещавшие о выставке картин художника Макамбы. Помоло по-шакомился с ним три года назад, хотя слышал о его работах уже не меньше двенадцати лет. Макамба много путешествовал, побывал в Чаде, Камеруне, Сенегале, ему удалось съездить даже во Францию при содействии одного покровителя искусств.
И вот теперь открывается его выставка в большом зале Торговой палаты — около сорока картин. Помоло поразило разнообразие сюжетов и непринужденная манера художника: 1дссь были рыночные сценки, народные танцы, полевые' работы, портреты... А он-то мучился в поисках «интересной 1смы»! Да разве эти сцены из повседневной жизни, написанные рукою подлинного мастера, не интересны публике? Он вспомнил иллюстрации, встречавшиеся ему в книгах по искусству. На протяжении трех или четырех столетий европейская живопись не отличалась богатством воображения, из век^в век повторялось одно и то же: нагие тела, рождение Христа, его распятие, батальные сцены... Художники отличались друг от друга часто лишь манерой письма. «Ну конечно же, все дело в манере»,— сказал он себе. Сам Помоло любил насыщенные, богатые оттенками тона. У Макамбы же краски были лишены полутонов, они казались вызывающе яркими, почти кричащими.
Помоло отправился на выставку, желая насладиться ма-счерством живописца, пиршеством красок, и поначалу даже не обратил внимания на публику, заполнившую зал. Однако стоило ему оторваться от картин, и он тут же отметил среди присутствующих министра культуры и несколько его ближайших помощников. Кто-то сказал, что в зале находится также один из послов и советники по культуре.
Макамба с сияющим видом стоял справа от входа, окруженный толпой поклонников. Все поздравляли его с успехом. Помоло тоже хотел подойти к нему, но художник был по-прежнему окружен довольно плотной толпой, Помоло не смог к нему пробиться и вышел из зала.
221
С задумчивым видом он шел по улице, выставка картин Макамбы не выходила у него из головы. Помоло казалось, что тот уже достиг зенита своей славы. Завтра же фотографии Макамбы появятся на страницах двух местных газет вместе с хвалебными статьями. И конечно же, высокопоставленные господа не посчитаются с затратами и купят большую часть выставленных картин, да и представители городских властей, судя по всему, не ограничатся одними поздравлениями. Искусство должно кормить своего творца.
Подходя к дому, Помоло увидел Манюэля, который восседал на груде кирпичей, окутанный клубами табачного дыма. Обычно он курил сигары, которые свертывал сам из плотных листьев какого-то растения, скорее всего индийской конопли. Увидев Помоло, он швырнул-в сторону окурок и широко улыбнулся в знак приветствия. Помоло уселся рядышком, пользуясь случаем, чтобы рассмотреть поближе лицо соседа. Зрачки его, казалось, совершенно расплывались на фоне белков, которые и белками-то не назовешь — такого багрового они были цвета. Непонятно, что было тому причиной: сигары или вино. Скорее всего, то и другое вместе. Помоло решил поделиться с Манюэлем своими впечатлениями. Он начал рассказывать о выставке с таким жаром, что удивил своего соседа, никак не ожидавшего такого воодушевления от этого довольно молчаливого молодого человека. Он то и дело поглядывал на Помоло, не.понимая причины его волнения. Манюэль никак не мог взять в толк, отчего эти несколько десятков картин, повешенных на стену, вызвали у людей такой интерес и собрали столько публики. Но в окончательное изумление повергли его слова Помолы.
— Картины — это действительно не то, что еда, питье или курево, однако немало людей разбогатели и стали миллионерами благодаря искусству.
Манюэль пожал плечами.
— Я не знаю ни одного художника, которого его искусство сделало бы миллионером, зато собственными глазами видел Баталу, которому оно не принесло ничего, кроме краюшки черствого хлеба да холодной воды.
— Успех приходит не сразу, — возразил Помоло. — Не то я давным-давно уже стал бы знаменитым живописцем.
Однако в глубине души он вынужден был признать, что возбуждение, вызванное выставкой; заставило его забыть о тяготах сегодняшней жизни. Он еще не нашел своего пути, не написал ни одной сколько-нибудь значительной картины, пока что он никому не известный ремесленник, который без гроша в кармане предстанет скоро пред грозным ликом неумолимого домохозяина.
222
Но даже это непрочное положение, казалось, заражало Помоло невероятной энергией. Он не мог успокоиться две недели спустя после закрытия выставки Макамбы. Это' событие подхлестнуло его, точно удар хлыста. Казалось, он лихорадочно искал чего-то. Но чего? Какие заботы точили его? Он ходил по улицам, не глядя по сторонам, не замечая знакомых, не отвечая на приветствия. В своем квартале Помоло прослыл человеком странноватым. Поговаривали даже, что он тронулся. Жители Браззавиля недаром побаивались сумасшедших: немало встречалось здесь молодых людей, которых еще несколько месяцев назад все видели в добром здравии и в полном рассудке, и вдруг ни с того ни с сего они сворачивали с привычного пути...
По утрам дверь комнаты Помоло оставалась закрытой до десяти часов, зато вечером он выбирался из дома и усаживался на улице лицом к спинке стула и сидел так, молчаливый и неподвижный. Случалось, его видели на том же месте и поздно ночью, он по-прежнему сидел на своем стуле, облитый лунным светом. Некоторые женщины, увидев его, говорили: «Господи, неужто и нам доведется пережить такое: увидеть, как наши сыновья вот так же вдруг онемеют и начнут слоняться по городу, всклокоченные и оборванные». А другие крестились, едва завидев Помоло, и молили бога оградить их семью от этакой напасти. Если какая-нибудь мать замечала ночью, что ее ребенок считает звезды, указывая в небо пальчиком, она била его по рукам, строго-настрого запрещая делать это.
А Помоло, несмотря на все домыслы соседей, был далек от помешательства. Просто художник, который вынашивает свой замысел, похож на беременную женщину: когда в его душе рождается вдохновение, поступки его кажутся странными окружающим. Закрывшись в комнате, Помоло делал беглые зарисовки, как только у него возникал новый сюжет. Он предпочитал работать в своей комнате, где царил полумрак, ибо ему казалось, что замыслы, рождавшиеся здесь, в этом замкнутом пространстве легче удержать в памяти и претворить в реальные, ощутимые образы. Даже сама атмосфера за стенами комнаты, — этот беспощадный солнечный свет, эти резкие уличные шумы могут спугнуть мысль, ведь она как птица, как живое существо стремится вырваться на свободу.
После месяца работы Помоло выставил вдоль стены своей комнаты десять картин и принялся внимательно рассматривать каждую из них в разных ракурсах и с различных расстояний. Он отверг одну, затем другую и наконец выскочил из дому, чтобы пройтись и немного успокоиться. Когда он вернулся, уже сгустились сумерки, но в комнате уже царила почти ночная
223
темнота. Помоло зажег керосиновую лампу, вывернул фитиль и снова стал разглядывать картины. Наконец он остановился на двух. На следующий день все повторилось сначала. Прошла еще неделя, и только одна-единственная картина стояла теперь у стены, девять других Помоло уничтожил. Художник, считал он, единственный судья, который вправе решать судьбу своих творений — жить им или умереть.
Чувствуя, что ему недостает объективных критериев, Помоло полагался на некий эмоциональный шок, как на главное мерило в оценке живописи. Искусство, считал он, должно воздействовать не на умы, а на чувства. От того, насколько глубокое потрясение испытывает зритель при виде картины, зависит ее судьба. Если же эмоционального взрыва не происходит — эго равносильно смертному приговору.
Итак, он стоял перед единственным своим полотном, избежавшим уничтожения. Это был пейзаж, на котором, как бы пронизанные рассветными лучами, парили птицы, а внизу, на поле, виднелась согбенная фигура крестьянки. Она высоко занесла мотыгу и походила на еще одну большую птицу с длинным вытянутым клювом. Лимонно-желтый и синий индиго были единственными цветами этой картины. Этот пейзаж Помоло писал по памяти, он когда-то видел его во сне.
На следующее утро Помоло решил отправиться а дирекцию, где он прежде работал, и показать картину своему бывшему патрону. Не может же быть, чтобы месье Флешье успел забыть его.
Он шагал легко и радостной улыбкой отвечал на приветствия встречных знакомых. Давно уже он не испытывал такого подъема. Помоло был почти уверен, что эта картина больше не коснется серой стены его комнаты. Откуда пришла к нему эта странная уверенность, Помоло и сам затруднился бы объяснить. И тем не менее он чувствовал, как его охватило настоящее блаженство, словно свежий запах лимонника пронизал все его существо, наполнил легкие.
Ему казалось, что, расставаясь, они с месье Флешье как бы заключили негласное пари. По мнению патрона, он обрек себя на нищету, отказавшись от своего места в машинописном бюро. И потому, вернувшись сейчас, три месяца спустя, на свое старое место работы, он как бы принимал вызов.
Как только он появился в секретариате, все тут же прекратили работу. Бывшие его сослуживцы окружили Помоло. Многие нашли, что он очень изменился.
— Ты похудел, Помоло, — сказал Сита, длинный парень, который обычно подтрунивал над ним.
— Да ничего страшного. Просто поболел немного.
224
Помоло и в самом деле изменился, исчез обычно 1акой свежий цвет лица, между бровями залегли упрямые морщинки. Громкий разговор в комнате не умолкал. Месье Флешье, привлеченный столь необычным шумом, приоткрыл дверь своего кабинета. Голоса разом умолкли, но никто Не двинулся с места.
— Смотрите-ка, — воскликнул месье Флешье, — да это, никак, Помоло?
— Да, я, господин директор.
— Зайдите ко мне на минутку.
Они проговорили около четверти часа. Месье Флешье пытался уловить в речах Помоло подтверждение СВОих опасений. Художник вынужден был признаться, что еМу и в самом деле пришлось испытать немало тяжелых Минут, но вовсе не по той причине, которую имел в виду его собеседник. Его первая картина, которой он мог по праву гордиться, и в самом деле рождалась в муках. Помоло показал ее патрону. Месье Флешье не смог скрыть своего восхищеНця
— Превосходная работа! — сказал он.-* Кто-нибудь уже купил ее у вас?
— Нет, господин директор.
— Отлично! В таком случае картиНу покупаю я.
Перевод с французского М. Финогеновой
Чичелле Чивелла
Чичелле Чивелла — конголезский новеллист. Родился в 1940 году. Доктор медицины. В своих рассказах — действие их происходит в вымышленных странах —
ставит проблемы, общие для некоторых африканских стран. Его рассказы взяты из сборника «Такая Долгая ночь», изданного издательством «Атье», '£ Hati-ег - Paris, 1980.
КАМЕНЬ РАСКАЛЫВАЕТ ОРЕХИ
I
— Мне что же, в рупор кричать, чтобы ты меня услышал? — возмутилась девушка. — Разве я не запретила тебе раз и навсегда?..
8 Альманах «Африка», вып. 6
225
— Успокойся, Алина.—Префект Мотунгизи даже отпрянул.—Что с тобой?
— Я не желаю, чтобы ты встречал меня возле лицея. Я не жена тебе, не дочь и не любовница, понятно?
— Ну хорошо, почему же ты тогда согласилась сесть ко мне в машину?
— А ты уже бог знает что себе вообразил? Просто не хотела тебя конфузить перед своими подружками. Ну-ка, останови, пожалуйста, я выйду!
Бьяника-Алина взяла сумочку, которая лежала у нее на коленях, прикрытых плиссированной юбкой, и приготовилась открыть дверцу белого «Пежо-504». На ней была розовая блузка с кулоном на тоненькой цепочке. Ее головка в туго заплетенных косичках была точь-в-точь как кокосовый орех, с которого сняли кожуру. В ушах поблескивали треугольные сережки. Личико у Бьяники было круглое, с ямочками на щеках. Заметив, что Мотунгизи прибавил скорость, она сердито сверкнула на него глазами.
— Почему ты не останавливаешь машину?
— Я подвезу тебя домой.
— Не нужно. И к тому же я собиралась не домой, а к брату.
— Прекрасно. Я отвезу тебя туда.
— Нет, высади меня здесь. Еще чего выдумал!
Бьяника скрестила свои короткие полные ножки и сплюнула через опущенное боковое стекло.
Громко блеявшее овечье стадо, которое брело куда-то без пастуха, запрудило дорогу. Нищий, сидевший на тротуаре с протянутой рукой, воздел глаза к затянутому облаками небу, словно пророк, вещающий перед толпою слушателей, и дрожащим голосом загнусавил что-то. но никто не обращал на него внимания. А рядом, во дворике перед тростниковой хижиной худенький мальчуган колол большим камнем орехи и, доставая ядрышки, отправлял их в рот.
— Напрасно ты сторонишься меня, Алина. — Мотунгизи повернулся к школьнице. — Я могу купить тебе в Эурикс все. что ни пожелаешь. Понимаешь теперь, как ты должна относиться ко мне?
- Нет!
— Да ты глупее, чем я думал. К счастью, твой отец давно уже все понял.
— Это не может изменить моего отношения к тебе. Сердцу не прикажешь! Да и вообще, напрасно ты стараешься, я люблю своего жениха.
— Что?! С каких это пор.у тебя появился жених?
226
— А это тебя не касается. Знай только: если ты не прекра-1ишь ко мне приставать, ты будешь иметь дело с ним. Он просил чебя предупредить!
— Что ты такое говоришь, Алина? Где этот подлец, этот трус, который осмеливается угрожать мне, спрятавшись за женскую спину? И ты собираешься замуж за такого вояку?
— Почему бы и нет? Любовь не рассуждает. И потом, мой жених вовсе не трус и не подлец!
— Ну, хватит, Алина, ты мне уже достаточно гадостей наговорила. А теперь послушай меня. Не знаю, морочишь ты мне голову или говоришь правду, но лучшее, что может сделать твой жених, это поскорее исчезнуть, иначе ему несдобровать. Он хотя бы знает, кто я такой?
Одно-единственное, почти подсознательное чувство способно было пробудить у префекта Мотунгизи интерес к женщине — этот волокита не терпел ни малейшего соперничества. Он воспринимал его как личное оскорбление и мстил за него со свирепостью раненого леопарда. Это по его приказу оскопили мужчину, которого застали на месте преступления: он, видите ли, осмелился поцеловать секретаршу, которая была любовницей префекта. Мотунгизи велел бросить в тюрьму рабочего, жена которого отвергла его притязания. Кто такой этот жених Бьяпики, чтобы оскорблять его, префекта? Да в своем ли он уме?
— Почему ты не хочешь полюбить меня, Али...
Мотунгизи резко затормозил, едва не врезавшись в остановившуюся впереди машину. Дорожные рабочие ремонтировали шоссе, и сейчас на этом суженном участке дороги пропускали встречный поток транспорта. Префект заглушил мотор и наклонился к Бьянике, намереваясь ее поцеловать. Но та отвернулась и низко опустила голову. Старый развратник со стоном снова потянулся к пухлым губам девушки. Она стала вырываться. Наконец Бьянике удалось распахнуть дверцу. Выскочив из машины, она бросилась бежать без оглядки. Мотунгизи крикнул ей вслед:
— Вернись, Алина, обещаю тебе, я больше не буду! Прости меня, вернись!
Но ' девушка уже исчезла за углом саманного домика.
Префект огляделся. Уличные зеваки делали вид, будто не заметили этой сцены, и демонстративно смотрели в другую сторону. Мотунгизи поправил галстук и тронул машину с места. Вскоре он исчез из поля зрения прохожих. На перекрестке полицейский, узнав машину префекта, отдал честь.
8*
227
II
В Матити, предместье Кот-Каню. лид дождь. Крупные капли тяжелыми шариками долбили землю. Вспышки молний, разрывая ночную тьму, озаряли небо. Деревья стонали под порывами ветра, ревевшего, точно тяжелый грузовик на подъеме в гору. Откуда-то принесло запах горящей саванны. Холодные потоки обрушивались на утонувшие во тьме домишки, где спали измученные люди. Смолкли все звуки; ни рыданий вдовы, ни возмущенного крика рабочего/ которого уволили, уже не было слышно — ничего, кроме надсадного кашля больного ребенка. Дождь.
На пустынной темной улице показалась какая-то фигура: человек, пригибаясь и стараясь держаться поближе к забору, то шел быстрым шагом, то вдруг принимался скакать, как заяц, пытаясь увернуться от порывов шквального ветра с дождем.
Ночной путник приблизился к одному из темных домов и, толкнув дверь, невольно отпрянул назад, заслоняя рукрй глаза от яркого света керосиновой лампы, поставленной на шкаф.
— Кто там? — Старый Нканди, который спал, припав щекой к шероховатой доске "большого обеденного стола, мгновенно открыл глаза и, вытянув тощую, как у цапли шею, пытался разглядеть вошедшего. — Кто там?
— Это я, папа, — ответила Бьяника .дрожащим от холода голосом.
— Ах. это ты... Откуда явилась?
— Заходила к Мианде. Было уже очень поздно, пришлось возвращаться пешком.
— Ну как там у них? Все в порядке?
— Да, папа.
— Ты ела?
- Да.
— Ну, хорошо, пойди переоденься и возвращайся сюда, мне нужно с тобой поговорить.
Бьяника, встревоженная, направилась в свою комнату. Что случилось?
Скоро она вернулась, переодевшись в голубой сгитер и облачившись в пань. Девушка уселась па табурет, внимательно глядя в лицо отца. Это был человечек небольшого роста с руками, тонкими, словно стебли сахарного тростника, и скуластым высохшим лицом. Белые волосы окаймляли голый, как яйцо, череп. Тусклые глаза старика напоминали лесные орехи. Одет он был в бежевую рубашку и серые штаны, которые казались на нем непомерно широкими. Невозможно было себе представить, что когда-то этот тщедушный человечек обратил
228
в бегство двух солдат, вознамерившихся украсть у пего улов.
Старый Нканди откашлялся и, впившись в лицо дочери цепким взглядом, сурово спросил:
— Что это еще за история, о которой я недавно узнал?
— Какая история, папа?
— Говорят, у тебя жених появился? Это правда?
Тревога Бьяники мгновенно улетучилась. Она с трудом удержалась от улыбки. Итак, Мотунгизи уже побывал здесь... Ну, конечно, этого следовало ожидать. Этот тип ни за что не отвяжется от нее, особенно теперь, когда узнал, что существует другой мужчина в ее жизни. Это было бы слишком просто, слишком хорошо и слишком не в духе этой пиявки. Стоит ли говорить отцу, что она просто-напросто наврала префекту?
— Так это правда? Отвечай, да или нет? — хрипел старый Нканди.
— Да, папа. Я сказала префекту, потому что он...
— Что?! Ты выйдешь замуж за господина префекта, и только за него!
— Но я не люблю его, я...
— Молчи, когда я говорю! Господин префект мне нравится, и ты выйдешь за него, раз я этого хочу!
Началась отчаянная перепалка. На шум явилась матушка Нгвала. Громкий голос мужа поднял ее с постели, и она пришла узнать, что случилось. Она расстелила прихваченную с собой циновку и уселась на нее, перекинув через плечо клетчатый пань, словно рыбак свою сеть. Мать Бьяники умоляла мужа не кричать так громко: ведь уже ночь на дворе, и привидения могут услышать и отнять у него голос.
— Говорю, как умею, — зарычал старик в ответ.—Что же касается твоих родственников, которые могут явиться с того света, то я их не боюсь. Если привидения попытаются утащить мой голос, я до них сам доберусь и посажу на цепь. Эй, вы, привидения, слышите меня?
Однако голос он все же понизил и заговорил примирительным тоном. Все, что на нем надето: одежда, обувь — все это подарено господином префектом. А в скором времени этот святой человек обещал подарить еще и холодильник!
— Ну почему ты не любишь его, дочка? Он ведь заботится о твоем отце, не то, что твой старший брат, который даже не придет меня навестить, видно, боится, как бы я не попросил у него денег. Ну в общем так или иначе, но ты станешь женой префекта, потому что этого хочу я, твой отец! Поняла?
Старый Нканди говорил с воодушевлением. Он вставал, снова садился, размахивал руками, время от времени утирая
229
ладонью рот. Керосиновая лампа отбрасывала на стену огромную жестикулирующую тень.
Бьяника с изумлением смотрела на старика. Отец, который когда-то наказывал ее, если замечал, что она остановилась поболтать с мальчиком, теперь толкает ее в объятия женатого человека ! Она отказывалась в это поверить. Поистине только отчаянной нищетой, от которой никак не мог избавиться старый Нканди, можно объяснить подобное превращение. В самом деле, вскоре после провозглашения независимости Нканди так же, как и другие рыбаки, должен был, согласно постановлению правительства Тонгветании, сбывать свою рыбу эуриканскому перекупщику Дамуру. Дамур платил мало и быстро прибрал рыбаков к рукам — кому пойдешь жаловаться? Отчаявшись, старый рыбак решил раньше времени бросить свое дело. Так бы и барахтался он по сей день, пытаясь выбраться из нищеты, если бы месяц назад не появился Мотунгизи со своими деньгами. И старик не смог устоять.
Бедность делает человека уступчивым. Чтобы обеспечить семью сегодня и забыть все тяготы прошлого, старик готов был принести в жертву свою дочь. Если бы он только знал, скольких девушек Мотунгизи уже толкнул на панель... Соблазнившись посулами префекта, они бросали учебу, работу, своих женихов. И сейчас еще можно встретить на улице этих несчастных: точно вдовы, преждевременно увядшие и высохшие, они бредут куда-то, прижимая к себе чахлых младенцев.
— Так да или нет? — снова заворчал старик.
Бьяника, вздрогнув, пробормотала:
— Я бы хотела закончить учебу...
— Какую учебу? Ты уже совсем взрослая, замуж пора.
— Я с этим не спешу.
— Зато я спешу. Я хочу успеть понянчить твоих детей, пока жив. Понятно?
— Я выйду замуж, папа, и у тебя будет столько детей, что даже не хватит сил всех их нянчить.
— Вот это я и хотел от тебя услышать, доченька. — Старый Нканди заулыбался. — Иди ко мне, родная. — Он протянул к ней руки. — Дай мне тебя обнять. Я знал, что ты в конце концов согласишься выйти замуж за префекта.
— Я этого вовсе не говорила. Да я скорее умру, чем выйду замуж за Мотунгизи.
— Что-о? А ну-ка повтори!
— Я никогда не выйду за префекта.
Яркая молния огненной стрелой пронзила тьму. И следом за нею прогремел гром. Тихая, как муравей, матушка Нгвала
230
переводила тревожный взгляд с мужа на дочь. «Боже милосердный, сжалься над нами!»
Опустив голову, Бьяника искоса следила за отцом, готовая вскочить и бежать при первом его движении. А старый Нканди молча разглядывал огорчившую его дочь, которую он назвал в честь своего старого друга Мабайе,— его Бьяника, такая разумная, такая послушная, отказывается выполнять его желание! И с каким вызовом держится! «Боже праведный, чем заслужил я такую несправедливость? О вы, силы Чимаки, и вы, духи Бинкоко, ответьте мне: отчего моя собственная мотыга, которая должна добывать мне пропитание, ранит меня? А что, если это дурное предзнаменование? Может, это смерть моя пришла?» Он поднялся и, словно ребенок, еще не вполне пробудившийся ото сна, направился в свою комнату, пошатываясь и жалобно причитая:
— Твои дети, Нгвала, терзают меня... они сведут меня в могилу...
Бьяника, повернувшись к матери, горько разрыдалась. Матушка Нгвала прижала дочь к себе и заплакала вместе с нею.
Ах, Мотунгизи...
«Неужели Алина сказала правду? Во всяком случае, я должен разыскать этого типа и поставить его на место. Я, префект Мотунгизи, заявляю: никто не смеет увести у меня женщину, которая мне нравится!»
Мотунгизи остановил машину перед отелем-дансингом «Чикоби-бар» и со всех ног кинулся ко входу, спасаясь от дождя. Только перед дверью, над которой светилась тусклая лампочка, он немного отдышался, пока вытирал ноги о циновку.
Это был мужчина среднего роста, ни худой, ни полный, одетый в темный клетчатый костюм. У него были тонкие усики и блестящие глаза.
Мотунгизи вошел в дансинг.
Всего три пары танцевали под мелодию болеро «Спасибо, Анжо!», исполняемую оркестром «Бана-джаз», обычно тонгви-танцы предпочитают музыку с быстрым ритмом. В полумраке несколько чиновников местной администрации обнимались со своими возлюбленными, мурлыча от удовольствия. Другая компания мужчин сплетничала возле стойки с официантками в белых блузках, оттуда то и дело доносились взрывы хохота. От сигаретного дыма щипало в глазах. В зале царил запах пота и табака. Рассеянный свет скользил по фигурам танцующих, по большой круглой площадке для танцев.
Мотунгизи пробирался между столиков, уставленных бу
231
тылками, поглядывая по сторонам, словно искал кого-то. И вдруг, громко крикнув: «Поставьте эту пластинку еще раз!» — широкими шагами направился в сторону запасного выхода в глубине зала и пригласил танцевать одну из дам, покоившуюся в объятиях возлюбленного, тот смерил Мотунгизи презрительным взглядом и покачал головой в знак отказа: Мотунгизи рывком притянул даму к себе, опрокинув на столе бутылки с пивом. Оскорбленный кавалер — огромный верзила в вышитой рубашке — вырос перед префектом.
— Ну, погоди у меня! — Он сгреб Мотунгизи за шиворот.— Оставишь ты ее в покое или нет? — Но тут же опустился на стул: Мотунгизи выхватил из кармана револьвер.
Префект потащил испуганную даму к мгновенно опустевшей танцевальной площадке. Согнувшись и словно прилипнув к своей партнерше, он вел ее в танце, непристойно виляя всем телом.
Обхватив голову руками, незадачливый кавалер что-то невнятно бормотал, словно в тяжелом сне. Казалось, он не слышал криков своей возлюбленной, которую Мотунгизи тащил, словно упрямую ослицу, к двери. Наконец детина бросился за ними вдогонку, но на улице он увидел лишь, как, тускло светясь, растворяются и тают в ночном дожде два красных уголька. Он грустно потупился.
Ах, Мотунгизи...
Терзаясь угрызениями совести, Бьяника горько плакала, уткнувшись лицом в подушку. Из-за ее неосмотрительности нарушен покой семьи. Ах, зачем только она привела в дом этого Мотунгизи!
В тот день она под дождем дожидалась автобуса на остановке перед магазином «Солоприкс». Мотунгизи, подъехавший на своей белой машине, предложил подвезти ее домой. Не представляя, что ожидает ее на следующий день, она согласилась и села в машину. Она, конечно, уже была наслышана о любовных похождениях префекта, но ничего не боялась. Бьяника умела при случае дать отпор мужчинам и делала это весьма решительно, недаром же ее прозвали «тигрицей». Однако Мотунгизи был безукоризненно любезен и предупредителен. И когда он пожелал познакомиться с ее родителями, «чтобы выразить свое восхищение теми, кто сумел вырастить такую жемчужину, как вы, мадемуазель», она не захотела показать себя невоспитанной и неблагодарной.
Ах, зачем она привела Мотунгизи в дом!
Префект приезжал к ним и в другие дни, однажды он даже
232
поджидал ее у лицея. Бьяника довольно резко выразила ему свое неудовольствие по этому поводу. Напрасный труд: Мо-|упгизи, заручившись поддержкой старого Нканди, которого он задобрил подарками, стал постоянным гостем в их доме. Что ей было делать? Лицейские подружки рассказывали, как весело они проводят время в обществе высокопоставленных чиновников городского магистрата, и уговаривали Бьянику последовать их примеру. Раз уж выбор префекта пал на нее, она должна уступить и хорошенько выпотрошить его кошелек. Бьяника попыталась заставить себя пересилить отвращение к Мотунгизи и даже пригласила его однажды в свою комнату. Но как только префект склонялся к ней, желая поцеловать ее, Бьяника отворачивалась, словно от смущения. Вскоре она поняла, что все усилия тщетны: ей не удастся преодолеть свою неприязнь, она никогда не сможет полюбить Мотунгизи, никогда не будет ему принадлежать, скорее умрет. И тогда она решила порвать с ним всякие отношения.
Бьяника знала, что вызовет неудовольствие отца, но не ожидала, что это выльется в такую драму. По тому молчанию, которое повисло после ее категорического заявления: «Я никогда не выйду за префекта!» — она поняла, что нанесла удар отцу в самое сердце, и даже испугалась; вот сейчас он упадет замертво на ее глазах. Сейчас, лежа в темноте, она упрекала себя за дерзкие слова, за то, что еще туже затянула узел, вместо того, чтобы распутать его.
Ах, зачем она привела Мотунгизи в дом!
Бьяника вскочила с постели, накинула на себя пань и, ощупывая рукой стену, направилась по темному коридору в спальню родителей. Она решила попросить прощения у отца. Она готова была уступить префекту, принести себя в жертву ради семьи. Но как только она приготовилась постучать в дверь, ее охватило смутное беспокойство. Неизвестно, как отреагирует на ее появление раненый зверь, притаившийся за этой дверью... Не лучше ли дождаться завтрашнего дня? Торопиться ведь некуда. Бьяника вернулась к себе и легла.
Дождь за окном лил, как и прежде.
Старый Нканди не спал. Ему пришлось выслушать упреки жены. Почему он заставляет Бьянику полюбить префекта? Неужто вернулись старые времена, когда родители распоряжались судьбой своих детей и сговаривались о свадьбе за их спиной, даже не спросив их согласия?
За окном послышалось кошачье мяуканье.
Старый Нканди, повернувшись к жене спиной, заговорил дрожащим голосом:
— Зачем ты все это говоришь мне? Ты и твои дети деш
233
и ночь терзаете меня, видно, смерти моей хотите! Я скоро умру, я это знаю. Если кошка мяукает ночью — быть печали. Вы своего добились, к чему же еще мучить меня? Замолчи-ка лучше и дай мне спокойно уснуть.
А за окнами ветер продолжал сражаться с дождем.
Матушка Нгвала, ничего не ответив мужу, свернулась калачиком. Молчание, точно стена, разделило супругов.
Ах, Мотунгизи...
Ill
Авеню Полковника Бантини, извилистое, с растрескавшимся асфальтом, тянется через весь Чиновничий квартал с севера на запад, до самого Дворца Независимости. Послеполуденный гул машин сливался с криками игравших на улице мальчишек. Где-то лаяла собака. Трещали цикады. Петух отчаянно прокричал свое «кукареку!». Отовсюду неслись звуки транзисторов. Компания молчаливых бродяг, под ногами которых пружинили хмельные от полуденного зноя травы, подошла к шоссе и перегородила его поперек. Однако когда раздался клаксон белого лимузина, бродяги расступились, пропуская машину.
Мотунгизи в костюме цвета морской волны, широко улыбаясь и положив локоть на опущенное боковое стекло, медленно ехал за женщиной, идущей по тротуару, и, не отрывая глаз, следил за движениями ее широких, соблазнительно покачивающихся бедер. Наконец он окликнул ее, и женщина обернулась. Мотунгизи тут же до предела выжал газ. Он увидел, что женщина беременна.
Мадам Мианда приоткрыла дверь и попыталась было ее тут же захлопнуть: на пороге стоял Мотунгизи, мрачно усмехаясь, точно призрак, готовый наброситься на свою жертву.
— Здравствуйте, мадам! — Он прошел в комнату и уселся в кресло.—Как поживаете?
Женщина, не на шутку встревоженная, тихонько прикрыла дверь. Что понадобилось здесь этому черному ворону? Только без скандала. Надо избавиться от него, вот и все. Но как это сделать, чтобы он не понял, что его выставляют? Она опустилась в кресло напротив, испытывая такую неловкость, словно посторонний мужчина застал ее раздетой. А префект, все так же улыбаясь, преспокойно ее разглядывал.
Как все уроженки Антильских островов, она носила на голове Мадрас1. Смуглое удлиненное лицо женщины напоминало
1 Мадрас — яркий головной платок.
234
спелый плод манго, на переносице красовалось карминовое няшышко. Оттененные тушью веки делали еще более выразительными ее большие блестящие глаза. Глядя на ее тоненькие пальчики. Мотунгизи почему-то подумал о хрупких косточках запеченного голубя, которым эта женщина его когда-то угощала. При этой мысли он почувствовал, что рот его наполняется слюной, и судорожно проглотил ее.
— Это вы... вы...—Голос Мотунгизи прерывался. — Мадам Мпанда, это вы, не правда ли?
— Да. месье, — ответила женщина, не поднимая глаз.
— Так вы свояченица Алины?
— Да, месье.
— А кстати, где она? Ее отец сказал мне, что она отправилась к вам, где же она прячется?
— Она вышла ненадолго вместе с моим мужем.
— Хорошо, тогда я ее здесь подожду. Раз уж так случилось. нам с вами надо познакомиться поближе, верно?
Жена Мианды готова была зарыдать от отчаянья. Ей вовсе не улыбалось остаться наедине с этим подозрительным типом, с этим развратником, который сидит здесь с таким невинным видом, а сам уже наверняка рассматривает ее как свою очередную жертву. Скорее бы вернулся муж! И вместе с тем она боялась возвращения Мианды: он уже два или три дня назад грозился хорошенько отделать этого Мотунгизи. Она и сама была не прочь присутствовать при этой расправе, но только не здесь: соседи наверняка по-своему истолкуют скандал, решат, что всему виной она, — принимает гостей в отсутствие мужа. Что же ей делать? Принять гостя как положено? Ах нет, тонг-витанцы, которые во всем видят только дурное, не откажутся от удовольствия посмаковать очередную сплетню. И что подумает сам Мианда, когда вернется, ведь он колотит ее за любой пустяк.
— Не знал я, что у Алины такая очаровательная свояченица. — Мотунгизи расплылся в улыбке.
Мадам Мианда спохватилась.
— Что предложить вам выпить, месье?
— Виски, конечно. Я пью только виски и не...
У мадам Мианды вытянулось лицо.
— Ну хорошо, принесите что хотите. Из ваших ручек я готов выпить что угодно.
Женщина скрылась за дверью. Вскоре она вернулась, держа два стакана и начатую бутылку пива. Все это она поставила на стол.
— Не знал, не знал, что у Алины такая прелестная свояченица, — снова произнес префект.
235
Мадам Мианда протянула ему стакан и подняла свой.
— За ваше здоровье!
— За наше совместное счастье! —подхватил Мотунгизи.
Он пил, не отрывая от женщины горящего вожделением взгляда. Она отвела глаза.
— Не знал я, что у Алины такая прелестная свояченица,— снова произнес префект вкрадчивым шепотом.
Мадам Мианда поперхнулась. «Ой, мамочки! Да оставит он меня наконец в покое?»
Мотунгизи заметил под столом транзистор.
— Мадам разрешит включить его?
— Конечно.
Мелодия «Мбанци» заполнила комнату, плавная, нежная, чарующая. Префект рывком поднялся, развинченной походкой прошелся по комнате и, быстро повернувшись, склонился перед ней в поклоне.
— Прошу вас, мадам.
— Простите, я не умею танце...
Но префект уже привлек ее к себе и крепко сжал в своих объятиях. Она попыталась высвободиться.
— Оставьте меня в покое, я не хочу...
Мотунгизи потряс перед ее глазами чековой книжкой.
— Не будь идиоткой... я расплачусь сполна... — шептал он, задыхаясь.—Я обеспечу тебе...—Он распалился не на шутку.
Щелкнул замок входной двери.
— Это мой муж!
Женщина бросилась в кресло. Префект уселся напротив с видом сытого кота.
В салон вошел Мианда, но Бьяники с ним не было. Мотуп-гизи, несколько разочарованный, поднялся ему навстречу, протягивая руку.
— Добрый вечер, месьс.
Мианда молча смотрел на него, нахмурив брови и сжав кулаки. Наконец-то он проучит этого пса, оскорбившего его в «Чикоби-баре». Он побагровел.
— Кто позволил вам ступать своими грязными лапами за порог моего дома? Убирайтесь отсюда, пока я не вздул вас как следует!
— Извините, я только...
— Вон!
— Я префект Мотунгизи!
— Ну так что?
— Послушайте, я...
— Немедленно вон отсюда!
— Всего несколько минут...
236
— Уберешься ты отсюда или нет?
Но Мотунгизи вовсе не думал отступать, он продолжал, отчеканивая каждое слово:
— Я запрещаю вам «тыкать» мне и советую выбирать выражения, иначе я прикажу немедленно арестовать вас за оскорбление префекта Республики.
— Охо-хо-хо! Арестовать меня в моем собственном доме! Да кем вы себя вообразили? Вы — префект за стенами этого дома, у себя в кабинете, но не здесь, слышите? Я тоже могу возбудить против вас судебное дело за нарушение неприкосновенности жилища! И довольно разговоров! Извольте выйти вон!
Мианда схватил префекта за шиворот, подтащил к двери и нанес Мотунгизи сокрушительный удар в челюсть. Префект пластом растянулся на песчаной дорожке. Он попытался было встать на ноги, однако новый удар по голове свалил его. Мадам Мианда умоляла мужа пощадить префекта. А тот с окровавленным лицом уже бежал к своей машине, сдавленно бормоча:
— До скорого свидания, месье Мианда... Я этого не забуду...
Машина рванула с места и умчалась на бешеной скорости, переехав зазевавшуюся курицу.
Прохожие, которые наблюдали эту сцену, не могли удержаться от смеха.
IV
Воскресным вечером Матити задыхался от духоты. В тени, под манговым деревом девушка, опустившись на колени, заплетала в косички волосы женщины, которая сидела перед ней на циновке. Обе были нагие до пояса. Звонко пели цикады.
Разинув клювы и не в силах даже кудахтать, копошились в пыли разомлевшие куры. Овцы бесшумно жевали, прижимаясь к стенам глинобитных, покрытых трещинами домишек, которые стояли, тесно сгрудившись, словно пытаясь скрыть от всех свои раны. Две собаки лениво брели, свесив языки, по песчаной улице.
Машина марки «2-СУ»1 проехала мимо и свернула за угол, направо. Она едва не врезалась в толпу оборванных мальчишек, ведущих футбольное сражение: «чайки», представляющие Кот-Кануа, против «орлят» — команды конголезцев. Машина затормозила возле живой изгороди из гибискуса, окружавшей
1 «2-СУ» — дешевая марка машины «Ситроен».
237
старый дом. Из нее вышел Мианда в сером спортивном пиджаке и синих тергалевых брюках.
Он крадучись прошел через двор, направляясь к закопченной кухне, где под навесом, спиной к нему, лежала, расстелив на земле клетчатый пань, грузная женщина. Подобравшись поближе, Мианда звонко залаял и зарычал, как разъяренный пес. Матушка Нгвала испуганно вскочила, собираясь бежать. Но, увидев перед собой хохочущего сына, набросилась на него:
— Я тебе не старая твоя бабка, чтоб смеяться надо мной! Слышишь?
— Как поживаешь, мама?
— Да неплохо, если бы не ревматизм. А вы как?
— У нас все в порядке, вот только твоя невестка... она...
— Что с ней? Говори!
Мианда замялся.
— Что с ней такое? Не смей ничего скрывать от меня! Ведь я твоя мать. Ну, скажи скорей!
— Ну, хорошо... Ее тошнит все время... ты понимаешь?
— Понимаю, не маленькая. И давно это у нее?
— Уже два с половиной месяца.
— Я обратила внимание, что у нее лицо как-то потемнело, и сама подумала... Вот приятная новость! Пошли обрадуем отца.
— Не сейчас. Я пришел поговорить с ним о префекте Мотунгизи.
— Ах, ты в курсе событий... — Матушка Нгвала опустила голову. — Эта история очень меня беспокоит, боюсь, она плохо кончится. Прошу тебя, не усложняй дело еще больше. Ну, идем.
Мать и сын вошли в дом. Старый Нканди, подперев голову руками, слушал музыку, льющуюся из транзистора, который стоял перед ним на обеденном столе. В ответ на приветствие сына он лишь что-то невнятно пробурчал себе под нос.
— Мне нужно поговорить с тобой, папа.
— О чем? — спросил старик.—Для начала сядь, чтобы я мог видеть тебя.
Мианда сел в кресло и попросил мать приглушить транзистор. Отец недовольно заворчал:
— Кто здесь распоряжается, я или ты? Когда ты начнешь делать мне вот такие подарки, как господин. префект, тогда и будешь выражать свое мнение. А пока тебе лучше помолчать. Кто тебя звал сюда?
Мианда почувствовал, что ярость клокочет у него в горле. Нет, на этот раз он не промолчит и не станет щадить отца.
238
Однако появление Бьяники в дверях остановило его: он должен сохранять хладнокровие ради сестры.
— Почему ты так встречаешь своего сына? — обратилась матушка Нгвала к мужу.— Чем он тебе не угодил? Или тебе нравится разговаривать под этот шум?
— А ты, — вскипел старый Нканди, — ты вечно поддерживаешь своих детей против меня. Ты бы поостереглась лучше! В конце концов кому принадлежит этот транзистор, мне или не мне? Могу я слушать то, что захочу, или нет?
— Ладно! Этот.приемник тебе дороже семьи, видно, мне не остается ничего другого, как уйти из дома Вхместе с детьми, чтобы ты мог всласть забавляться своей игрушкой.
Нканди с удивлением посмотрел на жену и, приглушив транзистор, обратился к сыну:
— Давай выкладывай поскорей, я не хочу пропустить начало матча.
Мианда откашлялся.
— Сказать по правде, папа, я тебя не понимаю. Когда я плохо учился в школе, ты наказывал меня, потому что хотел, чтобы я достиг чего-то в жизни, чтобы я стал человеком. Почему же ты мешаешь сейчас Бьянике стать самостоятельным человеком? Почему позволяешь этому Мотунгизи мешать ей учиться? Если этот блудливый пес не перестанет крутиться возле моей сестры, я дам ему по лапам!
Старый Нканди обвел глазами комнату. Потолок изъеден термитами, стены в трещинах, точь-в-точь спина человека, истыканная кинжалом, в салоне — одни голые стены. Нищета, да и только! Один префект сумеет помочь ему выбраться из нее, префект, а не Мианда! Старый Нканди дал себе слово попросить у префекта новый дом — небольшой такой домик для всей их семьи.
— Мотунгизи слишком любит женщин, — продолжал Мианда. — Он известный распутник. Сколько семей он разрушил, сколько невинных душ загубил, скольких влюбленных разлучил! Делай что хочешь, но я не отдам свою сестру этому развратнику. И потом, Бьяника не выйдет замуж, пока не закончит учебу. Вот так!
Старый Нканди был в восторге от Мотунгизи. Такой уважаемый, такой богатый человек! Ему хотелось как можно скорее породниться с ним. Ну разве можно сравнить его с этим учителишкой, с этим Миандой — ведь земляной червь не поднимется выше петушиной шпоры... Чепуха все это! Господин префект скоро женится на Бьянике, он, Нканди, станет ему вторым отцом и заживет счастливо как никогда.
Мианда умолк. Отец, заметив это, перешел в наступление:
239
— Мой сын трус! Поносить человека за его спиной — это вполне в духе таких негодяев, таких подлых крыс, как ты! А знаешь, почему ты это делаешь? Ты...
— Папа, не нужно меня оскорблять... Я ведь уже не мальчик.
— Замолчи, невежа! Где это видано, чтобы сын перебивал отца?
— Прости, я не хотел...
— Для чего же тебе даны уши?! Молчи, или я тебя сейчас выгоню отсюда, слышишь?
Мианда быстро проговорил:
— Я, как старший брат-, должен позаботиться о Бьянике, и я имею право...
— Нет! — крикнул Нканди, вскочив с места. — Нет! Бьяника моя дочь, и ты не смеешь вмешиваться в ее дела. А если уж тебе так хочется покомандовать, заведи собственную дочь!
Стрела попала в самое сердце: у Мианды было трое сыновей и ни одной дочери. Дрожа от ярости, он схватил отца за плечи и, оторвав от пола, повалил на стол, а потом, не выпуская из рук, принялся бешено трясти его, осыпая проклятьями.
Бьяника бросилась к брату и, вцепившись в него, стала умолять отпустить старика. А матушка Нгвала выбежала из дома, с плачем кинулась на землю и стала кричать на всю улицу:
— Люди, что же это такое делается?! Где это видано, чтобы сын поднял руку на отца? Просто наваждение какое-то, просто проклятье... Мианда! Мианда, чтоб ты сдох, ты что, с ума сошел? Оставь в покое моего мужа! Оставь, или я собственными руками задушу тебя...
Услышав этот крик, Мианда отпустил старика и. выбежав на улицу, поднял мать. Обнявшись и рыдая, они вошли в дом. Мианда бросился на колени перед отцом, умоляя простить его, но старик, растиравший шею, не пожелал его слушать и прогнал. А потом накинулся на дочь:
— Нечего сказать, хорош твой братец! Оба вы мне больше нс дети! Не смейте показываться мне на глаза до самой моей смерти!
V
Мотунгизи редко выполнял свои обещания, зато угрозы приводил в исполнение всегда. И Мианде очень скоро пришлось убедиться в этом.
Несколько дней спустя после ссоры с отцом кто-то постучал в двери его дома.
— Откройте, полиция!
240
Мианда зажег ночник и взглянул на часы — половина первого. Чувствуя, как у него бешено заколотилось сердце, он двинулся к двери. Резкий свет ударил ему в глаза.
— Руки вверх! Выше! Вот так... Пошли!
Мианда покорно выполнял все приказания — точно во сне. Чьи-то грубые руки схватили его, посыпались удары полицейской дубинки. Мианда закричал.
Его жена и сестра одновременно выбежали из дома. — Оставайтесь на местах, душечки, не то я буду стрелять! Обе замерли на месте и только успели переглянуться. Они узнали голос Мотунгизи. Префект стоял, прислонясь к полицейской машине, и скалил зубы. Мианда лежал на земле у его ног, и двое молодцов в униформе сторожили его. Тяжелый ботинок пнул его в голову.
— Я же предупреждал тебя, мерзавец!
Еще один удар в бок.
— Ты должен был выполнять все мои приказания, как пес... Удар ногой в лицо.
— ...и относиться ко мне с уважением. Уберите его!
Полицейские подняли воющего от боли Мианду и швырнули его в машину. Мадам Мианда бросилась вслед за мужем, но префект, словно опытный вратарь, перехватывающий мяч противника, отбросил ее ударом ноги в живот. Женщина со стоном рухнула на землю.
Бьяника, громко кляня Мотунгизи на чем свет стоит, увела невестку в дом. Когда она вернулась, ни Мианды, ни полицейской машины уже не было. Бьяника стала звать на помощь, но никто не откликнулся.
На следующий день стало известно, что умер старый Н канди.
Новость, которую диктор дрожащим от волнения голосом объявил по телевидению, огорчила жителей Эурики. Чили, эта замечательная красивая страна и к тому же родина превосходных футболистов, выигравших Кубок мира, издавна вызывала их восхищение.
На следующий день после этого сообщения один из студентов, учившихся в столице Тонгвитании, увидел в галлийской газете гигантский заголовок, напечатанный на первой полосе: «Печальный конец мечты в Сантьяго».
Вернувшись домой, он обнаружил у себя в комнате конверт со штемпелем Галлии. Он вынул из конверта отпечатанный на машинке листок, на котором не было ни даты, ни подписи, и с бьющимся сердцем начал читать:
241
Дорогой мой!
Не удивляйся, что я пишу тебе это письмо анонимно, Я должна сообщить тебе о смерти старого Нканди, которого убил господин префект.
Этот тип долго и безуспешно пытался волочиться за Бъя-никой, а потом решил подкупить старика Нканди. Тот уже готов был толкнуть свою дочь в объятия своего благодетеля, и тогда «тигрица» обратилась за помощью к брату, Мианда немедленно вмешался, дело, представь себе, дошло до того, что он поднял на отца руку. Старик проклял Мианду, выгнал из дома дочь и объявил, что не желает их видеть. Однако, когда ему сказали, >что жена Мианды ждет ребенка, сменил гнев на милость. Решил помириться с детьми ради будущего внука, который должен появиться на свет в семье, где царят мир и дружба. Примирение состоялось в доме старика.
Поздним вечером Мианда с женой отправились к себе, забрав с собой и Бьянику, которая решила переселиться к ним, чтобы избежать преследований своего поклонника. А на рассвете Бья-ника прибежала к родителям в слезах и сообщила, что с братом и его женой случилась беда. Невестку увезли в больницу, после того, как префект с полицейскими ночью ворвались к ним в дом и арестовали Мианду. Его тело нашли потом в зарослях кустарника на окраине Кот-Каню.
Когда старый Нканди узнал, что невестка родила мертвого ребенка, он выбежал из больницы, куда пришел ее навестить, и отправился к префекту. Он решил высказать ему в лицо все, что о нем думает, не заботясь о последствиях. Ему уже нечего было терять.
Как ты знаешь, префект занимает виллу в квартале для белых как раз позади почты. Подъехав к вилле, старый Нканди попросил таксиста поднести ему чемодан, а сам пошел впереди него к вилле. Им открыл слуга, который объявил, что хозяина нет дома. Это была ложь — время уже перешло за полдень, и знаменитый белый автомобиль префекта давно стоял в гараже. Старый Нканди не успел и рта раскрыть, как на пороге показалась мадам Мотунгизи. Увидев ее, старик завопил во все горло, словно она была глухая: «Передайте этот чемодан своему супругу, мадам. Тут все подарки, которые он нам подносил, чтобы заполучить мою дочь! Пусть оставит Бьянику в покое раз и навсегда! И чтоб ноги его больше не было в моем доме! Я ненавижу его, я его презираю, этого труса, этого убийцу!» Старик орал, забыв об осторожности, ну точно хромой, который, не думая о последствиях, ворошит осиное гнездо. Шофер испугался и бросился к машине. Когда он тронулся с места, раздался выстрел. Старик Нканди упал замертво. Вот так, мой
242
дорогой, такова уж, видно, судьба: камень всегда раскалывает орехи...
Бедная Бьяника! Прошу тебя, напиши ей и поддержи ее. Сказать по правде, я рада, что ты решил жениться на ней. Она будет тебе хорошей женой: умна, образованна, серьезна.
Ну, все. Я прощаюсь с тобой. До скорого.
Искренне твоя
Я.
ДОЛГ
Оглушительный удар грома прокатился по небу и затих вдали. Мюнгамба натянул на голову сползшее на пол одеяло.
Жгучая обида, заставившая его даже застонать, сменилась негодованием. Однако, постепенно успокоившись, он услышал шум дождя, монотонно барабанившего по железной крыше. Обычно эта музыка убаюкивала его, но сегодня тревожные и мучительные мысли не давали уснуть. Жена вернулась домой только па рассвете. Шлюха! Вот уж никак не ожидал от нее такой подлости! А впрочем, все женщины одинаковы, все как одна — предательницы.
Мюнгамба любил свою жену. «Так же, как в день первого свидания», — признался он однажды сослуживцам. Они были женаты уже пять лет. И за все эти годы он ни разу не мог ее ни в чем упрекнуть. Всегда приветливая, ласковая и к тому же хорошая хозяйка, она с самого первого дня их брака вызывала его бесконечное восхищение. И Мюнгамба старался сделать счастливым каждый день ее жизни. Так было до вчерашнего вечера...
Мюнгамба спустил с кровати короткие ноги, не достававшие до пола, и, упершись локтями в колени, обхватил голову руками. Он так и не снял ни рубашки, ни брюк. Он поднялся с кровати и, пошатнувшись, прислонился к стене: закружилась голова. В памяти всплыл вчерашний разговор с женой после обеда:
— Послушай, дорогой...
— Ты всегда теперь будешь называть меня «дорогим»?
— Дело в том, что у меня дежурство сегодня ночью... — Что-что?
— Успокойся, пожалуйста. Я знаю, что должна была предупредить тебя пораньше, но так уж получилось... Мадам Нгола попросила подменить ее. Сегодня вечером из Эурики приезжает ее брат, студент, и она должна поехать в аэропорт встретить его. Ты на меня не сердишься, дорогой?
243
— Нет. но сколько можно! Позавчера ты тоже дежурила! Можно подумать, в вашей больнице не могут обойтись без тебя!
— Ну вот, ты опять начал злиться.
— Ничуть. Просто я знаю, что говорю, — ты ведь у нас для всех «добрая душа»...
— Ну, хорошо. Мне пора, займись детьми. До завтра, милый.
' Она ушла. Мюнгамба лег в постель, но сон не шел. Он изнемогал от тоски и одиночества. Может, позвонить ей в больницу? Но он тут же отказался от этого намерения: еще подумают, что он ее ревнует. Решил пойти в ближайший кинотеатр «Рио», где шла «Фантастическая поездка».
Фильм уже подходил к концу, когда он вошел в темный зал и отыскал свое место. Когда в перерыве между сеансами вспыхнул свет, он едва не закричал: прямо перед собой, на несколько рядов впереди, он увидел свою жену в объятиях Ндоки. Что делать? Броситься на них с кулаками? Мюнгамба не двигался с места, оцепенев от боли. Снова погас свет в зале. Фильм показался ему затянутым и скучным. Пистолетные выстрелы и крики индейцев невыносимо раздражали. Как только на экране появилась надпись «конец», Мюнгамба вскочил и, осторожно пробираясь сквозь толпу зрителей, выходивших из зала, издали следил за парочкой — они рука об руку шли к машине Ндоки. Чувствуя себя беспомощным и бесконечно несчастным, Мюнгамба смотрел, как они садятся в «Пежо-404». Когда машина тронулась с места, он бросился за нею вслед, но, пробежав несколько метров, остановился, едва переводя дыхание. Уперев руки в бока, Мюнгамба провожал взглядом автомобиль, не замечая удивленно оглядывавшихся на него прохожих. И вдруг часто заморгал, прогоняя слезу, он никак не мог справиться с этой мукой, не мог проглотить тяжелый ком в юрле.
Не было никаких сомнений в гом, куда направилась влюбленная пара. И все-таки для верности Мюнгамба решил заглянуть в больницу и поговорить с дежурными сестрами. Его здесь хорошо знали, не раз видели, как он встречал жену. «Передайте привет вашей супруге», — сказала одна из сестер ему на прощанье. Он едва не грохнулся в обморок. Еще одно доказательство того, что его жены нет сегодня на дежурстве. Сомнений больше нет! Он почувствовал в сердце острую боль, которая не утихала до тех пор, пока он не бросился в постель. Однако улегся спать по-настоящему он только тогда, когда над Мабайей разразилась гроза. Ослепительные вспышки освещали
244
все вокруг, яростно грохотали громовые раскаты. Мюнгамба рыдал, не сдерживаясь. К чему сдерживать слезы, когда само небо плачет вместе с тобой?
Немного успокоившись, он задумался. Как и когда его жена стала любовницей Ндоки? Два-три раза этот человек появлялся в их доме. Жена тогда почти не разговаривала с гостем, так что Мюнгамба даже попенял ей за это невнимание: «Если бы не Ндока, кем бы мы были теперь? Поверь, среди нынешних высокопоставленных лиц не много найдется подобных людей! И при этом какое бескорыстие — даже ничего не потребовал от меня. А ты на эту доброту отвечаешь черной неблагодарностью!»
Мюнгамба долго был без работы. Не один год прослужил он в фирме, занимавшейся продажей автомобилей. Механик он был хороший, но не имел никаких документов, подтверждающих его квалификацию. Это-то и позволило владельцу фирмы решить его судьбу, — а вместе с тем и судьбу всей его семьи — одним росчерком пера. Мюнгамба пережил немало трудных дней. Каждое утро он с надеждой отправлялся на поиски работы и каждый вечер возвращался домой ни с чем, усталый и расстроенный. Ночь давала отдохновение, а наутро он с новыми силами начинал все сначала. Однако без соответствующих документов и солидных рекомендаций его никто не решался принять на работу. В конце концов пришлось отправиться в Генеральную инспекцию по вопросам трудоустройства. Там он повстречал многочисленных «товарищей по несчастью», и число их неудержимо росло по мере того, как солнце поднималось все выше. Ничего он так и не добился, каждый день переходя от надежды к отчаянью, пока однажды не вспомнил о Ндоки, своем старом школьном товарище.
Ндоки был из зажиточной семьи и заканчивал свое образование в дальних краях. Вернувшись на родину, он получил должность заместителя директора в Управлении железнодорожного траспорта. Ндоки охотно согласился принять Мюн-гамбу, и тот изложил ему существо дела: «Я женат, у меня трое детей и двое из них, близнецы, совсем еще малыши». Ндоки обещал помочь.
На следующий день Мюнгамбу приняли на работу в управление. По рекомендации Ндоки, разумеется. А еще через день бывший школьный товарищ появился у них в доме и пригласил их с женой в воскресенье пообедать в ресторане. Эго внимание тронуло Мюнгамбу, но жена по-прежнему принимала холодно все эти знаки расположения.
245
Дождь лил не переставая. Гремел гром. Мюнгамба снял с себя одежду и, завернувшись в пань, лег в постель. Он все никак не мог решить, как быть: расстаться с женой или разделаться с Ндоки... «Я должен с ней развестись. В конце концов это дело чести... Дети? Но ведь можно жениться и во второй раз». Ты способен жениться второй раз, Мюнгамба? После всего случившегося, вероятно, способен. Но будет ли твоя новая жена любить твоих детей? Захочет ли она с ними возиться, если они откажутся ее слушаться, как слушались мать? А вдруг жена станет обвинять тебя в том, что ты, в угоду новой супруге, стал плохо относиться к детям? Или новая жена в один прекрасный день предложит тебе выбирать между нею и детьми? «Да, положеньице... А может быть... Нет уж, лучше не разводиться! Дети могут быть счастливы только тогда, когда родители живут в мире и согласии. Я не имею права только ради удовлетворения собственного самолюбия...» Прогремел новый удар грома, и перед ним словно открылась истина. «Наверно, Ндоки принудил жену уступить ему. Он ведь мог пригрозить: если откажешь мне, твой муж вылетит с работы быстрее, чем устроился туда, и тогда вас снова ждет нищета. Подумай о детях!» Ах, мерзавец! Все они таковы, эти важные начальники! Негодяи, разрушители семей! Ну, Ндоки, мы с тобой потолкуем завтра! Я сверну твою птичью головку, гадина! Вот увидишь, мерзавец! Ах, мерзавец! Мерзавец!»
Мюнгамба вздрогнул, услышав свой собственный хриплый голос, и замолчал. И тут он вдруг вспомнил, как целыми днями бродил по городу в поисках работы. «Нет, Ндоки, завтра я не приду в твой кабинет! Ну что я такое против тебя? Ты высокий начальник, а я простой трудяга. Ты можешь делать все, что захочешь. Я же ни на что не имею права. Вся власть в стране принадлежит вам. Я постараюсь сам все уладить с женой. Завтра я попросту скажу ей: «Мне известно, что ты вовсе не дежурила в больнице вчера вечером, ты провела ночь с Ндоки. Я не хочу знать, что побудило тебя пойти на это, и готов тебя простить. Единственное мое условие: больше ты никогда не будешь с ним встречаться, независимо от того, любишь ты его или нет. А если он снова станет приставать к тебе, не говори ему, что я все знаю, скажи только: мы ему больше ничего не должны, ты уже расплатилась за все сполна».
Мадам Мюнгамба, сидевшая на низенькой скамеечке, не верила своим ушам. Муж говорил с ней тихим голосом, словно сам испытывал какую-то неловкость. В конце концов она расплакалась.
246
— Я все поняла, я так благодарна тебе за великодушие. Это больше никогда не повторится. Я люблю тебя, дорогой мой, и никогда никого, кроме тебя, не любила. Я изменила тебе, но, клянусь могилой отца, сделала это не по доброй воле. Я так несчастна! Моя вина лишь в том, что я ничего не сказала тебе. Ндоки давно меня домогался. Стоило тебе отвернуться, он тут же подмигивал мне украдкой. Однажды в больнице...
— Нет, нет, молчи! Я знаю, ты не совершила ничего дурного со дня нашей свадьбы. Я люблю тебя так же, как в день первой встречи. Иди ко мне!
Со слезами на глазах они бросились друг к другу.
— Слышишь? — сказал Мюнгамба. — Это близнецы... Видно, есть захотели. Иди к ним. А мне пора на работу.
Перевод с французского М. Финогеновой.
Рассказы разных стран
Чарлз Джоу
Чарлз Джоу — гамбийский даватель. Рассказ взят из журна-новсллист. По профессии препо- ла «Лотос» № 27 — 28, 1976 г.
ПРУД
Пруд как всегда был покрыт кругами. Круги эти были почти незаметными, начинались где-то в центре и медленно расходились все шире и шире, захватывая всю поверхность воды, вплоть до поросшего камышом прибрежья.
Любопытно, что этот пруд не пересыхал даже в самое жаркое летнее время, и жители окрестных селений рассказывали по этому поводу одну из тех чудеснейших легенд, которые характерны для этого края Гамбии.
Героиня легенды имела все, чего только могла пожелать. Ее невероятная красота до боли слепила глаза. Такая женщина была под стать лишь самому верховному вождю Баару.
И вот что случилось.
До вождя дошли слухи о ее красоте, он пожелал на нее посмотреть, а как только увидел, тут же влюбился и взял ее в жены. Любовь его была настолько сильна, что он ограждал ее от всяческой работы. Малейшее ее желание исполняли рабы, а ей оставалось сидеть целыми днями на ложе, покрытом роскошными покрывалами с нгаламским орнаментом. Она была бы счастлива, необычайно счастлива, если бы не отсутствие детей. Шли дни, месяцы, годы. И все это время многочисленные жены вождя внимательно к ней присматривались, нет ли каких-либо признаков, что скоро появится ребенок, но груди ее оставались по-прежнему маленькими, как у девственницы, а живот плоским и даже как будто втянутым.
И тогда завистливые жены решили сделать так, чтобы супруг ее покинул. Они подговорили главного советника Наара
248
убедить вождя в том. что его любимая жена — колдунья и не может рожать лишь потому, что отдает еще не родившихся де-1сй своим друзьям колдунам. Выслушав главного советника, вождь страшно разгневался, приказал побрить красавицу жену, снять с нее все наряды и золотые украшения, отвести в лес и оставить там на съедение хищным зверям.
' Воля вождя была выполнена, все наряды и украшения сняты, остались лишь наглухо запаянные тяжелые золотые серьги: сердобольные слуги не решились рвать красавице уши. Ее увели в лес и оставили там одну. В отчаянии она опустилась на землю и залилась слезами.
Она плакала, плакала и плакала, ее слезы слились в обильные ручьи, а ручьи образовали глубокий пруд, который укрыл ее с головой. Ее увидел водяной дух, сжалился над ней, взял в жены, и у них народилось много детей. Но она продолжала плакать, ей по-прежнему было стыдно, что ее объявили колдуньей. Она и по сей день не перестает лить слезы. Вот почему пруд никогда не пересыхает. А рябь по поверхности пруда, так думают люди, идет потому, что ее плечи сотрясаются от рыданий. И еще верят, что если внимательно всмотреться ранним утром, то можно увидеть ее на самом дне. В ее ушах поблескивают золотые серьги, а рядом резвится целая стайка детишек. Вот почему люди избегают появляться возле пруда в это время дня. Они боятся, что тому, кто посмотрит на нее, суждена скорая смерть. И тому есть пример. Один бедолага, который осмелился взглянуть на нее, в тот же день оставил этот мир.
Вся жизнь окрестных деревушек была связана с этим прудом. В старину здесь приносили жертвы водяному духу. После принятия мусульманства жертвоприношения прекратились, но пруд все равно остался священным. В него торжественно окунали новорожденных, в нем непременно купали невесту, перед тем как отправить в хижину мужа, а мальчиков омывали после обряда обрезания. Женщины стирали здесь белье, чистили калебасы и, разумеется, брали воду для питья, приготовления пищи и умывания.
Сегодня возле пруда собрались женщины из самой близкой деревушки — Керр Мата. Они только что почистили калебасы и теперь мылись сами и болтали о своих детях, игравших чуть в сторонке. Двое малышей подрались, женщины разняли их и принялись рассуждать о том, как воспитывать детей.
— Дети похожи на щенков, — сказала мать маленького зачинщика, — игра у них легко переходит в драку. И меня всегда удивляют женщины, которые сердятся, если их детей поколотят чьи-нибудь ребятишки.
249
— Конечно, это очень глупо с их стороны, — откликнулась другая. — Что до меня, то я просто не обращаю внимания, когда мои дети дерутся, даже наказываю, если они идут жаловаться друг на дружку. Я всегда говорю: «Значит, ты заслужил, если он тебя поколотил».
— А если уж ты не сдержалась и повздорила с матерью какого-нибудь задиры, потом тебе самой же становится стыдно, когда ты видишь, что через минуту они снова играют вместе как ни в чем не бывало, — сказала третья женщина.
Это была Корду Мбоге, или, как все ее в деревне звали, Яйи Корду. Своих детей у нее не было, но она знала о деревенской детворе куда больше, чем их собственные родители, ибо ребятишки проводили свой досуг именно с ней. Пришла опа в деревню много лет тому назад вместе с мужем-портным.
После смерти мужа она осталась жить в деревне, продолжая заниматься красильным ремеслом. Заработанных денег ей вполне хватало на жизнь, поэтому она не ходила работать в поле, как остальные жительницы деревни. Все матери рано утром оставляли у нее своих детей и забирали их лишь поздно вечером. Иногда той или иной женщине, уходившей в другую деревню, приходилось оставлять своих детей на целые сутки или двое, но по возвращении она всегда находила их здоровыми и веселыми.
Никакого вознаграждения за это Яйи Корду не брала. Если мать пыталась сунуть ей узелок с едой для своих детей, Корду всегда отказывалась.
— Ты думаешь, мне нечем накормить этих сорванцов? Забирай, забирай свой рис. Они прекрасно обойдутся тем, что я им дам, ведь и тебе тоже в былые времена случалось отведать моего риса. Пока я сама сыта, они голодны не будут.
И мать уносила рис обратно, уверенная, что ее дети не останутся голодными, ведь ее самое в детстве оставляли на попечение Яйи Корду, и она по себе знала, что еще ни один ребенок не уходил от нее голодным.
Как все говорили, котел у Яйи Корду был таким же большим, как и ее сердце, и для каждого у нее находилось какое-нибудь лакомство.
Женщины кончили мыться, набрали воды в калебасы, помогая друг дружке, водрузили их на головы и тронулись в обратную дорогу. Тропинка была очень узкой, и, пробираясь по ней гуськом, женщины переговаривались через плечо. Ближе к деревне тропинка разветвлялась на еще более мелкие тропки, ведущие к огороженным делянкам. Здесь женщины распрощались, передав привет многочисленным домочадцам.
Яйи Корду добралась до дому первой, так как жила почти
250
на самом краю деревни. Хозяйство ее состояло из одной небольшой хижины, где она спала, маленького навеса, под которым готовила пищу, клочка земли с ямой посредине. Все это было обнесено загородкой из стеблей кууза и воротами из тех же стеблей, которые можно было раздвигать и привязывать к двум столбам по краям прохода. Яйи Корду протянула руку, чтобы открыть ворота, но тут же отдернула ее, чуть не уронив калебас. На столбе сидела ящерица, а она всегда боялась юрких тварей. Ее всю передергивало, если она видела ящерицу поблизости, а если уж ящерица забиралась в хижину, то Яйи Корду не могла успокоиться, пока не выбрасывала ее на улицу.
Еще в детстве мать пыталась избавить ее от этого страха, говорила, что ящерицы приносят счастье: женщина, увидевшая ящерицу, должна понести.
Но эти доводы не помогали. И даже позже, когда она так тяжело переносила свою беременность, она с трудом заставляла себя не обращать внимания на ползущую ящерицу. Ее одолевал жуткий страх, как бы какая-нибудь ящерица не переползла через нее ночью, когда она будет спать с мужем.
Сняв с головы калебас, она взяла палку и громко застучала по столбу, пытаясь спугнуть ящерицу. Потом, собравшись с духом, заглянула за столб и увидела маленькую головку в расщелине между столбом и изгородью. Она тряхнула изгородь, ящерица упала, и тут она заметила у нее на голове след от удара камнем.
Присвистнув, она отвязала от столба калитку и, стараясь не наступить на ящерицу, вошла во двор.
Взяла из лежащей возле изгороди кучи хвороста длинный прут и отбросила ящерицу подальше.
Она догадалась, что ящерица погибла не своей смертью и попала в щель отнюдь не случайно. Все это дело рук Бая Моди — сына ее соседки.
Много детей видела она на своем веку, но такого, как Бай Моди, ей еще никогда не приходилось встречать. Ему всего пять лет, но уже сейчас он зачинщик почти всех озорных выходок. Возьмет, например, рогатку и весь день напролет стреляет в соседних цыплят или в ящериц.
Мать, однако, всегда защищает сына, когда соседи приходят жаловаться на его поведение или грозятся рассказать обо всем отцу, когда тот вернется с поля. Ее заступничество, само собой, только портит ребенка. Тем не менее Яйи Корду хорошо понимает мать. Бай Моди — ее единственный ребенок, и даже сама Яйи Корду не в силах сердиться на этого обаятельного сорванца. Но все же ей хочется, чтобы мальчика растили в духе большего уважения к взрослым.
251
Яйи Корду собралась было разжечь очаг и приготовить себе ужин, как вдруг услышала голос соседки Пенды Гарью.
— Эй, Яйи Корду, ты уже вернулась?
— Как видишь,—ответила Яйи Корду,—а как у тебя прошел день, Пенда, спокойно?
— Да, спокойно.
— Что-то ты сегодня не была на пруду. Надеюсь, у тебя все благополучно?
— Да вот проклятая поясница опять разболелась. Всю ночь глаз не сомкнула от боли. Утром поплакалась мужу, и он велел полежать дома, отдохнуть.
Пенда Гарью слыла в деревне болезненной женщиной. Она постоянно жаловалась на боль то в пояснице, то в суставах, то в коленях.
— Что и говорить, — посочувствовала Яйи Корду, — с годами женщину все больше одолевают болезни.
— Особенно, если ей пришлось много раз рожать. Вот и у меня после рождения последнего ребенка стало ломить поясницу.
В этих словах не было и тени намека на бездетность Яйи Корду. Просто любой разговор деревенских женщин в конце концов всегда сводился к детям.
— Верно. Недаром говорят, что дети уносят здоровье матери, — согласилась Яйи Корду. В голосе ее прозвучали печальные нотки.— Ты пробовала натирать поясницу козьим жиром?
— Нет такого средства, которого бы я не испробовала. Мне кажется, эта боль в конце концов сведет меня в могилу.
Разговор не клеился. Пенда Гарью продолжала стоять у изгороди, а Яйи Корду ломала о колено хворост и складывала хворостинки кучкой на поленья, собираясь разжечь очаг.
— Ты хочешь разжечь очаг, — спросила Пенда, — у тебя еще есть там горячие угли?
— Нет, — сказал Корду, — но у меня осталась в коробке одна спичка.
— Спичкой на таком ветру очаг не разожжешь. Дай мне вон тот черепок, я наберу тебе горячих углей. Я уже почти кончила готовить.
Яйи Корду передала Пенде сломанный глиняный кувшин, и вскоре Пенда вернулась с горячими углями.
— На, возьми. Надеюсь, ты не обидишься, если я передам тебе их через изгородь? — сказала Пенда, протягивая черепок с углями.
— А почему я должна обижаться? — удивилась Яйи Корду.
252
— Некоторые не любят этого, говорят, гак делают только колдуньи.
— Некоторые многого не любят. А если ты даже и колдунья, то у меня нечем поживиться. Что у меня есть? Одни кости.
— О, да, — сказал Пенда, будто смакуя, — но если кости варить подольше, получится хороший суп.
Яйи Корду рассмеялась.
— Кстати, ты пойдешь вечером послушать марабута?1 — спросила Пенда.
— Какого марабута? — Яйи Корду даже перестала раздувать огонь.
— Марабута, который появился сегодня утром. Если, конечно, он настоящий марабут. Он будто бы клянется, что был мертвым, а потом снова вернулся к жизни. И в своих проповедях рассказывает о том, что видел в загробном мире.
— Ну и чудеса, — воскликнула Яйи Корду,—а ты-то пойдешь его слушать?
— Что-то ноги разболелись. Но я все-таки попробую сходить на его проповедь.
— Кликни меня, когда пойдешь.
— Ладно. Ой, что-то дымом запахло, наверно, это рис подгорел. Если услышишь вечером мой крик, беги на помощь, значит, это муж колотит меня. Он жуть как не любит горелый рис.
— Лучше поторопись да поскорее сними горшок с огня,— сказала Яйи Корду. — Я могу и не поспеть к тебе на помощь.
Вечером, едва заслышав зов Пенды, Яйи крикнула в ответ: «Иду», накинула на голову и плечи покрывало и поспешно вышла, прикрыв за собой дверь. Она никогда не запирала ее на замок. Воровать у нее было нечего. Единственной ценной вещью были, пожалуй, массивные золотые серьги, которые преподнес ей умерший муж как свадебный подарок. С тех пор она постоянно носила их на черном шнурке. Так как шнурок было трудно вдевать в уши, она не снимала серьги перед сном.
Марабут читал проповедь в центре деревни. Когда они пришли, вокруг него уже собралась большая толпа. С костяными четками в руках он восседал на козлиной шкуре, перед открытым Кораном. Возле Корана лежала беспорядочная груда монет и орехов — подношения жителей деревни. Говорил он громко и внятно, так, чтобы стоявшие сзади толпы две женщины могли все ясно слышать. Он говорил о вознесении мертвых в царство небесное и тяжких испытаниях, которые им предстоит одолеть на пути.
1 Марабут - мусульманский отшельник, проповедник.
253
— Не скупитесь же на подаяния, — возглашал проповедник, — облегчите муки человека, покинувшего этот мир. Тот, кто не скупится на подаяния, будет вознагражден сторицей.
Одежда, которую вы пожертвуете при жизни, предстанет перед вами на вашем тяжком пути и скажет: «Вот я, та самая одежда, которую ты пожертвовал. Возьми меня и укрой свое страждущее тело от жары». Пища и вино, которыми вы поделитесь при жизни, встретят вас на небесах и скажут: «Ты давно забыл о нас, но мы, твое щедрое подаяние, ждали тебя здесь все эти годы. Возьми нас и утоли жажду и голод...» Есть люди, которые скупятся на подаяния, надеясь, что сделают это потом. Но потом будет поздно. Потом будет слишком поздно ! — говорю я вам. Они будут горько раскаиваться в своей скупости, но раскаяние это будет бесплодным. Эти люди никогда не достигнут Каусара1, они погибнут в пути от жажды, голода и зноя. Они никогда не достигнут этого места, дарующего живительную тень и отдохновение, не омоют ног в прохладной воде источника, не отдохнут на его берегу, ожидая, когда их перевезут на своей лодке к обители покоя и счастья. А сейчас я поведаю вам про озеро, которое дано пересечь лишь чистым сердцам. В этом озере обитают души всех неродившихся и умерших при рождении младенцев, ожидая прихода своих матерей, а когда наконец дождутся, прильнут к ним и, повиснув на их ногах, повлекут их в обитель вечного покоя и счастья. Тогда-то познают истинное блаженство...
В этот момент что-то с глухим стуком упало у ног проповедника. Толпа подалась вперед, желая разглядеть, что это такое. Марабут в недоумении прервал быстрый поток своих слов. Оказалось, что это были две массивные золотые сережки.
На следующий день был четверг, вся деревня с раннего утра ушла в поле. К тому времени, когда солнце всплыло над хлопковыми плантациями, хижину Яйи Корду уже заполнили деревенские детишки. Они расселись на циновках, покрывавших земляной пол. И Яйи Корду вся отдалась заботе о них: надо успокоить плачущих; дать им пустые жестянки, пусть играют, вытереть носы, поправить одежду на девочках.
Хлопоча вокруг одного малыша, она говорила тихим спокойным голосом:
— Ну посмотри на меня. Вот я поправляю тебе одежду, а через несколько лет, когда ты подрастешь и я расскажу тебе об этом, ты ведь мне ни за что не поверишь.
1 Каусар — в мусульманской мифологии райский источник.
254
— Ну чего ты плачешь, Момоду ? —утешала она другого хнычущего малыша.—Твоя мама скоро вернется. Нельзя быть шким нюней, а то еще, чего доброго, разревешься во время посвящения и опозоришь всех нас.
— Иди ко мне, я вытру тебе нос, — увещевала она третьего.—Вот так-то лучше, мой маленький. Ты же знаешь, что я люблю тебя больше всех? И не надо меня расстраивать по пустякам.
Так Яйи Корду разговаривала с детьми, и вскоре они все успокаивались и принимались играть. Глядя на маленьких ребятишек, она блаженно улыбалась. В такие минуты пожилая женщина забывала, что судьба не даровала ей собственных детей, ей представлялось, будто все эти малышки принадлежат ей. В конце-то концов, может ли мать дать своим детям нечто большее, чем любовь и заботу о них. А она любила этих проказников. Ей казалось, что, будь они ее собственными детьми, она все равно не могла бы любить их сильнее. Удостоверясь, что дети успокоились, Яйи Корду решила приготовить им поесть. Она попросила девочек постарше помочь ей, а младшим сказала:
— Послушайте меня, я иду приготовить вам поесть. Если кто-нибудь захочет пи-пи, крикните мне. Того, кто посмеет испачкать мои чистые циновки, я укушу. Видите, какие у меня длинные зубы.
И она оскалила зубы. Ребята постарше засмеялись. Младшие. сначала испугались, но, видя, что она улыбается, а старшие дети смеются, успокоились и продолжали играть.
Она пошла под навес, служивший ей кухней, и, достав большой котел, принялась его мыть. Матери оставили ей продукты: рис, сахар и кислое молоко. Обычно она готовила для детей только кашу. Дома на ужин матери приготовят им что-нибудь посытнее. Как ни отказывалась Яйи Корду от продуктов, женщины все же заставляли ее брать их.
— Яйи Корду, прошу тебя, возьми то, что я принесла,— взмолилась как-то одна из матерей. — Мой муж поклялся, что не притронется к моей набедренной повязке, если я не сумею уговорить тебя взять еду для Яндеха. А ты, я уверена, не захочешь лишать меня удовольствия.
— Ладно, раз такое дело — оставляй, — ответила Яйи Корду. — И до чего бысстыжая пошла нынче молодежь! Не удивительно, что вы даже не появляетесь в хижинах матерей, чтобы покормить грудью своих младенцев.
Молодая женщина засмеялась.
— Что Небо ниспослало с дождем, то и приемлет Земля,— ответила она пословицей и ушла.
255
Вторая женщина избрала другой подход:
— Это тебе от моего маленького мужчины. Он еще не в состоянии заработать денег или подарить одежду, но, по крайней мере, может принести продукты.
— Ладно, я возьму их, — согласилась Яйи Корду, — боюсь, что мне пришлось бы голодать, если б не его маленькие ручонки.
Женщины обычно приносили столько продуктов, что их хватило бы малышам на целую неделю. Но эти продукты предназначались не столько для детей, сколько для Яйи Корду, ибо только так они могли отблагодарить добрую женщину, не причинив ей обиды.
Яйи Корду помыла котелок и уже собралась было расправить затекшую спину, как вдруг увидела мальчика, крадучись пробиравшегося к калитке.
— Бай Моди, ты куда? — крикнула она.
Мальчик остановился, но ничего не ответил, лишь поглядел на нее своими печальными, но все же прекрасными глазами. Он и впрямь был красавцем, и, не будь он таким избалованным, мог бы стать любимчиком Яйи Корду. У его матери до него было двенадцать детей, но все они умерли в раннем возрасте. Когда он родился, бабушка отнесла его за деревню и бросила на кучу мусора. Таким способом она надеялась укрепить его волю к жизни. Голова его так ни разу и не была побрита, а в день наречения его завернули в мешок и никаких торжеств не устраивали. Он остался живым, но мать по-прежнему боялась поверить в свое счастье. Она баловала его, позволяла делать все, что ему взбредет в голову, и к пяти годам мальчик стал капризным, упрямым и своенравным. Он привык удовлетворять все свои желания, и если ему в чем-либо отказывали, злился в отсутствие матери и принимался громко реветь. Мать никогда ничего не говорила, но по ее взгляду можно было понять, что опа чувствует. Яйи Корду все это хорошо понимала и обращалась с-Баем Моди очень бережно. Никто не осудил бы ее, откажись она смотреть за мальчиком, потохму что все знали, что он не только непослушен, но еще и большой задира, но Яйи Корду такая мысль ни разу не пришла в голову.
По взгляду Бая Моди Яйи Корду сразу поняла, что при малейшем замечании он вспыхнет и разревется. Потому она решила ему не перечить.
— Можешь идти, — сказала она, — но только не уходи слишком далеко. И если не придешь вовремя к обеду, ждать тебя мы не будем. Понял?
256
Ребенок что-то пробормотал в ответ и ушел. Яйи Корду снова занялась стряпней и вскоре забыла о мальчике. Да и вряд ли с ним могло что-либо стрястись. Скорее всего он отправился на ферму к матери, как это делал уже не однажды. Ферма была недалеко от поселка, и мальчик хорошо знал туда дорогу. Когда солнце поднялось прямо над головой, Яйи Корду разложила кашу по калебасам. Дети сели вокруг нее в ожидании, когда можно будет начать еду. Тут она вспомнила, что Бай Моди еще не вернулся. Взяла еще один калебас, отложила в него понемножку из всех остальных и поставила в сторонке. Правым указательным пальцем она дотронулась по очереди до каждого калебаса, облизала палец и сказала детям:
— Начинайте есть, приятного вам аппетита.
Дети налегли на еду, а Яйи Корду вышла за калитку — посмотреть, нс идет ли Бай Моди. Она прождала его довольно долго, и только послышавшийся из хижины шум заставил ее вернуться. Она уже начала сама есть, когда в хижину медленно вошел Бай Моди. Губы его были перепачканы чем-то красным.
— Где ты был? — спросила женщина.
— Нигде, — последовал ответ.
— Но я долго стояла за калиткой, дожидаясь тебя. И разве я не просила' тебя не уходить далеко и надолго.
Мальчик молчал.
Яйи Корду окинула его взглядом и сказала:
— Ну хорошо, вот твой обед. Поди вымой руки и садись есть.
— Я сыт, — ответил Бай Моди.
— Как же ты сыт, когда еще ничего не ел? — удивилась женщина и тут только заметила, что губы у него в чем-то красном,— Чего ты наелся? — спросила она. — Ведь я просила тебя никогда ничего не рвать с кустов.
Мальчик молчал.
— Не знаю; чего ты там наелся, но тебе все равно придется съесть обед, — сказала, рассердившись, Яйи Корду, — пойди вымой руки и садись есть.
Мальчик взял калебас с водой, помыл руки, но к еде не притронулся.
— Я сказала, ешь! — настаивала Яйи Корду.
Бай Моди разревелся.
— Чего ты плачешь? — сказала Яйти Корду,—пока еще я не притронулась к тебе. Но если ты будешь упрямиться, я тебя кое-чем попотчую.
Она подошла к куче хвороста, выбрала длинный прут и,
9 Альманах «Африка», выл. 6
257
вернувшись в хижину, угрожающе подняла его над головой упрямца. Уж теперь-то он наверняка поест. Яйи Корду никогда не наказывала детей, которых оставляли на ее попечение, даже если они сильно шалили. Испугавшись, Бай Моди поспешно проглотил две ложки каши, и его тут же стошнило на циновку. Яйи Корду бросила прут, схватила ребенка на руки.
— Ну разве я не твержу вам каждый день, что нельзя есть ягоды с кустов, — сказала она.
Мальчика снова начало рвать, и Яйи Корду вынесла его во двор и сказала:
— Только не тужься, не тужься, это вредно.
На следующий день рано утром, когда Яйи Корду накладывала шаблонки на ткань, которую ей предстояло покрасить, за изгородью показалась Пенда Гарью.
— Хорошо ли выспалась, Яйи Корду? — приветствовала она соседку.
— Спасибо, хорошо, — ответила Яйи Корду, — надеюсь, и тебе крепко спалось.
— Я всегда сплю плохо, — пожаловалась Пенда.—Только прилягу, начинаются ужасные боли. Болит все тело, от суставов ног и до затылка. Да я уже привыкла к этому, — добавила она, заметив, что ее жалобы не интересуют Яйи Корлу, поглощенную своим занятием.
— Да? — рассеянно бросила Яйи Корду.
— Ты не собираешься проведать твоего маленького воспитанника? — спросила Пенда.
— Какого воспитанника?
— Бая Моди, — оживилась соседка, — разве ты не знаешь, что он заболел? Ночью ему было так худо, что отец бегал за помощью в деревню к бабушке.
— Ему было худо! — встревожилась Яйи Корду. — Правда, ему нездоровилось еще вчера у меня, и я сказала об этом матери, когда она пришла за ним вечером. Но мне показалось, что это легкое недомогание. Вот пойду на пруд, чтобы покрасить эту ткань в чанах, и по дороге непременно навещу его.
— Мальчишка он упрямый и непослушный, — сказала Пенда Гарью. — Я, конечно, не желаю ему зла, у меня у самой такой же сорванец растет, но как говаривали наши предки: «У кого ноги не стоят на одном месте, тот рано или поздно вляпается в дерьмо».
— Но ведь он же еще совсем кроха, к тому же единственный ребенок. Понятно, что он избалованный, - сказала Яйи Корду.
258
Немного позже, закончив домашние дела, Яйи Корду уложила в калебас ткань, которую собиралась покрасить, водрузила ношу на голову и отправилась к пруду. Хижина, где жил Бай Моди, была четвертой от дома Яйи Корду по дороге к пруду. У калитки она повстречалась с отцом Бая Моди. Он как раз выходил вместе с низкорослым мужчиной с огромным тюрбаном на голове. Яйи Корду поздоровалась, но не получила ответа. Она, однако, не придала этому значения, подумав, что они, очевидно, спешат. У нее вошло в обычай приветствовать хозяев еще за порогом хижины, и сейчас, сняв с головы тяжелый калебас, она поставила его возле двери и прокричала:
— Все ли живы-здоровы в этом доме?
Разговор в хижине мгновенно умолк, затем до ушей Яйи Корду донеслись слова: «Я сама ей скажу, раз уж ты боишься. Мне-то бояться нечего». По голосу она узнала старуху, Мад-жиг.ейн Диау. Жила она в другой деревне, была очень остра на язык, могла высказать то, что другие не решались произнести. Яйи Корлу заглянула в хижину. Старуха сидела па большой бамбуковой кровати, занимавшей почти всю хижину. Позади нее лежал укутанный Бай Моди. Он спал. В ногах у него, на полу сидела мать. Еще несколько женщин расположились на скамейках у стены. Для начала Яйи Корду вежливо справилась о здоровье бабушки.
— Спасибо, пока я чувствую себя хорошо, но что будет дальше, неизвестно, — с загадочным видом произнесла она. — Как бы и меня не сглазили ночные духи.
Яйи Корду сказала, сдерживая волнение:
— Если бы только мы знали, кого больше бояться, духов или дурных людей. Но мы не знаем, поэтому жизнь полна неожиданностей. А как себя чувствует мой маленький подопечный? Это он там лежит? Можно мне взглянуть на него ?
— Он спит! — выпалила старуха. Ответ ее прозвучал как грубая отповедь.
Мать Бая Моди повернулась; словно желая закрыть собой мальчика, и сказала:
— Он не спал всю ночь, Яйи Корду, уснул совсем недавно.
— Тогда не надо его будить, — сказала Яйи Корду. — Сон — лучшее лекарство для больных детей.
Все это время она продолжала стоять; никто в хижине не предложил ей сесть. Так и не дождавшись приглашения, она придвинула небольшую скамейку и села. Никто не проронил ни слова.
9*
259
— Удивительно, как неожиданно начинаются болезни. Будто сваливаются с неба,—снова заговорила Яйи Корду.—Бая Моди вчера стошнило у меня в хижине, я еще подумала, что он съел что-нибудь не то.
— Вот именно, съел не то, — прошептала старуха достаточно внятно, чтобы всем были слышны ее слова. И потом уже более громко продолжала: —Не могу понять, почему некоторые люди бывают такими жестокосердыми? Видимо, раз у них не может быть своих детей, они считают, что их не должно быть и у других. Но они еще не знают меня. Не знают меня, поэтому и пытаются накликать беду на наш дом.
И тут старуха смачно сплюнула в сторону Яйи Корду. Только тогда до нее наконец дошло, что эти слова направлены именно против нее. Однако она настолько привыкла находиться в добрых отношениях со всей деревней, что растерялась от неожиданности. А когда собралась с духом, сказала укоризненно:
— Маджигейн Диау, почему ты разговариваешь со мной таким тоном? Твой внук поправится, и тебе будет стыдно, что ты мне нагрубила.
Казалось, старуха только этого и ждала.
— Да уж, конечно, — загремел ее голос, — тебе лучше знать, поправится он или нет, ведь это ты опоила его каким-то зельем.
- Яйи Корду,—заговорила мать со слезами в голосе.— Мальчику очень плохо. Умоляю, помоги ему. Сын — это все, что у меня осталось. Ты же знаешь, каково жить бездетной. Не отнимай у меня единственную радость.
— Замолчи! —завопила старуха.—Разве так надо с ней говорить? Покажи ей слабинку, и она сразу сядет тебе на голову. Так вот, предупреждаю тебя, Яйи Корду; если мой внук умрет, я разнесу всю вашу деревню. Я заставлю тебя есть собственное дерьмо. Я опозорю тебя перед всей деревней.
Потрясенная и испуганная,*Яйи Корду сидела молча, глядя на всех широко раскрытыми глазами, в которых застыли недоумение и страх. Но никто даже не взглянул на нее, не попытался заступиться за нее. Она нянчит их детей, вынянчила их самих, они, можно сказать, выросли на ее циновках и уж, конечно, никто никогда не болел от ее пищи. Какие же у них основания считать ее ведьмой? И все же ни один из них не решается встать на ее сторону.
Спасешь гиену от гибели, она на тебя же потом и набросится.
260
Все сидели с опущенными головами, устремив взгляд в пол.
Яйи Корду заговорила тихим спокойным голосом:
— Диау Маджигейн, по-видимому, бы считаете, что я колдунья, повинная в болезни вашего внука?
Когда она наконец поняла обвинение старухи, что-то оборвалось у нее в душе, в голове помутилось. Придя в себя, она обратилась к старухе как будто бы только за тем, чтобы удостовериться, не ослышалась ли она.
— Да, — прошипела старуха. — Пусть это будет стоить мне жизни, но я все же скажу, что думаю. Мальчик назвал твое имя, когда марабут его окуривал своими снадобьями. Он назвал тебя дважды и сказал, что ты насильно заставила его есть.
Слушая, как старуха выкрикивает свои обвинения, Яйи Корду казалось, что рот у той раскрывается все шире, она все ближе подбирается к своей жертве, готовая схватить и проглотить ее. Она вскочила со скамейки и, пробежав мимо своего тяжелого калебаса, ринулась в дверь.
Был самый разгар дня, все жители деревни находились на работе, и некому было остановить ее безумный бег. Да вряд ли она и послушалась бы кого-нибудь. Мучительная боль сдавила ее голову, вытеснив все мысли. Тело налилось какой-то сверхъестественной силой. Только скрутив веревкой по рукам и ногам, можно было бы сейчас удержать ее.
Деревня осталась далеко позади, а она все бежала и бежала, пока окончательно не заблудилась. Наконец ноги ее подкосились от усталости, и она повалилась в изнеможении на землю. Лежа, она мысленно все еще продолжала бежать.
«Я не ведьма, я не ведьма, — твердила она. — У ведьмы четыре глаза, а у меня, как у всех людей, два. Нет, я не ведьма. А она говорит, что я ведьма. И теперь никто не доверит мне нянчить своих детей. Если бы даже я и была ведьмой, неужели я стала бы изводить собственных детей? А в деревне все они мои дети. Но нет, не мои, ведь это не я рожала их. — Тут она вспомнила о своих неудачных родах. — Я же хотела ведь иметь собственных детей. Но все они умирали еще в утробе. Все умирали. Но почему они умирали? Почему? — Жестокая догадка поразила ее, словно молния. — А может, я все-таки ведьма. И я, сама того не подозревая, вынуждена была платить дань другим ведьмам. И может, ли какая-нибудь женщина знать, ведьма она или нет. О, господи, я ведь не ведьма. Конечно, нет! Но почему тогда умерли все мои дети? Почему я не
261
смогла выносить своих собственных детей, родить их крепкими и здоровыми, как другие матери? Почему ни один не выжил? Не я ли сама убивала их? Значит, я ведьма? Нет, я не ведьма, И у меня есть дети. Много детей. Я знаю, где они».
Она вскочила на ноги и кинулась бежать. Выражение муки и страдания, искажавшее ее лицо, уступило место странной улыбке. Она плакала, но теперь это были слезы радости. Она бежала, но не бесцельно. Теперь она знала, куда ей бежать, — к пруду. Вокруг не было ни души. Не останавливаясь, она добежала до пруда и стала погружаться в воду — все глубже и глубже. И вдруг она увидела в воде человеческий силуэт. Это была женщина, она сидела на дне, согнувшись, плечи ее сотрясались, будто она рыдала.
«Кто бы это мог быть? — подумала Яйи Корду. — Кто может сидеть на самом дне пруда, не захлебываясь?»
Яйи Корду вгляделась в женщину. В этот момент та посмотрела вверх, и Яйи Корду узнала самое себя. Только женщина в воде не плакала — улыбалась, с ее ушей свисали, поблескивая, две тяжелых золотых серьги.
Яйи Корду ощупала свои уши — серег не было, торчали лишь два коротеньких прутика, которые она вставила в дырочки, чтобы они не заросли. А там в пруду она видела в своих ^ушах серьги.
Она начала лихорадочно ощупывать уши, словно пытаясь найти пропавшие серьги. Потом вспомнила, что сама отдала их марабуту, тому самому, который умер, а затем воскрес, тому марабуту, который говорил, что у нее есть дети, и объяснил, где их разыскать. Вспомнив все это, она снова взглянула на своего двойника и увидела, что все еще сидит на дне на прежнем месте, но теперь вокруг нее резвятся и играют дети. Множество детей, мальчиков и девочек. Она посмотрела на них, они подняли головы и заулыбались, и по их лицам она вдруг поняла, что это ее дети, ее собственные дети. Она ринулась, желая обнять их, но поскользнулась и упала. Крик радости, крик полного удовлетворения огласил окрестности и отозвался долгим эхом в кустах. Какое-то время по поверхности пруда шли круги, но затем они исчезли.
Вечером на пруд за водой пришли женщины, но, побросав калебасы, в панике убежали назад. Их рассказ взволновал всю деревню. Ее жители поспешили к пруду, чтобы убедиться, что легкое, еле уловимое волнение на его поверхности улеглось навсегда.
Перевод с английского IВ Кошкина
Розина Умело
Розина Умело — нигерийская писательница, по профессии преподавательница. В настоящее время работает директором женской средней школы в городе Нкверре. Публикуемые рассказы
взяты из ее сборника «Человек, растранжиривший деньги», опубликованного издательством Юни-версити Пресс Лимитед, Ибадан © University Press Limited, 1979.
БИЗНЕСМЕН
Ловчила забылся в тревожной дремоте. Ноги у него были вытянуты, глаза закрыты, но одно ухо бодрствовало. Несмотря на сильную жару, наружная дверь была закрыта и заперта на засов. Другая дверь — она выходила во двор — была открыта, и яркое солнце заливало пол комнаты. Голоса детей и кудахтанье кур не мешали Ловчиле дремать, но едва послышался шорох велосипедных шин, он привскочил весь в тревоге и ожидании.
Велосипедист тяжело спрыгнул на землю.
— Эй! Открывай дверь!
Ловчила протянул руку и отодвинул засов.
— Я узнал тебя по стуку ботинок, Мачет, — сказал он. — Они стучат не так громко, как у военных.
Его друг закатил свой велосипед и закрыл дверь.
— Вина нет?
— Денег нет.
Ловчила снова растянулся. Мачет присел на край койки.
— Я так и не смог достать лекарство от квашоки1. Но даже, если бы достал, мы не сумели бы продать его теперь, после объявления мобилизации.
— Тьфу! — Ловчила открыл один глаз. — Началась мобилизация? На этом можно неплохо подзаработать. Припугнешь кого-нибудь: мол, я тебя заберу, — вот он и выложит денежки.
Мачет пожал пухлую руку приятеля.
— Что ни говори, лучше всего торговать лекарством от квашоки, — сказал он, — платишь пять шиллингов и тут же получаешь десять. И упрашивать никого не надо. Женщины сами умоляют тебя взять их деньги.
— Когда мы начнем забирать мужчин в армию, — ухмыльнулся Ловчила, — они тоже будут умолять тебя взять их деньги.
1 К в а ш о к а (правильно квашиоркор) — распространенная на юге Нигерии болезнь, вызываемая недоеданием.
263
На другой день они устроили засаду на тропе, которая определяла поворот главной дороги. Натянули на себя армейские рубашки, купленные у двух дезертиров, и стали ждать. Немного погодя показался прохожий.
— Эй ты! — окрикнул его Мачет.
Человек остановился.
— Это вы меня зовете?
— Тебя — кого же еще?
— Что вам нужно?
— Пойдешь с нами служить в армию.
— Хорошо. — Он стащил с себя рубашку, повесил ее на куст и сел в тени.
Мачет искоса посмотрел на Ловчилу, тот кашлянул. Такой поворот событий не входил в их планы. Но делать было нечего. Время тянулось медленно.
Из-за поворота тропы на велосипеде, груженном тяжелыми мешками, выехал мелкий торговец.
При виде людей в военной форме он отчаянно завилял, но места, чтобы развернуться и уехать, не было.
— Эй ты,—сказал Ловчила,—откуда едешь?
— Да вот, товар покупал, — ответил торговец.
— Пойдешь с нами служить в армию.
— Нет, господин. Я плохо вижу. И у меня больные ноги.
— Не беда. Мы тебя вылечим.
— Нет, господин, прошу вас. Отец мой плох. Я у матери м падший. Всех моих братьев забрали. Я уже старше призывного возраста. Моя жена только что родила двойню.
— Снимай рубаху и садись, — заорали они.
Торговец с грустным видом присел возле первого «новобранца».
Вскоре на тропе показался старик.
— Стой,—разом сказали Мачет и Ловчила.
Старик остановился.
— Пойдешь служить в армию, — снова в один голос проговорили они.
— Нет, господин,—ответил тот.—У меня больной живот. Плохое зрение. И ходок я никудышный.
— Снимай рубаху и садись.
— Нет, господин, прошу вас, — умолял тот, — стар я для армии. Вторая дочь моего первого сына только что родила в третий раз. Мальчика.
— Да она у тебя просто молодец. Садись.
Старик нехотя сел. Ловчила посмотрел на Мачета, и оба перевели взгляд на торговца, который, казалось, только и ждал, чтобы на него обратили внимание.
264
— Можно вас на два слова, ога?1
Все трое отошли в сторону и пошушукались. Торговец надел рубаху и, потуже закрепив мешки, сел на велосипед.
— Сколько? — тихо спросил у него старик.
— Три фунта, — ответил торговец и рванул что было сил.
— У меня нет трех фунтов, — запричитал старик.
— Ты же знаешь торговцев, — сказал Мачет. — Они всегда преувеличивают.
— У меня нет и двух фунтов, — упорствовал тот.
— А ты поищи.
Вздохнув, старик обшарил все карманы и наскреб тонкую пачку мятых пятишиллинговых бумажек.
— Или вам нужно новенькими?
— Сойдут и такие. Ступай.
Застегивая на ходу рубаху, старик заковылял прочь.
Мачет и Ловчила посмотрели на первого «новобранца». Он нюхал табак, поднося щепотку то к одной ноздре, то к другой с таким смаком, что у них самих защекотало в носу.
— Ну,—сказал Ловчила, теряя терпение, — сколько ты можешь заплатить?
— За что?
— За то, что мы тебя отпустим.
— Я пойду с вами в армию, — ответил незнакомец и невозмутимо прочистил нос.
Ловчила и Мачет посмотрели друг на друга и отошли в сторону.
— Дело плохо. Если мы будем долго здесь торчать, те двое могут сообщить куда следует, и нас тут же зацапают.
— Бросим его и уедем.
— Но велосипеды у него за спиной, — показал Мачет. Перехватив их взгляд, незнакомец положил руку сразу на обе велосипедные рамы.
Ловчила был человеком действия. Он сделал шаг вперед.
— Мы отпускаем тебя.
— Нет, — сказал тот, — я пойду с вами и поступлю в армию.
— Сколько?
— Гоните два фунта.
— Что! Заплатить тебе два фунта, чтобы ты отпустил нас, когда другие платили нам два фунта, чтобы мы отпустили их?!
— Дело ваше. Не заплатите — я пойду с вами и поступлю в армию, — пригрозил незнакомец и покрепче ухватился за велосипеды. Он был гораздо здоровее, чем показался им в рубашке. Широкие плечи, могучая грудь. Казалось, ему ничего не
1 О г а — почтительное обращение.
265
стоило, крутанув велосипедное колесо, выбить все спицы и, взяв Ловчилу и Мачета под мышку, доставить их в ближайший армейский лагерь. Кипя от злости, Ловчила протянул ему самые грязные банкноты.
— В добрый путь, — вежливо сказал незнакомец, снимая руку с велосипедов.
Когда Ловчила задворками добрался до деревни, была уже поздняя ночь, но в его комнате горел тусклый свет. Мать сидела у постели его младшего брата, который плакал и метался на циновке.
— Что с ним?
— Не знаю. Может, лекарство было слишком сильное.
— Какое лекарство?
— Лекарство от квашоки, что я купила на рынке. — Она заплакала.
Ловчилу охватил страх.
— Лекарство от квашоки? У него не было никакой квашоки.
— Я знаю. Я боялась, что он заболеет, а продавец сказал, что кто примет это лекарство, от квашоки не умрет.
— Да, это верно, — нахмурился Ловчила.—Он умрет от лекарства!
Мать заголосила громче малыша.
Ловчила бил себя по голове.
— Сколько ты ему дала? Что это было за лекарство?
Не переставая всхлипывать, мать все ему рассказала. Она дала сыну четыре таблетки — две желтые и две синие. Эти таблетки стоили ей целого фунта и разорванного халата: такая была давка за ними. Да еще и ребенок заболел.
Он заскрежетал зубами.
— Позови Кэти. Я отвезу его в больницу.
Младшая сестра привязала плачущего ребенка себе за спину. Ловчила посадил их на багажник и помчался что было сил. Вместе с ним мчалась и луна. Временами она ныряла в облака, и тогда становилось так темно, что ему приходилось спешиваться и вести велосипед за руль.
Когда он наконец добрался до больницы, луна уже зашла и в небе занималась заря. На душе его было все так же тревожно. Он рассказал о беде, случившейся с ребенком, сначала сонному привратнику, потом позевывающей нянечке, за ней — энергичной медсестре с таким убедительным красноречием, что его сразу, в обход негодующей очереди пациентов, провели к доктору.
Больных принимала белая женщина, присланная какой-то религиозной организацией. Она сверкала в своем халате, как
266
новенький холодильник. Окинув Ловчилу и ребенка беглым и-и лядом, женщина тяжело вздохнула. Он излил ей свое горе. Осматривая ребенка, женщина то и дело поглядывала на Ловчилу.
— Я вас где-то уже видела, — заметила она. — Знакомое лицо. Вот только никак не могу вспомнить, где я вас видела... Значит, кто-то снова продает на рынке шарлатанское снадобье. Вы сообщили в полицию?
— В полицию? Э-э, нет.
— Почему?
— Времени не было, — оправдывался он.
Женщина не спускала с него своего леденящего взгляда.
— Вы должны понимать, что это не просто случайность. Это можно рассматривать как преднамеренное отравление.
Он судорожно сглотнул.
— Да, преднамеренное отравление. Продавать какое-то снадобье, не зная его действия, под видом лекарства от квашиор-кора просто гнусное преступление... Я уверена, что видела ваше лицо. Как, вы говорите, вас зовут?
— Ловчила.
— В самом деле?
— Отец отыскал мне имя в словаре, — пояснил Ловчила.
— Ловчила! Должно быть, он знал, что делал.
Белая женщина вонзила в него острый, как бритва, взгляд своих сверкающих глаз. Его нечистая совесть так и заюлила под ее взглядом. Прочитав признание вины, она сказала:
— Что ж, я приму его. Он очень слаб. Как его зовут? — Честный.
— Можете оставить девочку присматривать за ним. Как ее имя?
— Каталог. Но мы зовем ее Кэти, — добавил он поспешно, увидев, как грозно сверкнули глаза доктора. Она, казалось, стала еще более холодной, чем раньше. Отдав необходимые распоряжения о детях, она тут же выпроводила его из больницы. Не успел он сказать: «Спасибо, спасибо», как за ним уже захлопнулись ворота.
С чувством огромного облегчения он сел на велосипед. Дорога была пуста. И без того отягощенные сном веки слипались в ярком солнечном свете.
— Эй ты! — прозвучал, как выстрел, чей-то голос.
Мгновенно открыв глаза,z он затормозил перед армейским патрулем. Облокотясь о шлагбаум, военный лениво поигрывал винтовкой.
— Подойди, — сказал он.—Куда держишь путь?
— Домой.
267
— Хочешь завербоваться в армию?
— Нет, господин, я еду домой.
— А я говорю, что ты хочешь завербоваться в армию! — К ним подошли несколько человек в военной форме.
— Стягивай рубаху.
— Ога...
Они хмуро уставились на него и щелкнули затворами. — Стягивай рубаху.
— Ога, господин. Два фунта, ога!
— Ста-а-новись в строй!
Тяжелые ботинки глухо затопали по песку. Ловчила понял, что так просто ему не вывернуться. Он стал припоминать все те отговорки, которые ему довелось услышать вчера.
— Левой... правой...
Они замаршировали по дороге. Ловчила — он шагал в самой середине отряда — принялся что-то бойко и убежденно втолковывать окружавшим его солдатам.
СМЕРТЬ В СЕМЬЕ
Девять разбросанных по саванне деревень разрослись и слились в небольшой городишко, местами пересеченный длинными полосами обрабатываемой земли, которые легко было принять за обыкновенные пустыри, ибо возделывали их не чаще, чем раз в семь лет. В остальное время эта земля вела потаенную жизнь шуршащей травы, листвы и ветвей. В густых зарослях переплетались узкие тропы, протоптанные диким зверьем и охотниками. Над каждой из бывших деревень, словно часовой на страже, возвышалась могучая акация, самое царственное и величавое из местных деревьев.
, Как-то утром всех жителей округи захватило радостное возбуждение — собиралась большая охота. Двое маленьких братишек с почтительного расстояния невесело наблюдали за сборами. Обнаженные корни деревьев служили им удобным седалищем, с которого была видна вся деревенская площадь, уже заполненная серовато-бурой массой людей с самодельными одностволками, охотничьими ножами и палками. Чего бы только ни дали мальчишки, чтобы пойти с взрослыми, сжимая в руках отполированные годами службы ружья с прикрученными проволокой стволами. Иметь бы им патронташи, набитые крупнокалиберными красными патронами, или роги с порохом и мешочки с мелкой дробью! Они наблюдали также за собаками, желтыми, в коричневых пятнах, похожих на тени на песке.
268
Одни собаки мирно сидели, высунув длинные языки, другие чесались или грызлись, припоминая старые обиды.
Ах, как же хотелось мальчишкам пойти на охоту!
Обычно в это время они сидели в школе, но один из них — Ученну, приболел, а у второго — Чимы. оставался нерешенным вопрос платы за обучение. Вот почему вместо пыльных учебников перед ними лежал открытым вольный мир охотничьих страстей, который, увы. они могли изучать лишь издалека.
- Интересно, поймают они что-нибудь сегодня или нет? — спросил Чима, отмахиваясь от назойливых мух.
Но пусть даже охотники вернутся с пустыми руками, разве не достаточно того, что они вновь испытают азарт охоты, о ко юрой долго еще будут вспоминать, сидя в кружке под лунным светом. Еще много раз мальчикам доведется услышать во всех подробностях рассказ о минувшей охоте, о том, как, прошуршав по песку или качнув веткой, ускользнула чья-то удача. Отец часто рассказывал им о собственном детстве. Случалось, правда, что один и тот же рассказ от раза к разу все больше приукрашивал, но так было даже интересней. Чего, например, стоила история женщины, которая ранним утром шла на свое поле пус:ынной тропой и повстречалась лицом к лицу с дикой кошкой. В ге времена, когда их отец был маленьким, обезьяны горланили и прыгали с одного дерева на другое, а воздух звенел от голосов многочисленных птиц. Теперь, должно быть, стало слишком много людей, много домов. Даже по самым узким проселкам то и дело с ревом проносились машины, оставляя за собой облака красной пыли и вонь бензина. Зверей и птиц теперь куда меньше, и они стали осторожней. Но в заброшенных и одичавших за шесть лет полях нет-нет да попадалась какая-нибудь дичь. Ради нее-то и собирались в поход отважные охотники.
— Если б нам тоже удалось пойти! — сокрушались мальчишки, заражаясь разлитым в утреннем воздухе азартом.
Большинство ружей было однозарядными, и значит, охотник мог воспользоваться лишь одним шансом — перезарядка отнимала слишком много времени. Все зависело от воли, ловкости и опыта. Добыча принадлежала тому, кто первым ее схватит. Возможно, это будет большая змея, плавно, как ручеек зеленого масла, стекающая по ветке. Возможно, дикобраз или мясистый трубкозуб. Но лучше всего, конечно, антилопа.
Какова бы ни была добыча, тем для ночных рассказов будет предостаточно.
И вот сейчас, под грустные вздохи мальчишек, охотники уходили в мир приключений.
— Интересно, поймают они что-нибудь?
269
— Эх, если б мы тоже могли пойти!
Всеми своими мечтами мальчики устремлялись вслед за охотниками, сначала по большой дороге, потом по пыльному проселку, оттуда — на узкую тропу и, наконец, в густые нехоженые заросли, где их ждет великолепная охота, незабываемая погоня и богатая добыча, о которой будут звучать рассказы несколько ночей подряд, и всякий раз с новыми подробностями. Но только мальчики встали, как все их мечты рассеялись. Остался лишь горячий песок под ногами, рогатки в руках и длинный пустой день впереди. Смогут ли они наполнить его приключениями, зависело от них самих.
Братья пошли от деревни по тропе через буш, зорко вглядываясь по сторонам, с рогатками наготове. Они метили камешками в проворных пичуг или без промаха поражали в самое сердце причудливые тени, то и дело подстерегавшие их по пути.
День был в самом разгаре. Над городком повисла тишина. Женщины ушли на рынок или хлопотали по хозяйству. Все их друзья сидели сейчас в школе. Оставшиеся мужчины вырубали в полях кустарник. И никакой живности, кроме кур да коз. Вдруг Ученна замер.
— Глянь,—шепнул он брату.
Чима насторожился:
— Что там?
— Вон... смотри! — Ученна указал пальцем на невысокий куст, на котором дрогнуло несколько листьев.
— Что это?
— Трубкозуб.
— Здесь?
— А может, кролик. Давай посмотрим.
Они побежали к кусту и, бросившись на колени, обнаружили вход в нору, уходящую под корни исполинской акации, которая широко простирала ветви над тростниковыми и жестяными крышами лачуг.
— Чем бы ее раскопать?
Мальчишки немного поскребли палками землю у входа в нору, но без особого результата.
— Давай напустим туда дыма.
Набрать немного сушняка и сбегать к ближайшему дому за куском раскаленного угля было делом одной минуты. Кругом по-прежнему стояла безмятежная тишина. Никто не обращал йа них внимания, не лез со своими советами, не уверял, что никогда ничего не было и нет в манящей темноте этой дыры. Деревня казалась бы совсем вымершей, если б не куры, подбирав-
270
и।ле корм и барахтавшиеся в пыли, да козы, кравшиеся куда-то по своим тайным делам.
Когда костерок разгорелся, мальчишки подбросили в него зеленых листьев и принялись дуть, загоняя дым в колдовскую темноту под самыми корнями дерева-исполина. Дуть приходилось изо всех сил, и мальчики заходились надсадным кашлем, так как дым забивался им в легкие. Прошло довольно много времени, а они все еще были поглощены своим занятием, от которого отвлекли их отдаленные крики.
Братишки подняли красные, слезящиеся глаза и напряженно вслушались в летящие издалека пронзительные вопли.
— Что бы это могло быть?
— Наверно, охотники.
— А мы про них и забыли!
— Идут с добычей...
— Да с крупной! Ишь, как расшумелись.
В отдаленных криках безошибочно угадывались победные ноты.
Ребята тотчас забыли о своей собственной охоте и, словно подброшенные на пружине, со всех ног бросились бежать в свою деревню, чтобы присоединиться к уже начавшемуся торжеству.
Оставленный без присмотра костерок выпустил дрожащую струйку дыма. Невидимые на ярком солнце язычки пламени поползли по сухим веточкам и зеленой листве, и наконец бледные зубы огня впились в сухую раскрошившуюся древесину вокруг дыры.
Дети так и не вспомнили о костре. Когда, запыхавшись от бега и обливаясь потом, они примчались на площадь, там уже собралась целая толпа. Объятая сонным покоем дзревня вдруг ожила, наполнилась людьми и гомоном их голосов. Отец мальчиков убил антилопу и теперь, гордый, нес ее домой, окруженный другими охотниками, сворой визжащих собак и почти всеми обитателями деревни. Еще недавно казавшийся нескончаемым день вдруг оказался коротким, до предела заполненным заботами: надо было поднести дрова, набрать воды, вычистить котлы. Предстояло освежевать тушу, разделать и приготовить огромное количество мяса. Охваченные радостной суетой мальчишки напрочь забыли о тлеющехМ костре и о своем брошенном на середине приключении.
Поздно вечером, когда над деревьями взошла луна и от ее яркого света за домами и пальмами легли густые тени, все, усевшись в круг, ели мясо антилопы. Вдруг от дома к дому побежала тревожная весть. Так бежит городской глашатай, ударяя в свой гонг.
271
Исполинская акация, охранявшая соседнюю деревню, горела.
Смолкло шумное ночное веселье, затихли охотничьи рассказы. Все те подробности охоты, которые еще недавно смаковали, как сахарную кость, вдруг потеряли свою привлекательность, стали безвкусными и сухими. Тревога охватила людей. Предчувствие неминуемой беды сдавило им сердце. Что означает этот дурной знак, смогут истолковать только дибиахи-кол-дуны. Ценой какого подношения удастся отвратить неминучий удар рока? И удастся ли?
Ученна и Чима сидели, похолодев от страха, не отваживаясь даже взглянуть друг на друга. Только сейчас они вспомнили про свою охоту и маленький костерок, беспечно оставленный под корнями акации, и почувствовали себя затравленными зверьками.
На следующий день к дереву, пожираемому изнутри огнем, стали стекаться люди. Каких только догадок не строили они, каких только несчастий не ожидали! Мальчики не могли не пойти со всеми — своим отсутствием они неизбежно навлекли бы на себя подозрения. Вот они и околачивались среди односельчан, с испугом наблюдавших за ужасным зрелищем медленной гибели одного из великих деревьев-хранителей. Как любым загнанным существам, им больше всего хотелось забиться в какое-нибудь укрытие, спрятаться, исчезнуть без следа. Но приходилось вместе с другими мальчишками беспрестанно быть на виду у взрослых. Правда, они не лезли, как бывало, чтобы занять первые ряды, огонь гнездился где-то в самой сердцевине дерева, и проникнуть туда было совершенно невозм&кно. Предательские следы маленького костра смешались с кучей свежего, еще горячего пепла. Вход в нору тоже пропал, затерявшись в новом разрушении, разъевшем изнутри тяжелый ствол.
Когда каждый своими глазами убедился, что дереву уже ничем не помочь, начались всяческие толки да пересуды: по чьей вине занялось это странное нутряное пламя, а если никто не виноват, то что оно может предвещать?
Все последующие дни мальчики ходили сами не свои от страха. Даже когда их снова отправили в школу, им казалось, что дым от горящего дерева все еще щиплет им глаза и забивается в ноздри. По ночам им снилась акация, гневно указующая на них своими зелеными перстами.
Когда наконец настали каникулы и братья вернулись домой, то они в каком-то смысле даже испытали облегчение, почувствовав, что западня захлопнулась. Старейшины просили дибиахов, те, совершив свои таинства, дали ответ. Мальчишки, заливаясь слезами, во всем признались.
272
Дерево теперь стояло голым и пепельно-серым от дыма, выплывающего, словно призрак, из его сердцевины. Первые ураганы сезона дождей уже ревели над лесом, засоряя тропы в саванне поломанными ветвями. В одну из грозных ночей в разгар сильного урагана дерево, сотрясая взбушевавшуюся темноту, с грохотом рухнуло.
В положенное время все выглядело так, будто хоронили прославленного человека... те же толпы людей, то же пение и танцы, кувшины и кувшины пальмового вина. Поскольку мать незадачливых охотников была уроженкой пострадавшей деревни, семье не пришлось нести бремя всех расходов — община разделила их с ними.
Мальчики сидели, прижавшись друг к другу. Они не смели поднять глаз. Они чувствовали, как на них давит огромное темное пространство в ночном небе, которое еще недавно было наполнено жизнью лисгвы и ветвей. Они боялись, что где-то во мраке притаились разгневанные жуткие глаза, пытающиеся перехватить их взгляды. Они надеялись, что к концу ночи дерево будет наконец ублаготворено великолепием своих похорон. Тем временем они сидели, не смея оглянуться, уставив глаза в одну точку.
ЧЕЛОВЕК, РАСТРАНЖИРИВШИЙ ДЕНЬГИ
Больше всего на свете Окереке любил деньги. Довелись ему получить образование, он несомненно стал бы банковским служащим. Ему представлялось верхом блаженства сидеть за перегородкой у маленького окошечка, пересчитывать пачки банкнот, пренебрежительно отбрасывая в сторону потертые, замусоленные бумажки, а новенькие и хрустящие выдавать благодарным клиентам. Вот это работа так работа! Сплошное удовольствие!
Но он был простой крестьянин, и у него было слишком мало собственных денег, чтобы иметь, что считать и пересчитывать. Хоть и достался ему от отца довольно приличный участок земли, но доходу он не давал почти никакого. Все, что зарабатывал Окереке, уходило па различные подати и прочие расходы и таяло, как дым в ясном небе. Вог почему, когда деревенскому совету понадобился новый сборщик налогов, Оке-реке сразу же ухватился за предложение занять эту должность. Ему бы призадуматься, почему, кроме него, не нашлось желающих. Так нет, он только обрадовался.
Предшественник Окереке, худой, издерганный человек, который с нетерпением ждал момента, когда сможет уйти
273
на покой и уехать с сыном в Умвахию, не разделял его восторгов.
— Быть сборщиком налогов — непростое дело,—поучал он его. — Люди не желают платить, пока не припугнешь их именем закона. Никто обычно не вносит всю сумму сразу; кто даст шиллинг, кто шесть пенсов, а остальное пообещают «завтра». Тут главное — упомнить, кто сколько остался должен. И еще с деньгами, которые попали в твои руки, следует обращаться очень аккуратно, так, чтобы они всегда имелись в наличии. Отчета у тебя могут потребовать в любой момент. Понял?
— Да, да,— согласился Окереке.
Имевшуюся в наличии кассу передали Окереке, и он написал расписку по всем правилам. Как только эта процедура была окончена, бывший сборщик прямо на глазах преобразился, будто с его плеч свалилась непомерная ноша. Вскоре он, веселый и беспечный, отбыл в Умвахию.
До конца года оставалось несколько месяцев, и все это время Окереке с большим тщанием исполнял свои служебные обязанности.
Неприятности начались после Нового года.
Сперва Окереке позаимствовал в кассе несколько шиллингов, но вскоре вернул их. Потом он взял еще несколько, но вернул не все, а потом взял еще больше и уже ничего не вернул. Когда спустя несколько месяцев он решил сверить ведомость с имевшимися в наличии деньгами, то обнаружил, что ему не хватает пятнадцати фунтов.
Окереке откинулся на спинку стула и с перепугу присвистнул. Пятнадцать фунтов! Какой ужас! Неужели он столько промотал? Откуда же теперь их взять? Как признаться односельчанам, что он растранжирил их деньги? Кто ж ему теперь поможет? Что его ждет? Позор и тюрьма. Нет, надо искать выход из создавшегося положения.
Первым побуждением Окереке было кинуться в окружной центр, найти там ростовщика и взять у него под проценты. К счастью, он скоро одумался. У ростовщиков руки, пожалуй, длинней и проворней, чем у законников. И месяца не пройдет, как с него начнут требовать долг.
А может, продать что-нибудь? Окереке вышел во двор и оценивающим взглядом посмотрел на свой велосипед, прислоненный к дереву. Ну что возьмешь за эту ржавую рухлядь?! Рама погнулась, крылья дребезжат, тормоз давно не работает.
Пока Окереке задумчиво разглядывал свой повидавший виды «агрегат», жена насторожилась. Сметливая женщина сразу поняла, что муженьку нужны деньги. Она тайком поманила
274
старшую дочку в дом и через несколько минут девочка тихонько вышла, держа в руках швейную машинку, п за спиной отца юркнула в кусты.
— Иеома!
— Да. мой муж?
— Принеси-ка швейную машину.
— Ах, какая жалость, — воскликнула жена, — я недавно отдала ее матери.
— Отдала? — разочарованно переспросил Окереке.
Мать Иеомы была сильной, властной женщиной с зычным голосом, который с годами лишь набирал силу. Это она купила швейную машинку своей дочери в подарок к свадьбе.
Окереке решил встретиться со своим другом Окафором-ви-ноделом. Застал он его в тот момент, когда Окафор, забравшись на высокую лестницу, прислоненную к пальме, бережно спускал на веревке калебас, до краев наполненный пальмовым соком. Окереке отстранил мальчишку, стоявшего на нижней ступени лестницы, занял его место и сам принял калебас, затем привязал к веревке другой, и Окафор подтянул его вверх. Закрепив калебас в нужном положении, Окафор поспешно спустился вниз, и друзья, обменявшись рукопожатием, уселись в тенек, чтобы поболтать за чашей свежего вина.
Наконец Окафор произнес:
— Что-то ты вроде как не в себе сегодня. Уж не захворал?
— У меня неприятности, — признался Окереке. — Друг попросил меня помочь, а я не знаю как.
— Что случилось?
— Ему срочно нужны деньги. Пятнадцать фунтов. А я не знаю, где взять.
Окафор перевел дух.
— С деньгами туго. У меня лично никогда не бывает даже шиллинга наличными. Гоню пальмовый сок и из своих деревьев, и из чужих, а денег-то почти и не вижу.
Он подлил вина, и они выпили. Между тем на смену полуденному зною пришла прохлада, на дорогах появилось больше народу. В небе мелькнула молния, загрохотал гром.
— Во времена наших дедов виноделы были богатыми людьми, — продолжал Окафор. — Немногие могли тягаться с ними. А теперь посмотри на меня. Чуть ли не у каждого парня новый велосипед, модные туфли, нейлоновая рубашка. А разве я могу позволить себе такое? Да, с деньгами туго.
— С деньгами туго... — эхом отозвался Окереке, и они выпили еще вина.
Когда вино кончилось, Окереке поблагодарил друга и встал, собираясь уходить. Тот его проводил до самой дороги
275
н вдруг, хлопнув себя по лбу, застыл на месте, словно его осенило.
— Послушай, а ты можешь поручиться за того человека? — спросил он.
— Как за себя самого.
— Я бы не стал давать тебе такой совет, если б на него нельзя было положиться, но раз ты ручаешься... Позаимствуй для него денег из налоговой кассы. Если он действительно человек надежный, то не допустит, чтобы у тебя возникли неприятности по его вине. Он быстро вернет долг, и никто ничего не узнает. А? — и Окафор, в восторге от своей находчивости, радостно уставился на Окереке.
Ну что на это скажешь? Окереке молча пожал руку своего друга, и они расстались.
Домой Окереке вернулся еще более расстроенным. На следующее утро он встал ни свет ни заря и побыстрее убрался из дому — только б избежать расспросов жены. Проходя мимо дома самого старого жителя их деревни, он увидел хозяина, стоявшего на пороге и с недоверием вглядывавшегося в новый день.
Окереке остановился, чтобы перекинуться с ним парой слов.
— Куда это ты так рано собрался? — спросил старик.
— Мой друг попросил меня встретиться с ним. Ему очень нужны деньги, а я не знаю, где их достать.
— Ах, — вздохнул старик,—с деньгами туго.—Он пригласил Окереке зайти в дом, и они присели. Окереке вытащил табакерку, и оба стали угощаться табачком, морщась от наслаждения и смахивая набегающие слезы.
— Я помню, — повел рассказ старик, — еще при жизни моего отца был у них в деревне один человек, который многим задолжал. Заимодавцы караулили его с утра до ночи, но всякий раз ему удавалось улизнуть от них. Они и до рассвета являлись к нему, и поздно ночью.
— Ну, ну, — подбадривал старика Окереке.
— Бедняга уж и не знал, что делать, как быть. Расплатиться-™ ему все равно было нечем. Только одно и оставалось — убегать из дому еще до света. Но однажды он проспал и проснулся, когда день был уже в разгаре. Он наспех оделся и шмыг в дверь, а там уж полно народу — так и ждут, чтобы в него вцепиться.
— Что же он сделал? — сгорая от нетерпения, спросил Окереке.
Старик неспешно взял щепоть табаку, а потом сказал:
— Он бросился в колодец, и все разбежались.
Наступило молчание.
276
— Что же случилось потом? — наконец спросил Окереке.
— Пора дождей давно кончилась, и воды в колодце была самая малость. Когда никого не стало, жена того человека притащила лестницу и помогла мужу выбраться.
— А как с долгами?
— Чего не знаю, того не знаю. Но хоть в тот день он отдохнул от заимодавцев.
Окереке прикидывал к себе рассказ старика. Забавная история, конечно. Будь он в ином настроении, то посмеялся бы от всей души. Это ж надо — кинулся в колодец! Но сейчас Окереке, увы, было не до смеха. Распрощавшись со стариком, он вышел на улицу. Проходя мимо колодца, он, перегнувшись через край, заглянул в него. Вода всего метра на два не доходила до верха, ибо сезон дождей только что кончился. Поверхность темной, как нефть, и густой, как похлебка, воды почти не отражала света.
Окереке вздрогнул. Нет, он никогда не решится на подобное.
Рассказ старика не выходил из головы Окереке, и он направился прочь из деревни, так и не зная, что предпринять. Услышав у себя за спиной шум приближающейся машины, Окереке даже не оглянулся. Он ступил на обочину и отвернулся, чтобы не наглотаться едкой пыли, поднятой колесами.
Однако машина остановилась, и водитель, высунувшись из окошка, по-родственному окликнул Окереке. Это был муж сестры Иеомы — Чукуэм-подрядчик, человек зажиточньш и преуспевающий. Большую часть времени он проводил в городе, лишь изредка наведываясь домой: «Что же привело его сюда на этот раз?» — недоумевал Окереке. Чукуэм сам ему все объяснил:
— Я собирался прикупить землицы, но дальше разговоров дело не пошло. Трое из тех, с кем я вел переговоры, никак не могут уточнить границы своих участков, а четвертый уже расчистил землю под пашню. Там мне нечего делать, — Он искоса взглянул на Окереке. — Ты не знаешь, кто бы мне смог продать приличный участок?
И тут Окереке вновь подивился, как быстро распространяются новости. Нетрудно догадаться, что зять подъезжает к нему, но как он проведал, что Окереке нужны деньги? Не мог же он знать, что Иеома, отдавая швейную машину матери, поделилась с ней своими догадками, а та разболтала всем. Чукуэм как раз в это время был у старухи, вот и узнал обо всем.
Года два тому назад Чукуэм уже предлагал Окереке купить у него землю, но Окереке ответил, что не собирается продавать родовую землю. Говорил он тогда чересчур заносчиво, ибо
277
желал досадить теще, чей папаша, дед Иеомы, разбазарил все свои земли. Впрочем, это уже другая история.
И вот опять Чукуэм вернулся к старой теме, только на сей раз держится он куда уверенней. Это чувствовалось по тому, с какой непринужденностью он облокотился на руль, как достал из пачки сигарету и щелкнул зажигалкой. Окереке не терял времени на размышления. Он улыбнулся.
— Ты меня встретил вовремя, — начал он. — Я как раз собираюсь продать небольшой участок.
— Надеюсь, ты не заломишь цену, слишком высокую, — усмехаясь, отозвался зять, и они поехали смотреть землю.
Несколько часов спустя Окереке брел домой. Они быстро поладили с Чукуэмом, и сегодня вечером предстояло подписать купчую и получить деньги, ровно пятнадцать фунтов. Окереке невольно вспомнил бывшего сборщика налогов, его понурый вид и застывшую улыбку. Жена и теща вскоре поймут, что он растранжирил налоговые деньги, когда не увидят ни одного пенни из денег, которые заплатит ему Чукуэм. Что будет дальше, нетрудно угадать. Ссоры, упреки, бесчисленные вопросы, на которые он не сможет ответить. Через несколько минут он переступит порог своего дома. Да, осталось всего несколько минут, в течение которых он может наслаждаться покоем. Теперь он будет лишен его долгие месяцы.
Однако, кроме усталости, Окереке ничего не чувствовал.
НВАНКВО ЗНАКОМИТСЯ С УДИВИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ
Нванкво отправился туда прямо с автовокзала. Несколько человек объяснили ему дорогу. Трасса была забита грузовиками, легковушками, автобусами и пешеходами. То и дело взвизгивали тормоза и окутанные пылью машины останавливались. Люди двигались более равномерно, двумя встречными потоками, один — с рынка, другой — на рынок.
Влекомый толпой, Нванкво пересек железнодорожные пути и свернул с главной дороги. Сначала он шел мимо навесов, где работали пильщики. Воздух там был наполнен ароматом све-жеоструганных досок и пронзительным завыванием пил. Нванкво очень хотелось подробней разглядеть, как работают эти удивительные машины, которые заглатывают целые деревья и выплевывают уже готовые доски, не ведая при этом ни натруженных плеч, ни покрытых мозолями рук. Однако он чувствовал, что не имеет права задерживаться, и потому торопливо зашагал дальше.
А вот и лавчонки, в которых продают пальмовое вино.
278
В основном здесь толпятся рабочие с пилорамы, полупьяные, охрипшие от крика и опилок. Прилавки заставлены наполненными до краев калебасами, коричневыми кружками из обожженной глины и целыми батареями бутылок, захватанных жирными пальцами и закупоренных самодельными пробками из листьев. Запах древесины сменился отдающим дымком и листвой запахом молодого вина и затхлым духом уже перебродившего вина.
Уж до чего Нванкво хотелось задержаться здесь хоть ненадолго! До чего велик был соблазн! Но он заставил себя пройти мимо. Наконец начались торговые ряды. Здесь, под крышами из цинка или тростника, а то и просто под открытым небом, шла бойкая торговля. Несмолкаемый гомон повис над пестрыми рядами рынка, раскинувшегося по склону холма. Привычные к шуму и гвалту торговцы весело зазывали покупателей, препирались с ними из-за цен, стараясь из любого пустяка извлечь доход.
Чего только здесь не было! Глаза у Нванкво разбежались. Если бы он явился на рынок просто за покупками, уж нашел бы, на что истратить денежки. Но у него была важная цель, и потому он не позволял себе заглядываться на приманчивые товары. На всякий случай он запустил руку поглубже в карман, где лежала толстая пачка красненьких наир1, завернутых в старый носовой платок.
Наконец Нванкво добрался до центральной части рынка и остановился на минутку, чтобы определить, куда ему дальше держать путь. Вот тут-то его кто-то и окликнул:
— Эй! Нванкво, брат! Сюда!
Пораженный тем, что в этом скопище народа кто-то узнал его, Нванкво обернулся и увидел своего земляка и дальнего родича Окафо-торговца, приветливо махавшего своей огромной рукой.
— Вот так встреча! — обрадовался торговец, протягивая руку для приветствия.
Чтобы ответить на пожатие, Нванкво пришлось разжать пальцы, судорожно сжимавшие деньги. Земляки так крепко стиснули друг другу руки, что аж хрустнули пальцы. Окафо пригласил его под свой навес. Нванкво невольно залюбовался товаром своего родственника. Не сказать, что вещей было так уж много, но зато какие это были вещи! Первый класс! Мужское нижнее белье, женские нейлоновые блузки, банки со сгущенкой, куски хозяйственного мыла, зеркала с застенчивыми китаянками на обороте, пудра в больших ярких коробках, зеле
1 Наира — основная денежная единица Нигерии.
279
ная, желтая и синяя помада в плоских стеклянных футлярчиках, кошельки, нафталин, тетради, катушки с нитками, авторучки и пачки стирального порошка.
У Нванкво захватило дух от восхищения, он вытягивал шею и вертел головой, чтобы получше разглядеть все это великолепие.
— Земляк! Да ты, я погляжу, отлично устроился.
Окафо скромно промолчал, но был явно польщен. Он сдвинул с деревянной скамьи связку застежек «молний» и коробку со свечами.
— Присаживайся и расскажи, как дела дома.
И завязалась оживленная беседа. А поговорить нашлось о чем, ведь Окафо не был дома почти год. Нванкво же никогда прежде не попадал в город. Когда наконец ответы на все вопросы были получены и даже обсуждены подробности давней распри с соседней общиной и ссоры между их общинным советом и этими продувными бестиями городскими толстосумами из города, тогда наконец Окафо спросил:
— Что же привело тебя сюда?
Нванкво объяснил. Оказывается, старшие братья, устав от надувательства и грабежа посредников, послали его прямиком на рынок за мешками с цементом, арматурой и краской для строительства родового дома, которое они с перерывами вели уже без малого четыре года.
Выслушав этот ответ, Окафо призадумался.
— Да, непростую тебе задали задачу, — промолвил он. — Товары, за которыми ты приехал, очень редки. Смотри, как бы тебя не надули. Рынок — это такое место, где ухо надо держать востро. Послушай, а почему бы тебе не обратиться за помощью к Океке?
— Ты что, забыл, что наш отец и дед Океке поссорились из-за трех пальмовых деревьев, что росли напротив здания миссии? — возразил Нванкво. — Нет, к нему я не могу обратиться.
— Да, верно. — Окафо опять призадумался. — Уче хорошо знает этих торговцев. Давай позовем его.
— Но ведь старший дядя Уче так и не внес выкуп за вторую сестру нашей матери.
— Я и забыл, — нахмурился Окафо.—А как насчет Нвосу?
Нванкво опять покачал головой.
— Тесть Нвосу отдал ферму в залог за пятьдесят биафрий-ских фунтов, а мой тесть хотел передать ему ее обратно за пятьдесят нигерийских фунтов...
Океке сокрушенно вздохнул:
— Да, чем полагаться на таких ненадежных людей, уж луч
280
ше ступай один. Но помни: рынок — это такое место... Здесь такие чудеса творятся...
Покинув убежище Окафо, Нванкво вновь влился в людской поток, который струился, как речные воды по каменистому руслу, то завиваясь в водоворотах, то замирая будто на мелководье. Время от времени Нванкво и сам останавливался взглянуть через плечи покупателей на какую-нибудь диковинку, вызывавшую всеобщее любопытство. Так он примкнул к кучке возбужденных людей, обступивших человека, показывавшего удивительные фокусы. Он доставал из кармана деньги и прямо на глазах изумленной толпы превращал их в суммы, вдвое, а то и втрое больше прежней. Вот он взял из рук какого-то зеваки четыре наиры и превратил их в восемь. Толпа ахнула и заколыхалась от волнения.
Нванкво задержался здесь чуточку дольше, чем следовало. Очень уж велик был соблазн удвоить все деньги, что у него были. или хотя бы свою собственную долю этих денег. И тут он почувствовал, как что-то едва заметно коснулось его бедра. Он развернулся, хлопнув себя рукой по карману, и успел увидеть хорошо одетого парня, исчезающего в толпе.
Со сдавленным криком «держи вора!» Нванкво, рванулся вслед за парнем, но ручная тележка, подобно челноку, ведомому против течения, преградила ему дорогу. Пока он пытался ее обогнуть, тележка развернулась кормой к потоку. Один из «гребцов» отер пот, струившийся с бугристого лица. Нванкво с размаху налетел на него, ругаясь в бессильном отчаянии.
Поздно. Хорошо одетый парень уже скрылся из виду. А с ним вместе и толстая пачка наир. Нванкво не побежал дальше — бессмысленное занятие... Он с трудом переводил дыхание, во рту у него пересохло. Люди проходили мимо, одни взирали на него с любопытством, другие, поглощенные собственными заботами, не замечали чужой беды.
Нванкво медленно побрел мимо торговцев зерном и плетельщиков корзин, все еще надеясь разглядеть в водовороте красок рубашку характерного оливкового цвета. Он уже не соображал, где находится и в какую сторону идти. Как он вернется домой и скажет братьям, что потерял деньги? Он больше не восхищался ни штабелями пружинистых матрасов, ни пирамидами поролоновых подушек, ни тенистыми шатрами, собранными из длинных кусков дорогих тканей. Солнце застыло в небе, как занесенная для удара разгоряченная ладонь.
Нванкво и не заметил, как опять оказался рядом с навесом Окафо.
— Быстро ты управился, земляк! — услышал Нванкво прямо у себя над ухом голос Окафо. — Где же товар?
281
Нванкво, безучастный ко всему, остановился. Что толку продолжать поиски? Он ступил под навес и на короткий миг зажмурился, привыкая к темноте. Только он открыл рот, собираясь поведать свое горе, как вдруг заметил, что Окафо не один.
Молодой человек... совсем молодой, симпатичный. Он по-свойски расположился на деревянной скамье рядом с Окафо. Глаза Нванкво от ярости налились кровью. Даже в тени он заметил, как по лицу молодого человека скользнуло облачко тревоги. Выходит, он тоже узнал его. Одет он сейчас был в синюю рубашку, но у ног его лежал надорванный бумажный пакет, из которого торчала складка характерного оливкового цвета.
Нванкво вцепился в парня мертвой хваткой.
— Где мои деньги? — прошипел он. — Я позову полицию,— зарычал он.—Держи вора! — заорал Нванкво, и прохожие с любопытством повернулись на звук этих магических слов.
Окафо с силой усадил Нванкво на скамью лицом к молодому щеголю.
— Прежде чем звать полицию, прошу тебя, расскажи мне в чем дело. Я же говорил: рынок это такое место...
Задыхаясь от ярости, Нванкво рассказал о своем приключении.
Окафо повернулся и с укором взглянул на парня.
— Ты взял деньги у моего брата?
— Откуда мне было знать, что это ваш брат, — огрызнулся тот.—Вы что ж, от одного отца?
— Отцы отцов наших отцов были братья, — пояснил Окафо.
— Вот оно что! Но как я мог об этом знать? Разве я виноват?
— Где деньги? — во все горло завопил Нванкво, которому было уже не до соблюдения приличий.
— Сейчас принесу, — пообещал парень, порываясь встать со скамьи.
Они силком усадили его обратно.
— Вот что, милый, — решительно произнес Окафо, — ты скажешь нам, где деньги, и мы пошлем за ними моего мальчишку. А пока он не вернется, ты будешь сидеть здесь. И не пытайся дать деру, — грозя кулаком и скаля зубы, добавил он.
Вору не оставалось ничего иного, как согласиться.
— Не мог я знать, что вы братья, — ворчливо добавил он. — Может, вы думаете, что я могу узнать со спины каждого, кто приходит на рынок? И всех их братьев в придачу?
Когда наконец узелок с деньгами был возвращен, их пересчитали, убедились, что они все целы, и лишь после этого отпустили карманника.
282
Нванкво издал глубокий вздох облегчения и вытер пот со лба.
Окафо покачал головой.
— Считай, что тебе повезло, — заметил он. — Я же предупреждал, рынок — удивительное место. Оставайся-ка лучше со мной, переночуешь в моем доме. Завтра мы попросим Узо присмотреть за моими товарами, а я провожу тебя сам к торговцам и посажу на автобус. Не успокоюсь, пока не увижу, что ты благополучно покинул город.
— Но ведь Узо... — запротестовал было Нванкво.
— Чем тебе Узо не угодил, ты мне расскажешь в другой раз. В любом случае он менее опасен, чем все эти мошенники. Сегодня у тебя стащили деньги, а завтра могут увести купленные тобой товары. А теперь, — продолжал он неодобрительно, — расскажи подробнее, как удалось этому сопляку провести тебя, человека таких-то лет.
Нванкво нехотя отвечал:
— Я шел, как уже говорил тебе, и только задержался на одну секунду посмотреть на человека, удваивавшего деньги.
Окафо пренебрежительно фыркнул.
— Это был настоящий волшебник, — заверил его Нванкво. — Я собственными глазами видел. Сотни наир. И только я подумал, не дать ли мне свои деньги на удвоение... Он многим удваивал...
Торговец зажег сигарету и, дунув на спичку, погасил вместе с ней весь окружавший их мир рынка. Он снова стал степенным земляком, дающим мудрый совет своему соседу на знакомой дороге через буш.
— Ты рассчитывал извлечь выгоду? Запомни, — произнес он внушительно: — Дорогу к источнику легче всего найти по черепкам.
ЗА ЗОЛОТЫМ РУНОМ В АЙЛИНГТОН
Вот уже целых восемь лет, как Стивен Океке живет в Англии. Еще в то время, когда он отправлялся из своей деревни в Лагос, он знал, что вернется нескоро. Трудно сказать, через сколько лет и месяцев. Во всяком случае, не раньше, чем добьется успеха. Пока, выражаясь высокопарно, не добудет золотое руно, а если говорить попросту, пока не освоит сносно какую-нибудь профессию, которая сможет пригодиться ему на родине.
У его земляков в Восточной Нигерии есть поговорка: «Добраться до Лагоса легко, да вот вернуться оттуда трудно».
283
Любой мало-мальски деятельный человек может накопить деньги на проезд: не так-то уж их и много требуется. Но если отправился в Лагос, то добейся там успеха, чтобы не стыдно было вернуться. Нужно иметь деньги не только на обратный проезд, но и на подарки и все прочее. А уж преуспеть в заморской стране — дело почти немыслимое. Океке хорошо это понимал.
Поэтому его не очень беспокоило, что шли месяцы и годы. В те дни путешествие не представляло особого труда. Нужно было лишь собрать на проезд что-то около пятидесяти фунтов. На это, естественно, требуется время, особенно если ты всего лишь слуга в доме, зарабатывающий от шести до семи фунтов в месяц и посылающий деньги родителям, младшим братьям и сестрам, которые остались в деревне. И все же два года — вполне достаточный для этого срок. Запрашивают же некоторые родители выкуп в сто фонтов за невесту, и ничего, никто из-за этого еще не повесился.
Когда есть деньги, все формальности улаживаются просто. Ни один чиновник иммиграционной службы не станет допытываться «что, где, когда и почему?», с тем чтобы, чуть что не так, отправить тебя обратно. В одно далеко не прекрасное утро Стивен отправился из Ливерпуля в Лондон. Он остановился у своего соотечественника, адрес которого ему дали на корабле. Звали его Амосом. Это был бизнесмен — приземистый, пухлый, с преуспевающим видом. Судя по его довольно-таки несвязному рассказу, он прибыл в Англию еще во время войны. Да так и осел здесь. В ту пору жалкий бедняк, теперь он владел обшарпанным домом, обставленным мягкой мебелью, с большим телевизором в холле и длинной сверкающей машиной. В компании он говорил с нарочитым американским акцентом. Представлялся он как «мистер Джексон».
— Сколько ты здесь уже прожил? — полюбопытствовал Стивен.
— Пятнадцать лет, дружище,—внушительно произнес Амос, откидываясь в пружинистом кресле, чтобы полюбоваться своими начищенными ботинками.
— А когда собираешься домой?
— Домой? — Амос, подавшись вперед, пристально посмотрел на своего простодушного собеседника. Потом снова откинулся и невесело рассмеялся. — А что. собственно, я там оставил? Двухэтажный дом? Машину? Если уж говорить правду, то ничего, кроме кучи голодных родственников, которые в конце каждого месяца выстраивались в очерцдь за моими деньгами. Дураков нет. Мне и здесь хорошо.—Он бросил быстрый взгляд на свою молодую сожительницу, которая с хмурым
284
взглядом прислушивалась к звукам непонятного ей языка. — Не вздумай, ради бога, говорить с этой женщиной о моем возвращении домой, не то она тебе глаза повыцарапает. И не говори все время на ибо, иначе она не успокоится, пока я не перескажу подробно все, о чем мы говорили.
Стивен понятия не имел, зачем наживать богатство, если не хочешь возвращаться домой, но спустя некоторое время он понял, что Амос не лжет. У него и впрямь не было никакого желания вернуться. Его семья в Игболенде даже не знала, жив он или нет. Стивен считал своего нового знакомого заслуживающим всяческого порицания. С трудом скрывая свое неодобрение, он стремился как можно скорее подыскать себе место и уехать.
Вскоре он поселился в Бетнал-Грин, начал работать чернорабочим. Время шло быстро. Выяснилось, что, прежде чем приступить к осуществлению своих планов, ему еще предстоит овладеть английским языком и сдать экзамен за среднюю школу. Терпеливо откладывая деньги, он поступил на заочное отделение колледжа. Устраивался на работу, терял ее, находил другую. Жил в убогих меблированных комнатах, перебирался из Бетнал-Грин в Брикстон, из Ноттинг-Хилла в Айлингтон. Но все это время регулярно писал своей семье, и они писали ему, когда им что-нибудь было нужно.
Из своего скудного заработка он выкраивал деньги для оплаты больничных счетов и расходов на школьное обучение, отправлял денежные переводы по случаю рождений и похорон. Родственники каждый раз просили по десять, а то и по двадцать фунтов', и он высылал все, что мог наскрести. Он знал, что родственники все равно будут разочарованы и не замедлят сообщить ему об этом.
Первое время он пытался растолковать, как неимоверно дорога здешняя жизнь. Пробовал объяснить им, что человек, зарабатывающий восемь фунтов в неделю в Англии, нисколько не богаче человека, зарабатывающего шесть фунтов в месяц в Онитше. Пожалуй, он даже в худшем положении, так как в Лондоне нельзя питаться на тридцать шиллингов в месяц и обходиться без пальто и ботинок. Они не понимали, как мною денег уходит на самое необходимое: жилье, одежду, плату за заочное обучение, учебники. И он не винил их. Когда-то он и сам так думал, пока не поездил и не повидал свет. «Только бы добраться до Англии, — мечтал он в те времена.— Все остальное уладится само собой».
Он описывал родным, какова здесь жизнь, но никто, казалось, даже не читал его описаний. Точно так же, как он пропускал их упреки, спеша прочитать, что в конце. Порой он даже
285
завидовал Амосу, который жил в собственном, хоть и обшарпанном доме, вдали от родни и их нескончаемых требований. Он не мог не сознавать, что в словах этого человека, который ему так не нравился, была доля правды. В его ушах снова и снова звенел саркастический смех Лемоса.
Как-то вечером, на восьмом году своей жизни на чужбине, Стивен сидел в своей комнате перед листком бумаги. Он наконец осуществил то, за чем приехал. Долгожданный диплом надежно упрятан в чемодане. К сожалению, работая кладовщиком, он зарабатывал всего десять фунтов в неделю, из которых два фунта пятнадцать пенсов платил за холодную каморку. При таком мизерном заработке нечего было и надеяться собрать достаточно денег для того, чтобы вернуться - победоносным героем.
Он уже не раз прикидывал, во что ему обойдется возвращение. Нужны деньги на дорогу, новая одежда, подарки матери и сестрам. Но это была лишь малая часть расходов. Надо ведь устроить полагающиеся торжества, помочь людям, которые в этом нуждаются. На это нужна целая прорва денег. Раздумывая обо всем этом, он чувствовал себя совершенно бессильным. Все его усилия бесплодны. С таким же успехом можно лить пальмовое вино в песок пустыни.
И вот однажды вечсрохМ он крепко задумался. Без помощи свыше или счастливого лотерейного билета, что, в сущности, одно и то же, ему никогда не вернуться, продолжай он, как сейчас, высылать домой деньги, говоря фигурально, выплескивая воду из горшка, прежде чем он успеет наполниться. Он останется здесь, как и Амос, с той лишь разницей, что тот сам сделал свой выбор, а он никогда не будет счастлив в изгнании. Что, если отказать родственникам в помощи? Он знал, что они его осудят, но другого выхода не оставалось. Сколько же надо подкопить? Сто фунтов плюс деньги на дорогу? Люди на родине всегда связывают возвращение человека, побывавшего за границей с такими ожиданиями, что вернуться со ста фунтами все равно что вернуться с пустыми руками. На лестнице послышались чьи-то шаги.
— Стив, Стив! Вы здесь?
— Здесь, — сказал он, неловко поднимаясь с жесткого деревянного стула.
— Вы забыли свое письмо. — Жилец из соседней комнаты протянул ему голубой авиаконверт. — Я нашел его здесь, на полу.
— Спасибо.
Он взял письмо и повертел его в руках, прежде чем вскрыть. Оно было от Донатуса. Кто такой Донатус? Вот до-
286
нолнительное неудобство столь долгой разлуки с домом. С тех пор как он уехал, дети, которых матери еще носили на спине, уже выучились писать, да еще как правильно.
«Дорогой брат Стивен, как вы поживаете? Надеюсь, вы живы-здоровы. Дома у нас пока все в добром здравии, но что будет завтра, известно одному богу. Я часто думаю, почему вы ни разу не написали мне с тех пор, как уехали за море?»
Пробежав глазами знакомый упрек, Стивен задумался. Кто бы это мог быть. Наконец в памяти всплыло лицо ребенка, оно робко выглядывало из-за материнского плеча. Прошло восемь лет, значит, будет просьба по поводу расходов на школу.
«Я поступил в среднюю школу для мальчиков и прошу вас выслать мне необходимые деньги на книги, форму и плату за первый семестр. Всего пятьдесят фунтов. Все здесь говорят, что вы не хотите возвращаться домой, и так как вы единственный из наших братьев, у кого есть деньги, и проводите жизнь за границей, то...»
Пятьдесят фунтов!
Стивен в отчаянии глядел на письмо. За дверью гремел кастрюлей сосед, с которым они вместе пользовались плитой, стоявшей па лестничной площадке. Пятьдесят фунтов!
А у него всего двадцать семь фунтов в сберкассе. К тому же он решил не посылать больше денег, пока их не скопится достаточно для возвращения. Обхватив голову руками, он раздумывал, как ему поступить. Ему хотелось и смеяться и плакать. Наконец он отмел в сторону бумагу с подсчетами и выдвинул ящик стола. Положил перед собой бланк авиаписьма и принялся писать.
Должны же наконец его родственники понять, что они напрасно посылают своих сыновей на поиски золотого руна. Драгоценной шкуры легендарного барана никогда не хватит на всех обездоленных. Уж лучше бы их сыновья обрели дар Мидаса, его способность одним прикосновением превращать все в золото. Но это уже из другой легенды...
ПОМЕШАННАЯ
С первого дня своего возвращения в родную деревню Адаку заметила, что брат Обиома чем-то озабочен. Он явно выжидал удобного случая, чтобы попросить ее о чем-то, но все не решался. Адаку даже забавляла его робость. Она была доброй, приветливой женщиной, всегда готовой прийти на помощь. Адаку промышляла торговлей, и дела у нее сейчас шли неплохо, а Обиома с конца войны сидел без работы. Нетрудно было
287
догадаться, о чем он собирается просить сестру. Ему, конечно, нужны деньги. За чем же дело стало? Пусть только скажет, сколько. Но время шло, а он так и не решался начать важный разговор. Очевидно, он стеснялся посторонних, догадывалась Адаку. И несколько вечеров подряд она старалась остаться наедине с ним и его женой. Они уютно пристраивались под тростниковым навесом и под шелест дождевых струй коротали время за пустыми разговорами. Но и в эти вечерние часы брат замыкался в себе. Очевидно, даже присутствие жены смущало его.
Но вот однажды Обиома печально взглянул в глаза своей сестре. Она была уверена, что сейчас он попросит ее о помощи. Но брат неожиданно произнес:
— Моя жена помешанная...
Адаку метнула удивленный взгляд на Ихунанью, которая сидела сейчас перед кухней в окружении детей, шумно требовавших еды. И хотя ребятишки были голодны, ни они, ни их мать не выглядели ненормальными. Напротив, они о чем-то весело болтали и смеялись.
— Не удивляйся, — ответил Обиома на невысказанное сомнение сестры. — Большую часть времени она выглядит и ведет себя, как нормальный человек. Она у меня чистюля, и сама опрятно одевается, и за детьми смотрит, хозяйство ведет справно, ходит на рынок. И все же она помешанная. Как еще можно назвать женщину, которая до сих пор ищет ребенка, умершего три года назад? — В голосе Обиомы не было злости, только печаль. — Тебя тогда не было с нами, ты торговала в Ихиале,— продолжал он. — Когда снова перестала поступать помощь и пункты по раздаче продовольствия закрылись, все дети расхворались. Я был в армии. Ихунанья сама заболела. Она так и не узнала, когда ее сестра, прослышав о приезде доктора, отнесла туда Ихеаньи, нашего младшего. Доктора эти были европейцами, и они помешали многих детей в свои лазареты. Потом дела пошли чуточку получше, а вскоре и войне пришел конец. Детей вернули, не всех, конечно, а только тех, кто выжил. Многие умерли, кто сразу, а кто чуть позже. Но мы так и не знаем, что случилось с Ихеаньи.
— Ихунанья не верит в то, что он мертв?
— Мы спрашивали у всех. Никто из того лазарета не видел, как он умер. Но это ничего не доказывает. Там были сотни детей. Мальчик уже умирал, когда его понесли туда из деревни. Все женщины подтверждают это, а они к тому времени уже хорошо знали лицо смерти. Он мертв, в этом нет сомнения, но Ихунанья все не может в это поверить.
Адаку наконец собралась с мыслями.
288
— А вы не обращались к дибиаху?
— Обошли всех дибиахов на пятнадцать километров кру-। ом. Все говорят, что он мертв.
— Но тогда...
— Кроме одного. Он ворожил, ворожил, но так и не дал определенного ответа. Его одного и слушает Ихунанья. Она утверждает, что мальчик жив и она должна найти его. Когда вернулись дети из Габона, я водил ее посмотреть на фотографии нескольких детей, оставшихся .невостребованными. Она посмотрела и только сказала: «Его здесь нет».
— Значит, она хочет найти его...
— Несколько месяцев все идет спокойно. В сезон дождей ей становится хуже. Мне кажется, гром напоминает ей о бомбежке. Я вижу, как она начинает переводить взгляд с одного ребенка на другого. Я знаю, что она считает их, вспоминая, что одного нет. Так продолжается несколько дней, потом она уходит из дома.
— Но она возвращается?
— Обычно я сопровождаю ее,— сказал он.—Я не могу •оставить ее одну среди чужих людей, которые могут начать смеяться над ней, издеваться, а то и забросают камнями. Я иду с ней. Когда мы опросим всех в округе и она признает, что Ихеаньи нет, я напоминаю о неотложных делах дома, и тогда мы возвращаемся.
— Я ничего не знала об этом, — пробормотала глубоко потрясенная Адаку.
Обиома пожал плечами.
— Кому охота объявлять во всеуслышание, что его жена помешанная?
— Почему же ты сейчас рассказал мне об этом?
— Потому что на этот раз я не смогу сопровождать ее. Ты знаешь, я ищу работу с тех пор, как кончилась война. Сейчас мне обещали помочь устроиться, но для этого придется на следующей неделе уехать в город. Не успею я вернуться, как Ихунанья уйдет на поиски. Я уже вижу признаки. Слава богу, что ты приехала. Я тебя прошу пойти с ней вместо меня.
Сердце у Адаку замерло. В ней все содрогнулось при мысли, что придется сопровождать помешанную, сносить насмешки чужих людей. Но разве она могла отказаться! Ах, лучше бы брат попросил у нее денег. Но сейчас он нуждался именно в такой помощи.
— Я пойду с ней, — скрепя сердцем пообещала Адаку. — Может, когда она исходит всю Биафру, она успокоится.
Обиома уехал устраиваться на работу, и Адаиу, оставшись одна с Ихунаньей, с тревогой присматривалась к ней. Преду
10 Альманах «Африкан, выл. 6
289
прежденная заранее, она замечала признаки возрастающего беспокойства. Глаза матери блуждали по лицам детей, сидящих вокруг очага. Она вглядывалась то в одного, то в другого, потом, как бы в странном недоумении, озиралась по сторонам.
Как-то вечером она дала старшей дочери немногословные, но четкие указания о еде, супе и дровах, затем сказала:
— Сестра, завтра я отправляюсь в путь.
Адаку потуже затянула халат на талии.
— Я иду с тобой,—решительно промолвила она.
На следующее утро они вышли очень рано. Ихунанья была молчалива, лишь изредка она заговаривала со встречными, чтобы спросить дорогу. Некоторые узнавали ее и задавали сочувственные вопросы. Ихунанья вежливо отвечала на приветствия, но в разговоры не вступала. Она шагала так быстро, что за ней нелегко было поспевать. Выглядела она такой возбужденной и счастливой, будто спешила на радостное свидание.
Чем дальше они уходили от дому, тем больше росла тревога Адаку. Как поведет себя ее невестка, когда осознает, что надеяться больше не на что? Что сделает, если над ней начнут потешаться? Ведь, как-никак, прошло целых три года, как закрыли все лазареты... Удастся ли уговорить ее вернуться домой? Больше всего Адаку боялась, что приступ буйного помешательства овладеет Ихунаньей где-нибудь в многолюдном месте. Но один взгляд на лицо несчастной женщины развеивал все эти опасения.
О боже, что их ждет впереди?
Они заночевали у каких-то дальних родственников в двадцати километрах от дома. Когда они входили в поселок, уже смеркалось. Адаку не знала, как отвечать на расспросы, но, к счастью, люди обо всем уже знали.
— Всё ищете? — сочувственно спрашивали они.
— Да, ищем, — отвечала Адаку.
Чуть свет они снова тронулись в путь и к полудню пришли в отдаленный город. Ихунанья остановилась перед вереницей женщин, продававших вдоль дороги овощи и фрукты.
— Где лазарет? — спросила она.
Женщины кто удивленно, кто насмешливо взглянули на них. Адаку от стыда готова была провалиться сквозь землю.
— Лазарет? — переспросили женщины. — Здесь нет никакого лазарета. Раньше был, вон в той школе.
Ихунанья бросилась к зданию, указанному торговками. Адаку с трудом поспевала за ней, стараясь не слышать.язвительные замечания, которые отпускали им вслед женщины.
В школе их встретила ватага хихикающих ребятишек, потом появились учителя, и опять начались расспросы. Учителя
290
по-разному отнеслись к потерявшей рассудок женщине и ее спутнице: одни сочувственно внимали ее бессвязному рассказу, другие остались равнодушными, а кое-кто посмеивался.
— Тут теперь нет никакого лазарета. Нет, никаких детей не осталось. Посмотрите сами!
Наиболее отзывчивые согласились провести Ихунанью по своим классам, до отказа забитым ребятишками.
— Видите? Его здесь нет.
Без видимого огорчения Ихунанья согласилась.
— Здесь его нет,— и повернулась, чтобы уйти.
Чем чаще повторялись подобные сцены, тем больше росло уважение Адаку к своему брату. Вскоре она перестала стыдиться и первая спешила навстречу директорам, пасторам, сестрам, всем, кто готов был ее выслушать. Она старалась пробудить в них сострадание к Ихунанье или хотя бы не дать им слишком резко отвергнуть ее взволнованные расспросы. Но никто ничем не мог им помочь, в лучшем случае они советовали, куда обратиться дальше:
— Загляните в приют для бедных... В отделение церковно миссионерского общества... в городскую больницу... в мо настырь... Раньше там был лазарет.
И всякий раз Ихунанья воодушевлялась и устремлялась вперед, а следом за ней — Адаку, едва переводя дух, стараясь не замечать ни молчаливых взглядов, ни бездушного смеха, бежавшего им вдогонку. В конце этих многодневных испытаний они по чьему-то совету зашли в среднюю школу, длинные корпуса которой стояли посреди широкой травянистой поляны с двух сторон окаймленной зеленым лесом. Спеша вверх по тропе, они повстречали преподобную сестру, которая торопилась вниз. При одном взгляде на ее доброе, мягкое лицо трево га Адаку улеглась — ей не придется снова, заикаясь и робея от смущения, объяснять, кто они такие и зачем сюда пришли.
Выслушав как всегда сбивчивые вопросы Ихунаньи, сестра грустно покачала головой:
— Все' дети уехали. Лазарет здесь был небольшой, детей было слишком много. Его закрыли в конце войны, и сейчас здесь никого не осталось. А в других местах вы не спрашивали?
Вопрос был обращен к Адаку.
— Спрашивали, — ответила она, чувствуя, как ею начинает овладевать апатичная усталость, сменившая напряжение и страх.
Ихунанья же скороговоркой перечисляла места, где они уже побывали, и просила подсказать новые адреса.
— Еще один лазарет был в городе при церкви Иоанна Кре
10*
291
стителя,— ответила сестра. — Но... — и она запнулась, встретившись с горящим от лихорадочного нетерпения взглядом Иху-наньи.
И вдруг Ихунанья сникла. Впервые она не рванулась с места. Возможно, и на ней стала сказываться усталость от долгой дороги, дождя, от шепота и пересудов, которых она. казалось, и не замечала. Внезапно долетевший до них шум детских голосов вывел ее из оцепенения. Сестра объяснила:
— У школьников занятия. Это они так шумят. — Она показала рукой. — Вон в том корпусе был наш лазарет. С тех пор он так и стоит в запустении. Со времен войны в нем ничего нс изменилось.
Адаку вежливо кивала, чувствуя, как все ее существо заливает щемящая боль. Но лицо Ихунаньи просияло. Она напряженно вглядывалась в даль и вдруг закричала:
— Сынок! Ихеаньи!
В этом крике не прозвучало ни нотки отчаяния. Her. так обычно женщины зовут заигравшихся детей, чтобы они помогли им в домашних делах.
Пальцы сестры привычно перебирали четки. Сквозь набежавшие слезы, ослепленная ярким солнечным светом, Адаку с трудом различала песчаную тропу, ведущую к заброшенному зданию. На какое-то мгновение в ней тоже вспыхнула безумная надежда, что маленький мальчик просто спрятался в укромном уголке и в течение трех лет мог оставаться незамеченным. И вот сейчас, услышав материнский голос, он отвлечется от увлекательной игры в камушки и ореховые скорлупки, выкарабкается из теплого песка и поспешит им навстречу.
Они долю ждали. Никто так и не появился.
ЖЕНЫ УЧЕ
Уж так получилось, что Уче оказался единственным мальчиком в многочисленном семействе. У его отца было три жены, которые произвели на свет девять дочерей и пять сыновей. Но мальчики рождались слабыми, и четверо из них еще в младенчестве ушли в мир иной. Теперь от одного Уче зависело продолжение рода, а это немалая ответственность. Вот почему решено было женить его как можно раньше. В жены ему подобрали трудолюбивую, проворную, смышленую девушку по имени Чинейре. Вскоре она понесла. Каково же было всеобщее разочарование, когда в положенный срок молодая разрешилась от бремени девочкой. Примерно через год она родила второго ребенка, и опять девочку. Что за напасть! Уче решил
292
посоветоваться с колдуном-дибиахом. Тот бросил свои гада-1ельные кости и объявил, что надежду терять не следует — рано или поздно родится у Уче сын. Однако и в третий, и в че 1вертый раз Чинейре разрешилась от бремени дочерьми. Да, не повезло бедняге с женой! Мать Уче невзлюбила невестку, не упускала случая попрекнуть ее в неспособности родить сына. Все чаще и чаще разгорались семейные ссоры. Они нарушили покой всей деревни. Соседи пытались примирить раздосадо ванных домочадцев с Чинейре, но страсти от этого лишь разгорались.
И так жена Уче произвела на свет шестерых девочек, таких же миловидных, проворных и смышленых, как она сама, но )то мало радовало молодого папашу — сына-то по-прежнему не было. Тут хочешь не хочешь, а задумаешься. Вот и надумал Уче жениться еще раз. Только наученный горьким опытом он решил, что ни за что не возьмет в дом непорочную девицу, которая, чего доброго, тоже нарожает ему кучу девчонок, а то и вовсе окажется бесплодной. Уж если брать вторую жену, гак только такую, которая уже доказала, что может выносить в своем чреве сына.
Однажды судьба занесла Уче на рынок, находившийся довольно далеко от их деревни. Продав свой товар и купив все, что ему было нужно, он стал бродить по рыночным рядам, рассеянно глазея по сторонам. Народу там собралось великое множество, и было на кого и на что подивиться. Вот тут-то Уче и заметил женщину, сидевшую на табурете немного поодаль от других торговок. На земле перед ней были разложены бананы. Но не ее товар привлек внимание Уче, а она сама. Это была красивая, зрелых лет женщина, с гладкой кожей лица, полногрудая, с покатыми плечами. Уче сейчас не были нужны бананы, но ноги сами понесли его к прекрасной торговке. Ему захотелось услышать ее голос. Он стал прицениваться к бананам и был так очарован се скромным и приветливым ответом, что купил огромную связку, нисколько не печалясь, что увеличилась и без того тяжелая ноша. Пока Уче плелся домой по лесу, он то и дело подсмеивался над новой заботой, которую придумал сам себе. Когда он наконец добрался до дому, Чинейре, приветствовав его, спросила:
— Зачем ты купил бананы? У нас и своих много.
Ответ мужа прозвучал настолько резко, что слезы заполнили ее глаза, а в сердце закралось подозрение. Уче с трудом дождался следующего базарного дня, и когда он наступил, поспешно направил свои стопы в сторону дальнего рынка.
«Хотя бы сегодня она продавала что-нибудь полегче, чем бананы,— соль или орехи кола»,—думал он.
293
Долго бродил Уче меж шумных базарных рядов, пока наконец не увидел свою незнакомку. Другие женщины сидели группками, смеясь и сплетничая, громко зазывая покупателей. Она же опять сидела в сторонке, ни с кем не вступая в разговор. На этот раз она продавала перец и удивленно подняла глаза. Помедлив, она ответила на приветствие теплым, мягким голосом. Уче уже давно расплатился, но все никак не мог отойти. Он даже обрадовался, встретив какого-то своего знакомого, и затеял с ним долгий разговор, то и дело косясь на пышную красавицу. Наконец, смущаясь как мальчишка, он решился спросить собеседника:
— Не знаете ли вы эту женщину? Откуда она?
Так он узнал, что ее зовут Узодинма, что живет она здесь же, неподалеку. Она, оказывается, была замужем, но не так давно ушла от мужа. Почему, никто не знал. Другие женщины относились к ней из-за этого неприязненно. Вот почему она держится в стороне от них.
В следующий базарный день, к великой своей досаде, Уче не смог отлучиться из дому. Поднакопилось работы на ферме, и пришлось отправиться туда. Но работа не ладилась, всеми своими мыслями Уче был в суете и шуме дальнего рынка. За что ни возьмется, все валится у него из рук. Злой и раздраженный вернулся он домой. Чинейре не могла не заметить, как что-то гложет ее мужа, но спросить, в чем дело, она не решалась. Уче и без того обращался с ней плохо. Что бы она ни сказала, как бы ни поступила, все выводит его из себя. И все из-за того, что она не может родить ему сына. Остается одно — молчать.
Зато в конце недели в очередной базарный день Уче вышел из дому так рано, что оказался на рынке раньше многих торговцев. Узодинма была уже на месте, она выкладывала из баула яйца. Какой-то мальчонка поднес ей табурет, а двое, совсем еще малышей, тащили злого петуха с красными глазами и с лапками, связанными пальмовым волокном.
Сердце у Уче екнуло.
— Это ваши сыновья? — спросил он.
Узодинма нежно взглянула на него и кротко подтвердила, да, это ее дети. Уче пробормотал что-то насчет того, какие замечательные мальчики, и, плохо соображая, как себя вести, чтобы это выглядело естественно, поспешно удалился.
Домой он летел как на крыльях. Первым делом он кинулся к отцу и заявил, что собирается жениться. Поначалу родителям не понравилось, что сын остановил свой выбор на женщине, бросившей мужа. Но ему удалось их убедить: как-никак, она — мать троих сыновей, и значит, сможет и его осчастливить рож
294
дением мальчика. В конце концов решено было посоветоваться с колдуном. Как он скажет — так и будет.
— Вы хотите знать, окажется ли удачной эта женитьба? — задухмчиво спросил колдун и, поразмыслив, ответил: — Да, Уче не ошибся в выборе.
— Будет ли эта женщина хорошей женой нашему сыну? — настаивали родители.
— Она сделает для этого все возможное, — отвечал колдун.
— Родит ли она ему сыновей?
— Вижу, вижу мальчиков в его доме, — прозвучал ответ.
Итак, переговоры начались. Дело оказалось непростым, ибо пришлось возвращать выкуп первому мужу Узодинмы. Все это время Уче сгорал от нетерпения.
Известие о том, что муж намерен взять вторую жену, крайне опечалило Чинейре. Проплакав всю ночь напролет, она наутро собралась и поехала на рынок посмотреть на свою соперницу. Увы, эта женщина была стройна и красива, но вряд ли одной красотой прельстила она Уче. И тут Чинейре увидела трех красивых мальчиков. Вот, оказывается, в чем дело! Вот почему ее муж выглядит потерявшим рассудок! Чувство досады и зависти к этой счастливице преисполнило душу Чинейре. Что ж, хочет жениться — пусть женится. Но до чего же обидно сознавать себя неудачницей.
Потихоньку от всех Чинейре отправилась к другому колдуну, но и он повторил слова первого: никто в этом не виноват, и ничего не поделаешь. Уче должен взять вторую жену, лишь после этого осуществится его мечта иметь сына. Грустной и подавленной вернулась Чинейре домой.
Вскоре после этого Уче привел Узодинму в свой поселок. Он построил новый глинобитный дом и поселил ее там вместе с сыновьями. Новая жена, такая приветливая и кроткая, пришлась всем по нраву. Чинейре всеми силами старалась держаться непринужденно, но голос ее, против воли, звучал пронзительно и резко, как стрекот сверчка. И Уче, и его родители всем своим видом подчеркивали, которой из двух женщин они отдают предпочтение.
Когда Узодинма понесла, все сельчане, казалось, преисполнились радостным ожиданием. Чинейре не ревновала. Было просто невозможно испытывать неприязнь к такой славной женщине, как Узодинма. Но чувствовала она себя такой несчастной и заброшенной, что временами желала только одного — броситься в колодец. А вскоре она заметила, что и сама ждет ребенка, уже седьмого, но нисколько не обрадовалась, да и другим до этого не было никакого дела.
И вот пришло время Узодинме рожать. Чинейре в то утро
295
сидела у себя в доме одна и не знала, что предпринять. Если она останется поблизости и роды окажутся трудными, то могут в этом обвинить ее. А если затаится, то могут подумать, что она задумала недоброе. Вздохнув, Чинейре подобрала корзину и отправилась собирать хворост. Вернулась она около полудня и еще издали услышала, как женщины выкрикивают приветствия в честь новорожденного. Один за другим прозвучали три клича. Только три...
Нет, должно быть, она ослышалась. Ведь три раза кричат, Kotua является на свет девочка. А у Узодинмы должен был родиться сын. Никто и не мыслил иначе. Чинейре прибавила шагу. Возле дома Узодинмы собралась группа женщин. При виде Чинейре они замолчали и как-то странно взглянули на нее.
— Родила сестра Узодинма? — спросила Чинейре.
— Родила, — ответили ей.
- Кого?
— Девочку.
Женщины ждали, как отнесется Чинейре к этому известию, не мелькнет ли на ее губах ехидная улыбка. Но лицо Чинейре выражало лишь полное недоумение. Она с трудом могла поверить в услышанное. Более того, Чинейре была огорчена. Она сразу представила себе, как расстроена Узодинма и какое разочарование испытает Уче. Мало того что она сама не могла родить сына, так теперь придется выносить укоры, будто это по ее наговору вторая жена родила девочку.
Набравшись духу, Чинейре вошла в дом Узодинмы — полагалось принести роженице поздравления и взглянуть на малютку. Девочка оказалась крупной, здоровенькой, похожей на свою мать. К удивлению Чинейре Узодинма ничуть не выглядела расстроенной. Напротив, на ее красивом, утомленном лице блуждала удовлетворенная, немного лукавая улыбка, будто происходящее всего лишь забавляет ее.
Вскоре вернулся домой Уче. Ох, и разъярился же он, узнав о рождении еще одной девчонки! Долго бегал он по всему поселку, ища, на кого бы излить свой гнев. Чинейре спряталась подальше, чтобы не попасться под руку озлобившемуся мужу. И долго еще она пряталась от людей, не будучи в силах выдержать их подозрительные взгляды.
Несколько месяцев, оставшиеся до родов, оказались для нее самыми трудными. Родственники то и дело обращались за советом к дибиахам. Они всё допытывались, не околдовала ли из ревности Чинейре вторую жену. Но всякий раз слышали ответ: нет, ни против Узодинмы, ни против кого-либо другого эта женщина зла не замышляет. Что же касается Уче, то он вроде бы нарочно разжигал свой гнев, боясь впасть в отчаяние. Ког
296
да кто-нибудь выказывал ему сочувствие, он настораживался: уж не подтрунивают ли над ним. А присутствие Чинейре он с трудом выдерживал. Не лучше ли отпустить ее к родным? Лишь нежелание вызвать всеобщее осуждение удерживало его от этого шага.
И впрямь, первая жена ни в чем не виновата перед ним. Она выполняла самую тяжелую работу и ни разу не подняла голос в свое оправдание. Более того, она прекрасно ладила со второй женой.
Рождение ребенка сблизило женщин, и вскоре они стали неразлучными подругами. Чинейре больше не роптала на несправедливость судьбы, дающей одной женщине сыновей, а другой только дочерей. Узодинма же в сострадании явно не нуждалась. Она казалась такой же безмятежно счастливой, как и до родов. И то, что всеми было воспринято как несчастье, ничуть не печалило ее. Чинейре только диву давалась, как такая невозмутимая женщина не смогла поладить с мужем, каким бы плохим он ни был. Какой изъян нашел первый муж в Узодинме, что охотно расстался с ней, такой красивой и подарившей ему здоровых детишек?
Вместе работая и болтая, Чинейре внимательно присматривалась к этой женщине. Она поняла, что Узодинма только внешне выглядит такой слабой и кроткой. Ее почтение к мужу одна лишь видимость. На самом деле Узодинма потешается над Уче. Да и не над ним одним. Она ни во что не ставит всех мужчин, презирает их самоуверенность, заносчивость и глупое чванство. Вот почему рождение дочери не просто забавляло ее, а даже радовало. «Конечно, — думала Чинейре, — если у тебя уже есть сыновья, то можно радоваться и рождению девочки». И все-таки она не до конца понимала свою подругу. Было в ней что-то такое, что ускользало от ее разумения.
Но как бы то ни было, общество Узодинмы доставляло Чинейре радость. Они вместе работали и отдыхали. В ее присутствии Чинейре не чувствовала себя ни обделенной, ни несчастной. И больше всего она боялась, как бы Уче не обнаружил в Узодинме тот тайный порок, который, должно быть, обнаружил ее первый муж.
Незаметно пришло время Чинейре рожать. В тот день она была далеко от дома на ферме с двумя старшими дочерьми. Со страхом посматривала она на четырехкилометровую узкую и пыльную тропу, что протянулась под палящим солнцем между фермой и поселком. Она уже смирилась с мыслью, что придется рожать прямо на дороге. Что ж, такова участь многих женщин. Тем не менее Чинейре подозвала девочек и, опершись на крепкую палку, отправилась в деревню. Добравшись
297
до лесу и укрывшись в тени деревьев, она отправила одну из дочерей предупредить женщин, чтобы к ее приходу- они приготовили все необходимое.
— Ну, ну, крепись,—подбадривали Чинейре подоспевшие на подмогу женщины.—Тебе не впервой. Крепись!
И явился на свет мальчик. Он сердито кричал, размахивая в воздухе сжатыми кулачками.
Окружившие роженицу женщины радостно закудахтали, и одна из них побежала вперевалку сообщить остальным радостное известие. До изумленной и счастливой Чинейре доносились их возгласы. И вот уже резкие голоса разносили по деревне весть, что у них стало одним мужчиной больше.
Раздалось четыре приветственных клича. И среди веселых голосов Чинейре различила голос Узодинмы. Вторая жена смеялась без удержу и без притворства. Но смеялась она не от счастья, которое было бы понятным, а от того, что ей просто было смешно. Она хохотала все громче и громче, словно потешалась над всеми, кто ее окружал, и над всем происходящим. Не дай бог Уче догадается о причине ее веселья!
Уже зашушукались деревенские сплетницы, а Узодинма все хохотала и хохотала.
Перевод с английского М. Арабаджян
Надин Гор димер
Надин Гордимер (род. в 1923 г.) — известная писательница ЮАР, автор многочисленных романов и рассказов. Активно вы-
ступает против расизма апартеида. Сборник ее рассказов публиковался в издательстве «Художественная литература» в 1971 г.
КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ, НОВОЙ ЭРЕ...
Джейк Александр, огромный, тучный полукровка, в жилах которого смешалась кровь шотландцев и африканских негров, встряхивал большой противень со свининой, жарившейся на газовой плите в задней комнате его мастерской в Йоханнесбурге, когда до его сознания дошло, что стучат в дверь. Шипение сала и голоса пятерых мужчин, находившихся тут же в комнате, почти полностью) заглушали наружные звуки, и ровный негромкий стук мог продолжаться уже несколько минут. Одной рукой Джейк снял с огня противень, другой сделал нетерпе
298
ливый жест, который относился одновременно и к свинине, и к людям. Восприняв его как предостережение, мужчины торопливо потянулись к стаканам и чашкам и залпом допили остававшийся в них бренди. Маленький Клаас с похожими на овечью шерсть волосами цвета имбиря быстро сгреб пустую посуду и сунул за грязную занавеску, на полку.
— Кто там? — крикнул Джейк, вытирая сальные руки о штаны.
В ответ сначала послышалась радостная дробь, а потом мужской голос произнес по-английски:
— Это я, Алистер.
Толстяк поставил противень обратно на плиту, потом, тяжело ступая, прошел через мастерскую, мимо бездействующих станков, и распахнул дверь.
— Мистер Холфорд! Рад вас видеть, — сказал он.—Проходите, дружище. Там у нас ничего не слышно.
Молодой англичанин с кротким взглядом, суровым ртом и прямыми бесцветными волосами, которые, путаясь и мешая друг другу, росли из двух макушек, сделал шаг назад, уступая дорогу молодой женщине, но прежде, чем он успел представить ее, она уже с улыбкой крепко жала Джейку руку.
— Добрый вечер. Меня зовут Дженнифер.
— Дженнифер, это Джейк Александр, — сумел-таки вставить из-за ее спины молодой человек.
Они вошли в дом с той стороны, где была арка с надписью «Здание новой эры», и все время, пока они ждали в темном коридоре, молодая женщина громко и весело повторяла: «Новая эра! Что за новая эра?» Алистер Холфорд не знал и не мог ей объяснить, к чему относится эта надпись, к открытию ли золота, которое в девяностых годах превратило лагерь для золотоискателей в большой город, к оптимизму ли, воцарившемуся после рабочих волнений в двадцатых годах, или к оживлению в промышленности после кризиса в тридцатых. В самом деле, он понятия не имел, сколько лет может быть зданиям в этой жалкой части города. Но вот они вышли из мрачного пустого коридора, где било в нос запахом ожидания, пылью и гниющим деревом, и их встретил живой прохладный запах чернил и гостеприимный соблазнительный аромат жирной свинины. В мастерской тоже было довольно темно, пока хозяин не подошел привычно к стене и не включил яркую, ничем не прикрытую электрическую лампочку на потолке. Секунду все трое рассматривали друг друга, не двигаясь с места. Цветной мужчина, неряшливо, как и все толстяки в мире, одетый в спортивную трикотажную рубашку с огромным вырезом, открывавшим два волосатых вала на животе, в брюки от дорогого костюма, за
299
стегнутые не на ту пуговицу и подвязанные галстуком вместо ремня, и пару спортивных туфель без носков, что, однако, говорило не о его бедности, а о манере одеваться. Молодой англичанин в узком и потертом, явно купленном еще в студенческие времена, твидовом костюме. И красивая белая женщина, которая показалась Джейку знакомой.
Нет, он никогда не встречал ее прежде, но он хорошо знал этот тип — множество раз встречал подобных женщин на конгрессах демократов и на собраниях других организаций, где прогрессивные белые встречались с прогрессивными черными. Джейк знал, эти женщины требуют, чтобы к ним относились на равных. Они еще хуже священников, думал он. Те десять лет учатся в школе и семь в университете и семинарии, а ты таскаешь на рынке мешки с овощами в машины белых, и это с восьми лет. Правда, потом тебе повезло, и ты стал учеником печатника. Первая твоя женщина была служанкой, как твоя мать, и ты ходил к ней с черного хода,, и твой первый глоток виски, как многие другие твои удовольствия, был украден у белого, пока он смотрел в другую сторону. И все же добрый пастор внушает тебе, что твоя жизнь ничем не отличается от его: ты чувствуешь так же, как он. А эти женщины — черт бы их побрал! —эти женщины чувствуют так же, как ты. Они думают, что понимают унизительное положение африканца, имеющего право ходить по улицам лишь с пропуском, выданным ему белым, и смешанное чувство вины и довольства собой цветного, у которого достаточно белое лицо, чтобы прокрадываться, сбегая от собственной кожи, в запретные места: кинотеатры, бары, библиотеки с табличкой «Только для европейцев». Они лезут в твою жизнь, задыхаясь от собственной смелости. И нет от них спасения. Они даже требуют от тебя возмущения, когда, по их мнению, ты должен возмущаться...
Он смотрел на решительное лицо и черные волосы женщины (в прошлом году они носили гладкую прическу с немыслимым пучком на макушке, а в этом стригутся и завиваются наподобие болонок), на круглый выпуклый лоб, ненапу-дренный, чтобы подчеркнуть загар, на красный рот, гладкую кожу, большие, живые, р густым слоем краски на ресницах красивые глаза, глядевшие в его глаза с искренним желанием понять, что он собой представляет, он — Джейк Александр, огромный жирный бездельник из цветных, которого интересуют только женщины, деньги, бренди и бокс. Скажите на милость, какому дураку хочется, чтобы женщина смотрела на него такими глазами! Разве так должны смотреть друг на друга мужчина и женщина! Молодая женщина была одета в широкую черную юбку, белую блузку из хлопка, едва прикрывав
300
шую грудь, и сандалии с узкими ремешками между пальцами. В ушах у нее поблескивали сережки, которые вполне могли быть сделаны кузнецом из железных обрезков. Темно-лиловые ногти на ногах и заросшие, неухоженные — на руках. На тонком пальце свободно крутился массивный золотой перстень с печаткой. Красивая, подумал он с отвращением.
Жирный, грязный, он стоял и ухмылялся, и это продолжалось так долго, что его поведение становилось уже вызывающим.
— Каким ветром вас сюда занесло, мистер Холфорд? — спросил он наконец. — Показываете даме Йоханнесбург?
— Просто захотелось вас повидать, Джейк,—льстиво проговорил молодой англичанин, касаясь руки Джейка у края короткого рукава.
— Тогда проходите, — громко сказал Джейк, — проходите, — и первым неуклюже ввалился в комнату, где сидели его приятели. — Эй, есть тут стул для дамы? — Он смахнул на пыльный бетонный пол пачку старых счетов с табуретки, потом поднял ее и поставил в самый центр комнатушки. Приятели Джейка неловко повставали с мест, похожие на медвежий выводок в предвкушении вкусных булочек, которые принесут посетители зоопарка.—Вы знакомы с Макси Ндубе? А с Тем-бой? — спросил Джейк, кивая на мужчин, стоявших рядом с ним.
Алистер Холфорд был вежлив и доброжелателен, когда бормотал что-то о том, что узнал Макси, маленького росла, с тонкими чертами лица африканца в скромном деловом костюме, на Тембу же он поглядел с сомнением и спросил:
— Разве мы с вами встречались? Когда?
Темба был цветным. В нем текла кровь черных рабов и белых хозяев, смешавшаяся давно, еще в те времена, когда мыс Доброй Надежды был местом отдыха для голландцев из Ост-Индской компании. Высокий, светлокожий, с большим адамовым яблоком и огромными черными глазами, он был похож на музыканта из джаза. Вот кого бы писать с высоко поднятой к потолку трубой в длинных желтых руках или согнутым пополам в последнем усилии вытянуть низкую ноту.
— В Дурбане в прошлом году, мистер Холфорд, помните?—с жаром воскликнул он.— Я уверен, нас кто-то знакомил... или, может, я только видел вас там...
— А, на конгрессе? Конечно, я вас помню, — в голосе Хол-форда прозвучали извинительные нотки. — Вы были с делегацией Кейптауна?
— Мисс?.. — не договорив, Джейк Александр махнул рукой в сторону молодой женщины, Макси и Тембы.
301
— Дженнифер. Дженнифер Тетцель,— произнесла она отчетливо, как и в первый раз, и протянула руку, но тут произошла неловкость. Мужчины одновременно подали ей свои руки, и оба замешкались, уступая друг другу первенство. Наконец рукопожатие свершилось, и молодая женщина, не выказав никакого стеснения, вновь уселась на табуретку.
— Да, еще наш Билли, — бесцеремонно добавил Джейк, и Алистер кивнул негру с воспаленными печальными глазами, пристроившемуся сзади возле бумажных рулонов, — и Клаас с Альбертом.
По суровым желтоватым лицам Клааса и Альберта нетрудно было догадаться, что кровь бушменов течет в их жилах, тех бушменов, чья участь напоминает фантастическую участь лягушек, каким-то чудохМ доживших до нашего времени. Клаас и Альберт так же, как Билли, стояли позади, прислонясь к рулонам бумаги, в позе, которая, возможно, на их взгляд, заменяла им приветствие, и молчали в ответ на энергичные кивки Алистера и ясную улыбку молодой женщины.
- Вы по делу из Кейптауна? — спросил Алистер Тембу, расчищая себе место на уголке стола, где чего только не было: фотографии, клише, шрифт, рекламные оттиски, бутылка скисшего молока, галстук-бабочка, пара красных подтяжек и множество бутылок из-под кока-колы.
— Я жил год в Дурбане и вот решил заехать в Йоханнесбург,— сказал долговязый Темба.
Джейк без труда нашел себе место возле плиты напротив Дженнифер Тетцель. Он мотнул головой в сторону Тембы:
— Настоящий банановый парень!
«Банановыми парнями» называли себя молодые люди из провинции Наталь, воспитывавшиеся в строгих англо-саксонских традициях, хотя среди них почти не осталось владельцев банановых поместий, когда-то обогативших их предков. Широкое, кофейного цвета лицо Джейка с ярким румянцем, доставшимся ему в наследство вместе с именем от отца-шотландца, все сложилось мелкими складками. Джейк остался доволен своей шуткой. Темба тоже засмеялся, откинув назад голову, так что адамово яблоко просто заметалось у него по шее, ему понравилась мысль, что он похож на обученного игре в крикет белого ученика частной школы.
— Кейптаун лучше всех городов на свете, правда? — очаровательно склонив набок головку и как бы деля с ним это убеждение, спросила Тембу молодая женщина.
— Мисс Тетцель приехала сюда из Кейптауна, чтоб ознакомиться с жизнью нашего города, — объяснил Алистер.
302
Дженнифер Тетцель повернулась к Тембе, сверкая всей своей соблазнительной красотой.
— Так мы с вами из одного города?
Джейк, закинув ногу на ногу, смеялся, широко открывая красный рот.
— Где вы там живете? — продолжала расспрашивать Дженнифер.
— В Кейп-флэтс, — ответил Темба.
Кейп-флэтс — это трущобы в пригороде Кейптауна, в буше, где живут только цветные.
— Я тоже, — небрежно бросила Дженнифер.
— Вы врете, — произнес Темба и поглядел на свои руки, как будто они были виноваты в каком-то неприличном жесте. Он не хотел быть фамильярным, просто неудачно выбрал слово.
— Я прожила там около десяти месяцев, — уточнила она.
— Да, странные вкусы у некоторых, — со смехом заметил Джейк, ни к кому в частности не обращаясь и делая вид, что их вовсе нет.
— Как же это получилось? — со смесью смущения и почтительности спросил Темба, и она назвала один проект перестройки, который претворяли в жизнь как раз в тамошних трущобах.
— Я — заместитель директора проекта. Эта работа связана с моими университетскими делами, и мне дали отпуск на пятнадцать месяцев.
Макси не без насмешки над собой обратил внимание на то, как она произнесла слово «работа», как будто она была напарницей водопроводчика. И он, и его образованные африканские друзья — преподаватели и журналисты — всегда говорили «моя профессия».
— Ничего себе работенка, — еле слышно произнес он, улыбаясь.
Молодая женщина немного поерзала на жестком сиденье и поудобнее вытянула ноги.
— Ужасное место, — сказала она Тембе, делая попытку изобразить мужскую откровенность. — Как вы умудряетесь там жить? Меня лично, если и хватит еще, то на пару месяцев, не больше, да и то потому, что я сохранила за собой мою прежнюю квартиру в Кейптауне и сбегаю туда по воскресеньям.
Темба лишь улыбнулся, отведя в сторону взгляд своих немного навыкате глаз, зато Джейк спросил, глядя на нее в упор:
— Тогда зачем вам это, мадам, зачем?
— Ах, я не знаю. Потому что другие живут... ну, тот, кто живет там... он живет... — И она засмеялась прежде,
зоз
чем остальные пришли в себя, засмеялась над ничтожностью своей филантропической затеи. — Чувство вины, если хотите...
Макси пожал плечами, как если бы при нем упомянули о заболевании, лечение которого он не в состоянии оплатить и о симптомах которого не имеет ни малейшего представления.
Некоторое время все молчали. Трое мужчин, двое цветных и один черный, казалось, ждали, стоя у стены, какого-то знака от Джейка Александра, их хозяина, ведь он такой же, как и они, не белый, но в то же время у него свое дело, машина, деньги и странные друзья, иногда даже белые, как, например, эти. Все трое, одетые в мешковатую, с чужого плеча одежду, какую носят в Йоханнесбурге простые трудяги-африканцы, не потеряли еще способности, присущей первобытным людям и детям, глядеть в упор, не стесняясь и не стесняя других.
Джейк подмигнул Алистеру, как подмигивают букмекеры или театральные комики, и сказал:
— Ну как, парень? Как дела?
Обычно так приветствовали друг друга завсегдатаи баров, куда Джейк иногда захаживал, надев шляпу и высоко подняв воротник, чтобы не видно было волос и жирных румяных щек. Вместе с Алистером он просачивался в бары самых занюханных йоханнесбургских отелей и безнаказанно выбирался оттуда. Алистеру, правда с большими трудностями, но удавалось проделывать нечто похожее, когда он в сопровождении Джейка делал набеги на притоны в цветном районе, что было противозаконно для белого. Распивать же там спиртные напитки было нарушением закона для. всех без исключения. Дважды Алистер сумел избежать встречи с полицией, удрав через окно. Он жил в Южной Африке всего восемнадцать месяцев, представляя здесь одну английскую газету, а так как о.н не больше двух-трех лет назад закончил университет, то такие инциденты напоминали ему студенческие проделки и доставляли ностальгическое удовольствие. Джейк, со своей стороны, давно решил (с той уверенностью, которую давал ему бизнес), что он должен относиться с юмором к посещению баров. Благодаря сочетанию этих двух позиций, обусловленных совершенно различными обстоятельствами, в дружбе Джейка и Алистера было больше откровенности, чем обычно между белым и цветным.
— Я слыхал, в субботу будет интересный матч, — полувопросительно произнес Алистер, зная, что перед ним люди осведомленные. Он имел в виду поединок двух цветных
304
боксеров тяжелого веса, один из которых был протеже Джейка.
Джейк ухмыльнулся, якобы неодобрительно, и стал похож на любящую мамашу.
— Да. Пикки — ничего малый,—сказал он.—Будет на что посмотреть, попомни мое слово. — И, желая изобразить в пантомиме проворно двигающегося боксера, он сделал несколько прыжков в своих нелепых туфлях, после чего в изнеможении прислонился к плите и затрясся от хохота.
— Слишком много куришь и пьешь, Джейк, — сказал Алистер.
— Да нет, парень, это всё женщины.
— Мы как раз поздравляли Джейка, — в голосе Макси звучала мягкость и одновременно резкость', эго был усвоенный с годами слегка насмешливый и снисходительный тон протеже, добившегося большего успеха, чем патрон. Хотя сам Джейк воспринимал то, что находится по ту сторону цветного барьера как некую забавную нелепость, он терпимо относился к тем, для кого это было важно с человеческой и политической точек зрения, как, например, для Макси или какого-нибудь другого напористого юнца, который неплохо показывал себя на ринге или хотел стать певцом, а потому мечтал отправиться в Америку. Они могли беспрепятственно пользоваться кошельком Джейка, его мастерской, его комнатой с радиоприемником в той нищенской части города, где дома были гораздо ниже стандарта белых, но неизмеримо выше того стандарта, с которым мирилось большинство черных и цветных.
— Поздравляли по какому поводу? — спросила молодая женщина. Она подняла голову и теперь переводила вопросительный взгляд с одного лица на другое. По ее невозмутимости чувствовалось, что она привыкла быть в центре внимания.
— Да. Ты можешь пожать мне руку, парень,—сказал Джейк Алистеру. — Сам я еще не видел, но говорят, было объявление в газете. Я спять холостой.
— Да ну? Как я понимаю, это ненадолго, — поддразнил его Алистер.
Джейк хмыкнул.
— Я тебе говорил о посылочке, которую /для меня приготовили зулусы? — спросил он, с силой нажимая ногтем на зуб с золотой пломбой.
— Зулусы?—переспросил Алистер.—Я думал, твоя Лайла из Стелленбоса.
Макси и Темба рассмеялись.
305
— Лайла? Какая Лайла? — спросил Джейк, прикидываясь ничего не понимающим.
— Вы отстали от жизни, — сказал Макси.
— Ты же знаешь... я люблю, как бы это сказать... пыш-неньких, — уточнил Джейк. — Бывает, правда... но это так, случайно.
— А какие у Лайлы рыжие волосы! — опять поддразнил его Алистер, вспомнив несуразные, выпрямленные и крашеные волосы очаровательной цветной девушки, которая раздувала ноздри, как хищница, почуявшая добычу.
Дженнифер Тетцель поднялась с табуретки и выключила газ за спиной у Джейка.
— Еще немного, и это будет не свинина, а сплошные угли, — сказала она.
Джейк не двинулся с места, лишь лениво глянул на нее: — Мы совсем забыли о нашей даме.
Однако ни в его словах, ни в усмешке не было желания оправдаться.
Она улыбнулась и села, тряхнув сережками.
— Ладно уж. Я тоже разведена. Кстати, мы не мешаем вам ужинать? Ешьте, не обращайте на нас внимания.
Джейк развернулся, слегка встряхнул усохшие кусочки мяса и отодвинул противень.
— Черт... Да мы потом. А вы... — Тут он взглянул на Алистера.— Может быть, вы хотите есть? — спросил он, изображая растерянность и ища глазами несуществующие тарелки и приборы, к которым привыкли белые женщины.
Алистер торопливо отказался, сославшись на то, что обещал Дженнифер сводить ее к Мурджи.
Джейк, конечно, понимал, что такая женщина, как его гостья, несмотря на то, что она белая и вольна есть в лучшем отеле города, предпочла бы индийский ресторанчик во Вреде-дорпе. Он вдруг почувствовал всю глубину пропасти между собой и Алистером. Что они находят в таких женщинах — колючих, резких, все видящих и все понимающих, которые разговаривают по-мужски и все время хотят показать, что они совершенно такие же, как мужчины? Он посмотрел на Дженнифер, на то, как она одета, и подумал, что белая женщина могла бы выглядеть совсем иначе, могла бы быть большой, мягкой, с вьющимися золотыми волосами, в туфлях на непомерно высоких каблуках, на которых можно идти, лишь плавно покачивая бедрами. От ее выступающих грудей, скрытых" под розовыми или голубыми кружевами и всякими прелестными вещицами, которые носят эти женщины, как от нагретых на солнце цветов, должен был бы исходить сильный запах духов.
306
И ничего резкого и острого, кроме кроваво-красных ногтей, слегка царапающихся в твоих ладонях.
— Вам бы стоило сегодня пойти со мной на ленч, — сказал Макси, ни к кому вроде бы не обращаясь, и в то же время было понятно, что его вкрадчивые слова имеют отношение только к Алистеру, знакомому с деятельностью Макси в качестве организатора африканских профсоюзов. Все, кто был в комнате, уставились на Макси (Темба даже поощрительно хрюкнул, потому что уже слышал эту историю), потом, немного помедлив и печально улыбнувшись своим мыслям, он спросил: — Вы знакомы с Джорджем Элсоном?
Алистер кивнул, потому что знал этого белого адвоката, которого уже дважды арестовывали за участие в антидискри-минационном движении.
— А, Джордж! — вставила Дженнифер. — Мы с ним работали вместе в Кейптауне.
— Так вот, — продолжал Макси,—мы с Джорджем Элсоном ездили в один промышленный городок на восточном побережье и там интервьюировали всяких боссов, как вы понимаете, это были важные шишки, не простые люди. Вначале все шло хорошо, хотя раз или два секретарши принимали меня за шофера Джорджа и говорили, что шофер, мол, мог бы подождать и за дверью,—тут Макси засмеялся, показывая мелкие белоснежные зубки. Не только зубы, все в нем было великолепно, темные руки с тонкими прямыми пальцами, маленькие уши, прижатые к изысканной формы черепу. Никто не улыбнулся, кроме молодой женщины.—В одном месте нас даже угостили чаем. Девушка принесла на подносе две чашки с чаем и один стакан с соком, так старина Джордж взял себе сок.— Дженнифер Тетцель вновь понимающе улыбнулась. — Мы явились туда как раз к ленчу. Об этом-то я и хотел вам рассказать. Хороший парень этот управляющий. Ни разу не покосился на меня и все время называл мистером. Наконец мы обговорили наши дела, и он сказал Джорджу: «Поедемте ко мне, меня как раз ждут с ленчем». А Джордж ему в ответ: «Спасибо, но я здесь с другом». «О, прекрасно, — сказал тогда управляющий, — берите и своего друга». Итак, все мы отправились к нему домой. Он тотчас исчез куда-то, но через несколько минут возвратился, и мы сидели в гостиной, пили пиво и разговаривали. Потом вошел слуга и сказал, что ленч подан. Мы встали и направились в столовую, но на пороге управляющий взял меня под руку и так вежливо сказал: «Я распорядился, вам накрыто на веранде. Уверяю, вы будете есть все то же самое, что и мы».
— Невероятно, — пробормотал Алистер.
307
Макси улыбнулся, пожал плечами и по очереди оглядел всех, кто был в комнате.
— Это правда.
— После того как он сам вас пригласил и пил с вами пиво? — недоверчиво спросила Дженнифер и прикусила нижнюю губу, как бы решая про себя трудную психологическую задачу.
— Конечно, — сказал Макси.
Джейк с его непотребной улыбкой был сейчас похож на Силена. Он не издавал ни единого звука, но изо рта у него вырывались капельки слюны, а живот содрогался как раз на уровне глаз Дженнифер Тетцель.
Тут Темба сдержанным тоном человека, который не позволяет себе заметить допущенную кем-либо неловкость, сказал:
— Мне кажется, здесь хуже, чем у нас в Кейптауне. Не помню только насчет автобусов, я, знаете ли, не пользуюсь автобусами для европейцев.
Макси ткнул пальцем во вздымающийся живот Джейка.
— Это что, я расскажу тебе кое-что получше, о том, что случилось со мной только потому, что я когда-то хорошо поработал над своим произношением.
На этот раз рассмеялись все, кроме Макси, который, по обычаю всех raconteurs1, сохранял на лице бесстрастное выражение.
— Это правда, — вмешалась белая женщина, — вы совсем не смягчаете гласных, как это делают африканцы, и у вас нет акцента, в отличие от африканцев, перестающих говорить на банту.
— Как бы то ни было, — продолжал Макси, — мне пришлось несколько раз звонить в одну фирму, и я уже стал узнавать голос девушки, которая вела со мной переговоры, а она стала узнавать меня. Наверно, ей понравился мой голос, потому что беседовала она со мной крайне дружественно. Мы даже болтали немного о посторонних вещах, но представились друг другу только по имени. Ее звали Пегги. В конце концов она спросила меня, не собираюсь ли я к ним заглянуть, — тут Макси сделал паузу и нервно облизнул уголки губ. Когда он заговорил снова, голос у него был скучным, как у человека, который хотел пошутить, но вдруг решил, что шутка неудачная. — Я сказал ей, что приду на другой день около четырех часов, и пришёл, как обещал. Меня встретила хорошенькая блондинка, и волосы у нее были так аккуратно уложены, что, по-видимому, не про
1 Raconteur — хороший рассказчик (фр.).
308
шло и десяти минут, как она занималась своей прической, но она едва глянула в мою сторону и, протянув руку, буркнула: «Давай», — потому что приняла меня за посыльного. Тогда я взял ее руку и, пожимая, сказал: «Ну вот, я пришел, как обещал. Меня зовут Макси, Макси Ндубе».
— А она что? — нетерпеливо спросил Темба, и его вопрос, хотя Макси, казалось, и не обратил на него внимания, восстановил его уверенность в себе, и он, весело пожав плечами, продолжал:
— Она чуть не отшвырнула мою руку, зато потом трясла ее, как сумасшедшая, а шея и уши у нее покраснели так, что я думал, она вот-вот загорится. Честное слово, уши у нее прямо полыхали. Она очень хотела сделать вид, что ничуть не удивлена, но я-то видел, как она боится, вдруг кто-нибудь войдет и застанет ее со мной. Мне стало ее жаль, и я ушел. Даже не повидался с ее шефом. Я передоговорился с ним на другой день, и ни она, ни я больше не претендовали на знакомство.
Темба хлопнул себя по колену.
— Черт возьми! Хотел бы я видеть ее лицо!
Джейк смахнул с жирной щеки слезу — от смеха на его светло-голубых глазах немедленно появлялись слезы — и сказал:
— Не будешь выпендриваться, приятель. Почему бы тебе не говорить, как говорят все?
— Ну, в будущем-то я буду осмотрительнее и не забуду о «миссус» и «баасах»,— ответил ему Макси.
— Бедная девочка, — неожиданно холодно и деловито произнесла Дженнифер Тетцель. Мужчины перестали смеяться.— Вы ей, наверное, ужасно понравились, Макси, и она была сильно разочарована. Вы не должны быть к ней так суровы. Тяжело, когда тебя наказывают за то, что ты не черная.
Сидевшие в комнате почувствовали скорее изумление, чем раздражение. Даже Джейк, который был уверен, что между черным и белым невозможно полное взаимопонимание, и тот перестал смеяться, лишь быстро перевел взгляд с молодой женщины на Макси и будто провалился в пропасть, разверзшуюся между давно забытым гневом и только что прекратившимся смехом. Явственнее всего на его лице читалось восхищение, проявившееся помимо его воли. Все-таки она лучше других, но такая холодная, холоднее еще не рождала земля.
— Вы так думаете? — спросил ее Макси, с трудом растягивая губы и пристально глядя на женщину из-под сдвинутых бровей.
309
Джейк наблюдал. Нет, с Макси ей так просто не сладить. Он ни за что не пожертвует своим негодованием. Да и разве узнаешь, что у Макси в душе, ведь он не только искусно скрывает свои чувства, но и притворяется, будто чувствует совсем другое. И все-таки она лучше других.
Женщина глядела на Макси и улыбалась, теребя ремешок от сандалий.
— Правда, я вас уверяю, так оно и есть.
Алистер соскользнул со своего места на заваленном всякой всячиной столе и, игриво ткнув Джейка в живот, сказал:
— Нам пора.
Джейк почесал за ухом и повторил свое приглашение поужинать.
— Мы думали, что вы предложите нам выпить... — покачав головой, отказался Алистер.
У Джейка вырвался хриплый смешок, и на этот раз искреннее замешательство отразилось на его лице.
— Знаешь, сказать по правде, когда мы услыхали стук в дверь, то все быстренько допили. Мы же не знали, что это вы. До завтра не будет ни капли. Извини уж, парень. Мадам, приношу свои извинения, но мы, черные, пьем обычно без свидетелей. Мы ведь не знали, что это вы...
Макси и Темба тоже встали. Двое худущих цветных, Клаас и Альберт, и унылый черный Билли бесцельно слонялись по комнате.
— В другой раз, Джейк, — сказал Алистер,—в другой раз. Мы заранее предупредим тебя, и все будет в порядке.
Дженнифер обхменялась рукопожатием с Тембой и Макси и так громко сказала «до свидания» остальным, как будто они могли ее не услышать в этой комнатушке. Уже около двери она вдруг обернулась:
— Все же, Макси, я должна вам сказать. О той первой истории с ленчем. Извините, но я вам не верю. Это не логично. Он не мог так, без всякой причины, пойти на попятный.
Так было довершено самосожжение истинного понимания, не имеющего границ, она должна была сохранить верность своим убеждениям. Пожалуй, она имела право назвать его лжецом, чтобы своею честностью показать, как она его уважает, как понимает его даже в его потребности придумать что-нибудь такое о белом человеке, во что она, белая, не могла поверить. Такой была ее человеческая цена.
Маленький, безукоризненно одетый и причесанный Макси
310
стоял со скрещенными на груди руками и улыбался, глядя, как она уходит. Макси был выше всякой цены.
Джейк проводил гостей до выхода и, закрыв за ними дверь, выключил свет в мастерской. Он шел назад в темноте и, вдыхая прохладный металлический запах прессов, еще некоторое время невольно прислушивался к четким репликам белой женщины и приглушенному нечленораздельному бормотанию Алистера, его приятеля, пока они одолевали длинный коридор.
Вернувшись в светлую комнату к ожидавшим его людям, он несколько раз, привыкая, мигнул. Клаас достал из-за грязной занавески стаканы и вымыл их один за другим в раковине. Билли и Альберт немного выдвинулись из тени и теперь стояли, опершись на рулоны локтями. Темба, сидя на столе, качал ногой. Макси не двигался, он все так же стоял, скрестив на груди руки. Все молчали.
Джейк потихонечку засвистел, потом взял противень с мясом, посмотрел на горелые куски в застывшем белом жире и поставил обратно. Так он стоял, грузный, разглядывая их всех поочередно, но никто не отвечал на его взгляд. В эту минуту Джейк заметил табуретку, которую он вытер и предложил Дженнифер Тетцель. Пнув ее ногой так, что она отлетела к стене, он, потирая свои большие руки, громко свистнул и сделал несколько танцевальных па по комнате.
— Ну, ребята, — сказал он, и когда они зашевелились, он опять поставил мясо на плиту и долго зажигал газ, пока наконец под противнем не вспыхнуло синеватое пламя.
НЕВЕСТА
В этот вечер он в последний раз возвратился в свой дорожный лагерь. Все тот же ровный слой песка, барабанная дробь воды и плотно закрытый из-за жары вход в палатку. Ярдах в тридцати от нее черная женщина, стоя на коленях, толкла маис, двое или трое ребятишек, серых от калахарийской пыли, играли с тощим псом. Их крики, особенно громкие в здешних безлюдных местах, сливались с криками птиц.
Внутри палатки, как всегда, еще ощущался привкус прошлой ночи, воздух был затхлым и прохладным, как в церкви. Тут стояла железная кровать с чистыми подушками и огромным покрывалом из звериных шкур, стол, вращающееся кресло с красной обивкой и сундук, где хранились все его вещи. На сундуке — будильник, который звонил каждое утро в пять часов, и фотография семнадцатилетней девушки из
311
Френсистауна, его невесты. Они всегда были здесь, будильник и девушка, когда он по утрам открывал глаза и когда по вечерам возвращался с работы. Сегодня — в последний раз. Утром он поедет во Френсистаун на десятитонке, принадлежащей департаменту дорог, а на следующей неделе вернется уже не один, с ним будут эта девушка и фургон, который полагается женатым сотрудникам. Не сводя глаз с фотографии, он сел на кровать и снял ботинки. Улыбающееся лицо девушки казалось вырезанным из журнала. Он снял пыльные рабочие штаны, сшитые из такого плотного материала, что они к теперь не изменили своей формы. Потом тихо позвал:
— Эй, Пит, где гы там?
Костлявый африканец с поднятыми от старания, как у клоуна, бровями, тяжело ступая, вошел в палатку. В руках у него был железный таз с горячей водой. Ударяясь о края таза, вода тоненько звенела, как натянутая струна.
Вымывшись и переодевшись в чистую рубашку цвета хаки и потертые штаны, пригладив с помощью пахучей помады волосы, он вышел из палатки как раз в то мгновение, .когда веко горизонта закрывало кровавый глаз солнца. Стояла зима, и солнце садилось сразу после пяти часов. В это время песок из серого превращался в бледно-розовый, низкий колючий кустарник начинал отбрасывать пятнистую сиреневую тень, и пятна эти, расползаясь, сливались в одно, пока на одну-две минуты пустынная поверхность земли не покрывалась щербинами и кратерами, напоминающими лунный пейзаж, тогда как небо над потемневшей землей оставалось светлым, и на нем сияла одна-единственная звезда, чистая прозрачная галечка. Костры, зажженные в лагере, то прятались за кустами, то вылезали длинными языками пламени. Потом темнело. Каждый вечер он присутствовал на этой церемонии угасания дня, лениво набивая трубку, лениво расслабляя тело возле костра, лениво позевывая, снимая таким образом остатки напряжения. Вдруг он хмыкнул от удовольствия, сквозь незанавешенный вход в палатку он увидал ее лицо на фотографии. Походив немного взад-вперед, он затем подтолкнул загоревшееся полено поближе к середине костра, что-то сказал Питу, потом пошел было к палатке, но передумал и возвратился к костру. Дорожные рабочие жили неподалеку, и до него доносились обычные вечерние звуки: обрывки разговоров, смех, крики, споры. В густой белой пене мелькали черные руки, послышался глубокий вздох, бормотание, затем плеск вылитой на чью-то голову холодной воды; поблескивали железные брюха больших кастрюль с едой. Женщины, ни на секунду не умолкая, готовили ужин.
312
Он почти не понимал, что они говорили. Тсвана он знал ровно настолько, чтобы с помощью Пита или кого-нибудь другого, понимающего африкаанс, его родной язык, давать распоряжения, но их голоса были для него неотъемлемой частью вечера. Как всегда, тоненько и безнадежно плакал чей-то ребенок, голые детишки гонялись за громко лаявшей собакой. Он сел возле костра и закурил.
Через некоторое время (строго ограниченное, ибо отмерялось не часами, а долгой привычкой, установившей точные промежутки между мытьем, курением трубки и ужином) он крикнул на африкаанс:
— Эй, парень, ты не забыл про ужин?
С другой стороны причудливой тени между двумя кострами послышался хриплый протестующий и в то же время довольный смех Пита, для которого любая новая шутка хозяина вряд ли была бы столь же приятна.
Прошло еще несколько минут.
— Пит! У тебя еще не все сгорело?
— Баас?
— Где мой ужин, парень?
Вскоре африканец появился со складным столиком к горящей плошкой. Он то выходил на свет, то опять исчезал в темноте, чтобы вновь появиться с горшками, тарелками, едой, беспрерывно ворча на смеси английского и африкаанс :
— Вам захотелось блинчиков, я сделал блинчики. Мне что было сказано утром? Вот. Масло-то должно разогреться, и все остальное... Медленно? Да, верно. Быстрее не могу. Вы сегодня торопитесь, не хотите ждать, так ешьте блинчики в субботу. Тогда все будет в порядке... Вот так, в следующий раз будет лучше...
Пит был хорошим поваром.
— Я научил моего слугу всему, — хвастался молодой чепо-век знакомым во Френсистауне. — Он умеет готовить даже блинчики, — сказал он как-то матери невесты, желая нарушить затянувшееся молчание, которым она по обыкновению выражала свое недовольство предстоящим браком. Преодолевать предубеждение родителей против того образа жизни, который он мог предложить будущей жене, было делом нелегким, но ему все же удалось склонить их на свою сторону, и они дали согласие на брак, однако не без внутреннего сопротивления. В своем стремлении завоевать их расположение он старался глядеть на все их глазами и предупреждать все их возможные возражения. Его невеста выросла на ферме, и ее не тянуло в город, но он понимал, что жить на ферме с родителями, ког
313
да до соседей не больше тридцати — сорока миль, совсем не то, что жить в двухстах двадцати милях до ближайшего населенного пункта, в окружении «банды кафров», как выразилась однажды ее мать. Он не задумывался о том, чем его будущая жена будет заниматься целый день, пока он на работе, что до нее самой, то ее мысли не шли дальше венчания и розовых платьиц сестренок, которые будут идти позади нее, ее собственного платья, сшитого на заказ, и свадебного пирога с крошечными фарфоровыми фигурками жениха и невесты посередине.
Он поглядел на щербатый стол, на открытую консервную банку с джемом, солонку с полоской коричневой бумаги на расколотой крышке и сказал Питу:
— Когда приедет миссис, ты должен делать все хорошо.
— Баас?
Они поглядели друг на друга. Говорить что-нибудь еще не было необходимости, но молодой человек сказал:
— Ты должен накрывать стол, как полагается, и держать все в чистоте.
— Я все держу в чистоте. И зачем вы говорите мне об этом?
Молодой человек склонился над едой, давая понять, что разговор закончен.
Пока он ел, мысли, помимо его воли, крутились вокруг гех перемен, которые необходимо было произвести в будущем, тогда как он привык иметь дело только с тем, что уже реально существует. Так бывает, когда зазубриваешь что-нибудь механически, вроде бы все знаешь, но, столкнувшись с отдельной частностью, теряешься и уже ничего не помнишь. Рабочие не должны сюда приходить. Это главное. Пит — другое дело, ему надо готовить и убирать. Но рабочие, особенно те, что отвечают за грузовики и оборудование, вечно являются сюда с вопросами, что да почему, да как. Не объясни им, они все перепутают. Он выплюнул твердый хрящ, и его мысли потекли по другому руслу. Их женщины могут стирать для его жены, но они такие дикарки, сумеют ли они хоть что-нибудь делать по-человечески? Двадцать парней и пять женщин, их под кустами не спрячешь. Нет, просто они не должны околачиваться тут без дела, вот и все. Так им и надо втолковать. Он вгляделся в темноту сквозь теневой театр над своим полупогасшим костром. Голоса стали приветливее и тише, иногда иУ не было слышно вовсе, наверно, все были заняты ужином, лишь изредка эхо доносило удар топора по дереву и ни на миг не смолкало нытье ребенка.
314
Пока он ел, его мысль, как никогда раньше, продолжала медленно и упорно работать, и он почувствовал глухое раздражение. Выковыривая остатки мяса из зубов, он думал: «Пит, Пит, слишком много ты болтаешь, кафр. Но разве же он может придержать язык? Конечно, нет. А что будет, если он заговорит с ней?.. Он заговорит». Молодой человек стал соображать, как бы ему поговорить с Питом, но на ум приходили только те непроизносимые слова, какие одни малюют на стенах, а другие читают про себя.
Пит принес кофе и блинчики, но молодой человек не поднял на него глаз.
Однако блинчики были такими необыкновенно аппетитными на вид, хрустящими, сладкими, а кофе таким ароматным и горячим, что молодой человек стал наслаждаться едой, как ребенок, которому подарили целую коробку конфет. Блинчики всегда доставляли ему удовольствие.
Когда он еще только приступил к своим обязанностям дорожного смотрителя, он просто умирал от голода. И если дорывался до еды, то все равно никак не мог наесться по-настоящему. Однажды в воскресенье он решил пойти в гости (департамент дорог строго следил за тем, чтобы сотрудники не пользовались десятитонками для личных целей) за четырнадцать миль пешком по пустыне на скотоводческую ферму, где жил правительственный чиновник с женой, оба буры, как и он сам, единственные белые на всем пространстве между его лагерем и Френсистауном. Однако случилось так, что и они тоже решили навестить его в тот день. Они встретились на полпути, когда он уже еле передвигал ноги от жары и усталости. Вскоре заботу о нем взял на себя Пит и даже научился готовить блинчики по рецепту жены чиновника. Блинчики и детская увлеченность, с которой он предавался всему, что любил, внесли в его жизнь равновесие: ему стал дорог одинокий лагерь с раз и навсегда установленным порядком и удовольствиями.
— Эй, Пит! Что ты сделал с блинчиками? — весело крикнул он.
Ответ, который он услышал, означал: что надо, то и сделал. Африканец подошел, вытирая руки о тряпку, с робким и в то же время плутовским видом человека, который уверен, что в чем-то превзошел самого себя.
— Что ты с ними сделал, парень?
— Откуда мне знать? — пожал плечами Пит.
— Принеси-ка еще,'— сказал, улыбаясь, молодой человек и подал Питу пустую тарелку. Пит засмеялся, а молодой
315
человек крикнул ему вдогонку:— Всегда так делай, слышишь ?
С удовольствием выпивая на юбилеях, свадьбах, на рождество, молодой человек был не из тех, кто пьет бренди каждый день. Он позволял себе пару рюмок в субботу вечером, завершив рабочую неделю, а все остальное время бутылка, которую он привозил из Френсистауна, когда ездил туда, чтобы пополнить хозяйственные запасы, стояла нетронутая в сундуке. Но сейчас он вдруг встал и пошел за ней (кафров он никогда не посылал за спиртным, слишком большой для них соблазн). Заодно он принес стакан, один из шести дешевых цветных стаканов, и налил на донышко. Потом он сел и протянул ноги поближе к огню. Ночи стояли теплые, лишь под утро налетал холодный ветер, воздух был чистым и прозрачным. Изредка в огне появлялись голубые блестки, приходил африканец и подкладывал пару поленьев. Молодой человек капнул себе еще бренди. Протяжный вой шакалов поднимался к небу, ветер рыскал в поисках несуществующего дома, но звуки, что доносились из-за костра, отбрасывавшего колеблющиеся тени,— невнятные голоса, детский плач, покашливание — как бы отгораживали его от окружающего мира. Пылинка, затерянная в бесконечном пространстве, не желающая сознавать своей ничтожности.
Кто-то негромко наигрывал то одну, то другую мелодию, тонувшую в шуме голосов. Вдруг из темноты выбежал африканец. Его крепкое черное тело лезло из всех прорех в потрепанных штанах и рубахе. Он плюхнулся на землю довольно далеко от костра. Ноги у него, все в царапинах и шрамах, напоминали прибитые к берегу сплавные бревна. Во рту он держал похожий на лиру инструмент, сделанный из согнутой полумесяцем деревяшки и с натянутой от края до края узкой полоской пальмового листа. Дуя в деревяшку, он трогал пальцем пальмовый лист, превращая свое дыхание в нежную, слабую, слышимую едва ли не на пределе человеческого слуха, мелодию. Такой, наверное, была музыка, которую слушали люди, впервые поднимаясь на ноги и выходя из стремительного речного потока. Мелодия смолкла, и невозможно было уловить, в какой момент это случилось.
— Сыграй еще раз, — попросил молодой человек на тсвана. Казалось, только дым из его трубки продолжает как-то двигаться в этом замершем мире.
Розовые ладони обхватили инструмент. Вновь увлажнились толстые нежные губы, и заговорил тихий одинокий голос, мелодия звучала настолько отстраненно, что и исполнитель, и слушатель будто ощущали ее внутри себя. На этот раз музы
316
кант взял инструмент в другую руку и, дуя, водил пальцем по вогнутой части так. что зарубки на ней издавали сухой, дрожащий, волнующий звук, напоминающий шарканье ног далеких танцоров. Оттуда, где свет костра растворялся в темноте, вышли две или три фигуры п уселись на корточки возле костра. Один из них держал в руках наполовину заполненную парафином жестянку с деревянной шейкой и натянутыми на нее струнами из лесы и проволоки. Когда первый музыкант медленно вынул изо рта свой инструмент и вытер губы тыльной стороной ладони, другой начал играть. Это была однообразная, с периодическими повторами мелодия для банджо. Молодой человек отстукивал ногой ритм на песке, а раз или два даже принимался хлопать в ладоши. Худой, с желтоватым отливом кожи мужчина в старой шляпе, несмотря на насмешки и ругань, пробился вперед и тоже сел на корточки, поставив между ног маленькую глиняную миску с целой клавиатурой из металлических язычков сверху. Настроив инструмент, он заиграл на нем, а остальные запели низкими гнусавыми голосами. Еще несколько человек подошли к костру. Мелодия кончилась на веселой ноте, потом началась другая, — и это было как дыхание. В один из недолгих перерывов молодой человек сказал музыканту :
— Дай-ка мне взглянуть на твою штуковину. Когда ты ее успел сделать?
Человек, к которому он обратился, ничего не понял из его слов, но дал ему свою жестяную мандолину. На его лице отражались гордость и удивление собственной изобретательности.
Молодой человек повертел инструмент в руках, разочек царапнул по нему пальцем, не переставая усмехаться и качать головой. Два кусочка струны и консервная банка, вот тебе и целый оркестр. Он слушал, как они играли странные для его слуха мелодии, и все с удовольствием смотрели на него, улыбаясь и лениво переговариваясь. На вид совсем никудышная вещица, а как играет! Наконец самодельная мандолина вернулась к владельцу, и тот, слегка паясничая, опять взялся за нее. Все засмеялись, послышались шутки. Теперь все сидели близко к костру, окрашенные его ярким пламенем.
— На следующей неделе, — громко и весело заявил молодой человек, — на следующей неделе, когда я вернусь, я привезу радио, и мы послушаем настоящую музыку. Записи больших белых, оркестров...
Один из африканцев, недолго работавший в Йоханнесбурге, произнес какое-то слово, которого молодой человек не понял,
317
потом повторил его, и все закивали в знак того, что они знают, о чем идет речь, какую штуку молодой человек собирается привезти из города. Они на все лады стали повторять это слово, потом еще что-то долго говорили, из чего молодой человек понял только:
— Музыка. Большие танцы в городе. На следующей неделе.
Наступило благодарное молчание. С удобством расположившиеся возле костра люди глядели на молодого человека с удовольствием, и он почувствовал, как горячая волна залила его шею, потом уши и все лицо. Конечно, это ничего не значит, к следующей неделе они обо всем забудут. Они уже не верят ему, и он представил себе, как они собрались возле его фургона, а он выходит на ступеньки и говорит им... нет, нет, лучше забыть об этом.
Вдруг ему пришла мысль, не отдать ли им остатки бренди. Нет, черт побери, какая глупость! Стоит им лишь узнать вкус бренди, их потом не отвадишь. Лучше дать Питу немного сахару, дрожжей и еще чего-нибудь из своих запасов, пусть они завтра, когда он уедет, сварят себе пива. Засунув руки поглубже в карманы, он, не поднимая головы, потянулся к огню. Владелец нелепой с виду деревяшки-лиры взял ее в руки и медленно, так что молодому человеку показалось, что он услышал музыку где-то внутри себя, заиграл на ней. С другой стороны костра ее голос полетел в ночь, освобождаясь из плена и неся в себе покой, как будто он рождался в бесконечности и мог вернуться в нее в любой момент. Одинокий голос лиры все пел и пел. Люди молчали, и в этом молчании сокрушались все языковые барьеры. Маленькая далекая луна в окружении колючих холодных звезд была как будто отражением самодельной лиры. Молодой человек потерял счел времени, как это случалось с ним и в другие вечера, когда он так же вот сидел возле костра под звездным небом.
Наконец музыка кончилась, и вновь начался отсчет времени. Последняя ночь перед завтрашней поездкой во Френсис-таун. Он встал. Остальные тоже начали расходиться. Музыкант высморкался пальцами, и его запыленные ноги вновь приняли на себя привычный вес тела. Африканцы направились к своим палаткам, он — к своей. Молодой человек громко, от души, «по-звериному» зевнул, с такой бесцеремонностью ведет себя только человек, привыкший жить в полном одиночестве. Он медленно шел по песку, уверенно выбирая дорогу, потому что его ноги знали ее, пожалуй, лучше глаз.
318
— Эй! Пит! — громко крикнул он, уже стоя возле палатки.— Нс забудь завтра встать пораньше! И не вздумай сказать, что машина не заводится! Заведешь и разбудишь меня! Слышишь?!
Молодой человек зажег оставленную Питом на сундуке масляную плошку, и она наполнила палатку мягким светом. Вновь стали видны сундук, кровать, часы, застенчивая улыбка семнадцатилетней девушки. Он сел на кровать. Мягко скользнули по шелковистому меху покрывала брюки. Молодой человек глубоко вздохнул и на секунду задержал дыхание, оглядывая свое жилище, потом взял фотографию и аккуратно положил ее в сундук поверх сложенных в дорогу вещей.
Перевод с английского Л. Володарской
Стихи
Мутони Ликимани
Мутони Гачанджа Ликимани — кенийская поэтесса. Образование получила в Кении и Англии. Работала учительницей, диетологом. В своей поэтической кшпе «Чего хочет мужчина» пишет о положении кенийской женщины, которая стремится запять достойное положение в семье и обществе, но наталкивается на многочисленные преграды, воздвигаемые как устарелыми традициями, так и новомодными обычаями, заимствованными с Запада. Протест героини поэмы
во многом наивен, может даже показаться смешным, но нельзя забывать, что речь идет о первых, еще робких и неумелых попытках кенийской женщины добиться подлинного равноправия. Поэтесса подмечает первые роегки нового и стараеюя, как может, зарисовать их в своих стихах. Из этой книги, опубликованной издательством '.Конья ли-терачур бюро» в 1974 г. и с тек пор четырежды переиздававшейся, и взят предлагаемый отрывок. 'С, Muthoni Gachanja Likimani.
ЧЕГО ХОЧЕТ МУЖЧИНА?
(Из поэмы)
Люблю работать, быть деловой, самой зарабатывать на жизнь.
Мы в городе снимаем жилье. Мне не надо воду таскать в большой жестянке каждый день.
Муж по утрам спешит на службу, дети встают,
320
уходят в школу. Я остаюсь одна — готовлю, подметаю полы в квартире.
А потом — нечего делать. Обедаю, принимаю ванну, болтаю с соседкой и просто сплю.
Так продолжается день за днем — моюсь, ем, валяюсь в постели, трачу время на разговоры. Я растолстела, обленилась...
Цены растут, живется трудно. Кто кормит семью? Только муж. Один. Он покупает муку, маниоку, молоко, картофель и мясо, масло, специи, лук и перец. Платит — и много! — за квартиру, платит за воду, свет и газ. Дорого все. Деньги нужны. А я — зарабатываю? Нет.
Только ем, болтаю с соседкой.
Дочь у меня уже большая, ей одиннадцать.
В тесной квартире, когда вокруг — чужие семьи, трудно воспитывать девчонку. Правда, есть школы-пансионы, но это дорого.
Что же мне делать?
Муж на работе — его там ценят. Он предан семье и любит меня. Христианин, староста в церкви, он уважаем и нужен людям.
1 1 Альманах <Африка», вып. 6 321
Но почему мы должны ютиться в тесной маленькой квартире, покупать дорогую пищу? Есть у меня своя земля — наследство родичей, мой участок.
Он пустует, — нет хозяйки — бананы портятся, ямс гниет, его поедают черви.
А дети мои утром и днем жуют городскую пищу, невкусную, с простой подливкой,— ежедневно одну и ту же.
А земля пропадает даром. Плодородная почва — много лет коровьим навозом удобряли ее, и травы поднимаются в рост человека — какой был бы корм для коров!
Старый домик — мое наследство — обживают крысы да змеи, ящерицы шуршат на стенах, потолок летучие мыши приспособили для ночлега.
Там выводят они потомство. Всем просторно.
Хватит!
Уеду и старый дом
приведу в порядок. И все тогда мы заживем по-другому, лучше. Все для нас, для семьи, для мужа. Он — отец детей моих, верный, на него могу положиться и ему во всем доверяю.
Знаю, женщины другие ему подмигивают тихонько. Ну, а он их терпеть не может. И противно ему — плюется,
322
когда каку1р-нибудь такую вдруг увидит. Меня он любит, отец детей моих...
Я решила возвратиться к себе в деревню.
Так и сделала. Свой участок заново привела в порядок. Урожай получаю хороший. Ничего я не покупаю, с выгодой продаю излишек. Раньше тратила, расточала — а теперь коплю, богатею. Что хочу, то и готовлю. Яйца свежие — сколько хочешь, и цыплята свои — объеденье, а не мороженые куры, те, что с рынка Кариокор. Овощей полно — прямо с грядки, и не надо ходить за ними далеко — на рынок Ухуру. По утрам — молоко парное, то же самое — вечерами. Все мои тыквенные бутыли переполнены — дети крепнут, здоровеют, растут — и сыты. Женщины, скажите, разве я неправильно поступила? Если с такой женой, как я, муж себя не чувствует сильным, и уверенным, и счастливым, если отец моих детей не гордится своей женой — тогда я спрошу, вы отвечайте: чего еще может хотеть мужчина?
Муж мой, отец моих детей, был чудеснейшим человеком. Он обязательно по субботам
11* 323
приезжал из города к нам в деревню, в новый наш дом. Я спешила ему рассказать, все, что произошло за неделю, показать, что успела сделать для него, для наших детишек, для родителей, и для дома, для нашего будущего, для счастья.
Он уезжал обратно в город довольный, радостный и спокойный, забирал с собой в дорогу свежей еды сколько хотелось, чтоб хватило на всю неделю. Он приезжал иногда неожиданно — среди недели удавалось выкроить время — и я всегда была готова к встрече.
Что нужно мужчине? Как узнаешь? Я расскажу вам все по порядку — только послушайте меня.
Это началось постепенно, потихоньку и не сразу, с пустяков, с мелочей. Шаг за шагом и понемногу.
Медленно, осторожно, тайно. И в один день — все стало ясно, и понятно, и некуда деться, и слишком поздно чго-либо делать, и ничего изменить нельзя.
324
Муж — я заметила — начал вдруг мне привозить все меньше денег, стал давать их не каждый месяц, но всякий раз объяснял причины. Я избегала семейных ссор, не задавала ему вопросов, хоть и точили меня сомненья. Ладно уж! Просто сделаю вид, что я глупа, ничего нс смыслю и во всем доверяю мужу.
Я никогда его не звала по имени — уж так получилось. Я застенчива и стесняюсь, и люблю его, и жалею, и это всегда мешало мне. У меня для него есть прозвище, тайна наша — ее открывать не надо. Память о молодых годах. Произнесу про себя — и вспомню, каким он был — смущенным, робким! Я прозвала его Симба — лев. Любила и львом его представляла. Он смотрит на женщину, бывало, застенчиво, глаза опускает, и такой у него при этом вид, будто нет никого вокруг.
Он притворялся, а был коварен, словно лев, и, как лев, опасен. Муж мой, отец моих детей. Не верите? Право, стоит взглянуть хотя бы на львов в заповеднике Амбосели или где-нибудь в парке Tea во,
325
или в зоосаде в Найроби. Вспомните, как они пируют, как наслаждаются мясом зебры, как они вроде бы равнодушно смотрят на вас, едущих мимо, как их взгляды скользят по стеклам, неторопливо и небрежно, как их клыки разрывают мясо. Вы не поверите — лев обычно делает вид, что ловит муху, да и ту не хочет обидеть.
А на самом деле — он просто ждет минуты, когда сумеет прыгнуть, жертву свалить на землю, задавить, разорвать на части.
Стал мой муж приезжать все реже, стал наведываться не часто, уик-энд пропустил, и вскоре это стало привычкой. Появляться начал не чаще двух раз в месяц.
А вскоре — даже раз в два месяца, еще реже — раз в три месяца, а потом — дважды в год: раз к рождеству и другой — на пасху, а иной раз — просто случайно, неожиданно, между делом, ненадолго приедет — канет снова. Денег все меньше приносил.
Я писала письма — ни ответа. Ничем он даже не встревожился, не огорчился. Иногда давал объясненья: долго гриппом болел; явились гости — множество и надолго;
326
деловая встреча и чго-то там еще.
И все это он мне втолковывал, как ребенку, принимал за полную дуру.
Мой участок и дом все лучше становились; росли прибытки, а любовь моя — убывала.
Молоко с моей фермы быстро раскупалось.
Я научилась выгодно продавать и кофе. Муж узнал об этом, явился, не затем, чтоб меня поздравить, а за деньгами.
Я гордилась и собой, и своей удачей, а мужчина мой был доволен не женой, а только той суммой, что забрал у меня. Что делать? Поступал он по праву мужа.
Тяжело на ферме работать, но есть польза.
Себя ведь кормишь, и достаточно на продажу. Тяжело работать в поле, нелегко на скотном дворе, трудно и на огороде. Воду мы на себе таскали из реки — далеко от дома. Что за жизнь!
Мои руки были вымазаны ботвой зеленой, листьями батата, размякшей кожурой бананов — чем кормят скот — коров, и овец, и коз.
Стала фермершей я
327
для блага всей семьи. И мои подошвы стали твердыми, кожа — жесткой и шершавой, а сколько трещин на руках, ногах и спине! Тело стало сухим, шелушится, как змеиная кожа. Право, неухоженная я стала. Что поделаешь? Разве можно этого избежать? Для хлева не годятся модные туфли. В них нельзя ни доить корову, ни подбрасывать корма, ни ведро поднимать с молоком. В навозе мои ноги,— ступни и пальцы.
Ноги в трещинах — а что делать? Надо воду носить из речки по тропе с утра.
Мокро, скользко, Грязь густая выше лодыжек. Шесть месяцев, целых полгода у меня он не появлялся. Что случилось? Куда подевался лев мой, отец моих детей? И зачем вранье, отговорки, с кем-то там деловые встречи? Что на самом деле мешает мужу увидеться с женой? Господи! Мои же заботы о семье, о благополучье у меня отобрали мужа.
Жажда жить не так бедно отняла его у меня.
Нет! Он должен вернуться!
328
Срочно я послала ему письмо, что больна, и очень серьезно. Получив его, испугался лев, заторопился, приехал неожиданно, спешно, в будни. Думал он: я лежу больная, а нашел меня в огороде — мы копали сладкий картофель. Дети крикнули: он приехал! Как была, я к нему помчалась.
Я отмыла ступни и руки. Ну, а в доме было так грязно, пыль, неубранные постели... Не успела я. Надо было утром корму задать коровам. Он поморщился, и сердито: — Ты послала письмо? — Послала.
— Чем больна?
— Желаньем увидеть наконец своего мужчину. — Ты ведь видела меня раньше. — Да, конечно. Раньше. Когда-то. Он смотрел — но так равнодушно и, по-моему, с отвращеньем — на меня. Ведь пришлось остаться на ночь.
На последний автобус опоздал мой муж. Я хотела многое сказать. Но напрасно.
Он молчал, не желая слушать. Говорил мне: ферма — в навозе, дом в грязи, и постель воняет, у меня — шершавая кожа, ноги в трещинах, и ночами я храплю, все делаю плохо, неумело.
329
Верьте не верьте, так он мне и сказал. Поднялся и в другую комнату вышел, и заснул на другой кровати. Тут я на себя посмотрела: руки грубые, кожа сухая, ногти черные, щеки в пятнах, волосы грязные, свалялись. Не назовешь меня изящной! Верно. Правильно. И однако — стала я фермершей, хозяйкой. Муж ведь знает давно, отлично — раньше ноги мои были стройными, гладкими. А руки — нежными. А моя квартира — самой чистой, самой уютной. Волосы вымытые блестели, длинные с множеством косичек. И прическа моя сверкала — был пробор, как в лесу тропинка. Неужели муж и не помнит наши простыни на постелях, ароматные, голубые, отбеленные порошками, проутюженные до хруста? У него короткая память, он так быстро все забывает, все хорошее он не помнит и заботы моей не ценит. Неужели ему невдомек, что нельзя заходить в коровник в модных туфлях, что невозможно огород полоть в узкой юбке? Может, он мне подскажет, глупой,
330
в чем ходить — по последней моде — чистить хлев, замешивать корм? М-уж мой, отец моих детей, позабыл, что я стала такой, потому что здесь я для него добывала деньги. Ничего он, глупый, не ценит. Дела, заботы, тяжелый труд отняли мужа у меня. Только тот, кто знает все, должен прийти и дать ответ: что нужно мужчине? Ибо я не сумела это узнать.
Мой урожай богаче стал.
Мои прибытки еще больше возросли. Время шло. И дни текли.
Я стала стареть и уставать, растеряла свою красоту, обаянье мое ушло. Труд становился все тяжелей, а муж все реже приезжал. Как я жила? Вставала рано, ложилась поздно, работала много, так уставала, что не было сил в доме прибрать, толком поесть. Стала уродиной деревенской, муж порой приезжал на ферму, но всегда спешил, торопился — ждет автомобиль, и гости обещали прийти, и надо спешно ему вернуться в город, и сверхурочные работы, и какие-то важные встречи -г и все это ему мешает
331
приехать в субботу, и в воскресенье, в праздник быть с женой и детьми. Но никогда он не забывал забрать у меня свою часть денег.
Муж мой, отец моих,детей, совсем забыл меня и бросил.
Одно у меня утешенье — ферма и поле, скот и куры, овощи, кофе... Дети росли и вселяли в меня надежду.
Стала я ждать. А жизнь скучна, утомительна, одинока. Сама я выбрала эту долю — и муж меня оставил, забыл. Как же это могло случиться? Что-то сделала я не так. Как же мне мужа вернуть? Что делать?
Может, не стоит и пытаться. Поздно.
Лицо мое иссохло, Губы потрескались, в углах рта — язвочки, как у тех, кто ест мало и несвежую пищу. Шея тощая, сухая, с набухшими жилами, а руки — как у каменотеса или у пожилого пильщика дров. Ну, кому я нужна такая? Кому еще я понравлюсь?
Нет, я должна его вернуть. Нет, я должна ему помочь. Почему он к нам не едет — это необходимо узнать. Три уик-энда прошли без него —
332
больше я выдержать не могла.
В ночь с воскресенья на понедельник я решила ехать в город. Так и сделала.
Рано утром в понедельник я открыла двери нашей квартиры...
И тут я увидела Ее, другую -она как в своем доме на кухне готовила еду. Она поздоровалась со мной, она предложила мне присесть. Она так вежливо, непринужденно спросила: «Чем могу быть полезна?
Что я могу для вас сделать?» Что?
Многое можешь, дорогая. Можешь, милая, очень много. Только одно и только этим будешь ты для меня полезна. Оставь моего мужа в покое! Кто ты такая! Я — жена! А ты никто И вон отсюда!
Прочь немедля из нашего дома! А то...
В испуге она убежала, всхлипывая, дрожа и воя. Я обезумела, затряслась.
Забилась в истерике и стала разбрасывать все ее вещи, рвать постельное белье.
333
Я бы могла ее убить, разорвать на куски, на части, но она убежала...
Нынче, думая обо всем об этом, о муже моем, я понимаю: сама виновата я — и только — в том, что потеряла его. Мои хлопоты и заботы украли моих детей. Ничего, я еще надеюсь; он вернется, все будет как прежде. В бедности мы или в богатстве — главное, снова будем вместе. Только бы он Ее забыл!!!
Перевод с английского Михаила Курганцева
Роман
ПРЕДИСЛОВИЕ
Первый роман молодого пи-са!еля Соналы Олуменсе «Две жизни прожить не дано» — заметное явление в литературе Нигерии, где сейчас происходят сложные общественно-политические и социальные процессы.
Само название этого произведения как бы предваряет, что речь в нем пойдет о проблемах морально-этического характера, проблемах социального бытия, требующих от каждого человека определенного ответа: какова твоя гражданская позиция, каково твое нравственное кредо? Именно эти проблемы и приходится решать герою романа — писателю и публицисту Джимми Айзабо, — и не только ему.
Мы знакомимся с Айзабо в тот день в его жизни, когда ему предстоит выйти на свободу после пятилетнего пребывания в тюрьме, куда его бросило одно из многочисленных, сменявших друг друга прежних нигерийских правительств за острую разоблачительную критику. При этом первом знакомстве, еще не успев увидеть Джимми Айзабо, так сказать, «в жизни», мы узнаем о нем мнение сотоварища по заключению, и мнение это таково:
«Джимми — воинствующий революционер». Дальнейшее знакомство с Джимми Айзабо показывает, что его вряд ли можно назвать революционером в нашем понимании этого слова: у него нет определенной, достаточно четкой программы переустройства общества, ясной конечной цели. В его, впрочем достаточно скупых, высказываниях нет призыва к радикальным переменам. Он просто честный, глубоко порядочный представитель нигерийской интеллигенции, критически оценивающий некоторые тенденции в общественной жизни его страны. Необходимо, однако, отметить, что настроен он весьма решительно: в своей борьбе с социальными пороками он непреклонен и, если Потребуется, снова пожертвует личной свободой.
Чтобы глубже разобраться в причинах конфликта Джимми Айзабо с властями предержащими, который привел его к заключению в тюрьму, думается, следует вернуться на четверть века назад: к тому времени, когда бывшая британская колония Нигерия стала независимым государством. История поставила
335
перед освобождающимися африканскими государствами вопрос о выборе дальнейшего пути. Некоторые африканские страны вступили на путь развития, ориентирующийся на социализм. Другие, под давлением бремени прошлого, вступили на путь развития, ведущий к становлению и упрочению частного предпринимательства, крупного капитала, предопределяющий разделение общества на имущих и неимущих. Среди этих стран — и Нигерия.
Определенные успехи, достигнутые этой крупнейшей по численности населения страной в развитии промышленности и культуры, сопровождались резким обострением противоречий между капиталом и трудящимися, усилением {имущественного и социального неравенства, ломкой традиционных и культурных ценностей, взамен которых не было выдвинуто никаких положительных идеалов, всеобщим падением нравов, коррупцией, катастрофическим ростом насилия. Это вызывает все нарастающий протест наиболее честной части нигерийской интеллигенции, глубоко обеспокоенной будущим своей страны.
Противостояние в общественной жизни страны ярко передано в романе противостоянием между Джимми Айзабо и Шефом (английское слово «chief» одновременно переводится и как «вождь», в романе присутствуют оба эти значения) Аджалой. По образу Аджалы можно хорошо судить о том, как нынешние ниге
рийские предприниматели отличаются от своих предшественников сороковых — пятидесятых годов: они приобрели внешний лоск, из тесноватых конторских комнат перебрались в современные просторные офисы, разъезжают в роскошных автомобилях. Но суть их остается все той же: «Процентщики, — с презрением отзывается о них Айзабо. — Искатели наживы. Продажные. Развращенные. Ни на что не годные. И многие — простые марионетки в руках белых капиталистов».
Именно таков в романе Шеф (вождь) Аджала, олицетворение нравственной деградации, человек без принципов, с легкостью разрушающий чужую семью и при этом не дорожащий и своей, разве что опасающийся скандальной огласки. Джимми Айзабо для него — наивный правдоискатель, который не понимает, что «смотреть нужно в оба, а рот держать на замке», и оттого попадающий в беду. От былых времен Аджала унаследовал традиционный титул «вождя», то есть главы деревенской общины, патриарха, которому дано право вершить суд по собственному усмотрению, миловать и наказывать, поэтому он чувствует себя полновластным вершителем судеб своих подчиненных, обращается с ними как со слугами или рабами. В этом торгаше, спекулянте уживается и традиционный «властитель». Однако, сохраняя традиционные титулы и психологию патриархальных правителей, такие люди, как Ад-
336
жала, полностью утратили то, чю составляло здоровую нрав-с! венную основу традиционного общества, где превыше всего ценились личные достоинства, и ав-юритет вождя основывался прежде всего на личных заслугах, беспристрастии и справедливости. В те времена взаимопомощь и взаимовыручка считались нормой отношений между людьми. Вождь по самому своему положению был хранителем неписаных законов и правил, стоял на страже нравственных устоев. Новая, буржуазная мораль, связанная с распространен ие.м частнособственнических интересов, капиталистических отношений, подорвала нравственное здоровье общества, затронув — и очень ощутимо — главную, основную его ячейку — семью. Это-то и вызывает резкий протест и негодование Джимми Айзабо. Дом для него является «его крепостью». Здесь-то он и старается воплотить в жизнь свои нравственные идеалы. Семья для него что-то вроде барометра, показывающего нравственное состояние общества. Таким образом, Айзабо исходит из посылки, что какова семья — таково и общество. Если больна семья — больно и общество, и наоборот. Процесс нравственного разложения общества начался в Нигерии не сегодня. Более двадцати лет назад один из самых известных нигерийских прозаиков Сиприан Эквенси устами своего героя врача Ияри сетовал на то, что семья переживает кризис, ее нравственная основа расшатывается. Теперь этот процесс по
шел еще дальше, стал еще резче и очевиднее.
В доме, куда возвращается Джимми Айзабо после пятилетнего отсутствия, практически уже нет семьи. Символично приветствие, которым встречает его младшая дочь, — не традиционное «с возвращением домой», но просто «с возвращением, пришелец», ибо родного очага, другими словами. общности близких людей уже не существует. Жена опустилась и внешне и внутренне, она — любовница Шефа Аджалы, старшая дочь — распущенная девица, обманывающая родителей, гаков же и самоуверенный разболтанный сын. Воплощением семейного упадка выглядит клумба с цветами, которую зак берег и лелеял Джимми в прежние, до-тюремные годы, — сорняки заглушили цветы, клумба — в полном небрежении. Поэтому такой горечи полны слова, обращенные Джимми к своим домочадцам: «Что осталось для вас святого? Что вы сберегли для меня?» Нетрудно заметить, что вопрос Джимми Айзабо обращен не только к семье, но и ко всему обществу.
Единственное утешение по возвращении домой Джимми находит в своей младшей дочери; одиннадцатилетняя девчурка оказывается единственной, способной его понять и оценить. Офуре — его единственная надежда, но и она гибнет в автомобильной катастрофе. Однако вряд ли стоит усматривать в такой концовке выражение предельного пессимизма, полной безнадежно-
337
сти самого автора. Он только хочет убедительнее показать всю трудность положения, в котором оказываются в современной Нигерии люди, подобные Джимми Айзабо, вступившие на путь решительной борьбы с общественным злом и несправедливостью. Эта борьба и поддерживает пламя надежды, она — верный залог лучшего будущего.
В заключение следует сказать, что Сонала Олуменсе направляет свой обличительный пафос не против каких-то конкретных лиц, а против общественных недугов как таковых. И хотя он не предлагает действенных мер лечения, сам диагноз правилен.
В. Вавилов
Сонала Олуменсе
ДВЕ ЖИЗНИ ПРОЖИТЬ НЕ ДАНО1
Посвящаю моему другу Мэтъю Имоизили, которого мне так недостает.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Освободили его раньше, чем он ожидал.
Он долго молча смотрел на старшего надзирателя — просто ушам своим не верил. Да и денек-то выдался не для такого события. Такой день больше подходит для тюрьмы, чем для свободы. На воле было пасмурно, мрачно. Дождь лил четыре дня подряд; казалось, даже у неба был несчастный, подавленный вид. Ни единый солнечный лучик не пробивался сквозь плотные тучи. Да, такой день создан не для жизни — для смерти.
Узник перевел взгляд с хмурых небес на стоявшего перед ним надзирателя. Этот человек стал со временем ему симпатичен. Грузный, оплывший, пузо торчит — по всему виду пьянчуга запойный, однако никто никогда его за этим делом не заставал. А на дынеобразном лице, при всей напускной строгости и словно бы в опровержение ее — теплые, добрые глаза. Судя по всему, старший надзиратель отдавал себе отчет, что перед ним не совсем обычный заключенный.
Номер А/73/021 все еще вглядывался в лицо своего стража, боясь поверить только что прозвучавшим словам. Надзиратель протянул руку и похлопал его по плечу.
— Знаю, знаю, вы не ждали, думали, выйдете дня через два, — сказал он, — но ордер на освобождение уже подписан, так что можете выходить прямо сейчас, если желаете.
На словах «прямо сейчас» было сделано явное ударение, а человек, которому адресовались эти слова, по-прежнему молчал. Онемел от нахлынувших на него противоречивых чувств. Он был глубоко взволнован. Его распирала радость. И в то же время сердце давила печаль. В первую минуту он даже не понял, как это так — всё вместе? Пять лет за решеткой, какое же значение имеют каких-то два дня!
И все же на первом месте — счастье. Беспредельное счастье. А в него вкраплялась печаль. Непонятная печаль.
1 Опубликовано на английском языке «Лонгмэн найджириа ли-митед», Лагос © Sonala Olumhense, 1982.
339
Заключенный пожал протянутую ему руку.
— Большое вам спасибо,—сказал он. И удивился: похоже, он потерял голос — так тихо он это произнес.
Надзиратель расплылся в улыбке, махнул охраннику, чтобы тот дал ему ключ от камеры, затем сам отпер дверь.
— Пойду подготовлю все остальные бумаги. А вы, как соберетесь, сразу же отправляйтесь в канцелярию.
Заключенный проводил его взглядом, затем, опустив глаза, прошел через маленькую дверцу в камеру и сел на шаткую койку. В голове была какая-то странная пустота, он все еще не мог прийти в себя. Опершись локтями о колени, он спрятал в ладони лицо. И лишь спустя некоторое время, точно лучик света, пробивающийся сквозь щель в стене, до него стал доходить смысл предстоящего события.
Но вот он вскочил на ноги, осознав наконец, что он, Джимми Айзабо, отныне перестанет быть лишь номером в тюремном списке. Он снова станет самим собой: писателем, супругом, отцом троих детей! Он будет распоряжаться своим временем, как захочет! Словно пробуя свободу, Джимми шагнул из камеры в коридор — ведь теперь он может разгуливать повсюду, и не только в пределах этого блока, но и за тюремной территорией. Прикрыв отворенную старшим надзирателем дверь камеры, Джимми какой-то совсем другой, вольной походкой направился к соседней камере. Ему показалось, что он впервые видит это крыло тюремного здания, хотя был переведен сюда одиннадцать месяцев назад.
В голове пронеслось смешное сравнение: он, как Алиса в Стране Чудес, с удивлением разглядывает массивные бетонные стены. Блоки соединены один с другим стальными переходами, колючая проволока ощерилась так густо, что о побеге и помыслить невозможно. Он шагнул к соседней камере и снова улыбнулся, взглянув в открытую дверь на своего собрата по профессии Эдварда Акиаде,— тот что-то писал. Как и все помещения для узников в этом блоке, камера Эдварда была поделена на две части: собственно камера, а между ней и общим коридором маленький коридорчик, где при желании мог находиться заключенный. От общего коридора он был отгорожен стальной дверью-решеткой.
Эдвард вышел в свой коридорчик.
— Поздравляю, Джимми! Я уже слышал новость. Ну и как это — снова стать свободным? Что ты сейчас чувствуешь?
Они стояли подле этой разделяющей и все определяющей стальной двери — один за ней, в камере, другой снаружи. Невысокий, худенький Эдвард — его социалистические убеждения, казалось, были куда мощнее его самого — никогда не терял
340
бодрости духа, но рассказывать о себе не любил. Никто толком не знал, за что его засадили в тюрьму, а Джимми знал, наверно, меньше других, сам он попал сюда на два года раньше. Встречи их по утрам были более чем короткими, однако они по-настоящему подружились. В блоке «С» они теперь остались вдвоем: пришедшее к власти военное правительство освободило всех заключенных. Всех, кроме Джимми и Эдварда — эти двое, как видно, по-прежнему считались особо опасными преступниками, угрожающими государственной безопасности.
— Спасибо за поздравления,—ответил Джимми, — но, боюсь, я уже никогда не буду по-настоящему свободен. — Он так выразительно произнес эту фразу, что, казалось, заранее отрепетировал ее.
Эд уставился на него сквозь стекла очков, будто недостаточно четко его видел.
— Но ведь все вокруг только о том и говорят, что сегодня 1Ы выходишь отсюда! — воскликнул он.
Джимми сообразил, что тот его не понял, — в минуты волнения он имел склонность изъясняться загадками.
— Я хотел сказать, что не тешу себя радужными надеждами,— сказал он, крепко пожимая протянутую сквозь прутья решетки руку Эда. — Вряд ли на воле меня ожидает благосклонный прием. Господствующее общество умеет защитить себя от нежелательных сил, а в нашем поколении я как раз такая сила.
Джимми улыбнулся скептической горькой улыбкой, и в голосе его тоже 'зазвучала горечь, когда он, взглянув на затянутое тучами небо, заговорил снова:
— Засадить меня в тюрьму — это было только начало, куда большие испытания ожидают меня теперь, когда я выйду отсюда. Здесь пять лет тянутся бесконечно, но это всего лишь пять лет. Нисколько не удивлюсь, если все уже сделано для того, чтобы я никогда не почувствовал себя спокойно в этом мире. Не удивлюсь, если они все так устроили, что мне не удастся теперь опубликовать хотя бы одну серьезную статью, высказать свои идеи. А это для меня большая мука, чехМ пожизненное заключение.
Эд недоуменно смотрел на него.
— Разве общество не прощает тех, кто искупил свою вину? — спросил он.
— Какую вину? —сказал Джимми, и глаза его загорелись мрачным огнем, словно в них отразилась вся боль души. — Кто говорит о вине ? Человек виновен, если он совершил какое-то преступление и, признав это преступление, принимает на себя ответственность за него.
341
Он замолчал, по-прежнему напряженно глядя Эду в глаза, словно хотел проникнуть в сознание друга. Когда он заговорил снова, голос его стих. В нем звучала серьезность, граничащая с болью, и то ли мольба, то ли вопрос.
— Я не совершил никакого преступления, — сказал он и неожиданно улыбнулся,—так за что же я понес наказание?
«Он все так же несгибаем, этот старый революционер, — подумал Эдвард, — стоит ему заговорить, стоит прочесть любую его книгу, и ты понимаешь, что он никогда не отречется от своих убеждений».
— Но пять лет заключения — разве это не искупление вины? — спросил он вслух.
Джимми снова пристально на него посмотрел.
— Наказание да, но не искупление. Ведь искупление подразумевает раскаяние, а в чем мне раскаиваться?
Оба смолкли, погрузившись в раздумье. Утреннее солнце лениво пробиралось сквозь облака. Но вот оно одолело их и гордо воцарилось в небе. На пол и стену коридора лег четкий рисунок дверной решетки. И тени двоих мужчин. Драматичная картина, подумал Джимми и в который раз пожалел, что не умеет рисовать. Такие вот минуты доставляли ему истинную радость, и он с удовольствием уже начал набрасывать в своем воображении картину, навеянную этими тенями, но тут Эдвард прервал это занятие очередным вопросом:
— Каковы же твои планы на будущее?
И снова Джимми ответил, словно заранее приготовил фразу:
— Теперь у моего будущего нет ни направления, ни фокуса, ни окраски.
— Но ты так много писал здесь!
Джимми усмехнулся.
— Так ведь только это я и умею делать, — сказал он, скорее сожалея, чем тщеславясь.— К тому же надо позаботиться о жене и детях. Как ты знаешь, четыре года тому назад я запретил им ходить сюда, но и без их рассказов понимаю, что все наши накопления подошли к концу. И еще другое: нам предстоит снова узнавать друг друга — столько воды утекло. А знакомство требует денег, которых у меня нет.
Предполагалось, что на своих двух книгах Джимми заработал кругленькую сумму, правда, точно никто ничего не знал. Сам Джимми ничем своего предполагаемого богатства не выдавал: одевался по-прежнему просто, курил все те же дешевые сигареты, ездил все на том же старом «фольксвагене». Единственно, что переменилось в его жизни, — это жилье. Из небольшой квартирки с двумя спальнями на острове Лагос семья
342
переехала в центр города в прекрасную квартиру с тремя спальнями. Правда, дом был расположен не в самом удобном мссге, но перед ним был небольшой палисадник, голубеющий барвинком, цветком, который напоминал Джимми, как он говорил, «лучшие дни его жизни». Знакомые диву давались, когда Джимми объяснял, что выбрал этот дом не из-за палисадника, а именно из-за этих цветов. Такой он был человек. С' нежностью вспоминал о «прекрасных далеких днях», о первых семи годах его жизни, когда он жил в родительском доме вместе с отцом и матерью.
А Джимми довольно сентиментален, припомнив все это, подумал Эдвард и мягко улыбнулся. И жену свою просто обожает, все время говорит о ней.
— Жена придет тебя встретить ? —спросил Эдвард.
Джимми молча покачал головой. Он, как видно, не хотел говорить на эту тему, и это удивило и заинтриговало Эдварда. Он вознамерился выведать, в чем дело.
— Как так — не придет? Почему?
Ход был верный: Джимми почувствовал, что горячо любимая его супруга оказалась под подозрением ринулся на ее защиту.
— Эно тут ни при чем, — сказал он. — Правда, я известил ее о моей, так сказать, встрече с судьбой в понедельник, мне ведь было сказано, что это произойдет в понедельник. Но сегодня суббота. Она никак знать не могла. Но я, собственно, не жалею. Как-нибудь доберусь до дому сам. А для нее это будет сюрприз. Бедняжка! Четыре года не виделись, но теперь мы снова будем вместе. И у ребят сегодня выходной, так что, надеюсь, застану их дома. Подумать только, какая нам предстоит встреча!
Но тут Джимми вспомнил о тех, кто останется в тюремных стенах, и смолк. Молчал и Эд. Дети... Для Джимми это была самая волнующая загадка. Близнецам Кехинде и Тайво только-только исполнилось двенадцать, когда его арестовали, теперь им семнадцать. Офуре, младшей, было всего шесть, теперь одиннадцать. Какие они, старался представить себе Джимми. А что он сам понимал, о чем раздумывал в одиннадцать и семнадцать лет? Он мало что мог припомнить. Ведь в ту пору он не отдавал себе отчета, сколько именно ему лет. Вот что получается, размышлял он с улыбкой, когда рождаешься в безграмотное время, в безграмотной семье, в безграмотном окружении. Сколько важных вещей кануло в безвестность и кого винить? Теперь народилось другое поколение, дети смело утверждают себя, считая это своим неотъемлемым правом.
Джимми оставалось лишь утешаться мыслью, что вовсе не важно, насколько выросли и изменились его дети. Еще три-
343
четыре часа, и он это сам увидит и поймет. А друзья — какая радость снова встретиться с ними! Он перевел взгляд на Эдварда, который тем временем гадал, о чем раздумывает его друг. Конечно же, о том, как прекрасно очутиться на свободе, и он снова спросил Джимми, что тот чувствует на пороге нормальной человеческой жизни, которой был лишен пять лет?
— Ты мог бы о том же спросить человека, который очнулся от жуткого кошмара, уверен, он испытывал бы такие же чувства, — ответил Джимми. — Облегчение, радость, волнение, но отчего-то и грусть тоже. Мне кажется, я по-настоящему и не понимаю, какие меня обуревают чувства. Настроение, конечно, приподнятое, но свободным я себя еще не ощущаю. Не скажу, что мысль о скорой встрече с родными и друзьями ше доставляет мне радости, но при этом что-то тревожит меня, боязно, что ли, немного. Может быть, это все оттого, что я так долго просидел за решеткой и забыл, что это — свобода. Нет, каких-то особенных чувств, восторга я не испытываю.
Эдвард совсем растерялся: что же все это означает? Рассказывали, что, когда Джимми водворили за решетку, он задал тюремщикам немало хлопот. Объявил голодовку и две недели крошки в рот не брал, но жена все-таки уговорила его отме-' нить голодовку. Лишенный возможности читать и писать, Джимми жаловался, что сходит с ума, и даже грозился покончить с собой.
Однако время шло, долгие секунды превращались в минуты, а минуты в часы. Дни растягивались в месяцы. Джимми стих, но даже во сне лицо его грозило бунтом. Он рвался к свободе всем своим существом, каждым мускулом, каждым жестом, каждой каплей крови. И вот пожалуйста — сегодня ему, можно сказать, подарили свободу, а он говорит, что «грустит» и вовсе не в таком уж восторге.
Эдвард покачал головой. «Странные существа — люди, — сказал он себе. — Не дай им сладостей, и они будут жаловаться на лишения. Одари сладостями, скажут, что мучаются желудком».
Он поднял голову и тут же опустил снова, уклоняясь от резких солнечных лучей. Близился полдень, и жара досаждала все больше и больше. Немного погодя в камере будет невыносимо. Правда, Эдварда это не особенно тревожило. Подобные испытания он принимал философски, считая, что ему воздается по заслугам за все его прегрешения перед богом. И не пускался ни в рассуждения, ни в жалобы.
Снова заговорил Джимми:
— Хочу поблагодарить тебя, Эд, за все, что ты для меня сделал. Ты мне очень помог, я всегда буду об этом помнить:
344
и как ты научил меня делать утреннюю зарядку, и твое дружеское участие, и добрые слова, которые ты мне говорил. Ты убедил меня, что даже в тюрьме можно иногда радоваться. Правда, я всегда утверждал, что хорошие люди есть повсюду, 1ак же, впрочем, как и плохие, и не в месте дело, каким бы страшным оно ни было. Но как это ни смешно сейчас звучит, мне и в голову не приходило, что таким местом может оказаться тюремный двор. Теперь ты про меня знаешь все доподлинно, хотя о себе рассказывал мало. Знаешь, где меня искать, когда выйдешь отсюда. Как я буду рад снова с тобой встретиться! А пока что позволь мне еще раз выразить тебе мою признательность, благодаря тебе мое пребывание в тюрьме прошло не без пользы.
И, не дожидаясь ответа, даже не пожав Эду руку, Джимми резко повернулся и пошел к своей камере. Пара рубашек и запасные брюки были уже сложены в чемоданчик. Теперь Джимми собрал книги и бесчисленные листочки и клочки бумаги, на которых было что-то нацарапано. Один он мог расшифровать эту скоропись. Джимми сложил все листочки в аккуратную стопочку, затем из другого угла камеры извлек еще одну небольшую связку бумаг — итог его пятилетнего труда во имя сохранения здравого рассудка в этом крошечном замкнутом пространстве. Осталось взять зубную щетку, тюбик пасты, полотенце со спинки койки и можно было возвращаться в жизнь.
Он подошел к охраннику, сидящему в дальнем конце блока.
— Я готов,—спокойно сказал он.—Отведите меня к начальнику тюрьмы.
Охранник нехотя свернул номер «Лагос уикенд», который он читал, и Джимми поймал себя на том, что не может отвести от газеты глаза, хотя и устыдился своего интереса к этому дешевому листку, где серьезному человеку и читать-то нечего. Но еще и неделю спустя он вспоминал эту минуту с большим волнением.
Наконец охранник поднялся и, не сказав ни слова в ответ, направился к кабинету начальника тюрьмы, помещавшемуся в блоке «А». Вот и остались позади «исправительные» камеры блока «С», где отбывал свой срок Джимми. Камеры там были и побольше, и поудобнее — для «важных» заключенных, а в блоке «Б», который они сейчас проходили, все было устроено так, чтобы причинить узникам как можно больше страданий. Маленькую одиночную камеру — в такой содержался Джимми — делили здесь четверо, а то и шестеро заключенных, среди которых были и совсем зеленые юнцы. Они жили бок о бок с закоренелыми преступниками, делили кров с самим дьяволом.
345
Кабинет у начальника тюрьмы был внушительных размеров. И хорошо обставлен. Весь этот антураж, размышлял Джимми, наверно, для того, чтобы подчеркнуть разницу между заключением в тюрьму и хождением в нее, между положением осужденного и главы тюремного института. Здание этой тюрьмы было возведено в 1940 году, но тогда построили всего два блока. Первый начальник, офицер колониальных войск, настоял, чтобы строили по его плану, оказавшемуся столь хитроумным, что во всем сооружении по сию пору ничего не пришлось менять. На стенах кабинета фотографии — его и преемников. Вошедший оказывался вг виду массивного стола из красного дерева, который стоял у противоположной стены кабинета. Толстый ковер во всю ширь кабинета, небольшая книжная полка, где книжки стоят в столь идеальном порядке, что, кажется, к ним никто никогда и не притрагивался, из чернильниц горделиво торчат гусиные перья — все призвано произвести впечатление. Начальник что-то писал, смешно вывалив на стол толстое брюхо. При виде Джимми он поправил очки на носу.
Он был сама любезность: поднялся, широким жестом указал на одно из кресел перед столом.
— Садитесь, пожалуйста, мистер... э-э... Айзабо,—сказал он, слегка споткнувшись на имени. — Я вижу, вы уже готовы покинуть нас.
Джимми сел.
— Tres bien!1 — Начальник произнес одну из немногих известных ему французских фраз. Он вставлял их где надо и не надо на потеху как узников, так и своих подчиненных. Потом вытянул какие-то листки из стопки бумаг сбоку, и Джимми увидел на верхнем свое имя и номер; какие-то надписи он разобрать не мог. — Вот прочтите и подпишите, — сказал начальник, ткнув толстым пальцем в пунктирную линеечку внизу страницы. — Все документы в двух экземплярах.
Джимми прочитал ордер на освобождение, вздохнул и подписал. Начальник отделил копию и вручил Джимми.
— Мистер A-а... Айзабо, вы, безусловно, понимаете, что мы лишь выполняли свои обязанности, держа вас в заключении. Лично я ничего против вас не имею.
Они взглянули друг другу в глаза. Джимми почувствовал нечто вроде жалости к этому толстяку: как видно, и ему не чужда, пусть и не совсем обычного свойства, но все же какая-то совестливость. Но вот интересно, стал бы он ее проявлять, окажись перед ним не Джим Айзабо, а какой-то безвестный человек?
1 Очень хорошо (фр.).
346
— Благодарю, шеф,—сказал Джимми.— Я не таю на вас и а.
Он поднялся. Встал и начальник тюрьмы, протянув ему руку.
— Хотите, подброшу вас? — спросил он. Как видно, его тянуло хоть как-то загладить зло, причиненное этому знаменитому писателю. Да и кто его знает, вдруг возьмет да опубликует что-нибудь нехорошее про него.
Первым побуждением Джимми было отказаться, однако, подумав, он решил не обижать толстяка.
— С удовольствием принимаю ваше предложение,—сказал он и после паузы добавил: — Если это не доставит вам неудобств, подбросьте меня, пожалуйста, к площади Тинубу.
Начальник тюрьмы рот раскрыл от удивления. С минуту он молча смотрел на Джимми.
— К площади Тинубу? Mon Dieu1, в самое злачное место Лагоса, самую, можно сказать, его сердцевину! Почему именно на площадь Тинубу?
Джимми загадочно улыбнулся.
— Да, вы правы, Тинубу — сердце Лагоса, а значит, и сердце Нигерии. А я так истосковался по своей родной стране, что хочу поскорее оказаться в самой гуще ее жизни, ощутить, чем она дышит.
Начальник ничего не понял. Но, впрочем, вряд ли он вообще когда-то поймет этого человека. Из всех «гостей», которые перебывали в блоке «С», писатель оказался с самыми большими странностями. Человек, который так стойко переносил выпавшие на его долю испытания... пятнадцать дней голодал в знак протеста против заключения в тюрьму и вдруг, едва жена попросила его, прекратил голодовку... выкуривал по три пачки сигарет за день, а потом проснулся в одно прекрасное утро и бросил курить, как отрезал... И вот теперь начинает свою жизнь на свободе с площади Тинубу да еще говорит об этом так, будто это самое распрекрасное место на свете...
По дороге к площади Тинубу они почти не разговаривали. Начальник припарковал машину между двумя автобусами на автобусной остановке, и Джимми вышел. Прежде чем захлопнуть дверцу, он придержал ее на минутку и, наклонившись, заглянул внутрь.
— Спасибо, — с улыбкой сказал он, — за все спасибо!
Одутловатое лицо начальника озарилось довольной усмешкой.
1 Боже мой (фр.).
347
— До свидания. И желаю удачи, — ответил он и, включив зажигание, исчез в потоке машин.
Джимми долго стоял на краю тротуара. Ни о чем не думая. Ему и не хотелось ни о чем думать. Думать было трудно, к тому же он только и делал, что думал последние пять лет. А сейчас он просто дышал, жил, и его это вполне устраивало — быть одним из человеческих существ. Он жил и, чтобы подтвердить этот факт, глубоко, вольно, со вкусом вдыхал в себя нагретый горячим полуденным солнцем, а до того сбрызнутый утренним дождем воздух.
Затем он начал замечать вокруг себя людей. Он увидел толпы прохожих и уличных зевак, которые поначалу словно тонули в тумане и были неразличимы. Он заметил машины, разных моделей, разных размеров. Потом вдруг сообразил, что его чемоданчик так же, как и он сам, стоит в луже. Ботинки промокли, но ему было все равно. Он стоял и смотрел, как вокруг него кипит жизнь, и сам словно возрождался к жизни.
По обе стороны дороги кричали, смеялись, переругивались между собой и спорили с покупателями уличные торговцы — оборванные, патлатые мальчишки. От их босых ног, тонувших в грязной жиже, исходил тот же нечистый запах, что и от их немытых тел и одежды. Тут же вышагивали взад-вперед этакие солидные дяди в костюмах-тройке, с кожаными «дипломатами» в руке. Судя по всему, грязь их нисколько не смущала. И те, и другие неотъемлемы от Лагоса, с легкой усмешкой подумал Джимми. И те, и другие пытаются пробиться в жизни, каждый своим путем. Рыщут в поисках денег, хотя прибылей им ждать не с чего. Добиваются правительственных контрактов на работы, выполнить которые у них недостанет ни средств, ни умения. Одурачивают простаков без зазрения совести.
Внимание его привлек замызганный пригородный автобус, который остановился прямо перед ним. Два юных кондуктора, мальчишки лет девяти-десяти от роду, лихо спрыгнули с подножки. Школу они небось видели только снаружи, с грустью подумал Джимми.
— Аджегунле! — заорали они. — Джегунле!
От огромной толпы, собравшейся на автобусной остановке, отделился внушительный поток и устремился вперед. В считанные секунды головная волна бешеным торнадо завихрилась у автобусной двери, поскольку каждая частица этой волны стремилась ворваться внутрь первой. В ход пошли и руки и ноги, люди рвались вперед, используя друг друга вместо опоры. Какая-то женщина уронила в лужу туфлю. Другая, явно на сносях, в борьбе за место в автобусе потеряла парик.
348
Минуты три никто не мог ни войти, ни выйти. Какой-то пассажир, поглощенный захватывающим зрелищем, высунулся из окошка и пустил поверх голов сражавшихся снайперский плевок в лужу, на которой они топтались. Борьба продолжалась, лица, столь совершенно вылепленные создателем, превратились в звериные маски.
В конце концов каким-то непостижимым образом нескольким пассажирам удалось вырваться из автобуса и еще нескольким ворваться в раскаленную железную коробку и занять пространство, если это слово здесь сколько-нибудь уместно. Автобус отъехал, два оборванца-кондуктора, продравшись меж ног неудачников, заняли свои места на подножке. Джимми обратил внимание, что одна из шин совсем износилась, вот-вот лопнет. Заднее стекло было разбито.
Знакомая картина. Никаких перемен. Джимми усмехнулся и перевел взгляд на противоположную сторону дороги — там был сооружен фонтан, самый незатейливый фонтан, только он был суше, чем пустыня Сахара в сухой сезон. Мимо Джимми проплыл большой «мерседес-бенц», вплотную за ним следовал кремовый «рейндровер», который вел расплывшийся в довольной ухмылке мужчина в цветастой агбаде1. Джимми с трудом удержался, чтобы не плюнуть, так отвратительны были ему все эти подрядчики, процентщики, охотники за легким заработком. Продажные ничтожества! Марионетки в руках белых капиталистов, предающие свою родину. Многие из них больны дурными болезнями, пускаются на разные хитрости, лишь бы никто об этом не узнал. Едва почуют опасность, как их уже и след простыл. Врут, обманывают. Ищут убежища в церквях и больницах, раскрывают свои тайны знахарям и оккультистам, лишь бы спрятаться от закона.
Вдруг движение на дороге замерло. Джимми вытянул шею, чтобы разглядеть, что случилось впереди, но ничего не разглядел и только догда вспомнил, что это Лагос. Движение тут останавливается без особых причин. Достаточно двух велосипедистов на дороге.
Да, все тут осталось по-прежнему. Джимми поднял свой чемоданчик из лужи, стряхнул с него воду. Взглянув на наручные часы, он с удивлением обнаружил, что уже около четырех. Он не спеша направился к свободному такси, чей водитель, воспользовавшись вынужденной остановкой, вышел помочиться на колесо собственной машины. Джимми распахнул дверцу и, сев в машину, захлопнул ее за собой.
Шофер, обнаружив на заднем сиденье плотного, бородато
1 А г б а д а — широкая свободная рубашка, нарядно расшитая.
349
го, черного, как эбеновое дерево, мужчину, поначалу, испугался : сидит и молчит — значит, полиция. Неужели его арестуют за то, что он помочился на колесо? Надо сделать вид, что он знать ни о чем не знает, не он это был, и все.
— Куда мы ехать, ога? — спросил он на ломаном английском.
Сам не отдавая себе отчета, почему он так решил, Джимми назвал Огунлана-драйв. Оставшиеся триста метров до дома он пройдет пешком, посмотрит, какие произошли перемены.
— Огунлана, — сказал он, задумчиво теребя бороду.
Водитель с облегчением вздохнул.
— Платить сем наир.
Джимми устремил на него строгий взгляд. Не для того он вернулся к жизни на свободе, чтобы первый же встречный его надул!
— А счетчик у тебя работает? — спросил он, отыскивая прибор глазами.
Водитель, бросив взгляд на то место, куда несколько лет назад был запрятан счетчик, спустя два дня после его установления, быстро соображал, что бы ему ответить этому уверенному с виду и такому приметливому человеку. Может, он впервые приехал в Лагос?
— Неужто ко мне ищейка забралась? — спросил он шутливо-презрительным тоном.— Какой такой счетчик?
Джимми сообразил, что допустил ошибку, и признал поражение.
— Ладно,—сказал он. — Огунлана-драйв, семь наир.
Что ж, ему еще многому предстоит обучиться, многое понять и принять. Какое счастье, что у него есть любящая жена, которая поможет ему, хотя они и не виделись целых пять лет! Ему хоть есть на кого опереться. Он вернется домой и доверится ей. И снова Джимми улыбнулся.
Машина тронулась с места. Покосившись на Джимми, водитель решил, что в пассажиры ему достался либо сумасшедший, либо дурачок. И чего улйбается? Кто же это за пять километров платит семь наир! Нет бы поторговаться...
ГЛАВА ВТОРАЯ
Предчувствия...
Дурные предзнаменования, волны необъяснимого страха, ощущение опасности, просто опасности и какой-то таинственной, ужасной, нити из Неведомого и Невидимого протягиваются к тебе, опутывают душу. Сердце бьется, но замедленно, глаза широко раскрыты, но не видят ничего странного, уши чутко
350
вслушиваются, но ничего не слышат. Пульс непонятно почему дает перебои, ноздри раздуваются, все твое существо тщится разгадать тревожные знаки. Кровь по-прежнему бежит тысячами тонюсеньких ручейков, пластинка на проигрывателе по-прежнему играет, даже птахи на деревьях все так же распевают свои песни. Все вокруг пребывает в мире и покое. И все же — словно яд проник в воздух, что-то меняется в организме — какие-то химические элементы, какой-то неумелый алхимик совершает еще одну ошибку. Покой обрести невозможно. Во всяком случае, покуда не разгадаешь, какие неведомые силы привели в страшное состояние твое тело и разум.
Эно задрожала, но не от холода, вода в ванне была достаточно горячая, а от напряжения, которое подступало к ней весь день, а теперь сдавило, словно*тисками. Ей почудилось, что где-то в доме вспыхнул огонь и сейчас он поглотит все. Ощущение это было таким отчетливым, что она чуть было не вылезла из ванны и не бросилась на кухню посмотреть, не загорелось ли что там. Но тут же устыдилась своего порыва. Кто мог зажечь огонь, если она одна в доме, а сама она ничего не зажигала? Дети ушли и уехали кто куда. Она постаралась выбросить все опасения из головы и, направившись в спальню, к туалетному столику, начала что-то мурлыкать себе под нос.
Эно несла свое тело с горделивой статью красивой женщины. Но красавицей она не была. Во всяком случае, теперь. Хотя когда-то была, и тогда к ней пришла эта уверенность. До того, как муж ее попал в заключение. С тех пор много воды утекло под мостом ее жизни.
Разглядывая себя в зеркале, Эно в который раз задавалась вопросом: неужели эта ожиревшая грузная матрона и вправду она? Она повела пальцами по голому животу: кожа шершавая, дряблая. Пальцы поднялись до грудей и замерли. Больше всего ее огорчала грудь. Даже после рождения близнецов грудь у нее оставалась крепкой и красивой, и она .ею гордилась. А теперь груди не только обвисли, но и .стали огромными и тяжелыми, она й не представляла раньше, что они могут стать такими. Да и вся она теперь большая и тяжелая, кто бы мог подумать, что она превратится в эту бесформенную глыбу!
Что скажет Джимми, когда увидит ее, в сотый раз подумала Эно и невольно поставила обратно на столик баночку с кремом, которую только что взяла. Джимми! Губы ее тронула робкая улыбка. Ну конечно же, поначалу он промолчит, а потом сядет и заведет с ней долгий разговор. В такие минугы он кажется ей царем Соломоном, изрекающим истину. Поговорит с ней откровенно, спокойно, доброжелательно. Прямо скажет, что ему не нравится. И она ничего не сможет возразить.
351
Нахмурившись, она взяла со столика тени для век. Ей и самой неприятно, что она так растолстела и накладывает на себя столько грима, но она твердо решила завтра все кремы и тени выбросить, а Джимми вернется послезавтра. Она знает, что он ненавидит все эти ухищрения и ужасно расстроится, если застанет ее в таком виде. А вот что касается ее габаритов, то уж ничего не поделаешь. Отчасти в этом повинны тоска и одиночество, ведь его так долго не было. Он все поймет, и с его помощью она обретет прежний вид. Задача не из легких, но ведь при желании всего можно добиться.
Сделав последний мазок, Эно отступила от зеркала — сорокадвухлетняя женщина с довольно привлекательным лицом, все же что-то осталось от ее былой красоты. Однако накрасилась она неумело: лак на ногт$Л лежит неровно, губная помада такая яркая, что лишь подчеркивает дряблость ее тусклой кожи — прямо-таки вампир с неспокойной совестью!
Да и когда ей было обучаться этому искусству, она ведь и начала-то краситься лишь в последние девять месяцев. В студенческие годы она не употребляла никакой косметики. Даже в пору сражения за Джимми ей и в голову не приходило краситься. Да, именно сражения. Красивый парень, известный спортсмен, Джимми был очень популярной личностью, девицы по нему просто с ума сходили.
С удовольствием погрузившись в воспоминания о том, как она завоевала Джимми, Эно начала натягивать на себя одежду. Поначалу она не питала особой надежды — семья у нее была бедная, и она не имела возможности покупать модные наряды и только появившиеся тогда компактную пудру и тон, по которым девицы просто с ума сходили. И даже когда случилось неожиданное, она все никак не могла поверить в свое счастье.
Она улыбнулась, и сердце ее забилось сильнее при воспоминании о том, как Джимми сделал ей предложение. Все словно поплыло в тумане, он что-то говорил ей, а она почти не разбирала слов и, что того хуже, сама не понимала, что отвечает ему. Но пока она опомнилась, все было решено: сам Джимми Айзабо предложил ей руку и сердце.
Даже сейчас, столько лет спустя, Эно отчетливо помнила его смущенный взгляд, когда он в сгущающихся сумерках взял ее руку в свою и сказал: «Я буду тебе хорошим мужем».
Он и был хорошим мужем. Таким добрым и внимательным, что Эно тоже старалась, как могла, быть ему хорошей женой, принести ему счастье. Только не так-то легко было ему угодить.
Джимми презирал женщин, которые выпрямляют свои волосы и красятся. Он полагал, что девушкам лучше читать Шар-
352
ногту Бронте, чем Дениз Робинс. Много чего ему не нрави-иось. Он был непредсказуем, а уж переспорить его и вовсе было невозможно.
Но зато как с ним было интересно и весело! Он будто излучал радость, заражал ею всех вокруг. Он любил жизнь и — что для псе куда важнее — обожал Эно. Такой замечательный человек, которого все знают и уважают, и так ее любит — просто непостижимо! Эно горестно вздохнула, в который раз сокрушаясь о том, сколь жестоко обошлась с ними судьба: в самом расцвете карьеры Джимми арестовали и заключили в тюрьму, а она из-за этого стала такой толстой.
Без особой охоты она вскользь подумала о Шефе Олуреми Аджале, болтливом дельце, вюргшемся в ее жизнь, когда она была так одинока. Затем она стала размышлять, что ей делать с близнецами, Кехилле и Тайво, с ними так трудно стало справляться.
Эно завершила свой туалет и вернулась к туалетному столику взять сухмочку. Взглянув на ручные часики, она обнаружила. чго времени у нее в обрез, она едва успеет приготовить что-нибудь себе на ужин. Однако прежде чем шагпуть к двери, она бросила взгляд вокруг — в спальне царил чудовищный беспорядок. Уборку завтра она начнет именно с этой комнаты, решила Эно, и уделит ей побольше времени. Окажись в ней Джимми сейчас, он бы стены разнес от ярости. Туалетный столик завален косметикой, кровать два дня не застилалась. Но к приходу Джимми все будет в порядке, в полном порядке. Все, кроме ее телес.
Войдя в гостиную, Эно удивилась, увидев Тайво, что-то складывавшую в сумку, раскрытую на диване. Эно и не слышала, что дочь вернулась. На приветствие Тайво она не ответила.
— Сколько раз тебе повторять, милочка, чтобы ты стучала, прежде чем войти в дом? — спросила она.
Особа, которой был адресован этот вопрос, словно бы и не расслышала его. Она была явно чем-то взволнована: щеки горели ярким румянцем, она поспешно совала в сумку какие-то вещи, косметику, зубную щетку. Тайво весила не меньше, чем мать, но в отличие от нее была высокого роста — пять с половиной футов. Вполне сформировавшаяся женщина, не то что Эно в ее возрасте. Пышные бедра Тайво и горделиво торчащая грудь притягивали к ней мужчин словно магнитом. Тайво предпочитала кавалеров постарше, только они знают, как надо ухаживать за дамой, утверждала она.
Что и говорить, Тайво была красавица. И не только прекрасно об этом знала, но твердо решила извлечь из своей
12 Альманах «Африка», вып. 6
353
внешности максимум пользы. Одевалась она по последней моде; сейчас на ней были легкие брючки, наподобие пижамных, и свободная блуза — этакая японочка в костюме для состязаний по джиу-джитсу.
Тайво уже затягивала молнию на сумке, когда мать раздраженным тоном повторила свой вопрос. Только тут Тайво подняла наконец голову, и они посмотрели друг на друга долгим взглядом. Тайво надулась — обычная ее манера выражать раздражение, и, надо сказать, довольно дерзкая.
— Я очень спешу, мам. Еду с подругой на уик-энд, — то ли отвечая на вопрос матери, то ли игнорируя его, сказала она.
— Никуда ты не поедешь! — отрезала мать. — Завтра у нас генеральная уборка. Я ведь предупреждала тебя — к возвращению отца.
Тайво часто говорила друзьям: дочь, которая не может перехитрить мать, не достойна своего поколения и вообще не женщина. На сей раз ока намеревалась позвонить матери несколько позднее, если это будет возможно, и наплести ей что-нибудь, но, поскольку ее поймали, так сказать, на месте преступления, она решила идти напролом.
Изобразив на лице обиду и даже некоторую досаду, она воззрилась на мать.
— И ты, мама, могла подумать, что я забыла об этом? — спросила она. — Я все продумала — вернусь домой завтра днем. Я бы рада остаться, но ведь я уже договорилась. Можешь не сомневаться, завтра я буду дома.
На самом деле она не имела ни малейшего намерения возвращаться раньше понедельника, когда мытье и скоблежка будут уже позади, и все, что от нес понадобится, — это пойти вместе со всем семейством встречать отца. Тайво не отводила взгляда от матери, твердо зная, что она все равно уедет на уик-энд, не важно, согласится та или нет. В конце концов ведь и мамаша вырядилась в эти роскошные кружева и взяла эту сумочку не для того, чтоб наводить порядок в доме. Мать направилась на кухню, и Тайво подхватила свою спортивную сумку.
— Пока, мам! —весело крикнула она, шагнув к входной двери.—До завтра!
Минуту-другую спустя Эно услышала шум отъезжающей машины. Она даже не выяснила, с кем Тайво договорилась провести хэтот вечер, сообразила Эно. Инстинктивно, как угадывают такие вещи все женщины, она поняла, что в машине был мужчина. Может, это кто-то из ее приятелей-сверстников, успокоила себя Эно.
Приготовив себе на кухне внушительную порцию салата, Эно отправилась с тарелкой в гостиную. Она уже дошла до
354
стола, когда зазвонил телефон. С набитым ртом Эно подошла к телевизору, на котором стоял телефон, и подняла трубку. Звонивший не успел произнести и слова, как она уже поняла, кто звонит: тяжелое пыхтение в трубке было красноречивее слов. /
Шеф Аджала!
Она живо представила его себе: рот прикрыт белоснежным платком, выжидает.. Его осторожность граничила с манией. Если бы даже кто-то захотел подслушать их разговор, то ничего бы не понял, он отработал проверенную систему общения.
— Номер «эп»? — спросил хриплый" голос на другом конце провода.
Ну кому придет в голову, что это две первые буквы ее имени? Она не ответила: на их условном языке молчание означало, что трубку взяла она.
Шеф заговорил снова:
— Наша договоренность остается в силе?
Молчание. Согласие.
— Да, но председатель ждет... — Голос по-прежнему деловой, бесстрастный.
Ну вот, из-за Тайво она опоздала на свидание с Шефом! Он ее ждет, а Шеф не из тех людей, что любят попусту тратить время. Неужели он отменит их последнее свидание?
Он не отменил.
— Ладно, — сказал он, к величайшему ее облегчению, — даю вам еще полчаса.
Полчаса! Как же она успеет? Минут пять ей нужно на то, чтобы дойти до места, где ждет ее одно из его такси, которое довезет се до места, где она пересядет в машину к Шефу. Так он установил. Никаких случайностей, никаких ловушек. Слишком велик риск, в этом они оба отдавали себе отчет.
Только вот Эно не доверяла его шоферу, а Шеф Аджала всегда посылал за ней одного и того же. Единственное слабое звено в четко отработанной системе. Разукрашенный своими нелепыми племенными знаками, этот тип сидел, как истукан, и молчал. Он поджидал ее — каждый раз на другом месте, — подвозил туда, где ждала машина Шефа и молча исчезал. Но Эно все казалось, что под личиной раболепия прячется совсем другой человек, завистливый и хитрый, ей все мерещилось, что он исподтишка следит за ней. Она успокаивала себя: Шеф Аджала так осторожен, ему вполне можно довериться. Постепенно. ее страх перед шофером притупился, и она уже спокойно сидела в машине, пока он вез ее из одного места в другое.
Эно возвратилась к столу и опять было принялась за салат, но аппетит пропал. Снова подкрался страх, сердце сжало дур-
12* 355
ное предчувствие. Но почему? Как это происходит? Только что ты была счастлива и беззаботна, и вдруг нахлынул такой ужас, что, кажется, сейчас из тебя дух вон. Зря она отправила прислугу в Бенин за Офуре, их младшей дочерью. Может, все эти страхи у нее от одиночества, хотя сегодня что-то особенное, такого с ней не было с того страшного дня, когда она потеряла первого ребенка. Она молча стала молиться о том, чтоб не повторилась та безумная агония. Слава богу, послезавтра вернется домой ее муж!
Много есть в мире людей, что проходят по жизни, не споткнувшись ни разу и о малый камешек. Такие ловкачи стремятся ухватить как можно больше и ухватывают, не брезгуя никакими средствами. Мораль, справедливость, дисциплина — это все понятия нереальные, и в жизни они попросту не нужны, считают они. Жизнь для тех, кто сбросил с себя все запреты. Не задумываются они и над тем, что хорошо, а что плохо, хотя другим эти свои принципы не высказывают. Волки в овечьей шкуре. Дьяволы в обличии святых. Зло они творят умышленно, а хочется им, чтоб их принимали за ангелов. Следы после них остаются грязные, но они стараются их замести. Честные люди жаждут возмездия и все ждут случая, чтобы уличить злодеев, но судный день все не приходит.
Шеф Аджала был из таких ловкачей. В пятьдесят два i ода он выглядел превосходно, так, что многие давали ему на десять лет меньше. Высокий, энергичный, с пружинистой походкой, у'сики аккуратно подстрижены, он был неотразим. В свое время он получил хорошее образование, однако занялся бизнесом. Образование между тем тоже пошло на пользу — он излучал ту особую уверенность, которая свойственна лишь образованным людям. Занимался он какими-то темными делами, однако принимал все меры предосторожности и не скупился на взятки. Нетрудно было догадаться, что таксомоторный парк и торговля пивом лишь ширма для каких-то тайных и нечестных махинаций.
Несмотря на довольно почленный возраст, Шеф Аджала имел в Лагосе много «приятельниц», в число которых входили как школьницы старших классов, так и страдающие от одиночества домашние хозяйки. Шеф твердо верил в силу лести; надо только уметь польстить и тогда победа за тобой, i оворил он, ну а если женщина устоит и перед его обаянием и перед лестью, тогда пускай в ход деньги. А деньги у него были.
Прежде чем присоединить Эно к своей отаре, он года два к ней присматривался. Впервые он увидел ее, когда она при
356
шла в их фирму поговорить с Реми, другом ее мужа. Габариты Эно произвели на Шефа Аджалу неотразимое впечатление. Однако, чтобы одержать победу над одинокой, но совестливой и отнюдь не глупой женой известного писателя, чьим единственным преступлением, по разумению Шефа Аджалы, было лишь, то, что он не умел держать язык за зубами, Шефу пришлось пустить в ход весь свой богатый опыт и хитроумие. Он знал, что Эно по-прежнему любит мужа. Это его устраивало: хорошо, когда им есть кого любить. Ему нравилось бросать вызов мужьям. Хуже, когда ему уже хочется произвести перемену, а они цепляются за него, как кошки, и донимают своей любовью. Шеф предпочитал разбивать сердца, а не семьи.
А вот разбито ли сердце Эно — он не знал, и это очень занимало его. Он и назначил это последнее свидание, что было вовсе не в его правилах, да еще простил ей опоздание, лишь для гого, чтобы выяснить это обстоятельство. Эно вдруг сообщила ему, что возвращается муж и она больше не хочет с ним встречаться, для Шефа это было неожиданностью. В постели она неплоха, размышлял он, нетерпеливо ожидая ее в своем «мерседесе-280», однако не в том дело. Ему важно выяснить, любит ли она по-прежнему своего мужа. Не занимай его этот вопрос, к чему бы ему лишнее свидание, когда толпы женщин ждут его во всех уголках Лагоса.
Но Эно снова запаздывала, и терпение его истощалось. Перед ним лежала улица Огундаре, упиравшаяся в тупик. Правительство продавало здесь дешевые участки для застройки, а, значит, их захватили богатые люди, которые могли позволить себе иметь машину. Официальных стоянок еще не выделили, и потому машины лепились вдоль обочин и занимали любое свободное место. Зачастую тут и проехать-то было невозможно — такой узкий оставался просвет. Но Шефа Аджалу это обстоя! ельство не тревожило, напротив, толкучка была ему на руку.
Следуя своим правилам, Шеф Аджала наладил простую, но, как он полагал, надежную систему встреч. Наладил сразу же после первого свидания, чтобы успокоить Эно и уверить в безопасности, а заодно и скрыть следы собственной частной жизни.
Система была простая: Йекини, один из его доверенных шоферов, забирал Эно в условленном месте, а затем доставлял туда, где их ожидал Аджала. Одно было осложнение: поскольку места встреч все время менялись, в них можно было запутаться. Поэтому Аджала подарил Эно маленькую записную книжечку, дабы она каждый раз записывала туда новые адреса. Так было удобно. Но это оказалось ошибкой номер два.
357
Ошибкой номер один удостоился чести стать Йекини.
Шеф Аджала заметил подъезжающее такси Йекини и сосредоточил свое внимание на зеркальце заднего вида. Такси остановилось метрах в тридцати от его машины. Из такси вышел Йекини, и Шеф Аджала понял, что Эно не приехала, иначе Йекини немедленно бы уехал, Шеф дал ему на этот счет строжайшее указание. Маневр входил в систему конспирации — для отвлечения внимания прохожих, хотя в такие подробности Йекини не посвящался. Дорога забита, и любой прохожий решит, что машина просто не может проехать дальше и у дамы нет иного выбора, как продолжить путь пешком. Далее вступал в действие Шеф, а поскольку он каждый раз приезжал на другой машине, вряд ли кто-то приметит его уловки, даже если он иной раз и повторит место свидания, так он полагал.
Шеф Аджала включил приемник и опустил стекло. Темные очки он не снял. Йекини очень бы удивился, если бы он их снял: за всю свою службу Йекини ни разу не видел хозяина без темных очков и стал считать их как бы частью его лица. Йекини и глаз-то хозяина никогда не видел.
Шофер остановился перед окном машины.
— Да, Йекини, в чем дело? -- спросил хозяин.
— Я ждал еще раз. ога, — хмуро сообщил тот, — но никто не пришел.
Хозяин кивнул и начал поднимать стекло.
— Хорошо, — сказал он.— Можешь уезжать.
Парень направился к своему такси, а Шеф Аджала снова включил приемник и погрузился в раздумье. Впервые в жизни ему пришлось в один и тот же вечер дважды ждать женщину, и тщетно. Он чувствовал себя униженным.
Домой он к ней не поедет, решил он, хоть и очень неплохо было бы закатить ей скандал. Но нет, это не в его правиле)х. Включив зажигание, он отъехал. И вдруг улыбнулся: что ему попусту тратить время, когда впереди свободный вечер и столько женщин только и мечтают о том, чтобы он пригласил их провести этот вечер с ним! Если эта толстая дура вдруг впала в раскаяние, пусть себе кается, подумал он. Такие тонкости не для него...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Стояло то время года, когда темнеет рано, и хотя было едва начало седьмого, быстро смеркалось. Ночь еще не наступила, было 1 о мгновенье сумерек на грани между светом и тьмою, тот незаметный перелом, когда вечер уже пришел, но
358
привыкшие к электричеству городские жители еще нс зажигают света.
Полное безветрие и очень тихо, лишь иногда лихо промчится автомобиль и оглушит сигналом, да встретятся увлеченные спором прохожие.
Высокий, крепкого сложения мужчина с буйной бородой и усами радостно шагал по улицам. В руках у него был чемоданчик, он беззаботно размахивал им и словно бы не замечал ни людей, ни машин. Костюм на нем был старый, изношенный, он то и дело останавливался и изумленно разглядывал какое-нибудь здание, потом с улыбкой шел дальше. Казалось, он замкнут в своей внутренней жизни, которая не имеет никакого отношения к окружающему.
Джимми был опьянен свободой и решительно не знал, что ему с собой делать. Он все время представлял себе встречу с семьей, с друзьями, и эти картины наполняли его счастьем. Главное, он уже совсем близко, а они и не знают! И он все замедлял шаги, чтобы растянуть радость предвкушения, все удерживал себя, чтобы не пуститься бежать.
Он попросил таксиста остановиться метрах в трехстах от дома, перед эстакадой на Альхаджи Маша-роуд — одним из гигантских сооружений из железа и бетона, которые придавали Лагосу вид современного города и притягивали деревенских жителей точно магнит. А тех, кто всего несколько лет нс был в городе, сбивали с толку.
Эстакаду на Альхаджи Маша-роуд начали строить, когда Джимми уже был в тюрьме, и теперь он дивился ее грандиозности. Он долю стоял на обочине, пытаясь согласовать свои воспоминания с новым обликом района. Новые здания поразили его, еще когда он ехал в такси, среди потока машин. Как изменился Лагос всего за пять лет! Только вот досадно, что он, Джимми, не так легко ориентируется среди всех этих новостроек, а по старому городу мог пройти куда угодно хоть с закрытыми глазами и очень этим гордился. Он свернул в переулок, чтобы добраться до Бола Адевунми Клоуз, где стоял его дем, кратчайшим путем, но перед ним встал недавно выстроенный и уже заселенный дом. Он усмехнулся и тут же увидел неподалеку еще один. И снова на него нахлынуло волнение — сейчас он увидит свою семью, друзей!
В душе у него звучала песня. Он не знал, что эта за песня, где он ее слышал, но обрывочные слова и звуки рвались наружу. Потом он потерял ее, но вот она вернулась, он и сам не заметил как. И вдруг его озарило — это же «Возвращение» Оси-бисы. И слова легко сложились в строки:
359
Долго тебя не было, друг. Мы заждались, входи же в дом. Добро пожаловать, дру!, Добро пожаловать...
Даже в последних проблесках сумерек было видно, что ведущая к его улице Аббас Ишака-роуд вся в ямах и колдобинах — больших, и маленьких, и устрашающе огромных, и все они полны грязной водой. Эх, так улицу и не вымостили! Мусор из набитых контейнеров вываливался на землю, всюду горы отбросов, и водители машин, как тс самые нищие из пословицы, которым не приходится выбирать, ездили прямо по отбросам, вминая их колесами в грязь, а когда пригревало солнце, поднималась такая вонь, что хотелось зажать нос и бежать без оглядки. И это район, где живут люди более чем состоятельные!
Многие улицы, по которым он проезжал, изменились, потому что их перестроили и воздвигли новые дома и здания, другие лишились и тех удобств, которые когда-то имели, — к таким принадлежала Аббас Ишака-роуд и Бола Адевунми Клоуз. Хоть еще и не настало время зажигать фонари, он ни на миг не тешил себя надеждой, что они загорятся.
Джимми шел и улыбался.
Долго же тебя не было, друг, Мы заждались, входи в свой дом...
Когда он наконец свернул на Бола Адевунми, от волнения у него перехватило дыхание. Сейчас он увидит свой дом!.. Да, здесь его ждет семья, здесь когда-то собирались его друзья и, он надеется, опять будут собираться. Сейчас его встретит красивая истосковавшаяся по нему жена, его дорогие дети, они ведь и не знают, что счастливая' встреча произойдет с минуты на минуту. Как солдат, который после долгих лет вернулся с войны, он представлял себе, что сначала они не поверят своим глазам, потом поймут, что это действительно он, и радости их не будет границ.
Долго тебя не было, друг, очень долго...
Он пытался представить себе детей, ведь опи, конечно, выросли и изменились, но ничего не получалось: он видел их такими, какими они были пять лет назад, когда его так грубо оторвали от них и бросили в тюрьму. Даже сейчас вспоминать об этом было тяжело, сердце его сжалось от боли. Теперь уж он никому не позволит отнять у себя свободу, она принадлежит ему по праву, он выстрадал ее.
360
Скорее, скорее! С каждым шагом волнение его росло. Душу до краев наполнил голос Уэнделла Ричардсона, пьющего песнь Осибисы:
Долго тебя не было, друг, И вот ты наконец вернулся...
Да, слишком долго его не было. И многое, конечно, за это время изменилось. Он остановился посреди улицы с перекинутой через плечо сумкой, пораженный мыслью о переменах.
Наконец Джимми вошел во двор, чувствуя себя блудным сыном.
И сразу же заметил, что цветник запущен, неухожен. Его любимых барвинков почти не осталось, на заросших травой клумбах виднелось лишь два-три цветка. На мгновение он почувствовал, что его предали, но тут же одернул себя. Что за глупости, кто его предал?
Он поглядел на улицу. Там не было ни одного прохожего, наверное, холод разогнал всех по домам, где так сейчас тепло, уютно. Потом поднял глаза к тонущему в темноте небу. Снова печально оглядел цветник — затра же утром он за него возьмется, пусть даже дождь будет лить как из ведра — и зашагал к дому. Какое уныние вокруг! Хорошо хоть птицы не успели устроиться на ночлег, прыгают и щебечут в соснах за оградой.
Провод дверного звонка был оборван. Неужели все дома пришло в упадок, пока его не было? Но что за глупости приходят ему в голову, его Эно — образцовая хозяйка. Волнение его было так сильно, что сердце, казалось, бьется где-то в горле. Он постучал.
Стук был самый обыкновенный, но он круто изменил все течение жизни.
Не остановись Джимми поглядеть на цветник, он застал бы Эно за телефонным разговором, а сейчас она уже положила трубку и шла в спальню. Услышав стук, остановилась на мгновенье, потом пошла дальше. Наверное, это Кехинде или Тайво. В спальне опа встала у туалетного столика и погляделась в зеркало. Подвела губы, открыла сумочку проверить, там ли книжечка, в которой она вела записи. Завтра она ее сожжет.
Защелкнув сумочку, она вышла, затворила дверь спальни и направилась в коридор. Снова раздался стук, уже в третий раз.
Интересно, кто это? Гостей у нее давно не бывало, знакомые перестали заходить, потому что опа никогда не отдавала визитов. Все-таки надо открыть. Если это кто-то из детей, тогда все в порядке. А если гость, то он наверняка поймет, что она собралась выйти из дому.
Когда она шла по гостиной, постучали опять. «Да, да,
361
иду», — крикнула она, и в сердце снова змеей шевельнулось предчувствие.
Она распахнула дверь. На пороге стоял Джимми.
Случалось ли вам когда-нибудь наступить нечаянно на горящий уголь? Именно такое ощущение испытали в эту минуту и он, и‘она. Только Эно узнала мужа раньше, чем он ее. Конечно, он похудел с тех пор, как они виделись в тюрьме четыре года назад, по вид был все такой же уверенный и непокорив-шийся. На губах веселая улыбка, но когда он увидел Эно, она сбежала. Темная кожа, красивые правильные черты, атлетическая фигура, — перед ней был ее муж, ее Джимми. Он вернулся на два дня раньше.
Джимми был ошеломлен. Казалось, он целую вечность простоял как каменный на крыльце. Наконец все-таки начал приходить в себя, точно больной после припадка эпилепсии. И тогда он увидел на фоне ярко горящего экрана телевизора женщину сильно за сорок в хорошо сшитом розово-голубом гипюровом костюме-, но толстую, расплывшуюся, с огромным бесформенным бюстом. Кое-как наложенная косметика по-лусмыта потом. Она походила на размалеванного идола. Тонкие губы под слоем ярко красной помады недовольно выпячены. Руки сжимают черную сумочку.
У Джимми мелькнула мысль спросить эту женщину, а где же его жена. Он протер глаза, пытаясь удостовериться, не мерещится ли она ему. О господи, неужели это его любимая Эно? Нет, не может быть, он никогда эту женщину не видел, он ошибся и попал в чужой дом, ему здесь делать нечего. Бежать. бежать без оглядки, куда угодно, на край света!
Потом он вдруг опомнился и стал вглядываться в женщину. Оба молчали. Нет, никуда ему не убежать. Это Эно, его жена, он пришел домой. Джимми протиснулся мимо нее в гостиную.
Есе вещи стояли на своих местах, все было как пя гь лет назад, ничего не изменилось, изменился только он и эта... эта женщина. На тахте беспорядок, вытершийся красный плед сбит. Но в книжном шкафу по-прежнему ни пылинки, хотя он сразу заметил, что исчез его фотоаппарат и один из снимков. Где же белые в оборках шторы, которые Эно купила к десятой годовщине их свадьбы? Вместо них на окнах висели выцветшие ситцевые занавески с рисунком, напоминающим английский флаг.
Чтобы все это заметить. Джимми понадобились считанные секунды. Но вот наваждение рассеялось, фильм, снятый замедленной съемкой, кончился. Джимми и Эно мысленно бросились друг к другу через разлив времени и событий, которые их разлучили, их, мужа и жену, любовников, друзей.
362
Джимми повернулся к женщине, которая все так же глядела на него, раскрыв рот. Только одно слово он и произнес:
— Эно...
В нем были призыв, крик, вопрос.
Она стояла точно пригвожденная к полу, испуг и потрясение были слишком велики, она не могла поверить, что эго он.
Джимми опять невольно улыбнулся. Ну конечно, она растерялась, потому и молчит, и потом, она, надо думать, серьезно больна, иначе как объяснить чудовищную перемену, которая с ней произошла? Он взял ее за руку и подвел к креслу, выключил телевизор, и резкий свет экрана погас. Пошел в кухню принести ей воды. Когда он открыл дверь, в воздухе загудела, точно приветствуя его, туча мух. Они поднялись из раковины, где громоздилась гора грязной посуды, и в нос ему ударил запах помоев.
Джимми отпрянул’и в который раз задал себе вопрос, а туда ли он попал, куда шел, не спутал ли адрес, не чужой ли это дом? Он усмехнулся своей наивности и открыл холодильник. Там стояла всего одна бутылка. Чистой чашки он так и не нашел, а вонь в кухне была тошнотворная, и он подумал: ничего, придется ей на ссй раз пить из бутылки. И только когда он, поспешно захлопнув за собой кухонную дверь, за которой роились мухи, вернулся в гостиную и открыл бутылку, до него дошло, что в ней не вода, а джин.
Он в изумлении глядел то на бутылку, то на женщину. Она еле слышно прошептала:
- Дай.
Он машинально протянул ей джин. Она стала пигь большими глотками, и тогда он вырвал у нее бутылку. Эно, его Эно, которая никогда раньше не пила ничего крепче кока-колы, сейчас глушит джин как заправский пьяница!
Джимми поставил бутылку на с гол и сел против жены. Он ничего не понимал. Он летел к ней как на крыльях, к любимой преданной жене, с которой так счастливо прожил столько лет, а перед ним сидиг крикливо одетая, размалеванная неряха и хлещет джин... О господи, что с ней случилось, что случилось с его детьми?
Джимми глядел на нее не отрываясь. Часы на стене пробили семь. Вдруг его осенило. Он взял свой чемоданчик и направился в спальню. Когда он вошел в нее и закрыл дверь, он словно окаменел.
Казалось, по комнате прокатился смерч. Постель скомкана, подушки раскиданы, на них валяются полотенце, халат, ночная рубашка. На спинке кровати навалены платья, юбки, белье. На
363
туалетном столике в полном хаосе флаконы с лосьонами, духами, кремы, пудра. Зеркало покрыто слоем пыли, казалось, его не протирали целый год. По полу разбросаны туфли, платья, видимо, они упали с кровати. Только шкаф был в относительно пристойном состоянии. Через приоткрытую дверцу виднелись его отглаженные костюмы на вешалках. Над дверью висела фотография, которая когда-то была так дорога им с Эно — он и она в день свадьбы, оба стоят на коленях, а священник их благословляет. Фотография до того им нравилась, что они решили повесить ее над дверью, чтобы, ложась спать, каждый вечер смотреть на нее и вспоминать, как они были счастливы в тот день. Сейчас эта фотография так запылилась, что, не знай Джимми каждую ее подробность, он не смог бы разобрать, что на ней изображено.
Джимми всегда считал, что спальня это святая святых, в особенности кровать. Это единственное место в мире, куда никто не вторгнется, единственное место в мире, где человек может быть самим собой. И когда он начал создавать дом, то в первую очередь стал устраивать спальню, и как же радостно ему было чувствовать, что жена с такой же любовью вьет их гнездо, как и он. А сейчас спальня выглядела как после погрома. Он снова с горечью поглядел на свою кровать. Шок сменился страхом, страх — гневом. Он поставил чемодан возле шкафа и вернулся в гостиную.
Эно почти оправилась от потрясения, хотя вряд ли смогла бы встать — ноги под ней наверняка бы подломились. Мысли неслись, перебивая одна другую. Так вот, оказывается, почему она целый день не могла оз вязаться от тягостного предчувствия. Что же теперь будет? Муж застал дома такой чудовищный разор и, конечно, решил, что она потеряла рассудок. Она вся сжалась, когда Джимми направился в кухню, и страшно удивилась, что он вернулся такой спокойный. Ей было стыдно пить перед ним джин, но непременно надо было подкрепить силы, к тому же ему рано или поздно все равно придется узнать, что она пьет. Когда же он вошел в спальню, она поняла, что все погибло. Если бы там было прибрано, она могла бы хоть как-то оправдаться. Гроза надвигалась, и Эно была бессильна ее отвести.
Джимми снова сел против нее, и она увидела, что он с трудом сдерживается. Руки у него слегка дрожали, губы были сжаты, дышал он тяжело и прерывисто.
Несколько минут он долго с недоумением смотрел на нее. Потом опустил голову и стиснул ее руками. У него не было ни одной мысли, в душе пустота. Казалось, ему снится отвратительный кошмар.
364
Когда он наконец поднял голову и посмотрел на Эно. была уже половина восьмого. Глаза его горели.
— Где дети? — спросил он.
Чего угодно ожидала Эно, только не этого вопроса. Она тупо поглядела на него, положила на столик сумочку, которую все время держала в руках.
— Кехинде и Тайво в кино, — проговорила она чужим голосом. — Офуре поехала домой.
— Домой? А где ее дом?
— Она поехала проведать твоих родителей. Прямо из школы, сказала, вернется завтра, чтобы в понедельник всем вместе ехать за тобой. Фунми — это наша новая прислуга — уехала за ней.
— А ты?
Вот оно, началось, подумала Эно и, собравшись с духом, подняла на него взгляд. Руки его дрожали еще сильнее, глаза налились кровью. Эно начала молиться.
— Что — я? — спросила она, пытаясь выиграть время.
— Ты-то где? — взорвался Джимми. — Где ты пробыла все это время? Сколько лет не заходила в дом — год, два, три? Когда в последний раз заглядывала в кухню? Когда была в спальне? Та ли ты женщина, на которой я когда-то женился? Та ли, на кого оставил дом и детей? Ты Эно, или я вижу тебя впервые? Неужели ты так сильно изменилась за мое отсутствие? Ты... ты...
Джимми умолк. Что он мог ей сказать? Единственная мечта, которую у него не отняли в тюрьме, разбилась вдребезги.
Эно сидела, сжав руки на коленях. Она всем своим существом чувствовала, как уязвлена гордость Джимми, как страдает его сердце. Но чем она его успокоит, утешит? Она даже не знает, где сейчас Кехинде и Тайво. И что сказать о беспорядке в кухне и в спальне — что она ждала его только в понедельник и отложила уборку на завтра? Или ждала прислугу, чтобы с ней начать убираться? Она подняла глаза к потолку, моля всевышнего о помощи.
На глазах Джимми выступили слезы отчаяния.
— Может быть, ты все-гаки... — начал он.
Входная дверь распахнулась, однако никто не вошел. Порыв ветра рванул занавески на окнах. Джиглми вопросительно смотрел то на жену, то на открытую дверь. Наконец в ней появился юноша. *
В семнадцать лет Кехинде был уже почти шести футов росту, стройный, спортивного вида и с самыми вздорными представлениями и мечтами. Одевался он ярко, говорил громко и, как ему казалось, с американским акцентом, но скорее можно
365
было подумать, будто это пытается объясниться китаец, который только что начал осваивать язык йоруба.
Он был очень доволен, что мать предоставляет ему полную, свободу, и вовсю этой свободой пользовался. На его смазливом лице злорадно пламенели прыщи, и он их постоянно ковырял. Только это омрачало его жизнь. Впрочем, сейчас жизнь казалась ему безоблачно прекрасной. Ог пяти бутылок пива, которые он выпил у приятеля, в голове у него бешено закружилось, и это было очень приятно. Казалось, он не идет, а летит по воздуху, и все ему было нипочем.
Он по привычке вошел в дом без стука. Распахнув дверь, он шагнул назад и схватил за руку свою подружку Ийабо, которая очень боялась встретиться с его матерью. Он втащил девушку в дом. Отец и мать оцепенело смотрели на них. С первого взгляда было ясно, что Кехинде в стельку пьян, а девица, хоть и испугана, вполне трезва. Наконец Кехинде удалось захлопнуть дверь.
На нем был итальянский пиджак «сафари», грязные залоснившиеся джинсы и черные спортивные туфли, на голове — черный берет. Хотя уже давно стемнело, на носу красовались темные зеркальные очки. Вот он снял их, оглядел комнату и увидел мать. Отца он не заметил.
’ — Садись, крошка, — велел он девушке,—в ногах правды
нет. Привет, ма, что это у тебя такой похоронный вид? Конец света настал?
Покорившаяся судьбе Эно с горечью усмехнулась. Знал бы он, как близок к истине!
Ийабо сразу же узнала Джимми, она видела его портреты в книгах. Почему же Кехинде обманул ее, сказал, что отец вернется через два дня? От смущения она только и смогла пролепетать:
— Добрый вечер, сэр, добрый вечер, ма!
Никто не отозвался на ее приветствие. Сейчас было, не до светских любезностей, не до детской чепухи: стряслась беда. Ни Джимми, ни Эно не произносили ни слова, и все же Кехинде почувствовал неладное. Инстинкт тотчас же заставил его насторожиться, и в голове слегка прояснилось. Наконец он увидел отца.
Пьяным обычно море по колено, но Кехинде открыл рот и словно окаменел.
— Папа, ты вернулся! — хрипло прошептаЛ он.
Отец глядел на сына и не узнавал его, как полчаса назад не мог узнать жену. Да, вырос Кехинде за четыре года, стал взрослым. И сбился с пути, ведь это же пустой, никчемный малый, вот что страшно. Теперь уже Джимми был убежден,
366
что семья, от которой его пять лет назад оторвали, без него распалась. Господи, неужели Тайво и Офуре тоже такие?..
Он перевел взгляд с Кехинде на Эно, с Эно на Ийабо и усмехнулся.
— Молодой человек,—обратился он к сыну,—проводите, пожалуйста, вашу гостью.
Обиженный и возмущенный Кехинде хотел было заспорить, но подумал и смолчал. Он двинулся к входной двери, девушка за ним — она не чаяла вырваться из этой гнетущей обстановки.
Джимми снова посмотрел на жену. Ну конечно, она сошла с ума или заболела, а может быть, и то, и другое вместе, чем иным можно объяснить, что опа так запустила дом и махнула рукой на детей? Ему вдруг стало холодно. Он закрыл лицо руками.
Кехинде вернулся минут через десять. Они сидели втроем и глядели друг на друга, а время шло, шло...
Часы пробили десять.
Джимми повернулся к Эно.
— Когда придет домой Тайво?
Ответа он не получил. Усмехнувшись про себя, он опустил голову.
В одиннадцать Тайво все еще не было.
Когда отзвучал последний удар часов, Джимми обвел взглядом комнату.
— Всем спать, — произнес он такие знакомые но той, прежней, жизни олова.
— Спокойной ночи, — сказал Кехинде, но никто ему не ответил.
Эно, которая все это время не смела встать, вдруг почувствовала необыкновенный прилив сил. Она бросилась в спальню и стала прибирать, чтобы Джимми было где лечь. Минут через двадцать, рассовав вещи по местам, она вернулась в гостиную сказать мужу, что постель готова, но он уже крепко спал на диване. Она с виноватым чувством ра.збудила его, но он отказался перейти в спальню.
Эно побрела в кухню — там ее ждали поистине авгиевы конюшни. Ее тучное тело сотрясалось от рыданий, глаза жгли слезы. Она начала с посуды, но, вымыв ее и оглядев кухню, поняла, что трудиться ей придется долго. Ну и что же, пусть! Она была полна решимости и дала себе клятву навести здесь идеальный порядок, хотя бы даже ей пришлось совсем не ложиться в эту ночь.
367
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Он увидел самолет слишком поздно.
Серебристо-голубой истребитель вынырнул из туч и промчался над макушками деревьев метрах в ста справа от него. Прижав локтем к боку бесполезную винтовку, он хотел бежать к кустам, но раненная навылет нога не повиновалась. Он с трудом ковылял, чувствуя, как липнет к телу пропитанная кровью брючина. Падая, он вдруг понял, что ведь он совсем один. Друзья покинули его — одни убиты, другие далеко в укрытии.
От этой мысли сразу же пропали силы, ему показалось, что он обречен. Да, он храбро сражался, думал он, сдаваясь боли, и если ему суждено умереть, что ж, он без сожалений умрет за дело, в которое свято вериг. Они ведут справедливую войну.
Но неужели он и в самом деле умирает? Какая же она — смерть ? —думал он, пытаясь ползти по песку, и вдруг услышал далекие разрывы снарядов. Поздно, поздно! Лицо его заливал пот, башмаки были полны крови. Поздно...
Но человек не может не цепляться за жизнь до последнего, и он, сам не отдавая себе отчета в том, что делает, поднялся, шатаясь, на ноги. Это была ошибка. Самолет сбросил свой смертоносный груз, бомбы рвались вокруг него, и в голове снова мелькнуло: «Да, вот она — смерть!» Он зашатался и снова упал, ударившись ногой обо что-то твердое...
Джимми проснулся в холодном поту, весь дрожа. В первую минуту он не мог сообразить, что это был всего лишь сон. Потом потер рукой ногу, которую ушиб во сне о ручку кресла. Он не сразу догадался, где он. Стал осматриваться, но в темноте ничего не мог разобрать. Наконец все-таки вспомнил.
Он сел и, хотя было по-утреннему свежо, сорвал рубашку и вытер мокрое от пота тело. Потом встал, включил свет и посмотрел на часы — всего без четверти четыре. Он-то думал, что уже совсем утро. Очень хотелось есть, со вчерашнего утра у него не было во рту ни крошки. Но когда он начал размышлять о том, что произошло вчера вечером, голод исчез, под ложечкой засосало от смутного предчувствия. Сон никак не шел из головы. Может быть, это пророческий сон? Может быть, его ждет смерть?.. Или кого-то из детей? Как все чудовищно, невероятно! Почему жизнь так сильно изменилась за четыре года?
Когда он четыре года тому назад со свойственной ему бесповоротностью решил, что никто его больше не должен навещать, даже жена и дети, он мог бы поклясться, что у него самая любящая, заботливая жена в мире и самые скромные, послушные дети. Они были для него источником нескончаемой радости. Он был так счастлив, так гордился своей семьей. Не
368
ужели от прошлого не осталось и следа, неужели все погибло?
Перед л им горем побледнели боль и страдания, которые герзали его в тюрьме. Но еще мучительней был гнездящийся в самой глубине его сердца страх, в котором он сам себе боялся признаться. Это был страх за младшую дочь, Офуре.
Так уж случилось, что он особенно любил свою маленькую «подружку», и, что замечательно, девочка любила его так же горячо. Это был прелестный ребенок с большими мечтательными глазами в длиннейших, густых черных ресницах, таких Джимми никогда в жизни ни у кого больше не видел.
Они часами играли вдвоем, без конца о чем-то разговаривали. Для него это была самая большая радость. Жена не могла понять, почему отец и дочь так тянутся друг к другу, о чем так подолгу болтают, почему так любят просто кататься по улицам Лагоса на машине. Но Джимми-то знал почему: его маленькая «подружка» была для него свет в окошке. Он так любил ее улыбку, любовался каждым ее движением, восхищался, как чутко это крошечное существо отзывается на каждое его настроение. А какая она была аккуратная, как заботилась о своих волосах, причесывала их по десять раз в день.
Они жить не могли друг без друга. Сначала Эно радовалась этой привязанности: как только Джимми входил в дом, он тотчас же брал маленькую дочь на руки и уже не расставался с ней, пока не приходило время ее укладывать, и Эно могла заниматься домашними делами. Потом девочка начала ползать, научилась ходить, говорить, потом пошла в школу, но по-прежнему отец и дочь были неразлучны, и Эно стала немножко ревновать, не потому, что Джимми недостаточно любил ее и двух других детей, — нет, он любил их преданно и горячо,— просто когда отец и дочь были вместе, казалось, никто больше им не нужен. Эно никак не могла этого понять.
Джимми выполнял малейшие желания дочери. И что удивительно, он не испортил ее баловством, девочка никогда нс пользовалась своей властью и слушалась каждого ею слова. Вечерами он рассказывал ей сказки. Она забиралась к нему на колени и сидела тихо-тихо, а он гладил ее волосы и говорил, говорил, ее большие живые глаза закрывались, он думал, что она заснула, умолкал и погружался в свои мысли, но она протягивала к нему ручки, обнимала за шею и просила: «Пожалуйста, папочка, дальше!»
Она не настаивала, не капризничала, но ему было довольно ее просьбы. Он тотчас принимался рассказывать дальше, а если сказка была уже кончена, начинал новую. Иногда он сам придумывал сказки для нее.
369
Джимми вспоминал те времена и без конца ворочался на своем диване. Он в общем-то не жалел, что пришлось попасть в тюрьму. Он отдавал себе отчет в том, что делает, и не мог не сознавать, что выбрал не слишком-то удачное время, чтобы собирать данные о деятельности прежнего военного правительства и писать обличающую его книгу. Безумием было бы надеяться, что такое сойдет кому-то с рук. В лучшем случае книгу просто не позволят напечатать. А если по недосмотру властей напечатают, то сразу же запретят. Что же касается писателя, его немедленно упрячут в тюрьму, спасти его не сможет и чудо, и просидит он в тюрьме много лет.
И все же он решил рискнуть и начать игру, хотя шансов на победу у него почти не было. Он был миссионер по призванию, п опасность его не пугала. Но ровно через пять дней после того, как он отправил рукопись своему издателю в Лондон, его арестовали и бросили в тюрьму. Он не стал доискиваться, каким образом власти узнали о книге, да у него и не было возможности протестовать. Не успел он опомниться, а ему уже вынесли приговор, сославшись на закон о чрезвычайном положении. В газетах поднялась было волна негодования, но правительство ее игнорировало, и постепенно возмущение утихло, жизнь пошла своим чередом, и никто, как казалось ему, не замечал больше его отсутствия.
Это бы еще можно было перенести, но тюрьма отняла у него то, что было ему дороже всего на свете, — его семью. И все же, когда он по его собственному выражению «освоился» за решеткой, он заставил себя успокоиться и решил терпеливо и с надеждой ждать — ведь через несколько лет его освободят. Он верил, что жена и дети тоже ждут его преданно и верно, что, когда срок кончится, . они встретят его с прежней любовью, и эта мысль наполняла его счастьем. Семья была обеспечена, о куске хлеба им можно было не думать. И вообще если он в ком был уверен, так это в своей жене и в детях. Уж они-то его никогда не предадут, никогда не огорчат.
И вот прошло пять лет, а от прежней счастливой и безмятежной жизни не осталось и следа. Он вернулся в чужой дом, жена стала чужая, сын чужой... а дочери?..
Джимми вздрогнул. Неужели Тайво пробыла где-то всю ночь? В этом доме сейчас все возможно. Ему вспомнилась Ийабо, которую привел вчера Кехинде, и он на миг представил себе дочь в разгульной компании, с пьяным юнцом. Неужели она... неужели она спит с ним? Или, может быть, лежит где-то мертвая? О господи, где их совесть, стыд? Его захлестнуло отчаяние. Надо немедленно что-то делать. Только вот что?
370
И в сотый раз он принялся раздумывать, давно ли его дети остались без призора, как овцы без пастыря? Сколько же лет ci о семья топчет все то, ради чего он жил и боролся, попирает ic высокие идеи, ради которых он пожертвовал своей свободой? Год, два, три? И как он теперь будет выглядеть в глазах людей? Разве он сможет ходить с гордо поднятой головой как прежде, разве сможет обличать пороки, обличать общество? Значит, всему конец, ом не сможет больше продолжать дело своей жизни, не сможет и вообще жить? А Офуре? При мысли о младшей дочери глаза Джимми обожгло слезами. Неужели и ома тоже?..
Душа его мучительно замерла. Если в этом вертепе Офуре осталась прежней, можно еще будет попытаться построить жизнь заново. Если же и она стала жертвой этой растлевающей заразы...
Думать об этом было слишком страшно. Он ворочался, вздыхал и, точно обреченный на смерть, вспоминал свою жизнь, детство.
К тому дню, когда Джимми арестовали, деревня, где он родился, все еще не значилась ни на одной карте. Однако ее жители, которых было уже около трех тысяч, считали Угбодию центром мироздания. Их жизнь в плодородной долине восточного Бенина с его благодатным климатом шла обычной чередой: весь день люди трудились в поле, потом возвращались домой и ужинали (обычно толчеными бататами), потом ложились спать и крепко спали, радовались каждой малости и проявляли ко всему горячий интерес, совершенно неведомый городским Жителям. До Бенина было всего чуть больше ста километров, но в столицу их не тянуло, как не тянуло в другие большие города. Однако постепенно просвещение начало пробивать бреши в их суевериях, предрассудках, косности и подтачивать извечный уклад жизни этого вольного веселого племени.
Когда дядя Джимми — он был сельский учитель — построил в 1950 году первый в деревне современный дом и покрыл его рифленым железом, сельчане были ошарашены, им понадобилось целых десять лет, чтобы преодолеть свои тысячелетние предрассудки и последовать его примеру, хотя преимущества железа перед пальмовыми листьями были очевидны всем.
Джимми хорошо помнил своих темных, невежественных сельчан. Самым дремучим и диким среди них был вздорный, ленивый Эбо — мулат крошечного роста и с такой светлой кожей, что его можно было принять за белого. Но в деревне его любили, потому что он вечно балагурил. Это он назвал жилище учителя «домом белого бога».
371
— Кому и знать, как не мне, я ведь и сам белый, — хвастался он сельчанам, — я у учителя чуть не каждый день обедаю, как мне есть захочется, так к нему и иду, только никто об этом ничего не знает.
Верить ему никто не верил, однако слухи ползли, болтовня его была на руку противникам христианской религии и перемен, тем, кто смертельно боялся новшеств.
Джимми помнил, как совсем еще маленьким мальчишкой он весь день от зари и до зари трудился с отцом в поле, а когда начинало темнеть, они-возвращались домой, где их ждал вкуснейший ужин - толченый батат. Никто не умел готовить его лучше матери.
Мама... женщина стальной воли. Он любил ее больше всех на свете. Когда она была дома, все словно озарялось светом... приготовленная ею еда была особенно вкусной и ароматной. К отцу Джимми был не очень-го привязан, отец был всегда суровый, строгий, не давал Джимми ни минуты покоя и без конца покрикивал: «Ты что это расселся? Пойди сюда! Принеси! Сделай!» Но мама, мама была совсем другая, и когда он поступил в школу и переехал жить к дяде, он думал, что умрет от тоски по ней. Странная штука — жизнь, думал Джимми. Тогда, в детстве, ему и в голову не приходило, что кто-го может разлучить его с матерью. Но время и обстоятельства распорядились по-своему. Они разлучились на целых шесть лет!
Отправляясь в тюрьму, Джимми знал: это будет тяжелый удар для матери. Но дело оказалось еще хуже, чем он предполагал: узнав о его аресте, мать лишилась чувств, слегла и до сих пор так и не поправилась. Плохо было и с отцом. Но теперь все это в прошлом... в далеком прошлом... как и та глинобитная хижина с пальмовой крышей, где он увидел свет.
Жизнь нелегко давалась ему, и впоследшвии, чтобы достичь тех же успехов, что и его коллеги, Джимми приходилось прилагать куда больше усилий.
Несмотря на отсутствие университетского образования, Джимми задумал стать писателем. В свое время он окончил колледж, получил аттестат, но денег, чтобы учиться в университете, у него не было, и Джимми с легким сердцем решил обойтись без университетского диплома. И вот он доказал, на что способен он, единственный сын бедных родителей, доказал, что он вполне может потягаться со своими сверстниками из обеспеченных семей, доказал, что никакие тяготы и лишения не могут убить в нем честолюбивых замыслов. Это был своего рода вызов, и, как всякиц хороший спортсмен, Джимми наслаждался борьбой.
372
Сколько великолепных стрел было у него в колчане в те не-запамятные времена, когда он учился в педагогическом колледже. Джимми даже подумывал о том, чтобы стать профессиональным спортсменом, он тогда был чуть ли не восходящей звездой, и все-таки он не поддался на уговоры; кто знаег, чго ждег его, когда он постареет и потеряет форму. Джимми также под}мывал, не заняться ли ему коммерцией, и даже окончил специальные курсы по переписке, но потом передумал.
Сочинительство. Вот тот опьяняющий напиток, который он готов был поглощать за завтраком, обедом и ужином. Он любил писать. Жаждал писать. И уже видел свои книги на полках магазинов и библиотек рядом с книгами Шекспира, Бернарда Шоу и Шарлотты Бронте. Он мечтал о романах, рассказах, сатирических очерках. Но никак не о журналистике, у него и в мыслях не было писать для газет. В нем сидело непреодолимое отвращение к журналистике, и он готов был на любые усилия, чтобы овладеть разными жанрами литературы.
Ему приходилось нелегко. Очень даже нелегко. В тысячу раз труднее, чем он предполагал. Прежде чем поступить в педагогический колледж, он два года учил в школе малышей и в это время читал все, что ни попадалось под руку. Потом принялся писать рассказы, естественно, подражательским слогом. Потерпев неудачу, он с отвращением порвал все им написанное. По временам он впадал в отчаяние. «Смогу ли я когда-нибудь добиться успеха как литератор?» — спрашивал он себя.
Случалось, он даже плакал. Когда же наконец ему удастся написать хоть один вполне законченный рассказ, пригодный для опубликования? Разочаровавшись, целые полгода Джимми не написал ни строчки. Но вот однажды — уже в педагогическом колледже — в нем произошел какой-то перелом. Джимми вдруг обнаружил, что он может написать за один присест вполне приличный рассказ. Воспрянув духом, он принялся наводнять редакции журналов и издательств своими рассказами, нимало не заботясь, нужны они им или не г.
С самого начала Джимми был удручен тем, что не может развернуться в полную мощь. Он уже нс знал, кому еще послать свои рукописи. Однако его рассказов не печатали и даже не возвращали. Зато регулярно печатали творения других писателей. Других. Но не его. Джимми даже стало казаться, будто против нею плетутся какие-то козни. И он снова погрузился в море отчаяния.
И тут-то на сцену выступил Ишаола.
Ишаола, сын директора колледжа, был тупым заносчивым парнем. Они с Джимми учились в одной группе и терпеть не могли друг друга. Ишаола любил поиздеваться над свошми то-
373
варищами, зная, что ему, сыну директора, все сойдет с рук. «Вот холера!» — с ненавистью думал о нем Джимми.
Однажды жарким январским днем Ишаола принес в класс номер английского журнала «Прогресс». Пока преподаватель английской литературы разглагольствовал о шекспировском театре, Ишаола перелистывал журнал.
— Ха! — воскликнул вдруг Ишаола, и все мгновенно при-тйхли.— Неужели это ты написал, Джимми? — И, подняв журнал, он показал всем раскрытую страницу.
Джимми посмотрел на журнал, и вдруг все перевернулось в его душе. Впервые в жизни он улыбнулся своему недругу.
Джимми послал этот рассказ месяцев пять назад, без всякой надежды на успех. Рассказ назывался «Пустая шумиха», в нем изображался политический4 кризис в некой африканской стране после получения ею независимости.
Это сильно подбодрило Джимми. Учительская работа оставляла ему много свободного времени. Мысли его приобрели ясность и четкость, он чувствовал себя на верном пути. Первоначальная его ошибка заключалась в том, что он упорно пытался сварить суп, не умея еще вскипятить воду. Но уже и тогда он отличался богатым воображением, силой воли и продолжал идти вперед, пока наконец не добился желанного успеха.
Джимми повернулся на другой бок и вздохнул. Какое это теперь имеет значение? Кому сейчас любопытно, сколько ему пришлось потрудиться когда-то, сколько его усилий бесславно сгинули в мусорной корзинке, сколько нестерпимых душевных мук перенес он! И чем же все это закончилось? — подумал Джимми с состраданием к самому себе. Он попал в тюрьму, и его жизнь потерпела крушение.
Все любят победителей. Но никому нс интересно, как они боролись и страдали. Важно то, чего ты достиг, а как ты этого достиг — не важно.
Шли годы, и мечты Джимми стали близки к исполнению. Он говорил — его слушали. Перед ним раскрывались все двери. А потом он попал в тюрьму. Заключение — глухая ночь перед рассветом. Так он думал прежде, но теперь его уверенность поколебалась.
Вот он возвращается — подобно тому пенсу, из пословицы, что снова и снова оказывался на рынке,— к борьбе,, которую обязаны вести все честные люди, и оказывается, что его собственный дом лежит в развалинах и не может служить ему надежным приютом в этой борьбе.
374
Безмолвие тянулось долго, и обострившимся слухом Джимми улавливал каждый шорох. Ему хотелось есть, но он продолжал лежать и думать. Часы пробили пять, Джимми приподнялся и сел. И вдруг услышал приглушенные шаги в комнате Кехинде — казалось, кто-то волочит по полу большую подушку. Затем послышался какой-то шум во дворе. Может, это Кехинде выпрыгнул из окна? Куда же он собралря в такое время?
Джимми прошел по ковру к окну. Дом был обнесен высоким забором, с единственными воротами. Джимми пристально вглядывался во тьму сквозь щели между занавесками. Раздвинуть их пошире он боялся, чтобы его не заметили с улицы. Во дворе горели ночные фонари. Город начинал просыпаться, хотя еще даже не светало.
Кто-то вдруг потушил фонари во дворе. На дорожке, ведущей к воротам, послышались легкие шаги. Кто это? Кехинде? Или, может быть, воры? Джимми бросился к двери, но споткнулся об угол кушетки и чуть не растянул себе лодыжку. Он зажег свет в столовой и дернул ручку двери. Дверь была заперта. Джимми ясно помнил: когда он ложился спать, он ее не запер. Нарочно оставил открытой, хотел узнать, не придет ли Тайво.
Он снова потянул ручку двери. Заперта.
Кехинде предусмотрел все до мелочей. Ни одна душа не должна знать, что Ийабо спала у него. Когда отец подошел к двери его комнаты, Кехинде, выпроводив Ийабо, снова забрался в постель и притворился, будто спит.
Эно внезапно проснулась. Напряженно прислушалась, но резкий шум, тот, что разбудил ее, больше нс повторился. Кто-то пытался открыть входную дверь. Наверно, Джимми. Но кто же запер дверь?.. И что за шум разбудил ее?
Эно огляделась и вдруг поняла, что заснула прямо за работой. Она успела убрать кухню, вымыла посуду, холодильник, выскребла пол, и все это — не снимая своего кружевного наряда. Ее клонило в сон, но она была намерена довести дело до конца. Вымыла бутылки, наполнила водой и поставила в холодильник.
Сходила в кладовую, взяла кое-какие продукты для завтрака, который должен был ознаменовать их примирение. Аккуратно разложила продукты. В кухне стало чисто и опрятно. Было уже два часа ночи, когда Эно на цыпочках прокралась мимо Джимми через столовую прямо в спальню, чтоб и там навести порядок.
375
Она уложила грязное белье в корзину. Одежду повесила на вешалки и убрала в шкаф, остальное спрятала в чемоданы. Потом принялась за туалетный столик и собрала все пустые флаконы и баночки из-под косметики. Сложила их в бумажный мешок, а те, что были полные, в чемоданчик. Навряд ли они ей еще понадобятся, но не торчать же им на виду. Потом принялась протирать грязное зеркало. А когда зеркало заблестело, рьяно взялась за фотографию, ту, что висела над дверью. И фотография засияла. Затем убрала с пола газеты, привела в порядок ящики, расставила все по местам. В комнате, зеьая, подумала Эно, теперь тихо, точно перед бурей... а может, после бури?
Тяжело отдуваясь, она сунула весь мусор в бумажный мешок, где уже покоились остатки «косметической эры». Бесшумно отнесла мешок на кухню и вернулась в спальню с половой щеткой. Муж все еще спал, тихонько похрапывая; из раскрытой двери спальни лился свет на его лицо, искаженное болью и разочарованием. Эно подмела спальню, сама поражаясь, откуда у нее взялись силы сделать за одну ночь то, что не удавалось за долгие годы. Она решила передохнуть, а уж потом постелить свежее постельное белье, и прямо со щеткой в руках уснула.
Сон ее был недолог. Когда она проснулась, то увидела, что щетка покоится у нее на колене. Пойти узнать, что происходит в столовой? Но не успела она решить, идти ей или нет, как услышала: Джимми поспешил в кухню, а оттуда в заднюю часть дома.
Ручные часы показывали пять минут шестого. Эно расправила смятое кружевное платье — через полчаса уже рассветет — и торопливо принялась за дело. Тщательно выбрала лучшие простыни и застелила постели. Убрала подметенный мусор. Когда она пошла в кухню, то увидела, что Джимми снова лежит на диване, свернувшись клубком, как дитя. Но он уже не спал, а читал книгу.
— Доброе утро, Джим, — машинально поздоровалась Эно.
Он ничего не ответил, продолжал читать. Эно вошла в кухню и стала готовить. Она — хотя почти не спала в эту ночь —' была как никогда собрана. Бессознательно готовилась к сражению.
Да, она пренебрегла кое-какими своими обязанностями. Но у нее были трудности. Нельзя сказать, что во всем виновата она сама. Во всяком случае, даже если ей суждено потерпеть поражение в предстоящей битве, она не позволит себя унизить! Подумать только, до чего дело дошло — она здоровается с Джимми, а он даже не удостаивает ее ответом.
376
Эно вспомнила былое. Они с Джимми были уже много лет женаты, но казалось, что медовый месяц все еще продолжается. Они целыми ночами ворковали, как пара голубей. А утром просыпались с таким чувством, как будто не виделись десятки лет.
Эно понимала, что муж потрясен и разочарован, но то, что случилось с ней, с детьми, с домом, объясняется прежде всего его длительным отсутствием. Какое же право имеет он относиться к ней, как к преступнице!
Облачив свое тучное тело в одежду из набивного ситца и свитер, чтоб не замерзнуть, Эно сновала взад-вперед по кухне, готовила завтрак и, не переставая, думала.
Нет, нет, нельзя складывать руки. Нельзя допускать, чтобы ее обвинили, даже не выслушав. Надо сделать все, чтобы восстановить разрушенное, если потребуется, начать все сначала. Джимми должен понять ее.
Эно уже знала, чем займется в этот день. Она повидает врача-диетолога. Потом отца. Но прежде всего надо приготовить завтрак. Джимми придется его съесть, хмуро подумала она.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Еще совсем молодым Аделаджа Огуньеми пошел работать в нигерийскую железнодорожную компанию. Долгие годы он проработал там машинистом, прежде чем его перевели в контролеры. Ему было уже за сорок, когда однажды в Кано во время работы он познакомился с Элайзабет Огифой. Через три года они поженились и жили довольно счастливо, разве что дома в Лагосе Аделаджа из-за службы бывал лишь несколько дней в неделю. Но это в его жизни было наименьшим из зол.
Через одиннадцать месяцев после женитьбы Элайза, подарив ему первенца, их единственное дитя, умерла. В память о жене Аделаджа назвал малютку полным именем Элайзы Эдо — Эновамагбе. Но произнести «Эновамагбе» на языке йоруба не так-то просто, и сироту стали называть Эно. Так и повелось, и вскоре никто уже не помнил ее настоящего имени.
Те. кто растут без матери, словно в отместку судьбе, обычно трудные дети, и Эко — теперь она жила на попечении родственницы Аделаджи в Мароко — нс была исключением. Отца она видела редко, он без конца уезжал по делам службы. Девочка росла и хорошела. Светлый цвет лица, как у матери, черты словно из-под резца истинного мастера и большие загадочные глаза. Все любили ее, быть может, за красоту, а может, потому, что она росла без матери. Но к десяти годам с Эно
377
уже не было сладу. Она то и дело пропускала школу и слонялась по улицам Мароко. Озорная и непослушная. Но через год все прошло, и после четвертого класса начальной школы она вместе с отцом поселилась в Лагосе.
Квартал Изале Эко совсем не походил на Мароко, где прежде жила Эно со своей тетушкой. Старые здания, построенные еще в восемнадцатом веке, плоские крыши, мостовые, скорее напоминающие тропинки, и сгрудившиеся, словно ярмарочные палатки, домишки. Крохотные комнаты, в которых нередко ютилось по десять человек. Общие уборные — там, где они были, — грязные и испорченные.
И все-таки люди продолжали здесь жить. Казалось, у них нет ни малейшего желания выбраться отсюда. Но Эно все это было ненавистно, ей гораздо больше по душе пришлось Мароко, хотя там было ненамного лучше. Как только отец появлялся дома, Эно требовала, чтобы они переселились отсюда. Но это было не так-то просто, и если б не настойчивость дочери, Аделадже и в голову не пришло бы покинуть места, где он прожил всю свою жизнь. И все же, когда девочка пошла в среднюю школу, они переехали. Но и тогда из-за скромных средств и незыблемых предрассудков Аделаджа не рискнул двинуться слишком далеко. Новая комната была чуть лучше прежней и всего в двухстах метрах от их бывшего жилища.
Все это было давным-давно. В шестьдесят лет Аделаджа Огуньеми ушел со службы и по мере сил занялся мелкой торговлей; доходы от нее и щедрость старшей дочери с мужем сделали жизнь его вполне сносной. Правда, несмотря на неусыпное внимание второй жены, — она приглядывала за ним из соседней комнаты, — старик чувствовал себя безнадежно одиноким. особенно в холодные воскресные утра вроде этого.
Всякий раз, когда Эно навещала отца, она проходила через весь лом, и в ноздри ей ударяла та же вонь, которая в давние времена насквозь пропитывала их жилище. И каждый раз Эно машинально задерживала дыхание, пока не доходила до комнаты отца, где тотчас включала маленький вентилятор, — она сама подарила его отцу. Всю свою жизнь Эно не могла подавить в себе отвращение к этой вони. И однако, если б не эта вонь, Эно не пошла бы заниматься спортом — лишь бы не возвращаться каждый раз домой на праздники. И, конечно, не совершила бы ту памятную поездку в Бенин, где она познакомилась с Джимми.
Эно не часто навещала отца. Теперь не часто. Но отец не жаловался. Он молчал и понимающе улыбался. Сегодня утром Аделаджа, заслышав шаги дочери, еще не видя ее и не слыша ее голоса, был уже уверен, что это Эно. Интересно, почему она
378
пришла. Она ведь была совсем недавно — навряд ли в ней так скоро проснулись угрызения совести.
Эно вошла и, преклонив колени, поздоровалась с отцом. Поднялась и как обычно потянулась к вентилятору. Но он не включился.
А деладжа недоуменно взглянул на дочь.
— Слава богу, нет электричества. Ты что, пришла уморить меня? Не чувствуешь, что ли, какой холод?
— Прости, папа. — Эно села и тут же вынула из сумочки флакон духов.—Тут такой резкий запах.
— Тебе надо пойти к врачу и проверить свой нос. Сколько раз тебе говорить об этом? Как можно жить, когда все время чудятся какие-то запахи? И потом, сегодня что, запели лягушки? Ты впервые за целый год пришла ко мне с утра.
Эно заговорила не сразу:
— Папа, это из-за Джимми.
— А что с Джимми? Реми сказал, завтра его освободят, разве не так?
Эно слабо улыбнулась и пристально посмотрела на отца.
— Он вернулся вчера.
Старик явно обрадовался. Сел на постели, почесал колено и принялся молиться. Потом вдруг задумался, словно его осенила занятная мысль.
— Ты хочешь пригласить меня в гости потанцевать на вечеринку в честь возвращения Джимми? — неожиданно спросил он.
Эно заерзала на стуле и подвинулась на самый край. Лицо ее нахмурилось.
— Папа, я не шучу. У меня серьезные неприятности!
Увидев озабоченное лицо Эно, морщины на лбу, старик рассмеялся и снова улегся на кровать. Эно всегда была его любимицей, хотя вторая жена родила ему еще пятерых детей. И Аделаджу всегда тревожили заботы дочери. Но не сегодня. Сегодня совсем другое дело.
Старик долго смотрел в потолок.
— Какие неприятности?
— Всякие!
— Что значит, всякие?
Эно ответила не сразу, она не знала, с чего начать. Хотя прекрасно понимала, что отец единственный, кому она может без всяких опасений доверить свои мысли. И вдруг она заплакала, массивное ее тело затряслось от рыданий.
Сводные братишки — они пришли поздороваться со старшей сестрой — взирали на нее пораженно. Один из них-тут же побежал рассказать об увиденном матери, женщине, слывшей
379
среди соседей заядлой сплетницей. И та немедленно ринулась подслушивать. Но старый Аделаджа прекрасно знал свою жену и лишь только заметил, что под окном собираются дети, сразу догадался, что и мать их уже рядом.
— Фунлайо! — закричал Огуньеми.— Немедленно забери детей!
Шум смолк, и Эно сразу успокоилась. Пока она плакала, старик не утешал и не ругал ее. Он считал: пока из глаз женщины льются потоки, ее не следует прерывать. Аделаджа зажег трубку и стал ждать. Увидев, что Эно пришла наконец в себя, он как ни в чем не бывало заговорил с ней.
— Так что это за несчастья, дочь моя? — спросил старик, и глаза его озорно блеснули.
Эно засопела.
— Джимми... Джимми... он...
Аделаджа не торопил дочь и больше не вымолвил ни слова. Он продолжал курить трубку, но потом вдруг вынул ее и положил возле кровати. Затем пристально посмотрел на Эно.
— Помнишь, что я сказал тебе в последний твой приход?
Эно перестала заламывать руки и широко раскрыла глаза. Но ничего не ответила.
— Помнишь? — снова спросил старик.
Эно кивнула.
— Так. И вспомни, в тот день я тебя кое о чем предупреждал. За весь год никто из твоих детей, кроме младшей Офуре, не пришел навестить меня. За весь год, а ведь они все каникулы проводят в Лагосе. А что делала ты? На чтр тратила все свое время, на то, чтобы толстеть?
Старик снова зажег трубку. Горько усмехнулся и между затяжками обратился к Эно.
- Ты слышала поговорку «И у стен есть уши»? А ты где-то там гуляешь на стороне и думаешь, ты умнее всех?
Эпо поразилась, с какой небрежностью отец коснулся ее тайны. Оба помолчали, потом старик снова отложил трубку.
— Джимми уже, наверное, все знает? — спросил он.
Эно отрицательно покачала головой — к ней снова вернулось мужество. Ей нравилось, когда отец говорил так, как сейчас. Это было в его духе.
— Нет, — отозвалась Эно, все еще не находя нужных слов.— Просто... Просто он пришел домой так неожиданно, когда мы его не ждали, все в доме было не на месте... Я была так потрясена, не знала, что делать, что говорить, и, наверное, теперь Джимми кажется, будто его в чем-то предали. Со вчерашнего дня он не сказал мне почти ни слова.
Старик помедлил с затяжкой и насмешливо улыбнулся.
380
— А ты как думала? Поставь себя на его место. Может, ты бы вела себя еще хуже него. Это как устроиться на теплое ме-CICHKO. Или ты платишь до, или ты платишь после. Бесплатно не бывает, а ты ведь не заплатила.
Эно попала в сложное положение и пришла посоветоваться, но слова отца вовсе ее не утешали. Старик отложил трубку, лег на кровать, и Эно поняла, что он уже все сказал, это потрясло ее еще сильней. К кому же теперь обратиться? К тетушке Розе? Шефу Аджале? Реми? Боже мой!
Она вновь взглянула на отца, в глазах ее стояли слезы.
— Отец, мне нужен твой совет!
Старик удивленно посмотрел на нее.
— Совет? Совет, моя дорогая? С чего это вдруг тебе понадобился мой совет? Тебе нужен мой совет теперь, когда дела уже так плохи? ♦
— Отец, прошу тебя! Мне не к кому больше обратиться, я... Я не знаю, что делать!! Жизнь моя просто рушится, прошу тебя!!!
Старик сел, спустив ноги с кровати. Потом укутался в одеяло, хотя в комнате уже стало тепло, и Эно вспотела. Аделаджа смотрел на дочь как на дурочку, которой приходится объяснять простейшие вещи.
— Дочь моя, — значительно произнес Аделаджа. — Я старик. И, конечно, не разбираюсь в жизни молодых. Но если у тебя хватило ума угодить в такую историю, у тебя, думаю, хватит ума выпутаться. Будь добра, уйди отсюда, ступай со своими неприятностями куда-нибудь в другое место. Сейчас же уходи!
И старик, в изнеможении, повалился на кровать.
Фунлайо — спровадив детей, она вернулась под окно — лишь только заслышала, что падчерица собирается уходить, тихонько шмыгнула в свою комнату.
Покидая дом отца, Эно вся кипела от гнева. Она была уничтожена.
Когда такси проезжало вокзал Иддо, Эно взглянула на башенные часы. В последние годы эти покрытые пылью часы неизменно отдыхали, и в солнце, и в дождь показывая одно и то же время. А на маленьких наручных часах Эно было без пяти одиннадцать.
И тут — горе ее немного притупилось — она вдруг заме)ила, что у шофера очень знакомая фигура.
Йекини!
Заметки в газете все читают почти одновременно. Реми Телла, самый близкий друг и наперсник Джимми, просматривая за завтраком газеты, просто по счастливой случайности на
381
ткнулся на это сообщение. Он перечел его несколько раз и возликовал. Он предполагал, что завтра утром соберет семью Джимми, и они все вместе отправятся к тюрьме встретить его друга, но, оказывается, тот уже на воле.
Реми пил кофе, с трудом сдерживая ликование. .
— Джимми, старина,—без конца повторял он.—Держись, я еду к тебе, я еду!
Из ванной вышла Джудит. Реми увидел, как она открывает дверь, ведущую из ванной прямо в комнату. Реми никогда не понимал, к чему нужна эта дверь, и просил ею не пользоваться.
— Эй, малышка! — позвал Реми.— Джимми на свободе!
Джудит — она уже четыре года была невестой Реми — знала Джимми, хотя и не очень хорошо.
— Вот это да! — вскрикнула она, прочитав сообщение в газете. — Поедем навестим его.
Реми уже ринулся в ванную.
— Одевайся. Через двадцать минут я уезжаю.
Реми был закоренелый холостяк. У него была хорошая работа — бухгалтер в фирме «Олуреми Аджала моторе», была машина и неплохая квартира. Реми любил независимость и не собирался лишаться ее впредь. Ему было сорок один, на два меньше, чем Джимми, но он еще ни разу не был женат, хотя принадлежал к поколению, в котором по традиции женились рано, а не жениться вовсе просто не разрешалось. По словам Реми, он с трудом переносил женщин. У него не хватало с ними терпения. «
Из ванной комнаты Реми сразу направился в спальню одеваться. Ровно через двадцать минут он вышел оттуда одетый, держа в руках ключ от машины.
— Готова? — бросил он на ходу Джудит.
Хотя Джудит позавтракала и вымылась раньше Реми, она еще не успела одеться.
— Минуточку, дорогой, — откликнулась она из спальни.
Реми, сама элегантность, в тройке, заглянул в спальню. Джудит, все еще в лифчике и трусах, только начинала краситься.
«И впрямь, через минуту», — раздраженно подумал Реми. Не говоря ни слова, он вышел из дома, сел в машину и укатил к Джимми.
Тайво узнала о новости так же, как и Реми. -
В то чудесное воскресное утро она проснулась в деревушке Таойо неподалеку от Бадагри. Проснулась в чудесное, правда, несколько неурочное время. Одиннадцать утра.
382
И принялась вспоминать предыдущий вечер. Ее приятель, молодой, рослый бизнесмен из Кадуны, с которым она познакомилась два дня назад, повел ее в дискоклуб. Тайво думала, что они проведут уик-энд у него на квартире, — по его словам, он жил где-то в Иокойи, — но ничуть не менее обрадовалась, когда он, посадив ее в машину, где уже лежала сумка с его вещами, объявил, что они поедут в другое место.
Они направились прямо в гостиницу «Эко Холидей», где он угостил ее шикарным обедом. Оттуда, оставив сумки в машине, — в дискоклуб, а уже за полночь — в дальнюю гостиницу, где записались под именем мистера и миссис Муби Альхаджи. Тайво очень устала, но ее красавец приятель полагал, что вечер только начинается. Они выпили вина, и он предложил ей поиграть в забавную игру.
Она не знала, что это за игра, и он предложил научить ее. Так они играли почти до самого утра.
Когда Тайво проснулась, ее приятель уже встал и оделся. Заказанный им завтрак ждал на столе. Тайво пошла, приняла душ и подсела к столу. Во взгляде ее сквозила какая-то усталость, неуверенность — явный отпечаток беспорядочной жизни, исковерканной юности. Когда они приступили к еде, принесли газеты.
Тайво ела без удовольствия. Правда, она вообще редко ела приготовленную другими еду с удовольствием. Сама она отлично готовила, но nei че достать сухой песок со дна моря, чем заставить Тайво готовить. Хотя сейчас Муби настолько завладел ее вниманием, что ей просто некогда было замечать, вкусная ли еда. У Муби была особая манера угождать во всем. И теперь он делал для нее все, разве что не жевал ей пищу. С своей неизменной улыбкой он подал Тайво гренок, налил чая, все время лаская ее и беседуя с ней тем проникновенно льстивым голосом, от которого она прямо таяла.
— Я тебе, кажется, не нравлюсь, а? — спросил он, снимая кусок желтка, упавший Тайво на ночную рубашку.
Тайво вовсе не хотелось, чтоб он так думал. Да нет., она может поклясться, что любит его!
— Почему ты так решил?
Мубо стряхнул крошку хлеба с губы Тайво.
— Ты ничего мне не рассказываешь о себе,—сказал он и посмотрел на нее так пристально, что Тайво показалось, будто от него не укроется ни единая ее мысль.
Она на мгновенье заколебалась, и ее проницательный собеседник тут же не преминул заметить и воспользоваться этим. Он приложил свой тонкий, изящный палец к губам Тайво и пронзил ее глубоким и властным взглядом.
383
— Если не хочешь, можешь ничего не рассказывать,— произнес он тоном, против которого, был уверен, Тайво не устоит.
И Тайво была так тронута, что чуть не заплакала. Такое внимание, такая искренность — разве можно на них не откликнуться, подумала она. И улыбнулась, взволнованная, позабыв все свои ухищрения казаться взрослой.
— Не то что б я не хочу... — начала Тайво, полная решимости доказать, что она и смела, и откровенна. — Просто нечего особенно рассказывать. Мой отец — из округа Еендел. Мать — йоруба. Отец был... отец — писатель, а мать раньше была учительницей, но три года назад из-за плохого здоровья ушла со службы. Она уже поправилась, но, по-моему, не собирается возвращаться. Мой брат Кехинде — мы с ним близнецы — тоже кончает школу. А младшая сестра Офуре — во втором классе, из-за... из-за того, что... она чем-то болела несколько лет назад.
Тайво умолкла. Муби, парень опытный и поднаторевший в увертках девчонок, сразу заметил, что Тайво говорит неправду или, скорее, пытается умолчать о чем-то. Он ободряюще улыбнулся. В улыбке сквозила уверенность в себе — так улыбается тот, кто знает, чего он хочет и знает, что он это получит. Хотя вообще-то Муби не нужно было от этой девчонки ничего определенного. Для него это была просто еще одна девчонка, еще одна глупышка, которую он с удовольствием вынудит пооткровенничать.
— С утра так приятно тебя слушать. Твой голос — словно шепот. Музыкальный шепот, — польстил он Тайво. — Но продолжай, я слушаю. Так что же пишет твой папа?
— Книги,—улыбаясь, ответила Тайво.—Он критикует общественную жизнь. Папа называет себя художником, который рисует общество.
Глаза Муби сузились.
— Хм. Наверно, очень интересный человек.
Тайво почувствовала прилив гордости.
— Очень интересный человек. Только он был в заключении. Почти пять лет. Но нам сказали неофициально, что завтра его освободят.
— Неужели это Джимми Айзабо? — вилка Муби повисла в воздухе.
— Да. Ты знаешь его?
— Разумеется. Кто ж его не знает? — удивился Муби.— Я прочел две его первые книги с большим удовольствием. Но та, за которую его посадили, была точно бомба, и, говорят, счастье, что ее не напечатали. Я уверен, твой
384
огец и сам понимает необходимость национальной безопасности.
— Так что, по-твоему, его правильно посадили?
— В национальных интересах, конечно!
, Тайво взглянула на него и будто увидела впервые. Глаза ее гневно вспыхнули, но он снова заговорил:
— Есть вещи, которые общество или правительство предпочитают скрывать. Пусть о них даже знают многие, все равно никто не обсуждает их вслух и не выставляет напоказ — это опасно. И сильные мира сего вовсе не награждают тех, кто придает все это огласке. В лучшем случае, упекают в тюрьму, а уж при военном режиме — и того хуже. Но такие, как твой отец, этого не понимают. Так и идут по жизни с головой, набитой идеалами. Воображают, они совесть общества.
Тайво поджала губы. Ей стало обидно: зачем он обсуждает ее семью, она жалела, что поддержала этот разговор. Принесли газеты, и Тайво уткнулась в газеты. Ее приятель насмешливо наблюдал за ней. Ну и дуры эти женщины, думал он. В любом возрасте дуры.
Тайво читала газету так, как читают, когда голова занята чем угодно, только не тем, что перед глазами. Ты видишь газету, но ты не видишь ее. Тайво была слишком сердита и не могла сосредоточиться, одну и ту же строчку она читала снова и снова.
Но когда ее горящий, блуждающий взгляд нечаянно набрел где-то в углу страницы на имя отца, Тайво мгновенно сосредоточилась.
И тут события замелькали чередой, и ей так и не удалось толком разобраться в своем новом знакомом.
Как только Эно узнала Йекини, горечь и огорчения после встречи с отцом сразу померкли, Эно снова воспряла духом. Она по-прежнему не доверяла Йекини. И по правде говоря, он ей был совсем не симпатичен. Но вдруг он может отвезти ее прямо к Шефу Аджале?
Эно бы, наверно, так не рассуждала, знай она, что на уме у Йекини. Эно бы, наверно, так не рассуждала, знай она, что именно сейчас к ней и пришли настоящие беды... если б она знала, что в этом такси она оказалась вовсе не случайно... что Йекини поджидал ее за углом с той самой минуты, как она вошла в дом к отцу.
В то воскресное утро Йекини разъезжал в поисках пассажиров, их, как обычно в это время, было немного, и вдруг он увидел своего приятеля Адизу, тоже таксиста. Машин на улице пока было мало, и они могли позволить себе замедлить ход
13 Альманах «Африка'), вып. 6
385
и поболтать о всяких пустяках. И тут Йекини, вот уже несколько дней озабоченный поисками «толстой дамы» — являться к ней домой он не хотел, — вдруг увидел ее на заднем сиденье у Адизы. Эно так глубоко погрузилась в мысли, что даже не заметила Йекини, правда, именно в эту минуту он не жаждал, чтоб она его заметила.
Быстро развернувшись в неположенном месте, Йекини на почтительном расстоянии последовал за своим приятелем и его пассажиркой. Дороги в Изале Эко он знал как свои пять пальцев и поэтому продвигался без труда. Всякий раз, когда Адиза выезжал на улицу с односторонним движением, Йекини, чтоб избежать подозрений, ехал другой дорогой и, как только Адиза проезжал мимо, устремлялся вслед за ним. Но один раз он чуть не попал впросак: выезжая с ухабистой улицы Башо-рун на Джонсона Уильямса, Йекини наткнулся на кучу мусора, почти перегородившую дорогу. Проскочить через узкий проход оказалось невозможно. Но Йекини был парень отчаянный и, верный своей натуре, решился на отчаянный поступок. Нарушив правила, он задним ходом выехал на магистраль Алао-Аденийи. А когда попал наконец на Джонсона Уильямса, перед ним оказался автомобиль, который двигался словно в похоронной процессии. Непрестанно сигналя, Йекини втиснулся в крохотный проход и обогнал машину.
— Эй! — крикнул он водителю. — Учись водить. Ну и рожа!
Йекини промчался в миллиметре от игравшего на тротуаре ребенка и снова очутился на дороге. И как раз вовремя: Адиза остановился в конце улицы, и бесценная его пассажирка вышла из такси.
Лишь только Адиза уехал, Йекини остановил машину на благоразумном расстоянии и стал терпеливо ждать. Все время, пока Эно говорила с отцом, он ждал, делая вид, что чинит машину. Как только Эно появилась, Йекини сразу догнал ее. Женщина, явно раздраженная, остановила такси и, не говоря ни слова, села в него. Йекини улыбнулся и почесал в затылке. Да, подумал он, так поступают только богачки.
И тронулся с места, не спрашивая, куда ей ехать.
— Спецклиника Сурулере. — В голосе ее звучала досада. — Четыре наиры.
— Сколько?
— Четыре ц^иры! — Йекини говорил с нарочитым вызовом.
Но женщина ничего не ответила, а когда они выехали на мост Эко, Йекини по ее беспокойству понял, что она его узнала. Об официальном представлении Йекини и не заботился. Он замедлил ход и выключил радио.
— Мадам, мне нужны деньги, — сказал он на йоруба.
386
Эно, все еще погруженная в размышления, стоит ли рискнуть и использовать Йекини или нет, не поняла, о чем это Он.
— Что вы сказали?
— Мне нужны деньги, мадам.
- Зачем? — удивилась Эно.—Что значит, нужны деньги?
— Деньги за сервис, — сказал Йекини по-английски, ему хотелось щегольнуть словом «сервис», которое он считал очень изысканным.
— Сервис? Но ведь я плачу за проезд! Я не просил^ вас подвозить меня!
— Знаю, — Йекини улыбнулся.
Эно ничего не понимала, но где-то в глубине души ее шевельнулся страх. Слабая, но неотступная тупая боль. Эц^ все. гда считала, что этому парню доверять нельзя. Неужели это шантаж? И хотя в кабине было тепло, ее пробрала дрожь; она попыталась сменить тему разговора.
— Как поживает твой хозяин?
Но Йекини словно не слышал ее и заговорил так, будто они еще ни о чем не говорили.
— Мадам, мне нужны деньги. Я слышал, вернулся ваш муж. Я помогал вам с временным мужем. Разве я не заслужил вашу помощь? У нас с женой грудной ребенок.
Вот разгадка. Шантаж. Когда она увидится с Шефом Аджа-лой? Сможет ли он обуздать этого негодяя? И захочет ли по. еле их неудавшегося свидания прошлым вечером?
Эно пыталась тянуть время, пока мозг ее работал^ точно электронная машина.
— Я не совсем понимаю вас, — сказала она.
Йекини, нагнетая тревогу, молча вел машину. Эно выглянула в окно. Они были недалеко от магистрали Костейн. Справа во всей своей красе вставал Эбуте Метта. Как странно, подумала Эно, там за окном все так мирно, спокойно, а здесь в реальной жизни, в этом такси, например, совсем неспокойно.
— Я должен позаботиться о жене и ребенке, и мце нужно пятьсот наир к завтрашнему дню. Я уверен, вы мне Поможете.
У Эно даже рот открылся от изумления. И пока такси не остановилось возле спецклиники Сурулере, они не пр0ИЗнесли ни слова. Йекини взглянул на Эно, почесал в затылке.
— Я знаю, где вы живете, мадам, но я туда не поеду. Я буду ждать вас завтра у главной заправочной станции, $ там однажды подсадил вас, когда какой-то водитель забрызгал вам платье. Завтра в одиннадцать утра. Надеюсь, вы де обиделись? — бросил он с насмешливым сочувствием. — Лк>дИ вроде меня — точно рытвины, на которых господь бог испытывает беспечных водителей — вроде вас.
13*
387
Эно открыла дверцу и вышла, как обычно вся в поту. В душе ее роилось столько чувств, что она пока еще не могла в них разобраться.
Йекини глядел на нее с улыбкой. А потом протянул руку.
— Завтра пятьсот. Но сначала мои четыре наиры!
Взглядом нельзя убить. Но если б было можно, от взгляда Эно тут же на месте сгорели бы и Йекини и его машина.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В то самое время, когда Эно выходила от отца, Джимми прервал работу в маленьком саду перед домом и решил хорошенько отдохнуть. Полчаса подряд он дергал без остановки сорняки, и теперь поясница его гудела, точно от ударов молотком. Джимми выпрямился, содрогаясь. Но в глубине души он был доволен. Сад начал понемногу оживать.
Джимми бросил лопату и взялся за мотыгу. Но лишь только он принялся полоть, неотвязные мысли вернулись. И словно вата, поглощающая воду, мысли эти поглотили его внимание. Вся его жизнь встала перед ним. Он спрашивал себя: что i олку возрождать этот сад, если еще неизвестно, что ждет его, Джимми, впереди. Чтоб отогнать эти мысли, он с еще большим пылом принялся за работу, пот катился с него градом. Но это походило на бегство от собственной тени, а разве можно сбежать от собственной тени?
Отчего ? —спрашивал себя Джимми. Отчего в его семье все так скоро и так трагично переменилось. Он думал об Эно — любящая жена вдруг стала непонятной, чужой, думал о Кехинде — даже когда отец его принялся за работу, парень так и не вышел из своей комнаты. Тайво до сих пор не вернулась, и хотя Джимми обходил весь дом, он не заглянул в ее комнату. Зато посещение комнаты Кехинде было поучительным. Парню очень ловко удалось провести Ийабо в свою комнату и обратно, но он допустил ужасный промах: Джимми нашел на полу в его комнате противозачаточное средство. Последовали препирательства, которые еще больше убедили Джимми, что в комнате у Кехинде ночью была женщина. Вся эта мерзость взбесила Джимми, и он поспешил уйти из комнаты сына, пока не начал крушить стены.
Эно в это время уже ушла «купить кое-что на рынке». Перед этим она почти что вынудила его съесть великолепно приготовленный завтрак, Джимми долго отказывался, он все еще чувствовал отчуждение и какой-то нарастающий внутренний протест. Все было как в старые добрые времена, только
388
рассеялось прежнее очарование. Эно суетливо уговаривала, задабривала, улещивала Джимми. Он видел, что она уже взяла себя в руки, и словно приготовилась к сражению.
Джимми улыбнулся. Сражение? Но он еще даже не выстроил войска. И потом он вернулся домой не для того, чтобы воевать. Что ж, он позавтракает, хотя бы потому, что не спешит отдать инициативу в ее руки. А Эно непременно заберет ее в свои руки, если он, не обдумав все хорошенько и не приняв решение, допустит ошибку. И вот они сидят вдвоем, завтракают в молчании; Кехинде так и не вышел из своей комнаты — наверно, до сих пор не придет в себя после того, как отец обнаружил его единственный, но роковой промах. Супруги ели, почти не глядя друг на друга. Будто два язычка пламени, медленно скользящих к динамиту.
После завтрака Эно оделась и собралась на рынок. Услышав про рынок, Джимми только усмехнулся. Но заметив, что жена уходит совершенно не накрашенная, еще раз внимательно взглянул на нее. Стала похожа на человека, подумал Джимми, похожа на ту женщину, которую он когда-то оставил дома. Пусть даже сейчас это лишь жалкое обрюзгшее подобие той самой.
Когда Эно ушла, Джимми решил обойти свой дом; он побывал везде, кроме комнаты девочек. И был поражен чудесами, которые за ночь сотворила его жена в спальне и кухне. Но скоро изумление и восторг прошли, и Джимми снова задумался. Если Эно так решительно и проворно привела все в порядок за одну ночь, отчего же, когда Джимми явился в дом неожиданно, он застал в нем такой беспорядок? И именно этим она была тогда потрясена? И раз она так легко рассталась сегодня утром со всей своей косметикой, вполне возможно, приди он вовремя, она б рассталась с ней до его прихода. А наведи она порядок, оставь дома и подготовь к приходу отца детей, разве он узнал бы о том кошмаре, что творился в его отсутствие?
Теперь он уже не может поручиться за честность своей жены, и Джимми мысленно поблагодарил того, кто приказал освободить его раньше намеченного срока.
Теперь он был уверен, Эно не больна. Нет. Больная женщина не в силах сделать столько всего за одну ночь. Больная женщина не станет избавляться от неприятных ее мужу вещей с таким явным чувством вины. Больная женщина не может приготовить такой чудесный завтрак. Это был подкуп, а к чему больному кого-либо подкупать? Нет, подумал Джимми, разгадку надо искать в другом.
Куда же Эно девала свое время... все свое время, ведь и са
389
ма она, и семья — все так запущено? Джимми был совершенно сбит с толку и подавлен, впервые с тех пор, как он бросил курить, его потянуло к сигаретам.
Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что женщина, которая еще вчера столько для него значила, оказалась духовно чуждой ему. И чем настойчивей он думал об этом, тем больше приходил к убеждению, что у его жены есть кто-то другой. И неотвязная эта мысль так больно ранила Джимми, что у него вдруг подкосились ноги.
Он уткнулся головой в ладони и принялся задавать себе вопрос за вопросом. Неужели в то время, как он страдал за идеалы, которым был предан, которые защищал и проповедовал, жена его флиртовала в Лагосе? Если она, единственная, кто по-настоящему понимал, за что он страдает, так оскорбила его, что ж остается ему?
Джимми говорил себе, что у Пего нет оснований подозревать ее, что бы Эно ни натворила, нельзя распинать ее за грехи, которых она не совершала. И тогда Джимми взял заржавленную мотыгу и лопату и принялся работать в саду, может, хоть во время работы боль отступит. Но надежды его были тщетны.
Джимми боролся сам с собой. Он уговаривал себя не думать о том, чего не знает, о том, что не имеет под собой твердой основы. Джимми не был уверен, что у жены его есть другой, у него нет никаких оснований подозревать Эно. С тех времен, когда он еще ухаживал за ней, Эно ни разу не дала ему повода усомниться в ней, как же может он теперь осуждать ее, да к тому же не за явные проступки, а за то, в чем никто — и меньше всего он сам — никогда не обвинял ее.
Перестав наконец спорить с самим собой, Джимми мысленно оправдал Эно. И сразу на душе стало легче, он улыбнулся, и работа пошла веселей. Джимми полол и копал, полол и копал почти без передышки. Изредка он выпрямлялся, потягивался, а потом снова с удвоенным рвением принимался за работу.
Полдела уже было завершено, когда позади Джимми остановилась машина. Джимми обернулся, из машины выскочил Реми. Старые друзья — один весь в поту, другой элегантно одетый — крепко обнялись.
— Джимми!
— Реми!
— Джим!
— Рем!
И они радостно пожали друг другу руки — совсем как в былые времена. В ту минуту они походили на школьников,
390
школьников-переростков. Отпускали одинаковые, известные лишь тем, кто вместе ходил в школу, незабываемые шутки; и так хотелось снова вернуться в юность.
Они вошли в дом.
— Дружище, — начал Реми, — если б ты знал, как я рад, что ты вернулся. Да ты потолстел. Молодец.
— Благодарю, Реми, — отозвался Джимми. — Может, оторвать кусок тебе, чтоб ты наконец набрал вес, о котором столько мечтал.
И они продолжали шутить и смеяться.
Кехинде, услышав из своей комнаты шум — парень до сих пор еще не оправился после утренней ссоры, — подошел к двери и молча запер ее на ключ.
Джимми уже второй раз за сегодняшнее утро пошел принять ванну, а Реми остался его ждать. Он просто сиял от удовольствия. Реми взял одну из любимых пластинок Джимми «Отель разочарований» Элвиса Пресли и поставил на старый стереопроигрыватель. Джимми вышел из ванной, уже одетый и повеселевший от навеянных пластинкой воспоминаний, как вдруг пластинка начала подпрыгивать. Она была испорчена.
— О господи! — вскричал Джимми. — Что в этом доме еще цело?! Кехинде! Кехинде!!
Парень выскочил из своей комнаты, прыщавое лицо его лоснилось. Он явно нервничал.
— Подойди сюда! — приказал отец; Реми уже снял пластинку с проигрывателя.
Кехинде сделал несколько шагов вперед. Комната была велика, и он остановился в двух метрах от отца, которого, как оказалось, он уже не понимал. Кехинде принялся ковырять прыщик.
— Ты слышал пластинку? — спросил его Джимми.
Кехинде помедлил.
— Нет, папа.
Джимми взглянул на сына, в нем закипела злоба. Реми сразу об этом догадался.
— Спокойней, Джимми, — Реми умоляюще посмотрел на друга. — Отпусти мальчика!
У Джимми перехватило дух, глаза словно остекленели. Казалось, он не слышал того, что сказал Реми. Он ринулся к проигрывателю и снова поставил испорченную пластинку. Через несколько секунд игла попала в трещину и, точно навсегда, застряла на одной ноте; раздражение Джимми росло. Он посмотрел на сына в упор. Потом снял пластинку.
— Ты слышал? — снова спросил он.
Кехинде кивнул и снова стал ковырять прыщик.
391
— Кто это сделал?
— Не знаю.
— Не знаешь? Скажи, а что в этом доме еще осталось неиспорченным? Какие ценности еще остались для вас святы? Что вы оставили мне?
Джимми не сводил глаз с Кехинде, будто ждал от нею ответа. Потом опустился на стул и посмотрел на своего друга, который в эту минуту радовался, что не взял с собой Джудит. Эта сцена не для посторонних. Реми закурил сигарету.
— Что случилось, Джимми? — спросил он.— Ты что-то задаешь слишком много серьезных вопросов.
Джимми уставился в ковер. Если б здесь не было друга, и если б это не была их первая встреча после его возвращения, Джимми б, наверно, заплакал. Когда он поднял лицо, Реми увидел, как он страдает, казалось, душа его источает слезы. И тут ему пришло в голову, что за всем этим кроется еще чтс-го, невидимое с первого взгляда.
Джимми злобно посмотрел на Кехинде.
— Иди в свою комнату!
Кехинде не успел закрыть за собой дверь, а Джимми уже заговорил.
— Помнишь, Реми, я послал тебе записку, что из верных-источников узнал, будто меня освободят завтра. А вчера явился надзиратель и сказал, что меня отпускают, пришел приказ о моем освобождении. Вот так и случилось, что я вернулся домой на два дня раньше, слишком рано, как оказалось. А дома все разрушено; то, что ты сейчас видел, это ничтожная малость. Дом. Все, что мне было дорого. Все!
Джимми вовсе не собирался обсуждать это с Реми, хотя они и были близкими друзьями. Но мысли его рождали новые хмысли и желание говорить об этом. Джимми страшился еще неведомого; в любую минуту может открыться что-то новое и тогда он поймет, что остался ни с чем.
Реми приготовился терпеливо выслушать ужасную историю. Что все это значит, спрашивал он себя. Не то чтобы он был в полном неведении относительно Эно, жизни детей и гибели того, что было дорого Джимми. Просто, что касалось личной жизни Эно — хотя Реми многое подозревал, — у него не было никаких доказательств, да и будь у него доказательства, он не стал бы их выкладывать Джимми, потому что знал, каким потрясением это будет для друга. Скорей бы он поговорил с самой Эно. Но Реми дал себе зарок никогда не вмешиваться в семейные дела других людей.
Вдруг Джимми поднял на него глаза.
— Реми, — начал он, взгляд его все еще молил о помо
392
щи. — Я в растерянности. Просто не знаю, что делать. Как я мечтал о жизни на свободе, теперь она стала для меня проклятьем. Все рушится. Даже в тюрьме на сердце у меня было спокойней!
Джимми изливал душу, и Реми молча внимал ему. Он слушал друга без особого удовольствия, только потому, что знал, так Джимми будет легче. Джимми все еще говорил, когда кто-то постучал в дверь и вошел.
Это была Тайво.
Джимми взглянул на вошедшую девушку и увидел Эно в семнадцать — восемнадцать лет, такой она была еще до замужества. Прекрасное лицо, а какая походка и манеры — само озорство и невозмутимость.
Но перед ним была его дочь — Тайво. На ней была простая белая блузка с розовой отделкой на рукавах и воротничке. Коричневая юбка спускалась ниже колен. В этой одежде — Тайво считала ее совсем немодной — она выглядела такой юной и наивной. Казалось, спроси ее, что значит слово «люббвь», и она страшно смутится.
Следом за Тайво вошла еще одна девушка, очень похоже одетая. Она была в очках и, когда ее о чем-нибудь спрашивали, неприятно косила.
И Тайво начала дневное импровизированное представление, которое сама придумала, подготовила и поставила, и всего только за полчаса. Она вошла в дом и посмотрела на обоих мужчин. Потом, словно узнавая отца, Тайво остановила взгляд на нем.
— Папа! Папочка!! — Она резко обернулась к подруге.
— Дайо! Мой папа вернулся! — вскричала Тайво и бросилась к отцу.
Все шло как по маслу. Единственный недочет — слишком уж гладко. Джимми поднялся, чтобы поздороваться с девушками, и дабы высказать свое расположение, которого не чувствовал, обнял Тайво.
— Папа, это моя подруга Дайо. Мы из одного класса, я сегодня ночевала у нее. /
Тайво предлагала объяснение. Но его ведь никто не требовал. Отец, усаживаясь, кивнул ей, в полной уверенности, что она лжет.
А когда понял, что дочь солгала, чтобы не огорчать его, Джимми стало еще больнее; еще больней, чем если бы она сказала правду. И потом, какая разница, одним разоблачением больше, одним — меньше?
— Садись, садись, — обратился он к Дайо, решив проверить достоверность этой истории.
393
Но тут снова постучали в дверь, и на пороге появились еще две молодые особы. У первой, той, что несла тяжелый чемодан, па каждой щеке был знак племени, точно след, оставленный свирепым тигром. Эту девушку Джимми видел впервые. Но вот за ней вошла девочка, девочка из его прошлого, его счастливого прошлого.
Самая главная в его жизни. Его младший ребенок, Офуре!
Маленькой девочкой она так радовала и веселила его. Из-за такой девочки стоило жить. Заключение отца так потрясло шестилетнего ребенка, что Офуре не смогла даже ходить в школу и пропустила год. Это се он прозвал моя «подружка», моя «единственная». Офуре!
Она вошла в полном неведении, что отец уже вернулся, с твердым намерением к его приходу привести в порядок весь дом. К встрече с отцом она приготовила рисунки, накупила ярких флажков. Весь прошлый семестр она совершенно не тратила карманных денег. А как только разнеслись слухи о скором освобождении отца, Офуре, чтобы подготовиться к встрече, стала экономить каждый кобо1. Она с радостью думала о том, как празднично станет в доме завтра, к приходу отца. Она подготовила и аккуратно сложила в свой чемодан все необходимое. Офуре, сгорая от нетерпения, заручилась обещанием служанки помочь ей выскрести в доме каждый уголок. Они решили приехать пораньше утром, чтобы сразу взяться за дело, но неожиданно задержались в пути. Девочка, несмотря на усталость, жаждала приняться за работу, лишь только они переступят порог дома.
Офуре одиннадцать лет.
Темнокожая. Подобна черному дереву, точь-в-точь как отец. Чудесные волосы разделены пробором и перехвачены светло-зелеными лентами. В простеньких брючках, в туфлях без каблуков, Офуре с сияющей, доброй улыбкой была прелестна. Она вошла в дом и подняла свои огромные блестящие миндалевидные глаза. Но ее взгляд не блуждал по комнате. И не устремился в пространство. Словно по мановению невидимой силы, по притяжению магнита, по особой интуиции из глаз ее к Джимми метнулись две стрелы — стрелы любви, которые тут же вернулись к ней обратно.
Души их устремились сквозь пространство друг к другу, и время остановилось. Все вокруг мгновенно исчезло. Остались лишь двое, они слились воедино, но как, не дано было знать никому. Казалось, они застыли навечно, а они просто смотре
1 К о б о — сотая часть наиры, основной денежной единицы Нигерии.
394
ли друг на друга. Но вот волшебный миг семенила реальность, и они узнали друг друга. Как узнают обыкновенные люди. И с криком бросились навстречу друг другу. Без единого слова. Слова были ни к чему. Они просто крепко обнялись. Офуре, потрясенная, расплакалась. Джимми, взволнованный не меньше дочери, пытался сдержать свои чувства — ведь за ним следило четыре пары глаз, для которых эта сцена вовсе не была предназначена. Но ему удалось с собой справиться ненадолго. Все заметили, как он потихоньку смахивает рукавом слезы.
Джимми подвел дочь к дивану и усадил ее, он все еще был расстроен, а она по-прежнему не замечала никого вокруг.
Реми разрушил эти чары. Он и раньше знал, как Джимми и его младшая дочь относятся друг к другу, но эта сцена его растрогала.
— Джимми, я вернусь вечером; если у тебя будет настроение, пойдем куда-нибудь.
— Спасибо, Реми... Прости... Буду ждать тебя.
Офуре поздоровалась с Дайо и Тайво, а потом положила голову на колени отцу. И тут же поднялась и стала ерошить ему волосы, дергать за уши. Затем снова улеглась на диван, положив голову ему на колени.
Как в старые добрые времена, подумал Джимми. Как в старые добрые времена. Душа его воскресла, воскресла для жизни. Может, ему еще и удастся возродить свой дом, свою жизнь.
И тут только девочка заговорила:
— Папа, отчего ты грустный?
— Разве я грустный?
- Да!
— Почему ты так решила?
Офуре помолчала.
— Я все еще твоя подружка?
Джимми погладил ее-по голове.
— Ты всегда будешь моей подружкой... моей единственной.
— Тогда скажи мне, почему ты грустный.
Теперь умолк Джимми.
— Если мне станет грустно, я скажу тебе. Ты узнаешь об этом.
— Ладно. Ты обедал?
Джимми оглядел комнату; Дайо, Тайво и... Фунми — так, кажется, звали новую служанку — беседовали. Потом снова обернулся к Офуре и потрепал ее по волосам.
— Нет, — ответил он.
Офуре отправилась в кухню, а Фунми поздоровалась с Джимми, взяла у Тайво ключ от спальни, внесла туда вещи и тоже пошла на кухню.
395
Тайво все еще чувствовала себя виновной, она не была уверена, что убедила своего проницательного отца, и ей хотелось поговорить с ним, но он сидел, глубоко задумавшись. Тайво завидовала младшей сестре. Об отношениях, что были у Офуре с отцом, никто из них не мог и помышлять. А может быть, даже и понять их.
Джимми не столько погрузился в свои мысли, сколько растерялся от них.. Сквозь гнетущие, плотные облака пробился единственный яркий луч солнца. Иногда, подумал Джимми с улыбкой, вовсе не плохо, когда первыми приходят дурные вести.
Иногда.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Джимми медленно выходил из задумчивости. Тайво с подругой смущенно переговаривались, и Джимми вдруг вспомнил, что ему надо с ними побеседовать. А пока он читал газеты, принесенные Тайво.
Тайво следила за тем, как отец читает газету, и ей с трудом удавалось сосредоточиться на разговоре с подругой. Сейчас самое время поговорить с отцом, подумала Тайво, но тут же ей пришло в голову, что сказать ей в общем-то нечего. Что им обсуждать? Разве у них есть теперь общие интересы? Еще тогда, когда она прибежала из гостиницы к подруге, чтобы рассказать, в какое незавидное положение она попала, и попросить о помощи, еще тогда ей подумалось, что теперь они с отцом, несмотря на все то, что их связывало, наверно, совсем чужие. Как он изменился! И Тайво обратилась к прошлому, пытаясь вспомнить, что было между ними общего.
Но тщетно. ПятЁ лет назад Тайво было всего одиннадцать, и все, что ей удавалось вспомнить, казалось слишком детским и недостойным воспоминаний. Она была из тех, кто считает детство глупостью, из тех, кто безумно торопится повзрослеть, хотя вовсе не торопится к неизбежному концу. В детстве отец делал все возможное, чтобы доставить ей радость, а Тайво в отличие от других его детей была к этим радостям совершенно безразлична. Именно поэтому она и потеряла отца, который считал, что люди будут гораздо счастливей, если не забудут свое детство, сохраняя его в своем сердце. Он считал, что многие люди в безумной спешке «повзрослеть» оставили такие человеческие ценности, как любовь, доверие, счастье в своем детстве. Эти взрослые начисто лишены непосредственности, столь привлекательной в детях.
396
Но Джимми эти взгляды не проповедовал — он жил ими, а люди вроде Тайво не понимали его и гонялись за изменчивой тенью всего искусственного и были несчастливы, даже когда становились самими собой. Они проводили жизнь в кромешной тьме, в погоне за мнимыми удовольствиями.
Джимми отложил одну газету и взялся за другую. Как давно ему не приходилось читать все, что хочется. Джимми, как и прочие, наткнулся на заметку о своем освобождении и ему стало не по себе. Он надеялся вернуться без шума и хоть немного прийти в себя прежде, чем всем станет известно о его возвращении.
Джимми с удивлением обнаружил во всех газетах одни и те же темы. Инфляция. Временное исключение студентов, сокращение курса лекций в университетах. Недисциплинированность. Но никакой резкости, никаких выпадов. Его поразило, насколько больше стало в газете карикатур. Изобилие противоречивых слухов об организации всевозможных групп, о превращении клубов в политические партии, и при этом бесконечные запреты на политические выступления.
Джимми отложил газеты и отправился в кухню посмотреть, как дела у Офуре. Дверь была заперта, но он постучал, и ему открыли. Офуре стояла на пороге и не пускала его в кухню. Глаза ее сияли затаенным волнением.
— Почему вы заперли дверь? -- спросил Джимми.
— Потому что я знала: ты придешь подсматривать.
— А ты не хотела, чтоб я пришел?
— Нет!
— Почему же?
— Потому что это сюрприз.
— Какой сюрприз?
— То, что я готовлю, конечно!
— Но я знаю, что это!
Офуре изумленно подняла брови.
— Знаешь? Что же это?
У Джимми было любимое блюдо. И он знал, что Офуре приготовит именно его.
— Дронты с рисом.
— Ты уверен? — Она по-прежнему заслоняла проход.
— И жаркое из цыплят,—добавил Джимми.
Офуре обернулась и окинула взглядом кухню — убедиться, что он ничего не видел. А потом снова повернулась к нему, и ленточки в волосах ее затрепетали.
— И бананы, — прибавил Джимми.
Она взглянула на него в упор. Глаза ее сияли восхищением, словно он был сам создатель.
397
— Ну и глазастый! — И Офуре распахнула дверь.
Так оно и было.
Джимми вернулся в комнату радостный, довольный собой. Не успел он присесть, как в дом вошла Эно, с большой хозяйственной сумкой в руках. От полуденного зноя она вспотела. Так, как потеют только полные женщины. Тайво и ее подруга встали поздороваться с ней, и Тайво забрала у нее тяжелую сумку.
Джимми односложно поздоровался с Эно и снова уселся на диван с книгой. А Тайво, сказав матери, что приехала Офуре, понесла сумку на кухню.
И тут появилась Офуре.
— Здравствуй, мама.
— Здравствуй, дорогая, хорошо съездила?
— Да. Все передают тебе привет.
— Ты сейчас чем-то занята? Что ты делаешь?
— Готовлю обед. Для папы.
Все рассмеялись, вспомнив, как в прежние времена все делалось или считалось, что делается «для папы».
Сердце Эно все еще сжималось от угрозы Йекини, но, увидев, что у мужа поднялось настроение, — она безошибочно угадала, что из-за приезда Офуре, — она чуточку успокоилась. Женщина грузно уселась под вентилятором. Заметив выходившую из уборной Дайо, Эно обратилась к ней.
— Прошлой ночью она была у тебя? — спросила Эно, указывая на Тайво,—та виднелась сквозь распахнутую дверь кухни.
— Да, мадам.
Эно помолчала, ей не очень-то в это верилось. А кто заехал за Тайво на машине — Дайо? Но она не решалась сейчас спросить об этом.
Пользуясь хорошим настроением мужа, Эно вдруг отчаянно схватилась за голову, словно что-то вспомнила.
— Да! Я... я заходила к отцу сказать ему, что ты вернулся.
Но Джимми не выказал особого интереса. Он только усмехнулся.
— И как он?
— Хорошо. Передает тебе привет. Спрашивал, когда ты придешь навестить его.
Джимми ничего не ответил. Все, что хотел, он уже сказал. И разговор их иссяк. Из кухни доносился неумолчный смех четырех девочек. Вскоре Офуре и Фунми накрыли столик обеду.
Позвали Кехинде, но он уже, оказывается, исчез.
Пообедали. Дайо ушла домой, а семья собралась в столовой. Фунми прибирала на кухне. Тайво за обеденным столом
398
читала роман. Эно пыталась что-то вязать, на лице ее сверкали бусинки пота. Джимми и Офуре уселись на. диван и там беседовали и смеялись.
— А как твои дела в школе? — спросил Офуре отец.
— Хорошо, — уверенно ответила девочка. — В этом семестре я, наверно, буду лучшей в классе. По двум предметам две ученицы — я тебе писала о них — лучше меня, зато по остальным мы на равных. Но в следующем семестре я думаю обогнать их.
Глаза ее решительно блеснули. Джимми улыбнулся с нескрываемым удовольствием.
— И как же вы, леди, собираетесь этого добиться?
— Работать как следует — как же еще!
Офуре сидела теперь у ног отца и, чтобы увидеть его лицо, вытянула шею.
— Ты думаешь, не смогу?
Она спросила это горячо и настойчиво. И Джимми понял скрытый смысл ее слов. Он погладил девочку по руке.
— Конечно, сможешь, — ответил он. — А если нет, я буду тобой очень недоволен.
Офуре, успокоенная, снова положила голову ему на колени. Этот язык был ей понятен. Этот язык доверия был так важен для нее и значил больше, чем тот, на котором они с отцом говорили.
— Пап, ты сегодня вечером, наверно, куда-нибудь поедешь?
— Да, а почему ты спрашиваешь об этом?
— Да так.
Но Джимми знал, за этим что-то кроется. И в свое время она расскажет ему.
Тайво следила за ними, не в силах сосредоточиться на романе. Она сидела с надутым видом, не в силах понять этот, как ей казалось, детский разговор. Зато теперь она уже могла подумать о своем. Уж лучше б осталась подольше в гостинице с Муби. Обстановка в доме напряженная, только дурак этого не заметит. Она не знает, что происходит. Но родители почти не разговаривают, не сравнить с тем, что было когда-то. Словно между ними выросла железная преграда. Точно кто-то бросил бомбу, и она вот-вот взорвется. Можно спросить у матери, но как ее выманить из комнаты?
— Ты уже теперь большая, — говорил Джимми дочери,— что же ты собираешься делать, когда вырастешь?
Глаза Офуре стали задумчивыми, она взглянула на потолок, потом на отца.
— Когда я вырасту, — начала она, — когда я вырасту, папа, я хочу пойти по твоим стопам.
399
Джимми ждал. ?<то Офуре скажет дальше, но она замолчала. И погрузилась в размышления.
— Ну, — заторопил ее Джимми,—что ты имеешь в виду?
Дебочка повернула к нему свое круглое лицо. Взгляд ее был тверд, она заговорила тихо, но решительно.
— Я тоже хочу писать, папа. Я буду представлять свое поколение.
Офуре сказала это так убежденно, взгляд ее горел, притягивал, и Джимми, не выдержав, растерянно отвернулся. Он заметил, что Тайво и Эно внимательно смотрят на них. Интересно, понимает ли эта одиннадцатилетняя девочка, о чем говорит.
— Это благородное стремление, Офуре. — Джимми был искренне взволнован. — Но чего хочет твое поколение? Что оно хочет сказать?
Девочка задумалась, потом, не глядя на отца, ответила:
— Я знаю, ты думаешь, я ни в чем не разбираюсь, но это не так. Я еще поднимусь на трибуну и буду говорить от имени своего поколения. Но мне надо подождать. — Она заговорила тише. — Подождать... и посмотреть, что будет.
Офуре снова взглянула на отца, и голос ее вдруг зазвучал с прежней яростной силой.
— А что ты, папа, собираешься делать?
Этот мучительный вопрос застиг Джимми врасплох. И, оттягивая ту неприятную минуту, когда ему и впрямь придется на него ответить, — а ответа, увы, и не было,—он попросил Офуре принести ему воды. Девочка тотчас вскочила, словно от неведомой силы, столь неожиданной в этом хрупком существе. Офуре принесла воды и дала отцу напиться.
Потом снова положила голову Джимми на колени и тут же повторила свой вопрос; и Эно и Тайво сразу насторожились, хотя сделали вид, что усердно принялись за свои дела.
— Даже не знаю, Офуре. — Джимми был смущен и не представлял, как объяснить все это простодушному ребенку. — Сначала надо как-то определиться. А потом уже решать, что делать.
Такой ответ, казалось, Офуре устроил. Но тут же любопытство ее приняло иное направление.
— А ты будешь требовать возмещения ущерба?
Джимми рассмеялся.
— Не у кого требовать. Меня посадили по особому приказу.
Эчо смущенно опустила глаза.
— Папа, а когда ты сегодня уедешь? — помолчав, спросила Офуре.
Она все еще мечтала устроить ему королевский прием.
400
Джимми посмотрел на стенные часы. Было около трех. — Зависит от того, когда придет Реми.
Джимми пристально посмотрел на дочь.
— А вас, леди, кажется, очень волнует мой уход.
— Да, — кивнув, улыбнулась девочка.
Теперь Джимми не сомневался, что она что-то затевает. И она знала, что ему это известно. Но никто из них не сказал ни слова об этом. Время придет, и все откроется.
И вдруг Офуре удивленно подняла брови.
— Папа, а почему ты ничего не спрашиваешь про дедушку и бабушку?
Как мог он забыть о собственных родителях? Этот луч радости так резко вырвал его из горестного возвращения, что он забыл обо всем на свете.
— Прости, Офуре. Как они там?
— Дедушка хорошо, а вот бабушка неважно. На будущей неделе думаю поехать поухаживать за ней. А ты когда поедешь проведать их?
— Как только устроюсь.
— А когда это будет?
Джимми рассмеялся.
— Это зависит от бога и погоды.
Офуре озабоченно взглянула на отца.
— Но ты можешь... ты должен съездить на этой неделе. Они старики, они так волновались за тебя. А вдруг... — Она на мгновенье заколебалась. — А вдруг бабушка умрет? Ты должен поехать навестить ее. Они так обрадуются. И потом, Бенин теперь не дальний cbci !
Джимми глубоко тронула столь серьезная забота о его родителях. Он потрепал дочь по волосам и с надеждой подумал: хорошо бы она такой и осталась. Рядом с ней у него найдутся силы покорить даже солнце. И тотчас подумал, что наступит день, она выйдет замуж, и он станет для нее номером вторым. Его точно пронзило жалом ревности к неизвестному сопернику, но боль тут же стихла. К чему тревожиться из-за того, что так естественно?
Джимми заерзал на месте. Но этому иарйю, подумал он, придется как следует о ней позаботиться... пусть только попробует ее обидеть!
Джимми вернулся к действительности.
— Хорошо, скоро съезжу навестить их. Обещаю.
И туг впервые заговорила Тайво.
— Папа, можно я поеду с тобой?
Но сказала она это не вовремя. И сказала это зря. Отец пристально взглянул на нее.
401
— Ладно. А когда ты последний раз была у них?
Тайво была там девять месяцев назад, хотя знала, что отец считал: дети должны ездить к его родителям каждый праздник, пусть хоть на час.
— В прошлый праздник, — без запинки солгала Тайво, хотя рядом были мать и младшая сестра: они знали правду и могли опровергнуть ее слова.
Джимми повернулся к Эно.
— Это правда?
Эно отчаянно, точно утопающий, ринулась на поиски соломинки; избегая молящего взгляда Тайво, она произнесла:
— В последние два праздника Тайво туда не ездила.
Джимми посмотрел на Тайво, она сидела хмурая, надутая. Джимми долго, молча не сводил глаз со старшей дочери, взгляд его смущал и тревожил Тайво. Потом он заговорил спокойно и твердо.
— Тайво, это уже вторая ложь за четыре часа, а я ведь только-только вернулся. Ты...
Но слова его прервало неожиданное бесцеремонное вторжение Кехинде. На нем были голубые джинсы в бесчисленных — с мятежными лозунгами —заплатках. ЗАЩИЩАЙ ИЛИ УБИ-ВАЙ. ВЕСЬ МИР МОЙ. УБИВАЮ РАДИ ШУТКИ, и много других. И еще на нем был голубой берет. Темные очки довершали картину; вид у парня был довольно нелепый.
— Привет, Офуре! Когда приехала?
— Сегодня утром. Как дела?
— Отлично. — Кехинде сковырнул прыщик. — Как бабушка?
— Ей лучше. Скучает по тебе.
Джимми смотрел на своих близнецов; пять лет назад они были его гордостью. Не отвечая на приветствие Кехинде, он повернулся к Тайво, она сидела расстроенная и машинально выдергивала нитки из юбки.
— Не успел я вернуться, а ты уже дважды солгала мне, да еще в таком важном деле.
Кехинде внимательно посмотрел на них. Он полагал, что буря уже пронеслась и воцарился мир. Подобная обстановка была ему не по вкусу. Он принялся ковырять прыщик.
— Но я дам тебе еще один шанс, — снова заговорил Джимми, на этот раз решительно и угрожающе. — Скажи, где ты была прошлой ночью?
Все теперь не сводили глаз с Тайво, а она по-прежнему выдергивала нитки из юбки.
— Я же сказала, я была у Дайо, — она произнесла это, не поднимая глаз.
— Не важно, что ты сказала. С кем ты была?
402
Тайво почти распустила подрубочный шов. Она подняла голову, в глазах ее стояли слезы. Она попыталась сказать что-то, но только расплакалась. С рыданиями, уверенная, что ее оскорбили, Тайво бросилась в свою комнату.
Джимми тут же автоматически повернулся к Кехинде.
— А вы, молодой человек, куда вы отправились сегодня утром, когда выпрыгнули из окна?
Кехинде тер окровавленный прыщик. И молчал.
Джимми говорил намеренно сухо, но теперь уже сурово. — И что за девица спала сегодня у тебя в комнате? Кехинде нахмурился, только бы не встретиться глазами с отцом. И опять ничего не ответил.
Терпение у Джимми лопалось.
— Я жду ответа — и сними эти очки!
Кехинде не выдержал.
— Прости, папа. Но я не понимаю, о чем ты говоришь.
— Я говорю о тебе!
— А что я? Разве мне ничего нельзя? Мне, папа, уже семнадцать и...
Джимми хотел по-хорошему, но тут он уже не выдержал. Он ринулся к сыну, и не успел тот опомниться, как Джимми влепил ему пощечину, еще одну. Спрятав лицо в ладони, Кехинде стоял перед отцом потрясенный. Джимми задыхался от гнева, и, если бы Офуре и Эно не удержали его, беды бы не миновать. Он послушно дал увести себя на место.
— Запомни, я не сторонник насилия, но я еще не старик и никогда не был слабаком. Этот идиот вспомнил о своем ничтожном возрасте! А ты знаешь, кем в твоем возрасте был я? Разве мне ничего нельзя? — передразнил он сына. — Да ты сделай хоть что-нибудь!
И Кехинде — словно послушался совета — сделал. Он собрал осколки гордости вместе с осколками темных очков и отправился к себе в комнату. Вытер слезы и посмотрел в зеркало на покрасневшие глаза. Вот когда без темных очков никак не обойтись. Он положил осколки на стол и пошарил в карманах, нет ли там денег. Выудил одну наиру и шестьдесят кобо.
Потом, хлопнув дверью, вошел в столовую. Но не за тем, чтобы там остаться. С затаенной в сердце обидой, ни на кого не глядя, он гордо покинул дом.
Джимми бросился к окну, Кехинде уже проходил мимо маленького сада.
— Кехинде, вернись!
Сын даже не обернулся.
403
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Пожалуй, самым привлекательным в отеле Гамильтон был уголок под открытым небом сразу за баром. Прежний хозяин отеля собирался строить на этом месте бассейн, но не успел отель открыться, как на него напали вооруженные бандиты, и хозяин погиб. А так как он считал, что посетители бассейна иногда не прочь будут выпить, то велел соорудить дверь из бара в предполагаемый бассейн. Всякий раз, когда ^верь оставляли открытой, особенно в лунные ночи вроде сегодняшней, многие посетители усаживались на открытом воздухе.
Вскоре местечко стало очень популярно, и администрация, не в силах наскрести денег на бассейн, отгородила его бетонной стеной — чтобы посетители чувствовали себя в безопасности — и прикупила столиков и стульев.
Атмосфера была чудесная: нежная музыка лилась из хитроумно упрятанных репродукторов, и внутри в баре все бы ю так искусно устроено, что однажды кто-то в шутку прозвал все это «Страной Чудес». И причудливое название прижилось.
Страна Чудес.
Реми впервые попал сюда по смешной случайности. Как-то раз вечером он должен был привести к своему хозяину Шефу Олуреми Аджале его приятеля. Но Реми никак не мог его найти в отеле и уже готов был оставить поиски, но тут кто-то. предложил ему заглянуть в «Страну Чудес».
Решив, что приятеля Шефа увезли за город, Реми спросил проходившего мимо официанта, где и что такое «Страна Чудес».
Официант просто опешил. «Так вы что, не знаете, где эго?» Он спросил это так, будто перед ним был служащий ншсрий-ского банка, который не знает, чго денежная единица в стране — наира.
Реми мотнул головой — от изумления и любопытства он просто онемел. И мысленно увидел, как официант берет его за руку, словно малыша, потерявшего на митинге свою маму.
— Пойдемте.
Так впервые он вступил в «Страну Чудес», а сегодня, лишь только луне впервые в этот вечер удалось пробиться сквозь грозные облака и разлить свое сияние, ввел в нее Джимми.
Почти всю дорогу в отель они молчали. Реми с беспокойством думал о Джудит: она сейчас вне себя, уже второй раз за сегодня он оставляет ее одну.
А у Джимми все еще саднило сердце после ссоры со старшими детьми и того, что он застал дома по возвращении. Но волшебная «Страна Чудес» скоро рассеяла напряжение между
404
друзьями. Они заказали пиво. Джимми — он сел в углу — глядел на звезды, вспоминая юность, — какое долгое путешествие совершил он по дороге жизни.
Он посмотрел на гордо сияющую луну, облака скользили все мимо и мимо, и она оставалась царицей неба. Но вот Джимми заставил себя вернуться к действительности.
— Ты, наверно, удивишься, — обратился он к Реми,— но я не очень-то рад, что вернулся из тюрьмы.
Реми застыл со стаканом в руке.
— Конечно, удивлюсь. А почему, собственно?
Джимми, поигрывая стаканом, улыбнулся. Он уселся поудобней на жестком стуле и, глядя на звезды, словно в молитве, начал:
— Сегодня утром у меня в доме ты видел лишь малую толику драмы. А вся она, думаю, невероятных размеров. Моя семья сильно переменилась. И если б не Офуре, я бы, наверно, сошеч с ума. Она единственная звезда в этом мрачном небе. Все остальные погибли. Они осквернили идеалы и ценности, за которые я боролся все эги годы, за которые провел часть жизни в заключении. За что меня так оскорбили?
Эго не был праздный вопрос, и Реми почувствовал, что должен на него ответить.
— Кто же тебя оскорбил?
— Меня оскорбило то, с чем я столкнулся. У меня нет доказательств, но я уверен, что прошлую ночь Тайво провела с мужчиной. Ты только вообрази: моя дочь в семнадцать лет проводит ночь с мужчиной! Ты знаешь, как больно, когда все над тобой смеются? Особенно, если ты сам публично провозглашал свои принципы и за это пять лет провел в тюрьме! Ты представляешь ?!
Это Тайво. А Кехинде — пришел домой пьяный и с девицей. А когда я отважился заговорить с ним об этом, он начал выкручиваться. Я дал ему пощечину, и знаешь, что сделал он? Повернулся и ушел.
В отчаянии Джимми воздел руки. Реми знал, как горд его друг, и искренне пожалел его.
— И все же, — возразил Реми. — неужели только из-за этого ты считаешь, что все пропало?
Джимми уже не горячился.
— Ты не понимаешь, Реми. Ну что бы почувствовал ты на моем месте: в радостном расположении духа возвращаешься в дом, который оставил в полном порядке, а там все изодрано в клочья? А ведь я прибирал не только в своем доме, я попал в тюрьму за то, что пытался прибирать в общественном. Ты слышал, наверное: «Кго думает о родных, не забудет и чу-
405
жих?» А что такое теперь мои родные? И кто с такими родными примет теперь меня всерьез? Как начать все заново? Откуда черпать мужество?
— Но ты личность, Джим.
— Ты уверен? В нашем обществе? И ты будешь отстаивать эту мысль?
Оба помолчали. Джимми впервые за вечер отхлебнул глоток пива. Реми — его бутылка уже была пуста — не стал заказывать новую, раз друг его едва прикоснулся к своей.
— Ложь, разврат, непослушные дети,—будто сам с собой, продолжал Джимми.—Мои дети! Так подло оскорбить, так подло посмеяться, а я в это время с гордостью отбываю заключение за то, что посмел отстаивать свои взгляды?!
Они снова помолчали. Джимми заметил пустую бутылку друга и приналег на свою. Он знал, что Реми не станет заказывать новую, пока друг его не выпьет свою. Но Джимми не очень-то умел пить. И скоро уже воспринимал все окружающее по-другому. Язык его развязался, настроение стало еще угрюмей.
— Но и это не все, Реми,—снова заговорил Джимми. — У меня есть причины подозревать Эно.
— Нет, что ты!
— Пойми меня правильно. Я ничего не могу доказать. Но если б мог, я бы сейчас здесь нс сидел. Я бы сейчас был в суде и подавал иск о разводе!
Услышав такое, Реми встревожился.
— Что ты хочешь этим сказать, Джим?
— Я хочу сказать, что, если мои подозрения небезосновательны и моя жена изменила мне, это будет последней каплей.
— Но почему ты ее подозреваешь, Джим? Ты только что вернулся. Ты всего лишь один день дома!
Джимми оживился. Он тоже об этом думал, но ведь именно в этом все и дело.
— Да, но я вернулся, когда меня еще не ждали, вот в чем суть. Я уверен, вернись я только завтра, я застал бы совсем иную картину; господь оказал мне услугу — он привел меня домой «вовремя». Я по-прежнему люблю Эно, и бог свидетель, что бы она ни натворила, она навек останется в моем сердце. Но жить с женщиной, которой я больше не доверяю, не стану ни за что, можешь мне поверить.
Джимми задумался, а потом, точно его вдруг осенило, заговорил снова:
— Я хочу спросить тебя о чем-то важном, Реми. Где был ты, когда у меня в семье случилось это землетрясение?
406
Реми словно ударили в живот. Ему стало стыдно, но ответить было нечего, и он молча смотрел на друга.
Джимми глядел на Реми и потягивал пиво, потом собрался с мыслями и заговорил:
— Последние два года тебе единственному я разрешал навещать меня, и ты единственный мог понять, почему четыре года назад я решил запретить всем, даже своим родным, приходить ко мне. Ты был у меня ровно три месяца назад. И ни слова обо всем этом. Ты сказал, что все прекрасно. Может быть, тогда все было в порядке, или ты что-то скрывал от меня, а может, ты ничего не знал?
Реми вдруг с отвращением оттолкнул от себя кружку пива. Он растерялся.
— Джимми, я не понимаю тебя, — пробормотал он.
Джимми заговорил как обычно, когда его не сердили, спокойно и сдержанно. Он был немного возбужден, но не пьян. Он обдумывал каждое слово и то, как сказать его.
Джимми ближе подвинулся к другу.
— Скажу по-другому, Реми. Ты наверняка знал хоть что-то из того, что происходит, и должен был рассказать мне об этом. Почему ты не рассказал?
— Но дети почти все время в школе!
Джимми согласился. Правда, он-то хотел спросить о другом, но не решился. Ему хотелось спросить, неужели Реми ничего не знает и про его жену. Но Джимми был слишком горд, чтобы обнажать свою личную жизнь или жизнь Эно. К тому же он считал, что проще простого разрушить семью, стоит только вовлечь в ссору, которую двое могут уладить между собой, третьего. Лучше разобраться двоим. Лучше диалог. Джимми был убежден, как только двое начинают искать арбитра, между ними все кончено.
Он взглянул на друга, и ему стало его жаль. Он похлопал Реми по руке, а потом взял его руку в свою.
— Не думай, будто я хочу сделать из тебя козла отпущения. Просто ты единственный, к кому я могу обратиться за помощью. Не обижайся.
Из бара они ушли чуть позже десяти. Ночью в Лагосе стало опасно из-за вооруженных грабежей. Реми высадил Джимми возле дома ровно в двадцать пять минут одиннадцатого.
Подходя к дому, Джимми услышал музыку. Кто-то снова завел мелодию Осибиса. Он догадался: это все Офуре, и вовсе не случайно мелодия эта звучит в сей час.
Джимми открыл дверь, и из репродукторов нежно полился глубокий чарующий баритон Уэнделла Ричардсона:
407
Ты ушел из дома прочь,
Вернись, вернись в свой дом родной.
Мы ждем тебя и день, и ночь, И день, и ночь...
Джимми отдернул штору и вошел.
То, что предстало его взору, было фантастично, невероятно. Словно в разгар бразильского карнавала, вся столовая от пола до потолка была увешана флажками, шарами и гирляндами всевозможных видов и цветов. Разноцветный взрыв, домашнее упражнение по великолепию и блеску.
Джимми застыл у двери. Зрелище способное застопорить движение на самой Икороду-роуд. Открыв рот от изумления, он скользил взглядом по комнате: поразительно, сколько здесь вложено труда, сколько усилий и потрясающей выдумки; теперь он понял, отчего Офуре так хотелось, чтоб он уехал из дома.
И тут Джимми увидел то, что должен был увидеть в первую очередь, то, что простерлось напоказ прямо над телевизором так, чтобы вошедший тотчас его заметил. Он висел, словно огромная афиша, словно перечень благодарностей в конце фильма, внушительней и горделивей шумного заголовка в газете, огромный плакат, с которым девочка — единственно из любви к отцу — кропотливо возилась несколько часов. Почти во всю стену, смелый, величественный и прекрасный.
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ПРИШЕЛЕЦ!
Джимми изумленно читал и перечитывал надпись. И именно в эту минуту Офуре щелкнула фотоаппаратом — она заранее попросила его у Тайво — и при вспышке яркого света навек запечатлела этот миг изумления. Если бы Джимми знал, что через неделю, когда все уже будет кончено, он вспомнит это мгновенье, разыщет фотографию и, сжигая все мосты, порвет ее в клочья!
Но сейчас Офуре видела, как отец радуется. По-настоящему, от души. И это была единственная награда, которой она искала и жаждала.
Джимми, ослепленный вспышкой, ошеломленный оказанной ему честью, отыскал теперь глазами исполнителя. Вог она, взволнованная оттого, что отец оценил ее затею; темные миндалевидные глаза сияют от удовольствия. Волосы по-прежнему перехвачены лентами, только теперь на девочке уже джинсы и рубашка с короткими рукавами. А Уэнделл все еще выводил:
Мы ждем тебя и день, и ночь,
И день, и ночь...
408
Джимми не отрывал глаз от девочки; не в силах вымолвить ни слова, он протянул к ней руки. Офуре обернулась, отдала Фунми фотоаппарат и стремглав бросилась в объятия отца.
...Ты ушел из дома прочь...
И когда они обняли друг друга, обняли с истинной любовью, Фунми вдруг, будто по наитию, подняла фотоаппарат и щелкнула. В яркой вспышке заблестели потоки слез, лившиеся из глаз девочки на лицо Джимми.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Следующий день начался с радужной ноты, Джимми проснулся с мыслями об Офуре: если б все так заботились о не?л, так понимали его, если б все были так верны и неизменны, как она. Занятно и странно, что в ней одной он обрел надежду, душевный покой и счастье. Кехинде до сих пор не вернулся. Тайво все время сидит у себя в комнате, и даже прошлым вечером, когда отец вместе с Офуре и Фунми беседовали, смеялись и «праздновали», она не удосужилась выйти.
В тог вечер, когда Джимми вернулся из «Страны Чудес», Эно лежала на кровати в спальне и сокрушалась о своих нежданных бедах. Решив присоединиться ко всей компании, она, как и Джимми, была поражена той карнавальной атмосферой, которую всего за полтора часа создали Офуре и Фунми. Но подавленное настроение Эно так и не рассеялось, и, сославшись на головную боль, она рано ушла спать. Джимми видел: жену его что-то мучит, но его это теперь уже не тревожило. Он считал, что именно она виновница всех бед и заслужила эти адовы муки.
Уже давно легла спать Фунми, а Джимми и Офуре все еще болтали о старых временах, и Джимми рассказывал дочке о своей жизни в тюрьме. Девочка заснула только в третьем часу ночи. И отец на руках перенес ее в кровать.
Но самому Джимми лечь спать было не так-то легко. Он долго уговаривал себя идти в их общую спальню. В конце концов он все-таки пошел и лег. Он с трудом удержался, чтобы не разбудить Эно, беспокойную даже во сне. Жена металась с боку на бок и что-то бессвязно бормотала. Джимми стало не по себе. 3 старые добрые времена, подумал он, заботы жены встревожили бы его не меньше ссЭлвенкых. Он обнял бы ее и ласт ал до тех пер, пока бы тело и душа се вновь не обрели покой. И если б плохо стало ему, Эно бы сделала для пел то же самое А теперь она лежит на своем краю постели, мучается, а
409
сам он на другом краю, и между ними преграда несокрушимей Великой китайской стены. Они так близко и так далеко.
Джимми спрашивал себя, правда ли, что он до сих пор любит Эно. Вопрос был нелегкий, и Джимми, пожалуй, не знал, что на него ответить. Наверно, все-таки любит. Любовь это не свеча, которую так просто задуть. К тому же Джимми считал, что один гнилой банан не портит всей грозди. Так не бывает. Но разве он один? Дом... Тайво... Кехинде... Она сама... Разве это не целая гроздь? Что же осталось?
Ответ был в этом доме. Офуре. Взрослое дитя, малыш, играющий в великана; устремленная ввысь, величественная, словно Эйфелева башня, поднялась она меж надеждой и отчаянием, меж любовью и ненавистью, меж согласием и разладом, меж встречей и разлукой.
И вдруг Джимми пронзил леденящий страх: скоро что-то случится. Что-то ужасное. В таком тупике долго не проживешь. Страх оплетал его тело, сковывал мозг. Слишком многое плохо, да еще тревога: а вдруг Эно ему изменила. Тягостные ночные кошмары. Обо все этом тяжко было даже подумать.
Джимми жил в глубоком страхе; казалось, Честь и Гордость насмешливо тычут в него пальцем. Они глумятся, бросают ему вызов: неужели посмеешь еще раз подняться, посмеешь себя, «нечестивца», провозгласить святым?!
Джимми невольно вздохнул. Cri de coeur1. Страдание человека, не ведающего, что ждет его в судный день. Когда страшный суд вершить будет Общество. Джимми беспокойно заворочался и вдруг почувствовал, что другая половина постели пуста. Посмотрел на часы. Почти половина седьмого. Он и не заметил, как пролетело время. Джимми встал и, распахнув окно, впустил новый день, потом опять лег.
Снова на него нахлынули мысли, и тут вдруг Джимми показалось, будто совесть его превратилась в некую независимую личность, и личность эта уселась подле него на кровать. Кроткая улыбка играла на ее губах. «Почему? — спросила она, и голос ее стал угрожающим. — Почему это ты обвиняешь, судишь и наказываешь свою жену? Вот чего стоит твоя любовь! Вот чего стоит твой ум! Ты так запросто обвиняешь своего друга, а разве у тебя есть факты? Кто дал тебе право? Кто дал тебе право?»
Не речь, а пытка. Почему, спрашивал сам себя Джимми, ты связываешь свою обиду и разочарование в семье и детях с безнравственностью жены? Она подавала повод сомневаться в ней? Разве за такую справедливость ты боролся всю свою
1 Крик души (фр.).
410
жизнь, пожертвовал даже свободой? За такую? И будешь перь ходить с высоко поднятой головой? И, наверно, гордишься собой?
Голос звучал сурово. Настойчиво. Презрительно. Беспощадно. И будто исходил от кого-то другого. Джимми заворочался с боку на бок — только бы отогнать его. Но тот упорно не поддавался, и Джимми выдохся от бессилия. И сдался своему невидимому мучителю: «Ладно, ладно, чего тебе от меня надо ?»
Голос все еще суровый, все еще мучительный вдруг возликовал. И сразу приступил к делу. «Узнай истину,—провозгласил он. — Узнай истину, и тогда или оправдай Эно, или открыто осуди ее!»
Джимми вздрогнул, у него точно камень с души свалился. И ему стало легко как человеку, которому приснилось, что он умер, а потом он проснулся и видит, что он дома в своей постели. Джимми снова вздохнул. Но уже без прежней муки. С облегчением. Не переставая размышлять, он спустил ноги с кровати, с проворством, совсем неожиданным для его коренастой фигуры. Быстро запер дверь спальни и принялся тщательно обыскивать комнату. Вылитый гангстер в допотопном боевике, из тех, что пытаются перехитрить противника в его же владениях.
Джимми решил: если жена обманывала его, то взамен смутных подозрений вроде объявившейся и исчезнувшей косметики или пренебрежения к домашнему хозяйству, он наверняка найдет веские доказательства. Но надежда была невелика. Эно — умная женщина. И раз она за несколько часов так умело навела порядок в доме, неужто она оставит улики, которые изобличат и погубят ее?
Джимми, сам толком не понимая, что, собственно, он ищет, все-таки продолжал искать. И скоро нашел. Записную книжку.
Реми терпеть не мог понедельник. Всю первую его половину он пытался забыть прошедшие выходные, всю вторую —втянуться в работу. Сегодня в понедельник утром была жуткая головная боль. Накануне вечером, когда он вернулся домой после встречи с Джимми, страсти уже закипали. Страсти с большой буквы. Страсти, облаченные в хорошо знакомую одежду.
Джудит.
Джудит решила, с нее хватит. Она долго размышляла и убедилась: если на базаре полно коз, со временем цены на них падают. Четыре года назад Реми был готов для нее на все, кроме одного — жениться. Но тогда он казался ей идеалом.
411
Красив, но не самовлюблен. Приличная работа. Дом. Машина. Хороший заработок.
Реми никогда не заговаривал о женитьбе. А Джудит была слишком горда, чтобы спрашивать об этом. Но со временем они стали смотреть на себя как на женатую пару. Первые два месяца после знакомства они виделись каждый день. В жизни Реми не было других серьезных увлечений, и Джудит не приставала к нему с расспросами. Она все больше и больше входила в его жизнь. Вкладывала в нее всю душу и словно пускала корни в саду его бытия. Она ждала. Зрела. Наблюдала. Надеялась.
Но дни сливались в месяцы. Месяцы в годы. А Реми — ни слова о будущем. Скоро Джудит узнала, что у него есть другие. И чтобы не оказаться ни при чем, она теперь старалась все выходные проводить с Реми — пусть держится в рамках, да и она всегда будет в курсе его дел.
Но несмотря на всю любовь, которую Джудит выказывала ему и которой, казалось, отвечал ей Реми, она почти не питала надежды выйти за него замуж. Ни он, ни она не становились моложе. Она уж во всяком случае. И искать другого было слишком поздно.
Но последнее время стало и того хуже: Реми взял себе в привычку под малейшим предлогом уходить развлекаться, а ее оставлять дома одну. В эти выходные, например, с горечью подумала Джудит, он воспользовался возвращением друга и оставил ее дома, точно старую деву.
Подобно большинству людей, Джудит не утруждала себя глубокими рассуждениями. Всплывших на поверхность чувств было ей вполне достаточно. Но на сей раз это сыграло ей на РУКУ-
Она не готовилась особым образом к атаке, — просто ждала Реми, надев элегантное бубу1, которое он любил. Оставила ему обед и в ожидании уселась перед телевизором. Джудит даже не заметила, как начала плакать. И тут, почти не раздумывая, она направилась в спальню и принялась укладывать вещи. Она обошла все комнаты и собрала все, что принадлежало ей. все то, чем возлюбленные обычно пользуются сообща, или обмениваются, или оставляют в доме любимого, лишь только начинают незаметно привыкать, привязываться друг к другу. Картины. Пластинки. Книги. Одежду. Джудит упаковывала все в два маленьких чемодана. Потом вернулась в столовую и снова села перед телевизором. Она почти не видела того, что было на экране, но рядом хотя бы теплилась жизнь.
1 Б у б у — длинная свободная национальная одежда.
412
Реми вернулся около одиннадцати. Джудит как обычно открыла дверь, но в этот раз без улыбки. И не поздоровалась.
Реми не преминул это заметить. На ходу здороваясь и одновременно снимая рубашку, он вдруг резко обернулся и изумленно уставился на Джудит.
— Что случилось? — спросил он.
Джудит не ответила. Она заперла дверь и вернулась на свое место. Реми последовал за ней — бури, видно, не миновать. И тут он увидел эту пару. На полу ютились — словно принадлежали беглецу — два маленьких чемодана, само воплощенное отчаяние. Глаз у Реми был наметан. И он сразу заметил, что в комнате не хватает кое-каких вещей. Вещей Джудит.
— Что случилось, Джудит? — спросил Реми, усаживаясь рядом с ней.
Но Джудит не сводила глаз с экрана и молчала. Лицо ее было непроницаемо. Она действовала продуманно, хотя едва сдерживала раздражение. Джудит знала, если Реми перестанет задавать вопросы, она сразу лишится его внимания; она ждала, когда он начнет тихонько насвистывать сквозь зубы: верный признак, что теперь он нервничает и злится.
И как только это произошло, Джудит обернулась к нему и невозмутимо спросила:
— Поужинаешь?
Не было случая, чтобы Реми отказался от еды. Ни за какое золото Йоханнесбурга. К тому же проще будет начать разговор с Джудит. Реми кивнул.
Но Джудит знала, что во время еды к Реми не подступиться — разве что превратишься в газету. В эти «святые» минуты он мог вынести только ее одну.
Итак, Джудит выжидала. Реми поел, она убрала посуду, вымыла ее и вернулась на свой пост у телевизора. И тут она сдвинула крышку с кипящею котла.
— Реми, — позвала она с полным самообладанием в i оло-се. — Я хочу, чтобы ты сейчас же ответил мне: тебе уже безразличны наши отношения?
Реми — он сидел в другом конце комнаты — поднял глаза на Джудит. Она стояла и смело, твердо глядела на него.
И не давая ему ответить, снова заговорила:
— Если безразличны, я отпускаю тебя на свободу. У меня нет ни малейшего намерения держать тебя силой. Так что, если я злоупотребила твоим гостеприимством, я эту ошибку исправлю.
Джудит смолкла. Она сама не понимала, откуда у нее взялась смелость и что толкнуло ее на эту речь. Будто кто-то подгонял ее и вкладывал в уста нужные слова.
413
— Мы вместе уже давно, и, естественно, испытывая к тебе то, что я испытываю, я вообразила, что мы когда-нибудь поженимся. Но теперь я вижу, что слишком на многое рассчитывала, ты просто приятно проводил время с очередной женщиной. Но вот я свое отслужила и больше не нужна. Мне совершенно ясно, ты считаешь... — она запнулась, — что у нас с тобой нет будущего.
Джудит перевела дух. И хотя в глазах ее уже стояли слезы, она не отводила взгляда от Реми.
Реми был в растерянности. Впервые женщина угрожает оставить его. А ведь всегда именно он придумывал, как объяснить им, что бал окончен. Реми посмотрел на Джудит с гордостью. Вот такая женщина ему и нужна, женщина, которая может постоять за себя, женщина, которая говорит то, что думает.
— Присядь, Джудит, — мягко сказал он.— Давай поговорим.
Но Джудит была непреклонна.
— Не стоит терять время. Ты мужчина... неужто ты боишься меня, обыкновенной женщины? Давай смотреть правде в глаза. Даже сейчас мне не стыдно признаться в любви к тебе. Но если тебе моя любовь больше ни к чему, я должна знать об этом, так будет справедливо. Для меня любовь не пустое слово, и как бы я ни была задета, я не стану мешать твоему счастью, так что ты свободен. ,
Разве мы знаем женщин? Реми был уверен, что знает. Четыре года бок о бок, а он и понятия не имел о ее прямоте, непокорности, сильной воле.
Реми взглянул на два маленьких чемодана. Какой у них здесь жалкий вид. А ведь в них уложено и то, что дорого ему... им обоим. Реми вдруг подумал, что без Джудит жизнь его — пустой сосуд, не более. Они давно уже вместе, и он едва помнит, как он жил без нее. И потом, кто еще из женщин открывал ему свое сердце? Кто еще так бесхитростно, так щедро дарил ему свою любовь? И чья любовь была так неиссякаема, так чарующа? Что же еще ему нужно?
И тут Реми принял решение так, как принимают самые важные решения большинство людей. Он бросился к Джудит и крепко обнял ее, и в тот же миг из глаз ее хлынули слезы.
— Прости меня, Джудит, — начал Реми.— Мы поженимся. Я люблю тебя, это правда. Это единственная правда.
Второй раз в жизни Реми признавался в любви.-Первый раз был так давно, что он едва помнил имя той девушки. Теперь он повторял свое признание снова и снова, ясно сознавая, что говорит, и не собираясь отрекаться от своих слов. Союз холостяков терял президента.
414
И вот сейчас теплым утром в понедельник Реми сидел за своим столом и то и дело мысленно возвращался к выходным дням. И, словно мальчишка, с наслаждением вспомнивший первый поцелуй, он улыбнулся. Потом встал и, глубоко засунув руки в карманы, подошел к окну.
Здание было четырехэтажное, и с последнего этажа, где они работали, открывался широкий обзор.
Реми все еще стоял у окна, обдумывая, на какой день назначить свадьбу, как вдруг увидел Эно, — она выходила на улицу из главного входа.
На следующее утро около десяти Джимми отправился к тестю и застал его уже за работой. Впервые после возвращения Джимми вышел из дому в дневное время, и ему было не по себе. Утешало одно: известных писателей не очень-то знают в лицо. Немногие узнают их на улице — все-таки не звезды экрана. Слабое это утешение согревало его, пока он сидел возле папаши Огуньеми и его товаров.
Джимми был с тестем в прекрасных отношениях; послушать их беседу — отец и сын, да и только. Они радостно поздоровались, и у Джимми потеплело на душе.
— Дочь сказала мне, что ты вернулся, — восторженно заговорил старик. — Благодарю бога за его великую милость.
— Спасибо, отец, — отозвался Джимми, он уже затеял игру с младшими детьми старика. — Спасибо. Это действительно здорово снова быть на свободе.
Они поговорили о том о сем; о старых временах. Но каждый из них думал о своем. Старик пытался понять, знает ли Джимми о неверности жены или нет. А Джимми обдумывал, насколько можно довериться тестю. И решил наконец, что не стоит ничего таить от него. Аделаджа, наверно, и сам о многом догадывается. Такой уж он человек.
Старик вдруг словно вспомнил что-то и лукаво улыбнулся.
— Утром приходил Реми,—начал он. — Взволнованный, старый плут. Говорит, женится! Представляешь? Решился наконец!
Джимми ушам своим не поверил.
— Реми? — Он, наверно, ослышался. — Но мы вчера были вместе до десяти часов, а он и словом не обмолвился!
— Ну да? — Теперь уже недоумевал старик. — Никак божественное наитие!
— Или пророческое видение, — шутя предположил Джимми. — О-о! Вот так сюрприз. Это, конечно, Джудит?
Глаза старика затуманились.
415
— Говорит, что Джудит. Я не очень-то хорошо ее знаю, хотя он приводил ее сюда как-то раз. Я всегда говорил, что Реми должен жениться на той, с длинным носом, на Мари. Или на Йинке. Или хотя бы на Олубанми. Я уж думал, с этой последней будет то же самое. Реми еще сказал, он к тебе зайдет после работы.
— Хорошее дело затеял. Жениться никогда не поздно. Старик улыбнулся.
— Разве что слегка перезреешь.
И они рассмеялись. Под окном Фунмилайо жадно прислушивалась. Так, Реми наконец-то женится!
— Отец, я хочу поговорить с вами об одном важном деле, — все-таки решился Джимми.
Папаша Огуньеми понимал, о чем именно.
— Хорошо, — откликнулся он. — Пойдем в дом. Здесь обязательно помешают.
Фунмилайо возликовала. Тут попахивает интрижкой! И она поспешила в дом, уверенная, что скоро ее позовут, а к чему мужу знать, что она все время подслушивала.
И правда, вскоре послышался голос старика:
— Фунлайо! Фунлайо!
Теперь она могла уже откликнуться, не выдавая себя.—
— Пригляди за товаром, — попросил Аделаджа.—У меня важный разговор.
А то она не знает! Фунмилайо возблагодарила бога, что у детей сегодня выходной. И едва мужчины вошли в дом, позвала сына — тот весело гонял мяч с приятелями. Пригрозив ему божьей карой, посмей он только уйти и бросить товар, Фунмилайо кинулась в дом.
— ... поддержку и совет, — говорил Джимми, когда Фунмилайо на цыпочках подкралась к своему насиженному месту под окном, — в моих семейных делах. Отчасти из-за этого я и пришел сегодня. Семья моя распалась!
Слова эти потрясли старика, хотя и не были для него такими уж неожиданными. Ведь и Реми намекал, что Джимми несчастлив.
— Что ты имеешь в виду? — спросил старик.
Джимми снова почувствовал себя жалким. Уже второй раз со вчерашнего вечера стирает он на людях свое грязное белье. И все-таки он продолжал:
— Пока меня не было, в моей семье все разладилось. Все — и Эно, и дети — просто неузнаваемы. Кроме Офуре, конечно.
Старик облегченно вздохнул. Он-то думал, Джимми известно большее.
416
— Вы бы видели их, когда я явился раньше срока. Эно. прежде стройная, хорошенькая, теперь точно ожиревший вампир в зулусском мундире. И накрашена хуже некуда. А в доме все вверх дном. Эно, оказывается, пьет джин. Кехинде явился разодетый будто клоун и вдребезги пьяный. Я отругал его, а он после этого втащил к себе через окно девчонку, и она провела у него ночь!
А Тайво — ее вообще не было дома. И Эно даже не знала, где она! Вчера днем Тайво вернулась и принялась рассказывать мне сказки о том, где она была. А вчера еще Кехинде ушел и до сих пор не вернулся.
Джимми смолк, голос его дрожал от горя. У старика отлегло от сердца. То, что натворила дочь, было ему ненавистно, и все же он не хотел, чтобы она потеряла мужа. Но не успел он раскрыть рот, как Джимми снова заговорил, и все надежды старика рассыпались в прах.
— Но это, отец, еще не самое страшное. Мне кажется, Эно не верна мне.
У старика оборвалось сердце. И чего только ни узнал этот парень за один день. Что же ему все-таки известно?
— Неужто? — Старик понимал, надо хоть что-то сказать.
— У меня нет неоспоримых доказательств, но я убежден, она, на которую я так надеялся, которой так верил, предала меня. Сегодня утром я нашел ее записную книжку. И там очень важные записи. Вначале номер телефона. Я проверил по телефонной книге — это номер некоего бизнесмена, думаю, вам известного, — Шефа Олуреми Аджалы. И еще один телефонный номер с добавочным. Это телефон фирмы «Аджала и сыновья», фирмы, где работает Реми. Эта фирма принадлежит Шефу Аджале. А добавочный, как и первый номер телефона, самого Шефа Аджалы.
Джимми остановился перевести дух. В упор посмотрел на старика.
— Кроме того, — снова начал Джимми, — в книжке есть разные странные пометки о времени. Число — каждый раз оно совпадает с субботой,— а рядом название улиц: Огунтокун, отель «Реми Дэвис». 17.30. Не знаю, что это значит, но все это очень любопытно. Я вернулся два дня назад в субботу. Против этого дня стоит такая же пометка. Пришел я чуть позже указанного времени, и Эно собиралась уходить. Я ничего не утверждаю, но это тоже любопытно. Я делюсь с вами, — продолжал Джимми, — не как с тестем, а как с другом, хотя вы можете отнестись к этому как сочтете нужнььм. И хочу предупредить вас заранее: если я найду явные доказательства, я подам на развод. С меня хватит.
14 Альманах «Африка», вып. 6
417
Старик оторопел. Он и раньше знал правду и понимал, что рано или поздно Джимми с его упорством непременно обо всем дознается. И если он не хочет потерять Джимми, в ход надо пустить оружие, убедительней фактов.
— Я сочувствую тебе. Джимми. Жаль, что ты попал в такое положение. Я не знаю правды и не знаю, что ты выяснишь, но уверен, затевать развод безрассудно. Тебя так долго не было дома, а ведь не забывай, без мужчины женщина беспомощна. Тебе надо обжиться, взглянуть на все по-новому.
Старик поднялся, включил вентилятор.
— Теперь все не так, как прежде. За детьми нужен глаз да глаз. И сейчас твое дело не разрушать, а создавать. Ты важная фигура, все время в центре внимания. Один неверный шаг, и твоей будущности конец.
Старик умолк, закурил трубку. Снова посмотрел на Джимми.
— Почти двадцать лет назад, когда вы с Эно влюбились друг в друга и пришли ко мне просить разрешения пожениться, помнишь, что я сказал? Я знаю, у тебя хорошая память, вспомни, что я сказал тебе, когда ты надумал жениться на ней и в первый раз пришел ко мне.
Джимми опустился в глубокий, темный колодец памяти. И зачерпнул воды, той самой, прежней — чистой, холодной, незамутненной.
И стал припоминать тот день. Старик с такой же трубкой в углу рта смотрит на парня, который пришел просить руки его дочери. Выслушав все объяснения Джимми, старик вынимает трубку изо рта.
— Молодой человек, — говорит он, — ваши намерения похвальны. Но разве вы знаете, что такое женитьба? Вам кажется, это пикник двух влюбленных. Вы слишком ослеплены любовью и не понимаете, на что идете. Любовь это еще не повод для женитьбы. Она необходима, но ее недостаточно. По крайней мере, для удачного брака. Любовь — это пьянящий напиток, и как с любым пьянящим напитком с ней надо поосторожней, пить в меру, иначе она подчинит и ум, и рассудок. В удачном — я имею в виду счастливом браке — чувств, любви не должно быть сверх меры, и к тому же нужна голова. Я человек широких взглядов и не буду препятствовать вам. Я ездил по всей стране и знаю, люди везде одинаковые. И потом, моя первая жена, мать Эно, была из ваших мест. Но не все рассуждают так, как я, некоторые мои родичи могут против вас ополчиться, и ваша любовь не устоит. Так что, ступайте и подумайте^ Одним словом, для счастливого брака нужно взаимопонимание. Оно необходимо еще до женитьбы, а всего
418
важней желание понять друг друга. Любовь увядает, а понимание растет, оно единственное и остается.
Старик снова не спеша задымил. Да, Джимми все это прекрасно помнил. Перед ним теперь тот же старик, только еще старше и опытней. Поразительно, что и старик до сих пор не забыл об этом. Джимми улыбнулся.
Старик заметил улыбку и, словно прочитав мысли Джимми, проговорил:
— Я помню это потому, что где бы ни был, какие бы пары ни наблюдал, всякий раз утверждаюсь в своем мнении. Но ты тогда не понял меня. Ты был восторжен и без памяти влюблен. Это одно тебя и занимало. Но я не встал, не хотел вставать на твоем пути, и ты устремился вперед и все-таки женился. И казался молодцом, я был счастлив. Но понимание, как и любовь, нужно неустанно обновлять, а разве это возможно, когда муж сидит в тюрьме. Ты был когда-то молодцом, но ведь пять лет потеряно (не забывай, ты сам решил, что навещать тебя будет лишь Реми), и теперь тебе придется вернуться на пять7 десять, пятнадцать лет назад и начать все заново. Жалеть себя бесполезно. Заметь, я никого не осуждаю, я хочу, чтобы все были счастливы. Всему £иной твое тюремное заключение.
Я не хочу вмешиваться в ваши семейные дела. И не хочу вникать в то, что происходит. Я верю, ты достаточно зрелый и разумный человек и сам во всем разберешься. Но ты слишком обидчив и горд. Воображаешь, что за день на тебя не садится ни пылинки. Ты должен понять: в жизни есть все, и хорошее и дурное. А в лице твоем и голосе только боль и страдание. Не таи обид. Забудь об обществе, о людях. Помни : не осилишь свои беды — они осилят тебя. Прежде ты умел брать над ними верх, думаю, сумеешь и сейчас. Только так тебе удастся оставить в жизни свой след. Счастье переменчиво. Упал — сумей подняться.
Оба помолчали. Тут было над чем поразмыслить. У Джимми на душе стало легче. Старик как всегда помог ему взглянуть на дело с верной точки зрения. И Джимми, прощаясь, поблагодарил его за неоценимый совет.
Фунмилайо бесшумно скользнула прочь от окна.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Обвинить Эно в легкомыслии было бы неверно. Наоборот, она старалась быть осторожной. Она жила в постоянном страхе, едва поняла, что Йекини собирается ее шантажировать. Но голова щла кругом не только от страха. Эно как и прежде лю
14*
419
била мужа и даже подумать не могла о разрыве. Но вдруг дойдет до этого — куда деваться? Вернуться к отцу, в эту вонючую дыру в Изале Эко? Остальные родственники и того беднее. Нет, ее дом здесь, здесь она и останется.
Кое-как справившись с волнением, она попыталась взглянуть на все глазами мужа. Тут ей стало ясно, что о скрытой стороне ее жизни он ничего не знает, больше того, и не может знать. Это ее успокоило. А его отчужденность... что ж. это естественная реакция на то, какими он застал жену и детей. Она задумалась о времени ареста Джимми — с ума сойти, как с тех пор все изменилось. Вот где истинная причина! Даже странно, что это не пришло ей в голову раньше. Настроение, испорченное враждебностью отца, улучшилось, она порадовалась приезду Офуре. Слава богу, что Офуре с Джимми друг в друге души не чают, на этом можно сыграть.
Но угроза Йекини — от нее так просто не отмахнешься. Заплатишь ему — он обязательно придет снова как все шантажисты. В полицию на него тоже не заявишь. Все равно что облиться бензином и сесть возле костра.
Поразмыслив, она пришла к выводу: единственная возможность уладить эту историю — поговорить с Шефом Аджалой. Но у нее не было номера его домашнего телефона. Аджала скрывал его. А вот на работу два номера были, и она решила позвонить ему в понедельник утром. Именно из-за этого она не выбросила свою книжку-календарь. У нее всегда была плохая память на числа, а уничтожить книжку, вырвав нужную страничку, просто не хватило ума.
Но эю вовсе не значит, что она недооценивала своего мужа. Она очень хорошо его знала и понимала: оставлять книжку на виду нельзя. И она засунула ее в свою замшевую туфлю, а туфлю затолкала под кровать. Тогда ей казалось, что лучшего тайника не придумать, и она не поверила своим глазам, когда увидела, что книжки нет на месте.
После завтрака Джимми уехал встретиться с ее отцом, дети занялись уборкой его кабинета. Прекрасная возможность поговорить по телефону без свидетелей.
Она вытащила замшевую туфлю, но та была пуста, как выпотрошенная улитка.
Эно вытащила другую туфлю. Тоже ничего.
Запустила пальцы в обе сразу — только пустота. Пустота, предназначенная для ее маленькой ноги. Книжки не было.
Ее охватила паника.
Неужели книжку нашел Джимми? Эно тяжело опустилась на кровать, на лбу выступили крупные капли пота. Что же, теперь он все знает?
420
— О боже! — воскликнула она с почти религиозным трепе-юм. — О боже!
Неужели он знал обо всем с самого начала? Да нет же, не мог знать! С его-то самолюбием! Он бы уже камня на камне от этого дома не оставил!
Первая волна страха улеглась, и Эно немного пришла в себя. Собравшись с силами, она опустилась на колени и начала искать снова. Туфли, сумочка, ящички. Она никогда полностью не доверяла своей памяти: вдруг она засунула книжку куда-то в другое место и тотчас об этом забыла?
Но куда?
Ответа не было, как не было и книжки. И никакие добрые духи не желали дать ей надежду или облегчение. Жуткие мысли снова обступили ее. А если случилось самое худшее, и Джимми обо всем узнал — как он поступит? За завтраком по его виду нельзя было сказать, будто он что-то подозревает. Он лишь без особого интереса говорил о Тайво да все время болтал с Офуре — как и раньше. Нет, ему ничего не известно.
И все же настороженность не оставляла ее. Ну допустим, Джимми нашел книжку. И что там есть — названия улиц и номера телефонов конторы Шефа Аджалы? Поймет ли Джимми что к чему?
Против желания она усмехнулась собственной глупости. Джимми? Очень даже поймет — можно не сомневаться. Она и не сомневалась. А тут еще Йекини! Да если Йекини...
Она начала одеваться. В спешке. Надо сию же минуту встретиться с Шефом Аджалой и заткнуть эту дыру. Но она никогда не была у него в конторе, только однажды забегала в коммерческий отдел к Реми. Шеф предупреждал ее — на работу к нему не являться, но сейчас у нее не было другого выхода. Незапятнанная репутация Шефа, его дела — да пошли они к черту, ей угрожают Йекини, и муж — это важнее.
Шеф Аджала изучал план продаж на первую половину года, когда ему сообщили о приходе Эно.
Подняв голову от плана, он навострил уши, не совсем расслышав секретаршу с первого раза.
— Селектор плохо работает, — сказал он, поправляя очки. — Пожалуйста, говорите почетче. Кто, вы сказали?
В соседней комнате секретарша недовольно вздохнула. Эта не первой молодости женщина невзлюбила Эно с одного взгляда.
— Извините, сэр, — сказала она, чуть улыбаясь. — К вам некая миссис Эно Айзабо...
Остальное Шеф Аджала почти не слышал. У него перехватило дыхание. Что нужно этой идиотке? Сколько раз он ей го
421
ворил — в контору носа не показывать! В субботу не явилась, а теперь ей что надо?
— Хорошо. — распорядился он.— Пусть заходит!
Он стал протирать очки, и тут она неуклюже ввалилась в кабинет. С нее градом катился пот. Она тяжело опустилась на стул. Он вдруг ее возненавидел.
— Что тебе нужно? — спросил он неприветливым глухим голосом.
Глаза его, весь облик излучали враждебность, и от нее это не укрылось. Минуту она смотрела на него — пусть опомнится, поймет, что задал бестактный вопрос. Потом наклонилась над столом.
— Мог бы и поздороваться, — сказала она, чувствуя, как все в ней кипит. — Ладно, не будем тратить время попусту. Мне нужен ты, если тебе так хочется знать. Меня шантажирует твой таксист. Он хочет пятьсот наир, иначе грозится все выболтать моему мужу.
Шеф Аджала едва не лишился дара речи. Он был готов вышвырнуть Эно из кабинета уже за то, что в субботу она не пришла на свидание. Но номер, который выкинул Йекини, заставил его на время забыть об Эно — это был удар ниже пояса, крепкий удар. Йекини в роли шантажиста — потрясающе!
Тут вдруг он совершенно ясно представил себе возможные последствия. Как всякий джентльмен с нечистой совестью, он больше всего боялся разоблачения. Но Шеф Аджала — это вам не какая-нибудь мелкая сошка. Если потребуется убрать Йекини с дороги, он сделает это, не моргнув глазом.
Он смотрел на Эно с отвисшей челюстью.
— Как это случилось?
Она обо всем рассказала. Когда закончила, он зажег сигару и положил ногу на стол. Немного подумал.
— Все в порядке, — сказал он наконец. — Можешь ни о чем не беспокоиться. Поезжай домой и забудь о Йекини, клинике Сурулере и пятистах наирах. Я с ним разберусь.
Он вдруг игриво улыбнулся.
— А как муж? Я вижу, ты сегодня совсем не наштукатуренная. Он этого не любит?
Эно поднялась.
— Спасибо, — сказала она, будто не слышала его слов, и пошла к двери.
Шеф Аджала ничуть не огорчился.
— Ладно, — сказал он вдруг донельзя серьезно. — Но чтобы сюда ни ногой!
Эно остановилась в дверях и обернулась. Пот па ее лице испарился — в кабинете работал кондиционер.
422
— Только если спасешь мой дом от пожара. Номера твоих 1слефонов я потеряла, теперь они мне все равно ни к чему. Так чго без крайней нужды я сюда не приду, не беспокойся.
В соседней комнате секретарша спокойно отключила барахливший селектор и занялась работой, которую прервала, чтобы подслушать разговор в кабинете начальника.
Эно прошла мимо секретарши, бросив короткое «спасибо».
Когда Эно выходила из здания, ее увидел Реми через окно своего кабинета на третьем этаже.
Йекини не просто любил водить такси. В этом была его жизнь. Он знал Лагос как свои пять пальцев и чрезвычайно этим гордился. Любил взлететь на мост Эко в Алаке и до смерти напугать менее ловких водителей своими маневрами. Восхищенно глянуть по сторонам — ну и махину отгрохали белые люди! — зная, что далеко внизу бесконечным потокОхМ течет вода.
Когда Эно разговаривала с его боссом, Йекини обливался потом в пробке на мосту Картера — уже два часа не мог пробиться на остров Лагос. Он был страшно зол — дернул его черт взять именно этих двоих! И честил все на свете. Пассажиры на заднем сиденье с невозмутимым видом читали газеты.
Йекини направил мысли по другому руслу, переключил их на «эгу толстуху». Поначалу он не с.обирался драть с нее три шкуры, но разве устоишь перед таким соблазном? В конце концов, чего теряться? Судя по всему, она — бабенка зажиточная. это ей по карману. Пятьсот наир!
Будем надеяться, что она раскошелится. А если нет... он знает, как поступить. Он не собирался устраивать кому-то неприятности, но твердо решил — скажет ее мужу, что за штучка его женушка. А он, как слышал Йекини, шутить не любит. На эту дрянь Йекини плевать, главное напакостить Шефу Аджале.
Да, Йекини таил в душе сильную обиду на человека, чье такси он водил. Глупый Шеф, как иногда называл его Йекини и другие водители, был скрягой, к тому же мошенником и пройдохой. По выходным в обязанности Йекини входило доставлять ему женщин — на этой неделе одну, на другой — другую. Иногда он привозил совсем девчонок, школьниц, как Бимпе, его младшая сестренка. Неужели и с ней вот так же тешится какой-нибудь мерзавец!
Но не только это тревожило Йекини. Шефу Аджале принадлежало пятьдесят такси, однако доставлять женщин всегда должен был именно он, Йекини. Иногда на то, чтобы привезти их, а может, и отвезти назад, уходило два часа, но ничего свер
423
ху он не получал. Хоть бы раз какой-нибудь медяк в порядке компенсации — ведь сколько он за это время не заработал! А за прокат такси платил не меньше других!
Он не раз порывался уйти, взять напрокат такси в другом месте, но друзья всегда советовали ему остаться — хозяин наверняка его как-то облагодетельствует. Так прошел целый год, и ничего. Йекини был подавлен и разочарован.
Ко всему этому жена была в положении, денег не хватало. Йекини надеялся, что, получив пятьсот наир, он сможет уйти от Шефа Аджалы и устроиться на работу у другого босса.
Однако Шеф рассудил по-другому. Не успела Эно выйти из его кабинета, он велел управляющему срочно вызвать Йекини. Незадолго до полудня его остановил в Икедже водитель другого такси и передал: «Ога требует его быстро-быстро». Интересно, что за срочность такая? Ведь еще только понедельник. Неужели теперь придется возить женщин и по понедельникам?
Когда он прикатил в контору, оказалось, что Шеф Аджала уехал в аэропорт встретить друга. Йекини помрачнел. Неужели он притащился в Апапу зазря?
— Но он велел мне явиться немедленно! — сказал он секретарше.
Лицо женщины расплылось в ухмылке.
— И ты явился, так?
- Да!
— Так что ты убиваешься? Он сказал, чтобы ты подождал!
Йекини заволновался.
— Сейчас движение — не проехать. Раньше чем через два часа его не жди. Может, я уеду, а потом вернусь?
Женщина снова принялась жевать жвачку.
— Поступай как знаешь, — сказала она, — но я передала тебе его слова.
Ужасно расстроившись, Йекини призадумался.
— Что мне, здесь посидеть?
Не переставая жевать, она взглянула на него, как на попрошайку.
— Ты спросил, не посидеть ли тебе здесь, да ты знаешь, как от тебя пахнет?
Йекини посмотрел на нее — эх, пристукнуть бы ее сейчас на месте! Ни один работник фирмы еще не сказал о ней доброго слова, чему тут удивляться! Выйдя, он уселся в приемной. Он так и просидел до пяти часов, до конца рабочего дня, и тут ему сказали: Шеф Аджала звонил и вызвал его прямо к себе домой.
Ярости Йекини не было предела, он готов был разорвать в клочья первого встречного, но никто не попался ему под ру
424
к\. Сев в такси, он вплыл в бурный вечерний поток и подрулил к дому Шефа в начале восьмого.
Шеф ждал его. но Йекини и подумать не мог, что речь зайдет об Эно. Этот срочный вызов он никак не связывал с их разговором, был уверен, что у Эно не хватит смелости пожаловаться на него.
Шеф встретил его в гостиной, и Йекини сразу понял — никаких шуток-прибауток сегодня не будет. Хозяин так долго смотрел на Йекини сквозь темные очки, что таксист стал ежиться под этим взглядом.
Наконец Аджала заговорил.
— Ты сказал, что тебе нужны пятьсот наир?
Ага! Так вот в чем дело!
- Сэр?
— Ты сказал, что тебе нужны пятьсот наир?
— Нет, сэр!
— Тебе не нужны пятьсот наир?
— Н-нет, сэр.
Шеф взглянул на Йекини с улыбкой.
— Слушай, почему не говоришь правду? Я могу дать тебе пятьсот наир.
В голосе хозяина звучит насмешка, или Йекини это лишь кажется? Вообще-то соблазнительное предложение.
— Нет, сэр! — ответил Йекини.
— Что нет?
Йекини стоял в углу, испуганный и злобный. Интересно, чем все это кончится? А может, выложить хозяину все свои проблемы? Вдруг раздобрится и даст ему деньги, которые так нужны?
Он снова посмотрел на Шефа — тот в расслабленной позе сидел на кушетке — и внезапно утратил все иллюзии. Да предложи Шеф что-нибудь, он. пожалуй, взять-то это не сможет. И Йекини молча ждал, что скажет его хозяин.
А Шеф Аджала — пораженный, как это Йекини, теленок Йекини вдруг набрался наглости и пошел на шантаж — просто сидел и буравил Йекини взглядом. Наконец, уперев ноги в пол, он указал на Йекини пальцем.
— Я хочу, чтобы ты понял, дорогой мой, — заговорил dh, — я не очень жалую людей, которые ставят моих друзей в неловкое положение. То, что сделал ты, еще хуже. Ты только что сказал, что эти деньги тебе не нужны, так?
— Да, сэр.
— Если все-таки нужны, скажи об этом сейчас, потому что я могу дать их тебе, не поднимаясь с кушетки.
— Я просто шутил, сэр.
425
— Шутил? В таком случае это была плохая шутка, не дай тебе бог ее повторить. Она слишком дорого стоит. Так вот, я тебя предупреждаю, если посмеешь снова высказать эту угрозу или попробуешь осуществить ее, последствия будут самые серьезные. Я понятно говорю?
— Да, сэр.
— Прекрасно. Можешь идти. Завтра в это же время приедешь сюда и узнаешь, какое я тебе выбрал наказание.
Йекини — рот его приоткрылся от удивления — взглянул на Шефа Аджалу. Наказание?
— Ты меня понял?
Йекини не решился перечить.
— Да, сэр!
Реми был искренне убежден, что Эно пришла к нему, и бросился вниз узнать, почему она уходит, не повидав его. Он был взволнован, хотел поделиться с ней своим решением — через месяц-другой жениться. В возбуждении он даже не стал ждать лифт, тем более звонить на вахту — попросить даму его подождать. Пока он сбегал вниз — казалось, лестнице не будет конца, — Эно уже и след простыл, поди найди ее в толпе, наводняющей Апапу! Запыхавшись, Реми вернулся к проходной.
— Вы что, не пропустили эту даму? — спросил он вахтершу, миловидную девицу, у которой, по общему мнению, была не память, а решето.
— Какую даму?
— Полную, которая только что ушла.
Девица задумалась — кажется, прошла вечность. Наконец лицо ее засияло.
— Нет, сэр, чго вы. Она хотела поговорить с директором.
Реми обдумал услышанное.
— Именно так она и сказала ? —спросил он.
— Что сказала?
— Что хочет поговорить с директором?
— Мм... да... нет! Она назвала его по имени, и я направила ее к мадам.
— А меня она не спрашивала?
— По-моему, нет.
Реми, глубоко задумавшись, направился к кабинету Аджалы. У стола секретарши он остановился, на лице заиграла улыбка. Не мужчина, а просто душка.
— Привет, дорогая, — сказал он, целуя ей руку.—Ты сегодня шикарно выглядишь, мисс Нигерия тебе и в подметки не годится. В чем он тебя купает, твой муж?
426
Секретарша улыбнулась. Она всегда говорила, что Реми не бог весть какой красавец, но шарма ему не занимать.
— Ты тоже неплохо выглядишь. Каким ветром тебя занесло? Уже недели две не показывался.
— Такова жизнь! Но, знаешь, я тут кое-что собираюсь провернуть — вы все попадаете! Только скажи мне сначала, сюда в последние полчаса какая-нибудь женщина приходила?
— Взмокшая толстуха, похожая на мешок с фасолью?
Реми поморщился. Поразительно, до чего глумливы бывают люди, когда не знают, что говорят о твоих друзьях.
— Была, как же. К управляющему приходила. — Она понизила голос. — Похоже, одна из его курочек. Вроде бы муж вот-вот пронюхает. Шантаж.
Тут же к ней вернулась прежняя деловитость. Обычным голосом она сказала:
— Ну, что нового у вас в отделе? Сколько машин продали за прошлую неделю?
Но Реми ее уже не слышал. Значит, у Эно какие-то делишки с Шефом Аджалой! Боже! Несчастный Джимми! Он был в смятении и, чтобы секретарша ничего не заподозрила, ответил ей вопросом на вопрос:
— Тебя что больше интересует: машины или то, что я женюсь?
Она собиралась подкрасить губы, но помада застыла у нее в руке.
— Ты? Женишься? Шутишь, что ли?
Тут она поняла — он говорит серьезно.
— Господи! — воскликнула она.—Какая потеря для холостяков!
Показав на дверь кабинета Шефа, она спросила:
— Ему не скажешь?
Реми хотел поделиться с начальником своей радостью. Искренне хотел. Но желание вдруг пропало. Он всегда знал, что Шеф — большой охотник до женщин, но водить романы с чужими женами — как можно пасть так низко! А Эно какова! Его бросило в пот. Поди теперь докажи Джимми, что он, Реми, ничего не знал!
Реми шел к себе в кабинет, а в голове у него все перемешалось, перепуталось. На какую низость способны люди! На какую низость! Семейные люди! А теперь все знает секретарша — эта стерва, это трепло! Да через несколько дней об этом будет чесать языки весь Лагос!
Он подумал об Эно. Какое разочарование! И это все, чего стоила ее любовь к Джимми, о котором она так мечтала еще в школьные годы? Значит, вот как она развлекалась, пока муж
427
торчал за решеткой! Господи, неужели женщина способна пасть так низко, дойти до такой мерзости?
Реми почувствовал, что начинает понимать боль друга, его подлинные проблемы. В глубине души он подозревал, что Эно вела отнюдь не ангельский образ жизни в отсутствие Джимми, но подлинных фактов, неопровержимых доказательств у него не было. Сейчас, узнав правду, он понял: вынести такое у него не хватило бы сил. Он проникся уважением к Джимми, но к уважению примешивался страх за друга, за его семью, за будущее.
Внезапно Реми остановился. Желание подниматься по ступенькам пропало. Он подумал о Джудит — а не совершил ли он вчера ошибку, связав себя обещанием?
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Люди — занятные существа. Независимо от возраста, пола, вероисповедания всем им присущи одни и те же чувства. Все жаждут любви, над всеми довлеет страх, все страшатся позора. Все хотят добиться уважения и ценят людей, которые проявляют интерес к их судьбе.
Однако можно сказать, что некоторые люди «человечнее» других, если такое в принципе возможно.
Джимми как раз и был из этих «некоторых».
Он всегда, сколько себя помнил, был застенчивым, и это усложняло ему жизнь с самого детства. Ему стоило большого труда сойдись с новым человеком, заговорить на людях, а позднее заговорить с девушкой — это приводило его в полный ужас. В младших классах он частенько думал: а нс лучше ли завалить все экзамены и контрольные, тогда не надо будет вставать для всеобщего обозрения — вот, мол, лучший ученик в нашем классе!
Он предпочитал общество людей хорошо знакомых — родственников или близких друзей. Но их всегда было очень мало. Он ненавидел обстоятельства, вынудившие его с детских лет жить с дядей, он так к этому и не привык. Все время тосковал по родному дому — там он был уверен в себе, его окружали люди, которых он любил и понимал, а сразу после того, как дядя перевез его в Бенин, то и дело приходилось общаться с новыми для него людьми.
Он пошел в школу, она расширяла его кругозор, ставила перед ним новые задачи. Его все время влекло вперед. И школа настойчиво уводила его от прошлого, к которому он так хотел вернуться. Постепенно он, однако же, понял — желание вернуться к прежней жизни, прежним дням не удастся примирить с новыми горизонтами, которые открывались перед ним.
428
Так или иначе, по мере того, как новый и сложный мир открывался ему и обнажал свою жестокую суть, он не раз мысленно возвращался к старым временам, цеплялся за toi единственно счастливый период в его жизни, когда он был уверен в себе. Он знал, что возвращение невозможно, что, если и удастся вернуться, это не принесет ему удовлетворения. И начал смиряться со своим положением. Появились новые интересы, он стал серьезнее относиться к занятиям, находить настоящее отдохновение в успешных занятиях спортом.
Так было до поры, когда он встретил и полюбил Эно, хорошенькую, но замкнутую девушку из Лагоса. Отношения их развивались, он стал с ней раскованным, обрел себя, и жизнь опять предстала ему в розовом свете. По крайней мере, появился человек, который любил его, был ради него на все готов. Не долго думая, он предложил ей стать его женой. И подобно большинству влюбленных, он думал лишь об одном — сделать жизнь для жены сплошным праздником. Он был отличным семьянином, и они зажили счастливо, в полном согласии.
Говорят, неисполненные желания никогда не умирают. Это не совсем так. Они остаются где-то в подкорке и, подобно тщеславным актерам, ждут, когда представится возможность выйти на авансцену. Когда Офуре начала подрастать, Джимми стало ясно: больше ему ничего не надо. Да если Эно и Офуре рядом, он готов померяться силами хоть с кем, тут и проиграть не страшно!
Пропало и чувство неуверенности. Он больше не переживал, что, даже став удачливым профессиональным писателем, почти не приобрел настоящих друзей. Вокруг была семья, и он считал — мир ему больше ничего не должен. Все страхи, сопровождавшие его в начале пути, могут быть забыты и отброшены.
Тюрьма временно, как он думал тогда, прервала этот праздник счастья. Одна мысль придавала ему сил, скрашивала тюремный быт: он вернется, и праздник, веселый и радостный, снова будет с ним. Все остальное — пустяки.
Но он не учел, как сильно влияние общества, как все в жизни меняется.
Утром, когда он вернулся от тестя, боль разочарования немного поутихла. Старик проявил понимание и озабоченность, и Джимми был тронут. Он с восхищением думал о тесте и, возвращаясь домой в такси, решил — попробую начать все сначала. Да, конечно, от общества с его сложностями не отгородиться, но бороться со злом надо, тут он согласен со стариком. Мысль о том, как он начнет наставлять детей на путь
429
истинный, даже воодушевила его. Ведь в своих глазах он всегда был бойцом, бой для него — высшее наслаждение. Вот сейчас его и ждет такой бой. Он даже представил, как снова влюбляется в собственную жену.
И все же где-то внутри не давала покоя червоточинка. Он не мог отделаться от подозрения, что жена была ему неверна, и что-то — не важно, что — связывает ее с этим грязным мошенником, Аджалой. И снова сама мысль о возможности этого привела его в трепет. Он вздохнул, сказал себе, коль скоро решение принято, подозрения надо гнать прочь, забыть о них.
Выйдя из такси около дома, он сосредоточился на другом, стал разрабатывать официальную программу кампании. Пожалуй, первым делом надо отыскать Кехинде и, проявив такт, пойти на сближение, не с того места, где они стояли пять лет назад, а где стоят сейчас.
Но найти Кехинде оказалось во много раз труднее, чем он полагал. Он нанял такси на час, а проездил три с половиной. С ним поехали Тайво и Офуре, он с Офуре на заднем сиденье, Тайво впереди, рядом с водителем.
Тайво показывала дорогу; сначала они поехали к одному из друзей Кехинде, тот мог знать, где найти Кехинде. Но парня даже не оказалось в городе.
Тогда они отправились домой к Ийабо. Джимми почел ниже своего достоинства спрашивать у девушки, где его сын, поэтому остался в машине, послав на поиски Тайво и Офуре.
Они снова вернулись ни с чем. Какое-то время думали, куда ехать и что делать, потом Джимми решил: надо поговорить с директором школы, где учится Кехинде.
Директор — полнотелый человек в очках, нигериец с необычным именем Прайс Хэррисон — охотно вызвался помочь. Он читал об освобождении Джимми из тюрьмы и был очень рад познакомиться с ним лично.
Тонким, писклявым голосом он сказал Джимми:
— Я вполне вас понимаю. Сам мучаюсь с вашим парнем еще с третьего класса. Сказать правду, на мой взгляд ваша жена как родительница мало интересуется делами сына. Иначе, как объяснить, что, возвращаясь в школу после каникул, он всегда ведет себя хуже, чем до отъезда? Надеюсь, что теперь возьметесь за дело вы, и вместе мы приберем его к рукам.
.Джимми и так уже предполагал, что Эно со своим благодушием распустила детей.
— Спасибо, мистер Хэррисон, — ответил он. — Я сделаю все, что в моих силах, обязательно! Только сначала хотелось бы найти Кехинде.
430
— Ах, да. Подождите минутку.
Время было полуденное, и почти все сотрудники школы были на месте. Мистер Хэррисон обратился к одной из секретарш:
— Этот джентльмен — отец Кехинде Айзабо. Достаньте личные дела школьников и дайте ему имена и адреса некоторых друзей и одноклассников его сына.
От всей души поблагодарив директора, Джимми забрал список, сел в такси, где его ждали дочери, и поиски продолжались. Первую остановку они сделали на прекрасно ухоженной улочке за гостиницей «Федерал пелис» на острове Виктория.
И снова вытянули пустой билет.
Они вытягивали пустой билет еще четыре раза и вот наконец-то напали на след.
Тот, кто много ездил по Джегунле — это район Лагоса,— наверное, знает, что от Оджо-роуд, возле бензоколонки «То-тал», отходит улица, которая называется Осозами. Как боль^ шинство дорог в Аджегунле она не асфальтирована, по ней едва можно проехать, да и то когда сухо. Второй поворот нач право — Дуросими-стрит, узкая и зловонная улочка. Поскольку последние недели непрерывно шли дожди, глазам Джимм^ и его дочерей предстало нечто ужасное. По улочке могучим поч током плыли грязь и нечистоты. Такси сюда лучше не совать, ся, сразу застрянет.
Но им требовался дом пятьдесят четыре именно по это^ улице — там жил Феми Джимо, одноклассник и товарищ К^_ хинде. Тротуара не было, проезжая часть вся раскисла. Жите^и в свое время позаботились — проложили тропку из камней, сейчас их затопила грязная жижа. И если уж кому позарез ну^_ но было на эту улицу, оставался один путь — вброд.
Таксист высказался определенно.
— Ога, мне тут не проехать!
Джимми даже не взглянул на него.
— Знаю, — сказал он. Н-да, едва ли человек в здравом у^е по доброй воле полезет в такую грязь. И ведь наверняка их опять ждет пустой билет.
Тут Офуре посмотрела на отца, и выражение его лица ей не понравилось. Мгновенно приняв решение, она выпрыгнула из машины. Схватив бумажку с адресами, сказала:
— Ладно, папа, ты сиди, а я схожу узнаю.
Сомнения, одолевавшие Джимми, разом отпали. Он вьц^ел из такси, умоляя Офуре вернуться, — он сходит сам.
Но девочка и слышать ничего не хотела. И Джимми, сйяв туфли и закатав брюки, пошел за ней. Тайво осталась в ма^р,.
431
не, и ей стало неловко. Как же это, младшая сестра ее обскакала! И она тоже вылезла из 1акси — придется тащиться за ними, иначе неудобно получится. Но подлинного желания у нее не было, и она просто не могла преодолеть омерзение и вступить в грязевый поток, стояла и смотрела, как отец с сестрой уходят все дальше и дальше.
А Джимми в эту минуту страшно гордился своей дочуркой. Он догнал ее, и они зашагали рядом.
— Папочка, лучше бы ты подождал в такси! — сказала опа, когда отец поскользнулся и чуть не бултыхнулся в лужу.
— Что? Отпустить тебя одну?
— Конечно,—раздался строптивый ответ, —А теперь вон брюки промочил.
Он улыбнулся, взял ее за руку.
— А ты разве не промокла?
— Это не важно.
Он крепко сжал ее руку.
— Важно,—возразил он,—Очень даже важно.
На секунду они остановились и посмотрели друг на друга. Улыбнулись и пошли дальше рука об руку.
Дом пятьдесят четыре они нашли в конце улицы — тут поток был не столь бурным, и идти было легче. Убогий домишко был обнесен стеной — как почти все дома на улице, — чтобы не могла подобраться вода. По коридору скакала бойкая девчонка. Офуре остановила се.
— Феми здесь живет? — спросила она на йоруба.
Девчонка кивнула.
— Где его комната?
Крохотным пальчиком девчопка указала на дверь в конце коридора.
Они подошли к двери и постучали. Дверь открылась в гу же секунду. Джимми даже удивился — либо она автоматическая, либо кто-то ждал стука. В комнате сипим светом мерцала лампа. На пороге стоял подросток. С виду развязный и наглый, под стать Кехинде.
— Ты Феми? — спросил Джимми.
— Да .. А вы, наверное, отец Кехинде? Я вас узнал. Заходите, сэр!
— Спасибо. Он здесь?
Парень помедлил.
— Да, сэр, здесь, но он не очень здоров. У него сильный жар, он бредит. Я только что дал ему таблетки.
Джимми вошел. Может, сын его и принял успокоительное, но он все равно что-то бормотал про себя — наверняка сильный жар.
432
По всей Осозами-стрит люди появлялись в окнах, в леерных проемах и смогрели, как крепко сложенный, темнокожий мужчина, шаыя через трязь, несет на руках больного пария к ожидающему их такси. Следом, восхищенная отцом, шлепала Офуре.
Они отправились прямо на Иди Араба, в университетскую больницу.
Проехать было невозможно — дорога забита машинами. И ветде, насколько хватало глаз, — вода и грязь, взрослым людям поток доходил до колен. Второй раз за сорок пять минут Джимми пришлось нести сына через поток, за ним шла Офуре, а замыкала шествие недовольная Тайво.
Оказалось, их жертвы были не напрасны. Позднее доктор сказал Джимми:
— .Опоздай вы на час, все было бы кончено.
Услышав эти слова, Офуре разрыдалась.
— Мой единственный сын! — пробормотал Джиммиг
Старый доктор, прожженный, всякого навидавшийся циник, услышал его.
— И что с того? — спросил он.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Как почти все сплетницы, Фунмилайо любила поговорить. Важно и другое: у нее была привычка — совершенно подсознательная — приукрашивать все услышанное. Это у нее получалось так ловко, что, будь ее рот фотообъективом, на черно-белой пленке получалось бы цветное изображение. Подобно художнику, для которого естественно стремление к совершенств}, Фунмилайо что-то добавляла, о чем-то умалчивала, и получался желаемый эффект.
Плохо, что таких Фунмилайо на земле чересчур много, и событие меняется до неузнаваемости, достаточно ему побывать на перелицовке хотя бы у двух таких мастериц. Так вышло и с рассказом о семье Джимми.
Подслушав разговор мужа с падчерицей, а потом и ее супругом, Фунмилайо пришла в восторг. Ее умишко, окутанный предрассудками и не обремененный образованием, лихорадочно заработал. Делясь новостью с Дупе, она уже сделала собственные выводы, которые представила как факты.
Они ехали на Сандгроуз, кишащий людьми рынок на острове Лагос. Автобус - дребезжащая металлическая коробка, раскаленная до предела, — объезжал Кампо-сквер по кругу со скоростью, какую принято развивать на автостраде Лагос-Иба-
433
дан, и Фунмилайо даже пришлось на миг прервать свой рассказ.
‘ Подобно многим ничтожным людям, Фунмилайо любила слушателей — не важно, было ей что сказать или нет. Сейчас она делилась сенсацией и была счастлива — почти весь автобус с интересом внимал ей.
Вообще-то она ничего привирать не собиралась. Но попробуй отделайся от старой привычки! Рассказ она вела со знающим видом — с таким видом чешут языком посыльные из правительственных учреждений, искренне убежденные, что знают, какую политику поведет правительство в следующем году. Она давала слушателям понять, что лично знакома со всеми героями своей истории, следовательно, не лжет.
На йоруба она изъяснялась бегло, за словом в карман не лезла. Держалась заносчиво. Слушая ее рассказ, можно было предположить, что у нее на Эно зуб — возможно, так и было, — потому что она обливала ее помоями без зазрения совести.
— Зтот человек, — говорила она с ухмылкой, — в Лагосе очень важная персона. Но несколько лет назад он кое-чем насолил властям. И они упекли его в тюрьму. Пока его не было, жена разводила шашни с важными шишками, бизнесменами да еще кое с кем из тех, кто упрятал ее мужа за решетку. А теперь муж вернулся, застукал ее и хочет вышвырнуть из дома!
Как только она замолчала, разом заговорил весь автобус.
— Ну и ну! — воскликнула толстуха — рыночная торговка, — поправляя косынку.—Ох уж этот Лагос!
— Лагос! —повторила Фунмилайо, изображая озабоченность.— Тут что хочешь может случиться. А ведь у нее столько детей! Целых пять!
Как хороший лектор после лекции, Фунмилайо с готовностью отвечала на вопросы заинтересованных слушателей, выдавая все новую и новую сногсшибательную информацию. Они устроили некое подобие суда присяжных, которые вершат судьбы обвиняемых, не выслушав их самих. Эти ворчуны почувствовали себя стражами морали. А ведь за многими из них водились грехи похлеще.
Но это было далеко не все. И дело на этом не закончилось. Сплетня пощла дальше, пошла неторопливо, по каким-то неведомым каналам, по пути, проследить который под силу лишь господу, через людей, похожих и непохожих на Фунмилайо, и стала достоянием всего лагосского общества. Имен названо не было, тут Фунмилайо проявила осторожность. Но сплетня все равно просочилась повсюду. На следующее утро редактор отдела светской хроники газеты «Лагос уикенд» сел за машинку и попотчевал смачной историей миллионы своих читателей.
434
Прошел понедельник. Вторник. Среда.
Джимми решительно принялся за налаживание новой жизни — дело тонкое, деликатное. Нелегко, конечно, но он и не ждал, что будет легко.
Джимми собрался купить новую машину. Надо было навещать Кехинде, а это тоже оказалось делом не простым: машины нет, вокруг больницы — целое море. Потихоньку, полегоньку он начал оттаивать к жене, да и к Тайво. Поначалу он наталкивался на многочисленные препятствия — решимость его едва не дйла трещину. В понедельник, после второй поездки в больницу — на сей раз его сопровождали жена и Офуре — он вернулся домой усталый, не в силах разобраться в своих чувствах. Болезнь его сына пока не позволяла надеяться на улучшение, но каким-то образом сплотила всю семью: она давала им пищу для разговоров, для действий. Им стало легче общаться. А коль скоро Джимми решил начать все сначала, болезнь Кехинде дала ему возможность распахнуть окна, проветрить застоявшийся семейный воздух; вернуть в дом радость.
Он первый раз сказал Эно, что хотел бы съесть на обед, и она, потрясенная, была счастлива выполнить его пожелание и вложила в стряпню все свое умение. После обеда все мило поболтали, посидели у телевизора, потом появился Реми.
А вот он был явно невесел. Никто из них не мог понять, почему. Казалось бы, человек наконец собрался жениться, остепениться — живи и радуйся! Но он принял их поздравления, и только. Конечно, весть о болезни Кехинде не сильно его развеселила, но Джимми видел — дело не в этом. Они пытались разговорить гостя, но он отвечал как-то вяло, безразлично. Может быть, устал, проголодался, заболел? Нет, нет и нет.
Эно несколько раз перехватила его любопытный взгляд. Неужели ему что-то известно? К несчастью, эти взгляды не укрылись и от Джимми.
Когда пришло время спать, подозрения Джимми всколыхнулись с новой силой, но он сказал себе: ничто не помешает мне думать только о хорошем — и созидать.
Однако вырвать с корнем сомнения не так-то просто, и несмотря на принятое решение, Джимми понял: его подозрения, неверие бродят где-то поблизости, так и норовят вернуться при малейшей возможности. Борясь с ними, он забрался в постель, огромным усилием воли заставил себя повернуться к жене и попытался погладить, приласкать ее, разрушить стену отчуждения между ними, он знал — как ни старайся наладить отношения, без подлинной близости в постели все пойдет насмарку. Разделяющая их стена больше, длиннее и крепче пяти лет, проведенных им в заключении.
435
Полный решимости добиться своего, Джимми не прекращал попыток, отгоняя прочь уныние. Но он отсутствовал слишком долго и сам не знал, как глубоко засело в нем о i вращение к жене. Близость в конце концов состоялась, но такая, что лучше о ней не вспоминать. В ней не было искры, не было огня. Не было страсти, борьбы, отдачи. Как будто едешь в полночный час по пустынной улице, а рядом с тобой — никого.
На фоне этой неудачи сделать следующие шаги было и вовсе тяжело. Но и он, и она проявили настойчивость. Эно не могла допустить, чтобы проявленный мужети интерес к ней иссяк, к тому же была потрясена доброй волей Джимми. Она скребла полы. Колдовала у плиты. Делала покупки. И даже Тайво в присутствии отца начала выбираться из раковины страха и неуверенности.
Постепенно, дня через три, жизнь в доме как-то наладилась, упорядочилась. Нечто похожее на семейную жизнь и счастье былых лет засветило вдалеке, как луч солнца сквозь щель в тростниковой крыше. Возникло спокойствие, замаячила надежда. И сам Джимми почувствовал — былое счастье по капельке возвращается к нему. Он стал подумывать о том, чтобы вернуться к писательству.
Но все они, как свойственно людям, забыли об одной истине: если судьба сделала выбор, никакие силы на земле не заставят ее отступиться.
Человек несомненно испытывает удовлетворение, когда плоды его творческих усилий’ появляются на страницах газет. Представьте: вы высказали через газету какую-то важную для себя мысль и счастливы, что бессчетное множество людей по всей стране сейчас тоже читают эту газету, и ваше послание дошло до тысяч, может быть, миллионов людей, в том числе и тех, с кем вы действительно хотели бы поговорить.
Иное дело, когда в газете появляется статья, очерняющая вас. Тут вы осознаете свою полную беспомощность, особенно, если автор статьи обошелся с вами не очень справедливо. Вы осознаете, как никто другой, свою полную уязвимость. Пробуете восстановить свое доброе имя — но с чего начать? Кому пожаловаться? Допустим, вы найдете сочувствующего слушателя. Объясните ему все, как есть на самом деле, убедите его в вашей правоте — удовлетворит ли вас это? А как насчет миллионов людей, с которыми у вас такой разговор не состоялся, людей, заглазно настроенных против вас и полностью доверяющих газет.1?
436
Эти и другие вопросы встают перед вами, и вы чувствуете себя в совершенной растерянности, особенно, если вас вроде и не оклеветали; то есть статья в основе своей верна, разве что автор кое-что преувеличил. И если хотите пожаловаться, что статья лжива, или хотя бы, что в ней есть передержки, вы обязаны выложить «правду». Но это значит, что суть остается, а людям больше ничего не надо. Пресные новости не слишком будоражат воображение читателей, а то и не будоражат вовсе; им подавай что позабористей, с перчиком — это щекочет нервы, и если уж вас угораздило попасть в такую историю, вам остается лишь смириться со своей участью.
Ни Джимми, ни Эно понятия не имели о страсти Фунмилайо к подслушиванию. Наоборот, оба были убеждены, что говорили с па Огуньеми с глазу на глаз. И поэтому, объятые взаимным желанием вдохнуть жизнь в свой дом, они и подумать не могли, что кто-то, за исключением Реми, может иметь хотя бы отдаленное представление о том, что между ними происходит.
Но мир полон неожиданностей. В четверг после обеда в типографии на острове Лагос как всегда кипела работа, с ротационных машин слетали тысячи экземпляров «Лагос уикенд», а тем временем в доме в тихом квартале Сурулере, в каких-нибудь двенадцати километрах от типографии, Эно и Джимми приводили в порядок его кабинет. Джимми подумывал о том, чтобы переделать кабинет в спальню для Офуре, которая делила комнату с Тайво и Фунми.
— А что, если сделать из этой комнаты спальню? — спросил он Эно — та как раз ставила на полку его энциклопедический словарь.
— Для кого? — спросила Эно, обернувшись.
— Для Офуре. Не нравится мне, чю их трое в одной комнате. Думаю, Офуре будет довольна.
— Ты прав,—ответила Эно, поразмыслив, — но если думаешь, что она будет в этой комнате одна, то ошибаешься. Она обязательно перетащит сюда Фунми.
Джимми улыбнулся. Да, на Офуре это похоже.
— А где будет твой кабинет?
— Кабинет? Пока что ни о какой серьезной работе я не помышляю.
Эно знала — Джимми все решил заранее, а коль скоро речь шла об Офуре, переубедить его не удастся.
— Думаешь, она будет довольна? — спросил Джимми.
Эно улыбнулась.
— Да и нет. Она будет переживать, что лишила тебя кабинета. Но если ты ее уговоришь, конечно же, она будет доволь
437
на. И учти — сейчас ты дома, но ведь так бывает не всегда. А когда тебя нет, она предпочитает быть одна — может, посидеть с книгой. Наверняка она будет рада получить комнату, где нарушать ее покой будут не два человека, а только один.
Джимми улыбнулся. Как и большинство любящих людей, к предмету своей любви он относился не без пристрастия, и от того, что сказала Эно, настроение у него поднялось.
— Вот и прекрасно,—заключил он.—Завтра я с ней поеду в магазин, подберем мебель по ее вкусу. Только держи это от нее в тайне, да и остальные чтобы не проболтались. Пусть это будет подарок ко дню ее рождения!
— Ой! — воскликнула Эно, глядя на календарь в наручных часах. — Совсем забыла! Сегодня девятое — ну, еше девять дней! А эта глупышка даже мне не напомнила!
— Ты же прекрасно ее знаешь, — возразил Джимми.—Она считает, что это неловко. Но смотри, если в другой раз забудешь о дне рождения моей подружки, в подарок она' получит твои глаза!
Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Как в прежние времена, подумалось обоим. И впервые Джимми поцеловал жену, не совершив над собой насилия.
А недалеко от их дома с ротационных машин продолжали слетать экземпляры «Лагос уикенд».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Два дня Аджала намеренно держал Йекини на расстоянии. Его то «не было», когда на самом деле он был, то он оказывался «занят», хотя не был занят абсолютно ничем, и Йекини это видел. И никаких извинений за попусту потраченное, неоплаченное время. Он приезжал снова и снова, в контору и домой к Шефу, чувствуя себя глубоко оскорбленным и униженным. Поначалу ему казалось, что в этом-то и состоит наказание, которым ему пригрозил Шеф. Но нет, он слишком хорошо знал своего хозяина — если тот сказал «наказание», значит, наказания не избежать.
Во вторник с утра Йекини заехал снова, на сей раз в контору, уже не сомневаясь, что хозяина не застанет. Но он ошибся. Хозяин не только был на месте, он, как было сказано Йекини, давно его ждет. Когда Йекини вошел в кабинет Аджалы, тот не подал и вида, что знает о мытарствах таксиста, хотя на лице Йекини ясно отпечаталось все пережитое им в эти дни. Йекини учтиво поклонился, и Шеф сразу перешел к делу.
— Я очень рад, — сказал он, — что ты отказался от своих бе
438
зумных планов и ставить моих друзей в неловкое положение не собираешься. Однако же я решил наказать тебя за проявленную тобой бестактность. Начиная с сегодняшнего дня, ты больше не будешь возвращаться с работы домой на машине. Будешь оставлять ее на ночь здесь. Это первое. Второе: я лишаю тебя премии за добросовестную работу на полгода. А теперь иди!
Шеф встал и направился в угол кабинета, давая понять, что разговор окончен. Йекини, ошарашенный — неужели он не ослышался — покорно поклонился и вышел. На улице накрапывал дождь. Но что ему непогода по сравнению с тем, что творилось у него в душе?
Шеф Аджала лишил его двух маленьких привилегий, какими пользовались его таксисты. Йекини жил в глубине квартала Ошоди — это на континенте, а контора находилась в Апапе. Был заведен такой порядок: после работы водители могут возвращаться на такси к себе домой с тем, чтобы на следующее утро начинать рабочий день безо всяких хлопот. Теперь же он должен, отвезя последнего пассажира — не важно, куда, — отогнать машину в Апапу и оставить на ночь у конторы, потом тащиться домой на такси либо на автобусе, а на другое утро проделывать всю дорогу в обратном направлении. Сдохнуть можно!
Второе наказание было связано с системой поощрений, установленной в таксопарке Шефа Аджалы. Служба такси предлагала два варианта — водитель мог выбрать. Либо водитель фактически брал такси внаем и в конце каждого дня был обязан выплатить определенную сумму — сейчас она составляла пятьдесят наир, — а остальное забирал себе, будь то двести наир или всего десять. Либо водитель получал зарплату, но был обязан сдавать все деньги, заработанные за день. Большинство таксистов предпочитало именно этот вариант: гарантированная зарплата, к тому же кое-какие денежки можно прикарманить. И еще — в конце каждого месяца водители, работавшие по этому варианту, могли рассчитывать на премию за ДР (добросовестную работу), она была призвана обуздать мошенничество и заставить водителей сдавать все заработанные деньги. Вот уже больше года Йекини с нетерпением ждал ежемесячной премии за ДР — она составляла чуть больше половины его зарплаты и спасала его от финансового краха. И что же, лишиться этого на полгода? А начни он припрятывать то, что заработал за день, ему сразу скостят зарплату!
Приходилось ли вам испытывать слепой гнев? Это не просто тихое, зудящее, неприятное раздражение, знакомое боль
439
шинству людей. Это неудержимая, удушающая ярость с крепкими. как скала, мышцами. В ней бьется и пульсирует невидимая сила. Она, эта ярость, вся дрожа, зовет к насилию, от нее перехватывает дыхание. Она молчит, не может говорить. Она смотрит, не видя, слушает, не пошьмая, страдает, не чувствуя боли.
Выезжая со двора, в моросящий дождь, Йекини испытывал именно такую слепую ярость. Но, как и у большинства людей, способных на столь сильные чувства, его гнев не мог длиться больше одной-двух минут — чем сильнее пламя, тем быстрее спалит оно все дотла и погаснет.
Ярость Йекини вскоре уступила место разочарованию, подавленности, тихой горечи, располагающей к размышлениям. Да, слишком долго он, безмозглый кретин, помогал своему развратному хозяину в его подлых делишках. Держал рог на замке, строил из себя верного и преданного слугу. Все видел, но прикидывался, будто не видит ничего. А еще думал, что поступает разумно, убивая, по крайней мере, один день в неделю на эту старую неблагодарную свинью, и вот что он заслужил! И поделом! Ведь он мог найти себе другое место, а теперь? Эта свинья постарается, чтобы его не взяли ни в один таксопарк!
Долгое время он ездил по Лагосу, изрыгая проклятья и ругательства. Он рычал на пассажиров — злоба на Шефа оборачивалась враждебностью против всех. Он крыл своего брага водителя, два раза за утро чудом избежал аварии. И все жал на газ, даже не чувствуя голода, — в обычном своем состоянии он и полдня не смог бы проездить на голодный желудок.
Им все сильнее овладевало желание отомстить хозяину. Но как? Пойти в полицию? А что им скажешь? Нет, с ними лучше не связываться. Эти негодяи почище Шефа Аджалы. Он бросит им несколько наир, и они обо всем забудут, и с его, Йекини, везеньем, они еще заведут на него дело и, чего доброго, упекут в тюрьму. И что ему тогда делать?
Его мысли о полиции вдруг обрели реальность — он начал разворачиваться в неположенном месте, и тут его засзукал полицейский.
Кургузый капрал в годах, с усталыми глазами, стоявший на перекрестке -г Йекини его просто не заметил, — приказал таксисту остановиться и подъехать к тротуару. Он сел в машину Йекини.
— Отвези меня в участок!
— Виноват, сэр!
— Я сказал, отвези меня в участок! — прогремел полицейский.
440
Йекини включил первую передачу и медленно поехал. — В какой участок, сэр? — спросил он капрала.
Полицейский посмотрел на него так, будто сильно сомневался в умственных способностях Йекини.
— В любой известный тебе участок!
Через полкилометра Йекини, найдя относительно уединенное местечко, притормозил у тротуара.
- Ога, — взмолился он. — Зачем ты поступаешь со мной так строго? Ведь мы же братья!
Полицейский, смотревший в окно, вдруг угрожающе обернулся. И заорал, будто Йекини был глухой, ударяя на каждое слово:
— Ты что, псих? Зачем остановился? Если я твой брат, зачем нарушаешь правила там, где я работаю?
— Извините, ога, я больше не буду.
Йекини вытащил банкнот в пять наир и, отвернувшись от блюстителя порядка, будто нечаянно уронил деньги к ногам полицейского.
Тот перевел взгляд с Йекини на деньги, потом снова на Йекини — во взгляде его читалось крайнее презрение.
— Я сказал, отвези меня в участок! — повторил он, но уже не так запальчиво. Ясно было, что он готов смягчиться. Иначе он просто взъерепенился бы!
Йекини уронил на пол еще пятерку. Когда обернулся, капрал уже поднял деньги и запихивал их в карман брюк. Не говоря ни слова, он открыл дверцу, ступил на асфальт и пошел туда, откуда они приехали.
Эта встреча подлила масла в огонь, полыхавший в душе Йекини,—от двенадцати наир, заработанных сегодня утром, осталось только две. Желание любой ценой отомстить Шефу Аджале разгорелось еще сильнее. Но как? Пойти к мужу этой толстухи? Но где гарантия, что он захочет прищемить хвост Шефу Аджале?
Терзаемый нерешительностью, Йекини остановился в Иди Оро, перекусить в забе! аловке у Мамы Сикиры.
Вы, наверное, замечали, что многие не воспринимают «серьезные» газеты всерьез? Задумывались ли вы, что при наличии выбора подавляющее большинство читателей первым делом обратится к газете, где печатаются всякие пикантные историйки ?
К этому большинству относилась и мисс Тайво Айзабо.
В это утро она приняла душ последней, после отца и Офуре, которые собрались ехать по магазинам. Когда принесли га
441
зеты, она была еще в ванной комнате, очень недовольная, что за всю неделю не удалось выкроить время для свидания с кем-нибудь из ее дружков. Она вышла к столу, когда остальные почти кончили завтракать.
Тайво потянулась было к газетам. Как и многих девушек, суровые факты бытия привлекали ее мало. Первым делом надо проглядеть «Лагос уикенд». Но на диване лежали две другие газеты, их она трогать не стала. Позавтракав, уже хотела взять свою любимую газету, но тут отец — он все пытался исподволь воздействовать на нее и вообще наладить отношения в семье — позвал ее в спальню что-то убрать.
Тут зазвонил телефон, и трубку взяла Эно, на время оставшаяся в гостиной одна. Когда Тайво вернулась, газета уже успела испариться. Тайво обыскала всю гостиную. Все остальные газеты на месте, а «Лагос уикенд» нет!
Что за чудеса!
— Кто, черт возьми, уволок «Лагос уикенд»? — завопила она.
Джимми как раз выходил из спальни.
— Тайво, может, не надо кричать и ругаться? — мягким и спокойным голосом произнес он.
— Кто-то забрал «Лагос уикенд». Не могу ее найти!
— И из-за этого надо ругаться?
Тайво, надувшись, опустила голову.
— Офуре! — позвала она. — Офуре!
Офуре вышла из спальни. Она причесывалась уже второй раз за утро, и сооружение из трех холмиков, украшенное лентами, выглядело вполне профессионально.
— Да? — спросила она.
— «Лагос уикенд» у тебя?
Офуре даже покоробило.
— Но, Тайво, ты же знаешь, я эту газету никогда не читаю!
В голосе ее звучали наставительные но!ки. Она говорила спокойно, но властно, будто обращалась к классу учеников дебилов. Джимми побоялся, что она взорвется. И снова вмешался.
— Д что там такого важного в этом «Уикенде», стоит ли весь дом на ноги поднимать? Ты другие газеты прочитала?
Тайво снова надулась. Села, взяла с дивана «Дейли тайме», уткнулась в спортивную страницу. Отец смотрел на нее с озабоченным видом — чего это ей так понадобилась именно «Лагос уикенд»? Сам Джимми к этой газете был равнодушен, хотя в принципе и ратовал за свободу публикаций.
Но в то утро голова его была занята другим. На повестке дня стояли более важные дела. Прежде всего поездка в банк.
442
Потом по магазинам. Позднее надо забрать из больницы Кехинде — к вечеру его должны выписать. Так что думать о газете «Лагос уикенд» ему было некогда.
Он и представить не мог, что очень скоро мысли о ней захватят его целиком.
Реми читал все газеты. Читал он быстро и тратил на них мало времени. За «Лагос уикенд» он взялся в последнюю очередь. И наткнулся на заметку о Джимми и Эно.
Он прочитал ее четыре раза подряд и пришел в ужас — не важно, из какого источника взяты эти сведения, но если боги не смилуются, произойдет что-то жуткое, даже страшно себе представить.
Никакие имена в статейке не назывались. Но в них и не было нужды. Налицо были — пусть искаженные или приглаженные — факты, и Реми знал: стоит этой газете попасться на глаза Джимми, и весь его мир рухнет.
Быстро сообразив, как поступить, он схватил телефон и набрал номер Эно, молясь всем сердцем, чтобы трубку сняла именно она. Несколько мгновений он стоял, затаив дыхание,— телефон не отвечал. А вдруг трубку возьмет Джимми? Как объяснить, что ему понадобилась Эно? Ладно, будь что будет.
После шестого гудка телефон ожил — в нем раздался оглушительный треск, но, на счастье, линия работала. У Реми отлегло от сердца — на том конце провода была Эно, и он, не тратя даром времени, перешел к делу.
— Эно, слушай меня внимательно, —сказал он.— В «Лагос уикенд» напечатана очень важная заметка. Джимми ни в коем случае не должен ее видеть, понимаешь? Уничтожь газету, если вам ее уже принесли, обязательно! Не медли, не читай ее — просто уничтожь, как можно быстрее!
И он повесил трубку.
Телефон смолк, и вихрь мыслей пронесся в голове Эно. Джимми... Йекини... Шеф Аджала. Но гадать что и как было некогда.
Что касается отношения к газетам, Йекини и Тайво были похожи как две горошины. На серьезные новости у обоих не хватало времени.
С Йекини это было понятно. Уровень его образования был весьма невысок. Если он что и читал, так это издания типа «Лагос уикенд». Там, по крайней мере, изъяснялись на доступном английском, да и насчет секса было много занятного.
443
Но в этот день ему вообще было не до чтения. Он сидел у Мамы Сикиры, ел хорошо приготовленный суп амала и эве-ду1, а мысли его все бродили вокруг мести.
Но, как уже говорилось — если судьба сделала выбор... В тот день судьба приняла решение. Когда Йекини начал есть, кроме него в забегаловке был всего один посетитель. Грубоватого вида парень, перед которым лежали три надписанных конверта, — наверное, сочинял какое-то прошение.
Йекини всегда ел быстро, а в раздражении и того быстрее. Скоро обед был съеден. Но настроение не улучшилось, даже наоборот — ведь полицейский ограбил его почти подчистую. Он заказал бутылку пива — растворить в ней свою горечь. Бутылка медленно, но верно пустела, и тут, о чем-то громко сйоря, вошли еще два парня. Они заказали прохладительные напитки.
Один из них был в коричневой водолазке, джинсовой куртке и коричневых брюках. Кривозубый, но — когда держал рот закрытым — очень красивый.
На втором была голубая рубашка с длинными рукавами, галстук-бабочка. Зеленые брюки и черные туфли выглядели вполне прилично. Похоже, он был страшно раздражен тем, что другой парень все говорит и говорит, а ему не дает и слова вставить. Но вот Водолазка сделал паузу, как бы выделяя свою мысль, и его товарищ не упустил представившуюся возможность.
— Да я же не хочу сказать, — терпеливо, хотя это стоило ему немалых усилий, заговорил Голубая Рубашка, — что не читал заметку в «Лагос уикенд». Я только хочу сказать, что женщина в автобусе все рассказывала по-другому, и я скорее готов поверить ей,—она говорила, что знает этих людей лично.
— Почему же ты считаешь, — изумился Водолазка, — что этой женщине можно верить больше, чем газете?
Второй ответил не задумываясь.
— Прежде всего, — сказал он, — газете выгодно подать эту историю со смаком. Они всегда это делают — для оживления. Как думаешь, почему ни одного имени не названо?
Он смолк, отпил из стакана кока-колы. Первый посетитель — его, видимо, утомил этот непонятный разговор — поднялся, забрал свои письма и ушел. Йекини поглядывал на парней — его больше интересовало не то, что они говорили, а они сами и их манеры.
Голубая Рубашка снова взял слово.
1 Амала, э в е д у — национальные нигерийские кушанья.
444
— Во-вторых, — сказал он, — женшина в автобусе говорила, кто эти люди. Мужчина примерно так же описан и в газете. А вот насчет дамы тут сказано, что она работает... ну-ка, где это?
Он раскрыл газету, и лицо его загорелось возбуждением.
— Тут сказано, что дама в отличие от своего мужа работает в правительственном учреждении. А женщина в автобусе говорила, что дама больше не работает и только и делает, что развлекается с дружками. Такая она толстая, что не обхватишь. И один из ее кавалеров — большой босс в Апапе, у него несколько фирм и таксопарк.
В мозгу Йекини тихонько, совсем тихонько зазвонил колокольчик. А парни все продолжали разговор, и вот уже перезвон колокольчика обернулся волнующим набатом. А почему бы этим не воспользоваться? Йекини понимал, что шансов у него не очень много, но жажда мести подстегивала его.
Заметив страницу, которую читал Голубая Рубашка, Йекини вышел и на деньги, отложенные на сигареты, купил свежий номер «Лагос уикенд».
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Во вторник редактор журнала «Рибёрт» поручил своему сотруднику Ндуке Узо взять материал у Джимми Айзабо, недавно вышедшего из тюрьмы. Ндука взял папку, в которой хранились прежние интервью с Айзабо, его выступления и отправился в Национальную библиотеку — взять «Дома без дверей», первую книжку Джимми. Когда несколько лет назад писателя бросили в тюрьму и в прессе поднялся страшный шум — все требовали его освобождения, — Ндука не поленился достать и прочитать «Ливни под солнцем» — крамольную вторую книгу.
В Национальной библиотеке Ндука выяснил, что «Домов без дверей» у них нет. Он понимал: чтобы интервью удалось, надо получше узнать Джимми и, по крайней мере, пролистать эту книгу. Обшарив весь Лагос, он все-таки достал то, что искал, у лектора университета, читавшего курс по средствам массовой информации.
На это ушло два дня, и когда в четверг он пришел к дому Джимми, одна проблема так и осталась нерешенной — он не договорился о встрече заранее. Зато его строго предупредили, что говорить и как себя вести — выслушивать чушь Джимми не будет ни от кого. Ндука был несказанно счастлив, когда обнаружил в телефонной книге номер Джимми, однако попытки дозвониться ни к чему не привели.
445
Ндука, однако, был неисправимый оптимист. И явился утром наудачу, прихватив с собой магнитофон, шариковую ручку и блокнот — необходимые орудия производства. Ндука был высокий двадцатисемилетний холостяк, любитель шикарно одеться. На этот раз он был в темно-синем костюме-тройке и начищенных до блеска черных туфлях. В его манере держаться не было и намека на высокомерие, и только галстук-бабочка наводил на подозрение, что эта черта в его характере все-таки есть. На носу сидели темные очки.
Вместе с Ндукой пришел фотограф, немолодой уже человек в шляпе,—типичный пенсионер по виду. Но нет, он работал в журнале. Вооружен он был старой фотокамерой «Яшика-70», от которой, несмотря на уговоры, не желал отказываться.
Джимми только что утихомирил Тайво, так и не нашедшую газету, и ждал Офуре — и тут раздался стук в дверь. Он открыл ее и тотчас понял: перед ним представители прессы.
В детстве и в юные годы Джимми страдал от своей робости, возможно поэтому, став взрослым, он не любил отдавать другим инициативу. И сейчас решительно взял ее в свои руки.
— Доброе утро, джентльмены, — сказал он. — Чем могу вам служить?
Ндуке понравилась непринужденность Джимми, очевидное дружелюбие. Вообще-то Джимми явно куда-то собирался, но, может, удастся взять интервью с первой попытки?
— Доброе утро, сэр, — ответил Ндука и представился: — Я из журнала «Рибёрт». Хотел бы взять у вас интервью, сэр.
Джимми не пошевелился, не раскрыл шире дверь. И оставлять свою позицию не собирался. При виде этих двух стервятников, охотников до гниющего мяса, он почувствовал, как в нем всколыхнулись прежние страхи. Внешне он оставался веселым и уверенным в себе, сам же напряженно думал: каким он предстанет перед читателем, если его жена и впрямь с кем-то ему изменяла, и прессе, в том числе и этим двум джентльменам, об этом стало известно? Сможет ли он выступить перед ними как носитель подлинных нравственных идеалов, как непокорный бунтарь? Стоит ли ему сейчас обращаться ко всей стране, когда в его собственном доме не все благополучно? Да ведь он пытается ответить на вопрос, которого так старательно избегает: будет ли он снова писать?
Переводя взгляд с одного визитера на другого, он думал: сколько еще продлится эта неопределенность, когда будут устранены все помехи, мешающие им нормально жить? Но что это за помехи? И как их устранишь? Глупо тешить себя надеждой, что его проблемы удастся скрыть от общества, решить их в кругу семьи. Да, тут есть от чего пасть духом. Он вспом
446
нил поговорку: «Золотой рыбке негде спрятаться». А в лагосском обществе Джимми Айзабо и был этой самой золотой рыбкой.
— Вы хотели бы взять интервью или договориться о встрече?
Ндука учуял ловушку, скрытую в вопросе, — умен, ничего не скажешь! Избегая прямого ответа, он заговорил:
— Собственно, я звонил вам несколько раз — хотел договориться насчет интервью, — но ваш телефон не работал. Поэтому у меня к вам большая просьба — не согласитесь ли вы дать небольшое интервью прямо сейчас? Это займет несколько минут. Столько, сколько вы захотите.
Ндука обладал даром убеждения, и Джимми даже показалось, что он разговаривает с явными торгашескими нотками. Но позволить торгашу всучить тебе ненужный товар — удел глупцов. И Джимми снова улыбнулся молодому человеку.
— Я бы с удовольствием, — сказал он, — но вы, надеюсь, понимаете, что я еще не вполне освоился после возвращения. Оставьте, пожалуйста, ваш телефон и адрес, я с вами свяжусь, как буду готов.
За спиной отца появилась Офуре, и ее великолепная прическа привлекла внимание фотографа — он смотрел на девочку с нескрываемым интересом.
Ответ Джимми огорчил Ндуку, но делать было нечего. От этого Айзабо, пожалуй, приглашения на интервью ему вообще не дождаться, хорошо хоть, что он раздобыл его номер телефона. Ндука решил: будет звонить, пока не получит более определенный ответ.
Репортеры уехали, и Офуре взяла отца за руку.
— Папа, а что они хотели?
— Взять интервью.
— И ты отказался?
Джимми промолчал. Иногда от вопросов Офуре, да и от ответов, становилось так неуютно. А в самом деле — почему он не согласился?
Девочка увидела, что отец глубоко задумался. Они все стояли у двери, и было слышно, как машина Ндуки, урча, одолевает рытвины. Джимми пытался выиграть время.
_ Что ты сказала? — спросил он, будто не понял ее вопроса.
— Почему ты не захотел говорить с репортерами? Неужели не хочешь поквитаться с теми, кто лишил тебя свободы?
На ее миндалевидные глаза навернулись слезы. Джимми заглянул дочери в лицо.
— Видишь ли, девочка, ты многого в жизни не понимаешь.
447
Пятиминутным интервью не исправишь все зло, сотворенное за пять лет. Меня, чего доброго, посадят обратно. Не думай, я этого не боюсь, просто если уж идти в тюрьму, так в нужный час и за правое дело.
Какой-то миг они смотрели друг на друга, потом вышли на улицу. Впереди у них был длинный день.
Когда они уехали, Эно, убитая звонком Реми и дурацкой вспышкой Тайво, заперла входную дверь. Сердце ее бешено колотилось. Быстро пройдя через гостиную, Эно вошла в спальню и захлопнула за собой дверь — вдруг Тайво нагрянет сюда в поисках газеты?
Какое-то время она стояла спиной к стене, отгоняя нахлынувшие страхи. Ее большие груди вздымались и перекатывались, как вода в пластиковых пакетах. Постепенно она успокоилась, развязала тесемки халата и достала спрятанную под ним газету. Разложила ее на кровати и начала изучать заметку за заметкой.
Она уже добралась до последней страницы, не найдя ничего, хотя бы отдаленно имеющего отношение к ней или ее мужу. Тогда она взялась за дело снова, внимательно прочитывая вступительные абзацы к каждой заметке.
Может быть, Реми ошибся, ему что-то почудилось? Или он хотел, чтобы она испугалась и совершила ошибку? А если он в сговоре с Джимми? Вопросы громоздились один на другой, но на них не было ответов, как не было и заметки, о которой сказал Реми. Ей уже показалось, что страхи ее проходят, забрезжила надежда, и тут она нашла, что искала.
Эно прочитала заметку четыре раза подряд. Голова у нее пошла кругом, шок длился, кажется, целую вечность, но наконец она поняла, в какое безнадежное положение попала и каковы будут последствия — и всю ее затрясло, заколотило. Потом плотину прорвало. Она кинулась на кровать и зарыдала, как ребенок, орошая подушку горючими слезами.
Когда в доме холодно, в нем поселяется странная тишина. В то утро было довольно холодно, и Тайво, отчаявшись найти «Лагос уикенд», вернулась в гостиную и устроилась на кушетке. Она лежала, уставившись в потолок и лениво ковыряя в зубах. Тут до нее донесся какой-то звук. Поначалу она не обратила внимания. Звук стал яснее — это были всхлипывания, и доносились они из родительской спальни. Тайво села, напряглась, вся обратилась в слух.
Сомнений не было — плакала ее мать. Минуту-другую Тайво просто не знала, как быть. Что произошло? Да, когда не
448
ожиданно пришел отец, мать поначалу была в замешательстве, но оно вроде бы прошло, теперь она казалась счастливой, смех и веселье стали в доме частыми гостями. Что же снова стряслось? Она прошла через гостиную, приблизилась к двери спальни. Тронула ручку. Как и следовало ожидать, дверь была заперта.
— Мама! Мамочка! Открой! Что случилось? Открой мне! Никакого ответа.
— Мамочка, ты заболела? Что с тобой? Это я, Тайво! Открой, пожалуйста!
Фунми, стиравшая за домом белье, услышала громкий голос Тайво и стук, но слов не разобрала. Вымыв руки, она бросилась в дом.
— Мамочка! Пожалуйста, открой! — настойчиво повторяла Тайво, не на шутку встревоженная.
— Что такое? — спросила Фунми, вытирая руки о платье.
Тайво едва сдерживала слезы. Как только она прекращала стучать и взывать к матери, из спальни слышались рыданья.
— Это мамочка! — ответила она. — Она там плачет, а дверь заперта.
И Тайво с новой силой застучала в дверь.
— Мамочка, открой дверь! Это я, Тайво!
В спальне Эно старалась совладать с собой. Через несколько минут она вытерла глаза и, открыв дверь, попробовала улыбнуться.
— Ничего страшного, Тайво, — сказала она. — Я просто прихворнула, вот и все. Но сейчас мне уже лучше, так что не беспокойся. Я больше не буду плакать. Спасибо тебе.
Она легонько захлопнула дверь и вернулась к кровати. Некоторое время сидела неподвижно, отрешенно. Потом поднялась и заперла окна. Приготовив маленький поднос, она взяла газету — эту гремучую змею — и принялась за трудоемкую работу.
Каждую страницу она разорвала над подносом на сотни кусочков. Потом вытащила из ящика стола коробку спичек, аккуратно подпалила горку бумаги и сожгла ее всю, до последнего обрывка. Когда дело было сделано, она высыпала пепел с подноса в оберточную бумагу, выбросила ее в туалет и спустила воду. Потом вымыла поднос и поставила его на место. Взяла дезодорант и опрыскала им спальню.
В смежной ванной комнате она подождала, пока дезодорант сделает свое дело. Через полчаса вернулась в спальню и распахнула окно. В комнате приятно пахло свежестью. Эно снова легла на кровать и снова заплакала — на сей раз тихонько, с облегчением.
15 Альманах «Африка», выл. 6
449
Но... вам никогда не приходилось жечь бумагу в комнате с закрытыми окнами? Делайте, что хотите, а запах будет держаться не один день, неизбежный, как само небо. Выходя, вы о нем тут же забываете. Но каждый раз, когда открываете дверь и заходите в эту комнату, стрелки часов мгновенно возвращаются назад — вы снова чувствуете запах гари.
Вскоре после полудня Джимми и Офуре вышли из магазина «Кингсуэй сторз» на Брод-стрит. Они несли две сумки с покупками и возбужденно болтали, словно одноклассники. Они влились в толпу, ожидавшую на переходе сигнала регулировщика, потом перешли через улицу. Деловито пройдя до угла, свернули на Балогун-стрит. Офуре рвалась повидать дедушку Огунье-ми. Джимми собирался посадить ее в такси. А сам он поедет домой, отдохнет до ее возвращения, а потом они вместе отправятся в больницу за Кехинде.
Джимми ужасно не хотелось расставаться с ней в сутолоке и толчее Лагоса, но он сказал себе — смотри на вещи трезво. Куда в конце концов он может ездить вместе с дочкой? В школу? На рынок?
Они стали ловить такси — работа не из легких. Не останавливались даже свободные машины, и отцу с дочерью приходилось жариться под изнуряющим солнцем.
— Ну давай я поеду на автобусе, — попросила Офуре, когда очередное такси пронеслось мимо.
— Опять ты за свое, — возразил Джимми. — Я ведь уже сказал — не допущу, чтобы тебя давили и мяли в этих душных автобусах.
— Но раныпе-то я на них ездила!
— Теперь не будешь.
— Зачем ты бросаешь деньги на ветер? — чуть подумав, сказала она.
Джимми знал, что она имеет в виду, и был тронут. Он сжал ее руку.
— Не тревожься, — сказал он, Желая поскорее ее успокоить.—Не забивай пустяками свою маленькую головку. Верно, я говорил тебе, что сейчас с деньгами у нас туговато. Но это вовсе не значит, что мне нечем заплатить за такси.
— Но ты же сказал, что в твоем теперешнем положении ты едва ли сможешь купить машину!
Джимми улыбнулся.
— «Едва ли» еще не значит «не смогу». И потом я сказал — хорошую машину. А небольшую машину купить можно. Я ведь собираюсь некоторое время послужить, значит, буду
450
получать зарплату. И не забывай, что у Кехинде и Тайво есть стипендии. Так что небо не должно рухнуть на наши головы.
Офуре внимательно посмотрела отцу в глаза — он ее не совсем убедил. Она знала — ему не хочется идти на работу со строгим распорядком. Он получал удовольствие только от писательства и писал везде, где возможно. Работая от звонка до звонка, он этой возможности лишится, потеряет свою свободу и независимость. Наверняка он не будет счастлив. И наверняка не так все безоблачно, как изображает отец, хотя он только сегодня снял деньги со счета в банке.
Джимми знал, о чем она думает, и решил сменить тему.
— Кто бы говорил! — поддразнил он ее.— Сама тратишь все свои деньги на подарки! Придется твой карманный бюджет подсократить!
— Пожалуйста,—согласилась она.
И Джимми понял — она вполне серьезно. Ведь совсем еще ребенок, и такая готовность к самопожертвованию!
— Ты не сказала мне, что купила для Кехинде, — помнишь, я задержался в кафе, а ты уже ушла.
Она настороженно взглянула на него.
— Тебе и вправду интересно?
— Почему же нет? — удивился он.
— Я купила ему очки от солнца.
Джимми вспомнил о разбитых очках и устыдился. Немного помолчал.
— Это ты молодец, — похвалил он.—Только позволь мне возместить твои расходы. Ведь разбил-то очки я!
- Нет!
— Я тебя прошу!
- Нет!
— Ладно, будь по-твоему.
Поймать такси все не удавалось, и они начали уставать. Джимми уже подумывал отправить дочь автобусом, но наконец-то им повезло. Офуре затащила в машину обе сумки с покупками — не хотела, чтобы подарки кто-то видел до ее возвращения. Такси отъехало от тротуара, они помахали друг другу, и Джимми подумал: да есть ли еще на земле такой человек, как его дочь, — столько душевной щедрости, столько любви к людям!
— Дедушке от нас привет, — крикнул он вдогонку, на всякий случай записывая номер такси.
Джимми сказал дочери, что сразу поедет домой, но у него были другие планы. Он вернулся на Брод-стрит, перешел на Мартинс-стрит. В первом этаже дома 65 В располагался демонстрационный салон «Мебель на лучшие вкусы» — он захо-
15*
451
дил туда с Офуре, показать, что такое современная мебель. Ее привела в восторг средних размеров кровать, отличительной чертой которой, по мнению Джимми, было полное отсутствие отличительных черт, если не считать простоты замысла.
— А какие красивые эти кресла, — сказала она, когда они уже выходили.—С бледно-желтыми подушками. Я сразу вспомнила сиденья в твоей старой машине... па, ну зачем кому-то понадобилось ее красть? Мы так любили в ней кататься! И почему все беды обязательно на наши головы?
Неопределенно улыбаясь, он посмотрел на нее.
— Не переживай, — сказал он ей. — Скоро купим новую, лучше прежней.
— С желтыми сиденьями?
— Если захочешь!
— И с магнитофоном?
— Ну, разумеется! Сама знаешь, я люблю музыку не меньше, чем ты!
Джимми вернулся в «Мебель на лучшие вкусы» и выписал чек на покупку кровати, понравившейся Офуре, а заодно и двух кресел.
— Еще раз напоминаю — мебель нужно доставить точно в указанный день,—сказал он продавцу.
Он договорился, чтобы мебель привезли накануне дня рождения Офуре. И еще раз внимательно взглянул на продавца.
— Вы уверены, что доставите товар в срок? Это крайне важно.
Продавец, улыбчивый коротышка, поправил галстук.
— Когда «Мебель на лучшие вкусы» что-то обещает, — заверил он, — она всегда держит слово. Мы будем у ваших дверей ровно в одиннадцать часов — плюс-минус двадцать минут на возможные задержки в дороге!
Джимми был доволен. С девяти до одиннадцати Офуре надо будет куда-то отправить, важно, чтобы она не знала о подарке до последней минуты. Он на миг представил себе ее прекрасное, взволнованное личико... Пожав руку продавцу, он вышел.
Он ждал дня рождения с растущим волнением, которому сам удивлялся. Но, собственно, чему тут удивляться? Его младшая дочь — настоящее сокровище, и он сделает все, чтобы дать ей счастье. Благодаря ей жизнь его стала праздником — ведь еще недавно он был так несчастен, а теперь у него словно выросли крылья. Пусть и она знает об этом, подумал он с улыбкой, уходя от магазина.
452
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
День был чудесный. Один из тех, что особенно нравились Тайво. С утра много солнца^ а теперь, к полудню, жара спала, похоже, что грянет дождичек. Где-то у горизонта собирались тучкиг. но когда они разразятся дождем, сказать трудно. Может, к вечеру, а еще лучше, если ночью. Тайво любила, когда дождь барабанил по крыше и оконному стеклу и ночная прохлада заставляла ее крепче прижиматься к подушке. Это было приятно, и в такие минуты она всегда думала о своих парнях — прежних и нынешних.
Например, о ее кумире, Танде, двадцатитрехлетнем студенте физкультурного колледжа — когда они познакомились на вечеринке, Тайво пришла в такой восторг от его фигуры, что не удержалась и сказала ему об этом. Они влюбились друг в друга, и хотя Танде не давал ей никаких обещаний, она надеялась, что в конце концов они поженятся. Сейчас, идя по улице, она с улыбкой вспоминала об их встречах и чувствовала себя немного дурочкой. Люди наверняка примут ее за чокнутую — идет и сама себе улыбается. Но ведь правда, стоит вспомнить о Танде, и лицо само расплывается в улыбке. В ее жизни он занимал важное место — как жаль, что на первую половину каникул он уехал в Кадуну! Она так любила проводить с ним время! На дискотеки они ходили в лучшие бары и отели, кино смотрели в лучших кинотеатрах, веселились на лучших вечеринках. Или взять Муби Альхаджи — какой красавец! Она вздохнула — будь таких мужчин побольше, жизнь на земле была бы просто раем! Жаль, что ей пришлось тогда срочно, уехать из отеля, встретить отца, — она даже не успела взять у Муби номер телефона.
Тайво шла по дорожке, которая сокращала расстояние между Альхаджи Маша-роуд и Бола Адевунми на полкилометра; именно этим путем неделю назад возвращался домой ее отец. В дождь дорожка всегда залита водой — просто так не пройдешь. Вот и сейчас. Держа в руке «Лагос уикенд», купленный в киоске, Тайво прыгала и скакала, пока не выбралась на сухое место. Улыбнулась —.столько усилий ради того, чтобы купить газету! Но тут дело принципа — а тот, кто спрятал домашний экземпляр, может читать его хоть до завтра. У нее теперь есть свой собственный, и уж его-то она никому не отдаст.
Но почему плакала мама? Сказать об этом отцу или не стоит? Пожалуй, надо сказать. Все равно он рано или поздно узнает — у него же сверхъестественный нюх на правду! Да, от него ничего не укроется. И все-таки — почему плакала мама ?
453
Память у Тайво была хорошая, и сейчас она вспомнила: за свою жизнь ей не раз приходилось видеть и слышать слезы своей матери. Но сегодня мать плакала, будто кто-то умер — ребенок, муж или отец. Но ведь никто из них даже не болен. Кехинде уже поправился, сегодня он будет дома.
Тогда в чем дело? Может, больна мама? Как только отец вернулся, она села на диету. Вдруг это отразилось на ее здоровье? Вид у нее как будто вполне бодрый и здоровый... но по виду не всегда определишь. Вообще-то она сама сказала, что прихворнула, да Тайво ей не очень поверила. Неужели женщина, которой и сорока-то нет, станет рыдать из-за болезни?
Тайво не любила загадок. Она всегда теряла покой, когда не могла их разгадать, вот и сейчас начала злиться и нервничать. Ну почему мать так горько плакала? В чем причина? Ссора? Ну, конечно! Она поссорилась с мужем!
Но нет — и огонь, вспыхнувший в ее глазах, тут же стал гаснуть. Ссора тут ни при чем — они так весело болтали и смеялись за завтраком!
Тайво уже дошла до дома и знала одно: как только вернется отец, она обязательно ему расскажет. Он один способен докопаться до истины, разобраться, что к чему. Да уж пусть разберется, а то ведь и каменное сердце не выдержит таких рыданий!
У самой двери она вдруг вспомнила, что им говорила в Сент-Киттсе старушка учительница английской литературы: «Если в доме в один день происходят два странных события, они обязательно связаны между собой. Найдите эту связь, и вы разрешите обе загадки. А сосредоточитесь на одной — нерешенными останутся обе».
Тайво никогда не принимала старую учительницу всерьез. Пожалуй, ее самое и ее нравоучения не любил никто из девчонок в классе — что ни напиши, ей все не так. Но сейчас, стоя перед домом, глядя на маленький садик отца, который постепенно оживал, она вдруг вспомнила эти слова миссис «Плохо» (так ее звали, потому что она всегда ставила низкие оценки), и в голове у нее возникла интригующая- мысль. Впервые в доме что-то необъяснимым образом исчезло. А потом ее мать без видимой причины ударилась в слезы. Неужели?
Тайво почувствовала себя Шерлоком Холмсом. Как и у большинства людей, стоящих на пороге открытия, ее живой ум начал сопоставлять, казалось бы, несопоставимые факты, просеивать их и раскладывать по полочкам. Так, а если в газете напечатано нечто такое, что не понравилось ее матери? Может, газету забрала она? Допустим, но зачем? Чтобы спрятать ее?
454
Спрятать газету? Но что уж такое в ней может быть? Чтобы мама из-за этого рыдала взахлеб?
Тайво учуяла в воздухе какую-то тайну и поспешила домой, довольная, что купила «Лагос уикенд». По крайней мере, сейчас она. выяснит, беспочвенны ее подозрения или нет. Пойдет в свою комнату, прочтет газету и выяснит, какая именно заметка так взбудоражила мать.
Но судьбе снова было угодно вмешаться. Видимо, она еще не была готова нанести решающий удар.
Войдя в гостиную, Тайво застала там свою подружку Дайо. Они поздоровались.
— Давно ждешь? — спросила Тайво.
Дайо покосилась на нее из-за очков.
— Полчаса, — ответила она. — Мне уже пора. Еду в Национальный театр, на выставку живописи, а к тебе заскочила на минутку — просто узнать, как дела. Фунми сказала, что оделась ты не для выхода, вот я и решила подождать.
Тайво усмехнулась. Это же надо — собралась на выставку живописи! Да лучше дома сидеть! Впрочем, Дайо всегда была серьезной девицей.
— Молодец, — сказала она садясь. — Большое тебе спасибо — в воскресенье ты мне очень помогла. Я этого никогда не забуду. Как Аде?
Это был парень Дайо.
— Ничего, наверное, — ответила Дайо.—На этой неделе я его не видела. В воскресенье вечером наклюкался и заявился ко мне. И как думаешь, на кого налетел? На мою мамочку. Она выставила его так быстро и с таким позором, что мне пришлось с ним расстаться. Ну, ладно, мне пора. Хочу поспеть к открытию.
Тайво улыбнулась и поднялась проводить подругу, легкомысленно оставив на кресле добытую с таким трудом газету. Ох, эта Дайо, только и знает, что во всем винит своих парней и расстается с ними. А винить надо себя. На вечеринки она с ними не ходит, ничего не позволяет. Дуреха, чего же она от них ждет? Им только и остается, что переметнуться к другой либо напиться. Аде выбрал второе: это потому, что парень он робкий, для него разговаривать с девушкой — целая проблема.
Тайво проводила Дайо совсем недалеко. Через пять минут вернулась домой. Но газета уже успела исчезнуть.
Выплакавшись второй раз, Эно продолжала лежать, стараясь выбросить всю эту историю из головы. Наконец — прошло много времени — осторожно встала, пошла в ванную комнату и наполнила водой ванну. Опустилась в свежую
455
ласкающую прохладу. Долго лежала — не мылилась, це купалась, просто лежала в воде. Потом медленно, не делая резких движений, вымылась.
Выйдя из ванны, она вытерлась, подошла к раковине и вычистила зубы, все время глядя на себя в зеркало. В глазах оставалась краснота, но уже не было мерцающей влаги, которая всегда выдает недавно плакавшего человека. Вымыв раковину с порошком, она наполнила ее водой и, не закрывая глаз, опустила в нее лицо. Она держала его в воде пять минут, делая короткие вдохи. ПотОхМ выдернула пробку, обтерла лицо, вернулась в спальню, надела одежду, которую носила с утра.
Из ванной она слышала чьи-то голоса, но решила, что это Тайво разговаривает с Фунми. В спальне она тотчас поняла — второй голос принадлежит Дайо. Эно уже собиралась выйти и поболтать с девочками — чтобы вернуть голосу его обычный тон и тембр, но пока она одевалась, Дайо ушла. А ведь к приходу Джимми голос должен звучать естественно — иначе объяснения не избежать.
Мужу незачем знать, что она плакала, надо, чтобы и девочки держали язык за зубами. Одевшись, она еще раз внимательно посмотрелась в зеркало. Пожалуй, в глазах затаено какое-то легкое беспокойство.. Но это не из-за слез. Виной всему — диета. Она улыбнулась.
Открыла дверь — и ей тут же бросилась в глаза газета, принесенная Тайво. Казалось, это смертоносный дух. Крик замер на губах Эно, она едва не лишилась чувств. Но затмение тотчас прошло, и, ничего не соображая от страха, она кинулась через всю комнату, схватила газету и снова вбежала в спальню. Тихонько заперла за собой дверь. Ей не хватало воздуха, душу сковал ужас. Откуда взялась газета? Должно быть, ее принесла эта отвратительная Дайо, эта уродина в уродливых очках!
Но что делать с газетой? Куда ее спрятать? Снова сжечь — не годится. Джимми и Офуре явятся с минуты на минуту, а у нее еще обед не готов. Черт бы побрал эту Дайо!
Охваченная паникой, она смутно пыталась сообразить, что делать с этой бомбой замедленного действия, — и тут снова разразилась буря. Вернулась Тайво и обнаружила пропажу. Газета исчезла — второй раз!
Бывает так: лицо как будто знакомо, а вспомнить, где его видел, не можешь. Прямо пытка! Джимми никогда не мог похвастаться хорошей памятью на лица и имена. Он прекрасно за собой это знал. Но каждый раз напрягался до крайности, стараясь вспомнить. Даже если в этом не было особой нужды.
456
Как сейчас.
Навстречу ему шла темнокожая девушка в очках, видимо, студентка — и очень прилежная, конечно, он где-то ее раньше видел. Но вот где? Не до тюрьмы — это понятно. Тогда она была всего лишь девчонкой, да и в любом случае за пять лет начисто испарилась бы из его памяти. Значит, он видел ее недавно. Где же?
Он отчаянно рыскал в тайниках памяти, ища ответ. Когда девушка поравнялась с ним, глаза ее блеснули — она его узнала.
— Добрый день, сэр! — поздоровалась она.
Джимми остановился.
— Добрый день, — ответил он. — Извините, но не могу вспомнить, где я вас видел.
Она улыбнулась.
— Я подруга Тайво. Я приходила с ней в воскресенье. Приходила с ней в воскресенье!
— Ну, конечно! До чего у меня голова дырявая! — пожаловался он.— Как вы поживаете?
— Прекрасно, сэр. Тайво проводила меня до перекрестка. Только что пошла назад.
Приходила с ней в воскресенье!.. Эти слова застряли в мозгу Джимми, и, не задумываясь, он спросил:
— Гм... Скажите... Тайво, и правда, в субботу ночевала у вас?
Дайо, разумеется, не была готова к такому прямому удару и оказалась не в силах его отразить. Джимми впился в нее взглядом — в маленькую полоску «ничейной земли» между глазами. Под его взглядом Дайо съежилась — да этот знаменитый писатель наверняка видит ее насквозь! Он словно бросал ей вызов: ну же, солги, солги!
Глаза Джимми, не мигая, сверлили Дайо переносицу. Смущенная, растерявшаяся Дайо выпалила:
— Нет, сэр!
И тотчас устыдилась своего голоса — какой-то дребезжащий фальцет.
Джимми отвел взгляд — и чары рассеялись.
— Спасибо, — сказал он и зашагал прочь.
Дайо почувствовала себя предательницей. Она предала свою лучшую подругу. Побрела, ничего перед собой не видя, сразу состарившись. Она бы расплакалась, не будь вокруг так много людей, кузнечиками скакавших через затопленную дорожку.
Но Джимми ее слова не особенно расстроили. Они, разумеется, были ему неприятны, но лишь подтвердили его преж
457
ние подозрения. Занимало его другое: зачем он задал девушке этот вопрос? Ведь он давно решил обо всем забыть и строить семейную жизнь заново.
И все же он, сам того не желая, ошарашил вопросом ничего не подозревавшую, простодушную девушку. Зачем?
Раздумывая об этом, он подошел к дому. Еще издали услышал, что там бушуют страсти. Он открыл дверь и замер на месте — яростный шквал едва не сбил его с ног. Так бывает, когда входишь в дискотеку. Подходишь к двери — звуки кажутся низкими, приглушенными. Откроешь ее — и по барабанным перепонкам ударяет мощная волна звуков.
Тайво всю трясло, она вопила, хлопала дверьми и переворачивала бумаги. Минуту Джимми смотрел на нее, потрясенный — неужели она с утра все ищет газету? Но еще больше его поразила энергия, с какой она обшаривала гостиную. У кухонной двери с открытым от удивления ртом стояла встревоженная Фунми.
Джимми шагнул в дом.
— Что случилось, Тайво? — спросил он.
Не обращая на него внимания, не оборачиваясь, девушка призывала богов Шанго и Огуна послать громы и молнии на голову того, кто «ее утащил».
Джимми повысил голос:
— Что ты ищешь, Тайво? Тебя на весь квартал слышно!
Тайво наконец обернулась — лицо было искажено от ярости.
— Газету, папа!
— Какую газету?
— «Лагос уикенд».
Джимми с трудом сдержал улыбку.
— Ты хочешь сказать, что с самого утра ищешь эту газету? Ты что, статью туда написала?
— Не эту, папа, другую!
Джимми начал снимать пиджак.
— В каком смысле другую — другую газету или другое число ?
Тайво не смотрела на отца. Она стояла, положив правую руку на спинку дивана, а левой снимала нитки со своей юбки.
— Другой... другой экземпляр. Ту газету я не нашла и купила другую. И даже не’ успела ее прочитать. Пришла Дайо, потом я вышла ее проводить и оставила газету на кресле, а вернулась — она тоже исчезла!
Джимми не знал, как отнестись к ее рассказу, но был заинтригован. С чего бы вдруг два экземпляра газеты исчезли без следа?! Он сел на диван, принялся снимать туфли. Ну и Тайво,
458
надо же так рассвирепеть! И из-за чего... «Лагос уикенд»! И Джимми вдруг вспомнил — всего неделю назад охранник в тюремном дворе никак не хотел отрываться от этой самой газеты, чтобы отвести Джимми к начальнику тюрьмы. До чего странные существа люди!
Из спальни Эно слышала, что пришел муж. Не помня себя, она кинулась к кровати, приподняла огромный пружинистый матрас, сунула под него газету и водрузила матрас на место. Потом подбежала к туалетному столику — посмотреться в зеркало.
Сняв туфли, Джимми взглянул на дочь, потом на Фунми.
— Сюда кто-нибудь приходил? — спросил он.
Девочка, ставшая свидетельницей столь эмоционального сольного номера, еще не пришла в себя. Она застенчиво улыбнулась.
— Добрый день, сэр, — сказала она. — Да, приходил один человек, я сказала, что вас нет, и он обещал прийти снова.
— А свое имя он не назвал?
— Нет, сэр. Сказал, что работает в газете.
На лице Джимми отразилось недовольство — неужели пресса не оставит его в покое, не позволит жить независимо, наслаждаться свободой, привести в порядок свои дела?
Он посмотрел на Тайво.
— А где мама?
— В спальне, — ответила она, раздумывая: может, прямо сейчас сказать ему, что мама плакала? Нет, пожалуй, не стоит. Тайво еще вся кипела от негодования, и связного рассказа не получится. К тому же сейчас она — в центре внимания.
Джимми поднялся.
— Принеси мне стакан холодной воды, — попросил он Тайво.
Она вышла в кухню. Джимми хотел было включить вентилятор, но раздался стук в дверь.
Он пошел открывать, заметив краем глаза, что на пороге спальни появилась Эно.
Открыв дверь, Джимми не без удивления увидел молодого, просто одетого парня. Видимо, он был из народа йоруба — щеки его пересекали горизонтальные рубцы. Рубашка-дашики слезно умоляла списать ее в тираж. Ее хозяин сегодня явно не мылся, не проводил расческой по волосам. На ногах его были относительно новые кожаные сандалии, в левой руке он держал свернутую газету. За его спиной, приткнувшись к тротуару, стояло такси.
Это был Йекини Амуда.
— Добрый день, сэр, — поздоровался он.
459
— Добрый день, — откликнулся Джимми, неизвестно почему с первого взгляда невзлюбивший нежданного гостя.
Йекини почувствовал эту неприязнь и не знал, тот ли это человек, которого он хочет видеть, подумал уже, а не уйти ли, пусть себе тешится иллюзией, будто его женушка, столько лет наставлявшая ему рога с Шефом Аджалой, чистый ангел? Но нет, так просто он не уйдет. До этой потаскухи ему нет дела. Но есть дело до мерзавца, который ухлестывал за чужими женами и дочками, и Джимми, наверное, примет меры, чтобы отомстить Шефу Аджале. Надо позаботиться и о том, чтобы газета попалась на глаза жене Аджалы, этому исчадию ада, этой людоедке. Стало быть, если открывший дверь человек — муж этой толстухи, плевать Йекини на его недружелюбие,—он доведет дело до конца. Таксист окинул Джимми долгим — чуть дольше положенного — взглядом и заговорил.
— Ога, я ищу одну женщину — вот такую толстую, — и он изобразил руками ее солидную талию.
Джимми будто ударили под дых. Ничего себе характеристика его жены!
Позади него Эно, не понявшая еще, что происходит, подошла поближе, до нее донеслось слово «толстая». Тут же из кухни с бутылкой воды в одной руке и стаканом в другой появилась Тайво.
Выбора у Джимми не было.
— А в чем дело? — спросил он, проникаясь к Йекини еще большей неприязнью. — Я ее муж.
Эти слова разожгли любопытство Эно. Она приблизилась к мужу посмотреть — с кем он разговаривает? И голос как будто знакомый. Кто-то пришел к ней?
Для Йекини все складывалось как нельзя лучше. Значит, перед ним человек, который ему нужен. Он улыбнулся.
Эно высунулась из-за плеча мужа, поглядеть, кто там стоит, и тут небеса разверзлись и рухнули — то, чего она всеми силами стремилась избежать, сейчас происходило на ее глазах и никак не было ей подвластно.
Йекини развернул газету, которую держал в руке, и встретился взглядом с Эно. В глазах его блеснуло удивление, затем злорадство. Он передал газету Джимми.
— Не знаю, получаете вы эту газету или нет, — сказал он презрительно, — почитайте-ка девятую страницу. А об остальном спросите вашу жену.
Глаза его неотрывно смотрели куда-то поверх плеча Джимми. Джимми заставил себя отвернуться от этих победно горящих глаз, и Йекини и Эно предстали друг перед другом.
460
И Джимми поймал себя на мысли, что чужой здесь не Йекини, а он сам.
Никто не произносил ни слова. Стояла мрачная тишина. Йекини и Эно смотрели друг на друга, потом из горла Эно вырвался крик, и она потеряла сознание. Джимми успел подхватить ее, не дав удариться головой о что-нибудь твердое.
Ценой неимоверных усилий Джимми под крики Тайво полу-донес-полудотащил Эно до кушетки. Положив ее, торопливо включил вентилятор.
Потом вернулся к двери, но парня с племенными отметинами уже не было. Как не было и такси.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Джимми действовал методично и со знанием дела, будто кончал курсы первой помощи. Вместе с Тайво и Фунми он поставил вентилятор на нужную скорость, поудобнее уложил Эно, обрызгал ей лицо водой. Он не нервничал, не волновался. Сам не ожидал от себя такого спокойствия.
Через пять минут Эно пришла в сознание. Оставив ее на попечение девочек, Джимми ушел в спальню, прихватив с собой газету Йекини.
Тут только Тайво заметила в руке отца газету. Глаза ее загорелись. Со своего места опа не видела, кто приходил, не слышала сказанных им слов и не могла знать, отчего мать упала в обморок. И сейчас, когда отец ушел в спальню с газетой, в голове ее совсем все перепуталось. Это купленная ею газета? Где отец ее нашел? Не в состоянии ответить на этот вопрос, она стала внимательно следить за матерью, готовая оказать любую помощь. Теперь она была убеждена — либо мать очень больна, либо ее обуревает какое-то сильное чувство, о котором она, Тайво, ничего не знает... а вот отец, кажется, знает все.
Войдя в спальню, Джимми сразу же учуял какой-то странный неуловимый запах. Он поводил носом из стороны в сторону, напрягая обоняние. Но так и не понял, чем пахнет.
Он сел на кровать и расстелил перед собой газету. От лавины загадочных вопросов трещала голова. Кто этот парень, принесший газету? Почему, увидев его, Эно упала в обморок? Пожалуй, к Тайво и ее эпопее с пропавшими газетами стоит отнестись серьезно. Что бы это значило: за утро исчезают две газеты, а в итоге третью приносит в дом совершенно незнакомый человек? Может, это киоскер, который продает им га
461
зеты? Но почему его появление, его слова так потрясли Эно? В сознании всплыли слова Йекини: «... а об остальном спросите вашу жену...»
Все эти вопросы стремительно промчались в мозгу Джимми — так бывает всегда, когда ответы на них уже на подходе. Он открыл газету на указанной странице, и напряжение поднялось до высшей точки — его хватило бы, чтобы убить слона. Долго искать Джимми не пришлось: заметка, предназначенная для его глаз, была жирно обведена красными чернилами. С головой, пухнущей от новых вопросов, от неутоленного любопытства, он стал читать заметку — и в мозгу его заполыхало дикое пламя.
В заметке далеко не все было правдой. Но те, кто стряпают газетные сплетни, особой правдивостью никогда и не отличались. Что-то было подперчено, что-то прибавлено, но все основные факты были на месте:
ДОМ, НЕМИЛЫЙ ДОМ1
Сорокалетний критически настроенный литератор, известный своей строгостью в вопросах морали, адвокат социальных реформ, после конфликта с властями оказался за решеткой, оставив семью из шести человек. В скором времени его жена, учительница, ушла с работы и решила немного поразвлечься, с легкостью прыгая из одной постели в другую. Эта уже не первой молодости женщина, которую нежно любил муж, даже проматывала его деньги на любовников.
Но ее муж, мистер А., неожиданно вернулся домой. И у нашей зарвавшейся героини уже не было времени дать отбой.
Мадам и ее нынешний любовник, Шеф А., директор одной из фирм в Апапе, оказались в крайне щекотливом положении, ибо разгневанный и глубоко оскорбленный муж не собирается сидеть сложа руки. Это человек, хорошо известный в свете и падкий на женщин...
Джимми сложил газету и лег на кровать. Какое-то время — целую вечность — он не мог мыслить разумно, вообще не мог мыслить. Потом вспомнилось самое начало, день возвращения, слова Реми насчет его босса Шефа Аджалы, старые страхи, подозрения, неуверенность. Он подумал, что стал посмешищем в глазах общества, но подать на газету в суд не сможет — «правда» выйдет наружу. Вспомнил, каким застал дом, когда вернулся, вспомнил о детях. Все, на что он закрывал гла-
1 Перифраз английской песни: «Дом, милый дом».
462
^ga, сейчас возникло перед ним во всей полноте. Из слагаемых сложилось целое.
Он долго лежал, не замечая катящихся по щекам слез. Кто сказал, что мужчины не плачут? Джимми плакал.
Ему вспомнилось: 1959 год, 15 марта. Древний город Бенин. Вот уже два дня все время идет дождь. Не то чтобы очень сильный, но и слабым его не назовешь. Небеса словно прохудились, и дождь льет без передышки, неся с собой жуткий холод, почти все сидят по домам.
Время — половина первого ночи. На одинокой скамейке позади приземистого каменного дома 17 С по Форестри-роуд лежали двое. Скамейка была короткая, не больше двух метров, довольно узкая. Но на ней леи&ли двое, он и она, молодые, они словно приклеились друг к другу — сплетение губ, рук и ног заставило законы притяжения пойти на необычный компромисс. Они лежали, почти совсем не шевелясь; забыв о холоде, о том, что идет дождь.
Его звали Джимми Айзабо. Ее — Эновамагбе Огуньеми.
Семья Джимми и его друзья не очень жаловали Эно — по той простой причине, что ее отец был йоруба. Но именно из-за этого Джимми любил ее еще сильнее. И был полон решимости жениться. Но вот беда — он уже несколько раз обещал взять ее в жены, возил в деревню знакомить со своими родителями, а она все не могла в это поверить. Наверное, думал порой Джимми, дело в том, что, приезжая к нему в Бенин, она всегда встречалась с его дядей, учителем традиционных взглядов. Об отношениях Джимми с Эно старый маразматик всегда высказывался достаточно враждебно. Иногда ее страхи и опасения проявлялись в такой форме, что Джимми задумывался: уж не хочет ли она сама положить конец их помолвке?
Дождь шел где-то совсем рядом, они блаженствовали в объятьях друг друга, как вдруг Эно оторвала свои губы от его губ.
— Я знаю, — сказала она, — в конце концов мы с тобой все равно расстанемся.
К радости Джимми, она снова, в миллионный раз прильнула губами к его губам, но он отстранился.
— Я тебе уже говорил, — прошептал он, легонько покусывая ее за ухо, — я буду говорить, пока не перестану дышать: никто и ничто нас не разлучит. Никогда.
Она прижала его к себе.
— Не обещай того, чего не в силах выполнить.
— Ты сомневаешься во мне, Эно?
Она не сомневалась. Не могла сомневаться.
463
— Нет, — сказала она, и губы их снова соединились. < Одна из причин, по которым Джимми в молодые годы уве^ ренно шагал по жизни, заключалась вот в чем: он мог самостоятельно решить любой вопрос, и мнение других его тревожило мало. Обо всем на свете у него было свое твердое и непоколебимое мнение, зачастую он даже отстаивал теории и идеи, не подкрепленные логикой и не прошедшие испытание временем. Он всегда пытался убедить своих слушателей — его взгляды и посылки верны и безошибочны, идет ли речь о разоружении, правительстве, проституции или взятках.
В отличие от многих своих друзей — Реми в их числе — он считал себя «женатиком», верил в святость супружества. Он говорил: да, многие портят все, к чему ни прикоснутся, но брак может быть успешным, если обе стороны готовы как следует потрудиться. К тому времени Эно стала все прочнее входить в его жизнь, и кое-кто из друзей поддразнивал Джимми: горячность его взглядов объясняется его желанием жениться на ней любой ценой. Долгие месяцы Джимми твердил, что такая постановка вопроса «неправомерна», потом, однако же, согласился с ней и стал говорить: он сделает все, чтобы брак его был успешным, и ничему не позволит испортить его.
Поначалу эта точка зрения была абсолютной, окончательной и бесповоротной, но со временем в непробиваемой стене появилась лазейка. Джимми, как и прежде, утверждал, что полон решимосзи преуспеть на семейном поприще, но если возникнет положение, совладать с которым он не сможет, он пойдет на расторжение брака. Из-за этого добавления люди, подобные Реми, вели с ним долгие и ожесточенные споры.
Кажется, никто не мог его понять. И это говорит Джимми, вопрошали они, утверждавший, что его предназначение — нести людям свет, что он — человек будущего? Да ведь это ни в какие ворота не лезет! Неужели ему не ясно, что человек, который разводится, просто выставляет напоказ собственные недостатки; репутация ею испорчена; лучше ему вообще не жениться?
Джимми никогда не отвечал на эти выпады. Просто не считал их достойными внимания. Он верил в положительное начало и часто говорил: если ты желаешь себе добра, ничего плохого случиться не может. Но тогда он еще был в «зелёном» возрасте — эти зыбкие, неопределенные, дымчатые сумерки, когда ты из «никого» становишься «кем-то», из «ниоткуда» приезжаешь «куда-то»; в эту пору жизни образованные юноши чувствуют себя магами, им по силам общественные проблемы, которые ставили в тупик их отцов, разбивали семьи, перед которыми пасовали правительства и империи. Однако со време
464
нем Джимми понял: как ни хороню образование, жизненный опыт незаменим.
Его отношения с Эно достигли головокружительных высот. Уверенные в своих чувствах, они начали готовить родственников к тому, что поженятся.
Джимми, как и прежде, считал, что, если их семейные дела будут совсем плохи, он всегда может подать на развод, но до женитьбы это была чистая теория, и не более того. Никто не предполагал, что теорию эту понадобится извлекать на свет божий — меньше всего Джимми с Эно. Так было и в последний вечер перед разговором с ее отцом.
Джимми встретился с Эно на Тинубу-сквер. Фонтаны на этой площади в центре Лагоса были в идеальном состоянии — не то что сейчас. Всю ночь их высвечивали яркие разноцветные огни. Вечер только начинался, Эно уехала из дома в Изале Эко, сказав отцу, что хочег навестить свою тетушку в Мароко.
Взявшись за руки, влюбленные неторопливо шагали к набережной. Набережная была на диво прекрасна — опять-таки не то что сейчас, — вечером для влюбленных лучшего места не сыскать. Это сейчас дороги и эстакады зажали ее в тиски, от былого величия остались лишь унизительные крохи. Они подошли к краю набережной, сели на камень, опустили ноги в воду. Словно околдованные, они, сплетя руки, смотрели на прекрасное и безмятежное море, по которому бежала золотая лунная дорожка, а над головой у них раскинулся шатер неба с бесчисленными звездами.
Эно прилегла Джимми на колени и сквозь длинные ресницы смотрела на его голову на фоне неба.
— Джим, — сказала она вскоре, — что будет, если наш брак окажется неудачным?
Он долго молчал, потом наклонился, поцеловал ее в лоб и ответил:
— Я не очень понимаю, зачем ты тревожишься о том, что будет когда-то. Я знаю одно — мы поженимся и будем счастливы. Ничто и никто нс разделит нас, — решительно заключил он.
Эно взглянула на него глазами, полными любви и восхищения.
— Я люблю тебя, Джим. И буду любить до последнего моего вздоха!
Все эти воспоминания нахлынули на Джимми, когда он лежал на кровати, утирая с лица слезы. Они были беззвучны, но причиняли нестерпимую боль. В сердце Джимми эти слезы выжигали бороздку, которая не зарубцуется, — тут доктора бессильны.
465
Ну кто, кто сказал, что плакать — удел женщин?
Плач Джимми был плачем мужчины. Горьким. Выворачивающим душу. Полным страдания.
Но и недолгим.
Потом Джимми начал думать, держать совет со своей гордостью. Сразу обругал себя — зачем пытался забыть всю эту гнусную историю? Только круглый дурак может надеяться, что сумеет забыть такое, — да тебе и. не позволят забыть, раз ты живешь в обществе. А уж он-то, верящий в абсолютную силу общества, — разве он смог бы все забыть? И вот теперь его семейная тайна выставлена на всеобщее обозрение — в зыбучих песках глупости не спрячешься!
В глазах друзей и коллег он станет посмешищем, он, который рвался домой именно потому, что жаждал начать новую жизнь в'объятиях любимой жены! И^вот — она обрекает его на страшнейшее, кошмарнейшее унижение!
Раскаленный нож вонзался в него каждый раз при мысли о том, как она переходила от одного лагосского сердцееда к другому, пока он томился в тюрьме и тосковал по ней, мечтал вернуться к ней, беспокоился о ней и детях, считал ее единственным человеком, правильно его понимающим; единственным, кто останется с ним до конца и будет отстаивать идеи, за которые он сражался всю жизнь.
Снова пришли воспоминания — обрывочные, застывшие, смутные, глубинные.
Он вспомнил, в каком состоянии застал жену, что творилось в доме, до чего докатились его дети-близнецы, каков был он сам. А не себя ли надо винить в первую голову?
Глядя сквозь полуприкрытые веки в потолок, он спрашивал себя: неужели это все, чего стоит твой интеллект? Ведь только кретин может думать, что жизнь продолжается с того места, на котором ты остановился, — нет, все надо начинать сначала. Разве не так? Неужели ты думал, что общество будет ждать тебя, что, приняв решение разделаться с тобой, оно с любезной улыбкой оставит тебя в покое.
Как мог ты считать, что она еще любит тебя? Надеялся, что ты перехитришь и убедишь себя, будто ты ее еще любишь ?
Около туалетного столика стоял его незримый обвинитель. Видишь, с издевкой говорил он, до чего тебя довела глупость, безрассудство. Теперь весь мир увидит, как ты ничтожен, слаб и неумен, хотя и достиг в жизни многого. Теперь они увидят, что весь твой пышный идеализм и «святость» — сплошной блеф.
— Выходи же! — призывал обвинитель. — Покажись людям и поведай им что-нибудь. Прочитай очередную проповедь, если сможешь! Иди и скажи миру, что он прогнил, тогда ты
466
узнаешь, что сначала, наверное, надо навести порядок в собственном доме, а уж потом поучать других. Ты даже не сумел создать прочный фундамент для собственной жизни, но взялся наставлять на путь истинный целый мир! Что ж, давай, пиши дальше — если хватит смелости!
Обвиняющий голос в его голове долго не смолкал. Усилием воли Джимми отогнал от себя мучительные мысли, пошел в ванную и вымыл лицо. Так же, как и Эно.
Джимми был необычайно возбужден, и сейчас, когда буря в душе поутихла, он почувствовал — в нем зреет убийственная ярость. Он посмотрел на себя в зеркало. Глаза были спокойны, но весь облик выдавал смятение. Вытерев лицо полотенцем, он вернулся в спальню.
В нос снова ударил какой-то застойный запах, и мозг его активно заработал. Ответ не замедлил прийти: в комнате жгли бумагу.
Но что за бумагу? Исчезнувшие газеты?
Открыв другую дверь, он вышел в гостиную.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Эно, возле которой неотступно сидели девочки, ощутила, что к ней возвращаются силы и способность к мышлению. Она поняла, что наступил момент расплаты, и изменить ход событий она уже не может.
Осознав свою беспомощность, она заплакала и, когда вошел Джимми, тихонько всхлипывала — такие всхлипы утром слышала Тайво. Джимми сказал себе, что все кончено, но к собственному удивлению и некоторому разочарованию, почувствовал к Эно жалость. Он сел рядом с ней и велел девочкам выйти.
Дотронувшись до ее руки, он спросил:
— Болит что-нибудь?
Она продолжала плакать. Секунду-другую Джимми не знал, как поступить. Подавив в себе злобу и раздражение, он снова спросил:
— Эно, у тебя что-нибудь болит?
Она не ответила. Джимми вдруг понял: боль, столь явно отпечатавшаяся на ее лице, отражала не физические, а душевные страдания. Да, перед ним — несчастнейшая из женщин, но поддаваться жалости нельзя.
Легко сказать, нельзя, но Джимми молча смотрел на жену, а в памяти снова всплыли картины прошлого. Он вспомнил, как умер их первый ребенок. Как и большинство молодых пар,
467
которым приходится много возиться со своим первенцем, Джимми и Эно немало настрадались. Девочка просыпалась в середине ночи и поднимала жуткий плач. То улыбалась, то кричала. Короче говоря, из-за этой крохи жизнь молодой и счастливой семьи превратилась в нечто кошмарное.
Друзья смеялись над ними? Первый ребенок, говорили они. «Не горюйте, она изменится». Но сердца подсказывали молодым родителям — нет, не изменится.
Они обратились к доктору, человеку пожилому и настолько нетерпеливому, что Джимми даже удивлялся, как такой может быть профессиональным врачом. Он смотрел на них, как на мальчишек-футболистов, чей мяч случайно залетел с улицы прямо к нему в кабинет, потом, не скрывая раздражения, заявил:
-- Неужели вы еще не поняли, что с грудными детьми на первых порах надо как следует понянчиться? Да что вы вообще знаете о детях — только как их делать?
Джимми, чувствуя, что его уверенность в себя, саму его личность пытаются попрать в глазах молодой жены, отважно схлестнулся с врачом. По сути дела, он просто защищал собственное достоинство. Вернувшись домой, они решили: будем растить ребенка, невзирая ни на какие трудности. Это была ошибка. Следовало обратиться к другому доктору.
Девочка умерла.
От анемии, таков был диагноз патологоанатома.
Джимми был потрясен случившимся — наступили самые страшные дни в его жизни. И обрести себя ему помогла Эно. В тот день он как будто побывал в аду. Не мылся, не ел, даже никуда не выходил из дома, наполненного соболезнующими друзьями.
Он и сейчас все хорошо помнил. Как он вошел в спальню и увидел на полу Эно, она рыдала, словно сердце ее разбилось вдребезги... впрочем, так оно и было. Тут только Джимми понял — ведь он пренебрег своими обязанностями перед ней. Какое он имеет право торчать в гостиной — так можно потерять еще и жену! Он замер тогда на пороге спальни и смотрел на Эно, которая содрогалась от рыданий, — рухнул весь ее мир. Он пересек комнату, мягко поднял жену, усадил на кровать и, прижав ее к себе, долго утешал и успокаивал. И плакал вместе с ней.
Все это предстало перед ним так отчетливо, будто случилось сегодня утром. Его жена, Эно, рыдает, будто опять потеряла их первенца, — а он, как и в тот день, стоит и смотрит на нее. Что же он — опять поднимет ее и станет утешать и успокаивать?
468
Нет, нужно держаться принятого решения — между ними все кончено, и она должна об этом узнать.
Только пусть она спокойно выслушает его — иначе в разговоре нет смысла. Но пока она к этому не готова.
Какое-то время он сидел и смотрел на нее, чуть смущенный. Ее боль передалась ему, но он знал — это лишь сочувствие, не более. Вдруг не думая, он заставил ее подняться и отвел в спальню. На пороге его снова встретил запах горелой бумаги. Эно продолжала плакать — интересно, она тоже учуяла? Он усадил жену и начал ее успокаивать. Погладил по голове, через силу приласкал ее. Стал говорить какие-то слова, шептать, увещевать.
Прошло немало времени, прежде чем он добился своего. Эно успокоилась. Из-под влажных век на него смотрели подернутые влагой испуганные глаза. Джимми твердо знал, каким будет финал их разговора, но сердце его смягчилось. И, словно извиняясь, он начал не так, как намеревался.
— Скажи, — заговорил он, избегая ее глаз, в которых застыла невысказанная мольба, — что именно произошло? О чем написано в газете?
Эно не ответила. Тогда он заставил себя посмотреть на нее. Она все так же пристально смотрела на него. Он снова отвел взгляд. Бой разворачивался не совсем по его плану, но победа все равно останется за ним. Надо проявить твердость.
— Будешь ты наконец говорить со мной, или мне сразу уйти?
Эно, однако, его не слушала. Ее переполняла жалость к себе, она даже плохо понимала, что с ней происходит. Но тонущий, движимый инстинктом самосохранения, с отчаяния хватается и за соломинку.
И подсознательно, отрешенно, Эно попробовала ухватиться за несуществующую соломинку.
— Не будем терять время, — ответила она мужу. — Скажи мне сразу, что с нами будет.
Джимми снова почувствовал, что бой развивается вопреки его замыслу. Но он все решил заранее, и его не остановит даже табун диких лошадей.
— Перестань, Эно, — возразил он, — расскажи все от начала до конца.
- Я знаю, Джим, что ты уже принял решение, — не уступала Эно, — поэтому послушаем тебя — так будет легче и проще.
— Хорошо, — не стал спорить Джимми, возможно, она права. — Сейчас я пошлю Тайво за такси, и когда машина придет, тебе придется уехать. Свое решение я сообщу тебе потом — если оставишь адрес. Оставаться здесь нам обоим нет смысла —
469
по крайней мере, сейчас. Ясно, что от серьезного решения не уйти.
Джимми поднялся с кровати. К нему снова вернулась уверенность в себе, деловитость.
— Буду очень признателен, если ты начнешь собирать вещи немедленно.
Глаза Эно расширились. Казалось, она и Джимми черпали уверенность из одного источника — у него добавилось, у нее уменьшилось.
— Джим! — воскликнула она.
Он посмотрел ей прямо в глаза.
— Не мешкай, прошу тебя.
Она изменилась в лице. Возможно, только теперь до нее в полной мере дошли слова Джимми. Такого она все же не ожидала.
— Джим... пожалуйста... по крайней мере, выслушай меня!
Но Джимми уже не трогали ее слезы, и сейчас он был спокоен, уверен, расчетлив, собран. Он улыбнулся — сочувственно, чуточку насмешливо.
— Но ведь я тебя спрашивал, и ты отказалась отвечать. А теперь мне неинтересно.
Он подошел к шкафу, распахнул створки, начал доставать ее платья и бросать их на кровать. Эно встрепенулась, будто кто-то грубо прервал ее сон, вскочила с кровати.
— Джимми, прошу тебя! —повторила она, плохо соображая, что говорит. От мучительной боли лицо ее потемнело.
Платья продолжали лететь на кровать. В серьезности намерений мужа сомневаться не приходилось.
— Джим! Джим!
Она упала на колени, крепко обхватила его ноги. Подняла к нему лицо — Мария Магдалина у основания распятия. Однако святой страдалицей она не была. Просто женщина, которая рыдает, умоляет, просит понять ее. Она жаждет спастись, спасти свой дом. Где еще у нее есть будущее — нигде!
— Джим! Прошу тебя!
Это был даже не шепот, но в голосе слышалась такая невыразимая боль, что в мозгу Джимми словно прогрохотала тысяча орудий. Но он не поддавался.
— О чем ты просишь? — прогремел он.
Стоя на коленях, Эно смотрела на него снизу вверх, лишь крепче стискивая его ноги. Она не могла выдавить из себя ни слова.
Это был тягостный момент. Джимми снова посмотрел на жену, и теплая рука сочувствия протянулась к его сердцу. Он заставил себя отвернуться от этих заплаканных, умоляющих глаз.
470
— Эно, — произнес он. — Это нам ничего не даст. Оставь меня!
Джимми попытался высвободиться, но впустую — он едва не упал.
— Эно, пожалуйста, оставь...
Джимми хотел вытащить ноги, но Эно потянула сильнее. Последствия были катастрофические — он споткнулся и упал, едва не ударившись головой о кровать. Он и без того был на краю черной пропасти — и теперь не сдержался. Подавшись вперед, он влепил ей две хлесткие пощечины.
Ошарашенная Эно смотрела на него, разинув рот, щеки ее горели. Эти пощечины перенесли Джимми на двадцать лет назад. Дело опять-таки было в Бенине, около дома 17 С по Фо-рестри-роуд. В гости к нему пришла Эно. Был один из вечеров, когда влюбленные, прильнув друг к другу, лежали на короткой скамейке рядом с домом. В доме по соседству какой-то мужчина нещадно лупцевал жену. Когда наконец скандал утих, Эно вздохнула.
— Ужасно, правда?
Джимми заговорил о чем-то другом, хотел отвлечь ее от этой темы. Но Эно не поддержала его, и он понял: ее неприятно задело, что он уклонился от интересующего ее разговора. Они собирались жениться, и подобно всем девушкам, идущим к алтарю, Эно считала: надо использовать любую возможность, чтобы показать будущему мужу, как не следует обращаться с женой.
— Некоторые мужчины — настоящие монстры, верно?
Джимми знал, к чему она клонит, но попытался укрыться за дымовой завесой.
— Ну, разумеется, — согласился он. — К примеру, такие как Гитлер или Муссолини...
— Нет! — воскликнула она с раздражением и убрала руку Джимми, теребившую ее волосы. — При чем тут Гитлер? Я говорю о простых людях.
— Простых людей миллионы.
— Да, например, те, кто бьет своих жен.
— Что ж, иногда несколько серьезных уроков на тему о хорошем поведении не помешают.
— О хорошем поведении?
— О хорошем поведении.
Эно восприняла это как личную угрозу.
— С помощью битья? — спросила она, жалея, что не видит в темноте его лица.
— С помощью чего угодно. Пожалеешь розгу — испортишь ребенка, гласит поговорка.
471
Она задумалась. В отношениях с Джимми ее кое-чго беспокоило, в частности, его умственное превосходство над ней. В общем-то, это ее устраивало, она считала, что так и должно быть. Но в такие минуты, как сейчас, ей хотелось быть с ним на равных, а то и превзойти его.
— Но ведь женщина — не ребенок! — воскликнула она.
В темноте Джимми улыбнулся про себя — именно такой реакции он и ждал.
— Это смотря чем мерить, — сказал он ей. — Возрастом? Семейным положением? Или поведением? Иногда человек и в восемьдесят лет ведет себя, как мальчишка. У тебя может быть четверо детей, а по зрелости ты будешь уступать самому младшему из них. Зрелость поведения — вот что самое важное!
Его голос, как всегда решительный, поднялся до угрожающих высот, и Эно как-то смешалась, ей стало не по себе. Вообще она была сыта по горло всевозможными теориями, принципами и идеями. Всерьез Эно интересовали, пожалуй, лишь собственные звезды. Какую судьбу они ей уготовили?
Она перескочила с общего на частное так быстро, что Джимми, ждавший этого, все равно был слегка удивлен.
— А ты будешь меня бить, когда мы поженимся? — таким был ее следующий вопрос.
— Ты что это, серьезно? — спросил он.
Но ей было не до шуток.
— Пожалуйста, запомни: ты мне только что сказал — есть другие' способы преподать женщине урок.
Его тронула тревога в ее голосе. Он притянул ее к себе и снова поцеловал. Потом сказал:
— Запомню.
— Значит, ты не будешь меня бить?
- Не буду.
— А если я... плохо себя поведу?
— Я тебя прогоню.
— Прогонишь? Почему?
— Потому что ты плохо себя вела.
— Но бить не будешь?
- Не буду.
Эно, однако, не успокоилась.
— Неужели ты сможешь меня так возненавидеть, что прогонишь?
Джимми смутился.
— Смогу. Но не захочу.
— Обещаешь?
— Обещаю.
И он снова ее поцеловал
472
— Значит, не будешь меня бить? — спросила она. отстранившись.
Она загнала его в угол. Он снова улыбнулся в темноте.
— Не буду, — поклялся он.
— И не прогонишь меня?
— Не прогоню.
В воздухе повисла многозначительная тишина. Эно протянула руку и вплела пальцы в его волосы.
— Поцелуй меня, — прошептала она.
Их губы встретились — согласие было взаимным, полным и неистовым. Джимми тогда любил ее до безумия и верил во все, что сказал, мало того, он и подумать не мог, что однажды он нарушит данные обязательства. И свое слово он держал. Вплоть до нынешнего дня.
И сейчас, впервые со дня их знакомства и замужества подняв на нее руку, он сразу все вспомнил. Как, ухаживая, не раз давал все эти обещания... в Бенине, в Лагосе, дома, в автобусе, на побережье и во множестве других мест, забывая обо всем на свете, он клялся: «Дорогая, любимая, я никогда не подниму на тебя руку... Никогда не оставлю... Всегда буду любить тебя... Никогда не прогоню...»
Несколько мгновений они смотрели друг на друга, не в силах поверить, что это случилось. Джимми уже был готов поднять ее с пола, извиниться. Но сдержался. Зачем разводить сентиментальщину?
Эно все держала его ноги. Она сидела на полу, пораженная, и по глазам ее Джимми видел: как и он, она вспомнила все — все его обещания. Потом она медленно отпустила его. Глаза помутнели, и против ее воли из них снова закапали беззвучные слезы; Джимми тоже сидел на полу, и несколько капелек упало ему на брюки.
Эно поднялась и, не говоря ни слова, начала складывать вещи, которые он выложил на кровать. Джимми снова кольнуло чувство вины и какого-то неясного страха. Но он тут же взял себя в руки. Поднялся с пола, отряхнул одежду. Эно перестала плакать и пошла в ванную комнату. Вымыла лицо, вытерла его полотенцем. Вернувшись, достала из большого шкафа все свои наряды и вывалила их на кровать. Потом, под пристальным взглядом Джимми, не без труда вытащила свой большой чемодан и принялась запихивать в него одежду.
Покончив с этим, она засновала по комнате, собирая всякие женские вещицы: зеркальца, сумочки, парики. Джимми причесывался, когда она, засовывая туфли в полную сумку, вдруг позвала его:
— Джимми!
473
Кажется, она назвала его так впервые за всю их совместную жизнь.
Джимми невольно обернулся и посмотрел на нее. Она была на удивление спокойна и сдержанна, и Джимми только теперь заметил многое, чего до сих пор не замечал. За неделю со дня его возвращения Эно сильно похудела, а в эти несколько минут жалкое и испуганное выражение исчезло с ее лица. Она смотрела на него совершенно бесстрастно. Будто ничего не произошло.
— Джимми, ты знаешь, у меня нет своего дома... В маленькую комнатушку к отцу я не вернусь. Пока судьба моя не изменится — если изменится вообще,—я буду жить у тетушки Роуз, в Апапе. Когда все бумаги для развода будут готовы, пусть их пришлют туда.
Она смолкла, судорожно глотнула. Однако выдержка ей не изменила, и она продолжала:
— Прости, что из-за меня ты вынужден перекраивать свою жизнь. Всего ты не узнаешь никогда, я уверена. Но теперь это и не важно. Я хочу одного: пусть в твоей душе останется место для сомнений, когда у тебя возникнет соблазн поверить в то, чему нет подтверждения. Помни, как сильно я любила тебя. Ведь я не могла жить, если не слышала твоего голоса. И все же на целых четыре года ты лишил меня и детей права видеться с тобой. Хотя закон не запрещал этого. Мы уважали это твое желание. Но ты забыл, что общество, которое ты пытался перестроить, меняется день ото дня. Забыл, что твои дети в том возрасте, когда им крайне необходимо родительское внимание. Отягощенная своими проблемами, горестями, тоской, одиночеством, разочарованием, я, естественно, не могла им дать всего, в чем они нуждались. Знаешь ли ты, что я больна гипертонией? А этот лишний вес, который вызывает у тебя такое отвращение, — неужели он появился по моей воле? Как только ты вернулся, я села на диету — это ты хоть заметил? Но не будем попусту тратить время. Я говорю все это не для того, чтобы разжалобить тебя...
Раздался стук в дверь. Оба обернулись. Эно с нетерпением откликнулась:
- Да?
Но Джимми пошел к двери, догадываясь, что это Тайво, которую он послал за машиной. Он не успел дойти — дверь открылась. Это и впрямь была Тайво. Спокойная с виду обстановка в комнате ввела ее в заблуждение — она решила, что все в порядке. Чемодан был скрыт от ее глаз большой кроватью.
— Папа, — сказала она, — я нашла такси.
474
— Прекрасно, — ответил Джимми. — Скажи шоферу, пусть немного подождет.
Тайво исчезла за дверью. Джимми и Эно снова взглянули друг на друга. Она продолжала свой монолог.
— Большое тебе спасибо за все, что ты сделал для меня — ты щедро дарил меня и любовью, и вниманием. За все это я тебе благодарна и ни капли не жалею усилий, затраченных мною в ответ. Даже сейчас я не стыжусь признаться, что моя любовь к тебе ничуть не угасла. Но теперь все это ни к чему. Знаешь, я очень верю в судьбу. И думаю, что наше с тобой время истекло. А если и не истекло, то судьба еще скажет свое слово. Но если и это и вправду конец, с кем же я буду ссориться?
Она смолкла и улыбнулась — неожиданно открытой улыбкой.
— Спасибо, Джим, — сказала она и еще несколько секунд, улыбаясь, смотрела на него.
Дрожащим голосом она повторила:
— Спасибо... спасибо за все.
И уже не глядя на Джимми, решительно взялась допаковы-вать вещи.
Ее признание в любви сильно взволновало Джимми — он даже огорчился. Но хуже другое: оказывается, несмотря ни на что, он тоже ее любит!
Открыв дверь из спальни, Эно позвала Тайво, — она была в кухне с Фунми. Они немедля откликнулись. Войдя, Тайво удивилась: дверцы шкафа были распахнуты, все платья матери куда-то исчезли. С губ ее готов был сорваться вопрос, но тут Эно сказала:
— Отнесите эти сумки в такси.
Фунми, привыкшая выполнять распоряжения, прошла мимо Тайво и подхватила одну из сумок. Тайво в полной растерянности взяла другую и потащила ее к машине. Только когда они погрузили сумки в багажник и вернулись в дом, Тайво опомнилась. Отец прошел мимо нее, и вскоре она услышала, как он о чем-то договаривается с таксистом.
Из спальни Эно снова нетерпеливо кликнула девочек. Она стояла на другом конце комнаты, за кроватью, и Тайво была более чем удивлена, увидев на полу большой, туго набитый вещами чемодан матери. Эно взглянула на ничего не понимающих девочек. Она уже полностью пришла в себя, слезы ее высохли. '
— Помогите мне отнести чемодан, — попросила она. Фунми, секунду поколебавшись, наклонилась. Но Тайво резко спросила:
— Мама, что происходит? — По ее глазам и голосу было
475
ясно, что она совершенно сбита с толку. — Скажет мне кто-нибудь, что происходит в этом доме?
Она отодвинула Фунми в сторону и встала перед матерью. Но Эно знала — дети выросли и страдать без нее не будут. Она пока плохо представляла, как распорядится своей жизнью, но твердо решила начать все сначала, чтобы зарубцевались края жуткой раны, которую нанесла ей судьба.
— Тайво, пожалуйста, перестань задавать вопросы и делай, что тебе говорят.
Тайво выбежала из комнаты. Она заперла дверь в гостиную перед носом отца, который возвращался в дом, переговорив с таксистом.
— Скажет мне кто-нибудь, что здесь происходит? — снова закричала она, вбегая в спальню.
Тут она наткнулась на Фунми — та, до смерти перепуганная, тихонько всхлипывала, — и на мать. Они вытаскивали из комнаты тяжеленный чемодан. Она побежала назад, к входной двери и встала там с вызывающим видом, будто могла кого-то остановить.
Мать и Фунми, добравшись до середины гостиной, поставили свою ношу на пол — передохнуть. Эно энергично направилась к выходу, схватила Тайво за руки и поволокла ее в детскую спальню. Там бросила дочь на кровать и, несмотря на ее протестующие крики, закрыла ее на ключ. Потом отперла входную дверь и снова взялась за чемодан, но тут вошел Джимми. После секундной нерешительности он помог им, и в конце концов чемодан оказался в машине.
— Водителю я уже заплатил, — сказал Джимми, чувствуя, как к горлу подступает ком.
Эно кивнула.
— Спасибо, — сказала она почему-то шепотом.
Водителю все казалось обычным: хозяин дома провожает жену в какую-то поездку. Но это только так казалось. Когда он отъехал от дома, пассажирка за его спиной начала плакать.
И уж, конечно, не знал он, что и в доме, оставшемся позади, плакали все его обитатели. Ничего не понимавшая служанка рыдала в кухне над невымытыми тарелками. Запертая в своей комнате Тайво — она не сомневалась, что произошло что-то непоправимое, — рыдала громко, безутешно.
Плакал и мужчина. Он вошел в спальню, которая сразу опустела, стала никому не нужной, из нее ушла жизнь. Сделал несколько шагов — так ходят скрюченные ревматизмом старики. Забравшись в постель, он горько задумался. Слезы горячими и быстрыми ручейками стекали по щекам на подушку.
476
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Миссис Тинуке Аджала всегда твердо знала, почему вышла замуж за Шефа: из-за денег. Всякая душещипательная любовная сентиментальщина — это не для нее. Она рвалась замуж за богатого, и когда родители попытались отговорить ее, она взбеленилась и заявила им, как всегда, не особенно выбирая слова, она выйдет за него, и точка.
И точка — она настояла на своем, и после пышной свадьбы, о какой всегда мечтала, гордо воспарив над облаками, зажила в Лагосе.
Тину была высокая и изящная женщина с кожей цвета глиняного горшка, простоявшего на огне пять лет кряду. Любой, кто видел ее. соглашался — в красоте ей не откажешь.
Однако прошло всего два года, родился ребенок, и она — эго было не удивительно при ее темпераменте — впала в разочарование. Муж уделял ей все меньше внимания. Часто ей приходилось ложиться в большую постель одной: муж являлся очень поздно и терпеть не мог, когда она приставала с расспросами. А если приходил домой рано, то всегда ссылался на yc'i алость.
Поначалу Тину доверчиво принимала все отговорки, которые медом стекали с его поднаторевшего во вранье языка. Потом стала подмечать кое-какие признаки мужниной неверности: неуловимый аромат духов на его одежде; прядки волос, наверняка женские; пятна от губной помады. Она пробовала бороться, но все оставалось по-прежнему. Более того — появились бесспорные, уж совсем очевидные доказательства измены. Тогда она взорвалась.
Но Шеф Аджала лишь изменил тактику, стал более осмотрительным и осторожным. Такая политика позволила ему избегать крупных семейных неурядиц еще два года. Однако чрезмерная самоуверенность привела к оплошностям, и жизнь в доме стала сплошным хаосом. Среди непрекращающейся ме-ждуусобицы на свет появились еще двое детей. Но мир в семье не наступил.
Какое-то время Тину с ее неукротимым нравом серьезно подумывала на неверность ответить неверностью. Но она была женщиной гордой и практичной. И просто не могла представить себя в положении любовницы, к тому же была уверена — сейчас ей плохо, а тогда станет еще хуже. И, стиснув зубы, она решила оставить все как есть.
Она занялась детьми, вступила в несколько женских организаций. Случалось, муж проявлял заботу и внимание, да и она жаждала любой ценой сохранить семейные узы, — в общем все
477
это вместе взятое позволяло удерживать крышку на кипящем котле почти пятнадцать лет.
Но с ростом доходов Аджалы рос и список его подруг и любовниц. Росло и умение Тину распознавать его хитрости. Разочарование и безысходность, однако, не могли лишить ее решимости перенести все выпавшие на ее долю испытания. Денег у нее было предостаточно — подбрасывали и состоятельные родители и муж, — она покупала себе почти все, что желала, ездила всюду, куда хотела.
Но увы, все это было слабым утешением. Время от времени — будь то дома или в обществе — она срывалась, впадала в безудержную ярость. Скоро она заработала себе язву, от чего раздражительность ее лишь усилилась.
В то утро она не собиралась никуда выходить. Однако тщательно вымылась, надела длинный приталенный золотистый халат, ,волочившийся по полу шлейфом. Позавтракав, она перешла в гостиную и долгое время сидела на кушетке, полностью расслабившись, как всегда грациозная и элегантная. Темная кожа сияла, как у принцессы. Лицо ее, не знающее косметики, было захватывающе прекрасно — на нем словно и не отразились полтора десятка лет далеко не безоблачной семейной жизни. Маленький рот обрамлял идеальные зубы — мелкий и ровный жемчуг, а губы выдавали непреклонную волю — даже если поражение неизбежно, такая женщина будет сражаться до конца.
Целый час она сидела в раздумье, лениво ковыряя в зубах, потом вдруг почувствовала усталость и вялость и потянулась за газетами. Разложила перед собой «Лагос уикенд» и стала просматривать заголовки.
Несмотря на интерес к газете, Тину стало еще больше клонить в сон. Но вот она наткнулась на роковую статейку — и вскинулась так внезапно, что сама испугалась. Последний абзац, который не заинтересовал Джимми, с полной очевидностью указывал на ее мужа. Она перечитала статейку еще раз, и еще раз, и вдруг у нее сильно заныла язва. По телу горячей, опаляющей волной разлилась ярость.
Она пошла в спальню, запихнула газету в сумочку и быстро переоделась. Ее кремовый двухдверный «купе» вылетел за ворота — тут только в доме узнали, что она куда-то поехала.
Позвонив Эно, Реми тут же уехал из Апапы — надо было ехать на остров Лагос, продлить свое водительское удостоверение. Но он попал в кошмарную пробку, и дорога заняла ни мало ни много — три с половиной часа. Когда наконец добрал
478
ся до места, нужный ему отдел уже закрылся — раньше положенного времени.
— Пожалуйста, не приставайте, — сказала ему сотрудница отдела. Волосы ее напоминали губку для мытья особо грязной посуды. — Приходите в понедельник.
Реми требовал, настаивал — бесполезно. Махнув рукой, он решил вернуться в контору, взять кое-какие бумаги. Дорога на остров была не из легких, но вернуться в центр оказалось еще сложнее. На автобусной остановке Тинубу бурлила в ожидании гигантская толпа, а автобусы приезжали, набитые битком.
И в середине этого водоворота он увидел девочку.
Высунув голову из окна машины, он закричал:
— Офуре! Офуре!
Последний рабочий день недели подходил к концу — попробуй что-нибудь услышь в этой сутолоке, в этом гомоне. Окруженная густой толпой, Офуре, беспомощная и потерянная, крепко держала в руках большие сумки. На что она рассчитывала, поразился Реми, ей и самой-то в автобус нипочем не влезть, а тут еще такие сумки!
— Офуре!
Он посмотрел вперед. Машины стояли без движения — на лагосских улицах такое в порядке вещей. Реми вылез из машины, перебежал через улицу — некоторые шоферы, воспользовавшись затором, спокойно спали за баранкой — и вывел девочку из толпы.
— Ой, спасибо, дядя Реми, — повторяла она, уже сидя в машине. — Я тут час с лишним торчу.
Реми улыбнулся.
— Кто знает, может, придется еще два проторчать. Видишь, все стоят на месте.
— Да, но в машине, по крайней мере, можно сидеть, ноги вытянуть. Да и сумки у меняя тяжеловатые.
И она похлопала по сумкам, которые держала на коленях.
— Делала покупки? — спросил Реми.
— Да. Вместе с папой.
— Вон что? А где же он?
— Уехал домой. А я навещала дедушку, — Выражение ее лица вдруг изменилось. — Дядя Реми, вы должны обещать мне одну вещь.
— Какую?
— Обещайте не говорить папе, что встретили меня, когда я ждала автобус.
Реми был озадачен.
— Что же мне сказать, что ты ждала вертолет?
479
— Дядя, я серьезно. Ведь папа дал мне деньги на такси.
— Почему же ты не взяла такси?
Ее обеспокоенные глаза стали задумчивыми. Сплетя руки, она взглянула на сумки, лежавшие на коленях.
— Мне... мне нужны деньги. Когда я поеду к бабушке, хочу ей кое-что привезти.
Реми был искренне тронут. Хотя, конечно, ничего удивительного. Еще совсем малышкой Офуре только и думала, как помочь другим. Он смотрел на нее с неподдельным восхищением.
— Хорошо, — согласился он.—Не скажу. Но в следующий раз поступай так, как говорит отец. А если тебе на что-то нужны деньги, просто попроси у него.
— Но у папы больше нет денег!
Реми секунду подумал. С такой, как Офуре, надо держать ухо востро.
— Как бы то ни было, — заключил он, — первым делом ты должна слушаться отца. Хорошо?
Она кивнула.
Машины медленно поползли вперед. Такой скорости устыдилась бы и улитка.
Вдруг у Реми возникла хмысль.
— Как твоя мама сегодня? — спросил он.
— Когда мы ушли, все было хорошо, — ответила Офуре, не подозревая, как точны ее слова.
— А Тайво с вами за покупками не ездила?
— Нет. Мы ее не позвали.
Реми снова отметил прямоту и откровенность девочки. Он кивнул.
— Она закатила истерику, — сообщила Офуре.
- Кто?
— Тайво.—Офуре понимающе улыбнулась. — Кричала, что никак не может найти «Лагос уикенд». Не знаю, чего заводиться — что уж там такого печатают?
Обрадованный Реми вздохнул с облегчением.
— Значит, не могла найти? — переспросил он.
, — Просто куда-то засунули, вот и все, а она так разошлась, даже странно.
Но Реми знал, в чем дело.
— Видишь ли, у людей всегда так: что для одного хорошо, для другого...—Он переменил тему,—А ты все это купила, когда отец уехал домой?
Офуре расцвела в улыбке.
— Нет. Я просто не хотела, чтобы кто-нибудь видел подарки до того, как я вернусь.
480
— Подарки? — недоверчиво переспросил Реми. Ай да Офуре, только и делает, что печется о благе других!
Офуре посмотрела на сумку.
— Да, — сказала она. — Небольшие подарки для мамы, папы, Тайво, Кехинде и Фунми.
— Кстати, как Кехинде?
— Неплохо, спасибо. Вечером его выписывают, и я купила ему очки от солнца — вместо сломанных. А завтра приготовлю его любимое блюдо. Он так, бедняга, похудел,—в голосе зазвучали жалость, сочувствие, любовь,—я хочу, чтобы он поправился.
— Молодец. Ты просто молодец.
Было уже пять часов, они тащились мимо автобусной остановки Ойинбо в направлении Херберт Маколей-роуд. Народа на остановке не меньше, чем в Тинубу или Идумоте. Кого здесь только нет! Молодые и старые, расфранченные и убогие, на лицах — надежда, отчаяние, печаль, решимость, разочарование, волнение, горечь, тоска.
Машина Реми поползла дальше. Офуре повернулась к нему.
— Дядя, а папа сказал, что вы женитесь.
В ее глазах, сверливших Реми, трепетал невысказанный вопрос.
— Это правда, — без особой уверенности подтвердил Реми.
— Когда? — заволновалась она.
— Надеюсь, скоро. Точнее пока сказать не могу.
Она задумалась.
- Дядя?
Реми почувствовал, что сейчас грянет серьезный вопрос.
- Да?
— А что в браке самое главное?
Реми посмотрел на нее так, будто она спросила, как пройти к дому господа. Но по ее детскому, жаждущему знаний личику было ясно — она и не думает шутить.
— Не знаю,—признался он.
Офуре поставила сумки между ног. Потом подняла к нему глаза, и Реми увидел в них укор. Надо как-то исправлять положение.
— Я хотел сказать, — он широко улыбнулся, — что не совсем понимаю твой вопрос.
Офуре улыбнулась в ответ, приободрилась:
— Вот вы решили жениться, дядя, значит, вы видите в женитьбе что-то привлекательное, надеетесь, что будете счастливы. Папа считает, что главное в браке — это понимание. Фунми говорит — общее хозяйство. Мне кажется — любовь. А вы как думаете?
16 Альманах «Африка», выл. 6
481
Реми, можно сказать, был выбит из седла, но постарался скрыть свои чувства. Ему снова подумалось — чудо, а не девчонка, второй такой, наверное, и нет. Смущенный, удивленный, он попробовал отделаться туманным ответом.
— Думаю, ты и права, и не права. По-моему, тем, кто женится, больше всего нужна решимость создать прочную семью, они должны понять, что это, пожалуй, самая главная задача, какую им задает жизнь. Да, решимость создать прочную семью — так я ответил бы на твой вопрос, только с одной оговоркой: боюсь, что на такую решимость способен не всякий — значит, это должна быть святая, ниспосланная свыше решимость.
Офуре снова глубоко задумалась. Она не вполне поняла Реми, но решила записать его слова в дневник — она всегда записывала разные мысли, которые ей доводилось услышать, — и обдумать их, когда станет старше. Каждый день она просила господа, чтобы, когда она подрастет, он послал ей в мужья замечательного человека — такого, как ее отец.
Она думала об этом до самого дома.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Тину тоже изрядно намытарилась в дорожной пробке, отчего еще больше рассвирепела. Казалось, за два часа пар должен был бы выйти. Ничего подобного. И в контору мужа она ворвалась неким подобием урагана.
Она ни с кем не поздоровалась, никому не ответила на приветствие. Снизошла она только до разговора с секретаршей мужа. Пропустив мимо ушей ее «добрый день», она бросила:
— У себя?
Секретарша всегда недолюбливала жену своего босса. Однако она была человеком достаточно практичным и понимала — если не хочешь потерять работу, лучше никак не реагировать на это высокомерие.
— Да, миссис Аджала, — ответила она, выделяя «миссис»,— но сейчас он разговаривает по телефону. Подождите, если не возражаете.
Она возражала. Но сообщить об этом «безмозглой секретарше» у нее не хватило ни терпения, ни вежливости. Она просто открыла дверь и решительно вошла в кабинет.
Шеф Аджала никак не ожидал ее появления; он поспешно отбросил носовой платок, которым прикрывал трубку, — договаривался на вечер с молодой студенткой. С не меньшей поспешностью нажал на рычаг, чтобы жена не догадалась, в чем
482
дело. Он сразу понял, что ее приход не сулит ничего хорошего.
Довольно долго Тинуке, как обычно грациозная и элегантная, лишь в упор смотрела на мужа, раздумывая, а не проще ли сразу проломить ему голову и положить конец всей этой комедии? Глаза ее, холодные, жесткие и влажные, походили на камешки, покоящиеся над водой, если бы не искрились такой откровенной яростью.
Внезапно она выпустила жало.
— Ну что, мистер Казанова, ты, надо полагать, уже читал о своих великолепных похождениях? — И она положила перед ним газету.
Выражение его лица яснее всяких слов сказало ей — не читал. Глянув на заметку, в которую жена ткнула пальцем, он отшвырнул газету. Откинувшись в кресле, взял пачку своих газет с маленького столика за его спиной, развернул перед собой «Лагос уикенд» и стал читать.
Тинуке не без удовольствия наблюдала за ним. Следила, убирая в сумочку свою газету, как меняется выражение его лица.
Шеф Аджала прочел заметку — позор, скандал! Его словно ударили под дых. Уж не поэтому ли все, с кем он сегодня встречался, держатся как-то странно? Неужели они смеются над ним? Он поднял голову.
По его глазам Тину увидела: он потрясен, растерян.
— Что это тебя так проняло? — спросила она.— Разве не этим ты занимался все последние годы? Правду не скроешь-, вот она и вылезла наружу, и теперь весь мир смеется над тобой — и я вместе со всеми.
Голос ее перешел на крик, и Шеф Аджала подумал — наверное, их слышит вся контора. Он удивился бы, если бы видел, с каким напряженным вниманием его секретарша в приемной изучает настенный календарь. Это была только видимость. Вся превратившись в слух, она внимала разговору между супругами, проклиная попутно отключенный селектор.
Не меньшее любопытство проявляли и две девушки, стоявшие у окна второго этажа, прямо под кабинетом Шефа. В вестибюле Тинуке не сочла нужным ответить на их «здравствуйте», заинтригованные, они поднялись к себе в комнату и сейчас стояли у окна, прислушиваясь — по соседству гудел резервный движок, — и старались не пропустить ни одного слова Тинуке.
Шеф весь потный, хотя в кабинете работал кондиционер, пытался утихомирить жену.
— Тину, пожалуйста, выслушай меня! Выслушай ради бога!
Но оскорбленная женщина уже сорвалась с тормозов.
16*
483
— Проклятый развратник! — кричала она.—Ты не достоин иметь жену!
— Тину, пожалуйста, выслушай меня!
— Только подумать — из вечера в вечер таскаешься по чужим женам, — вопила она.
— Тину... прошу тебя... ты кричишь на всю Апапу! Погоди...
— Ты подонок, Шеф Аджала!
— Тину!
— Распутник!
— Послушай!
— Тебе не место среди людей! — вскричала она и хлопнула кулаком по его столу.
— Я сейчас объясню, Тину, ты только выслушай. Ведь все...
Плевать ей на всех! Она продолжала честить и поносить его, пока язва не дала о себе знать. Давясь слезами, едва не задыхаясь, она пригрозила ему напоследок:
— Погоди, вечером я тебе кое-что устрою!
И она вылетела из кабинета.
Какое-то время Шеф Аджала не мог оправиться — заметка в газете плюс бешенство жены совершенно вывели его из равновесия. Но способность думать, просчитывать варианты быстро к нему вернулась. Он еще раз прочел заметку. И еще раз. Потом, не колеблясь, не мешкая, принял меры. Сняв трубку, позвонил Адейеми Адеойне, директору агентства путешествий. Шеф Аджала опасался, что уже не застанет друга на работе, но удача его не подвела.
Он сразу перешел к делу.
— Слушай внимательно. Организуй мне билет на любой самолет до Нью-Йорка или Лондона — я хочу улететь сегодня вечером. Дело довольно срочное, все объясню, когда приеду. Если таких рейсов нет, зарезервируй билет до любой западноевропейской столицы, полечу с пересадкой. Достань обязательно за любую цену.
Повесив трубку, он взял лист бумаги и написал записку Мохаммеду Деджи, клерку, который ведал делами таксопарка. Шеф Аджала решил, что поскольку, кроме Йекини, о его интрижке с Эно не знал никто, стало быть, и статейка — дело рук Йекини, а раз так, он получит по заслугам.
На следующий день Йекини вылетел с работы без всякой компенсации. Но если бы это было все! Используя свои связи, Шеф Аджала доказал Йекини, что Лагос, несмотря на свои размеры, всего лишь большая деревня: целых полгода потом
484
Йекини изо дня в день искал работу — водительские права у него были в порядке, да и послужной список тоже, — но всюду натыкался на отказ.
Догорающий день поражал какой-то необычной и смутной красотой — в такие вот дни происходят важные события. Солнце смиренно уходило с неба, его последние лучи струились в просветы между домами. Офуре все обдумывала «семейную философию» Реми, да так этим увлеклась, что совсем не замечала ухабов и выбоин на боковых улочках, по которым Реми вел машину в надежде избежать очередной пробки.
Домой она приехала очень воодушевленная.
Семейные дела, рассуждала она бодро, идут на поправку. В первые дни родители были заметно сдержанны друг с другом, холодны, но сейчас это прошло... Кехинде поправился, и сегодня его выпишут... у нее есть деньги на подарки бабушке... родители разрешили Фунми на несколько дней съездить к сестре... она купила подарки всей семье...
От этих мыслей настроение у нее поднялось до небес. Она выложила сумки с подарками на обеденный стол и тут заметила, что в доме стоит непривычная, какая-то застылая тишина.
Реми закрыл за собой дверь.
— Похоже, никого нет, — сказал он.
Это же подумала и Офуре. И неизвестно почему, вся вдруг покрылась гусиной кожей.
— Эй! — крикнула она, стараясь прибавить себе уверенности. — Кто-нибудь дома?
Ответа не последовало. Она пошла к своей спальне, но тут открылась кухонная дверь. Появилась Фунми, она терла руками глаза. Даже годовалому ребенку было бы ясно, что она плакала. Офуре, не на шутку встревожившись, подбежала к ней.
— Фунми! Что такое? Почему ты плачешь?
Фунми открыла было рот, но из горла ее вырвалось рыдание. Офуре уже была рядом и обняла подружку; хоть она и была служанкой, Офуре любила ее, как сестру. Она встряхнула Фунми за плечи.
— Перестань плакать и скажи, в чем дело? Куда все подевались?
Участие Офуре могло растрогать кого угодно. На глаза ее тоже навернулись слезы — она не знала почему. Просто ее подруга страдает, чем-то расстроена — разве этого мало? Реми, на мгновение растерявшийся, подошел к девочкам.
485
Джимми услышал, как приехал Реми, его дочь, как началась суматоха, — он лежал в спальне и обдумывал окончательное решение. В гробовой тишине, царившей в доме, голоса слышались очень отчетливо.
Он поднялся с постели, пошел в ванную и вымыл лицо. Итак, решающий момент наступил — сейчас ему придется объяснить Офуре все, что произошло. Он знал — она не успокоится, пока не получит ответа. Только хватит ли у него мужества сказать ей?
Но — сказать что? Что?
Как и большинство людей, в личной жизни которых разражается кризис, Джимми боялся посмотреть в лицо суровым фактам, горькой действительности. Тут не выручит интеллект — этого-то у Джимми хватало. Как поступить, чтобы никому не причинить боль? С другой стороны, как быть с гордостью? С нравственными идеалами, которые он всегда исповедовал? Надо ведь подумать и о своей репутации, о своем имени. С Эно все кончено, она предала его, и жить с ней в супружестве он не будет. Но на каком языке... какшми словами объяснить это Офуре?
Так и не отделавшись от охватившего его смятения, он вышел из спальни. В походке его не было живости, во взгляде — уверенности, в глазах — улыбки. Когда он появился в гостиной, Реми пытался успокоить девочек: Фунми всхлипывала, а Офуре так переполошилась, что и сама была готова разрыдаться. Реми, мучимый странным зловещим предчувствием, тоже был расстроен. Услышав, как открылась дверь из спальни Джимми, он обернулся.
— А-а-а! Вот и ты, — воскликнул он с облегчением и шагнул навстречу другу. — Объясни, пожалуйста, что здесь происходит? Фунми кто-нибудь обидел?
Джимми сел — так садятся старики. Навалилась усталость, но не успел он ответить Реми, как к нему подбежала Офуре. Увидев его лицо, она сразу поняла — произошло что-то ужасное.
— Папочка! — вскрикнула она. — Папочка, с тобой тоже что-то случилось? Почему ты такой грустный?
Но при всем желании Джимми не удалось бы ответить и на этот вопрос. За его спиной открылась дверь из спальни девочек, и оттуда, таща доверху набитую сумку, появилась наспех одетая Тайво. Она шмыгала носом и икала — наверное, здорово наревелась, и по ее виду было ясно, что она уезжает из дому. Все обернулись в ее сторону, но Тайво не остановилась. Она шла к двери, таща за собой сумку.
Реми среагировал мгновенно. Несколько быстрых ша
486
гов — и он встал в дверях и, опершись о косяк, повернулся к Тайво. Взялся за лямку ее сумки.
— Дайте мне пройти, дядя! — выкрикнула она неистово,— Дайте пройти!
— Не так быстро, — возразил Реми, не уступая девушке сумку, а сам поглядывал на друга: как быть дальше и вообще, что тут у вас произошло?
Но Тайво яростно рвалась из дому — в ней будто проснулась дикая кошка. Реми пришлось запереть дверь на ключ и спрятать его к себе в карман. Тайво, не долго думая, кинулась к кухне — единственный другой выход из дому был там.
Реми снова опередил ее, запер кухонную дверь и снова спрятал ключ в карман. Глаза ее забегали так беспомощно, что он не смог сдержать улыбку.
— Ну, дорогая, — сказал он,—может, сядем и поговорим?
Но Тайво полоснула его таким взглядом, что, будь это бритва. она вмиг рассекла бы Реми на две половины. Повернувшись, Тайво потащила сумку назад, в свою комнату, хлопнула дверью и заперлась.
Теперь у Реми не оставалось сомнений — случилось что-то серьезное. В душе у него тлело подозрение, что какую-то роль тут сыграла газетная заметка. Неужели Джимми все стало известно? Так быстро? Допустим, но что же он тогда сделал, расставшись с Офуре, если все в доме так внезапно перевернулось? Устроил скандал? И где Эно?
Когда Тайво вихрем влетела в свою комнату, Реми достал из кармана ключи и открыл запертые двери. Офуре, ошарашенная поведением Тайво, пришла в себя и, ничего не понимая, накинулась на отца с расспросами. Она ждала, что отец ответит ей, вселит покой в ее душу, все объяснит...
Реми никогда не видел Джимми таким подавленным, хотя за долгие годы дружбы им пришлось перенести немало невзгод.
Офуре привычно опустилась на колени у ног Джимми, на старый коврик. Обхватив колени отца, она заглядывала ему в глаза, стараясь найти в них ответ на вопрос, на который не ответить словами. Недоумение и дурные предчувствия зажгли в ее глазах темные Ъгоньки. Джимми пытался отвести взгляд, но это была безнадежная попытка улизнуть от правдивого ответа. Нет, у него это не получится. По крайней мере, не с Офуре. И он это знал.
Снова взглянув на нее, в эти короткие, но такие важные мгновения он увидел в ее глазах то, чего надеялся никогда не
487
видеть. Они были полны душевной муки, невыразимой боли, тотчас ему передавшихся. Он взял ее руки в свои и попытался улыбнуться. Что ж, видимо, решающий момент наступил. Пора.
— Папа, ты не хочешь разговаривать со мной? — спросила Офуре.
Он успокаивающе стиснул ее руки.
— Что ты, почему? — произнес он каким-то не своим, натужным голосом. — Почему ты думаешь, что я не хочу с тобой разговаривать, Офуре?
Он просто пытался снять напряжение, и Реми, присевший в кресло, его понял.
— Слушай, Офуре, пойди на минутку в свою комнату, — попросил он, — А мы с отцом разберемся, что к чему.
Нет, решил Джимми, с него хватит. Он знал: что бы ни случилось, этой девочке он обязан все объяснить — ей прежде всего. А откладывать дальше нельзя — она будет лишь сильнее страдать. Он этого не допустит. Ведь кроме Офуре у него, пожалуй, теперь никого нет.
— Не беспокойся, — ответил он другу, придерживая Офуре, которая хотела было подняться. — Она должна услышать это сейчас.
Все посмотрели на него. Что случилось? Электрический ток пробежал по спине Реми, заставив его скрючиться в кресле.
Джимми вдруг почувствовал себя верховным судьей, которому предстоит разрешить важный государственный вопрос. Но с чего начать, что сказать? Где взять силы, чтобы причинить боль своей дочурке,— ей ведь всего одиннадцать. Причинил боль своим близнецам, Фунми. Своим родителям, отцу Эно. Его не поймут даже в этом маленьком кругу, а за его пределами — целый мир, который жаждет, не чает дождаться скандала?
Он взглянул в глаза Офуре, в густой пелене непролитых слез, и почувствовал себя невыносимо несчастным. Ему снова захотелось уйти от тягостной действительности. Но он стоял перед трудным выбором.
С одной стороны — Эно, от одной мысли о которой у него сразу горчило во рту — толстая, неряшливая и неверная. Достанет ли у него сил терпеть ее до конца жизни? С другой стороны, его работа — требующая гигантского напряжения, но благородная и благодарная. Так разве не ясно, что выбирать?
С одной стороны, его репутация — трудолюбивый, не ведающий компромисса провидец-моралист, полностью посвя
488
тивший себя преображению общества; имя его незапятнан© — да и не могло быть запятнано... до нынешнего дня...
С другой стороны, Офуре, свет в окошке — юная и честолюбивая, прекрасная телом и душой, стремящаяся стать (тут Джимми вспомнились ее слова) «выразителем мыслей моего поколения». Офуре, единственная отдушина. Выбрать ее — значит, выбрать Эно. Но принять Эно — значит, пойти на сделку с совестью, надругаться над убеждениями, которые он отстаивал всю жизпь, в том числе и пять лет, проведенных за решеткой.
С одной стороны, его гордость — бурливая, как океанская волна, нежная, как улыбка пробудившегося ребенка, недосягаемая, как небо, не допускающая никаких сделок с собой. С другой — счастье юной Офуре, ее уверенность (как это важно!) в завтрашнем дне — кто даст ей это, кроме него?
С одной стороны, необходимость сохранить семью, позволить детям расти в нормальной атмосфере. С другой — он всегда заявлял, что не потерпит супружеской измены, не будет с ней мириться. Какой же выбрать путь в этот решительный момент, момент, когда открылась истина.
Мысли его были быстры и ясны. Конечно же, и болезненны — такой боли он еще не знал. Не отводя глаз от Реми, он повторил:
— Она должна услышать это сейчас!
Из-за их спин раздалось:
— Расскажи-ка им, папа.
Это была Тайво — никто не слышал, как она открыла дверь. Она стояла в дверном проеме — смотрит и держится вызывающе, волосы растрепаны. Они повернулись на звук ее голоса, и она повторила еще агрессивнее:
— Расскажи же им! Расскажи, как ты вышвырнул ее из дому! Расскажи им, папа, как ты выгнал ее, больную и слабую. Расскажи!
Это была истерия — Джимми никогда не думал, что Тайво способна принимать что-либо так близко к сердцу. Но ведь каждый из них впервые в жизни сталкивался с подобной ситуацией. Судьба заставила их, таких разных по характеру, разделить одну общую беду.
Бурно жестикулируя, Тайво продолжала обличать отца. Но разящие слова не задевали Джимми. Он понимал — Тайво должна выговориться, тогда ей станет легче. Если что-то его и страшило, так это реакция Офуре.
Она не заставила себя ждать.
Джимми смотрел на младшую дочь, -слушавшую обвинения
489
Тайво. На ее лице, меняя друг друга, появлялись удивление, оцепенение и' боль.
К Тайво подошел Реми — он как всегда не терял трезвости мысли — и уговорил ее уйти к себе. Второй раз за эти два часа Тайво заперлась в своей комнате.
Зарывшись головой в колени отцу, Офуре рыдала — она еще не осознала важности случившегося, но ее расстроило то, что произошло у нее на глазах. Как ни странно, вспышка Тайво отрезвила Джимми, в голове у которого все перемешалось, к нему отчасти вернулась былая решительность, уверенность в себе. Он сделал над собой усилие, чтобы не увязнуть в трясине чувств, которые обуревали всех, кто там был.
— Ну будет, будет, — попытался он успокоить Офуре. — Выслушай меня. Я расскажу тебе всю правду.
Офуре продолжала рыдать. Но потом перестала, почти внезапно. Подняв голову, она вытерла глаза, поднялась с колен и села в кресло напротив отца. Это был один из тех редких случаев, когда они, находясь в одной комнате, сидели в разных креслах. В глазах Офуре было выражение, которого Джимми, кажется, раньше не видел, и он не мог понять, что оно означает. Все так быстро становилось каким-то новым, .незнакомым. И чтобы хоть в чем-то разобраться, было слишком мало времени.
— Ну что ж, расскажи, — разрешила она.
Джимми не совсем понял дочь, что у нее на уме? Почему она так держится, почему у нее такой вид? Что с ней происходит?
Меж тем в душе Офуре свершалась некая, почти зримая перемена — это был переход к взрослению. В эту минуту она переживала второе за свою недолгую жизнь потрясение — первое случилось, когда отца забрали в тюрьму.
Она осознала, еще не выслушав объяснений отца, что жизнь ее уже никогда не будет прежней, исполненной любви и беззаботности. Она вступила в пору взросления, и все кругом изменилось; отныне неприятности и беды не раз будут сгонять лучистую улыбку с ее лица, затягивая его паутиной грусти. Она осознала, что люди, которых она любила больше всего на свете и которые отвечали ей тем же, способны, однако, причинять ей невыносимые страдания.
Потрясенная до немоты, Офуре поняла в этот миг, что деревянный идол, которого она любила, обожала, которого боготворила каждой клеточкой своего тела — ее отец, — тоже не безгрешен. Он тоже иногда может заблуждаться и забрести в тупик. Он тоже человек и, как все люди, может причинить
490
боль другим. Он — не ангел. Да как он может быть ангелом, если он здесь, на земле.
Джимми смотрел на дочь — в ее спокойных глазах застыл вопрос, как она поступит — невозможно предугадать.
Ну как сказать ей то, чего нельзя не сказать? Его снова захлестнула волна жалости к себе, скорби, слабости и нерешительности, но он собрался с силами и выпалил одним духом:
— Рано или поздно ты должна об этом узнать, Офуре. Твоя мама и я расстаемся.
Он ждал — как ему казалось, неизбежного — нового потока слез. Но ни изумленного вскрика, ни судорожного жеста, ни слез — ничего этого не последовало. Только чуть дернулась нижняя губа. Она оставалась на удивление спокойной, настороженной, внимательной. Потом спросила:
— Ты хочешь сказать, что ты с ней разводишься?
Джимми сглотнул. Глаза его умоляли — не переживай так сильно, постарайся меня понять. Он кивнул.
— А что случилось?
Джимми заколебался. Вот он — момент полной откровенности. Так что же действительно случилось?
— Это долгая история, Офуре, — выдавил он из себя наконец.—Ты не поймешь.
Офуре улыбнулась и, ни на кого не глядя, сказала:
— Слишком молода, чтобы понять, но достаточно взрослая, чтобы страдать. И ты еще говоришь о понимании?
Джимми встрепенулся. Она применяла против него его же оружие.
Буравя его холодным колючим взглядом, она сделала еще один выпад:
— Тебе ли говорить о понимании? Так ли должны относиться друг к другу родители, члены семьи? А сам-то ты — не важно, почему ты разводишься с мамой, — уверен, что понимаешь ее, понимаешь женщину, на долю которой за пять лет выпало столько горя, однако же она не уставала тебя ждать?
Она остановилась, и Джимми тут же перехватил инициативу.
— Послушай, Офуре, ты не можешь всего понять. Ты ведь знаешь, думай я иначе, я бы не стал от тебя скрывать. Но это лишь усилит твои страдания. Не так все просто. Постарайся правильно понять. Ты ведь знаешь, я сделаю все, чтобы защитить тебя, никогда не причиню тебе зла.
Она не отводила от него глаз.
491
— Папа, — сказала она, чуть помедлив, — я не очень тебя понимаю. Сначала ты говоришь, что мне не понять. И тут же просишь меня понять. Что именно? Все или только кое-что, а над остальным не задумываться? Что я должна думать, когда ты — вопреки всему, чему сам меня учил, — принимаешь такое поспешное решение, совсем не подумав о маме или обо мне? Когда в один день выбрасываешь на улицу маму, которая ждала тебя пять долгих лет? Почему ты не попросил ее уйти пять лет назад? Что я должна думать, когда ты забываешь о моих — о наших — интересах? Отвечай, папа. — Она взглянула на него, будто с глаз ее сняли глухую черную повязку, потом улыбнулась. — Папа, я считала тебя самым замечательным человеком на свете. Я считала, что ты замечательный человек, который не может поступить плохо. Теперь я знаю, что ошибалась. Ты — плохой человек, который может прикидываться добрым. Я... я...
Она всхлипнула и начала плакать, сперва тихо, потом рыдания усилились. Она бросилась к отцу и спрятала лицо у него на груди. Из кухни вышла Фунми и замерла в дверях. В глазах ее тоже стояли слезы.
Джимми не надеялся, что Офуре поймет его, тем более что он не решался привести оправдывающие его поступок причины. Он ждал от нее сильной реакции, но на подобную бурю никак не рассчитывал. Его поразила ее способность к анализу, подбор слов, глубина чувств. И когда она бросилась к нему, он обнял ее так крепко и с такой любовью, как не обнимал никогда. И что-то зашептал ей в волосы — слышное только им двоим.
Реми и подумать не мог, что события примут такой грустный оборот. Более двадцати лет он наблюдал за отношениями Джимми с Эно, сперва дружескими, а потом и супружескими. Ему никогда и в голову не приходило, что эти прочные узы преданности и любви, ставшие образцом для многих молодых пар, будут разрушены. Видя, как восприняла Офуре весть о предполагаемом разводе родителей, он впервые понял, сколько у нее общего с отцом. Смотреть, как расстаются Джимми и Эно, столько прожившие вместе, было невыносимо тяжело — как на смерть единственного ребенка. Но Реми взял себя в руки.
Джимми уговаривал Офуре пойти в свою комнату и успокоиться. Они все обговорят позже. Но Офуре не поддавалась.
— Папа, — сказала она, — я не смогу успокоиться, пока не буду точно знать, что произошло. И я не хочу быть сиротой при живых родителях. Может, мне придется переехать к ба
492
бушке и дедушке. А сейчас я поеду к маме — хочу облегчить ее страдания.
Она высвободилась из объятий отца и побежала в ванную вымыть лицо. Джимми взглянул на друга и, увидев глубокое сочувствие на его лице, попытался улыбнуться.
— Извини,—сказал он.
Реми кивнул. Он все понимал. Хотел было что-то сказать, но что тут скажешь? Он все пытался подобрать нужные слова, когда вернулась Офуре с еще влажным лицом. Она даже не вытерла его. Не было времени. Ведь мама сейчас плачет, и некому ее утешить. Ей, должно быть, ужасно больно, разве тут можно мешкать?
Она остановилась перед отцом. Пригладив рукой волосы, сказала:
— Я не знаю, что произошло между тобой и мамой, и, пожалуй, не хочу знать. Но, папа, — в глазах ее появилась полная надежды мольба, — я уверена, во всем виновата долгая разлука между вами. Может, ты выслушаешь маму, если я упрошу ее поговорить с тобой?
Момент был критический. Джимми хорошо понимал, каковы могут быть последствия его колебаний. Он может оказаться связанным по рукам и ногам. Он криво улыбнулся.
— Хорошо, — сказал он, загнанный в угол. — Я согласен.
— Спасибо, папа, — обрадовалась Офуре. — Правда, большое тебе спасибо! Она, наверное, поехала к тетушке Рози?
Джимми кивнул.
— Ну, ладно, папа. Я поеду к ней.
И она повернулась к двери.
Реми, не раздумывая, поднялся.
— Подожди, Офуре, — сказал он, вспомнив, как совсем недавно девочка торчала на автобусной остановке. — Я тебя отвезу.
Реми был готов на все, чтобы помочь семье своих друзей в этот трудный час. Поднявшись, он сказал:
— Джимми, тебе придется посидеть здесь, пока мы не вернемся.
Идя к машине, Реми подумал — пожалуй, ему самому стоит поговорить с Эно. Может, им удастся справиться с этой напастью? Уже около машины Офуре остановилась, что-то вспомнила.
— Одну минутку, дядя, — сказала она и припустила назад к дому.
493
Когда она вошла, Джимми продолжал сидеть, обхватив голову руками. Их глаза встретились, и в них замелькали былые искорки. Офуре подошла ближе.
— Папочка! — воскликнула она.—Ты все-таки самый замечательный человек на свете! Помни об этом!
Секунду они просто смотрели друг на друга, потом улыбнулись. Не говоря tjoHbine ни слова, Офуре побежала к ожидавшей ее машине.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Одна из странностей человеческого бытия заключается в том, что, когда ты жив, ты не можешь этого доказать. Ты чувствуешь боль, любовь, ненависть, но даже если, исходя из этого, ты полагаешь, что ты жив, реальных доказательств все равно нет. Хуже того, жизнь становится враждебной, если ты пытаешься докопаться до ее таинств, — и, как это ни парадоксально, единственным твоим другом становится смерть. Смерть — единственное, в чем можно быть уверенным, и не трудно доказать, что встреча с ней неизбежна, хотя точная дата этой встречи неизвестна.
Но и будучи живым, человек может познать смерть. Не обязательно физическую, хотя впечатление может сложиться именно такое. Умирает не тело, а дух, то главное, во что человек всегда верил, его идеи и идеалы, его ценности. И тогда приходит боль — она глубока и нескончаема, ее не измерить пролитыми слезами, она заставляет сжиматься кровеносные сосуды, леденит мозг. Она подобна поцелую электрического тока, прикосновению токонесущего провода к открытому нерву. Рядом с этой болью все остальное становится смехотворно ничтожным — наши поползновения и потуги, труды и устремления, борьба за лучшую жизнь, за богатство, власть, славу, даже за знания и истину. Когда наступает подобная смерть, пища не идет в горло, сон отказывается снизойти. Эта боль превращает бытие в небытие. Если вам приходилось терять очень близкого друга, родственника или любимого человека, вы знаете, что это такое.
С Джимом Айзабо случилось самое худшее. Перед ним встала проблема развода, а ведь всего неделю назад сама мысль об этом казалась ему невозможной. Но такова жизнь; она смешивает все карты, и приходится искать новые ходы.
Наступил вечер. Офуре и Реми еще не вернулись, Джимми
494
сидел в ожидании и думал. Он знал, что с Офуре будет трудно, бедняжка не пожалеет сил, чтобы помирить его с Эно. Он улыбнулся — нет, жить под одной крышей с Эно ему не судьба, незачем и пытаться. Конечно, ему придется трудно, но лишь бы Офуре была рядом, тогда он постепенно свыкнется со своим новым положением. Да и ее жизнь со временем войдет в колею, если рядом будет он.
Он сидел и ждал. Его мало волновало, чем закончится встреча Офуре с ее матерью, — это он знал заранее. Ведь Офуре обладает поистине магической силой, устоять перед ней невозможно, и ей, конечно, удастся вырвать у матери — как произошло с ним, — желаемое обещание. Сейчас его больше заботило другое — как сделать, чтобы его дети и Фунми быстрее оправились от потрясения, как ответить на вопросы, которые возникнут у людей, когда он подаст в суд на развод.
Наступили сумерки, и на небе начали сгущаться темносерые прожилки, тесня солнечные лучи к западу, В соснах по соседству щебетали певчие птицы, надрывая свои тонюсенькие голоски. Потом улетели устраиваться на ночлег, но их место тотчас заняли другие и затянули что-то траурно-монотонное. Казалось, они отпевают чью-то душу.
«Может, они отпевают меня самого, мою семью?» — подумал Джимми. Но тут же отбросил эту мысль. Сейчас, когда его обволокла густая тень сомнений и нерешительности, когда боль надрывает его сердце, сейчас-то, казалось, и звучать бы погребальной песне. Но нет, жизнь его снова пойдет под знаком правды и гармонии...
Но то были лишь мечты. Если судьба сделала выбор...
Прервав размышления, Джимми поднялся и открыл дверь в комнату Тайво, но ггг отказалась разговаривать с ним или хотя бы выйти из комнаты. Собственно, он и не был настроен разговаривать. После того как вытащить Тайво не удалось, он попробовал поговорить с Фунми, успокоить ее. Но и та не захотела этого, только всхлипывала да всхлипывала. Тогда Джимми вернулся в гостиную и решил, оставив частности, сосредоточиться на главном, прикинуть планы на будущее — ведь положение скоро выправится.
Телефон зазвонил в ту самую минуту, когда настенные часы пробили семь. Его дребезжание грубо прервало ход его мыслей. Джимми поморщился. Он уже хотел позвать фунми, чтобы сняла трубку, но передумал. Поднявшись, он неторопливо зашагал к черному аппарату, волоча ноги, как старый пенсионер, у которого обманом выудили последние гроши.
495
Звонила женщина. Слышимость была неважная. Что-то в аппарате шуршало и потрескивало, и Джимми это сильно рассердило.
— Говорите, пожалуйста, громче, — сказал он в трубку. — Я вас не слышу!
— Это Джимми Ай...—Слышно было так плохо, будто женщина находилась по ту сторону океана.
Сейчас она начнет коверкать его фамилию — нет, обойдемся без такой мучительной пытки. Джимми и без того был раздражен.
— Да, говорит Джимми Айзабо. Чем могу быть полезен?
— Я звоню из приемного покоя больницы лагосского университета. Не можете ли вы немедленно приехать?
Джимми затаил дыхание и напряг слух, чтобы разобрать все слова.
— Немедленно! —повторила женщина.
— А что такое? Кто...—начал он, но ею прервали.
— Пожалуйста, никаких вопросов. Произошел несчастный случай — это все. Приезжайте.
Он хотел еще что-то спросить, но женщина уже повесила трубку. Несчастный случай? С кем? Женщина звонила по просьбе Эно? Или Реми... и Офуре? Он закрыл глаза, как бы отметая такую возможность. Нет, не с ними. С кем же тогда?
С Кехинде? В его мозгу как будто раскатился удар грома. Как это он забыл — ведь парня сегодня выписывают из больницы. Надо поехать и забрать его! Столько всего случилось за этот день, что он забыл о больном сыне. Что и как могло с ним произойти? Ведь сегодня его только еще собирались выписывать!
Джимми кинулся в спальню, натянул рубашку, открыл ящик в тумбочке около кровати и взял немного денег. В мгновение ока он выскочил на улицу, ничего даже не сказав девочкам. Рубашку застегнул уже на улице.
Наверное, впервые за всю свою жизнь ему удалось сразу поймать такси.
— Университетская больница, — бросил он,— пять наир!
Университетская больница находилась всего в четырех километрах, и таксист не поверил своим ушам. Он с сомнением взглянул на Джимми.
- Что?
— Я сказал: «Университетская больница — пять наир», — и, плюхнувшись на сиденье рядом с водителем, он захлопнул дверцу.
496
Они были на месте через шесть мину г, две из которых ушли на небольшие заторы. Река возле больницы всего за несколько солнечных дней почти высохла, и такси подъехало прямо к зданию.
— Знаешь, где приемный покой? — спросил Джимми.
— Нет, сэр.
— Ладно, выйду здесь.
Водитель с улыбкой забрал обещанные пять наир. Это была самая короткая и самая прибыльная ездка за всю его таксистскую жизнь — так он подумал, глядя, как Джимми подбежал* к зданию и о чем-то заговорил с двумя парнями.
Оказалось, приемный покой они проехали — он находился у главного входа. Джимми бросился назад и через несколько минут, запыхавшийся, стоял в вестибюле у стойки регистратуры. Народу в этот час было не много, и все обернулись в нему.
— Меня вызвали по телефону, — тяжело выдохнул он, обращаясь к парню за стойкой.—Просили приехать немедленно!
— Как ваша фамилия?
Он назвался, и лицо молодого регистратора мгновенно засветилось. Но, видимо, поняв, что сейчас не время раскланивайся и делать комплименты, парень погасил улыбку и исчез за дверью.
Минуту спустя появилась дежурная сестра, крепко сбитая женщина лет под пятьдесят.
— Добрый вечер, сэр,— сказала она, приглашая его сесть.— К нам привезли человека, который отрекомендовался вашим другом. Он попал в тяжелую автомобильную катастрофу.
Значит, это не Кехинде?
— Моим другом? — переспросил Джимми.
— Да. Его зовут Реми. Опасности для жизни нет, но сейчас к нему нельзя. Вы сможете навес 1ить его через час.
Последних ее слов Джимми почти не слышал. Сердце его бешено застучало о ребра. Его прошиб пот, он увидел, что руки его трясутся. Он боялся задать неизбежный вопрос, Офуре, взмолился он, Офуре...
— А девочка, которая была с ним — моя дочь? Где она — тоже ранена?
Голос его дрожал, был едва слышен.
Но едва он умолк, на лицо женщины темной тучей набежали испуг, сочувствие, боль. Джимми отшатнулся, на мгновение закрыл глаза — неужели все это происходит наяву? Не может быть!
497
Все обычные симптомы, подумала сестра. Ей не раз приходилось сообщать дурные вести, и она всегда говорила, что нет в мире ничего мучительнее этого. Но по опыту она знала: лучше всего — сразу.
— К несчастью, сэр, она умерла еще до того, как их привезли сюда. Вам придется пройти в больничный морг, чтобы опознать ее.
Горло Джимми будто стиснула железная рука. Рот его открылся, но из него не вылетело ни звука. Все же до сестры донесся его голос:
— Умерла, вы сказали?.
Медленно, выполняя тяжелую повинность, она кивнула.
— Пожалуйста, пойдемте за мной, — попросила она и встала.
Джимми не сдвинулся с места. Подниматься не было ни желания, ни сил. И главное — зачем?
В такие минуты человек говорит себе — хочу, чтобы это был сон. Он надеется и молит господа, чтобы это оказался сон, чтобы он проснулся в другой жизни, другой реальности. И в то же время он знает: как ни старайся, изменить ничего не удастся, это и есть самая настоящая реальность. Как любой человек Джимми сейчас жаждал отгородиться от нее. Через несколько мгновений он, плохо соображая, что происходит, поднялся и, ошарашенный, как-то сразу обмякший, поплелся за женщиной в белом халате. Он чувствовал на себе много любопытных глаз. Но они не имели ничего общего с этим миром. Это были глаза из мира кошмаров, они принадлежали жутким чудищам.
Вслед за сестрой он вышел на улицу, пересек небольшой газон, срезая угол. Его словно ждали — провели в холодный морг без всяких проволочек. Он шел в зыбком тумане, все понимая и не понимая ничего. Увидел, как какой-то человек снял простыню с одного из многочисленных недвижно и молча лежавших существ. Подойдя ближе, к свету, Джимми взглянул на тело. Он стоял и смотрел долго, не в силах отвести глаз, не смея даже моргнуть. Потом, чуть повернув голову, Джимми взглянул на сестру и стоявших рядом двух санитаров и кивнул. Да, сказал он про себя, это была моя дочь. Моя дочь, моя дочь...
Слез не было. Только боль. Боль, от которой стынет кровь в жилах, немеет разум.
Они вышли, и Джимми остановился на ступеньках, будто задумавшись, но думать был не в состоянии. Он посмотрел в вечернюю мглу — на хорошо освещенную площадку перед зданием, на людей, которые, казалось, так внимательно на
498
блюдали за ним. Неужели это действительно была его дочь его любимица, неужели это она, Офуре, лежала там, исковерканная до неузнаваемости?
Внезапно и без видимой причины Джимми улыбнулся. Да нет, подумал он, не может этого быть! Люди иногда такое выдумают! Сказать, будто это остывшее, безжизненное, искромсанное тело принадлежало его дочери! Какая чушь! Он снова улыбнулся.
Женщина в белом халате все ждала его, а он стоял на ступеньках, устремив отсутствующий взгляд в небо, улыбаясь, как пациент психиатрической лечебницы — глаза открыты, но ничего не видят. Он снова почувствовал на себе бессчетное множество глаз — на него смотрели из коридора соседнего корпуса, из окон, с площадки перед зданием. Но вот женщина в халате подалась вперед и взяла его за руку. Он пересек газон в обратном направлении. На него смотрело все больше любопытных глаз. Но он не узнавал никого. Ведь он здесь чужой, инопланетянин, пришелец. Ему вспомнилось, как в далеком, далеком прошлом, в другой жизни, его младшая дочь, его подружка, его ласточка однажды встретила его после возвращения из тюрьмы. Вспомнился повешенный ею плакат: «С возвращением, пришелец». Даже не «С возвращением домой», а просто «С возвращением».
Она была права. То, что у него теперь осталось, — это не дом. Он просто вернулся. А дом потерял давно, еще когда его повели в тюрьму. Плакат ему понравился: он и впрямь чувствовал себя пришельцем, чужим в собственной семье. Только чувствовал, а теперь стал чужим — для этих пожирающих его глаз, для всего мира, у него не осталось ни цели в жизни, ни друзей, ни дома.
Женщина в белом халате завела его в другое здание и усадила.
— Может, надо кому-то позвонить? Или что-нибудь...
Ответа не последовало. Он даже ее не слушал. У него никого не осталось, думал он. Ему ничего не нужно.
Женщина продолжала смотреть на него. Потом повернулась и, уходя, сказала:
— Я принесу вам воды.
Несколько человек обступили его, откуда-то издалека до него дошло — они выражают ему сочувствие. Но у него не было сил и желания отвечать. Он их не понимал. Он был с другой планеты, только и всего.
Вдруг, ни слова не говоря, он поднялся и, раздвинув окружавших его людей, вышел из комнаты. Сегодня у него был длинный, изнурительный день, надо отдохнуть.
499
Люди, расступаясь, давали ему дорогу, и, ничего перед собой не видя, он вышел на улицу. В небе пророкотал самолет, и Джимми подумал — вот бы ему крылья! Он улетел бы далеко-далеко. Стальная птица, сверкнув драгоценными камнями огней, с ревом вонзилась в облака и умчалась в неизвестность.
Джимми не знал, куда он идет и зачем. Просто шел, не обращая внимания на машины, со свистом проносившиеся мимо. Шел, ничего не видя, ни о чем не думая, ничего не боясь.
А в огромном «Боинге 747» стюардесса говорила пассажирам, в каких городах самолет совершит посадки — их путь лежал в Нью-Йорк, на другую сторону земли.
Сидевший у окошка Шеф Олуреми Аджала зажег толстую сигару и улыбнулся...
Перевод с английского И. Архангельской
Пьесы
Атол Фугард
Атол Фугард (род. в 1932 г.) — известный южноафриканский драматург, автор многих пьес: «Узы крови» (1960), «Там живут люди» (1968), «Показания после ареста за нарушение закона о безнравственности» (1972) и др. Его пьесы неоднократно переводились на русский язык. Пьеса
«Молодой хозяин Харольд и его слуги» правдиво показывает тлетворное влияние укоренившегося в ЮАР расизма, сеющего рознь и вражду между людьми, которые могли бы жить в дружбе и мире. Книга выпущена в свет издательством «Оксфорд Юни-версити Пресс» © Athol Fugard, 1982.
МОЛОДОЙ ХОЗЯИН ХАРОЛЬД И ЕГО СЛУГИ
Посвящается Сэму и Х.-Д.-Ф.
Чайная в парке Сент-Джордж в городе Порт-Элизабет. Вторая половина дня. За окном сыро и ветрено.
Столы и стулья сдвинуты для уборки в одну сторону. На свободной половине остался только один столик и стул. На столе — тарелка, нож. вилка, ложка; все приготовлено для незатейливой трапезы. Тут же стопка комиксов.
В застекленном прилавке — несколько черствых тортов, мало привлекательный ассортимент конфет, сигареты, прохладительные напитки и т. д. На стене — рекламные афишки шоколада «Кэдбэри», «кока-колы», и грифельная доска, на которой неуверенная рука начертала мелом цены на чай, кофе, печенье, разнообразные молочные коктейли и фруктовую воду. Унылые папоротники в горшках, телефон, допотопный музыкальный автомат.
С одной стороны — входная дверь, напротив нее — дверь, ведущая в кухню.
За одиноким столиком сидит Сэм; подперев голову рукой, он листает комикс. Сэм — африканец далеко за сорок. На нем белая официантская куртка. За спиной у него Вилли; стоя на коленях, он протирает пол, мокая тряпку в ведро. Вилли тоже африканец, примерно одних лет с Сэмом. Рукава его рубашки и брюки высоко закатаны.
1950 год.
501
Вилли (напевает за работой).
Она смеялась надо мной, Клялась в любви навек. Любовь ее была игрой, И вот я нищий человек А ей уж мил другой...
Встает с коленей и передвигает ведро. На миг задумывается, потом, обняв воображаемую партнершу, выделывает замысловатые фигуры какого-то танца. И хотя вид у него при этом достаточно комичный, он выказывает немалую сноровку.
Вилли. Эй, Сэм!
Увлекшись комиксом, Сэм не отвечает.
Вилли. Эй, старина!
Сэм поднимает голову.
Вилли. Смотри-ка, получается! Квикстеп. Что ты на это скажешь? (Он повторяет па.) Здорово?
Сэм (ободряюще). Ну-ка, еще разок.
Вилли. Сейчас, только ты считай.
Сэм. Готов?
Вилли. Готов.
Сэм. Пять, шесть, семь, восемь... (Вилли снова танцует.) И-и раз-два-три-четыре... и раз-два-три-четыре... (Сэм импровизирует мелодию, а Вилли под нее танцует.) Плечи, Вилли... плечи! На ноги не гляди! Веселее, Вилли, больше жизни! Не напрягайся!
Вилли (близок к отчаянию). Я не напрягаюсь.
С э м. Нет, напрягаешься.
Вилли (допускает ошибку). Да нет же, Сэм! И вообще, смотри молча, я из-за тебя сбиваюсь.
Сэм. Но ты как деревянный.
Вилли. Вчера ты говорил, что я горблюсь... сегодня, что я деревянный!
Сэм. Ты спрашиваешь — я отвечаю.
Вилли. Что именно тебе не нравится?
Сэм. Все. Надо двигаться плавно.
Вилли. Плавно?
Сэм. Ну да, вроде как скользя. Больше изящества. И покажи, что тебе самому это в радость.
Вилли (с горечью). Никакой мне от этого радости! Сэм. Вот именно.
502
Вилли. А чему радоваться? Не горбись, не напрягайся, а теперь еще — скользи, больше изящества, плавно... Всего и не упомнишь, старина Сэм.
С э м. Слишком уж ты тужишься, в этом вся беда.
Вилли. Тужусь, потому что трудно.
Сэм. А мне неприятно это видеть. Весь секрет в том, чтобы держаться непринужденно. Люди танцуют для веселья, Вилли, а для тебя это тяжкий труд. Да-да!.. Танцевать надо... романтично!
Вилли. Ага, что-то новое! Как это — романтично?
Сэм. Как бы тебе объяснить... Как будто ты читаешь книгу про любовь со счастливым концом. Красавчик во фраке, красотка в вечернем платье, его рука покоится у нее на талии, она ему улыбается.
Вилли. Фред Астер и Джинджер Роджерс.
Сэм. Вот-вот, до тебя дошло. Что чечетка, что другой танец — разницы нет. Лишь бы романтично! Через две недели, когда вы с Хильдой предстанете перед жюри, они должны увидеть танец счастливых влюбленных. А ты держишь ее так, будто боишься, как бы она не сбежала.
Вилли. Да! Потому что она и впрямь норовит сбежать. У нас с Хильдой никакой любви уже нет, старина.
Сэм. Притворись хотя бы. Когда ты ведешь Хильду, вообрази, что это Джинджер Роджерс.
Вилли. Без зубов-то? Попробуй сам вообрази.
Сэм. Не забывай, осталось всего две недели.
Вилли. Знаю, знаю! (Поворачивается к музыкальному автомату.) У меня под музыку лучше получается. Есть у тебя шесть пенсов? Я поставлю пластинку Сары Воэн.
Сэм. Это медленный фокстрот, а ты разучиваешь квикстеп.
Вилли. Займусь фокстротом.
Сэм (качает головой). Твой черед кидать монетку в автомат.
Вилли. У меня осталось только на автобус до дома. (Погрустнев, снова принимается за мытье пола.) Додумался тоже! Книга про любовь со счастливым концом! О какой уж тут любви говорить, если она крутит со всеми подряд, шлюха несчастная! Три вечера подряд не является на репетиции. Я завожу патефон, ставлю пластинку, сижу и жду. И что же? А ничего! В десять часов я начинаю танцевать с подушкой. Будь тут романтичным, старина! Бог свидетель, если и сегодня не придет, отберу у нее платье и бальные туфли и найду себе другую партнершу. Главное, чтобы были те же размеры. Опять скандалит цз-за ребенка. Пожаловалась в бюро помощи одиноким
503
матерям, что я не даю ей денег. Врет она! Каждую неделю я даю ей деньги на молоко. А где доказательства, что он и впрямь мой ребенок? Только волосики похожи. Да она спит со всеми без разбору, стоит мне -отвернуться. Хильда Сэмюеле — шлюха! (Пауза.) Эй, Сэм.
Сэм. Что?
Вилли. Ты не слушаешь.
Сэм. Слушаю.
Вилли. Тогда что ты на это скажешь?
Сэм. Насчет Хильды?
Вилл и. Ну да.
Сэм. Когда ты ей последний раз задал взбучку?
Вилли (неохотно). В воскресенье.
Сэм. А сегодня — четверг.
Вилли (зная, что за этим последует). О’кей.
Сэм. Отлупил ее в воскресенье, она не приходит в понедельник, вторник, среду... и ты меня спрашиваешь почему?
Вилли. Ладно, Сэм, старина, я же сказал — о’кей!
Сэм. Слишком часто ты пускаешь в ход кулаки. Кончится тем, что она вообще от тебя уйдет.
Вилли. Ну и пусть. Она превратила мою жизнь в сущий ад.
Сэм (настаивая на своем). Слишком часто даешь волю рукам. С Юнис у тебя было то же самое.
Вилли. Потому что, Сэм, с ней тоже было как в аду. Ни одно па не могла запомнить. Даже в вальсе сбивалась.
Сэм. Всякий раз, когда она ошибалась, ты ее дубасил. (Качает головой.) Какая же тут радость от танца!
Вилли. У Хильды как раз с вальсом неплохо, Сэм, но вот с квикстепом прямо беда.
Сэм (подтрунивая над Вилли). У подушки квикстеп лучше получается?
Вилли (не обращая внимания на подковырку). Лучше! Почему? Потому что ног у нее нет. А у Хильды есть, и в этом вся загвоздка. Они у нее заплетаются. Я запускаю пластинку, и Каунт Бейси уже к середине вырывается вперед. Мы настигаем его только к концу пластинки.
Сэм смеется.
Честное слово, Сэм, ничего смешного тут нет.
Сэм (прищелкнув пальцами). Придумал. Дай ей форы. Вилли. Это что такое?
Сэм. Пусть она начинает, а через десять секунд запускай Каунта Бейси. Тогда я ставлю на Хильду. Вы будете на скачках фаворитами: Хильда Сэмюеле, наездник Вилли Малопо!
504
Вилли (отворачивается). Я больше не хочу с тобой разговаривать.
Сэм (с раскаянием). Прости, Вилли...
Вилли. Между нами все кончено.
Сэм. Ну ладно, ладно — не буду больше.
Вилли. Вообще, можешь отваливать.
Сэм. Вилли, послушай! Я же хочу помочь.
Вилли. И никаких больше шуточек?
Сэм. Клянусь.
Вилли. О’кей.
Сэм (теперь он держит воображаемую партнершу). Смотри и учись. Ступни вместе. Спина прямая. Корпус расслаблен. Правая рука у нее на талии, и ты ждешь, когда заиграет музыка. Не думай об ошибках, о жюри, о соперниках. На свете только ты, Хильда и музыка, и вы хотите как следует повеселиться. Какая у тебя пластинка Каунта Бейси ?
Вилли. «Ты точно сливки в кофе, ты точно соль в жарком».
Сэм. Напой мне, только следи за ритмом.
Вилли. Готов?
Сэм. Готов.
Вилли. И-и-и... (Поет.)
Ты точно сливки в кофе, Ты точно соль в жарком. Мне без тебя так плохо, И все темно кругом.
Сэм танцует квикстеп намного лучше Вилли. Входит Халли, семнадцатилетний белый юнец. Вымокший плащ, школьный портфель. Остановившись на пороге, он наблюдает за Сэмом. Показательное выступление завершается эффектным па. Халли и Вилли рукоплещут.
Халли. Браво! Никаких сомнений — первое место завоевал мистер Сэм Семела.
Вилли (согласен с Халли). Танцуешь ты классно, дружище Сэм!
Халли (весело). Как жизнь, ребята?
Сэм. О’кей, Халли.
Вилли (застывая по стойке смирно и отдавая честь). Рады стараться, мистер Харольд!
Халли. Великий день не за горами?
Сэм. Две недели.
Халли. Волнуешься ?
Сэм. Нет.
505
Халли. Думаешь, у тебя есть шанс?
Сэм. Скажем так: попытка.не пытка.
Халли. Судя по тому, что я сейчас видел... А как ты, Вилли?
Вилли стонет.
Халли. Что с тобой?
Сэм. Подвернул ногу.
Халли (доверчиво). Какая обида, Вилли!
Вилли. Сэм! Ты же обещал!.. (Вилли вновь принимается драить пол.)
Халли кладет портфель и снимает плащ. Одет он несколько небрежно, даже неряшливо: черный блейзер с эмблемой школы; серые фланелевые брюки давно нуждаются в утюжке; рубашка цвета хаки, галстук, черные башмаки. Сэм приносит полотенце, чтобы Халли вытер волосы.
Халли. Господи, какой гнусный, омерзительный день ? Льет как из ведра. Плохая погода для дел, ребята (заговорщицким шепотом)... Зато можно неплохо провести время.
Сэм. Можешь не шептать. Твоей мамаши здесь нет. Халли. Пошла в магазин?
Сэм. Нет, в больницу.
Халли. Но ведь сегодня четверг. По четвергам неприемные дни. С отцом что-нибудь стряслось?
Сэм. Да нет, как будто бы все в порядке. Наоборот, его вроде бы отпускают домой.
Халли (ошарашенный). Ты хочешь сказать?..
Сэм. Звонили из больницы.
Халли. И что сказали?
Сэм. Не знаю. С ними разговаривала твоя мать. Халли. С чего же ты взял, что его выписывают? Сэм. Ей, кажется, сказали, чтобы она его забрала.
Халли несколько секунд обдумывает сообщение Сэма.
Халли. Давно она ушла?
Сэм. Этак с часок. Обещала тебе позвонить. Будешь есть?
Халли не отвечает.
Халли, обедать будешь?
Халли. Буду, наверное. (Настроение у него испортилось ) А что на обед? Впрочем, я знаю все наизусть.
Сэм. Суп, на второе — мясной пирог с подливой. Халли. Пирог сегодняшний?
506
Сэм. Нет.
Халли. А суп?
Сэм. Гороховый — полезный и питательный.
Халли. Давай один суп. А это что? {Указывает на стопку комиксов.)
Сэм. Мистер Кемпстон принес для твоего папаши.
Халли. Ты как будто бы начал их читать, не так ли?
Сэм. Листал только.
Халли {разглядывая комиксы). «Джим в джунглях...», «Робин и денщик...», «Тарзан...» Господи, какая дребедень! Чушь собачья. Убери их.
Сэм, вальсируя, удаляется на кухню. Халли оборачивается к Вилли.
А ты, Вилли, слышал мамин телефонный разговор?
Вилли. Нет, мистер Халли. Я был на кухне.
Халли. Уходя, она тебе ничего не сказала?
Вилли. Велела вымыть полы.
Халли. А про отца что-нибудь?
Вилли. Нет, мистер Халли, про него она мне ничего не сказала.
Халли (убежденно). Этого не может быть! Говорили, что на лечение нужно еще по меньшей мере три недели. Сэм наверняка . ошибся. {Роется в портфеле, достает книгу и устраивается за столом, собираясь читать.) Так-то вот, Вилли!
Вилли. Так-так, мистер Халли! В школе сегодня все о’кей?
Халли. О’кей, о’кей... (Задумывается.) Вообще-то, нет, ну да какая разница! Мне наплевать. Сэм говорит, что у тебя неприятности.
Вилли. Еще какие!
Халли. Левая или правая нога?
Вилли стонет'
Выходит, обе?
Вилли. Ноги мои в полном порядке. Сэм шутит.
Халли. Значит, будешь участвовать в конкурсе?
Вилли. Только если найду себе партнершу.
Халли. А что же Хильда?
Сэм (возвращается с супницей). Это у нее с ногами беда.
Халли. Вилли, что у нее с ногами?
Сэм. Если я верно понял, его дама внезапно захромала.
Халли. Боже праведный! Ты ее к доктору водил?
Сэм. Думается, лучше бы к ветеринару.
507
Халли. Что ты несешь ?
Сэм. Как это называется — когда скаковая лошадь бежит что есть мочи?
Халли. Галоп?
Сэм. Вот-вот, оно самое!
Вилли. Сэм!
Халли. «Галопом, вскачь по финишной прямой». Но какое это имеет отношение к Хильде?
Сэм. Каунт Бейси всегда приходит к финишу первым.
Вилли запускает в него тряпку, Сэм уворачивается, и тряпка попадает в Халли.
Халли (в бешенстве). Вилли, черт возьми! Ты что, рехнулся?
Вилли. Извините, мистер Халли, это я в него...
Халл и. Ведешь себя как младенец! {Швыряет тряпку в сторону Вилли.) Немедленно займись делом. И ты, Сэм, тоже... хватит дурака валять. (Сэм уходит.) Нет, погоди, я тебя не отпускал! Повтори, что сказала мама.
Сэм. Так я же... Сколько можно?.. «Когда вернется Халли, скажи ему, что я в больнице и буду оттуда звонить».
Халли. И ни слова о том, что забирает отца домой? Сэм. Нет. Но когда ей звонили...
Халли (перебивает его). Нет, Сэм, не могут они его выписать. Иначе она бы так и сказала. Мы ведь были у него вчера, и он был довольно плох. Сестра даже говорила, что придется повторить рентген. И вдруг сегодня ему лучше! Коли так, для меня это крупная неприятность... искренне надеюсь, что тут какое-то недоразумение. Погоди... когда она ушла?
Сэм. Около двух. (Смотрит на наручные часы.) Полтора часа прошло.
Халли. Придумал — сейчас все выяснится. (Заходит за прилавок к телефону, набирает номер, рассуждая вслух.) Дадим ей десять минут на то, чтобы доехать до больницы, еще десять, чтобы его погрузить, десять минут на обратную дорогу, плюс десять, чтобы втащить его наверх. Итого, сорок минут. Значит, вот уже полчаса как они должны быть дома. (Пауза. Приложив трубку к уху, ждет ответа.) Никто, ребята, не подходит. И знаете почему? Потому что она в больнице, у его изголовья — у отца снова приступ. Ты, видно, не расслышал, Сэм.
Сэм. Наверное.
Халли уверен, что тревога ложная. Он возвращается к столу и принимается за суп, деля внимание между тарелкой и раскрытой книгой.
Сэм заглядывает в его портфель и достает учебник.
508
Сэм. Математика для девятого и десятого классов. (Наугад открывает учебник и чему-то улыбается.) Кого это ты изобразил?
Халли. Старую задницу — Прентиса.
Сэм. Он ваш учитель?
Халл и. Так он полагает. Можешь мне поверить, рисунок на него похож.
Сэм. А он видел?
Халл и. Видел.
Сэм. И что сказал?
Халл и. Попытался сострить по своему обыкновению. Сказал, что я не Леонардо да Винчи и что профанация искусства заслуживает кары. Всыпал мне шесть розог, что-что, а сечь он умеет.
Сэм. Неужто но мят кому месту?
Халли. А то куда же? Те дни, когда меня лупили по рукам, давно прошли, Сэм.
Сэм. И шганы спускал?
Халли. Нет. Не такой уж он варвар.
Сэм. Ав тюрьме приходится заголять зад.
Халли (с проблеском нездорового интереса). Да ну? В самом деле?
Сэм. На что мне врать? Если судья приговорит к «ударам прутьями»...
Халли. Давай, все рассказывай!
Сэм. Укладывают на скамью, один полисмен стаскивает с тебя штаны и держит твои колени, другой задирает подол рубахи на голову и держит руки...
Халли. Спасибо, достаточно!
Сэм. ...а тот, кто тебя порет, что-то ласково приговаривает и тянет время между ударами. (Сэм хохочет.)
Халли. Хватит с меня, Сэм! Господи! Как подумаешь в каком ужасном мире мы живем! Люди иногда просто звери...
Сэм. Да, Халли, так уж устроен этот мир.
Халли. Тогда надо его перестроить! Есть такая вещь как прогресс, не слыхал? Людей, например, уже не сжигают на костре.
Сэм. Как Жанну д’Арк?
Халли. Правильно. Если бы ее схватили в наше время, она могла бы рассчитывать на правосудие...
Сэм. ...и на смертный приговор.
Халли (вздыхает, с ювно бы устав от жизни). Знаю, знаю! Я тоже, Сэм, мечусь между надеждой и отчаянием, когда думаю о судьбах мира. Но увидишь, все изменится, только наберись терпения. В один прекрасный день найдется человек,
509
который наподдаст истории коленом под зад, и она снова придет в движение.
Сэм. Кто, например?
Халли (поразмыслив). Кто-нибудь из тех, кого называют общественными реформаторами. У каждой эпохи, Сэм, был свой общественный реформатор. В моем учебнике истории их хоть пруд пруди.
Сэм. Ну а где же наш?
Халли. Законный вопрос. Прискорбно, но вынужден ответить так: я не знаю. Может, он еще не родился или пока еще в младенческом возрасте. Господи, какая дурь лезет в голову!
Сэм. Выходит, нам остается только ждать.
Халли. Да, видимо, так. (Снова принимается за суп и чтение.)
Сэм (читая по учебнику). «Введение. В некоторых математических задачах искомые величины...» (В слове «величины» он делает ударение не на том слоге.)
Халли (не поднимая головы, поправляет). Величины.
Сэм. Что это значит?
Халли. Много чего-то или мало, иными словами — размеры.
Сэм (читает), «...имеют решающее значение. В других задачах нам предлагают установить характер величин — положительные они либо отрицательные. Например, банковский баланс может быть активным или пассивным...»
Халли. Понимаешь, банкрот ты или не банкрот.
Сэм. «...температура бывает либо выше, либо ниже нуля...»
Халли. Минус десять градусов! Веселенькое дельце: в кармане ни гроша, и помираешь от стужи. Тут никакая математика не поможет.
Сэм. «Все эти величины называются (произносит по складам)... ска-ляр...
Халли. Скалярными.
Сэм. Скалярными! (Посмеиваясь, качает головой.) И ты во всем этом разбираешься?
Халли (переворачивая страницу). Нет, и желания не имею.
Сэм. Что же будет на экзаменах?
Халли. Засыплюсь по математике, ну так что? Мир, от этого не погибнет, Сэм. Сколько раз тебе твердил, результаты экзаменов — еще не показатель ума!
Сэм. Очевидно, твердил столько раз, сколько засыпался.
Халли (невесело). Ха-ха-ха.
Сэм (одновременно с Халли). Ха-ха-ха.
510
Халли. Не забывай, Уинстон Черчилль тоже был посредственным учеником.
Сэм. Я и это от тебя довольно часто слышал.
Халли. Ничего не поделаешь, коли это сущая правда.
Сэм (наслаждаясь звучанием слова). Величина! Величина! Научи меня, как этим словом пользоваться.
Халли (подумав). Подлинный общественный реформатор не страшится величины стоящих перед ним задач.
Сэм (все еще под большим впечатлением). Язык сломаешь!
Халли. В моем примере не одно, а три заковыристых слова: подлинный, реформатор и величина. Однажды на экзамене я вставил в одно предложение целых пять разбираемых слов. Предложение вышло длиннющее — на полстраницы.
Сэм. Ну, за твой английский я спокоен. Готов поставить на тебя все свои сбережения.
Халли. Дай мне лучше пирожок. Восемьдесят баллов из ста — шутя.
Сэм (доставая другой учебник из портфеля). А история?
Халли. Кое-как. Баллов пятьдесят, если повезет.
С э м. В прошлом году с историей вроде обстояло неплохо.
Халли. Потому что мы проходили первую мировую войну. В этом был хоть какой-то интерес, не то что в этой южноафриканской парламентской системе!
Сэм (читая по учебнику истории). «Наполеон и принцип равноправия». Занятно! «Заключив в 1802 году мир с Британией, Наполеон воспользовался короткой передышкой, чтобы по... вести».
Халли. Провести!
Сэм. «...провести множество реформ. Наполеон полагал, что все люди равны перед законом и должны иметь равные возможности. Все пе-ре-житки фео-даль-ного строя, с присущим ему угнетением бедняков, были ликвидированы». Пережитки, феодальный строй, ликвидированы. Я только и понял, что угнетение.
Халли. Не мешай... Он... уничтожил... ликвидировал... последние... пережитки... жестоких времен... феодального строя...
Сэм. Ха! Вот как раз такой общественный реформатор, какого мы ждем. Судя по всему, Наполеон — человек великий!
Халли. Я не очень-то в этом уверен. Впрочем, чертовски броское название книги. Наполеон — великий человек!
Сэм. Мне он кажется вполне великим, Халли.
Халли. Не путай историческое значение и величие. Но, возможно, я к нему несправедлив. В учебнике о нем целых две главы. Черт! Сплошные даты, Сэм, и все их надо вызубрить! Одна кампания, другая, третья, конца им нет. И каждая закан-
511
чивается мирным договором. Но вот битву при Ватерлоо он проиграл. Незачем было ее затевать. Нет, судя по тому, что я о нем знаю, Наполеон не такой уж великий человек.
Сэм. Тогда кто же, по-твоему, великий?
Халли. Если на то пошло, необходимо сначала установить критерии величия. На мой взгляд, это тот, кто... сделал нечто благодетельное для всего человечества.
Сэм. Согласен. Но кто же это?
Халли (с непоколебимым убеждением). Чарлз Дарвин. Помнишь такого? Я еще брал в библиотеке толстую книгу — «Происхождение видов».
Сэм. Значит, Дарвин?
Халли. Да. Тот, что выдвинул теорию эволюции.
Сэм. Ты ее не дочитал.
Халли. Времени не было. Выдали ecei о на две недели. Возьму снова, когда переварю то, что успел прочесть. Я сунул ее на полку с трактатами по теологии, туда никто не заглядывает. А вообще, кто ты такой, чтобы меня попрекать? Сам на нее даже не взглянул.
Сэм. Я открыл ее и сразу же наткнулся на главу «Борьба за существование». Вот то, что мне нужно, думаю! И что же я там вычитал? Омелы нуждается в яблоне... семян слишком много, и все они погибают, кроме одного... Нет, Халли, это не то.
Халли (в праведном гневе). Что значит «не то»! Бедняге надо было с чего-то начать. Господи, Сэм, он же произвел революцию в науке. Теперь-то мы знаем.
Сэм. Что?
Халли. От кого и как мы произошли.
Сэм. И это благодеяние для человечества? Как хочешь, а я не согласен.
~ Халли. С тобой просто невозможно говорить... Я же тебе показывал — там черным по белому написано.
Сэм. Это еще не доказательство.
Халли. Тебе бы служить в инквизиции. Ты до мозга костей ханжа. Как бы там ни было, Чарлз Дарвин для меня — великий человек. А для тебя кто?
Сэм (без колебаний). Авраам Линкольн.
Халли. Понятно. Не впадай в сентиментальность, Сэм. Сам-то ты никогда рабом не был. И мы здесь, в Южной Африке, освободили твоих предков задолго до американцев. Но если ты хочешь кого-то поблагодарить от их имени, благодари мистера Уильяма Уилберфорса Г Даю тебе еще один шанс. На-
1 Уилберфорс (1759— 1833) — английский общественный и политический деятель, один из основателей общества борьбы с рабством.
512
зови истинного гения. (Оба получают наслаждение от игры. Халли заходит за прилавок и берет с витрины плитку шоколада.) Сэм. Уильям Шекспир.
Халли (без энтузиазма). Ага, и ты туда же! Судишь, кстати говоря, по одной-единственной пьесе. Брал у меня «Юлия Цезаря», а даже я в нем половины не понял. Следовало бы подновить Шекспира, как это сделали с Библией, переписать его современным языком.
С э м. Других его пьес у тебя нет, и сам ты тоже читал только «Юлия Цезаря».
Халли. Ну и что. Вот прочитаем еще что-нибудь, тогда и будем о нем судить. Сдается мне, однако, что до конца года у меня и еще двадцати девяти человек из девятого класса технического колледжа Порт-Элизабет до Шекспира руки не дойдут. Но если ты на нем настаиваешь, пусть будет по-твоему. Теперь мой черед. (Ходит по сцене.) Чертовски полезное занятие, между прочим! Началось с простого вопроса, а дошло до бездонных глубин интеллектуального наследия нашей цивилизации.
Сэм. Ну, кого же ты назовешь?
Халли. Вторая моя кандидатура... Одновременно общественный реформатор и гений литературы — Лев Николаевич Толстой.
Сэм. Этот русский?..
Халли. Он самый. Помнишь, я показывал тебе его портрет?
С э м. С длинной бородой.
X а л л и (стараясь придать себе сходство с Толстым). И глаза горящие, взгляд ясновидца. Господи, вот уж действительно пророк, трибун! Помнишь, Сэм, я тогда тебе сказал: погляди на Человека с большой буквы!
С э м. Да, Халли, ты именно так и сказал, слово в слово.
Халли. Какой еще мыслитель стал бы копаться в навозе вместе с крестьянами? А в свободное время писать «пустячок» под названием «Война и мир»... Кстати, Сэм, он тоже — я цитирую — «...не отличался особым прилежанием».
Сэм. Что это значит?
Халли. То, что в школе он был не на высоте’
Сэм. Как ты и Уинстон Черчилль.
Халли (невесело). Ха-ха-ха!
Сэм. (вместе с ним). Ха-ха-ха!
Халли. Не умничай, Сэм. Этот человек добровольно отпустил своих крепостных.
Сэм. Не спорю, он, безусловно, человек великий. С этим я согласен.
17 Альманах «Африка», вып. 6
513
Халли. Как бы обрадовался граф Толстой, если бы тебя услышал! Теперь твоя очередь. {Достает из витрины еще одну плитку.) Я жду, Сэм.
Сэм. Придумал!
Халли. Отлично. Представляй же свою кандидатуру на наше рассмотрение.
Сэм. Иисус.
Халли (остолбенев). Кто?
Сэм. Иисус Христос.
Халли. Да что ты, Сэм!
Сэм. Мессия.
Халли. Да, но все-таки... Нет, Сэм. По-моему, нет смысла приплетать сюда религию, а то мы проспорим до утра. Я ведь тоже могу назвать... ну, например, Мухаммеда.
Сэм. Называй.
Халли. Нельзя, чтобы оба они попали в один список!
Сэм. Почему бы и нет? Тебе нравится Мухаммед, мне Христос.
Халли. Мне не нравится Мухаммед, и никогда не нравился. Я просто высказал предположение. По-моему, Коран такая же дребедень, что и Библия. Нет, религию мы исключаем! Я не намерен убивать время на пустой спор, есть ли бог или нет. Ты прекрасно знаешь, что я атеист.... и мне надо делать уроки.
Сэм. О’кей, я снимаю кандидатуру Христа.
Халли. Даю тебе еще один шанс. Последний.
Сэм (подумав). Сейчас ты сразу согласишься. Я назову и впрямь великого человека, тут уж не о чем спорить... Действительно облагодетельствовал все человечество.
Халли. Интересно. После твоей предыдущей кандидатуры я сомневаюсь, чтобы мы могли прийти к соглашению. Кто же он?
Сэм. Догадайся.
Халли. Сократ? Александр Дюма? Карл Маркс? Достоевский? Ницше? (После каждого имени Сэм отрицательно мотает головой.) Ну, подскажи хоть.
Сэм. Это связано с буквой «п».
Халли. Платон!
Сэм. ...но имя начинается с «ф».
Халли. Ясно: Фрейд и психология!
Сэм. Нет. Я у него ничего не понял.
Халли. Признаюсь, и я тоже.
Сэм. Вспомни о плесени.
Халли (радостно хохотнув). Пенициллин и сэр Александр Флеминг! А книга называется «Охотники за микробами». (Очень довольный.) Отлично, Сэм! Отлично. В кои-то веки мы
514
совершенно единодушны. Важнейшее медицинское открытие двадцатого века. Если бы не он, мы бы проиграли вторую мировую войну. Приятно сознавать, Сэм, что я не попусту тратил на тебя время. {Горделиво расхаживая по кругу.) Толстой давал образование крестьянам, а я — тебе.
Сэм. С четвертого по девятый класс.
Халли. Неужто это тянется так долго?
Сэм. Угу. Первый мой урок был по географии.
Халли {заинтригован). В самом деле? Я не помню.
Сэм. Я жил тогда в клетушке в старом пансионе «Юбилей». Только что начал служить у твоей мамаши. Однажды ко мне зашел мальчик в коротких штанишках и спросил с важным видом: «Сэм, хочешь взглянуть на Южную Африку?» Еще бы! Конечно же, я хотел поглазеть на Южную Африку!
Халли. Это был я?
Сэм. Ты с гордостью показал мне первую свою контурную карту, которую в тот день ты раскрасил.
Халли. Дальше, дальше.
Сэм. Потом состоялся урок. «Сэм, повторяй за мной: в Трансваале добывают золото, в Свободной провинции разводят кукурузу, в Натале — сахар, в Капской провинции — виноград». Я и сейчас все помню!
Халли. Ну и ну, черт побери! Значит, с этого все и началось.
Сэм. В следующий раз на карте были реки и горы, откуда они берут начало. Оранжевая, Вааль, Лимпопо, Замбези...
Халли. У тебя феноменальная память!
Сэм. Скажи мне спасибо! С тех самых пор ты перестал проваливаться на экзаменах — боялся, что я тебя переплюну.
Оба хохочут. Услышав их смех, Вилли выходит из кухни и тоже хохочет.
Халли. Старый пансион «Юбилей». Шестнадцать номеров, трехразовое питание, деньги вперед. Я и думать о нем забыл... И пожалуй, не случайно. Господи, как я был рад, когда родители его продали, и мы съехали оттуда. Увы, те годы не были самыми счастливыми в моем не слишком-то радостном детстве.
Вилли {стучит по столу, имитирует женский голос). «Халли, ты здесь?»
Халли. Кого ты пытаешься изобразить?
Вилли. «Что ты там делаешь, Халли? Немедленно выходи!»
Халли {обращаясь к Сэму). Что это он?
17*
515
Сэм. А ты не помнишь?
Вилли. «Сэм, Вилли... он у вас?»
Сэм. Ты прятался в нашей комнате, когда мать тебя искала.
Халли (снова хохочет от души). Конечно! Заползал под твою кровать! Но ты не договорил, Вилли. Каждый раз вы меня выдавали. Такова была цена вашей дружбы!
Сэм. Она знала, что ты у нас. Мы не могли ей врать.
Халли. И мне в очередной раз влетало за то, что «торчу у слуг». Я провел у вас почти все то время, что мы жили в этом гнусном клоповнике. И не удивительно! Куда ни сунешься, жуткая тоска. Кто-нибудь вечно жаловался на плохую жратву, или же мама сцеплялась с Микки Нэш, когда та приводила своего сержанта. Это была первая. Вторую звали Мод Мейринг. Помните этих особ? Вы знаете, что они обе были проститутки! Водили солдат и моряков с военных кораблей. Кончилась война, и их бизнес прогорел. Господи, какой только мусор не прибивала жизнь к нашему берегу! Если бы не вы, я бы в десять лет подцепил какую-нибудь гадость. Впервые в истории медицины. Ну и дела. Иду я, бывало, из школы домой и думаю: «Чем бы запяться после обеда?» И так и этак прикидываю, а в конце концов решаю пойти к вам, ребята. Готов спорить, я бы и сегодня нашел вашу компату с завязанными глазами. (Халли зажмуривается.) По коридору... справа на стене телефон, который мама запирала от жильцов, чтобы не пользовались бесплатно... мимо кухни, до чего же неаппетитно оттуда пахло... за угол и на задний дворик... а там хоть опять зажимай нос, воняет из уборной, потом еще один узкий коридор. Первая дверь справа — и я у вас! Ну как?
Сэм. Неплохо. Только как всегда забыл постучаться.
Халли. Как в тот раз, когда накрыл тебя с Синтией. Помнишь? Господи, как я смутился! Сначала даже не понял, что происходит.
С э м. Это был для тебя хороший урок.
Халли. Я извлек из него не только то, что надо стучаться... Черт возьми, Сэм, нельзя было подождать ночи?
Сэм. Нельзя.
Халли. Так сильно приспичило?
Сэм. Придет твое время, сам узнаешь.
Халли. Нет уж, спасибо. Девушки меня не интересуют. (Снова погружается в воспоминания... Расставляет несколько стульев, воссоздавая обстановку; перечисляет различные ее детали.) Серая комнатушка с холодным цементным полом. Твоя кровать у той вон стены... теперь я знаю, почему пружины так провисли!.. Кровать Вилли... вместо сломанной ножки подло
516
жены кирпичи... колченогий столик, на нем кувшин с водой и таз для умыванья... Ах да... к стене приколоты картинки из журналов. Джо Луис...
Вилли. Черный Бомбардир. Чемпион мира. {Становится в боксерскую стойку.)
Халли. А кто был его соперником?
Сэм. Макс Шмелинг.
Халли. Правильно. Еще я помню Фреда Астера, Джиндер Роджерс и Риту Хэйуорт в купальном костюме. Меня кидало в жар, когда я на нее смотрел. Под кроватью у Вилли — старый чемодан, набитый всяким барахлом. Там я никогда, не прятался. А твои вещи. Сэм, аккуратно сложены в сундучке, стоящем возле кровати. На нем стоит фотография: вы с Синтией в вечерних туалетах; рядом — серебряный кубок, который
вам вручили за третье место на состязаниях по танцам, и испорченный радиоприемник. Что-нибудь пропустил?
Сэм. Нет.
Халл и. То-то. С декорациями покончено. Теперь действующие лица. (Сэм и Вилли занимают свои места в «спальне».) Вилли в постели, залез под одеяло, не раздеваясь; как всегда чем-то недоволен, ворчит, но мы не можем разобрать ни слова, потому что он укрыт с головой. Ты на своей кровати, стрижешь ногти на ногах — не очень-то привлекательное зрелище, а я... Что я делаю?
Сэм. Сидя на полу, расставляешь шашки на доске и поучаешь Вилли, что надо уметь проигрывать. Потом подходишь
к его кровати, стаскиваешь с него одеяло и заставляешь играть с тобой. Ты наперед знаешь, что выиграешь, значит, вторая партия — со мной.
Халли. А ты, Вилли, действительно не умел проигрывать!
Вилли. Ай-ай!
Халли. Верно, Сэм? И подолгу думал. Игра с тобой длилась целую вечность. Слава богу, я не научил тебя играть в шахматы.
Вилли. Вы с Сэмом жульничали.
Халли. Ни разу не видел, чтобы Сэм жульничал, ну а я...
случалось, по молодости.
Вилли. Вот почему вы оба всегда побеждали.
Халли. Ты не допускаешь такой возможности, Вилли, что мы играли сильнее тебя?
Вилли. Чтобы каждый раз — так не бывает!
Халли. Нет, не каждый раз. Иногда мы поддавались, чтобы ты не хныкал и не бросал играть. Сэм мне незаметно подмигивал, пора, мол, поддаться.
517
В и л л и. Ну вот, я и говорю, что вы плутовали.
Халли. Только ради тебя, мистер Малопо. С нашей стороны это был акт самопожертвования. (Обращаясь к Сэму.) А знаешь, какое самое приятное воспоминание?
Сэм. Нет.
Халли. Да что ты, подумай! Раз у тебя такая хорошая память, ты не мог забыть.
Сэм. Халли, у нас была уйма всяких забав.
Халли. Но эта была особенная, Сэм.
Сэм. Говори.
Халли. Поначалу казалось, еще один нудный унылый день, некуда себя деть, нечем заняться. В поисках развлечений я уже сходил на Мейн-стрит, но без толку. Лазить по деревьям в Донкин-парке не хотелось, разыгрывать из себя сыщика тоже... Ну, и как всегда в таких случаях я подумал: загляну-ка я к Сэму! Ты сидел на полу, строгая ножиком две рейки. Когда я спросил, что ты делаешь, ты ответил: «Погоди, Халли, увидишь. Наберись терпения». С этаким таинственным видом: мол, тебя ждет сюрприз. И ничего не отвечал на мои расспросы. (Сэм смеется.) Строгаешь себе и посвистываешь. Господи, довел меня до кипения. Я готов был тебя убить! И только когда ты связал рейки крестом и положил их на большой лист бумаги, я наконец догадался: «Мастеришь змея?» Ты подтвердил. У меня дух перехватило. Откуда, мол, думаю, черному знать, как делают змея. Безнадежное это дело. Ты, верно, думал, что я рад до смерти? А вот и нет! Я ужасно боялся стать всеобщим посмешищем. Когда мы вышли из пансиона и зашагали вверх по склону холма, я про себя молился, чтобы нам не встретить других мальчишек.
Сэм (наслаждаясь этими воспоминаниями не меньше Халли). Я все замечал.
Халли. Неужто я не мог скрыть своих чувств?
Сэм. Даже отказался его нести.
Халли. А ты чего хотел? У него был такой жалкий вид: обломки ящика из-под помидоров и серая бумага с пятнами засохшего мучного клейстера! Хвост из чулок моей матери, нить вся в узлах — ты заставил меня их связать! Оставалось рассчитывать на чудо...
Сэм. Ты ни за что не соглашался бежать с катушкой при запуске.
Халли. Бежать я мог только в одну сторону — назад в пансион.
Сэм (зная все наперед). И что же было потом?
Халли. Да будет тебе, Сэм. Ты и сам отлично помнишь. Сэм. Хочу услышать из твоих уст.
518
Халли делает паузу, желая быть предельно точным.
Халли. Ты отошел немного — вниз по склону, поднял его над головой... «Ну вот,—подумал я,—еще один завал. Всю жизнь так». Тут ты закричал: «Беги, Халли!», и я побежал. (Снова пауза.) Не знаю, как это описать, Сэм. Да, произошло чудо! Я бегу, а сам жду, когда змей грохнется на землю, но вместо этого что-то ожило у меня за спиной, нить дернулась, будто желая вырваться, освободиться. Я оглянулся... (Качает головой.) ...до сих пор не могу в это поверить. Он летел! Кружил, описывая кольца, забираясь все выше в небо. Ты закричал, чтобы я травил нитку, я стал разматывать катушку, и скоро в руках у меня оказалась пустая катушка. Улыбаясь, ты подошел ко мне, стал рядом.
Сэм. Ты тоже смеялся и кричал: «Ай да мы, Сэм!»
Халли. Я так гордился тобой и собой! Это был самый счастливый миг в моей жизни. Жаль, что не было мальчишек,— вот бы позавидовали! Потом ты показал, как делать, чтобы он спускался к земле, и душа у меня ушла в пятки. Казалось, он вот-вот разобьется, но в последний момент он снова взмыл ввысь.
Сэм. Сам ты отказался так делать.
X а л л и. Еще бы! Случись с ним что — я бы этого не перенес. Глядя на тебя, я и так весь изнервничался. Я был счастлив уже оттого, что он летает, и его хвост развевается по ветру. Ты объяснил, как спустить его на землю; мы привязали конец нитки к скамейке, так, чтобы я мог любоваться сидя, а ты ушел. Я так хотел, чтобы ты остался: боялся, что одному мне с ним не справиться.
Сэм (негромко). У меня была работа, Халли.
Халли. Грустно было его спускать, Сэм. Когда он лег на землю, у него снова стал жалкий вид. Точно душа из него улетела. Деревяшки от ящика, серая бумага, два драных чулка! Никогда не забуду тот первый миг, когда увидел его в небе. На следующий день я не мог пошевелить шеей, потому что так долго стоял с задранной головой.
Сэм хохочет. Халли поворачивается к нему, чтобы задать вопрос, который раньше ему в голову не приходил.
Почему ты тогда смастерил змея, Сэм?
Сэм (безжизненным голосом). Не помню.
Халли. Правда?
Сэм. Халли, столько времени прошло.
Халли. Да. Пожалуй, пора уже делать новый.
Сэм. Почему ты это сказал?
519
Халли. Такое у меня чувство. Но только не сегодня.
Сэм. Да, в дождь змея не запускают.
Халли (пристально смотрит на Сэма. Воспоминания заставляют его задуматься, какое место в его жизни занимает этот человек.). Сколько тебе лет, Сэм?
Сэм. Два по двадцать и еще пять.
Халли. Чудно, правда?
Сэм. Что чудно?
Халли. Я и ты.
Сэм. Что в этом странного?
Халли. Белый мальчик в коротких штанишках и черный мужчина,—в отцы ему годится, — запускают змея. Не каждый день такое увидишь.
Сэм. Но что в этом странного? То, что один белый, а другой черный?
Халли. Не знаю. Будь на твоем месте мой отец, тоже выглядело бы странно... калека и мальчишка! Не-ет! С кем бы я ни запускал змея, это всегда будет выглядеть странно. (Простая констатация факта — без жалости к себе.) Сюжет для рассказа: «Как они запускали змея». Только нужно придумать эффектную развязку.
Сэм. Развязку?
Халли. Да. Какой-нибудь неожиданный конец. А го получается чересчур прямолинейно... я остался на скамейке, ты ушел работать. Никакого драматизма.
Вилли. А я?
Халли. Ты?
Вилли. Да, я.
Халли. Хочешь тоже попасть в рассказ, не так ли? Придумал! Мы изменим название: «Игры в комнате Сэма». Под этим названием можно объединить множество рассказов. А то и целый роман выйдет. Жизнь в старом «Юбилее». Немного грустно, что все уже позади. Я бы хотел снова оказаться в вашей клетушке.
С э м. Мы ведь еще все вместе.
Халли. Так-то оно так. Но тогда жизнь казалась мне как-раз такой, как надо... не слишком легкой, но и не чересчур трудной. Хватало смелости. С тех пор все чертовски осложнилось.
Звонит телефон. Сэм снимает трубку.
Сэм. Чайная... алло, мадам... да, мадам, он здесь... Халли, это мама.
Халли. Откуда она звонит?
Сэм. Из автомата.
520
Халли (с облегчением). Вот видишь! Что я говорил! (В телефонную трубку.) Алло, ма-ам... да... да... нет... хорошо... здесь все в порядке. Как там наш бедный старик?.. Ему не хуже?.. Что?.. О, господи!.. Да, Сэм сказал, но я был уверен, что это ошибка. Почему все так внезапно, мам? Вчера он выглядел совсем больным. Не мог же за ночь поправиться. В таком случае ты должна решительно сказать «нет». Будь с ним тверда. Ты хозяйка... сама знаешь, если он вернется домой... Ладно, только не ругайся, если я завалю экзамены в конце года... Да! Полночи массирую его ногу, а на уроках клюю носом... И я тоже!.. Это ложь во спасение. Скажи, что доктор Колли хочет повторить рентген. Или задобри его. Обещай, что будем носить ему двойные порции коньяка... Что?.. Вели ему немедленно лечь! Если он ведет себя как младенец, то и поступай с ним как с младенцем... Хорошо, мам! Я сделал все, что мог... прости... я же извинился... Быстрее, дай мне свой номер. Я тебе позвоню. (Вешает трубку и несколько секунд пережидает.) Ну вот, все снова-здорово! (Набирает номер.) Извини, мам... О’кей... Но выслушай меня внимательно. Ты должна проявить твердость — только и всего! Стой на своем... Слышишь? Не обсуждай с ним своих решений... Боюсь, ты уступишь... Да, Сэм меня накормил... Я все съел!.. Нет, мам, ни души... Все еще льет... Хорошо, я им скажу. Сделаю уроки и будем закрываться... Не забудь, мам. Главное — не слушай его. Позвони еще, держи меня в курсе... О’кей, до свиданья, мам. (Вешает трубку. Мужчины смотрят на него.) Мама велит вымыть окна, когда закончите полы. (Пауза.) Поймите меня правильно, ребята. Я одного хочу — чтоб его подлечили. Будь он здоров, я бы первый сказал: «Берем его домой». Но он болен, и дома мы не сможем обеспечить ему необходимый уход. На то и существуют больницы. (Резко.) Что вы стоите?! Работать надо! (Сэм убирает со стола.) Ты ничего не перепутал: отец действительно просится домой.
С э м. Ему .лучше?
Халли (раздраженно). Нет! С чего бы ему вдруг полегчало, когда вчера еще он стонал от боли! Мы живем не в век чудес.
Сэм. Тогда пусть остается в больнице.
Халли (с горечью). Будто я не знаю, где ему лучше! Что, по-твоему, Сэм, я втолковывал матери? Да ну их всех к чертовой бабушке!
С э м. Я уверен, он ее послушается.
Халли. Ты не представляешь, что ее ждет. Он уже сложил бритвенные принадлежности и пижаму, сидит одетый на кровати, костыли наготове. Я его знаю — когда он в таком настрое
521
нии... Если она начнет его урезонивать, все пропало! В любой словесной перепалке он всегда возьмет верх над матерью. (Старается спрятать свои истинные чувства.)
Сэм. Наверное, ему там одиноко.
Халл и. Да там полно народу: больные, сестры; чуть не каждый день приходят из Армии спасения. Дома ему будет в десять раз хуже. Я в школе, мама весь день в делах.
Сэм. Хотя бы по вечерам вы с ним.
Халли (не сдержавшись). А он с нами! Не желаю больше об этом говорить. (Достает из портфеля учебники, с грохотом швыряет их на стол.) Жизнь — сплошная мерзость, и ничего больше. А люди — дураки.
Сэм. Да будет тебе, Халли.
Халли. Да, дураки! Ничего лучшего мы не заслуживаем.
Сэм. Тогда не жалуйся.
Халли. Опять умничаешь, Сэм! Тебе это не к лицу. Всякий, кто доволен жизнью, должен показаться психиатру. Только дела пойдут на лад, тут же кто-нибудь все испортит. Это стоило бы записать как основной закон вселенной. Принцип вечного разочарования. Если бог создал этот мир, пусть выбросит его на помойку и начнет все заново.
Сэм. Ну ладно, Халли, ладно. Что задали на дом?
Халли. Обычную фигню. (Открывает тетрадь и читает.) «Написать сочинение о каком-то ежегодном событии, имеющем культурное либо историческое значение, примерно в пятьсот слов».
Сэм. Для тебя это пустячное дело.
Халли. Скука зеленая! Ты же знаешь, чего он требует. Описать одну из идиотских церемоний. Праздник в честь высадки первых европейских поселенцев. Или рождество с его свечами и гимнами.
Сэм. Очень даже замечательное зрелище. Опиши его во всех подробностях, Халли. Мерцание свечей в сумраке, мощный людской хор.
Халли. Одно этому название — религиозная истерия. (В крайнем раздражении.) Сэм, будь добр, оставь меня в покое. Сегодня мне не до игр. Вспомни-ка, что мама велела... помоги Вилли с окнами. Хватит дурака валять.
Сэм. О’кей, Халли, о’кей.
Халли решительно раскладывает все необходимое... ручка, линейка, тетрадь, словарь, рядом — пирожное... но так и не начинает делать уроки.
Сэм, вальсируя, приближается к Вилли, начинает убирать столики и стулья, показывая при этом очередное па. Вилли наблюдает за ним. Когда Сэм останавливается, Вилли повторяет за ним движение.
522
Неплохо! Только поворот быстрее и партнершу пропусти вперед. А как у тебя с этим? {Еще одно па. Сначала — Сэм, вслед за ним — Вилли.) Много лучше. Видишь, стоит тебе расслабиться и танцевать с удовольствием. Выполняй две недели мои советы, и все будет в порядке.
Вилли. Но у мена, же нет партнерши, Сэм.
Сэм. Может быть, сегодня Хильда придет.
Вилли. Нет, старина. {Неохотно.) * Я ее взгрел... хорошенько...
Сэм. Что уж тут хорошенького!..
Вилли. Конечно, плохо, но взгрел... хорошенько.
Сэм. Тогда пеняй на себя. Не следовало тебе распускать руки.
Вилли. А еще заплатил два фунта десять шиллингов за участие в конкурсе.
Сэм. Не поздно получить их назад.
Вилли {ошарашенно). И не участвовать?
Сэм. Ну да.
Вилли. Нет уж! Слишком долго я ждал конкурса, слишком усердно готовился. Как думаешь, если я найду новую партнершу, за две недели можно успеть? Попрошу у хозяйки отпуск — будем репетировать каждый день.
Сэм. Квикстеп две недели без перерыва. Мировой рекорд! Как бы тебе не рехнуться, Вилли.
Вилл и. Опять ты шутишь, Сэм.
Сэм. Да нет, я серьезно.
Вилли. Ну так как?
Сэм. Разыщи Хильду, извинись перед ней, поклянись, что пальцем ее не тронешь.
Вилли. Нет.
Сэм. Тогда забирай свой взнос. Попытаешь счастья на будущий год.
Вилли. Нет.
Сэм. В таком случае я пас.
Вилли. Только не это, Сэм, уж ты-то не бросай меня. Сэм. Что значит — не бросай? Говорят тебе: я пас! Вилли (упрямо). Нет! {С осуждением.) Это ты меня пристрастил к танцам.
Сэм. Ну и что?
Вилли. Я жил себе, горя не знал, пока вы с Мириам не притащили Хильду: вот, мол, тебе партнерша.
Сэм. Вилли, что ты несешь!
Вилли. Эх ты!
Сэм. Чем я виноват?
Вилли. Сам знаешь.
523
Сэм. Вилли?.. {Разражается хохотом.)
Вилли. И еще смеешься надо мной. Погоди: я не так посмеюсь, когда Мириам тебя бросит. Ха-ха-ха!
Сэм (не в силах воспринимать Вилли всерьез). Да пусть хоть сегодня проваливает. Обойдусь. (Кланяясь воображаемой партнерше.) Позвольте вас пригласить! (Танцует и поет.)
Он кружит свою подушку, Как любимую подружку, А в окно стучит осенний дождь...
Вилли. Опять смеешься! (Сэм не останавливается.) Сэм!
Сэм. У тебя один выход! Через две недели судьи объявят: «Дамы и господа! В открытом конкурсе победил... мистер Вилли Малопо со своей подушкой!»
Рассерженный Вилли набрасывается на Сэма, но тот уворачивается, и между ним и преследователем оказывается столик, за которым сидит Халли.
Халли (взрываясь). Эй вы, успокойтесь!
Вилли (не оставляя попыток добраться до Сэма). Я тебя вздую, Сэм! Бог свидетель...
Сэм (все хохочет). Извини, Вилли... ну извини...
Халли. Сэм! Вилли! (Хватает линейку и вытягивает Вилли по заду.) Черт возьми, разве можно сосредоточиться, когда вы тут такое творите! Словно малые дети.
Вилли. А вы ему тоже всыпьте!
X а л л и. Заткнись, Вилли!
Вилли. Опять он за свои шуточки.
Халли. Займись делом. И ты, Сэм, тоже. (Размахивает линейкой.) Тебе мало, Вилли? (Сэм и Вилли приступают к работе. Халли прекращает безуспешные потуги заняться уроками. Он расхаживает по комнате как маленький деспот, размахивая линейкой и давая выход своей злобе и раздражению.) А если бы вошел клиент? Или смотритель парка увидел, что вы тут вытворяете! У нас отобрали бы патент. Значит, и вы остались бы без места. Все, чтобы больше этого не было! Отныне никаких танцев в этом помещении. Тут вам коммерческое предприятие, а не Нью-Брайтонская танцевальная школа! Я вам слишком много позволял. (Заходит за прилавок, наливает себе какого-то зеленого напитка, кладет в стакан шарик мороженого, все это время продолжая говорить.) Мне особенно горько, что вы злоупотребляете моей добротой. Я позволяю вам слегка поразвлечься, когда нет посетителей, а вы тут с ума сходите. Отплясываете фокстроты! Особенно ты, Сэм. От тебя я этого не ожидал. Пора бы понять, что жизнь не сплошная забава.
524
Сэм. Это же невинное развлечение, Халли. Никому никакого вреда.
Халли. По-моему, это слишком примитивное развлечение.
Сэм. Ты так считаешь? Не хочешь ли попробовать?
Халли. Конечно, нет!
Сэм. А то давай. Хоть сейчас.
Халли. Да ты что? Мне танцевать?!
Сэм. Я покажу тебе простейшие движения, скажем, вальс, а ты повтори.
Халли. И что это докажет?
Сэм. Что не так это просто, как ты думаешь.
Халли. Я не говорил, что просто. Я сказал — примитивно, то есть для недоумков. Не станешь же ты уверять, что это занятие интеллектуальное.
Сэм. У танцев иная цель.
Халли. Какая же?
Сэм. Доставлять радость.
Халли (со стаканом в руке). От американской крем-соды с мороженым не меньше радости. Ради бога, Сэм, не пытайся убедить меня, что танцы — дело серьезное.
Сэм. Между тем это именно так.
Халли (с разочарованным вздохом). Жаль, что все мои усилия дать тебе приличное образование пошли прахом.
Сэм. Ты мне так и не объяснил, что тут дурного. Это красиво, приятно любоваться, это хочется делать самому.
Халли. Ничего дурного тут нет. Но и прекрасного тоже. Ведь речь идет о фокстроте.
Сэм. Вот именно о фокстроте! Если бы ты видел, как его танцуют истинные мастера этого искусства!..
Халли. Господи, ну причем тут искусство?!
Сэм. А что же это такое, по-твоему?
Халли. Всему есть предел, Сэм. Не путай искусство и развлечение.
Сэм. Что же тогда искусство?
Халли. Хочешь, чтобы я дал определение?
Сэм. Хочу.
Халли (отдавая себе отчет, что ему необходимо тщательно выбирать слова, надолго задумывается). Вот уже много веков философы тщетно пытаются выработать это определение. Что такое искусство? Что такое жизнь?.. В сути своей, как мне думается, это... одухотворение... осмысление...
Сэм. И никакой связи с прекрасным?
Халли. Искусство куда более емко. Это придание формы бесформенному.
525
Сэм. Ну ладно, может, танцы и не искусство, но я по-прежнему считаю, что в них есть красота.
Халли. Уверен, ты имеешь в виду не красоту, а развлекательность.
Сэм (упрямо). Нет, красоту. Если хочешь убедиться, пойдем с нами в танцевальный зал в Нью-Брайтоне через две недели.
При упоминании о танцевальном зале Вилли начинает прислушиваться к разговору, подходит ближе.
Халли. Зачем? Я и тут нагляделся, как вы скачете.
Сэм (смеется). Это совсем не то, Халли. Здесь мы просто дурачимся.
Халли. Остальное я могу вообразить.
Сэм. И что же тебе рисует воображение?
Халли. Толпу пляшущих — им кажется, будто они весело проводят время.
Сэм. И это все?
Халли. Да, в общих чертах... конечно же, все.
Сэм. Нет, не все. Воображение тебя подвело. На самом деле, там много чего еще. Мы готовимся к состязаниям, Халли, а не просто к очередным танцулькам. Народу там и впрямь будет хоть отбавляй, но все это зрители, они рассядутся вокруг площадки, чтобы следить за состязаниями. А в круг выйдут только участники. На стенах праздничные гирлянды и разноцветные фонарики! Дамы в нарядных вечерних туалетах.
Халли. У моей матери тоже есть такой, и, по правде, Сэм, мне всегда неловко, когда она его надевает.
Сэм (невозмутимо). Твое воображение упустило еще одно — всеобщее волнение! (Халли усмехается.) О, да! Финалистам не до смеха. Одна из пар будет объявлена чемпионами Восточной провинции тысяча девятьсот пятидесятого года. И еще твое воображение забыло про музыку.
Вилли. Мистер Элиджо Глэдмэн Гузана и его оркестр «Джазонионы».
Сэм. Не такой уж это плохой оркестр, Халли! Тромбон, труба, саксофон — тенор и альт. И наконец, откуда твоему воображению знать о ключевом моменте: соревнование окончено, судьи перешептываются, церемониймейстер собирает у них карточки с баллами и выходит на помост, чтобы объявить победителей.
Халли. Ну ладно. Ты так все расписал, что я готов признать: это незаурядное событие. Доволен?
Сэм (торжествующе). Признал, признал! То-то же!
526
Халли. С точки зрения эмоциональной, но не интеллектуальной.
Сэм. Мне этого не понять — слишком мудрено. Но можешь поверить: для Нью-Брайтона это важнейшее событие года. Все билеты распроданы еще две недели назад. Участники съезжаются из Кингвильямстона, Ист-Лондона, Порт-Алфреда.
Халли задумчиво вышагивает взад-вперед.
Халли. Расскажи поподробнее.
Сэм. Тебе же не интересно... С точки зрения интеллектуальной.
Халли (таинственно). Если я прошу, значит, на то есть причина.
Сэм. Что именно ты хочешь знать?
Халли. Конкурс устраивают каждый год?
Сэм. Да, но в Нью-Брайтоне он бывает раз в три года. На следующий год — очередь Ист-Лондона.
Халли. Что, очевидно, придает конкурсу еще больше важности?
Сэм. Ага, ты делаешь успехи. Заговорил уже о важности.
Халли. Я не убежден...
Сэм. В чем?
Халли. В том, что это его устроит.
Сэм. Кого?
Халли (берет со стола тетрадь). «Написать сочинение о каком-то ежегодном событии, имеющем культурное либо историческое значение». Не будет ли это чрезмерной поэтической вольностью, если я назову ваш чемпионат культурным событием?
Сэм. Ты хочешь?..
Халли. Как, по-твоему, Сэм, удастся накатать на эту тему сочинение в пятьсот слов?
С э м. Виктор Силвестер написал про танцы целую книгу. Вилли. Вы хотите написать об этом, мистер Халли? Халли. Да, джентльмены, я обдумываю такую возможность. Старый Док Бромли — мой учитель английского — конечно, будет неприятно поражен. Он не любит туземцев. Но я напомню ему, что с точки зрения антропологии культура первобытного черного общества включает в себя танцы и пение. Короче, моя мысль сводится к следующему: пляска воинов вытеснена вальсом, однако суть не изменилась: примитивные страсти находят свою разрядку в танце. Ну что, попробуем?
Сэм. Я готов.
527
Вилли. Ия тоже.
Халли. Ха! Это послужит старому болвану уроком! (Ре-шение принято.) Отлично. Приготовим все необходимое. {Имеется в виду еще одно пирожное. Халли ставит тарелочку на стол и садится.) Пожалуй, Сэм, общую атмосферу ты описал достаточно полно, но мне требуются конкретные факты. {Ручка повисла в воздухе.)
Вилли. Дай ему факты, старина.
Халли. Возвращаюсь к тому... что ты назвал ключевым моментом... сколько всего пар принимает участие в финале.
Сэм. Шесть.
Халли {делает пометки). Дальше. Как все это выглядит?
Сэм. Зрители сидят вокруг площадки... (Вилли становится зрителем.)
Халли. ...зал набит битком.
Сэм. С одной стороны на помосте — Глэдмен и его «джа-зонионы». На противоположной стороне — стол для жюри, за ним трое судей. Шесть пар финалистов выходят на площадку и занимают исходные позиции. Церемониймейстер подходит к микрофону. Сначала он отпускает пару шуток, чтобы развеселить публику...
Халли. Хороший штрих! {Пишет.) «... создает непринужденную обстановку, которая сменяется драматическим напряжением».
Сэм {влезает на стул, изображая церемониймейстера). «Дамы и господа! Настает великий момент, который вы ждали так долго. Финал открытого чемпионата Восточной провинции по танцам за тысяча девятьсот пятидесятый год. Позвольте представить вам участников заключительного тура: мистер и миссис Велкам Чабалала из Кингвильям-стауна...»
Вилли {рукоплещет после каждого имени). Мистер Халли, публика в это время хлопает в ладоши, свистит и громко шумит.
Сэм. «Мистер Маллиган Нджикелане и мисс Номле Нко-нийени из Грэмстауна; мистер и миссис Норман Нчинга из Порт-Алфреда; мистер Фэтс Боколане и мисс Дина Плаатджис из Ист-Лондона; мистер Сифо Дугу и миссис Мейбл Магада из Педди; а из Нью-Брайтона наши земляки мистер Вилли Малопо и мисс Хильда Сэмюеле».
Вилли не верит своим ушам. Он уже изображает не зрителя, а одного из финалистов.
Вилли. Я расслабился и настроен романтично!
528
Сэм. Аплодисменты стихают. Глэдмен поднимает саксофон, кивает своим оркестрантам...
Вилли. Включи, пожалуйста, автомат, старина Сэм!
Сэм. У меня осталось только на автобус.
Халли. Эй, погодите. {Подходит к кассовому аппарату.) Сколько у нас в кассе, Сэм?
Сэм. Три шиллинга. Халли... мать все пересчитала перед уходом.
Халли колеблется.
Халли. Извини, Вилли. Помнишь, как мне в прошлый раз влетело. Придется нам всем поднапрячь воображение. {Возвращается к столу.) За работу. Ну а как ведется счет, Сэм?
Сэм. Максимум — десять баллов. Оцениваются индивидуальность стиля, осанка, чувство ритма и общий вид.
Вилли. Мне начинать?
Халли. Погоди. А штрафные?
Сэм. За что?
Халли. За оплошности. Допустим, ты собьешься или налетишь на соседнюю пару... за это баллы не вычитают?
Сэм {сокрушенно). Халли!..
Халли. И все-таки допустим, что ты налетел на другую пару...
Сэм громко хохочет, не давая ему договорить. Он поясняет Вилли.
Сэм. Скажем, я с Мириам налечу на вас с Хильдой...
Вилли тоже разражается хохотом.
Халли, Халли!..
Халли {недоуменно). Что я сказал смешного?
Сэм. Такого, Халли, не бывает. Никто не сбивается и не толкает соседей. В том-то вся и суть. Принимать участие в финале... это... все равно что перенестись в мир грез, где не бывает досадных случайностей.
Халли {искренне взволнованный сравнением Сэма). Господи, Сэм! Как это прекрасно!
Вилли {ему невтерпеж). Я начинаю!
Он начинает танцевать.
Сэм. Еще бы! Именно это я и пытаюсь тебе втолковать. Такой прекрасной мы и хотим видеть свою жизнь. Без столкновений. Взять, к примеру, нашу троицу. Я сталкиваюсь с Вилли, мы оба сталкиваемся с тобой, ты сталкиваешься со своей
529
матерью; она с твоим отцом... Никто из нас не знает па танца, который называется Жизнь. Если бы только дело ограничивалось нами. Во всем мире происходит то же самое. Открой газету — и что там пишут? Америка пытается наседать на Россию, Англия — на Индию, богачи топчут бедняков. Все это грандиозные столкновения, Халли. От них страдает великое множество людей. Мы все смертельно устали от этих столкновений,— они длятся с незапамятны^ времен, — но ничего не можем поделать... Вот если бы все могли освоить танец жизни, а не толкаться беспорядочно, как стадо баранов.
Халли (с глубоким и искренним восхищением). Ты просто провидец, Сэм.
Сэм. Не я один, другие тоже, это-то я тебе и стараюсь внушить. Вот почему билеты в танцевальный зал распроданы за две недели до начала конкурса. Остались только стоячие места. На наших глазах шесть лар исполнят танец с красотой и слаженностью, которых так недостает в жизни.
Халли. Неужели, Сэм, нам ничего не остается другого, кроме как любоваться финалистами в мечтах о несбыточном?
Сэм. Не знаю. Но только в мечтах мы можем понять, к чему нам следует стремиться. Но ведь есть и такие люди, которые превращают меч гы в явь. Помнишь, мы читали в газете про Махатму Ганди? О том, как он объявил голодовку, чтобы предотвратить резню в Индии...
Халли. Ты прав. Он действительно хотел наставить людей.
Сэм. Как папа римский.
Халли. Да, и как наш старый генерал Смэтс1. Невольно задумываешься, Сэм, как было бы хорошо, если бы и Объединенные Нации смогли обрести слаженность и сплоченность танцующих пар.
Сэм. Будем уповать на то, что когда-нибудь так и будет.
Халли (с проблеском оптимизма). Ты прав. Нельзя отчаиваться. Надо надеяться на лучшее будущее. Танцуй, Вилли. {Решительно возвращается за свой столик.) И верно, я недооценивал танцы. Итак, с чего же мы начнем? Заголовок: «Мир без столкновений».
Сэм. Отлично! «Мир без столкновений».
Халли. Подзаголовок: «Мировая политика как танец». Нет, тяжеловато. А если так: «Танец как идеал политики».
Звонит телефон. Сэм снимает трубку.
1 Смэтс — (1870— 1950) — премьер-министр Южно-Африканского Союза, с 1941 г. британский фельдмаршал. Проводил политику апартеида. Соавтор устава Лиги Наций.
530
Сэм. Чайная... да, мадам... Халли, это мама.
Халли (возвращаясь к действительности). О черт, я совсем забыл. Помнишь мои слова, Сэм? Едва тебе станет чуточку повеселее, обязательно кто-нибудь испортит веселье.
Сэм. Послушай сначала, что она скажет. Халли. Из автомата звонит?
Сэм. Нет.
Халли. Голос веселый или грустный?
Сэм. Не поймешь. (Пауза.) Халли, она ждет.
Халли (в трубку). Алло, мам... Нет, здесь все о’кей. Делаю уроки... Какие у тебя новости?.. Что-что?..
Пара. На несколько секунд отнимает трубку от уха. В течение телефонного разговора Сэм и Вилли тихонько ставят столы и стулья на прежние места. Халли снова подносит трубку к уху.
Да-да, слушаю. Господи, я умываю руки. Зачем ты это сделала, мам?.. Надеюсь, ты отдаешь себе отчет в последствиях... (Громко.) Я говорю, ты должна отдавать себе отчет в последствиях. Конец покою и тишине. (Негромко.) Где он? (Нормальным голосом.) Он не может нас услышать. Но, мам, ради всего святого, что все-таки случилось? Я же сказал, чтобы ты не уступала... Позвала бы сестру, отняли б у него костыли... Я прекрасно знаю, что он мой отец!.. Уважение уважением, но мне надоело выносить вонючие горшки... Да, надоело! Когда тебя нет, он зовет меня... Если уж хочешь знать правду, потому-то у меня и пропал аппетит... Да-да! Ты много чего не знаешь. К твоему сведению, у меня так и нет учебника по физике, а он мне позарез нужен. Отец отобрал у меня деньги, что ты дала... Потому что я не хотел очередного скандала... Он говорит так всякий раз... Ну ладно, мам! (Со злостью.) Только не забывай теперь прятать свою сумочку, потому что ему скоро понадобятся деньги на выпивку. А когда он начнет заходить в чайную, смотри, как бы в кассе не обнаружилась недостача. Не жалуйся, когда он примется за старое... Нет, жалуешься! Мне достается с двух сторон, не жизнь, а сущий ад. И мне надоёло вас мирить. Предупреждаю тебя: как только вы затеете очередную свару, я удеру из дому... Мам, не плачь, не то я повешу трубку... О’кей... (Понизив голос до злобного шепота.) О’кей, мам. Я слышу. (В отчаянии.) Нет!.. Потому что не желаю. Еще успею его увидеть! Мам!.. (Пауза. Когда он заговаривает снова, тон его совершенно изменяется. В нем не только притворство, но и столкновение противоречивых чувств.) Лобро пожаловать домой, старина!.. Что-что?.. Не говори глупостей, отец. Твое возвращение — для меня радостная новость!.. Еще бы... все вокруг жалуются на свою судьбу, это чертовски
531
угнетающе... Как твое самочувствие?.. Вот и отлично... И здесь то же самое, старина. Льет как из ведра... Вот именно... В такой день только и валяться в постели... У меня все в лучшем виде, отец... Ну, во-первых, для тебя тут целая гора комиксов... Да, старый Кемпле принес тебе комиксы... Обязательно... Вечером поболтаем... О’кей, дружище, до скорой встречи... Нет, нет, обещаю, прямо домой... {Пауза. К телефону снова подходит мать.) Мам? О’кей. Сейчас закроем... Что?.. Ах, коньяк... Нет, не забуду!.. Сразу же суну в портфель. Бога ради!.. Знаю, что будет, если он его не получит... (Ставит бутылку коньяка на прилавок.) Я говорил с ним приветливо, мам. Ничего обидного не сказал!.. Хорошо. Пока!
Разговор окончен. Вконец расстроенный Халли не шевелится.
Сэм. (негромко). Неприятный сюрприз, Халли.
Халли (едва сдерживаясь, тщательно подбирая слова). Не лезь в чужие дела, Сэм.
Сэм. Извини. Я не хотел вмешиваться. Ну что, может, продолжим, Халли? (Указывает на тетрадь. Халли не отвечает.)
Ви л л и (тоже пытается отвлечь Халли). Сэм, старина, расскажи ему, как вручают кубки.
Сэм. А! Еще один ключевой момент. Вручение кубков. После того как объявлены победители. Не забудь написать об этом.
Халли по-прежнему не отвечает.
Вилли. Мистер Халли, самый большой, из серебра, переходящий приз.
Сэм. Мы всегда приглашаем какую-нибудь знаменитость вручать их. В этом году почетным гостем будет его святейшество епископ Джабулани.
Внезапно Халли вскакивает, подходит к столу и рвет начатое сочинение.
Халли. Вот вам и мир без столкновений!
Сэм. Жаль. Могло получиться хорошее сочинение. Халли. Хватит молоть чепуху, Сэм.
Сэм. Ты считаешь, что все это чепуха?
Халли. Да. Все эти разговоры о том, что мир изменится к лучшему, — сплошной бред.
Сэм. Пока это еще только мечта.
Халли. Абсолютно беспочвенная. Жизнь — сволочная штука, и тут уж ничего не поделаешь.
532
Сэм. Может, ты и прав.
Халли. Никаких «может»! Факты — упрямая вещь. Мы лишь зря потеряли время.
Сэм. Если бы сделали домашнее задание, то не зря.
Халли. Плевать мне на домашнее задание; лучше не напоминай о нем. {Со злобой запихивает учебники в портфель.) Поскорее кончайте свою работу. Я хочу запереть и уйти. {Пауза.) Уйти куда? Домой? Господи, как я ненавижу это слово «дом». Какой это болван выдумал песню о «милом доме», хотел бы я знать!
Халли подходит к прилавку, чтобы положить в портфель бутылку коньяка и комиксы. После минутного колебания он вдребезги разбивает бутылку. Он уже не пытается скрывать свои чувства. Сэм и Вилли работают, стараясь стушеваться.
Знаешь, Сэм, в чем слабое место твоей прекрасной мечты? Мало того, что мы все плохие танцоры. Среди нас попадаются и жалкие калеки.
Сэм. Халли!
Халли {уже не сдерживаясь). Да, Сэм, среди нас есть калеки. Из-за них-то мы шлепаемся на танцевальной площадке. Ведь эти уродливые пауки тоже пытаются отплясывать квикстеп! (С перекошенной ухмылкой.) Чертовски комичное зрелище. Тут и здоровые еле удерживаются на ногах, а они лезут со своими костылями! Нет, Сэм, какой уж тут, к черту, танец! Ну, что ты трясешь своей башкой? Нарисуй-ка себе эту картину, дружище. Пора уж вернуться на землю.
Сэм. Осторожно, Халли.
Халли. Чего мне остерегаться? Правды? По-моему, только я один и готов заглянуть ей в глаза. Хватит тешиться сладенькими мечтами. Никто не знает правильных движений, музыка не слышна, путаются под ногами калеки, — видите ли, им тоже охота потанцевать, и называется это «Открытый конкурс на успех в жизни». (С гадливой ухмылкой.) Погоди, Сэм! Самое интересное еще впереди. Знаешь, какой приз получит победитель? Полный до краев ночной горшок, украшенный розочками. Не догадываешься, кто в этом году займет первое место?
Сэм {повышая голос). Прекрати немедленно!
Халли {внезапно ужаснувшись своих собственных слов). Почему?
Сэм. Халли! Он же твой отец.
Халли. Ну и что.
Сэм. Ты только подумай, что ты здесь несешь!
Халли молчит, оцепенев от стыда. Сэм сурово отчитывает его.
533
Нет, Халли, ты не смеешь так говорить. Покайся, пока не поздно. Это страшный грех — глумиться над своим отцом. Берегись, как бы господь не покарал тебя. Отец — это отец, даже если он... калека.
Вилли. Да, мистер Халли, Сэм верно говорит.
Сэм. Я понимаю твои чувства, Халли, и все же...
Халли. Ничего ты не понимаешь!
Сэм. Мне кажется, что понимаю.
Халли. А я говорю, не понимаешь. И никто не понимает. (Стыд, который он испытывает, оборачивается злобой на Сэма.) А теперь мой черед предостеречь тебя, Сэм, берегись! Ты ступил на скользкую тропку. Оставь меня и моего отца в покое.
Сэм. Я не сказал о нем ни одного дурного слова. Халли. Наши с ним отношения тебя не касаются!
Сэм. Тогда не говори о нем гадостей, я не желаю их слушать.
Халли горячится и не сразу находит ответ.
Халли. Заткнись и делай свою работу, черт возьми! Сэм. Можешь ругать меня, но тебе это не поможет. Халли. Еще как поможет! Не суй свой поганый нос в чужие дела, заткнись!
Сэм. О’кей. Мое дело — сторона. Я умываю руки.
Он отворачивается. Халли просто разъярен.
Халли. Вот и отлично. Нечего тебе лезть в дела, в которых ты ни черта не смыслишь. С тебя, Сэм, требуется только одно — делать то, за что тебе платят: убирать помещение и обслуживать посетителей. Не забывайся. Мама недаром предупреждала меня, чтобы я не позволял тебе фамильярничать. На этот раз ты слишком далеко зашел. Пора тебя одернуть. (Сэм не отвечает.) Помни, ты здесь только слуга. (По-прежнему никакого ответа; Халли изо всех сил старается вызвать Сэма на откровенность.) А что до моего отца, то он для тебя — хозяин, заруби себе это на носу.
Сэм (наконец его проняло). Нет, мне платит твоя мать.
Халли. Не смей мне перечить, Сэм!
Сэм. А ты не говори, что он мой хозяин.
Халли. Достаточно уже одного того, что он белый.
Сэм. Я этого не слышал.
Халли. Не нужно мне от тебя никаких одолжений. Я сказал это для того, чтобы ты запомнил.
Пауза. Сэм берет себя в руки и предпринимает последнюю попытку.
534
С э м. Халли, Халли. Ну будет тебе. Поставим точку, пока не поздно. Ты прав, мы ступили на скользкую тропку. Если не соблюдать осторожность, кто-то может сломать себе ногу.
Халли. Только не я.
Сэм. Зря ты так в этом уверен.
Халли. Я не понимаю твоих намеков, Сэм.
Сэм. Прекрасно понимаешь.
Халли (свирепо). Когда ты наконец перестанешь говорить за меня! Уж мне-то лучше знать, что я понимаю, а чего — нет.
Сэм пожимает плечами и поворачивается к Вилли.
Сэм. Пора закругляться.
Халли. Не отворачивайся. Я еще не договорил.
Хватает Сэма за руку и тужится его повернуть. Сэм взбешен.
Сэм. Прочь руки! (Оборачивается к юнцу.) Ну хорошо, Халли, я слушаю. Что ты хочешь мне сказать?
Халли (после недолгого молчания). Во-первых, не следует ли и тебе называть меня «мастер Харольд»1, как это делает Вилли?
Сэм. Ты это всерьез?
Халли. Конечно же, всерьез!
Сэм. А если я не захочу?..
Халли. Как бы тебе не вылететь с места.
Сэм (негромко и взвешенно). Если ты хоть раз заставишь меня сказать так, я уже никогда не обращусь к тебе по-прежнему.
Халли. Ну и что? (Напирает на Сэма.) Ты мне угрожаешь?
Сэм. Просто предупреждаю. Тебе самому решать, что для тебя важнее.
Халли. Я уже решил. Отличная новость, как раз то, что хочет слышать мастер Харольд. Мне давно уже следовало преподать тебе этот урок вежливости. Надеюсь, ты запомнишь его не хуже, чем уроки географии. Больше всех порадуется мой отец. Да-да! Он целиком согласен с моей матерью, только и твердит: «Ты, сынок, должен научить слуг выказывать тебе надлежащее уважение».
Сэм. Итак, отныне вы можете спокойно вернуться домой. Сегодня все в вашей семье будут счастливы.
Халли. Совершенно верно. Видишь ли, у тебя сложилось
1 Мастер — здесь: хозяин.
535
превратное представление о нас с отцом. Нам очень хорошо и весело вместе. Дьявольски весело. У него поразительное чувство юмора. Хочешь, расскажу нашу любимую шутку? Оп громко стонет и приговаривает: «Не подобает, нет, не подобает...» Я должен спросить: «Что, старина?» Он отвечает: «Чернозадым быть белоручками!», и мы оба хохочем до упаду.
Африканцы смотрят на Халли, не веря своим ушам.
Что с тобой, Вилли? До тебя не дошла соль этой остроты? Впрочем, ты всегда был тугодумом. (Он поворачивается к Сэму.) Неужто и до тебя не дошло?
Сэм. Дошло.
Халли. Но не показалось смешным.
Сэм. А сами-то вы смеетесь искренне?
Халли. Конечно.
Сэм. Чтобы доставить отцу удовольствие?
Халли. Вовсе нет! Я смеюсь, потому что нахожу эту остроту на редкость удачной.
Сэм. Почему вы стараетесь казаться хуже, чем вы есть? И зачем оскорбили беднягу Вилли? Он же не сделал вам ничего дурного и всегда выказывал подобающее уважение. Это не слишком-то честно и благородно.
Вилли. Легче на поворотах, Сэм.
Сэм. Вы же стараетесь унизить меня. Вас, видно, так и подмывает сказать мне «чернозадый». Кстати, откуда вам известно, что я чернозадый? Вы же никогда моего зада не видели. Хочется поглядеть? (Он приспускает брюки и трусы и поворачивается задом к Халли.) Смотрите внимательно: настоящая африканская задница — чернее не бывает. Довольны? (Подтягивает брюки.) Когда вернетесь домой, порадуйте отца. Скажите ему, что видели мою задницу и что она и впрямь черна. Чтобы посмешить его, я и ему покажу при случае. Давай, Вилли, поторапливаться.
Сэм и Вилли заканчивают уборку чайной. Халли оцепенело ждет, когда Сэм окажется рядом.
Халли (негромко). Сэм...
Сэм останавливается и выжидательно смотрит на юнца. Халли плюет ему в лицо. Вилли протяжно стонет, как от сердечной боли. Сэм стоит неподвижно.
Сэм (достав платок и вытерев лицо). Все в порядке, Вилли. (Обращаясь к Халли.) Теперь мне уже нетрудно будет называть вас мастер Харольд. Если кому и будет хуже, то только
536
вам. Я видел, к чему все это клонится и предупреждал вас, и я вынужден сказать, что вы трус, мастер Харольд. Вам хотелось бы плюнуть в лицо своему отцу... но вы предпочли плюнуть в меня, потому что уверены в своей безопасности... (Он решительно подходит к Халли.) Ну что, врезать ему разок, Вилли?
Вилли (останавливая Сэма). Не стоит, старина.
Сэм (гневно). Почему?
Вилли. Не поможет, Сэм.
Сэм. Я и не хочу ему помочь! Только причинить боль. Вилли. Тебе самому будет больно.
Сэм. А если он плюнет в тебя, Вилли?
Вилли. В меня? Как в паршивую собаку? (Эта возможность до сих пор не приходила ему в голову. Он смотрит на Халли.) Да, я бы его ударил. И побольнее. (Несколько секунд мужчины угрожающе глядят на юношу. Потом Вилли отворачивается, машет головой.) Скорее всего я просто ушел бы на кухню и там выплакал свою обиду. Он же еще совсем сосунок, Сэм. Даром что ходит в длинных штанах.
Сэм (его гнев быстро убывает, сменяясь чувством поражения). Ты прав. Ну так стони же, Вилли. У тебя это лучше получается. Я так не умею. (Обращаясь к Халли.) Вы и не догадываетесь, что вы сейчас натворили... мастер Харольд. У меня такое чувство, как будто я вымарался в какой-то мерзости, и не знаю, как отмыться. И я тоже потерпел поражение. Давным-давно я дал себе слово, что попробую сделать одну вещь, но вы только что мне доказали... мастер Харольд... что у меня ничего не вышло. (Пауза.) Я хорошо помню маленького белого мальчугана в коротких штанишках, а с ним черного мужчину. Дело происходило еще в старом «Юбилее», после ужина, в моей комнате, мастер Харольд. Вы вошли и прислонились к стене, глядя себе под ноги. Я спросил, зачем вы пришли, и тогда вы заговорили так тихо, что я едва расслышал: «Сэм, пожалуйста, помоги мне принести отца». Он валялся мертвецки пьяный на полу бара в отеле «Сентрал». Оттуда позвонили вашей матери, но дома были только вы. Помните, как мы тогда поступили? Сначала вы вошли один и попросили разрешения пропустить вашего черного слугу. Я взвалил его на спину, как младенца, и отнес в пансион, а вы шли сзади с его костылями. (Вспоминая, покачивает головой.) Мейн-стрит запружена людьми, все глазеют на белого мальчика, семенящего вслед за пьяным отцом, которого тащит на спине черномазый! Я сочувствовал вам... мастер Харольд... сочувствовал. Потом мы приводили его в божеский вид. Он измарал штаны, пришлось его отмыть, прежде чем уложить в постель.
537
Халли (с мучительной болью}. Я люблю его, Сэм.
Сэм. Я знаю, поэтому и хотел остановить вас, Когда вы говорили о нем дурно. Было бы так просто презирать его за слабость. Но он ваш отец. Вы и любите, и стыдитесь его. Отныне вам будет стыдно и за самого себя. Именно это я и хотел предотвратить... {Пауза.} После того как мы уложили его, вы зашли ко мне в комнату, сели в уголок и уставились на пол. Прошло много дней, а вы все прятали глаза. Ничего дурного вы не сделали, но у вас был такой вид, будто вы виноваты перед всеми на свете. Мне это не нравилось. Так вы никогда не стали бы мужчиной. Но единственный человек, который мог бы вас направить на путь истинный, был причиной вашего позора. Именно поэтому я смастерил змея; хотел, чтобы вы хоть однажды испытали гордость. {При этом воспоминании на его лице появилась горькая усмешка.} Когда я оставил вас на холме, вы и впрямь испытывали гордость. Ах да... пока не забыл... Если когда-нибудь вы напишете обо всем этом рассказ, знайте — в конце был неожиданный поворот. Я не мог сесть рядом с вами — скамья была «только для белых». Вы были слишком юны и слишком взволнованны, чтобы заметить это. Но теперь вы выросли. И если будете неосмотрительны... мастер Харольд... сидеть вам одному долго-долго, и не будет для вас никакого змея в небе. {Сэму больше нечего сказать. Он идет на кухню, на ходу снимая с себя официантскую куртку.}
Вилли. Плохо. Все очень-очень плохо.
Халли {укладывает учебники в портфель, натягивает плащ). Вилли... {Ему трудно говорить.) Запри... и смотри не потеряй ключи.
Вилли. О’кей.
Возвращается Сэм. Халли заходит за прилавок, выгребает деньги из кассового аппарата. Направляется к двери...
Сэм. Комиксы не забудьте.
Халли возвращается к прилавку, засовывает их в портфель и снова идет к выходу.
{В спину юноше.) Постой... Халли... {Халли останавливается, но не поворачивается к Сэму лицом.) Халли... не мне объяснять тебе, что значит быть мужчиной... я сам не выказываю мужества, особенно сегодня. Может, попробуем еще раз, Халли?
Халли. Что попробуем?
Сэм. Запустить змея, например. Однажды ведь получилось. А теперь мне самому это нужно не меньше, чем тебе.
538
Халл и. На улице — дождь, Сэм. В дождливый день змеев не запускают.
Сэм. Что же нам делать? Надеяться, что завтра погода исправится?
Халли (с беспомощным жестом). Не знаю. Ничего больше не знаю.
Сэм. Раз так, надеяться не на что. Стало быть, мы сегодня ничему не научились. А ведь было чему. Как хочешь, а я тебе не верю. Кое-что ты знаешь наверняка: не очень-то весело сидеть на скамье одному. Ты понимаешь, о какой скамье я говорю. Вставай же скорее,—никто тебя силком не держит,—и уходи прочь.
Халли уходит. Вилли неслышно приближается к Сэму.
Вилли. О’кей, Сэм... Видишь, какая штука... (Не находит нужных слов.) Завтра все будет о’кей. (Другим тоном.) Эй, Сэм! (Говоря через силу.) Ты был прав. Я с тобой согласен. Сегодня же разыщу Хильду и извинюсь перед ней. Поклянусь, что не буду больше ее дубасить. Слышишь, старина?
Сэм. Слышу, Вилли.
Вилли. А на репетициях постараюсь расслабиться и буду все делать романтично — от начала до конца. Вот увидишь, через две недели ты услышйшь голос главного судьи: «Первый приз получают молодые танцоры: мистер Вилли Малопо и мисс Хильда Сэмюеле». (Внезапно.) К черту, пойду домой пешком!
Он подходит к музыкальному автомату, опускает монету, выбирает пластинку. В серых сумерках загорается целый спектр романтических цветных огоньков, автомат оживает.
Как это ты сказал, дружище, Сэм! Помечтаем.
Вилли раскачивается под музыку и жестами зовет Сэма танцевать.
Сара Воэн (поет).
Ты не плачь, сынок мой милый,
Слезы зря не лей,
Сыщется твоя игрушка, Засыпай скорей!..
Веди, Сэм.
Мужчины танцуют друг с другом.
539
Джонни выиграл цветные
Камушки твои.
Папа принесет другие.
Спи, мой мальчик, спи.
Перевод с английского В. Рамзеса
Мукотани Ругьендо
Мукотани Ругьендо — угандийский драматург, поэт, новеллист. Окончил Дар-эс-саламский университет. Работает редактором в танзанийском издательстве. Пьеса «Колючая проволока», повествующая о положении
угандийского крестьянства и его борьбе за лучшее будущее, входит в сборник «Колючая проволока и другие пьесы», опубликованный издательством Хайне-манн* (Heinemann Educational Books Ltd) © Mukotani Rugyen-do, 1977.
КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
Пьеса в шести сценах
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Рвамбура — местный богатей.
Бираквате — крестьянин, бывший учитель в церковной школе.
Ньямуганья — сосед Бираквате.
Ф у р и д а - вдова.
Марита — крестьянка.
Рванквиси — крестьянин, один из самых старых жителей деревни.
Рутагиренда Л
М е й ш о (
К и т в е Г батраки Рвамбуры.
Катондори J
Полицейские — первый, второй, третий и четвертый.
Секретарь окружного комиссара.
Другие жители деревни.
Борющимся крестьянам и рабочим, которых уже никто не заставит верить, будто ничего никогда не изменится, все останется как было.
540
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Ньямуганья обрезает кусты у тропы. Мимо проходит Бира к-вате с мешком на плече. У него усталый и обозленный вид.
Бираквате. Бог в помощь, Ньямуганья!
Н ь я м у г а н ь я (поднимает голову). A-а, это ты, Бираквате.
Бираквате. Да, я. Как дела?
Ньямуганья. Помаленьку. Где ты сегодня целый день пропадал ?
Бираквате (присаживаясь). Ох-хо-хо, бедная моя спина... (Сплевывает на землю.) Вчера мне пришлось есть ямс с тыквенными листьями без соли. Вот и решил сегодня продать мешок гороха да купить соли.
Ньямуганья. Ну что, продал?
Бираквате. А как же! Сейчас горох нарасхват, по двадцать центов за фунт. У меня-то был перезрелый, я отдал по пятнадцать.
Ньямуганья. Нда... (Еще пару раз взмахивает тесаком, затем поднимает голову.) А что это у тебя такой злой вид? Поругался с кем-нибудь?
Бираквате. А ты слыхал, какую штуку выкинул этот мерзавец?
Ньямуганья. Кто это?
Бираквате (прищелкнув языком). Да наш толстосум, кто же еще!
Ньямуганья. Рвамбура?
Бираквате. Он самый.
Ньямуганья. Что же он сделал? Обругал тебя? Или опять бахвалиться начал?
Бираквате. Если бы только это! Ты знаешь, что он задумал ?
Ньямуганья (пожимая плечами). Нет.
Бираквате. Он пригнал на болото своих батраков — целый день возились и почти все расчистили.
Ньямуганья. Дану?!
Бираквате. Точно тебе говорю. Сходи посмотри — сам увидишь. Похоже, он думает нас надуть. Ну нет, так запросто мы ему не дадимся — болото принадлежит общине, наше общее с незапамятных времен.
Ньямуганья. У, кровосос! Думает, все принадлежит ему. Будто он один живет на свете!
Бираквате. Не могу спокойно смотреть на такое. Вот
541
люди и болтают, будто из-за этого я и из школы ушел, дескать, удобнее будет воду мутить в деревне.
Ньямуганья. И много они расчистили?
Бираквате. Помнишь, там эвкалипт стоит?
Ньямуганья. Высокий такой?
Бираквате. Ну да. Вот от него и до дерева, что цветет красными цветами.
Ньямуганья. Клянусь своей рыжей коровой — прямо не верится!
Бираквате. Так запросто мы им не дадимся. Костьми поляжем, а не дадимся.
Ньямуганья. Не иначе, злой дух в него вселился. Где ж это видано, чтобы один человек целое болото себе оттяпал? Все знают: болотом пользовались сообща, когда нас еще на свете не было. Веревку, скажем, надо сплести или корзину — куда идти за травой и прутьями? На болото. Бананы положить, чтобы дозревали — опять трава нужна. Там и хворост собираем для топки и тростник для кровли. Коровы туда на водопой ходят, а женщины еще в стародавние времена за травами для благовоний ходили. И все это он хочет присвоить себе одному? Да как ему это в голову-то втемяшилось?
Бираквате. Ты ведь знаешь, правительство решило осушить болото, чтобы мы могли сажать на нем табак и овощи. А он, негодяй, вздумал всех обойти и помешать этим планам!
Ньямуганья. Я вот чего в толк не возьму, Бираквате. Почему некоторым людям не хватает того, что у них есть?
Бираквате. Спроси чего по легче! Я сам диву даюсь: почему это Рвамбуре все мало? У него и дом в бог знает сколько этажей, и три машины. А бананы? Он же каждую неделю отправляет в Кампалу целый грузовик! Одного скота восемьсот голов — и все заморских пород! Да еще две тысячи цыплят... Да-а... Он один может целый город молоком и яйцами накормить! И это еще не все. Знаешь большой магазин возле рынка? Ну, вывеска еще там — «Бакига Сторз»?
Ньямуганья. Знаю.
Бираквате. А дом, который арендуют сапожники?
Ньямуганья. Ага...
Бираквате. Это все его! Говорят, и заправочная станция тоже его.
Ньямуганья. Погоди-ка, и я кое-что вспомнил. Ходят слухи, что он получил разрешение на закупку золота и серебра. И как ему удается проворачивать такие делишки?
Бираквате. Э-э, Ньямуганья, это все взятки! В нынешние времена человек может все, если у него есть деньги!
Ньямуганья. Это уж точно.
542
Бираквате. Богатеи вроде него — страшные люди. Такой как деньги учует — сам не свой становится, обо всем забывает. Ты хоть сдохни — ему чихать. Человека продаст, лишь бы деньгу зашибить!
Ньямуганья. С ним надо держать ухо востро. Ты вот говоришь, надо бороться,, а как? Это не так просто.
Бираквате (качая головой). И все же нельзя молчать, когда твое кровное отнимают. Мне сегодня целый день при-шдось простоять на базаре, чтобы продать горох. Так неужто мы должны есть пустой ямс без соли, когда другие разъезжают на машинах? Они вечно твердят, что жилы рвали за свои денежки, а мы, дескать, дрыхли, но я-то знаю, что они их награбили. Мы не позволим нас дурачить! Наши дети тоже есть хотят!
. Ньямуганья. Знаешь, сколько ямса могло бы вырасти на болоте? Всем бы хватило! А какие крупные клубни! За один присест не осилишь.
Бираквате. Уже темно. Что ты там в темноте нарубишь, пошли домой.
Ньямуганья. Подождем, посмотрим, что дальше будет. Может, ты зря кипятишься. Он, может, от чистого сердца решил нам помочь — осушил для нас болото. Кто знает?
Бираквате. Вот и я тоже не знаю. Чем соврать, лучше сказать «не знаю».
Уходят.
СЦЕНА ВТОРАЯ
Бираквате стоит у расчищенного болота и зовет Ньямуганью.
Бираквате. Эй, Ньямуганья! Ньямуганья!
Ньямуганья (издалека). Эге-гей!
Бираквате. Что случилось? Где вы застряли?
Ньямуганья (уже ближе). Идем, идем!
Бираквате. Быстрее! Идите все сюда. Рванквиси, Фури-да, Марита! Все сюда!
С палкой на плече он ходит возле болота. Подходят Ньямуганья, Рванквиси, Фурида, Марита и другие.У всех в руках палки, покороче и подлиннее.
Ньямуганья. Здравствуй!
Бираквате. Здравствуй. (Показывая на болото.) Видите, сколько расчистили?
543
Ньямуганья. Я вчера как увидел — глаза вытаращил.
Рванквиси. Вот это да! Клянусь своей рыжей телкой, они отвели воду! Да, они времени даром не теряли, а, Бираквате?
Бираквате. Вот то-то и оно, Рванквиси! А ты как думал ?
Рванквиси. Когда же это они успели?
Ньямуганья. За один день, старина.
Бираквате. За один день! Я проходил здесь утром, когда они еще не начинали работать. Их было шестеро батраков. Я думал, они пришли за сухим папирусом, а на обратном пути увидел, что дело уже сделано.
Фурида. Так зачем тогда ты нас позвал?
Бираквате. А ты не догадываешься?
Фурида. Нет. Утром, слышу, Ньямуганья кричит, чтобы я сейчас же шла на болото. Вот я и прйбежала.
Бираквате {насмешливо). Мы ждем большого начальника, который всем здесь распоряжается. Рвамбура расчистил болото и велел нам собраться здесь — надо обсудить все сообща.
Все {нестройно). А где же он? Где Рвамбура?
Бираквате. Большие люди любят понежиться в постели. Потом слуги согреют ему воду для умывания, он встанет, полюбуется на себя в зеркало и, перед тем, как одеться, выпьет чаю с бутербродом... Мы можем прождать его тут целый день.
Ньямуганья. Давайте еще немного подождем, может быть, он скоро подойдет.
Бираквате. Вот он, идет.
Все смотрят туда, куда показывает Бираквате. Появляется Рвамбура. Его одежда побогаче, чем у остальных.
Рвамбура {оглядывая всех с самодовольным видом). Как вам спалось?
Молчание.
Рванквиси. Какой уж сон в мои годы, сынок! Ты-то ешь все самое лучшее да свежее, а мы — что попадет. Твой-то дед приходился моему отцу двоюродным братом, а ты мне ни разу обноска какого не швырнул!
Бираквате. Нет, вы только послушайте, что туг плетет этот старик! Похоже, у тебя, Рванквиси, одни только богатеи в родне, так, что ли?
Рванквиси. По-твоему, я вру! {Рвамбуре.) Твой отец, наверное, рассказывал тебе перед смертью об этом? Его ведь
544
звали Букосьо, да? А отца Букосьо — Кашакуре, отца его отца — Ндьянабанги, а тот был сыном Митего.
Ньямуганья. Да, старик, это похоже на правду. Ты знаешь всю их родословную, как я погляжу.
Рванквиси. Еще бы мне не знать! А у матери Букосьо, жены Кашакуре, была дочка по имени Ньинабакази — большая мастерица плести корзины. Она-то и была мать моей матери. Они жили в Рубанде, возле большого баобаба — у него еще с 4 веток свисало много-много пчелиных гнезд. Вот откуда они перебрались сюда!
Все смеются. '
Рвамбура. Рванквиси, мы собрались здесь совсем не для этого. У нас есть дела поважнее.
Бираквате. Сам себя не похвалишь — никто не похвалит, правда, Рванквиси?
Рванквиси. Как хотите, а все равно мы с ним родня! Он, конечно, может отпираться, но это так, клянусь своей рыжей коровой!
Все смеются.
Рвамбура (важно). Итак, надеюсь, Бираквате сообщил вам, зачем я вас позвал? Нужно кое-что обмозговать — это касается нашей земли.
Все согласно кивают.
Рванквиси. Ты правильно поступил, сынок.
Бираквате. Помолчи-ка, Рванквиси. Лучше послушай, что тебе скажут. А уж потом, если захочешь, благодарить будешь.
Рвамбура. У меня мало времени, поэтому скажу, что собирался, и пойду. (Смотрит на часы, потом с видом превосходства оглядывает всех.) Я тут пораскинул мозгами и решил, что мы совсем забросили земли на болоте, а ведь в них заключено целое состояние.
Ньямуганья. Дело говоришь! Да одного клубня, выросшего здесь, хватит, чтобы накормить целую семью!
Рвамбура. Все понятно. Земля и вправду богатая, но ведь само собой ничего не делается. Надо приложить руки, и тогда можно будет выращивать здесь табак, овощи, маис, сорго, ямс, как сказал Ньямуганья, да все, что угодно!
Рванквиси. Да, на такой земле все будет расти.
Рвамбура. Поэтому я решил сначала расчистить болото, а уж потом мы вместе подумаем, что сажать.
18 Альманах «Африка», выл. 6
545
Бираквате. Но...
Рвамбура. Что «но»?
Бираквате. Говорили, что правительство должно прислать трактор, чтобы помочь нам расчистить болото. Чиновник разделил бы землю поровну, а уж мы бы сами решили, что сажать — табак или овощи. А теперь как же?
Рвамбура. Я слышал об этом. Действительно, были такие разговоры, но когда я стал наводить справки, мне сказали, что тракторов нет. А это значит, что можно еще лет десять сидеть и ждать, вместо того чтобы самим распорядиться этим богатством.
Рванквиси. Ого, целых десять лет! Долгонько выходит. Ну не говорил ли я, что ты молодец, сынок! Так нас выручил !
Ньямуганья. Ну, и как же теперь?
Рвамбура. Я прорыл дренажную канаву, чтобы отвести воду, и все расчистил. Болото наше, нам и решать, как выгоднее его использовать. Каждый получит надел: по ширине — как ваше поле, примыкающее к болоту, а по длине — до дренажной канавы, которая делит болото пополам. Я и еще несколько человек возьмем себе землю по другую сторону канавы. (Пауза.) Вот... Думаю, в этом году мы сначала посадим ямс, а потом сорго и маис. А когда снимем маис, можно будет сажать табак и все остальное.
Ньямуганья. Но ведь некоторые наделы не граничат с болотом. Стало быть, их владельцы ничего не получат?
Рвамбура (обращаясь ко всем). Есть среди вас такие, чья земля не доходит до болота?
Марита. Моя, к примеру. Есть и еще. Наша земля выше по холму.
Рвамбура. С вами поделятся те, кто получит надел на болоте.
Ньямуганья. И все наши земли будут только по эту сторону дренажной канавы?
Рвамбура. Да.
Все недовольны: ясно, что ему достается самая большая доля.
Бираквате. Значит, все уже решено?
Рвамбура. Да, решено.
Бираквате (тихо). Гм?..
Все недовольно гудят, но возражать не решаются.
546
Рвамбура. Спасибо всем, что пришли и что проявили благоразумие. Давайте и дальше так же дружно решать наши дела. (Глядит на часы.) О, мне пора!
Рвамбура уходит.
Ньямуганья. Что бы я ни сказал, вы только смеетесь, а ведь потом все по-моему выходит. Вы что, ослепли, не видите, что он нас одурачил?
Рванквиси. Да что ты, он же наш, свойский!
Фурида. Забудь об этом, старина! Никогда не верь таким, как Рвамбура, им начхать, родственник ты им или нет.
Бираквате. Твоя правда, женщина. Эти люди все еще хозяйничают везде, как я погляжу.
Рванквиси. Да бросьте вы, разве сын Букосьо нас обманет? Он же и наш сын тоже!
Бираквате. Стойте!
Все. Говори, Бираквате!
Бираквате. Знаете, как должен вести себя тот, кто сторожит кроликов?
Все (вместе). Быть начеку!
Бираквате. Вот именно. Ладно, пошли домой.
Уходят.
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Прошло полтора года. Фурида разглядывает початки спелого май- -са, поклеванные птицами.
Фурида. Похоже, мое поле облюбовали птицы. Еще бы, им здесь есть чем поживиться. Они могут весь урожай склевать, мне ни зернышка не останется. (Опять смотрит на поклеванные початки, потом начинает бросать в птиц камнями.) Кыш, кыш!
Мимо проходит Марита. Опа работала в поле: на голове у нее корзина, на плече — мотыга.
Марита. A-а, это ты, Фурида!
Фурида. Я, а кто ж еще?
Марита. Бог в помощь.
Фурида. Спасибо. Я вот только на минуточку заглянула посмотреть, поспел ли маис. Хочу потом сорго посеять.
Марита. Сорго?
Фурила. Ну да.
18*
547
Марита. Но мы же договорились: сначала сажаем ямс, потом сорго и маис, а потом, если земля окажется пригодной, то табак. Ведь такой был уговор?
Фурида. А я опять посею сорго. Ишь, что удумал — табак сажать. А нам что же, с голоду пухнуть, да? Табаком-то не больно наешься.
Марита. Но ведь его можно выгодно продать.
Фурида. Какой прок от денег, когда есть нечего! Когда дети мрут от голода? На такой-то земле сажать табак! Ну уж нет, пусть сначала у наших детей будет сорговая каша, а уж потом подумать можно и о табаке.
Марита. И то верно. Весь этот разговор о деньгах затеял Рвамбура на этом самом месте еще год назад, и с тех пор ни гугу. Но ведь и подзаработать тоже неплохо. А с другой стороны, с табаком столько возни: ведь пока он вырастет, нужен глаз да глаз.
Фурида. Я тоже в этом кое-что смыслю, и вот что я тебе скажу: растить табак по силам только человеку с деньгами. А нам, голытьбе, нечего и думать об этом! За табаком все время уход нужен, а есть мы что будем? Эдак мы все с голоду перемрем, коли будем других слушать! Куда нам тягаться с Рвамбурой!
Марита. У него и трактор, и батраки... Трактор за один день может все поле вспахать. А как табак вырастет, он пришлет батраков — они ведь только на него и работают.
Фурида. Да что нам, беднякам, слушать этого толстосума? Вот завтра встану пораньше и пойду сеять сорго.
Марита. Жаль, мое поле далеко, а то бы я тоже сходила посмотреть, не посеять ли и мне сорго? Я там целую неделю не была, но, думаю, маис уже почти поспел. И какой? Все початки налитые — зернышко к зернышку!
Замечают приближающегося Рвамбуру. Молча ждут, пока он с ними поздоровается. Рвамбура одет, как обычно.
Рвамбура. Ну, как дела?
Женщины {одновременно). Спасибо, хорошо.
Фурида. А у тебя как?
Рвамбура. Неплохо.
Пауза. Рвамбура поглядывает на маисовые поля.
{Качает головой.) Похоже, маис уже совсем созрел. {Женщинам.) Теперь-то у вас еды вдосталь!
Фурида и Марита толкают друг друга локтем — к чему это он клонит?
548
Марита. Оно конечно! Но ведь на живого человека не угодишь — всегда чего-нибудь да не хватает.
Рвамбура опять смотрит на поля.
Рвамбура. Разве вам мало того, что у вас есть? Вспомните, какой урожай сорго вы собрали в прошлый раз! А теперь вон какой маис вымахал! Вы меня век благодарить должны!
Женщины насмешливо переглядываются.
Марита. Конечно, конечно, мы уж так тебе благодарны, Рвамбура.
Фу рида. Низкий тебе поклон!.. Говорят, гиена своего родича жалеючи ест.
Пауза. Рвамбура опять смотрит на поля.
Рвамбура. Думаю, хватит с вас и того, что вы уже получили. {Женщины удивленно переглядываются.) Я искал Бираквате, чтобы ему это сообщить. Попользовались, и будет — мне нужна моя земля.
Ф у р и д а (удивленно). Твоя земля?
Рвамбура. Да, моя.
Ф у р и д а. Клянусь предками из Китанги, выходит, мы поделили эту землю, чтобы ты нас с нее согнал?
Рвамбура (презрительно). «Мы поделили...» С кем это вы ее делили?
Марита. А разве не так дело было? Это тебе любой подтвердит.
Рвамбура. Вот что я вам скажу, уважаемые: я на свои кровные денежки расчищал болото, никто из вас пальцем о палец не ударил. И делал я это не для кого-нибудь, а только для себя. А если я разрешил вам пользоваться частью моей земли, так это я просто хотел помочь вам свести концы с концами.
Фу рида. Ты это серьезно, Рвамбура? Ты нам просто помогал?
Рвамбура. А вы как думали? Что, я вам эту землю в подарок отдал, да? А еще ничего не хотите?
Фу рида. Ага! Что я говорила?! Я знала, что этим кончится!
Рвамбура. Сказано — и дело с концом. Пусть Бираквате всех предупредит, чтобы убирали маис. Через два дня я пригоню трактор и привезу батраков, и мы все запашем подчистую.
Марита. Но маис еще не дозрел.
549
Фурида. Перестань, Марита! Он, видно, хочет нас в дураках оставить. Не выйдет!
Рвамбура. Что ты такой крик подняла? Попусту разоряешься! Кто не желает, может все оставить как есть, меня это мало трогает. Через два дня мои трактора все перепашут.
Марита. Но ведь зерно только-только налилось, ему еще надо подсохнуть.
Рвамбура. Ну так посушите его на краю поля. Это уж ваша забота, как с ним управиться.
Фурида. Нет, Рвамбура, так дело не пойдет. Да я скорее на отца родного руку подниму, чем соглашусь на такой грабеж. Ты нас что, совсем за дураков держишь? Подумать только! (Всплескивает руками.) Ну и ну!
Рвамбура. Я сказал — и дело с концом.
Он поворачивается, чтобы уйти. В этот момент появляется Бираквате. Марита замечает его первая.
Марита. А вот и Бираквате. Скажи-ка ему сам.
Фурида (бежит навстречу Бираквате). Бираквате, ты только послушай, какую подлость он затеял!
Бираквате. Что случилось?
Фурида. Этот толстосум хочет согнать нас с земли. Что нам теперь делать?
Бираквате. Фурида, Марита. Да объясните вы толком, в чем дело? (Рвамбуре.) Добрый день, Рвамбура.
Рвамбура. Здравствуй.
Марита. Рвамбура сказал, чтобы в два дня мы убрали весь маис и освободили его землю — вот в чем дело.
Бираквате. Что?! Его землю? Какую такую его землю?
Рвамбура (обводя рукой поле). То, что ты видишь перед собой.
Фурида. Ты слышишь, Бираквате?! Что же это делается на белом свете?
Бираквате (удивленно оглядывается, обращаясь к Рвамбуре). Ты что, и вправду так решил?
Рвамбура. А ты как думал?
Бираквате. Эге... Это только начало...
Марита. Нас тоже как по голове ударило. Потому-то Фурида так и раскричалась. Мы пошли взглянуть, как там наш маис и можно ли будет посеять потом сорго, и вот — на тебе! Убирайте недозрелый маис!
Фурида. Ну нет, дудки!
Бираквате. Стойте, Рвамбура, верно, пошутил. (Рвамбуре.) Ты ведь пошутил, Рвамбура? А?
550
Рвамбура. Какие там шутки! Я сказал — и повторять не собираюсь.
Бираквате. Плевать мне на то, что ты сказал! Клянусь своей коровой, мы еще посмотрим, кто кого. Только попробуй оттягать у нас эту землю!
Рвамбура. Я уже говорил этим женщинам, чтобы они передали тебе и всем остальным: даю вам два дня, чтобы вы убрались с моей земли. Кто не захочет — пусть пеняет на себя. Трактору все равно — у него родственников нет.
Рвамбура поворачивается и уходит.
Фурида. Ну что скажешь, Бираквате? Видишь, до чего доводит богатство — он нас и за людей не считает. Мы для него — тьфу, плюнуть и растереть! Нос так и воротит!
Марита. Как же нам, беднякам, теперь быть?
Фурида. Неужели будем молчать и терпен»? А, Бираквате?
Бираквате. Нет, мы это так не оставим. Если смолчим, он нам на шею сядет — из собственных домов выгонит.
Фурида. А что же делать?
Бираквате. Он нам два дня дал, да?
Фурида. Да.
Бираквате. Сегодня что у нас, вторник?
Марита. Вторник.
Бираквате. Давайте соберемся здесь в пятницу рано утром. Пусть все захватят с собой у кого что есть: копья, ножи, мотыги, палки — все, что под руку подвернется. Мы еще посмотрим, кто кого!
Фурида. Правильно! Увидим, сможет ли этот мерзавец согнать нас с нашей земли.
Бираквате. Передайте всем, что это очень важно. Я тоже оповещу тех, кого увижу. Скажите им, что недозрелый маис может пропасть, что, если уступим, лишимся своих наделов на болоте. Где тогда мы вырастим такой ямс, чтобы одним клубнем целую семью накормить? Вот югда посмотрим. Недаром говорят: «Не дразни собаку — тяпнет».
Марита. Верно говоришь.
Фурида. Так и порешим. А теперь пошли работать. Бираквате. Значит, договорились: так всем и скажите.
Уходят.
551
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Прошло два дня. Крестьяне собрались, настроенные весьма решительным образом: мужчины вооружены копьями, тесаками и дубинами, у женщин в руках мотыги и палки. Одни стоят, другие ждут сидя. Фурида и Марита подоткнули платья, они готовы к любому повороту событий.
Бираквате. Вот здесь он стоял вместе с Фуридой и Маритой. Вернее, когда я подошел, он уже собрался уходить, но они задержали его.
Ньямуганья. Как у него язык повернулся сказать такое?
Бираквате. Сказал — и глазом не моргнул.
Ньямуганья. И ты его не вздрючил как следует?
Фурида. Ему и не стыдно было нисколько — стоит, нос задирает.
Рванквиси. Это у них в роду: он ведь внук Кашакуре. Дед его тоже много о себе понимал, других всех ни во что не ставил: мол, у меня и коров, и жен больше, я, мол, один в деревне хозяин. С тем, у кого одна жена, и рядом сесть гнушался!
Бираквате. Сам Рвамбура тоже много добра нажил: и машины у него, и скот, и куры; а тут еще магазин открыл, бензоколонку — поневоле нос задерешь!
Рванквиси. И все это нажито нечестным путем. А теперь вот за нас принялся. Коли мы смолчим, он все болото к рукам приберет.
Фурида. А уж если что к нему попадет — пиши пропало! Будешь с голоду подыхать, он тебе сухой корки не бросит. Послушать его, так у него те же порядки, что в банке: беднякам денег не ссужает — еще, мол, неизвестно, смогут ли они вернуть долг.
Бираквате. Пусть себе жир нагуливает, придет и его срок. Недолго таким, как Рвамбура, нами помыкать! В Буган-де тоже был один такой: земли у него было вдвое против Рвамбуры, и все — за колючей проволокой. Чего-чего там только ни было: и бананы тебе, и кофе... Только не долго он радовался...
Марита. Рвамбура тоже хочет огородить болото колючей проволокой, как свои пастбища.
Ньямуганья. Ишь, что удумал! (Марите.) А откуда ты знаешь?
Марита. Его жена сказала кое-кому по секрету, а там и до нас дошло.
Бираквате. Ты смотри, что эти кровопивцы вытворяют!
552
В Руджумбуре один взял да и обнес колючей проволокой всю землю, что примыкала к его владениям, а когда те, кого он ограбил, пытались протестовать, их упрятали в кутузку. Другой, из Анколе, дошел до того, что окружил колючей проволокой все дома в деревне, а стоило жителям пожаловаться властям, их же и оштрафовали. В другом районе еще и не такое было: люди, чьи земли оказались за колючей проволокой, хотели ее перерезать, так хозяин пошел и договорился с компанией, и они пустили по проволоке ток. В наше время деньги все могут!
Марита. А нас в тюрьму не посадят?
Фурида. Да что ты, бог с тобой! За что нас сажать, за то, что мы не хотим добровольно отдавать свое кровное?
Бираквате. Не беспокойтесь, пусть приходит со своими батраками — поглядим, кто кого! Без драки, думаю, не обой-, дется.
Марита. Но ведь у него трактор.
Бираквате. А на тракторе кто? Человек. Мы его стащим оттуда и вздуем как следует.
Фурида (показывает палкой}. Ага! Вот они, голубчики!
Все смотрят в ту сторону.
Марита. Сколько с ним людей?
Фурида. Погоди-ка. (Считает.} Четверо. (Вглядывается.} Похоже, Рутагиренда, Китве, Мейшо и Катондори.
Ньямуганья. Ты уверена?
Фурида. Посмотри сам, если не веришь.
Все всматриваются в приближающихся людей.
Фурида. Они и есть.
Марита. Точно, они. Это Рутагиренда — у него у одного такое отвислое брюхо.
Рванквиси. Да нет, не может быть!
Фурида. Они самые, старина. Подожди, вот подойдут — сам увидишь.
Рванквиси. А может, они к нам на подмогу?
Марита. Гм, может быть. Неужели Рутагиренда снюхался с Рвамбурой?
Бираквате. Они пришли вместе с ним, чтобы уничтожить наши посевы. Они уже давно мертвецы — их все равно что нет. Рвамбура убил в них душу — поэтому они все заодно. Пусть подойдут поближе. А вы помалкивайте, посмотрим, что они станут делать. Кто сидел, не вставайте, не стоит их пугать раньше времени.
553
Подходит Р в а м б у р а. С ним Р у та г и ре н да, Китве, Мейшо и Катондори с тесаками в руках.
Рвамбура. Вы вот тут собрались с утра пораньше с копьями да с ножами, а маис так и не убрали. Я же велел Бираквате передать всем — пусть освободят мое поле.
Пауза.
Бираквате. А с чего это нам вдруг убирать маис?
Рвамбура. Мне уже надоело повторять одно и то же: это моя земля, и теперь она мне понадобилась.
Бираквате (в негодовании). Твоя, говоришь?! Это мы еще посмотрим! Думаешь, если у тебя водятся деньги, то тебе все дозволено?
Рвамбура. Вы нс захотели убрать свой маис — теперь мои батраки его срежут, а трактор все запашет.
Бираквате {вооруженный ножом и копьем). Пусть только попробуют сунуться! Рутагиренда, ты что, и вправду собираешься срезать наш маис? И тебе не совестно?
Батраки виновато переглядываются.
Ньямуганья. Пусть только сунутся на наши участки! Ты, Китве, думаешь, что делаешь?
Фурида. А ты, Мейшо! Твоя семья голодает, дети ходят, побираются, а ты слушаешься этого толстосума, хочешь наши посевы уничтожить!
Мейшо. Заткнись, ты! Мои дети к тебе просить не ходят. Это твои, стервецы, все норовят стянуть что-нибудь! А их мать первая горло дерет.
Марита. Ой ли? Это в твоем доме все воры и побирушки. Помнишь, Мату поймал твою жену Зериду на своей плантации, когда она пыталась утащить целую гроздь бананов? Напомнить, чем дело кончилось?
Все (ухмыляясь). И чем же?
Марита. Об этом вам трава на плантации расскажет.
Мейшо не знает, куда глаза девать от смущения.
Рванквиси. А ты, Рвамбура? Ты нам сродни, всех хорошо знаешь. Ты, сын Кашакуре... неужто нарушишь наш уговор?
Рвамбура. Знать не знаю ни о каком уговоре.
Бираквате. С чего ты взял, что это твоя земля? Рвамбура. Как это с чего? А кто расчистил болото?
554
Ньямуганья. Оно что, тебе в наследство досталось? Или ничейное было?
Рвамбура. Конечно, ничейное.
Фурида. Он говорит «ничейное»! Вы только послушайте, каков мошенник! {Плюет в сторону Рвамбуры.)
Рвамбура (Фуриде), Не бабьего ума это дело: что ты смыслишь в наших делах?..
Фурида (обрывая его). Как это «что я смыслю»? (Глядя на него в упор.) Я здесь спокон веку живу, а ты говоришь, что я в здешних делах не смыслю. Можно подумать, твой отец или дед родились на этом болоте!
Пауза.
Рвамбура. Все равно это моя земля, и...
Бираквате (перебивает его). Нет, не твоя!
Рвамбура. Даже власти подтвердят, что она моя.
Рванквиси. Плевал я на твои власти! Как они могут отдать тебе то, что принадлежит другим?
Рвамбура. Выходит, что могут. Ну-ка, посторонитесь, я буду пахать свою землю.
Бираквате. Нет, вы только послушайте! Может, ты властям взятку дал?
Рвамбура. Повторяю в последний раз: это моя земля. Мои батраки расчистили болото — и попробуйте сказать, что это не так. А то, что я разрешил вам пользоваться этой землей, так это просто из желания помочь.
Бираквате. «Просто из желания помочь» — как вам это нравится, а? Значит, только из сострадания ты уступил нам нашу же землю, так получается, да?
Молчание.
Рвамбура. Как ваш сородич...
Бираквате (перебивает его). А иди ты!.. Тоже, сородич нашелся! Смотри, как бы мы не прищемили тебе хвост!
Рвамбура. Кто не желает, пусть не слушает. Я пришел сюда не для пустых разговоров. Хочу вспахать свою землю, а вам советую уйти подобру-поздорову. Ступайте себе с миром.
Все (в один голос). Никуда мы не уйдем!
Те, кто сидел, вскакивают на ноги, другие начинают колотить палками по земле.
Бираквате. Если хочешь все покончить миром, оставь нашу землю в покое.
555
Фурида. Никуда мы не уйдем! Ну, кто смелый, подходи! Сегодня мы увидим, кто мужчина, а кто пес паршивый! (Опять плюет в направлении Рвамбуры.)
Слышен шум приближающегося трактора.
Марита. Трактор! Трактор едет!
Бираквате. Ну и пусть едет! (Чертит на земле линию.) Я не я буду, если позволю кому-нибудь переступить эту черту!
Рвамбура. Ну ладно, я вам еще покажу. (Подзывает батраков.) Пошли.
Резко поворачивается и уходит. За ним идут Рутагиренда, Мейшо, Китве и Катондори. Шум трактора стихает вдали.
Марита. Жаловаться пошел.
Фурида. Пусть себе жалуется, все равно наша правда.
Бираквате (Ньямуганье). Пойди посмотри, куда это они...
Ньямуганья уходит.
Фурида (оглядывая маисовые поля). И такой маис он хотел запахать своим трактором! Вот уж точно, деньги уродуют человека!
Рванквиси. А его близкие, разве они знают, что такое голод? Жена еле ходит — вся жиром заплыла; телесами трясет — того гляди на части развалится. У детей морды круглые, как у раскормленных котов. Какое им дело до других?
Марита. А сам с таким видом расхаживает, будто всему на свете хозяин.
Фурида. Ну, ничего, мы с него спесь посбили.
Бираквате. Чтоб ему лопнуть! Нам-то от него какой прок?
Ньямуганья (вернувшись). Они все пошли к нему домой. Оба трактора повернули обратно.
Марита. Откуда второй трактор? У него же был один? А тот, который обещало правительство, не дали, если верить его словам.
Бираквате. Не иначе как взятку сунул. Он их всех купил с потрохами: небось наговорил им, что мы не сумеем правильно распорядиться землей, поэтому они отдали трактор ему, а не нам.
Рванквиси. А те, слизняки, что называют себя мужчинами, пошли вместе с ним?
Ньямуганья. Как выводок крысят за крысой.
Рванквиси. Чтоб им пропасть!
556
Бираквате. Что с них, с дураков, взять, если один только и думает, как бы пожрать, а другой за каждой юбкой бегает.
Фурида. Никогда не поверю, чтобы Рутагиренда, Мейшо, Китве и Катондори своей волей обрекли бы нас на голод. Будто кто на них порчу наслал.
Бираквате. С ними все ясно, они люди конченые. Знаешь, что с ними сделал Рвамбура? Он убил в них души, залил их пивом, и теперь они, как верные псы, всюду следуют за его задницей.
Ньямуганья. Залил пивом?
Бираквате. Да.
Ньямуганья. Вот оно что!
Бираквате. Вы думаете, он платит им за работу деньгами?
Все. А как же еще?
Бираквате. Ничего подобного — пивом. Он водит их в пивную — она называется «Ухуру»1 — и угощает их сорговым пивом. А потом они собирают со столов остатки пива и сливают все в большую бутыль.
Фурида. Что собирают?
Бираквате. Опивки соргового пива, вот что.
Ньямуганья. A-а, понятно.
Бираквате. Все это приносят Рвамбуре. Догадываетесь, зачем?
Все. Нет.
Бираквате. Эти самые опивки — прекрасный корм для цыплят.
Ньямуганья. Ясно.
Бираквате. Теперь вам понятно, почему я всегда говорил, что все богачи — продувные бестии? Он ведь платит за пиво всего десять шиллингов, так?
Все. Так.
Бираквате. И за эти десять шиллингов он обеспечивает цыплят кормом на целый день. Даже владелец пивной боится его и задаром отдает опивки. Так вот, вместо того, чтобы платить за корм сто шиллингов, он покупает на десять шиллингов пива и экономит девяносто.
Марита. Ну и пройдоха!
Бираквате. Так и смотрит, на чем бы нажиться, своего не упустит.
Рванквиси. Чтоб ему провалиться!
1 Ухуру — свобода, независимость {суахили).
557
Слышится шум машины.
Бираквате (прислушиваясь). Похоже, машина. (Ньяму-ганъе.) Ну-ка, глянь.
Тот уходит.
Фурида. Значит, он и их к рукам прибрал и цыплят даровым кормом обеспечил.
Бираквате. То-то и оно.
Фурида.' И теперь решил их на нас натравить? И они, как свора псов, послушно выполнят любой его приказ, да?
Бираквате. Ты же сама все видела.
Ньямуганья возвращается бегом.
Ньямуганья. Это полиция!
Все (удивленно). Что? Полиция?
Ньямуганья. Полицейская машина. Они уже здесь, и Рвамбура с ними.
Бираквате. Они вооружены?
Ньямуганья. Да, дубинками.
Испуганные голоса: «Они нас убьют! Что же делать!» Некоторые порываются бежать.
Бираквате. Стойте, у них оружие. Побежите — они начнут стрелять. Лучше держите крепче ваше оружие и стойте на месте..
Марита. Боже мой, что же делать? Они меня убьют!
Фурида. Замолчи! Вечно ты трясешься от страха!
Марита (дрожа). Откуда они здесь взялись?
Фурида. А и вправду, Ньямуганья, ты ведь сказал, что Рвамбура вместе с батраками пошел домой. Откуда тогда полиция?
Бираквате. У Рвамбуры дома телефон.
Фурида. Телефон ?
Все. Да.
Ньямуганья. Должно быть, по телефону он их и вызвал.
Бираквате. Пусть подходят, а вы молчите, посмотрим, что они будут делать.
Полицейские с Рвамбурой во главе подходят и останавливаются в нескольких шагах от крестьян. Те молча наблюдают за их действиями.
558
Первый полицейский. Ну-ка, складывайте сюда все, что у вас в руках!
Указывает дубинкой перед собой.
Бираквате {останавливая крестьян). Стойте!
Первый полицейский. Что? {Подходит к Бираквате и смотрит на него в упор, затем тыкает в него дубинкой.) Ага, значит, это ты тут главный? Ты кто такой есть?
Рвамбура. Да, да, это он, тот самый смутьян, что я говорил.
Первый полицейский {второму). Достань-ка наручники, сейчас мы ему покажем! {Хватает Бираквате за руку.)
Второй полицейский {вытаскивая из кармана наручники). Держи его крепче!
Увидев наручники, Бираквате вырывается, опрокидывая при этом первого полицейского на землю. Все остальные в возбуждении сбиваются в кучу.
Второй полицейский {третьему и четвертому). Держи его!
Ньямуганья {остановись между ними и Бираквате). Погодите, за что его в наручники? Чем он виноват?
Рвамбура. Ага! И этот туда же.
Третий полицейский вместе с четвертым держат Бираквате за руки. Ньямуганья и другие крестьяне пытаются не дать второму полицейскому надеть на Бираквате наручники и тянут его к себе. Шум, толчея, крики: «Нет! За что? Он ни в чем не виноват!»
Первый полицейский. А ну, уберите руки! Последний раз предупреждаю!
Все. Не уберем!
Первый полицейский. Тогда мы с вами поговорим по-другому!
Ньямуганья. И мы тоже!
Все {размахивая тесаками и палками). Сейчас мы вам покажем!
Первый полицейский. Ну что ж, давайте!
Выхватывает пистолет и стреляет в воздух. Из дула пистолета вьется дымок. Рванквиси, Марита и еще один крестьянин падают в страхе на землю. Остальные тоже напуганы.
559
Третий полицейский. Бросайте оружие, живо! (Показывает, куда складывать.) Да пошевеливайтесь, а не то буду стрелять!
Крестьяне поспешно бросают оружие. Многих бьет дрожь. Первый и второй полицейский хватают Бираквате и надевают на него наручники, в то время как третий и четвертый держат толпу под прицелом.
Первый полицейский (ударяя Бираквате дубинкой по голове). Ты что это о себе возомнил, а?
Второй полицейский (угрожая толпе пистолетом). Почему вы мешали ему (показывает на Рвамбуру) делать свое дело? Кто вы такие?
Четвертый полицейский (Ньямуганъё). Иди сюда! Ты тоже у них заводила? Отвечай! (Бьет его по голове.)
Первый полицейский. Кто еще тут воду мутит?
Рв амбура (показывая на Фуриду). Вот эта.
Третий полицейский. Баба?
Рвамбура. Она самая.
Четвертый полицейский (Фуриде). Иди сюда! (Она подходит. Он тычет ей дубинкой в живот. Всем.) И откуда вы, такие умники, взялись? Правительство для них все делает, а они, неблагодарные твари, смуту тут затеяли! Я вам покажу! (Ньямгуанье и Фуриде.) Эй, вы, забирайте свое барахло и пошли с нами. (Показывает на сваленные в кучу мотыги, тесаки, палки и копья. Фурида и Ньямуганья забирают их и уходят вслед за третьим и четвертым полицейским.)
Первый полицейский (остальным). Следуйте за ними!
Рванквиси. Смилуйтесь, господин! Я слишком стар — мне не выдержать пути. Простите меня, господин!
Второй полицейский (тыча его в грудь). Осел! А скакать тут целый день ты не стар? Пошел, пошел !
Марита (падая на колени). Господин, простите, ради бога! У меня дома дети плачут, есть просят.
Второй полицейский (бьет ее). Вот дура набитая! Ну и бабы теперь пошли — проку от них, как от паршивой тыквы! Какого черта тебя сюда принесло? А ну, топай! (Толкает ее в спину.)
Все уходят. Последними идут первый и второй полицейский.
560
СЦЕНА ПЯТАЯ
Раннее утро. Крестьяне сидят вокруг костра перед конторой окружного комиссара. Там они провели всю ночь. Почти все дрожат от холода. Вокруг стоят четверо полицейских с дубинками в руках. Им-то холод нипочем: они в теплых суконных кителях.
Рванквиси. Вот напасть-то, господи! (Трясется от холода.) Аж до самых костей продрог. Где это видано держать людей ночь напролет на улице в такую стужу!
Первый полицейский. И поделом тебе! Зачем тебе, старая развалина, было ввязываться в это дело? Уж помирать пора, а туда же!
Рванквиси. Ну что ты мне душу травишь? Ты думаешь, это я так, дурью маюсь?
Второй полицейский. Ой, что это?
Рванквиси. Это у меня в животе урчит с голодухи.
Третий полицейский. С голодухи, говоришь? Хочешь сказать, крошки во рту не было?
Рванквиси. Где ж я ее возьму, эту крошку?
Третий полицейский. А как же тогда ты сумел дожить до таких лет, а? Чем же ты питался? Воздухом?
Бираквате. Он целыми днями рыщет ради куска хлеба под палящим солнцем.
Второй полицейский (злобно тыкая дубинкой ему в лицо). Заткнись, тебя не спрашивают! Ты тут самый умный как я погляжу. Думаешь, раз был учителем в церковной школе, то можешь людей баламутить? Да я тебя на всю жизнь за решетку упеку!
Крестьяне напуганы.
Третий полицейск и и. А все-таки, старикан, скажи, как же ты раньше-то жил?
Рванквиси. Что тут толковать! Бираквате не соврал. Всю жизнь я бродил по свету, как облака по небу. Земля, которую мы раньше возделывали, давно обеднела. Что мне еще оставалось ?
Первый полицейский. Как же ты, старик, оказался среди смутьянов? В чем только душа держится. {Всем.) J\q чего же бывают глупые люди! Вместо того чтобы всю ночь дро
561
жать тут от холода, прекрасно могли бы нежиться у теплого очага.
Марита. Что холод! Я вот за детей боюсь: как там они всю ночь одни, не напали бы на них дикие звери?
Полицейские гогочут.
Второй полицейский. Послушайте-ка, что эта дура тут лопочет! Будь я твоим мужем, я б тебе взбучку задал! Куда тебя понесло, когда дома дети малые? Муж-то есть?
Марита (испуганно). Да, господин.
Второй полицейский. Ну и где он?
Марита. Уехал в Буганду.
Второй полицейский. Детей, значит, на тебя оставил, а ты и думать про них забыла, так, что ли?
Первый полицейский. Гнать надо в шею таких баб! Ее муж в Буганде вкалывает, а она тут дурочку из себя строит.
Второй полицейский (показывая на Фуриду). Ну а ты, у тебя муж есть?
Фурида (качая головой). Нет, господин полицейский.
Четвертый полицейский. А была замужем?
Фурида. Была.
Третий полицейский. Сбежала от него, наверное, а теперь он свои денежки обратно требует?
Пауза.
Фурида. Он умер.
Второй полицейский. Так вот почему тебе дома не сидится!
Первый полицейский. Некому ее вздуть — вот она и возомнила, будто бабы теперь всем заправляют.
Второй полицейский. У нее просто хахаля нет — она и бесится.
Полицейские смеются. Женщины в смущении отводят.глаза.
Четвертый полицейский. Раз хахаля у нее нет, она и мутит воду, так выходит?
Третий полицейский. Ну да! А тебе и невдомек? Ха-ха-ха!
Четвертый полицейский. Как это?
Третий полицейский. Когда у бабы никого нет...
Четвертый полицейский. Ну?
562
Третий полицейский. ...она ждет, ждет, и все понапрасну...
Четвертый полицейский. И что?
Третий полицейский. Она становится как бодливая корова — мужчин на дух не переносит: только заслышит, что один другого чихвостит, сейчас норовит свое слово вставить. Уж я-то в этом знаю толк.
Второй полицейский. Верно говоришь, все они такие! Если бабу некому приголубить, она и вправду как бодливая корова становится. А попробуй к ней подкатиться — что ты! Такой крик поднимет — и кобелем паршивым, и козлом вонючим тебя обзовет, и по-всякому — ну, просто святая!
Полицейские гогочут. Арестованные мужчины ухмыляются. Женщины смущены, они смотрят в землю и едва заметно улыбаются.
Третий полицейский. Интересно, здесь она тоже будет строить из себя недотрогу?
Второй полицейский. Еще как! А ты добивайся своего, долго ей не устоять — за это я ручаюсь.
Они опять смеются.
Первый полицейский. Да, ребята, с вами не соскучишься!
Четвертый полицейский (показывая на второго). Надеюсь, вы не забыли, что его прозвали «Парень не промах» ?
Первый полицейский. Ха-ха-ха!
Они снова гогочут.
Рванквиси. Я вот что хотел бы узнать...
Полицейские (вместе). Чего тебе?
Рванквиси. Нам вечером сказали, что оштрафуют каждого на пятьдесят шиллингов. Откуда мы такие деньги возьмем? Выходит, помирать здесь придется?
Второй полицейский. Ага, и ты будешь первым.
Первый полицейский. Слышь, старик...
Рванквиси. Слушаю, господин.
Первый полицейский. Правильно ты говоришь — уплатите по пятьдесят шиллингов штрафу за свою глупость. Это надо же такое сморозить! А тот, кто не уплатит, посидит пару месяцев под замком.
563
Рванквиси. У меня все равно денег нет, лучше уж сразу в тюрьму сажайте.
Первый полицейский. И посадили бы, да ванн/ сельчане попросили погодить, пока они деньги соберут. Где они их возьмут — украдут или как — не знаю. Но вас отпустят, только если внесут штраф, а нет — пойдете в кутузку.
Второй полицейский. Если денег не будет, вам придется познакомиться с этим заведением. Пора бы, кажется, понять, что у вас кишка тонка тягаться с Рвамбурой!
Третий полицейский. Где им!
Бираквате. Так что же получается: он нас будет обманывать, а мы будем помалкивать потому, что у него денег куры не клюют, да?
Четвертый полицейский. Вы крик подняли — и вот что из этого вышло! Теперь сидите здесь и дрожите от холода, а Рвамбура преспокойно храпит себе в мягкой постели, и под бочком у него жена.
Первый полицейский. Да что им толковать! Они не знают даже, в какой стороне солнце всходит!
Бираквате. Что же прикажете нам делать?
Первый полицейский. Надо было подать жалобу, и если у вас были доказательства, вашим делом стали бы заниматься. Надо все делать по закону, а не так, как вы — схватили копья и давай шуметь...
Второй полицейский. Рвамбура — человек видный. Его хорошо знают власти. Он получил разрешение выращивать овощи и табак, ему и второй трактор дали. По закону состоятельным людям разрешается владеть крупными земельными участками и создавать на них фермы. У Рвамбуры есть такое разрешение. Куда вам против него! Да даже не будь у него разрешения, он все равно мог бы захватить вашу землю. Он человек заметный. Вы слышали, что крупные плантации теперь обносят колючей проволокой?
Бираквате. Как же, слышали...
Второй полицейский. Так что ничего не попишешь.
Бираквате. Но это же грабеж! Как терпеть такое?
Первый полицейский. Шел бы ты лучше обратно в церковную школу — с богачами тебе не сладить.
Появляется секретарь окружного комиссара. Полицейские ударами дубинок поднимают арестованных на ноги. Чиновник внимательно оглядывает толпу крестьян.
564
Секретарь. Я уполномочен сообщить вам, что вы свободны, можете идти по домам. Как вы уже, наверное, знаете, мы собирались посадить вас в тюрьму, но ваши сельчане заплатили штраф, тем самым избавив вас от заключения, так что скажите им спасибо. Да не забудьте поблагодарить окружного комиссара за то, что он по доброте своей ограничился лишь штрафом, и это после того, что вы натворили! И вот что он велел передать вам напоследок: ваши действия были необдуманными и опасными; вы пытались захватить землю, принадлежащую Рвамбуре, и даже покушались на его жизнь, а это весьма серьезное преступление. (Пауза.) А теперь идите домой, слышите? Вы свободны. Но запомните: больше поблажек не ждите. Если такое повторится, то штрафом не отделаетесь — отправитесь прямехонько в тюрьму. (Грозит им кулаком.) Мы вас засадим за решетку!
Секретарь уходит. Полицейские продолжают наблюдать за толпой. Бираквате выступает вперед.
Бираквате. Друзья! Я вижу, что от властей толку мало. Это не те люди, которые могут нам помочь, — они все одна шайка. Что же получается? У нас отнимают землю, а когда мы пытаемся узнать, по какому такому праву, нас избивают, а потом берут штраф. Нам говорят, что Рвамбура имеет разрешение на владение всей общинной землей, и после всего этого нам еще угрожают тюрьмой. За что, я спрашиваю? Что мы такого сделали?
Все. Ничего!
Бираквате. Так дальше продолжаться не может. Надо сообщить об этом партии. Предлагаю послать ходока.
Все. Верно! Давно пора!
Ньямуганья. Вот ты и пойдешь! Ты будешь нашим ходоком!
,Все. Правильно! Пусть идет Бираквате!
Бираквате. Спасибо, друзья, благодарю вас за доверие. Я согласен выступать от вашего имени и готов отправиться хоть сейчас.
Все. Иди, Бираквате!
Бираквате. Давайте сначала составим бумагу, напишем все как есть.
Отдельные голоса. Верно! Дело говоришь!
Они уходят. Полицейские, которые наблюдали за этой сценой, провожают их взглядами. Потом уходят в другую сторону.
565
СЦЕНА ШЕСТАЯ
Жители деревни, оживленно беседуя, собираются на сходку? Подходят к Бираквате, который стоит возле стола, здороваются с ним за руку. Бираквате, дождавшись, когда все рассядутся за столом, начинает.
Бираквате. Друзья! Добро пожаловать на наше собрание. (Пауза.) Мы вступаем на новый путь! Прежде всего хочу обрадовать вас: мы победили!
Все (хлопают в ладоши). Ура!
Бираквате. Вам это, конечно, уже известно, но я хотел объявить еще раз во всеуслышание, чтобы каждый — и стар, и млад —знал: мы победили! Но на этом мы не успокоимся, мы пойдем дальше!
Крестьяне одобрительно гудят.
Помните, как у нас пытались отнять нашу землю, били, угрожали оружием, держали ночь напролет на холоде, да еще и оштрафовали в придачу? Но мы знали, что правда на нашей стороне, и не струсили. Мы поклялись сражаться до тех пор, пока земля вновь не будет нашей. Вы доверили мне от своего имени рассказать обо всем представителям партии, и я отправился прямо в ее центральный штаб. Что самое удивительное — там было много таких, как я: из Ачоли, с Западного Нила, из Бучргу, Тесо, Буганды. Мне сказали, что неделю назад были люди из Тооро и Буньоро, что ждут посланцев из Бусо-ги, Букеди и Анколе. Жители Руджумбуры тоже собираются послать делегацию. Вся страна поднялась на борьбу с такими кровососами, как Рвамбура!
Голос. Гори они огнем ясным!
Бираквате. Таких, как мы, много, и партия не будет стоять в стороне. Руководству партии сообщили, что в Мубен-де крестьяне убили человека за то, что он обнес колючей проволокой их землю. И такое может случиться где угодно. Поэтому был созван чрезвычайный съезд местных партийных организаций, чтобы обсудить создавшееся положение и принять меры против законов, которые не отвечают духу времени и дают кучке негодяев право захватывать чужие земли и благоденствовать за счет других.
Голос из толпы. Спасибо тебе, Бираквате! Спасибо, что рассказал на съезде о наших бедах!
566
Бираквате. Но не все так просто было.
Все. Говори!
Бираквате. Среди делегатов были такие, у которых уже были большие поместья, и такие, что мечтали ими обзавестись.
Все. Вот оно что!
Бираквате. Пришлось выдержать схватку.
Крестьяне взволнованно загудели.
Кое-кто из них боялся в открытую говорить о своих намерениях, они заявляли, что одни, мол, работают, не щадя сил, а другие, мол, прохлаждаются, и тот, кто трудится в поте лица, имеет право на большее вознаграждение. Тут такое началось! Им чуть бока не намяли.
Отдельные голоса. Следовало бы их проучить!
Бираквате. А они уперлись, как бараны, и твердят свое. Был там один такой, Мусоке его зовут.
Все. И что он, этот Мусоке?
Бираквате. Его чуть удар не хватил — глаза красные, как у разъяренной кобры, так и готов на каждого броситься.
Все. Вот стервец!
Бираквате. Он взял слово и заявил, что трудился не покладая рук, потом и кровью нажил себе ферму, магазины и все остальное, и ему, мол, непонятно, почему он не может получать с этого доход и укрупнять свои владения.
Голос из толпы. Чтоб он шею себе свернул!
Бираквате. Но был там еще один, Окелло из Ачоли... Все. Ну дальше!
Бираквате. Он не дал этому Мусоке договорить: встал и спросил, сколько дней в году тот работал на своей ферме. «То, что ты называешь своим потом, на самом деле — пот твоих батраков, которые делали всю работу, пока ты прохлаждался в Кампале», — вот его доподлинные слова. Ты, говорит, приезжал в деревню, только чтобы забрать выручку за урожай, а батракам платил гроши! В чем же тут твой труд? Какое ты имеешь право владеть огромным поместьем и платить рабочим жалкие медяки, а самому их горбом наживаться? Мусоке на это и сказать было нечего. Он только потел и языком прищелкивал от злости. А другие делегаты поддержали Окелло и посмеялись над Мусоке. Этот Окелло оказался парень что надо!
Все. Наш парень! Молодец!
567
Бираквате. В конце концов, несмотря на все разногласия, делегаты пришли к выводу, что нужно как-то помочь крестьянам в их беде. Но прежде, чем принять решение, заслушали сообщения представителей с мест.
Все аплодируют.
Друзья! Что касается нашего дела, то делегаты выразили свое сочувствие и согласились, что с нами обошлись бесчеловечно. Они говорили, что недопустимо натравливать полицию на народ; удивлялись, что, в дополнение ко всем бедам, нас еще и оштрафовали. В конце концов приняли решение запретить обносить земли колючей проволокой.
Все. Ура! Ура!
Бираквате. Делегаты направили правительству директиву с требованием пресечь сгон крестьян с земли и организацию крупных частных ферм.
Слышатся одобрительные возгласы.
Ньямуганья. Долой Рвамбуру!
Все подхватывают и, хлопая в ладоши, скандируют: «Долой Рвамбуру!»
Бираквате. Съезд постановил: земля, отобранная у крестьян, должна быть им возвращена для совместной обработки.
Все хлопают.
Что касается нашего дела, то окружному комиссару направлено письмо с указанием вернуть деньги оштрафованным и извиниться за допущенную ошибку.
Все. Ура!
Ньямуганья, Фурида, Марита и Рванквиси подпрыгивают от радости.
Бираквате. Теперь, друзья, давайте же сделаем все, что в наших силах, чтобы земля, за которую мы боролись, стала всем нам кормилицей.
Голос из толпы. Давайте посадим ямс.
Другой голос. Нет, будем лучше выращивать то, что легче продать — овощи, например.
Ньямуганья. Друзья! Сначала мы должны решить более важный вопрос. Я предлагаю организовать кооператив, только объединившись, мы справимся со всеми другими проблемами.
568
Фурида. Дело говоришь, Ньямуганья. Нам нужен крепкий кооператив вроде того, что в Мазибе. Все, что выращивают, они сдают в кооператив. Случалось, я продавала им свой горох и бобы, они не возражали. А цены у них хорошие.
Бираквате. Все правильно, кооперативы назначают высокие закупочные цены для своих членов. Когда люди объединены, их никто вокруг пальца не обведет. А если в одиночку иметь дело со скупщиками, они и обмануть могут, и цены дают низкие — крестьянин в их полной власти.
Ньямуганья. Друзья, давайте организуем кооператив, чтобы не мы, а скупщики от нас зависели. Вот тогда к нам будут прислушиваться!
Крестьяне обсуждают это предложение между собой.
Отдельные голоса. Твоя правда, Ньямуганья! Нам нужен кооператив!
Бираквате. Если все за кооператив, то давайте выберем правление.
Голос. А сколько человек?
Бираквате. Три: председатель, секретарь и казначей.
Ньямуганья. Я предлагаю Бираквате в председатели.
Все. Верно, он подходит!
Ньямуганья. Отлично, значит, Бираквате, да?
Все. Бираквате! Он справится!
Громкий голос. Нам как раз такой человек нужен!
Пауза.
Бираквате. Спасибо, друзья, за оказанное доверие. Со своей стороны, обещаю руководить кооперативом в соответствии с вашей волей. (Пауза.) Теперь нам нужен секретарь.
Марита. Предлагаю Фуриду.
Крестьяне обсуждают ее кандидатуру. Похоже, им надо объяснить, почему именно Фурида предлагается в секретари.
Я думаю, Фурида будет хорошим секретарем: ведь придется писать письма и другие бумаги, поэтому нам нужен человек с хорошим почерком. А то ведь у нас одни пишут как курица лапой, а другие забыли и то немногое, чему их учи
569
ли миссионеры. А' Фурида уж если что выучит, то навсегда. К тому же во время кампании по ликвидации неграмотности она в этом деле еще больше поднаторела. Ей и быть>секре-тарем!
Все (хлопают). Правильно, Марита!
Бираквате. Все согласны?
Все. Да!
Пауза.
Бираквате. Так, друзья, а теперь давайте выберем казначея. У него будут храниться наши деньги.
Рванквиси. Можно я скажу?
Голоса. Давай, старик.
Рванквиси. За свою жизнь я где только ни побывал: работал в Буганде — наслушался там рассказов о Найроби и Дар-эс-Саламе; ездил за солью в Катве, что в округе Тооро, а потом еще раз там побывал — продавал коз.
Голос. Да, дед, пришлось тебе побродить по белу свету!
Рванквиси. И не говори! И где бы я ни был, ни разу не встречал другого такого по части бережливости, как Ньямуганья. Он у меня в напарниках ходил, когда был помоложе. Другие, бывало, все деньги просадят на пиво и женщин, домой с пустыми руками возвращаются. А потом последние остатки тратят, чтоб от дурных болезней вылечиться. Ньямуганья не такой, нет. Знали бы вы, в какие места он свои деньги запрятывал!
Раздается взрыв смеха.
Г о л о с. Вот он нам подойдет! Он супротив Рвамбуры не побоялся пойти!
Бираквате. Хорошо, пусть будет Ньямуганья.
Все. Ньямуганья — наш казначей!
Бираквате. И вот еще что: для начала нам нужны деньги, поэтому я предлагаю вносить по два шиллинга с человека в год.
Рванквиси. Ради такого дела горшок меда не пожалею, продам.
Марита. А я — двух петухов.
Голоса. Что там говорить, в лепешку расшибемся, а заплатим!
Бираквате. А теперь давайте обсудим вопрос, который мы отложили: как использовать землю? Что сажать?
Г о л о с. Давайте начнем с овощей: капусты, моркови и чего-нибудь вроде того.
570
Марита. А я хотела посеять сорго — для детишек.
Бираквате. Землю надо использовать повыгоднее, выращивать то, что легче продать, а на эти деньги покупать все, что у нас не растет. С другой стороны, если каждый год сажать одно и то же, легче пропалывать и убирать урожай.
Фурида. Я хорошо понимаю Мариту и сама так вначале думала. Как только Рвамбура заварил всю эту кашу, мы с Маритой решили выращивать сорго, а не идти на поводу у богатеев и сажать табак, когда нашим детям есть нечего. Я сразу заподозрила неладное — разве Рвамбуре можно доверять? Втравит нас в историю, а сам ни при чем останется! Поэтому я была против табака и хотела сеять сорго, а теперь я думаю, что овощи — это как раз то, что нужно для начала: они хорошо идут на рынке, да и дома всегда еда будет. Мы можем выращивать овощи и для себя, и на продажу.
Бираквате (обращаясь ко всем). Значит, овощи?
Крестьяне обсуждают это предложение между собой.
Отдельные голоса. Да, овощи.
Бираквате. Ладно, на том и порешим. Я сообщу о нашем кооперативе окружному уполномоченному по делам кооперативных хозяйств.
Голос. Не забудь пригласить его к нам — пусть посмотрит, так ли мы все делаем.
Другой. Агроному тоже напиши — пусть приедет, посоветует, как лучше выращивать овощи, как бороться с эрозией.
Еще один голос. Нечего им сидеть в конторах и проедать государственные денежки!
Бираквате. А ведь это и наши деньги, мы и есть государство, мы, жители этой деревни, и жители других деревень и городов страны. Наши нужды — это нужды государства, и если мы платим чиновникам, то вправе требовать от них выполнения своего долга!
Голос. Правильно! А то мы подадим на них в суд! Ньямуганья. И их уволят!
Голос. И посадят в тюрьму!
Бираквате. Друзья! Давайте же сохраним ту решимость, с какой мы боролись против Рвамбуры, окружного комиссара и полиции, которая была с ними заодно! Прежде чем обвинять кого-то в лени, нужно самим избавиться от этого порока. Будем, как и прежде, дружно работать, помогать друг
571
другу, а когда нам дадут трактор, мы сможем объединить все наши поля в одно большое поле — так будет легче всем нам работать. Если же на посевы нападет какая-нибудь болезнь, на одном поле нам проще будет с ней совладать. (Пауза.) На этом и покончим. Спасибо, что пришли. Ну, а теперь — за работу.
Ньямуганья (кричит). За дело, друзья!
Все (поднимая вверх сжатые кулаки). За дело!
Ньямуганья. За работу!
Все. За работу!
Ньямуганья. Будем трудиться не покладая рук!
Все (подпрыгивая). Ура!
Перевод с английского Н. Прокунина
Фольклор
О ЗАНЗИБАРЕ И ЗАНЗИБАРСКИХ СКАЗКАХ
На восточноафриканском побережье, где около тысячи лет назад обосновались арабские торговцы, Занзибар был одним из оживленных перекрестков. Здесь останавливались корабли, плывшие в Индию, страны Дальнего Востока и в обратном направлении.
В начале XVI века остров и ряд городов на побережье материка были захвачены португальцами. Лишь через два столетия при помощи султанов Омана восточноафриканцы прогнали португальцев. С этого времени повышается роль Занзибара в политической жизни региона. Именно здесь располагалась резиденция занзибарского султана, ставшего главой объединенного восточноафриканского государства.
Драматический поворот в судьбе Восточной Африки произошел во второй половине XIX века, когда европейские державы приступили к колониальному разделу континента. Англичане прибрали к рукам Занзибар и Кению, Танганьику поработила Германия.
Длительное пребывание на острове арабских колонистов на
ложило на культуру занзибарцев специфический отпечаток, свойственный населению прибрежных городов Восточной Африки. Типично африканские традиции здесь видоизменились под мусульманским влиянием. Выходцы из арабских стран смешивались с коренными жителями. Со временем они составили элиту свободных поселенцев, на которую работали «язычники» — рабы. Уже к XVII веку местное население говорило преимущественно на суахили, относящемся к семье языков банту. Для него было приспособлено арабское письмо. Впоследствии суахилийская литература стала одной из наиболее развитых литератур на африканских языках.
С середины XIX века путь многих европейцев, направлявшихся в глубинные районы Африки, пролегал через Занзибар. Этот небольшой остров был удобен для путешественников благодаря выгодному географическому положению. Для людей, стремившихся проникнуть в дотоле неведомые земли, Занзибар являлся последним обжитым и хорошо известным пункгом, за которым — по другую сторону
573
узкого пролива — простирались территории, совершенно необследованные. Потому сюда, как на перевалочную базу, тянулись ученые, землепроходцы, разведчики колониальных держав, охотники, мечтающие об экзотических трофеях, просто авантюристы. Здесь пополнялись запасы продовольствия, закупались бусы, хлопчатобумажные ткани, другие товары для торговли с африканскими племенами. Сюда же привозилось с материка много слоновой кости, золота, драгоценных камней, шкур диких животных.
Занзибар славился своим невольничьим рынком, который открыто действовал даже тогда, когда в других местах торговля рабами была запрещена. Это обстоятельство не могло не привлекать путешественников, ведь каждой экспедиции требовались носильщики, погонщики вьючных животных, охранники.
В те времена странствования по девственным тропическим лесам и саваннам были сопряжены со многими опасностями. Но занзибарских проводников не слишком пугали страшные рассказы белых путешественников о жестокости местного населения. Африка не казалась им дикой страной. Она была их родиной. Они сами или их предки попали на невольничьи рынки отсюда, из этих лесов, этих саванн. То, что представлялось чужестранцам враждебным и непостижимым, для них было своим, кровным.
Такое отношение к Африке ощутимо в сказках занзибарцев.
Приметы мусульманского образа жизни и быта служат фоном, на котором разворачивается повествование о приключениях фольклорных героев, но местный колорит придает им несомненное своеобразие. Читая эти сказки, мы переносимся не на арабский Восток, — хотя и здесь упоминаются султаны и джинны, змеиные короли и подземные царства, — а именно в Африку, с ее неповторимой природой, самобытными обитателями.
Одним из первых иностранцев, проявивших интерес к местному фольклору, стал англичанин Джордж Бейтмэн. В самом начале нашего века, находясь на Занзибаре, он записал рассказанные ему на суахили сказки и перевел их на английский язык. Подготовленный им сборник опубликован в 1901 году в Англии, а спустя почти семьдесят лет переиздан. Предлагаемые вниманию советских читателей сказки переведены на русский язык с последнего издания.
Судя по образцам, представленным в книге, на Занзибаре популярны сказки о животных и волшебные сказки. Их сюжеты имеют хождение во всех странах, где население говорит на языке суахили. Но, видимо, островитянам принадлежит особая роль в их создании, как, впрочем, в формировании всей суахилий-ской культуры. Достаточно сказать, что в основе современного общеупотребительного языка суахили лежит его занзибарский диалект.
Местные сказочники ориги
574
нально разработали некоторые сюжеты, давно ставшие для нас классическими в переложениях выдающихся литераторов. Газель Киджипа жалеет презренного нищего. Благодаря ее милосердию и проворству неудачник Хамдани становится султаном. «Волшебная газель — занзибарский двойник Кота в сапогах», — скажет читатель и будет прав. И снова узнавание: неблагодарный Хамдани, по-своему, по-занзибарски, оказывается «у разбитого корыта».
У разных народов сюжетные подходы к решению в общем-то одинаковых нравственных проблем могут частично и даже полностью совпадать. Могут
и сильно отличаться. Фантазия людей всегда окрашена в местные краски.
Возможно, занзибарские сказки вызовут у нашего читателя и другие знакомые ассоциации. Таково свойство национального фольклора: он специфичен и вместе с тем напоминает об общности человеческой культуры.
Читая эти сказки, мы лучше понимаем характер и нравы занзибарцев, проникаемся к ним еще более глубокой симпатией, а это, несомненно, способствует укреплению дружбы, установившейся между нашим народом и народом Танзании.
М. Вольпе
ЗАНЗИБАРСКИЕ СКАЗКИ
ОБЕЗЬЯНА, ЗМЕЯ И ЛЕВ
Давным-давно в деревне Киджиджи жила вдова с маленьким мальчиком. Она вставала до зари и целый день не покладая рук трудилась, чтобы прокормить себя и ребенка, но из нищеты выбиться не могла. Так и жили впроголодь.
Когда сын — звали его Мву-Лаана — подрос, он спросил мать:
— Матушка, мы вечно голодны. Чем занимался мой отец, чтобы прокормить нас?
— Он был охотником. Ставил ловушки на зверей и птиц.
— Э, матушка, это не работа, а забава. С ней и я справлюсь. Я тоже буду ставить ловушки на зверей и птиц. Неужто не добуду пищи?
На следующее утро Мву-Лаана отправился в лес, нарезал гибких веток, а к вечеру возвратился домой. Целую неделю он мастерил ловушки, плел веревку из кокосовых волокон. Потом расставил ловушки на звериных тропах и стал ждать. В первый же день попалось столько дичи, что хватило и на еду самим да еще для продажи осталось. Выручив на базаре немало денег,
575
Мву-Лаана накупил матушке подарков. То-то был праздник в их доме. С тех пор они зажили сытно. Юноша каждый день ходил в лес и без добычи не возвращался. z
Все бы хорошо, жили бы себе мать и сын, горя не зная, да вот беда, неожиданно удача отвернулась от охотника. Пошел он в лес, а в ловушках — пусто. Ни зайца, ни антилопы,- ни другой дичи не попалось. Мву-Лаана и суслику был бы рад, да и того нет. Пригорюнился юноша, вернулся домой, голову повесив. Матушка стала его утешать:
— Не кручинься, сынок, завтра больше повезет.
Однако ни назавтра, ни через день никакой твари в ловушки не попалось. Словно кто-то выгнал дичь из леса. Лишь однажды Мву-Лаана увидел обезьяну. Ее лапа запуталась в веревочной петле, прикрытой травою. Охотник хотел было убить обезьяну, даже руку занес над ее головой, но обезьяна вдруг жалобно произнесла человеческим голосом:
— Не убивай меня, сын Адама, отпусти на волю. Спаси меня от дождя, придет время, я спасу тебя от палящего солнца.
Юноша пожалел обезьяну, распутал петлю, высвободив лапу животного. Обезьяна стремительно вскарабкалась на верхушку дерева, сказала:
— За твою доброту дам тебе совет: никогда не верь людям, за добро человек всегда платит злом, — и скрылась в густой листве.
На другой день в ловушку попалась змея. Мву-Лаана хотел было бежать в деревню за подмогой, чтобы убить ее. Но та жалобно сказала:
— Вернись, сын Адама. Не зови людей из деревни. Отпусти меня. Спаси меня от дождя сегодня, .завтра я выручу тебя, уберегу от нещадного солнца.
Юноша пожалел змею. Уползая, она сказала:
— За твою доброту дам тебе совет: никогда не верь людям, за добро человек всегда платит злом.
На третий день в ловушку попался лев. Мву-Лаана не решился приблизиться к нему. Он хотел издали метнуть в зверя копье, но лев прорычал:
— Не бросай в меня копье, сын Адама. Я стар. Высвободи меня из ловушки, я тебя не трону. Спаси меня от дождя сегодня, глядишь, завтра я уберегу тебя от палящего солнца.
Юноша пожалел старого льва. Выпустил его из ловушки. Уходя, тот сказал:
— За твою доброту дам тебе совет: никогда не верь людям, за добро человек всегда платит злом.
Как-то через лес, где охотился Мву-Лаана, шел путник и нечаянно угодил в одну из ловушек. Он дико закричал, зовя на
576
помощь. По счастью, юный охотник был неподалеку. Он подбежал к путнику, выхватил из-за пояса нож и рассек путы.
Незнакомец стал горячо благодарить своего спасителя: — Ты помог мне, о добрый юноша, вызволил из беды. Если б не твоя.помощь, я умер бы от страха ночью в лесу, либо меня растерзали хищные звери. Спасибо тебе. Век не забуду твоего милосердия.
Человек, прихрамывая, пошел своей дорогой, а Мву-Лаана с пустыми руками вернулся к матушке.
Вечер сменился утром, утро — жарким днем, день клонился к вечеру. В доме не было ни крошки хлеба, ни кусочка мяса. Сын сказал матери:
— Матушка, возьми в долг у соседей немного мучицы, испеки мне лепешку. Завтра чуть свет я пойду в лес с луком и стрелами. Пока не подстрелю какую-нибудь дичь, домой не вернусь.
Заплакала мать. Но делать нечего — разжилась у соседей мукой, испекла сыну лепешку. Еще солнце не выглянуло из-за края земли, как Мву-Лаана с луком и стрелами отправился на охоту.
* Долго бродил он но лесу. Хоть бы один звериный след увидел! Все вокруг будто вымерло. Он шел и шел, пока вконец не заблудился. Лес стоял густой, дремучий, темный. Над головой охотника смыкались ветви деревьев — неба синего не видать. Сел Мву-Лаана на поваленный ствол пальмы, вынул из сумы лепешку, подкрепился. Потом дальше пошел. А лес все гуще, темнее. Выбившись из сил, юноша упал на траву — впору умереть.
Вдруг кто-то окликнул его. Мву-Лаана посмотрел наверх. На ветке акации сидела обезьяна.
— Куда ты идешь, сын Адама?
— Не знаю, милая. Заблудился я.
— Не кручинься. Ты вызволил меня из ловушки, я отплачу тебе добром. Лови!
Обезьяна бросила ему гроздь бананов и несколько плодов папайи. Пока он ел фрукты, она принесла калебас чистой ключевой воды.
- Пей!
Охотник испил водицы и почувствовал, что сил у него прибавилось.
— А теперь прощай, — сказала обезьяна. — Помни, о чем я тебя предупреждала.
Она скрылась в листве, а Мву-Лаана пошел дальше. Навстречу ему выскочил лев. Охотник испугаться не успел, как лев говорит:
19 Альманах «Африка», вып. 6
577
— Куда ты идешь, сын Адама?
— Не знаю, владыка леса. Заблудился я.
— Не кручинься. Ты пощадил меня, я отплачу тебе добром. Жди меня здесь.
Лев бросился в чащу, но вскоре вернулся с ланью в зубах.
— Разведи огонь. Подкрепись мясом.
Мву-Лаана изжарил на угольях мясо, наелся до отвала. Тогда лев сказал:
— А теперь прощай. Помни о совете, который я тебе дал.
Лев тряхнул пышной гривой и был таков. А охотник пошел дальше.
Вскоре он набрел на одинокую хижину, стоящую на небольшой поляне. Дверь хижины была открыта, и Мву-Лаана вошел в нее. На ложе, устланном листьями, лежал старик. Рядом, на земляном полу, сидела старуха. Увидев юношу, она прошамкала:
— Мой муж очень болен. Не можешь ли ты, незнакомец, приготовить целительное снадобье?
— Нет, бабушка, я не лекарь. Я охотник, не умею готовить лекарство. Жаль, не могу вам помочь, добрые люди.
— Коли не можешь, не беда, — сказала старуха. — Главное — отзывчивое сердце иметь. А как снадобье приготовить, я тебя научу. Иди на другой край поляны, нарви синей травы, желтых цветов и красных ягод. Растолки все в ступе, поставь варить, добавь щепотку вот этого порошка. Снадобье и получится.
Мву-Лана исполнил все, что велела старуха. Налил целебный отвар в деревянную миску и дал старику пить. Старик сразу ожил.
— Спасибо, охотник. У тебя доброе сердце. Я тебе помогу. Иди вон по той тропинке, она приведет тебя к колодцу. Загляни в него. Тебя ждет приятная встреча.
Длинным когтистым пальцем старуха указала юноше на тропу.
— До свидания, бабушка. Спасибо за подсказку.
Мву-Лаана ступил на тропу. Вскоре деревья стали реже, охотник подошел к широкой дороге. Через сто шагов он увидел колодец. Рядом стоял тыквенный калебас.. К нему была привязана веревка. «Выпью воды», — подумал Мву-Лаана.
Он бросил калебас в колодец, потянул за веревку и вытащил. Наклонился, чтобы прильнуть к нему губами, — и отпрянул. Из калебаса высунулась змеиная голова.
— Не узнаешь меня? — прошипела змея.—А я не забыла тебя. Ты сохранил мне жизнь, вызволил из ловушки. Помнишь, я сказала: «Ты спасешь меня от дождя, я спасу тебя от
578
нещадного солнца». Пришло время отплатить тебе добром. Дай мне свою суму. Я наполню ее тем, что тебе пригодится в чужом городе.
Удивленный охотник протянул змее суму. Та взмахнула хвостом, и сума наполнилась золотом, серебром, драгоценными каменьями.
— Теперь ступай с миром, — сказала змея.— Но помни, о чем я тебя предупреждала.
Змея прыгнула обратно в колодец.
«Вот чудеса!» — подумал Мву-Лаана, закидывая суму за плечо. Солнце клонилось к вечеру. Охотник поспешил по дороге. Дорога привела его в незнакомый город. Первым, кто встретился юноше в этом городе, был человек, спасенный им из ловушки.
Человек ласково обнял охотника, пригласил его в свой дом, угостил вкусной снедью и вином. Захмелев, Мву-Лаана рассказал хозяину о подарке змеи. В глазах у того сверкнул алчный огонек, но он попытался его скрыть. Когда после сытного ужина Мву-Лаана заснул, хозяин открыл суму. Блеск золота, серебра и драгоценных каменьев ослепил его. Он задумал погубить гостя, чтобы завладеть его сокровищами.
Не дожидаясь утра, он побежал во дворец, бросился в ноги правителю :
— О владыка, выслушай меня. Я хочу донести на чужака, которого приютил в своем доме. Он беден, одет в лохмотья, но его сума полна золота, серебра и драгоценных каменьев. Он говорит, что эти сокровища достались ему от змеи. Но он лжет. Я знаю, он колдун, который по желанию может принимать облик змеи либо облик человека. Он пришел в наш город, чтобы причинить тебе зло, о великий султан. Покарай его!
Султан хлопнул в ладоши. Тут же появилась стража с секирами в руках.
— Привести сюда чужака!
Доносчик угодливо показал стражникам дорогу к своему дому. Сонного Мву-Лаану грубо растолкали, заставили взять суму и тумаками погнали во дворец.
Охотник предстал пред очами грозного султана.
— Откуда у тебя эти сокровища ? —спросил султан.
— Мне дала их змея из колодца за то, что я некогда спас ей жизнь.
— Ты лжешь, презренный колдун. Утром тебя казнят. Признавайся, что ты пришел в наш город, чтобы причинить мне зло. Этот человек донес на тебя, — султан кивнул в сторону находившегося здесь же доносчика.
19*
579
Вдруг странный шипящий голос произнес:
— Охотник не лжет. Это я дала ему сокровища.
На ковре извивалась змея.
— Прогони ее, — крикнул султан. оцепеневшему от страха доносчику. — Если ты прав и тот, на кого ты донес, колдун, змея не укусит тебя. Если же ты понапрасну оговорил невинного юношу, да свершится справедливая кара!
Но доносчик не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Наконец он пришел в себя. Упав на колени перед султаном, торопливо запричитал:
— Пощади, о владыка. Жадность помрачила мой рассудок, вот и решил оклеветать охотника, выручившего меня из беды. Я раскаиваюсь.
Он катался по полу, рвал на себе волосы, вымаливая снисхождение. Однако было поздно. Змея вонзила свои зубы в его руку. Тело доносчика мгновенно почернело, он умер. Змея тут же исчезла.
Султан подошел к юноше, обнял его.
— Прости, охотник, что по ложному навету я едва не обвинил тебя в колдовстве. Скажи, почему этот презренный обманщик сначала пригласил тебя к себе, угощал едой и вином, а потом оклеветал тебя?
Тут Мву-Лаана рассказал султану обо всем, что с ним приключилось, о советах обезьяны, льва и змеи.
— Теперь я понимаю, что в их словах была истина, — завершил он свой рассказ.
— Нет, юноша,—сказал султан.—В словах обезьяны, льва и змеи заключена не вся истина. Человек, который попался тебе на пути, достоин презрения. Он ответил на добро злом и за это наказан. Но не все люди такие неблагодарные. Иначе не было бы на земле жизни, не процветал бы род человеческий. Недаром говорят старики: «Тот, кто добр и отзывчив к людям, счастливо живет на земле и вечно блаженствует на небе». Иди, юноша, и до старости сохрани веру в добро.
Мву-Лаана поклонился султану и ушел из дворца. Сума с драгоценностями змеи висела у него на плече. Он вернулся в родную деревню к матушке. И они зажили счастливо и безбедно.
МКАА ИЕХОНИ, МАЛЕНЬКИЙ ОХОТНИК
У султана Маджнуна было семеро сыновей. Султан почитал себя счастливым, ведь тот, кто оставляет после себя многочисленное потомство, обретает блаженство на небесах. Но не только в детях находил радость старый Маджнун. Был
580
у него любимец — дикий кот. Султан ухаживал за ним, как за родным чадом. Горе тому, кто осмелился бы причинить ему хоть малейший вред.
Султанову любимцу дозволялось бегать где угодно. Никто не чинил ему препятствий, разве что ворчали потихонечку, чтобы, не дай бог, султан не услышал. Время шло, проказы кота становились все злее и злее. Однажды он подкрался к пасшемуся на опушке ближнего леса стаду коров и свалил теленка.
Пастух пришел к султану жаловаться, но Маджнун только ногой топнул:
— Кот мой, стало быть, и теленок, которого он задрал, тоже мой. Не смей жаловаться, презренный.
И стражники тут же вытолкали пастуха вон из дворца.
Прошло несколько дней. Вновь жалоба на кота — козу сцапал.
— Кот мой, и коза моя, — отмахнулся султан.
С тех пор что ни день, то новые проделки, султанов любимец то корову убьет, то осла покалечит, а то на лошадь или верблюда нападет. Окрестным крестьянам просто житья не стало. А султан знай твердит:
— Не любите вы моего кота, сгубить мечтаете, вот и наговариваете. Пусть тешится как угодно. Такова моя воля!
Приуныли люди. А кот пуще прежнего безобразничает, уж на людей бросается. Рыщет по округе, страх на больших и малых нагоняет. Крестьяне лишились покоя: ни за водой к источнику сходить, ни скот на пастбище выгнать — везде страшные кошачьи когти мерещатся.
Собрались старики на сходку, думают-гадают, как поступить. Решили — нужно опять к султану идти, в ноги кинуться, просить, чтобы от лиха избавил.
Во дворец отправились самые уважаемые старцы.
— Что же такое на свете творится, владыка! — воскликнули они. — Ты, наш отец и защитник, потворствуешь злобному зверю. Кот убивает всех, кто попадается ему на пути. Ни днем, ни ночью покоя от него нет. Будь милосерден, защити нас, о султан!
Однако Маджнун и на сей раз не внял словам старцев.
Великая тревога охватила людей. Крестьяне в страхе покидали обжитые места, уходили подальше в леса и горы, но ненавистный кот теперь бродил далеко, от дворца, подстерегая несчастных на глухих тропах. Многих он погубил, многих обездолил, лишив их скота.
Однажды султан сказал шестерым старшим сыновьям: — Дети, я хочу вместе с вами объехать свои владения, по
581
смотреть, как живут мои подданные, хороший ли урожай уродился на их полях.
Маджнун и шестеро старших уехали, а младший сын Мкаа Иехони, что значит «маменькин сыночек», остался во дворце с женщинами.
Дорога, по которой ехал султан с сыновьями и свитой, вела через густой лес. Сквозь ветви деревьев, смыкавшихся над головами путников, едва пробивался дневной свет. Под вечер остановились на небольшой поляне. Пока слуги ставили шатер, султан, сопровождаемый сыновьями и стражниками, удалился чуть в сторону от дороги — до его слуха донеслось пение какой-то удивительной птицы. Маджнун переходил от дерева к дереву, стараясь разглядеть птицу среди листвы.
Вдруг из чащобы метнулась тень. Стражники не успели поднять ружья, как хищный зверь набросился на юношей, смертельно ранил троих и скрылся в зарослях.
— Кот! Кот! — стражники бросились вслед за зверем, но было поздно. Его и след простыл.
Потрясенный отец скорбно склонился над истекающими кровью сыновьями.
— Несчастный, я не верил людям, говорившим мне о злобном нраве кота, и поплатился за это. Чудовище отняло у меня сыновей. — В отчаянии он рвал волосы на голове. — Догоните его, убейте... о горе мне!
Вернувшись во дворец, Маджнун объявил, что гот, кто убьет скрывающегося в лесах зверя, получит большую награду. Много охотников вызвалось исполнить волю султана. Каждому хотелось покончить с взбесившейся тварью. Но дни шли за днями, а кот оставался неуловимым. На какие только уловки ни пускались смельчаки: подбрасывали приманки, ставили хитроумные капканы — все тщетно. Словно какая-то неведомая сила оберегала кота. Немало охотников сложили голову. О коварстве людоеда рассказывали страшные истории.
Пуще прежнего закручинился султан Маджнун. «Никто не может сладить со зверем, этак он до меня доберется. Подстережет где-нибудь и — цап. Напрасно я не слушал жалобщиков».
Он увеличил награду за поимку кота.
Когда маленький Мкаа Иехони, седьмой сын, узнал о смерти братьев, он сказал матушке:
— Я пойду в лес. Либо чудище убьет меня, как братьев, либо я покончу с ним.
— Сынок,—взмолилась женщина,—пощади свою мать, не покидай меня. Погибших не воскресишь, только зря сам пропадешь. Мое сердце разорвется от горя.
582
— Нет, — упрямо повторил мальчик, — я должен пойти. Только прошу тебя, ничего не говори отцу.
Делать нечего, едва сдерживая слезы, матушка напекла сыну лепешек в дорогу и велела нескольким слугам сопровождать его. Мкаа Иехони взял длинное копье с острым наконечником, подпоясался отцовским мечом и, поклонившись матери в ноги, отправился восвояси.
Он был совсем несмышленый, толком не знал, как выглядит зверь, которого ему надо убить. Сразу за оградой дворца навстречу ему попался здоровенный, свирепого вида пес.
— Ага, тебя-то мне и надо, — обрадовался юный охотник и пронзил бедного пса копьем.
Затем обвязал его тело веревкой и потащил домой, напевая:
Мамочка, мамочка, огвори скорей.
Я убил пожирателя людей.
Услышав голос сына, султанша, которая печально сидела в верхней опочивальне, выглянула в окно. Она увидела добычу сына и, всплеснув руками, сказала:
— Сынок, ты ошибся, это не кот, пожиратель людей.
— Какой же он, этот кот?
— О, гораздо крупнее пса и страшнее. Не ходил бы ты, малыш, в лес, остался бы дома.
— Нет,—притопнул ногой Мкаа Иехони,—пока не разделаюсь с котом, не сидеть мне дома.
Он вновь вышел за ворота. Долго шагал по дороге. Когда ему повстречалась цибетовая кошка, он подумал, что вот ее-то он и ищет. Изловчась, поразил ее копьем и отнес во дворец, напевая:
Мамочка, мамочка, отвори скорей, Я убил пожирателя людей.
— Сынок, — вздохнула султанша, увидев цибетовую кошку, — это не кот, пожиратель людей.
В третий раз Мкаа Иехони покинул родной дом, не слушая отговоров матери, и опять вскоре вернулся, на этот раз волоча за собой убитую рысь. Он напевал все ту же песенку:
Мамочка, мамочка, отвори скорей, Я убил пожирателя людей.
Султанша встретила его на пороге, печально покачала головой:
— Это не кот, пожиратель людей. Вот видишь, сынок, тебе никак не удается напасть на след убийцы твоих братьев. Не упрямься, откажись от опасной затеи. Ты даже не знаешь, где
583
искать кота и как он выглядит. Ты устал, на тебе лица нет, уж не захворал ли? Прошу тебя, останься со мной.
Но мальчик стоял на своем.
— Либо я поймаю и убью людоеда, либо погибну. Иного быть не может.
Он ушел далеко-далеко, туда, где пасутся зебры. С одной из них Мкаа Иехони вернулся и опять услышал от матери:
— Нет, это не кот, пожиратель людей.
То же самое случилось и позже, когда мальчик принес тушу жирафы.
— Уж лучше бы дома сидел, чем без толку бродить по лесам. Посмотри на троих старших братьев, они даже не помышляют о том, чтобы убить кота-людоеда. Почему же ты не последуешь их примеру? — уговаривала султанша сына. Но того слова матери только раззадорили. Он снова собрался в путь.
Однажды, пробираясь сквозь густые заросли в незнакомом лесу, Мкаа Иехони наткнулся на спящего носорога.
— Тише, наконец я вижу людоеда, — обрадовался мальчик.
— Где, хозяин? — насторожились слуги.
— Вон там, под деревом. Он крепко спит. Ишь какой огромный! Спешить не будем. Прежде как следует подкрепимся, а потом нападем на него. Место удобное. Если же он растерзает нас, что ж, на все воля Аллаха.
Они вынули из котомок кукурузные лепешки и досыта наелись.
— Ну, теперь окружайте зверя, у каждого пусть будет по два ружья наготове, — распорядился Мкаа Иехони. — Из одного цельтесь, другое пусть лежит рядом. Выстрелим все вместе по моему знаку.
— Как прикажешь, хозяин, — сказали слуги.
Они подкрались к дереву, возле которого лежал носорог. Раздался залп. Зверь вскочил на ноги и бросился на охотников. Однако те, не мешкая, подхватили запасные ружья и пальнули еще раз. Носорог рухнул, как подкошенный. Его острый рог чуть-чуть не дотянулся до Мкаа Иехони.
Целых два дня охотники несли тушу ко дворцу. Мкаа Иехони весело напевал:
Мамочка, мамочка, отвори скорей, Я убил пожирателя людей.
Он был уверен, что не ошибся. Каково же было его огорчение, когда мать встретила его словами:
— Нет, сынок, это не кот, пожиратель людей.
Многие приходили во дворец дивиться на носорога. Такой громадины в этих местах никому не доводилось видеть. Все со
584
чувствовали малолетнему охотнику, которому никак не удается выследить кота. Султан Маджнун, прослышав о подвигах младшего сына, уговаривал Мкаа Иехони отказаться от мести. Пусть опытные следопыты рыскают по лесам в поисках чудовища. Но мальчик не послушал и отца.
— Мои уши закрыты для твоих слов, прощай, — только и сказал он султану.
Долгим и утомительным оказался путь на этот раз. Мкаа Иехони и его спутники пересекли много рек, гор, лесов и наконец наткнулись на громадные следы. Следы привели их на открытую поляну, посреди которой стояло высокое дерево. В тени ветвей, прислонясь к стволу, стоял слон. Он не шевелился, видимо, спал.
— Вот и людоед. Вон там, в тени дерева на поляне, — сказал Мкаа Иехони слугам.
— Видим, хозяин. Приблизимся к нему?
— Если мы все вместе приблизимся к зверю и он увидит нас, нам несдобровать, всех перебьет. Поступим иначе: кто-то один подкрадется к дереву и посмотрит, закрыты ли у чудовища глаза и в какую сторону обращена его морда.
Раб по имени Киработо вызвался сделать это. Приземистый ловкий человечек пополз вперед. Высокая трава скрывала его. Оставшиеся с нетерпением ждали возвращения смельчака. Наконец он вернулся.
— Что ты увидел? Это кот-людоед?
— Не знаю, — ответил Киработо. — Наверное, он. Уж больно велик, с огромной головой. Клянусь, я никогда не видел таких больших ушей, как у этого зверя. Он спит.
— Хорошо,—сказал Мкаа Иехони, — давайте перекусим и нападем на него.
Они вынули из котомок кукурузные лепешки, обмакнули их в черную патоку и наелись досыта. Покончив с едой, Мкаа Иехони сказал своим людям:
— Слуги, доведется ли нам увидеть восход солнца? Каждому предписана своя судьба. Кому написано на роду спастись, тот спасется, кому суждено погибнуть, тот погибнет. Если я паду в схватке с чудовищем, пусть оставшиеся в живых скажут моим родителям, чтобы не горевали о своем сыне.
Слуги горячо возразили:
— Нет, хозяин. Не надо говорить о смерти. Мы нападем на зверя, всевышний сохранит наши жизни.
Крадучись, они подобрались поближе к слону и все вместе выстрелили из ружей. Пули, казалось, не причинили слону никакого вреда. Он поднял хобот, затрубил, да так громко, что листья затряслись на деревьях, и кинулся на охотников. Не
585
помня себя от страха, те выронили из рук ружья и бросились врассыпную. Добежав до ближайших деревьев, они с необычайным проворством вскарабкались на самые высокие ветви.
Слон же, оглашая округу страшным ревом, мчался, не разбирая дороги, пока ноги у него не подкосились и он не упал бездыханным.
Перепуганные охотники не решались спуститься на землю до следующего утра.
Мкаа Иехони сидел на толстом суку и думал: «Не знаю, как выглядит смерть, но в этот раз она была совсем рядом». Слуги притаились кто где и не подавали признаков жизни — никто не шелохнется, не чихнет. Маленькому охотнику вскоре надоело сидеть на дереве, но он боялся спуститься на землю. Вдруг людоед подстережет его поблизости?
Слуг одолевали те же сомнения. Киработо видел, как слои упал, но опасался, что тог только ранен и вскочит на ноги при приближении людей. Он раздумывал, как поступить, когда заметил, что к поверженной туше подошла дикая собака и стала безбоязненно ее обнюхивать. Сомнений не было, животное мертво.
Киработо слез с дерева и крикнул товарищам, чтобы они следовали его примеру. Опасность миновала. Те не сразу откликнулись. Киработо еще раз громко повторил:
— Спускайтесь на землю, людоед мертв.
Только тогда один за другим из леса вышли охотники, среди них Мкаа Иехони. Они подобрали ружья и направились к тому месту, где лежал слон.
— Да, это людоед. Наверняка он. Вот страшилище! — произнес Мкаа Иехони, пнув тушу ногой.
Слуги согласились, что никто иной, кроме кота-людоеда, не может быть таким огромным и страшным. Однако трогать его не стали. Было решено сначала отдохнуть и привести себя в порядок. После проведенной на деревьях ночи все чувствовали себя плохо.
Лишь на следующее угро, разрезав тушу на куски, они отправились в обратный путь. Они долго шли, пока вдали не показались знакомые стены дворца. Подойдя поближе, Мкаа Иехони запел:
Мамочка, мамочка, отвори скорей, Я убил пожирателя людей.
Султанша уже не чаяла увидеть своего младшенького живым. Она выбежала ему навстречу и нежно обняла его. Но, увидев .ношу, которую несли слуги, нахмурилась:
— Сынок, это не кот, пожиратель людей. Бедняжка, зачем
586
ты мучаешь себя? Все удивляются, что такой маленький мальчик подвергает себя стольким опасностям. Людоед, наверно, ушел в другие края. Его давно никто не видел. Останься дома, сынок, не ходи больше в лес.
Султан Маджнун тоже уговаривал сына образумиться:
— Я назначил большую награду тому, кто убьет кота-людоеда. Но никто не может выследить его. Он покинул наши места. А если вернется, его убьют и без твоей помощи. Не печаль родителей, Мкаа Иехони, подумай об их старости.
— Видно, не судьба мне отомстить за братьев, — печально сказал Мкаа Иехони. — Договоримся так: я еще раз попытаюсь добраться до кота. Если и теперь он ускользпе'1 от меня, я оставлю его с миром.
На том и порешили.
Снова охотники тронулись в путь. Через много дней они подошли к высокой горе, у подножия которой расположились на ночлег. Ни свет ни заря Мкаа Иехони разбудил слуг:
— Скорее варите рис. После завтрака мы поднимемся на вершину и оттуда осмотрим окрестности.
Подъем оказался утомительным. Солнце клонилось к закату, когда уставшие путники достигли вершины горы. Там дул холодный ветер. Они сели возле поросшего мхом валуна. Прошло совсем немного времени, как слуга по имени Шиндано, собиравший хворост для костра, воскликнул:
— Хозяин, вон там, на том склоне под нами, какая-то громадная тварь. Она мелькнула за деревьями и, кажется, остановилась. Я хорошо видел.
— Пойду посмотрю. — Мкаа Иехони зарядил ружье и сделал несколько шагов в сторону, куда указывал Шиндано. Что-то подсказывало ему, что наконец он встретил кота-людоеда. Он прищурил глаза и отчетливо разглядел крупное животное, развалившееся на траве у деревьев. Сердце Мкаа Иехони сильно забилось.
«Да, — подумал он, — это несомненно людоед. Матушка говорила, что у него уши небольшие и прижаты к телу, точь-в-точь как у этого зверя. Она говорила, что кот широк в туловище, ноги у него короткие — и здесь то же; на боках два пятна, как у цибетовой кошки — вон они два пятна; а хвост трубой... Конечно, это кот-людоед».
Он вернулся к ожидавшим его слугам и распорядился как следует подкрепиться, как всегда перед опасным делом. Слуги без лишних слов повиновались.
— Возьмите только ружья, все остальное оставьте здесь,— приказал Мкаа Иехони,— мы пойдем налегке.
Когда все было готово, маленький охотник дал знак следо
587
вать за ним, а сам пошел вперед. Киработо и Шиндано тут же догнали его.
— Может быть, повременим нападать на чудовище, хозяин. У нас плохое предчувствие. Как бы не стряслось беды.
— Вы боитесь, мои верные слуги? Судьба смертных в руках всевышнего. Он решает, жить нам или умереть. Смелее. Нельзя упустить людоеда, погубившего столько людей.
И он двинулся дальше.
Недалеко от опушки, где на мягкой траве развалился зверь, Мкаа Иехони приказал своим людям снять с себя широкие халаты и остаться в одних шароварах. Если придется бежать, одежда не должна цепляться за ветви деревьев и шипы колючих кустарников.
Подойдя совсем близко к зверю, они убедились, что тот крепко спит. Глаза кота были закрыты, а из пасти вырывалось хриплое урчание.
Солнце садилось. В неверном свете сгущавшихся сумерек ненароком промахнешься, однако ждать до рассвета нельзя, вдруг кот проснется. Мкаа Иехони взмахнул рукой, охотники все разом разрядили ружья. Дым окутал все вокруг. Людоед даже не шелохнулся. Пули пронзили его тело. Но охотники были в таком страхе, что бросились вверх по склону в надежное укрытие, даже не посмотрев, попа пи ли они в зверя.
Дождавшись утра, они с опаской возвратились. Увидев мертвого кота, над которым уже кружили стервятники, они пустились в пляс. Так велика была их радость.
Много дней они шли домой. Возле дворца Мкаа Иехони запел:
Долго-долго, матушка, Я блуждал в лесу, Посмотри-ка, матушка, Что я тебе несу.
Мамочка, мамочка, отвори скорей, Я убил пожирателя людей.
Увидев, что на сей раз принес из леса Мкаа Иехони, султанша обняла сына:
— Сынок, ты добился своего, ты убил кота-людоеда.
Султан Маджнун на радостях велел глашатаям объявить во всех селениях праздник. Всем — и богатым, и бедным — было выставлено щедрое угощение. Люди от души веселились и славили маленького храброго охотника.
Вскоре Мкаа Иехони взял в жены прекрасную девушку, а после смерти старого Маджнуна стал султаном. Он правил страной справедливо, жил долго и счастливо, любимый своим народом.
588
ЛЕВ, ГИЕНА И КРОЛИК
Однажды лев Симба, гиена Фиси и кролик Китити задумали разбить огород. Нашли в лесу удобное место, расчистили его, вскопали и засеяли семенами разных овощей. Потом вернулись домой и стали с большим нетерпением ждать, когда семена дадут всходы. Каждое утро они говорили друг другу:
— Пошли на огород, посмотрим, не взошли ли наши посевы.
Огород был довольно далеко, и однажды, по пути туда, Китити предложил:
— Давайте идти, не останавливаясь. А если кто-то из нас остановится, остальные двое могут его съесть.
Не подозревая подвоха, его спутники согласились. Оба они считали, что коротконогий кролик не угонится за ними.
Не прошли они и половины дороги, как кролик, притомившись, остановился.
— Ага, — воскликнула гиена, — Китити остановился. Съедим его!
— Верно. Так мы и договаривались, — подхватил лев Симба, щелкнув огромными клыками.
— Погодите, — сказал кролик,— я не устал, просто думаю.
— О чем? — полюбопытствовали гиена и лев.
— Я думаю, — с важным видом произнес кролик, — вон о тех двух камнях, что лежат на обочине. Маленький не поднимается, а большой не опускается.
Симба и Фиси недоуменно уставились на камни.
— Да, чудно. Но ведь так оно и есть.
Троица двинулась дальше. Кролик про себя посмеивался. Он успел передохнуть. Чуть погодя он опять остановился.
— Ага. Теперь-то мы его наверняка сожрем! — оскалилась гиена.
— Наверняка! — прорычал Симба.
— Погодите, — молвил кролик,—я вам кое-что скажу.
— Что именно? — полюбопытствовали звери.
— Мне пришло в голову: куда девается старая одежда, когда люди надевают новую?
Симба и Фиси задумались. В самом деле, куда? Не найдя ответа на этот вопрос, они пошли дальше. Кролика и на этот раз не тронули.
До огорода было уже рукой подать, когда гиена, которой вдруг захотелось блеснуть своим умом, остановилась.
— Ты нарушила наш уговор. Придется тебя съесть, Фиси,— рявкнул Симба.
— Вот-вот! — поддакнул Китити
589
— Погодите, я думаю, — важно сказала гиена.
— О чем же?
— Да так... ни о чем, — ответила Фиси, полагая, что удачно пошутила.
— Ах так! — воскликнул Китити. — Нас не одурачишь!
Они со львом набросились на гиену и разорвали ее в клочки.
Разделавшись с Фиси, они пошли дальше и вскоре оказались у пещеры с узким входом. Кролик остановился.
— Гм,—сказал Симба,—я сейчас не так голоден, как утром, но для тебя, дружище Китити, найдется местечко в моем брюхе, — и он занес над кроликом могучую лапу.
— Погоди, погоди. Я опять думаю, — остановил его кролик.
— О чем же ты думаешь на этот раз?
— О пещере. В давние времена наши предки беспрепятственно входили в нее и выходили. Интересно, смогу ли я сделать то же, что они?
Он юркнул в узкое отверстие и тут же выскочил обратно.
— Вот видишь как легко. Симба, дружище, а не попробовать ли тебе? Ты, наверно, не сможешь?
— Не смогу? Чем я хуже тебя?
Лев втиснул свое широкое туловище в узкий проход и застрял — ни взад, ни вперед.
Кролик только того и дожидался. Он схватил валявшуюся на земле палку, вскочил на льва и принялся охаживать его палкой что есть мочи, приговаривая:
— Маленький да умный провел сильных да глупых.
Симба взвыл от боли.
— Бей меня хотя бы спереди, Китити.
— А как я вперед пролезу?
— Между моими лапами.
Кролик смекнул, что лев его сцапать хочет.
— Нет, Симба, спереди не могу, мне стыдно тебе в лицо смотреть. Сиди здесь, а я на огород побегу.
Сказал — и был таков. Пока лев старался выбраться из ловушки, Китити уже весь урожай овощей собрал и в укромное местечко спрятал. С тех пор кролик держится подальше от льва.
ЗАЯЦ И ЛЕВ
Однажды заяц Сунгура бежал по лесу и увидел на стволе тыквенного дерева большое дупло, где поселились пчелы. «Как бы мне разжиться медком?» — подумал заяц. Эта мысль не оставляла его всю дорогу.
590
Когда заяц пришел в свою деревню, его окликнула крыса Буку:
— Эй, соседушка, не заглянешь ли ко мне в хижину?
Сунгура охотно согласился. Буку усадила его за стол и стала потчевать кукурузными лепешками. Заяц ел, нахваливая вкусную еду, а потом говорит:
— Мой отец скончался. Он оставил мне в наследство борть с медом. Пойдем, соседка, полакомимся медком.
Крысу не нужно было уговаривать. Сунгура повел ее к тыквенному дереву. Когда они пришли на место, заяц указал на дупло:
— Мед там. Полезли!
Они набрали сухой травы и вскарабкались на дерево. Устроившись на толстой ветке рядом с дуплом, они подожгли пучок травы, чтобы выкурить пчел. Потревоженные пчелы, жужжа, вылетали из борти.
Только заяц и крыса окунули лапки в золотистый мед, как внизу раздался треск сучьев и появился лев Симба. Увидев, что Сунгура и Буку поедают мед, Симба зарычал:
— Эй вы, кто такие?
Заяц шепнул крысе:
— Молчи, соседка. Не отвечай ему. Старый Симба порычит и уйдет.
Но Симба и не думал уходить. Злость обуяла его, он грозно рявкнул:
— Кто такие, я спрашиваю! Отвечайте, не то худо будет.
— Это мы, — пискнула перепуганная Буку.
— А ну, слезайте с дерева.
Сунгура видит, что дело плохо, и решил схитрить.
— Соседка, замотай меня в сухую траву, крикни льву, чтобы посторонился, затем спихни меня вниз.
Буку обмотала зайца травой, крикнула Симбе:
— Посторонись, я скину вниз этот пук сухой травы, а потом спущусь сама.
Симба отошел в сторону, Буку спихнула с ветки зайца. Едва он очутился на земле, как выскочил из травы и был таков. Лев все смотрел на крысу и даже не заметил, что заяц дал стрекача.
— Ну, спускайся же скорее!
Делать нечего, пришлось крысе отдаться на милость льву. Тот придавил Буку лапой к земле.
— Как ты посмела без спроса есть мед в моем лесу?
— Я-я не-не виновата, — от страха заикнулась Буку, — это заяц меня подговорил. Он сказал, что унаследовал мед от покойного отца.
591
— Ах, так! Где он, негодник? Он ведь был с тобой на ветке.
— Но Сунгура же первый спрыгнул вниз. Разве ты его не видел?
— Конечно, нет. — Симба от злости был вне себя. Он стукнул лапой, которой держал Буку, о землю. Едва крыса почувствовала, что ее на мгновение выпустили, она — шмыг в кусты.
— Ну, погоди, пройдоха Сунгура, я до тебя доберусь,— пригрозил лев.
Спустя три дня Сунгура навестил своего приятеля черепаху Кобая.
— Покойный тятенька оставил мне в наследство борть с медом. Пойдем полакомимся, — предложил он.
— С удовольствием, — сразу же согласился Кобай.
Они пришли к тыквенному дереву, взобрались на ветку возле дупла, выкурили пчел и принялись за еду.
Тут возле дерева вновь оказался Симба.
— Эй вы, кто такие? Опять воруете мой мед. Вот я вас! Ну-ка спускайтесь вниз.
— Умоляю, молчи. Лев скоро уйдет, — шепнул заяц приятелю.
Однако Кобай заподозрил неладное:
— Ты же говорил, что мед твой. Разве он принадлежит Симбе?
Заяц потупил очи.
— Спускайтесь скорее. Не то худо будет, — повторил Симба.
Теперь он во все глаза смотрел на зайца, памятуя, как Сунгура обманул его в прошлый раз.
Заяц тем временем подговорил черепаху:
— Обмотай меня сухой травой, крикни Симбе, чтобы посторонился и спихни меня вниз.
Кобай обмотал зайца травой, но при этом подумал: «Сунгура хочет сбежать, оставив меня на растерзание Симбе. Не бывать этому». Когда все было готово, Кобай спихнул зайца с ветки, но вместо того, чтобы крикнуть льву: «Посторонись!» — крикнул: «Держи Сунгуру!» Лев только того и дожидался. Он схватил зайца.
— Что мне с тобой сделать? Съем, пожалуй.
— Не ешь меня сразу, я жесткий, — взмолился Сунгура.
— Как сделать тебя мягким? — ехидно спросил Симба. Заяц не растерялся.
— Возьми меня за хвост, раскрути посильнее и ударь оземь. Я стану мягким.
Дельный совет. Симба схватил зайца за хвост и раскрутил его. Но хвост у зайца короткий, лев не удержал его в лапе.
592
Хвост выскользнул — Сунгура был таков! Ищи теперь ветра в поле.
— Опять меня заяц провел. Ну ничего, уж черепаху я не упущу, — утешил себя лев.
Кобай был уже на земле. Симба царапнул когтем его панцирь:
— Твердый ты, черепаха. Как же тебя съесть?
— Очень просто, — засмеялся Кобай. — Кинь меня в грязь и три панцирь лапой, пока он не сойдет.
Симба отнес черепаху к болоту, бросил в грязь и стал тереть. Кобай, конечно, сразу же ускользнул, подсунув вместо себя камень. Симба тер-тер камень, пока до крови не стер лапу. С тем и удалился, решив во что бы то ни стало добраться до зайца. Уж очень он на него был зол.
Симба отправился на поиски Сунгуры. Каждого встречного он спрашивал:
— Где дом Сунгуры?
Никто ему не мог ответить, потому что заяц, опасаясь мести льва, вместе с семьей покинул свой дом, перебрался в другое место. Однако вскоре Симба повстречал шакала, который сказал, что Сун гура поселился на вершине далекого холма.
Симба поспешил туда. На вершине холма он наткнулся на хижину, которую построил Сунгура. Однако в хижине никого не было. «Спрячусь-ка я внутри. Когда заяц с зайчихой вернутся домой, я их сцапаю», — решил Симба. Так и поступил.
К вечеру Сунгура со своей женой подошел к хижине, не подозревая об опасности. У самого порога он вдруг заметил львиный след.
— Беги скорее в лес, схоронись там. В хижине Симба, — тихонько сказал Сунгура зайчихе.
— Я не оставлю тебя, мой муж, — возразила зайчиха.
— Делай, как тебе говорят. Обо мне не беспокойся.
Зайчиха убежала, а Сунгура, отступив на небольшое расстояние от хижины, выкрикнул:
— Здравствуй, хижина. Как поживаешь?
В ответ — ни звука.
— Странно! — нарочито громким голосом произнес заяц. — Каждый день, возвращаясь домой, я приветствую свою хижину, а она мне отвечает. Должно быть, внутри кто-то прячется.
Симба услышал слова зайца и, желая обмануть Сунгуру, прорычал:
— Здравствуй!
Заяц затрясся от смеха:
— Ого, Симба, ты спрятался в моей хижине, видать, хо
593
чешь меня слопать? Ну и глупец же ты. Где это видано, чтобы хижина умела разговаривать.
Лев понял, что снова попал впросак.
— Погоди, противный заяц, я до тебя доберусь.
— Долго ждать придется, — весело воскликнул Сунгура.
Он бросился в лес, Симба за ним. Но разве угнаться старому льву за проворным зайцем?
Лев быстро устал.
— Опять этот пройдоха Сунгура обхитрил меня. Надоел он мне, не буду с ним больше связываться.
С этими словами Симба пошел к своему дому неподалеку от большого тыквенного дерева.
ХАМДАНИ
Жил в одном городе бедняк по имени Хамдани. Не было у него ни кола ни двора, лишь рваная рубаха на исхудалых плечах, латаные-перелатаные шаровары да дырявые тапочки на ногах — вот и все его богатство. Ютился он в убогой каморке, что чудом сохранилась в полуразрушенной хижине. Есть крыша над головой — и слава богу!
Чтобы как-нибудь прокормиться, Хамдани побирался у домов богатых горожан. Подавали ему мало, вот он и стал воровать. Увидит что плохо лежит, утащит. В конце концов о нем пошла дурная слава, и горожане стали отказывать ему в милостыне. А чтобы держался подальше от их домов, натравливали на него собак.
Туго пришлось Хамдани. Он и раньше досыта не ел, а теперь просто голодал. Зачастил он на свалку. Найдет немного прбсяных зерен, выброшенных иной нерачительной хозяйкой, и доволен. Все лучше, чем с пустым брюхом сидеть.
Однажды копался он в мусорной куче, глядь — большой медяк. Таких денег у Хамдани сроду не бывало. Обрадовался он* завязал монету в полу рубахи и пошел домой. В своей темной каморке повалился на циновку, поворочался с боку на бок да и уснул натощак. Ночью Хамдани приснилось, что он богат, живет в красивом дворце, вкушает яства с золотых тарелок, прислуживает ему многочисленная челядь.
Утром открыл глаза: вокруг те же убогие стены, и живот подводит с голодухи. Поплелся Хамдани на свою свалку. По дороге повстречал зверолова, который в деревянной клетке нес на базар трех газелей.
— Эй, земляк, покажи мне газелей, — крикнул Хамдани.
Зверолов остановился, поставил клетку на землю.
594
— Смотри, коли хочешь.
Стоявшие неподалеку два богатых горожанина, увидев, что зверолов показывает Хамдани газелей, громко засмеялись.
— Зря стараешься. У этого побирушки даже медяка за душой нет. Это же нищий Хамдани.
— Нищий он или богатый, откуда мне знать. Я несу на продажу газелей. Кто к ним приценивается, тому и показываю.
— Да ты посмотри на его одежду. Он целыми днями на свалке копается, как курица, выискивает просяные зерна. Будь у него деньги, неужто не купил бы себе еды? Недаром говорят: «Тучи на небе — к дождю, толстый живот — к еде». Где у Хамдани живот? Помнит ли он, когда последний раз ел?
Зверолов ответил:
— Верно, одет Хамдани плохо, и живота толстого, как у вас, у него нет. Но он просит показать ему моих газелей. Богатые люди тоже просят показать им товар. Посмотрят, покачают головой: «Ой, какие прекрасные газели, да уж больно дорого ты за них просишь», — и уходят. Так почему же я должен бедняку отказать?
— Потому что у Хамдани и медяка не найдется, — сказал один горожанин.
— А вот и найдется, — ликующе выкрикнул Хамдани и показал изумленным горожанам монету. — Эй, зверолов, продай мне самую маленькую газель.
Зверолов открыл клетку.
— Бери вот эту газель. Ее зовут Киджипа. Береги ее как зеницу ока. Ай да бедняк! — воскликнул он, повернувшись к богатым горожанам. — Купил-таки газель! А вы красуетесь в белых рубахах, черных тюрбанах, щеголяете булатными мечами и золочеными кинжалами, но купить у меня ничего не захотели. Так кому же мне показывать свой товар?
Они разошлись. Зверолов пошел на рынок, горожане — к соседям: рассказать им удивительную новость — у Хамдани завелись деньги, не иначе украл. Сам же Хамдани отправился с газелью на свалку искать просяные зерна.
Целый день искал, а нашел всего семь зернышек. Три сам съел, остальные газели скормил. Потом пошел в свою хижину, улегся вместе с газелью на циновку и уснул.
Ночью кто-то тихо его позвал:
— Хозяин, хозяин!
Хамдани спросонья так испугался, что, вскочив на ноги, бросился вон из хижины. Голос проговорил ему вдогонку:
— Не бойся, хозяин, это я, твоя газель Киджипа.
Хамдани вытаращил глаза на говорящую газель. Такого чуда ему видеть не приходилось. Между тем газель продолжала:
595
— Послушай, хозяин, что я тебе скажу. Ты очень беден. Питаешься просяными зернами со свалки. Вдвоем нам так не прокормиться. Отпусти меня утром в лес. Я травки пощиплю, водицы из ручья попью — вот и сыта. К вечеру я вернусь.
— А если убежишь? Я ведь на тебя последний медяк истратил, — недоверчиво сказал Хамдани.
— Не убегу. Ты меня купил, теперь я тебе служить буду.
— Что ж, иди, — не очень радостно произнес бедняк.
Рано утром газель убежала в лес. Весь день Хамдани маялся, не находил себе места от беспокойства.
— Ох, моя газель! — причитал он. — Не видать мне ее как своих ушей.
Соседи ругали Хамдани последними словами:
— Глупец! Копаешься в куче мусора, выискиваешь зерна, как курица. Судьба смилостивилась над тобой, послала тебе медяк. Накупил бы себе еды, хотя бы раз в жизни досыта наелся. А ты, безмозглый, потратил деньги на никчемную газель. Да и ту упустил. Ищи теперь ветра в поле. Не вернется она к тебе. Где это видано, чтобы лесная тварь сама к человеку воротилась! Поделом тебе, дураку!
От этих слов Хамдани и вовсе пригорюнился. Лег в хижине на циновку, лицом в пук соломы уткнулся и заплакал. Солнце уже за краем земли скрылось, сумерки опустились на землю, как вдруг кто-то коснулся теплыми губами плеча Хамдани.
— Что слезы льешь, хозяин? Или беда какая приключилась?
— Киджипа! Вернулась! — радостно воскликнул Хамдани. — Я тебя не чаял больше увидеть.
— Как же мне не вернуться к своему хозяину? Мы ведь условились, а уговор дороже денег. Я и впрямь тебя не подведу.
Так они и жили. Утром газель убегала в лес, вечером возвращалась. Хамдани не мог нарадоваться на свою газель. Одно плохо — Киджипа прибегает из леса сытая и веселая, а у него от голода живот подводит. Пожаловался он раз газели на худое свое житье.
— Потерпи, хозяин, — сказала она, — что-нибудь придумаем.
Как-то резвилась Киджипа на зеленом лугу и заметила: выглянет солнышко из-за облака, упадут на землю яркие лучи, блеснет что-то в траве. Стала приглядываться — алмаз! Да какой огромный!
«Ого, за этот алмаз кучу золота можно взять, он полцарства стоит, — подумала газель.—Но хозяину такую драгоценность отдавать нельзя. Беду накликать легко. Завистники его погубят. Спросят: «Откуда у тебя алмаз?» Он ответит: «Нашел». Не поверят. Если скажет: «Мне его дали», — и того хуже,
596
за разбойника примут. Нет, хозяину я алмаз не отдам, а распоряжусь им иначе».
Она зажала драгоценный камень между зубами и побежала через лес далеко-далеко. Три дня бежала газель, пока не достигла иноземного государства. Остановилась в большом городе возле дворца правителя. Ворота были заперты. Киджипа встала на задние ноги, а передними копытами постучалась в ворота.
Султан как раз прогуливался в саду. Он услышал, что кто-то стучится в ворота и послал стражника узнать, в чем дело.
— Господин, там газель. Она говорит человеческим голосом, хочет вас видеть, — сказал стражник, вернувшись.
— Впустить!
Газель впустили, подвели к султану. Тот сидел в золоченом кресле под крышей легкой беседки. За креслом стоял мальчик-слуга с опахалом из страусиных перьев.
Приблизясь, Киджипа положила к ногам султана завернутый в банановый лист алмаз.
— Владыка, здравствуй. Да благословенны будут годы твоего мудрого правления.
— С чем пожаловала, говорящая газель? Какую весть принесла из далекой страны?
— О великий султан, соблаговоли выслушать меня, посланца своего хозяина. Не гневайся, коли я скажу дерзость, не вели казнить прежде времени. Слава о красоте твоей дочери разнеслась по всему свету. Прослышал о ней и мой хозяин, султан Дараа. Он хочет породниться с тобой, взять твою дочь в жены. Султан Дараа послал меня гонцом, наказав преподнести тебе этот скромный дар.
— Что это?
— Разверни банановый лист, увидишь.
Султан щелкнул пальцами. Мальчик подал ему банановый лист с алмазом. Развернув лист, султан зажмурился.
— Какой прекрасный алмаз! — изумился он.
— Мой хозяин просил извиниться, что не посылает чего-либо более достойного, чем эта безделица, — с поклоном произнесла Киджипа.
«Если этот великолепный алмаз для султана Дараа — безделица, он, должно быть, очень богат», — подумал султан, а вслух сказал:
— Передай своему господину, что я доволен его подарком. Многие цари и короли сватаются к моей дочери, да не за всякого она пойдет. Для меня будет честью породниться с султаном Дараа. Возвращайся и скажи, что мы ждем его в гости.
— Через одиннадцать дней султан Дараа навестит тебя,
597
о владыка, — сказала Киджипа и отправилась в обратный путь.
Тем временем Хамдани от горя едва не лишился рассудка. Он ходил по городу, скорбно вскрикивая:
— О моя Киджипа! О моя бедная газель! Я навеки потерял тебя!
Он донимал каждого встречного вопросом: «Не видел ли моей газели? Не знаешь, куда она убежала?» Так всем надоел, что, завидев его издали, люди поворачивали в другую сторону, а иные награждали его крепкими тумаками.
Когда Киджипа появилась в хижине, Хамдани не мог сдержать слез радости. Он бросился обнимать и целовать свою газель, но та остановила его:
— Успокойся, хозяин. Я принесла хорошую весть. Не будем терять времени. Обещай, что исполнишь все, о чем я тебя попрошу.
— Все сделаю, как ты скажешь. Велишь взобраться на вершину горы и кубарем скатиться вниз — и то исполню.
— Тогда иди за мной и ни о чем не спрашивай.
Хамдани послушно последовал за газелью. Они долго шли по лесам и полям, по горам и долам, пока не пришли в царство, где правил тот самый султан, которому Киджипа отдала алмаз. Переночевали они в роще на берегу реки неподалеку от города. Рано поутру газель разбудила Хамдани.
— Скидывай с себя лохмотья, полезай в воду.
Хамдани было воспротивился, но газель толкнула его в реку, да при этом несколько раз сильно ударила копытами, так, что на теле бедняка остались синяки и шишки.
— За что ты меня бьешь? — взмолился Хамдани.
— Ты же обещал меня слушаться, а теперь артачишься. Если хочешь себе добра, поступай, как я велю. Умойся речной водой. Потом спрячешься в кустах, никуда не уходи с этого места. Я скоро приду.
Хамдани повиновался.
Газель побежала ко дворцу султана. Шел как раз одиннадцатый день после ее разговора с правителем страны. Султан выставил на дороге дозор и строго-настрого приказал дозорным смотреть в оба:
— Как появится свита султана Дараа, сразу предупредите меня, я поеду навстречу важному гостю.
Дозорный увидел издали газель. Он поспешил к султану :
— Владыка, газель султана Дараа бежит, но свиты не видать.
598
Султан вместе с придворными вышел на дорогу. К нему подбежала Киджипа. Едва переведя дух, произнесла:
— Плохие вести, о повелитель. Беда. В лесу на нас напали разбойники. Свиту перебили, у султана Дараа все отняли, даже одежды не оставили. О горе мне! Горе мне!
— Где же султан Дараа?
— Возле реки. В кустах прячется, помощи дожидается.
— Поспешим ему на помощь! Конюх, седлай для султана Дараа лучшего жеребца, сбрую самую богатую выбери. Слуги, откройте сундуки, выньте дорогие одежды: шаровары из цветного шелка, белый халат, расшитую золотом накидку, черный тюрбан и сандалии на серебряных каблуках... Оруженосец, принеси изогнутый меч из булатной стали, кинжал с перламутровой рукоятью и резную трость... А ты, газель, веди моих воинов к реке. Они отнесут одежду и оружие султану Дараа и с почетом приведут дорогого гостя ко мне во дворец. Мы с дочкой примем его по-царски.
— Нет, султан. Не поведу я твоих воинов к реке, — сказала газель. — Хозяин разгневается, если кто-то увидит его в неприглядном виде. Я сама ему все отнесу.
— Да как же ты одна справишься?
— А вот как. Одежду и оружие грузите на лошадь. Повод я в рот возьму. Так и дойдем.
— Будь по-твоему, — согласился султан. — Только возвращайтесь скорее.
Когда Киджипа привела коня к реке, Хамдани не мог поверить своим глазам.
— Вот так чудо! Неужели все эти богатства для меня?
— Одевайся быстрее, — поторапливала газель, — султан тебя ждет. К его дочке будем свататься. Теперь в тебе никто не признает нищего Хамдани. Запомни, отныне ты султан Дараа. Когда приедем во дворец, ты больше помалкивай, говорить буду я. Если султан станет допытываться, много ли у тебя земель, дворцов и слуг, головой кивай, мол, владения мои необъятны, дворцов и слуг не счесть.
Хамдани изумленно слушал газель, только глазами хлопал. Никак в свое счастье поверить не мог. Он облачился в султановы одежды, подвесил на тяжелый пояс меч и кинжал, взял в руки трость.
Газель была довольна.
— Ну, а сейчас садись на коня, поедем в гости к султану.
599
Во дворце их только и ждали. Султан сидел на троне. Вокруг толпились знатные вельможи. Хамдани ступал по мягкому ковру негнущимися ногами, сердце от страха вот-вот остановится.
— Поклонись султану, да не слишком низко, — шепнула Киджипа, когда они подошли к трону.
Хамдани послушно склонил голову, а газель громко объявила:
— Султан Дараа приехал свататься к твоей дочери, владыка.
Хозяин дворца встал с трона, обнял Хамдани и расцеловал его. Он хлопнул в ладоши, в залу вошла девица-красавица.
Хамдани как увидел султанову дочку, так сразу влюбился в нее. И он ей приглянулся. Отец-султан сказал:
— Я обещал отдать свою дочь в жены этому благородному человеку. Сегодня же мы сыграем свадьбу. Пусть живут они счастливо.
Он позвал мвалиму1 и распорядился совершить обряд бракосочетания. После свадебной церемонии во дворце был устроен пир. Столы ломились от снеди и вин, играла веселая музыка, все поздравляли жениха и невесту. Три дня пировали гости, а на четвертый Киджипа сказала султану:
— Мой хозяин повелел мне возвратиться в наш город, дабы подготовить дворец к приезду молодой жены. Я спешу исполнить волю султана Дараа, который пока останется здесь. Скоро я вернусь, тогда все вместе мы поедем навестить владения моего хозяина.
Покинув дворец султана, газель побежала не на родину Хамдани, а совсем в другую сторону. Она не останавливалась до тех пор, пока не достигла большого города. Город был застроен красивыми домами, но на улицах царила странная тишина, они словно обезлюдели: ни мужчин, ни женщин, ни детей. В конце главной улицы высился богатый дворец. Стены сложены из белого и черного мрамора, крыша сверкает сапфирами и бирюзой. «Этот дворец как раз для моего хозяина. Не пуст ли он, как другие дома в городе? Загляну-ка я внутрь!» — подумала Киджипа.
Она приоткрыла парадную дверь — никого. Прошлась по уставленным дорогой мебелью комнатам — никого. Когда же заглянула в кухню, увидела там старуху.
— Здравствуй, бабушка.
1 Мвалиму — здесь знаток Корана (суахили).
600
— Кто осмелился прийти сюда ? —спросила подслеповатая старуха.
— Это я, твоя внучка.
— Уходи скорее, внученька, пока цела. Не ровен час нагрянет душегуб проклятый, змей-злодей семиглавый, несдобровать тебе, да и мне головы не сносить.
— Не бойся, бабушка. Расскажи лучше о змее, авось я с ним совладаю.
— Где уж тебе! Какие лихие молодцы с ним сражались, всех погубил, никого в живых не оставил. А кого сразу не убил, в подземелье запер. Там они, несчастные, смерти дожидаются. Беда людям. Кто в схватке со змеем не погиб и в неволю не попал, те из города ушли, в лесу прячутся. Уходи, внученька, не искушай судьбу. Если останешься, сегодня же и погибнешь.
— Нет, бабушка, не уйду. Уж больно мне этот дворец по душе пришелся. Говорят ведь: «Для мухи в меде — сладкая смерть, а мед от мушиной смерти не испортится». Всего здесь вдосталь. Как же все змею оставить и невинных людей не спасти! Лучше подскажи, как с семиглавым совладать?
— Ох, несчастье на мою старую голову! — застонала старуха. — Чувствую, не дожить мне до завтрашнего утра. Ну да ладно. Помогу тебе, коли ты такая смелая. В главном покое дворца на золотом гвозде висит острый меч. Только им можно убить змея. Ты меч возьми, а гвоздь по самую шляпку в стену вбей. Смотри, не забудь это сделать, а то меча на змея не поднимешь. Когда змей сюда явится, он перво-наперво ко мне заглянет, есть потребует. Я ему горшки с едой и питьем выставлю. Он наестся-напьется, захочет вздремнуть. Отправится в главный покой. Ты наготове будь, только он головы в дверь просунет — руби. Если замешкаешься, ничего нас не спасет. Сами погибнем и томящихся в подземелье людей не вызволим. Завтра же всех проклятущий гад живьем съест.
Не успела старуха эти слова вымолвить, как во дворе завыл ветер, столб пыли поднялся до небес, все вокруг потемнело. Газель стремглав бросилась в главный покой и там притаилась. Еще мгновение, и во дворец вползло семиглавое чудовище.
— Фу, фу, чужим духом пахнет, — прогремел змей. — Кого ты в моем дворце прячешь, кухарка?
— Никого здесь нет, — пробормотала старуха, ни жива ни мертва от страха. — Почудилось тебе. На вот, поешь лучше.
601
Она поставила перед змеем горшки с едой. Змей жадно набросился на съестное. В каждый горшок сунул по голове и мигом все проглотил, крошки не оставил.
Насытясь, он сказал:
— Коли ты меня обманула, старая, пеняй на себя — съем. Но прежде пойду сосну, притомился я сегодня.
Он подполз к главному покою, сунул голову в дверь. Киджипа держала меч наготове. Только змеиная голова оказалась в опочивальне, газель ее отсекла. Змей даже боли не почувствовал. Сунул вторую голову. Газель опять мечом взмахнула, отрубленная голова упала к ее ногам.
— Кто меня там щекочет? — удивленно произнес змей и третьей головой заглянул в комнату.
Киджипа взмахнула мечом, третья голова покатилась по полу. Только тогда змей почуял неладное. Он выполз во двор и закричал громовым голосом:
— Выходи, враг, сюда, биться будем не на жизнь, а на смерть.
Газель выбежала во двор. Увидев ее, змей засмеялся.
— Так вот какой боец меня щекотал. Ну тебя-то я в два счета прихлопну. На зуб возьму, вкуса не почувствую.
— Не бахвалься прежде времени. Многих ты погубил, злодей. Город разорил, жителей полонил. Теперь берегись, расплата пришла.
— Ах так! — Змей ударил хвостом, облако пыли заслонило солнце. Он ринулся на газель, но та проворно отскочила в сторону, взмахнула волшебным мечом. Четвертая голова змея упала на землю. Долго они бились, наконец Киджипа срубила последнюю, седьмую, голову чудовища.
Киджипа пошла на кухню, где в страхе дожидалась старуха.
— Выходи, бабушка. Не надо больше прятаться, сгинул змей. Показывай, где люди томятся.
Кухарка повела ее в подземелье. Они отомкнули тяжелые замки, выпустили пленников на свободу.
— Если вас спросят, чьи вы подданные, отвечайте — султана Дараа. Это он вас из неволи высвободил, — предупредила Киджипа. — А ты, бабушка, во дворце приберись, кушаний вкусных наготовь, скоро я со своим хозяином, султаном Дараа, и его молодой женой вернусь. Пировать будем. Когда увидишь султана Дараа, поклонись ему в ноги и скажи почтительно: «С возвращением, владыка!»
С этими словами Киджипа пустилась в обратную дорогу. Прибежав к Хамдани, она сказала:
— Все готово, хозяин. Пойди к султану, пригласи его погостить в твоем дворце.
602
Хамдани настолько привык к чудесам, которые в последнее время случались с ним, что даже не спросил газель, откуда у него появился собственный дворец. Он пришел к тестю и сказал, как его научила газель:
— Славно я погостил у тебя, пора и домой. Теперь мой, черед дорогих гостей принимать. Поедем в мой дворец.
На следующий день Хамдани с женой и отец-султан в сопровождении многочисленной свиты отправились в путь. Через несколько дней они вошли в большой город. Султан спросил людей, собравшихся на базарной площади:
— Чьи вы подданные?
— Султана Дараа, — ответили люди.
«Какой богатый у меня зятек!» —подумал старый султан. Он был очень доволен, что породнился с таким знатным человеком.
Когда они подъехали ко дворцу, навстречу им выбежала кухарка. Киджипа кивнула на Хамдани. Кухарка бросилась ему в ноги:
— С возвращением, владыка! Добро пожаловать во дворец с молодой женой.
Султан увидел, в каком большом и красивом дворце живет его зять, и обрадовался еще больше. Он гостил у Хамдани несколько дней, не переставая удивляться богатству и роскоши, которыми окружил себя султан Дараа. Все это время газель была рядом. Она водила гостя по окрестностям города, показывала ему поля с тучной нивой, луга, на которых паслось много скота, при этом приговаривала:
— Все это принадлежит моему хозяину.
Довольный, султан возвратился в свою страну. А Хамдани с женой беззаботно зажили в отвоеванном у змея дворце.
Вскоре Хамдани стало казаться, что он всегда так жил. Как будто не было в прошлом ни убогой каморки в полуразрушенной хижине, ни свалки, на которой он выискивал просяные зерна. Возгордился Хамдани и даже своей газелью-благодетельницей стал пренебрегать. Однажды Киджипа не вытерпела и пожаловалась кухарке:
— Странно ведет себя мой хозяин, бабушка. Я столько претерпела ради него, столько добра ему сделала, а он даже не спросит: «Откуда этот дворец? Откуда эти богатства? Почему все чествуют меня великим султаном?» Он ни разу даже не поблагодарил меня. Пойди, бабушка, скажи ему, что я захворала. Посмотрим, велика ли его благодарность.
Кухарка пошла в покои, где Хамдани восседал на мраморной скамье, покрытой персидским ковром. Он был одет в ин
603
дийские шелка, золотую парчу. Из серебряного кувшина он наливал душистое вино в хрустальный бокал. Рядом сидела его жена.
— Что тебе надо, кухарка? Как ты посмела нарушить мой покой?
— Киджипа заболела, о владыка. Просит тебя проведать ее.
Хамдани даже глазом не моргнул. Ответил высокомерно :
— Чем я могу ей помочь? Разве дать ей проса, которое слишком грубо для моего желудка. Да, свари газели просяную кашу.
Молодая жена, услышав такие слова, воскликнула:
— Как, ты хочешь накормить дорогого друга зерном, от которого даже лошади отворачиваются? Нехорошо это, султан Дараа.
Хамдани отмахнулся от жены:
— Не давать же ей белоснежный рис, который мы сами едим! Эта газель стоит всего медяк. Для нее и грубое просо сойдет. Иди, кухарка, свари ей просяную кашу.
Старуха все рассказала газели. Киджипа не могла поверить :
— Он велел потчевать меня просяной кашей! Даже не захотел проведать меня? Правы те, кто говорит: нельзя делать человеку слишком много добра, он от этого теряет совесть. Ступай опять к нему. Скажи, что я сильно больна, не могу есть просо.
Когда кухарка появилась в покоях Хамдани, тот, не скрывая гнева, закричал:
— Как ты надоела мне со своей газелью! Убирайся и не смей больше тревожить меня. Если газель снова пошлет тебя ко мне, скажи ей, что у тебя ноги не ходят, уши не слышат, глаза не видят, а язык отнялся. Если придешь опять, я угощу тебя палкой.
Молодая жена, услышав речи Хамдани, только головой покачала:
— Мне стыдно, муженек, что ты так относишься к своей газели. Безумное твое зазнайство доведет тебя до беды.
— Не лезь не в свое дело, женщина, — огрызнулся Хамдани. — Киджипа, верно, забыла, кто она и кто я, великий султан Дараа. Пусть знает свое место, не то вовсе ее от себя прогоню.
Кухарка рассказала газели о том, как ее встретил Хамдани.
— Ах так! Тогда пускай пеняет на себя, неблагодарный.
604
Она побежала в лес. Больше ее никто не видел. В тот же день по городу распространился слух, что султан Дараа прогнал свою газель. В городе все любили Киджипу, избавившую народ от змея. Люди взбунтовались. Они пошли ко дворцу и стали требовать, чтобы султан Дараа вышел к ним и сказал, что случилось с газелью.
Увидев в окно толпу возбужденных горожан, Хамдани испугался. Он запер на крепкие запоры все двери во дворце. До самого вечера он дрожал от страха в своей опочивальне.
— Говорила же я тебе, что твое высокомерие до добра не доведет, — упрекала его жена.
Когда они легли спать, султановой дочке приснилось, что она в отцовском доме и никогда замуж за султана Дараа не выходила. Утром она проснулась в своей прежней постели, во дворце, где родилась и жила всю жизнь. О муже она совсем забыла.
А Хамдани приснилось, что он лежит на грязной циновке в старой хижине. Утром он открыл глаза, глядь — нет ни дворца, ни шелковой кровати, ни жены-принцессы.
Вышел он из хижины. Голод мучит, в доме и хлебной крошки не сыскать. Почесал Хамдани в затылке да и побрел на свалку, надеясь хотя бы горсточку просяных зерен найти. Идет, а мальчишки вслед ему кричат:
— Хамдани, побирушка, где ты пропадал? Мусорная куча по тебе соскучилась.
Понурил голову Хамдани, а ответить нечего. Так и копался на свалке неблагодарный до самой своей смерти.
Если эта сказка добрая, пусть ее доброта принадлежит всем; если сказка худая, худо пусть останется у того, кто ее рассказал.
О ВРАЖДЕ КОРШУНОВ И ВОРОН
Однажды Кунгара, султан ворон, направил гонца к Мвай-ваю, султану коршунов. Гонец передал волю своего ровелите-ля:
— Наш владыка желает, чтобы твои подданные служили в его войске, были его вассалами.
— Возвращайся назад и скажи своему владыке, что этому не бывать, — ответил Мвайвай.
Выслушав ответ, Кунгара разгневался, собрал воронье воинство и напал на коршунов.
Битва продолжалась долго. Наконец стало ясно, что воронам не избежать поражения. Кунгара с остатками своего воин
605
ства вернулся в селение, где его поджидали подданные, и повелел поскорее перебраться на новое место.
Стая ворон взмыла в небо и улетела далеко-далеко. А коршуны поселились в бывшем селении ворон.
Кунгаре не понравилось на новом месте. Он долго ломал голову, как изгнать коршунов. Все-таки придумал. И тут же созвал всех ворон и обратился к ним с такой речью:
— Вырвите у меня из крыльев несколько перьев, отнесите меня в наше прежнее селение, возвращайтесь сюда и ждите от меня вестей.
Вороны в точности исполнили повеление султана.
Кунгара лежал неподвижно возле дома, где поселился Мвайвай, когда его заметил один из коршунов. Он клюнул Кунгару и угрожающе спросил:
— Что ты делаешь в нашем селении, ворон?
— Мои подданные взбунтовались, побили меня и выгнали вон за то, что я предложил им подчиниться султану коршунов, — простонал Кунгара.
Кунгару повели к Мвайваю. Тот с большой радостью выслушал историю, которую ему рассказал притворщик.
— Ты более благоразумен, чем твои соплеменники. Разрешаю тебе жить с нами,—сказал Мвайвай.
Так Кунгара поселился среди коршунов. Как-то соседи повели его в церковь. После богослужения они спросили:
— Чей бог лучше, коршунов или ворон?
— Конечно, коршунов,—льстиво ответил Кунгара.
Коршунам понравился ответ ворона, с тех пор они стали считать его очень мудрой птицей. Прошло совсем немного времени, а Кунгара уже совсем освоился среди чужих. Коршуны ему во всем доверяли. Настало время действовать.
Темной ночью Кунгара тайно выбрался из селения. Полетел к своим подданным, нетерпеливо ждавшим от него вестей, и сказал:
— Завтра у коршунов большой праздник. Рано утром все они соберутся в церкви, будут чествовать своего бога. Соберите побольше хворосту и держите зажженной лучину. По моему велению нужно быстро поджечь церковь.
Кунгара вернулся в селение коршунов. Вскоре прилетели все вороны и притаились в засаде неподалеку.
Рано утром соседи зашли за Кунгарой.
— Разве ты не пойдешь в церковь? — изумились они, увидев ворона в постели.
— Ох, плохо мне. Живот болит, кости ломит, — пожаловался хитрец.
606
— Лежи, бедняга, поправляйся, — посочувствовали соседи.
Как только все коршуны собрались в церкви, Кунгара дал знак своим подданным. Те незаметно подобрались к церкви, навалили у входа хвороста и подожгли его.
Едкий дым заполнил все внутри, языки пламени взметнулись до самой крыши.
— Караул, горим! Пожар! — раздались испуганные голоса.
Коршуны в панике вылетали через окна и неслись куда глаза глядят. Вороны угрожающе каркали им вслед. Через несколько минут в селении не осталось ни одного коршуна. Кунгара вновь стал владыкой этого места.
С тех самых пор коршуны и вороны враждуют. Они летают всегда порознь.
Перевод с английского М. Вольпе
А94 Африка: Лит. альманах. Выл. 6. — М.: Худож. лит., 1985.— 607 с.
В этом выпуске альманаха «Африка» публикуется роман зимбабвийского писателя Чарлза Мунгоши «Мы ждем дождя», содержательное, с глубоким подтекстом повествование о судьбах его родной страны, роман нигерийского писателя Соналы Олу менее «Две жизни прожить не дано», о столкновении высоких идеалов с удручающей реальностью, стихи, рассказы, среди них рассказы известной южноафриканской писательницы Надин Гордимер, пьесы и веселые и занимательные занзибарские сказки.
А
4703000000-302 028(01)-85
203-85
ББК 84.6 И(Афр)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ
«АФРИКА»
Выпуск шестой Составители: Тамара Прокофьевна Редько и Алев Шакирович Ибрагимов
Редактор
А. Ибрагимов Художественный редактор Ю. Коннов
Технический редактор
В. Нефедова
Корректоры
Т. Калинина, И. Филатова
ИБ № 3887
Сдано в набор 15.01.85. Подписано в печать 03.06.85. Формат 84 х 108*/ч2- Бумага для глубокой печати. Печать высокая. Гарнитура Таймс. Изд. №УШ-1756. Тираж 50000 экз. Заказ № 1780. Цена 4 р. 20 к..
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.