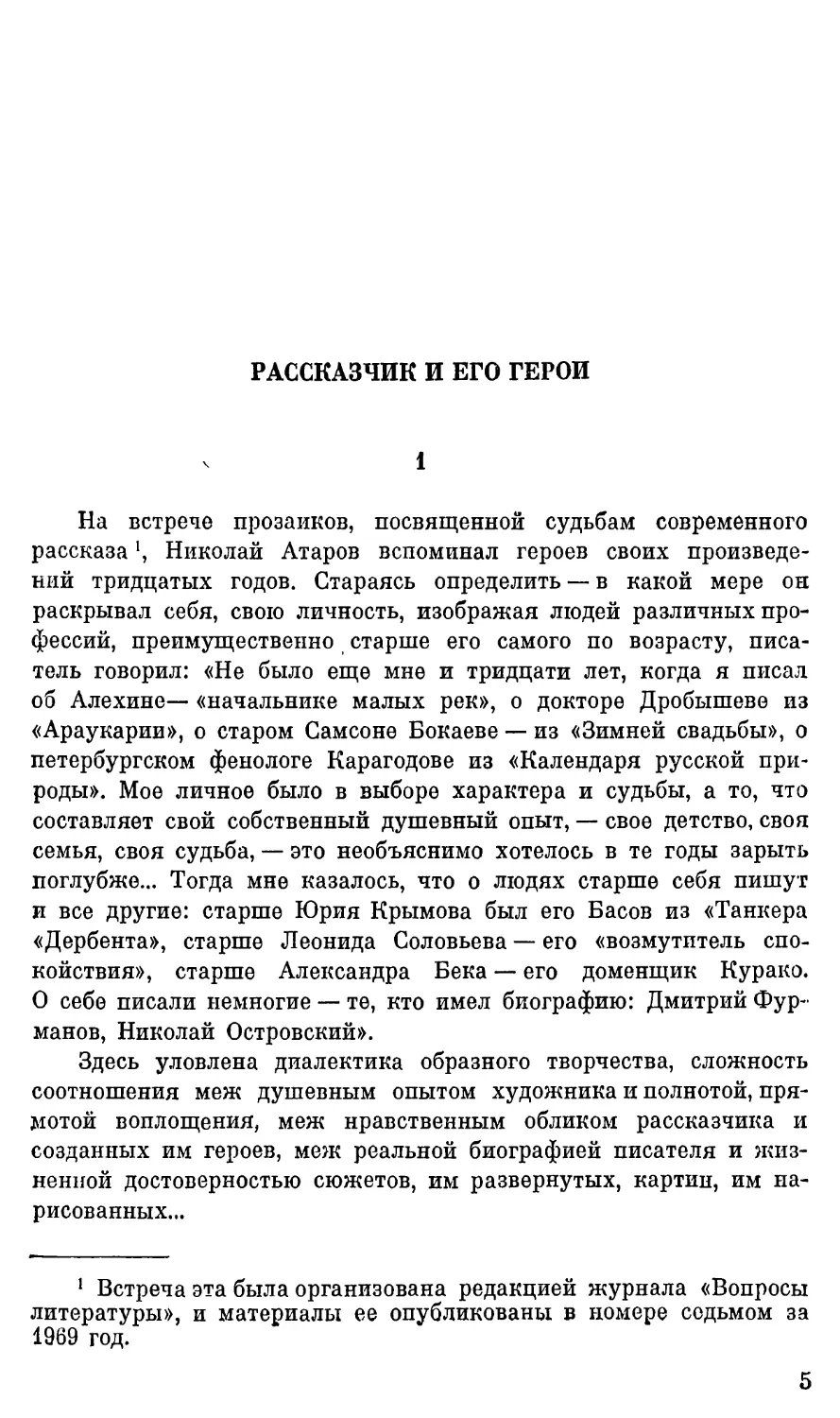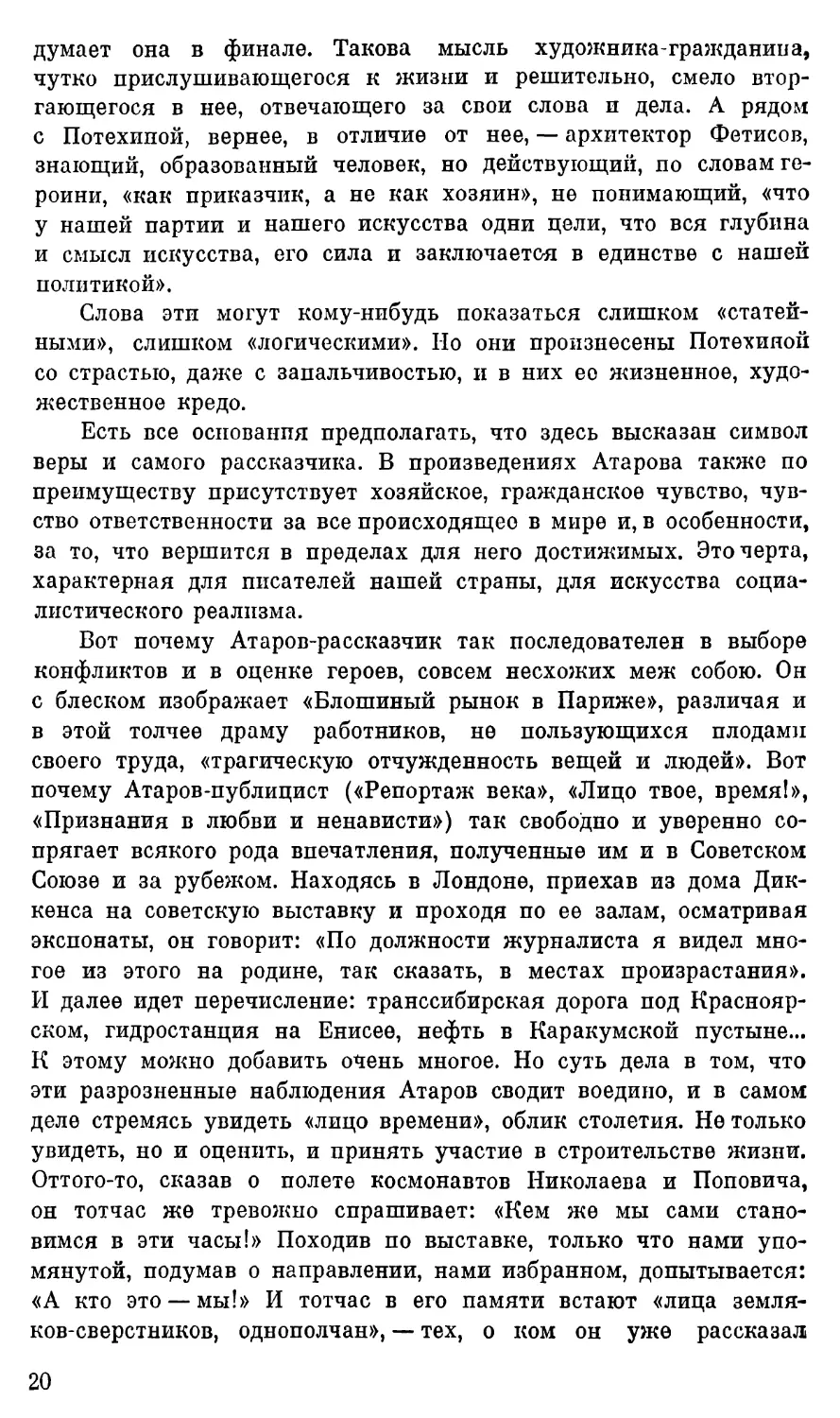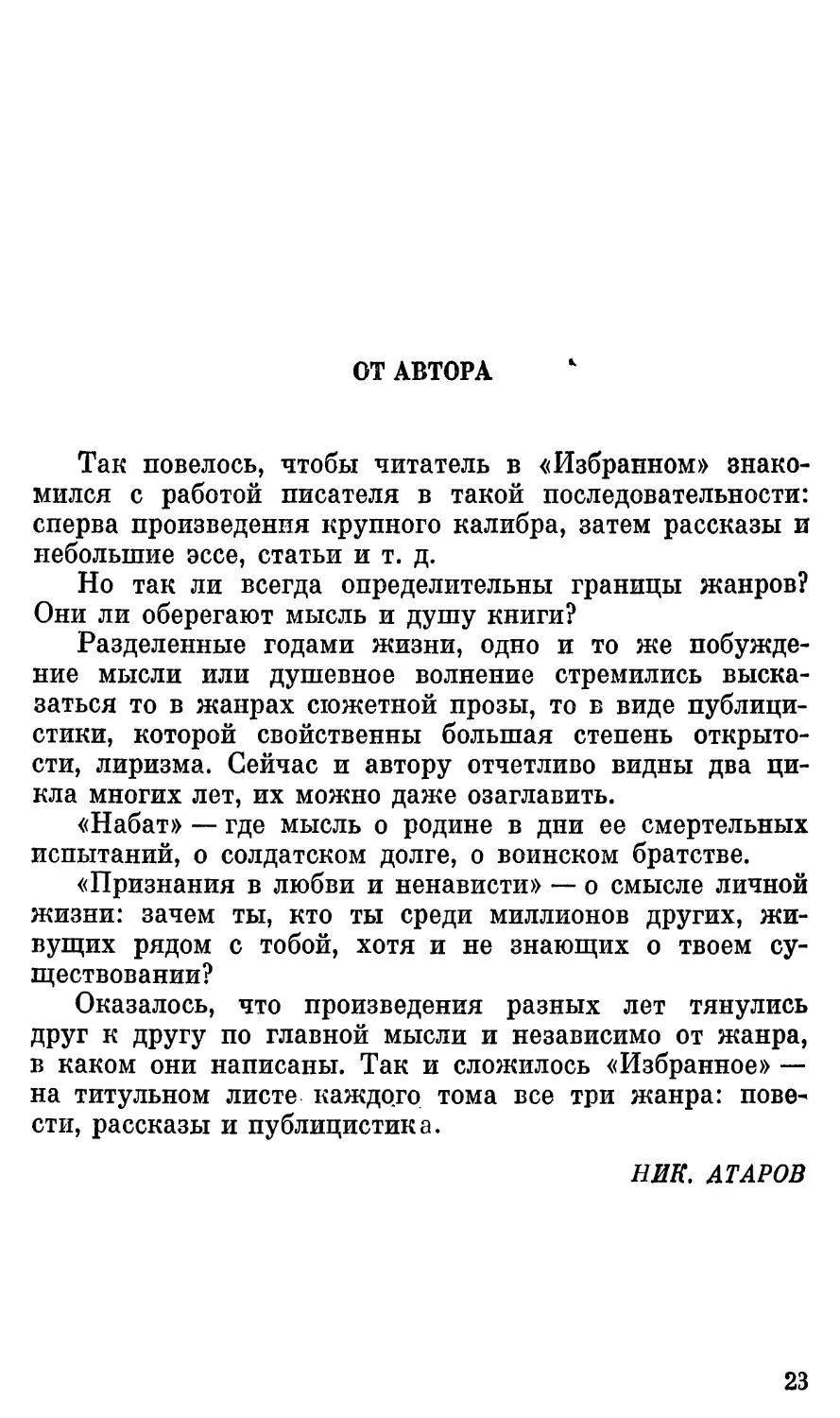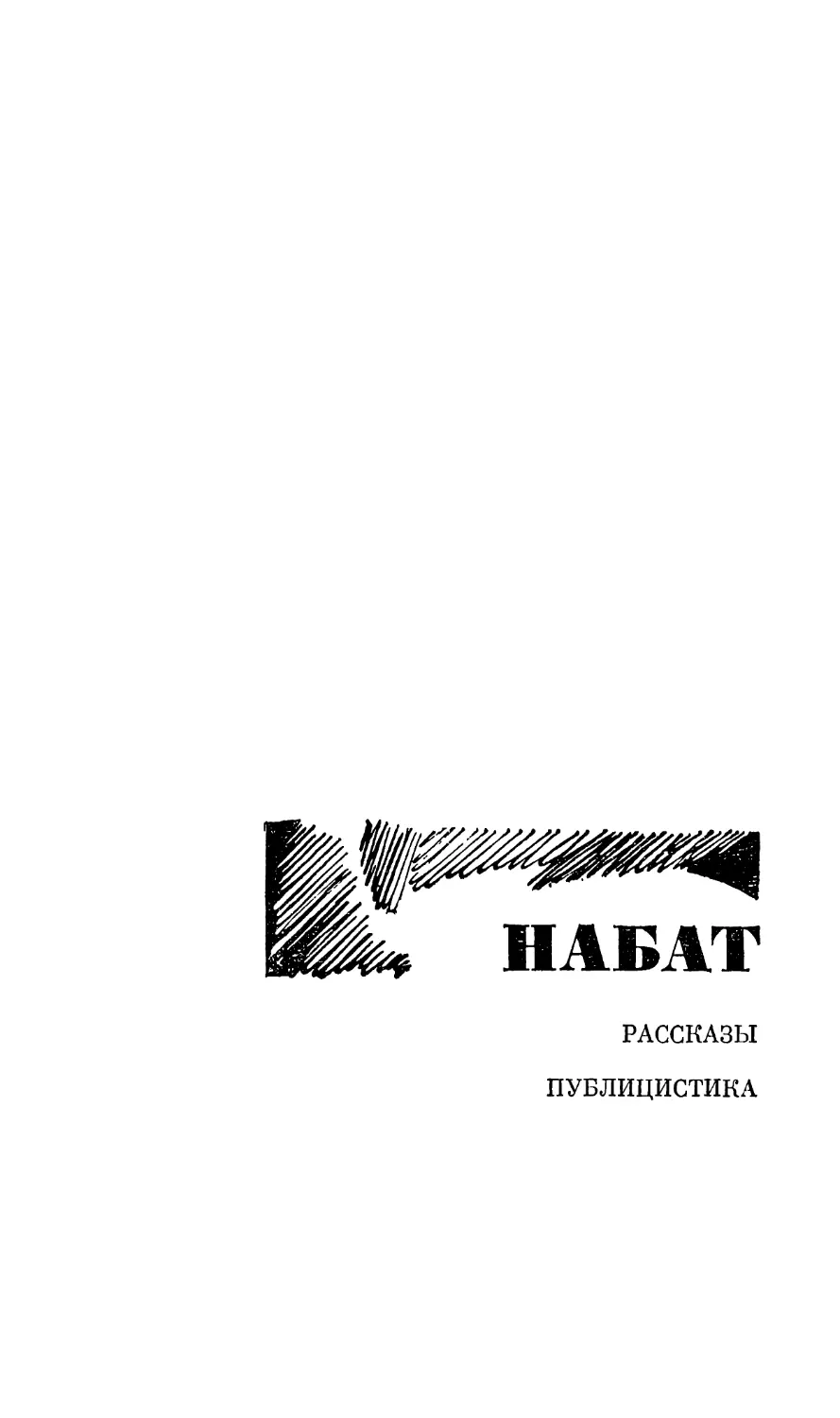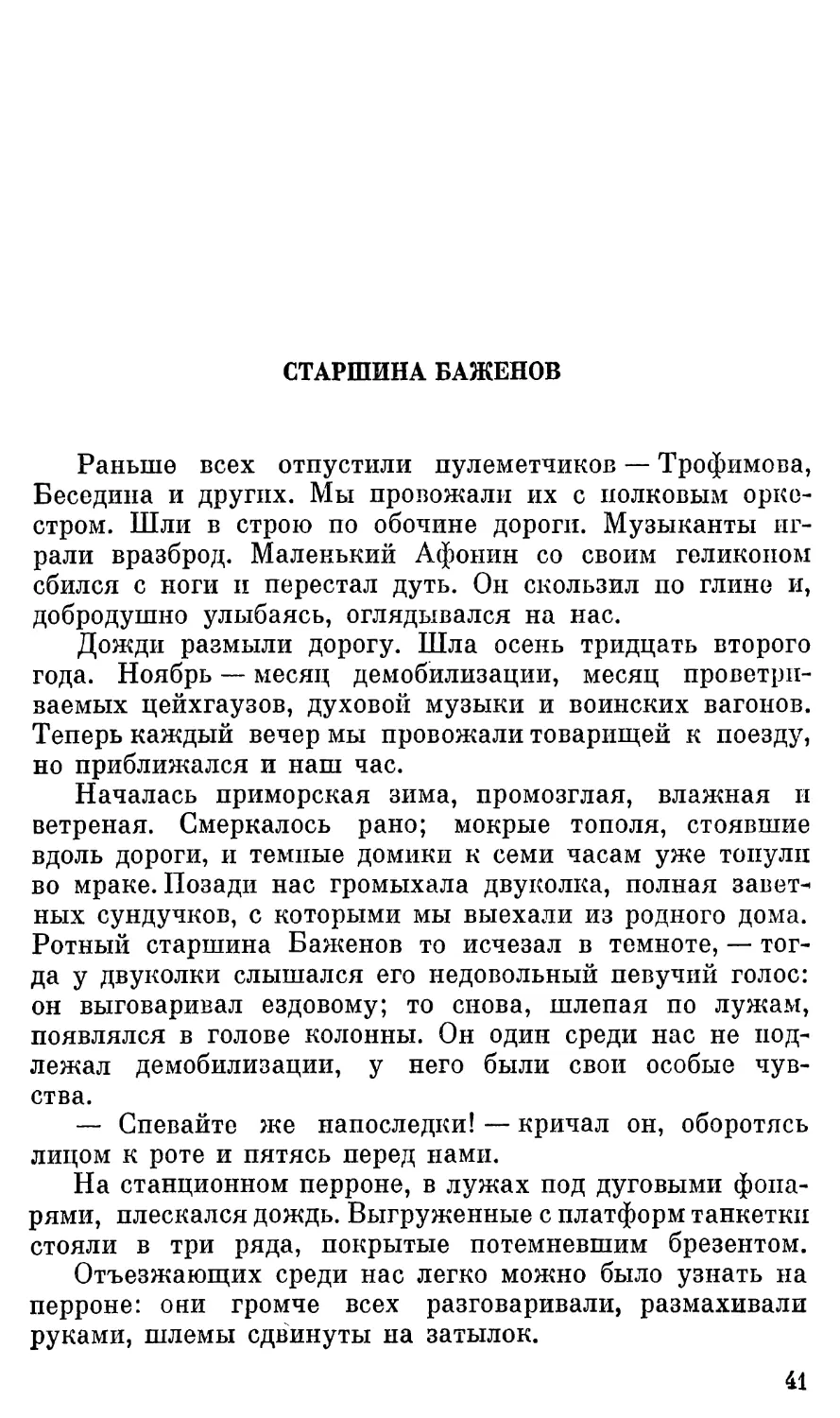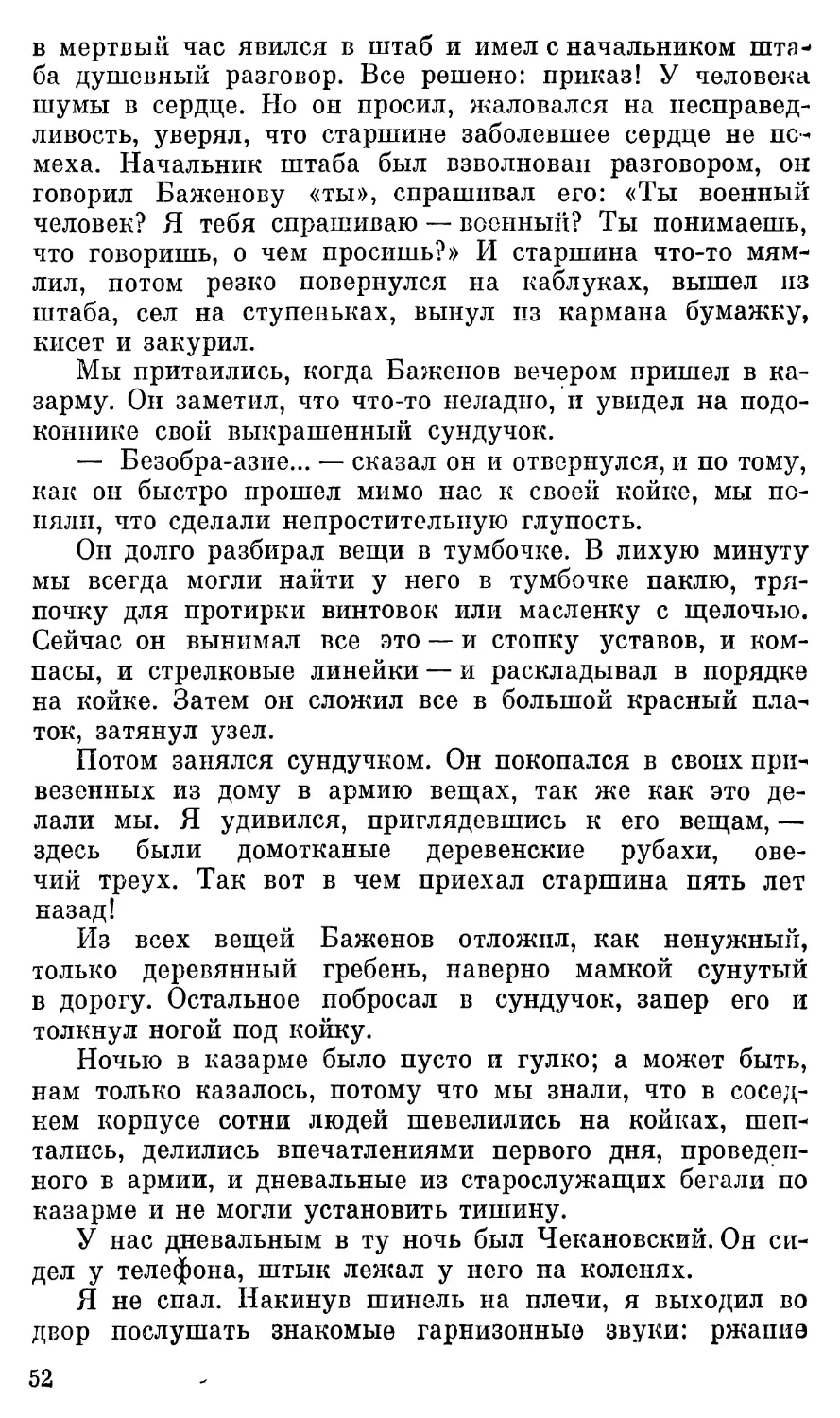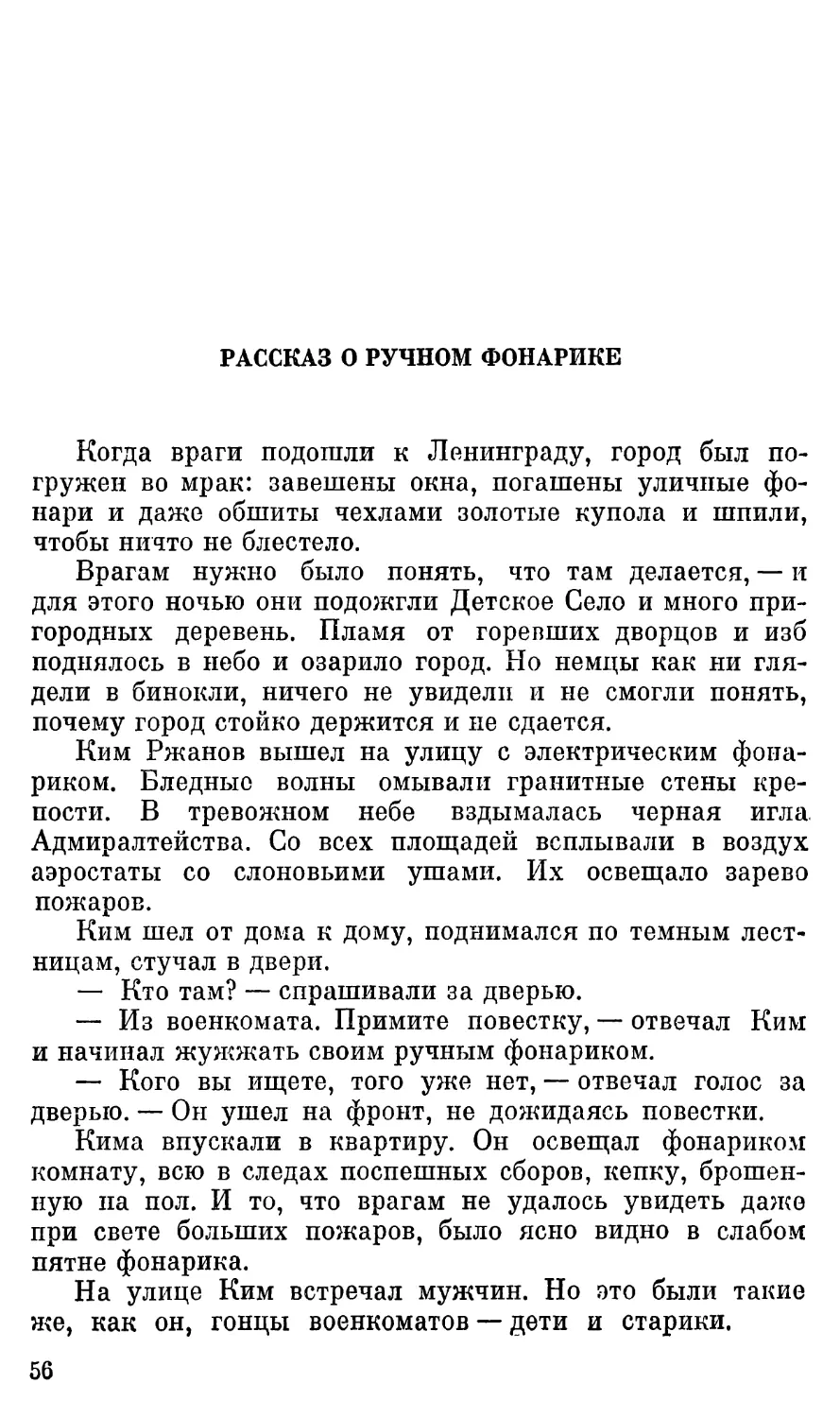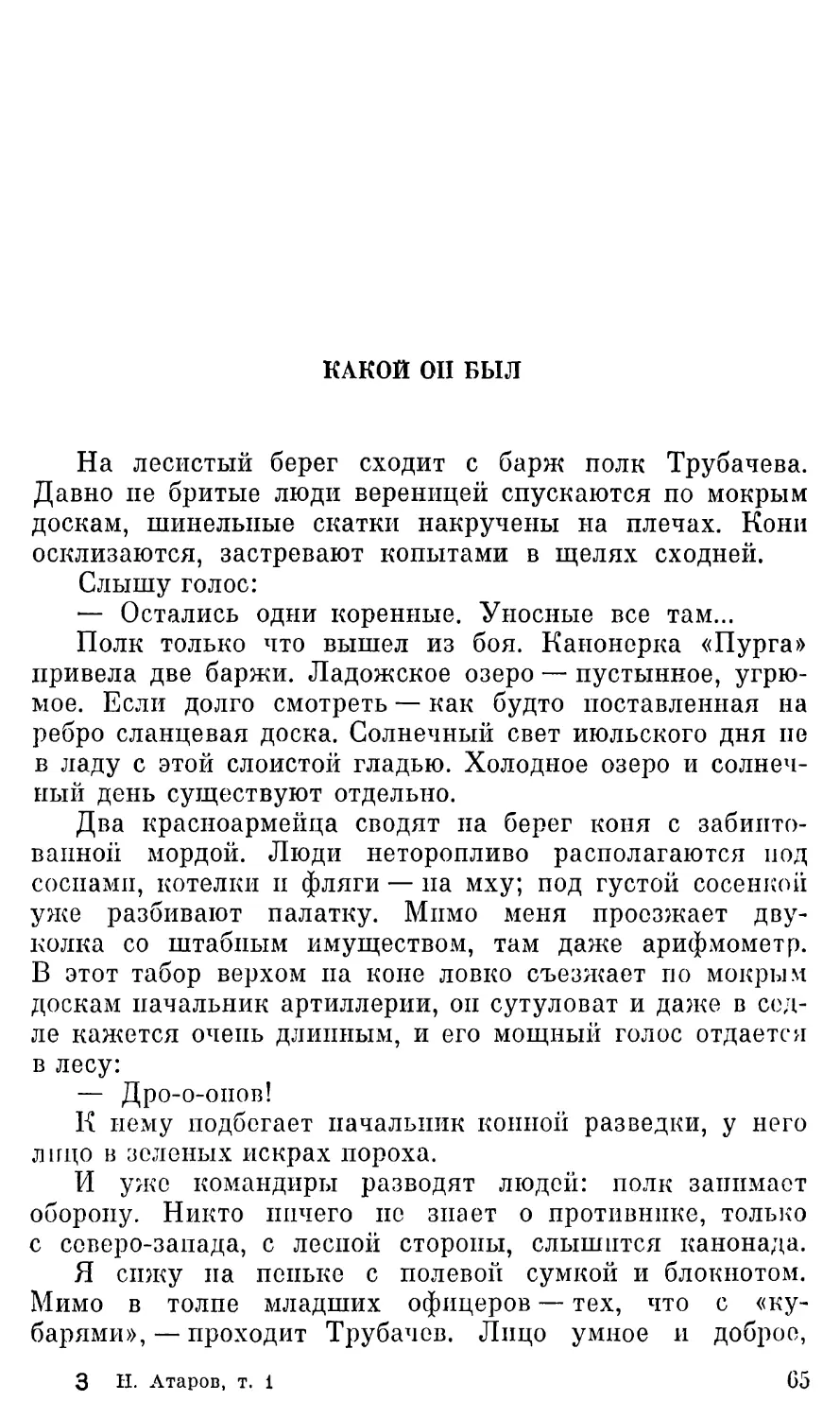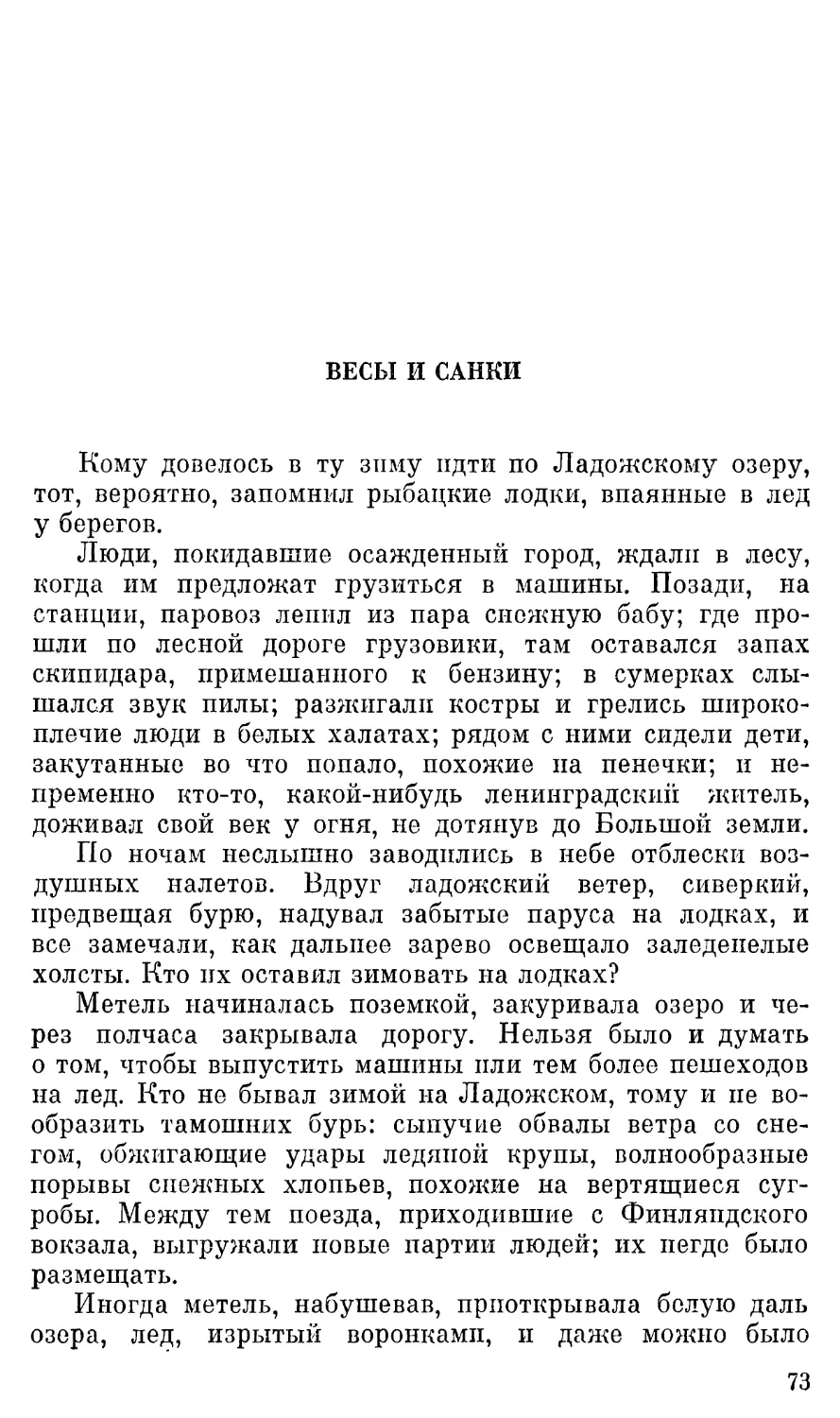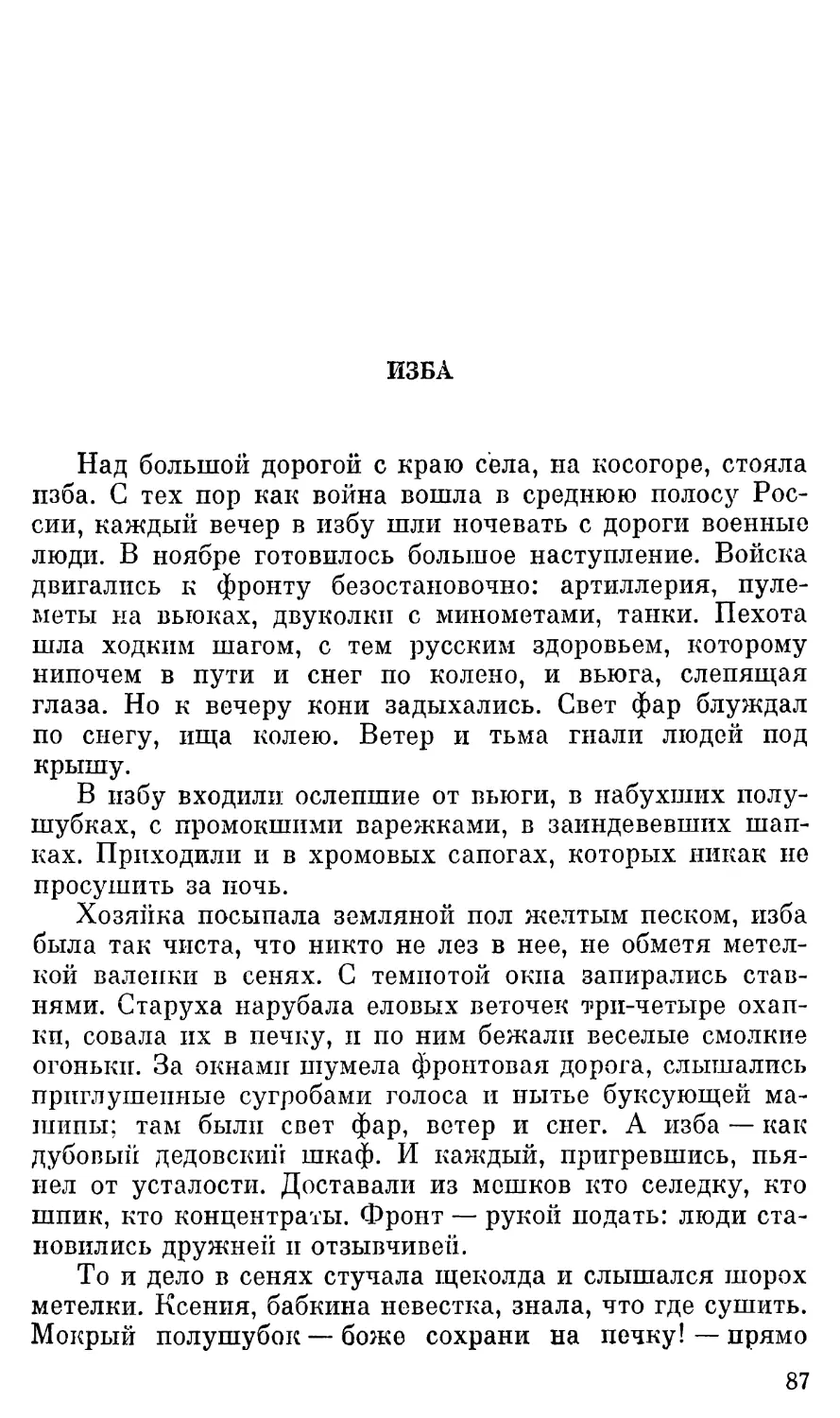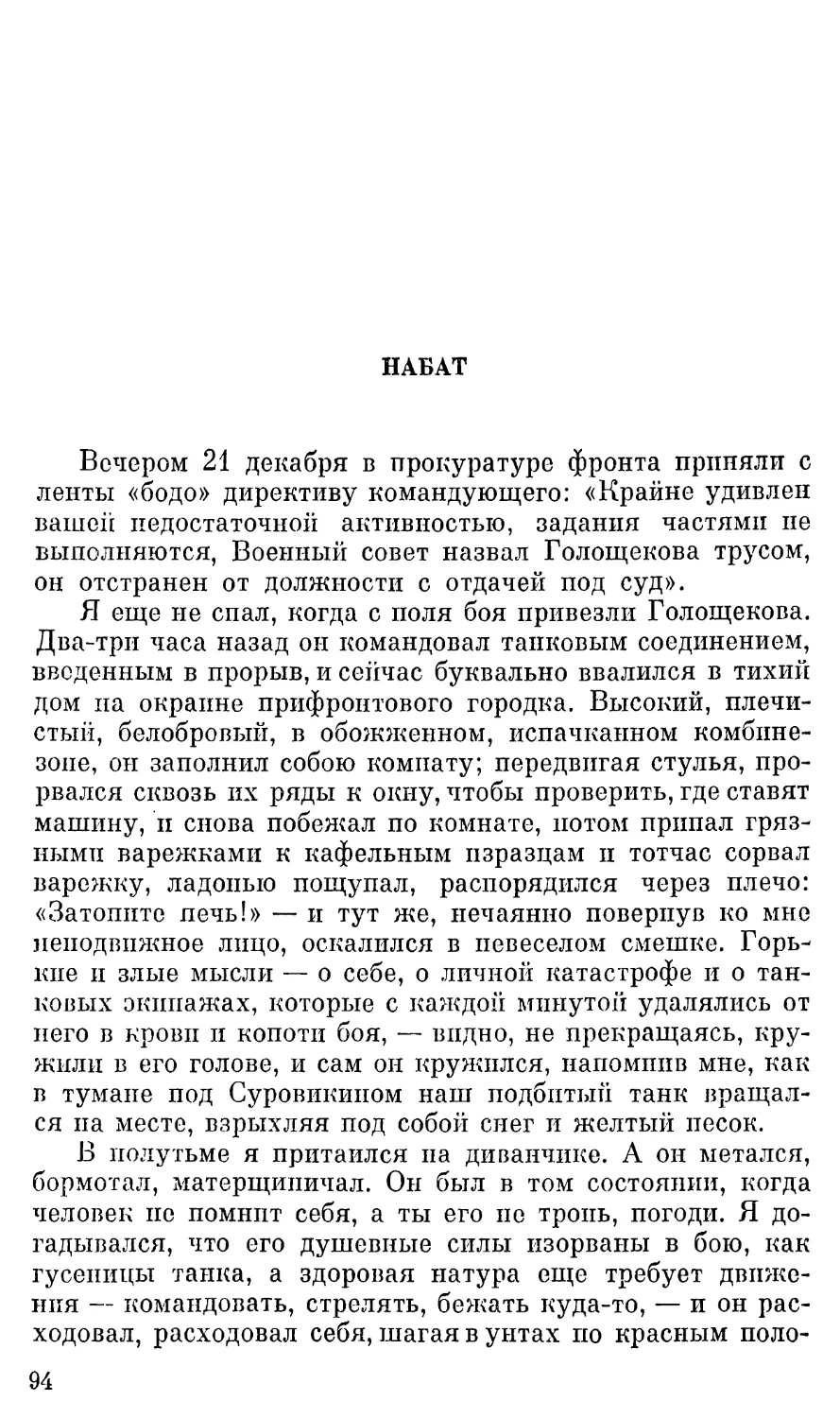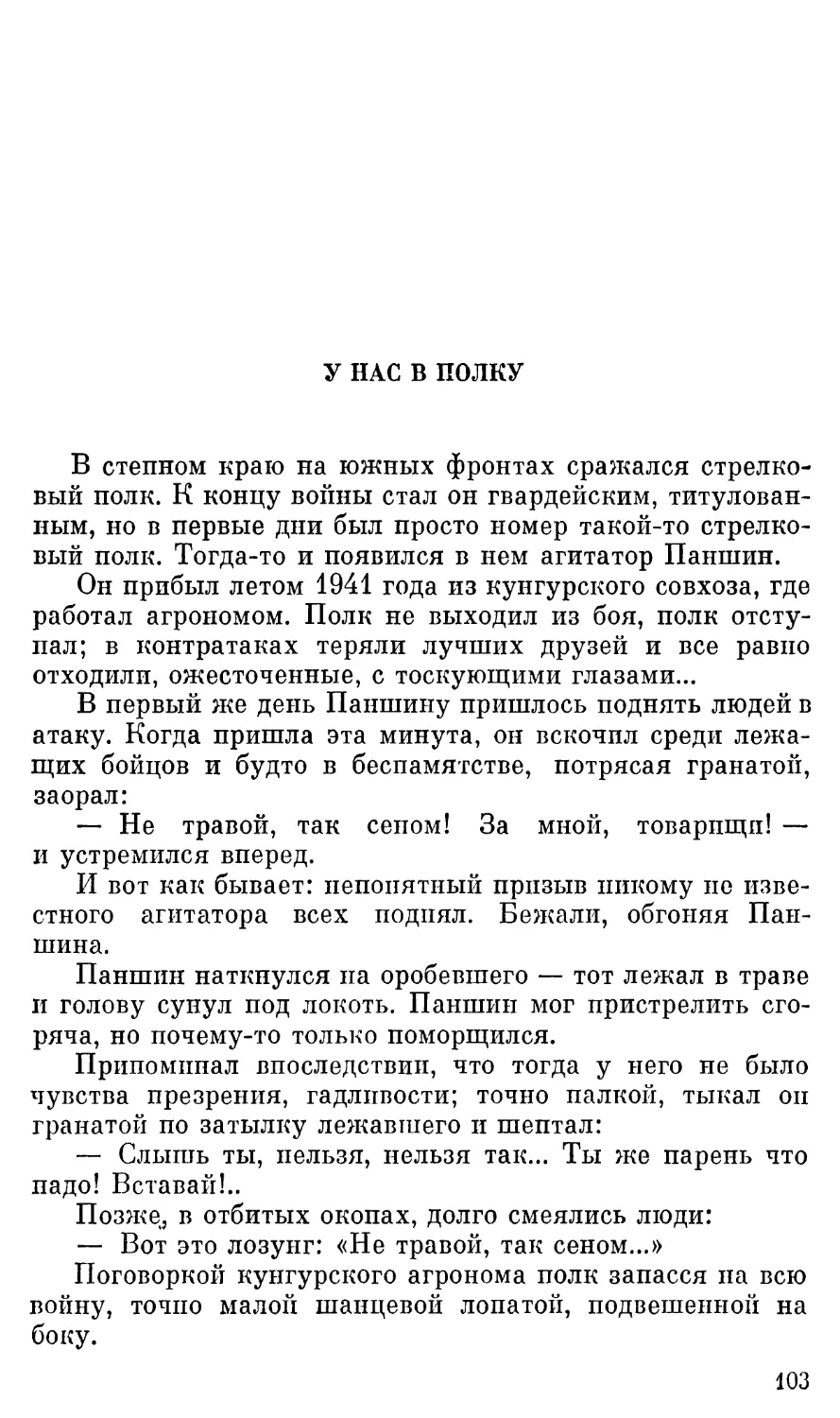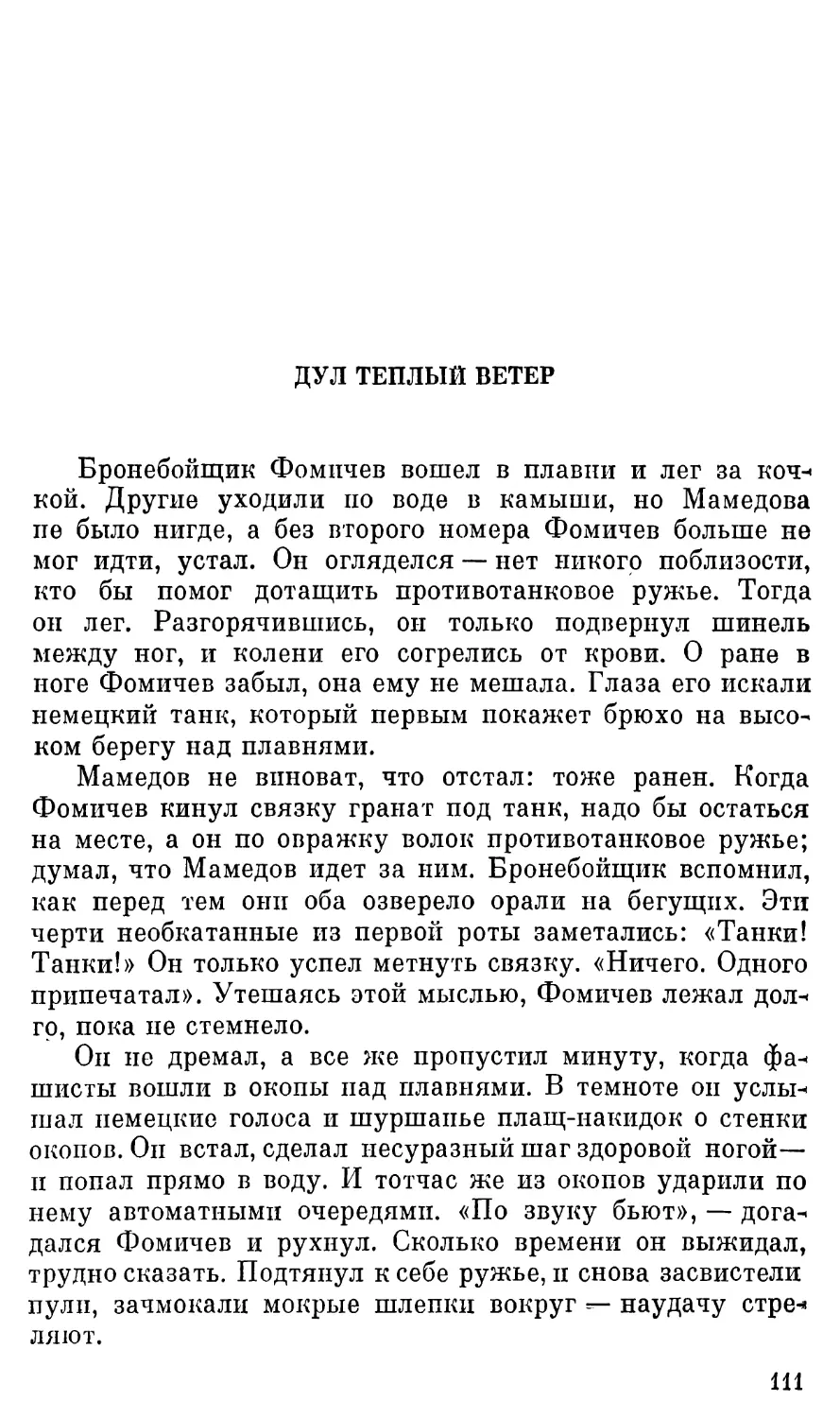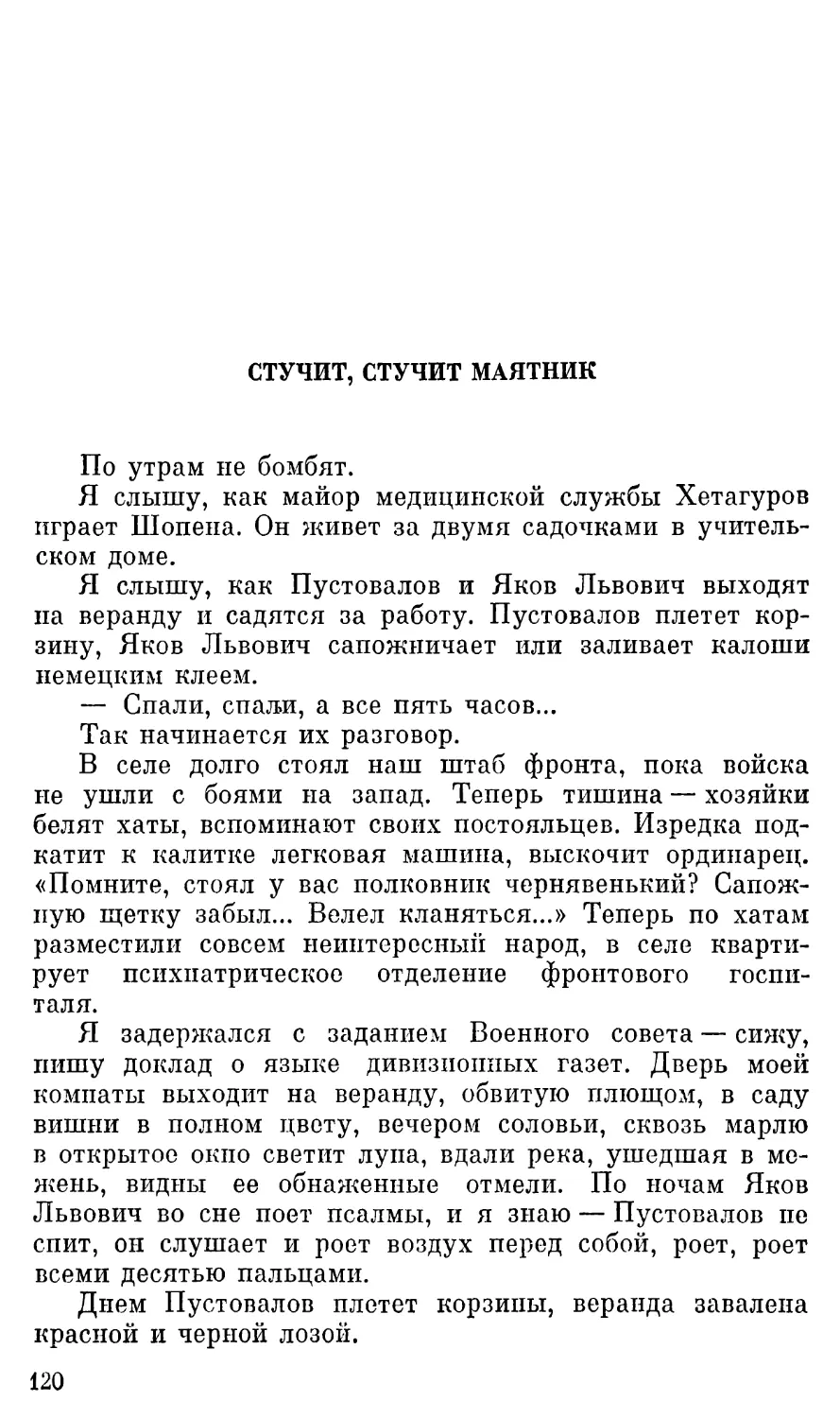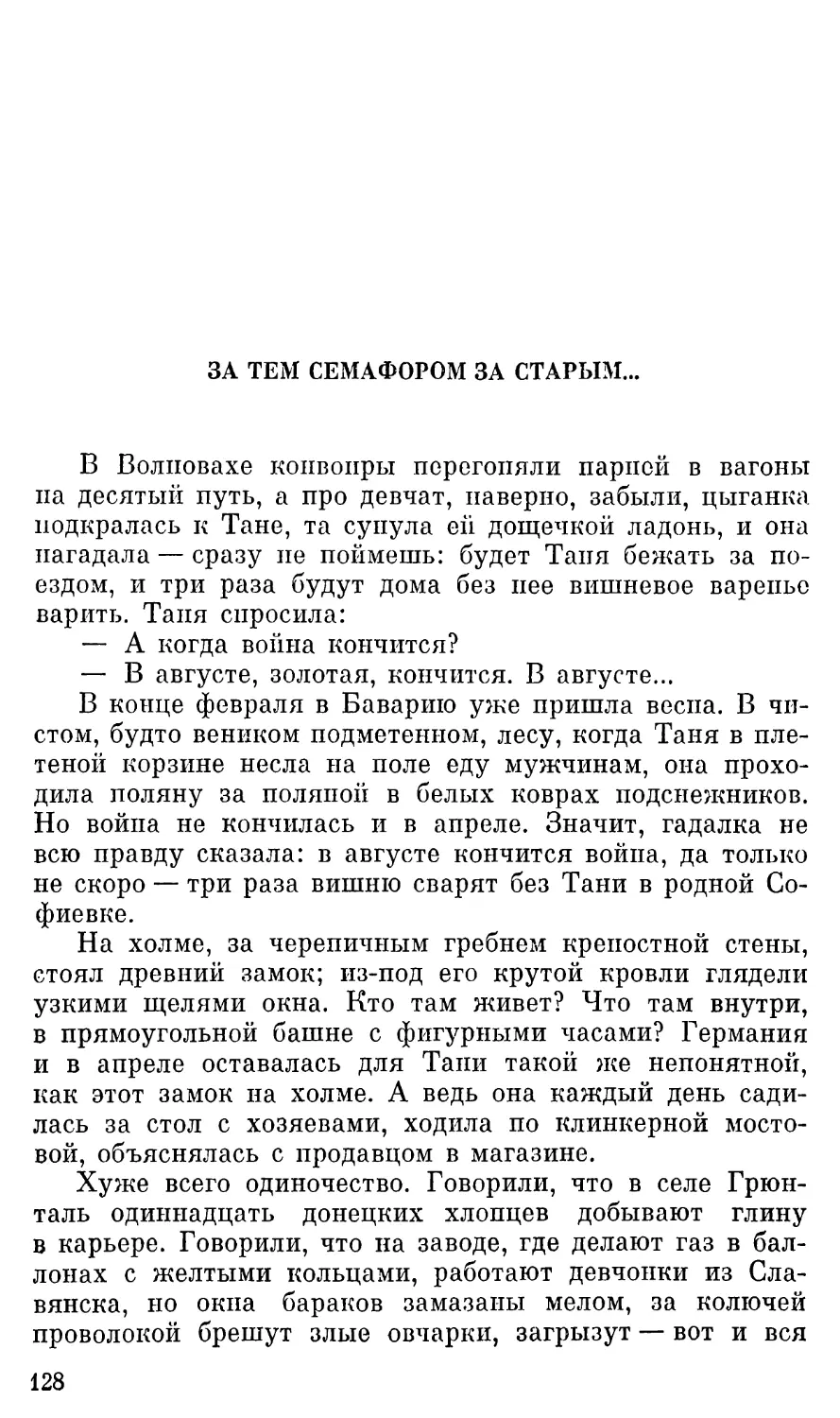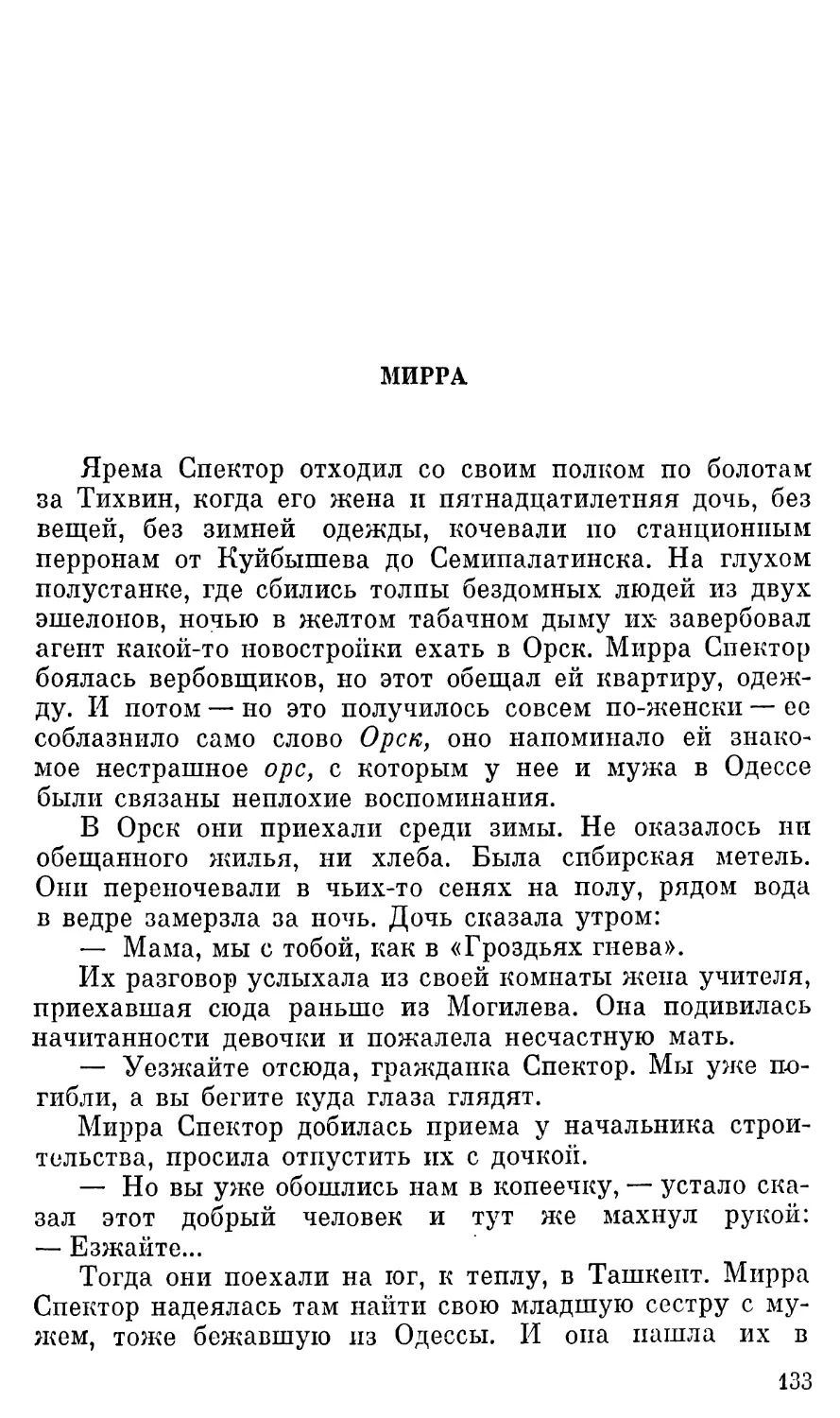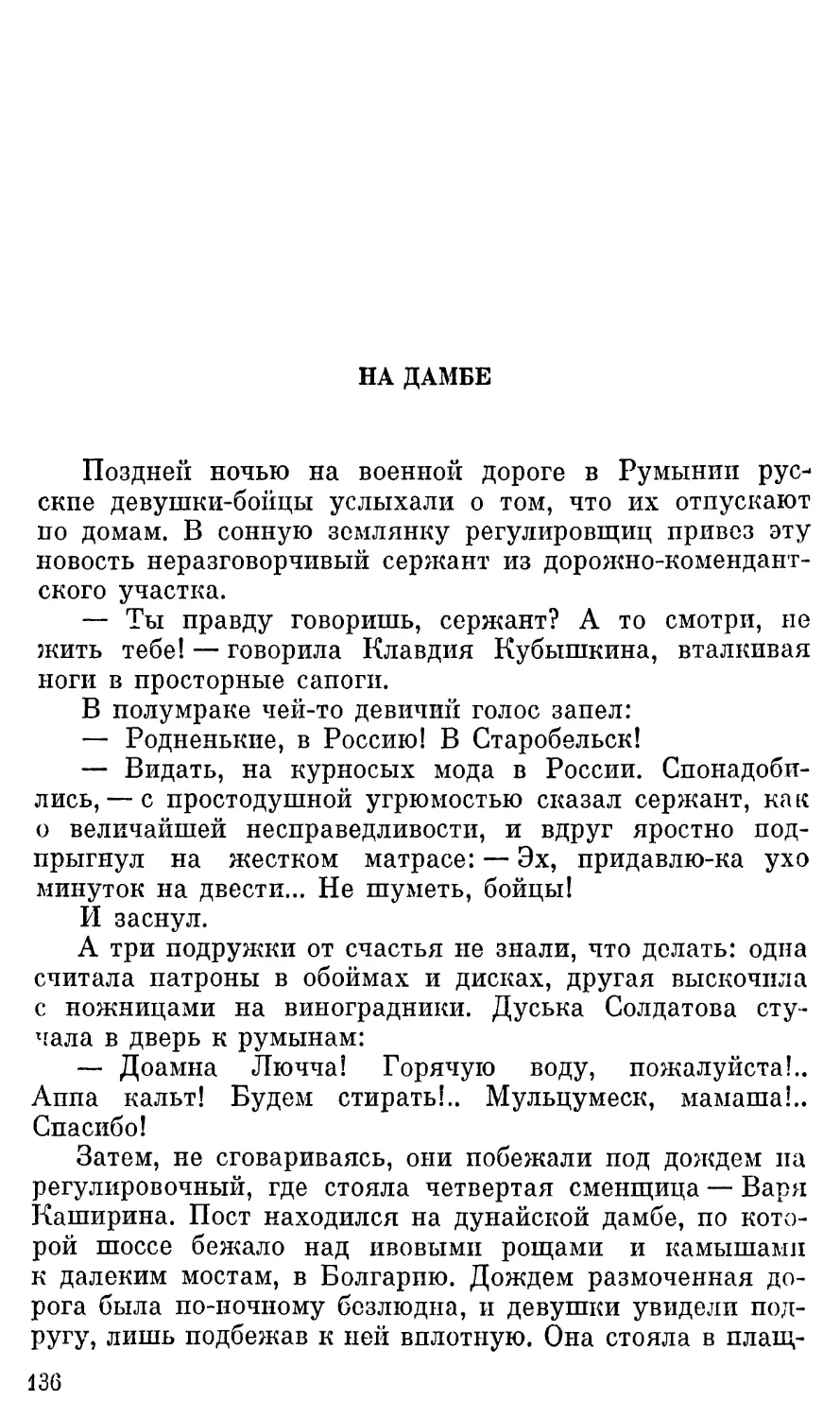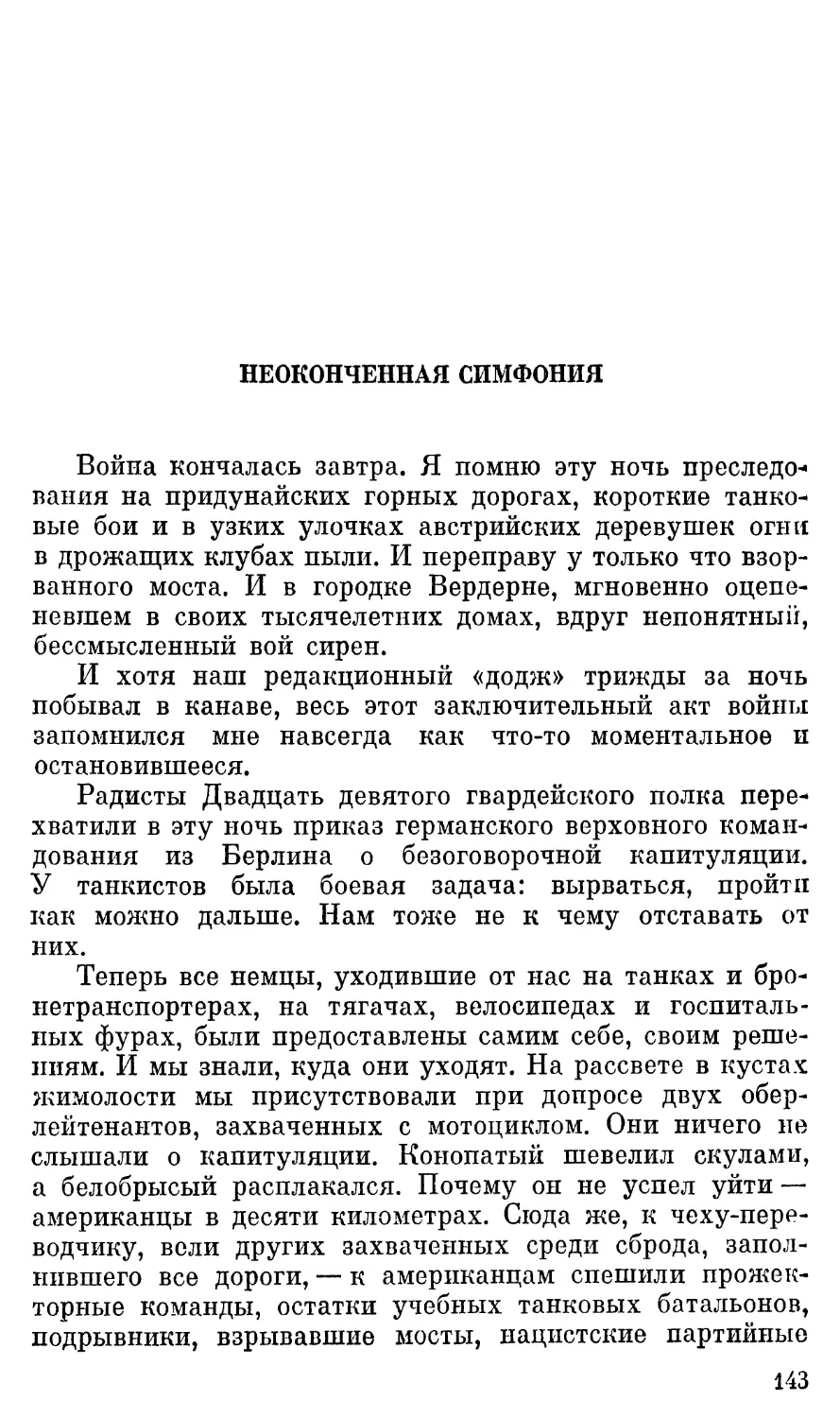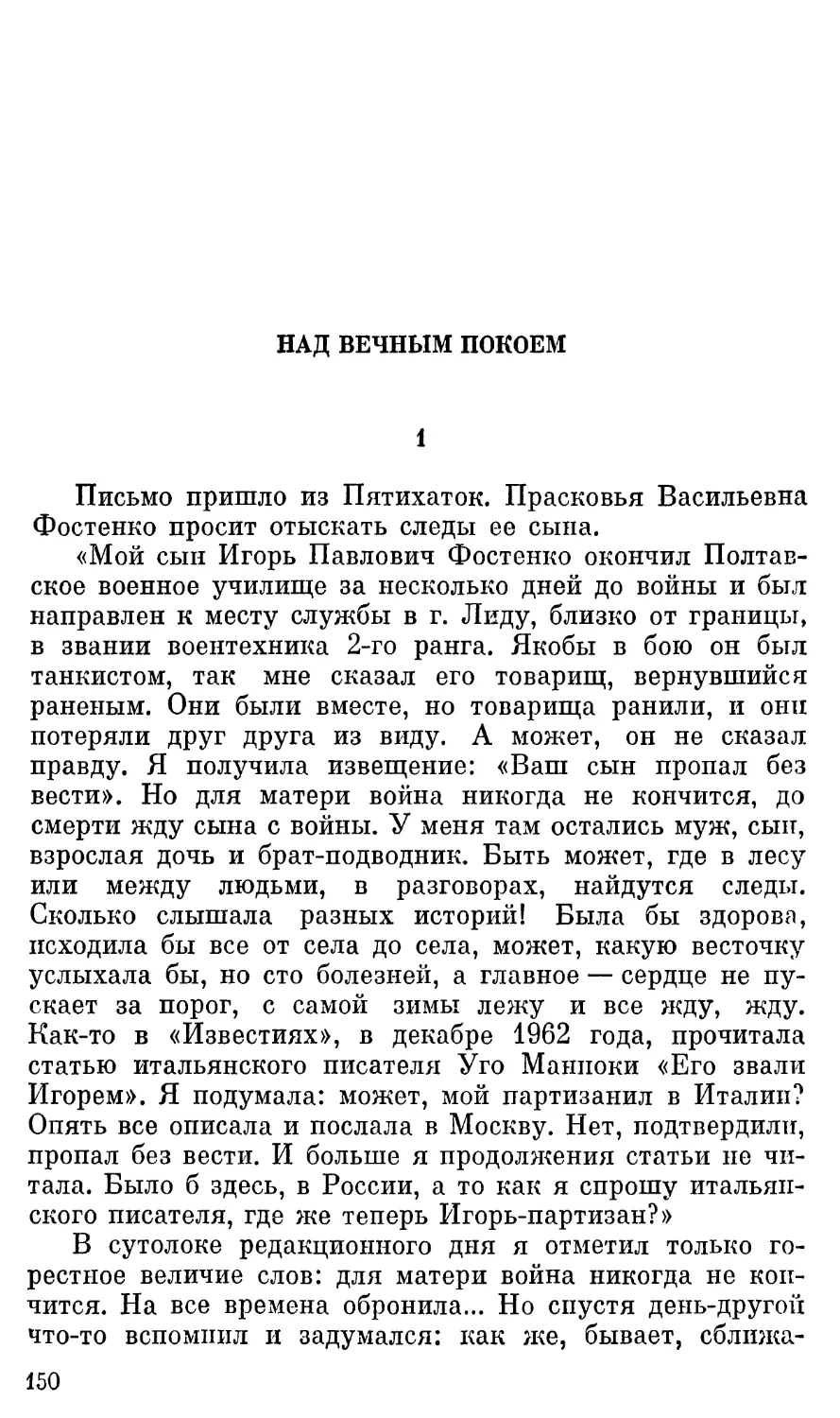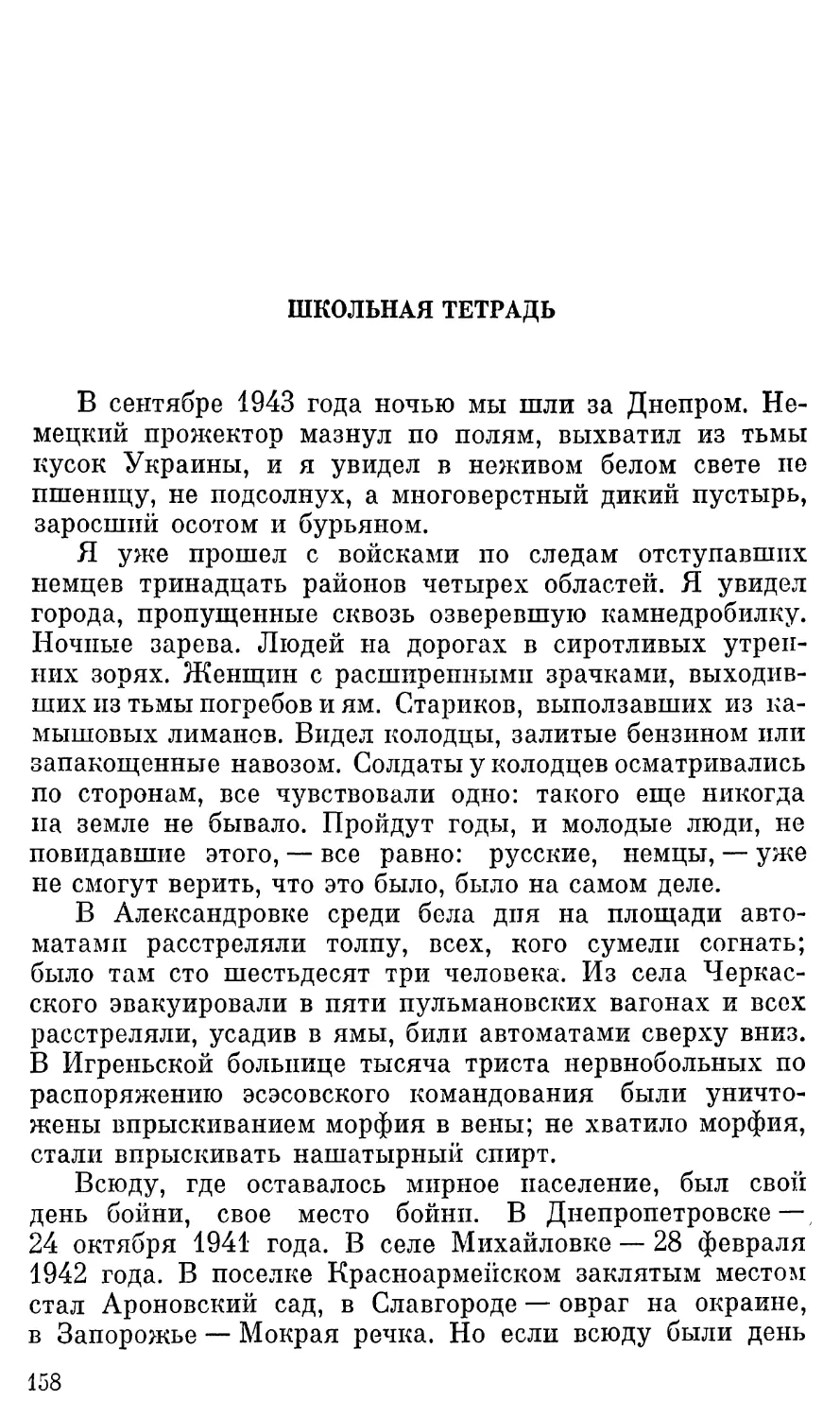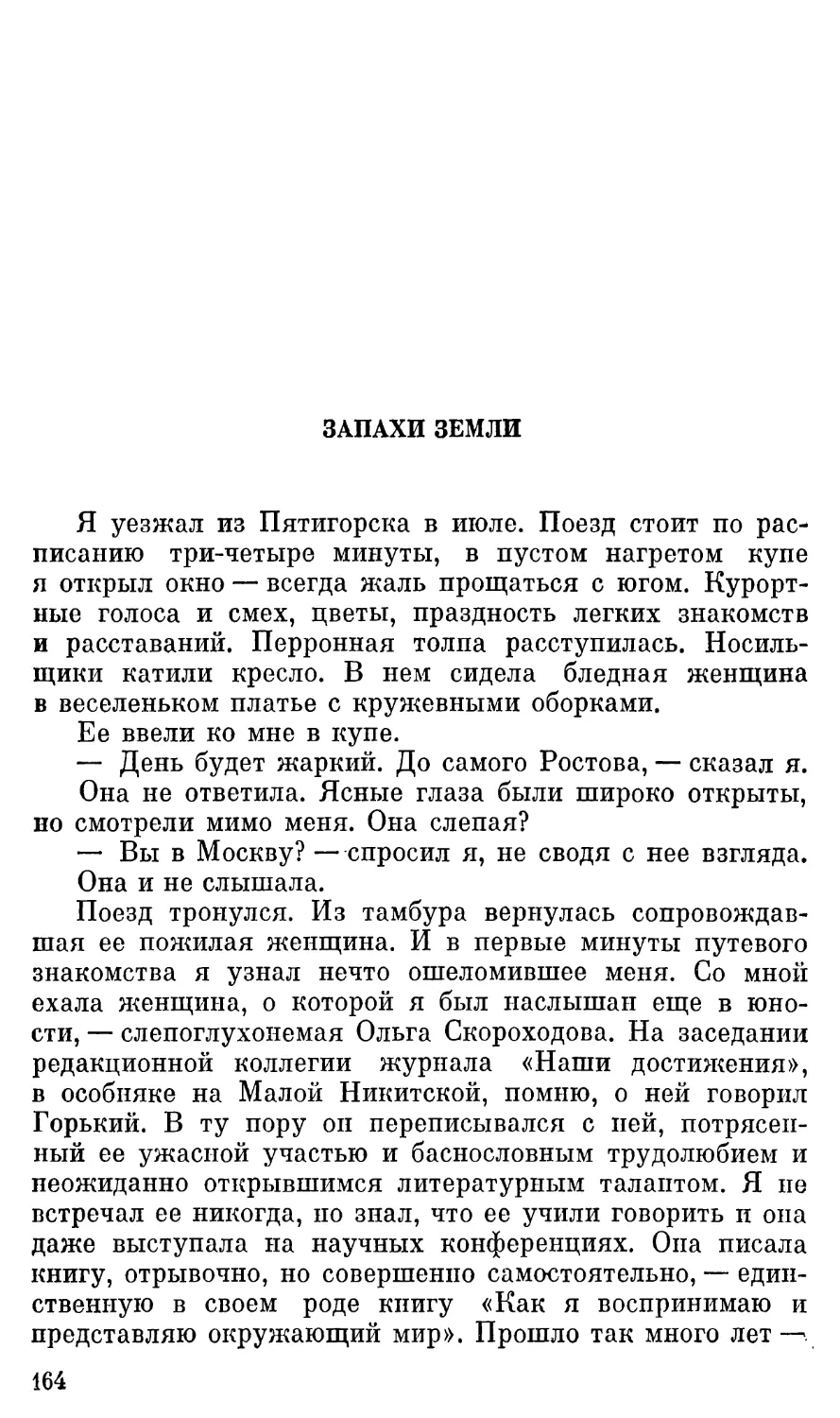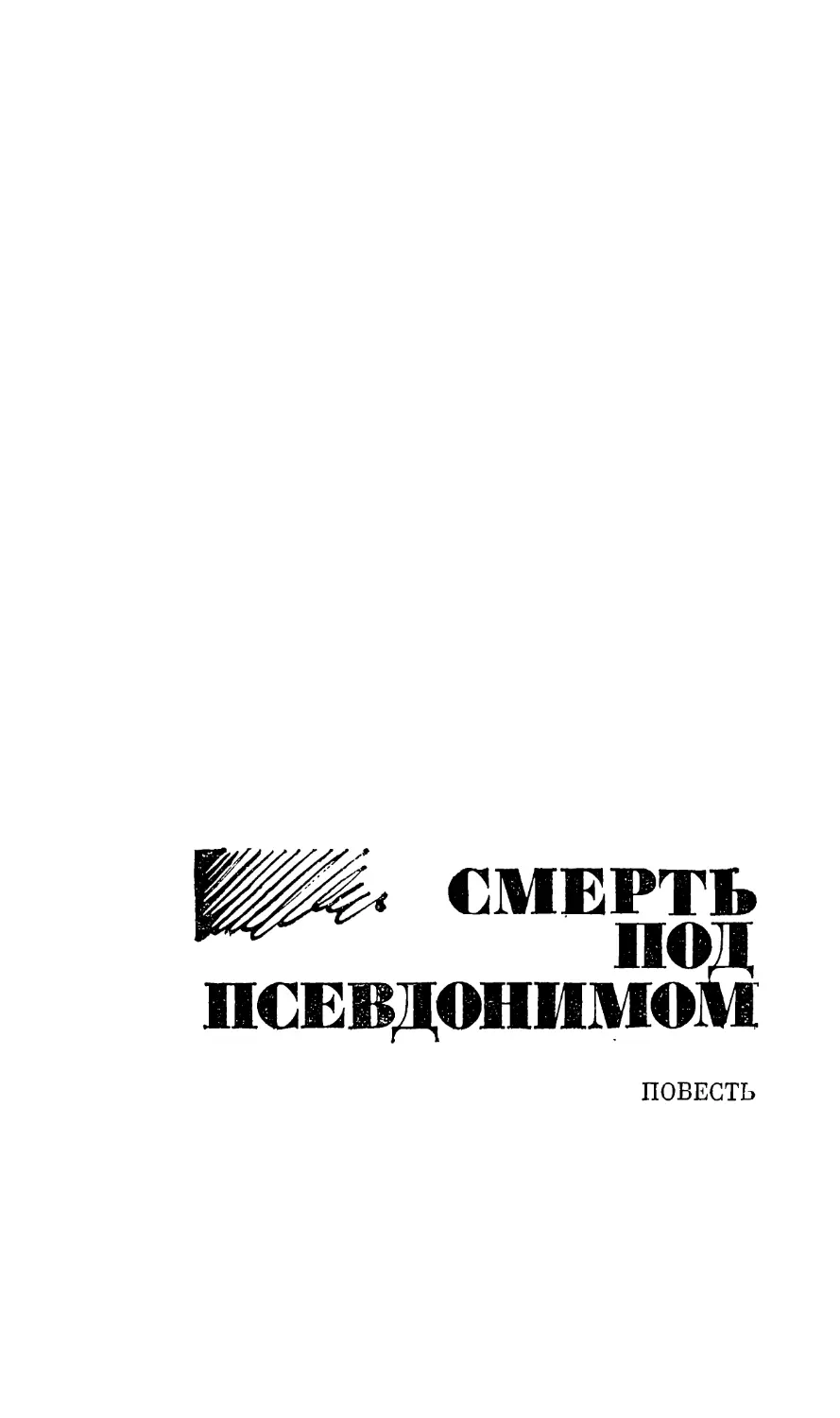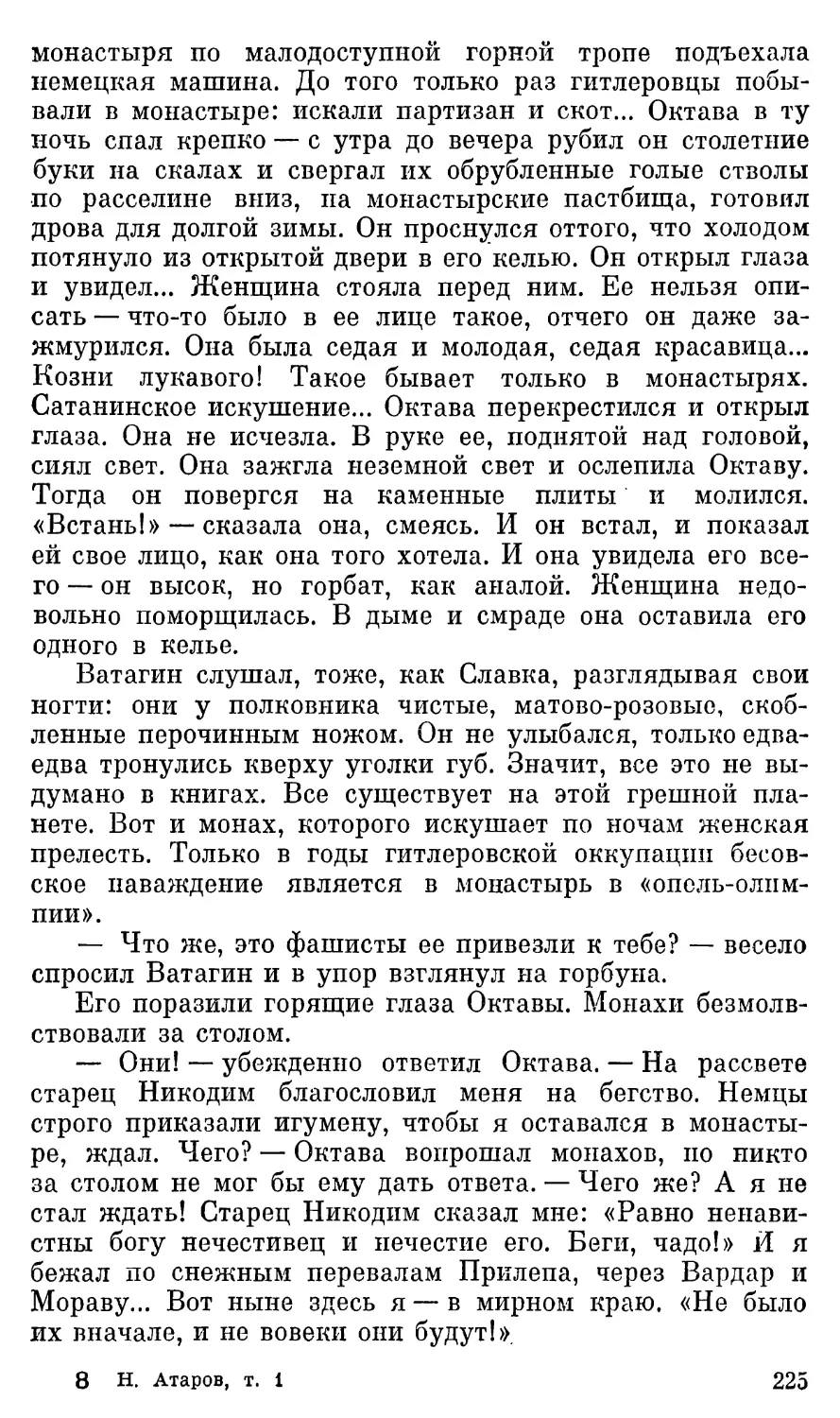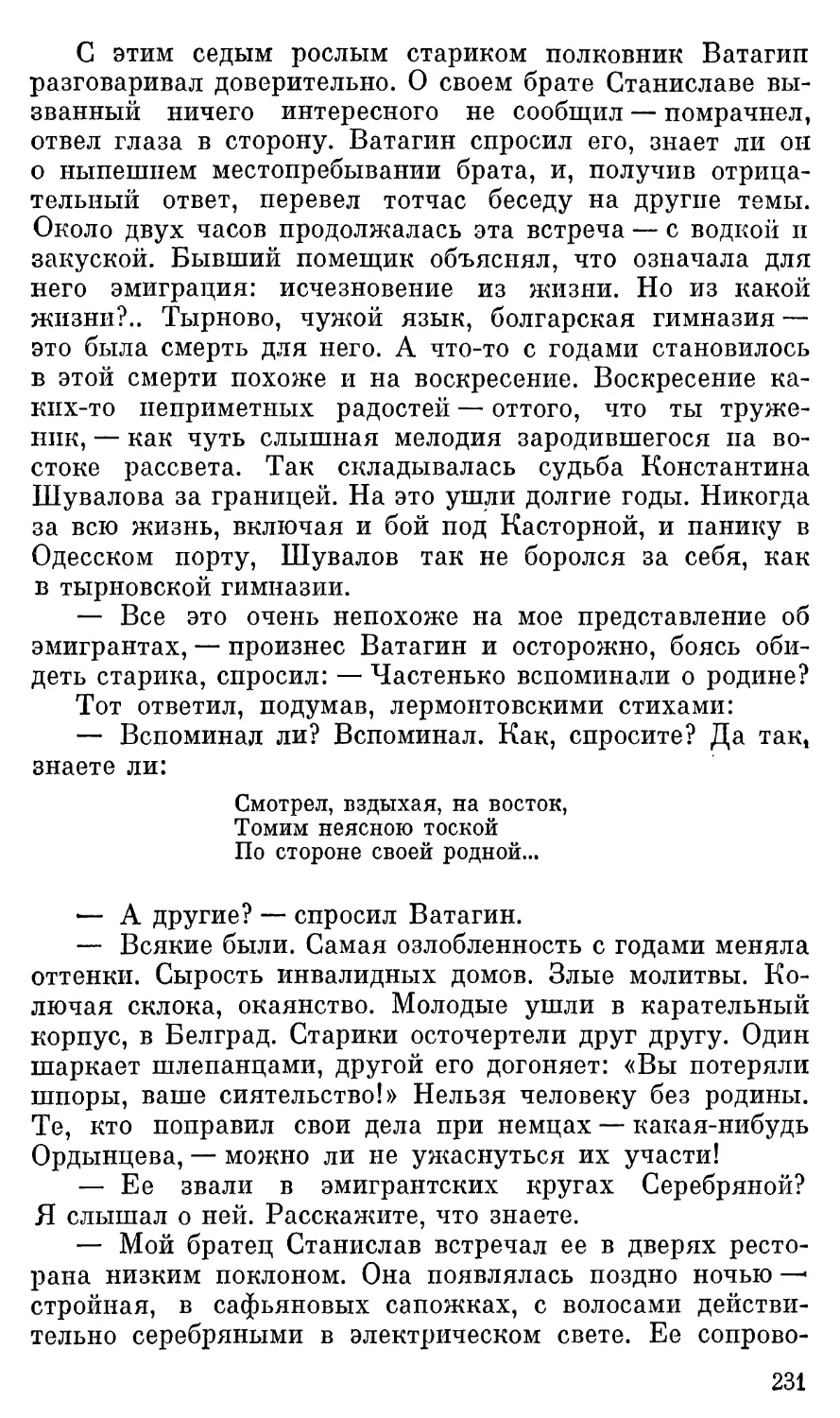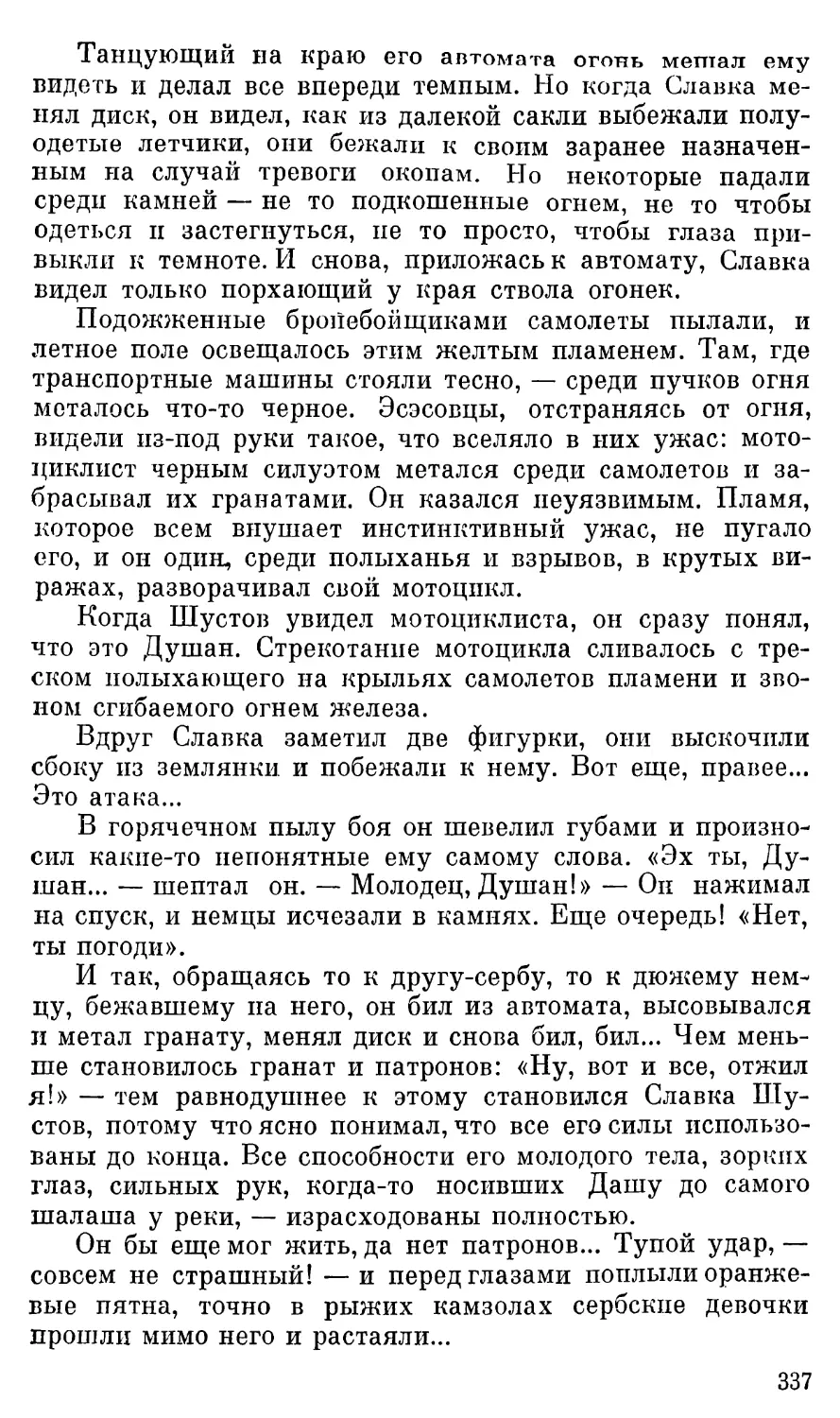Текст
m
НИКОЛАЙ АТАРОВ
ИЗБРАННОЕ
В ДВУХ ТОМАХ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1971
НИКОЛАЙ АГАРОВ
ИЗБРАННОЕ
ТОМ ПЕРВЫЙ
ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ,
ПУБЛИЦИСТИКА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1971
Р2
А92
Вступительная статья
И. ГРИНБЕРГА
Оформление художника
в. КУЛЬКОВА
7—3—2
39-71
РАССКАЗЧИК И ЕГО ГЕРОИ
к 1
На встрече прозаиков, посвященной судьбам современного
рассказа *, Николай Атаров вспоминал героев своих произведе-
ний тридцатых годов. Стараясь определить — в какой мере он
раскрывал себя, свою личность, изображая людей различных про-
фессий, преимущественно старше его самого по возрасту, писа-
тель говорил: «Не было еще мне и тридцати лет, когда я писал
об Алехине— «начальнике малых рек», о докторе Дробышеве из
«Араукарии», о старом Самсоне Бокаеве — из «Зимней свадьбы», о
петербургском фенологе Карагодове из «Календаря русской при-
роды». Мое личное было в выборе характера и судьбы, а то, что
составляет свой собственный душевный опыт, — свое детство, своя
семья, своя судьба, — это необъяснимо хотелось в те годы зарыть
поглубже... Тогда мне казалось, что о людях старше себя пишут
и все другие: старше Юрия Крымова был его Басов из «Танкера
«Дербента», старше Леонида Соловьева — его «возмутитель спо-
койствия», старше Александра Бека — его доменщик Курако.
О себе писали немногие — те, кто имел биографию: Дмитрий Фур-
манов, Николай Островский».
Здесь уловлена диалектика образного творчества, сложность
соотношения меж душевным опытом художника и полнотой, пря-
мотой воплощения, меж нравственным обликом рассказчика и
созданных им героев, меж реальной биографией писателя и жиз-
ненной достоверностью сюжетов, им развернутых, картин, им на-
рисованных...
1 Встреча эта была организована редакцией журнала «Вопросы
литературы», и материалы ее опубликованы в номере седьмом за
1969 год.
5
Успехи, достигнутые писателями, выступавшими в годы пер-
вых, предвоенных пятилеток, определяются именно тем, что они,
отправляясь во все концы Советского Союза — «за материалом», —•
искали и находили отнюдь не «дежурные темы», которые можно
было «воспроизвести» и тотчас забыть, а жизненные явления,
становившиеся частью их творчества, их личности. Тому свиде-
тельство — книги, ими созданные. Яков Ильин нашел на Сталин-
градском тракторном заводе — «Большой конвейер», Александр
Бек на Магнитке и в Кузнецке — «Доменщиков», Сергей Диковскпй
на Дальнем Востоке — «Патриотов», Константин Паустовский
на Мангышлаке — «Кара-Бугаз», Борис Горбатов в Заполярье —
«Обыкновенную Арктику». Перечень этот можно продолжить, и
в нем будет назван Николай Атаров, создатель талантливых
рассказов и повестей, в которых он стремился, по его собствен-
ному признанию, передать «безмерность, многоголосость жизни».
Воплощение жизненной широты становилось насущной, личной
потребностью писателя.
Подобный подход к изображению жизни был отмечен чертою
времени: в ту пору молодым, и не только молодым, писате-
лям мир представлялся «полем небывалой битвы нового со
старым».
Именно эти представления о смысле и целях литературного
труда старался укрепить А. М. Горький в сознании художников,
организуя ряд изданий, в которых освещалось и прошлое нашей
страны, и ее нынешний день. Особенно заботился Алексей Макси-
мович о журнале «Наши достижения», сотрудниками, корреспон-
дентами, авторами которого и были молодые литераторы, вскоре
занявшие заметное место в рядах наших прозаиков.
В статье «О том, как надобпо писать для журнала «Наши
достижения» Горький, естественно, прежде всего определял за-
дачи издания: оно должно было рассказать «о той громадной
стройке, которая повсеместно кипит в нашей стране» Ч И вместе
с тем он характеризовал качества, которые были необходимы
писателям, берущимся за это трудное, ответственное дело:
«Авторам весьма помогло бы в их работе, если бы они попыта-
лись воспитать в себе чувство «дружелюбия» к массе» 1 2. В беседе
с работниками редакции журнала «Наши достижения» Горький
напоминал о цели, перед ними стоящей, о том, как важно пока-
зать людей, «строящих лучшую жизнь с глубоким чувством
ответственности за свою работу перед страной» 3. А затем, в связи
1 М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 25, стр. 59.
2 Т а м же, стр. 60.
3 Та м же, т. 26, стр. 381.
6
с пятилетним «юбилеем» журнала, подчеркивал, что «редакция ра-
ботала и работает с молодежью, которую приходится много и
настойчиво учить» Так, содержательность и действенность жур-
нальных страниц Горький с полным на то основанием постоянно
ставил в прямую и тесную связь с зрелостью — гражданской и
художественной — литераторов, выступавших в «Наших достиже-
ниях». И в самом деле, по свидетельству самих же «достижен-
цев», — как они себя называли! — дружная, слаженная работа
редакции, людей ее окружавших, оставила заметный, добрый
след и в жизни, творчестве каждого из них, и в общем развитии
нашей литературы.
Вот почему с таким хорошим чувством говорит об этом
времени Атаров в «страничке воспоминаний» «Когда мы жили
грядущим днем». Он посвящает эти строки преимущественно
Ивану Катаеву, но не хочет и не может умолчать о тех, кто был
рядом с ним, о жажде постижения стремительно преображав-
шейся действительности, владевшей и опытными мастерами, и
смелыми дебютантами. «Увидеть необыкновенность . происходя-
щего, нагрузить себя правдой исторических перемен... Увидеть
правду, поверить в ее чудо...» — вот желание, порыв, потребность,
ставшая движущей силой писательских судеб, с примечательной
отчетливостью сказавшаяся в годы первых пятилеток.
С той поры произошло многое, расширился опыт художни-
ков — ведь они прошли через войну! Новые возможности и перспек-
тивы открылись перед писателями. Но подлинные открытия, сде-
ланные в тридцатых годах, не утратили своего значения; от них
тянется нить к сегодняшним поискам и трудам. Ее остро ощуща-
ют все чуткие, умные мастера нашей литературы. К. Г. Паустов-
ский писал в статье «Через тридцать лет»: «Люди «Наших дости-
жений» (этот термин будет более правильным, чем если бы я
сказал — сотрудники «Наших достижений») были горячо и глу-
боко преданы своей стране, ее литературе, своему народу, влюб-
лены в леса, степи, в великие протяжения, в развитие новой
страны, в неслыханное разнообразие ее людских, природных и
культурных богатств... и «Наши достижения» сыграли значитель-
ную роль в воспитании подлинно писательских характеров и пи-
сательской силы.
Выучка Алексея Максимовича дала свои плоды. До сих пор
опа видна среди тех, кто ее прошел. Школа Горького исключает
прислужничество, делячество, низкопоклонство и ложь» («Лит,
газ.», 1966, 18 июня).
1 М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 27, стр. 143.
7
Жизнь движется. Разумеется, происходит смена не только
мотивов, сюжетов, действующих лиц, но и писательских умо-
настроений, взглядов, склонностей. Здесь дают себя знать и тре-
бования времени, и становление писательской индивидуальности.
Но никогда почти не бывает так, чтобы при этом пропадали,
бесследно забывались прежние находки, начальные пристрастия,
исходные успехи.
В сороковых, пятидесятых, шестидесятых годах в рассказы
п повести Атарова вступают новые герои, его публицистика обо-
гащается новыми и новыми вопросами. Но в этих переменах есть
свое постоянство. И сам писатель, стараясь определить «направ-
ление главного удара» своей прозы, видит его в теме доверия —
доверия к человеку, к зрелому гражданину и ребенку... Тема эта
раскрывается многогранно и разносторонне, и общественный тем-
перамент публициста здесь естественно соединяется с новелли-
стическим мастерством рассказчика, строгость и ясность нрав-
ственных критериев с живым ощущением поэзии реального.
Здесь нет и не должно быть повторений, потому что с течением
времени возникают обстоятельства прежде неизвестные и писа-
тель идет навстречу им, находит здесь опору для ранее ему
недоступных образных решений, для постижения человеческих
отношений, дотоле им не обнаруженных. Так складывается
биография писателя, чувствующего себя причастным к жизне-
строительству и нашедшего в том свое призвание.
2
Вспоминая людей разных профессий, но объединенных нерав-
нодушием, любовью к своему делу, Атаров рассказывает о Дмит-
рии Дебабове, известном в предвоенные годы фоторепортере. Этот
ловкий и неутомимый искатель новостей, который более всего
дорожил оперативностью отклика да свежестью ракурса, на
открытии Турксиба — одной из знаменитейших строек первой
пятилетки — вдруг испытал неведомое ему доселе острое чувство,
принял в сердце окружающую его действительность. После этого
он уже никогда пе мог глядеть на окружающий его мир взглядом
«узкого специалиста», служителя своего ремесла, и только. Деба-
бов теперь размышлял, философствовал, постигал связь событий,
им улавливаемых.
Заканчивая свой рассказ, Атаров поясняет, почему так на-
стойчиво наблюдал он за Дебабовым: «Мне важно было знать,
как рождалось во мне самом чувство родины, как становился
художником человек моего поколения».
8
Наблюдая за своим героем, писатель стремился осмыслить
путь, пройденный им самим. В самом деле, — о. росте художника
можно лучше всего судить по образам, им созданным.
Одним из первых произведений Атарова, привлекших внима-
ние литературной общественности, была . повесть «Начальник
малых рек». Здесь действовали живущий и работающий в «глу-
бинке», но широко мыслящий Алехин и приезжий москвич Ту-
ров, думающий, однако же, совсем но но-столичному. Они про-
тивостояли друг другу, и симпатии писателя были отданы, как и
следовало ожидать, серьезному, принципиальному Алехину.
Вокруг повести шли споры, и их участники — средн них был
и пишущий эти строки — более всего говорили о столкновении
людей «центра» и «периферии». Подобное противопоставление
казалось излишне прямолинейным, в нем таилась некоторая доля
нарочитости, умышленности.
Однако, перечитывая эту повесть сейчас, оцениваешь ее по-
иному, видишь, что Алехина и Турова разделяет нечто более
глубокое и значительное. Перед нами два работника, два чело-
века, по-разному живущие, мыслящие, чувствующие. И главным,
решающим в их облике оказывается отношение к труду.
Алехин в малых реках, русло которых он очищает, обнару-
жил «залежи государственного значения», «черный дуб — дорогое
отделочное дерево», и поднял тревогу, сообщил в центр о своем
открытии. Инспектор московской лесоэкспортной конторы, дерево-
обделочный мастер Туров, приехал в командировку, чтобы уста-
новить ценность этой находки. Приехал неохотно, опасаясь
всяческих неудобств и лишений, а затем убедился в том, что и
здесь можно провести недурно несколько дней, наслаждаясь хо-
рошим воздухом и гостеприимством местных жителей. Попутно
он выполнил полученное им поручение и убедился в том, что
Алехин прав в своих предположениях.
Казалось бы, все шло как нельзя более благополучно.
И, однако же, отношения между главными действующими лицами
становились все более натянутыми — Туров старался получить
как можно больше удовольствий, впрочем весьма невинных, —
этакий гедонист и эпикуреец малого масштаба. Именно это и
раздражает Алехина. Его страстное отношение к труду не терпит
соседства чего бы то ни было не относящегося к делу.
Вот смысл и суть различия, которое разделило двух людей,
волею судеб оказавшихся связанными, хотя бы и ненадолго.
Пожалуй, важнее всего то, что и Турова, еще недавно заня-
того всякими приятными пустяками, в конце концов охватывает
волнение, очень близкое к тому, которое стало постоянным со-
стоянием Алехина, — волнение работника, любящего и знающего
9
свое дело. Осматривая стволы, вытащенные из реки, ощупывая
их и переворачивая, мастер полон чувства, «которого он давно
не испытывал». «Он работал сейчас», — пишет Атаров. И в этих
словах точно определена мощная, добрая сила, которая поднимает,
укрепляет людей, изображенных в повести, и которую более всего
ценит сам рассказчик, — сила воодушевленного, осмысленного
труда.
Впоследствии, в предисловии к сборнику «Твое доброе имя»,
Атаров писал о том, что, беседуя со слесарями и комбайнерами,
ткачихами и малярами, он узнавал, как приходила к ним «первая
радость труда», как им «будто заново открывался смысл профес-
сии, постигалась душа мастерства».
Строки эти написаны в шестидесятых годах, но уже в своих
предвоенных рассказах писатель преследовал те же цели, так же
находил источник вдохновения в делах и чувствах людей творче-
ского труда.
Он обращался не к количественным показателям, не к техно-
логии труда, а к мотивам трудового рвения, к побуждениям и
переживаниям работников, к их душевной жизни, и оттого в его
рассказах работа таит нравственную силу и поэтическое обаяние,
о людях какой бы профессии здесь ни шла речь. Таков и старо-
служащий солдат («Старшина Баженов»), и знаменитый ученый
Карагодов из «Календаря русской природы».
Рассказ этот — одно из лучших произведений Атарова. Дей-
ствие его происходит в конце гражданской войны, и писателю
удалось здесь найти в самой действительности основу для раз-
вернутой метафоры — смелой и вместе с тем вполне достоверной,
естественно охватывающей, вбирающей большое жизненное со-
держание. Он сблизил два ряда фактов, разнородные и, однако же,
совпавшие: вести о природе, пробуждающейся от зимней спячки,
п сообщения с фронтов, говорящие об освобождении страны от
белогвардейцев и интервентов. Так возникает образ торжествую-
щей, наступающей весны — и природной, и общественной, со-
циальной, образ, в котором нет ничего аллегорического, услов-
ного, потому что он складывается из деталей жизненных, подчас
даже документальных.
3
В годы Великой Отечественной войны свой писательский долг
с честью выполнили и те литераторы, что были раньше связаны
своим творчеством с жизнью нашей армии, и те, что пришли
в ее ряды в годину тревог вместе со своими героями, сменившими
10
трактор или станок на винтовку, пулемет, противотанковое ружье.
Прозаики, поэты, драматурги, очеркисты умножили свой граж-
данский, писательский опыт, и вместе с тем рост их был орга-
ничен и последователен, имел своей основой образы и мотивы,
ранее созданные и освоенные.
Так было и с Атаровым. Герои его военных рассказов дей-
ствуют и мыслят как мастера своего дела, сознающие свою ответ-
ственность. Так увлеченно работает человек, имеющий особую
воинскую специальность, — агитатор Паншин, изображенный в
двух рассказах: «У нас в полку» и «Дул теплый ветер». Профес-
сия его требует высокого и тонкого искусства: он имеет дело
с человеческими душами. Постепенно и к нему приходит мастер-
ство: «Он знал самое главное: разговаривал с бойцами, как
с людьми, которые все сами понимают». Атаров подчеркивает
принципиальную ценность, действенность доверия, которое вос-
питатель оказывает тем, кого он призван обучать, просвещать,
воспитывать. Запомним эту позицию писателя; он остался верен
ей и впоследствии.
Справедливость взглядов и подходов Паншина в рассказе
«Дул теплый ветер» подтверждена как бы отраженно — судьбой
другого человека: к бронебойщику Фомичеву, которому пришлось
долгими часами одиноко лежать в талом снегу, в ледяной воде,
добирается Паншин, и сказанные им искренние душевные слова
оказываются будто линией связи, что соединяет бойца со всей
армией, с тем великим целым, без которого он и не может суще-
ствовать. И снова Фомичев «был уже не одинок за своей болот-
ной кочкой: он лежал в многолюдном мире и готов был и дальше,
сколько сил хватит, воевать, лишь бы победить вместе со всеми.
А всех-то был целый мир за спиной!»
Чувство, вспыхнувшее в сердце бойца, укрепившее его, —
вот наивысшая оценка работы агитатора Паншина.
Раньше Атаров изображал людей мирного труда, освещал
нравственный смысл их усилий; так же поступает он и теперь,
рассказывая о воюющих людях. Это и позволяет ему проникать
в самую сердцевину событий.
В одном из рассказов об осажденном Ленинграде (именно
здесь началась воинская биография Атарова, впоследствии он
был направлен на Южный фронт и отсюда попал на Балканы),
в «Рассказе о ручном фонарике», желание писателя проникнуть
в «тайны» войны как бы вынесено наружу, определяет тон, поря-
док изложения. Вводные строки говорят о недоумении гитлеров-
цев, подошедших вплотную к Ленинграду и остановленных,
вбитых в землю на его окраинах. «Врагам нужно было понять,
что там делается». Ответа они так и не получают. Но своим чита-
11
телям рассказчик, находившийся в блокированном Ленинграде,
открывает причины, истоки нашей победы. Для этого ему доста-
точно лишь проследить путь, пройденный в трудные дни блокады
Кимом Ржановым. Стойкость, выдержка, отвага ленинградского
мальчика поразительны, но эти качества свойственны всем, с кем
он имеет дело, — бесстрашному разведчику Худько и тишай-
шей кондукторше тете Паше. Познакомившись с ними, убе-
дившись в их нравственной силе, отчетливо видишь, почему
гитлеровцы были разбиты под стенами города, «в который так
и не удалось им заглянуть, чтобы понять, почему он не
сдался!».
Пять лет спустя, уже после окончания войны, писатель опять
обратился к наблюдениям той поры — стремление органическое
н, как мы увидим, не однажды осуществленное! Теперь — в рас-
сказе «Весы и санки» — он был далек от каких-либо комментариев
н отступлений, предоставляя людям п событиям самим говорить
за себя. А они были и в самом деле как нельзя более красно-
речивы и драматичны. На замерзшем Ладожском озере, на зна-
менитой «дороге жизни», лицом к лицу столкнулись два типа
людей: хищник-мешочник, тянущий в голодающий город санки
с продуктами, чтобы выменять их на драгоценности, и бойцы,
истощенные до предела, верные своему долгу. Жулик пытается
подкупить их едою, тем, что было тогда всего желаннее и дороже,
но они без колебаний отвергают искушение... Такова самая суть
рассказа, подтверждаемая, подкрепляемая каждой репликой дей-
ствующих лиц, каждой подробностью обстановки. Все здесь
взаимосвязано: характеристики бойцов и их командира сержанта
Семушкина, черты невероятного осадного быта, сочувствие, с ко-
торым изнуренные люди толкуют об «отце», идущем с продоволь-
ствием к бедствующей своей семье, отвращение к этому «саноч-
нику», оказавшемуся спекулянтом. «Буду актировать», — твердо
отводит Семушкин все уговоры мешочника Алалыкина, и эти
«канцелярские» слова звучат торжественно, возвышенно. Ведь и
в самом деле, перед нами вершится дело тем более благородное,
что оно оказывается нормой, правилом для всех участников.
«Не знаю, увижу ли я когда-нибудь в жизни доверие, более
открытое и яспое, чем то, с каким мы оставляли Семушкина
с Алалыкпным и горкой оттаявшего хлеба», — говорит рас-
сказчик, и это чуть ли не единственное его «вмешательство» —
впрочем, ведь и он участник происходящих событий, и слова, им
произнесенные, оттеняют душевное могущество рядовых защит-
ников Ленинграда, крепость их соединяющих нравственных
связей.
12
Так, из-под пера Атарова появились рассказы различного
склада: по-очерковому густо насыщенные реальными армейскими
биографиями, соединяющие публицистическую остроту с непо-
средственностью сердечного отклика, имеющие своей основой
напряженность сюжета. Все это как нельзя отчетливей вырази-
лось в рассказе «Изба».
«Ветер и тьма гнали людей под крышу», и «каждый вечер
в избу шли ночевать с дороги военные люди». Естественны и
человечны отношения, завязывающиеся меж хозяйками избы —
старухой и Ксенией, ее невесткой, — и бесчисленными постояль-
цами разных чинов, званий, национальностей. Самая мимолет-
ность этих встреч позволяет с особенной остротой ощутить
неодолимую потребность военных людей в душевном общении,
в сердечности, ласке, нежности.
Это та самая черта, о которой хорошо сказал Алексей Сурков,
в одном из стихотворений, написанных на фронте: «Нашу неж-
ность злоба не выжжет, если в сердце любовь цветет».
«Так шло время», — пишет Атаров. И, быстро накапливая
экономно, сжато очерченные переживания, встречи, судьбы, ре-
шительно подходит к финалу... Уже ушел, отодвинулся фронт,
опустела изба, и с чувством тревоги, теперь радостной, старая
хозяйка избы вышла во двор, под ночное, звездное небо. «Так
высоко она стояла на косогоре, над опустевшей дорогой, у порога
избы, что, казалось ей, крикни — и голос полетит по всей земле...»
Символична эта картина, исполненная широты, простора, но и
вполне реальна. Отсюда и обаяние рассказа, в котором так просто
и искусно соединены точная характеристика прифронтового,
подвижного, стремительного обихода, и высокая правда народной
жизни, народного подвига.
Глубокий след оставила война в жизни нашей страны, в со-
знании ее участников. Вот почему опять и опять возвращаются
к опыту тех лет наши литераторы. И у Атарова нет-нет да и
появятся строки, в основе которых впечатления военного вре-
мени. Он продолжает разрабатывать ранее намеченные подходы
и вводить новые: в недавно опубликованном рассказе «Набат»
(1968) с психологической проницательностью, пристальностью,
пожалуй, ранее им в такой степени не проявленными, писатель
характеризует сложное душевное состояние боевого командира, со-
вершившего тяжелую ошибку и теперь старающегося осмыслить
вину, понять причины своего проступка. Рассказ же «Песню
пели в Сватове» продолжает ту традицию, которую мы назвали
поэтической. Не только потому, что здесь звучат песенные слова,
но и потому, что заботы, надежды, треволнения женщин, остав-
шихся в деревне, через которую прошел огненный вал войны,
13
переданы здесь тонко, изящно, и в сцене, казалось бы, статиче-
ской, неподвижной, таится напряженность великих потрясений и
перемен.
Войне Атаров посвятил не только рассказы, но и повесть
«Смерть под псевдонимом» (1957). Здесь идет речь о последнем,
победном периоде военных действий, развернувшихся уже на
территории стран, освобожденных Советской Армией от гитле-
ровской тирании.
Вероятно, имеются читатели, которые зачисляют эту повесть
в разряд произведений детективного жанра. Что ж, основания
для этого имеются: действующие лица и в самом деле заняты
разгадкой важной тайны. Именно этим и полагается им зани-
маться: ведь они разведчики, и их прямая обязанность разо-
браться в ворохе странных «случаев», происшедших на пути
следования советских войск.
Но вместе с тем повесть Атарова не укладывается в те
рамки, с которыми обычно связаны наши представления о детек-
тивной литературе. Здесь нет «голой скорости» сюжета, ход
повествования отнюдь не подчинен распутыванию искусно спле-
тенного узла. Нет, интереснее, занимательнее всего герои произ-
ведения, их раздумья и действия, их отношение ко всему проис-
ходящему.
А вершатся в повести большие и важные дела. Рушится
гитлеровский «порядок», установленный на юго-востоке Европы.
Выходит из войны Румыния. Болгары поднимаются против за-
хватчиков, югославские партизаны вступают в освобожденные
города. На новый путь встает исстрадавшаяся Венгрия. Все эти
счастливые перемены мы видим глазами советских воинов, доби-
вающих гитлеровские армии и помогающих людям, только что
вырванным из-под тяжкого ярма. Операция, здесь изображенная,
воспринимается как частица широкого и мощного движения.
И люди, ее осуществляющие, имеют, конечно же, самостоятель-
ную ценность; это настоящие характеры, а не * условные
персонажи, полностью подчиненные, зависимые от «сыскной»
интриги.
Прежде всего следует помнить о том, что перед нами люди
трудной и ответственной профессии, требующей выдержки, сообра-
зительности, быстроты и точности мышления, неукоснительной
душевной ясности и чистоты. Атарова и здесь более всего зани-
мают нравственный облик работника, его способность исполнять
свой труд наилучшим образом и средства, которыми он этого
добивается.
Действительно, читатель с увлечением следит не только
за тем, как выходят наружу хитросплетения фашистов, старав-
14
шихся оставить на освобожденной территории своих агентов,
глубоко засекретив их, но и за тем, как ведут себя при этом наши
разведчики, какие качества обнаруживают по ходу дела, как отно-
сятся друг к другу.
Нет сомнения, самый обаятельный, самый живой из героев
повести — младший лейтенант Слава Шустов. Образ этот обладает
теми чертами, которые обычно привлекают симпатии читателя,
особенно молодого. Свой долг, свои обязанности он выполняет
с азартом, с увлечением, стремясь во что бы то ни стало добыть
истину. Он далеко не всегда, как говорится, попадает в яблочко:
сказываются горячность и нехватка опыта. Но каждая ошибка
для него одновременно урок, из которого он делает соответствую-
щие выводы. В течение тех немногих месяцев, которые заня-
ла операция, здесь изображенная, Шустов возмужал, вырос,
нимало не потеряв при этом своей непосредственности,
прямодушия, способности безраздельно отдаваться увлекшему его
Делу.
Добрые и точные слова для характеристики повести и ее
главного героя нашел один из лучших наших критиков — недавно
ушедший от нас А. Н. Макаров. Он писал: «Повесть Н. Атарова —
романтический детектив. Романтический и потому, что необычная
тайна обставлена романтически... и потому, что главный герой
Шустов романтик по натуре, и, право же, в этом столкновении
романтических аксессуаров детективного романа с романтическим
характером хорошего юноши есть что-то привлекательное. Именно
потому, что Шустов — романтик в душе, он и оказывается спо-
собным раскрыть эту историю».
В оценке поведения Шустова сказываются весьма существен-
ные различия между полковником Ватагиным и капитаном Ко-
телковым, несходство их представлений о воинском долге, о бди-
тельности, о воспитании молодых работников. После того как
Шустов совершил промах, затруднивший розыски гитлеровских
агентов, Котелков требует отдать его в трибунал или, по крайней
мере, отчислить из части, а Ватагин сажает провинившегося под
арест, лишая его права участвовать в боях. И это не случайное
разногласие, а сшибка, столкновение различных принципов.
В ответ на трусливо-жестокие, перестраховочные рассуждения
Котелкова полковник говорит: «Отчислить... гарантировать себя...
У меня другой взгляд. Надо воспитывать людей. Живой, горячий
как огонь, с хорошей душой мальчишка! Надо его воспитывать.
И прежде всего — коммуниста воспитывать, чтобы воспитать
чекиста. Вот как я думаю!»
Можно с уверенностью считать, что взгляды, высказанные
здесь Ватагиным, полностью разделяет автор повести. Мы утверж-
15
даемся в этом предположении, читая и его «Повесть о первой
любви», и многочисленные статьи, посвященные животрепещу-
щим вопросам воспитания молодого поколения. Жанры различны,
факты несхожи, а подход единый и последовательный...
4
Мы помним — герои первых произведений Атарова были, как
правило, старше его годами. А в послевоенное время он все чаще
пишет о молодежи, о тех, кто только вступает в жизнь.
В своей публицистике писатель показывает, как широки
просторы, открытые перед юношами и девушками нашей страны,
как много надо вместе с тем приложить усилий для того, чтобы
добрые возможности не были упущены и подрастающее поколе-
ние было надежно защищено от дурных влияний.
И в статьях, и в сюжетной прозе Атаров увлеченно, тща-
тельно, вдумчиво исследует пути, по которым молодежь входит
в жизнь, добиваясь разносторонней и развернутой характеристики
успехов и ошибок, свершений и задач, положительного и отри-
цательного опыта, накапливаемого, увеличивающегося с каждым
днем и часом. Атаров и написал свою «Повесть о первой любви»
(1954), руководимый желанием не только напомнить о важности
и сложности вопросов воспитания, не только рассказать об одном
жизненном эпизоде, об одном варианте этой проблемы, но и ока-
зать своим словом
заинтересован в
и вырабатывает,
гам, родителям,
людей.
В систематически публикуемых на газетных страницах статьях
о воспитании Атаров, высказывая свои убеждения резко и прямо,
подтверждает их примерами, взятыми из педагогической, семей-
ной, общественной практики.
В «Повести о первой любви» он, естественно, поступает иначе:
дает возможность действовать своим героям — Мите Бородину
и Оле Кежун, их сверстникам и взрослым людям, в самой
логике их поведения находя основу для выводов и умозаклю-
чений.
Атарову нет надобности на протяжении всей книги с одина-
ковой обстоятельностью воспроизводить чувства, владеющие его
юными героями. Некоторые этапы их отношений лишь намечены,
лишь обозначены. Интерес повести, ее соль в ином: писатель
очень зорко следит за динамикой первого чистого юношеского,
реальную поддержку, помощь тем, кто насущно
наиболее точных,
ищет их упорно
подросткам — очень большому
действенных решениях
и напряженно — педаго-
количеству
16
девического чувства, за изменениями, которые в нем происходят
под воздействием окружающей среды, за тем, как формируются
характеры влюбленных, впервые в жизни столкнувшихся с необ-
ходимостью быть самостоятельными.
На этом пути Атаров совершает ряд открытий. Уже в одной
из финальных глав отец Мити, умный Егор . Петрович, говорит
другу своего сына Чапу, оценивая поведение юной пары: «Видите,
как они объясняют жизнь друг другу». Очень точные, меткие
слова! Действительно, разумеется, не сознавая этого, не имея
каких-либо педагогических намерений, молодые люди на поверку
дают друг другу уроки чуткости, благородства, социальной ответ-
ственности, гражданского мужества, принципиальности. Задает
подчас нелегкие задачи и сама жизнь, вместе с тем как бы
подсказывая им правильные ответы, подводя к ним. Другими
словами, Оле и Мите приходится определять, где истина, а где
фальшь, что есть зло, а что добро, — да притом не для них
только, а для всех, кто им дорог, для всего общества.
Это вовсе не значит, что влюбленные ставят .свою любовь
в связь с мировыми проблемами, с судьбами всего человечества.
Но сам писатель, вводя в повествование людей разного склада,
показывает, в какой прямой зависимости от окружающих обстоя-
тельств находится развитие нежнейшего и тончайшего сердечного
влечения, накрепко сближающего двух людей, делающего их
необходимыми друг другу. И точно: ни одно из действующих
лиц повести не остается нейтральным по отношению к любви
Мити и Оли. О родителях и педагогах — нечего и толковать: мы
видим, как много доброго делает для ребят отец Мити и как
вредит своей воспитаннице директор школы Антонида Ивановна
Болтянская, обманывая ее доверие. Очень справедливо говорит
о Болтянской ее давняя приятельница и сослуживица: «Слушаю
вас и понимаю одно: вами владеет страх — и не за них, не за
детей, а за себя!»
Но и те, чьи судьбы лишь ненадолго скрещиваются с судь-
бами влюбленных, обязательно оказывают на них то или иное
влияние, и оно соответствует жизненной позиции, занимаемой
этими людьми. Здесь можно назвать и комсомольского работника
Белкина, о котором даже Болтянская говорит: «удивительный
деревяшка, никакой чуткости», и настоящего комсомольского во-
жака — Веточку Рослову, заставляющую Олю задуматься над
тем — «чему учит нас, коммунистов, существование такого чело-
века, как Белкин...».
И даже начальник автобазы Фома Фомич — наглец, циник,
так сказать, ловкач из принципа, старается испортить юную душу,
17
в то время как грузчицы, первые товарищи Оли по работе, по-
могают ей. Атаров сталкивает влюбленных с друзьями и противни-
ками, и каждая из этих встреч оставляет глубокий, неизгладимый
след в сознании молодых людей, остро и резко воспринимающих
и переживающих любое новое впечатление.
Можно найти в повести немало подробностей, свидетель-
ствующих о том, что Атаров, обратившись к теме, надолго при-
ковавшей его внимание, не утратил широты видения, — включил
основную коллизию книги — первую любовь —- в многоструйный
поток жизни. Он избег тем самым однолинейной «проблемности»,
обычно сразу же вносящей в произведение предвзятость, искус-
ственность, и добился ощущения жизненной полноты, органич-
ности происходящего. Читатель оценит по достоинству способ-
ность рассказчика обнаруживать сложные, порою противоре-
чивые сцепления фактов, судеб, стремлений. Атаров и в других
своих произведениях находит реальные доказательства истин-
ности, плодотворности отстаиваемых им воззрений, вводит
в действие различные способы изложения, подчиняя их единой
цели.
Как нельзя более показательна здесь книга «Запахи земли»,
вышедшая в 1965 году и вместившая произведения разных лет
и различных жанров.
Открывает ее давший ей название рассказ о слепоглухонемой
Ольге Скороходовой, о которой, как вспоминает автор, «на заседа-
нии нашего журнала *, в особняке на Малой Никитской... проник-
новенно говорил Горький». Случайная встреча в вагоне поезда
с этой замечательной женщиной, восторжествовавшей над своими
недугами, нашедшей силы для полноценной душевной жизни, по-
буждает Атарова с новой остротой ощутить великие возможности
человека, вспомнить другие «подвиги жизни», о том же свидетель-
ствующие. И недаром оба попутчика «вспоминали Горького».
Горьковским духом проникнут и этот рассказ, и многие другие
страницы книги, к примеру — «Зову — отзовись», где еще одна
нечаянная беседа — с незнакомой девочкой, жаждущей душевного
общения и поддержки, опять-таки дает рассказчику пищу для
воспоминаний и размышлений, для решающего вывода: «К челове-
честву надо идти от человека». Или — «Глядите: там за третьей
партой» — портрет замечательного педагога, воспитавшего многое
множество превосходных людей, граждан, работников, сумевшего
«нянчиться с каждым», презирающего «оптовую педагогику» и
именно поэтому добившегося таких отличных результатов.
1 Журнал «Наши достижения».
18
Трудно определить, чего здесь больше — точных наблюдений
или художественного обобщения, домысла. Но, право же, нет
надобности добиваться аккуратной жанровой классификации.
Опыт современной литературы свидетельствует о том, что «гибри-
дизация» различных видов повествования дает хорошие плоды,
если, конечно, подобное смешение и скрещивание оправдано
потребностями жизни и творчества. Вот и в книге «Запахи земли»
перед нами отнюдь не «система несообщающихся сосудов»,
а взаимодействие, обоюдная связь разнородных образов, сюжетов,
способов изложения.
В своих рассказах Атаров как бы предоставляет возможность
читателю проверить доброкачественность характеров, судеб, миро-
пониманий разного толка. И мы убеждаемся в том, что врач
Дробышев («Араукария») прожил жизнь благополучную, но бес-
смысленную, заботясь лишь о собственном покое, что Роман
(«Жар-птица»), с отличающей его «смесью цинизма и нежности»,
с несостоятельными, неподдержанными трудом претензиями,
«честный, но слабый», ничего так и не сделает, пока не поймет,
«что нельзя жить в одиночку», что «хороший, легкий парень»
Сергей Рыбченков («Вдоль берега») есть не что иное, как пусто-
цвет, пенкосниматель, бесплодная смоковница, который «хочет
полегче прожить»... Это социально-психологические характери-
стики, развернутые в рассказах «монографического» плана, потому
что в центре каждого из них — одно главное действующее лицо.
А в «Погремушке» и в «Пятом тузе» происходит столкновение
двух взаимоисключающих, двух противоположных принципов,
образов жизни и не возникает никакого сомнения в превосход-
стве безукоризненно честного, подлинного в каждом своем
поступке и слове капитана Воеводина, плавающего на скромном
«Гончарове», над блестящим капитаном Гарным, водящим быстро-
ходную «Ракету». Или в том, что Никита Пронин отвоюет своего
сбившегося с толку брата Егорку, попавшего было под влия-
ние скверной бабы-спекулянтки. Выводы эти подсказаны раз-
витием характеров, их точным и нелицеприятным исследо-
ванием.
«Магистральная горка» — рассказ, построенный более сложно.
Здесь, на первый взгляд, и нет сколько-нибудь напряженной кол-
лизии, нет противоборства дурных и хороших людей. Скульптор
Юлиана Петровна Потехина, прекрасный человек, умный, честный
и добрый талант, встретившись с людьми большого областного
города, для которого она делает монументальную скульптуру
юной горожанки, героини, погибшей под Москвой в 1941 году,
убеждается в необходимости усовершенствования своей работы.
«Это был новый образ, и люди сложили для него пьедестал», —
19
думает она в финале. Такова мысль художника-гражданина,
чутко прислушивающегося к жизни и решительно, смело втор-
гающегося в нее, отвечающего за свои слова и дела. А рядом
с Потехиной, вернее, в отличие от нее, — архитектор Фетисов,
знающий, образованный человек, но действующий, по словам ге-
роини, «как приказчик, а не как хозяин», не понимающий, «что
у нашей партии и нашего искусства одни цели, что вся глубина
и смысл искусства, его сила и заключается в единстве с нашей
политикой».
Слова эти могут кому-нибудь показаться слишком «статей-
ными», слишком «логическими». Но они произнесены Потехиной
со страстью, даже с запальчивостью, и в них ее жизненное, худо-
жественное кредо.
Есть все основания предполагать, что здесь высказан символ
веры и самого рассказчика. В произведениях Атарова также по
преимуществу присутствует хозяйское, гражданское чувство, чув-
ство ответственности за все происходящее в мире и, в особенности,
за то, что вершится в пределах для него достижимых. Это черта,
характерная для писателей нашей страны, для искусства социа-
листического реализма.
Вот почему Атаров-рассказчик так последователен в выборе
конфликтов и в оценке героев, совсем несхожих меж собою. Он
с блеском изображает «Блошиный рынок в Париже», различая и
в этой толчее драму работников, не пользующихся плодами
своего труда, «трагическую отчужденность вещей и людей». Вот
почему Атаров-публицист («Репортаж века», «Лицо твое, время!»,
«Признания в любви и ненависти») так свободно и уверенно со-
прягает всякого рода впечатления, полученные им и в Советском
Союзе и за рубежом. Находясь в Лондоне, приехав из дома Дик-
кенса на советскую выставку и проходя по ее залам, осматривая
экспонаты, он говорит: «По должности журналиста я видел мно-
гое из этого на родине, так сказать, в местах произрастания».
И далее идет перечисление: транссибирская дорога под Краснояр-
ском, гидростанция на Енисее, нефть в Каракумской пустыне...
К этому можно добавить очень многое. Но суть дела в том, что
эти разрозненные наблюдения Атаров сводит воедино, и в самом
деле стремясь увидеть «лицо времени», облик столетия. Не только
увидеть, но и оценить, и принять участие в строительстве жизни.
Оттого-то, сказав о полете космонавтов Николаева и Поповича,
он тотчас же тревожно спрашивает: «Кем же мы сами стано-
вимся в эти часы!» Походив по выставке, только что нами упо-
мянутой, подумав о направлении, нами избранном, допытывается:
«А кто это — мы!» И тотчас в его памяти встают «лица земля-
ков-сверстников, однополчан», — тех, о ком он уже рассказал
20
в своих книгах и кого еще хотел бы изобразить. Так за наблю-
дениями следует вывод, обобщение, а за суммарной характеристи-
кой — разбор, подробное исследование. Синтез и анализ чере-
дуются, они равно нужны писателю.
Среди других героев Атарова заметное и заслуженное место
занимает главное действующее лицо повести «Коротко лето в го-
рах» — инженер Иван Егорыч Летягин, человек, живущий трудно,
рискованно, и все-таки, можно сказать, в свое удовольствие, то
есть так, как подсказывает ему совесть, как велит сердце, как
диктует разум, — без внутренней несогласованности, душевной
раздвоенности.
Прототипа Летягина мы узнаем в инженере Алексееве, про-
ходящем по страницам атаровского очерка «Молодой месяц над
перевозом». С ним рассказчик познакомился на строительстве
железной дороги Абакан — Тайшет, и, видать, ему крепко за-
помнился человек, чем-то схожий и с Маяковским и с Циолков-
ским, — один из тех людей, что всегда «бьются, хлопочут, ру-
гаются почем зря». «А потом их именами мы все-таки называем
пароходы, станции и города», — заключает свою вводную характе-
ристику писатель, с тем чтобы затем воспроизвести свои беседы
со строителем, о многом ему порассказавшим.
Это тесное, деятельное общение и позволило затем Атарову
снова встретить полюбившегося ему человека уже в качестве
героя повести. Летягин в процессе работы вступает в отчаянный
спор, — более того, в жестокую борьбу, которая сулит ему нема-
лые неприятности. Он отстаивает не отвлеченную «справедли-
вость», а интересы дела, но получается так, что он оказывается
и защитником справедливости, чести, совести, трудовой морали.
Он еще далек от признания, успеха, но все же по большому
нравственному, гражданскому счету победа за ним. Свидетельства
здесь имеются разные: и любовь молодой девушки, отдавшей ему
свое сердце, и капитуляция его давнего антагониста — сослуживца
Калинушкина, согласившегося, принявшего формулу Летягина —
«чтобы здесь работать, надо любить дело, как свою жизнь», и
отношение к нему большей части работников. Такие люди дороги
Атарову, и счастье, удача его в том, что их надо не прославлять,
не ставить на котурны и окружать ореолом — все эти «украше-
ния» чужды их природе, — а изображать со всей подлинностью,
как можно более естественно.
Именно такой подход по сердцу, по вкусу Атарову, именно
его-то он и придерживается не только в художественной прозе,
но и в журналистских выступлениях, и в критических статьях, по-
священных работе товарищей-литераторов. В его характеристиках
творчества К. Паустовского, И. Катаева, В. Гроссмана — соедине-
21
ние ясности, продуманности анализа и непосредственности, жи-
вость воспоминаний. Здесь снова дает себя знать влияние прин-
ципов, усвоенных Атаровым в молодые годы и закрепленных по-<
следующей его работой.
Рассуждая о современной документальной прозе, Атаров при-
водит строки современников, свидетельствующие о великом чело-
веческом доверии, о готовности и стремлении к взаимопониманию
и сплоченности. «В предельной искренности самого обращения
ко мне — предельная достоверность», — подчеркивает он. Это ощу-
щение прямой связи со своим героем и своим читателем —*
основа не только документальной, но и художественной литера-
туры. Тому свидетельство проза Николая Атарова, пройденный
им путь, замыслы, им вынашиваемые.
Л. ГРИНБЕРГ,
ОТ АВТОРА
Так повелось, чтобы читатель в «Избранном» знако-
мился с работой писателя в такой последовательности:
сперва произведения крупного калибра, затем рассказы и
небольшие эссе, статьи и т. д.
Но так ли всегда определительны границы жанров?
Они ли оберегают мысль и душу книги?
Разделенные годами жизни, одно и то же побужде-
ние мысли или душевное волнение стремились выска-
заться то в жанрах сюжетной прозы, то в виде публици-
стики, которой свойственны большая степень открыто-
сти, лиризма. Сейчас и автору отчетливо видны два ци-
кла многих лет, их можно даже озаглавить.
«Набат» — где мысль о родине в дни ее смертельных
испытаний, о солдатском долге, о воинском братстве.
«Признания в любви и ненависти» — о смысле личной
жизни: зачем ты, кто ты среди миллионов других, жи-
вущих рядом с тобой, хотя и не знающих о твоем су-
ществовании?
Оказалось, что произведения разных лет тянулись
друг к другу по главной мысли и независимо от жанра,
в каком они написаны. Так и сложилось «Избранное» —
на титульном листе каждого тома все три жанра: пове-
сти, рассказы и публицистика.
НИК. АТАРОВ
23
НАБАТ
РАССКАЗЫ
ПУБЛИЦИСТИКА
КАЛЕНДАРЬ РУССКОЙ
ПРИРОДЫ
1
Зимой 1919 года на
всех фронтах гражданской
войны наши армии вы-<
ходили к морям. Распа-»
лось кольцо интервенции.
В глубоких снегах войска
неудержимо стремились
вперед.
Рабочие делегации,
ехавшие с подарками для
красноармейцев, случа-
лось, по две недели не
могли нагнать передовые
линии.
Взрывая блокгаузы и
мосты, в панике отходили
англо-американские ин-
тервенты, деникинские,
колчаковские, Миллеров-
ские дивизии; одни — на
Северный Кавказ, дру-
гие — в Забайкалье или
к архангельским приста-
ням. В Одесском порту
декабрьская буря ледени-
ла суда интервентов: тор-
педные катера, десантные
27
боты и миноносцы и семь греческих пароходов, готовых
принять на борт бегущих. А в Петрограде в это время
стояла оттепель, в конце декабря установился колесный
путь; жены рабочих, выходившие за Московские казар-
мы присмотреть участки под огороды, видели в ясные
дни блестевшие на полях проталины.
Ночью под Новый год пришло сообщение о взятии
Екатерпнослава. Коммунисты с утра были мобилизованы
на митинг, и потому, что редакция газеты имела собствен-
ную коляску, редактору Ланговому поручили один из
загородных заводов. На улицах темнели и оседали суг-
робы; сквозь дымку тумана над грязно-серым льдом
Невы низкое солнце просвечивало совсем по-мартовски,
и, может быть, потому всю дорогу Ланговой не мог от-
вязаться от непривычного ощущения, волновавшего сер-
дце, что с войной кончено и скоро надо будет переводить
газету на мирную тему труда и восстановления.
Редактор щурился на солнце, оглядывая черные, об-
дутые ветром прогалинки, а въехав в сосновый лес,
глубже упрятал небритый подбородок в воротник ши-
нели. Корректор Рачков, заменявший в поездках кучера,
подхлестывал отощавшую лошадь. На корнях коляску
потряхивало. В тени сосен держался снег и было студено
по-зимнему.
— Легче, легче, Рачков! Плохой из тебя ямщик.
— Гляди — недобитый... — сказал Рачков, показывая
в глубь леса.
Высокий старик в городском пальто и мягкой пуховой
шапочке стоял в нехоженом лесу и смотрел в бинокль на
рябины, теснившиеся по опушке.
Расстегнув на ходу кобуру нагана и выпрыгнув из
коляски, Ланговой приблизился к подозрительно нелепой
и неуместной фигуре горожанина, но тот даже не огля-
нулся — видимо, увлеченный своими странными наблю-
дениями.
— Эй, гражданин, давай-ка сюда! — сказал Ланговой.
— А что вам угодно? — отозвался старик, давая по-
чувствовать, что он отлично слышал приближение чело-
века.
— Ты в какую зону забрел, ты знаешь?
— Я в зоне зимних пастбищ дроздов-рябинников, —
ответил стдрик. Стоя лицом к Ланговому, он аккуратно
подвинтил бинокль и вложил его в футляр, подвешенный
па груди. — Я наблюдаю за птицами. Я — фенолог, ыату-
28
ралист. Что еще? Моя фамилия — Карагодов. Прикажете
мандат?
Видно было, что к нему не раз приставали с расспро-
сами. Распахнув ботанизирку, висевшую на боку, старик
ловким движением руки достал мандат, точно будто пат-
рон из ружья. Но его лицо, когда он протянул бумагу,
вдруг погасло, исчезла ласковая усмешка; остались озяб-
шие уши, усталость в глазах, красные ниточки стариков-
ского румянца. И это соединение охотничьей сноровки
с устало-беспомощным выражением лица почему-то убе-
дило редактора в том, что старик говорит правду. Он
только мельком взглянул на мандат, выданный Лесным
институтом.
Да, это был Карагодов Дмитрий Николаевич, ученый-
фенолог, бессменный обозреватель погоды в петербург-
ских газетах, составитель бюллетеней весны, дневников
природы, — тот всем известный Карагодов, одно имя ко-
торого вызывало в трех поколениях петербуржцев при-
вычный газетный образ весны. Бойна вытеснила все это
со страниц газет, а вот спустя пять лет оказывается —
старик жив.
— Удивительно, — сказал Ланговой, подавая руку
Карагодову. — Я редактор газеты Петроградского совдепа.
Мы там о вас позабыли...
Он сказал «позабыли», смутно имея в виду и соловьев,
и анютины глазки, и вишню в цвету — все это милое и
далекое.
— Да, уж тут не до нас, — проворчал фенолог и мах-
нул мандатом в сторону рябин. — Вон прошли войска,
пообрывали, пообломали. Нет ни черта.
— А что, гуще должно быть? — невольно полюбопыт-
ствовал Ланговой.
— Ярус под ярусом, стоит зипун с гарусом, — важно
произнес старик.
И Ланговой улыбнулся: таким наивным и удивитель-
ным показался ему этот разговор в лесу после газетной
ночной сумятицы, грохота ротационных машин и митин-
говых речей в тускло освещенных цехах.
Корректор подошел по следам Лангового.
— Это профессор Карагодов. Помнишь, в старых га-
зетах писал про весну, про всякие цветики?
— Помню, как же, править корректуру случалось, —
подтвердил Рачков. — Как это: «В ночь на сегодня при
29
умеренном северо-восточном ветре...» Так, что ли?
«Градусник стал подниматься, прилетели разные
птахи...»
Карагодов смеялся: выходит, не забыли. Вдруг он на-
супился и, показав рукой на рябины, сказал:
— Природа каникул не знает, господа товарищи.
— Снег да иней, — небрежно возразил Рачков.
— Нет уж, не снег да иней, а, если хотите знать,
скоро весна. Выройте ямку. Там, в земле, весна. Копо-
шатся... — Карагодов тыкал пальцем, показывая на снег,
усыпанный хвойными иглами.
— А здесь, наверху? — решил испытать корректор.
Здесь зима, — согласился Карагодов. Он вытащил
бинокль и снова оглядел рябины. — Еще бы полбеды,
кабы одна пехота была. Нет, за ней конница. Видите, и
наверху нет ничего. Каждый норовит веточку в гриву.,
А ведь ото пастбище у нас в окрестностях — единствен-
ное в своем роде. Поверите, в старые времена дроз-
дов в январе —- ну, тьма! За версту слышно. Щебечут,
точно санный обоз в морозное утро! А теперь нет ни-
чего.
Карагодов выбрался на дорогу и побрел.
Ланговой и Рачков переглянулись, и, вдруг отча*
явно махнув рукой, корректор запрыгал по глубокому
снегу через ложбину в сторону рябин. Он делал боль-
шие скачки, боком, боком, пока не добрался до де-
ревьев.
А Ланговой вышел вслед за фенологом на дорогу.
— Вы загляните-ка завтра в редакцию, — по-дело-
вому сказал Ланговой. — Отдел к весне восстановим.
Карагодов смутился:
— А что, правда, войне конец?
— Екатеринослав взяли. Вот на митинг едем.
Быстро смеркалось. Рачков отпустил вожжи — коляс-
ку потряхивало на корнях. Фенолог отстал. Ланговой
озяб, сунул пальцы в рукава шинели, зажмурился, раз-
мышляя о скором конце войны.
— Говорит, под землей весна, — вспомнил он, когда
показался впереди Охтенский завод.
— Врет, — отозвался Рачков, надкусывая ягодку ря-
бины.
— Нет, верно, правду говорит, — подумав, возразил
Ланговой.,
30
2
Военные сводки поступали в редакцию по ночам, но
в ту неделю все смешалось. Когда Ланговой и Рачков
вернулись с митинга, они застали всю редакцию на но-
гах: днем из Москвы сообщили по телефону о том,
что, развивая успех наступления, красные полки за-
няли Синельникове; конный корпус с боем захватил
станцию Лихая; в Донецком бассейне поднимаются шах-
теры.
Всю ночь в редакции хлопали дверями; стужа и
сквозняки врывались в зал — на улице бушевала метель..
Заметенные снегом самокатчики с Нарвского района,
с гавани то и дело подкатывали на мотоциклетках к
подъезду. Звонили телефоны, и Лангового несколько раз
вызывал Смольный.
Под Бирзулой, на Юго-Западном фронте, шел бой —
решалась судьба Одессы.
Пешком с далеких окраин приходили в ту ночь ра-
бочие-корреспонденты. Они теснились у телефонов, пере-
давая на фабрики и заводы последние фронтовые ново-<
сти; махорочный дым тянулся длинными полосами. Кто-
то в солдатской шинели, в сером башлыке вслух читал
в кабинете редактора телефонограммы, а 'моряк в буш-
лате записывал прямо с голоса. За ночь белые оставили
Новочеркасск, Мариуполь, Жмеринку, Винницу. И на
других фронтах — на севере и востоке — отход интервен-
тов превращался в беспорядочное бегство.
И все же так много лет не прекращалась война, так
свыкся с ней народ, что люди не торопились радоваться,
потому что не могли представить себе, что скоро вообще
исчезнут фронты, будет объявлена демобилизация, насту-
пит мир в свободной, отвоеванной для себя стране. Была
зима, и люди зябли, идя в город за новостями. Отходя от
карты, висевшей в редакторском кабинете на стене, они
грелись у печки, поправляя солдатские ремни, затяну-
тые поверх штатских пальто, немногословно переговари-
вались в очереди у телефонов, стараясь не мешать со-
трудникам газеты.
В шестом часу утра Ланговой распахнул дверь каби-
нета и вошел в зал. Он стоял перед людьми, утомлен-
ными бессонницей, — плечистый, бравый, в солдатской
гимнастерке, в синих галифе и тонких, обшитых кожей
чесанках.;
31
— По-ка-тил-ся! — раздельно произнес он, поглажи-
вая жесткие пепельные волосы.
В этот час, перед сдачей номера, Ланговой всегда
сам придумывал заголовки для статей, идущих в набор,
и размечал шрифты.
— Над фронтовыми сводками сегодня дадим одно
слово: «Покатился». Над всей полосой. Что? — Ланговой
смеялся, глядя в смеющиеся лица товарищей. — Не мель-
чить, не мельчить, ребята! Не «Враг покатился», и не
«Деникин покатился», и не «К Черному морю», а просто
«Покатился».
И номер был сдан в машину.
Когда Рачков вернулся с газетой из типографии, уже
рассвело. Утро было тихое и солнечное. Рачков присел
на подоконник. Внизу, за окном, белела мостовая. Кор-
ректор закурил; он любил тихонько покурить утром в
пустой, всеми покинутой редакции. Ланговой спал в ка-
бинете, накрывшись с головой шинелью. В большом
зале, неравномерно согретом печуркой, среди портянок,
развешанных для просушки, и бумажного сора на
грязном паркете, ярко краснели на конторке рябиновые
гроздья.
3
В мирное время Карагодов знал, что, если в Лодзи
прошла гроза с ливнем или в Казани наступило похолода-
ние, он завтра известит об этом петербуржцев: у него бы-
ло много добровольных корреспондентов. Теперь остался
Карагодову градусник — тот, что висел у него за окном.
Он жил в Лесном, в маленьком домике, среди парка,
среди занесенных снегом оранжерей. Здесь прошла вся
его жизнь. Чего только не было: снегопады, дожди, деся-
тибалльные штормы и при западном ветре высокая вода
на Неве, с пальбой из пушек. Здесь он писал «Чтение
для народа», «Беседы о русском лесе».
Под вечер в николин день кричала ушастая сова, а
раз в пять лет — и всегда в мае — сохатый проходил через
парк, и сторожа Лесного института поутру водили Кара-
годова по его следам.
И все было записано.
На маленьком круглом столике в палисандровом сун-
дучке хранились дневники петербургской погоды за со-
рок лет.
32
Метель бушевала до самого утра. Когда-то Карагодов
знал, откуда и куда движутся циклонические массы. Те-
перь, подобно любому крестьянину, он только и мог,
выйдя во двор, запахнувшись покрепче, подставить мок-
рому ветру заспанное лицо и пробормотать: «Крепко
метет...» И все-таки в ту ночь, стоя на крыльце и удив-
ляясь тому, как взволновало его предложение редактора-
большевика, Карагодов радовался чему-то, что должно
было неминуемо наступить по всей стране.
«Значит, войне конец... конец», — повторял он и си-
лился вообразить огромные просторы России — какие
они в этот вечер: с морозами, туманами, оттепелями — и
ничего не мог представить. Мерещились походные кухни
на станционных перронах, составы теплушек, гар-
мошка.
Он возвратился в холодный кабинет. Огонь ночника
на письменном столе слабо повторялся в стеклах герба-
рия, в бронзовых рогах оленя, в стеклянном колпаке, под
которым хранились пожелтевшие от времени письма Рос-
смеслера и Брема.
А днем, когда наполнила редакцию вчерашняя толпа
и оттесненный к печке Рачков сидел на поленьях с ра-
скрытым томом словаря Граната, кто-то тронул его за
плечо. Он обернулся — Карагодов.
— Ага, п вы здесь! — сказал корректор: он решил,
что фенолог пришел вместе со всеми.
— Что вы ищете у Граната? — спросил Карагодов,
вглядываясь в книгу.
— Да вот Гурьев... Нужно дать сноску в газете. А то
позабыли, что это за Гурьев и где он есть. А он нынче
взят. И в нем двенадцать тысяч жителей.
— Проводите меня к редактору, — сказал ученый.
Он изложил Ланговому свои условия скучным, лектор-
ским голосом. Он, видимо, волновался: его смущали лю-
ди, заполнившие кабинет; пуховую шапку он положил
на стол.
— Нормальная фенологическая весна у пас в Петер-
бурге, — говорил Карагодов, — наступает в начале марта,
когда прилетают грачи.
Молоденький сотрудник, не успевший досказать ре-
дактору свои соображения насчет сыпнотифозных лазаре-
тов, с интересом вслушивался в слова Карагодова.
— За время весны, пока не отцветет сирень, я при-
готовлю десять — двенадцать бюллетеней. Вы оплатите
2 Н. Атаров, т. 1
33
мой гонорар натурой. Мне денег не нужно. Я курю... Ма-
хорка... Мне нужен хлеб... хотя бы полпайка. — Тут Ка-
рагодов взял со стола шапку и натянул ее на уши двумя
руками. — Мне нужны спички. Я одинок. Керосин.
Редактор слушал фенолога, стоя с полевой сумкой
в руке: он торопился в Смольный.
— Я допускаю, — продолжал ученый сквозь гул голо-
сов, — что, как ни маловажны события, происходящие
весной в природе, в сравнении с восстановлением нашей
родины и победами на фронтах, мои заметки о весне все
же могут занять скромное место.
— Вот что! Поменьше слов, дорогой профессор: воен-<
ное время, — оборвал его Ланговой и рассмеялся. — Вес-
на нам нужна раньше ваших фенологических сроков.
«В начале марта» — никуда не годится. Вы сами вчера
сказали, что под снегом весна. Вот и начнем.
Так в январе 1920 года в редакции появилась новая
должность. Карагодову, по его просьбе, стол поставили
около печки, и удивительный старик, о котором никто из
молодых сотрудников толком не мог сказать, на что он
нужен, принялся за работу.
4
Фронты наполняли газету, что ни день — новые спи-
ски занятых городов, и в редакции не знали, как разме-
стить эти сводки на газетных страницах. Буденновский
корпус занял Ростов. Сибирский ревком сообщал, что
Советская власть простирается до самой Читы. В ночь
на 10 января Охотская радиостанция передала, что в Пет-
ропавловске-на-Камчатке гарнизон перешел на сторону
народа. В среднеазиатских песках повстанцы разбили
Джунаид-хана и овладели Хивой.
Никогда в Петрограде не ждали весны с таким нетер-
пением. На дровяных дворах было пусто. Хлебный паек
сокращался. Ждали подвоза по воде, когда вскроются ре-
ки: на Волге зимовали во льду караваны с хлебом и
нефтью.
Сотрудников не хватало. Огромный город боролся с
разрухой, и Ланговой сам отправлялся на заводы или
в доки. Он спал все меньше и меньше.
Карагодов старался быть незаметным. Но редактор
иногда вспоминал о Карагодове.:
34
— Где же весна, Дмитрий Николаевич? — спрашивал
он взыскательным тоном, каким спрашивают хроникеров:
«Где же факты?»
— Мне еще не пишут об этом фенологи, — отвечал
Карагодов.
Ведь он предупредил товарища Лапгового: он сорок
лет наблюдал в Петрограде деревья, цветы и небо — вес-
ны в феврале не бывает.
Ему не давали никаких поручений, он только поддер-
живал огонь во времянке. Эту обязанность он сам возло-
жил на себя. В огромных окнах серело асфальтовое небо,
задернутое облаками, а в круглом глазке железной дверки
видно было, как копошится в печи веселый, живой огонь.
Рачков стоял у конторки и расставлял корректурные
знаки па влажных оттисках набора. Контуженный на
Восточном фронте хроникер, подергивая шеей, диктовал
машинистке:
— «Выбитый из Царицына противник... запятая... пре-
следуемый нашими доблестными частями... написали?.,
бежит вдоль железной дороги на Тихорецкую...»
И среди этого разноголосого шума неприметно пребы-
вал за своим столом Карагодов. Он восстанавливал нару-
шенные войной связи. Почерком острым и мелким он
писал на конвертах адреса тех, кто когда-то в разных ме-
стах России наблюдал природу. То были скромные, по-
жилые люди: учителя начальных школ, любители птичь-
его пения, собиратели грибов, рыболовы. Живы ли они?
Иногда, выписывая адрес, Карагодов сомневался, не на-
ходится ли эта местность еще по ту сторону фронта, у бе-
лых. Тогда, ни с кем не советуясь, он перелистывал ком-
плект газеты или в отсутствие Лангового забирался в его
кабинет и со списочком в руке сверял по карте. Случа-
лось, что, прочитав утром газету, фенолог тотчас сдавал
секретарше залежавшиеся в столе письма.
Зима продолжалась, и не было ей конца. В воскрес-
ные дни Карагодов выходил за город, бродил по лесу,
прислушивался к скрипу сосен, делая насечки.
— Где же весна? — нетерпеливо спрашивал Ланго-
вой, когда Карагодов возвращался в редакцию. Но фено-
лог молчал, и редактор, пожав плечами, добавлял: — Тог-
да начнем без вас.
Поздно вечером, подбросив щепок в печурку, Кара-
годов потихоньку уходил из редакции. С полфунтиком
ржаного хлеба он шел по Симеоновской, по Литейному;
2*
35
привычно останавливался у костров, пылавших всю ночь
перед хлебными лавками, и многие женщины, гревшиеся
у костров, узнавали его, потому что он проходил здесь
каждую ночь.
Карагодов выходил на Литейный мост и видел на
Неве, под мостом, вмерзшие в лед пустые баржи, вер-
хушки затонувшего плавучего крана.
У Финляндского вокзала маршировал красноармей-
ский отряд. И снова фенолог углублялся в темные прова-
лы улиц; в поздний час переставали дымить бесчисленные
трубы буржуек, торчавшие из окон многоэтажных домов.
Где-то постреливали. Карагодов прибавлял шагу, от-
ламывал корочку от пайка, жевал на ходу и на ходу при-
поминал все сроки весны: когда опять в погожий апрель-
ский денек выползут из земли дождевые черви, появятся
шмели на зацветшей медунице, и по дворам окраин, дав-
но не метенным и пеприбраппым, зацветут черемуха и
ольха.
В середине февраля машинистка, разбирая почту,
наткнулась на загадочную корреспонденцию. Она повер-
тела в бледных руках клочок бумаги, исписанный с обеих
сторон, отложила, опять повертела перед глазами, ре-
шительно взбила челку и направилась к Ланговому.
— Непонятно, — сказала она голосом, слабым от не-
доедания. — Что-то зазеленело, какие-то гуси... Шифр,
что ли?
— Надо полагать, шутки турецкого генерального шта-
ба, — сказал Ланговой. — Зовите Карагодова.
Когда Карагодов прочитал письмо, Ланговой спросил
его:
— Ну, покажите, где у вас гуси летят?
И старый фенолог, молча одобрив вопрос, разобрав-
шись в истыканной булавками карте России, ткнул паль-
цем в маленький городок в Таврии, на юге степной Ук-
раины.
Это было первое письмо о весне — от бойцов и коман-
диров Седьмой петроградской бригады.
5
Грачи прилетели 5 марта. Было пасмурно и тепло, и
спустя два дня, когда Карагодов выбрался в поле, в ов-
ражках побежали, зажурчали под снегом талые воды.
36
Проваливаясь в рыхлом снегу, Карагодов вышел к
знакомой лесной опушке, где в треугольнике между со-
снами стоял молоденький клеи. Из насечки, сделанной
в январе, выступила прозрачная капля: клен уже гнал
соки вверх, к еще голым ветвям. Опершись рукой о свет-
ло-серый гладкий ствол, Карагодов прислушался: в вы-»
соте пел жаворонок.
Первый бюллетень весны был сдан наутро. Он пошел
по рукам сотрудников. Что-то было трогательное в коро-
теньком и сухом сообщении Карагодова о теплом дожде,
скворцах и мухах.
В помещении было по-зимнему сумрачно и еще хо-
лоднее, чем зимой, потому что стены промерзли и теперь
отдавали холод. Но странное возбуждение охватило га-
зетчиков. Чему они радовались? Они разбежались, как
обычно, с утра и па целый день: кто на Васильевский
остров, где во дворах академии занимался «всеобуч», кто
на Николаевский вокзал — провожать курсантов. Но, воз-
вратясь в редакцию, каждый подбрасывал дрова в печку
и говорил Карагодову что-то смешное или торжествен-
ное, заранее придуманное — там, в городе, тревожном и
по-зимнему озабоченном.
Рачков в тужурке, истертой до стального блеска, по-
дошел к фенологу и сдавленным голосом, по так, чтобы
до всех Дошло, спросил, как пишется «иван-да-марья».:
Через три дня вышел второй бюллетень. Не подсчи-
тать, сколько раз за это время проглядывало солнце и
снова начиналась метель. И все же весна брала свое.
II когда однажды Карагодов отправился за город в ко-
ляске с Ланговым, по обочинам дороги из города уже тя-
нулись на поля жители окраин с лопатами и граблями,
тарахтели полковые двуколки.
Рабочие петроградских заводов, пришедшие к Пул-
ковским высотам па воскресник, мотали на каток колю-
чую проволоку, мальчишки собирали в кучу обоймы,
осколки снарядов, военное снаряжение, оставшееся под
снегом после боев.
Ланговой привязал лошадь к осине и пошел к рабо-
чим. Оглядывая в бинокль горизонт, Карагодов видел и
дальние сады Александровки, и царскосельские парки, и
под холмом пробитую снарядами белую колокольню Пул-
ковской церкви. Здесь осенью прошлого года шли в ата-
ку рабочие батальоны, сводные отряды моряков, курсан-
ты ВЧК, стрелковые полки.
37
Теперь далеко на юг, куда-то в «Житомирском на-»
правлении», ушла война; там со штыками наперевес бе-<
жали, может быть, те же самые люди, которые здесь вое-
вали. А на Пулковских холмах теперь было тихо, были
слышны вдали звонкие голоса мальчишек: они нашли
офицерский погон. В камнях пулеметного гнезда прыга-
ли снегири. В воронках было полно воды. Вешние воды,
журча, бежали в обвалившихся окопах, и, проходя по
брустверам, Карагодов вслушивался в эту весеннюю пе-
сенку. Солнце пригревало ему плечо и щеку. Хлюпали
набравшие воды штиблеты.
Карагодов шел и все подмечал вокруг; торжество так
и выпирало из его поджарой фигуры. Иногда он приседал
на корточки, заметив крысу, выползшую из темной щели
землянки; иногда задирал голову к вершине холма.
Снег еще остался в тени ложбинок, в мокрых кустах
прыгали клесты. Карагодов нагнулся, чтобы подобрать
гранату, — клесты сорвались с веток.
— Тащите к нам в кучу, Дмитрий Николаевич! —
крикнул Ланговой. Он издали наблюдал за Карагодо-
вым.
— Ищи — не сказывай, нашел — не показывай, —
сказала какая-то старуха в черном платочке, тоже бро-
дившая по холму.
Видно, всем было хорошо бродить по земле в этот
день.
Ланговой подошел к Карагодову; они присели на
крышу землянки.
— Весна, — сказал Карагодов.
— А я вам что говорю... — ответил Ланговой.
Вдали, по сбегавшему к деревне черному полю, шел
за сохой крестьянин. Грачи летели за ним.
— А вы знаете, когда она началась?
— Весна?
— Да... И не улыбайтесь, все равно не знаете. И я
не знаю. Только вы в марте заметили — по грачам, а я
в январе... В январе поздно вечером пришел ко мне Рач-
ков и показал маленькую корреспонденцию. Из Барнаула
сообщали, что там свирепые морозы и что каппелевские
офицеры бегут в Монголию и увозят с собой в санях об-
леденелые трупы своих товарищей. И я тогда сказал
Рачкову: «Вот это в календарь природы., Карагодову».,
Он вам не передал?
38
•»=- Вы лучше мне не говорите об этом, — сказал Ка-
рагодов, разглядывая в бинокль пахаря и грачей на бе-»
лом облачке; и вдруг, отставив бинокль от глаз, он строго
добавил: — Птиц распугали по всей планете. Фронты,
канонада! Дожди — и те маршрут изменили! Рыбу по-
глушили в прудах! Крыс развели в окопах! Волки в
уезде!
Ланговой усмехнулся, припомнив, как в прошлом го-
ду он сам видел на Охте: дети собирали грибы прямо на
улице.
— Вы не о том, профессор... — Ланговой тронул
сапогом куль с землей, гнилая рогожка поползла, и
земля посыпалась из куля. — Недавно я видел новые
карты, на них напечатано: «РСФСР», и буква «Ф»
приходится — знаете где? — на Енисее. Меня это пора-
зило. Огромная земля! Как можно поработать на ней!
И как еще поработаем! Сколько вам лет, Дмитрий Нико-
лаевич?
— Доживу, — ответил Карагодов. — Весна друж-
ная...
По Неве шел ладожский лед; в Суражском уезде по-
тянули вальдшнепы; в Десне, под Черниговом, нерести-
лись щуки; ночью над Балтикой сверкали зарницы, и
моряки на кораблях вглядывались вдаль — шел дождь;
конные разведчики в кубанских плавнях слышали ночью,
как погромыхивало в тучах; утро было ясное, тихое и
очень теплое; в Бежице выгнали исхудалый скот в поле,
начали боронить; в Малой Вишере уже два дня шла па-
хота. Весна наступала по всей стране, сеяла теплый
дождь над вскрывшимися прудами и засевала первым
зерном вспаханные поля.
А на окраинах догорала война. Советские войска всту-
пили в Мурманск, Екатеринодар. На границе с Финлян-
дией устанавливались государственные столбы; в солнеч-
ные дни весело работалось саперам, и светло-желтая
пыль цветущих берез летела над их головами и опуска-
лась в воду.
Повсюду на равнинах, на брустверах забытых окопов
цвели простенькие цветы —- одуванчики и кашка, и все
поднимались и поднимались несметные травы южных
степей, шли к морям широкие воды равнинных рек. На
Туркестанском фронте в темную ночь Анненков уводил
в Синьцзян сотни своих лейб-атаманцев. Седьмого мая-
39
на берегу Черного моря, в районе Сочи, сдались остатки
армии Деникина; там было пятьдесят тысяч измученных
людей; они складывали прямо на песок у моря винтовки,
шашки и тесаки и вереницами шли к красноармейским
походным кухням хлебать полковые щи.
Жаворонки пели над крестьянскими полями, и все
дальше на север летели белые лебеди. В садах зеленели
живые изгороди боярышника, а там наконец тронулись
в рост и хвойные леса.
1938
СТАРШИНА БАЖЕНОВ
Раньше всех отпустили пулеметчиков — Трофимова,
Беседина и других. Мы провожали их с полковым орке-
стром. Шли в строю по обочине дороги. Музыканты иг-
рали вразброд. Маленький Афонин со своим геликоном
сбился с ноги и перестал дуть. Он скользил по глине и,
добродушно улыбаясь, оглядывался на нас.
Дожди размыли дорогу. Шла осень тридцать второго
года. Ноябрь — месяц демобилизации, месяц проветри-
ваемых цейхгаузов, духовой музыки и воинских вагонов.
Теперь каждый вечер мы провожали товарищей к поезду,
но приближался и наш час.
Началась приморская зима, промозглая, влажная и
ветреная. Смеркалось рано; мокрые тополя, стоявшие
вдоль дороги, и темные домики к семи часам уже тонули
во мраке. Позади нас громыхала двуколка, полная завет-
ных сундучков, с которыми мы выехали из родного дома.
Ротный старшина Баженов то исчезал в темноте, — тог-
да у двуколки слышался его недовольный певучий голос:
он выговаривал ездовому; то снова, шлепая по лужам,
появлялся в голове колонны. Он один среди нас не под-
лежал демобилизации, у него были свои особые чув-
ства.
— Спевайте же напоследки! — кричал он, оборотись
лицом к роте и пятясь перед нами.
На станционном перроне, в лужах под дуговыми фона-
рями, плескался дождь. Выгруженные с платформ танкетки
стояли в три ряда, покрытые потемневшим брезентом.
Отъезжающих среди нас легко можно было узнать на
перроне: они громче всех разговаривали, размахивали
руками, шлемы сдвинуты на затылок.
41
К поезду подходил из города командир роты, высо-
кий, плечистый, с выпуклыми, широко расставленными
глазами и с трубкой в зубах. Он провожал отпускников
как будто и не в бессрочную, а так, дня на три, в сосед-
ний гарнизон за литографскими валиками для полковой
газеты или ружейными треногами. Он умерял наш пыл.
Однажды он даже спросил:
— Ну, а когда вас встречать прикажете? — и засме-
ялся негромко.
Мы тоже беспечно посмеялись.
— Завтра в окопах, товарищи, — отчетливо ответил
он на свой вопрос, и его на мгновение построжавшее ли-
цо досказало все, что нужно было нам понять.
Старшина Баженов и тут не оставался без дела. Его
сытое лицо мелькало то у двуколки, то в дверях комен-
дантской. Он всюду — и на походе, и в казарме, и в пол^
ковой бане — находил себе заботу.
Из Владивостока подходил скорый. Наш оркестр иг-
рал «Коханочку», пассажиры выскакивали из вагонов,
окружали нас, а тут шла пляска, и последние рукопожа-
тия, и «Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная
Армия!». А когда поезд отправлялся дальше, мы трое-
кратно кричали «ура», старшина шагал рядом с дверью
вагона и на ходу уже самозабвенно жал отъезжающим
руки, не различая лиц и позабыв о былых размолвках и
привязанностях.
Поезд набирал скорость. Баженов отставал, но еще
долго шел по лужам, выпячивая губы и подбирая руками
полы шинели.
На обратном пути в казарму мы иногда подсажива-
вались на двуколку. Ротный ездовой Говорюк, замучен-
ный ревматизмом парень с мешковатой фигурой и пре-
ждевременно морщинистым лицом, молча придерживал
лошадку, потом, не оглянувшись, отпускал вожжи и при-
чмокивал:
— Ну, ойда...
Колеса плескались в воде, в глубоких, прорытых ору-
диями колеях. Я сидел на корточках, ухватившись за
борт, и думал о родном городе, о скорых встречах и мыс-
ленно все следил за поездом. Должно быть, он уже
пронесся мимо ремонтных мастерских и вступил в
тайгу.
Мы знали эти места так же хорошо, как учебный
ящик с песком в тактическом кабинете, с его насыпными
42
холмами, стеклянными речками и мостами из спичечных
коробок.
Там, где сейчас грохотал поезд, у подножья сопки,
в густом дубовом бору, заросшем багульником и жас-
мином, мы летом не раз атаковали невидимого против-»
ника или отлеживались в обороне, вдыхая запах тайги.:
В полдень в бору появлялся старшина, и мы догады-
вались, что на опушке уже дымится, ждет нас походная
кухня. Баженов, как всегда, неистово рапортовал о чем-
то командиру роты. Затем выходил на полянку, осве-
щенную солнцем, садился на припеке, отирал платком
бритую голову, вынимал кисет и закуривал.
В дубовом бору в полдень свет ложится причудливо
и пестро. Стволы мягко освещены, в густой тени дрожат
на кустах солнечные кружочки, а в ярко освещенных по-
лосах на полянках трава горит зеленым огнем.
Вокруг шли занятия: танкисты маскировались в ку-
стах лощины, саперы скрытно наводили мосты в оврагах,
конные связисты тянули провода по деревьям, отделен-
ные командиры переползали от бойца к бойцу и переда-
вали приказания. И только старшина, ни от кого но
таясь, по-крестьянски сидел на полянке и покуривал.
Армия, казалось, ничему его не научила, — вот так си-
дел бы он и у себя, в деревне, в недальнем от дому ле-
сочке.
Товарный поезд проносился мимо нас, и кондуктор
с площадки последнего вагона мог заметить только одно-
го старшину, сидящего на полянке, и синий витой дымок
над его головой.
Странно было бы увидеть теперь эти места из окна
скорого поезда. «Впрочем, наши демобилизованные ни-
чего и не увидят в темноте, — думал я об уехавших. —
В два счета они проскочили мост и, может быть, успели
заметить только тусклые огоньки кирпичного завода, где
летом на излучине обмелевшей реки стоял снайперский
лагерь».
Теперь они были в дороге. Их служба кончилась.
Возвращаясь со станции, я оказался однажды в дву-
колке со старшиной. Баженов молча сидел на борту, я
видел его мокрое от дождя мясистое лицо, запрятавшееся
в поднятый воротник шинели.
Все чаще он был рассеян и неразговорчив. С тех пор
как вышел приказ о нашем увольнении, он как бы по-
терял к нам интерес, не наставлял по поводу небрежной
43
заправки постелей, не говорил певучим голосом свое
обычное: «Безобразие!» Он часто уходил из казармы и
однажды бросил нас на полпути к бане, оставил роту
па полпесне, чего раньше не могло случиться.
— Что-то скучен стал, товарищ старшина? — спросил
я Баженова, когда двуколка въехала в полковые ворота.
— Во внутреннем отпуску нахожусь.
Мы ехали по асфальтированной аллее, освещенной
редкими фонарями. Каждый раз, как двуколка входила
в свет фонаря, я видел усталое, набухшее лицо Баже-
нова, его схваченные дремотой глаза и толстые, по-
трескавшиеся губы. Руки старшины, упершиеся в борт
двуколки, мелко тряслись вместе с нею. Но стоило нам
вступить в темноту — ив очертании его фигуры что-то
менялось; казалось, сейчас он вскочит на ноги, ловко вы-
прыгнет из двуколки через руку и побежит с новой за-
ботой куда-нибудь прочь.
Мы помолчали, а потом Баженов мрачно, от души,
заговорил:
— Едут, едут, уезжают, а мне — провожать. А мне,
может, тоже домой пора... Меня, может, тоже «граж-
данка» интересует...
«Гражданкой» у нас называлось все, что было за пре-
делами армии.
— А что б ты делал, товарищ старшина?
—• Я б!.. Да меня давно дожидаются! Там коллекти-
визация идет. Председателя нет хорошего. Там дела
большие... Да я б!
— Зарапортувалси, — кратко определил Говорюк и
тронул вожжами. — Ну, ойда!
Казарма опустела и выстудилась, в ней оставалось
вместе со старшиной не больше двадцати человек, и
каждое утро штаб полка назначал к отправке новую
партию.
Гулко раздавались голоса и шаги в сводчатых арках.
После утренней поверки и завтрака старшина выкли-
кал пять-шесть фамилий. С начала демобилизации заня-
тия в роте прекратились, мы рассаживались вокруг на
табуретках и с удовольствием наблюдали лица отпускни-
ков и важное лицо Баженова, неторопливо обходившего
строй.
— Вы куда- потягнетесь? — спрашивал он правофлан-
гового, развернув замусоленную тетрадь и приставив ка-
рандаш к бумаге. — В Лебедянь потягнетесь?
44
Он знал о каждом: откуда родом, профессия, когда
прибыл.
Порой, записав в тетрадь необходимые для штаба све-
дения, Баженов с глубоким отвращением оглядывал дав-
но не стриженную шевелюру курсанта.
— Извиняюсь, а волосы у вас с какого номера?
— С нулевого, — упавшим голосом отвечал курсант.
Мы очень боялись, что перед самым отъездом стар-
шина прикажет побриться наголо, по уставу.
— Безобразие! Избегаете меня...
Но тут дневальный кричал:
— Рота, смирно!
Мы вскакивали. В дверях стоял командир роты, п
старшина быстрым шагом, постукивая каблуками, на-
правлялся к нему с рапортом.
Едва заметная усмешка возникала на лице каманди-
ра, — он оглядывал опустевшую казарму. Он как бы го-
ворил: «Что ж, совсем немного осталось народу в роте.
Разъехались. Похолодало в казарме... И чем с вами зани-
маться прикажете?»
— Здравствуйте, товарищи! — с веселым вызовом при-
ветствовал он нас.
И наше ответное «здрасте» с каждым днем теряло
былую слитно рявкавшую силу, потому что нас было все
меньше, теперь различались отдельные голоса.
Те, кого старшина отправлял в штаб, не возвраща-
лись до обеда. Они получали в штабе воинские билеты
и путевые литеры, на складе — хлеб, чай и сахар, в цейх-
гаузе — ботинки, брюки и узенькие пиджачки. А мы в ожи-
дании своего дня решали в тактическом кабинете оборону
взвода или, если позволяла погода, шли на стрельбище.
Старшины с нами не было. Он проводил время у зем-
ляков в казармах артполка. Старослужащие недавно про-
шли медицинское освидетельствование, и во всех частях
гарнизона шел разговор о том, кого оставят, кого найдут
негодным.
Старшина возвращался возбужденный этими разгово-
рами.
— Что, здоровье позволяет? Или потягнетесь с памп,
товарищ старшина?
Баженов не отвечал на шутки, и мы заминали раз-
говор: старшина нам попался хороший, и нечего драз-
нить и тревожить.
После обеда, согласно традиции, мы красили сундучки
45
в дорогу. Три подоконника в уборной залиты краской.
Клубный художник не пожалел для нас целой манерки
сурика.
Отрепавшись в мертвый час, мы садились за партию
в домино, ставили между коек на попа сундучок и рас-
кладывали на нем из костяшек извилистые дорожки.
Каждый ловчил, как мог: подсчитывали в уме, шевеля
губами, заглядывали к партнеру, — но каждый раз пар-
тию запирал Чекановский.
— Не утруждайте шею,— вежливо замечал он излиш-
не любознательному соседу- и ставил последний камень.
До армии он работал гримером в полтавском театре.
Он уверял нас, что никто не играет в домино лучше те-
атральных гримеров.
— Мимо! — печально говорил, оглядев свои камни,
Березюк.
— Мимо! — с довольным видом восклицал партнер
Чекановского Чепурин.
И я говорил, вздохнув:
— Мимо.
— Открыть затворы! — осклабившись, командовал
Чекановский.
Мы бросали оставшиеся на руках камни, и начинался
подсчет.
Забежав в казарму, старшина одним только взглядом
осуждал эти глупые занятия и снова исчезал.
В одиннадцать часов вечера дневальный гасил свет,
но мы не расходились, сидели в красном уголке впоть-
мах, дожидались тех, кого камандир отпустил в город,
в Дом Красной Армии. Они приходили, подсаживались
к нам, и мы не расспрашивали у них, как гулялось.
В эти последние вечера в саду ДКА совершалось что-то
таинственное, о чем не принято было говорить вслух.
Помолчав для приличия, мы начинали нескончаемые
споры о любви, о женщинах, о случаях из жизни.
Старшина перед сном часто заходил в красный уго-
лок, но никогда нельзя было угадать, что из этой бол-
товни затронет его за живое.
Утомившись, мы замолкали и слушали, как скрипит
колодезное колесо за кухней, как возвращаются с поли-
гона батареи. За окном половину неба заволакивала чер-
ная туча; другая половина роилась таким тихим и чи-
стым блеском, какой может быть только в Приморье,
Кто-нибудь мечтательно потягивался у окна..
46
— А почему, ребята, в газетах о том не пишут, как
звезды в небе горят?
И вдруг в углу, у печки, старшина начинал скрипеть
стулом, шевелиться. Значит, дошло до его сердца. В об-
щем, несмотря на строгость и крик, был он мечтатель-
ный, душевный парень. Усмехнувшись, он говорил что-
нибудь вроде: «Пора, бойцы, на боковую», — и шел спать.
И через минуту дневальный, просунув голову в дверь,
увещевал нас:
— Расходитесь, товарищи, уже полночь.
Так кончался еще один день из тех считанных, что
оставалось провести в полку. То особенное чувство, с ка-
ким мы собирались домой, трудно было назвать одним
словом. Да, мы возвращались в семьи, к товарищам по
работе, мы возвращались в родные места, которые сдела-
лись лучше, чем были, в эти два года. Матери и подруги
в письмах сообщали нам о больших переменах, о вели-
ких стройках. Нам хотелось скорее увидеть все это. Но
нам было жалко расстаться с армией. Вот, например,
двое из нашей роты сумели остаться на сверхсрочную.
Они были довольны, пожалуй, больше нас. Они забегали
к нам, возбужденные предстоящим назначением, вечером
торопились в роту. Со своими ротами они выходили на
полковой плац, а мы уже несколько дней выстраивались
под звук трубы у себя в казарме. Нас было слишком мало,
чтобы занимать место целой роты на поверке.
Мы стояли навытяжку в проходе казармы и слушали,
как далеко на полковом плацу тонко выводит трубач
вечернюю «зорю», а когда полковой оркестр начинал
«Интернационал» и полк подхватывал гимн, мы тоже
запевали в казарме. Но у -нас получалось незвучно и
нестройно, как — однажды я слышал — пели на полковой
кухне повара с очередными дневальными.
Скоро должно было кончиться и это все, вдруг обор-
ваться под стук колес привычное п обжитое. В середине
ноября нас было двенадцать человек, прошло три дня —
осталось шестеро. Товарищи слали письма с пути. При-
ходя в казарму из ДКА, мы находили пачки писем в
тумбочке дневального, забирались в тактический кабинет
и в темноте жгли спички и читали.
Письма товарищей вызывали в нас предчувствие тех
перемен в стране, которые мы сами должны были испы-
тать, увидеть своими глазами по пути домой. Ребята под-
мечали то, что взволновало бы и нас: на какой-то глухой
47
таежной станции девушки па перроне пели песню, кото-
рую, мы думали, поет лишь наша дивизия; на одном из
перегонов за Новосибирском поезд вел усатый машинист,
тот славный старик, который приезжал в гарнизон с ра-
бочей делегацией. Теперь он считался лучшим ударни-
ком на дороге. Он подсаживал ребят к себе на паровоз.
А еще дальше, в следующую ночь, они проезжали мимо
залитого светом прожекторов огромного пространства;
шла великая стройка, — они так и не узнали, что это
такое, какой строился завод.
Они просили передать комсомольский привет коман-
дирам и старшине.
Я прочитал это место Баженову. Он брился после
завтрака, сидя верхом на деревянной кобыле в ротном
складском помещении. Он был тронут приветом бойцов,
помрачнел и, чтобы скрыть чувство, ткнул бритвой в
письмо:
— Опять впотьмах блукаете!
Письмо действительно было в желтых подпалинках от
огня.
— Ну, стоит ли об этом, товарищ старшина!
— Погоди, погоди! — Старшина слез с кобылы, стоял
передо мной с намыленными щеками. — Объясни мне:
что — сердце? Вот я его чую. А ты... чуешь?
— Врачи что-нибудь сказали?
Баженов уклонился от ответа.
— Значит, не скажешь?
— Я своего сердца не чую, — сказал я жестким голо-
сом, почувствовав вдруг превосходство над старшиной.
В тот день кончился «внутренний отпуск» Баженова.
В столовой за обедом разнеслась весть о том, что новый
набор завтра прибудет в полк и что комиссар выехал
встречать призывников. Это шел тринадцатый год, паша
смепа — отборные ребята, лучшие производственники,
колхозные активисты, ворошиловские стрелки.
К вечеру окна корпуса, отведенного под карантин,
были распахнуты настежь, и во всех трех этажах про-
ветривались на подоконниках полосатые матрасы, прида-
вая предпраздничный вид внутреннему двору.
Начальник цейхгауза рысью пробежал в штаб с порт-
новским сантиметром на шее. Полковой врач в распахну-
той шинели быстро прошел в карантпп, за ним спешили
санитары в белых халатах. Трубачи потянулись в клуб
на репетицию.
48
— Ребята, а наш старшина уже там!
В окно казармы мы увидели Баженова. Он мчался
по двору с двумя огнетушителями под мышкой. Через
минуту он выскочил из дверей карантина и стал помо-
гать санитарам, выгружавшим с двуколки медицинские
весы; потом его лицо мелькнуло в окнах третьего этажа:
он поправлял матрасы; потом он вбежал к нам в ка-
зарму, вынул из своего облупленного сундучка обрывок
пакли и снова скрылся в дверях карантина.
Таким мы знали раньше нашего старшину. Для него
наступал новый учебный год — с новыми людьми, которых
надо всему научить, которых надо заставить полюбить
все это, чтобы потом отпустить, как и нас, по домам.
Бегая по двору, старшина напомнил нам начало
службы, первый наряд на кухне, первую ночь на посту,
первый поход.
Весной паша речка вздулась, затопила рисовые поля
за сопкой, вода подступила к железнодорожному полотну.
Полк был поднят ночью по тревоге. Ливень, казалось,
затоплял Приморье. Только на рассвете мы выбрались из
бора и подошли к железнодорожному мосту. Вода унесла
проволочные заграждения и три приземистые липы,
возле которых комдив однажды устроил разбор тактиче-
ских учений.
Нас встретили криками «ура» саперы, серые от уста-
лости.
Целые сутки полк не сменялся, — мы обкладывали
кулями с землей каменные быки моста, спасали на лод-
ках семьи, отсиживавшиеся на тростниковых крышах.
В тот день старшина не делал замечаний, не назна-
чал нарядов. Неистощимая сила, проявившаяся в нем,
увлекала нас за собой. Он таскал за двоих, греб за двоих,
грубовато подтрунивал над саперами у походной кухни.
Когда па следующее утро проглянуло солнце и за-
блистали покрытые водой поля, старшина повел нас ку-
паться — две роты вместе — и по дороге к реке упросил
дважды спеть авральную песенку, по случаю сочиненную
полковым поэтом Чигарьковым.
Мы пелп:
Бьются ливни над Приморьем,
Заливают сапоги...
Теперь все это для нас отходило в прошлое, а стар-
шина как будто хотел все начать сначала.
49
Далеко за полночь он прокрался к своей койке,
с кряхтеньем стянул сапоги, разделся и мгновенно уснул.
От вынужденного безделья мы не могли заснуть. Мы
слышали, как храпит старшина.
Однажды во время ночного дежурства на полковой
кухне он рассказал нам о родной тетке. Будто бы она
никак не могла уснуть, когда он начинал храпеть, — та-«
кая нервная бабенка. Она трясла его за плечо, будила,
никак не могла привыкнуть. Чего только она ему не про^
писывала перед сном!
В ту ночь на кухне, за чисткой картошки и лука,
старшина развеселился от воспоминаний и показывал:
нам, как он сморкался по ее приказу, полоскал горло,
мочил затылок холодной водой. Потом она научилась
тихонько свистеть, когда он начинал храпеть, — говорят,
помогает. Мы хохотали тогда, потому что, может быть,
ее и не было совсем, этой тетки, — старшина соврал для
красного словца.
Теперь мы спали плохо.
Утром старшина отправил нас в штаб за литерами.
Меня отозвал в сторону:
— Вы с писарем знакомы, узнали бы про меня, оста-
вят или негодный.
— А вам чего бы хотелось?
Баженов рассердился:
— Безобразие вы спрашиваете, товарищ!
Дерзкий востроносенький писарь, с которым мы до
наступления осенних дождей сражались в городки, молча
вручил нам запечатанные сургучом конверты для пере^
дачи в военкомат по месту жительства. Вид у него был
непроницаемый, но мы и не расспрашивали. Мы стара-
тельно вписывали под его диктовку в новенькие послуж-
ные списки даты призыва и увольнения.
Начальник штаба вошел с бумагами в канцелярию^
Мы вытянулись перед ним.
— Заготовьте проездные свидетельства, — приказал
он вышедшему из-за стола писарю. — Возьмите приказ
об отчислении старослужащих в бессрочный отпуск.
Писарь направился к пишущей машинке. Начальник
улыбнулся нам и вышел. Я заглянул в приказ. Первым
в списке увольняемых значился старшина Баженов.
Когда мы вернулись в казарму, Баженова там не было.
На дне манерки оставалось немного сурика, мы выкра-
50
сили сундучок старшины и поставили на подоконник,
чтобы высох.
В тот день прибыл тринадцатый год. Солнце на часок
заглянуло в гарнизон и как раз сверкнуло в трубах пол-
кового оркестра, шагавшего впереди колонны призывни-
ков. Бесконечная река пестреньких пиджачков, черных
фуфаек, городских пальто, кожаных тужурок и деревен-
ских нагольных полушубков вливалась во внутренний
двор. Она затопляла ряды двуколок, стоявших с подня-
тыми вверх оглоблями, шведскую лестницу и гимнасти-
ческие снаряды. Впереди на рослом жеребце ехал пол-
ковой комиссар. Колонна строилась в каре по сторонам
двора, а хвост ее тянулся по аллее до самых полковых
ворот.
Тысячи людей, одетых разнообразно и пестро, ша-
гали в ногу стройными рядами, уже разделенные на роты
и взводы.
Наконец в воротах показалась вереница грузовиков,
доверху заваленных сундучками.
До самого вечера в дверях карантина сновали моло-
дые люди, как пчелы весной на летке выставленного
улья.
Куда же ушел Баженов? Ясное дело, он все уже знал
о себе. Он вернулся с начальником склада — чернявым
мужчиной не нашего возраста. Вдвоем они долго вози-
лись в складском помещении: старшина сдавал пулемет-
ные диски, фанерные мишени, соломенные маты. Они
обошли казарму и подсчитали койки. Баженов даже не
взглянул на нас; вид у него был такой, что мы боялись
с ним заговорить.
После обеда он снова исчез.
В холодной казарме мы разбирали штатские вещи, вы-
нутые из цейхгауза; на откинутых крышках сундучков
развешивали брюки и рубахи, на пол бросали зазеленев-
шие парусиновые туфли, растягивали на коленях мятые
кепки. От вещей исходил прелый цейхгаузный запах.
— Вот вещи, — разговаривал сам с собой Чекано;в-
ский. — Полежат без хозяина — и снова надо разнаши-
вать: плесенью пахнут. — Он принюхивался к кепке,
брезгливо поджав губы.
Где же Баженов? Может быть, в карантине выгляды-
вает земляков?
Баженов еще не возвратился, а мы уже все знали.
Писарь пришел и рассказал нам о том, что Баженов
51
в мертвый час явился в штаб и имел с начальником шта-
ба душевный разговор. Все решено: приказ! У человека
шумы в сердце. Но он просил, жаловался на несправед-
ливость, уверял, что старшине заболевшее сердце не по-
меха. Начальник штаба был взволнован разговором, он
говорил Баженову «ты», спрашивал его: «Ты военный
человек? Я тебя спрашиваю — военный? Ты понимаешь,
что говоришь, о чем просишь?» И старшина что-то мям-
лил, потом резко повернулся на каблуках, вышел из
штаба, сел на ступеньках, вынул из кармана бумажку,
кисет и закурил.
Мы притаились, когда Баженов вечером пришел в ка-
зарму. Он заметил, что что-то неладно, и увидел на подо-
коннике свой выкрашенный сундучок.
— Безобра-азие... — сказал он и отвернулся, и по тому,
как он быстро прошел мимо нас к своей койке, мы по-
няли, что сделали непростительную глупость.
Оп долго разбирал вещи в тумбочке. В лихую минуту
мы всегда могли найти у него в тумбочке паклю, тря-
почку для протирки винтовок или масленку с щелочью.
Сейчас он вынимал все это — и стопку уставов, и ком-
пасы, и стрелковые линейки — и раскладывал в порядке
на койке. Затем он сложил все в большой красный пла-
ток, затянул узел.
Потом занялся сундучком. Он покопался в своих при-
везенных из дому в армию вещах, так же как это де-
лали мы. Я удивился, приглядевшись к его вещам, —
здесь были домотканые деревенские рубахи, ове-
чий треух. Так вот в чем приехал старшина пять лет
назад!
Из всех вещей Баженов отложил, как ненужный,
только деревянный гребень, наверно мамкой сунутый
в дорогу. Остальное побросал в сундучок, запер его и
толкнул ногой под койку.
Ночью в казарме было пусто и гулко; а может быть,
нам только казалось, потому что мы знали, что в сосед-
нем корпусе сотни людей шевелились на койках, шеп-
тались, делились впечатлениями первого дня, проведен-
ного в армии, и дневальные из старослужащих бегали по
казарме и не могли установить тишину.
У нас дневальным в ту ночь был Чекановский. Он си-
дел у телефона, штык лежал у него на коленях.
Я не спал. Накинув шинель на плечи, я выходил во
двор послушать знакомые гарнизонные звуки: ржание
52
коней у коновязей, грохот танков, торопливый шаг до-
зора.
Вызвездило, было холодно. Я возвращался в казарму.
— Что, Чекан?
— Грустно, вот что.
Я снова ложился на койку, но сон не шел.
Близко от меня, через три пустые койки, лежал Ло-
гинов, и я знал, что и он не спит тоже. В казарме никто
не спал. Чекановский был самый счастливый из нас: он
мог украдкой почитывать книгу пли обойти помещения,
заглянуть в тактический кабинет и переставить от нечего
делать в- учебном ящике деревья и мосты, как ему нра-
вилось.
На крайней койке лежал на спине, подложив под го-
лову руки, старшина Баженов. Он часто вставал, пил из
бачка воду, — звенела цепочка на металлической кружке.
Когда он проходил под полукруглыми арками, разделяв-
шими казарму, его тень неимоверно вытягивалась и изги-
балась дугой на степе, и почему-то именно в эту минуту
становилось отчетливо ясно, как он тоскует.
Я вспомнил коротенький разговор с Баженовым в
двуколке. Не так-то он радуется, как можно было думать.
Совсем не так. Он просто делал вид, когда жаловался
и когда говорил, что хочет домой. Вот и тебе, товарищ
старшина, здоровье не позволяет. Мне было обидно за
Баженова.
«Что ж, разве он один уезжает? — спорил я сам с со-
бою.— Завтра и я сдам винтовку на склад, и все будет
кончено. Запомню ли я хоть номер винтовки? Сейчас-то
я хорошо помню: 138 265. А через три года? А через
пять?»
Да, я полюбил армейскую жизнь, она стала родной
для меня: возвращение с маневров и влажный запах ши-
нелей, распространявшийся по казарме, п звук трубы,
зовущий на обед, и ясный, солнечный полдень в дубовом
бору, когда старшина выходил на полянку покурить. Да,
и этот полдень, и туманная ночь в карауле, и раннее си-
зое утро с озорным пением дневальных: «Подымайсь!
Подымайсь!»
— Подыма-айсь! — кричал старшина.
Я очнулся и вскочил на ноги.
Старшина с Чекановским в два голоса кричали: «По-
дымайсь!», звонил телефон, далеко у штаба выла сирена.
Это была учебная тревога. Теперь нас это не касалось.
53
Нас было шестеро в пустой казарме — вся рота. Мы
стояли у коек в одних кальсонах, поднятые криком Ба-
женова.
— Нас нету, товарищ старшина, — произнес Бере-
зюк и сел на койку.
— Не рассуждать! — заорал старшина.
— Товарищ старшина, нам надо переждать в казарме.
Ведь на смех поднимут: какая мы теперь рота? —
вступился за товарища Логинов, натягивая сапоги.
Но старшина уже выбежал в проход и вытянул в сто-
роны руки, показывая линию для построения.
— Рота, стройсь!
Пять человек стали плечом к плечу в пустой казарме.
— Напра-во! За мной бегом!
Коротенькой цепочкой мы сбежали по широкой лест-
нице, по которой, бывало, густым потоком сбегала рота
на голос сирены.
Части уже вышли из казармы. Свет погас во всем
гарнизоне. Три верхоконных мелькнули силуэтами на
полковом плацу.
Задыхаясь от бега, мы протопали по асфальту аллеи
и свернули за старшиной под деревья. Он вывел нас не-
заметной тропинкой на ту поляну, где на глыбе серого
гранита сидела каменная лягушка старинной маньчжур-
ской работы. Сюда наша рота всегда выходила, по тре-
воге.
Присев на корточки под низкими деревьями, мы от-
дышались. Земля густо усыпана сухими листьями. Глу-
бокая тишина. Слышно, как где-то далеко на станции па-
ровоз отдает пары.
— И чего побежали, спрашивается! Народ сме-
шить... — сказал Березюк.
— Тшш! — просвистел Баженов, он никак не мог от-
дышаться.
За деревьями, в темноте ночи, послышались тревож-
ные голоса, шорох сотен ног, вразброд шагавших по земле,
усыпанной листьями. Это вывели призывников.
— Слышите, ребята? — все еще задыхаясь, зашептал
старшина. Он привстал и вглядывался под деревья в тем-
ноту. — Шумят! Шумят, черти!
По асфальту аллеи кто-то скакал. Рядом с нами за-
храпел резко осаженный конь. Всадник легко спрыгнул
на землю, с электрическим фонариком вошел к нам под
деревья»
54
— Что за подразделение?
— Седьмая рота выведена по тревоге, товарищ на-
чальник штаба полка! — вытянувшись, насколько позво-
ляли ветви, шепотом отрапортовал старшина.
— Не много вас! — усмехнулся начальник штаба, и
губы его дрогнули. — Ну, спасибо, товарищи. — Он стал
пожимать руки — одному, другому, всем подряд. — Что
ж, хлопчики, значит^ завтра до дому? Ну, желаю вам...
Будьте здоровы, живите богато.
Он кивнул нам головой и вдруг узнал Баженова.
— Ну, будь здоров, Баженов, не сердись... — И он
быстро, не дав старшине ничего сказать, шагнул в тем-
ноту аллеи, где его дожидался конь.
1938
РАССКАЗ О РУЧНОМ ФОНАРИКЕ
Когда враги подошли к Ленинграду, город был по-
гружен во мрак: завешены окна, погашены уличные фо-
нари и даже обшиты чехлами золотые купола и шпили,
чтобы ничто не блестело.
Врагам нужно было понять, что там делается, — и
для этого ночью они подожгли Детское Село и много при-
городных деревень. Пламя от горевших дворцов и изб
поднялось в небо и озарило город. Но немцы как ни гля-
дели в бинокли, ничего не увидели и не смогли понять,
почему город стойко держится и не сдается.
Ким Ржанов вышел на улицу с электрическим фона-
риком. Бледные волны омывали гранитные стены кре-
пости. В тревожном небе вздымалась черная игла
Адмиралтейства. Со всех площадей всплывали в воздух
аэростаты со слоновьими ушами. Их освещало зарево
пожаров.
Ким шел от дома к дому, поднимался по темным лест-
ницам, стучал в двери.
— Кто там? — спрашивали за дверью.
— Из военкомата. Примите повестку, — отвечал Ким
и начинал жужжать своим ручным фонариком.
— Кого вы ищете, того уже нет, — отвечал голос за
дверью. — Он ушел на фронт, не дожидаясь повестки.
Кима впускали в квартиру. Он освещал фонариком
комнату, всю в следах поспешных сборов, кепку, брошен-
ную па пол. И то, что врагам не удалось увидеть даже
при свете больших пожаров, было ясно видно в слабом
пятне фонарика.
На улице Ким встречал мужчин. Но это были такие
же, как он, гонцы военкоматов — дети и старики.
56
Никогда Киму не случалось раньше обойти так много
улиц и домов. Он побывал и в квартире, где когда-то жил
Владимир Ильич Ленин. Из этой квартиры все мужчины
тоже ушли на фронт.
Утром усталый Ким вышел из одного студенческого
общежития, где стояли сотни кроватей с несмятыми по-
стелями.
Мальчик остановился у подъезда старого дома на
Сенатской площади. Справа и слева широкой лестницы
стояли мраморные львы, которые видели еще знаменитое
наводнение 1824 года.
Ленинградцы обкладывали мешками с землей своего
любимого Медного Всадника. Тут же учились призыв-
ники: одни равнялись направо, другие изучали ручную
гранату, третьи бежали со штыками наперевес. Утреннее
солнце освещало Сенатскую площадь — каждую трещинку
на львах, бронзовый венец на голове Медного Всадника,
солдатские штыки.
Мимо проехал трамвай. Из него выглянула соседка
Кима по квартире — кондукторша тетя Паша. Она пома-
хала защитникам Ленинграда. Один из призывников с не-
привычки замешкался, беря из рук сержанта опасное ору-
жие — ручную гранату.
— Не бойся — она же ручная! — крикнула кондук-
торша.
Все засмеялись словам толстой тети Паши. К ее кур-
носому, пышному лицу очень шел малиновый кант кон-
дукторского воротника.
В октябре дни стали короче, а ломти хлеба тоньше.
Когда в какой-нибудь семье старшая сестра уходила за
город рыть окопы, она говорила младшей:
— Я не успела сшить комнатные туфли для раненого
бойца.
И младшая с грехом пополам шила матерчатые туфли
очень маленького размера, несла их в госпиталь, который
находился в школе.
—• Эти туфли, — говорила она врачу, — отдайте тому
раненому, который лежит в третьем классе, возле сред-
него окна.
— А как его фамилия?
— Не знэю.
Она не знала его фамилии. А просто там, у среднего
окна, недавно стояла ее парта.
57
Подростки приходили с медными проводами и фарфо-
ровыми роликами в госпиталь, где раньше была их шко-
ла, и устраивали возле каждой кровати световые сигналы
для вызова сестры.
Был день, когда весь город собирал для фронта шер-
стяные варежки и лыжные свитеры, — и все спешили на
сдаточные пункты. И был день, когда весь город соби-
рал для фронта лыжи, — и несли их десятки тысяч пар,
так что улицы, казалось, поросли целым лесом — деревья-
ми, но плоскими, кривыми, без единого листка и ветки.
А вскоре кондукторшу тетю Пашу контузила бомба
на углу Литейного и Некрасовской. И Ким Ржанов со
своими приятелями пришел к ней, сказал:
— Хотите, тетя Паша, мы принесем вам хлеба из
продмага?
Ночью, когда летели вражеские бомбардировщики,
Ким Ржанов с друзьями выходил в ночной дозор. А днем
вся ржановская команда отправлялась в трамвайное депо
за обедом для контуженной кондукторши.
Ребята через весь город несли суп в стеклянной банке.
Они шли по Лермонтовскому проспекту, шли через По-
целуев мост; тут, у Морского экипажа, лежали минуту
ничком среди улицы — близко разорвался снаряд.
— Эй, неси осторожно, не расплещи! Тетке кушать
охота!
Ничего бы не стоило отойти в сторонку и глотнуть
супу из банки, но это было бы предательством, и ребята
старались шагать в ногу:
«В эту зиму нам не нужен теплый дом и сытный
ужин. В ногу, ребята, в ногу!»
Старуха раздобыла вязанку хворосту и под гул ору-
дий плелась домой. Ребята отвели ее на скамью, стояв-
шую поодаль от протоптанной дорожки. Там отдыхали
другие старухи, неподвижно, точно снеговые бабы.
Закутанная в теплый платок девушка дежурила
у подъезда с книжкой в руках. Ребята остановились возле
нее. Говорить было нечего. Один из мальчиков спросил:
— Что читаешь?
— «Войну и мир».
— Интересно? — спросил другой.
В тихом переулке незнакомый мальчик вел под руку
старика. Он почти что нес его, длинного, узкого, завер-
нутого в зимнее пальто, похожего на кабинетные часы
шкафиком.
58
— Давно заболел-то? — спросил Ким.
— Заболеешь тут! — ответил незнакомый мальчик п
добавил:
— Самого еле носят стабилизаторы,
— Какие стабилизаторы?
— Ну ноги.
Ребята, стараясь не глядеть на ослабевшего человека,
обдумывали эту новость: ноги — стабилизаторы? Они зна-
ли, что полет бомбы выравнивает ее стабилизатор. Но
ведь то в воздухе.
— Куришь небось? Вот и виноваты стабилизаторы.
— Курил — бросил, — сказал мальчик. — Вот побе-
дим — тут я выкурю одну папироску, это верно.
Так понемногу ребята добирались до дому.
Тетя Паша не знала, как отблагодарить мальчиков,
поэтому они старались скорее убежать от нее. Было
темно, но они сидели по своим квартирам в одиночестве,
дожидаясь мамы с работы, и обдумывали, что будет рань-
ше — мама или тревога? А у Кима Ржанова не было
мамы.
Наступила зима; по вечерам стало так темно, что гру-
зовики наезжали сослепу на тротуар, и шоферы выходили
из кабин и в темноте шарили ногой под колесами. Трам-
вай не работал, и надо было пешком идти с заводов до-
мой. Во тьме покачивались самосветящиеся медальки,
приколотые к груди, чтобы людям не натыкаться друг
на друга.
Слышались разрывы снарядов. В конце улицы свер-
кал огненный сноп взрыва.
Ким Ржанов стал часто оставаться у кондукторши.
Ложился на перинку, постланную на сундуке, и слушал,
как, разогревая суп, вздыхала тетя Паша. Она похудела,
лицо стало бледным, отекло, а кондукторский воротник
с малиновым кантом остался такой, как прежде.
«Она не трусиха, только контужена, потому и боит-
ся», — думал Ким и вспоминал с улыбкой:
— Ну как, тетя Паша, твои стабилизаторы? Не
устали?
Потом они немного ссорились за ужином: кому сколько
есть? Каждый оказывался сыт по горло. Но тетя Паша
все-таки переспоривала, и пока Ким шаркал ложкой по
донышку кастрюли, кондукторша снимала со стен раз-
ные висячие вещи и относила их в дальнюю темную ком-
нату, откуда жильцы уехали в начале войны,
59
Каждый вечер она снимала что-нибудь со стены, что
могло свалиться от взрыва фугаски и упасть на спящего
Кима. Сперва она сняла охотничье ружье покойного
мужа, потом оленьи рога, потом посудный ящик. Она от-
косила вещи в темную комнату, откуда все уехали, и от-
дыхала там с минуту. «Об-уехавших-но-помпят-в-тишипе-
раскрытых-комнат», — постукивало сердце, мешая по-
пять, что спросонок говорит мальчик:
— Тетя Паша, твоя кондукторская сумка не сва-
лится? Видишь, какой гвоздик.
Он уже не слышал, как кондукторша присаживалась
к нему на супдук, подворачивая под пего одеяло, и напе-
вала песенку, которая ей была всего дороже: «Мой сыно-
чек так уж мал...»
В полночь начиналась воздушная тревога, и с верх-
него этажа в квартиру тети Паши сбегали две сестры. Они
были трикотажницы — вязали полосатую материю для
купальных костюмов. Но теперь в Сестрорецке на мор-
ском пляже был фронт, а трикотажницы стали лесору-
бами. Они валили деревья в лесу за Парголовом и подво-
зили дрова в город, чтобы в домах было тепло. А на фаб-
рике женщины делали, по собственной охоте, ножи для
партизан и металлические колючие звездочки, чтобы раз-
брасывать их во вражеском тылу на дорогах и прокалы-
вать автопокрышки.
Некоторые из работниц стали донорами — отдавали
кровь. Ким не представлял себе, как это делается: как от-
качивают кровь в пузырьки и сберегают для бойцов, для
тех, кто обессилеет от потери крови на поле боя. Он
вслушивался в разговоры трикотажниц.
— Ты не поверишь, тетя Паша! — говорили сестры. —
Одна девушка есть, комсомолка Носова, она уже отдала
одиннадцать литров крови!
— Ее надо представить к правительственной награ-
де, — говорила грудным голосом кондукторша. — Я б ее,
милушку, расцеловала. Вот бы ее кровь да тому удалень-
кому, что ручной гранаты испугался!
И она рассказала, как высмеяла призывника па Сенат-
ской площади.
На людях кондукторша не так беспокоилась, что над
городом свистят бомбы, и даже забывала о том, как
грохнули стекла вагона и ее ударило головой о железный
потолок.
60
— А сколько это будет — одиннадцать литров? Боль-
ше чайника? — спрашивал Ким.
— Это больше, чем полведра, — говорили трикотаж-
ницы. — В ведре шестнадцать литров. Спал бы ты, Ким!
С минуту Ким лежал смирно, потом шел как будто
в уборную, а на самом деле на кухню. Он наливал воды
в ведро — одиннадцать литров! — и при свете своего фо-
нарика пробовал на вес. И то, что враги не могли уви-
деть при свете пожаров и ракет, было ясно видно в сла-
бом пятне фонарика.
Под утро, когда и тревога кончалась и уходили сест-
ры-трикотажницы, тетя Паша начинала тревожиться. Она
боялась каждого звука за окном; в темноте был слышен
ее шепот: «Слушай, слушай, маленьким! Кто там бродит
в сапогах? Кто там в валенках?..» А это метель мела во
тьме на площади Льва Толстого да ухали разрывы сна-
рядов где-то далеко, безопасно.
Ким ничего не боялся. Он занят был своими мысля-
ми — о железных звездочках, о партизанских ножах. Ко-
гда-то оп любил подкладывать пистоны под колеса трам-
вая. Теперь он мог бы...
— Тетя Паша! Почему мама умерла до войны? Ведь
сейчас бы не умерла, — сказал он, сам не зная, что гово-
рит, и не получил ответа: тетя Паша спала.
А через день тетю Пашу пришлось отвезти в госпи-
таль, и Ким часто ее там навещал. Сиделки принимали
его за сына больной кондукторши.
В солнечный зимний депь Ким Ржанов с приятелями
шли по улице Росси, и один из мальчиков сказал:
— А ведь нам нельзя умирать...
«Мы не умрем», — подумал Ким Ржанов.
Эта мысль не покидала его с той минуты, как оп по-
пробовал на кухне при свете фонарика тяжесть полного
ведра.
Каждый день и почти каждый час он видел, как уми-
рают. Но чем труднее становилось жить, тем сильнее ве-
рил Ким, что вот-вот люди перестанут умирать. Они так
соединятся в борьбе, что никто не сможет оторваться ото
всех, чтобы умереть в одиночку.
Но когда к ребятам подошел их управдом и спросил
Кима: «О чем задумался?» — он не поделился своими
мыслями, а, наоборот, повел разговор совсем в другую
сторону: о том, что птиц в городе не видать — ни галок,
ни воробьев.
61
— Все галки улетели в Череповец, — убежденно ска-
зал управдом.
— Почем вы знаете?
Жилец из восьмой квартиры прилетел на самолете,
разведчик Худько, Он их там видел. Там их тьма-
тьмущая.
— А кто это такой — Худько из восьмой кварти-
ры? — спросил Ким Ржанов.
— Знаменитый герой! Враги его захватили в плен и
потащили связанного. Худько знал, что идут по минному
полю, но смолчал: пусть они полетят в воздух вверх тор-
машками. Раздался страшный взрыв. Но Худько уцелел,
а врагов полегло видимо-невидимо. Худько, весь окровав-
ленный, дополз до наших окопов. В госпитале он попра-
вился, ему сделали вливание крови. Завтра едет опять на
фронт.... А галок в Череповце тьма-тьмущая.
— Скажите пожалуйста!.. — задумчиво произнес Ким.
Так поговорив, они разошлись: управдом — в одну
сторону, а ребята — в другую.
Вечером Ким пошел в восьмую квартиру. Она была
не заперта, но Худько еще не было дома. Ким затопил
голландскую печь, накрошил в кастрюлю кирпичики го-
рохового супа и сунул в печь: пусть варится. Ему было
скучно без тети Паши, он хотел дождаться Худько.
Разведчик пришел, когда уже завыли сирены, и не
очень удивился, увидев чужого мальчика. Они познако-
мились. И тут, укладывая на завтра свой заспинный ме-
шок, разведчик Худько рассказал Киму, как стреляют
снайперы, как кочуют кочующие орудия и как он сам
взорвал врагов на минном поле.
— Скажите, товарищ Худько, вам было страшно? —
спросил Ким.
Разведчик Худько задумался и усмехнулся, точно
вспомнив что-то далекое.
— Мне было страшно однажды, в начале войны. То-
гда еще я учился воевать. Это было на Сенатской пло-
щади. Я побоялся взять в руки ручную гранату. А мимо
проезжал трамвай, из него выглянула толстая кондуктор-
ша и подбодрила меня: «Не бойся — она же ручная!»
И все смеялись, а я излечился от страха на всю войну.
— Так это тетя Паша! — крикнул Ким. — Она конту-
жена и лежит в госпитале.
— Ну, Паша так Паша. Передай ей от меня красно-
армейский привет, — сказал разведчик, лег в овчинном
62
полушубке на тахту и мгновенно заснул, не дожидаясь
ни горохового супа, ни конца тревоги.
В ту ночь бомбежка долго не кончалась. А потом на-
стала тишина, и снова послышался звук моторов. Но Ким
догадался, что это летят наши, прочесывают небо над го-
родом, и, значит, скоро будет отбой воздушной тре-
воги.
И верно, был отбой. А Худько спал на тахте.
Ким поворачивал кастрюльку на угольях в печи и
слушал, как кипит и булькает суп и как стучит на стене
метроном: тик-и-так-и-тик-и-так... Дескать: «Спите-спите-
можно-спать — всех-минут-не-сосчитать...»
Тогда Ким в полутьме скользнул к тахте, присел на
корточки перед спящим героем и спросил:
— Дядя Худько, а вам, часом, не влили кровь ком-
сомолки Носовой?
Но спящий ничего не ответил.
Тогда Ким еще спросил:
— А ведь нам нельзя умирать, дядя Худько?
Он знал, что Худько коммунист, и хотел такого от-
вета...
На следующее утро Ким пошел в госпиталь, чтобы
рассказать тете Паше о храбром Худько. Но больничная
сестра обняла мальчика и поспешно вывела из палаты
в коридор.
— Мы твою маму отправили на самолете. Ей будет
хорошо.
Ким не стал спорить и доказывать, что это не мама,
а тетя Паша. Он разыскал тетю Пашу. Она лежала в ко-
ридоре, в самом темном углу. Он не увидел ее лица, но
догадался. Там на кровати, на пружинной сетке, лежал
узенький, словно спеленатый сверток. Он занимал удиви-
тельно мало места на железной сетке, и к нему была при-
колота булавкой записка. Посветив своим фонариком, Ким
прочитал: «Прасковья Петровна Смирнова, 46 лет...» —
и дальше не стал читать.
Он потихоньку вышел из госпиталя, чтобы его но
словили сиделки.
Говорят, что в эту минуту и началось наше генераль-
ное наступление. Мастера Кировского завода строили тя-
желые танки и сами выезжали на них за ворота — до
фронта было всего три квартала.
63
За последними домами предместья была непроходимая
топь. Враги не рассчитывали, что здесь можно пройти.
Но к вечеру бревенчатые дома стали сами скатывать с себя
бревна — одно за другим, стена за стеной. Бревна сами
катились в болото и ложились широкой дорогой, простор-
ной бревенчатой гатью. И на нее выходили наши тяжелые
танки.
Бомбардировщики бомбили бревенчатый настил.
Взрывная волна сбрасывала ленинградцев с полуразобран-
ных домов, но люди тяжело всходили наверх и снова
скатывали бревна одно за другим, стена за стеной.
В темноте ночи многие удивлялись: кто этот малень-
кий среди них? Это был Ким Ржанов. Он стоял, осве-
щенный только звездным светом, нахохлившийся, в боль-
шой шапке, надвинутой на уши, в тяжелом ватничке
с длинными, сшитыми на рост рукавами. Если падала
фугаска, он первый кричал:
— Ложись!
И все ложились.
Если падала зажигалка, он первый хватал ее и сбра-
сывал.
Вот запылала до самого горизонта бревенчатая доро-
га, по которой шли тяжелые танки. Все осветилось на
большом расстоянии. Только где-то далеко, очень далеко,
чернела Адмиралтейская игла в звездном решете ясной
ночи. Ким работал среди огня и света как мастер своего
дела.
И всю ночь тяжелые танки гнали врагов прочь от род-
ной земли, на устрашение всем будущим посягателям и
зачинщикам. Прочь от родного города, в который так и
не удалось им заглянуть, чтобы понять, почему он не
сдался!
1942
КАКОЙ ОН БЫЛ
На лесистый берег сходит с барж полк Трубачева.
Давно пе бритые люди вереницей спускаются по мокрым
доскам, шинельные скатки накручены на плечах. Кони
осиливаются, застревают копытами в щелях сходней.
Слышу голос:
— Остались одни коренные. Уносные все там...
Полк только что вышел из боя. Канонерка «Пурга»
привела две баржи. Ладожское озеро — пустынное, угрю-
мое. Если долго смотреть — как будто поставленная на
ребро сланцевая доска. Солнечный свет июльского дня пе
в ладу с этой слоистой гладью. Холодное озеро и солнеч-
ный день существуют отдельно.
Два красноармейца сводят па берег коня с забинто-
ванной мордой. Люди неторопливо располагаются иод
соснами, котелки и фляги — на мху; под густой сосенкой
уже разбивают палатку. Мимо меня проезжает дву-
колка со штабным имуществом, там даже арифмометр.
В этот табор верхом па копе ловко съезжает по мокрым
доскам начальник артиллерии, он сутуловат и даже в сед-
ле кажется очень длинным, и его мощный голос отдается
в лесу:
— Дро-о-опов!
К нему подбегает начальник копной разведки, у него
лицо в зеленых искрах пороха.
И уже командиры разводят людей: полк занимает
оборону. Никто ничего пе знает о противнике, только
с северо-запада, с лесной стороны, слышится канонада.
Я сижу па пеньке с полевой сумкой и блокнотом.
Мимо в толпе младших офицеров — тех, что с «ку-
барями»,— проходит Трубачев. Лицо умное и доброе,
3 Н. Атаров, т. 1 65
молодое, странно украшенное старомодной круглой бо-*
родкой.
Ко мне подбегает Петя Шаламов:
— Что ж вы не представились? Он ведь не знает, что
вы из газеты.
— Зачем же я буду мешать...
Петя Шаламов — инструктор политотдела дивизии,
совсем мальчишка. Я с ним в эти дни встречался. Он
блуждает в подразделениях и то, что ищет, то п нахо-
дит: он уже доставлял ящики с толом для взрыва моста
и защищал Кивинпемскую переправу. Он контужен и
заикается. Я не знаю — от контузии или от молодости он
ничего не понимает в происходящем. Самый лютый его
враг — поговори с ним — какой-то зловредный правщик
в дивизионной газете: оп переврал его заметку. Отойдя
от меня, оп окликает кого-то:
— А Верстаков убит?
— Живой он, — укоряют его за легкость в мыслях.
— А я его уже в грамматику записал. — И смеется.
Его «грамматика» у меня на коленях. Он настрочил
множество политдонесений, я делаю выписки: «Комму-
нист Жигатов первым бросился в штыковую атаку...»,
«Красноармейцы все в целом и в особенности Мамадев,
Демьяненко, Ионов дрались героически, расстреливая
в упор...» И о Комарове так же казенно: «Младший лей-
тенант Комаров, будучи командиром взвода управления
батареи, не уходил с наблюдательного пункта на гранит-
ном холме, а когда его окружили, корректировал огонь па
себя, отсекал себя огнем своей батареи...»
Я уже слышал о Комарове. О нем говорят все. Оп был
сельский избач и не успел в своей деревне вступить
в партию, его приняли за три дня до начала боя. Он так
удобно обосновался на холме, что его не могли бить пря-
мой наводкой, а он хорошо видел на позициях против-
ника минометы, грузовики, двуколки, даже прислоненные
к деревьям велосипеды. Он так избаловался к концу мно-
годневного боя, что матерился по телефону, если его ар-
тиллеристы по с первого снаряда покрывали цель. Потом
оп оглох, не слышал, что ему кричали в трубку. Он был
ранен, сам себя перевязал и мог бы еще уйти, но оп толь-
ко уничтожил документы и остался... Как же о нем те-
перь написать? Ведь нельзя же, как Петя Шаламов.
Вот он сидит, Петя Шаламов, поодаль на своем мок-
ром ватнике, разулся и шевелит пальцами, греется на сол-
66
нышке. Его забавляет возня с котенком. Откуда взялся
тут белый котенок? Наверно, с баржи. Он ловит лапкой
травинку, надкусывает, потом, изгорбившись, делает
странный прыжок и впивается в босую ногу инструктора.
И тот хохочет. Его можно было бы возненавидеть за мо-
лодой п пылкий бюрократизм, если бы оп сам не был так
бесстрашен и очертя голову не бросался в огонь и в воду.
В последний раз в воде он побывал этим утром. И еще
не обсох. И блокнотные листки из его полевой сумки мок-
рые, я их читаю и тут же сушу на солнце.
Трубачев разослал своих молодцов и ходит по лесной
тропинке, думает. Я слежу за ним издали, это интерес-
но — командир полка, углубленный в раздумье. Он под-
ходит ко мне, заговаривает. Он недоволен тем, что полку
не дали отдохнуть. «Раненых ночью отправят в тыловые
госпитали, а мы — снова в бой. А у нас даже смены
белья нету...»
— Латаные штаны недолго носятся, — говорит он,
задумавшись. — Вы для армейской газеты пишете? На-
пишите о Комарове...
— Какой он был?..
Трубачеву трудно объяснить, какой был Комаров.
— Оп был такой... небольшого роста.
Он вспоминает что-то несущественное: Комаров толь-
ко что экипировался, и новые ремни па нем поскрипы-
вали. Чтобы помочь Трубачеву, я показываю ему реля-
цию Пети Шаламова, хотя из нее тоже немного-то почер-
пнешь. Трубачев улыбается — видно, что с Петей у пего
особые отношения:
— Шаламов, ко мне!
Я вижу, как Петя вскакивает, босой, быстро, по-кур-
сантски застегивает крючки на воротничке, быстро под-
бегает и вытягивается по стойке «смирно». И улыбает-
ся — ему легко и приятно так тянуться.
— Вы что ж, Комарова разве не видели? На партсоб-
рании.
— Видел, товарищ полковник...
—- А вот сообщаете о нем скуповато. Будто не ви-
дели.
— Товарищ полковник, я даже ночью пытался к нему
на НП пройти. Когда провод порвали.
Трубачев, улыбаясь, гладит свою круглую бородку:
— А вы бы сбегали туда. Там девочка ягодой торго-
вала... Только объелись бы, Шаламов.
3*
67
Тут какие-то намеки — я их не понимаю. Трубачев
отпускает инструктора. Лицо его делается неожиданно
жестким, и он с сердцем произносит:
— Вы нашего пленного не видели? Сходите на капо-
перку...
Всхожу па борт канонерки. Под охраной часового
окаменело сидит на бунте каната финская старуха. Ее
захватили с подрывным шпуром и картой. Я не могу
оторвать от нее взгляда. Старуха-диверсант — первый
пленный, увиденный мною с начала войны. Она непо-
движна, как ящер, как допотопный ящер, за ее горба-
той спиной — холодная сланцевая плита Ладожского
озера.
В кают-компании пьют спирт раненые летчики, сби-
тые в воздушном бою. Они дожидаются ночной дороги.
Между прочим сообщают мне странную новость: изве-
щать родных пока не приказано.
— «Техника мертва без людей». Ну, а люди мертвы
без техники, — горько пошучивает старший по званию и
удивительно нежно проводит ладонью по шелковистым
волосам молодого летчика — тот спит, как-то по-детски
прижав рукой переносицу.
Ухожу от них на палубу. Там появилась еще одна
женщина — это уже наша, русская, доярка из переселен-
ческого колхоза. Я с удивлением вслушиваюсь в ее раз-
говор с моряками из экипажа:
— Тут у вас коровы недоеные... Уж я, ладно, подою...
На корме в самом деле стоят понурые коровы. И жен-
щина присаживается к одной из них. Порскает, позвани-
вает струя в подставленном ведре. Пленная старуха не
поворачивает крючконосой головы. Я схожу на берег.
Под соснами — некоторая демаскировка: красноар-
мейцы сгрудились возле двуколки, старшина распреде-
ляет махорку. Пока раскручиваются и закручиваются
шнуры кисетов, слушаю разноголосую болтовню. У каж-
дого есть свое воспоминание, каждый только себя и слу-
шает. Я слушаю всех сразу.
— Мы ж, пехотинцы, не знаем, как ящики откры-
вать... Крышку на голову, ну, смех...
— А наше орудие правым колесом уехало в канаву...
— Два корня легли, а мы на ногтях вынесли...
Еще я слышу рассказ, как тащили подбитый танк
в ночном лесу — на тросах, концом за одну сосну, по-
том — за другую.
68
Рассказывают и смешное: писарь сжигал документы
и сунул в огонь собственные деньги.
— Наш Отгадан лучше вашего Угадан, — веселит то-
варищей по какому-то поводу курносый, в веснуш-
ках. И всем весело глядеть па него, как он крутит ци-
гарку.
И еще — вспоминают о Черненьком, был там такой же-
ребеночек, он шарахнулся и в лес убег. Он и сейчас,
верно, в лесу гуляет.
Меня разыскивают — начарт приглашает обедать.
У входа в палатку два деревца — рябина, на ветвях ко-
торой сохнет плащ-палатка и покачивается на ремне по-
левой бинокль, и поросшая светло-зелеными хлопьями
мха сосенка, к ее стволу прислонен велосипед.
Начарт — подтянутый, начищенный, выбритый. О нем
говорят, что он за один день поседел, когда третья ба-
тарея потеряла материальную часть. Петя Шаламов
с восхищением рассказывал мне о нем, что он не рас-
стается с Клаузевицем, Наполеоном, читал командирам
лекцию — в порядке партийного поручения — о Бруси-
ловском прорыве.
Сперва он излагает мне всю свою критику прошедших
боев: люди еще не умеют окапываться, а их пропустят
на сопку и бьют минометным огнем в шахматном поряд-
ке — «очень аккуратно».
Я вдруг замечаю, что он не слышит. Оглохший артил-
лерист... Он не слышит, например, стука топоров —
а это минометчики готовят позиции, расчищают сектор
обстрела, не слышит, что подъехали грузовики, подвезли
пз армейского интендантства нательное белье: старшины
договариваются громкими голосами. Он даже не слышит,
как бредит в углу палатки больной помпотех. Тот лежит
под белой простыней, глаза берутся пленкой, по широко
раскрыты и ничего не видят. И он все время, пока мы
с начартом обедаем, что-то бормочет. До меня отчетливо
доносится его вздох: «Слышите, косу отбивают...» И буд-
ничным движением он бессознательно прихлопывает ко-
мара на смуглой от жара щеке.
Начарт рассказывает о Комарове. Я понимаю, что он
затем меня и позвал с собой обедать. Им всем позарез
нужно, чтобы о Комарове узнали в армии.
Когда начарт отходит к больному, чтобы заправить па
нем сбитую простыню, , я замечаю, что сквозь полотно
палатки ветви рябины сохраняют свой зеленый цвет.
69
Я вижу тень от покачивающегося бинокля. И мне очень
хочется написать о Комарове по-человечески. Я начну
так! «Бойцы и командиры, однополчане младшего лейте-
нанта Комарова, поручили мне рассказать о последних
днях своего товарища...»
Вечером раненых выводят из укрытий. В фургоне са-
нитарной машины темно и тесно. Передо мною четверо
в ряд — нахохлились, как больные птицы. В запахе йодо-
форма и бензина какая-то несуразная мирная примесь —
неужели духи? И тотчас в подтверждение нелепой до-
гадки— молодой женский голос: «Кому Броня, а кому
Бронислава Петровна...» Сказано с оттенком кокетства.
И я не сразу понимаю, что женщине нехорошо. В свете
спички вижу: медсестра открытым горлышком флакона
ударяет быстро-быстро по ладони. Ее мутит.
В качке движения незнакомые люди сроднились. Слы-
шна заметно усилившаяся канонада. Иногда близко —
пулеметные очереди. Часто останавливаемся. Под соснами
в маленьких окопчиках упрятаны люди, они не курят, и
неизвестно, как я угадываю их присутствие.
Грузовик с погашенными фарами надвигается на меня.
Над кабиной стоит в полный рост, в темных от крови
бинтах, горбоносый. Пока шофер расспрашивает меня,
почему впереди стреляют, горбоносый молчит. Он ранен
в висок и в плечо. Наша сестра предлагает ему перейти
в санитарную машину, он даже не отвечает. Он стоит и
будет стоять напоказ всем, кто на дороге. Это, собственно,
дает ему силы стоять.
И снова — тесно и темно. И качка. Нога в лубке пере-
гораживает узкий проход. Это мой сосед. Ногу он хорошо
устроил п сейчас обеими руками нашаривает в карманах
пачку папирос. И тот, кто сидит напротив, принимает
предложенную папиросу прямо зубами — у него обе руки
прибинтованы к телу, рукава болтаются. Над нами, на
верхних подвесных носилках, кто-то невидимый мучает-
ся: «Ой, ой, о-ой...» Говорят, что он не доедет. Он стонет
так, будто хочет усовестить саму боль: «Да помилуйте,
да разве ж так можно...» А рядом — мирное иашариваиие
в карманах в поисках спичек, и от этого тысячу раз зна-
комого жеста мне почему-то приходит на память прежде
никогда не вспоминавшаяся фраза — кажется, из «Войны
и мира» — о притворных стонах раненого. Но эти-то
стоны, они-то не притворны! Наверно, и Комаров так сто-
нал... И я впервые за много ночей и дней ожесточаюсь па
70
себя. За это воспоминание. И, может быть, за то, что сел
в переполненную машину, мчусь куда-то пе туда...
Всего лишь второй месяц войны. И вот впервые —
острое ощущение прорвы. Из этой прорвы валит по лес-
ной дороге санитарная машина, и в запахе йодоформа,
духов и бензина я слушаю сбивчивые рассказы раненых,
все они по-детски удивлены тем, что с ними случилось...
Впереди бомбят дорогу. Машина останавливается. Все
замолкают. Только отчужденно-устало стонет тот, на под-
весных носилках. Объезжаем в толпе, как в уличном
происшествии, еще дымящийся край воронки.
Носилки стоят па обочине. Товарищи уносят кого-то
к нашей машине. А я разглядываю носилки: темный от
крови пучок травы и то место па брезенте, где натекло.
Иду назад. В такой ранний час лес живет голосами
войны. Но это самое начало войны, впервые я чувствую —
это еще самое начало. Еще никто не привык. В обозе
ездовые ругают бородача за то, что ему же не досталось
хлеба.
Курсант-прожекторист упрашивает девушку в пи-
лотке:
— Вы бы хоть дали адресок.
Она дает ему два адреса: военно-полевой и домашний.
Лейтенант чем-то хвастает в кругу товарищей. Я по-
нимаю, что хвастает, по одному словечку — он его певуче
растягивает:
— Батал-ли-он!..
— А вы покормили людей? — слышится окрик стар-
шего командира. — Надо покормить людей, а потом байки
вколачивать. Потрудитесь, лейтенант, не спорить.
Еще одна машина, полная стопов и говора раненых,
проходит со стороны места высадки трубачевцев. Остано-
вилась. Военный врач требует от шофера нарубить по-
больше веток для противовоздушной маскировки. В ру-
ках у него как наглядное пособие еловая ветка. Шофер
пе хочет, он ироничен и нетерпелив. Рядом с ним в ка-
бине маленькая молчаливая фигурка в каске. Это, на-
верно, врач из запаса. Новенькие ремни поскрипывают
па ном, — кажется, что он упакован, перекрещен рем-
нями, точно небольшой дорожный чемодан. Но именно по-
тому, что па нем каска и эта скрипящая портупея,
видно, какой он еще абсолютно штатский. В спор он не
вмешивается. Не его дело. Только морщит пос, ясно,
что он не признает всех этих педантичных глупостей с
71
маскировкой и хотел бы просто ехать быстрее, без оста-
новок. Ехать так ехать...
— Смешно, — обращается оп ко мне, сочувствуя шо-
феру. — А вы куда?
— Назад, в Сартанлахтп, — невольно отвечаю я.
— Мы оттуда. Там эти... трубачевцы выгрузились...
Остатки... Хотите шоколад?
Кажется, что он принимает меня за кого-то другого.
Или просто так, из солидарности, что ли? Он угощает
меня шоколадом, уговаривает взять его запас калыщкса.
Это мне пригодится: ночи холодные. И оп навсегда от-
плывает от меня все-таки с еловой веткой в руке.
Долго стою у дорожного столба. Я очень устал. Мне
кажется сейчас, что я все знаю о Комарове, какой оп был:
небольшого роста, в каске, в скрипящих ремнях, вызывав-
ших улыбку кадровиков; какой оп был потом — оглохший,
закопченный, заросший, привык ходить, не поднимая го-
ловы; какие он видел велосипеды, прислоненные к де-
ревьям; как покачивался в гнезде у него бинокль па длин-
ном ремне; как стучали топоры в лесу, когда он стоял
в кровавых бинтах, бледный, заросший, маленький с ви-
ду, но такой огромный в своей доблести человек, — он
стоял, и непонятно было, что давало ему силу стоять...
Я иду по черному пустырю в лесу. Кое-где краснеют
кустики малины. Ржавая жаровня — переносная желез-
ная корзина от той войны — вросла в землю. Дальше лес
еще темнее. Изгибистой грядой тянутся красноватые
гранитные надолбы, точно спина допотопного ящера,
улегшегося в высоких папоротниках.
Я мало знаю о Комарове. И я знаю о нем все.
1964
ВЕСЫ И САНКИ
Кому довелось в ту зиму идти по Ладожскому озеру,
тот, вероятно, запомнил рыбацкие лодки, впаянные в лед
у берегов.
Люди, покидавшие осажденный город, ждали в лесу,
когда им предложат грузиться в машины. Позади, на
станции, паровоз лепил из пара снежную бабу; где про-
шли по лесной дороге грузовики, там оставался запах
скипидара, примешанного к бензину; в сумерках слы-
шался звук пилы; разжигали костры и грелись широко-
плечие люди в белых халатах; рядом с ними сидели дети,
закутанные во что попало, похожие па пенечки; и не-
пременно кто-то, какой-нибудь ленинградский житель,
доживал свой век у огня, не дотянув до Большой земли.
По ночам неслышно заводились в небе отблески воз-
душных налетов. Вдруг ладожский ветер, сиверкий,
предвещая бурю, надувал забытые паруса на лодках, и
все замечали, как дальнее зарево освещало заледенелые
холсты. Кто их оставил зимовать на лодках?
Метель начиналась поземкой, закуривала озеро и че-
рез полчаса закрывала дорогу. Нельзя было и думать
о том, чтобы выпустить машины пли тем более пешеходов
на лед. Кто не бывал зимой на Ладожском, тому и не во-
образить тамошних бурь: сыпучие обвалы ветра со сне-
гом, обжигающие удары ледяной крупы, волнообразные
порывы снежных хлопьев, похожие на вертящиеся суг-
робы. Между тем поезда, приходившие с Финляндского
вокзала, выгружали новые партии людей; их негде было
размещать.
Иногда метель, набушевав, приоткрывала белую даль
озера, лед, изрытый воронками, и даже можно было
73
пересчитать до самого видимого края несколько давно
застрявших в трещинах грузовиков. Но через полчаса
с озера снова надвигались с налетевшим ветром громад-
ные массы падающего снега.
Комендант рыбацкого поселка и ого бойцы почти пе
отдыхали, потому что, едва наступало затишье, кое-кто из
голодных людей, не помня себя, сходил па лед и шел, пе
дожидаясь автоколонны. Чтобы закрыть все выходы из
леса на озеро, комендант посылал бойцов в заставы. Сам
он сидел, вздрагивая от дремоты, в холодной каморке
школьного сторожа, за столом, охватив руками зачесан-
ные па затылок седые волосы.
Вьюга толкала бойцов в спины, они топтались то в су-
гробах у буеров, то в глубоких колеях, сползавших с лес-
ных бугров в ледяное крошево, светили друг другу руч-
ными фонариками. В слепоте снежной ночи они, бывало,
наткнувшись на грузовик, нащупав его фары, снимали
варежки с рук, чтобы наконец догадаться, что это такое.
Так они несли свою службу. Эвакуируемых ждало скорое
спасение — сытость и сон в тепле. А бойцы комендант-
ской команды возвращались с патрулирования, порой
поддерживая друг друга, шли медленно, ища дорогу про-
тив ветра к рыбацкой барке.
Я жил с бойцами в трюме одной из барок. Моя воин-
ская часть, находившаяся в Ленинграде, послала меняна
ледяную дорогу проследить за эвакуацией семей. Выбор
комиссара пал на меня, потому что в осажденном городе
у меня не было близких. Комендант поселил меня с бой-
цами, пока не подъедут старики, женщины и дети, о ко-
торых мне поручили позаботиться. В трюме нашей барки
остались рыбацкие невода, на которых мы спали; по
углам стояли бочки, в которых мороз убил все запахи,
а посередине, возле ничтожной печурки, возвышались
закуржавевшие от изморози десятичные весы; па них
спал командир комендантского взвода сержант Семуш-
кин. Тут было холодно и тесно по ночам, очень тесно, но
если бы не теснота, не знаю, смог ли бы я теперь расска-
зывать обо всем этом.
На третий день, как раз в затишье между снежными
шквалами, прибрел с донесением санитар Куцеконь
с обогревательного пункта, расположенного в четырех
километрах па озере. Он весь был в снегу. Он взмок под
нагольным тулупом, пока пробивался в сугробах, ища до-
рогу уже не по расставленным вехам или колеям, а по
74
засевшим в трещинах грузовикам. Ои так ослабел, что
к коменданту его привели бойцы. Куцеконь был рослый
силач, когда-то таскавший в заводской клинике больных
по палатам. Его усадили перед комендантом. Он потру-
бил носом, окоченело повел шеей и вдруг выдавил этим
движением из глаз слезы.
— Господи, все как мухи стали.
— Ну, докладывай... почему хомут не снял, — помед-
лив, произнес комендант, и бойцы заулыбались.
Это была комендантская шутка, озлившая когда-то за-
шедшего с мороза ездового. Давно уже ездовой перепра-
вился через озеро, и наелся, наверно, и отогрелся, а шут-
ка запомнилась и осталась в комендантском взводе и
всегда подбадривала людей.
Потрогав себя за нос, Куцеконь рассказал о том, что
на обогревательном пункте, кроме персонала, никого нет,
врач и сестры бедствия не терпят, палатку их завалило,
метели они не страшатся, но думают, не уходить ли па
берег — как бы не заторосило льды.
— Льды? Льды пока не стронутся: ветер не тот.
А еще чего скажешь, повеселее? — спросил комендант.
Куцеконь не ответил, не то засыпая, не то раздумы-
вая: стоит ли говорить или помолчать?
— А еще.... — сказал он, — не знаю, поверите пли
нет... человека видел на озере. Идет с того берега.
— С Кабоны?
— Я и говорю — с того берега. Тридцать километров
прошел... А дойдет ли, не знаю.
— Один идет?
— Я-то ослеп от снегу, думал — их двое: один са-
лазки тащит, а в них будто сидит безногий. Смотрю, а это
мешок с хлебом приторочен.
Комендант подумал, охватив руками седую немытую
голову, и вынес решение:
— Это ты видел «газик» на третьем километре. А за-
чем сочиняешь, не знаю.
— Неужто человека от машины не отличу?! — возму-
тился санитар.
— Что ж не привел его?
— Избегает. Даже к палатке не подошел. Уклонился.
А тут запылило, я потерял его.
Кончив таким образом доклад коменд'анту, Куцеконь
повернулся к знакомым бойцам, к сержанту Семушкину
и стал досказывать подробности:
75
’— У него на салазках целая горка хлеба, мяса. Я-то,
дурак по самые ушп, кричу ему: «За мной держись!»
А оп в сторону, испугался, видать. Думает небось: кру-
гом ветер да лед, кричи не кричи — нет добрых в пути.
А тянет он в Ленинград, сказывает — у пего маленькие
там, кушать хочут. Говорит: уже не шевелятся двое.
А на салазках-то всего полным-полно: и хлебушка, и
мяса, п сахара, и масла.
— Прекратить! — оборвал комендант п, подумав, за-
ключил, обращаясь к сержанту Семушкину: — Это ушел
кто-то с нашего берега. Недосмотрели.
Семушкин молча наморщил лоб, и комендант отвер-
нулся.
— Зачем вы спорите? — упрямо твердил Куцеконь. —
Я же с ним разговаривал, оп с того берега. Я ему лицо
растер спиртом, доктор спирту дал мне в дорогу...
— Ну вот, сразу так бы и говорил, — усмехнулся ко-
мендант. — Хотел бы я видеть этого человека. Что, Се-
мушкин, скажешь?
Семушкин морщил лоб. На протяжении всего разго-
вора он глядел в спину санитара. Семушкин голодал
хуже других, мучительнее, не скрывая своих мук от бой-
цов, и бойцы не любили его за это. Я догадывался, что
ему невтерпеж слушать об этих салазках.
— Распоряжения будут? — угрюмо "выдавил Семуш-
кин.
— Можете быть свободны. И подтянитесь: стыдно пе-
ред людьми!
Мы вместе вышли от коменданта.
Я проводил Семушкина до пашей барки, и оп уселся
там на весах, закурил. До войны, то есть еще полгода на-
зад, оп работал на племенной ферме под Костромой ве-
совщиком. «Потому и спит па весах, — шутили бойцы, —
чтоб своя деревня снилась». Там семья, дети. Вслух
о них оп не заговаривал, да и вообще не было у него дру-
зей во взводе. Командир он был не злой, но напрасно рас-
четливый. Педантичный был, будто не понимал беды, ко-
торая навалилась па всех сразу: голодал хуже других,
а па весы к себе никого не пускал, хотя и замерзал позд-
ней ночью. В ту зиму многие испытывали раздражение
даже от какой-нибудь ничтожной черточки: как человек
ест хлеб. Семушкин ел с ногтя. Он резал свой хлебный
паек на тончайшие плитки, вроде кусочков пиленого са-
хара, клал каждую плитку по очереди па ноготьп с ногтя
76
отправлял в рот. Курносое лицо с раскрытыми глазами
и наморщенным лбом при этом вдруг добрело. Он долго
жевал, шевеля коленями под полами шинели. Зрелище
это не для голодного, — я помещался как раз против сер-
жантских весов, меня раздражал этот горбатый темный
ноготь, когда на нем сержант умащивал отломышек
хлеба.
— А ты веришь, что Куцекопь пе врет? — спросил
я Семушкина, когда он присел па весы.
— Чего же тут врать, — ответил сержант, натягивая
па себя полу шинели. — В декабре тоже прошел один
папаша с салазками. Мы его, конечно, пожалели, пропу-
стили. Потом возвращался из Ленинграда, рассказывал:
никого там в живых пе застал, детишек уж и похорони-
ли... опоздал.
Семушкин говорил с трудом, запинался, глядел куда-то
поодаль, нетрудно было догадаться, что, рассказывая о чу-
жих детях, в мыслях он идет сейчас мимо собственной
избы в селе под Костромой, заглядывает в окна: как там
жизнь-то?
— Куда ж он подался?
— А куда все — на тот берег. Переночевал у пас
в трюме, бойцы супом кормили... Тогда у нас еще было
легче. Я... тоже... место уступил.
— На весах?! — удивился я нескромно.
Подстилка, на которой спал Семушкин, была из дыря-
вого детского ватничка, из тех узлов, которые бойцы ча-
сто находили уже вмерзшими в снег; подстилка была то-
щая, узкая, не покрывала всей площадки; значит,
два отца спали в ту ночь, тесно прижавшись друг к
Другу.
— А пропустил бы ты его сейчас... с салазками?
Странно — к этому вопросу Семушкин не был готов.
Лицо его приняло выражение напряженное, как будто ему
хотелось улыбнуться и было больно от улыбки.
— Как же можно — от детей взять? — ответил он, по-
медлив.
— Ну, отщипнул бы краюху?
— Ни за что.
Я жил на озере десятый день, и в то утро комендант
меня опять ничем не порадовал: в списках прибывших
не было моих. Днем я сделал обход общежитий. В лесу
костры горели непрерывно, дым мешался со снегом, в за-
пахе дыма голод притуплялся. В общих помещениях,
77
в школе, в рыбацких бараках мешали видеть клубы пара;
холод стоял по пояс, матери сажали ребят на верхние
нары. В углу, возле дверей, лежали и стояли в человече-
ский рост плоские парусиновые мешки. Они были залеп-
лены сургучом, гнулись от тяжести. Мы знали, что это
банковские пакеты с деньгами. Не помню, стоял ли возле
мешков часовой.
Детей не было видно даже при свете электрических
лампочек, которые слабо напоминали о себе в тумане. Но
я слышал дыхание па парах, коклюшный кашель, слабые
голоса. И мне хотелось, чтобы человек с салазками, кото-
рого видел Куцеконь, набрел на этот барак и признал
своих по голосам, по кашлю, по дыханию и чтобы он всем
уделил от своего богатства. А я бы ему помог управиться
с салазками, постерег на ветру.
В сумерках я возвращался к барке. В этот час, взры-
вая воздух ревом моторов, тяжелые самолеты прорвали
снеговую пелену. Шли они эскадрильями со стороны озе-
ра, почти задевая сосны, и лес устрашающе отдавал гул
и яростный скрежет. Это транспортные эскадрильи шли
в Ленинград, везли масло, глюкозу, разделанные мясные
туши.
Я приостановился на минуту. Весь день хотелось уви-
деть живым этого человека, а тут, под вечер, перед разда-
чей пайка, голова закружилась и, может быть, от тени
самолета что-то померещилось: я как будто увидел его,
упрямого и живого, идущего па помощь своим детям. Мне
казалось, я видел, как он шел к берегу с озера, налегая
на лямки салазок, падая и снова поднимаясь... Где тут
дорога в Ленинград?
Никого я, конечно, не видел, просто глаза устали от
снега. Но когда я поговорил с бойцами, оказалось, что
не мне одному мерещился «папаша», как его прозвали
в комендантском взводе: бойцы в заставах весь день
краем глаза стерегли его появление, и многие видели
его — и ошибались вроде меня.
По вечерам в трюм барки набредало много народу —
комендантских, аварийщиков, шоферов с тягачей. Захо-
дили ио морозу бойцы со звукоуловителей. Горел фитиль
в артиллерийской гильзе, шла дележка хлеба, и, пригрев-
шись па часок в дымном воздухе, можно было заснуть.
Каждый, конечно, затягивал ужин: одни осторожно над-
кусывали с краю и долго жевали, другие просто медлили
с едой — оправляли лохматое пламя гильзы, заделывали
78
люк, стелились, мешали жестяной кружкой льдинки
в ведре.
К ночи мороз усилился, ветер окреп, и парус запо-
лоскался над нами снаружи. Мы дремали или тихо разго-
варивали, тесно улегшись на дне барки, слушая пепогоду.
Шофер из автороты с загипсованной рукой, отзывчивый
юноша, великодушию которого странно не соответство-
вала его лукавая улыбка, рассказывал о тихвинских
боях. Подальше, в полутьме, — боец по фамилии Скво-
рушка, веселый и выносливый человек, приходивший
к нам из аварийной бригады. Сейчас он вспоминал гос-
питальную няню с Петроградской, где он лежал после
Ораниенбаума.
— Понимаешь, девчонка какая! — доносился до мепя
добродушный голос. — Як ней и так и этак... — И слышно
было, как Скворушка и его собеседник смеются. Слушал
его любитель ночных бесед, доброволец из Ленинграда,
электромонтер и радиотехник Васнецов.
Наискось от меня, у десятичных весов, ближе к дотле-
вавшей печурке, пожилой боец, собрав крошки с полы
шинели, сказал:
— Все убито.
— Все съел, чтобы фашисту не осталось? — рассмеял-
ся Митя Кудерев.
К Мите Кудереву взводные «старики» относились
снисходительно, прощали его шутки — оп играл на гре-
бенке. Не было другого музыкального инструмента. Иной
раз, когда замолкали разговоры, отвлекавшие от голода,
начинала гудеть по-шмелииому гребенка на Митиных гу-
бах; играл он песни и очень старинные, олонецкие и вся-
кие, хотя сам был городской, из Порхова. И становилось
хорошо в холодном трюме барки па Ладожском озеро,
будто и пет войны и гитлеровские банды не сидят в де-
сяти километрах, под Шлиссельбургом.
— Чтобы фашисту, говоришь, не осталось?
Пожилой боец ничего не ответил на Митину шутку,
только вздохнул да отряхнул шинель варежкой — так, от
широкой души. Был оп вологодский колхозник, а попал
в комендантский взвод, как ни странно, из лыжного от-
ряда. В декабре прошел по озеру отряд лыжников. Боль-
ного ездового сняли на берегу. Так и остался Жпнкин
топить печи. Фамилия его была Жинкин, а звали его
«Приписной», потому что оп себя не считал солдатом,
отговаривался: «Я ведь из приписных»,
79
— Нынче все приписные. Война идет, отец, фаталь-
ная! — разъяснил ему Митя Кудерев, и с тех пор оста-
лась за Жинкиным эта кличка.
Голодал он тяжело, вроде Семушкина, но старался
не показывать, и бойцы его любили.
В этот вечер долго не умолкали разговоры. Горбатые
тени шевелили головами и плечами по своду и гнутым
бортам трюма. Хлопал парус. А рядом со мной лежал
бледный и тоненький боец, комсомолец Вадим Столяров,
по прозвищу «Сомик», почти мальчик, с больными ногами.
Близорукий, с огромными пушистыми ресницами, изо-
гнувшись к далекому свету гильзы, он читал затрепанный
томик Короленко — «Историю моего современника». Он
каждый вечер читал «Историю моего современника», и
когда укладывался наконец на бочок, я укрывал его
шинелью.
Понемногу я засыпал. На холоде, после скудного ужи-
на нельзя это назвать сном — просторное и как бы гулкое
состояние, в котором снится что-то бесформенное и ты
знаешь, что это не сновидение, а забота о том, как бы
укрыть колени. Сквозь дремоту я слышал, как бойцы го-
ворили что-то сердечное, доброе о «папаше», повстречав-
шемся Куцекоию на льду.
Санитар выспался у нас за день и теперь то и дело
выходил на палубу слушать погоду; его тянуло домой,
в палатку обогревательного пункта, где ждут его бес-
сонно врач и сестры.
— Много добрых людей нынче мучается, — слышался
голос Куцекоия, когда он, загородив люк, спускался
в трюм, напуская с собою холода.
— Где он теперь, этот папаша? — спрашивал Скво-
рушка и сам же себе отвечал: — И набредешь — не най-
дешь.
— Ищи на орле, па правом крыле, — отозвался При-
писной.
— А помните, братцы, как тоже пришел с Кабопы па-
паша. Алалыкип, Петр Петрович. Детям своим вез хлеб
и чего хочешь. В декабре, что ли, было.
Это говорит Митя Кудерев... Потом я слышу шмели-
ный звук его гребенки и сплю. «Что стоишь... качаясь...
топкая рябина... головой склоняясь...»
Я проснулся оттого, что крысы обрабатывали мою по-
левую сумку под моей головой. В бортовые щели между
гнутыми досками продувало, доски заиндевели тончайшей
80
паутинкой. Если вглядываться вплотную, пней кажется
вроде истлевшего осинового листка или старинного по-
желтевшего кружева.
За спиной раздавались возбужденные и злые голоса.
Я это не сразу осознал, а только когда различил среди
знакомых голосов чужой.
— Ссориться хотите? — слышал я голос, затопленный
клокочущим кашлем. — Что я вас объел, что ли?
— Там разберемся, у коменданта, — это был голос шо-
фера из автороты.
— А я не пойду к коменданту, мне и у вас неплохо.
Должок отдам, что брал в декабре, — и квиты.
— Ну, нет... — возразил Скворушка.
— Не пойду к коменданту.
— А не пойдешь — тебя «под свечками» поведем, —
сказал Митя Кудерев.
— Свезу па салазках, — глухо добавил Куцеконь. —
Семушкин-то, пожалуй, без коменданта не разберется,
какой ты папаша.
— Семушкин тоже небось есть хочет, — едко сказал
незнакомый голос и закашлялся. — Поест, да и подо-
бреет.
Я приподнялся на локте. Посреди трюма стоял чело-
век в полушубке, без шапки, в валенках; он заслонял со-
бой пламя гильзы.'•Свет окантовывал диковатую фигуру,
настолько бесформенную, что он показался мне продол-
жением сна. Между кривых ног, торчащих из валенок,
виднелись сверкающие от изморози весы, на которых ле-
жали непонятные мне вещи.
— Что случилось? — спросил я Сомика.
— Да ведь это «папаша»... тот самый... в другой раз
идет, — прошептал Сомик.
— «Папаша»?..
— Алалыкин, Петр Петрович. Мы думали, он тогда
детям тащил. А выходит — он, собака...
— Кто же он?
— Ну, кто! Мешочник.
Теперь я хорошо видел, что лежит па весах. На краю
весов лежала мясная тушка, драгоценная от ледяного
сверкания, вся в звездочках и сияющих нитях па
лиловом и красном. На мокром полу хлеб — несколько
буханок, брошенных в беспорядке. Митя Кудерев и Скво-
рушка разгружали салазки. Алалыкин им помогал с та-
кой готовностью, будто делал с ними общее дело. Когда
81
Митя вынул из мешка два куля с крупой, Алалыкин
ловко подстелил носовой платок под струйку сыпавшего-
ся пшена.
— Где Семушкин? — спросил я Вадима, почти не
в силах вытолкнуть из себя ни слова.
— На палубе. Оп тут был, да ему что-то нехорошо
стало, вышел.
— Это Семушкин поймал его?
—: Ну да. Вернулся из заставы, а потом снова вышел,
словно кто его за ногу дернул. А тот уже в лес пода-
вался.
Я не мог отвести глаз от этого человека и от богатства,
сложенного у его ног. Шапку он, наверное, потерял;
лоб, когда он повернулся ко мне, был все еще белый, за-
стуженный. Волосы заиндевели и торчали вокруг подня-
того бараньего воротника. Ноги стояли широко в искри-
стых от снега валенках. Ноги были такие кривые, что
было непонятно, как он прошел па них зимними тро-
пами мимо Волхова, через Ладожское озеро, в ме-
тели.
Сидя на корточках перед салазками, Митя Кудерев
допрашивал Алалыкппа. В голосе его, странно сказать,
была даже ласковость: так ненавидел он своего собесед-
ника.
— Ты ж говорил: дети у тебя погибли. Плакал, вот
тут сидел. А теперь ожили? Они, брат, не оживают.
— Можно закурить? — спросил Алалыкин.
Он прикурил от гильзы, заглянул в открытую бочку.
В пустой бочке с осени лежали противогазы. Он усмех-
нулся.
— Трамваи в городе стоят?
Никто ему не ответил.
Хлеб, который укладывали бойцы па весах, был не
здешней выпечки — п форма другая, крупнее, и запах.
Он оттаивал постепенно, и в воздухе возник удивитель-
ный запах, о котором ничего нельзя сказать, кроме того,
что так пахнет хлеб.
Вдруг я заметил, что в трюме никто не спит. Припис-
ной до сих пор не подавал голоса, по оп лежал с откры-
тыми глазами.
Все лежали па своих местах с открытыми глазами,
— Говорят, спирт пал в цепе? — спросил Алалыкин. —
А там, ребята, на том берегу, табак дорого стоит, как
здесь хлеб.
82
Он затоптал окурок и порылся в мешке.
— Вот вам, бойцы, свечка. По талончику получил. —
И он положил свечку па весы.
— Сержант не идет, — заметил Васнецов.
Я чувствовал, что не я один — все ждут Семуш-
кина.
Между тем Алалыкин извлек из мешка соленый
помидор и финским ножом рассек его на четыре
дольки.
Огромная тень Куцеконя склонилась над моим сосе-
дом.
— Не глядел бы ты па такое дело, Сомик.
За дверью люка возился Семушкин. Его приход легко
было узнать по стуку веслом на палубе: он отворачивал
дверку люка веслом, а потом тыльным концом обивал
лед с порожка и прятал весло под парусом, чтобы его до
утра не сожгли. Он и сейчас не изменил своей привычке.
Войдя в трюм, он бегло взглянул на весы и салазки и
стал снимать штык с винтовки. Штык примерз. Семуш-
кин долго откручивал его закоченевшими руками. Гроздья
мохнатого инея свешивались над ним с крестовины люка.
В скошенном поле люка была видна серая бахрома па-
руса, летающая вкривь и вкось. Наконец Семушкин до-
гадался закрыть люк.
Алалыкин следил за вошедшим. Брови Алалыкина,
округлые сверху, густые в середине, как два сапожных
ножа, висели над глубокими глазницами. Сквозь щетку
бороды на правой, отмороженной щеке проступило лило-
вато-серое пятно.
— Ишь стучит. Как метроном, — сказал он о парусе,
сделав вид, что и это его интересует.
Поставив винтовку в бочку, Семушкин, щурясь с мо-
роза, снял варежки, сунул их до половины в карманы
шипели и потер руки одну о другую. Алалыкина он
словно не замечал. Неровно шагнув, сержант подошел
к весам и снял с них мясную тушку. Затем он стал сни-
мать с весов и складывать аккуратной горкой на полу
буханки хлеба, рядом с теми, которые лежали в беспо-
рядке возле салазок.
Что он собирался делать? Освободить весы, чтобы лечь
спать?
— Карандашик есть у тебя? — спросил меня Семуш-
кин.
— Зачем тебе?
83
— Буду актировать. Комендант приказал по счету
принять — и детям в барак.
Не вставая, я передал карандаш через Митю Куде-
рева. Семушкин уселся поудобнее, разложил бумагу, ла-
донью ее разгладил. Неповоротливыми пальцами оп стал
водить карандашом по листку. Если бы вошел посторон-
ний, не знавший ни Семушкина, пи его весов, пи нашей
барки под парусом, оп бы и нс заметил ничего достойного
внимания: просто завхоз принимает по акту продукты,
пишет приемо-сдаточную ведомость.
Я смотрел и по мог наглядеться.
Сонными движениями Семушкин загружал весы. Каж-
дую буханку он взвешивал отдельно; большим пальцем
шевелил движок па шкале и, привалившись к весам, отды-
хал.
— Ты бы пожевал корочку, — посоветовал Митя Ку-
дерев.
Семушкин оставил эти слова без ответа. Толстое пламя,
коптя, озаряло подгорелые горбатые спины буханок.
Жинкин хрустел сухариком, не говоря ни слова,
только глядел во все глаза.
Алалыкин следил за работой сержанта. Семушкин
взял последние две буханки и покачнулся. Алалыкин под-
держал его.
— Позвольте, подсоблю, — сказал он. — Зачем вам
это... утруждаться?
— Ничего, мы сами, — твердо выговорил Семушкин.
Вот когда в первый раз я ощутил могущество
Семушкина. Мне показалось, что и бойцы вдруг потя-
нулись к Семушкину, дожидаясь его какого-то главного
слова.
Догадавшись об этом, Алалыкин бросил под себя ва-
режки и присел на полу, отвалив ногу с собачьей
ловкостью, будто разомлел в тепле. Он слушал вниматель-
но, а глядеть старался поменьше, как всякий арестант, и
это помешало мне запомнить его глаза. Я все заметил
в этом лице и только глаза — вот уж много лет — не могу
припомнить. Вдруг ои поднял лицо и спросил сержанта
ио-военному:
— А вы людей накормили? — И нагло засмеялся, втя-
нув нижнюю челюсть.
— Прекратить! —- сказал Семушкин.
— Пусть лишние уйдут, — другим тоном, ио так же
внятно возразил Алалыкин.
84
Все было ясно: сам продажная шкура, он думал, что
может всех купить, поделиться с кем надо — ему и до-
рогу покажут, выведут к поезду, познакомят с кондук-
тором. Играя лямками сапен, он улыбнулся, припомнив
что-то забавное:
— Полозья врасхлест, а я постромки укоротил, — так
тащить способнее.
— На этих постромках тебя и вздернут, — отчетливо
произнес Жинкин. — Народ с лютым врагом воюет. С фа-
шизмом. Это и за детей битва, и за родные поля, за Со-
ветскую власть! За все, что дорого человеку. А ты...
Вздернуть тебя — и весь разговор!
— Шуму больше, чем надо, — сказал Семушкин.
И сразу наступила тишина. .Жинкин хрустел суха-
риком. Я видел — Семушкин поморщился. Он ослабел.
Он собрал веревку, раскиданную вокруг салазок, смотал
ее в моток на локте, вчетверо сложил холстину, в кото-
рую был завернут хлеб на салазках. Все пахло хлебом:
и его руки, и шинель со следами муки на мокром ворсе.
И он не мог устоять перед искушением. Все заметили,
как он украдкой, не владея собой, приблизил холстину
к лицу, — минутная слабость духа.
— Пахнет? — злорадно произнес Алалыкин.
Семушкин обратил к нему опухшее лицо.
— Собака ты... — проговорил он.
— Пусть уйдут лишние, — повторил Алалыкин.
— Ты думаешь: лишних пе будет — купишь? Бре-
шешь, враг. Не купишь.
Так внятно сказал это Семушкин, что всех нас словно
огнем ожгло. Вадим Столяров смотрел на Алалыкина, не
сводя с него ненавидящих глаз. Куцеконь грел спину об
остывающую печь, п казалось, вот-вот он раздавит ее
неосторожным движением. Шофер из автороты подошел
к бачку п напился воды. Парус хлопал над головой. От-
таявший хлеб источал удивительный запах. Крысы, по-
хоже, ошалели, стучали и шлепались по углам. Голова
кружилась. Вещи фантастически меняли масштабы, и мне
чудилось, глядя па то, как Семушкин клал буханку па
весы, что это он укладывает крошку хлеба на ноготь. Но
нисколько мне не было неприятно смотреть на это.
Шофер полоскался, обмывал лицо, ловя здоровой ру-
кой воду изо рта. Потом он накинул ватник поверх загип-
сованной руки и поглядел на Скворушку; тот спросил
Семушкина:
85
— Товарищ сержант! Будут ли какие распоряжения?
А то пора бойцам на расчистку дороги.
— Сходп-ка к коменданту, скажи: жду опросный
лист составлять, — вполголоса сказал Семушкин.
Скворушка внимательно оглядел всех:
— Которые лишние, выйдите! Пора дорогу освобож-
дать от снега. Сержант тут один разберется.
Первым пошел к выходу Куцеконь. За ним потяну-
лись остальные. Приподнялся, чтобы идти, и Вадим Сто-
ляров, но Семушкин остановил его:
— Ты, Сомик, с больными ногами, ты лежи.
Не знаю, увижу ли я когда-нибудь в жизни доверие,
более открытое и ясное, чем то, с каким мы оставляли
Семушкина с Алалыкиным и горкой оттаявшего хлеба.
— А ну, несгораемые, дружнее! — подбодрил Семуш-
кин толпившихся у люка бойцов.
Окоченелыми пальцами сержант вынул из кармана
штанов толстые старинные часы и долго глядел на них.
Я вышел вместе со всеми.
В утренних сумерках со стороны Шлиссельбурга бу-
хала артиллерия. Небо было пасмурное, но высокое, и
в нем гудел немецкий «разведчик». Кругозор прояс-
нялся. Непостижимое зрелище открывалось взору: вся
белая даль озера на многие километры была исчерчена
будто вздрагивающими цепочками. Это шли гуськом и
уступом, точно косари в поле, люди с лопатами. Они рас-
чищали занесенную метелью ледовую дорогу. Где-то,
почти уже невидимые глазом, ворчали тягачи и снего-
очистители. Значит, к вечеру вспыхнет на востоке облако
мреющего света, пойдут мимо нас бесконечные колонны
автомобилей с боеприпасами и продовольствием — спа-
сать Ленинград...
1947
ИЗБА
Над большой дорогой с краю сёла, на косогоре, стояла
пзба. С тех пор как война вошла в среднюю полосу Рос-
сии, каждый вечер в избу шли ночевать с дороги военные
люди. В ноябре готовилось большое наступление. Войска
двигались к фронту безостановочно: артиллерия, пуле-
меты на вьюках, двуколки с минометами, танки. Пехота
шла ходким шагом, с тем русским здоровьем, которому
нипочем в пути и снег по колено, и вьюга, слепящая
глаза. Но к вечеру кони задыхались. Свет фар блуждал
по снегу, ища колею. Ветер и тьма гнали людей под
крышу.
В избу входили ослепшие от вьюги, в набухших полу-
шубках, с промокшими варежками, в заиндевевших шап-
ках. Приходили и в хромовых сапогах, которых никак не
просушить за мочь.
Хозяйка посыпала земляной пол желтым песком, изба
была так чиста, что никто не лез в нее, не обметя метел-
кой валенки в сенях. С темнотой окна запирались став-
нями. Старуха нарубала еловых веточек три-четыре охап-
ки, совала их в печку, п по ним бежали веселые смолкие
огоньки. За окнами шумела фронтовая дорога, слышались
приглушенные сугробами голоса и нытье буксующей ма-
шины; там были свет фар, ветер и снег. А изба — как
дубовый дедовский шкаф. И каждый, пригревшись, пья-
нел от усталости. Доставали из мешков кто селедку, кто
шпик, кто концентраты. Фронт — рукой подать: люди ста-
новились дружней п отзывчивей.
То и дело в сенях стучала щеколда и слышался шорох
метелки. Ксения, бабкина невестка, знала, что где сушить.
Мокрый полушубок — боже сохрани на печку!—прямо
87
па земляной пол. А валенки и варежки —- тесно в ряд
па печи. Винтовки — в дальний угол, чтобы отпотели.
Каких только гостей пе принимали хозяйки!
Один запомнился — злой.
— Мы, — говорит, — нынче перед тобой, а завтра пе-
ред немцем.
Старуху пе возьмешь на разные такие выражения: у
пей-то у самой пятеро сыновей па фронте.
А один полночи на дворе простоял, караулил: заметил,
что ребята из его полка солому по дворам растаскивают.
Ксения вышла на разговор, испугалась, а он успокоил:
— Ничего, я так, покуриваю тут. Не сумлевайся. А то
солому утащат у тебя, глупая баба... Свой-то воюет?
Еще один заскочил, так тот все хотел голову помыть
снеговой водой, без мыла. Долго плескался, а потом у
печки сушил рыжие, потемневшие от воды волосы, крутил
самокрутку, жмурился.
— Откуда ты, милый? — спросила старуха.
— Из Кимр.
— Сапожник стало быть...
— Коли Кимры, так уж сапожник! Нет, шлюзовый
механик.
И старуха пожевала губами, как всегда, если чего-ни-
будь не понимала.
Были бережливые п были щедрые. Солдаты не трогали
утвари. Только и было убытку, что искрошили зеленую
клеенку на столе, бог с нею... Солдат сгоряча, с дороги, са-
хар стал рубить на столе. Давно ушел он и уж давно, на-
верно, на передовых, а память оставил. И каждый, кто ужи-
нал за столом, спрашивал, разглядывая чистую клеенку:
— Верно, сахар рубил? Неосторожный какой: где ел,
где кушал, там и зарубку оставил...
Один ложку забыл. Старуха, подавая ее к горшку со
щами, всегда приговаривала:
— Ваш какой-то оставил. Тоже так-то, как вы, при-
шел: «Пусти на ночь».
На стене шли ходики и, может быть, от дальнего гула
па Дону часто останавливались. Кто-нибудь из солдат
снова ставил их по своим часам. Под ногами ходил и об-
глаживался черный хозяйский кот; о нем бабка тоже зна-
ла, что рассказать: кто его брал на руки и в усы дул, кто
рыбой кормил, а узбек затопал па пего, прогнал от себя—
кота не любит. И когда рассказывала про узбека, как он
па кота по-своему заругался, все смеялись.
88
Однажды черкес полевал и стал свататься к невестке..
Щеголял перед Ксенией, красовался, сам смуглый, осани-
стый такой.
— Иди за меня. У меня в горах дом каменный.
А тут подвернулся в ту ночь курносый какой-то, все
возился со своими мокрыми портянками; стал он дразнить
черкеса.
— Бывал я, — говорит, — в ваших местах. Брешешь
ты: «каменный»! Обыкновенно кизячная сакля. Это тебе
мнится, что каменный.
Но черкес всю ночь хвастал каменным домом, и па
душе у пего, видать, смутно было, и нужен был ему в ту
ночь друг. Позарез нужен. Подозвал к себе девочку, Ксе-
нину дочку, снял кольцо с руки, отдал девочке — подарил.
Серебряное, с насечкой.
И хоть смеялись свекровь и невестка над тем, как чер-
кес забежал погреться и от живого чуть не увел жену:
«Ишь зять образувался, чудак... Свой уж там шестнадца-
тый месяц... Он сегодня здесь, а завтра кто его знает
где», —но когда ушел черкес па рассвете, часто они его
после вспоминали, вышучивали, — обеим оп им втайне
по сердцу пришелся. И жалко было, что война всех уго-
няет.
Однажды остановился в избе генерал. Поснимали фи-
кусы со стола, накрыли стол чистой скатертью и поста-
вили свечи в медных литых подсвечниках. А на стене по-
весили большую карту; она висела рядом с иконой, чер-
неющей в тусклом серебре. Лицо у генерала было, как
казалось старухе, хоть и строгое, но крестьянское, про-
стое. Он сидел на высокой постели, ногами не доставая
до полу, беседовал с полковником, и только запомнилось
старухе, как он сказал о немцах:
— Я их на левом фланге чутьем чую, как, знаете, по
тяжести ведро узнаешь в колодце. Пора начинать.
И как сказал генерал о ведре и колодце, так бабка
перестала робеть; почему-то ясно представила себе кресть-
янскую мать этого генерала и его самого в детстве, вроде
Андрюшки, и сделался он, несмотря на его карты и под-
свечники, таким же военным постояльцем, как и другие,
что занимали до него избу каждый вечер.
Уехал генерал, и снова к ночи наполнилась изба. Одни
стаскивали с плеч мешки, другие разматывали портянки,
щелкали затвором; кто-то сладостно тер коленку: «Рана
мучает,— видать, к снегу, Наверное, потеплеет»,— и, видно,
89
было привычно ему родниться через старую рану с вет-
ром, что гонит снеговую тучу. Невзначай рассказывали
о былых делах — кто с Брянского, кто из-под Ельни,
кто из-под Невской Дубровки; сыновей бабкиных не
встречали, но зато было столько трезвой, хозяйственной
ненависти к врагу в неторопливых словах, что старая
все равно радовалась, кивала да подливала каждому мо-
лока. А одного казаха даже в лоб поцеловала, когда он,
сверкая глазами, стал рассказывать, как заскочил в не-
мецкий окоп: «Двенадцать перерезал, патронов не пор-
тил...»
— Сердешный ты мой! Дома-то жена, поди, ждет.
В эту светлую минуту старухиной радости кто-то при-
слушался:
— Ставня хлопает. Это ты, гвардии Мухамеддипов,
ставню завязывал?
Но старуха, улыбаясь, оправдала казаха:
— Если кто из военных, она всегда стучит — у пас
там особые секреты.
— Это что! — сказал пожилой солдат, обтиравший вин-
товку. — Вот в Серафимовиче-городе... там совсем пустой
город после немца, жителей угнал... не привязаны ставни
во всем городе. Ночью ветер поднимется — хлопает во
тьме, гремит.
— Железо на крышах скрыпит, — вкусно, будто с удо-
вольствием, подтвердил сержант, который в углу жадно
готовился к ночлегу — ползал по расстеленному полушуб-
ку и мял его кулаками, приговаривая: — Эх, и покатаюсь
нынче всласть!
Наступала ночь. Бормотали, всхрапывали, стонали. На
дворе, на морозе — сквозь ставни видно — горел костер:
это рачительный ездовой из башкир не хотел войти в дом
погреться, отойти от лошадей.
По ночам летали на бомбежку наши самолеты. Они
всегда пролетали прямо над избой, тревожили лошадей во
дворе. И по ночам кто не спал из солдат, тот слышал,
как вздыхала старуха и что-то похожее на молитву шеп-
тала вслед летчикам, чтобы ребята вернулись невреди-
мыми. Под утро и впрямь они возвращались: гудели мо-
торы.
Так шло время. Непонятно было, сколько же там мо-
жет фронт вместить. Новые волны идущих затопляли избу
п двор, и не было никому отказа — ни веселым, ни груст-
ным, ни скупым, ни щедрым, ни русским, ни армянам.
90
Только уж если полным-полно п укладывать негде, а еще
стучатся, тут старуха пе отворяла дверь:
— У пас военные... Полно, милый человек. Поищи у
соседей. Нам ничто не стоит, да сам не отдохнешь и лю-
дям не дашь.
И укладывались спать обогретые, сытые люди дружно
и тесно, рядком на полу; а если кого знобило, того жен-
щины клали на скамью, ближе к печке. Сами хозяйки,
втроем с девчонкой, спали па одной кровати.
Разговор затихал пе сразу.
— На войне без претензий, — говорил один, подверты-
вая шинель под плечо.
— На войне безо времени известно, — спросонок глу-
бокомысленно, но непонятно замечал другой.
А третьему, молодому, пе хотелось спать, и он всю-то
ночь задавал бабке вопросы «на искренность», все чего-то
допытывался.
— Мать, а мать... Ты скажи мне, мать...
— Что тебе, сынок?
— Ты скажи мне, мать... Ну, ночи не спать — это
можно. Вон шоферы автобатовские рассказывали — трое
суток совсем не спали. А тоже в мирное время были люди
разборчивые и зарабатывали, верно, поболе моего. Мать,
я о чем говорю: ну, ногу не пожалею... ну, за рукой не
постою... отдам...
Мысль его билась, как птица крыльями; он что-то хотел
высказать и все допытывался у старой женщины в спящей
избе:
— Мать, а мать... Ты скажи мне, мать...
— Ну, чего еще? Спи, сыпок.
— Мать... Ну, а жизнь отдать? А? Как в присяге: не
жалея самой жизни. Как же это, мать? А зачем же то-
гда...
И старуха насторожилась, приподнялась на локте,
вгляделась в молодого солдата, тосковавшего на полу. Опа
пе очень-то вглядывалась в лица, чтобы пе увидеть похо-
жих на тех, на своих, а тут вгляделась. Но, видно, его до-
верчивое вопрошающее, разумное лицо в свете слабого
ночника успокоило ее. Она прилегла и, не видя парня,
выговорила ему, как своим перед дорогой:
— Неужто же страх остановит, сынок? Не может этого
быть... А ты вот чем живи: как бы вред фашисту нанести,
убить его, подлюгу. Это посильнее страху. Тут и головуш-
ка станет ясная, легкая. И она подскажет, милый, где лечь,
91
а где вскочить, и куда стрелять, и кого колоть... И не
пропадешь ты, сынок.
— Верно, верно. И я так думал, — шептал солдат.
И снова через минуту, словно напиться к прозрачному
ключу, тянулся с полу к широкой кровати, шептал:
— Мать, а мать!..
А под утро услышал солдат рыдания п сперва не по-
нял, а потом прислушался и догадался: это плакала моло-
дая рядом со старухой, у самой стенки. И ему стало не
по себе: верно, муж ей не пишет.
— Что? От супруга не слышно? — спросил он у ста-
рухи.
Но та хмуро приказала ему:
— Спи. Утро скоро.
И тут стало так тихо в избе, что Ксения перестала
плакать; лежала, думала о многих вещах. Один из спящих
скрипел зубами во сне, и этот звук был странно похож на
то, будто высоко-высоко над избой летят и курлычут гуси.
Утром молодой паренек встал вместе со всеми, умылся,
что-то искал в бумажнике — денег, что ли? Нет, достал
фотографию. Долго писал на ее обороте, потом, не глядя
па Ксению, сказал бабке:
— Я вам карточку подарю. Вот написал надпись: «На
память мамаше».
— Спасибо, сынок, — поклонилась бабка.
А оп точно снеговой водой умылся, как тот рыжий то-
гда: уходил такой веселый, все шутки шутил. Сынок! Него
фотография тоже оказалась в рамочке на стене, рядом с
карточками сыновей.
Но однажды, в середине декабря, под пиколу, никто
не пришел ночевать. Хозяйки сидели у печной дверки, у
огопька. И было в избе просторно, чисто п одиноко. Став-
ни дрожали, хотя и хорошо привязанные: сильно били
пушки.
Женщины помалкивали: понимали, что это от Дона
началось большое наступление. Там они, милые, сейчас в
огне купаются, кровью умыты, и генерал и солдаты. И тот
черкес с каменным домом, и узбек, что кота прогнал, и
тот, что солому караулил, и тот, глупый, молоденький,
сынок... да тот, что клеенку изрезал... И наши там. Или
еще где...
Бабка часто выходила во двор; будто дожидаясь кого-
то, стояла у калитки. Всю ночь светились белые холмы,
шли машины, поливая фарами дорогу. Фронт далеко ушел.
92
Коли так — пусть и в избе будет светло, и старуха рас-
творила все ставни, а невестка ей не мешала — пусть делает
что хочет, не спится в такую ночь. В избе замерцало, по-
светлело от дальних взблесков п белого облачка ракет.
Ночью мороз стал набирать силу. На стекле окна он
вывел пятнадцать серебряных витков; старуха пересчи-
тала их, сидя у окна. Давно уже не было так тихо и оди-
ноко в избе, и печь дышала мирным теплом.
И снова с чувством тревоги п радостного ожидания
старуха вышла во двор. Так высоко она стояла на косо-
горе, над опустевшей дорогой, у порога избы, что, казалось
ей, крикни — и голос полетит по всей земле: до Кимр, до
казахской жены, до каменного дома черкеса в горах, и
отзовутся все женщины в домах и птицы в гнездах, и,
может быть, станет слышно ее в тех неведомых, закопте-
лых и рябых сугробах, где воюют ее сыновья.
1943
НАБАТ
Вечером 21 декабря в прокуратуре фронта приняли с
ленты «бодо» директиву командующего: «Крайне удивлен
вашей недостаточной активностью, задания частями не
выполняются, Военный совет назвал Голощекова трусом,
он отстранен от должности с отдачей под суд».
Я еще не спал, когда с поля боя привезли Голощекова.
Два-три часа назад он командовал танковым соединением,
введенным в прорыв, и сейчас буквально ввалился в тихий
дом па окраине прифронтового городка. Высокий, плечи-
стый, белобровый, в обожженном, испачканном комбине-
зоне, он заполнил собою комнату; передвигая стулья, про-
рвался сквозь их ряды к окну, чтобы проверить, где ставят
машину, п снова побежал по комнате, потом припал гряз-
ными варежками к кафельным изразцам и тотчас сорвал
варежку, ладонью пощупал, распорядился через плечо:
«Затопите печь!» — и тут же, нечаянно повернув ко мне
неподвижное лицо, оскалился в певеселом смешке. Горь-
кие и злые мысли — о себе, о личной катастрофе и о тан-
ковых экипажах, которые с каждой минутой удалялись от
него в крови и копоти боя, — видно, не прекращаясь, кру-
жили в его голове, и сам он кружился, напомнив мне, как
в тумане под Суровикипом наш подбитый танк вращал-
ся па месте, взрыхляя под собой снег и желтый песок.
В полутьме я притаился па диванчике. А он метался,
бормотал, матерщипичал. Он был в том состоянии, когда
человек по помнит себя, а ты его не тронь, погоди. Я до-
гадывался, что его душевные силы изорваны в бою, как
гусеницы танка, а здоровая натура еще требует движе-
ния — командовать, стрелять, бежать куда-то, — и он рас-
ходовал, расходовал себя, шагая в унтах по красным поло-
94
вицам, надраенным ординарцами до блеска в тихой квар-
тирке прокурора.
Голощеков не услышал обычного военного приветствия
вышедшего к нему прокурора, он не ответил на приветст-
вие.
— Отстрелялся... — хрипло пробормотал Голощеков,
как будто даже прокурору приказывая подчиниться та-
кому итогу, как будто распоряжаясь дальнейшими дейст-
виями прокурора, дав исчерпывающую оценку своей судь-
бе, самому страшному несчастью, какое только может на-
стигнуть офицера в бою — быть отстраненным от боя.
— Плохо воевали? — спокойно сказал прокурор. — Ну
что ж, бывает.
Голощеков и этих слов не расслышал. Бросил ушанку
на дальний стул, остался стоять, прислонясь спиной к хо-
лодной печке.
— Вот что, товарищ полковник, — помолчав, сказал
прокурор. — В нашем деле тоже свой порядок, имею в
виду приказ наркома. Я ожидаю санкции Ставки. А вы
отдохните. Ночь впереди. Будем смотреть фильм.
Голощеков не понял. Или ему показалось, что он ослы-
шался.
— Какой фильм? Какой может быть фильм?
Прокурор промолчал. Он привык по ночам смотреть
фильмы и только жалел, что иногда стулья пустуют, даже
как-то скучно. Невысокого роста, моложавый, в роговых
очках, в замшевой телогрейке и в неформенных, расшитых
красными петухами унтах, прокурор, не глядя на дирек-
тивы командующего, и в этот вечер не изменил своей люб-
ви к порядку. Я наблюдал его пе первый день: даже в час
артподготовки к прорыву он препирался с ординарцами
по поводу неумелой топки печей, сам подметал пол в каби-
нете, вытряхивал пепельницы в форточку, а однажды — я
видел своими глазами — выгнал во двор казаха-вестового,
который наследил в сенях грязными сапогами, вытолкал
в спину.
— Накормите полковника, — распорядился прокурор
и, поманив адъютанта, закрыл за ним дверь кабинета. До
меня донеслось, как оп увещевал своего щеголеватого, уже
поднаторевшего в трофейных винах адъютанта, чтобы тот
накормил по-хорошему и коньяком угостил — француз-
ским коньяком «из того ящика».
Пока Голощеков бегал от окна к печке и обратно,
адъютант неторопливо ставил на стол тарелку с кислой
95
капустой, блок сыра, бутыль румынского рома. Этот маль-
чик с лейтенантскими кубарями понимал, что Голощеков
не в гости приехал, и вел себя соответственно. Я попросил
его вымыть стакан.
— «Права» отобрали, — со злым оскальцем пробормо-
тал Голощеков. Он па ходу машинально отстегнул ремень,
чтобы снять парабеллум, но тут же спохватился, наверно,
отгоняя от себя мысль, что ему предстоит расстаться с
оружием, и сильно затянул ремень на пряжке. Вдруг он
остановился у стены, расставив ноги. От мирных дней в
бывшей учительской квартире остались кое-какие воспо-
минания, на стене висела школьная таблица «Животный
мир пресных вод», за несколько дней я присмотрелся
к ней, там были жуки-водолазы, водяные скорпионы,
науки, странствующие ракушки. Голощеков бессмысленно
уставился в этих пресноводных. До него не сразу, видно,
доходило, что он пе в бою, а в мирном доме, во втором
эшелоне штаба, в прокурорской квартире.
— Дайте бумагу, — попросил оп.
Я вошел в кабинет, притворил дверь.
— Чем пахнет? — вполголоса спросил я прокурора на
правах старого его постояльца.
— Дело серьезное. Своей нераспорядительностью он
почти на сутки задержал выход подвижных групп на же-
лезную дорогу.
— Он понимает?
— Посмотрим. Многие скрывают действительное и по-
казывают ложное.
— Что его ждет?
— Как в Ставке повернут. Могут и... — он не до-
сказал. — Не мешайте ему. Пусть пока пишет на-
черно...
Вся прокурорская квартира скрывала действительное и
показывала ложное: внутри — сверкающие полы, стол под
зеленым сукном, хрустальные подсвечники, под лампой
с желтым шелковым абажуром полевой телефон, а сна-
ружи — развороченные прямым попаданием холодные сепп
п на входной двери пестертая надпись мелом: «Топя, беги
в горсовет немедленно, все уходят».
Кудрявенькая Липочка в мягких сапожках, бессонная
машинистка, баловень прокуратуры, уже раскладывала
перед Голощековым па столе желтые листы глянцевитой
трофейной бумаги и пальчиком указывала внизу каждой
страницы:
96
— Расписываться будете вот тут. Вот тут. И вот тут.
Голощеков пе шевелился, мне даже показалось, что он
спит. Когда девушка вышла, он плеснул в стакан, не вни-
кая сколько, пз граненой бутыли синеватого, точно мик-
стура, густого рома. Проглотил в три глотка — острый ка-
дык заходил как на шарнире. Финским ножом с янтарной
ручкой он резанул кружок сыра от высокого цилиндра в
серебряной бумаге. Потом наполовину высвободился из
комбинезона, так что мерлушковый воротник повис позади
па спинке стула, а длинные рукава легли по бокам на пол,
кирзовой куртке оп не выглядел плечистым, наоборот—
оказался худым, плоскогрудым, и только ноги, широко
расставленные под столом, сохраняли прежнюю монумен-
тальность.
Вдруг он заметил меня.
— Пейте.
— Вы меня пе узнали, товарищ полковник?
— Ага, корреспондент? Историк. Валенки сушите?
Я молча пересел к столу. В мигающем свете лицо Го-
лощекова с закрытыми глазами показалось мне гипсовой
маской — теперь-то он спал и, может быть, даже видел
сны. Такое у него было спящее лицо с нервно подрагиваю-
щими тонкими веками — белобровое по-деревенски, исху-
далое, небритое, поросшее мягким светлым пухом. Конеч-
но же, оп видел сны.
— Дочка в сентябре родилась. На Алтае. Далеко, —
сказал он, не открывая глаз.
Значит, все-таки не спит?
Я подошел к окну, опустил синюю бумажную штору,
потом отогнул ее край — за стеклом сквозь морозные узо-
ры был виден мертвый городок, сходивший волнами засне-
женных крыш и дворов к светло-зеленому Дону в белых
пятнах сала, был виден и криво наведенный бревенчатый
мост, а за переправой — лесок, там, по берегам, разбегался
веер дорог, наезженных перед наступлением. Далекая,
отодвинувшаяся в эти ночи канонада не мешала слышать,
как тюкал топориком во дворе ординарец.
— Нет Прошкина. Нет и не будет больше Прош-
кина.
Я не разобрал, что он бормочет, наливая себе второй
стакан. Я снова подсел к столу, не зная, как помочь чело-
веку. Он не взглянул на меня. Чуть порозовело лицо, во-
ротник куртки-кирзовки расстегнут, отчего как бы разъ-
ехались золотые танки на черных петлицах.
4 И. Атаров, т. 1
97
ь— ...Он из Воронежской, из рабочих. С третьего года.
Здоровенный, смелый, таких редко встретишь. Я его по-
слал, оп рванул на своем «козле». А через час водитель
ползет по снегу, без рубашки, его уже перевязали, в руку
ранен. Один ползет... «Где майор?» — «Тащат его». Его
принесли из лощины, я подошел. Заплакал, честное слово.
Планшет отдал Зарубину, ремень — Рубцову, оп его возил.
«Отнесите и похороните». Две пули достались Прош-
кину: в грудь и в лоб. Прямо в висок. Маленькая ды-
рочка...
Он вдруг запнулся, потом тряхнул головой, будто от-
махнулся, отклонил какую-то неудобную мысль. Он и сей-
час не желал думать о том, что его ожидает.
— Всегда с песней, с шуткой, покажи ему сухарь, бу-
дет смеяться... — Он не знал, как еще прославить погиб-
шего в бою. Помолчав, добавил: — Хохол веселый. Каж-
дое утро выйдет па лестницу сапоги чистить. Мы ждем —
сапожная щетка непременно выскочит из рук, и он сам
загремит за ней по ступенькам догонять.
Наконец-то он подвинул к себе лист бумаги, вынул из
планшета авторучку.
— Вы сперва начерно, — посоветовал я. — Главное,
ищите причину. Ведь вас обвиняют в трусости.
Он не расслышал. Но и писать не стал.
— Надо было идти в прорыв мимо Гадючьего, ночью
минные поля были расчищены. А я ввязался в бон на семь
часов. — Он думал вслух, забыв о бумаге, думал, как, по-
хоже, привык на штабных учениях во время разбора опе-
рации. — В отступлении противника не должно быть по-
следовательности. А я протоптался еще три часа на рубе-
же 217,2. Авиация непрерывно наблюдала отход колонн.
Командующий взбеленился, орал в трубку: «У вас мало
пленных, мало убитых! Противник отходит, сохраняя бое-
способность!» А я еще шесть часов потерял на Манучар-
ке — строил мост. Сваи вбивали до трех метров. Я послал
начштаба к старому мосту, но он не добрался, попал под
обстрел, бросил машину, вернулся пешком. Я три года
командовал частью, знал всех, а тут не проверил его доне-
сения... — Он осклабился: — Да, это не Прошкин.
Он трогал небритую щеку, натягивал кожу пальцами
к виску, как будто брился без зеркала. Я внимательно слу-
шал. Уже второй месяц по поручению Военного совета я
восстанавливал историю предыдущей операции фронта,
увенчавшейся полным успехом, поднимал в управлениях
98
штаба кипы донесений, рапортов, оперсводок, подружился
с прокуратурой ради протоколов дознаний. А в эту ночь я
впервые слышал с голоса то, что еще ляжет потом на бу-
магу. Пройдет десять, двадцать лет, и показания полков-
ника Голощекова станут для военных историков важным
свидетельством — что было правдой в те дни, когда танко-
вые корпуса в декабре вошли в прорыв и подвижные груп-
пы рвались наперехват железной дороги.
— Колокола звонят? — Голощеков удивленно прислу-
шался.
Только сейчас я понял, как его выглушило в бою. Он
снова монотонно заговорил, впервые вытаскивая из клуб-
ка всю ниточку спутанных, сбившихся соображений.
— Я не боялся смерти... Чего же я боялся? Растерять
часть? Нарушить боевой курс? Я топтался, с трудом про-
бивая себе путь, и ложно докладывал. Да, ложно доклады-
вал. А потом после бомбежки сгорели оперативные доку-
менты, были убиты многие штабные работники, я потерял
все три рации, — связь прервалась, и я просто замолчал.
Но я ведь не вчера замолчал — раньше, гораздо раньше!
Когда еще выгружались п шли ночными маршами. Почему
же я тогда умолчал о том, что не хватает сотни грузови-
ков? Почему умолчал о том, что арторудия грузились с
последним эшелоном? Почему не доложил командующему,
что к началу прорыва двадцать танков оказались еще на
подходе, что по самый день отправки были некомплектные
экипажи, что грузился с адресованием не на ближайшую
станцию — отдаленность до места сосредоточения двести
пятьдесят километров! Что с того, что командующий не
вызвал. Черт его знает, почему он не вызвал. А надо было
самому ломиться, бить в набат.
— Показывать действительное?
Он очнулся, но, видно, не расслышал моих слов.
— А смерти я не боялся, — с некоторым недоумением
повторил он. Порывшись в планшете, он извлек штабной
конверт, вынул из пего какую-то бумагу со многими подпи-
сями — вкривь и вкось. И снова лицо его странно оскали-
лось в невеселом смешке. — Бомбы летели. Шесть штук.
Аккурат где крест стоял на юру, там фриц похороненный...
А я терпеть не могу, что люди не хотят идти вперед... Ну,
тут меня рвануло, бросило наземь. И как раз такую во-
ронку вспахало — ничего от креста фрицевского! Меня
оглушило немного. Иду, руки расставил. А навстречу
мне — нелепость какая! — офицер связи. С праздничной
4*
99
улыбкой! Вручает вот это длиннейшее письмо. Сослужив-
цы из штаба поздравляют со званием генерал-майора...
Нет, ромбы ума не прибавят. Допивай. Я посплю разо-
чек...
Он откинул голову и, как по команде, уснул. Я видел,
как шевельнулся его острый кадык — уже во сне он сде-
лал это глотательное движение. Точно маленький. Во сне
заскрипели зубы. Во сне какое-то воспоминание припод-
няло и опустило его худые плечи. Мне было жаль его —
упрямого, твердого. В дивизии ого не боялись, а уважали,
в танковых экипажах я слышал о нем: «Корень! Наш
корень».
Странная ночь. Третий час, взошла поздняя луна, и
легкие облака ее не закрывают. Когда стоишь, приоткрыв
штору, морозное бело-голубое стекло тонко дребезжит от-
того, что пролетел самолет и по нему ведут огонь на пере-
праве. А вернешься к столу, освещенному мигающим све-
том лампочки, — там рядом с чистыми листами бумаги,
бутылью рома и недопитым стаканом — журнал «Русская
мысль», раскрытый па странице с царским манифестом о
рождении великой княжны Ольги... Жарко пылает печка.
От нечего делать я поднимаю с пола рукава голощеков-
ского комбинезона и складываю у него на коленях. Он
даже не шевельнулся. Я листаю старинный журнал и на-
тыкаюсь на чеховскую «Ариадну». А прокурор тоже
пе спит, ему нельзя — ждет санкции Ставки, я слышу,
как, отзвонив по телефону, он препирается с орди-
нарцем.
— Что за система: прикажешь — принесут кофе, но
прикажешь — не принесут.
Он второй раз выходит в сени — шинель по-ноч-
ному внакидку, полы подхвачены рукой. Спящего Голо-
щекова не замечает. Теперь, в сенях, он донимает адъю-
танта, слышу обиженный голос балованного маль-
чишки:
— Зачем нам дают погоны, раз мы, офицеры, так по
уважаем друг друга...
— Чего ж пе пьете? — Голощеков проснулся неслыш-
но, как будто не спал. Он лениво залезает в рукава комби-
незона, удивленно оглядывая все его масляные пятна н
подпалины. Идет в сени пить воду — я слышу, как он дол-
бит лед в кадушке. Возвращается с ножницами в руках,
разглядывает их со вниманием. Откуда ножницы? Или он
ими пробивал лед? Он присаживается боком к столу и
100
по-мастеровому, сгорбись, финским ножом ввертывает вин-
тик. Как это оп заметил, что ножницы разболтались и
жизнь их кончается?
— Как ни старайся, жена всегда узнавала, что вы-
пил, — бормочет Голощеков, колдуя над ножницами. —
Этого не скроешь. Долго попять не мог, почему опа узна-
вала, а потом догадался: вернусь навеселе — спать, а но-
чью выйду па кухню воду пить, опа и засекает... А это в
самом деле колокола звонят?
Он подошел к окну, пытаясь вслушаться в колоколь-
ный набат, не умолкавший в его ушах. А может быть, оп
мысленно провожал своих молодцов? В эту ночь войска
на широком фронте преследовали противника и навязы-
вали ему бои. Никто не спал в огромных пространствах,
освещенных морозной лупой. И головной танк, заляпанный
снегом п грязью, с клоками зеленых шинелей па гусени-
цах, выходил, вылезал па голый бугор под обстрел. Может
быть, там находился сейчас Голощеков? Но мне почему-то
казалось, что расслабла его мускулатура, что он уже в
доме, в комнате, у окна, прикрытого синей шторой. С той
минуты, как он пожалел ножницы, я знал — для пего на-
чинается самое страшное. Теперь-то он задумается о том,
что его ожидает. Я знал, что теперь он будет честным в
показаниях, не соврет, хотя ему сейчас быть честным —
хуже, чем спиться.
Из сеней адъютант тянул провода в открытую дверь
кабинета. Готовился домашний киносеанс, как вчера, как
каждую бессонную ночь. Я видел угол проекционного
аппарата, а на стене за прокурорским креслом небольшой
экран смутно светился неровным квадратом, на нем мель-
кала тень головы адъютанта.
Шел четвертый час ночи.
Адъютант менял патефонные пластинки — настраивал
звукопередачу. Теперь он включил какой-то незнакомый
мне блюз и под его мелодию топтался возле меня, вытя-
гивая провод. А в кабинете прокурор, скучая, так же при-
топывал в такт блюза, не догадываясь, что виден весь в
открытую дверь. Танцуя, он подошел к телефону, мне бро-
сились в глаза глубокие вырезы у него под коленками на
расшитых красными петухами унтах. Оп то и дело сни-
мал трубку телефона, приглашал кого-то посмотреть
фильм, переговаривался о смешном случае, когда во время
вчерашней бомбежки на неудачника Штейнберга снова
101
свалилась балка. Говорят, что он держал ее на руках,
пока не подоспели вестовые. Не везет бедняге с бомбеж-*
ками.
А потом прокурор одиноко дремал верхом на стуле.
Киноаппарат жужжал, лента рвалась. Голощеков писал
без полей и яростно черкал и черкал написанное. И скоро
я уже не мог прочитать его черновики.
Так, без промедлении, в ту давнюю ночь рейд голо-
щековских танков становился историей.
1968
У НАС В ПОЛКУ
В степном краю на южных фронтах сражался стрелко-
вый полк. К концу войны стал он гвардейским, титулован-
ным, но в первые дни был просто номер такой-то стрелко-
вый полк. Тогда-то и появился в нем агитатор Паншин.
Он прибыл летом 1941 года из кунгурского совхоза, где
работал агрономом. Полк не выходил из боя, полк отсту-
пал; в контратаках теряли лучших друзей и все равно
отходили, ожесточенные, с тоскующими глазами...
В первый же день Паншину пришлось поднять людей в
атаку. Когда пришла эта минута, он вскочил среди лежа-
щих бойцов и будто в беспамятстве, потрясая гранатой,
заорал:
— Не травой, так сепом! За мной, товарищи! —
и устремился вперед.
И вот как бывает: непонятный призыв никому по изве-
стного агитатора всех поднял. Бежали, обгоняя Пан-
шина.
Паншин наткнулся па оробевшего — тот лежал в траве
и голову сунул под локоть. Паншин мог пристрелить сго-
ряча, но почему-то только поморщился.
Припоминал впоследствии, что тогда у него не было
чувства презрения, гадливости; точно палкой, тыкал оп
гранатой по затылку лежавшего и шептал:
— Слышь ты, нельзя, нельзя так... Ты же парень что
надо! Вставай!..
Позже, в отбитых окопах, долго смеялись люди:
— Вот это лозунг: «Не травой, так сеном...»
Поговоркой кунгурского агронома полк запасся па всю
войну, точно малой шанцевой лопатой, подвешенной на
боку.
103
Так начинал боевую жизнь политрук Паншин. Нетер-
пелив был. Сам маленький, взгляд вспыльчивый, и что
еще приметили однополчане — гимнастерка выцвела на
нем как будто раньше, чем на других.
Через месяц был оп ранен. Лежал в тени мотоцикла.
Кто-то бросил рядом с ним машину и ушел пешком.
В знойный день короткая, пропахшая бензином тень не-
сколько часов спасала его от солнечного удара. Вдали, по
шляху па Кучурган, уходили полковые батареи, утыкан-
ные ветками. Паншин пе понимал, что идут батареи. Каза-
лось, мимо неподвижных деревьев плыли тоже деревья.
От обиды Паншип стонал и задыхался. «В полдневный
жар, в долине... Кучургана...» Вспоминался отец. По-дет-
ски, снизу, видел ого всклокоченную ветром бороду, му-
жицкие руки с обкуренными пальцами, в которых гнулись
черные, потные ремни конской упряжи. А потом в долину
Кучургана входила мать — веселая веснушчатая старуха,
с выбитыми коровой передними зубами...
На сплетенных руках пронесли Паншина мимо штаб-
ных палаток — маленького, без фуражки, бритоголового
политрука, руки в крови на плечах санитаров, и в правой,
как на крючке, висела полевая сумка. Его раскачивало
на ходу. От боли терял небо над головой. Без сознания,
в бреду, писал листовку, шел в бой. А бой — это тяжелое
самоприпуждение, это свист и чавканье осколков, летящих
в тебя, только в тебя...
— Вот войну себе объясняю, а надо бойцам ее объяс-
нять, — медленно двигая челюстью, выговорил он кому-то,
склонившемуся над ним. — Надо бы бойцам.
— Кем вы у нас в полку? — спросил тот усталым го-
лосом.
— На должности агитатора, — с трудом произнес-
Паишпп.
— Это не должность, — спокойно возразил комиссар
полка.
— А что же это?
— Не должность... Потом поймешь...
После ранения Паншин нашел полк уже у Днепра.
Товарищи не заметили перемен в Паншине, потому что
сами все изменились. Похоже было, Паншип понял, что
агитатор не должность. Оп проводил беседы с пополне-
нием, собирал пулеметчиков и ставил задачу правильного
104
использования автоматического огня, снабжал поваров,
выезжающих на передний край, газетами и листовками
для раздачи бойцам, водил минометчиков в гости к стрел-
кам — в ночные окопы... Все это так. Но чаще он запро-
сто присаживался у дороги с бойцами, рассказывал им,
какие где почвы в Советском Союзе или почему элеваторы
ставят фасадом на юг. Он был агрономом-семеноводом.
Он любил агрономическую науку за то, что она советуется
с простым человеком. Когда смекнул, что эта черта его
мирной профессии годится и здесь, в стрелковом полку,
оп обрадовался.
Теперь он знал самое главное: разговаривал с бойцами,
как с людьми, которые сами все понимают. Так оно и было.
Каждый депь он читал в ротах сводки об оставленных
городах, и терпеливые люди слушали молча. Он шел по
испорченным войной полям, и каждый обрушенный дож-
дями окопчик что-то важное подсказывал ему о том, кто
здесь окапывался, томился без курева, угревался в замо-
розки, а подошло время — и вот же, набросал справа от
себя почернелую горку расстрелянных гильз.
После тяжелого боя, когда прикрывали днепровскую
переправу, Паншин обошел роты, вручил отличившимся
бойцам личные письма от командира полка. Это придумал
агитатор. Он стоял в сторонке и слушал, как герой читал
товарищам вслух и как по-хорошему люди обсуждали бой.
Редко-редко когда Паншин вмешивался в такие разговоры.
Только если заспорят, только тогда поправит, рассудит...
— Это не должность, — терпеливо объяснял Паншин
молодым агитаторам-коммунистам. — Нужно уметь подой-
ти к человеку, а то обложат тебя за милу душу...
— Оно так... Тоскует народ...
— А ты с бойцом — о самом дорогом, о близком... как
бы сказать... ты к нему с подветренной стороны подой-
ди, — осторожно советовал Паншип.
— То есть как это?
—- А так, чтобы он сам пе мог сообразить: «Как же он,
хитрый черт, ко мне в душу залез?..»
И, оглянувшись, не подслушивает ли их кто, оба аги-
татора — политрук и простой боец — смеялись, как смеют-
ся порой два простодушных собеседника, удумавших хит-
рость и довольных собой.
— А иной раз и совсем слова не нужны!
Тут Паншин рассказывал взводному агитатору, как
однажды хоронили погибших. Трудно было сыскать сло-
105
ва, — кажется: зачем они? Ясно и кратко сказал Паншин
про вечную память славным героям, защитникам родины.
Суховато, жестко поставил перед живыми боевую задачу.
Ну, пету слов, как и слез нету. Выручила родная при-
рода — косой дождь прошел над некошеными лугами, над
открытой братской могилой. И этот дождь, пронизанный
солнечными лучами, знакомый с детства, вдруг всех рас-
шевелил и сплотил вокруг Паншина. И бодрость верну-
лась сама собой, не стало нужно никаких слов.
Что интересно — через час, прямо от той могилы, по-
шел в атаку в полный рост спокойный и мирный человек
по фамилии Синеоков, товаровед из сибирской тайги. Когда
кончился бой, ночью, Паншин подполз к нему, затянулся
цигаркой, чтобы осветить лицо бойца, — и тот долго, с вол-
нением, шептал про тайгу, про горбатых сибирских сигов,
про серебристую чайку, какие у нее маховые крылья, чер-
ные, с белыми вершинками, а клюв желтый, лопаточкой...
— Слышь, лопаточкой! — смеялся Паншин, рассказы-
вая агитатору. — Это он войну себе объяснял, я так
понимаю... Каждый по-своему чувствует родину... Вот
она, какая должность у нас с тобой... Разве же это долж-
ность?
Так учил Паншин агитаторов в каждой роте.
Позже он часто думал об источниках силы, которая
одолела Гитлера. А, пожалуй, и сам он, Паншин, был
источником этой силы.
В полку росла дисциплина. И уже были ветераны, бое-
вой актив, проверенный в огне. Многих мирных людей
приняли в тот год в ряды большевиков прямо на поле боя.
Отходили за Днепр. Сколько тоски было в лицах бой-
цов, когда прошли по знаменитой запорожской плотине!
Паншин в тревоге: чем же поднять настроение, боевой
ДУХ?
Пожилого бойца, обозленного отступлением, заросшего
клочкастой щетиной, Паншин остановил уже на другом
берегу.
— Форсировал, товарищ? — так он спросил, громко,
под грохот рвущихся снарядов, и в голосе агитатора бойцы
услышали знакомое паншинское предупреждение: «Лас-
ков не буду, держись!»
— Форсировал, — ожесточенно ответил боец.
— Днепр?
— Днипро... С вами вместе.
— С востока на запад? допрашивал Паншин зарос-
106
шего от тоски человека, ища доступа к его растревожен-
ному сердцу.
— Нет, с запада на восток... С вами вместе, — ожесто->
ченно повторял боец.
— А чего ж, напоследок умыться воды пожалел? —
почти шепотом, со злостью выдохнул Паншин. ₽- Не гля-
дел бы на тебя!
Часа не прошло, привели себя в порядок люди во всех
ротах полка. И Паншин повеселел. К нему подбежал
парторг, расцеловал...
Четыре парторга с тех пор сменились в полку. Одного
Паншин сам похоронил под Сталинградом, второй погиб
в наступлении весной под Николаевом, третьего увезли
в госпиталь, и он не вернулся, четвертый получил повы-
шение, и Паншин долго с ним переписывался. А спустя
три года все они казались ему на одно лицо, одним партор-
гом, — каким он шагал в тот вечер, рядом с Паншиным,
вглядываясь в умытые, свежевыбритые лица бойцов, вслу-
шиваясь в их повеселевшие речи...
Агитатор вел за собой народ. Народ учил агитатора.
Иногда не находилось единственного точного слова. Бойцы
подсказывали его Паншину.
В зимнюю ночь штурмовали фашиста в донской ста^
нице Боковской. Теперь только вперед! Гнать злую силу
с родной земли! В морозной белизне лунной ночи Паншин
шел в рассыпанных цепях полка и видел, как в чердачном
окне, судя по вспышкам, работал немецкий пулемет, при-
жимал наши цепи. Паншину хотелось добраться до фаши-
ста, сгоряча, хоть при свете цигарки, заглянуть в ненави-
стную харю — и скулодробительным! «По зубам, по салаз-
кам», как говорили когда-то мальчишки в селе...
Вдвоем с бойцом Якимовым Паншин ворвался в пу^
стую хату. В сенях, на чердачной балке верхом, сидел не-
мецкий офицер — хотел, видно, спрыгнуть, да помешали.
Паншин успел проскочить в комнату, а Якимов прижался
к стене, но фашист не мог его достать из пистолета.
— Бей его через потолок! — крикнул Якимов из се-
ней.
Целого диска не пожалел Паншин — весь его в пото-
лок! Очнулся, когда фашист рухнул в сенях, спиной стук-
нул в дверь. Якимов его пристрелил в упор. Он стоял над
трупом, и автомат еще дымился. Из рукава Якимова на-
текала на пальцы кровь. Он не видел этого, оп глядел на
труп.
107
— Что смотришь па пего? Знакомый? — удивился Пап-
шпп.
Якимов не ответил. Оп смотрел пристально в бледное
лицо убитого фашиста, — с морозца его губы были точно
подкрашены, п резко выделялись па щеках полосы грязи.
— Что ты уставился?
— На человека похож, — удивленно сказал боец.
— Как ты сказал?
— На человека похож... Вот гад! — с тоской и обидой
выговорил Якимов.
Так были сказаны для самого себя эти слова, с такой
обидой за все человечество, что Паншин не пошевельнул-
ся: вот опо, верное слово!
— Сможешь дойти? — спросил он Якимова.
— Дойду.
— Иди... Только дай простой карандаш... Нету?
Оставшись один, Паншин снял с чердака пулемет, по-
том па подоконнике, при свете луны, писал листовку «мол-
нию», писал словами, какими только что высказалась и не-
нависть Якимова, и его обида на фашиста, что оп па
человека похож. У Паншина не было под рукой простого
карандаша, чтобы написать эту листовку, — пришлось пи-
сать огрызком химического, и в снежной степи бойцы
передавали листовку из рук в руки в жестяной коробочке,
чтобы буквы не расплылись.
Полк наступал, не выходя из боев. У станции Янцево
полк первым форсировал знаменитый противотанковый
ров, опоясавший Запорожье.
Утром, во время атаки, Паншин заметил сержанта
Чумака, как тот подполз к громко стонавшему раненому,
укорял его:
— Что ж ты на расправу жидкий? Поют: «Смелого
пуля боится», —а ты?.. Ты потерпи.
Потом Чумак вскочил и с автоматом побежал вслед
за товарищами в сторону противотанкового рва.
К вечеру распространилась весть о подвиге сержанта.
Гранатами он забросал станковый пулемет, повел бой-
цов на скифский курган, переделанный немцами в железо-
бетонное укрепление, в немецких траншеях одного сшиб
кулаком, другого, сказывали, задушил, скатившись с ним
на дно окопа.
В этот день полк стал гвардейским. Политработники
сбились с ног: кто сопровождал командира, награждавшего
людей во взводах и ротах, кто выпускал боевые листовки.
108
Парторг восстанавливал на станции Советскую власть.
Паншина искали по батальонам и пе могли найти. Он сам
искал кого-то, пробираясь из взвода во взвод. Нужен ему
был позарез сержант Чумак — тот упрямый боец, с кото-
рым вместе когда-то переходили Днепр с запада па во-
сток. А теперь — вот он, Днепр, впереди!
Он разыскал Чумака уже в сумерки. Опп присели
на краю воронки, окалепной до синевы, и сапоги их почти
касались мутно-зеленой воды. Чумак пополоскал голени-
ща, вытер руки о край шинели, но и опа была до самых
сержантских лычек в мокрой грязи. Он усмехнулся.
— Эх, засмальцевался же я!..
— Ничего. Не из дому идем, домой, — сказал Паншин.
— Верно, — согласился сержант. — Чем пи ближе к
победе, ближе к дому... А мои дети — самый потешный
возраст сейчас, — невпопад, видно задумавшись, сказал
Чумак, и Паншин вдруг разглядел, что ухо шапки-ушанки
на голове Чумака, как всегда, торчмя.
Сержант рассказал Паншину о жене и детях. Семья
у него прожила два года под немцами в селе, за которое
дрался полк. Чумак повидал свою семью. В жизни каж-
дого бывает такой исповедный час, когда только не мешай,
не тронь, душа просит... Выговорившись, Чумак прислу-
шался к канонаде, — он весь еще был там, в несмолкав-
шем бою.
— Вишь, дает жизни... Богат мельник шумом.
— А тебе не страшно было нынче, Иван Данилович?
Теперь, как своих повидал?.. Так, по совести? — спросил
Паншин.
— А чего страшно?.. Убьют — так убьют, а ранят, —
он подумал, — так вылечат...
— Пойдем, расскажешь бойцам, как воевал, — реши-
тельно сказал агитатор и поднялся. — Сегодня праздник
в полку.
Чумак пошел неохотно.
— Да что там... — отнекивался он п упрямо усмехался
как будто собственным пальцам, которые крутили ци-
гарку.
А Паншину не это нужно было, и он допытывался.
Чумак мрачнел, ища сочувствия у бойцов:
— Чего ж тут рассказывать... Известно, мы житной
соской вскормлены, нас манной крупкой не кормили.
— А расскажи-ка, Иван Данилович, как фашист твоих
детей пестовал.
109
— ...Жмепьку давали, — медленно вспоминал Чумак,
что запало ему в душу из тихого ночного разговора с
женой. — Подставишь левую горсть — сколь у кого вме-
стит, насыпают. Живи... А у моей-то пятеро ребятишек,
мал мала меньше... Она за них подставит руку — бьет
фриц нагайкой, давай ему детскую горстку... Да боже ж
мой, детская горстка, она махонькая, хоть слезами ее
размачивай, хоть кувалдой растаптывай.
Бойцы сумрачно слушали. И Паншин слушал. «А ведь
верно, не должность!» — снова подумал он о себе дале-
кими-далекими словами из начальных дней войны.
К ночи над хмурым осенним полем сеялся по-апрель-
ски теплый и реденький дождь, — только корешки в по-
лях обмыл да отсырела сухая махорка в кисетах. Вдали
полыхал страшный бой за Днепр...
Так переходили они из взвода во взвод. Всюду Пан-
шин допытывался у Чумака и сам досказывал кое-что,
а Чумак ухмылялся, упрямился. Только где-то уже в
восьмой роте сержант понял — проняло его, — что хотел
внушить людям Паншин: что был он в бою не просто
Чумак Иван Данилович из хутора Богомазы, а был он
воин Красной Армии, выполнивший святую присягу, и
что совершенное им нынче —- не только кулачный бой,
о котором рассказывать человеку в летах совестно. Разве ж
можно так к людям идти: осклабясь, делая вид, что
ничего не случилось? Они ж сами такие, как ты, смерть
видали.
И он уступил слово Паншину, думая про себя так:
пусть рассказывает о нем посерьезнее, построже, как о
некоем воителе, совершившем назначенный подвиг. Он пе
стал даже крутить цигарку. Хмуро, достойно слушал он
агитатора, как все другие, внимательно, наклонив голову;
доверчиво следил по рассказу Паншина за всем, как было
дело, и даже за теми подробностями, какие не совсем
сходились с правдой.
Правдой был теперь рассказ Паншина*
2946
ДУЛ ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР
Бронебойщик Фомичев вошел в плавни и лег за коч-
кой. Другие уходили по воде в камыши, но Мамедова
пе было нигде, а без второго номера Фомичев больше не
мог идти, устал. Он огляделся — нет никого поблизости,
кто бы помог дотащить противотанковое ружье. Тогда
оп лег. Разгорячившись, он только подвернул шинель
между ног, и колени его согрелись от крови. О ране в
ноге Фомичев забыл, она ему не мешала. Глаза его искали
немецкий танк, который первым покажет брюхо на высо-
ком берегу над плавнями.
Мамедов не виноват, что отстал: тоже ранен. Когда
Фомичев кинул связку гранат под танк, надо бы остаться
на месте, а он по овражку волок противотанковое ружье;
думал, что Мамедов идет за ним. Бронебойщик вспомнил,
как перед тем они оба озверело орали на бегущих. Эти
черти необкатанные из первой роты заметались: «Танки!
Танки!» Он только успел метнуть связку. «Ничего. Одного
припечатал». Утешаясь этой мыслью, Фомичев лежал дол-
го, пока пе стемнело.
Оп пе дремал, а все же пропустил минуту, когда фа-
шисты вошли в окопы над плавнями. В темноте оп услы-
шал немецкие голоса и шуршанье плащ-накидок о стенки
окопов. Оп встал, сделал несуразный шаг здоровой ногой—
п попал прямо в воду. И тотчас же из окопов ударили по
нему автоматными очередями. «По звуку бьют», — дога-
дался Фомичев и рухнул. Сколько времени он выжидал,
трудно сказать. Подтянул к себе ружье, и снова засвистели
пули, зачмокали мокрые шлепки вокруг наудачу стре-
ляют.
111
«Вот приковали! — подумал Фомичев, отдохнув от
страха. — Сколько воевал — пчела не ужалила, а тут ни
за что пропадешь!»
Осторожно Фомичев положил ружье сошками себе на
плечи, так чтоб пришлось ему вдоль спины и между ног, и
пополз, цепляясь за подмерзшие кочки. Теперь руки были
свободны. Полз долго — всё ему кочки казались неподхо-
дящими, чтобы укрыться за ними, да и хотелось согреться
в движении. Заговорили минометы. Они били по плавням:
в камышах свистело, ухало, во все стороны летели брызги.
«Ишь самовары поставили!» — злобно думал Фомичев,
пережидая разрывы.
Наконец он выбрал двугорбую кочку. Два мшистых
горбика могли укрыть длинный ствол ружья. От тяжести
ружья сошки уходили в мягкую подошву кочки, и Фо-
мичев подложил под сошки два сломанных сухих ко-
лоска.
«Бойница!» — усмехнулся он и мысленно выругался.
Так долго искал он эту кочку и осторожно обстраивал-
ся за ней, что под утро ему казалось — других и занятий
нету, сколько он жил на белом свете, только и делал, что
искал себе кочку.
Он сильно озяб и терпеливо грелся, стискивая колени
и напрягая плечи. Рукава шинели отяжелели большими
мокрыми кругляшами на локтях, а внутри, вокруг локтей,
мучительно томило, как будто теплым паром. Ног он не
чувствовал, мокрые или сухие. И рана не мучила.
Казалось, целая жизнь прошла, не было конца ночи.
Потом стало что-то мерещиться впереди, и Фомичев раз-
личил брошенное немцами орудие. Они не смогли его вы-
катить из плавней, где у них было боевое охранение. По-
степенно светало, и орудие становилось все более жел-
тым — такому бы в спелом поле маскироваться. Труп стой-
мя обнимал высокое колесо, уткнувшись лицом в резино-
вый скат. На колышках передка висели каски. На касках
и на кочках висели зеленые тряпки, валялись фляги,
а ближе всего к Фомичеву белело письмо.
«Овдовела фрау!» — подумал Фомичев, разглядывая
листок с расплывшимися чернилами.
Бронебойщик долго разглядывал письмо, будто хотел
прочитать, и снова перевел взгляд на стоящего у колеса
мертвого фашиста.
«Винтовку бросил, чисто корова комолая!» — с отвра-
щением думал Фомичев.
112
С рассветом началась метель, но немцы усилили па-
стильный огонь из автоматов — нельзя поднять головы.
Грызя сухарь, Фомичев в первый раз задал себе вопрос:
«Сколько ждать-то?» Он верил в помощь с того берега.
Злоба его против сплоховавших бойцов окрепла за ночь.
«Ишь удумали. Ну, оп им показал! — злорадствовал
Фомичев. — Теперь злые на пего. Куда там, не по носу,
видно, пришлось! Только танка им не показывай — пе
любят».
Пропавший Мамедов тоже вызывал осуждающие мы-
сли. Они воевали вместе больше года, от самой Клетской.
Из одного ружья подбили четыре танка. Горе, и хлеб, и
кладь — пополам. Сейчас мысль о раненом Мамедове была
очень тяжела.
«И кочку-то небось выбрать не сумел! Эх, Мамед, с
тобой только чай пить, а пе воевать!» — так несправедливо
думал Фомичев о своем лучшем товарище.
Что из того, что другой голос подсказывал верные мыс-
ли! Летом как-то в высокой траве узбек обернулся, рас-
смеялся: «Ну, я пошел, меня пуля пе берет», — и полез
напрямик. Фомичев — за ним. И верно, не взяла, а тут в
кочках, конец Мамедову. Кого пе заморозит!
Метель белыми волнами неслась от реки, па какой-то
час совсем замглило, и бронебойщик с трудом встал на
четвереньки, собрал вокруг себя мокрую прошлогоднюю
траву. Потом снова улегся; ему стало теплее от травы
снизу и снега сверху.
«В такую метель в степи все сольется, закрутит, ниче-
го не видно! — думал он, поглядывая на свое ружье и как
бы чувствуя правым плечом его знакомую тяжесть. —
Нет, с ружьецом не дойду, лучше тут переждать».
Он закрыл глаза, и мысль его стала медлить, засы-
пать.
В мирные времена и метель была мирная, она хорово-
дила на огородах, была частью того обжитого, с чем оп
свыкся сызмала. Деревянной лопатой он чистил дорожку
к колодцу, гвоздем счищал снег с наличника, чтобы за-
крыть ставни. Он и работал в метель — на лесорубке или
па дворе МТС, но и там метель была опять же своя, семей-
ная, домашняя; можно было проворно заскочить в дверь,
чтобы холоду не впустить, сказать матери: «Ну и курит!»
Тут и самовар и пол-литра, и сидишь с другом перед лам-
почкой, а потом выспишься в теплом доме. А теперь Фо-
мичев воевал в чужой, немирной метели. Жизнь стала
113
моторизованная. Сколько с прошлой зимы населенных
пунктов освободили! Вот хоть бы эта Ковалевка. Ему —
населенный пункт, а кому другому — дом родной, отчиз-
на. Тут перед тобой враг, сыщи его, казни — и все.
Метель поредела, а там и совсем улеглась по кочкам,
когда под вечер, как раз над тем кустом, до которого Фо-
мичев определил четыреста метров, показался немецкий
танк.
«На пробу вышел», — подумал Фомичев; ему стало
теплее от зрелища танка, который осторожно совался
в балочку.
Как только танк придавил куст и показал до себя рас-
стояние, Фомичев, выстрелил; танк закружился и встал.
Точно в сумерках еще одна хата выросла с краю Кова-
левки.
«В трак попал! Ишь гусеницу расхлестнул!» — радо-
вался редкой удаче бронебойщик и даже погладил ствол
ружья щекой, слабо заросшей прямым волосом.
Но головы он не поднял: он зпал, что если заметят
конец, всю его кочку изрешетят.
Всю долгую ночь фашисты ползали вокруг подбитого
танка, и бронебойщик слышал далеко позади себя винто-
вочные и автоматные выстрелы; по ним можно было су-
дить, сколько бойцов осталось в камышах. Это из плавней
вели огонь по танку. Фомичев понял, что здесь, у фа-
шистских окопов, он один, но что позади знают о нем,
оценили его выстрел. Но больше он не стрелял: он не был
замаскирован для ночной стрельбы, во тьме огонь из про-
тивотанкового ружья — как из пушки.
В эту ночь ознобило его до самых костей.
Изморозь покрыла длинный ствол противотанкового
ружья, но под утро бронебойщик уже не хотел шевелиться.
Руки оп грел в штанах. Мерзлая кочка, за которой оп
укрывался, когда сквозь туман пригрело мартовское сол-
нышко, стала оттаивать, отпустила влагу. Чем больше це-
пенел Фомичев, тем меньше он боялся собственной неосто-
рожности. Кочковатая рябизна воды и снега после метели
упрятывала его серую шинель и грязно-меловое лицо. Но
шевелиться было нельзя.
Так прошел еще день. Фомичев уже не боялся, что ста-
нет кашлять.
«В Баштапке как воевали, десять дней на снегу спа-
ли! — вспоминал Фомичев.— Застыл, лег в окопчике; каш-
114
лял, свистел, дышал — ну прямо трехэтажно, а к утру так
расклокотался, что всех побудил, ругались. А эти не так
заругаются!»
Он засыпающими глазами бессмысленно глядел в сто-
рону немецких окопов.
Одно сонное желание всю ночь и весь день владело
Фомичевым — поджечь подбитый танк. И вот снова на-
ступала ночь, а Фомичев не решался.
Плавни были мертвы в ту ночь. В тишине Фомичев
дважды слышал шлепающие звуки медленно бредущих
пог — кто-то, не выдержав, уходил назад, к реке. Тотчас
по нему начинался огонь из немецких окопов. Но когда
загоралась ракета, плавни были пусты, как днем. Только
однажды Фомичев услышал далекий, по отчетливый вздох:
«Ох, гирко жыты!»
Мог лп он сам теперь спасти свою жизнь? Поздно
ночью он выбрал на ощупь твердый комок земли и швыр-
нул, как смог, подальше. И сразу загавкали гитлеровские
автоматы — били по звуку.
«Надо терпеть. Вешками тебе дорогу не обставят. Ру-
жьеца не бросишь!» — подумал Фомичев, не признаваясь
себе самому в главном — что ног он уже не чуял.
А справа от пего, шагах в сорока, ближе к немцам,
кто-то жил все эти дни, копошился, как он, в болотной
воде. Он не знал, кто там, пока днем не полетела туда
ручная граната из фашистской траншеи, и тот заорал
смертным голосом, — видать, сильно его поранило. И тут
по голосу Фомичев признал Мамедова. Был ли это Маме-
дов? Теперь он умолк.
И тут вдруг дыхание перехватило. Захотелось хорошего!
Оправдать, все оправдать, и то, что ног не будет... Он су-
дорожно прпладился к ружью и среди бела дня дал выст-
рел по танку. И тот задымился столбом прямо в низкое
мартовское небо. Этот дым, когда Фомичев пристально
вглядывался в его ненастное кружение, усыплял его; надо
было бороться, глаза воспалились от снега, и было больно,
только глаза-то и болели.
Закрыв глаза, Фомичев видел друга Мамедова с седой
щетиной на широких, круглых щеках. Веселый и смешной
человек, хороший друг. Как он рассказывал про свою
свадьбу! Поехал за бараном в Казахстан, а невеста
тем часом уехала на курорт. Вернулся Мамедов в
пустой след. Куда девать барана? Подарил в детские
ясли.
115
«Добрый парепь Мамед!»—думал Фомичев, засыпая.-
И под мокро-ледяной шинелью дергалось правое плечо,
как будто несли они с Мамедовым ружье где-то в лунной
морозной донской степи. Ружье дергалось; он удивлялся,
что Мамедов так легко идет по хрупкому насту, а он про-
валивается. «Если злой будешь, знаешь, кто будешь? —
слышал оп голос и детский смех Мамедова. — Если злой
будешь — оглобля справа, оглобля слева, а сзади бочка
с водой, вот кто будешь». — «Осел, значит!» — самодоволь-
но, как когда-то, догадывался Фомичев.
Сырой ремень он грыз и жевал зубами. Ему не с кем
было поговорить, — сколько суток лежал человек в ледя-
ной воде один на один со своими мыслями.
Обида была за то, что когда легко, то и внимания
к тебе пе нужно, без внимания воюешь. Вот как очень
круто — тут и нету никого, забыли. Попал человек в
беду — на свои гранаты надейся. Все... Мысль его боро-
лась и гасла.
— Дай прикурить! — сказал он и очнулся от своего
голоса.
Очнувшись, Фомичев вспомнил, что если повернуться,
открыть рану, то кровь снаружи согреет, но внутри все
померзнет. Себя подставить под пулю — такой мысли не
было: «Сам окочурюсь». Снова рассматривал Фомичев своп
черные, распухшие пальцы, усмехался, даже пожурил
себя: «Ишь от злобы ногти загнулись!» В первый раз упря-
мый, честный человек понял, что — конец, не спастись...
И сразу вошел в отчий дом. Скрипучая лестница вела по
ступенькам выше и все выше, выше, выше. «А чем выше,
тем его выше и вздернут!» — подумал он и сам удивился:
о ком это он сказал? Это был Гитлер... И снова вступал
оп в дверь отчего дома. Мать печь мажет, руки в глине.
Оп вошел, посмотрел на нее весело; она закрыла лицо ру-
ками, и меж пальцев на юбку текут не слезы, а капли
глины...
Он очнулся и отнял от лица своп мокрые пальцы.
Потеплело в плавнях. Ночь темная, весенняя. Было
так тихо, что он услышал за Бугом чавкающие звуки сту-
пающих лошадей. Он даже представил себе обозников, бре-
дущих с подоткнутыми полами шинелей. Потом послыша-
лось ближе, шагах в тридцати: «Шлеп, шлеп».
Огонь из автоматов совсем пробудил бронебойщика.
И снова как будто на далеком, на том берегу брели лот
116
шади: «Шлеп, шлеп». Снова били автоматы — по звукам,
а когда умолкли, снова «шлеп, шлеп», точно кто-то в воде
полз с локтя на локоть.
— Фомичев, голос дай! — кто-то шептал позади. —
Фомичев, друг, дай голос! Живой?
Надо было соединить одинокого бойца с ротой, с пол-
ком, поддержать его душу, п агитатор Паншин пополз в
плавни. Здесь нули на каждой кочке исчертили снег как
мыши. И старшина медслужбы Анечка, которую агитатор
взял с собой, пе смогла ползти — залегла.
В камышах грохотали разрывы. Анечка сопела где-то
близко. Вглядываясь в ее сторону, Паншип снова испы-
тал то тягостное чувство, когда сильный понимает слабого
п робкого и все же ненавидит его — даже пе из гадливо-
сти или презрения, а больше от заботы, как бы самому пе
сплоховать, не лечь рядом.
Немецкий самолет прошел над ковшом реки и «подве-
сил» осветительную бомбу. Желтым смертельным светом
озарились камыши. «Фонарь» неряшливо сыпал огнен-
ными хлопьями: они гасли, пе достигая земли.
Паншин пропустил минуту, пока прогорел «фонарь»,
подполз к Анечке, прошептал:
— Что же ты! Пых — и погасла. А на войне нужно
терпение. Ты же взялась.
Но Анечка молча отказывалась. Тогда агитатор ото-
брал у нее сумку и флягу, пополз один. Лежавшие в плав-
нях бойцы бросали в темноту комья земли. По шлепаю-
щему звуку комьев Паншин добирался от одного к дру-
гому. Иногда он не находил бойца, а только неглубокий,
залитый водой окопчик, и он отдыхал в нем.
С полчаса Паншин лежал ничком; осколки свистели и
чавкали кругом него. И снова он полз вперед.
— Куда же ты прешь? — шептали из темноты то
справа, то слева. — Он по звуку бьет.
«А вот ползу, живой еще», — думал Паншин и полз
с локтя на локоть — «шлеп, шлеп» — к чему-то впереди,
горбатому, хриплому.
z — Фомичев, друг, дай голос! Живой, что ли?
Бронебойщик встретил его хриплым шепотом:
— Смотри не закури.
— Что ты! Я и не взял с собой... — прошептал
Паншин; ему показалось, что Фомичев сошел с ума.
— А я днем в ямочку дымил, пока было курево, —
дрожащим до взвизгивания шепотом говорил Фомичев. —
117
Выкопал подсобой и дым пускаю, только вода набирается...
Вот воды-то. Окоченел.
Он бил зубами по горлышку фляги и не мог влить
глотка в рот.
— Забыли, что мы сзади. Вылупились из окопов, —
шептал Фомичев об оробевших бойцах, срываясь в хрип,
мыча и всхлипывая; где-то в самой глубине его окостенев-
шего тела что-то содрогалось от волнения. — Глядим, они
как вскочат на дыбки с-под танков! Сорок первый вспом-
нили... С теми привычками.
— Что ты говоришь? — шепнул Паншип; он не мог
понять, о чем говорит бронебойщик: он подпарывал но-
жом на его ноге мокрую кожу сапога, и ему казалось,
что Фомичев жалуется на боль.
— Говорю — не тот год теперь, чтобы им проско-
чить... — Фомичев с трудом выговаривал слова, и они вы-
ходили, как в детстве.
Гладкие, вздутые ноги Фомичева были обморожены, и
трудно было представить, что их можно спасти. Паншин
растирал их осторожными движениями.
— Видел танк подбитый? Это же я подбил. Да и под-
жег, чтобы не утащили, — шептал Фомичев, не успокаи-
ваясь.
— Ты что говоришь? — шепотом переспросил Паншин,
содрогаясь от резкого запаха раны.
— Говорю — если обкатал он тебя, то заройся, знай
сиди.
Он шептал какую-то высшую правду боя. Паншин под-
полз и лег вровень с лицом бронебойщика.
— Ты сейчас самый передовой человек, — шепнул он
в ухо Фомичеву ту мысль, которая пришла ему в голову,
когда он просил у командира разрешения.
— Не могу двинуться нисколько, — шептал Фомичев,
тяжело дыша. — Вот брошу ночью ком — он сейчас му-
зыку. Слышал? А я ног не чую, не могу отползти ни-
сколько.
— Поправишься.
Бронебойщик молчал. Его распухшее, заросшее лицо
казалось во мраке ночи искаженным от напряжения мыс-
ли. Но речь его, когда оп снова зашептал, была испол-
нена ясного разумения и спокойствия:
— Вот создал бог человека... а запасных частей нету,
Без ног остался.
118
•— Поправишься! А война кончится — работы много.
Выберешь тут, в Ковалевке, невесту.
— Нет, тут не выберу, Степан Федорович, — ответил
бронебойщик, и губы его попробовали улыбнуться. —
В этой деревне вода холодная.
Так они шептались, а потом долго молча лежали ря-
дом. Но когда подул теплый ветер и где-то заворчала
первая мартовская лягушка, они ее слушали вдвоем и
не верили, что в этих краях так рано бывают лягушки.
И когда полетели наши ночные бомбардировщики, они
их вдвоем проводили взглядом, как во тьме провожают
по голосу невидимо летящих гусей. И так, вдвоем, было
легче бойцу, попавшему в беду. А вытащить его ио
было возможности.
Трудно было Паншину выползти до рассвета. Снова
бойцы бросали комья земли — показывали, где камыши
погуще. На полпути враг закидал минами; чувствовалось,
что батареи противника готовы сняться — расстреливают
запасы.
Когда Паншип утром добрался до мостиков, уже на-
чиналась переправа. Вверх по реке наш прорыв быстро
распространялся; немцы, оставляя берега, уходили беспо-
рядочно, как уже привыкли с зимы после Никополя.
В полдень Паншин стоял на переправе и показывал
старшине Анечке, где искать Фомичева. К берегам реки
безбоязненно подходили машины, и над всем этим на-
тужным ревом тягачей с прицепами, над простором пого-
лубевшей реки, когда появилось солнце, неуклюже летел
одинокий журавль.
А Фомичев лежал за кочкой. Дул такой теплый ветер,
что бронебойщик, теряя разум, сиял шапку-ушанку с дав-
но не мытой головы. Весь его мир снова поделился па
правду и неправду. Правда стреляет в фашиста. Правда
ночами в плавнях воюет. Правда ползет в студеной воде,
плещется, дышит, чтобы слово привета сказать. А не-
правда — вот она, перед тобой. Бей в нее и будь свят на
земле! Он был уже не одинок за своей болотной кочкой:
оп лежал в многолюдном мире и готов был и дальше,
сколько сил хватит, воевать, лишь бы победить вместе
со всеми. А всех-то был целый мир за спиной!
1946
СТУЧИТ, СТУЧИТ МАЯТНИК
По утрам не бомбят.
Я слышу, как майор медицинской службы Хетагуров
играет Шопена. Он живет за двумя садочками в учитель-
ском доме.
Я слышу, как Пустовалов и Яков Львович выходят
па веранду и садятся за работу. Пустовалов плетет кор-
зину, Яков Львович сапожничает или заливает калоши
немецким клеем.
— Спали, спали, а все пять часов...
Так начинается их разговор.
В селе долго стоял наш штаб фронта, пока войска
не ушли с боями на запад. Теперь тишина — хозяйки
белят хаты, вспоминают своих постояльцев. Изредка под-
катит к калитке легковая машина, выскочит ординарец.
«Помните, стоял у вас полковник чернявенький? Сапож-
ную щетку забыл... Велел кланяться...» Теперь по хатам
разместили совсем неинтересный народ, в селе кварти-
рует психиатрическое отделение фронтового госпи-
таля.
Я задержался с заданием Военного совета — сижу,
пишу доклад о языке дивизионных газет. Дверь моей
комнаты выходит на веранду, обвитую плющом, в саду
вишни в полном цвету, вечером соловьи, сквозь марлю
в открытое окно светит лупа, вдали река, ушедшая в ме-
жень, видны ее обнаженные отмели. По ночам Яков
Львович во сне поет псалмы, и я знаю — Пустовалов пе
спит, он слушает и роет воздух перед собой, роет, роет
всеми десятью пальцами.
Днем Пустовалов плетет корзины, веранда завалена
красной и черной лозой.
120
С черепашьей шеей, со светящимися умными глазами,
весь в лишаях от истощения, но жилистый, мосластый,
Пустовалов медлителен и вдумчив в работе. На нем чер-
ная рубаха навыпуск и поверх серый жилет. К Якову
Львовичу он снисходителен, как человек, знающий на-
стоящее ремесло, как мастер — к ученику. Оп ревниво
относится к своему делу и не любит, чтобы ему мешали.
А Яков Львович любознателен и суетлив.
— Як ручки зроблят, так ножки сносят, — говорил он,
вколачивая деревянные шпильки в подошву, а сам по-
верх очков поглядывает на все время снующие в прутьях
пальцы Пустовалова. Ему хочется научиться плести кор-
зины. Голенища ему еще не выдал каптер — не доверяет.
Но в ящике много сапожного товара — наборы для каб-
луков, стельки, задники, набойки, весь поднаряд. И хо-
рошо пахнет навощенной дратвой, от этого Яков Львович
делается день ото дня спокойнее.
Пустовалов плетет корзину для Якова Львовича, тот
вздумал привезти яйца семье из этих дешевых мест.
Пустовалов скуки ради плетет ему корзину, а тот помо-
гает. Яков Львович услужлив, подметает пол па веранде,
охотно слушает рассказы Пустовалова, ходит к реке за
ивовыми прутьями. Он осторожен и знает безопасную
тропку, огибающую прибрежные минные поля.
Иногда к ним заходит тетяТаша. Она приносит в суд-
ках похлебку из госпитальной кухни, участливо разгля-
дывает пустоваловское плетение и делает вид, будто ни-
чего знать не знает, так ей приказал Хетагуров.
Вздохнув, она качает головой.
— Помню, я невестке говорила: как дракона вышью,
война кончится. Скоро мой дракон уж выцветет на
стене.
Яков Львович прибыл сюда с госпитальными маши-
нами. А к Пустовалову у женщин особое отношение: они
сами вывели его из нестройной колонны обросших голод-
ных людей. Русских людей, освобожденных из плена, по
восемь в ряд запрудивших в медленном марше улицу
села. На Пустовалова был падет бумажный мешок из-под
цемента, руками оп рыл воздух перед собой и разумно
отвечал на все расспросы женщин, усадивших его за
стол, только не называл своего имени-отчества. Стараясь
удержаться, чтобы не ответить, он начинал часто дышать,
потел, глядел немигающим взглядом. И его клонило ко
сну,
121
Тут была какая-то загвоздка в его растревоженном
мозгу, что-то необъяснимое, если не знать того ночного
часа, где-то в полевой жандармерии, когда это началось.
Во фронтовой госпиталь он был принят без имени-отче-
ства — просто Пустовалов.
Хетагуров легко разгадал происхождение помешатель-
ства Пустовалова, такой не один во фронтовой зоне, его
бомбежкой прижало, первы-то как ниточки: бомбили,
а он хотел зарыться в землю, он рыл пальцами землю.
Когда его осматривали врачи, он также плел невидимое
плетение. И Хетагуров, играющий по утрам Шопена, при-
казал дать ему лозы, обучить, пусть разгоняет свой «пси-
хический автоматизм». А уж потом к нему подселили
Якова Львовича, и они подружились.
Пустовалов строг, и чем ближе к концу очередная
корзина, тем он строже с товарищем. Все, что говорит
сапожник, — баловство. А сам он рассказывает, как из
плена ушел. Яков Львович только изредка вставляет сло-
вечко.
— Наступила зима, мусор на помойках померз, и ка-
пустные кочаны под снегом. Стали помирать... При-
дешь — по пояс мокрый. Лежишь на цементном полу,
окна выбиты, а бежать некуда, третий этаж... Привели
однажды на кирпичный завод, конвоиры разошлись,
а нас — по десятку — отдали полицаям. Я уголь носить
пе стал, а сразу к забору, будто бы оправиться. Смотрю —
никто за мной не следит, я — в дыру. И по огородам —
к домам. Хозяйка на меня косо глядит, а я — «дай поесть
немного». Дала две картошки, у нее самой муж у немцев
в плену. И меня провожает к двери, боится. В Орле столь-
ко было немцев — силища, тыловой город...
— Прямо жуть, — вставляет Яков Львович.
— Подошла соседка, говорит: «Так тебе не уйти,
я пойду к себе, а ты перебеги за мной». Дала мне фу-
файку рваную, мужскую, а бабка — штаны и треух.
В первый день прошел верст пять. Поешь и не радуешь-
ся— дизентерия. Мне одна говорит: «Так тебе не попра-
виться», насушила сухарей. Смотрю — десять верст про-
шел, а там пятнадцать. Только от фронта идти вглубь
легко, а к фронту трудно... Пришел в деревеньку, я уж
зарос —дед. Немец спрашивает хозяйку: «Это кто? Золь-
дат?» Опа на меня поглядела: «Нет, пан...» А немец гово-
рит: «А чего ж он па лавке лежит?».
122
— Прямо жуть...
Наговорившись, Пустовалов спит па боку, подложив
шапку под ухо, по и во спе роет воздух. Яков Львович
делает тихую работу — резину клеит.
— Они его хотели расходовать, — шепотом поясняет
он мне и щурит глаз.
Проснувшись, Пустовалов находит в корзине живую
желто-зеленую ящерку. Они вдвоем ловят ее. Пустовалов
держит в своем костлявом кулаке, Яков Львович гладит
ощеренную языкастую головку. Они отпускают ящерку
в саду. И долго Яков Львович вспоминает происшествие:
— Маленькая... па четырех ножках... — Оп улыбается
по-детски счастливо.
— А па скольких же ей быть-то? На восьми? — по-
смеивается Пустовалов.
Работа, видимо, увлекает Пустовалова. Он торопится,
хотя делает вид, что плетет из одного одолжения. Госпи-
тальная похлебка их не насытила. Тетя Гаша зовет
к себе на пироги. Я слышу, как они возвращаются пове-
селевшие, Яков Львович семенит за Пустоваловым и до-
сказывает что-то из мирной жизни, из мирных семейных
сцен:
— Видишь ли, Пустовалов, я рыбу ем понемножку.
Я не очень люблю рыбье мясо. Но я хрен ем очень
охотно, прямо жуть! Я ложками кладу хрен на рыбу...
Пустовалов снисходительно слушает и, подойдя к ве-
ранде, тащит из кустов запрятанную туда, в тень и сы-
рость, лозу.
Работа продолжается. Пустовалов уже без счета на-
плел корзин, их уносит госпитальный трупарник Федот
Иванович. Я не знаю, какое он им находит применение,
но корзины у Пустовалова не задерживаются.
Иногда на веранде появляется угрюмый Фома, голо-
пузый босой мальчонка. Неизвестно, прислала ли его
тетя Гаша или он сам прибрел, охотясь за кошкой, кото-
рую он выслеживает по всем соседским садам. Его отец
недавно мобилизован — запасный полк стоит в соседнем
селе. Фоме пять лот, он все понимает в жизни взрослых,
и есть у него своя загадочная душевная жизнь, он не-
охотно впускает в нее посторонних.
— Прислал батька письмо? — спрашивает Яков Льво-*
вич, зажимая в губах пяток деревянных шпилек.
— Да, он недалеко отсюдова, — угрюмо отвечает
мальчик.
123
— Пишет, что скоро приедет?
— Приедет.
— II что-пибудь прислал маме?'
— Два ведра пшеницы. И еще муки трошки. Бе-
лой...
— Это ячневая, — вмешивается в разговор Пустова-
лов.
— Ну, белая, все равно! — подтверждает Яков Льво-
вич. — Какая разница?..
У Якова Львовича, когда он разговаривает с мальчи-
ком, глазки бегают, рука быстрее стучит молоточком.
Ему хочется пить, оп подбегает к ведру и пьет из алюми-
ниевой кружки. У пего седая бородка и седые — двумя
кустиками — бровки. Когда ои сидит в желтой майке, за-
жав в коленях свою работу, его рука в голубых жилках
и рыжих волосиках напоминает ощипанную курицу.
Фома любит пальцами гладить худую стариковскую
руку сапожника — там, под волосами, чернеет татуиро-
ванный номер. У Якова Львовича номер 36 227.
— Вон за ящиком киска, — показывает рукой Фома. —
Дай се сюда. Ох, тяжелая... Ксс, ксс... К кошке гости
придут, она умывалась...
— Вот бы к твоей маме гость пришел, — вздыхает
Яков Львович.
Видно, что-то трепещет в его памяти, глазки бега-
ют, молоток быстро постукивает по подошве.
— Кому ж раньше починять? — спрашивает Яков
Львович.
— Маме, — отвечает мальчик.
Он тискает кошку, та терпеливая, только жмурится.
— А это — бабушке?
Яков Львович набрал заказов на всю семью тети
Гаши.
— Она не бабушка. Она моя крестная... — И опять
про кошку: — А опа любит вареники?
— Опа буряки любит, — вставляет Пустовалов.
С приходом Фомы оп уступает разговор Якову Льво-
вичу, тушуется и только изредка показывает свое уча-
стие.
— Хорошая кошка, — говорит мальчик.
Яков Львович молча постукивает по подошве и вдруг
предлагает:
— Хочешь, я тебе спою песенку?
124
И, не дожидаясь приглашения, тонким голосом за-
певает:
Тра-та-та... Тра-та-та...
Вышла кошка за кота,
За Кота Котовича,
За Якова Львовича...
И Яков Львович блаженно смеется и чешет свою го-
лую и худую руку с фашистским клеймом.
— Ну, до свидания, — говорит Фома, не поблагодарив
за песню.
— До свидания.
Мальчик уносит кошку. А Яков Львович подробно
рассказывает Пустовалову о своей семье, которая дожи-
дается его в Днепропетровске, о том, как его старуха
прыгает вокруг внучка и поет про Якова Львовича, поет
русскую песенку, все знают, как хорошо говорят по-рус-
ски у Зисерманов.
— У евреев «манн» тоже человек. Как у немцев, —
вслух размышляет Пустовалов. — А что такое «зисер»?
— Особенный, — разводя руками, поясняет Яков
Львович.
Пустовалов поднимает умные, просветленные разумом
глаза.
— Значит, ты особенный человек?
И они оба смеются.
В каждом безумии есть своя хитрость. Я твердо знаю:
Зисерман понимает, что не для него плетет свои корзины
Пустовалов, что это ему прописал майор, чтобы сума-
сшедшие руки занять. Но понимает ли сапожник, что ему
некому везти яйца из этих дешевых мест, что у него ни
одной живой души пе осталось? Федот Иванович, земляк
Зпсермана, рассказал мне, как жена и дочь Якова Льво-
вича долго скрывались от немцев у добрых соседей. Но
потом очередь дошла и до них, утром они должны были
идти на театральную площадь со своим скарбом. Они вы-
слали мальчика из дому, затопили печь, закрыли вьюшку
и легли спать. Но угореть пе смогли. Тогда они во вто-
рой раз под утро стали топить печь. И снова не смогли
угореть. Всю ночь они провели в этой работе: топили
печь. Наутро их все-таки увели. Федот Иванович видел
их комнату с потрескавшейся печью. А мальчик всю ночь
простоял в разгромленном магазине. Там одно время дер-
жали лошадей, и когда были бомбежки, то среди сена и
125
навоза натекли лужи крови. И мальчик там простоял
всю ночь. Федот Иванович образно выразился: как аисте-
нок. Утром его нашли и застрелили в том же магазине.
Знает ли об этом Яков Львович? Во всяком безумии есть
своя хитрость.
Когда приходят к концу запасы прутьев, у Пустова-
лова портится настроение. Гордость не позволяет попро-
сить соседа сходить к реке: ведь это он сам делает ему
одолжение, спросить его — так пропади опа пропадом,
эта кошелка. Но Яков Львович, увлеченный разговорами,
пе замечает мрачности Пустовалова, хотя тот уже начи-
нает часто дышать, потеть и глядеть не мигая.
— Не хватит лозы... — наконец мрачно выговаривает
Пустовалов.
Его заметно клонит ко сну, но руки упрямо гнут по-
следние прутья. Яков Львович готов услужить. Он всегда
повторяет: услуга за услугу.
— Как они быстро кончаются, прямо жуть. Пойти,
что ли?
— Дело хозяйское.
Пустовалов говорит самым безразличным голосом, но
Яков Львович уже услышал короткое дыхание товарища,
заметил бисерный пот на лбу, устрашился немигающего
взгляда. Он понимает: что бы делал Пустовалов, если бы
пе корзина, в которой он, Зисерман, повезет яйца из этих
дешевых мест? И он спешит к прибрежным ивам, кра-
дется тропкой — одной-единственной, где можно про-
скользнуть между минных полей.
Наступает вечер, меня зовут играть в карты. Я пе
отказываюсь. Колода старая-престарая — пушистая па
ощупь, как кролик. В такой час Хетагуров разбирает
аптечку, оставшуюся от немцев в разоренной психиатри-
ческой больнице, там примечательный набор медикамен-
тов: люминал, мышьяк, стрихнин, скополамин, фосфор,
героин, ареколин, снотворный мак... Невдалеке от села,
в роскошном фруктовом саду, была когда-то знаменитая
па всю Россию больница с водолечебными и светолечеб-
ными кабинетами, с мастерскими швейными, сапожными,
корзиноплетеночпыми, столярными, с копференц-залом,
где па степах портреты всемирно известных ученых. Те-
перь по поручению Военного совета майор медицинской
службы обстоятельно обследует руины лечебного корпуса,
открытые ямы в саду. С приходом оккупантов врачи и
медсестры разбежались по селам. Ипые покончили с со-
126
бой. Им было предложено умертвить тысячу триста боль-
ных. Операция затянулась на несколько месяцев: впрыс-
киванием под кожу морфия, впрыскиванием в вены спир-
та или с помощью особых доз инсулина свели в садовые
ямы всех приговоренных, по списку. Остальные сами
вымерли от голода, зимой вымерзли в нетоплепных па-
латах и в конференц-зале, где окна и сейчас занавешены
алым бархатом, а люстры по-летнему затянуты потемнев-
шей от пыли кисеей. Хетагуров искал и не нашел в ап-
теке книги учета отравляющих веществ, а только вывез
на двух грузовиках коллекцию медикаментов профессора
Фихте, санитары вывели под руки десятка полтора уце-
левших — среди них сапожника Зисермана. И как же
удачно потом молодой психиатр соединил больного, кото-
рого нужно лечить плетением корзин, с больным, которо-
му нужна плетенка для яиц.
И вот уже ночь, уже бомбят. Это на узловой станции,
вдали мерцают зарева, блуждают прожекторные лучи.
А в нашем селе тихо, умолкли соловьи. Пустовалов залез
под койку. Яков Львович сидит возле него на полу, под-
жав ноги по-турецки, держит руки товарища, бормочет
что-то успокоительное, я только слышу, как он порой
вздыхает: «Прямо жуть...»
Еще позже, ближе к полночи, у нашей калитки оста-
навливается заблудившийся автофургон. Хозяйка зовет
меня для переговоров:
— Скажите, здесь танк не проходил?
Молоденький сержант, еще, видно, не знавший лиха,
устал в пути, ему хочется спать, он готов соблазниться
ночлегом, но долг превыше всего. Я слышу, как он с во-
дителем ищет на огороде след гусеничного разворота,
хозяйка сокрушенно вздыхает: «Ну, подавят наши по-
мидоры...» А они ищут, ищут — сержант убежден, что
танк свернул па ночлег к той дальней хате, за огородом.
Теперь полная тишина в доме. Спит Пустовалов. Спит
Яков Львович, он еще не запел псалмы — это под утро,
когда самый крепкий сон. И только маятник ходиков
стучит надо мной. Он стучит всю ночь, стучал всю войну.
Из всех человеческих новшеств за тысячи лет звук маят-
ника, самый единственный, самый соприродный времени
и пространству, кажется мне родившимся раньше жизни,
1964
ЗА ТЕМ СЕМАФОРОМ ЗА СТАРЫМ...
В Волновахе конвоиры перегоняли парней в вагоны
па десятый путь, а про девчат, наверно, забыли, цыганка
подкралась к Тане, та сунула ей дощечкой ладонь, и она
нагадала — сразу пе поймешь: будет Таня бежать за по-
ездом, и три раза будут дома без нее вишневое варенье
варить. Таня спросила:
— А когда война кончится?
— В августе, золотая, кончится. В августе...
В конце февраля в Баварию уже пришла весна. В чи-
стом, будто веником подметенном, лесу, когда Таня в пле-
теной корзине несла на поле еду мужчинам, она прохо-
дила поляну за поляной в белых коврах подснежников.
Но война не кончилась и в апреле. Значит, гадалка не
всю правду сказала: в августе кончится война, да только
не скоро — три раза вишню сварят без Тани в родной Со-
фиевке.
На холме, за черепичным гребнем крепостной стены,
стоял древний замок; из-под его крутой кровли глядели
узкими щелями окна. Кто там живет? Что там внутри,
в прямоугольной башне с фигурными часами? Германия
и в апреле оставалась для Тапи такой же непонятной,
как этот замок на холме. А ведь она каждый день сади-
лась за стол с хозяевами, ходила по клинкерной мосто-
вой, объяснялась с продавцом в магазине.
Хуже всего одиночество. Говорили, что в селе Грюн-
таль одиннадцать донецких хлопцев добывают глину
в карьере. Говорили, что на заводе, где делают газ в бал-
лонах с желтыми кольцами, работают девчонки из Сла-
вянска, но окна бараков замазаны мелом, за колючей
проволокой брешут злые овчарки, загрызут — вот и вся
128
недолга... Нюся в больнице; сказали, что у нее пухлые
почки, и ее уложили. Не с кем поговорить по-русски.
И Тане хотелось, чтобы ее отвели в те бараки, там хоть
песню можно спеть с девчонками. Она вспоминала дядю
Костьку и его добродушную присказку: «Добре дуть, як
дадуть...»
Ох, она бы добре дула, кабы дали.
Она похудела, платье болталось как мешок. И волосы
посеклись, косы вылезали — нечем мыть. По ночам в ком-
нате было страшно — ровно гудел неразрывный звук мо-
торов, англичане шли бросать бомбы на Мюнхен. Днем
она бежала в магазин по каменной брусчатке мостовой,
громко стучали деревянные туфли, вдруг кто-то окликнул
ее: танцуй, Таня... Она затряслась, как будто и вправду
ей кто-то письмо принес. Никого нет... Когда возвраща-
лась из магазина, клинкерная мостовая стала мокрая от
дождя, навстречу маршировали эсэсовцы в «мютце» —
фуражках с натянутыми под подбородок ремешками.
«Ветра нету, а они ремешки натянули», — подумала она.
Бессмысленные эти ремешки, бессмысленная их марши-
ровка. Впереди шагал по-гусиному офицер в очках, на
фуражке над козырьком распятый белый орел.
С покупками вошла она в темный хлев, там волы
с цепями на рогах жевали медленно и сонно. Таня обняла
их грустные морды. «Германия, Германия, немилая сто-
рона, будь ты проклята...»
Крестьянская семья дружно садилась за стол. Все по
своим местам — старики и малые. Теперь, весной, ели
молча и без скатерти. Они и осенью, когда Таня появи-
лась в этом доме, ели молча, но стол теперь стал беднее.
И только солонка та же — изобильная. Да еще заметнее
на опустевшем столе перед стариком торчала, как сна-
рядная гильза, кружка с пивом.
Пообедав и отпустив семью, старик долго сиживал
перед кружкой, с трубкой в зубах, в черном жилете и
полосатой рубахе. Усы у него остроконечные, цепочка
часов на брюхе. Выйдет во двор, спиной на палку обо-
прется, все углы оглядывает. У него па загорелых скулах
такие морщины, от глаз до самой шеи, что лицо будто
изрублено саблей.
В солнечные дни Таня стирала на дворе. Окно стари-
ковской спалыш низкое, ставни па двух дубовых досках.
И когда стояла у корыта вся, до ног, видная из окна, она
чувствовала холодеющим сердцем, что из-за кружевных
5 Н. Атаров, т. 1
129
занавесей неотступно следит за ней молчаливый «бауэр»;
с изрубленным морщинами лицом.
Дядя Костька любил говорить о себе: «День-деньской
как черт на вилах». Вот так теперь жила Таня. Опа вста-
вала в четыре часа утра, доила коров, убирала за свинь-
ями, варила кофе, мыла полы и натирала их тяжелой
щеткой. Сколько времени нужно тереть? Она спросила
фрау, та улыбнулась:
— Пока не увидишь свое лицо, как в зеркале.
Вот идиотка нашлась на ее голову! В доме все надо
было называть по-ихнему, и кухня была с медной посу-
дой на полке, с электрической вываркой — разве ж были
такие кухни в Софиевке? Какая она в самом деле есть,
Германия — страна культурная...
В марте солдат, веселый, рыжий, взял письмо, обе-
щал отправить полевой почтой. До этого Таня считала,
что привыкла, а теперь стало еще хуже — день и ночь
думать, дойдет ли письмо до мамы. В эти сырые мартов-
ские дни опа не представляла, что делает сейчас мама.
Может быть, она топит печь?.. Одно желание — только
бы посмотреть на широкую степь, па сады и па белые
хаты, где прошло детство... Лишь бы мама не голодала,
не плакала. Сердце разрывалось: вдруг уже ее нету?
И веки болели от слез. Знать бы, где райгородские ре-
бята, где Пашка Чмых. Опа вспоминала, как Пашка вез
ее с огородов, — на повозке было полно девчат, опа прыг-
нула в кучу сверху, и он плечом поддержал, не дал
упасть. И где щемиловские ребята, где тот хлопец, с ко-
торым в Ясиноватой письма писали в теплушке — по
очереди друг у друга на спине, потому что негде было
сесть.
По вечерам, когда фрау ложилась спать, Таня качала
колыбель, разглядывая свои отстучавшие за долгий день
черевички, и руки уставали ее качать, эту колыбель на
гнутых дубовых дугах. В колыбели лежал немецкий сол-
дат — беззубый, мордастый и такой белесый, что казался
лысым, и важный, симметричный в своих линованных оде-
яльцах и полосатых подушках... «Жму ваши правые
ручки и воздушно целую в губки», — придумывала Таня
письмо, и жалела себя, и плакала. И застланный слезами
весь божий мир — с клинкерной мостовой, с деревянными
туфлями, с пасмурным небом, с прямоугольной башней
замка за лесом — как будто тоже плакал.
130
Тогда, в марте, солдаты переходили наискось желез-
нодорожную колею, шли без строя, не в ногу, отяжелев-
шие от дождя. А этому, рыжему, все равно, пилотку су-
нул за пряжку полевой сумки, а шлем снял с головы и
пес в руке. Потемневшие рыжие пряди и блестящее,
в каплях дождя, розовое лицо... Кто подсказал ей, что
этот немец хороший? Она подбежала к нему и показала
конверт с письмом в Софиевку. Он понял и улыбнулся,
взял письмо, сказал: фельдпост, гут, гут, дескать, пошлет,
отправит, иди домой, девочка.
И вот — такие хорошие в армии, вроде наших ребят.
Он, может быть, уже па том свете. А Ганс —тут. Ганс
ездит на велосипеде. Почему его не взяли в армию, он же
здоровый, как бык? Белые ресницы хлопают-хлопают,
а прямая тяжелая булыжина подбородка отваливается,
когда он улыбается, и на грубой крестьянской руке свер-
кает кольцо. Он ей хочет понравиться, этот брат фрау,
похожий на нее и особенно ненавистный. Он ей подарил
баночку витаминного крема, и она проплакала всю ночь.
А утром он подошел к ней в хлеву и погладил по лбу,
перед ее глазами блеснуло кольцо. Он гладил ее, как
гладят корову. Таня дома была гром, ну и тут — мол-
ния. «Старику скажу!» — крикнула. Ганс отошел в сто-
рону.
Теперь она солдатам сочувствовала — глядела им
вслед, когда они шли на станцию. Все в душе смешалось:
смотреть с горы под низкими деревьями на ихнюю Гер-
манию, и радоваться, как она горит ясным пламенем, и
махнуть им рукой, когда кто-нибудь прощально огля-
нется па нее из мерно шагающих рядов. За спиной у сол-
дата был круглый плоский ранец, будто привинченный
к спине, такой ладный, что он не снял его, так и сидел,
прижав спиной к дереву, и сам казался игрушечным,
заводным. Но Таня вдруг вспомнила брата, когда он,
проходя с полком, зашел и сидел на кухне, как чужой.
И его пустой заплечный мешок с узелком на горлышке,
свободно болтавшийся на спине. У нее замутилось в гла-
зах, но немец не заметил ее слез, а если бы и заметил,
не понял бы, что причиной — его плоский, как тарелка,
ранец за плечами.
Убегу... Ноги, они никогда не перестанут болеть...
Убегу... Буду идти на Краков, только бы добраться до
фронта. Но как же бежать, если кругом горы и лес, а по
дороге на велосипеде догонит Ганс?.. Она вернулась
б*
131
в дом, украдкой подошла к гитаре — никогда не позво-
ляла себе такого, — стала вспоминать пальцами на стру-
нах простую песенку, которую пели девчонки в поезде.
Слова сразу вспомнились... «За тем семафором за старым
лежит неизведанный край, идут эшелоны и входят в ту-
маны, прощай, до свиданья, прощай...» А мотив никак не
могла вспомнить, не приходил на память.
«За тем семафором за старым...»
1964
МИРРА
Ярема Спектор отходил со своим полком по болотам
за Тихвин, когда его жена и пятнадцатилетняя дочь, без
вещей, без зимней одежды, кочевали по станционным
перронам от Куйбышева до Семипалатинска. На глухом
полустанке, где сбились толпы бездомных людей из двух
эшелонов, ночью в желтом табачном дыму их завербовал
агент какой-то новостройки ехать в Орск. Мирра Спектор
боялась вербовщиков, но этот обещал ей квартиру, одеж-
ду. И потом — но это получилось совсем по-женски —- ее
соблазнило само слово Орск, оно напоминало ей знако-
мое нестрашное орс, с которым у нее и мужа в Одессе
были связаны неплохие воспоминания.
В Орск они приехали среди зимы. Не оказалось пи
обещанного жилья, ни хлеба. Была сибирская метель.
Они переночевали в чьих-то сенях на полу, рядом вода
в ведре замерзла за ночь. Дочь сказала утром:
— Мама, мы с тобой, как в «Гроздьях гнева».
Их разговор услыхала из своей комнаты жена учителя,
приехавшая сюда раньше из Могилева. Она подивилась
начитанности девочки и пожалела несчастную мать.
— Уезжайте отсюда, гражданка Спектор. Мы уже по-
гибли, а вы бегите куда глаза глядят.
Мирра Спектор добилась приема у начальника строи-
тельства, просила отпустить их с дочкой.
— Но вы уже обошлись нам в копеечку, — устало ска-
зал этот добрый человек и тут же махнул рукой:
— Езжайте...
Тогда они поехали на юг, к теплу, в Ташкент. Мирра
Спектор надеялась там найти свою младшую сестру с му-
жем, тоже бежавшую из Одессы. И она нашла их в
133
Ташкенте, но сестра оказалась малодушной в беде, а ее
муж — черствым человеком. Он не прописал Мирру на
своей жилплощади, и та пе могла устроиться на работу.
Вдвоем с дочкой они пошли в жилотдел. Какой-то
отвратительный старик в очках и тюбетейке потребовал
ночь за прописку, точнее сказать, оп обещал, что сам
придет спать в их комнату, чтобы убедиться, хорошо ли
им будет, и при этом морщил нос и гнусно глядел на пят-
надцатилетнюю девочку. Тогда Мирра нашла другого
инспектора и заплатила ему шестьсот рублей за прописку.
Страшные слухи доходили из Одессы: там погибли
все евреи. Мирра насчитала пятнадцать родственников,
ближних и дальних, — о, страшный счет! Отец Мирры,
живший у младшей дочери, приходил к Мирре и беззвучно
шептал молитвы. Когда-то, в восемнадцатом году, так
же пришли немцы в Одессу, и он, мужской портной,
умеющий шить мундиры и шинели, вышел их встретить
на пороге своей мастерской. Он даже угостил их домаш-
ней колбасой, они с трудом понимали его еврейский жар-
гон, но все-таки лучше понимали, чем русских соседей.
И они не тронули ни его семью, ни его, а только посмея-
лись над ним, добрые люди. Он и теперь не совсем верил,
что немцы не те же.
Когда Мирра возвращалась с работы, отец встречал
ее разговорами, от которых темнело в комнате: так бес-
смысленно злобно старик проклинал свой народ.
— Здесь свирепствуют деньги, а там люди гибнут...
Тоска мне шею выкручивает, Мирра... Народ наш не из-
ранен— изгажен... Горе гноится, Мирра... Дочка твоя
уже замуж хочет... Подлое племя, заслужило ты тысяче-
летний гнев божий...
Весной пришел с вокзала муж третьей сестры — Сар-
ры. Мирон Граник работал в первые дни войны началь-
ником ПВХО одного из районов Одессы и, когда пришел
срок, согласно планам Верховного командования, покинул
Одессу с зенитным орудием на тральщике, оставив семью,
потому что Сарра и раньше не хотела бросить квартиру
и имущество.
Мирра с каменным лицом встретила зятя. Только раз
или, может быть, два раза в жизни так разговаривала
она с людьми, как разговаривала с прибывшим в оди-
ночку Мироном. Пеллагра уже выступила на ее лице, и
от мутно-красных пятен лицо Мирры приняло выражение
безумной жестокостщ
134
— Где жена твоя и моя сестренка? — спросила Мирра.
— Осталась там... Мирра, я потерял детей, жену, не
мучь...
— Где оставил их? — еще тише спросила Мирра.
— За что спрашиваешь... В Одессе. На Арпаутке...
— Как же ты ее оставил?
— Ша... ша...
Разум его помутился от горя и стыда, но пытка, какую
придумала Мирра, не должна была кончиться сразу.
И еще тише, еще страшнее спросила она Мирона:
— Как мог оставить...
— Ша... ша... — шептал он воспаленными губами.
— Ушел и бросил семью фашистам. Ты, еврей, это
сделал?
— Я просил, умолял, она не шла... Ты же знаешь ее
привычки...
— Не шла, — беззвучно повторила Мирра, и теперь
не было гнева в ее голосе, а звучала страстная мольба. —
Ну, стал бы на колени, целовал бы туфли, изверг... Ну,
потащил бы за косы... Не шла!
— Ша... ша, Мирра, Миррочка, она не схотела. О-о-о,
Мирра!..
— Не шла... Ну, взял бы на плечи детей. Она побе-
жала бы за тобой как собака...
Так казнила своего зятя эта когда-то красивая, пыш-
ная женщина, теперь больная пеллагрой, в пустой обшар-
панной комнате, откуда выгнали для тихого разговора
девочку и где в большие окна в мартовской теплой ночи
изливался с небес белый, точно мел, свет звезд.
Они не заметили притаившегося в углу стари-
ка. Он слушал их тихий разговор, сидя на низкой пле-
теной корзине, и корзина не заскрипела под ним ни разу.
Лишь когда зарыдал его несчастный зять и взмолился
по-еврейски: «Пожалей же, Мирра! Ты же меня люби-
ла!..»— старик встал с корзины и гневно потряс седой
головой.
— Палкой... палкой любите друг друга! — крикнул оп
по-еврейски и вышел на улицу.
Тоска бушевала в старике, он шел по ташкент-
ским улицам, как по древним городам Израиля во
дни бедствий, — будь они прокляты во гробах, его древ-
ние пращуры...
1964
НА ДАМБЕ
Поздней ночью на военной дороге в Румынии рус-
ские девушки-бойцы услыхали о том, что их отпускают
по домам. В сонную землянку регулировщиц привез эту
новость неразговорчивый сержант из дорожно-комендант-
ского участка.
— Ты правду говоришь, сержант? А то смотри, не
жить тебе! — говорила Клавдия Кубышкина, вталкивая
ноги в просторные сапоги.
В полумраке чей-то девичий голос запел:
— Родненькие, в Россию! В Старобельск!
— Видать, на курносых мода в России. Спонадоби-
лись, — с простодушной угрюмостью сказал сержант, как
о величайшей несправедливости, и вдруг яростно под-
прыгнул на жестком матрасе: — Эх, придавлю-ка ухо
минуток на двести... Не шуметь, бойцы!
И заснул.
А три подружки от счастья не знали, что делать: одна
считала патроны в обоймах и дисках, другая выскочила
с ножницами на виноградники. Дуська Солдатова сту-
чала в дверь к румынам:
— Доамна Лючча! Горячую воду, пожалуйста!..
Anna кальт! Будем стирать!.. Мульцумеск, мамаша!..
Спасибо!
Затем, не сговариваясь, они побежали под дождем на
регулировочный, где стояла четвертая сменщица — Варя
Каширина. Пост находился на дунайской дамбе, по кото-
рой шоссе бежало над ивовыми рощами и камышами
к далеким мостам, в Болгарию. Дождем размоченная до-
рога была по-ночному безлюдна, и девушки увидели под-
ругу, лишь подбежав к ней вплотную. Она стояла в плащ-
136
накидке, тревожно вслушиваясь в плеск бегущих по лу-
жам сапог.
— Куда вы?.. Или приказ? — спросила, догадываясь,
Каширина.
— Ой, что у меня па душе сейчас!.. — задохнувшись,
пискнула Дуся Солдатова.
— Завтра едем па сборный! Обомлеть можно!
И вдруг, смеясь и жарко дыша, девчата прижались
друг к дружке мокрыми шинелями и запрыгали тесным
кружком на дожде, да так, что проезжавший мимо па
волах сонный румын только поправил па затылке высо-
кую шапку. А потом, еще покружив Варю, девушки убе-
жали — стирать и укладываться. И осталась регулиров-
щица одна на пустынной дороге.
Была та минута в жизни Вари Кашириной, что на-
всегда остается в памяти. Шлепая взад-вперед по мокрой
мостовой, Каширина шептала несвязно: «Мамочка, ры-
бонька ты моя!..» И тишина разоренного войной городка,
откуда регулировщица уходила на фронт, и весенние
лужи, прошитые танковыми следами, и солнце в старо-
бельских разобранных частоколах — все это всплыло пе-
ред ней, мешаясь и недаваясоображать. Тот, кто заглянул
бы сейчас в ее огрубелое лицо — курносое, обветренное
и с чуприной под набухшим капюшоном, — тот руками
бы развел: экое несоответствие с сияющей красотой ее
глаз!
«Сны сбываются», — думала регулировщица, вспоми-
ная, как запрошлой ночью она видела во сне, будто вер-
нулась в Старобельск, летит по улице, а на лавке у ворот
Славунчик — увидел, бросился к ней; она только успела
схватить его за руку и... проснулась.
— Скоро, скоро, золотой братик, будем вместе... бу-
дем петь: «Ходят волны кругом вот такие...»
И на дунайской дамбе Варя запела любимую братиш-
кину песню.
Дождь перестал. Посвежело перед рассветом. Длин-
ный сноп автомобильного света упал с широкой дамбы
па ивовые рощи. Было то сказочное ночное время, когда
мокрые листья блестят в темноте, камни чернеют от
воды, дорога вся в мелких лужицах, словно руками вы-
лепленная, а свет фар освещает наклоненные старые ивы,
как будто ищет под деревьями.
«Меня разыщи», — подумала Каширина, и лучи тот-
час выскочили па дорогу и осветили регулировщицу.
137
Она взмахнула левой рукой с желтым флажком и
с силой опустила его к ноге, взмахнула правой рукой
с красным флажком, ловко повернулась вполоборота,
и в два приема флажок опустился на грудь — проезд сво-
боден. Варя лихо козырнула людям, сидевшим в машине,
проводила их взглядом.
Это был вездеход; он медленно пронес мимо регули-
ровщицы свои мокрые, хлопающие холсты. Знакомый ге-
неральский адъютант, выглянув, крикнул:
— Как она, жизнь, Каширина?
— Как по камушкам, товарищ «личный»!
— Нужно чего-нибудь в Бухаресте?
— Перламутровый аккордеон!.. Домой повезу!..
Было слышно, как расхохотались в машине:
— Жди вечером! Прощай!
И вездеход пошел дальше маячить красным фонари-
ком; скоро его не стало.
— На том свете простимся!.. — крикнула вслед регу-
лировщица.
Тьма сгустилась после прохода машины. Каширина
сунула флажки за голенища. Она вспомнила, как позна-
комилась с адъютантом под Будапештом; он так и назы-
вал себя— «личный». С тех пор она всегда подсмеивалась
над ним: «товарищ личный»... А генерал тоже молодой,
статный, вежливый... Однажды в Альпах она сказала
«личному», что ей генерал нравится. «Он красивый, когда
веселый, — согласился адъютант и добавил: — Ав бою
разозлится — ох, страшный же, черт...»
«Знаю всех, как миленьких, — подумала Варя. — При-
выкла. Свои...»
Грустно стало регулировщице, и мысли ее приняли
иное направление. Она всегда любила, чтобы в землянке
было тепло натоплено, — ни скрипучих дверей, ни чтобы
порог заносило снегом; не любила спать на узко вытесан-
ных в глинистом грунте лежанках, как было на Днестре;
не любила в лампах керосина пополам с водичкой, но тут
выручали водители, хотя всегда она гнала лишних из
помещения... Сколько дорог, машин, запомнившихся
лиц!.. На скольких перекрестках спокойно выстаивала
она свои часы! То проводишь улыбкой шофера, а то
взглядом — бегущее в небе облако. И было терпение —
порядочек! А заскучаешь по дому, по родным, только
смахнешь флажком пыль с носка. Ничего. Война.
138
♦..Стало светать. Под откосом дороги, вблизи от регу-<
лировщицы, прошла длинноногая птица с розовым клю-
вом. Броневик пронесся по шоссе, — Варя знала, что это
связной к командующему. Значит, уже шесть утра. Зеле-^
пая ракета вспыхнула и погасла на далеком аэродроме,
в той стороне, где на бугре стоял могучий, широкий дуб.
И по вечерам, на огненном закате, его черная угловатая
масса — точь-в-точь казак в бурке... Как раз над ним и
догорает аэродромная ракета. Короткая ее жизнь: две-
три секунды. Начало летнего дня... И вдруг отчетливо и
ярче, короче, чем свет сигнальной ракеты, вспыхнула
мысль: «Привыкла, дура. Жаль расставаться!»
И как только Варя Каширина додумалась до этого,
такое беспокойство охватило ее, нахлынула такая тоска,
что, увидев первую же машину, показавшуюся на дамбе,
она подняла флажок: «Стой!»
В первый раз она осмелилась на регулировке задер-
жать машину.
Это был старый грузовичок-полуторка; пар бил из ра-
диатора, и какая-то железка стучала на каждом обороте
колеса. Пожилой шофер притормозил, недовольно высу-
нулся из разбитого окна:
— Ты, гвардии курносая! Почему задерживаешь?
— А чего тарахтит?
— Ты что, контрольно-проверочный? Или инспек-
тор?
— Я думала, знакомый водитель, — смущенно сказала
Варя.
— Хоть бы законный супруг! Ты имеешь право за-
держивать?
Наступило молчание.
— Есть нынче у меня право, — тихо сказала регули-
ровщица. — Уезжаю домой. В последний раз стою...
И так это было сказано, с такой душевной необходи-
мостью, что хмурый дядя вышел из кабины и хлопнул
дверцей.
— Видали? — сказал он. — А где твой дом?
— Старобельск. За Донцом...
— Хорошие там названия местам: Ровеньки, Воло-
шино.
— То далеко до нас.
— Я знаю. Я ж там с полком все объездил...
— Да. Завтра домой, — повторила Каширина.
— Как же так? А мы тут без вас ездий?.,
139
— А мы — без вас? — рассмеялась регулировщица.
— Встречал тебя, — сказал шофер, приглядевшись.
— Меня кто не встречал! Ведь весь путь с фрон-
том прошла. От Донца и до самой Австрии! А где ви-
дал-то?..
— Ав позапрошлом. На сватовском пригорке. По-
мнишь, гололедица, метель, каждый час дорогу перено-
сит. А ты продрогла, стоишь, как штык. Никак не мо-
жешь регулировать, флажка не подымешь... Лицо мокрое,
губы распухли, не шевелятся. Я тебя насилу доставил до
обогревательного...
— Помню. Мы шлак сыпали под колеса. Толкали ма-
шины...
— А куда ж там девчатам, когда на двойном буксире
и то не вытянешь!.. Ромом насилу угостил — не хо-
тела...
Небритый майор с седой щетинкой, услышав разговор,
вышел из кабины:
— Ведь и я припоминаю вас, товарищ регулировщица.
— Ну вот, и вы...
— А бомбежка под Самбором на переправе! Там тогда
скопилось много машин. Я приехал на мотоцикле, в ко-
ляске, колею расчищал для танков. Рассвирепел, кричу,
командую. А вы мне, как сейчас помню, осипшим голо-
сом: «Что же вы, товарищ майор, в лукошке приехали,
а шумите больше всех?»
— Вот вспомнили! — смутилась регулировщица. —
А вы все кричали: «Я майор, хоть и в лукошке! А тебя,
не ровен час, мой головной танк зацепит — мокрое место
останется». А я там трое суток не спавши. Злые были
все. Сверху посыпают фрицы, а тут и без них пробка...
Они помолчали, майор и регулировщица, глядя на то,
как водитель открывал пробку кипящего радиатора.
— Машина тоже небось со Сватова? — сочувственно
спросила Варя.
Водитель почесал затылок:
— Машину давно пора в область преданий: со ста-
линградской эпопеи идет.
И все трое улыбнулись друг другу.
— Как же мы, в самом деле, без вас останемся? —
сказал майор.
Регулировщица ничего пе ответила. А шофер — тот
складных слов не знал, не умел — захлопнул крышку
капота, сказал:
140
Ты ж смотри у меня, чтобы дома как штык... По-
нятно? Чтобы там у нас, в России, как штык... работай!
Учиться будешь?.. Учись. Нас дожидайся. Придем, чтобы
ты — как штык. Гляди, на тебя надежда. Понятно?..
Варя смеялась:
— Езжайте уж, ладно.
И регулировщица отошла на свое место.
В этот день не одну машину задержал Варин флажок.
Бежали трехосные грузовики, вездеходы, автоцистерны,
мчались пикапы, полные офицеров и бойцов, шли ремонт-
ные летучки. В полдень проследовал заказной эшелон
из сорока восьми машин с затянутыми кузовами.
Тяжелый танк прогрохотал на дамбе; башенный, вы-
сунувшись до пояса, погрозил Кашириной кулаком.
— Ишь газует, — сказала вслед регулировщица, по не
было сегодня в этом слове осуждения.
Кто знакомые — непременно сигналят и кулаки пока-
зывают, — впервые за войну заметила Варя. Захмелевшая
от расставания, она всем рассказывала свою новость: и
отпускникам, и тем, кто ехал в командировку, и даже
новеньким офицерам, следовавшим из школы по назна-
чению.
И никто не обижался па задержку.
— А помнишь, как в кювете загорали под Тирас-
полем?
— А помнишь, теснота была в Баштанке? А вы, дев-
чата, схитрили и на двери хаты написали: «Гарнизонная
гауптвахта»... И никто вас не тревожил.
— Только пьяного привели однажды...
Под вечер остановилась автоколонна, и Варя ходила
от машины к машине, слушала дорожные голоса: «Масло
залей!», «Как запаска на багажнике, цела?», «Кто сахару
пе получал? Якимов, бери, на двоих!..»
Подойдя к одной из машин, на которой солдаты
готовились обедать, Варя вспомнила, что она не ела с
ночи.
— Голодная, — сказала она бойцам, виновато улыб-
нувшись. — Я девчат отпустила укладываться, вот и го-
лодная...
— А ты в любой дом — и прямо в печь, как немцы
у нас на Украине, — пошутили бойцы и усадили ее к ко-
телку.
Казалось, скромный регулировочный пост (без права
задержки машин) превратился в этот день в какой-то
141
важный контрольно-проверочный, самый важный на всех
тысячеверстных путях войны, что вели из Старобельска
за Вену, в Альпы.
А солнце между тем садилось в стороне аэродрома.
Там, па дальнем бугре, чернел в огненной полосе знако-
мый девчатам дуб — казак в бурке. В пойме Дуная отчет-
ливо разносились голоса румынских пастухов и звуки
ботала. А когда стемнело, далекой звездой засияла
в конце дамбы, почти на небе, первая ночная машина,
1946
НЕОКОНЧЕННАЯ СИМФОНИЯ
Война кончалась завтра. Я помню эту ночь преследо-*
вания на придунайских горных дорогах, короткие танко-
вые бои и в узких улочках австрийских деревушек огни
в дрожащих клубах пыли. И переправу у только что взор-
ванного моста. И в городке Вердерне, мгновенно оцепе-
невшем в своих тысячелетних домах, вдруг непонятный,
бессмысленный вой сирен.
И хотя наш редакционный «додж» трижды за ночь
побывал в канаве, весь этот заключительный акт войны
запомнился мне навсегда как что-то моментальное и
остановившееся.
Радисты Двадцать девятого гвардейского полка пере-
хватили в эту ночь приказ германского верховного коман-
дования из Берлина о безоговорочной капитуляции.
У танкистов была боевая задача: вырваться, пройти
как можно дальше. Нам тоже не к чему отставать от
них.
Теперь все немцы, уходившие от нас на танках и бро-
нетранспортерах, на тягачах, велосипедах и госпиталь-
ных фурах, были предоставлены самим себе, своим реше-
ниям. И мы знали, куда они уходят. На рассвете в кустах
жимолости мы присутствовали при допросе двух обер-
лейтенантов, захваченных с мотоциклом. Они ничего не
слышали о капитуляции. Конопатый шевелил скулами,
а белобрысый расплакался. Почему он не успел уйти —
американцы в десяти километрах. Сюда же, к чеху-пере-
водчику, воли других захваченных среди сброда, запол-
нившего все дороги, — к американцам спешили прожек-
торные команды, остатки учебных танковых батальонов,
подрывники, взрывавшие мосты, нацистские партийные
143
активисты из Воны (их отличала форма одежды — «в ци-
вильном^ ).
Помню безлюдье дорог. Полино мелькнувший в облаке
пыли старинный монастырь или замок, на его башнях
огромные знаки свастики, как бы столбы из сажи и угля,
размазанные дождем и ветром.
Разбегаясь, немцы засорили дороги — я помню гир-
лянды велосипедов, брошенных на каменные ограды и
развешанных на ветвях деревьев. В Анштетте саперы
расчищали от мин последний завал из сосен и елей. Мы
задержались у придорожного столба. Он, будто индей-
ский тотемный знак, ощетинился указательными стре-
лами германских войсковых соединений. Теперь это не
имело никакого значения. Интереснее показалась аиш-
теттская старуха — костлявым пальцем она показывала
на полотенце, вывешенное в окне ее дома.
— Белое! Смотрите, какое белое!.. — кричала она по-
немецки. Призывала верить в капитуляцию? А может,
хвастала своей чистоплотностью?
— Браво!—кричат австрийцы, уже осмелевшие, они
сбежались на площадь к танку, когда он остановился на
минутку.
Я вижу на танке среди десантников знакомого сер-
жанта Теперчина; зимой он отличился, я написал о нем
заметку. Сейчас он что-то ест прямо из пилотки и кри-
чит мне, и его хриплый голос доносится до меня над тол-
пой горланящих австрийцев. Он сообщает мне, как из
концлагеря освободили четыреста девчат с Донетчины.
— Они встают с соломы, в халатах рябеньких. Одна
говорит: «Откуда вы?» Тронулась, видать. «Не видишь?
Я француз!» — кричу ей.
Теперчин смеется. Но в клубах пыли уходит его танк.
И горький смех пожилого человека сливается в моих
ушах с лязгом и грохотом гусениц.
И вот уже ни артогня, ни лесных завалов. Я вижу —-
красный флаг на орудии. И еще — артиллерийский тягач,
украшенный сиренью. Лейтенант, потрясая руками, стоя
едет навстречу движению в открытой машине. На его
груди — большой венок из сирени.
Первых американцев я не заприметил. Кажется, они
ехали вам навстречу ради осторожности под красным
флагом. Зато я помню — и это тоже моментальный сни-
144
мок памяти, — как нашему майору па мосту любезно
предлагают жевательную резинку. Ему приветливо жмут
руки, и он, конечно, улыбается. Но где же немцы? Где
они? И мост не взорван? И дальше нельзя... На мосту
сгрудились наши служивые — по пять-шесть ранений
у каждого, сколько пар кирзовых сапог истоптали на дол-
гом пути. А перед ними новенькие американцы в шлемах,
зеленых комбинезонах — офицеры с тесаками, рядовые
с автоматами «гризган».
И, потоптавшись на мосту, майор отошел в сторону,
сел на камень.
Я слышал возбужденные голоса... Люди соскакивали
с непрерывно подходивших машин.
— Там, за рекою!.. Омельченко, веди разведку!
— Ни, там американцы.
А немцы где ж?
— Повтикали. Пыль полягла — дивлюсь, американ-
ский патруль на мосту.
Майор снял фуражку, вытер пот с клеенки. О чем он
думает? О том, что отвоевались, вспоминает, как люди
согревались военными ночами, как прижимались к кост-
рам, как умудрялись спать? И как только не изловчается
спать солдат, а, майор?.. Какую пили, бывало, воду, как
ее добывали, как распределяли: пулемету первую флягу,
потом нам с тобой. И вот — нет фронта, некуда стрелять.
Вокруг разбитого германского бронетранспортера бродит,
шаркает бутсами по склянкам долговязый американец,
увешанный фотоаппаратами, — ищет поживы. Где-то уже
братаются с союзничками. Слышно, как поют: «Так будь-
те здоровы, живите богато...»
Майор не вставал с камня. Внезапное исчезновение
немцев томило его до боли. Сколько тысяч фашистов,
уйдя от возмездия, сейчас умывались за здорово живешь,
гоготали, толпились, формировались в колонны где-то
за спинами американцев. Разве ж трезвый человек дол-
жен обижаться на такой поворот дела? А можно понять
майора — он гнал их за две тысячи километров, чтобы
к стене прижать, чтоб бросили оружие к ногам — вот что
значит безоговорочная капитуляция!
В городке нас, фронтовых корреспондентов, принял
командир 261-го полка 65-й дивизии Вильям Эльджи Ка-
рэвей. Предо мной и сейчас па столе как сувенир войны
его визитная карточка, которую он вручил нам с улыб-
кой. Чернилами зачеркнуто звание «майор» и надписано
145
«колонель». Был любезен, охотно рассказывал о себе: он
из штата Новая Каролина, Ныо-Берн. Рассказал и о том,
как они высадились в Гавре, прошли без боя линию Зиг-
фрида, повоевали под Мюльхаузеном, а затем — он весело
присвистнул — быстро скатились вниз по Дунаю.
— И вот долгожданная встреча! Будьте здоровы, жи-
вите богато!
Ои говорил по-русски, но как-то странно: с китайским
акцентом. Когда я это отметил, он рассмеялся. Верно:
оп учился русскому языку в Шанхае, одновременно два
языка учил. «Что, разве заметно?»
...Прошло восемнадцать лет. В газетах всего мира
мелькает имя Карэвея, начальника американского гар-
низона на оккупированном японском острове Окинава.
А не тот ли это Карэвей, теперь уже в звании генерал-
лейтенанта? С каким акцентом он разговаривает по-
японски?
Мы передали репортаж по каналам армейской связи
и возвращались в Вену. Толпы бредущих из фашистского
плена колыхались на дороге. Откуда они взялись? Еще
вчера немцы расстреливали всех, кто двигался в пашу
сторону. Шли сербы, смуглые, в пилотках, мы узна-
вали их по осанке. Французы восседали на возах под
своим национальным флагом. Изможденные итальянцы,
позже мы познакомились с ними в фильмах Де Сантиса
и Росселлини. Греки в пестрых шарфах на жили-
стых шеях, их женщины во всем черном, как будто с
похорон.
В австрийском городке собрался партактив гвардей-
ской дивизии. Говорили о бдительности в чужой стране,
о корректном отношении к местному населению — оно
пе отвечает за гитлеровскую империю. Домик был убран
гирляндами, за столом, накрытым красной скатертью,
сидел бритый наголо генерал. Множество знакомых
лиц — русских, украинских, кавказских. Волевые ясные
щорсовские глаза, лихо завинченные усики, горбатые
носы. И в раме на стене Суворов с голубой лентой — он
снова пришел сюда, в Альпы, к этим черепичным кры-
шам в окне, к сирени, прущей в комнату, к голубизне
горного неба.
И вдруг прервали работу партактива: за окнами шли
наши, русские. Шлп очень медленно, точно процессия.
Это Бухенвальд. Старик встал, будто в раме, в низеньком
окне, закатал рукав и на сгибе под локтем показал выж-
146
женный шестизначный номер. Вглядеться — ему не боль-
ше тридцати лет. Там, в лесу, был целый город, сотни
тысяч узников. Там Тельман погиб... Он скатал рукав.
Наших помирало по триста в день, не успевали
сжигать.
За его спиной толпились девчонки, распухшие от
брюквы. Глядели в окно молча, только глаза сияли,
огромные, молодые, живые, прекрасные.
И весь партактив вышел к ним на улицу.
В дом я уже пе вернулся. Все тот же Теперчин, мор-
щинистый, рыжеусый, окликнул меня. Мы присели на
травке, закурили, он вытащил из бумажника длинное
послание, рапорт по начальству. Дело у него такое: он
дрался за Сталинград, и были у него медаль и удостове-
рение, и утонули они в Дунае. Там баржа наскочила
на мину, и вот вылез он на берег в чем мать родила,
только автомат при нем. Ну, прочие награды ему под-
твердили в полку. А медаль? Как же ему теперь быть
без нее?..
Да, как же быть? Я читал рапорт сержанта о его пра-
вах на медаль... «Так как для меня это самое дорогое”;
где решалась жизнь моя... доказательство этого имею на
руках — извещение о моей смерти Арзгирскому райвоен-
комату на имя жены Дарьи от 22 августа 1942 года:
«В бою за социалистическую родину убит и похоронен
в балке Грачевой...»
— Вон дело какое. Я и не знал, что ты похоронен.
— А как же? Документально...
Удивительно нарядны были в тот день горы Австрии.
Небо аквамариновое, коричневые пашни на взгорьях, бе-
лый цвет яблонь, частоколы на виноградниках надежно
серого тона и красноватый отблеск сухих вязанок прош-
логоднего хвороста. Оглядывая эту прелестную землю и
слушая рассказ сержанта, похороненного в балке Граче-
вой, я почему-то до боли в глазах увидел, как однажды
ночью прожекторный луч побежал по ночным полям и
осветил их до горизонта, и были они сплошь заросшие
лебедой. Где-то под Синельниковом это было.
Ночью я завернулся в шинель, стало прохладно, и
я не спал. Вдруг в австрийском городке запели украин-
скую песню, мою любимую, про «лен дрибненышй». Мо-
жет, пели те девчата, в халатах рябеньких? И снова вспо-
мнился мне сержант, его скромное поручение — отхлопо-
тать медаль.
147
В Вене наше военное командование решило угостить
австрийцев музыкой. В большом зале Концертхауза, как
бывало некогда, до аншлюса, при стечении отличной пуб-
лики симфонический оркестр дал первый за многие годы
концерт. Дирижировал знаменитый Клеменс Краусс
в бог весть как сохранившемся черном фраке.
Исполняли «Неоконченную симфонию» Шуберта.
Когда слушаешь музыку в хорошем исполнении, в пе-
реполненном зале, а кругом плачут в восторге умиления,
на память приходит самое неожиданное, а тут еще и нер-
вы отступили немного, и я не стыдился слез. В музыке
этой каждый находил свое, там есть мольба о счастье и
неотвязная мелодия мысли, настойчивая в поисках конца,
и подводящие черту борьбы огромные, точно пушечные
залпы, раскаты гнева и торжества. Я слышал в обвалах
оркестра и трудную погоню, и торжество встречи, и стро-
ки сержантского рапорта о медали всплывали в моих
прикрытых глазах. Мой слух наполняла музыка. Но это
были полковые аккордеоны, зазвучавшие где-то в кон-
ном корпусе па Кубани. И неаполитанская песенка —
я слышал ее давным-давно в Меловатке-на-Дону, замерз-
шие итальянцы, несчастные пленные итальянцы пели ее
возле печки в хате для доброй старухи, приютившей их
на ночь. А на Днепре в Мандрыковке хозяева выкопали
из земли упрятанный от немцев граммофон с пластин-
ками, и мы заслушались и захмелели — о, как пела Пле-
вицкая, как хватала за сердце давно забытая Варя Па-
нина!.. Мой слух заполняла Шубертова «Неоконченная
симфония», но для меня это были тягучие звуки болгар-
ской гайды. Ночью на железнодорожных путях в Попове
провожали на фронт болгарскую дружину, бычий пузырь
волынки издавал грустно-воинственные звуки, болгары
не выдерживали и палили в воздух из старых ружей, и
всех заставил ликовать наш солдат — «Иван» дал очередь
из автомата. А позже, в горах Сербии за Неготином, но-
чуя в колонне «студебеккеров», я вышел к партизанам.
Они плясали коло, завиваясь цепью в три круга у лес-
ного костра. Руки и плечи сплетены, ноги выделывают
немыслимые вензеля. Мягкие сыромятные постолы бьют
в землю. И вел за собой эту пляшущую цепь веселый,
как исступленный фавн, горец-старик. Сквозь «Неокон-
ченную симфонию» до меня доносилась сейчас лесная
музыка свободных горцев... И только грохот танков мог
ее заглушить. Я слышал виолончель и контрабасы, а это
148
танковый корпус в сумерках проходил по старому городу
мимо угрюмого, дотлевавшего изнутри готического со-
бора. Это в дни боев за Вену мимо черного как уголь
Сан-Стефана шли такие же черные танки. Танки грохо-
тали в ущелье Ротептюрмштрассе, и я смотрел и лико-
вал — вот паша сила, вот наша организованность — каж-
дый снаряд в этих танках, каждый патрон, каждая горсть
бензина вовремя доставлена сюда, в середину Европы, из
растревоженных глубин пашей родины, из-за Урала, за
тысячи километров, через десятки больших рек по вновь
наведенным мостам. И вздыхалось глубоко, и было чув-
ство расквитавшегося за все обиды облегчения. Гремел
оркестр, и грохотал танк, в сумерках его выхлопные
искры на фоне черной громады собора внушали доверие
к могуществу нашего строя. По-своему вели мы эту вой-
ну. Свои были думы, надежды, своя стойкость. Свой был
масштаб ошибок и жертв. Свой характер сопротивления.
Свою чашу испили, и была опа велика даже на наш рус-
ский взгляд. Танкисты, летчики, конники спешивались
в лесах под Смоленском и уходили в партизаны. Из ма-
гаданских дебрей возвращались в строй полководцы.
Московские ученые и писатели шли в ополчение и обре-
тали свои безвестные могилы. Города — такие, как Ле-
нинград, — оказывались несокрушимыми крепостями...
И то, как мы увезли наши заводы на Урал и передвинули
миллионы людей и тысячи станков, и это было по-наше-
му, только мы так могли... А «Неоконченная симфония»
звучала и звучала в моих ушах, сливаясь с нею, гремели
паши танки, они выплывали откуда-то со стороны
сожженного здания Венской оперы, и осипшая девчонка-
регулировщица кричала на эти танки, командиры в синих
комбинезонах глядели из люков и слушались ее, и огонь-
ки их цигарок плыли в синеве пыли и дыма мимо Сан-
Стефана, с его ажурной башней, светлеющей в вышине.
1964
НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ
1
Письмо пришло из Пятихаток. Прасковья Васильевна
Фостенко просит отыскать следы ее сына.
«Мой сын Игорь Павлович Фостенко окончил Полтав-
ское военное училище за несколько дней до войны и был
направлен к месту службы в г. Лиду, близко от границы,
в звании воентехника 2-го ранга. Якобы в бою он был
танкистом, так мне сказал его товарищ, вернувшийся
раненым. Они были вместе, но товарища ранили, и они
потеряли друг друга из виду. А может, он не сказал
правду. Я получила извещение: «Ваш сын пропал без
вести». Но для матери война никогда не кончится, до
смерти жду сына с войны. У меня там остались муж, сын,
взрослая дочь и брат-подводник. Быть может, где в лесу
или между людьми, в разговорах, найдутся следы.
Сколько слышала разных историй! Была бы здорова,
исходила бы все от села до села, может, какую весточку
услыхала бы, но сто болезней, а главное — сердце не пу-
скает за порог, с самой зимы лежу и все жду, жду.
Как-то в «Известиях», в декабре 1962 года, прочитала
статью итальянского писателя Уго Маниоки «Его звали
Игорем». Я подумала: может, мой партизанил в Италии?
Опять все описала и послала в Москву. Нет, подтвердили,
пропал без вести. И больше я продолжения статьи не чи-
тала. Было б здесь, в России, а то как я спрошу итальян-
ского писателя, где же теперь Игорь-партизан?»
В сутолоке редакционного дня я отметил только го-
рестное величие слов: для матери война никогда не кон-
чится. На все времена обронила... Но спустя день-другой
что-то вспомнил и задумался: как же, бывает, сблпжа-
150
ются далекие образы, не расплести. Ведь четверть века
назад я повстречал такую точно Прасковью Васильевну,
только дело было не в Пятихатках, а в Краснодаре. Я жил
у нее за занавеской, и при мне однажды зашел приехав-
ший на побывку товарищ ее сына. Они досрочно кончили
военное училище и разъехались к местам службы. Севка
уже побывал в боях, а Володю — не раненого, здорове-
шенького — зачем-то отпустили домой на денек, и, забе-
жав, он не скрывал своего счастья, поглядывал на часы
и выбалтывал моей хозяйке все, что успевал припомнить
о товарище, даже не думая, какой праздник ей устроил.
Ничего серьезного — бестолковый треп взрослого маль-
чишки... В его курсантской одиссее Севка занимал соот-
ветствующее место, но женщина, ошеломленная, вся об-
ратившаяся в слух, из бессмысленно-забавных происшест-
вий выдергивала единственно дорогую нитку и вплетала,
вплетала в собственные воспоминания. Как ее Севка
брился. Как густо мазал масло и мед на горбушку. Как
лазил в окно по ночам. Полгода она жила ожиданием пи-
сем и слушала радио не так, как другие, а по-своему,
точно каждое утро Совинформбюро должно было опове-
щать ее о здоровье Севки.
— Выпили мы, это ж карикатура... — взахлеб болтал
Володя. — Нас провожали девчонки, я стою на подножке
вагона и кидаю планшет Севке в окно — лови! А там ему
записка от Любы. Где только в ту ночь не шагали...
— Шагали? Ну, шаги знаешь какие у Севки, — сама
себе подсказывала мать.
— Ав Ворожбе — с ума сойти! — встречают нас с ба-
рабанным боем. Повели в горсад...
— Это мало пожили, сколько чего вспомнить. А еще
бы пожить... — тихо вставляла мать. — Севка, верно,
громче всех хохотал? Это у него с детства. С отцом, бы-
вало, в цирк пойдут, тот, гусь, тоже хорош: га-га-га!
Севка до того рассмешится, аж скулы, говорит, свело.
Я ему выговаривала: «Чего ты так громко, милиция забе-
рет». — «Мама, говорит, что тут такого, что смеюсь? Все
люди смеются».
На минуту опешив, Володя соображал, какие глубины
в материнской душе разверзло его посещение. Не он
вернулся, а Севка.
— Станет тяжко, я к любому военному подойду на
вокзале, спрошу: когда из дому, давно ли письма? — испо-
ведовалась перед мальчишкой пожилая женщина.
151
2
Спустя полвека после Бородинского боя Лев Толстой
окинул взглядом событие, потрясшее тогдашнюю Россию.
«Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми
в разных положениях и мундирах на полях и лугах, при-
надлежавших господам Давыдовым и казенным крестья-
нам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновре-
менно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень
Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского... Над всем
полем, прежде столь весело-красивым, с его блестками
штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла
сырости и дыма, и пахло странною кислотой селитры и
крови».
А мы еще только на четверть века отстоим от того ни
с чем не сравнимого побоища, когда не у четырех, а у со-
рока четырех тысяч деревень и городов, на полях и лугах
России и Европы, заплатив за победу ценою крови, оста-
лись мертвыми в разных положениях миллионы нам до-
рогих людей. Я сам скольких повидал, еще не захоронен-
ных, на Дону под Клетской, за Днепром под Апостоло-
вом, за Дунаем под Варпалотой, разве перечислишь...
Помню, как сербы в Пожареваце бросали в нашу брат-
скую могилу серебряные монеты. Сохранил найденную
у разбитой лодки возле Адоня размокшую записку с об-
рывками фразы: «Не переправимся... то знайте, что буду
в Дунае... Тогда из Дуная рыбу не ешьте...»
У каждого был смертный час, когда знал, зачем ему
можно быть убитому. До сегодняшнего дня доходит до
нас слабый свет их знания, воспаряется из мглы сырости
и дыма. И люди все еще беспокоятся, ищут. А зачем, соб-
ственно, если — ясное дело — спустя столько лет пе объ-
явится? Нет, берутся за перо, ищут, ждут подробностей.
В подробностях, какие могут обнаружиться, даже как
будто возвращение.
Без вести пропал? Это не точно, неверно. Значит,
исчез, растворился во мгле сырости и дыма? Значит, ни-
чего ие скажет больше нам, живым? Но вот мальчишки
из деревни Козьмиики под Ливнами нашли в роще ржа-
вую гильзу, в гильзе — обрывок березовой коры, на пей
нацарапано: «Кильчепко Л. С. и Самойлов И. В. 3 мая
1942 года. Прощайте». И зачем-то не бросают эту гильзу,
а несут в школу, хранят, как дорогую реликвию, обсуж-
дают целых два года — что с ней делать дальше.
152
Л. С. Кильченко и И. В. Самойлов, прошептавшие в бере-
зовой роще под Ливнами 3 мая 1942 года «прощайте»,
вернулись и что-то говорят, внушают козьминскпм маль-
чишкам. Иначе зачем бы пионервожатая Л. Сухова от
имени пятого класса писала письмо в газету.
Пишут, сообщают подробности.
«Я хочу сообщить следующее, что було примерно
в конце октября 41 года, когда наши войска оставили
Прилуки Черниговской области, — пишет А. Рыжепко из
Киева. — Место, где я тогда жил, называется Загребли.
Там течет река Удай. Я с родичем Галпиковским поьхали
по очерет, весло наткнулось на что-то мягкое, а когда мы
разгребли ряску и родич опустил руку, то сказал — чоло-
в!к. Мы его вытащили — солдат. Посмотрели по карма-
нам, были обоймы и такая круглая трубочка, там записка,
фамилия — Миигулов. Сайт Григорьевич. Мы его похо-
ронили во дворе под вербами».
Значит, не исчез, не растворился под ряской в реке
Удай Сайт Миигулов, что-то говорит во дворе под вер-
бами, что должны слышать все, еёли спустя четверть
века ищет А. Рыженко его родичей и просит: «Пусть мне
напишут». Кто-то принял на вечное хранение гильзу из
березовой рощи, кто-то — бугорок во дворе под вербами,
кто-то — измазанную в глине фотографию.
«Посылаю фотографию юноши — это Чиченников, Ва-
силий Федорович, рождения 1924 года. Он погиб, будучи
смертельно ранен в живот 5 декабря 1941 года. В этот
день немцы начали наступление от станции Роты Донец-
кой области. Отстреливаясь, Чиченников был ранен и
оставлен в селе Троицком, так как был в безнадежном
состоянии. В ночь на 6 декабря он скончался, а перед
смертью сказал, что у него есть мать, оставшаяся
в России».
Об этом сообщает всем учитель истории из города Де-
бальцево А. Г. Кичик. Он упорно ищет, как возвратить
Василия Чиченникова в сегодняшний день, к нам, к жи-
вым. Есть подробности смерти, и они прорастают в жизнь.
Совсем мало подробностей в другом письме, только
слабый свет из мглы сырости и дыма.
«Двадцать пять лет храню фотокарточку неизвестного
юноши, который погиб в бою у местечка Гайиов под Бе-
лостоком в первые дни войны, — пишет Нина Парфепюк
из Волковыска. — После боя я нашла планшет, в нем был
план, несколько облигаций и фотокарточка, с тех пор
153
я с ней не расстаюсь. Милое мальчишечье лицо, немного
грустное и задумчивое...»
Держу в руках вырезанный овалом смутный фотосни-
мок, присланный в редакцию. На обороте химическим ка-
рандашом— «гор. Остров. Лейтенант...»—и неразборчи-
вый росчерк. Кажется, сунешь не в тот конверт, затеря-
ешь в груде писем, и последний след канет, возвращение
не состоится. Вдруг думаешь: а если это Севка, который
густо мазал масло и мед па горбушку? Но как же вер-
нуть, дать заговорить этой милой душе в солдатском ват-
нике и офицерской портупее?
А если нет даже и безымянной фотографии? Осталась
в памяти только кличка, верно придуманная для конспи-
рации. Дядя Миша. Так звали в августе 1942 года в Ро-
стовском лагере военнопленных водовоза. Отпускали нем-
цы его ночевать домой, а рано утром он дожидался плен-
ных с подводой у колодца. Он так умно в каждую ездку
набирал и отпускал подсобных рабочих, что за день вы-
возил из лагеря до шести пленных, и трудно сказать,
скольких он спас. Какова его судьба? Остался ли сам
живой? Кто оп такой? Ничего не известно.
«Он был либо армянин, либо татарин, у него была
борода, был стройный. Ему было лет 55—60, я видел
в нем не возчика, а командира или политработника, —
напряженно припоминает П. Г. Арьков, его тоже спас
дядя Миша, и сам он закончил войну в Кенигсберге, на-
гражден медалями и орденом. — ...Мы только успели кив-
ками головы попрощаться, я незаметно соскочил с под-
воды. Я обращаюсь с просьбой: каким порядком поискать
этого человека...»
Читаю и думаю уже не о дяде Мише, а о самом Арь-
кове: человек, который живет сегодня, не может жить
нравственно, если знает, что оп исчезнет бесследно. Па-
мять о прошлом должна жить сегодня, потому что есть
завтра. И просьбу П. Г. Арькова — каким порядком по-
искать дядю Мишу — нужно толковать расширенно в том
смысле, что нельзя предавать забвению героев, ровнять
родительские могилы, как нельзя переименовывать города
и улицы, как нельзя вырубать старые и не тобой по-
саженные деревья, потому что должна быть эстафета
человеческих поступков. Память раздает и проверяет
оружье.
«Хочу сообщить о человеке, которого не забуду всю
жизнь, — так начинает Алексей Рожченко из поселка
154
Ерки Черкасской области. Его фамилия Киселев. Ми?
хайл Андреевич, родом он из Краснодарского края, зва-*
пне — старший лейтенант. Вот все, что я мог запомнить
двенадцатилетним мальчишкой, прочитав его медальон,
лежавший возле него. Это было 6 сентября 1941 года на
хуторе Сачки (коммуна Карла Маркса) Запорожской
области. Фашисты расправились с отходившими на во-
сток лазаретами. Шестнадцать бойцов и командир, остав-
шиеся в живых, прорвались в наше село Захарьевку на
полуторке — все раненые. Здесь они взяли еще двух са-
нитарок и двинулись на Володарск. В восьми километрах
за селом их встретил немецкий офицер на мотоцикле
в сопровождении двух бронемашин. Бой был неравный,
по офицер был убит. А нашим солдатам и девушкам
немцы повыворачивали руки и ноги и после расстреляли
их. Старшего лейтенанта Киселева похоронили со всеми
там же, в степи, накрыв его полковым знаменем, которое
находилось возле него. (Что знамя полковое — помню
точно, а уж номер полка не помню.) После освобождения
ого вместе со всеми перенесли в братскую могилу в селе
Захарьевке».
3
На передовых откидывали глину быстро и дружно,
энергичными взмахами лопат, хоронить было некогда.
А госпитальные могилы рыли выздоравливающие и сани-
тары, и, казалось, очень мешкотно и всегда почему-то
в слякоть. И часто возле могил с карандашными надпи-
сями на дощечках оставалась труха из матрасов, когда
госпиталь спешно отправлялся к месту нового располо-
жения.
Теперь прибраны и ухожены многие эти могилы забо-
той наших детей. Составляют списки, уточняют фамилии
и имена, ищут родных. В старательном почерке детских
писем невозможно не видеть старательность душевных
усилий, и я, по правде сказать, не знаю более жгучего
средства воспитания чувства Родины, чувства долга,
интернационального чувства.
«Я не русский мальчик, а венгерский мальчик, и что
есть ошибки — извините меня», — пишет Степан Суроми
из города Егера своим новым харьковским друзьям и не
только подтверждает, что их соученик Анатолий Виш-
155
невский, Герой Советского Союза, похоронен в его городе,
но сообщает тридцать восемь фамилий советских воинов,
погребенных па городской площади.
На скалистом берегу Херсонеса сохранилось скромное
надгробие с двумя именами —сержанта Бабикова И. II.
п рядового Москалика И. П., — кто же опп? Военные мо-
ряки ходили в музей, писали в архивы и вот пишут
в газету:
«Пусть меньше будет безымянных героев. На мысе
Херсонес, у самой воды, должен гореть Вечный огонь.
Пусть корабли, проходя траверз, гудками отдают дань
уважения людям, пожертвовавшим собой за наше светлое
сегодня».
В Нежинском педагогическом институте хотят узнать
о Василии Токареве. Когда студенты и преподаватели
собрали сто шестьдесят две тысячи рублей, они вручили
построенный на эти средства самолет боевому летчику.
Поначалу Василий переписывался со студентами, в ком-
нате боевой славы сохранилась его фотография. А потом
писем пе стало.
«Дорогие друзья, помогите разыскать В. П. Токарева,
его военно-полевая почта была № 83302».
А пе он ли это упал в трясину в приднепровских лу-
гах, возле села Поздняки? Пилот сгорел, и об этом спустя
четверть века сообщает В. Синельниченко.
Так спустя четверть века работает, трудится некий
всенародный наградной отдел. И мертвые возвращаются
со своим оружием. Тут и дядя Миша, и Юрий Гончар
с Василием Чипиленко, которых слава на мраморной
плите в болгарском городе Михайловграде, и те плен-
ные числом семеро, которых накрыла американская бом-
ба в бараке за Рейном, и тот неизвестный майор богатыр-
ского телосложения, который никак не укладывался
в гроб, когда его хоронили в польском городе Миличе.
Циля Мошкович двадцать лет искала могилу мужа.
Нет села, а где шел бой — растет пшеница. Райвоен-
комат указал новое место, куда перенесли могилы. Учи-
тельница по летнему каникулярному времени не отве-
тила. А пришло письмо, от кого не ждала: от почтальона
Шуры Цветковой. И вот рассказывает вдова, как ее встре-
тила на станции незнакомая женщина, как накормила,
приготовила чистую постель...
«У нее двое деток: Люба и Толик. Все она успевает.
У нее хозяйство, и за детьми присмотреть, и по селам
156
объехать на велосипеде, доставить письма, и чужое горе
перенести — это мое. Как родная мать я ей была, нахо-
дясь почти десять дней у нее».
Вдова прислала и письмо Шуры Цветковой, там есть
такие слова:
«Приезжайте, и я все могилы вам покажу, где они
были похоронены, солдаты. Пройдем над их вечным по-
коем. Я ношу почту, муж пасет скот колхозный. При-
езжайте, мы будем довольны, а места у нас хорошие.
Писать особо сейчас не об чем. Дайте телеграмму, встре-
тим, только как узнать вас? Автобус останавливается
в деревне Кокошкино, и вам покажут первый домик
с краю от березняка...»
Нет ничего слышнее и внятнее переклички этих двух
женских голосов. В них — отзвук переклички мужских
голосов и тех песен и стонов, что отзвучали четверть века
назад. Умолкли только батареи, и не гудят «юнкерсы»,
а все осталось, все продолжается, ничто не исчезло, не
пропало без вести: ни души, ни голоса братства. Над
вечным покоем проходят облака, живые облака идут
над вечным покоем.
1967
ШКОЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ
В сентябре 1943 года ночью мы шли за Днепром. Не-
мецкий прожектор мазнул по полям, выхватил из тьмы
кусок Украины, и я увидел в неживом белом свете пе
пшеницу, не подсолнух, а многоверстный дикий пустырь,
заросший осотом и бурьяном.
Я уже прошел с войсками по следам отступавших
немцев тринадцать районов четырех областей. Я увидел
города, пропущенные сквозь озверевшую камнедробилку.
Ночные зарева. Людей на дорогах в сиротливых утрен-
них зорях. Женщин с расширенными зрачками, выходив-
ших из тьмы погребов и ям. Стариков, выползавших из ка-
мышовых лиманов. Видел колодцы, залитые бензином пли
запакощенные навозом. Солдаты у колодцев осматривались
по сторонам, все чувствовали одно: такого еще никогда
на земле не бывало. Пройдут годы, и молодые люди, не
повидавшие этого, — все равно: русские, немцы, — уже
не смогут верить, что это было, было на самом деле.
В Александровке среди бела дня на площади авто-
матами расстреляли толпу, всех, кого сумели согнать;
было там сто шестьдесят три человека. Из села Черкас-
ского эвакуировали в пяти пульмановских вагонах и всех
расстреляли, усадив в ямы, били автоматами сверху вниз.
В Игреиьской больнице тысяча триста нервнобольных по
распоряжению эсэсовского командования были уничто-
жены впрыскиванием морфия в вены; не хватило морфия,
стали впрыскивать нашатырный спирт.
Всюду, где оставалось мирное население, был свой
день бойни, свое место бойни. В Днепропетровске —
24 октября 1941 года. В селе Михайловке — 28 февраля
1942 года. В поселке Красноармейском заклятым местом
стал Ароновский сад, в Славгороде — овраг на окраине,
в Запорожье — Мокрая речка. Но если всюду были день
158
и место бойни, то, значит, всюду был и свой организатор
бойни. Где он сейчас?
В те дни среди будничных дел — раскопок пожарищ,
поисков ночлега или попутной машины — повсеместно и
самодеятельно у людей появлялась потребность писать,
свидетельствовать. В политотделах полков и дивизий на-
пухали целые кипы актов. Их писали па обрывках геста-
повских бланков, на обороте идиотских геббельсовских
плакатов. А чаще — в школьных тетрадях. И то, что запи-
сано в них, не имеет срока давности. Эти акты составля-
лись в следующий час после занятия города или села.
Комиссию выбирали иногда еще под артогнем против-
ника. Выбирали вдумчиво: солдат с боевыми орденами
и медалями; учителей, священников — старожилов; щар-
тийных и советских работников, только что вернувшихся
с войсками, детей замученных; больничных сестер и спра-
ведливых старух.
Само избрание в комиссию было почетно, как доверие
вдовы, сироты, погорельца. Я знал многих членов комис-
сии. Все равно: судебно-медицинский эксперт или старый
колхозник — это были строгие учетчики народного бед-
ствия, хмуро озабоченные тем, как бы душевное волнение
не исказило не то что факты, но даже ту форму изложе-
ния, которая принята для подобных документов.
Но «нижеподписавшиеся» — живые люди! Отчаяние
охватывало их от бессилия записать увиденное и пережи-
тое. Цифры казались неполными и сухими, факты — бес-
кровными и мертвыми. Они стояли над раскрытыми брат-
скими могилами. Им начинало казаться, что если они на-
зовут только факты и цифры, то они скроют что-то...
Скроют то страшное и простое, что не лезет ни в какой
документ...
Вот у калитки сгоревшего дома старый человек раску-
ривает трубку, вспоминает, как его немцы пороли..,
(В актах названы сотни поротых. В Ново-Александровке
Герасима Гончарова пороли так, что кожа на спине лоп-
нула, за то, что сын лейтенант Советской Армии. На ху-
торе Воронов под Сипельниковом садисты плетьми истя-
зали девочку Пашу Карпову, подростков Колю и Борю
Васильченко.) Но ужас рассказа этого старика не в са-
мом факте, не в спокойной монотонности его изложения,
хотя и в этом есть что-то папряженно-безумное, — ужас
в том, что старик все время вспоминает свою дочь, сем-
надцатилетнюю девушку, Для нее-то это было самое
159
страшное: пороли ее обожаемого отца, на которого она—•
и вся ее дружная семья — молилась с детства. Дочка
забежала в соседний с полицией двор и слышала, как за
забором отец убежденно твердил: «Меня нельзя пороть,
у меня дочь, я отец, меня нельзя...» Потом она слышала
свист розог и чей-то смех. Потом отец вернулся домой, и
опа две недели, закрывши дом от всех, промывала его
исполосованную спину.
— Дочь... — глухо говорит поротый человек, — дикая,
злая стала. Стала хуже... Но тем-то она и ближе. И вам
тоже, товарищи? Правда?
Члены комиссии видят, как дряхлеет от этого вопроса
еще не старый человек, начинают понимать, что, помимо
очевидных бесчеловечных преступлений, главари фашиз-
ма искалечили души тысяч людей унизительным созна-
нием бессилия перед злом. Ёот старая учительница отзы-
вает в сторону офицера — члена комиссии. Она хочет
поговорить наедине. О чем? Они садятся на железную
кровать под обгорелым деревом, и старая женщина
с опухшим, серо-гипсовым лицом, торопясь, говорит
о том, о чем молчала два года.
— У наших детей, — говорит учительница, — до вой-
ны была вера в добрые силы жизни. Они были как бы
верующие... То есть верили, что если какое неустройство,
непорядок, то это не пришло, а уходит. Зло исчезает, опо
пережиток, понимаете? И вдруг чудовищный переворот на
самой заре жизни... Два года в юности. Девочки скрывали
свою миловидность, здоровье. Они жгли себя каустиком,
утюгом и солью... Как же мы вернем им веру?
В какой акт вписать все это? Такой вопрос задавали
себе сотни советских людей — членов комиссий, шагав-
ших по улицам освобожденных городов и сел.
Старого мастера подзывали посвистыванием. Девушек
щупали, как кур. Профессора уводили чистить выгреб-
ные ямы с надписью «Только для немцев». Женщину-
врача насиловала эсэсовская солдатня, те раненые, кого
она дважды в день обходила от койки к койке, кому воз-
вращала жизнь.
Я вошел в Славянск под вечер, когда последние сна-
ряды еще летели со стороны Балбасовки. Город догорал.
Улицы окраины были празднично-мертвы, в воздухе ви-
сели белый пух и копоть, пепел и осенняя паутинка.
Обгорелые балки при низком солнце начинали то тут,
то там сверкать шелковисто-черными чешуйками.
160
У калитки сгоревшего дома мы поджидали сбора всех
членов комиссии. Капитан Филиппов подвел ко мне мест-
ного врача Золотарева и отца Константина, священника.
Был тут еще мальчик из партизан, самолюбивый и хму-
рый, он торопил нас идти к овощехранилищам скорее
составлять акт, но мне казалось, что он еще не сознает
сердцем всего, чего навидался за этот день.
Подошла заслуженная учительница Инокова. Исто-
щенная от недоедания, опа только что обошла несколько
сот хат Ново-Славянска. Опа успела их обойти, потому
что нетрудно считать печные очаги. Учительница при-
несла недостающие сведения: в Ново-Славянске сожжено
триста хат.
— Говорят, Гитлер свастику выжег на Славянске —
огонь прошел по Харьковской, по улице Гоголя, по Куз-
нечной, — быстро говорила она, будто выталкивая сло-
вами душевное свое помрачение. — Но это неверно — го-
рел весь город!.. В исполкоме сказали: одна тысяча во-
семьдесят два дома...
Я уже плохо помню, как мы шли с нею по улице впе-
реди комиссии, я вел ее под руку и свободной рукой
поправлял на ее голове сбившийся платок.
— А этот дом посчитали? — спросила Инокова.
Люди ведрами поливали шипящие балки, растаски-
вали их баграми, искали. Нам, членам комиссии, пока-
зали на брата сгоревшей женщины, он лопатой разгребал
спекшуюся массу золы и угля.
— А пу, багор сюда.
— Правильно. Здесь копайте.
Оп брал на лопату горсть спекшейся массы и внима-
тельно разглядывал. Вот нашел наконец.
Осторожно откапывают что-то и кладут па носилки.
Серый землистый комель. Ничего не разобрать. Только
на согнутом корявом торчке видна обгорелая туфелька
со стоптанным каблуком. Носилки прикрывают белыми
сухими листьями кукурузы. Несут...
Утром мы подошли к овощехранилищам, мальчик бе-
жал впереди. В этих бараках, только что сожженных
немцами, было убито несчетно наших людей. Пепельные
прямоугольники среди зеленой травы хранили такую зло-
вещую тайну, что члены комиссии невольно задержались,
помедлили перед тем, как приблизиться. Нас окружили
женщины. Они не сразу пашлп слова. Потом одна вспом-
6 Н. Атаров, т. 1
161
пила, как получали уголь и ехали по лужам крови, —•
думала, что тут лошадей прирезали, а нашли человече-
скую голову без ушей. Другая — как шла за водой и ви-
дела бегущего по кустам от бараков мужчину в испод-
нем, а по нему били из автоматов.
В это время отец Константин откуда-то из-под низ-
ких деревьев сада вывел к нам старика, и вот восьмидеся-
твдвухлетний Хромченко рассказал, как у него кварти-
ровали эти — о ком оп говорил не словами, а суеверным
взмахом руки. Они уходили вечером и возвращались
поздно ночью, измазанные в крови. Утром подзывали
к куче окровавленного тряпья — штанов и курток, — и
старик со старухой стирали.
Мы подошли к местам захоронения. На этой безобраз-
ной земле бродили кучками и поодиночке женщины —
надо откапывать родных и близких. Секретарь гориспол-
кома не спал ночь, измучился в хозяйственных забо-
тах — где взять лопаты, откуда привести людей для рас-
копок. Его звали в те дни «завхоз народного горя». Но
некоторые из женщин не ждали, когда начнутся много-
дневные раскопки. Тут нужны сотни лопат, а бой еще
слышен за Балбасовкой. Не сговариваясь, женщины со-
шлись, каждая со своей лопатой, и рыли в одиночку.
И столько было безысходной тоски в шорохе лопат и
земли. Но этого в акт не впишешь.
Вот копает Евдокия Головина, здесь расстреляна ее
дочь Дуся. Мать видела, как ее гнали.
— Гнали голую, совсем нагишом. Одни косы... Я по-
бежала домой за кофием, солдат угостить — тогда, думаю,
пропустят к ней. Да опоздала, опоздала. Вернулась, а она
уже в кучке... Вот тут она, ясочка моя, деваться ей не-
куда.
И женщина копает. Земля сверху твердая, глубже
рыхлеет. Сейчас мать не может плакать. Это потом, когда
найдут ее дочь, покажут, отнесут в сторонку. Тогда она
сядет около трупа своей ясочки, и между ними будет
лежать лопата. И мать будет тихонько причитать, вы-
певать свое горе, как я видел повсюду. Другая женщина
копает неподалеку, на бахче. Она устала. Оперлась на
лопату, и кажется, будто грядки копает под огурцы.
Обыкновенная огородница.
— Вот где надо искать, — не глядя ни на кого, гово-
рит она, — там моя Люся.
162
Она обводит рукой бахчу, где под зрелыми в сентябре
арбузами скрыты тысячи расстрелянных в позапрошлом
году. И этот жест, с каким женщина показывает на
страшное поле, нельзя запости пи в какой акт.
Из города подходили и подходили: откуда они узнали,
что здесь работает комиссия? Тохпик-реитгенолог Татья-
на Соболевская рассказала, как были истреблены за вок-
залом в балке триста пятьдесят евреев, она знала глав-
ным образом врачей — там погибли терапевт Столпер,
врач-лаборант Рожкова, заведующий терапевтическим
отделением больницы Гостомельский с женой и семилет-
ним ребенком, детский врач Табарчук, терапевт Дунаев-
ский с внуком, зубпой врач Мишкипд со старухой и ре-
бенком. Анастасия Супрун рассказала, как ее пытал и му-
чил в тюрьме следователь-эсэсовец Фишер, он же пытал и
ее тринадцатилетнюю племянницу Ниночку Сучкову. Был,
говорят, дом на Харьковской улице — там разместилось
СД. И был, говорят, дом, где разместилась зеленая, то есть
полевая жандармерия. Все время упоминался шеф жан-
дармов — Адам. Никак не могли мы уточнить, что же это:
имя или фамилия? Как же мы разыщем этого Адама?
Поздно вечером мы подписывали акт на последнем ли-
стке школьной тетради. Догоревший город спал повальным
сном. Чувство, которое охватывает, когда видишь, как спит
ребенок, как спит хата, как спит отвоеванная, хоть и спа-
ленная улица, заставило нас, членов комиссии, выйти во
двор, смотреть на звезды, курить, думать, вспоминать.
Капитан к концу нашей работы вдруг переполнился
до краев всем этим зрелищем и начал спешить — уйти,
скорее уйти, догнать дивизию. Рабочий Черкесов тянул
нас с утра идти па отвалы кирпичного завода, где был рас-
стрелян его брат. Неутомимый мальчишка-партизан само-
любиво поддержал его — хоть сейчас, ночью пойдем. Уста-
лая до полного изнеможения, как будто умиротворенная
усталостью, Инокова больше никуда не хотела идти.
— «Нижеподписавшиеся...» — твердила она. — Но не-
ужели все это останется только подписью на бумаге?
И этот Адам... Неужели, когда мы победим, он будет
видеть солнце, ходить по земле?
Не знаю, жива ли Инокова в Славянске. Если жива,
то помнит. Потому что тот, кто имел силы пережить,
должен найти силы помнить.
1М7
6*
ЗАПАХИ ЗЕМЛИ
Я уезжал из Пятигорска в июле. Поезд стоит по рас-
писанию три-четыре минуты, в пустом нагретом купе
я открыл окно — всегда жаль прощаться с югом. Курорт-
ные голоса и смех, цветы, праздность легких знакомств
и расставаний. Перронная толпа расступилась. Носиль-
щики катили кресло. В нем сидела бледная женщина
в веселеньком платье с кружевными оборками.
Ее ввели ко мне в купе.
— День будет жаркий. До самого Ростова, — сказал я.
Она не ответила. Ясные глаза были широко открыты,
но смотрели мимо меня. Она слепая?
— Вы в Москву? — спросил я, не сводя с нее взгляда.
Она и не слышала.
Поезд тронулся. Из тамбура вернулась сопровождав-
шая ее пожилая женщина. И в первые минуты путевого
знакомства я узнал нечто ошеломившее меня. Со мной
ехала женщина, о которой я был наслышан еще в юно-
сти, — слепоглухонемая Ольга Скороходова. На заседании
редакционной коллегии журнала «Наши достижения»,
в особняке на Малой Никитской, помню, о ней говорил
Горький. В ту пору он переписывался с пей, потрясен-
ный ее ужасной участью и баснословным трудолюбием и
неожиданно открывшимся литературным талантом. Я пе
встречал ее никогда, по знал, что ее учили говорить и опа
даже выступала на научных конференциях. Опа писала
книгу, отрывочно, но совершенно самостоятельно, — един-
ственную в своем роде книгу «Как я воспринимаю и
представляю окружающий мир». Прошло так много лет—
164
вот она сидит передо мной в голубеньком платье с кру-
жевами, высоколобая, гладко причесанная, с широко от-
крытыми и ясными глазами, с чистым взглядом и вся
воплощение внешней телесной чистоты и внутреннего
душевного порядка. Но это уже, конечно, не Оля, как
называл ее нежно Алексей Максимович в дни ее моло-
дости. Постаревшая в степах самой страшной тюрьмы,
бессрочно замурованная во мрак и тишину.
Бывают же такие встречи, просто удивительно... Мож-
но без неловкой навязчивости познакомиться, погово-
рить.
Да, именно поговорить.
Ее подруга и секретарь Ядвига Константиновна разго-
варивала с ней, называя и представляя попутчика. Она
бегло выстукивала, точно опытная машинистка, всеми
пятью пальцами по подставленной ее ладони, а Скорохо-
дова отвечала не пальцами, а голосом, несколько, правда,
механическим, интонационно бедным, но ни па мгнове-
ние не сбивающимся на немой клекот. Отвечала, не слы-
ша себя, не зная, как звучит ее голос.
— Вы сами побеседуйте с пей, — предложила Ядвига
Константиновна.
— Что вы, я не сумею.
— Просто пишите буквы на ее ладони. Ставьте точку
после каждого слова.
— Я не смогу.
— Попробуйте.
Ладонь была открытая для понимания, слушающая.
Южное солнце било в окно и освещало наши руки.
Я писал круглыми буквами, разборчиво что-то незнача-
щее, а ей хотелось, видимо, разговорить собеседника. По
моим пальцам опа догадывалась, что я смущен, и, чтобы
ободрить, с легкой улыбкой установила:
— А вы не курите.
Освоившись с мыслью, что опа ничего не может услы-
шать, я спросил Ядвигу Константиновну, зачем понадо-
билось санитарное кресло? Оказывается, Ольга Ивановна
перед самым отъездом оступилась в саду санатория, по-
вредила ногу.
— Все огорчились. Видели, сколько провожающих?
Было знойное кавказское утро, когда в степи смеша-
лись все разогретые запахи земли, полей, пыльных про-
селков, цветения трав. И целый день, с перерывами, по-
тому что я уставал с непривычки, мы разговаривали
165
о жизни. Ей было пять лет, когда она лишилась слуха и
зрения, ужасная беда вела к одичанию, к полному рас-
паду речи. В Харькове опа попала в добрые, умные руки
профессора Соколяпского — в течение долгих лет он тер-
пеливо вырабатывал в ее сознании точные отношения
с окружающей материальной средой, возвращал изначаль-
но потерянное ощущение пространства и времени, и уж
потом — много позже — и навыки речи.
Мы вспоминали Горького. Потом я стал писать ей па
ладони что-то о своем кавказском детстве. Странно, по-
чему захотелось именно ей рассказать историю, давно
мною забытую, о том, как в гражданскую войну прого-
няли по улицам моего города маленький паровоз — «ку-
кушку». Куда, зачем — не знаю, я был маленький. Помню,
что прямо на булыжную мостовую укладывали на шпалах
рельсы, паровозик катился по ним до края, а позади него
разбирали и несли вперед то же рельсы по улицам и
переулкам через весь город. Была осень. С высокогорных
пастбищ гнали барапту, стада затопляли улицы — пыль,
серые спины вплотную одна к другой, запах курдюков,
жалобное торопливое блеяние, стук-топот маленьких ко-
пытец. Паровозик был затоплен. Горец-пастух вскочил
на его ступеньки и пронзительно кричал: «Волла-аги!..» —
и махал палкой.
Я в тот день но расставался с томом «Вселенная и
человечество» — помню золотые обрезные уголки его пе-
реплета. Я подошел к путевым рабочим, они сидели
в тени акации и ели расколотый на камнях алый, сочный
арбуз. Они угостили меня, я боялся закапать дорогую
книгу, но мне не терпелось показать им на карте неба
туманность Андромеды. А вдали маячил паровозик, как
черный островок в овечьем море.
Попробуй напиши все это круглыми буквами на чу-
жой ладони.
Иногда мы сидели в коридоре у открытого окна.
В тряске мчащегося вагона мне казалось, что я пишу
плохо, поймет ли опа, к чему я вспомнил все это. Опа
понимала. Я это знал, потому что, слушая меня ладонью,
она в то же время остро чуяла степные запахи Кубани,
первая, раньше меня, догадалась, что мы подъезжаем
к Батайску — большой рекой, Доном, потянуло.
Чадили в Донбассе терриконы.
Мы проезжали в пойме Северного Донца, где я много
чего повидал в сорок третьем. Она спросила меня;
166
— Сегодня лунный вечер?
Поздней ночью вышли к нашему вагону извещенные
телеграммой харьковские врачи и педагоги, давние
друзья Скороходовой. Седые женщины ворвались в купе
с цветами и все вместе зацеловали Ольгу Ивановну и
что-то по очереди брайлевской азбукой выстукивали ей
в ладонь. Я отошел, чтобы не мешать.
И — дальше в путь.
Расставшись с дорогими ей людьми, Ольга Ивановна
сперва как-то странно шевелила зрачками, пе скрывая
волнения. Потом вспомнила букет, забытый в ее ногах,
стала жадно вдыхать его ароматы и ощупывать каждый
бутон, каждый листок. Была самая середина лета, и под-
бор полевых цветов был тот же, знакомый нам всем,
о котором Лев Толстой писал в прологе к «Хаджи-Му-
рату»: «Есть прелестный подбор цветов этого времени
года: красные, белые, розовые душистые пушистые каш-
ки; наглые маргаритки; молочно-белые, с яркой желтой
серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной
вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко
стоящие лиловые и белые тюльпаповидные колоколь-
чики...» Вот и сейчас в руках женщины над всем пестрым
скопищем цветов возвышался пучок похожих на тюль-
паны белых, высоко стоящих колокольчиков.
Мы с Ядвигой Константиновной следили за тем, как
пальцы Ольги Ивановны облетали цветы. Было похоже
именно на облет, потому что каждая чашечка, как от
пчелы, упруго клонилась от ее прикосновения. И снова
выпрямлялась, освобождаясь. Но в то же время движения
пальцев, трогающих цветы, были человечно разумны, как
если бы пианист, вспоминая забытую мелодию, легко
трогал клавиши. Ядвиге Константиновне показалось, что
Ольга Ивановна не заметила в букете его венца, и она
подтолкнула руку подруги к колокольчикам.
— Я вижу, вижу... — нетерпеливо произнесла Скоро-
ходова.
Слепые часто говорят — вижу. Глухие — слышу. Здесь,
наверно, что-то от защиты своего достоинства. Но я хочу
заверить вас, что, сказав «вижу, вижу», Ольга Ивановна
не успела ощупать колокольчики. Как же она их уви-
дела? Или просто почуяла изощренным обонянием? Но
как же можно различить запах колокольчиков в хаосе
других — медовых, и пряных, и миндальных — ароматов
степного букета?
167
— Надо поставить в воду, — сказала Ольга Ивановна
и отложила цветы в сторону.
Ее подруга вышла к проводницам. А я украдкой
взял цветы и поднес к лицу. И вдруг точно меня обо-
жгло — Ольга Ивановна глядела в мою сторону п улыба-
лась.
Значит, по дуновению запахов она не только почув-
ствовала, что я взял цветы, но по какой-то непостижимой
догадке поняла, что я сам себя проверяю, что я пытаюсь...
Состязаться с пей?
В чем же? В любви к жизни?
Я целую ночь не спал. Ворочался с боку на бок на
верхней полке, хоть с детства люблю поспать в пути под
качку вагона, под неутомимый перестук колес. А тут —
запахи. Я чувствовал, что Ольга Ивановна не спит и
я невольно мешаю ей — она-то знает, что я не забываю
о ней. И я не спал и никогда так тонко не слышал, как
пахнет разогретое железо, и пыль диванной обивки, и
вагонное белье, отдающее мылом. Где-то на полустанке
теплой ночью вкрался в открытое окно запах жесткой
травы, и я подумал: наверно, проезжаем между Белгоро-
дом и Орлом, по полям танковой битвы.
Вспоминалось детство. На железном листе в духовке
жарили семечки. Как хорошо вспоминать каленый запах
горячих семечек! В чулане — кобийский сыр в мокрых
тряпочках. Няня мазала волосы коровьим маслом...
А скипидарный дух компрессов, когда болело горло...
А четверговые базары — немцы-колонисты торговали
круглыми лепешками сливочного масла на зеленых листь-
ях, с каплями воды, с тиснением от марлевых лоскутков;
айва в корзинах, яблоки, грецкие орехи. Горы арбузов.
Мучные ряды. Огромные, под навесом базарные весы —
это самое сердце базара. И его желудок — красно-кир-
пичный вонючий саркофаг посреди площади. А на гори-
стых улочках, окружавших базар, — мастерские каретни-
ков, лезгин-чеканщиков, и тех, кто шил бурки и папахи,
и седельных мастеров, и тех, кто паял, лудил, раздувал
горны. Как хороши были запахи ремесла — смолы,
стружки, пеньки, сыромятной кожи, сапожной дратвы.
Кажется, индустриальный век стерилизует милые патри-
архальные запахи крестьянского двора, сапожного товара,
кухонного чада, медовых пряников и булочных, когда на
морозе тебя обдает из все время отворяющихся дверей
горячим духом хлебной выпечки. А керосиновая лампа,
168
когда ее фитиль прикручивала няня? Теперь — электри-
чество, оно-то уж гаснет, не чадя, без запаха.
Вдруг вспомнилась война — невероятный, этиловый,
что ли, привкус ленинградского тумана той, блокадной,
зимы, когда что-то примешивали в бензин грузовиков.
Двенадцать лет спустя после войны мы приехали в Ка-
лининград, бывший Кенигсберг, вечером шли по мирным
улицам, и вдруг внятно потянуло пожарищем, бьющим
по нервам запахом копоти, закоптелого кирпича, — мы
все были потрясены, ведь двенадцать лет прошло! И что-
бы уйти от этих угрожающих воспоминаний, я вызывал
в памяти сырость вечернего оврага в Головкове, пляж
в Коктебеле с разогретыми телами купальщиков, гриб-
ные полянки в лесу под Дороховом — все то душистое,
сладкое, свежее, горьковатое, что источает паша земля.
Утром я купил в Орле газеты. Ядвига Константиновна
выстукивала в ладонь Скороходовой международные но-
вости. Тревожно в мире... Ей хотелось кое-что узнать и
от меня. Да много ли наговоришься, когда каждую букву
надо чертить пальцем. Я выписал ей запомнившееся мне
хорошее, умное стихотворение Евгения Евтушенко «Хо-
тят ли русские войны...». Она задумалась. Двое сидели
у окна и думали о войне. Один — это я, такой же в об-
щем, как все мы. Другой — как если бы атомный взрыв
выдавил нам глаза, порвал барабанные перепонки. Потом,
из книги Ольги Ивановны, я узнал, что ее однажды по-
трясло. Познакомили ее с девушкой, которая попала под
бомбежку и была ранена в голову. Она ослепла, рана
долго не заживала, под повязкой — кора со струпьями.
И вот один раз эта девушка дала ей прикоснуться к сво-
ему бритому затылку в струпьях. Она несколько дней
не могла есть — все предметы, которых касались ее паль-
цы, даже хлеб, представлялись ей в виде голого затылка,
покрытого струпьями. Может быть, об этом и думала
Ольга Ивановна, сидя у окна?
В Москве на перрон Курского вокзала, как мы зара-
нее потребовали, вынесли к вагону носилки. Ольгу Ива-
новну вывели, уложили. Я наклонился к ней проститься.
Она лежала на боку. Улыбнулась прикосновению моих
неуклюжих пальцев. И, как будто продолжая разговор,
сказала выработанным голосом:
— Знаете, все хорошо будет, лишь бы не война. Лишь
бы не запахло порохом. — Она подумала и уточнила: —
Золой и гарью.
169
В вокзальной толчее всегда есть что-то будоражащее
воображение. А тут еще эта женщина — чудо подвига
жизни, — терпеливо лежавшая на носилках, среди спе-
шащей толпы, на уровне проносимых мимо чемоданов,
бегущих ног...
А возвратясь домой, я как-то развернул «Комсомоль-
скую правду» и наткнулся на стихи, напомнившие мою
дорожную встречу. Эти стихи, было сказано в примеча-
нии, написал молодой поэт Геннадий Головатый, прико-
ванный к постели тяжелой болезнью.
Слепые не могут смотреть гневно,
Немые не могут кричать яростно,
Безрукие не могут держать оружие,
Безногие не могут идти вперед.
Но слепые могут кричать яростно,
Но немые могут глядеть гневно,
Но безрукие могут шагать вперед,
Но безногие могут держать оружие...
1962
« СМЕРТЬ
ПОД
ПСЕВДОНИМОМ
ПОВЕСТЬ
БРАЗИЛИЯ, 7 ИЮЛЯ (РЕЙТЕР).
ГВАТЕМАЛЬСКАЯ ФЕДЕРАЛЬ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ СООБЩИЛА ОБ
АРЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА, ПОДОЗРЕ-
ВАЕМОГО В ТОМ, ЧТО ОН ЯВ-
ЛЯЕТСЯ НАЦИСТСКИМ ПРЕ-
СТУПНИКОМ МАРТИНОМ БОР-
МАНОМ.
Так Борман все-таки жив?
Двадцать два года, прошед-
ших после войны, люди за-
дают вопрос, до сих пор так и
не получив на пего ответа.
Сотни очевидцев наталкива-
лись на следы нациста № 2.
— Мартин Борман жив и
скрывается в аргентинском
городе Сан-Карлос де Бари-
лоче, — утверждает главный
редактор журнала «Аргози».
— Следы Мартина Борма-
на обнаружены в ЮАР, — со-
общает иоганнесбургская га-
зета «Саиди тайме».
В марте этого года чилий-
ская газета «Эль-Сигло» опуб-
ликовала статью «Звери вы-
ходят из сельвы», в которой
подробно рассказывается о
показаниях задержанного бра-
зильской полицией экс-лейте-
нанта СС Зоннепбурга.
Эсэсовский офицер заявил,
что с 27 ноября по 5 декабря
1966 года он принимал уча-
стие в сборище нацистов, ко-
торое проходило в боливий-
ском городке Санта-Крус под
председательством освенцим-
ского врача-садиста Йозефа
Менгеле.
173
f
В августе тысяча девятьсот сорок четвертого года ко-
ролевская Румыния вышла из войны.
С часу на час ждали появления передовых частей
Красной Армии в Бухаресте. На восточных заставах
бежавшие с фронта солдаты (без погон и ремней) и шо-
феры, измученные ночной ездой, рассказывали о событиях,
происшедших между Днестром и Прутом: там пятнадцать
германских дивизий размалываются в советском котло,
румынские солдаты сдаются в плен или поворачивают
оружие против немцев.
Столичные толпы, взметаемые сквозняком паники,
рассыпались, как пролитая ртуть, — лишь звенело битое
стекло под ногами бегущих. Два устаревших танка типа
«Репо» метались, поднимая бессмысленную стрельбу
вдоль омертвевшего бульвара Элизабет, в парке Чисмид-
жу, у памятника Михаю-Витязю. И снова собирались
толпы у репродукторов на площадях — дожидаться коро-
левского манифеста о капитуляции, или у дымящегося
здания Филармонии — глазеть на ее расколотый бомбой
стеклянный купол.
Красную Армию ждали в разных районах столицы
по-разному.
В заводских предместьях вооруженные пикеты рабо-
чих уже захватывали цеха и конторы предприятий. Впер-
вые за много лет фашистского террора коммунисты от-
крыто выступали в цехах. Из распахнутых ворот тюрем
с утра под ликующий говор народа медленно растекался
поток политических заключенных. В элегантных особ-
няках, на тихих улицах с тщеславно-вычурными назва-
ниями «Гаага», «Женева», «Анкара», «Париж», жгли
в каминах накопившиеся за долгие годы, ставшие опас-
ными документы, дневники и письма. В дешевом отеле
«Дакия» всю ночь до рассвета хлопали дверями, вопили
пьяные голоса: там дебоширили напоследок дезертиры.
Какие они, эти русские, прогнавшие королевскую
армию и ее великих союзников от берегов Дона и Волги?
И чем порадуют на прощание немцы? Пока что они уже
бомбили союзный город, благо летать недалеко — прямо
с пригородных аэродромов... Пыль клубилась над коро-
левским дворцом. Посерели от пыли медвежьи кивера
гренадеров, шагавших вдоль чугунной ограды покинутого
дворца.
174
Только одна улица — Каля Липскаиь — улица черной
биржи, нисколько не изменила своему обычному деловому
оживлению. Напротив: запруженная толпой, в тесноте
кричащих витрин и реклам, эта улица из самой бездны
разгрома извлекала свою новую наживу, свое последнее
торжество.
Даже в часы, когда ветер войны доносит с полей труп-
ный запах и когда стены королевских резиденций падают,
источая желтую пыль, буржуа не замечают оскорбитель-
ной неуместности своих клетчатых пиджаков и радужных
галстуков. Стадо маклеров и спекулянтов брело по узкой
улице.
Что им нищета ограбленного народа, солдатчина на-
вязанной войны, когда сегодня можно успеть сбыть с рук
летящие в бездну ценности! Что им банкротство «исто-
рических» партий, когда в любой подворотне о курсе леи
осведомляются запросто, как «который час», — 216, 218,
220... Два-три беглых слова па ходу, опасливый взгляд
в узкую полоску неба — не летят ли бомбить? — и вот
уже услужливые маклеры уводят свою клиентуру в глу*
бипу нечистых дворов, передают из рук в руки нефтяные
акции «Ромыно — Американа», «Астра — Ромына»... Мар-
ки и леи падают. Американские доллары и советские
рубли взлетают. В мелких купюрах — одна цена, поде-
шевле: труднее хранить. В крупных — другая.
Так кишел и роился, точно базар в канун рождества,
этот закоулок взбудораженного Бухареста, этот малень-
кий центр оголтелой наживы, всего лишь в двух часах
полета от испепеленных, обезлюдевших украинских сел,
2
В такой толпе окликнешь знакомого — не сразу услы-
шит. Метнувшись в уличном скопище, бледный мужчина
с черными усиками задержал за локоть проходившую
мимо него женщину.
— Так вот вы где, Мариша, — по-русски заговорил
он, как старый знакомый, не отпуская ее руки. — Смотали
удочки! И куда: в Букурести.
Женщина была немолода, но стройна, над розоватым
загаром серебро седых волос. И серебристо-серый плащ,
и розовая Сумочка обдуманно повторяли эту гамму.
В подрисованных глазах — лихорадочный блеск; тонкая
175
рука в белой испачканной перчатке, когда женщина под-
няла ее к виску, задрожала.
— Болит голова, Стасик, — сиплым голосом загово-
рила опа. — Ох, как болит.
— Вам нездоровится. Он-то, по крайней мере, знает,
этот... любитель конного спорта?
— Что-то творится со мной, — она вульгарно-громко
расхохоталась и вдруг договорила почти шепотом: — Не-
поправимое.
— Вы почувствовали это в Софии?
— Да, во вторник.
— И вы пе заметили перемены со стороны Джорджа?
— Он такой мнительный. — Она сказала это без
улыбки.
— Стал избегать? Стал сторониться вас? И у вас все
время болит голова?
— Почему вы об этом спрашиваете, Стась? Вы что-то
подозреваете? Да, голова очень болит. Потом — боли
в суставах. И тошнота. И озноб.
— Значит, вы все поняли? Вы поняли?
— 'Я догадалась. — Она отвернула край перчатки на
левой руке и показала язвочку, окаймленную белым ва-
ликом. — Я заметила это во вторник. — Ее губы задро-
жали, слезы появились на глазах. — Милый Стасик, вы
думаете, что это он сам сделал... что он мог решиться на
это, чтобы избавиться от меня?
— Разве легко от вас избавиться. Все знают, что вы
психопатка, — грубовато ответил ее собеседник.
Прорезая толпу, приближались рослые полицейские.
Блеснуло золото кокард и шнуровки на их высоких фу-
ражках.
— Пропустим их, — вполголоса сказал Стасик.
Во всем его облике было что-то от фатоватого героя
бульварного романа — в галстуке-бабочке под энергичным
сизым подбородком, в бриллиантиновом сиянии прически.
— Давно хотел спросить вас, Мариша, — сказал оп,
когда прошли полицейские. — Сейчас это позволительно.
Вы работали на немцев?
— Под кличкой Серебряная? Чудак вы, Стась, — «ра-
ботала». Я никогда не работала. Я любила Джорджа.
И теперь я ушла, как больная кошка, чтобы не подохнуть
дома... — Она закашлялась, говоря непрерывно. — Он сам
теперь в руках Крафта, этого слизняка в белых реснич-
ках. Я ненавижу их обоих. Я не хочу, не хочу...
176
— Любите... Ненавидите... — Что-то безжалостно-ци-
ничное блеснуло в глазах Стасика. — А знаете ли вы,
обаятельная, что вы давно были обречены? Хотите или
не хотите, вас ожидает участь солдат из «зондеркоман-
ды», когда в них минует надобность.
Он обернулся. Толпа метнулась врассыпную,
кто-то кричал: «Это тряпка тлеет! Успокойтесь! Про-
сто тряпка! Кто подкинул ее? Вот сволочь! Это прово-
кация...»
Паника длилась несколько секунд, не более.
3
Временный мост, наведенный советскими саперами
над рекой Прут, гудел и поскрипывал, перегруженный
машинами и орудиями. Близился вечер. Войска томи-
тельно мешкотно тянулись через мост па ночлег — на
первый привал в чужой враждебной стране, в ее пе тро-
нутых войной селах и городах.
Не было таких, кто бы не знал, что эта невзрачная
речонка — государственная граница, откуда война нача-
лась. Но сейчас усталость, смертельная усталость гнала
людей через мост па ночлег. И немного было охотников
полюбоваться на этот рубеж. Что в нем особенного: мут-
ная вода обмывает обломки взорванного бетона, — только
и всего! — играет в скрученной арматуре и резко меняет
цвет, уходя в тень под мостом.
На войне и усталость плодит шутников. И сейчас
тоже находились балагуры.
— Кто тут в зеленых околышах? Пограничной служ-
бе велено оставаться, окапываться! — развлекал людей
артиллерист в темной от пота гимнастерке, рысцой тру-
сивший рядом с орудием.
Притиснутый к перилам пожилой солдат раздражи-
тельно философствовал:
— Пусть теперь сами понюхают, какая она есть, фа-
тальная.
«Тотальная?» — сообразил младший лейтенант Шу-
стов, осторожно перегонявший на другой берег по скрипу-
чему настилу свою спецмашину.
— Далече ли до Берлина, сестрица? — сострил Шу-
стов, не изменяя твердо выработанной привычке заде-
вать всех встречных девушек.
177
— Давай, давай! — отозвалась с хрипотцой регули-
ровщица.
Славка Шустов только прищурился, узнав Дашу Пу-
чинину. Ее лицо было нахмурено, обветренные губы
потрескались, нежный пушок у розовых ушей казался
седым от пыли. Вчерашние румынские солдаты тянулись
без оружия восвояси, и Даша беспощадно оттирала их
к перилам.
— Сторбньтесь же, окаянные! Ваша война кончилась.
Ведь сошьет господь людей! — певуче выругалась регу-
лировщица.
И вся она — в застиранной гимнастерке и узенькой
юбчонке, знакомая младшему лейтенанту еще со времен
Старобельска, от самого ее родного города — показалась
в эту минуту Шустову такой занятной, со своим хрипа-
тым голоском, что он даже притормозил.
— Эй, гвардии курносая!
Но Даша, не взглянув, яростно отмахнулась флаж-
ком.
— Даша, Дашенька...
Только сейчас очнулась регулировщица и наконец
увидела Шустова. Она рассмеялась над своим отчаянием,
вспрыгнула на подножку, привычно козырнула.
— Вон куда вас определили!
— А куда, родненькая?
— Обомлеть можно — офицера посадили заместо шо-
фера! Что, напросились?
— Так ведь — на спецмашину, понимать надо.
— Я и то думаю, нынче с полковником кто-то другой
ездит, не Шустов, — весело язвила регулировщица.
В их вздорном препирательстве каждый без ошибки
узнал бы поединок фронтового флирта, прерывавшийся
на много дней по воле обстоятельств и снова возникавший
в любой минутной встрече.
— А тебе, Дашенька, жаль меня? — поддразнивал
молодцеватый офицер.
— Ох, как жаль. Надолго вас доверия лишили?
— Говори лучше, где повстречаемся? В Бухаресте?
Неделю назад (еще до прорыва немецкой обороны па
Днестре, но когда уже начала активно действовать ави-
ация) Шустов примчался вдруг на мотоцикле за Дашей
Лучининой. Регулировщица только что сменилась. Шу-
178
стова опа давно знала: лихой и балованный младший
лейтенант из контрразведки, состоит при полковнике
Ватагине.
— Лезь в лукошко! — приказал Шустов.
— А что случилось?
— Парашютиста сбросили! Сейчас возьмем..,
— Не врете? А то, смотрите, не жить вам!
И не успела она опомниться, как он прокатил ее
километров за двадцать. На шоссе был знакомый
Даше загороженный участок со свежеподсыпанной ще-
бенкой — младший лейтенант проехал прямо по осевой
линии.
— Какой невыдержанный! — только и успела крик-
нуть регулировщица.
Эта нечаянная характеристика была как нельзя более
меткой. Даша уже раза два с удовольствием попробовала
бешеную езду с младшим лейтенантом. Крутой подъем,
канава, быстрый разворот на вспаханном поле, — дух
захватывает! А Шустов еще хохочет. Все ему в шутку!
Покажи ржаной сухарь — все равно будет весело.
В тот вечер они отдыхали на краю заросшего проти-
вотанкового рва. Младший лейтенант признался, что ни-
какого парашютиста нет и в помине, все он выдумал,
чтобы с ней, ненаглядной, побыть. Он вздумал с ходу
целоваться, да, видно, грубо получилось — она ударила
его по щеке. И вдруг заплакала.
— Что ты! Глупая.
— Знаю вас всех, как миленьких.
Слезы его озадачили, но не дольше, чем на минуту.
Он решил, что заплакала она, потому что он — без под-
хода.
А в вечерних полях было чисто и приветливо. В небе
стоял серп молодого месяца с яркой звездой невдалеке.
И Шустов легко перестроился, стал говорйть глупости
вроде того, будто глаза у Даши гипнотические, отчего
все машины и останавливаются перед пей.
Даша улыбнулась и запела тоненько:
Я сидела и мечтала
У открытого окна.
Чернобровая, в лохмотьях,
Ко мне цыганка подошла..,
— Что загрустила, Дашенька? Былое и думы?
179
Даша взглянула на него: перочинным ножом он зачи-
щал бронзовый провод, и медаль на его гимнастерке пока-
чивалась, как маятник.
Подошла, взяла за ручку:
«Дай на ручку погляжу,
Я, что было, то узнаю,
Все, что будет, расскажу...»
Если б знал Шустов все, что стряслось с Дашей... Как
проводила маму после бомбежки в больницу, а братишка
пристал к войскам, ушел... Не было весточки от отца,
сгинувшего в первые месяцы войны. Даша пришла па
призывной пункт, просила, чтоб ее взяли. Три ночи она
просидела на пороге военкомата. Ее определили в ВАД.
Она испугалась. Ей сказали: «ВАД — это военно-автомо-
бильная дорога. Будешь регулировать движение». И это
оказалось страшно спервоначала — стоять на степном пе-
рекрестке ночью во тьме, освещенной сигнальными ра-
кетами. И только, слава богу, так шумела на ветру же-
сткая плащ-накидка, что ничего не было слышно во-
круг...
— Маму вспоминаешь?
Даша промолчала. Он взглянул внимательно. Ничего
такого особенного: сероглазая, с розовыми ушками, с ер-
шистыми бровями...
Мог ли оп догадаться, какие страшные видения вы-
зывает он своими глупыми расспросами... Когда посыпа-
лись бомбы, Даша с мамой зарылись в землю на бахче,
а хата затрещала жарким пламенем.
— А от отца весточки получаешь? — допытывался
Славка.
— Получаю.
Но Славка и тут ничего не понял. Он заглянул в лицо
девушки — из глаз катились слезинки, вразбежку, как
попало.
— Где он воюет?
— На могплевском. Ну, чего пристал?
— Что ты озлилась? Я к тебе с хорошими мыс-
лями.
Но но успел он высказать свои хорошие мысли, как
вдруг остановилась перед ними на безлюдном шоссе
штабная машина, это нечаянно наткнулся на них Слав-
кин начальник — полковник Ватагин.
— Товарищ младший лейтенант, прошу ко мне!
180
И так оп поговорил с младшим лейтенантом, такая
была ему «выволочка», что Даша возвращалась па попут-
ных. А Шустов оказался вместо заболевшего шофера на
тихоходной спецмашине, на пей не разгуляешься. При-
думает же Ватагин такую кару!
Стоя на подножке, Даша заглядывала в глаза Славки
Шустова.
— Полковника своего не видели?
— А где он?
— Во-он, на румынском берегу. Умывается... — пока-
зала опа флажком и, соскочив с подножки, крикну-
ла: — У них, в Европе, с личной гигиеной плохо! Сол-
даты жалуются: умывальников нету — в тазах поло-
щутся!
Спецмашина грузно съехала с моста в щепу и опилки.
Лишь только миновала угроза проколоть па гвоздях по-
крышки, младший лейтенант просиял; это выражение
избегнутой опасности знакомо было всем, кто знал Славку
Шустова: оно возникало в его голубых глазах, блеснув-
ших победоносно, хоть и немного наигранно, и мгновенно
стирало усталость со впалых щек и худощавого подбо-
родка.
С ведерком в руке подбежал Шустов к знакомому
«виллису».
Все-таки свыкся он с полковником, хотя порой и не-
гладко складывались их отношения.
— Товарищ гвардии полковник! Разрешите обратить-
ся, гвардии младшйй«лейтенант Шустов...
Ватагин размашисто протирал красное лицо полотен-
цем, вернее сказать, пачкал вафельный лоскуток: седые
волосы на висках были бурыми от пота и пыли.
— Ну как? Не заскучал?
— Заскучал, товарищ полковник. Ох, и бандура же!
— Ладно, доведи до места, а там посмотрим... Вот и
Европа. Ты погляди, Шустов, пе каждый день государст-
венную границу переходим.
Шустов бросил взгляд по сторонам и сразу понял,
о чем думает полковник: вот наконец пе на своей земле
видим мы исщерблепные степы хат, конскую падаль под
откосом. Под дамбой лежали завернутые в дерюгу жен-
щина и девочка. У матери маленькое лицо, оскаленные
зубы, Лоб у девочки —• желтый, как воск. «Наши? Или
181
ужо ихние?» — подумал Славка. Он взглянул на Вата-
гина.
— Бабин прямо с лица спал, наушников не сни-
мает.
— Пусть слушает. Ты ему не мешай.
— Зачем же мешать.
— Знаю тебя: наверно, развлекаешь.
— Мое дело маленькое, я везу, — возразил Шустов,
по тут же, подавшись вперед, азартно зашептал: — А что
бы это значило: «Пиджак готов! Распух одноглазый?..»
Вот так позывной! Во сне не приснится...
— Об этом не здесь, — оборвал полковник. — Тебе во
фронтовом ансамбле работать, всю программу бы вел, как
раз по твоей разговорчивости.
— Гвоздей небось нахватали, — в свою очередь, огрыз-
нулся Шустов, оглядывая покрышки.
Полковник редко пользовался машиной из гаража
разведупра. Под Кривым Рогом весной раздобыли ему
новенькую трофейную — «бьюик» с перламутровым щит-
ком, и с тех пор за «баранкой» находился у него стажер
разведшколы Шустов. Полковник любил и сам водить
машину, и отдыхал за этим занятием. Ну, уж зато и
расплачивался он за каждую царапину на крыле:
Шустов не прощал любительской небрежности полков-
ника.
— Сегодня ночуем вместе, — сказал Ватагин. — Свер-
ну на край села, ты — за мной. А в ноль тридцать раз-
буди. Послушаю.
— Есть разбудить, товарищ полковник! Разрешите
следовать?
— Погоди. Посмотри, Шустов.
Они стояли вполоборота к мосту, по которому всту-
пала па Балканы Советская Армия. Минуло уже шесть
суток с тех пор, как наши войска прорвали фронт на
Днестре.
— Гляди. Запоминай.
Ватагин и сам не мог отвести взгляда от моста, по
которому колонны тягачей катили орудия на юго-запад,
в чужие страны. В сияющей высоте ныли невидимые
бомбардировщики.
— Регулировщицу видел на мосту?
— Видел. А что, заметно?
Ватагин только загадочно усмехнулся и пошел к ма-
шине,
182
4
— Иван Кириллович... Иван Кириллович, велели раз-
будить, — шептал в четвертом часу утра Шустов над
ухом Ватагина, подавая ему ремень и фуражку.
Шустов любил уставную субординацию и только по
ночам, когда приходилось будить начальника, называл
его по-домашнему — Иваном Кирилловичем.
Неслышными шагами прошел Ватагин во двор. Све-
тало. Солдаты брали воду из каменного колодца. За де-
ревьями легко было узнать спецмашину: ее полуоткрытая
дверь освещена изнутри.
— Концерт начался. Жду, что будет дальше, — сказал
Бабин, не отрываясь от приемника.
В фургоне машины было по-почному душно, сонно.
Ватагин надел наушники. Несколько минут сидели молча.
Походная радиостанция внутри напоминала вузовское
общежитие: на столе учебники радиотехники, английско-
го языка, чертежи и хлеб. В панель обивки засунуты
полотенца, нож, вилка, карандаши. Окна завешены оде-
ялами, плащ-палатками.
— Ничего не слышу, — шепнул Ватагин.
— Тишина — дефект нашего слуха, — отозвался Ба-
бин.
Сутулый, с тощими ногами в просторных кирзовых
сапогах, в громадной, не по росту, гимнастерке, Миша
Бабин, прикомандированный в отдел к полковнику радист,
в назначенные часы по расписанию работ вылезал в эфир
на своей волне и стучал, стучал — связывал Ватагина то
с «главным хозяйством», то с отдельными «точками»
в тылу противника, а потом принимал и записывал в вах-
тенный журнал и передавал шифровальщикам, ничего,
разумеется, не понимая в принятых текстах.
— КВ... 10,15... 48,04... Как вы меня слышите? Пере-
хожу на прием.
Не зная кодов, еще усложнившихся к концу войны,
он привык различать своих корреспондентов, что назы-
вается, по почерку — по стуку морзянки он догадывался,
кто находится в трудных обстоятельствах где-то в заболо-
ченном лесу, кто чувствует себя в безопасности в каких-
то скалистых пещерах, кто притаился под угрозой
разоблачения в большом городе. И ничего другого не
было, кроме этой работы. В промежутке между сеансами
приема-пёредач он решал математические задачки или
183
шел на трофейный склад высматривать запасные радио-
лампы. Когда взяли Одессу, он выпросил у полковника
американский приемник «Хаммерлунд» на двадцати трех
лампах, — его конфисковали у любовницы бежавшего ру-
мынского военного прокурора, — и от нечего делать лазал
по эфиру, силясь разобраться сквозь музыку широкове-
щательных станций в писке искровых передатчиков. Из
Будапешта передавали «Фауста». Другая волна доносила
грустный рефрен французского вальса «Когда умирает
любовь». Ленинград транслировал Седьмую симфонию
Шостаковича. После многих часов приема Бабин вставал
и, шатаясь, как пьяный, выходил подышать свежим воз-
духом. Южное небо за ночь поворачивалось вокруг ан-
тенны, и звезды, знакомые с детства, бледные ярослав-
ские звезды, были здесь крупнее и испанисто-романтич-
нее. Бабии возвращался. Уже в полусне крутил рукоятку
точной настройки.
Несколько дней назад какая-то провинциальная широ-
ковещательная станция после танцевальной музыки пере-
дала открытым текстом па немецком языке что-то непо-
нятное:
Hallo, hallo! Ralle, Ralle. Hier Rinne. (Пауза.)
Funf Hufeisen von einem Pferde...1
Подбежав ко второму приемнику, Бабии легко на-
ткнулся и на ответ — кто-то бодро отозвался:
Hallo, hallo! Rinne, Rinne. Hier Ralle. (Пауза.)
Der Rock ist fertig! Einaugiger ist geschwollen...1 2
За этим последовала еще какая-то фраза. Она-то, по
всей видимости, и могда содержать смысл информации.
Мальчишка? Какой-нибудь любитель, балующий от
скуки в сонном захолустье? На третью ночь в тот же час
Бабин снова поймал странные позывные. И снова зага-
дочный ответ открытым текстом. Он доложил полков-
нику.
Так было и сегодня.
Между тем желтый свет лампы в колпаке из газеты
все слабее окрашивал воздух: наступило то особое мгно-
вение, когда стало заметно предрассветное порозовевшее
1 ...Слушай, слушай! Ралле, Ралле. Я Ринне... (Пауза.) Пять
подков с одного коня... (нем,)
2 Слушай, слушай! Ринне, Ринне. Я Ралле... (Пауза.) Пиджак
готов! Распух одноглазый... (нем.)
184
небо за полуоткрытой дверью. Шустов сидел за плечом
Ватагина. Полковник слышал его напряженное дыхание.
Вдруг Бабин молча ткнул пальцем в воздух.
— ...пи-ти... пи-ти-пи-ти... ти... пи-ти... — услышал
Ватагин и затем: — Кле-кле... кле-кле-кле... кле-кле...
Он понял, что уже промахнулся, это совсем не то, что
слушал Бабин. То, что он поймал, было похоже на
тоненький клекот индюшат — это морзянка. Где же от-
крытый текст?
Бабин вялым жестом смахнул наушники, протер
глаза, вынул из ящика стола початок вареной кукурузы
и задумчиво принялся жевать.
— Вот и все, товарищ полковник.
— А я опять пропустил. Что нового в тексте?
— Непонятно. По-немецки «Warne vor Ung]иск». Осте-
регайтесь от беды — так, кажется. Утром уточню по сло-
варю.
— Надо бы знать, откуда передают.
— Кто их знает... Если примут на правом фланге, —
пропеленгуют.
— Вот и лови. Разговаривают по ночам, семь-
восемь секунд. Ну как поймаешь! Мне нужно хотя бы
сорок секунд.
— Ну что ты канючишь! — оборвал Славка Шустов.
Ватагин нахмурился: оп знал, что Шустов завидует
любому оперативному работнику и именно поэтому не
прощает и Бабину его тоскливой рассудительности.
— Что ж, сеанс окончен? — спросил полковник
и встал, потягиваясь.
— Я и начальнику шифрослужбы докладывал; но он
тоже ничего не видит утешительного, — жаловался
Миша. — Эти подковы с одного коня...
— Подковы, подковы... — вздохнул полковник и вдруг
все обратил в шутку: — Что ж, как раз по сезону! Бегут
на всех фронтах — вот им и нужно получше подковаться.
Верно, Шустов?
Шустов промолчал. Он-то прекрасно понимал, что
полковнику пе до шуток.
Ватагин стал вылезать из фургона. Часовой поддер-
жал его под руку. Из-под деревьев уже тянуло дымом
солдатских костров. Сержаит-усач, сидя на задке под-
воды, стругал брынзу в котелок. Распряженная лошадь
черной губой трогала куст лимонных георгин. В этот
рассветный час во дворе все казалось таким мирным,
185
как будто солдаты уже возвращаются по домам. И осо-
бенно привольно звучал чей-то тенорок:
Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла...
Видно, и этот певец, как и многие в те дни, думал:
«Коли перешли рубеж — значит, и конец близок».
Но Ватагину, пока он шел по двору, было не по себе:
знать, что где-то во вражеском тылу, может быть, па
чердаке заурядной табачной лавки, сидят молодчики, го-
товые на все — и не иметь возможности до них добраться!
Переговариваются. О чем же, позволительно спросить?
В последние педели эфир буквально клокочет — ведут
передачи англичане и немцы, четники и партизаны, леги-
онеры и посольства, подводные лодки и самолеты.
Сводки радиоперехватов систематизируются ежечасно.
Штаб требует: «Примите меры к уточнению». Это не
так просто, как кажется па первый взгляд. Правда, Вата-
гин держит одну нить: друзья из Болгарии сообщили,
что в Софии, в здании германского посольства, работает,
по их сведениям, тайная радиостанция. Это уже похоже
на дело. Известно, что английская разведка год назад
нащупала нечто подобное в Ирландии: там, в Дублине,
с чердака своей миссии немцы руководили по радио
операциями подводных лодок в Атлантике. Это понятно.
Остается расшифровать, о чем же хлопочут гитлеровцы
здесь, на Балканах, в дни бегства? Warne von Ungluck —
остерегайтесь беды. Что это значит?
5
Шустов досадовал на толстокожего Бабина, тот, видно,
решил спать всю дорогу. Бабин очнулся от рывка и, зев-
нув, заметил:
— Несерьезный человек наш полковник.
— Не может быть! Это тебе в Военном Совете со-
общили?
— Нет, я сам вижу. Все он шутит, шутит.
— А если без шуток, то лучше голову под мышкой
носить. Все умные люди шутят. Даже Маркс.
— Или капитан Цаголов?
Шустов промолчал, только прибавил газу. Со стороны
Бабина — это особый способ уязвления. Кроме полковни-
186
ка, Славка действительно был влюблен в капитана Ца-
голова — щеголеватого горца, попавшего в разведку из
моряков и мечтавшего вернуться на флот.
— Серьезному человеку шутить незачем, — философ-
ствовал Бабин.— Так работать трудно.
— Мне вот легко.
— Ты стажер. Это не работа.
Можно ли больнее хлестнуть по самолюбию? Шустов
надолго замолчал, покачиваясь и вперившись взглядом в
набегающее полотно гудрона.
Уже за Дунаем, в Добрудже, Шустов тормознул,
распахнул дверку: отставший от роты солдат просился
подвезти.
— Ты что, пехота? Сто верст отмахал, еще охота? —
подтрунил Шустов над пешим человеком, но, видимо,
нарочно, чтобы стеснить Бабина, пустил солдата третьим
в кабину.
Бабин помалкивал. Тут он весь — Шустов: огорошит
человека, потом пожалеет.
Как будто забыв о присутствии радиста, Шустов раз-
говаривал с солдатом, но все, что ни говорил он, относи-
лось только к Мише Бабину. Сколько тут было язвитель-
ных намеков!
— ...Видите ли, дорогой товарищ, всякая задача
оказывается проста после того, как вам ее растолкуют.
(Это намек на то, что Бабин ждет ключа от шифро-
службы.)
— ...Видите ли, гвардии попутчик, в разведке надо
иметь воображение ребенка и терпение ученого. (Это на-
мек на мнимую тупость Бабина.)
Все било в цель! Бабин даже зашевелился на радость
Славке.
Между тем они дружили.
Дружба их началась еще в забитых снегами донских
хуторах. В танковом корпусе Славка Шустов был сер-
жантом, мотоциклистом в группе связи, а Миша Бабин,
как и теперь, был рядовым. В глубоком рейде по тылам
противника Бабин отличился как блестящий коротковол-
новик и знаток немецкого языка. Его стали ценить, толь-
ко с воинской выправкой у него не получалось: козыряя,
он нелепо подпрыгивал, и звали его в роте — «радиосыч».
Щеки его зарастали белым пухом. Длинные ноги всегда
аккуратно обернуты обмотками. Страдая флюсами, он
187
часто подвязывал щеку. Часто бывал задумчив, самоуг-
лублен.
Шустов однажды под веселую руку заметил, что
радист здорово смахивает па фигуру с известного пла-
ката «Разгром немцев под Москвой». Все развесели-
лись.
И ничего бы, да тут записной остряк Савушкин ре-
шил уточнить — обозвал Бабина фрицем. Миша покрас-
нел, не зная, как ответить. Шустов покраснел тоже: чув-
ство справедливости, горячее, почти детское, заставило
его пережить чужую обиду как собственную. Первым
движением души было желание турнуть Савушкина за
порог, но Шустов сдержался. Ехидно наклонив набок чу-
батую голову, он сказал лысому толстяку:
— Чижик (это было сказано очень нежно), может
быть, вы извинитесь перед товарищем Бабиным?
— А чего мне извиняться? — возразил Савушкин, за-
метно побаивавшийся Шустова. — Ты сам про плакат
вспомнил.
— Да, но кто тут произнес иностранное имя?
— За иностранное имя могу извиниться. Подума-
ешь...
Славка наставительно заключил:
— Теперь порядочек. Можете продолжать свои заня-
тия. Жуйте воблочку.
Тогда-то и зародилась их дружба.
Шустов в ту пору щеголял в куртке-кирзовке (на
черных петлицах — эмблема: танки), на боку — планшет
и финский нож с янтарной рукояткой. И был у него тро-
фейный аккордеон, на котором готической вязью на пер-
ламутре было начертано: «Адмирал Соло». Славка на-
шел его в разгромленной немецкой автоколонне, долго не
мог научиться играть даже самые пустяковые мелодии и
однажды сунул своего «адмирала» девчатам в санитар-
ную машину. «Нету у меня слуха, везите его от меня
подальше!»
Был он шумный, озороватый и, в общем, отважный
парень. Один раз, когда горела станица и трудно было
в столбах пламени провести автоколонну, а кругом сугро-
бы, не объедешь, — Шустов первый показал дорогу шо-
ферам сквозь огонь. И когда один мальчик, из хуторских,
подорвался на мине, Бабин сам видел,' как Славка подо-
шел к нему, осмотрел его вытянутые, залитые кровью
188
ручонки, усадил в коляску своего мотоцикла и под шрап-
нельным обстрелом вывез по степному грейдеру в тыл, к
медсанбатовским хирургам.
С кем и дружить на фронте, если не с таким челове-
ком! Не стесняясь, Бабин признался Славке в том, что
вся душа его осталась дома, в Ярославле, где ждут его
важные дела, и он опасается, как бы после войны не за-
держали его в армии. В этой дальновидности Славка
усмотрел весь его характер: педантичный и достаточно
себялюбивый. С изумлением Шустов вглядывался в чело-
века, который еще в донской степи предвидит последствия
грядущей победы и больше смерти опасается старшин-
ских лычек.
Вскорости Шустов был откомандирован в глубокий
тыл, — Бабин смутно догадывался, что он попал в развед-
школу. В самый раз — по характеру! Прошло полгода,
превратности войны снова свели их уже в разведупра-
влении фронта. Производство в младшие лейтенанты не
отдалило Шустова от Бабина. Миша оценил это по досто-
инству.
Славку с его неукротимым интересом ко всему, с чем
он соприкасался, привлекала в Мише его серьезная от-
зывчивость. Однажды он рассказал Мише, что держал
экзамен в студию Театра имени Вахтангова и прова-
лился, потому что дикция никуда не годится: будучи
москвичом, он все шипящие произносит, как одессит,
смягченно — «на позицию девушька прово-ж-жяла
бойца»... Но Миша ничуть не посмеялся, а, наоборот,
долго рассказывал, что где-то читал, будто народный
артист Певцов был даже заикой, и, однако, ничего:
сумел преодолеть это на сцене.
Да, что касалось начитанности и вообще образования,
тут Шустов отстал от Бабина: тот еще до войны заочно
учился в Институте связи и на фронте не расставался
с учебником радиотехники, изучал языки и даже чертил,
«чтобы не разучиться», а у Шустова не было позади
даже десятилетки.
В эти дни на Днестре, когда друзья оказались вместе,
Шустов поделился своей надеждой: после войны не рас-
ставаться с полковником Ватагиным.
— Тяжело с ним работать. Оп все загадками гово-
рит, — заметил Бабин.
— Так ты догадывайся. На что нам голова дана?
189
— Да оп больно хитро загадывает. Непонятно. Тем-
нит просто.
— А я всегда понимаю, — упрямо повторял
Славка.
Оп пе умел объяснить Бабину, что понимает полков-
ника потому, что любит его и с чуткостью любящего че-
ловека угадывает его мысли и настроения.
Немногим было на войне так трудно, как Мише Ба-
бину. На редкость аккуратный для своего возраста, оп
никак не мог привыкнуть к бестолочи, неразберихе, ко-
торые, с его педантичной точки зрения, и составляли
сущность фронтового быта. Он нес радиовахту добросо-
вестно. Но сутолока войны была ему непонятна, и оп,
молодой и здоровый парень, уставал больше других,
всегда казался угнетенным.
Мама была краевед, а папа — один из самых популяр-
ных людей в городе, лучший врач. Может быть, поэтому
Миша хотел всегда жить в Ярославле. Он высмеял бы
каждого, кто бы сказал, что он мечтатель, — однако на-
едине с собой строил самые фантастические планы, свя-
занные с будущим величием Ярославля.
И над всеми этими заветными мечтами и туманными
Мишиными соображениями потешался в этот день на
чужбине в добруджинскпх песках лучший друг —
Шустов. Он знал, чем допечь флегматика за оскорб-
ление.
— ...Видите ли, служивый, — разговаривал Шустов
с солдатом, искоса взглядывая на Бабина, — встречаются
па фронте и такие, которые даже старшинские лычки
боятся заработать: как бы их в армии лишний час не
задержали после победы.
Пыль застлала дороги Добруджи. Спецмашину, как
ни хитрил Шустов, затерла артиллерия главного командо-
вания, а ведь известно, что для виртуозной езды на воен-
но-полевых дорогах нет хуже помехи, чем артиллерия па
марше. Сквозь облака пыли Шустов ловил силуэт впе-
реди идущего орудия. Пыль скрипела на зубах. В пыле-
вых завесах маячили артиллеристы-сигнальщики с флаж-
ками:
— По местам.
— Мотор.
— Марш!
190
6
Шестого сентября в Софии началась забастовка трам-
вайщиков и рабочих железнодорожных мастерских.
Демонстранты заполнили улицы. Полиция стреляла. Сы-
пались стекла трамвайных вагонов. На кладбище народ
возлагал венки на могилы казненных, шли митинги.
Еще день — и повсюду на улицах столицы колыха-
лись красные полотнища: «Долой фашистскую дикта-
туру!», «Да здравствует Отечественный фронт!»
В германском посольстве никто из служащих не рас-
ходился по домам. Было известно, что господин посол,
фанатически верующий католик, ночью «получал наста-
вления божьей матери», а супруга посла собствен-
норучно заколачивала ящики для отправки в Германию
(чтобы не стучать громко, молоток был обернут в тря-
пку). Как всегда бывает накануне катастрофы, чинов-
ники, вчера еще гордые своими званиями, связями, уни-
зительно склочничали. Будущее для них уже переставало
существовать, наедине с прошлым оставаться было стра-
шно. Посольская мелочь — адъютанты из общего отдела,
офицеры-переводчики — одни продолжали гнуть спины
над бумагами, лишь отодвинув столы подальше от окон;
другие находились в состоянии как бы некоего опьяне-
ния; третьи спекулировали чем попало.
Советские войска вышли на Дунай и со дня на день
должны были перейти болгарскую границу. Народная
революция придвинулась вплотную к бемским стеклам
посольского особняка. Берлин давал взаимоисключаю-
щие распоряжения. Персонал посольства привычно от-
бывал присутственные часы, потому что великая империя
еще пряла свою пряжу. Однако нити рвались каждую
минуту: фельдъегерская служба, авиасвязь, наконец, те-
лефон начинали отказывать. И когда это понял госпо-
дин посол, он сообразил и то, что немцы в Софии
предоставлены самим себе, своим благоразумным реше-
ниям.
Впервые господин посол покинул здание в несколько
необычном виде: в смокинге и с автоматом в руке, спря-
танным под ангорским пледом. В ближайшем переулке
посол приказал шоферу снять с машины нацистский
вымпел. Пока пробивались к царскому дворцу, они ви-
дели, как народ разоружает полицию. Слышалось пение
«Интернационала». В окно машины заглянула самодельная
191
кукла, подвешенная па палке, и господин посол смог
убедиться, что чучело очень похоже на фюрера.
Во дворце была паника, как и в посольстве.
— Вам удалось проехать? И невредимо? — спросил
посла Германии министр иностранных дел.
Они сидели в креслах, прислушиваясь к отдаленному
гулу уличной манифестации.
— Тревожные подробности, господин посол.
— Что делать. Наши войска отступают из Румынии.
Планомерный отход.
— Планомерный? По планам, составленным в Мо-
скве?
Посол облизнул губы. Никогда с чрезвычайным
представителем фюрера в Болгарии не говорили так
дерзко.
— Прислушайтесь, — продолжал министр, — этот
сброд создает общественный строй, угодный ему. Как
говорят историки: «Народ решает вековые вопросы».
Тревога поселилась в покоях царского дворца. Какая-
то женщина с испуганными глазами (послу показалось,
что это княгиня Евдокия) заглядывала в дверь, пока ми-
нистр с беспримерной откровенностью сообщал герман-
скому послу о том, что, ввиду чрезвычайности событий,
правительство Болгарии сочло нужным отправить своих
делегатов в Каир — к англичанам, в штаб-квартиру
фельдмаршала Александера.
— До этого дня никто пе отваживался известить вас
об этом, господин посол. Но теперь, надеюсь, и вам
ясно: революцию в Болгарии может предотвратить только
энергичное вмешательство Запада. Британские лидеры
отлично понимают, что социальная катастрофа па Бал-
канах ставит под удар гегемонию Англии на Средиземном
море.
Руки немца отстучали на ручке кресла какую-то
мелодию, пока он выслушивал немыслимо-наглые заяв-
ления болгарина. Министру не мешало бы поторапли-
ваться, как и всем во дворце, но он не мог отказать
себе в удовольствии унизить фамильярной откровен-
ностью своего вчерашнего хозяина. И долго еще болгар-
ский фашист рассказывал немецкому о возможном «гре-
ческом варианте» событий — там, в Греции, англичане
уже ведут бои с партизанами, которые четыре года сопро-
тивлялись немцам; американское оружие поддерживает
монархистов; оп рассказывал о том, что румынский
192
король тоже направил в Каир секретную миссию: князя
Барбу Штирбея и Константина Вишояну. Германскому
послу пришлось все это выслушать прежде, чем болгар-
ский министр соблаговолил приблизиться к цели аудиен-
ции и заверил его в том, что, храня свою верность вели-
кой Германии, он дает дипломатическому корпусу гаран-
тии безопасной эвакуации — предоставляет поезд до
турецкой границы, полномочного чиновника и соблюде-
ние тайпы.
Посол встал и, стоя, поблагодарил.
— Все ли уедут с этим поездом? — осведомился ми-
нистр.
— Может быть, один-два второстепенных сотрудника
задержатся на несколько дней. Личные дела требуют
времени для ликвидации. Все-таки пожили у вас.
Сопровождаемый начальником протокольного отдела,
посол шел по дворцовым анфиладам, когда мимо него
прокатили бочонок.
— Что за бочонок?
— Это вам подарок от царицы Иоанны. Розовое
масло.
В том душевном состоянии, в каком пребывал посол,
он понял пе сразу, что именно этот крестьянский бочо-
нок с буковой затычкой, грохочущий по навощенным
паркетам дворцовых апартаментов, убедил его в том,
что медлить нельзя.
И с этой минуты планомерная эвакуация из Софии
гитлеровских дипломатов превратилась в паническое
бегство.
Не прошло и часу — стража, охранявшая посольские
ворота, увидела, как сам посол Германской империи бе-
жит, спотыкаясь, к автомобилю. За ним два рослых
эсэсовца катили по асфальту бочонок.
7
На рассвете следующего дня, невдалеке от турецкой
границы, был задержан на полустанке поезд из пяти
игрушечных вагонов, какие курсируют только на при-
городных линиях.
Подпоручик Атанас Георгиев еще ночью арестовал
путевого начальника. Два стрелочника забросали колею
шпалами. Несколько поодаль старый виноградарь Иван
Севлиев с детьми ночью, при звездах, разобрал ограду
7 И. Атаров, т. 1
193
своего поля и завалил путь камнями. Тридцать солдат
пограничной заставы, ^сооруженных немецкими автома-
тами, наскоро отрыли на путях одиночные окопы.
Железнодорожники установили связь по телефонному
селектору с Софией, и всю ночь подпоручик оставался
с двумя путейцами в дежурной каморке у аппарата.
Поезд прошел беспрепятственно до самого завала. Но
тут началась перепалка. Двое (впоследствии оказалось:
помощник военного атташе фон Гюльзеи и итальянский
майор Грациа) открыли с паровозного тендера стрельбу
из автоматов.
Болгары дали залп по окнам. Автоматные очереди
и звон стекол смешались с немецкой, итальянской, вен-
герской бранью и ни с чем не схожими японскими про-
клятиями.
Затем стрельба прекратилась.
Знойный полдень застал всех на своих местах. Труп
советника посольства лежал на рельсах у вагона. Мир-
ный паровозик, попавший в переделку, пускал пары
в тени старой сливы всего лишь в десяти шагах от сема-
фора, увитого до самого верха виноградной лозой.
Дожидаясь у селектора распоряжений главного штаба
Народно-освободительной армии, подпоручик Атанас
Георгиев почувствовал знакомые признаки малярийного
озноба. Он распахнул дверь диспетчерской, чтобы в де-
журку дохнуло зноем. Так и стоял в открытой двери этот
хмурый человек с лимонно-смуглым лицом, поглядывая
на ненавистную ему публику из той вражеской своры,
которая объела все виноградники, отряхнула все вишни
и яблони его маленькой родины и заставила молодых
женщин уйти в погреба, подальше от дневного света.
Никогда раньше подпоручик Георгиев не видел пар-
тизан, но сейчас без страха ждал их возможного появле-
ния. Он не любил германофильски настроенных чинов-
ников и маленьких политиков глухой провинции. В сущ-
ности, подпоручик был не военным, а сельским человеком.
Его сослуживцы по армии отдавали своих детей: одни —
в немецкие, другие — во французские колледжи. Атанас
любил Россию. Любить Россию с детства учили его
книжки Вазова, Каравеллова, Ботева, и память о дяде
коммунисте, эмигрировавшем после восстания 1923 года
в далекую Аргентину, и та ополченская медаль, которую
в детстве видел Атанас на груди деда, участника русско-
турецкой войны. Когда-то мать рассказала Атанасу исто-
194
рию о том, как в ту освободительную войну умер
в Казанлыке русский офицер; его похоронили в новом
мундире, а в старом бабка нашла в кармане ореховую
шкатулку и в ней кусочек дерева — от «креста господня».
И эта шкатулка русского офицера, погибшего от ран на
болгарской земле, хранилась в крестьянской семье как
святыня и тоже связывала душу Атапаса с Россией. Так
всегда было: враги Болгарии — враги России. И под-
поручик Георгиев, хмурясь от малярийного озноба, спо-
койно ждал у дверей диспетчерской. Он ждал друзей
родины: болгарских партизан, русских солдат, ждал
теперь и дядю из Аргентины, хотя черты его доброго
лица давно стерлись в памяти Атапаса.
К полудню дипломаты осмелели: они выползли на
перрон. Костлявый немец зонтиком загонял в купе своих
отпрысков, выскочивших из вагона поиграть в серсо.
Два итальянца в одинаковых спортивных костюмах
убеждали румынскую секретаршу в лиловой пижаме
пешком идти в Турцию. Финский атташе, тоже показав-
шийся на площадке, злобно плевался виноградными
косточками. Общее внимание привлек глава дипломати-
ческого корпуса. С белым платком в правой руке и тро-
стью в левой оп медленно приближался к Атанасу
Георгиеву.
Подпоручик выслушал гитлеровца, облокотись о двер-
ной косяк.
— Я категорически требую немедленного пропуска
через границу... — в повышенном тоне настаивал посол.
— Не будет.
— Я протестую. Я — персона грата.
— Говорите по-болгарски.
— Я требую телефонной связи.
— С кем вы хотите говорить?
— С генерал-лейтенантом Миховым.
— Еще с кем?
— С князем Кириллом.
—- Еще?
— С царицей Иоанной!
— Я могу вас связать с путевым обходчиком Радко
Данчевым. Он сидит у аппарата в Софии, — хмуро ска-
зал подпоручик.
Посол вращал глазами, мешал болгарские слова
с немецкими и тыкал тростью с серебряным набал-
дашником в сторону зеленых холмов. Они темнели
7*
195
в знойной дымке над бархатно-мшистой черепицей бол-
гарского села. Эти холмы находились по ту сторону гра-
ницы, в, Турции.
Толпа путевых рабочих и крестьян-виноградарей под-
ходила с красными полотнищами к перрону. Впереди,
со знаменем в руках, шел уважаемый учитель Никола
Цвятков, вчера освобожденный из темницы. Рядом —
его товарищ по камере Радко Чолаков, седой старик, не
снявший тюремного халата. Он шел и потрясал бледным
кулаком.
Посол направился к вагону. Трость выпала из его
руки, он поднял и побежал.
В толпе раздались голоса:
— Кровь за кровь! Смерть фашистам! Пусть ответят
за все!
Подпоручик Георгиев хмурился, но не от какой-либо
внешней причины, а от малярийного озноба, который
морозно окатывал его в знойный полдень. День же был
необыкновенный, единственный в жизни. По селектору
софийские товарищи сообщили, что советские танки фор-
сировали Дунай и приближаются к Варне. В столице на-
селение — на улицах. Девятое сентября будет великим
днем Болгарии. Какой-то неизвестный друг передал по
селектору слух, разнесшийся по столице: Георгий Димит-
ров в Болгарии. Этим героическим человеком гордилась
страна. «Что делать с господами хорошими? — размыш-
лял подпоручик. — Ясно, что они готовят вылазку, чтобы
пробиться в Турцию, и ночью все может случиться».
Через несколько минут полустанок опустел.
Отобрав пятерых самых отчаянных пограничников,
Атанас Георгиев ворвался с ними в вагон.
— Руки вверх!
Подпоручик решительно вступил в коридор, раскален-
ный в послеобеденный час. Он заглянул в купе, дверь
которого прихлопнул за собой посол. Стоя спиной
к двери, жена посла что-то прикрывала под столиком.
Подпоручик отстранил немку и увидел бочонок.
— Что это?
Приторный запах, напомнивший благоухание цвету-
щих роз, показался знакомым болгарину. Посол Герма-
нии плыл перед воспаленным взглядом Атанаса Геор-
гиева в облачке тонкого розового запаха.
— Откуда бочонок? — задохнувшись, спросил подпо-
ручик.
1G6
•— Вы забываетесь, офицер! Это подарок царицы!
Атанас Георгиев родился и вырос в Казаплыкской
долине — в долине розовых .плантаций. С матерые и се-
страми он каждое лето собирал лепестки с маленьких
тернистых кустов. Однажды отец повел его в Казаплык,
па фабрику, где в тесных каморах старых цехов выдав-
ливался из розовых лепестков, капля за каплей, до-
рогой экстракт — тот, что примешивается к лучшим па-
рижским духам... Это был трудовой пот крестьянской
семьи, только тут он благоухал. В родительской спаленке,
за образами, хранился флакончик с урожаем — все до-
стояние отца. Каждая ложечка розового масла стоила
половину офицерского жалованья подпоручика.
— Подарок царицы? — раздельно произнес Атанас
и вдруг разразился безобразным турецким ругательством.
— Розовое масло?.. — Он взял немца обеими руками
за крахмальный пластрон рубашки и потряс, как тряс
однажды па казанлыкском базаре вора, укравшего
у вдовы Марийки корзину слив. Затем, набравшись тер-
пения, подпоручик Георгиев подождал, пока посол тря-
сущимися руками привел себя в порядок, и приказал
солдатам начать изъятие документов.
— Всю бумагу... Всю! До листка...
Через час Атапас Георгиев с сухим пылающим ли-
цом, шатаясь от жара, прошел по путям на виду у всех
пяти вагонов. Следом за подпоручиком солдаты провезли
па тачке посольскую переписку.
Солнце садилось за зелеными холмами.
Остаток вечера подпоручик провел в селе, в своей
квартире, выложив пистолет на стол. Восемнадцать
посольских баулов, аккуратно сложенных у степы, зани-
мали чуть ли не полкомнаты. Хозяйка дома, старая
Костадинка, напоила больного крепким чаем. Его трясло.
Изредка с полустанка приходили солдаты, железно-
дорожники, а то и крестьяне — доложить о происходя-
щем. Тревога сквозила в словах связных: поезд как
будто вымер.
Наступала темная южная ночь.
8
Как раз в это время полковник Ватагин и майор
Котелков были вызваны в один из домиков на окраине
придунайского румынского городка. Здесь, в надежно
197
оцепленных переулках, со вчерашнего утра разместилось
разведуправление фронта со всемп его отделами и от-
делениями, радиоузлом, шифровальным бюро, гаражом
и другими вспомогательными службами. Когда они ти-
хонько вошли, докладывал у карты начальник ветери-
нарного управления Амвросиев. Это было так неожидан-
но, что, усаживаясь в дальнем уголку, они даже перегля-
нулись.
Сухощавый и бледный генерал Амвросиев показывал
прутиком на карте, повешенной на стене, очаги распро-
странения сапа, с которым встретились на путях насту-
пления конные обозы. Сорок лошадей пало в течение
последних двух дней. Все признаки злокачественного за-
болевания: язвы на губах, истечения из носа, короткое
сопящее дыхание... А в изоляторах фронта находится еще
более двухсот лошадей, положительно отреагировавших
на маллеиповую прививку.
По тому, как шел обмен мнений, полковник Ватагин
понял, что командование встревожено. Как бы ни была
механизирована боевая техника армий, обозы есть обозы.
На войне нет мелочей, все взаимодействует. В условиях
массового передвижения обозов и большой скученности
конного парка, особенно на переправах, любая эпизоотия
угрожала замедлить темпы преследования разгромлен-
ного противника.
Начальник ветеринарного управления заметно струх-
нул и, кажется, о чем-то важном недоговаривал, видно,
не решался. Главный ветеринарный врач, полковник
Джанкой, бравый старик с жесткой, как скребница, щет-
кой рыжей шевелюры, когда ему дали слово, высказался
определеннее:
— Подозреваем диверсию противника!
С этой минуты Ватагин и Котелков поняли, что они
не зря вызваны. Все возможно. Войска недавно прошли
Украину, где гитлеровцы, отступая, сумели оставить за
собой повальную чуму домашней птицы.
— А вы как думаете? — спросил начальник развед-
управления Амвросиева.
И на такой прямой вопрос тот ответил уклончиво:
— Все может быть. И все-таки даже в учебниках
сказано: именно на Балканах, да еще в Турции, всегда
наблюдается сильное распространение сапа лошадей.
Что ж удивительного...
198
— Однако там же можно прочитать, что па Балканах
господствует скрытая, хроническая форма заболевания, —
энергично возразил полковник Джанкой. — А мы наблю-
даем острейшие формы, как будто в кормушки подсыпа-
ны целые пригоршни сапных палочек!
— Что ж, большая скученность поголовья... — пе
очень убежденно твердил свое генерал Амвросиев и снова
успокоительно цитировал справочники: — В тысяча де-
вятьсот двадцать шестом году, например, в одной Болга-
рии было зарегистрировано четыре тысячи двести четыр-
надцать сапных лошадей. Однако никто не подозревал
диверсию...
— Вы наших чекистов не разоружайте, — устало вме-
шался начальник разведуправления. — Если верпа кава-
лерийская поговорка, что «человек делает коня», то чело-
век и сап может сделать. Не так ли? Полковник Ватагин
уже, наверно, кое-что намотал па ус.
И все заулыбались, поглядывая на сидевшего в углу
с виду неторопливого, мешковатого, задумчивого полков-
ника.
Второй вопрос, обсуждавшийся в эту ночь, касался
непосредственно Ватагина и Котелкова, и, когда ветери-
нарное начальство покинуло комнату, им кратко объяс-
нили суть дела. Друзья из Болгарии только что сообщили
по радио, что фашистские дипломаты уже бежали из
Софии в специальном поезде в направлении турецкой гра-
ницы и там, на полустанке, задержаны крестьянами и
пограничниками. Активно действует некто Атанас Геор-
гиев, подпоручик. Он уже разоружил фашистов, солдаты
перетащили к нему на квартиру все посольские архивы и
канцелярию, он просит помощи. Дело ясное: нужно от-
править десант. Болгары обещают приготовить посадоч-
ную площадку.
— Это надо сделать. И чем быстрей, тем лучше, —
подвел черту генерал. — Значит, решено?
И разговор снова перешел на дела ветеринарные.
Ватагин не участвовал в спорах. Вдруг в памяти его
возникла немецкая позывная: «Фюнф хуфайзен фон ай-
ном пферде». Так неожиданно вспомнилась в разговоре
о сапе эта загадочная фраза о пяти подковах с одного
коня, что полковник тут же зашептал об этом на ухо
Котелкову.
Тот выслушал и улыбнулся.
199
— Ждите! Так они и раскроют вам в условной позыв-
ной суть диверсии. Дети, что ли?
— Да, это верно. Однако забавное совпадение.
В ожидании полковника Шустов во дворе болтал под
стук движка с генеральским адъютантом. Оба понимали,
что их начальники, наверно, обсуждают серьезное зада-
ние, но об этом не принято было говорить.
— Что-то твой похудел, — заметил генеральский
адъютант о Ватагине.
— Езды много. А «виллис» кого не растрясет, —«
уклончиво сказал Шустов.
Не хотелось признаться, что только вчера он вернулся
к полковнику. Он и сам обратил внимание на то, как тот
осунулся в дни наступления. Со слов Ватагина он знал,
сколько было у него работы. За Днестром к нему привели
многих «старых знакомых». Их след тянулся от Пяти-
горска, от Павлограда, от Николаева. Полковник допра-
шивал ночью и днем где придется: в погребах, в тени тан-
ков, в густой кукурузе. Шустов выслушал все это с за-
вистью — вот каких впечатлений оп лишился, пока возил
фургон с унылым Бабиным. Сейчас в разговоре с гене-
ральским адъютантом не хотелось бередить свою обиду.
— Писем давно нету, — заметил собеседник.
— Полевая почта отстала.
И они окончательно умолкли, задумавшись каждый
о своем под ночной стук движка.
Ватагин подошел к машине внезапно. Срочно послал
Шустова с майором Котелковым в батальон.
— Знаешь, где искать? На обратном пути прихватите
Бабина. И — сюда!
Мишу Бабина пришлось расталкивать: он спал, как
сурок. Шустов мчал машину по сонному городку. Котел-
ков сидел рядом. Бабин терпеливо мотался на заднем
сидении.
— Что бы все это значило, товарищ гвардии май-
ор? — спросил Шустов, как обычно, с подходцем.
— Что-нибудь да значит, — бодро ответил Котел-
ков. — Мы здесь — не просо воробьям давать.
Шустов вспыхнул, но промолчал. Когда же наконец
майор научится с ним разговаривать по-человечески!
Впрочем, он со всеми такой — плохо воспитанный чело-
век, держится высокомерно, командует. Смелый до черти-
200
ков, это точно, а действует нахально. Полковник верно
однажды о нем отозвался: «Высади его с десантом хоть
па лупе, он только гаркнет на хлопцев: «Мы здесь— не
просо воробьям давать! За мной!» Никакого интереса
к обстановке. Политически незрелый товарищ... И хоть бы
раз майор Котелков взял с собой в операцию Славку
Шустова. Этого не было никогда.
— Товарищ майор... — просительным тоном снова на-
чал Шустов.
Котелков грубо хмыкнул.
— Слушайте, Шустов, ведите машину и помалкивайте.
И не просите — не будет. Еще молоко на губах не об-
сохло.
— Вам так кажется, товарищ майор? — вежливо пере-
спросил Шустов и сильно встряхнул машину на повороте.
В эту минуту он ненавидел Котелкова.
Не прошло часу, и Славке Шустову все стало ясно:
Котелков возглавляет опергруппу, воздушный десант в
глубоком тылу противника. Летят на двух Ли-2, даже без
прикрытия: ради полной конспирации. Головным идет
вызванный из ВВС летчик Колдунов — бесстрашный
«Колдун», сделавший двести ночных полетов в осажден-
ный Севастополь. С Котелковым — тридцать ребят с ав-
томатами, два отряда. Во главе второго — капитан Ца-
голов.
За час Шустов трижды побывал па аэродроме: то под-
возил Ватагина и Котелкова, то Мишу Бабина с радио-
передатчиком. Миша тоже летит. Полковник настоял па
отправке Бабина: может быть, захватим ту, софийскую,
радиостанцию, тогда радист пригодится — устроить ло-
вушку. Бабин кивал головой, соглашался, но ясно было,
что все это ему не очень по душе: в такой операции раз
плюнуть старшинские лычки заработать.
Давно не чувствовал себя Шустов таким униженным.
Ненавистный Котелков забыл о нем. Гордость запрещала
Славе попросить полковника. И он сидел в машине, на-
хохлившись, мрачно поглядывая по сторонам. Обидно
было, что Миша Бабин летит, а оп, Шустов, только возит.
Все же, поборов недоброе чувство, Шустов догнал
Мишу у самолета. Вспомнил: летит, чудак, без свитера.
А в воздухе будет холодно, лейтенанты — вон как одеты.
— Где он у тебя? В чемодане? Я враз за ним смо-
таюсь. Замерзнешь!
— Спасибо, Слава. Не надо.
201
Все распри забыты, и Бабин это ценит. Славка — на-
стоящий товарищ, и жаль, что его не берут. Бабин ведь
слышал, как Шустов просил майора Котелкова взять его
с собой в десант, хотя бы на помощь радисту: аппарат
таскать. Котелков отрывисто рассмеялся: «Бодливой ко-
рове бог рог не дает». И успокоил: «Вы полковнику пона-
добитесь, тут не заскучаешь».
Лейтенанты поспешно докуривали, прежде чем войти
в самолет. Шустов с завистью наблюдал, как Ватагин по-
жимает руки Котелкову, Цаголову. А «Колдуну» сказал
что-то, чего Слава не расслышал.
Десантники с автоматами взбегали по лесенке.
Шустов постеснялся поцеловать Бабина, только сунул
ему зачем-то кожаные перчатки и финку с янтарной ру-
коятью. Миша был бледен, может быть, из-за ночного
холодка.
Две тяжелые птицы, нехотя поворачиваясь, нагоняя
ветер, пошли вперевалку набирать скорость по выгорев-
шей траве, потом оторвались от взлетного поля и взяли
курс на юг.
Ватагин и Славка молча возвращались с аэродрома.
Лишь у квартиры полковника, когда младший лейтенант
остановил машину, Ватагин посмотрел, улыбнулся:
— Ты на судьбу не жалуйся, Слава. Иди спать, от-
дыхай.
Откуда он догадался о том разговоре, который был
у Шустова с Котелковым?
9
Поздно ночью над болгарским селом раздался тяже-
лый гул моторов. Было ясно, что летит самолет. Но чей?
Если американский, то будет бомбить. А что, если немец-
кий, на выручку своим? Тогда сражаться насмерть! Во
всех дворах взахлеб надрывались собаки. По кирпичным
ступеням в погреба бежали женщины и дети.
Два самолета делали круги над селом и вдруг довер-
чиво засветили бортовыми окнами.
— Русские летят! Ай да руснаки!
Сотни болгар, обгоняя друг друга, устремились на ши-
рокий луг. Самолет шел на посадку по свету костров,
наскоро разложенных пастухами. Тяжко подпрыгнув, он
наконец остановился. В свете костров было видно, как
202
выскочил офицер, за ним посыпались другие, — много
их, и у всех в руках автоматы.
— Отставить оружие! — скомандовал советский офи-
цер не то болгарам, бежавшим прямо на него, не то своим
парням, стоявшим сзади. — Здравствуйте, братья болгары!
Прошло не менее пяти минут, пока десант пробивался
сквозь руки, протянутые для объятий. Отовсюду раздава-
лись по-славянски щедрые возгласы:
— Добре дошли, братушки!
— Да живее Москва!
В толпе слышался злой голос майора:
— Колдунов, береги самолет! Черт... Изломают в
щепу!
Миша Бабин видел из двери самолета, как отбивался
от крестьян майор Котелков. Каждая минута, сбережен-
ная для броска, решала успех операции.
— Цепью! Вперед!
Котелков обернулся:
— Радист, за мною!
Рядом с Котелковым бежал учитель Никола Цвятков.
— Вы не тревожьтесь, господин офицер.
Но Котелков не удостоил его вниманием.
Навстречу от полустанка бежали пограничники.
— Где начальник заставы? — крикнул издали Котел-
ков.
— Он отдыхает, господин офицер.
— Отдыхать в могиле будем — понятно?
— Его трясет малярия, господин офицер. Да здрав-
ствует Отечественный фронт!
— Меньше слов, больше дела... — огрызнулся майор.
Котелков знал главное: все решает внезапность. Еще
в воздухе он решил немедленно отстранить болгар. Те-
перь пограничники с их офицерами показались ему со-
всем не внушающими доверия. Проще — без них! Пусть
Цаголов выбросит засаду в сторону турецкой границы.
Ворваться в вагоны — порядочек!
По одному перебегали автоматчики железнодорожное
полотно, накапливаясь на полустанке. Из окопа высунул-
ся болгарский подофицер Славчев.
— Где же ваш подпоручик? — с досадой спросил Ко-
телков.
— Тяжко болен. Малярия.
— Ну, и мы тут — не просо воробьям давать, — про-
бормотал Котелков сквозь зубы,
203
Болгарин ничего не понял, он радовался, что рядом
с пим стоят русские и, значит, враги не уйдут. Подофи-
цер опасался только, как бы русские сгоряча не подумали
про Атанаса Георгиева, что он фашист.
— А где бумаги посольства? — спросил Котелков.
— Дома у Георгиева. Все в порядке, товарищ!
— По вагонам! — крикнул Котелков.
Несколько секунд на полустанке мелькали тени. Это
десантники вскакивали на площадки вагонов. Два-три
выстрела. Немецкая возбужденная речь. Чей-то крик...
Бабин вслед за одним из автоматчиков тоже вскочил
в ближайший вагон — он должен найти радиостанцию.
Как ни возбужден был Бабин, он удивился тому, что
увидел в свете «летучей мыши»: германский дипломат
стоял перед майором Котелковым навытяжку. Он так не-
лепо тянулся перед майором, что напомнил Бабину од-
ного пленного обозника, которого шоферы его автобата
вытащили из засыпанного снегом стога в донской ста-
нице. Однако времени терять нельзя. Миша просунулся
между майором и фашистом и смело пошел по всем купе.
И немецкие офицеры поднимали при его появлении руки.
Где же радиостанция?..
— Взять вагоны под наблюдение! — командовал Ко-
телков. —- И чтобы мышь не проскочила! А ну-ка, бра-
тушки, ведите к вашему подпоручику.
Освещая фонариками дорогу, Котелков с группой лей-
тенантов бежал по селу. Учитель задохнулся, отстал. Его
сменил подофицер Славчев. Переулок был похож на ка-
менную щель. Впереди за домами старобалкаиской за-
стройки слышался ропот горного ручья. Здесь пахло ко-
жевенными мастерскими, кислым запахом дубления.
Подпоручик Георгиев жил в последнем доме, над рекой.
Дверь была открыта настежь.
Котелков вошел первым.
— Кто тут живой? — спросил из-за его плеча авто-
матчик.
Прислушались — тишина. Только за окном шумел
поток. Прошли еще две комнаты.
— Господин подпоручик, вы спите? — спросил Слав-
чев, заглядывая в горницу.
Котелков и автоматчики вошли вслед за ним.
Звездный свет ночи едва проникал сквозь решетку
полуоткрытого окна. В горнице пахло странной смесью
кожи и пороховой гари. Котелков, широко расставив ноги,
204
вглядывался в полумрак. Подпоручик лежал на трост-
никовой кушетке. Ужасно длинными казались вытянутые
ноги в тяжелых болгарских сапогах. Лицо глядело в по-
толок. Что-то темное, как будто курчавое, напоминающее
каракулевую шкурку, облегало его шею и плечи.
— Порядочек, — сказал Котелков.
Он подошел вплотную. Теперь он видел, что это за
каракуль: широкая резаная рапа в загустевшей кровавой
корке. От шагов Котелкова узкая плетеная кушетка
поскрипывала под трупом.
— Понятно.
Горница опустела. В доме слышались шаги солдат, их
голоса, Славчев звал хозяйку:
— Костадинка! Где ты, Костадинка?
Котелков посветил фонариком. Вдоль стены валялись
разбросанные баулы дипломатического архива. Судя по
беспорядку, кто-то второпях рылся в них.
На коврике под правой рукой Георгиева — револьвер.
Майор поднял, понюхал — подпоручик стрелял. Кровавые
следы шли к двери. Котелков внимательно оглядывал гор-
ницу. Домотканое одеяло лежало брошенное на пол в
ногах подпоручика. На гвозде висела фуражка с бело-зе-
леной кокардой. На столе — стакан с недопитым чаем, об-
латки, наверно, хина, косточки сливы на блюдце. На
отсыревших стенах — церковная картина с видом Иеруса-
лима и тусклый портрет усатого и завитого мужчины
времен Оттоманского владычества.
Что же случилось здесь полчаса назад?
Болгарский солдат шепотом позвал майора.
— Кто был в доме? — спросил Котелков.
— Старуха. Больше никого. Она спятила, что-то бор-
мочет.
Вслед за солдатом майор сошел по крутой лестнице в
кухню. Горный поток шумел под открытым окном, возле
которого на низенькой скамеечке сидела старуха в черной
шали. Она не замечала толпившихся в кухне солдат.
— Вот так гости, — оцепенело твердила опа. — Вот
так гости...
— Что говорит? — спросил у болгар Котелков.
— Бессмыслица, — ответил Славчев. —- Не разбору,
при чем тут...
— Вот так гости, — внятно твердила старуха, гортанно
и резко звучал ее голос. В свете фонарика Котелков уви-
дел, как подагрической рукой опа поправила седую прядь.
205
— Послушай, мама, — тронул ее за плечо Котел-
ков. — Ты не бойся, рассказывай. Мы — русские.
Старуха обратила на него застывший взгляд.
— Вот так гости. Они искали подковы. Я слышала:
«Пять подков! Бързо, бързо... быстро!» Потом стали дви-
гать стульями, как будто подметали пол. Потом — выст-
рел... Они пробежали по лестнице. Один, за ним другой...
Вот так гости.
— Ты их узнала, мама? — допытывался Котелков. —
Это были болгары или...
Но, видимо, ужас мешал ей ответить членораздельно.
— Вот так гости, — бормотала старуха.
10
Нет ничего прелестнее болгарских городков па рас-
свете, когда вчерашняя пыль улеглась, и горы чисты над
крышами, а в палисадниках благоухают розы и качают
своими пушистыми головками астры, и даже конское
ржание просыпающихся солдатских обозов не нарушает
этой простодушной прелести.
Едва светало, когда Шустов растолкал во дворе шо-
фера спецмашины и поднял полковника Ватагина. Они
выехали еще до того, как на дорогу вытянулись колонны
грузовых машин, минометные батареи и конные обозы.
С радиостанцией полковник теперь, в Болгарии, не
разлучался. И младший лейтенант Шустов рядом, в ма-
шине— с ним веселее. Удивительный человек этот Славка:
и отважный воин, и в то же время легкомысленный
мальчишка. На Миусе он спас бетонный мост: влетел на
мотоцикле под огнем противника, когда до взрыва оста-
валось секунд двадцать, и затоптал бикфордов шнур.
Потом спрашивали его —- он и сам не знал, как это слу-
чилось. Но числилось за ним и много смешного: однажды
он впотьмах принял тол за мыло и отдал хозяйке па
стирку кусочек взрывчатки. Офицеры дразнили его: «Ну
как, мыло не кончилось? Не смылил?» На это Славка не
обижался. Щеголь он был отчаянный, и хотя перестал но-
сить планшет и спрятал финку с янтарной рукоятью, по
перед каждым рейсом надраивал до полного блеска свои
шевровые сапоги.
Все оперативные работники от него отказывались: не-
надежен этот стажер, недисциплинирован. Ватагин гово-
206
рил им: а вы напрасно, и оставлял Шустова при себе. По
молодости лет Шустов не догадывался, что со своим шум-
ным ребячеством он просто необходим Ватагину, что тот
отдыхает в его компании и от утренних бумаг, и от бе-
сконечных телефонных переговоров, и от ночных поез-
док в Военный совет.
Шустов знал на фронтовой дороге всех шоферов, всех
регулировщиц. За «баранкой», особенно в населенных
пунктах, ему приходилось трудновато: с риском для
жизни, — своей и полковника, — он провожал взглядом
каждую мало-мальски привлекательную девчонку и, за-
метив внимание полковника, говорил ненатуральным
баском: «Предпочитаю блондинок, слегка склонных к
полноте...» Ватагин догадывался, что за внешней развяз-
ностью Шустова скрывается самая настоящая застенчи-
вость, может быть, поэтому в любовных делах его и
постигали страшные разочарования. Девушки почему-то
не ценили его, но через два-три дня Славка забывал все
огорчения: природная доверчивость и широта натуры
залечивали раны сердца. Ватагин исподтишка наблюдал
эти минуты борения самолюбия и веселости. В последний
месяц регулировщица Даша Лучинина встала со своими
флажками на Славкином пути. Надолго ли?
Ватагину не скучно было слушать бестолковые моноло-
ги Шустова — о футболе, о кинофильмах, о прочитанных
книгах. Не подсчитать, сколько раз полковник должен
был восхищаться похождениями «Капитана Сорвиголовы»
в англо-бурской войне. Это любимая книга детских лет
Славки Шустова. Ее написал Луи Буссенар. Война там не
похожа на нынешнюю, враги — великодушны, как рыца-
ри. Славка мог в любую минуту «завестись» и рассказы-
вать. И при такой детской нетребовательности к собесед-
нику оп был от природы понятлив и тактичен и, что еще
удивительнее, — наблюдателен. Вдруг вспомнит, какие
были у пленного немецкого оберста мягкие светлые волосы
с пробором на середине, а под усиками улыбка и румянец
на щеках; и как его, Славку, удивили грязные руки плен-
ного; и как неверно и резко оборвал немца майор Котел-
ков: «Мы учили немецкий язык, чтобы допрашивать, а не
разговаривать...» И тут, если полковник не прерывал
Славку, оп мог еще пятьдесят километров вспоминать
вслух, как оп сам учил немецкий язык — в трамвае, в ант-
ракте на спектакле, на стадионе; он зажимал большим
пальцем левый столбец и говорил сам с собой
207
по-немецки: «Рехт хабен — быть правым...» И как он все-
таки срезался в четверти, и учитель немецкого языка стал
его личным врагом: в ту минуту он его ненавидел до дрожи.
Спецмашина с часовыми на подножках шла по горным
дорогам тяжело и осторожно. Поездка затягивалась. То
танки перекрывали на много часов дорогу, то на перевале
дожидались попутного тягача. Повсюду на остановках
радист-распускал антенны—«усы и подусники». А чуть
вечер — искали уединенной стоянки для ночлега, чтобы
слушать всю ночь по расписанию работы.
При всех этих хлопотах Славка ухитрялся жить пол-
ной жизнью со всеми дорожными удовольствиями и огор-
чениями, ссорами и новыми знакомствами. В Варне он
купался: прыгнул в море прямо с мола. Он ел только бол-
гарскую еду, например, «зарзават» в глиняной миске. Из
фруктов предпочитал не яблоки, а мушмулу. В Добриче
накупил табаку, три арбуза и фисташек, которыми засы-
пал все сиденье. В Шумене собрался сбегать в турецкие
бани, да полковник отговорил:
— Хорош будешь после бани в такой пыли! Брось. Не
уйдут турецкие бани.
Они въезжали в городок, искали корчму — пообедать.
— Молим! — подзывал Славка официанта.
Он заказывал себе и полковнику пылающий перец,
фаршированный творогом.
Ватагин предоставлял стажеру вести переговоры и
только иногда внушал:
— Ты теперь не просто младший лейтенант Шустов.
Ты теперь — руснак! Больше выдержки.
Они обедали, а вокруг толпился народ, по-южному
пылкий, возбужденный великими событиями. Славка за-
говаривал то с девушками-партизанками, которые упра-
шивали его поменяться оружием, то с монахом: угощал
его солдатской махорочкой, а тот приглашал в гости в
свой монастырь. По улицам вели изловленных фашистов
или местных богачей фабрикантов, иных — прямо в но-
сках, как захватили на чердаке или в погребе, и народ
гневно вздыхал, вглядываясь в их ненавистные лица.
Кто-то празднично выдувал на овечьем бурдюке диковин-
ную музыку, и Славка тотчас узнавал название инстру-
мента — гайда. Он все хотел испробовать, понять, вку-
сить, и всего ему было мало.
И на дорожных перегонах было хоть и пыльно, по
весело.
208
Обозы тянулись — казалось, вся Россия в гости к болга-
рам! Роки были желты, горы великолепны. Деревья под-
стрижены. На стареньких машинах мчались новые вла-
сти — кметы, народная милиция: в Софию и обратно.
Ехали с гор партизаны на конях. Старухи восседали
у ворот с пряжей в руках. Цыганский табор отдыхал
с выпряженными конями. Странно выглядели ходжи в
белых чалмах; Славка узнал — правоверные турки, побы-
вавшие в Мекке. Детвора бежала за орудиями. Из де-
вичьих рук летели в кузова грузовиков цветы и гроздья
винограда... Вот и еще одно село осталось позади.
Сторонясь и пропуская Славку, армейские обозы за-
полняли дороги — бесконечный поток телег, бричек, фур,
пролеток, шарабанов. Все довольны: боя не слышно впер-
вые за долгие времена войны.
— Не слыхал ли, земляк, где она теперь, передовая?
— Да сказывали, в Сербии, в горах.
Благодушие на пыльных лицах. И едут, едут войско-
вые обозы. Лошади бегут ходко. Почмокивают ездовые.
Истосковались по вожжам крестьянские руки.
— Но, но, мухортый!
И пылят по Болгарии обозные меринки — соловые,
рыжие, каурые, кобылки гпедые да корноухие, с лысин-
ками на лбу, с гривами налево, направо, а то и на обе
стороны; бегут за колесами жеребята — чалые, игрене-
вые, белогубые, ржут тоненько, перестукивают копыт-
цами, радуют солдатские души. Тут и надежда на скорую
победу, на встречу с родными не отстает от сердца, как
лошонок от брички.
Теперь полковник Ватагин не пропускал пи одного
обоза: выходил из машины, заговаривал с ездовыми, ог-
лядывал лошадей. Славка с удивлением замечал вдруг
пробудившийся в Ватагине интерес к сбруе, попонам,
кормушкам. Трофейных лошадей выпрягали из подвод,
и Ватагин лично присутствовал при ветеринарном
осмотре.
Однажды провели мимо по дороге понурую лошадь.
Взъерошенная шерсть потеряла блеск, дрожь окатывала
спину и круп, из углов глаз спускались гнойные шнурки.
Ватагин чуть не на ходу выскочил из машины: да, это
сапная!
— Куда? — крикнул полковник.
209
— На скотомогильник... куда же еще.
— Там, где проходили, цыганских лошадей не было?
— Болгары говорят: это немец гадит. Вот зараза. Доб-
рый конек был.
Сели в машину с ветеринарным врачом, подвезли его,
и по дороге Славка все понял из разговора полковника
с капитаном: армейские кони заражаются сапом от мест-
ного поголовья, срочно созданы изоляторы, взяты на учет
все скотомогильники, производится проверка на маллеи-
новую реакцию (этого Славка не понял, но запомнил на
всякий случай незнакомое слово).
Когда уже высадили врача, младший лейтенант спро-
сил осторожно, как всегда, с подходцем:
— Входит в нашу сферу?
И полковник молча кивнул головой.
— Вот гады... — спустя несколько минут пропел
Славка с той душевной интонацией, которую он легко
усвоил в украинских селах у сердобольных, певучих от
душевности молодаек.
— А скоро ль наши вернутся? —- вспомнил он по
одному ему понятному ходу размышлений.
— Думаю, что уже вернулись, поджидают нас впе-
реди, в штабе, — ответил Ватагин.
И
В тот же вечер приятели встретились.
Перед ними на большом столе, за которым только что
отужинали ординарцы, были разложены фотографии. Си-
ний плюшевый альбом, испачканный мазутом, изучался
под лупой.
— Так ты считаешь, что об этой твоей находке не
нужно знать полковнику? — допрашивал с пристрастием
Славка Шустов.
— Даже и не думал об этом.
— Но, может, ты думал, откуда и как на турецкой
границе в железнодорожной канаве очутился семейный
альбом из царской России, с видами Ярославля и его со-
боров?
На такой прямой вопрос Бабин действительно не мог
ответить.
Всего три часа, как он прилетел из операции, ра-
зыскал штаб фронта, уже находившийся с войсками на
210
дорогах Болгарии, дождался Шустова — и вот опять пре-
пирательства! Теперь, под влиянием Славкиной мнитель-
ности, радисту стала казаться подозрительной его собст-
венная находка. Там, на полустанке, это даже не прихо-
дило в голову.
Все началось с того, что никакой радиостанции в поез-
де обнаружить не удалось. Может быть, она осталась на
чердаке в посольстве? Утром Бабину делать было нечего.
Болгары на дрезине повезли в столицу тело подпоручика
Георгиева. Наши десантники дали прощальный залп из
автоматов. Потом всю фашистскую компанию с ее бума-
гами погрузили на колдуновские самолеты и отправили
в штаб. Майор Котелков продиктовал Мише шифровку.
Радиопередатчик он поставил в доме, где погиб Атанас
Георгиев. Усевшись у аппарата на кухне, Миша слушал
шум горного потока за окном и скучал.
Котелков приказал ему и еще двум автоматчикам
собрать на путях и в вагонах весь бумажный сор — до
последнего клочка. Миша обрадовался занятию. Тут-то
в канаве, возле железнодорожного полотна, он и нашел
плюшевый альбом. Присев на травку, он заглянул в него,
и первое, что совершенно ошеломило его, — это Ильин-
ская церковь. Даже во сне Миша Бабин узнал бы среди
всех архитектурных ансамблей этот прекрасный памят-
ник ярославского зодчества семнадцатого века хотя бы
потому, что мать его работала экскурсоводом в Ильин-
ской церкви, и в детстве Миша бывал там так же часто,
как у себя дома. Ярославль — его старинные церкви:
Иоанн Златоуст в Коровниках, Никола Мокрый, и мона-
стыри, крепостные башни и звонницы — родной древний
город глядел на Бабина с каждой страницы. Это был се-
мейный альбом стародавнего дворянского семейства — с
реликтами многих поколений. Наверно, какая-нибудь
эмигрантская семья завезла в Болгарию после революции
эту синюю плюшевую книгу, на толстых картонных ли-
стах которой сидели попарно архиереи и невесты, сена-
торы и бабушки в кружевных наколках, генералы, ново-
рожденные в крахмальных конвертах, гимназисты и кор-
милицы. Все это было Мише неинтересно, но Ярославль —
вот он во всей древпей красе! И Миша, сунув альбом под
мышку, решил не расставаться с ним. Потом его взяло
раздумье. Ведь Котелков приказал собрать на путях
все — до последнего клочка. Может быть, и альбом пой-
дет в дело? Сам не веря этому, он показал майору; тот
211
повертел в руках, молча возвратил. И Миша втихомолку
обрадовался, сел у своего аппарата, подложив под себя
альбом. Пусть теперь шумит горный поток за окном! —
Бабин как будто дома побывал, счастливое состояние
отпускника не покидало его. С этим он и вернулся из
десанта.
Однако Шустов увидел все совсем по-иному, по-сво-
ему. Покуда Миша уплетал воепторговские котлеты и
пил воду из сифона, Слава принялся за изучение аль-
бомных фотографий. Каждый снимок он повертел в ру-
ках, прочитал каждую надпись на обороте, рассмотрел
рекламные парижские медали, большие и малые, кото-
рыми хвастали, создавая себе репутацию, провинциаль-
ные фотосалоны. И то, чего не мог заметить, о чем даже
не задумался Бабин, — все засек и обдумал.
— Странный альбом.
— Ничего странного.
— Просто загадочный альбом. Ты не заметил, что
больше половины фотографий — не ярославских, а самые
настоящие здешние, заграничные?
— Ну и что же? Как, по-твоему, — где мы с тобой
находимся?
— Видите лп, бросается в глаза то обстоятельство, —
Шустов перешел на язвительно-вежливый тон, — что на
старинных ярославских снимках попадаются и грудные
младенцы, и девушки, и бабушки. А на здешних — толь-
ко мужчины. Притом один и тот же мужчина, снимав-
шийся в разных городах и в разных костюмах: вот он
в белом фартуке и в крагах, как у мясника, — снимок
сделан в Араде, вот он в дорожном туристском костюме
с биноклем в руках — снимок сделан в Казанлыке, вот
он в турецкой феске — снимок сделан в Бургасе, вот —
в монашеской рясе, снято в Прилепе. Странные перео-
девания!
— Слушай, Славка, а тебе не кажется странным, что
здесь все говорят по-болгарски?
Славка не удостоил вниманием эту остроту.
— Отвечай, как, по-твоему, этот альбом попал в канаву?
— Ну, может быть, кто-нибудь из дипломатов выки-
нул из вагона.
— Зачем же гитлеровцу понадобилось увозить эми-
грантский альбом с собой в Германию?
— Наверно, на память. Не знаю. А ты знаешь?
212
— Я предполагаю.
— Что именно?
— То, что сразу приходит на ум: это — шифроваль-
ная таблица. Не знаешь разве, как устанавливают циф-
ровой код по условленным книгам? Потому-то опи и вы-
бросили из вагона: очень им интересно, чтобы шифро-
вальная таблица попала в твои руки.
— Ого! Давай перейдем на шепот. — Бабин
явно иронизировал. — И ты сразу догадался? Талант,
талант.
— Я так думаю, что этот ярославский альбом будет
позагадочнее убийства вашего подпоручика. Нет, ты ска-
жи, как мог майор пройти мимо такой находки! — про-
бормотал Слава и снова углубился в исследование стран-
ной коллекции.
Прежде всего ему хотелось догадаться, кто мог быть
хозяином альбома. Вряд ли этот загадочный, разнообраз-
но костюмированный человек: во-первых, мужчины во-
обще редко заводят семейные альбомы, во-вторых, тща-
тельно сопоставляя портреты, Славка не нашел ни одного
снимка этого человека в детстве или в юности; он, ви-
димо, не был и русским — все его фотографии сделаны
на Балканах. Красивая седая женщина — великолепная,
снятая то в сафьяновых сапожках с хлыстом в руке, то
почти обнаженная, с красивыми длинными ногами, полу-
засыпанными золотистым песком, на пляже какого-то
курорта, то в Ярославле еще совсем малюткой, играющей
в мяч, то на любительском пожелтевшем снимке в ка-
зачьей форме, в папахе набекрень — на палубе парохода.
Скорее всего —это русская эмигрантка (звали ее Мари-
шей, Мариной Юрьевной, судя по подписям в посвяще-
ниях), а мужчина — ее муж или просто любовник, из
здешних, балканских. Может быть, артист, снимавшийся
в каждой своей роли?
Славка никому не признался бы в этом: он не просто
разглядывал, он группировал портреты по улыбкам, по
рисунку галстуков, даже по числу пальцев, видных на
снимке. Он запомнил названия всех городов, где делались
снимки: Силистрия, где он разговорился с русской де-
вушкой, бежавшей из Германии и вон докуда добежав-
шей; Шумен, где он ночевал в штабе народной милиции
(там его водил в корчму ужинать молоденький мили-
ционер, мечтавший поехать в Россию учиться па агро-
нома в Тимирязевской академии).
213
Понемногу воспоминания последних дней, мысли о
Даше Лучининой, дорожные впечатления одолели Слав-
ку, и он заснул над альбомом, уронив па него руки и
голову,
12
На веранде стояли две плетеные качалки и круглый
стол. Вдали синели Западные Балканы.
Майор Котелков уже сдал отчет о десантной опера-
ции, и теперь полковник Ватагин беседовал с ним про-
сто так, вперевалочку, уточняя подробности. Прежде
всего хотелось понять, как работали летчики, потому что
майор в своем, несколько нескромном, отчете забыл об
этой стороне дела. Между тем выяснялось, что летчики
работали отлично с той самой минуты, как взлетели в
Чернаводах и взяли курс над Болгарией на юго-юго-за-
пад. Колдунов уточнился при подходе и вывел машины
на полустанок. Всю ночь летчики не отходили от само-
летов, готовые ко всяким случайностям, создали что-то
вроде круговой обороны: залетели в глубокий тыл про-
тивника, опередив на три суточных перехода подвижные
наземные части.
— Видите, как интересно! Награждать надо ребят,
а вы об этом — ни слова, — мягко укорил Ватагин.
Котелков поглаживал бритую голову, и непонятно
было по его хмурому взгляду — согласен ли он с тем, что
надо наградить летчиков. Все-таки он припоминал те-
перь некоторые живые черточки операции:
— Утром доставил я летчикам их новых пассажи-
ров, дипломаты зубами скрипят, а «Колдун» закурил
трубку. «Покажите, говорит, мне этих чудиков...» —-
Майор рассказывал веселые подробности, но без улыб-
ки.— А у меня своя забота: этих чудиков накормить
надо! Болгары везут со всех сел продукты, думают — для
нас. «Везите еще», — говорю им.
— Вы бы им сказали: надо и пленных кормить, —
заметил Ватагин.
— Стыдно: денег болгарских нету и на огурец!
— Что ж вы думаете — сколько лет они терпели от
фашистов, в последний раз не накормили бы? Денег
нет... — Ватагин покачал головой. — И почему вы болгар-
ских пограничников отстранили от операции?
214
Наконец договорились до дела. Котелков отлично по-
нимал, что Ватагин весь разговор завел из-за одного
этого пункта: почему обидели болгар на полустанке?
— Знаете, товарищ полковник, в таком деле лучше
па себя положиться. Доверять никому не следует.
— Вот в этом-то ваше обычное заблуждение.
Не первый это был разговор между Ватагиным п Ко-
телковым, и оба знали, что скажут друг другу. На этот
раз Ватагин был, видимо, недоволен пренебрежительным
отношением майора к болгарам, а Котелков втайне тор-
жествовал: что бы там пи было, а посольская банда за-
приходована со всеми восемнадцатью баулами перепис-
ки. Крыть нечем, товарищ начальник.
— Вы, товарищ полковник, все болгар на первый
план выдвигаете, а, между прочим, подвели они своего
подпоручика, пропустили из поезда к нему... Этот Слав-
чев вообще подозрительный тип.
— Вы уверены, что убийцы — из поезда? — Ватагин
вынул из ящика стола две бумажки, болгарский текст
и его русский перевод. — Вот, тот же Славчев, напри-
мер, довел до сведения штаба Народно-освободительной
армии, что им обнаружены копные следы двух всадни-
ков на проселке. А что, если они из Софии?..
Майор догадывался, что полковник не будет сегодня
говорить о главном, что составляло все содержание от-
чета, — о захвате германского посла. Ватагин отвлекал-
ся, подробно расспрашивал, например, о стычке Ата-
наса Георгиева с послом из-за бочонка с розовым
маслом. А стоит ли об этом разговаривать! Котелков про-
цедил сквозь зубы что-то об отсутствии выдержки у бол-
гарина. Полковник поправил складки гимнастерки под
ремнем, коротко возразил:
— Болгары любят свою родину, Котелков. И нечего
ставить им это в вину.
Они говорили вполголоса. За дверью стопала хозяй-
кина дочь, неделю назад бежавшая сюда из Софии.
У нее подагра, обострившаяся после трех месяцев ноче-
вок в сырых бомбоубежищах во время массовых американ-
ских налетов на город. Полковник раздобыл ей атофан,
боли усилились — врач говорит: хороший признак.
— Вы что хмурый? Не выспались? — спросил Вата-
гин.
— Нет, ничего, — ответил Котелков. — Квартирьер,
черт, с Цаголовым поселил. Разве с ним уснешь?
215
Ватагин изобразил на лице сочувствие. Кому не изве-
стно, что самый разговорчивый собеседник — это Сослан
Цаголов, веселый красавец, по-кавказски поджарый,
смуглый, с насмешливо играющими желвачками на
скулах.
— Два болтуна у нас: Цаголов и Шустов, — заметил
полковник.
— И оба любят друг друга.
— Я их тоже люблю, — кратко скрепил Ватагин. —
О чем у Цаголова теперь разговор?
— Все о том же: тоскует по флоту, хочет рапорт пи-
сать.
— Не отпущу.
Давно не беседовали они с такими удобствами: на сто-
ле пепельница, бутылка вина, сифон с водой.
— Слушайте, кстати, — вспомнил полковник, отклады-
вая бумаги, — вы не видели еще один занятный документ,
доставленный на ваших самолетах? Плюшевый альбом с
видами Ярославля.
— Нет, не видел, — ответил Котелков и добавил с ус-
мешкой: — Я и чемоданами посольской фрау не интере-
совался. Упущение.
— А мне Шустов показал альбом.
Майор свирепо шевельнул кожей на бритой голове. Он
еще рассчитается с выскочкой, который полчаса назад
позволил себе выражать крайнюю степень удивления
по поводу того, что плюшевый альбом не возбудил инте-
реса.
Видимо, Ватагин догадался, о чем сейчас думает Ко-
телков, потому что вздохнул и примирительно заметил:
— Трудно работать в разведке, если тебе двадцать лет
и воображение играет. Я имею в виду Шустова.
Ватагин резко поднялся, непохоже на то, как лениво
сидел два часа. Качалка раскачалась за его спиной. Он
прошел в комнату и через минуту вернулся с пачкой фо-
тографий, раскинул их веером поверх бумаг на столе.
— Если не считать бабушек и внучек, дореволюцион-
ного писателя Леонида Андреева и белого генерала Кор-
нилова, то останавливает внимание вот этот мужчина...
Кем он только не был в жизни, судя по фотографиям!
И куда только его не заносило. Занятно. Я отметил па
карте. Всю Юго-Восточную Европу исколесил. От провин-
ции Марамуреш в Северной Трансильвании до Родопских
гор.
216
— Эмигрант, наверно. Трудно найти работу по специ-
альности. Артист, может быть, — небрежно ответил майор
Котелков.
— Все-таки поискать этого человека не мешает. А еще
раньше — хозяйку альбома.
— Вы знаете, чей альбом?
— Это без труда установил Шустов по дарственным
надписям на фотографиях... Ее зовут Марина Юрьевна,
Мариша.
— Ну что ж, Мариша так Мариша.
Всем своим видом Котелков показывал полковнику,
что не считает альбом темой для разговора. Надо, конечно,
проверить для порядка, может быть, просто у кого-нибудь
в посольском персонале жена — Марина Юрьевна, рус-
ская эмигрантка, из Ярославля.
Ватагин поглядел на майора.
— Ну, так что же было еще? Рассказывайте, только
не ссорясь с логикой.
И майор Котелков, с упрямством пропустив скрытую
иронию полковника, так же последовательно продолжил
свой доклад. Не без удовольствия показал он Ватагину
заключительный протокол допроса германского посла.
Полковник даже улыбнулся: больше всего Котелкова вос-
хищало то, что его превосходительство, полномочный по-
сол Гитлера, видимо, так разволновался в обществе со-
ветского майора, что нагородил пять палочек, вместо
трех, означавших заглавные буквы в его готическом рос-
черке.
— А вы знаете, товарищ полковник, — вдруг повесе-
лев, сказал Котелков, — посол поставил подпись и спра-
шивает меня: «Как вы успели сюда?» Я ему со всей лю-
безностью отвечаю: «У нас-то шаг поширше...»
И Котелков не без удовольствия рассмеялся, как будто
закашлялся.
— А-а-а, — невнятно протянул Ватагин. — Ну, ну, До-
кладывайте еще что-нибудь.
Сейчас Ватагину не было никакого дела до пережива-
ний посла, он знал, что в свой срок с этим разберутся
лучше. Но что было нужно убийцам Атанаса Георгиева?
Зачем они проникли в домик над рекой? Вот что представ-
ляло сейчас интерес. Опыт чекиста подсказывал полков-
нику, что тайна убийства болгарского офицера содержит
угрозу и для советских войск, вступающих на Балканы.
Если спросить Ватагина напрямик, о ком оп думал со
217
вчерашнего вечера, он сказал бы: не о тех, кто хотел бе-
жать в Турцию и сейчас ждет своей участи, а о тех, кто,
видимо, остался здесь и не пойман. Ему было яспо, что
в момент бегства дипломатических миссий кое-кто остал-
ся в Софии выполнять особые задания.
Оп слушал майора, перелистывая немецкий иллюстри-
рованный журнал. Котелков с обычным раздражением,
которое всегда появлялось у него в конце разговора с Ва-
тагиным, чувствовал, что начальник совсем потерял инте-
рес к его докладу. Страницы иллюстрированного журнала
Ватагин разглядывал более внимательно, чем недавно
росчерк германского посла. Он даже прервал майора:
— Смотрите-ка, серия снимков под заголовком «Мо-
гут ли звери смеяться?». Вы-то думали когда-нибудь об
этом? К зверям у них интерес! Вот забавная морда: тигр.
Великолепный снимок! Собаки... ну, эти, сам знаю, сме-
ются. А вот гиена. И действительно, хохочет! — Внезапно
оборвав себя, полковник устало заметил: — Ладно, Котел-
ков, идите отдыхайте. Я Цаголова назначу в ночное де-
журство, не будет вам мешать.
13
Младший лейтенант Шустов надолго угомонился —
первый признак охватившего его раздумья. Это случилось
после его разговора с майором Котелковым.
В горном селе объезжали площадь, запруженную на-
родом. Шел митинг. С грузовика выступали восторженные
гимназистки — мелодекламировали хором под рояль. Шу-
стов даже не взглянул. Ватагин искоса поглядел на него,
промолчал.
В другом селе Слава явился с базара мрачный, отпле-
вывался. Ватагин осведомился, в чем дело? Оказывается,
он увидел по пояс обнаженного мужчину, вращавшего
жирным животом — называется «танец живота», тьфу...
И в машине Шустов молчал, сверкая строгими голу-
быми глазами и вглядываясь в контуры впереди идущих
машин.
Все это занимало полковника. Но, хорошо зная харак-
тер стажера, он не торопился с расспросами. Еще до ве-
чера сам все скажет.
— Не доспал, что ли, Шустов?
— Да. Спать хочется.
218
— Скоро городишко будет, ты взбодрись-ка, выпей
черного кофе.
— Чашечки у них малы.
Только вчера Шустов купил темные очки, и форсил
ими, и стеснялся их — все было. Теперь он сунул очки за
целлулоидный козырек над смотровым стеклом.
Ватагин выжидал, что будет дальше? Вечерело. Славка
возился со спущенным баллоном. Полковник отдыхал в
придорожном садике па скамеечке. Сюда пыль не доле-
тала.
— Нужно поговорить, товарищ полковник, — сухо ска-
зал наконец Шустов, с решимостью подходя к нему.
— Садись. Говори. Только пе очень громко.
— Вы все молчите насчет альбома, который Бабин
нашел.
— А что же о нем говорить? Хороший альбом. В Ярос-
лавле я пе бывал, не приходилось.
— Думать следует над альбомом, товарищ полковник.
— Это всегда полезно, — согласился Ватагин. — Что,
какая-нибудь нить в руках?
— Есть две-три догадки. Конечно, рано делать заклю-
чения.
— Да, я и сам, признаться, задумался: очень занят-
ная находка, — с едва заметной иронией подхватил
полковник.—Если бы гитлеровские кресты были найдены,
или сверток с валютой, или яды в пробирках, наконец,
«Моя борьба» с автографом автора, — все бы не так зага-
дочно. Любая находка так не озадачила бы. Верно?
Шустов хладнокровно выдержал красноречивую паузу.
— Вот вы смеетесь, товарищ полковник, а я под лу-
пой изучал фотографии этого неизвестного. Только вы
серьезнее отнеситесь к тому, что я скажу. Я, между про-
чим, где-то в книжке прочитал интересную мысль, что в
детстве для нас все бывает важно: сколько спиц на коле-
сике, какие глаза у лягушки, а становимся взрослые, гор-
дые собой, уж и не сосчитаем далее, сколько пуговиц на
собственном кителе.
Полковник энергично зачесал двумя руками седые
волосы с висков на затылок. Здорово развивает стаяеер
его собственную мысль, что разведчик должен обладать
воображением ребенка! А про ссору с майором — ни слова.
— Знаешь ли, Слава, я сам пытался взвесить и долж-
ным образом расценить все наши обрывки и клочки дога^
док. Что же ты нашел под лупой?
219
Ремень с медной бляхой заскрипел на животе Вата-
гина, Шустов подозрительно взглянул на него, — кажется,
оп с трудом сдерживает себя, чтобы нс рассмеяться.
— Что я нашел в альбоме? То, что там ведь не одно
лицо, товарищ полковник.
Славка перевел дух, чтобы проследить, какое впечат-
ление произвело его открытие. Ватагин действительно
был несколько озадачен.
— Ты хочешь сказать, что сняты разные люди?
— Да, именно. Это схожие лица, а не одно. Семь раз-
пых мужчин.
— С таким поразительным сходством? Что ж, они —
близнецы, что ли?
— Не знаю. Мочки ушей разные. Морщинки на лбу
разные. И характер асимметрии лиц различный.
— Скажи пожалуйста. А на височках одинаково под-
стрижено?
— Вот вы все смеетесь, товарищ полковник, — серди-
то сказал Шустов и встал, чтобы не задерживать своими
досужими размышлениями. — Значит, все! Едем дальше!
— Значит, все, —- смеясь, согласился полковник. —
Представления о наградах переписал? Этот альбом сильно
сбил тебя в сторону от прямых обязанностей. Где ноче-
вать будем?
— В монастыре, товарищ полковник.
Что бы ни было, Шустову хотелось побывать у мона-
хов, — когда еще в жизни случится? После разговора с
гостеприимным старцем он разузнал дорогу: всего пять
километров в сторону, на горе. Крестьяне говорили, что
монахи ждут русских в гости, никто еще не заглядывал
к ПИМ.
— В монастырь, так в монастырь, — сказал Ватагин,
но тут же, прищурясь, осведомился: — Да ведь он муж-
ской, говорят?
Славка пропустил насмешку мимо ушей. Дело прежде
всего. Он был убежден, что его сообщение взято полков-
ником на учет.
14
Горная дорога в сосновом лесу серпантином вилась
над ущельем. Машина полковника Ватагина, а за ним и
спецмашина въехали на мощеную площадку, огражден-
ную с трех сторон увитыми хмелем старинными степами,
220
с четвертой стороны — отвесной скалой. Два послушника
в черных рясах молча, с удивительным проворством раз-
вели половинки ворот. Машины вошли во внутренний
двор. Монахи появлялись на открытых галереях много-
численных служб и низко кланялись. Пока Шустов во-
зился у машины, полковника Ватагина повели по гале-
реям п темным деревянным террасам. На каждом пере-
ходе, па каждой лесенке стояли и кланялись русскому
гостю, присоединялись к шествию то горбоносый отец
казначей, то отец эконом с густыми, словно орлиные
крылья, бровями, то сам отец игумен — еще не старый
мужчина с усталым лицом домовитого хозяина.
— Добро пожаловать, брат освободитель, — сказал
игумен и распахнул широкие рукава приглашающим же-
стом.
Монахи, видно, в самом деле ждали гостей: еще никто
не заезжал к ним из той армии, которая уже несколько
дней как шла внизу, по дну ущелья. И в лицах послуш-
ников, и в неподвижных позах старых монахов, и даже
в каменных плитах двора, в безмолвии колоколов и сдер-
жанном скрипе дощатых полов в галереях — во всем ска-
зывалось настоявшееся за эти дни ожидание: каков он,
русский человек, «дед Иван», и чего можно ждать от него
теперь, когда он сделался большевиком?
Советский человек отвечал на приветствие игумена.
Советский человек входил в трапезную и разводил ру-
ками, глядя на стол, щедро уставленный закусками и ви-
ном. Советский человек мыл руки над поднесенным служ-
кой тазом и улыбался, ловя опасливые и робкие взгляды
монахов.
— Ну и закуска! Нашему бы военторгу сюда загля-
нуть, — смеясь, говорил советский человек что-то непонят-
ное, но, видимо, доброжелательное.
За стол усаживались только старые монахи. Чувство-
валось, что за дверьми идет толкотня и споры: кому из
послушников подавать. Вскоре подошли и сели на остав-
ленные для них места Шустов и водитель спецма-
шины.
— Часовые? — спросил Ватагин.
— В порядке.
— Бабин?
— Не идет, хочет слушать, — тихо ответил Шустов,
разглядывая свои только что вымытые руки с несводимой
чернотой под ногтями.
221
Между тем горбатый монах с подносом в руке весело
кланялся полковнику. На подносе стоял штоф из темно-
зеленого стекла и дюжина крохотных — с наперсток —
стаканчиков. Игумен сам нарезал хлеба, сам насыпал лом-
ти в круглую чашу просторным движением обеих рук.
Затем оп поднялся и сказал по-болгарски слово:
— Вы, русские, второй раз спасаете нас, болгар. Се-
годня в благословенной богом Болгарии говорят: «Москва
пришла»... Не знаете вы, какую любовь сохраняет славя-
нин, где бы он ни жил, к России. Россия уже тем полезна
славянам, что она — есть.
Монахи степенно пригубили вина.
Радушьем светились их крестьянские лица. Они рас-
спрашивали гостей о России и улыбались простодушно и
удивленно. Служки через плечи сидящих уставляли стол
брынзой, хлебами, чашами с виноградными гроздьями.
После трех лет немецкой оккупации не только болгарские
города и села, но, видно, и монастыри постились: скот
был угнан в Германию.
— Зелен боб, — приговаривал отец эконом, наклады-
вая на тарелку полковника зеленую фасоль.
Пили по второму и по третьему разу.
— Вчера услышали снизу русскую песню, обрадова-
лись: знакомая! — сказал отец казначей.
— Знакомая?
— А вы отца игумена попросите, пусть разрешит.
Споем. Вот у нас солист! — сказал отец казначей, похло-
пав по руке горбуна.
Обносивший стол вином горбатый монах подливал пол-
ковнику виноградную водку — «мастику». Он уже дважды
успел, обойдя стол, исчезнуть с подносом. Уж не вздумал
ли оп угощать вином часовых? Полковник заметил, что
Шустов не сводит глаз с горбуна. Кивком головы он от-
правил стажера во двор — проверить, все ли в порядке.
Проходя мимо, Шустов наклонился к полковнику и впол-
голоса сказал:
— Вы не обратили внимание?
— Нет, а что?
— А монах-то... из альбома.
— Перекрестись. Здесь можно, — сквозь зубы ответил
Ватагин.
Шустов вышел, а горбун вернулся, вытирая губы. Нет,
кажется, тут не о часовых забота: он сам прикладывался
к стаканчику за дверью — боится игумена. Монахи звали
222
его Октавой. О нем рассказали полковнику с тем удоволь-
ствием, с каким простые люди за столом любят погово-
рить о пьянице. Он был, оказывается, беглый, из Маке-
донии. С ним там, в горах за Прилепом, случилась какая-
то история. Какая? Об этом монахи умалчивали, весело
ухмыляясь.
Шустов возвращался, шел за спинами монахов своей
независимой походочкой. Он даже не подошел к Вата-
гину, а со своего места послал ему по рукам конверт. Пол-
ковник, только лишь пощупав, понял: фотография. Он
молча сунул конверт в карман гимнастерки.
Между тем монахи поглядывали на игумена.
С той минуты, как отец казначей сказал, что они знают
русские песни и полковник попросил спеть, видно было:
и монахам не терпелось спеть, и горбуну — показать свой
голос. Наконец пастырь с усталым лицом, снисходя,
уступил.
Отец эконом налил горбуну стакан. Октава проглотил
сливянку при общем молчании, вытер пот с бледного лба
и прикрыл красивый рот рукавом, как бы заранее умеряя
силу звука. На мгновение, в неверном свете свечей, не-
подвижное сумрачное лицо монаха показалось полковнику
неживым, словно выточенным из темного дерева. Вата-
гин взглянул на фотографию и снова спрятал ее в кар-
ман — это заняло не более секунды. Стесняясь русских
слушателей, македонец запел старинную песню, знакомую
Ватагину еще с детства.
— Жили двенадцать разбойнико-о-ов... — пел монах, и
такое бездонное «о-о-о...» поселилось в трапезной, что пу-
стые чаши откликались, словно морские раковины.
— Господу богу помо-о-олимся... — подхватили мо-
нахи.
Пели все — казначей, игумен, эконом, а голос маке-
донца гудел пабатно. Редкая бородка почти не скрывала
резких линий лица. Горбатый нос с тонкими крыльями
ноздрей. Под мягкими усами губы были поджаты, как
бы для тонкого свиста, но колокольный звук, — казалось
полковнику, — возникал даже не в груди монаха, а будто
в горбу его, отлитом для такого случая из меди с сереб-
ром, и Ватагин почувствовал, что выпито немало. Снова
на краткий миг вынул он из кармана гимнастерки фото-
графию и, поглядев, снова сунул в карман незаметно.
Пожалуй, похож: один из семи близнецов.
223
15
После песни развязались языки. Монахи шумно бесе-
довали мел; собой, не стесняясь ни русского офицера, ни
игумена. Они делились впечатлениями от первой встречи
с советскими людьми. Один из русских спал, сморенный
дорожной усталостью, другой все входил и выходил да по-
малкивал, а самый старший, третий — он был человек
покладистый и приветливый, — говорил тоже мало, но
слушал охотно и ел не стесняясь.
— Верно ли, господин полковник, что у вас женщи-
ны в армии? — набравшись храбрости, спросил отец
эконом.
— Есть такой грех. Да ведь и ваши девочки партиза-
нили на славу?
— Ничего... — уклонился отец эконом. — Мы не судьи
мирским делам.
— А вас, в ваших кельях, женщины из долины не на-
вещают? — подмигнув, спросил полковник.
— Иных... навещают, — в тон ему лукаво ответил отец
казначей.
И все взглянули па Октаву при этих словах. Оживи-
лась мужская трапеза.
Отец эконом, размахивая рукавами, приставал к Окта-
ве, требуя, чтобы он рассказал, не таился, почему и как
он бежал из своего Прилепского монастыря. Октава
дергался всем телом, стараясь уклониться от требо-
ваний отца эконома, и горб его при этих движениях
еще резче обозначался, будто чемодан, спрятанный под
рясой.
— То нелепо, что вы просите. Вздор... — говорил Окта-
ва. — Зачем же русским такое слушать... Не будут верить.
Вздор.
— Нет, то истина.
— То вздор.
— А ну, рассказывай, — не поднимая глаз, приказал
Ватагин.
И вот что услышали полковник и Славка в тот вечер
в горном монастыре.
С детства Октава жил в Югославии за Вардаром. Там,
в синих Прилепских горах, есть старинный монастырь,
говорят, воздвигнутый еще крестоносцами во времена их
походов из Франции в Святую землю. Однажды, год назад,
монахи проснулись в тревоге — к стенам македонского
224
монастыря по малодоступной горной тропе подъехала
немецкая машина. До того только раз гитлеровцы побы-
вали в монастыре: искали партизан и скот... Октава в ту
ночь спал крепко — с утра до вечера рубил он столетние
буки на скалах и свергал их обрубленные голые стволы
по расселине вниз, па монастырские пастбища, готовил
дрова для долгой зимы. Он проснулся оттого, что холодом
потянуло из открытой двери в его келью. Он открыл глаза
и увидел... Женщина стояла перед ним. Ее нельзя опи-
сать — что-то было в ее лице такое, отчего он даже за-
жмурился. Она была седая и молодая, седая красавица...
Козни лукавого! Такое бывает только в монастырях.
Сатанинское искушение... Октава перекрестился и открыл
глаза. Она не исчезла. В руке ее, поднятой над головой,
сиял свет. Она зажгла неземной свет и ослепила Октаву.
Тогда он повергся на каменные плиты и молился.
«Встань!» — сказала она, смеясь. И он встал, и показал
ей свое лицо, как она того хотела. И она увидела его все-
го — он высок, но горбат, как аналой. Женщина недо-
вольно поморщилась. В дыме и смраде она оставила его
одного в келье.
Ватагин слушал, тоже, как Славка, разглядывая свои
ногти: они у полковника чистые, матово-розовые, скоб-
ленные перочинным ножом. Он не улыбался, только едва-
едва тронулись кверху уголки губ. Значит, все это не вы-
думано в книгах. Все существует на этой грешной пла-
нете. Вот и монах, которого искушает по ночам женская
прелесть. Только в годы гитлеровской оккупации бесов-
ское наваждение является в монастырь в «опель-олпм-
пии».
— Что же, это фашисты ее привезли к тебе? — весело
спросил Ватагин и в упор взглянул на горбуна.
Его поразили горящие глаза Октавы. Монахи безмолв-
ствовали за столом.
— Они! •— убежденно ответил Октава. — На рассвете
старец Никодим благословил меня на бегство. Немцы
строго приказали игумену, чтобы я оставался в монасты-
ре, ждал. Чего? — Октава вопрошал монахов, по никто
за столом не мог бы ему дать ответа. — Чего же? А я не
стал ждать! Старец Никодим сказал мне: «Равно ненави-
стны богу нечестивец и нечестие его. Беги, чадо!» И я
бежал по снежным перевалам Прилепа, через Вардар и
Мораву... Вот ныне здесь я — в мирном краю. «Не было
их вначале, и не вовеки они будут!»
8 Н. Атаров, т. 1 225
Видимо, сильно выпил отец эконом, если, даже не дав
монаху досказать мысль пророка Иезекииля, грубо съяз-
вил:
— Это они испытывали тебя: с горбом проползешь ли
в пещь огненную.
Полковник Ватагин внимательно слушал монахов.
Странное чувство породил в нем рассказ горбуна. За вой-
ну он навидался гитлеровских палачей, забрызганных
кровью тысяч людей. Он передавал военному трибуналу
таких, кого даже в гестаповских канцеляриях почтитель-
но называли «профессорами обезлюживания». Он лично
допрашивал в Игреки тетю Лушу, «сестру милосердия»,
которая по приказу эсэсовцев отравила двести нервно-
больных в психиатрической лечебнице, и он сам провел
ее над раскрытыми ямами. И сейчас, в этой нелепой ноч-
ной встрече в горах Болгарии, Ватагин вдруг потеплел
сердцем, слушая монаха, которого искушал сатанинский
соблазн.
Игумен стоял у растворенного окна, положив пухлые
руки на старую железную решетку, и слушал: в глубине
ущелья шли танки.
Полковник поднялся и сердечно поблагодарил мона-
хов.
— Помолимся, братья, за русское оружие, — сказал
игумен.
И все монахи разом встали из-за стола и потянулись
из трапезной по тем же галереям и террасам, по которым
два часа назад прошел полковник, во двор, к выдолблен-
ной в скале часовенке.
Ватагин и Славка проследовали в конце монашеского
шествия. Молодой месяц светил над скалой. Полковник
простился с игуменом, наотрез отказавшись от постели.
Спать будут все в машине. На заре — дальше в путь.
Шустов уже сидел в кабине. Было без слов понятно,
как он взбудоражен неожиданной встречей. Ватагин под-
сел рядом, дверку оставил открытой.
— Отдохнуть да ехать дальше... Горбун тебя не споил?
Родственные вы натуры: у того тоже воображение играет.
— Спросите его, как он попал в альбом. Заставьте
объяснить...
— И не подумаю. Вопросы задают подследственным.
А с прочими... так, шуткуют.
Из часовенки доносились могучие звуки хора, выде-
лялся голос македонца. Там молились за счастье русского
226
воинства. Песня сливалась с рокотом Янтры на дне уще-
лья, с ревом проходящих на Софию танков.
И вдруг горбун возник в открытой дверке машины. От-
куда он взялся? Он приблизил свое лицо к лицу полков-
ника и зашептал в неистовом исступлении:
— Говорю вам: она смеялась, и адская свеча горела
в ее руке!
— Магний она, что ли, зажгла? — рассмеялся пол-
ковник. — Поди ты прочь, монах, — не то шутя, не то се-
рьезно сказал полковник. — Смиряй себя молитвой и
постом.
Славка не выдержал и выскочил из машины. Он схва-
тил монаха за руку.
— Так кто ж она была?
— Наваждение. Туман.
— Постой, постой, в наш век и туман можно сфото-
графировать. — Шустов вытащил альбом из-под сиденья. —-
Узнал бы ты ее?
— Узнал бы!
— А ну, узнавай.
Монах не видел в темноте. Шустов включил фары, и
горбун, странно согнувшись в ярком их свете, стал нетер-
пеливо листать страницы альбома. Вдруг сумрачное его
лицо исказилось, как от боли. Он ткнул пальцем в один
из снимков. Славка не ошибся в догадке: то была фото-
графия хозяйки альбома, седой красавицы из Ярославля,
которой посвящены были многие надписи на обороте, —
Мариши, Марины Юрьевны.
— То не соблазн бесовский, это — она! — крикнул мо-
нах. — Кровь и убийство владеют ими! Руснаки, верьте
мне... — И горбатая тень его разом растаяла в глубине
монастырского двора.
— А ведь разведчик ты липовый, — оскорбительно
спокойно заметил Ватагин. — Г'де выдержка? Что, не
смогли бы мы его допросить в более удобной обстановке?
С этой минуты до самой Софии полковник молчал, иг-
норировал самое существование Шустова. Отношения —
строго уставные. Только на перевале, когда, сознавая
свою вину, Шустов мрачно гнал машину, а впереди за-
маячил хвост танковой колонны, Ватагин суховато напо-
мнил:
— Обгон ведет к аварии.
Больше ничего не сказал. Лицо абсолютно невырази-
тельное. Но Славка только глянул и сразу понял, что
8*
227
полковник скоро сменит гнев на милость. И всю дорогу,
сбавив газ, Шустов ехал с сияющим лицом, с тем выра-
жением избегнутой опасности, которое было так хорошо
знакомо полковнику.
16
После ночлега в горном монастыре и затем приезда в
Софию с передовыми танковыми бригадами Шустов чуть
не целую неделю не заговаривал с полковником об аль-
боме. Ватагин никуда не выходил из отведенного ему
особняка, там обедал, спал, там и работал. Офицеры раз-
местились в том же доме. Славка иногда ночевал во фли-
геле, а чаще прямо в приемной.
У ворот стояли часовые. В глубине по-столичному
асфальтированного двора была поставлена на колодках
спецмашина. Круглые сутки дежурили два «виллиса» и
«эмочка».
С той минуты, как Шустов показал монаху фотогра-
фию, Ватагин совсем пренебрег Мишиной находкой, и
альбом находился теперь у Шустова.
Облазив с народной милицией чердаки и подвалы быв-
шего германского посольства, Бабин не нашел даже следа
радиостанции, но в первую же ночь в Софии снова пере-
хватил танцевальную музыку и следом за ней странные
переговоры. Возникла версия, что какая-то радиостанция
кочует по дорогам. И совсем близко, потому что трудно
ее запеленговать. Доложили полковнику — тот промол-
чал. Верный признак, что недоволен ходом дела.
Ватагин работал днем и ночью. Дело с внезапной
вспышкой сапа оказалось заслуживающим внимания, и
даже осторожный начальник ветеринарного управления
после нескольких консультаций с болгарскими специали-
стами признал, что главный ветеринарный врач, видимо,
прав: характер распространения эпизоотии, возникнове-
ние очагов сапа именно на возможных путях следования
советских войск, наконец, исключительно острый тип за-
болеваний подсказывают наличие бактериологической ди-
версии.
В первые же дни напали и на след: берейторы и жокеп
одной конюшпп дали важные показания. Это были лич-
ные служащие графа Пальффи — помощника военного
атташе Венгрии. Сдавая болгарским властям отличных
228
венгерских лошадей линии Нониуса, они намекали на
то, что некоторые поездки их бежавшего хозяина всегда
казались им подозрительными. Кто-то видел резиновые
перчатки, которые Пальффи Джордж укладывал в чемо-
дан, отправляясь, как он говорил прислуге, «на прогулку
с дамой». Кто-то заметил, что Пальффи Джордж возвра-
щался из таких прогулок с измазанными йодной настой-
кой кончиками пальцев. Другие свидетельствовали, что
он подолгу мыл руки раствором сулемы.
Ватагин послал запрос, нет ли среди женщин в захва-
ченном дипломатическом корпусе русской эмигрантки —
Марины Юрьевны. Пришел отрицательный ответ. Тогда
он запросил, нет ли среди доставленных дипломатов гра-
фа Пальффи? Ответили, что в списках прибывших тако-
вой не значится. Полковник послал новый запрос: выяс-
нить, кто еще из дипломатического корпуса отсутствует
среди пленных? Ответ пришел ночью — четверо; были на-
званы должности и фамилии.
Управляющий делами германского посольства Пауль
Вернер застрял в Софии по болезни. И действительно,
болгары обнаружили его в одной из городских больниц,
он лежал в бреду в сыпнотифозной палате.
Молоденький лейтенант охраны Генрик Вольф застре-
лился. Труп его нашли на квартире сразу же после бег-
ства посольства, но только теперь об этом стало известно
Ватагину.
Еще один немец — Ганс Крафт, — по всей вероятности,
не представлял интереса: это был третий секретарь по-
сольства, выходец из Ваната, то есть бывший «фолькс-
дейтч», балканский провинциал, кабинетный человек, ко-
торый разумно уклонился от предложения сесть в поезд
и сейчас, наверно, пробирается по нашим тылам с фаль-
шивым паспортом в свой родной Вршац.
Итак, круг снова сомкнулся на фигуре венгерского
аристократа, сына богачей Пальффи, неизвестно ради
какой корысти обретавшегося два последних года в Со-
фии на незавидной должности помощника военного ат-
таше.
Под утро Ватагин потребовал вызова всех знавших
графа Пальффи. Можно было понять, что Котелков к делу
о конской болезни относится без всякого интереса, но
полковник, не обращая на это внимания, разговаривал
сразу по двум телефонам, и майор пошел выполнять
приказ.
229
То, что обнаружилось при последовавших допросах,
заставило встрепенуться даже Котелкова. Сторож конюш-
ни показал, что днем восьмого сентября, в самую панику,
граф и его ординарец ускакали куда-то на лучших конях,
и только ночью вернулся Пальффи Джордж на взмылен-
ном Арбакеше, а ординарец так с тех пор и не показы-
вался. А спустя час незаметно вышел в боковую калиточ-
ку сам хозяин. Только его и видели.
Один из берейторов дополнительно показал, что среди
друзей графа было двое русских: женщина легкого пове-
дения, которую звали Серебряная, и метрдотель ресто-
рана «София» Шувалов — тоже конный спортсмен и, как
поговаривали, сиятельная особа.
Навели справки в ресторане — Станислав Шувалов две
недели как уехал из Софии. Лакеи подсказывали: в Ве-
ликом Тырнове преподает в гимназии латынь его брат —
Константин Шувалов, говорят, человек хороший, честный,
с фашистами не якшавшийся.
За несколько дней Ватагин перевидал немало эмигран-
тов. Многие монархические зубры повымерли, иные до-
живали век в инвалидных домах, иные — помоложе — вме-
сте с профессией призаняли у судьбы и язык и нацио-
нальность. Лютые ненавистники большевистской России
ушли с гестаповцами. Зато среди оставшихся обнаружи-
вались и вполне лояльные люди, патриоты России.
В солнечный полдень сентября полковник беседовал с
учителем-латинистом из Тырнова Константином Шувало-
вым. Тот охотно явился в Софию по вызову, так как и сам
имел дело к русскому военному командованию: соби-
рался испрашивать советский паспорт. Болгары, знавшие
этого человека, говорили о нем только хорошее. Смолен-
ский помещик, бежавший с белой армией из России, он
ненавидел политическую возню эмигрантов и в годы не-
мецкой оккупации сблизился с болгарскими партизанами.
Рассказывали, как в самые черные дни, в ноябре
1941 года, когда Геббельс по радио оповестил весь мир
о вступлении германских танков в Москву, Константин
Шувалов ворвался вечером в тырновский ресторан «Царь
Борис», где пьянствовали эмигранты, ожидавшие скорого
возвращения в Россию в фашистских обозах.
— Не верю! — кричал Шувалов. — Будьте вы про-
кляты, непомнящие родства! Не верю!
Его, как бы пьяного, увели друзья-болгары, спасли от
комендантского патруля,
220
С этим седым рослым стариком полковник Ватагип
разговаривал доверительно. О своем брате Станиславе вы-
званный ничего интересного не сообщил — помрачнел,
отвел глаза в сторону. Ватагин спросил его, знает ли он
о нынешнем местопребывании брата, и, получив отрица-
тельный ответ, перевел тотчас беседу на другие темы.
Около двух часов продолжалась эта встреча — с водкой и
закуской. Бывший помещик объяснял, что означала для
него эмиграция: исчезновение из жизни. Но из какой
жизни?.. Тырново, чужой язык, болгарская гимназия —
это была смерть для него. А что-то с годами становилось
в этой смерти похоже и на воскресение. Воскресение ка-
ких-то неприметных радостей — оттого, что ты труже-
ник, — как чуть слышная мелодия зародившегося па во-
стоке рассвета. Так складывалась судьба Константина
Шувалова за границей. На это ушли долгие годы. Никогда
за всю жизнь, включая и бой под Касторной, и панику в
Одесском порту, Шувалов так не боролся за себя, как
в тырновской гимназии.
— Все это очень непохоже на мое представление об
эмигрантах, — произнес Ватагин и осторожно, боясь оби-
деть старика, спросил: — Частенько вспоминали о родине?
Тот ответил, подумав, лермонтовскими стихами:
— Вспоминал ли? Вспоминал. Как, спросите? Да так,
знаете ли:
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной...
— А другие? — спросил Ватагин.
— Всякие были. Самая озлобленность с годами меняла
оттенки. Сырость инвалидных домов. Злые молитвы. Ко-
лючая склока, окаянство. Молодые ушли в карательный
корпус, в Белград. Старики осточертели друг другу. Один
шаркает шлепанцами, другой его догоняет: «Вы потеряли
шпоры, ваше сиятельство!» Нельзя человеку без родины.
Те, кто поправил свои дела при немцах — какая-нибудь
Ордынцева, — можно ли не ужаснуться их участи!
— Ее звали в эмигрантских кругах Серебряной?
Я слышал о ней. Расскажите, что знаете.
— Мой братец Станислав встречал ее в дверях ресто-
рана низким поклоном. Она появлялась поздно ночью —1
стройная, в сафьяновых сапожках, с волосами действи-
тельно серебряными в электрическом свете. Ее сопрово-
231
ждали раненые офицеры... Фантастические причуды со-
ставили ей репутацию этакой героини Достоевского,
вроде Настасьи Филипповны, что ли. Она переводила
романы с венгерского. В ежедневной газете эти романы
выходили приложениями. Газетчики не знали венгерского
языка, и Ордынцева перевела четыре романа. Потом уеха-
ла в Варну, на солдатский курорт. Немцы завезли туда
несколько военных госпиталей. Нужна была реклама ку-
рорту, чтобы ехали и офицеры. Для рекламного плаката,
для обложки солдатского журнала понадобилась красави-
ца —- пусть сидит в купальном трико па золотом песке.
— Вы говорите об этом? — спросил Ватагин, вынув из
ящика стола номер журнала «Сигнал».
— Вот, вот, — подхватил Шувалов. — Этот рекламный
снимок принес Ордынцевой гонорар не меньший, чем пе-
ревод нескольких венгерских романов. Да, к сожалению,
это портрет русской женщины из родовитой семьи...
— Из Ярославской губернии, кажется?
— Вы знаете и это?
Ватагин рассмеялся:
— Генерал сказал — мне предстоит много блестящих
знакомств.
— Если вас так интересует эта женщина, вам следует
навестить ее отца, бывшего гвардейского щеголя. Он-то,
наверно, никуда не исчез. Жалкий старик, доживает свой
век в богадельне под Шипкой.
— Спасибо. Может быть, случится... — Ватагин погру-
зился в раздумье, потом медленно произнес: — Так, зна-
чит, у Ордынцевой были покровители.
Он нажал кнопку звонка. В двери возник стремитель-
ный, как всегда, Шустов.
— Кому же принадлежал этот ваш альбом, товарищ
младший лейтенант? — лениво спросил Ватагин.
— Марине Юрьевне Ордынцевой, — не задумываясь,
отчеканил Шустов. — Уроженка Ярославля, из эмиграции,
восьмиклассное образование, одинокая, владеет четырьмя
языками, включая венгерский. Бульвар Александра, дом
семнадцать. Исчезла, больная, в смятенном состоянии
духа, две недели тому назад.
Едва заметная усмешка шевельнулась на губах Вата-
гина: он так и знал, что Славка не отступится от аль-
бома и наведет справки. Лицо мальчишки сияло торжест-
вом. Константин Шувалов деликатно разглядывал эти-
кетку московской водки.
232
Покажите альбом Константину Петровичу, — при-
казал Ватагин.
— Кого-нибудь узнаете? — спросил он Шувалова спу-
стя минуту.
— Леонида Андреева... — с улыбкой отметил старик,
листая страницы альбома, — генерала Корнилова...
Неизвестного мужчину в его семи вариантах он про-
пустил с безразличием, потом поднял голову и сказал,
глядя на полковника своими умными, молодыми глазами:
— Но ведь вы же знаете, что это и есть Марина Юрь-
евна. Неужели она уехала больная?
— Да, — отчеканил Шустов. — Есть основание подо-
зревать, что она уехала, зараженная сапом.
17
Ночью Бабин молча ткнул пальцем в воздух: поймал!
— ...Алло, алло! Ралле, Ралле! — слышался немецкий
разговор в эфире. — Хир Ринне... (Следовала знакомая
пауза.) Фюнф хуфайзен фон айнем пферде.
А через несколько минут — ответ:
— ...Алло, алло! Ринне, Ринне! Хир Ралле... (Пауза.)
Багр данк...
Бабин смахнул наушники, протер глаза.
Багр данк? Значение имела только эта последняя
фраза. Ради нее ведется весь этот стереотипный разговор.
Каждый раз новая фраза. Только одна новая фраза. Что ж
она значит на этот раз? «Спасибо за землечерпалку»? Бес-
смыслица.
И, подведя такой итог, Миша раскрыл журнал вахты,
стал записывать час и минуты приема, волну, модулиро-
ванный текст.
18
— Товарищ полковник, разрешите войти.
— Да, входите, Цаголов.
— По вашему вызову явился.
Ватагин потер ладонями виски, встал, отодвинул
кресло.
— Езжайте, Цаголов, на последнюю квартиру Марины
Ордыпцевой.
— Ее нет, товарищ полковник. Позавчера узнавали.
233
•— Знаю. Там ее подруга Костенко. Обыщите. Возь-
мите болгар с собой. Прикиньтесь простаком и развесьте
уши.
Он улыбнулся, увидев, как сразу заскучал капитан.
Вряд ли полковник мог найти более подходящего офи-
цера для этой деликатной миссии. Цаголов был зарази-
тельно веселый парень с необыкновенным даром фамиль-
ярности. Для пользы службы он разработал снисходитель-
ную усмешку и отлично, хоть и без всякого удовольствия,
исполнял от случая к случаю роль избалованного женским
вниманием юноши. Некоторые женщины просто терялись
в его присутствии — он был неотразим. Но каждый раз,
когда Сослану давали такое поручение, он считал себя
неудачником, эта работа была ему не по праву.
— Что нужно выяснить, товарищ полковник?
— Для начала хорошо бы узнать, какие она там но-
мера откалывала.
— Уточните.
— Говорят о каких-то ее экстравагантностях. Разбери-
тесь, пожалуйста. А кстати, проверьте, нет ли там каких-
нибудь скляночек, ампул, вот еще резиновые перчатки
меня интересуют. Не бывала ли она в обществе ветерина-
ров. Впрочем, все это маловероятно. Главное — в каком
направлении мог исчезнуть ее покровитель граф Пальффи.
— Разрешите действовать?
— Попросите от моего имени Шустова, он вас подве-
зет и пусть заодно поприсутствует.
Цаголов дожидался понятых в условленном месте.
Они должны были прийти из штаба народной милиции и
запаздывали. Шустов безмолвствовал со скорбным выра-
жением лица. Полковник даже не вызвал его для такого
случая, передал приказ «поприсутствовать». Пускай же
хоть Сослан чувствует, что так с человеком нельзя по-
ступать.
Наконец подошел и назвал себя в качестве понятого
истопник чиновничьего клуба, за ним подбежала смуглая
студентка-медичка с комсомольским значком на вязаной
шапочке.
— Вот и все в сборе, люблю точность, — сказал Цаго-
лов, поглядев на часы. — Товарищи, задерживать никого
не будем, только обыск, вернее осмотр квартиры. Прошу
за мной.
Дверь была раскрыта настежь. Сквозняк по-летнему
продувал все комнаты второго этажа, когда Цаголов во-
234
шел, оставив автоматчиков у подъезда. Болгары оклик-
нули хозяев, и в двери появилась заспанная, по-вечернему
сильно загримированная женщина с немного опухшими
щеками и мерцающими черными глазами. Она встретила
вошедших, как старых знакомых, и даже попросила на-
зывать себя Милочкой. Когда же, немного задержавшись
у машины, показался Шустов, хозяйка просто расцвела
от удовольствия.
— Вот как хорошо! Хоть бы вы, Слава, помогли мне
найти Марину Юрьевну, — сказала она с медленной улыб-
кой женщины, совершенно уверенной в том впечатлении,
какое она производит на мужчин.
Капитан Цаголов показал свои ослепительные зубы.
Он был несколько озадачен тем, что Шустов уже встре-
чался с подругой Ордынцевой, но виду не подал: предъ-
явил ордер народной прокуратуры и попросил разреше-
ния произвести осмотр квартиры. Понятых он попросил
разойтись по комнатам, и нужно было видеть, с какой
непримиримостью взглянула смуглая медичка на хозяй-
ку, проходя мимо нее в соседнюю комнату.
— Если вы ищете какой-нибудь сейф, то его нету.
Уверяю вас! Марина — голоштанная девка, — сказала
Милочка Костенко.
— Домнишора! •— по-румынски воскликнул Цаго-
лов. — Почему вы думаете, что я имею что-либо личное
против вашей подруги?
— Потому что, когда я играю в бридж, я знаю, что
король бьет даму.
Трудно было что-нибудь возразить. Цаголов молча
показал зубы и присел к столу: начал протокол. Полков-
ник был прав, послав его, — подруга Ордынцевой красива
и глупа.
— Есть у вас вечное перо? — спросил капитан, пы-
таясь наладить свою старенькую самописку.
— На свете нет ничего вечного.
— А любовь? — быстро перехватил Шустов.
Костенко оживилась.
— Вы разговариваете со мной, Слава, так фамильярно.
А между тем мой старший брат состоял в личном конвое
его величества...
— Скажите, а кем вам приходится генерал Гуде-
риан? — перебил ее Цаголов, чтобы войти в тон раз-
говора,
235
— Гудериан? — Она красиво задумалась. — Какого он
был полка? Кажется, припоминаю, из кавалергардов.
— А вы галушки помните? — спросил Цаголов, после
чего перешел к обыску.
Комната являла собой зрелище чудовищного беспо-
рядка. Повсюду валялись шелковые комбинации, под-
вязки, туфельки. Перед зеленой бархатной шляпкой ка-
питан остановился, как борзая, с нескрываемым восхище-
нием. Милочка Костенко сунула в зубы сигарету. Славка
поднес ей спичку.
— Говорят, у вас в Болгарии налог даже на зажигал-
ки? — спросил он неестественным голосом, явно подра-
жая Сослану.
— Не говорите при мне о зажигалках, — содрогнулась
Милочка. — Я до сих пор не могу прийти в себя от ужаса.
Эти противные «америкэн» сбрасывали тысячи зажига-
лок. Тысячи. Мы выбегали в одних рубашонках!
В тазу, в мыльной воде, плавали тонкие дольки оран-
жевых дынных корок, точно кораблики, освещенные солн-
цем. Оттопырив пальцы побрезгливее, Цаголов слил воду
в раковину на кухне. Это рассмешило Милочку.
— Пожалуйста, ищите.
— О, что вы, домнпшора, домнишора, — насмешливо
и лениво возразил капитан, изучая стены.
— В Болгарии говорят — госпбжица. Сразу видно, что
вы побывали в Румынии: здесь так не называют девушек.
Не правда ли, Слава?
Медичка, сидевшая в соседней комнате, прыснула со
смеху и задвигала стулом. Истопник не подавал призна-
ков жизни. В штабе народной милиции Цаголова преду-
предили, что этот человек серьезно относится к своим
общественным обязанностям.
Сослан медленно подвигался от вещи к вещи. Что мог
узнать оп в этой утомительной словесной дуэли? Что мог
найти он в ворохе безделушек и сувениров, черепаховых
гребней, янтарных пробок, выставочных каталогов, на-
грудных судейских цепей, вывезенных на Балканы отку-
да-то из глубин России, в пачке новых шелковых чулок
с румынскими этикетками? Среди игрушек, стоявших на
полочке, лейтенанта заинтересовала фарфоровая лошад-
ка; он с видом знатока разглядывал ее, ища фирменную
марку.
— Хорошенькая, — согласилась хозяйка. — Это анг-
лийский фарфор. Старинная, не правда ли?.. Я хочу ре-
236
патриироваться, милый, помогите мне, — вдруг произнесла
она с капризной гримаской избалованного ребенка.
Капитан в первый раз взглянул на нее без игры, со
вниманием.
— Глупенький, пу, а если я дам кровь вашим ране-
ным солдатикам? Будет принято во внимание? Помогите
мне, — с обидой в голосе сказала она. — В Болгарии, все
говорят, будет амнистия. Теперь здесь такое доброе пра-
вительство. Неужели только для бедной русской патриот-
ки ничего не изменилось...
Отвращение Цаголова к этому разговору смешивалось
в нем с сознанием выполняемого долга. Он молча перели-
стывал книги на полках. Они не представляли интереса:
ни пометок на полях, ни вложенных записок. Капитан
па всякий случай отложил в сторону несколько тощих
томиков Уоллеса, затрепанные бархатно-толстые стра-
ницы Тэффи и Алданова, томик стихов Омара Хаяма, и —
под одним корешком переплетенные — воспоминания
Юсупова-Эльстона об убийстве Распутина и мемуары
митрополита Макария. С безразличным видом Сослан па
минуту задержался на воспоминаниях о Распутине. Ми-
лочка с любопытством заглянула через плечо.
— Если бы вы познакомились с Мариной Юрьевной,
вы были бы в восторге!
— Расскажите о ней, Милочка, — нестерпимо слаща-
вым голосом попросил Шустов.
— Это была необыкновенно экзальтированная женщи-
на. Такой, вы знаете, дворянский выродок.
Как бы ища доказательств, Милочка стала рыться в
кипах номеров журнала «Сигнал», издававшегося в окку-
пированных странах на всех языках. Среди бесчисленных
фотографий торжествующих триумфаторов с закатанными
рукавами, снятых то на развалинах Акрополя, то у из-
бушки, где начинается великая русская река Волга, Ми-
лочка разыскала Марину Ордынцеву.
— Это на пляже в Варне, — грассируя, произнесла
Милочка. — Я думаю, номер журнала истрепался во всех
госпиталях германской армии от Биаррица до Нарвика.
Не правда ли, хороша?
Цаголов с журналом в руках задумался. Подруга Ма-
рины скользила мимо главного. Надо снова направить
разговор.
— Все-таки немолода, немолода, — вздохнув, сказал он
и бросил журнал на пол.
237
— Вы тоже так думаете? — хищно подхватила подруга
Ордынцевой. — Да, конечно. Впрочем, что вы! Ее плечи,
ноги. Призы за красоту... Во время оккупации она нашла
поклонников среди немецкого офицерства. Вы знаете,
в Болгарии на курортах околачивалось много шалопаев,
не спешивших на Восточный фронт. На нее была мода.
Стоя на стуле, Цаголов медлил, стараясь затянуть
обыск. Раскрыл шляпную коробку в пыли и хламе, среди
старых чемоданов.
— Что за прелестная скляночка? — спросил Шустов,
состязаясь с капитаном в неотразимости интонаций.
— От духов. Это были французские, чудо, подарок
графа.
— А та лошадка? — вернулся заодно Цаголов к фар-
форовой игрушке.
— В каком смысле вы спрашиваете?
— Тоже подарок графа?
— Разумеется: он был помешан на лошадях.
— Но, видимо, он увлекался немного и вашей подру-
гой?
Милочка оценила остроумный поворот мысли, пода-
рила улыбкой.
— Мужчин влекло ее обаяние. Но что вы хотите от
мужчин! Был только один человек в ее жизни, кому она
принадлежала вечно: поручик Игнатий Леонтович.
— Ее муж? — поторопился Славка.
— О нет! И вообще вы не поверите, если я расскажу.
Это история женской преданности.
— Расскажите! — дружно потребовали Цаголов и Шу-
стов.
— В тысяча девятьсот девятнадцатом году, когда Ма^
риша бежала из России, ей не было восемнадцати лет,
но, вы знаете, смутное время, папа с мамой в Сибири, де-
вочка одна в Крыму. Одним словом, у нее был жених,
поручик Игнатий Леонтович из Павлоградского полка.
В Ялте, во время бегства, была страшная паника у при-
чалов. Мариша вбежала не на тот пароход, где ее ждал
Леонтович. Получилось так, что Мариша больше его не
видела. Говорили, что в море жених заболел, потерял
память, а потом чего только не наплели: не то он в Смир-
не торговал маслинами, не то в Салониках его приютила
бедная огородница. Все это ладно бы, но вот чему вы не
поверите: Марина Юрьевна никогда — понимаете, нико-
гда! — не теряла надежды найти его. Она срывалась с ме-
238
ста и могла ехать куда угодно по любому слуху — искать
где-то объявившегося Игнатия Леонтовича. С его фотогра-
фиями рыскала повсюду. Где только не побывала за эти
годы на Балканах. Она показывала фотографию встреч-
ному и поперечному. Иногда, конечно, ей находили похо-
жего, даже приводили ее к нему. И всегда — разочарова-
ние. — С внезапной грубостью, даже как-то по-мужски,
Милочка выкрикнула: — Федот, да не тот! Психопатка...
Это стало ее психозом. Самое непостижимое то, что она
поработила Джорджа — холеного красавца, богача. Он
повсюду разъезжал с ней, искал несчастного Игнатия
Леонтовича. Хороши бы они были втроем, когда нашли
бы наконец!..
Всю эту странную историю Славка Шустов слушал с
блаженным выражением лица и несколько расслабленной
улыбкой, как если бы симфонический оркестр играл ком-
позитору его собственное счастливое творение. Сослан
стоял на стуле, живописно облокотясь на карниз шкафа.
— Вам нравился граф? — подбодрил капитан Милоч-
ку, когда опа на минутку приумолкла.
— Мне всегда казалось, что он так предан ей... Своего
потерянного Игнатия она называла рыцарем, но граф-то
ведь был настоящим рыцарем! Я сказала ей однажды:
«Милая, ты все ищешь своего Дон-Кихота, который два-
дцать пять лет назад сражался за тебя с ветряной мель-
ницей. Так загляни же теперь на самую мельницу! Мо-
жет быть, новый Дон-Кихот давно работает на ней». —
И она расхохоталась, довольная произнесенной двусмыс-
ленностью.
Она сидела на краешке стула, на котором стоял Ца-
голов, и ее рассказ был обращен ко всей квартире, не
к нему одному, а, конечно, и к юному лейтенанту, а мо-
жет быть, и к той комсомолке, которая сидела в спальне.
— И этот Дон-Кихот, влюбленный в Ордынцеву, ездил
с ней в поисках ее жениха? — спросил Цаголов.
— Да! — решительно подтвердила Милочка. — Теперь
я даже не смогла бы ответить, кто из них больше рвался
в эти поездки.
— Милочка, ведь это же омут, — с ужасом прошептал
Сослан.
— Омут? — подхватила она. — Это бездна! Зпаете,
у Леонида Андреева был такой рассказ. Разве кто-нибудь
мог бы разобраться в их отношениях? Самое печальное
было то, что в последний год Джордж помрачнел,
239
замкнулся, стал ожесточаться без всякого повода. Однаж->
ды мы поехали на пикник в бани...
— В бани, домнишора? — переспросил капитан.
— Ну, глупый... Банями здесь называют дачные места
с минеральными источниками. Я вас свезу на днях. Там
нам поднесли живую черепаху, очень милую — не правда
ли? — с такими черными губами... Марина страдала. Она
чувствовала охлаждение Джорджа и просто висла у него
па шее. Она сказала мне: «Милочка, только теперь, в со-
рок лет, я стала женщиной, потому что не стыжусь своей
любви». Ей было сорок три, — поспешно уточнила Милоч-
ка. — Может быть, Джордж уже тяготился ею? И то, что
он с такой охотой искал поручика Леонтовича, было
естественным желанием... как это по-русски: сбагрить с
рук, не правда ли?
— Очень даже правда, — убежденно сказал Шустов.
— Вы со мной согласны? — Милочка стрельнула гла-
зами в офицера. — Да, постарение... Зачем быть седой —
Марина еще понимала, куда ни шло. Кличка Серебряная
ей была просто к лицу. Но к чему морщинки? Иногда
я замечала в ресторане, как она стоит перед большим
трюмо, как бы забывшись, с приподнятыми бровями. Да,
она нервничала.
Цаголов с удивлением поглядел на Милочку: она го-
ворила теперь последовательно, даже вдумчиво — не под-
ходящий ли момент, чтобы захлопнуть ловушку?
— Что же, они уехали вместе? — небрежно спросил
Сослан.
— Что вы! Я думаю, они расстались навсегда. Все
началось из-за ерунды. Они вдруг так страшно поссори-
лись, что у Марины даже температура подскочила и на-
чались рвоты. И ужасно болела голова. Тогда она собра-
лась в полчаса и уехала, со мной даже не простилась.
— А Джордж остался?
— Не думаю. Что он, глупенький? Мне кажется, он
так рад, что разделался с Мариной, что больше никогда и
не появится в Софии. Во всяком случае, его приятель
Ганс Крафт заехал уже без него. Нужна ли была ему
Марина — не знаю. Но ее не было.
— Куда она уехала?
— Кажется, в Бухарест. Но если вы ее найдете, не
говорите, что это я вам сказала. Крафт обыскал всю квар-
тиру. Он ругался по-немецки страшно. Он так спешил:
ваши танки были уже на перевале.
240
— Что же он искал, этот Крафт? Кстати, кто оп?
— Жалкий сотрудник германского посольства, плю-
гавый «фольксдейтч» из Баната, третий секретаришка...
А что искал? Да то же, что вы... Сувениры.
— Нашел?
— Кое-что. Семейный альбом Ордынцевых. Она, ду-
рочка, думала, что хорошо его спрятала. От меня, может
быть, но не от этого сумасшедшего «фольксдейтча». Зна-
ете, где был альбом? В картонке, которую вы держите
в руках... А уехал он — у нас загорелось.
— Это он поджег?
— Нет, какой вы глупенький. Зачем ему? Вероятно,
бросил сигарету. Горела гума, иу... как это по-русски?
Гума...
— Резина?
— Да, да. Вы, наверно, уже расспрашивали дворни-
ка? Это он погасил.
— А как вы думаете, зачем Крафту понадобился аль-
бом Марины Юрьевны? — спросил Цаголов.
— Представить себе не могу! Может быть, он хотел
сделать приятное Марине, спасти ее реликвии? В альбоме,
кажется, были портреты Леонтовича. Немцы так сенти-
ментальны.
Сослан молча улыбнулся. В шляпной картонке по-
чему-то пахло эфиром. Он обнаружил в ней еще авто-
мобильные очки.
Капитан спрыгнул на пол со своей сомнительной до-
бычей.
— Вы разрешите, госпожица, закончить протокол.
— Пожалуйста, — милостиво разрешила Милочка. —
И пусть все это забудется.
Она подошла к Шустову и предложила ему то, что
привык получать в дар красивый горец:
— Заходите... Без них, не правда ли? — тихо сказала
она, показывая пальчиком на понятых. — Есть такая чи-
сто русская травка...
— Травка?
— Да. Трын-трава. Вы помните, поется: «И порастет
травой забвенья...» Вы придете?
Вместе со Славой завязывала она пачки конфиско-
ванных книг. Милочка накрест обматывала их шелковым
шнурком, и пальцы их соприкасались.
— Вы милый мальчик, — игриво сказала она, забра-
сывая движением головы прядь волос со лба.
241
— Как это сказать по-болгарски? — кисло спросил Со-
слан, играя желваками на скулах не столько ради дела,
а вернее по инерции.
— Он много нежен муж, — певуче произнесла оболь-
стительница и замерцала на прощание красивыми чер-
ными глазами.
Капитан Цаголов торопился к выходу. Он пропустил
впереди себя болгарскую девушку, на лице которой было
написано отвращение, и молчаливого истопника чинов-
ничьего клуба.
Последним, позже автоматчиков, с независимым ви-
дом садился в машину Шустов.
19
— Детская игра! Все, что ты напридумал, это — ви-
лами по воде! Сложность момента в том, что мы еще не
проглядываем всю цепь событий, а из обрывков можно
что угодно насочинять. Особенно, если как ты: гнуть и
выгибать любой факт, как удобнее.
— Товарищ полковник, давайте снова по порядку...
В этом ночном разговоре, возникшем случайно во
время подписывания деловых бумаг, Ватагин казался не-
похожим на себя, раздраженным и нетерпеливым, а Слав-
ка тихо сиял. После обыска у Милочки Костенко, когда
так просто объяснилось, что семь портретов в альбоме —
это семь похожих на Леонтовича мужчин, обнаруженных
Мариной в разных балканских захолустьях, стажер вдох-
новенно набросал свою версию и только немного удивил-
ся, что полковник не прогнал его сразу — сердится и все-
таки слушает.
— Картина ясна, — навязывал свои догадки Шу-
стов. — Помощник венгерского военного атташе по зада-
нию германского командования систематически заражал
конское поголовье. Ордынцева со своими поисками незаб-
венного Леонтовича была нужна для отвода глаз. Милочка
сказала: неизвестно, кто из них больше рвался в эти по-
ездки. Ордынцева даже не догадывалась, что Джордж и
роман-то с нею завел только потому, что она искала поте-
рянного жениха. Ганс Крафт — подручный графа. Знаете,
что рассказал мне один из графских жокеев? Крафт близ-
ко к лошади не подходил: боялся. А как ни странно, на
242
родине в Банате у него своя конюшня. Что это значит?
Ясно, товарищ полковник?
— Мне неясно. А тебя что осенило?
— Там у них лаборатория находится! Там на боль-
ных лошадях сапную культуру выращивают.
Ватагин только взглянул на Шустова и весело гарк-
нул:
— Да куда ж тебя занесла нечистая сила!
— Хорошо, — спокойно уступил Славка. — Выходит,
по-вашему, что и альбом не имеет никакого отношения
к сапной диверсии?
— Пока не вижу связи.
— По-вашему, выходит, у Атанаса Георгиева искали
не альбом, а что-то другое?
— Альбом валялся в канаве.
— Это лишь означает, товарищ полковник, что его
выбросили из вагона в разбитое окно.
— Зачем же убили подпоручика?
— А может быть, тот, кто убил, и не думал, что аль-
бом в канаве.
— Пусть так, но все же доказательства нужны. Для
любой версии нужны доказательства, товарищ младший
лейтенант...
Руководитель обязан быть воспитателем. Жизнь все-
гда учила этому Ватагина. Военный человек, он больше
всего не любил в своих помощниках формальную испол-
нительность, в сущности не имеющую ничего общего
с сознательной дисциплиной. Ватагин знал, что самоуве-
ренного и упрямого Шустова надо раздразнить, и только
тогда можно дождаться от него глубокого и обдуманного
решения задачи. Слишком легко стажер из разведшколы
удовлетворялся первой черновой догадкой. Зато, на-
ткнувшись на сопротивление, он не терял веры в свои
силы. Сопротивление его только подстегивало. И в эту
минуту, подписывая реляции на награждение летчиков,
полковник искоса поглядывал на Славку, проверяя, ка-
кое впечатление производит на него этот спор.
— Вы помните, товарищ полковник, что бормотала
старуха? — спросил Шустов.
— Помню. О подковах?
— И позывные помните? А вот поглядите-ка.
Он перевернул альбом вверх задней крышкой.
— Следы крови, что ли? — поинтересовался Ватагин.
243
— Вы все смеетесь, товарищ полковник, а, между
тем, вот они — миленькие!
И в самом деле, пять серебряных подковок — четыре
по углам и одна в центре — украшали заднюю крышку
плюшевого альбома.
Ватагин, видимо, опешил на мгновение. Потом, отло-
жив альбом в сторону, весело заметил:
— Ну, знаешь, Слава, нет такого старого альбома,
который не был бы разукрашен подобной инкрустацией.
Это же примета: найти подкову — счастье найти...
— Вот мне и посчастливилось, я нашел, — заметил
Шустов.
— Целых пять. — Полковник махнул рукой и встал,
заканчивая разговор. — Гитлер еще под стол пешком хо-
дил, когда в Ярославле уже изготовили этот альбом со
всеми его украшениями. Подгоняешь! Все подгоняешь,
Слава. Разве ж для заражения лошадей нужны такие
сложности? Ты правильно догадался, что надо разраба-
тывать Ганса Крафта. Давай-ка пошлем в Двадцать ше-
стую армию запрос насчет этого банатского немца —•
наши войска позавчера вступили в его родной город. Иди
отдыхать, поздно. Мне тоже нужно — завтра поедем с
тобой.
— Куда, Иван Кириллович?
— На Кудыкину гору.
— Иван Кириллович...
— Ну, что еще?
— Вы же сами отлично знаете. Когда же переведете
меня на оперативную?
Ватагин рассмеялся.
— Маловато данных, товарищ лейтенант. Что я на-
пишу генералу? Что ты — человек дисциплинированный?
Совесть не позволит. Что у тебя при горячем сердце хо-
лодная голова? Видит бог, Слава...
— А что ж, капитан Цаголов — не горячая голова?
—- Ну, сравнил! Ты помнишь, как он под Никополем
захватил майора Ханеке со всеми шифрами армейской
группировки?
— Как же не помнить, когда он мне брелок со сва-
стикой подарил! Так вы ему дали тогда отличиться! А я
купаюсь в отражении чужой славы. Третий день пишу
представления о наградах! Человек я или кто?
— Стажер! С отличным почерком. Иди спать.
— Товарищ полковник... Иван Кириллович! -- Славка
244
готов был унизиться до степени полной фамильярно-
сти, — дайте хоть один из объектов проверить.
— Каких это?
— Из альбома Ордынцевой. Я вам скажу одно свое
соображение: там есть снимок Леонтовича, сделанный в
Казанлыке, в горно-туристском костюме. А Казанлык
как раз под Шипкинским перевалом. Если все эти Мари-
шины женихи — организаторы сапной диверсии, то луч-
ше всего искать именно там.
— Почему?
— Да потому, что горный перевал является самым
удобным местом: там неизбежно скопление лошадей. Там
могут быть запасы фуража, общий водопой, там отды-
хают на перевале. Ну, пошлите хоть для очистки совести!
Я в один день смотаюсь: одна нога здесь — другая там.
Хоть на козлике...
«Козлом» назывался на языке Шустова еще со вре-
мени службы в танковом корпусе мотоцикл трофейной
марки «Цундап», которым Славка владел в совершенстве.
— Иди спать.
Уже без гимнастерки, полковник, положив руку на
плечо Шустова, по-отцовски вывел его за дверь, погасил
свет.
20
Поездка в эмигрантскую богадельню под Шипкой за-
няла целый день. Шустов был неразговорчив, гнал ма-
шину, не сбавляя скорость на виражах.
— О чем думаешь? — спросил полковник.
Славка ответил не сразу. Проехали горбатый мост,
миновали селение.
— Я думаю, товарищ полковник, как же майор Ко-
телков не понял, кто там был главный.
- Где?
— На полустанке. Посол или тот, как говорят, «остав-
шийся неизвестным»? Убийца.
— Вот о чем ты...
Ватагин усмехнулся. Больше ничего не сказал.
И Славка тоже больше пе приставал.
В старых зданиях, окружавших русский собор свято-
го Николая, сооруженный некогда во славу шипкинских
героев, полковника Ватагина взяли в плен сплетники из
адмиралов и генералов царской армии. Любая комната
245
общежития имела не только свой запах, но и свои поли-
тические теории, социальные программы, философские
доктрины. Каждый царский слуга за двадцать пять лет
досуга в мертвом доме написал оправдательные мему-
ары. У каждого в итоге получалось так, что все царские
сановники трагически ошибались или совершали гнус-
ные преступления, а он один думал и поступал истинно
верно. Дрязги выживших из ума стариков напоминали
чем-то инстинктивную жизнь насекомых. Советского офи-
цера подстерегали, чтобы, отведя в сторону, на глазах
у всех остальных наушничать. Сестра милосердия, ста-
руха из дворянской семьи, следовала за Ватагиным по
пятам, читая ему наизусть компрометантные выдержки
из дневника вице-адмирала. Безногий штабс-капитан,
сидя в своей самодвижной коляске, с утра до обеда до-
жидался советского полковника. Он настаивал на необ-
ходимости конфиденциального разговора. Ватагин выслу-
шал сумасброда, что-то в нем возбуждало сочувствие.
Он умолял спасти его от козней негодяев, предостерегал
Ватагина от грозившей ему опасности, а под конец стал
совать в его полевую сумку свои стихи. Это были трога-
тельные стихи. Зимой сорок первого года, когда совет-
ские люди сражались под Москвой, безногий штабс-капитан
писал дрожащим опрокинутым почерком солдатскую
песню — звал своих братьев сражаться за родину.
Едва ли не с последним Ватагин поговорил с полков-
ником Ордынцевым. Желчный старик что-то бубнил о
беспорочном послужном списке, о пропавших фамиль-
ных ценностях и только по настоятельной просьбе совет-
ского полковника заговорил о своей дочери. Старик был
из тех возбуждающих брезгливость трусов, за которых
нельзя поручиться, как бы они со страха не выдумали
чего и зря кого-нибудь не оговорили.
— Психопатка! Я понял это еще в России, — сквозь
зубы цедил каппелевский полковник. — Почему интере-
суетесь ею? Нашкодила, дрянь?
— Должен огорчить вас. Три недели назад она исчез-
ла из Софии.
— Подлянка!
Старик, видимо, в самом деле не знал об исчезнове-
нии дочери, судя по тому, как немедленно развязался его
язык. Он не мог ей простить того, что, имея богатого
покровителя, годами не высылала нищему отцу даже по-
даяния. Он и сам был когда-то конный спортсмен и сей-
246
час, дергая жилистой шеей, снова переживал обиду, ка-
кую нанесла ему дочь, даже не познакомив его со своим
любовником. А он все знал: жизнь Пальффи Джорджа
никому, даже родной матери, не была известна во всех
подробностях так, как была она известна Марине и ее
ревнивому отцу полковнику Ордынцеву.
Старший сын одного из богатейших людей Венгрии,
Пальффи Джордж уже в семнадцать лет был признан
первым шалопаем Будапешта, сорил деньгами, волочил-
ся за молодыми актрисами. Затем начались дела похуже.
Спустя год он крупно поссорился с отцом. Для велико-
светских кругов тайна семейного конфликта осталась за
семью печатями. Была сфабрикована элегантная версия,
будто бы отец и сын Пальффи стали навсегда врагами
из-за одной дерзкой выходки Джорджа: вопреки воле
отца ночью сын подвел к отцовской фаворитке, англий-
ской красавице кобыле Миледи, персидского жеребца
Визиря. В «Конно-спортивном вестнике» было даже
опубликовано письмо Джорджа, в котором он искал себе
оправданий в великолепных статях жеребца: «Голова Ви-
зиря, широкая во лбу, до того суживалась к ноздрям, что
оп мог бы пить из кувшинчика с узким горлышком».
Генерал-полковник Пальффи-Куинсбэри Артур ко-
мандовал той кавалерийской школой в Бабольно, кото-
рую сам кончил когда-то, еще до первой мировой войны.
Как истый венгерский аристократ, он мечтал о ре-
ставрации монархии Габсбургов и состоял в почтитель-
ной переписке с принцем Отто, сыном последнего импе-
ратора Австро-Венгрии. Но все родовые и даже финан-
совые связи «Старого Q» роднили его с британскими
островами. Он был тончайшим знатоком веджвудского
фарфора, летом в своей горной резиденции за Мишколь-
цем принимал гостей из Англии. Старшего сына Пальф-
фи в семье с детских лет называли не венгерским именем
Дьёрдь, а вполне англизированно: Джордж. Но подлинной
страстью Пальффи-Куинсбэри, в чем действительно выра-
жалась его англомания, был чистокровный английский ска-
кун. Венгерскую верховую лошадь он предпочитал в
военном строю, на полигонах, а в своих конюшнях выво-
дил только английских коней. В качестве курьеза он со-
ставил свою знаменитую выставочную коллекцию: там
можно было увидеть и стройного каретного «клевеланда»,
и крупного «суффолька», и огромного возовпка «Лин-
кольншира»,# резвого «норфолька», и гибкого, но вместе
247
с тем могучего «гунтера», и, наконец, стального по
крепкости и упругости мускулов, коронованного скакуна-
дербиста Буен-Вестра.
Не было более красивого предлога для той торжест-
венно обставленной церемонии, которой хладнокровный
и властный старик отстранил беспутного сына от прав
на наследие и все несметные родовые богатства перевел
на линию младшего Пальффи. Джордж ответил на это
скандальным бегством из отцовского замка.
Мешая прошлое с нынешним, Ордынцев называл не-
сметного богача Пальффи-Куинсбэри чуть ли не кличкой
«Старым Q», сына его — сорванцом и бродягой, и только
однажды лицо его посветлело — он заговорил об одном
из скакунов софийской конюшни Джорджа:
— Там у него стоял необычайно авантажный Арба-
кеш!
Немалого усилия стоило полковнику Ватагину вер-
нуть каппелевца к судьбе его дочери.
— Она была недовольна жизнью? — спрашивал Вата-
гин.
— Она не попала в Париж. Не я этому виной! Ее
судьба — София, Пловдив, Варна.
— Ее жизнь сложилась неудачно?
— Слишком много мужчин. Никто не думал, что он
первый, и потому, наверно, никто не мечтал стать по-
следним.
— Но был один, кого она искала всю жизнь.
— Бред сивой кобылы.
— То есть как же?
— Да так. Это вы о поисках поручика Леонтовича?
Враки! — Старик протер запотевшие очки. — Паралич-
ный жених здравствует в Старой Загоре. Чего там его
искать — эка невидаль! Марина ему аккуратнейше по-
могала. Навещала его по воскресеньям. Как же оставить
убогенького. Вот отца ’родного заточить в богадельню —
это раз плюнуть.
Ватагин грузно поднялся, и старик тотчас тоже вско-
чил, подобрался.
— Вдумайтесь и отвечайте: вы утверждаете, что она
не искала поручика Леонтовича и что ей даже... не ка-
залось, что она его ищет?
Ордынцев ответил по-военному быстро:
— Не могу знать!
— Ну, а предполагать?,
248
— Если вы настаиваете... Может быть, она интерес-
ничала, набивала себе цену: мол, не просто по рукам
пошла, а, так сказать, временно, в ожидании жениха. Най-
дет — выйдет замуж, станет приличной женщиной.
— А еще что может быть?
Ордынцев оглянулся, чтобы еще раз убедиться, что
его никто не слышит.
— От представителя победоносной русской армии ни-*
чего скрывать не буду. И покорнейше прошу учесть,
когда вы будете решать мою судьбу, что я ничего не скры-
вал, даже в мыслях не скрывал.
— Я прошу говорить откровенно, — терпеливо сказал
Ватагин.
— Психопатка, — громко прошептал Ордынцев, — все
знают, что психопатка, но... с уголовщиной. Опа до войны
жила с крупным международным аферистом, попросту
говоря, с вором. Француз он... Был громкий процесс, еще
в Константинополе. Ей удалось избежать огласки, даже
не фигурировала на суде. С кем она расплачивалась, чем
опа расплачивалась — не знаю.
— При чем же тут поиски Леонтовича?
— Пальффи мог узнать ее тайну. Эти проходимцы
всегда все знают. А Марина боялась тюрьмы. Боялась,
что ее имя свяжут с именем вора.
— И все-таки, при чем тут Леонтович?
Старик помолчал. Проглотил слюну и снова помол-
чал. Видимо, он чего-то опасался.
— Могу вас уверить, что в Болгарии о нашем разго-
воре не будет знать никто, — сказал Ватагин.
— Я думал... Прошу вас запомнить, что это не факт,
а я только думал. У нас тут есть досуг для размышле-
ний... — Старик хихикнул. — Это шантаж. Может быть,
Пальффи — одного поля ягода с этим французским ка-
торжником? Может быть, он сам выдумал для нее эти
поиски жениха, чтобы прикрыть какие-нибудь свои уго-
ловные аферы? Не правда ли? Ведь почему-то она мне
заплатила, то есть единственный раз опа дала мне день-
ги, когда умоляла, чтобы я не проболтался, что Леонто-
впч — в Загоре... И я молчал. Учтите — вам первому...
Думаю, все рушится. Думаю, тепсрь-то уж ей все равно.
— Можете быть свободны, — сказал Ватагин.
Ордынцев пошел к двери и вдруг задержался. Ничего
пе осталось от его военной выправки.
— Я попрошу у вас, господин полковник, соли.
249
— Что?
— Горстку соли прошу, дайте великодушно.
Никогда не любил Иван Кириллович прятать на до-
просах свой взгляд на вещи. Тяжеловатый и ленивый в
движениях, оп был приветлив с людьми, зная, что страх
редко рождает правду. Но если кто-либо вызывал в нем
чувство брезгливости, он не скрывал этого.
— Выйдите к моей машине. Я прикажу адъютанту,
он даст, — отчетливо произнес он, глядя на колючие жел-
тые усы старика. — Кстати, скажите, не помните ли вы,
как в январе тысяча девятьсот девятнадцатого года вы,
каппелевцы, отступали по временному мосту через реку
Иркут?
Держась за ручку двери, Ордынцев прислушался к
вопросу, улавливая за ним что-то опасное для себя. Он
ничего не мог припомнить особо порочащего его в ночь
перехода через Иркут. Да, они, помнится, грабили —
свои же не пустили их в город. Да, помнится, расстре-
ляли каких-то ремонтных рабочих, когда проходили в
обход у взорванного моста.
— Простите, не припоминаю.
— Хорошо. Идите.
Ватагин-то помнил. Он хорошо помнил, как уходили
пьяные каппелевцы, и тех рабочих, кого застигли в теп-
лушках, вывели на высокий берег и расстреляли. В ту
ночь убили отца Ватагина и старшего брата. Тогда Ва-
тагин вступил в партию, стал коммунистом.
Через полчаса, подходя к своей машине, Ватагин
постарался не заметить кулечек соли в руках Ордын-
цева. Молча уселся. Шустов давно таким не видел пол-
ковника.
— Покажи-ка альбом господину Ордынцеву.
Он, можно сказать, даже и не глядел на то, как дро-
жащими руками старик листал альбом, разглядывал
свою стародавнюю ярославскую молодость, круг родной
семьи, забытые лица знакомых архиереев, прокуроров,
полицмейстеров. Когда же дошло дело до балканского
мужчины в семи его вариантах, полковник только кратко
осведомился:
Леонтович?
— Ничего общего, — ответил Ордынцев,
— А этот?
— Ничего похожего,
— А этот?
250
— Вы мне показываете одного и того же, но это пе
Леонтович. Я не знаю такого человека.
— Что же ты, езжай, — заметил Ватагин совершенно
остолбеневшему Шустову.
И пока тот отбирал у старого инвалида плюшевый
альбом, полковник добавил шутливо:
— Вот что: закрой свою контору частного сыска. Или
кончится твоя стажировка.
— Есть закрыть контору! — звонко отозвался Славка.
Из переулка, едва не сбив вывеску брадобрея, Шу-
стов круто вывернул машину на шоссе.
— Что, огорчился? — спросил полковник, когда оста-
лись позади зеленые улочки Казанлыка.
Шустов промолчал.
— Кстати, ты спрашивал давеча, как это майор пе
понял, кто там был главный двигатель истории: посол
или граф Пальффи? Боюсь, что и ты и майор кое-чего
поважнее не понимаете: что самый главный там был тот
старый болгарин, который с семьей своей, с детьми,
ночью вышел и разобрал ограду своего виноградника,
завалил путь фашистам камнями.
21
«...Слушай, слушай. Ралле, Ралле. Я Ринне... (Пауза.)
Пиджак готов! Распух одноглазый...»
— Чтоб ты лопнул! — прошептал Бабин.
Шла ночь. Он снова принимал отзыв неизвестного со-
беседника и новую фразу: «Sechs Art...» Шестой артил-
лерийский, что ли? Переговоры закончились. Оп снял
наушники, записал в журнал час и минуты приема, вол-
ну, текст. Шла ночь. Он потянулся так, что спина за-
ныла, и кулаками потер воспаленные глаза.
Во дворе плескался Шустов — домывал машину.
Слышно было, как Славка сердито жалуется автотехпи-
ку: на генеральской машине пять новеньких камер, а у
них с полковником Ватагиным горе, а не резина: латка
на латке.
Бабин вышел из фургона. Ночь была по-сентябрьскп
холодная, но еще зеленые деревья, особенно там, где их
освещали окна ватагинского кабинета, напоминали о
лете.
Шустов деловито копался в своем «виллисе».
251
Петух прокукарекал на дальнем дворе.
Миша не мог спать. Ночь была из тех, когда почему-»
то ждешь больших перемен в жизни. Он вернулся в теп-
лый домик фургона, прошелся из угла в угол. Попробо-
вал поймать Москву. Москва уже молчала. Он сел к сто-
лу, подвинул лист бумаги, стал писать маме.
Эти письма никогда из-за ночной усталости не пере-
давали его настоящих чувств. Он не умел писать, а се-
годня — особенно.
«...Знаешь, мама, я недавно побывал у вас в Яро-
славле. Передай это Людке. Я потом, после войны, объ-
ясню вам, как это произошло. У меня очень трудная ра-
ботенка. И очень важная для победы, если, конечно, по
ночам не дремать. А иногда хочется.
Эх, ничего нельзя написать понятно. Мама, петухи
здесь кричат, как у нас в Ярославле...»
Он сидел за столом, стараясь успокоить себя, от-
влечься...
«...Хочется думать о том, что скоро война кончится.
Папа вернется домой и будет сидеть у себя в комнате
в байковых туфлях, и настольная лампа с вертящейся го-
ловой будет освещать зеленую бумагу на столе, и «Но-
вости онкологии», и «Справочник педиатра». А мы с то-
бой и с Людкой в столовой, и черный клен во дворе за
окном, и солнечный круг от лампы па желтой скатерти.
Это все будет. Ты не сомневайся. Скоро будем вместе.
Мама, я писал тебе о моем лучшем друге. Это Слава
Шустов, стажер у полковника Ватагина. Лучший друг,
а почему-то мы всегда ругаемся. Характерами не со-
шлись. Он все сочиняет на вербе грушу, а я не люблю за-
гадок. Его обрадовать ничего не стоит. Он всегда ожи-
дает самого лучшего. Чудно! Будто уж и война кончи-
лась. Жизнерадостный, как щенок, хотя очень отважный
парень. Только отвага у него какая-то ненацеленная.
В его годы люди бывают серьезнее, ну, хотя бы «Мекси-
канец» Джека Лондона. Ты, наверно, думаешь, зачем
я тебе это все рассказываю? Лучше бы самому Славке.
Это верно. Следовало бы. Но у меня не выйдет. Полу-
чится поучительно, и он же надо мной посмеется. А глав-
ное — он мне сделал много хорошего и мне неловко его
учить. Я хочу вам послать фотографию одной девушки,
регулировщицы Даши Лучипипой. Вы не подумайте че-
го-нибудь, глупости — за ней как раз ухаживает Славка.
Это простая девчонка старобельская, очень много ей
252
пришлось пережить. Я ее уважаю больше, чем Славку,
а его — больше люблю. Вот такая знает, за что воюет,
а Славка тормошится. Может, я и ошибаюсь. Может,
Славка и вправду совершит какой-нибудь подвиг, толь-
ко мне хочется послать вам Дашину фотографию. Если
встретитесь когда-нибудь — будете знакомы заранее.
А Славка меня называет занудой. И прав!»
Он снова вышел во двор, чтобы сорвать лепесток
астры и вложить в страницы письма вместе с Дашиной
фотографией. Балканское небо искрило, осыпалось звез-
дами. Часовые таились у ворот. На ходу затягивая ре-
мень, спешил куда-то майор Котелков, наверно, по вы-
зову к полковнику. Окна светятся у Ватагина.
Бабин сорвал лепесток и так, с открытой ладонью,
пошел к своей спецмашине.
22
Шустов тоже задремал не сразу. Переменив баллон
на заднем левом, он долго сидел на водительском ме-
сте — шинель внакидку. Видел, как Бабин выходил на
порог фургона. Огоньки цигарок вспыхивали в кустах.
Петух пропел на дальнем дворе. Славка отбрасывал от
себя какие-то мысли и не мог отбросить. Ну, хорошо,
пусть он такой недисциплинированный, и ему действи-
тельно нельзя доверить серьезные дела. Но ведь пока
что все узелки им одним нащупаны. А развязывать,
значит, Котелкову, Цаголову, кому угодно? Как это назы-
вается? Почему полковник как будто даже обрадовался,
когда увидел, что старик не нашел Леонтовича в аль-
боме? А разве ж это честно со стороны Ивана Кирилло-
вича, ну хотя бы с пятью подковками? Ну, пусть Славке
не хватает терпения, осмотрительности, этакой бабин-
ской толстокожести, но посчитаться с доводами нужно?
Оп убежден, например, что па Шипкинском перевале в
два счета все объяснилось бы, а Ватагин просто отре-
зал— и все тут. Говорит, что я факты гну, как удобнее.
Однако если в альбоме — не Леонтович, значит, Марина
знала, чем занимается Пальффи? Значит, им нужны бы-
ли эти ее поездки для какой-то маскировки? Если Леон-
тович—миф, кто же главная фигура: Ордынцева или
Пальффи?
253
Во дворе было сонно и тихо по-ночному. Светились
окна ватагинского кабинета. Вот прошел через двор Ко-
телков. Наверно, от полковника.
— Что, товарищ майор, не спится полковнику?
— Спать в могиле будем.
23
После поездки в эмигрантскую богадельню Ватагин
еще раз пересмотрел все концы нитей как будто в на-
смешку запутанного клубка. Он был фронтовой чекист —
многое повидал. Он вел тайную войну с противником в
тылах наших армий — сегодня па полевом хлебозаводе,
завтра—в батальоне авиаобслужпвапия или где-то в разва-
линах только что занятого города, он столько перевидал
на допросах вражеских диверсантов, террористов, шпио-
нов, «связников», что на всю жизнь хватило бы писать
книги, одна интереснее другой. Но такой бессмыслицы
он еще не разматывал — не приходилось. Он и генералу
не все мог доложить: как-то неловко развлекать небьь
лицами.
И все же, что бы ни обсуждал он теперь в кабинетах
старших начальников, какие бы ни читал поступавшие
с широкого фронта донесения, шифровки, протоколы
допросов иногда весьма интересных лиц, — мысль его
невольно возвращалась к группе Пальффи, к нему само-
му и его исчезнувшим подручным. Зримых следов их
работы пока не так уж много: около трехсот павших ко-<
ней, да несчастный Атанас Георгиев, да еще, наверно,
устраненный с дороги ординарец, венгерский мальчишка,
по которому скоро выплачет глаза его деревенская мать;
да еще Марина Юрьевна, первая соучастница и не по-
следняя жертва, которую, видимо, просто заразили са-
пом. Бывали дела пострашнее. И все же, чем больше Ва-
тагин вдумывался, тем убежденнее была его мысль, что
возня, которую затеял тут в панике отступления против-
ник, — опасная возня. Слишком громоздко была обстав-
лена вся эта сапная диверсия, слишком много бутафории
и реквизита для такого скромного спектакля. Нет, тут
что-то поважнее готовится... Ведь это интересно: все во-
семнадцать баулов дипломатической переписки найдены
целыми до листка — по описи, заблаговременно состав-
ленной самим дипломатическим персоналом посольства.
254
Тогда верно, что искали альбом? Допустим, посол успел
выбросить его в окно вагона за минуту перед тем, как
ворвался в купе Атанас Георгиев. Тогда и подпоручик
мог ничего не знать об этом альбоме. Бочонок с розовым
маслом поглотил все его внимание, и он не заметил ни-
чего подозрительного.
Ватагин покачал головой — то, что он сейчас предпо-
ложил, полностью совпадает с версией Шустова. Славка
бежит по следу, как необученный щенок хорошей поро-
ды. Талантливый юноша, из него можно лепить что угод-
но, он еще весь впереди. Не подготовлен к серьезной
работе, только на темпераменте выезжает и, как обычно
в таких случаях, — удачлив...
Но если в самом деле искали альбом Ордынцевой,
тогда необыкновенно вырастает роль самого незаметного
сотрудника посольства — Ганса Крафта: зачем же он
рылся в квартире Костенко, если не затем, чтобы найден-
ный им альбом вручить послу в день бегства, а самому —
остаться на Балканах?
В третьем часу ночи Ватагин с удивлением увидел
в дверях Шустова с бумагами в руках. Полковник снимал
сапоги, надо же отдохнуть человеку.
— Ну входи. Опять канцелярия?
— Разрешите доложить, Иван Кириллович. Надо
о машине подумать. На генеральской в запасе пять но-
веньких камер, у нас пока что — латка на латке.
— Ты за этим явился?
— Нет, не за этим.
— Тогда говори дело.
Как обычно в минуты смущения или торжества, Шу-
стов молодцеватой походочкой подошел поближе, чтобы
дать себе время обдумать дальнейшее.
— Видите ли, товарищ полковник, на ваш запрос по-
лучен ответ из Баната.
Оп положил на стол телеграфную лепту. Разведка
Двадцать шестой армии сообщала, что в городе Вршаце,
в собственном доме, Ганс Крафт не появлялся. Три дня
назад при захвате города от невыясненных причин сго-
рела конюшня с лошадьми во дворе дома — единственный
пожар в городе, взятом почти без боя.
— Какова ваша концепция, товарищ полковник?
— Концепция? — Ватагин наклонил голову, глаза его
светились улыбкой. — Изволь: моя концепция такова, что
ты малый ничего, будешь когда-нибудь разведчиком.
255
Жаль только, что синтеза не допускаешь. В одном ряду
загадок нет ничего для их разгадки. Нужно соединить
два ряда. И очень далеких. И тогда в скрещении засве-
тится этакая маленькая лампочка. На курсах, помнишь,
было такое наглядное пособие: винтовка в разрезе, а ря-
дом список всех ее частей. Надо знать все части винтовки
и палочкой дотронуться на чертеже. Если ответ правиль-
ный, лампочка вспыхнет, и старшина тебе скажет: «Са-
дитесь, Шустов. Знаете оружие». А у тебя тут, Слава,
как бы это тебе сказать: пока не светит.
Еще в школьные годы Шустов научился выслушивать
наставления взрослых с интересом к душевному состоя-
нию и ходу мыслей самого наставника. Можно говорить
все, что угодно, понятное дело—«педагогика»; но если
после сообщения о сгоревшей конюшне в третьем часу
ночи полковник вызвал Котелкова, — значит, Шустов не
последний человек в разведке. А полковник действитель-
но вызвал майора, и тот явился немедленно. Разговари-
вали они при закрытых дверях.
— Что, не спал?
— Опять с Цаголовым поселили. Всю ночь мешает
спать: бубнит, что раз он такой красивый и бабы к нему
льнут, значит, не видать ему настоящего задания. Оби-
жается на ничтожные результаты обыска у Костенко.
«Привез, говорит, целую полевую сумку сувениров».
— Он еще мальчик, но башковитый, — сказал Вата-
гин. — Как полезет в бутылку, сразу — акцент. Кавказ-
ская кровь... — Помолчал, потом совсем другим, усталым
голосом спросил: — Все ли лошади у болгар зарегистри-
рованы? Держите ли контакт с ветеринарными стан-
циями? Вы проверьте насчет регистрации конского пого-
ловья, не было бы кое-где саботажа.
—- Проверю, товарищ полковник. Страна вся в дви-
жении. Границы открыты.
— Что еще скажете?
— Скажу, что не конское поголовье Болгарии решает
в этой войне. Пройдем и скажем конскому поголовью:
«Ауфвидерзеен»...
Ватагин с интересом посмотрел на Котелкова. Забавно
все-таки, как по-разному можно думать об одном и том
же. Оп сам только что размышлял, что не конским пого-
ловьем измеряется вся эта операция Пальффи, а для
Котелкова, ежели конское поголовье не решает исхода
256
войны, стало быть, «пе эффективно», следовательно, и
думать о нем нечего.
— Вот что, Котелков, знаю вас не первый день, спо-
рить с вами не буду, потому что бесполезно. Прошу при-
держиваться уставных отношений.
— Слушаюсь.
— Доложите все, что теперь знаете о Гансе Крафте.
Майор, не торопясь, закурил. Лицо усталое и серое
в табачном дыму.
— Доктор Крафт — бывший «фольксдейтч»...
— Знаю: из сербского Ваната.
— Держаться ближе к делу? — сухо полюбопытство-
вал Котелков. х
Он пе видел большой вины в том, что не заметил
исчезновения второстепенных лиц дипломатического кор-
пуса. Были дела поважнее.
— Товарищ полковник, в германском посольстве
Крафт был не бог весть что — третий секретарь. Прибыл
в Софию из Вршаца в тысяча девятьсот сорок третьем
году. Дипломатического образования не имеет. Я все
выяснил: неказистый, жиденький, располагал к на-
смешкам.
— Как мог банатский немец оказаться на дипломати-
ческой службе?
— Вы правы — это интересно. Но ведь даже импер-
ский министр Розенберг, правая рука Гитлера, — тоже
«фольксдейтч», из Прибалтики. Судя по «делу», Ганс
Крафт был во время войны за какие-то особые заслуги,
о которых подробнее не сказано, произведен в «рейхс-
дейтчи», получил имперский паспорт.
— Что ж, он с графом Пальффи детей крестил, что
ли? — неожиданно резко спросил Ватагин.
Котелков ничего не ответил, продолжая монотонно
докладывать:
— Допрошенные показали, что Пальффи Джордж —
тоже заурядная фигура в венгерской миссии. Оказался
бесполезным работником. Говорили, что он поглощен сво-
ими лошадьми и любовницами.
— Куда же он девался? Где они с Крафтом? Почему
остались на Балканах?
— Исчезновение их, возможно, тоже связано с роман-
тическими интрижками. Эти шелковые комбинации, ко-
торые изучал Цаголов, — в них, наверно, и вся загадка.
Эх, товарищ полковник, верьте мне: дешевим.
9 Н. Атаров, т. 1
257
Да, дешевим, — согласился Ватагин. — Я думаю,
если отделить шелковые комбинации Марины Юрьевны
от всяких иных прочих, первый вывод напрашивается та-
кой: спешат они страшно. Я сказал Цаголову: «Идем по
заячьему следу, а выйти можем на волчий...» Шустов,
к примеру, убежден, что в Ванате, на родине Крафта,
в его конюшне можно было бы понаблюдать, как запеча-
тывают ампулы с сапной культурой, там, по его мнению,
«фабрика ампул».
— К товарищу Шустову к самому надо бы пригля-
деться, — серым, ночным голосом произнес Котелков.
— Что вы хотите этим сказать?
— А только то, что этот стажер уводит нас в сторону.
Ватагин встал, кончая разговор. Встал и Котелков.
— Утром я вылечу на денек в Банат. Там, пишут,
конюшня сгорела при невыясненных обстоятельствах.
Останетесь тут командовать парадом. — Он помолчал и
тихо добавил: — Что говорили о Шустове — забудьте.
Держите его при себе, инициативу не поощряйте. Спокой-
ной ночи, Котелков.
24
Полковник Ватагин улетел в Банат, и майор Котелков
остался «командовать парадом».
Впоследствии Славка Шустов не £аз мрачно размыш-
лял над тем, как это получилось, что он нарушил приказ
полковника — «не заниматься частным сыском» — и очу-
тился на Шипкинском перевале. Все началось с того, что
в Казанлыке, во время поездки с Ватагиным в эмигрант-
скую богадельню, он забежал в местное фотоателье. Судя
по фирменному знаку на обороте фотографии одного из
семи «женихов» Ордынцевой, этот господин снимался
именно в Казанлыке. Славка и сам не ожидал такой
удачи: хозяин ателье сразу признал, что это — некто
Благов, смотритель перевала, там в горах и живет. Не-
сколько дней, когда вернулись в Софию, фотография шип-
кинскОго смотрителя жгла Шустову руки, и он разгля-
дывал ее в машине, загородившись спиной от всего мира*
И все ж в воскресное утро, зайдя с бумагами к май-
ору Котелкову, он и сам не думал, что в тот же день
встретится лицом к лицу с неразгаданной и ускользаю-
щей от него тайной. Тут главную роль, конечно, сыграл
майор,
58
Если вам в оскорбительно-шуточной форме говорят:
«Вы, Шустов, не разведчик, и в качестве разведчика вам
на Шипке делать нечего, пользы от вас не будет, расхода
горючего не оправдаете...», если среди разговора снимают
трубку и долго с кем-то беседуют (можно догадаться, что
с начальником общего отдела), как вы себя будете чув-
ствовать — хорошо, весело?
А Котелков знал, о чем поговорить в присутствии
стажера с общим отделом: о том, что шоферов надо про-
верить на всех трофейных машинах.
«— ...Знаешь, чтобы не просто был пронырливый хло^
пец, любимчик начальника, — давал указание Котел-
ков, — а хороший солдат, который в тяжелую минуту не
оставит командира, не подведет!
Шустов не считал себя хлопцем-водителем, но все-
таки было ему не более двадцати лет, а это возраст, когда
в таких случаях опустишь голубые глаза и стоишь, не
шелохнешься — сам не свой от обиды. Так что майор мог
впоследствии и не оправдываться, будто его усыпила
чистота и ясность Славкиных глаз: он их не видел.
Повесив трубку, Котелков неторопливо разглядывал
бумаги, потом потрогал осторожно ладонью бритую наголо
голову и сказал:
— Могу вам позволить поехать на Шипку в качестве
экскурсанта. Возьмите хотя бы Бабина, чтобы не гонять
машину впустую. Что ж, развиваться вам полезно, по-
чему бы не расширить свой кругозор. Нынче многие
штабные ездят к местам героического подвига русской
армии.
Когда Котелков молча подписал предписания на Шу-
стова и радиста и путевой лист на машину, Шустов так
же молча повернулся на каблуках и отпечатал строевым
шагом до дверей.
Только в пути он песколько отвлекся от оскорбитель-
ного разговора и повеселел. Давно уже им было о чем
поговорить. Радист почти и не видел Болгарии: он или
спал, набираясь сил, или дежурил у аппарата. Это был
поразительно добросовестный человек, и при всех взаим-
ных препирательствах Славка Шустов часто невольно
примерялся к Мише, особенно в минуты, когда Славкину
совесть захлестывал девятый вал самокритики. На этот
раз заспорили неожиданно о Даше Лучининой. Славка
похвастался, будто Даша к нему неравнодушна. Он не
ожидал получить от Миши такой отпор. Тот просто был
9*
259
беспощаден и камня на камне не оставил от Славкиных
иллюзий.
— Тебя еще пе за что любить.
— А ненавидеть?
— И ненавидеть не за что, — сказал Бабин.
Как ни удивительно, Славка задумался над этими
изречениями и даже забыл огрызнуться.
Знакомой дорогой Шустов в два счета привел машину
на перевал. Странно было влететь из знойной долины
Казанлыка в хмурый край ветра, камней и облаков.
...В корчме у перевала было темно. Пустые столы до-
жидались людей из долины. В открытое окно летел ветер
с водяной пылью, словно старый дом боролся с океанским
прибоем. Славка вошел первым. В дальнем углу малень-
кий чабаненок примерял перед осколком зеркала фетро-
вую шляпу, наверно, корчмаря. Увидев военных, он сму-
тился и убежал. Вскоре появился сам корчмарь, толстый,
неприбранный, с младенцем на руках.
— Здравствуй, хозяин, — сказал Шустов, стараясь
вести себя так, как вел бы себя Ватагин в этом случае. —
Вот заехали на Шипку. Принимай.
— Много здравия! Много счастья! — Корчмарь наце-
дил стаканы крестьянского вина из старого бочонка, сто-
явшего на прилавке. Его лицо, закаленное горным солн-
цем, зимними бурями и огнем очага, очень подходило по
тону к медно-зеленому бочонку.
— Как зовут смотрителя?
— Христо Благов.
Корчмарь вздохнул, вытер волосатые руки, стал наре-
зать брынзу. Звонок на двери вздрагивал от порывов вет-
ра, как дальний колокол, сзывающий путников в зимних
метелях. Под столом стояла понурая овца, готовая к за-
кланию в час, когда покажется из долины автобус.
Славка сел за щербатый стол, зевнул, снял с головы
фуражку.
Миша прямо с порога направился вдоль стен, на ко-
торых рядами были развешаны лубочные картинки вре-
мен русско-турецкой войны. Там черкес с седой бородой
гарцевал на коне перед красивыми болгарскими пленни-
цами. Там русские солдаты, в белых платочках от зноя,
тащили по кручам снарядные ящики. Шли на Шипку
болгарские ратники под знаменем, подаренным городом
Самарой. Генерал Радецкий в войлочной бурке огляды-
260
вал ложементы. Русский священник с непокрытой голо-
вой на ветру служил молебен над братской могилой.
В декабрьском буране погибали на аванпостах часовые
в обледенелых башлыках.
— Давно живешь на Шипке, хозяин? — спросил Шу-
стов.
— Я тут тридцатый год.
— Ого!
— А Христо Благов даже родился в этом доме, —
с каким-то особенным выражением, даже как бы с оби-
дой, произнес корчмарь.
— Хороший человек?
— Тут нельзя быть плохим, — ответил корчмарь, на-
крывая на стол. — Зимой задует, загудит, замглит — си-
дим, как в берлоге. Нас тут всего-то зимою: я с больной
женой, да Христо, да еще вот этот, — лицо его посветлело,
оп повертел тарелкой перед глазами ребенка.
— Если куда в долину съездить, так, наверно, на ло-
шадях?
— Да, бывает.
— Фуража, верно, много запасать надо на зиму?
— Весь он тут, под замком. Не больно много...
— А ключ у кого?
— У меня. — Корчмарь проверил связку больших
ключей у пояса. — А что?
— Ничего. Думаю, смотритель здорово коней любит.
Профессия требует.
— Нет, он пешком ходит — ноги длинные. Ходок.
Он, видимо, очень любил своего тихого ребенка, по-
тому что не расставался с ним, приготовляя закуску за
прилавком.
— Ты, гляжу, хороший отец, — сказал Шустов.
— Разве ж это мой? — возразил корчмарь. — Это сын
смотрителя.
— Значит, есть и у него жена?
— В том-то и дело, что нету! А была.
Вздыхал он так, будто откупоривалась бутылка с пе-
нистым вином. Он нацедил из бочонка в графин и поста-
вил перед Шустовым. Бабин скромно подсел и потянулся
за своим прибором. Корчмарь одной рукой боролся с не-
послушными створками окна.
— Что же с ней случилось? — спросил Славка, не до-
ждавшись продолжения рассказа.
— Если бы знать. Сгинула в одну ночь.
261
— Недавно?
— Две недели назад. Войска проходили. А тут и
Христо сам подорвался...
— То есть как подорвался?
— Да так — па мине. Вы думаете, только вы рискуете
головой, а мирное население, может быть, еще больше
страдает. Пришел оборванный, обгорелый, только мычит.
Вообще-то легко отделался. Когда фронт проходит над
вашей головой, и не то бывает. Только от горя, от кон-
тузии одичал совсем. Даже пас избегает. Главное — жена.
Мы говорим: «Можно ли думать, чтобы такая хорошая
ушла с солдатней?» А он верит, что ушла. Только я ска-
жу — у нас, болгар, так не бывало.
Он поглядел на дверь, словно ждал кого-то.
— Затосковал Христо. Сколько лет с собакой ходил,
вчера застрелил своими руками.
— Это с какой же стати? — удивился Бабин.
— Жить не давала. С того самого четверга, как про-
пала жена, выла, выла, выла.
— Слушай, хозяин, а не сап ли у вас тут гуляет? —
спросил Шустов.
— Сап-то гуляет, ветеринары третьего дня приезжа-
ли — и наши и русские, дезинфекцию делали, пробы брали.
Только таких пустяков не говорили: жена тут при чем...
или пес? А что вы все расспрашиваете? — встревожился
хмурый толстяк и в первый раз недружелюбно поглядел
на приезжих.
Шустов поднял голову от тарелки, усмехнулся.
— Что ж тут такого, хозяин? Мы — люди военные, ко-
чевые, любим поговорить.
— Я и сам люблю. Только добра от этого не жди. —
Он насупился, но, видно, не часто ему попадались собе-
седники. И со вздохом он продолжал рассказывать: —
В прошлом году так же вот заехала легковая машина.
Важные господа. Так же стала дама расспрашивать
о смотрителе: где родился, да играет ли в кости, да видит
ли сны. Красивая, седая,, вдруг расплакалась навзрыд..
Слезы как роса на капусте. Будто бы он, Христо Благов,
вовсе и не Христо Благов, а русский офицер, ее жених.
Она его потеряла двадцать пять лет назад, вот разыскала
и не уйдет. Трое суток у нас жила.
— Да ну! — подивился Славка.
Бабин с безучастным выражением лица очищал та-
релку,
262
— Карточку показывала — того, пропавшего. Выли-
тый Христо Благов! Тот уже стал сам в себе сомневаться.
Насилу отбились. Беременная жена рассердилась, ушла
в долину. Гости уехали, а у этих ссоры, ревность, не
помню уж, как и перезимовали. Колдунья, просто кол-
дунья побывала у нас. С нее все и пошло. А теперь —•
совсем беда! Боимся, чего бы худого над собой не со-
творил.
— От горя отвлекать надо, — вставил Славка,
Как же еще должны поступать друзья?
— А может быть, он в самом деле влюбился в эту
седую? В колдунью? И от жены отделался, чтобы остать-
ся свободным?
— Господи, что вы такое говорите, — в ужасе про-
шептал корчмарь.
Бабин молча слушал, и Шустов тоже старался ка-
заться равнодушным, ковырял спичкой в зубах. Ни сочув-
ствия, ни даже любопытства. Гулко вздохнув, корчмарь
поставил перед ним стаканчик с зубочистками и отошел
к прилавку.
Расплатившись, Славка вышел из корчмы. Солнце све-
тило неровно, будто задыхаясь в беге сквозь летучие
облака. Чабаненок сидел на камне и смотрел вдаль, по-
ложив па коленки рваную войлочную шляпу.
— Тут до памятника двести метров, не собьетесь.
Вы его сейчас разыщете, — говорил корчмарь, укачивая
ребенка, заплакавшего на ветру.
Шустов шел впереди. Горная тропинка вилась среди
больших и острых камней. Ветер гнал вверх по склонам
рваные полоски белого облачного дыма, они карабкались
вровень с идущими, проглатывая кусты и камни.
— Любопытство, видите ли, одолевает. Разговорил-
ся, — недовольно ворчал Бабии, стараясь не отставать. —
Хороший человек этот корчмарь, а мы — что? Черт знает,
за кого он пас принял.
— Криминалисты говорят, что человека окружают
улики, — наставительно сказал Шустов. — Видите ли,
всякий человек ведет себя так, чтобы возбуждать подо-
зрения.
Миша фыркнул. Славка глянул через плечо.
— Потому-то автотехник тебя и подозревает, что ты
с запасного «виллиса» резину подменил, — рассмеялся
Бабии.
263
25
Позади послышались шаги. Друзья подождали — их
догонял высокий болгарин в бриджах. Смотритель так
мерно и широко, по-верблюжьи, ставил ноги в тяжелых
бутсах, точно много ходил с утра и устал. Среди болгар
часто встречаются высокие и рослые мужчины. В руке
он держал связку больших ключей, и только это позво-
ляло угадывать в горном спортсмене музейного служи-
теля.
То, что на фотографиях в альбоме казалось привыч-
ным, само собой разумеющимся, сейчас ошеломило Слав-
ку: поразительное сходство смотрителя перевала с маке-
донским монахом. Редкая бородка почти не скрывала
резких линий лица, горбатый нос с тонкими крыльями
ноздрей, под мягкими усами губы поджаты, как будто
смотритель вот-вот засвистит, меж тем как выражение
лица было неподвижно-сумрачное, а само лицо — будто
выточено из цельного куска темного дерева. Только нет
горба за спиной: на редкость высокий и рослый мужчина.
— Я Христо Благов, — сказал он, поравнявшись. —
Желаете осмотреть колыбель освобождения Болгарии, где
утвердилась слава русских боевых знамен? — Он говорил
заученно, без лишней торжественности и показал рукой
туда, где на скалистой площадке, среди старинных мор-
тир и зарядных ящиков, был виден памятник шипкип-
ским героям.
На взгляд обелиск не казался большим среди горных
массивов: он был как бы в дружбе с горами, сродни им.
На самом деле он был огромен — гранитный обелиск
с каменным львом на фронтоне.
Смотритель вел их по гребню горы святого Николая.
Тишина, какая бывает только в горах, изредка наруша-
лась шорохом камней да хриплым простуженным голо-
сом Христо Благова — ключи от склепов позванивали
в его руке, исторические позиции на Шипке были для
него привычным местом работы. Он объяснял экскурсан-
там: позиции генерала Радецкого имели форму вытянутой
линии, замкнутой в тесной подкове турецких траншей.
Он показывал места, где турки вели перекрестный об-
стрел русских 4 ложементов с расстояния в пятьдесят
шагов.
— Там, между Драгомировской и Подтягпнской бата-
реями, — оп показал в туман, клубившийся над камня-
264
ми, — дорога, по которой сообщались' с внешним миром,
делает виток длиной с версту. Это было совсем открытое
место. Можно пройти только ночью. Кашевары скакали
на лошадях по трупам. Этот виток дороги прозвали Рай-
ской долиной.
Он рисовал картину давно отгремевшего сражения.
Событие, некогда волновавшее Россию и Балканы, — то,
о чем толковали во всех гостиных Европы, над чем ли-
лись бабьи слезы в безвестных русских селах и дерев-
нях, — это событие стало теперь ремеслом Христо Бла-
гова. Тропинки, где, согнувшись под пулями, бежали за
водой охотники, — а в ложементах хохот и улюлю! —
были теперь для него привычными тропинками, по кото-
рым он водил стада экскурсантов. На Круглой батарее
он знал камень, откуда отлично обозревалась вся пози-
ция; под колесом старой мортиры он имел обыкновение
прятать свой завтрак; на Орлином гнезде он не любил
задерживаться, потому что там вечно дул пронзительный
ветер.
Славка плохо слушал смотрителя. Слишком сильное
впечатление произвел на него рассказ корчмаря. Оп
взглянул на спину смотрителя. Широкая атлетическая
спина. Видно, тот был чуткий — сразу оглянулся.
Миша слушал, казалось, позабыв все на свете. Он хо-
дил по тем местам, где восемьдесят лет назад горсточка
русских людей — три полка: Волынский, Подольский,
Орловский — несколько месяцев стояли насмерть. Тот же,
как сейчас, был воздух, и туман и облака так же закры-
вали и вновь открывали зеленые горы, так же просвечи-
вала внизу, на юг, долина Шейнова, и были видны поля
и сады до самого Казанлыка, который тоже проглядывал,
как сейчас, бурой полоской на горизонте... Та же была
тишина. Ну, нет: наверно, слышались сигналы на рожке,
крутились, пели и рвались бомбы, пули плакали, как
грудные дети, и вдруг начинались звериные вопли:
«Ал-ла!» — это турецкие таборы шли в атаку, и склоны
гор расцветали красными фесками.
Смотритель шел размеренными шагами, в полный
рост, неторопливо покачиваясь, как все экскурсоводы на
свете, и это тоже казалось Мише удивительным и непо-
нятным. Сам-то он жил сейчас к ложементах, где надо
гнуться, таиться, где все сырое, — хоть выжимай, — от
Проходящего облака. Он был сейчас на службе не у пол-
ковника Ватагина, а у самого генерала Радецкого — орди»
265
нарцем, писарем, радистом-слухачом — все равно! — это
при нем по вечерам, примостясь на казенной части ору-
дия, генерал с какой-то душевной чистотой и грустью
писал в записной книжке: «На Шипке все спокойно»,—
и отрывал листок, отправлял депешу в Петербург.
Опп подошли к памятнику, укрылись от ветра под
его огромной стеной. Смотритель стоял у входа в склеп,
где на заржавленной двери — чугунный череп с чугун-
ными костями. Мохнатые уши Христо Благова торчали
из-под берета. Шустов следил за взглядом смотрителя:
внизу виднелась корчма; машина казалась среди скал
такой крохотной, словно чабаненок сделал ее своей
игрушкой. «Наверно, Благов злится — зачем приеха-
ли»,— подумал Славка. Их взгляды встретились. И чтобы
скрыть свою мысль, Шустов спросил:
— А как же у них было с водой?
— Они пили воду из баклаг, в которых смачивают
артиллерийские банники, и вода была с салом и поро-
ховой гарью.
Странно — смотритель был как будто доволен соб-
ственным ответом — исчерпывающим и четким. Шустову
показалось, что Благов наизусть проверяет свой запас зна-
ний. Вот что значит — отсутствие практики. Он вел их
сейчас к Орлппому гнезду. Здесь турки, пользуясь тума-
ном, не раз врывались на скалу. Тогда над пропастью
начиналась рукопашная схватка. Дрались камнями. Ду-
шили. Ударом в живот сталкивали в бездну.
Острый кадык смотрителя шевелился. Он помолчал
с минуту, вспоминая подробности... Дрались молча. Уста-
лость и бешенство сводили дыхание. Нечем было кричать.
И когда последнего сбрасывали, так же молча солдаты
принимались за будничное дело — убирали трупы. Смрад
окружал позиции. Слабых солдат тошнило. Они отходили
в сторонку и уже пе боялись ни бомбы, ни пули.
Миша потянул воздух ноздрями, глаза его горели.
Как он проникся чувством общности с теми, шипкински-
ми, сознанием, что и сегодня живо солдатское правило:
так нужно! Вот и весь ответ. Нужно воевать — воюй. Не
было бы России — и тебя бы не было. Воюй добросовест-
но, честно, по-русски. И эта серая скала, Шипка, про-
глоченная облаком, была сейчас в его глазах рядом
с Полтавским полем, вровень с Бородинским полем, с по-
лем Куликовым, даже с теми зимними донскими степями
266
и логами, по которым он сам недавно ехал со своей спец-’
машиной в глубокий рейд по тылам противника.
Положив костлявую руку на узорчатый, изоржавлен-
ный до красноты крест, стоявший среди камней, смотри-
тель методично рассказывал об Орлином гнезде. Он,
верно, по минутам рассчитал, сколько и о чем говорить,
и в голосе его не было усталости, как и в походке. Он
рассказывал о том, что в октябре 1877 года, когда подули
холодные ветры на перевале, орел, живший в камнях,
стал спускаться к кострам, жесткоперый, злой, солдаты
его приманивали деревянными ложками. Они тоже были
«орловцами».
— Эй, гляди-ка! — воскликнул Бабин. — Гляди-ка,
Славка!
Он показал рукой в небо над пропастью. Пыльно-жел-
тый орел недвижно парил, видно, что-то выглядывал в
камнях стариковскими глазами.
— Старый дьявол... — прошептал Шустов с восхище-
нием. — А ведь он, пожалуй, видел?
— Кто видел? — спросил Бабин,
— Орел, говорю.
— Что видел? — быстро переспросил смотритель.
— Все видел, — с подчеркнутой жесткостью ответил
Славка.
Он глядел не на орла, а на смотрителя. И от него
не укрылось, как непонятный испуг исказил лицо бол-
гарина.
— Так вы говорите, трупы достать нельзя?
— Какие трупы? — грубо спросил смотритель.
— Всякие трупы: конские, к примеру. Сапные.
— Не понимаю, — отрезал смотритель и отошел в сто-
рону.
Но Славка — как будто и пе было этого минутного
разговора — снова глядел на парившего орла.
— Наверняка видел! — восторженно крикнул он и
даже кулаком махнул. — Орлы по сто лет живут! Это тот
самый и есть!
И они втроем стали следить за медленными и плав-
ными движениями орла.
Назад возвращались той же тропинкой. Облака, потя-
нув снизу, снова прикинулись мокрым туманом. Шустов
легко находил дорогу среди уже знакомых камней.
— Я не могу поспеть за тобой! Давай отдохнем! —
крикнул Бабин,
267
— Отдыхать в могиле будем! — весело отозвался
Славка любимой поговоркой Котелкова.
Но все-таки остановился, глядя в туман, откуда дол-
жен был показаться замешкавшийся смотритель.
Два выстрела — один за другим — прозвучали гулко.
Еще один...
— Ну-ка, присядь, — приказал Шустов, схватившись
за плечо.
Они сели под камнем.
Человек стрелял не наугад.
— На Шипке все спокойно, — уныло заметил Бабин,
прикрывая раненого товарища.
Шустов вынул из кобуры пистолет. Выстрелов больше
не было. Ни шороха, ни голоса, ни дыхания. Тишина,
какая бывает только в горах.
— Чего он, сбесился? — шепотом спросил Бабин.
— Спятил, — спокойно засвидетельствовал Шустов,
а глаза его сверкнули тем шельмоватым блеском, который
всегда помогал понять, что он избежал опасности. —
Жену застрелил, собаку задушил, теперь в нас стреляет.
А ну, за мной!
Они вернулись к памятнику. Он стал мокрым, почер-
нел в тумане. Смотрителя нигде не было.
— Выходит, на Шипке все спокойно, — подтвердил
Шустов, снимая с себя гимнастерку.
— Пуля застряла?
— Царапина. Скользнула только.
— В машине санитарный пакет. Дойдешь?
На обратном пути поссорились.
Все-таки характер у Миши чертовский: невозмутим,
аккуратен, скуповат. И ко всему — голос. Неожиданно
густой, басистый. Очень тонкое понимание музыки. После
всего, что случилось на перевале, он ничего не нашел
умнее, как напевать и насвистывать какую-то серьезную
музыку, — кажется, «Лунную сонату» Бетховена.
Шустов не любил этого. Он любил песенки из послед-
них кинофильмов или то, что в мирное время играли па
танцплощадках в саду Баумана и в Сокольниках. По-
вязка стягивала плечо, царапина жгла с каждым часом
сильнее. Они ждали в корчме до вечера. Хозяину, ко-
нечно, — пи слова. Благов как в воду канул. Славка не
мог простить себе: вот ведь решил проверить свои подо-
зрения п увлекся. Теперь ищи ого...
268
— Ну, свистишь? — зашипел он наконец и остановил
машину с краю дороги.
Бабин перестал свистеть и удивленно посмотрел па
него.
Дьявольски мрачно выглядел Шустов в эту минуту.
— Свистит... Подскажи лучше, что делать.
— Доложить майору Котелкову.
— Ни за что! Будет кишки из меня тянуть.
— Товарищ младший лейтенант, надо уметь ответ
держать.
— Все доложу. Но только полковнику! Пусть хоть
в штрафную! По крайней мере, человеком оставит.
Бабин усмехнулся. Вот герой. Значит, легкая смерть
лучше трудной жизни? И ему стало жаль Шустова.
В приступе нежности к другу, попавшему в беду, он
только и произнес:
— Луи Буссенара нет на тебя. Он бы тебя описал.
26
До Вршаца не долетели: фронт рядом. Капитан Цаго-
лов, сопровождавший Ватагина, предъявил документы
в каком-то штабе, окопавшемся на лесной опушке. Им
дали машину и двух солдат. В сербских селах по пути
встречали с любовью.
Это была святая осень Югославии — осень становле-
ния народной власти. Селяки возвращались к родным
очагам из партизанских ущелий. В городах веселился
весь трудовой народ — седельщики и сапожники, пекари,
портные... Благородная страна всем сердцем встречала
русского солдата, несшего освобождение.
Маленькое дорожное происшествие взволновало Вата-
гина. В доме, где привел случай остановиться, оп раз-
говаривал с вдовой сербского подпоручика, расстрелян-
ного оккупантами, и вдруг она стала целовать его руку.
Потом долго гладила головку дочки-сиротки, удержива-
ясь, чтобы больше не плакать.
Дом Крафта легко было найти по спискам городской
управы. Он оказался пуст и заброшен. Во дворе пахло
гарью — три дня назад горела конюшня.
Впрочем, вымершей казалась вся немецкая часть го-
родка. Каждый дом — покинутая крепость с тяжелыми
воротами, за которыми еще неделю назад жила двухсот-
269
летняя колонистская скука: зеркально-чистые полы, эк-
зерсисы на фортепьяно, карточные пасьянсы и расклейка
почтовых марок по филателистским альбомам вечерами,
когда коммерсанты и фермеры возвращались в свои квар-
тиры.
Теперь мужчины поголовно ушли в девятую дивизию
СС— «Принц Евгений». Дома стерегли старухи. На край-
ней улице (за ней — католическое кладбище) уцелел
лишь злой, как пес, владелец магазина электроприборов,
скрывавшийся на задворках со своей глухонемой слу-
жанкой.
Человека, который мог бы дать информацию о Краф-
те, надо было искать среди сербов. Там, в сербской поло-
вине городка, пятый день царило славянское счастье
песен, шумных разговоров, веселых тостов; что ни день —
в каждом дворе свой праздник «славы», когда зовут
к столу соседей и прохожих солдат и пьют и пляшут вих-
ревое коло. Но в ограде церкви, где ветер швырялся
охапками желтой листвы, новобранцы Народно-освободи-
тельной армии меж тем день и ночь занимались строевой
подготовкой.
Капитану Цаголову повезло: в нескольких домах жен-
щины сказали ему, что лучше всех знает Ганса Крафта,
конечно, «мастер Владо». Это был шахматный маэстро,
объездивший все столицы мира с сеансами одновременной
игры, а теперь, в родном городке, постаревший и немного
опустившийся. Он был единственный из сербов, кто бы-
вал в колонистских домах. Он снисходительно обыгрывал
любителей, пил их вино, а поздно вечером пробирался
через весь город на окраину, где терпеливо ожидала его,
как когда-то из дальних странствий, маленькая жен-
щина — его жена.
Цаголов разыскал их скромную лачугу. Тучный муж-
чина в мешковатом костюме был рад визиту русского
офицера и, видно, пе очень даже удивлен.
— Входите, входите. Я знал, что вы меня разыщете.
— Вас часто разыскивают шахматисты?
— Да, и это тоже... — неопределенно заметил Владо.
Они договорились о вечерней встрече.
— Что ж, если ваш полковник хочет поиграть со
мной, я буду счастлив провести с ним вечер, чтобы оп
не скучал. И шахматы принесу, не беспокойтесь. Значит,
вы поселились в доме Крафта? Я знаю дом Крафта, не
беспокойтесь — буду,
270
— Я заеду за вами, господин Владо.
— Благодарен.
Провожая в прихожей гостя, он долго рассказывал
капитану, как в былые хорошие времена он играл по-
всюду, давал сеансы — да, и в Москве, и в Петербурге!
В глазах его, дремавших в толстых веках, таились добро-
та и усталость.
В назначенный час Сослан привез шахматиста. Лег-
кий ужин стоял на столе, а па подоконнике лежал при-
готовленный пакет с продуктами, снаряженный заблаго-
временно в хозяйственной части штаба дивизии. Маэстро
вынул из замшевого футляра игральную доску, расста-
вил на ней великолепные резные фигуры.
Ватагин запоздал. По правде сказать, и он и шофер
в темноте заблудились в мертвых кварталах. Он вошел
быстрыми шагами и извинился.
В глубоком кресле, положив руки на толстые кожа-
ные подушки, шахматист сидел с видом человека, распо-
ложившегося в давно ему знакомой квартире.
— Русские любят опаздывать, чтобы потом наверсты-
вать упущенное, — сказал он с улыбкой.
— Как вас зовут, маэстро?
— Зовите меня Владо.
— Вы знали хозяина этого дома?
— В своем городе я знал всех, кто умеет отличить
ладью от пешки.
— Правоверный нацист, судя по библиотеке? — спро-
сил Ватагин, подойдя к полке терракотового камина, па
которой среди немецких книг виднелась «Моя борьба»
Адольфа Гитлера в розовом переплете.
— Это было его Евангелие, ответил шахматный
мастер и сделал ход пешкой.
Партия началась. Полковник ответил ходом коня. Ми-
нут пять они разыгрывали дебют — быстро и четко.
Когда-то полковник играл по-любительски неплохо, и
сейчас ему хотелось атаковать. Он не боялся проиграть
мастеру. Тот играл небрежно, к тому же ронял пепел и
не замечал его на доске. Видно, годы недоедания сло-
мили старика. Это было заметно и по костюму и по игре,
она все же не так хороша, как раньше, судя по его бы-
лой репутации.
— Браво, — похвалил Владо, когда его королевский
фланг оказался под угрозой атаки,
271
В эту минуту полковник закурил и отодвинулся от
доски.
— Владо, я пригласил вас не для игры, — сказал
он, — и этот дом не тот, в котором я действительно оста-
новился. Я хотел бы, чтобы вы рассказали мне все, что
знаете о хозяине дома.
— Оп был плохой игрок: слишком методичный. Я да-
вал ему ладью вперед, но он был тщеславен и не брал.
— Владо, я спрашиваю не о шахматисте.
Старый мастер сквозь одышку рассмеялся.
— Я так и думал, что вы пригласили меня не для
шахмат. Но мы все-таки доиграем: мне правится партия.
Как вас зовут?
— Иван Кириллович.
— Так вот, Иван Кириллович, Крафт был одинокий
и скупой человек. Провинциальный тщеславен; и маньяк.
Представьте себе: глухая старовенгерская провинция
в среднем течении Дуная, полуфеодальный Бапат с его
блуждающими в болотах речками, пустынными приду-
найскими дюнами, буковыми лесами, с его румынскими
и сербскими деревеньками и богатыми дворами немецких
колонистов. И в этом скучнейшем Ванате, вдали от вен-
ских ипподромов, будапештских манежей, балатонских
аристократических конюшен и конных заводов Мезёхе-
деша, находится педант, который в разгаре сумасшедшей
войны садится за многотомное исследование. На какую
тему — вы спросите? «История венгерского племенного
коннозаводства»! Десятки племенных книг, тысячи кар-
точек — Крафт их сам переплетает ночами. Он знает все
двухсотлетнее потомство арабского жеребца Гидранта, вы-
веденного из Неджда. Он знает наизусть все стати любого
потомка английского дербиста Норт-Стара, пасущегося
сегодня в травянистых степях долины Дупая и Тисы.
Он может показать вам приметы любого рысака из семьи
Фуриозо — обхват груди, размет шага, высота в холке.
— Владелец отличной конюшни? — спросил Ватагин,
не поднимая головы от шахматной доски.
— Что вы! — рассмеялся серб. — Пять-шесть цыган-
ских лошадей, как раз столько, чтобы удобрять навозом
палисадник с каннами.
— Вот как... Ну, хотя бы первоклассный наездник?
— Право, не замечал. Надо сказать, что этот люби-
тель конных скачек и рысистого бега сам не умел вста-
вить ногу в стремя, обходил лошадей только спереди, он
272
вообще был трус, не мог видеть кровь, корчился, как
девочка, от флюса. Он испортил себе зубы, боясь бор-
машины... Впрочем, говорили, что в Софии, где он в по-
следние годы служил в германском посольстве, у не-
го превосходная конюшня. Оттуда иногда приезжали
тренеры.
— Вот как... Он всю жизнь писал историю венгерского
коннозаводства и переплетал племенные книги?
Владо взглянул на русского офицера усталыми доб-
рыми глазами и осторожно усмехнулся.
— Я так и знал, что вы меня найдете. Нет, это его
последнее увлечение военных лет. Помню его прежние
изыскания в области антропологии. От этого человека
всегда за десять верст воняло расизмом. Что удивитель-
ного: говорили, что в тысяча девятьсот двенадцатом году,
гуляя по улицам Вены, оп, тогда еще бедный недоедаю-
щий студент, познакомился с одним бездарным худож-
ником —Адольфом Шикльгрубером, будущим фюрером
германского фашизма.
— Вот как? Интересно, — сказал полковник, снова
возвращаясь к партии, потому что маэстро сделал ход.
В той свободе, с какой Владо за разговором отпари-
ровал угрозу атаки, все-таки сказывалась его прежняя
сила. Желая удержать инициативу, Ватагин сделал риско-
ванный ход пешкой. Маэстро улыбнулся:
— Такой ход вряд ли соответствует ситуации. Тут
был бы уместен любой выжидательный ход...
Смуглым пальцем с массивным золотым кольцом он
в рассеянности гладил края едва заметной штопки на ру-
каве пиджака.
Ватагин закурил. Игра снова прервалась.
— Тщеславие Крафта, — продолжал маэстро, — пита-
лось доскональностью его изысканий. Каждая примета
породистой лошади заносилась на карточку: не только
промеры, по и черты характера, привычки. Бесконечное
множество карточек. Это была та скрупулезность, когда
за мелочами давно потеряна цель. Квартира уже не могла
вместить тысяч карточек, он перенес картотеку в ко-
нюшню.
— В конюшню?
— Да, там была комнатка для работы. Мы там иногда
играли в шахматы после обеда, там прохладно и уютно.
И я слышал порой за перегородкой голоса двух пере-
писчиков — оп выписал из Германии двух молодцов
273
призывного возраста, очевидно увильнувших от Восточ-
ного фронта.
— Где она сейчас, эта картотека?
— Я расскажу. Но сперва доиграем.
Он сделал скромный ход конем — ход, подготовивший
жертву ферзя. Полковник заметил поздно: неосторожное
движение пешкой приносило теперь свои плоды. Через
три хода мастер сдавил игру партнера. Теперь он реали-
зовал преимущество просто и убедительно.
— Досадно, — сказал полковник, ребячески улыбаясь,
как оплошавший школьник. — Я проглядел возможность
жертвы.
— Это случается, если играешь нетренированным или
усталым, — любезно заметил Владо. — Ваша игра произ-
вела на меня впечатление. Вы вели атаку нешаблонно.
Но поспешность иногда так же ведет к проигрышу, как
и потеря темпа. Впрочем, вы меня пригласили не для
шахмат. — Он засмеялся, поглядывая на стол, накрытый
на три прибора. Сослан Цаголов давно томился за ним
в одиночестве.
Они перешли к столу. Владо оживился.
— Мне кажется, что только в австрийской провинции,
в Линце, на родине Гитлера, или в нашем Вршаце, могли
распускаться пышным цветом такие маньяки. Ганс
Крафт пытался маскироваться под ничтожество. К чему
усилия! Он действительно не был большим человеком.
Слишком далек от жизни. Когда Гитлер уже стал рейхс-
канцлером, чтобы повести Германию навстречу гибе-
ли, я принес Крафту книжку Талейрана. Там была уни-
чтожающая реплика, я прочитал ему... не помню
сейчас.
— Припомните, Владо.
— Там было написано приблизительно так: «Романист
награждает умом и выдающимся характером своих глав-
ных героев. История не так разборчива и выдвигает на
главные роли того, кто оказывается в данный момент под
руками...» Не дурно, правда?
Он засмеялся. Его мешковатый пиджак заколыхался
на животе, придавая облику старика нечто легкомыслен-
ное и в то же время печальное.
— Что же ответил Крафт?
— Я прочитал, чтобы подразнить его, но он пришел
в восторг. Он отнес эти слова не к фюреру, а к себе.
Первый раз я видел, как, отбросив напускное смирение,
274
он самодовольно сказал: «Придет и мой час!» Но этот час
не приходил довольно долго. Дважды Крафт ездил в Бер-
лин и возвращался посрамленный. И только весной сорок
третьего года, уже после Сталинградской битвы, он вер-
нулся из Берлина, чуть нс лопаясь от важности. Он был
необыкновенно воодушевлен, а у него это всегда превра-
щалось в заносчивость. Он читал своим соотечественни-
кам закрытые лекции, рассказывал о впечатлениях от
знакомства с модным в Нюрнберге профессором филосо-
фии Эрнстом Бергманом. В эти дни он писал «Психопа-
тологию бесстрашия». Рассказывали, что он познакомился
с крупными заправилами нацистского райха... Я спросил
его при встрече, собирается ли он вернуть мне долг,
оставшийся за ним после поездки в Вену, что-то около
тысячи динаров. Куда там! Он был уже выше этих
житейских мелочей.
— Вы говорите — педант,— осторожно повернул бесе-
ду Ватагин,— а картотеку держал в конюшне. Место
ли это?
Старый мастер решительно отодвинул тарелку, встал,
сказал:
— Пойдемте в конюшню.
— Ее нет, Владо. Она сгорела три дня назад.
— Я знаю. Пройдемте туда.
27
В глубине двора по асфальтовому пандусу, усыпан-
ному битым стеклом, Владо спустился в полуподвал сго-
ревшей конюшни. Ватагин и Цаголов, светя фонариками,
следовали за ним. Сильно пахло золой и гарью. Трупы
лошадей, раздутые и твердые, точно набитые угольные
мешки, преграждали дорогу. Какие-то головешки — остат-
ки кормушек и яслей вперемежку со стеллажами — были
усыпаны осколками черепицы.
— Сюда попал снаряд?— спросил Ватагин.
— Нет, тут другое было! — воскликнул Владо.
Он молчаливо боролся с различными препятствиями,
мешавшими пройти в тот угол конюшни, куда он стре-
мился.
— Вот это место! Здесь в предвечерний час доктор
Крафт сидел и чистил свой картофель. Поужинав и акку-
ратно прибрав объедки, он играл со мной в шахматы.
275
И, уходя поздно вечером, я видел в окне его сутулую
спину в свете настольной лампы.
— Вы видели и его картотеку?
— Еще бы! Но чаще — слышал. За перегородкой веч-
но бубнили два немецких голоса. Иногда можно было
узнать забавные вещи,— он засмеялся.— Я шахматист и,
значит, немножко аналитик, и у меня мало шахматной
практики в этом дрянпом городишке, так что голова
ищет работы. Мы играли с Крафтом в шахматы, а за
перегородкой звучали голоса переписчиков, диктовавших
друг другу. Там бесконечно слышались обычные лошади-
ные клички: Фру-Фру, Волтижср, Принцесса, Эклипс,
Гладиатор.
— Отдел кадров племенного коннозаводства,— угрюмо
заметил Цаголов.
— Да, вы правы! Но я совершенно остолбенел, услы-
шав однажды фантастическую кличку: Коротковолновый
радиолюбитель.
— Интересно,— заметил Ватагин.
— Вот именно! Я темный человек, но это понимаю;
откуда такая забавная кличка? А в другой раз еще чуд-
нее: Капитан речного флота в отставке.
— Да, это хоть кому покажется любопытным.
— Или вдруг: Смотритель Шипкинского перевала.
— Там был и Смотритель перевала?
— Именно! Не слишком ли причудливая кличка для
темно-рыжего жеребца со спущенным крупом?— Владо
помолчал, задав этот вопрос, и вдруг решительно доба-
вил:— Я знал, что вы меня разыщете.
— Да о конях ли шла речь, Владо?— спросил Ватагин.
— Я тоже, как вы сейчас, спросил его: если уж Смот-
ритель перевала, так у него должен быть затылок, а не
холка, надо писать шатен или блондин, а не гнедой или
каурый.
— Что вам ответил Крафт?
— Он пришел в ужас! Никогда не думал я, что
можно так испугать человека. Он хлопал своими белыми
ресницами, потом пришел в себя и все-таки объяснил.
— Интересно.
— Очень. Оказалось, что в карточку, если породистая
лошадь не на государственном конном заводе, а в частной
конюшне, заносится и ее владелец.
— А вам не приходилось, Владо, встречать у Крафта
кого-нибудь из этих владельцев?
276
— Он больше не пускал меня в конюшню. Завел со-
баку, и она сторожила двор.
— Что же было потом?
— Потом нравы стали строже.— Владо устал расска-
зывать, голос его потускнел.— Немцы отступали па восто-
ке. Начались расстрелы. Стало печально и тихо в серб-
ских домах. Детей угоняли в Германию. Юноши уходили
в горы. Женщины... ну, те плакали. А с немецких улиц
неслись звуки духового оркестра, озверелые вопли:
«Хайль, Гитлер!» Ганс Крафт пребывал в Болгарии.
Ватагин взял серба под руку, и они вышли во двор.
— Дорогой Владо, вы не сердитесь, но я вас спрошу.
Если не хотите — не отвечайте. Когда вы были в послед-
ний раз в этом доме?— спросил Ватагин, не отпуская
руки шахматиста.
Тот помолчал.
— Три дня назад.
— В день пожара?
— Вы все знаете,— усмехнулся Владо.— Мне сказали,
что оп вернулся домой, и я пришел со своими племян-
никами в последний раз спросить его о долге. Война...
В худые времена маэстро остаются без заработков. Но
мы пришли поздно, Крафта уже не было, только пылала
его конюшня. Я знал, что картотека хранится в конюшне,
и я должен был ее спасти.
— Для него?— спросил Ватагин.
— Нет. Для вас... Я вбежал со своими племянниками
в горящее здание. Мы вытащили оттуда три ящика. Опи
уже начинали гореть. Когда мы во дворе срывали с себя
тлеющие куртки, я видел в распахнутую дверь, как ме-
тались в конюшне обезумевшие лошади. Языки пламени
вспыхивали от их движений, а в ночное небо поднимался
сноп красных искр. И я подумал с облегчением: вот
уходит в вечность проклятая огненная комета фашизма,
летит ее раскаленный хвост, и последние уголья угасают
в огромном холодном небе!
Как он переменился! Волнение охватило его — теперь,
несмотря на элегантность поношенного костюма, он не
казался космополитом: это был серб, старый серб, дети
и внуки которого в партизанских отрядах громят захват-
чиков па всех путях их отступления с Балкан.
А когда в памяти Владо догорел костер крафтовской
конюшни, глаза, его стали снова усталыми и добрыми, и
он сказал полковнику:
277
Теперь поедем ко мне, я передам вам три ящика..*
под расписку. Но прежде пойдемте-ка лучше к доске,
Иван Кириллович. Хотите — я покажу вам, как я однаж-
ды обыграл самого Алехина?
28
Простившись с другом человечества Владо, полковник
Ватагин с его ленивой и грузной повадкой как бы преоб-
разился. Он чувствовал необходимость быстрых решений.
Вся эта паника с поджогом племенных книг, а перед тем
поездка Крафта в Германию, его загадочные знакомства
в Берлине — все говорило о том, что дело, затеянное ба-
натскпм немцем, значительнее и опаснее сапной дивер-
сии. Ватагина направляло по следу невидимого врага
почти незаметное мелькание признаков, похожее на то,
что видел он однажды в монгольской степи, когда под-
няли волка и он уходил от преследования, едва показы-
вая спину в высокой траве.
В штаб фронта Ватагин и Цаголов возвратились под
вечер. Шустов, приехавший за ними на аэродром, не
успел вытащить полковничью шинель из машины, как
Ватагин уже собрал офицеров. Автоматчики втащили
ящики в комнату. Славка не мог помочь: плечо в бинтах
мешало. Ватагин это заметил:
' — Что с вами?
— Так... ничего,— замялся Шустов, ожидая удобной
минуты, чтобы во всем повиниться с глазу на глаз.
Между тем Котелков и Цаголов раскладывали на сто-
лах и подоконниках содержимое ящиков. Тут было, пять-
сот семьдесят полуобгорелых карточек. В каждой наверху
слева стояла кличка лошади, а в соответствующих гра-
фах обозначены масть, основные промеры экстерьера.
Внизу записаны фамилия владельца, его адрес и род
занятий.
На первый взгляд ничего необычного в картотеке не
было. Но когда по приказу Ватагина Цаголов выписал
фамилии владельцев лошадей, то получилась весьма лю-
бопытная картина. Это была странная и пестрая коллек-
ция балканских обывателей.
Вот как выглядел список.
145. Добрпч, улица Георги Сатиров, 7Х Арам Мерджа-
нян, обувное ателье «Алекс».
278
146. Сексард, переулок доктора Радапеску, 1. Исаак
Ченчи, регент детского хора.
147. Констанца, бульвар королевы Елены, 32. Джоржи
Папеску, директор приюта глухонемых.
148. Свилайнац, улица Александра, 2. Иованн Джо-
кич, радиотехник, агент по распространению радиоаппа-
ратуры магазина «Постоянство».
149. Шольт, Андраши-утца, 14. Дойдук Янош, хозяин
табачной лавки.
150. Казанлык. Христо Благов, смотритель Шипкин-
ского перевала.
— Товарищ младший лейтенант, дайте мне сводки по
сапу из ветеринарного управления,—приказал Ватагин.—
Спасибо... Так вот, товарищ майор, в сводке дана дисло-
кация всех выявленных очагов сапа. Даю вам час вре-
мени.
— Что прикажете?
— Извлеките из картотеки Крафта лиц, проживаю-
щих в зарегистрированных районах. Офицеры вам по-
могут.
— Есть, товарищ полковник.
— Здесь пятьсот семьдесят фамилий. Думаю, оста-
нется не более тридцати. Нам было бы трудно что-либо
делать, если бы в суматохе Крафт сам не облегчил нам
задачу.
— При чем же тут очаги сапа?— спросил Котелков,
потрогав бритую голову.
— Ну, это теперь для нас не очаги сапа, это, точнее
сказать, места, где побывала Марина Ордынцева,— ска-
зал Ватагин.
— Точнее, где побывал Пальффи Джордж?
Майор Котелков ровно ничего не понимал в ходе мыс-
лей Ватагина. Это было не в первый раз, и, как всегда,
его раздражало. Досадуя и не желая обнаружить свою
досаду, он решил побольнее уязвить полковника и с де-
ланной озабоченностью заметил:
— Если так, тогда, к сожалению, один из организато-
ров сапной эпидемии уже ликвидирован. При активном
участии младшего лейтенанта Шустова.
— Это каким же образом? — повысил голос Ва-
тагин. — Пройдемте со мной, — приказал оп майору и
Шустову.
И они перешли в кабипет Ватагина.
279
— Я нарушил приказ и побывал на Шипке, товарищ
полковник, — сказал Шустов, когда они закрыли за собой
дверь.
— Докладывайте.
Майор Котелков с молчаливого разрешения Ватагина
остался у окна.
Славка подготовился к тяжелому испытанию. Ватаги-
на он не боялся, а уважал. Он уважал его, не отдавая
себе в этом отчета, безрассудно, как только в молодости
могут, когда почти с влюбленностью берут кого-либо из
взрослых за образец. И самое страшное, что могло слу-
читься сейчас,— если полковник скажет: «Вы неспособны
работать у нас. Идите...» Чтобы такие слова не застали
его врасплох, Славка приготовился их выслушать и сей-
час, стоя навытяжку, следил за полковником взглядом.
Одного он не предвидел — что майор Котелков может
остаться в комнате.
— Когда вы побывали на Шипке?— спокойно спро-
сил полковник.
Славка знал, что спокойствие только для виду: в та-
кие минуты он всегда поправляет складки гимнастерки
под ремнем.
— В воскресенье, товарищ полковник.
— Сегодня — среда. Докладывайте.
Стараясь пе утаить ни одной подробности, Шустов
рассказал о том, что с ним случилось на Шипке. Он
знал одно: он обязан говорить правду, это все, что сейчас
от него требуется, что составляет, может быть, даже един-
ственную его обязанность.
Столько событий набежало после Шипки, сразу и не
вспомнишь всех подробностей. Когда возвращались с пе-
ревала, он вдруг обессилел и уронил голову на «баранку».
Миша Бабии сумел притормозить машину, и только по-
этому они не скатились под откос. В одной из встречных
машин ехали военные врачи, ему забинтовали плечо.
Рана была поверхностная. Тошнило его просто от вол-
нения и усталости. Они вернулись в штаб, и младший
лейтенант Шустов тотчас явился с докладом к Котелкову.
Это он только хвастался Бабину, что не пойдет к майору
и будет ждать возвращения полковника. Котелков поднял
на ноги весь офицерский персонал, ночью Шустов с авто-
матчиками сидел в засаде где-то в кустах, в окрестно-
стях Казанлыка. Вдали слышалась перестрелка. Это бол-
280
гарские партизаны выследили Христо Благова. Под утро
нашли труп — видимо, преследуемый проглотил ампулу
с ядом. Примчался майор Котелков из штаба, и Шустов,
измученный и бледный как полотно, сам провел его по
дороге, майор скрашивал нетерпеливо: «Где же он?»
Славка показал здоровой рукой: «Вой, где три ивы
растут». И майор с фотоаппаратом на груди быстро по-
шел к трем ивам.
Рассказав все, что помнил, Шустов стоял навытяжку
и ожидал возмездия с той душевной легкостью, которую
не раз испытывал, когда, отрапортовав о провинности,
возлагал на начальство ответственность за все даль-
нейшее.
— Сегодня среда,— выслушав, повторил полковник и
вдруг внятно произнес:—Лучше бы вы там под пулей
остались...
Полковник обычно не взвешивал своих слов. Объявив
Шустову приговор, Ватагин как бы забыл о нем. Он заду-
мался: плохо, что не захватили смотрителя перевала, но
сейчас даже и его самоликвидация говорит о многом.
Христо Благов не просто Христо Благов,— иначе откуда
у него могла быть ампула с ядом, да и с чего бы ему
было кончать жизнь самоубийством?
Что известно о нем? Христо Благов — двойник ма-
кедонского монаха. В альбоме Ордынцевой есть его
фотография. В картотеке Крафта на его имя заведе-
на карточка. Итак — Крафт, Ордынцева, Пальффи,
Благов.
Ватагин спохватился — Славка стоял перед ним не
шелохнувшись. Нельзя, чтобы сказанные ему жестокие
слова были последними.
— Вы отправитесь под арест в самый разгар боевых
операций. Вы будете сидеть без ремня, как бравый солдат
Швейк. Стыдно за вас!
Смертельно бледный Шустов понял всю человечность
этого душевного движения. Его строгие голубые глаза
следили за тем, как полковник вырвал из трофейного
строевого журнала лист линованной бумаги и, придвинув
к себе чернильницу, написал приказ об аресте. С прика-
зом Шустов твердо прошагал по комнате. Дверь за ним
закрылась неслышно.
— Сложный товарищ,— отозвался Котелков.
— Это вы мягко выражаетесь. Безответственный маль-
чишка! Щенок!
281
— И всегда выше головы хочет прыгнуть. Инициатива
его, видите ли, распирает... По-моему, это про таких
сказка придумана: на похоронах кричат — таскать не пе-
ретаскать, на свадьбе — со святыми упокой.
— Ошибаетесь. Это про дураков, и к тому же бес-
тактных,— суховато возразил Ватагин.
— Это все равно,— упрямо сказал Котелков,— с такой
инициативой недолго оказаться и орудием врага, и...
*— Посидит под арестом, поразмыслит о своем пове-
дении,— прервал Ватагин.
— А я бы отдал этого сукина сына в трибунал — и
делу конец.
— Повторите, ослышался.
— В трибунал, говорю...
— За промах списать в расход? Это вы здорово при-
думали. Что ж, давайте состав преступления!
Котелков разглядывал телефонный шнур.
*— По крайней мере — отчислить. Не ошибемся. Мы
тут — не просо воробьям давать! Надо гарантировать себя
от подобных сюрпризов, — угрюмо, с тем красноречием,
которое все выражается в неподвижном взгляде и в
руках, теребящих телефонный шнур, настаивал Котел-
ков.
— Отчислить... гарантировать себя, — повторил Ва-
тагин. — У меня другой взгляд. Надо воспитывать лю-
дей. Живой, горячий, как огонь, с хорошей душой маль-
чишка! Надо его воспитывать. И прежде всего — ком-
муниста воспитывать, чтобы воспитать чекиста. Вот как
я думаю.
Котелков пропустил мимо ушей гневный порыв Вата-
гина и упрямо продолжал свое:
— Смеяться будут: посадили на гауптвахту. И это на
фронте! У нас ее и нет, наверно.
— Должна быть! В штабе должна быть гауптвахта.
А нет — под домашним арестом побудет.
Чем дольше затягивался этот неприятный разговор,
тем веселее становился Ватагин. Он хорошо понимал, что
Котелков не прощает Шустову его безусловного мораль-
ного превосходства, бескорыстного интереса к делу, чест-
ности, которая так привлекала Ватагина в Шустове. И то,
что Котелков даже не мог скрыть этого, убеждало Вата-
гина в своей правоте.
— Вызывайте офицеров, товарищ майор. Будем закан-
чивать разговор.
282
29
Дежурный по отделу доложил: опергруппа собрана
для инструктажа. Полковник со списками прошел по ко-
ридору. Было уже темно.
Комната была полна офицеров. Послышался тот ха-
рактерный шум, за которым всегда следует голос вошед-
шего начальника: «Садитесь, товарищи!»
Ватагин понаблюдал, как рассаживаются — тесно, по
двое на стульях. Сколько их тут, .и старых чекистов с
огромным довоенным опытом, и капитанов, лейтенантов,
отобранных за годы войны. Внезапный сбор среди ночи
для них — дело привычное. Они заполнили ожидание не-
громкими разговорами, холостяцкими грубоватыми шут-
ками. Сослан Цаголов с кем-то спорит по совершенно
маловажному поводу: сгорел ли в Мелитополе вокзал или
не сгорел.
— Ничего не осталось! Фундамент!
— «Коробочка» осталась,— лениво возражал оппо-
нент.
— Не осталось «коробочки»!
Полковник улыбнулся. Сейчас, после разговора с Шу-
стовым и Котелковым, он испытывал потребность заново
вглядеться в лица своих офицеров. Черта с два оп
отпустит Цаголова! В начале войны Сослан был торпе-
дистом на Черном море, тяжело ранен в Керченском
проливе. Потом строил подземные госпитали в осажден-
ном Севастополе. И теперь, к концу войны, просится
назад—«в экипаж»... А где он увидел его впервые? Под
Апостоловом! Цаголов- вел десятка два немцев, подобрав
полы шинели, замешивая шевровыми сапогами крутую
украинскую грязь.
Вот они все такие, его офицеры,— Цаголов часу не
отдохнул, явился по вызову. И что же, через полчаса
будет уже «голосовать» у контрольно-проверочного
пункта.
Ватагин положил обе руки перед собой на стол. В ком-
нате установилась тишина.
— Так вот, товарищи офицеры, я созвал вас, чтобы
немедленно...
Инструктивные совещания у полковника Ватагина
были известны в штабе как своеобразная школа полити-
ческого воспитания офицеров. Так было дома, так было
и здесь —• па Балканах обстановка лишь усложнилась.
283
Еще до прихода нашей армии народы с оружием в
руках поднимались против своих фашистских прави-
тельств и создавали новую демократическую власть.
Фронтовая контрразведка должна была строго придержи-
ваться своих собственных функции. Война есть война, и
все, кто борется с действующими войсками в нашем тылу,
должны испытывать страх перед карающими органами
фронта. Но в то же время фронтовая контрразведка по
желала вмешиваться в акции народов, направленные про-
тив их собственных врагов: против собственной контрре-
волюции.
В маленьких городках и селах, где народная власть
была в первые дни еще недостаточно авторитетна, воен-
ные коменданты вынуждены были принимать решения,
касающиеся жизни местного населения. К советским офи-
церам шли рабочие и хозяева заводов и мастерских,
крестьяне и помещики, коммунисты и представители
реакционных партий. Нужна была высокая политическая
сознательность, чтобы строго ограничивать свои полно-
мочия и там, где возможно, уступать их новому государ-
ственному аппарату — околийским комитетам, кметам и
примарам, народной милиции.
Ватагин не уставал объяснять это своим офицерам
каждый раз, когда отправлял их в боевые операции. Пол-
ковник остерегал их от бестактных поступков, он знал,
что могут еще оказаться среди них плохо воспитанные
люди, которые думают по формуле Котелкова: «Мы
здесь — не просо воробьям давать!» — и больше всего
опасался, как бы недостойные действия не поссорили нас
с боевыми друзьями, не нарушили дружбу, утверждаемую
отныне навек.
Вот почему инструктивные совещания у Ватагина за-
тягивались и часто кончались уже под шум заводимых
моторов.
Впрочем, па этот раз карманные часы полковника
были положены на стол.
— Вы направляетесь в четырнадцать населенных
пунктов. Повсюду существуют наши военные комендан-
ты, к которым вы явитесь, и полномочная народная
власть. Противник осуществляет скрытую операцию, ко-
торую мы называем условно «Пять подков с одного коня».
Вы едете в места распространения сапа... На Шипку?
Нет, на Шипку уже нет необходимости... Противник на-
вязывает нам действия в сложной обстановке и в самых
284
отдаленных уголках Балкан. Надо принять бой в пред-
ложенных условиях и выиграть его: ни одного шага без
санкций народных властей! Это понятно? Младший лей-
тенант Шустов нарушил мои указания и посажен под
арест на пять суток, отстранен в самый ответственный
момент операции.
Офицеры слушали внимательно.
— Вот, к примеру, мужчина.— Ватагин показал одну
из четырнадцати отобранных карточек.— Тут проставле-
ны кличка, масть, промеры экстерьеров. На это вы вни-
мание не обращайте. Это — о лошадях и... для ослов. Что
касается мужчины, то о нем сказано, что это — портной
с главной улицы. Мало... Нужна характеристика. И еще:
я хочу знать, что случилось с этим человеком в послед-
ние две-три недели, может быть, месяц. Я ничего не знаю,
а хочу знать все. Местные власти будут предупреждены
о вашем приезде, помогут. И снова напоминаю: даже
пальцем не тронуть никого из мирных жителей. Вообще—
не переходить границ.
— В последнюю поездку, товарищ полковник, мы с
вами восемь раз перешли границы,— не удержался от
шутки капитан Цаголов.— Сперва румынскую, потом бол-
гарскую, югославскую, венгерскую...
Офицеры зашевелились, заулыбались, — видно, нужна
была разрядка. Тоже улыбнувшись, Ватагин покачал го-
ловой.
— Лейтенант Лукомский, вы направляетесь за фура-
жом для своего кавалерийского полка,— говорил Ватагин,
вручая лейтенанту карточку и предписание.— Капитан
Анисимов, будете квартирьером отдельной трофейной
бригады. Капитан Долгих, вы привезли зарплату для
местной комендатуры. Капитан Цаголов отстал от части,
догоняет... И ничего смешного, товарищи! Старший лей-
тенант Полищук — фотокорреспондент армейской газеты.
30
Гауптвахты, как предвидел Котелков, не оказалось.
А штаб тем временем передвинулся в Венгрию.
Пятый день Шустов пребывал под домашним арестом,
то есть, обуздывая себя на каждом шагу, ходил из угла
в угол в маленькой комнате венгерского портного, или
постигал механизм ножной швейной машины, или
285
присаживался у окна на табурете, подобрав ноги в бол--
гарских лиловых носках с кисточками.
«Лучше бы вы там под пулей остались». Чем бы он
ни развлекал себя, эти слова звучали в ушах, их нельзя
было забыть.
Он брился, надраивал сапоги с такой яростью, что
щетка летела из рук. Вот когда он пожалел, что где-то
на Донце расстался с аккордеоном! И снова присажи-
вался у окна, наблюдал улицу венгерского села, глубокие
колеи, залитые мутной водой.
Мелкий дождь — скорее он даже слышен, чем виден.
С единственного дерева, которое видно из окна, летят
листья. Вот пролетел и упал один. Вот — целая охапка.
Все равно тут работы еще непочатый край: дерево в соч-
ных зеленых листьях, они и падают зеленые... И как итог
этих мучительных наблюдений звучал голос Ватагина:
«Лучше бы вы там под пулей остались».
Танки прогрохотали, лужи — веером. Все воюют, а он?
И вдруг в памяти вспыхнуло слово «фатальная». Да, на
мосту, когда в Европу вступали, пожилой солдат сказал
так про тотальную войну. Никогда еще так ясно Шустов
не понимал, что война касалась всех: и мальчика с окро-
вавленными руками, которого он усаживал па Дону под
минометным обстрелом в «лукошко» своего мотоцикла;
и болгарского корчмаря с ребенком на руках — там, на
Шипке. Память его мгновенно выщелкивала два выстрела
в тумане. И снова, с той же пружинно-раскручивающейся
мерностью, звучало в ушах: «Лучше бы вы там под пулей
остались».
Конечно, оп заслужил такие слова. Ватагин предпола-
гает что-то серьезное и значительное. Зачем понадобилось
Крафту поджечь конюшню? Есть ли связь между бапат-
ской картотекой и альбомом Ордыпцевой? Конечно, пол-
ковник что-то понял, а вот он, Славка, дальше сапной
палочки ничего не увидел. И как потешается теперь пол-
ковник над всеми его соображениями о «фабрике ампул»
в Ванате. Мельчишь, Шустов, мельчишь! — как говорит
майор. И ничего невозможно придумать.
Бывают же такие счастливые люди, которые умеют
размышлять на досуге. А Славке ни одна путная мысль
не забрела в голову, пока оп бездействовал. Посадить бы
сюда Бабина. Он бы три дня отсыпался, а на четвертый
стал думать. Обстоятельно, пунктуально: сначала по ме-
тоду сходства, потом по методу исключения, потом еще
286
по какому-нибудь методу. А Славка, с чем явился отбы-
вать арест на этой домашней гауптвахте, с тем и остался.
Гауптвахта. Лермонтов сидел на гауптвахте и встре-
тился там с Белинским. Это еще в школе учили. Пушкина
сослали в Михайловское. А еще был, говорят, народово-
лец Николай Морозов, он просидел в Шлиссельбургской
крепости двадцать один год и написал собрание сочине-
ний. Вот характер! Было же о чем думать человеку, если
хватило на двадцать один год. А тут на третий день как
проколотый баллон. Да еще этот дождь за окном. Позд-
няя осень, взмахи ветра шевелят листья в лужах.
Можно думать, конечно, о Даше.
В последний раз оп встретил ее в Бухаресте, на сто-
личном перекрестке толпы прохожих любовались русской
девушкой: она со щегольской четкостью регулировала
уличное движение. А вечером разыскал ее — она с по-
дружками жила в роскошной банкирской квартире.
Странное чувство, известное только фронтовикам, когда
на часок заскочишь в незнакомый дом к знакомым людям
и .разговоришься, и поспоришь, и разволнуешься, а сам
в то же время помнишь — снова война разделит на много
дней, а то и навсегда. Тогда в Бухаресте, в банкирской
квартире, он подумал: чудно — по-фронтовому устрои-
лись, портянки развесили на спинках кроватей. Женим-
ся—мать будет недовольна. Скажет: армейщина. Мать
такая: сама пишет с ошибками, а для Славки принцессу
подавай. Конечно, Даша грубоватая девчонка, фронто-
вичка, а беззащитная. Значит, только снаружи грубова-
тая. Да и вообще, это точно известно, что опа добрая и
нежная. Где она сейчас? Войска фронта на четыре госу-
дарства развернулись. Вдруг совсем по-другому, без осуж-
дения, вспомнились ему эти портянки на банкирских
кроватях. Тогда были — летние, а сейчас бы в пору зим-
ними обзавестись. Как у нее с зимними портянками?
Голова Славки клонилась на подоконник, губы на-
бухли. И сон, который, наконец, пришел, был тоже как
бы борьба, неуклюжая и странная, с самим собой.
Снилось ночное поле, на котором два сибирских чело-
вечка,— не то якуты, не то буряты,— в лисьих шапках,
в сапожках с загогулинками, в меховых рукавичках,
схватив друг дружку за кушаки, по-медвежьи кувырка-
лись, ставили подножки один другому, не расцепляясь,
снова становились на ноги — маленькие, молчаливые,
упрямые — шапками вместе, сапожками врозь4 Кто-то
287
бегал вокруг, смотрел им под ноги. Да это полковник Вата-
гин! Все был готов засвистеть по-судейски: три пальца
во рту. И вдруг оба человечка упали, а вместо них вско-
чил один, высокий, у него сапожки на руках надеты, две
лисьи шапки мотаются на спине. Он стоит сумрачный,
лицо словно выточено из темного дерева, угловатый нос,
под мягкими усами губы поджаты, как бы для тонкого
свиста — да ведь это же македонский горбун из мона-
стыря.
Шустов проснулся, потер глаза. Он видел такую борь-
бу на концерте Моисеевского ансамбля народного танца.
Но монах тут при чем? Приснится же...
...Стук в окно.
— Миша!
— Обед принес.
Славка приоткрыл раму. Вот оно — Мишино лицо,
мокрое, в белой щетинке, большие воспаленные глаза.
Красивое лицо, хоть виду и не имеет.
— Ну, все подковы с коня поснимал?
— Дважды поймал позывные. Толку чуть.
Бабин раскладывал на подоконнике хлеб, манерку с
гуляшом, темно-зеленый арбуз с ярко-розовым треуголь-
ничком. «Хозяйственный зануда», — подумал Славка.
— Устал?
— Как всегда, спать охота. Тебя посадили, а мне за-
видно. Отоспится, думаю. Непоследовательный твой Ва-
тагин.
— Опять двадцать пять! Что же он должен был сде-
лать?
— Не знаю. По крайней мере, и меня посадить.
— Ну и дурак!
— От дурака слышу.
Славка обрадовался Мишиному приходу, но с огор-
чением подумал, что с первой же минуты стали ссориться.
— Из дому пишут?— спросил он, желая доставить
Мише самое большое удовольствие.
— Даша Лучинина появилась,— безразличным голо-
сом сообщил Миша.
Славка даже вскочил на подоконник. Миша поймал
покатившийся арбуз.
— Почему ко мпе не привел?
— Не идет. Говорит: пусть отбудет наказание, отму-
чается.
Шустов соскочил на пол.
288
— Ну, и пусть. Зачем она тут?
— К полковнику приехали регулировщицы — целый
грузовик! За инструктажем. Да ты не волнуйся. Напиши
ей записку красивым почерком, я передам.
— Опять зубы скалишь? Двигай отсюда!
31
Один за другим возвращались офицеры второго отдела.
Как все штабные, они прежде всего шли по отведенным
для них квартирам, мылись до пояса, побросав возле
тазов полевые сумки. Затем получали у ординарца свои
чемоданы, почту. А в особняке сбежавшего помещика,
где на этот раз разместили группу Ватагина, прихожая
наполнилась оживленными голосами: шел обмен дорож-
ными впечатлениями.
Один рассказывал о зардарских партизанах, с которы-
ми он плясал коло в сербском лесу, о кожаных безрукав-
ках с шитьем, о карабинах на груди, говорил по-сербски:
«Смрт фашизму», искал звездочку на фуражку, потому
что свою старую подарил партизанскому комиссару под
кличкой «Брадоня», о котором отзывался с особым ува-
жением.
Другой вернулся из города Субботицы, где он жил
на заваленной обломками улице: американцы по кварта-
лам бомбили город, не имевший зенитного прикрытия. Он
рассказывал о каторжной жизни венгерских крестьян.
— За все платят помещикам — за землю, за воду, за
лес. Срубил дерево, так сучья доставь прямо на двор —
и попу и старосте. Рыбу бедняк не имеет права ловить
в Дунае! Я его спрашиваю: «А искупаться в жаркий день
можно?» Он только рукой махнул. Зато у кулака такие
волы, что нашим шоферам приходится с дороги свора-
чивать, как бы за рога не зацепить.
Кто-то припоминал веселую историю, случившуюся в
Трансильвании:
— У них дискобол исчез.
— Что?
— Вот именно! На городской площади стояла брон-
зовая статуя. Гитлеровцы решили отправить в Германию
в переливку. Дефицитный металл. А утром — пет диско-
бола! Ы только мелом написано на камне: «Я не желаю
в Германию. Ухожу к партизанам».
ю Н. Атаров, т. 1
289
Первым, еще до завтрака, Ватагин принял капитана
Анисимова. Бритоголовый, загорелый, с ясными очами
(именно очами!), с завинченными усиками под горбатым
носом,— этот человек никогда не боялся высказывать
собственное мнение. Все подозрения оказались неоснова-
тельны. Его подшефный — хороший, почтенный человек.
У него сыновья погибли в немецком концлагере. Сам он
три года ремонтировал радиоаппаратуру для партизан и
сейчас выбран на общественную должность. Такого нель-
зя заподозрить, что он распространитель сапа.
Анисимов отрапортовал свой окончательный вывод с
молодцеватостью, как будто забил мяч в ворота.
— Вы его лично видели?— спросил Ватагин.
— Никак нет, вы не приказали. Он лежит дома. В по-
следние дни с ним случилась история, в которой и мы
немножко повинны — он подорвался на мине, которую
наши саперы не успели обезвредить. Счастливо отделал-
ся — только слегка контузило. А мог бы без ноги остаться.
— Это не всегда — без ноги,— с живостью возразил
полковник.— Помню, при прорыве под Богучаром снег
был плотный, а немцы уложили мины с двойной наклад-
кой, и они взрывались не сразу. Я шел пешком с началь-
ником штаба, нас нагнала легковая машина, шофер вы-
скочил ко мне, тут и ахнуло у него под ногами. Он упал
лицом в снег. Ну, думаю, готов! Нет, только контузило.
— Это зачем вы мне рассказываете, товарищ полков-
ник?— осведомился капитан.
— Да к тому, что не всегда должен человек без ноги
остаться... Главное, что контужен.— Ватагин помолчал,
потом вернулся к теме разговора:—Что ж, он лежит,
значит, дома?
— Пострадал человек.
— Еще бы, я его понимаю, беднягу. Одинокий не-
бось?— Анисимов утвердительно кивнул головой.— Так
я и думал. Теперь идите отдохните. Ваши вещи у орди-
нарца. Я их сам видел, когда разгружались на новом
месте.
Теперь каждые два-три часа кто-нибудь подъезжал.
Ординарец тащил чемоданы. Полковник многих вызывал
с ходу, еще неумытых с дороги. Сведения были собраны
добросовестно. Только двух не нашли. Остальные — самые
благонадежные люди, никакого отношения к конюшням
п лошадям не имеют, многие пользуются доверием ком-
мунистов и партизан, вроде анисимовского радиотехника.
290
Лейтенант Лукомский рассказывал фотографически
точно, со всеми подробностями. Ватагин знал этот его
следовательский «почерк» и приготовился терпеливо слу-
шать. В центре предместья имеется ресторанчик. Обста-
новка самая заурядная — на стене клетка с канарейкой,
под ней кинореклама: какая-то роскошная девица с го-
лыми плечами. За прилавком — стойка с винными бутыл-
ками в пестрых этикетках. Граммофон хрипит — этюды
Шопена. К столу подходит девочка, племянница ресто-
ратора. Ну, что у них там закажешь? Пиво. Вермут.
Хозяина зовут Георгий. В углу неизменно сидит за пу-
стым столиком этот самый, из племенной книги, регент
детского хора. Исаак Ченчи. Он читает газету. Очки на
носу. На столе папиросная коробка. Пиво сосет понемно-
гу. Иногда говорит девочке: «Иди сюда»,— заказывает
еще кружку. При этом слегка заикается.
— Заикается?— переспросил Ватагин.— Позволь, он
регент в хоре? Как он может быть заикой?
— Да он недавно попал в переплет, Бомба разорва-
лась во дворе. Все стекла выбиты.
— Странно.
— Что вам кажется странным, товарищ полковник?
— Ну, хорошо. Дальше. Один живет?
— Жена сбежала с немецким военным прокурором.
Войти в дом неудобно: очень нелюдимый человек. И со-
бака на цепи.
— Все?
— Все.
— Вы уверены, что он контужен?
— Мне рассказывали соседи. Подтвердил комендант.
И девочка тоже знает. И я сам во дворе побывал. Он,
кроме ресторана, никуда не ходит, забросил свои дела.
— Что ж, ему это нравится? — спросил Ватагин.
— Что?
— Быть контуженным...
— Товарищ полковник, вы не приказывали вдаваться
в психологию,— с некоторой обидой сказал Лукомский.
— Пришелся вам по вкусу этот молчаливый регент?
— Сказать откровенно, товарищ полковник? Пришел-
ся по вкусу! Немцы всех его ребят из хора увезли на
заводы в Германию. Жену соблазнили. Самого контузили.
А он только закалился во всех этих бедах. Назвал пса
«Хендсхох» и ненавидит немцев.
— Очень странно,— подвел итог полковник.
10*
291
— По-моему, ничего странного, товарищ полковник:
война! Я и сам чуть не подорвался. Паром у Дубровиц
нас перевез благополучно, а на обратном пути взлетел
на воздух — мина! Ничего странного.
— Странно все-таки,— повторил Ватагин.— Странно!
Потому что двое до вас — Анисимов и Долгих — расска-
зали мне о своих то же самое. Контузии у них какие-то...
с немецким акцентом.
История становилась все более занятной. Что мог
Ватагин предложить командованию? Он вывез из Вана-
та пятьсот семьдесят карточек — широкое основание кону-
са. Теперь его записная книжка заключала в себе пят-
надцать фамилий, включая смотрителя перевала. Конус
стремился к своей вершине. Отчетливо выделялась одна
подробность: из этих пятнадцати четверо изменились за
последний месяц по той или иной причине: стали нелю-
димыми, косноязычными или заиками. Причина понятна:
они контужены; действительно, война прокатилась по
этим местам. Двое в эти же дни потеряли жеп, как
Христо Благов и Исаак Ченчи. Тоже может случиться.
И все же, если вся эта темная история, занимавшая пол-
ковника Ватагина уже около двух месяцев, смахивала
иногда на старинную пьесу с кинжалами и масками, то
в этот день она начинала казаться разыгранной даже
по-любительски. Тут только одно может быть объяснение:
думали все сделать заблаговременно, а приходится на-
спех, в последнюю минуту. Отсюда и стереотипность при-
емов. Совсем не по-немецки. То, что это глупо — вот это
и сбивает с толку...
К обеду явился Сослан Цаголов.
— Ну, к черту! Вот война, сколько народу калечит! —
говорил он, как всегда нетерпеливо дожидаясь вызова.—
Этот мой, сильно контуженный, даже «папа-мама» не вы-
говаривает. Не повезло ему!
Над ним подтрунивали: не иначе, его подшефный
перепугался появления такого энергичного капитана.
Азартный горец ожесточился:
— Идите к черту, что, вы меня разыгрываете!
Он был одним из самых осмотрительных разведчи-
ков, — как ни странно при его характере. И он сердился,
когда его предупреждали, чтоб он «не переходил границ»,
или подтрунивали, как сегодня.
Ватагин не принимал его до вечера. В офицерской
столовой Сослан один съел целый арбуз, вернулся в по-
292
мещичий дом и читал газеты — солидно, с полным само-
уважением. Чувствовалось, что он здорово обижен.
Лучшему своему приятелю Анисимову он сказал
с упреком:
— В ауле у меня маленькие братишки, они друг
дружку разыгрывают. Зачем мы будем! Мы не маленькие.
Анисимов посмеялся:
— Думаешь, мы тебя разыгрываем? Это факт, что уже
пять подшефных оказались контуженными.
— Слушай, я воронку видел! Соб-ствен-ны-ми гла-
зами.
— Видел?
— Как тебя вижу!
— Ну, что ж, значит, первое — установим наличие
воронки.
— Я бы их всех перехватал — и делу крышка.
— Дорогой, что ты понимаешь, со своей энергией и
невежеством,—по-дружески откровенно сказал Анисимов.
Но именно тут Цаголов не обиделся, рассмеялся. Они
закурили.
А через полчаса в другом углу комнаты слышался
жаркий голос Сослана, он доказывал Лукомскому:
— Слушай, Ваня, я медицинский техникум кончил в
Осетии. Я это дело понимаю лучше вас.
Позже всех вернулся из маленького городка Медиаша
лейтенант Буланов. Он докладывал полковнику в присут-
ствии вызванного наконец Цаголова. Это была известная
всем привычка Ватагина: поманежить нетерпеливого Сос-
лана, выпустить из него пар, чтобы потом разговаривать
со спокойным человеком. Цаголов сидел и недоверчиво
слушал доклад Буланова. Оказалось, что, по непостижи-
мой случайности, его медиашский настройщик роялей
был шестым по счету из тех, кто недавно, в связи со
скоротечными боями вблизи города, попал на мину.
— Слушай, Буланов!.. Простите, товарищ полковник,
разрешите обратиться,— поправился Цаголов и опять за-
кричал в азарте изобличения:— Он же настройщик роя-
лей! Зачем ему понадобилось уходить за город? Что вы
меня разыгрываете!
— Капитан Цаголов, — сказал Ватагин. — Меньше
страстности — больше ясности. Лучше молчать. Вы за-
будьте об этом. Забудьте вообще о вашей поездке.
— Я бы их всех перехватал — и делу крышка,— угрю-
мо сказал Сослан.
293
— У вас методы сельского сержанта милиции,— доб-
родушно возразил Ватагин.
— Товарищ полковник,— взмолился Цаголов, глаза
его выражали тоску и боль непонимания,— честное слово,
отпустите меня на флот...
Полковник не дал ему выговориться и вежливо выпро-
водил из комнаты на время разговора с Булановым.
32 '
Капитану Цаголову так и не удалось в этот вечер
рассказать полковнику о своем подшефном.
Около девяти часов раздался телефонный звонок. Го-
ворили от коменданта города,— на грузовиках подъез-
жали к штабу фронта снятые прямо с регулировочных
пунктов девушки. (Была среди них и Даша Лучинпна.
Узнав от Миши Бабина о печальных делах Славки, она
помрачнела и до самого инструктажа бродила одна по
улицам незнакомого ей городка. Сама не ожидала от
себя такого.)
Полковник принял девчат в 10.30. Он кратко расска-
зал им о том, как важно сейчас помогать ветеринарам
в выявлении больных лошадей, следить за тем, чтобы
обозы не скоплялись на переправах. Потом без всякого
перехода показал регулировщицам фотографии Крафта и
Ордынцевой. Он объяснил, что враг осуществляет в тылу
наших войск коварную операцию — он только просчитал-
ся в сроках нашего наступления, паникует и потому
халтурит: то здесь, то там оставляет следы. Противник
неряшливо работает,— и каждый из нас может легко
наткнуться на него. Нужно быть бдительным.
— Как бы в темноте не оплошать?— поделилась свои-
ми сомнениями одна из девчат.— Проедет мимо, разве ж
его признаешь.
А Даша Лучипииа тихо, но внятно сказала то, что
долго вспоминалось Ватагину:
— Кабы на этих зверях шерсть отросла или
щетина...
Отпустив девчат, Ватагин вызвал Бабина.
— Отдыхать надо! — сказал он и тут же распорядился
снабдить радиста билетом на концерт.— Девчат много
понаехало. Пригласите, поухаживайте. Вот Дашу Лучи-
нину позовите,
294
-— Младший лейтенант Шустов сегодня к вечеру от-
был положенный срок ареста,— сухо ответил Бабин, как
всегда не понимавший, где полковник шутит, где —
всерьез.
— А верно...— оживился Ватагин.— Скажите, пусть
зайдет ко мне.
Славка явился к полковнику и отрапортовал, по своей
привычке вытянувшись в струнку. Он думал, что Вата-
гин покажет ему на кучу бумаг, усадит за работу, он
бы и этому нынче обрадовался. Но полковник приказал
разыскать регулировщицу Лучинину, устроить ей ночлег
и— «можете быть свободным!».
— Есть быть свободным! — бодро откликнулся Шу-
стов.
Выбежав в парк, он стал разыскивать Дашу. Лейте-
нанты, автоматчики, шоферы сидели, кто прямо на траве,
кто на бугорках, оставшихся после нарытых немцами
щелей. Регулировщицы, довольные неожиданным отды-
хом, стайками прогуливались по аллеям.
В этот же парк под вечер явился минер из саперного
батальона.
Никто не знал, зачем оп вызван Ватагиным. Но оп
явился и стал вдруг всем близок и нужен, и сразу все
стали называть его Демьяном Лукичом.
Это был морщинистый, уже с проседью, сержант лет
под пятьдесят. Прежде всего он хозяйственно осведомил-
ся: где ему сложить свой инструмент? Любителей подсо-
бить нашлось много, но он никому не доверил ни мино-
искателя, ни щупа, а сам все укрепил в задке одной из
машин, расставленных под деревьями. Затем он полюбо-
пытствовал насчет помещичьих теплиц, заглянул в домо-
вую церковь, фасадом выходившую в парк. А через неко-
торое время притащил откуда-то глубокое кожаное крес-
ло. Оп уселся в нем прямо посреди аллеи. Было видно,
что пожилой минер рассчитывает на ночлег: он привык
приходить «в гости» к пехоте, когда она готовится к
броску и надо расчистить ей дорогу. Предстоящим делом
ои совсем не интересовался.
— Инструмент мой любимый: шшуп,— рассказывал
Демьян Лукич всем, кому не лень было слушать.— Мино-
искатель второе дело, а почему? Потому, что он деревян-
ную мину не чувствует, а шшуп — тот сразу. Сперва об-
шшупаешь впереди себя, мины пет — ползи. Что бы он,
295
вражья душа, ни применил, для меня безразлично. Какие
бы фокусы он ни выставил, только осторожность
нужна. Ты того себе в гордость не ставь, что знаешь.
Шшупом тихонечко обшшупай, нет ли сюрпризов, — и
ползи.
Даша Лучипина стояла неподалеку и слушала рос-
сказни пожилого дядьки. Кого только не повидала она
на фронтовых дорогах и теперь безошибочно угадывала,
кто настоящий. Этот был настоящий.
— Сержант, а ты знаешь, зачем тебя вызвали?—
спросил один из разведчиков.
— Курить охота... — словно недослышав, сказал
минер.
«Вот молодец, отмолчался,— подумала Даша.— Разве
такие вопросы задают в разведке?» Вдруг она резко обер-
нулась. Кто-то сзади смотрел на нее в упор.
— Отпустили?— радостно прошептала она.
Позади стоял Славка. Он казался строгим, непохожим
на себя.
— Кто этот дядя?— спросил он.
— Минер какой-то, вызванный. Пойдем?
Они быстро пошли по аллее. Славка искоса погляды-
вал на Дашу и очень страдал. Он не знал, продолжать
ли ему быть вызывающе-бодрым, каким он был только
что у Ватагина, замкнуться на все застежки или дове-
риться хотя бы одному человеку. Вот этой девчонке в
застиранной гимнастерке с медалью на груди.
Внимание тем дороже, чем труднее минута. В темной
аллее Даша взяла Славку под руку, и они быстро и
молча прошагали до задней калитки с башенкой в конце
парка. Когда возвращались, также быстро, Даша загля-
нула в его глаза.
— Где ночевать буду?
— Можно в моей машине.— Глаза его потеплели от
нежности.— Я уж не знаю... моя ли. Может, отчислят
в резерв.
Возле радиостанции они наткнулись па Мишу Бабина.
Оп лежал, неудобно вытянувшись, на жесткой садовой
скамейке. Встретил не очень-то приветливо: даже не
шевельнулся. Полковник приказал отдохнуть и пойти
на концерт. Бабин заставлял себя поспать хоть
часок, но не мог и просто лежал окоченело на твердых
досках.
296
33
Слава и Даша долго шептались в помещичьем парке,
па поваленном дереве невдалеке от дремлющего радиста.
Они вспоминали первые дни своего знакомства.
— А помнишь, как было па Украине, в распутицу?
Нам, девчатам, из хаты лень за водой сходить — умыться.
А ты подкатишь, бывало, под окна, шумнешь сигналом.
— Да, а ты выходила на крыльцо и таким сказочным
нежным голосом: «Езжайте-ка, товарищ младший лейте-
нант, за водой».
— А помнишь...
Что-то творилось с Дашей такое, что опа не узнавала
себя. Ее прежняя насмешливость в отношениях с Шусто-
вым сменилась робостью. Опа не знала за собой этого
свойства, когда под бомбежкой рассаживала раненых по
мимо идущим машинам, а в этот вечер робела. С чего бы
это? Конечно, Слава — офицер, москвич, и сам собой
красивый, и сапоги носит шевровые. Даже во тьме парка
она не забывала при нем о своих широких, «мушкетер-
ских», как он сказал, сапожках. И ей казалось, что в
пилотке ее нельзя отличить от мужчин, а когда она ти-
хонько запела, ей казалось, что личико у нее такое рав-
нодушное, пустопорожнее, да и нос облупленный. Но дело
не в этом, а в том, что ей впервые по-бабьи было жаль
его — какой он неудачливый. В этот вечер опа впервые
почувствовала, что Слава у нее — один на свете. Так она
никогда ни о ком не думала. И была рада, что Славка
наконец повеселел, разговорился. Она заглядывала в
Славкины глаза и только поддакивала:
— Точно. Точно...
Скажи он ей сейчас: «Распишемся, Даша»,— не заду-
мываясь, согласится! А что? Точно!
Славка тоже — еще сильнее, чем прежде,— испытывал
мальчишескую робость перед ней. Верно сказал однажды
Миша: «Тебя еще не за что любить...» Сможет ли она
по-настоящему хотя бы уважать его, когда она хлебнула
столько горя, а он...
Он не стал рассказывать ей, за что попал под арест.
Он только пожаловался: по-прежнему в настоящее дело
не пускают.
— А ты не просись, — говорила Даша. — Зачем ты
просишься! Мне тоже стоять с флажками на перекрестке
неинтересно. А не прошусь.
297
Так хорошо было сидеть вдвоем, думать, слушать
песню, которую кто-то запел в темноте.
И они притихли, сидели, слушали. А это пел пожилой
сержант, присланный из саперного батальона. Вот ведь
какой — на все руки мастер.
Бабин, не шевелясь, тоже слушал песню. Она была
старинная, пел надтреснутый голос. И радисту сквозь
дремоту она нравилась.
Ой, тихой Дунай... Ой, Дунай
бережочки сносит.
Молодой солдат, молодой солдат
полковничка просит.
«О чем же просит солдат?» — думалось Мише, и ему
ничего не стоило сквозь сон представить себе, как он
сам просит у полковника отпуска — в Ярославль съездить,
маму и Людку повидать. Словно угадывая сонные жела-
ния Бабина, сержант просился домой, к милой, а полков-
ник из песни не отпускал:
Не пустю, солдатик мой,
бо ты долго будешь.
Напийсь воды, ще й холодной,
про любовь забудешь.
Бабин действительно очень устал. И полковник моло-
дец, что приказал отдохнуть. В горных условиях, из-за
сильной ионизации воздуха, искать, идти на вызов, ло-
вить стало еще труднее. Страшно болела временами
голова. Бывали такие головокружения, что Миша снимал
наушники и сидел, схватив голову двумя руками. Он
только никому не признавался — нельзя, война ведь!
Никто пе должен знать, что и сейчас ему не спится.
Демьян Лукич пел:
Пил я воду, ще й холодну,
да не напивался.
Сколь жить буду — не забуду,
с кем я любовался.
«Сидит любуется»,—переводил Миша слова песни па
Славку, слыша близко от себя, как он шепчется с Дашей.
Не хотелось признаться самому себе, нежное воркование
раздражало, потому что не Славка, а он, Миша, должен
был сидеть рядом с Дашей. Не потому, конечно, что
влюблен. Миша и мысли такой не допускал. Нет, на
свете все должно быть устроено правильно. Даша — чело-
298
век, горем закаленный, он, Миша{ это понимает. А кто
знает, как относится Славка к Даше? Что она для него?
— ...А где вы в Сербии жили?— расспрашивал Славка
и, не дожидаясь ответа Даши, снова спрашивал, все хо-
тел разузнать за два месяца разлуки:—А в Свилайнаце
ты была? А в Багрдане?
Сквозь сон, но все же педантично, Бабин поправил
Славку:
— Не так ты говоришь, Шустов. Немецкий тебе не
дается. Не Свилайнац, a «Wille einen Arzt», что означает:
«Хочу врача». И не Багрдан, «Baggerndank», что скорее
всего означает: «Спасибо за землечерпательные работы»,
Так что не ври...
Славка с интересом вслушался в сонное бормотание
друга.
— Во сне буровит, — сказал он Даше и пояснил: —
Устал старик. Измотался. Ему бы в госпиталь — ото-
спаться.
— Или под домашний арест?— пошутила Даша и
прильнула виском к Славкиному плечу.
В октябре бывает в тумане радость ожидания, что он
рассеется. Славка сидел возле Даши и все видел: как
лунный свет пролился сквозь туман, и заблестели стекла
помещичьих теплиц, и посреди аллеи в кресло пошеве-
лился старый сержант. А над машиной засверкало дерев-
цо с черными сучьями — все, как в росе, слюдяное.
Счастлив был Славка в этот вечер, несмотря на все
свои беды. Пока Даша с полчаса поспала, лицо ее было
скучное. Височки в каштановых волосках. Бледная рука
с синим цветочком жилок в том месте, где пульс слу-
шают. А проснулась Даша, открыла серые глаза с длин-
ными ресницами, не моргающими, а только вздрагиваю-
щими — и лицо ее удивительно покрасивело.
— Проснулась?
— А ты? Не спишь? Двумя шинелями одел, а сам...
— Взаимная выручка,— объяснил Славка.— Хорошо
поспала?
34
Миша Бабин не понимал, зачем иа войне нужны кон-
церты. Осторожно сняв трофейной самобрейкой белый
пух со щек, он добросовестно отправился выполнять при-
казание полковника. Сказать по правде, оно ему было
299
не по душе, и оп утешал себя тем, что поспит на кон-
церте.
Этого не случилось.
Войдя в зал, Миша увидел в рядах Славку и свободное
место возле него. Он сел молча, стал оглядываться по
сторонам.
Занавес венгерского провинциального театра с нама-
леванными на нем девятью музами был сверху донизу
залеплен пестрыми афишами. Видно, хозяин предприя-
тия, не довольствуясь сборами, торговал и занавесом,
сдавая его под любую рекламу.
Программу открыл австрийский скрипач. Он возник
на сцене как будто из средневековья, сухонький, в чер-
ном фраке и точно в белом парике,— симпатично улыб-
нулся, низко поклонился генералам в первом ряду и в
наступившей тишине старательно произнес:
— Петр Ильитчш Тчшайковски...
Смех пробежал по залу, но аплодисменты заглушили
смех. Что касается Миши, то ничто не могло его прими-
рить с судьбой лучше, чем добрая порция Чайковского —
усталость как рукой смахнуло, и он сидел, вперившись
воспаленными глазами в скрипача. Его сменил огромный,
важно поднимавший густые брови бронебойщик Топоров,
он спел дремучим басом «Ой, кум до кумы залицався...».
Медсанбатовская сестра прочитала одну из «Итальянских
сказок» Горького. Потом вышел дядя из тяжелой
артиллерии. Он и сам был по виду «РГК» — резерв
главного командования: жонглировал двухпудовыми
гирями, пока не уронил одну из них чуть не на ноги
маршалу.
В антракте Бабин слонялся в одиночестве. Славка
отыскал Дашу, которую вместе с другими регулировщи-
цами усадили в первом ряду, около начальства, но после
звонка вернулся на свое место.
Второе отделение концерта начал знаменитый венгер-
ский фокусник. Всезнающий Славка, усаживаясь рядом
с Бабиным, довел до его сведения, что это — гвоздь про-
граммы: до войны артист выступал для иностранной пуб-
лики в ночном кабаре па острове Маргит в Будапеште.
Он привез свое искусство из Мексики, а собаку — из
Мадрида.
Зал затих, как только на сцене появился лощеный
и напомаженный брюнет в смокинге, сверкающем чер-
ным шелком отворотов. Он поклонился залу, но свой
300
номер показывал ие публике, а как будто мадридской
собачке, которая уютно разлеглась в кресле и начинала
лаять и улыбаться после каждого удавшегося фокуса.
Такая артистическая приправа и создавала впечатление
высокого искусства.
Впрочем, и в технике шулерства артист достиг совер-
шенства. Он объяснил через переводчика, что различает
карточные масти на ощупь, чувствительной кожей на
кончиках пальцев. В подтверждение этого он попросил
завязать ему глаза полотенцем, разбросал под лай «кон-
сультанта» колоду карт и бегло называл любую, до кото-
рой дотрагивался.
— Нем тудбм! Не понимаю! — смешно говорил он уже
знакомую всем мадьярскую фразу. Но под смех и одоб-
рение публики тотчас вытаскивал нужную карту из
колоды.
Миша глядел, подавшись вперед. Славка тоже ожи-
вился, — весь внимание! — следил за тем, как ловко пере-
скакивают карты из одной кучки в другую — то пиковый
валет, то дама треф, то червонная десятка,— в то время
как собачка легла между двумя колодами карт и сторо-
жила, скалилась всякий раз, когда фокусник пытался
демонстративно перейти от одной кучки к другой.
Военная публика была в восторге. Очень уж любят
у нас чистую работу. Вот это — товар лицом!
Вдруг послышался нарастающий шум авиамоторов.
«Юнкерсы!» — понял Славка раньше, чем раздался
воющий звук, и три бомбы легли вблизи театра.
Никто в зале не пошевелился. Публика — закаленная.
Но фокусник растерялся. Собачка, сунув хвост между
ног, подалась под кресло. А из-под белых манжет меж-
дународного артиста поползли одна за другой карты.
Славка впился взглядом в фокусника. Всего лишь
секунда растерянности.
— Разрешите продолжать?—спросил маршала началь-
ник ДКА, выглянув из-за занавеса, и махнул рукой
артисту.
Оценив спокойствие публики, фокусник пришел в себя
и под хохот солдат и офицеров стал вытаскивать своего
четвероногого «консультанта» из-под кресла.
Славка ударил себя по ляжкам. Миша удивленно
оглянулся на него. Славка улыбался и хлопал себя по
ляжкам, как человек, решивший мучительно трудную
задачу. Потом он встал и, потянув Мишу за рукав,
301
пошел к выходу. Что случилось? Упираться было неловко,
Миша последовал за Славкой.
В неосвещенном проходе на улицу шоферы возились
у машин. Внезапный налет и беспорядочная бомбежка
города вызвали здесь больше тревоги, чем в зале. Многие
шоферы на всякий случай включили моторы.
— К Ватагину! — крикнул Славка знакомому шоферу,
втолкнул Мишу и сам ввалился торопливо в машину.—
Так вот она в чем штука! Передрейфили. Вторая колода
поползла из манжет!
— Ты так думаешь?— приговаривал Бабин, ничего не
понимая.
— ...Только валет с сальным пятном на рубашке!
Понимаешь? Горб? Горб — вот оно что у них не подо-
шло! Горб, черт! Горб...
Они мчались по темным улицам венгерского городка,
мимо мраморной статуи Франциска Ассизского, кормив-
шего мраморных голубков, мимо полуразобранных проти-
вотанковых завалов. Какой-то автоматчик взмахнул фо-
нарем п остался позади. Миша знал, что Славка понял
что-то важное, а что — он не догадывался.
35
К Ватагину нельзя было пройти: у него находился
генерал. Славка остался дожидаться в приемной, а Миша
вышел в парк.
Он постоял в темной аллее, носком сапога потрогал
гравий. Вдруг он припомнил... Выплыло из тайников
памяти то, что смутно обеспокоило, встревожило вечером.
Это было, когда Славка с Дашей шептались в парке, а
он, Бабин, лежал рядом на скамейке. Он дремал и что-то
услышал. Да, что же он услышал? Он сказал: «Немецкий
тебе не дается. Не Свилайнац, a «Will einen Arzt». Это
та самая фраза из одного радиоперехвата. Позволь,
позволь, друг, но ведь Славка и не думал говорить по-не-
мецки, он просто Дашу расспрашивал, где она побывала.
Они называли сербские города Свилайнац, Багрдан, Жагу-
бицу. «А я — что я имел в виду? — Бабин даже вспотел. —
Слова из немецких передач?»
Он побежал было к двери — стучать, ломиться к пол-
ковнику! Потом заставил себя успокоиться, съежился,
как от озноба, вытер платком пот со лба. Нервная усмеш-
302
ка бродила по его лицу. «Давай по порядку. Город Сви-
лайнац, например. Да, Свилайнац,— тщательно выговорил
Миша.— А что я когда-то подумал? «Wale einen Arzt»,
что значит «Найди врача». Тогда еще заспорили: «Wale
einen Arzt» или «Will einen Arzt», то есть «Хочу врача».
А оказывается, это но имеет значения! Надо попросту
вслушиваться в немецкие фразы, не обращая внимания
па их смысл, и искать близкие по звучанию названия
населенных пунктов.
Нервно шагая взад и вперед по темной аллее, Миша
по памяти называл города из альбома Ордынцевой: Багр-
дап, Жагубица, Сексард. И как эхо, послушно отклика-
лись немецкие слова или фразы: «Baggern dank»,
«Haubitze», «Seclis Art» — «Спасибо за землечерпательные
работы», «Гаубица бьет», «Шестой артиллерийский...»
И каждый шип находил теперь свой паз: легкое присту-
кивание кулаком — и все садится на место, прямо-таки
столярная работенка.
— Ясное дело! Вот оно что!..
И в новом приступе одержимости Бабин побежал по
аллее и, ворвавшись в приемную Ватагина, чуть не сшиб
с ног генерала, выходившего из кабинета.
36
С этого вечера начался новый темп событии, который
всегда предвещает близость развязки.
От полковника Миша Бабин побежал во тьму поме-
щичьего парка к своей спецмашине, скрывавшейся в гуще
деревьев. Он готов был слушать до утра — не снимет
наушников, лишь бы поймать! Может быть, впервые в
жизни, он испытывал ту радость содружества, какую
обычно вызывает удача, когда опа дается тебе не одному,
а вместе с товарищами. Оп вспомнил сбивчивый разговор
в кабинете Ватагина.
Славка говорил, что карты, которые поползли пз ру-
кава фокусника, вдруг прояснили ему все. Крафт рабо-
тает в две колоды. Арестовать, допросить этих «конту-
женных» — вот первая мысль, которая пришла одновре-
менно и Славке и Мише. Полковник дал им понять, что
это типично котелковскпй ход мыслей. Но когда Миша
решился вставить слово, рассказать, как он понимает
303
текст радиопередач, Ватагина просто нельзя было узнать!
Куда девалась его обычная ирония. Он заложил руки за
голову совсем простодушно, как Славка, и сказал:
— Мы с тобой биты, Шустов! Вот у кого терпение
ученого и воображение ребенка!
Выйдя от полковника, Славка Шустов со всех ног
кинулся выполнять приказ: готовиться к оперативному
выезду. Среди всех хлопот он ухитрился выкроить пол-
часа, чтобы проводить Дашу до регулировочного поста,
посадить в кузов бежавшего мимо грузовика. Грустно про-
щаться на фронтовой дороге, но он и не подумал упра-
шивать ее остаться до утра. «Когда же свадьба?» — толь-
ко спросил Дашу. Она вспыхнула: «Будет тебе еще
свадьба!» Не верила, что ее могут убить, а за Славку
всегда боялась, и оттого, что расставались, — неизвестно,
когда свидятся, — была она грубовата и насмешлива, пока
стояли на дороге, плечом к плечу, две слившиеся фигурки
во тьме . фронтовой ночи. Электрический фонарик за-
мелькал в аллеях парка — по записке Ватагина в третьем
часу Славке выдали пять новеньких камер, без единой
латки; без промедления получил он несколько дисков для
автомата. Он запасся бензином в канистрах, сунул под
сиденье диски с патронами. Одна страшная мысль терзала
Славку: что, если полковник раздумает?
В три часа ночи Ватагин позвонил генералу. Тот по-
кашливал в телефонную трубку — верный признак, что
его разбудили. Полковник в двух словах сообщил о неве-
роятном умозаключении рядового Бабина, они посмеялись
по поводу фокусника, — как у него карты поползли из
манжет. Генерал сказал:
— Какая-то любительщина! Выходит, что сегодня
Ганс Крафт сам выпишет тебе маршрут на путевом ли-
сте? Чудеса! А что еще будет, когда заглянем в самое
логово!
Они еще поговорили, в частности о рядовом Бабине, и
помолчали на двух концах провода, обдумывая план дей-
ствий, и была такая тихая минута, когда Ватагин в труб-
ку услыхал зевок овчарки Найды, которую генерал иногда
оставлял у себя на ночь.
А через четверть часа полковник растревожил душу
Миши Бабина, позвонив и обратившись к нему со сло-
вами:
— Товарищ старшина Бабин.
304
До слез смутившийся радист только и выдавил: «Вот
вы всегда шутите, товарищ полковник», — и — чего сам
не ожидал — обрадовался.
И Ватагин, услышав в голосе Бабина знакомую Слав-
кину интонацию, подумал, что крайности сходятся, и еще
больше укрепился в мысли, что флегматик сделал свое
открытие именно силой воображения — ничем не хуже
Славки.
Немцы в эфире не подавали голоса.
Ватагин сидел за столом, чертил красным карандашом
на листе бумаги конус и цифры внутри него от широкого
основания к вершине: 570—15—6... Пятьсот семьдесят
адресов в картотеке Крафта, пятнадцать обследованных
по этим адресам, шесть контуженных. Он помедлил и на
самой вершине конуса нарисовал цифру 1. Все стремилось
к этой точке, и Миша Бабин или слухачи-операторы лю-
бой из слеженных радиостанций фронта могли до утра
выловить маршрут поиска.
По телефону Ватагин проверил, где ночует минер, не
пришлось бы искать его впотьмах.
37
Капитан Цаголов находился с автоматчиками в своей
машине. Славка Шустов фонариком нащупал Сослана в
кустах боярышника. Капитан зажмурился.
— Ну, что ты балуешься! Сейчас старшина Бабин
явку даст. Поедем на рандеву.
Славка изнемогал от нетерпения. Ему все казалось,
что именно теперь Крафт прекратит свои переговоры, и
он спросил, малодушно ожидая ободрения:
— А вдруг ничего не найдем? Вдруг и картотека ни-
чего не значит?
— Менделеев верил в свою периодическую систему, —
возразил Цаголов.
— Пойдем, я тебя угощу. Неужели ты в самом деле
хочешь из разведки во флот?
— Чем угощать будешь? Опять медом?
В багажнике у Шустова был сыр, который он резал
финским ножом вместе с картонной упаковкой, были кол-
басные консервы, галеты. И от нетерпения он ходил в
ночной тьме по экипажам и всех угощал или подводил к
багажнику своей машины и тащил оттуда даже последнее,
305
только бы успокоить себя на людях. Иногда ему ка-
залось, что полковник изменит свое решение, оставит де-
журить у телефона. Не зная, чем еще делиться с людьми,
чтобы заодно поделить с ними и свою тоску, он ухмылял-
ся, пересмеивался с шутниками, затянув в фургон спец-
машины, был беспощаден в издевке над старшиной. А на
рассвете забрался в свою машину, лег на переднее сиде-
нье, положил голову на свернутую валиком шинель и,
надвинув фуражку на глаза, уснул.
Проснулся оттого, что кто-то засигналил в его ма-
шине.
— Полковник зовет! — крикнул Сослан.
Слава опрометью вбежал в помещичий дом и только
у двери кабинета приосанился, вошел по-уставному четко,
увидел Ватагина и Котелкова над картой (полковник си-
дел, сунув обе руки в седые волосы) и именно для него,
для Ивана Кирилловича, бодро и вызывающе весело отра-
портовал:
— Младший лейтенант Шустов по вашему приказа-
нию явился!
Ватагин не поднял головы.
— Есть важное задание. Вам, Шустов.
Он взглянул на стажера и улыбнулся дружески:
— Ну как, мыло не кончилось, не смылил?.. Вот нем-
цы выдали нам маршрут. Только что Бабин перехватил:
«Saget Holz» — «Пилите дрова»! Ну, теперь-то мы знаем:
«Holz» — дрова. На растопку. «Saget» — это и значит Се-
гед. В венгерский город Сегед надо ехать. На правый
фланг, на Тису. Наши войска уже подошли, бой идет у
переправы. Ты проворный, Шустов?
Полковник оглядывал стоявшего перед ним навытяжку
юношу и прекрасно понимал, что творится у того в душе.
И ему хотелось продлить минуту душевной мобилизации
забавного, но отважного паренька. Он задал ему свой
обычный, еще с Дона запасенный вопрос:
— Ты видел, как ленивый казак с морозу в курень
проскакивает, чтобы не выстудить?
— Есть, товарищ полковник!
— Пойдете на мотоцикле с сержантом минером в ка-
ретке. Примечайте дорогу, — куда входите, откуда выхо-
дите. Действовать будете на кромке боя. Что, консервы не
все съел?
И только тут Славка заметил улыбку на лице Котел-
кова. Он заметил эту злую улыбку и понял, что Котелков
306
отговаривал полковника дать ему, Шустову, это поруче-
ние и, видимо, рассказал, как он в нетерпении всех уго-
щает из своего багажника. Вот человечишка! А Ватагин
все правильно понял.
— Ну, газуй, Шустов! — сказал он и обнял за плечи.
Славка выбежал из комнаты. Съехал, как в школе
когда-то, по перилам лестницы, удержал равновесие и,
как на лыжах, раскатился к порогу. Если влезть в душу
Славки в ту минуту, когда он искал минера, спавшего в
кресле посреди аллеи, — там, в Славкиной душе, все сме-
ялось от довольства собой, от торжества подвига, потому
что он, Славка, наперед радовался всем подвигам, которые
ему сейчас — кровь из носу! — предстояло совершить.
38
В ту ночь, когда Бабин колотил в дверь обеими рука-
ми, а потом Шустов с пожилым минером в «лукошке»
помчался по незнакомым дорогам на запад — над вино-
градными полями, в треугольнике северной окраины Се-
геда и двух хуторов, самолетом, прошедшим на высоте
шестьсот метров над нашими передовыми частями, веду-
щими бой, были сброшены парашютисты.
Спортивный самолет, доставивший парашютистов, был
замечен. Через несколько минут наши летчики атаковали
его в воздухе. Солдаты видели, как он пошел на болото.
Когда спустя сорок минут к месту падения подскакали
верховые, они обнаружили торчащий в камышах фюзе-
ляж. В пяти шагах от левого крыла лежал летчик, в спи-
ну его был всажен нож по самую рукоятку. Следы пара-
шютистов, убивших летчика, уходили по топкому лугу в
южном направлении, к окраине Сегеда.
Собаки-ищейки заплутались на водяных разводьях, в
которых исчезли следы. Умные псы скулили, присажива-
лись на секунду и вопросительно поднимали уши торчком.
Жалко было смотреть на них.
В Сегеде никто и не подозревал о десанте парашюти-
стов. Не до этого было. Глухой шум, о котором несколько
дней подряд обыватели венгерского городка говорили,
«будто мебель за стеной передвигают», теперь не вызывал
сомнений: это была артиллерийская канонада. Она при-
ближалась с каждым часом. Советские войска рвались к
переправам.
307
Но как бы грозно ни подступала война к яблоневому
саду и грязному дворику отставного капитана речного
флота Этвеша Дюлы, жизнь там текла заведенным поряд-
ком. Что могло происходить в мире, если под кустами
жимолости бродит выводок индюшат, а у закрытой калит-
ки свинья с зеленой от купороса спиной скучает, словно
проситель в городской ратуше? Посреди двора на выне-
сенных из квартиры венских стульях сидели и покури-
вали, как обычно, два приятеля: сам хозяин в золотых
очках на красном морщинистом лице, в синем берете и по-
тертой замшевой куртке и его сосед Мельцер Янош, отстав-
ной полицейский в зимнем, не по сезону жарком мундире.
Поглядеть на простодушный перекур, так и войны нету.
— Полюбуйся на свинью: спина-то заметно посвет-
лела, — заметил отставной полицейский.
— Да, здорово немцы пылят, — согласился отставной
капитан.
Они помолчали, довольные взаимопониманием. Без
особой тревоги они вслушались в громкий шорох пожара,
полыхавшего на кожевенной фабрике.
— Судя по приготовлениям, ночью уйдут, — сказал
Этвёш Дюла. — Сейчас сяду в лодочку, наловлю щучек.
— Ты обещал кому-нибудь свежую рыбу?
— Да, господину обер-лейтенанту, который живет у
мадам Хамзель.
— На дорогу? — подмигнул Мельцер Янош.
Звеня ведрами, пробежала за палисадником хромая
соседка.
— Запасайтесь водой!
— Сейчас, — отозвался отставной капитан.
— Сию минуту, — сказал отставной полицейский.
Так как они не тронулись с места, это показалось им
остроумным, и Мельцер Янош добавил:
— Моментально!..
— В мгновение ока! —крикнул вслед женщине отстав-
ной капитан.
У него была детская улыбка. Она собирала толстыми
складками кожу вокруг доброго рта. Глаза слезились за
золотыми очками. Таким его знали на улице много лет.
Он жил, одинокий человек, в квартире, обставленной, как
у всех: в кредит, в рассрочку на десять лет. Он должен
работать, чтобы не лишиться этого. Стоит прервать рабо-
ту, заболеть — и вещи уйдут, ведь не зря же приделаны
ножки к столам и креслам. Но мало этого: он не проста
308
лишится квартиры и мебели, честно нажитых в годът, ко-
гда он плавал по Дунаю. Он попадет в разряд неудачни-
ков, обездоленных судьбой, лишится достоинства и ува-
жения. Нет работы — нет человека.
За гроши, как бы для забавы, он мастерил мышеловки,
кухонные скребки, набивал обручи на ссохшиеся бочата,
лудил медные чаны. Такие же нищие, как он сам, заказ-
чики не торопили. Он по привычке говорил каждому:
«Сию секунду» или «В мгновение ока», — а сам отправ-
лялся на рыбалку. Дети провожали его гурьбой. Нахло-
бучив на брови зюйдвестку, с удочками и веслами на
плече, он шел к берегу, борясь с противным ветром.
Прошло минут пять, пока возобновился прерванный
разговор.
— Сегодня уже нечего опасаться. Ты их любишь? —
спросил Мельцер Янош.
— Щучек?
— Нет, наших союзников.
— Ну, вот еще. Они вечно важничали.
— Да, да, — поддержал отставной полицейский. —
Я невзлюбил своего, когда он только вошел в дверь. Он
сказал: «Здравствуйте, Herr Schlamm!» — Господин Грязь!
Он думал, что я не пойму.
— Сами-то они чистенькие, — сказал Этвёш Дюла. —
А их самодовольство! Взять, к примеру, почтенную мадам
Хамзель — этот обер-лейтенант был убежден, что делает
ее счастливой.
Они поглядели в ту сторону, где за оградой на обезлю-
девшей со вчерашнего дня улице стал так странно заме-
тен черный катафалк, всегда стоявший на цементной пло-
щадке перед погребальным бюро мадам Хамзель.
— Помнишь, как он сказал: «Борьбе армий всегда со-
путствует борьба самолюбий». Что и говорить — мастера
на высокие тирады!
— Знаешь, Янош, сегодня ночью я не спал и думал:
какой талант у этой публики — даже своих друзей оже-
сточить против себя.
Так дружно осуждая уходящих немцев, приятели вы-
шли со двора. В конце улицы трещало пламя, горели
склады кожи и деревья, окружавшие фабрику.
— Смотри же, будь осторожен, — сказал отставной по-
лицейский уходившему к Тисе приятелю.
Прошло два часа. На восточной окраине города за это
время ничего особенного не случилось, только дым
309
повернул к Тисе. Ветер его расстелил на высоком берегу,
точно невод, а потом сбросил в реку с первыми взрывами
на пустыре. Немцы начали подрывать кирпичные корпуса
складов, создавая поле обстрела для обороны. От взрывов
качались люстры в квартирах. В садах летели с веток яб-
локи. На улице — ни души.
И вот странное шествие показалось со стороны реки.
Два эсэсовца и какой-то босяк в фетровой шляпе вели
под руки Этвеша Дюлу. Было ясно, что с ним случилось
несчастье. Улица на минуту ожила. Несколько женщин
выбежали из калиток. Дети выглядывали из-за заборов.
Мельцер Янош поспешил на помощь другу.
— Он капитулировал! — сострил один из эсэсовцев.
— Он контужен. Подорвался на мине. Еще легко отде-
лался. Какой дурак мог догадаться сегодня ловить рыбу!
— Но его послал ваш обер-лейтенант! — возмутился
Мельцер Янош.
Бедный Этвёш был неузнаваем — ноги подкашивались,
голова моталась, толстые складки вокруг рта разглади-
лись, словно их проутюжило, от этого отставной капитан
даже казался помолодевшим. Сильно заикаясь, он рас-
сказывал соседям, как шел к реке через рощу, вдруг что-
то громыхнуло, и дальше он ничего не помнит.
Его ввели во двор. Босяк в фетровой шляпе вытряхнул
из его кошелки рыбу в корыто свинье, но бедный Дюла
не сказал ни слова, — видно, ему совсем отшибло память.
В другое время такое происшествие наполнило бы
двор толпой соседей. Пришли бы даже с дальних улиц.
Сколько можно было бы услышать сочувственных воскли-
цаний, медицинских советов, ужасных воспоминаний! Но
сейчас людям не до ближнего. Пепел и дым плавали сре-
ди деревьев. Канонада усилилась. От пристаней доноси-
лась учащенная перестрелка. Какой-то забежавший с
улицы юнец в трусиках, ударяя себя по волосатым ляж-
кам, прокричал, что советские тапки показались на даль-
них хуторах. В одну минуту дворик Этвёша Дюлы опу-
стел. Разбежались соседки. Удалились эсэсовцы. Исчез
босяк. И даже Мельцер Янош, пробормотав что-то вроде
«сейчас» или «сию минуту», подался в свой винный погре-
бок с каменными сводами.
Улыбка показалась на лице Этвёша Дюлы, когда он
остался один. Оп медленно обошел двор, оглядывая недо-
деланные мышеловки, разобранные будильники, ржавые
кофейные мельницы. Свинья чавкала, дожирая рыбу,
310
предназначавшуюся для обер-лейтенанта. Отставной ка-
питан с интересом поглядел на нее и даже почесал ее
где-то под передней ножкой, там, где розовая кожица ко-
лыхалась жирком.
39
Остаток дня Этвёш Дюла провел в темном зале, хотя
он не любил эту комнату со дня смерти жены. По стенам
развешаны снимки дунайских пароходов, портрет Хорти
и фотографии капитана в парадной форме речного флота.
Одну из фотографий Этвёш Дюла внимательно осмотрел,
даже перевернул ее, ища надпись, но ее не было, и он по-
весил фотографию на место. На снимке сходство с ним
было не так уж велико.
На улице слышалась немецкая речь. Все время шли
нестройные толпы солдат. Капитан речного флота прислу-
шивался к голосам. Он вел себя осмотрительно, и нельзя
было понять — глаза ли у него болят, или кружится голо-
ва, или его тошнит. С брезгливым выражением лица он
открыл старомодный баул, который достался ему еще с
приданым гречанки-жены, извлек парадный синий мун-
дир, капитанский кортик, щегольскую фуражку с золотым
плетением кокарды.
За окном смеркалось. Отблески пожара озаряли тем-
ную комнату. Протягивая впереди себя руки, Этвёш Дю-
ла долго путешествовал вдоль стен, пока не зажег свеч-
ные канделябры, которые на Тисе зовутся так же, как всю-
ду, по-французски: жирандоль. В последний раз они
были зажжены десять лет назад, когда на столе лежала
крючконосая, сварливая гречанка.
Стоя перед зеркалом, он сбросил с себя лоснящуюся
рыбацкую одежду и переоделся. Он глядел в зеркало,
держа в руках старую фотографию. Вот тут он действи-
тельно был похож на себя, каким его увидят завтра
соседи.
В эту минуту в комнату ворвалась хромая соседка.
— Господин Этвёш! — крикнула, показывая рукой на
открытое окно. — Вы хотите, чтобы мы все погибли под
бомбами!
Отставной капитан стоял передней, повторенный зерка-
лом. «Да, я забыл опустить штору», — говорило его лицо,
но он молчал. Он равнодушно глядел сквозь женщину.
311
Он не хотел опустить штору. Там, па улице, раздавались
немецкие голоса, он слышал их.
— Я ничего не помню. Оставьте меня.
Страшный свист и грохот потряс дом. Замигали свечи.
Женщину смыло, точно ее и не было. Этвёш Дюла опу-
стил штору и вышел в сад. Придерживая рукой парадную
фуражку, он пробрался к ограде, невидимый с улицы.
Дрожащее зарево освещало пустырь, по которому без
строя, отдельными кучками, проходили солдаты. Это были
изнуренные бегством бродяги. Они поспешно сматывались
на северо-запад, к Будапешту. У них не было ни тран-
спорта, ни командиров.
— Вот твоя колесница, Август! — сказал чей-то голос
во тьме.
Унылый шутник показывал своим однополчанам на
катафалк мадам Хамзель.
Никто не рассмеялся. Этвёш Дюла с выражением ве-
личайшего внимания припал к решетке ограды.
Эта бесстыдная шутка о колеснице Августа, циничный
разговор дезертиров как нельзя более соответствовал тому
душевному состоянию, в котором он находился. В Бор-
ском руднике, проходя свою спецподготовку, оп думал
иначе. Он и тогда не знал, как скоро наступит час
борьбы. Через полгода или через пятнадцать лет? Но
он все время ясно видел тот день, когда по радиосиг-
налу снова заварится кровавая кутерьма, которой пред-
назначено будет очистить весь мир в огненной купели фа-
шизма. Сегодня он уже не видел грядущего. Как оп
устал...
«Смерть! Вы принесете врагам нацизма тотальную
смерть...» — еще недавно уговаривал его Ганс Крафт в
спецбараке № 6.
Смерть... Сейчас генералу войск СС фон Бредау каза-
лось, что она угрожает только ему самому — смерть под
псевдонимом. Да, так и сдохнет он в этой сегедской дыре
среди ржавых мышеловок и грязных свиней. Жалкий дог-
матик, этот «фольксдейтч»; в его «легенде», которую на-
изусть помнил человек, бежавший из Германии в другую
жизнь, было предусмотрено все, даже содержимое сундука
старой гречанки. Он упустил из виду только одно: тот,
кто уйдет в подполье, должен верить в свое спасение. Но
можно ли теперь во что-нибудь верить? Вот он, перед гла-
зами — оплот нацизма, армия дезертиров!
312
Рослый немец прошел мимо него, руку в закатанном
рукаве он держал на висевшем сбоку шлеме. Зной не
спал и ночью. Мимо ограды прошел еще один. Фон Бре-
дау успел различить мокрые белые пряди его волос.
В эту минуту в доме напротив ресторатор фанерным
листом закрывал буфетную стойку, тесно заставленную
рядами бутылок. С улицы при свете пожара стойка напо-
минала церковный орган.
— Не дури, — говорил жене ресторатор, — что значит
свет жирандолей Этвёша, когда весь город освещен пожа-
рами.
— Он невменяем.
— Он немного спятил со страху.
— И мне страшно. Ты знаешь, его лицо помоло-
дело, как после косметической операции, — сказала
женщина, и в ее голосе даже послышались завистливые
нотки.
— Важно не это, — сказал ресторатор, — важно, что
они наконец уходят.
— А мы остаемся.
— Да, мы остаемся. Это важно.
Новая толпа солдат проходила по улице. Генерал
войск CG передвинулся на несколько шагов вдоль ограды,
чтобы видеть лучше, слышать яснее.
— По нынешним временам надо иметь маленький же-
лудок, — послышалось из толпы.
— ...Но зато длинные ноги, — поддержал другой го-
лос.
— Ты хочешь уйти. Куда?
— Откуда течет Дунай. Вот куда.
— Дурак.
— Нет, он умный. Он спешит к американцам.
Тотчас раздался озлобленный окрик по адресу шут-
ника:
— Ты кто такой, чтобы смеяться над баварцем? Ав-
стриец! Нытик! Остмеркер! Остмекер!1
Фон Бредау не пропускал ни одной подробности, его
глаза и слух напряженно воспринимали все, что можно
было увидеть и услышать.
1 Остмеркер — житель провинции Остмарк. Так называ-
лась Австрия в гитлеровской Третьей империи. Остмекер — бук-
вально «восточный нытик». Пренебрежительное прозвище австрий-
цев в немецко-фашистской армии в конце войны.
313
— Он трофейный немец! Беутедейтче.
— А ты! Ты — Пифке! Вот кто...
— Эй, вы, мармеладники, шагу!
И голоса великой армии растворились во тьме.
40
Никогда в жизни Славка не гнал «цундап» так, как
в ту ночь.
Осенняя тьма. Разлившиеся после дождей желтые ре-
ки. Глухие дороги, забитые войсками.
— Давай, младший лейтенант, жми! Не заснешь? —
кричал сидевший в каретке Демьян Лукич.
На развилках дорог Славка чертом соскакивал с мото-
цикла, колдовал среди деревьев, выбирая дорогу, и бегом
возвращался, спрямлял путь, гнал по кочкам, изредка
встряхивая головой для бодрости.
Они добрались до предместий Сегеда в тот час, когда
после атаки, поддержанной танками, наши солдаты распо-
ложились в домах и во дворах — где спали, где «дожима-
ли» банку консервов. Шли легкораненые. Связисты тя-
нули провод в глубь города. Там слышалась пулеметная
стрельба.
Мирные жители, натерпевшись страху, скользили по
дворам бесплотными тенями. И только пожилой и по-
донкихотски хмурый и тощий Иожеф, пекарь Иожеф,
еще в первую мировую войну побывавший в русском
плену, хладнокровно ходил по дворам, выполняя заодно
обязанности толмача и первого избранника на должность
главы народной власти. Было ясно, что дело тут не в том
лишь, что Иожеф знал русский язык.
Доложив о своей боевой задаче командиру полка, во-
евавшего в этих кварталах, Шустов разыскал Иожефа.
Мотоцикл был оставлен под навесом во дворе, где минер
дожидался дальнейших событий.
— Товарищ Иожеф, где нам сыскать Этвеша Дюлу? —
спросил Шустов, пожимая руку старого коммуниста.
— Он у себя дома. С ним утром случилось несчастье.
— Он контужен?
Ответа долго не было.
— Откуда вы знаете?
— Вам известно, где это с ним случилось? — Шустов
почти тащил за собой Иожефа к мотоциклу,
314
— В ивовой роще над Тисой.
— Покажите.
Втроем они оседлали мотоцикл и съехали в лесной
овраг. Несколько шагов оставалось до реки. Тут надо бы-
ло держаться настороже. Шустов поставил мотоцикл в
тень старых ив. ч
Тощий Иожеф спрыгнул и показал на глубокую во-
ронку в пыли проселочной дороги.
— Вот тут, должно быть, он шел. Немецкий офицер
погнал его за рыбой.
— За рыбой?
— Да, приказал. Разве ж не пойдешь? Убьют.
Они стояли в ивовой роще. Трудно представить, что
если взбежишь на бугорок, покажешь голову, и — конче-
но — простишься с жизнью. А здесь, в приземистых ивах,
время как будто уснуло. Толстый голубь слетел в ворох
листьев, прошелся вперевалочку неведомо зачем.
— Что ж, действуйте, товарищ сержант, — приказал
Шустов и сел на камень.
— Вы оставайтесь на месте, — сказал минер.
Он неторопливо отвязал от машины свой инструмент
и молча двинулся вдоль проселка. Куда девалась его сло-
воохотливость.
— Ишь куроеды, и здесь пакостят, — только и сказал
он, растоптав недокуренную цигарку.
На лесной прогалинке установилась мертвая тишина.
Сержант работал. Он нагибался, ощупывал каждую тра-
винку, снова делал два-три шага, пробовал щупом. Так
он прошел до самых дальних ив и тогда повернул в ку-
сты.
Недоумевающий Иожеф присел рядом с русским офи-
цером на травке и рассказывал все известные ему обсто-
ятельства дела. Вчера соседи позвали его со двора: со
старым Этвешем случилась беда — подорвался на мине у
Тисы. Он зашел к бедняге и подивился: тот медленно об-
ходил двор, оглядывая свои недоделанные мышеловки и
разобранные будильники. Насмерть перепуганный чело-
век как будто заново знакомился со своим двором и до-
мом, где прожил столько лет. Увидел его — почему-то ис-
пугался, пошел в сторону, в сад. Он хотел попросить
Мельцера Яноша побыть ночью с контуженным — ведь
старые друзья! Выяснилось, что немцы, уходя, увели с со-
бой Мельцера Яноша — зачем, спрашивается? Что худого
мог им сделать отставной полицейский? Здесь, в ивовой
315
роще, всеведущие мальчишки показали Пожефу ямку на
дороге.
— Не томи, сержант, что скажешь? — спросил Шу-
стов.
Сержант медленно подходил к машине. Инструмент он
нес на плече, как косарь свою косу. Сапогами шаркал по
траве, как всякий пожилой человек с немного кривыми,
натруженными ногами.
— Да вы-то сами поосторожнее! — крикнул Иожеф.
— От смерти не сховаешься, дорогой товарищ.
Демьян Лукич положил инструмент в машину, стал
неторопливо сворачивать цигарку. Славка поднес ему го-
рящую спичку.
— Ну, говори, друг.
— Так он же не на мину наступил. — Сержант пока-
чал головой.
— Вот тебе и заключение. Что ж, на коровью лепеш-
ку, что ли?
— Нет, не на мину. Тут его гранатой пригладили.
— Что ты, сержант, — смутился Иожеф.
— Можно даже уточнить, откуда ее и бросили, —
сказал минер и показал на кусты, где он только что ры-
скал, оглядывая каждую веточку.
— Что ж, ручной гранатой? — переспросил Славка.
— Нет, ручной что... только глаза запорошить. Тут,
считай, противотанковая. Я и по воронке сужу, и по ди-
станции... — он помедлил, затянулся дымком и вынес
свое решающее суждение: — Должно было его на куски
расшвырять. — Он обернулся к венгру и коротко спро-
сил: — А цел, говоришь?
— Цел. Только что контужен. Слуха лишился.
— А уха не лишился? — с некоторой подковыркой
спросил минер.
— Уши целые, — улыбнулся на шутку Иожеф.
— Эва что... — сказал сержант.
На его ладони лежало измазанное землей и кровью
человеческое ухо.
— Ухо-то вот, — произнес сапер. — А ты говоришь,
уши целые. Что же, у него три уха было?
— ...Третье ухо нашли? — с интересом переспросил
Ватагин, вызванный на фронтовой узел связи. (Разыскав
штаб танковой бригады, младший лейтенант Шустов су-
316
мел через пять промежуточных узлов связи вызвать Вата-
гина, чтобы информировать его о находке минера и полу-
чить указания.)
— ...Что ж, враг слушает, ему нужны уши, — помед-
лив, позволил себе шутку полковник и уже другим то-
ном отдал приказ: — Захватите вражеского резидента,
подменившего убитого Этвеша Дюлу. Действуйте, дальше
разберемся, товарищ Шустов. Кто там у вас в Сегеде
народная власть? Пекарь Иожеф? Ну, вот и хорошо,
с ним и действуйте — с пекарем Иожефом.
41
Уже четвертый час стояла на посту Даша Лучинипа.
Вчера она прибыла сюда с подружкой. Румынский катер
пробуксировал баржу. Русские плотники к вечеру сколо-
тили дощатые сходни. Девушки построили себе камышо-
вый шалаш под дамбой. А кормили их пока что сербы да
проезжающие солдаты.
Несколько дней перебрасывалась через Тису мотори-
зованная армия. Видно, командование не дожидалось
конца белградского сражения, чтобы идти на Будапешт.
У пристаней было людно и шумно. Дважды налетали
«юнкерсы». Регулировщицы расставляли машины у пере-
правы так, чтобы не мешать быстрой разгрузке барж.
— Давай! — слышался голос Лучининой, когда ма-
шины сходили на берег и выезжали с песчаной выемки
на дамбу.
Как все фронтовики, Лучинина любила это словечко:
«Давай!» Крикнешь, подсобишь людям словом и будто
метлой сгонишь с пути. Порядочек. Даша увлекалась,
кричала громче всех, пока водители гудели клаксонами
и ругались.
Иногда регулировщица вскакивала на подножку ма-
шины на ходу, чтобы не задерживать.
— Контрольно-проверочный пост, ВАД-двадцать два.
Предъявите ваши документы.
И оттого, что она была такая хрипло-голосистая, и от-
того, что опасная переправа была уже позади — все от-
вечали ей шутками, иные приглашали ехать с собой, на
передовые.
— Сидай, сидай, курносая, поедем!
Даша так давно слушала на перекрестках и чужое
горе,, и чужую радость, что хорошо понимала людей. По-
317
рой ее охватывала такая жалость к людям — всех было
жалко за что-нибудь. Она ругалась с водителями и жа-
лела их. Иной вывернется перед тобой, только и успеешь
выругаться.
— Вот ведь сошьет же господь людей! — кричала она.
Стемнело.
Изредка вставал, рассекал небо и снова падал во
тьму полей прожекторный луч. Тогда освещались по бере-
гам низкие, жесткие ивы.
Река хорошо доносила дальнее буханье канонады. На
Тисе и на Дунае оно было так же знакомо, как на всех
пройденных реках. Так же на это буханье тянулись
автоколонны, тысячи мужчин яростно ругались, если их
задержишь в пути. А оттуда, из пекла, брели понурые,
раненые. И Даше казалось, что кто-то проклятый завел
эту музыку давным-давно и носит ее по всей земле. До-
нес до самой Волги, теперь назад, до Дуная. И если не
знать, то можно подумать, что скопища людские со всех
краев земли тянутся, тянутся к этой музыке — только бы
ее послушать. И невесело было думать, что еще, может
быть, долго придется ждать, чтобы она умолкла наконец
навсегда.
42
Баржа поскрипывала, и вода плескалась около ее бор-
тов. Маленький катер тянул ее от берега к берегу. Баржа
была уставлена грузовиками и подводами с фуражом. Тем,
кто в тот вечерний час теснился у перил, высматривая
в волнах плавучие мины, Тиса казалась бескрайней. Нет
другого берега — баржа будто стоит на месте. Все испы-
тывали одно и то же: и автоматчики, и водители бензо-
цистерн, отгонявшие от машин курильщиков, и строгие
с виду сербы у своих подвод. Разговаривали вполголоса.
Только что пролетел немецкий самолет, разбрасывая
мины по реке.
— Красивый народ, статный, — говорили солдаты,
поглядывая на сербов. — Себя зовут селякп, стало быть,
по-нашему, крестьяне.
Один из сербов подошел, прикурил, остался слушать.
Едем через Вршац, — рассказывал солдат из
мотопехоты. — А у них митинг на главной площади. По-
ихнему, вече. Народная армия пришла. Цветы. Смеются.
Встретились! Ну мы, чтобы не тарахтеть, решили про-
318
улочком тихо-мирно объехать. Что ж вы думаете, дого-
няют, назад поворачивают: «Ваш поход любо слушать,
лучше всяких речей!»
— То истина, — сказал серб.
И замолкли солдаты. Плескалась вода за бортом.
Дверка единственной на барже легковой машины от-
крылась, и в тесный проход вылез офицер в капитан-
ских погонах, с забинтованной нижней частью лица. Оп
посмотрел на хмурый простор реки, и его глаза, мерцав-
шие над бинтовой маской, выразили чертовскую госпи-
тальную скуку. Бинты, обмотавшие его челюсти до самых
ноздрей, видно, беспокоили его, он их оттягивал паль-
цами книзу от ушей.
— Ага, челюстной. Бедняга, — поглядев на него, ска-
зал бывалый солдат.
— У нас в павлоградском госпитале был в санпропу-
скнике старшина Семушкин, — заметил другой. — Так он
страсть как не уважал челюстных.
— С чего бы?
— Разговорчив был. А с челюстными какой раз-
говор — известно. Он и туда и сюда — они молчат.
Парикмахер им головы броит, няньки дезраствором
опрыскивают, старшина халаты им несет, а они знай
молчат... «Что ж, вы, соколики, — чуть не плачет Семуш-
кин, — горе мне с вами, ушей-то у каждого двое, язык-
то — он один, а вы его прикусили...»
Медленно приближался берег. Вокруг пристани ды-
мились деревья — три дня назад шел бой, самолеты вели
огонь по буковым лесам, где гнездились разрозненные
фашистские группы. В свете дотлевающих огней впереди
очертилась пристань с целым стадом встречных машин,
дожидавшихся переправы, а на песчаном выезде —
тоненькая фигурка Лучининой с флажками и автоматом.
Выпятив забинтованную челюсть, человек у легковой
машины потянул ноздрями, сунулся в машину, прихлоп-
нул дверку за собой, задернул шторку...
43
Катер подтащил баржу к причалам. Уже бросали
канаты. Водители запускали моторы. Пристань ожила.
— Давай! Давай! — закричала Лучинина.
И тяжелые, груженные боеприпасами машины пошли,
пошли, пошли одна за другой.
319
Легковая машина, сойдя с баржи, рывком взяла кру-
тизну выема. Соскочив с переднего грузовика, Даша под-
бежала к нему.
— Контрольно-проверочный пост ВАД-двадцать
два... — сказала она, заглядывая в стекла машины. —
Предъявите ваши документы.
Она открыла дверку.
Шофер с забинтованным до ушей лицом не ответил.
Его узкие глаза под широкими бровями не понравились.
Он был какой-то нехороший — не то сердитый, не то
насмерть перепуганный.
— Предъявите документы!
Лучинина включила фонарик, чтобы посветить внутри
машины, но шофер грубо прикрыл фонарик рукавом
шинели.
— Бросьте шутить! — крикнула она, разозлив-
шись.
Шофер молча ловил фонарик рукой.
Машина набирала скорость.
— Водитель, остановите!
Луч фонарика все же скользнул по лицу пассажира.
Второй в машине был так же точно забинтован — вся
нижняя часть лица до ушей и по самые ноздри...
Даша боролась с рукой шофера. Вдруг вспомни-
лась инструкция полковника Ватагина с описанием
примет.
— Bans! 1 — глухо, в бинты, не то сказал, не то хар-
кнул один из пассажиров.
Регулировщица снова мазнула светом внутри машины.
Шофер расстегнул кобуру. Даша рассвирепела и потяну-
лась к «баранке».
— Вот ведь сошьет же господь людей! — с великой
досадой сказала она и вдруг, заметив поблескивавшее
пенсне под низко надвинутым козырьком фуражки,
с запозданием догадалась, что шофер тот самый, с вата-
гинской фотографии.
В ту же секунду в нее выстрелили, и машина рвану-
лась. Даша упала на дорогу. Машина уходила по дамбе,
пе выровняв хода, сшибла столб с указателем «На пере-
праву».
Теперь, лежа на дороге, Даша знала, что делать.
Только вот автомат непослушно сползает с плеча. Она
1 Вон! Убирайся! (нем.)
320
ударила длинной очередью. Старалась попасть по низу,
по скатам. Кто-то выскочил из машины. Позади уже
бежали от причалов. Она еще раз ударила длинной
очередью и вдруг испугалась: а что, если — паши, шаль-
ные, пьяные?
— Эй? — кричал знакомый голос. — Кто тут? Дев-
чонка?
— Она же ранена, братцы. Гляди, кровь.
Ее покачивало, но медленно, медленно. Ей даже по-
казалось, что опа стоит, как когда-то, па понтонном мосту
в Днепропетровске, а он дышит, прогибается под про-
ходящим паровозом. Ее поташнивало. И чей-то, как ей
казалось, очень знакомый голос произнес внятно и рас-
судительно:
— Знаешь ли ты, откуда течет Дунай? Прямо из са-
мой Баварии. Вот то-то. Надо понимать, откуда Дунай
течет.
44
Когда Пальффи выскочил из машины, в него стре-
ляли с двух сторон: советская регулировщица, лежавшая
на дороге, и Крафт из машины.
Он пробежал, согнув голову, зону обстрела, прыгнул
через кювет, оступился и упал. Вскочил, чтобы бежать
дальше, нестерпимая боль в колене заставила снова опу-
ститься на землю. Несколько часов, волоча ногу, почти
ползком, он спасался от преследований, пока, обессилен-
ный, не свалился в каком-то болоте.
Невдалеке была деревня. Порой оттуда доносились
русские песни или шум мотора-генератора, а однажды
близко раздался глухой взрыв — это, наверно, солдаты
подорвали мину.
Ночью завыл пес.
Тоска и злоба охватывали Джорджа, когда он, лежа
на помятом камыше, прислушивался к этим звукам: рус-
ские пришли в Европу и вот поют, глушат рыбу на ужин,
и смеются, и с лошадьми разговаривают, задавая им
овса, а он, с распухшей ногой, таится в болотной жиже.
Здесь он залег на весь день. Ночью встал, ушел километ-
ров за двадцать. Днем снова отлеживался в болотной
траве. Под вечер в замызганном кителе и синих галифе,
в истоптанных сапогах он пристроился к растянувшемуся
обозу. Тут, в толпе солдат, обнаружил он, что китель его
11 Н. Атаров, т. 1
321
слишком грязен и, главное, нет подворотничка. Это от-
крытие странно обеспокоило его. Он укрылся в куче
наколотых дров на крестьянском дворе и просидел в
них всю ночь.
Зачем он выскочил из машины на переправе? Может
быть, Крафту все-таки удалось спастись? Почему он про-
сидел всю ночь в дровах? С ним творилось что-то нелад-
ное. Оп это сознавал. И почему па рассвете, вопреки
всякому смыслу, он выполз из поленницы и снова захро-
мал по дороге?
...Все, что он делал, было бессмысленно. И оп испу-
гался этого. Весь день и долгую ночь он сидел в мелко-
лесье. Лупа была очень яркая, и он вдруг поймал себя
па том, что, выставив свои большие изогнутые пальцы,
разглядывал между ними луну.
И снова двинулся в путь. В пустом заброшенном доме
прифронтового села оп шесть долгих ночных часов непод-
вижно просидел на подоконнике на пару с голодным чер-
ным котом.
45
В минуты просветления мысли он пытался вглядеться
в головокружительные петли своего жизненного пути.
Этот аристократ, никогда не помнивший даже перечня
своих наследственных земель в придунайской долине, дол-
жен был признаться себе, что весь этот год метался, как
заяц в луче прожектора. Он уже десять лет не ночевал в сво-
ей любимой детской комнате, где в окна заглядывают ниж-
ние ветви столетних ив, откуда утром к завтраку идешь
через уютнейший коридор, стены которого увешаны ро-
гами всех оленей, когда-либо убитых графами Пальффи.
Мотаясь по балканским дорогам, — сегодня в Ямболе,
завтра в Крагуеваце, — помощник венгерского военного
атташе жил только страхом и ненавистью. Ганс Крафт
с его страстью к точным расписаниям наводил на него
казарменную скуку. В прямоугольном черепе этого жид-
коглазого маньяка жила только одна, 1Ш самим сочинен-
ная идея; и, не догадываясь об этом, Пальффи, не рас-
ставаясь с навязанной ему спутницей, должен был два
года колесить по захолустным городкам, заводить зна-
комства с провинциальными адвокатами из социалистов,
мелкими служащими плоештинских нефтяных компаний,
репортерами желтой прессы, пехотными офицерами,
322
залечивавшими раны па пляже в Варне. Марина
и Джордж входили в кафе, под тентом, на городской
площади, где многие отцы города сидели в табачном
дыму за игрой в джюлбар или в бридж, и начинались
расспросы. Ордынцева доставала из сумочки фотографии
п шелковый платочек. Свою роль вдовствующей невесты
она выполняла превосходно. Они пополняли картотеку
Крафта такими интимными сведениями о некоем Иовано-
виче или Андреашану, каких не смогли бы представить
и о самих себе. Они выпытывали до мелочей, каким инте-
ресам предан человек: филателии, рыбной ловле, хоро-
вому пению, изучению истории русско-турецкой войны,
радиотехнике, монашеским молитвам.
Каждые три месяца Пальффи получал от Крафта
секретный пакет на содержание своей образцовой коню-
шни. Из поездок он часто вывозил недурных восточных
коней. Нетрудно было также, пользуясь простодушным
гостеприимством хозяев, подкинуть ампулу с культурой
сапа в кормушку с овсом или просто втереть с помощью
картофелины в ноздри или в губы коня смертельную
инфекцию.
Ошеломляющее впечатление произвело па все гитле-
ровское офицерство — и на Пальффи Джорджа — пора-
жение германской армии между Двинском и Ковелем,
когда бегущие немецкие солдаты показались на старин-
ных вязовых аллеях Восточной Пруссии.
Ганс Крафт, придя на софийскую квартиру Джорджа,
явно ничего не понял. Как всегда перед завтраком, он
с удовольствием мыл руки и разглагольствовал:
— Доктрина фюрера не знает каких-либо моральных
ограничений. Бог служит нашим целям, или он мешает
нам. Французы выдумали права человека и справедли-
вость. Русские целое столетие проповедуют миру правду.
Все это — детская игра. На самом деле есть только одна
цель: господство; есть средства к цели. Между верой
в бога и святотатством нет разницы. Мы ее не видим.
И пока этого о нас пе знали наши враги, все шло отли-
чно. Тотальная война не должна была быть афиширо-
вана так скоро — вот в чем ошибка.
Слушая эти речи, Джордж постепенно приходил к вы-
воду, что перед ним душевнобольной, маньяк. Не выдер-
жав, Джордж уезжал к Ордынцевой и пил с ней весь
день; поздно вечером отправлялись в ресторан «София».
Джорж не мог оставаться один. Им тоже владела безумная
11
323
идея: спасти мир собственности! Красный поток
вторгается в Европу — надо остановить его, спасти все,
что можно, из доброго старого мира! Твердя об этом
в своем пьяном бреду, он не догадывался, что ради той
же цели савойская королевская династия в Италии под-
вергла домашнему аресту Муссолини. Ради той же цели
германские фельдмаршалы забыли адскую машину в ка-
бинете Гитлера и надеялись в случае успеха завтра же
открыть перед американскими десантными армиями «ли-
нию Зигфрида»—пусть идут до Берлина, как можно
скорее, без отдыха и ночлега! Тысячи нитей связали
в один клубок все силы, родственные Пальффи, — силы
реакции, креста и собственности. Тайные радиостанции
действовали в лесах Польши, парашютисты прыгали
с секретными пакетами в окрестностях католических
монастырей в глуши Словакии, дипломатические курь-
еры пробирались из Болгарии в Каир. И в Берне в особ-
няке на Херренгассе, в конторе американского развед-
чика Аллана Даллеса белобровая референтка, стучавшая
на «Ундервуде», видела не только немцев, но и австрий-
цев, венгров, слышала обрывки итальянской, румынской
речи.
В тот вечер Пальффи впервые понял, что фюрер про-
играл войну, что времена норвежских, африканских, кав-
казских походов прошли безвозвратно, что судьба Третьей
империи уже не может быть спасена никаким «секрет-
ным оружием», что в этом последнем акте трагедии уже
не поможет бессмысленное сопротивление в Тунисе, Нор-
мандии, Прибалтике. Нужны оборотни, способные скрыть-
ся в самых глубоких норах, нужны тирольские леса,
аусбургские пещеры и тот спецбарак № 6 в германском
концлагере, в горах Северо-Восточной Сербии, на Бор-
ских рудниках, где все еще готовятся для бегства из
жизни по фантастической системе Крафта соблазненные
им господа: первые дезертиры нацистского райха. И в его
памяти по какой-то злорадной игре ассоциации возникал
знойный день в Абадане, офицерская каю^а па линкоре
«Алабама» и энергичный, напористый американец в рас-
стегнутом кителе, его откровенное признание:
— Мы начнем там, где Гитлер кончит.
А через три недели, выполняя очередное поручение
Крафта, Джордж оказался в горах Трансильвании — там
у него была самая надежная явка: бывший учитель
математики из отцовского имения; Джордж давно не
324
был в соборах, и этот, чужой и незнакомый, произвел на
него неожиданное действие: напомнил мишкольцкое дет-
ство. Снова органист, как в детстве, брал первый ак-
корд — задавал тон хору. Снова прислуживали мальчики
в белых пелеринах с малиновыми капюшонами. Они при-
вычно и ловко, как Джордж в детстве, становились на
одно колено. Рядом с Джорджем на мраморном столбе
высилась бронзовая чаша с водой, и женщины, и старики,
и дети, входившие в церковь, окунали в воду кончики
пальцев, крестились, шли к скамьям и становились возле
них на колени.
Пальффи Джордж задумался — геометрический череп
Г анса Крафта возник перед ним па фоне карты
Европы, па которой гнездами флажков были указаны
узлы кровавой войны — в предместьях Варшавы, под
Болоньей в Италии — и стрелка, направленная с за-
пада на Амьен, означала марш американских танков,
начатый недавно в Бретани. Звенели колокольчики, тонко
звучал хор, и вдруг Джордж очнулся и увидел, как все
молящиеся женщины разом вынули носовые платочки,
и слезы потекли — быстрые, горячие, вдовьи слезы.
Джордж понял, что молятся о погибших.
Бывший преподаватель математики в Мишкольце, ста-
рый патер в рясе с крестом на груди, приблизился к нему,
протянул к его губам свою длинную руку.
Потом они ушли по горной дороге далеко за город,
и Маурус (духовное имя учителя) подробно рассказал
Джорджу, что произошло в эти дни с его отцом. Началось
с того, что Хорти вызвал военного министра и в истери-
ческой форме предупредил, что он не допустит повторения
уроков Италии. При этом упоминалось имя Пальффи
Артура. О, там неплохо поставлена служба осведомления!
После этого «Старому Q» нечего было терять, и день
спустя на рассвете генерал-полковник выехал на фронт
к венгерским корпусам — отдать приказ об отходе с пози-
ций. Тайная полиция, все знавшая от предателя-сала-
шиста, устроила засаду из танков и автоматчиков. Гер-
манский генерал под угрозой расстрела приказал Пальф-
фи Артуру отменить отход войск. Тот отказался, его
объявили предателем и отвезли в Будапешт, в гестапо.
Маурус рассказывал о том, что происходит па венгер-
ской земле. Богатые крестьяне раздают скот соседям,
чтобы скрыть его от коммунистов. Монахи разносят по
деревням слух о том, что скоро придут англичане, и надо
325
прятать зерно. Батрацкая молодежь почти поголовно
вступает в Демократический союз. В северных имениях
Пальффи — в тех, что уже заняты красными войсками, —
батракп подали более тысячи заявлений с требованием
наделить их землей, п даже местный врач, когда «наш
человек» навестил его, сказал, не задумываясь: «Нет,
я не пропаду с народом: раньше я лечил одного графа,
а теперь у меня будут сотни пациентов». Учитель был
злобен и суров. Крест с золотой цепью и аметистами на
его груди сверкал, как разящее оружие. Ненависть его
к коммунистам заставила Джорджа устыдиться своей
минутной расслабленности, пережитой в костеле.
— На рассвете я буду снова в строю, отец Маурус.
Благословите, иду на смерть, — сказал Пальффи Джордж.
И жестокий мбнах ничего не придумал, кроме звеня-
щей латыни: «De sanguine fuso viola nascuntur» — Из
крови пролитой родйтся фиалки».
Расставшись с патером, Пальффи Джордж не сразу
вернулся в гостиницу. Ему нужно было остаться одному,
хоть на час. Он ушел в пыльные кустарники, в лиловых
сумерках бродил по песку и не жалел воображения, чтобы
представить себе план действий.
А еще через пять дней он впервые зверски разругался
с Гансом Крафтом. Сидя в машине, он видел, как по
шоссе вытягиваются автомобильные колонны и пеший
сброд армейских тылов. Смеркалось, когда они въезжали
в город, и над притихшими улицами и садами пыльное
небо подкрашивалось зловещими отблесками — на Тисе
горел танкер с бензином, над мутной водой колыхалось
летучее пламя. В бронированном бункере на песчаном
пляже немного позже состоялась беседа Ганса Крафта
с Пальффи Джорджем, беседа, которая обнаружила твер-
дость духа сентиментального немца из Баната, слепо
державшегося за свои фанатические замыслы, и жалкое
ренегатство Пальффи.
— У меня есть свой разумный план, — дерзко говорил
Джордж. — Я знаю отцовский химический завод под Пе-
чем, где припрятано двадцать ящиков необработанного
морфия. Дайте мне документы на имя греческого негоци-
анта, запросите вагон-ледник, мы вывезем все это в Три-
ест, п я спасу вас и себя, да, — себя и вас, черт вас
возьми... Если на вашей спине не сидит дьявол!
Таких разговоров Крафт еще не слышал. Оп молча
глядел на Джорджа застывшими глазами и барабанил
326
пальцами по передним зубам. И две стеариновые свели
тянули свои красные языки в черных колечках копоти
в сторону бронированной двери, все-таки пропускавшей
вечерние воздушные токи. Потом оп положил свои жен-
ские пухлые ручки на стол и с той чистотой произноше-
ния, которая всегда выдавала в нем банатского немца,
сказал:
— Пальффи Джордж, знайте, что вы должны забыть
все, что наговорили сейчас. Вы должны кануть в безвест-
ность пе так, как вам хочется, а так, как прикажу вам
я. Если понадобится, вы станете ловить рыбу или будете
чинить мышеловки, лудить посуду и набивать обручи на
бочки столько лет, сколько понадобится Германии. И ес-
ли дощатый крест когда-нибудь вырастет над вашей мо-
гилой над Дунаем, то и этот крест вы будете нести до
моего приказа. Да, вы правы, Пальффи Джордж, ваши
глаза отлично видят: на моей спине действительно сидит
дьявол!
Нет, фиалки из пролитой крови не рождаются. Когда
Пальффи Джордж выпрыгнул из машины на придунай-
ской дамбе, он бежал пе только потому, что боялся рас-
платы, а потому, что не верил! Теперь он уже решительно
не верил в нелепую выдумку сумасшедшего Крафта.
Винтовкой, ножом и топором будет отныне оп защищать
своп охотничьи замки, дворцы, пахотные земли и леса,
драгоценности матери, картинную галерею любимой се-
стры и конюшни ненавистного отца — и тут не дождать-
ся фиалок! Он недвижимо лежал на смятом камыше и всю
ночь вскармливал свою ненависть воспоминаниями. Он
относил на счет коммунизма все — и ссору с отцом, п
унизительные балканские мытарства. И он ничего пе про-
щал! Нет, фиалками не прорастет даже красавица Мари-
на, безжалостно выброшенная на скотомогильник. Она
уже сняла с себя цепи. О, это все-таки страшноватый
господин, банатский немец Ганс Крафт. Как он сказал
ему, глядя в упор: «Легче надеть на человека цепи, чем
снять пх с него». Пальффи Джордж знал теперь свой
путь — в родные пенаты, в ту детскую комнату, где в
окна заглядывают нижние ветви столетних ив. Вот толь-
ко нога. Отлежаться...
Повсюду русские вели поиск — однажды Пальффи
слышал близко голоса патруля, обыскивавшего болото.
327
Иногда ненависть к этим людям мешала ему владеть со-
бой, тогда он окунал высокий лоб в стылую воду, и тот-
час кровь начинала гудеть в его ушах тревожным ба-
шенным набатом.
46
Захваченный Шустовым в Сегеде, отставной капитан
речного флота Этвёш Дюла после трех ночных допросов
у полковника Ватагина показал, что он не Этвёш Дюла,
а генерал войск СС фон Бредау, прошел полугодовую
школу перевоплощения, находившуюся в спецбараке № 6
германского концентрационного лагеря на Борском мед-
ном руднике. Среди восьми вариантов замены, восьми
двойников крафтовской картотеки был выбран именно
Этвёш Дюла в Сегеде исключительно в силу удобства
конспирации: отставной капитан был одинок, а фон Бре-
дау отлично владел венгерским языком. Парашютный
десант по радиосигналу «Пять подков с одного коня»
был демаскирован лишь из-за близости советских солдат
из боевого охранения. Вся операция происходила в не-
сколько истерической обстановке.
Коротко остриженный, сероголовый, в очках с золотой
оправой, близко придвинутых к глубоким глазницам, он
казался слепым и, наверно, действительно был в эту ми-
нуту слепым, как камень.
— Я должен был похудеть. Мой вес не должен был
превышать шестьдесят три килограмма. Я весил семь-
десят четыре. Они гоняли меня на корде полгода. Я из-
мучен, господин полковник.
Допрос шел без карандаша и бумаги.
— Хотите кофе?
— Благодарю. Мадьяры не так гостеприимны.
(Ватагин ужо знал, что Шустов грудью защитил
вчера фон Бредау от разъяренных венгерских женщин,
хотевших растерзать убийцу старого Дюлы самосудом.)
— Мы, разведчики, — сказал Ватагин, — кропотливо
ищем тех, кто укрылся от нас, а народ просто казнит
своих врагов... Хорст фон Бредау, скажите, пожалуйста,
что вы думаете о поражении гитлеровской Германии?
— Меня это больше не касается.
Ватагин промолчал. Всем опытом он знал, что ожида-
ние разоблачения всегда страшнее самого разоблачения.
И он давал созреть этому ужасу в душе гитлеровского
328
генерала. Немец спасал какую-то тайпу, если так откро-
венно рассказывал многое.
Сквозь неутомимый мокрый шорох дождя за окном
слышалось, как в городском комитете коммунистической
партии разучивали русскую песню «Широка страна моя
родная...». Ее пели на венгерском языке хорошие голоса.
Ватагин и фон Бредау молчали, как будто в самом деле
слушали песню.
— То, о чем я спросил вас, имеет прямое отношение
к вашей судьбе, — настойчиво повторил Ватагин.
— Моя война кончилась. Я уже поднял свой ворот-
ник. Еще мой отец в восемнадцатом году сказал мне:
«Когда немец поднимет свой воротник, для него война
кончилась...»
— Вы лжете, генерал! Вы боретесь даже сейчас, хотя
вы должны наконец осознать безнадежность борьбы. От-
вечайте — зачем вы решили стать серой мышью? В чем
смысл и назначение спецбарака номер шесть?
Фон Бредау молчал. Он, видимо, обдумывал ответ.
— История даст нам еще случай, — сказал он, и в
голосе его слышалась ненависть, он уже пе скрывал
ее. — История даст нам еще случай, и мы не допустим
повторения ошибок. Звук воющей бомбы снова войдет в
мертвую цивилизацию мира... Мы снова выпустим на
волю разрушительные силы, — медленно, почти по скла-
дам говорил фашист. — И тогда-то мы уже не повторим
наших ошибок. У нас будут не враги, а друзья за оке-
аном.
— Напрасно вы так вызывающе держитесь, — терпе-
ливо-предостерегающим тоном заметил Ватагин. — Ведь
разговариваем мы с вами не в сорок первом году, а в кон-
це войны.
— Нет, и не в конце войны! Эта война кончилась.
Мы ведем беседу уже между двумя войнами.
Славка Шустов, забыв свои обязанности, уставился на
немца и слушал в оба уха. Все попять, все запомнить, не
упустить пи одной подробности этого разговора. Ватагин
весело покосился на него. «Ишь глядит, как гусь на заре-
во». И вдруг, именно от присутствия Славки Шустова,
пришло знакомое чувство: вот он снова лицом к лицу
с заклятым врагом, у самой крайней кромки нашего ми-
ра. Сколько хороших людей там, у нас дома, — учат, ле-
чат, варят сталь, пишут книги. Как поучительно было бы
им хоть в щелку взглянуть на этого «верфульфа» — такое
329
зрелище удивительно освежает голову, дает ясность мы-
сли, силу воли..,
— Что ж, господин... Этвёш Дюла, — сказал Вата-
гин, беря телефонную трубку, — видно, вам на роду не
написано чинить старые мышеловки. Уведите его, това-
рищ младший лейтенант.
Слепые глаза фон Бредау ожили на секунду, когда
уже у дверей он обернулся:
— Как вы сумели расшифровать?
— Вопросы будем задавать мы, — любезно напомнил
Шустов.
47
— По моему предположению, его надо искать на гор-
но-лесном аэродроме в Шумадии, в расположении герман-
ской войсковой группы «Сербия», — сказал фон Бредау.
Радиопеленгация подтвердила его слова, и через горы
и леса Шумадии устремился отряд майора Котелкова.
Взвод мотоциклов, броневик, бронебойщики на двух гру-
зовиках мчались в глухое ущелье, где на единственно
пригодной площадке сохранился германский аэродром.
В ущелье вошли без выстрела. По задворкам сербской
деревни бежали немцы неубранным кукурузным полем,
за ними не стали охотиться — не до них! Дорогу загромо-
ждала брошенная противником боевая техника: длинно-
ствольное орудие — поперек колеи, миномет — у колодца.
С гор доносились глухие отзвуки боя — сражались
югославы.
Сложная обстановка создалась в те дни октября
1944 года на севере Балканского полуострова. Советские
танковые соединения совместно с югославской Народно-
освободительной армией штурмовали Белград. Там за-
сел фельдмаршал фон Вейхс. Немцы ожесточенно со-
противлялись, им нужно было выиграть время, чтобы
дать вытянуться с юга — из Греции — своим уходящим
по горным ущельям измученным и потрепанным войскам.
Бой шел под Белградом, но в горно-лесистом районе к
востоку еще находились другие окруженные немецкие
группировки — силой до четырех дивизий. Путь на север,
через Дунай, им был закрыт: там стремились на запад
по равнинам Венгрии и Воеводины советские войска
двух фронтов: Второго и Третьего Украинских. И немцы
растрепанными массами пробивались через шоссе в об-
330
ход к югу от Белграда, чтобы соединиться с основными
колоннами, на сотни верст растянувшимися по балкан-
ским дорогам.
Шустов ехал на мотоцикле в голове боевого охране-
ния. Вдруг он притормозил — за поворотом дороги дви-
галась беспорядочная толпа. Это немцы и четники — чело-
век тридцать, — устремившиеся из гор на шоссе. Шустов
дал из ракетницы условленный сигнал. Броневик выр-
вался вперед, заработали пулеметы. Немцы побежали под
обрыв.
А через полчаса — новая встреча. Югославы! Увидев
советских мотоциклистов, они стали выхватывать их из
седел в свои могучие объятия. Показались их раненые,
бредущие в арьергарде. Славка большими глотками
пил из поднесенного кувшина козье молоко — пахучее,
теплое.
— Кто тут мешает движению колонны!
Это Котелков появился в голове боевого охранения.
Он — в «виллисе», он не признает рукопожатий на войне.
— ...Так-то, хлопцы, выходите на шоссе, тут уж мы
сами докончим! — крикнул Котелков югославам и тронул
шофера за плечо.
Майор уехал, а югославы долго еще стояли, как будто
оберегая продолговатый пустырек, оставшийся в толпе
от машины.
Догнав Котелкова, Шустов, как мог деликатнее, на-
помнил ему о некоторых советах полковника.
— А вы не учите! — крикнул Котелков. — Набили ру-
ку реляции писать. Научитесь командовать боевым охра-
нением.
И они разъехались: мотоцикл ушел вперед.
Славка мчался и думал о том, что не везет e\iy в
жизни. Вот он и в боевой операции, так нет с ним Ивана
Кирилловича. Полковник, когда уже уселся в командир-
скую машину рядом со Славкой, был вызван к телефону.
Генерал отменил его поездку — взял с собой на какое-то
задание. Славка видел, как был огорчен Ватагин, даже
слышал, как скрипел на нем ремень, пока он назначал
старшим майора Котелкова. Тот сразу же пересадил Шу-
стова подальше от себя: с «виллиса» на мотоцикл.
Свежая могила, щедро засыпанная цветами, виднелась
у дороги. Три девочки спускались по горной тропе к мо-
гиле, в руках у них зажженные свечи и сплетенные из
цветов веночки. А сами — в ярких рыжих камзолах.
331
Славка притормозил.
— Чья могила?
— Нашего Бранко. Тут бой был. Сегодня похоронили.
— Чего ж вы такие нарядные?
— Белград освобожден.
Сняв фуражку, Славка постоял под обгорелой сосной
у свежей могилы — вчетвером с сербскими девочками в
охряных камзолах.
В горах звуки боя сливались в общий гул. Только пу-
леметы сохраняли пунктирную отчетливость звука. Третьи
сутки немцы — группа аэродромного прикрытия — искали
боем пути отхода из горного ущелья, но кто-то прегра-
ждал им дорогу и отбрасывал назад.
— Понимаете, это партизаны, они сбегаются отовсюду,
как на музыку! — возбужденно докладывал Шустов май-
ору.
— А ну, как запросит штаб — кто сосед справа? —
усмехнулся Котелков.
Линии боя в самом деле не было; вернее, она как бы
покачивалась. Словно огромная цепь росла и росла, охва-
тывая последний германский аэродром в горах Шумадии.
В осеннем бору то и дело выходили из-за деревьев
югославские дозорные и автоматами показывали дорогу,
усыпанную желтой листвой. Вдруг где-то впереди ска-
зочно зазвучала гармоника.
Шустов прибавил скорость.
На лужайке в свете костра, озарившего вековые дубы,
плясали бойцы. Мелодия стремилась монотонно и бешено.
С карабинами на груди люди, обняв друг друга за
плечи, длинной чередой бежали на месте. Цепь танцую-
щих едва двигалась слева направо, меж тем как ноги в
сыромятных обувках отбивали четкий ритм.
Сутулый горбоносый серб в короткой, черной, вышитой
шелком безрукавке подошел к мотоциклу Шустова. Это
был командир одного из маленьких отрядов, стекавшихся
из лесов и гор на звук боя. Он был накрест перепоясан
пулеметными лептами и увешан гранатами.
— Аэродром взят в клещи. Ночью подойдет подкрепле-
ние, будем штурмовать. А пока у нас полчаса передышки:
свадьба! — после первых слов приветствия сказал серб-
ский командир. — Санитарка Зага уходит в Белград. Ведь
Белград свободен! Вы слышали об этом? Вот и остались
живы наши дорогие студенты Зага и Душан. Полчаса пе-
редышки — их свадьба!
332
Может быть, от усталости слезы выступили на глазах
у Славки. Он вспомнил свое прощание с Дашей: «Будет
тебе еще свадьба», — сердито сказала она.
В буйном веселии горной свадьбы было что-то при-
зрачное. Все быстрее двигались слитые силуэты в высоких
меховых шапках. Обняв друг друга за плечи, люди пля-
сали, и карабины вздрагивали у них на груди. Она росла —
эта цепь. Народ, доживший до дня освобождения своего
Белграда, ликовал сегодня по всем лесам и горам. Лихая
пляска вырабатывала ритм все более шатучий и грозный.
Цепь росла, то и дело кто-нибудь еще вставал от костра,
на ходу надевал карабин на шею, разрывал цепь танцую-
щих и тотчас замыкал ее собою.
— Разрешите и мне, товарищ командир? — с задором
попросил Шустов.
Позади еще не слышался шум наших моторов. Славка
прошел мимо низких волов, которые жевали сено у пово-
зок, приблизился к танцующим, разорвал цепь и устре-
мился вместе с ними.
— Ты русский? — спросил его на бегу сосед.
— Я русский. Нас много тут...
— Это коло! Хорошо?
Яростная гармоника, короткие выкрики и смутный гул
пляшущих ног заглушали их отрывистый разговор.
— Мы танцуем коло, это моя свадьба! — крикнул серб.
— Ты Душан?
— Откуда знаешь? — удивился серб, по ответа не стал
ждать. — Ты мотоциклист?
- Да!
— Я тоже мотоциклист.
48
В ту же ночь по поручению своего командира Душан
вел советских автоматчиков и бронебойщиков на альпий-
ский луг. Накануне он допрашивал пленного из аэро-
дромной роты. Тот рассказал: позапрошлой ночью самолет
доставил какого-то тучного начальника. В двух автомаши-
нах живут над обрывом важные господа — из-за их тай-
ных махинаций все тут могут навсегда остаться. Пленный
набросал Душану схему аэродрома.
Шли пешком, таща попарно бронебойные ружья, по
каменистым оползням, головокружительными тропами, в
333
обход немецких застав. Броневик, грузовики и почти все
мотоциклы остались внизу, у костров.
Славка и Душан — лишь двое — вели свои мотоциклы.
Из-под заднего колеса мелкий гравий летел столбом, осы-
пал Душана, который налегал на крыло у подфарника и
на спинку люльки.
— Все спицы полетят... — хрипел Славка.
— Взяли! — страшно шептал Душан.
Потом протаскивали по оползню второй мотоцикл.
Душан был молод, но сед (он был серо-седой, как се-
деют только блондины), рослый, по-сербски спокойный,
с крючковатым подбородком. До войны работал телефон-
ным монтером в Нише, потом учился в Белграде. Еще
в лагере, у костра, они со Славкой подружились, как мо-
гут сдружиться два мотоциклиста: па Славкином мото-
цикле подгорели контакты. «Искра пропала», — обижен-
ным голосом прогудел Шустов. Положив свой мотоцикл,
Душан присел рядом, они быстро поправили дело.
А потом в пути Славка коротко заметил: «Заднюю фару
погаси!» Серб оглянулся: верно, забыл выключить крас-
ные светлячки.
Славка испытывал братскую нежность к этому седому
парню, незнакомому и такому близкому во тьме горного
ущелья — близкому и по родству ненависти к общему
врагу, и по профессии. Душан поделился с ним своими
соображениями, как захватить живыми важных господ на
аэродроме.
План Душана был прост и ясен: на двух мотоциклах
без единого выстрела они выскакивают на летное поле;
Душан гранатами зажигает самолеты, — «посветить, по-
шуметь надо!». Славка блокирует важных господ «прямо
в постелях», то есть в автомашинах. Шустову план пока-
зался разумным.
Котелков насупился, отвел Шустова в сторону,
сказал:
— День год кормит. Понял?
— Не понял.
— Что ж ты, глупый, не понимаешь? — прищурился
Котелков и отошел подальше.
И в ту же минуту Славка — задним умом крепок —
догадался: Котелков намекнул на то, что будут награды
и ни к чему вмешивать в это дело посторонних. Кровь
прихлынула к лицу Славки, он даже фуражку заломил на
затылок, молча поглядел вслед майору..
334
Была глухая ночь, когда увидели под собой альпий-
ский луг и на нем летное поле с двумя стартовыми до-
рожками.
На вид люди, вышедшие к цели, были спокойны. В го-
рах по ночам подморозило — кто грелся, притопывая, и
ему не говорили: «Погоди, сейчас жарко будет», — кто
кулаками барабанил па спине товарища.
— У тебя есть «девять на двенадцать»? — спросил
Шустов у Душана, и тот сразу понял и дал ему требу-
емый ключ.
—- А невеста есть у тебя? — подумав, спросил, в свою
очередь, Душан.
Слава быстро вскинул голову.
— Есть. Скоро свадьба будет. А твою я видел.
— У меня нет невесты. У меня жепа, — сказал седой
парень.
Чей-то фонарик плыл, покачиваясь среди луга, — ка-
кой-нибудь немецкий механик или ефрейтор аэродромной
роты шел к себе в землянку. В капонирах виднелись ис-
требители.
Три тяжелых транспортных самолета стояли у стар-
товой дорожки. Вдали темнели глинобитные сакли — там,
наверно, жили летчики. Над обрывом в землянках — аэро-
дромная рота. Когда кто-нибудь выходил из землянок,
мелькал желтый свет: значит, в землянках — электриче-
ское освещение, и немцам будет трудно сослепу разо-
браться в первые минуты.
— Ну что — нацелился? — спросил Душан.
— Быстротой возьмем.
— Он, черт, оврагом загородился.
— Проскочим. Лишь бы майор дал команду.
Между тем Котелков скрытно разводил автоматчиков.
Короткими перебежками Шустов приблизился к майору.
Тот находился в том состоянии, когда к нему не подсту-
пись...
— Не выполняете! — бешено шептал он кому-то среди
камней.
— Разрешите действовать, товарищ майор? — задох-
нувшись, спросил Шустов.
— Куда ты там, к черту. Ложкой рта не сыщешь!
— Товарищ майор, медлить нельзя. Улетят. Вон
уже пронюхали, глядите! — Славка даже рассмеялся,
и получилось от волнения злорадно: — Внезап-
ность... Эх!
335
Котелков исподлобья поглядел па летное поле, по ко-
торому бежали три-четыре огонька, и, точно это его убе-
дило, крикнул Шустову:
— Давай! Только помни: споткнешься, облепят, как
мухи дохлую падаль.
Котелков хотел еще что-то сказать, но Славка уже си-
дел в седле мотоцикла. Душан тоже ударил ногой — зажи-
гание! Два мотоцикла, виляя мимо Котелкова, пошли с
горы набирать скорость.
49
То, что произошло в следующие несколько минут, пп-
кто потом не мог рассказать точно — все видели по-раз-
ному.
Котелков поднял ракетницу и выстрелил, посмотрел
на патрон, зарядил снова и еще раз выстрелил. Над лугом
и скалами поплыли две красные ракеты. Тотчас отклик-
нулись автоматным огнем дальние и ближние холмы, уда-
рили бронебойки. Немцы отозвались огнем из самолетов,
из укрытий у землянок. И бой загорелся — странный, не-
понятный....
Выскочив на луг, Славка слился со своей машиной.
Вот она, резиденция Крафта! Была секунда, когда он даже
увидел Крафта, или так ему показалось: размахивая тон-
кими кистями рук, от машины к машине бежал человек,
совершенно не владеющий своим телом. Он упал от Слав-
киного выстрела, быстро вскочил, рванулся в дверку ма-
шины.
— Ага, чижик! Вот ты где!
Только сейчас, свалившись на всем ходу с мотоцикла,
Славка понял, что дышать ему нечем. Он задохнулся, ды-
шал широко открытым ртом. Кто-то бежал на него с пис-
толетом в руке. И Славка метнул гранату. Он видел, как
того, бежавшего па него, крутнуло в дыму разрыва,
как несколько раз он перевернулся вокруг себя, не
падая, и вдруг, плашмя, всем телом шваркнулся о кузов
машины.
Когда Шустов вскочил в окопчик возле машины, там
еще было полно дыма. В дыму он поднял немецкий авто-
мат и бросил его в угол. Он увидел нишу для патронов,
лесенку для выскакивания и водоотводный колодец.
336
Танцующий на Краю его автомата огонь мешал ему
видеть и делал все впереди темным. Но когда Славка ме-
нял диск, он видел, как из далекой сакли выбежали полу-
одетые летчики, они бежали к своим заранее назначен-
ным на случай тревоги окопам. Но некоторые падали
среди камней — не то подкошенные огнем, не то чтобы
одеться и застегнуться, не то просто, чтобы глаза при-
выкли к темноте. И снова, приложась к автомату, Славка
видел только порхающий у края ствола огонек.
Подожженные бронебойщиками самолеты пылали, и
летное поле освещалось этим желтым пламенем. Там, где
транспортные машины стояли тесно, — среди пучков огня
моталось что-то черное. Эсэсовцы, отстраняясь от огня,
видели из-под руки такое, что вселяло в них ужас: мото-
циклист черным силуэтом метался среди самолетов и за-
брасывал их гранатами. Он казался неуязвимым. Пламя,
которое всем внушает инстинктивный ужас, не пугало
его, и он один, среди полыханья и взрывов, в крутых ви-
ражах, разворачивал свой мотоцикл.
Когда Шустов увидел мотоциклиста, он сразу понял,
что это Душан. Стрекотание мотоцикла сливалось с тре-
ском полыхающего на крыльях самолетов пламени и зво-
ном сгибаемого огнем железа.
Вдруг Славка заметил две фигурки, они выскочили
сбоку из землянки и побежали к нему. Вот еще, правее...
Это атака...
В горячечном пылу боя он шевелил губами и произно-
сил какие-то непонятные ему самому слова. «Эх ты, Ду-
шан... — шептал он. — Молодец,Душан!» — Оп нажимал
на спуск, и немцы исчезали в камнях. Еще очередь! «Нет,
ты погоди».
И так, обращаясь то к другу-сербу, то к дюжему нем-
цу, бежавшему па него, он бил из автомата, высовывался
и метал гранату, менял диск и снова бил, бил... Чем мень-
ше становилось гранат и патронов: «Ну, вот и все, отжил
я!» — тем равнодушнее к этому становился Славка Шу-
стов, потому что ясно понимал, что все его силы использо-
ваны до конца. Все способности его молодого тела, зорких
глаз, сильных рук, когда-то носивших Дашу до самого
шалаша у реки, — израсходованы полностью.
Он бы еще мог жить, да нет патронов... Тупой удар, —
совсем не страшный! — и перед глазами поплыли оранже-
вые пятна, точно в рыжих камзолах сербские девочки
прошли мимо него и растаяли...
337
50
— Где Шустов?
— Несут его...
Но Славку не несли — Душан подвез его на мотоцикле.
Сидя на камне перед Котелковым, Крафт попросил
разрешения ополоснуться холодной водой. Он причесал
мокрые волосы на пробор, но на это ушли все его силы:
он не смог сидеть в каретке мотоцикла, его положили
плашмя, на коврик.
В пути Шустов очнулся и не понял, что за машина,—
а это югославы подбросили свою легковую. Душан — за
рулем. Позади над Крафтом бодрствуют автоматчики.
Один положил забинтованную ладонь на плечо немца, так
они ехали, как друзья-товарищи. Мелькали золотые дубы
за окном.
— Дай прикурить, — сказал Славка.
Душан пошарил привычным, очень мирным движением
рук во всех карманах. И это движение показалось Славке
забавным.
— От мотоцикла прикури, — сказал он, обнаруживая
полное непонимание происходящего.
И всю дорогу он стонал — то в памяти, то в забытьи.
Душан шевелил распухшими губами и косился изредка
па русского, укутанного с головой в домотканое сербское
одеяло. Бело-синий куль упрямо качался...
— О-о-о...
— Хорошо, хоть дорога сухая, — уговаривал его Ду-
шан, зная, что нечем помочь, и замедляя движение.
— Хорошо, что ты едешь. Я тебя полковнику пред-
ставлю. Будь же ты проклят... тише, о-о-о...
— Да что ж я могу, друг, — оправдывался Душан и
сам чертыхался. — О черт!..
— Чижика взяли? — сквозь зубы спросил Славка.
Нисколько не задумываясь над незнакомым словом,
Душан сразу понял и ответил:
— С нами, друг... О ч-черт!
Душан держал руку на Славкином лбу. Его серо-седая
голова покачивалась, как казалось Славке, прямо над ним,
п — странная вещь: был он похож на Дашу. Сквозь боль,
жар и бред Славка все смотрел на серое, усталое лицо
Душана, на седые пряди волос, крючковатый подбородок,
а мерещилось Дашино курносое, розовое личико. Непохо-
жие, а как брат с сестрой. В гудящей голове все тянулась,
338
лепилась и не могла связаться какая-то очень важная,
просто необходимая мысль.
Душан понял его по-своему.
— Друже Шустов, — сказал он, — не волнуйся ты.
Немец в машине. Лежит'лицом вниз.
Немец... Крафт. Вот оно! Сходство! Немец выдумал,
что люди похожи черепными коробками и надбровными
дугами... Глупости какие, жалкие глупости... Не лицами,
а человечностью, душами, как Даша и Душан. Пережив-
шие одно, передумавшие одинаково, в Старобельске и
под Белградом воевавшие... Надо полковнику рассказать,
и Мише тоже... Душан, Даша, душа...
51
Из госпиталя просили срочно позвонить.
Когда Ватагин вернулся от генерала, он не стал до-
званиваться. Это — о Шустове. Значит, делают ампута-
цию. Он выбежал во двор.
— Выкатывать? — обгоняя, спросил дежурный по от-
делу.
Это был Буланов, он все понял с первого взгляда.
— Пешком добегу.
Госпиталь в двух кварталах. Падал первый снег. И та-
кой крупный, что даже часового залепило, он не успевал
отряхиваться. Встречная машина с забитыми снегом стек-
лами остановилась.
— А мы к вам, — сказали в открывшуюся дверку.
— Я сейчас буду! /Проведите его ко мне. (Это при-
везли Крафта.)
В приемном покое ничего не могли рассказать. Дежур-
ный врач недавно принял смену. Сестры отсылали одна
к другой. Хирург просил подождать: он еще не вышел из
операционной. Ватагин постоял во дворе под снегом, за-
курил.
«Живой ли?»
Он помнил, как три часа назад, нагнувшись к лицу
Славки, он сказал: «Ничего, полежишь, война не кончи-
лась», — и Славка ответил: «Все... до лампочки. Вот толь-
ко жаль, небритый». Врачи насчитали пять ранений, одно
серьезное: в область почки. Извлекли из раны зажигалку,
которая находилась в кармане и, приняв на себя удар
осколка, глубоко вдавилась между ребер. Славка лежал в
одиночной палате. Ватагина поразили коричневые ямины
339
на его небритых щеках. Его трясло залпами мелкой дрожи.
Казалось, он еще в пылу боя, в руках — автомат, и он
разряжает сразу полдиска.
Залепленный снегом, полковник шагал по двору, ку-
рил. Вдруг вспомнилось, что в этом же госпитале нахо-
дится на излечении Лучинина. Вот как встретились.
Ватагина окликнули:
— Товарищ полковник.
У ворот стоял часовой, красивый молодой башкир, зна-
комый еще со Сталинграда.
Тоже весь в снегу, он загадочно улыбался.
— Вызвали, а никто не знает зачем, — пожаловался
полковник.
— А я знаю, — сказал автоматчик, сверкнув зубами.
— Что ж ты знаешь? — спросил Ватагин.
— У башкир поговорка есть: «Начатое дело — уже
конченное дело». Сделали операцию.
— Не врешь?
Башкир покачал головой, любуясь радостью большого
начальника.
- Жив!
Ватагин даже вспотел. Он так ждал этого слова, по,
сказанное башкиром, оно показалось сейчас непонятным.
Ватагин даже подумал: по-русски ли тот сказал?
— Ас рукой что? Тоже знаешь?
Башкир рассмеялся.
— И это знаю! Врач при мне говорил: «Живой будет
Шустов, и рука будет целая...» Иди домой, товарищ пол-
ковник. Отдохни, спи.
Дождавшись хирурга, полковник не узнал от него
больше того, что сказал автоматчик. Он шел, почти бежал
по улице штабного городка.
Остановился: «Ничего не случилось, сейчас надо Краф-
та допросить, а об этом потом». И снова побежал, тревожа
часовых.
Снегопад продолжался. Вот она, последняя зима войны.
52
Прошло полгода после этих событий.
Было начало марта.
Огненная лава войны, точно в воронку, вливалась
с востока в Германию. А по ночам ее города возносили
340
в небо дыхание пожаров, и в этом море огня летчикам,
возвращавшимся под утро из операций, начинало казаться,
будто с нашей несчастной планеты сорвана ее твердая
оболочка.
Солнечным утром 10 марта полковник Ватагин ехал,
догоняя войска, по той дороге в Западной Венгрии, что
ведет из Веспрема на Сомбатхей.
Машину вел, как и прежде, лейтенант Шустов.
Со времени захвата Крафта в горах Шумадии полков-
ник Ватагин и его оперативные группы успели выполнить
несколько важных заданий командования: ликвидировали
обнаруженные с помощью населения тайные склады ору-
жия, уничтожили боем подпольную организацию «гайду-
ков Аврама Янку», захватили группу террористов «Де-
чебал».
А Славка и Даша томились в госпитале.
Всю войну Шустов боялся ранения, потому что боялся
госпиталя. Всегда приходили оттуда бледные, немного чу-
жие, малосильные, и у него было такое впечатление, что
не рана, а сам госпиталь делает это с людьми. И с ним
все происходило, как положено: после операции он так
ослабел, что ночью плакал под одеялом, пока няня не при-
вела Лучинпну; та, с перевязанной рукой, просидела с ним,
как с маленьким, всю ночь напролет. Потом он стал про-
сительно-милым, послушным — врач, сестры и особенно
Даша могли делать с ним что угодно. Потом явился аппе-
тит, а с ним — разговорчивость, смешливость. Теперь его
знал весь госпиталь. С Дашей они бродили по госпитально-
му парку, и Славка в припадке здорового эгоизма расска-
зывал ей об удовольствиях четырехразового питания и
вдруг смущался и обнимал, целовал. Здесь, на "присыпан-
ной снегом скамейке, они однажды долго сочиняли доклад-
ные записки по начальству с просьбой разрешить им всту-
пить в законный брак.
Полковник навещал Славку, но только редко — вре-
мени нет, война.
Бывал и старшина Бабин, яблоки приносил; однажды
с безразличным видом сообщил, что майор Котелков от-
правился с новым назначением в Югославию.
— С повышением? — спросил Славка.
— Кажется, с повышением, — хмуро ответил Бабин.
— Нужен он югославам!
И целый день Шустов слонялся по госпиталю — не
было настроения пи встречаться с Дашей, ни «козла»
341
забивать на веранде с другими выздоравливающими.
Огорчила новость.
Возвращение к своим было отмечено в одной из вилл
па берегу озера Балатон, а эта первая поездка с полков-
ником едва ли не казалась Славке просто свадебным пу-
тешествием. Радость встречи переживали молча: Ватагин
любил запах прогретой машины, сидел, высунув локоть
в окно на ветер, а Шустов гнал машину, с любопытством
оглядывая холмы и поля Западной Венгрии.
Поля сейчас отдыхали. Все вокруг голо, по-весоппему
в пепельных тонах. Кое-где — кучки крестьян, они закан-
чивают раздел помещичьей земли. Вдали — хутора с ве-
селой черепицей, по-мартовски лиловые сады, городок, оп
напоминает о себе только зеленым шпилем и серой баш-
ней на горизонте.
— Знаешь, по чьим землям едем?
— Графа Пальффи?
— Да, по бывшим полям графа Пальффи.
Полгода Шустов терпеливо дожидался своего часа, ко-
гда он сможет выяснить некоторые оставшиеся ему неиз-»
вестными обстоятельства дела. Теперь был подходящий
случай — и Славка осторожно спросил:
— Что ж, поймали его?
— Ушел. Раненный, приволокся в свое имение и долго
скрывался тут в винном погребе.
— Зачем?
— Верные люди должны были его перебросить па са-<
молете в Швейцарию. Ну, а оттуда, конечно, в Америку.
Ему помог управляющий имением. Сам не успел сбежать,
но, холуйская душа, обеспечил хозяина. И что ж ты
думаешь, вот она, слепая сила классового инстинкта:
несметный богач в последнюю ночь перед уходом вышел
со «своими людьми» из подполья, чтобы лично распоря-
диться, как лучше уничтожить плуги и сеялки, даже
конскую сбрую. Лишь бы не досталось народу!
Шустов осторожно провел машину сквозь толпу кре-
стьян, возвращавшихся с поля; в пестром сборище, среди
пиджаков и венгерских курток со шнурами выделялись
желто-зеленые шинели солдат, недавно вернувшихся из
разгромленной армии.
— Товарищ полковник, расскажите... — вкрадчиво по-
просил Шустов.
Ватагин усмехнулся.
— Изволь. Что рассказывать-то?,
342
— Кто были эти, подсаженные?
— Крупные лица. Один из них — Мильднер, полков-
ник тайной полиции в Дании. Второй — тоже черномун-
дирпый, Бруно Книтель, начальник отдела гестапо, от-
ветственный за проведение специальных мероприятий.
Третьего ты сам доставил — капитан речного флота в
отставке. Четвертый — доверенное лицо Гиммлера,
страшный человек, осуществивший в Польше акцию
«АБ», то есть попросту истребивший много тысяч интел-
лигентов.
— Смотритель перевала? — осведомился Шустов.
— Он самый. Вот лут-то они и наследили. Я долго но
мог понять, почему они так дорожили альбомом. Ведь в
нем мы нашли двойников только одного человека, — че-
пуха по сравнению со всей операцией Крафта! Оказалось,
что смысл надо искать не в конспирации, а в самой три-
виальной чиновничьей психологии. Крафт на допросе
торжественно сказал про смотрителя перевала: «Это был
шурин самого Гиммлера». Он считал, что я сразу его пойму.
А я очень долго соображал. Подумай только, этот одер-
жимый, маньяк, просто-напросто хотел угодить начальству.
Альбом с фотографией был всего лишь рапортом Гиммлеру,
заверявшим, что «его человек» устроен. Ох, какая страш-
ная штука — чиновник. Помнишь, как говорил Котелков?
— Мы здесь не просо...
— Нет, когда речь шла о человеке, умеющем угодить
начальству, он с завистью говорил: «Этот службу знает».
Миновали мост, где скопилось много автомашин. И сно-
ва Славка подкрался к полковнику с неистребимым своим
любопытством.
— Важное было дело?
— Судя по тому, что у тебя на груди, — да, Слава. Да.
Шустов с наивным торжеством покосился на орден
Ленина, сиявший на его кителе.
— Они снова готовят Европе ужас и опустошение, —
пеохотпо сказал Ватагин. — Новое нападение на челове-
чество...
— А как вы догадались, что дело не только в сапе?
— Ты забыл, что воображение ребенка должно соче-
таться с терпением ученого.
— А все-таки?
— Самое трудное было в том, что основную операцию
Крафт замаскировал не так, как обычно бывает — каким-»
нибудь хитрым ложным ходом, — нет, а тоже диверсией.
343
Получился как бы двойной подкоп. Но в конечном счете
это и помогло. Ты помнишь показания берейторов и жо-
кеев: резиновые перчатки, сулема, йодная настойка? Все
это, я сразу понял, нужно было, чтобы навлечь наши по-
дозрения на Пальффи, чтобы поездки Ордынцевой мы по-
считали прикрытием для сапной диверсии, в то время как
на самом деле все оказалось как раз наоборот. И вообще
тут все время чувствовалась какая-то сумасшедшая им-
провизация. Или паника в бегстве. Или просто «любитель-
ская липа».
— Когда вы это поняли?
— Трудно сказать, потому что трудно вспомнить —
полгода прошло. Прежде всего позывные: «Пять подков
с одного коня». Не так-то просты люди Гиммлера, чтобы
заниматься такой символикой близко от главной тайны.
Я это тогда смутно сознавал. Потом история с македон-
ским монахом.
— Товарищ полковник, как же с моей догадкой? —
вмешался Славка. — Ведь она тоже подтвердилась! Я стре-
мился на перевал, потому что логически рассчитал, где
искать: в узком дефиле горного шоссе им было легче за-
ражать лошадей. Они же знали, что наши войска будут
идти с севера на юг. Вот я и обнаружил смотрителя.
— Твоя догадка была лишь правдоподобна, пе более.
На самом деле в серии похожих лиц им были нужны
наиболее уединенные: их подменять удобнее. А где же
искать уединение, как пе в горах! Заметь, что для укры-
тия от виселицы этого страшного дяди они выбрали из
семи вариантов прежде всего македонского монаха. Он
бы и погиб, если б не оказался горбатым и пе сбежал к
тому же с благословения отца Никодима. Тогда они об-
ратились к смотрителю перевала. — Ватагин усмехнул-
ся. — У Ганса Крафта был даже девиз: «Смерть под псев-
донимом».
— А ведь точно!
Если уж хочешь знать, — продолжал Ватагин, —
так с этого физического изъяна монаха и начался мой ход
мысли. Мне стало ясно, что его отвергли или, как говорят
конные ремонтеры, «выбраковали». Этот монах не подхо-
дил. Я стал думать: какая же может быть цель?
— Что же вам пришло в голову?
— Многое приходило в голову. Кое-что сбивало с тол-
ку. Для какого дьявола Крафт искал альбом на квартире
Ордынцевой? Почему был убит Георгиев; все перевернули
344
в дипломатической переписке и ни клочка бумаги не
взяли? Ничего нельзя было понять, ведь мы имели только
одну серию «Леонтовичей» в альбоме. Надо было, чтобы
так хорошо помог наш шахматный мастер. Когда он ска-
зал мне, между прочим, что прежде, чем заняться «Исто-
рией венгерского коннозаводства», Крафт написал «Этюд
об асимметрии двух половин человеческого лица», я
снова двинулся немножко вперед. Я понял...
53
...Дорога бежала по полям. Славка Шустов слушал,
полковник рассказывал. И вот что узпал в этот день мо-
сковский «Сорвиголова» о самой сердцевине той удиви-
тельной операции, в которой он чуть не простился
с жизнью.
Еще в 1912 году художник Шпкльгрубер, блуждая по
улицам Вены с банатским немцем, уговорил его заняться
изучением вопроса о повторяемости человеческого лица.
Будущий фюрер уже и в те годы, видимо, обладал маниа-
кальной одержимостью и способностью подчинять себе
чужие воли, так как сумел на всю жизнь внушить Краф-
ту расистскую мысль о том, что если пе считать усов и
бород, очков, степени облысения, мимики и взгляда, а
главное — возрастных различий, то вся белая раса, вклю-
чая мужчин и женщин, насчитывает строго ограниченное
количество портретных типов или штаммов. Их можно
подсчитать. Педантичные изыскания заполнили всю
жизнь Крафта, его бесконечные коммивояжерские странст-
вования по Балканам предоставляли ему все новый и но-
вый материал фотографий, обмеры. И он — подсчитал!
Оказалось, что есть шкала повторяемости человеческого
лица, что можно вычислить периодичность сходства. По
мнению Крафта, человеческое лицо насчитывает всего
лишь 112 530 разновидностей. Гигантская картотека банат-
ского немца после двадцати лет работы позволяла ему для
любого лица находить около десяти двойников. Разумеет-
ся, это были по-разному загорелые или бледные, по раз-
ному причесанные, с различными голосами, с непохожими
темпераментами люди — люди несходной судьбы: профес-
сора и мясники, лесные охотники и зубные протезисты.
До полного сходства еще куда как далеко, но пропорции
лиц, обмеры носа, глаз, ушей и лба таковы, что фотогра-
345
фии, наложенные одна на другую, давали как бы портрет
одного человека.
Часами просиживал Крафт над своей картотекой, зло-
радно торжествуя над ничего не ведавшими людьми —
тасуя их, как карты, мысленно меняя их судьбы, взаимно
замещая их в своем воображении. Ресторанный скрипач
пз румынского городка в одно мгновение мог стать владе-
тельным князем Оксенгаузеном, а почтенный хорватский
историк — превратиться в добруджинского бахчевника,
везущего арбузы на воскресный базар в Меджидии. Кар-
тотека звала к действию, и Ганс Крафт даже немножко
свихнулся от нервного возбуждения, когда после сталин-
градской катастрофы и потом — после Курской дуги —
самые дальновидные немцы почуяли близость конца.
К этому времени фюрер, запуганный террористическим
покушением, уже обзавелся четырьмя двойниками, они
разъезжали по Берлину и Нюрнбергу, одетые как он, с
теми же выработанными жестами и голосом ясновидца,
в тех же бронированных, хоть и роскошных с виду, маши-
нах. Крафт понимал: зерно идеи пало на благодатную
почву.
Стояла мартовская оттепель 1943 года. Германия устала
от войны. А Крафт только вступал в действие. Он лихо-
радочно рыскал по Германии, искал встреч с самыми
жестокими деятелями нацистского террора, с самыми про-
славленными карателями, палачами, «профессорами обез-
люжпвания» Европы. Трудно перечислить знакомства,
какие удалось завязать банатскому немцу, — он виделся
с завоевателем Крита генерал-лейтенантом Куртом Шту-
дентом. В австрийских Альпах, в деревне Марцаботто,
майор СС Вальтер Редер за бутылку коньяка показал
ему, как можно в течение часа уничтожить с помощью
огнеметов тысячу восемьсот итальянских заложников —
женщин и детей. Давнее знакомство с Гитлером открывало
двери — в Ревельсбурге ему удалось видеть, как немецких
коммунистов бросали в ледяную воду — они умирали от
разрыва сердца.
В доверительной беседе, в абсолютном уединении, ко-
гда не могли услышать тихий разговор даже близкие,
Крафт предлагал уважаемому лицу свой план бегства из
жизни, гарантию многолетней сохранности, доставал из
портфеля фотографии, повергая этим в ужас уважаемое
лицо, чтобы затем вселить надежду. И что же — самые
жестокие, лютые в расправах, оказывались самыми понят-
846
ливымп! Комендант Борского рудника, по ком уже давно
соскучилась партизанская удавка, был первым благодар-
ным клиентом Крафта — он втайне от далекого началь-
ства предоставил под школу перевоплощения спецбарак
№ 6, и туда, соблюдая очередность, поступали из Герма-
нии бесследно исчезавшие, даже для любимых жен и де-
тей, беглецы.
Однако для Крафта главная работа только начиналась.
Надо было скрупулезно выискать наиболее благоприятные
варианты перевоплощения. Фотографическое сходство —
вот оно, на столе, даже под лупой! А все остальное? Па-
мять, голос, походка, смех, зубы, любовь к пасьянсам пли
к охоте на зайцев, аппендицит, привычка посвистывать,
родинка под правой лопаткой или тайна измены жене в
молодые годы? Чем больше ломал голову Крафт над тех-
никой выполнения своего замысла, тем становилась слож-
нее каждая операция. Ясно было только одно: нужно на-
чинать новую серию изысканий — обнаружить среди двой-
ников наиболее молчаливых и нелюдимых, с которыми
легче было бы свести всю бесконечную сложность лично-
сти к внешним промерам носа, глаз, ушей и лба.
А тут началось беспримерное по темпам вторжение
русских на Балканы. Все смешалось, линии фронта не
было, Крафт потерял голову, заметался.
В должности помощника военного атташе венгерской
миссии Пальффи Джордж был таким же, как Ганс Крафт
агентом гитлеровской тайной разведки. Он исподволь
готовил диверсию на случай отхода нацистских войск с
Балкан — заражение сапом конского поголовья этих стран.
Это ему было не трудно: блестящий конный спортсмен,
известный охотник до лошадей, он мог разъезжать по Бол-
гарии и Румынии, не вызывая ничьих подозрений. К тому
же он обзавелся отличным камуфляжем — любовницей
Мариной Ордынцевой, которая — просто на счастье! — об-
ладала таким фактом своей биографии, как пропавший
четверть века назад горячо любимый жених.
В качестве разведчика, как, впрочем, и во всем дру-
гом, Джордж Пальффи был, пожалуй, талантливее Ганса
Крафта. Однако педантизм и маниакальная одержимость
Крафта перевешивали. Как только однажды во время за-
городной пирушки Пальффи проболтался немцу о том, что
вот уже полгода он «сопровождает» Ордынцевув ее поезд-
ках по захолустным городишкам в поисках поручика Ле-
онтовпча, так новая расстановка сил определилась в не-
347
делю. Джордж был переподчинен Крафту. Теперь одна
диверсия должна была маскировать собой другую: по-пре-
жнему Марина Ордынцева выезжала из Софии по очеред-
ному, будто бы до нее дошедшему слуху — искать объя-
вившегося жениха. По-прежнему Джордж сопровождал
ее, но отныне роли переменились: по существу, главная
задача выполнялась теперь Ордыицевой — она искала
серию очередных двойников, а Пальффи со своим сапом
предназначался для маскировки на случай, если русские
заинтересуются этими поездками. Белогвардейская дива и
венгерский офицер служили банатскому немцу. Дело по-
шло на лад!
Конспирация была такова, что Марина Ордынцева —
даже она, главная исполнительница замысла! — ничего не
знала о том, что состоит на службе Крафта. Когда Пальф-
фи стал давать ей серии фотографий лиц, даже отдален-
но не похожих на ее несчастного жениха, Марина пожи-
мала плечами: ему виднее, как поступать. Она понимала,
что представляет собой ширмочку для «каких-то там» за-
нятий Джорджа. Она любила его, и этого было достаточно!
Экзальтированная, психически неуравновешенная, она
втянулась в эти поездки и поиски, создававшие иллюзию
деятельности, заполнявшие ее одинокое существование.
Разбуженная литературными переводами страсть к писа-
тельству и женское любопытство заставляли ее с доско-
нальностью выпытывать все подробности жизни челове-
ка, — все его привычки, черточки характера. Она занима-
лась этим самозабвенно, с одержимостью наркоманки.
Когда были найдены гнезда для всех подсадных лиц,
Марину решили убрать. Она больше не нужна была для
дела и, хотя и не была посвящена в смысл основной опе-
рации, все-таки знала слишком много. Умерла ли она от
сапа в Бухаресте, — осталось неизвестным.
54
— Минуточку, тут имеется еще одна неясность, —
перебил Шустов. — Кто же сторожил картотеку, пока
Крафт орудовал в Софии?
— Молодец, голова работает! В Банате должен был
оставаться надежный человек. Скажу больше: он и отве-
чал по радио на позывные, когда Крафт заканчивал на
месте подготовку очередной подмены. Он вызывал из Бор-
ского рудника самолет,
348
— Вы говорите так, как будто прожили сами в Банато
года три.
— Нет, просто мы захватили этого человека. Владелец
магазина электроприборов скрывался в сторожке като-
лического кладбища. А па концертных передачах сидела
у него служанка — и притом будто бы глухонемая.
Два вола, впряженные в повозку, преградили дорогу.
Венгерский крестьянин понукал волов. Он снял шляпу,
когда советский офицер вылез из машины.
— Здравствуйте, товарищ полковник, — сказал оп, ло-
мая слова немыслимым произношением.
— По-русски говоришь? — удивился Ватагин.
— Был пленным в России в старую войну.
— Тут их много, в плену побывавших, — заметил
Славка, вспомнив Иожефа из Сегеда.
— Откуда едешь? — спросил Ватагин.
— Из города. Я за купоросом ездил, для виноградни-
ков. Губернатор достал четыре вагона купороса.
— Уже успел повидаться с губернатором?
— А что он за шишка такая? — простодушно сказал
крестьянин и, подумав, добавил, чтобы было понятнее: —
С ним можно запросто, он коммунист. Я поймал его на
лестнице в ратуше.
Ватагин прищурился и — специально для Славки —
спросил:
— А не прогнал ли тебя коммунист? Дескать, некогда
ему с тобой «просо воробьям давать»?
— Я бы ему показал просо, — пригрозил крестьянин,
проводя волов мимо машины.
— Все ясно. Поедем, Слава, — сказал Ватагин.
— Где-то оп сейчас, майор Котелков, — сквозь зубы
процедил Славка, когда отъехали от повозки.
— С такими, как Котелков, не так-то просто спра-
виться. Накрутит, накуролесит, начудит — а свой! Мы же
за него будем в ответе.
Какое-то время ехали молча.
Пролился весенний дождь.
— В госпитале я на досуге все думал, — помолчав,
сказал Шустов. — Дома рассказать — не поверят.
— Ты прав: не поверят. Ну, скажи, а можно ли пове-
рить, что не безумье все, что делают эти господа, чтобы
преградить человечеству путь к свободе, к счастью? Разве
не фантастически глупо все, что они придумывают!
Позавчера народная полиция выловила подпольную
349
хортистскую группу «Мы придем!». Листовки наворотах,
подметные письма, угрозы, пулеметная стрельба с коло-
кольни. Но ведь они не смогут вернуться! Как бы ни
бесновался Пальффи за океаном — не смогут! И не толь-
ко потому, что мы такие напористые и распорядительные,
как думает о себе Котелков... А потому что — вот, гляди.
Славка снял ногу с акселератора. Машина сбавила ход.
Земля была еще пестрая: кое-где сыро, кое-где посуше.
Но на холме пашня была уже согрета солнцем. Там шел
сеятель.
— Вот он, главный двигатель истории! — вспомнил
Славка и рассмеялся.
— Да, главный двигатель истории, — отозвался пол-
ковник.
Графский батрак, вчера вбивший свои колышки в
землю, ничего такого возвышенного не думал о себе — он
просто бросал семена в борозды. Он и не размышлял о
том, что являла собой его фигура на этом поле вчераш-
него боя, на венгерской пашне, сотни лет не принадле-
жавшей ни ему, ни отцу, ни дедам и прадедам, пахавшим
и боронившим ее для счастья и богатства семьи магната.
Он шел, заметный издали, один на взгорбленном поле.
Вот поднял пз борозды камень и отшвырнул его на межу.
И снова зашагал, напирая на правую ногу.
И правой рукой расчетливо метал — горсть за гор-<
стью — семена в тучную пашню.
После дождя дорога стала хуже.
Полковник Ватагин еще раз взглянул на сеятеля, тро-
нул Славку за плечо: поднажми...
1957
СОДЕРЖАНИЕ
И. Гринберг. Рассказчик и его герой................ 5
От автора............'............................ 23
набат. Рассказы, публицистика
Календарь русской природы..................... 27
Старшина Баженов.............................. 41
Рассказ о ручном фонарике..................... 56
Какой оп был.................................. 65
Весы и санки.................................. 73
Изба.......................................... 87
Набат......................................... 94
У нас в полку................................ ЮЗ
Дул теплый ветер............................... Ш
Стучит, стучит маятник....................... 120
За тем семафором за старым................... 128
Мирра........................................ 133
На дамбе .................................... 136
Неоконченная симфония........................ 143
Над вечным покоем............................ 150
Школьная тетрадь............................. 158
Запахи земли................................. 164
смерть под псевдонимом. Повесть.............. 171
Скан: Посейдон-М
Николай Сергеевич
АТАРОВ
Избранное
т о м 1
Редактор Т. Аверьянова
Художественный редактор
Ю. Васильев
Технический редактор
С. Ефимова
Корректор В. Фадеева
Сдано в набор 24/XI 1970 г. Подписано
к печати 9/IV 1971 г. А05742. Бумага
типогр. №.2, 84Х108'/з2. И печ. л. 18,48
усл. печ. л. 19,483 уч.-изд. л. Тираж
150 000 экз. Заказ № 1545. Цена 83 коп.
Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19
Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 1 «Пе-
чатный Двор» им. А. М. Горького
Главполиграфпрома Комитета по пе-
чати при Совете Министров СССР,
г. Ленинград, Гатчинская ул., 26
Обработка: Prizrachyy_Putnik