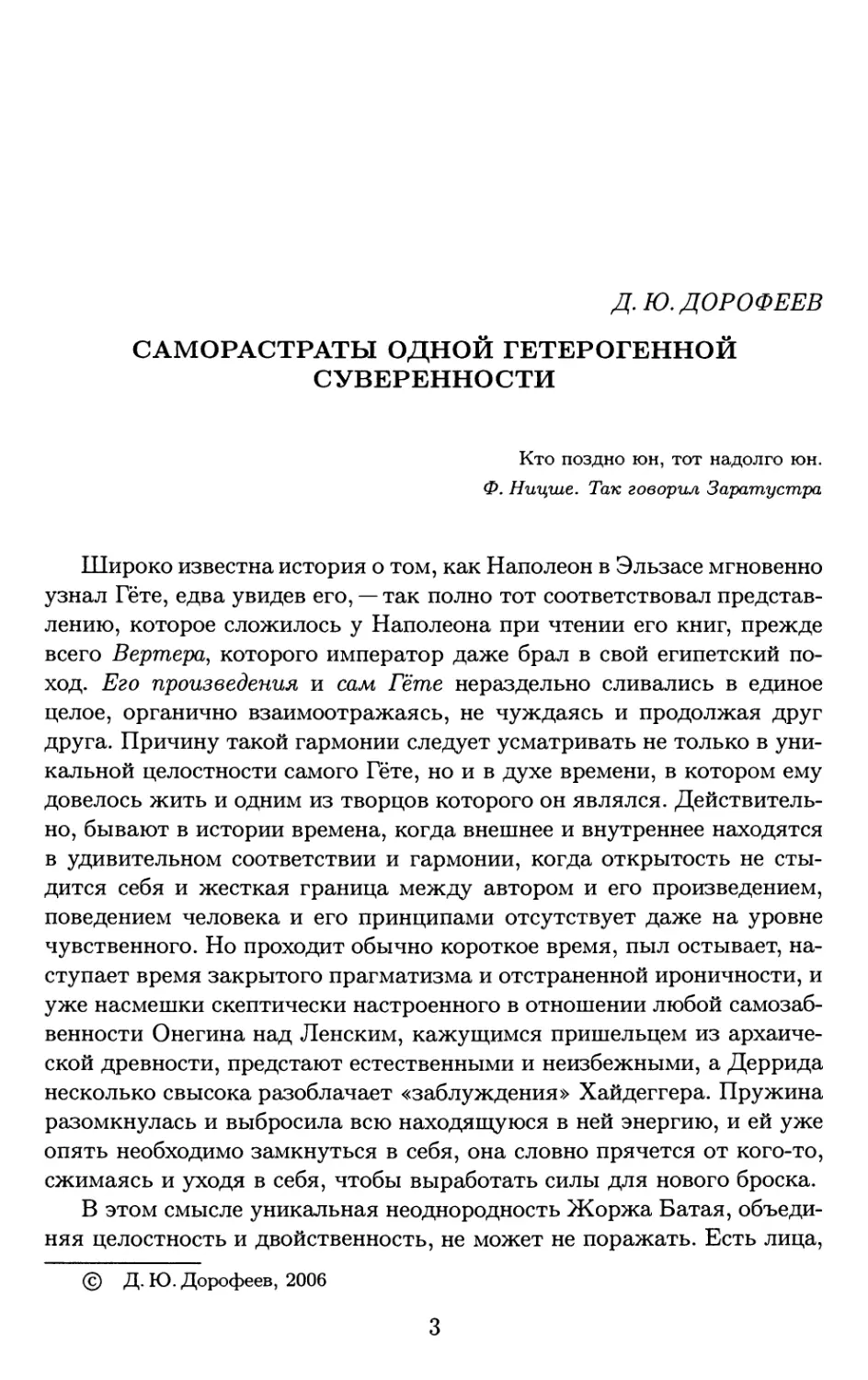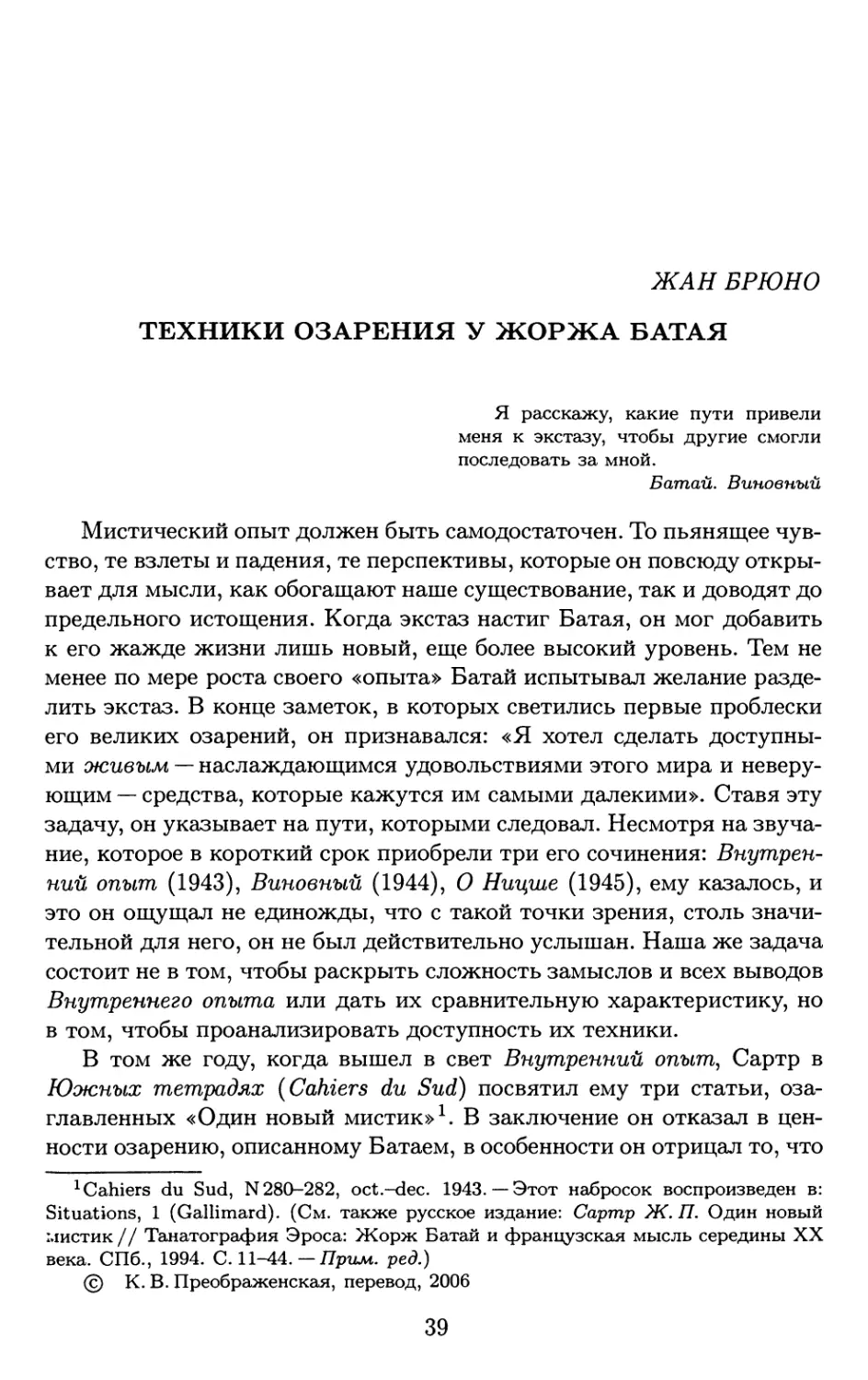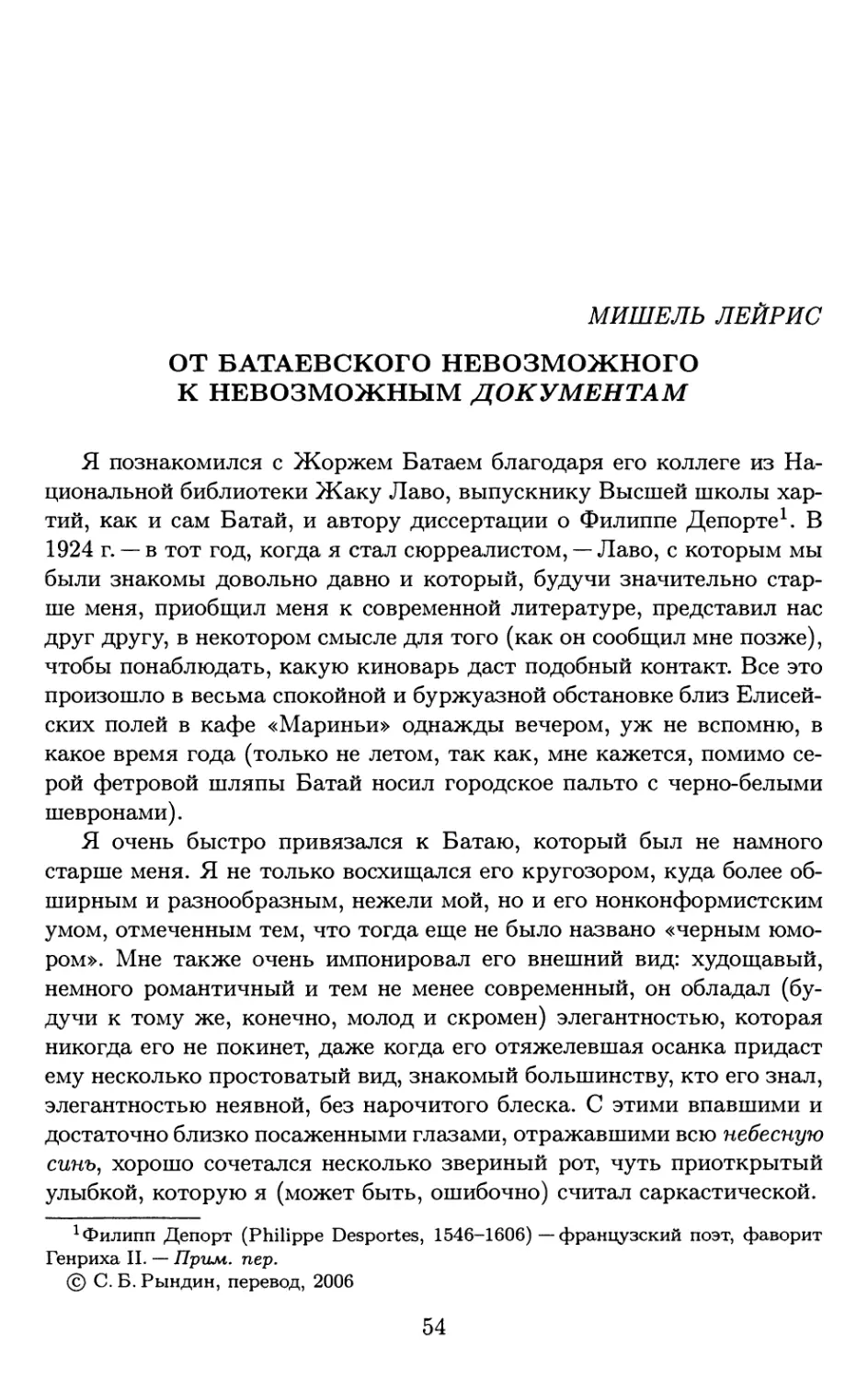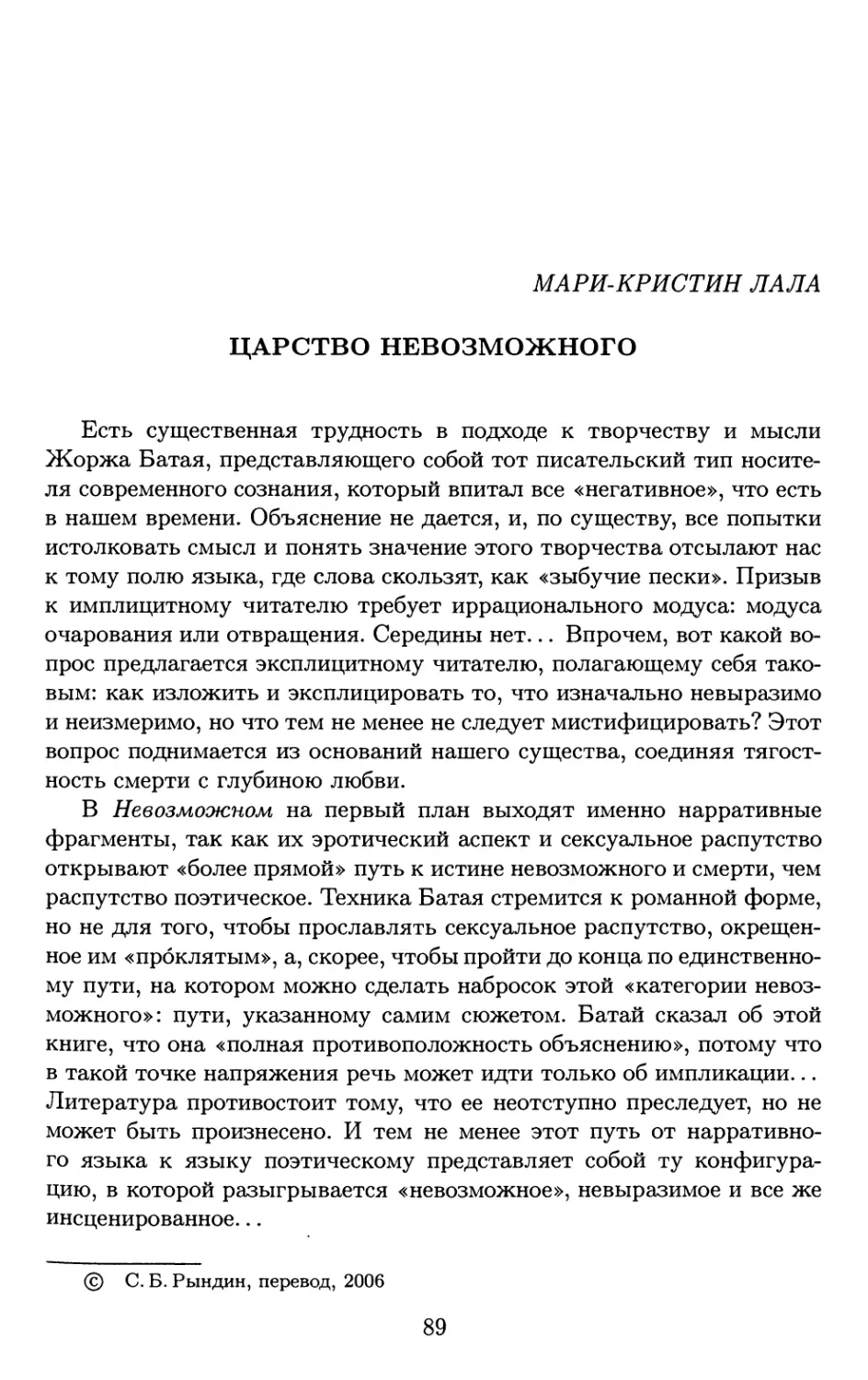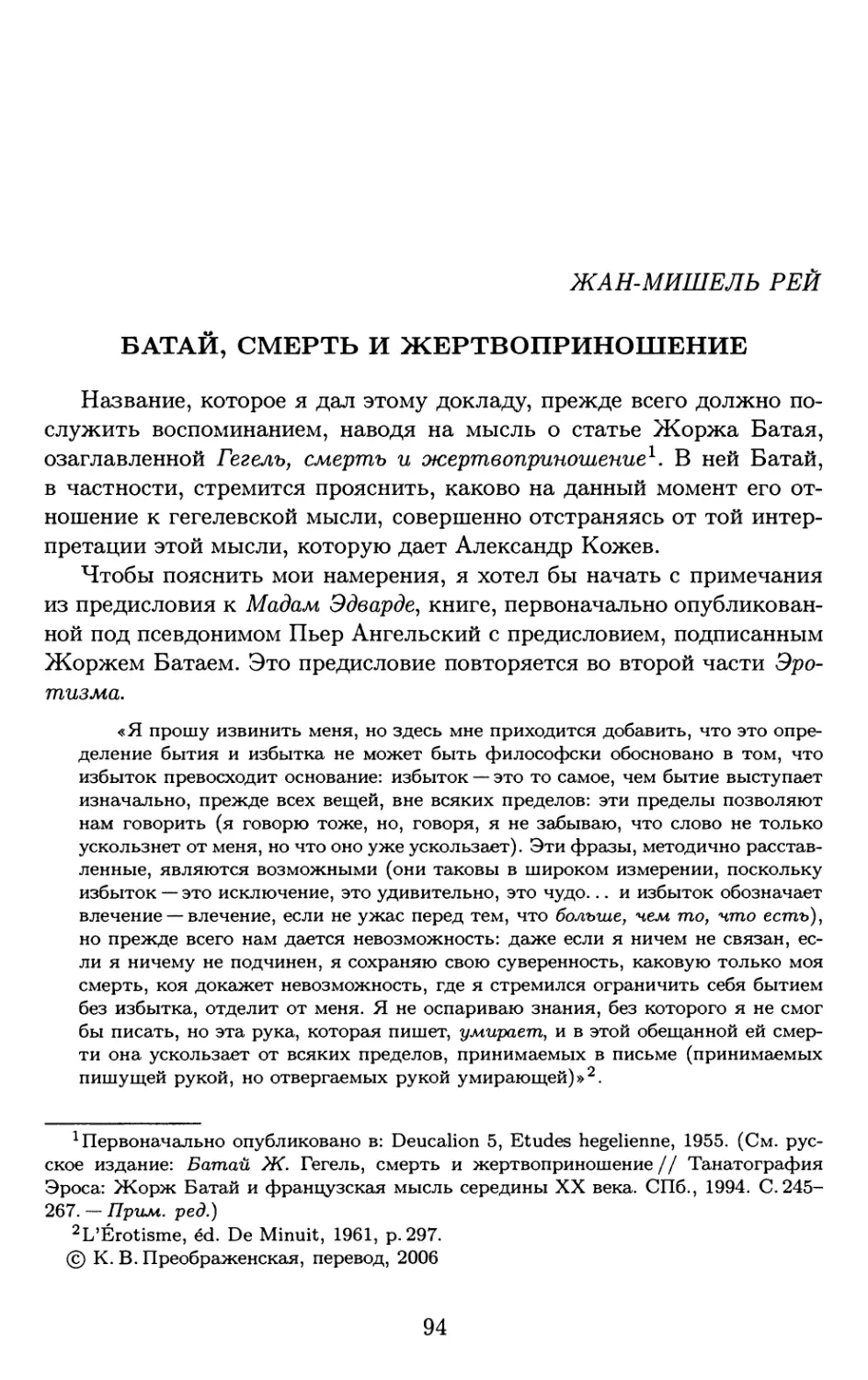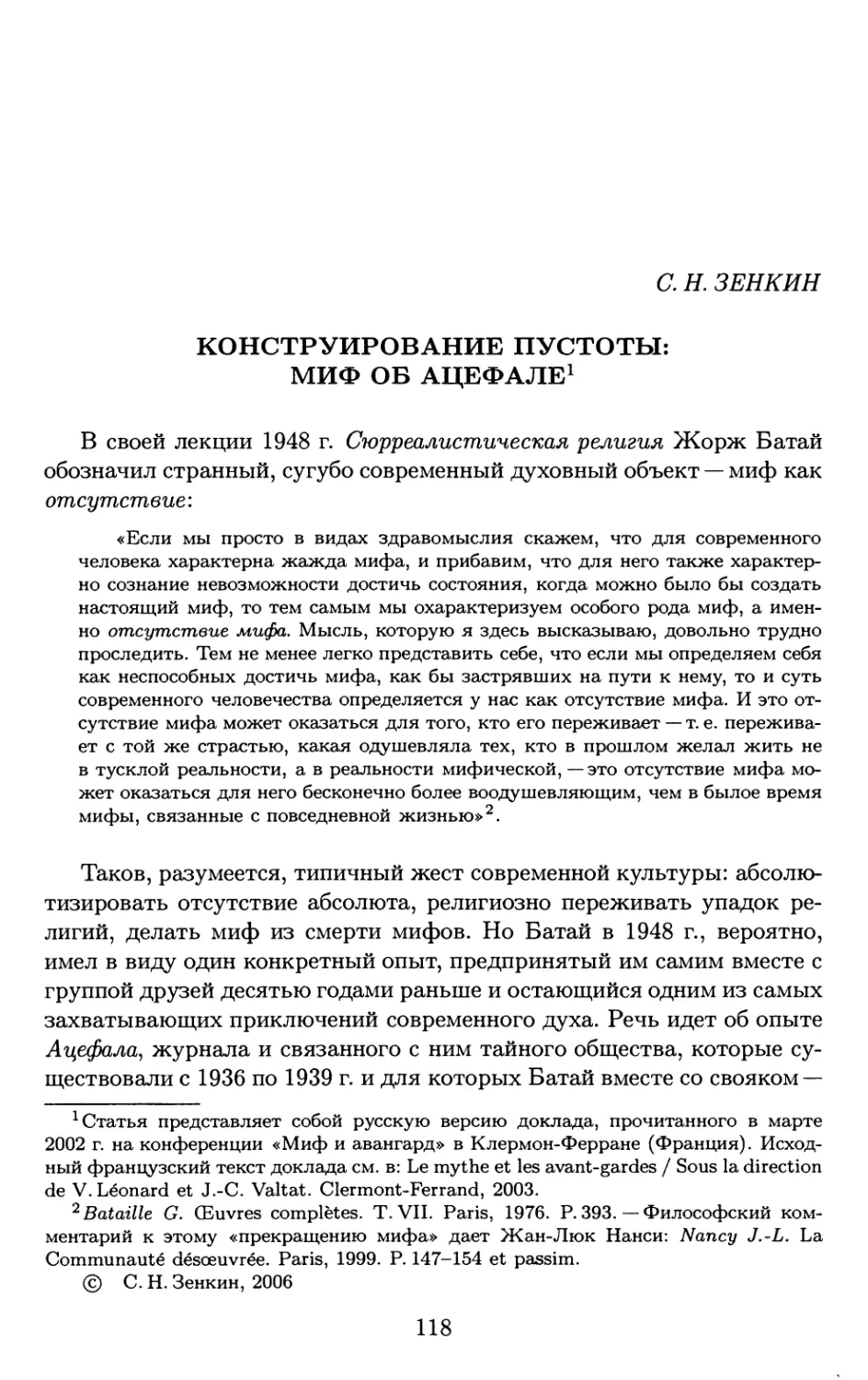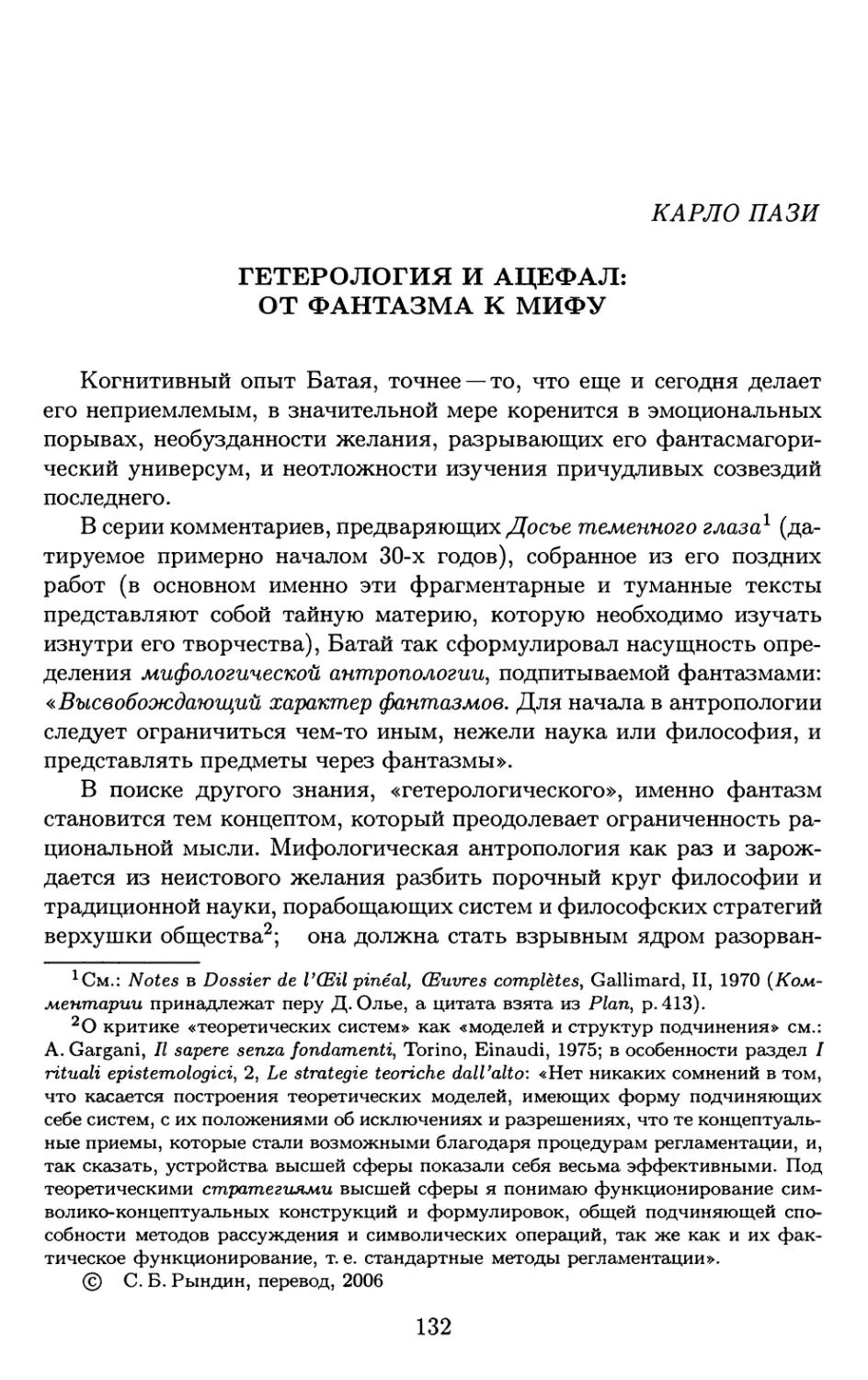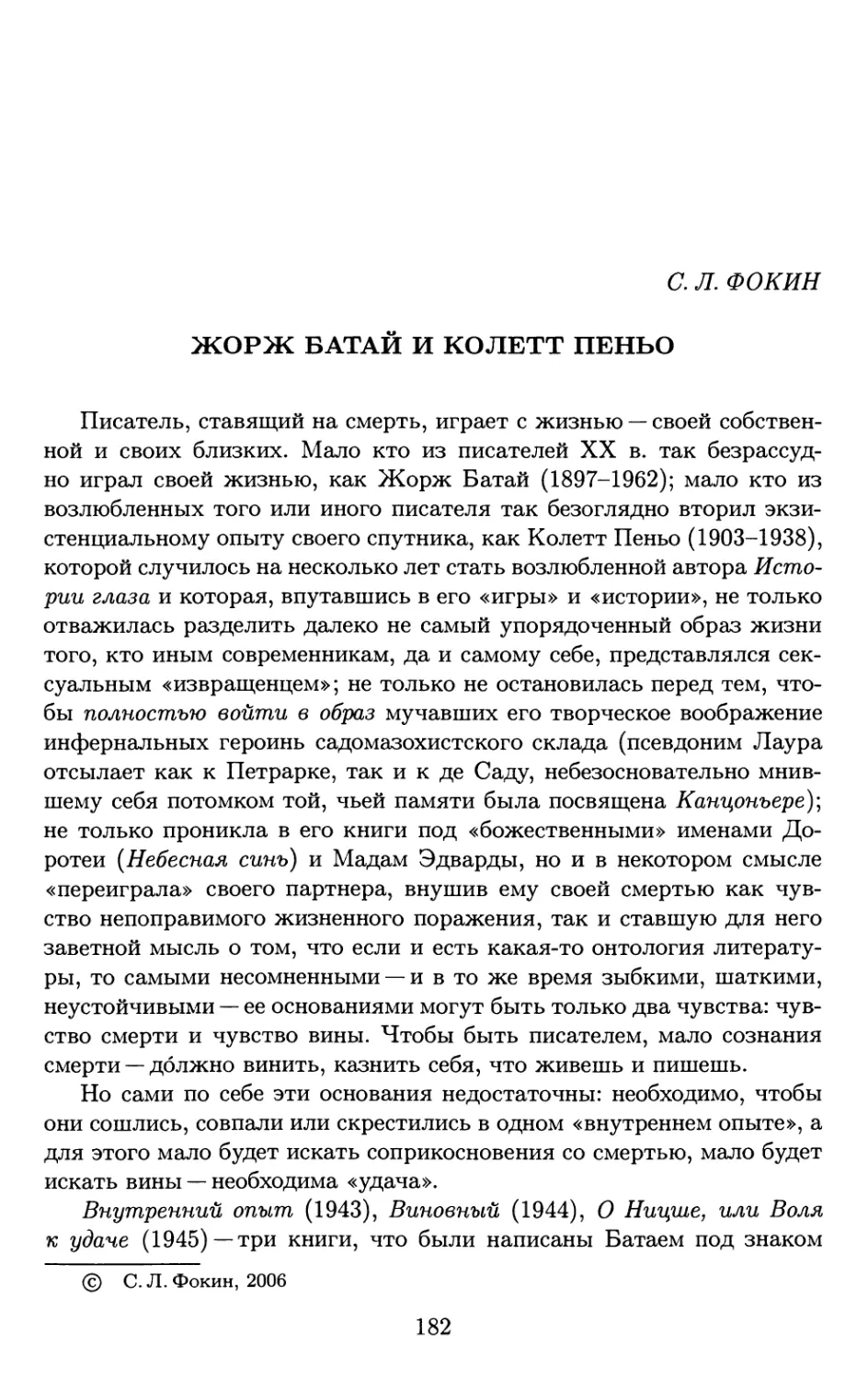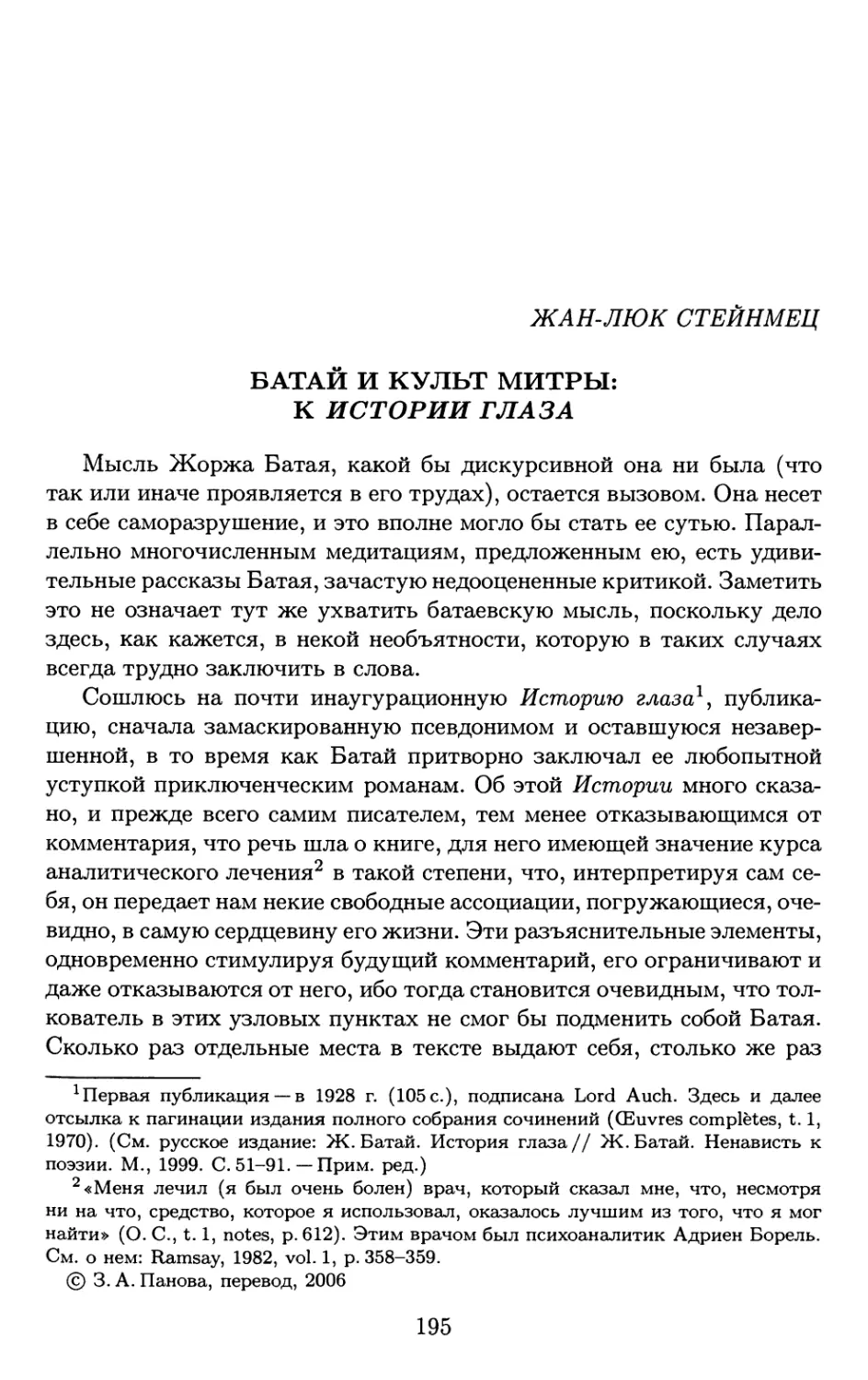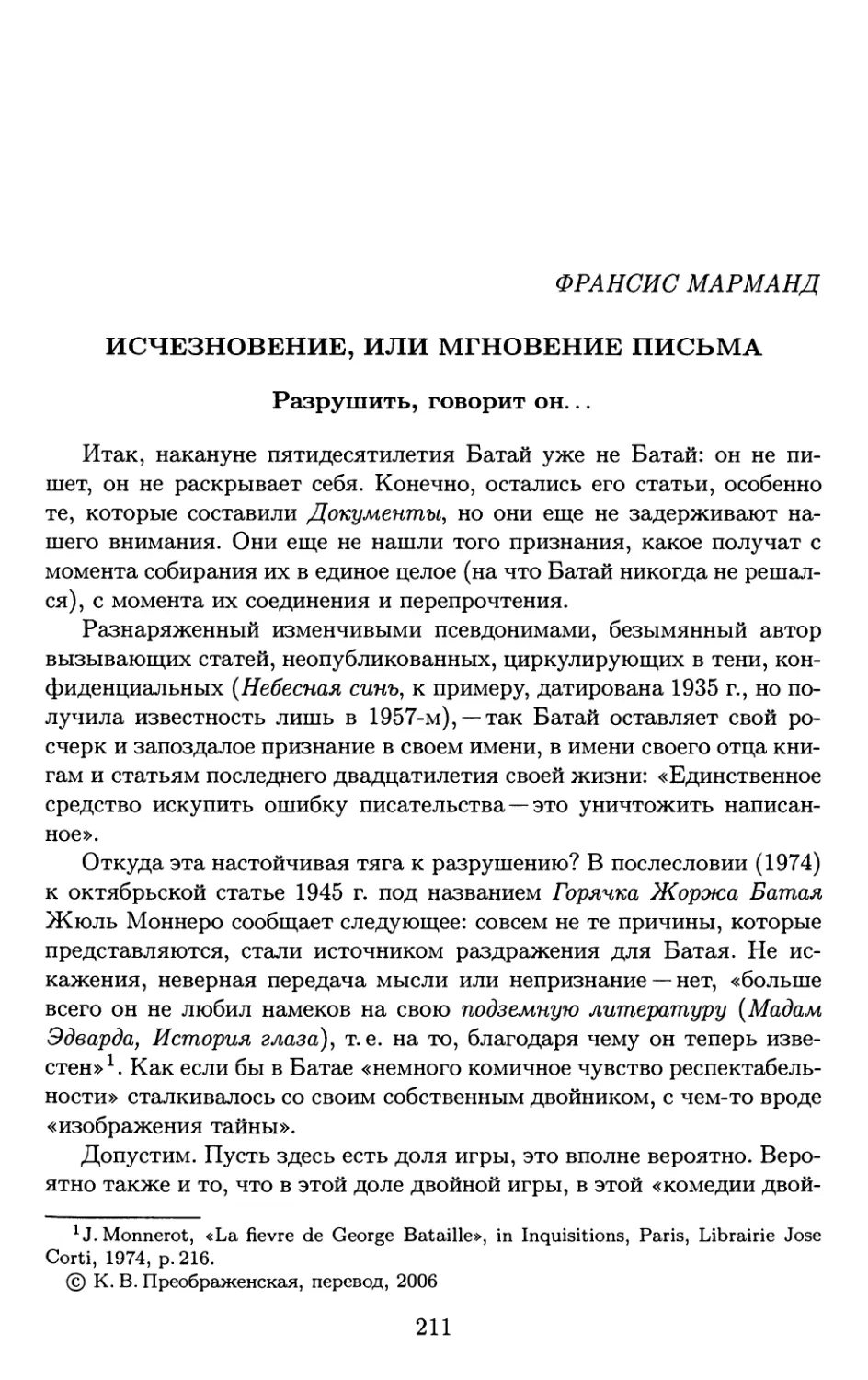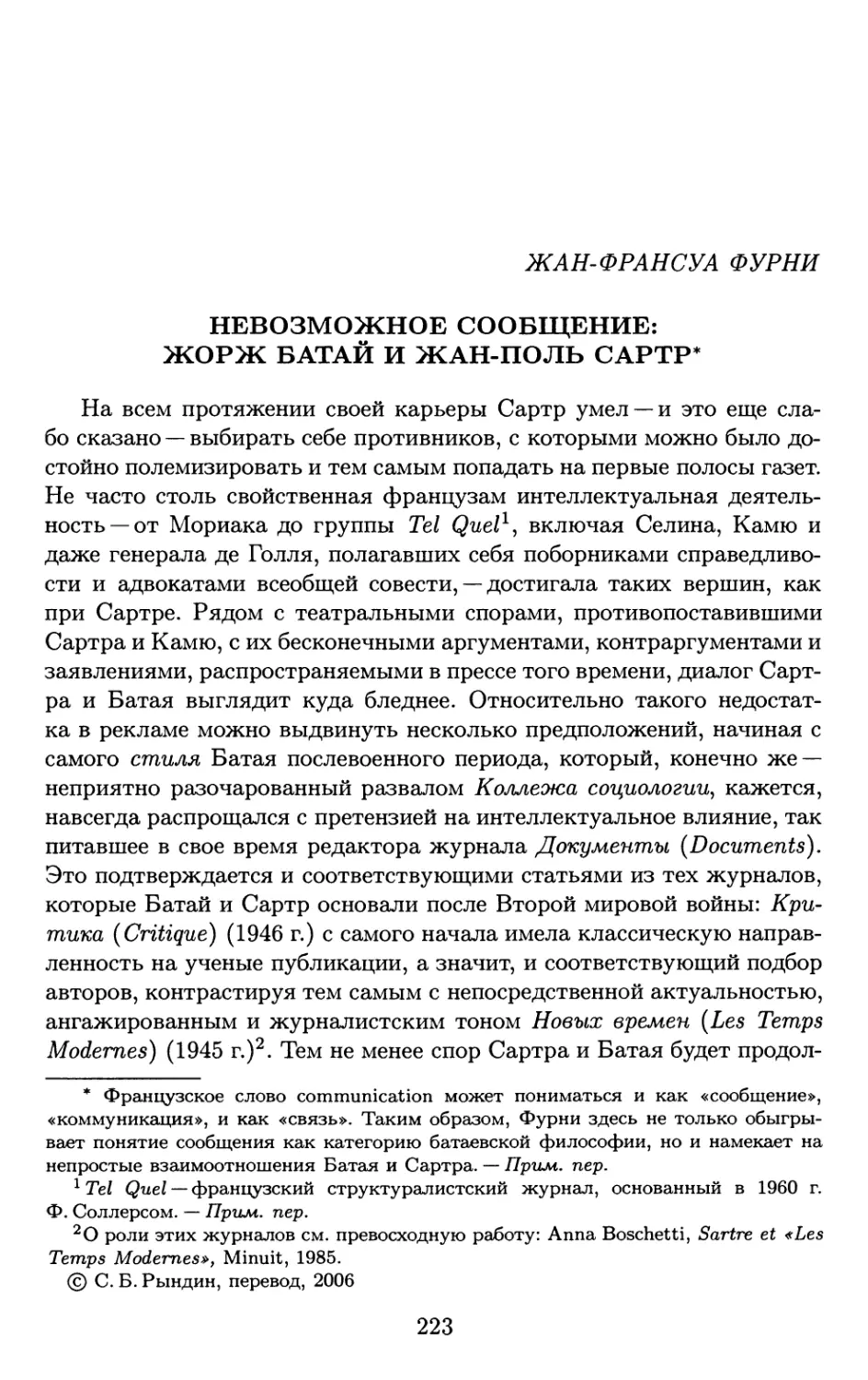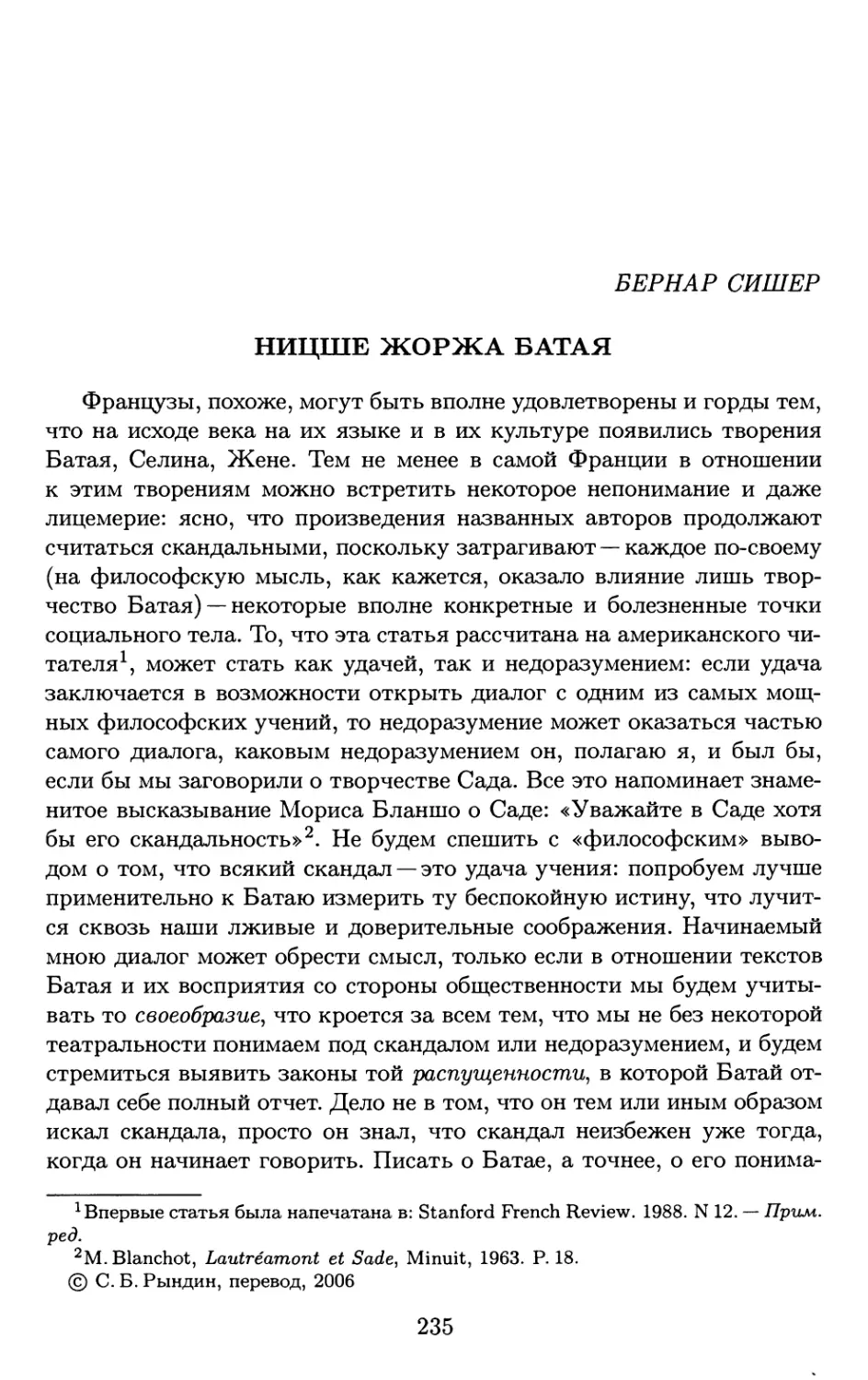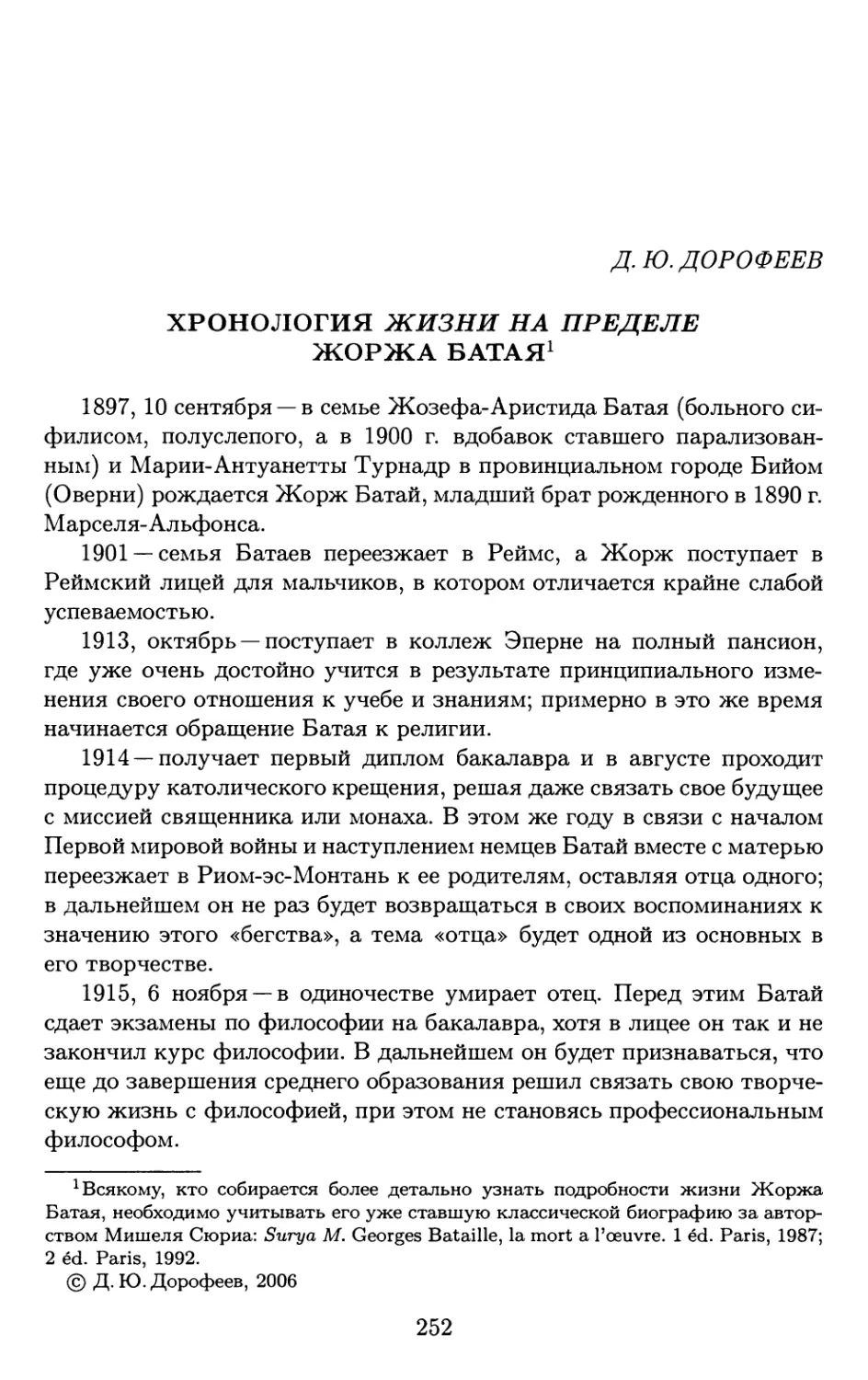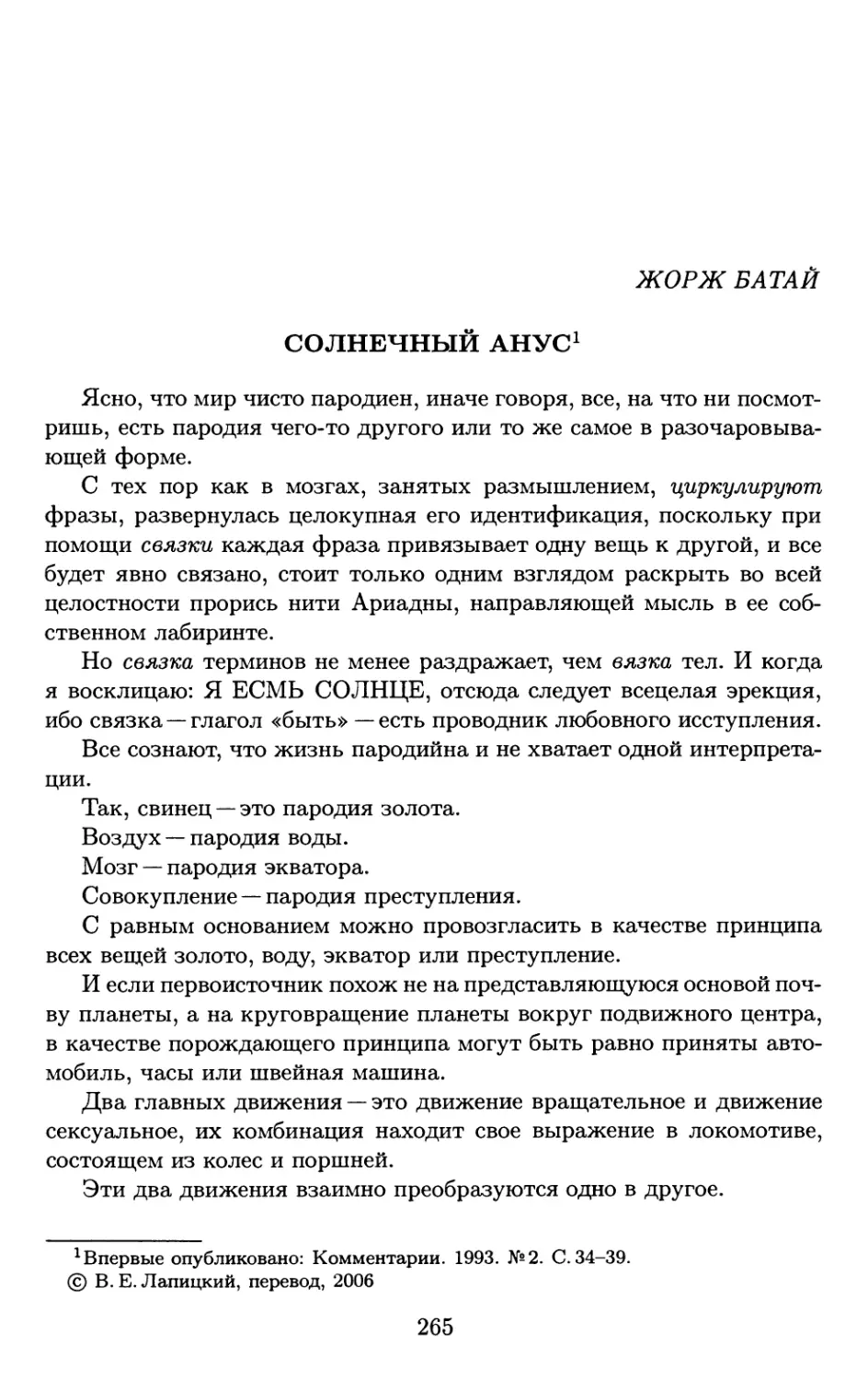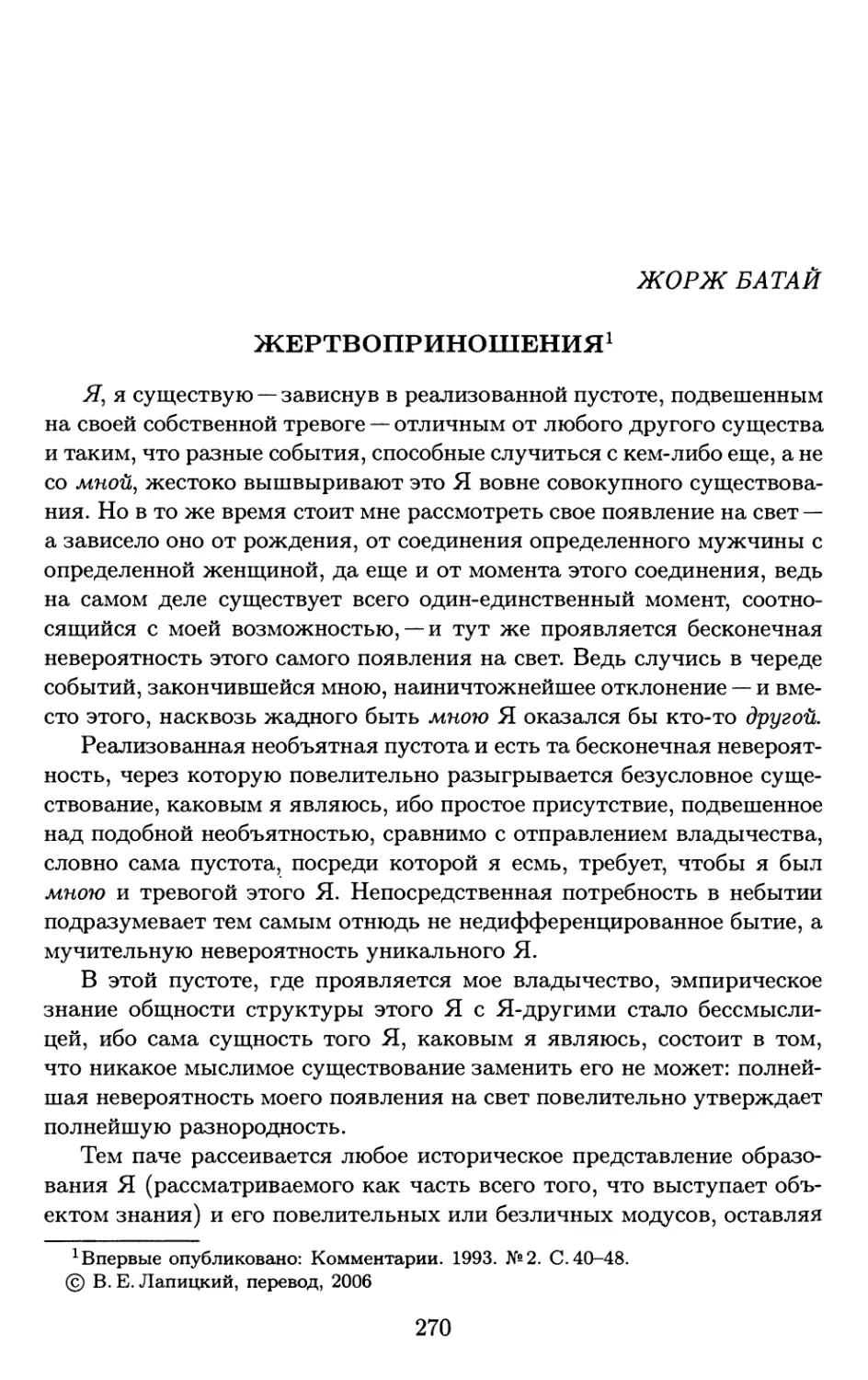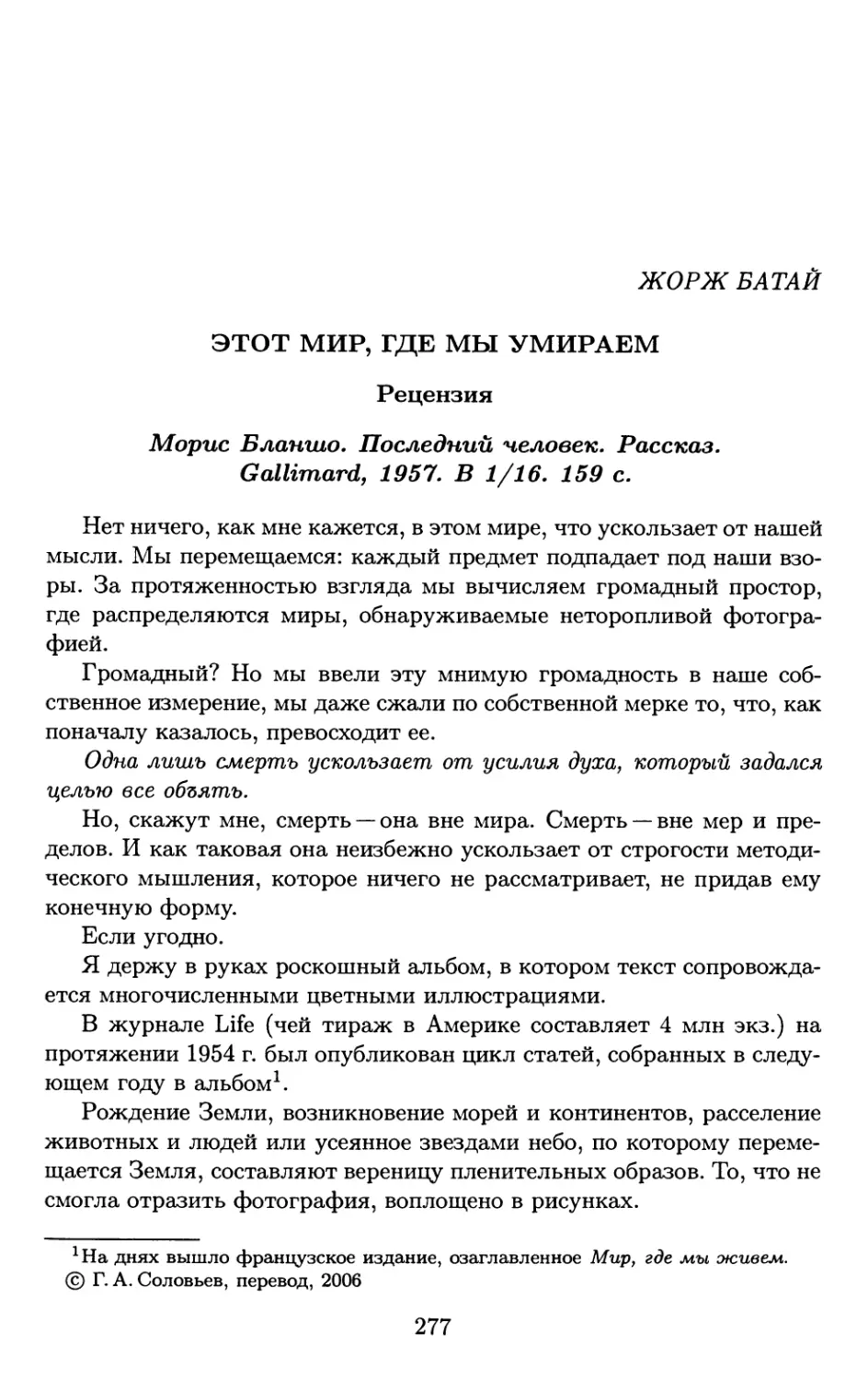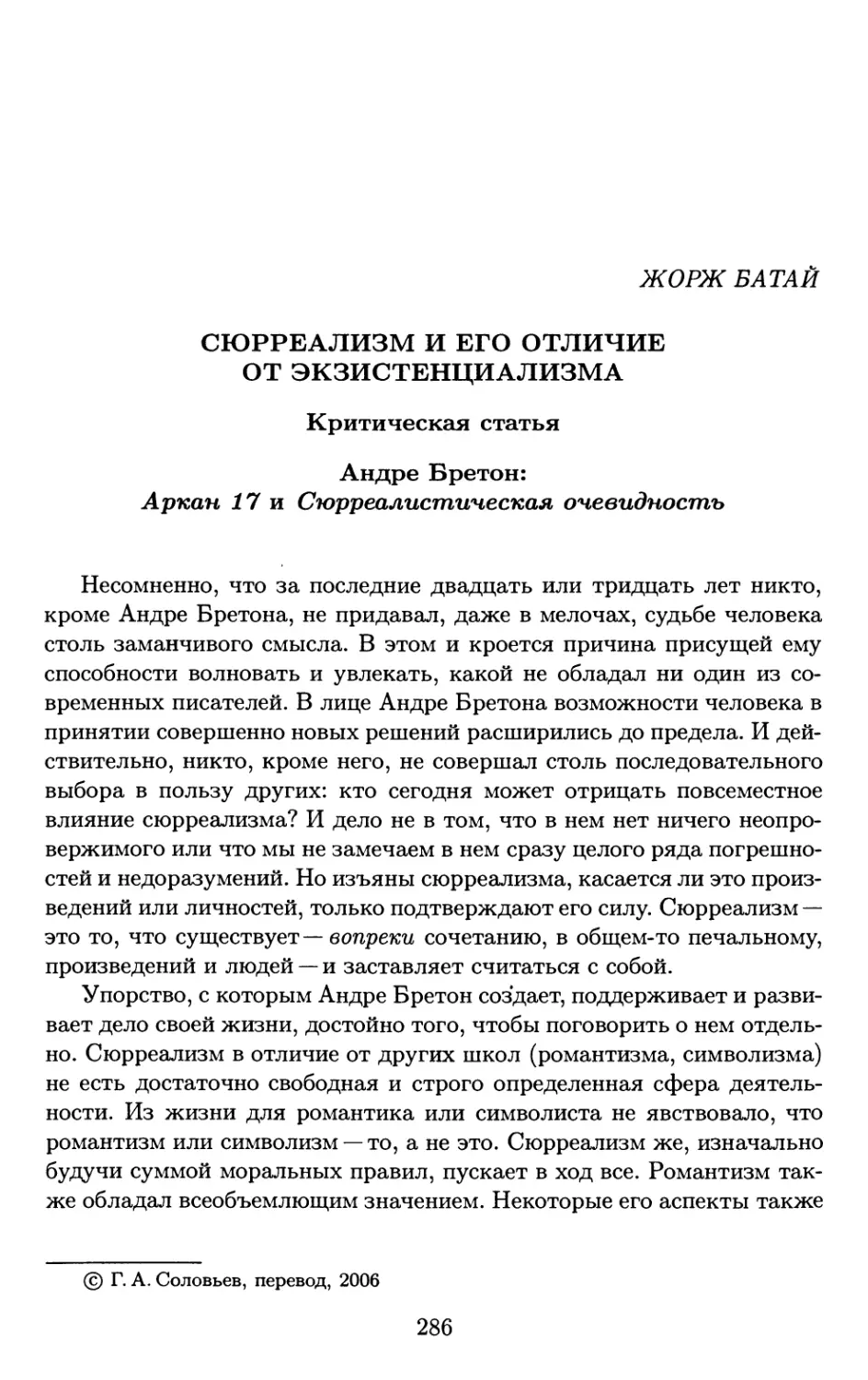Автор: Дорофеев Д.Ю.
Теги: литература хх в философские науки философия
ISBN: 5-288-03839-2
Год: 2006
Текст
ПРЕДЕЛЬНЫЙ БАТАЙ
Сборник статей
Отв. ред. Д. Ю. Дорофеев
ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2006
ББК 83.3(0)6+87
П71
Предельный Батай: Сб. статей / Отв. ред. Д. Ю. Дорофеев. —
П71 СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006.— 298 с.
КВЫ 5-288-03839-2
Проблема предельного жизненного опыта постоянно была в центре вни¬
мания одного из самых влиятельных и уникальных французских мыслите¬
лей XX в. Жоржа Батая (1897-1962). Ее разностороннему рассмотрению
посвящены работы авторов настоящего издания — известных европейских
и отечественных исследователей его творчества. Их исследования откроют
читателю целостный и в то же время неоднородный образ Батая, который
предстанет и как глубокий философ, и как автор шокирующих художествен¬
ных произведений, и как активный общественный деятель, и как страстный
любовник, и как экстатический мистик. В приложении представлены пере¬
воды нескольких ярких статей Жоржа Батая.
Издание предназначено для всех интересующихся современной европей¬
ской философией, литературой и культурой.
ББК 83.3(0)6+87
© Коллектив авторов
и переводчиков, 2006
© Д. Ю. Дорофеев,
отв. редактор, 2006
© Издательство
С.-Петербургского
1ЭВК 5-288-03839-2 университета, 2006
Д. Ю. ДОРОФЕЕВ
САМОРАСТРАТЫ ОДНОЙ ГЕТЕРОГЕННОЙ
СУВЕРЕННОСТИ
Кто поздно юн, тот надолго юн.
Ф. Ницше. Так говорил Заратустра
Широко известна история о том, как Наполеон в Эльзасе мгновенно
узнал Гёте, едва увидев его, — так полно тот соответствовал представ¬
лению, которое сложилось у Наполеона при чтении его книг, прежде
всего Вертера, которого император даже брал в свой египетский по¬
ход. Его произведения и сам Гёте нераздельно сливались в единое
целое, органично взаимоотражаясь, не чуждаясь и продолжая друг
друга. Причину такой гармонии следует усматривать не только в уни¬
кальной целостности самого Гёте, но и в духе времени, в котором ему
довелось жить и одним из творцов которого он являлся. Действитель¬
но, бывают в истории времена, когда внешнее и внутреннее находятся
в удивительном соответствии и гармонии, когда открытость не сты¬
дится себя и жесткая граница между автором и его произведением,
поведением человека и его принципами отсутствует даже на уровне
чувственного. Но проходит обычно короткое время, пыл остывает, на¬
ступает время закрытого прагматизма и отстраненной ироничности, и
уже насмешки скептически настроенного в отношении любой самозаб-
венности Онегина над Ленским, кажущимся пришельцем из архаиче¬
ской древности, предстают естественными и неизбежными, а Деррида
несколько свысока разоблачает «заблуждения» Хайдеггера. Пружина
разомкнулась и выбросила всю находящуюся в ней энергию, и ей уже
опять необходимо замкнуться в себя, она словно прячется от кого-то,
сжимаясь и уходя в себя, чтобы выработать силы для нового броска.
В этом смысле уникальная неоднородность Жоржа Батая, объеди¬
няя целостность и двойственность, не может не поражать. Есть лица,
© Д. Ю. Дорофеев, 2006
3
которые смущают своей красотой, своим уродством, тем отпечатком
смерти, остающимся, как писал Лев Шестов, у человека после при¬
косновения ангела смерти, решившего по божественной воле все же
оставить его еще на земле. Лицо Батая смущает не само по себе, оно
вызывает смущение после чтения его произведений, оставляя недо¬
умение от слишком уж явной их несогласованности. Надо признаться,
что сознательно или бессознательно, но чаще всего лицо человека и
лицо автора текста мыслятся нами через схематичные в своей одно¬
сторонности отношения подобия или противоположности. В процессе
чтения воображение, питаясь языковыми стихиями, выстраивает се¬
бе на чувственном остове интеллигибельный образ автора, воплощаю¬
щий, хотя преимущественно неосознанно, предвосхищения и желания
читателя. Если человеческое живое лицо автора соответствует этому
образу, мы чувствуем успокаивающее удовлетворение, основанное на
подтверждении наших ожиданий того, каким должен быть человек,
написавший данный конкретный текст; если же такого соответствия не
обнаруживается, то, стремясь как-то выправить внезапно проявившу¬
юся апорию, можно начать обосновывать имеющийся разрыв поиска¬
ми «глубинного» и столь желанного тождества, применяя, например,
механизмы психоаналитической герменевтики.
Именно второй путь очень соблазнителен в случае с Батаем. Ин¬
теллигентнейшее, с мягкими чертами лицо, с вдумчивыми, спокой-
но-сосредоточенными глазами, в которых просвечивается вся полно¬
та классического обаяния воспитанной веками культуры сдержанного
французского шарма, поддерживаемая искренним интересом к акаде¬
мической науке и работой с архивными фолиантами в библиотеке, под¬
линная элегантность без искусственной вычурности и наносного блес¬
ка, оставляющая впечатление даже некоторой несвоевременности,—
и вдруг художественные произведения, как будто специально напи¬
санные для провокации, смущения, выступания стыдливой краски на
щеках, произведения, «непристойность» которых шокирует своей от¬
крытостью и бесстрастностью даже свободных от гнета стандартных
моральных комплексов французов. К тому же произведения эти пи¬
сались под псевдонимами, подтверждающими власть этой разрываю¬
щей двойственности. И как же здесь не применить психоанализ, пред¬
лагающий считать, что данный случай является классическим при¬
мером сублимации вытесненных в бессознательное желаний в форме
художественного творчества, желаний, зародившихся еще в детстве,
но жестко подавлявшихся ослепшим и парализованным отцом, а в
дальнейшем, после его смерти, неудачно пытавшихся найти выход в
страстном обращении к католичеству! А если вспомнить, что в сере¬
дине 20-х Батай посещает сеансы одного из первых практикующих
во Франции психоаналитиков, Адриена Бореля, то выстраивается со¬
4
всем гладкая линия. Так и хочется многие черты жизни Батая увя¬
зать с сюжетом Дневной красавицы Бунюэля, снятой по вышедшему в
1928 г. одноименному роману Ж. Кесселя: в середине 20-х жизнь Батая
проходила ночью в несдерживаемом разгуле борделей, а днем — в об¬
рамлении углубленного чтения классических, представляющих самые
разные сферы, книг в тиши библиотечных залов.
Но я хочу предостеречь от этого пути. Действительно, Батай при¬
знавал существенное влияние на него психоанализа, который, веро¬
ятно, помог ему разобраться с какими-то собственными внутренними
проблемами. Но он всегда был шире тех схем, которые так привлека¬
тельно использовать для его объяснения, схем, как уже существовав¬
ших до него, так и тех, источником формирования которых он являл¬
ся. И дело здесь, конечно, не только в том, что нам нет надобности
влезать в психологию сознательного и бессознательного Батая —его
жизненный опыт позволяет поставить более фундаментальную про¬
блему, которой он и был озабочен. Для многих Батай казался вызовом
потому, что не умещался в их мир, хотя сам он лишь отстаивал свое
право быть собой, т. е. быть иным, — право, которое есть у каждого че¬
ловека, но которым не каждый может воспользоваться. Призовем на
помощь греческую классику. Ипполит, герой одноименной трагедии
Еврипида, предстает воплощением целомудрия, стыдливости и невин¬
ности, в чем и состоит его «провинность» перед Афродитой, богиней
любви и удовольствий, — он бежит любовных утех не, как можно было
бы подумать, из-за какой-то патологии и не подавляя буйствующее в
нем желание какими-то аскетическими нормативами и императивами,
он просто не чувствует в них потребности, он просто недоступен власти
Эроса, будучи обращен сам по себе к другим сферам, воплощаемым бо¬
гиней Артемидой, — тишине, спокойствию, мирному и уединенному со¬
зерцанию природы; и не нужно искать какое-то объяснение, какую-то
внешнюю причину этой обращенности, достаточно просто принять ее
со всей честностью и мужеством беспредпосылочности, даже несмотря
на то, что она так резко выделяется из привычных схем окружающего
мира1.
Этот пример, как мне кажется, позволяет прояснить проблему воз¬
можной неоднородности — как вокруг себя, так и в себе. В отношении
Батая имеет место не двойственность, которую так и тянет вывести
из единого основания, а именно нередуцируемая неоднородность, или,
как он сам предпочитал говорить, гетерогенность. Есть времена по¬
иска твердого фундамента и его подрыва, закрытости и открытости,
ответов и вопросов, статики и динамики, объяснения и понимания, дог¬
1 Подробней о характере благочестия Ипполита см.: Фестюжъер А.-Ф. Личная
религия греков. СПб., 2000. С. 20-32.
5
матизма и критицизма, наблюдения и созерцания, монизма и полифо¬
нии. Батай был сыном времени, которое вскрывало таящуюся, ранее
умело, хотя и не до конца, затушеванную напряженность существова¬
ния, находя в себе смелость и главное, внутреннюю необходимость не
прятать ее, не прятаться самому, а открыто, в самозабвенном броске
устремляться ей навстречу. А это было возможно только при условии
снятия ставшей уже привычной, вязко прилипшей к телу скорлупы,
формы, схемы, за которыми только и можно было обнаружить эту
неустанно и самозабвенно бьющуюся гетерогенность. Осуществления
этой цели уже нельзя было добиться на старых путях, проложенных,
например, романтизмом, нужно было решаться на новые эксперимен¬
ты, может, и вызывающие шокирующие отторжения, но позволяющие
выявлять новые пульсирующие ритмы человеческого существования.
С наибольшей откровенностью это проявляется в таких художествен¬
ных произведениях Батая, как несохранившийся роман W. СИсто¬
рия глаза, Небесная синь, Мадам Эдварда, наглядно иллюстрирую¬
щих понимание Батаем «гетерологии» как замены агиологии (от греч.
agios — святой, священный), отжившей свой век в качестве сакраль¬
ной гетерогенности и принявшей форму скатологии (от греч. skatos —
экскременты).
По сути дела, здесь речь идет об оригинально и неакадемически
понятом феноменологическом принципе беспредпосылочности опыта.
Батай приобщился к этому принципу не через методично тщатель¬
ные уроки Гуссерля, а благодаря собственному опыту, проясненному
зажигательными речами Льва Шестова, яростного критика гуссерлев-
ского варианта абсолютной прозрачности сознания для разума, с ко¬
торым он познакомился в 1923 г. Здесь речь шла о достижении адог-
матичной беспредпосылочности в результате «вынесения за скобки»
предопределяющей направленность восприятия идеи завершенности,
предвосхищения, законченности, постоянства, абсолютности, последо¬
вательности, т. е. освобождения от власти категориальности, понятой
не только в логическом, но в смысле любой устоявшейся и оседлой
нормативности и определенности. Приятие живой непосредственной
инаковости во всей ее неподотчетности и спонтанности2 ставилось вы¬
ше ориентации на следование любому схематизму, трансценденталь¬
ному или моральному: воспринимать мир в его неприкрытой обна¬
женности требовало от человека больше усилий, мужества и честно¬
сти, чем априорное проецирование своего Ego на мир — ведь только в
этом случае узкие рамки трансцендентального субъективизма мог¬
ли быть преодолены личностной спонтанностью (хотелось бы здесь
2О значении спонтанности для Батая см.: Дорофеев Д. Ю. Спонтанные броски
Жоржа Батая// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.6. Вып.5. 2004. С.33-44.
6
отметить, что именно понимание человека как Ego и как личности ле¬
жало в основе принципиально отличающегося друг от друга решения
вопроса интерсубъективности соответственно у Гуссерля и Шелера3).
Условием же достижения такой открытости миру являлось обретение
незамутненного любыми насильственными опосредованиями права Я
на свободное, имеющее своим источником лишь спонтанное движение,
самополагание, которое, взятое само по себе, может быть выведено из
каких угодно мотивов, может быть подвергнуто любому критическо¬
му объяснению, но которое непосредственно в своем осуществлении
исходит исключительно из собственной безосновности.
Радикальный замысел шестовского Апофеоза беспочвенности со¬
стоял как раз в том, чтобы, так сказать, до конца отдать человека са¬
мому себе (предоставив тем самым возможность и другому человеку
быть другим), освободив от власти любых императивов, очистив от на¬
слоений любых принуждений, сделав недоступным для любых посяга¬
тельств — ведь все они сами имеют источником своего формирования
неприрученную человеческую стихийность, которая благодаря фун¬
даментальной человеческой склонности к самообману и самоотчужде-
нию ими же пытается себя и приручить, ввести в полагаемые рамки;
механизм действия такой опосредованной самоаффектации вскрывал¬
ся Гегелем, Ницше, Сартром. Если все полагается неконституируемы-
ми и неуправляемыми бифуркациями моего Я, то не нужно затуше¬
вывать и кастрировать этот процесс подведением под искусственные
формы, а следует открыто признаться в своем «своеволии» и принять
себя в нем.
Именно за такую позицию Шестов выделял героя Записок из под¬
полья из всех героев Достоевского, а само это произведение считал
самым честным и непредвзятым произведением русского писателя.
Данный герой хочет сделать сознание прозрачным для себя, призна¬
вая мучительность этого дела: «Слишком сознавать, — говорит он, —
это болезнь, настоящая, полная болезнь» (ч. 1, гл. 2) (ею, к слову
сказать, болеют все главные герои Достоевского, но в отличие от
трансцендентально-идеалистических претензий Канта и Гуссерля в до¬
стижении такой прозрачности здесь идет речь не о прозрачности перед
разумом, а о прозрачности сознания в отношении своих же нерегули¬
руемых спонтанных бросков, являющихся предельным основанием его
деятельности). Она-то и провоцирует его злобу, злобу, вызванную на¬
сильственными претензиями на него любых законов и норм, которые
волей-неволей посягают на его право абсолютно свободно и самостоя¬
тельно (это слово выделяет и сам Достоевский в 7-й главе 1-й части)
3Подробнее см.: Шютц А. Теория интерсубъективности Шелера и всеобщий те¬
зис альтер эго // Шютц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С. 202-
235.
7
желать, хотеть, волить, к чему бы это ни приводило, право, без ко¬
торого человек становится «штифтиком в органном вале» (ч. 1, гл. 9).
«Стою я [... ] за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован,
когда понадобится» (ч. 1, гл. 9). И подполье именно и есть то место,
которое предохраняет, защищает, охраняет человека от любого рода
посягательств на него, претензий наставлять и обучать, место, где он
может позволить себе «каприз» быть злобным и тщеславным, непри¬
чесанным и грязным, не стремясь, хотя бы в одиночестве перед самим
собой (потому что с другими «в мире» он не выдерживает этого уров¬
ня самостоятельности —см. 2-ю часть Записок), затушевывать свою
подноготную по велениям каких-либо нормативностей, царящих в от¬
ношениях между людьми: «А не хотите меня удостоить вашим внима¬
нием, так ведь кланяться не буду. У меня есть подполье» (ч. 1, гл. 10).
Очевидно, что здесь речь идет о человеческой автономности, но,
конечно же, понятой принципиально иначе, чем у Канта, менее при¬
лизанно, светло и благородно-разумно: в конце концов эпоха Просве¬
щения в конце XVIII в. была смята откровениями нигилизма, про¬
роками и одновременно целителями которой были Ницше и Досто¬
евский. Отторжение от мира, вызванное «смертью Бога», рождало
потребность спрятаться, закрыться, уединиться в неприступной для
всех других крепости собственного сознания, и естественно, что ав¬
тономность здесь могла быть только замкнутой. Батай же, очень
чутко воспринявший идею автономности через чтение Достоевско¬
го и Шестова, Ницше и Фрейда, Пруста и средневековых мисти¬
ков, жил уже в несколько другое время, когда существование го¬
рело идеей необходимости выплеснуть накопившиеся кладези авто¬
номности, т. е. представить ее открытой, не прячущейся, не стыдя¬
щейся себя, устремляющейся в спонтанном броске навстречу иному.
Об этом он и говорил как о человеческой суверенности, пути к от¬
крытию которой были мучительно трудными, но иными и не могли
быть.
Суверенность обретается предельной обнаженностью, в которой че¬
ловек раскрывается как непрекращающееся экстатическое сообще¬
ние. Сообщение не «выражает» здесь нечто, извлеченное из суверен¬
ного внутреннего опыта, нет, сама обнаженность этого опыта и есть
это выплескивание, выстреливание, выбрасывание всего себя до конца
навстречу иному. Суверенность может быть здесь только открытой и
спонтанной, в этом и есть она вся — так же, как открытость и спонтан¬
ность могут быть только суверенными. Такая взаимосоотнесенность
предельно обнаженной суверенности и желающей раскрыть, сообщить
себя, устремляющейся навстречу иному спонтанности и являет себя в
экстазе внутреннего опыта. «Внутренний опыт,— пишет Батай, —это
экстаз, а экстаз, как кажется, это сообщение, которое противится со¬
средоточенности на себе [...], сама идея сообщения оставляет тебя в
наготе, в полном неведении», и несколько дальше: «Сообщение —это
не то, что добавляется к присутствию, это то, что его составляет»4.
Последнее как раз и не понял Сартр, который видел в Батае лишь
очередного «нового мистика», делящегося в своих книгах откровени¬
ями, добытыми в недоступном никому одиночестве предельной авто¬
номности внутреннего мистического опыта. Если бы это было так, то
было бы справедливо утверждение Сартра, что в речи Батая царит
пренебрежительная агрессивность, что он пишет, как бы одновремен¬
но сожалея об этом, что ему нет дела до того, поймут ли его, вообще
нет дела до Другого, что он просто передает у otee пережитый опыт
Erlebnis5. Надо сказать, что напряженность довольно часто смешива¬
ют с агрессивностью: предельно интенсивное проявление чьего-либо
Я может казаться потенциальным посягательством на независимость
моего Я, особенно если последнее не находит в себе сил или желания
на подобную самоотдачу. Экстатичность человеческого существования
сама по себе означает уже выход «из себя» навстречу иному, с пони¬
манием того, что человека нет «в себе», откуда бы он выходил к Дру¬
гому, а он только и может быть перед Другим, и в этой спонтанной
открытости его бытие и есть подлинно суверенное. На самом деле
есть суверенность напряженной гетерогенности, которая не несколько
свысока делится с нами своими открытиями, а которая только и мо¬
жет быть, осуществляться в пространстве сообщения между Я и Дру¬
гим. Повторю еще раз: суверенность Батая —это открытость, только
и могущая быть в спонтанном сообщении себя иному, в направленно¬
сти в сторону Другого, но при этом не определяемая и не полагаемая
им. Действительно, Батай говорил как-то, что суверенность лежит в
области тишины, но все дело-то в том, что тишина может удержи¬
ваться только языком, что для приобщения к ней нужно решиться на
усилие и риск говора; в этом он близок Хайдеггеру и Витгенштейну,
призывающим устремляться к той границе языка, где слово и молча¬
ние взаимосохраняют друг друга6. Попутно отметим, что Ж. Батай и
М. Хайдеггер при внимательном наблюдении оказываются удивитель¬
но близки друг другу во многих отношениях, и это тема еще ищет
своего исследователя.
Жорж Батай понимает предельный опыт принципиально иначе,
чем традиционная христианская мистика — ведь он говорит о мисти¬
4Батай Ж. Внутренний опыт/ Пер., послесловие, и коммент. С. Л. Фокина.
СПб., 1997. С. 32-33, 56.
5 Сартр Ж. П. Один новый мистик // Танатография Эроса. Жорж Батай и
французская мысль середины 20 века/ Сост., пер., коммент. С. Л. Фокина. СПб.,
1994. С. 19-22.
6Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспектов. М., 2005. С. 315-337.
9
ке после события «смерти Бога». Поэтому здесь уже не могут разде¬
ляться и вступать в конфликт между собой, с одной стороны, отно¬
шения человека и божественной трансценденции, а с другой — отноше¬
ния человека и других людей. Мистический опыт уже не предполагает,
что открытость Богу оборачивается закрытостью от всех других лю¬
дей: сам этот опыт фундируется не абсолютной трансцендентностью
как за-предельностью, а трансцендентной имманентностью челове¬
ка как состоянием предельности. Речь идет не об открытости перед
Богом, а о предельной самообнаженности, самооголенности, которая
и есть экстатически-спонтанное сообщение себя. Предел своей откры¬
тости — это не заданная величина, это существование в непрестанном
самопреодолении: ex-stasis есть самозабвенно-исступленный выход из
себя; но если в христианской мистике экстаз характеризует еще несо¬
вершенное (в своей самозабвенной исступленности) состояние челове¬
ка, а потому он должен быть преодолен в окончательной успокоенно¬
сти в Боге (так, например, считал Симеон Новый Богослов), то, если
этой окончательной пристани нет, предельный опыт направляется не
к вечному покою наподобие нирваны, а к постоянному бес-покойству
предельно напряженного экстатического самопреодоления, экстатиче¬
ской трансгрессии. Мистики Батая не может быть без того, чтобы не
было того, что надо преодолевать — в первую очередь себя. «Вне се¬
бя» означает не в Боге, «вне себя» означает между собой и своим
невозможным, на границе между собой и иным. Здесь нет и не мо¬
жет быть никакой определенности и тем более предопределенности.
Поэтому и сообщение никогда не закончится, никогда окончательно
не дойдет до адресата: оно в пути, оно подвижно и непреднамеренно.
В посвященной Батаю статье Опыт-предел Морис Бланшо писал, что
предельный опыт —«это ответ (курсив мой.—Д.Д.), который полу¬
чает человек, когда решил радикально поставить себя под вопрос. Это
решение, компрометирующее всякое бытие, выражает невозможность
человека остановиться — ни на миг, ни на одном утешении или какой-
бы то ни было истине [...], это такой опыт, который ожидает высшего
человека, способного не остановиться в последний раз на этой достиг¬
нутой удовлетворенности; это опыт вожделения человека без вожделе¬
ний, опыт неудовлетворенности того, кто удовлетворен “во всем”, это
недостаток, чистый изьян, где, однако, имеет место свершение бытия,
всемогущества и всеведения»7.
Но опять-таки выраженность не может быть законченной, нельзя
до конца обнажить себя, можно быть на пределе, но невозможно дой¬
ти до предела. Это связано с тем, что слово ускользает от попыток
его тотального использования, слово находится в руках человека, не
7 Бланшо М. Опыт-предел // Танатография Эроса. С. 67, 69.
10
теряя своей собственной независимой автономности, поэтому его нель¬
зя подчинить, оно всегда будет оставлять за собой и одновременно в
себе нечто, что не поддается выражению, — собственную тишину. Ба-
тай стремится уловить в языке молчание, а в молчании — язык: слово
«тишина»—это как «беременная смерть», оно амбивалентно, в своей
метафоричности выходя к непредсказуемым горизонтам, оно «упразд¬
няет шум, которым является всякое слово; среди всех слов это — самое
извращенное или самое поэтичное: оно само по себе является зало¬
гом собственной смерти [...]. Тишина дается в болезненной сердеч¬
ной муке [...]. Тишина —это слово, которое не является словом...»,
и дальше: «В том выражении, в которое опыт облекает себя, он по
необходимости будет и тишиной и языком. Не по бессилию. Язык на¬
ходится в его власти, у опыта есть сила поставить его на службу. Но
есть в нем намеренная тишина, которая необходима не для утаива¬
ния, но для выражения с большей степенью отрешенности. Опыт не
может быть сообщен, если связь тишины, скромности, расстояния не
меняет тех, кем он играет»8. Гераклит говорил о времени как об иг¬
рающем мальчике, передвигающем шашки; у Батая человеком играет
гетерогенный мистический опыт, поворачивающийся к нам разными
сторонами, одной из которых является язык, позволяющий молчать,
и тишина, позволяющая говорить. Мистическое слово в своем самоот¬
рицании самовозрождается — или наоборот; утаивающее открывает —
или наоборот; приближающее удаляет —или наоборот. В своей книге
Литература и зло Батай отстаивает свой тезиз о виновности литера¬
туры — обвинение, которое литература сама себе выносит: ведь только
она обнажает «механизм нарушения закона без того, чтобы возникла
необходимость создать заповедь»9. Но именно это обвинение будет
всегда оправдывать литературу и ее творцов, открывающих предель¬
ное слово и предельную тишину в неразрывном единстве. В этом вы¬
свобождении гетерогенного язык предельного опыта, вынужденный
преодолевать стандарты языковых схем и норм, очень близок язы¬
ку, которым говорит карнавал, преодолевая любую односторонность,
формальность, официальность, преодолевая рамки словесной иерар¬
хии, высвобождая спонтанный языковой ресурс в форме, например,
оксюморона или «непристойностей»10.
Батаю, как мне кажется, больше удалось продумать эту проблему
в своих теоретических, принимая условность этого понятия примени¬
тельно к нему, а не выразить в художественных трудах (хотя есть и
иные мнения на этот счет), а вот его другу, Морису Бланшо, удалось
8Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. С. 39-40, 64.
9Батай Ж. Литература и зло. М., 1994. С. 25.
10Языковую сторону карнавального сознания см.: Бахтин М. М. Франсуа Рабле
и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 466-476.
11
донести, позволить услышать подрагивание этой ткани ужасающе-за-
вораживающей тишины языка в своих рассказах и романах. В целом
же они удивительно взаимодополняли друг друга: Батай признавался,
что роман Бланшо Фома Темный закладывает основы новой мистиче¬
ской теологии11, а Камю сказал как-то Сартру, что Внутренний опыт
есть точный перевод Фомы Темного.
Высвобождение спонтанных и трансгрессивных возможностей язы¬
ка было в центре внимания сюрреализма, о чем и свидетельствуют ос¬
новополагающие тезисы его глашатая, Андре Бретона, о «смерти лите¬
ратуры» и об «автоматическом письме». Такое новое отношение к язы¬
ку, несомненно, повлияло на Батая, который, впрочем, после доволь¬
но кратковременного упоения призывами сюрреализма предъявил ему
жесткое обвинение в том, что он идет на самом деле по слишком легко¬
му пути, сменяя догматизм имманентный, институционально полагае¬
мый внутри определенным образом нормированных границ, на догма¬
тизм трансцендентный, утверждаемый как абсолютно независимый,
запредельный от этих, какими бы они ни были, границ и принимае¬
мый в статусе анонимно самопроявляющейся спонтанности. Очевид¬
но, что если наивность первого догматизма вызвана отсутствием или
недостатком свободной критической установки, то наивность второ¬
го — возможностью такой ее абсолютизации, в которой она самоустра¬
няется, давая выход уже ничем не сдерживаемому порыву какого-то
мистического Оно. Освобождение от старых догм еще не залог подчи¬
нения новым: преодолев зависимость от одного однородного порядка,
можно легко увязнуть в другом.
Это и произошло с сюрреализмом, и разрыв с ним Батая, уже на¬
чинавшего все четче и четче определяться в своей направленности на
гетерогенную суверенность, был неизбежен. Стремясь раствориться в
трансцендентной пустоте, рассчитывая предоставить ей голос, сюр¬
реализм, несмотря на его провокационную революционность, шел к
низвержению человека в покое нирваны, не понимая, что трансцен-
денция так же нуждается в человеке, как и он в ней, и будучи нераз¬
рывно сопричастны друг другу в своем взаимосоотнесенном единстве,
они предстают равнонеобходимыми и равнонесводимыми соратника¬
ми, как раз и образующими своим сотрудничеством по-новому поня¬
тое поле трансцендентальной напряженности. Именно в таком сою¬
зе проявляется безосновная неоднородность, питаемая изнутри конеч¬
ности самого человека. Но сам человек не является здесь исходным
и непоколебимым фундаментом: если сомнение Декарта приводило к
очевидности Я, то Батай посягает на само Я, более того, именно в
этом предельном самоподрыве осуществляется суверенность внутрен¬
11 Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. С. 190-191.
12
него опыта как свободного от каких-либо привязанностей и авторите¬
тов, выступающего таким путешествием «на край возможности чело¬
века», при котором «внутренний опыт ставит под вопрос сам автори¬
тет [...], поскольку авторитет человека определяется как постановка
человека под вопрос»12.
Об этой напряженности хорошо знали немецкие мистики, когда пи¬
сали, например, о coincidentia oppositorum (Кузанец) или о Quel, внут¬
ренней расколотости (Бёме); об этом же знала и немецкая философия,
писавшая через своего гения Гегеля о «несчастном сознании» — кста¬
ти, именно эти, пронизанные негативной взаимосоотнесенностью неод¬
нородных начал (господина и раба, разума и желания), мотивы геге¬
левской Феноменологии духа позволили так впечатлительно возродить
Гегеля для интеллектуальной жизни Франции Александру Кожеву, се¬
минары которого, проводимые с 1934 г., посещал и Батай. И для Батая
речь всегда идет не о том, чтобы «снять», в духе философии позднего
Гегеля, эту драматическую разорванность, а, наоборот, чтобы ее вы¬
явить, раскрыть, максимально обнажить. Именно в этой предельной
напряженности для него прорывается голос внутреннего, или мисти¬
ческого, опыта, который есть одно лишь «разоблачение покоя, бытие
без отсрочки»13, а это возможно только в стоянии-на-пределе — ведь
опыт-то предельный, experience-limite. Эта предельность не есть шаг
к запредельности, скорее, наоборот: она есть освобождение от соблаз¬
на растворения в однородной запредельности. Как странник в своем
странствовании воспринимает хождение по дороге не как средство до¬
стижения своей цели, скажем возвращения домой, а как способ свое¬
го существования, так и предельность не телеологична, она —сама по
себе, она —выбор, она—судьба. Поэтому здесь и обретается суверен¬
ность: человек принимает себя в своей предельности, которая не опре¬
деляется уже ни прошлым, ни будущим, она ниоткуда не выводима
и ничему не подчинена, она следует своему призыву и броску. «Пол¬
ностью мы обнажаемся лишь тогда, когда без малейшего лукавства
идем навстречу неизвестности»14: путешествие на край возможности
никогда не может закончиться, но именно в самозабвенном стремле¬
нии дойти до конца, возможном лишь в предельной открытости ему,
проявляется невозможное. Смерть Бога вводит человека в это само-
стояние, где он отдан самому себе «здесь и сейчас». И все же Батая
нельзя обвинить в «невоздержанном гегельянстве», на чем настаивает
Деррида, хотя бы потому, что если для Гегеля негативность восприни¬
мается как средство к окончательной и всепримеряющей царствующей
полноте Духа, то Батай живет не целью, а путем: он, весь в экстатич¬
12Там же. С. 23.
13Там же. С. 92.
14Там же. С. 21.
13
ном само-из-ничтожении, отдается пути, а не думам о его окончании
и не предвосхищениям момента приезда (сам Батай, для которого,
несмотря ни на что, Гегель был очень близок, обвинял феноменоло¬
гию последнего в определенной гомогенности, а в своем письме Ко-
жеву определил свое понимание негативности как «негативность без
применения»)15.
Для Батая наша жизнь не парадная жизни другой, совершенной и
полной, которая заставляет воспринимать наше нынешнее существо¬
вание лишь как ученическую прелюдию. И недаром вопрос о смерти
является краеугольным камнем: или она начало будущей жизни, или,
полностью принимая ее, в ней залог человеческой конечности и сво¬
боды. Батай, как кажется, не присоединяясь целиком ни к так назы¬
ваемому «атеистическому экзистенциализму», ни к религиозному, по-
видимому, выбирает здесь свое решение. Религиозный вопрос о транс¬
цендентном Боге он преобразовывает в мистически понятый вопрос о
питающем человеческую предельность невозможном: в конце концов,
в отличие, скажем, от позиции Г. Марселя, можно быть религиозным
и не регламентируясь идеей будущей жизни; более того, может быть,
религиозная жизнь обретает особенную энергийную насыщенность и
интенсивность, если она в своей религиозности перестает быть «ко¬
рыстной» и «прагматичной», т. е. принимает свою направленность к
трансценденции исключительно бескорыстно, без мысли о своей после¬
дующей встрече с ней, без надежды на свое спасение. Тогда вопрос о
будущей жизни уже не будет затемнять, смущать и определять жизнь
нынешнюю. В конце концов, Батай понимал, что любой путь фунди¬
руется целью: идя по дороге, человек все равно идет куда-то, направ¬
ленность сохраняется, но эта цель не должна для идущего скрывать
самоценную значимость самой дороги. Это сюрреализм иллюзорно на¬
ходился в рамках упрощенной альтернативы, считая, что ставка на
спонтанность полностью и окончательно преодолевает власть проекта;
но неоднородность предельного опыта как раз и состоит в том, чтобы
«выйти посредством проекта из области проекта»16, и, несмотря на то,
что проект как установка на «откладывания существования на потом»
прямо противоположен внутреннему опыту, именно в этом являет себя
главный принцип внутреннего опыта, т. е. осуществление непрестанно¬
го «выхода к... », в котором бросок осуществляется не для завоевания
того, к чему он бросается, а для само-выбрасывания. Предельность
человека в том, что ему никогда не овладеть трансцендентным и не
слиться с ним в окончательном, всеразрешающем и примиряющем еди¬
нении — это доступно животным и природе, которые отделены от лю¬
15См.: Коллеж социологии. 1937-1939 / Сост. Д. Олье. СПб., 2004. С. 49-62.
16 Батай Ж. Внутренний опыт. С. 92.
14
дей той абсолютной вовлеченностью и растворенностью в однородное,
благодаря чему их равнодушное существование «ничем не выделяется
в мире, где оно протекает, как поток воды среди схожих потоков»17.
И неудивительно, что Батай признает, что нет ничего более сокрытого
для человека, чем мир животных (можно вспомнить схожую мысль
Хайдеггера: природу можно объяснить, но не понять), ведь нам недо¬
ступна завершенная целостность их непосредственной наивности, в ди¬
кой «животности» которой для нас лишь изредка просвечивает та глу¬
бинная сакральность, которая постоянно предназначена ускользать.
Может, еще и поэтому Батай с таким трепетным вниманием погру¬
жался в свои этнографические исследования, приобщаясь к неосквер¬
ненной культурой дикой свежести природного мироощущения перво¬
бытного сознания, проявляемого, например, в наскальной живописи
или в завораживающем культе крови. Именно эта направленность яв¬
ляется стержнеобразующей в первых статьях Батая, печатающихся в
искусствоведческом журнале Arethuse. Неудивительно, кстати, что он
так любил Испанию, страну диких неумеренных стихий, самозабвен¬
но упиваясь созерцанием диких зрелищ кровавых коррид, — в любви
к ним он был един с Хемингуэем. Здесь стоит вспомнить особый инте¬
рес Батая к фильму Бунюэля и Дали Андалузский пес, в котором тема
крови сочеталась с темой глаза, направленного на смерть. Эта пробле¬
матика, начиная с Истории глаза, является волнующе сквозной для
Батая. И неудивительно, что тематика крови и взгляда объединилась
для Батая в поле эроса, эротической любви, точнее даже — ее невоз¬
можной предельности.
Действительно, эрос был для Батая одним из основных путей к
невозможному; в этом смысле он говорит о религиозном, сакральном
эротизме. Но нужно понимать, что здесь речь не идет об amor mystica
или о любви, понимаемой по образцу немецкого романтизма. Сакраль¬
ное здесь предстает не возвышенно-далеким, а приземлено-близким, в
котором, взятом во всей обнаженности его неприглядности, и просве¬
чивает это невозможное. В эротизме, может быть, сильнее, чем где-
либо, обнаруживает себя напряженность гетерогенного: ведь в нем
совмещается животная похотливость с подлинно человеческим пре¬
дельным напряжением. Любовный акт как бы преображает человека,
вырывая его из принятых норм однородного существования, которые
перестают в этот момент существовать для него, и в этом, несомненно,
есть что-то шокирующе неприличное, особенно если это воспринимает¬
ся с другой стороны, стороны нормированной сдержанности, которая
так или иначе определяет наше повседневное существование. Недаром
Гиппократ сравнил как-то акт половой любви с эпилепсией, болезнью,
17Батай Ж. Теория религии. Минск, 2000. С. 23.
15
в которой человек не только теряет над собой контроль, но в которой
само его тело отказывается следовать привычной для обычной жизни
размеренной оформленности, извиваясь в самых невозможных пово¬
ротах.
И если Хайдеггера не раз упрекали, что он раскрывает конеч¬
ность экзистенции только через бытие-к-смерти, не обращая внимания
на феномен любви, то Батай, «исправляя» эту недоработку (вызван¬
ную, возможно, протестантскими основаниями хайдеггеровской мыс¬
ли), уравнивает в этом аспекте смерть и любовь, эрос и танатос. И
в смерти и в сексуальной любви есть что-то ужасающе неприличное,
они являются провокационным вызовом повседневной нормативности
за счет своей невозможной открытости, заставляющей нас или отво¬
рачивать глаз, или внутренне содрогаться, или подвергать цензуре.
Человек не рождается смертным, он должен открыть для себя свою
смертность и принять себя в ней; эротизм тоже требует открытия,
как высвобождения незатушеванного желания, направленного на об¬
ретение бескорыстного удовольствия18. В Слезах Эроса Батай нераз¬
рывно увязывает друг с другом смерть и эротизм, показывая, что от
животно-инстинктивной сексуальности последний отличается именно
этим стремлением к чистому, т. е. ни с чем не связанному, ни от чего не
зависимому, ничем не вызванному сладострастию, — это тот «каприз»,
говоря словами героя Записок из подполья, на который человек готов
променять все, даже свою жизнь (вспомним легенду о Клеопатре, тре¬
бующей за ночь любви с ней жизнь любовника; еще полнее это пред¬
ставлено в образе пушкинского Дон Гуана —впрочем, сам этот образ,
очень близкий Батаю, неоднократно рассматривался в этом контексте,
что подробно исследуется в представленной в нашем издании статье
Д. Олье). И в эросе и в танатосе человек исчезает: оба эти начала несут
в себе разрушительную энергию; впрочем, это разрушение нельзя по¬
нимать как растворение человека в некой всеобъемлющей бессозна¬
тельно жизненной силе, которую в психоанализе исполняют либидо и
тот же танатос, — оно ведь ведет к возрождению человека. Тут прочи¬
тывается неуловимая и непреодолимая взаимосоотнесенность раскры¬
тия и сокрытия19, о которой так много рассуждал поздний Хайдеггер.
Эта взаимосоотнесенность суть неизбежная сторона гетерогенности,
обнаруживаемой в преодолении границ, но не освобождении от них;
об амбивалетности смерти и рождения на материале романа Рабле
при анализе карнавального сознания много ценных замечаний делает
18Бланшо много и глубоко размышлял о возможности смерти, которой, несмот¬
ря на ее неопределенность и неуловимость, нужно отдаваться так же, как и же¬
ланию. См.: Бланшо М. Пространство литературы. С. 83-106.
19 «И смерть и эротизм укрываются: они укрываются в тот самый миг, когда раз¬
облачается их сущность». Батай Ж. Слезы Эроса// Танатография Эроса. С.288.
16
Бахтин. Дело не столько в том, что у эроса и танатоса есть много об¬
щего, — они могут быть, только переходя друг в друга. Как раз стоя на
краю, на пределе, на последнем рубеже саморазрушающего Я, можно
подойти к ощущению парализирующего ужаса от соприкосновения с
невозможным, который иногда оборачивается замкнутой неподвижно¬
стью, а иногда, наоборот, вызывает страстное желание броситься ему
навстречу. В предисловии к Мадам Эдварде, которое намного легче
читается, чем само произведение — может быть, самое откровенное —
Батай об этом ясно говорит: «Эротизм без всяких уловок представлен
как непосредственное постижение надрыва... Для того чтобы до кон¬
ца забыться в экстазе сладострастия, нам следует всегда обозначить
его ближайшую границу — ужас. Приблизить меня к тому моменту,
когда у меня все поднимается от ужаса, позволяя достичь состояния
радости, легко соскользающего в безумие, способны не только боль
другого человека или моя собственная,— можно сказать, что не суще¬
ствует ни одной формы отвращения, в которой я не видел бы сходства
с желанием... Опасность парализует, но, будучи менее сильной, она
может возбудить желание. Мы не дойдем до экстаза иначе, как в пер¬
спективе смерти, в перспективе собственного разрушения [...]. Нам
следовало бы презирать наслаждение, если бы оно не было этим оше¬
ломляющим превозможением... Бытие нам дано в невыносимом пре-
возможении бытия, не менее выносимом, чем смерть... Бог — ничто,
если он не есть превозможение Бога во всех направлениях — в сторону
вульгарного бытия, в сторону ужаса и скверны»20.
Что же саморазрушает в эротизме? Его безмерность. Именно эта
неупорядоченная безмерность объединяет Эроса и Диониса против
Аполлона. Нельзя любить в меру, но, как говорили греки, «лучшее ме¬
ра», «ничего слишком», добродетель — это середина между крайностя¬
ми. Но тогда закономерен вопрос: а знали ли в Древней Греции фено¬
мен сексуального эротизма? Ведь любовь для греков имела космоцен¬
трический характер, была частью космоса, созшов’а, т. е. порядка, ми¬
ровой умеренности и размеренности, лишь в рамках которой она толь¬
ко и допускалась. Опыт удовольствия, арИгос^а, должен быть под¬
чинен человеческому искусству владения собой, воздержанности (это
слово здесь надо воспринимать без христианско-аскетических конно¬
таций: воздержанность как умение держать себя, сдержанность, в том
числе и в любви), т. е. он признается не сам по себе, в своей несдержива¬
емой спонтанности, а в качестве редуцируемого к определенной модели
организации, экономии, позволяющей избежать в отношении его про¬
явления бескрайнего излишества и собственной пассивной самозабвен-
20Батай Ж. Ненависть к поэзии / Сост., общ. ред. и вступ. статья С. Н. Зенкина;
Пер. и коммент. Е. Д. Гальцевой. М., 1999. С. 415-417.
17
ности. Практики удовольствия всегда должны находиться под контро¬
лем человека, не выходя за положенные им границы, и осуществлять¬
ся в максимальной бесстрастности. Поэтому так актуальна для греков
выстраиваемая диета (т. е. режим) удовольствий, отвечающая общей
эстетике существования, ориентированной на принцип меры, которому
стремились подчинить и половую активность. Его чрезмерная необуз¬
данность, неконтролируемость и непроизвольность рассматривалась
как покушение на власть человека над самим собой, более того, как
угроза жизни, поскольку в нем происходило безмерное истечение семе¬
ни, носителя жизненной силы. В этом смысле половой акт был недопу¬
стимой и дорогостоящей, а главное, неоправданной в глазах древних
греков тратой, которую можно было бы избежать, прагматично и эко¬
номично организовав ее по принципу меры21. Надо сказать, что такое
«расчетливо-корыстное» отношение к удовольствиям любви было ха¬
рактерно не только для греков, но и для древних китайцев, именно
по этой причине тщательнейшим образом разработавшим «искусство
спальних покоев». Правда, мотив был принципиально иной: они как
раз стремились получить максимальное удовольствие минимальной
ценой, для чего создали целую технику приемов, помогающих, с одной
стороны, избегать выделения мужской семенной жизненной силы Янь,
а с другой — получать во всем возможном объеме женскую жизненную
силу Инь; на вершине такого искусства оказывались легендарные учи¬
теля, достигшие в таком прагматично используемом опыте любовного
удовольствия если не бессмертия, то по крайней мере многовековой
жизни22.
Отношение же Батая к удовольствию иное, близкое скорее к карна¬
вальному мироощущению. Впрочем, хотя действительно анализ кар¬
навальной, или праздничной, культуры, осуществленный, в частно¬
сти, Бахтиным, раскрывает многие аспекты, близкие Батаю, — амбива¬
лентность (гетерогенность), безмерную гротескность (чрезмерность),
спонтанность в проявлениях, но я не уверен, что Батай согласился бы
говорить, например, об эротической или смеховой культуре. Нельзя
забывать, что карнавальное мироощущение — это в первую очередь, и
Бахтин это сам постоянно подчеркивает, проявление коллективного,
народного и в этом смысле анонимного начала. Для Батая же, во-
первых, речь идет о предельном опыте конкретной уникальной лич¬
ности, для которой, во-вторых, он является не регламентированным
во времени и пространстве (скажем, последняя неделя перед Великим
постом), а самим способом суверенного существования.
Поэтому очень естественным выглядит обращение Батая к фигу¬
21 См. подробней гл. 2 «Диетики» в исследовании: Фуко М. История сексуально¬
сти. Использование удовольствий. СПб., 2004. С.165-239.
22См.: Гулик Р. Ван. Сексуальная жизнь в Древнем Китае. СПб., 2004.
18
ре, которая была вызовом установкам новоевропейского рационализ¬
ма и трансцендентализма, — к маркизу де Саду. Именно он впервые
(до него, может быть, только Паскаль, хотя и в несколько ином кон¬
тексте, осуществит это) посягает на право освободиться от тотальной
цензуры разума, выходя в сферу бескрайней чрезмерности и разру¬
шительных трат. Батай, признавая ценность этого выхода, видел и ее
нигилистичность: определяя систему Сада как разрушительную фор¬
му эротизма, которая, изначально отстаивая свою суверенность через
отрицание другой личности, в итоге не может не прийти к самоотри¬
цанию23, он стремился обратить такие стороны садовского эротизма,
как чистое сладострастие, безосновная чрезмерность саморастраты,
даже само саморазрушение, для раскрытия напряженности личност¬
ной суверенной гетерогенности, осуществляющейся через взаимосоот-
несенность с другим. Вместе с тем Батай с пристрастным вниманием
анализирует разного рода формы «коллективной предельности», че¬
му и посвящен проект «сакральной социологии», осуществлявшийся
на протяжении двух лет в Коллеже социологии (1937-1939), одним из
основателей которого (вместе с Р. Кайуа, М. Лейрисом, П. Клоссовски
и др.) и признанным лидером которого он являлся (одним из основ¬
ных источников этого проекта стали исследования в области социоло¬
гии религии Э.Дюркгейма и М. Мосса, побудившие Батая обратить¬
ся к проблеме соотнесенности сакрального/профанного и гетероген¬
ного/гомогенного). Но коллективность здесь рассматривается через
опыт личной предельности, и в аспекте этой уникальности он близок
опыту христианской мистики (в письме Лейрису Батай так говорит о
сакральной социологии: «Опыт сакрального — это опыт такого рода,
что не может никого и ничто оставить равнодушным. Тот, кто стал¬
кивается с сакральным, уже не способен оставаться чуждым ему, как
христианин не может оставаться чуждым Богу. В моих глазах эта са¬
кральная социология, которой некий Коллеж сумел придать форму
и узаконить ее, с самого начала как раз и шла в русле христианской
теологии [...]• Речь шла о том, чтобы представить общество и его игру
с таким осознанием судеб, вовлеченных в него, которое принадлежит
теологу, когда он рассматривает Бога и церковь»24. Таким образом,
речь идет об анализе коллективных форм общности (например, армии
или ордена), которые выполняют ту же функцию, что и церковь перед
Богом, только уже перед лицом иначе понятой предельной трансцен-
денции. Именно здесь формировались и прорывались на обсуждения
те интенции, которые будут основополагающими во всем дальнейшем
творчестве Батая.
23См.: Маркиз де Сад и 20 век // Ж. Батай. Суверенный человек Сада. М., 1992.
С.117-133.
24См.: Коллеж социологии. С. 539.
19
Для нас тут важно обратить внимание на уже поднятую выше про¬
блему коммуникации и соответственно общности. В отличие, скажем,
от карнавальной общности, в которой люди едины друг с другом за
счет безличной растворенности в ней, Батаем исследуется общность не
как наличная данность, а как пространство взаимопритяжения людей,
которое никогда не заканчивается, находясь в постоянном осуществ¬
лении и движении, питаясь с обеих сторон энергией личностной уни¬
кальности. Поэтому, во избежание недопонимания, он подчеркивает,
что область сакрального превышает область религиозного, а поэто¬
му сакральную социологию не следует отождествлять с социологи¬
ей религии. В качестве форм такого сакрального взаимопритяжения
Батай рассматривает эротизм, смех и слезы. На одном из своих вы¬
ступлений в Коллеже он характеризует их как формы «интенсивной
коммуникации», чья, как он выражается, «заразительность» только
и может обогатить человеческое общение25. Интенсивность здесь вы¬
ступает как характеристика личностного бытия, вы-ставляющего себя
на самый край существования и тем самым вскрывающего предель¬
ную сакральность. И фундаментом этой интенсивности является са-
морастрата. Роже Кайуа, близкий соратник Батая по Коллежу, этот
аспект сакральной социологии раскрывает именно на основе анализа
праздничного мироощущения мифологического сознания, приходя к
выводам, очень схожим с выводами проведенного Бахтиным анали¬
за народной смеховой культуры Средневековья и Ренессанса26. Здесь
мы найдем и механизмы снижения и переворачивания, и диалектиче¬
ский взаимопереход сакрального и профанного, и амбивалентность (в
первую очередь смерти-рождения как ветшания и обновления мира),
и трансгрессивность; но нас, повторяю, здесь прежде всего интересуют
стороны чрезмерных трат. Сексуальная неумеренность — это центр
праздничных саморастрат, призванных привести к обновлению мира.
«Сбережение, накопление, мера характеризуют собой ритм профанной
жизни, а расточительство и неумеренность — ритм праздника, этой
экзальтированно-сакральной жизни, которая, словно интермедия, пе¬
риодически прерывает ход обычной жизни и сообщает ей юность и
здоровье»27. Если говорить в терминах древнегреческой мифологии
и стоической философии, праздник —это то возвращение космоса к
хаосу, в результате которого заканчивается мировым пожаром один
космический цикл и начинается другой. В понимании основополага¬
ющего значения праздника в контексте сакральности Кайуа и Батай
едины, но есть одно фундаментальное расхождение в отношении поня¬
тия траты, очень характерное для сциентиста, каким был Кайуа, и ми¬
25См.: Там же. С. 87-100.
26См.: Кайуа Р. Человек и миф. Человек и сакральное. М., 2003.
27Там же. С. 238.
20
стически, метафизически настроенного мыслителя, каким был Батай.
Если первый считает, что понятие траты характеризует собой единый
природный и животный мир как таковой, частью которого является
и человеческий мир, то второй усматривает между ними непреодоли¬
мое различие, благодаря которому способность к трате и излишеству
отличает только человеческое существование, (само)аффектирующее
и (само)экзальтирующее себя в таких формах «интенсивной коммуни¬
кации», как, например, бытие-к-смерти или эротизм.
Надо сказать, что это очень характерное расхождение, а прямую
параллель ему можно найти в понимании игры, также являющейся
неотъемлемой частью сакрально-праздничного само- и мироощущения
и отвечающей его характеристикам: так, в своем блестящем исследо¬
вании Homo ludens Хейзинга исходит из того, что игра старше куль¬
туры, присутствуя не только в человеческом, но и животном мире,
а Э. Финк, напротив, самим названием своей книги, «Основные фе¬
номены человеческого бытия», в которой игре посвящена отдельная
глава, дает понять, что игра — чисто человеческий феномен. Для Ба-
тая трансгрессия, преодоление границ, является неизбежным услови¬
ем предельного опыта, в том числе обретаемого и в праздничной игре.
В отношении игры это означает, что элемент нарушения правил есть
неотъемлемая составляющая самой игры: ее самозабвенное неистов¬
ство, в котором человек бескорыстно растрачивает себя ради самой
игры, не задумываясь о последствиях и все ставя на победу, не мо¬
жет осуществляться исключительно внутри правил, которые, конечно,
фундируют собой игру, но не могут ее сдерживать, не могут ограничи¬
вать и полагать соответствующий себе спонтанно-игровой настрой — в
этом и проявляется амбивалентность игры. Игра есть только благода¬
ря правилам, но она никогда не может быть полностью внутри них,
так как игру в конечном счете делают не правила, а игроки, которые
самой игрой находятся на пределе — пределе между дозволенным и за¬
прещенным (в этом смысле, что подтверждает и практика современ¬
ной игры, скажем футбола, правила никогда не являются абсолютно
заданными, находясь в процессе постоянного расширения; более того,
правила реализуются в действиях судьи, который может трактовать
их по-разному, оставаясь внутри их, и благодаря именно такой прак¬
тике, а не абстрактно заявленным положениям, они только и получа¬
ют свою конкретную материю. В более широком смысле этот меха¬
низм относится и к законам государства). Короче говоря, нарушения
правил игры — неотъемлемая составляющая самой игры как осново¬
полагающего феномена человеческого бытия. Хейзинга же, наоборот,
считает, что игра полностью полагается определенными правилами,
т. е. возможна исключительно внутри установленного порядка, строго
следуя им, и с их нарушением она прекращается, и связано это с ее
21
пространственно-временной ограниченностью28. Здесь не улавливает¬
ся амбивалентность игры, состоящая во взаимосоотнесенности правил
и нарушений. Именно поэтому правила в широком смысле могут по¬
ниматься как изначально данные и нерушимые, и в этом смысле их
можно рассматривать как правила игры самой природы, благодаря
чему тогда, конечно, можно говорить, например, и о кошачьих играх.
Трата и игра суть взаимокоррелирующие понятия, и эту связку
можно обнаружить на разных уровнях: скажем, играя в карты, чело¬
век тратит деньги. Однако сакральной эта взаимосоотнесенность ста¬
новится только тогда, когда трата становится предельной и действи¬
тельно бескорыстной, непроизводительной и неокупаемой. Но тогда
встает закономерный вопрос: а возможно ли это вообще в игре? Ведь
игра, по крайней мере в традиционном смысле, как феномен культуры,
предполагает направленность на победу, она и ведется ради победы.
Действительно, победа, как и правила, — фундирующий остов игры. И
все же, думается, человек играет не потому, что есть правила для игр,
и даже не потому, что он хочет выиграть, а потому, что само существо
его есть существо играющего экстатического бытия (об экстатично-
сти человеческого существования, проявляющейся, наряду с игровым,
в экстазе божественном, любовном и творческом, я писал ранее29), ко¬
торое не может быть, не растрачивая себя в том числе и в игре. Но
в большинстве случаев, особенно в современном мире, эти саморас-
траты максимально затушеваны, нивелированы, опосредованы, схема¬
тизированы и утилизированы, и далеко не в последнюю очередь это
связано с установленным в течение последних нескольких веков прин¬
ципом существования, основанным на экономике производства, праг¬
матизме, ценностях планированности, самоокупаемости и доходности.
В труде Проклятая доля, который Батай считал одним из основных
в своем творчестве (он составляет первый том одноименной трило¬
гии, включающей в себя также Историю эротизма и Суверенность),
исследуется история экономики (например, в отношении к имеющим¬
ся богатствам) от древнейших времен до наших дней с точки зрения
принципа непроизводительной траты. Речь идет о том, что подлин¬
ное свершение основано на непроизводительном, бескорыстном расхо¬
довании избыточной энергии, т. е. энергии, созидающей богатства, а не
на приумножении упомянутого избытка. Избыток нужно именно бес¬
полезно тратить, а не выгодно использовать. Активность, интенсив¬
ность, напряженность и предельность человеческого существования
осуществляется как раз в состоянии безрассудного саморасточения,
поскольку именно в нем энергия, питающая бытие человека, не схе¬
28См.: Хейзинга И. Homo ludens. М., 1992. С. 20-22.
29См.: Дорофеев Д.Ю. Человек в экстазе// Вестник Русского христианского
гуманитарного института. (СПб.). 2004. №5. С. 73-92.
22
матизируется и объективируется, а свободно и спонтанно изливается
в своей суверенности. Человек и есть это экстатическое самоизлива-
ние, направленное как на самого себя, так и на других, но исходящее
лишь из самого себя и саморепрезентирующее, и его нельзя затуше¬
вывать или кастрировать. Другое дело, что амбивалентность и гете¬
рогенность жизни воплощаются в принципе «вечного возвращения», и
чтобы осуществилась такая самозабвенно выбрасывающая свою энер¬
гию саморастрата, необходимо, чтобы сама эта энергия накопилась, —
но, повторяю, накопилась не для дальнейшего использования и роста,
в принципе бесконечного, а для своего непрагматического и неумерен¬
ного выплескивания. «Порядок и сохранение, — пишет Батай в своей
статье Понятие траты, — имеют смысл только благодаря мгновению,
когда эти упорядоченные и сохраненные силы высвобождаются и рас¬
трачиваются на цели, которые не могут быть подчинены ничему, что
заключало бы выгоду»30.
В таком подходе, конечно, слышится голос «трагического энтузиаз¬
ма» Ницше, но при этом его не следует отождествлять с виталистичной
цикличностью философии жизни, живущей по своему неизменному
ритму всходов (трат) и заходов (накоплений). Дело в том, что само-
растраты не заданы и не предопределены, они не «природны», а скорей
«сверхприродны» (т. е. предельны, проявляясь в experience-limite), они
полагаются не каким-то внутренним жизненным порывом, elan vital, а
обретаются в опыте стояния-на-пределе перед раскрывающимся неиз¬
вестным в тех формах «интенсивной коммуникации», о которых уже
говорилось выше,— эротизме, смехе, смерти. В этом смысле, чтобы
преодолеть раболепство выгоды, нет необходимости ждать очередного
цикла трат, накапливая по каплям необходимую для этого энергию, —
ведь в этом случае и к самой этой растрачиваемой энергии будет «про¬
изводительное» отношение: как бы ее поменьше потратить, как бы
ее повыгоднее использовать (именно так, в качестве бизнес-проекта,
«вкладывают» свои благотворительные траты-пожертвования совре¬
менные российские бизнесмены). Нужно лишь отдавать себя или, луч¬
ше сказать, забрасывать себя в ритм трансгрессивного существова¬
ния. Конечно, постоянно жить в таком предельно интенсивном, на¬
пряженном и самозабвенно изничижающем себя ритме —это судьба,
доступная немногим — тем, кто может ее вынести. Жизнь самого Ба-
тая была одной непрекращающейся саморастратой, и за это его можно
не пожалеть, а позавидовать ему — а может, и всем нам, за то, что мы
можем приобщиться к его тратам. Действительно, сама его жизнь под¬
твердила утверждаемое им же положение: подлинная продуктивность
обретается через по-настоящему непроизводительные саморасточения,
30Батай Ж. Проклятая доля. М., 2003. С. 204.
23
именно в которых человек являет свою открытость и безосновность, не
позволяющие сводить его бытие к разного рода прагматичной расчет¬
ливости и отстаиванию собственной корыстной заинтересованности.
В XX в. проблема безосновности вышла на новый уровень в он¬
тологической и философско-антропологической перспективе понятия
Ничто; достаточно вспомнить Хайдеггера и особенно Сартра. У Ба-
тая здесь свой путь. Батай принимает безосновность, принимает са-
моизничижение, но это не отнимает у него энергию спонтанного само-
полагания, а, наоборот, является ее основным источником. Самозаб-
венность саморастраты идет как раз из исступленности безосновного
ничтожения себя; определенность сковывает, заставляет существовать
установками проекта и выгоды, а безопределенность играючи льется,
не задумываясь о цене и будущем своего спонтанного потока. Поэтому
Батай так тщательно анализирует практику потлача, имеющую место
у североамериканских индейцев, в которой признание победы и вла¬
сти обретается за счет унижения противника актом своего максималь¬
но большого дара ему. Побеждает тот, кто дарит наиболее значимый
подарок в соперничестве их обмена: дарящий, благодаря презрению
к собственному богатству, от которого он с легкостью освобождается,
становится выше того, кто принимает этот дар, не отвечая на него еще
большим (как сказали бы картежники, кто не подымает ставку), и та¬
ким образом им сковывается, становясь определяемым им и уже не
имея возможности ответить очередной саморастратой. Способность к
трате возвышает человека намного больше, чем способность накапли¬
вать, а действительно непроизводительное, непрагматичное, спонтан¬
ное дарение и есть такое саморастрачивание, которое есть «также и
дело человека, полностью поставившего себя на кон»31.
Поставить себя на кон —это прямо, не отворачиваясь, взглянуть
в лицо Ничто, в лицо смерти, и это не может не сказываться на са¬
мом человеке. Готовность, а иногда и жажда умереть — отличительная
особенность человеческого существования. Кожев писал по этому по¬
воду: «...Человеческая реальность создается, учреждается не иначе
как в борьбе за признание и посредством связанного с этой борьбой
риска жизни. Истина человека, или раскрытие его реальности, пред¬
полагает, следовательно, борьбу не на жизнь, а на смерть... И только
риском жизни подтверждается свобода... Индивид, который не рис¬
ковал жизнью, может быть, конечно, признан личностью, но истины
этой признанности как некоторого самостоятельного самосознания он
не достиг»32. Поэтому и неудивительно, что Батай такое присталь¬
ное внимание уделяет жертвоприношению, точнее, даже саможертво-
31 Батай Ж. Проклятая доля. С. 63; там же подробней о потлаче см. с. 58-69.
32Коэюев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 21.
24
приношению — недаром вторая часть Внутреннего опыта называется
«Казнь», а один из самых ярких его текстов, первая глава третьей
части, — «Я хочу вознести себя на пинакль».
Здесь нужно сделать одно уточняющее замечание: пинакль —
франц. pinacle от латинского pinnâculum (крылышко, конек кровли)
к pinna (перо, крылья, оперение стрелы, полет, остроконечеая башен¬
ка или зубец стены) — в архитектуре — это небольшие остроконечные
башенки готического собора, но пинакль изначально означает и кры¬
ло Иерусалимского храма, броситься с которого ради подтверждения
своей божественности предлагал в качестве одного из искушений дья¬
вол Христу (Лк., 4:9). Тема броска, спонтанно-самозабвенного броска
в неизвестное, о чем мы уже говорили вскользь здесь и о чем писали
отдельно в другом месте33, является сквозной для Батая, пронизыва¬
ющей его жизнь и творчество. Но я хочу здесь обратить внимание не
на сам бросок, а на его амбивалентность. Бросаться с пинакля, т. е. с
высшей точки христианско-католической соборности — значит падать
вниз, причем не только в прямом смысле, но и в переносном, учиты¬
вающем христианскую коннотацию этого слова, идущую от истории с
искушением Христа: поддавшись на соблазн дьявола от-пасть от Бога.
Кроме того, чтобы броситься с пинакля, понимаемого уже как остро¬
конечная башенка, человек, встав на нее, должен пройти мучитель¬
ное самоистязание и, кровоточа, разрываться на части, обретая стра¬
дания, сопоставимые со страданиями Христа на кресте. Здесь сразу
вспоминаются стигматы, обретаемые в католичестве только самыми
приближенными к Богу святыми, например Франциском Ассизским.
Таким образом, со-переживание христовым мучениям есть условие от¬
падения от Бога, что можно «перевести» следующим образом: спасе¬
ние обретается только в падении, которому отдаешься полностью и
до конца, самовыбрасываясь в то неизвестное, что, будучи всегда пе¬
ред бросающимся, являет собой неотъемлемую составляющую самого
броска. Батай где-то сказал, что Бог —это отпадение моего Я от Бо¬
га. В предисловии к повести Невозможное, писавшейся примерно в
то же время, может чуть позже, что и Внутренний опыт, говорится:
« Только чрезмерность, присущая желанию и смерти, позволяет до¬
стичь истины. ... Мы способны и, более того, должны дать ответ
тому, что, не будучи Богом, сильнее всех прав: тому невозможно¬
му, которое мы достигаем, только когда предаем забвению истину
всех этих прав, только когда соглашаемся с исчезновением»34. Тема
«падения-восстания» в разных очертаниях проходит сквозной нитью
европейского понимания человека, от христианства (Иоанн Лествич-
33См.: Дорофеев Д. Ю. Спонтанные броски Батая// Вестн. С.-Петерб. ун-та.
2004. Сер. 6. Вып. 5. С. 33-44.
34Батай Ж. Ненависть к поэзии. С. 225-226.
25
ник пишет в одиннадцатой главе Лествице: «Ангел никогда не падает,
бес до того упал, что всегда лежит, человек падает и восстает») через
XIX в. (у Достоевского в планах неосуществленного замысла Жития
великого грешника есть такая запись: «Благословляет на падение и
на восстание») к XX в. (достаточно вспомнить хайдеггеровские раз¬
мышления о взаимосоотнесенности подлинного и неподлинного и об
онтологии падения-присутствия), в котором Батаю в этом плане при¬
надлежит свое уникальное место; эта тема не может быть здесь более
полно рассмотрена, но, думается, достойна отдельного исследования,
которое, возможно, позже и будет нами выполнено.
Так вот, жертвоприношение, особенно если оно осуществляется в
отношении самого себя, является предельно возможной саморастра-
той. Если в потлаче дарят самое дорогое с материальной точки зре¬
ния (действительно, дарить, если хочешь чтобы подарок был не про¬
ходным, а по-настоящему «стоящим», нужно то, что более всего до¬
рого тебе самому; в этом смысле такой подарок невозможно купить,
его можно только оторвать, подчас с болью, от себя), то, конечно,
самой «ценной» жертвой является та, которая самая дорогая и зна¬
чимая для жертвующего — его жизнь. Жертвоприношение — это пре¬
дельное самопреодоление, в котором развертывается смертельная игра
разрушения и созидания. Эта игра доставляет удовольствие намного
более сильное и интенсивное, чем стремление к счастью, но в ней, как
и в любой игре, важен не результат, а участие, сама игра: важно не
умереть, но приобщиться исходящей от непосредственного столкнове¬
ния со смертью энергетикой, оказаться, как говорит сам Батай, «на
высоте смерти». Утрата своего частного Я здесь является условием
его возрождения в предельном единении сообщников, в нераздельном
слиянии предстающих перед лицом смерти, максимально возможно
актуализирующей движения жизни, обретающей себя в такой интен¬
сификации только через самоизничижение; круг замкнулся: жизнь пе¬
реходит в смерть, смерть освещает и наполняет жизнь. В одном из
самых зажигающих своих выступлений на Коллеже, с характерным
названием Радость перед лицом смерти, Батай утверждает, что в та¬
ком состоянии обретается «внутреннее согласие жизни с ее жестоким
разрушением... радость перед лицом смерти была бы ложной, если
бы она не была связана с беспорядочным объединением. Тот, кто смот¬
рит на смерть и радуется, уже не является индивидом, тело которого
должно сгнить. Вступив в игру со смертью, он уже вышел за пределы
самого себя вовнутрь славного сообщества ... сообщество необходимо
ему, чтобы осознать славу того мгновения, которое вырывает его из
существования » °.
35См.: Коллеж социологии. С. 483-484.
26
Надо иметь в виду, что многие темы, получившие развитие на
публичных обсуждениях в Коллеже, в первую очередь приведенные
только что, были продолжением или развитием тех установок, кото¬
рые питали собой самоощущения участников действительного тайного
закрытого общества Ацефал, соответствующего всем основным усло¬
виям и принципам средневековых тайных орденов (закрытость, по¬
священие кровью, избранничество, ритуалы; не будем забывать, что
свою дипломную работу в Высшей школе хартий Батай писал на тему
«Орден рыцарства. Стихотворная повесть XIII века», так что он знал,
что и как делать), единство которого было основано на мистически-
радостном влечении к смерти. Более того, последний номер Ацефала
состоял исключительно из работ Батая, в частности из Практики ра¬
дости перед лицом смерти, которая лежит и в основе выступления в
Коллеже. Такими «практиками» и были жертвоприношения, которые
лучше всего сплачивали соратников, не допуская саму возможность
поворота назад. Очень характерно, что среди членов Ацефала найти
жертву было намного легче, чем того, кто осуществлял бы в отно¬
шении нее акт жертвоприношения: ведь опыту «радости перед лицом
смерти» приобщается именно жертва, достигшая той полноты энергии,
когда единственным ее использованием является созидающая саморас-
трата. Батай пишет: «Жертвоприношение поставило жизнь на высо¬
ту смерти, оно стало наглядным примером безрассудного переизбытка
траты»36. Об этой интенсивности говорят и те, кто «заглядывал в ли¬
цо смерти», ожидая ее ближайшего прихода, например Достоевский,
вспоминая о мгновениях перед предстоящим исполнением смертного
приговора по делу петрашевцев, или Э. Юнгер, однажды уже причис¬
ливший себя к мертвым на поле сражения Первой мировой войны.
Говоря о жертвоприношении, мы еще раз должны коснуться те¬
мы амбивалентности, раскрывающейся на этот раз и в самом языке.
Та, с одной стороны, напряженная, интенсивная, а с другой стороны,
беззаботная саморастрачиваемость, которая имеет место в самом ак¬
те жертвоприношения, опирается в том числе на саму гетерогенную
природу сакральности, в которой неразрывно взаимосоотнесены друг
с другом низкое и высокое, грязное и чистое, уничижаемое и почи¬
таемое. Sacer переводится с латинского одновременно и как святой, и
как проклятый (характерно, что до XVII в. французское слово blason
также имело подобную ярко выраженную амбивалентность, означая
одновременно как хвалу, так и ругань, брань). Именно в этой перспек¬
тиве следует прочитывать художественные произведения Батая (так,
данная амбивалетность sacer является стержневой для понимания об¬
36Цит. по: Фокин C.J1. Жорж Батай. Философ-вне-себя. СПб., 2002. С. 206; см.
гл. 9 об обществе «Ацефал» — с. 198-223.
27
раза Кардинала из Истории глаза). Объединить людей сейчас может
уже не «мир», однородность которого построена на принципах буржу¬
азной экономики накопления и изоляции, а как раз жертвоприноше¬
ние, которое осуществляется не только через кровавые жертвы, но и в
любовном эротизме. В Ученике колдуна Батай пишет по этому поводу:
«ЛЮБИМОЕ СУЩЕСТВО в этом разделенном мире стало единствен¬
ной силой, сохранившей свою добродетель и способной вернуть тепло¬
ту жизни... То потерянное, трагическое, “ослепительно чудесное”, что
имелось в глубинах человеческого существа, теперь можно встретить
только в постели»37. Конечно, это не романтическая любовь, скорее,
это любовь, используя яркий образ из булгаковского Мастера и Мар¬
гариты, применяемого по отношению к телу, обнаженная изнутри. В
этом, кстати, опять прослеживается влияние Достоевского, любовь у
которого всегда была «надрывная» и зачастую овеянная кровью; Ба¬
тай эту связь тоже сохраняет, особо подчеркивая также значение крови
менструальной. И момент разрушения, разрыва, насилия здесь доста¬
точно важен. Ведь в «идиллической», образцово-показательной любви
любящие полностью замкнуты на себе, являя, так сказать, совместную
замкнутую автономность, со всеми вытекающими отсюда последстви¬
ями — безопасность, накопление, экономичность, планирование, сохра¬
нение и т. д.; в этом случае для любящих важным являются они сами и
их союз, а не сам разрывающий запал любови, а поэтому их отношения
не могут не «стабилизироваться», схематизироваться и нормировать¬
ся. Но подобное равновесие нарушается, как только определяющим и
ведущим становится «дикая» неприкрытость эротического желания и
нескончаемая жажда удовольствия, удовлетворяемая с бесстрастной
отрешенностью. Здесь уже царит не потребность обретать, а потреб¬
ность терять. И именно на этом уровне происходит самое тесное спло¬
чение и единение любовников — ведь оно случается, по меткой харак¬
теристике Батая, «посредством разрывов и ранений», их притягивает
друг к другу эта безумная жажда саморастраты. «Но если потреб¬
ность любить и отдавать себя оказывается в них более сильной, чем
забота о том, чтобы обрести себя, то не существует другого выхода,
кроме разрывов, кроме извращений бурной страсти, кроме драмы, а
если речь идет о жизни в целом, то нет выхода, кроме смерти... По¬
мимо совместного бытия, которое они находят в объятиях друг друга,
они ищут безмерного уничтожения в жестокой растрате сил, когда об¬
ладание новым объектом — новой женщиной или новым мужчиной —
это только предлог для еще более разрушительных трат»38. Именно
так Жорж Батай и Лаура (Колетт Пеньо) любили друг друга.
37См.: Коллеж социологии. С. 207.
38См.: Там же. С. 527.
28
Как жертвоприношение может рассматриваться и сама война, духу
которой Батай был причастен уже в силу одного своего имени (фран¬
цузское bataille означает битва, сражение, баталия). Действительно,
именно на войне человек поставлен в такие условия существования, в
такой ритм существования, в котором от смерти не бегут и прячутся, а
устремляются к ней навстречу в исступленном порыве предельной са-
морастраты — жизни. Влечение к смерти, затушеванное в повседнев¬
ной мирной жизни, высвобождает энергию человеческого изобилия,
знаком чего, по мысли Батая, является разорванность39, которая уже
не нивелируется в какие-то формы и схемы, не вытесняется в глубины
бессознательного и не упраздняется разного рода «объяснениями», а
предстает со всей несокрытостью, как раз и ведущей человека в по¬
следнее столкновение с противником. Но главное, что это столкнове¬
ние принимается как выброс непроизводительной силы, важный сам
по себе, а не как расчетливый проект, рассматриваемый в качестве
средства достижения определенной цели, скажем утверждения опре¬
деленной идеологии. В этом смысле воинственность, если она ведома
именно энергией саморастраты, не может быть фундирована идеей
окончательной победы — ведь с ней она сама сойдет на нет, представ¬
ляя свой утилитарно-прагматический характер. Если взять античных
героев, бившихся в исступленном неистовстве (lyssa), то, конечно, они
бьются, стремясь победить, но главное для них не победа любой ценой,
а именно жизнь в состоянии воинской экзальтированности и вдохно¬
венности, в которой они совершают свои подвиги и за которую — чем
бы ни закончилась битва: победой или смертью —они обретают сла¬
ву. Для Александра Македонского, Цезаря или Наполеона подлинная
жизнь возможна только в перспективе освещения и благословения но¬
вой битвы, и их имперские претензии на овладение миром связаны как
раз с тем, что они не могут остановиться, даже если рациональные до¬
воды или советы расчетливых помощников говорят им обратное, а гра¬
ницы мира как некоего тотального всего позволяют им идти вперед
вслед за своим неукротимым порывом, пока они не будут остановлены
болезнью, предательством или, что трагичней всего, поражением.
Впрочем, в XX в. с приходом невиданной ранее значимости тех¬
ники и идеологии война все более и более предстает как проект вла¬
сти, достигающей с ее помощью своего утверждения, в том числе и
как бизнес-проект. В середине 30-х годов Батай в связи с этим се¬
рьезно обращается на страницах журнала Социальная критика (ор¬
ганизованного Борисом Сувариным (Лившицем), членом Французской
коммунистической партии (ФКП), неоднократным делегатом съездов
Интернационала, знавшим Ленина и Сталина, впоследствии исклю¬
39См.: Батай Ж. Внутренний опыт. С. 151.
29
ченным из партии) к анализу современной ему политической ситуа¬
ции и, в частности, к рассмотрению феномена фашизма, все более и
более явно набирающего ход. Особенно знаменательна в этот период
программная статья Психологическая структура фашизма. В ней он
очень глубоко раскрывает имеющуюся в фашизме взаимосоотнесен-
ность сакрально-религиозных и социально-политических основ. Само
общество, нацеленное на абсолютизацию своей однородности, или го¬
могенности, уже благодаря этому постоянно соотнесено с неоднородно¬
стью, или гетерогенностью, пусть и в форме репрессивного отношения,
направленного или на исключение этого элемента или его ассимиля¬
цию внутри утверждаемой общественной однородности в форме отно¬
шения к маргинальным «асоциальным» ее составляющим, например
к безумцам (впрочем, здесь следует отметить, что и все гении в раз¬
ные времена рассматривались как воплощение инаковости, в первую
очередь благодаря своей способности, как показал Кант в Критике
способности суждения, не следовать устоявшимся однородным пра¬
вилам, а создавать новые; поэтому нет ничего удивительного в со¬
хранившемся до настоящего времени и часто используемом сравнении
гениальности с безумием, что в начале XX в. даже стремилось полу¬
чить «научную» обоснованность в книге П. Ломброзо Гениальность и
помешательство). Однако общество, точнее люди, его составляющие
(в том смысле, который придает «людям» хайдеггеровский термин das
Man), не просто хотят нормировать или изолировать маргинальное ге¬
терогенное начало, что было подчеркнуто Фуко в его исследованиях
о безумии или тюрьмах, но они в своей однородности нуждаются в
нем, как в воплощении состояния, которое они не могут себе позволить
осуществить, но к которому испытывают необоримое влечение. Здесь
имеет место именно неустранимая взаимосвязанность притяжения и
отторжения. Может быть, наиболее ярким его примером является от¬
ношение к юродивым в Византии и Древней Руси, которые (как, впро¬
чем, и безумцы на средневековом Западе, но в еще большей степени,
если учесть специфические восточно-христианские установки; если же
обратиться к Востоку, то можно вспомнить учителей дзэн-буддизма,
описываемых в коанах, которые добивались просветления у своих уче¬
ников за счет ругательств и побоев, тем самым как бы объединяя во
взаимопроникновении высокую гетерогенность просветления с одно¬
родными порядками повседневной жизни) выполняли за счет имен¬
но своей сакральной инаковости важнейшую социально-стабилизиру¬
ющую функцию, привнося в общественную однородность ощущение
соотнесенности с трансцендентным, присутствующем не в далеком и
недоступном «горнем мире», а совсем рядом, в облачении профанной
заземленности со всей ее «непристойностью». Надо сказать, что такая
амбивалентность низкого и высокого, духовного и животного, чистого
30
и грязного вообще характеризует российскую жизнь и культуру (для
того чтобы убедиться в этом, достаточно приехать на несколько дней
в «непричесанную» глубинку), придавая ей тот взлет напряженности
и насыщенности, который возможен только вкупе с падением, и ощу¬
щение этой гетерогенности вызывает у представителей вскормленной
капитализмом однородной западной культуры одновременно смуще¬
ние, страх, шок и стремление хотя бы на немного — потому что жить в
этом немногие могут позволить себе решиться — приобщиться к нему.
В этом России наиболее близка, наверное, современная Индия, которая
сразу же по приезде туда разрушает все искусственно романтические и
односторонне возвышенные представления о ней, но позволяет почув¬
ствовать присутствие мистического на неприлично грязных и несносно
воняющих дорогах, в невыносимой духоте.
Так вот, гетерогенное понимается через понятие сакрального со все¬
ми вытекающими характеристиками, главное — с признанием ее амби¬
валентности. В фашистском режиме так понимаемую гетерогенность
на своем предельном уровне воплощает фюрер, который выступа¬
ет одновременно открытым как миру трансцендентного (сакрально¬
неоднородного), так и миру имманентного (социально-однородного),
представая в одном лице богоизбранным пророком (или даже почти
Богом) и полноправным легитимным (избранным народом) руково¬
дителем государства. Эта двойственность в полной мере проявляется
и по отношению к армии и войне: с одной стороны, армия являет¬
ся образцом однородного порядка («муштра», знаменитые немецкие
парады, иерархичность и т.д.), а война — средством утверждения и
распространения на весь мир этого порядка; с другой стороны, имен¬
но в армии с царящим в ней самозабвенным порывом к предельной
трате (жизни) в бою человек вырывается из скреп однородного мира,
приобщаясь к существованию совсем в другом модусе, а сама война
предстает в гераклитовском духе как источник и основа бытия.
Длительное могущество фашистского режима стояло на том, что
он умело использовал в людях как энергию непроизводительной тра¬
ты, высвобождающую силы гетерогенного, так и продуктивную праг¬
матичность однородного порядка, объединявшую в то время людей.
Батай смог разглядеть механизмы и принципы такого использования
там, где легко было усмотреть откровение трансцендентной инородно¬
сти, а самого фюрера принять за посыл самого бытия, как это, види¬
мо, было с Хайдеггером. И для этого, надо признать, были основания.
Достаточно вспомнить вскрытый Э. Юнгером появившийся благодаря
Первой мировой войне новый человеческий гештальт — гештальт ра¬
бочего, в котором человек, будучи взаимозаменяемым, предстает en
masse (или, используя хайдеггеровский термин, das Man), «обрета¬
ющим самозабвенную исступленность своего проявления в акте то¬
31
тальной мобилизации, посредством которого широко разветвленная
и сплетенная из многочисленных артерий сеть современной жизни од¬
ним движением рубильника подключается к обильному потоку воин¬
ственной энергии»40, энергии исполнения приказа, позволяющей при¬
носить себя и других в жертву.
Для Батая было очевидно, что обретение единства людей, раскрыв¬
ших энергию своих стихийных непроизводительных трат, должно осу¬
ществляться не через культивирование подчинения, тем более в фор¬
ме подчинения какому-то конкретному человеку. Батай, конечно, не
испытал, как Юнгер, экстатичность самопреодоления, достигаемую в
беспрекословном исполнении приказа, он не приобщился к жестоко
пьянящему аромату полей сражений, хотя и был мобилизован в 1916 г.,
но из-за болезни легких так и не попал на фронт41. Такое единение
должно обретаться не через растворенность в порыве das Man или
es masse, не через подчиненность воодушевляющим призывам идеоло¬
гии, а через личный опыт каждого, нашедшего в себе смелость взгля¬
нуть в лицо смерти, пойти на голгофу собственного жертвоприноше¬
ния. «Трагедия вводит в мир политики одну очевидность: завязанная
схватка будет иметь какой-то смысл и будет эффективной лишь в том
случае, если фашистское убожество встретится лицом к лицу с чем-
то иным, нежели кипящее отрицание... Основанному главой кесареву
единству противостоит единство безглавое, связанное навязчивой
идеей трагедии. Жизнь требует человеческих объединений, и люди
объединяются вокруг главы или вокруг трагедии»42 (напомню, что
журнал «Ацефал» был назван в честь одноименного безголового бога
из гностической мифологемы; именно его художник А. Массон изобра¬
зил" на обложке, и именно он воплощает собой значимость гетероген¬
ного начала, раскрывающегося, в частности, во взаимосоотнесенности
саможертвоприношения, самопреодоления и самообретения, самопро-
явления внутри обретенной мистико-политической общности).
Батай призывает не просто принять трагедию, но принять ее в
40Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб., 2000. С. 450.
41В этом его судьба похожа на судьбу Хайдеггера, который даже дважды при¬
зывался на военную службу, но ни разу по причине слабого здоровья не попадал
на фронт; с другой стороны, подчеркнем, что опыт, полученный Юнгером, связан
не только с тем, что он прошел всю войну, но и с самим складом его характе¬
ра. Так, например, дневники Витгенштейна, которые он вел на протяжении трех
лет войны, так называемые «зашифрованные дневники», показывают, что он от¬
носился к войне абсолютно по-другому, не полностью растворялся в ней, постоян¬
но находя время уходить в личную религиозность и размышления над «Логико¬
философским трактатом», который он писал на протяжении войны и который —
а в нем философия как таковая — был для него определенного рода подпольем, и
это несмотря на то, что он был не менее храбр, чем Юнгер, и заслуженно получил
не меньше самых высоких наград.
42Цит. по: Фокин С. Л. Философ-вне-себя. С. 209-210.
32
облаченьи смеха. Ранее мы уже вскользь упоминали феномен смеха
как форму «интенсивной коммуникации», теперь скажем о нем в свя¬
зи с темой войны, существования перед лицом смерти. Взаимосоот-
несенность смеха и войны следует рассматривать, учитывая связку
рождение-смерть, являющуюся одной из наиболее насыщенных форм
гетерогенных отношений, наряду, например, с отторжением-влечени-
ем, подчинением-господством, молчанием-речью, анонимной коллек¬
тивностью-личностной индивидуальностью; впрочем, нужно поосте¬
речься и полностью сводить ее к ней. Смех (как, впрочем, и слезы)
рождается тем, что выводит человека из себя, из режима человече¬
ской однородности (А. И. Герцен как-то точно подметил, что смех есть
вещь судорожная), которая разрушается смешным —тем, «чего мне
недостает сил вынести»43. Как мы уже знаем, когда достигается чрез¬
мерность, ее уже невозможно выносить и поэтому она выплескивает
себя в саморастрачивании (так же как и дитя, которое вынашивает
мать, подойдя к своему времени, не может уже оставаться в комфорт¬
ном чреве и с мучениями вырывается на свет). К смеху это относится
в той же мере, как и к смерти, которую Батай понимал как «тоталь¬
ную растрату», причем понятию тотального здесь придается смысл,
очень близкий юнгеровскому, т. е. это то, что, предельно захватывая
нас, вскрывает в нас те потаенные энергии, до этого затушеванные
или стерилизованные, которые безостановочно выбрасывают себя и в
которых человек теряет себя (впрочем, из-за царящей здесь гетеро¬
генности в этой трате и осуществляется новое самообретение). Еще
Аристотель подчеркнул, что из всех живых существ только человеку
свойствен смех (О душе, кн. 3, гл. 10), ведь по сути он связывает чело¬
века с невозможным; сам смех оказывается неким оксюмороном, в ко¬
тором невозможное, сохраняя свою невозможность, предстает возмож¬
ным, а трансцендентное — имманентным. В смехе человек становится
другим, а, следовательно, сама способность к смеху — это способность
быть открытым другому, иному, гетерогенному.
В самом деле, смех заключает в себе функции переворачива¬
ния, снижения, разоблачения, динамизации бытия, освобождая нас
не столько от внешнего, сколько прежде всего от «внутреннего цен¬
зора»44. Освобождение от такого цензора означает открытость соб¬
ственному спонтанному самоистечению, которое несмотря, а точнее
благодаря тому, что в нем безмерно человек растрачивает себя, в пре¬
деле — умирает, приводит человека на вершину его возможности. В
43 Батай Ж. Внутренний опыт. С. 127).
44 См.: Бахтин М. М. Рабле... С. 107. — Осуществленное в первой главе этого
труда исследование истории смеха указывает на масштабные горизонты, которые
нуждаются в фундаментальном философском осмыслении, до сих пор еще не про¬
веденном.
33
этом смысле можно сказать, что смерть, принятая со смехом, исцеля¬
ет человека. Целительная саморастрачивающая сила смеха признава¬
лась Античностью и в эпоху Возрождения — и неудивительно, учиты¬
вая родственность смеха и эроса как форм саморастраты, что сейчас
все больше, в том числе и медики, говорят о целебной силе эротики.
Конечно же, это относится, с одной стороны, именно к спонтан¬
ному смеху, а не к его редуцированным формам (иронии, насмеш¬
кам, сарказму), а с другой стороны —не к расчетливому и прагма¬
тически выверенному сексу, а к взрывному изничижающему порыву
Эроса. Поздний Фрейд выявил под именем Танатоса в человеке нача¬
ло непреодолимого влечения к смерти, выплеску негативной энергии,
стремления к саморазрушению, которое тесно и напряженно взаимо-
соотнесено с Либидо. Действительно, человеческая гетерогенность не
могла полагаться движениями монистического перводвигателя (амби-
вал етность Танатоса и Либидо, инстинкта жизни и инстинкта смерти,
разрушающей ненависти и созидающей любви глубоко рассматривает¬
ся, например, в четвертой части фрейдовского труда Я и Оно). Может,
наверное, вызвать некоторое недоумение утверждение о радостном, в
смехе, приятии смерти, особенно памятуя о максимально серьезном
отношении к ней в христианстве, которое в целом отрицательно отно¬
силось и к смеху, видя в нем даже проказы дьявола. Хочется поэтому
подчеркнуть, что здесь речь идет не о том, чтобы жаждать смерти, а о
том, чтобы принимать смерть с радостной открытостью смеха, чтобы,
как говорил сам Батай в докладе Радость перед лицом смерти, «жить
на высоте смерти»45. Хайдеггер также говорит о таком приятии смер¬
ти, приятии человеком своего бытия как бытия-к-смерти, но он совсем
не связывает его с радостью, смехом и любовью — феноменами, мимо
которых проходит его «фундаментальная онтология». В связи с этим
можно вспомнить, конечно, отношение к смерти Сократа из платонов¬
ского Федона, который, понимая философию как стремление к смерти,
поразил пришедших проститься с ним друзей своим спокойным и да¬
же радостным состоянием. Но Сократ был, скорее, все-таки собран
и невозмутим, что было вызвано порядком и мерой его размышле¬
ний, которыми доказывалось бессмертие души и ее будущие радости
от созерцания истин в мире идей. То же, с некоторыми добавлениями,
можно сказать и об отце Зосиме из Братьев Карамазовых, который
в определенном смысле реабилитировал смех, радость, улыбку, инте¬
грировав их в христианскую парадигму, но оставив их не в экстатиче¬
ском, а в «мирном», «светлом», «покойном» измерении. Впрочем, эту
составляющую отрицать нельзя: ведь смех в Древней Руси испыты¬
вал человека на гордость — тот, кто допускал, чтобы над ним смея¬
45См.: Коллеж социологии. С. 480.
34
лись, в определенном смысле проходил школу смиренности, а гордый
человек закостеневал в своей однородной определенности46. Именно
поэтому, например, в Бесах Тихон признает, что гордому Ставрогину
не следует обнародовать свою исповедь, так как он может не выдер¬
жать испытания смехом. Если уж обращаться к традициям русской
культуры в этом вопросе, то, видимо, батаевское понимание смерти,
смеха и эроса полней всего выражено в феномене юродства, в ко¬
тором нераздельно слиты экспрессивность, трансгрессивность, гете¬
рогенность, телесность, адогматичность и мистичность, что мы уже
вскользь отмечали выше. И я почти уверен, что Батай по достоинству
оценил и принял бы гимн в честь чумы Председателя из пушкинско¬
го Пира во время чумы: «Все, все, что гибелью грозит, // Для сердца
смертного таит // Неизъяснимы наслаждения — // Бессмертья, может
быть, залог! //И счастлив тот, кто средь волненья / / Их обретать и
ведать мог».
Конечно, перед лицом смерти смех тоже может быть разным, точ¬
нее, человек может быть разным в смехе. Существует, например, чер¬
ный юмор, антология которого была издана в 20-х годах А. Бретоном.
Но, думается, это слишком легкий путь: бравировать перед смертью,
заигрывать с ней, создавая мортелогическую истеричность или види¬
мость легкости и равнодушия в ее приятии, не многого стоит, по су¬
ти это специфическая форма бегства от смерти, нейтрализация взора
глаз ее обнажающегося лица (примером такого подхода могут служить
стихи Франсуа Вийона, написанные им, когда он уже знал о своем
смертном приговоре через повешение: «Я — Франсуа, чему не рад. //
Увы, ждет смерть злодея //И сколько весит этот зад, / / Узнает скоро
шея». Впрочем, что действительно было у него на душе, знать нам не
дано). Смех Батая, это, конечно, не «смех желтого дома», не смех аго¬
нии, за что обвиняет его Сартр47. Скорей уж это агональный смех (от
греч. agona —игра ), смех мужественный в своей суверенной саморас-
трате, и он не прячет человека за ширмы, а открыто ставит его лицом
к лицу со смертью, и в этой открытости — залог интенсивности чело¬
веческого бытия. «Смех учит: мудро уклоняясь от элементов смерти,
мы пытаемся лишь сохранить жизнь; тогда как вступая в область,
от которой мудрость велит нам бежать, мы проживаем жизнь... За¬
жигаясь от соприкосновения со смертью... он (смех.—Д.Д.), пусть
на время, выводит нас из тупика, в какой загоняют жизнь умеющие
только сохранять»48.
46О смехе в древнерусской культуре см.: Лихачев Д. СПанченко А. М. «Сме-
ховой мир» Древней Руси. Л., 1976; также следует обратить внимание и на более
позднюю работу Д. С. Лихачева «Смех как мировоззрение».
47Сартр Ж. П. Один новый мистик// Танатография Эроса. С. 32-36.
48 Батай Ж. Литература и зло. С. 53.
35
Известно, что смех может быть трагичен; более того, трагич¬
ность зачастую вскрывается именно (и, может быть, более всего)
смехом — достаточно вспомнить произведения Гоголя, Достоевского,
Салтыкова-Щедрина, Хармса. Может ли вообще подлинная трагич¬
ность быть однородно серьезной или ей необходима гетерогенность
смешного? Батай, который очень ценил Льва Шестова, своего первого
учителя философии, значительно повлиявшего на него, впоследствии,
однако, признавался, что он «просто озадачил меня отсутствием чув¬
ства юмора. Я был весел, вызывающ и уже тогда не мог вообразить
себе глубокой серьезности без беззаботности и смеха»49; а ведь филосо¬
фия Шестова была своего рода философией трагедии. Это и понятно:
ко времени встречи с Шестовым Батай уже прочел работу Бергсона
Смех (непосредственно перед встречей с ним во время своей стажи¬
ровки в Британском музее в 1920 г.), которая, можно так сказать, при¬
общила его к глубинам смеха, хотя и оставила неудовлетворенным —
главным образом из-за свой осторожности (а со смехом нельзя быть
осторожным, его невозможно оставить подлинным, одновременно при¬
учив, вымуштровав) и бросающейся в глаза эстетичности, по которой
сразу можно было определить, что писал ее изысканный французский
аристократ духа (и это несмотря на то, что он в своей философии
постоянно был очень чувствителен к проблемам мистического опыта,
даже посвятив ему свою позднюю книгу Две формы морали и рели¬
гии). Батай никогда не претендовал на такое звание, он, скорее, был
суверенным голосом гетерогенности, изливающим себя в спонтанных
саморастратах таким образом, что невозможно было задумываться о
придании ему соответствующей формы или, точнее, тембра.
Но этот голос, конечно, и не хайдеггеровский голос бытия. Надо
признать, что в работах Хайдеггера никак не сказывается осмысле¬
ние значения смеха и чувства юмора, хотя, по воспоминаниям, он,
как и Кант, любил пошутить в жизни. Но одно дело смех как спо¬
соб отдохновения и облегчения жизни, а именно так его понимал тот
же Кант50, и совсем другое —смех как основа существования, мыш¬
ления, миро- и самоотношения, как особого рода напряжение. Спи¬
ноза, призывая в Этике философа не плакать и не смеяться, а по¬
знавать, хотел возвысить его, поставив на немыслимую высоту, попав
на которую хочется усматривать далекое и не видеть самого важного,
ближайшего. Ответ на это можно найти у русского философа Вла¬
димира Соловьева, проницательно и глубоко написавшего: «Таков за¬
кон: все лучшее в тумане, //А близкое иль больно, иль смешно. / /
Не миновать нам двойственной сей грани: //Из смеха звонкого и из
49Цит. по: Фокин С. Л. Философ-вне-себя. С. 16-17.
50Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1966. С. 354.
36
глухих рыданий // Созвучие вселенной создано». Чтобы смеяться, фи¬
лософу нужны особые силы — ведь ему так легко поддаться соблазну
«серьезности» призвания своей деятельности, а отсюда уже недалеко
до миссионерского наставничества и внутреннего догматизма. И как
раз смех помогает преодолеть этот соблазн, открывая собой непод¬
дельные глубины мудрости — ведь смехом можно зреть (любопытно,
что Л. Столович обращает внимание на то, что русское слово «хох¬
ма», определяемое в словарях как веселая шутка, может происходить
от еврейского ЬосЬшЬ — слова, которое на иврите означает Премуд¬
рость Божию51. В своей статье О сущности смеха Бодлер заметил,
что «мудрый не смеется иначе, чем трепеща». Не кьеркегоровский
страх и трепет, а батаевский смех и трепет — их амбивалентность
здесь очевидна: соприкосновение через смех с невозможным вызывает
трепет, а на сам этот трепет человек откликается заводящим смехом.
Болезнь к смерти заменяется дионисийским танцем к смерти (имен¬
но «к смерти», а не танцем смерти).
И тут естественно приходит на ум образ Заратустры, самозабвенно
танцующего на мосту над пропастью, идя навстречу смерти, который
сам где-то признает, что ложной должна быть названа истина, лишен¬
ная смеха. В этом, как и во многом другом, Ницше был наиболее бли¬
зок Батаю, и не случайно в своей книге О Ницше он уделил так много
внимания смеху. Живая, подвижная амбивалентность — отличитель¬
ный знак Ницше, и полней всего она проявилась именно в Заратуст¬
ре; в частности, это касалось буйного, юного, полного жизненных сил
и пышущего здоровьем смеха и отрешенной аскетичности. Подобную
амбивалентность не трудно почувствовать и у Батая. В этом смыс¬
ле, пожалуй, можно согласиться с Сартром, говорившим, что Батай
разрабатывает «аскезу смеха», которая выполняет у него ту же функ¬
цию, что и негативное у Гегеля52, учитывая, конечно, принципиальную
взаимосоотнесенность собирания — обретения себя, воплощающуюся в
аскезе, и растраты — преодоления себя, представленного смехом (то,
что аскеза не ограничивается традиционно понятой бесстрастностью
и открыта «горячности», открываемой в том числе и смехом, показы¬
вает одно высказывание Аввы Исидора Скитского: «Не можешь быть
монахом, если не сделаешься весь как огонь пылающий»)53. Если геге¬
левская негативность собой продуцирует диалектическое становление,
выражающееся в человеческой жизни и истории в целом, то батаев-
ская «аскеза смеха», уже в себе несет энергию гетерогенности; обе
51 См.: Столович Л. О метафизике смеха// Столович Л. Философия. Эстетика.
Смех. СПб.; Тарту, 1999. 244 с.
52 Сартр Ж. П. Один новый мистик // Танатография Эроса. С. 34.
53 Аверинцев С. С. Собр. соч. Переводы. Многоценная жемчужина. Киев, 2004.
С. 81.
37
непосредственно за-брошены в смерть и фундированы ей. Эта функ¬
ция соотнесенности со смертью их объединяет, но в XIX и XX вв. она
осуществляется на разных путях, хотя они и не отрицают друг друга.
И неудивительно, что претензия Батая к Гегелю, в частности, состоит
в том, что он «не весел на вершинах познания». Но серьезность отрица¬
ния Гегеля и аскетичный смех Батая тянутся друг к другу, как могут
тянуться только равные, которых единит стояние-перед-смертью.
И аскеза и смех ведут к гетерогенной суверенности, но поодиночке
им труднее идти и легче, споткнувшись на пути, упасть в неподвиж¬
ную костность, тогда как объединившись, они, не боясь, могут решить¬
ся на последний штурм невозможного. Батай решился, и потому он, —
а вместе с ним и мы, — если, конечно, сами готовы сделать усилие для
этого броска, — может надеяться, что его лицо никогда не превратится
в застывшую маску, созерцаемую чинными посетителями музея.*
* Статьи были взяты для перевода из следующих изданий:
1) Revue des Sciences Humaines, 1987, N 206;
2) Stanford French Review, 1988, N12;
3) Critique, 1963, N 195-196.
38
ЖАН БРЮНО
ТЕХНИКИ ОЗАРЕНИЯ У ЖОРЖА БАТАЯ
Я расскажу, какие пути привели
меня к экстазу, чтобы другие смогли
последовать за мной.
Батай. Виновный
Мистический опыт должен быть самодостаточен. То пьянящее чув¬
ство, те взлеты и падения, те перспективы, которые он повсюду откры¬
вает для мысли, как обогащают наше существование, так и доводят до
предельного истощения. Когда экстаз настиг Батая, он мог добавить
к его жажде жизни лишь новый, еще более высокий уровень. Тем не
менее по мере роста своего «опыта» Батай испытывал желание разде¬
лить экстаз. В конце заметок, в которых светились первые проблески
его великих озарений, он признавался: «Я хотел сделать доступны¬
ми живым — наслаждающимся удовольствиями этого мира и неверу¬
ющим — средства, которые кажутся им самыми далекими». Ставя эту
задачу, он указывает на пути, которыми следовал. Несмотря на звуча¬
ние, которое в короткий срок приобрели три его сочинения: Внутрен¬
ний опыт (1943), Виновный (1944), О Ницше (1945), ему казалось, и
это он ощущал не единожды, что с такой точки зрения, столь значи¬
тельной для него, он не был действительно услышан. Наша же задача
состоит не в том, чтобы раскрыть сложность замыслов и всех выводов
Внутреннего опыта или дать их сравнительную характеристику, но
в том, чтобы проанализировать доступность их техники.
В том же году, когда вышел в свет Внутренний опыт, Сартр в
Южных тетрадях (Cahiers du Sud) посвятил ему три статьи, оза¬
главленных «Один новый мистик»1. В заключение он отказал в цен¬
ности озарению, описанному Батаем, в особенности он отрицал то, что
1 Cahiers du Sud, N280-282, oct.-dec. 1943.— Этот набросок воспроизведен в:
Situations, 1 (Gallimard). (См. также русское издание: Сартр Ж. П. Один новый
мистик // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX
века. СПб., 1994. С. 11-44.—Прим. ред.)
© К. В. Преображенская, перевод, 2006
39
последний смог облегчить путь к нему для других. «Я не сомневаюсь
в том, что наш писатель испытывает несказйнные состояния тоски и
мучительной радости. Замечу только, что он терпит провал, пытаясь
дать нам метод их достижения». И дальше: «Как сам он признавался,
намерением его было написать “Размышление о методе” мистики, но
неоднократно он должен был каяться в том, что эти состояния при¬
ходят, когда захотят, и так же уходят»2. Но Батаю все же удалось
уловить эти неуловимые вспышки, умножить краткие мгновения внут¬
реннего озарения, к которым он подошел незаметно и которые также
были известны Ницше (и многим другим вместе с ним), но так и оста¬
лись неприрученными.
Начиная с Практики радости перед лицом смерти, напечатанной
в последнем номере Ацефала в июне 1939 г., и вплоть до Метода ме¬
дитации, вышедшего в 1947 г., Батай неоднократно настаивал на воз¬
можности мистического тренинга и указывал на те способы, которые
он почерпнул в восточной и христианской мистиках, впрочем, поня¬
тые им на свой лад. Невероятно одаренный в том, что касалось та¬
кого опыта, после стремительного роста в самом начале практики он
столкнулся затем с более медленным развитием. Все, что Батай смог
написать в течение семи или восьми лет о предмистических методах,
отражает ту эволюционную точку, в которой он находился в разные
временные периоды. Однако прошел почти год с начала его тренинга
летом 1939 г., который стал важнейшим этапом его жизни, прежде чем
в начатом Батаем дневнике3 появится сущностная определенность его
метода: «Я скажу, как я пришел к такому мощному экстазу. Как буд¬
то на экране, я проецировал образы вспышек и разрывов. Но прежде
я научился создавать в себе величайшую тишину. Это стало доступ¬
ным мне почти всякий раз, когда мне этого хотелось. В этой времена¬
ми пресной тишине я перелистывал в памяти все возможные взрывы.
Непристойные, забавные, унылые образы сменяли друг друга. Я пред¬
ставлял себе глубину вулкана, войну, наконец, собственную смерть. Я
уже не сомневался, что экстаз может происходить и без представления
о Боге»4. К этим двум процессам — тишине и драматизации — Батай
обращается более подробно во Внутреннем опыте5. Можно было бы
2Там же. С. 44. — Прим. ред.
3 Фрагменты этого дневника с сентября 1939 по март 1940 г. появились в Mesures
в августе 1940 г. под названием Дружба. Этот текст, в дополненном и измененном
виде (который не имеет ничего общего с романом, как это предполагает Пьер де
Буасдефр), перепечатан в 1944 г. в начале Coupable. За исключением специальных
оговорок, мы цитируем переиздание 1961 г.
4Le coupable, p. 39.
5См. ч. 1 («Принципы метода и сообщества») и ч.4 («Экстаз»). (См. русское
издание: Батай Ж. Внутренний опыт/ Пер. с франц., послеслов. и коммент.
С. JI. Фокина. Axioma/ Мифрил. СПб., 1997. С. 28-65, 208-240. — Прим. ред.).
40
приписать большую эффективность второй фазе, но драма действует
наиболее полно лишь в соединении с внутренним углублением. Разбу¬
шевавшееся слишком рано, «естественное упоение или опьянение име¬
ет характер минутной вспышки». Достичь «темного воспламенения»
можно, лишь согласившись сначала на то самоуглубление, которое так
претит нам и которое Батай заимствовал у восточной техники.
Подступ к тишине
Главный принцип йога-сутры, аналог которому Батай находит у
Псевдо-Дионисия [Ареопагита], — это остановка дискурсивной мысли.
Если развертывается внутренний разговор, он способен умертвить све¬
жесть ощущений, и, кроме этого, он извращает самые утонченные
внутренние впечатления, которые открываются лишь чистому созна¬
нию. Направляя мысль к будущему, «проекция» так же губительно
разделяет меня с глубинным Я, как и слова, в которых мы строим се¬
бе иллюзии, или те воображаемые диалоги, которые служат нам для
торжества над другими. Самое простое средство заключается в том,
чтобы направить свой ум к такой телесной функции, как дыхание, ко¬
торое мы можем контролировать, но которое так же легко ускользает
от нашего внимания, и эти органические «остовы» общи для великих
техник Востока. Затем, внимание может останавливаться и на самой
речи (слова, фразы), коя не служит здесь ничему, кроме его конечного
уничтожения. Это и есть «медитация», схемы которой Батай нашел в
южном буддизме. Будь то выцветшие от времени первоисточники или
современные трактовки (как, например, достаточно простой, но эф¬
фективный учебник Лаунбери), все они говорят о монотонном ритме
и постоянных повторениях. «В потоке образов, чтобы избавиться от
бесконечной цепи ассоциаций, мы можем предложить аналог постоян¬
ства речного русла —одни и те же слова и фразы»6. Конечно, это не
банальное чтение, речь идет о внутреннем замедленном повторении
определенного отрывка, подобно тому как неторопливо наслаждаются
каждой фразой, каждым образом любимой поэмы, когда приближе¬
ние сна делает ум более спокойным. Цель медитации — вхождение в
такое оцепенение, в котором заторможенная мысль утихает, но начина¬
ют открываться другие уровни. Выбором этих образов, краткостью и
уравновешенностью этих фраз первая из шести тем, опубликованных
Батаем в июне 1939 г., стремится вызвать эту светлую сонливость7.
6 Le coupable, p. 45.
7Было бы неверным видеть в этом результате простое самовнушение, вызванное
ясным содержанием темы (хотя и это было бы достойным внимания), поскольку
такое же состояние достигается и другими видами концентрации (например, сен¬
сорным) или при помощи другой темы.
41
Вот она:
Я погружаюсь в мир вплоть до уничтожения.
Шум борьбы теряется в смерти, подобно тому как реки исчезают в море
и сияние звезды гаснет посреди ночи.
Могущество схватки завершается в молчании всякого действия.
Я вхожу в мир как в темную неизвестность.
Я падаю в эту темную неизвестность.
Я сам становлюсь этой темной неизвестностью8.
Начиная со своей первой медитации о мире в конце мая 1938 г.
Батай не устает поражаться ее действию: полное оцепенение с неверо¬
ятной чувствительностью к малейшему шуму и, по окончании этого
упражнения, ощущение мощи и спокойствия. В течение нескольких
дней, все более и более погружаясь в этот ступор сознания, возвраща¬
ясь к той же теме, несмотря на ее однообразие, и преодолевая различ¬
ные препятствия9, Батай переходит к другому образу: это радость пе¬
ред лицом смерти, которая уже не имеет спокойного характера преды¬
дущего текста, но все еще включает в себя концентрацию на поэтике
сохраняющегося ритма10. В течение следующего периода у него было
несколько видений — и он уже медитировал над образами. Хотя третья
тема Ацефала по-прежнему основана на радости перед лицом смерти,
она теперь построена не на ритмических фразах, подобно предыдущей,
а на визуальных представлениях, в которых уничтожение берется в
космических перспективах. Отныне медитация меняет свой характер:
вместо легкого самогипноза вначале она стремится к накалу.
Фаза самоуглубления, таким образом, не была всего лишь отрица¬
тельным полуусыплением. Она включала в себя момент восторженно¬
сти, «сладострастного оцепенения». «По крайней мере, мы направили
внимание к внутреннему присутствию: то, что было до сих пор скрыто,
приобретает размах не грозы — поскольку речь идет о медленном дви¬
жении, — но всеохватывающего половодья. Теперь чувствительность
обострена: достаточно лишь отделить ее от тех нейтральных объек¬
тов, с которыми мы ее обычно связываем»11. Довольно быстро эта
неясная и тонкая радость может потерять свою остроту. Многие из
тех медитирующих, которые последовательно достигли этого уровня,
оказываются неспособными превзойти его и теряют надежду. Однако
если они будут настойчивы, то хоть и медленно и немного позднее, но
8Acéphale, juin 1939, p. 14.
9Рождающееся напряжение, которое необходимо разрешить, или отклонение ра¬
зума, вызванное преждевременным пренебрежением к скучным элементам этих
упражнений.
10Acéphale, р. 15-16.
11L’experience intérieure, 2 éd., 1954 (цитируемое нами по преимуществу), р. 30.
42
они поднимутся на другой уровень. У Батая не было времени, чтобы
страдать от этой стагнации, он спешил.
Драматизация
Он принимается медитировать над темами, эмоциональная острота
которых по крайней мере выносима. Он предавался созерцанию, снова
вызывал в памяти фотографии китайского казненного или представ¬
лял себе, как разрушается, взрывается мир, объятый пламенем. Его
«гераклитовская медитация» о войне, опубликованная в последнем но¬
мере Ацефала, содержала в себе не меньше вулканической жестокости,
чем рисунки Андре Массона, иллюстрирующие тексты Гераклита и
Дионисия в последних номерах этого журнала. Воображаемые ими
«жертвоприношения» не уничтожали лишь живых существ и Бога: из
этого они конструировали первую жертву, медитируя над своей смер¬
тью или обращая против себя же собственную враждебность. «Я захо¬
тел наброситься на себя. Сидя на краю кровати, лицом к окну и ночи,
я настойчиво заставлял себя превратиться в битву»12. Когда он впер¬
вые полностью достиг экстаза во время ночной прогулки в лесу летом
1939 г., он вызвал угрожающий образ хищной птицы, сидящей на нем
и вскрывающей ему горло. Годом позже, в безлюдных пространствах
Оверни, медитация откроет ему еще один ужасающий образ: «Когда
я “медитирую” перед голыми склонами гор, я воображаю ужас, ко¬
торый приоткрывается в холоде или грозе, которые, подобно деру¬
щимся насекомым, агрессивны и более благосклонны к трупу, чем к
живому»13.
Было бы слишком поверхностным приписывать эту настойчивость
жестоких тем болезненному романтизму скорби. Роль этих потряса¬
ющих нас образов —в открытии бреши в психике: «Если бы мы не
умели драматизировать, мы не смогли бы выйти из себя. Мы жили
бы одинокими и скованными. Но рана — в ужасе — ставит нас за пре¬
делы слез: и тогда мы теряем себя, забываем себя и соединяемся с
неуловимым “по ту сторону”»14. Тем не менее этого тайного чувства
недостаточно. Да и созерцание действенно лишь в медлительном те¬
чении, драматизация усиливается ее возобновлением и продолжением:
«Разрывающие (в прямом смысле) образы непрерывно формируют в
пространстве сферу, где я замкнут. Я подступаю только к разрывам.
Я всего лишь встретился с возможностью выхода: раны заживают.
Необходима концентрация: глубокий разрыв, стрела долгой молнии
12Le coupable, 2 éd., p. 14.
13Le coupable, 1 éd., p. 80; 2éd., p. 72.
14L’experience intérieure, 2 éd., p. 22.
43
должна разбить сферу: точка экстаза в своей обнаженности недости¬
жима без болезненной настойчивости»15.
Это вызванное воспламенение не приходило без предварительной
усталости, и слишком жестокие медитации часто следовали за депрес¬
сией. На этом пути драматического усиления — мы имеем множество
примеров такого же рода в религиозных методах16 — Батай познако¬
мился и с его опасностями. Критический момент наступает тогда, ко¬
гда оцепеневшее сознание должно пробудиться. Когда ум в медита¬
ции стремится к собственной остановке, совершенно антипсихологично
продолжать насильственное развертывание темы, однако мозг, частич¬
но заторможенный в своей пространственной активности, может глу¬
бинно активизироваться при помощи эмоций, которые иногда сами по
себе могут блокировать мысль. «Достаточно, — отмечает Батай, — вы¬
звать в себе напряженное состояние, чтобы освободиться от тревожной
навязчивости дискурса: так внимание проходит мимо “проекций” к са¬
мому бытию, которое мало-помалу вовлекается в движение и освобож¬
дается от тени». В особых состояниях углубленная эмоция, возрастая,
может воспламенить очерствевшие структуры эго и приблизить его к
экстазу, хотя сама по себе она его не рождает. Несомненно, это резуль¬
тат предельного напряжения и длительной драматизации (включая
всю множественность искусственных представлений, которые в конеч¬
ном счете истощают), тогда как непроизвольное пробуждение при по¬
мощи чувства в кратком внутреннем движении или через созерцание
определенных образов гораздо более естественно. Однако Батай, уга¬
дав психотерапевтическое применение сущностно многозначных мето¬
дов концентрации, стремился к тому, чтобы вызвать в себе пожар или
«солнечную вспышку», но вовсе не к достижению мира или гармонии.
Впрочем, он не ограничивался трагическим настроением: некоторые
его темы были смешными, шутовскими (как те, которые были опубли¬
кованы позже в Методе медитации), иногда он пускал в ход и женское
присутствие. Случалось, что он возвращался к более конструктивным
и спокойным первоначальным схемам.
В феврале 1939 г. в момент завершения медитации в ее исключи¬
тельном напряжении он почувствовал, что необходимо избегать резкой
остановки под страхом шока. Он расслабился, и его состояние вне¬
запно преобразилось, став горячим и возвышенным, как будто он был
захвачен невероятной силой. Опыт Батая с этого момента сильно изме¬
15L’amitié, dans Mesures, 15 avril 1940, p. 144.
16 В качестве типов драматизации Батай чаще всего приводит игнасийские
упражнения, которые он практиковал во времена своей юности, или дзэн, когда
в оцепенении открывается satori. Кроме того, благодаря тибетской йоге ему был
известен ритуал медитации Chod, когда новичок представляет свое тело раздроб¬
ленным духом.
44
нился, когда им завладело нечто мощное, что он ощущал как внешнее
по отношению к себе, но с которым он был связан в созерцании. Из¬
вестны и другие примеры, не только из его опыта, когда расслабление
(не важно, произошло ли оно сознательно или было вызвано чувством
страха или растерянности) предшествовало сильному эмоциональному
напряжению, ускоряющему процесс озарения. Этот контраст внезап¬
ного сильного напряжения в расслабленности использовался вплоть до
наших дней в Японии учителями дзэн, чтобы предмистическая эволю¬
ция шла стремительнее17. Повествование Батая о своем первом боль¬
шом озарении в лесу в середине лета 1939 г. не менее показательно:
в конце грозового дня, напряженный от сдерживаемого желания, пре¬
давшись воображению в ходе медитации и поддавшись агрессивности,
он испытал экстаз, но только после остановки драматизации, всяко¬
го поиска и ожидания. «Я встряхнулся и, кажется, засмеялся, осво¬
бодившись от лишнего страха и неуверенности... На обратном пути,
вопреки невероятной усталости, я ступал по огромным булыжникам,
на которых я обычно подворачивал ноги, так, будто я был легкой те¬
нью. В это мгновение я ни к чему не стремился и небо было открыто
передо мной. Я вижу... Потерявшееся возбуждение душного дня бы¬
ло наконец разбито и улетучилось... Непрерывно вспыхивали молнии
далекой грозы... Но небесный праздник бледнел перед разгорающей¬
ся зарей. Не то чтобы во мне: я не мог бы определить место того,
что неуловимо и внезапно, как ветер. Во мне со всех сторон была за¬
ря... »18
После первых экстазов
Начиная с лета 1939 г. экстаз становится для Батая более доступ¬
ным. Иногда ему было достаточно оказаться на том же месте, где у
него был первый опыт, чтобы снова ощутить его: «Я должен был пре¬
кратить писать. Как обычно, я должен был сесть перед открытым
окном: едва сев, я тут же падал в экстаз»19. Короткие поэтические
фразы, которые служили ему предлогом для самоконцентрации, ста¬
ли излишними. Простое и напряженное усилие воли, чтобы достичь
этих состояний, уже грозило полной парализацией последней. Гораздо
17Sato (Koji), How to get Zen enlightenment. On Master Ishiguro’s five days’
intensive course for its attainment (dans Psychologia, Kyoto University, Department
of psychology, juin 1959, p. 107-113). После классического счета дыхания следует
nembutsu, или повторение. «Все начинается с тихого взывания, сходного с псал¬
мопением, и заканчивается сильным и энергичным возгласом, сопровождающимся
мускульным напряжением лица, плеч и рук... На пределе этого упражнения на¬
ступает внезапное расслабление напряжения, и в этот момент ученик испытывает
Kensho (видение собственной природы) под руководством учителя».
18Le coupable, 2 éd., p.48-49.
19Le coupable, p. 38.
45
более эффективной для Батая стала сосредоточенность, когда он за¬
крывал глаза. Иногда экстаз охватывал его случайно, не важно — где,
без самоуглубления и с открытыми глазами. Бывало также, что ему
приходилось ждать, а озарение уклонялось от него вопреки желанию
и настойчивости или, напротив, вспыхивало внезапно, «в зависимо¬
сти от удачи, но никогда —от напряжения воли». Если он еще почти
дидактически излагает в начале Внутреннего опыта первые фазы,
йогическую и драматическую, то значительно лучше видно, каким об¬
разом он пришел к ним в личном опыте, в его записях, отрывочных,
но более выразительных, которые он составил зимой 1941-1942 гг.
(Казнь), а затем в размышлениях, на которые его навел «частично
утраченный опыт», каковой он имел в начале июня 1942 г. И здесь мы
по-прежнему встречаем два основных принципа — внутреннего молча¬
ния и роста напряжения, но уже в сокращенном виде, сведенном к
основанию. Предварительным состоянием остается остановка логиче¬
ской вербальной мысли («достаточно разбить течение речи во мне,
как экстаз уже здесь»), но Батай признает, что это действенно лишь
потому, что он уже достигал этого предела. По мере того как они ста¬
новятся привычными и знакомыми, фазы опыта сталкиваются друг
с другом и сгущаются, тогда как средства упрощаются. Отказываясь
от лукавства поражающих образов, драматизация сводится к ужасу
или к протесту против человеческих пределов. «Итак, экстаз рожда¬
ется из неуравновешенности, — рассуждает Батай, —я мог бы пойти
навстречу ему, навстречу инстинкту, отстраненному отвращением к
тому болоту, каковым я являюсь»20. То, что он называет «схемой чи¬
стого опыта», дает новый виток соотнесения состояний и рефлексии,
которые становятся действенными, только если экстаз, теперь более
доступный, вызывается малейшим потрясением. То же замечание от¬
носится и к опыту на веранде, развертывание которого включало в
себя предыдущие этапы и оказывалось недостижимым для начинаю¬
щего.
Углубленность и проекция
Хотя молчание и драматизация представляют собой основные вехи
пути Батая, ими не исчерпывается его метод. К названному необхо¬
димо добавить поляризацию, направленную или внутрь, или вовне.
Эти противоположные процессы концентрации и расширения (кото¬
рые Жорж Пуле исследует в Метаморфозах круга через литературные
тексты, соприкасающиеся как с озарением, так и с более привычными
состояниями) имеют здесь двойное значение: речь идет одновременно
20L’experience intérieure, 2 éd., p. 82.
46
о технике и о новом вйдении существования, достижимом в те мгнове¬
ния, когда индивид разрывает свою замкнутость, чтобы раствориться
в более широкой всеобщности. «Общение» возможно разными спосо¬
бами,— это смех, любовь, жертвоприношение и т. п., —и Батай под¬
вергает его анализу даже раньше экстаза, но последний представляет
собой бесконечное растворение в более радикальной форме. «Я станов¬
люсь огромным потоком за моими пределами, как если бы моя жизнь
влилась в неспешные реки сквозь чернила неба. Я уже не я, но то,
что является моим истоком, достигает и заключает в своих объятиях
присутствие без границ, сходное с потерей самого себя»21.
Это странное экстатическое расширение на первый взгляд остает¬
ся недоступным. Оно не появляется в результате усилия или прямо¬
го стремления вовне. Путь, ведущий к полному расширению, почти
всегда идет изнутри, так же как ночная неподвижность оказывает¬
ся первой ступенью к вспышке. Это восприятие в себе есть постоян¬
ный атрибут всех предмистических методов в их начале. Оно было
раскрыто и поэтами, несмотря на то что им редко удается развить в
себе все способности22. Тем не менее очень быстро видения, которые
неоднократно преследовали Батая, вырывали его из чистой углублен¬
ности. Религиозные образы, иногда всплывающие среди других в его
подсознании, не слишком смущали его (пережив в юности увлечение
христианством, он отмечал их источник и даже посмеивался над ни¬
ми). Он вовсе не стремился останавливаться на священных или ми¬
фических образах, но когда его медитации достигли высокого уровня
напряжения, он спроецировал их в «точку» вне себя, в которой кон¬
центрировалось его желание горения. Речь шла не об абстракции, но
о «виде освобожденной драматизации»: «Я не исходил, как христиа¬
нин, из одного-единственного положения, но из состояния рассеянного
сообщения, из радости внутренних движений. Эти движения, которые
я воспринимал как будто в потоке ручья или реки, становились для
меня началом, и я мог сжать их до точки, в которой растущее напря¬
жение переводит простое течение воды в красочную стремительность
водопада, вспышки света или молнии»23. Последние слова позволяют
понять, что головокружительная точка, о которой здесь идет речь,
открывается уже не холодному методизму, но только живому опыту.
Когда Батай в июне 1939 г. в четвертом тексте Ацефала говорил о сво¬
ей любви к «тому, что здесь», он в течение нескольких месяцев был
во власти удивительного неформального восприятия, которое рожда¬
21 Le coupable, 2 éd., p. 18.
22 В начале Метода медитации цитируются слова Рене Шара: «Если бы человек
не закрывал безапелляционно глаза, он перестал бы видеть уже и то, на что стоило
бы смотреть».
23L’experience intérieure, 2 éd., p. 153.
47
ло в нем неутолимую ностальгию, предшествующую экстазу. Если он
не допускал никакого теистического объяснения этих состояний, то те
сопоставления с христианским опытом, которые он делал без колеба¬
ний — вопреки опасности смешения, — свидетельствуют о том, что он
предполагал их родственность. Так же как и безграничность созна¬
ния, это горение характерно для одной из фаз мистического опыта, и
оно появляется всегда, независимо от теизма24. Неожиданная страсть,
парадоксальным образом соединившая в Батае неверие и бхакти, жи¬
ла в нем на самом деле лишь недолгое время. Она истощалась, когда
экстаз уступал место менее выразительным состояниям тихой прони¬
цаемости, наступающим с такой легкостью, что его интерес мог только
ослабиться.
Если Батай говорил тогда о «состояниях, называемых теопатиче-
скими» (и именно в этом его упрекали), то менее всего потому, что сам
претендовал на высший мыслимый уровень этого опыта, по аналогии
с эволюцией христианской мистики, которая пришла к спокойным фа¬
зам после экстазов с едва выносимой напряженностью. При переходе
от первоначальной эйфории к последующим пароксизмам, а затем к
смягченному восприятию его собственные изменения во многом ока¬
зываются классическими, хотя самым удивительным остается период
любви к элементу неизвестности, который он отказывался анализиро¬
вать. Его чувства, как и его язык, сохраняли двусмысленность, кото¬
рую критиковали и верующие и рационалисты: несомненно, что те и
другие предпочли бы увидеть, как Батай отказывается от традицион¬
ных формулировок, которые он часто обращал в шутку. Далекий от
игнорирования Бога, он видел себя «стрелой, выпущенной по Нему»
и назвал корпус своих мистических сочинений Сумма атеологии. Его
новое имманентное вйдение было в его глазах «даже богохульством».
Он чувствовал большую близость к Прусту и дзэн, чем к любой дуа¬
листической религии.
24В связи с Батаем интересно было бы подумать о критериях мистицизма. Нам
кажется, что то, что мы открываем в истории религий, куда входят верования
и различные формы философии, прежде всего должно характеризоваться содер¬
жанием экстатического сознания (со всеми его составляющими, неуловимыми, но
постоянно проявляющимися: вдохновением, светом, внезапным подъемом и забве¬
нием тела и т. д.) в большей степени, нежели вторичными элементами, такими,
как речь или поведение. Преждевременно говорить о наличии какого-либо фило¬
софского критерия, поскольку, за редким исключением, эта тема совершенно не
изучена — и наблюдения, сделанные в Индии или Японии, описывают разве что
состояния сосредоточенной поглощенности, но не затрагивают моментов экстаза
или высоты самадхи.
48
Исчезновение
Когда в феврале 1939 г., а затем в течение следующего лета Ба-
тай более определенно начал открывать обжигающее присутствие, он
продолжал видеть внешний мир с его объектами, но так, будто они
были прозрачными, не придавая им значения, будучи слишком по¬
глощенным тем, что он воспринимал за их пределами. «В экстазе, —
говорил он, —я вижу окружающее, но всякая частность мне меша¬
ет, например листья деревьев передо мной». И наоборот, он с легко¬
стью смотрел на небо или облака, так как «это нечто беспорядочное».
Эта внутренняя тенденция видящего избегать формального восприя¬
тия показывает, что перед тем, как приступить к обобщению, пред¬
шествующему экстазу, большинство техник пользуется двойственным
движением: первоначальной концентрацией и последующим рассеива¬
нием. Нигде так настойчиво не повторяется этот процесс, как в за¬
мечательной кашмирской тантре Виньяна Бхайрава, которая неуто¬
мимо варьирует одно и то же основное упражнение, в результате че¬
го все ощущения, используемые для концентрации, должны померк¬
нуть. Это решительное исчезновение приучает сознание скользить че¬
рез красочность внешней множественности к внезапному и глубоко¬
му впитыванию, откуда и происходит эффективность подвижных зре¬
лищ мерцающего света, стирающего знакомые формы, и пустых про¬
странств, не дающих разуму места, за которое можно было бы заце¬
питься25. В пределе это способно привести к квазиабстрактному со¬
зерцанию пространства или к фиксации неба, которую практиковали
буддисты, что Батай и наблюдал вокруг себя. Многие из его текстов,
которые могли бы навести на мысль о первых шагах к необоснован¬
ным образам, на самом деле соответствуют как методу, так и состо¬
яниям, как мы можем это понять из первых стихов Архангелическо-
го, где сознание теряется в необъятности, и из фрагментов Метода
медитации, опубликованных в 1946 г. под названием «Перед пустым
небом», где ужас самоограниченного бытия противопоставляется «пе¬
нию, похожему на переливы света от облака к облаку в полдень, в
невыносимой широте небес»26. Или в другом месте: «В лесу, когда
вставало солнце, я был свободен, и моя жизнь взлетала без усилий,
25 Виньяна Бхайрава (текст, переведенный и прокомментированный Лилиан
Сильбурн): «Взгляд фиксируется на части пространства, освещенной лучами солн¬
ца или светом лампы и т. д., и именно так сияет сущность собственного Я. Взгляд
останавливается там, где нет ни деревьев, ни гор, ни стен, ни каких-либо других
объектов. В психическом состоянии поглощенности человек становится существом,
изменчивая активность которого растворяется» (Paris, de Boccard, 1961, versets 76
et 60, p. 117, 103).
26Fontaine, N48-49, fevrier 1946, p. 209; см. также: Méthode de Méditation, p. 35;
L’experience intérieure, 2 éd., p. 221.
49
подобно полету парящей птицы: свободен бесконечно, растворенный и
свободный»27.
Если бы он представлял свои исследования «одно за другим, на
стороне сюрреализма», он подменил бы фетишистской одержимостью
объектом диалектическое движение, которое он использовал, чтобы
избежать этого, и «скольжение к имманентности и волшебству меди¬
таций. Разрушение более интимное, потрясение более странное, бес¬
предельное исследование себя самого. Себя и всего одновременно». Не
утверждая, что он направляет к состоянию, когда видимости раство¬
ряются и исчезают, Батай дает как тему медитации «блистающее и
легкое пламя, сгорающее в себе», которое играет символическую и гип¬
нотическую роль в стольких ритуалах:
Я представляю себе
пустоту
равную пламени
уничтожение объекта
открывающее пламя
опьяняющее
по
и озаряющее*0.
Для него в экстазе, как и в его заключительном имманентном
вйдении, всякое понятие бытия —Бога, так же как и человеческой
личности, — уничтожалось, и его интерпретация была гораздо ближе
к буддистским представлениям о несубстанциальности и пустоте. Ему
не было надобности в двойственных тренингах уничтожения и рекон¬
струкции мира, подобных тем, которые рисуют себе тибетцы, чтобы
убедиться в нереальности феноменов (техника, описанная Мишелем
Лейрисом, которую Каруж упоминает в Мистике сверхчеловека), так
как Батай самостоятельно открыл в своем озарении фантасмагорич-
ность нашего чувственного универсума. Конечно, ему не приходила в
голову теория обманчивости майи, но у него было ощущение скрытой
энергии — «непрерывного и кишащего движения», — которое преследо¬
вало его несколько месяцев и видение которого не покидало его полно¬
стью, быть может — никогда, хотя немногие из людей имеют такое же
острое чувство прочной вселенной, физиологии, надежной до тошно¬
ты, несмотря на то что его поздние сочинения показывают жадность
к познанию всеобщности реального и редкую утонченность в оценке
различных форм искусства.
278иг №е128сЬе, р. 208-209.
281Ыс1. Р. 282, ИЗ.
50
Йога, освобожденная от моральных
и метафизических наростов
Несмотря на атеизм, а иногда и на богохульства, Батай не позво¬
лял себе ни недомолвок, ни скандалов. Как и в случае с отвержени¬
ем Бога, многие удивлялись его агрессивному неприятию аскезы. «Я
ненавижу монахов. Отказ от мира, судьбы, от правды тела, на мой
взгляд, должен внушать стыд»29. Или еще: «То, что обескровленная,
безрадостная частичка жизни, отлынивающая от приступов счастья
и от свободы, способна приблизиться или претендует на то, что она
достигла высшего, — всего лишь иллюзия... Аскеза даже успешных
существ в моих глазах приобретает вид греха и немощной бедности».
Однако Батай тут же признается: «Я не отрицаю, что аскеза благо¬
приятствует опыту»30. Половое воздержание, предписываемое боль¬
шинством традиций в качестве условия, предшествующего внутренне¬
му тренингу, должно рассматриваться не с точки зрения моральных
или эстетических критериев, но под энергетическим углом. Вопреки
глупым спорам, порожденным этой темой, оно высвобождает силы и
вызывает особую поляризацию в отличие от текущей жизни. Если мы
научимся управлять сексуальной энергией, она способна приблизить
нас к внутреннему опыту, как это предполагается биологическим осно¬
ванием в восходящей индийской схеме (подъем Кундалини, с которым
Батай экспериментировал почти с самого начала своих медитаций и
который необходимо было переосмыслить): одна и та же энергия ис¬
пользуется на различных уровнях. Первая фаза углубления предпола¬
гает безразличие, и если Батай не приостанавливал своей сексуальной
активности, то она время от времени сокращалась в силу внешних об¬
стоятельств. В рассказе о первом значительном озарении летом 1939 г.,
о котором мы уже говорили, присутствует намек на воздержание, ко¬
торому ему пришлось себя подвергнуть: «Впервые, когда стена рух¬
нула, я оказался ночью в лесу. В этот день я испытал невыносимое
сексуальное желание, но я отказался от его удовлетворения. Я решил
дойти до предела этого желания, “медитируя”, без страха и образов,
связанных с ним»31.
Хотя Батай и интересовался тантризмом (ранее на нем он основы¬
вал всю свою работу, откуда и извлек для себя некоторые принципы),
в данном случае, как кажется, он его не использовал. Уже с первых
медитаций он обнаружил, что можно нейтрализовать желание, не от¬
казываясь от чувства. Позднее он отметит, что по достижении озаре¬
ния сексуальная жизнь, без сомнения, уменьшает его интенсивность,
29Sur Nietzsche, p. 125.
30L’experience intérieure, 2 éd., p. 36.
31Le coupable, 2 éd., p. 39.
51
но не препятствует ему Завершение этого опыта, возвращающего сво¬
боду и ведущего к преодолению аскезы, предполагалось тем быстрым
развитием, которое стало результатом специальных техник, сокраща¬
ющих длительность первоначального периода. Этим же объясняется и
тот живой интерес, который Батай испытывал в отношении непредви¬
денных экстазов писателей и поэтов, короче говоря, простых светских
людей, которых ничто —ни нравственные основания, ни приобретен¬
ная практика — не подготавливало к озарению. Эти невольные состоя¬
ния (сравнительное изучение которых открывало механизмы, сходные
с мистическими техниками) лежали в основании собственного исследо¬
вания Батая, и метод, который он скорее изобрел, чем извлек откуда-
нибудь, позволил ему достичь и умножить их, чтобы в конце концов
свободно и без усилий владеть ими, о чем несколькими годами ранее
он мог только догадываться.
Тесно связывая во многих своих книгах эротизм или чувство с опья¬
нением, дышащим озарением, плавно переходящим из одного регистра
в другой, отказываясь от калечащего аскетизма, Батай стремился к
методам, более подходящим для современников, которых он хотел на¬
править в самые далекие области, к «пределу возможного»: «Хорошо
бы, если бы существовал какой-нибудь учебник, освобождающий прак¬
тики йоги от моральных и метафизических наростов. К тому же и сами
эти методы могли бы быть упрощены»32. Однако он отказывался от де¬
тального описания своей техники, кроме публикации систематическо¬
го изложения тем, соответствующих тем фазам, которые он проходил:
углубленное молчание — драматический взрыв — проекция и выход за
свои пределы — скольжение к неуловимой прозрачности. Жаль только,
что вместе с тем блистанием и образами, а еще более — с тем опытом,
который он подарил нам, он не оставил единого и полного текста, опи¬
савшего бы всю последовательность психических состояний. Однако
он считал, что поспешное чтение до реального достижения того уров¬
ня, который делает практику эффективной, способно нейтрализовать
действие тем. С другой стороны, свобода импровизации казалась ему
необходимой с момента овладения концентрацией. Он знал, насколько
недостаточными остаются советы учебников, не дополненные устны¬
ми указаниями. «Написанное может лишь оставить следы пройденного
пути. Остальные пути тоже возможны — при условии понимания того,
что подъем неизбежен и что он требует борьбы с силой притяжения»33.
Батай прекрасно знал и о различии обстоятельств, и об отсутствии
32 Méthode de méditation, p. 14 (см. также переиздание: L’experience intérieure,
p. 212). Несмотря на такое название, не стоит искать в этом коротком сочинении
учебник, описывающий техники (они упоминаются лишь попутно): в большей сте¬
пени Батай стремится определить место различных приемов и результатов опыта.
33Mesures, 15 avril 1940, p. 137.
52
привлекательности в видимой банальности мистических техник, и о
неестественности самоуглубления. Если прежде всего он был разоча¬
рован тем, что так мало продвинулся на пути, к которому был при¬
зван, то некоторых своих друзей он все же сумел приобщить к меди¬
тации. Потом началась война. Будучи в почти полной изоляции, он
продолжал углублять свой опыт, хотя ему хотелось бы увидеть «об¬
щину искателей». Наконец, подобно Ницше, главное из того, что он
стремился передать другим, ему пришлось доверить бумаге. Не ис¬
ключено, что благодаря точности и богатству анализа три или четыре
издания, заслуживающие объединения в одном-единственном томе, в
которых Батай наметил свое внутреннее движение, станут основани¬
ем для появления этой невидимой «общины» без связей, которую он
видел сообществом неизвестных и рассредоточенных, идущих в но¬
чи. Эта община, свободная от догматических пут, была бы основана
исключительно на «опыте». Это были бы жители Запада, более много¬
численные, чем принято считать, в течение 25-30 лет практикующие
различные формы медитаций, пришедших из Азии, однако вне приме¬
нения в медицинских целях итоги этих, еще разрозненных, опытов до
сих пор не были подведены. Медитирующие, достигшие продвинутых
состояний, остаются редкостью, и найдется немного столь же полных
свидетельств, какие оставил Жорж Батай. Несмотря на то, что ее ино¬
гда заслоняет, неподдельная искренность его очерков позволяет лучше
понять те исключительные состояния, подлинность которых мы нико¬
гда не сможем оценить.
Перевод К. В. Преображенской
МИШЕЛЬ ЛЕЙРИС
ОТ БАТАЕВСКОГО НЕВОЗМОЖНОГО
К НЕВОЗМОЖНЫМ ДОКУМЕНТАМ
Я познакомился с Жоржем Батаем благодаря его коллеге из На¬
циональной библиотеки Жаку Лаво, выпускнику Высшей школы хар¬
тий, как и сам Батай, и автору диссертации о Филиппе Депорте1. В
1924 г. — в тот год, когда я стал сюрреалистом, — Лаво, с которым мы
были знакомы довольно давно и который, будучи значительно стар¬
ше меня, приобщил меня к современной литературе, представил нас
друг другу, в некотором смысле для того (как он сообщил мне позже),
чтобы понаблюдать, какую киноварь даст подобный контакт. Все это
произошло в весьма спокойной и буржуазной обстановке близ Елисей-
ских полей в кафе «Мариньи» однажды вечером, уж не вспомню, в
какое время года (только не летом, так как, мне кажется, помимо се¬
рой фетровой шляпы Батай носил городское пальто с черно-белыми
шевронами).
Я очень быстро привязался к Батаю, который был не намного
старше меня. Я не только восхищался его кругозором, куда более об¬
ширным и разнообразным, нежели мой, но и его нонконформистским
умом, отмеченным тем, что тогда еще не было названо «черным юмо¬
ром». Мне также очень импонировал его внешний вид: худощавый,
немного романтичный и тем не менее современный, он обладал (бу¬
дучи к тому же, конечно, молод и скромен) элегантностью, которая
никогда его не покинет, даже когда его отяжелевшая осанка придаст
ему несколько простоватый вид, знакомый большинству, кто его знал,
элегантностью неявной, без нарочитого блеска. С этими впавшими и
достаточно близко посаженными глазами, отражавшими всю небесную
синь, хорошо сочетался несколько звериный рот, чуть приоткрытый
улыбкой, которую я (может быть, ошибочно) считал саркастической.
1 Филипп Депорт (Philippe Desportes, 1546-1606)—французский поэт, фаворит
Генриха II. — Прим. пер.
© С. Б. Рындин, перевод, 2006
54
Поль Валери, на которого Батай смотрел как на идеального пред¬
ставителя академизма, был для него — уже в силу этой идеальности —
врагом номер один. Дух дадаизма тоже не находил у него поддерж¬
ки, и он говорил, что было бы хорошо создать движение Да (От),
вечно со всем согласное, которое одерживало бы верх над движением
Нет, каковым являлась Дада, тем, что избегало бы наивности систе¬
матического и вызывающего отрицания. Некоторое время мы лелеяли
проект, который, впрочем, ничем не закончился, создания журнала, —
и в этом мы были похожи на большинство только что познакомивших¬
ся молодых интеллектуалов, которые открывали друг в друге, как в
литературном плане, так и во всех остальных, некие общие взгляды.
Главная особенность этого проекта заключалась в том, что, по воз¬
можности, мы хотели разместить редакцию нашего издания в одном
из борделей старого квартала Сен-Дени, в борделе, куда нас однажды
привели наши ночные скитания и который нам приглянулся своей до¬
вольно грязной и ветхой обстановкой. Разумеется, мы пытались при¬
общить к редакционной работе и женский персонал этого борделя;
поэтому 24 декабря в расчете на предстоящую публикацию я даже за¬
писал несколько сновидений, рассказанных нам девушками. Сон Габи:
«Я сделала вышивку на комбинации. Положила ее в раковину, чтобы
постирать — струя воды унесла ее. Я бросилась за ней, но вместо во¬
ды обнаружила нескончаемую вереницу лестниц». Еще один сон Габи:
«Я покупаю револьвер, чтобы убить приятеля моей младшей сестры.
Чем больше крови я видела, тем больше мне хотелось стрелять». Сон
Маринетты: «Я гуляла со сворой небольших черных собак и белым
котом. Собак я держала на поводке, кота нет. Затем они превратились
в облака».
Батай тогда еще не проявил себя как писатель. Еще не вышли ни
История глаза, ни статья об ацтеках, написанная по случаю одной
известной выставки искусства доколумбовой Америки, в которой бы¬
ло заявлено о той полуобъективной-полусубъективной манере письма,
что он так блестяще разовьет впоследствии. Тем не менее, несмотря на
наше недавнее знакомство, он рассказал мне о романе, в котором он
выходил на сцену под видом известного убийцы Жоржа Троппманна
(являющегося частичным омонимом самого Батая), но который впо¬
следствии принял форму рассказа от первого лица. Возможно, речь
шла о романе IV. (7., каковой манускрипт он в конце концов уничто¬
жил. От этого романа сохранился только один эпизод — история Дир-
ти (очевидно, намеренное уничижение от имени Дороти)2, поначалу
опубликованная отдельно, предваренная эпиграфом из Гегеля и ко¬
2Англ. dirty —значит «грязная». А полное имя Доротея — «благородная». Игра
слов была чрезвычайно распространена в сюрреалистической среде. — Прим. пер.
55
ротким, но практически неизмененным комментарием самого Батая,
а после использованная как введение к Небесной сини3. Насколько
я помню, эта история, разворачивающаяся в лондонском отеле «Са¬
вой»,—в том примитивном виде, в котором я с ней ознакомился,—
была первой главой (меж собой мы называли ее «главой “Савоя”»),
за ней следовал фламандский эпизод, в котором красивая, богатая
и молодая англичанка Дирти в сопровождении рассказчика предава¬
лась оргиям с торговками рыбой прямо на рабочем месте последних.
В двух этих главах, где все действие разворачивалось между полю¬
сами аристократического люкса и буквально базарной вульгарности,
ощущался дух Милорда Арсуйского (он исчезнет, когда Батай изба¬
вится от всякого наносного романтизма, продолжавшего тлеть у него
внутри).
Не уверен, но, кажется, именно в этот период нашей дружбы Батай
посоветовал мне прочесть произведение, которое он считал основопо¬
лагающим: Записки из подполья Достоевского, —повесть, герой и (как
известно) предполагаемый автор которой очаровывают своей одержи¬
мостью быть тем, кого на бытовом языке называют «невозможным»
человеком, нелепым и до предела отвратительным. Как бы то ни было,
Батай —в те времена завсегдатай притонов и любитель проституток,
как многие герои русской литературы, — высоко ценил Достоевского и
в истории Дирти не мог обойтись без намека на великого романиста.
«Предшествующая сцена была по всем статьям достойна Достоевско¬
го», — объявляет он, передавая сцену пьянства и омерзительной оргии,
разворачивающуюся в лондонской гостинице, flash back4.
Некоторое время спустя я ввел Батая в тот круг, который в плане
живописи и поэзии был в последние два года моей питательной средой.
Эта небольшая группа в качестве сборного пункта использовала распо¬
ложенную на улице Бломе, 45 и напоминавшую своей обветшалостью
что-то из Достоевского мастерскую художника Андре Массона — авто¬
ра превосходных и необычных рисунков, сексуальная развязность коих
напоминала возврат к истокам мироздания, который иллюстрировал
произведения Батая, как Историю глаза, так и другие его тексты, где
сливаются воедино эротизм, космогонический лиризм и философия
сакрального.
Когда вслед за Массоном, но чуть ранее его соседа по мастер¬
ской Хуана Миро я примкнул к сюрреалистическому движению, Батай
остался от него в стороне. Единственный его вклад в Сюрреалисти¬
3См. русское издание: Батай Ж. Небесная синь // Батай Ж. Ненависть к поэ¬
зии. М., 1999. С. 91—173. — Прим. ред.
4Ретроспективно (англ.). — Прим. пер.
56
ческую революцию5 заключался в публикации подборки «фатразий»6
в № 6 вместе с его же комментарием, не подписанным даже инициа¬
лами. Благодаря эрудиции выпускника Высшей школы хартий он был
знаком с этими небольшими французскими стихотворениями XIII в.,
которые можно рассматривать как шедевры нонсенса; он мне расска¬
зывал о них ранее и как раз мне-то их и вручил.
Поначалу недоверчивый, затем отрыто враждебный к сюрреализ¬
му (в то время, т. е. в 1929-1930 гг., он стал ответственным секретарем
журнала Документы и центром произошедшего в среде сюрреалистов
раскола), Батай, который на предложение сюрреалистов обсудить в
рамках обширной конференции «случай Троцкого» выдвинул, как би¬
рюк, такой отказ: «Слишком много идеалистического занудства», впо¬
следствии сближается с Бретоном, так же как и с Элюаром; ими дви¬
жет взаимное уважение, и они даже вместе сотрудничают как на лите¬
ратурном поприще (в журнале Минотавр), так и на политическом —
когда Батай предпринимает попытку создания антифашистского дви¬
жения Контратака, хотя по существу он так и останется чуждым
самой группе.
Только благодаря Документам он впервые очутится во главе ко¬
лонны. Нельзя сказать, что он обладал бесконтрольной властью, но
теперь кажется, что этот журнал был сделан по его образу и подо¬
бию: издание-янус, одной своей стороной обращенное к высшим сфе¬
рам культуры (подданным которой в той или иной степени, в силу
занимаемого им поста и образования, был Батай), а другой —к той
первобытно-дикой зоне, для коей нет ни географической карты, ни
какой бы то ни было визы.
В издаваемом на деньги антиквара Жоржа Вильденштейна, дирек¬
тора La Gazette des Beaux-Arts, журнале Документы помимо самого
Батая сотрудничали Жорж-Анри Ривьер, заместитель директора Му¬
зея этнографии Трокадеро, и немецкий поэт и специалист по эстетике
Карл Эйнштейн, занимавшийся современным западным искусством, к
тому же автор первой работы, посвященной «черному искусству» (art
nègre). Сотрудники журнала представляли различные области знания:
так, с писателями, находившимися на передовой литературного дви¬
жения, — большинство из них были бывшими сюрреалистами, объеди¬
нившимися вокруг Батая, — соседствовали представители совершенно
разных дисциплин (истории искусства, музыковедения, археологии,
этнологии и т. д.), некоторые были работниками исследовательских ин¬
ститутов или занимали высокие посты в музеях и библиотеках. В соб¬
5 Сюрреалистическая революция (La Révolution surréaliste) — журнал, издавае¬
мый А. Бретоном. — Прим. пер.
6«Фатразии» — абсурдистские стихотворения Филиппа де Бомануара. — Прим.
пер.
57
ственном смысле слова «невозможная» смесь, не столько в силу раз¬
нообразия дисциплин — и недисциплинированности, — сколько в силу
неоднородности самих персонажей: одни — откровенно консервативно¬
го склада ума или по крайней мере нацеленные (как Эйнштейн) исклю¬
чительно на написание критической работы либо работы по истории
искусств, другие (такие, как Батай, которого поддерживал Ривьер и
которому я некоторое время оказывал содействие на посту редакцион¬
ного секретаря, заменив поэта Жоржа Лембура и уступив затем этот
пост этнологу Марселю Гриолю) старались использовать журнал как
военную машину против всевозможных прописных истин.
В рекламном тексте, распространенном вместе с первым выпуском
журнала, некоторые строки, кажется, явно принадлежали перу Батая:
«Произведения искусства — самые раздражающие и еще не подверг¬
шиеся классификации — и некоторые редкие, до сих пор неизвестные
произведения будут предметом столь же строгого и столь же научного
изучения, как и находки археологов... Мы представляем здесь факты,
более всего вызывающие беспокойство, — факты, последствия которых
еще не были заранее определены. В этих разнообразных исследовани¬
ях из-за ненависти к пошлости и любви к юмору будет сознательно
подчеркнут, а не завуалирован, как это всегда происходит из сообра¬
жений благопристойности, порой абсурдный характер полученных ре¬
зультатов и используемых методов». Достаточно полистать подшивку
Документов в хронологическом порядке, чтобы заметить, что после
такого осторожного начала акцент сместился на те программные ста¬
тьи, которые изначально, казалось, лишь указывали на то, в каком ду¬
хе будет выдержан журнал, впоследствии не избежавший той участи,
что обычно уготована журналам по искусству. Довольно быстро все
вызывающее, причудливое, если не сказать — тревожное, становится
не столько объектом исследований, сколько неотъемлемой чертой са¬
мих работ, странной амальгамой, в состав которой входило множество
несуразных элементов; такие тексты соседствовали с воплощающими
самую строгую науку работами или с репродукциями древних и совре¬
менных произведений искусства, чья ценность не давала ни малейшего
повода для дискуссии.
Батай дебютировал в Документах двумя статьями, достойными
выпускника Высшей школы хартий и библиотекаря в отделе медалей
Национальной библиотеки: первая — Академический конь, о галльских
медалях, вторая — Апокалипсис из Сен-Севера, описание средневеко¬
вого манускрипта. И все же уже здесь возникают темы, которые Батай
будет развивать впоследствии: косматые формы (формы кельтских
изображений лошадей), представляющие собой «ответ шутовской и
ужасной человеческой ночи на пошлость и высокомерие идеалистов»;
живительная роль «грязных и кровавых деяний» (тех, что можно об¬
58
наружить в героическом эпосе или в таких миниатюрах, как миниа¬
тюра из Сен-Севера).
В третьем номере Документов, в статье с парадоксально идилли¬
ческим названием Язык цветов, Батай делает первый набросок агрес¬
сивно антиидеалистической философии, которая, принимая различ¬
ные формы, и станет его собственной философией до того момента,
пока, проявив интерес к понятию сакрального, он не начнет выраба¬
тывать ту мистику «невозможного» (того, что преодолевает пределы
возможного и чьи поиски есть чистая трата) и ту доктрину — или, ско¬
рее, антидоктрину — «незнания», благодаря коим, уже достигнув зре¬
лого периода, он преодолел иконоборческий раж своего юношеского
протеста и стал распространять среди тех, кто хотел его услышать,
более действенное учение: у него появилось больше опыта и знаний, и
он стал лучше их контролировать. Эта статья, которую можно назвать
инаугуральной, позволила автору опубликовать несколько репродук¬
ций несообразных растительных форм (словно эта несообразность не
являлась предметом здравого смысла, а была дана уже в самой при¬
роде) и, наконец, напомнить об известном поступке маркиза де Сада,
обрывавшего лепестки розы над ямой с навозной жижей. Тем не ме¬
нее придется дождаться четвертого номера журнала, чтобы Батай —
упорный труженик, который может сделать вид, что ничего не дела¬
ет, но при этом не прекращать работу мысли, — решился окончательно
раскрыть карты.
Статья Человеческое лицо, проиллюстрированная фотографиями,
одна из которых сделана в 1905 г. на свадьбе мелких буржуа, облада¬
ющих какой-то невозможной внешностью (другие представляли теат¬
ральных деятелей и прочих персонажей конца прошлого (т. е. XIX. —
С. Р.) века, уже поприличнее, но в невероятно устаревших одеждах, в
несовременных позах и с несуразными выражениями лиц),—настоя¬
щее преступление автора этой шутовской галереи «до умопомрачения
невероятных» созданий, которые суть всего лишь мужчины и женщи¬
ны, что могли бы быть нашими родителями, против убаюкивающей
идеи о человеческой природе, чья непрерывность якобы предполагает
«постоянство некоторых возвышенных качеств», и против самой мыс¬
ли о «включении природы в рациональный порядок». Вскоре за ней по¬
следует статья Большой палец ноги, в которой Батай некстати (и здесь
уместно так сказать7) публикует репродукции двух больших пальцев
ноги и комментарий к ним, где говорится, что если нога рассматри¬
вается как табу и выступает объектом эротического фетишизма, так
это потому, что она напоминает человеку, чьи ноги находятся в грязи,
7Лейрис здесь обыгрывает название статьи, используя выражение mettre les
pieds dans le plat, дословно означающее «положить ноги на блюдо», т. е. «совершить
оплошность», «сказать что-то некстати». — Прим. пер.
59
а голова вздымается к небу, что жизнь его — всего лишь «непрестан¬
ное движение туда-сюда, от грязи к идеалу и от идеала к грязи». Эта
страсть к антиидеализму найдет свое незаконченное выражение и в
статье Низкий материализм и гнозис, тексте манихейского направ¬
ления, главным образом посвященном гностическим резным камням:
ставя в один ряд «абстрактного Бога (или просто идею) и абстракт¬
ную материю, надзирателя и тюремные стены», Батай узнает в тех
чудовищных божествах, что вырезаны на этих камнях, — здесь уже
присутствует и мотив ацефала, которому позднее он сообщит более
эмблематическую значимость, — «изображение чего-то такого, в чем
можно увидеть образ той низменной материи, которая одна, по своей
несообразности и поразительной грубости, позволяет разуму уйти от
давления идеализма».
Будучи искусствоведческим журналом, Документы продолжали
выполнять намеченную программу. Находили в них свое место и акту¬
альные «документы» (например, относящиеся к скандалу, поднятому
в свое время Курбе и Мане, или неопубликованный текст кубиста Ху¬
ана Гри). Современные произведения известных художников или уже
почти признанных рассматривались под новым углом, нежели тот, что
обычно практикуют искусствоведы, а неисчерпаемое творчество Пи¬
кассо послужило материалом для специального выпуска, в котором
не преминул принять участие крупнейший социолог Марсель Мосс.
К тому же, например, оказалось, что Документы, по крайней мере
во Франции, стали первым журналом, воздавшим должное гениаль¬
ному Антуану Карону — старому и тогда почти неизвестному худож¬
нику, — а также сотрудничающим с другими неизвестными художни¬
ками, каковыми тогда были Альберто Джакометти, Гастон-Луи Ру,
не считая Сальвадора Дали (который вскоре, к великому несчастью
Батая, примкнул к сюрреалистам). Даже если речь шла зачастую о
весьма маргинальных вещах, которые имели, однако, более или менее
непосредственное отношение к эстетике и попадали в поле этногра¬
фии или фольклора, журнал не отходил от своей намеченной теоре¬
тической линии, и Батай собственными работами, — каковы бы ни бы¬
ли те заключения, к которым он приходил, — в целом вел успешную
игру, используя анализ формы или иконографии как отправную точ¬
ку большинства своих статей. Тем не менее, конечно, любительская
аудитория, которой в первую голову и был адресован журнал, ока¬
залась дезориентирована не только содержанием текстов Батая и его
ближайших сподвижников, но и тем, чем в конце 20-х годов обернулся
шокирующий разрыв этого искусствоведческого журнала с привычной
практикой подобных изданий: живой интерес к афроамериканскому и
даже парижскому мюзик-холлу, к джазу, к звуковому кинематогра¬
фу, делавшему тогда свои первые шаги, к прекрасным заокеанским
60
кинозвездам, к звездам кафе-шантанов, к народным картинкам в духе
обложек Фантомаса или иллюстраций к газетным рубрикам Происше¬
ствия, а также к другим маргинальным темам (анахроническим па¬
мятникам наших садов и площадей, детским книжкам, карнавальным
маскам), —все это соседствовало с фотографиями, которые Батай —
не без некоторого ребячества — вводил в журнал только ради того,
что на них можно было обнаружить необычного, т. е. причудливого
или замысловатого.
Редакция журнала располагалась в помещениях одного предприя¬
тия, где мы выглядели странным анклавом, самим по себе плохо ор¬
ганизованным и расколотым на фракции (что соответствовало разно¬
родности нашей эпохи и что частично объясняет скорее противоесте¬
ственную, чем эклектическую пестроту издания); мы были неспособны
найти для своего журнала достойного метранпажа, который сгладил
бы некоторые его шероховатости, и в конце концов мы были распуще¬
ны издателем, коего до некоторой степени развлекал нонконформизм
финансируемого им журнала (может быть, сколь лестный для него,
столь и пугающий), который он все же хотел сделать более рентабель¬
ным.
В последнем номере Батай посвящает объемную статью Ван Го¬
гу, в каковой проводит параллель между отрезанием уха и мотивом
солнца, явно или неявно присутствующим в творчестве художника.
Хорошо известно, насколько мотив слепящего солнца, связанный с те¬
мой жертвоприношения как внешнего самопроецирования в экстазе
или смерти, важен в творчестве Батая, который, будучи уступчивым
в деталях, но несговорчивым, если он хотел поставить читателя пе¬
ред поразительным фактом, стал главным в той игре, той странной
партии в поддавки, каковой оказалась история Документов.
Этот журнал, большинству сотрудников которого (Батаю и его еди¬
номышленникам с их барочными и почти всегда в чем-то дерзкими
письменами, Эйнштейну с его тяжелым и, можно сказать, неперево¬
димым языком), казалось, платили за то, чтобы они, каждый на свой
манер, придали ему «невозможный» характер, в прямом смысле слова
доказал невозможность своего существования, выдержав только пят¬
надцать номеров.
Не будет ли игрой слов такое описание зародившейся на заре на¬
шего знакомства литературной жизни Батая, продлившейся тридцать
с небольшим лет: невозможный человек, которого привлекало все
неприемлемое, что попадалось ему на глаза и о чем он стремился рас¬
сказать в журнале Документы, затем расширил свои взгляды (соглас¬
но своей давней идее преодоления нет! стучащего ногами ребенка) и,
осознавая, что человек являет собой единое целое, если только находит
собственную меру в этой чрезмерности, стал человеком Невозможного,
61
стремящимся достичь той точки, где в дионисийском головокружении
смешиваются высокое и низменное, где стирается дистанция между
всем и ничем?
Но когда речь идет о Батае, вероятно, нелепо пытаться определить
рамки его пути, словно его мысль была достаточно прямолинейной,
чтобы найти точки отсчета и прибытия. Изначально поставив себя под
знак невозможного, Батай образовал вокруг себя непроходимое поле,
тем самым устранив возможность, в частности, и для своего друга, что
подписывается под этими строками, вложить в них что-то большее,
чем слабый и неуверенный отблеск друга ушедшего.
Перевод С. Б. Рындина
Е. Д. ГАЛЬЦОВА
ЛАБОРАТОРИЯ АВАНГАРДИСТСКОЙ МЫСЛИ:
КРИТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЖУРНАЛА ДОКУМЕНТЫ
(1929-1930)
На фоне сюрреализма 1920—1930-х годов
Идея создания Критического словаря, основными авторами и вдох¬
новителями которого были Жорж Батай и Мишель Лейрис, возникла
в русле сюрреалистических поисков универсальной суммы понятий,
феноменов и образов1, воплощенной в энциклопедическом жанре. Во
французской сюрреалистической среде изначально существовал инте¬
рес к словарям: с одной стороны, как к буржуазному культурному ин¬
ституту, который сюрреалисты подвергали критике, а с другой — как
к некой неизбежной форме, которая, пусть и в пародированном ви¬
де, служила для осмысления и распространения их собственных идей.
Словарь удовлетворял страсть сюрреалистов к созданию эффектных
дефиниций новых понятий в сочетании с отрицанием логической упо¬
рядоченности, альтернативой которой мог бы стать произвольный по
сути своей алфавитный порядок. Напомним в связи с этим некоторые
подробности из истории французского сюрреализма.
Еще в дадаистскую эпоху Луи Арагон пишет поэтическое произ¬
ведение Суицид, которое представляло собой просто алфавит. Резуль¬
таты различных опросов, проводимых журналом Литература, публи¬
ковались зачастую в алфавитном порядке, как, например, знаменитая
Ликвидация (1921), где будущие сюрреалисты выражали свое отноше¬
нию к тем или иным литературным авторам. Создавая группу сюрреа¬
листов, Бретон призывал к установлению «нового порядка» и скромно
добавлял: «да хотя бы алфавитного». Разумеется, не без иронии, обыг¬
рывая наивную примитивность той мысли, что абсолютная условность
алфавитного порядка могла быть использована в качестве противовеса
1 Более подробно о сюрреалистических словарях см. нашу статью: Galtsova Е.
Semé à tout vent: le surréalisme en dictionnaire // Critique. 1998. N608-609. P. 1027-
1039.
© E. Д. Гальцова, 2006
63
порядку буржуазных ценностей, с которым как раз и боролся Бретон.
Но во время существования сюрреалистической группы возникали са¬
мые разнообразные произведения словарного жанра, а сам Бретон не
раз демонстрировал свое пристрастие к вполне «буржуазным» слова¬
рям. Так, например, само определение сюрреализма в Первом мани¬
фесте (1924) дается в форме словарной статьи, какая была в ту эпоху
принята в словарях издательского дома Лярусс2. Любопытно, что та¬
кой официальный культурный институт, коим был многотомный сло¬
варь Большой Лярусс XX в., почти полностью скопировал в 1933 г. это
бретоновское определение сюрреализма3... Насколько серьезным бы¬
ло увлечение Бретона словарями Лярусса, сказать точно мы не можем,
но ясно одно: они привлекали его внимание и даже определенным обра¬
зом «зачаровывали». Так, например, в 1926 г. в трактате Сюрреализм
и живопись Бретон вспоминает об эмблеме издательского дома, при¬
думанной в 1890-е годы Эженом Грассе,— девушке с одуванчиком в
стиле модерн: «Реальность находится на кончиках пальцев женщины,
дующей на одуванчик на первой странице словарей»4. Впоследствии
эта фраза войдет в Краткий словарь сюрреализма (1938) в качестве
статьи Реальность.
Сам Бретон всегда мечтал о создании чего-то вроде сюрреалисти¬
ческого словаря. Так, в январе 1925 г., буквально вскоре после орга¬
низации сюрреалистической группы и журнала, Андре Бретон писал
Денизе Леви: «Нам необходимо создать каталог сюрреалистических
идей и выстроить глоссарий чудесного, предназначенный для позд¬
нейшей публикации, где в форме библиографии и критики было бы
собрано все, что могло бы дать людям документальное свидетельство
в сфере фантастических произведений любого порядка, выходивших
до наших дней во всех странах мира»5. Эта идея Бретона так и не
была воплощена в художественной практике 20-х годов, но в какой-то
мере ее отголоском можно считать уже упоминавшийся Краткий сло¬
варь сюрреализма, а также Антологию черного юмора Бретона и мно¬
гочисленные антологии, созданные сюрреалистической группой. Что
касается формирования сюрреалистической идеологии 20-х годов, для
нас важен сам факт, что идея создания словаря или «глоссария» не
перестает волновать сюрреалистов.
2 См. перевод Первого манифеста, сделанный JI. Г. Андреевым и Г. К. Косико-
вым, в: Называть вещи своими именами. М., 1986. С. 40-72.
3 А Бретон, конечно же, отметил вхождение сюрреализма в этот словарь в своей
брошюре 1934 г. Что такое сюрреализм?
4Breton A. Le Surréalisme et la peinture// La Révolution surréaliste. 1926. N6.
P. 32 (см. также переиздание: Breton A. Le Surréalisme et la peinture. Paris, 1965.
P. 11). Журнал La Révolution surréaliste был факсимильно переиздан в 1975 г. в
Париже издательством Jean-Michel Place.
5Цит. по: Naville P. Le Temps du surréel. Paris, 1977. P. 307.
64
Фотограф и художник Жак-Андре Буаффар опубликовал в июль¬
ском номере журнала Сюрреалистическая революция за 1925 г. Но¬
менклатуру, в которой были даны шутливые характеристики членов
группы Бретона —в алфавитном порядке имен (именно имен, а не фа¬
милий). Эта Номенклатура продолжала уже создавшуюся в группе
иронически-коммеморативную традицию, которая была воплощена в
сборниках Эпитафии (1919) Филиппа Супо, Кладбище пассажиров
«Семийант» (1922) Робера Десноса, а также в знаменитой картине
Макса Эрнста На встрече с друзьями (1922), где представлены не
только соратники Бретона, но и его «предшественники»—Достоев¬
ский, Рафаэль...
Номенклатура Буаффара была не единственным и не первым про¬
явлением, так сказать, «словарной страсти» сюрреалистов, но служи¬
ла дополнением к Глоссарию Мишеля Лейриса, который начал пуб¬
ликоваться начиная с апрельского номера Сюрреалистической рево¬
люции за 1925 г. В эту эпоху Лейрис был одним из самых ревност¬
ных членов группы Бретона. Глоссарий, а точнее — Glossaire j’y serre
mes glosses (букв.: «Глоссарий, в который я втискиваю свои глоссы»),
являл собой список расположенных в алфавитном порядке слов, ко¬
торым Лейрис давал определения исходя из поэтических возможно¬
стей их формы. Например: «Evasion — hors du vase, vers Eve et Sion!»
(«Бегство —вон из вазы, к Еве и Сиону»); «Ingénu —le génie nu» («Ин¬
женю—голый гений»); «Révolution — solution de tout rêve» («Револю¬
ция-разрешение любой грезы») и пр. Помимо упомянутой публи¬
кации Глоссарий выходил в № 4 (июль 1925 г.) и №6 (март 1926 г.)
журнала Сюрреалистическая революция. Первую публикацию сопро¬
вождала небольшая заметка Антонена Арто, в которой он характе¬
ризовал предприятие Лейриса как «средство безумия, уничтожения
мысли, разрыва, лабиринта неразумности, а не СЛОВАРЬ, в коем
педанты с берегов Сены концентрируют свою духовную ограничен¬
ность». В том же номере журнала и сам Лейрис дает объяснение сво¬
его Глоссария, настаивая на его отличии от общепринятых словарей,
где объясняются общеупотребительный смысл и этимология: Лейрис
же стремится выявить в языке то, что он обозначает не абстрактно
для всех, а для каждого человека в отдельности. «Рассекая любимые
нами слова, не заботясь ни об этимологии, ни о принятом смысле,
мы открываем их самые скрытые возможности и тайные разветвле¬
ния, пронизывающие весь язык: они концентрируются в ассоциациях
звуков, форм и идей. Тогда язык превращается в оракула, и мы об¬
ретаем (сколь угодно тонкую) путеводную нить в Вавилоне нашего
духа»6.
6La Révolution surréaliste. 1925. N3. P. 7.
65
Позднее Лейрис описывал Глоссарий более академично: «Игра слов
в форме словарных дефиниций: за словом-призывом следовало то, что
подсказывалось — вне общепринятого значения —его звуковыми или
графическими элементами, которые связывали его с другими слова¬
ми»7. Впоследствии, в конце 30-х годов, и уже совершенно независимо
от сюрреализма, Лейрис вернется к своему Глоссарию, который бу¬
дет значительно расширен и опубликован отдельной книгой. В 1939 г.
он осмысляет Глоссарий в экзистенциальном плане: «Позволить сло¬
вам воодушевляться, обнажаться и демонстрировать нам случайно — в
мгновение, когда бросается жребий, — некоторые из наших оснований
жизни и смерти. Таковы условия игры. На полпути между грязной
землей и возвышенными сводами, что доходят до небес, подобно ре¬
бенку, сжившемуся с собственной ролью, играет свою игру поэзия»8.
Что же касается сюрреалистических попыток создания словаря, то
они были воплощены Андре Бретоном и Полем Элюаром в 1938 г.
в Кратком словаре сюрреализма. Этот словарь был частью каталога
Международной сюрреалистической выставки, которая проходила в
начале 1938 г. в Париже, и сам являл собой своеобразную «выставку
достижений поэтического сюрреализма», поскольку в нем были собра¬
ны в основном цитаты из произведений самых разных авторов, боль¬
шинство из каковых принадлежало группе Бретона: Краткий словарь
был во многом антологией сюрреализма, или, точнее, каталогом фраг¬
ментов, обрывков текстов. Эти цитаты обладали самоценностью, заме¬
щая собой объяснительный или критический дискурс: читателю оста¬
валось лишь заучивать формулировки.
В Краткий словарь вошли статьи о сюрреалистических авторах во
всем мире, о предшественниках сюрреализма, об основных понятиях
и образах, выработанных в группе Бретона, об отдельных сюрреали¬
стических произведениях. Подобно другим энциклопедическим пред¬
приятиям группы, этот словарь был пародией на «серьезный» словарь,
например на целый жанр «кратких словарей», который был очень рас¬
пространен во Франции в XVIII и XIX вв. Однако, несмотря на свой
разрушительный пафос, Краткий словарь сюрреализма, будучи одним
из первых «дайджестов» сюрреализма, был не чужд некоторого куль¬
турного конформизма (ибо был рассчитан на широкий круг читате¬
лей), поэтому неудивительно, что его словник послужил впоследствии
основой для академических словарей сюрреализма, создаваемых для
широких читательских кругов и специалистов.
7Цит. по: Yvert L. Bibliographie de Michel Leiris. Paris, 1996. P. 100.
8Leiris M. Brisées. Paris, 1966. P. 69.
66
Журнал Документы
Итак, факт публикации словаря в периодическом издании фран¬
цузских авангардистов — факт вовсе не беспрецедентный: примером
тому могут служить публикации в Сюрреалистической революции.
Интересующий нас иллюстрированный журнал Документы про¬
существовал два года (1929-1930), за которые вышло 15 номеров. С
точки зрения времени это недолго. С точки зрения объема и интен¬
сивности публикаций журнал явно отличался от эфемерных периоди¬
ческих изданий французского авангарда, за исключением, разумеет¬
ся, его лидеров — сюрреалистов. Но в отличие от прославленных жур¬
налов Андре Бретона (Литература, Сюрреалистическая революция,
Сюрреализм на службе революции, Минотавр) Документы долгое
время оставались в тени и в 70-80-е годы, когда во Франции выхо¬
дило большое количество факсимильных воспроизведений авангар¬
дистской периодики, Документы были доступны лишь узкому кру¬
гу специалистов и библиофилов — до тех пор, пока его не переизда¬
ли в 1991 г. Широкой же публике об этом журнале было известно
из Второго манифеста сюрреализма (опубликованного в последнем
номере Сюрреалистической революции в декабре 1929 г.), в котором
Бретон давал яростную отповедь Жоржу Батаю и возглавляемому им
журналу Документы, где оказались вместе те, кого Бретон изгнал из
группы сюрреалистов: Робер Деснос, Жак Барон, Мишель Лейрис,
Жорж Лембур, Роже Витрак, Морис Эн, Жак Превер, Раймон Ке-
но, Жорж Рибмон-Дессень... Ответом Бретону была коллективная
брошюра Труп9, вышедшая в свет 15 января 1930 г. На журнале До¬
кументы сюрреалистическая полемика не отразилась, и бывшие сюр¬
реалисты, за некоторым исключением (о чем речь пойдет ниже), не
участвовали в руководстве журналом. Тем не менее во многом бла¬
годаря этой полемике проявилась особая роль Жоржа Батая как од¬
ного из лидеров французского авангарда: ведь в 20-е годы, казалось
бы, ничто не предвещало, что тихий служащий Национальной биб¬
лиотеки Франции станет вскоре не только возглавлять довольно пре¬
стижный журнал, но и окажется в роли вождя группы, которая сфор¬
мировалась вокруг Документов и некоторые члены которой будут
потом участвовать также в других коллективных предприятиях Ба¬
тая (журнал и тайное общество Ацефал, Коллеж социологии, журнал
Критик).
9 Название брошюры должно было напомнить о коллективном выступлении в
1924 г. группы сюрреалистов, которые опубликовали тогда брошюру, направлен¬
ную против Анатоля Франса, который и был «трупом». На этот раз «трупом»
оказывался сам Андре Бретон. См.: Бретон А. Второй манифест сюрреализма/
Пер. с фр. С. Исаева// Антология французского сюрреализма 20-х годов. М., 1994.
67
Как заметил современный французский философ Дени О лье,
«авантюра журнала Документы... берет свое начало очень дале¬
ко от авангарда, в Кабинете медалей»10 Национальной библиотеки
Франции. Именно здесь Жорж Батай познакомился со своим колле¬
гой Пьером д’Эспезелем, который помимо работы в библиотеке руко¬
водил специализированными журналами по археологии и искусству:
Arethuse: Revue trimestrielle d’Art et d’Archeologiell\ Les Cahiers de la
République des Lettres, des Sciences et des Arts (Тетради Республики
Словесности, Наук и Искусств). Он работал также и в традицио-
нальном журнале La Gazette des Beaux-Arts, директором которого был
Жорж Вильденштейн. Тот же Вильденштейн будет финансировать и
Документы.
Журнал Документы был основан Батаем, д’Эспезелем и Вильден-
штейном, и хотя Батай должен был исполнять роль «ответственного
секретаря» (букв.: «генерального секретаря»), фактически именно он
руководил публикациями. В редколлегию журнала входили немецкий
поэт и специалист по эстетике и современному западному искусству
Карл Эйнштейн, Жорж-Анри Ривьер, заместитель директора Музея
этнографии Трокадеро, сотрудник Кабинета медалей Национальной
библиотеки Франции Жан Бабелон, доктор искусствоведения Ж. Кон-
тено из Лувра, венский профессор Жозеф Стржиговски, искусствове¬
ды и археологи — Поль Пелио, Раймон Лантье, доктор Ребер и доктор
Риве. Кроме того, в первых номерах публиковался длинный список
сотрудников, среди которых были известные этнографы, историки ис¬
кусств, музыковеды, киноведы, театроведы, писатели, критики, пси¬
хологи, философы, социологи12.
Авторами этого научного журнала были прежде всего специали¬
сты: искусствовед и писатель Карл Эйнштейн, искусствоведы Жорж-
Анри Ривьер и Анри-Шарль Пуэш, этнолог Марсель Мосс, нумизмат
Жан Бабелон, этнограф-африканист Марсель Гриоль и др. Как было
сказано выше, к ним присоединились некоторые бывшие французские
сюрреалисты и Алехо Карпентьер. Несмотря на обилие бывших сюр¬
реалистов, журнал не превратился в некую «альтернативу» Сюрреа¬
листической революции, это было принципиально иное предприятие,
пафос которого состоял в политической дезангажированности. И если
благодаря прежде всего деятельности Батая Документы стали откло¬
10Нoilier D. La valeur d’usage de l’impossible// Documents, reimp. Paris, 1991.
P. VII.
11Аретуза —в греческой мифологии нимфа, спутница Артемиды. — Прим. ред.
12В конце концов, не все из них написали статьи для журнала —как, например,
доктор Алланди (знаменитый друг и врач Антонена Арто), бывший итальянский
футурист Карло Карра, философы Марсель Коэн, Эрвин Панофски, писатель Ан¬
дре Мальро.
68
няться от научной элегантности специализированного журнала по ис¬
кусству то это происходило скорее в направлении некоего глубинного
философского поиска, а вовсе не в пылу полемики с сюрреалистами,
хотя несомненные следы сюрреалистического фона все же в нем при¬
сутствовали.
Особую роль в журнале играли иллюстрации. Согласно изначаль¬
ному плану его создателей, Документы должны были быть иллюстри¬
рованным изданием по искусствоведению и этнологии. Именно иллю¬
страция и является самым что ни на есть объективным «докумен¬
том». Способ представления иллюстративного материала был вполне
традиционен, в отличие от сюрреалистической периодики, где широко
использовался прием коллажа. Тем не менее визуальный ряд журнала
несомненно шокировал, но это происходило за счет выбора материала
и его сопоставления: здесь можно было увидеть самые разные карти¬
ны — от репродукций средневековых рукописей или изображений древ¬
них медалей до фотографий крови на бойне. К тому же большая часть
статей была посвящена современному искусству, разумеется, в сопро¬
вождении репродукций. Здесь были представлены и скандальные для
того времени эпизоды из творчества Курбе или Мане, а также провока¬
ционные сами по себе репродукции картин Пикассо, Де Кирико, Дали,
Массона и скульптур тогда еще малоизвестного Альберто Джакомет¬
ти. Особое место среди иллюстраций занимали фотографии различ¬
ных природных феноменов в увеличенном виде —этот в буквальном
смысле гиперреализм как нельзя более соответствовал философским
поискам Батая (о чем речь пойдет ниже), создавая парадоксальным
образом шокирующий и фантастический эффект: привычное оказыва¬
лось неузнаваемым. Наиболее ярким примером могут послужить уве¬
личенные фотографии Карла Блоссфельда, которые служили иллю¬
страциями к статье Батая Язык цветов (№3, 1929).
Программа журнала, посвященного «доктринам, археологии,
изящным искусствам и этнологии», содержалась уже в его названии,
которое в переводе с французского обозначает «документы»: журнал
должен был предоставлять объективные данные как далекого прошло¬
го, так и настоящего, независимо от их эстетической или политической
оценки. Название это предложил Батай, который как выпускник Шко¬
лы хартий и слушатель лекций Марселя Мосса в Коллеж де Франс, ра¬
зумеется, понимал научное значение документального свидетельства.
Напомним, в каком смысле Батай использовал слово «документ» в
своей дипломной работе в Школе хартий, говоря о документальной
ценности средневекового текста Орден рыцарства: «Эта поэма не об¬
ладает ни литературной ценностью, ни оригинальностью, она не пред¬
ставляет никакого интереса, кроме того, что является любопытным
старинным документом, свидетельствующим о рыцарских идеях и ри¬
69
туалах рыцарского снаряжения»13. Таким образом, «документ» рас¬
сматривается просто как некое свидетельство.
Однако уже в рекламном тексте, появившемся перед началом пуб¬
ликации журнала, Батай приоткрывает свой замысел, свидетельству¬
ющий о двойственности будущего журнала, в котором, с одной сторо¬
ны, будут представлены научные факты, а с другой — нечто, что стоит,
возможно, за пределами науки и искусства, но что должно подверг¬
нуться сугубо научному анализу. В призыве к изучению этого неопре¬
деленного и неопределяемого предмета и проявляется авангардистская
программа Батая. Приведем отрывок из указанного текста, который
цитирует в своих воспоминаниях Мишель Лейрис: «Произведения ис¬
кусства — самые раздражающие и еще не подвергшиеся классифика¬
ции—и некоторые редкие, до сих пор неизвестные произведения бу¬
дут предметом столь же строгого и столь же научного изучения, как и
находки археологов... Мы представляем здесь факты, более всего вы¬
зывающие беспокойство, — факты, последствия которых еще не были
заранее определены. В этих разнообразных исследованиях из-за нена¬
висти к пошлости и любви к юмору будет сознательно подчеркнут,
а не завуалирован, как это всегда происходит из соображений благо¬
пристойности, порой абсурдный характер полученных результатов и
используемых методов»14.
Уже в первом номере журнала, наряду с сугубо научными статья¬
ми д-ра Контено о шумерском искусстве, Поля Пеллио об искусстве
Сибири и Китая и др., появляется статья основателя журнала, Батая,
Академический конь и статья его давнего друга и единомышленни¬
ка Лейриса Заметки о двух микрокосмических фигурах, которые, при
всей своей серьезности, выбиваются из сухого стиля исследователь¬
ских работ. Это сразу же насторожило двух других основателей жур¬
нала—д’Эспезе л я и Вильденштейна. 15 апреля 1929 г., в день выхода
первого номера, д’Эспезель высказывает Батаю свои сомнения по по¬
воду того, что журнал получился таким, каким он был задуман: «Судя
по тому, что я пока увидел, избранное вами название журнала вовсе не
оправдывается, а является лишь “документом”, свидетельствующим о
состоянии ваших собственных мыслей. Это уже много, но этого недо¬
статочно. Нужно по-настоящему вернуться к тому духу, которым был
проникнут самый первый проект этого журнала, который мы заду¬
мывали вместе с г-ном Вильденштейном»15. Эти сомнения вовсе не
обескуражили Батая, наоборот, начиная со второго номера он пуб¬
13 Bataille G. Œuvres complètes. T. 1. Paris, 1992. P. 99.
lALeiris M. De Bataille l’impossible à l’impossible Documents// Leiris M. Brisées.
P. 261. (Эта статья М. Лейриса — От батаевского невозможного к невозможным
Документам — опубликована в настоящем сборнике. — Прим. ред.)
15 Bataille G. Œuvres complètes. T. 1. P. 648.
70
ликует в журнале Критический словарь. В № 3 выходит его статья с
идиллическим названием Язык цветов, в которой впервые выстраива¬
ется «агрессивно-антиидеалистическая» философия—«антидоктрина
“незнания”», как описывал ее впоследствии Лейрис16.
Чистая научность журнала оказалась окончательно скомпромети¬
рована благодаря возникшей, начиная с четвертого номера (1929 г.),
новой рубрике «Разное» (Variétés), отличавшейся совершенно несе¬
рьезным, а подчас и провокационным тоном («Разное» заменило на
обложке слово «Доктрины»). Некоторые сугубо научные статьи обре¬
тали совершенно новые и чуждые намерениям их авторов смыслы. На¬
пример, рассуждения профессора Стржиговски в первом номере жур¬
нала об отсутствии в Европе великих архитектурных стилей окажут¬
ся — помимо его воли — у истоков словарной статьи Батая (из второго
номера), посвященной архитектуре, в которой говорится об авторитар¬
ной функции архитектуры.
В результате ноябрьский номер журнала (№6, 1929) выходит уже
без престижной редколлегии, за подписью одного только ответствен¬
ного секретаря Жоржа Батая. Тем не менее журнал просуществует до
конца 1930 г. под руководством Батая. В феврале 1933 г. д’Эспезель
попытался восстановить академический дух журнала, выпустив еще
один номер, затем —в марте 1934 г.— выходит еще один, но в целом
становится ясно, что журнал восстановить уже невозможно.
Впоследствии Мишель Лейрис назвал Документы «изданием-
янусом», «одной своей стороной обращенным к высшим сферам
культуры... а другой — к той первобытно-дикой зоне, для коей нет
ни географической карты, ни какой бы то ни было визы»17. Этой
«первобытно-дикой зоной» были поиски иного способа мышления. Как
говорил Лейрис, создавалась «военная машина против всевозможных
прописных истин»18. Любопытно, что эта формулировка Лейриса ка¬
жется одним из мотивов сюрреалистического бунта 20-х годов: в самом
деле, отрицательные программы Батая и Бретона во многом схожи,
различие же в том, что предлагалось из этого создать.
16Leiris М. De Bataille l’impossible à l’impossible Documents. P. 262.
17Ibid. P. 260. Более подробно см. также статью Катрин Мобон: МаиЪоп С.
«Documents», una esperienza eretica// Georges Bataille: il politico et il sacro. Napoli,
1987. — Французская исследовательница замечает, что изначально Документы
должны были стать чем-то вроде Анналов Люсьена Февра и Марка Блока, чей
журнал как раз прекратил существование в начале 1929 г., но оказались как бы
«между» Анналами и Сюрреалистической революцией, последний номер которой
вышел в конце 1929 г.
18 Leiris М. De Bataille l’impossible à l’impossible Documents. P. 261.
71
Критический словарь и документальность
Критический словарь начал выходить во втором номере журнала
Документы (май 1929), он появлялся в 1929 г. в каждом номере, а в
1930 г.— почти в каждом (за исключением №3 и 8). Большая часть
статей была написала Батаем, Лейрисом и этнологом Марселем Гри-
олем (с которым Лейрис ездил в экспедицию); в словаре также участ¬
вовали немецкий поэт Карл Эйнштейн, бывшие сюрреалисты Робер
Деснос и Жак Барон, социолог Арно Дандье и этнограф Зденко Ре-
ич. Начиная со второго выпуска Критический словарь располагался в
рубрике «Хроника», что должно было подчеркивать функцию словаря
как некоего документа. Причем активное участие этнографа Гриоля,
а также Реича как бы укрепляло «документальные» позиции словаря
(полный список статей см. ниже).
Определение словаря как «критического» также в какой-то степе¬
ни оправдывает его «документальную» сущность. Разумеется, слово
«критический» говорит и о деструктивном, провокативном пафосе.
«Критический словарь» должен быть местом столкновения разных
точек зрения. Кроме того, слово «критический» обозначает особый
ракурс в представлении материала —не идеи и явления в их самом
универсальном и исчерпывающем значении, а, наоборот, сиюминут¬
ная точка зрения на понятия и феномены. Или несколько точек зре¬
ния: многие статьи состоят из нескольких частей, написанных разны¬
ми авторами (например, статью Глаз писали Деснос, Батай и Гриоль;
статью Метаморфоза — Гриоль, Лейрис и Батай; статью Простран¬
ство— Батай и Арно Дандье, и т.д.). В каком-то смысле Критиче¬
ский словарь предвещает будущий проект журнала Критик —с его
универсальностью и маргинальностью одновременно.
И все-таки: как соотнести Критический словарь с понятием «до¬
кумент», который как раз не требует «критики», а должен быть пред¬
ставлен во всей объективности? Возможно, д’Эспезель был прав, ко¬
гда говорил, что журнал представляет документальные свидетельства
мысли Батая. В случае с Критическим словарем речь идет о запечат¬
ленных мгновениях мысли разных авторов, которые объединяет идея
создания некоего нового способа вйдения мира и его осмысления. При¬
чем «документальность» словарных статей часто усиливается иллю¬
стративным материалом.
По своему объему изобразительный материал, использованный в
словаре, приблизительно равен текстовому, а порой как бы превышает
текст. Если текст словаря набирается традиционно мелким шрифтом,
то иллюстрации отнюдь не всегда помещены в текст (в уменьшенном
виде, как в настоящем словаре), но часто используются в большом
формате —как стандартные иллюстрации для всего журнала: наибо¬
72
лее шокирующими выглядят в таком формате фотографии Буаффара
к статьям Бойня и Рот. Любопытно, что, хотя в Документах работал
сюрреалистический фотограф Буаффар, композиция иллюстративно¬
го материала в общем-то довольно традиционна: здесь не использует¬
ся, скажем, любимый сюрреалистами коллаж. Неожиданный эффект
достигается благодаря выбору сюжета (особенно в случае с фотогра¬
фиями), а также благодаря игре с «размерами»: здесь зачастую ис¬
пользуются увеличенные фотографии (см. статью Ракообразные с ги¬
гантскими портретами краба и креветки). Причем для того чтобы эти
увеличенные изображения не считались произведением фантазии фо¬
тографа, к ним обязательно даются строго научные подписи (во сколь¬
ко раз увеличено, в какой исследовательской лаборатории проводилась
съемка и пр.).
Впервые изображения возникают в статье Глаз: фотография глаз
Джоан Кроуфорд, обложка и одна страница «совершенно садистско¬
го» (как его охарактеризовал Батай; I, с. 21519) журнала комиксов
Недремлющее Око Полиции, картина Сальвадора Дали Кровь сла¬
ще меда, абиссинский амулет, представляющий Дурной Глаз, рисунок
Гранвиля из цикла Преступление и искупление. Их связь с текстом
разная: Дурной Глаз, картина Гранвиля, Недремлющее Око и имя Да¬
ли упоминаются в статьях, которым они служат иллюстрациями, но в
случае с глазами Джоан Кроуфорд речь идет скорее о некоем допол¬
нении к тексту. В какой-то степени все эти изображения, связанные с
глазом, можно считать как бы отдельной словарной статьей. Вообще
изображения в Критическом словаре оказываются скорее не иллю¬
страциями, а самоценными элементами, которые требуют и особого
восприятия: в идеале Критический словарь необходимо читать и раз¬
глядывать. С одной стороны, эта визуальная компонента, несомненно,
один из признаков «документальности» словаря; с другой стороны, она
служит более «непосредственному» и даже более «бессознательному»
восприятию статей словаря, философия которого, как мы увидим да¬
лее, стремилась к наиболее прямому выражению феноменов.
«Документальность» словаря проявлялась и в тенденции к фор¬
мальному нивелированию личностей его создателей. В первых номе¬
рах статьи скромно подписывались лишь инициалами; в №4 и 5 за
1929 г. были даны выдержки из газетных статей ( Человек, Культы);
19 Здесь и далее будут даваться ссылки на факсимильное переиздание журна¬
ла в двух томах: Documents. Paris, 1991. Римская цифра обозначает номер тома
(I —все выпуски 1929 г., II —все выпуски 1930 г.), арабская — номер страницы (в
журнале была принята сквозная пагинация за один год). Мы не даем сносок на
существующие переиздания словарных статей из Документов: статьи Батая были
переизданы в первом томе уже упоминавшегося Œuvres complètes, а также отдель¬
ной книгой: Bataille G. Le Dictionnaire critique. Paris, 1970; статьи Лейриса вышли
в упоминавшемся также сборнике Brisées.
73
статья Труд в №2 за 1930 г. представляет собой большую цитату из
книги Киса ван Донгена, в №5 использован отрывок из Всеобщей
биографии (Братья Бонжур), в №6 Лейрис создает коллаж из ци¬
тат на тему «Ангел». Эти текстовые ready-made служили в Крити¬
ческом словаре для усиления его провокационного духа: например,
банальность газетной статьи, в которой тем не менее была дана до¬
вольно редкая информация, противостояла сложным философским
и поэтическим рассуждениями основных авторов словаря. Приведем
отрывок из статьи с гордым названием Человек, вышедшей в №4 за
1929 г., где была использована следующая вырезка из Журналь де деба
(13 августа 1929 г.), представляющего результаты химического анали¬
за человека: «Жира в человеческом теле хватит на то, чтобы сделать
из него 7 кусков мыла. В его организме железа столько, что хватит
на гвоздь среднего размера, а сахара — чтобы подсластить одну чаш¬
ку кофе. Из его фосфора можно сделать 2200 спичек... Все это сырье
можно оценить в 25 франков» (I, с. 215).
Разумеется, Критический словарь играл роль и очередного «эт¬
нографического документа» в рамках журнала Документы. В этом
смысле представляется очень существенным участие в нем профес¬
сионального этнографа-африканиста Марселя Гриоля. Гриоль пишет
свои статьи всерьез, в них он методично излагает точные научные све¬
дения. Если статьи Батая и Лейриса прежде всего напоминают паро¬
дию или поэтическое эссе, то на фоне статей Гриоля в них начинают
просматриваться некоторые позитивные знания. И именно в таком на¬
учном контексте позитивизм Батая и Лейриса оказывается скандалом:
они не придумывают, а лишь выбирают наиболее шокирующие фено¬
мены, а затем делают выводы, многократно превосходящие спокойное
этнографическое созерцание.
Этнографическим пафосом можно объяснить и стремление авторов
словаря показать редкие предметы и явления, а также наиболее редкие
черты описываемых феноменов, вплоть до — как это ни парадоксаль¬
но — самых эфемерных моментов их существования, как, например, на
фотографии падающей заводской трубы, которая сопровождала одно¬
именную статью Батая.
С другой стороны, этнографическое стремление к «редкости» про¬
являлось и в «точке зрения» на предмет — в отношении к чему-то при¬
вычному как к редкому, исключительному, что особенно заметно в
статьях Батая и Лейриса (Бойня, Плевок и др.). Разумеется, можно
вспомнить, как сюрреалист Луи Арагон рассуждал о «повседневной
мифологии» в Парижском крестьянине (1926), где самые простые и
обыденные вещи оказывались пристанищем сюрреалистических чудес,
о чем, конечно же, знали и бывшие сюрреалисты Лейрис, Барон, Дес¬
нос и Батай. Но Критический словарь был принципиально антисюр-
74
реалистическим предприятием, пусть и испытавшим влияние сюрре¬
ализма. Даже проявляя в высшей степени поэтическое мировосприя¬
тие, авторы Критического словаря стремятся быть позитивистами, а
потому здесь не может идти речи о сказочном и чудесном, но лишь
о фактах религий, верований, ритуалов и исторически сложившихся
мифологий.
Обзор статей Критического словаря
Приведем список всех статей Критического словаря в порядке их
журнальной публикации.
1929 г.
№2. Архитектура (Жорж Батай), Соловей (Карл Эйнштейн).
№3. Абсолют (Карл Эйнштейн), Материализм (Жорж Батай),
Метафора (Мишель Лейрис20).
№4. Black Birds (Жорж Батай), Человек (вырезка из Журналь де
деба, 13 августа 1929 г.), Глаз — статья, состоящая из четырех разде¬
лов: Образ глаза (Робер Деснос), Каннибальское лакомство (Жорж
Батай), Дурной глаз (Марсель Гриоль), Глаз во Французской Акаде¬
мии (без подписи).
№5. Верблюд (Жорж Батай), Культы (из New York Herald), Чело¬
век (из книги Уильяма Купера Кровавая вина человечества), Несча¬
стье (Жорж Батай), Пыль (Жорж Батай), Рептилии (Мишель Лей-
рис), Talkie (Мишель Лейрис).
№6. Бойня (Жорж Батай), Заводская труба (Жорж Батай), Рако¬
образные (Жак Барон), Метаморфоза (1. Абиссинская игра (Марсель
Гриоль); 2. Вне себя (Мишель Лейрис); 3. Дикие животные (Жорж
Батай)).
№7. Плевок (1. Плевок-душа (Марсель Гриоль); 2. Вода во рту
(Мишель Лейрис)), Разгром (Мишель Лейрис), Бесформенное (Жорж
Батай).
1930 г.
№1. Пространство (1. Проблемы приличий (Жорж Батай); 2. Ос¬
новы двойственности пространства (Арно Дандье)), Гигиена (Ми¬
шель Лейрис).
№2. Pensum (Мишель Лейрис), Порог (Марсель Гриоль), Труд (ци¬
тата из книги Киса ван Донгена).
20См.: Лейрис М. Метафора // Антология французского сюрреализма 20-х годов.
М., 1994. С. 343-348.
75
№4. Бенга (Мишель Лейрис), Эстет (Жорж Батай), Китон (Ми¬
шель Лейрис), Гончарные изделия (Марсель Гриоль).
№5. Братья Бонжур (отрывок из Всеобщей биографии), Рот
(Жорж Батай), Музей (Жорж Батай).
№6. Ангел (коллаж из цитат, сделанный Мишелем Лейрисом), Иг¬
рушка (Марсель Гриоль), Кали (Жорж Батай).
№7. Небоскреб (Мишель Лейрис), Солнце (Зденко Реич).
Несмотря на небольшой объем, словарь охватывает достаточно ши¬
рокий спектр понятий и явлений. Начнем с антропологической со¬
ставляющей словаря, в котором немаловажную роль играют статьи,
посвященные человеку: это и две статьи Человек, и статьи о частях
человеческого лица (Глаз, Рот).
Первая статья о человеке, в которой, как мы уже цитировали,
дается его химический анализ, — это не только и не столько курьез¬
ная вырезка из газеты. В первых двух номерах Документов выходят
две большие статьи Лейриса, посвященные средневековым представ¬
лениям о человеке: Заметки о двух микрокосмических фигурах XIV и
XV вв. и По поводу «Музея колдунов, магов и алхимиков», где Лейрис
напоминает, в частности, о понятии «человек как микрокосмос», кото¬
рый пребывает в постоянном взаимодействии с «большим миром», все¬
ленной, т. е. «макрокосмосом», а также пишет об алхимическом «ана¬
лизе» человеческого тела. Его статьи, сопровождаемые средневековы¬
ми изображениями, представляют собой некий «позитивный» фон, на
котором возникают и упомянутая статья о «химии» человека, и дру¬
гая (вторая статья Человек), где говорится о разрушительном начале
в человеке, уничтожающем других для своего пропитания во второй
статье Человек (см. Документы, №5).
Статья Глаз состоит из четырех разделов, написанных разными
авторами в совершенно разных стилях. Деснос приводит идеоматиче-
ские выражения, в которых упоминается слово «глаз», и объясняет
их историю, причем большая часть этих примеров связана с крими¬
нальной тематикой. Батай пишет о притягательности ужасных и от¬
вратительных зрелищ, взяв в качестве основного примера эпизод раз¬
резания глаза в фильме Андалузский пес. Тему жестокости продолжа¬
ет, но в более спокойном — научном — ключе Марсель Гриоль в своем
разделе Дурной глаз. Заключительная часть, в которой говорится об
«изгнании» глаза из Французской Академии, может быть рассмотре¬
на как еще один вариант интерпретации темы жестокости, но в иро¬
ническом плане. На примере статьи, посвященной глазу, видно, что
авторов словаря интересует феномен в связи с его способностью воз¬
действия на человека, причем не просто воздействия, но воздействия
жестокого.
76
Словарная статья Батая Рот, где анализируется, так сказать, «зве¬
риная функция» рта, также оказывается в широком антропологиче¬
ском контексте. В том же номере журнала Документы помещена боль¬
шая статья Мишеля Лейриса Человек и его внутренности, в которой
говорится о неприглядности человеческой природы, воплощенной в его
отвратительных внутренностях. Статья проиллюстрировала анатоми¬
ческими таблицами XVII в., которые производят двойственное впе¬
чатление: отвратительные внутренности в сочетании с некоторой эс¬
тетизацией композиции в целом, в которой чувствуется некий вкус к
классической гармонии. Что же касается рта, то Батая эта часть тела
интересует в момент ужасного крика, который издает человек от боли
или ужаса. По Батаю, именно в такие моменты человек располагает
свою голову таким образом, что его рот становится в одну линию с
позвоночником, как это происходит в нормальном состоянии у живот¬
ных.
Человеческое восприятие лежит в основе таких философских,
этических и социологических понятий, как «пространство», pensum
(«мысль»), «несчастье» и «труд» в Критическом словаре. Философ
Арно Дандье пишет о двойственности понятия пространства: с одной
стороны, оно может подразумевать непосредственную человеческую
вовлеченность в пространство здесь и сейчас; с другой стороны, речь
может идти об объективном картезианском пространстве. Иллюстра¬
ции к статье Пространство, в написании первой части которой участ¬
вовал Батай, представляют еще и «первобытный» и «звериный» ас¬
пект пространства: пространство ритуалов инициации; пространство
как рыба, пожирающая другую рыбу; особое разделение простран¬
ства, которое представляет обезьяна, одетая в женское платье, и др.
(И, с. 42-43).
Еще одну группу составляют понятия, непосредственно связанные
с религией: «порог», «ангел», «Кали», «Солнце». Большинство ста¬
тей словаря так или иначе касается проблемы сакрального (см., на¬
пример, Бойню), но в данном случае речь идет о понятиях, которые
обычно считаются религиозными. Порог —это традиционный символ
разделения сфер внутреннего и внешнего, символ разделения разных
миров, а потому особое значение имеет стояние на коврике у порога:
так можно подготовиться к переходу, пишет Марсель Гриоль. Лей-
рис создает коллаж из цитат, посвященный традиционно священному
образу ангела, который сопровождают фотографии: не только изоб¬
ражение Архангела Гавриила испанской школы XII в., но и кадры из
современных кинофильмов, где представлены негритянский ангел и
женщина-ангел. Статья Батая Кали располагается в том же выпуске
словаря, что и Ангел, по контрасту: ведь индийская Кали — страшная
и кровавая богиня «разрушения, ночи и хаоса» (II, с. 368). В статье
77
этнографа Зденко Реича Солнце анализируются солярный миф и по¬
дробности солярного культа у различных народов мира.
Животные в Критическом словаре занимают особое место. Как
мы увидим далее, животное начало — одна из основополагающих фи¬
лософских концепций всего словаря. Фигурирующие здесь представи¬
тели животного мира — соловей, верблюд, рептилии, ракообразные —
рассматриваются в соотношении с некими человеческими понятиями.
Соловей —это воплощение банальной поэзии и банальности вообще;
верблюд, описанный художником Делакруа и Батаем, выражает «глу¬
бинную абсурдность животной природы»; рептилии в интерпретации
Лейриса — символ вечности, любви и смерти; ракообразные, столь при¬
влекательные для маленьких детей и поэтов (Нерваль, Жарри), за¬
ставляют мечтать бывшего сюрреалиста Жака Барона, который оста¬
навливает свои поэтические рассуждения садистским напоминанием о
том, что для сохранения сочности ракообразных надо варить живыми.
Статьи, посвященные животным, с особой четкостью выявляют по¬
этическую составляющую словаря, о которой речь пойдет в статье
Лейриса Метафора и коллективной статье Метаморфоза. Однако по¬
эзия оказывается частью экзистенциальной потребности человека в
метаморфозе, в результате которой он избавился бы от своей «бюро¬
кратической сущности», зато проявил бы свою сущность дикого зве¬
ря (об этом — батаевский раздел «Дикие животные» статьи Метамор¬
фоза).
Концептуальная опора словаря — не только «звериность», но и, как
это следует из статьи Глаз, нечто «отвратительное», «низменное», т. е.
то, что Батай обобщал понятием «отбросы». Именно к таким и близ¬
ким им по функции феноменам относятся пыль и плевок, которым
посвящены отдельные статьи. По смыслу к этому блоку примыкают
лейрисовские Разгром и Гигиена.
С другой стороны, немаловажная часть словаря посвящена куль¬
туре. Статьи, посвященные джазовой группе Black Birds, звуковому
кино Talkie, танцовщику Бенга, комику Китону, представляют хрони¬
ку культурной жизни своего времени. К этой хронике, разумеется, до¬
бавляются и хроника «криминальная» (статья Культы), и экскурс об
уже помещенных в другие справочники садистских монахах XVIII в.
(статья Братья Бонжур). Материальной культуре посвящены этно¬
графические статьи Гриоля Гончарные изделия и Игрушка.
В словаре можно выделить раздел, посвященный городу, ко¬
торый оказывается представленным Архитектурой, Бойней, За¬
водской трубой и Небоскребом. О философском значении Архи¬
тектуры и Бойни речь пойдет ниже. Заводская труба воплоща¬
ет, по Батаю, детский ужас перед выпусканием отбросов вверх —
в сторону, противоположную привычному в таком случае пути
78
вниз, к земле. На иллюстрации к статье представлен момент раз¬
лома падающей заводской трубы, которая, вызывая новый ужас,
словно заставляет преодолеть прежний. Статья Лейриса Небоскреб
посвящена форме, похожей на заводскую трубу. Но Лейрис да¬
ет иную интерпретацию тому смутному чувству, которое возника¬
ет при виде небоскребов, «современных вавилонских башен» (II,
с. 433): в названии и фаллической форме небоскреба Лейрис, увле¬
ченный психоанализом, видит типичное воплощение эдипова комп¬
лекса.
Эволюция понятий в Критическом словаре
Основная роль в создании Критического словаря принадлежит
Жоржу Батаю. Батай написал наибольшее количество статьей—15,
из которых большинство легло впоследствии в основу его философ¬
ских концепций. Мишелю Лейрису принадлежит 11 статей, большая
часть которых создана в очевидном взаимодействии со статьями Ба-
тая21. Когда речь идет об эволюции понятий, имеются в виду прежде
всего те концепты, которые вырабатывали Батай и Лейрис. В первых
выпусках словаря имели значение также статьи немецкого поэта Кар¬
ла Эйнштейна.
Первый выпуск состоял всего из двух статей: Архитектура (Ба¬
тай) и Соловей (Карл Эйнштейн). Обе статьи программны. Приведем
сначала статью Батая:
«Архитектура —выражение самого бытия общества, подобно тому как че¬
ловеческое лицо есть выражение бытия индивидуумов. И все же такое сравне¬
ние больше всего подходит лицам официальных персонажей (прелатов, судей,
адмиралов). В самом деле, в архитектурных композициях в собственном смысле
этого слова выражается именно идеальное бытие общества, то самое идеальное
бытие, которое властно устанавливает законы и запреты. Таким образом, ве¬
ликие памятники воздвигаются, подобно плотинам, противопоставляя логику
величия и власти всем тем элементам, которые способны посеять смятение: в
форме кафедральных соборов и дворцов Церковь и Государство обращаются
к множеству людей и заставляют их молчать. Совершенно очевидно, что па¬
мятники должны внушать общественную мудрость и зачастую даже настоящий
страх. В этом смысле символично взятие Бастилии: это движение толпы невоз¬
можно объяснить иначе как враждебностью народов к памятникам, которые
кажутся им настоящими хозяевами.
21 Список статей Батая в алфавитном порядке: Abattoir (Бойня), Architecture
(Архитектура), Black Birds ( Черные птицы), Bouche (Рот), Chameau (Верблюд),
Cheminée (Заводская труба), Espace (Пространство), Esthète (Эстет), L’Informe
(Бесформенное), Kali (Кали), Malheur (Несчастье), Métamorphose (Animaux
sauvages) (Метаморфоза), Musée (Музей), Œil (Глаз), Poussière (Пыль). Список
статей Лейриса в алфавитном порядке: Ange (Ангел), Benga (Бенга), Crachat (L’eau
à la bouche) (Плевок), Débâcle (Разгром), Gratte-ciel (Небоскреб), Hygiène (Гиги¬
ена), Keaton (Китон), Métamorphoses (Hors de soi. Les Métamorphoses d’Ovide)
(Метаморфозы), Métaphore (Метафора), Pensum, Réptiles (Рептилии).
79
Таким образом, всякий раз, когда архитектурная композиция обнару¬
живается вне памятников, например в человеческом лице, костюме, музы¬
ке или живописи, можно сделать вывод о преобладании вкуса к челове¬
ческой или божественной власти. Большие композиции некоторых худож¬
ников выражают стремление принудить человеческий дух к официальному
идеалу. Исчезновение академической конструкции в сфере живописи явля¬
ет собой, напротив, путь, открытый экспрессии (и тем самым даже экзаль¬
тации) психологических процессов, наиболее несовместимых с общественной
стабильностью. Это и объясняет по большей части бурную реакцию, спрово¬
цированную в течение вот уже более полувека постепенной трансформаци¬
ей живописи, в которой прежде было нечто вроде скрытого архитектурного
скелета.
Впрочем, совершенно очевидно, что математический расчет, предписанный
камню, есть не что иное, как завершение эволюции земных форм, направле¬
ние которого было задано —в биологическом плане — переходом от обезьяны
к человеку, и эта человеческая форма являет уже все элементы архитектуры.
По всей видимости, люди представляют собой в процессе морфологического
развития лишь промежуточный этап между обезьянами и величественными
зданиями. Формы становятся всё более и более статичными, всё более и бо¬
лее властными. Точно так же человеческий порядок изначально солидарен с
архитектурным порядком, который служит его развитием. Когда мы обра¬
щаемся к архитектуре, чьи монументальные произведения являются настоя¬
щими хозяевами на всей земле, в тени которых ютится множество рабов, —
монументальные произведения, призывающие к восхищению и удивлению, по¬
рядку и принуждению, — мы тем самым обращаемся и к человеку. Вся челове¬
ческая деятельность в настоящее время, которая, наверное, очень ярка в ин¬
теллектуальном смысле слова, поворачивается тем не менее в другую сторо¬
ну, разоблачая недостаточность человеческого превосходства: как бы странно
это ни показалось, когда речь идет о таком элегантном создании, как чело¬
век, открывается целый путь — указанный художниками — в сторону звериной
чудовищности; словно нет другого способа избежать архитектурной каторги»
(I, с. 117).
Статья Батая о самом рациональном из искусств — архитектуре —
это статья о власти, символически выраженной в строениях. Если речь
идет об архитектуре, то, разумеется, не вообще, но об антропологиче¬
ском ее измерении. Ракурс батаевского анализа соответствует «крити¬
ческой» направленности словаря: в результате ценностью признается
как раз не архитектура, но ее противоположность — «звериная чудо¬
вищность».
Автор второй статьи Карл Эйнштейн не менее критичен по отно¬
шению к своему предмету, коим заявлен соловей. Он рассматривает
соловья не как представителя пернатых, но как избитую метафору.
«Соловей принадлежит к категории тех парафраз, которые обозначают аб¬
солют; он обладает всеми классическими средствами соблазнения... Никто и
не задумывается о том, что соловей — это дикая птица, характеризующаяся
отвратительным эротическим поведением. Соловей — вечный аксессуар, звезда
лирического репертуара, праздник супружеских измен, благополучие влюблен¬
ных служанок: соловей — знак вечного оптимизма.
80
Соловья можно заменить: а) розой, б) грудями, но ни в коем случае не но¬
гами, ибо соловей нужен именно для того, чтобы избежать прямого называния
самого действия. Соловей принадлежит к таким буржуазным удовольствиям,
с помощью которых намекают на те неприличные вещи, коих стремятся избе¬
жать. [... ] Соловей — аллегория, игра в прятки.
Соловья следует классифицировать среди идеалов, лишенных смысла; его
рассматривают как средство сокрытия, как моральный феномен. [... ]
Соловей — это пение, которое заменяет собой действие. [... ]
Перечислим здесь нескольких соловьев, увенчанных большим успехом:
г-н Шоу, соловей социализма, избитых истин и эволюции, утверждающий, что
драма — это компиляция научных статей; Анатоль Франс — соловей эллинизма
и приторного скептицизма. [... ] Соловей играет на всех флейтах всех времен;
он более вечен, чем Аполлон, но он не умеет обращаться с саксофоном» (I,
с. 117-118).
Эйнштейн, как и Батай, пишет о соотношении искусства и челове¬
ка. В обеих статьях присутствует критический социальный пафос. Но
если статья Батая настроена на выявление некой единой глобальной
философской матрицы, коей является в данном случае архитектура,
то Эйнштейн, говоря о том, что «соловья следует классифицировать
среди идеалов, лишенных смысла», тем самым открывает возможно¬
сти для бесконечного множества смыслов, которые может принимать
соловей. Именно статья Эйнштейна задает тон батаевскому словарю,
где будет царить концептуальная произвольность, обусловленная поэ¬
тическим понятием пустоты. Эта идея Эйнштейна будет продолжена
во втором выпуске словаря им самим в статье Абсолют и Мишелем
Лейрисом в статье Метафора.
Абсолют, согласно Эйнштейну, — «компенсация человеческого ни¬
чтожества». «Очевидно, что человек придумал Бога для того, чтобы
его ничтожество защищал кто-то более великий, чем он сам: Бог —
диалектическая антитеза человеческого несовершенства». Разумеется,
человек не может достичь абсолюта или хотя бы доказать его, и сама
эта невозможность как раз и есть залог Божественной неопровержи¬
мости.
Таким образом, сила абсолюта заключена в его пустоте: «Абсо¬
лют силен потому, что он совершенно пуст: именно благодаря этому
своему свойству он представляет самую высшую истину» (I, с. 169).
Абсолют оказывается понятием, наделенным взаимопротиворечивыми
смыслами: он знак человеческого величия и человеческого рабства. В
конечном счете единственная «позитивная» характеристика абсолюта
заключена в том, что он «нейтрален», «лишен качеств», подобно день¬
гам, т. е. универсальному средству обмена. Именно здесь Эйнштейн
выражает мысль о том, что «абсолют», или сакральное, близок тому
самому понятию первобытной священной силы «мана», о которой по¬
дробно писал Марсель Мосс. Рассуждения Эйнштейна вообще очень
81
близки работам Мосса об обмене и о даре; будучи верен «этнографиче¬
скому» духу журнала, немецкий поэт приводит примеры из первобыт¬
ных мифологий, но при этом базовое понятие, которое он анализирует,
принадлежит иной культуре, ибо в эйнштейновском абсолюте слышит¬
ся поэтически-философский отголосок йенского романтизма начала
XIX в.
Обе статьи Эйнштейна —о соловье и об абсолюте, в которых зву¬
чала мысль о пустоте как источнике смыслов, послужили философ¬
ским обоснованием свободы творчества авторов Критического слова¬
ря. С другой стороны, благодаря своей поэтической компоненте они
связывали известные культурному читателю понятия с парадоксаль¬
ными философскими или социологическими выводами, а значит, при¬
сущая им маргинальность, не теряя своей сути, могла быть воспри¬
нята не только узким кругом «посвященных». В этом смысле статьи
Эйнштейна отличаются, скажем, от тех концептуальных статей, ко¬
торые пишет Батай, стремящийся прежде всего к тому, чтобы спро¬
воцировать читателя, вызвать у него не только удивление, но и шок.
Однако, что самое любопытное, несколько лет спустя слова и идеи
Карла Эйнштейна окажутся центральными философскими понятиями
Батая. Батаевское понятие траты отдаленно напоминает слова из упо¬
мянутой статьи о том, что абсолют — «это самая большая (рас)трата
сил человека». Понятие разнородности, или гетерогенности, тоже бы¬
ло использовано Эйнштейном во втором номере Документов, в статье
о картинах художника Андре Массона, в которых «разнородные с ра¬
циональной точки зрения элементы смешиваются между собой в ходе
галлюцинации... » (I, с. 102).
Поэтический дух Эйнштейна витает и над небольшой статьей Ми¬
шеля Лейриса, посвященной метафоре. Напоминая о том, что сущ¬
ность вещей невозможно постичь напрямую, Лейрис пишет о всеобщ¬
ности метафорического переноса значения, доводя свои рассуждения
до парадоксов, несовместимых со здравым смыслом: «Человек —это
дерево, способное к передвижению, подобно тому как дерево — это уко¬
ренившийся человек». Тем не менее вся парадоксальность снимается
последним рассуждением: «Эта статья —сама метафора» (I, с. 170).
Но связь данной статьи с Абсолютом — не только в ее поэтическом
настрое. Идея о всеобщем переносе, всеобщей транспозиции напоми¬
нает об абсолюте как всеобщем средстве обмена.
Статьям Абсолют и Метафора противостоит во втором выпуске
Критического словаря статья Батая Материализм. Если Эйнштейн и
Лейрис писали о том, что невозможность и пустота порождают множе¬
ственность и бесконечную коммуникацию смыслов, то Батай требует
«прямой, исключающей любой идеализм интерпретации феноменов в
чистом виде». Более того, если перевести буквально, речь идет о «фе¬
82
номенах в грубом виде» (des phénomènes brutes) (I, с. 170). Разумеется,
это выступление Батая против любого идеализма, вплоть до понятия
идеи как такового, располагается в несколько иной интеллектуальной
плоскости, чем статьи Эйнштейна и Лейриса. Батай стремится к непо¬
средственному постижению явлений не тем, что отрицает идеи своих
коллег, но тем, что намекает на некий новый способ постижения, ключ
к которому, как будет ясно в дальнейшем, заключен в «грубом виде»
феноменов. Эта мысль уже звучала у Батая в его первой статье, ко¬
гда он писал о «первобытной звериности», противостоящей «властной»
архитектуре.
Таким образом, первые два выпуска словаря свидетельствуют о
двух тенденциях, которые на данном этапе определяют его замысел: с
одной стороны, критический анализ, в котором начало искусства и по¬
эзии оказывается в тесной связи с человеческим содержанием; с другой
стороны, выявление феноменов «в грубом виде». Дальнейшие публи¬
кации словаря отразят обе тенденции, но все же благодаря усилиям
Батая наиболее новые и провокативные понятия будут связаны имен¬
но с примитивистской тенденцией. Характерно, что Карл Эйнштейн,
который оставался верен журналу до последнего номера и опублико¬
вал в нем множество статей об искусстве, в Критическом словаре —
помимо упомянутых статей — больше не участвовал. Любопытно, что
Батай, не называя Лейриса, подспудно полемизирует с ним в своей ре¬
цензии Современный дух и игра транспозиций (II, с. 489), в которой
как раз и призывает к неметафорическому мировосприятию.
Философское новаторство Батая выявляется в его статьях, посвя¬
щенных, так сказать, «отбросам» мира живой и неживой природы, и
в особенности человека. Его рассуждения предваряются статьей Чело¬
век, которая представляет собой выдержку из книги Уильяма Купера
Кровавая вина человечества, где говорится о том, сколько человек за¬
бивает животных для своего пропитания: это предвестие статьи Батая
Бойня. В том же выпуске словаря выходит батаевская статья Пыль, а
в пятом — упомянутая Бойня. В тексте о пыли Батай говорит о ночных
и злых духах, которых каждый день при уборке изгоняют служанки.
В связи с бойней Батай вспоминает о жертвоприношениях, благодаря
которым подобные внушающие ужас и отвращение места считались бы
священными. Идею соотношения сакрального и омерзительного усили¬
вает уже упоминавшаяся крупноформатная фотография Буаффара, а
также две кровавые фотографии Эли Лотара На бойнях в Вилетт.
Таким образом, антиэстетические феномены оказываются связаны, со¬
гласно Батаю, с некими мистическими силами, с сакральным началом,
которое утрачено сознанием современного человека.
Весь шестой выпуск Критического словаря являл собой апофеоз
антиэстетического: в алфавитном порядке первой шла статья Плевок
83
(Crachat), состоящая из двух частей, затем — Разгром (Débâcle) и Бес¬
форменное (L’Informe).
Статья Плевок состоит из двух частей: первая принадлежит Мар¬
селю Гриолю, вторая — Мишелю Лейрису. Этнолог Гриоль пишет о
том, как в культуре разных народностей слюна считалась вместили¬
щем души, будучи сопровождением дыхания. Поэтому плевок —как
«душа в движении» — может обладать магическим значением, которое
проявляется, например, в евангельском эпизоде прозрения слепых или
в западноафриканском обычае плевать в рот новорожденного внука,
чтобы «дать» ему душу. Таким образом, согласно Гриолю, «от про¬
клятия до благотворности, от оскорбления до чуда плевок ведет себя
так же, как и душа: бальзам или отбросы» (I, с. 381).
Лейрис, давший своей части подзаголовок «Жидкость во рту»,
утверждает, что плевок, подобно эротизму, воплощает собой «скан¬
дал», т. е. то, что не подлежит демонстрации. Если рот «принимаю¬
щий» облечен божественным смыслом, то его выбросы — «предел свя¬
тотатства» (I, с. 381). Однако заканчивает свою статью Лейрис не вы¬
водом о святости и святотатстве, но новой идеей, касающейся фор¬
мы анализируемого предмета, точнее — его бесформенности: «Нако¬
нец, плевок в силу неопределенности своего состава, контуров, цвета и
плотности есть сам символ бесформенного, не поддающегося проверке,
иерархизации... » (I, с. 382). Мысль о бесформенном будет продолжена
Батаем в его собственной статье в данном выпуске словаря. Но прежде
чем обратиться к Батаю, рассмотрим вторую статью Лейриса — Раз¬
гром.
Разгром, как пишет Лейрис, конечно, не может не ассоциироваться
с известным романом Эмиля Золя. Но Лейриса интересует, так ска¬
зать, природный «раз-гром», то страшное и редкое для Парижа явле¬
ние, коим было сначала замерзание Сены зимой 1870-1871 гг., а затем
ледоход, который, казалось, стремился «разрушить абсолютно все».
Однако в этом тотальном разрушении Лейрис видит источник некой
энергии: «Необходимо было бы, чтобы воды наших сердец, наших му¬
скулов, кожи вернулись к своему естественному состоянию, обретя в
то же самое время свою изначальную жестокость — жестокость эпохи
потопа, ледяных катаклизмов...» (I, с.382). В алфавитном порядке
словарной публикации эта статья словно «проявляла» разрушитель¬
ный пафос предыдущей, где Лейрис сделал вывод о «бесформенном».
Статья Батая Бесформенное как бы продолжает статью Лейриса,
посвященную плевку. Теперь «бесформенное» представлено как некая
модель мира и его понимания. А потому «бесформенность», согласно
Батаю, становится символом и самого Критического словаря. Приве¬
дем статью Батая целиком, тем более что она отличается краткостью.
84
«Бесформенное. — Словарь должен начинаться с того момента, когда он пе¬
рестанет передавать смысл, но будет передавать нужды слов (Un dictionnaire
commencerait à partir du moment où il ne donnerait plus le sens mais les besognes
des mots). Таким образом, «бесформенное» — это не только прилагательное,
имеющее определенный смысл, но термин, служащий для того, чтобы деклас¬
сировать (изымать из классификации, системы), предполагая, что у каждой
вещи есть форма. То, что он обозначает, не имеет прав ни в каком смысле, бо¬
лее того, бесформенное повсюду подавляют: его давят, как паука или червяка.
В самом деле, для того чтобы академические мужи были довольны, надо, что¬
бы мир принял некую форму. И у всей философии одна лишь цель — одеть все
сущее в редингот, в математический редингот. Напротив, если утверждаешь,
что мир ни на что не похож и что он лишь бесформен, это означает, что мир —
нечто вроде плевка или паука» (I, с. 382).
Данная статья Батая значительна как в смысле воплощения его
собственной философии как философии «бесформенного», так и в кон¬
тексте всего предприятия Критического словаря. Начнем с последне¬
го. Если до появления этого выпуска Критического словаря можно
было бы утверждать, что цель рассматриваемого проекта — обнаруже¬
ние неких новых «редких» значений тех или иных феноменов, т. е. эт¬
нографический пафос, основанный на понимании потенциальной воз¬
можности бесконечного количества значений, как об этом говорилось в
статьях Эйнштейна, то после данной декларации Батая о «бесформен¬
ном» как модели идея словаря представляется уже совершенно иной.
Если в обыкновенном словаре определяется, т. е. обретается, смысл
слова, или его идея, то в «бесформенном» словаре, наоборот, слово
должно «терять» смысл. Словарная статья не вводит некие значения,
а, напротив, служит их выведению, их выбросу (букв.: «нужде»)22.
«Нужда» — совершенно иное понятие, чем «употребление», которому
обычно подвергаются слова. «Выброс» значения — это и ответ на про¬
цитированную статью Карла Эйнштейна Соловей, в которой тот писал
об избитости поэтического образа. Исходя из этого Батай оказывается
все же не оппонентом, а в какой-то мере продолжателем идей немец¬
кого поэта. Батаевская архитектурная метафора, которая могла бы
быть метафорой словаря, оборачивается именно своей «звериной» про¬
тивоположностью, доведенной до крайности —до плевка, до отброса.
Статья Бесформенное стоит у истоков гетерологии Батая.
Необходимо подчеркнуть еще один аспект «бесформенного» — его
нарочитую антиэстетичность. Плевок, служащий наиболее ярким его
примером, был, конечно же, вызовом понятию прекрасного в любом
его виде, в том числе и тому провокативному прекрасному, о котором
писали сюрреалисты: можно сказать, что в некоторой мере в этой ста¬
22 Французский литературовед Бернар Ноэль так и назвал свою статью, посвя¬
щенную Критическому словарю, — Quelques sorties (см.: Bataille G. Le Dictionnaire
critique). Paris, 1970.
85
тье содержался ответ на Второй манифест сюрреализма, где Бретон
упрекал Батая в пристрастии к отвратительному.
Несомненно, шестой выпуск Критического словаря был наиболее
оригинальным из всех выпусков 1929 г. и, как мы увидим, всего слова¬
ря в целом. Парадоксальная идея Батая о «бесформенном» как форме
мира и его осмысления открывала большую свободу для интерпрета¬
ции словаря и дальнейшего его продолжения. Вместе с тем эта свобода
была чрезмерной для того, чтобы служить неким принципом построе¬
ния словаря, а потому неудивительно, что в большинстве своем статьи,
появившиеся в 1930 г., словно вернулись к «этнографизму» и очередно¬
му переосмыслению эстетических категорий. Это возвращение было,
вероятно, совершенно неизбежным, потому что рассуждения Батая о
«бесформенном» являли собой самоценный результат, вершину его фи¬
лософских поисков, давая иллюзию «открытости» для возникновения
нового, но одновременно и для его «изгнания», выбрасывания.
Статья Лейриса Гигиена, написанная им для первого выпуска сло¬
варя за 1930 г., —пожалуй, единственная, напрямую связана с тема¬
тикой грязного и отвратительного (т. е. близкой к «бесформенному»).
Сам Лейрис уже в следующем номере выпускает статью, посвященную
мысли, — Pensum.
Батай публикует статью Эстет, построенную в духе его же Архи¬
тектуры: анализ понятия во имя его отрицания. Неудивительно, что
для автора Бесформенного слово «эстет» лишено ценности, подобно
словам «художник» или «поэт» (с. 235). Тем не менее показательно,
что после провокативных названий статей последнего выпуска Кри¬
тического словаря за 1929 г. Батай как бы возвращается к хотя бы
внешне нейтральному словнику.
Символом той части словаря, которая выходит в 1930 г., служит
Музей — статья, тоже принадлежащая перу Батая. Вначале Батай на¬
поминает, что первый музей в современном смысле этого слова был
основан Конвентом, согласно Большой Энциклопедии, в 1793 г., «а
значит, происхождение музея было связано с развитием гильотины».
Но после такого мрачного начала Батай продолжает в розовых то¬
нах, подчеркнутых еще и благодаря небольшой репродукции Гранви-
ля Лувр марионеток. На смену интеллектуальному садизму Плевка
или Бесформенного приходит почти приторно-благостное заключение,
в коем невозможно не увидеть глубочайшей иронии: «Музей —это ко¬
лоссальное зеркало, в которое смотрится человек и в котором он видит
все свои стороны, и находит себя совершенно восхитительным, и от¬
дается экстазу, выраженному во всех искусствоведческих журналах»
(I, с. 300). Эта статья исполнена и самоиронии: Батай отыскивает оче¬
редную метафору своего энциклопедического мероприятия, но эта на¬
ходка происходит в какой-то степени «по необходимости» — из-за чрез¬
86
мерной свободы его предыдущего открытия, открытия «бесформенно¬
го».
По всей вероятности, Бесформенное исчерпало новые возможно¬
сти Критического словаря, которому оставалось лишь развиваться
«вширь», что и происходит в 1930 г., но кажется, что энтузиазм его
авторов несколько утихает. Словарь выходит уже не во всех номе¬
рах — его нет в№3и8 журнала. Характерно и то, что в нем помимо
Батая и Лейриса уже не участвуют бывшие сюрреалисты, остаются
лишь представители гуманитарных наук — этнологи Марсель Гриоль
и Зденко Реич и философ Арно Дандье, а понятие сакрального, как
мы уже показывали при анализе статей Порог, Ангел, Кали и Солнце,
отчасти возвращается в свое традиционное русло.
* * *
Критический словарь был предприятием экспериментальным, ско¬
рее лабораторией, чем учреждением. Совершенно не важно, закончен
он был или нет, потому что авторы и не ставили перед собой зада¬
чу исчерпывающего охвата всех феноменов. Создателям словаря уда¬
лось воплотить свое стремление к этнографической документально¬
сти; им удалось уловить мельчайшие явления и продемонстрировать
самые неожиданные их детали, как это делается на фото с увеличени¬
ем; им удалось понять человеческое восприятие, анализ которого при¬
сутствует так или иначе во всех статьях. С другой стороны, Критиче¬
ский словарь парадоксальным образом представляет собой отрицание
словаря как средства коммуникации, как места, где формулируется
смысл слова. Здесь, наоборот, речь идет о разрушении, преодолении
лексического смысла во имя выработки некоего нового языка, нового
соотношения между означающим и означаемым, смысл которого Ба-
тай попытался описать в своей модели словаря как «бесформенности».
Разумеется, Критический словарь не является словарем в привычном
смысле слова, это, скорее, некое подражание словарю, или, как гово¬
рил Дени О лье, «симулякр» словаря23.
Критический словарь имел большое значение особенно для твор¬
чества Лейриса и Батая. В 30-е годы Лейрис возвращается к своему
Глоссарию, начатому еще в сюрреалистическую эпоху, и в 1939 г. вы¬
пускает его в виде книги. Но вряд ли стоит говорить о непосредствен¬
ном влиянии Критического словаря на Глоссарий: скорее, наоборот,
Лейрис использует свои возможности как поэта, каковые он не мог
проявить вполне в журнале Документы. Глоссарий Лейриса выходит
23Hollier D. La prise de la Concorde. Paris, 1993. — См. там же рассуждения Олье
о «бесформенном» и «нуждах» слов.
87
с иллюстрациями Массона, которые сами по себе отдельный — визу¬
альный — глоссарий.
Но к своей деятельности в Критическом словаре Лейрис относил¬
ся очень серьезно, и он не забыл включить свои «словарные» статьи в
сборник Осколки (Brisées, 1966), где были собраны его литературовед¬
ческие, этнографические, социологические и философские работы.
Для Батая Критический словарь оказался первой попыткой «син¬
теза», а точнее, «суммирования» его философии, многие черты кото¬
рой можно вывести напрямую из его статей об архитектуре, матери¬
ализме, бесформенном и др. Некоторые образы его художественного
творчества могут быть «объяснены» благодаря Критическому слова¬
рю, например его же статье о глазе, каковую можно применить для
анализа повести История глаза. С одной стороны, в Критическом сло¬
варе несложно выявить истоки многих понятий, которые Батай разра¬
батывал в 30-50-е годы: «непроизводительная трата», «гетерология»,
«насилие» и «эротизм». С другой стороны, к Критическому словарю
можно свести некоторые философские размышления Батая, как это
делали такие ученые, как Дени Олье, больше всего ценивший его Ар¬
хитектуру, или Жорж Диди-Юберман, который особое значение при¬
давал эстетике Бесформенного24. Мишель Лейрис считал, что именно в
журнале Документы впервые воплотилось то неуловимое сакральное
понятие, которое Батай приблизительно называл «невозможным» — за
неимением (и за невозможностью) более точной формулировки25.
Критический словарь представляет собой сам процесс суммирова¬
ния понятий, что служит неким способом представить синтезирующую
мысль в динамике ее бесконечного отрицания и бесконечного движе¬
ния. В какой-то степени именно благодаря своей незаконченности и са¬
мой невозможности своей концепции (которая, как мы показали, была
высказана в статье Бесформенное, но так и не получила —и не мог¬
ла получить — своего продолжения) Критический словарь — наиболее
последовательное воплощение антикультурной утопии авангарда.
24Cm.: Didi-Huberman G. La ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon
Georges Bataille. Paris, 1995.
25Cm.: Leiris M. De Bataille l’impossible à l’impossible Documents.
МАРИ-КРИСТИН ЛАЛА
ЦАРСТВО НЕВОЗМОЖНОГО
Есть существенная трудность в подходе к творчеству и мысли
Жоржа Батая, представляющего собой тот писательский тип носите¬
ля современного сознания, который впитал все «негативное», что есть
в нашем времени. Объяснение не дается, и, по существу, все попытки
истолковать смысл и понять значение этого творчества отсылают нас
к тому полю языка, где слова скользят, как «зыбучие пески». Призыв
к имплицитному читателю требует иррационального модуса: модуса
очарования или отвращения. Середины нет... Впрочем, вот какой во¬
прос предлагается эксплицитному читателю, полагающему себя тако¬
вым: как изложить и эксплицировать то, что изначально невыразимо
и неизмеримо, но что тем не менее не следует мистифицировать? Этот
вопрос поднимается из оснований нашего существа, соединяя тягост¬
ность смерти с глубиною любви.
В Невозможном на первый план выходят именно нарративные
фрагменты, так как их эротический аспект и сексуальное распутство
открывают «более прямой» путь к истине невозможного и смерти, чем
распутство поэтическое. Техника Батая стремится к романной форме,
но не для того, чтобы прославлять сексуальное распутство, окрещен¬
ное им «проклятым», а, скорее, чтобы пройти до конца по единственно¬
му пути, на котором можно сделать набросок этой «категории невоз¬
можного»: пути, указанному самим сюжетом. Батай сказал об этой
книге, что она «полная противоположность объяснению», потому что
в такой точке напряжения речь может идти только об импликации...
Литература противостоит тому, что ее неотступно преследует, но не
может быть произнесено. И тем не менее этот путь от нарративно¬
го языка к языку поэтическому представляет собой ту конфигура¬
цию, в которой разыгрывается «невозможное», невыразимое и все же
инсценированное...
© С. Б. Рындин, перевод, 2006
89
Литературный анализ на семиологическом и риторическом уров¬
нях1 позволяет близко подойти к тому, что устанавливается и кри¬
сталлизуется в кажущейся легкости скольжений батаевского письма,
а в конце концов пропадает. От главы История крыс до Диануса ана¬
лиз нарративного и дискурсивного уровней выявляет их упорядочен¬
ное чередование, при котором затухание повествования представляет¬
ся рискованным для дискурса, а утрата объекта любви — рискованной
для субъекта. Клочки и обрывки фраз, перемежаемые многоточиями.
Дискурс постепенно стирается в том, что остается от повествования в
процессе его исчезновения. Для субъекта это влечет утрату речи и воз¬
никновение крайней тревоги: «... теперь у меня нет границ: в пустоте
моей скрежетание изнурительной боли, от которой есть только одно
средство — смерть... »2. Когда повествование подходит к концу, навис¬
шая над субъектом высказывания угроза становится реальностью, так
как утаиваемое повтором повествования «ничто» возвращается к со¬
знанию как пустота: «... что же я такое сделал, — думал я, — что столь
необратимо отброшен в невозможное?»3.
Даже если повествование разыгрывается как спектакль, оно не мо¬
жет заполнить пустоту, ибо его функция — не представлять, а, скорее,
культивировать тайну в напряженном ожидании смысла, неотделимо¬
го от невозможности инцеста. Этот пустой знак, называемый Батаем
«невозможное», оккупируется смертью. В той точке, где «свирепствует
невозможное», смерть оказывается близка к наслаждению и действу¬
ет через функциональное наличие «умершей», а затем и самой «смер¬
ти». Изысканный труп указует место, где умирает и (воз)рождается
дискурсивная инстанция: «.. .я обломок за этим столом, утратив все,
в этом доме, где царит молчание вечности,— но этот обломок здесь
словно сгусток света, который, возможно, и распадается, но излуча¬
ет сияние»4. Повествование с его притворным умиранием организует¬
ся благодаря этому ослаблению батаевского «суверенного субъекта».
Момент разрыва, необходимый для дионисийского сияния, возникает
вновь в самом письме, разыгрывающем его без конца.
Детальное изучение механизма письма, в частности изучение тро¬
пов и риторических фигур, еще раз подтверждает наш первый вы¬
вод. Сочетающаяся с антитезой метафора способствует прогрессив¬
ному возникновению (путем смещения и сгущения) в произведении
проблематики неотделимого от смерти высказывания. Множествен¬
1См. нашу работу: L’œuvre de la mort et la pensée de Georges Bataille, à partir do
L’Impossible // Thèse de troisième cycle. Université de Paris VII, novembre 1981.
2Батай Ж. Невозможное / Пер. с франц. Е. Д. Гальцовой // Батай Ж. Нена¬
висть к поэзии. М., 1999. С. 249. — Прим. пер.
3Там же. С. 267. — Прим. пер.
4Там же. С. 275. — Прим. пер.
90
ные антитезы формируют в Невозможном сетевое поле, где наличе¬
ствуют противоположные понятия, центром которых выступает про¬
тивопоставление дня (света) и ночи. В критической точке разрыва,
угрожающей прервать горизонтальную ось смежности, троп по сход¬
ности (метафора) благоприятствует целому, через которое противопо¬
ставленные и противоречащие друг другу термины совпадают в своих
крайностях, мгновением ранее перейдя друг в друга, прежде чем поме¬
няться местами: «Мрак — то же самое, что свет... Истина в том, что в
моем состоянии уже невозможно ничего сказать, кроме того, что игра
сыграна»5. Троп по схожести (смерть = ночь) и троп по соответствию
(луч солнца —день) комбинируются с антитезой (ночь/день) для то¬
го, чтобы оправдать свое возвращение в противоположность: «Из меня
лучилась сладость смерти... (смерть = день)»6. Это быстрое движе¬
ние смысловых обращений, сравнимое с «неуловимым пробегом кры¬
сы»7, выражает вращательное движение тех обходных путей, по ко¬
торым «бытие избегает скудной простоты смерти»8. Это логика раз¬
рывов и переходов на краю, где открывается совершенно другое сооб¬
щение, нежели сообщение дискурсивной логики. Используемые и под¬
держиваемые в связи противоположные термины порой оказываются
идентичными, тогда как означаемое маскируется, всегда невозможное
для выражения. Референтивная функция языка, осуществлявшаяся в
повествовании, уступает место функции поэтической, каковая в кон¬
це концов демонстрирует саму себя: «Логика, умирая, разрешалась
безумными богатствами»9...
Содержание мысли отсылает к вечно сокрытому и убегающему
означаемому, к «ничто», которое невозможно достичь как таковое и
которое может быть «схвачено дискурсом только опосредованно»10.
Батай называет это «ничто» «невозможным», делая его одновременно
тягостным и ничтожным. Тем самым речь идет о поддержании пусто¬
ты, непрестанно обнажаемой чрезмерностью желания и смерти. В этой
точке, где проходит молниеносный разряд, все возможности оправ¬
даны субституцией. Субъект случается (advient), как бросок костей,
он — случайность, схваченная в письме: «...звездная ночь —играль¬
ный стол —я падаю в нее, брошен словно кость на поле эфемерных
возможностей...»11. В то же время субъект воскресает в символи¬
ческом, утверждая себя, чтобы сообщить об эффектах означающего,
5Там же. С. 250. — Прим. пер.
6Там же. С. 268. — Прим. пер.
7Там же. С. 241. — Прим. пер.
8Там же. С. 250. — Прим. пер.
9Там же. С. 304. — Прим. пер.
10 Ролан Барт.
11 Батай Ж. Невозможное. С. 300. — Прим. пер.
91
результатом которых он является, и чтобы объявить о «неудовлетво¬
рении» поэзией.
Композиция Невозможного постепенно обнаруживает всю слож¬
ность категории невозможного. Могущество смерти и суверенность:
это парадоксальное положение чего-то «недостающего» и тем самым
«случающегося». Тогда невозможное могло бы определяться как пу¬
стой предмет, сочленяющий основные темы батаевской мысли, содер¬
жание коей —не что иное, как состояния-пределы экстаза, упоения,
смеха, жертвенности, эротического и поэтического излияния чувств.
Через эти формы непродуктивной траты высвобождается неотдели¬
мое от самой смерти течение, актуализирующее «ничтожную частицу
слепой жизни». То есть речь идет о поддержании пустоты, но пусто¬
ты как процесса (effectuation), как негативной и утверждающей силы.
Отсюда и берет свое начало превращение невозможного в возмож¬
ности, в изумление и ощущение чуда «невозможного, здесь все-таки
наличествующего»...
В литературе, может быть за исключением трагедии, не существу¬
ет адекватной модели для выражения невыразимого. Потому поэтика
такого текста, как Невозможное, ставит вопрос онтологического по¬
рядка, вводя эстетику в конфликт с проблемой ценностного перево¬
рота. В этом специфика литературы12, «напряженного сообщения в
познании Зла», которая принимает сатанинскую чашу за гарант дея¬
ний смерти, не давая угаснуть жизненным противоречиям. Для Батая
важно пролить хотя бы некоторый свет на занимаемое невозможным
место, где «тот, кто широко и без тени страха открыл бы глаза, увидел
бы взаимосвязь всех противоположных возможностей». В этой точке
абсолютной тишины, когда очарование наготы становится равным со¬
крытому в смерти чудесному, вместе с проблеском света есть безраз¬
личие и заразительность смеха.
Этот момент, который невозможно описать, который может быть
доступен только при высочайшем действе13, без конца перекрывается
языком в его противоречивом движении, поскольку литература стре¬
мится избавиться от того, что есть «в избытке». Это и есть жертво¬
приношение, при котором «сами слова суть жертвы» и которое резко
ставит под вопрос саму поэзию, чтобы та получила доступ к жерт¬
венной роли сакрального и искусству. Так, пещера Ласко14 являет со¬
бой странное обиталище. Образующаяся там материя делает из этого
пространства место того, что продолжает быть. В человеке сосредо¬
12 Bataille G. La Littérature et le Mal, О. C., tome IX, Gallimard. (См. русское
издание: Батай Ж. Литература и зло. М., 1994. — Прим. ред.)
13Высочайшее действо — действо «человека, превосходящего свои возможности»,
ведущего жизнь «на вершине невозможного».
14Bataille G. Lascaux ou la naissance de l’art. Éd. d’Art Albert Skira.
92
точивается и собирается в единое целое вся его сокровенность и эта
сокровенность всем своим весом давит на пребывающее в ожидании
пустоты одиночество. Переступив порог пещеры, эту границу инициа¬
ции, каждый человек открывает себя сообщению. Поперечный подъем
или головокружительное падение ночи времен в бесконечную неза¬
вершенность заканчивается лишь со смертью. Вертикальное движение
тех, кто, возможно, уже нашел друг друга, или тех, кто еще продолжа¬
ет искать в муках этого священного «ужаса». Лежащая на дне этого
колодца поразительная и всеобъемлющая история заключена в следу¬
ющей драме: ужас, в котором умирают оба существа, превращается
в исступление необыкновенного чувства, когда красота без стеснения
поражает сознание того, кому ничего не остается, как ухватиться за
высвободившуюся сущность. Вечное отсутствие превращается тогда в
присутствие обретенного времени. Младенчество эпохи — это исследу¬
емое сознание. Речь не идет ни о потерянном рае, ни об утраченном
золотом веке. Здесь речь об открытии фундаментального отношения
к детству с его наивным очарованием.
При передвижении из одной комнаты в другую высвобождается пе¬
реизбыток жизни, чья энергия хлещет через край. Стена оказывает¬
ся отражением сознания, возвращая нам образ той идентичности, что
ищет саму себя с тех пор, как человек понял, что наделен памятью.
Плененный изнутри свет отражается в отблеске, где и перестает суще¬
ствовать. А красота освещает мрачную ночь времен в тот самый миг,
когда человек отличил себя от животного, чтобы затем интегрировать
его в свой самый непосредственный универсум. Это в высшей степени
религиозное место становится средоточием элементарного язычества,
в котором ощущается ветер первоначального празднества. Конечно,
именно здесь «суверенность празднует свою свадьбу со смертью»...
Пещера Ласко, похоже, указывает нам на ту точку, где лучится невоз¬
можное и бесконечно возобновляется искусство. В этом «брутальном»
состоянии оно вырывает человека из всякого идентифицирующего ан¬
тропоморфного образа и подписывается под своим происхождением от
природы, от самой животности.
Перевод С. Б. Рындина
ЖАН-МИШЕЛЬ РЕЙ
БАТАЙ, СМЕРТЬ И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Название, которое я дал этому докладу, прежде всего должно по¬
служить воспоминанием, наводя на мысль о статье Жоржа Батая,
озаглавленной Гегель, смерть и жертвоприношение1. В ней Батай,
в частности, стремится прояснить, каково на данный момент его от¬
ношение к гегелевской мысли, совершенно отстраняясь от той интер¬
претации этой мысли, которую дает Александр Кожев.
Чтобы пояснить мои намерения, я хотел бы начать с примечания
из предисловия к Мадам Эдварде, книге, первоначально опубликован¬
ной под псевдонимом Пьер Ангельский с предисловием, подписанным
Жоржем Батаем. Это предисловие повторяется во второй части Эро¬
тизма.
«Я прошу извинить меня, но здесь мне приходится добавить, что это опре¬
деление бытия и избытка не может быть философски обосновано в том, что
избыток превосходит основание: избыток — это то самое, чем бытие выступает
изначально, прежде всех вещей, вне всяких пределов: эти пределы позволяют
нам говорить (я говорю тоже, но, говоря, я не забываю, что слово не только
ускользнет от меня, но что оно уже ускользает). Эти фразы, методично расстав¬
ленные, являются возможными (они таковы в широком измерении, поскольку
избыток —это исключение, это удивительно, это чудо... и избыток обозначает
влечение — влечение, если не ужас перед тем, что больше, чем то, что есть),
но прежде всего нам дается невозможность: даже если я ничем не связан, ес¬
ли я ничему не подчинен, я сохраняю свою суверенность, каковую только моя
смерть, коя докажет невозможность, где я стремился ограничить себя бытием
без избытка, отделит от меня. Я не оспариваю знания, без которого я не смог
бы писать, но эта рука, которая пишет, умирает, и в этой обещанной ей смер¬
ти она ускользает от всяких пределов, принимаемых в письме (принимаемых
пишущей рукой, но отвергаемых рукой умирающей)»2.
1 Первоначально опубликовано в: Deucalion 5, Etudes hegelienne, 1955. (См. рус¬
ское издание: Батай Ж. Гегель, смерть и жертвоприношение // Танатография
Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб., 1994. С.245-
267. — Прим. ред.)
2L’Erotisme, ed. De Minuit, 1961, p. 297.
© К. В. Преображенская, перевод, 2006
94
Этот текст нас интересует, в частности, потому, что в нем, как ка¬
жется, Батай отстраняется от философии, поскольку она демонстри¬
рует свою беспомощность в невозможности дать «определению бытия»
реальное основание, тогда как это ее основная задача —для Гегеля в
большей степени, чем для всякого другого,— ибо она направлена на
то, чтобы сделать такое определение своей отправной точкой. И «из¬
быток» — наиболее ясный признак этой беспомощности, т. е. то, что
разрушает порядок ограничений, порядок причин. Сам факт суще¬
ствования избытка непосредственно противостоит претензиям фило¬
софского дискурса, определенным образом устраняя их.
Тем не менее отказ от философии неизбежно приводит к непред¬
виденным явлениям обратного. Он мыслится под знаком недоверия во
всех направлениях. Он не может быть только лишь жестом отстране¬
ния или отказа, поскольку философия по-своему может оказаться при¬
частной жертвоприношению, даже если она об этом ничего не знает.
Гегель, несомненно, тот единственный философ, который смог проник¬
нуть в данное отношение, хотя при этом он не знал, не мог выразить
его форму и оценить последствия. Батай написал бы, следуя за Геге¬
лем, в поисках продвижения рефлексии и установления философского
дискурса в качестве пространства, в котором появляются великие дву¬
смысленности языка: пройти во всех направлениях, чтобы раскрыть
зоны тени.
«Для меня — мне так кажется — говоря — некоторым образом воздавая
должное — довольно тяжело — тишине. Должное также —может быть —эро¬
тизму. И с этой точки зрения я хочу призвать тех, кто меня слышит, к худше¬
му недоверию. В целом я говорю на мертвом языке. Я считаю, этот мертвый
язык —язык философии. Я даже осмелюсь сказать, что, по моему мнению,
философия захвачена смертью языка. Это также жертвоприношение. Это дей¬
ствие, о котором я говорю, составляющее синтез из всего возможного, есть
упразднение всего того, что внедряет язык и что составляет опыт выплескива¬
ющейся жизни — и смерти — нейтральной области, безразличной. Я хотел вас
призвать не доверять языку. И в то же время я, следовательно, должен попро¬
сить вас не доверять тому, что я вам сказал»3.
В этом тексте я вижу среди прочего указание на трудную и даже
парадоксальную позицию, которую на протяжении всего своего твор¬
чества пытался обрести Батай. Я также вижу здесь знак его плана
письма, настойчивого, переходящего из книги в книгу: это необходи¬
мость пребывать в неустойчивой зоне, куда он и движется все время
так или иначе, от пределов к тому, что их обходит и отменяет, к тому,
что вскрывает сущностные намерения. Пребывать, не забывая о по¬
пытках оставаться в пределах, о коих мы, по крайней мере, должны
иметь представление, из коих необходимо создавать образы, картины.
С риском впоследствии столкнуться со всеми парадоксами, которые
31Ыс1. Р. 291-292.
95
такое «преодоление» непременно повлечет за собой. С парадоксами в
самом сильном смысле слова, поскольку эти представления о том, что
«вне всяких границ», никогда не смогут пополнить свое содержание
через здравый смысл или тем более через науку. В действительности
опыт границ ставит акцент на недостатке, свойственном всякому виду
знания, сдерживая его отлив.
Это движение в общих чертах Батай намечает начиная с 1930 г.
в тексте, озаглавленном L’Œil pineal, он очень четко противопостав¬
ляет—в жесте, который можно рассматривать в качестве програм¬
мы всего его творчества, — научную и мифологическую антропологию,
чтобы второй предоставить преимущество перед первой. Наука и фи¬
лософия в данной программе оказываются равно призваны и пригла¬
шаемы. Это первое «систематическое» утверждение плана Батая, пер¬
вый облик мысли в непрестанном споре с современными формами зна¬
ния для того, чтобы преодолеть их, прежде признав их несомненную
ценность.
«Философия, как и наука, была до сих пор выражением человеческой под¬
чиненности, и когда человек стремится к тому, чтобы представить себя уже
не в качестве однородного процесса — процесса бедного и жалкого, — но в каче¬
стве нового разрыва внутри разрываемой природы, это уже не уравнивающая
фразеология, которая происходит из понимания, помогающего ему: он уже не
может представлять себя в унизительных оковах логики, он представляет себя,
наоборот, — не только в гневе, но в экстатическом головокружении — в резкости
фантазмов»4.
За этим установлением следует продолжение, позиция — радикаль¬
но утвердительный жест, который, по крайней мере частично, можно
считать кантианством, доведенным до предела, т. е., собственно, кан¬
тианством исправленным, очищенным через последовательно ницше¬
анское отношение.
Также следует начать с сокращения науки до состояния, которое
«.. .должно определяться термином подчинения таким образом, чтобы сво¬
бодно направлять ее, подобно вьючному животному, к целям, которые уже не
имеют к ней отношения [...]. Но возможно использовать ее, ограничивая ее
движение и ставя ее по ту сторону ее же границ, чего она достичь не способ¬
на, перед лицом чего она становится лишь бесплодным усилием стремления
и смутным, пустым существованием. Действительно, поставленные так по от¬
ношению к науке, эти элементы становятся лишь голыми терминами, беспо¬
мощным заблуждением. И только путем преодоления внешних границ другого
существования в его мифологически пережитом содержании становится воз¬
можным использование науки с безразличием, которого требует ее специфиче¬
ская природа, но все это имеет место лишь при условии ее предварительного
подчинения ее же собственными средствами, что заставит ее порождать за¬
блуждения, которые и ограничат ее»5.
4Œuvres complètes, éd. Gallimard, 1970, t. 2, p. 22.
5Ibid. P. 23.
96
В целом в этом прологе Батай хочет начать полемику, если не вой¬
ну, внутри самого знания, особенно внутри того знания, чей объект —
человек, человеческое существование. Он хочет положить конец глу¬
бинному искажению, которое несет знание, точнее, то, чем знание ока¬
зывается против собственной воли. Он хочет также положить предел
его утилитарным претензиям, пытаясь разрушить его изнутри, за¬
ставив его сойти со сцены, дисквалифицировав его. И все это ради
настоящей переоценки ценностей и полной перемены среды. И все это
посредством движения, которое не прекращает постоянно повышать
ценность пределов: это единственный способ сделать воспринимаемой,
позволить действительно увидеть логику исключения, которая лежит
в основании всех знаний и которая служит их обоснованием. Отказ
от всякого компромиса в этой области, акцентирование, изобличение
разделения: это единственно возможная позиция, чтобы утвердить, по
крайней мере теоретически, возможность преодоления границ и оце¬
нить важность и значение последнего.
«Исключение мифологии из сферы разума, несомненно, справедливо, и к
этому нет смысла возвращаться, но его следовало бы лучше понять, перевер¬
нув установленные с помощью этого исключения ценности, т. е. тот факт,
что согласно разуму в мифологическом нет ценностного содержания, есть
само условие его значимой ценности. Поскольку, если эмоциональная жесто¬
кость человеческого разума проецируется как луч света среди пустынной ночи
абсолюта или науки, из этого следует только то, что этот луч света не имеет
ничего общего с ночью, в которой его вспышка становится леденящей»6.
Мне кажется, что таким способом Батай вводит в поле «антропо¬
логического» знания огромные перемены, которые по существу наце¬
лены на исследование границ этого знания («разум» этих границ, их
потаенную рациональность). Следовательно, в указанной перспективе
он добивается того, чтобы отдать отчет в присутствии doxa в самых
отточенных, самых систематических и, следовательно, самых симпто¬
матических формах знания: науке и философии. Одним словом, doxa
рода человеческого. Дабы достичь этого, он ставит на накопление ан¬
тропологических «данных», частично заимствованных как у психопа¬
тологии, так и у «примитивных» обществ, предназначенных прежде
всего для того, чтобы посеять смущение в действующих представле¬
ниях человеческого вида и еще более в общих определениях человече¬
ского, человечности человека. Следовательно, речь должна была бы
идти о том, чтобы показать, как это увеличение антропологических
данных ставит под сомнение «научные» рамки, в которых человече¬
ский вид думает себя определить, в которых он считает возможным
себя ограничить.
Батай стремится затронуть — поставить под вопрос — границы, ко¬
6Ibid.
97
торых жаждет человечество: для этого нужно изменить самое далекое
возможное представление, которое вид навязывает себе самому. Оче¬
видно, речь идет о работе над эффектом-границы, который структурно
бесконечен, о чем, на мой взгляд, свидетельствует все творчество Жор¬
жа Батая, как в его «теоретической» части, так и в «литературной».
Одна из форм, далеко не последняя, которую в предвоенные годы об¬
ретает эта постановка вопроса, — область «разнородного» и «однород¬
ного». Таким образом, для Батая это означает произведение доста¬
точно сильных, запечатлевающихся в сознании представлений о «раз¬
нородном», чтобы создать противовес «однородному», — составной ча¬
стью какового выступает наука, — ввести в него причину внутреннего
возражения.
Текст, из которого я исхожу, повторяет этот демарш, в частности,
давая ему предельно широкий размах, поскольку сама философия ока¬
зывается здесь включенной и призванной в форме двух противополож¬
ных, противоречивых высказываний, к которым я хотел бы теперь об¬
ратиться.
«Бытие... вне всех границ.
Бытие, несомненно, также находится в границах».
Во втором высказывании я выделил глагол. Границей здесь будет
то, что позволяет мне — неизвестной части меня самого, той части ме¬
ня, к которой я не имею непосредственного доступа, — найти себя или
обрести себя, чтобы прежде быть потерянным: это то, что ведет меня
к бытию в присутствии меня самого, к открытию моей истинной при¬
роды, наконец, к совпадению с собственным Я — как в конце долгого
незнания меня самого, и, таким образом, я смогу описать этот процесс.
Отметим также, что слово «граница» весьма многозначно. В самом
элементарном смысле граница есть линия, разделяющая две смежные
территории: она неразрывно связана с этим ограничением, посколь¬
ку представляет собой тот край, где заканчивается область, где она
находит свой предел. Кроме того, граница —это та точка, в которой
не может быть и не должна преодолеваться активность. Это еще и
то, начиная с чего целое приобретает смысл самим фактом своего по¬
явления в последней форме. Возможно, она еще значит то, что, по
крайней мере в принципе, должно иметь вероятность своего преодоле¬
ния, и даже то, что призывает к своему преодолению в качестве самой
неизбежности.
Множественное число, которым данный термин выражается у Ба¬
тая, несомненно, делает это слово еще более загадочным. Что мы го¬
ворим, когда нам необходимо заявить о границах или просто сказать
о наших границах, когда мы настойчиво ищем знания границ вообще
или наших собственных? В каком порядке речи мы располагаемся, ко¬
98
гда осуществляем подобное вопрошание? И переполненным чем обна¬
руживает себя человечество, чтобы начать разговор о своих пределах?
Известно, что значительная часть журнала Документы была по¬
священа Критическому словарю, по поводу которого Батай написал
следующее: «Словарь начинается тогда, когда он дает уже не значение,
но работу слов»7. Способ находить отклонение прямо в языке, вносить
сомнение в наиболее распространенный обычай. И способ возвращать
словам их эмоциональное значение, располагаясь за границами здра¬
вого смысла, использовать по их поводу, по их случаю суверенный
синтаксис, среди эффектов которого — изменение нашего способа го¬
ворить и возвращение в язык трагического измерения, позволяющее
последнему быть действительным событием.
И не пора ли вернуть работу слову «граница»?
И не является ли творчество Жоржа Батая способом заставить
меняться «границу» — слово, понятие, вещь — в своеобразном накоп¬
лении «антропологических» свойств, разнородных, гибридных?
Во всяком случае, мне кажется, что текст Батая не прекращает
свое возвращение к видам границ, к явлениям границы, к «антропо¬
логическим» образам, в которых границы становятся видимыми. Как
если бы здесь речь шла прежде всего о начале переоценки ценностей и
одновременном разрушении того, что поддерживает логику границы.
Это то, что, без сомнения, оказывается открытием поля по ту сторону
Гегеля, поля для работы отрицательного, поиском изменения горизон¬
та. Описываемое Батаем под названием «внутреннего опыта» тесно
связано с настойчивым желанием сдвинуть отношение границы к сво¬
ему другому, к безграничному, тем более что границы — это, в частно¬
сти, то, о чем говорится в цитате, из которой я исхожу, — именно они
позволяют нам говорить.
Следовательно, вопрос состоит в следующем: как можно говорить
о границах? Как обычно говорят о границах? Но вслед за этим во¬
просом появляется странная закономерность: границы —это то, что
прежде всего позволяет мне говорить. Следовательно, то, к чему в
качестве говорящего существа я приближаюсь, то, что является мне в
качестве строгой необходимости — не только с исторической точки зре¬
ния — говорить о границах, искать, как обойти их, объяснить то, что
остается в них тайным, т. е. постоянно возвращаться заново к тому, что
дается в качестве границы (в единственном или множественном чис¬
ле), безразлично к тому, что выполняет функции границы, не заявляя
об этом. Теперь и впредь, как с единственной уверенностью в том, что
слово еще ускользнет от меня, оно уже от меня ускользает. (То, что
у Батая предполагается известной практикой повторения, некоторый
70Еиугез сотр^ев, 1.1, р. 217.
99
вид письма заново: как если бы через какое-то время Батай снова пи¬
сал «то же самое», вводя каждый раз отклонения и изменения.) В этой
перспективе присутствует постоянная необходимость «возобновления»
слова, которое ускользает подобно тому, как постоянно возобновляется
желание вернуться к нему.
Говорить о границах означает одну лишь необходимость расста¬
вить акценты прежде всего на «условиях» говорения: создавать опыт
бытия говорящим субъектом с настойчивым желанием осуществить
это наиболее возможным способом. В противопоставленности «науч¬
ной» антропологии, которая действует в запретном, т. е. которая на
самом деле исключает даже вопрошание о границах, «мифологиче¬
ская» антропология, основанная на «фантазмах», есть прежде всего
дискурс, в котором субъект предстает перед нами, являет себя, пока¬
зывает себя во всем разнообразии своих аспектов. Этот субъект да¬
ется в том, что пишется, он описывает то, что происходит, и в ко¬
нечном счете стремится выявить те условия, при которых он пред¬
стает в качестве говорящего субъекта. Одно из названий, которое Ба¬
тай дает этому процессу, — отношение возможного к невозможному, в
том смысле, что невозможное предшествует возможному, возмож¬
ное вырисовывается на основе невозможного, на горизонте невозмож¬
ного.
В предисловии к Мадам Эдварде Батай пишет следующее:
«Даже наша мысль (рефлексия) может быть завершенной лишь в эксцессе.
Что значит истина вне представления эксцесса, если мы не видим того, что
превосходит возможность видеть, что невыносимо видеть, подобно тому как в
экстазе невыносимо наслаждаться? Если мы не мыслим того, что превосходит
возможность мыслить?. .»8
Это невозможное, на котором основана сама возможность гово¬
рить, есть то, что становится объектом бесконечного исследования,
и то, что иногда побуждает субъект к утверждению суверенности, по
крайней мере в том, что относится к сбереганию.
«Я никогда не бываю связан; я никогда не пойду в рабство, но я оставляю
себе свою суверенность, которую только моя смерть, доказав невозможность
ограничиваться бытием без эксцесса, отделит от меня».
Что есть это сберегание? Означает ли оно воздержание от непо¬
средственности траты в ожидании наиболее благоприятного момента,
т. е. расчет? Или речь идет о том, чтобы что-то оставить в стороне, в
ожидании, невостребованным? Как удается мне, субъекту, постоянно
производящему слово, сберечь мою суверенность?
Можно вспомнить, что в том же отрывке Батай пишет следующее:
8Ь’Ёго1л8те, р. 296-297. (см. Жорж Батай, Ненависть к поэзии. М.: Ладомир,
1999. С. 416. — Прим. ред.
100
«Нам следовало бы презирать наслаждение, если бы оно не было этим
ошеломляющим превозможением, причем речь идет не только о сфере сек¬
са — подобного экстаза достигали мистики различных религий, и в первую
очередь христианства. Бытие нам дано в невыносимом превозможении бы¬
тия, не менее невыносимом, чем смерть. И поскольку в смерти оно одновре¬
менно нам дано и отнято у нас, мы должны искать его в ощущении смер¬
ти, в тех невыносимых моментах, когда нам кажется, что мы умираем,
ибо бытие существует в нас лишь благодаря эксцессу, когда полнота ужаса
совпадает с полнотой радости».9.
Теперь остановимся на этом совпадении противоположного — одно¬
го из наиболее знаменательных «объектов» творчества Батая и также
одного из наиболее постоянных: Эротизм построен на этой встрече,
чтобы дать продолжение указанному совпадению, — иллюзия смерти
может высветить себя в качестве того, что в наибольшей степени спо¬
собно подать знак об этом немыслимом избытке бытия, в качестве
того, что является самым невыносимым образом. Подобие смерти, к
счастью, может приблизить нас к тому измерению, о котором в ином
случае мы не имеем никакого представления. Таким образом, частная
форма мимезиса начинает свой полет в ту местность, где смерть вы¬
ражает себя, где, во всяком случае, она оказывается вовлеченной: в
самих границах выносимого.
Чтобы продвинуться в этом направлении, мы должны обратиться
к последней фразе из первоначальной цитаты, где я хотел бы коротко
осветить главные выводы из текста Батая.
«Я не отвергаю познание, без которого я бы не смог писать, но здесь пишет
умирающая рука, и благодаря этой обещанной ей смерти она избегает границ,
принятых при письме (принятых рукой пишущей, но отвергнутых рукой уми¬
рающей)».
Позиция трудная, даже невозможная, еще и в том, что здесь она
выводится из противоречия: с одной стороны, письмо возможно толь¬
ко на основании знания, т. е. на основании практики, в действитель¬
ности ограниченной пределом или даже запретным; с другой сторо¬
ны — письмо как открытость смерти, т. е. как поиск местонахождения
за пределами границ: в целом это попытка разрушения самой стойкой
разновидности запретного, того, что обращено к смерти. Следователь¬
но, одной рукой я соглашаюсь с границами, которые делают письмо
возможным, другой же рукой я отказываюсь от этих границ, принимая
факт смерти. Одновременная и противоположная деятельность обеих
рук: то, что делает одна, другая разрушает, и нет никакого определе¬
ния для этого процесса.
С одной стороны — возможное, такое, каким оно обозначено, посла¬
но или навязано логикой знания, это возможное, в частности, форми¬
91Ыс1. Р. 296. (Там же.— Прим. ред.)
101
рует меня в качестве субъекта письма. С другой стороны — невозмож¬
ное, о котором необходимо получить цельное представление. В пере¬
ходе от одного к другому, между тем и другим, «смерть» как знак без
эквивалента, образцовое изображение границы: это опорная точка, в
которой письмо так или иначе противоположно непрерывной утили-
таризации.
Статья, написанная в 1932 г. и озаглавленная Понятие траты10,
может рассматриваться в качестве первой важной разработки в этом
направлении. Как известно, акцент здесь сделан на принципе потери
в качестве главного образующего фактора человеческой деятельности
в целом. В этом тексте Батай стремится к описанию логики того, что
превосходит понятие полезного и разумного, того, что в самом из¬
бытке принимает форму жертвоприношения. Тут я более подробно
остановлюсь на следующем: литература и театр провоцируют страх и
ужас в символических представлениях о трагической потере (падение
или смерть). Поэзия фактически синонимична трате: она непрерывно
приближается к жертвоприношению. Может случиться, что поэтиче¬
ская трата прекратит быть символической в своих последствиях: и
тогда действие представления вовлекает в саму жизнь того, кто
вобрал ее в себя, ставя его в позицию-границу, где он всегда рискует
исчезнуть, уничтожиться.
Это размышление продолжается и во Внутреннем опыте11, где
поэзия описана так, что, будучи жертвоприношением, где слова ста¬
новятся жертвами, она есть еще и особый опыт, в котором имеет место
умерщвление автора своим произведением. Автор —это тот, кто хочет,
чтобы его разгадали умирающим в каждой строчке немного больше,
тот, кто хочет, чтобы его вообразили в процессе исчезновения: Батай
развивает данную тематику главным образом по поводу Марселя Пру¬
ста.
Остается, чтобы этот первый подход нашел свое расширение в
размышлениях, которые Батай развертывает по поводу трагедии,
и в частности греческой трагедии. Прежде всего, он подразумева¬
ет, что есть только одна общая деятельность, которая способна по-
настоящему объединить людей, — это смерть. Кроме того, греческая
трагедия ставит выше общности людей видимые знаки бреда и смер¬
ти: она позволяет увидеть такие знаки, в которых люди могли бы —
должны были бы — признать свою истинную природу: как если бы при
помощи этих образов люди обозначали в себе то, что они суть на самом
деле, без двусмысленности, в тончайших извилинах. Трагедия есть
не что иное, как использование общения между людьми под знаком
10См. русское издание: Батай Ж. Понятие траты // Батай Ж. Проклятая доля.
М., 2003. С. 183-207. — Прим. ред.
11 См. русское издание: Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. — Прим. ред.
102
наибольшей напряженности и намеренной жестокости: она, таким об¬
разом, не прекращает превосходить потребности, полезность и меру.
Она происходит именно в границах «священного». И это самый «же¬
стокий» и единственно возможный урок трагедии — только «знание»
о смерти может указать человеку на то, что он на самом деле, только
оно в состоянии дать ему представление о бытии и приблизить его к
иному порядку «реальности».
Другими словами, трагедия неуничтожимо касается отношений
каждого со всеми — с воспринятой общностью в качестве того, что су¬
ществует по эту сторону оснований и утилитарных причин. Но она
затрагивает и отношение каждого с самим собой: она неразрывно свя¬
зана с тем, что в начале Эротизма Батай называет «странным незна¬
нием» самого себя, которое каждый носит в себе самом и которым он
определяется.
Именно для того, чтобы попытаться покончить с этим незнанием,
Батай еще в ранние годы пытается — начиная с 30-х годов — опреде¬
лить устроение жертвоприношения. По эту сторону «антропологиче¬
ских» вариаций речь идет главным образом о высвобождении некой
неизменности жертвоприношения. Если по преимуществу это отно¬
шение перед лицом смерти, то движение, которое, собственно, со¬
ставляет его,— победа, требующая только того, чтобы смерть была.
Жертвоприношение — в его наиболее последовательных и радикаль¬
ных формах — есть выражение внутреннего согласия жизни и смерти.
Можем напомнить по этому поводу, что, опираясь на теорию потла¬
ча (potlatch), — а это истинное сопровождение концепции жертвопри¬
ношения в перспективе экономики спасения, — Батай хочет включить
традиционную сферу верующего в более просторную, но главным об¬
разом более противоречивую сферу «священного». Такой жест в этом
контексте оказывается образцовым по отношению ко всему его даль¬
нейшему творчеству.
Одна из существенных форм жертвоприношения — «жертвенный
акт» — создается «радостью перед лицом смерти». И речь идет не
столько о том, чтобы умереть, сколько о том, чтобы быть унесенным,
используя впечатляющее выражение Жоржа Батая, «на высоту смер¬
ти», чтобы достичь тех мест, где утвердилось бы «внутреннее согласие
жизни с ее жестоким разрушением».
В тексте, названном Практика радости перед лицом смерти, Ба¬
тай пишет следующее:
«Тот, кто смотрит на смерть и радуется, уже не есть индивид, тело кото¬
рого должно сгнить. Вступив в игру со смертью, он уже вышел за пределы
самого себя вовнутрь славного сообщества, смеющегося над убожеством себе
подобных, и, каждое мгновение изгоняя и уничтожая своего предшественника,
он торжествует над временем, продолжающим властвовать над его близки¬
103
ми. Не потому, что он хотел бы ускользнуть от своей судьбы, заменив свою
личность более прочным сообществом. Наоборот, сообщество необходимо ему,
чтобы осознать славу того мгновения, которое вырывает его из существования.
Чувство связи с теми, кто избран, чтобы объединить свое великое опьянение, —
это только средство заметить, что утрата есть слава и победа, что конец мерт¬
веца означает обновленную жизнь, вспышку света, “аллилуйя”»12.
Этот текст — среди многих других того же времени — указывает на
желание «преодоления» христианства с той радикальностью, которую
Батай особенно ярко проявляет в своих первых сочинениях. «Слав¬
ное сообщество», о котором здесь говорится по поводу отношения к
смерти, на мой взгляд, предназначено принять эстафету прославлен¬
ного тела христианства, акцентируя движение к «священному», ка¬
ковое не сводится только к христианской сфере. Следы этого же им¬
пульса несколькими годами позже мы обнаруживаем и в различных
работах Коллежа социологии.
«Я предлагаю допустить в качестве закона, что человеческие существа со¬
единены между собой только разрывами или ранами: в самом этом понятии
присутствует некая логическая сила. Если элементы собираются, чтобы обра¬
зовать целое, это может легко произойти, если каждый из них теряет в разрыве
своей целостности часть собственного существа в пользу общего существова¬
ния. Инициация, жертвоприношение и праздники представляют собой такие
же моменты потери и общения индивидуумов между собой. Обрезание, оргии
достаточно убедительно показывают, что между разрывами секса и разрыва¬
ми обрядов существует больше чем только одно общее: оно добавляется, когда
эротический мир начинает заботиться о том, чтобы обозначить акт, в котором
происходит жертвоприношение, обозначить исход этого акта в качестве “малой
смерти”»13.
В эти годы Батай постоянно возвращается к феномену жертвопри¬
ношения, пытаясь подобрать к нему определение, обновить его, под¬
черкивая его расточительный аспект. Как если бы с этим понятием
жертвоприношения он пытался найти целое в различных, не связан¬
ных между собой с точки зрения здравого смысла, измерениях. Как
если бы он воспользовался случаем подвинуть «научную» антрополо¬
гию со стороны «мифологической», в которой ритуалы «жертвоприно¬
шения», как и экстремальные формы поэзии, экономика и фантасма¬
гория, обыденное, как и «священное», смогли бы найти свое место, т. е.
нашли бы свой истинный смысл. Медленный процесс перемещения —
в коем, без сомнения, следует видеть один из образов трансгрессии —
завершается в своеобразном накоплении необычных «антропологиче¬
ских» данных, странных и непривычных, т. е. глубоко необъяснимых
с точки зрения doxa, несовместимых со здравым смыслом.
12Œuvres complètes, t. 2, p. 370. (См.: Батай Ж. Радость перед лицом смерти //
Коллеж социологии, 1937-1939/ Сост. Д. Олье. СПб., 2004. С. 483-484.—Прим.
ред.)
13Œuvres complètes, t. 2, p. 370.
104
Цель состоит в том, чтобы подтолкнуть границы к прогрессивному
движению, в особенности те, которые искусственно установлены ра¬
зумом или обществом, те, что соответствуют очевидности и понятию
пользы, и, в конце концов, те, что имеют своей целью поддерживать
или производить гомогенность. Мне кажется, прослушивание слова¬
ря, в котором Батай приступает к письму, — это зондирование языка,
каковое осуществляет Критический словарь журнала Документы, —
идет в том же направлении, подкрепляя и удваивая работу над грани¬
цами антропологии. Письмо Жоржа Батая открывается этим посто¬
янным и обновляющимся переходом границ языка —там, где смысл
выходит за свои пределы. В статье Эстет указанного словаря я чи¬
таю следующее:
«Слова в конечном счете имеют право нарушать вещи и вызывать отвра¬
щение: через пятнадцать лет мы находим ботинок умершим на дне шкафа и
несем его в помойный бак. Есть циничное удовольствие вдумываться в слова,
которые что-то тащат из нас вместе с собой до помойки»14.
Это перспектива, раздваивающаяся до бесконечности, в которую
можно включить все сближения между областями, по обыкновению
разделенными, которые Батай должен выделить, как и тот способ, ко¬
им он дает ход этому процессу. Я только напомню в качестве примера
следующее: бойня на самом деле оказывается производной от религии.
Иными словами, то, что есть, ради чего мы согласны открыть глаза,
ради чего мы не отворачиваемся от того, что нам дано видеть, — это
«потрясающее совпадение между мифологическими тайнами и мрач¬
ным величием мест, где течет кровь». Таким образом, из спектакля,
открытого для изобилия в самых обычных и незначительных местах,
нужно уметь извлечь выгоду: нужно открыть, насколько это возмож¬
но, пространство сравнения и еще больше расширить ресурсы мета¬
форы. Узнавать в целом, без заботы о том, что нынче в ходу: чем
действительно являются образы, играть их виртуальностью; не пре¬
кращать расширять горизонты как — по ту сторону того, что создано
для их полагания. Необходимо делать ставки на случай, благодаря
которому слова могут открыться нам в обычае употребления и носи¬
телях, держать пари о том, чем они в состоянии включиться заново, по
ту сторону их истощения. Именно в этом направлении может прибли¬
зиться или наступить реальное, обмен обыденного и мифологического:
достаточно нескольких слов, нескольких образов, из которых произой¬
дут представления в необъятном количестве. У меня создается впечат¬
ление, что именно с этого момента Батай начинает — и чрезвычайное
богатство его первых текстов придерживается этой манеры письма,
где «как», отмеченное или нет, играет решающую роль, — и именно из
14Œuvres complètes, 1.1, p. 236.
105
этого основания его первой работы в конечном счете происходят та¬
кие значительные теоретические понятия, как «суверенность», «транс¬
грессия», «запретное» и т. д. И равным образом из этого же основания
мало-помалу высвобождается понятие «священное».
«Религиозность (идти до конца, то, на что мы способны вместе, от возмож¬
ного жизни) имеет два пути: рабский и суверенный. Первый ничуть не оказы¬
вается немедленным падением, но он подчиняет концу всякую ценность, самого
Бога подчиняет пользе (т. е. бытию). Второй отягощает и не имеет выхода. Он
предполагает:
— желание — в ужасе, переносящем его в страх;
— сознание того, что суверенное наслаждение — это вызов (счастливый, посколь¬
ку он сделал возможным случай), который я приношу смерти;
— мысль о том, что ночь, в которую я падаю, не может быть нигде и ничем
уравновешена, — без этого я был бы подчинен «возможному», которое ввело бы
меня в равновесие, вместо того чтобы я мог отдаться растрате моей суверенности
(ночь, которая никогда не увидит начинающийся день)»15.
При посредничестве этой ссылки я возвращаюсь к тому, что со¬
ставляет главную деталь всего этого построения, — я подразумеваю
смерть. Действительно, для Батая среди всей мыслимой и представ¬
ляемой чрезмерности смерть вне всякого контекста — самая дорого¬
стоящая и самая экстремальная вещь. Иными словами, она связана,
согласно «необходимости», которой Батай пользуется для производ¬
ства образов, с вопросом о границах во всех возможных смыслах. Но
смерть —это также и то, что с необычной силой ведет человека к па¬
радоксальным и «обманным» движениям, среди которых следует при¬
знать как неведение, так и отрицание. Таким образом, то, что Батай
стремится подчеркнуть в этой перспективе, есть то, что не высказы¬
вается и по обыкновению не позволяет о себе говорить: то, что на
самом деле заставляет нас двигаться, без чего, однако, мы не смог¬
ли бы об этом говорить. Невысказываемое и в то же самое время, за
некоторым исключением, не-представляемое: то, без чего невозмож¬
ны ни речь, ни представление. Следовательно, именно в отношении
смерти непрерывно ставит вопрос вся совокупность текстов Батая,
в этом приближении — почти «невозможном» — к «истине», которая
проходит, ослепляя нас, и, не зная ее, хотя и имея о ней представле¬
ние, мы не прекращаем отворачиваться. Нечто вроде особенно завле¬
кательного «объекта» — по крайней мере в образе отсутствия «объ¬
екта», всегда привлекающего нас, — которым мы пользуемся в общей
деятельности, чтобы смягчать напряженность, кою мы постоянно пы¬
таемся перенести на что-то другое, что, проще говоря, мы пытаемся
стереть с горизонта. Письмо Батая требует от себя неотступного напо¬
минания об этом «объекте», полагания в подчеркнутую очевидность:
открытие, обновленное вопросом «жертвоприношения», рассматрива-
151Ыс1., гл, р. 167-168.
106
емым в другом аспекте, взятым в более радикальном виде, с другими
последствиями и другими выводами. Вопрос, знающий себя вне своего
решения: неопределимый даже в теории, которая пишется и которая
всегда имеет дело только с одним и тем же, запрет, касающийся как
смерти, так и сексуальности. Почему же он не высказывается? Или
сохранение человеческого рода зависит от некой невысказанности?
«На самом деле, когда мы проклинаем смерть, мы боимся только себя са¬
мих: это наша воля, чья непреклонность заставляет нас содрогаться. Мы лжем
самим себе, мечтая ускользнуть от движения богатейшего изобилия, острой фор¬
мой которого мы являемся. Может быть, мы лжем себе вначале только для того,
чтобы впоследствии лучше испытать непреклонность этой воли, нося ее в суровой
крайности сознания.
Роскошь смерти в этом отношении предусмотрена нами так же, как и роскошь
сексуальности, вначале как отрицание нас самих, затем, во внезапном перевороте,
в качестве глубокой правды движения, которое лучше всего показывает сама
жизнь»16.
Как можно выхватить это отношение к самому себе, т. е. этот об¬
думанный метод, который составляет человеческий вид и при помощи
которого — согласно видимости — оно не стремится к познанию смыс¬
ла?
И что же делает Жорж Батай с подобными заявлениями? Про¬
токол? Критика? Утверждение существующего? Указание на то, что
должно было бы быть? Возможно, он только и делает, что пытается
перемещаться между этими различными позициями, не желая зани¬
мать какую-либо из них. Возможно, он только и делает, что заботит¬
ся о виде, частью которого он умеет быть: говорить, не заботясь об
оригинальности, то, что он заметил, являть то, что ему показывает
случай, повторять, пытаясь заставить двигаться самые общие слова.
В целом —не играть в индивида против вида, поскольку легче всего
было бы отказаться от игры: гораздо проще собрать здесь и там сло¬
ва, непрерывно возвращать их в руку и иногда направлять их к этим
незнакомым лицам, которые являются читателями, причастными к то¬
му же виду, т. е. которые подчинены тем же запретам.
«Больше всего мне чужд личный тип мышления. Во мне ненависть к инди¬
видуальной мысли (комар, утверждающий: «я думаю иначе») достигает спокой¬
ствия, простоты; я играю, выдвигая слово, мысль других, то, что я собрал наудачу
из человеческой субстанции вокруг меня»17.
Эта фраза значительна для современного прочтения текста Жоржа
Батая. Как мы могли бы составить круг читателей этого произведе¬
ния?
161Ыс1., г. 7, р. 41.
17Это фундаментальная позиция, с которой возможно исследование письма Ба¬
тая.
107
В любом случае, то, с чем мы сталкиваемся, читая,— это сбива¬
ющий тип утверждений. Сначала — потому, что он избегает безапел¬
ляционного тона. Потом — потому, что он бесконечно обновляем, ак¬
тивизирован, обогащен, и потому, что он использует нестандартные
вариации изложения. Когда Батай пишет: «Для общей жизни необ¬
ходимо держаться на высоте смерти... Сообщество может сохра¬
няться только на уровне интенсивности смерти... Смерть — это то¬
тальная трата», когда он разворачивает такие заявления, он совер¬
шает не что иное, как помещение требования рефлексии — мысли — на
уровне невозможного, или неутомимое повторение движения, устанав¬
ливающего соответствие между возможным и невозможным. В своем
намерении заставить сообщество — это неустойчивое целое — слышать
Батай обращается к нему, оценивая ограничения, которые создают
его, — то, чем оно пользуется, чтобы не знать того, от чего в неко¬
тором смысле оно защищается при помощи обращения к «научной»
антропологии, где оно может найти новое заверение в своей гомоген¬
ности. Мы понимаем, что в данной перспективе, особенно в довоенные
годы, только политика позволила Батаю возвестить сообществу, глу¬
боко потрясенному политическими кризисами огромного размаха (ста¬
линизм, подъем нацизма), это неслыханное отношение возможного к
невозможному.
Все то, что разворачивается в сочинении О Ницше, датируемом
1944 г., по поводу морали или сверхморали, происходило бы в анало¬
гичном движении. Говоря о том, что он называет «спокойным челове¬
ком», Батай пишет следующее:
«Ему следует признать — вместе со мной, — что смерть, трагический ужас
и священный восторг связаны с ним; что по причине незнания ответа все люди
пребывают в неведении того, что они суть».
В этой же строке, но на другом уровне разработки, — следующее:
«Дискурс о бытии, метафизика не имеют смысла, если они не знают об
играх, в которые жизнь вынуждена играть со смертью»18.
Одно из наиболее настойчивых намерений творчества Батая состо¬
ит в том, чтобы возвратиться к тому, что образует сообщество, обна¬
жить то, что составляет его связь: существование в границах невоз¬
можного, т. е. на высоте смерти, и необходимость, которая светится
в этом движении. Надо непрестанно иметь в виду вопрос этой связи
и ее необходимости. Но в такой нацеленности будет смысл только в
том случае, если в то же время мы зададим себе вопрос о значении
и определении указанного «надо» в качестве неразрывно связанного с
сообществом.
180Еиугез сотр^ев, 1. 7, р. 264.
108
Остается эта доля меня самого, которая не может подчиниться
единственному возможному, которая не может ограничиваться «судь¬
бой», предписанной ей сообществом. Во Внутреннем опыте Батай пи¬
шет:
«Осужденный стать человеком (или чем-то большим), я должен теперь
умереть (сам), родить себя сам. Вещи не могли бы больше оставаться в своем
состоянии, возможное человека не могло бы ограничиваться констатацией по¬
стоянного отвращения к самому себе, отрицания, повторяемого умирающим...
Кто “не умирает”, будучи лишь человеком, навсегда останется только челове¬
ком»19.
Нужно, мне нужно: мне нужно, потому что в общем, с точки зре¬
ния сообщества, которое признало бы то, что оно есть, это нужно.
Среди других только в этой перспективе мы сможем понять парадок¬
сальную фразу, упоминавшуюся ранее: «Больше всего мне чужд лич¬
ный тип мышления». Во всяком случае, есть необходимость — больше
чем потребность — обновленного утверждения, способного дать про¬
должение тому, что не говорится, в том, что говорится в намеке —в
пространстве сообщества, способного неизменно возвращаться к это¬
му слепому пятну понимания, удивительно напоминающему структуру
глаза. Письмо Батая с самого начала было бы этим священным дви¬
жением возвращения к необходимости донести до сообщества мысль о
том, что его объединяет: это смерть, жертвоприношение и трата.
В предисловии к такому позднему тексту, как Эротизм, Батай пи¬
шет:
«Я все пожертвовал поиску точки зрения, откуда берет свое начало един-
20
ство человеческого разума» .
Все творчество Батая может рассматриваться как по-разному по¬
вторяющее одно и то же: возможное единство человеческого вида
или — еще — забота о виде. Именно эта точка зрения вынуждает его
очертить границы полезного и указывать за пределами утилитарной
рациональности то, что ее превышает: жертвоприношение, трату, свя¬
щенное, игру, смех; описывать «невозможные» образы того, что превы¬
шает длительность, время и устроение реального мира, мира потребно¬
стей и работы. Жертвоприношение в своем предельном расширении —
это движение, которое состоит в преодолении длящегося порядка (где
любое потребление ресурсов оказывается подчиненным необходимости
поддержания) в суверенный момент потребления без обозначенного
предела. Жертвоприношение — также то, что заставляет исчезнуть с
временного горизонта всякую заботу о будущем, всякое «геометриче¬
ское вйдение будущего», такое, каким оно понимается в политике в
191Ыс1., 1.5, р. 46.
20Ь’Ёго1л8те, р. 12.
109
самом расхожем смысле. Мы знаем, что Батай часто повторяет, осо¬
бенно в противовес Гегелю, фразу Ницше: «Я люблю незнание буду¬
щего». Мне кажется, в тексте Батая присутствует пример, которым
он смог расширить понятие «жертвоприношение» до включения дис¬
курса, слова и поэзии. Он показывает, что знание о смерти — это то,
что отличает нас от животных, а главным образом, что сознание смер¬
ти — не что иное, как самосознание, самосознание, которое находится в
становлении и перед которым всегда маячит угроза «не иметь места»
и не суметь утвердиться.
В этом я вижу способ перемещать границы, в кои заключает се¬
бя антропологическое умение — дискурс вида о себе: дискурсивное
отношение к самому себе внутри вида посредством введения цели
невозможно. Равным образом я вижу способ держаться на почти¬
тельном расстоянии от главных мотивов гегелевской мысли. Вот две
вещи, которым мы можем подвести итог фразой, извлеченной из
Эротизма:
«Существует условие перехода от животного к человеку настолько ради¬
кально отрицательное, что никто не осмеливается говорить о нем»21.
Жертвоприношению свойственно согласие между жизнью и смер¬
тью, ему свойственно показывать, что смерть —это знак жизни,
вступление в неограниченное. Точнее, жертвоприношение — это приви¬
легированный и единственный момент, когда стойкий запрет, который
воздействует на смерть, оказывается в то же самое время раскрытым
в своем подлинном значении. Одновременность открывается тому, кто
сумеет ее схватить и воспринять, особенно значительная в изобилии
явлений, тем более что с ней сопряжены с высочайшей интенсивно¬
стью эти две противоположности, которыми являются по преимуще¬
ству жизнь и смерть. Момент жертвоприношения ставит вопрос о
самом принципе временной социальной организации, о причине разоб¬
щения, о значении этой «очевидности», которую для любого общества
составляет линейность времени. Внезапное появление «священного»,
которое вводит жертвоприношение, — эта отсрочка отмеренного вре¬
мени и расчета, этот разрыв социальной структуры — было бы, соот¬
ветственно, способом — если не способом по преимуществу — вообра¬
зить такое согласие, в иных обстоятельствах недостижимое, жизни и
смерти. Для всякого общества это стало бы новой возможностью про¬
изводить себя в перспективе прерываемости, разорвать утилитарные
связи, на которых оно надеется обосновать себя. Это приближение к
трагической правде, благодаря каковому общество получает возмож¬
ность представить себе самого себя в том, что оно есть, благодаря
каковому сообщество может смеяться.
21 Œuvres complètes, t. 8, p. 44.
110
Беря в качестве опоры факт жертвоприношения и рискуя быть
вынужденным значительно расширить общепризнанные значения,
Жорж Батай постепенно выстраивает нечто вроде обобщенной антро¬
пологии, в которой смерть становится реальным основанием. Это —
то, что позволяет (и такие тексты, как Эротизм и Проклятая доля,
служат сему доказательством) думать в том же пространстве — по ту
сторону рационализаций «научной» антропологии и всех форм doxa
в данном вопросе —о столь разных в своей видимости явлениях, как
смерть короля в «примитивных» обществах, праздник, трагедия и т. д.,
т.е. о тех внезапных моментах (в качестве фактора гетерогенности),
когда смерть является в действии, с необычной силой, с невероятной
эффективностью.
Именно в продолжение этого размышления Батай приходит к по¬
ниманию того, что жизнь на высоте смерти есть именно то, что ле¬
жит в основании необычайного богатства религии и искусства. И ли¬
тература только продолжает — в другом плане, другими средствами,
с другой эффективностью — созидающее движение религии, ее цели,
поскольку то, что литература получает в наследство, то, в чем она
должна непрерывно черпать свои возможности, — это само жертвопри¬
ношение, практика, посредством которой человеческий вид получает
представление о себе, о том, что он есть, и о том, что он не есть,
это движение, в котором названный вид дается себе в качестве невоз¬
можной цели, это образ преступления, где он может найти случай по¬
размыслить над законами, которыми наделен. В разнообразии своих
аспектов, т. е. вследствие своей универсальности, жертвоприношение
оказывается тем мгновением, когда истина приближается к виду, в
его расширении, по ту сторону границ, в которых этот вид дается, в
их преодолении. То, что Батай определяет как «поэзию», — бесспорная
часть указанного наследства: определенным способом она становится
в нашем обществе самой общей формой жертвоприношения, будучи
одновременно и самой его непризнанной формой; впрочем, как и ро¬
ман, который при посредничестве своего характера воображаемого —
который его ясно отличает от поэзии и дает другое значение — помо¬
гает нам поддерживать это вйдение жизни на высоте смерти. Иными
словами, роман смягчает ослепляющий аспект истины «жертвоприно¬
шения» или его производных образов, т. е. роман заставляет нас уви¬
деть то, на что без него мы не смогли бы смотреть, да и просто разли¬
чать. Радикальная, беспрецедентная истина выдуманного, которую да¬
ет нам литература в своем романном движении: неслыханная правда, в
конечном счете особенно сложная для того, чтобы быть услышанной в
обществе, где литература, как кажется, имеет право гражданства. Там
перед нашим взором это изобилие говорящих текстов — Пруст, Кафка,
Мишле, Бодлер, Уильям Блейк и многие другие — всегда пытается на¬
111
стойчиво внушить нам, повторяя в различных аспектах, одно и то же;
эти тексты кричат об очевидности, от которой чаще всего мы отвора¬
чиваемся, даже читая о ней. Там перед нашими глазами открывается
истина о том, что мы есть, неумолимая под покровом воображаемого.
«Таким образом, фиктивное приближение к смерти в литературе или жерт¬
воприношении сообщает единственную радость, которая переполнила бы нас,
если бы ее объект был реален; которая переполнила бы нас, по крайней ме¬
ре в принципе, поскольку мертвые мы уже не были бы больше в состоянии
быть переполненными... Не должны ли мы в определенном смысле тянуться
к радости, которая вовлекает всю совокупность бытия, противопоставляя нас
интересам эгоиста, чтобы, пусть даже против нашей воли, мы не прекращали
быть? В этом плане трагедия и комедия, или подлинный роман, в той мере, в
которой они отражают в ослепительной игре своих граней изменчивую множе¬
ственность жизни, —не ответили ли они лучше всего, что станет возможным
желание потерять себя — трагично, комично — в необъятном движении, где без
конца теряются существа? И если справедливо, что плутовство руководит ли¬
тературой, что избыток реальности разбил бы порыв, который уносит нас к
точке разрешения, где она нами руководит, так же верно и то, что только ис¬
тинная отвага позволила бы нам найти в образном ужасе смерти или падения
эту единственную непревзойденную радость, которая охватывает бытие в его
потере. Без этой отваги мы не могли бы противопоставить бедности жи¬
вотной жизни богатство религии и искусства»22.
В этой перспективе одна вещь приобретает особую значимость: ис¬
кусство некоторым образом помимо нашей воли становится способом
возвратить на авансцену то, о чем по обыкновению мы не хотим ниче¬
го знать. Мы стираем повсюду следы и эмблемы смерти ценой непре¬
рывных новых усилий. Задним числом мы стираем даже следы этих
усилий — как если бы нечто вроде неотразимого желания возвышения
толкало нас к противостоящему смерти. Тем не менее эти различные
элементы, которые мы стремимся стереть из нашей жизни, стараем¬
ся уничтожить, непрерывно возвращаются к нам в уловках искусства.
Против нашей воли в конечном счете эти элементы оказываются несо¬
мненными, ослепительными знаками очевидности смерти.
Иными словами, согласно Жоржу Батаю, существует противоречи¬
вое движение внутри человеческого вида, которое, в общем-то, фор¬
мирует его —то, от чего он с ужасом отворачивается, то, что скрепя
сердце он производит под именем «священного», то, чем он ослепля¬
ется, к чему он неизбежно возвращается при посредничестве искус¬
ства, при помощи этой видимости бесполезной, незаинтересованной
деятельности. Как если бы он мог встретить лицом к лицу свою ис¬
тину— «реальность»самую жестокую, — только под знаком видимой
бесплатности или чистой фикции. Итак, дело в строгой необходимо¬
сти — «надо», о котором я говорил вначале, — неизбежного движения,
поскольку именно оно отличает нас от животных, сохраняя нас на
221Ы(1. Р. 94-95.
112
расстоянии от животности: движение разрыва, которое в истории
вида, обогащаясь, повторяется, которое должно возобновляться бес¬
конечно.
«Перед человеческим видом стоит двойная перспектива: с одной сторо¬
ны, это жестокое удовольствие ужаса и смерти — поэтическая перспектива; с
противоположной стороны — научная перспектива реального мира полезности.
Только полезное, реальное носит серьезный характер. Мы не вправе предпо¬
честь ему обольщение: истина имеет право на нас. Она даже имеет на нас все
права. Однако мы можем и даже должны ответить чему-то, что, не будучи Бо¬
гом, сильнее, чем все права: это невозможное, к которому мы приближаемся,
только забыв об истине этих прав, принимая ее исчезновение»23.
Другой образ того же «парадокса», посредством которого выжи¬
вает человеческий вид: человек — это единственное животное, которое
убивает себе подобных, но в то же время только смерть подобных ему
повергает его в абсолютно разрывающую тревогу. Здесь тяжесть «на¬
до» следует точно обозначить: необходимо представление, мы нуж¬
даемся в представлении. В тексте, который я упоминал вначале,—
Гегель, смерть и жертвоприношение, — Батай показывает, что созна¬
ние смерти есть именно то, что не может обойтись без уловки, без
спектакля. Есть строгая необходимость в спектакле, в представлении,
без репетирования которого мы остались бы чуждыми смерти. Фик¬
ция смерти —несомненно, необходимость первого порядка: это жест,
который нас радикально выделяет из человечества. Человеческий вид
живет комедиями — особенно теми, где представлена смерть, — в коих
он заблуждается: игра, которая не прекращает играть себя, должна
повторяться. Суверенная литература пытается продлить очарование
этого спектакля, будь он комическим или трагическим.
«Речь идет о том, по крайней мере в трагедии, что мы отождествляем се¬
бя с тем героем, который умирает, и тогда считаем, что сами умираем, хотя
продолжаем жить. Причем для этого вполне достаточно чистого и простого
воображения, но у него тот же смысл, что и в классических увертках, зрели¬
щах или книгах, к которым прибегает большинство. [... ] ... Все человечество —
всегда и везде — хотело, прибегнув к уловке, схватить то, что смерть и давала
ему, и скрывала от него».
Иногда Батай продолжает размышление о различии, которое отде¬
ляет человека жертвоприношения от философа Гегеля, делая акцент
на грубой ошибке Гегеля, на невысказанном в его системе.
«Несомненно: то обстоятельство, что он остался жить, было для Гегеля
отягчающим. А человек жертвоприношения сам, по существу, удерживает свою
жизнь. Он удерживает ее не только в том смысле, что жизнь необходима для
представления смерти,—он надеется еще обогатить ее. При поверхностном
взгляде чувственное и желанное волнение в жертвоприношении представляет
больший интерес, чем нечаянное ощущение Гегеля. Волнение, о котором я го¬
231Ыс1., г. 3, р. 102.
113
ворю, известно, отличимо, это священный ужас — тоскливейший и богатейший
опыт, который не ограничивает себя абсолютной разорванностью, а, напротив,
распахивается, как театральный занавес, открывая потустороннее этого мира,
где восходящий день преобразует каждую вещь и разрушает ее ограниченный
24
СМЫСЛ» .
Для Батая все совпадает в этой неизбежной необходимости пред¬
ставления — могли бы сказать: постановки фикции — смерти, един¬
ственного шанса для человека достигнуть самосознания. Как если бы
факт бытия одновременно тем, кто убивает, и тем, кого смерть другого
разрывает, как если бы эта характеристика вида имела своим неизбеж¬
ным следствием обращение к представлению, нескончаемое возобнов¬
ление представления одного и того же: подъем в бесконечности фик¬
ции, с помощью чего я смогу достичь самосознания, действие, которое
необходимо повторить. На границе речь бы шла о том, чтобы жить на¬
вязчивыми идеями о мгновениях, когда жизнь была бы — при помощи
представления — на высоте смерти. Не оказывается ли все творчество
Батая постоянным поиском таких глубоко разъединенных периодиче¬
ских «мгновений»? Я говорю о его фрагментарности и несвязности, о
повторениях, которые в нем живут, о трудности оказаться «полным».
Я думаю также об «атопическом» характере субъекта, который пред¬
полагается в роли автора, о его неуловимой стороне, об этой настойчи¬
вости, которую он проявляет в том, чтобы представить себя под знаком
«как», об этой неправильности, которую он берет на себя.
Термин «представление» оказывается у Батая наделенным очень
тяжелым весом. Все в некотором смысле играет в этом регистре, в обя¬
зательном повторении — «нужно»... «мне нужно» — представления, в
этом примате фикции, когда не может быть иного «объекта», кроме
смерти. Эта роскошь по преимуществу, которую создает смерть (о чем
я говорил выше), разумеется, связана с бесконечным характером пред¬
ставления. Также факт, подчеркнутый Батаем: смерть — своего рода
«подделка». Иными словами, начиная с данной точки, необходимо все
пересмотреть — не это ли именно то, к чему нас вынуждает чтение тек¬
ста Батая? — чтобы показать, как в целостности этого текста термин
«представление» подвергается великолепному процессу нового опреде¬
ления при помощи последовательного приближения, деликатного из¬
менения.
«Именно в той мере, в которой мы — подчиненные существа, мы прини¬
маем подчинение тому, что умираем так, как свойственно человеку. Посколь¬
ку умирать по-человечески, в ужасе —значит иметь о смерти представление,
продуцирующее внутреннее раздвоение на настоящее и будущее: умирать по-
человечески — значит иметь будущее бытие, что, с нашей точки зрения, безум¬
24«Hegel, la mort et le sacrifice», Deucalion, 5, p. 34-35. (См.: Батай Ж. Гегель,
смерть и жертвоприношение// Танатография Эроса, СПб., 1994. С.259-260.—
Прим. ред.)
114
ная идея. Если мы живем суверенно, представление о смерти невозможно, так
как настоящее больше не подчинено требованию будущего. Вот почему по су¬
ществу жить суверенно — значит ускользать если не от смерти, то по крайней
мере от предсмертной тоски. Не потому, что умирать ненавистно, — но потому,
что ненавистно жить по-рабски. Суверенный человек ускользает от смерти в
этом смысле: он не может умереть по-человечески. Он не может жить в ужа¬
се, способном его поработить, определить в нем поползновения к бегству от
смерти, которая есть начало его рабства»25.
Это в качестве примера.
К указанному суверенитету, который наполнен своеобразным
представлением-границей человеческой жизни, необходимо добавить
еще один аспект. Это вкратце следующее: смерть одних соотноситель¬
на с рождением других, что становится особенно явным посредством
другой формы представления, картины, взятой в момент ее вторже¬
ния в самом начале. Известно, что это главная тема книги Ласко,
или Рождение искусства. Здесь перед Батаем встает первенство пред¬
ставления, или, точнее, наглядного изображения. До момента Ласко,
раньше следов, иногда оставляемых людьми на стенах пещер, чело¬
вечество, живя под властью границы, имевшей вид непреодолимой,
могло только в запрете передать то чувство, которое внушала ему
смерть.
«Мертвые, по меньшей мере, своим лицом привлекали живых, которые ста¬
рались запретить приближение к ним, ограничить это обычное хождение взад
и вперед, каковое объект предполагает вокруг себя. Именно в этом привлека¬
тельном ограничении, навязанном человеком движению существ и вещей, со¬
стоит запрет. Объекты, сохраненные этим ужасающим чувством, священны»26.
Для Батая Ласко — действительно «привилегированный момент»,
когда человек оказывается законченным существом, т. е. тем суще¬
ством, которое отныне способно снять фундаментальный запрет, ка¬
сающийся смерти: это существо становится в состоянии перемещать
влечение, произведенное на него мертвецом, и переносить его в дру¬
гую плоскость. Батай видит здесь первое проявление трансгрессии,
первый шаг движения, которое, будучи приведено в действие граница¬
ми, дает повод необычайному изобретению форм: живопись, трагедия,
поэзия, роман.
Таким образом все начинается в этом месте и в это время. Все,
т. е. смех, праздник, переодевание, наглядное изображение мертвого
животного, человека, скрывающегося под обликом животного, обо¬
жествленного животного — все это обобщенная «метафора», с помо¬
щью которой меняются местами; это бесконечное движение, в котором
уничтожаются функции. Все, т. е. главным образом, то превосходство,
которое человек желает иметь над смертью, не уничтожая ее и не за¬
25 Œuvres complètes, t. 8, p. 267.
26Ibid., t. 9, p. 33-34.
115
бывая о ней, но, совсем наоборот, не прекращая напоминать себе о ней,
позволяет ему представлять ее, иметь силу смеяться над ней, тем бо¬
лее что главная деятельность (жизненная, как мы могли бы сказать)
в человеке Ласко — это охота, т. е. умерщвление другого, животного,
того, кто по необходимости оказывается на высоте смерти.
«Таким образом мы можем уловить в первоначальной точке ужасающую
область смерти, в конечной точке — божественную животность: религиозная
жизнь людей Везера развивается в этом отрезке, это именно то, что безуслов¬
но господствовало над жизнью во времена пещерной живописи. [... ] Если бы
животный мир был божественным, он был бы именно таким, заброшенным в
нереальную область смерти: религиозная мысль всегда вовлекала в созерцание
мира совсем не то, что представляет собой человеческая жизнь. Но животное
во всех смыслах пребывает на высоте смерти. Животное —это то существо,
которое охотник видит только для того, чтобы убить. Именно в умерщвлении
божественного животного охотник преодолевал ужас смерти»27.
Наиболее последовательное продолжение, данное человеком Ласко
этому умерщвлению, — то мгновение, когда он освобождается от тя¬
жести смерти: это именно тот момент, когда возможно одновременно
смеяться над смертью и производить представления о ней. Я кратко
напомню, что существенная часть анализа Батая в Ласко, или Рож¬
дение искусства разворачивается вокруг известной сцены в колодце:
там мы можем увидеть бок о бок мертвое животное и мертвого чело¬
века. Иными словами, те, кто обогащался этим представлением, име¬
ли в конечном счете только одну цель — жизнь на высоте смерти:
направленность к области невозможного в глазах Батая свойственна
религиям всех времен.
Осталось лишь еще кое-что, особенно примечательное: рождение
искусства —в данном случае живописи, нарисованного наглядного
изображения — происходит в тот момент, когда смерть становится
представлением. И еще: у Батая этот момент начала представления,
оставляющий видимые и читаемые следы, — поистине единственная
дата рождения человеческого вида. Как если бы этот вид мог произой¬
ти только в одновременном напоминании и отрицании того, что ему
по преимуществу угрожает, в постоянном возобновлении. «Мы живем,
мы, время бесконечного рождения»28.
Если искусство — единственная определимая дата для рождения
вида, то оно, таким образом, имеет безграничную власть изображать
смерть, делая из нее представление. Но в этом же заключается и ис¬
точник движения, необходимо спрятанного, закрытого тем, что произ¬
ведено и изобретено. Как если бы этот первый «момент» (как и сцена
в колодце Ласко для нас —первые следы «законченного» человече¬
ства) с тех пор не прекращал повторяться, даже в некотором смысле
271Ыс1. Р. 370.
281Ыс1., 1.4, р. 27.
116
помимо нашей воли, как если бы этот первый «момент» всесторонне
формировал представление в молчании.
Имея отношение к границе, изображение смерти может быть толь¬
ко приближением, эскизом: это причина непрерывного возобновления,
в котором человеческий род не прекращает становиться «закончен¬
ным».
«Мы всегда некоторым образом знаем, что смерть — только метафора, по¬
могающая нам достаточно грубо представить себе идею границы, в то время
как граница исключает всякое представление, всякую “идею” границы»29.
Можно ли написать, пародируя Батая, следующее: эта рука, кото¬
рая рисует, умирает, и в этой обещанной ей смерти она ускользает от
всяких пределов, принимаемых в рисовании (принимаемых рисующей
рукой, но отвергаемых рукой умирающей)?
И до каких пор мы сможем поддерживать эту фикцию смерти?30
Перевод К. В. Преображенской
29Maurice Blanchot, Le pas au-dela, Gallimard, 1973, p. 75.
30Я добавлю еще следующее: «Во всяком случае, изображение смерти животного
вводит ощущение преступления и трансгрессии, которое становится основанием
жертвоприношения. Смерть человека (мы можем видеть только смерть убитого
персонажа) связала со смертью животного» (Œuvres complètes, t. 4, p. 374).
117
С. Н. ЗЕНКИН
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПУСТОТЫ:
МИФ ОБ АЦЕФАЛЕ1
В своей лекции 1948 г. Сюрреалистическая религия Жорж Батай
обозначил странный, сугубо современный духовный объект — миф как
отсутствие:
«Если мы просто в видах здравомыслия скажем, что для современного
человека характерна жажда мифа, и прибавим, что для него также характер¬
но сознание невозможности достичь состояния, когда можно было бы создать
настоящий миф, то тем самым мы охарактеризуем особого рода миф, а имен¬
но отсутствие мифа. Мысль, которую я здесь высказываю, довольно трудно
проследить. Тем не менее легко представить себе, что если мы определяем себя
как неспособных достичь мифа, как бы застрявших на пути к нему, то и суть
современного человечества определяется у нас как отсутствие мифа. И это от¬
сутствие мифа может оказаться для того, кто его переживает — т. е. пережива¬
ет с той же страстью, какая одушевляла тех, кто в прошлом желал жить не
в тусклой реальности, а в реальности мифической, — это отсутствие мифа мо¬
жет оказаться для него бесконечно более воодушевляющим, чем в былое время
мифы, связанные с повседневной жизнью»2.
Таков, разумеется, типичный жест современной культуры: абсолю¬
тизировать отсутствие абсолюта, религиозно переживать упадок ре¬
лигий, делать миф из смерти мифов. Но Батай в 1948 г., вероятно,
имел в виду один конкретный опыт, предпринятый им самим вместе с
группой друзей десятью годами раньше и остающийся одним из самых
захватывающих приключений современного духа. Речь идет об опыте
Ацефала, журнала и связанного с ним тайного общества, которые су¬
ществовали с 1936 по 1939 г. и для которых Батай вместе со свояком —
1 Статья представляет собой русскую версию доклада, прочитанного в марте
2002 г. на конференции «Миф и авангард» в Клермон-Ферране (Франция). Исход¬
ный французский текст доклада см. в: Le mythe et les avant-gardes / Sous la direction
de V. Léonard et J.-C. Valtat. Clermont-Ferrand, 2003.
2 Bataille G. Œuvres complètes. T. VII. Paris, 1976. P. 393. — Философский ком¬
ментарий к этому «прекращению мифа» дает Жан-Люк Нанси: Nancy J.-L. La
Communauté désœuvrée. Paris, 1999. P. 147-154 et passim.
© С. H. Зенкин, 2006
118
художником Андре Массоном — придумал эмблему, представляющую
собой своего рода современный миф. Предметом моего анализа бу¬
дет именно этот миф об Ацефале, а не философское, социологическое
или политическое содержание журнала Ацефал, которое уже серьезно
изучено в работах Мишеля Сюриа3, Жана-Мишеля Хеймоне4 и др.
У форм есть своя логика, а стало быть, и свой смысл...
Идея современного мифотворчества владела умами сотрудников
Ацефала. Вот что писал, например, Жюль Моннеро:
«Но в то время как языческие мифы ныне покоятся в искусстве в форме
корректных символов и полезных для здоровья развлечений, из фольклора или
даже из литературы возникают новые мифы. Деяния их реальных или вымыш¬
ленных героев полностью заслонены их позднейшей переработкой. Подношения
этим героям — бумажные. Периодически они питают собой наши чувства недо¬
статочности, ностальгии, страха. Не в силах ни бесповоротно реализовать свои
желания, ни отделаться от них, люди воспринимают таких героев в форме со¬
жалений и соблазнов: “Я — книга, но ты-то жив, правда?”»5
Во французском употреблении acéphale — это нарицательное при¬
лагательное или существительное, означающее «безголовый», «безгла-
вец». Однако в текстах батаевского журнала указанное слово часто,
хоть и не всегда, писалось с прописной буквы. Им обозначался не во¬
обще кто-то безголовый, а определенная эмблематическая фигура, ко¬
торая в свою очередь обозначала собой журнал, тайное общество, ду¬
ховный проект. Будучи таким образом удвоен, Ацефал уже изначаль¬
но оказывался героем, носителем достославного Имени —это первый
признак того, что перед нами именно миф.
Данный миф, созданный Батаем и Массоном при более или менее
косвенном участии Роже Кайуа, Мишеля Лейриса, Колетт Пеньо, мо¬
жет изучаться как разнородный семантический комплекс, связанный
с различными «искусствами», дискурсами и материальными носите¬
лями и не сводимый к какой-либо «идее» или «программе». Но преж¬
де всего это знаковый (вербально-визуальный) комплекс, и в качестве
такового он подлежит вёдению семиотики, которая, как известно, де¬
лится на три раздела — семантику (отношения знаков к их смыслу),
синтактику (отношения знаков между собой) и прагматику (отноше¬
ния знаков к их пользователям). Нижеследующий анализ как раз и
будет разбит на эти три этапа: семантика мифического персонажа,
псевдоповествовательный синтаксис его текстуальных и визуальных
вариаций, прагматика религиозного культа, в который он включался.
3Surya М. Georges Bataille, la mort a l’œuvre. Paris, 1992. P. 286-308.
4Heimonet J.-M. Politiques de l’écriture: Bataille/Derrida. Paris, 1989. P. 76-83.
5Monnerot J. Dionysos philosophe// Acéphale. N3-4. P. 11. —Здесь и далее ис¬
пользуется факсимильное издание всех четырех выпусков журнала Ацефал, вы¬
шедшее в издательстве Жана-Мишеля Пласа в 1995 г.
119
Смысл монстра
О генезисе фигуры Ацефала нам известно немного; сведения огра¬
ничиваются несколькими краткими и поздними свидетельствами Ан¬
дре Массона. Вот наиболее развернутое из них:
«В апреле 1936 г. Ж. Батай приехал ко мне в Тосса-де-Мар, где мы жили в
красивом, скромном и старинном каталонском доме. Вместе со мной он хотел
довести до завершения старый проект — Ацефал[... ]. Я сразу же увидел его —
без головы, как и полагается, но куда же девать эту громоздкую и сомнитель¬
ную голову? Сама собой она расположилась на месте гениталий (скрывая их),
в виде мертвого черепа. А что делать с руками? Автоматически получилось
так, что в одной руке (левой) он держит кинжал, а в другой сжимает горящее
сердце (не сердце распятого, а сердце нашего учителя Диониса). Опять-таки
у людей эта голова всегда находит свое продолжение в сердце и гениталиях.
Сердце и яички — одинаковые формы. Они этого не знают, а как здорово можно
это обыграть! На груди по моей прихоти появились звезды. — Так, отлично, но
что же делать с животом? — Очень просто, он станет вместилищем Лабиринта,
который как раз и явился знаком нашего союза»6.
Второе свидетельство Массона более краткое, но одна деталь в нем
заслуживает внимания:
«Ацефала —этого нутряного, лабиринтного бога, у которого гениталии
скрыты черепом, — я составил из разных частей в Тосса-де-Мар во время вой¬
ны в Испании. Батай сказал мне: “Нарисуй мне безглавого бога — остальное
найдешь сам”»7.
Безглавый бог — эту формулу уже сопоставляли со статьей Батая
Низкий материализм и гнозис, напечатанную в 1930 г. в журнале До¬
кументы и упоминавшую среди прочих гностических изображений из
Кабинета медалей Национальной библиотеки (как известно, Батай в
то время был его сотрудником) некоего «безглавого бога, над кото¬
рым две звериных головы[... Безглавый бог может отождествляться
с египетским богом Бэсом»8.
Однако в своем описании Ацефала, помещенном в начале перво¬
го номера одноименного журнала, Батай отказывается называть его
«богом». Он пользуется другим словом:
«Он не человек. Но он и не бог. Он не я, а более я, чем я: его живот — это
лабиринт, где он сам заблудился, где я блуждаю вместе с ним и в котором я
узнаю себя, оказываясь им, т. е. монстром (курсив мой. — С. З.)»9.
В отличие от большинства мифологических монстров Ацефал чу¬
6Masson A. Le Rebelle du Surréalisme / Éd. établie par F. Wi 11-Le vaillant. Paris,
1976 (цит. no: Pasi С. Acéphale ou la mise a mort du Chef / du Pére // Des années
trente: groupes et ruptures / Textes réunis par A. Roche et C. Tarting, actes du colloque
à Aix-en-Provence 5-7 mai 1983. Paris, 1985. P. 215).
7Masson A. La mémoire du monde. Genève, 1974. P. 130.
8 Bataille G. Œuvres complètes. T. 1. Paris, 1970. P. 226.
9Bataille G. La conjuration sacrée // Acéphale. N1 (без пагинации).
120
довищен не в силу комбинирования частей тела, обычно принадлежа¬
щих разным видам живых существ (ср., например, образ Минотавра,
с которым Ацефал сближается на некоторых рисунках Массона), а
по причине перераспределения частей одного тела, которые как бы
движутся по кругу, меняясь местами, но ни в коем случае не вставая
на свои нормальные места. Во всяком случае, именно такое движение
намечено в первом из процитированных выше рассказов художника:
придумывая фигуру Ацефал а, Массон стремится переставлять члены,
разрушая устойчивость оси, которая проходит в теле человека через
голову, сердце и гениталии. В самом деле, фигура с обложки журна¬
ла Ацефал представляет собой расчлененное тело, у которого голова
в форме мертвого черепа занимает место половых органов, тогда как
сердце, вырванное из вскрытого живота, оказывается в отставленной
руке и, согласно Массону, по своей форме соответствует тестикулам.
Тело как бы взрывается, его центральные органы резко выбрасывают¬
ся на периферию; эту структуру подтверждает другой рисунок Мас¬
сона, напечатанный в первом номере Ацефала, где гениталии остаются
на своем месте, зато сердце в руке является подобием головы с ма¬
леньким улыбающимся лицом; в данном случае отсутствующей голове
соответствует именно вырванное сердце, а не низ живота. Быть мон¬
стром — значит иметь нестабильное тело, члены которого подвижны и
допускают перестановку; и в целом оно также лишено равновесия и
как бы выброшено из себя самого. На ряде рисунков из журнала Аце¬
фал изображен в неустойчивых и рискованных позах: то он сидит на
вулкане, то качается, стоя на облаке, то взлетает на воздух при взрыве
(по-видимому, при взрыве вулкана)10. Его тело вместе с головой поте¬
ряло и равновесие, это равновесие «само затерялось» в лабиринте его
кишечника.
«Составленный из разных частей» на сюрреалистический манер
(«автоматически», по выражению Массона), Ацефал соединяет в себе
несколько иконологических и литературных традиций. Обезглавлен¬
ные фигуры возникают в творчестве Массона задолго до того, как его
свояк «заказал» ему «безглавого бога»: так, несколько подобных фи¬
гур можно найти в серии рисунков Избиения (Les massacres, 1933).
Вообще, этот мотив неоднократно встречается в сюрреалистической
живописи — у Дали, Магритта, Эрнста11. Иератическая и одновремен¬
10Acéphale. N1 (без пагинации); №2. Р. 1, 15.
11 Согласно Жаклин Шенье-Жандрон, «безглавый человек, который мечтался
Массону, Батаю и Мишелю Лейрису, связан с садовской проблематикой, где изнан¬
ка тела выставлена напоказ наравне с лицевой стороной, где “верх” лишен преиму¬
щества перед “низом” — в данном случае это пылающие гениталии, — где часть рав¬
на целому» (Chenieux-Gendron J. Sade et Saint-Just: quelques têtes révolutionnaires
dans le surréalisme //La Légende de la Révolution au XXe siècle: de Gance à Renoir, de
Romain Rolland à Claude Simon (actes du colloque) / Sous la direction de J.-C. Bonnet
121
но экстатическая поза Ацефала уже сопоставлялась со знаменитым
рисунком Леонардо да Винчи Фигура человека в круге, изображающая
пропорции человеческого тела12. На обоих рисунках точно совпадает
расположение вытянутых рук и расставленных ног (поза, редкая вне
эмблематической иконографии), что позволяет заподозрить более или
менее сознательное заимствование. Но у Леонардо, следовавшего сим¬
волическим образцам, например фигуре человека у Агриппы Неттес-
геймского (XVI в.)13, имелось в виду представить человека-микрокосм,
вписанного в магический круг и представляющего своими пропорци¬
ями гармонию мироздания. Массон же, отсекая по указанию Батая
голову фигуры, — сознательно или нет — сближает Ацефала с другой
эмблематической фигурой, хорошо известной начиная с Античности
в европейской эзотерической традиции: крест в форме буквы «тау».
Теряя свою целостность, тело «монстра» больше не соответствует ми¬
ровой полноте и выражает собой скорее «принцип недостаточности»
или «принцип неполноты» человека, который, согласно Морису Блан-
шо, лежал в основе всего сообщества Ацефала14.
В живописи обезглавленные фигуры15 встречаются довольно ча¬
сто: во-первых, это изображения св. Дени, держащего свою голову
в руке, во-вторых, народные гравюры знаменитых казней — особенно
казни Людовика XVI в 1793 г., где отрубленную голову короля про¬
тягивает толпе подручный палача, словно отрывая ее от своего соб¬
ственного тела или головы16; наконец, в-третьих, это анатомические
иллюстрации, и здесь Батай вполне мог вспомнить статью Мишеля
Лейриса, опубликованную в 1930 г. в журнале Документы, — Человек
и его нутро.
В этом тексте с восхищением описываются пробуждающие гре¬
зы анатомические картинки, особенно изображение человека, кото¬
рый «держит под мышкой голову —или же двумя пальцами ухо»17.
et P. Roger. Paris, 1988. P. 102-103).
12См.: Didi-Huberman G. La ressemblance informe, ou le gai savoir visuel selon
Georges Bataille. Paris, 1995. P. 317.
13Le Corps, miroir du Monde. Voyage dans le musée imaginaire de Nicolas Bouvier /
Sous la direction de P. Starobinski. Genève, 2000. P. 32.
14Cm.: Blanchot M. La communauté inavouable. Paris, 1983. P. 15.
15Ацефал — именно обезглавленный, его голова отрублена, а не отсутствует из¬
начально, как то было у легендарного гиперборейского народа ацефалов.
16См. исследование Михаила Ямпольского, который выявляет аналогичный жест
не только на народных картинках, но и в ораторских и актерских позах револю¬
ционной эпохи: Ямпольский М. Жест оратора, палача, актера // Ad Marginem’94.
М., 1995. С. 21-70.
17 Leiris М. Brisées. Paris, 1966. P. 51 (есть русский перевод этого текста: Ино¬
странная литература. 2002. №6. С. 104). — Фантазматическим откликом на этот
текст (сам по себе весьма нагруженный фантазмами) является, возможно, сон ге¬
роя романа Батая Небесная синь (1935), написанного в Тосса-де-Мар, в том же
122
С учетом этой весьма вероятной генетической связи вскрытый живот
Ацефала, где видны кишки, отсылает не только к «лабиринтному бо¬
гу» (по словам Массона), но также и к профанным фигурам людей
с содранной кожей, изображавшимся на иллюстрациях к старинным
энциклопедиям и медицинским трактатам.
Что касается горящего сердца в руке у Ацефала, то оно также
отсылает к определенной символической традиции. Отчасти оно мо¬
жет быть объяснено ацтекскими обрядами человеческих жертвопри¬
ношений, вызывавших большой интерес у Батая: в них у человека
вырывали сердце, принося его в жертву Солнцу. Но в ацтекском ри¬
туале отсутствует мотив пламени, к тому же кинжал в другой ру¬
ке Ацефала заставляет понимать дело так, что он сам вырезал себе
сердце. Батай подсказывает другой источник этого мотива, когда пи¬
шет во вступительном тексте к первому номеру журнала Ацефал —
«Священный заговор», — что символический персонаж держит в пра¬
вой руке «пламя, похожее на святое сердце»18. Этот символический
мотив самопожертвования широко распространен и за рамками ка¬
толического культа Сердца Христова: ср. рассказ Максима Горького
Старуха Изергиль, содержащий легенду о герое Данко, который вы¬
рвал у себя сердце, чтобы осветить путь товарищам. Французские пе¬
реводы Старухи Изергиль появлялись начиная с 1906 г.; не исклю¬
чено, что Массон или Батай знали эту неоромантическую легенду,
превозносившуюся советской критикой как образец социалистического
реализма.
Наконец, еще один возможный источник фигуры Ацефала содер¬
жится в статье Роже Кайуа Богомол, напечатанной в 1934 г. в журна¬
ле Минотавр, который иллюстрировался Андре Массоном и выходил
при негласном участии Батая19, так что данный текст был наверняка
знаком им обоим. Статья Кайуа, посвященная «природным» основа¬
ниям мифов, отмечала помимо прочего физиологическую особенность
богомола —это человекоподобное по своему облику насекомое, самой
самом «каталонском доме», где годом позже будет создан Ацефал. Во сне двусмыс¬
ленная фигура «Минервы» в шлеме неожиданно превращается в отвратительный
труп...
18 Bataille G. La conjuration sacrée.— Эти пояснения, как и приведенное выше
свидетельство Андре Массона («в одной руке (левой) он держит кинжал, а в дру¬
гой сжимает горящее сердце»), позволяют отвергнуть другое объяснение данного
мотива, восходящее, по-видимому, к письму Жоржа Дютюи, который, впрочем,
признает, что сам не принадлежал к группе Ацефала, и согласно которому «чело¬
век на обложке» якобы «держит в руке [... ] гранату» (Duthuit G. A André Breton //
V.V.V. New York, 1944. N4. P. 46). В самом деле, не только по своей форме данный
предмет мало похож на гранату, но и ни один из рисунков Массона с изображением
Ацефала, напечатанных в журнале, не содержит никаких деталей, отсылающих к
современной цивилизации.
19См.: Surya М. Georges Bataille, la mort a l’œuvre. P. 234-239.
123
природой предназначенное становиться героем мифов, будучи обез¬
главленным, остается как бы живым:
«Действительно, не говоря уже о жестких сочленениях его тела, напоми¬
нающих рыцарские доспехи или же автомат, он еще и способен реагировать
практически на все, будучи обезглавленным, т. е. в отсутствие всякого цен¬
тра представлений и волевой деятельности; в таком состоянии самка богомола
может, например, передвигаться, поддерживать равновесие, осуществлять ав¬
тотомию одного из своих членов, которому грозит опасность, принимать по¬
зу призрака, совокупляться, нести яйца, создавать яйцевой мешок, а также,
что вызывает особенное замешательство, перед лицом внешней опасности или
же вследствие периферийного раздражения впадать в неподвижность, слов¬
но труп; я намеренно пользуюсь таким уклончивым выражением, — видимо,
нашему языку трудно выразить, а разуму понять, что уже мертвый богомол
способен симулировать смерть»20.
Итак, обезглавленный «монстр», придуманный Батаем и Массоном,
оказывается в родстве не только с человеческими персонажами из ле¬
генд и мифов, но и со странным насекомым, которое именно благодаря
своей физиологии обожествляется у ряда народов. Сближение челове¬
ка и животного — особенно животного страдающего или приносимого
в жертву —один из фундаментальных мотивов Ацефала21.
История тела
Как я пытался показать в другой работе22, эволюция литератур¬
ных мифов в конце XIX в. шла по пути сокращения в них повествова¬
тельного начала. Из «фабулы», рассказа миф превращался в «образ»,
«фигуру», все более утрачивая временную историю. Так происходит и
с мифом об Ацефале: он воплощается прежде всего в рисунках, и не
существует никакого «рассказа» о жизни и деяниях этого персонажа.
Однако здесь следует учитывать всю разнородную продукцию, со¬
держащуюся в четырех выпусках журнала Ацефал. Во-первых, даже
сама рисованная фигура проходит в них —начиная с основного об¬
ложечного рисунка — через ряд телесных трансформаций или даже
«приключений». Правда, это по преимуществу вариации, а не связ¬
ный сюжет: Ацефал изображается либо в разных видах (в покое, в
экстазе), либо в разных обстоятельствах (сидит на вулкане, перешаги¬
вает через горы и облако, взлетает на воздух от взрыва). Эти мотивы
20Minotaure. 1934. N 5. Р. 26; Caillois R. Le mythe et l’homme. Paris, 1938. P. 74;
Кайуа P. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003. С. 75-76.
21В философской перспективе этот двойственный, человекозвериный облик Аце¬
фала проанализирован в недавней книге Джорджо Агамбена: Agamben G. L’ouvert:
De l’homme à l’animal. Paris, 2002. P. 13-18.
22 Zenkine S. Le mythe décadent et la narrativité // Mythes de la décadence / Sous
la direction de A. Montandon. Clermont-Ferrand, 2001. P. 11-22.
124
не образуют связного ряда, и все же каждый из них является заро¬
дышем нарративности. Отправляясь от них, можно представлять себе
некоторую «историю», как правило — комическую: безглавый гигант
неосторожно шагает по облакам и горам, садится отдохнуть на вул¬
кан, который взрывается и поднимает его на воздух...
Если же обратиться к текстам, упоминающим Ацефала и принад¬
лежащим Батаю, то на первый взгляд они трактуют эту фигуру как
чисто условную. Батай, судя по всему, пытается через «безглавость»
выразить отсутствие, смерть бога. Напрашивается сопоставление ми¬
фа об Ацефале с философией Ницше, который был главным персона¬
жем теоретической рефлексии журнала:
«Мифологически ацефал выражает суверенность, обращенную на разруше¬
ние, смерть Бога, и в этом отношении отождествление с безглавым человеком
сочетается и сливается с отождествлением сверхчеловеческого, которое всецело
ЕСТЬ “смерть Бога”.
Сверхчеловек и ацефал ярко связаны с полаганием времени как импера¬
тивного объекта и взрывчатой свободы жизни[..
Мировое бытие, вечно незавершенное и безглавое, мир, похожий на крово¬
точащую рану, непрестанно творящий и разрушающий конкретных существ: в
таком-то смысле истинная всемирность и есть смерть Бога»23.
Можно было бы заключить, что ацефальность — это просто почти
классическая аллегория, фигуральное выражение отказа от автори¬
тета, никому не подчиняющейся суверенности. Однако, как известно
со времен романтиков, само отсутствие мифа носит таутегорический
характер, не разделяясь на «означающее» и «означаемое»:
«[Миф] не говорит ничего другого, кроме себя самого, и[...] вырабатыва¬
ется в сознании в ходе того же процесса, каким в природе создаются силы,
разыгрывающиеся в мифе. Поэтому его ни к чему толковать, он сам объясняет
себя» 24.
Почему же тогда Батай, столь внимательный к архаическому смыс¬
лу культурных фактов, утверждает, что «мифологически ацефал вы¬
ражает суверенность» и т. д.? Здесь следует привести еще одну цитату
из его Пропозиций, одного из главных текстов журнала Ацефал. На
сей раз речь идет о проблемах не метафизических, а социальных:
«Демократия зиждется на нейтрализации относительно слабых и свобод¬
ных антагонизмов; она исключает любое взрывчатое сгущение. Моноцефальное
общество возникает из свободной игры естественных законов человека, но вся¬
кий раз, когда это вторичное образование стабилизируется, оно являет собой
удручающую атрофию и старческий маразм.
Единственное общество, полное жизни и силы, единственное свободное об¬
щество — это би- или полицефальное общество, дающее фундаментальным ан¬
тагонизмам жизни постоянный, но неограниченный взрывной выход в самых
богатых формах.
23Bataille G. Propositions// Acéphale. N2. P. 20, 21.
24 Nancy J.-L. La Communauté désœuvrée. P. 124-125.
125
Двойственность или множественность голов как бы воплощает одновремен¬
но безглавостъ жизни, так как голова основана на сведении всего к единству,
сведении мира к Богу»25.
«Моноцефальное» общество здесь —это фашистская организация,
«способ человеческой жизни, более всего сближающейся с вечным Бо¬
гом»26. Возникает трехчленная диалектическая схема, которой выра¬
жается общественный прогресс в современную эпоху: на первом этапе
демократия довольствуется нейтрализацией «относительно слабых и
свободных антагонизмов»; на втором этапе фашизм противопостав¬
ляет ей «одноголовую» организацию, сила которой в том, что она
учитывает и принимает «свободную игру природных законов челове¬
ка», но которая сама является «вторичным образованием» (возникает
лишь на фоне демократии) и потому в итоге приводит к «атрофии
и старческому маразму»; наконец, на третьем этапе — гипотетическом
или утопическом, — наступление которого как раз и пытается прибли¬
зить группа Ацефал, возникает «би- или полицефальное общество»,
одновременно выражающее собой «безглавый характер» частного су¬
ществования. Как видим, тема безглавости выступает у Батая 1) в
итоге диалектического и исторического развития — импровизирован¬
ного «большого нарратива», 2) в момент перехода от общественного
существования к частному, в момент «партикуляризации» социаль¬
ной диалектики. Так на место абстрактно-аллегорических метафор
«моноцефальности», «би- или полицефальности» приходит собствен¬
но мифическая фигура «безглавого бога», которая и изображается на
соседней полосе журнала.
Нарративность древних мифов всегда основывалась на филиации:
миф рассказывает о происхождении некоего рода, предания, назва¬
ния. В этом плане мифология Ацефал а может рассматриваться как
синтетический вымысел, соединяющий в одной линии наследования
нескольких великих мифологических и / или реальных фигур: за вне¬
временным Ацефал ом идут Дионис и Минотавр, два жертвенных пер¬
сонажа, которым посвящены многие тексты журнала и ряд рисун¬
ков Массона. На последних изображается Дионис с каменной голо¬
вой, который вспарывает себе живот кинжалом, а в другой руке дер¬
жит виноградную кисть вместо горящего сердца,— это вариант Аце-
фала, и маленький череп также закрывает ему гениталии; или же это
Минотавр с бычьей головой, размахивающий кинжалом; или же, на¬
конец, отдельная бычья голова, увенчанная другой маленькой голо¬
вой — человеческим черепом между рогов27. Все это — промежуточ¬
ные существа, которые через посредство греческой мифологии свя¬
25 Bataille G. Propositions. P. 18.
26Ibid. P. 17.
27Acéphale. N 3-4. P. 1, 5, 15.
126
зывают фигуру Ацефала с современным человечеством, олицетво¬
ряемым другой важнейшей фигурой батаевского журнала, Фридри¬
хом Ницше (он занимает главное место в №2 и не раз упоминается
в других номерах). Здесь не место подробно комментировать отно¬
шение Батая к Ницше (это уже не раз делалось), важно лишь на¬
помнить, что центральный эпизод интеллектуальной жизни послед¬
него, заслуживающий, по Батаю, быть специально увековеченным, —
припадок безумия в Турине, когда философ раз и навсегда потерял
голову:
«3 января 1889 г., 50 лет назад, Ницше стал жертвой безумия: на пьяцца
К ар л о-Альберто в Турине он в рыданиях бросился обнимать лошадь, которую
стегали кнутом, а затем рухнул наземь; когда он очнулся, он считал себя ДИ¬
ОНИСОМ или же РАСПЯТЫМ.
Это событие должно быть отмечено как трагедия. “Когда, — говорил Зара¬
тустра, — живое само повелевает собой, живое должно искупить свою власть и
стать судьей, мстителем и ЖЕРТВОЙ собственных законов”»28.
От Ацефала до Ницше, проходя через Диониса и Минотавра (а так¬
же Дон Жуана и маркиза де Сада — других фигур человеческих мон¬
стров),—так развивается скрытое или потенциальное повествование,
просвечивающее в интеллектуальном проекте Ацефала. Особенность
этого повествования в том, что частная история фантастического тела
(Ацефала) увязывается со всемирной историей мыслящего человече¬
ства: еще один признак мифа.
Хтонический комизм
Как напоминает Жан-Люк Нанси, миф —это слово «по сути своей общин- '
ное. Партикулярный миф так же мало возможен, как чисто идиоматический
язык. Миф возникает лишь в сообществе и для него; они взаимно порождают
друг друга — бесконечно и непосредственно»29.
Такое определение мифа точно соответствует понятию сакрального,
унаследованному из теорий Дюркгейма и Мосса и исповедовавшему¬
ся в кружке Ацефала. Вот что писала, например, Колетт Пеньо, очень
чуткая к возможностям художественного воображения, которые скры¬
ваются в строгих социологических понятиях:
«Я схожусь с идеей социологов: Сакральное смешивается с Социальйым,
чтобы быть сакральным.
Чтобы так было, нужно, по-моему, чтобы это чувствовалось другими, в
сопричастности с другими.
28Acéphale. N 5. Р. 1-2 (текст в начале этого последнего номера журнала полно¬
стью написан одним Батаем). — Заметим, что жертвенное безумие Ницше сближает
его с животными — с избиваемой лошадью, аналогом умерщвляемого Минотавра.
29 Nancy J.-L. La Communauté désœuvrée. P. 127.
127
Вообразите-ка корриду, которая происходит для вас одного.
Мне нужна публика»30.
Между тем в Ацефале «замысел состоял в создании сообщества»31,
и Батай в своей цитированной выше лекции прямо связывал «отсут¬
ствие мифа» и «отсутствие сообщества»32. Тем более важны те немно¬
гочисленные сведения, которые освещают обряды этой маленькой сек¬
ты, в основном оставшиеся нам неизвестными.
Сравнительно понятным представляется карнавальное («вроде
розыгрыша», по словам М.Лейриса) празднование годовщины казни
Людовика XVI на площади Согласия33: обезглавливание главы госу¬
дарства, очевидно, рассматривалось как символическое событие, а ат¬
мосфера «розыгрыша» или карнавала может объясняться тем, что со¬
бытие это произошло в додемократическом прошлом — прежде, чем за¬
работала сформулированная Батаем историческая диалектика совре¬
менности. Напомним, однако же, что смерть короля породила народ¬
ные гравюры, на которых выделяется жест палача, демонстрирующего
зрителям отрубленную голову, — жест, сближающийся с иератическим
жестом Ацефала, держащего в руке собственное сердце.
Проект человеческого жертвоприношения, для которого «легче
оказалось найти добровольную жертву, чем жреца-добровольца»34,
также вписывался в религиозно-общинную логику, целью которой бы¬
ло преодолеть имманентность индивидуализма35. Но каким же должен
был быть культ, который пытались учредить заговорщики из «Ацефа¬
ла»?
Один из немногих положительно известных нам обрядов Ацефала
(точнее сказать, нам известно его существование, но не содержание)
происходил в лесу, у подножия дерева, сожженного молнией, «немо¬
го присутствия того, что приняло себе имя Ацефала и выразилось
30 Laure [Colette Peignotj. Ecrits. Paris, 1978. P. 115-116.
31 Surya M. Georges Bataille, la mort a l’œuvre. P. 300.
32 Bataille G. Œuvres complètes. T. VII. P. 394.
33Cm.: Surya M. Georges Bataille, la mort a l’œuvre. P. 304.
34Roger Caillois, «L’esprit de sectes» (1945). Цит. no: Hollier D. Le Collège de
Sociologie, 1937-1939. Paris, 1995. P. 874 (см. также русское издание: Коллеж со¬
циологии, 1937-1939 / Сост. Д. Олье. СПб., 2004. С. 572. — Прим. ред.).
35В дальнейшем Батай, по-видимому, убедился, что такой акт, образующий «де¬
ло смерти», превращавший смерть в «дело», заключал в себе логическую ошибку,
создавая новую имманентность — имманентность дела. По крайней мере, так истол¬
ковывает это Жан-Люк Нанси: «Это не ужас, а что-то запредельное ужасу: полная
бессмысленность — или, так сказать, катастрофическое ребячество — смертельного
дела смерти, рассматриваемого как дело общей жизни. И эта бессмысленность, т. е.
по сути избыток смысла, абсолютная концентрация воли к смыслу, по-видимому,
и продиктовала Батаю отказ от попыток создания сообщества» (Nancy J.-L. La
Communauté désœuvrée. P. 47).
128
в руках без головы»36. Дерево без вершины —это точная метафора
обезглавленного человека37; а на одном рисунке Массона, сохранив¬
шемся в бумагах Колетт Пеньо (он не был опубликован в Ацефале),
изображен человек без головы, вросший корнями в землю и покрытый
ветками, которые вырастают у него из рук и даже из туловища (ил.
14)38. Рассказывают также, что во время церемонии воскурялась сера,
и символические разъяснения на этот счет содержатся в рукописном
тексте, сохранившемся в двух версиях: одна написана рукой Батая,
другая — рукой Колетт Пеньо:
«Сера —это вещество, происходящее из внутренности земли и выходящее
наружу лишь через жерла вулканов. Это, разумеется, имеет смысл в связи с
хтоническим характером той мифической реальности, которую мы преследуем.
Это также имеет смысл древесных корней, уходящих глубоко в землю»39
В «мифической реальности» Ацефала вулканическая сера и расти¬
тельные корни сближаются своим «хтоническим характером»:
«Ацефал — это Земля
земля под земной корой — это пылающий огонь
человек который представляет у себя под ногами пылающий огонь земли
воспламеняется
пожар земли уничтожит отечества
когда человеческое сердце станет Огнем и Железом
человек ускользнет из своей головы как приговоренный из тюрьмы»40.
Мы уже видели, что вулканы — постоянный мотив рисунков Андре
Массона, изображающих Ацефала. Родство этого персонажа с вулка¬
ническими выходами из тела земли составляет одну из черт хтони-
ческого мифа, который группа Ацефал стремилась противопоставить
нацистской мифологии:
«Эта враждебность нацизма хтоническим богам, богам Земли, вероятно,
точнее всего позволяет определить его место в психологическом и мифологи¬
ческом мире»41.
Так же и Кайуа трактует хтонические культы минойской цивили¬
зации в Греции в статье Тени над Элладой, напечатанной в 1938 г.
в его книге Миф и человек. Он, в частности, советует осматривать
36 Bataille G. Œuvres complètes. T.II. P. 278.
37 «Человек — это дерево с ногами, но также и дерево — это человек с корнями», —
писал Мишель Лейрис в маленьком эссе Метафора, напечатал ном в Документах
в 1929 г. (Leiris М. Brisées. Р. 25; Иностранная литература. 2002. №6. С. 99).
38Laure. Ecrits. Р. 129.
39Ibid. Р. 128; Bataille G. Œuvres complètes. T.II. P.278.
40Acéphale. N 1 (последняя страница обложки). — В оригинале нет знаков препи¬
нания и текст набран литерами разного кегля.
41 Bataille G. Nietzsche et les fascistes// Acéphale. N2. P. 13.
129
развалины дворца-лабиринта Миноса (где скрывался монстр Мино¬
тавр) «в час яркого солнечного сияния»42, чтобы лучше оценить ди¬
станцию между ясной и рациональной классической цивилизацией и
сумеречно-кошмарным архаическим фоном, на котором она возник¬
ла. Мотив ясного света, солнечных лучей также присутствует и в ри¬
сунках Ацефала. В страшном изображении Дионаса-безглавца видно
полуприкрытое тучами солнце , и солнечные лучи проходят сквозь
отсутствующую голову человека-дерева, образуя светлую ауру.
Этот мотив солнца, странно сосуществующий с хтоническим куль¬
том44, отсылает к другому мифическому мотиву, которым очень ин¬
тересовался Батай за несколько лет до основания Ацефала, — к теме
пинеального глаза, третьего глаза, расположенного на макушке и спо¬
собного «глядеть в лицо солнцу и смерти». В рукописном тексте, отно¬
сящемся к мифологии тела, Батай сводит воедино обе темы — пинеаль-
ный глаз и вулканизм, прибавляя к ним еще и третью, тему анального
комизма:
«Я воображал у себя глаз на макушке, словно отвратительный извергаю¬
щийся вулкан, именно с тем же сомнительным комизмом, который связывается
с задницей и ее экскрементами»45.
В Ацефале налицо и вулкан, и анальный комизм: Ацефал садится
на вулкан, который извергается, и т. д. Отсутствует лишь пинеальный
глаз вместе со всей головой, а солнце прикрыто тучами. Солнечный
культ, превратившись в культ хтонический, оказывается неполным, он
обречен на сущностную недостаточность.
Монстр, чьи части тела переставляются, словно на картинах сюр¬
реалистов; неопределенные и слабо связанные между собой отсылки
к различным легендарным традициям; оставленные неразвитыми за¬
чатки нарративности; хтонический культ, созданный из остатков сол¬
нечного культа. Все эти черты — симптомы мифотворчества нового
типа. «Новый миф», создаваемый «из разных частей» группой дру¬
зей, любовников и политических единомышленников, несет в себе чер¬
ты авангарда — дисконтинуальность и сделанность. Будучи снабжен
42 Caillois R. Le mythe et l’homme. P. 148; Кайуа P. Миф и человек. Человек и са¬
кральное. С. 118. См. также небольшую статью Р. Кайуа «Дионисийские свойства»
(Acéphale. №3-4. Р. 24-25).
43Acéphale. N 3-4. Р. 1.
44«Смерть связана с землей, только с землей (а никоим образом не с небом), с
гниением, разложением захороненного трупа», — пишет Мишель Сюриа (Surya М.
Georges Bataille, la mort a l’œuvre. P. 302), излагая доктрину «религии», основанной
Батаем и обществом Ацефал.
45Bataille G. Œuvres complètes. Т.Н. P. 14.
130
всеми знаками природы (разверстое тело, демонстрирующее свою нут¬
ряную жизнь, древесные ростки, покрывающие его на одном из ри¬
сунков, сходство с богомолом и жертвенным быком, хтоническая сти¬
хия вулканов, соседствующая с солнечным ореолом), этот мифический
образ представляет собой сознательно гетерогенное построение — «от¬
сутствие мифа», переживаемое «со страстью» человеком-одиночкой, а
не «праздным сообществом» (Ж.-Л. Нанси). Работа по созданию та¬
кого нового, превращенного в дело, мифа на символическом уровне
неизбежно должна была закончиться построением пустоты, нехватки:
отсутствие головы у бога-монстра соответствует отсутствию мифа и
отсутствию «естественного» сообщества. Отсутствие сведений о тай¬
ном обществе, которым мы обязаны верности его членов своей клятве,
фактически лишь продолжает собой эту фундаментальную нехватку,
которая с самого начала подрывала героическое предприятие Ацефала.
КАРЛО ПАЗИ
ГЕТЕРОЛОГИЯ И АЦЕФАЛ:
ОТ ФАНТАЗМА К МИФУ
Когнитивный опыт Батая, точнее — то, что еще и сегодня делает
его неприемлемым, в значительной мере коренится в эмоциональных
порывах, необузданности желания, разрывающих его фантасмагори¬
ческий универсум, и неотложности изучения причудливых созвездий
последнего.
В серии комментариев, предваряющих Досье теменного глаза1 (да¬
тируемое примерно началом 30-х годов), собранное из его поздних
работ (в основном именно эти фрагментарные и туманные тексты
представляют собой тайную материю, которую необходимо изучать
изнутри его творчества), Батай так сформулировал насущность опре¬
деления мифологической антропологии, подпитываемой фантазмами:
«Высвобождающий характер фантазмов. Для начала в антропологии
следует ограничиться чем-то иным, нежели наука или философия, и
представлять предметы через фантазмы».
В поиске другого знания, «гетерологического», именно фантазм
становится тем концептом, который преодолевает ограниченность ра¬
циональной мысли. Мифологическая антропология как раз и зарож¬
дается из неистового желания разбить порочный круг философии и
традиционной науки, порабощающих систем и философских стратегий
верхушки общества2; она должна стать взрывным ядром разорван¬
*См.: Notes в Dossier de VŒU pinéal, Œuvres complètes, Gallimard, II, 1970 (Ком¬
ментарии принадлежат перу Д. Олье, а цитата взята из Plan, р. 413).
2О критике «теоретических систем» как «моделей и структур подчинения» см.:
A. Gargani, Il sapere senza fondamenti, Torino, Einaudi, 1975; в особенности раздел I
rituali epistemologici, 2, Le Strategie teoriche dall’alto: «Нет никаких сомнений в том,
что касается построения теоретических моделей, имеющих форму подчиняющих
себе систем, с их положениями об исключениях и разрешениях, что те концептуаль¬
ные приемы, которые стали возможными благодаря процедурам регламентации, и,
так сказать, устройства высшей сферы показали себя весьма эффективными. Под
теоретическими стратегиями высшей сферы я понимаю функционирование сим¬
волико-концептуальных конструкций и формулировок, общей подчиняющей спо¬
собности методов рассуждения и символических операций, так же как и их фак¬
тическое функционирование, т. е. стандартные методы регламентации».
© С. Б. Рындин, перевод, 2006
132
ного и непростого понимания человека: «До сих пор философия, так
же как и наука, была выражением человеческого подчинения, и когда
человек пытается представить себя не элементом гомогенного процес¬
са — неимущего и жалкого, — а новым разрывом внутри разодранной
природы, в рассуждениях, что могут ему в этом помочь, больше нет
места для все уравнивающей болтовни; он больше не может полагать
себя в нисходящей цепи логики, наоборот, он предпочитает — в своем
приступе гнева и в экстатических муках — разнузданность своих фан-
тазмов»3.
Здесь, хоть и в зачаточном состоянии, присутствует сразу несколь¬
ко различных регистров: фантазматический, мифологический, социо¬
логический, политический, на коих покоится трансгрессивная мысль
Батая. Но что бросается в глаза в первую очередь, так это непови¬
новение фантазма, который есть разрыв, раздирание суммирующего
процесса разума4, отказ от принципа авторитарности с целью преодо¬
ления высшей сферы Отца —Бога, вождя, интеллекта —и обретения
Низкого, понимаемого прежде всего как бунт сына и надежда на новый
общественный уклад, начинающийся с убийства5: «Фантазм действу¬
ет как хозяин, а не как раб: он живет, как сын, освободившийся после
долгих страданий под строгим надзором, и демонически, без малей¬
ших угрызений совести радуется убийству своего отца».
Подобный протест против порядка Высокого, начатый под дав¬
лением бурного познавательного импульса, указывает на переход от
«немыслимого» («желание убийства»6) к «фантасмагорическому» и
ставит Батая в один ряд с теми, кого сюрреалистическая культура
того времени называла бунтарями, хоть и не принимала при этом их
3 Dossier de Vœil pinéal. P. 22.
4См.: GarganiA. La scienza e il disciplinamento délia vita итапа, I La strategia
del fondamento, op. cit. P. 77. «Универсальность или генеральность как основные
функции выражают положение о правилах, управлении, не допускающих никаких
исключений, никаких возражений, но играющих роль направляющих человече¬
ского поведения, ориентированных на унитарную и компактную модель поведе¬
ния. Положение об общности поведенческого кода выполняет функцию одобрения
действенности некоего поведения, указывая на уникальность модели поведения. В
этом случае генеральность есть не столько концептуальный коэффициент, сколь¬
ко застывшая функция некоего решения, поведения, отклонений от которых быть
не должно. В то же время генеральность должна склонить поведение индивида к
некоторому поведенческому типу, славя последний через уничтожение альтер¬
нативных или вероятных моделей поведения, через их низложение до статуса
банальной эмпирии».
5См. Комментарии к Dossier de Vœil pinèal, cit. P. 415-416; несомненно, что мо¬
тив «убийства отца» как основания нового социального уклада был позаимствован
Батаем из работы Фрейда Тотем и табу.
6 О «желании убийства» и переходе от немыслимого к фантасмагорическо¬
му у Сада см.: P. Aulagnier, L’Apprenti-historien et le maotre sorcier. Du discours
identifiant au discours délirant, PUF, 1984. P. 75.
133
самые вызывающие и необычные порывы. Именно на фоне фигуры де
Сада самым эмблематичным образом вырисовывается контраст между
Жоржем Батаем и Андре Бретоном, особенно после публикации Вто¬
рого манифеста сюрреализма7. А ведь как раз по де Саду, благодаря
де Саду Батай выстраивает свою незавершенную и асистематичную
теорию «гетерологического» знания.
Бретон вынужден был отказаться от образа старого либертена, об¬
рывающего в приюте Шарантон лепестки розы и бросающего их в
сливную яму. Его возвышенный дух мог принять только саму поэти¬
ческую метафору. Символическое толкование этого жеста устраняло
всякую вульгарную контаминацию. В мрачных представлениях Батая,
который в конце концов стал внушать Бретону отвращение и вынудил
последнего отойти от него, Бретон видел нечто навязчивое и нездоро¬
вое. Статья Потребительная стоимость Д. А. Ф. де Сада, в которой,
как мы считаем, Батай впервые сформулировал свою «гетерологию»,
представляет собой шокирующий и агрессивный ответ на цензуру Бре¬
тона.
С помощью головокружительных хитросплетений, в которых ви¬
дятся дерзкие вторжения в самые архаичные складки психеи, Сад увя¬
зан с первичными аспектами своего фантазматического универсума,
где и возникают копрологические представления. По Батаю, отвраще¬
ние к экскрементам есть —и позднее он еще будет об этом писать —
то, что было далее всего вытеснено при переходе от животного к че¬
ловеку, вытеснено настолько, что это отвращение даже не фигурирует
среди основных табу: «Но нет и речи об отвращении к экскрементам,
оно считается уделом человека. Предписаниям, затрагивающим в ос¬
новном непристойные аспекты нашей жизни, не уделяется никакого
внимания; на них даже не налагается табу. То есть модальность пере¬
хода от животного к человеку настолько радикально отрицательная,
что об этом даже не говорят. Это отвращение не учитывается и в рели¬
7См.: G. Bataille, Dossier de la polémique avec A. Breton, Œuvres complètes, vol. II,
p. 51-109. Из 13 фрагментов, которые трудно датировать (но, вероятно, они напи¬
саны в начале 30-х годов) и которые составляют это досье, только статьи Потре¬
бительная стоимость Д. А. Ф. де Сада и «Старый крот» и приставка «сверх» в
словах «сверхчеловек» и «сюрреалист» могут рассматриваться как законченные.
Батай в некотором смысле отвечал на ожесточенные нападки Бретона (после того
как со своей статьей Кастрированный лев, направленной против Бретона, принял
участие в «коллективной брошюре» Труп) во Втором манифесте сюрреализма
(1930 г.), нападки, связанные с именем де Сада: «Если мне еще будут говорить о
“поразительном жесте маркиза де Сада, запертого в психушке и просящего, чтобы
ему приносили самые красивые розы для того, чтобы он обрывал их лепестки над
сточной канавой” (см. статью Батая Язык цветов), я отвечу, что для того, чтобы
этот поступок потерял свою необыкновенную значимость, будет достаточно того,
чтобы он стал действием не человека, проведшего за свои идеи 27 лет жизни в
тюрьме, а какого-нибудь “завсегдатая” библиотек».
134
гиозных реакциях человека, хотя здесь достаточно самых незначимых
табу. То есть отрицание настолько совершенно, что считается негуман¬
ным даже замечать или утверждать, что в этом что-то есть»8.
В постыдности и мерзости творчества де Сада, где падение нрав¬
ственности ведет к неприкрытой истине бытия, оформляется та эле¬
ментарная полярность, что регламентирует функционирование всяко¬
го психофизического организма, редуцированного к своей сущности:
«принятие-в-себя, отторжение-вне-себя», если воспользоваться слова¬
ми Пьера Оланье, пишущего: «Эти два действия сопровождаются
метаболизацией “принятого”, которое превращает последнее в мате¬
риал чистого тела, поскольку отходы этого процесса отторгаются
телом»9.
Согласно Батаю, сюрреалисты вместе с де Садом произвели ту
же физиологическую операцию, редуцировав «потребительную стои¬
мость» к акту банального испражнения, чтобы окончательно от нее
освободиться: «Таким образом, кажется, что все творчество и жизнь
Д. А. Ф. де Сада сегодня не имеют другой потребительной стоимости,
кроме вульгарной потребительной стоимости экскрементов, в которых
чаще всего мы видим только скоротечное (и неистовое) удовольствие
избавиться от них и больше их не видеть»10.
То есть сюрреалисты узурпировали гетерогенный и нестройный
элемент; они трансформировали его в гомогенную субстанцию, совме¬
стимую с их собственным идеалистическим функционированием, ис¬
ключив неусвояемые элементы и затушевав тем самым наиболее скан¬
дальное в де Саде. Сад же, как чужеродное тело, «выступает объ¬
ектом экзальтированного восторга только постольку, поскольку этот
восторг облегчает испражнение»11.
Мир де Сада с его самыми новаторскими и шокирующими моду¬
ляциями кажется, как раз наоборот, нередуцируемым. Копрологиче-
ские силы — «безудержное насилие над целомудрием, позитивная эро¬
тизация боли, насильственное вытеснение эякулирующего сексуаль¬
ного объекта, проецируемого или мучаемого, извращенный интерес к
трупам, блевоте, дефекации» — составляют его высшую трансгрессив¬
ную ценность. Перед подобной концентрацией крайностей всегда воз¬
никает некоторое чувство ужаса, что препятствует ясному и экзальти¬
рованному контакту с этим миром, восхищению им или его пассивному
приятию. Именно факт пренебрежения сюрреалистов к копрологиче-
ским элементам, тому, что сохраняет и исключает всякий опыт деви¬
ации, именно это легкое и непосредственное усвоение де Сада должно
8Bataille G. Histoire de Vérotisme (1950-1951), Œuvres complètes, vol. VIII. P. 44.
9Aulagnier P. La violence de l’interprétation. PUF, 1975. P. 54.
10Bataille G. La valeur d’usage de D. A. F. de Sade. P. 70.
11 Idem. P. 56.
135
внушать нам недоверие по отношению ко всякой их апологетике. Мир
де Сада вмиг оказался ассимилированным, так как наплывы отвра¬
щения были из него изъяты: причесанный и исправленный, он мог
быть интегрирован в некую конструкцию, основывающуюся на отка¬
зе от девиации. Сад пережил процесс нормализации и последующей
интеграции в литературное пространство, которое, устранив всякую
конфронтацию на почве праксиса, способствовало восстановлению в
правах самых неуправляемых фантазий благодаря процессу сублима¬
ции. В Саде следовало бы уважать эту мрачную и запретную глубину.
Как позднее скажет Бланшо: «В Саде по крайней мере следует ува¬
жать скандал».
Батай же, наоборот, выделяет в Саде как ценность это самое «чу¬
жеродное Тело», фокусируя свое внимание на самых низких и тле¬
творных элементах мира де Сада, его двусмысленных практиках, со¬
ставляющих поле гетерогенного, того, что, будучи неприемлемым для
ассимиляции, принадлежит порядку экскрементов. То, что отторгае¬
мо, приобретает значение именно потому, что отторгаемо: отвергаемый
объект в состоянии сохранить нетронутым свой негативный заряд. И
тогда возникает новая по отношению к сюрреалистической концепции
(к потребительной стоимости де Сада) возможность функции экскре¬
ментов, определяемой Батаем как сложная экскрементная функция,
поскольку она не служит избавлению от чужеродного тела с целью
отделаться от него в полной мере, а указует и заостряет внимание на
его совершенной чужеродности, утраченной навсегда. То есть облег¬
чение становится определяющим знаком того, что в своей несовмести¬
мости остается отличным, беспокойным и нередуцируемым.
Сад, как чужеродное и неусваиваемое тело, есть «совершенно
иное» — das ganz Andere — и в этом смысле принадлежит сфере свя¬
щенного. Батай употребляет здесь выражение, которое Рудольф От¬
то, заимствуя термин из Упанишад, использовал в своей книге Свя¬
щенное (Das Heilige12) для обозначения божественного. Э. Дюркгейм в
Элементарных формах религиозной жизни (1925) тоже увидел в аб¬
солютной «гетерогенности» отличительную черту священного, то, что
отличает его от мирского и делает совершенно иным: «Разделенность
мира на две части, одна из которых включает в себя все, что священно,
12См.: OttoR. Das Heilige, trad. fr. de A. Jundt, Le Sacré, Payot, 1929; в замет¬
ке к статье Примитивное искусство, появившейся в третьем номере Документов
(1930 г.), Батай по отношению к священному, отталкиваясь от понятия Отто, упо¬
требляет уже термин altération, от которого он позднее откажется в пользу понятия
«гетерогенного»: «Слово altération имеет двойной смысл, поскольку выражает ча¬
стичное разложение, аналогичное разложению трупов, и в то же время переход
в полностью гетерогенное состояние, соответствующее тому, что протестантский
профессор Отто называет “совершенно иным”, т. е. священным, воплощающимся,
например, в привидениях».
136
а другая —все, что профанно: вот отличительная черта религиозно¬
го мышления. Но раз чисто иерархическое разделение одновременно
слишком общий и слишком неточный критерий, нам ничего больше не
остается, как определить священное как их гетерогенность»13.
Однако Батай, кажется, хочет, в свою очередь, привлечь внимание
к мрачному аспекту священного, к тому, что составляет его первона¬
чальный, отталкивающий полюс, и тому, что, принадлежа к «низше¬
му» миру, безвозвратно исключено из высших форм божественного,
из «высшей» и гомогенной сферы «отчего»: «Но необходимо учиты¬
вать тот факт, что внутри области священного религии осуществля¬
ют глубокое расслоение оного, деля его на высший мир (небесный и
божественный) и низший (демонический, тленный мир); а такое рас¬
слоение мира неизбежно приводит к прогрессирующей гомогенности
всей области высшего (лишь область низшего способна оказать этому
сопротивление). Бог сразу же и почти полностью теряет Свою земную
принадлежность и отдает ее разлагающемуся трупу, чтобы в послед¬
ней стадии распада стать простым знаком универсальной гомогенно¬
сти»14.
Отвращение берет свое начало в различии. Различие есть неусво-
яемость, объект ужаса. «Et inhorresco et inardesco, — говорит блаж.
Августин, которого цитирует Отто, рассуждая о божественном.—
Inhorresco in quantum dissimilis ei sum. Inardesco in quantum similis ei
sum»15.
Священное пространство, понимаемое как «абсолютно иное», вы¬
ступает местом усиления и ускорения разлагающихся необузданных
сил и в этом смысле местом сосредоточения головокружения и ужаса,
согласно этимологическому значению слова sacer16, в котором сосу¬
ществуют противоположности притягательности и отвращения. Гре¬
ческое слово agios выражало такую же двусмысленность. Именно по¬
этому у Батая возникла идея назвать свою «гетерологию» «наукой
о том, что является совершенно иной» агиологией17, или, еще более
скандально и экспрессивно, скатологией1^. Именно грязь вследствие
13Dürkheim Е. Les formes élémentaires de la vie religieuse, Alcan, 1925.
14Bataille G. La valeur d’usage de D. A. F. de Sade. P. 61.
15St. Augustin. Confession (XI, 9, 1), cit. par Otto, Le Sacré («Трепету и пла¬
менею, трепещу в страхе: я так непохож на Тебя; горю, пламенею любовью: я
так подобен Тебе». Русский перевод дан по: Августин. Исповедь / Пер. с лат.
М. Е. Сергеенко. М., 1991. С. 288-289. — Прим. пер.).
16Латинское sacer значит и «посвященный богам, священный, святой», и «об¬
реченный подземным богам; преданный проклятию, проклятый; гнусный, сквер¬
ный». — Прим. пер.
17Агиология— от греч. agios («святой, священный»). — Прим. пер.
18 Д. О лье в своих комментариях к Досье гетерологии {Dossier hétérologie, Œuvres
complètes, vol. II. P. 443) поясняет: «Батай составил приличное досье из карточек
о скатологических ритуал ах [... ]. Вот некоторые из рубрик этого досье: Оргии,
137
откровенной ее деривации из творчества де Сада становится объек¬
том внимания. На самом деле Батая здесь больше всего интересует
разложившийся и отверженный элемент, «низкий» и отвратительный
аспект «грязи», способной поднять ошеломляющие силы, характеризу¬
ющие зловещий аспект священного. Еще следует отметить, как Батай,
вернувшись к проблеме «священного» несколько лет спустя, в период
Коллежа социологии19, будет настаивать на приоритете отвратитель¬
ного (по большей части вытесненного, осознание которого стало для
него следствием прохождения курса психоанализа)20 в рамках фун¬
даментальной биполярности притягательное / отвратительное, коя ха¬
рактеризует священное, как только последнее начинает пониматься
как сцепляющий фактор общественной жизни, стремящейся превра¬
тить формы отвратительные в формы притягательные: «Основным
узлом этой агломерации служит то, что неправедное священное транс¬
формируется в священное праведное, из объекта отвращения становит¬
ся объектом притягательности, из депрессии — возбуждением».
Именно неправедный, разлагающий элемент лежит в основе реак¬
тивного процесса перехода к противоположному элементу — сцепля¬
ющему. Таким образом, можно сказать, что изначально «священные
предметы были предметами отринутыми, отверженными человечески¬
ми телами и в некотором роде предметами потраченными». По суще¬
ству, именно ужас разложения и потери лежит в основе феномена свя¬
щенного, прежде чем его стали понимать как запрет и табу: «Закон
запрета выступает, очевидно, примитивной противоположностью тра¬
те сил, но он противополагается ей именно здесь, так как только здесь
может иметь место трата».
Всякая крайняя форма священного, связана ли она с сексуально¬
стью, экстазом, жертвенностью или смертью, содержит в себе разла¬
Извращение, Трата, Я, Сверх-Я, Моча, Кастрация, Роды, Сперма, Кровь, Мен¬
струальная кровь, Дети, Экскременты, Жертвенный коитус, Ритуальное самока-
лечение, Фаллос, Крайняя плоть, Трупы» (скатология происходит от греч. skatos
(«экскременты»). — Прим. пер.).
19См.: Attraction et répulsion II (Conférences du 5 février 1938), Collège de
sociologie, édité par D. Hollier, Gallimard, 1979. P. 227-229. Также там говорится
(p. 211): «Другими словами, я думаю, что нет ничего более важного для чело¬
века, чем признать себя преклоняющимся перед тем, что внушает ему наибольший
ужас, что вызывает его сильнейшее отвращение» (перевод дан по: Влечение и от¬
вращение 2 // Коллеж социологии, 1937-1939 / Сост. Д. Олье. СПб., 2004. С. 102. —
Прим. ред.).
20 Чтобы лучше понять фундаментальную важность аналитического опыта и вли¬
яния французской социологии на «осознание отталкивающего начала», см. р. 224:
«Мы с Лейрисом не только усвоили самое существенное в психоанализе (мы, кста¬
ти, оба прошли психоанализ), но в равной мере находились также под влиянием
того, чему нас учила французская социология. В этих условиях пережитый нами
опыт может в какой-то степени рассматриваться как искусственный» (перевод дан
по: Там же. С. 110. — Прим. ред.).
138
гающую неистовость, раздирание единства существа, которое в акте
испражнения обнаруживает свою былую матку. В таком случае мы
присутствуем при процессе включения постороннего тела в свое соб¬
ственное и процессе его исторжения, который заставляет чередоваться
тождественность субъекта. Гетерогенный элемент вызывает пертурба¬
цию обычных состояний — профанного, — а спазматическое и конвуль¬
сивное ведет на край смерти.
Садовская модель утверждается в гетерологической концепции Ба-
тая через смешение фантазмов, дающих волю освобождающим мани¬
фестациям его самых глубинных навязчивых идей. Постепенно гетеро¬
логия раскрывает свой нередуцируемый характер по отношению к объ¬
ективному знанию, строящемуся на абстрактных определениях, и тем
утверждает свою тесную связь с тенденциозной природой творений
де Сада. Требование к строгости изложения, в котором философский
инструментарий используется исключительно в качестве подчиненной
модальности, сталкивается тогда с невозможностью вместить в рамки
единой системы гетерологическое знание, которое так проявляет свое
импульсное происхождение: «Прежде всего, гетерология противостоит
всякой философской системе».
Трансгрессивное знание начинается там, где рациональное знание
не может подвергать себя опасности; оно подпитывается своим отри¬
цанием, тем исключением, на которое оно обречено. Такая форма ис¬
пражнения, сепарирующая основное от зараженного, остаточных суб¬
станций знания, способствует новому взгляду на вещи и более смелой
постановке вопроса: «Ведь умственный процесс автоматически огра¬
ничивает себя, производя из самого себя собственные отходы и тем
самым совершенно беспорядочно высвобождая гетерогенное, копроло-
гическое начало. Гетерология ограничивается тем, что пытается яс¬
но осознать тот конечный процесс, на который до недавнего времени
смотрели как на выкидыш и стыдобу человеческой мысли. Именно
этим гетерология способствует полному переворачиванию философ¬
ского процесса, каковой из инструмента завоевания, коим он был, ста¬
новится процессом испражнения и вводит требование неистового удо¬
влетворения, навязываемого социальным существованием»21.
Батай находит «контрмеру», которая путем рефлексии еп аЬуте22
в момент ее применения обнажает механизмы своего функционирова¬
ния. Речь идет о процессе, основывающемся на копрологическом на¬
чале, процессе, который ограничен отделением и исключением и опре¬
деляет тем самым гетерогенное поле священного. Как раз исключе¬
ние активизирует и сакрализует вытесняемое и вновь обретаемое через
21Bataille G. La valeur d’usage de D. A. F. de Sade. P. 63.
22Техника mise en abyme предполагает игру зеркал. — Прим. пер.
139
противоположность тому правилу, что их исключает, начало. Тут вы¬
рисовываются отношения между ограниченным наукой (и философи¬
ей) полем гомогенного и запретного и полем гетерогенного (мифоло¬
гического) и отказа, который является его невероятной трансгрессией:
«Исключение мифологии из сферы разума, несомненно, справедливо,
и к этому нет смысла возвращаться, но его следовало бы лучше понять,
перевернув установленные с помощью этого исключения ценности, т. е.
тот факт, что согласно разуму в мифологическом нет ценностного со¬
держания, есть само условие его значимой ценности»23.
В работе Психологическая структура фашизма (1933-1934) Ба-
тай с помощью теории Фрейда и французской социологии (Дюркгейм
и Мосс), а также «современной немецкой философии (феноменоло¬
гии)» описывает сложную систему, основанную на двух противопо¬
ложных категориях: «гомогенности» и «гетерогенности», чья прими¬
тивная концепция лежит внутри «гетерологической мысли». Если пер¬
вая категория выражает то, что соизмеримо и поддается количествен¬
ному определению, то вторая в силу своего фундаментального отличия
должна подчиняться любому более простому определению и контролю
сознания: «Исключение гетерогенных элементов из гомогенной обла¬
сти сознания формально напоминает исключение того, что описано
(психоанализом) как бессознательное, исключаемое внутренней цен¬
зурой из сознательного Я».
Сначала Батай помещает и фашистское движение в область гете¬
рогенного, поскольку фашизм, строящийся на отделенном и неприка¬
саемом начале суверенности, лежит в табуированной области королей
и чародеев, питаемых сверхъестественными, загадочными и безлич¬
ными силами. Именно этот факт сближает фашизм с областью свя¬
щенного, которое вместе с бессознательным выступает существенной
составляющей гетерогенности.
Фашистская организация в этом смысле является тогда «импера¬
тивной формой» гетерогенного существования, поскольку она связана
с суверенностью ее вождя. Но именно это доминирование вождя, рас¬
сматриваемого как отца, кажется, и подтачивает его изнутри и тем са¬
мым денатурализует его. Для Батая настоящая гетерогенность прежде
всего конституируется неблагородными проявлениями низкого, кото¬
рое — как темная сторона священного и страшные импульсы бессозна¬
тельного — бежит всякой попытки его усвоения. Именно исключение
и отвержение делают их совершенно несовместимыми с любой фор¬
мой гомогенности и гораздо сильнее, чем элементы высшего порядка,
относят их к той форме распущенности и беспорядка, которая назы¬
23Dossier de l’œil pinéal. P. 23. О «скандальных» аспектах мифологии см.:
L’invention de la mythologie, Gallimard, 1981.
140
вается «непродуктивной тратой». Тогда получается, что для Батая,
если провести аналогию со сферой священного, существуют две про¬
тивоположные формы гетерогенного: правая, легко опрокидываемая
в свою гомогенизирующую противоположность, и левая, совершенно
ни к чему не редуцируемая в своем отличии, которое и питает ее спо¬
собности к разложению. Фашистская структура переворачивает свя¬
щенный характер суверенного (понимаемого как отделение), полагая
себя в качестве императивной формы угнетения другого, отличного.
Она формируется вокруг изначального, отчего и под знаком домини¬
рования и власти искажает все связанные с ней формы. Позитивность
гетерогенности заключается только в ее не редуцируемых ни к чему
силах, в ее отличии, которое представлено нечистыми элементами свя¬
щенного, низменным и вытесненными импульсами бессознательного.
Этот бурлящий и взрывоопасный сгусток питает неумеренный опыт
Ацефала, настоящее горнило гетерогенного, способное перемешать и
усилить неприемлемые отбросы исключения и страха. Ацефал стре¬
мится отличаться от императивных, фашистских организаций, под¬
держивая разрушительный заряд низкого, что практиковалось во вре¬
мя революционной деятельности группы Контратака, заряд тлена (и
разочарований), из которого и родится Ацефал несколькими годами
позднее.
С самого начала опыт Ацефала24 (1936-1939 гг.) располагается в
опрокинутом поле гомогенного, отчего, под знаком вызова и неподчи¬
нения порядку дневного, превосходству небесного (Урану) и взгляду
свыше.
В 1934 г. в своей первой работе Уран-Вару на25, посвященной срав¬
нительной мифологии, Жорж Дюмезиль через призму теогонии Ге¬
сиода вновь пересмотрел основополагающий эпизод восстания сыно¬
24См.: Masson A. Le soc de la charrue. «Critique». 1963: «В апреле 1936 г. Ж. Батай
приезжает ко мне в Тосса-де-Мар, в этот старинный, скромный и красивый ката¬
лонский городок. С моим участием он хочет воплотить в жизнь этот старый проект
создания журнала Ацефал[...]. Я сразу же представляю ацефала без головы, как
он стоит, но что делать с этой дурацкой и непонятной головой? Она находит свое
место там, где должны быть половые органы (скрывая их), и становится мерт¬
вым черепом. Но что тогда делать с руками? Одной рукой (левой) он машинально
потрясает кинжалом, другой сжимает пламенеющее сердце (не сердце распятия,
а сердце нашего владыки Диониса). Этот зверь (я имею в виду Диониса) всегда
живет в сердце людей и их гениталиях. Сердце и тестикулы, сходные формы[...].
Этот рисунок, сделанный на глазах Батая, ему сразу же понравился. Ацефал, и
оно понятно, появился на свет только три раза. Но это было красиво! Первый но¬
мер Ацефала — “Священный заговор”; второй — “Ницше и фашисты”; третий — “Ди¬
онис”; четвертый, не увидевший свет, должен был носить название, предложенное
мною: “Эротическая земля”». На самом деле последний номер — «Безумие, война и
смерть», —сделанный одним Батаем, должен был в июне 1939 г. открывать третью
серию выпусков.
25Dumézil G. Ouranos-Varuna, étude de mythologie comparée. A. Maisonneuve, 1934.
141
вей против отца, которое заканчивается убийством и кастрацией по¬
следнего, совершенными в сговоре с матерью, видя в этом поступке
«семейную и политическую драму»: «Первая вина лежит на Уране.
Гея (Земля) принимает сторону своих сыновей, а сами сыновья вос¬
стают не столько против Неба-Урана, сколько против Урана-короля и
Урана-отца[...]. История Урана и его детей устанавливает не только
сексуальный порядок, но и порядок политический и моральный, само
управление миропорядком. Уран — не только невоздержанный самец,
он еще и тиран. Восстание его сыновей ведет не только к его кастра¬
ции, но и к его свержению».
Миф об Ацефале —по аналогии с мифом об Уране —тоже откры¬
вает перед нами семейную и общественную драму. Здесь также можно
увидеть и фантазм Лорда Оша26 (псевдоним, использованный Бата-
ем для публикации своего первого подпольного романа История гла¬
за27), который скатологически (в исходном смысле этого слова — «боги
на ночных горшках») символизирует его восстание против «всего, что
стремится к авторитарности».
Изгнание отца, которое согласно закону обратимости бессознатель¬
ного представлено образом «облегчающегося бога», дает импульс це¬
лой серии навязчивых ассоциаций, через призму которых фантазм
Лорда Оша переходит из плана индивидуального (История глаза) в
план мифологического (Ацефал), т. е. от персональных грезы и мифа
к мифу и грезе коллективным. В этом смысле интерес Батая к работе
3. Фрейда Тотем и табу, из которой он позаимствовал ошеломляю¬
щее утверждение, что «общество основывается на совершенном сообща
преступлении», является определяющим.
Правонарушение — это убийство отца. Восстание против того, кто
удерживает абсолютную власть над женским и материнским, есть ос¬
нова объединения. Общая ненависть против отцовской власти скреп¬
ляет союз братьев под знаком негативного, знаком смерти и является
определяющей для общественной структуры, в основе которой лежит
насилие.
Э. Энрикес28 весьма убедительно анализирует текст Фрейда:
«Впервые люди понимают, чего они хотят, когда могут назвать то,
чего они не желают. “Нет” —это любимое слово любого объединения
(как и всякого индивида) как такового и понимающего себя как тако¬
26Ср.: Bataille G. W. С., Préface à l’histoire de l’œil, Le Petit, Œuvres complètes, III:
«Имя Лорда Оша имеет отношение к одному из моих друзей: когда он был раздра¬
жен, он говорил не «в жопу» («aux chiottes»), а короче — «вжо» («auxch»). «Лорд»
на английском значит «Бог» (в святых писаниях): Лорд Ош — это облегчающийся
Бог».
27См.: Батай Ж. Ненависть к поэзии. М., 1999. С. 51-91. — Прим. ред.
28Enriquez Е. De la horde à l’État. Gallimard, 1983. P. 120.
142
вое. Нет доминированию, тотальное “нет”, которое может выразиться
только в уничтожении другого».
Убийство является основополагающим. Первородное нарушение
общественной связи будет проходить красной нитью через опыт Аце-
фала — от отцеубийства и антиавторитарности до исступленного пьян¬
ства и культа матери как хтонической, разрушительной и освобожда¬
ющей силы.
На рисунке А. Массона, помещенном на обложку журнала Ацефал,
Ацефал, стоящий в полный рост и разрываемый действием двух про¬
тивоположных сил, тяготеет к земле и одновременно давит на нее,
усиливая нисходящую вертикальность рисунка. «Плохое непременно
представляется как движение, движение сверху вниз», — писал Батай.
Горизонтальная ось вытянутых рук отсекает сферу высшего простран¬
ства, выталкивая тело вниз, фокусный центр которого состоит из «по¬
лового органа-черепа», притягивающего взгляд своими пустыми глаз¬
ницами. Этот магнетический центр и есть образ смерти, но смерти,
связанной с желанием, таящим и излучающим страстную сексуаль¬
ность.
Ацефал, существо без головы, воплощает собой еще и жертву,
принесенную во время страшного обряда инициации, он — как только
пройдет древний ужас перед утратой телесного единства, ужас перед
кастрацией и смертью — возродится снова под знаком женского начала
и откроет свою рану новым общественным бесчинствам.
Символизируя кастрацию, эта крайняя форма священной ампута¬
ции самой верхней части человеческого тела, тождественной ее самой
нижней части, порождает и способствует коллективному ритуальному
самокалечению, за которым следует воскрешение в иной ипостаси, где
будет возможно вновь обрести черные силы мифа.
Как Прометей, о котором Батай писал под влиянием Соломона Рей-
наха, как Aethos Prometheus2^, в мифологическом плане Ацефал озна¬
чает божественную жертву, в которой он сам и жертва и жертвующий:
«Если отождествить орла, греческого aethos prometheus, с укравшим
у солнечного колеса огонь богом, тогда выклевывание печени напо¬
минает распространенный в различных легендах сюжет о “божествен¬
ной жертве”. Обычно роли поделены между человеческим воплоще¬
нием бога и его животным перевоплощением: человек ли приносит в
жертву животное или животное человека, речь всегда будет идти о
самокалечении, поскольку животное и человек образуют единое це¬
лое»30.
29«Орел Прометея» (греч.). — Прим. пер.
30 La mutation sacrificielle et Voreille coupée de Van Gogh, «Documents», 8 (1930),
Œuvres complètes, I, p. 258; относительно «жертвоприношения» Батай, несомненно,
имел в виду следующую книгу: Mauss М., Hubert H. Essai sur la nature et la fonction
143
Акт отрезания головы ведет к разрыву гомогенности и перехо¬
ду к гетерогенности, к доминированию священного —«мы отчаянно
религиозны» — и проецируется на внешнюю сторону репрессивного и
вызывающего чувство виновности начала. Это —изгнание отца, пе¬
реведенного в Сверх-Я. Такое смещение открывает путь для взрыв¬
ного высвобождения, разбивающего замкнутого на себе индивида и
приоткрывающего рану, через которую вырывается наружу неисто¬
вая сила общения. Ацефал на рисунке Массона держит в руках риту¬
альные инструменты. Слева — неблагополучная сторона — орудие кро¬
вавого жертвоприношения; справа — благополучная сторона — факел,
напоминающий святое сердце (не сердце распятия, а сердце Диониса,
как уточнял сам Массон), который освещает ночное пространство все¬
общего праздника. Ампутированная самобытность приоткрывает края
раны, позволяя другому проникнуть туда. Жертвенность Я размыва¬
ет принцип индивиду ации и ведет к всеобщему экстазу. За Ацефал ом
крадется, захватывая сцену, его зеркальный двойник, ницшевский Ди¬
онис, который в трансе и оргиях восхваляет свое земное рождение31.
Земные силы, изрыгаемые импульсы, пожирающие желание, име¬
ют отношение к женскому лону, они горят в ночном горниле маточной
материи, там, где жизнь и смерть встречаются друг с другом, пере¬
плавляясь друг в друга. Благодаря уничтожению этих сил в мате¬
ринском кратере замешиваются первые элементы нового существова¬
ния, которое будет хранить отпечатки своего хтонического происхож¬
дения.
«Ацефал — это земля / Земля под коркой почвы — пламенный
огонь / Человек, представляющий под своими ногами пламенение зем¬
ли / Воспламеняется сам / Исступленный пожар уничтожит отчизну /
Когда человеческое сердце станет огнем и железом / Человек освобо¬
дится от своей головы —как приговоренный от тюрьмы»32.
Огонь, необузданная сила, неудержимая и хищническая, усилива¬
ет чувство причастности, поощряет контакты сливающихся в обряде
существ, людей без отчизны — без отца, — рожденных подземной мат¬
кой, которые явятся провозвестниками Kinderland nietzschéen, земли
сыновей: «Чудесная Kinderland Ницше есть не что иное, как то ме¬
сто, где вызов, брошенный Vaterland33 каждым человеком, принимает
другой смысл, перестает быть немощным отрицанием. Только после
du sacrifice (1894).
31 Ср.: Ф. Ницше, Рождение трагедии из духа музыки, а также: Jeanmaire.
Dionysos. Payot: «Бог земли Дионис рожден от любви Семелы, земли, с богом неба
Зевсом. Миф говорит, что Семела, беременная Дионисом, возжелала, чтобы Зевс
пришел к ней, украшенный всеми атрибутами своего могущества; он это сделал,
но от грома и молний она воспламенилась и превратилась в пепел».
32«Acéphale», I (juin 1936).
33 «Земля отцов» (нем.). —Прим. пер.
144
появления Заратустры мы можем просить прощения у наших детей
за то, что были сыновьями наших отцов»34.
Возвращение и прославление трудов Ницше, предпринимае¬
мое Батаем во втором номере журнала (вместе с А. Массоном и
П. Клоссовски, а также Ж. Рол леном и Ж. Валем), понимается как
«восстановление справедливости» (статья Ницше и фашисты: восста¬
новление справедливости), оно зарождается из потребности вывести
имя Ницше из-под фашистского влияния, высвободить его извилистую
и рваную мысль, не приемлющую тоталитарные идеологии и культы
вождей.
Все попытки присвоить или деформировать ницшевскую мысль
лишь показывают свою фундаментальную несовместимость с главной
истиной: восстановление прошлого никак не сопрягается с ницшевским
мифом о будущем. Две эти концепции существования снова противо¬
стоят друг другу: первая связана с мифологией отцов и отчизны, дру¬
гая же, наоборот, прославляет «страну наших детей» (т. е. связана с
женским и материнским началами).
«Только безвозмездное и агрессивное дарение самого себя будуще¬
му—в противоположность националистической скупости, привязан¬
ной к прошлому, — может попытаться зафиксировать великий образ
Ницше в лице Заратустры, требующего своего низвержения. Люди “без
отчизны”, избавившиеся от прошлого и живущие в нынешнем дне, как
заметят они, такие спокойные, что один из них обречен ненавистью к
этому убожеству на жизнь в Стране детей? Когда взгляды других бы¬
ли обращены к стране своих отцов, к своей отчизне, Заратустра видел
Страну своих детей»35.
Фашизм и нацизм в своей противоположности полному неподчи¬
нению ницшевской мысли являются частью тех политических систем,
где доминирует поклонение вождю —дуче36, фюреру, — враждебных
всякому общинному обмену из-за своего фидеистического, связанного
с прошлым и образом отца национализма. Батай здесь опирается на
Фрейда (Психология масс и анализ человеческого Я), который обна¬
руживает в женском начале присутствие нестройности, гетерогенно¬
сти общности без вождя. По Фрейду, есть две фундаментальные тен¬
денции, цементирующие общество, которое вращается вокруг фигу¬
ры вождя: закомплексованность сексуальных импульсов, способству¬
ющих отождествлению с авторитарной, отцовской (выражение иде¬
алов Я) моделью, и отсутствие женщины как объекта желания: «В
неестественных объединениях, таких, как армия или церковь, нет ме¬
34Chronique nietzschéenne, «Acéphale», 3-4 (juillet 1937).
35Nietzsche et les fascistes, «Acéphale», 2 (janvier 1937).
36Duce (ит.), т. e. «полководец». Так называли в Италии Б. Муссолини. — Прим.
пер.
145
ста женщине как сексуальному объекту. Отношения между мужчиной
и женщиной чужды такому типу объединений»37.
Батай же, в свою очередь, скажет так: «В фашистской партии под
руководством вождя объединяются все социальные классы. Это руко¬
водство предполагает определенные эмоциональные отношения, при
которых каждый член партии под влиянием необъяснимого притяже¬
ния отождествляет себя с вождем, который воплощает собой не толь¬
ко партию, но и все общество, целую нацию и существование которого
стоит выше любого другого, даже выше существования Бога»38.
«Одноголовое» общество тоталитарных режимов атрофирует дви¬
жение существования, навязывая ту модель организации общества,
при которой она замкнута на вертикальной структуре, на вершине ко¬
ей вождь сливается с образом Бога, — самая совершенная организация
универсума, говорил Ницше: «Фашизм, заново составляющий обще¬
ство из уже существующих элементов, есть самая замкнутая форма
организации, т. е. человеческого существования, близкого к вечному
Богу».
Надо избавиться от «ацефальных» систем, только тогда, по Ба-
таю, в результате совсем других импульсов, ведущих к заразительному
взрыву желания, может возникнуть новая общественная конфигура¬
ция. Контуры этих тайных обществ, или избранных, чисто «экзистен¬
циальных» (т. е. не имеющих ни планов, ни целей —помимо самого
существования) сообществ, можно увидеть у Кайуа эпохи Коллежа
социологии: они не имеют ничего общего с заговорщическим обще¬
ством. Эти общества, кажется, наоборот, принимают за образец моло¬
дежные объединения, бурлящие и хищнические, — «чувственных пья¬
ниц и похитителей женщин», — которые Дюмезиль увидел в римских
луперках39 и индийских гандхарвах40 и описал в своей работе Митра-
Варупа (лекции 1938-1939 гг., издание 1940 г.). В контексте Ацефала
Батай стремится поставить акцент на дионисийской и ницшеанской
природе этих объединений, надеющихся избавиться от всякой автори¬
тарности, вождя, чтобы породить формы экстатического излучения
373. Фрейд, Психология масс и анализ человеческого Я (1921 г.). О влиянии этой
работы Фрейда на Батая см. Психологическую структуру фашизма, опубликован¬
ную Ф. Гандомом в Нувелъ ревю франсез (октябрь 1982 г.): «Анализ эмоциональной
структуры армии и церкви, как его производит Фрейд в книге Психология масс и
анализ человеческого Я, возможно, одно из самых удивительных и значительных
открытий науки, изучающей природу жизни, поскольку оно оказывается не просто
попыткой познания крупных унитаристских формаций: познанием примитивных
явлений Фрейд открывает путь новому общему знанию о живых формах».
38Bataille G. Le fascisme en Françe, Essais de sociologie, Œuvres complètes, II.
P. 207.
39Луперки — жрецы Фавна (Луперка). — Прим. пер.
40Класс индийских полубогов, по своим функциям и этимологии близких кен¬
таврам. — Прим. пер.
146
внутри «многоголового» пространства: «Единственное живое и силь¬
ное общество, единственное свободное общество — это общество двух-
или многоголовое [здесь надо признать, что еще в эпоху Документов
Батай мечтал о гностическом образе «ацефального бога, побежденного
богом с двумя животными головами, что повлияло позднее на концеп¬
цию Ацефала] [...]. Двухголовость или многоголовость иллюстрирует
ацефальный, одноголовый характер существования в одном движении,
так как сам принцип головы ведет к единству, редуцированию мира к
Богу»41.
Если тоталитарные идеологии предпочитают божественность света
и неба (а нацистская идеология Альфреда Розенберга, изложенная в
его книге «Миф XX века», утверждала: «Если греческие боги являлись
героями света и небес, то боги Средней Азии —ее неарийской части —
обладали всеми свойствами земли»42), то дионисийская и ницшеанская
лихорадка восхваляет хтонические мифы и неуемные силы низшего.
Вопреки небесному богу (Урану), символу власти и вины, нужно по¬
знать землю и обладать ею. Обладать матерью. «Бог, короли и вся их
клика встали между людьми и землей, так же как отец для сына —
препятствие для изнасилования и обладания матерью»43. Мать объ¬
единяет людей, своих детей без отчизны, в ацефальное сообщество, в
рамках которого дионисийский обмен через упразднение тождествен¬
ности ведет к разложению и пьянству, безудержным и смертоносным
формам Трагедии. Вертикальное общество, выстроенное на доминиро¬
вании отца и необходимости наказания (полицейское государство то¬
талитарного общества), неизбежно отлично от общества горизонталь¬
ного, порожденного устранением отца, вождя. Такое устранение от¬
ца устанавливает трагическое сообщение, поскольку основывается на
убийстве и кровосмесительном бремени желания: «Стремиться к аце¬
фальному человеческому обществу — значит стремиться к трагедии,
так как умерщвление вождя само по себе есть трагедия: оно требу¬
ет трагедии. Истина, способная поменять положение дел, начинается
именно здесь: эмоциональное начало, дающее навязчивую ценность
всеобщему существованию, есть смерть»44.
И Практика радости перед лицом смерти как раз тот текст, что
41 «Acéphale», 2 (janvier 1937).
42 Idem; см. также: Bataille G. Nietzsche et le national-socialisme. Sur Nietzsche.
Gallimard, 1945. P. 228: «Одна из важнейших черт творчества Ницше — прославле¬
ние дионисийских ценностей, т. е. безудержного пьянства и бесконечного восторга.
Не случайно Розенберг в своей книге “Миф XX века” говорит о культе Диониса как
о культе неарийском... Вопреки быстро подавленным стремлениям расизм прини¬
мает только солдафонские ценности: “Молодежи нужны стадионы, а не священные
леса”», — говорит Гитлер.
43«Acéphale», 2 (janvier 1937).
44Idem, 3-4 (juillet 1937).
147
венчает последний номер Ацефала в июне 1939 г., номер, целиком со¬
ставленный Батаем и хранящий печать его бурлящей личности.
В мистическом опыте смерти — мистицизме без Бога и чаяний, пре¬
людии к Внутреннему опыту — субъект преодолевает барьеры своего
Я, проникая в сферу спокойствия и ненапряженности; как в «по ту
сторону принципа удовольствия», он плывет в минеральной безмятеж¬
ности и соскальзывает в ничто. Это соскальзывание происходит по но¬
чам благодаря проникновению и погружению в незнакомую материю,
благостную, как материнское лоно. Тогда и начинает проявляться жен¬
ское начало, которое вызывает фантазмы поглощения, растворения в
царстве теней: «я отдаюсь покою до полного самоустранения».
Радость перед лицом смерти оказывается экстатической открыто¬
стью глубинному царству матери. Смерть есть женщина, она — мать, и
в то же время, как только страх кастрации преодолевается жертвопри¬
ношением головы, она превращается в возможность нового, другого,
рассеянного, «многоголового» рождения.
Вся эта недифференцированность и материнское начало того, кто,
принимая собственную жертву, освобождается от отца, по-видимому,
обнаруживается у Батая в фигуре Дон Жуана, который, постоянно
угрожая своей тождественности, на всю глубину проникает в смер¬
тельное лоно женщины. Миф о Дон Жуане45 будет проходить крас¬
ной нитью через весь опыт Ацефала, опрокидывая этот опыт в сферу
многоголовости, питая его множественными тождествами, производи¬
мыми его отражением во взгляде женщины. Женское начало, объект
ненасытного желания, коим никогда не овладевают до конца, выступа¬
ет тем другим-самого-себя, с которым хотелось бы слиться, но которое
в результате неразумного поиска превращается в непреодолимое отли¬
чие. И тогда в его отсутствие остается только желать обрести забве¬
ние в этой никогда не отвергаемой среде. Неутоленная одержимость
женщиной сродни побуждению к распаду в исступленном пьянстве и
конвульсивном страдании в самом себе.
Дон Жуан Моцарта, который, по Кьеркегору (а вслед за ним и
по Клоссовски46 с Батаем), является квинтэссенцией «музыкальной
эротики», выражает в звуковом ряду то неограниченное и неопреде¬
45 О мифе о Дон Жуане см. эссе: Macchia G. Vita avventura e Morte di Don
Giovanni. Laterza, Bari, 1966.
46Cm.: Klossowski P. Don Juan selon Kierkegaard, где он анализирует текст это¬
го датского философа Стадия эротической непосредственности или музыкаль¬
ной эротики («Le stade de l’immédiat érotique ou l’érotique musical», «Acéphale»,
3-4); см. также: Bataille G. Nietzsche et Don Juan, Souveraineté, VIII, p. 433: «Чув¬
ство Дон Жуана, уверенного, что его поглощает ад, но не сгибающегося, по-моему,
сравнимо с тем ужасом, который никогда нельзя полностью преодолеть и который
Ницше связывает с уверенностью в смерти Бога. Ни тот ни другой не согнулись, не
уступили, когда вокруг них образовалась пустота, так и не сумевшая их одолеть».
148
ленное, что принадлежит миру женщины. Дон Жуан освобождается
в музыке: в восстании против отца он сливается с женским универ¬
сумом в смертельном материнском лоне. В Тосса-де-Мар, где Батай и
Массон напряженно работали над созданием Ацефала, их вдохновляла
именно музыка Моцарта: «Увертюра из Дон Жуана более всего спо¬
собствует слиянию того, что выпало на долю моего существования, с
тем вызовом, который открывает меня восторгу-вне-себя. В такой миг
я смотрю, как это ацефальное существо, чужак, обуреваемый теми же
двумя страстями, становится Могилой Дон Жуана».
«Веселая драма» Моцарта, в которой трагедийное перемешивает¬
ся со смехом и смертью, активирует в абсолюте языка, существую¬
щего в мгновении и достигающего вершины причастной эротизации,
фантасмагорические созвездия, лежащие в основании Ацефала. Утра¬
та тождественности, невоздержанность и разложение Я, обретаемый
в женском начале экстаз и вызов отцу, возникающий вместе с отсут¬
ствием, пустотой, — все это черная дыра, материнское лоно, в которое
неисправимое желание погружается как в свою первородную землю и
могилу.
Перевод С. Б. Рындина
ДЕНИ ОЛЬЕ
РОЗОВОЕ И ЧЕРНОЕ
(могила Батая)
Но что? Могильщики — это приличные
люди, собранные в профсоюзы, может быть,
даже коммунисты.
Сартр. Что такое литература?
Ситуации, II
Лучшее выражение последнего долга не должно забывать о том,
чем оно обязано ритуалам некрофилии. Место и время этой встре¬
чи, так же как и ее благоговейный повод, послужат для меня пред¬
логом для предварения моей темы: на почтительном расстоянии от
Везле, где вот уже 20 лет как похоронен Батай, я буду говорить о его
могиле1.
Не о той, где под могильной плитой, которую я как будто никогда
и не видел, он покоится с этих пор, но о той, которую, как казалось,
он носил в себе, не зная покоя, в качестве своей неотъемлемой части.
Могила, о которой он, можно сказать, и написал бы, если бы в ней,
как в ловушке, не исчезало бы всякое основание, всякая опора и вся¬
кая тема. Письмо начинается лишь с потерей покоя, когда теряется
фундамент и не на что опереться. Не столько могила Батая, сколько
могила Батая в Батае. Можно заметить здесь запутанную инсинуацию:
она подразумевает, что, замыкаясь в тексте, которого она никогда не
могла охватить, эта могила никогда и не закрывалась, содержа беспре¬
дельное: смерть не имеет места, когда для могилы нет никакого места.
Криптологическое измерение подрывает тематическое инвентаризиро-
вание. Смерть не предоставляет ему покоя возвращения в землю или
*Этот текст был написан для собрания, организованного Ж.-М. Реем в Доме
культуры Оксерра по случаю двадцатой годовщины со дня смерти Батая (1962),
за несколько дней до летнего солнцестояния.
© К. В. Преображенская, перевод, 2006
150
распадения до неорганической материи. Напротив, сама земля лиша¬
ется покоя и устойчивости, ощущая свою потерю. Почва в могиле те¬
ряет свою опору. Погребение — это погружение в пропасть, где земля
падает вместе с могилой. «Я падаю в необъятность / которая падает в
себя», — говорится в первой поэме Могила, которая открывает Архан-
гелическое2. Далее многоточие.
Голос Батая всем запомнился приглушенным тембром юмора, ис¬
пользующим этот мрачный склеп в качестве резонатора. На самом
деле немногие писатели сумели бы оказаться в этом положении, ку¬
да бы их завлек, привлек и литературно вдохновил свой собственный
труп. И совсем не зазорно вообразить, например, что когда в 1929 г., во
время своей первой ссоры с лидером сюрреализма, Батай назвал пам¬
флет, направленный против Бретона, Труп, это название (отстраняясь
от всякого иронизирования) содержало в себе больше нежности —и,
может быть, ревности, — о чем его адресат даже не подозревал. Ему
не мешало бы сделать хоть одну уступку в своей Антологии черного
юмора. Но Бретон и не думал об извинениях. Ему, в частности, не было
известно о черновиках открытого письма, в которых Батай готовился
бросить ему в лицо свой собственный труп. «Я пишу Вам из далекой
страны, — писал он, — оттуда, где отсекают ноздри у собственного тру¬
па, оттуда, где вынуждены “юмор брать взаймы у собственного тру¬
па”»3.
В тех текстах, из чтения которых Батай вынес интерес, столь зна¬
чительный для того времени, Фрейд надеялся противопоставить либи¬
до, т. е. сексуальную энергию, тому, что он называл инстинктом смер¬
ти. Известно, в какие пленительные лабиринты должна была завести
психоаналитическое умозрение эта попытка. Однако у Батая суще¬
ственно некрофильное либидо проявляется всегда в своей самой на¬
вязчивой форме, в инстинкте смерти: любовь к смерти сильнее смер¬
ти. Среди первых иллюстраций, приведенных в Слезах Эроса, значит¬
ся доисторическая статуэтка, в которой можно по желанию разгля¬
деть как фигуру обнаженной женщины, так и эрегированный фал¬
лос. Можно было бы рассматривать в качестве матрицы или некой
эмблемы размышлений Батая по поводу эротизма «пластический ка¬
ламбур» другого типа: он приравнивает женские половые органы к
могиле, в которой лежат тела, покинутые жизнью. На дне колодца
Ласко мы читаем, что могила человека является колыбелью человече¬
ства. Разновидность почвенного инцеста символически довершается в
фантазмах полового погребения. «Я падаю в необъятность / которая
падает в себя», — говорится в первой поэме Могилы. И несколькими
2Bataille G. L’Archangélique, Œuvres complètes (О. С.), 3, 1971, p. 75.
3«Я знаю слишком хорошо... », О. С., р. 87-88. Антология черного юмора Бре¬
тона вышла в 1939 г.
151
роками дальше: «Любить — значит любить умирать». В 1929 г. Язык
цветов уже предлагал в качестве «тошнотворной банальности», «что
любовь имеет запах смерти»4.
Запах смерти
На первый взгляд ближе всего к схеме запрета и его нарушения
легенда о Дон Жуане, в особенности ее заключение, из которого мы
узнаем, как закоренелый преступник, начиная с различных запретов,
заканчивает тем, что вовлекает свою жизнь в потлач (potlatch), где
он бросает вызов Командору. Горячий источник (наслаждение, секс)
и холодный (закон, смерть): как в их сосуществовании, так и в их
несовместимости, Дон Жуан и Командор персонифицируют несинте¬
тическое соединение механизма «запрет-трансгрессия», вокруг кото¬
рого формировалась мысль Батая. Если эротизм действительно есть
«одобрение жизни даже в смерти», ничто не служит лучшей иллю¬
страцией этого определения, чем позиция Дон Жуана, который под
предлогом того, что для него это было бы равнозначно смерти, от¬
казывается от раскаяния в том, что он прожил жизнь, безупречную
настолько, что и самой смерти нечего ему возразить.
Однако в то же время создается впечатление, что Дон Жуан до са¬
мого конца должен остаться чуждым гегелевскому предписанию, взя¬
тому Батаем в качестве эпиграфа к Мадам Эдварде, которое требует
от духа силы «поддерживать дело смерти». Одобрение жизни даже в
самой смерти исключает для него всякое соучастие с силами смерти.
Он даже в смерти признает жизнь, не приемлющую смерть. Имен¬
но этим объясняется сравнительно слабый интерес к этой героической
традиционной модели западной мужской сексуальности, свойственный
рассуждениям Батая. В частности, очень показательно, что сочинение,
названное Эротизмом, ни разу не упоминает даже имени Дон Жуана.
Его заменяет имя де Сада. Это связано не только с тем, что Дон Жуан
не пишет, хотя, несомненно, данный факт рука об руку идет с донжуа-
новским незнанием того, что Батай называет «парадоксом наслажде¬
ния»; разве только литературе известно это удовольствие признания
в своей виновности.
Сам по себе, независимо от персонажей, с которыми его связыва¬
ет легенда, классический Дон Жуан — здоровое существо, в котором
нет ничего извращенного; конечно, склонное к крайностям, но уж точ¬
но не порочное. Этот завоеватель прежде всего конкистадор, человек
действия в большей степени, нежели человек желания или наслажде¬
ния. Бланшо прав в том, что видит эту обреченную фигуру в пози¬
4 Bataille G. Le langage des fleurs. Documents, N3, juin 1929 (O.C., 1, 1970, p. 87-
88).
152
тиве «мифа современной эпохи»: «супергероя, человека военного, му¬
жественного, который приносит ночи живость и энергичность дня».
Роже Лапорт в своем очерке попытался приписать его способность к
соблазнению тому, что было бы безличным в желании, которое им вла¬
дело: таким образом, Дон Жуан оказался бы воплощением желания
как такового, так сказать, желания без субъекта, которое он так и не
смог бы испытать в собственном смысле слова, когда оно становит¬
ся своим; это такое желание, которое, овладевая им, лишало бы его
своего лица, желание, которое было бы захвачено собственным голо¬
сом, которое пело бы в нем безразлично к тому, что он о нем думает.
«Дон Жуан не соблазняет, он желает, и это желание имеет соблаз¬
няющее действие», — подсказывает нам Кьеркегор. И Лапорт: «Он не
есть кто-то, но безличная сила соблазнения»5. Этот Дон Жуан, кото¬
рого музыка заставила бы забыть то, о чем он говорит, не совпадает с
Дон Жуаном Батая. Конечно, желание, согласно Эротизму, искажает
идентичность, это извращенный опыт личностных барьеров, бесчело¬
вечный избыток жизненной мощи в движении безличного роста, ложь
индивидуальной разделенности и изолированного существования. Од¬
нако ничто из этого точно не проявляется в Дон Жуане, который все¬
гда сохраняет свой личный интерес: возможно, он и не думает того, о
чем поет; но от этого он не меньше понимает то, чего хочет.
И что, в конце концов, нам известно о его сексуальной жизни?
Прежде всего речь идет о сценическом персонаже, который с самого
начала взывает к вмешательству социальных требований приличий,
которые должны ограничить до минимума картину его любовных по¬
двигов. Замечено также, что как в пьесе Мольера, так и в опере Мо¬
царта ни одна из предпринятых им попыток соблазнения не обраща¬
ется к его пользе. Тем более нет никаких указаний на то, что именно
происходит, когда ему предоставляется случай достичь своих целей.
Однако соображения благопристойности, заложенные в сценическом
коде, не являются единственно важными. На самом деле кажется, что
собственная логика персонажа заранее исключает всякие намеки на
тот жанр изображения, который свойствен эротическому роману.
Что касается соблазненных женщин, легенда сохраняет только их
численность, однако она умалчивает о содержании. Этот безумный со¬
биратель не останавливается на радостях мгновения — современный,
поскольку торопливый: наслаждение кратко. Как и женщина, пишет
Батай, возможное требует идти до конца. Дон Жуан, несомненно,
не является человеком тайного наслаждения, косвенного обладания
и двусмысленности. Но дошел ли он до цели хоть однажды? Этому
5Laporte R. «Don Giovanni: un homme sans nom», in Quinze variations sur theme
autobiographique. Flammarion, 1975. P. 182.
153
поборнику естественного нужны лишь женщины, всегда и только жен¬
щины. Тем не менее, будучи здоровым атеистом, нечувствительным к
сверхъестественному и суеверному, он никогда не ищет своего насла¬
ждения в их чувствах. Впрочем, он решает, что женщина остается той
же, даже переспав с ним. Наконец, свойственно ли ему то наслажде¬
ние, которого ищет тот, кто исключает владение одним и тем же телом
более одного раза? Эта жалкая избыточность нарушила бы прежде
всего его собственную счетную систему. Но не поставила бы те же
вопросы учета и обладания двоими один-единственный раз, подобно
обладанию одной (тем более двумя) в компании одного или несколь¬
ких приятелей по разврату? Неизвестно, какой список можно было бы
составить в таком исчислении. Но он хочет их всех, только для самого
себя и одну за другой. Экономия своего желания, когда уже нельзя
быть доступным всем, не останавливается на деталях. Она считает не
органы, но индивидуумы. Доступно каждому. Нет ничего менее из¬
вращенного: число относится на счет не полиморфного желания, но
мономанной сверхнормальности.
Что же до некрофилии, само собой разумеется, она не оставля¬
ет ни малейшего подозрения в своем присутствии в арсенале его аф¬
фектов. Vivan le femine, следует учитывать, что именно живыми они
и нужны ему. Его либидо, бьющее через край, но дневное, не нахо¬
дит привлекательности в том, что ему кажется отталкивающим. Па¬
радоксальность желания, т. е. то, что женские прелести могут быть
отталкивающими, оставляет равнодушным этого партизана принци¬
па тождественности. Половые органы для него не числятся в списке
«табуированных ужасов», которые составляют «священное» ядро свя¬
зи, возникшей из «взаимного отталкивания», о чем говорил Батай в
Коллеже социологии6. Мы знаем, насколько Дон Жуан чувствителен
к odor di femina. Сказать, что «любовь имеет запах смерти», значит,
определить в сексуальности область, где «отсекут ноздри у собственно¬
го трупа», что для этого джентльмена было бы досадным нарушением
вкуса. Батай цитирует отрывок из романа Хемингуэя По ком звонит
колокол, где Пилар спрашивает у Роберта Джордана, как узнать за¬
пах смерти: представь себе смесь «сырой земли, мертвых цветов и того,
что происходит ночью»7. Обоняние Дон Жуана бесконечно нечувстви¬
тельно к составляющим этой ужасающей химии. Его либидо до конца
6 Именно Д. Олье подготовил и издал самый полный свод документов, относя¬
щихся к двухгодовой деятельности Коллежа (см. русское издание: Коллеж социо¬
логии, 1937-1939 / Сост. Д. Олье. СПб., 2004). — Прим. ред.
7Этот эпизод из романа Э. Хемингуэя По ком звонит колокол в переводе
Д. Кочубея был опубликован и представлен Батаем в: L’Espagne libre. Calmann-
Levy, 1945. Он назван «Запах смерти». См. также о конференции 22 января 1938 г.
(«Влечение и отвращение»): Le Collège de sociologie (1937-1939). Gallimard, 1979.
P. 206. (См. русское издание: Коллеж социологии, СПб., 2004. С. 86-100).
154
останется невосприимчивым к поползновениям влечения смерти. Оно
будет упорствовать в незнании, в освобождении себя от этого влече¬
ния, даже при его приближении оставаясь глухим к сиренам Танатоса.
Уж он-то никогда не смог бы вообразить в женском поле метафори¬
ческий аналог могилы, тем более могилы, ожидающей его. Конечно
же, он слишком здоров, чтобы траурная помпезность могла пресечь
его желание, но она не смогла бы и благоприятствовать ему. Если у
него желудок достаточно устойчив для того, чтобы поставить стол на
кладбище, это украшение само по себе не несет ничего такого, что спо¬
собствовало бы его аппетиту. Речь не идет и о том, чтобы приправить
желание, которое в других обстоятельствах, например во дворце упа¬
дочного пройдохи, было бы слишком тусклым. То, что Батай называет
«радостью перед лицом смерти», никак не входит в его практику. В
садологии Мориса Эйне под названием Картина ужасающей любви
собрана судебно-медицинская антология сексуальных преступлений8:
севильский распутник в ней не появляется. Любовь Гамлета и Йори¬
ка имеет иной характер: нет ничего от Дон Жуана на кладбище и
тем более в морге. Неожиданно или нет, но бодлеровское очарование
розовых и черных украшений оставляет его холодным. Конечно, мож¬
но сказать, что — ближе к смыслу этого слова — желание Дон Жуана
провоцирует Командора. Но инверсия не будет истинной: Командор не
вызывает в нем ни малейшего желания. Ужас и желание никогда не
совмещаются друг с другом. В большинстве версий легенды это неза¬
висимые друг от друга пространства, отведенные тому, что выступает
соответственно объектом желания или страха Дон Жуана. Женщи¬
ны и Командор не встречаются. Привлекательность розового ничем
не обязана отвратительности черного.
Но что же тогда остается от преступления, если в нем нет ни малей¬
шего интереса к запретному? По мысли Батая, именно здесь персонаж
Дон Жуана не является вершиной легенды. Впрочем, все коммента¬
торы сходятся в признании того, что Командор — в большей степени,
чем сам Дон Жуан, — стержневая фигура этой легенды9. Все проис¬
ходит так, как если бы Дон Жуан, обряженный этой легендой в то
величие, о котором он и понятия не имеет, до самого конца заблуж¬
дался относительно того, что делает его значительным. Данный вид
децентрализации героя по отношению к его легенде, возможно, ле¬
жит в основании того, что так затрудняет позицию Батая в те редкие
мгновения его творчества, когда он останавливается на образе велико¬
го сеньора распутника.
8Батай предполагал опубликовать ее в коллекции Ацефала. См.: О. С., 1, notes
de la p. 674.
9См. Жана Руссе: Le myth de Don Juan (Armand Colin, 1978). Автор исключает
из своего исследования Казанову и Ловеласа: «Им не хватает борьбы со смертью».
155
Это происходит в одной из глав Суверенности, посмертного сочи¬
нения, которое должно было составить второй том Проклятой доли10,
названной «Ницше и Дон Жуан». Батай начинает с противопоставле¬
ния опыта ницшеанства и донжуанства. Позиция Дон Жуана пред¬
ставлена здесь в виде распутного рационализма, освобожденного от
суеверной щепетильности, уважающего только принципы наслажде¬
ния и соответствующие реалии. Для удовольствия существуют жен¬
щины. Что же касается реальности, то ее позитивный характер осво¬
бождает его от «ужаса, что большинство имеет мертвых»: я называю
смертью смерть, и когда ему на пути встречается Командор, Дон Жу¬
ан развлекается его приглашением. Когда статуя отвечает на пригла¬
шение, первоначальное отношение меняется. Веселая непочтительная
ирония уступает место вызову: конечное наказание обрушивается на
Дон Жуана, не встречая в нем никакого признака того, что гегелья¬
нец назвал бы «узнаванием». Абсолютный повелитель, смерть может
сказать последнее слово, но оно не достигает Дон Жуана: даже ко¬
гда он доведен до бессилия, он не смиряется. В этот момент, который
находится за пределами принципов наслаждения и реальности, про¬
исходит сближение с позицией ницшеанства. «Чувство Дон Жуана, —
пишет Батай, — уверенного, что ад поглотит его, но не сдавшегося,
в моих глазах сравнимо с преодолением непрекращающегося ужаса,
что Ницше связывает с уверенностью в смерти Бога». И в первом ва¬
рианте той же страницы: «Именно в той мере, в какой позиция Дон
Жуана преодолевает черствость распутства, она приближается к по¬
зиции Ницше. Я не мог бы избежать сравнения состояния Дон Жуа¬
на, знающего, что ад поглотит его, но не согнувшегося, с тем ужасом,
который Ницше связывает с откровением о том, что Бог умер». Од¬
нако на этом сближение заканчивается. Поскольку ницшеанское без¬
рассудство, устрашенное смертью Бога, одновременно укоряет себя в
ответственности за это, Ницше признает себя виновным в отсутствии
судьи, на что его толкает безумная смелость. Ничего похожего у Дон
Жуана: он до самого конца отказывается признать приговор, сгиба¬
ющий его. «Приговор, — пишет Батай, — сгибает его снаружи. Тогда
как нравственное требование никогда не прекращает давить на Ниц¬
ше изнутри»11.
На самом деле Дон Жуану не известны ни парадоксальность, ни
пустые обещания: аморальный в большей степени, чем безнравствен¬
101-й том см. в русском издании: Батай Ж. Проклятая доля/ Пер. с франц.
Б. Скуратова. М., 2003. — Прим. ред.
11 Bataille G. «Nietzsche et Don Juan» (La souverainete, IV, II, 4), in О. С., 7, р. 433.
Батай здесь снова возвращается к статье, вышедшей ранее («Nietzsche et Thomas
Mann», Syntheses, N60, mai 1951), которую делает дополнением к этому же тому
полного собрания сочинений.
156
ный (как говорили еще недавно), он не претендует на то, чтобы быть
«внутренним врагом» законов морали. Не имея внутреннего опыта за¬
претного, он остается бесчувственным к нездоровой славе, связанной
с титулом виновного, пусть даже неисправимого. Можно было бы сде¬
лать из него образ воинствующего атеизма, однако этот атеизм есте¬
ствен и совершенно человечен, и на него не бросит тень никакой сата¬
низм, никакой люциферовский пепел. «Преступление, — сообщает нам
известная формула Эротизма, — отличается от “возвращения к при¬
роде”: преступление приоткрывает запрет, не отменяя его». Но жела¬
ние Дон Жуана взволновано не преступными обещаниями запретного
плода: поскольку это плод, он не может быть запретным. Eritis sicut
homines — максима всякого собирания урожая. И мы не увидим его
служащим черные мессы, что было бы тем, что Клоссовски, говоря
о Батае, назвал церковью смерти Бога. Несовместимая с каким-либо
религиозным опытом, его сексуальность отстраняется от логики атео-
логически, путем трансгрессии.
Часто цитируют строчки из начала раздела Внутреннего опыта,
названного Небесной синью: «Пустая болтовня — психологическая —
по поводу “донжуанства” удивляет и отталкивает меня. В моих глазах
Дон Жуан не более наивен, чем персональное воплощение праздника,
счастливой оргии, которая отрицает и чудесным образом преодолева¬
ет препятствия». Конец века обсуждает эту тему, уже не зная, был ли
Дон Жуан гомосексуалистом или импотентом, ненавидел ли он жен¬
щин или же он просто не любил их более того, чего они заслуживают.
Этим попыткам очернить персонаж Батай противопоставляет прочте¬
ние, которое ему самому представляется скорее «наивным», где Дон
Жуан предстает без комплексов и усложнений. Но подходящее ли это
слово? Можно удивляться, например, «чудесности», бесцеремонно за¬
имствованной из мистического словаря. Можно было бы спросить себя,
действительно ли в теории эротизма, развиваемой Батаем, есть место
для простого праздника, для оргии, которая была бы просто «счаст¬
ливой», без усложнений, наивной и насквозь естественной, оргии, ко¬
торая вот так запросто приходила бы к «возвращению к природе», не
загрязненной религиозными эманациями жертвоприношения. Но есть
нечто более странное. На самом деле этот призыв в пользу сексуально¬
сти в розовом цвете включает в себя краткий анализ Don Giovanni Мо¬
царта, в котором из всей карьеры распутника Батай парадоксальным
образом извлек лишь несколько эпизодов, где Дон Жуан ведет схватку
со смертью. Однако появление Командора, мгновение ужаса, не разъ¬
единенного с желанием, ужаса без влечения, с трудом демонстрирует
то, что сам Батай мог понимать под «счастливой оргией». Тем не ме¬
нее для Дон Жуана, не смешивающего регистры, в этом появлении
не было ничего общего с оргией. Заявления по поводу донжуанства
157
удивляют теми примерами, которые они подразумевают. Все происхо¬
дит так, будто, несмотря на все призывы к наивности, Дон Жуан на
самом деле не интересовал Батая и не занимал его внимания до тех
пор, пока женщины (а логика развития исключает их вмешательство)
не покидают сцену, уступая место Командору. Вполне возможно, что
Дон Жуан, который, конечно же, думает лишь о женщинах, слишком
наивен, чтобы заинтересоваться Командором. Но что касается Батая,
то именно с момента появления Командора он начинает обращать вни¬
мание на Дон Жуана. Скажем иначе: это Командор интересует Батая
в Дон Жуане. На страницах Суверенности он отмечал в том же смыс¬
ле: «Распутство Дон Жуана превосходит удовольствие от запретного
секса: это нарушение закона, обеспечивающего смерти испуганное по¬
чтение со стороны живых, что делает шарм образа “обольстителя” еще
более сильным».
Мог ли Батай выразить еще яснее то, что в его глазах именно Ко¬
мандор оказывается источником обольстительности «обольстителя»?
Что он действительно оказывается соблазненным Дон Жуаном лишь
тогда, когда тот, бросая свою навязчивую мономаническую идею odor
di femina, переходит к отсечению ноздрей у собственного трупа, таких
же «трепещущих», как и у Мишле в его киоске? Но, может быть, здесь
необходимо сделать еще один, дополнительный шаг?
Ма in Ispania...
Поскольку для того, чтобы возбудить же¬
лание, розовому цвету необходим черный, то
показался ли бы он нам достаточно черным,
если бы мы не почувствовали вначале жажду
чистоты? И если бы он против нашей воли не
омрачил нашу мечту?
Батай. Литература и зло, глава Пруст12
История глаза13, эротический роман, написанный Батаем в 1927 г.,
носит цвета Лолы Валенсийской. Уже со второй страницы они относят¬
ся к Симоне, которая отныне сделает их своими. Особенно настойчи¬
во они появляются в финальных эпизодах этого сочинения и связаны
с театром Испании, где после смерти Марселлы юные герои находят
удобный способ «избежать скуки полицейского допроса». Их ждет Сэр
Стефан по другую сторону границы, чрезвычайно богатый, готовый
оплатить продолжение их бесчинств. Сначала мы их находим в Мадри¬
де. На Плаца де Торос 7 мая 1922 г. они (одновременно с Хемингуэем)
12Цит. перевод по: Батай Ж. Литература и зло. М., 1994. С. 100. — Прим. ред.
13См. русское издание: Батай Ж. История глаза// Батай Ж. Ненависть к поэ¬
зии. М., 1999. С. 51-91. — Прим. ред.
158
станут свидетелями смерти Гранеро, матадора, который в ходе кор¬
риды был пронзен рогом быка14. Фатальный балет на двуцветную те¬
му: подкравшееся животное («черное чудовище»), опущенная голова,
складки «розовой накидки». Финальная катастрофа погружает трио
в транс солнечного затмения, и воспоминание о ней тревожит их и в
следующей главе, когда они покидают Мадрид ради южной чувствен¬
ности Севильи, родины Дон Жуана. Я хотел бы это подчеркнуть, не
уточняя, к какому сокровищу (не скажу, что неожиданному) относит¬
ся заключение в кавычки розового и черного цветов в первых строчках
XI главы Истории глаза. Они по-своему открывают самую скабрезную
сцену в этом романе (романе в большей степени розовом и черном, чем
поистине черном) и, несомненно, во всем творчестве Батая. Здесь име¬
ет значение только его собственный театр: сцена разворачивается в той
самой церкви, где, как Сэр Стефан узнает от своих юных спутников,
и похоронен настоящий Дон Жуан. На паперти есть табличка, указы¬
вающая на «могилу основателя церкви, о котором гиды говорят, что
это был Дон Жуан»15. Это упоминание, на мой взгляд, и есть первое
появление Дон Жуана в тексте Батая. Невозможно недооценить его
значение: за рамками туристического анекдота выбор Севильи и —в
самой Севилье — церкви Милосердия осуществляется, очевидно, для
того, чтобы в наиболее ясной форме расположить финальную сцену,
посвященную местному герою, согласно постановке, которая вскоре
усилит фиктивное оправдание («Севилья, 1940»), кое появится уже
в переиздании, иллюстрированном рисунками Бельмера. Удивитель¬
нее всего тот факт, что батаевский Дон Жуан мертв и давно уже
погребен.
Через каких-нибудь десять лет после Истории глаза Батай вто¬
рично возвратится к его могиле. Дело происходит уже не в церкви,
тем не менее Батай заявляет: «мы отчаянно религиозны», хотя кон¬
текст остается испанским, даже когда географические ссылки более
туманны (как бы то ни было, это не Севилья). Временем пребывания
в Тосса-де-Мар датирован текст в начале Ацефала («Священный за¬
говор»): весной 1936 г. Батай присоединился к Андре Массону, иллю¬
стратору журнала, тогда уже находившегося в печати. И глядя (меди¬
тируя) на образы антропоидного ацефала, собранные художником для
того, чтобы служить эмблемой этой затеи, он услышал по фонографу
14На страницах По ком звонит колокол в эпизоде «Запах смерти» (см. также
выше, прим. 6) Пилар рассказывает Джордану, что в этот день, 7 мая 1922 г.,
Бланке почувствовал от Гранеро запах смерти.
15См.: Weinstein L. The Metamorphosis of Don Juan. Stanford University Press,
1959. В IV главе даются все необходимые уточнения о жизни этого «истинного»
Дон Жуана. Он велел похоронить себя под папертью церкви Милосердия в своем
родном городе, где было бы написано на могильной табличке: «Здесь лежат кости
и прах худшего из живших людей».
159
Don Giovanni. Внезапно от неожиданной встречи музыки Моцарта и
образов Массона возникла новая фантасмагорическая композиция, ко¬
торую Батай воспринял без колебаний. «В это мгновение, — отмечал
он, — я увидел, как чужак, составленный из двух равно навязчивых
идей, становится “Могилой Дон Жуана”». Не сам Дон Жуан (посколь¬
ку он отказывается терять голову), но — вместо него — его могила. От¬
метим, что эта могила в манифесте Ацефала сопровождает знаменитое
состояние возвышенности, которое может напомнить, впрочем, равно
как и все остальное, то неистовство, которое охватывало персонажей
Истории глаза. Эта могила, как только она упоминается, имеет свой¬
ство рассеивать все запасы, кои Батай накапливал против персона¬
жа Бурладора. Для него, более соблазнительного мертвого, чем живо¬
го, смерть становится избавлением от черствости рационалистического
распутства. Идея Ацефала в его полноте заявлялась в виде активного
ницшеанства, и не запрещено видеть в этом преодолении Дон Жуа¬
на его собственной могилой предвосхищение того, что Суверенность
представит позже как преодоление Дон Жуана Ницше. Обозначение
некоего Ацефала как «чужака» в этом же смысле позволяет узнать в
нем образ Командора.
Любопытное столкновение, странное смешение ролей делают слож¬
ной общую идентификацию у Батая тех атрибутов, которые традици¬
онная легенда приписывает Дон Жуану и Командору. В решающие
моменты кажется, что персонажи меняются ролями. Дон Жуан появ¬
ляется тогда, когда ждут Командора. Когда Симона узнает, что насту¬
пает на могилу распутника, она сотрясается от спазмов и в приступах
неудержимого смеха оскверняет могильную плиту. Эта сцена в церкви
Милосердия является в Истории глаза строгим, но перевернутым ана¬
логом того, что, согласно канонической легенде, происходит на клад¬
бище, однако на сей раз в могиле не Командор: на месте мертвеца —
Дон Жуан.
Эта аналогия между двумя образами, сходная с вертушкой, за¬
меняющей одно другим, не проходит без последствий. Пара из Дон
Жуана и Командора довольно грубо соответствует, как мы уже ви¬
дели, соотношению «запрет-трансгрессия», занимающему централь¬
ное место в мысли Батая. Дон Жуан для него — воплощение празд¬
ника, бездумной траты. Командор, напротив, заставляет уважать за¬
преты, наказывает преступающих их и напоминает о данном слове:
он представляет собой мир серьезного, работу, избавление, спасение.
Следует задать себе вопрос о целях перемещения, которое отводит
Дон Жуану могилу Командора и которое размещает преступление
там, где должен находиться императив: Дон Жуан у Батая занимает
то положение, которое в нормальном порядке отводится Командору
для Дон Жуана. Что же произошло с Командором, когда его место
160
занял Дон Жуан? И какой ценой последний позволил согнуть себя
инстинкту смерти? Согласился ли он стать объектом некрофильного
интереса?
Дон Жуан Батая на самом деле колеблется между двумя положе¬
ниями, в которых легенда показывает его в самом неприемлемом виде:
если он не мертв, он некрофил. Поскольку он не только тот, чья мо¬
гила заставляет персонажей Истории глаза осуществлять свои фан¬
тазии, вся совокупность текстов, связанных с Небесной синью, делает
его субъектом некрофилии наперекор легенде. Эти тексты восходят
к 1934-1935 гг. и включают в себя помимо романа серию афоризмов
под тем же названием16. Представляя последние во Внутреннем опы¬
те, Батай должен был предложить, по его словам, «наивное» видение
Дон Жуана, воплощения «праздника» и «счастливой оргии». И мы
по праву могли бы сказать, что Небесная синь — это «Дон Жуан Ба¬
тая»17. Однако не менее сложным остается увидеть в главном герое,
мрачном Троппманне, что бы то ни было праздничное или счастли¬
вое. Среди всех героев Батая его преследует самая непростительная и
меланхоличная некрофилия. Говоря об Олимпии Мане (эта картина
в большей степени, чем Лола Валенсийская того же художника, наво¬
дит на мысль о розовых и черных украшениях Бодлера, в этой кар¬
тине бледность имеет моргоподобный аромат, шокировавший ее пер¬
вых зрителей), Батай вспомнит о художнике, рисовавшем обнаженное
женское тело как мертвую природу. Ничто лучше не соответствует
наклонностям Троппманна, чем те моменты, когда он дважды прояв¬
ляет по отношению к мертвым вкус, доводящий его любовниц до раз¬
дражающей услужливости. Но это уже в финальной сцене, когда его
некрофилия достигает своего апогея: Троппманн избавляется наконец
от своей импотенции и занимается любовью с Дирти в грязи на Трев-
ском кладбище, среди влажных могил. Значительна сама дата этого
события: сцена происходит в день мертвых, 1 ноября 1934 г.18 Мета¬
форический склеп обнажается, насколько это возможно. «Земля под
этим животом была открыта, как могила, — отмечает Троппманн,—
ее голый живот открыт мне, как свежая могила». Вспомним Могилу:
«Я падаю в необъятность / которая падает в себя». Могила в могиле,
погруженность в пропасть этого падения без остановки запрещает ему
именной отдых.
16Bataille G. «Le bleu du ciel», paru dans Minotaure (N8, juin 1936). Напечатано
вместе с поэмой Андре Массона с общими иллюстрациями. Датированная августом
1934 г., Небесная синь еще раз выходила во Внутреннем опыте (О. С., 5, р. 92).
17МеМтапп J. Ruse de Rivoli: Politics and Deconstruction. M. L. N., october 1976,
p. 1965.
18Jleo Уайнстайн отмечает (op. cit., ch. 11), что спектакль Don Juan Tenorio De
Zorilla на следующий день, 2 ноября, — это испанская традиция.
161
История тканей
Я был уверен, что обнаружу Иммануила
Канта, ждущего меня за дверью. Я открыл
дверь, и, к моему удивлению, передо мной бы¬
ла пустота.
Батай. Аббат С.19
В Небесной сини Троппманн никогда ясно не был обозначен в об¬
разе Дон Жуана. Вернее (поскольку повествование идет от первого
лица), никогда он не определял себя самого, не отождествлял себя с
Дон Жуаном намеренно. Но не навязывает ли он себе это отождеств¬
ление в противостоянии различным обстоятельствам, когда Командор
называется или является объектом внимания? В большинстве случа¬
ев Троппманн имеет возможность пригласить его или действительно
приглашает.
Впервые он делает это в очень краткой «первой части» романа.
Один из афоризмов, из которых она состоит, загадочным образом от¬
носится к событию, о котором мы знаем, что оно имело место («реаль¬
но»: в жизни самого Батая, а не только в жизни его героев); дело было
в ночь с 24 на 25 июля 1934 г. в итальянском городе Тренте20. Несмот¬
ря на недосказанность, два элемента следуют из этой сцены: первый
вводит в картину гомосексуальную ноту (Батай говорит о «двух ста¬
рых педерастах, которые кружились в танце»); что касается второго,
он состоит исключительно в упоминании Командора, о котором мы
узнаем, что он вторгается посреди ночи в гостиничный номер, куда
его пригласил рассказчик, чтобы принять участие в мрачной оргии
(«слюна страшнее крови»).
По ходу разговора между Троппманном и Лазар проскальзывает и
второе упоминание о «каменном пире». В тяге к откровенности, стран¬
ность которой он заметил первым, Троппманн раскрывает сложности
своей эмоциональной и сексуальной жизни перед «грязной мадонной»
ультраправых. Он, в частности, рассказывает о своих недавних вен¬
ских огорчениях: тяга к некрофилии, импотенция, отъезд Дирти, ко¬
торая бросает его одного в австрийской столице. Со смертью в душе он
решается вернуться в отель. Близится гроза. Чтобы проветрить ком¬
нату, он открывает окно, когда, наполовину отвязавшись от древка,
начинает падать черный флаг на улице. «Вам известна история ска¬
терти, которой был накрыт обеденный стол, когда пришел Дон Жу¬
19Цит. перевод по: Батай Ж. Аббат С. // Батай Ж. Ненависть к поэзии. С. 393. —
Прим. ред.
20См. ежедневник Батая за июнь-ноябрь 1934 г., опубликованный в томе Лаура
(Ecrits, fragments, letters, U. G. E. 10/18, 1978, p. 368-375). 24 июля: «приезд в М. С.,
встреча с JI. в 8 ч., отъезд в 30, приб. в Трент к 11 ч., прогулка вдоль Адижа,
возвращение в от.» (М. С. = Muzzo Corona, Jl. = Лаура, 30 —Трент).
162
ан?» —спрашивает Троппманн. Лазар: «Какое это имеет отношение к
вашей истории? Никакого, кроме того, что скатерть была черной».
Далее, Париж становится местом аналогичного эпизода. Троп¬
пманн болен. Он не выходит из дома. Ксения приходит за ним уха¬
живать, и он пользуется этим, чтобы завлечь ее в свои некрофили-
ческие сценарии. От вида большого открытого окна его охватывает
ужас, внезапное чувство головокружения. «Вдруг неровная тень упа¬
ла с залитого солнцем неба. Она с грохотом заметалась в рамке окна...
В исступлении я закричал: вошел тот, кого я называю “Командором”.
Он приходит всякий раз, когда я его приглашаю».
На самом деле это лихорадка вызвала галлюцинации у Троппман-
на. Всего лишь ковер, упавший с верхнего этажа. Никогда Небесная
синь, хоть и часто упоминая его, не позволяет Командору являться
лично, вживую, без кавычек. Он только цитируется. Но и в другом
виде он не предстает перед нами: Командор все время ускользает в
этом призыве, на который, однако, он никогда не медлит ответить. Кто
же такой Командор? Из глубины своей безличностной полиморфии он
довольствуется выпуском в обращение набора заместителей, которые
избавляют его от идентификации личности и выхода из склепа. Нуж¬
но для начала отказаться от света. «Язык цветов» вызывает «фанта¬
стическое и невозможное видение корней». Видение Командора такое
же. В этом смысле его положение точно совпадает с положением «ар¬
хонтов», которые, согласно гностикам, «дают откровение» отсутствия
света21. Следовало бы задаться вопросом, какова природа повеления,
которое значится в его имени: чем командует Командор? Отныне и
навсегда мы сможем распознать его главное действие: он заслоняет
солнце, оскверняет его свет, «бросает тень» на его чистоту и прозрач¬
ность. («Как ручеек чернил, который растекается в облаках»; «облако
копоти, затемняющее небо»; «огромные черные насекомые возникают
в синем небе, подобно жужжащему смерчу»; «похоронный мрамор был
живым, местами он был волосатым».) Некоторая гетерогенная непри¬
стойность свойственна Командору: непроницаемый стержень черной
дыры, слепое пятно. У его очага сгорает, затемняется (раскаляется до
черноты) солнечная эклиптика. Обугленная матрица гелиотропин, она
надкусывает то, что Деррида назвал белой мифологией.
Итак, это был только ковер. Его щелканье, как щелканье хлыста,
напоминает о венском флаге, тоже черном. Но этот ковер и этот флаг,
напоминающий Троппманну черную скатерть, покрывающую стол, за
которым Дон Жуан ждет Командора, напомнят читателю Истории
глаза историю предыдущего полотна, которая служит задним пла¬
21 Bataille G. «Le bas matérialisme et la gnose», Documents, 1930, N1 (O.C., 1,
p. 223).
163
ном в начале романа, в главе Пятно солнца. Оно вводит аналогичное
«появление», настолько похожее, что оно может быть точным фото¬
графическим негативом. В Небесной сини это полоска черной ткани,
которая, как спазм или икота света, бороздит солнце: полное затме¬
ние. В Истории глаза это инверсия: day for night22, сияние белого и
влажного полотна разрывает черную ночь в раскатах грозы. Сколько
еще нужно продолжать отличать окно от могилы, когда ни то ни дру¬
гое не закрывается? Совпадения, опубликованные в Истории глаза,
соотносят ткань с воспоминанием, которое ставит под вопрос неопро¬
вержимый образ «приходящего», т. е. Командора: Батай сближает его
со своим страхом, испытанным десятью годами ранее, когда во время
ночной прогулки его старший брат, изображая призрак, выскочил из
развалин замка в белой простыне. Однако между этой белой просты¬
ней на черном фоне и черными полотнами на белом фоне, хлопающими
в Небесной сини, есть существенное различие. Впрочем, оно имеет от¬
ношение к сочетанию двух романов. И оно также имеет политический
характер.
Флаг, который в Вене ужасает Троппманна, в действительности
не имеет ничего общего с проказами отдыхающих в Совпадениях. Из¬
вестно, что он был натянут «в честь смерти Дольфуса». Австрийский
канцлер был убит 25 июля 1934 г., на день раньше приезда Троппман¬
на в австрийскую столицу, пав жертвой нацистского путча, провал
которого установил краткую относительную передышку, хотя эти со¬
бытия не переставали быть плохим предзнаменованием будущего. Это
вторжение современной политики в течение романа, подтекст этой
драматической соотнесенности не являются отдельным фактом. За
исключением лондонских сцен во ведении каждый эпизод Небесной
сини играет на этой струне по-своему. В Париже, например, Троп-
пманн посещает ультраправых. Испанская часть романа, со своей сто¬
роны, разворачивается в момент каталонского восстания в октябре
1934 г.: революция, а не спектакль сражения с быком высвобожда¬
ет эмоции (ничто в свободном эротизме Истории глаза не позволяет
думать, что Испания 1922 г. могла остаться монархией). Что касается
последней части Небесной сини («День мертвых»), Германия агрес¬
сивно выставляет напоказ то, что она является нацистской уже бо¬
лее двух лет. То, что происходит с различными персонажами романа,
и в частности с Троппманном, ничуть не странно в том контексте,
который следует не только из обстановки. Ангажированный роман?
Это слово подразумевает оптимизм, неуместный на столь мрачном
горизонте. Не бывает безысходного политического заказа. Но роман
политичен.
22Hollier D. «La nuit americaine», Poetique, N22, 1975.
164
Нет ничего более странного в стиле Батая, чем прямая политизация
сексуального. Сосуществование политических и эротических мотивов
в Небесной сини еще более примечательно. Не растворяясь один в дру¬
гом, они переплетаются, повторяются, становясь двойниками, эхом и
сопровождением. По ком звонит колокол? В 1934 г. имеет место погре¬
бение в воздухе. И Дольфус не единственный. На следующий день по¬
сле «ночи длинных ножей» мы уже не спрашиваем, о ком эта история:
образ неумолимого Командора готовится к своему празднику. Однако,
если «плохие предзнаменования», проходящие через Небесную синь,
имеют политический характер, это не должно заставить нас забыть
о латинском слове, которым переводят данное выражение: оЬзсоепа.
Неприличное заявляет о худшем. На последней странице романа ду¬
ховой оркестр гитлеровской молодежи представляет собой зрелищем,
которое Батай назовет «неприличным». Можно ли сказать об этом эпи¬
тете, что он просто политический? Он и не просто сексуальный. Вза¬
имная несовместимость Троппманна и Лазар иллюстрирует тот факт,
что сексуальное и политическое слишком аллергенны друг для друга,
чтобы взаимодействовать или соединяться. Тем не менее это проис¬
ходит в глубине самого тесного сосуществования, на основании почти
неотвратимой близости: странным образом современники — странные
и современные. Их участь одновременно необходима и неразрешима.
Та же неразрывность прослеживается и между двумя решающими по¬
явлениями Командора, причем в те же 24 часа, с 24 на 25 июля, когда
происходят ночной эпизод в Тренте и убийство Дольфуса. Иначе гово¬
ря, точно в тот самый момент, когда Командор в своей «сексуальной»
версии врывается в номер отеля, с другой стороны австро-итальянской
границы убийство одного из последних представителей демократии в
Центральной Европе делает имманентным появление того, что можно
было бы назвать «политической» версией23. Именно тогда содрогается
Лепорелло.
Следует таким же образом связать между собой и две версии им¬
потенции в Небесной сини: сексуальная импотенция Троппманна и по¬
литическая импотенция, когда серия дурных предзнаменований пока¬
зывает бессилие рабочего движения. Равным образом перед нами и
две версии некрофилии: версия Троппманна, имеющая сексуальную
природу, и эхом повторяемая политическая версия, предлагаемая Ла¬
зар. Эта «птица несчастья», как ее называют, приводит лишь к пора-’
23В ежедневнике Батая, опубликованном в Записках (том Лаура) (см. ниже,
прим. 15), ничего не говорится о переезде в Вену. Но 31 июля он отмечает «чер¬
ные флаги» на Инсбрукском вокзале. Отделенный шестью днями, очерк Небесной
сини создает из романного эквивалента этих инсбрукских флагов (венский флаг)
и появления Командора посреди трентской ночи два аналогичных события, почти
одновременных.
165
жению безнадежного социализма. Известно, что Симона Вайль, став¬
шая прототипом персонажа, в то же время, что и Батай, была членом
демократическо-коммунистического кружка. Именно ее позицию Ба¬
тай сформулировал в краткой заметке, относящейся к этому времени:
«Создается впечатление, что С. В. сыграет роль изображения тупиков
социализма и будет обречена на смерть в уличных сражениях или в
тюремном заключении»24. Лазар тоже предпочитает уличные тупики.
Троппманн приходит к подозрению, что она заключила контракт со
смертью. Во всех политических предприятиях, в которых она участ¬
вует, она исключает всякие соображения пользы или прибыли. «Если
рабочий класс такой пропащий, почему же вы социалистка?» — удив¬
ляется он. Но некрофилия Лазар не позволяет ему почувствовать себя
в социализме на ее месте, поскольку сам он находит его загнанным в
безвыходную ситуацию. Если она примыкает к рабочему движению, то
лишь потому, что видит себя осужденной на неизбежную и бесполез¬
ную смерть, потому что оно уже одной ногой находится в могиле. Оно
уже на грани «ухождения с головой». Только упрямство in extremis,
по мнению Батая, позволяет революционному сознанию подняться до
уровня политического донжуанства.
Все политические тексты, написанные Батаем в это время (кото¬
рое было самым политизированным временем его жизни), рассмат¬
ривают в качестве реальности будущую победу фашизма, в котором
он стремился распознать образ Командора25. Для него речь не шла
о том, чтобы найти решение, которое позволило бы избежать этой
фатальности или отложить расплату. Единственное, что его интере¬
совало,—это определить позицию, которая перед лицом неизбежных
событий была бы истинно революционной. Здесь Дон Жуан расхо¬
дится с Лепорелло. В 1934 г. Батай собирается написать книгу Фа¬
шизм во Франции. Захват площади Согласия б февраля потряс его
как худшее предзнаменование, и в подробном очерке, над которым
он работал следующие несколько дней (В ожидании общей забастов¬
ки), Батай настаивает на тесной связи парижских событий с установ¬
лением нацистской власти в Германии, а также с угрозой граждан¬
ской войны в Испании и Австрии: международное положение оказы¬
вается «безвыходной ситуацией»: «Со всех сторон в мире, где быстро
становится нечем дышать, сжимается кольцо фашистского окруже¬
ния»26. Однако в этом «отсутствии выхода», по его мнению, заклю¬
чается и единственный шанс, предоставленный революционному со¬
знанию, подняться до донжуановского измерения, т. е. возможность
24Bataille G. О. C., 2, p. 435 (см. также прим.: р. 173).
25Это отождествление предлагают Дж. Мельманн (op. cit., р. 1065) и Энн Смок
(«Politics and Eroticism in Le bleu du ciel», Semiotext(e), N5, 1976).
26Bataille G. «En attendant la greve generale», О. C., 2, p. 262.
166
для безнадежного марксизма, внезапно ставшего трагическим, до¬
стичь того, что Батай вскоре назовет радостью перед лицом смер¬
ти. “Проблема государства”, вышедшая в 1933 г., описывает рабо¬
чее движение в «трех рабских обществах» (Германия, Италия и Рос¬
сия), подчиненное «самым безусловным повелителям из всех, кото¬
рые его когда-либо покоряли». Такая дезориентация ни к чему, кро¬
ме ужаса, не приводит, но отныне ужас становится революционным
аффектом по преимуществу, неуправляемой вершиной бунта, беско¬
нечно более революционного, чем любая стратегия и планирующий
оптимизм. Революционер — это тот, кто не отступает перед неизвест¬
ным, затрагивающим будущее. На краю могилы, перед лицом абсолют¬
ного повелителя, он отпускает Лепорелло. Как и всякая волнующая
страсть, революционное сознание свободно и возвышенно «в созна¬
нии возможной смерти»27. И Дон Жуан не отступает с приближением
смерти.
Действительно, Дон Жуан Батая испытывает к Командору не про¬
сто чувство враждебности. Все виды хорошего расположения по отно¬
шению к смерти включаются в некрофилию. Если он его приглашает
(как делает это Троппманн в Тренте), то это жест вызова, напоминаю¬
щий потлач и все, что связано с половой идентификацией в агрессивно¬
сти. Это связано еще и с тем танатофильным закручиванием, которому
Батай подвергает персонаж Дон Жуана, сопровождающим решитель¬
ные изменения в образе Командора. Традиционная легенда обязывает
его объявить, что праздник закончен: пришло время выставить счет и
спасти то, что может существовать, но не хочет. Он заставляет греш¬
ника воспринять всерьез свои ошибки и раскаяться. Ничего подобного
мы не обнаруживаем в Командоре Батая, который —для начала — сам
связан с праздником. Конечно, вполне возможно предположить, что
и без него оргии Дон Жуана были бы счастливыми. Совсем не обяза¬
тельно говорить и то, что без него они не состоялись бы, если бы он
не внес свою трагическую ноту: он — воплощение несчастья, но оргиа¬
стического. Отнюдь не будучи поборником моральной справедливости
или исполнителем закона, не вмешиваясь, чтобы заставить оплатить
долг, он побуждает к трате, добавляет разврата и — как провокатор —
толкает Дон Жуана к преступлению, приобщает его к волнующему на¬
слаждению любовными злодеяниями. Мы не видим, как он берет себе
десятину от наслаждения. Наоборот, с его приближением возникает
чрезвычайное положение, когда преступление обретает силу закона,
когда трата становится главным императивом: он устанавливает тер¬
роризм наслаждения.
27Bataille G. «Le problème de l’État», La critique sociale, N 9, septembre 1933 (О. C.,
1, p. 334).
167
В этом порядке есть нечто похожее на то, что произошло ночью в
Тренте, и мы можем расшифровать тайную ссылочность сведений, ко¬
торыми располагаем. Если «привидение» или «труп» самодовольного
старика появляется среди ночи в номере отеля, то не для того, чтобы
положить конец оргии, а чтобы принять в ней участие, составить ее
часть, чтобы она провалилась в беспредельность бездонной могилы28.
Может быть, чужак, однако не такой уж нежеланный, Командор появ¬
ляется у Батая в этой области двусмысленного интереса, где влечение
не отличается от отвращения, а ужасное желаемо, и иногда желаемо
как раз потому, что ужасно.
Нигде эта позиция не показана лучше, чем в Истории крыс, в очер¬
ке, где главный рассказчик (Дианус) намеренно сравнивает себя с Дон
Жуаном и несколько раз упоминает Командора, который оказывается
отцом не той женщины (как в легенде), на которой он женат, но той,
которую он желает. Фрейд связывал запрет инцеста и источник экзо¬
гамии с чувственной жадностью отца, который не соглашается делить
принадлежащих ему женщин. Тогда как Командор легенды вмешива¬
ется, чтобы заставить уважать закон (экзогамный) брака, Командор
Истории крыс — похожий на отца [во фрейдовском] Тотеме и табу —
готов на все, чтобы помешать другому мужчине завладеть его доче¬
рью. Старческая и дикая версия полиморфной извращенности объ¬
единяет в себе все возможные грехи, поскольку помимо инцестуозных
отношений с дочерью рассказчик приписывает Командору «противо¬
естественную дружбу» с егерем Эдроном. Но это не препятствует тому,
кому он запретил (под страхом смерти) приближаться к своей доче¬
ри, проявлять по отношению к нему чувства, конечно же, не лишенные
тревожных и даже устрашающих модуляций, которые в конечном сче¬
те весьма далеки от просто отрицательных. Именно поэтому Дианус
может записать в своем дневнике: «Меня никогда не покинет надежда
пожать руку каменному Командору»29.
В отличие от Истории глаза История крыс не достигает апогея в
оргии, спровоцированной могилой Дон Жуана. Отец умирает, и уже
Командор занимает положение мертвеца, когда Дианус соединяется с
его дочерью. Здесь Дон Жуан перестает быть объектом некрофиль-
ного интереса. Он сам становится некрофилом. Командор вторгается
в его желание пожать каменную руку. Так сценарий батаевского Дон
28 Ассоциацией названия Трент с мрачной похотливостью Батай пользуется два¬
жды: первый раз — когда он подписывает Младшего псевдонимом Людовик XXX
(О. С., 3, р. 33); второй раз —когда он думает назвать «Могилой Людовика XXX»
сборник непристойных стихов (О. С., 4, р. 151). Опубликованный в 1943 г., Млад¬
ший датирован 1934 г., т. е. одновременно с трентскими событиями.
29Bataille G. L’impossible (О. С., 3, р. 166). (См. также русское издание: Батай Ж.
Невозможно // Ж. Батай. Ненависть к поэзии. С. 223-305. — Прим. ред.)
168
Жуана может привести к двум кардинальным изменениям: сексуали-
зации Командора и некрофилии Дон Жуана. Командор в качестве
мертвеца желанием Дон Жуана перемещается в положение первого
соблазнителя. И уже недостаточно сказать, что Командор дает свое
соблазнение «соблазнителю». Теперь он появляется как тот, кто все¬
гда соблазнял его, как первый, кто зажег желание: Командор —это
Дон Жуан Дон Жуана, изначальный соблазнитель, предрасположив¬
ший его либидо к некрофилии.
Почти полное совпадение событий трентской ночи и убийства
Дольфуса позволяет отождествить политическую версию батаевско-
го Командора с государственными структурами фашистского типа,
которые занимали свои места в растущем числе европейских народов
и угрожали Франции как снаружи, так и изнутри. Как быть теперь
с тем влечением, которое Дон Жуан Батая столь часто проявляет в
его [Командора] отношении? Следует ли включить в этот интерес к
Командору и симпатию к фашизму?
Когда Батай разоблачает несовершенство Дон Жуана из легенды,
он прежде всего сожалеет о том, что тот до конца остается враждеб¬
ным, чуждым закону, в результате чего он и оказывается раздавлен¬
ным им «снаружи». Именно потому, что он не способен признать Ко¬
мандора, для него остается непостижимой высота происходящих со¬
бытий, и его опыт не может преодолеть тот минорный характер, от
которого ускользает лишь опыт Ницше. Итак, если бы нужно было
отождествить Командора с фашизмом, пришлось бы то же самое про¬
извести и с Батаем. Ибо даже если бы мы смогли заподозрить его
«антифашизм» 1933-1934 гг. (того времени, когда он участвовал в со¬
здании Социальной критики и писал Небесную синь) в подготовке
«сверхфашизма», в чем его обвинят в период Контратаки и Колле¬
жа социологии, тем не менее остается очевидным, что победа фашизма
как такового, сколь бы неизбежной она ни виделась, совсем не соответ¬
ствовала желаниям Батая и его не в чем упрекнуть. Командор-фашист
никогда не был бы желанным Командором30.
30Эта тема оставляет простор для исследований. Прежде всего необходимо упо¬
рядочить биографические данные, которыми мы располагаем все еще лишь фраг¬
ментарно. Отмечу только, что Д. Рабурдэн в своем введении к изданию Жана
Бернье Любовь к Лауре (Flammarion, 1978, р. 48) упоминает о проекте журнала,
директором которого должен был быть Дриё ла Рошель, Шарль Пеньо —адми¬
нистратором, Колетт Пеньо — генеральным секретарем, а в редакционный совет
планировались Бернье, Батай, Мальро. Этот проект датируется началом 30-х го¬
дов. Вероятно, Батай еще не был любовником той, которая еще не называлась
Лаурой. В Ацефале («Nietzsche et les fascistes», N 2, janvier 1937; О. С., 1, p. 451) Ба¬
тай процитирует «Ницше против Маркса» Дриё, в котором последний защищает
московское ницшеанство (текст помечен июнем 1933 г., но после февраля 1934 г.
был снова напечатан в Фашистском социализме).
169
Могила Карла Маркса
Однажды этот живой мир будет плодить¬
ся в моем мертвом горле.
Батай. История эротизма, часть 3, III, 2
Командор Батая? Теперь следует изучить это выражение. Спро¬
сить себя о его назначении. Не слишком ли правилен Командор Батая
для того, чтобы оставаться истинным Командором для Батая? И в
какой мере он может уничтожить его, если одновременно Батай сам
к нему возвращается? Впрочем, можно ли говорить о Командоре, ко¬
торый был бы действительно желанным? «Несмотря на нас самих»,
говорит Батай, черное должно запятнать нашу мечту о чистоте. Ка¬
кова эта чернота, которую мы не желаем, но без которой не было бы
и самого желания? Ни то и ни другое, но есть предел: к кому воз¬
вращаются возвращающиеся? Желаем ли мы этого «несмотря на нас
самих»? Желанием слабым, но более сильным, чем мы? Желанием,
в котором нет никакого влечения? Никакое притворство не привно¬
сится в эту двойственность, никакая двойная игра. Батай, требуя от
черного, чтобы оно, «против нашей воли», предавало наше желание
чистоты, упрекает при этом Дон Жуана в том, что он «снаружи»
был раздавлен Командором. Именно в этих пределах разворачивается
спор между войной и революцией, который противопоставляет Троп-
пманна и Лазар друг другу (что есть гражданская война?). Батай на¬
зовет «внутренним опытом» опыт, разрушающий ценность глубины,
интимности, присутствия в себе. Встреча Дон Жуана и Командора
так же представляет пространство, в котором оппозиция внутреннего
и внешнего, «извне» и «изнутри» теряет свою значимость, как если
бы по мере внедрения Командора в желание Дон Жуана он должен
был стать чуждым собственному желанию. Недостаточно сказать, что
Батай остался посторонним фашизму, чтобы исключить всякую связь
фашизма с возможными желанными Командорами.
Мы не должны ошибиться: мое намерение не включает в себя до¬
казательство любой ценой того, что Командор Батая не мог быть во¬
площением образа фашизма. В мои задачи не входит «отмывание»
Батая от подозрения во флирте или кокетстве с этим образом перед
требовательным взором политической организации. Скорее, я хотел
бы показать, что подобный флирт для него во всем соответствовал
схеме, которая для того, чтобы быть включенной в соотношение с фа¬
шизмом, не в меньшей степени должна была содержать и сердцевину
социалистической или марксистской диалектики. Он отводит буржуа¬
зии в капиталистических производственных отношениях роль ученика
чародея. Дон Жуан не предполагает, на что напрашивается, пригла¬
170
шая Командора: он будет повержен feed-back'ом собственной дерзости.
Это «свержение» того же плана, которое приготовила себе буржуазия,
универсализируя систему наемного труда: она бессознательно прово¬
цирует пролетарского Командора, который — извне или изнутри? — не
замедлит уничтожить ее. «Буржуазия, — пишет Маркс в Манифесте
Коммунистической партии, — напоминает заклинателя, который уже
не способен изгнать вызванные им злые силы». Он продолжает: «Бур¬
жуазия не только ковала оружие, которым она будет уничтожена; она
еще и производила людей, которые будут держать в руках это ору¬
жие, — современных трудящихся, пролетариев». И, поскольку этот тон
имеет некрофильный характер, напомним расхожую версию той же
теоремы: капитализм порождает собственных могильщиков31.
Батай упрекает Дон Жуана легенды в том, что тот не хочет при¬
знать, что Командор прав. Упрек, лишний для Троппманна. Но оче¬
видно, что он кается не перед лицом фашизма. Он выбрал своими
судьями рабочих, борцов, которые представляют революционное дви¬
жение. В ходе барселонского вооруженного восстания, например, он
признает, что «в отношении рабочих у него совесть нечиста», сожале¬
ет о том, что находится «по другую сторону баррикад». С рабочими,
но from without: друг извне. Так же по отношению к Лазар, ультрапра¬
вой активистке, он позволяет себе стыдиться своих загорелых, слиш¬
ком ухоженных рук и светлой, слишком хорошей одежды. И стыдно и
страшно: они слишком чисты, чтобы быть на месте повстанцев, чисты
чужеродной, неуместной чистотой. Сообразно этой логике он четко
связывает персонаж Лазар с черной скатертью, положенной для ка¬
менного пира. Донжуанизм Троппманна не обращен к фашизму; но
донжуанизм некрофильной и мазохистской буржуазии уже подписал¬
ся от имени истины и справедливости под делом своих пролетарских
могильщиков. Следует ли напоминать по этому поводу, что единствен¬
ный пролетарий книги, лифтер из Савойи, свидетель тошнотворных
крайностей Дирти и Троппманна, по ходу первой сцены романа да¬
ет себе точное определение выражением «могильщик», как если бы
это подразумевалось само собой? Сцена имеет место в Лондоне, на
почтительном расстоянии от могилы Маркса, упоминаемой позже, со¬
всем в другой части повествования, когда та же пара, Дирти и Троп-
пманн, возвращается в город, на свой манер отметив праздник мерт¬
вых на Тревском кладбище. «Я думаю, — сказал тогда Троппманн, —
31 Пролетариат по отношению к фашизму извлекает выгоду из эндогенности по¬
следнего. Но это хрупкая выгода, если действие Командора включает в себя ге¬
терогенное начало. Откуда приходит смерть? Фрейд задается вопросом посреди
По ту сторону принципа удовольствия, когда ссылается на простейших, которые
умирают, но в собственных останках продолжают жить в составе других. Paves:
«Verra la morte / Ed avra tuoi occhi».
171
о маленьком Карле Марксе и о бороде, которая была у него позже, в
зрелом возрасте: сегодня он был под землей, около Лондона». Нужно
представлять себе Командора бородатым или по крайней мере зарос¬
шим волосами. Этого требует и отрывок из Небесной сини: в Лондоне
ли, где Маркс умер, в тревских ли могилах, там ли, где он родился,
но именно из его могилы выходит Командор. Впрочем, несколькими
годами ранее «Старый крот» и приставка «сверх» [в словах «сверх¬
человек» и «сюрреалист»] (статья, взявшая эпиграфом марксистскую
поговорку того же плана: «в истории, как в природе, разложение — это
лаборатория жизни») уже укоренила «отправную точку Маркса» в со¬
кровенных уголках похожего склепа: «в чреве земли». Значит, следует
представлять себе Командора, покрытого грязью. Скажем: Дирти32.
После 30-х годов, когда фашистская угроза будет казаться далекой,
общий проект, которому соответствует посмертное досье Суверенно¬
сти, подтвердит марксистскую версию Командора. Помнится, именно
в этой книге Батай набрасывал параллель между Дон Жуаном и Ко¬
мандором, на чем я уже останавливался. Но каким бы был Командор
Ницше, тот Командор, который давит изнутри? Казалось бы, если
следовать общему движению этого незаконченного произведения, его
необходимо отождествить со Сталиным (который, когда Батай писал,
уже умер), с коммунизмом или «советским человеком».
«Командор, — пишет Батай, — побеждает только тогда, когда его
убийца признает его владеющим истиной». Нужно было, чтобы Ко¬
мандор был убит Дон Жуаном, дабы он смог отплатить ему той же
монетой. Именно так происходит с пролетариатом: марксизм Батая
становится вариантом того, что он называет любовью к смертному
существу. Если Троппманн соглашался, что решения постреволюци-
онных проблем, преследовавших его, могут быть разными, не так уж
невероятно то, что революция могла бы сама себе приготовить менее
мрачное будущее. Но ответственность Троппманна и подобных ему в
смерти пролетариата не решает всего. Следует понять, что пролета¬
риат прав в своем бытии смертного, что он умирает, будучи правым:
его смерть —это не результат ошибок Троппманна, но соответствие
собственной истине. «Поддерживать дело смерти, — говорит Гегель,—
этого ли требует самая великая сила?» Батай перефразирует: жизнь
духа —это ли то, что робеет перед Гегелем? На самом деле восхожде¬
ние пролетариата есть исполнение того, что было объявлено мертвым
путем Гегеля. В ортодоксальной дисциплине Кожева Батай воспринял
буквально понятие конца истории: если классовая борьба — составная
часть человечности человека, то человек умирает, как только переста¬
32Bataille G. «La Vieille taupe et le préfixe sur dans les mots surhomme et
surréaliste», O.C., 2, p. 97.
172
ет противопоставлять себя себе самому, как только он начинает беречь
себя в споре и в спорном. Рождение советского человека — это другое
название смерти человека. В главе, название которой открывает дверь
странным казуистическим тонкостям («Суверенность советского чело¬
века, связанная с собственным отказом от суверенности»), Батай до¬
ходит до отождествления этой участи с судьбой «короля, который по
собственной воле дает себя вести на казнь тем, для кого он был коро¬
лем». Eritis sicut Dianus33. Смерть пролетариата — не просто результат
рассеянности Троппманна, она приходит, отвечая на призыв самого
пролетариата. Для Батая, который всегда отдавал должное комму¬
нистам, хотя никогда к ним не принадлежал, появление советского
человека (homo sovieticus) представляет собой безличный триумф эн-
тропического рационализма, который подчиняет себе то, что лежит
в основании равенства, не имеющего силы для малейшего различия,
кроме разрушения. Смерть не как расточительность мусорной ямы,
но как гомеостатическое разрушение связей: как если бы сама смерть
перестала быть живой, как если бы смерть умерла и жизнь потеряла
бы всякую ценность как для того, чтобы жить дальше, так и для того,
чтобы умереть.
«Позиция коммунистов, — пишет Батай,— это высшее положение,
противостоять которому антикоммунисты могут лишь бессодержа¬
тельно». Итак, в отличие от Дон Жуана легенды Батай признает
правоту своего Командора. Но он не ожидает никакого признания в
ответ (иначе речь шла бы уже не о Командоре?). И подразумевает¬
ся не противопоставление себя марксизму, но преодоление его. Выс¬
шей правде марксизма антикоммунизм может противопоставить лишь
второстепенную рациональность. Но речь идет не об оправдании пе¬
ред ним и не о доказательстве своей правоты, но о достижении бла¬
годаря ему высшей виновности. Коммунизм необходим донжуанству
Батая, поскольку только он способен возвысить ошибку, он — условие
возможности того, что Бланшо назовет позже и в другом контексте
«высшим» неприличием.
В этом споре с пролетарским Командором на карту были поставле¬
ны отношения литературы и коммунизма. Последняя часть Суверен¬
ности имеет название «Коммунистический мир и литература». Имен¬
но в отношении литературы, а особенно в отношении Ницше, ставится
вопрос («Ницше в свете марксизма»). Но Литература и зло вернется
к этим проблемам уже в рамках дискуссии, которую Батай поднял по
поводу сартровских тезисов о литературной ангажированности. Ис¬
ходное суждение признавало, что только действие имеет права. Ли¬
тература не ставит своей целью практическую истинность. Отныне
33Bataille G. Le souverainete, 2, 4, 6 (О. С., 8, р. 359).
173
ее задачей оказывается лишь знание в лицо того, в чем она согласна
признать себя виновной.
Коммунизм, говорит Батай, ввел в «сознание наиболее чувстви¬
тельных людей» новое раздвоение «между тем, что они любят, и
тем, что они утверждают»34. Он говорит здесь о коммунистах-
интеллектуалах, о «коммуниствующих», людях благородных, откры¬
тых правам другого, одушевленных желанием справедливости, кото¬
рые отказываются защищать те ценности, к коим их влечет буржуаз¬
ное происхождение («картина», «поэма», «страсть», «несдерживаемая
радость»), заранее будучи внутренне убежденными в том, что «цен¬
ности, не имеющие места около шахт, не заслуживают защиты». Но
они не создают своих ценностей (рабочих), которые они защищали
бы, откуда и следует разрыв между их утверждениями и вкусами, —
не потому, что рабочие объективно труднозащитимы, но потому, что
они потеряли бы свой вкус, будучи защищаемыми. Другие буржуа,
более жадные, взвинченные в собственном беспокойном эгоизме, за¬
хотят преобразовать ценности своего класса в мировые ценности. Для
коммуниста-интеллектуала Батая все наоборот: пролетаризация всеоб¬
щего позволяет ему наконец перестать защищать себя от единичности
собственных вкусов. Нет, он не становится невинным, но он уже не за¬
щищается от того, чтобы быть виновным. В конце концов, коммунизм
позволяет литературе не упустить возможности стать виновной.
«До сих пор я говорил о Ницше, теперь я заговорю о Кафке». Через
несколько строк после этого заявления о намерениях рукопись Суве¬
ренности прерывается. Но в Литературе и зле мы найдем объявлен¬
ное развитие темы о Кафке35. В главе этого сборника, посвященной
автору Процесса (или, скорее, Приговора), Батай снова возвращается
к вопросу о коммунистической периодике, поставленному на момент
Освобождения: «Нужно ли сжечь Кафку?» Вспомним смерть Дон Жу¬
ана: огонь внезапно возникает повсюду, и Командор бросает его в ад¬
ское пекло. Но от чего сгорает Дон Жуан? И от чего сгорал Кафка? То,
что приводят в качестве его последних слов, сказанных врачу, напоми¬
нает дилемму: «Доктор, если вы не убьете меня, вы станете убийцей».
Мистика умирала, не умирая. Кафка, со своей стороны, горел, уже
сгорев. Его единственной проблемой было происхождение этого огня:
пришел ли тот снаружи или изнутри? Он просил огня, но не хотел
быть ответственным за это. Должны ли были коммунисты лучше от¬
ветить на эту последнюю волю, чем Макс Брод, чья дружба составила
341Ыс1. Р. 365.
35Но большинство статей, в измененном виде составляющих Литературу и зло,
были написаны раньше Суверенности, которая датирована 1953 г. Та, что посвя¬
щена Батаем Кафке, вышла в Критике в октябре 1950 г. (Франц Кафка перед
лицом коммунистической критики).
174
часть этого огня, чья верность подтолкнула его к предательству? Мож¬
но предположить следующее, если весь груз перенести на заключение
этой главы Литературы и зла, «взрослому, который придает высший
смысл ребячеству и подходит к литературе с чувством того, что он
прикасается к независимой ценности, нет места в коммунистическом
обществе». Именно такой, согласно Батаю, должна быть извращенная,
парадоксальная правда коммунистического общества, что более всего
отвечало бы тайным желаниям такого писателя, как Кафка.
Так или иначе, но все это противостоит концепции ситуации Сарт¬
ра: в процессе писательства ничего не возникает. Или, иными словами,
литература жаждет коммунистического общества, в котором она не
рискует создать ситуацию, — это единственное общество, где она увере¬
на в том, что не занимает своего места, где она должна распроститься
с мечтой об обетованной земле. Этот спор вносит единство в собрание
очерков, составляющих Литературу и зло. Литература — как вновь
обретенное детство — должна признать себя виновной. О Бодлере, на¬
пример, Батай скажет, что «он выбрал заблуждение, как ребенок».
Поскольку, будучи обретенным, это детство отныне навсегда потеря¬
но, оно лишено своей невинности, обречено на эту потерю именно по¬
тому, что оно само так пожелало. И литература отождествляет себя с
этим виноватым детством, которое можно назвать высшим: оно не те¬
ряет времени на свою защиту. Но главное — то, что вызов виновности
перед лицом Командора появляется без раскаяния. Пусть эти блажен¬
ства останутся без защиты — и писатель будет первым, кто осудит то,
что дает ему вкус к жизни. Но он осуждает, совершенно не отказыва¬
ясь от них: виновный дерзок. Конечно же, весь этот анализ у Батая
покоится на метафоре. Кафка не имел дел с коммунизмом. Но Батай
полагает, что его связи с отцовской сферой представляют собой до¬
статочную аллегорию того процесса, с которым литература войдет в
коммунистический мир. Кафка, пишет он, «не желал бороться с от¬
цом, лишающим его жизненных сил»36.
36Bataille G. La littérature et le mal (O.C., 9, p. 277). (См. русское издание: Ба¬
тай Ж. Литература и зло. М., 1994. С. 09. — Прим. ред.)
175
Возвращения блудного отца
Сверх-Я появляется, как крыса, же¬
стокое, ищущее удовольствий. ..
Латьланш. Ужас (Проблематики, I), с. 302
Первые социально-политические ссылки Батая охотно следуют
эдиповской модели, чья простота теперь удивляет: позиция пролета¬
риата в самом сердце капиталистической системы достаточно прими¬
тивно соответствует положению сына, которому отец отказал в при¬
знании и удовлетворении преследующих его потребностей. Краткое
содержание выпуска Контратаки о «семейной жизни», который Ба¬
тай должен был составить вместе с Бернье, открывается следующим
уравнением: «Основание общественной морали в капиталистической
системе —это мораль, навязанная родителями ребенку»37. И в чер¬
новике Понятия траты38: «Противоречие между действующими об¬
щественными представлениями и реальными потребностями общества
своей невыносимой формой напоминает узость суждения, которое про¬
тивопоставляет отца удовлетворению потребностей сына»39. Следует
отметить, что здесь идет речь о хорошем отце, т. е. о том, который не
противопоставляет себя «реальным» нуждам детей, который делает
все от него зависящее, в том числе и для удовлетворения тех потреб¬
ностей, которые касаются его собственного блага, его будущего. Он
остается глух лишь к тем нуждам, которые слишком фантастичны,
которые предполагают непродуктивную трату. Такой отец, именно по¬
тому, что он хороший, противостоит тому, что внушает «горячку» его
сыновьям. Напротив молодого, разгоряченного Дон Жуана возникает
хладный старик: классовая борьба продолжает эдиповский конфликт,
противопоставляющий возрастные классы. Революционное вооружен¬
ное восстание должно рассматриваться в качестве коллективной вер¬
сии убийства отца. Так же как сексуальность сыновей замаскирована
Сверх-Я, в котором скрыт отцовский авторитет, пролетарская энергия
подавляется патернализмом буржуазной власти.
Из этой гомологии проистекает отождествление, по крайней ме¬
ре метафорическое, рабочего класса с органами сексуальности. Среди
прочего в Солнечном анусе мы встречаем: «Коммунистические рабо¬
чие кажутся буржуазии столь же уродливыми и столь же грязными,
37Jean Bernier et Georges Bataille, «La vie de Famille», Les cahiers de «Contre-
Attaque», novembre 1935 (О. С., 1, p. 388).
38См. русское издание: Батай Ж. Понятие траты// Батай Ж. Проклятая доля.
С. 183-207. — Прим. ред.
39Bataille, «Le paradoxe de l’utilite absolue», О. C., 2, p. 150.
176
как и заросшие срамные или же низменные части тела»40. Многое
из концепции Батая того времени основывается на самом деле на до¬
вольно традиционной поскольку она уже использовалась у Стендаля
и Золя, схеме, которая делает из промышленного пролетариата гор¬
нило примитивной несдерживаемой энергии. Солидарность с пролета¬
риатом, выражением которой Батай не брезгует, или словесная под¬
держка рабочих выступлений не имеют своим основанием заботу о
социальной справедливости или экономической разумности. Речь все¬
гда идет о либидинальной ангажированности. Это пролетариат, сим¬
волизирующий необузданную сексуальность, разновидность свободной
непристойности, и всякий индивид, желающий выйти из буржуазно¬
го режима кастрации, необходимо видит себя пополняющим его ряды.
Два суждения из «Старого крота» и приставки «сверх» [в словах
«сверхчеловек» и «сюрреализм»] формулируют двойное движение этой
стратегии: первое утверждает, что «невозможно предать свой класс
из любви к пролетариату»; второе —что «разумная активность нека¬
стрированных и неодомашненных связана по воле вещей с восстанием
низших социальных слоев за дело нашего времени».
Итак, классовая борьба для Батая противопоставляет пролетар¬
скую и детскую сексуальность капиталистической десексуальной зре¬
лости, т. е. сексуальность рассматривается в качестве средства: де-
тородность взрослой сексуальности, делающая ее продуктивной тра¬
той, сводится к своей десексуализации. Однако эта эдиповская схема
остается поверхностным явлением и вскоре оказывается преодолен¬
ной, разрушенной. Скорее всего, Батай никогда не отказывался от во¬
ображения пролетариата или, вернее, сверхсексуализированного под-
пролетариата: в 1948 г. он продолжает упорядочивать рассуждения,
спровоцированные докладом Кинси, о связи между воровским миром
и сексуальностью41. Но изменится положение, которое эта сексуаль¬
ность отводит пролетариату в эдиповской схеме: не сына, но уже от¬
ца. Пролетариат, вместо того чтобы быть диким ребенком первой схе¬
мы, представляет собой разновидность блудного отца, это гротескный
и похотливый Командор, монополизирующий преступление. Статья о
Кафке, как мы помним, отождествляла коммунистический мир с от¬
цовской сферой. И нелишним будет напомнить, что в середине этой
статьи присутствует прочтение Вердикта, сочинения Кафки, герой
которого назван Жоржем Б. Впрочем, образ отца, который там встре¬
чается, не настолько честен, как это подразумевает коммунистическая
интерпретация.
В 1927 г., когда Батай писал Историю глаза и Солнечный анус, во
40См. в настоящем издании. — Прим. пер.
41 Bataille, «La révolution sexuelle et le «Rapport Kinsey»», Critique, juillet-août,
N26-27 (переиздано в Эротизме под названием Кинси, шпана и труд).
177
времена психоанализа с Адрианом Борелем, он описывает сон, связан¬
ный с несколькими ассоциациями:
«На улице перед домом, где мы живем в Реймсе. Я выезжаю на велосипеде;
мостовая и трамвайные рельсы чрезвычайно неудобны для езды на велосипеде,
или мостовая, или не знаешь, куда ехать, налево или направо. Множатся трам¬
вайные рельсы. Я слегка задеваю трамвай, но аварии не происходит. Я хочу
попасть туда, где за поворотом начинается гладкая дорога, но теперь уже слиш¬
ком поздно: великолепная гладкая дорога, по которой можно было по инерции
катиться вниз, теперь замощена. Когда же я повернул, улица оказалось не та¬
кой, какой была раньше: ее переделали, преобразовав в огромную траншею,
из которой видны укрепления. Я замечаю эти опоры, но я все более и более
вижу их в каких-то расплывчатых формах: сначала они как будто сделаны
из каркасов бочек с треснутыми досками, которые нужно наполнить землей,
а потом они кажутся разломанными бочками, которые следует починить. Так
и происходит, когда появляются рабочие винных погребов, грубые, жестокие,
невероятно черные, чтобы соорудить длинную и тонкую, шатающуюся бочку. В
это мгновение наступает страшная ночь; я прохожу под видом американского
джентльмена. Для того чтобы поднять бочку, нужно тянуть за толстые, черные
от сажи веревки, на которых вешают за хвост животных, огромных жестоких
крыс, которые могут укусить; но их нужно убить. Рабочие из погребов с боль¬
шим удовольствием прикасаются к этим нечистотам, с радостью подвешивают
их, но американский посетитель в тройке рискует испачкаться или быть уку¬
шенным, однако он не испытывает ни малейшей брезгливости или страха. Тем
не менее он с трудом сохраняет равновесие, скользкие, окровавленные рыбы
или мертвые крысы угрожают ему на уровне лица»42.
Диспозиция этого сна без изменений соответствует биполярной схе¬
ме классовой борьбы: пролетарий появляется на своем месте в кате¬
гории подземных рабочих — в виде гибрида могильщика и старого
крота. Можно было бы назвать последнюю второстепенной. В «кон¬
фликте» Малларме рабочие —это землекопы, профессионалы рытья
ям. Но здесь они появляются в ином виде —в качестве работников
винных погребов. В отличие от поэмы в прозе Малларме этот сон не
свидетельствует о какой-либо явной агрессии. Сновидец не стремится
оградить себя от нечистот. Угроза не становится менее явной от факта
присутствия рабочих. Сон не говорит (а рассказчик тем более), жела¬
ема эта угроза или нет, но если, согласно аналогии Солнечного ануса,
рабочие действительно представляют собой низшие, грязные и волоса¬
тые части общества, тогда он указывает на то, что Батай — вольно или
невольно — избегает риска запачкаться от соприкосновения с ними. К
тому же не слишком трудно будет распознать в этом «американском
джентльмене», наносящем визит и опасающемся за целостность сво¬
ей тройки, прообраз Троппманна из Небесной сини, который показан
стыдящимся одежды светлых цветов, которую он носил в разгар ре¬
42Bataille, «R-Kve», О. С., 2, р. 9. По поводу этого сна см. рукописные примечания
к Виновному, где Батай упоминает о «входе в погреб, связанном с детским сном,
столь часто и тревожно повторяющимся» (О. С., 5, р. 555).
178
волюции. Но что значит этот костюм-тройка? И что может грозить
тому, что носит это название?
Важность и очевидность социально-политической проблематики в
рассказе Батая о своем сне делают тем более удивительным ее совер¬
шенное отсутствие в тех ассоциациях, которые он указывает следом.
Схема классовой борьбы обходится полным молчанием и без едино¬
го объяснения заменяется эдиповской проблематикой. «Рабочие по¬
гребов» даже не упоминаются: вместо них как ни в чем не бывало
появляется некто, которого Батай называет «мой отец». «После про¬
буждения, — говорит он, например, — я связал ужас перед крысами с
воспоминаниями о трепке, которую мне задал отец в образе стервят¬
ника, клюющего окровавленную лягушку». Известно, что «Совпаде¬
ния» Истории глаза, написанные в то же время, что и этот рассказ о
сне, набрасывают портрет отца в виде образа удивительно болезнен¬
ного, непристойного, отталкивающего, в гротескно-трагических тонах,
отмеченных печатью величия. И, возможно, именно в этом портрете
следует искать наиболее правдоподобное основание замещения — тем
более странного, что, как мы уже видели, Батай в то же самое время
неизменно приписывал пролетариату сыновнюю позицию в конфлик¬
те. В действительности оказывается, что отец Батая был слепым. И
по этой причине он жил в такой же глубокой темноте, что и та, на
которую были обречены эти старые кроты, рабочие винных погребов.
Стоит ли говорить, что названная слепота придавала дополнительное
значение сексуальному измерению, поскольку Батай, по крайней мере
в своем воображении, приписывал ей сифилитическое происхождение?
«Однако,— добавляет он,— в противоположность большей части ма¬
леньких мальчиков, которые влюблены в свою мать, я был влюблен в
этого отца».
Тем не менее такая сексуализация отцовского образа ничуть не
лишает его морального авторитета и величественного характера. А
непристойность делает лишь еще более резким то, что в нем настоя¬
тельно присутствует. Этот Командор — исполнительная сила, которая
не отказывается от «исправления». Но в чем сновидец чувствует себя
виновным? Отметим, что Батай ничего не рассказывает о той ошиб¬
ке, которая стала причиной наказания. Нет ли в ней чего-либо, свя¬
занного с костюмом-тройкой? Но в каком смысле тройке не хватает
чистоты? Складывается впечатление, что за этим требованием следу¬
ет наказание лишь по причине того, что это доставляет удовольствие.
Кажется, что урок преподается не ради блага сына, но ради собствен¬
ного садистического удовольствия наказывающего. Отцовская требо¬
вательность посредством жестокости не только не подавляет сексу¬
альность ребенка, но, напротив, придает ребенку жестокость его соб¬
ственной сексуальности. Конечно, видящему сон уже угрожают крысы
179
(«ужасные»), которыми манипулируют рабочие погребов. Но ужас до¬
стигает своего предела только тогда, когда на их лицах отражаются
«радость» и «большое удовольствие» («Посмотрите, это то, что мне
нужно, огромные крысы»), вызываемые этими живыми нечистотами
у пролетариев, «очень мужественных и жестоких». Молодой буржуа в
безупречной тройке запуган наслаждениями Командора, которого он
жаждет: виновен за свое желание, виновен в своем желании.
В Основаниях гегелевской диалектики Батай снова возвращается
к сценарию эдипова комплекса. Все начинается с того, что сын желает
смерти своего отца. Он хочет, чтобы исчезла репрессивная инстанция,
которая противостоит удовлетворению его желаний. Эта указательная
агрессивность оказывается только первым этапом процесса, в конце
которого сын достигнет открытия правды своего желания. Вскоре он
придет к тому, что именно своей смерти он желает, хотя сначала это
желание было направлено в отношении другого. Дон Жуан должен
начать с убийства Командора, если он действительно хочет, чтобы в
свою очередь этот призрак уничтожил его самого. Решающий эпи¬
зод судьбы этого побуждения устанавливается обратным поворотом
агрессивности, которая возвращается к своему источнику, изливаясь
на самого субъекта. «В то же самое время», как сын желает смерти
отца, пишет Батай, отцовские агрессивные желания «отражаются и на
личности сына, который стремится привлечь на себя кастрацию, как и
удар возвращающегося желания смерти»43. Но полный круг заверша¬
ется только в момент наслаждения кастрацией: если в классическом
Эдипе Батая подразумевается смерть отца, то не потому, что он же¬
лает обеспечить себе исключительное владение матерью, а только по¬
тому, что лишь мертвый отец может наложить на него то наказание,
которого он жаждет.
Известно, каким способом Фрейд делает производным фантазм
(мужской) «отец побеждает меня» от первоначального «отец меня лю¬
бит»: при помощи садоанальной регрессии, дегенитализирующей са¬
мим фактом своего существования, и Фрейд же показывает, что на¬
казание уже не только «кара, следующая за запретными половыми
отношениями, но и регрессивная замена самих этих отношений». Отец
бьет себя, наказывая ребенка. Наказание в этом фантазме, неразли¬
чимая смесь эротизма и виновности, поддерживается анахронизмом
наслаждения, невероятная логика которого исключает всякую разни¬
цу между наслаждением и наказанием за него, между наказанием и
наслаждением им. Наказание перестает соотноситься с тем моментом,
когда оно не имеет иного оправдания, кроме наказания наслаждения,
43G. Bataille, R. Queneau, «La critique des fondements de la dialectique de Hegel»,
La critique sociale, N 5, mars 1932 (O. C., 1, p. 288).
180
которое оно вызывает. Оно наказывает наслаждение, которого без него
не было бы. Батай не уточняет, за что в его сне отец наказывает его, но
самые дерзкие виновные виновны без преступления, это такие винов¬
ные, для которых любая вина становится источником наслаждения от
наказания, накладываемого на них.
Итак, в сокровенной сердцевине общей экономии и понятия тра¬
ты существует история крыс, в которой отец совершает сексуальное
и инцестуозное насилие над своим сыном. Этот мотив мог бы быть
прослежен в разных направлениях, когда автор повел бы речь о Мо¬
ей матери. Здесь же будет достаточно напомнить, до какой степени
он расходится с эдиповым комплексом первой схемы. Как мы пом¬
ним, Батай выступал в ней в роли интеллектуального буржуа, кото¬
рый устраивается рядом с пролетариями, чтобы избежать режима ка¬
страции, каковой становится законом в классе, из коего он происходит.
Позиции и движения в окончательной схеме такие же, но они соответ¬
ствуют совершенно противоположным мотивациям. Если интеллекту¬
альный буржуа продолжает свое движение к пролетариям, то не для
того, чтобы избежать кастрации, но, наоборот, чтобы идти навстречу
ей: он ее желает. Так же как кастрация не играет больше роли нака¬
зания для низшей сексуальности, она представляет собой испытание,
которое вводит тело в режим сексуальности. И пролетариат, вместо
того чтобы воплощать собой сексуальность, которая растрачивает се¬
бя в полном неведении кастрации, теперь становится непристойной
и повелевающей инстанцией, сексуализирующей человека в тройке в
прославленной кастрации.
Перевод К. В. Преображенской
С. Л. ФОКИН
ЖОРЖ БАТАЙ И КОЛЕТТ ПЕНЬО
Писатель, ставящий на смерть, играет с жизнью — своей собствен¬
ной и своих близких. Мало кто из писателей XX в. так безрассуд¬
но играл своей жизнью, как Жорж Батай (1897-1962); мало кто из
возлюбленных того или иного писателя так безоглядно вторил экзи¬
стенциальному опыту своего спутника, как Колетт Пеньо (1903-1938),
которой случилось на несколько лет стать возлюбленной автора Исто¬
рии глаза и которая, впутавшись в его «игры» и «истории», не только
отважилась разделить далеко не самый упорядоченный образ жизни
того, кто иным современникам, да и самому себе, представлялся сек¬
суальным «извращенцем»; не только не остановилась перед тем, что¬
бы полностью войти в образ мучавших его творческое воображение
инфернальных героинь садомазохистского склада (псевдоним Лаура
отсылает как к Петрарке, так и к де Саду, небезосновательно мнив¬
шему себя потомком той, чьей памяти была посвящена Канцоньере);
не только проникла в его книги под «божественными» именами До¬
ротеи (Небесная синь) и Мадам Эдварды, но и в некотором смысле
«переиграла» своего партнера, внушив ему своей смертью как чув¬
ство непоправимого жизненного поражения, так и ставшую для него
заветной мысль о том, что если и есть какая-то онтология литерату¬
ры, то самыми несомненными — и в то же время зыбкими, шаткими,
неустойчивыми — ее основаниями могут быть только два чувства: чув¬
ство смерти и чувство вины. Чтобы быть писателем, мало сознания
смерти — должно винить, казнить себя, что живешь и пишешь.
Но сами по себе эти основания недостаточны: необходимо, чтобы
они сошлись, совпали или скрестились в одном «внутреннем опыте», а
для этого мало будет искать соприкосновения со смертью, мало будет
искать вины — необходима «удача».
Внутренний опыт (1943), Виновный (1944), О Ницше, или Воля
к удаче (1945)—три книги, что были написаны Батаем под знаком
© С. Л. Фокин, 2006
182
живой и мертвой Лауры, и составили первые тома Суммы атеологии,
науки богопознания через сообщение, достигаемое в моменты суверен¬
ности — в неистовствовании письма (преступающая через все запреты
литература) и существования (не ведающая никаких запретов любовь,
смех, слезы, ярость, забубенное пьянство, все возможности (само)рас-
траты, все состояния вне себя).
Книга Виновный, центральная часть триптиха, создавалась Жор¬
жем Батаем под двойным гнетом: разразившейся войны, которая по¬
грузила мысль писателя в стихию уже не умозрительной, а действи¬
тельной смерти, и мучительной вины, которая усугублялась тем, что
теперь, под игом войны, т. е. смерти, он стал ближе к умершей год на¬
зад, 7 ноября 1938 г., Лауре. Это двойное угнетение диктовало самые
душераздирающие фрагменты Виновного об
Удаче:
«Вообразить себе невероятной красоты мертвую женщину: она
небытие, в ней нет ничего уловимого. Никого нет в спальне. Бога
нет в этой спальне. Спальня пуста.
... Как узнать удачу, не заручившись для этой цели силой любви,
которая прячется?
Удачу творит немыслимая любовь, которая бросается в безмол¬
вии в голову. Она, словно молния, бьет с высоты небес, и она — это я!
Разбитая молнией капелька, один только миг: ослепительнее самого
солнца».
Игре:
«Я принимаю сторону тех, кого люблю за вызов. Мне не стер¬
петь, когда я вижу, что они забывают об удаче, коей они могли
быть, если бы играли.
Л. когда-то играла. Я играл с Л. И нет мне покоя с тех пор, как
я выиграл. И мне не остается ничего другого, как играть дальше,
оживить эту по-настоящему безумную удачу...
Л. играла и выиграла. Л. умерла.
Очень скоро, говорила мне Л., почва уйдет у тебя из-под ног».
Проигрыше и становлении — писателем:
«Мой ужас удвоился: лицо Лауры смутно напоминало лицо же¬
сточайше трагичного мужчины: пустое и полубезумное лицо Эдипа.
Это сходство усилилось во время агонии, когда она сгорала на гла¬
зах, но особенно в те мгновения, когда она гневалась, обрушивалась
на меня всей своей ненавистью. Ведь я убегал, убегал от того, с чем
так вот сталкивался: я убежал от своего отца (25 лет тому назад,
во время немецкого наступления, я бросил его на произвол судьбы,
доверив заботам нашей домработницы; он был слеп, разбит парали¬
чом и испытывал невыносимые боли); я убежал от Лауры (убежал
морально), поддавшись страху, я часто ей перечил, но был с ней до
183
конца, иначе и быть не могло, я оставался с ней, насколько у меня
хватало сил, но по мере приближения агонии я стал искать укры¬
тия в каком-то болезненном оцепенении; порой напивался... меня
там словно и не было».
Была ли удачей встреча с Жоржем Батаем для самой Колетт Пе-
ньо? Ответ на этот вопрос чрезвычайно затруднителен: ее близкие,
мать, сестра, брат, бывший любовник Борис Суварин, наконец, Эли¬
забет Барилле, автор блистательной биографии Лауры1, считали эту
встречу скорее губительной для нее; оказавшись в компании с Бата¬
ем, она будто бы поставила крест на своей жизни, всецело отдавшись
тому влечению к смерти, которым пытался жить Батай и которым
она сама была захвачена с самого нежного возраста. Но как бы ни
отвечать на этот вопрос, нельзя отрицать одного: именно в компа¬
нии с Батаем, в сообществе и со-общении с ним Колетт стала писа¬
телем. Не писательницей, не автором душещипательных, любовных,
авантюрных или так называемых феминистских романов — Лаура яв¬
ляется, по словам видного французского поэта, философа и лингвиста
Жана Пьера Фая, «одним из самых поразительных писателей нашего
века и нашего языка»2. Более того, в компании с Батаем, т. е. при¬
частившись той самой «смерти другого», исходя из которой человек
только и может зажить «вне себя», «для другого», словом, в сообще¬
стве и в сообщении с ним3, Лаура стала соучастницей одной из самых
поразительных религиозно-чувственных мистерий мировой культуры,
сравнимой разве только с той «божественной комедией», что разыг¬
рывалась между Терезой Авильской и Иоанном Креста, но отличной
от нее тем, что святость здесь достигалась не умерщвлением плоти,
а разжиганием ее, не вознесением, не воспарением в небесную синь,
а целеустремленным погружением в пучины сладострастия, отчаян¬
ным низвержением в пропасть пола; «святая бездны»4 —так назвал
Лауру Мишель Лейрис, ближайший друг Батая и верный конфидент
Колетт.
В дневниковых записях Лейриса, относящихся к последнему году
жизни Лауры, сохранился замечательный экзистенциально-психоло-
гический портрет этой женщины, ценность которого только возраста¬
1 Barillé Е. Laure: La sainte de l’abîme. Paris, 1997.
2Ecrits de Laure. Texte établi par J. Peignot et le Collectif Change. Paris, 1977. P. 7.
3Cp. с этим рассуждение Мориса Бланшо, навеянное раздумьями над опытом
Батая и отчасти Лауры: «Необходимость присутствовать при окончательном от¬
ходе умирающего, принимать на себя смерть другого как единственную смерть,
имеющую ко мне касательство, — вот что буквально выводит меня из себя, вот что
можно считать единственным разрывом, который во всей его невозможности мо¬
жет открыться для меня передо мной вместе с открытием какого-либо сообщества»
(Бланшо М. Неописуемое сообщество. М., 1998).
4Lems М. Frêle bruit. Paris, 1976. P. 345.
184
ет из-за того, что это не прямая биографическая зарисовка, переда¬
ющая, как правило, наиболее броские, характерные, особенные черты
человека, а своего рода самоотчет писателя, для которого достижение
предельной искренности, подлинности, честности по отношению к себе
составляло важнейшую творческую задачу. Другими словами, в этих
набросках к автопортрету Лейриса можно и нужно увидеть те черты
Лауры, что являют нам не повзрослевшую «маленькую девочку», а
образ вовлеченного в смертоносное становление подлинного писателя,
«встреча» с которым обернулась несомненной «удачей» и для автора
Возраста мужчины5, самой пронзительной писательской автобиогра¬
фии во французской литературе XX в.
Несколько штрихов к портрету Лауры
из Дневника Лейриса за 1938 г.
«... Я был в превеликом отчаянии, излагал свои проблемы. По сравнению
со мной К.[Колетт Пеньо] демонстрировала ясный взгляд на вещи, энергич¬
ность, оптимизм[... ]
Жак Риго: самоубийство придает вес его творчеству, которое в противном
случае не имело бы никакого веса. К.[Колетт] против самоубийства!-..]
Марсель Дюшан, его совершенная безрелигиозность; его восприятие аб¬
сурда; его понятие «анахронизма» (невозможность — квазиневозможность —
создать такое произведение, что созидается сию минуту, а не тащит за собой
массу мертвых, ушедших в прошлое вещей); логическая проблема живописи:
когда выводишь линию, почему направляешь ее налево, а не направо? Похоже,
что К.[Колетт], понимая все это, остается чуждой такого рода заботам[...]
Объяснение причины моего возвращения: смертная тоска после этого раз¬
говора, он показался мне насквозь лживым, мне не удалось выразить себя, у
меня было чувство, что я лукавлю. Кроме того (но об этом я молчу), есть
ощущение несогласия, ибо вопреки моим ожиданиям К.[Колетт] мне ничего не
сказала[... ]
На чем я делаю упор:
Я лукавил. Говорил о Риго (подразумевается: отождествлял себя с ним), а
сам пошел на лекцию, а ведь он покончил жизнь самоубийством.
Лукавство, обман исповеди и исповедальной литературы: когда мы испо¬
ведуемся, мы делаем это не столько для того, чтобы сказать правду, сколько
для того, чтобы представить себя трогательным персонажем. К тому же всего
никто и никогда не говорит. Есть еще этот прием, когда используется опреде¬
ленная интонация.
Нет и не может быть никакого катарсиса от исповеди. Для катарсиса необ¬
ходимо, чтобы то, что вам надлежит сказать, приобрело некую форму, своего
рода психологию. В этом смысле катарсис достижим только через поэзию, че¬
рез лиризм.
Тем не менее поэзия должна быть деянием, а не исповедью. Я написал
Abanico (сборник стихов на темы тавромахии: каждое стихотворение представ¬
ляет собой описание определенного движения тореадора. — С. Ф.), чтобы раз и
ъЛейрис М. Возраст мужчины/ Пер. с франц. O.E. Волчек и С. Л. Фокина.
СПб., 2002.
185
навсегда покончить с исповедальной поэзией: каждое из стихотворений опре¬
деляется каким-то реальным событием, которое идет извне. Нет никакого со¬
мнения в том, что детерминированная таким образом поэзия может заключать
в себе много больше, нежели те стихи, в которых мы лишь передаем то, что
у нас на сердце... Если мне и случается прибегать к исповедальной литера¬
туре, я делаю это по той единственной причине, что такая исповедь содержит
в себе «деяние», заключает в себе поступок: показать, каков ты есть, никого
не обманывая; обнажиться; но сейчас мне отвратительна любая исповедь, ибо
люди исповедуются, питая — в той или иной мере — надежду взволновать собе¬
седника или отпустить себе грехи. Кажется, что К. [Колетт] со всем согласна.
Отмечаю для себя, что, говоря об этом, я все равно лукавлю, ибо как раз и
изображаю из себя трогательного персонажа. Во всем, что мы говорим о себе,
присутствует обман, мошенничество.
К. [Колетт] не согласна со следующим моментом: я говорю, что следовало
бы писать и иметь мужество не публиковать, ибо публикация — то же самое, что
проституция; она возражает и говорит о необходимости сообщения. Я говорю
о своем отвращении к этому эксгибиционизму, который заключает в себе лите¬
ратура, напоминаю о том, что сказал мне однажды Пикассо: «Читать стихи на
публике —это все равно что я попросил бы вас раздеться перед ней догола».
Мы достигаем согласия, находя, что полной проституции все равно не по¬
лучается, ибо всего о себе не скажешь, не бывает и совершенного сообщения,
ибо всегда оставляешь что-нибудь только для себя.
Я объясняю, почему не могу больше писать стихов: чтобы иметь право го¬
ворить, необходимо быть уверенным в том, что: 1) не заговоришь под пытками
(чтобы не выдать товарищей); 2) в любых обстоятельствах сможешь мыслить
поэтически (Шенье писал свои стансы в ожидании эшафота). Говорю также,
что бегство Рембо, безумие и самоубийство Нерваля — это их плата за право
быть поэтами.
В отношении 1) К.[Колетт], которой я в очередной раз признаюсь в своем
страхе перед физической болью, говорит мне, что не боится боли, и рассказы¬
вает, что ей случалось прижигать себе руки сигаретами — чтобы приучить себя
терпеть боль. Что касается того, чтобы стерпеть пытку и не выдать товарищей,
то она говорит, что гораздо труднее совершить преступление и никому не ска¬
зать о нем ни слова, при любых обстоятельствах отрицать свою вину. Кто среди
наших знакомых способен на преступление? К. [Колетт] говорит, что Массон.
Она говорит также, что для нее значит агрессивность: радость, опора. Я при¬
знаюсь, что не испытываю никакого желания показывать свою агрессивность,
что это так же ничтожно, как и все остальное. К. [Колетт] уже случалось ис¬
пытывать желание убить. Мне — никогда; если мне и захочется кого-то убить,
то только самого себя.
В отношении 2) она говорит мне, что не считает, что для того, чтобы пи¬
сать стихи, следует чувствовать себя способной мыслить поэтически при лю¬
бых обстоятельствах. Что до смерти, то она ее не боится. В ответ на историю
про Шенье она рассказывает об одном русском революционере, который пе¬
ред смертью думал только о своем «белом воротничке»: она говорит, что чем
писать стихи, она лучше будет думать о чем-нибудь в таком роде.
Тогда я признаюсь в своем пессимизме: все абсурдно, ибо человек смер¬
тен; я не способен иметь действительную связь с другим человеком, как не
способен к какой-либо стоящей деятельности; в самом деле, ведь нет такого
человека и нет такой деятельности, ради которых я смог бы превозмочь стра¬
дание и смерть; только изредка я бывал способен посмотреть смерти в лицо
и так же, как и К.[Колетт], считаю трусость главным грехом. Она говорит
мне о своей любви к Ж. Б.[Жоржу Батаю], это чувство задает смысл всей ее
жизни[... ]
186
Возможно, в этот же день я говорил К.[Колетт] о том, что ничто в лите¬
ратуре не волнует меня так сильно, как следующая задача: написать книгу
или стихотворение, название которых в одном слове заключало бы в себе всю
суть — в одном-единственном слове, а сама книга или стихотворение были бы
к нему комментарием.
По поводу подлинности, касательно К. [Колетт] и меня: стихотворение, ко¬
торое было бы своего рода последним словом умирающего[... ]»6.
Последнее слово
По существу говоря, все «Сочинения» Лауры, публикуемые в этой
книге, могут быть отнесены к жанру «последнего слова умирающей»:
не что иное, как порог смерти, на котором прожила свою столь недол¬
гую и столь бурную жизнь эта женщина, был опорой подлинности ее
жизненного опыта и литературного творчества. Вместе с тем не сле¬
довало бы, наверное, романтизировать или демонизировать ее образ,
как это делается в иных биографических или мемуарных трудах, ибо
при всей исключительности и незаурядности своей натуры Колетт Пе-
ньо была дитя своего времени — и Историю одной маленькой девочки
следует, наверное, читать как «Исповедь дочери века».
Она родилась в начале XX столетия в богатой парижской се¬
мье, чьи преуспеяние и устоявшийся склад жизни могли служить на¬
дежной гарантией радужного существования очередной «благовоспи¬
танной девицы» буржуазного круга: строгое религиозное воспитание,
уроки музыки, необременительные занятия литературой или искус¬
ством, хорошая партия, свой дом. Но наступающий век быстро раз¬
веял обычные буржуазные мечтания, разметал по полям сражений,
кладбищам и госпиталям «мечтательную буржуазию». Война 1914—
1918 гг. привнесла в культурную жизнь Европы новый элемент: от¬
ныне европейское сознание было принуждено существовать в стихии
смерти.
Смерть далеко не сразу выплеснулась в литературу, поэзию или
философию: поначалу она словно бы зажимала рот очевидцам («ни¬
каких историй о сражениях мы не дождались», — напишет Лаура в
Истории одной маленькой девочки, рассказывая об этом заворажи¬
вающем молчании фронтовиков), проводя внутреннюю, сокровенную
работу в умах, заставляя всякого пишущего усомниться в тех выра¬
зительных возможностях, которые были унаследованы от культурных
традиций. Стихия смерти, захватившая тогда европейское сознание,
поставила под вопрос правомерность традиций вообще — литератур¬
ных, культурных, социальных. Она оставила человека наедине с собой.
Если в начале столетия клич «Семьи, я вас ненавижу!», брошенный
6 Lems М. Journal. 1922-1989. Paris, 1992. P. 316-319.
187
одним из героев Андре Жида, мог восприниматься исключительно как
безрассудный эпатаж зарвавшегося индивидуалиста-имморалиста, то
после Большой войны ненависть ко всему миру, что обеспечил без¬
раздельное торжество смерти, к буржуазной морали, во имя которой
смерти были преданы миллионы добропорядочных буржуа, к буржуаз¬
ной семье, наконец, безропотно или в порыве патриотического велико¬
душия отправившей на заклание отцов, сыновей, братьев, захлестнула
или по меньшей мере затронула многие круги европейского общества,
вызвав к жизни целый ряд нигилистических и радикально противо-
буржуазных движений в политике и искусстве — от коммунистической,
консервативной или национал-социалистической революции до сюрре¬
ализма и дадаизма.
Не что иное, как Большая война и воспоследовавший за ней рево¬
люционный порыв внесли радикальные изменения в «женский удел»:
никогда прежде женщина не была настолько предоставлена самой се¬
бе, как в первые послевоенные годы, никогда прежде женщина не была
настолько принуждена к самостоятельности, как в это время, никогда
прежде она не была столь свободна, как в эту эпоху «отсутствия»
мужчин, которые либо погибали на войне, либо теряли достоинство в
тылу. Колетт осталась без отца, на фронтах Первой мировой вместе с
ним погибли три его брата, — обыкновенная история того времени: «Я
обитала не в жизни, а в смерти. Сколько себя помню, передо мной все
время вставали мертвецы: “Напрасно ты отворачиваешься, прячешь¬
ся, отрекаешься... ты в кругу своей семьи и сегодня вечером будешь с
нами”. Мертвецы вели ласковые, любезные или сардонические речи, а
порой, в подражание Христу, этому извечно униженному и оскорблен¬
ному, нездоровому палачу... они открывали мне свои объятья. Я шла
с запада на восток, из одной страны в другую, из города в город —и
все время между могил».
Но эта обыкновенность заключала в себе различные, а то и про¬
тивоположные типы реакции на «жизнь без мужчины»: одни преда¬
вались трауру по погибшим, заживо хороня себя и своих близких в
тенетах бесплодной памяти (случай матери Колетт): «Эти совместные
рыданья всегда заканчивались самым естественным образом — воспо¬
минаниями об отце. Мы просто твердили его имя, будто он все еще был
с нами, это был вызов матери, которая всем своим поведением, даже
тоном голоса предавала его смерти вторично»; другие предавались от¬
чаянным поискам тех утех, которые могли бы восполнить нанесенные
войной опустошения.
В этих поисках ниспровергались казавшиеся незыблемыми идеалы
и идолы, рушились вековые опоры существования, без которых жизнь
приобретала не то чтобы легковесность или легкомысленность, а, ско¬
рее, какую-то необязательность, своего рода случайность или абсурд¬
188
ность, ясное сознание которой могло диктовать столь же безрассуд¬
ный жизненный выбор. В случае Колетт, которая вступала во взрос¬
лую жизнь не только под гнетом нескончаемого семейного траура по
отцу, но и в предчувствии близкой смерти, обещанной рано открыв¬
шимся туберкулезом, ситуация осложнялась тем, что трудный разрыв
с семьей, главным образом отдаление от матери, совпал с отверже¬
нием католицизма, который упрочился в родном доме после гибели
отца стараниями нечистоплотного и похотливого кюре, и открытием
тайн собственного тела: так освобождение от пут религии сплеталось
со своеволием пола, а поиск действительных, подлинных, не опошлен¬
ных буржуазностью ценностей существования не только не исключал,
а даже требовал известного рода распущенности, некой свободы нра¬
вов, которая, как казалось современницам и современникам Колетт,
была не только вызовом опостылевшей буржуазной морали, но и воз¬
можностью возместить те пустоты существования, что оставила в их
жизни война.
Вместе с тем поиск Колетт определенно расходился с гедонисти¬
ческими устремлениями французской золотой молодежи этой эпохи,
получившей красноречивое название «безумные годы» и запечатлен¬
ной в Дьяволе во плоти Р. Радиге, Дневной красавице Ж.Кесселя,
Жиле П.Дриё л а Рошеля, Возрасте мужчины М.Лейриса, песнях
М. Шевалье и стиле Коко Шанель. Впрочем, начало этому поиску бы¬
ло положено в салоне брата, Шарля Пеньо, где наряду с молодыми
светскими львами и львицами собирались художники и поэты, свя¬
занные с сюрреализмом, самым радикальным авангардным движени¬
ем тех лет: тут бывали Л. Арагон, А. Бретон, Л. Бунюэль, Р. Кревель,
П. Пикассо.
В салоне брата Колетт познакомилась с тем, кто на некоторое вре¬
мя стал для нее воплощением идеала противобуржуазности, к приня¬
тию которого она была уже внутренне готова: его звали Жан Бернье,
он был одним из основателей философской группы и журнала Кларте,
следовавших откровенно прокоммунистической политической линии,
и ярым сторонником сближения коммунистов и сюрреалистов. Колетт
стала любовницей Бернье в 1926 г., когда тот переживал далеко не
лучший период своей жизни. «Я была для него лучиком», — напишет
она в одном из писем того времени. Близкий друг П.Дриё ла Роше¬
ля, Бернье был неутомимым соблазнителем, однако это соблазнение,
ставшее одной из самых распространенных форм существования этого
страдавшего от бесформенности времени, диктовалось не цинизмом,
не «волей к власти» над женщиной, а, скорее, каким-то внутренним
надломом: каждая новая соблазненная женщина становилась знаком
не только победы, но и очередного поражения. Подобно Сизифу, без
конца вкатывающему свой камень, «вечный соблазнитель», переходя
189
от одной женщины к другой, был пленником «абсурда»7. Более то¬
го, в отношениях с Колетт 8 Бернье выступает как жертва — жертва
своих порывов, угрызений совести, неуверенности, словом, этого ком¬
плекса «мужчины, увешанного женщинами», о котором блистательно
рассказал Дриё в одноименном романе. Бернье мучается неспособно¬
стью любить, которой страдали многие мужчины его круга (сходные
переживания нетрудно обнаружить в ранних текстах и жизненных пе¬
рипетиях Арагона или Дриё), и испытывает глубочайшую потребность
в любви; но главное в том, что он хочет быть уверенным в подлин¬
ности своих чувств. Не ощущая рядом с Колетт этой «жесточайшей
горячки, утоления страсти, отчаянной ненасытности прикосновения к
любимому существу, радости пожирания его чудесного присутствия»9,
он приходит к заключению, что не любит эту молодую женщину, ко¬
торая еще за несколько лет до встречи с Батаем и знакомством с его
«теорией траты» избрала расточительство — прежде всего чувствен¬
ное, но также, как мы увидим далее, материальное — правилом своего
поведения. В минуты сомнений, которыми терзался Бернье, ему слу¬
чалось пожалеть, что болезнь, которая так и не оставляла Колетт, не
заключала в себе более весомой доли «смертельного риска»: более яв¬
ственная угроза смерти казалась ему условием усиления собственной
страсти.
В существовании самой Колетт любовь была больше чем страстью,
больше чем сладострастием, хотя сексуальной неумеренности ей, если
судить по некоторым из ее сочинений и свидетельствам знававших ее
мужчин, было не занимать: это было своего рода неистовствование,
буквально само-забвение, само-утрата, стремление к этой границе, где
«Я —это Другой» (А. Рембо), где cogito от несомненного «я мыслю,
следовательно, я существую» переходит к особой формуле безлично¬
сти: «мною мыслят» (А. Рембо), границе, которой, случается, достига¬
ют поэзия, религия и любовь и которая отделяет мир профанный от
сакрального. Безумно растрачивая себя в страсти к мужчине, которо¬
му никак не удавалось ни встать на ту высоту, которой она все время
искала, ни пасть на то «дно», что ее без конца соблазняло, Колетт ре¬
шила поставить крест на первой истории любви, покончив с собой. Но
попытка самоубийства не удалась: пуля, скользнув по груди, застряла
в боку. Колетт отделалась несколькими неделями клиники и многими
месяцами швейцарских курортов.
7См. «Миф о Сизифе» А. Камю, где комплекс донжуанства рассматривается
как характерный тип абсурдного существования.
8История любви Колетт и Бернье воссоздана в книге «Любовь Лауры»: L’Amour
de Laure / Par Jean Bernier; textes réunis et présentés par D. Rabourdin; postface de
J. Peignot. Paris, 1978.
9Ibid. P. 49.
190
После этого прямого вызова смерти, которая и без того напоминала
о своем присутствии всякий раз, когда обострялся туберкулез, Колетт
словно прозревает: реальна только смерть, тогда как жизнь ирреаль¬
на и допускает все. С этого момента ее существование направляется к
тому, чтобы взять от жизни все — от самого постыдного унижения до
высочайшего торжества. Этим настроем объясняются, наверное, та¬
кие рискованные шаги и «опасные связи» конца 20-х —начала 30-х
годов, как знакомство с берлинским врачом и писателем Эдуардом
Траутнером, автором книги «Бог, современность и кокаин», который,
если судить по одному из сохранившихся фрагментов уничтоженного
дневника Лауры, обретает в Колетт идеальный объект для удовле¬
творения своих сексуальных и политических фантазмов, или путеше¬
ствие в СССР, где она испытывает новое разочарование в «сильном
поле» (Борису Пильняку, с которым она сближается в то время и ко¬
торый живет тогда, как затравленный зверь, тоже не удается оказать¬
ся на высоте ее притязаний) и окончательно расстается с иллюзиями
«светлого будущего», дойдя в познании «советского опыта» букваль¬
но «до края»: не удовлетворившись банальными, никчемными и лжи¬
выми картинами существования москвичей и ленинградцев, Колетт
отправляется пожить в подмосковный колхоз, где едва не гибнет от
холода, голода и той беспросветности, в которой существуют русские
крестьяне.
Это путешествие в Советскую Россию, которое обернулось новым
столкновением со смертью, обусловило усиление политической направ¬
ляющей в поиске Колетт. Весной 1931 г. она становится одной из ак¬
тивисток демократическо-коммунистического кружка, возглавлявше¬
гося Борисом Сувариным (1895-1984). Борис Суварин (Лившиц) был
одним из основателей Французской коммунистической партии (ФКП).
Делегат III, IV, V съездов Коммунистического Интернационала, близ¬
ко знавший Ленина, Троцкого и Сталина, он был исключен из ря¬
дов ФКП в середине 20-х годов за оппортунизм и стал бесспорным
лидером неортодоксального французского коммунизма, устремленно¬
го к тому, чтобы преодолеть догматизм сталинской доктрины, навя¬
занной коммунистам Франции10. С Сувариным Колетт была знакома
еще до путешествия в Россию, но по-настоящему сблизил их общий
опыт неприятия современной советской действительности. Колетт не
только активно сотрудничает с организованным Сувариным журна¬
лом Социальная критика, объединившим на несколько лет инакомыс¬
лящих от коммунизма и сюрреализма, но и щедро финансирует его
издание. На страницах этого журнала появляются ее первые полити¬
ческие тексты, посвященные актуальным событиям в России, Испании
10См.: Раппе 7.-1/. Вопв Зоиуаппе. Рапе, 1993.
191
и Франции. Она подписывается именем Араке, выбрав название этой
закавказской реки за вошедшую в легенду непокорность: Араке будто
бы не терпит на себе мостов. Колетт на несколько лет становится бли¬
жайшей сотрудницей и любовницей Бориса Суварина, разделяя его
существование и политические устремления.
Судя по некоторым мемуарным свидетельствам, именно в кру¬
гу сотрудников Социальной критики Колетт впервые столкнулась с
Жоржем Батаем, который напечатал в журнале Суварина целый ряд
принципиальных философско-политических текстов11. Нет никакого
сомнения в том, что она была посвящена в некоторые особенности су¬
ществования этого писателя, сопрягавшего теорию и практику эротиз¬
ма в собственном творческом опыте. Батай-любовник, который любит
многих женщин и многими любим, который не упускает случая наве¬
даться в бордель или какое-нибудь другое злачное место, неотделим от
Батая-книжника, эрудита и кладезя премудрости, поражающего посе¬
тителей Национальной библиотеки неисчерпаемостью своих познаний,
от Батая-писателя, сочинения которого исполнены далеко не книжно¬
го эротизма, и Батая-политика, который чего только не предприни¬
мает, чтобы достучаться до современников, предупреждая их о неми¬
нуемости наступления того «зла», которое отвергалось, вытеснялось
и проклиналось прекраснодушным гуманизмом и умеренным либера¬
лизмом, словом, «мифом демократии», ослеплявшим и оскоплявшим
в его время Европу. Нет никакого сомнения и в том, что Суварин, со¬
вершенно чуждый экзистенциальным, литературным и политическим
крайностям Батая, мог какое-то время предохранять Колетт от слиш¬
ком тесного общения с тем, кто оставался для него, как он сам при¬
знавался спустя многие годы, не более чем «помешанным»: «Я знал,
что Батай помешан на сексе, но меня это не касалось. Я сознавал, что
такого рода наклонности могли повлечь за собой нежелательные по¬
следствия в плане “химии интеллекта” и просто морали, пусть даже и
условной, но я ничего не мог с этим поделать. Кроме того, мне прихо¬
дилось заниматься вполне серьезными вещами и потому, по большому
счету, не было дела до развратных наваждений и садомазохистских
измышлений Батая, навязчивые отголоски которых докатывались до
меня время от времени»12. Несмотря на все предостережения, исхо¬
дившие не только от Суварина, но и от Симоны Вайль, которая также
сотрудничала с Социальной критикой и сблизилась в то время с Ко¬
летт, молодая женщина кинулась к этой новой возможности потерять
себя «в другом». Слишком многое предопределило их сближение: пе¬
110 сотрудничестве Батая в Социальной критике см.: Фокин С. Л. Философ-
вне-себя. СПб., 2002. С. 131-154.
12Souvarine В. Prologue// Critique sociale. (Réédition). Paris, 1983 (цит. по:
Surya M. Georges Bataille, la mort a l’œuvre. Paris, 1992. P. 242-243).
192
чать смерти и предельное безрассудство, постоянное сознание своей
болезни и склонность ко всякого рода эксцессам, неприятие окружаю¬
щего мира и стремление во что бы то ни стало выйти за его границы,
обостренная чувственность и необыкновенная способность выходить
из себя.
После сближения Колетт с Батаем первая вступила в становление-
писателем; второй, занятый собственным письмом, не хотел этого за¬
мечать, за что и «винил» себя после смерти Лауры.
В жизни писателя возлюбленная может играть разные роли —
любовницы или музы, заботливой матери или непоседливой дочери,
премудрой советчицы или непримиримой соперницы. Может играть
несколько из этих ролей или какие-то другие... Жизнь писателя пре¬
ображается, если не сказать — оказывается под угрозой, когда люби¬
мая не хочет играть роли, не хочет быть для него кем-то — любовни¬
цей или музой, соперницей или советчицей... когда она хочет быть
не кем-то, а всем. Угроза исходит не столько от бесформенности, ко¬
торая привносится в существование любым всеядством, сколько от
странного, кое для кого невыносимого удвоения формы: ведь, желая
быть всем, такая женщина неминуемо повторяет собственное суще¬
ствование мужчины, которое редко кому из представителей «сильного
пола» не мнится необыкновенным, исключительным, неповторимым.
Экспроприация собственно мужского в повторении — вот чем угрожа¬
ет «второй пол» тому, что именует себя «сильным».
Эта угроза усиливается, когда спутница, желая быть всем, замахи¬
вается на самое «святое», что только есть у писателя, — на литературу.
Как правило, женщины сторонятся определенного рода литературы —
той, где речь идет не о жизни, какой бы вид та ни принимала, а только
о смерти. Ведь женщина и жизнь — сестры-близнецы, из чего, разуме¬
ется, отнюдь не следует, что мужчина и смерть — близнецы-братья.
Смерть —удел немногих, избранных, более того, тех избранных, кто
твердо знает, что избран смертью, и отдается ее стихии, безоглядно
прожигая жизнь, что можно делать, разумеется, по-разному. В этом
отношении литература есть не что иное, как прожигание жизни, ведь,
отдавая себя литературе, человек делает ставку не на жизнь, какой
бы облик та ни принимала, а на небытие.
Замахиваясь на такого рода литературу, женщина, как, впрочем, и
мужчина, словно перестает быть самой собой, вовлекается, как сказал
бы Жиль Делёз, в опасное становление-писателем, т. е. становление-
другим-существом; женщина, конечно же, не становится мужчиной, а
мужчина — женщиной: и та и другой становятся странного — среднего,
сказали бы мы, используя соответствующее подразделение граммати¬
ческой категории «рода» в русском языке, — рода существом, писате¬
лем, в котором сливаются до неразличимости мужские и женские чер¬
193
ты и в котором всякий внимающий читатель угадывает самого себя.
Литература и начинается с этой способности сказать «я» так, будто го¬
воришь от третьего лица, а «он» — будто от себя. Литература не знает
не только рода, но и лица. Безличность литературы, предполагающая
крушение «собственного», «мужского», «женского», всех перегородок
«я»-«ты»-«он»-«она», — непременное условие сообщения, которого и
добивается писатель: на это делается самая большая ставка лите¬
ратуры.
ЖАН-ЛЮК СТЕЙНМЕЦ
БАТАЙ И КУЛЬТ МИТРЫ:
К ИСТОРИИ ГЛАЗА
Мысль Жоржа Батая, какой бы дискурсивной она ни была (что
так или иначе проявляется в его трудах), остается вызовом. Она несет
в себе саморазрушение, и это вполне могло бы стать ее сутью. Парал¬
лельно многочисленным медитациям, предложенным ею, есть удиви¬
тельные рассказы Батая, зачастую недооцененные критикой. Заметить
это не означает тут же ухватить батаевскую мысль, поскольку дело
здесь, как кажется, в некой необъятности, которую в таких случаях
всегда трудно заключить в слова.
Сошлюсь на почти инаугурационную Историю глаза1, публика¬
цию, сначала замаскированную псевдонимом и оставшуюся незавер¬
шенной, в то время как Батай притворно заключал ее любопытной
уступкой приключенческим романам. Об этой Истории много сказа¬
но, и прежде всего самим писателем, тем менее отказывающимся от
комментария, что речь шла о книге, для него имеющей значение курса
аналитического лечения2 в такой степени, что, интерпретируя сам се¬
бя, он передает нам некие свободные ассоциации, погружающиеся, оче¬
видно, в самую сердцевину его жизни. Эти разъяснительные элементы,
одновременно стимулируя будущий комментарий, его ограничивают и
даже отказываются от него, ибо тогда становится очевидным, что тол¬
кователь в этих узловых пунктах не смог бы подменить собой Батая.
Сколько раз отдельные места в тексте выдают себя, столько же раз
1 Первая публикация —в 1928 г. (105 с.), подписана Lord Auch. Здесь и далее
отсылка к пагинации издания полного собрания сочинений (Œuvres complètes, 1.1,
1970). (См. русское издание: Ж. Батай. История глаза// Ж. Батай. Ненависть к
поэзии. М., 1999. С. 51-91. — Прим. ред.)
2 «Меня лечил (я был очень болен) врач, который сказал мне, что, несмотря
ни на что, средство, которое я использовал, оказалось лучшим из того, что я мог
найти» (О. С., 1.1, notes, p. 612). Этим врачом был психоаналитик Адриен Борель.
См. о нем: Ramsay, 1982, vol. 1, p. 358-359.
© 3. А. Панова, перевод, 2006
195
они укрываются, как фальшивые вывески с объявлением, предназна¬
ченным, как мы догадываемся, остаться тайной.
Вместо того чтобы вернуться к тому, что Ролан Барт очень метко
назвал «метафорой глаза»3, я хотел бы привлечь внимание к дета¬
ли, исходя из которой текст начинает отражать сам себя. Напомним
некоторые обстоятельства рассказа. Симона и рассказчик предаются
развратным играм, в ходе которых используют яйца (и при этом они
хорошо осознают их подобие глазному яблоку). У них есть подруга
Марселла, которую они пытаются приобщить к своим забавам. Во вре¬
мя устроенной ими оргии пьяная Марселла запирается в нормандском
шкафу. Там она мочится. В конце безумного праздника она теряет
рассудок, и ее отправляют в приют для душевнобольных. Симона и
рассказчик тайком ее навещают. Им удается проникнуть в ее комнату.
Марселла, увидев вошедшего молодого человека, просит защитить ее
в том случае, если вернется Кардинал4. Тогда рассказчик задает ей
само собой разумеющийся вопрос: «А кто это —Кардинал?» — «Это
он запер меня в шкафу», — отвечает она, уточняя, что зовет этого че¬
ловека Кардиналом, «потому что он —кюре гильотины». Рассказчик
пытается понять, благодаря каким ассоциациям Марселла преобра¬
зовала в сознании некоторые моменты сцены оргии. Он вспоминает,
что, выйдя из шкафа, она увидела у него на голове фригийский кол¬
пак, аксессуар котильона, ослепительно красного цвета, и он был весь
измаран кровью девушки, изнасилованной им. Отсюда он делает вы¬
вод, что «Кардинал — кюре гильотины» ассоциируется перепуганной
Марселлой с палачом, забрызганным кровью и носящим фригийский
колпак. И он добавляет: «Странное сочетание благоговейного почита¬
ния и отвращения к священникам объясняло эту путаницу, которая
для меня оставалась связанной столько же с моей действительной же¬
стокостью, сколько и с ужасом, который постоянно провоцирует меня
на действие». Заметим, что объяснение, представленное Батаем в этой
последней фразе, совершенно непонятным образом подменяет его соб¬
ственными воображаемыми отношениями отношения самой Марселлы
с палачом (о которых мы не знаем). Ибо если, связав два неоспоримых
факта: фригийский колпак, который она видит у него на голове, и свой
окровавленный вид, он сумел понять, глядя на себя глазами Марсел¬
лы, почему та приняла его за революционера-палача (он так комменти¬
рует слово «гильотина»), все же ничто не может уверить нас в том, что
Марселла испытывает в отношении священников ту смесь отвращения
3В «Critique» (авг.-сент. 1963), N 195-196. «Hommage à Georges Bataille», p. 770-
777. (См. русское издание: Барт P. Метафора глаза // Танатография Эроса: Жорж
Батай и французская мысль середины XX века. СПб., 1994. С. 91-100. — Прим.
ред.)
40. С., 1.1, р. 43. То же в дальнейшем.
196
и благоговения, которая заставляет его (Батая) уподоблять священни¬
ка палачу. Совокупность «Кардинал — кюре — гильотина» объяснена
согласно свойственным рассказчику ассоциациям, но мы не знаем, ис¬
ходя из чего Марселла решила, что узнала в нем кардинала или кюре,
даже если мы очень хорошо осознаем, почему она отождествила его
с палачом. Эти первые замечания, ограничивающиеся констатацией
странного переплетения того, что выдается за объяснение, указыва¬
ют также — как обнаруживает и текст в целом, — что никакой пункт
правдоподобной психологии не позволяет прочесть Историю глаза и
что большинство персонажей в ней являются под разными названи¬
ями проекциями того, кто пишет: его желаний, его извращений. Так
рассказчику удается объяснить фантазмы Марселлы, поставив себя
временно на ее место. То есть мы не хотим сказать, что Симона, Мар¬
селла и Батай перемешаны, но подчеркиваем, что перед нами имен¬
но литературное творение, очищенное от психологии и имитирующее
порнороман или черный роман5. Все же, представляясь именно тако¬
вым, оно тем лучше преступает некоторые готовые схемы, ибо, под¬
чиняясь, по-видимому, стремлению к композиции, скалькированной
с известных жанров, идет дальше, скользя, касаясь, но не обеспе¬
чив тем не менее нового воссоединения. Ибо здесь разрыв выявляется
еще более.
* * *
Безумное толкование реальных фактов, которое предлагает Мар¬
селла, вызывает много затруднительных вопросов. Выражение «кюре
гильотины», по правде сказать, достаточно необычно, и когда Батай
объясняет его, мы подозреваем, что это ему не удается полностью.
«Работа слов»6 дублируется здесь перепроизводством воображаемого;
и от слова к слову, используемым в диалоге-допросе, состоявшемся
между Марселлой и рассказчиком, а затем и в размышлениях от се¬
бя угадывается в незаконченном состоянии расплывчатое соединение
значений, мощное заявление относительно всего творчества в целом.
Что выбрать прежде всего в этой логической связи? Кардинала? Кюре
гильотины? Фригийский колпак? Следовало бы рассмотреть всю це¬
почку целиком. Но может ли это сделать язык? Может ли он динами¬
чески отобразить онирическую переполненность? Конечно, эта пере¬
полненность здесь продукт текста. И все же было бы ошибкой заявить,
5 Недвусмысленные ссылки на черный роман имеются в различных эпизодах, ка¬
сающихся приюта для душевнобольных, где находится Марселла, и который опи¬
сывается как мрачный замок (ch. 4, р. 28), даже как «замок с привидениями».
6 «Слова начинаются с момента, когда исчезает смысл, а остается только работа
слов»—статья «L’Informe», Documents, N7 (дек. 1929), перепечатано в: О. С., 1.1,
р. 217.
197
что она исходит только из текста. Опустив Марселлу и действующе¬
го рассказчика, нужно принять во внимание, что текст активизирует
эмоциональность Батая и причины его творчества.
Пока же положение Марселлы, запертой в нормандском шкафу,
дает ей (и писателю) повод к созданию фантазма, организованного
вокруг смертной казни. И эта экзекуция четко охарактеризована, по¬
скольку она соотнесена с машиной революции, изобретением Террора
в Истории. Гильотина состоит из специфических деталей: стоек, эша¬
фота, рычага, очка7, ножа и —для приведения в ход — исполнителя
смертной казни. Такой мотив вдохновляет слог Батая, и я постараюсь
доказать, что это так.
Как нормандский шкаф превращается в гильотину в сознании Мар¬
селлы и, следовательно, в творении Батая? Без сомнения, с помощью
гомоморфии: его высота напоминает опоры аппарата. Здесь нужно от¬
метить «холостую машину»8, принципиальную для развития текста
и связанную с его формированием. Нормандский шкаф теряет свою
обычную функцию мебели, куда складывают разные вещи. Он исклю¬
чен из привычной области использования. Пребывание в нем Мар¬
селлы и текущая из него струя мочи позволяют рассматривать его
как жилище. Шкаф-писсуар, следовало бы сказать. Но еще и шкаф-
гильотина, тем более что поток мочи в данном случае тождествен
струе крови. Высокие перегородки мебели приняли, как в гильотину,
заключенную Марселлу, и то, что движется между перегородками, —
течь из середины мебели — возникает как результат отсекания, отруба¬
ния. Вот почему момент был достаточно решающим, раскаленным до¬
бела оргией, чтобы проявилось безумие Марселлы, отраженное затем
нечеловеческим криком зарезанного существа. Под действием ужаса,
несущего все признаки сакральности, шкаф и тот, кто находится ря¬
дом с ним, заново вписываются в историческое воспоминание: Террор,
его экзекуция9, его кастрационная литания, возвращающая миру ви¬
новного с отрубленной головой в потоке крови, который тот проливает
как примирительное излияние.
Шкаф-писсуар, ставший шкафом-гильотиной, затем шкафом-
виселицей (скоро в нем повесится Марселла)10, преобразуется еще раз
7Отверстие для головы. — Прим. ред.
8 Здесь можно вспомнить книгу Мишеля Карружа: Michel Carrouges. Machines
célibataires, nouv. éd., éd. du Chene, 1976. Эти машины, по словам автора, запускают
в ход интерференции «машинизма, террора, эротизма и религии или антирелигии»
(р. 24).
9См.: Daniel Arasse. «La Guillotine ou l’inimaginable», R. S.H., 1982, p. 123-144.
10 «Здесь я ограничусь напоминанием, что Марселла повесилась после фаталь¬
ного инцидента. Она узнала большой нормандский шкаф. У нее застучали зубы:
она тотчас же поняла, глядя на меня, что это меня она называла Кардиналом... »
(ch. 8, р. 45-46).
198
согласно повествовательным орбитам романа. Ничто в действитель¬
ности не предвещает в этой седьмой главе кощунственных сцен, ко¬
торыми закончится рассказ. Но конфигурация мебели и воображае¬
мое присутствие рядом с ней церковного персонажа программируют,
без сомнения, запоздалую сцену исповеди (в Севилье, перед церковью
Дон Жуана), где Симона демонстрирует как откровение свой поло¬
вой орган взору ошеломленного молодого кюре. Внутренность шка¬
фа делится перегородкой на две части. И эти две части напоминают
кабину исповедника и кающегося (место, которое Симона займет в
вышеуказанной сцене). Таким образом, с момента, когда Марселла за¬
крывается в шкафу, она уединяется, как исповедник в своей кабинке,
в месте, которому ее недержание мочи придает сакральный11 харак¬
тер. Эти сравнения лишь намечают напластование, которое относится
к невозможному, но которое Симона и рассказчик отметят de visu12:
глаз, вырванный из головы священника, — это глаз Марселлы! До та¬
кой степени, что, закрываясь в шкафу, она уже была тем священником,
которого революционеры поспешат лишить жизни13.
Итак, «машина-шкаф», придуманная Батаем, выполняет многочис¬
ленные функции, но все они касаются вины и наказания. Исповедаль¬
ня, организующая циркуляцию признания-раскаяния, предлагает их
вариант, эротизированный в тексте: женский половой орган, показан¬
ный через решетку, у которой ведется разговор, оскорбительно подме¬
няет внутреннюю правду речи14.
Мебель (и ее трансформации)15, сконструированная в рассказе Ба-
тая, могла бы своевременно занять место среди необычных приборов,
созданных воображением Раймона Русселя. Более того, она, возмож¬
но, заслужила сравнение с машиной из В исправительной колонии
Кафки16. И «план продолжения»17 Истории глаза, в котором Симо¬
11 «Сакральный», sacer, — во французском языке амбивалентный термин, озна¬
чающий: 1) «священный», 2) «кощунственный». — Прим. пер.
12De visu — «зрительно» (лат.). — Прим. пер.
13 В этом отношении особенно убедительно сравнение варианта 1928 г. и ново¬
го варианта 1941 г. Действительно (см.: ch. 11, р. 60), слова «кабинка» (cabine) и
«дарохранительница» (tabernacle), которыми не удовлетворился Батай, заменены
в ней словом «шкаф» (armoire), не более, чем первые, уместным для обозначения
исповедальни, но гарантирующим отмеченное мною равновесие (см.: ch. 11, р. 599).
14 Эта демонстрация полового органа встречается в Мадам Эдварде, когда про¬
ститутка, показывающая свои «отрепья», говорит: «Ты увидишь... я Бог».
15Художник Андре Массон, друг Батая, нарисует приблизительно в 1939 г. це¬
лую серию провокационных картин с мебелью. См. в Сюрреализме и живописи
А. Бретона (Gallimard, 1965) рисунок Кресло для Полины Боргезе, р. 154.
16Политический комментарий к этому тексту см.: Laurent Dispot. La Machine à
terreur, Grasset, 1936, chap. «La Maquette».
17Этот «план продолжения» появился только в посмертном издании Истории
глаза (Pauvert, 1967). Симона умирает тоже в муке, переживая пытку «одиноче¬
ства и лишения рассудка», «экзальтации».
199
на фигурирует в числе узников концентрационного лагеря, кажется,
более чем подтверждает подобную гипотезу.
* * *
«Машина-мебель» не ограничивает этим свою деятельность, по¬
скольку в сцене, возникающей в воображении Марселлы, она произ¬
водит вокруг себя целую серию, по-видимому, налагающихся друг на
друга эквивалентных персонажей, — каждый перекрывает другого в
одной точке, но все же полная идентификация никогда не достига¬
ется. Кардинал, кюре гильотины, революционный палач во фригий¬
ском колпаке, очевидно, расставляются не в противовес, а в дополне¬
ние друг к другу. Если кюре гильотины и палач, как я уже отметил,
бывают заодно, то иначе обстоит дело с обращением «Кардинал», ко¬
торое поначалу кажется произвольным. Но именно оно доминирует
в голове обезумевшей Марселлы, хотя до конца не известны моти¬
вы этой зацикленности на «человеке церкви», носящем такой высокий
церковный сан. Кардинал, по всей видимости, задуман как ужасный
персонаж, присутствие которого несет угрозу смерти. Однако в Ис¬
тории глаза, как и в истории церкви, не существует носителя точно
такого значения. Было бы действительно неуместно увидеть в этом
загадочном прелате какого-нибудь Мазарини, какого-нибудь Ришельё,
нисколько, по правде сказать, не рассматриваемых в роли палачей, ка¬
кие бы экзекуции ни исполнялись по их приказу. Скорее, можно было
бы объяснить Кардинала одним из тех множественных впечатлений,
наподобие чувственного пятна, какие охватывают нас ночью и пропи¬
тывают своими красками экран, полотно сновидения. Он вызывает в
представлении одновременно прелатуру и цвет костюма, в который он
облачен, — кардинальский пурпурный. Таким возникает в глазах Мар¬
селлы рассказчик, запятнанный и как бы окутанный кровью. Само со¬
бой разумеется, что кровь освящает того, кого видит Марселла. Алый
цвет, помимо этого, заставляет думать об опухании и покраснении по¬
ловых органов. Прилив крови под кожей, краснота свидетельствуют
об искажении реального в акте, для того чтобы одним только цветом
смогло выразиться жгучее ощущение выхода за предел желаемого са¬
мим телом. Отсюда неизбежность излияния. Марселла мочится, расте¬
рявшись! А вне шкафа — завершение оргии, обостренной опьянением:
жидкость течет потоком, о чем говорят также волны крови, бойня на¬
силия, окрасившая рассказчика, встречающего Марселлу при выходе
из шкафа-писсуара-гильотины. Кардинал напоминает о том, что есть
святого в кровопролитии. Он демонстрирует жертву, цвет которой но¬
сит. Своим саном он убеждает в высшем значении (близком к потере
рассудка) сексуального насилия. В воображении Марселлы оргия, сви¬
200
детельницей которой она оказалась, превратилась в кровавую религи¬
озную сцену. Не была ли уже моча, которую она испустила в шкафу,
способом причаститься к сперме, изливаемой молодыми людьми вне
шкафа, в комнате?
Кардинал воздвигает высокую фигуру власти с двойным значени¬
ем, как эасег18. С одной стороны, он берет на себя жертвоприношение,
он носит его ослепительную пышность, как яркий плащ тореадора; с
другой стороны, его можно рассматривать как закон, наказывающий
преступника и приступивший к экзекуции. Использование революци¬
онерами гильотины к тому же объединяло моральное требование на¬
казать виновных и садистский порыв упиться пролитой кровью. Но
пролитая кровь, так как она окрашивает алым цветом одежду Карди¬
нала, принимает форму неоспоримой власти. Она ускользает от некон¬
тролируемого излияния. Она собрана и измерена. Костюм цивилизует
ее необузданность.
Однако, когда Марселлу, призванную объяснить «Кардинала», по¬
просили дать более широкое определение этого слова, она раскрыва¬
ет его негативное, даже тривиальное содержание. Кардинал — это кю¬
ре. Принижая его иерархически, она покрывает его кощунственным
презрением. И Кардинал тогда —всего лишь священник, прибывший,
чтобы присутствовать при последних минутах приговоренного к смер¬
ти, и, может быть, забрызганный при исполнении казни. Таким же
образом упоминание о священнике вписывает в другом месте расска¬
за предвестие заключительных сцен, где молодой испанский духов¬
ник должен будет принимать участие в смертельных оргиях семей¬
ной пары. Он станет жертвой этих разгульных излишеств и обозначит
фактически антиклерикальную жилку, проходящую через все романы
Батая и грозящую иногда перейти границы выносимого: к примеру,
в Аббате С. — истории падения, достигающего экстаза19. Иногда до¬
статочно прочесть несколько страниц Истории глаза, чтобы осыпать
молодого священника множеством ругательств: гнусный тип, ужасный
фантом, мокрица, ничтожество, идиот, падаль, чудовище. Инверсиро¬
ванная и трансгрессивная мысль Батая, движимая теперь уже не сим¬
волическим повторением литургии, но фундаментальным, единствен¬
ным, незаменимым опытом, заявляет о себе в этих определениях, сни¬
жающих божественность облика того, кто служит религии, и, противо¬
стоя этому, позволяет услышать божественное в действии. Почитание
18Святой, священный — и кощунственный, скверный. — Прим. пер.
19Аббат С. (Les Amis des Éditions de Minuit, 1950). «Я деградирую сам себя»
стоит в эпиграфе этой книги, заимствованном у Уильяма Блейка. (См. русское
издание: Батай Ж. Аббат С.// Батай Ж. Ненависть к поэзии. М., 1999. С. 305-
411. — Прим. ред.)
201
и отвращение тесно связаны20: они перезаряжают интенсивность друг
друга.
* * *
«Работа слов» в определенном пассаже, задержавшем мое внима¬
ние, получает новый импульс от элемента, помещенного на манер бор¬
дюра вокруг картины: фригийского колпака. В самой сцене оргии о
нем никак не упоминалось, в дальнейшем к нему больше не вернутся.
Но в бреду Марселлы он принимает значение «жестокой детали» (по
крайней мере, так предполагает рассказчик). Проделанный мной ана¬
лиз не освобождает эту сцену от фрейдистского толкования, ибо Батай
предостерегает от подобной процедуры: или анализирует он сам (мы
не можем занять его место)21, или же он ограничивается, как в данном
случае, тем, что, подчеркивая деталь, оставляет за ней статус «куска
бессознательного», помещенного в текст.
Но я хотел бы здесь рассмотреть то, как подобный элемент вскор¬
мил рассказ, соединив некоторое число образов или сцен, которые вряд
ли можно отнести «батаевскому подсознанию». Говоря о фригийском
колпаке, Батай подчеркивает тем самым символический предмет, при¬
надлежащий к области универсального воображаемого. Сам он удовле¬
творился использованием его в более индивидуальных целях. Смысло¬
вая многозначность фригийского колпака известна со времен глубокой
древности. Она развита до такой степени, что теперь трудно вспомнить
о существовании простого значения головного убора народа одной из
областей Малой Азии —Фригии. Здесь мы имеем дело с эмблемой,
т. е. с реальным предметом, созданным, чтобы аллегорически передать
идею, значение22. Присутствие фригийского колпака в Истории глаза
сообщает этому месту в тексте особый символический статус на том
же основании, что и сжатые значения некоторых слов, рассмотренных
мною ранее. Ибо этот специфический колпак, дополнительный эле¬
мент сцены оргии («аксессуар котильона», — говорит Батай), порож¬
дает идею. Даже если он аксессуар, он также и «жестокая деталь».
Остается только выявить эту идею. Тогда невозможно будет доволь¬
ствоваться дефинициями. Речь идет о смысловом ералаше. Либо же
20 «Религиозность (идти до конца в том, что мы можем вместе, в возможно¬
сти жизни) имеет два пути: один — рабский, другой —высокий». «Могила Людо¬
вика XXX» в О. С., 1.4, р. 167.
21 Именно так в Истории глаза, пассаж в гл. 6 (р. 38) и вся гл. 8.
22 «Эмблема —это добровольно выбранный одним лицом или обществом знак, ко¬
торый должен утвердить индивидуальность, объявить идентификацию ценности,
как визуально выраженный девиз». Причины выбора революционерами фригий¬
ского колпака с загнутым верхом остаются неясными, хотя обычно его путают с
островерхим колпаком (рПеив) рабов античного мира, получивших свободу.
202
это на первый взгляд необузданная идея революции, свободы (крас¬
ный колпак носил освобожденный раб). Но революция именно в этом
случае оценивается негативно: «палач», «гильотина». Она воскрешает
в памяти Террор, его бойню и «кровавую ванну» Термидора. Безуслов¬
но, во фригийском колпаке, сначала аксессуаре котильона, рассказчик
хотел бы видеть —лично для себя и прежде всего —только мишуру,
комически символизирующую свободу и даже распущенность нравов.
Вулканический красный цвет подходит для колпака освобожденного
раба. Когда Батай, через интерпретацию Марселлы, включает в оргиа¬
стическую сцену призрак гильотины, он тем самым вводит в собствен¬
ный текст рефлексию (идеологическое отражение), уподобляющую без
какого-либо логического умозаключения момент оргии разрушитель¬
ным силам революции. То есть в этом месте текста он хочет сказать,
что Историю в некоторых случаях можно сравнить с движениями те¬
ла и что можно провести параллель между социальной революцией
и физиологическим актом, провоцируемым наслаждением. В финале
подобные сейсмические толчки не приводят к гармонии нового обще¬
ства, только к очищению, жертвой которого неизбежно станут какие-
то люди: несчастная Марселла, слишком слабая, чтобы признать си¬
лу желания, или священник-подлец, поспешивший осудить сексуаль¬
ную плетору. То, что именно палач, а не революционер носит здесь
фригийский колпак, придает тексту Батая непобедимую мощь. Образ
революции не имеет больше ничего общего с обедом и счастливыми
сотрапезниками. Она зовет на жестокую оргию, где смерть другого
должна произойти, как в садистском микрокосмосе Общества друзей
преступления.
Но ограничиться, как, по общему мнению, сделал Батай, тем, что
фригийский колпак относится только на счет революционного празд¬
ника, праздника, не воспринимающегося без уравновешивающих его
кровавых репрессий — гильотины и палача, — на мой взгляд, недоста¬
точно. Ибо простой «аксессуар котильона» восходит к гораздо более
древним временам, чем восстание 1789 г. и эра санкюлотов. Мы ви¬
дим его, действительно, в античной иконографии, и он неизбежно ве¬
дет нас в место своего очевидного рождения — Фригию, где одетые в
такой колпак галлы, священники Атиса, чествующие мистерии Ки-
белы, в экстазе кастрировали себя. В центре внимания Батая —раз¬
личная практика жертвоприношений. Она учит расчленению гомо¬
генного существа. Таким способом можно достичь господства, свя¬
зи, непосредственности. Рассказчик, одетый во фригийский колпак,
не только становится участником оргии, которая организована моло¬
дыми буржуа и конец которой положит приход родителей. Он обла¬
чается в атрибуты приносящего жертву, хотя мы узнаем, что он всего
лишь изнасиловал девушку. Марселла, выйдя из шкафа, при виде его
203
проникается его сакральным значением и сразу становится жертвой
(в то время как он еще не насилует ее). Не отдаваясь телом, Мар¬
селла грубо предвосхитила (струей мочи) струю крови, которую дол¬
жен был бы по праву извлечь из нее рассказчик, увенчанный митрой
фантазии.
К тому же фригийский колпак носили не только служители Кибе-
лы. Он был гораздо более специфичным знаком одного из самых вол¬
нующих божеств Античности — бога Митры, часто отождествляемого
с солнцем. Колпак, даже случайно попав в Историю глаза, возникает
как красное сияние, исходящее от огромного жертвенного заднего пла¬
на, удивительной кровавой фрески, простирающейся на всем протяже¬
нии от Востока до Запада. Нет никакого сомнения в том, что Батай
был знаком с культом Митры23. Мы не знаем действительной силы
этой религии, у нас нет Hagios logos (священной справочной книги).
Известно только, что она распространялась вместе с римскими леги¬
онами от Персии до Британии и что она переводилась всегда одной
репрезентативной системой: человек, одетый во фригийский колпак,
перерезает горло быку, на котором сидит.
Батай в Гнилом солнце24 описывает то, что, как ему кажется,
является основой культа Митры: «Мифологически солнце, на кото¬
рое смотрят, отождествляется с человеком, закалывающим быка, а
тот, кто смотрит, — с зарезанным быком». И уточняет: «Митраистский
культ солнца сводится к очень распространенной религиозной практи¬
ке: нужно было раздеться и войти в нечто вроде ямы, покрытой плете¬
ной решеткой, на которой священник закалывал быка; сверху внезап¬
но изливался чудесный душ теплой крови, сопровождаемый шумом
борьбы и мычанием быка: простое средство морального восприятия
животворных лучей ослепительного солнца». История глаза (1928) и
Гнилое солнце (1930) написаны почти в одно время, и не будет заблуж¬
дением считать, что Батай, дав рассказчику фригийский колпак, знал,
какой ассоциативной силой был заряжен подобный предмет: в данном
случае это не просто эмблема, но священнический знак служителя
бога. Рассказчик, которого Марселла восприняла как Кардинала, от¬
230 культе Митры см.: Robert-Alain Tunean «Mithraet le mithriacisme» (PUF, Que
sais-je?, 1981) и Martin Vermaseren «Mithra ce dieu mystérieux» (Paris; Bruxelles, éd.
Sequoia, 1960).
24 Гнилое солнце появилось в: Documents. N3, 1930. P. 173-174. Снова опубли¬
ковано в: О. С., 1.1, р. 231-232. С другой стороны, в 1933 г. Батай напишет текст
Жертвоприношения (см.: О. С., 1.1, р. 614) к рисункам Андре Массона (см. при¬
ложение к настоящему изданию. — Прим. ред.). Объявление о выходе серии этих
рисунков было помещено в подписном бюллетене вместе с изображением Митры
без фригийского колпака. Это изображение можно найти в: L’Arc. 1967. N 32. Р. 5 (в
номере, посвященном Ж.Батаю). Окончательно Жертвоприношения появились в
1936 г. в G. L. М.
204
крыто взял на себя еще до этой сцены роль священника, убивающего
быка. Воображаемая гильотина получает при этом новый смысл. И ал¬
люзия на служителей христианской религии, более кричащая (более
крикливая), инверсируется в языческой ссылке.
Конечно, Батай раскрывает здесь двусмысленность [понятия] sacer.
Он подает идею «отвратительного» смешения христианского культа и
культа Митры, в которое некоторым хотелось бы поверить. Действи¬
тельно, для последнего тоже были характерны совместные трапезы
сообщников (как причащение на Тайной вечере), а обычай окропле¬
ния кровью равнялся своего рода крещению.
Во фригийском колпаке, имеющем внешне игровой характер, зало¬
жены и другие образы. Батай по мере развертывания рассказа обес¬
печивает их зарождение. Этот убор отсылает как к революционному
палачу, так и, напоминаю, к изображению Митры, изваянному в мно¬
гочисленных святилищах. Бог перерезает горло быку. Таков его глав¬
ный жест, такой спектакль показывали новообращенным, и те долж¬
ны были увидеть в нем драматизацию космогонии и морали. Конечно,
приписать рассказчику митраистскую функцию было бы равносильно
тому, чтобы окончательно определить его значение в этой части рас¬
сказа. Я предпочитаю сказать, что митраистский внутренний смысл
объясняет некоторые двусмысленные сцены Истории глаза и что во¬
ображаемая смысловая нагрузка «красного колпака» используется не
в системе, не путем транспозиции мифа о Митре, но согласно прибли¬
зительной истине, которую он несет.
Акцентировать эту «ужасную деталь» значило для Батая вернуть
Солнцу его ослепительное сияние и сразу же погрузиться в «исто¬
рию глаза» до самой орбитальной полости, откуда она вышла. Можно
предположить, что История глаза — это история западного идеализма
и его паноптих (со времен Платона); в истории, которую нам предла¬
гает Батай, он помещает, беря реванш, в центре света черное солнце,
слепое солнце. Батай не возвращает нам зрение, как Платон, но лов¬
ким движением показывает нам настоящий свет25. Он говорит, что
реальное солнце больно слепит. Только фальшивое солнце, на которое
не смотрят прямо, к примеру солнце прекрасной поэзии, гарантирует
мягкий свет сохраняемой жизни. Надев «фригийский колпак», рас¬
сказчик показывает Марселле (спрятавшейся в тени шкафа-пещеры)
ослепительное сияние оргии, пародию на которую он носит на голове,
ибо жизнь «пародийна», а весь мир —это «веселое самоубийство»26.
Пародийный фригийский колпак означает настоящую тайну, настоя¬
25Намек на миф о пещере в версии, изложенной в Государстве Платона, кн. VII.
26 «Жизнь пародийна» — цитата из Солнечного ануса (Galerie Simon, 1931) (см.
приложение к настоящему изданию. — Прим. ред.). Перепечатано в: О. С., 1.1, р. 81.
«Мир —это веселое самоубийство» — в Архангелическом (1944).
205
щую интимность, заканчивающуюся смехом там, где Марселла обиль¬
но льет слезы (или мочу). Красный Кардинал —это и языческий слу¬
житель культа, осуществляющий ритуальное жертвоприношение. И,
без сомнения, он грозит Марселле, ее телу, ее жизни, чтобы превра¬
тить эту жизнь в ослепляющий дар. Жертвенный момент сияет в этом
пассаже, где смысл слов отклоняется от своей траектории, скользя в
луже крови, деформирующей логику форм. И если тогда Марселла не
была принесена в жертву, девушка сама позаботится о том, чтобы сде¬
лать это в дальнейшем, повесившись в шкафу, наподобие одной из жен
Синей Бороды. Но в этом акте выбор смерти смещает значение жерт¬
вы (убивая себя, она устраняет конфронтацию с объектом, который
включает в себя всякая жертва, она становится одновременно субъек¬
том и объектом). Придется подождать, пока рассказ выделит из себя,
как секрет, чистую жертву, ознаменованную пародийным фригийским
колпаком (как шлем, игральные кости или жребий).
Крутой склон излишеств увлекает персонажей в Испанию, стра¬
ну страстей. Они отправляются туда, чтобы избежать «неприятностей
полицейского расследования». Но какой герменевт не предпочел бы
присоединиться к ним, слишком хорошо зная, что фригийский колпак
демонстрировал не только желание устроить маскарад (оргию моло¬
дых людей) и даже революционный праздник с призраком гильотины?
Ибо Митра, как напоминает Батай, был богом или «гением» Торбола,
и именно в Испании осталось в обычае жертвоприношение быка, ли¬
шенное цивилизованной оболочкой своего сакрального смысла, но все
еще несущее интенсивный заряд света и тьмы в борьбе тени и света,
которую ведет тореадор, одетый в яркий плащ. Залитые солнцем, его
мочевым сиянием, Симона и рассказчик присутствуют на корриде, ко¬
торая становится тем более жертвоприношением, что сила тени быка
(вся проникнутая светом) оборачивается против человека света и по¬
ражает его в самый глаз. Вылущивание показывает нам слепую часть
дня, настоящую жизнь. И алая ткань, в которую закутан Гранеро, от¬
ражает, как в пародии, ужасного Кардинала у шкафа, так же как она
окрашивает в красный цвет пятно солнечной мочи на белой простыне,
которую Марселла вывесила с ночи на окне своей комнаты в приюте
для душевнобольных, куда ее поместили. Истина жертвоприношения,
которую мы уже давно предчувствовали, проявляется за счет прино¬
сящего жертву. На грани, когда рассудок еще сохраняется, на этом
пороге она помогает понять взаимообмен между человеком и живот¬
ным. Проблема не столько в том, чтобы убить зло в образе животного,
сколько в том, чтобы в тот же миг зарядиться мощной силой смерти.
Сакральная связь устанавливается жестом, которым убивают и кото¬
рый забрызгивает теряющимся смыслом все, к чему прикасается.
206
* * *
История глаза отмечена несколькими убийствами: велосипедиста
(рассказчик посвящает ему только одну страницу, но это событие вво¬
дит в рассказ опьянение кровью, связанное с «глубокой сексуально¬
стью») и молодого испанского священника. Трудно понять, имеем ли
мы и в последнем случае дело с жертвоприношением. Служитель куль¬
та сравнивается с падалью, с поганым животным, но эти определе¬
ния не позволяют увидеть в нем жертвенное животное (которое ча¬
сто невредимым и прекрасным уводится из мира вещей в мир без
смысла).
Все же сцена, произошедшая в Севилье, в церкви Дон Жуана27,
собирая элементы — носителей рассказа, — служит превосходным за¬
вершением бредовой интерпретации, высказанной когда-то Марсел¬
лой: шкаф-гильотина превращена в исповедальню, Кардинал — в свя¬
щенника, обозначенного колпаком, жертвоприношение — в убийство,
которому придается ритуальный характер. Влагалище Симоны рас¬
крывается, являя невообразимое место, где необычайной идентифика¬
цией глаз священника налагается на глаз Марселлы. Риторика рас¬
сказа взбаламучена этим до такой степени, что текст уже не риску¬
ют продолжать. Мы больше не должны воспринимать этот момент
как напоминание о другом, как сравнение. Наоборот, он попадает под
влияние непостижимого тождества, в других случаях определяемого
глаголом-связкой «быть»28. «Я подлинно увидел в волосатом влага¬
лище Симоны бледно-голубой глаз Марселлы, которая смотрела на
меня и плакала мочевыми слезами»29. Глаз священника непохож на
глаз девушки. Это его глаз. Рассказ больше не развивается в ми¬
ре метафорических образов. Теперь это не метафора, а восстановле¬
ние. Мы выходим из сюрреалистического мира, связанного сходством;
27Фантастическая новелла Бальзака Эликсир долголетия (Revue de Paris, ок¬
тябрь 1830) рассказывает другую «историю глаза» на сюжет смерти Дон Жуана.
Дон Жуан натирает глаз своего покойного отца жидкостью, которой тот просил
натереть его тело после смерти. Глаз оживает. Но Дон Жуан хочет сохранить элик¬
сир для себя и раздавливает живой глаз. Позднее, проведя жизнь в общеизвест¬
ных любовных приключениях, он сам скончался. Следуя его наставлениям, слуга
смазывает его тело каплями знаменитого эликсира, но, потрясенный частичным
воскрешением хозяина, роняет флакон, и тот разбивается. Чудесная жизнь головы
Дон Жуана побуждает его сограждан к ее почитанию и даже канонизации. Но в
день причисления к лику блаженных голова, отделившись внезапно от тела, падает
на голову совершающего мессу аббата и грызет ее. Эта мрачная сцена происходит,
как утверждается, в церкви в Севилье, где как раз и разворачиваются, по словам
лорда Эдмонда, последние сцены Истории глаза.
28 «Глагол “быть” — экипаж для перевозки любовного неистовства». L’Anus
solaire, cit., О. С., t. 1, p. 81. (См. Солнечный анус в Приложении к настоящему
изданию. — Прим. ред.)
29О.С., 1.1, р. 69.
207
мы уходим даже от всех ассоциаций, которых требует рассказ. Иден¬
тификация прерывается многоточием. Этот топографический обрыв
только лучше предупреждает о мире беспрерывности (а не эквивален¬
тов), которого мы достигли. Здесь быстро возникают слова, изъятые
из обычного употребления, поскольку Батай дает нам взглянуть на
безумный монтаж, где сверкает отсутствие решения, показанное гла¬
зом Марселлы. В этот миг в одержимом теле Симоны соединяются
Симона и Марселла. [Половая] дыра одной затыкается полным, как
яйцо, органом другой. Оторванный от своего фаллического значения,
глаз распутничает в половодье слез. Светло-голубой —он, в свою оче¬
редь, раскрывает голубизну неба —перед катастрофой. Никакой гар¬
монии, никаких находок. Это образ потери, смотрящий на нас, а не
глаз морали бдительного Бога. Ужасное сверхналожение, не сравни¬
мое ни с чем, единственное. Но все вокруг этого наложения окружено
фразами металингвистического толка. Именно так рассказчик (кото¬
рому читатель передает свои функции) замечает: «Глаза вылезали у
меня из орбит, как будто они напряглись от ужаса»30. Чтение Исто¬
рии глаза буквально провоцирует его [чтения] эрекцию, вылезание из
орбит. Тот, кто пробегает глазами по тексту, не верит собственным
глазам.
Возможности, предложенные мимесисом, позволяют осуществить
презентацию непрезентативного. То есть литература, в свою очередь
изнасилованная, преодолевает знаменитый барьер образов, от которо¬
го она долго зависела, но не находит себе оправдания в категории
фантастического. И будучи на грани потери способности говорить,
рассказчик прибегает к сравнению как раз перед тем, как должен
перейти к блестящим аргументам самого молчания: «Я оказался (я
так себе это представляю) перед тем, что я всегда ожидал, как ги¬
льотина ждет шею, которую должна отрубить». Ему, конечно, нужен
какой-то эквивалент. Он должен вообразить себя, представить себя. И
его ожидание сравнимо не с человеком, а с объектом. С холодом лез¬
вия. Тогда рассказчик становится тем кюре гильотины, про которого
раньше говорила Марселла. Хаотичный бред Марселлы уже тогда да¬
вал то, что позднее сотворит невозможную сцену. Кюре, выходящий
из шкафа-исповедальни, приносится в жертву. Глаз его смешивается с
глазом Марселлы. И сама сцена становится добычей подглядывающего
рассказчика, роняющего на нее нож своего взгляда, обрывая на этом
рассказ. Сцена —это шея, взгляд устремляется на нее и обезглавли¬
вает ее.
301Ыс1.
208
* * *
Эти множественные сближения не составляют все же единства. Их
нельзя свести к совокупности. Общий пункт, мотивирующий их, есть
одновременно и момент бегства. Текст отказывается продумать свой
монтаж, разве что при этом он признает все то, что касается ужасного,
пропасти. Но все же он продолжится эпизодом, достойным Никелевых
ног31. «Через два часа сэр Эдмонд и я, украсив себя фальшивыми чер¬
ными бородами... » и т. д. Маскарад сменяется истиной, мельком уви¬
денной, но видящей глазом, оплакивающим истину. (Напомним здесь
выражение Рене Шара32.)
В то время как концовка рассказа предполагает обычно развяз¬
ку, История глаза описывает на последних страницах повествования
ситуацию, которую нельзя распутать, некоего монстра. Без сомнения,
Батай писал, имея в виду чудовищность: изобличить наготу, но не все¬
гда только секс. Она оживляет турбуленцию секса и его способность
связать разлученных людей путами, такими же крепкими, как путы
жертвоприношения. И, однако, эта связь не гарантирует любовного
слияния, когда двое обрели бы прекрасное единство гермафродита.
Эта связь их растворяет, чтобы, ассимилируясь, они потеряли соб¬
ственную природу и не смогли зародить богатую «постановку в глазу»
метафоры.
Элементы бредовой сцены, возникшей в воображении Марселлы,
не несли зеркального значения33. Слова, заново интерпретирующие
ситуацию прошлого, коагулированные образы, скорее обозначали, чем
представляли, и их перемещение в финальной сцене указывает на ак¬
тивность, выходящую за рамки аналогий и гомоморфий. Хотя Батай
переносит многозначность некоторых слов на метонимическую ось, —
и тут, как правильно заметил Барт, он выступает как поэт, — каждый
раз композиция ведет к декомпозиции, потому что повествовательное
движение исходит здесь из необузданности, отрицающей всякую гар¬
монию.
Известно, что необузданность бросает вызов языку. Батай все-таки
31 Батай в статье, посвященной Никелевым ногам (Documents. 1930. N4), сбли¬
жает в смехотворное трио мексиканских богов, жестоких «марионеток, переодетых
в богов». В свою очередь, Мишель Лейрис сравнит главных героев Истории гла¬
за с богами ацтеков, которых Батай называл «плохими и зловещими шутниками».
См.: «Du temps de Lord Auch» в «Georges Bataille» (L’Arc. N32. P. 11).
32 «Истина с тайными слезами» в «Sur le tympan d’une eglise romaine», «La Parole
en archipel», 1962.
33 Отсюда следует, что История глаза является буквально не воспроизводи¬
мым зрительно текстом, несмотря на литографии и гравюры (Массона или Бель-
мера), сопровождающие некоторые его издания. Глаз теряет функцию органа.
Он становится объектом-словом — или, ссылаюсь на Жана-Мишеля Рея, «знаком-
симптомом» (Georges Bataille// L’Arc. 1971. N44. P. 61).
209
с этим справляется. Слова, ситуации, интенсивно заряженные, заходят
дальше, чем могли бы это сделать сами по себе.
Самоорганизуясь в яркие события, они порождают ужас, сковыва¬
ющий язык. И именно в языке, желая обуздать главную сцену, Батай,
проникнувшийся культом Митры, преследует жертвоприношение, где
смысл поворачивается в сторону своей смерти, глядя на нас взором
зарезанного животного34. Когда смысл обращается в сторону своей
смерти, это не говорит о том, что он обращается в бессмыслицу. Это
означает, что смысл начинает исчезать, и никакое средство — пара¬
докс, оксюморон, новая дефиниция —не может вернуть его к жизни.
Функция рассказа тогда смешивается с волной очевидности, отнюдь
не отрицающей повествование, потому что реальность выемки (места
очка в аппарате гильотины, ждущей шею, которую нужно отрубить)
может быть обозначена только материальным монтажом (здесь — на¬
писанным текстом), делающим возможным «искренний разрыв»35.
Перевод 3. А. Пановой
34 «В любой доступной реальности, в любом существе следует искать жертвен-
ническую связь, рану. Существо задето тогда и там, когда оно падает: женщина —
под платьем, бог — у горла жертвенного животного» (Le Coupable, Gallimard, 1944,
p. 29).
35 Слова из Песни святого Иоанна Малларме. Малларме никогда не мог замаски¬
ровать текстом угрожающую ему пустоту кастрации (Свадьба Иродиады осталась
незавершенной). Что же касается Батая, тот довел ее до высшей экзальтации.
210
ФРАНСИС МАРМАНД
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ, ИЛИ МГНОВЕНИЕ ПИСЬМА
Разрушить, говорит он...
Итак, накануне пятидесятилетия Батай уже не Батай: он не пи¬
шет, он не раскрывает себя. Конечно, остались его статьи, особенно
те, которые составили Документы, но они еще не задерживают на¬
шего внимания. Они еще не нашли того признания, какое получат с
момента собирания их в единое целое (на что Батай никогда не решал¬
ся), с момента их соединения и перепрочтения.
Разнаряженный изменчивыми псевдонимами, безымянный автор
вызывающих статей, неопубликованных, циркулирующих в тени, кон¬
фиденциальных (Небесная синь, к примеру, датирована 1935 г., но по¬
лучила известность лишь в 1957-м), —так Батай оставляет свой ро¬
счерк и запоздалое признание в своем имени, в имени своего отца кни¬
гам и статьям последнего двадцатилетия своей жизни: «Единственное
средство искупить ошибку писательства — это уничтожить написан¬
ное».
Откуда эта настойчивая тяга к разрушению? В послесловии (1974)
к октябрьской статье 1945 г. под названием Горячка Жоржа Батая
Жюль Моннеро сообщает следующее: совсем не те причины, которые
представляются, стали источником раздражения для Батая. Не ис¬
кажения, неверная передача мысли или непризнание — нет, «больше
всего он не любил намеков на свою подземную литературу (Мадам
Эдварда, История глаза), т. е. на то, благодаря чему он теперь изве¬
стен»1. Как если бы в Батае «немного комичное чувство респектабель¬
ности» сталкивалось со своим собственным двойником, с чем-то вроде
«изображения тайны».
Допустим. Пусть здесь есть доля игры, это вполне вероятно. Веро¬
ятно также и то, что в этой доле двойной игры, в этой «комедии двой¬
1J. Monnerot, «La fievre de George Bataille», in Inquisitions, Paris, Librairie José
Corti, 1974, p. 216.
© К. В. Преображенская, перевод, 2006
211
ственности» Батай «самовольно», преувеличенно полагал себя упро¬
щенным. Если выражаться коротко, обращаясь к работе слова2, это
подобно преступлению против суверенности.
Допустим также, что вокруг Внутреннего опыта (1943) или Ви¬
новного (1944) существует разрыв творчества, отступление в себя, во
внутренний разговор, сменяющий шум групп и коллективов, выража¬
ющих свою близость: однако «самые близкие», по замечанию Бланшо,
«говорят только о том, что делает их близкими, но никогда —о том,
что остается далеким в этой близости, и далекое исчезает по мере ис¬
чезновения присутствия » 3.
И тем не менее, хотя остается общее, трудноуловимое движение,
этот поворот творческой судьбы, который не сотрут ни Ацефал, ни
Понятие траты, ни История глаза, в своей бесчувственной жестоко¬
сти остается совершенно парадоксальным, ибо то, что поражает среди
фрагментов и групп сочинений столь плодовитого автора, то, что за¬
хватывает в изменчивости и намеренной противоречивости расстанов¬
ки, — это точка его местонахождения, как прекрасно выразился Жак
Реда, «от истоков, столь цельных»4.
Разрушение, этот жест, весьма символично посвященный изначаль¬
ному исчезновению рукописи IV. С., позволяет искупить ошибку писа¬
тельства5. И именно с Виновного начинается вхождение в письмо. По
этой ли причине или в силу необходимости исчезновения, но возника¬
ют случайности, которые не укладываются в нечистой совести интел¬
лектуала, — наподобие той картинки, которую Сартр, мягко отвечая
Батаю, в 1947 г. набросал в виде живого портрета6. Так, для Батая
2В Бесформенном, статье из Документов (Œuvres complètes, p. 217: О. C., 1,
217), присутствует это выражение, муссирующееся наперебой читателями: «Сло¬
варь начинается с того момента, когда он дает уже не смысл, а работу слов».
3М. Blanchot, L’amitié, Paris; Gallimard, 1972, p. 326.
4J.Reda, «Georges Bataille», N. r. f. (191), nov. 1968, p. 647.
5В Биографической справке, написанной предположительно в 1957 или 1958 г.,
Батай отмечает по поводу себя самого: «В 1926 г. он пишет маленькую книгу,
озаглавленную W. С. (резко противопоставленная всякому достоинству, эта книга
никогда не будет опубликована, и ее автор закончит ее уничтожением)... » (О. С., 7,
460). Автору W. С. приписывается псевдоним Троппманн (О. С., 3, 59-60). Об этой
W. С., прочитанной «некоторыми моими друзьями» (ibid.), которая, как говорит
Батай в другом месте, во многом принадлежала к «литературе сумасшедшего» (и
не была «юностью» Истории глаза\), ничего не известно. Введение к Небесной си¬
ни (О. С., 3, 385-391) дано в качестве фрагмента исчезнувшей книги (см.: О. С., 8,
557). Автобиографическая справка, дополненная ответом на Lexicon der Literatur
der Gegenwart (январь 1957 г.) и Сюрреализмом со дня на день (Change. N 7; см.:
О. С., 8, 169-184), подтверждает парадоксальное впечатление, которое мы упомина¬
ли: Батай долго распространяется, объясняя период, предшествующий Виновному
и Внутреннему опыту.
6 J.-P. Sartre, «La situation de l’ecrivain en 1947» in Situations 2 (Quéstce que la
littératire), Paris; Gallimard, 1980, p. 202-330.
212
Зло, находящееся в центре спора, гораздо меньше зависит от самого
факта его письма, в то время как другие совершают его, чем от того,
что просто пишется.
Исчезновение — это то исчезновение, которого желал Сад, исчезно¬
вение из мирового пространства вплоть до следов могилы, как будто
бы он хвалится тем, что его образ исчезнет из памяти людей. Перед
этим «требованием ничто» Батай намеревается показать, что «смысл
чрезвычайно глубокого произведения — в желании автора исчезнуть
(раствориться, не оставив никаких человеческих следов), ибо это более
всего ему соразмерно»7. Так, Кафка, «обуреваемый желанием сжечь
свои книги», заблаговременно обращается к странному вопросу, по¬
ставленному позднее в коммунистическом еженедельнике Действие:
«Нужно ли сжечь Кафку?» Своим желанием Кафка своеобразно от¬
ветил «лично» этому журналу.
Парадные имена, псевдонимы, подписи на предъявителя служат
Батаю средствами прикрыть намерение, которое, возможно, есть толь¬
ко выражение —не имеющее ничего общего с речью —молчания. «До¬
говоримся (это заявляет Пьер Ангельский): мы ничего не знаем и на¬
ходимся в глубине ночи»8.
Разрывы
Философское предание огню и мечу, как и театральное разыгрыва¬
ние интимной драмы и несформулированного разрыва, без предупре¬
ждения просочившееся в литературу под маской карманных изданий,
отрывочное творчество Батая продолжает для нас молчаливо соответ¬
ствовать тройственному нарушению закона.
Пусть центральный надлом нарушает общее движение, но он дела¬
ет лишь более рассеянными следы от разрывов, размывая их проявле¬
ния:
1. Нарушение общественного порядка приличий, о чем свидетель¬
ствуют маски и исчезновения, псевдонимы, конфиденциальность, бла¬
годаря которой тексты избегали цензуры светской жизни. И хотя оно
еще имеет резонанс то тут то там, все-таки оно уже не отмечено пер¬
востепенной важностью. Проходящее время стремится стереть яркие
вспышки. Однако это преступление — как наиболее ощутимое — оста¬
ется видимой частью двух остальных.
2. Наиболее радикальным представляется нарушение порядка («ли¬
тературного») воображаемого в дискурсе. Говоря то, что не говорит¬
7Эта фраза фигурирует в Саде (Литература и зло), в главе Воля к саморазру¬
шению (О. С., 9, 244). (См.: Батай Ж. Литература и зло. М., 1994. С. 79. — Прим.
ред.)
8Пьер Ангельский, как известно, — автор Мадам Эдварды (О. С., 8, 10).
213
ся, разрывая — выражаясь словами Фуко из предисловия к первому
тому полного собрания сочинений Жоржа Батая — «нить повествова¬
ния, чтобы поведать то, чего никогда не было»9, текст Батая разру¬
шает образ автора, делая его посредством игры высказываний одно¬
временно более близким к другим и гораздо более далеким в своей
неопределенности... Насколько мы обезоружены недостатком биогра¬
фических деталей, настолько нас захватывает по ходу работы над
текстом их переизбыток. Нетерпеливое написание жизни во всех ее
извилинах, творчество Батая преувеличивает, превосходит все мелкие
возможности «биографии».
3. Наконец, третье преступление —это, конечно, то, которое на¬
правляет и влечет за собой другие. Это кардинальное нарушение по¬
рядка речи, тем более удивительное у Батая, что во время первого
прочтения написанное не кажется столь значительно противоречащим
классическим нормам словоупотребления.
Но из чего бы ни состояло объединенное собрание сочинений под
именем Батая: из выдумки, документальных статей, экономики, очер¬
ков, афористических высказываний или коллегиальной социологиче¬
ской практики, оно с постоянством свидетельствует о размытости со¬
знания в написанном («теория» была бы здесь слишком систематич¬
ной), тут же подвергая испытанию каждое мгновение письма.
Представим в качестве показательной или первоначальной, навяз¬
чивой эту манеру, в которой написанное — все написанное (статьи, за¬
метки для чтения, Проклятая доля и Небесная синь) — выводит на
сцену в присутствии, включенном в само действие, мгновение письма.
Эта остановка на мгновении жеста заранее разрушает течение пись¬
ма и видимость его текучести. Итак: «Начиная писать, я не мог бы
знать, к чему эти страницы приведут, и внешне они ничем не будут
отличаться от других, придуманных автором, и я знаю заранее, что в
этой книге нет таких слов, в которых автор ограничивал бы себя лишь
тем, что он знает»10. В эти мгновения, когда письмо углубляется в се¬
бя, оно возвращается к себе, а его субъект двоится и рассыпается во
множественности этих мгновений. Я и автор, двое вместе, один, следу¬
ющий за другим, чтобы обозначить положение или «косвенно изобли¬
чить смысл», — мы находим их такими, какими их рисуют Совпадения,
претендующие на то, чтобы прояснить Историю глаза:
«Я начал писать без четкого предопределения, всегда побуждаемый жела¬
нием забыть, по крайней мере временно, о том, кем я мог бы быть или что
я мог бы делать лично. Также вначале я думал, что персонаж, говорящий от
первого лица, не имеет никакого отношения ко мне»11.
9О.С., 1, 5.
10Есп1з (1е Ьаиге, Л.-Л. Раиуег!;. Рапе, 1971, р. 123.
пО.С., 1, 73.
214
Но также очень может быть, что в этой остановке, устраняющей
условности, книга раскрывает реальность своего производства или ги¬
потезу своей судьбы. Самостоятельное, ясно различенное во времени
от чтения, мгновение письма теперь возводится к буквальному источ¬
нику своей выработки и к основанию своего построения. Случается
даже, как, например, на первых страницах Проклятой доли, что тео¬
рия в ней обретает свои очертания именно на собственном примере.
Книга начинается совсем не с отступления, и этот отрывок, привле¬
кая внимание к жесту письма, обозначает обоснованность принятых
суждений. Как если бы размышление над писанием рождало их, а не
наоборот:
«В процессе написания книги, где я говорил, что энергия в конечном счете
может только растрачиваться, я использовал себя, свою энергию, свое время,
работая: мое исследование, глубинным образом отвечающее желанию умно¬
жить сумму благ, приобретенных человечеством»12.
Именно это придает линии текста прерывистый ход и рассекает
диспозицию. Чтобы дать появиться... чему? Не какой-либо уловке,
которая послужила бы ассимиляции памятника, еще менее — какому-
либо воздействию вклеенной иллюстрации, но только обнаженному
жесту, чем он и обеспечивается. Разрыв как неопровержимое дока¬
зательство: «Когда я писал сегодня, кровь бросилась мне в голову от
острой радости, такой сумасшедшей, что мне захотелось запеть»13.
Фраза внезапно пересекает текст рассказа (речь идет о Небесной си¬
ни), пронзает его, чтобы вернуть его во времённость и расставить чет¬
кую сеть отношений. Вводное предложение не ставится в скобки: оно
отсекает.
«В тот момент, когда я пишу... »
Эти «остановки на образе» текста довольно хорошо обозначают
радикальный разрыв в письме, его неосознанное самосознание, к чему
Батай постоянно возвращается и в теоретических очерках, и в худо¬
жественной прозе. Именно то, что отличает их от обычных научных
очерков или романов, в которых «воображаемое, частное, вторичное,
опосредованное», как говорит Р. Барт, «смешивается с реальным», не
предоставляет достаточно места и пространства для письма. Удары
и столкновения пронизывают повествование, чтобы вернуть его к во¬
ображаемому и оставить в «воображаемой сущности», которая под¬
12О.С., 7, р. 20-21. Несколькими страницами ранее этой пометки мы находим
следующее почти комически точное [замечание]: «Стул помогает мне сберечь энер¬
гию, которую я теперь расходую в процессе письма» (р. 9).
13Le bleu du ciel, О. C., 3, 431.
215
тверждает, что, несмотря на некоторую выдуманность, мы не можем
воспринимать его в качестве целостного книжного сюжета. Мы уже
приводили несколько примеров подобных остановок, которые — в вол¬
нующем двоении, в отяжеляющем углублении темы письма —могут
расколоть непрерывность течения мысли. В художественной прозе они
появляются в качестве точки утраты естественности или даже извра¬
щения текста. Неопределенность, расколотая точкой повествования,
наступает, говорит Батай, «в тот момент, когда я начинаю книгу» (в
данном случае Эротизм), хотя он намеревался описать эротический
опыт тем же способом, которым врач описывает заболевание, «раз¬
рывающее чувство». На самом деле значительно само признание —
и нечто бесповоротное переворачивает объективную позицию письма:
«Таким образом, я должен описать не то, что прожили другие, но
мою собственную жизнь — ту лихорадочность, которой эта жизнь бы¬
ла приведена к пределу потери»14.
Этот переворот, связанный с поиском наиболее полной свободы в
страхе («в тот момент, когда я пишу, какой бы ни была дерзость, к ко¬
торой я вульгарно мог бы быть склонен, я не испытываю колебаний,
чтобы признать, что мне страшно»15), стремится к истине субъекта,
свободного от всякого нарциссизма: «В тот момент, когда я пишу, я от¬
крываю истину мира, который содержит меня, но тяжкое существова¬
ние, касающееся меня, не может скрыться от его законов: эта истина —
всего лишь внешний спектакль!»16.
Если момент письма здесь — как заклинание — призван, и призван
к порядку или беспорядку, чтобы прервать Историю, то только потому,
что «нет ничего менее законного (столь ничтожная причина в основа¬
нии решения!), чем движение по воле писателя»17. Писатель пишет
так, будто вечность книги и фраз тянется вне времени, здесь, перед
ним. Тогда как зов момента письма, напротив, неумолимо оказывается
самым скромным из ответов на ошибку письма («Сегодня я пишу, что¬
бы подтвердить, что я согласен с моим отсутствием... »18), на всеоб¬
щую беспомощность придуманного и истин перед лицом патетической
незавершенности Истории. Война в потоке насилия оказывается дру¬
гой формой призыва, в котором книга — не в своей форме устойчивого
объекта — может только осудить разрушение: «История не завершена;
когда эта книга будет прочитана, самый младший школьник узнает
об источнике современной войны; в тот момент, когда я пишу, ни¬
14Histoire de l’érotisme, notes: O. C., 8, 526.
15O.C., 2, 127.
16La limite de l’utile, fragment de La part maudite, O. C., 7, 187.
17Ibid. P. 455.
18Ibid. P. 453.
216
что не способно дать мне знание школьника»19. Ничто не способно
сделать так, чтобы суверенное мгновение письма не было болезнен¬
но лишено этого минимального знания, которое вскоре будет принад¬
лежать чьей-то памяти, и «согласие с незавершенностью истории —
включенное в смерть —лишь изредка доступно живым». Кто вместе
с Ницше будет способен повторить: «Я люблю незнание, касающееся
будущего»?
Вместе с рассказами «момент, когда я начинаю писать» из Небес¬
ной сини, растворенный повсюду, возникает, чтобы повернуть в обрат¬
ную сторону термин shifter (сцепление), точку остановки сцепления
текста: разделение, подвижность неподвижного, прерванная связь —
и еще прекращение найма, удаление текста, таким способом возвра¬
щенного к своему нереальному (во всяком случае, нереалистичному)
совершенству: «Я говорю то, что давит на меня в момент письма: и
все ли было бы абсурдным? Или имело бы смысл? Я заболеваю, думая
об этом». В Мадам Эдварде повествование возвращается к сущност¬
ной обнаженности, когда тайна не дается раскрытию, даже вдали от
всяких слов: «Здесь меня разочаровывает необходимость обнажаться,
играть словами, пользоваться медлительностью фраз. Если бы никто
не мог раскрыть обнаженность того, что я говорю, извлекая одежды
и формы, я писал бы впустую»20.
В Невозможном сам акт письма появляется в качестве действия
повествования: «В тот момент, когда я пишу, не имея возможности ее
видеть, в мучении я мечтаю обнять ее спину». Минутная остановка на
мгновении —и мы приобщаемся к течению текста, действующей цен¬
зуре или вступлению в другую, загадочную и остающуюся без ответа,
половину письма: «Часто я так слаб, что мне не хватает сил писать.
Лгать? Я также должен сказать: слова, которые я выписываю, лгут.
Я не стал бы писать в тюрьме на стенах: я должен был бы рвать ког¬
ти в поисках выхода». Безмолвная загадка конца: «Насколько мерзко
иметь возможность говорить, будучи усмиренным войной (успокоен¬
ным, жаждущим мира), как и думая до конца, что я пишу эту книгу,
которая походит на книгу бездушного слепца». Акт письма, как в ко¬
нечном счете и сама книга, устанавливает в возможном и оставленном
сюжете («Как я устал! Как мог я написать эти двусмысленные фразы,
когда каждая вещь дается в своей простоте?») появление виновности
ночи в качестве одного из настроений:
«День гаснет, умирает огонь, и я должен буду прекратить письмо, холод
заставляет спрятать руки. Занавески открыты, и через стекла я догадываюсь
19Le coupable, О. С., 5, 261-262. Несколькими строчками выше (р. 260) отступле¬
ние открывает параграф о мгновении письма.
20О.С., 3, р. 28-30.
217
о тишине снега. Под низким небом бесконечная, пугающая тишина давит на
меня, как давит неуловимое присутствие распростертого в смерти тела»21.
Между попытками письма и «принесением автором себя в жертву
своему творению» творчество замыкается в том, что вызывает его к
жизни:
«Внутри себя, как тяжелую ношу, я тащу бремя написания этой книги. В
действительности мной действуют. Даже если бы абсолютно ничего не соот¬
ветствовало моему представлению о неизбежных собеседниках (или читателях),
само представление действует во мне. Я слит с ним до такой степени, что ему
легче действовать моим телом. Третье лицо, товарищ, читатель, действующий
мной,—это речь. Или: читатель —это речь, это он говорит во мне, поддержи¬
вая во мне живую речь, обращенную к нему. Конечно же, эта речь — всего лишь
замысел, но еще больше это этот другой, читатель, любящий меня, но сразу за¬
бывающий обо мне (убивающий меня), без непрерывного присутствия которого
я не был бы ни на что способен, не имел бы внутреннего опыта»22.
Ребенок, которого лицейские товарищи считали самым ленивым,
который, в то время как первые слова были тщательно изучены, огра¬
ничивался изображением каракулей, ребенок, отказывавшийся писать
под диктовку (этот факт указан в Методе медитации23), стал со¬
ставителем текстов, написанных под диктовку и под давлением этого
отсутствующего и убивающего Другого, читателя. Ради знания он пы¬
тается прервать Историю, подобно тому как его эротические рассказы
прерывают обычное течение литературного творчества.
«Эта рука, которая пишет... »
Телесный образ, образ руки —тонкая иллюстрация дискурса о
письме. В нижней части страницы Мадам Эдварды Батай помечает:
«Я не оспариваю знания, без которого я не смог бы писать, но эта рука,
которая пишет, умирает, и в этой обещанной ей смерти она ускользает
от всяких пределов, принимаемых в письме (принимаемых пишущей
рукой, но отвергаемых рукой умирающей)»24. Руки, потерявшиеся в
ногах, заломанные, нервные, рука, которая пишет, рука, которая уми¬
рает, история руки встречается с историей письма, усложняя ее, а по¬
рой уничтожая или таинственно поворачивая ее в сторону истории
левой руки. Здесь можно вспомнить о тантрической секте, которая на¬
зывалась «Путь левой руки», ритуалы которой требовали нарушения
табу индийского общества, мистическая эротика которой очень схожа
с непристойностями гностиков. В Невозможном персонаж Б. пишет
21 Цитаты отсылают нас по порядку к страницам 105, 113, 125, 135 и 136 3-го
тома.
220. С., 5, 75.
231Ыс1. Р. 210.
24О.С., 3, 12.
218
записку детским почерком: «Немного поранившись, я пишу левой ру¬
кой. Сцены из дурного сна. Прощай»25. Ранение, дрожащий детский
почерк, левая рука (немного дальше: «письмо, как первое слово, напи¬
сано левой рукой, но менее нерешительно») указывает на мир и снова
покидает его так же рискованно, как это предполагает в Небесной си¬
ни наречие лево; «она положила руку на мой лоб. Это была левая
рука (сейчас мне кажется, что все было криво, ее правая рука была
перевязана)». И ниже, на той же странице: «Б. взяла мою руку в свою
левую руку, “лево” скрещивая свои пальцы с моими»26.
Начиная с этого текста его буквальная логика (логика письма) сно¬
ва возвращает себе инициативу — как если бы усилие письма, нацелен¬
ное на то, чтобы вывести невозможное из объявленного невозможным,
стремилось стереть все варианты употребления оборотов (от притяжа¬
тельного к необычному указательному): «Б. вытащила руку и повязку,
которая была справа, и я увидел, что, несмотря на гипс, она стара¬
лась сцепить свои руки [...]. Она замолчала, но продолжала теребить
свои руки на платье»27. Занимая ритуальное место рассказчика, Б.,
настолько же веселая, насколько и фривольная, обнаруживает в по¬
гребальной комнате фальшивый жест плакальщицы: «... Не сомнева¬
юсь, в этот самый момент в комнате смерти она заламывала руки»,
она ломала их лево, без слез, в «мучительной левости» и в затрав¬
ленной наготе маленькой девочки, вплоть до той странности письма,
которая постепенно проявляется: «Но у меня в руках была нежность
ее наготы: ее заломанные левые руки были лишь поднимающимся пла¬
тьем, позволяющим видеть... Больше не было разницы между тем и
оо
другим...»
Но ускользают не только слова. В дрейфе континентов тексты,
фрагменты отталкиваются и соединяются друг с другом в активной
подвижности, где жест письма то поддерживается действием (актом),
то, в зависимости от образа, метонимически увлекается по ту сторо¬
ну себя самого (письмо, время письма, рука, путь левой руки). Дело
в том, что «не менее противоположна бунту пассивность от имени
25Ibid., р. 125.
26Ibid., р. 147.
27Ibid. Р. 148.
28 Ibid. Р. 155-156. В Пути Фрейда (Paris, Galilee, 1974) Жан-Мишель Рей сбли¬
жает эти высказывания с Очерками об истерии: «Таким образом, рука разызоб-
ражает то, что Другой указывает, рука уничтожает то, что произведено Другим:
согласно всякому правдоподобию, если следовать Фрейду, “мужской” жест появ¬
ляется, чтобы возобновить и нейтрализовать своего двойника, жест, слывущий
“женским”» (р. 43). И далее: «Левость рук, делающая их безразличными, превосхо¬
дит детский жест, который, как кажется, сближает их: испытание их неразделимой
властью или, может быть, даже монстрализация мгновения, возведенного в знак
ужаса; несовершенное присутствие» (р. 48).
219
принципа неподчинения, механизм слов —это наивное склонение пе¬
ред такой суверенной силой»29. Это границы Суверена, до предела
обретенные в бунте, перед словами как перед смыслом, и бессмысли¬
ца, которая ведет к смыслу вплоть до привкуса пепла и слабоумия
(приложение к Глоссарию Лейриса). Дерзость смысла проходит через
бунт, чему эти очерки, как и восторженный ужас, заставляющий нас
одновременно отождествить их с обобщенной разорванностью, служат
непосредственным и отложенным свидетельством.
Даже если в конце Батай, соединение автора и рассказчика, шеп¬
чет от усталости: «в конце концов, письмо сбивает меня с толку», вре¬
мя, привычка и распространение — еще не причина ни для их безумия
(безумие: в том смысле, в котором Мадам Эдварда дается в качестве
«апофеоза сумасшествия»30), ни тем более для значительного перело¬
ма — сальто с переворотом, — в который они вовлекли литературу.
Итак, эти очерки по отношению к полному собранию сочинений
настолько малы в своем объеме, что их можно отнести к проклятой
доле творчества в понятии «траты». Со взломом проникая в литера¬
турное пространство, неприступные, они — тот остаток, который дает
остальному творчеству его чрезмерность, освобождает своим разры¬
вом и последствиями чтения, которые они [эти очерки] провоцируют,
несет свой смысл и ритм.
Они вовлекают нас: это значит — они не оставляют нас в покое, они
нас компрометируют. Но в этой модели, вынуждающей своей вовле¬
кающей способностью читателя не оставаться в стороне и заявлять о
себе, все оставшееся творчество, отмеренное выплесками личностной
жизни и движениями мира, идет тем же шагом.
Так же как в свете безличного переворота, совершенного Мане
(Безличное ниспровержение), как и среди кавалькад, мчащихся по
стенам Ласко, где люди-игроки, неизбежно возвращающиеся в подпо¬
лья тьмы и дикости, в которых они надеялись освободиться от «навяз¬
чивой размеренности человеческого устроения» и от насилия рабочего
времени, стремились воспроизвести беспредельность чарующего скот¬
ства, которое едва не оставило их, мы обнаруживаем и воспринимаем
сущностную противоречивость жеста письма31.
В поиске Батая — как в безличном мучении, обозначенном вальсом
псевдонимов, — присутствует последняя жажда человеческого ответа
вплоть до смерти, которая организует и узаконивает усилие письма
(«Моя смерть и я —мы проникаем во внешние ветра, где я обнару¬
живаю отсутствие меня самого»). Риск письма в абсолютном согла¬
29 «La souverain», Botteghe oscure, N9, Rome, 1952, p. 23-38. Эта статья должна
была бы появиться в 11-м томе (Статьи) Полного собрания сочинений.
30О.С., 3, 179.
31Manet, О. С., 9, 120, Lascaux ou la naissance de l’art, О. C., 9, p. 9-101.
220
сии — то, из чего не преминут сделать великолепную метафору своего
решения, — находит во встрече, политически столь неизбежной, с Лау¬
рой (Колетт Пеньо) последнее слово, освещенное Лейрисом: «Она бы¬
ла такой, как будто предполагала, что ее жизнь вовлекут в письмо».
В Опыте-пределе Бланшо описывает, как утверждение и страсть к
отрицательной мысли достигает предельной точки свободы в «ответе,
который получает человек, когда он решил радикально поставить себя
под вопрос»32. Его существование, выступающее перед лицом смерти,
запрещает, за исключением неверности желать себя слишком верным,
чтобы его повторяли теми словами, которые оно сохраняет под сво¬
ей властью и которые принадлежат только ему, осуждая «работу ак¬
компанирующей речи» на скромный удел отсутствия претензий на то,
чтобы «все сказать», подобно тому как останавливается «мертвое сло¬
во». Чтобы уберечь себя от этого, во всякой литературе следует видеть
впечатляющий образ Лейриса, согласно которому жест письма оста¬
ется ничтожным, слишком не «эстетическим», незначительным, «если
в самом написании произведения нет ничего, что было бы равноценно
тому[... ]чем выступает для тореро острый бычий рог, который только
и может —в силу материальной угрозы, которую он собой представ¬
ляет, — придать его искусству человеческую реальность, не дать ему
стать чем-то вроде пустой грации балерины»33. Стыд или отчаяние,
экстаз или ужас, но также и критическое преодоление, которое лиша¬
ет нас вкуса к интерпретации, ужас и то, что Люсет Финас называет
«воображаемым разгулом научного понятия», по крайней мере вводят
тень рога в литературное творчество. «В предельности своего разви¬
тия,—читаем мы в Виновном, — мысль стремится к своей захвачен¬
ное™ смертью», без чего письмо всегда будет лишь ничем в игре без
ценности и следствий, когда эта игра избегает приключений или когда
*44
она не вписана в правила возможности риска .
Для Лейриса обнаженность невозможного признания — грубое
средство, которое могут внести другие, позволяющее сопоставить
творчество с этим риском. Батай в предисловии повторяет, что толь¬
ко ужас, ужас, который имеет в его жизни «реальное присутствие»,
32М. Blanchot, «L’experience-limite», in L’entretien infini, Paris, Gallimard, 1980,
p. 302. L’amitié, Paris, Gallimard, 1972, p. 327: «Хотят “всё” опубликовать, хотят
“всё” сказать; как будто бы нет больше ничего, кроме одной спешки: чтобы все
было сказано; как если бы “всё” должно было в конечном счете позволить нам
остановить мертвое слово». (См.: Бланшо М. Опыт-предел // Танатография Эроса:
Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб., 1994. С. 67. — Прим.
ред.)
33M.Leiris, L’age d’homme, Paris, Livre de poche, 1966, p. 8. (См.: Лейрис М. Воз¬
раст мужчины. СПб., 2002. С. 6-7. — Прим. ред.)
34Еще у Бланшо: «Письмо — это только игра без ценности, если названная игра
не становится рискованным опытом... » (La part du feu, Paris, Gallimard, p. 247).
221
или тот же ужас, «достигаемый в воображении», позволил ему «избе¬
жать ощущения пустоты лжи». Реальное присутствие или вообража¬
емое, очерки, которые чувствительное давление делает неустранимы¬
ми, стирают это различие. Это не значит, что им следует приписывать
иллюзорную ценность убеждения, но именно так они достигают иллю¬
зорности, не претендуя на обманчивость. Таким образом, истина ни в
чем не смешивается с возможностью убеждения, что прекрасно уме¬
ет делать добротная видимость. Тем более она не сводится к нищете
реализма («реализм производит на меня впечатление ошибки»). Она
принадлежит иному порядку, который крайность и жестокость делают
возможным: «Только смерть и желание имеют гнетущую силу, такую,
которая прерывает дыхание»35. Наряду с реальным миром полезности,
правами науки (универсум серьезного) существует открывающаяся в
письме необходимость невозможного, к которой мы восходим только
тогда, когда забываем об истине всех этих прав, принимая исчезно¬
вение смерти или наслаждение, кое, возможно, от этого приобретает
смысл.
Перевод К. В. Преображенской
35L’impossible (предисловие ко 2-му изданию). О. С., 3, 101. (См.: Батай Ж.
Невозможное // Батай Ж. Ненависть к поэзии. М., 1999. С. 225—226. — Прим. ред.)
222
ЖАН-ФРАНСУА ФУРНИ
НЕВОЗМОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ:
ЖОРЖ БАТАЙ И ЖАН-ПОЛЬ САРТР*
На всем протяжении своей карьеры Сартр умел —и это еще сла¬
бо сказано — выбирать себе противников, с которыми можно было до¬
стойно полемизировать и тем самым попадать на первые полосы газет.
Не часто столь свойственная французам интеллектуальная деятель¬
ность—от Мориака до группы Tel Quel1, включая Селина, Камю и
даже генерала де Голля, полагавших себя поборниками справедливо¬
сти и адвокатами всеобщей совести, — достигала таких вершин, как
при Сартре. Рядом с театральными спорами, противопоставившими
Сартра и Камю, с их бесконечными аргументами, контраргументами и
заявлениями, распространяемыми в прессе того времени, диалог Сарт¬
ра и Батая выглядит куда бледнее. Относительно такого недостат¬
ка в рекламе можно выдвинуть несколько предположений, начиная с
самого стиля Батая послевоенного периода, который, конечно же —
неприятно разочарованный развалом Коллежа социологии, кажется,
навсегда распрощался с претензией на интеллектуальное влияние, так
питавшее в свое время редактора журнала Документы (Documents).
Это подтверждается и соответствующими статьями из тех журналов,
которые Батай и Сартр основали после Второй мировой войны: Кри¬
тика (Critique) (1946 г.) с самого начала имела классическую направ¬
ленность на ученые публикации, а значит, и соответствующий подбор
авторов, контрастируя тем самым с непосредственной актуальностью,
ангажированным и журналистским тоном Новых времен (Les Temps
Modernes) (1945 г.)2. Тем не менее спор Сартра и Батая будет продол¬
* Французское слово communication может пониматься и как «сообщение»,
«коммуникация», и как «связь». Таким образом, Фурни здесь не только обыгры¬
вает понятие сообщения как категорию батаевской философии, но и намекает на
непростые взаимоотношения Батая и Сартра. — Прим. пер.
1 Tel Quel — французский структуралистский журнал, основанный в 1960 г.
Ф. Соллерсом. — Прим. пер.
2 О роли этих журналов см. превосходную работу: Anna Boschetti, Sartre et «Les
Temps Modernes», Minuit, 1985.
© С. Б. Рындин, перевод, 2006
223
жаться свыше пятнадцати лет; конечно, он будет не столь заметен —
для этого Батаю надо было бы переключиться на интеллектуальную
журналистику в духе Камю,— но не менее смел, так как в нем бу¬
дут обсуждаться самые фундаментальные и насущные понятия для
интеллектуальной идентификации обоих колоссов.
Начиная с 1943 г. вместе с появлением язвительной статьи Сарт¬
ра Один новый мистик будут резко очерчены границы этого спора, и
диалог между Батаем и Сартром навсегда останется в обозначенном
этим первым проявлением враждебности периметре3. Будут бесконеч¬
но возникать одни и те же вопросы: что делать с желанием забыться?
и, в особенности, что такое сообщение? Это понятие сообщения, пони¬
маемое ими настолько по-разному, насколько и противоречиво, будет
непрестанно отравлять отношения Сартра и Батая, вскоре превратив
их диалог в разговор двух глухих. Именно проблематика сообщения
у Жене, бывшего тогда объектом беспрецедентной рекламной шуми¬
хи, устроенной Сартром и его журналом, предоставит Батаю случай
уравнять игру: теперь Батай напишет рецензию на книгу [Сартра]
Святой Жене, комедиант и мученик4. Чтобы прояснить взаимоот¬
ношения Сартра и Батая и понять смысл этого спора, по-видимому,
следует пересмотреть три его основополагающих момента.
Прежде всего это статья Один новый мистик, если угодно, первое
знакомство, во время которого Сартр делает все, чтобы дискредити¬
ровать и вывести из игры уже тогда грозного противника, идущего по
следам Вольтера и Гюго. И, мы еще к этому вернемся, для того чтобы
умалить ценность Внутреннего опыта, Сартр не скупится в выборе
средств, даже если впоследствии ему придется отчасти противоречить
самому себе, когда он будет писать о Жене5. И статья Сартра нано¬
сит страшный удар по карьере и интеллектуальному доверию к Ба¬
таю, который с большим трудом от него оправится. После увлечения
сюрреализмом, Мориаком, довоенной «правой молодежью», о которой
говорили, да и теперь еще говорят, что она писала отменно, «новый
мистик» так строит свою стратегию, чтобы образовать вокруг Сартра
пустоту. Об этой стратегии надо сказать несколько слов.
Появление Святого Жене (1952 г.) заставляет вздрогнуть буржу¬
азные круги: Сартр проводит сомнительную параллель между «внут¬
ренними опытами» Жене и Батая.
Тогда наконец наступает очередь Батая поиграть в правоверного
(в самом религиозном смысле этого слова) во имя настоящего сообще¬
3См. русский перевод: Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль
середины XX века. СПб., 1994. С. 12-44. — Прим. пер.
4Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr. Gallimard, 1952.
5См. русский перевод: Батай Ж. Внутренний опыт / Пер. с франц., послеслов.
и коммент. С. JI. Фокина. СПб., 1997. — Прим. пер.
224
ния, которое лишь пародируется и извращается в литературных крив¬
ляниях Жене6: Батай пишет свою рецензию на книгу Сартра о Жене.
Так что данное эссе будет посвящено именно понятию сообщения и
треугольнику Сартр — Батай — Жене.
Детство хозяина
Сартр, кажется, всегда инстинктивно знал, что для достижения
славы и известности, к которым он стремился с детства, ему надо
будет, как это сделали сюрреалисты, пройти по трупам своих предше¬
ственников7. Как раз сюрреалисты и оказываются в роли тех предше¬
ственников, когда в 1939 г. появляется Детство хозяина8. Этот корот¬
кий роман, или длинная новелла, как вам будет угодно, сегодня глав¬
ным образом воспринимается как карикатура на «королевских молод¬
чиков»9, которые в те времена, как известно, держали в своих руках
улицы и вместе с другими «лигистами» б февраля 1934 г. даже чуть не
свергли республиканский режим. В Детстве хозяина рассказывает¬
ся история сына провинциального фабриканта, приехавшего в Париж,
чтобы подготовиться там к высшей школе. После знакомства с Берли-
аком он начинает читать Фрейда, потом вступает в гомосексуальные
отношения с человеком старше себя — перед тем как оставить все это,
чтобы стать ярым антисемитом и вступить в L’Action Française10. Со¬
отношение между отвергнутым гомосексуализмом и антисемитизмом
представлено здесь со ссылкой на Фрейда и не без некоторой натяжки,
поэтому Детство хозяина стоило Сартру гнева Бразийака из L’Action
Française11. Бразийак, как и персонаж Сартра, был на самом деле сту¬
дентом пединститута, антисемитом и роялистом. Но не забудем, что
Детство хозяина также являлось злой карикатурой на нравы сюрре¬
алистов, открывая таким образом длинную вереницу текстов, в кото¬
рых сюрреализм будет «козлом отпущения», поляризующим некото¬
рые навязчивые идеи Сартра. Зрелый мужчина, посвящающий юного
«хозяина» в запретные занятия, —это нечто вроде праздного эстета,
полу-Арагона, полу-Бретона, который проповедует расстройство всех
6Georges Bataille, «Genet», La littérature et le mal. Gallimard, 1957. (См. рус¬
ский перевод: Батай Ж. Теория религии. Литература и зло / Пер. с франц.
Ж. Гайковой, Г. Михалковича. Минск, 2000. — Прим. пер.)
7См.: Сартр Ж. П. Слова. М., 1966. — Прим. пер.
8См.: Сартр Ж. П. Тошнота. Стена. Ростов н/Д.; Харьков, 1999. — Прим. пер.
9 «Королевские молодчики» — вооруженные отряды французских роялистов,
входивших в L ’Action Française. — Прим. пер.
10L’Action Française — реакционная монархическая организация, основанная в
1899 г. — Прим. пер.
nRobert Brasillach, L’Action Française, 13 avril 1939.
225
чувств12 и курит гашиш. Помимо различных любопытных предметов
этот персонаж, как и Бретон, имеет коллекцию шутливых игрушек13.
Вряд ли Сартр сознательно хотел представить сюрреализм «разврати¬
телем» молодежи, просто сюрреализм — определенный этап в карьере
молодого «лигиста», но упомянуть об этом следует. К тому же ка¬
рикатурные и стереотипные описания сюрреалистической среды, по¬
являющиеся в Детстве хозяина, удивительно напоминают описания,
встречающиеся в Жиле Дриё л а Рошеля: в этом романе, закончен¬
ном (но предварительно тщательно вымаранном) в том же 1939 г., по¬
хожие обвинения — гомосексуализм, наркотики, наивный фрейдизм —
бросаются в сторону сюрреализма, который, как видно, многих бес¬
покоил14. Во всяком случае, благодаря выпаду влево (сюрреалисты)
и выпаду вправо («королевские молодчики») Сартр явно стремился
упрочить свои позиции на интеллектуальном поле, уже завоеванные
содержащимися в сборнике Стена сценами, считавшимися в то время
скабрезными. К тому же как раз после публикации Стены на Сартра
начинают смотреть как на автора с корыстными намерениями.
Но после выхода в свет в январе 1939 г. сборника Стена его ико¬
ноборческая страсть и не собиралась утихать. В феврале 1939 г. в La
Nouvelle Revue Française Сартр засучив рукава набрасывается на Мо¬
риака15. После сюрреалистов, Бразийака и близких к ним людей он
принялся за известного романиста, гораздо старше него, да притом
католика и академика. После нападок со стороны молодого поколения
Мориак, сам того не желая, унаследовал занятую десятью годами ра¬
нее в отношении сюрреалистов позицию Клоделя, еще одного католи¬
ка и академика (напомним только, что в отличие от Мориака Клодель
умел быть язвительным и квалифицировал сюрреализм как «педера¬
стическую» деятельность). Тем не менее карикатурист Сартр эпохи
Детства хозяина в La Nouvelle Revue Française превращался во все
более уверенного в себе литературного критика.
Прежде чем утверждать, что романная (сегодня сказали бы — нар¬
ративная) техника Мориака не единственная в своем роде, Сартр
упрекнул его в том, что по отношению к своим персонажам тот мнит
себя богом, т. е. принимает точку зрения вездесущего рассказчика.
Мориак-романист, поскольку он уже все знает, может, следователь¬
но, только «овеществлять» несвободное сознание своих персонажей,
которые в таком случае будут явлены читателю, а не сформируют¬
ся на его глазах. Это объясняет тот факт, что автор Терезы Дескейру
12Скрытая цитата из письма А. Рембо к П. Демени от 15 мая 1871 г. — Прим. пер.
13 Сартр Ж. П. Тошнота. Стена. С. 353. — Прим. пер.
14См.: Дриё ла Рошель П. Жиль. М., 1997. — Прим. пер.
15См.: Сартр Ж. П. Франсуа Мориак и свобода// Сартр Ж. П. Ситуации. М.,
1998. С. 267-285. — Прим. пер.
226
постоянно входит в сознание персонажей и выходит из него самым
произвольным образом16. К этому греху наррации Мориака можно
добавить и смешение жанров, выражающееся в том, что его роман
состоит из четырех сцен, каждая из которых, как в трагедии, закан¬
чивается «катастрофой». Вывод: Франсуа Мориак мнит себя богом, но
«бог не художник; Мориак —тоже»17. Нет надобности говорить, что
эта статья Сартра наделала много шума и что Мориак в свою очередь
воздерживался от публикации собственных романов еще свыше пят¬
надцати лет. Таким образом, накануне Второй мировой войны Сартр,
кажется, полностью заставил признать себя благодаря выходу романа
Тошнота и своим решительным нападкам на тех, кто правил тогда
Литературной Республикой18.
Когда ъ 1943 г. появляется Внутренний опыт, у Батая за плеча¬
ми уже есть диссидентское сюрреалистическое прошлое, когда он чуть
не выхватил пальму первенства у Андре Бретона; он уже был дирек¬
тором оригинального и созидательного журнала (Документы). В том
же году для журнала Южные тетради ( Cahiers du Sud) Сартр пишет
резкую рецензию на Внутренний опыт, которая еще тяжело отзовется
в будущем.
Конечно, статья Один новый мистик вписывалась в уже относи¬
тельно долгую полемическую традицию Сартра, однако на этот раз
речь шла не о том, чтобы представить сюрреалистов смешными или
цепляться к романной технике известного автора. На этот раз Сартр
имел дело с действительно оригинальным по «форме» произведением,
т. е. с формой, относительно которой он скорее утверждал бы, что сле¬
дует воздержаться от инноваций, и произведением, которое покуша¬
лось на то феноменологическое поле, что Сартр начал разрабатывать
уже в романе Тошнота19. Таким образом, в Новом мистике Сартр
подходит к тексту Батая с двух сторон, первая из которых, философ-
ско-теологическая, является тем предметом, в котором интеллектуаль¬
ное превосходство Сартра совершенно неоспоримо. Вторая сторона,
историческая, сводится к тому положению, что между сюрреализмом,
Коллежем социологии и мистицизмом Батая существует преемствен¬
ность. Иначе говоря, Батай Внутреннего опыта уже целиком содер¬
жится в сюрреализме.
Сартр начинает со справедливого замечания, что в тексте Батая
существует некая вибрация, которая представляет Я то как произ¬
вольную и невероятную природную конструкцию, то как уникальную
16Там же. С. 277. — Прим. пер.
17Там же. С. 285. — Прим. пер.
18См. роман Тошнота. — Прим. пер.
19См.: Сартр Ж. П. Что такое литература? // Сартр Ж. П. Ситуации. — Прим.
пер.
227
и незаменимую сущность, парящую над природой. Тем самым Сартр
ставит вопрос о том, как Я может конституировать себя в движении
природы, быть погруженным в нее, чтобы мгновение спустя воспарить
над ней и за всем наблюдать со стороны. Что же до средств, позво¬
ляющих другим приобщиться к этому внутреннему опыту, т. е. языка
и письма, то Сартр попросту подчеркивает, насколько парадоксально
желать сообщить словами то, что, как предполагается, ускользает от
языка или располагается вне него. Конечно, здесь есть противоречие,
от которого Батаю никогда не удастся избавиться, даже тогда, когда
он со всем усердием вернется к этой теме в своей книге Эротизм20.
Уличив Батая в ошибках философского порядка с явным высокоме¬
рием агреже философии, Сартр напоминает ему и все то прошлое, о
котором Батай, несомненно, предпочел бы больше не слышать.
Пренебрежение, которое, по словам Батая, он испытывал к язы¬
ку, и его изворотливые усилия, направленные, несмотря ни на что,
на написание книги, по мнению Сартра, коренятся в той склонно¬
сти, кою демонстрировал сюрреализм в отношении эксгибиционизма и
«эссе-муки». В целом же книга Батая решает одну дилемму, которая
заключается в желании выразить словами тишину, и этот отказ от
коммуникации напоминает «пренебрежительную агрессивность сюр¬
реалистов»21. А значит, Батай и его отвращение к языку могут быть
отнесены к сюрреализму, частным случаем которого они и являют¬
ся. Наконец, Сартр бросает самый ранящий из всех упрек, упрек в
том, что Батай принимал участие в деятельности Коллежа социоло¬
гии., изображенного Сартром как низкосортная лавка, где только и за¬
нимались извращением Дюркгейма («почтенного» Дюркгейма, скажет
Сартр) и Мосса в не очень-то благовидных целях. Став мистиком, по¬
сле опыта сюрреализма и Коллежа социологии или, может быть, как
раз по вине последних, Батай «поднимается» и «опускается», чтобы
передать свой опыт другим, и Сартр воспроизводит здесь, вероятно,
даже сам того не ведая, те обвинения, что и сам Батай бросал Бретону
в одном неопубликованном на тот момент тексте — «Старый крот» и
приставка «сверх» в словах «сверхчеловек» и «сюрреалист»22. В этой
статье Батай планировал подорвать сюрреализм изнутри: в «икаров-
ских» возвышенных метафорах, которые присутствуют в прозе Брето¬
на и близких ему сюрреалистов, он видел реакционное наследие идеа¬
лизма и некоторую предвзятость в пользу идеологии, предпочитающей
«высокое» «низкому». Но на этот раз самому Батаю предъявлены об¬
20Georges Bataille, L’érotisme. Minuit, 1957.
21 Сартр Ж. П. Один новый мистик // Танатография Эроса... С. 19. — Прим.
пер.
22Georges Bataille, «La Vieille taupe et le préfixe sur dans les mots surhomme et
surréaliste» in Œuvres complètes, tome deux. Gallimard, 1973.
228
винения в том, что он поддался всей этой возвышенной традиционной
образности, компрометирующей сообщение. Ибо, признаваясь в же¬
лании установить контакт, он, к несчастью, устанавливает его сверху
вниз: «Батай распахивается, обнажается на наших глазах, но тут же
сухо заявляет, что отводит всякое наше суждение: он открывает толь¬
ко себя, сообщение, которое он устанавливает, не имеет взаимности.
Он сверху, мы внизу. Он открывает нам послание: принимай кто мо¬
жет. Смущение наше усиливается тем, что вершина, с которой вещает
Батай, является “бездонной” пропастью мерзости»23.
Эта одинокая и надменная коммуникация питает безразличие к чи¬
тателю: мы уже словно читаем некоторые страницы из Святого Жене,
по крайней мере враждебность уже ощущается. Но к этому мы еще
вернемся.
Именно поэтому позднее Батай будет пытаться защищать свой
внутренний опыт, но, надо сказать, довольно робко. В своем Отве¬
те Жан-Полю Сартру он снова обращается к вопросу о сообщении,
но на этот раз для того, чтобы сформулировать его в терминах воз¬
врата к «жизненному континууму», сильно окрашенному бергсониз-
мом, который дробится (фрагментируется) языком, языком утилитар¬
ности и проекта24. Такой ход рассуждений впоследствии можно будет
обнаружить в Эротизме вслед за весьма близким к Бергсону пре¬
дисловием; эти рассуждения строятся на оппозиции прерывность —
непрерывность: язык и познание, развивающиеся линейно и скачко¬
образно, дробят и разлагают объект своей деятельности. А внутренний
опыт и сообщение, наоборот, приближают нас к континууму, тем са¬
мым ускользая от прерывности языка. Как и слова, осуществляющие в
этом континууме произвольное членение и тем самым отделяющие нас
от него, следует преодолеть пределы индивидуальности, чтобы между
людьми смогло установиться «настоящее» сообщение. В этой оппози¬
ции произвола и поверхностности языка (или риторики?) и «насущ¬
ной» истины, которую они затеняют, следует видеть старое как мир
убеждение, принимающее язык и его формы за то, что заслоняет от
нас истину.
Казнь
То, что некий факт или аргумент может быть нагружен негативны¬
ми или позитивными коннотациями, в зависимости от того, что было
решено продемонстрировать a priori, никогда не проявлялось заметнее,
23 Сартр Ж. П. Один новый мистик. С. 19-20. — Прим. пер.
24Georges Bataille, «Réponse à Jean-Paul Sartre», Œuvres complètes, tome six.
Gallimard, 1973.
229
чем в Святом Жене: двадцатью годами ранее Сартр ставил Батаю в
упрек то, что Жене будет поставлено в заслугу25. Так как же, согласно
Сартру, обстоит дело с сообщением у Жене?
По правде сказать, по тому, что Сартр говорит на эту тему, по¬
рой сложно понять, чем различаются точки зрения Батая и Жене по
данному вопросу, и Сартр вынужден отмечать напрашивающиеся па¬
раллели и аналогии между внутренним опытом обоих авторов. Бата-
евская «бездонная пропасть мерзости», о которой мы читаем в Новом
мистике, у Жене становится «упадком сознания, короче говоря, тем,
что Батай назвал бы казнью»26. Понятно, что внутренний опыт Батая
настолько опасно сближается с внутренним опытом Жене, что в конце
своей книги Сартру придется отыскивать различия или в силу необ¬
ходимости придумывать их, дабы оба этих внутренних опыта самым
неприятным для него образом не наложились друг на друга. Извест¬
ная фотография китайской казни из Святого Жене представляет со¬
бой великолепную иллюстрацию той тяжелой работы по установлению
различий, без которых Сартр рисковал отступиться от высказанного
ранее.
Батай созерцал этого подвергнутого пытке молодого китайца, что¬
бы прийти к тому экстазу, в который впадает христианин при созерца¬
нии креста: по Батаю, как мы уже знаем, сообщение — это еще и экстаз
в качестве открытости индивида «внешним ветрам». Но экстаза еще
надо возжелать, концентрируясь на внеположном себе объекте, кото¬
рый, как это происходит во многих мистических учениях, позволяет
«забыться» и потеряться в созерцании. В случае с фотографией Ба¬
тай мысленно погружается в боль жертвы. Это — «надувательство»,
напишет Сартр, даже не уточнив, почему; у Жене ничего подобного
нет —ему «наплевать на чужую боль»27. Этому чудовищному эгоизму
Жене, в данном случае не столь реальному, сколь необходимому для
сартровской аргументации, соответствует еще менее реальное, неже¬
ли у Батая, желание сообщения; в качестве доказательства Сартр да¬
же не боится заявить, что «публика преклоняется перед ним [Жене],
готова признать за ним некоторую свободу, прекрасно зная, что он
не допускает своей собственной». В Дневнике вора28 читаем следую¬
щее. «Мое мнение заключается в том, что у воров, предателей, убийц,
лицемеров есть подлинная красота —это красота глубокой ямы, ко¬
25Здесь автор статьи обыгрывает выражение porter au pinacle, которое в свою
очередь многогранно обыгрывается Батаем во Внутреннем опыте. Об этом см.:
Батай Ж. Внутренний опыт. С. 304. — Прим. пер.
26Sartre, Saint Genet. P. 179.
27Sartre, Saint Genet. P. 619.
28См. русское издание: Жене Ж. Дневник вора: Роман. М., 1994. — Прим. ред.
230
торая отсутствует у вас»29. Значит, двойные стандарты? Конечно, не
без этого, так как в Новом мистике Сартр разносит Батая за одно¬
направленность его сообщения, а в Святом Жене прославляет Жене
за то, что тот еще более явно отказывается от коммуникации и пре¬
небрегает своим читателем. Таким образом, здесь мы наблюдаем дей¬
ствительные или предполагаемые особенности обоих авторов, которые
противоречиво оцениваются в зависимости от их, похоже, социального
происхождения. От такой установки Сартра до «вульгарного социоло¬
гизма» — против которого выступал в свое время Лукач30, пока сам не
был в нем изобличен Сартром в работе Вопрос о методе, — один шаг,
и, похоже, в Святом Жене он был сделан31. Напомним, что Лукач
восстал против столь распространенного в левых кругах того време¬
ни обыкновения судить о качестве произведения по принадлежности
автора к определенному классу32.
Уникальное положение, занятое Сартром внутри интеллектуаль¬
ного поля, и соответствующая необходимость привлекать к себе вни¬
мание путем скандала отчасти, конечно, объясняют его отношение к
Жене. Но и намерение ничего не уступать Батаю и его захватываю¬
щему внутреннему опыту, разумеется, тоже не чуждо этой установке.
Невозможное сообщение
Рецензия Батая на Святого Жене начинается с обычной оратор¬
ской предосторожности: он воздает должное таланту Сартра. Но все-
таки замечу, что очень быстро ощущаешь некоторую неловкость и что
Батай, как никто другой, отдает себе отчет в том господстве на ин¬
теллектуальном поле, которое обеспечил себе Сартр33. Господстве, ко¬
торое все же можно ограничить: «Писатель абсолютно уверен в своем
интеллектуальном превосходстве, хотя Сартр считает, что в эпоху раз¬
ложения и выжидания тренировать его не имеет никакого смысла, но
писателю удалось выразить его, подарив нам книгу Святой Жене.
Никогда еще его недостатки не были столь очевидными... »34
29Цит. по: Батай Ж. Теория религии. Литература и зло. С. 324. — Прим. пер.
30Дьёрдь (Георг) Лукач (1885-1971) — венгерский философ и литературовед.—
Прим. пер.
31 Jean-Paul Sartre, «Question de methode», Critique de la raison dialectique, tome
un. Gallimard, 1985.
32Georges Lukäcs, Ecrits de Moscou. Editions Sociales, 1973.
33Эпитет «восторженный», использованный биографом Сартра в отношении это¬
го текста Батая о Святом Жене, как мне кажется, не очень хорошо соотносится
с реальностью. См. по этому поводу: Annie Cohen-Solal, Sartre. Gallimard, 1985.
P. 415.
34 Батай Ж. Теория религии. Литература и зло. С. 300-301. — Прим. пер.
231
Здесь отчасти слышится голос редактора журнала Критика, о ко¬
тором говорят относительно немного, высказывающийся о сильной
позиции, занятой редактором Новых времен, о котором говорят зна¬
чительно чаще. Вопрос о сообщении —в том виде, в каком он воз¬
никает теперь,—дает ясное представление о разногласиях Батая и
Сартра.
Батай собирает здесь воедино все категории, которыми он опери¬
ровал в течение последних двадцати лет, категории, часто наплываю¬
щие друг на друга, когда они не взаимозаменяемы. Поэтому в данном
тексте о Сартре и Жене сообщение — одновременно и суверенное и
сакральное, литература и поэзия, словом, все то, что противится жал¬
кому миру проекта и утилитарности. При этом совершенно не упоми¬
нается о той критике, которую высказывал Сартр в Новом мистике
или Святом Жене. Зато Батай пытается уколоть это «невозможное»
сообщение Жене. Как? Очень просто: он «возвышается» и берется за
Жене, а вместе с ним и за Сартра, «сверху», поскольку считает их
неспособными «воспарить». Жене действительно слишком уж стре¬
мится к успеху, чтобы суметь избежать низости простого расчета и
утилитарности, с которыми «настоящее» сообщение не имеет ничего
общего. Да к тому же — и здесь Батай и Сартр меняются занимаемы¬
ми позициями — сообщение Жене односторонне, он не великодушен,
слишком суетлив, чтобы принимать позы и наблюдать за собой со сто¬
роны. Слишком расчетлив: «Ему (Жене) не было свойственно бросать¬
ся сломя голову навстречу неразумным порывам, которые охватывают
людей во время больших волнений, но для этого необходимо соблю¬
дать одно условие — никто не должен искоса, пристальным взглядом
смотреть на различие между собой и другими»35.
В связи с этим Батай проводит различие между тем, что он назы¬
вает слабым сообщением, свойственным для профанного мира труда и
утилитарности, — и сильным сообщением, сакральным и суверенным,
и близким к разрушению сознанием. А значит, настоящая тюрьма
Жене — его нарциссизм и «косой» взгляд, которым он смотрит на мир;
именно здесь берет начало его неспособность отдаться «настоящему»
сообщению, выступающему одновременно условием и формой суверен¬
ности. Сартру же Батай сулит другую тюрьму, с не менее высокими
стенами, считая его невосприимчивым к «тем сдержанным восхище¬
ниям» и «пробуждению», что доставляет сообщение.
И все же в Святом Жене Сартр затрагивает некоторые проблемы,
достойные рассмотрения. Относительно довольно удобной позиции, за¬
нятой сюрреалистами, он пишет: «Тем не менее в том хоре протестов,
который был вызван опубликованной Жене в Новых временах аполо¬
35Там же. С. 345. — Прим. пер.
232
гией предательства, именно сюрреалисты кричали сильнее всех. Они
осуждали его педерастию, были возмущены его доносами. Можно по¬
думать, в своей разрушительной деятельности они неуклонно соблю¬
дали гетеросексуальность и уважение к данному слову»36.
Полная противоположность тому, как представлен гомосексуализм
в Детстве хозяина. Но это сомнение в сексуальной морали сюрреали¬
стов касается Батая, по крайней мере, в двух аспектах: прежде всего
как попутчика сюрреализма, каким бы сдержанным сюрреалистом он
ни был, а также как читателя Жене и книги самого Сартра о Жене.
Рядом с неразрешимой проблемой, связанной с запретом на покойни¬
ков, вопрос о гомосексуализме является еще одним «слепым пятном»
в анализе человеческих желаний, анализе, основанном на запрете и
трансгрессии.
Желание и его энергия, говорит нам Батай, обязаны своим суще¬
ствованием запрету, который детерминирует собственную трансгрес¬
сию или «взывает» к ней. Запрет лежит в основе культуры и позволя¬
ет отличать условия человеческого существования от существования
животного, и пара «запрет— трансгрессия» в том виде, в котором ее
обнаруживает в самой глубине пещеры Ласко37 Батай, универсальна.
Любое желание, следовательно, выражает колебание между запретом
и трансгрессией, кроме одного случая — случая с покойниками. Это за¬
прет (не прикасаться к мертвым), которому не соответствует никакое
желание трансгрессии, исключая патологические случаи. Первая вер¬
сия Эротизма, как и окончательная, изобилует довольно неловкими
и, по утверждению самого автора, неубедительными рассуждениями
по этому частному случаю38. Каким бы универсальным ни был за¬
прет на инцест, он регулярно преступается в различных изучаемых
этнологией обществах, а тайна запрета, наложенная на мертвых, оста¬
ется неразрешенной и представляет собой пустое пространство, или
тишину, наименее потревоженную антропологией, которая постулиру¬
ет «механическую» и универсальную связь между запретом и транс¬
грессией. Это серьезная проблема, и Батай ее охотно признает. Тем не
менее вопрос о гомосексуализме у Батая, в общем-то, не поднимает¬
ся, в том числе в его эссе, посвященном Жене, тогда как именно этот
вопрос находится в центре всех дебатов. Можно также отметить, что
проза Батая никогда не чуралась самой провокационной трансгрес¬
сии, кроме, пожалуй, той ее части, которая касалась общественного
образа Жене. Это молчание Батая остается нерешенным постольку,
36 Sartre, Saint Genet. P. 196.
37 Пещера Ласко во Франции содержит настенные рисунки позднепалеолитиче¬
ского периода. Ряд своих работ Батай посвящает этой пещере и проблеме зарож¬
дения искусства. — Прим. пер.
38Bataille, L’érotisme. P. 79.
233
поскольку оно является выражением строго гетеросексуальной моде¬
ли, достаточно близкой по своей сути к той «ортодоксальности», кото¬
рую Бретон навязывал в сюрреалистической среде39. Заметим лишь,
что здесь речь идет об ином аспекте Святого Жене, о котором Батай
предпочел умолчать.
В общем, Сартр, полагавший, что слова способны выразить всё,
также думал, что установить сообщение — значит идти навстречу дру¬
гим и открываться им. Вспомним хотя бы о «группе в слиянии». Но
все это осуществляется с помощью слов. Батай точно так же верил в
сообщение и в открытость другим, но без помощи слов, или, скорее, на¬
перекор словам. До того как канонизировать Жене за то, что тот отка¬
зывал своему читателю в сообщении, Сартр обвинял Батая в том, что
последний предлагает сообщение без обратной связи. Наконец, Батай
упрекнет Жене в том же, в чем упрекал его Сартр, а именно в неспо¬
собности установить сообщение из-за недостатка великодушия. Но для
этого надо было, чтобы Батай «воспарил» из «бездонной» пропасти
мерзости благодаря тому «икаровскому» полету, который он отметил
у Бретона еще до того, как Сартр обнаружит его во Внутреннем опы¬
те. А какова же роль Жене во всей этой истории? Пассивный объект
старой ссоры, он празднует победу, мечтая о мерзости и предательстве
до победного конца. И наверняка он ликует в тот момент, когда Ба¬
тай на последней странице своего эссе безоговорочно уступает их ему:
«“Святость” Жене... это краденая и мертвая суверенность, суверен¬
ность человека, для которого желание суверенности заключается в ее
40
предательстве» .
Перевод С. Б. Рындина
39См. об этом: Xavière Gautier, Surréalisme et sexualité. Gallimard, 1971.
40Bataille, Genet. P. 244.
БЕРНАР СИШЕР
НИЦШЕ ЖОРЖА БАТАЯ
Французы, похоже, могут быть вполне удовлетворены и горды тем,
что на исходе века на их языке и в их культуре появились творения
Батая, Селина, Жене. Тем не менее в самой Франции в отношении
к этим творениям можно встретить некоторое непонимание и даже
лицемерие: ясно, что произведения названных авторов продолжают
считаться скандальными, поскольку затрагивают — каждое по-своему
(на философскую мысль, как кажется, оказало влияние лишь твор¬
чество Батая) — некоторые вполне конкретные и болезненные точки
социального тела. То, что эта статья рассчитана на американского чи¬
тателя1, может стать как удачей, так и недоразумением: если удача
заключается в возможности открыть диалог с одним из самых мощ¬
ных философских учений, то недоразумение может оказаться частью
самого диалога, каковым недоразумением он, полагаю я, и был бы,
если бы мы заговорили о творчестве Сада. Все это напоминает знаме¬
нитое высказывание Мориса Бланшо о Саде: «Уважайте в Саде хотя
бы его скандальность»2. Не будем спешить с «философским» выво¬
дом о том, что всякий скандал —это удача учения: попробуем лучше
применительно к Батаю измерить ту беспокойную истину, что лучит¬
ся сквозь наши лживые и доверительные соображения. Начинаемый
мною диалог может обрести смысл, только если в отношении текстов
Батая и их восприятия со стороны общественности мы будем учиты¬
вать то своеобразие, что кроется за всем тем, что мы не без некоторой
театральности понимаем под скандалом или недоразумением, и будем
стремиться выявить законы той распущенности, в которой Батай от¬
давал себе полный отчет. Дело не в том, что он тем или иным образом
искал скандала, просто он знал, что скандал неизбежен уже тогда,
когда он начинает говорить. Писать о Батае, а точнее, о его понима-
1 Впервые статья была напечатана в: Stanford French Review. 1988. N 12. — Прим.
ред.
2M.Blanchot, Lautréamont et Sade, Minuit, 1963. P. 18.
© С. Б. Рындин, перевод, 2006
235
нии Ницше, — значит вдвое усложнить задачу, но, возможно, это самое
удвоение задачи приведет нас к одному и тому же выводу: вполне мо¬
жет оказаться так, что оба эти учения (учения или действия?) сопро¬
тивляются в поле современной мысли одному и тому же, это не только
сопротивление литературе или философии, а самому положению этих
форм дискурса относительно нас, а также институтов, отвечающих за
эту дискурсивную организацию. То есть табу в отношении Ницше и
Батая по существу ведет только к тому, что ставит нас на хрупкие
границы мысли и письма —мысли (университетской), что не пишет¬
ся, и ложного письма, что не мыслится, — такие границы, что, если
их перейти, все окажется опрокинуто с ног на голову, включая само
определение, даваемое нами мысли. Читать Батая после Ницше преж¬
де всего означает держать в голове эти границы и возможность их
преодоления.
Конечно же, Америке не принадлежит монополия на университет¬
ское господство, заменяющее мысль тем, кто не терзается ее живостью.
Для них Батай — такая же помеха, как Ницше. По правде сказать, ни к
одному, ни к другому нельзя приближаться тем, кто хотел бы воздер¬
жаться от столкновения с колоссальным переворотом, который пере¬
жила западная мысль за последние два века. Если беда Ницше в неко¬
тором смысле заключалась в том, что его довольно скоро стали рас¬
сматривать как мыслителя, в конечном счете неотделимого от истории
философии, как ее понимают и преподносят преподаватели, то Батай
не испытал такой напасти: его мысль остается нетронутой, «скандаль¬
ной», т. е. на вершине того переворота, на который она была настрое¬
на. Неустанные заявления Батая об оказанном на него Ницше влиянии
как раз и должны привести нас к тому, что, по существу, предпола¬
гает мыслительная деятельность в условиях современной ментальной
пустыни, которую Ницше чудесно выразил на свой манер («Пустыня
разрастается»3). В этой великой пустыне, которую развивающийся в
техническом (но не в ментальном) отношении Запад, кажется, толь¬
ко неуклонно увеличивает вокруг себя, имена Ницше и Батая — и это
совершенно ясно — настойчиво взывают к нам, как нечистая совесть.
Ибо неприятие живого мышления никогда не сможет побороть субъ¬
ективную тягу, своеобразную и биографичную, к размышлению, без
коего человек — всего лишь карикатура на самого себя: такая тяга и
есть истинный сюжет этого поневоле аллюзивного и слишком корот¬
кого текста, который следует рассматривать как введение. На самом
деле без учета конкретной истории мысли интересующие нас учения по
3Heidegger, Qu’appelle-t-on penser? tr. fr. (1967). P. 351. (См. одноименную ста¬
тью из этого сборника ( Что значит мыслить?) в русском издании: Хайдеггер М.
Разговор на проселочной дороге: Избранные статьи позднего периода творчества.
М., 1991. С. 134—145. — Прим. ред.)
236
большей части остаются таинственными и недейственными, но также
(а может, и еще более) справедливо то, что история мысли — это всего
лишь случайное и рваное движение тех самых всякий раз своеобраз¬
ных учений, служащих проводниками субъективного опыта, прежде
чем стать стройной системой концептов, — чего, впрочем, они зача¬
стую бегут, как это происходит у Ницше и Батая, которые оспаривают
саму форму, традиционную для Запада, изложения философской мыс¬
ли. Отсюда, несомненно, и трудность в подходе к письму-мысли Батая,
вторящему письму-мысли Ницше: в данном случае наша удача заклю¬
чается в том, что предпринимаемый диалог с Батаем уже некоторым
образом предвосхищен в диалоге самого Батая с Ницше, именно диа¬
логе, а не комментарии. Этот диалог, как мы полагаем, организуется
вокруг двух провокационных высказываний: «Я такой же, как Ниц¬
ше» и «Я не философ, а святой или, возможно, сумасшедший»4. Эти
провокационные высказывания небезосновательны: они являются ос¬
новными ориентирами в проводимой Батаем работе и приглашением
к разговору об отражаемом этими высказываниями свете. Конечно,
стремление быть «таким же, как Ницше» не должно пониматься как
светская поза, претенциозная и риторическая, как манерный жест: без¬
апелляционная фраза Батая «мой ум — один из самых основательных,
что когда-либо существовали» (О. С. 5: 289) ясно показывает, что он
хочет сказать. Речь не идет ни о сумасшествии, ни о принятии су¬
масшествия Ницше, а о том, чтобы в движении своего собственного
субъективного существования поднять размышление на ту высоту, на
которой размышлял сам Ницше. Это предполагает столкновение с воз¬
можностью сумасшествия, но не как с чем-то внешним, а как со свой¬
ственным для размышления риском (с тем риском, который Хайдеггер
предпочел игнорировать): «Как я представляю себе, меня вынуждает
писать страх сумасшествия» (О. С. 6: 11). Только так можно понимать
требование Батая, по существу довольно горделивое, не путать его с
другими комментаторами Ницше, «специалистами» по философии, с
«профессорами» 5.
Опыт, субъективность. Сегодня использование этих столь долгое
время дискредитируемых терминов кажется несколько странным. И
дело вот в чем: чтение или перечитывание текстов Батая предполага¬
ет не только возвращение к одной из самых мощных и самых ориги¬
нальных форм мысли, но и осознание того, насколько эта мысль, по
4 «Я единственный, кто не комментирует Ницше, а такой же, как он» (G. Bataille,
Œuvres complètes, 9 vols. [Gallimard, 1970-1978] 8: 401). «То, чему я учу (если вообще
это так... ), есть опьянение, а не философия: я не философ... » (5: 218). Здесь и
далее все ссылки соответствуют томам и страницам упомянутого издания.
5«Я не профессор» (О. С. 6: 416). «Я далек от экзистенциализма, так как в моем
понимании он уже стал университетской философией» (О. С. 9: 325).
237
большей своей части непризнанная, утверждается вопреки всему тому,
что будет успешно доминировать на интеллектуальной арене Франции:
мы имеем в виду экзистенциализм и структурализм. Утверждается
настолько, что тем, кто позднее вообразит себе, что он обнаружил
безвыходность философии Сартра и структурализма, мы бы охотно
посоветовали перечитать Батая, чтобы избавить себя от такого тру¬
да. То, что сартровский экзистенциализм просто-напросто вытеснил
Батая, то, что структурализм порой пытался сделать его своим, по
существу ничего не меняет: своеобразные и головокружительные тек¬
сты Батая оспаривают основные тезисы Сартра (о субъекте, сознании,
свободе, истории), в то же время —так сказать, наперед — опровергая
формалистские бесчинства структурализма и заявляя о том внутрен¬
нем опыте, к которому следует возвратиться, поскольку он являет¬
ся «вершиной», от которой отталкивается батаевская мысль, разво¬
рачиваясь под именем Ницше и отрицая установленное нами разли¬
чие между «поэзией» и «философией». Слово «гетерогенность»6— его
Батай довольно рано начнет использовать, чтобы выявить присущее
творчеству своеобразие как в своем собственном субъективном опы¬
те, так и в игре мироздания: этот термин так же может направлять
нас при толковании понимания Ницше Батаем, как и в понимании
самого «внутреннего опыта», о котором столько спорят, который от¬
рицают, атакуют и критикуют. Об этом опыте будет справедливым
сказать, что он, конечно же, уводит Батая от ученых и бессубъектных
построений структурализма, что он также отдаляет его от гуманиз¬
ма Сартра («гуманизма» и «антигуманизма»: Батай сразу отказался
от такого чудовищного дуэта, знака эпохи), что этот опыт, наконец,
избавляет его — и не в последнюю очередь — от всякого оккультизма,
популярного в то время как в Америке, так и во Франции и распро¬
странившегося под флагом сюрреализма или борьбы с наркотиками и
их мистическими и мистифицирующими «путешествиями».
Батай — тот, кто держится здесь совершенно обособленно, одновре¬
менно отрицая внешний характер концептуального знания и не до¬
веряя, в соответствии со строгостью этого субъективного опыта, яв¬
ляющегося опытом письма (письма, в котором ставится на кон его
собственное сексуальное тело), всем формам отрицания, интеллекту¬
альным или же мистическим, такого тела. Батай утверждает и под¬
тверждает это недоверие уже тем, что упорно обходили и экзистен¬
циализм Сартра и герменевтика Хайдеггера, а равно атеистические
и асубъективные концепции структуралистов: это ясно прописано во
6 «Гетерогенное безусловно лежит вне досягаемости научного знания, каковое по
определению применимо только к гомогенным элементам» (О. С. 2: 62). См. в том
же томе Досье «Гетерология».
238
всех текстах Батая, и это —слово Бог7, «имя Бога» или, еще точнее,
то, что Батай неоднократно называет, особенно в своей книге о Ницше,
«отсутствием Бога» (О. С. 5: 240, 272)8. Не просто отрицание, утвер¬
ждение несуществования или банальный атеизм, а признание отсут¬
ствия и осознание основополагающих последствий этого отсутствия:
всякая попытка понять Батая или Ницше, не принимая на вид данного
положения, сильно рискует стать чем-то вынесенным за скобки исто¬
рии западной мысли. Занятая Батаем позиция могла бы быть сведена
к следующей лапидарной формулировке из книги О Ницше: «Меж¬
ду эротизмом и мистикой нет барьеров!» (О. С. 6: 150). На этой то¬
ненькой нити разыгрываются и толкование Батаем Ницше, и внутрен¬
ний опыт, и парадоксальное сообщение такого опыта в свете всех этих
недопониманий, всевозможных психологических, мистических, идеа¬
листических или даже порнографических редукций, что непрестанно
прикрывали обнаженную необузданность указанного опыта. Эта по¬
зиция Батая пребывает неизменной, а вот ее выражение, конечно же,
подчинено некоторому движению развития. Поэтому мы предлагаем
ограничиться двумя группами текстов. Первая — это известная Беседа
о грехе, состоявшаяся у Море в марте 1944 г. и совпадающая со вре¬
менем написания работы О Ницше. Вторая группа включает в себя
более поздние тексты о «суверенности», Лекции о незнании и размыш¬
ления о Ницше, встречающиеся в тексте, составленном около 1954 г. и
опубликованном уже после смерти Батая под названием Суверенность
(изначально этот текст предназначался для третьей (и заключитель¬
ной) части книги Проклятая доля). Относительно последнего текста,
вышедшего в 1949 г. и по сей день недостаточно и плохо изученного,
будет справедливым сказать, что он имеет важное историческое зна¬
чение: то, что тогда Батай пытался определить в себе самом, еще до
некоторой степени управляет и нашей эпохой, поскольку речь идет о
нацизме, сталинизме, критике коммунизма и вопросе о судьбе запад¬
ного капитализма в эпоху плана Маршалла и политических и эконо¬
мических перемен во всем мире.
Беседа о грехе
Эту лекцию Батая необходимо датировать: в ней он публично огла¬
шает тезисы из книги О Ницше, написанной с февраля по август 1944 г.
и являющейся второй частью сборника Сумма атеологии. Первая
часть этого произведения вышла годом ранее под названием Внутрен¬
7 «Мы не можем безнаказанно вводить в свою речь то слово, что превосходит
остальные слова,— слово Бог» (О. С. 3: 12).
8 «Ни Бог, ни возможное не есть ограничение человека, — таково только невоз¬
можное, т. е. отсутствие Бога» (О. С. 6: 312).
239
ний опыт и сразу же навлекла на себя жесткие и страстные нападки
Ж. П. Сартра9. Следует также напомнить, что в то время Батай, сна¬
чала получивший признание в узком кругу своих друзей, является уже
заметным автором, который написал, хотя и все еще не опубликовал,
Историю глаза, Небесную синь, Мадам Эдварду, т. е. одни из наиболее
значительных эротических произведений своего века, не говоря уже о
впечатляющем количестве статей, среди которых — Критика основа¬
ний гегелевской диалектики, Психологическая структура фашизма,
Потребительная стоимость Д. А. Ф. де Сада, «Старый крот» и
приставка «сверх» в словах «сверхчеловек» и «сюрреалист»: все эти
тексты могут рассматриваться как основополагающие моменты диало¬
га между Батаем и Ницше. Именно Батай — за несколько месяцев до
Освобождения, когда вовсю еще бушует война, — изучая Ницше и пре¬
бывая в поисках оснований собственной морали, берет власть в свои
руки, собирая вокруг себя и под своим именем (дабы обсудить про¬
блемы морали, Бога, греха) такую аудиторию, составу которой можно
только позавидовать: это — и удивительный семейный снимок, и фан¬
тастическая разведывательная операция в глубинной ментальной ор¬
ганизации той эпохи, и чудесная радиография этой организации. Здесь
все: экзистенциализм (Ж. П. Сартр, Симона де Бовуар, Альбер Камю,
молчаливый Морис Мерло-Понти), французское гегельянство и Эколь
Нормаль (Жан Ипполит), католическая мысль (Жан Даньелу, Жак
Мадоль, Морис де Гандийяк, Габриэль Марсель), La Nouvelle Revue
Française (Жан Полан), мистики (страстный Массиньон, католик и
проарабист Корбен), друзья по Коллежу социологии (Лейрис, Блан-
шо, Клоссовски). Кому бы еще в те годы удалось собрать подобную
компанию? В то же время этот сногсшибательный состав, согласно
задумке Батая, отвечал вполне определенной стратегии: с легкостью
и умением профессионального игрока разыграть карту сартровского
экзистенциализма, французского гегельянства (как гуманистическо¬
го, так и гегельянства Кожева) и католической теологии, чтобы по ту
сторону этого странного, нетрадиционного и веселого дискурса воз¬
никла мысль о несерьезном, открывающая для смеха замкнутую на
себе самой серьезность, мысль о настоящей серьезности, способной по¬
смеяться над тем, что — в несерьезном — не может размышлять по ту
сторону самого себя. И это положение не вторично, а, наоборот, весьма
существенно для понимания отношения Батая к философии вообще,
Сартру, Гегелю, Хайдеггеру (даже если справедливо то, что тогда он
был знаком с Хайдеггером только по неудобоваримым переводам Кор-
9«Un nouveau mystique», Cahiers du Sud (octobre—décembre 1943); Bataille,
«Réponse à Jean-Paul Sartre» (О. C. 6: 195). (См. русский перевод Одного ново¬
го мистика: Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины
XX века. СПб., 1994. С. 11-45. — Прим. пер.)
240
бена, еще одного мистика). Это —узловое положение и в том смысле,
что никогда раньше не было настолько очевидно, что речь неотдели¬
ма от держащего ее субъекта, неотделима от его интонации и голоса.
По крайней мере, об этом свидетельствует Артюр Адамов, один из
слушателей Батая на той лекции. На вопрос, вскоре серьезно взволно¬
вавший Сартра и некоторых других (но, в конце-то концов, серьезен ли
Батай?), Адамов предупредительно отвечает: «Что меня больше всего
поражает в речи Батая, так это тон его голоса: он кажется совершенно
подлинным» (О. С. 6: 331).
В некотором смысле, возможно, все кроется именно здесь, в этом
вопросе о тоне и голосе, о том, что на первый взгляд делает мысль
Батая столь трудной для понимания, о том, что ставит Батая в один
ряд с нонконфомистским движением нонконформистского предприя¬
тия Ницше: это нечто вроде проговариваемой драмы, неотделимой от
дыхания того, кто говорит, в которой постоянно разыгрывается внут¬
ренняя жизнь субъекта, словом, все то, что можно найти у Ницше;
его тексты тоже кажутся неотделимыми от дыхания и голоса того,
кто единственно ими обладает: кто-нибудь когда-нибудь мечтал за¬
говорить голосами Канта или Гегеля? Это подлинный голос, говорит
Адамов. Но что значит «подлинный»? Батай отвечает на этот вопрос в
присущей ему манере, с ошеломляющей дерзостью, представляя себя
тем, чья мысль смеется вслед за смехом Ницше, смехом, преданным
забвению тяжеловесными университетскими измышлениями: «Мне не
очень хорошо удалось передать то веселье, с которым я это сделал»...
«я, конечно, не мог предугадать, что кое-что останется незамеченным,
т. е. то, что я мог бы назвать непринужденностью. Но уж раз я это
сделал, значит, мне все равно, значит, я ни на чем не замкнулся, зна¬
чит, с начала и до конца я испытывал чувство непринужденности,
преодолевающее все присущие подобным ситуациям правила» (О. С.
6: 349). Ошеломляющие слова о свободе, доселе не комментирован¬
ные и, по-видимому, не понятые: вторжение Батая в свою плоть есть
поразительное воздействие субъекта на другого субъекта, подрываю¬
щее этого субъекта в его сопротивлении и заставляющее его уступить.
Что это, как не определение эротического действа, в котором поведе¬
ние Батая совершенно последовательно — от теории к практике: «Я —
вызов тем, кого люблю» (О. С. 6: 113)? Между эротизмом и филосо¬
фией нет барьеров: мы находимся в них. Этот смех не только смеется,
но, смеясь, одним махом показывает нам всю сцену мысли с ее тай¬
ными задачами и скрытым сопротивлением: атеизмом, атеистическим
гуманизмом Сартра и Ипполита, католической страстью, противопо¬
ставляющей этот гуманизм своему вытесненному теологическому же¬
ланию, но в свою очередь противопоставленной пронзительному смеху
Батая, смеху того, что нам следовало бы назвать «теологией» Батая,
241
или даже его атеологией. Атеологией, которую нельзя мыслить вне
ее отношения к христианской теологии («сумма атеологии» — это пря¬
мая цитата из св. Фомы Аквинского, чего не видит Сартр), которую
также нельзя мыслить вне того, что Батай упорно называет внут¬
ренним опытом вопреки гегелевской системе и Сартру (как и вопре¬
ки марксизму). Атеологией, призванной «осквернить» и католическую
теологию и рациональный атеизм Сартра, который тоже может суще¬
ствовать только при наличии субъективного момента того опыта, что
можно поставить «в один ряд с мистиками всех времен»10. Не в этом
ли сексуальном ниспровержении теологического дискурса и философ¬
ского разума Батай становится на шаг ближе к Ницше? Возможно.
Я говорил об «осквернении»: это слово используется Батаем умыш¬
ленно11, оно лежит в самом сердце того, что он понимает под грехом,
злом, Богом, под тем, как принадлежащий ему опыт следует за опы¬
том Ницше в своем абсолютно своеобразном отношении к отсутствию
Бога. Это — осквернение католической позиции исходя из другой по¬
зиции, чуждой всякой религиозной точке зрения, которую сам Батай
определяет как «гиперхристианство» (О. С. 6: 315), и в то же время
это гиперхристианство взламывает атеистический гуманизм Сартра,
вынуждая его отступать перед субъективным, которое есть наслажде¬
ние, причем наслаждение сексуальное. Можно представить себе вы¬
ражение лица отцаДаньелу и Сартра, в некотором роде отвечающих
друг другу, даже не зная того.
Здесь мы подходим к самому существу того, что Батай противопо¬
ставляет экзистенциалистскому разуму и классическому идеализму:
вывернутой онтологии, которая — надо признать — также противосто¬
ит и структуралистскому разуму, пришедшему на смену философии
Сартра. Где, если не здесь, разыгрывается судьба современной мыс¬
ли? Батай одним махом опротестовывает дуалистическую онтологию
Сартра, причем куда более радикально, нежели это сделает в своих
последних работах Мерло-Понти. Но в то же время он покажет нам
и то, как будущая структуралистская мысль в свою очередь зайдет
в тупик, когда, отказавшись от опыта, опыта пережитого, окажется
неспособной произвести ту онтологию, к коей тем не менее она вы¬
нуждена взывать, поскольку «структура» есть не только форма, но и
сущее, соотношение которого с совокупностью Бытия проблематично.
А значит, атеология Батая — это онтология, идущая вслед за той онто¬
логией, поддержкой и гарантом которой в течение стольких веков была
10 «Автор этой книги по экономике ставит себя (в силу некоторых положений дан¬
ного произведения) в один ряд с мистиками всех времен (тем не менее он довольно
далек от пресуппозиций различных мистических учений, которым он противопо¬
ставляет лишь ясность самосознания)» (О. С. 7: 179).
11 «Грех есть всего-навсего “осквернение” бытия, но не пустоты» (О. С. 6: 341).
242
западная католическая теология. В этом Батай, конечно же, больший
гегельянец, чем предшествующие ему гегельянцы, а Гегель — велик,
как это признает Хайдеггер, который стремился выработать онтоло¬
гию, способную целиком интегрировать в свою систематику христиан¬
скую онтологию и теологию12. Сказать, что мысль Батая следует за
мыслью Ницше, значит сказать, что Батай выступает продолжателем
процесса, в котором Ницше вслед за Гегелем и вопреки ему сочленяет
онтологию, способную удержать открытой саму открытость субъекта,
тело этого субъекта и наслаждение этого тела13, словом, творит нечто
противоположное той безысходности, в которой, как считается, ока¬
зывается мысль Сартра (сказать по правде, заложника догегелевской
логики бытия и ничто), противоположное безысходности, в которую
в свою очередь зайдет и структуралистская мысль — за исключением
Лакана (тоже католика, любителя Гегеля, рассматривающего вопрос
о Боге через призму учения Фрейда),— когда будет непрестанно упи¬
раться в этот вопрос об онтологии. Здесь важно понять, как Батай
решает разыграть онтологический и моральный вопросы (тот мораль¬
ный вопрос, об который тогда экзистенциальное учение постоянно об¬
ламывало себе зубы), т. е. вопрос об отсутствии Бога, об атеологии как
онтологии отсутствия Бога. То есть —то, как Батай выстраивает эту
онтологию, отталкиваясь не от логики концепта, а от субъективного
опыта, «слепого пятна» на глазу мысли, в невнимании и игнорирова¬
нии которого он упрекает Гегеля14. В данном отношении, если мы при¬
нимаем за точку отсчета понятие греха, это по существу означает две
вещи. Первое: Батай предстает тем, кто вслед за Ницше упорно изу¬
чает центральный вопрос христианства в то время, когда сильнейшие
умы (первейший из них — Сартр) убеждены, что с этим давно поконче¬
но, изучает его, в частности, следуя тому, что Хайдеггер справедливо
называет ницшеанской инверсией платонизма15. Второе: такое изуче¬
ние не ограничивается подобной хайдеггеровской инверсией, посколь¬
ку в качестве конечного пункта оно определяет себе тело, сексуаль¬
ное тело, совершенно отсутствующее у Хайдеггера. Мораль, которой
Батай кичится перед Сартром и католицизмом, есть антимораль, не
являющаяся ни симметрической изнанкой морали, ни ее «преодолени¬
12Heidegger, Qu’appelle-t-on penser? tr. fr. (200): «Логика означает онто-логию
абсолютной субъективности».
130 взаимоотношении Ницше —Гегель и о значении Хаоса как «телесной» силы
в онтологии Ницше см.: Heidegger, Nietzsche, tr. Klossowski, Gallimard, 1961. 1: 274,
439. Хайдеггер намекает (p. 276) на «негативную теологию, в которой отсутствует
христианский Бог».
14 См. Письмо к Кожеву в книге: Denis Hollier, Le Colluge de Sociologie, Gallimard-
Idées, 1979. P. 170-177. (См. русское издание: Коллеж социологии, 1937-1939 / Сост.
Д. О лье. СПб., 2004. С. 57-63. — Прим. ред.)
15Heidegger, Nietzsche, tr. fr. (1: 142, 181).
243
ем» в гегелевском смысле (в то время Батай не доверяет гегелевской
диалектике); это —ее открытый и вымученный Другой, это —мораль
греха, подкрепленная онтологией, уже достаточно основательно изло¬
женной во Внутреннем опыте, книге, в которой Бытие есть то, что не
перестает разыгрываться за пределом разделенных сущностей (О. С.
5: 100, 272; 6: 48, 350, 352).
Эта онтология продолжает онтологию Ницше, в то же время ука¬
зывая на ее возможные пределы и объявляя о подстерегающих ее опас¬
ностях: ни в коем случае нельзя рассматривать человека в терминах
внешней объективности или замыкаться на нем, поскольку он остает¬
ся открытым в открытости, о которой свидетельствуют наслаждение
и сексуальная «рана»16. В этом снова можно увидеть блестящую фор¬
мулировку из книги О Ницше: «Между эротизмом и мистикой нет
барьеров». Это должно пониматься как протест против мистицизма
и против порнографии, против мистики, ничего не знающей о сво¬
ей собственной сексуальной энергии, и против рабской редукции эро¬
тического опыта к позитивации (ровйпта^юп) и порнографическому
фетишизму, столь распространенным сегодня17. Здесь и только здесь
разыгрывается батаевское понимание Ницше, та общность, которая,
как он утверждает, формируется вместе с опытом Ницше: «Моя жизнь
в обществе Ницше — это жизнь сообща, моя книга есть такое сообща»
(О. С. 6: 33)18. Это сообща разыгрывается вокруг трех слов: сообще¬
ние, трата, спасение. Спасение есть противоположность тому, о чем
хочет заявить Батай, который вслед за Ницше отрицает подчинение
человеческих действий заботе о будущем; отрицает религиозную мо¬
раль спасения, отрицает сартровскую (или марксистскую) мораль че¬
ловека, поскольку обе они кажутся Батаю потерей позиций или невы¬
носимым подчинением объективированной онтологии Добра и Бытия.
Место спасения у Батая занимает воля к удаче. Воля к удаче, сооб¬
щение, трата: здесь разыгрывается карта самого опыта, поскольку он
преодолевает обычные пределы дискурса, устанавливая новую фор¬
му общности, основанную на том, что со временем Батай будет назы¬
вать суверенностью. Здесь все проясняется, все становится видимым
и читаемым, в частности тот факт, что на первый взгляд философ¬
ские тезисы Батая о Ницше неотделимы и от эротического опыта и
от эротического письма, например от письма Мадам Эдварды, экс¬
плицитно содержащего его философскую и теологическую (атеологи-
16 «В этой телесной сущности привлекательно не непосредственное бытие, а его
рана» (О. С. 6: 45).
17Marcelin Pleynet, Art et littérature, Seuil, 1977. P. 30-32.
18Батай также говорит о «тревожной верности» (5: 63), как кажется, вторя жа¬
лобе Ницше: «Все только и говорят обо мне, но никто не думает».
244
ческую) позицию19. Следовательно, есть единство и преемственность
между атеологией, онтологией «раны» (субъекта как раны), моралью
греха и волей к удаче, тратой, сообщением, поэзией: пересмотреть все
это через призму эволюции понятия «суверенность» означает изучить
мысль, находящуюся во власти иной силы, нежели та, что ею управ¬
ляет и что зовется наслаждением; это также значит понять, как по¬
добная мораль, отказывающаяся от идеи спасения, может найти свое
выражение в литературном пространстве, и как в этом пространстве
выражается батаевское понимание Ницше, в частности, его тезисов об
искусстве будущего.
Суверенность
Понятие «суверенность» вносит в чтение Батая некоторый сумбур
и неудобство, особенно если мы пытаемся лучше уяснить себе возмож¬
ный статус этого «концепта» и отношение этого «концепта» к онтоло¬
гии Батая в том виде, в каком она развивается в 1950-1957 гг. В боль¬
шинстве случаев у Батая понятия не стоят на месте: они скорее кру¬
жатся в вихре, нежели образуют систему. Система — это круг, что мы
наблюдаем у Гегеля, а Батай —тот, кто разбивает этот круг, впуская
в него свежий воздух. Такой круговорот связан с непростой попыткой
при помощи мысли завладеть тем эротическим опытом, что дается в
опыте индивидуальном и тех коллективных формах, которые эксплу¬
атируются Батаем начиная с 1949 г. в Проклятой доле, Истории эро¬
тизма и Суверенности. Вне всякого сомнения, здесь он прикасается к
чему-то обжигающему, лежащему в самом сердце современного опыта
и языковой революции, к которой этот опыт призывает20. Это жже¬
ние неотделимо от отношения Батая к Ницше и его опыту, к последней
безысходности этого опыта: структуралистская же мысль будет разво¬
рачивать свои изыскания вдали от этого жжения. Признав это, мож¬
но понять, в чем состоит основное различие между тем, как понимает
Ницше Батай, и тем, как его понимают другие, например Хайдеггер,
Бланшо, а также (через призму структурализма) Делёз, Фуко, Дерри¬
да (толкователь Гегеля, и прежде всего батаевского Гегеля). Можно ли
сказать, что навязчивое и ревностное упоминание имени Батая у этих
19 «Прошу прощения за уточнение, но такое определение бытия и бесчинства не
может быть основало философски» (О. С. 3: 12).
20Michel Foucault, «Préface à la transgression», Critique 195-196 (août-septembre
1963). P. 761: «Крушение философской субъективности... вероятно, одна из фун¬
даментальных структур современной мысли». (См. русское издание: Фуко М. О
трансгрессии // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середи¬
ны XX века. СПб., 1994. С. 111-131. — Прим. ред.). Заметим, что со временем у
Фуко имя Батая перестает возникать.
245
авторов сравнимо с упоминанием имени Ницше? В некотором смыс¬
ле да: в этих почти всегда путаных изложениях мысли одновременно
затрагивается и отрицается нечто из батаевского опыта. Путаных —
в силу той проблемы, которую Батай живо решает: Ницше и фаши¬
сты. Неудивительно ли, что, кроме Батая, никто — особенно в лагере
экзистенциалистов — не попытался воспроизвести нацистскую мысль?
У Хайдеггера молчание, у Сартра тоже, и это молчание продлится
еще долго. Толкуя Ницше, Батай предлагает развести некоторые по¬
ложения: в учении Ницше есть одна деталь, которая при ближайшем
рассмотрении может оправдать соблазн фашизма, деталь, благодаря
которой жестокость силы («воли к власти») может помочь в борь¬
бе с системой разума, моралью «упадка» и буржуазного гуманизма,
против коих Батай, в то время приверженец марксизма, тоже высту¬
пает. Конечно, те произведения, где он анализирует феномен нациз¬
ма, требуют более внимательного прочтения, но их общий смысл — в
том, что касается Ницше, — совершенно ясен: надо толковать Ницше
также вопреки нацизму, поскольку нацизм несовместим с фундамен¬
тальными принципами ницшеанской мысли (но не с мыслями о Ницше
Хайдеггера)21.
Однако, ставя этот вопрос, Батай затрагивает важный аспект, воз¬
никающий во всех прочих толкованиях Ницше, как и во всех исследо¬
ваниях нацистского феномена: аспект сексуальный, весьма спорный,
но неизбежный, последний рубеж для любого исследователя Ницше,
как и самого Батая, ежели он не занимается самообманом. Если Батай
обретает себя в годы расцвета нацизма — как предполагаемого нациз¬
ма Ницше, то прежде всего это происходит потому, что в нем самом
в сексуальном отношении есть нечто противящееся нацистской ми¬
стике и остальным разновидностям мистики, нацистским или нет, ко¬
торые в первую голову определяют себя как исступленное отрицание
сексуальной раны, отрицание кастрации22. Потрясающе, что в тот мо¬
мент, когда из Германии на Европу обрушиваются когорты гульфиков,
при виде которых замирает Жене, Батай пишет Мадам Эдварду, т. е.
выводит на сцену кровавую и распущенную кастрацию. Сказать, что
«между эротизмом и мистикой нет барьеров», — значит высказаться
против языческой мистики, оккультизма, вообще всяких оккультных
дел и фетишизма, против той оккультной и фетишистской религии
Матери, которой посвятят себя многие другие, и в первую очередь
сюрреалисты. Ясно, что мысль Батая есть самый решительный отказ
от этого материнского оккультизма, триумфальным отстранением от
21 «Между идеями реакционного или нереакционного фашиста и идеями Ницше
больше чем различие: радикальная несовместимость» (О. С. 6: 186).
22 Надо ли напоминать, что в этом Батай (может быть, и сам того не зная) сбли¬
жается с Селином?
246
которого выступает Мадам Эдварда; триумфальным — поскольку сек¬
суальным и не обезличенным. Атеология Батая — против оккультного
культа Матери, против нацистской мистики, против сюрреалистиче¬
ской и юнговской алхимии: Селин пройдет этот путь иначе, разыграв
другую карту, впрочем, тоже фиктивную, сексуальной раны23, Батай
же — через атеологию, выступив против всякого оккультизма, против
замкнутых извращений, на протяжении всего века развивавшихся не
только во Франции, но и в Америке, от великой оргональной Мате¬
ри старого Рейха до архаической Матери Берроуза, вооружающей и
инициирующей своих «диких мальчиков».
Вместо Бытия, вместо Бога —не примитивная и фаллическая
Мать, а Эдварда, женщина, шлюха, ее половые органы: неужели фи¬
лософия не должна была измениться в эпоху, когда Пикассо со своей
сексуальной направленностью перевернул представления о живописи?
Неужели это не стало резким скачком за пределы идеалистических
представлений и всего этого ложного материализма, еще более идеа¬
листического, чем сам идеализм? «Вместо Бога —воля к удаче» (О. С.
6: 135), вместо Бога — женщина24: именно исходя из этого следует по¬
нимать обращение Батая к тому, что он называет суверенностью, а
прежде — «волей к удаче», термином, который в 1943 г. он выносит в
заголовок своего диалога с Ницше. О воле к удаче — как о любви к фа¬
тальности и «невинности становления», как об amor fati в ницшевском
смысле слова (О. С. 6: 140). Теперь суверенность функционирует не
как концепт, а скорее как поворотная ось и горизонт почти «непригод¬
ной»25 онтологии, горизонт той онтоатеологии, единственным вырази¬
телем которой он тогда был, того бесконечно возобновляемого опыта,
что, кажется, в самом сердце дискурса сливается в единое целое с уди¬
вительным слабоволием сексуального наслаждения, того, что порой в
тексте Ницше называется «аффектом»26. Вот что Батай открывает у
Ницше благодаря де Саду, поскольку смотрит на Сада поверх пороч¬
ного круга, вероятно оккультного, которым был так очарован Клоссов-
ски. Об этом опыте, одновременно «субъективном» и «ограниченном»,
следует сказать, что ни при каких обстоятельствах он не может быть
позитивен (поскольку позволяет вновь замкнуть дискурс и бытие на
самих себе) и не может функционировать как основание ( Grund) фило¬
софии, но только в качестве дерзкого требования, не прекращающего
23Philippe Muray, Céline, Seuil, 1981.
24«Она была БОГОМ» (О. С. 3: 24). Отметим невозмутимую серьезность, с кото¬
рой Хайдеггер понимает Хаос как «зияющую трещину» (1: 437), даже не замечая
сексуальной коннотации собственных слов.
25«Я всегда говорил только о непригодной позиции» {О. С. 6: 345). «Я ввожу
непригодные концепты» (О. С. 3: 55).
26Цит. по Хайдеггеру (1: 46): «Моя теория заключалась бы в следующем: воля
к власти есть примитивная форма аффекта».
247
раскрывать мысль для своего Другого. Если философское основание
скрыто, значит, наслаждение не есть вещь или Абсолютный субъект,
оно — разлом субъекта и отсутствие бытия. Оно легко преодолевает те-
тическое различие «субъекта» и «объекта», свойственное для западной
философской традиции27, так же как и всякую антропологию, вопре¬
ки тому, что можно обнаружить в текстах Коллежа социологии или в
Эротизме, когда Батай позволяет себе заговорить о «цельном челове¬
ке» и «единстве человека и мироздания». Я думаю, именно здесь будет
наиболее очевидным недопонимание между Батаем и марксистами, а
в равной мере между Батаем и атеистическими теологами, Батаем и
гуманитариями — Батаем, который с самого начала держится особня¬
ком. Он совершенно сознательно отчуждается от той антропологии,
смертоносные контуры которой уже в наше время обрисовал Мишель
Фуко, и отказывается, как он сам говорил, подменять «антропологией
христианскую теологию», даже если это антропология марксистская
(О. С. 8: 335). Вот безысходность всякого антропологизма: «Эротизм
никоим образом не представляет собой то место, где обнаруживает¬
ся человек. Наоборот, он —то место, где человек теряет себя» (О. С. 8:
527). Именно таким предстает Батай современному читателю; он нахо¬
дится за пределами пространства, очерченного у Фуко в книге Слова
и вещи28, он тот, кто начинает позитивный и творческий диалог с
Ницше, лишь воображаемый у Фуко, отвергаемый текстовой закрыто¬
стью Деррида, опущенный Лаканом, который решительно ничего не
хотел знать ни о Ницше, ни об острейшем диалоге между Ницше и
Фрейдом. Здесь открывается сцена современной мысли, здесь —ска¬
жем, перефразируя Батая, — открывается воля к удаче.
Тем не менее эта суверенная воля к удаче сначала возникает в виде
негативной преграды, поскольку о ней трудно говорить. Что она пола¬
гает, раз не полагает ни философии, ни позитивной морали, ни полити¬
ки? Говоря о Ницше, Батай пишет: «Доктрины Ницше имеют такую
странность: им невозможно следовать» (О. С. 6: 107). Удивительно,
но подобным вопросом не задаются профессиональные комментаторы
Ницше —они не смеют его поставить, в отличие от Батая, по крайней
мере, делающего это, и делающего это справедливо. Если суверенность
ничего не полагает: ни системы, ни знания, в чем тогда ее продуктив¬
ность? Батай отвечает на этот вопрос, отстраняясь от некоторых ас¬
пектов ницшевской мысли, в частности от того, что имеет отношение к
«воле к власти», понимаемой как воля к господству, к доминированию:
«Если я и посвятил воле к власти довольно пространный фрагмент,
27«Слияние объекта и субъекта» (О. С. 5: 21), «устранение субъекта и объекта»
(О. С. 5: 67).
28См. русское издание: ФукоМ. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук.
[2-е изд.]. СПб., 1994. — Прим. ред.
248
то моя собственная мысль возникала через обходные пути в продолже¬
ние мысли Ницше. Недостаток Ницше, по моему разумению, главным
образом заключается в том, что он не различал оппозицию суверенно¬
сти и власти» (О. С. 8: 401, сноска). Можем ли мы дальше говорить о
единстве Батая с Ницше? Да, если противопоставим суверенную мо¬
раль, о которой Батай пишет в 1950-1955 гг., и то, что называется
«моралью хозяев», теперь связанной с неприятными воспоминания¬
ми29. Что же это за суверенность, не являющаяся ни осуществлением
власти, ни господством? Прежде всего, можно сказать —и биологизм
тут ни при чем, — что суверенность принадлежит уровню наслажде¬
ния; но само наслаждение — не есть ли это молчаливое забытье, не
говорящее и не думающее? Как рана может стать красноречивой, не
предав? Если суверенность — то же, что наслаждение, не следует ли
сказать, что в конечном счете она принадлежит тишине и что, наконец,
она противоречит желанию говорить о ней30? Если она —забытье, на¬
до ли молчать? Батай не перестает задавать этот вопрос, наводя ужас
собственных слов на саму речь, как это хорошо отметил Адамов. Он
все-таки отвечает на этот вопрос, и его ответ — демонстрация оконча¬
тельной безысходности Ницше: «Одиночество человека —это ошибка»
(О. С. 6: 31). Здесь скрещиваются два на первый взгляд противоречи¬
вых убеждения, свойственных для внутреннего опыта: этот опыт абсо¬
лютно своеобразен, его можно пережить только в одиночку, но о нем
еще надо сообщить. Здесь обретается сильнейший аргумент структу¬
ралистской мысли, согласно которому из дискурса нет выхода, нельзя
обойти его законы: т. е. дискурс — не замкнутое на себе бытие (помимо
Батая об этом уже говорил Мерло-Понти); он сам есть момент бытия,
как и сексуальное тело, т. е. мы не получаем его в готовом виде и нам
не следует ни надменно использовать его как аппарат коммуникации,
ни понимать его как игнорирующую нас и управляющую нами фа¬
тальность: его следует рассматривать как власть, что обитает в нас на
тех же условиях, что и сексуальность31, его нужно плести, чтобы
склонить к молчаливой жестокости траты и наслаждения.
А это может сделать только поэзия, поскольку она уберегает нас
от двойной ловушки концептуальности и тишины, господствующей по-
зитивации и невыразимого. Последнее слово батаевского толкования
Ницше обнаруживается именно здесь, в определении литературы и
29 «Ницше смешал —по крайней мере имел тенденцию смешивать — “мораль хо¬
зяев” и “мораль цельного человека”» (О. С. 6: 439). Когда во Внутреннем опыте
Батай пишет, что суверенность «есть восстание» и что она не является осуществ¬
лением власти (О. С. 5: 221), так ли он далек от Жене?
30«Суверенное лежит в области тишины» (О. С. 8: 207).
31 Что первично — сексуальное тело или язык? В некотором смысле вся онтология
Лакана выстроена вокруг невозможности ответа на этот вопрос. Я писал об этой
онтологии в своей книге Учение Лакана (Le moment lacanien, Grasset, 1983).
249
поэзии как «высшего сообщения», противопоставленного «низшим»,
или рабским, формам сообщения и языка, — положения, развиваемые
Батаем в Лекции о незнании и в книге Литература и зло (О. С. 7:
300-301 )32,— словно отныне никакое решение, кроме поэтического, не
может заслуживать внимания. «Между эротизмом и мистикой нет ба¬
рьеров»; эта фраза также означает: нет барьеров между мыслью, на¬
слаждением и письмом, это — конечный пункт всех толкований Ницше
и Батая, остающихся в конечном счете всего лишь учеными коммен¬
тариями, осторожными глоссами. Мы уже видели, что всем этим уче¬
ным и слишком ученым, серьезным и слишком серьезным толкованиям
Батай противопоставлял невоздержанность своего смеха, философию,
которая есть «философия смеха»33, смеющаяся философия. Но теперь
этот смех открыт для освоения: освоения поэтического пространства34.
Смеющаяся мысль: мысль, открытая смехом по ту сторону слишком
серьезного философского здания (что есть длинное и упорное размыш¬
ление Деррида о «собственном», как не нерешенное противоборство
с желанием господствовать, поддерживающим это здание?), смехом,
который есть смех наслаждения или траты (наслаждение смеется в
субъекте и над субъектом) и смех поэзии, «веселой науки» поэзии.
Это тот аспект, благодаря которому мы можем понять внутренний
опыт Батая как место, где завязываются сексуальное наслаждение,
смех, потусторонняя жизнь философии, теологии и антропологии, ме¬
сто, отталкиваясь от которого мы можем толковать высказывания Ба¬
тая о литературе. Эти высказывания суть тот метод, каким пользуется
Батай, толкуя рассуждения Ницше об искусстве35, и в то же время ме¬
тод, с помощью которого он использует мысли Ницше в собственных
интересах, т. е. по собственному закону. Таков истинный смысл его «со¬
общничества с Ницше»: не рабское (университетское) усвоение мысли
Ницше, а ее продолжение субъектом, своей собственной суверенно¬
стью. Суверенностью, которая не может быть реализована вне языка
или просто в нем обитать, поскольку она непременно выворачивает его
порядок: в этом движении концентрируются и последняя идея Батая
о «субъективной суверенности», и его толкование Ницше в отношении
32 Этот спор между Батаем, Жене и Сартром не может быть завершен: провоци¬
рующий его сексуальный фон никогда не будет исследован до конца.
33«Моя философия — философия смеха» (О. С. 8: 220). «Раскат смеха —един¬
ственный представимый выход, определенно конечный, — а не средство — из фило¬
софской спекуляции» (О. С. 2: 64). «Гегель невесел на вершине познания» (О. С. 5:
353). Отметим, что вопрос о «смехе» лежит в основе полемики Батая с Сартром,
который обвиняет Батая в «принужденном смехе».
34Хайдеггер по-своему развивает эту идею: «Мысль проникла в литературу»
(Qu’appelle-t-on penser? P. 91).
35«Наша религия, мораль, философия — это всего лишь формы упадка челове¬
чества, другое дело — искусство» (Heidegger, Nietzsche, 1: 72).
250
предназначения искусства. Хайдеггер, несомненно, воспроизводит эту
идею: но что значит воспроизвести идею, не отдаваясь ей, не реализуя
ее, не перешагнув порога уже распахнутой двери36? В этой философ¬
ской позиции, традиционной и институциональной, есть какой-то по¬
следний спазм, спазм не смеха. Для Батая смех, наоборот, есть знак
современной поэзии, идет ли речь об оскорбительном смехе Сада, о
черном смехе Кафки или о пустом, сдержанном, но решительном сме¬
хе Олимпии из Мане37: «Суверенное искусство означает не что иное,
как доступ к суверенной субъективности — вне зависимости от ранга»
(О. С. 8: 450). Разве Ницше не сказал бы так? За это нельзя ручаться:
во всяком случае, ответ на подобный вопрос требует тщательного изу¬
чения преемственности и различий в определениях субъективности и
языка у Батая и Ницше. Хайдеггер, по крайней мере, в отличие от Ба¬
тая ничего такого не пишет, до самого конца предпочитая анонимное и
бессексуальное Бытие тому, что Батай, в большей степени ницшеанец,
до самого конца будет называть и делать «суверенным смехом».
Перевод С. Б. Рындина
36Батай пишет об этом довольно язвительно: «Насколько мне кажется, опубли¬
кованное Хайдеггером произведение — скорее некая беседка, чем стакан крепкого
напитка» (О. С. 5: 217, сноска).
37 «Ее нагота (согласующаяся с наготой ее тела) есть тишина, сочащаяся, как ти¬
шина тонущего корабля, корабля покинутого, пустого: она есть “священный ужас”
своего присутствия, такого присутствия, простота которого является простотой
отсутствия» (О. С. 9: 142). «“Олимпия” — первый шедевр, над которым толпа сме¬
ялась неизмеримым смехом» (О. С. 9: 116).
251
Д. Ю. ДОРОФЕЕВ
ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ НА ПРЕДЕЛЕ
ЖОРЖА БАТАЯ1
1897, 10 сентября —в семье Жозефа-Аристида Батая (больного си¬
филисом, полуслепого, а в 1900 г. вдобавок ставшего парализован¬
ным) и Марии-Антуанетты Турнадр в провинциальном городе Бийом
(Оверни) рождается Жорж Батай, младший брат рожденного в 1890 г.
Марселя-Альфонса.
1901 —семья Батаев переезжает в Реймс, а Жорж поступает в
Реймский лицей для мальчиков, в котором отличается крайне слабой
успеваемостью.
1913, октябрь — поступает в коллеж Эперне на полный пансион,
где уже очень достойно учится в результате принципиального изме¬
нения своего отношения к учебе и знаниям; примерно в это же время
начинается обращение Батая к религии.
1914 —получает первый диплом бакалавра и в августе проходит
процедуру католического крещения, решая даже связать свое будущее
с миссией священника или монаха. В этом же году в связи с началом
Первой мировой войны и наступлением немцев Батай вместе с матерью
переезжает в Риом-эс-Монтань к ее родителям, оставляя отца одного;
в дальнейшем он не раз будет возвращаться в своих воспоминаниях к
значению этого «бегства», а тема «отца» будет одной из основных в
его творчестве.
1915, б ноября —в одиночестве умирает отец. Перед этим Батай
сдает экзамены по философии на бакалавра, хотя в лицее он так и не
закончил курс философии. В дальнейшем он будет признаваться, что
еще до завершения среднего образования решил связать свою творче¬
скую жизнь с философией, при этом не становясь профессиональным
философом.
1 Всякому, кто собирается более детально узнать подробности жизни Жоржа
Батая, необходимо учитывать его уже ставшую классической биографию за автор¬
ством Мишеля Сюриа: Surya М. Georges Bataille, la mort a l’œuvre. 1 éd. Paris, 1987;
2 éd. Paris, 1992.
© Д. Ю. Дорофеев, 2006
252
1916 —Батая мобилизуют, но из-за заболевания легких на фронт
он призван не будет.
1917-1918 —пишет и публикует совсем небольшое прозаическое
произведение Собор Реймской Богоматери, которое отражает тогдаш¬
нее страстное увлечение Батая католицизмом. Позже Батай даже при¬
знавался, что в то время он целый год учился в семинарии аббатства
Сен-Флур —в итоге открылся легендарный характер этой биографи¬
ческой детали. Видимо, интерес к католической религии и мистике
обусловливает и его интерес к Средневековью, результатом чего явля¬
ется поступление в парижскую Школу хартий (Ecole des Chartes), го¬
товящую специалистов по медиевистике, библиотекарей и архивистов.
На всем протяжении обучения Батай будет одним из самых блестящих
студентов.
1919 —решает жениться на сестре своего друга детства Жоржа
Дельтея, Мари, но получает отказ, в связи с чем переживает серьез¬
ный кризис.
1920, сентябрь — проходит стажировку в Британском музее в Лон¬
доне, где в то время оказывается Анри Бергсон. Не прочитав к тому
моменту ни одного из произведений знаменитого французского фило¬
софа, Батай, готовясь к встрече с ним, знакомится с его небольшим
исследованием Смех, которое, хотя и вызывает у него разочарование,
тем не менее закладывает в нем не утихающий на протяжении всей
его дальнейшей жизни фундаментальный интерес к самой проблеме
смеха.
1921 — у Батая начинает пробуждаться интерес к этнологии.
1922, 1 февраля — Батай защищает дипломную работу на тему Ор¬
ден рыцарства, стихотворная повесть XIII в., в результате чего по¬
лучает квалификацию архивиста-палеографа. В том же месяце уезжа¬
ет на стажировку в Мадрид в Испанскую школу высших исследова¬
ний, посещает и другие центральные города Испании, страны, которая
поражает его своей необузданной страстностью в самых разных сфе¬
рах — религии, эротической любви и корриде (будучи на одной из них,
он становится свидетелем смерти одного из самых знаменитых тореа¬
доров, Маноло Гранеро) — и которая постоянно будет присутствовать
в его творчестве (например, в форме осмысления парадокса Дон Жу¬
ана). Летом возвращается в Париж и получает место библиотекаря-
стажера в Национальной библиотеке, в которой на разных должностях
будет работать около 20 лет.
1923 —активно читает Ницше, Фрейда, Достоевского. Из произ¬
ведений последнего на Батая особенное влияние оказывает повесть
Записки из подполья. Не исключено, что по этой причине он увле¬
кается (впрочем, недолго —в течение приблизительно полутора лет)
Л. Шестовым, который не просто исходил из так называемого «зре¬
253
лого» творчества Достоевского, в первую очередь именно из Записок
из подполья, считая его высшим достижением классика. Общение с
русским философом побуждает Батая вместе с Терезой Березовской-
Шестовой, дочерью Льва Шестова, взяться за перевод на француз¬
ский язык его книги Добро в учении графа Толстого и Ницше, вышед¬
шей в 1925 г. Отчасти по этой причине Батай записывается в Школу
восточных языков, где (правда, кратковременно) изучает русский, ки¬
тайский и тибетский языки; вообще, у Батая были особенные способно¬
сти к языкам — он достойно владел латынью и древнегреческим, сво¬
бодно говорил и читал на английском, немецком, испанском и италь¬
янском.
1924, июль — назначается библиотекарем в Отдел медалей Нацио¬
нальной библиотеки. В конце года происходит знакомство с Мишелем
Лейрисом, который останется на всю жизнь его другом и соратни¬
ком его многочисленных начинаний. Именно Лейрис вовлекает Батая
в сюрреалистическое движение, которое уже окончательно освобож¬
дает его от прежней аскетичной религиозности и открывает для него
мир необузданной и несдерживаемой свободы (что будет проявлять¬
ся, например, в частых визитах в бордели и нескрываемом, цинично
выставляемом напоказ, распущенном образе жизни).
1925 —начинает регулярно посещать сеансы одного из первых
практикующих во Франции психоаналитиков Адриена Бореля, кото¬
рые длятся около года и которые были предназначены способство¬
вать терапевтическому самоутверждению Батая. Борель был также
врачом Лейриса и Колетт Пеньо (Лауры), подруги Батая. В этом
же году Батай знакомится с художником Андре Массоном, кото¬
рый становится его другом и попутчиком (именно он создавал ил¬
люстрации к его произведениям, а также занимался художествен¬
ным оформлением обложки Ацефала). Начинает посещать лекции
Марселя Мосса, чьи социологические исследования в области древ¬
ней культуры, в первую очередь в сфере дара, жертвоприноше¬
ния и потлача (практики взаимного дарения соперничающих сторон,
призванной победить противника как можно большим даром), бу¬
дут наряду с исследованиями Дюркгейма и Леви-Брюля активно за¬
действованы и особенно ярко проявятся в период работы Коллежа
социологии.
1926 — происходит личное знакомство с А. Бретоном, непререкае¬
мым лидером сюрреализма, отношения с которым всегда были крайне
напряженными и даже острыми, но с признанием взаимной значимо¬
сти; на встрече присутствовали также Арагон и Элюар со своей женой
Галой (будущей супругой Сальвадора Дали). Начинает постоянно —в
течение двух с небольшим лет — печататься в строго академическом
специализированном журнале АгеЬНте, посвященном архитектуре и
254
искусству (особо можно выделить статью о медалях Великих Мого¬
лов). Начинает изучать творчество маркиза де Сада, который станет
для него одним из главных авторов.
1927 —знакомится с девятнадцатилетней Сильвией Маклес, на ко¬
торой через год, 19 марта 1928 г., и женится (в 1940 г., уже после
развода с Батаем, произошедшего в 1934 г., но официально зареги¬
стрированного лишь в 1946 г., Сильвия Батай познакомится с Жаком
Лаканом и родит от него дочь Жюдит).
1928 — заканчивает написание и подпольно издает свое первое боль¬
шое художественное произведение История глаза под псевдонимом
Лорд Ош (псевдоним был «со смыслом»: как разъяснял позже сам Ба¬
тай, Lord по-английски значит «Бог», а один из друзей Батая, будучи
в раздражении, говорил не aux chiottes («в сортир»), а сокращенно —
auxch; получается, что Лорд Ош означает «Бог, справляющий нуж¬
ду»). В дальнейшем Батай еще не раз будет пользоваться псевдони¬
мами — так, например, Мадам Эдварду он издаст, подписавшись как
Пьер Ангельский, а в 40-х выпустит «религиозно-порнографическое»
эссе Малыш под псевдонимом Людовик XXX.
1929 — начинает издаваться журнал Документы, посвященный ар¬
хеологии, этнографии, искусствам, в котором Батай был ответствен¬
ным секретарем, а по сути —главным редактором и вдохновителем
(официальным редактором Документов, финансировавшихся анти¬
кваром Жоржем Вильденштейном, был Карл Эйнштейн); всего вы-
yùino 15 номеров журнала, который прекратил существование в 1930 г.
Вокруг журнала собираются как академические ученые, так и бывшие
сюрреалисты, повздорившие с Бретоном и не принявшие его автори¬
тарности.
1930, 15 января — умирает мать Батая. Летом в семье Батаев рож¬
дается первый и единственный ребенок — дочь Лоране. Происходит все
более активное обращение в сторону политики, в частности увлечение
марксизмом.
1931— происходит знакомство с Борисом Сувариным (наст, имя —
Борис Лившиц), русским большевиком, знавшим лично Ленина и
Троцкого, жившим в Париже с детства, с 1898 г., и бывшим одним
из лидеров Французской коммунистической партии; в дальнейшем он
и его сторонники от нее отошли и объединились в Демократическо-
коммунистический кружок, печатным органом которого был жур¬
нал Социальная критика. Финансировала этот кружок Колетт Пе-
ньо, бывшая в то время возлюбленной Суварина, но ставшая в 1934 г.
возлюбленной Батая и постоянной музой его философского и художе¬
ственного творчества (под именем Лауры).
1932 —начинает серьезное изучение гегелевской философии, вдох¬
новленное посещением семинаров А.Койре по религиозной филосо¬
255
фии Гегеля (он также посещал семинары Койре по философии Нико¬
лая Кузанского), продолженных в дальнейшем А. Кожевым в Шко¬
ле высших исследований анализом Феноменологии духа (этот семи¬
нар был самым заметным философским явлением в довоенной жизни
Франции, в нем до самого его окончания в 1939 г. участвовали все
мыслители, с которыми будет связана история французской филосо¬
фии XX в.: Ж. П. Сартр, Ж. Лакан, М. Мерло-Понти, П. Клоссовски,
Р. Арон и др.)* В гегелевской мысли Батая будет прежде всего привле¬
кать идея негативности.
1933 —публикует в Социальной критике такие основополагающие
работы, как Понятие траты, Психологическая структура фашизма,
Проблема государства. Намечается разрыв с группой Суварина.
1934 —начинает писать книгу Фашизм во Франции, которая так и
не будет закончена.
1935 — наступает некоторое потепление в отношениях с А. Бретоном,
результатом чего является оформление проекта новой общественно-
политической группы Контратака: Союз борьбы интеллигентов-
революционеров. Манифест этой группы появился 7 октября, и под ним
подписались наряду с Батаем и Бретоном Элюар, Клоссовски, Амбро-
зини, Хейно и др. (всего группа насчитывала около 50-60 человек).
Заседания проходили в помещении театра Ж. Л. Барро (на одном из
них присутствовал и В.Беньямин, с которым Батай познакомился в
этом году в Национальной библиотеке, где тот работал над Раввадеп-
Игегк).
1936 —происходит распад Контратаки, и на его месте Батай вме¬
сте с Массоном, Амброзини и Клоссовски образуют тайное общество
Ацефал (Ацефал —это безголовый бог из пантеона гностиков), мате¬
риалы заседаний которого печатаются небольшим тиражом в журнале
Ацефал (Религия, Социология, Философия). Вышло только три номе¬
ра: тема первого —«Священный заговор»; тема второго — «Ницше и
фашисты»; тема третьего—«Дионис» (должен был быть еще и чет¬
вертый номер, полностью подготовленный Батаем и посвященный те¬
ме «Безумие, война и смерть»).
1937 —вместе с М. Лейрисом и Р. Кайуа Батай организует Коллеж,
социологии, который использовал методы французской социологиче¬
ской школы в направлении формирования так называемой сакральной
социологии, ориентированной на социальный анализ разного рода пе¬
реживаний предельного опыта. Коллеж социологии просуществовал с
ноября 1937 по июль 1939 г., заседания проходили раз в две недели
в подсобном помещении книжного магазина; указанное предприятие
внесло заметный вклад в интеллектуальную жизнь Парижа того вре¬
мени и, теперь это можно говорить с уверенностью, в историю евро¬
пейской социологии.
256
1938, 7 ноября —от туберкулеза умирает Колетт Пеньо (Лаура).
Батай переживает серьезный кризис.
1939 —Батай в середине лета испытывает сильнейшее мистическое
озарение в лесу, которое в дальнейшем будет не раз описывать (напри¬
мер, в Виновном, опубликованном в 1944 г.).
1941 — происходит знакомство с Морисом Бланшо, ставшим, пожа¬
луй, самым близким соратником Батая в осмыслении таких осевых во¬
просов, как смерть, язык, тишина, самопреодоление, предельный опыт
и др.
1942 —заканчивает Внутренний опыт, первую часть своего цен¬
трального корпуса текстов Сумма атеологии (второй частью станет
Виновный, третьей — Ницше, или Воля к удаче), которая будет напе¬
чатана в следующем году и вызовет огромный интерес.
1943 —происходит знакомство с Дианой Кочубей, двадцатитрех¬
летней дочерью русского аристократа и англичанки. Несмотря на то
что на момент знакомства она была замужем и имела ребенка, они
сближаются.
1944 —активно работает над несколькими книгами: начинает пи¬
сать трактат О Ницше, Невозможное, роман Юлия.
1945 —заканчивает Метод медитации, пишет для журналов мно¬
гочисленные статьи (особенно стоит выделить Волю к невозможному).
1946 —вместе с Сартром (отношения с которым после публикации
в 1943 г. его статьи Один новый мистик были очень напряженны¬
ми, но впоследствии улучшились) организует новый журнал Критика
(Critique), вскоре ставший наиболее авторитетным изданием в среде
либеральной интеллигенции (уже в следующем году он будет назван
лучшим журналом года). Знакомится с Жаном Жене.
1947 — продолжает активно печататься в Критике; в это время Ба¬
тай не имеет постоянной работы, испытывает определенные матери¬
альные трудности и живет главным образом на гонорары от статей.
1948, 26 февраля —у Жоржа Батая и Дианы Кочубей рождается
дочь Юлия.
1949, 17 мая — назначается хранителем библиотеки в небольшом
провинциальном городке Карпантра, куда и переезжает. Выходит
главный труд Батая в области экономики — Проклятая доля.
1950 —пишет предисловие к роману Сада Жюстина, или Несча¬
стье добродетели; собирается написать книгу об Уильяме Блейке (за¬
мысел не был осуществлен).
1951, 16 января — регистрирует свой брак с Дианой Кочубей. В
июне назначается хранителем муниципальной библиотеки в Орлеане.
1952, б февраля — награждается орденом Почетного легиона.
1953 — начинает писать третий том Проклятой доли—Суверен¬
ность.
257
1954 —происходит некоторое охлаждение в отношениях с журна¬
лом Критика.
1955 — в мае выходит книга Доисторическая живопись: Ласко, или
Рождение искусства, в которой воплотился давний интерес Батая к
изучению наскальной живописи (в частности, на опыте посещений пе¬
щеры Ласко). Публикуются в разных журналах такие центральные
в творчестве Батая статьи, как По ту сторону серьезного и Гегель,
смерть и жертвоприношение. Мартин Хайдеггер в разговоре с Жа¬
ном Бофре называет Батая самым глубоким умом современной Фран¬
ции.
1956 —на процессе против издателя Жан-Жака Повера, устроен¬
ном государством за издание им книг маркиза де Сада, Батай высту¬
пает в его защиту вместе с Бретоном, Кокто и Поланом.
1957 —в феврале читает лекцию на тему Эротизм и очарование
смерти, печатает сборник философско-литературоведческих статей
Литература и зло. Серьезно болеет, дважды был вынужден лечь в
больницу (дает о себе знать атеросклероз головного мозга). В октябре
основными издателями Батая устраивается вечер в честь его шести¬
десятилетия.
1958 — продолжает активно работать над проектом нового журнала
Генезис, который должен был быть посвящен исследованиям сексуаль¬
ности в сфере биологии, этнологии, религии, искусства и психологии;
проекту так и не суждено было осуществиться.
1959 —пишет большое предисловие к изданию документов, посвя¬
щенных судебному процессу над Жилем де Рэ, маршалом Франции
и союзником Жанны д’Арк, отличавшимся феноменальной жестоко¬
стью (тексты со средневековой латыни переводил Пьер Клоссовски).
1960 — несмотря на серьезное ухудшение здоровья, продолжает ра¬
ботать над текстом рукописи Слезы Эроса, который выйдет в июне
1961 г.
1961, 17 марта — организуется благотворительная распродажа в
пользу Жоржа Батая, на которой будут выставлены художественные
произведения Макса Эрнста, Альберто Джакометти, Андре Массона,
Пабло Пикассо и др.; на собранные деньги Батай наконец покупает
себе квартиру в Париже.
1962 —в феврале получает разрешение на свой перевод из Орлеа¬
на в Париж — в Национальную библиотеку, куда и переезжает 1 марта
уже на собственную квартиру; но приступить к работе так и не успева¬
ет — 8 июля Жорж Батай умирает; похоронен в Везеле на небольшом
кладбище.
Составитель Д. Ю. Дорофеев
258
ПРИЛОЖЕНИЕ:
ТЕКСТЫ ЖОРЖА БАТАЯ
ЖОРЖ БАТАЙ
СВЯЩЕННОЕ1
Должно быть, пришло время указать на фундаментальный остов,
к которому были устремлены смутные и неуверенные искания, отра¬
зившиеся в превратностях формотворчества и языковых революциях.
Сей великий «поиск» того, что получило жалкое название «современ¬
ного духа», конечно, не был поглощен мыслью о «Граале», столь же
досягаемом, как и «прекрасное»; он с недоверием — а порой даже с под¬
черкнутым недоверием — сторонился всего, что вело к «истинному», и,
казалось, испытывал двойственные чувства по отношению к «благу»,
переходя от подлинного целомудрия к оскорбительному возмущению,
от утверждения к столь же резкому отрицанию. Условием этих иска¬
ний были смутная неясность и неопределенный характер той цели, ко¬
торой они тщились достичь. О принципиальной жизненной важности
этого «поиска» и его не поддающегося определению предмета свиде¬
тельствовали только бесконечные муки да вспышки необузданности.
Прежде всего, следует заметить, что подобному буйству страстей,
разыгравшемуся в узкой области художественных нововведений, нет
аналогов в прошлом. Даже романтизм, если сравнивать его с волне¬
ниями «современного духа», был все же пронизан чисто интеллекту¬
альной обеспокоенностью. В плане формальных новшеств романтики
ничего не привнесли. Они довольствовались некоторыми вольностями
и лишь раздвинули границы мифа и вообще устоявшихся поэтиче¬
ских сюжетов, которые при них, так же как и до них, служили моти¬
вами для языкотворчества. Современная обеспокоенность не получила
такого интеллектуального развития, как в романтизме или немецкой
философии, так или иначе связанной с романтизмом, но она совпала
со своего рода головокружением от открытия тех словесных и визу¬
альных форм, что дают нам ключ ко гнетущей экзистенции, которую
зачастую так непросто наделить смыслом. Сегодня сюрреализм стал
1 Выражаем признательность В. Е. Лапицкому за ценные советы по редактиро¬
ванию перевода данной статьи. — Прим. ред.
© С. Б. Рындин, перевод, 2006
261
сторонником подобного предприятия, но признает себя наследником
лишь некой предшествующей ему навязчивой идеи: история поэзии
начиная с Рембо и история живописи начиная по крайней мере с Ван
Гога демонстрируют масштабы и значение этой новой разразившейся
бури.
Теперь, если мы хотим представить себе тот «Грааль», которым,
несмотря на бесконечные разочарования, все мы так упорно одержи¬
мы, сначала необходимо напомнить, что вопрос о некой субстанциаль¬
ной реальности не ставился никогда и что, наоборот, речь всегда шла
о некоем начале, характеризующемся продолжаемой им самим невоз¬
можностью. Выражение привилегированное мгновение2 — единствен¬
ное, не без некоторой точности отражающее то, на что можно случай¬
но натолкнуться в этих исканиях: ничто есть непоколебимая временем
субстанция, а привилегированное мгновение, как раз наоборот, есть
то, что ускользает, как только появляется, не позволяя за него заце¬
питься. Желание зафиксировать подобные мгновения, действительно
свойственное живописи и поэзии, — всего лишь попытка оживить их,
поскольку картина или поэтический текст воскрешают, но не субстан¬
циализируют то, что однажды возникло. Отсюда эта смесь несчастья
и необузданности возбуждения, разочарования и дерзости: ничто не
кажется столь жалким и безжизненным, как незыблемое, ничто не
является столь желанным, как то, что готово исчезнуть, и при этом
холод лишения заставляет вздрогнуть того, кто чувствует, что то, что
он любит, ускользает от него и никакими усилиями не найти средства,
которое позволило бы до бесконечности обретать ускользаемое.
Чрезвычайно важно, что эти инстинктивные поиски, в основе ко¬
торых лежит неудовлетворенное желание, предшествуют тому, что
предписывает теория относительно искомого объекта. Несомненно, что
благодаря запоздалому вторжению дискриминационного разума бес¬
содержательным заблуждениям было предоставлено поле возможно¬
стей, обширность которого оказалась обескураживающей; но также
несомненно и то, что опыт такого рода был бы невозможен, если бы
2Эмиль Дерменгем (Dermenghem) использовал понятие «привилегированного
мгновения» — по его мнению, лежащее в основе всякой поэзии и мистики — в ста¬
тье журнала Mesures (июль 1938 г.), носившей название Мгновение у мистиков
и некоторых поэтов. В частности, эта статья посвящена концепциям суфистов,
которые приписывают «мгновению» абсолютную ценность и сравнивают его с ра¬
зящим мечом. «Мгновение, — говорит один суфист, — перерезает корни будущего и
прошедшего. Меч — опасный спутник; он может превратить своего хозяина в коро¬
ля, а может и погубить его. Он не отличает шею своего хозяина от шеи другого».
Это суровое рассуждение хорошо передает чрезвычайно двусмысленный, опасный
и смертоносный характер священного. Жан-Поль Сартр в романе Тошнота также
весьма знаменательно говорил о «совершенных моментах» и «привилегированных
ситуациях».
262
какая-нибудь прозорливая теория попыталась заранее установить его
направление и пределы. Только тогда, когда все свершилось и насту¬
пает ночь, «сова Минервы» может поведать своей богине о прошедших
событиях и высказаться об их тайном смысле.
Может показаться, что искусство, будучи не в силах выразить что
бы то ни было приходящее в него извне, неоспоримо священно (роман¬
тизм уже исчерпал возможности обновления); может показаться, что
оно не могло бы продолжать своего существования, если бы оказалось
неспособно достигнуть священного мгновения исключительно своими
силами. Задействованные до недавнего времени технические приемы
выражали лишь данность, имеющую свою собственную ценность и
смысл. Они придавали этой данности лишь законченное совершенство
выражения, к которому можно было приложить понятие «прекрасно¬
го»; по отношению к этим приемам «истинное» выступало всего лишь
самым грубым средством проверки того, было ли достигнуто искомое
совершенство выразительных средств, а понятие «блага» оставалось к
ним неприложимо, ибо его суждения не могут относиться к тому, что
выражено таким способом. Отсюда относительная легкость, беззабот¬
ность и невинность; для настоящей горечи в этом предприятии места
не было — инициатива и ответственность возлагались на общество, его
традиции и движущие силы. Горечь возникает лишь с появлением со¬
мнения относительно ценности самого предприятия, когда отрицаемая
за наличной реальностью власть перешла к разочаровывающим при¬
зракам прошлого и неуловимым фантомам грез, когда искусство, по
сути оставшееся все еще лишь средством выражения, осознало то со¬
здаваемое, что оно всегда добавляло к выражаемому им миру. В этот
момент оно смогло освободиться от всякой прошедшей или настоящей
реальности и сотворить из самого себя свою собственную реальность,
которая больше не может быть просто прекрасной или истинной; эта
реальность должна доминировать над борьбой добра и зла —исходя
из той высшей ценности, которую она собой представляет, — так же
как мощное землетрясение кладет конец самым кровопролитным ба¬
талиям.
Все равно, сегодняшняя возможность соотнесения уже поддающе¬
гося определению объекта тех поисков со странной ситуацией самих
поисков ничего не меняет. Наиболее яркими результатами всего это¬
го стали чувство безумной горечи и надменное отвращение к само¬
му себе. Это те результаты (Артюр Рембо —их символ), которые всё
превращают в тлен и позволяют увидеть, до какой степени потенци¬
альный круговой обмен между художниками и поэтами удаляет их от
того «Грааля», без коего — здесь-то и кроется вся горечь этого столь
очевидного и ощутимого поражения — человеческое существование не
может быть оправдано.
263
Поскольку нам было навязано введенное христианством тождество
между Богом и объектом религии, относительно этого «Грааля» мож¬
но было признать только то, что он не имеет ничего общего с Богом.
Однако данное различие не высветило внутреннего единства «Граа¬
ля» и самого начала религиозного поклонения. Впрочем, имеющееся в
отношении этого вопроса развитие, затронувшее и историю религии,
показало, что основная религиозная деятельность была направлена ни
на какое-либо наличное бытие, ни на частные или трансцендентные
существа, а на некую необъективируемую реальность. Христианство
субстанциализировало священное, но природа священного, в котором
сегодня видят основной источник религиозности, возможно, как раз и
являет собой то непостижимое, что проявляется между людьми, по¬
скольку оно есть всего лишь привилегированный момент причастного
единения, момент конвульсивного сообщения того, что обычно подав¬
ляется и затушевывается.
Подобное разделение священного и трансцендентной субстанции
(которая, соответственно, и нерукотворна) внезапно открывает новые
горизонты — может, горизонты неистовой силы, может, даже горизон¬
ты смерти, но горизонты, за которыми есть место для той обеспо¬
коенности, что захватила пытливые умы. Раз священное становится
доступным, больше не нужно останавливаться перед проведенной гра¬
ницей: следует только признать, что если уж эти пытливые умы ищут
и продолжают неустанно искать, значит, они не стремились и не стре¬
мятся достичь меньшего, чем само священное. «Смерть Бога» не мо¬
жет не вызвать достаточно серьезных последствий: Бог представлял
собой единственную преграду человеческой воле; освободившись от
Бога, эта воля оказалась целиком подчинена одной пламенной стра¬
сти: придать миру пьянящую эту волю значимость. Тот, кто творит,
языком ли или красками, больше не может полагать пределы живо¬
писи или письму: теперь он один распоряжается всеми человеческими
тревогами, какие только возможны, и не может отстраниться от этого
наследия принадлежащего ему божественного могущества. Он также
не может знать, истощит или погубит это наследие того, кто посвя¬
тил ему себя. Только теперь он отказывается выносить на суд коллег
«то, что владеет им», на суд, которому искусство всегда подчинялось.
Перевод С. Б. Рындина
ЖОРЖ БАТАЙ
СОЛНЕЧНЫЙ АНУС1
Ясно, что мир чисто пародиен, иначе говоря, все, на что ни посмот¬
ришь, есть пародия чего-то другого или то же самое в разочаровыва¬
ющей форме.
С тех пор как в мозгах, занятых размышлением, циркулируют
фразы, развернулась целокупная его идентификация, поскольку при
помощи связки каждая фраза привязывает одну вещь к другой, и все
будет явно связано, стоит только одним взглядом раскрыть во всей
целостности прорись нити Ариадны, направляющей мысль в ее соб¬
ственном лабиринте.
Но связка терминов не менее раздражает, чем вязка тел. И когда
я восклицаю: Я ЕСМЬ СОЛНЦЕ, отсюда следует всецелая эрекция,
ибо связка — глагол «быть» — есть проводник любовного исступления.
Все сознают, что жизнь пародийна и не хватает одной интерпрета¬
ции.
Так, свинец —это пародия золота.
Воздух — пародия воды.
Мозг — пародия экватора.
Совокупление — пародия преступления.
С равным основанием можно провозгласить в качестве принципа
всех вещей золото, воду, экватор или преступление.
И если первоисточник похож не на представляющуюся основой поч¬
ву планеты, а на круговращение планеты вокруг подвижного центра,
в качестве порождающего принципа могут быть равно приняты авто¬
мобиль, часы или швейная машина.
Два главных движения — это движение вращательное и движение
сексуальное, их комбинация находит свое выражение в локомотиве,
состоящем из колес и поршней.
Эти два движения взаимно преобразуются одно в другое.
1 Впервые опубликовано: Комментарии. 1993. №2. С. 34-39.
© В. Е. Лапицкий, перевод, 2006
265
Так, например, замечаешь, что, вращаясь, Земля понуждает сово¬
купляться животных и людей и (так как вытекающее — причина не в
меньшей степени, чем то, что его вызывает) что животные и люди,
совокупляясь, заставляют Землю вращаться.
Именно комбинацию или механическое преобразование этих дви¬
жений и отыскивали алхимики под именем философского камня.
Именно использованием этой магически значимой комбинации и
определяется нынешнее положение человека среди стихий.
Выброшенный башмак, гнилой зуб, едва выступающий нос, повар,
плюющий в пищу своих хозяев, являются для любви тем же, чем флаг
для нации.
Зонтик, новоиспеченный пенсионер, семинарист, вонь тухлых яиц,
мертвые глаза судей являются корнями, питающими любовь.
Собака, пожирающая гусиные потроха, блюющая спьяну женщина,
рыдающий бухгалтер, банка с горчицей представляют собой беспоря¬
док, служащий любви проводником.
Человек, помещенный среди других людей, в раздражении хочет
знать, почему он не один из других.
В постели с девицей, которую любит, он забывает, что не знает, по¬
чему он — это он, вместо того чтобы быть телом, которого он касается.
Ничего об этом не ведая, он страдает из-за темноты рассудка, ме¬
шающей ему закричать, что он сам и есть эта девица, которая забывает
о его присутствии, трепыхаясь в его объятиях.
Либо любовь, либо ребяческая ярость, либо тщеславие зажиточной
провинциальной вдовы, либо церковная порнография, либо солитер
певицы сбивают с толку забытых в пыльных квартирах персонажей.
Тщетно они будут искать друг друга: им никогда не найти ничего,
кроме пародийных образов, и они заснут, столь же пустые, как зерка¬
ла.
Отсутствующая, безучастная девица, выпавшая в моих объятьях
из времени и грез, не более чужда мне, чем дверь или окно, через
которые я могу выглянуть или пройти.
Я вновь обретаю безразличие (которое позволяет ей меня поки¬
нуть), когда засыпаю из-за неспособности любить случающееся.
И ей не узнать, кого она обретает, когда я ее обнимаю, поскольку
она упорно вершит полноту забвения.
Планетарные системы, которые вращаются в пространстве, как
стремительные диски, и центр которых тоже перемещается, описывая
бесконечно больший круг, постоянно удаляются от собственного ме¬
стоположения лишь для того, чтобы вернуться к нему, завершив свое
вращение.
Движение —это фигура любви, не способной остановиться на од¬
ном частном существе и стремительно переходящей с одного на другое.
266
Но забвение, которое тем самым его обусловливает, есть лишь
увертка памяти.
Человек восстает столь же резко, как и призрак из гроба, и подоб¬
ным же образом оседает.
Он вновь встает через несколько часов и затем опять оседает, и так
каждый день, день за днем: сие великое соитие с небесной атмосферой
упорядочено вращением Земли перед лицом Солнца.
И вот, хотя движение земной жизни ритмизуемо этим вращени¬
ем, образом такого движения служит не вращающаяся Земля, а член,
проникающий в женское чрево и почти целиком выходящий наружу,
чтобы снова туда погрузиться.
Любовь и жизнь кажутся на Земле частными только потому, что
все здесь расчленено вибрациями различной амплитуды и периода.
Тем не менее нет вибраций, которые не были бы сопряжены с непре¬
рывным круговым движением, точно так же, как и в случае катящего¬
ся по поверхности Земли локомотива — образа непрерывного превра¬
щения.
Существа преставляются лишь для того, чтобы родиться, наподо¬
бие фаллоса, который выходит из тела, чтобы в него войти.
Растения поднимаются по направлению к солнцу и оседают впо¬
следствии в направлении земли.
Деревья протыкают почву земную несчетным множеством расцве¬
тающих прутьев, восставших к солнцу.
Деревья, с силой устремившись вперед, кончают, сгорев от молнии,
или срубленными, или выкорчеванными. Вернувшись в почву, они точ¬
но так же вздымаются снова в другой форме.
Но их полиморфное совокупление есть функция равномерного зем¬
ного вращения.
Самый простой образ соединенной с вращением органической жиз¬
ни — прилив.
Из движения моря, размеренного совокупления Земли с Лу¬
ной, происходит органическое и полиморфное совокупление Земли и
Солнца.
Но первой формой солнечной любви является поднимающееся над
жидкой стихией облако.
Эротическое облако становится иногда грозой и падает обратно на
землю в виде дождя, в то время как молния вспахивает пласты атмо¬
сферы.
Дождь тут же восстает в виде неподвижного растения.
Животная жизнь целиком и полностью является результатом дви¬
жения морей, и внутри тел жизнь продолжает происходить из солоно¬
ватой жидкости.
267
Море выступило таким образом в роли женского органа, который
увлажняется, возбужденный фаллосом.
Море непрерывно онанирует.
Твердые элементы, содержащиеся и перемешиваемые в одушевля¬
емой эротическим движением влаге, брызжут оттуда в форме летучих
рыб.
Эрекция и солнце шокируют точно так же, как труп и пещерный
мрак.
Растения размеренно тянутся к солнцу; напротив, человеческие су¬
щества, хотя они, как и деревья, в противоположность остальным жи¬
вотным фаллоподобны, неизбежно отводят от него глаза.
Человеческие глаза не выдерживают ни солнца, ни совокупления,
ни трупа, ни темноты, но реагируют на них по-разному.
Когда мое лицо наливается кровью, оно становится красным и
непристойным.
И в то же время своими извращенными рефлексами непроизвольно
выдает кровавую эрекцию и ненасытную жажду бесстыдства и пре¬
ступных излишеств.
Так что я не боюсь утверждать, что мое лицо возмутительно, а
страсти мои способен выразить только ИЯЗУВИЙ.
Земной шар покрыт вулканами, которые служат ему анусами.
Хотя шар этот ничего и не ест, он подчас извергает вовне содержи¬
мое своих внутренностей.
Это содержимое брызжет с грохотом и падает обратно, стекая по
склонам Иязувия, сея повсюду смерть и ужас.
В самом деле, эротические сотрясения земли не плодородны, как
движения вод, зато они намного стремительнее.
Земля дрочит подчас с неистовством, и все рушится на ее поверх¬
ности.
Иязувий — это тем самым образ эротического движения, взламы¬
вающего дух, чтобы дать содержащимся в нем представлениям силу
шокирующего извержения.
Те, в ком сосредоточивается сила извержения, по необходимости
находятся снизу.
Коммунистические рабочие кажутся буржуазии столь же уродли¬
выми и столь же грязными, как и заросшие срамные или же низменные
части тела: рано или поздно отсюда проистечет шокирующее изверже¬
ние, в ходе которого благородные и бесполые головы буржуазии будут
отрублены.
Бедствия, революции и вулканы не занимаются любовью со звез¬
дами.
Революционные и вулканические эротические сполохи непримири¬
мо противостоят небу.
268
Как и необузданная любовь, они происходят, саботируя веления
плодородия.
Небесному плодородию противостоят земные бедствия, образ зем¬
ной бескомпромиссной любви, эрекция без исхода и правил, шок и
ужас.
Так и вопиет любовь в моем собственном горле: я есмь Иязувий,
гнусная пародия знойного, слепящего солнца.
Я желаю, чтобы мне перерезали горло, когда я насилую девицу,
которой мог бы сказать: ты — ночь.
Солнце любит исключительно Ночь и устремляет к земле свое све¬
тозарное насилие, отвратительный фалл, но оно оказывается неспо¬
собным достичь взгляда или ночи, хотя ночные протяжения земли
постоянно стремятся к нечистотам солнечного луча.
Солнечное кольцо —solar annulus —это нетронутый анус ее восем¬
надцатилетнего тела, с которым ничто столь же слепящее не может
сравниться, разве что солнце, хотя анус — это ночь.
Перевод В. Е. Лапицкого
ЖОРЖ БАТАЙ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ1
Я, я существую — зависнув в реализованной пустоте, подвешенным
на своей собственной тревоге — отличным от любого другого существа
и таким, что разные события, способные случиться с кем-либо еще, а не
со мной, жестоко вышвыривают это Я вовне совокупного существова¬
ния. Но в то же время стоит мне рассмотреть свое появление на свет —
а зависело оно от рождения, от соединения определенного мужчины с
определенной женщиной, да еще и от момента этого соединения, ведь
на самом деле существует всего один-единственный момент, соотно¬
сящийся с моей возможностью, —и тут же проявляется бесконечная
невероятность этого самого появления на свет. Ведь случись в череде
событий, закончившейся мною, наиничтожнейшее отклонение — и вме¬
сто этого, насквозь жадного быть мною Я оказался бы кто-то другой.
Реализованная необъятная пустота и есть та бесконечная невероят¬
ность, через которую повелительно разыгрывается безусловное суще¬
ствование, каковым я являюсь, ибо простое присутствие, подвешенное
над подобной необъятностью, сравнимо с отправлением владычества,
словно сама пустота, посреди которой я есмь, требует, чтобы я был
мною и тревогой этого Я. Непосредственная потребность в небытии
подразумевает тем самым отнюдь не недифференцированное бытие, а
мучительную невероятность уникального Я.
В этой пустоте, где проявляется мое владычество, эмпирическое
знание общности структуры этого Я с Я-другими стало бессмысли¬
цей, ибо сама сущность того Я, каковым я являюсь, состоит в том,
что никакое мыслимое существование заменить его не может: полней¬
шая невероятность моего появления на свет повелительно утверждает
полнейшую разнородность.
Тем паче рассеивается любое историческое представление образо¬
вания Я (рассматриваемого как часть всего того, что выступает объ¬
ектом знания) и его повелительных или безличных модусов, оставляя
1 Впервые опубликовано: Комментарии. 1993. №2. С. 40-48.
© В. Е. Лапицкий, перевод, 2006
270
взамен себя только насилие и жадность Я в отношении владычества
над пустотой, в которой оно висит: по собственной воле —вплоть до
тюрьмы — Я, каковым я являюсь, реализует все ему предшествовав¬
шее или его окружающее — чтобы все это существовало как жизнь или
просто как бытие — в качестве пустоты, подчиненной его беспокойному
владычеству.
Предположение о существовании возможной и даже необходимой
точки зрения, настаивающей на неточности подобного откровения
(предположение это кроется в обращении к выражению), ни в чем не
отменяет непосредственную реальность опыта, пережитого безуслов¬
ным присутствием Я в мире: этот пережитый опыт составляет равным
образом и неизбежную точку зрения, ту направленность бытия, кото¬
рой требует жадность его собственного движения.
II
Выбор между противоположными представлениями должен быть
связан с немыслимым решением проблемы того, что существует:
что существует в качестве глубинного существования, освобожден¬
ного от форм кажимости? Чаще всего дается поспешный и необду¬
манный ответ, словно задан был вопрос, что безусловно (какова мо¬
ральная ценность), а не что существует. В других случаях —если
философию лишают ее объекта — не менее поспешным ответом слу¬
жит всего-навсего полное и непонятное уклонение (а не уничтожение)
от проблемы, когда в качестве глубинного существования выступает
материя.
Но, исходя из этого, можно заметить — в заданных, относительно
ясных пределах, вне которых исчезает вместе с остальными возмож¬
ностями и само сомнение, — что, в то время как значение любого по¬
зитивного суждения о глубинном существовании неотличимо от суж¬
дения о фундаментальных ценностях, за мыслью, напротив, остается
свобода составить Я как фундамент любой ценности, не смешивая это
Я (ценность) с глубинным существованием — и даже не вписывая его
в рамки некой проявленной, но укрытой от очевидности реальности.
Я, совсем другой из-за определяющей его невероятности, был от¬
брошен по ходу традиционных поисков «того, что существует» как
произвольный, но незаурядный образ несуществующего: Я отвечает
предельным требованиям жизни в качестве иллюзии. Иными словами,
Я — как тупик вне «того, что существует», в котором оказываются со¬
единенными без какого-либо иного выхода все предельные жизненные
ценности, — хотя и образуется в присутствии реальности, ни в каком
смысле этой самой реальности, которую превосходит, не принадлежит
и нейтрализуется (перестает быть совсем другим) по мере того, как
271
перестает осознавать законченную невероятность своего появления на
свет, исходя к тому же из фундаментального отсутствия у себя отноше¬
ний с миром (поскольку последний известен в явном виде — представ¬
лен как взаимозаменяемость и хронологическая последовательность
объектов, мир как общее развитие того, что существует, должен в дей¬
ствительности казаться необходимым или вероятным).
В произвольном порядке, в котором каждый элемент самосознания
ускользает (поглощенный судорожной проекцией Я) от мира, в той
мере, в какой философия, отказываясь от всякой надежды на логи¬
ческую конструкцию, доходит —как до конца —до представления от¬
ношений, определяемых как невероятные (каковые суть всего лишь
нечто промежуточное по отношению к окончательной невероятности),
можно представить это Я в слезах или в тревоге; можно его и отбро¬
сить в случае мучительного эротического выбора к некоему другому,
отличному от него — но и от совсем другого — Я и тем самым приумно¬
жить, вплоть до потери из виду, мучительное сознание ускользания Я
из мира; но только на смертном пределе откроются с неистовством
терзания, составляющие саму природу безбрежно свободного и пре¬
восходящего «то, что существует» Я.
С приходом смерти появляется структура Я, целиком отличного
от «абстрактного Я» (открытого не активно реагирующим на любой
противостоящий предел размышлением, а логическим расследовани¬
ем, наперед задающим себе форму своего объекта). Эта специфическая
структура Я в равной степени отлична и от моментов личного суще¬
ствования, заключенных — по причине практической активности —и
нейтрализованных в логической видимости «того, что существует». Я
получает доступ к своей специфичности и полной трансцендентности
лишь в форме «Я, которое умирает».
Но не всякий раз, когда тоске и тревоге открывается обычная
смерть, дано откровение Я, которое умирает. Такое откровение пред¬
полагает безусловное завершение и верховенство бытия в тот момент,
когда оное проецируется в ирреальное время смерти. Оно предпола¬
гает потребность и в то же время безграничный упадок безусловной
жизни, последствие чистого искушения и героической формы Я: тем
самым оно достигает душераздирающего ниспровержения Бога, Кото¬
рый умирает.
Смерть Бога происходит не как метафизическая порча (на основе
общей меры бытия), а как засасывание жадной до безусловной радости
жизни тяжеловесной животностью смерти. Грязные аспекты растер¬
занного тела отвечают за целостность отвращения, в которое рушится
жизнь.
В этом откровении свободной божественной природы настойчивая
обращенность жадности к жизни в направлении к смерти (какою она
272
дана в каждой форме игры или грезы) появляется уже не как потреб¬
ность в уничтожении, а как чистая жадность быть Я, причем смерть
или пустота оказываются всего лишь областью, где бесконечно возвы¬
шается — самим своим упадком — владычество Я, представлять кото¬
рое нужно как головокружение. Это Я и это владычество получают
доступ к чистоте своей отчаявшейся природы и тем самым реализуют
чистую надежду Я, которое умирает: надежду пьяного, раздвигаю¬
щую границы грезы за любые мыслимые пределы.
В то же время исчезает — не в точности как пустая видимость, а как
придаток отвергнутого мира, основанного на взаимной подчиненности
своих частей, — заряженная любовью тень Божественной личности.
Именно воля очистить любовь от всяких предваряющих условий и
поместила безусловное существование Бога в качестве высшего объек¬
та восхищения вне себя. Но условный противовес Божественного ве¬
личия — принцип политической власти — запускает в ход эмоциональ¬
ное движение в сцеплении подавляемых существований и моральных
императивов: он отбрасывает его в пошлость прилежной жизни, где
хиреет Я в качестве Я.
Когда человек-бог появляется и умирает — сразу и как тухлятина, и
как искупление высшей личности — с откровением, что жизнь отклик¬
нется на жадность лишь при условии, что будет прожита на манер Я,
которое умирает, он тем не менее уклоняется от чистого императива
этого Я: он подчиняет его прикладному (моральному) императиву Бо¬
га и посредством этого преподносит Я в качестве существования для
другого, для Бога, и только мораль — как существование для себя.
В идеально блистающей и бесконечной пустоте, хаосе вплоть до об¬
наружения отсутствия хаоса, открывается тревожащая утрата жизни,
но теряется жизнь — на пределе последнего дыхания — лишь для этой
бесконечной пустоты. Когда Я возвышается до чистого императива,
живя-умирая для бездны без стенок и дна, императив этот формули¬
руется как «подыхаю как собака» в самой странной части бытия. Он
уклоняется от любого применения в мире.
В том факте, что жизнь и смерть с полнотой страсти обречены на
упадок пустоты, уже не проступают отношения подчинения раба хозя¬
ину, а, словно любовники, в конвульсивных движениях конца смешива¬
ются и спутываются жизнь и пустота. Да и жгучая страсть — отнюдь
не приятие и реализация ничто: то, что зовется ничто, — все еще труп;
то, что зовется блеском, — кровь, которая течет и сворачивается.
И так же как непристойная, высвобожденная природа их органов
связывает самым страстным образом обнимающихся любовников, так
и предстоящий ужас трупа и настоящий ужас крови куда негласнее
связывают Я, которое умирает, с бесконечной пустотой: и сама эта
бесконечная пустота проецируется как труп и кровь.
273
III
В этом скороспелом и еще смутном откровении некой крайней обла¬
сти бытия, куда философия, как и всякое общечеловеческое установле¬
ние, получает доступ лишь вопреки себе (как труп, которому изрядно
досталось), когда агрессивное ниспровержение Я приняло иллюзию в
качестве адекватного описания природы, повисла и фундаментальная
проблема самого бытия. Тем самым отброшенной оказалась вся воз¬
можная мистика, т. е. любое частное откровение, которому почтение
могло бы придать плоть. Также и безусловная, императивная жад¬
ность к жизни, перестав принимать в качестве своей области тесный
круг логически упорядоченных видимостей, на вершине жадного свое¬
го возвышения имела в качестве объекта уже лишь только неведомую
смерть и отражение этой смерти в пустынной ночи.
Христианская медитация перед крестом уже не отбрасывалась как
бы из простой враждебности, а принималась с враждебностью пол¬
ной, требующей сойтись с крестом в рукопашной. И тем самым она
должна и может переживаться в качестве смерти Я, не как уважи¬
тельное поклонение, но с жадностью садистского экстаза, с порывом
слепого безумия, которое только и получает доступ к страсти чистого
императива.
По ходу экстатического видения, на пределе слепо пережитых смер¬
ти на кресте и 1ашша заЬасМаш раскрывается наконец в хаосе света
и тени объект — как катастрофа, но не как Бог, не как ничто: объ¬
ект, который требуется любви, не способной высвободиться иначе,
кроме как вне себя, чтобы испустить вопль растерзанного существо¬
вания.
В этом положении объекта как катастрофы мысль переживает
уничтожение, которое конституирует ее как головокружительное и
бесконечное падение; тем самым катастрофа для нее не только объ¬
ект—сама ее структура уже есть катастрофа; она сама по себе —
всасывание в ничто, поддерживающее ее и в то же время ускольза¬
ющее. Отовсюду с размахом водопада возникает вдруг из ирреаль¬
ных сфер бесконечного нечто безбрежное — и, однако, тут же тонет в
них движением немыслимой силы. Зеркало, внезапно перерезающее в
грохоте сталкивающихся поездов глотку, есть выражение этого импе¬
ративного появления, безусловного — беспощадного — и в то же время
уже уничтоженного.
В обыденных обстоятельствах время кажется содержащимся —
практически аннулированным — во всяком постоянстве формы и в
каждой последовательности, которую можно принять в качестве по¬
стоянства. Каждое движение, способное вписаться внутрь какого-либо
порядка, аннулирует время, поглощаемое системой мер и равенств: тем
274
самым время, став виртуально обратимым, хиреет — а вместе с ним и
все существование.
Между тем у пылкой любви — пожирающей громогласно выплес¬
нутое существование — нет иного горизонта, кроме некой катастрофы,
некой сцены ужаса, освобождающей время от его связей.
Катастрофа — прожитое время — экстатически должно представ¬
ляться отнюдь не в облике старика, а в образе скелета, вооруженного
косой, — ледяного, сияющего скелета, к зубам которого прильнули гу¬
бы отрубленной головы. В качестве скелета оно есть завершенное раз¬
рушение, но разрушение вооруженное, возвышающееся до безусловной
чистоты.
Разрушение глубоко разъедает и тем самым очищает само вер¬
ховенство. Безусловная чистота времени противостоит Богу, скелет
Которого скрывается под золоченой драпировкой, под тиарой и под
маской: Божественные маска и пленительность выражают приложе¬
ние некоторой безусловной формы, выдающей себя за провидение, к
отправлению политического подавления. Но в Божественной любви
бесконечно раскрывается леденящий отблеск садистского скелета.
Восстание — искаженное от любовного экстаза лицо —срывает с
Бога Его наивную маску, и тем самым в шуме времени рушится по¬
давление. Катастрофа—это то, чем воспламеняется ночной горизонт,
то, для чего вошло в транс растерзанное существование, — она есть
Революция, она — освобожденное от всех цепей время и чистое изме¬
нение, она — скелет, вышедший, как из кокона, из трупа и садистски
живущий ирреальным существованием смерти.
IV
Тем самым природа времени как объекта экстаза проявляет себя
подобной экстатической природе Я, которое умирает. Ибо и та и другая
суть чистые изменения; и та и другая имеют место в плане некоего
иллюзорного существования.
Но если жадный и упрямый вопрос «что существует?» все еще про¬
низывает безбрежный беспорядок мысли, переживающей на манер Я,
которое умирает, катастрофу времени, каково будет в этот момент зна¬
чение ответа: «время — лишь бесконечная пустота»? или совсем иного
ответа, отказывающего времени в бытии?
Или каким будет значение ответа противоположного: «бытие есть
время»?
Яснее, чем в каком-либо порядке, ограниченном неукоснительной
реализацией порядка, проблема бытия времени может быть высвечена
в беспорядке, охватывающем совокупность мыслимых форм. Прежде
всего отвергается как сознательно принятое решение избежать разру-
275
шительного воздействия всякой проблемы попытка диалектического
построения противоречивых ответов.
Время не есть синтез бытия и ничто, если бытие или ничто находят¬
ся лишь во времени и представляют собой лишь произвольно отделен¬
ные друг от друга понятия. В действительности нет ни обособленного
бытия, ни обособленного ничто; есть время. Но утверждение существо¬
вания времени — совершенно пустое: в том смысле, что оно менее при¬
дает времени невнятный атрибут существования, нежели временную
природу существованию; иными словами, оно лишает понятие суще¬
ствования его расплывчатого и неограниченного содержания — и в то
же время бесконечно лишает его вообще любого содержания.
Существование времени не требует даже объективного положения
времени как такового: это существование, введенное в экстаз, означает
лишь ускользание и крушение всякого объекта, который рассудок пы¬
тается дать себе сразу и как ценность, и как фиксированный объект.
Существование времени, произвольно спроецированное на какую-то
объективную область, — это лишь экстатированное видение катастро¬
фы, уничтожающей то, на чем эта область основана. Дело не в том,
что область объектов с необходимостью — как Я — бесконечно уничто¬
жаема самим временем, но в том, что существование, основанное на Я,
возникает здесь разрушенным и что существование вещей по отноше¬
нию к существованию Я есть всего-навсего существование оскудевшее.
Существование вещей, каким оно предполагает для Я ценность —
отбрасывая абсурдную тень — приготовлений к смертной казни, суще¬
ствование вещей не может заключить в себе смерть, которую оно несет,
но само отбрасывается на ту смерть, которая его в себе заключает.
Утверждать иллюзорное существование Я и времени (каковое есть
не только структура моего Я, но и объект его эротического экстаза)
означает, стало быть, не то, что иллюзия должна подчиняться сужде¬
нию о вещах, наделенных глубинным существованием, а что глубинное
существование должно отбрасываться на иллюзию, которая его в себе
заключает.
Бытие, которое под человеческим именем есть Я и появление кото¬
рого на свет — сквозь населенные звездами пространства — было беско¬
нечно невероятным, заключает в то же время в себе и мир множества
вещей —по причине как раз таки своей фундаментальной невероят¬
ности (противоположной структуре реального, данного как таковое).
Смерть, освобождающая меня от убивающего меня мира, уже заклю¬
чила этот реальный мир в ирреальности Я, которое умирает.
Перевод В. Е. Лапицкого
276
ЖОРЖ БАТАЙ
ЭТОТ МИР, ГДЕ МЫ УМИРАЕМ
Рецензия
Морис Блангио. Последний человек. Рассказ.
Gallimard, Î057. В 1/16. 159 с.
Нет ничего, как мне кажется, в этом мире, что ускользает от нашей
мысли. Мы перемещаемся: каждый предмет подпадает под наши взо¬
ры. За протяженностью взгляда мы вычисляем громадный простор,
где распределяются миры, обнаруживаемые неторопливой фотогра¬
фией.
Громадный? Но мы ввели эту мнимую громадность в наше соб¬
ственное измерение, мы даже сжали по собственной мерке то, что, как
поначалу казалось, превосходит ее.
Одна лишь смерть ускользает от усилия духа, который задался
целью все объять.
Но, скажут мне, смерть — она вне мира. Смерть — вне мер и пре¬
делов. И как таковая она неизбежно ускользает от строгости методи¬
ческого мышления, которое ничего не рассматривает, не придав ему
конечную форму.
Если угодно.
Я держу в руках роскошный альбом, в котором текст сопровожда¬
ется многочисленными цветными иллюстрациями.
В журнале Life (чей тираж в Америке составляет 4 млн экз.) на
протяжении 1954 г. был опубликован цикл статей, собранных в следу¬
ющем году в альбом1.
Рождение Земли, возникновение морей и континентов, расселение
животных и людей или усеянное звездами небо, по которому переме¬
щается Земля, составляют вереницу пленительных образов. То, что не
смогла отразить фотография, воплощено в рисунках.
хНа днях вышло французское издание, озаглавленное Мир, где мы живем.
© Г. А. Соловьев, перевод, 2006
277
В этом альбоме моему взору открывается потрясающее сочетание
того, что породила жизнь, выпестовав человеческий дух. «Мир, где
мы живем» для нас есть мир, в котором рождается человек, мир, по
чьей мерке он сотворен. И ясное представление соизмеряет его с че¬
ловеческим духом. Человек, и это правда, не владеет миром. Разве
что властвует над тем, что ему близко, и господство над тем, что ему
ближе всего, в пространстве, открываемом наукой, обычно дает ему
чувство, что он у себя дома.
Но я хочу задать вопрос.
Мир, где мы живем, the world we live in — не есть ли в то же самое
время the world we die in, мир, где мы умираем? Так тоже мог бы
называться этот альбом у американского издателя.
Быть может.
Тем не менее здесь есть одна сложность.
The world we die in ни в коей мере не есть то, чем мы владеем. В
действительности смерть в том «мире, где мы живем» — это то, что
ускользает от обладания. Либо мы в страхе утрачиваем желание обла¬
дать ею, либо, попытавшись возобладать над ней, в конце признаем,
что она ускользает.
Все религиозные обряды и ритуалы во все времена силились ввести
смерть в сферу человеческого духа.
Но эти обряды и ритуалы удерживали нас в очаровании смерти.
Дух, который она завораживает, мог бы вообразить, что смерть стала
его вотчиной: областью, где смерть преодолена. Смерть тем не менее
остается в мире, где мы живем, где наконец благодаря науке от нас
больше ничто не может полностью ускользнуть, —остается тем, что
ускользает. «Мир, где мы умираем» не есть «мир, где мы живем». Мир,
где мы умираем, противостоит миру, где мы живем, как недоступное
доступному.
Я показываю ребенку The world we live in. Он тотчас воспринимает
эти образы, они непосредственно доступны. Предлагаю самому вдум¬
чивому читателю прочесть Последнего человека, произведение, кото¬
рое могло бы открыть ему «мир, где мы умираем». Но лишь прочитав
эту маленькую книгу несколько раз, он поймет, почему ему необходи¬
мо еще и еще раз браться за это изнурительное чтение, в которое он
поначалу не мог погрузиться. Несомненно, к этому чтению его мож¬
но было бы принудить с помощью небывалой силы преодоления, но
придется подождать, пока ему не откроется неуловимая грань смерти,
дающаяся в руки и все же ускользающая: хотя возможно, что тогда его
собственная мысль скроется от него, избегая собственных оснований,
избегая всего, что прежде сама ему диктовала.
Я говорил о сложностях, возникающих при чтении Последнего че¬
ловека. На основании нескольких предшествующих фраз можно было
278
бы предположить, что речь идет о философии. Меж тем Последний
человек находится вне философии.
В первую очередь, как явствует из титульного листа, это рассказ.
Данный рассказ представляет персонажей, помещает их в опреде¬
ленную ситуацию, ведет к решению. Ниже я опишу этих персонажей и
то, с чем они сталкиваются. Но я хочу безотлагательно привести более
глубокую причину, не позволяющую согласиться с тезисом о философ¬
ском характере Последнего человека: в самом деле, эта книга не есть
некий труд, где автор в предвидении цели отказывается от безумной
свободы своего демарша. Одна лишь литература является игрой, где
бросают кости, чтобы получить непредвиденный результат...
Теперь я изложу основную мысль рассказа. По крайней мере так,
как это мне видится (что, возможно, отчасти удаляется от замысла,
породившего указанное произведение, но, как мне кажется, удаляется
не настолько, чтобы возвращение стало невозможным).
Три персонажа, каждый по-своему, приближаются к смерти. Один
из них, «последний человек», приближается к ней раньше двух дру¬
гих: вся его жизнь, быть может, есть функция проникающей в него
смерти. Не то чтобы это его каким-то образом тревожило, но рассказ¬
чик смотрит, как он умирает, для рассказчика этот персонаж несет
отблеск той смерти, что в нем есть. Именно в нем рассказчику дано
созерцать смерть.
Это созерцание никогда не дается с первого раза. Очевидцы, лице-
зреющие «последнего человека», на самом деле к нему не приближа¬
ются, они предчувствуют то, чем он в конечном счете является, лишь
в той мере, в какой сами проникают в «мир, где мы умираем». И в
этой степени они растворяются: говорящее в них Я от них ускользает.
Тот, кто созерцает смерть, находится во взгляде, открываемом в
умирании: если он там, то потому, что более не является собой, что
он уже Мы, что смерть его растворяет. Но это помещенное в смерть
Мы, очевидно, не может быть помещено перед этой отдельно взятой
смертью, непостижимой и знакомой, которая ужасает и на которую
все смотрят, лишь уклоняясь от того ужасающего присутствия, на ко¬
торую все смотрят, лишь заранее отведя болезненный взгляд2; на са¬
мом деле это Мы не может быть результатом суммирования, цепочкой
множественных Я; это Мы возможно рассматривать в аспекте смер¬
ти, о которой шла речь, —не той смерти, кою мы знаем, избегая ее,
но смерти «универсальной», коей принадлежит «последний человек».
Тот, кто умирает, но, умирая, доверяет смерти свое присутствие; по
крайней мере тот, кто умирает, отворачиваясь от круговерти жизни;
следовательно, кто умирает, поглощенный «миром, где мы умираем»
2Ларошфуко писал: «Ни солнце, ни смерть нельзя разглядывать в упор».
279
(где отсутствие следует за присутствием, которое мы в действительно¬
сти доверяем лишь «миру, где мы живем»); тот, кто умирает, всецело
посвятив себя исчезновению, которым оказывается его смерть, —та¬
кой человек не может иметь свидетелей, если только эти свидетели уже
не соучастники — вследствие легкой растерянности — всеобщего исчез¬
новения, которое есть смерть (однако сие всеобщее исчезновение — не
есть ли оно, в конце концов, всеобщее возникновение?).
Морис Бланшо безыскусным, но озадачивающим языком «уточня¬
ет» преференции этого «последнего человека», который первым прони¬
кает в эту «универсальную смерть»: «Каждый, я думаю, чувствовал,
что ему предпочитают кого-то другого, но не кого попало, а всегда
ближайшего из других, словно он мог смотреть, лишь вглядываясь
чуть-чуть прочь, выискивая того, кого ты касался, кого задевал, того,
кем, по правде, ты до сих пор был убежден, что являешься. Возмож¬
но, в вас он выбирал всегда кого-то другого. Возможно, этим выбором
в кого-то другого превращал. Это был взгляд, которым и хотелось,
чтобы тебя разглядывали, но он, быть может, на вас и не падал, па¬
дал доселе разве что на клочок пустоты рядом с вами. Пустота эта
однажды оказалась молодой женщиной, с которой я был связан»3. Я
выделил фразы, к которым хотел привлечь внимание (предшествую¬
щие фразы, если они должны открыться читателю, требуют от него
еще дальше спуститься в глубины этой книги— очевидно, наиболее
глубокой из всех).
Эта пустота, «немного пустоты возле вас» — но в Последнем челове¬
ке формулы несут лишь временное, сомнительное значение, вдобавок
схема, которую я пытаюсь ввести, имеет в моих собственных глазах
лишь сомнительную значимость, — несмотря ни на что, именно эта пу¬
стота, искажающая порядок, присущий жизни, возвещает вхождение
персонажей рассказа в «мир, где мы умираем». Кажется, без этой пу¬
стоты Я, некогда бывшее рассказчиком, само по себе не предстало бы
как «кто?», «бесконечное множество кто?». Я не было бы замещено
забвением, выступающим началом этого Мы, которое в свою очередь
рождается в далеком «мире, где мы умираем».
Приближение тьмы до крайности сплачивает персонажей расска¬
за. Нам открываются странный вид, реакции и особенная подвижность
«последнего человека». Нам открываются звук его голоса, кашля, звук
его шагов в коридорах. Он живет в том же доме, что и рассказчик с
молодой женщиной, которых связывают узы взаимного влечения. Об
этом «большом центральном здании», откуда ведется повествование,
нам известно немногое: автор упоминает о лифте, о нескончаемых, за¬
3 Здесь и далее цит. по: Бланшо М. Последний человек / Пер. с франц.
В.Лапицкого. СПб., 1997. С. 208. — Прим. пер.
280
литых белесым светом коридорах, похожих на больничные. Кажется,
болезнь объединяет многочисленных обитателей дома — с его кухнями,
двором, где однажды выпал снег, с игорным залом, напоминающим зал
казино. Но эти ощутимые признаки реальности приведены здесь, что¬
бы исчезнуть. Как будто исчезновение — то событие, на которое на¬
талкивает книга (было ли оно в свою очередь скрыто от уточняющего
знания?), — чтобы «произойти», нуждалось в объектах, появляющихся
лишь для того, чтобы исчезнуть. Без этого один из основных аспектов
исчезновения предстал бы перед нами слишком рано. Мы преждевре¬
менно узнали бы, что это событие заключается в отсутствии оного.
В частности, молодая женщина в меньшей степени поглощена пред¬
стоящим ей исчезновением. «Там, где она пребывала, все исполнялось
ясности, прозрачной и светлой, и, конечно же, ясность эта распро¬
странялась и вокруг нас. Выйдешь из комнаты, а там все так же без¬
мятежно и ясно; коридор не грозил рассыпаться под ногами, стены
оставались белыми и крепкими, живые не умирали, мертвые не вос¬
кресали, и так же все шло и дальше, все было так же светло, может
быть, не так безмятежно или, напротив, покойно более глубоким, более
обширным спокойствием — разница оставалась неощутимой. Неощути¬
ма же, стоило пройти вперед, была завеса тени, что застила свет, но
попадались уже и причудливые отклонения, отдельные места оказы¬
вались словно загнуты обратно во тьму, лишены человеческого тепла,
подозрительны, в то время как совсем рядом радостно сияли залитые
солнцем поверхности»4. Несмотря на неосязаемую пустоту, определив¬
шую «преференцию» «последнего человека», «молодая женщина» и в
самом деле осталась в жизни. Или, в крайнем случае, она отделена
от жизни лишь этим «незаметным» соскальзыванием, от простран¬
ства, заключенного в «крепких белых стенах», до этой «завесы тени»,
этой завесы смерти, где столь же незаметно исчезает тот, кого она на¬
зывает «профессором». Но поскольку жизнь — ее местопребывание, ее
присутствие подле того, кто умирает, позволяет сохранить присущий
смерти признак исчезновения: кто смог бы исчезнуть, если бы подле
него никто не продолжал бы быть?
В молодой женщине проявляется двойное движение.
Она внезапно появляется в лучах света. Этот свет выхватывает из
тьмы ускользающую реальность, которая тем не менее не перестает
быть реальной. Рассказчик говорит о женщине, до которой дотраги¬
вался и которую обнимал. «Мог почувствовать, — говорит он, — сколь¬
ко безнадежности во внезапном ужасе, заставившем ее выпрыгнуть
из ночного мгновения, в котором я ее коснулся. Каждый раз к этому
возвращаясь, я вновь обнаруживаю в себе чудесный характер этого
4Там же. С. 236. — Прим. пер.
281
движения, ощущение тогдашней своей радости, что снова ею завла¬
дел, света, поскольку объял ее смятение, почувствовал ее слезы, и то¬
го, что ее тело из грезы было не образом, а сотрясаемой рыданиями
близостью»5.
Слезы, вспышка этой реальности, как раз проявляются на фоне
пустоты. Более того, через эту реальность слез пустота и забвение,
одерживающие победу, вдруг становятся осязаемыми. Пустота —это
ничто, забвение —это ничто: если пустоте и забвению предшествуют
рыдания, то пустота и забвение являются отсутствием рыданий. Ме¬
сто, куда исчезло то, что прежде завораживало, завораживает теперь
еще сильнее или еще страннее: это свершается и предлагает себя са¬
мо исчезновение, разрастаясь до такой степени, что околдовывает и
обманывает околдовываемых.
Между тем тот, кто ищет в этих двойных движениях нечто, от него
ускользающее, более не принадлежит «миру, где мы живем», где он
всегда обладал возможностью самоутвердиться, сказать «я». Он про¬
никает в «мир, где мы умираем», где Я погибает, где остается только
Мы, которое никогда ничто не сможет уменьшить. Умирающее Я, за
которым гонится смерть, приговаривает себя к падению в тишину, в
пустоту, которую он не выносит. Но, будучи сообщником молчания, со¬
общником пустоты, он находится во власти мира, где он представляет
собой лишь то, что теряется.
Затрагивая тему этого неосязаемого мира, коим выступает мир ис¬
чезновения, рассказчик выражает еще одно чувство. Еще раз он отно¬
сит его к себе самому, но тщетно, ибо исчезновение поглощает его, или
же он растворяется в своем исчезновении. «Чувство безмерного сча¬
стья, — говорит он нам, — вот чего я не могу отринуть, которое не что
иное, как сияние тех дней, которое началось с самого первого мгнове¬
ния, которое заставляет его длиться еще — и всегда, мы остаемся вме¬
сте. Мы живем обращенными сами к себе, как к головокружительно
вздымающейся от вселенной к вселенной горе. Никогда никаких оста¬
новок, никакого предела, опьянение все более пьяное и более спокой¬
ное. “Мы”, это слово вечно прославляется, оно без конца возвышается,
оно, как тень, проходит между нами, оно под веками, как всегда все
видевший взгляд»6.
Здесь необходимо остановиться на этом удивительном определении
смерти, которое базируется на возможности разделения смерти и стра¬
дания. Молодая женщина из рассказа позволяет рассказчику понять,
что есть ее движения перед лицом смерти: «“Умереть, мне кажется, я
смогу, но вот страдать — нет, это не для меня”. — “Вы боитесь страда¬
5Там же. С. 255-256. — Прим. пер.
6Там же. С. 264. — Прим. пер.
282
ний?” Ее передернуло. “Не боюсь, а просто не могу страдать, не могу”.
Ответ, в котором я увидел тогда только резонное опасение, но, может
быть, она хотела сказать совсем другое, может быть, в тот момент
она выразила реальность этого страдания, которое невозможно вы¬
страдать, и здесь, быть может, выдала одну из своих самых тайных
мыслей, что и она, и она тоже уже давно была бы мертва — вокруг
нее ушло уже столько народу, — если бы, чтобы умереть, не надо бы¬
ло пересечь такую толщу отнюдь не смертных мучений и если бы она
не боялась до ужаса заблудиться в неком пространстве боли, столь
темном, что она никогда не найдет из него выхода»7.
Вводное предложение — «когда она умерла» — сообщает в конце
первой части, что в результате приближения действительно наступила
смерть молодой женщины.
Рассказчик не может сам говорить о ее смерти, но говоря в тот мо¬
мент, когда заканчивается первая часть рассказа, об этом коридоре —
«узком, днем и ночью залитом одним и тем же белесым светом коридо¬
ре, без теней и перспективы, в котором, как в больничных коридорах,
теснился беспрерывный ропот», он добавляет: «Я проходил по нему с
ощущением спокойной, глубокой, безразличной жизни, зная, что здесь
было мое будущее и у меня уже не будет другого пейзажа, кроме этого
опрятного белого одиночества, что здесь вырастут мои деревья, раски¬
нется бесконечный шепот полей, море, переменчивое в своих облаках
небо, —здесь, в туннеле, вечность моих встреч и желаний»8.
Еще несколько строчек —и начинается вторая, финальная часть,
в которой повествование приобретает возвышенный характер. Я упо¬
требляю это слово без хвалебного оттенка (на мой взгляд, книжка
Мориса Бланшо —вне каких бы то ни было похвал), а с определен¬
ным смыслом: в своем медленном движении вторая часть неустанно
движется к вершине.
Я постарался схематично изложить содержание первой части, го¬
раздо более длинной. Я не стану делать это в отношении второй ча¬
сти. В каком-то смысле, пересказав первую часть, я опасаюсь, что
создал искусственное впечатление. Во всяком случае, я совершил пре¬
дательство, пересказав то, что не поддается пересказу: мы можем по-
настоящему проникнуть в книгу, лишь если она заставляет нас за¬
блудиться в ее меандрах. Мы смогли отыскать в ней дорогу, только
поддавшись обманчивому впечатлению, что в этой книге можно бы¬
ло найти дорогу. То, что я сказал, возможно, не так далеко от мысли
автора и могло бы послужить введением к этой мысли, однако по¬
следняя не позволяет себя ухватить: наоборот, она ускользает от того,
7Там же. С. 251. — Прим. пер.
8Там же. С. 258. — Прим. пер.
283
кто пытается к ней подобраться. Искусственность нашего пересказа
совершенно не отвечает ее движению. Из стороны в сторону, как при
стихийном бедствии, медлительно-поспешные фразы ускользают от
схемы, которой в лучшем случае удается передать их направление:
фразы ускоряются силой, владеющей ими или владевшей тем, кто их
написал. Эта сила сдерживается им. Без покоя, находящегося вне ми¬
ра, или по крайней мере вне «мира, где мы живем» данной книги
не существовало бы. Однако эта сила навязывает себя тому, у кого
достаточно энергии, чтобы прочитать указанную книгу с тем же тер¬
пением, с каким ее писал автор. Тот, кого эта книга возносит, не может
ее оспорить. Он проникает в «мир, где мы умираем», в мир всеобщего
исчезновения, где все появляется лишь затем, чтобы исчезнуть, в мир,
где все появляется.
Из второй части я лишь процитирую фразу, коя, возможно, прольет
свет на значение этого Мы, которое открывается только через беско¬
нечное исчезновение своих составляющих. «Напротив тебя, неподвиж¬
ная мысль, обретает облик, начинает, сверкая, исчезать все, что в нас
ото всех отражается. Тем самым у нас их больше всего, тем самым в
каждом из нас все отражаются в бесконечном отсвечивании, проециру¬
ющем нас на лучезарную близость, из которой каждый возвращается
к самому себе озаренным, что он — отражение всех. И мысль, что мы —
каждый — только отражения универсального отражения, этот отсвет
на нашу легкость легкостью же нас и пьянит, делает все легче и легче,
легче самих себя в бесконечности отсвечивающей сферы, которая от
поверхности и до единственной своей искорки есть наше собственное
вечное мельтешение»9.
Если бы мы рассматривали эту фразу в философском смысле,
мы должны были бы помедлить, задумавшись над точным значением
слов. Но, как я уже говорил, фразы, проливающие свет на «послед¬
него человека», не имеют философского характера. Они не смогли бы
встроиться в точную логическую цепочку. В этой мысли есть точность
(она в высшей степени точна), но названная точность предстает не в
виде фундамента и конструкции. Эта мысль не смогла бы быть осто¬
вом одной из хрупких построек, с грустным упорством возводимых
философом, соблюдающим указание отвернуться от судьбы, которая
позже приговорит эти постройки к разрушению. Человеческая мысль
не может полностью погрузиться в работу, не может полностью по¬
святить себя делу, чья цель — доказать то, что непрерывное течение
мысли опровергнет. Мысль находится в поисках появления, которое
она не смогла предвидеть и от которого она отделена заранее. Игра
мысли требует такой силы и точности, рядом с которыми сила и точ¬
9Там же. С. 271. — Прим. пер.
284
ность, необходимые для конструкции, кажутся отдыхом. Воздушный
гимнаст подчиняется более четким правилам, нежели каменщик, не
покидающий земли. Каменщик производит, но на грани невозможно¬
го: гимнаст же тотчас отпускает то, что схватил. Он останавливается.
Остановка — та граница, которую он отрицал бы, если бы имел на это
силы. Остановка означает, что ему не хватает дыхания, а мысль, отве¬
чающая на усилие, была бы той, что мы ожидали бы, если бы в конце
дыхания хватило.
В этом «мире, где мы живем» все приводится в порядок и все стро¬
ится. Однако мы принадлежим к «миру, где мы умираем».
Там все находится в подвешенном состоянии, там все более насто¬
ящее, но мы проникаем туда лишь через окошко смерти.
В смерти есть предчувствие, сокращающее жизнь до размеров ил¬
люзорной стабильности неподвижных тел, тел, находящихся в ста¬
бильных отношениях. Но мы должны были освободить смерть от мрач¬
ного кортежа, во главе которого несказанная боль, а замыкает его зло¬
воние. Мы должны были получить доступ к сияющей вечности, кото¬
рой является смерть: универсальная смерть вечна. Последний человек
открывает нам мир, в который мы попадаем в головокружительном
движении. Но эта книга есть движение, где, теряя всякую опору, мы,
возможно, обретаем силу все видеть.
Трудно говорить о Последнем человеке, настолько эта книга вы¬
ходит за рамки, в коих многие предпочли бы остаться. Но тот, кто
согласится ее прочесть, заметит, что во власти человека в этой кни¬
ге было посвятить мысль движению, освобождающему его от указан¬
ных рамок. При условии, что он пренебрежет угрозой. Сила, чтобы
противостоять, требуется не только от автора: удастся ли читателю
ускользнуть от неизбежного испытания? Чтение на пределе возможно¬
стей может привести к встрече лицом к лицу с тем, что означает мир —
и существование, которое мы в нем ведем, — с тем, что они означают,
с их нонсенсом (мы разделяем их лишь от усталости).
Перевод Г. А. Соловьева
ЖОРЖ БАТАЙ
СЮРРЕАЛИЗМ И ЕГО ОТЛИЧИЕ
ОТ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
Критическая статья
Андре Бретон:
Аркан 17 и Сюрреалистическая очевидность
Несомненно, что за последние двадцать или тридцать лет никто,
кроме Андре Бретона, не придавал, даже в мелочах, судьбе человека
столь заманчивого смысла. В этом и кроется причина присущей ему
способности волновать и увлекать, какой не обладал ни один из со¬
временных писателей. В лице Андре Бретона возможности человека в
принятии совершенно новых решений расширились до предела. И дей¬
ствительно, никто, кроме него, не совершал столь последовательного
выбора в пользу других: кто сегодня может отрицать повсеместное
влияние сюрреализма? И дело не в том, что в нем нет ничего неопро¬
вержимого или что мы не замечаем в нем сразу целого ряда погрешно¬
стей и недоразумений. Но изъяны сюрреализма, касается ли это произ¬
ведений или личностей, только подтверждают его силу. Сюрреализм —
это то, что существует—вопреки сочетанию, в общем-то печальному,
произведений и людей — и заставляет считаться с собой.
Упорство, с которым Андре Бретон создает, поддерживает и разви¬
вает дело своей жизни, достойно того, чтобы поговорить о нем отдель¬
но. Сюрреализм в отличие от других школ (романтизма, символизма)
не есть достаточно свободная и строго определенная сфера деятель¬
ности. Из жизни для романтика или символиста не явствовало, что
романтизм или символизм— то, а не это. Сюрреализм же, изначально
будучи суммой моральных правил, пускает в ход все. Романтизм так¬
же обладал всеобъемлющим значением. Некоторые его аспекты также
© Г. А. Соловьев, перевод, 2006
286
затронули всю систему возможного. Но он так никогда и не дошел до
того, чтобы сформулировать себя как некое требование.
По правде говоря, сюрреализм необходимо определить еще и как
художественную и литературную школу (мне даже следовало бы на¬
чать с этого): сюрреализм как таковой основан на автоматическом
письме. Он придает решающее значение этому типу мышления, ана¬
логу сна, не поддающемуся контролю разума: таким образом, он из¬
бавляет ум человека от иной цели, кроме поэтической. Исходя из этого
невозможно, чтобы стихотворение, картина или фильм, порожденные
таким типом мышления, имели бы малейший смысл. Однако внимания
скорее достоин принцип, чем результат. Сюрреалистическое произве¬
дение шокирует, но раздражение слабых —не главное, это лишь неиз¬
бежное последствие, вдобавок желательное и забавное. Нравственная
потребность, на которой основывается сюрреализм, не имеет ничего
общего с таким ничтожным результатом. Она иной природы.
Бретон писал в Самозащите: «Все, что мы знаем,—это то, что
мы в определенной степени наделены речью и что что-то большое и
темное в нас стремится выразиться через нее... Это приказ, который
мы получили раз и навсегда, и никогда не располагали досугом, что¬
бы обсуждать его...» И сюрреализм главным образом стремится к
настойчивому отрицанию контроля разума, лишающего сторонников
сюрреализма возможности действовать.
Надо пишет в Истории сюрреализма, что «речь не идет ни об ас¬
социации литераторов, поддерживающих друг друга для достижения
успеха, ни даже о школе, которая зачастую является той же ассоци¬
ацией, только с несколькими общими теориями, но о коллективной
организации, секте посвященных, партии... Туда вступают сознатель¬
но, оттуда выходят или исключаются на определенном основании... »
Сюрреалистическое объединение тем не менее отличалось от партии
или секты, поскольку право вступления было предоставлено тем, кто
обладал художественными способностями. Само собой разумеется, что
сюрреализм выходил за литературные и художественные рамки. «Он
стремится, — говорил Андре Бретон в Манифесте (1924),— оконча¬
тельно разрушить все остальные психические механизмы и занять их
место в решении основных жизненных вопросов». Но художники об¬
ладают своими собственными дарованиями, которые наделяют их ре¬
альной властью, так как привлекают к себе всеобщее внимание. То,
что опьяняет, очаровывает и восхищает, — это не обязательно худо¬
жественное произведение, но его порождение. Освещая ярким светом
определенную точку, художник решает, что должны увидеть другие
(важность этой его возможности любят подчеркивать пропагандисты).
Но свобода выбора есть не всегда. Выполняя заказ, художник подчи¬
няется чужой воле (например, художник, работающий для церкви);
287
то же, если он старается угодить вкусу, а значит, тяжеловесности и
отсталости публики. Когда общество с врожденной простотой совер¬
шает выбор, это не всегда свидетельство покорности. Но в среде по¬
рочной, разобщенной это не только угодничество, но, вполне возмож¬
но, и предательство. В нашей запутанной цивилизации, где сложная
деятельность исчерпывает ресурсы, где за любым деревом не видно
леса, где бесконечная усталость подменяет возможность жить массой
поддельных результатов (роскошь, недоступная другому), художник в
уединении мастерской наделен властью сделать решающий выбор. Он
может изобразить и воспеть ту грань, что связана с самыми возвышен¬
ными нашими устремлениями, он обладает властью наделить нашу
жизнь перспективой величия. Но также он прекрасно может утаить
целое открытие, отвлечь внимание каким-нибудь вздором из желания
сохранить свой покой. Серьезен тот факт, что человечество все время
мечется между комфортом и совестью, или между вялостью (види¬
мость существования, жизнь в оцепенении) и юношеской горячностью
(опасное воодушевление). И решение принимается в этой точке. В дан¬
ном выборе художника (если бы это было не так, то что бы он имел
общего с искусством?) решается: чистота или усталость, свобода или
рабство. Таким образом, налагаемая на художника необходимость вы¬
бора имеет особый смысл. Это может быть история, если бы выбирать
пришлось мне (я имею в виду и более скверные ситуации на войне),
но неполная. Тот, кто действует — политическими или военными ме¬
тодами, что одно и то же, — сталкивается с тем, что возможность, за
которую он борется, ограничена. Эта возможность ограничена потому,
что военная или политическая акция изначально направлена на огра¬
ничение свободы; впрочем, некоторую свободу она все-таки предостав¬
ляет, но эта свобода не всегда идет во благо (я борюсь за то, чтобы
не быть или перестать быть порабощенным, однако пользоваться сво¬
ей свободой — совсем другое дело). Только художник выбирает между
свободой созидательной (сначала своей, потом тех, кого он соблазняет)
и пошлостью (услужливостью, успехом). (Это придает его решению
значение, далекое от чистой морали: если расценивать ее как религи¬
озную, то возможны неверные истолкования, но оно распространяется
в области, лежащие за моралью: непосредственно изнурение, открыто
пренебрегающее последствиями.)
Я должен это сказать: мои разъяснения по данному вопросу — бал¬
листическая экспертиза выстрела. Дело Андре Бретона — сам выстрел.
Пораженный самим выбором, он не очень беспокоился о его причи¬
нах, как и об объяснении жестокости своих чувств. Изначально самым
важным для него было передать крайность состояния: он отвечал на
требование страсти больше, чем на требование интеллектуальных при¬
личий. Всегда, с самого момента зарождения сюрреализма, о чем бы
288
он ни писал, он писал об этом с гневом. И каждая из его фраз, следу¬
ющих из многообразия человеческих судеб, есть то, что во Франции
обычно считается приятным, но вместе с тем несет на себе волнующую
печать аутентичности. Конечно, эта неожиданная воля решения, столь
связанная с сознанием и значимостью, связана и с неким неудобством.
Жрец, пророк, святой некогда обладали вместе с прерогативой выбора
исключительным правом на патетический призыв. Сколько политиков
следовало им и следует по сей день! Первые говорили от имени Бога,
вторые —от имени человеческих потерь и нищеты. Но чтобы писатель
говорил во имя судьбы человека, с яростью, словно фанатик о славе
Божьей, это казалось странным.
А самое странное то, что виновник прекрасно понимал, в каких
условиях он мог говорить. Если бы он высказывался лично, этого не
потерпели бы. Но сила убеждения, воодушевлявшая его, дала ему воз¬
можность привлечь к делу определенное число людей, имена которых
сегодня весьма известны, и привлечь не формально, но увлечь непо¬
средственно предметом страсти. Это позволило Андре Бретону по¬
нять, что ни поэт, ни художник не имели власти выразить свое личное
мировоззрение, но что общественная организация, «инстанция» может
это сделать. «Инстанция» может говорить не так, как отдельный чело¬
век. Если художники и поэты вместе осознают то, что давит на поэзию
или живопись, то каждый говорящий от их имени должен ссылаться
на то, что он представляет внеличную необходимость. Правда в том,
что между ощущением некой моральной суммы, выраженной Андре
Бретоном, и созданием организации, инстанции, придающей смысл и
значение этой сумме, не могло быть различия. Если сознание рожда¬
ется из важности выбора, то необходимо его проявить, и оно может
существовать только во имя чего-то, так же как и решение. Если хо¬
тите, обстоятельства, складывающиеся вокруг Андре Бретона, были
гарантией его аутентичности; сегодня удобно утверждать, что послед¬
ствия были самыми предсказуемыми: пустословие и бессодержатель¬
ность на заре сюрреализма не могут заставить забыть ту утраченную
силу возбуждения, которая часто и оказывалась той единственной ве¬
щью, что должна была быть. И пусть впоследствии разногласия и
недоразумения одолели ее, пусть организация потерпела неудачу, это
уже неважно: данное свидетельство, сделанное людьми самыми пыл¬
кими и проницательными — из-за смущения, охватившего их,— не мо¬
жет быть взято назад.
На протяжении определенного времени и часто сменяющих друг
друга состояний надежды и разочарования Андре Бретон не пере¬
ставал патетически осознавать выбор, который совершался в каждое
мгновение его жизни. Очень скоро это стало не просто выбором со¬
рвавшейся с цепи поэзии, которой является автоматическое письмо и
289
которая была важна для Андре Бретона своей разрушительной си¬
лой: в своем Манифесте он говорил об этом свойстве поэтического
неистовства, что оно «стремится разрушить все остальные психиче¬
ские механизмы, чтобы занять их место в решении основных жизнен¬
ных вопросов...» Это вмешательство поэтического принципа в при¬
нятие решений, серьезных и не очень, а значит, и в целую жизнь,
постепенно стало предметом основных произведений Бретона — Надя
(1928), Сообщающиеся сосуды (1932), Сумасшедшая любовь (1937),—
которые отчасти являются повествованием его собственной жизни. Ка¬
жется, разум начинал руководить им, едва его поведение становилось
человеческим. Сартр уверяет нас сегодня, что, вступая в брак, мы втя¬
гиваем человечество в моногамию, однако мы только обещаем не выхо¬
дить из нее, но если мы отрицаем брак — это тоже плохо. Действие;
торым подтверждается инициатива, имеет особое значение: онс /ожет
и других, если те соблазнятся, завлечь на свой правый путь. Поо .ому
оно одновременно достойно сожаления и желанно. Свой полный смысл
оно обретает, лишь обретя выраженную форму. В действительное/:к
нет разницы между действием как соблазнением с осознанием
ативы и приданием действию эстетической выразительности.
до такой степени, что становится неясно, не действуешь ли
для того, чтобы выразиться. По сути, выразительность неотделим?
действия. Именно она придает действию головокружительный
начала общей судьбы.
Последняя книга Андре Бретона Аркан 17 приобретает, возможно,
более серьезное значение из-за того, что была написана в то время,
когда решался исход войны, и особенно из-за того, что была начата з
дни когда, решалась судьба Парижа1. Автор находился в это время в
Новом Свете, в южной оконечности устья реки Святого Лаврентия, на
побережье Гаспе.
Одиночество, выступающее, по словам Андре Бретона, непре¬
менным условием поэтического мышления, было на этом побережье
«столь неожиданным, столь полным, насколько это возможно». Эта
почти заброшенная французская область, затерянная в английской
Америке, накладывает свой отпечаток на ощущение, что находишь¬
ся далеко от того, что происходит в это время: «защитный экран,
очень эффективный против безумия времени... закрывающий весь
горизонт». Свободный ход размышлений, из которых состоит книга,
начинается с плавания на рыбачьей лодке вокруг большого утеса, на¬
селенного колонией птиц. Впрочем, этот островок, Продырявленный
Утес, на протяжении всего времени, пока писалась книга, продолжал
*20 августа —20 октября 1944 г.; статья самого Батая была напечатана в жур¬
нале Критика в 1946 г. — Прим. ред.
290
вычерчивать свой чудесный профиль в оконной раме комнаты писа¬
теля. Его воображение неспешно скользило в прозрачной странности
ландшафтов, где ничто не ограничивало взгляда. «Великим врагом
человека, — как сказал Бретон, — служит непрозрачность», так же как
ограниченность, являемая взору улицами городов. Вдали от привыч¬
ных ассоциаций каждая деталь окружающего мира может открыть
немного больше тех безграничных, чудесных возможностей, которые
таит в себе мир. Чтобы понять, что такое прозрачность, и научиться
читать в ней, Андре Бретон, избегавший анализа, позволил заговорить
в себе утесу и птицам, как некогда это делало создававшее мифы чело¬
вечество. Сила обезумевшего воображения нисходит на Продырявлен¬
ный Утес, потому что он отвечает первичной жажде ослепления, по¬
тому что красота — это призма, в гранях которой решается вся судьба
света, движения потерявшего границы воображения граничат с вла¬
стью придать форму самым отдаленным мечтам. «Это когда на закате
дня — или иногда туманным утром — некоторые части утеса подерги¬
ваются дымкой и утес обретает силуэт корабля, направляемого уве¬
ренной рукой... Это похоже на лишенное снастей судно, неожиданно
зафрахтованное для самого удивительного из дальних плаваний... » И
далее: «Однако этот ковчег существует, хоть я и не могу сделать его
видимым для всех, и на нем находятся все таланты человека, недолго¬
вечные, но волшебные. Оправленный в дивный айсберг лунного кам¬
ня, он движим тремя стеклянными винтами, один из которых любовь,
но такая, которая, связывая два существа, возвышается до неуязви¬
мости, другой — искусство, но только достигшее своих вершин, и тре¬
тий—борьба за свободу, но не на жизнь, а на смерть. Однако если
более рассеянно взглянуть на Продырявленный Утес с побережья, то
окрыляют его лишь птицы».
Метод имеет свои границы (они могут ощущаться смутно), кото¬
рые, разумеется, служат и границами успеха. Однако если предполо¬
жить, что мы прибегаем к нему, не признавая, впрочем, что он по¬
строен на решительности и жестокости (как в случае Аркана 17), то
метод имеет соответствующую цену, когда в нем пущены в ход все
возможности человека. Что за важность в таком случае, что изложен¬
ные рассуждения имеют произвольный вид: тому, кто не колеблясь
все пустил в ход, жизнь открывается для возможности определить
в ней линию соблазнения. Так как «под этими восхитительными по¬
кровами, слишком известными, слишком живучими, чтобы страдать
от человеческих дрязг, все стремится, должно, в конце концов, стре¬
миться к переориентировке жизненных соблазнов». Не очевидно ли,
что любая загадка, которую задает нам мир, зависит от той, которую
задает нам сначала то, что в этом мире нас соблазняет? Если это
смысл того, что нас окружает, который мы могли бы понять, то мо¬
291
жет ли он привести нас к чему-нибудь иному, кроме предмета нашего
восхищения? И если однажды мы теряем смысл, не обретаем ли мы
его вновь после того, как, несмотря на потерю, поддадимся соблаз¬
ну? Что за важность в таком случае непрозрачность мира! Минутный
восторг, свободный от пыльной заботы понимания, дает нам возмож¬
ность сказать: как все прозрачно! Правда, этому можно противопо¬
ставить временный характер, который, как известно, не отличается от
лжи. Заслуживающее внимания возражение: кто не стремится и не
старается убить в себе все возможности человека, тот находится во
власти жалких отклонений (что объясняет резкую критику Паскаля).
Он соблазнен условно, а это залог уменьшения, залог того, что то¬
му, что соблазняет, не придается большого значения. Для него имеет
значение (от невозможности утверждать, что он это любит) то, что ло¬
мает, унижает и угнетает человека, — серьезность, мораль, труд. Что
соблазняет, обречено на недоброжелательство, подчинено только сла¬
бости человеческой. В действительности соблазн может быть предан
лишь тогда, когда он низведен до ничтожества: соблазн хочет, чтобы
его любили безоговорочно, безумно.
Так, например, чтобы добиться этого, необходимо было сначала
позволить себя захватить и увлечь отваге, безумию и лишениям, при¬
сущим человеческой судьбе. Это было бы пустой игрой, если бы мы
не начали говорить себе: предел моей воли; но это обязательно все,
что только может хотеть человек, предел воли означает, разумеется,
никогда не иметь предела. Исходя из такого «я могу» это было бы
всего лишь жеманством — придать соблазну облик женщины-ребенка,
утверждать: «Это ее приход ко всей ощутимой власти, который долж¬
но систематически подготавливать искусство». То ли это глубина, то
ли утомление, когда Бретон, отвергающий «мышление мужского типа
конца XIX в. ... слюну крысы — пожирательницы книг», концентриру¬
ет в одном начале возможность прозрачности существа, и по прихоти
это всего лишь женская и детская возможность. В том, что касается
соблазна, не дано ли обладание чувством меры тому, кто соблазняет?
То, что, без сомнения, лишает такой выбор части его значения, —
это ни в коем случае не остановка, не фиксирование. Если позиция Ан¬
дре Бретона требует инстанции, во имя которой нужно говорить, если
инстанция, из которой он исходит, создана, то из этого не следует, что
взаимное согласие продлится и после закладки фундамента (кто захо¬
чет, чтобы все искусство было подневольным и обнаруживало то, что
не является свободой поэзии?). И если обычно искусство, проециру¬
ясь на точке серьезных познаний, обладает способностью привлекать
внимание, то в отличие от религий оно больше не обладает способ¬
ностью его удерживать. Вести нас к горизонтам, где все зыбко, —это
все, что оно может сделать. Действительно, определенные связи мо¬
292
гут некоторое время иметь общее значение. И Бретон, нисколько не
сомневаясь, не заполняет пустоту, когда, обретая любовь в ее полной
форме, говоря о ней, он использует такие выражения, которые до него
никто не использовал. Экзальтация как ценность женщины, особенно
женщины-ребенка, не может так же легко стать целью, ради которой
необходимо присоединиться к движению: можно отвечать сюрреали¬
стическим требованиям без того, чтобы надолго привязаться к этому
соблазнительному утверждению. Впрочем, сама женщина-ребенок —
не каприз ли она? Возведенный в принцип, должен ли каприз пере¬
стать быть капризным? Я могу и дальше сомневаться в том, что все
увеличивающийся интерес Бретона к мистике приобрел бы столь же
животрепещущее значение, сколь и его сюрреалистическая позиция.
Тот соблазн, которому Аркан 17 придает ударный смысл (не без
скрытой осторожности), встретит, очевидно, не самый теплый прием.
Я, со своей стороны, склонен показать, что в определенной мере со¬
блазн, так же как и соблазн целостной любви, имеет современное неиз¬
бежное значение. То, что Ницше говорил о католицизме, что вопреки
христианской морали последний сохраняет отблеск языческой роско¬
ши, это правда, и в другом разрезе — разрезе магии —тоже: именно из
глубин древнейших, не-нравственных религий эти традиции являют
нам несколько смущающий нас образ. Бретон прав, усматривая неиз¬
бежность в том, что современная поэзия часто испытывает влияние
эзотеризма (он ссылается на Нерваля, Гюго, «тесная связь которых
со школой Фабра Д’Оливе была только что обнаружена», на Бодле¬
ра, Аполлинера и на знаковую фигуру Рембо). И как тут не испытать
некоторой тоски по утраченной мудрости? В свое время эта мудрость
могла для каждого человека подобрать самые тончайшие соблазны из
всех имеющихся в этом мире. Трудно подумать, однако, еще и о том,
чтобы уловить и понять определенные причины этих соблазнов, — не
будем забывать и того, что довлеет над нами, того, что невозможно
вернуть, что утеряно безвозвратно.
Неизбежно то, что складывающийся рационализм вынужден был
лишиться глубокого смысла способа мышления, мешавшего ему. Но ес¬
ли сейчас мы начинаем искать возможное, перед нами — все возможно,
хотим мы того или нет, нам ничего не остается, как строить рацио¬
нальную мысль, которой обладаем без усилий, и мы не можем зано¬
во открыть значение утерянного способа мышления. Мы находим его
только в мире, где бывшие связи более не возможны. Сегодня рацио¬
нализм нашел близкую ему область, область практического действия:
оказалось, что в ней нет больше места способу мышления в традициях
высокой мистики. Даже развитие их оказалось невозможным. Без со¬
мнения, Бретон, писавший до 1945 г., уже оспаривал результат такого
развития, но какая разница: кто в наши дни захочет придать маги¬
293
ческим метафорам техническую активность? Впрочем, Бретон проти¬
вится тем способам вйдения, которые предполагают, что ритуальные
практики, связанные с мифами, суть средства достижения матери¬
альных целей. На чем он не настаивал, так это на свободе, которая
придает такому способу думать и жить ощущение недумания и нежиз-
ни, поскольку некогда они отчасти обладали и жизнью и думанием,
что было подчинено целям свободы. Но свобода не обладает возмож¬
ностью что-либо фиксировать. Я не могу больше быть связанным с
такой позицией, которая более не рассматривается как материально
эффективная. К тому же мой каприз может увлечь меня в совершен¬
но другую сторону. Если сейчас Андре Бретон признает, что верит в
особое значение формулы — говорят, это подействовало в Элевсине, —
какими бы волнующими ни были слова «Осирис, черный Бог», мож¬
но подумать, что он сам, отворив дверь бурлящим потокам свободной
поэзии, равнодушно возрождающим глубокий смысл, которым боль¬
ше, чем все остальные, обладала фраза «Осирис... », возвращается к
более тяжеловесным формам, отягощенным еще и вульгарной эффек¬
тивностью, которую им приписывают.
Это возвращение к фиксации все же очень тяжело: оно искажает
вызывающий характер сюрреализма, который живет в свободном по¬
этическом неистовстве, ничему не подчиняясь, не назначая себя для
возвышенной цели. Это действительно труднопереносимое состояние,
но в то же время решительно, мужественно эффективное. Да, это
действительно решительное завоевание. Поэтическая свобода не нова.
Мифы и обряды, связанные с ней,— как «необыкновенные ритуалы
у хопи2, при которых неизбежно вмешательство сверхъестественных
существ в количестве большем, чем воображение могло бы наделить
внешним видом и определенными чертами» — достаточно ясно переда¬
ют тот факт, что человеческое мышление всегда и везде было готово к
неистовству. Но прежде надо было поставить перед этим неистовством
возвышенную цель, дать повод — и обычно достаточно грубый. У хо¬
пи «речь идет о том, чтобы привлечь к посевам все возможные виды
защиты... особенно к посевам маиса». Насколько в наиболее изощрен¬
ных религиях сохраняется элемент поэтического вымысла, настолько
вышеуказанный предлог связан с высокой моралью, привлеченной к
избавлению как высшей цели. В способе мышления, где поэтическое
и рациональное остаются смешанными, разум не может достичь по¬
нимания поэтической свободы, существование каждого мгновения он
подчиняет какой-то преследуемой цели. Это рабство, из которого ему
не выйти.
Выкупать из рабства свободную деятельность разума — вот приви¬
2 Племя южноамериканских индейцев. — Прим. ред.
294
легия сюрреализма. Рационализм, задвигавший эту деятельность во
тьму, освещал последовательное продвижение действий и мышления
в целом к преследуемой цели. Тем самым рационализм освобождал
от этого продвижения поэтическую деятельность, приостанавливая ее.
Однако трудность заключалась в подтверждении значения того, что в
конце концов разбушевалось в темноте.
Таким образом, то, что было одновременно и поражено и освобож¬
дено, было не чем иным, как мгновением. Реальность такова: никогда
раньше люди не придавали значения мгновению. Их умственный меха¬
низм устроен так: всегда значение придавалось только преследуемой
цели. Или, скорее, никогда не могли разделить значение и преследу¬
емую цель. Разъединение потребовало непривычного действия, злого
и задумчивого, ясного, но избегающего собственной ясности, отлича¬
ющей Андре Бретона. Бретон с самого начала проявлял удивительное
пренебрежение будущим. «Я никогда не строю планов», — говорит он
в своей Пренебрежительной исповеди. Ясно, что принцип автомати¬
ческого письма покончил с целями. Такое движение, выраженное, как
то надлежало, в достаточно стройных предложениях, развивалось не
без противоречий. Язык Андре Бретона является результатом осозна¬
ние *тих противоречий и желания разрешить их, даже применив, если
^о^.^обится, меры, лишенные логики.
.?то не могло сразу стать «ясным и понятным». Поскольку сначала
страсть, а не ясность вела игру, язык был бессодержательным. Мо¬
раль, которой придерживался Андре Бретон, достаточно плохо опре¬
делена. Если такое возможно, то это — мораль мгновения. Важнейшим
ее моментом была навязанная потребность, выражавшаяся в выборе
между мгновенг ж — значением настоящего мгновения свободной де¬
ятельности разума — и заботой о результатах, которая сразу же уни¬
чтожает значение и даже смысл существования момента. Ударение
сделано не на факт выбора, но на то, из чего выбирать. В расчет при¬
нимается только неизмеримое значение мгновения, а не тот факт, что
все могло бы быть приостановлено. Точнее, то, что запущено (и ко¬
личество пущенного в ход), берет верх над тем фактом, что решение
принимаю я что это придает мне значимости. Свобода не есть более
сзобода вьт'»opa, но выбор дает возможность обрести свободу, возмож-
нс 7::-ь сво": дной деятельности, требующей, чтобы, однажды остановив
на ней св / выбор, я не допускал необходимости выбирать еще раз,
так как въь р между различными возможностями разбушевавшейся
деятельное • ’ был бы сделан с учетом некоторых последующих резуль¬
татов (это с 1ысл автоматизма). Сюрреалистическй выбор — это выбор
'ольше из ¿ыбирать (свободная деятельность разума была бы искаже¬
на, если бы я подчинил ее некоему заранее намеченному результату).
Значительное отличие сюрреализма от экзистенциализма Жана
295
Поля Сартра содержится в самом характере экзистенции свободы.
Если я ее не порабощу, она будет существовать: это —поэзия, это
слова, которые не должны более служить для того, чтобы назвать
что-нибудь полезное, неистовствуют, и это неистовство и есть образ
свободной экзистенции, коя дается лишь на мгновение. Такая охота
за мгновением —в которой в то же самое время нет желания,— име¬
ет, безусловно, решающее значение. Действительно, не обходится и без
трудностей, кои обнаружил, но не преодолел сюрреализм. Однако воз¬
можность в игре идет дальше, чем кажется. Если бы мы действительно
покончили с рабством, которому целенаправленная деятельность под¬
чиняет существование мгновения, то в нас внезапно с нестерпимым
сиянием открылась бы глубина. По крайней мере, все заставляет так
думать. Охота за мгновением не отличалась бы от экстаза (взаимооб-
разно, надо определять экстаз как охоту за мгновением, и никак ина¬
че, охоту вопреки стараниям мистиков). Вовсе не стараясь удаляться
от этих последних истин, Андре Бретон облачает их в сильные вы¬
ражения. «Сюрреализм,— пишет он во Втором манифесте (1929),—
не особенно заинтересован считаться с тем, что производится рядом с
ним под предлогом искусства и даже антиискусства, философии или
антифилософии, одним словом, всего, что не имеет целью уничтоже¬
ние существа в блестящей и слепой его глубине, что уже не является
душой льда, но огня». Или там же: «Идея сюрреализма — просто стре¬
миться к полному восстановлению нашей психической силы способом,
который оказывается не чем иным, как головокружительным спуском
в глубину себя, систематическим освещением скрытых мест и постоян¬
ным затемнением других, беспрерывной прогулкой по запретной зоне,
и деятельности сюрреализма ничто не угрожает до тех пор, пока че¬
ловек не научится отличать зверя от пламени или камня».
И напрасно, читая Аркан 17, мы придерживаемся знакомых нам
ориентиров. Так, при издании целого ряда поэтических текстов — как
в случае недавно вышедшего сборника под названием Сюрреалисти¬
ческая очевидность — эти ориентиры сразу теряются из виду, будучи
замененными властью литературы. Сюрреализм — это не только поэ¬
зия, но и разрушающее утверждение смысла поэзии через отрицание.
Забываясь даже на мгновение, свет стирается с лица.
Перевод Г. А. Соловьева
СОДЕРЖАНИЕ
Дорофеев Д. Ю. Саморастраты одной гетерогенной суверенности 3
Брюно Ж. Техники озарения у Жоржа Батая 39
Лейрис М. От батаевского невозможного к невозможным Документам... 54
Гальцова Е. Д. Лаборатория авангардистской мысли: Критический словарь
журнала Документы (1929-1930) 63
Лала М.-К. Царство невозможного 89
Рей Ж.-М. Батай, смерть и жертвоприношение 94
Зенкин С. Н. Конструирование пустоты: миф об Ацефале 118
Пази К. Гетерология и Ацефал: от фантазма к мифу 132
Олье Д. Розовое и черное (могила Батая) 150
Фокин С. Л. Жорж Батай и Колетт Пеньо 182
Стейпмец Ж.-Л. Батай и культ Митры: к Истории глаза 195
Марманд Ф. Исчезновение, или Мгновение письма 211
Фурни Ж.-Ф. Невозможное сообщение: Жорж Батай и Жан Поль Сартр. 223
Сишер Б. Ницше Жоржа Батая 235
Дорофеев Д. Ю. Хронология жизни на пределе Жоржа Батая 252
Приложение: Тексты Жоржа Батая 259
Священное 261
Солнечный анус 265
Жертвоприношения 270
Этот мир, где мы умираем 277
Сюрреализм и его отличие от экзистенциализма 286
Научное издание
ПРЕДЕЛЬНЫЙ БАТАЙ
Сборник статей
Ответственный редактор Д. Ю. Дорофеев
Директор Издательства СПбГУ
проф. Р. В. Светлов
Главный редактор Т. Н. Пескова
Редактор А. Л. Бауман
Обложка художника Е. А. Соловьевой
Корректор Н. В. Ермолаева
Верстка Е. М. Воронковой
Лицензия ИД №05679 от 24.08.2001
Подписано в печать 19.04.2006. Формат 60x90 Vie-
Бумага офсетная. Печать офсетная. Уел. печ. л. 18,75.
Тираж 1000 экз. Заказ №178
Издательство СПбГУ.
199004, С.-Петербург, В.О., 6-я линия, 11/21
Тел. (812) 328-96-17; факс (812) 328-44-22
E-mail: editor@unipress.ru
www.unipress.ru
По вопросам реализации обращаться по адресу:
С.-Петербург, 6-я линия В. О., д. 11/21, к. 21
Телефоны: 328-77-63, 325-31-76
E-mail: post@unipress.ru
Типография Издательства СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41
Издательство С.-Петербургского университета
предлагает учебники, учебные пособия, научную
и научно-популярную литературу по
истории,
экономике,
психологии,
философии,
филологии,
языкознанию,
естественным и точным наукам
студентам, преподавателям, научным сотрудникам, а
также учителям, школьникам — всем, кому интересен
мир книги.
Книги можно приобрести в магазинах Издательства,
а также через отдел реализации:
199034, С.-Петербург, 6-я линия В. О., д. 11/21, к. 21
Телефоны: 328-77-63, 325-31-76
E-mail: post@unipress.ru