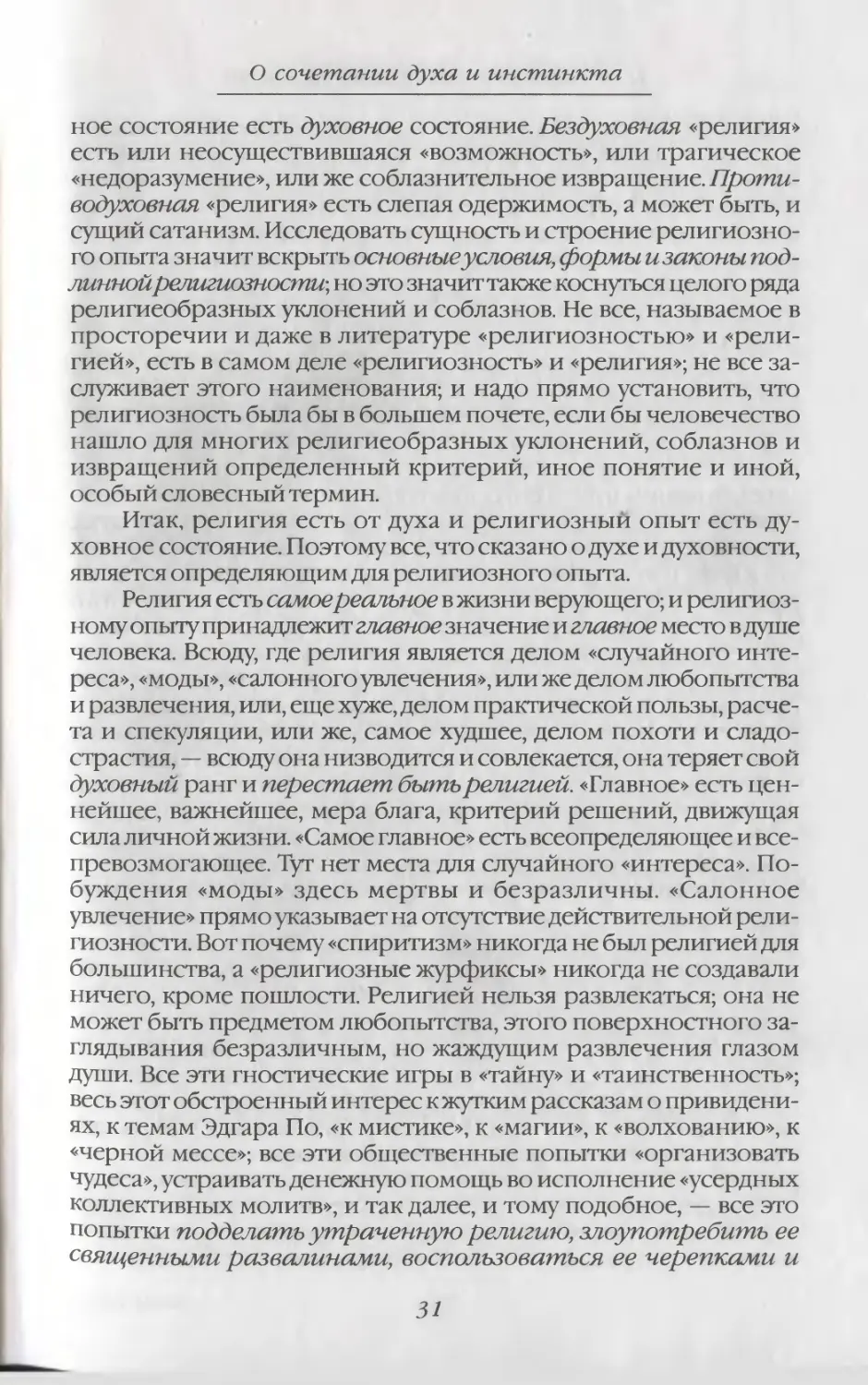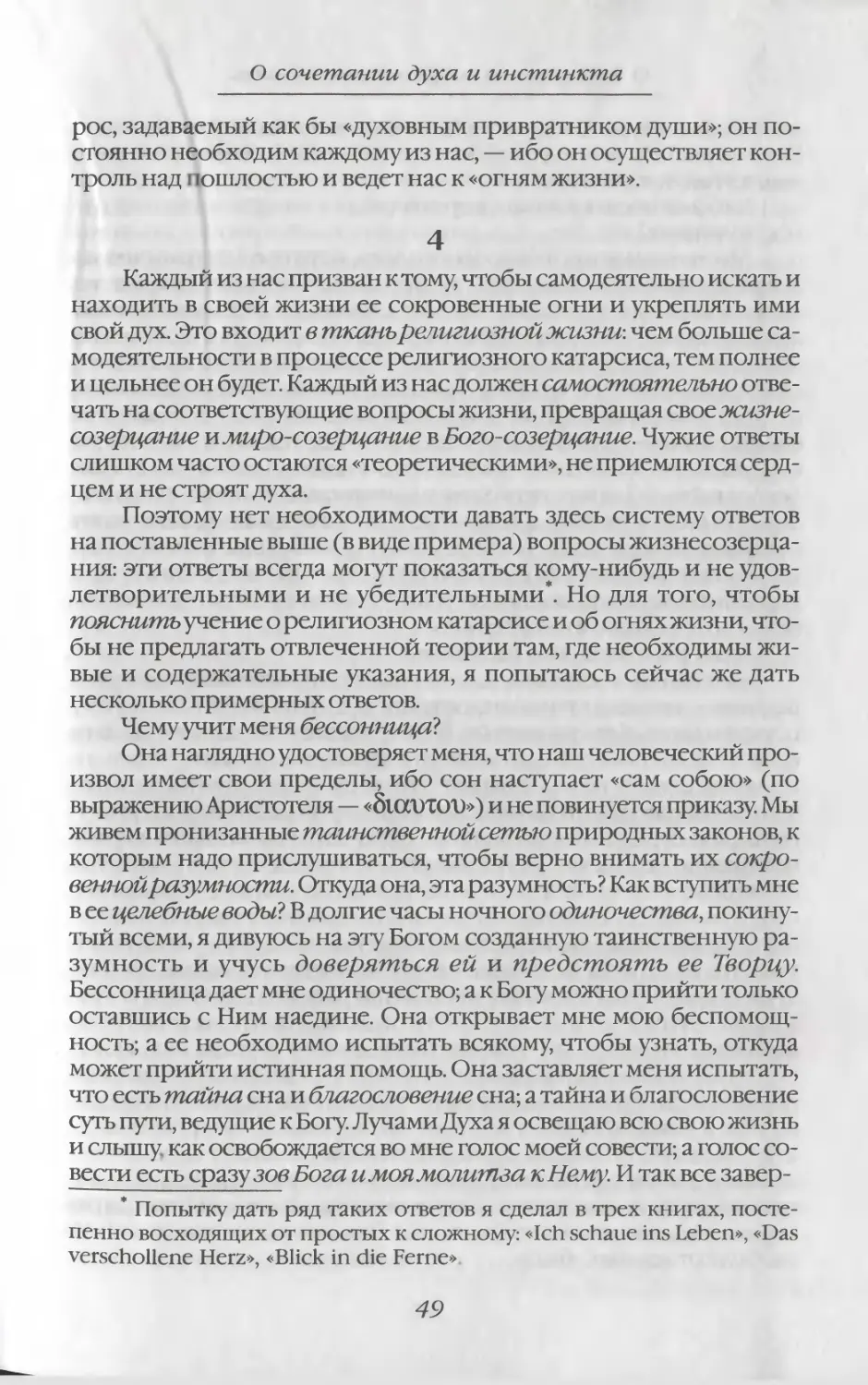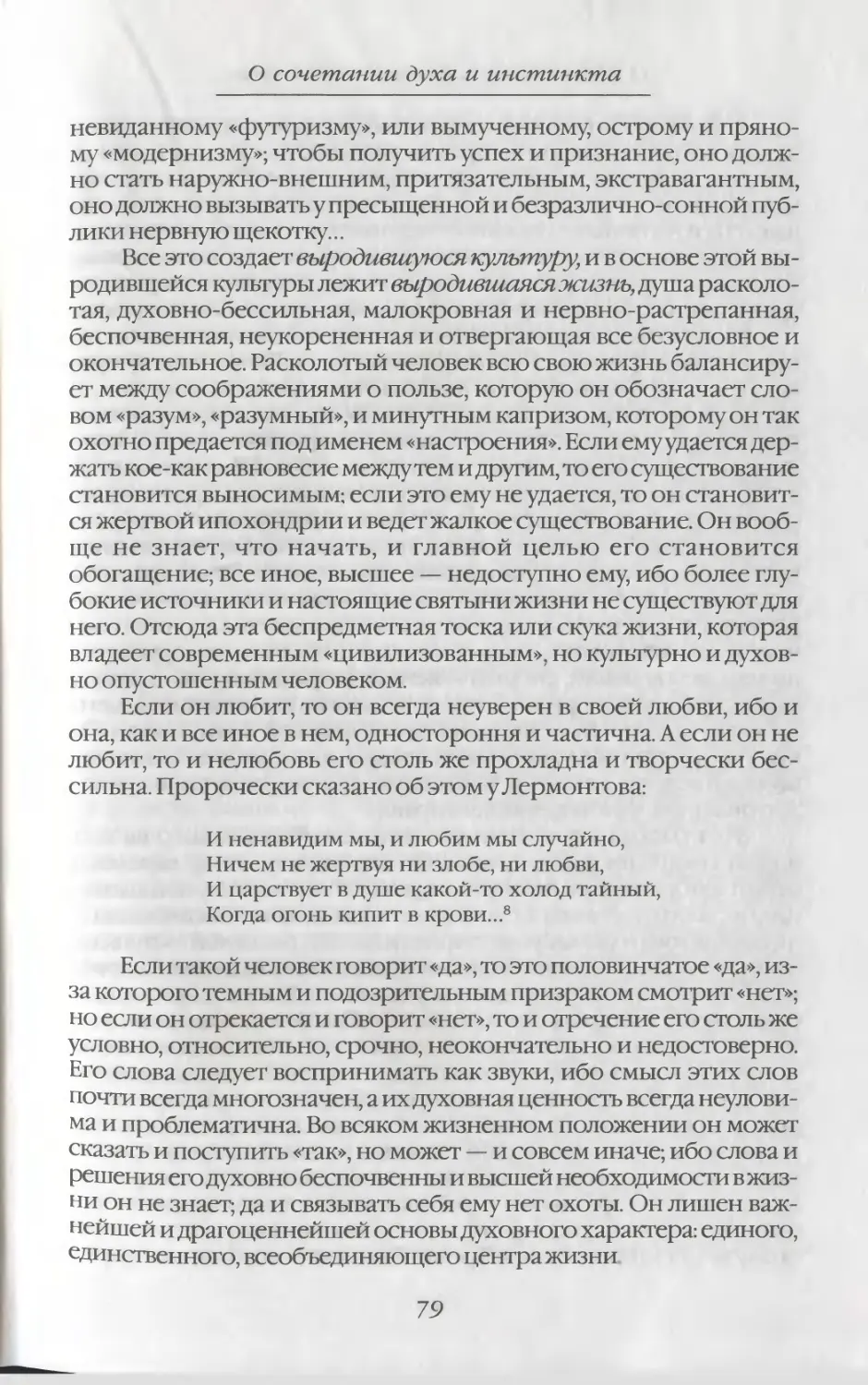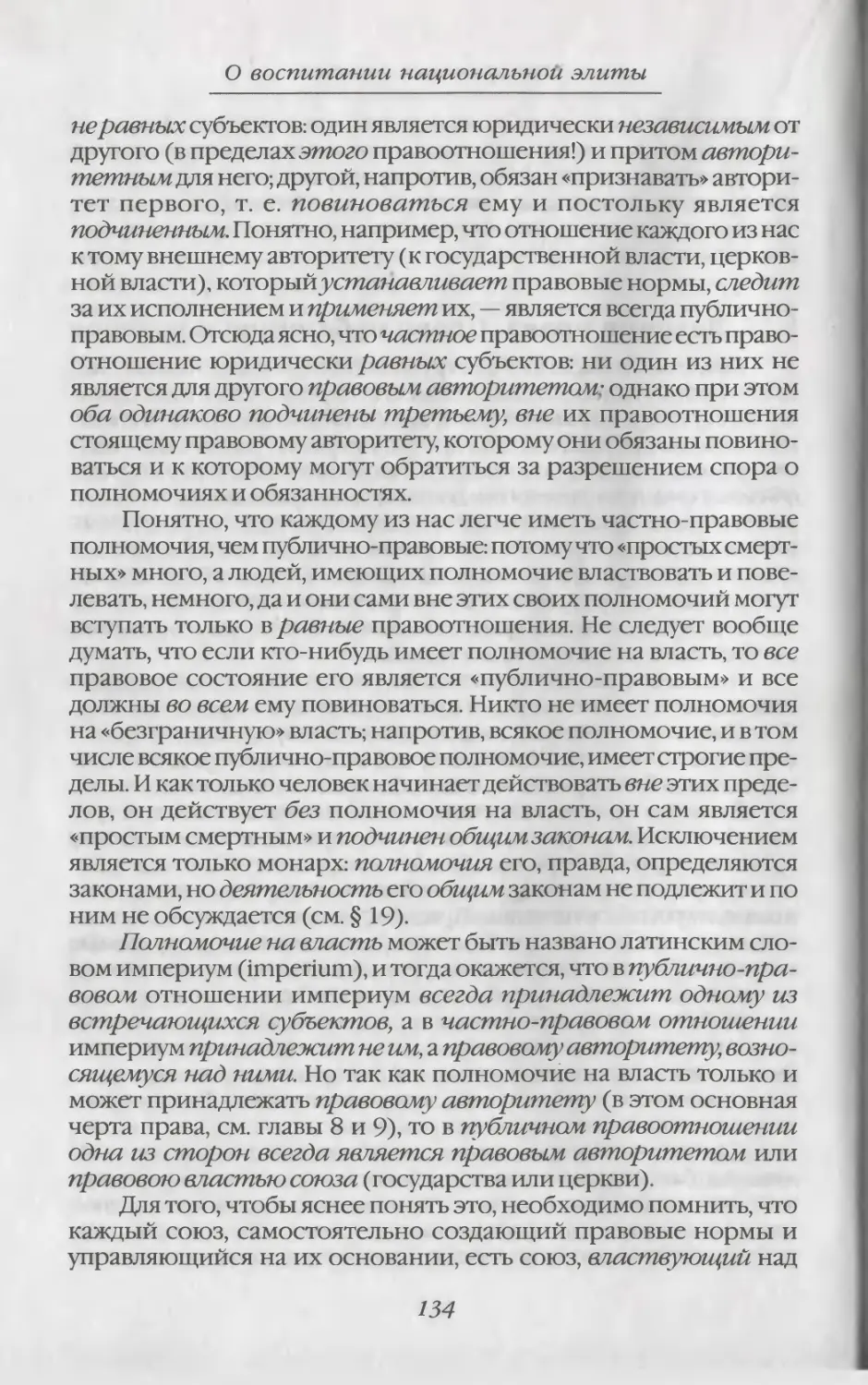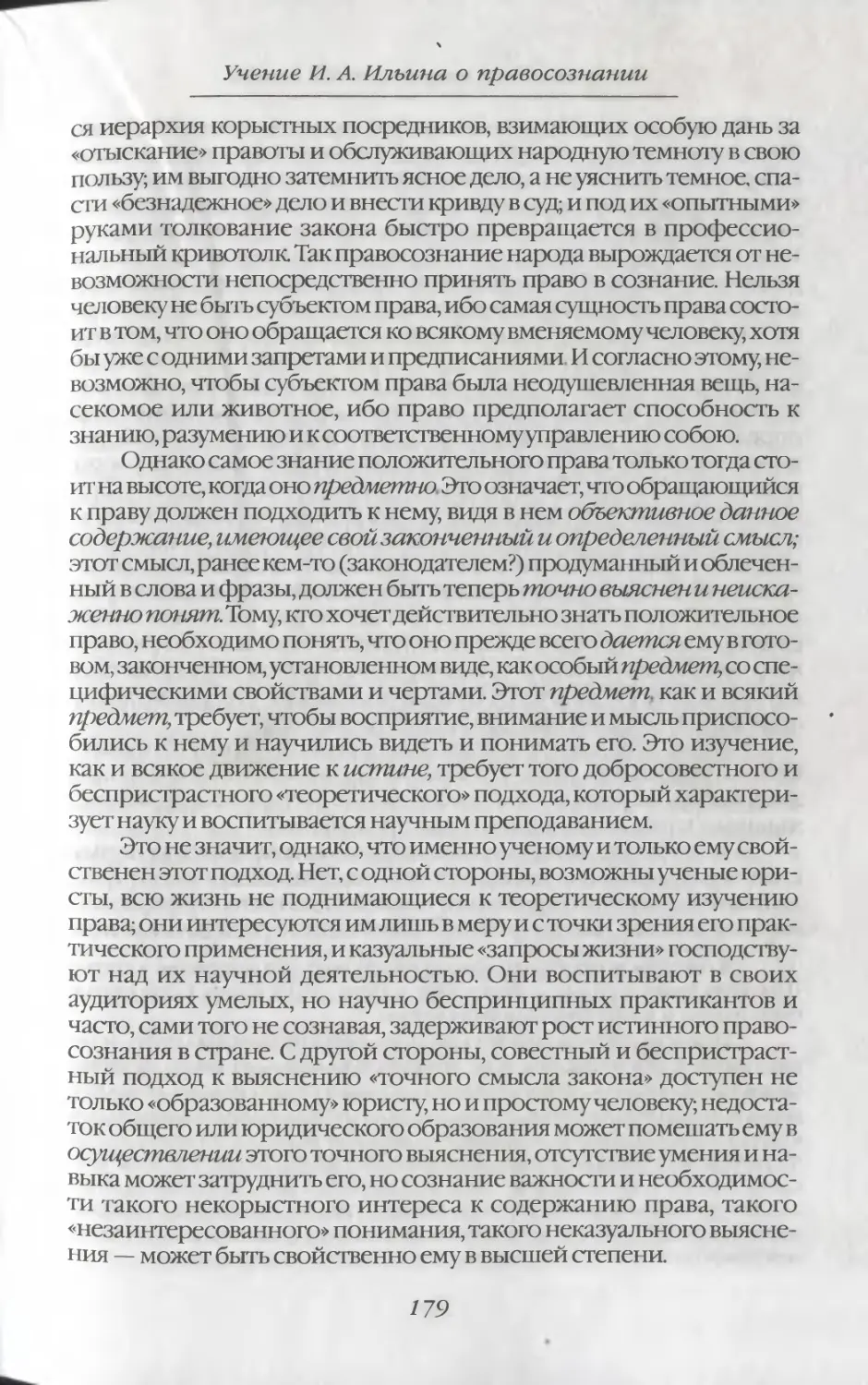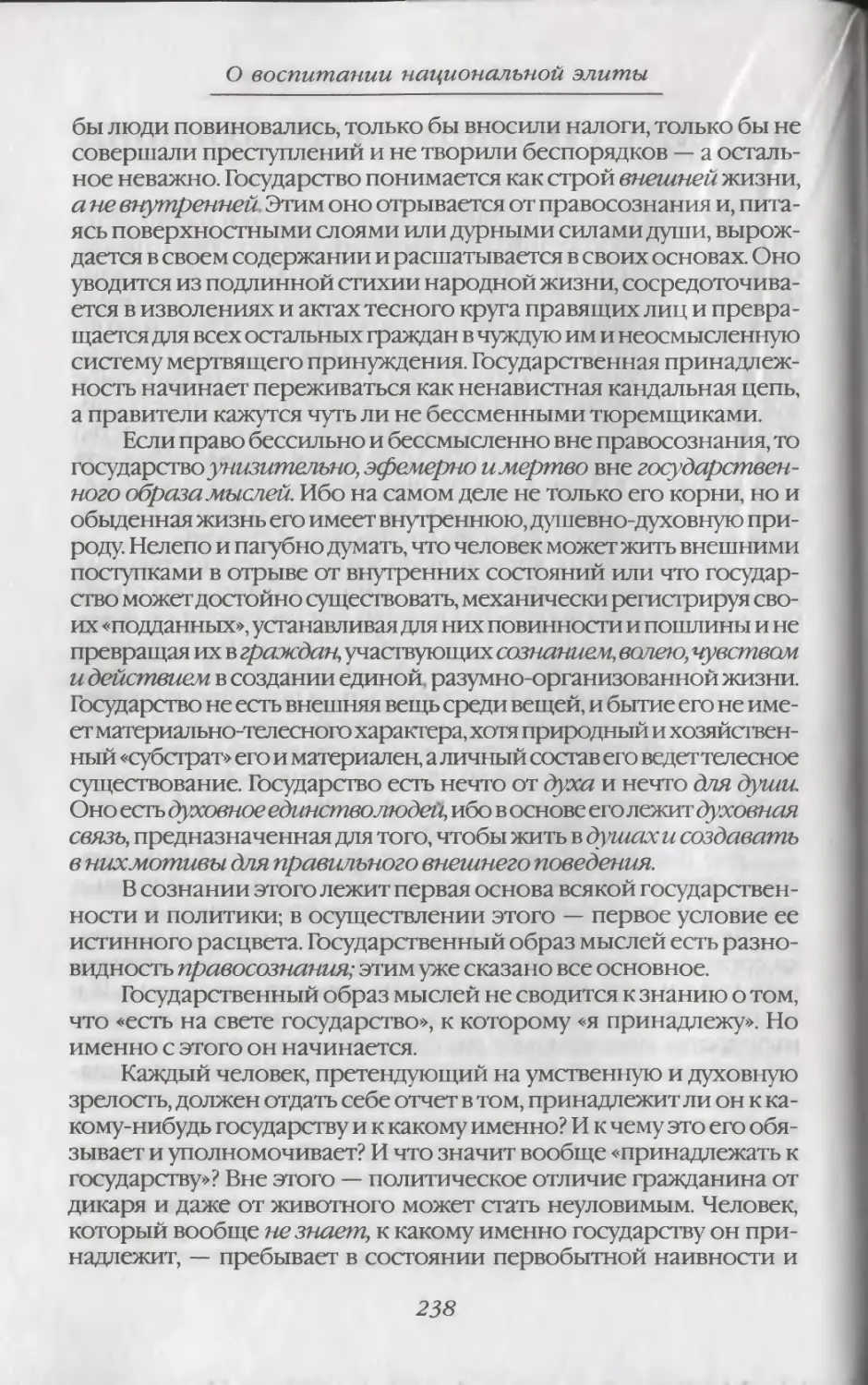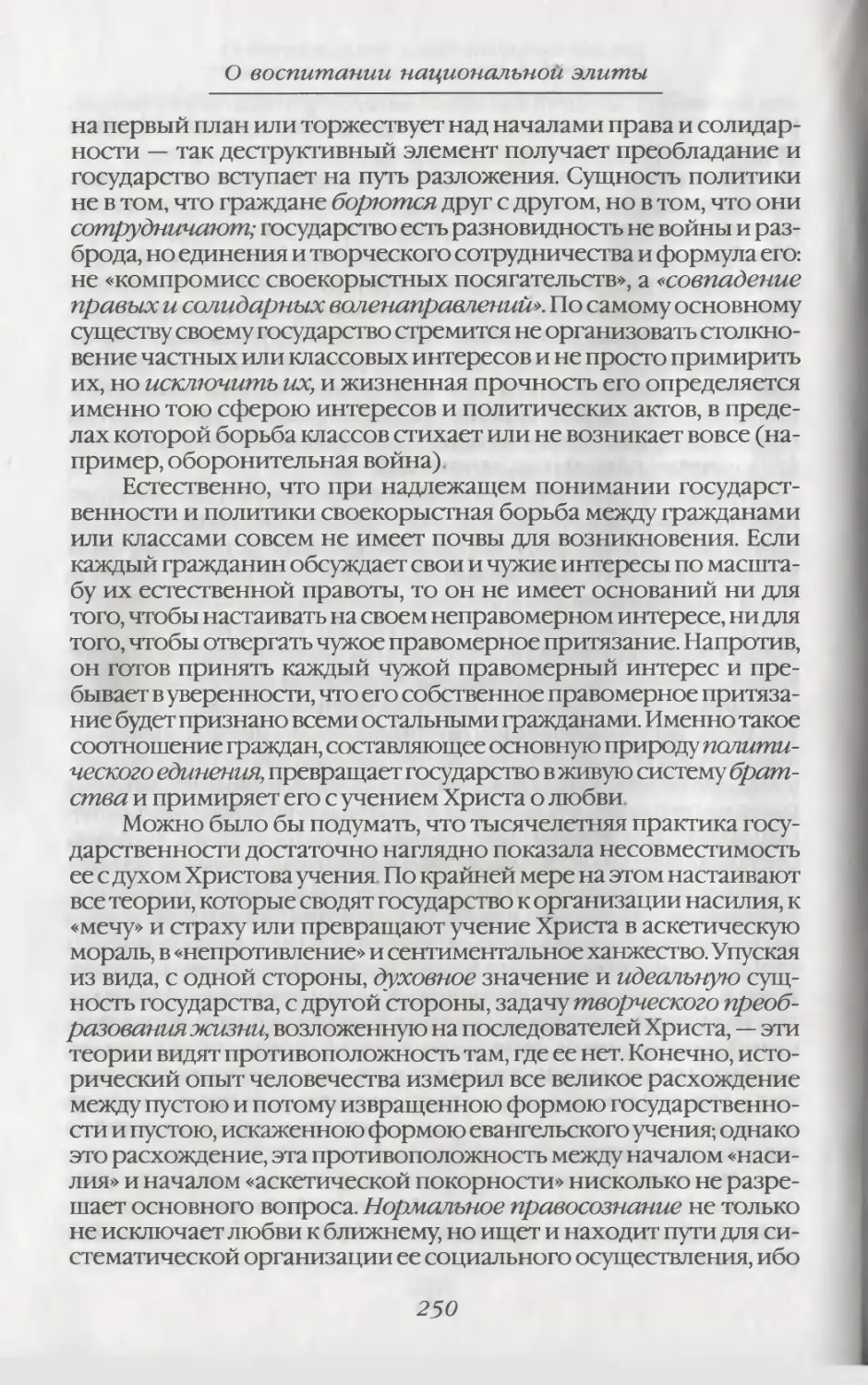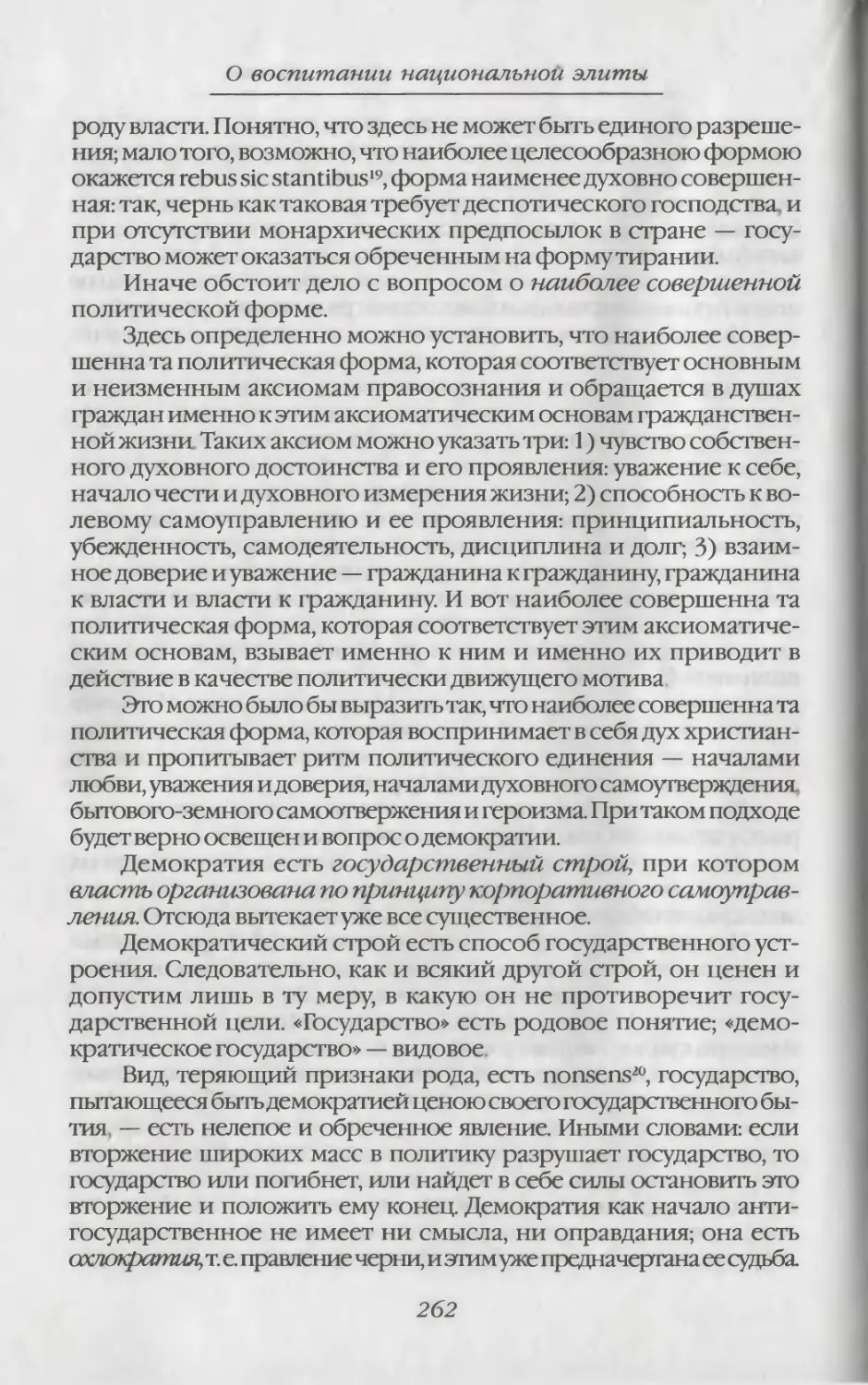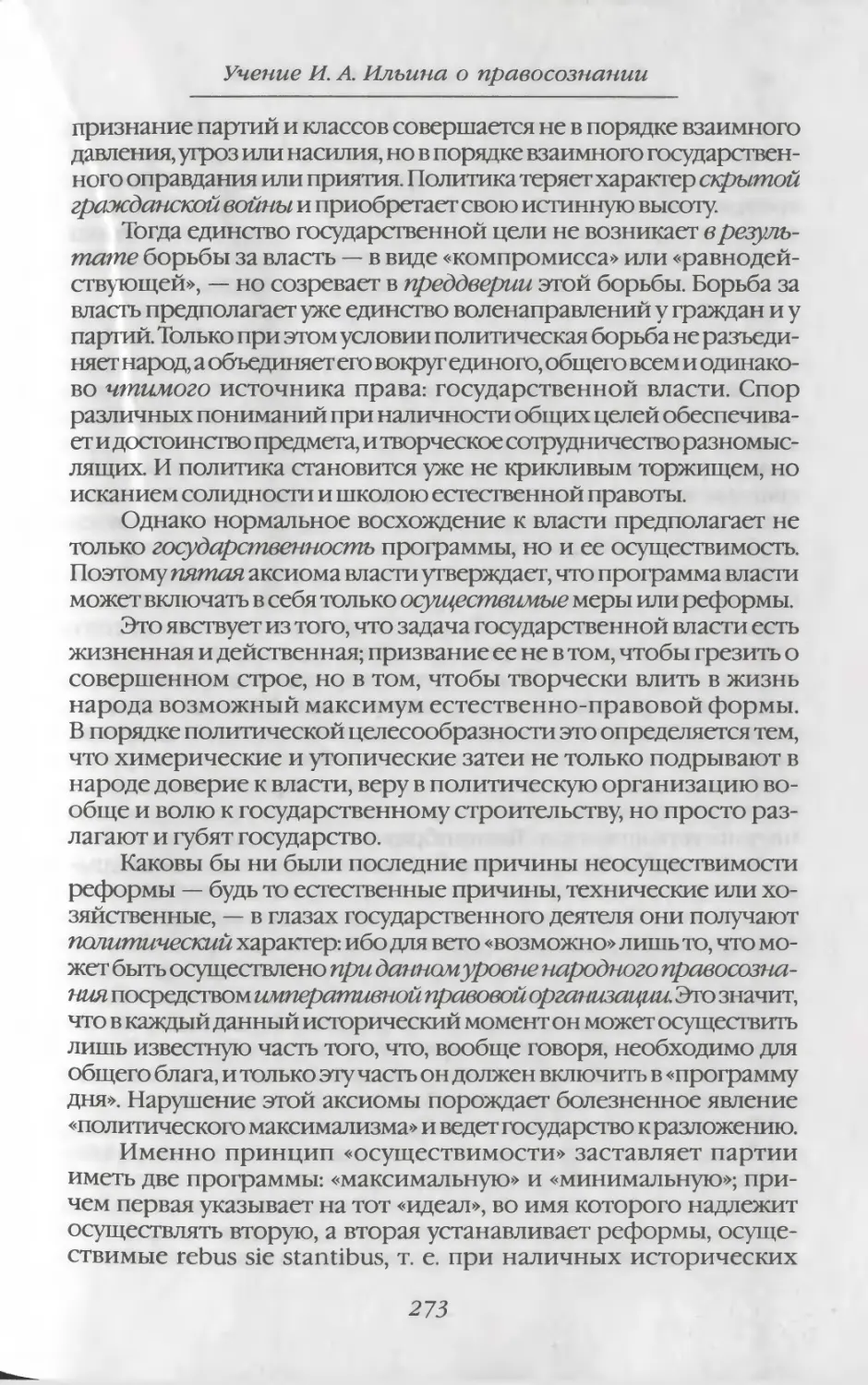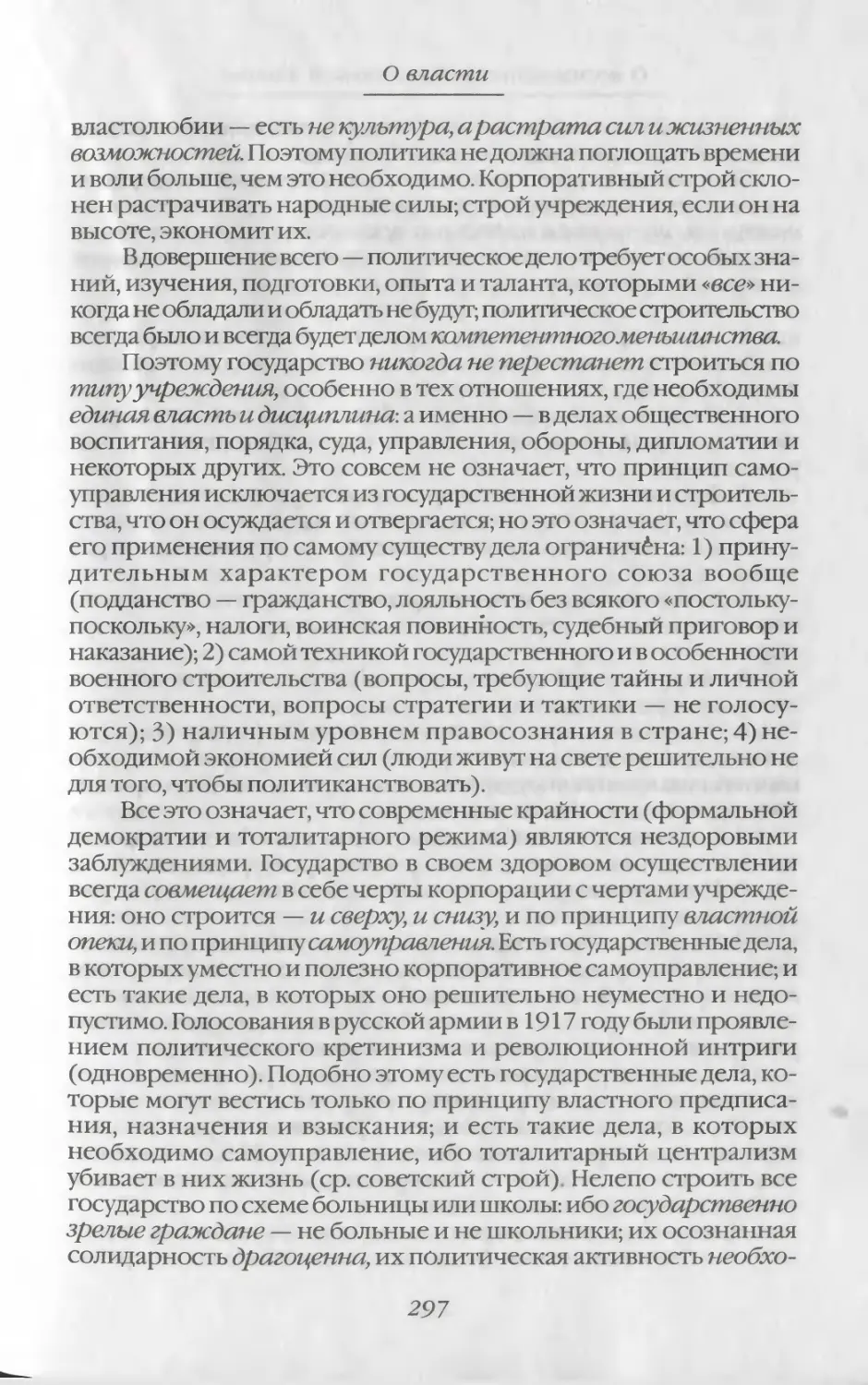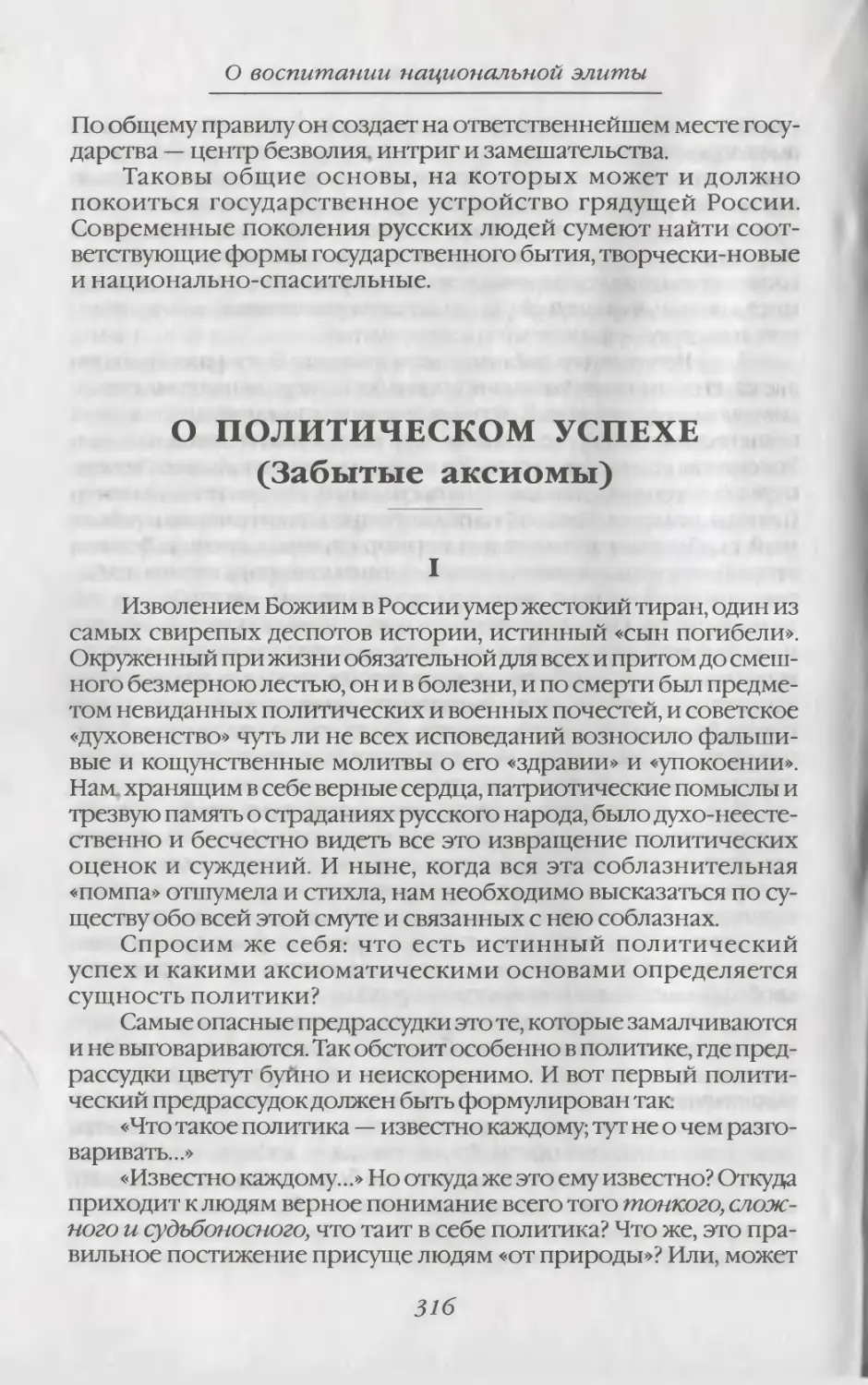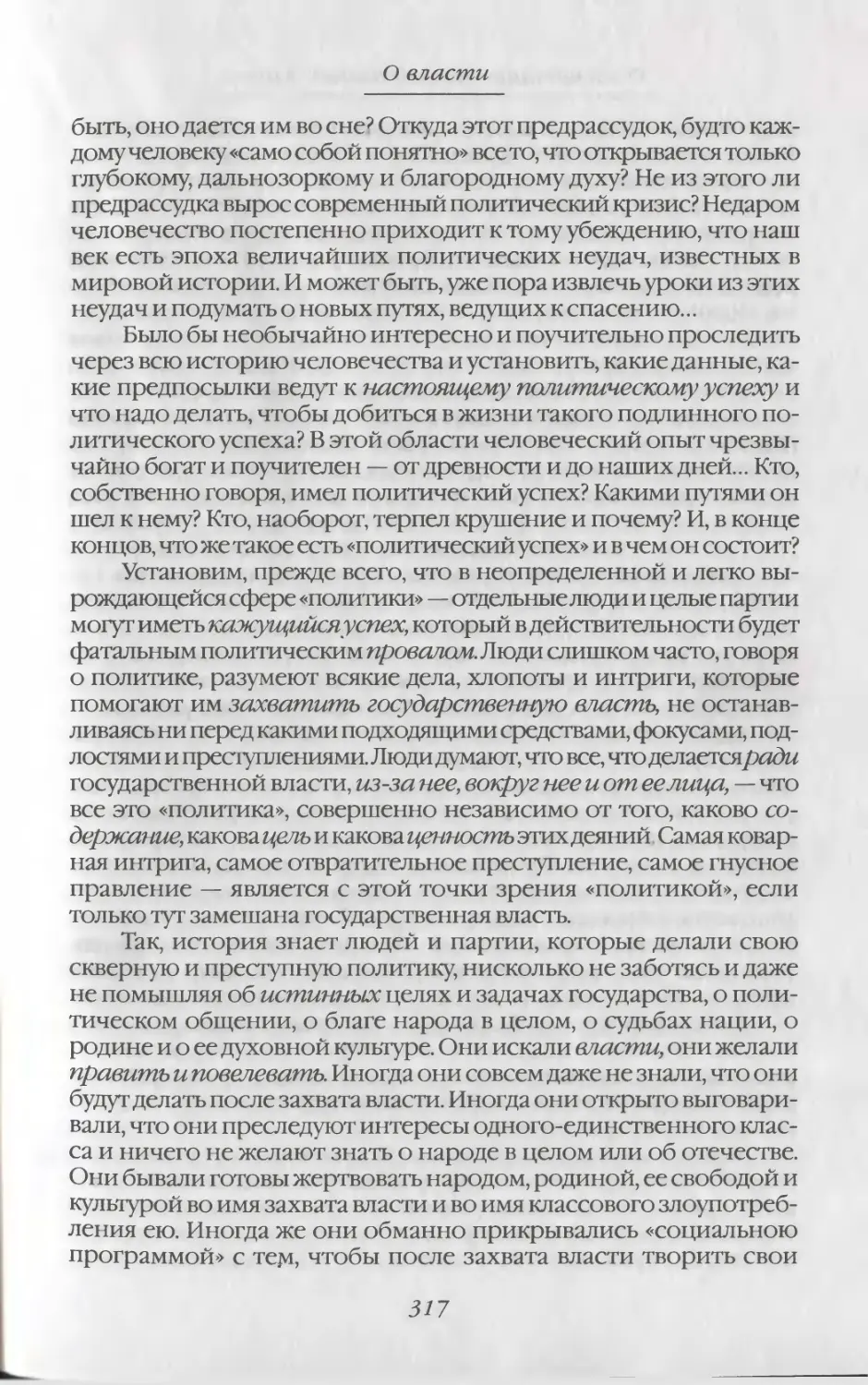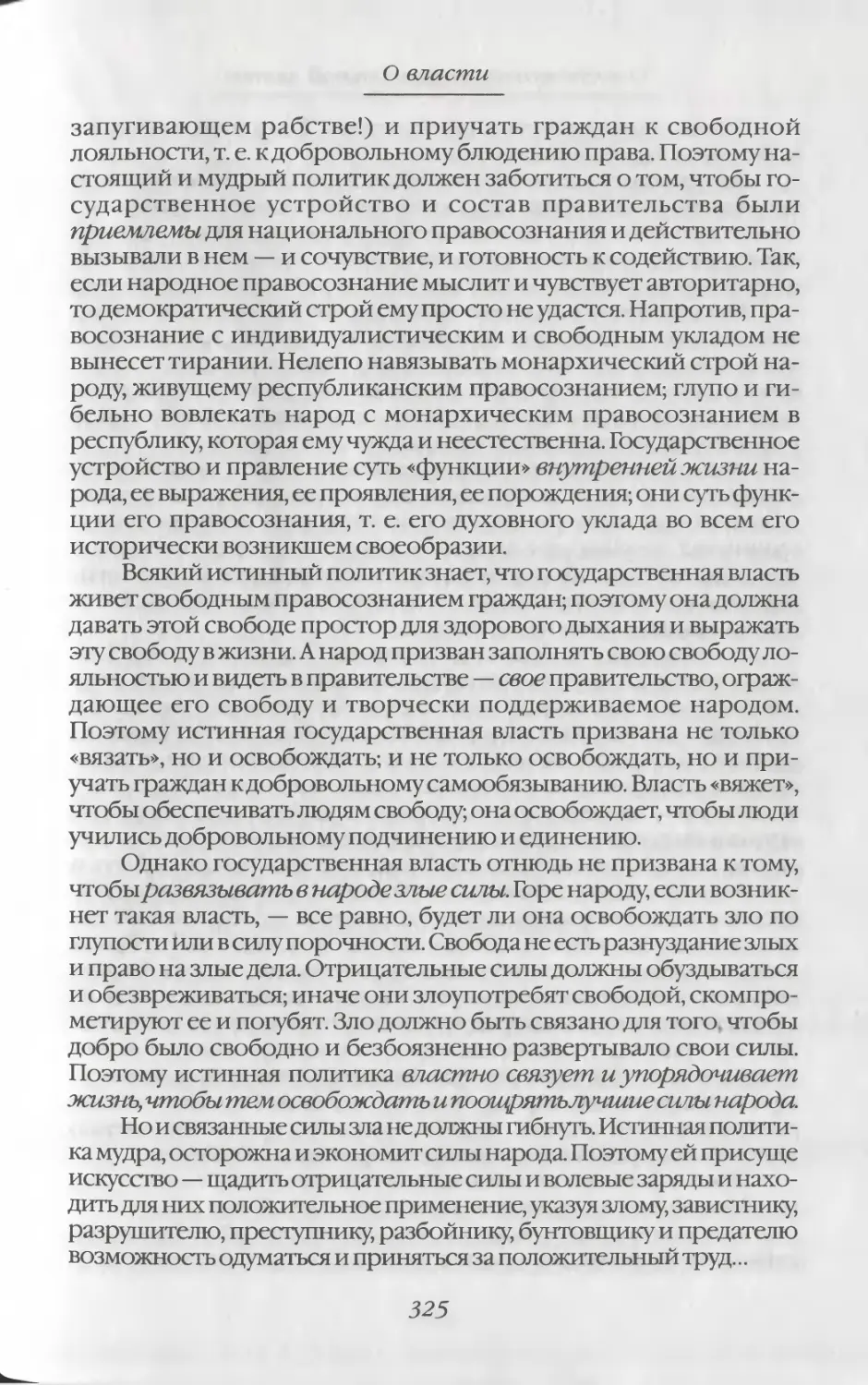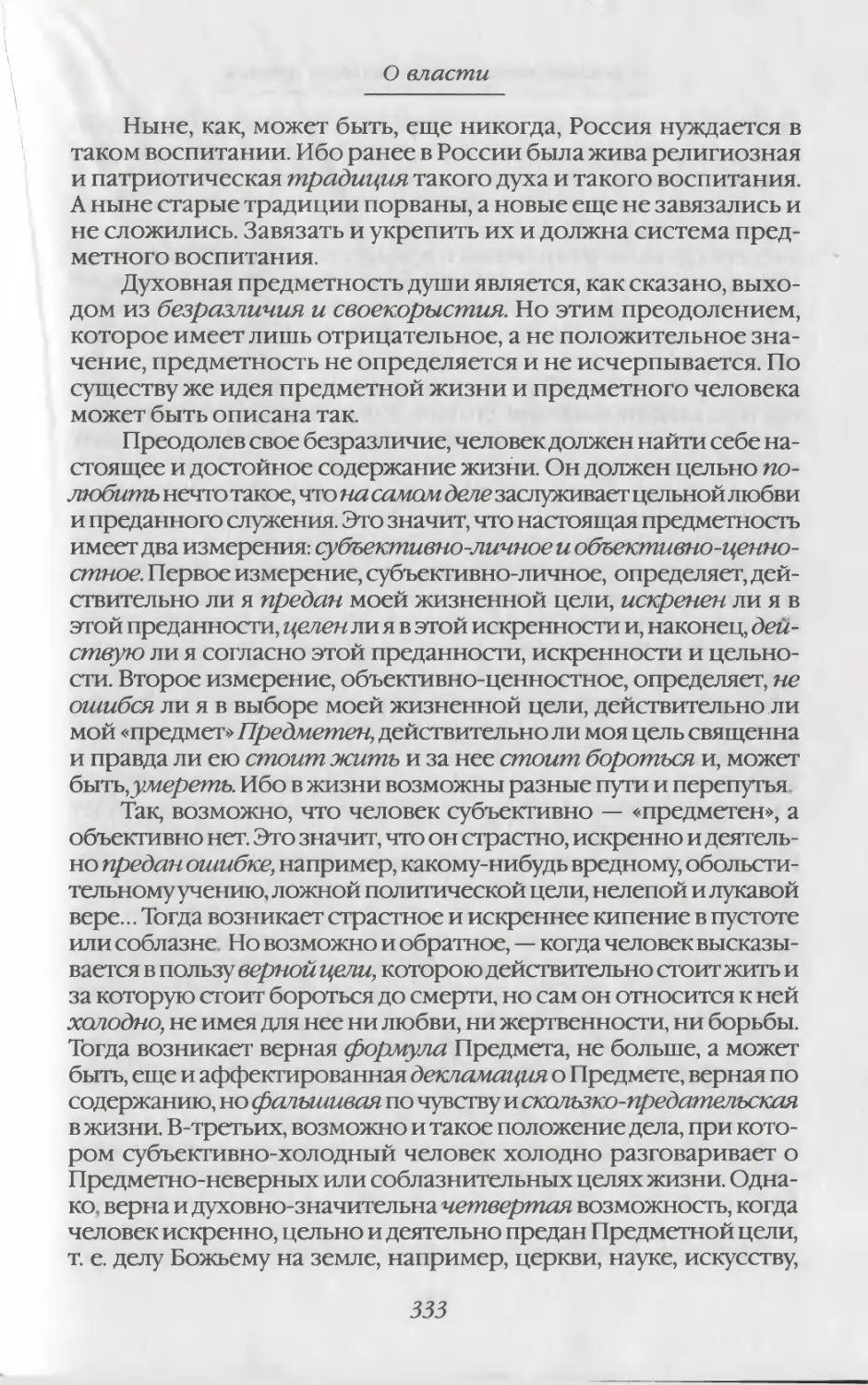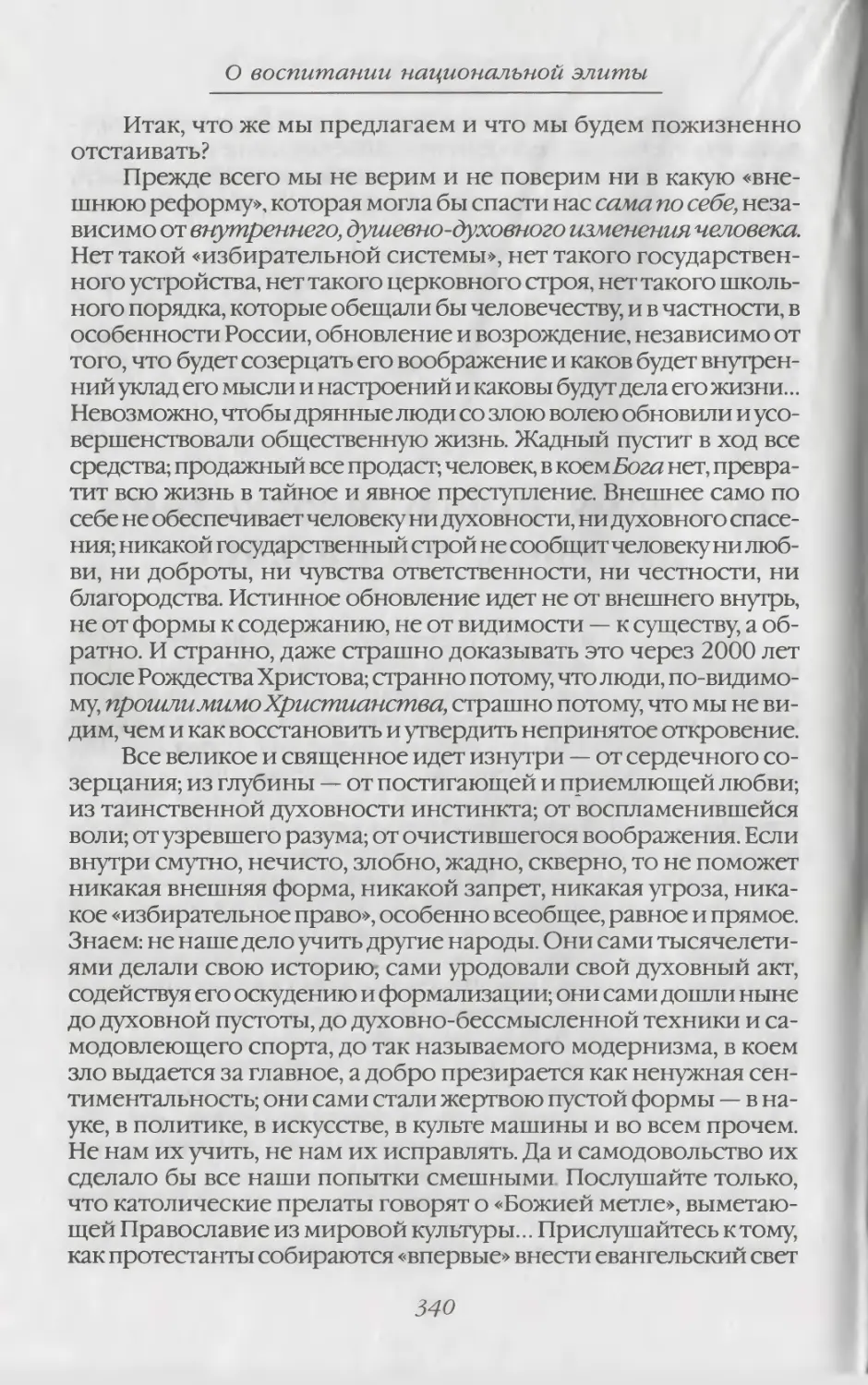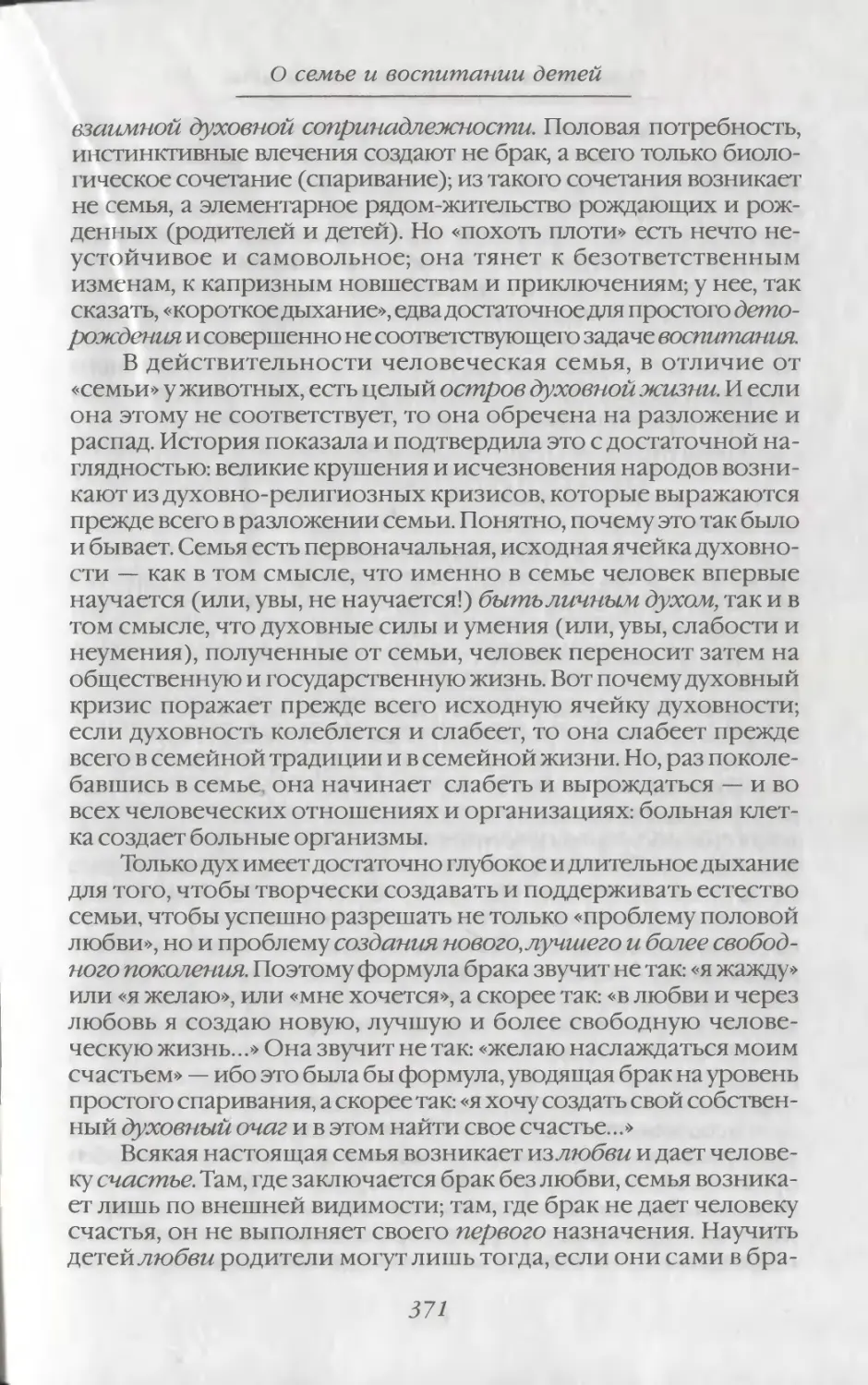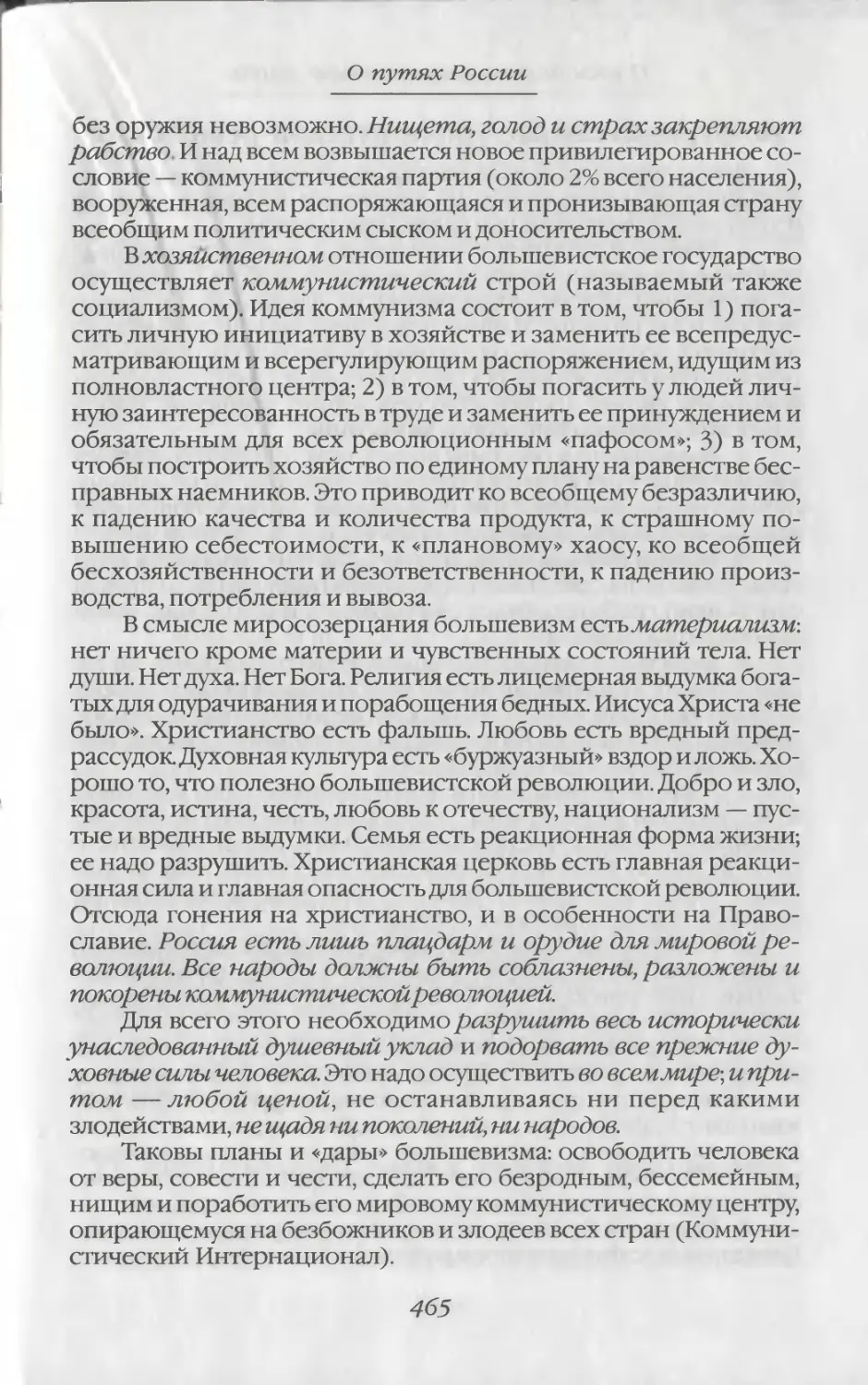Автор: Ильин И.А.
Теги: основные элементы и подсистемы общества социология история россии
ISBN: 5-8455-0033-8
Год: 2001
Текст
•м<1-
Россия может быть сильна и свободна только тогда, когда духовно и государственно на высоте ее ведущий слой (духовенство, офицерство, чиновничество, интеллигенция). Крушение ведушего слоя означает всегда крушение здоровой государственности и распад страны.
Так всегда было, так всегда и будет.
«Основы борьбы за национальную Россию* ИЛ. Ильин
Не ждать от завоевателя — спасения, от расчленителя — помощи, от религиозного совратителя — сочувствия и понимания, от погубителя — благожелательства и от клеветника — правды.
ИЛ. Ильин
УДК 316.334.42 (081)
ББК 60.54л 44
И 45
Составление, подготовка текстов, вступительная статья и комментарии Ю. Т. Лисицы
Художественное оформление серии С. Ю. 1\бина
Иван Александрович Ильин. О воспитании нацио-И 45 нальной элиты / Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. Т. Лисицы. — М.: Жизнь и мысль, 2001. — 512 с. (Библиотека МШУ).
ISBN 5-8455-0033-8
В настоящую книгу собраны работы выдающегося русского мыслителя И. А. Ильина (1883 1954), касающиеся одной из насущнейших проблем нашей страны: воспитания ведущего национального слоя России. Книга представляет собою хрестоматийный справочник по вопросам устройства России, предназначенный как для подрастающего поколения, так и для его наставников, как для простого читателя-гражданина, так и для национальной элиты, вплоть до президента и законодателей государства.
УДК 316.334. 42 (081)
ББК 60.54л 44
ISBN 5-8455-0033-8
© Лисица Ю. Т. Сост., вступ. ст. и коммент., 2001
© Губин С. Ю. Худ. оформление, 2001.
© «Жизнь и мысль» 2001
КОНСЕРВАТИВНАЯ МЫСЛЬ ИВАНА ИЛЬИНА
Мы живем в эпоху заката социализма и либерализма. Этому предшествовало несколько столетий их триумфального шествия в европейской истории нового времени. Объединившись сначала в своей борьбе с традиционным и установившимся укладом жизни (консерватизмом), либерализм и социализм, опираясь преимущественно напросве-щение и материализм, сокрушили главные атрибуты консерватизма —монархию, дворянско-помещичий класс и церковь. Окончательно утвердившись в начале XX столетия, они вытеснили консерватизм изреального исторического процесса.
Несомненный успех, им сопутствовавший, — научно-технический прогресс — делал их, казалось, незыблемыми Но в силу своей неверной природы, «успехи» этих движений, в конечном своем результате, оказались сомнительными. Мир, ведомый западным социализмом-либерализмом и восточным коммунизмом и национально-освободительным движением, оказался в глубочайшем кризисе.
Либерализм — в самом широком смысле: политический, экономический, философский, общественный, революционный либерализм (включая анархизм, персонализм, индивидуализм, национально-освободительные движения, эмансипации, феминизм, модернизм, экуменизм, неообновленчество и т.п) — это ложно понятая и ложно практикуемая свобода. Аналогично, социализм — в самом широком смысле — это неверно понятая и неверно решаемая социальная проблематика. В силу этого искажения либерализм «грешит» индивидуализмом, а социализм — коллективиз-м ом, и оба пожинают горькие плоды своего упорства и такой однополости.
Консерватизм —это правильно понятая свобода иправильнопонятаясоциальная проблематика, и еще нечто большее, что напрочь отсутствует в либерализме и социализме и о чем речь пойдет чуть позже. Консерватизм
знает меру и место индивидуализму и ценит его, но в равной степени знает меру и место коллективизму — органическому единству автономной человеческой личности с другими такими же автономиями (в Церкви — это соборность).
Это первоначальные, грубые, определительные (но поэтому центральные) отличия консерватизма от либерализма и социализма Различия их как политических, экономических и идеологических течений в общественнопроизводственной сфере, в познавательно-мыслительном опыте, в предпочтениях и жизненной установке также разительны.
Если в качестве производительного (и вообще полит-экономического фактора) либерализм основывается на ка -пит ал е ,а социализм на т ру д е, то сторонники «третьего пути» или «третьего начала» — консерватизма —упирают на фактор з емл и (см.: Владимир Видеманн, «Россия и консервативная революция» / Императив, №3,1997, с. 8'). Консерватизм как политическое, мировоззренческое и идеологическое движение и вместе с ним общественно-производственный фактор земли, как было замечено выше, были вытеснены в течение первой половины XX столетия с исторической сцены радикализировавшимисялиберализмом и социализмом. Обращение в настоящее время к консерватизму и интерес к нему и всему с ним связанному обусловливается глубокими провалами современного либерализма и социализма, усугубившими мировой кризис и не способными даже в теоретическом плане предложить разумный выход из сложившейся ситуации Выделенный здесь в качестве особенности консерватизма земельный фактор особенно актуален, так как он действительно является насущным в связи с принятием Думой Земельного кодекса. И спасение России придет, когда человек начн'етработать на земле, на земле своего Отечества и благодаря физическому труду (конечно, и всякому другому труду, но, главное, осмысленн ому тру ду) установит с ней неразрывную связь. То же относится и к любому другому народу, к любой другой стране. Ясно одно, что решение такого серьезного з ем ельного вопроса, который может в корне изменить (и изменит) всю нашу жизнь и весь наш уклад (вспомним земельные реформы братьев Тиберия и Гая Гракхов в Древнем Риме), нельзя доверять современным.либеральным и социалистическим политическим элитам ввиду их некорректности и некомпетентности в этом вопросе: землю нельзя н е продавать в угоду к ом му ни ст ам, так как в противном
случае она, как и на протяжении последних 80 лет, будет не-ухоженной;ноземлюнельзя ипродавать вугодулибералам, так как в этом случае она будет пущена не по назначению, станет не производительным, а оборотным, финансовым капиталом,и опять-таки останется невозделанной. Решение этого первостепенного земельного вопроса можно поручить только консервативным политическим силам страны.
Между тем надо признать, что широкого консервативного слоя в настоящее время в России (дайне только в ней) нет и эту консервативную элиту — элиту класса национального свободного землевладельца, по мнению того же В. Видеманна, надо заново создавать. Класс землевладельцев и земледельцев, который действительно знал толк в земле, был благополучно уничтожен (не говоря уже о дворянско-помещичьем классе), а во всех учебниках по истории КПСС с какой-то безумной гордостью провозглашалось, что «в СССР было ликвидировано 5 миллионов кулаков, и кулачество было уничтожено как класс».
Отсутствие серьезного, основательного консервативного представительства во всех сферах политической и общественной жизни налицо. Если учесть, что история всего человечества преимущественно базировалась на естественных (по природе своей правильных) консервативных началах, то воспитание и взращивание такой консервативной элиты является актуальнейшей задачей в нашей стране. Как всегда, когда созревает идея, то она возникает сразу в разных местах и разных формах. Мы хотим представить ее в нашей книге консервативной мыслью Ивана Александровича Ильина (1883—1954) — великого национального русского мыслителя, религиозного философа, ученого правоведа-государствоведа, блестящего публициста, критика и педагога, посвятившего всю свою жизнь служению России, духовному возрождению грядущей России.
Исследователям и знатокам консерватизма известно, что консервативная мысль — это глубокая, предельная, исчерпывающая и красивая мысль. Но не только такая. В глубокой и ясной консервативной мысли должен присутствовать и присутствует нравственный компонент (этический момент), в консервативной мысли должен присутствовать и присутствует компонент сердца и чувства (эстетическиймомент), в консервативной мысли должно присутствовать и присутствует религиозное начало — это мысль, соединяющая вечное и временное. —
конкретная (от concrete — срастаться, твердеть, цементировать) мысль.
Таким образом, консервативная мысль — это правильная, нравственная, красивая, созерцательно-ясная, сердечная мысль, — это качественная мысль. Вот такого рода качественная мысль присуща Ивану Александровичу Ильину. И поэтому мы обращаем свои взоры, анализируя проблему воспитания национальной элиты к его трудам и мыслям, к его жизненному опыту и смыслу его жизни — грядущей России.
Творчество И. А. Ильина огромно Оно насчитывает несколько десятков книг, около тысячи статей, выступлений, лекций, огромное количество интереснейших писем, заметок и подготовительных материалов, ценных воспоминаний и значительное число архивных документов, включая судебные и следственные дела ВЧК—ОПТУ—КГБ, запросы гестапо и закрытые архивы ЦРУ. Все это, по счастью, сохранилось и невероятным образом публикуется в современной России (в СССР до 1988года не было опубликовано ничего из Ильина). В издательстве «Русская книга» выходит многотомное собрание сочинений ИА. Ильина, которое может насчитывать более 55 томов (в настоящее время в свет вышли уже 20 томов). Понятно, что в одну книгу немыслимо вместить все. что есть у Ильина по данной теме, поэтому мы ограничились только правовыми и педагогическими сторонами дела. К счастью, мировоззрение Ильина столь органично и цельно, что даже в отдельных своих частях оно сохраняет свою полноту, и без ущерба можно сказать, что изучив или познакомившись с какой-либо из них, приобщаешься ко всему Ильину.
Теперь изложим нашу мотивацию выбора тех или иных извлечений из Ильина по интересующей нас проблеме.
Слово «элита», какхорошо известно, происходит от французского слова elite —лучшее, избранное. Употребляя его, говорят о лучших людях, отборных войсках, редком человеке, избранной, исключительной натуре. Говорят о лучших, отборных растениях или животных, полученных в результате селекции и предназначаемых для дальнейшего размножения.
Несомненно значение такого отбора и селекции и в человеческой среде, в обществе, в государстве. «Цивилизации создавались и оберегались, — пишет Гюстав Лебон, — маленькой горстью интеллектуальной аристократии, никогда — толпой» (см.:Лебон Гюстав.Психологиянаро-довимасс. — Санкт-Петербург, 1995- — С. 152—155)
Ясно, что элита не появляется сама собой, для создания ее требуется время, особый труд в ожидании плода (результата). Образно и проникновенно назвал крупнейший современный математик Александр Гротендик свои размышления о прошлом — «Урожаи и посевы», где коснулся вопроса нравственного уровня и статуса мировой математической элиты. Проблема элиты высвечена им как изнутри, так и снаружи на примере «математического мира», которому он вначале «приписывал несуществующие свойства», считая эту умственную элиту соответствующей своему положению. По каким-то неписаным законам в этой элитной среде царили «страх» и «презрение». «Я и не подозревал о существовании этого страха, который уже вовсю свирепствовал внутри математического мира (да и в других научных кругах), вплоть до своего «пробуждения» <...> Речи, которые я услышал тогда, свидетельствовали не только о страхе. Из них я узнал о презрении. Прежде всего, о презрении «высокопоставленных» математиков по отношению к простым смертным, о презрении, вызывавшем и поощрявшем страх. <... > Сегодня я бы вот как сформулировал этотурок: «Ученые, от самых выдающихся до никому не известных—такие же люди, как и все. Я-то воображал, будто «мы» — особая порода; мне хотелось думать, что мы лучше, выше, благороднее» (см.: Г р о т е н д ик А. Урожаи и посевы. — Ижевск, 1999- — С. 117—118). Это наблюдение Гротендика очень важно как наблюдение человека, принадлежащего к элите, но осознавшего ее нравственную порчу. Это свидетельство было не просто умозрением, но и волевым действием — Гротендик в возрасте 42 лет, на пике своей мировой математической славы, сознательно порвал с «математическим миром», оставил это элитное сообщество. Его «пробуждение» важно, хотя и не ново. Действительно, отбор лучших на деле может оказаться отбором худших (как тирания, олигархия и демократия, по Аристотелю, извращают истинную царскую, аристократическую и политическую власть). Пустить этот процесс «на самотек» означает приход вверх «своих», из своей среды выросших наследников (или комсомольцев, или КВНщиков, или гэбэш-ников и т. п). Смешно учить или образовывать такую «элиту» в истинном направлении, «хорошо знающую и хорошо владеющую» законами и технологиями власти и «грамотно укрепляющую свою власть». Проблема заключается только в одном: «успех» такой власти и элиты красноречив, она из десятилетия в десятилетие повторяет свои же одно
типные ошибки — у нее нет подлинной и истинной установки. она не знает природы власти, ее цели и смысла А должно быть соответствие между природой и назначением элиты, и прежде всего, в свете христианской истины — образ Божий в человеке должен соответствовать подобию Божьему Вот чего нет в нашей теперешней демократической и либеральной элите, как и в прошлой коммунистической
Стремление человека к лучшему — это факт творения Господня. Поэтому под воспитанием национальной элиты мы понимаем здесь не только взращивание высших, ведущих слоев общества, но и самого простого народа, среднего класса, интеллигенции, духовенства, в самых повседневных их проявлениях. Чтобы не сбылись грустные слова Александра Гротендика: «И еще я знаю, что всякий урожай влечет за собой новые посевы. Их плоды могут оказаться горше прежнего. Иногда при мысли о том, что этой цепи безумных посевов и урожаев (так неизбежно горьких/) конца нет и не предвидится, у меня невольно сжимается сердце» (Там же. — С. 133).
Мы здесь ставим вопрос о воспитании национальной элиты совершенно по-другому, чем нам предлагает существующая «практика». Воспитывать, взращивать элиту надо нелокально, не кастово или партийно, а — тотально, во всей человеческой среде. Лучшие люди в семье, на работе, в корпорациях, армии, церкви, школе, государстве дадут ту питательную среду, из которой вырастет подлинная аристократия, которая будет относиться к остальным не как к толпе, массе, а как к лояльным гражданам или верным подданным, а толпа перестанет быть той неблагодарной массой, способной только быть ведомой своими вожаками, но усмирит свои темные инстинкты. Направление этого воспитания совпадает с частной задачей Петра Аркадьевича Столыпина, который, по словам И. А. Ильина, считал «ложными и вредными затеи левых — обездворянить Россию; напротив, он, скорее, считал необходимым одворянить все крестьянство». Наша задача — облагородить всю современную элиту и сделать это возможно только изнутри, из религиозного чувства, из сердечного созерцания, из доброй (а незлой) воли.
И. А. Ильин не чурался слов «элита», «аристократия», но предпочитал употреблять русские слова «лучший», «лучшие люди», «отбор лучших». Он был уверен, что после «падения большевиков и их коммунистического правления» Россию спасет «ведущий национальный слой», если, конечно, он
Консервативная мысль Ивана Ильина появится в постболъшевистской России. Предсказания Ильина сбылись в своих худших предположениях: пост-большевистскую Россию стали «выводить из коммунизма и тоталитаризма» те же бывшие коммунисты (члены ЦК КПСС и Политбюро, номенклатура) и внуки первых интернационалистов-революционеров, этакая смесь либеральных социалистов. Национальный ведущий слой России оказался очень тонким, чтобы заметно влиять на исторические события в своей стране. Потребность в этом слое велика, и этому посвящена работа Ильина «Основная задача грядущей России», которую мы даем здесь в качестве введения и постановки проблемы.
Первым же важным вопросом исследуемой проблемы является мироустановка, т. е. тот мировоззренческий,религиозный, нравственный, эстетический, правовой багаж, с которым выступает на историческую арену то или иное движение. Коммунизм выступил с радикальным материалистическим представлением о мире, человеке, истории. Принцип первичности материи был для него незыблем (основной вопрос философии), правда, непонятности этой «само-движущейся и саморазвивающейся материи» были укреплены вырванным из контекста гегелевской философии «диалектическим принципом» (диалектический материализм — пресловутый «диамат»), который без особого труда был перенесен и на историю (исторический материализм). Вот только эту мистическую силу, двигающую материю, заменила в медленно развивающейся истории «движущая сила» партии «нового типа» — партии большевиков во главе с Политбюро ВКП(б). Именно эта теургическая установка позволила марксистам «не объяснять мир, а переделывать его».
Гипертрофированное представление освободе у либералов, их неограниченное культивирование индивидуальности, творчества, прав человека, эмансипации женщины, свободы «от чего-либо» (отрицательной свободы) породило враждебность не только к монархии, церкви, нации, но и к государству, семье,религии вообще (признание ее только как частного дела). У либералов не только «Бог не властен над свободой» (И. Бердяев), но они, «просвещенные свободой», все свои действия окрашивают явным против об ожием, невзирая на сопротивления самой природы и немилость Бога (Чернобыль, СПИД, коровье бешенство, ящур и т. п). Коммунизм и либерализм в чем-то очень глубоком и изначальном сродни между собой, их вражда в XX веке мнимая (были и
союзы какреакция на «патриотические эксцессы в истории»). Но их подлинный симбиоз интуитивно понимал академик Сахаров, продумывая свою концепцию конвергенции, казалось бы ошибочную (случайную) и ушедшую навсегда после падения коммунизма и мировой социалистической системы. Однако именно сейчас его теория конвергенции возвращается в умы обанкротившейся современноймировой элиты. И, неровен час, эта конвергенция произойдет. Две безбожные силы установят свой мировой глобальный порядок, свою «элиту», свой «золотой миллиард», оставив толпу толпой, изгоев изгоями, третиймир третъиммиром.
Консервативная установка, запрещенная к употреблению на протяжении 50 лет, является собственно христианской — это христианская культура, христианское, православное восприятие миротворения, мироустройства, миропорядка, миросозерцания и православное воление (поступки, воля). Они в основе своей духовны. Представления о духе в период торжества материализма и либерализма несколько оскудели, если не сказать исчезли окончательно. Вот почему разговоры об энергиях, космизме, аурах и пр. намного ближе современному человеку (в большинстве своем язычнику), чем понятие и представление о духе. Для коммунистов, которые любят поговорить о духовности, представление о ней не идет дальше литературы и искусства. И если ученые, препарирующие труп человека, «не обнаруживают там души» (нои «мысли человека хирургу не обнаружить», что же — и мысли нет?) или если космонавты, летавшие в космос и на Луну, не встретили там Бога, — то, значит, «не довелось», по меткому замечанию одной старушки.
Первая часть нашей книги взята из фундаментального труда-исследования И. А. Ильина «Аксиомырелигиозного опыта», где дается не определение, а описание духа, необходимое чтобы иметь предметное представление о том, о чем пойдет речь дальше, без чего другие представления ущербны, искажены и заужены. Небольшие художественные этюды из его триптиха «Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий» (1958), «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний» (1945) и «Взгляд в даль. Книга упований и надежд» (1945) дополняют и детализируют представление о духе и инстинкте, об их сопряжении, дополнительности и неразрывности, об их утрате и искажениях.
Вторая часть — это своеобразный «ликбез» по правовым вопросам. Книга Ильина «Общее учение о праве и государстве» (1915), предназначенная для русских гимна-
Консервативная мысль Ивана Ильшш зий и первых курсов высших учебных заведений того времени, полезна сейчас для самых знающих из высших политических кругов общества. Это та элементарная грамотность, без которой нельзя заполнить графу об образовании — среднем или высшем. Эта часть книги — мечта русской школы: заниматься вещами прост ым и и настоящими.
Третья часть посвящена самому яркому понятию иль-инской философии — «правосознанию». Его «Учение о правосознании», написанное 1919 году в Москве, было издано только после смерти философа под названием «О сущности правосознания» (1956). Об этой книге многие отзывались как о живом слове, «о той духовной атмосфере, в которой нуждается право и государство для своего процветания» (Зиле Р.М., 1956). Книга, вообще говоря, небольшая, всего 250 страниц. Прочитать ее можно быстро; любой правитель, потратив 4—5 дней и прочитав ее, стал бы другим человеком, правителем, вне всякого сомнения лучшим. Но на практике действует совершенно другой закон: книги неудобоваримые, темные, бессмысленные, пустые, которые прочитать можно только сделав над собой чудовищное насилие, имели куда больший успех и влияние («Капитал» Маркса, «Собрания сочинений» Ленина, Сталина, Мао Цзе-дуна и др). Хотя известно замечание Г.Лебона о том, что влияние книг ничтожно,успокаивающее в том смысле, что потребность прочесть книгу должна исходить изнутри, — это должен быть свободный акт, это не должно быть противоволием — главной причиной неудовольствия,раздражения и агрессивной мстительности.
Учение Ильина о власти — важнейший и актуальнейший вопрос — помещено в третью часть книги и взято из «Наших задач» (1948—1954) — бюллетеней Русского Обще-Воинского Союза, идеологом которого он был. В этом учении ставится сложнейшая задача,могущая устранить то искажение власти, с которым сталкивается всякий и которое так ярко подмечено упоминавшимся выше А. Гротендиком: «Думается мне, есть такой общечеловеческий закон — не больше и не меньше: честолюбивые желания, стремления доказать или подчеркнуть свою собственную значительность в этом мире легче и полнее всего утоляются за чужой счет» (Там же. — С. 178).
Остальные части книги посвящены другим серьезным задачам нашего общества: частной собственности (ибо она лежит в основе как власти, так и процветания людей); семье
(которая сейчас то распадается, то намеренно разрушается) и воспитанию, отношению к Родине, патриотизму (который многие в наше современное лихолетье теряют и не обретают), истинному национализму («любви к своему народу, ведущему духовную жизнь») — взятым из основных и дополнительных глав книги Ильина «Путь духовного обновления» (1937,1962). В качестве заключения к этим разделам мы приводим «Послесловие» к книге Ильина «Путь духовного обновления».
Венчает эту книгу знаменитая брошюра И. А. Ильина «Основы борьбы за национальную Россию», которая может стать подлинным манифест ом для ведущего национального слоя России — национальной элиты нашего общества Эту брошюру мы включили в последний раздел наш ей книги «О путях России».
Вычлененное из огромного наследия русского философа учение на предложенную в книге тему, если и не сделает наших правителей, политиков, элиту лучше, а страну — нашу любимую Россию — краше, то, без сомнения, некоторые из ее читателей станут и впрямь мудрее, добрее и лучше. Пусть это будут зерна, павшие на хорошую почву, которые и дадут плоды нашего будущего возрождения.
Ю. Т. Лисица
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ
I
Нам не дано предвидеть грядущего хода событий. Мы не знаем, когда и в каком порядке будет прекращена коммунистическая революция в России. Но мы знаем и понимаем, в чем будет состоять основная задача русского национального спасения и строительства после революции: она будет состоять в выделении кверху лучших людей, — людей, преданных России, национально чувствующих, государственно мыслящих, волевых, идейно-творческих, несущих народу не месть и не распад, а дух освобождения, справедливости и сверхклассового единения. Если отбор этих новых русских людей удастся и совершится быстро, то Россия восстановится и возродится в течение нескольких лет; если же нет, — то Россия перейдет из революционных бедствий в долгий период послереволюционной деморализации, всяческого распада и международной зависимости.
Всякое государство организуется и строится своим ведущим слоем, живым отбором своих правящих сил. Всегда и всюду правит меньшинство: в самой полной и последовательной демократии — большинство не правит, а только выделяет свою «элиту» и дает ей общие, направляющие указания. И вот, судьбы государств определяются качеством ведущего слоя: успехи государства суть его успехи; политические неудачи и беды народа свидетельствуют о его неудовлетворительности или прямо о его несостоятельности, — может быть, о его безволии, безыдейности, близорукости, а может быть, о его порочности и продажности. Такова судьба всех народов: они расплачиваются унижениями и страданиями за недостатки своего ведущего слоя. Однако эти унижения и страдания являются не только тягостными последствиями совершенных ошибок или преступлений; они являются в то же время подготовкою будущего, шкалою для новой элиты; они длятся лишь до тех пор, пока эта новая национальная элита не окрепнет религиозно, нравственно и государственно В этом — смысл исторических провалов, подобных русской коммунистической революции: в страданиях рождается и закаляется новый дух, который в дальнейшем поведет страну.
Это зарождение и закаление нового духа происходит ныне в России вот уже тридцать с лишним лет. Оно совершается негласно, в подспудном молчании. Мы можем быть твердо уверены, что русские сердца не разлюбили Россию и не разучились верить, но научились верно видеть зло и злобу, научились ценить свою историю, научились и еще учатся келейной молитве и зрелым волевымрешениям. Этот процесс начался еще в первые годы революции, и многие из нас участвовали в нем и наблюдали его. Ныне русскому народу, как еще никогда ни одному другому, дана была в историческом опыте злая государственная власть, — дана был а очевидность лжи, пошлости и насилия, жестокости и порабощения. И все это — при длительной неосуществимости протеста, при невозможности достойно ответить на недостойное и возмутительное. Это скопление злого опыта, это нарастание негодования и страха — ставило всякую живую душу перед выбором: или согнуться, приспособиться и примириться с происходящим, стать «ловчилой» и заглушить в себе веру и совесть; или же выработать защитную маску условной «лояльности» и уйти в духовную катакомбу. В этой духовной катакомбе люди научались сосредоточиваться на главном и пренебрегать неглавным в жизни; они научились зажигать незримую врагам лампаду и творить при ее свете новую подспудную культуру; они научалпсъмопиться по-новому и любить по-новому и внутренне, беззвучным шепотом, произносить клятвы служения и верности. Они духовно обновлялись.
В первые годы большинство русских людей колебалось между этими двумя возможностями: между духовным разложением и обновлением. Но некоторое, неподдающееся учету меньшинство вступило на этот путь сразу. Возможно, что немногие из них пережили эти мучительные десятилетия и что немногие доживут до возрождения России. Но они могут быть уверены в том, что ни одно усилие их, ни один вздох не пропали бесплодно. Задача их состояла в том, чтобы заткать немедленно, — во всем этом крушении и вопреки всему этому распаду, — ткань новой России и постепенно вовлекать в эту ткань все новых и новых людей. Они могли быть уверены, что данная русскому народу очевидность зла будет непрестанно пополнять их ряды, медленно, но верно увеличивая число обновляющихся. В этом был смысл того исповедни-чества и мученичества, на которое шли с самого начала лучшие люди России, принимавшие гонение, аресты, суд, ссылку, медленное умирание и расстрел. Они понимали, что они призваны противостать и стоять до конца; что одним своим, с виду обреченным и безнадежным «стоянием» они делают главное и необходимое, служат той России, в которую надо верить, которая ныне выстрады-вает себе духовную свободу и, ие«яоддмвляен соблазнам, тпцгт
христианского братства и справедливости. Так священномученики строили Православную Церковь, а политические герои — гражданственную природу России*. Они совершили свое дело и достигли многого. И если мы читаем в советских газетах признания, что в высшие учебные заведения «пошла верующая молодежь», что в советской России священники «увлекают наиболее живые умы» и что «нынешние верующие совсем другие люди по сравнению с тем, что представляли они собою в начале революции»; если мы видим, что половина российского населения, несмотря на двадцатилетние гонения, открыто причислила себя по переписи к верующим,—то мы должны воздать должное подвигу русского героического меньшинства. Отсюда пойдет возрождение России, ибо здесь скрыт живой источник новогорусского качества.
Причины русской революции многосложны и глубоки; о них будут написаны впоследствии целые исследования. Но если перевести их на язык духовного качества, то можно сказать следующее.
Россия перед революцией оскудела не духовностью и не добротою, а силою духа и добра. В России было множество хороших и добрых людей; но хорошим людям не хватало характера, аудобрых людей было мало вали и решимости. В России было немало людей чести и честности; но они были рассеяны, не спаяны друг с другом, не организованы. Духовная культура в России росла и множилась: крепла наука, цвели искусства, намечалось и зрело обновление Церкви. Но не было во всем этом действенной силы, верной идеи, уверенного и зрелого самосознания, собранной силы; не хватало национального воспитания и характера. Было много юношеского брожения и неопределенных соблазнов; недоставало зрелой предметности и энергии в самоутверждении. Этому соответствовало и состояние русского народного хозяйства — бурно росшего, но не нашедшего еще ни зрелых форм, ни организованности, ни настоящего проникновения в толщу естественных богатств. Собственническое крестьянство только начинало крепнуть; промышленная предприимчивость имела перед собою непочатые возможности; помещичье хозяйство еще не изболело своих недугов — экстенсивности и дворянского дилетантизма; рабочие еще не нашли своего национального места и самосознания. Средний слой еще не окреп в своей имущественной основе, в своей государственной идее и воле; и зараза сентиментального
* См предсмертное письмо расстрелянного большевиками Митрополита Петербургского Вениамина (цитировано у Митрополита Анастасия в Сборнике избранных сочинений, 1948. «Похвальное слово новым священномученикам Русской Церкви»). См. также в трудах Протопресвитера Михаила Польского: «Положение Церкви в Советской России» и «Новые мученики российские».
социализма и непротивленчества еще не была побеждена. Незрелость и рыхлость национального характера соответствовали незрелости и рыхлости народного хозяйства.
Этой своеобразной беспочвенности и рыхлости здоровых сил народа противостоял неизжитый запас больных и разрушительных сил. В крестьянстве бродили еще памятозлобие крепостного права и вековая мечта земельного передела и анархии; аграрная перенаселенность общины дразнила народ безвыходностью и поддерживала иллюзию количественно неисчерпаемого земельного фонда; остатки крестьянского неравноправия и неполноправия довершали это настроение. Брожение рабочего пролетариата питалось и крестьянским недовольством, и классовым положением рабочих, и утопически-революционной пропагандой социализма Обилие темпераментных национальных меньшинств, руководимых своею честолюбивою полуинтеллигенцией, создавало целый кадр центробежно настроенных «деятелей». Эти «деятели», с их радикально-революционными симпатиями, вливались во всероссийский резервуар фрондирующей интеллигенции и неустроенной, вечно недовольной, бродящей полуинтеллигенции; и все это вместе в высшей степени затрудняло качественный отбор государ-ственной элиты. За девятнадцатый век слагалась и крепла больная традиция революционной фронды; считалось, что «порядочный» человекдолжен быть настроен радикально и непримиримее, он должен порицать и отрицать все, что исходит от Императорского правительства; он должен — если не прямо быть социалистом, то «сочувствовать» и закулисно «помогать» социалистическим партиям. Эта традиция в течение целого века работала над изоляцией и компрометированием русского Императорского правительства, предполагая в русском народе выдающиеся демократически-республиканские дарования и выдавая социализм за вернейший критерий демократичности.
Дореволюционная Россия держалась и строилась не этими центробежными силами, а вопреки этим последним. Необходимый отбор ведущего слоя, правящего чиновничества и культурной общественности, совершался, несмотря на все затруднения, несмотря на изолирующую пропаганду и на террор революционных партий.
Идейные и честные люди пополняли кадры русской армии, русского флота и русского чиновничества. Не скудела Академия Генерального Штаба. На исключительной высоте стоял Правительствующий Сенат, кассационные решения которого содержат целый клад юридической мудрости и справедливости. Россия имела основания гордиться своим судом, своими финансами, своею наукою, своим искусством и своими театрами. Она имела
первоклассную дипломатию, превосходную военную разведку и опытный, преданный своему делу кадр народных учителей. А когда П. А. Столыпин взялся за дело разверстания сельской общины и за переселение, то ему удалось отобрать такой кадр чиновников, о качестве которых не могло быть двух мнений.
Наряду с этим Россия выдвинула драгоценный слой нечиновной общественности: идейных и опытных деятелей земского и городского самоуправления, превосходный кадр врачей национально-русской интуитивной школы, идейную и гуманную адвокатуру, даровитое купечество с традициями и с размахом, кадр энергичных кооператоров и агрономов. Все это строило Россию, постепенно освобождаясь (силою вещей, ходом жизненного дела, реализмом предметных задач) от мечтательного брожения и врастая в механизм государства. Россия нуждалась больше всего в мире и в завершении столыпинской реформы; она нуждалась меньше всего вреволюции и в социализме. Судьба судила ей иное: она послала ей неподготовленную и неудачную войну, социалистическую кровавую революцию и планомерное разрушение почти всей ее исторически выстраданной культуры. Вскрылись исторические рубцы и заживавшие шрамы, души заболели ненавистью и местью, замутились до самого дна, и поднявшееся социальное дно поглотило свою собственную, русскую национальную элиту.
Разразившаяся коммунистическая революция не только разрушала прежнее государство, прежнее хозяйство и прежнюю культуру в России, но стремилась, прежде всего, смести прежний ведущий слой и поставить на его место новый.
Первая, отрицательная задача не представляла особых затруднений: сместить, уволить, лишить имущества и жилища, обречь на голод и холод, арестовать, сослать, расстрелять — все это разрушительное дело требовало только решительности и жестокости. Но разрешение положительной задачи — создание нового ведущего слоя—не могло удасться революционерам. Здесь мы наталкиваемся на одно из основных внутренних противоречий революции
Революция с самого начала обращалась не к лучшим, государственно-зиждительным силам народа, а кразрушительным иразнузданным элементам его. Она привлекала к себе не честных, верных, патриотически настроенных людей, привыкших к дисциплине и ответственности, а безответственных, деморализованных, беспринципных, карьеристов, интернационалистов, грабителей, дезертиров, авантюристов Это есть просто неоспоримый исторический факт. Ей нужны были люди дурные и жестокие, способные разлагать армию, захватывать чужое имущество, доносить и убивать. Наряду с этим она обращалась к людям невежественным и наивным, которые готовы были верить в немедленное революционно-социалистическое переустройство России.
И вот, никакой государственный режим, тем более «творче-ски-обновляющий» режим, не может быть построен такими людьми и на таких порочных основаниях. Привычный нарушитель, сделавший себе из правонарушения политическую профессию, останется правонарушителем и после того, как ему прикажут строить новую жизнь. Революция дала народу «право на бесчестие» (Достоевский), и, соблазнив его этим «правом», она начала свой отбор, делая ставку на «бесчестие». Этим она расшатала народное правосознание, смешала «позволенное» и «запретное», перепутала «мое» и «твое», отменила все правовые межи и подорвала все социальные и культурные сдержки. Какой же «ведущий слой» мог отобраться по этим признакам и в этой атмосфере?
Пришли новые люди — презирающие законность, отрицающие права личности, жаждущие захватного обогащения, лишенные знания, опыта и умений; полуграмотные выдвиженцы, государственно неумелые «нелегалыцики» (выражение Ленина), приспособившиеся к коммунистам преступники. Революция узаконила уголовщину и тем самым обрекла себя на неудачу. Революция превратила разбойника в чиновника и заставила свое чиновничество править разбойными приемами. Вследствие этого политика пропиталась преступностью, а преступность огосударствилась.
Шли годы. На этих основах сложилось и окрепло новое коммунистическое чиновничество-. запуганное и раболепно-льстивое перед лицом власти; — пронырливое, жадное и вороватое в делах службы; произвольное и беспощадное в отношении кподчиненным и к народу; во всем трепещущее, шкурное, пролганное; привыкшее к политическому доносу и отвыкшее от собственного, предметного и ответственного суждения; готовое вести свою страну по приказу сверху — на вымирание и на погибель. И все неудачи революции объясняются не только противоестественностью ее программы и ее планов, но и несостоятельностью отобранного ею слоя.
II
Когда крушение коммунистического строя станет совершившимся фактом и настоящая Россия начнет возрождаться, — русский народ увидит себя без ведущего слоя. Конечно, место этого слоя будет временно занято усидевшими и преходящими людьми, но присутствие их не разрешит вопроса. Прежняя, дореволюционная элита распалась, погибла или переродилась, и то, что от нее сохранится, будет лишь скудным, хотя и драгоценным остатком былого национально-исторического достояния. А революционный отбор должен будет отчасти совсем отпасть ввиду своей несостоятельности и неисправимости, отчасти же измениться к
лучшему как бы на ходу. То, в чем Россия будет нуждаться прежде всего и больше всего — будет новый ведущий слой.
Эта новая элита, — эта новаярусская национальная интеллигенция, должна извлечь все необходимые уроки из всероссийского революционного крушения. Мало того, она должна осмыслить русское историческое прошлое и извлечь из него заложенный в нем «разум истории». А история учит нас многому.
1. — Прежде всего ведущий слой не есть низамкнутая «каста», ни наследственное, или потомственное, «сословие». По составу своему он есть нечто живое, подвижное, всегда пополняющееся новыми, способными людьми и всегда готовое освободить себя от неспособных Это есть старое и здоровое русское воззрение. Его выдвинул еще Иоанн Грозный, осознавший необходимость нового отбора, но трагически исказивший и погубивший его в «опричнине». К этому воззрению вернулся Петр Великий, выдвинувший на первые и не первые места государства новых людей, начиная от Меншикова и Лефорта, Шафирова и Ягужинского и кончая своими, командированными за границу, учениками. С тех пор эта традиция дала России Ломоносова и целые плеяды славных ученых; гениального скульптора Федота Шубина и длинный ряд славных художников из народа; ряд блестящих деятелей Екатерининской эпохи, Сперанского, Скобелева, Витте, Губонина, Савву Мамонтова, Третьякова, Лавра Корнилова и его сподвижников.
Здесь есть некое общее правило: человека чести и ума, таланта и сердца — не спрашивают о его «предках», ибо он сам есть «предок» для грядущего потомства. Качественный, духовный заряд, присущий человеку, выдвигает и должен выдвигать его на первые места, независимо от его родословной. Потомственная традиция честности, храбрости и служения есть великая вещь, но она не может сделать глупца — умным, а безвольного человека — призванным организатором жизни. Мы все — от правителя до простого обывателя—должны научитьсяузнаватълюдей качественно-духовного заряда и всячески выдвигать их, «раздвигаясь» для них; только так мы сможем верно пополнять нашу национальную элиту во всех областях жизни. Это требование есть не «демократическое», как принято думать, а нравственно-патриотическое и национально-государственное. Только так мы воссоздадим Россию: дорогу честности, уму и таланту!..
2. — Принадлежность к ведущему слою — начиная от министра и кончая мировым судьею, начиная от епископа и кончая офицером, начиная от профессора и кончая народным учителем — есть не привилегия, а несение трудной и ответственной обязанности. Это не есть ни «легкая и веселая жизнь», ни «почивание на лаврах». Темному, необразованному человеку простительно ду
мать, будто «настоящая» работа есть именно телесная и только телесная, а всякий душевно-духовный труд есть «притворство» и «тунеядство»; но человек духовного или интеллектуального труда не имеет права поддаваться этому воззрению В свое время ему поддались русские народники; перед ним склонился Л. Н. Толстой, надсмеявшийся над духовным трудом в своей революционнодемагогической сказке «Об Иване-дураке». Призыв Толстого к «опрощению» был не только протестом против излишней роскоши (что было бы естественно), но и отрицанием всякого «нефизического» труда. Это воззрение заразило постепенно широкие круги русской интеллигенции. «Кающийся барин» не сумел найти меру для своего «покаяния»: он не только стал корить себя за недостаточную склонность к братской справедливости, но заразился культурным нигилизмом в вопросах права, государства, собственности, науки и искусства. Этим была в значительной мере подготовлена большевистская революция с ее уравнительством в вопросах жилища, питания, одежды, образования и имущества: «уравнивать» и «упрощать» —значит снижатъуровенъ и подрывать культуру.
Вести свой народ есть не привилегия, а обязанностьлучших людей страны. Эта обязанность требует от человека не только особых природных качеств, подготовки и образования, но и особого рода жизни в смысле досуга, жилища, питания и одежды. Это люди иной душевной и нервной организации, люди духовной сосредоточенности, люди иных потребностей и вкусов, иного жизненного напряжения и ритма Мыслителю и артисту нужна тишина. Ученому и судье необход има библиотека. Чиновник должен быть обеспечен и независим от управляемых обывателей и т. д. Если это — «привилегия», то привилегия, вознаграждающая за высший труд и обязывающая к качественному служению. Этой «привилегии» нечего стыдиться; ее надо принимать с достоинством и ответственностью, не позволяя предрассудку и зависти вливать в душу свою отраву.
Ранг в жизни необходим и неизбежен. Он обосновывается качеством и покрывается трудом и ответственностью. Рангу должна соответствовать строгость к себе у того, кто выше, и беззавистная почтительность у того, кто ниже. Только этим верным чувством ранга воссоздадим Россию. Конец зависти! Дорогу качеству и ответственности!
3. — Вместе с тем в России должна быть искоренена дурная традиция «кормления», т. е. частного наживания на публичной должности Государственный чиновник, также как и служащий земского или городского самоуправления, должен довольствоваться получаемым им окладом («жалованьем») и не пополнять его никакими «прибытками» или «поборами» с обслуживаемого им населения Время, когда государственный центр раздавал должности на «корм
ление». — время удельно-феодальное и, далее, сословно-крепостное, — прошло безвозвратно. Воевода, живущий поборами («земля любит навоз, а воевода принос»); судья, торгующий приговором и презирающий закон («хочу по нем сужу, хочу — на нем сижу»), чиновник, взяточник и растратчик («казна — шатущая корова, не доит ее один ленивый»), — все эти больные и кривые явления русской истории были в небывалом размере воскрешены русской революцией и должны окончательно угаснуть вместе с нею. Революционная всепродажность, революционная растрата, повальное революционное хищение — объясняются тем изъятием собственности бесхозяйственно бюрократическим бедламам, которые осуществлялись самой революцией: люди, ограбленные ею, возвращали себе отнятое всюду, где могли, и не считали такое «са-мовознаграждение» зазорным. Психологически — это понятно; но по существу—это есть деморализация и расхищение государства.
Публичные должности, от самой малой до самой большой, должны давать человеку удовлетворяющее его вознаграждение и должны переживаться им не как «кормление», а как служение. Человек, не удовлетворяющийся законным жалованьем, не имеет права брать соответствующую должность. Человек, взявший публичную должность, не имеет права пользоваться ею для частной наживы. Конец взятке, растрате и всякой продажности!.. Всякая власть, всякое водительство обязывают к самоограничению!.. Только этим возродим Россию.
4. — Далее, одна из основных опасностей ведущего слоя состоит в слишком высокой оценке государственной власти, ее значения и призвания. Государственная власть имеет свои пределы, обозначаемые именно тем, что она есть власть, извне подходящая кчеловеку, предписывающая и воспрещающая ему независимо от его согласия или несогласия и угрожающая ему наказанием. Это означает, что все творческие состояния души и духа, предполагающие любовь, свободу и добрую волю, не подлежат ведению государственной власти и не могут ею предписываться. Государство не может требовать от граждан веры, молитвы, любви, доброты и убеждений. Оно не смеет регулировать научное, религиозное и художественное творчество. Оно не может предписывать оказа-тельства чувств или воззрений. Оно не должно вторгаться в нравственный, семейный и повседневный быт. Оно не должно без крайней надобности стеснять хозяйственную инициативу и хозяйственное творчество людей.
Ведущий слой призван вести, а не гнать, не запугивать, не порабощать людей. Он призван чтить и поощрять свободное творчество ведомого народа. Он не командует (за исключением армии), а организует, и притом лишь в пределах общего и публичного интереса. Вести можно только свободных; погонщики
нужны только скоту; надсмотрщики нужны только рабам. Лучший способ вести есть живой пример. Авантюристы, карьеристы и хищники не могут вести свой народ; а если поведут, то приведут только в яму. Государственное водительство имеет свои пределы, которые определяются, во-первых, достоинством и свободой личного духа, во-вторых, самодеятельностью творческого инстинкта человека. Конец террору как системе правления!.. Конец тоталитарному всеведению и всеприсутствию!.. России нужна власть, верно блюдущая свою меру.
5. — К этому необходимо добавить, что новый русский отбор должен строить Россию не произволом, а правом. Будут законы и правительственные распоряжения. Эти законы должны соблюдаться и исполняться самими чиновниками, ибо чиновник есть первый, кого закон связывает. Представление о том, что закон вяжет обывателя и разнуздывает произвол правителя, много раз осужденное в русских народных пословицах, но возрожденное советской революцией, должно отпасть навсегда. Закон связывает всех: и Государя, и министра, и полицейского, и судью, и рядового гражданина. От закона есть только одно «отступление»: по совести, в сторону справедливости, с принятием на себя всей ответственности. Формально-буквенное, педантически-мертвенное применение закона не есть законность, а карикатура на нее. «Крайняя законность» никогда не должна превращаться в «крайнюю несправедливость». Или по русским пословицам: «не всякий прут по закону гнут»; а «милость творить — с Богом говорить».
Это означает, что всякое применение закона требует беспристрастного жизненного наблюдения (интуиция факта) и беспристрастного решающего усмотрения (интуиция права). Мало закона. Надо видеть живое событие. И далее, надо видеть сквозь закон: 1. — Намерение законодателя и 2. — Высшую цель права (свобода, мир, справедливость). Поэтому всякое применение закона предполагает в душе применяющего чиновника — живое творческое правосознание (правовое разумение и правовую совесть). И вот, в этой сфере не должно быть места никакой корысти, никакой кривизне, или, как выражала это русская летопись, — никакому «воровству» и «малодушию»: ни взятке, ни косвенной личной выгоде, ни классовому интересу, ни родству, ни льстивому прислуживанию, ни потачке, ни укрывательству, — словом, ничему тому, от чего стонала дореформенная Россия, с чем так успешно боролся пореформенный (после 1864 г.) правопорядок и что расцвело цветами позора и скандала в эпоху революции.
Грядущей России нужен не произвол, не самодурство и не административная продажность, а правопорядок, утверждае
мый живым и неподкупным правосознанием. Правило этого правосознания выражено в старом русском поэтическом присловии:
Чтобы твоим судом другим не сделать лиха, О деле рассуждай, когда в тебе все тихо, И то — с молитвою всегда,
Чтоб просветлил тебя Господь... А то беда: Без умысла невинного придавишь И после дела не поправишь...
6. — Далее, новая русская элита в деле правления должна блюсти и крепить авторитет государственной власти. Невозможно строить правопорядок без этого авторитета. Он пошатнулся еще при Императорском правительстве, он был расшатан и подорван при Временном правительстве; он был опять восстановлен, — правда, в формах противоправных, свирепых и унизительных, — советскою властью. Новый русский отбор призван укоренить авторитет государства на совсем иных, благородных и правовых основаниях: на основе религиозного созерцания и уважения к духовной свободе; на основе братского правосознания и патриотического чувства; на основе достоинства власти, ее силы и всеобщего доверия к ней. Необходимо помнить, что этот авторитет есть всенародное, исторически накапливающееся достояние. Он слагается из поколения в поколение, он живет в душах незримо, но определяюще, он призван служить орудием национального спасения. Революция сначала расшатала, а потом скомпрометировала его кровью, партийно-классовым режимом и тоталитарностью коммунистического строя. И вот, борьба за грядущую Россию окажется борьбой за новый авторитет новой национально-русской власти, ибо безавторитетная власть не оборонит и не возродит Россию.
7. — Все эти требования и условия будут, однако, несовершенны и неопределяющи, если не будет соблюдено последнее. Новый русский отбор должен быть одушевлен творческой национальной идеей.
Безыдейная интеллигенция не нужна народу и государству и не может вести его... Да и куда она приведет его, сама блуждая в темноте и в неопределенности? Но прежние идеи русской интеллигенции были ошибочны и сгорели в огне революций и войн. Ни идея «народничества», ни идея «демократии», ни идея «социализма», ни идея «империализма», ни идея «тоталитарности» — ни одна из них не вдохновит новую русскую интеллигенцию и не поведет Россию к добру. Нужна новая идея — религиозная по истоку и национальная по духовному смыслу. Только такая идея может возродить и воссоздать грядущую Россию.
О ДУХОВНОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА
1
Человек есть по существу своему живой, личный дух-, и религиозность есть состояние духовное.
Это с виду самоочевидное и бесспорное утверждение на самом деле нуждается в раскрытии и углублении, может быть даже — в доказательстве, потому что в действительности люди очень часто не наполняют его смыслом и жизнью и пытаются быть «религиозными» вне духа и духовности. А это ведет к тягостным и опасным последствиям.
Человек есть личный дух. Напрасно он сам стал бы определять себя, как «это тело», или как «это живое тело», или хотя бы как «это одушевленное тело». Он скоро убедился бы в том, что он этим не обозначает и не постигает своего главного естества, того самого, которое в нем пытается уловить, указать и постигнуть самого себя. Человеку следует искать себя не среди вещей и объектов, о которых он мыслит, а в той «субъективной» глубине, которая сама спрашивает, испытывает, желает, мыслит, воображает и чувствует. А в этой «субъективной» глубине своей человек есть живой, личный дух.
На прямой вопрос, что такое есть «человеческий дух», можно дать много ответов: многие из них будут верны в своей указующей и описывающей силе, но они станут убедительными только для того, кто покроет их своим собственным, живым, созерцающим опытом. Надо найти начало духовности в самом себе; много раз проверить и убедиться в том, что найденное — найдено верно; и затем утвердить и свое собственное, подлинное естество в этой духовной сфере; и после этого уже не бродить по случайным «окрестностям» своего существа, сомневаясь в бытии своего духа, а жить из своего духа, созерцая свои «окрестности» оком озабоченного строителя и хозяина...
Итак, что есть «дух»?
Дух есть самое главное в человеке. Каждый из нас должен найти и утвердить в себе свое «самое главное» — и никто другой заменить его в этом нахождении и утверждении не может.
Дух есть силаличного самоутверждения в человеке, — но не в смысле инстинкта и не в смысле рационалистического «осознания» состояний своего тела и своей души, а в смысле верного восприятия своемличностной самосути, в ее предстоянии Богу и в ее достоинстве. Человек, не осознавший своего предстояния и своего достоинства, не нашел своего духа.
Ввиду этого можно было бы сказать, что дух есть живое чувство ответственности. Нашедший его в себе и утвердившийся в нем — ведет духовную жизнь.
Человек, испытывающий свое предстояние Богу, свое достоинство и свою ответственность, несет в себе живую волю к Совершенству. Поэтому дух можно было бы определить как волю кСовершенству — а также к совершенствованию — в самом себе, в своих деяниях и во внешнем мире.
Эта воля предполагает способность узнавать лучшее, отличать худшее и дурное, видеть Совершенное и принимать его. Поэтому дух есть дар очевидности.
Верное отношение к Совершенству есть отношение любви и служения. Поэтому дух можно было бы описать, как способность к бескорыстной любви и к самоотверженному служению.
Все эти дары дает человеку способность верно управлять собою и верно строить свою жизнь. Поэтому дух есть сила личного самоуправления и первым проявлением ее является духовный характер человека.
Вот почему правы те, которые связывают дух с идеей свободы. Дух есть дар свободы, данный человеку в зачатке от самой природы-, в то же время он есть живая сила самоосвобождения и в заключительной стадии (вероятно, — посмертной) — полнота личной свободы.
После всего этого будет понятно, если мы определим дух, как потребность священного и как радость верного ранга-, если мы опишем его как дар молитвы, как силу поющего сердца и как жилище совести-, если мы обозначим его кгкместорождение художественного искусства, как источник правосознания, истинного патриотизма и национализма, как главную основу здоровой государственности и великой культуры...
В действительности дух есть — все это сразу. Но это надо непременно испытать и увидеть самому-, необходимо духовно прозреть. Слепой не может осмыслить и принять учение о живописи. Теория музыкальной эстетики не даст ничего глухому. Человек, не живущий духом и не созерцающий из него, — отвергнет все эти описания, как «отвлеченные», «произвольные» и «неясные» В действительности же они ясны, точны, предметны и конкретно жизненны. Развернуть и обосновать их можно только в особой
«Философии духа и характера» или в целом ряде сочинений В них заложено цельное и стройное миросозерцание. В настоящем же исследовании все это дается только как указание на то родовое гнездо, в котором можно и должно искать и найти подлинный религиозный опыт. Это есть как бы «линия», очерчивающая исследуемый нами предмет: ибо религия есть от духа и религиозный опыт есть состояние духовное.
Попытаемся проследить эту «линию» внимательно и детально.
2
Тот, кто добивается религиозного опыта, — не на словах, а на деле, не для игры в «запредельное» и «таинственное», а во всей его предметности, строгости, и, может быть, страшности, — тот должен больше всего опасаться подмены его всем что есть поддельного, фальшивого, извращенного и снижающего. Все это грозит человеку особенно в сфере религии и искусства, т. е. в тех областях, где главными органами являются чувство и созерцание и где поэтому трезвение и очищение необходимы на каждом шагу. Однако в искусстве к трезвению побуждает до известной степени уже тот естественный «материал», из которого оно творится: эстетическая материя имеет свои, внутренние, скрытые в ней законы, с которыми необходимо считаться*. В религии же этих законов чувственной материи нет. В религии внутренний мир человека стремится «отвязать» свое чувство и свое созерцание от внешнего мира и его закономерностей, для того, чтобы свободно видеть и чувствовать иное, реальнейшее и лучшее. И эта «отвязанность» несет с собой множество опасных возможностей и уклонений; и прежде всего — опасность внутреннего разнузданна и беспредметности. Именно поэтому в борьбе за подлинный религиозный опыт необходимо трезвение и очищение-, а также — великое чувство ответственности и дисциплинированная сила суждения. Понятно, что всем этим будут располагать только исключительные натуры и что множество людей, не располагающих этими умениями и силами, будет легко становиться жертвою нетрезвой фантазии и неочищенного чувства. Вот откуда в истории религии такое обилие мнимых откровений, ложных видений, фальшивых учений, странных, диких обрядов и всевозможных извращений. История человеческой религиозности есть поистине история человеческих блужданий и падений.
Для того, чтобы предохранить себя ото всего этого, необходимо помнить, что религиозный опыт — от духа и что религиоз
*См. мою книгу «Основы художества. О совершенном в искусстве» Рига, 1937.
ное состояние есть духовное состояние. Бездуховная «религия» есть или неосуществившаяся «возможность», или трагическое «недоразумение», или же соблазнительное извращение. Проти-водуховная «религия» есть слепая одержимость, а может быть, и сущий сатанизм. Исследовать сущность и строение религиозного опыта значит вскрыть основные условия, формы и законы подлиннойрелигиозности, но это значит также коснуться целого ряда религиеобразных уклонений и соблазнов. Не все, называемое в просторечии и даже в литературе «религиозностью» и «религией», есть в самом деле «религиозность» и «религия»; не все заслуживает этого наименования; и надо прямо установить, что религиозность была бы в большем почете, если бы человечество нашло для многих религиеобразных уклонений, соблазнов и извращений определенный критерий, иное понятие и иной, особый словесный термин.
Итак, религия есть от духа и религиозный опыт есть духовное состояние. Поэтому все, что сказано о духе и духовности, является определяющим для религиозного опыта.
Религия есть самоереальное в жизни верующего; и религиозному опыту принадлежит главное значение и главное место в душе человека. Всюду, где религия является делом «случайного интереса», «моды», «салонного увлечения», или же делом любопытства и развлечения, или, еще хуже, делом практической пользы, расчета и спекуляции, или же, самое худшее, делом похоти и сладострастия, — всюду она низводится и совлекается, она теряет свой духовный ранг и перестает быть религией. «Главное» есть ценнейшее, важнейшее, мера блага, критерий решений, движущая сила личной жизни. «Самое главное» есть всеопределяющее и все-превозмогающее. Тут нет места для случайного «интереса». Побуждения «моды» здесь мертвы и безразличны. «Салонное увлечение» прямо указывает на отсутствие действительной религиозности. Вот почему «спиритизм» никогда не был религией для большинства, а «религиозные журфиксы» никогда не создавали ничего, кроме пошлости. Религией нельзя развлекаться; она не может быть предметом любопытства, этого поверхностного заглядывания безразличным, но жаждущим развлечения глазом души. Все эти гностические игры в «тайну» и «таинственность»; весь этот обстроенный интерес к жутким рассказам о привидениях, к темам Эдгара По, «к мистике», к «магии», к «волхованию», к «черной мессе»; все эти общественные попытки «организовать чудеса», устраивать денежную помощь во исполнение «усердных коллективных молитв», и так далее, и тому подобное, — все это попытки подделать утраченную религию, злоупотребить ее священными развалинами, воспользоваться ее черепками и
обойтись без нее. Люди творят фальсификацию, обманывают то себя, то других, а может быть — и себя, и других, и не стыдятся этого. И это отсутствие благоговения в обхождении со Священным роднит их странным и страшным образом с теми, которые подобно «амальриканцам» и хлыстам превращают религиозность в сладострастие и принимают оргастический подъем за духовный. Современная «мистика» с ее бессильными блужданиями, гностическими рецепциями и эротическим кокетством с самого начала была сродни хлыстовству всех времен и народов.
Религиозный опыт начинается с верного обретения своей собственной духовности, своей лично-духовной самосути в ее предстоянии Богу и в ее достоинстве. Сущность религиозного опыта состоит в обращении к Богу; но именно обращение к Богу делает человека духом. Обращаясь к Богу, человек испытывает себя «предстоящим» и душа его осязает трепет и благоговение. Благоговение есть проявление духовности, дар духа и признак духа Человеку естественно испытывать сокровенный трепет, обращаясь к Богу, и этот трепет свидетельствует о его духовности. Человек, не знающий этого, лишен духа. Он никогда не поймет того первичного явления религиозности, в силу которого душа человека, обращаясь к Богу, испытывает свое недостоинство и именно этим испытанием своего недостоинства утверждает свое духовное достоинство. Это не игра словами и не парадокс. Человек есть дух именно постольку, поскольку в нем пробудилась и живет жажда Священного, т. е. жажда непререкаемо ценного и таинственно высшего; перед этим Священным душе естественно ощутить свое недостоинство; но именно это ощущение открывает ей горизонты вверх и вглубь, выводит ее из пошлого измерения жизни и утверждает ее духовное достоинство.
Настоящая религиозность предполагает в человеке (или, соответственно, сообщает ему) чувство предстояния, трепета, благоговения и собственного несовершенства. Человек созерцает Бога; именно от этого в нем возникает чувство ранга. Чувство ранга входит в самую сущность религиозного акта. Человек, лишенный этого чувства, не может иметь религии. Вместе с угасанием этого чувства в человечестве угасает и его религиозность; и религия угаснет совсем в тот миг, когда последний человек восстанет на идею священного и на идею ранга. Напротив: испытав свое недостоинство и приняв идею ранга, человек утверждает свою духовность и научается радоваться верно постигнутому рангу. В XVIII и XIX веках люди сделали мнимое открытие, будто идея ранга лишает человека свободы и делает его рабом; они поверили в это и постольку погасили свою духовность, заменив ее мнимой «свободой», т. е. беспринципным умствованием и
безранговым, а потому и безрелигиозным созерцанием мира. Мудро и прозорливо писал об этом Томас Карлейль. Но с тех пор этот процесс шел все дальше и дальше; и ныне в мире есть множество людей, совсем утративших духовность и неспособных к религиозному опыту.
3
В связи с этим в человечестве поколебалось и чувство ответственности. Это чувство есть вернейший признак духовности. Человек, умеющий трепетно и благоговейно предстоять, сумевший утвердить свое духовное достоинство через жажду священного и познавший радость верного ранга, уже научился чувству ответственности и вступил в сферу религиозного опыта, совершенно независимо от того, принял ли он какой-либо догмат или остался с протянутой и пустой рукой.
Подобно чувству ранга — чувство ответственности принадлежит к первичным, аксиоматическим проявлениям духовности и религиозности. Дух есть творческая энергия-, ему естественно вменять себе совершаемое и отвечать за совершенное. Религиозно-предстоящий человек сознает в себе эту духовную энергию и чувствует ее связь с высшим, священным планом бытия. Вступление в этот план, приобщение к нему и к его реальностям — обостряет в человеке трепетное чувство своего недостоинства-достоинства и вызывает в его душе то благоговейное осторожно-совестливое внимание, о котором когда-то писал применительно к религии Цицерон*. Приобщаясь Высшему, человек испытывает повышенное чувство ответственности. Именно поэтому религиозность всегда была настоящим источником этого духовного самочувствия, без которого на земле невозможны никакая добродетель, никакая культура и никакая государственность.
Без чувства ответственности невозможен и самый религиозный опыт. Вступая в сферу Божественного, человеку естественно собирать свои силы и относиться критически к своим слабостям, неумениям и неспособностям: он становится благоговеен, а потому осторожен и совестлив, м<ожет> б<ыть>, даже до робости; он боится не увидеть, не постигнуть, стать помехой, исказить. Он взыскивает с себя, помнит свою малость и величие своего Предмета; и все это выражается в повышенном чувстве ответственности.
* Поскольку слово «religio» производится от «relegere», оно выражает: совестливость, боязливость, осторожность, боязнь, мучение, беспокойство совести, т. е. чувство ответственности и лишь в дальнейшем — богопочтение, богослужение, религию, веру. См. у Цицерона «De natura deorum». II. 28; срв. там же 72 и др.
Безответственность постыдна и отвратительна во всех областях духа. Неприличен безответственный ученый: он является или болтуном или торговцем истиною. Преступен безответственный воспитатель. Жалок и ядовит безответственный художник. Безответственный политик должен понести наказание. Но безответственность в области религии, где люди не имеют, в сущности говоря, прочных критериев и где живое благоговение должно было бы вечно питать заботу о трезвении и очищении, является грехом непростимым, грехом «против Духа». Нигде беспочвенные фантазеры и болтуны не приносят такого вреда, как в религии: здесь они компрометируют не столько себя самих, сколько ту сферу духа, в которой они якобы пребывают и из которой возвещают свои ложные «откровения». Безответственный ученый будет опровергнут; безответственный воспитатель — разоблачен; безответственный политик — осужден и может быть казнен или изгнан. Но безответственный лжепророк, создавший себе общину слепых последователей, может изливать свой духовный яд до конца дней, подрывая авторитет религии и доверие к вере.
Тот, кто ищет религиозного опыта, нуждается в изведанном и закаленном чувстве ответственности, потому что он вступает в ту сферу, где обитает и обретается само Совершенство. Воля к Совершенству есть основная сила духа и основное побуждение всякой истинной религиозности. Человек, принципиально отрицающий возможность отличать «добро» от «зла», объективно-лучшее от объективно-худшего — загораживает себе всякий доступ к духу, к духовной культуре, к философии и к религиозному опыту Если все «условно» и «относительно», если всякая истина зависит от «субъективного признания» и человек имеет дело только с произвольно-допущенными «содержаниями сознания»; если реальное не может приобщаться Совершенству, а Совершенное нереально и не может реализоваться; если человеку Совершенство вообще недоступно, — тогда дух и духовная культура суть пустые представления, тогда Бога «нет» и религиозный опыт невозможен. Религиозный опыт есть опыт Совершенства, приобретаемый на путях сердечного созерцания. И обращение к нему есть уже начало молитвенного зова, или молитвы.
Человек, одушевленный волею к Совершенству,—зовет Его; и этот зов есть уже молитва. Человек, предстоящий Священному с трепетом и благоговением, — находится в состоянии молитвы, даже и тогда, когда он сам не знает, кому и чему он молится, и когда он ни о чем не просит и не произносит никаких слов. Сердце его поет, а поющее сердце человека имеет особенную силу и особое вдохновение: оно само есть одна из главных и драгоценных реальностей мироздания. Вот почему дух может быть обо
значен, как «дар молитвы» и как «сила поющего сердца». И вот почему настоящий религиозный опыт открывается, дается и пребывает на духовном уровне: он как бы выражается на языке молитвы и поющего сердца. Религиозность, недостигающая этого уровня, есть только зачаток. Религиозность, теряющая этот уровень, иссякает и прекращается.
Сила поющего сердца* объясняется сочетанием душевно-духовной концентрации и легкой, творческой текучести чувства (вдохновения). Сосредоточение сил и состояние вдохновения отверзают человеку его духовное око и дают ему способность верно видеть Священное и подлинно созерцать, узнавать Совершенное. Отсюда — религиозная очевидность, этот лучший и необманывающий источник веры. Без очевидности — вообще невозможна духовная жизнь человека: неумеющий узнавать объективно лучшее, объективно совершенное, не будет ни жить им, ни домогаться его, ни осуществлять его. Так обстоит дело во всех сферах духа: в знании, в совестном делании, в художестве и в праве. Но особенно обстоит так — в религиозном опыте. Человек со слепым сердцем не узнает Совершенного и не увидит Бога; не увидев, не уверует; не уверовав, не предастся и не приобретет религиозного опыта Религия от духа: она живет духовной очевидностью; и если люди разлюбят этот дар, отвернутся от него, осмеют его и утратят его окончательно, то в их культуре умрет священная сердцевина, культура их перестанет быть духовной и прекратится как культура вообще. Кризис современной религии и религиозности есть, прежде всего, кризис духовной и религиозной очевидности-, этот кризис был подготовлен средневековой эволюцией ума и воли и разразился в восемнадцатом и девятнадцатом веках.
4
Было бы однако совершенно неверно представлять себе духовность и религиозность как состояния чисто созерцательные, а не деятельные. Дело не сводится к тому, что Совершенное является предметом желания, искания и восприятия. Оно становится центром деятелънойлюбви.
Дух есть начало не только пассивно-воспринимающее, но и творческое Религиозный опыт отнюдь не сводится к «мистическому созерцанию»; он есть сверх того вдохновенный труд и напряженная жизненная борьба. Увидеть Совершенное можно только сердцем; это значит «узнать» его и полюбить его. Христиа-
* См. мою книгу «Поющее сердце» Напечатана только по-немецки: «Das verschollene Herz».
нину этого не нужно доказывать: именно так первые ученики и последователи Христа узнавали Его сердцем; они полюбили Его беззаветно и бескорыстно, узнавая в Нем Сына Божия и начиная этим свое новое и самоотверженное служение. Это было естественно и необходимо; это бывает во всякой духовной религии. Видящий Совершенное отличает его от несовершенного; а так как дух есть начало энергии, — творческая сила, активная валя, — то ему естественно и неизбежно скорбеть о несовершенном и радеть о победе Совершенного. Верующий пассивно и предающийся блаженству бездеятельного созерцания — не любит, а наслаждается; не горит, а тлеет, не творит, а безразл ичествует; не служит, а упояется; не поборает, а уклоняется. Это религиозность не духовная, а душевная, ибо душевное наслаждение в ней является преобладающим побуждением; правда, оно уже осмыслено и обосновано в духовном отношении, но оно пребывает в начальной стадии и не оправдывается ни глубиною воли, ни целостностью творчества. Сколь далеко от этого творчески напряженное делание православно-восточной аскетики!
Дух есть не только энергия видения, но и энергия действо-вания-, он есть концентрация сил не только для восприятия Совершенного, но и для осуществления его. Для этого человеку дается дивный орган, именуемый совестью. По своему строению акт совести есть акт иррациональной духовности, слагающийся е&любви к Совершенству и из воли к совершенству, любовь дает видение и порыв, воля дает энергию действия и дисциплину выполнения. При этом оба эти компонента настолько сближают совестное переживание с религиозным опытом, что грань между тем и другим становится часто неуловимой. Вот почему все духовные религии приводили в движение совестную глубину души и поднимали нравственный уровень верующих; и обратно: почти все люди великой совести, — деятели и мыслители, подвижники и философы, — приводились своим совестным актом к религиозному опыту и характеризовали голос совести как нечто божественное. Можно сказать, что настоящая религиозность, как идущая от духа и одухотворяющая человека, находится в существенной и необходимой связи с желанием совершенствования: видеть лучше, постигать больше, созерцать глубже, чувствовать тоньше, любить горячее, быть добрее, действовать вернее, обходиться с людьми любовнее и справедливее, служить самоотверженно, судить праведно, творить все творимое — как можно совершеннее. Это и не может быть иначе: религиозность есть прежде всего живая и искренняя воля к совершенству, а эта воля должна неизбежно захватить все существо человека и привести в движение все стороны его души, все сферы его деятельности Настоящая рели
гиозность оплодотворяет все духовные силы человека: и совестную культуру, и художественное творчество, и глубочайшие корни его правосознания, и его национальное самосознание, и его патриотическое чувство, и его государственное строительство. Глубокая религиозность пробуждает дух и приводит его в движение; пробужденный дух ищет совершенства и начинается культурное цветение религиозно-захваченного народа. Это культурное цветение будет тем богаче, тем глубже, тем длительнее, чем более религиозный опыт народа будет верен своему духовному естеству, т. е. чем увереннее он будет искать не силы, а совершенства, не власти, а любви, не пользы, а Бога. Ибо в последнем счете и в глубочайшем корне вещей жизненность и прочность человеческих начинаний зависит от их духовной верности.
И вот, возвращаясь к личному духу человека, надо признать, что его главное призвание и отличительная способность состоят в самостроителъстве и самоуправлении. Воспитывать человека значит приучать его к самостоянию и самообладанию во всех областях жизни. Человек созрел тогда, когда он научился самостоятельно наблюдать, исследовать и мыслить; когда он приобрел способность ставить себе жизненные цели и удачно осуществлять их верными средствами; когда он выработал себе характер, т. е. систему необходимых духовных актов: акт совести, акт миросозерцания, акт волевого самоуправления, акт правосознания, акт дисциплины и др.
Человеческий дух по самому существу своему есть самостоятельный, творческий центр-, центр любви и созерцания, совестная воля; субъект права; созерцающий художник; верующее сердце; Божий слуга. В этом состоит самая природа духовности, в этом призвание и достоинство человека. Рабовладение, и в частности римское рабовладение («servus est res1»), пыталось обойти этот закон человеческого естества — и должно было признать и исправить свою ошибку. Человек есть личность и призван утверждать и развивать в себе личное начало: т. е. стать в порядке мироздания духовно-изволяющим и излучающим центром. Иными словами — свободным существом.
Дух человека свободен уже от природы-, но свобода эта дается ему в зачаточном виде.
Свобода состоит совсем не в изъятии от законов причинности, воздействия, влияния, наследственности, эволюции, истории и т. д., а в способности возобладать над этими законами, овладеть ими и подчинить их своим духовным целям. Это не есть свобода «индетерминизма», о которой люди мечтают только по недоразумению и которая оказалась бы чрезвычайным бедствием, одарив их ужасными дарами метафизического производства.
невоспитываемости, непредусмотримости, невменяемости, хаотической капризности и полной непригодности к участию в прекрасном космосе и в Царстве Божием. Духовная свобода обозначает не «индетерминизм», а власть над причинами, силу в детерминировании и способность добровольно и цельно определять себя к путям Совершенства. Весь смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы свободно восхотеть Божественного и свободно определить себя к Его путям. Но именно в этом состоит и сущность настоящей религиозности.
Дух есть дар выбора, предпочтения и самоопределения. Этот дар дан в зачатке каждому человеку. Он крепнет и разрастается от пользования им. Дар свободы растет в процессе самоосвобождения; он может и должен стать сущим духовным искусством-, он может привести человека к полноте свободы — в Боге.
Настоящая религиозность состоит в свободном восхождении человека к Богу. Настоящее откровение состоит в том, что Бог зовет к себе человека — через полноту духовной свободы к полноте единения с Ним. В этом духовная религиозность: она состоит в духовном самоосвобождении человека. Это самоосвобождение мыслится во всех великих религиях, как очищение. Именно поэтому проблема религиозного «катарсиса» имеет в них столь важное, можно сказать центральное значение.
Такова в общих чертах природа духовной религиозности.
5
Все это можно было бы свести к кратчайшим формулам: религиозный опыт родится из свободнойлюбвикСовершенству-, в основе каждой духовной религии лежит благоговение перед Священным, живое чувство ответственности и свободное приятие предметно-верного ранга С этого все начинается. Это суть необходимые условия.
Но именно этим объясняется религиозный кризис наших дней.
Грозная беда постигла современное человечество: оно расшатало духовные основы своего бытия, заглушило в себе главную религиетворящую силу духа — сердечное созерцание, и растеряло свои святыни. Вследствие этого отмирает священная сердцевина его культуры: его жизнь становится бесцельна; его творчество утрачивает свои высшие цели; его благие силы становятся скудны и немощны; его влечения — низменны, необузданны и злобны. И чем дальше идет время, тем более люди становятся слабыми в добре и сильными во зле-, и предел этого разложения — еще не виден.
Это разложение прекратится и этот предел установится, но не ранее, чем в сердцах возродится живое и глубокое чувство священного, а вслед за ним и другие условия истинной религиозности. В душах иссякли благодатные источники богосозерцания; они должны вновь забить ключом. Современные люди как бы ослепли для Божиих лучей, пронизывающих мир; им необходимо вновь прозреть. Отвлеченный рассудок, выдавая себя за «разум», восстал против живой тайны Божией; ему предстоит опомниться, смириться и преобразиться в верующий разум. Божии лучи опять засияют человеку с очевидностью-, но для этого ему предстоит очиститься в страданиях и унижениях. Этот процесс уже начался и совершает свое назначение.
Человечество растеряло свои святыни. Они не исчезли и не перестали быть; они по-прежнему реальны. Но человек не видит их, не испытывает их, не трепещет и не ликует от духовного прикосновения к ним, не загорается, не борется за них и не ищет их осуществления; в нем иссякла духовная любовь, т. е. любовь к Совершенству, а без этого невозможна живая религия. То, к чему тянется масса современного человечества, — не священно, а мимо священного она проходит то равнодушно, то с кощунственной усмешкой на устах. И судьба ее состоит в том, что те, кто сегодня равнодушны, завтра будут кощунствовать и участвовать в воинствующем безбожии...
В горнем плане все реально по-прежнему. Свят и дивен Господь — и в небесах, и в Сыне Своем, и в веянии Своего Духа, и в таинствах благодати, и в тайнах созданного мира. По-прежнему все сущее насыщено священною значительностью. По-прежнему славят Творца — и величие гор, и взволнованное море; и мертвый кристалл, и тайна живого организма; и безошибочность здорового инстинкта, и благоговейно вопрошающая мысль; и пение птиц, и закатные лучи, и ночная тишина, и звездные хоры. По-прежнему нам дается гораздо более, чем мы умеем взять, и прощается гораздо более, чем мы этого стоим.
Но с каждым поколением становится все больше и больше людей, которые не живут в горнем плане, не видят его, не знают о нем и не знают вообще, что он есть. Мир, который они видят, кажется им вещественным и случайным; мысли, которые они накапливают о нем, оказываются плоскими и мертвящими; цели, которые они себе ставят, являются жадными и короткими И вся жизнь их становится безблагодатною, безыдейною и бескрылою, а сами они остаются игралищем собственных страстей и чужих влияний, приказов и угроз. Они лишены хребта, но способны к жадному напору. И если страх еще сдерживает их, то идея давно уже не ведет их. Ими правит не дух, а вожделение И каждый из
них имеет «существование», но редко кто из них причастен благодатному бытию и выстраданной, богодарованной, священной силе. Поэтому им не по силам соблазны разнузданных страстей, прикрытых безбожием. У них нет священных начал, которые они могли бы противопоставить воинствующему нигилизму.
Священное открывается только духовному оку и притом именно оку сердца. Оно не открывается ни телесным ощущениям, ни понимающему рассудку, ни играющему или по-строяющему воображению, ни пустопорожней, хотя бы и неистовой в своем упрямстве, воле. Поэтому тот, кто лишен духовного ока, у кого сердце заглохло, тот не знает ничего священного и ничего не может возразить нигилисту. Житейский материализм, с плоскими мыслями, мелкими чувствами и короткими, жадными целями, бессилен в столкновении с теоретическим материализмом, который утверждает, что таким и надо быть, не стыдясь... Богопустынная душа бессильна перед напором сущего зла; она беспомощна в борьбе с дьяволом, ибо дьявол есть верный «идеолог» безблагодатности, безыдейности и бесстыдства.
Религиозно-слепые и бескрылые поколения нашей эпохи возникли не сразу и выступили совсем не неожиданно: это плод, давно завязавшийся и долго зревший. За этим умонастроением, за этим душевно-духовным укладом лежит история ряда веков. Этот уклад возник из того, что человек ослепился закономерностью материи, стройностью рассудка и силою формальной воли и отдал им центральное чувствилище своего духа, а душевная инерция и эволюция техники доделали остальное. Человек зажил такими органами души, которые бессильны в обращении к священному, которые берут только внешнюю поверхность предметов и отвлеченную сторону мыслей, которые переоценивают силу формальной дисциплины и волевой организации. Бытовая, техническая, государственная (и даже «церковная») «полезность» этого акта утвердила человека в этом укладе: любопытствующий наблюдатель стал успешно обслуживать прозаического корыстолюбца, оба вместе, соединенными усилиями воспитали самодовольного резонера и отдались под защиту формальной морали и формального правопорядка. И когда привычный резонер и формальный плоскодум обернулся назад и увидел внешнюю видимость отвергнутых и заброшенных им святынь, — он иронически и кощунственно засмеялся.
Вместе с Рабле и вслед за Вольтером европейское человечество высмеяло и просмеяло свои святыни. Вместе с Байро
ном оно увлеклось демонизмом. Вместе с Ницше оно выговорило свой нигилизм и свое антихристианство. Этим был окончательно подготовлен религиозный кризис нашей и следующей за нами эпохи.
Началось с рассудочной насмешки. Эта слепая, самодовольная и легкомысленная ирония выдавила себя и наивно принималась за проявление «света», за высшую зрячесть. Бездуховный, религиозно беспомощный и беспризорный европеец стал называться «espril fori» (сильный дух). На самом деле эта ирония закрепляла в душах духовную слепоту и религиозную немощь. Это был не только отказ от священного; это был отказ от серьезного и благоговейного подхода к священному. Эта ирония не только отрезала религиозные крылья у человека, но как бы прижигала урезанные места своим едким ядом, — чтобы крылья и впредь не могли вырасти. Она опустошала душу и показывала опустошенной душе якобы пустой мир. И, следуя за нею, человек привыкал считать откровение вымыслом, догмат — предрассудком, молитву — ребячеством или ханжеством. Мало того, он привыкал стыдиться молитвы, а потом — издеваться над нею, над собою, прежде молившимся, но более не молящимся, и над самим Предметом своей бывшей молитвы. Религиозная слепота стала критерием просвещенности. А жизнь, опустошенная от святыни, стала мало-помалу подлинным царством пошлости.
Солнце не померкло в небесах. Но ослепшие глаза перестали его видеть и утратили его образ. Душа поверила, что солнца нет, и погрузилась во внутренний мрак. Человек осмеял свою духовность и разложил этим свой религиозный орган. Ему остались только те суррогаты религиозности, которые имеют некоторое «наукообразие» (напр<имер>, астрология, атропософия, так наз<ываемая> «христианская наука»); с отпадением их — ему останется прямая и последовательная безрелигиозность. Где сокровище человека, там и сердце его (Матф. 6. 21); именно поэтому ценность человека определяется ценностью его сокровища. Тот, кто вздыхает о ничтожном, тот сам ничтожен; поклоняющийся пустому имеет пустую душу. И вот, отсекновение духа делает человека ничтожным и пустым. Человек, лишенный духовности, не найдет дороги к Богу; ибо дух и притом именно духовность сердца есть главный путь, ведущий к настоящему религиозному опыту.
Вот почему надо признать, что религиозный опыт строится, прежде всего, через субъективную, личную культуру духовности.
огни личной жизни
Мы на земле повсюду с Вездесущим, Везде к Нему душой недалеки.
Жуковский
1
Человеческая жизнь имеет свои сокровенные огни, о которых нерелигиозный человек ничего не знает, но по которым религиозный человек правит свой путь. И чем внимательнее он в них всматривается, тем более зорким становится его око; и чем вернее он их узнает, чем увереннее он правит по ним свой путь, тем более ему удается религиозное очищение, тем духовнее становятся его характер и его жизнь, тем выше его религиозность, тем легче он смотрит в глаза земной смерти, тем счастливее такой человек вопреки всем его земным несчастиям и страданиям и тем значительнее его личный облик и его жизненное дело.
Эти сокровенные огни жизни даются каждому человеку в особицу, у каждого из нас они имеют характер лчччый; они индивидуальны, своеобразны и неповторяемы, как своеобразна у каждого из нас его «жизненная линия» («кривая»), как индивидуальна у каждого из людей его «судьба». В этой личной «судьбе», которую безвольные и бездуховные люди напрасно считают раз навсегда неизменимо и неотвратимо предопределенной, каждый из нас призван стать определяющим фактором, свободным двигателем, решающим духом. Это может и должно удасться каждому из нас. Не потому, чтобы мы были «абсолютно свободны» в смысле индетерминизма, как существа, якобы располагающие «со-вершенно-ничем-нестесненным-произволением» (схоластическое «liberum arbitrium indifferentiae2»): при такой «свободе воли» — человек оставался бы существом неподдающимся никаким воздействиям и влияниям, ни благим, ни дурным; все прошлое было бы для него бесследным, все собственные решения и усилия — бессильными, откровение Божественное — недейственным; так что он шел бы через жизнь, подобный огнестрельному оружию, заряженному чем-то страшным, неизвестным и непредусмотренным. Но такой свободы, слава Богу, ни у кого нет и никогда не было. Она превратила бы человеческую жизнь в хаос чистого случая, непредвидимого беззакония, духовного бессилия и ежесекундно разверзающейся «бездны» зла. Всякое совершенствование, всякое нравственное и религиозное очищение, всякое воспитание характера в себе и в других, всякое социальное и го
сударственное укрепление правосознания и всякая вообще духовная культура, накапливающая и укрепляющая благие силы и способности человека, — все это стало бы совершенно невозможным. Ибо «абсолютная свободность» человека всегда была бы готова посмеяться всем тысячелетним благим усилиям и внезапно извлечь злодея из праведника, и наоборот. Такое учение индетерминизма есть плод психологического невежества, духовной наивности и философского недомыслия.
И тем не менее, каждый из нас призван к свободе: он должен превратить свой земной путь в непрерывное духовное очищение, с тем чтобы сделать свой дух главноопределяющим фактором и свободным двигателем личной жизни. Ибо свобода не дана человеку, как абсолютная независимость от всего, но задана ему, как все возрастающая независимость от зла и пошлости.
Согласно этому жизнь человека может и должна стать постоянным и прогрессивным самоосвобождением. Это самоосвобождение состоит в том, что человек собирает энергию своей любви, своего созерцания и своей воли, укрепляет и присоединяет ее, как внутреннюю силу, к своим духовно-религиозным избраниям и предпочтениям, и к своим совестным и благородным влечениям, решениям и деяниям. Этим человек освобождает себя. Он освобождает себя не от всех и всяких «потребностей», «влияний», «традиций», «влечений» и т. д., а только от пошлых и злых. Он добивается свободы не в смысле полной «неопределенности», полной «пустоты», полного «произвола», да и зачем ему понадобилось бы это систематическое обессиление или убивание в себе всех излучений и веяний Царства Божьего?! Он добивается свободы для своей личной духовной силы, составляющей самое священное ядро его бытия, чтобы она была способна в любой момент жизни «осилить» или «пересилить» «черные лучи» мрака, веяния злобы, соблазны зла и мутные воды житейской подлости и пошлости. Каждый шаг этого укрепления личной духовной силы есть шаг к самоосвобождению и свободе, или, что то же, к религиозному очищению, а это значит — шаг, приближающий к Богу. Поэтому истинная свобода человека состоит — в естественной легкости его Духа, в силе его доброты и со-вестности, в целостной радости Божественному.
Это очищение и освобождение состоит в усилении личного духовного огня, который постепенно становится сначала определяющим, потом—ведущим, затем—главным в жизни, всеохватывающим и, наконец, исключительным Это осуществляется не сразу, далеко несразу. Человекмедленноипосгепеннопроходитчерез эти стадии и только исключительные люди начинают этот путь сразу с высокой ступени и восходят по этой «лествице» легко и быстро.
Такое восхождение требует, чтобы дух человека проникал через внешние покровы и видимости, за которыми таятся дарованные ему «судьбою» «огниличной жизни», и, чтобы он, приемля их, укреплялся их силою. В этом секрет и правило религиозного катарсиса, к которому каждый из нас призван пожизненно.
Что же это за «огни» и как человек может овладеть ими?
2
Огни эти, как уже указано, даются каждому из нас индивидуально и прикровенно, образуя для поверхностного и религиозно незрячего взгляда простую совокупность житейских «условий», «обстоятельств» и «случаев». Духовно слепой человек, «просыпаясь» к сознательной жизни «взрослого», видит себя детищем таких-то родителей, членом такой-то семьи, принадлежащим к такому-то государству и сословию, к такой-то профессии, бедным или богатым, здоровым или больным, одаренным или бездарным, умным или глупым, образованным или полуобразованным, в таком-то жилище, с таким-то знакомством и природоокружени-ем, с такими-то исторически обусловленными или «чисто случайными» событиями и впечатлениями жизни. Все это ему «дается», все это на него «изливается», «влечет» его с собою или за собою, открывает перед ним известные житейские пути и возможности. Из всего этого «слагается» «кривая» его жизни — если он человек со слабою волею-, из всего этого он сам «лепит» и «формирует» свою жизнь, — если он человек с сильною волею. И вот, — религиозно говоря, за всем этим скрываются те жизненные «огни», которые он должен усмотреть, принять и усвоить, чтобы укрепляясь ими осуществить свой жизненный катарсис.
Дело в том, что каждое из этих данных «обстоятельств» и «событий» таит в себе свой внутренний смысл, — свое бремя, свою духовную проблематику, свое задание, а может быть, и свою боль, свое страдание, свое искушение, свой соблазн, свою опасность, свое крушение, но, что всего важнее, — свой зов, свое умудрение и свое приближение к Богу. Нет «безразличных», т. е. духовно пустых или мертвых обстоятельств, нет, по слову Пушкина, «напрасных и случайных даров» жизни; нет — «праздных» событий. Все в жизни «говорит», «зовет» и «учит»; все подает знак, все знаменует о более глубоком и более высоком, все — значительно. «Нет на земле ничтожного мгновения» (Баратынский). И вот, искусство жизни, очищения, роста и умудрения состоит в умении «расшифровывать» все эти посылаемые каждому из нас Божии иероглифы и созерцать их верный и чудный смысл, и не только созерцать, но усваивать его мудрость, — постигая каждое
событие и явление своей жизни, кзкличное обращение Бога кче-ловеку и постигнув так эту мудрость, включать ее в свой характер, в свой дух, в свой акт, в свое сердце, в свою волю, в свою молитву. Тогда все начинает давать человеку свой сокровенный «свет» и «огонь», и внутренний «огонь» человека усиливается от этого и становится определяющим, ведущим, главным и все охватывающим. Жизнь становится духовным возрастанием и очищением; и огни ее ведут человека к Богу.
Не следует сомневаться в возможности такой жизни и не следует долго расспрашивать о том, как вступить на этот путь. Мудрость его исконная, древняя. Он ней знают и религиозные мифы, и народные сказки. И чтобы вступить на этот путь, надо только жить с открытым оком духа.
Человек вступает в непосредственный процесс жизни исполненный трудов, препятствий, опасностей и соблазнов, — и учится у них сокровенной в них мудрости, каждый раз спрашивая, где кратчайшая нить, ведущая от этой мудрости к Богу. Таков тайный смысл подвигов Геркулеса, возводящих его на Олимп. Таково служение Ильи Муромца. Таковы страдания Нала и Дама-янти’. Таковы подвиги средневекового рыцаря. И такова же жизнь каждого человека, живущего ответственным служением.
Человек приемлет поток льющихся на него «обстоятельств» и «событий», предаваясь трудам и опасностям с духовно-поборающей и очистительнойустановкой. Каждое событие подобно д ля него «лампе Аладина», из которой надо извлечь огонь. Каждое жизненное затруднение есть для него как бы «избушка на курьих ножках», которую надо повернуть лицом ксебе Это совсем не «хитроумие» Одиссея, добивающегося личного жизненного успеха (спасения, победы, добычи, освобождения или возврата) посредством плутовства или словесного «вежества» (смеси из любезности и такта). Это скорее предметная прозорливость духа-, это способность «припадать ухом к земле», чтобы услышать сокровенное; это дар символического чтения»-, это искусстворазбирать криптограмму жизненного явления. Его можно было бы сравнить, — но только сравнить, — с искусством древних жрецов разгадывать жизненную ситуацию по «знакам» судьбы или по «знаменованиям» богов (геомантия, гидромантия, пиромантия, астрология, авгурия, ауспиции, гиероскопия, раб-домантия, алектриомантия, гиппомантия, хиромантия4 и т. д.). Но только здесь дело идет не о предвидении будущего, не о личной судьбе и не о жизненном успехе данного начинания (путешествия, похода, закона, торгового предприятия и т. д.), а орелигиозном смысле жизненного явления или состояния, о его катартическом значении в жизни данного человека, о Бого-созерцании и Бого-приближе-нии через восприятие и усвоение «жизненных огней».
Надо привыкнуть к этим вопросам, так, чтобы они ставились сами собой, или, еще лучше, чтобы они никогда не исчезали в душе.
Зачем эта встреча состоялась в моей жизни? Для чего был послан мне этот «случай»? К чему ведет меня это событие? Что этот человек, как духовное явление, имеет «сказать» мне? Зачем послана мне эта болезнь? Почему и для чего я не погиб от этой опасности? О чем говорит мне моя бедность? Чему учит меня мое богатство? Что такое это ежедневное таинственное засыпание, уводящее, погашающее меня и вдруг упорно не наступающее? Зачем мне попался в жизни этот невыносимый болтун? Почему мне так импонирует духовно эта тихая и молчаливая сосредоточенная женщина с лучезарным взглядом? О чем хотела мне сказать эта соната, эта картина, этот собор? Почему мне так непереносимо чувство голода, тогда как Спаситель постился сорок дней? О чем молчит этот столетний бор? Что открывает мне, куда зовет меня неспокойное от ветра море? Отчего мое сердце сжимается блаженным предчувствием при появлении далеких снежных вершин? Почему мне так утешно-радостна грация этого белого павлина? Какие душевные слои всколыхнула во мне ожесточенная злобность этого агитатора? Почему у людей меняются тон голоса и выражение лица, когда им надо лишиться части их имущества? Что мне делать со скукой и беспричинной тоской, когда они овладевают моею душою? Куда деваться от забот, снижающих уровень жизни? Почему люди бывают «не в духе»? Чему учат меня мои и чужие жизненные неудачи? Как преодолеть зависть? Что мне делать, когда меня другой возненавидит? К чему обязывает человека физическая красота? Как мне быть с моею уродливостью, чтобы она не мешала мне жить? Почему так несносно людское любопытство? Что мне делать с моим голодным тщеславием? Как мне преодолеть нанесенное мне оскорбление? В чем различие между умом и хитростью? Как быть с глупыми людьми? В чем сущность подкупности и продажности и можно ли преодолеть их? Почему это у людей накапливается обычно так много пошлого и грязного вокруг эротической стихии? Способен ли я выносить одиночество и если нет, то почему? Все ли люди заслуживают уважения, свободы, права голоса, полномочия на власть? В чем вред лжи? Не бываю ли я лицемерен и в чем именно? Способен ли я пойти на смерть за то, во что я верую? Что такое совесть и как следует внимать ей? Почему люди предпочитают рабство — свободе? Честь — есть ли она пустой предрассудок? Как сделать, чтобы похвала не превращалась в лесть? Как справляться с обидностью порицания? Как отвечать на сплетни и клевету? Почему я так часто бываю бестактен? Всё ли, все ли и всем ли должны прощать? В чем духовный
смысл моей профессии? Всякий ли труд честен и достоин? Почему люди не умеют быть счастливыми?...
3
Есть еще великое множество таких вопросов, которые не должны исчезать с сердечного горизонта. Я говорю — «с сердечного», ибо ставить их надо не просто отвлеченною мыслью, а живым семечно-совестным и совестно-религиозным созерцанием. Сами по себе эти вопросы имеют философическую природу. Однако и в теоретической философии они разрешались плодотворнотолькотог-да, когда они сгавилисьживоюсовесгьюипритомвсвете религиозного созерцания. Ничто так не вредит и не вредило философии, как рассудочно-отвлеченное резонирование о священных вопросах жизни и релятивистическое (т. е. в сущности беспринципное) «конструирование» (логическое выдумывание) отвегонТакая «философия» всегда оставалась мнимою и создавала одну пошлость.
1. Здесь же дело не в теории, а в вовлечении живого человека, — себя самого и своего жизненного опыта, своей духовной субстанции, — в созерцание и в разрешение вопросов. Чем решительнее этот подход, тем лучше: вопрос не о другом, не о других, не о «людях» и не «вообще», а обо мне самом. Чем сильнее у созерцающего это своеобразное чувство: «моя дальнейшая жизнь сложится иначе в зависимости от того, каков будет ответ на этот вопрос», — тем вернее, тем значительнее искание, тем плодотворнее катарсис Это недооценивал, напр<имер>, Владимир Соловьев, когда писал в предисловии к «Оправданию Добра»: «...за время писания этой книги я иногда (!) испытывал от нее нравственную пользу». В процессе религиозного катарсиса жизненное «философствование» будет всегда приносить величайшую пользу, если будет идти из сердечно-совестной сферы самого вопрошающего.
2. Второе условие плодотворности состоит в том, чтобы спрашивающий и ищущий не выходили из Божьего луча. Это означает, что надо искать в разрешении всех подобных вопросов — не деловую целесообразность, не пользу, не житейский успех, не умственный эффект и тем более не парадоксальную (увы, всем столь импонирующую!) «оригинальность», а совестно-религиозную верность, сколь бы «общеизвестным» или даже «банальным» ни казался ее голос. Надо искать, согласно Евангельскому завету. совершенства, всегда вопрошая: «какой исход, какой ответ я мог бы защищать перед лицом Божиим?» Духовные огни отзываются на искренний религиозный зов. Только воля к совершенству дает человеку ту философическую «разрыв-траву», которая отпирает все замки и раскрывает все предметы Кто хочет совершать свой
жизненный катарсис, тот не должен, вопрошая, выходить из Божьего луча Цель этого делания: прорваться к свету. Критерий: совершенство, завещанное Евангелием Признаки верного пути: свет из предмета, огонь в сердце.
3. Третье правило, обеспечивающее плодотворность такого искания, состоит в том, чтобы не отдавать его на жертву праздным и пошлым разговорам. Религиозный катарсис есть дело духовно-интимное и требует от взыскующего целомудренной замкнутости. Не следует все сейчас же выговаривать. С одной стороны, слово слишком часто «рационализирует» и «банализи-рует» духовное обстояние. Находить живые, «точные» (по выражению Пушкина!) глубокие и трепетные слова дано не каждому. Затасканные слова теряют духовную глубину. Неточные слова искажают утонченные содержания. Фальшивые слова способны увести на ложные и пошлые пути. С другой стороны, есть множество людей, общение с которыми на глубокие и интимные темы профанирует жизнь духа: они не видят главного, живут не из главного и берут не по главному; они способны врываться с пошлыми замечаниями или перескакивать на пошлые темы в те минуты, когда собеседник трепетно и вдохновенно созерцает духовные обстояния; они могут вызвать этим в душе стыд за свое духовное обнажение и даже временное отвращение к духовному деланию вообще... Основные законы религиозного опыта,—субъективность, одиночество, автономность и непосредственность, — не терпят грубого попрания и напоминают о себе почти на каждом шагу
Вообще не следует представлять себе все перечисленные и другие им подобные «вопросы», как словесно формулированные и рассудочно оформленные «фразы». Тютчев прав: «мысль изреченная есть ложь...» Здесь достаточно простого религиозно-интенционального обращения ко всякому жизненному содержанию. Так, как если бы каждое из них было повинно раскрыть себя: «откуда ты? что ты можешь сказать мне главного и о главном? куда идешь? куда зовешь? где Божий луч твой?» Или еще проще и короче. это один только испытующий взгляд, спрашивающий и требующий «света Божьего»! Взгляда довольно, но он должен быть духовно зовущим, требующим, религиозно-уверенным и властным. Это должен быть взгляд сердечного созерцания и волевой мысли. И не надо все выговаривать: выговоренное начинает иногда казаться неверным или преувеличенным, — и расхолаживает. Здесь не должно быть преувеличения и аффектации: иначе все искание может показаться «педантизмом» или «ханжеством», — и вызвать в самом ищущем порыв юмора или отвращения. И, тем не менее, этот «испытующий взгляд» никогда не должен покидать душу-, это есть основной катартический воп
рос, задаваемый как бы «духовным привратником души»; он постоянно необходим каждому из нас, — ибо он осуществляет контроль над пошлостью и ведет нас к «огням жизни».
4
Каждый из нас призван к тому, чтобы самодеятельно искать и находить в своей жизни ее сокровенные огни и укреплять ими свой дух. Это входит в тканьрелигиозной жизни: чем больше самодеятельности в процессе религиозного катарсиса, тем полнее и цельнее он будет. Каждый из нас должен самостоятельно отвечать на соответствующие вопросы жизни, превращая своежизне-созерцание и миро-созерцание в Бого-созерцание. Чужие ответы слишком часто остаются «теоретическими», не приемлются сердцем и не строят духа.
Поэтому нет необходимости давать здесь систему ответов на поставленные выше (в виде примера) вопросы жизнесозерца-ния: эти ответы всегда могут показаться кому-нибудь и не удовлетворительными и не убедительными*. Но для того, чтобы пояснить учение о религиозном катарсисе и об огнях жизни, чтобы не предлагать отвлеченной теории там, где необходимы живые и содержательные указания, я попытаюсь сейчас же дать несколько примерных ответов.
Чему учит меня бессонница?
Она наглядно удостоверяет меня, что наш человеческий произвол имеет свои пределы, ибо сон наступает «сам собою» (по выражению Аристотеля — «Зшитон») и не повинуется приказу. Мы живем пронизанные таинственной сетью природных законов, к которым надо прислушиваться, чтобы верно внимать их сокровеннойразумности. Откуда она, эта разумность? Как вступить мне в ее целебные воды? В долгие часы ночного одиночества, покинутый всеми, я дивуюсь на эту Богом созданную таинственную разумность и учусь доверяться ей и предстоять ее Творцу. Бессонница дает мне одиночество; а к Богу можно прийти только оставшись с Ним наедине. Она открывает мне мою беспомощность; а ее необходимо испытать всякому, чтобы узнать, откуда может прийти истинная помощь. Она заставляет меня испытать, что есть тайна сна и благословение сна; а тайна и благословение суть пути, ведущие к Богу. Лучами Духа я освещаю всю свою жизнь и слышу, как освобождается во мне голос моей совести; а голос совести есть срезов Бога и моя молитва к Нему. И так все завер-
* Попытку дать ряд таких ответов я сделал в трех книгах, постепенно восходящих от простых к сложному: «Ich schaue ins Leben», «Das verschollene Herz», «Blick in die Feme»
шается молитвой. Так я хотел бы уснуть и в час смерти. Господи! Благодарю Тебя за эти дары бессонной ночи! Ибо Твой свет светил мне в этой земной тьме!
Что значит эта «скука», переходящая в «тоску» и в безысходное томление?
Мною овладевают безрадостность, мертвое безразличие ко всему, душевная подавленность, духовное бессилие. Мне все не мило, я ничего и никого не люблю. Словно иссякла во мне сила любви, дар видения, способностьрадования. Мир не оскудел со всем своим богатством, во всех своих тайнах и глубинах, со всей своей красотой? Нет, этол оскудел: не горит моя любознательность, не поет мое сердце, не мечтают мои желания. Это означает, что счастье наше — в любви, и что тоска — от ее угасания. Почему же она угасла во мне? Не потому ли, что я плохо и безмерно любил недостойное? Значит, необходимо искусство любви, верный выбор предмета, любовь из главного (она не иссякает!), любовь по главному (она разгорается все сильнее!), любовь к главному (она не разочаровывает!). И если сейчас нет во мне всего этого, то я терпеливо пережду мою тоску и попытаюсь пробудить мою любовь состраданием и добротою.
Чему учит меня моя бедность?
Это школа — суровая, школа унижений: всем кажется, будто бедный — «хуже» других, «недостойнее» других и именно потому осужден жить без «радостей». И вот, человек не должен желать богатства, пока не победит этих унижений, т. е. пока не убедится в их мнимости. Чтобы убедиться, что он не «хуже» других, бедный человек должен найти настоящий критерий добра и зла, и утвердить свое сердце и свою волю в добре; этим он победит первое искушение бедности. Чтобы убедиться, что бедность и богатство не определяют ценности человека, бедный должен утвердить в себе чувство собственного духовного достоинства и тем победить второе искушение бедности. Затем он должен убедиться в том, что богатство не обеспечивает человеку ни любви, ни счастья, ни радости. Истинные источники радости доступны и бедному, и к этим источникам радости он должен найти верный путь побеждая этим третье искушение бедности. И тогда его сердце станет неспособным к зависти, из которой родятся всяческая злоба, пошлость и революционность; тогда он утвердится в доброте сердца и в свободе духа и победит четвертое искушение бедности. Этим он духовно созреет к богатству и всякое имущество станет для него орудием свободы, доброты,любви и духа. Вот для чего нашему поколению послана нищета... Господи! Благодарю тебя за эту дивную школу бедности! Она научила меня духовной свободе от земных «благ»...
Что же предпочесть мне в жизни — ум или хитрость-, чему довериться, чем жить?
Надо предпочесть то, от чего человек делается добрее, благороднее, чище, мудрее; то, что ведет его к духовности и к созерцанию Бога. — Хитрость от инстинкта, она приближает человека к животному; хитрость от чувства опасности, угрожаемости, она есть порождение страха-, хитрость родится из жадности и ведет к вражде, она противоположна любви и означает борьбу всех против всех. Хитрость есть неверие в силу добра и мужества; она свидетельствует о жизненном бессилии религиозной веры. Хитрость можно прощать, но ее трудно не презирать. Она свидетельствует о слабости духа и уводит от Бога. — Но разве ум не уводит от Бога? Разве он исключает пошлость? Разве можно прожить одним умом? Нет! Ум без сердца — мертвец; ум без совести — подлец; ум без воли — глупец; ум без воображения — слепец И вот наша эпоха, приведшая нас к кризису «голого ума», показывает нам вдали новую великую идею, — идею будущего, — идею ума-разума, созерцающего из сердца, желающего из совести, мыслящего духовно и верующего в Бога-, идею, в сущности, древнюю, исконно священную, но нами утраченную. Ради осуществления одной этой идеи стоит жить, страдать и трудиться, ибо в ней залог и начало новой христианской культуры. В ней — наше духовное возрождение.
И так каждый вопрос, из духа рожденный, и каждый ответ, духом найденный, — дают мне свет и очищение, ведут меня к Богу.
Чему учит человека его телесная красота? — Она учит его деликатности, такту, смирению. Она учит его не мириться с собственным душевным безобразием и нравственным уродством; она требует от него внутренней гармонии и духовной красоты, чтобы он не жил среди людей в виде фальшивой маски совершенства, вечным соблазном для духовных слепцов...
Чемуя могу научиться у этого несносного болтуна? — Ответственности за свои слова. Бережливому отношению к праву слова и к излучению слова. Вниманию к глубине слова. Желанию говорить только из главного и по главному. Очищению разговорного «пространства» от пошлости.
Почему мне непереносимо чувство голода, когда Спаситель постился сорокдней? — Потому что мой дух еще не овладел моим инстинктом, который остается своевольным, требовательным, жадным и недуховным.
Чего не хватает тщеславному человеку? — Ему не хватает умения забывать себя в духовных предметах, жить ими, любить их, радоваться им, служить им; ему не хватает воли — быть, а не казаться-, ему не хватает искусства — мерить себя Божиим лучом, а не человеческими оценками.
Честь — есть ли пустой предрассудок? — Честь, как возможность и право уважать себя перед лицом Божиим, есть драгоценнейшая основа жизни. Честь, как право быть уважаемым духовно-зрячими людьми, есть великое утешение в жизни. Уважение людей ко взаимной чести — воспитывает и единит их, отсюда взаимное «отдание» чести. Но внешние почести — нужны не тому, кому их оказывают (ибо его честь не в почестях), но тем, кто их оказывает (ибо преклоняясь перед чужим достоинством, люди воспитывают свое собственное)...
Такому исканию смысла и нахождению света и огня, такому измерению всего критериями духа, такому поставлению всего в Божий луч — каждый человек должен научиться сам в своем оди-ноко-очищающемся сердце. Но лучше всего, если другие люди будут узнавать об осуществляемом им религиозном катарсисе из дел его жизни; ибо каждый шаг по этому пути дает человеку духовное горение, огонь которого излучается и светит другим помимо его воли.
Я легко могу представить себе, что кто-нибудь скажет мне в ответ: «да, на этом пути можно обрести немало мудрости и даже света, но Бога здесь нет и дойти до него этим путем — безнадежно...»
Отвечаю. Когда я в ясный летний день иду далекими полями и солнце озаряет все великие пространства передо мною и надо мною, когда оно благостно согревает меня, даруя мне жизнь и врачуя меня теплом, когда я даже могу взглянуть на него, правда, лишь кратчайший миг, чтобы не ослепнуть, ибо не дано мне «орляго зрака» — тогда — «дошел ли я до солнца» или это «безнадежно»? Или его свет и тепло — не «оно само»? — Конечно, не «оно само»... Но другого пути к нему у нас нет.
Все великие религии знали, что нельзя узреть Бога не очистившись; и потому вырабатывали учение о катарсисе И были правы. Пока человек идет пыльной дорогой, он пылит и сам застит себе солнечный свет. Пока он бредет по болоту туман застилает ему зрение. А в ночь греха солнца не видно совсем. Сократ был прав, когда верил в то, что Совершенное постигается лишь в меру личного очищения. И чтобы увидеть Бога, необходимо вступить в Его чистые и светлые пространства. Вот почему Христа узнавали и принимали не все, но лишь «чистые сердцем».
5
В таком процессе самодеятельного духовного очищения человек приобретает постепенно целый ряд воззрений, которые незаметно становятся его жизненными убеждениями, драгоценными основами егорелигиозности. Это будут не «догматы», не «теории»,
не отвлеченные построения, придуманные субъективно и выдаваемые за нечто объективное. Это будут верные способы религиозно жить, созерцать, творить и молиться. Это будут живые черты религиозного акта, которые породят новую христианскую культуру
1. И первое, что это очищение духа даст человеку, — это живое ощущение тайны, из которого родится всякая подлинная религиозность.
Мы окружены этой тайной, — до рождения и в самомрождении, в течение всей жизни, в смерти и после смерти. Кто ее не испытывает и не видит, тот слеп умом, скуден сердцем и мертв воображением. Мы таинственно засыпаем и видим сновидения, таинственно предчувствуем и молимся. И весь мир вокруг нас есть живая тайна, — в своей безмерной огромности, во внутренней глубине своих малейших частей, в своей сплошной тотальной сопринадлежности, в своем самодеятельном равновесии, в своей молчаливой разумности, в своем неизъяснимом величии. Великие люди всегда трепетали душою перед этой тайной, — от Конфуция, с его дивным учением о Тао6, до Коперника, с его переходом от изучения мира к молитве; от Анаксимандра, с его созерцанием Беспредельного, до Ломоносова, с его поэтическими размышлениями о Божием величии; от Аристотеля, выводившего все познание из «изумления», до Лейбница, пропевшего философический гимн тайне мироздания; от Леонардо да Винчи, этого неутомимого Божьего «следопыта», до Карлейля, утверждавшего, что всякому истинному познанию предшествует искреннее поклонение; от Василия Великого, исповедовавшего, что мир есть «художественное произведение» «художественного Ума», до Пушкина, явившего собою это таинственное художество.
Все великие ученые приступали к своим исследованиям с живым чувством предстояния великой тайне и кончали их в уверенности, что они далеко не преодолели и не исчерпали ее; они никогда не воображали, что плоские темы человеческого рассудка способны к этому, и потому они неповинны в современном духовном оскудении и опошлении науки. Великие художники и артисты жили и творили из этого чувства живой тайны. Чего ждать от воспитателя, неспособного осязать живую тайну в душе воспитываемого ребенка?
Можно прямо признать, что все истинно великое в истории человеческой культуры создано из этого чувства; так же будет и впредь...
И вот, религиозное очищение души вновь освобождает и возрождает в человеке это великое чувство, приучая его к тайне ду-ховнойлюбви, к тайне живого созерцания, к тайне совести и к тайне молитвы. Эти лично-субъективные тайны ведут нас к
церковно-объективным таинствам, к которым плоский и пошлый акт современного человечества утратил всякую способность. Церковные таинства открывают человеку возможность не только созерцать Божию тайну, как данную, и не только переживать ее про себя в любви, созерцании, совести и молитве; но п участвовать в ней в качестве призванного участника, — душою и телом, сердцем и волею, словом и делом, очищением и приобщением*
2. Это искусство созерцать живую тайну и благоговейно подходить к ней — вызовет в очищающейся душе то драгоценное смирение, которое составляет необходимую основу всякой подлинной религиозности.
Привыкая созерцать сердцем живую тайну мира, человек возвращается к себе с чувством своего бессилия и своей малости. Вначале это может показаться ему неприятным и тягостным. Многие именно на этом останавливаются и начинают отрицать тайну, для того чтобы не испытывать своего «ничтожества», ибо тщеславие их не терпит никаких «унижений» и гордость их запирает им пути к Богу. Но те, у кого дух уже окреп и у кого потребность в совершенстве вышла за пределы личного самолюбия, те испытывают от созерцания таинственного величия Богозданно-го мира такое предметное удовлетворение и настолько глубокое предчувствие Божества, что разрешают эту проблему совсем иначе. Они привыкают «вычитать себя» из этого предметного об-стояния, не оскорбляясь, и созерцать величие, не испытывая унижения; они смиряются душою и именно вследствие этого начинают духовно расти. И уже скоро они начинают замечать, что духовное созерцание Бога и художественно созданного Им мира дает им новые, неожиданные силы и возносит их на новую, неиспытанную дотоле высоту. Тогда они начинают понимать великое значение смирения-, оно есть дверь, ведущая к подлинной религиозности; оно научает самозабвению в Предмете; оно воспитывает в человеке неутомимость искания и самосовершенствования; оно научает человека — не унижающему его духовно поклонению «в духе и истине»; оно дарует ему столь драгоценное чувство духовного и религиозногоранга, без которого нельзя создать никакую культуру.
3. В теснейшей связи с этими двумя дарами религиозного катарсиса — с тайночувствием и смирением — стоит третий дар благодарности. Благодарность есть условие подлинной религиозности, и современный человек должен непременно возродить в себе эту потребность и способность.
Душа, созерцающая тайну мироздания и сквозь нее начинаю-щая постигать величие и благость Божию, душа приемлющая
* См. в моей книге «Blick in die Feme» главу «Утраченная тайна».
это в смирении, — видит себя утопающею в неописуемом богатстве-. нам дан весь этот великолепный мир не только для участия в его жизни и для пользования его возможностями, но и для наслаждения его красотою, для радования на его стройность, для его изучения и познания, для подражания ему в искусстве и технике. Как возможно принимать эти чудеса холодным и черствым сердцем? Это значит не видеть их и не переживать их предметно...
Благодарность же есть ответ живого сердца на оказанное ему благодеяние. Оно отвечает любовью на любовь, верностью и смирением на благодеяния. И человек скоро убеждается в том, что у него не хватает сил для достойного благодарения Бога за Его дары, которые он узнает не только во всех силах, законах и красотах мира, но и во всех «огнях» своейличной жизни. Замечательно, что это чувство не гасит благодарность в сердце, а превращает ее в неугасающую потребность.
Вот почему можно и должно признать, что благодарные души религиозны и потому неспособны ни к зависти, ни к ненависти, а неблагодарные души лишены религиозности, и потому они не знают ни тайночувствия, ни смирения, а живут в ненависти и зависти. И потому будущее принадлежит благодарным душам...
4. Теперь нетрудно убедиться в том, что религиозное очищение вообще и в частности следование по «огням жизни» сообщит человеку еще один дар — дар сердечного созерцания.
Современная культура вступила в величайший исторический кризис именно потому, что она на протяжении последних веков «выветрила» этот дар и утратила его. Человечество поверило уму, оторвало его от созерцания, превратило его в плоский рассудок и стало стыдиться своего сердца, считая его проявлением «мечтательной глупости». Холодный, черствый, высчитывающий ум и бессердечная черствая, расчетливая воля презрительно отстранили созерцающее сердце — эту главную евангельскую силу — и стали строить культуру самостоятельно. Отсюда все бедствия наших дней.
Одолеть их можно только через включение созерцающего вчувствования во все сферы культуры — в науку, в искусство, в воспитание, в мораль, в политику, в суд и в хозяйство. И прежде всего и больше всего — в религиозность. Вот к этому акту созерцающего вчувствования и возвращает человека религиозный катарсис, следующий по «огням жизни». Ибо этот катарсис приучает спрашивать о Боге всегда, искать Его лучи во всем, вопрошать о них сердцем и для этого созерцать всякую жизненную данность, вчувствуясь в ее сокровенный духовный смысл. На этом пути художник найдет настоящий «предмет» своего искусства*; ученый обретет новый
* См. мою книгу «Основы художества. О совершенном в искусстве», а также главу об искусстве в книге «Blick in die Feme»
смысл и новый метод познания; воспитатель отыщет ключ к разрешению самых сложных проблем и к пониманию самых утонченных детских натур;моралист вернется к идеям любви, совести и доброты; судья разрешит по-новому вопросы вины и наказания’; wo-лшгаг/снайдетновые основы справедливости, свободы, правосознания, закона и правления; в хозяйстве раскроется глубина органически здорового хозяйственного акта. И все это окажется проявлением углубляющегося и обновляющегосярелигиозного опыта. Это и будет путь, ведущий к созданию новой христианской культуры.
5. Оправдание сердца, смирения и благодарности создастнеза-метно расцвет доброты, и это будет новым даром жизненно-религиозного катарсиса. Современное человечество утратило доброту. Даже «общественная благотворительность» его, иногда столь умно иудачно организованная, строится на политическом и хозяйственном расчете, она не радует немощного, не утешает страдающего, а обижает их черствым недоверием и унижает их педантическим контролем. Доброта доверчива, деликатна и любовна. Она есть луч из Царства Божьего... Она есть живое благоволение. Она говорит человеку вместе с Преподобным Серафимом Саровским: «радость моя!» Она есть бальзам для растерзанного и страждущего мира; она всегда мечтает о живом органическом все единстве
Но приобрести ее можно только в процессе религиозного очищения, движущегося по «огням жизни». Приобрести ее — значит разбудить ее в своей собственной глубине, в глубине своего сердца и своей совести.
Сердце человека должно все простить и запеть от со-чув-ствования, со-радования и со-страдания; а совесть человека должна приобрести свою христиански-первоначальную силу и дать человеку упоение добротой. А для этого необходимо «богомолье», идущее по «огням жизни».
Только этот путь и может привести человека к религиозной цельности.
НЕУДАЧА
Устоять пред неудачей — первое, чему должен научиться каждый. Откровенно говоря: кто не понимает этого, тот — не мужчина. Простите! Так же и не женщина. Скорее всего, это—трусы обоего пола.
* См. главу восьмую моей книги «О сущности правосознания»
И тем не менее, каждый из нас должен однажды сдать экзамен на свою первую большую неудачу. В честь этой первой неудачи здесь дается несколько утешительных советов.
Да, конечно, это мучительно; часто даже страшно мучительно: столько надежд, столько усилий и столько огорчений!
Итак, первое: не погрязать в неудаче, не стенать, не составлять «длинный список потерь» и не думать о них непрестанно. Предоставим зверю зализывать раны. У человека есть более достойный выход: не признавать рану души своей. И — всё.
Второе: нельзя представлять себя единственным несчастным дитятей на белом свете; ведь у каждого были неудачи, и у всех они будут. Нельзя также воображать, что эта неудача была «фатальной» или «непоправимой». Пока жив человек, все можно исправить, каждую неудачу можно и должно обратить в успех; да, даже каждый дурной поступок может и должен быть искуплен и произрасти исцеленным в ткани раскаивающегося, творческого духа.
Третье: нельзя, чтобы неудача казалась вам «позором», особенно в чужих глазах. Существуют миллионы таких глаз. Стоит только представить себе, что из миллионов глоток кричат тебе: «Позор! Позор!», чтобы никогда больше не подняться на ноги. Для того, кто свободен от этой тяжести, неудача не является позором. В неудаче человек ощущает себя, конечно, внизу, как будто он свалится с горы, как будто он лежит там обессиленный... Но поэтому нужно как можно скорее покончить с этим! Близящийся успех уже зовет тебя: ты не можешь ему изменить.
Четвертое: неудача — лучшая школа успеха. С ней надо обращаться как с предметом тренировки, как с необходимым закаливанием; как с источником понимания и мудрости жизни; как с дорогим поучением, как с трамплином для новой борьбы. Но это означает, что неудачу нельзя отдавать на расправу оскорбленным и разочарованным чувствам, ее необходимо воспринимать с помощью воли и обращаться с ней как с проблемой воли, и с помощью спокойного исследовательского разума — как с проблемой разума Тогда путь куспеху проложен!
Скажи себе, твердо и решительно: «Задача была поставлена правильно; она осталась невыполненной; ее надо осуществить; это была лишь попытка; сейчас я снова займусь ее решением. Как мне лучше сделать это?»
Затем нужно продумать все так, как будто это была чужая неудача, на которой надо учиться: «Откуда пришла неудача? Чего мне не хватило? Где я действовал неправильно? Возможно, неосторожно или нерешительно? Возможно, заносчиво, поспешно, бестактно?» Надо всегда спрашивать и отвечать так, как будто речь идет о добром друге, которого, к сожалению, постигла неудача и
которому надо помочь словом и делом. Чтобы умолкло собственное тщеславие и своенравие; чтобы выработать привычку спокойно переносить собственные недостатки и ошибки (а возможно, и собственные грехи и пороки) и научиться смирению; чтобы научиться извлекать из неудачи не только отдельную предстоящую удачу, но и — что более важно — возможность укрепить и облагородить собственный характер. И тогда, пожалуй, пусть жизнь превратится в беспрерывную неудачу: в любом несчастье, при любом промахе победитель поднимет голову. Ведь в жизни действительно существует нечто большее, чем просто жизненный успех, а именно — духовная победа над мелочным тщеславным поганцем в собственной душе!
Не правда ли, этот выигрыш — не второстепенное дело, непосредственно задуманное нами? Разумеется! Но в жизни часто бывает так, что в первоначально «второстепенном деле» позже узнаешь главное. Хотелось пробиться к «удаче», а обнаружилась дорога к победе, к духовному просветлению. И победитель, возможно, будет думать о совсем иных удачах, чем те, которых ему удастся достичь, и он будет славить свою прежнюю неудачу как составляющую настоящего счастья.
Поэтому — счастья тебе! Вперед, к неудаче!
БЕЗБОЖИЕ
«Если ваш Бог существует, покажите нам его! Где он? Где обитает? Где место его? Нигде! Ни один микроскоп не обнаружил его Ни из одной подзорной трубы его не увидеть. Поэтому не лучше ли прекратить подобные толки?»
На столь вызывающий вопрос следует непременно дать ответ — ответ простой, ясный, научный и точный. Мы достаточно долго медлили с ним.
Где находится наш Бог?.. Если под этим «где» предположить определенное место в пространстве, то он не находится нигде Но вы, господа безбожники, должны, тем не менее, признать, что есть реалии, которыми занимается позитивная наука, однако пространственно они не существуют. Это предметы без «где», без резиденции, места пребывания и местожительства; применительно к которым бессмысленными оказываются микроскоп и подзорная труба, атомный вес и химическая формула, но которыми, тем
не менее, занимаются целые факультеты. Попробуйте-ка, господа, обратиться с вашим «где» к юристам (примерно так: надо рассмотреть в микроскоп — покупку, сдачу внаем, право выбирать); или — добиться ответа от математиков (примерно так: «Где местонахождение дифференциала или чистой величины в пространстве?»); обратитесь к психологам и спросите об удельном весе души, помучайте логика вопросом, может ли он разглядеть в подзорную трубу понятие. Для вас из этого выйдет одна стыдоба, а для любого другого — бессмыслица. Итак, прекращайте свою болтовню о «где»!
И спасайтесь, мои господа! Измените скорее свой неосторожный вопрос Хорошо, так-то лучше: вы спрашиваете теперь, не происходит ли познание Господа из определенного опыта и доступен ли этот опыт всем?
Да, конечно, такой опыт есть; и как о любом опыте, о нем надо заботиться и облагораживать его. Поэтому он недоступен для всех. Примерно так, как в науке и искусстве: три, четыре, пять лет подряд заботится слушатель высшей школы о своем опыте и облагораживает его для того, чтобы правильно осознать и понять что-то; а вы хотите безо всякого судить о Боге? Кто научил вас превратному мнению, что силой суждения обладает каждый? Кто сведущ во всем? Кто чувствует себя в любой области как дома? Познают и учатся жестянщик и сапожник, а вы в самой глубокой и тонкой области духа хотели бы рубить сплеча?!.
Что это за опыт? Мне придется вас тотчас препроводить в переднюю, где я вас покину, поскольку там начинаются самостоятельные жизнь и видение; там надо отдать самого себя, распахнуть свое сердце, открыть духовное око, чувствовать, усваивать, схватывать, созидательно творить... Там необходимо заботиться о своей душе и очищать ее.. .
Этот опыт начинается слюбви. Кто ею не обладает, кто проповедует лишь ненависть, тот остается за дверьми. Однако любовь должна быть истинною, задушевною и искреннею; здесь не поможет тепловатое лицемерие. Эта любовь должна иметь дело с качеством, истинным, неподдельным качеством, совершенством; во всем — в природе, в искусстве, в отношениях человека с человеком, в науке, в социальном строе. Там, где скрещиваются любовь и качество, где любовь к совершенству становится пламенем, там начинается религиозный опыт, там человек находится в луче Господнем, там он смеет перейти из передней во внутренние покои. И нам не дозволяется открыть ему то, что придется ему пережить в них.
Не хотите этого, господа, тогда идите своей дорогой; но будьте корректны и не судите о том, что вам не по силам. Иначе то-то будет опять стыдоба!
ЗАВИСТЬ
Добрые и злые феи подошли к колыбели человека и принесли ему свои дары. Самая злая из них подарила ему зависть. Возможно, это была переодетая фурия.
Пока люди живут на земле, они должны ладить, находить дорогу друг к другу, объединяться, помогать один другому Иначе земля разверзнется под ними и небо расколется над их головой. Но зависть — сильнейшее средство развала: его выдумал когда-то мастер «Врозь» и «Друг против друга».
Для того, чтобы ладить, людям надо «прощать» друг другу свою непохожесть, свои преимущества, свое первенство. Не только в обладании состоянием, но во всем: ты умен, одарен, образован, красив, силен, богат, высоко стоишь по службе — я нет, ты — наверху, я — внизу; ладно, я принимаю это, я довольствуюсь этим... Мой «низ» меня устраивает; он для меня достаточно «высок»; оставайся выше меня, если можешь и если тебе это нравится. Я не завидую тебе. Если же мне станет недостаточно моего «низа», я буду бороться за «больше» и «лучше», но не желая отнять у тебя твоего. Я буду трудиться; творчески работать; перемещу себя «вверх» — в соревновании, но без зависти. Ты только оставайся «наверху», я поднимусь к тебе.
Соревнование как внутренняя побудительная причина — явление здоровое, созидательное, братское. Его формула разумна и нравственна. Она гласит «Я, и ты, и он! Мы все! Вместе — вопреки противостоянию вместе друг с другом! Да здравствует качество!»
Зависть — как внутренняя побудительная причина, — напротив, болезненна, разрушительна, враждебна. Ее формула — неразумна и безнравственна. Она гласит: «Я, а не ты и не он! Я один! Пошли все вон! То, что не станет моим, — пусть погибнет!» А так как «моим» может быть лишь малая толика, в зависти дремлет инстинкт убийства и разрушения.
Зависть — прежде всего скупость и алчность. Она ненасытна, как любопытство; она означает тем самым — вечную бедность, вечную заботу, вечно плохое настроение; всякую удачу она превращает в неудачу и оставляет человека бедствовать в безнадежном одиночестве. Жестокий завистник — зложелатель: он обижается на человека за чужое счастье; его задевает всякий чужой успех; любое положительное качество в другом мучит его как рана на сердце; гнев лишившегося на обладателя наполняет его, как ярость неполноценного, постоянно чувствующего свою неполноценность, а поэтому пристрастно отмечающего чужое превосходство. К «делу» он даже не подступается: он застревает в
борьбе между «я» и «ты»; и в этой вечной борьбе изводит себя самого и своего противника. Если же его ярость расширяется до социальной программы, тогда она выливается в классовую борьбу; и начинается марксистская гражданская война.
Где же спасение и утешение? В искусстве не завидовать. Оно вовсе не сложно. Дари каждому то, что у него и так есть; и не копайся непрестанно в собственной неполноценности. Отбрось это жалкое «вычитание» — твоей мнимой «малости» из якобы чужого «превосходства». Знай, ты сам стоишь «сложения». Поднимайся вверх, не сталкивая вниз другого. Не завидуй! Не завидуй! И — самое важное — научись в большом деле забывать о себе!
САМОМНЕНИЕ
Оно имело место во все времена, но прежде никогда не встречалось в подобном масштабе. Эпоха все опошляющей популяризации, эпоха полунауки и полуобразованности вызвала к жизни этот тип человека. Он воображает, что умен и рассудителен, что все понимает, что знает «это» и еще кое-что, что он может «то» и еще многое. Наконец, он «все» может. И уже из одного этого он орет, третирует всех, загоняет в угол, клеймит позором. Он выступает самоуверенно и напыщенно и повергает в изумление весь мир; его могло бы, пожалуй, устроить разве что всемирное землетрясение. Меньшим он едва ли будет удовлетворен.
Чего он только не «знает»! Для него не существует трудностей и тайн: все плоско и примитивно. С Богом—давно покончено. Отечество — предрассудок. Национализм — предубеждение. Частная собственность — хищение и злоупотребление. Человек — похотливая тварь. Наука — классовый обман. Свобода — лишь во всеобщей пролетаризации. И вообще — мир должен склониться и не пищать.
Понятно: не могут все быть равно образованными и равно скромными. Многие знают немного. Ладно. Но вот один знает мало и не подозревает об этом; он наивен. Другой знает столь же мало, как и первый, однако воображает, что знает много и точно; значит, он предается высокомерию. Наивный еще даже и не размышлял о самом себе; его собственная умственная способность и власть, их пределы еще не стали для него проблемой. Высокомерный, напротив, поднял на щит самого себя. Он безмерно переоце
нил свои возможности. Он неверно очертил свои пределы. Мания величия точит его нутро, как червь.
Каждому из нас нужно здоровое доверие к себе («то, что я могу, я точно могу»); никому не впрок дурная заносчивость («я больше того, что я есть») Заносчивость возникает из иллюзии; но ведь на иллюзии не построишь ничего верного, ато, что все же на ней строится, — гнило и хрупко. Так, высокомерие как будто создано дня того, чтобы наказать себя. Свои опасности оно несет в себе; его тяжкие последствия дремлют в его лоне. Его слабость суждений, его надменность, его глупо-дерзкая работа локтями ведут его к гибели.
Умный часто подвергает свой ум сомнению; он постоянно осязает собственные пределы, а когда находит их, старается расширить органично, а не перешагнуть через них механически; он упражняется в аскетичности суждений. Глупый — наоборот: ему даже в голову не приходит, что он может быть глупым; свою малость он считает истинной величиной и полнотой, и кара следует за ним по пятам.
Это — подлинная судьба коммунистического государства Возникшее из высокомерия — ибо марксизм, прежде всего, духовное и экономическое высокомерие! — оно впадает в большевистскую грубость и в коммунистическую манию величия. И кара дремлет в его лоне: она означает разрушение качества во всех областях жизни.
От высокомерия нет спасения. Ему надо пройти суровую школу объективности; оно должно научиться первой христианской добродетели — смирению и усвоить его. Ибо в смирении человек постепенно становится тем, чем на самом деле должен быть. Ему раскрываются высота и глубина, он предстает пред Лицом Господа и чувствует себя в Руце Божией. Только так у него вырастают крылья; и он ощущает их, не впадая в высокомерие.
МИРОВАЯ ПЫЛЬ
Притаившись, мягким пластом лежит она в колеях проселочной дороги и ждет только повода, чтобы взмыть и полететь: ветер ли заиграет, лошадь ли поднимет ее копытом или колесом — ей все равно, взлетит или облепит путника, и он не так легко отделается от нее А если налетит настоящий вихрь и начнет вертеть, то она понесется смерчем, вздымаясь и торжествуя... Куда ни взглянешь — пыль повсюду. И в солнечном луче летают и золотятся
миллионы легких пылинок сверкнут, покрасуются и исчезнутвтени; значит, и тень полна ими... Где молотят или веют, там ей свободный полет: ее отдувает в сторону, а тяжелое зерно тихо струится в мешки и закрома. И напрасно хозяйки стараются отделаться от нее, выбивая ее из ковров и стирая ее с мебели: они только будят ее ото сна и наполняют ею воздух. Пыль оседает на черных лицах трубочистов и угольщиков; слсживается пластами на забытых книгах; ищет себе пристанища в мировом пространстве. А когда самум поднимает песок пустыни и несет его ураганом навстречу страннику, то она заслоняет ему самое солнце и дышит ему в лицо гибелью.
Кто вдумается и оглядится, тот найдет ее повсюду: и в золе от костра, и на свежем яблоке, и в человеческих легких, и в людской болтовне, в скучающей душе и в глупой книге, в хвосте кометы и в распадающемся обществе, и особенно во всех гражданских войнах и революциях. Все ветры бытия кружат ее во всех пространствах, отпавшую, беспочвенную и заблудшую; с виду безвредную, но в сущности — обременительную и несчастную, беспризорную и беспокойную. Ибо она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слаженном порядке бытия и стала живым символом мирового хаоса и мировой угрозы. Пыль—это неустроенное множество, это хаос мировой безработицы, это надвигающийся распад и разложение.
Весь мир ищет единения и устроения; вся жизнь его проходит в борьбе за живой, творческий порядок; и смысл мирового множества в том, чтобы найти себе верную сопринадлежность, целесообразное взаимослужение, творческое равновесие. Так обстоит на всех ступенях бытия: и в малой клетке и в величавом течении планет, и в полевой былинке и в личной душе, в произведении искусства и в человеческом обществе. Всюду мир живет необходимым и выбрасывает излишнее; и там, где лишнее бывает извергнуто, оно или распадается в мировой прах, или смыкается в болезненное «новообразование», грозящее расстройством и гибелью.
И вот в этом великом созидательном вращении мира малый атом имеет свое призвание: он должен верно постигнуть свою природу и свое отношение к целому, утвердить свою внутреннюю свободу и свое бытие и добровольно включиться в общую связь вселенной, в ее трудовой порядок Если это удастся ему, то жизнь его сложится верно и счастливо: он будет развиваться и цвести, и этим расцветом своим служить великому делу вселенной. Если же это ему не удается, то он не найдет ни своего служения, ни своего ранга; он окажется отпавшим и беспочвенным, одиноким и неустроенным, и присоединится к мировой пыли. Одинокая и безработная пылинка, бесцельно вращаясь в жизни, носится туда и сюда, как отвергнутый изгой, как праздный вертопрах, как беспризорное дитя мира. Жизнь ее лишена смысла и цели, ибо у нее
нет питающей почвы и нет органической сопринадлежности; ей остается только слоняться в безделии, томиться и бунтовать... Существо, отколовшееся от мира, не участвует в великом хоре вселенной, и его личный голос не ведет свою самостоятельную и верную мелодию. Оно не несет совместно с другими бремя мирового бытия; и именно поэтому для него становится невыносимым и личное бремя жизни. Счастье примирения, включенности, вселенского братства не дается ему. Его судьба иная: вечная бесприютность, вечная жалоба, вечный протест, пока оно не найдет своего призвания, своего органического места, своего служения, а потому и счастия: ибо на свете нет счастия вне служения и нет покоя в одиночестве. Атом мира, нашедший себя в мире—уже не жертва «случая» и не дитя хаоса: он обретает свою7шчи)то свободу в служении мировой необходимости и вступает во вселенный хор, поющий осанну...
Правда, есть в мире «мудрость», которая пользуется и пылью, как пассивным орудием, как слепым и притом страдающим средством — пусть оторвавшимся и несчастным, но все же полезным целому, пусть несогласным и бунтующим, но вынужденным повиноваться; так что и хаос некоторым образом таинственно служит космосу. Но эта безжалостная «мудрость» не дает оторвавшемуся атому ни удовлетворения, ни покоя, предоставляя ему слепо страдать и проклинать свою судьбу. Отверженное дитя мира, отовсюду выколачиваемое и выметаемое, блуждающее в пространстве наподобие вечного жида, не может утешиться мыслью о том, что и пыль, и грязь, и бактерии, и злодеи играют какую-то неясную роль во всеобщей «экономии мира»: эта мысль не дает ему ни избавления, ни счастия. Все неустроенные атомы мира — образуют единую, великую проблему мироздания, великое бедствие и грозящую опасность. Рано или поздно они начинают объединяться и поднимают восстание — то в космическом пространстве, то в пустыне, охваченной самумом, то в форме болезненного «новообразования» организма, то в виде социальной революции или гражданской войны...
Такова великая «организационная» задача мира: пыль должна быть принята и включена в живой порядок вселенной и общества, она требует от нас избавления и исцеления — счастья через свободное служение. Это не задача «мига» или «часа», это не случайное заболевание, исцеляемое по какому-то единому рецепту: нет, это задание всегдашнее, вечное, требующее постоянных усилий, все новых и новых мудрых и в то же время бережных мер. Ибо в великом вращении и формировании мира всегда будут вновь и вновь появляться отпавшие и неустроенные атомы, выброшенные, неприспособившиеся, «потерявшие голову» и не
способные вложиться в работу целого. И всегда будет возможность, что такие блуждающие атомы, протестующие и ожесточенные, сгрудятся и затянут мрачный гимн злобы и отвержения — протестуя против неустроившего их Творца, грозя космосу завистью и ненавистью, неся другим людям месть, уравнение и порабощение...
...Однако великая проблема «пыли» имеет еще иную сторону и иное значение. Ибо во внутренней жизни человека имеются свое распыление и своя особая пыль. Живя изо дня в день, мы совсем не замечаем, как душу нашу засыпает пыль ничтожных, повседневных мелочей и как самая душа наша начинает от этого мельчать, распыляться и вырождаться. Каждая человеческая душа имеет призвание стать неким гармоническим единством, живущим и действующим из единого духовного центра. Человек должен обладать духовно укорененным характером. Он должен быть подобен городу с единым крепким кремлем, в котором покоятся почитаемые им святыни. Или еще: он должен быть подобен художественному произведению искусства, в котором все обосновано единою, главною идеею. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя пылью и распылять себя по мелочам.
Вот почему нам надо постоянно отличать духовно-существенное от неважного, главное от неглавного, руководящее от пустяшного, священное и значительное от мелочного и праздного; и притом для того, чтобы все время налагать ритмический акцент жизни на значительное и священное. Тут дело не в бегстве от пустяков, не в важничанье, не в педантизме или ханжестве, а в укреплении духовного вкуса и распознавании вещей. Надо постоянно приводить наши жизненные содержания в связь с нашим духовным центром, измеряя их его светом и его содержанием так, чтобы они освещались из него и обличали свое истинное жизненное значение: то, что устоит в свете этого центрального огня и оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпочтению, а все иное, неоправдавшееся, само будет обличаться и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли. Не все потребно духовному организму для его внутреннего строительства; то, что не может служить ему, пусть выделяется и не живет в нашем внутреннем пространстве. Жить — значит различать, ценить и выбирать; кто этому не научится, тот будет засыпан пылью жизни. Жить — значит укорениться в главном и организовывать из него свой характер и свое мировоззрение; кто не способен к этому, тот сам распадется в прах и потеряет сам себя...
Все ничтожные мелочи нашего существования — все эти несчастья, низменные и пустые «обстоятельства» жизни, которые
желают иметь «вес» и «значение», а на самом деле лишены всякой высшей существенности; все эти праздные, беспризорные жизненные содержания, несущиеся на нас непрерывным потоком, все эти засыпающие нас пошлости, которые претендуют на наше время и на наше внимание, которые раздражают нас, возбуждают разочаровывают, развлекают, утомляют и истощают — все это пыль, злосчастная и ничтожная пыль жизни... И если мы не сумеем избавиться от нее и будем жить ею, отдавая ей пламя нашего существа; если мы не воспитаем в себе лучшего вкуса и не противопоставим ей более сильную и благородную глубину духа, то пошлость поглотит нас: наши жизненные деяния утратят высший смысл, станут бессмысленными и безответственными; наш жизненный уровень станет низменным; наша любовь станет капризною, нечистою и нетворческою; наши поступки станут случайными, неверными, предательскими — и дух наш задохнется в пыли бытия...
Тогда наша жизнь окажется поистине «даром напрасным, даром случайным» (Пушкин); она утратит свой смысл и свое священное измерение. Человек, доживший до этого, блуждает как бы в тумане и видит, по слову Платона, лишь пустые тени бытия. Занесенный прахом, он сам поднимает прах, целые облака пыли, и именно поэтому он, по слову епископа Беркли, из-за поднятой им пыли не видит солнца. А когда им овладевают страсти, то влага этих страстей, смешиваясь с прахом его ничтожной жизни, становится липкой грязью, которою он и наслаждается, по словам Гераклита...
Притаившись у дороги нашей жизни, лежит вокруг нас эта коварная пыль; и лучше нам не тревожить ее и не посылать ее клубы по ветру. Незаметно забивается она во внутреннюю горницу нашей души и оседает на всем, что в ней укрыто; вот почему нам необходимо умение очищать от нее наши душевные пространства, и тот, кто этим искусством пренебрегает, рискует однажды задохнуться в своей собственной пыли. Ибо от пыли вырождается в человеке все: и мышление, условно «комбинирующее» относительные, отвлеченные понятия (логическая пыль); и беспочвенная, беспредметно играющая образами фантазия (эстетическая пыль); и воля, оторвавшаяся от своих священных корней, циничная, властолюбивая и жестокая, воспринимающая человечество как безличную, политическую пыль; и холодное и омертвевшее сердце, разучившееся любить и засыпаемое нравственно безразличным прахом существования...
А если сердце заглохло, то человек наполовину мертв; и не справиться ему с жизненной пылью И современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха.
О БОЖИЕЙ ТКАНИ
Вчера зашел ко мне мой сосед—душу облегчить. Он посидел у меня с полчаса, долго раскуривал свою прокуренную трубочку и под конец рассказал о самом важном, что у него лежало на сердце.
«Мой отец, знаете, был очень добрый человек Он давно уже скончался, но как вспомнишь его, так на душе тепло и светло сделается. Он был, понимаете, портной; хороший портной, мастер своего дела; так умел построить костюм, что просто заглядение. К нему из соседних городов франты приезжали и всегда бывали очень довольны: так — посмотришь, будто нетничего особенного, а приглядишься—ну просто художество. И всегда обо всех людях болел. Сам шьет, что-то грустное напевает, а потом вдруг скажет «Нехорошо вчера соседи Митревну изобидели, зря, все виноваты перед ней»; или: «Петру-то Сергеевичу надеть нечего, надо бы ему справить»... И опять шьет.
Бывало, разволнуется и начнет мне о «ткани» рассказывать; а он никогда не говорил «матерьял» или «сукно», а всегда «ткань» «Присмотрись, — говорит, — Николаша, к людям. Ведь мы все одна ткань. Вот, гляди, каждая нитка к другой приникла и держит ее; все сплелись друг с другом, все вместе к единству сведены. Вот выдерни из этого суконца одну нитку, и всю ткань повредишь. Если только одна ниточка не удалась, сплоховала, истончалась или порвалась, так весь кусок выходит в брак Ни один хороший мастер этакую больную ткань не возьмет, ни один заказчик и смотреть на нее не станет. Так и гляди, выбирая, чтобы не промахнуться, чтобы больной ткани и в заводе у меня не было.
Вот и с людьми так же. Мир от Господа такустроен, что мы все — одна сплошная ткань. Все друг к другу приникли, все друг друга держим и друг другом держимся. Если одному плохо, то всем нехорошо, а люди этого не разумеют: глупы, близоруки. Думают: «Что мне до него, когда мне самому хорошо»... Ана самом-то деле нетак И если одному которому-нибудь плохо, то он мучается и болеет, и его мука от него во все стороны распространяется. Ходит угрюмый и других угрюмит. От его беспокойства всем неуютно. От его страха у всех раздражение делается. Люди друг к другу злым местом повертываются: не доверяют, подозревают, обижают, ссорятся. И все чувствуют, что это от него идет и на него за это раздражаются. И он это чует, отвернется, в себя уйдет, ожесточится. Ему любовь нужна, а они к нему с раздражением. И никто не видит его муку, а видят только его угрюмость, жестокость, сварливость; и не любят его... И вот разрыв, порвалась ткань, врозь идет, расползается. Надо скорей чинить Дыру; а никто за это не берется: «Мне, — говорят, — какое дело? его беда, он и чини». А разрыв все растет, и ткань испорчена. А чинить можно только любовью: твоя беда — моя беда, моя беда — общая...»
А еще отец так говаривал: «Ведь это и в хозяйстве так Бедный человекне одному себе беден, а всем. Нищий человекнеусебя просит, а других тревожит, о муке своей говорит, язву свою обнажает. Где беда, там общая беда; где голод, там всем хлеб горек Безработный не один скитается, мы все им заболели Все равно как зуб заболит, заболит—и весь человек в смятении. Несостоятельный человек, неудачник или пьяница — он свою беду во все стороны излучает, всех задевает, всех бременит. И опять вся ткань испорчена; и надо как можно скорее чинить, помогать, дыру заделывать. Где ты не можешь, я за тебя смогу; где оба не сможем, другие вывезут».
Сердечнейший человек, знаете, был отец. И помогал всем, везде, где только мог. «Я, — говорил, — починкою был занят», «дырку заштопал». И так, бывало, делал: собирает отрезки от всех сукон и костюмов, иной раз прямо выпросит остаточек у заказчика и подбирает — вертит, лицует, составляет, подгоняет; очень ловко... И потом шить начнет. И уж тогда веселые песни поет. Глядишь — жилет построил или брюки. А иногда и целый костюм подберет: завернет аккуратно в платок в снесет бедняку. И тому запретит рассказывать: этого, говорит, никому не надо знать; молчи, и все. И только мы в семье понимали, что происходит Аужлюбили его, как редко кого. И за советом приходили, и просто поплакать.
Нет, знаете, разбогатеть он не хотел; ни к чему это, говорил. Сами прокормитесь Ка-кое наследство... Вот что о ткани говорил, это наследие. А как почуял смерть, позвал меня и сказал: «Ухожу, Николаша. Не грусти. Все мы — нити в ткани Божией; и пока живем на земле, дано нам эту ткань беречь и крепить. Помнишь ты, был хитон у Спасителя, несшитый, цельный, весь тканый сверху донизу. Вот этот хитон нам помнить надо. Все мы — нити его и по смерти призваны врасти в него. Помни о нем. Это ткань Божия. Береги ее в земной жизни: каждую нитку крепи, от сердца ревнуй. Сердце больше всего слушай. О чем оно вздохнет, то и делай. И все будет хорошо...»
Вот и кажется мне, знаете, что он прав был. Все мы — одна ткань И в этом, чуется мне, мудрость жизни сокрыта...»
О ДУХОВНОСТИ ИНСТИНКТА
Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его инстинкта. Если дух в глубине бессознательного будет пробужден и если инстинкт будет обрадован и
осчастливлен этим пробуждением, то в жизни ребенка совершится важнейшее событие и дитя справится со всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни: ибо «ангел» будет бодрствовать в его душе и человек никогда не станет «волком». Но если в детстве это не состоится, то впоследствии всякие уговоры, доказательства и кары могут оказаться бессильными, ибо инстинкт со всеми его влечениями, страстями и пристрастиями не примет духа и не сроднится с ним: он не будет узнавать и признавать его, он будет видеть в нем врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда будет готов восстать на него и осуществить свои желания. Это будет означать, что инстинкт утверждает в себе «волка»; он знать не знает «ангела» и отвечает на его появление недоверием, страхом и ненавистью.
В этом состоит секрет воспитания, его живая тайна. Но именно это и упущено нашей эпохой: последние поколения человечества разучились воспитывать в детях духовность инстинкта и тем открыли для них гибельные пути. Грядущая культура должна понять эту ошибку и обновить свое педагогическое искусство.
Не следует сводить человека к его «сознанию», мышлению, рассудку или «разуму»: он больше всего этого. Он глубже своего сознания, он проницательнее своего мышления, могущественнее своего рассудка, богаче своего разума. Сущность человеческого существа — утонченнее и превосходнее всего этого. Его определяет и ведет не мысль и не сознание, но любовь, даже и тогда, когда она в припадке отвращения судорожно преобразуется в ненависть и окаменевает в злобе. Человек определяется тем, что он любит и как он любит. Он есть бессознательный кладезь своих воззрений, безмолвный источник своих слов и поступков; он есть подземный ручей своих пристрастий и отречений, своих мечтаний и страстей; он есть гармония и дисгармония своих «неодолимых» влечений. Именно поэтому сознательная мысль не проникает до главных и глубоких корней человеческой личности и голос разума так часто бывает подобен «гласу вопиющего в пустыне»; и потому образование не воспитывает человека, а полуобразо-ванностъ развращаетлюдей.
Воспитание человека начинается с его инстинктивных корней. Оно не должно сводиться к разглагольствованию или проповеди; оно должно сообщить ребенку новый способ жизни. Его основная задача не в наполнении памяти и не в образовании «интеллекта», а в зажигании сердца. Обогащенная память и подвижная мысль — при мертвом и слепом сердце — создает ловкого, но черствого и злого человека. Вот почему образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, на
пористых и беззастенчивых карьеристов; оно вооружает противо-духовные силы; оно развязывает и поощряет в человеке «волка».
Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его инстинкта.
Но, говоря о духовности или о духе, не следует представлять себе какую-то непроглядную метафизику или запутанно-непостижимую философию. Дух есть нечто, что каждый из нас не раз переживал в своем опыте и что нам всем доступно: но только один переживал духовные состояния и содержания с радостным наслаждением, другой — с холодным безразличием, третий — с отвращением или даже со злобою. Дух не есть ни привидение, ни иллюзия Он есть подлинная реальность и притом драгоценная реальность, — самая драгоценная из всех. Тот, кто жаждет духа, должен заботиться об обогащении своего опыта; не о наполнении своей памяти из чужих книг и не об изощрении своего ума умственной гимнастикой; но о разыскании в непосредственной жизни всего того, что придает жизни высший смысл, что ее освящает. Один найдет творческий смысл жизни в природе, другой — в искусстве, третий — в глубине собственного сердца, четвертый — в религиозном созерцании. Каждый должен найти свою собственную дверь, ведущую в это царство; каждый должен найти ее сам, и самостоятельно переступить через ее порог. Но это лишь первый шаг; это только вход, обретение, начало; это только первый луч восходящего солнца. И чрезвычайно важно, чтобы этот шаг был сделан в самом раннем детстве, ибо — это надо всегда помнить, — все последующие шаги человека до известной степени подобны его первому шагу. Первый луч солнца должен озарить детскую колыбель-, только тогда дитя станет «солнечнымребенком», а взрослый человек понесет через жизнь «лучезарное сердце».
Дух живет повсюду, где появляется или переживается людьми Совершенство-, и даже там, где человек искренно стремится к совершенному или хотя бы к объективно-лучшему (Божественному), не достигая его и не осуществляя его. Мудрый римлянин был прав, когда сказал: «in magnis et voluisse — sat est»7. В великом и божественном — весит и желание: сердцем хотел, но совершить не сумел, и зачтется желание по пасхальному слову Иоанна Златоуста.
Этот свет Совершенства в жизни природы и человека, это влечение к Божественному составляет духовный смысл природного естества и человеческой жизни; и притом не только в значении внешней и далекой «цели», но и в значении внутренней и реальной творческой причины. Совершенное может быть уподоблено не только дальней, зовущей звезде, но и сокровенной органической силе, творчески определяющей жизнь природы и человека. Кто увидит это в духовном созерцании, тот скажет: мир
имеет смысл, потому что ему светит совершенство, и более того:мир имеет бытие, потому что в нем живет и его направляет стремление к совершенству. И всюду, где мы находим это, мы обретаем духовное измерение вещей и жизнь самого духа; переживая это, мы приобщаемся духу; приемля это, усваивая это и включая в свою жизнь — мы становимся сами духовными существами, «чадами духа». Без духа и вне духа мы не имеем истинного бытия, а остаемся, по слову Гоголя, «существователями».
Но если кто-нибудь принял в себя начало духа и начал духовную жизнь, то перед ним открываются новые горизонты, и он вступает в новый план бытия. Он убеждается в том, что дух есть «воздух» и «хлеб» человеческой жизни, ибо человек задыхается и изнемогает без него. Дух есть дыхание Божие в природе и в человеке; сокровенный внутренний свет во всех сущих вещах; начало, во всем животворящее, осмысливающее и очистительное. Он освящает жизнь, чтобы она не превратилась в мертвую, невыносимую пустыню, в хаос пыли и в вихрь злобы; но он же сообщает всему сущему силу, необходимую для того, чтобы приобщиться духу и стать духовным. А это и есть самое важное в воспитании.
Человеку от природы присуща способность распознавать и отличать духовное, а также склонность принимать дух и включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого тяготения исходили все великие воспитатели человечества; на них они строили, к ним они взывали, их старались оживить и укрепить. Именно их имел в виду Платон, истолковывая земную очевидность как «припоминание идей, предвечно созерцавшихся человеком в мире сущего бытия».
Где-то в глубине человеческого бессознательного находится то «священное место», где дремлет первоначальное духовное естество инстинкта. В детстве его сон нежен и чуток, душа еще не обросла тою грубою «корою», которая будет образовываться и нарастать на ней в течение дальнейшей жизни; душевная оболочка у ребенка еще тонка и чувствительна. Подобно алмазу в хрустальной чаше, покоится в младенческой душе дух инстинкта и как бы ждет луча благодати, чтобы взыграть светом; или, подобно ребенку в колыбели, ожидает он, чтобы Божие солнце разбудило его своим светом. И это должно совершиться; и это должно повторяться, чтобы дух человека пробудился раз навсегда для всежизненного бодрствования и не заснул бы уже никогда.
Маленький ребенок прозябает в непосредственной беспомощности и живет потребностями своего маленького организма в забвенной дреме инстинкта. Более сильные и глубокие впечатления извлекают его из этого сумеречного состояния, иногда толчками, и проясняют сначала его сознание, а потом и само
сознание. Этого «пробуждения» не следует ускорять нарочно и искусственно. Но как только эти проблески сознания начнутся, необходимо позаботиться, чтобы пробуждающие впечатления имели характер благостный и духовный, чтобы они исходили от духа и будили в младенческой душе духовные состояния. Впоследствии у ребенка будет много разных впечатлений, и острых, и тяжелых, и болезненных, и даже мучительных: будут и настоящие духовные травмы (ранения). Но первые детские ранения не должны потрясать инстинкт, не пробуждая его духовную глубину. Детский инстинкт, раз потрясенный во всей своей беспомощности грубым и жестоким впечатлением, раненный в своей слепоте, может пережить неизлечимую или почти неисцелимую душевную судорогу, если у него не будет необходимой и драгоценной духовной опоры. Поэтому педагогически так важно, чтобы духовность инстинкта была пробуждена до этих неизбежных потрясений и ранений.
И вот воспитатель (мать или отец) имеет великую и ответственную задачу пробудить детскую душу при первой возможно-стлучом божественной благости и красоты,любви и радости, чтобы она очнулась из своих забвенных сумерек, от чувственного наслажденчества и пережила благостное пробуждение. Ласковый взор и голос матери уже начинают это дело. В глубине инстинкта должно открыться духовное око, чтобы, трепеща от счастья, воспринять Божий луч, идущий к нему из мира, и влюбиться в его сияние; чтобы душа раз навсегда поверила в благую силу мироздания и восхотела новой красоты, новой радости и новой гармонии; чтобы она полюбила божественное иуверовала в Бога. Ребенка надо приобщить к божественному счастью на земле как можно раньше-, тогда, когда он еще ничего не знает ни о горечи жизни, ни о зле мира; когда душа его не испытала еще ни жестокости людей, ни суровости природы; когда он полон естественной доверчивости и богат первозданной чистотой.
В мире есть чудесные сочетания красок —- естественно-гармоничные, для вкуса безупречные, нежные и разнообразно богатые; надо показать их ребенку и радовать его ими. В мире есть изумительные, одухотворенные светотени, пленившие когда-то Леонардо, венецианцев и Рембрандта; надо, чтобы веяние их коснулось ребенка и дохнуло на него. Есть простые и нежные мелодии* — их так много в русских народных песнях, колыбельных, свадебных и хороводных, — которые ребенок должен полюбить еще в колыбели. Мать, поющая их своему младенцу, начинает его истинное воспитание: это дух ее инстинкта обращается к духов
* Напр., Andante-Cantabile из первого квартета Чайковского; «Мечтающее дитя» из Детских сцен Шумана и др.
ности его инстинкта, рассказывая ему о возможности любви и счастья на земле. Какие чудесные колыбельные были пробуждены этим пением в младенческой душе и потом возвращены миру в композициях великих музыкантов! Душа засыпающего ребенка пела эти песни вместе с матерью и воспринимала сквозь них первозданное пение ангелов (Лермонтов); и потом унесла их в жизнь, как благословение материнской любви. Простой народ верит, что бывают люди с «злым глазом», которые могут «сглазить» ребенка, повредив ему душевно, духовно и телесно. В этом поверии кроется доля живой природной мудрости. В самом деле, бывают человеческие глаза, полные ненависти и зложелательства, магнетически перенапряженные и гипнотически сосредоточенные: они действительно в состоянии психически ранить впечатлительную, доверчивую и ничем не защищенную детскую душу. Заряд злобы бываету таких людей слишком велик; внушающая сила слишком действительна; младенческая душа слишком обнажена, а духовность инстинкта еще не пробуждена и не обороноспособна. Поэтому правы те матери, которые ограждают своих детей от таких противодухов-ных, душевно ранящих и разлагающих взоров, ибо злоба людская на самом деле гораздо более распространена и могущественна, чем думали доселе духовно неопытные люди.
Но если ребенку минуло три года, если он начал наблюдать внешний мир и чувствилище его открылось для новых восприятий и переживаний, то надо дать ему целое богатство духовных впечатлений. Надо направить его внимание на самые красивые и изящные явления природы и их таинственную целесообразность. Рано еще затруднять его «объяснениями»; достаточно, чтобы он заметил совершенство, скрытое и явленное в мире. Пусть залюбуется красотою бабочек и цветов, их нежными тонами, их изысканною, но хрупкою формою; пусть всматривается в величавое и легкое, а иногда грозное и глубокое зрелище облаков; пусть вслушивается то в рокот соловья, то в ликование иволги, то в ласковые переливы жаворонка; пусть полюбит молчаливый гимн бора, трепет осины, шелест березы, ропот дуба; пусть всмотрится в добродушную задумчивость коровы и научится ласково говорить с нею; пусть оценит своевольный ум коня, лукавое изящество кошки, верный взгляд собаки и ночной клич петуха. Пусть почует природной жизни: дивную судьбу зерна, величие грозы, красоту инея, строгость мороза и ликование весны. И пусть понесет в сердце благоговение, чуткость и благодарность.
Ребенок должен как можно раньше почуять реальность чужого страдания и научиться вчувствоваться в него, чтобы жалеть, беречь и помогать и идти на деятельную помощь. Необходимо найти прямой и близкий путь к его сердцу и научить его
хотеть добра и стыдиться зла. Пусть навертываются у него слезы на глазах от русской жалующейся песни; пусть он научится умолкать при звуках серьезной и глубокой музыки. После пяти-шести лет он должен услышать о героях своей страны и влюбиться в них; он должен научиться «стоять» вместе с ними, бороться, побеждать и не искать награды. Надо, чтобы он научился вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, что родился русским, и вместе с Гоголем — радостно дивиться на гениальность русского языка. Чем раньше он начнет скромно, но уверенно гордиться своею русскостью, тем лучше.
Ребенку необходим поток мужественной и братски-товари-щескойлюбви от отца иженственно-ласковой, религиозно-совестной любви от матери. Не надо преувеличений; но в сердце его должна навсегда расцвести почтительная и нежная благодарность к родителям, пробудившим его сердце и укрепившим его духовность. Он должен открыть свое сознание голосу совести и научиться внимать его бессловесным призывам к совершенству; и, что важнее всего, он должен несколько раз, по собственному почину отдаться этому голосу и осуществить в жизни его требования, чтобы познать совесть не только через угрызения за грех, но через творческое осуществление ее зова.
И после каждого духовного пробуждения, восприятия, потрясения и свершения надо говорить ему о том, что есть благостный Господь, знающий его илюбящий его; так, чтобы ему самому захотелось молиться; и тогда научить его лучшим и кратчайшим молитвенным словам и несколько раз помолиться при нем и с ним вместе — огнем своего взрослого сердца. Потом надо показать его сердцу Христа, Сына Божия. И сердце его узнает Его — само, безошибочно и навсегда.
Так пробуждается в ребенке его инстинктивная духовность, и «ангел» входит в сокровенную глубину его сердца. И, что особенно важно, это чтобы эти беседы и восприятия не превращались в скучные уроки, набивающие голову и принудительные для инстинкта; напротив, надо, чтобы из каждого такого переживания инстинкт извлекал свою сущую, искреннюю радость Инстинкт долженрадоваться духовному совершенству, встречать его умилением, благодарностью, любовью. Пусть «волк» инстинкта воззрится на духовного «ангела», и встретится с Его взором, и узнает в Нем свое собственное высшее и лучшее естество, и восчувствует к нему доверие и благодарность, и привяжется к нему любовью и верностью: ибо «ангел» взирает кротко и благостно, и «волк» должен получить от него этой благости и кротости. Тогда они найдут друг друга и соединятся на всю жизнь. «Волк» предоставит в распоряжение «ангела» всю свою инстинктивную силу. Он будет нести радостно
свое служение и глаза его не будут сверкать злобою. А «ангел» не будет горестно и беспомощно плакать о погибшем человеке.
Киплинг рассказывает, что когда животные в Индии ищут друг у друга помощи, то они приветствуют друг друга кличем «мы с тобою одной крови», и это заклинание всегда оказывается действительным и отказа в помощи не бывает: ибо звери и птицы признают высшее, объединяющее их кровное родство. И вот подрастающий ребенок должен пережить дважды соответствующее духовное сродство. Сначала — во встрече «волка» с «ангелом»: «ангел, я твой преданный волк!»; «волк мой, а я — твое собственное духовное естество...» А потом — в обращении к Богу: «я есмь искра твоя, о, священное Пламя мира»; или по-христиански: «Отче, я Твой верный и благодарный сын...» Тогда человек утвердит себя в духовности и станет религиозно-цельным.
Это и есть важнейший акт воспитания. Ибо «воспитать» значит сделать из ребенка не преуспевающего человекоугодника, а духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нем как можно раньше духовный <угалъ»: чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте Это откроет ему путь вверх и даст ему духовную свободу. И тогда может однажды настать тот прекрасный день, когда им действительно овладеет сверхличное пламя духа и он явится людям, как Божие орудие, как светящий и призывающий факел своего народа.
Итак, дух и инстинкт совсем не противоположны друг другу. Напротив: дух есть высшее естество инстинкта, а инстинкт есть элементарная, но органически целесообразная сила самого духа. Раздвоение их, а тем более поотивоборство — болезненно, опасно и совсем не соответствует великому замыслу Божию. Дух человека совсем не призван к тому, чтобы оставаться мертвою возможностью или же отвлеченным, неосуществляющимся долженствованием: безжизненным законом над бездною греха. Дух человека призван к живому творчеству; он должен будить, побуждать и вести человеческий инстинкт в том смысле, как выразился однажды римский оратор Квинтилиан: «instinctus divino spiritu» («побуждаемый божественным Духом»...)*.
Инстинкт же не должен предаваться своим разнузданным влечениям. Он призван нести бремямира и служить осуществлению божественной ткани в пределах мироздания. Он должен принять эту задачу свободно и творить с радостным усердием. Ибо человеческий дух есть дух инстинкта, а человеческий инстинкт есть инстинкт духа.
Слово «инстинкт» происходит от латинского глагола «instin-guere», что значит «побуждать», «возбуждать», «двигать»
И может быть, близится счастливое время, когда люди поймут этот закон, примут эту истину и пойдут по этому пути. От этого зависит все будущее нашей культуры.
СПАСЕНИЕ В ЦЕЛЬНОСТИ
Человек, находящийся в состоянии внутреннего раскола, есть несчастный человек. Он остается несчастным и тогда, если ему в жизни везет, если ему все удается и каждое желание его исполняется. То, что ему удается, не радует его и не дает ему удовлетворения, ибо одна часть его существа не участвует в этом удовлетворении. Исполнение его желаний тоже не дает ему радости, потому что он и в самом желании своем остается расколотым и не способным к цельной радости. Никакое внешнее счастье не делает его счастливым, потому что он внутренне несчастлив от своего распада. Никакой жизненный успех не дарует ему ни наслаждения, ни успокоения. У него не хватает внутреннего органа для того, чтобы быть счастливым. Этот внутренний орган называется гармонией, согласованной тотальностью (т. е. целокупностью) влечений из способностей, единением инстинкта и духа, согласием между верой и знанием.
Человек, несущий в себе внутреннее расщепление, не знает счастья. Его ждет вечное разочарование и томление. Он обречен на вечную и притом безнадежную погоню за новыми удовольствиями; и везде ему предстоят неудовлетворенность и дурное расположение духа. Добиваясь и не получая, требуя и не находя, он все время ищет нового, неиспытанного, но приятного раздражения, и всякое «обещание» обманывает его. Он начинает измышлять неслыханные возможности; он утрачивает вкус, искажает искусство; извращает чувственную любовь; и вот он уже готов воззвать ко всем безднам зла, перерыть все углы и закоулки порока, чтобы раздобыть себе новое наслажденьице или, по крайней мере, раздраженьице и испробовать какую-то небывалую утеху и усладу. Ему нельзя помочь; ему трудно помешать; он должен выпить до дна чашу своей немощи и своих заблуждений, что ныне и происходит в мире... В том виде, который ему внутренно присущ, он не найдет разрешения, цельной и успокаивающей радости; и никогда не постигнет, что такое блаженство. Тот, кто обречен на частичное самовложение в жизнь, тот проживет на земле в
сумерках уныния: его не обрадует никакая радость и солнце не даст ему своих лучей.
Было бы великой ошибкой толковать это вечное недовольство, как знак более утонченной и благородной натуры, которая не может удовольствоваться банальными жизненными путями и обычными, «земными» удовольствиями. Внутренний раскол, душевная расщепленность, духовная нецельность совсем не есть какое-то «высшее достижение», перед которым надо только преклоняться и которому надо подражать; напротив, это есть болезнь духа, которую необходимо преодолеть, от которой надо исцелиться. Хотя психологически нетрудно понять, что такие расщепленные и, в сущности, духовно больные люди любят воображать и изображать себя как неких «сверх-человеков»... Нам нисколько не импонирует, когда герои лорда Байрона выступают с таким суверенным самочувствием, как если бы их меланхолия или ипохондрия превращала их в каких-то «полубогов». Напрасно было бы преклоняться перед Фаустом как перед сверхчеловеком только потому, что Гете сообщает о «живущих в его груди двух душах, желающих оторваться одна от другой», и потому, что он решает подчиниться дьяволу, обещающему засыпать его земными наслаждениями. Люди восемнадцатого и девятнадцатого века имели мужество осознать и громко выговорить унаследованный ими душевно-духовный раскол. Но это мужество внушило им самоуверенность, верховную гордость и вызывающую манеру держаться; и в результате внутренний раскол выдавался и принимался за некое высшее достижение, за признак сверхчеловека и новой эпохи. Разногласия между верою и рассудком существовали в Европе уже давно. Но в дальнейшем постепенно сложились апология разложения ираспада, неприкрытое восстание против Бога и всего Божественного, систематическое опустошение жизни от всякой святыни и категорический разрыв с Христианством. В конце концов этот разрыв с христианством был выражен у Ницше тоном откровенной ненависти и вызывающего упоения и нашел себе практическое осуществление и завершение в событиях последних десятилетий (1917—1953).
Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он неспособен к целостной очевидности. Если истина вступила в его сознание, то его чувство молчит и не отзывается на нее, и он отвертывается от нее, объявляя ее «не очевидным содержанием сознания», каковых в жизни имеется многое множество. Про него можно сказать, что он не умеет владеть своим достоянием и не способен принять приобретенное им богатство. Увидев Свет, он знает, что это «свет», но он не созер
цает радостную светлость этого света и остается к нему безразличным. Так он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает признать ее и у других и встречает ее иронией и насмешкой; и чтобы закрепить эту иронию, он выдвигает доктрину, согласно которой человек вообще не способен к достоверному знанию (агностицизм) и обречен на то, чтобы воспринимать все лишь относительно и признавать «релятивно» (релятивизм). Отсюда возникает систематически воспитываемое и поддерживаемое малокровие познания, принципиальное «ни-да-ни-нет», т. е. бегство от очевидности. Вот почему расколотый и нецельный человек оказывается духовно обессиленным человеком. Он не способен иметь убеждения, В вопросах, требующих исповедания, он немощен и беспомощен. Перед лицом истины он расслабленный человек.
И таким он является во всех областях духовной культуры. Так, например, проблему добра и зла он подменяет вопросом об относительно-полезном и сравнительно-вредном (утилитаризм) и решает этот вопрос в зависимости от случайных, рассудочных соображений. А в глубине души он считает, что «умные люди» вообще не занимаются этим пустым и компрометирующим вопросом — о зле и добре.
Если ему приходится говорить об отечестве и о патриотизме, о правовой свободе, о справедливости, то он и здесь становится на «умную» точку зрения релятивизма, и притом потому, что его патриотизм и его правосознание настолько же расколоты, нецельны, неискренни и ослаблены, как и его очевидность.
Религии он вообще не имеет, и религиозность его мертва, потому что вера требует от человека целостной очевидности сердца и не удовлетворяется никакими частичными компромиссами и никакой тепловато-безразличной терпимостью; все, что он может найти в себе для религии, это «вежливое невмешательство в чужие воззрения», но за этой «вежливостью» на самом деле скрывается презрение к обскурантам, и это «невмешательство» может в любой момент превратиться в агрессивную «борьбу с предрассудками, суевериями и клерикализмом».
Единственная область духовной культуры, которую он готов поощрять, это искусство, особенно если оно забывает о своем великом служении и стремится угождать его капризам. Но тогда оно должно отречься от своих здоровых и глубоко укорененных традиций. требующих целостного созерцания и вдохновения, и вступить на путь частичных, условных и относительных замыслов; искусство должно заняться своим чувственным нарядом и как можно заманчивее, как можно эффектнее разукрасить его; оно должно предаться опьяняющему «импрессионизму», или дико
невиданному «футуризму», или вымученному, острому и пряному «модернизму»; чтобы получить успех и признание, оно должно стать наружно-внешним, притязательным, экстравагантным, оно должно вызывать у пресыщенной и безразлично-сонной публики нервную щекотку...
Все это создает выродившуюся культуру, и в основе этой выродившейся культуры лежит выродившаяся жизнь, душа расколотая, духовно-бессильная, малокровная и нервно-растрепанная, беспочвенная, неукорененная и отвергающая все безусловное и окончательное. Расколотый человек всю свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, которую он обозначает словом «разум», «разумный», и минутным капризом, которому он так охотно предается под именем «настроения». Если ему удается держать кое-как равновесие между тем и другим, то его существование становится выносимым; если это ему не удается, то он становится жертвой ипохондрии и ведет жалкое существование. Он вообще не знает, что начать, и главной целью его становится обогащение; все иное, высшее —- недоступно ему, ибо более глубокие источники и настоящие святыни жизни не существуют для него. Отсюда эта беспредметная тоска или скука жизни, которая владеет современным «цивилизованным», но культурно и духовно опустошенным человеком.
Если он любит, то он всегда неуверен в своей любви, ибо и она, как и все иное в нем, одностороння и частична. А если он не любит, то и нелюбовь его столь же прохладна и творчески бессильна. Пророчески сказано об этом у Лермонтова:
И ненавидим мы, и любим мы случайно, Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови...8
Если такой человек говорит «да», то это половинчатое «да», из-за которого темным и подозрительным призраком смотрит «нет»; но если он отрекается и говорит «нет», то и отречение его столь же условно, относительно, срочно, неокончательно и недостоверно. Его слова следует воспринимать как звуки, ибо смысл этих слов почти всегда многозначен, а их духовная ценность всегда неуловима и проблематична. Во всяком жизненном положении он может сказать и поступить «так», но может —- и совсем иначе; ибо слова и решения его духовно беспочвенны и высшей необходимости в жизни он не знает; да и связывать себя ему нет охоты. Он лишен важнейшей и драгоценнейшей основы духовного характера: единого, единственного, всеобъединяющего центра жизни.
Зрелый духовный характер подобен укрепленному городу, в центре которого находится кремль: здесь построен храм Божий, с алтарем, на котором горит неугасающее пламя. Это и есть священный центр города, откуда заимствуют свой огонь все семейные очаги «огнищан». Здесь всё соединяется и все объединяются; отсюда исходят все важные решения; отсюда излучается центральная воля, все организующая и упорядочивающая; здесь сосредоточивается сила, здесь вооружается верность, отсюда светит разум.
Расколотый человек совсем не может себе и представить такой личный характер, такой жизненный ритм. Напротив, ему нравится то внутреннее несогласованное «многосмешение», в котором протекает его жизнь, — эта собственная дисгармония, эта ничем-не-связанность, этот капризный произвол, — и он объявляет эту душевно-духовную смуту «высшей дифференциацией духа»... В нем сосуществуют рядом несколько «центров»; он ни одному из них не обещает верности и воображает поэтому, будто он выше всякой измены и всякого предательства. Как только один из этих «полуцентров» (или, вернее, одна из этих «точек зрения») оказывается неудобным или неудовлетворительным, так он «переезжает в другую квартиру» и опять устраивается с удобством, ничем не связанный, ко всему готовый, ни во что не верующий, ничего не любящий, скорый и легкий в предательстве и всегда самодовольный. И при всем том он совсем не понимает ни своего действительного состояния, ни своей великой беды; и если бы кто-нибудь стал объяснять ему его недуг, он не захотел бы ни слушать, ни верить; а если бы Божий луч осветил его душу, то он зажмурился бы, чтобы не увидеть правду.
Этот раскол в современном человеке был с самого начала чреват грядущим разложением. Он возник в ту эпоху, европеец отверг авторитарную религию и предался свободному исследованию и свободной мысли. Свободное исследование было бы вполне соединимо и согласуемо с христианской религией — путь, на который указал Василий Великий в своем «Шестодневе». Человеку с самого начала было дано и указано от Бога воспринимать божественное откровение не только из Священного писания и не только из личного духовного делания — из любви, из совести, из молитвы, из культурного творчества, — но еще и из созерцания богосозданной природы и твари, в сокровенном существе которой заложен великий замысел ее Творца. Однако исторически развитие пошло иным путем. Начался процесс секуляризации; католическая церковь не питала доверия к свободно исследующему человеку и стремилась ограничить или совсем подавить эту опасную свободу; а исследователи стали испытывать церковную опеку как неудобоносимое бремя. И вот люди обратились к при
роде с напряженным любопытством и с естественной любознательностью, но отвернулись от церковного христианства; а раз отвернувшись от христианства, они отвергли и его дары — и прежде всего христианскую любовь и сердечное созерцание. Так, созерцание было заменено наблюдением, а наблюдение стало светским, близоруким и самодовольным; оно велось с величайшим усердием и подъемом, но в обращении к чувственному миру оно стало уходить все дальше и дальше от христианского духа. Оно освобождалось все больше от религиозных предпосылок, признавая их «эмпирически ненужными гипотезами» или даже прямыми помехами, и поставило себе задачу — все понять и все объяснить без Бога. Наблюдающее изучение природы не нуждалось уже в понятии «Бога», как объясняющей гипотезе, и признало наконец, что его «объяснения» оказываются тем более удачными и успешными, чем последовательнее оно отказывается от идеи Божественного вообще. И только философы пытались еще говорить о Боге; однако и у них эти высказывания становились все более неопределенными и скудными, ибо рационализм все повышал свои запреты и все строже требовал «последовательности», постепенно превращая идею Бога то в идею «субстанции вообще», то в идею «духа» вообще, избегая касаться вопроса об «абсолютном» и впадая в скудоумный релятивизм.
Так, сердечное созерцание христианства и боголюбивый и боговзыскующий созерцательныйразум превратились постепенно в отвлеченный рассудок, в сухое наблюдающее и анализирующее мышление, в «индукцию», оторванную от созерцания сердца и вчувствования. Этот метод вытачивался сначала в изучении внешней, материальной природы, а затем был перенесен на внутренний, душевно-духовный мир; и последовательное применение его не могло не повести к оскудению и опустошению знания Внешние связи чувственного мира успешно устанавливались и оказывались практически полезными; самодовольное наблюдение оправдывалось с точки зрения техники, получавшей все большую самостоятельность в отрыве от истинного и глубокого познания. Но внутренние реальности духа и утонченная «ткань» человеческой души упускались из вида в отвлеченно-холодном трактовании, столь характерном ддя механистического мировоззрения. Расколотый человек вырабатывал раскалывающую доктрину, не способную ни узреть, ни осмыслить тайну жизни и мировой разумности, и растеривал последние остатки своей духовности в бессердечном и поверхностном «самонаблюдении»... Его собственное естество сводилось постепенно к анализирующему рассудку, к беспочвенной и развязанной воле и бездуховному инстинкту самосохранения. Все иное иронически отвергалось: и «суеверная» вера,
и творческое созерцание с его «беспочвенной фантастикой», и только иногда там и сям можно было подметить ложный стыд, когда заглохшее и осмеянное сердце давало знать о себе.
Таков современный культурный кризис. Это кризис нецельного духа, расколотого, расщепленного человека. Чем раньше люди постигнут это, тем лучше. Чем мужественнее, чем отчетливее и строже это будет формулировано, принято во внимание и продумано до последних выводов, тем скорее начнется преодоление кризиса. Человек должен воссоединиться в своем собственном существе. Он должен собрать распавшиеся части и члены своего естества и спрыснуть их «живой водой» исцеления, наподобие того, как это описывается в русской народной сказке. Но здесь воссоединится не тело человека, а его дух—и для этого исцеления он должен выстрадать и вымолить себе благодать Святого Духа.
Человеческий ум должен найти путь к вере — не к суеверию, запугивающему нас, и не к пустоверию, проявляющему нашу глупость, — а к созерцательной вере, разумной и светлой, к вере «достаточного основания». Человек должен победить в себе ложный стыд и не стыдиться своего сердца. Мысль должна примириться с творческим, предметным воображением и опять стать созерцающей, интуитивной и прозорливой. Аутистическая фантазия должна пройти через школу предметной интенции и духовной ответственности. Формальная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совести... Тогда рассудок научится взирать и видеть и станет разумом; а созерцающий разум станет повиноваться сердцу, так что все пути будут вести к сердцу и исходить из сердца. Ибо сердечное созерцание, совестная воля и верующая мысль суть три великие силы нашего будущего, которые справятся со всеми проблемами, неразрешимыми как для бессердечной свободы, так и для противосердечного тоталитаризма. Для разрешения их нужен цельный, целостный, исцеленный человек, заповеданный нам Евангелием.
И тот, кто взглянет вдаль духовно-отверстым оком и воззовет к нашему будущему с надеждою, тот прочтет над тесными вратами нашего будущего простой и мудрый призыв: «ищи исцеления».
ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
§ 1. Понятие о законоведении
Когда человек стремится к знанию, то он часто не дает себе отчета в том, что значит «знать». А между тем без этого он не может удовлетворить своего стремления и нередко блуждает в темноте.
Знать—значит, прежде всего, представлять себе что-нибудь. Тот, кто ничего себе не представляет, тот и не знает ничего; это мы выражаем словами: «он не имеет никакого представления». Однако не всякое представление может быть названо знанием. «Какие-нибудь» представления имеются у каждого человека: с утра до вечера наша душа занята чем-нибудь; она представляет себе то одно, то другое, останавливаясь на многом, — то по очереди, то сразу, то внимательно, то небрежно. Наши представления бывают при этом нередко смутными и неопределенными. В противоположность этому знающий имеет представления ясные и определенные. Это означает, что знание всегда говорит об определенном предмете. Нельзя знать сразу обо всем; тот, кто хочет знать, тот должен согласиться на разделение и ограничение. Поэтому каждая наука как совокупность знаний имеет дело с каким-нибудь определенным предметом. Об этом едином, определенном предмете наука дает нам представления отчетливые. Смутные, сбивчивые представления не имеют цены в науке, кто представляет себе что-нибудь смутно, тот не может ни.понять, ни запомнить. Понять значит «принять в душу» и овладеть мыслью, а для того, чтобы сознание овладело предметом, оно должно представить себе его с самою большою ясностью. Знающий владеет своим предметом и может всегда в нужный момент вызвать в душе отчетливое представление, воспроизвести его и выразить его в словах.
Итак, «знать» — значит ясно и отчетливо представлять себе что-нибудь определенное или, что то же, понимать и помнить
Однако понять и запомнить можно верное, но можно и ошибочное. Тот, кто усвоил что-нибудь неверное, тот не обладает истинным знанием. Вопрос о том, что есть истина, решается, вообще говоря, в научных исследованиях; там собираются и излагаются те основания и соображения, в силу которых одно следует признать истинным, а другое ложным. Эти основания
называются доказательствами. Каждое научное исследование стремится установить при помощи доказательств верное или истинное знание о своем предмете, будь то о фигурах в пространстве (геометрия), или о движении тел (механика), или о жизни существ (биология), или же о сущности добра и зла (этика). Наука есть совокупность доказанных истин, или истинных знаний об определенном предмете.
То, что добыто научными исследованиями в известной отрасли знания, может быть изложено отдельно от научных доказательств; такое изложение, дающее готовые итоги и не входящее в рассмотрение доказательств, останавливается обыкновенно только на самых важных вопросах; оно сообщает наиболее существенные, основные сведения в общедоступной форме. Такое изложение научных итогов придает науке подготовительный, или пропедевтический, характер. Именно такой характер имеет законоведение: оно излагает вкратце зрелые итоги, добытые в науках, изучающих сущность права и законов. В этом основное отличие законоведения от других юридических наук Законоведение есть наука несамостоятельная и общая. Оно несамостоятельно потому, что само не исследует предмета, но подводит краткие итоги другим, самостоятельным наукам о праве. Оно имеет общий характер потому, что излагает основные выводы многих, главных юридических наук, останавливаясь на том, что важно для всякого юриста, и опуская то, что имеет более специальный интерес.
Таков характер законоведения как особой отрасли научного знания (по-славянски «ведения»). Законоведение, как подготовительная, или пропедевтическая, наука, имеет определенный предмет: именно, оно содержит основные сведения о тех обязательных правилах поведения (нормах'), которые устанавливаются уполномоченными и потому авторитетными людьми; общественная жизнь подчиняется этим правилам (правовым нормам) и превращается через это в мирную, упорядоченную и организованную жизнь; люди объединяются в государственный союз и работают сообща над усовершенствованием своей внешней и внутренней жизни.
Первые сведения об этих правилах и об этом порядке дает общее учение о праве и государстве.
§ 2. Понятие о законе и норме
Чем бы ни интересовался человек и чем бы он ни занимался, ему всегда приходится иметь дело с множеством разнообразных вещей или предметов. В небе он видит множество светил — неподвижных звезд и планет; на земле — множество растений и животных; он окружен множеством людей и даже в душе своей
замечает много различных представлений, чувств, желаний и помыслов. Числа в арифметике, фигуры и части фигур в геометрии, молекулы и атомы вещества в физике — все это образует огромное множество единиц, или элементов, перед которым человек может и растеряться. Однако он скоро замечает, что все эти элементы стоят друг с другом в некоторых отношениях, которые или всегда остаются неизменными, или же от времени до времени повторяются. Так, например, отношения чисел или геометрических фигур остаются всегда одинаковыми; расположение планет в небе или связь представлений в душе человека — повторяются от времени до времени. Заметив это, человек направляет все свое внимание на то, чтобы подметить как можно больше таких устойчивых или повторяющихся отношений, которые могут быть названы постоянными связями. Он замечает при этом, что как самые элементы, так и связи их имеют в разных областях различный характер. Так, например, математика изучает преимущественно связи между величинами и количествами, и связи эти состоят в том, что один элемент всегда больше другого, или всегда меньше другого, или всегдаравен другому; естественные науки исследуют преимущественно причинные связи между вещами (их изменениями и движениями) или явлениями природы, и связи эти состоят в том, что появление одного элемента (напр. огня) всегда влечет за собою появление другого элемента (напр., теплоты) и т. д. При всем разнообразии этих элементов и отношений, среди них есть постоянные связи; то, что казалось на первый взгляд беспорядком или даже хаосом, скрывает в себе, очевидно, какой-то постоянный и необходимый порядок. Все науки пытаются уловить этот порядок, формулировать его в виде суждений и выразить в словах. Напр.: «сумма всех углов треугольника всегда равна двум прямым»; «угол падения всегда равен углу отражения»; «растения поглощают углекислоту и освобождают кислород» и т. п. Суждения, которые утверждают какой-нибудь постоянный и необходимый порядок, называются законами.
Понятно, что всякая наука имеет дело с законами. Однако необходимо точно отличать законы бытия ^законы долженствования. Правовые законы, изучаемые в законоведении, относятся именно к числу последних.
Законы бытия говорят о том, что в действительности есть известный порядок Этот порядок существует или обстоит на самом деле; плох он или хорош, полезен людям или вреден, прост или сложен—он имеется налицо. Таковы не только законы математики, но и законы природы. Закон природы говорит о том, что существует в действительности или, точнее — что всегда и необходимо совершается, например, среди атомов, или среди минералов, или в мире
планет, или в царстве растений и животных. Законы бытияговорят о постоянных связях, существующих в действительности
Напротив, законы долженствования говорят о тех связях или отношениях, которые должны осуществляться людьми в их жизни и деятельности. Эти законы суть правила, которые людям следует соблюдать. Каждый раз, как живой человекдействует или совершает известный поступок, он может делать свое дело лучше и хуже. При этом, если он живет сознательной жизнью, он имеет возможность обдумывать свой образ действий, выбирать лучший путь и решать в его пользу Во всех этих случаях человек имеет перед собою известные правила, которые указывают ему искомый лучший жизненный путь. Эти правила говорят не о том, что существует на самом деле; но о том, как следует людям жить, действовать и поступать. Эти правила могут быть названы законами потому, что они указывают постоянный и необходимый порядок, который людям надлежит осуществлять в их деятельности. Понятно, что «постоянство» этого порядка состоит не в том, что «так всегда бывает»: люди могут соблюдать правила, но могут и не соблюдать их, и в действительности они часто их не соблюдают. «Постоянство» означает здесь, что люди всегда должны действовать так, а не иначе и что они будут неправы каждый раз, как только нарушат эти правила. Точно так же «необходимость» этого порядка состоит не в том, что «иначе не может быть»; но в том, что соблюдение этих законов есть единственный путь, при котором люди будут правы. Тот, кто поступает согласно закону долженствования, тот не может быть неправ —вот смысл этой «необходимости». Такие законы правильного, надлежащего поведения мы будем называть нормами.
Итак, норма есть суждение, устанавливающее известный порядок как должный, или еще проще: это есть выраженное в словах правилолучшего; напр., «не убий», «отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу»; «не допускай в суждениях своих противоречия»; «никто не может отговариваться неведением закона, когда он был обнародован установленным порядком»*; «родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, одежду и воспитание.. .»**; «выборы членов парламента должны быть свободны»*** и т. п. Это означает, что в каждой норме, к кому бы она ни относилась и кем бы она ни была установлена, имеется в виду некоторый лучший порядок действий; этот «лучший» порядок и устанавливается как обязательный. Каждая норма предполагает, что некоторое разумное существо рассмотрело различные способы жить и действовать; признало, что одни из этих способов
* Статья 95 русских Основных Законов
** Статья 172 Свода Законов Гражданских.
*** Раздел I, статья 8 английского билля о правах от 13 февраля 1689 г.
лучше, а другие хуже; выбрало именно лучшие способы и постановило, что люди должны соблюдать и осуществлять именно их. Этот порядок жизни, признанный лучшим, признается лучшим не только для какого-нибудь отдельного, единичного человека, но для всех людей или во всяком случае для многих людей, обладающих особыми предусмотренными свойствами, например, для ученых, для рабочих, для правительственных чиновников и т. д. Во всяком случае норма всегда имеет характер общий, т. е. она предписывает одно и тоже для всеходинаковых случаев. Само собою разумеется, что то, что относится ко всем, относится и к отдельному человеку; поэтому из каждой нормы можно вывести правило поведения и д ля отдельных людей, и в частности, предписание для их единичных поступков. Такие предписания, относящиеся к единичным случаям, следует называть уже не нормами, а императивами9.
Понятно, что норма может относиться только кразумно-действующим существам, т. е. к людям. Неодушевленные вещи не действуют и потому не могут иметь правил поведения; что же касается животных, то приказы, с которыми человек к ним нередко обращается, не могут быть даже названы «императивами», потому что каждый императив рассчитан на разумное и сознательное усвоение со стороны повинующегося; как норма, так и императив суть такие правила лучшего, которые слагаются разумным, выбирающим и оценивающим существом и обращаются к существу, также способному к оценке, выбору и разумному решению. Научное исследование жизни животных не дало нам до сих пор оснований признать за животными такие способности.
Понятно также, что каждая норма и каждый императив как правилалучшего должны предписывать то, что в самом деле является лучшим. Человек должен соблюдать предписанный порядок именно потому, что он лучший. Поэтому прежде, чем устанавливать норму, необходимо иметь верное и отчетливое представление о том, что есть лучшее. Тот, кто пытается установить правило мышления, должен исследовать, что есть «лучшее» в мышлении, т. е. что такое истина; кто ищет правило для художественного творчества, тот должен решить вопрос о том, что есть лучшее в искусстве, т. е. что такое красота, кто стремится установить правило нравственно праведной жизни, тот должен исследовать сущность добра; а тот, кто устанавливает правовую норму, предполагает известным, в чем состоит сущность справедливости.
Наконец, нетрудно понять, что каждая норма сохраняет свое значение в качестве правилалучшего даже и в том случае, если кто-нибудь ее нарушает. Несоблюдение правила не отменяет его и не может его отменить. Так, если кто-нибудь будет допускать в
суждениях своих противоречия, то мышление его станет неверным, но правило о непротиворечивости мышления останется непоколебленным; точно так же, если кто-нибудь возлюбит себя превыше всего, то состояние его души окажется нравственно недобрым, но завет Христа сохранит свою глубокую верность. Убийство нарушает норму «не убий», но не отменяет ее. Таково основное значение всякой нормы.
Однако законоведение изучает далеко не все законы долженствования, но только один вид их: именно, нормы права. Правила мышления исследуются ълогике-, правила художественного творчества — ъ эстетике (наука о прекрасном); правила нравственно совершенной жизни — в этике. Законоведение исследует основные черты и основное содержание тех норм, которые предписывают людям известное внешнее поведение в их совместной жизни Таковы нормы права.
§ з. Необходимость общежития
Мыслители самых различных эпох отмечали у человека тяготение к совместной жизни Самые основные влечения и интересы, начиная от первичных инстинктивно-эгоистических побуждений и кончая утонченными духовными запросами, заставляют человека искать постоянного общения с другими людьми.
Общежитие необходимо человеку потому, что оно может дать и действительно дает ему элементарную обеспеченность и духовную полноту жизни.
Каждый из нас, взятый сам по себе, в отдельности, является существом ограниченным и беспомощным. С самого момента рождения человек нуждается в помощи других людей и неминуемо погибает, если не находит ее: голод и холод, первые враги человека полагают быстрый конец его жизни. Принимая эту первоначальную помощь, каждый из нас завязывает тем самым первые общественные связи задолго до того, как он начинает сознавать и помнить себя. У каждого из нас есть люди, заботам и вниманию которых мы обязаны своею жизнью в этот долгий и трудный период В большинстве случаев это — родители, и им принадлежит первая сильная привязанность ребенка. Человеку естественно родиться и воспитываться в семье, т. е. среди людей, с которыми он связан кровным родством; это те, от кого он произошел, и те, кто связан с ним одинаковым происхождением (братья и сестры). Задача родителей по отношению к ребенку двоякая: во-первых — избавить его от преждевременной и непосильной борьбы за существование, во-вторых — помочь ему взрастить в себе ту духовную жизнь, ради которой человеку вообще только и стоит жить на свете.
Возможность существовать дается человеку не даром и не легко, и эта трудность имеет огромное положительное значение. Трудно представить себе, до какой низкой ступени опустился бы человек, если бы все, необходимое для его жизни, давалось бы ему без всяких усилий. Уверенность в том, что все потребности будут удовлетворены без всякого труда, вызвала бы в человеке беспечность и пассивность и сделала бы его жертвой душевной инерции. Историки не раз обращали внимание на то, что цивилизация и культура медленнее развиваются там, где климат и флора вполне обеспечивают человека от голода и холода. Правда, чрезмерно суровые и непосильные условия жизни также неблагоприятны развитию человека, но эта неблагоприятность побеждается человеком позднее, когда он достигает высшей ступени развития. Необходимость бороться, чтобы жить, — вот главный двигатель человеческой цивилизации.
Итак, борьба за существование должна быть человеку посиль-на, для того чтобы он не погиб. При этом «существовать» не значит для человека «прозябать». Современная наука о душе, прилежно изучающая не только сознательную жизнь человека, но и его бессознательные и полусознательные проявления (напр., привычки, суеверия, сновидения, работу воображения, работу памяти, душевные недуги и проч.), свидетельствует о том. что человек не может жить здоровой жизнью без некоторого определенного по количеству и по степени запаса удовлетворения, задача человека не в Том, чтобы искоренить в себе жажду удовольствия и счастия, но в том, чтобы, с одной стороны, одухотворить все свои удовольствия, т. е. сделать их духовно значительными радостями, с другой стороны — связать свое счастье со счастьем всех людей, т. е. убедиться, что нельзя быть счастливым наряду с несчастьем других и далее действовать согласно этому убеждению. Однако люди до сих пор очень далеки от выполнения этой задачи, и это выражается не только в том, что они легко и быстро удовлетворяются низшими, чувственными удовольствиями, но и в том, что они ищут одинокого, эгоистически ограниченного счастья и, не находя его, наивно удивляются и жалуются. В результате этого эгоистического самочувствия борьба за существование оказывается уже не только борьбою человека с природой, ради овладения ее законами и подчинения ее своим целям, но, помимо этого, еще борьбою человека с человеком из-за житейского удовлетворения и благополучия.
И вот, как только человек вырастает и семья перестает ограждать его спокойное развитие, он видит себя вовлеченным в борьбу за существование. С одной стороны, он в союзе со всеми людьми борется с природою. Все люди заинтересованы в том, чтобы точно
изучить живые силы, действующие в природе; это изучение совершается в опытных (эмпирических) науках, и каждое открытие ученых в этой среде должно рассматриваться, и в большинстве случаев действительно рассматривается, какдостояние всего человеческого рода. Технические науки изучают наиболее целесообразные и выгодные способы приложения научных откровений к хозяйственным нуждам людей, а техническая деятельность применяет эти способы в борьбе за подчинение природы человеку. В этой борьбе все люди составляют как бы один великий наступательный и оборонительный союз, который с особенной силой и ясностью чувствуется всеми на всемирных научных и технических съездах, а также в эпохи стихийных бедствий — землетрясений, наводнений, неурожаев и эпидемических болезней. Такова естественная борьба за существование, ведущаяся человеком
С другой стороны, человек до известной степени противостоит всем остальным людям и в этой общей социальной борьбе за существование объединяется с отдельными группами людей; задачей этого объединения является взаимная поддержка объединившихся.
Здесь наряду с самым тесным союзом, основанным на кровном родстве, — с семьею, — стоят соединения хозяйственные и культурные.
Всякая внешняя вещь, могущая послужить для удовлетворения человеческой потребности или непосредственно — тем, что человек будет ею пользоваться, или косвенно — тем, что человек посредством нее подготовит для потребления новые вещи, может быть н?аъ^н2.хозяйственным благом. Хозяйственная деятельность состоит в том, что человек старается по выработанному заранее плану, при наименьшей затрате сил и наибольшей успешности труда приспособить вещи внешнего мира кудовлетворению своих потребностей. Эта хозяйственная работа совершается особенно успешно, если занятия распределяются среди людей так, что каждый берет себе какую-нибудь одну специальность, достигая в ней большего умения и большей производительности. Но именно такое разделение труда, осуществляющееся все более в современном обществе, заставляет каждого человека нуждаться в работе других людей. Современный человек чаще всего исполняет какое-нибудь одно тесно ограниченное дело, важное или полезное в общем ходе хозяйства, и за то пользуется трудами или произведениями бесчисленного множества, часто даже неизвестных ему, людей. Каждый из нас, чтобы удовлетворить свои потребности, должен «найти себе работу», т. е. взять на себя известное дело, которое другие люди согласились бы признать полезным или нужным; «деньги», которые мы за это получаем, дают нам
возможность, путем обмена их на вещи или на услуги других людей, получить все, что нам необходимо. Современный человек стоит, таким образом, в теснейшей хозяйственной зависимости от других людей, а также от той хозяйственной организации, которая сложилась в результате всей предшествующей жизни человечества.
Однако в хозяйственном отношении человек не только сотрудничает с другими людьми, но и вступает с ними в борьбу. Каждый стремится при наименьшей затрате сил получить наибольшее удовлетворение, т. е. работать возможно меньше, а получать за это возможно больше. На этой почве у людей возникает столкновение интересов, причем люди, находящиеся в одинаковом или похожем положении (напр., покупатели, рабочие, торговцы, землевладельцы и т. д.), стремятся объединиться друг с другом для того, чтобы сообща отстоять общий им всем интерес.
Понятно, что одинокому человеку, живущему вне общения, было бы крайне трудно обеспечить свою жизнь так, как ее обеспечивает сначала жизнь в семье, а потом участие в хозяйственном сотрудничестве. Человеческое сожительство построено на двух началах: борьбе за существование и взаимопомощи; люди поддерживают друг друга не только в борьбе с природой, но и в борьбе друг с другом, и можно сказать, что жизнь каждого отдельного человека (индивидуума) будет тем более обеспечена его участием в обществе, чем больше взаимная помощь заменит социальную борьбу за существование.
Однако общежитие дает человеку не только элементарную обеспеченность, но и духовную полноту жизни. С тех пор, как человек начинает сознавать себя, он видит свою внутреннюю ограниченность и неполноту. Он видит вокруг себя людей, которые знают больше, чем он, которые обладают более зрелым умом, или более твердою волею, или более глубоким чувством, или более чуткою совестью, и самолюбие его нередко страдает от этого. Лишь постепенно привыкает он к мысли о том, что общение с такими людьми не только не нежелательно для него, но прямо необходимо: оно необходимо ему потому, что общение с лучшими есть одно из основных условий его собственного духовного развития. Человек становится лучше, сравнивая себя не только с идеальным «совершенным» образом человека, о котором говорит Евангелие, но и с теми, кто в действительности достиг в каком-нибудь отношении высшей ступени. Сравнение себя с ними, беспристрастный самоанализ и подражание лучшему—вот верный путь прогрессивного развития. Таким образом человек может развить и улучшить свои познания, свои умения и свои душевные силы.
Но и за этими пределами остается много такого, к чему человек не может найти доступ самостоятельно, и людям всю жизнь
приходится довольствоваться преимущественным развитием в себе какой-нибудь одной душевной способности. А между тем душа человека ищет нередко самых различных духовных удовлетворении и требует разностороннего духовного развития. И вот каждый из нас стремится найти для каждого своего духовного запроса подходящий круг людей, общение с которым могло бы дать ему искомое удовлетворение. И здесь, как всюду, общие цели объединяют людей и заставляют их признать, что недоступное одинокому человеку доступно тому, кто объединяется с другими на началах взаимопомощи. При этом, объединяясь, человек не только ищет и находит удовлетворение своим узким, эгоистическим интересам, но и открывает, что самый процесс объединения с другими людьми дает ему новую полноту жизни. Человек научается ценить общежитие не только как средство, необходимое для жизни, но как путь, ведущий к прекрасной и достойной жизни, и, наконец, как самостоятельную ценность. Общество людей прочно и сильно только взаимною поддержкою всех, общею «круговою порукою» (солидарностью); постепенно эта связь и взаимная поддержка, в которой один борется за всех и все защищают одного, скрепляет людей более глубоким образом, — взаимным влечением и взаимною любовью; развитие, углубление и одухотворение этой связи и этого чувства является высшей задачей, идеалом совместной жизни людей.
§ 4. Формы общежития
После всего сказанного нетрудно понять, каковы основные формы человеческого общежития.
Для того, чтобы состоялось общение, люди должны иметь возможность воспринимать друг друга: слышать живое слово или, по крайней мере, прочитать его в записи, видеть друг друга и т. д. Почта, телеграф и телефон могут нередко заменить непосредственное свидание, а в отдельных случаях даже завязать между людьми новое сношение. Но устойчивое, длительное и продуктивное общение предполагает возможность непосредственного, частого и легкого взаимного восприятия. Поэтому можно сказать, что все основные формы общежития возникают среди людей, живущих приблизительно в одно время и в одномместе. Правда, человеку, с одной стороны, свойственно делать многое для своих будущих или возможных потомков; с другой стороны, среди первобытных народов распространено религиозное почитание предков, которые остаются неизвестными позднейшим поколениям. Однако такое одностороннее проявление общественного чувства не создает ни общения (оно предполагает взаимность), ни обще
жития (оно предполагает более или менее длительное со-суще-ствование). Всякое общежитие состоит прежде всего в том, что люди вместе живут и вместе действуют. Согласно этому, основные формы общежития определяются тем. что именно связывает людей воедино. Обычно бывает так, что различные связи и скрепы совмещаются и одна из них вызывает к жизни другую.
По самому происхождению своему люди связуются кровным родством в семью. Самым простым и типичным составом семьи может считаться троичный состав: отец, мать и ребенок. Однако в действительности этот простейший состав обыкновенно являлся и нередко является и теперь осложненным. Первобытные народы жили не в единобрачии, а в многобрачии. Это, конечно, не нарушало троичного характера семейной ячейки, подсказанного самою природою, но приводило к тому, что порядок совместной жизни складывался более запутанно и сложно. Так, у народов, живших охотою, мать, оставаясь у очага и поддерживая необходимый минимум оседлой жизни, могла иметь и воспитывать детей от разных мужей; обратно этому у индусов и магометан, допускающих многоженство, семья состоит из одного мужа и нескольких жен, нередко с большим количеством детей. Современная наука полагает, что строгое единобрачие сложилось в результате долгого развития человеческих нравов и учреждений.
Тот строй семьи, который с достоверностью отмечен историей, есть строй патриархальный, т. е. основанный на власти отца В далекие времена, когда охота, торговля и войны постоянно и надолго уводили отца семейства от домашнего очага, власть его, понятно, не могла быть велика и власть матери создавала и поддерживала строй жизни. Но с переходом к земледелию и оседлому труду, с возникновением городов и оседлой жизни власть сосредоточивается в руках отца. В эту эпоху браки совершаются обычно в установленномрелигиею порядке, и отец получает свою власть как бы от божества. Он является домовладыкой: вся собственность семьи принадлежит ему; над женою и над детьми он имеет право жизни и смерти; он может временно уступить третьемулицу свою власть над сыном и даже продать его в рабство. Домовладыка является в пределах семьи верховным жрецом и судьею: он совершает богослужение и разбирает споры между членами семьи.
Дальнейшее развитие семейного строя идет в двух направлениях: во-первых, все более упрочивается порядок единобрачия; во-вторых, власть отца постепенно ограничивается, вновь начинает признаваться некоторая самостоятельность матери и слагается сознание обязанностей родителей по отношению к детям. Вследствие того, что власть отца не прекращалась со вступлением детей в зрелый возраст, каждая семья, естественно, развива
лась в целое гнездо семей, связанных общим происхождением от одного предка и, следовательно — кровным родством. Такая разросшаяся семья образовывала род. Род в основном своем составе продолжал единую, совместную жизнь. Он был под чинен единому родоначальнику — патриарху и связан множеством общих интересов и взаимных обязанностей. Род владел землею сообща, под управлением и руководством патриарха; имущество переходило по наследству от родича к родичу; родичи были обязаны помогать друг другу и защищаться сообща от нападений; за убийство родича весь род мстил кровавою местью; род был объединен общим именем, он имел общие религиозные празднества и общее кладбище
Естественно, что при увеличении рода связь между членами его все более ослабевала и постепенно утрачивалась. Он распадался в свою очередь на несколько самостоятельных родов, отдельные члены которых уже не могли установить свое родство через отдаленного родоначальника. Однако развитие в одном климате, при одинаковых природных условиях, участие предков в совместной жизни и кровное, хотя и отдаленное сродство, — все это оставляло у потомков черты сходства в строении тела и в укладе душевной жизни. Родовая близость уступаламесто племенному сходству; люди оказывались объединенными в племя. Единоплеменники не только напоминают друг друга цветом волос, или строением головы и лица, или разговорным диалектом; они часто продолжают жить в одной и той же местности, добывают себе пропитание одинаковым трудом, имеют общую религию, одинаковый семейный строй и сходные обычаи. Мало того, племя нередко сохраняет единство управления и суда, но во главе стоит уже не родоначальник, а старейшина, иногда избираемый племенем, иногда передающий власть по наследству своим детям, часто окруженный советом мудрых и опытных мужей.
Дальнейшее развитие идет обычно сразу по двум путям: внутренняя жизнь племени становится все сложнее и разнообразнее, а внешним образом племя, несмотря на свой численный рост, достигает постепенно большей объединенности. При этом войны между племенами, переселения и торговые сношения нередко перепутывают племена между собою и нарушают чистоту племенной крови. И когда племена разрастаются в целые нации, объединенные в государства, то каждая нация оказывается обыкновенно смешеньем нескольких племен, причем одно из племен нередко преобладает в этом смешении.
В историческом развитии кровно-родовое единение людей постепенно уступает свое место единению, основанному на других началах. Правда, семейный союз не только не исчезает, но получает даже особую самостоятельность, освобождаясь от родо-
вого быта; но зато род и племя вытесняются хозяйственными, духовными и правовыми связями.
Люди, объединенные совместною жизнью в одном роде или племени, легко оказываются в различных хозяйственных положениях: специализация в труде делит людей на опытных и неумелых; размеры личных способностей и удача быстро ведут к имущественному неравенству; стремление родителей передать имущество детям упрочивает это неравенство, а жажда наживы обостряет его. Постепенно люди начинают сознавать, что наиболее обеспечен тот, кто владеет орудиями производства, т. е. землей, машинами, а потом фабриками и т. д. Так, постепенно, общество разделяется в зависимости от хозяйственного положения и хозяйственного интереса отдельных людей на классы; классы с течением времени начинают сознавать общность своих интересов, объединяются и вступают друг с другом в борьбу. Такова, например, борьба крестьян с крупными землевладельцами или фабричных рабочих с фабрикантами и промышленниками Некоторые ученые пытались даже изобразить всю историю человечества как борьбу различных классов между собою.
Классы не следует смешивать с сословиями. Сословием следует называть группу людей, особливое и самостоятельное положение которой в общей жизни и деятельности признается и поддерживается правовыми нормами. Это особливое положение далеко не всегда состоит в одинаковом имущественном богатстве. Люди делятся на сословия иногда по родовитому происхождению и заслугам предков (напр., потомственные д воряне), иногда по роду занятий (напр., духовенство, купечество, крестьянство), иногда по характеру несомых повинностей (напр., прежнее русское деление на «податные» сословия — крестьяне и мещане, и «неподатные»). Нередко сословия имеют особый суд и особое управление. Иногда деление на сословия оказывается совершенно устаревшим, и тогда отличие сословия от класса становится особенно наглядным.
Наряду с этими широкими делениями совместная жизнь людей непрерывно создает более тесные и специальные группы людей, свободно и добровольно объединяющихся для достижения общих целей. Эти цели могут быть, например, хозяйственными и повести к созданию производительных товариществ, потребительных обществ, обществ взаимного кредита, страховых компаний и т. д. Или же эти цели могут иметь характер духовный-, тогда возникают, например, различные ученые общества или общества, сг^емяпщесяусовершенствовать жизнь людей (напр., благотворительные общества, религиозно-нравственные союзы, общества трезвости, кружки для самообразования, издательские группы, спортивные и т. д.). Каждый интерес, присущий несколь
ким людям, может вызвать к жизни тот или иной союз, а так как каждому человеку присущи самые различные интересы, то нередко бывает так, что один человек участвует в самых различных союзах и обществах. Понятно, что борьба за существование нередко сталкивает интересы отдельных людей и союзов и, может быть, человечество распалось бы на бесконечное множество враждующих между собою ячеек, если бы самые противоположности и столкновения интересов не вызывали к жизни обширные, устойчивые организации людей, именуемые государствами (см. § 16— 18).
§ 5. Необходимость правил поведения
Мы видели, что общественная жизнь людей наполнена столкновениями различных интересов, возникающими в общей борьбе за существование. «Интересом» следует называть отношение живущего и желающего человека ко всему тому, что ему необходимо или важно. Понятно, что столкновение интересов возникает в том случае, когда два человека или несколько человек стремятся к то му, что им важно, а добиться нужного можеттолько один. Тогда победа одного означает поражение другого или даже всех остальных, и между людьми возникает отношение «исключения»: победитель «лишает» побежденных и как бы «исключает» их. Такое соревнование между людьми называется конкуренцией. Конкуренции не бывает там, где все могут беспрепятственно пользоваться нужным: воздуха на просторе, воды в реках и в море, света в поле—хватит на всех. Но борьба возникает немедленно, как только воздуха (напр., в маленьких коморках), или воды (напр., в пустыне или при порче водопровода), или света оказывается ограниченное количество. Все, что обеспечивает или облегчает жизнь человека и чего в данный момент на всех не хватает — все это вызывает конкуренцию и обостряет борьбу за существование до такой степени, что люди становятся друг другу врагами. Борьба за обеспеченное и приятное существование достигает иногда большой остроты; подчас может казаться, что общественная жизнь действительно превратилась бы, по меткому слову английского философа Гоббса* в «войну всех против всех», если бы не было сдерживающих и организующих общественную жизнь правил поведения.
Уже в глубокой древности люди стали понимать, что борьба, доведенная до непримиримости, до такого озлобления, при котором стороны теряют уважение друг к другу и возможность вести переговоры и устанавливать примирение, вредит обеим сторо-нам. Понимая это, люди пытались находить такие исходы, кото
* Род. в 1588 г., умер в 1679 г.
рые, удовлетворяя более или менее интерес обеих спорящих сторон, давали бы им возможность продолжать и впредь совместную жизнь. Каждая сторона считала притязания противника чрезмерными, и оба спорщика сговаривались обратиться к третьему возраст, опыт и ум которого могли бы указать справедливый исход. Родоначальник или старейшина, разрешая спор, давал каждому известный императив, предписывавший ему его дальнейшее поведение в спорном вопросе. Этот императив указывал каждому, во-первых, то, что он «может», т. е. что ему позволено, на что он «имеет право», во-вторых, то, чего он «не может», т. е. что ему запрещено, на что он «не имеет права», и в-третьих, то, что он «обязан» соблюдать. Решение судьи получало известный вес и оказывало влияние на спорящих; это объяснялось, с одной стороны, их доверием к его авторитету, с другой стороны, справедливостью того, что он постановил.
Эти две черты являются чрезвычайно важными: трудно представить себе, в какую хаотическую войну всех против всех выродилось бы человеческое общежитие, если бы у людей не было доверия к авторитету и веры в справедливость. На этих двух началах покоится самая возможность норм общественного поведения вообще. Не следует думать, что таким авторитетом для человека может быть только голос другого человека или что всякое чужое требование справедливо. Но правилу поведения всегда присуще значение необходимого закона, как было показано выше, и признать это значение может только тот, кто вообще умеет уважать что-либо высшее и кто ищет верного, т. е. справедливого решения человеческих конфликтов.
Возможность найти авторитетный и справедливый императив и примирить спорящих всегда драгоценна: она не только устраивает совместную жизнь людей на этот раз, но вселяет в них уверенность, что споры и столкновения вообще могут улаживаться мирно и справедливо. Но так как справедливость остается неизменной и одинаковой для всех, то однажды найденный справедливый императив превращается (постепенно или сразу) в общее правило, не только разрешающее все подобные споры, но предотвращающее самое возникновение их: каждый заранее может знать и знает, что он «может» и чего «не может», стоит только познакомиться с этим правилом и продумать его.
Понятно, что наличность таких правил делает возможным мирное общежитие. Люди могут вести совместную мирную жизнь лишь в том случае, если каждый осуществляет свои притязания и преследует свои интересы только до известных пределов. Эти пределы, разграничивающие сферу деятельности каждого, могли бы, конечно, отыскиваться и устанавливаться каждым для себя и
без всяких правил, если бы люди были добры и совершенны. Но так как этого на самом деле нет, то правила поведения являются необходимыми. Необходимость их признается всеми; правда, одни полагают, что все правила должны быть записаны, другие считают более целесообразными неписаные законы; одни настаивают на том, что все правила должны быть установлены каким-нибудь внешним авторитетом, другие предпочитают внутренний авторитет совести-, есть мыслители, полагающие, что все правила должны быть основаны на свободном соглашениилюдей; есть и такие, которые думают, что этих правил должно быть возможно меньше. Но значение их признается всеми.
Правила, определяющие взаимные отношения между людьми, мы будем называть социальными нормами. Социальные (т. е. общественные) нормы необходимы для поддержания мирного сожительства и сотрудничества людей. Ограничивая непомерные притязания каждого отдельного человека, они дают возможносгьустановитъ общественный порядсцзащитить слабого от притеснений сильного и приучить людей к обдуманному, выдержанному поведению; повинуясь этим правилам, люди постепенно привыкают не попирать чужих интересов, считаться с правами и благом ближних и согласовывать свое поведение как с основными задачами человеческого общежития, так и с высшей целью человеческой жизни вообще. Эти правила приучают человека обуздывать свои страсти и влечения и воспитывают в нем умение жить с людьми согласною, творческою жизнью. Именно поэтому люди давно уже признали в них могучее средство для усовершенствования личного характера и общественного строя, сознательная и устойчивая привычка подчиняться этим правилам считается не без оснований признаком духовной зрелости.
§ 6. Виды социальных норм
Человек как живое, самодеятельное существо имеет двойной состав: душевный и телесный. Каждый из нас живет внутренней, душевной жизнью: мыслит, чувствует, желает, запоминает, воображает, но когда хочет осуществить что-нибудь не в себе, а вовне или сообщить другому о своем внутреннем состоянии, то пользуется своим телом как единственным орудием, допускающим проявление душевных состояний. Мы все привыкли к тому, что изнутри мы знаем только о себе, о всех же других людях знаем и судим только по их внешним проявлениям, иногда без ошибки делая по ним заключение о том, что происходит в их душах. Живая речь, слово, выражение лица и жест — вот средства общения, связывающие людей. Наука свидетельствует о том, что в дей
ствительности тело и душа человека ведут единую, связную, органическую жизнь и не разлучаются, пока человекжив. Поэтому и поведение человека имеет всегда двойной состав—душевно-телесный. При этом бывает так, что жизненный центр тяжести переносится в душу, и тогда тело является второстепенным и подчиненным элементом (напр., при молитве, размышлении), но бывает и так, что главная роль принадлежит телу, и тогда душа следит только за целесообразностью его движений (напр., при ношении тяжести, гимнастике, ходьбе и т. д.). Согласно этому, и поведение человека может рассматриваться с двух точек зрения: или так, что душевное состояние является главным и важным, причем внешнее поведение оказывается только его естественным внешним выражением; или же так, что главным и важным является известное внешнее поведение, а внутреннее настроение подразумевается или оставляется без внимания. Все правила человеческого поведения разделяются в зависимости от этих точек зрения на две большие группы норм: к первой группе относятся все нормы моральные ирелигиозные, а ко второй группе—нормы правовые^ нормы нравов. Требования справедливости возникают из сочетания тех и других норм и должны рассматриваться отдельно (см. § 9).
Для того, чтобы усвоить различие между этими видами норм, необходимо иметь в виду следующее. Каждая норма предполагает, во-первых, что некотороеразумное существо установило известное предписание (см. § 2). Норма, которая «никем» не была установлена — невозможна и нелепа. Всякая норма есть правило, формулированное в словах, в виде логического суждения и грамматического предложения. Поэтому норма всегда существует в виде высказанной мысли. Норма есть обязательное правило, по-думанное (или придуманное) разумным существом и выраженное в словах.
Понятно, далее, что всякая норма устанавливается в известной последовательности: придумать норму может один человек, придать ей окончательную формулу—другой, а сделать ее обязательным правилом не может иногда ни первый, ни второй, а только третий. Таким образом, для всякой нормы характерна, во-вторых, та последовательность или тот порядок, в котором онаустанавливается
Этим, однако, не все сказано Всякая норма, в-третьих, предписывает что-нибудь каким-нибудь определеннымлюдям, будь то все члены общественного союза (напр., все подданные, все члены клуба) или некоторые, обладающие особыми свойствами (напр., совершеннолетние, душевно-здоровые), особым положением (напр., землевладельцы, спичечные фабриканты), особою властью (напр., мировые судьи, губернаторы), или же одному члену, имеющему исключительное положение в союзе (напр., римский папа, президент республики, монарх). Норма, которая предписы
вала бы известное поведение «никому», — нелепа и невозможна, хотя возможны нормы, которые в прямых словах не указывают, к кому они относятся; юристы решают тогда этот вопрос по смыслу.
Далее, в-четвертых, в каждой норме что-то предписывается, именно: известный порядок человеческих отношении как верный и должный (см. § 2). При этом «отношение» может пониматься или как внутреннее настроение души, или как внешнее поведение, или же как то и другое вместе.
Наконец, в-пятых, применительно к каждой норме допустим вопрос о том, имеет ли она санкцию, и притом в чем состоит эта санкция. Санкцией называется то предстоящее последствие, которое постигает нарушителя нормы., это есть, так сказать, угрожающий перст, поддерживающий обязательное значение нормы и указывающий известное неприятное будущее для того, кто не будет повиноваться установленному предписанию.
Каждый из указанных видов норм должен быть отличён от других видов с этих пяти точек зрения. Пять вопросов решают здесь дело: кто предписывает? в каком порядке устанавливается предписание? кому предписывается? что предписывается (т. е. какой порядок?) и какова санкция нормы? В этом порядке мы и поведем рассмотрение. Необходимо только добавить, что не всегда по каждому вопросу возможно указать такое отличие, которое само по себе, взятое отдельно, было бы достаточно для того, чтобы установить характер нормы. Отличие дается только всеми пятью признаками, взятыми вместе, и это все время следует иметь в виду, чтобы не запутаться и не утратить необходимую ясность понимания.
§ 7. Нормы религии и морали
Мы установили, что нормы религии и морали относятся к одной и той же группе норм. Однако в пределах одной и той же группы могут быть существенные отличия.
Религиею (от religare — привязывать, укреплять) называется живой духовный союз человека с Богом; этот союз состоит в том, что Бог открывает человеку свою сущность и свою волю (отсюда «откровение»), а человек, вступая в этот союз и пребывая в общении с Божеством, делает валю Божию — своею нормою и отдает свои силы на ее осуществление. Понятно, что религиозный человек, воспринимая волю Божию в виде правил поведения, видит в Божестве —установителя этих заповедей. Порядок этого установления состоит в том, что человек, признав (по тем или другим признакам) некоторые из своих душевных переживаний посланными от Бога, а то, что через них познается, — состоявшимся откровением Божественным (уверовав), пытается придать
воспринятому форму мысли (учение) и выразить в словах (писание и предание); в христианских исповеданиях верность этого мысленного формулирования и словесного выражения проверялась и утверждалась обычно на собраниях верующих (вселенские соборы). Естественно, что нормы религиозного характера предписывают что-нибудь только тем, кто принадлежит к этому исповеданию и, участвуя в церкви (т. е. организованном союзе людей, признавших данное откровение), приемлет ее учение. При этом, по учению большинства религиозных союзов, к исповеданию и церкви могут принадлежать и такие люди, которые сами непосредственно не имели откровения, но веруют, приняв его от других людей, почитаемых за пророческий дар и святость. Таким образом, нормы религии основываются иногда на признании авторитетности других людей. То, что предписывают эти нормы, является во всех зрелых и развитых религиях известным внутренним душевным поведением, или деланием (молитва к Богу и подчинение своих желаний Его заповедям), причем нередко устанавливается, в каких именно внешних поступках, движениях и словах (обряд) должно выражаться благочестивое настроение души. Иногда люди упускают из вида, что обряд предписывается религией только в качестве естественного выражения действительного внутреннего отношения души к Божеству, и тогда религиозность вырождается в ханжество и лицемерие. Наконец, религиозная норма имеет свою санкцию. Нарушитель ее чувствует себя стоящим перед лицом Божия гнева и, может быть, наказания; к этому может присоединиться налагаемое церковной властью покаяние, или эпитимия, или даже исключение из союза верующих.
Нормы морали отличаются от норм религии в некоторых существенных отношениях. В установлении нравственных правил человек является предоставленным себе и своей совести. Эти правила основываются на самостоятельном и свободном убеждении, которые каждый из нас должен выносить, обдумать и формулировать. Понятно, что такого убеждения никто ни у кого заимствовать не может; даже внешним авторитетом норма морали не может быть установлена, потому что единственным авторитетом здесь является голос совести, живущий в глубине каждой души. Это значит, что человек, слагая свои нравственные убеждения и устанавливая нормы морали, не может руководиться личной прихотью и произволом, но должен поставить пред своею совестью вопрос о том, что есть самое лучшее, совершенное и праведное в личном поведении и в отношении человека к человеку. Указания совести надлежит затем высказать в форме грамма
тического предложения и логического суждения, которое и выразит основную моральную норму поведения; распространение этого правила на отдельные стороны внутренней и внешней жизни даст возможность составить подчиненные нормы морали. Так, например, каждому из нас без особого труда удастся признать и формулировать норму: «относись ко всякому человеку с тою любовью, которою ты обычно любишь самого себя»; такое перенесение жизненного центра тяжести со своего благополучия на других людей породит, с одной стороны, требования бескорыстия, самоотвержения и скромности в отношении к себе, с другой стороны, — правила, предписывающие доброжелательство,уважение, щедрость, доверие и т. д. по отношению к другим.
Итак, нормы морали каждый человек должен установить для себя сам. Другие, в частности родители и воспитатели, могут ему, правда, помочь в раскрытии и осмыслении голоса совести, но до признания ^убеждения каждый из нас должен дорасти сам. Это не значит, что у каждого человека могут быть свои особые воззрения на добро и зло, причем каждый про себя будет прав. Нет, различные понимания морали бывают у людей потому, что они или не знают верного пути к совести, или же не хотят им идти; нередко они ошибаются, принимая «житейскую пользу» за нравственное добро, или не решаясь поставить перед совестью правильный вопрос о самом лучшем; или же они, совсем не обращаясь к ее авторитетному голосу, придумывают что-нибудь от себя. При правильном же исследовании голос совести покажет всем людям одно и то же, и это выражали иногда так совесть есть голос Божий, звучащий одинаково в каждой душе, но требующий от нее особого внимания и самодеятельной работы над ее убеждениями. Таков порядокустановления моральных норм
Понятно, что норма морали связывает только того человека, который ее признал; она предполагает добровольное согласие и признание, и если кто-нибудь соблюдает ее по чужому приказанию, из покорности или страха, то она теряет свой моральный характер. Это не значит, конечно, что всякий, кто не захочет признать ее, может делать, что ему заблагорассудится: произвол его окажется ограниченным нормами другого характера — теми нормами права, которые связывают каждого гражданина, а также теми, которые установлены распоряжениями его ближайшего начальства (напр., воспитателей). Но это значит, что нравственная жизнь возможна только для того, кто имеет действительное, искреннее желание стать лучше; каждого человека можно и должно свободно убедить в том, что существует внутренний закон добра и что это есть закон любви; и наконец, что
если он его не соблюдает, то он всегда будет неправ. Но принудительно — нормою морали нельзя связать никого.
Далее, эта норма предписывает всегда известное внутреннее отношение ко всему живому, и в особенности к человеку, и в виде естественного последствия или выражения этого настроения души — внешнее поведение, согласное с ним. Нравственные правила всегда начинают с душевной глубины и требуют, прежде всего, внутренней доброты. Это не значит, что они удовлетворяются ею и большего не требуют; недаром говорится, что «ад вымощен добрыми желаниями». Но это означает, что нравственные правила никогда не предписывают внешних поступков или внешнего поведения независимо от того душевного настроения, которым они сопровождаются. Нравственный поступок всегда подготовляется в глубине души, как бы вырастает из нее, и внешнее проявление человека всегда является в таких случаях лишь зрелым плодом внутренней доброты.
Наконец норма морали имеет свою санкцию в виде живого укора совести. Тонко развитая и глубоко чувствующая душа испытывает этот укор часто и явственно. Он выражается в известном каждому из нас внутреннем недовольстве своим поступком или даже всею своею жизнью: человек сознает свою неправоту и чувствует, что он и должен и может жить и действовать иначе; это и вызывает в нем чувство вины. Задача человека в том, чтобы не заглушать в себе укор совести и чувство нравственной вины, но приучить себя относиться со вниманием к этому укору и тем воспитать в себе чувство нравственной ответственности.
После всего сказанного понятно, каково взаимное отношение норм религии и норм морали. Они отличаются, во-первых, по тому авторитету, который устанавливает правило (в религии — воля Божия, в морали — голос совести); во-вторых, по тому порядку, в котором правило формулируется (в религии — соборное изложение откровения, данного избранным людям, в морали — самостоятельное восприятие и формулирование голоса совести, данного каждому); в-третьих, по санкции (в религии — гнев и суд Божий над грешником, в морали—укор совести и чувство вины). В то же время нормы религии и нормы морали имеют сходство: во-первых, в том, что они требуют всеобщего признания, но свя-зуют только тех, кто их добровольно признал (в религии—уверовал, в морали—убедился); во-вторых, в том, что они предписывают известное поведение, вырастающее из глубины души.
При этом верующие обычно подразумевают, что норма религиозная, являясь выражением воли Божией, не отменяет и не изменяет голос совести, но придает ему особую силу и дополняет его требования новыми. Вот почему религия иногда поглощает мораль.
§ 8. Нормы морали и права
Различие между нормами морали и нормами права является еще более значительным.
Прежде всего, нормы права устанавливаются не внутренним авторитетом, а внешним: они основываются не на божественной воле и не на голосе совести, но на предписании, которое создается известными людьми и связывает как их самих, так и других членов союза. Правовые нормы вообще устанавливаются и формулируются другими людьми, т. е. не каждым человеком для самого себя; они как бы приходят к нам извне, предписывая, запрещая и позволяя нам различные поступки, независимо от того, согласны мы на это или не согласны. Право основывается на том, что в союзе людей есть общая для всех власть, т. е. что некоторые из членов союза уполномочены придумывать, выражать в словах и объявлять обязательные для всех правила поведения, а также следить за тем, чтобы все им повиновались. Эти правила получают свою силу от их авторитета, а их авторитет покоится на том полномочии, которое им предоставлено. Понятно, что эти «другие» люди, которые создают для себя и для нас правовые нормы, являются всегда строго определенными ^уполномоченными людьми. Они могут получить это полномочие различными путями: во-первых, так, что все члены союза сговариваются и прямо поручают им это дело (напр., вече избирало князя в Древней Руси; или, в наше время, корпорация избирает свое «правление», клуб выбирает «старшин» и т. д.); во-вторых, в силу того, что есть постоянное правило, указывающее, кому эта власть принадлежит пожизненно и к кому переходит по наследству (например, власть монарха) и наряду с этим, кто, кем и на какую должность может быть выбран народом (напр., члены Государственной думы) или назначен государем (напр., министры, губернаторы); наконец, в отдельных случаях, когда союз организуется заново, или в корне переустраивается, или объединяется ненадолго, такое полномочие может принадлежать тому, кто первый проявит инициативу и за кем другие члены союза признают эту власть молчаливым повиновением (так бывает, например, когда за отсутствием обычных властей во время войны, или эпидемии, или смуты организуется временный общественный комитет для поддержания порядка). Во всех этих случаях налицо остается допущение, что некоторые, строго определенные люди имеют полномочие издавать обязательные нормы и императивы и что это «правильно».
Отсюда уже ясно, что правовая норма устанавливается всегда в определенном порядке. Если далеко не всякий уполномочен издавать правовые нормы, то, с другой стороны, и те, кто
на это уполномочен, должны соблюдать в своем деле известный, обыкновенно строго предначертанный порядок. К установлению и соблюдению этого порядка приводит сознание того, как важно и как трудно получить вполне справедливую и целесообразную правовую норму Нет никакого сомнения в том, что верную норму морали также очень трудно установить и что соблюдение строгой внутренней последовательности в раскрытии голоса совести необходимо и там; но, к сожалению, люди до сих пор мало прониклись этой идеей. В области же права люди это признали; именно поэтому они разделили весь путь, который проходят правовые нормы, на несколько этапов. Согласно этому разделению, одни имеют полномочие указывать на необходимость новой нормы; другие — проверять эту необходимость и формулировать предполагаемую норму; третьи обсуждают справедливость и целесообразность предложенного правила и решают — быть ему или не быть; верховная власть утверждает это решение; затем отдельно проверяется, соблюден ли предначертанный порядок издания нормы, и, наконец, самая норма объявляется во всеобщее сведение. Таков обычный порядок, о котором еще придется говорить в дальнейшем (см. § 20).
Теперь понятно также, на кого распространяется правовая норма, установленная властью. Правовые предписания исходят от одних людей, а обращаются к другим людям, принадлежащим к этому союзу и подчиненным этой власти. Это означает, прежде всего, что правовая норма предписывает людям известное поведение, независимо от того, согласны ли они, что эта норма хороша, или не согласны, хотят они ей подчиняться или не хотят. Если правовая норма что-нибудь повелевает или что-нибудь воспрещает, то это повеление и это воспрещение сохраняют все свое значение и в том случае, если есть несогласные: они все равно обязаны ей подчиняться. Она не теряет своего значения и своей силы потому, что не зависит от добровольного признания и внутреннего убеждения подчиненных ей. В этом ее глубокое отличие от норм морали, которые основываются именно на внутреннем убеждении и добровольном признании человека. Само собой разумеется, что тот, кто установил правовое предписание, был убежден в его необходимости и целесообразности; но в согласии всех подчиненных он не нуждался. Итак, правовая норма связывает всех тех, и даже несогласных членов союза, которые в ней указаны. При этом, по общему правилу, в каждом союзе власть может издавать предписания только для своих членов; однако эти предписания могут относиться и к тем пришлым людям, которые временно
пребывают в пределах союза как бы на положении гостей (напр., «торговые гости», «иноземные гости»; срв. русские былины).
К этому необходимо добавить, что каждая правовая норма, что бы она ни предписывала и ни воспрещала, налагает особую связь и на тех людей, которые установили ее своею властью. Именно, раз установив ее, они обязаны поддерживать ее всеми силами и признавать ее за правовую норму; они не могут установить новое правило, которое бы ей противоречило, до тех пор, пока не отменят открыто первую норму; наконец, они не могут никому позволить не повиноваться норме, а с другой стороны, не могут никого заставить повиноваться тому, что не установлено в правовых нормах или не высказано в виде правового императива. В этом отличие права от произвола и правовой нормы от произвольных требований.
Но если правовая норма требует известного поведения, независимо от согласия того, кому она его предписывает, то отсюда ясно, что она может требовать от людей только такого поведения, которое можно соблюдать без внутреннего согласия. Это значит, что право может предписывать только внешнее поведение и не может требовать от людей, чтобы они осуществляли по приказанию какие-нибудь внутренние душевные состояния: о чем-нибудь думали, что-нибудь любили, чего-нибудь не желали и т. д. Такие предписания со стороны права несостоятельны, во-первых, потому, что внутренние, душевные качества нравственно ценны только тогда, если они выработаны и созданы доброю волей и личными усилиями человека, и теряют свою ценность, если человек старается приобрести их по чужому приказу; они несостоятельны, во-вторых, потому, что никто не может заставить человека признать что-нибудь, или захотеть, или подумать, а также не может проверить, действительно ли он это признал, захотел и подумал или только «сделал вид», чтобы избежать преследований. В прежние времена полагали, что это возможно и потому подвергали людей напрасной и несправедливой пытке; но в наши дни эта граница права признана окончательно.
Это не значит, однако, что правовые предписания совсем не обращают внимания на душевные состояния людей. Нет, но право считается лишь с теми душевными состояниями (помыслами, желаниями, чувствованиями), которые проявлены людьми в их внешнем поведении — посредством слов, жестов или в письменной форме. Так, например, покупка может состояться лишь в том случае, если покупающий выразит как-нибудь свое согласие; или, например, суд будет исследовать и проверять наличность злой, испорченной воли у человека только тогда, если он совершит какие-нибудь внешние, запрещенные правом поступки и т. д. Но пока
человек ничем внешним не обнаружил намерения или попытки нарушить правовую норму и не совершил никакого внешнего поступка, которому правовые нормы придают известные последствия (напр., не подал голоса на выборах, не заключил договора, не предложил к продаже свою вещь) — власть, следящая за соблюдением права, не имеет никаких оснований вторгаться в его внутреннюю жизнь. Нравственные решения и дурные желания сами по себе имеют значение в религии и морали, но не в праве; для права важно только то, что обнаружено или чего не обнаружено во внешнем поведении.
Наконец правовые нормы обычно (хотя далеко не всегда) имеют санкцию. Эта санкция состоит в том, что нарушающий правовую норму, делающий запретное или не исполняющий своей обязанности, может ожидать неприятных последствий, которые постигнут его в его внешней жизни. Санкция правовой нормы всегда осуществляется так, что приходят другие, уполномоченные люди и заставляют неповинующегося делать то, чего ему не хочется: или понуждают его исполнить свою обязанность, указывая ему на правовую норму, которую он нарушил, и на взыскания, которые могут быть на него возложены (напр., понуждают его внести недоимку, явиться к отбыванию воинской повинности); или исполняют эту обязанность за его счет (напр., продают часть его имущества и вносят за него недоимку или уплачивают из вырученных денег его долги); или же налагают на него взыскание, будь то по суду или в порядке управления.
Теперь должно быть понятно отличие правовых норм от норм морали Они отличаются, во-первых, по тому авторитету, который устанавливает правило (в морали — внутренний авторитет: голос совести; в праве — внешний авторитет: другие люди, строго определенные и особоуполномоченные); во-вторых, по тому порядку, в котором правило устанавливается (в морали — самостоятельное восприятие и формулирование голоса совести, данного каждому особо; в праве — последовательное прохождение правила через все строго установленные этапы рассмотрения, в котором участвуют многие люди); в-третьих, по тому, кто получает предписание (в морали — добровольно признавший требование совести; в праве — всякий член союза,указанный в норме, независимо от его согласия и признания); в-четвертых, по тому поведению, которое предписывается в норме (в морали — внутреннее поведение, выражающееся и во внешних поступках; в праве—внешнее поведение, которое может, однако, привести и к рассмотрению душевного состояния; и, наконец, в-пятых, по санкции (в морали — укор совести и чувство вины; в праве — угроза неприятными последствиями и внешние принудительные меры).
§ 9» Естественное право.
Требования справедливости
Несмотря на то, что между нормами права и нормами морали имеются столь существенные отличия, между ними не порывается и не должна порываться живая связь.
Отношение между правом и моралью может слагаться правильно и неправильно. Правильное отношение между ними существует тогда, когда право, не выходя из своих пределов, согласуется по существу с требованиями морали и является для нее подготовительной ступенью и поддержкою; а мораль, со своей стороны, служа д ля права высшим мерилом и руководителем, придает правовым велениям то глубокое значение и ту обязательную силу, которая присуща нормам морали. Это бывает, следовательно, тогда, когда право, с одной стороны, предписывает людям такое внешнее поведение, которое может быть одобрено и совестью (напр., служение общему благу, ненарушение чужой свободы, неподкупность, защиту родины, исполнение обязательств, принятых на себя добровольно, и т. д.); когда оно, с другой стороны, воспрещает людям те внешние поступки, которых и совесть не одобряет (напр., нарушение данного слова, обман, причинение вреда, насилие, притеснение, убийство и т. д); и когда, наконец, право, не разрешая людям никаких нравственно предосудительных деяний, устанавливает в людских отношениях справедливый порядок
Справедливость требует, чтобы люди вообще обсуждали и рассматривали свои отношения и судили других людей, имея в виду «действительное положение вещей», т. е. не только внешнюю поверхностную видимость отношений и поступков, но их подлинную сущность и нравственное значение. Дело в том, что на свете ни одно событие не повторяется целиком, как оно есть, хотя внимательное научное наблюдение выделяет без труда черты сходства в явлениях мира. Однако каждый раз, как мы присмотримся к событию повнимательней, так окажется, что оно представляет из себя нечто совершенно новое. Во-первых, все подлежит непрерывномуразвитию и изменению: и вода, и земля, и растения, и животные; и сами люди постоянно изменяются, развиваясь и внутренне, и внешне; достаточно подумать, например, что тело каждого из нас совершенно, хотя и незаметно, обновляется на протяжении десяти лет. Во-вторых, все вещи и все люди в сущности неодинаковы, хотя отчасти могут походить друг на друга и взаимно напоминать друг друга; но происхождение от разных предков и родителей, различное воспитание, строение тела, характер души, личные способности и склонности — все это делает каждого из нас единственным в своем роде и непов
торяемым. Это еще не придает никому из нас особенной ценности, но ведет к тому, что на свете действительно ничего не повторяется. Между тем, если человек будет останавливаться вниманием и мыслью только на единичных, индивидуальных явлениях жизни, то он неизбежно растеряется как в теоретическом познании, так и в практическом руководстве: он не найдет ни одного «закона природы» и не создаст ни одной «нормы поведения» (см. § 1). Потому что и в том, и в другом человек останавливается именно на похожем и одинаковом, отвлекая его мысленно от несходного и условно закрывая себе глаза на неодинаковое. Норма, если она не превращается в императив, всегда имеет в виду лишь одинаковое, «типическое» во многих возможных различных случаях; поэтому она по необходимости не учитывает каждый отдельный случай в его неповторяемой особливости, в его прихотливом своеобразии: и этим она как бы «уравнивает» все случаи, т. е. рассматривает их так, как если бы они были одинаковы, тогда как на самом деле они остаются неодинаковыми. И вот здесь возникает опасность, что правовые нормы окажутся чрезмерно отвлеченными, рассматривающими всю жизнь как бы с высоты птичьего полета и все уравнивающими. Чрезмерная удаленность и общность права неминуемо поведет к его несправедливости, мы все чувствуем и сознаем, что люди не равны между собою: справедливая норма не может возлагать одинаковые обязанности на ребенка и на взрослого, на бедного и на богатого, на женщину и на мужчину, на больного и на здорового; ее требования должны быть соразмерны личным силам, способностям и имущественному положению людей: кому больше дано, с того больше и взыщется. Поэтому справедливость требует, чтобы правовые нормы сохраняли в своих требованиях соразмерность действительным свойствам и деяниямлюдей.
Однако, с другой стороны, невозможно создавать для каждого отношения людей особую правовую норму, приспособленную именно к этому отношению во всех его особенностях и деталях и в силу этого не подходящую более ни к одному отношению. Понятно, что в таком случае нормы превратились бы в единичные императивы и количество правовых императивов должно бы было неминуемо разрастись до бесконечности.
Такой порядок был бы опять-таки сразу и вреден, и несправедлив.
Если бы право, стремясь к соответствию с действительными свойствами и деяниями людей, стало вмешиваться во все второстепенные детали человеческих отношений, предусматривая каждый шаг и стесняя каждое проявление, то произошло бы следующее. Во-первых, оно потерпело бы неудачу в осуществлении этого, ибо невозможно предусмотреть заранее каждый индивидуальный случай, могущий возникнуть в будущем: будущее всегда
чревато непредвидимыми событиями, всегда новыми и почти всегда неожиданными, и весь труд оказался бы здесь тщетным; невозможно также увеличивать число правовых правил до бесконечности, ибо это породило бы только замешательство и вместо устроения жизни возникло бы горшее расстройство. Во-вторых, вмешательство права во все жизненные детали для того, чтобы заранее с точностью отмерить для каждого случая соответствующую дозу правовых последствий, привело бы ктому, что люди из-за этой мелочной предусмотрительности утратили бы всякую инициативу и всякий почин, всякую возможность свободной самодеятельно сти (см. § 5); а междутем право есть опора для свободной и согласной деятельности людей, но не педантическая опека над их деятельностью; оно должно укрепить в людях правосознание, но не отучить их от самодеятельности.В-третьш; такое вмешательство права, с его внешними предписаниями, во все жизненные детали стеснило бы и ограничило бы ту область, в которой господствует и свободно развивается моральное чувство, или голос совести; право не должно переходить свою границу и вторгаться в сферу свободных и добровольных душевных движений и их естественных внешних проявлений, иначе утратится дружная и согласованная работа морали и права над усовершенствованием человеческой жизни. Вот почему такой порядок был бы вреден.
Но он был бы, сверх того, и несправедлив. Дело в том, что люди, несмотря на все свое несходство и неодинаковость, сохраняют равенство в известном отношении, так что, если бы право упустило из вида это равенство, то оно впало бы в явную несправедливость. Все люди какразумные, живые существа, носящие в себе влечение к счастью и к полноте духовного бытия, скрывающие в себе голос совести и способность к нравственному совершенствованию, —имеют одинаковое, по справедливостиравное притязание на жизнь, на удовлетворение, на развитие своих благих способностей и на свободу добрых проявлений. Это равенство не состоит, разумеется, в том, что все имеют безграничную свободу, или что никто никому не обязан подчиняться, или что всякий волен делать, что ему угодно. Нет; свобода каждого человека простирается лишь до тех пределов, у которых начинается свобода других людей10. Совместная жизнь людей ставит их в такое положение, что каждый оказывается помещенным как бы в клеточку, окруженную такими же клеточками других людей. И вот справед ливость требует, чтобы эти клеточки не вытесняли взаимно друг друга, но предоставляли друг другу свободу существования Согласно этому, справедливость требует, чтобы право поддерживало равенство и равновесие между людьми, поскольку это необходимо того, чтобы каждый мог
вести достойное существование. Здесь право должно избегнуть другой опасности: оно не должно упускать из вида, что каждый человек, кто бы он ни был, как бы ни был он ограничен в своих силах и способностях, имеет безусловное духовное достоинство и что в этом своем человеческом достоинстве каждый человек равен другому. Если люди различны, по своим реальным свойствам, то они равны по своему человеческому достоинству. Поэтому справедливое право не поддерживает естественного неравенства людей, если от этого может пострадать их духовное равенство. Справедливое право есть право, которое верно разрешает столкновение между естественным неравенством и духовным равенством людей, учитывая первое, но отправляясь всегда от последнего.
Правовые нормы, стоящие в согласии с моралью и справедливостью, называются естественным, правом (т. е. правом, соответствующим самому «естеству» человека как духовно-нравственного существа). Когда человек имеет дело с такими нормами, то он получает возможность повиноваться им не только за страх, но и за совесть. Тогда оказывается, что каждый человек имеет не только правовую, но аморальную обязанность повиноваться праву, потому что тогда право предписывает во внешнем поведении то самое, что голос совести одобряет как нравственное и справедливое. При таком положении дел право требует от человека как бы известного минимума морального и справедливого поведения, именно —моральной корректности во внешних поступках, и этим оно содействует нравственному воспитанию человека, начиная это воспитание с «внешнего». Тогда и мораль находит в праве могучую и достойную опору и между обеими сторонами устанавливается живое и творческое взаимодействие. В естественном праве обе стороны соединяются и согласуются: право остается правом, но получает значение моральной верности и становится естественным правом; мораль не вытесняется и не нарушается правом, но руководит его предписаниями и придает ему характер «естественности».
Такого верного соотношения в действительности достигнуть трудно, хотя и не невозможно. Все человечество имеет перед собою задачу — работать над моральным усовершенствованием права. Создать естественное право — есть идеал, который постепенно осуществляется в истории, но который еще далеко не осуществлен; отмена правовых норм, допускавших рабство, пытки, телесное наказание, крепостное состояние, бесправное положение женщины и т. д., свидетельствует о том, что дальнейшая работа здесь и необходима, и возможна.
Таково правильное отношение между нормами морали и права.
§ 10. Цель и значение права. Нравы
После всего сказанного нетрудно понять, какова цель права и в чем его значение.
Цель права, как и других норм общественного поведения, состоит прежде всего в том, чтобы сделать возможным мирное сожительство людей. Право достигает этого тем, что указывает людям обязательные для них пределы в их внешней деятельности. В деле обуздания людских страстей и ограничения непомерных претензий право довольствуется тем, что устанавливает порядок во внешних поступках, предоставляя каждому узнать, посредством чтения и изучения правовых норм, сущность и черты этого обязательного порядка. Совершать те внешние поступки, которые правом предписаны, и не совершать тех внешних поступков, которые правом воспрещены, людей побуждает: во-первых, простое сознание того, что так велит правовая норма, во-вторых — сознание того, что уклонение от этого порядка должно повлечь за собою неприятные принудительные последствия. Для тех, кто признает, что повиновение праву необходимо ради поддержания мирного сожительства, достаточно простого сознания: «так велит правовая норма»; они повинуются праву и в том случае, если оно почему-нибудь решает спор не в их пользу; мало того: такие люди, обнаруживающие истинную зрелость правосознания, повинуются даже тем правовым нормам, которые кажутся им несправедливыми. Это следует понимать так: если право решает их спор не в их пользу, и притом несправедливо, то они спокойно и мужественно переносят это несправедливое решение, подчиняясь ему; если же несправедливое решение обращается во вред другому, то они по доброй воле вознаграждают несправедливо потерпевшего соседа. Но как в том, так и в другом случае они стремятся сделать все, что в их силах, для того, чтобы заменить устаревшую, или неудачную, или несправедливую норму — новою, справедливою и верною.
Такой образ действий как нельзя более соответствует высшей и основной цели права: устроить совместную жизнь людей так, чтобы на столкновения, взаимную борьбу, ожесточенные споры и т. д. тратилось как можно меньше духовных сил. Мирные отношения между людьми состоят не в том, что каждый непрерывно судится со всеми, жалуясь и отстаивая свою выгоду всеми дозволенными средствами, или даже старается запутать судей и провести свое дело во что бы то ни стало Такой человек часто оказывается готовым обойти закон, если ему не удается отстоять свои интересы по закону. Для него право является недругом морали, а только врагом его личной жадности; он испытывает право
вые предписания, как цепи на своих руках, и всюду, куда право почему-нибудь не вполне проникает (напр., во внутренние отношения семьи или в отношение к мирным иностранцам на войне и во время войны), он готов проявить свою злую и хищную волю.
Относиться так к праву, значит употреблять его во зло, тогда как на самом деле право призвано служить не злу, а добру. Первоначально правовые нормы были введены для того, чтобы обуздать внешние проявления злой воли, но было бы жестокой ошибкой думать, что этим исчерпывается назначение права. Самое обуздание внешних проявлений злой воли необходимо именно для того, чтобы содействовать развитию в душах людей доброй воли, и право только тогда будет понято в своем истинном значении, когда люди будут иметь в виду не букву права, а его основную цель и дух.
Значение права состоит в том, что оно есть могучее средство воспитания людей к общественной жизни. Правовые нормы и повиновение им должны научить человека считаться с существованием других людей и с их интересами. Каждый человек должен приучить себя к тому, чтобы доброю волею ограничивать свои притязания, принимая во внимание, что другие также имеют право жить и осуществлять свои интересы. Ограничивая свободу каждого известными пределами, право обеспечивает ему за то беспрепятственное и спокойное пользование своими правами, т. е. гарантирует ему свободу внутри этих пределов. Свобода каждого человека простирается лишь до той границы, от которой на-чинается свобода других людей. Стремясь установить эти границы, право содействует тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, основанный на свободе.
Воспитать людей в этом направлении, значит, далее, приучить их к мысли о том, что каждый человек — кто бы он ни был и какими бы свойствами он ни отличался, имеет одинаковое право жить, работать, бороться за свои справедливые интересы и развивать свои духовные силы. Укрепление этого чувства в людях достигается особенно распространением естественного (т. е. нравственно верного) права: повинуясь ему, человек приучается видеть в каждом — равного себе ближнего своего и уважать каждого, кто бы он ни был. Воспитывая так человека, право содействует тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, основанный на равенстве.
Именно в этом значении своем право оказывается преддверием морали. Человек, приучившийся сдерживать и обуздывать свои внешние проявления согласно правовым нормам, приобрел уже умение господствовать над собою при помощи воли. Внешнее самообладание, к которому приучает право, есть уже начавшее
ся господство разумной воли над жизнью необузданных страстей и диких порывов. Конечно, мало развить в себе сознание своих прав и обязанностей (правосознание) и приучить себя к верному с точки зрения права (т<ак> наз<ываемому> легальному или лояльному) поведению. Только внутренняя нравственная работа над собою может облагородить душу в ее корне и пробудить в челове-келюбовное отношение к ближним. Но работая над человеческим поведением рука об руку с моралью и подготовляя ее конечное торжество, право, несомненно, содействует тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, основанный на братстве.
В этом деле общественного воспитания праву приходят на помощь нормы нравов. Правовые предписания не могут проникнуть во все стороны человеческой жизни и установить повсюду обязательные пределы: это значило бы убить всякую свободную жизнь, всякое нестесненное проявление и творческую инициативу людей; с другой стороны, праву и не удалось бы учесть всякое движение человека, а погоня за мелочами заставила бы его упустить из вида главное (см. § 9). Поэтому оказывается очень важным, чтобы в жизни людей постепенно слагались добрые обычаи аморально верные нравы. Эти обычаи необязательны в правовом отношении и никем формально не устанавливаются; и тем не менее, люди осуществляют их, и если кто-нибудь формулирует их в виде правил поведения, то признают их, — отчасти по привычке к ним, отчасти из смутного сознания, что «так лучше», отчасти же из уважения к авторитету «общественного мнения». Таковы, напр., все правила вежливого и любезного обхождения, многие обычаи религиозные, торговые, обычаи, связанные с отдыхом и увеселениями, и т. д. Редко кто может указать корень и происхождение такого обычая; часто остается только сознание, что «так делали отцы и деды» или что «так исстари повелось». Конечно, не все, что «повелось», заслуживает одобрения и поддержки: обычаи могут быть грубы и жестоки (напр., бой быков, русские кулачные бои), или вредны духовно и телесно (напр., пьянство, объедение по праздникам), или основаны на предрассудках и суеверии (напр., гадания, чурания и т. п.). Однако с развитием и углублением образования вредное и нелепое постепенно отпадает и сознание: «так надо, хотя и никто не приказал» связывается только с теми обыкновениями, которые облегчают задачу морали и права. Нравы народа соответствуют тому, что мы называем «характером» у отдельного человека: это свойственные ему, устойчивые способы внутренней жизни, которые и выражаются в виде внешних обычаев. И вот, по мере духовного развития народа нравы все более совершенствуются и находят себе выражение в хороших и благородных обычаях (напр., обычай благотворения, обычай выражать
другому свое уважение), а добрые обычаи содействуют, в свою очередь, воспитанию в людях благородных и мягких нравов.
§ 11. Содержание права. Объективное право и субъективное право
Мы видели, что всякая правовая норма устанавливает известный порядок как должный, обращаясь к людям с различными предписаниями; в этом ее основная сущность, так как она всегда указывает, что известный строй внешних отношений должен соблюдаться всеми членами союза. То, что право предписывает людям, называется его содержанием. Понятно, что правовые нормы, указывая каждому обязательные пределы в его внешней деятельности, могут позволить известные внешние поступки, но могут их и воспретить, и в то же время, воспрещая одно, они могут повелеть р£лэт> другое. Право всегда указывает человеку то, что «можно», то, чего ему «нельзя», и то, что он «обязан» делать. При этом, говоря о «возможности» («можно») и «невозможности» («нельзя»), следует иметь в виду не телесную или душевную способность человека: право не в состоянии увеличивать или уменьшать дары природы, данные человеку (напр., мускульную силу, здоровье, талант) или приобретенные им умения. Правовое «можно» следует понимать в смысле «позволено, предоставлено», а правовое «нельзя» — в смысле «воспрещено». Итак, содержание права состоит в тех позволениях, воспрещениях и повелениях, которые им устанавливаются и которые вместе слагают «порядок»,устанавливаемый правом в качестве должного.
Правовое позволение состоит в том, что человеку указывается, какие внешние поступки предоставлены на его усмотрение, причем правовые нормы обеспечивают ему защиту этих поступков. То, что ему позволено или предоставлено на его усмотрение (напр., распоряжаться вещами, которые ему принадлежат; написать завещание или не писать завещания; исповедовать то или другое религиозное учение, подавать свой голос на выборах или воздержаться, и если подавать, то за кого именно; подписывать петицию в парламент или не подписывать) — образует для него сферу свободы, признанной и защищенной правом. Это означает, во-первых, что все, что человек совершит в пределах своей правовой свободы — все это другие люди должны допускать, не смея ему в этом препятствовать; в случае же если кто-нибудь вздумает мешать ему, он может обратиться к людям, следящим за исполнением правовых норм (правящие органы государства), и они обязаны прийти ему на помощь: удостоверить его сферу свободы, устано
вить, что она была нарушена, исследовать, кем именно, и осуществить по отношению к нарушителю правовую санкцию (взыскать с него убытки потерпевшему или подвергнуть его сверх того наказанию). Это означает, во-вторых, что человек, имеющий правовую сферу свободы, может в пределах ее совершать такие поступки, которые будут иметь для других людей, а также и для него самого, обязательные последствия (например, если он продаст другому свою вещь; или отдаст ее в наем; или подаст голос на выборах). Эти обязательные последствия состоят в том, что, с одной стороны,уменьшается витувеличивается его собственная сфера свободы, с другой стороны,увеличивается или уменьшается сфера свободы другого человека или других людей (например, продавший уменьшает, а купивший увеличивает свою сферу свободы; подавший голос на выборах уменьшает, избранный увеличивает свою сферу свободы). Таким образом, всякое правовое позволение предоставляет человеку определенную и ограниченную, но защищенную свободу действия или правовое полномочие; тот, кому оно предоставлено, называется субъектом полномочия. Действие человека в пределах его полномочия называется осуществлением полномочия.
Далее, правовое воспрещение состоит в том, что человеку указывается, каких внешних поступков он не смеет совершать. Понятно, что правовые воспрещения устанавливаются для тех поступков, которые, вообще говоря, по силам человеку и которые он факгическиможет совершить. То, что человекможет, но не смеет делать (напр., похитить чужое имущество; оскорбить кого-нибудь действием; распространить о другом клевету и т. п.), образует для него сферу запретного, сферу покорности, установленной и поддерживаемой правом. Это означает, что все, что человек совершит в пределах запретного, может навлечь на него тягостные последствия в принудительном порядке: или так, что пострадавший от его неправомерного поступка потребует от него через посредство суда возмещения убытков и вознаграждения (гражданский порядок при гражданском правонарушении); или так, что правящие органы (т. е. люди, следящие за исполнением правовых норм) привлекут его к ответственности за нарушение правовых норм, и суд, рассмотрев дело, наложит на него наказание (уголовный порядок при уголовном правонарушении). Таким образом, всякое правовое воспрещение устанавливает для человека определенную и поддерживаемую угрозой сферу покорности или правовую запретность; тот, кто может подлежать взысканию за неправомерный поступок, называется ответственным субъектом. Действие человека в пределах запретного называется правонарушением.
Наконец, правовое повеление состоит в том, что человеку указывается, какие внешние поступки он обязан совершать, причем правовые нормы обычно предупреждают его о тех последствиях. которые грозят ему в том случае, если он не совершит предписанного. То, что ему повелено и что он обязан исполнить (напр., уплатить долг кредитору; или внести государству налог; или явиться к отбыванию воинской повинности), образует для него сферу повиновения, требуемого и поддерживаемого правом. Если правительственные органы не имеют физической возможности уследить за тем, чтобы никто не нарушал запрета, то тем более они не имеют возможности заставить людей совершать известные положительные поступки. В обоих случаях они ставят (как непокорного, так и не-повинующегося) перед угрозою неприятными последствиями: жалоба пострадавшего или привлечение к ответственности со стороны правящего органа (для разных случаев неповиновения установлены разные пути) вызывают к жизни правовую санкцию. Таким образом, всякое правовое повеление устанавливает для человека определенную и поддерживаемую правом сферу повиновения, или правовую обязанность; тот, на кого она возложена, называется обязанным субъектом, или, что то же, субъектом обязанности. Действие человека в этих пределах называется исполнением обязанности.
Теперь ясно, что право осуществляет свою цель и свое назначение именно посредством установления позволений, воспрещений и повелений, причем каждому позволению, установленному в правовой норме, соответствует полномочие, принадлежащее целому ряду членов союза; каждому воспрещению — запретность, тяготеющая над членами союза; каждому повелению — обязанность всех, многих или некоторых граждан. Это можно выразить так, что правовые нормы устанавливают правовые полномочия, запретности и обязанности. Юридические науки называют правовые нормы (и правовые императивы) объективным правом, или правом в объективном смысле, а правовые полномочия, запретности и обязанности, принадлежащие членам союза, — субъективным правом, или правом в субъективном смысле.
Отношение между объективным правом и субъективным правом может быть, следовательно, выражено так: объективное право есть источник субъективного права. Это означает, что правовые полномочия, запретности и обязанности могут быть установлены только правовыми нормами и правовыми императивами; нет правовой нормы (или правового императива) — не может быть правовых полномочий, запретностей и обязанностей, ибо все они «порождаются» или «проистекают» от объективного
права. Тот, кто хочет знать о субъективных правах, должен обратиться к изучению объективного права; ибо субъективное право есть содержание объективного права.
Нетрудно понять, что о содержании права можно говорить не только применительно к объективному праву (какие именно полномочия, обязанности и запретности устанавливаются правовыми нормами), но и применительно к субъективному праву: каждое полномочие уполномочивает человека на какие-нибудь определенные внешние поступки; каждая запретность запрещает человеку известные внешние деяния; каждая обязанность есть обязанность совершить нечто строго определенное. Содержанием субъективного права называются те поступки и деяния, которые позволены, воспрещены или вменены в обязанность человеку.
Исследуя содержание субъективного права, следует иметь в виду соотношение между полномочиями, обязанностями и запретностями. Именно: деяние, которое человек обязан совершить — всегда позволено и не запрещено ему; деяние, которое человеку позволено совершить — не запрещено ему и не вменено ему в обязанность; деяние же, которое воспрещено—тем самым не позволено и не поведено человеку. При этом может быть и так, что полномочие дается человеку только в виде обязанности: так бывает, например, у лиц, состоящих на государственной службе, когда они обязаны делать то самое (напр., судить, управлять), к чему онмуполномочены. Понятно, далее, что деяние, которого человек не обязан совершать— может быть позволенным, но может быть и воспрещенным деянием; поступок, который человеку не позволен — может быть запрещен, но может быть просто не предусмотрен правом, и тогда он считается позволенным, пока не доказано обратное; наконец, деяние не запрещенное—может считаться позволенным, если только оно не вменено в прямую обязанность.
Здесь особенно важно иметь в виду, что не всякое запрещение высказывается прямо в правовых нормах. Обычно в них высказывается открытое запрещение только тогда, если правовая власть считает особенно важным, чтобы «такие-то» поступки совсем не совершались, «такие-то» обязанности всегда в точности исполнялись, «такие-то» границы полномочий никогда не нарушались; именно в таких случаях нарушение запрета может повлечь за собою не только «неприятные» для нарушителя последствия (в виде принудительного возмещения чужого пострадавшего интереса), но и еще особое наказание (в виде временного или пожизненного умаления известных полномочий или полного лишения их), налагаемое по суду в уголовном порядке.
Таково учение о содержании права.
§ 12. Субъект права. Лицо физическое и юридическое
Если мы будем называть того, за кем право признает известные полномочия, запретности и обязанности,— субъектом права, а всю совокупность его полномочий, запретностей и обязанностей — его правовым состоянием, то нам можно будет сказать: задача правовых норм в том, чтобы устанавливать правовые состояния субъектов. Это значит, что каждая правовая норма объявляет: тот, кто обладает такими-то внешними (например, физическое здоровье) или внутренними (например, душевная нормальность) свойствами, или кто совершает такие-то внешние поступки (например, покупает или похищает чужую вещь), или принадлежит к таким-то группам людей (например, к такому-то религиозному исповеданию),—должен быть признан субъектом таких-то полномочий, или таких-то запретностей, или таких-то обязанностей. Отсюда ясно, что не всякий, конечно, является субъектом всех полномочий, запретностей и обязанностей; мало того, право может установить, что некоторые полномочия, запретности и обязанности совсем не могут принадлежать некоторым субъектам права. Это выражается так: они не обладают полною правоспособностью.
Для того, чтобы какое-нибудь полномочие (или запретность, или обязанность) принадлежало какому-нибудь субъекту права, необходимо, чтобы правовые нормы признали за ним вообще способность иметь это полномочие (или запретность, или обязанность) Эта «способность», именуемая правоспособностью, состоит в том, что человек в действительности обладает тем свойством, которое признано необходимымусловием: например, душевным здоровьем, зрелым возрастом и т. п. Наличность этого свойства делает его правоспособным; отсутствие его — делает его неправоспособным. При этом один и тот же субъект права может быть в одном отношении правоспособным, а в другом — неправоспособным; это бывает тогда, когда он обладает одними необходимыми свойствами и не обладает другими: напр., владеть имуществом метут и здоровые и больные; но поступать на государственную службу глухие и слепые не могут; для вступления в брак необходим известный возраст; а для участия в земских и государственных выборах нужен еще более зрелый возраст.
Таким образом, каждый из нас имеет определенную правоспособность, как бы он ни был юн и беден; именно благодаря этому и только благодаря этому он есть субъект права и имеет определенные полномочия, запретности и обязанности. Понят
но, что человек может обладать теми необходимыми свойствами, которые делают его правоспособным, но самых полномочий может и не иметь: напр., взрослый, холостой, безземельный поденщик имеет большую правоспособность, хотя в его правовом состоянии совсем отсутствуют те обширные и разносторонние полномочия, запретности и обязанности, которые принадлежали бы ему, если бы он был женат, владел участком земли, домом, фабрикой и т. д.
По общему правилу, правоспособным, т. е. субъектом права, может быть только человек Ни вещи, ни животные не могут иметь ни полномочий, ни запретностей, ни обязанностей. Признавать дерево собственником, судить животных за преступления (как бывало в средние века), наказывать за ослушание стихии природы (Ксеркс бичевал море), — является, с точки зрения современного просвещенного правосознания, нелепым. Право создается человеком и распространяется только на людей.
Далее, необходимо признать, что правоспособным в большем или меньшем объеме является всякий человек Правда, римские юристы в древности полагали, что «раб» совсем лишен правоспособности, что он — не субъект права, но подобен (по своему правовому состоянию) животному или вещи. Однако римские юристы в этом заблуждались: признать человека совсем неправоспособным, значит окончательно снять с него все правовые позволения, воспрещения и повеления и оставить его жизнь и его действия вне подчинения правовым нормам; а между тем положение рабов во многих отношениях регулировалось правовыми нормами. Так, возникновение и окончание рабского состояния подлежало действию правовых норм; с разрешения господина рабы могли самостоятельно вести хозяйство и даже имели своих рабов; они отпускались господином на оброк и с дозволения его могли заключать торговые сделки и даже писать завещания; они могли скопить богатство и выкупить себя на волю. Самое подчинение господину налагало на рабов правовую обязанность повиновения, но не лишало их совсем правоспособности; правда, правовое состояние раба состояло иногда почти целиком из обязанностей и запретностей, но был и элемент полномочий, который с течением времени все расширялся и упрочивался. Раб не был полноправным. свободным и равным гражданином, он стоял в особой зависимости от господина, но это не лишало его всякой правоспособности. Он оставался субъектом права, потому что правовые нормы и императивы устанавливали для него обязанности, запретности и полномочия.
Таким образом, в обществе людей, живущих в подчинении праву, всякий живой человек, является правоспособным, хотя не
всякий способен иметь все полномочия, запретности и обязанности Особое положение здесь занимают те люди, которых нельзя признать вполне разумными, сознательными существами; так, малолетние и душевнобольные не могут сознавать значения своих поступков, и поэтому право делает для них целый ряд исключений. Они, конечно, не лишаются всякой правоспособности, но подвергаются значительным ограничениям. Во-первых, право не позволяет им совершать такие действия, которые увеличивают или уменьшают правовые состояния людей; это выражается так, что они лишены дееспособности: к ним назначается взрослый человек, опекун, который блюдет их правовое состояние — заведует их имуществом, уплачивает из него долги, вносит подати и т. д. Отсюда вытекает, что малолетние не способны также иметь те полномочия и обязанности, для которых необходима дееспособность, напр., они не могут участвовать вуправлении государством. Во-вторых, за нарушение правовых норм малолетние и душевнобольные не подлежат той же ответственности по суду, как взрослые; это не значит, что с них снимаются все запреты, но значит только, что они подвергаются ответственности в порядке воспитательном или врачебном (увещания и взыскания). Из всего этого ясно, что дееспособность есть особый вид правоспособности, и поэтому всегда бывает так, что тот, кто имеет дееспособность, — имеет тем самым и правоспособность; понятно также, что полная правоспособность включает в себя и дееспособность.
Все это можно выразить так, что субъекту права предоставлено в пределах его полномочий и обязанностей —решать и объявлять свое решение или же обнаруживать его в форме внешних поступков: например, объявив свое решение, субъект права может вступить в сделку, или установить судебный приговор, или издать правовую норму; каждый раз, если у него, конечно, имеется для этого соответствующее полномочие или обязанность. Он может также обнаружить свое решение прямо в виде внешнего поступка: напр., уплатой денег своему кредитору; опущением конверта с избирательным бюллетенем в урну; или помещением своей подписи под готовым уже документом. Такие поступки в юриспруденции нередко называют волеизъявлением; однако, строго говоря, здесь следует говорить об изъявлении не «воли», а «решения», потому что человеку нередко приходится решать и поступать не так, как это ему под-сказывает его интерес и его живое желание (напр., при исполнении неприятных обязанностей).
Не следует думать, что субъектом права может быть только единичный человек — «индивидуум». Юристы называют индивидуального субъекта прав — «физическим лицом», т. е.
правовым лицом, существующим как бы «от природы»11 Наряду с физическим лицом право знает еще другую разновидность субъектов — «юридическое лицо»; оно не существует «от природы», но представляет из себя такого субъекта прав, который устроен или организован людьми.
Каждый человек имеет множество различных интересов и целей, и среди них могут быть такие интересы и такие цели, которые одинаково присущи множеству людей. Каждый человек осуществляет свои интересы и свои цели отдельно и самостоятельно, про себя и для себя — в качестве индивидуального еу&ъеклг права (физического лица), и в этом деле он имеет свои особые полномочия, запретности и обязанности. Однако в осуществлении своих интересов люди могут быть объединены, и тогда может быть организован новый субъект права, один для многих людей, общий для них и объединяющий их. Для этого нужно, конечно, чтобы у всех объединяющихся людей были не только «одинаковые», каждым порознь осуществляемые цели (у многих людей много отдельных похожих целей), но один «общий» всем интерес (один и тот же у многих) и одна общая всем цель (одна и та же для многих); тогда может возникнуть юридическое лицо. При этом юридическое лицо будет или корпорацией, илиучреждением.
Если несколько людей организуют новое юридическое лицо с тем, чтобы самим войти в его состав, тогда этот новый субъект прав именуется корпорацией. Тогда они соединяют свои силы и части своего имущества для достижения общей цели и образуют с разрешения правовых норм единый союз. Такой союз имеет свой писаный устав, устанавливающий его цель и его организацию, свои особые полномочия и обязанности и рассматривается как единое целое, как особый субъект прав Каждый участник не только пользуется наравне с другими членами благами или доходами, которые добываются деятельностью союза, но, главное, участвует совместно с другими членами в вырабатывании на общем собрании единого решения по основным жизненным вопросам союза; решение это принимается большинством голосов и приводится в исполнение отдельными, специально для того выбранными и уполномоченными людьми («правлением» или «советом»), которые являются «органами» юридического лица. Действия этих органов, если они совершены согласно уставу, считаются действиями самого юридического лица. Такими корпорациями являются, например: акционерные компании (с их «общим собранием» и «правлением); приходские церковные союзы (с собранием прихожан, причтом и старостой); сельский, городские, дворянские самоуправляющиеся общества и, наконец, — государство.
Однако юридическое лицо может быть организовано помимо тех людей, интересам и целям которых оно будет служить; тогда оно называется учреждением. Учреждение возникает так кто-нибудь (физическое лицо или корпорация) объявляет в письменной форме, что он с согласия государственной власти назначает такое-то жертвуемое им имущество — для служения таким-то интересам таких-то людей и что управлять им будут такие-то лица (обычно утверждаемые или назначаемые государственной властью). Лица эти берут на себя обязанность и полномочие управлять и заведовать пожертвованным имуществом, но не в свою пользу, а для служения той цели, которая была указана учредителем; от имени нового юридического лица они и действуют'. Учреждение рассматривают как особый субъект права и признают за ним особые полномочия и обязанности, хотя юристы соглашаются, что трудно указать, кого из людей следует подразумевать, говоря о полномочиях и обязанностях учреждения. Этот вопрос еще не решен в науке права. Такими учреждениями являются, например: университеты, больницы, государственный банк; многие учреждения создаются и поддерживаются государством как единой властвующей корпорацией.
§ 13* Правоотношение. Применение права
В борьбе за существование, за усовершенствование личной и общей жизни люди постоянно вступают друг с другом в различные отношения: они обращаются друг к другу с просьбами, обещаниями и приказами, отдают друг другу разные вещи, обмениваются ими и совершают друг для друга различные действия. При этом они обыкновенно заботятся о том, чтобы сказанное было услышано другим, а отданная вещь — была им принята; чтобы они сами совершили те действия, на которые претендует другой, и чтобы другой не нарушил данного им слова или установленного соглашения. Каждый из нас постоянно претендует на то, чтобы другие люди что-нибудь делали для него (напр, везли его, отдавали купленное, готовили ему кушанье и т. д.) или чего-нибудь не делали, соблюдая его интерес (напр., не входили без спроса в его жилище, не портили и не похищали его вещей, не оскорбляли его и т. д.). Эти чужие действия и не-действия являются предметом наших претензий.
Не все эти отношения имеют правовое значение; иными словами, не все эти обещания, соглашения и обмены устанавливают для обещающих и принимающих обещаний, для соглашающихся и обменивающихся — правовые полномочия, запретности и обязанности; и, далее, не всякое распоряжение
вещью и не всякое действие человека влечет за собою правовые, принудительно осуществляемые и поддерживаемые последствия; не всякая претензия есть притязание, основанное на праве. Человек может требовать от другого человека совершения таких действий, которые для другого вовсе не обязательны. Все это можно выразить так не всякое отношение люцрм. есть правоотношение.
Отношение людей будет только тогда правоотношением, если правовые нормы предусмотрят его иукажут, какие правовые последствия оно влечет за собою. Правовые нормы определяют, кто и какие поступки может или должен совершить для того, чтобы между ним и другими людьми возникло (не внутреннее моральное или просто житейское отношение, но) именно право-отношение.
Это можно выразить так, что каждое отношение людей есть правоотношение лишь постольку, поскольку оно есть встреча правовых полномочий, запретностей и обязанностей, принадлежащих разным субъектам прав. Люди участвуют в правоотношениях не как простые люди, но как субъекты прав, способные участвовать в таком правоотношении; постольку их слова и дела оказываются юридическими действиями, за которые они отвечают; предмет их претензии становится предметом правового притязания; их обещание создает для них — правовое обязательство, а для другого, получившего обещание и ожидающего его исполнения, — правовое притязание (т. е. основание требовать); их приказ получает также правовое значение и становится властным распоряжением. С виду все остается по-старому, но юридически все меняется.
Правовые нормы указывают людям их полномочия, запретности и обязанности именно для того, чтобы пропитать их отношения правовым значением, превратить их в правоотношения и тем упрочить взаимную уверенность, мири порядок Оказывается, что каждое отношение людей, если оно предусмотрено правом, следует рассматривать с этой точки зрения: какраспре-деляются между его участниками правовые полномочия, запретности и обязанности Такос отношение есть встреча внешних полномочий и обязанностей; оно есть право-отношение. Это значит, что объективное право устанавливает субъективные «права» лиц, а субъективные «права» лиц, встречаясь, образуют правоотношение; если же представить себе все правоотношения между людьми, то их можно будет назвать правопорядком. Сущность правопорядка можно изобразить так каждый из нас, определив свои полномочия, предоставленные ему объективным правом, может быть твердо уверен, что каждому его полномочию— соответствует обязанность, а может быть, сверх того, и запрет
ность у других людей и, обратно, что каждой его обязанности — соответствует полномочие^ кого-нибудь другого. Если я уполномочен, — значит, кто-то обязан; если я обязан, — значит, кто-то уполномочен.
После всего сказанного нетрудно понять, что такое применение права. Всякая правовая норма, в каких бы словах она ни была выражена и о чем бы в ней ни говорилось, устанавливает правовые состояния тех или других субъектов права (физических лиц или юридических лиц). Поэтому продумать правовую норму, или, что то же, подвергнуть ее юридическому анализу, значит раскрыть: для каких именно субъектов права, какие именно полномочия, запретности и обязанности в ней устанавливаются; а так как встреча различных полномочий, запретностей и обязанностей есть правоотношение, то задачу этого анализа можно определить так: раскрыть, какие отношения людей предусматриваются в этой норме и какие правовые последствия им придаются. При этом надлежит помнить, что правовые нормы никогда не утверждают, что такие-то люди, с такими-то свойствами и поступками, или такие-то человеческие отношения в действительности существуют или бывают. Иногда правовые нормы формулируются так, как если бы они описывали какое-нибудь фактическое событие, например: «король назначает и сменяет министров»*; «законодательная власть осуществляется совместно королем, палатой представителей и сенатом»**; «тайна переписки неприкосновенна»***; или еще «виновный в том-то... наказуется так-то» и т. д. Этого не следует понимать буквально; все события, о которых говорится в нормах, устанавливаются правом как должные и предусматриваются им как возможные в будущем. Часто бывает так, что должное и предусмотренное действительно наступает, король в самом деле сменяет министров, люди в самом деле оставляют завещания, организуют корпорации, уплачивают предписанные налоги, совершают предусмотренные преступления. Однако может случиться и так, что долгое время никто не совершает предусмотренного преступления или, например, монарх не пользуется своим полномочием сменять министров и т. д. Тогда соответствующие правовые нормы остаются как бы в выжидательном состоянии: они временно не имеют «приложения» или, как говорят юристы, — они не применяются.
Применить правовую норму, значит подчинить ей, как правилу, данное отношение людей (данный «случай»). Это надо представлять себе так Каждая правовая норма говорит следующее:
* Статья 6 5 Итальянской конституции 1848 г.
** Статья 26 Бельгийской конституции 1831 г.
*** Статья 33 Прусской конституции 1850 г
когда в жизни людей обнаружится такое-то (дозволенное, запретное или обязательное) деяние или отношение, или возникнет такое-то лицо — то признать за этим лицом, или за участниками этого отношения, или за совершителем этого деяния такие-то полномочия, запретности и обязанности. Каждую правовую норму необходимо изложить по этому трафарету для того, чтобы понять ее, как следует. Тогда окажется, что в каждой правовой норме описывается в отвлеченном виде (или подразумевается) некоторое деяние (напр., «виновный в умышленном повреждении чужого имущества»), или отношение (напр., «соглашение о невзыскании долга», «неосторожное причинение убытка», «распоряжение полиции»), ъишлицо (напр., «Наследник престола», «министр», «Государственная Дума», «всякий подданный»); нередко и то, и другое, и третье. Прежде чем применять правовую норму, надо убедиться, что это предусмотренное правом деяние, отношение, лицо — действительно имеется в данном случае; а для этого по основному правилу необходимо, чтобы характерные черты данного случая вполне совпадали с признаками предусмотренного деяния. Так, например, если в норме говорится об «умышленном повреждении чужого имущества», то необходимо убедиться, что и в данном случае действительно «повреждено имущество», и притом именно «чужое» (а не свое), и притом «умышленно»; и что данное лицо действительно «виновно» в этом, т. е. что оно не только вообще ответственно за свои поступки, но несет вину и в этом деле; тогда только ему может быть назначено наказание. Или, например, если в норме предусматривается «соглашение о невзыскании долга», то необходимо убедиться, что и в данном случае действительно состоялось «соглашение» между сторонами, и притом именно о «невзыскании долга», и притом именно того долга, о котором возник спор, и т. д. Если же признаки, обозначенные в норме, действительно имеются и в данном случае, тогда за каждымлицачутверждаются те самые полномочия, обязанности, запретности или взыскания и наказания, которые назначены в правовой норме. Это решение объявляется всем заинтересованным лицам и затем поддерживается всею силою государственной власти, так, чтобы каждый мог беспрепятственно осуществлять свое полномочие, чтобы каждый исполнил свою обязанность, отбыл свое наказание и т. д.
Таким образом, применение правовых норм проходит через три стадии: сначала происходит сравнительный анализ нормы и данного случая, затем решение и, наконец, принудительное поддержание его и осуществление. Важно иметь в виду, что применять правовые нормы может не всякий, но только тот, кто имеет Для этого особое полномочие от властвующего союза. Это озна-
чает, что соблюдать право и применять право — не одно и то же; соблюдать право, значит повиноваться ему, а повиноваться праву обязан всякий гражданин; применять же право, значит работать над тем, чтобы другие его соблюдали и ему повиновались, а для этого необходимо особое (публично-правовое, см. § 15) полномочие. Применение права есть дело крайне важное и ответственное; в момент применения право подчиняет себе жизнь людей, овладевает ею и заставляет ее осуществлять свои предписания. В этот момент решается вопрос о правовом состоянии людей и, следовательно, об их внешней жизни: применение права может, например, повести к тому, что богатый утратит свое имущество, а бедный его получит, что один будет оправдан, а другой, может быть, будет приговорен к тяжелому наказанию. Отсюда каждый из людей оказывается морально и юридически заинтересованным в том, чтобы применение права совершалось людьми, умудренными знанием и справедливостью.
Знание необходимо здесь потому, что сравнительный анализ нормы и данного случая есть дело в высшей степени трудное. Необходимо прежде всего найти соответствующую правовую норму, что бывает не всегда легко ввиду их множества; а так как не все правовые нормы записаны в определенных словесных выражениях, то иногда бывает необходимо проверить, имеется ли соответствующая норма, формулировать ее в словах и признать за ней правовое значение (см. § 20). Затем бывает нередко так, что смысл нормы неясно выражен и что ее необходимо подвергнуть толкованию; так, многие правовые нормы могут быть поняты лишь после сопоставления их с другими нормами, изложенными ранее (ибо нет возможности повторять в каждой норме все определения, ранее установленные); другие нормы разъясняются только тогда, если принять во внимание намерение законодателя и т. д.
Но особенное значение получает в деле применения права справедливость (см. § 9). Требование справедливости состоит в том, чтобы решение стояло в действительном и строгом соответствии с тем случаем, к которому оно применяется. Дело в том, что право не может предусмотреть всех тех особенностей и видоизменений, которые могут сложиться в действительности, и потому оно всегда даеттолько общие, отвлеченные и все уравнивающие указания; зато оно предоставляет многое живому, справедливому усмотрению судьи и правителя. Задачей того, кто применяет право, является как раз — приспособление общего и отвлеченного предписания к особенностям единичного случая и отношения. Один и тот же приговор или решение, подходящие к одному случаю, будут несправедливы в другом: так, например, мало определить размер причиненного убытка, важно учесть, насколько такой
убыток разорителен для потерпевшего; мало установить, что преступление совершено, важно учесть, нечаянно оно совершено или нарочно, способен преступник его повторить или нет, мало знать, что налог не уплачен, необходимо установить, не было ли здесь каких-нибудь несчастных причин, с которыми недоимщик впоследствии справится, и т. д Справедливость требует, чтобы право не применялось без оглядки, в слепом равнодушии и без всякого снисхождения к человеческой слабости и невежеству; она требует, наоборот, чтобы всюду, где только возможно, учитывались личные свойства субъектов и их намерения; она требует далее, чтобы всюду, где только право может выступить на поддержку морали и добрых нравов, применение нормы служило бы этой высшей цели; она требует, наконец, чтобы тот, кто применяет право, имел в виду только одно — правое и верное решение и не поддавался никаким соображениям постороннего свойства: пристрастию, лицеприятию или, тем более, корысти. Такое применение права приучает людей ценить его и уважать; оно созидает в стране правосудие м мудрое правление.
§ 14. Положительное право. Действие права по времени, по месту и по лицам
Правовые нормы,установленные правовою властью и подлежащие применению, называются положительным правом. Положительное право не следует противопоставлять естественному, т. е. морально-верному праву (см. § 8), так, как если бы они друг друга исключали; потому что в составе положительного права, установленного и применяемого властью, могут быть моральноверные нормы, и притом, чем больше их, тем положительное право совершеннее. Однако положительное право и естественное право все же далеко не совпадают и поскольку они не совпадают, постольку естественное право является идеалом положительного права. Отношение между ними можно выразить так, что прогресс общественной жизни состоит в постепенном приближении положительного права к естественному; идеал состоит здесь в том, чтобы все положительное право стало естественным (т. е. морально-верным), а все естественное право стало положительным (т. е. получило признание и применение со стороны власти).
Это постепенное развитие положительного права состоит в том, что «устарелые» нормы отменяются, а на их место устанавливаются новые. Норма считается устарелою или тогда, когда прежний общественный уклад уступил свое место новому, или тогда, когда нравственное чувство людей стало более глубоким и вер-
ним и перестало удовлетворяться старым правом. История свидетельствует о том, что развитие и усовершенствование положительного права совершается медленно, но неуклонно; медленно потому, что всегда есть группы людей, которым старое право полезнее и выгоднее и которые, обыкновенно, соглашаются на его отмену лишь после долгого и упорного сопротивления; неуклонно потому, что всегда появляются новые группы людей, неудов-летворенные старым правом, считающие его вредным или несправедливым. В результате этой борьбы право всегда оказывается исправленным, дополненным и обновленным; но это исправление всегда подготовляется долго и медленно: люди настолько привыкают к старым правилам, что иногда изменение их начинает казаться им полною отменою всяких правил.
Для того, чтобы нормы положительного права подверглись обновлению и исправлению, необходимо, во-первых, чтобы люди в этом действительно нуждались (потребность в реформе), во-вторых, чтобы эта нужда была осознана (выяснение потребности). в-третьих, чтобы сложилось уверенное знание того, что именно и в какую сторону должно быть изменено (составление проекта реформы), и, наконец, в-четвертых, чтобы эта осознанная потребность могла бы побудить уполномоченных создателей права осуществить реформу (предложение, принятие и утверждение проекта). Таким образом, прежде чем появится новое право, необходимо, чтобы у народа или хотя бы у создателей права сложилось бы новое правосознание, т. е. представление о новом праве и чувство нового правового строя.
Таковы в общем причины, под влиянием которых слагается и растет положительное право; это — хозяйственные и культурные интересылюдей (т. е. целых общественных групп), потребность вмире и порядке аморальное чувство; все это вместе создает новое правосознание, пробивающее себе постепенно дорогу и получающее, наконец, форму и значение правовых норм.
Однако для того, чтобы новое правило поведения, сложившееся в правосознании людей, получило значение правовой нормы, необходимо участие уполномоченных людей, деятельность которых протекает вустановленном порядке, или, что то же, имеет обязательную форму. С того момента, как все эти формальные требования соблюдены, правовая норма должна обязательно соблюдаться и применяться. Это можно выразить так, что «действие» правовой нормы имеет свои пределы во времени: обязательность ее имеет свое начало и свой конец. Правовая норма всегда применяется к свойствам, деяниям и отношениям людей; и вот нередко бывает так, что к моменту установления новой правовой нормы в действительности уже накопились предусматриваемые ею
свойства, деяния и отношения Люди приобретали эти свойства, совершали эти деяния и вступали в эти отношения, или зная, что они вовсе не предусмотрены правом, или имея в виду старые правовые нормы, которые, может быть, не запрещали того, что теперь запрещено, или не возлагали столь тяжелых обязанностей. Самая основная задача права состоит в том, чтобы указать разумному существутакое правило поведения, которое оно могло бы иметь в виду постоянно и заранее, т. е. до каждого отдельного решения и поступка; поэтому было бы противно справедливости и задачам права, если бы на человека налагались более тягостные взыскания за нарушение права, установленного вновь. Вот откуда возникает общее правило: право не имеет обратного действия, оно означает, что новые правовые нормы применяются только ктем деяниям и отношениям, которые состоялись после их установления; к тем же деяниям и отношениям, которые возникли раньше, применяются по-прежнему отмененные правовые нормы. Это правило о неприменимости права к остаткам прежней жизни имеет, впрочем, несколько исключений: оно не соблюдается, во-первых, если в новой норме прямо повелевается распространить ее на все случаи без исключения (так бывает, когда этого требует общее благо, напр., при отмене несправедливых преимуществ или при введении новых повинностей); оно не соблюдается, во-вторых, если новый закон смягчает наказание преступнику.
Отсюда уже понятно, что огромное большинство правовых норм прекращает свое «действие» (т. е. перестает применяться) не сразу. К новым событиям правовая норма перестает применяться только после своей прямой отмены; но и после этого она «умирает» не сразу, а лишь по мере того, как исчезают остатки прежней жизни.
Таким образом, нет и не может быть такой правовой нормы, которая была бы обязательна во все времена, повсюду и для всех людей. «Действие» правовых норм имеет не только временные пределы, но и пространственные границы.
Вообще говоря, нормы положительного права могут быть установлены в любом человеческом союзе, если в нем естьлица, уполномоченные создавать правила внешнего поведения; но в организованной жизни человечества особое значение имеют те союзы, деятельность которых происходит в известных пространственных границах: таковы государства, земские союзы, городские союзы и некоторые другие. Правовые нормы такого союза обязательны и применимы (по общему правилу) только в границах данного города, уезда, губернии и государства; т. е. они применяются только к тем состояниям, деяниям и отношениям людей, которые состоялись или обнаружились в их пределах Это понят
но, потому что за этими пределами начинаются тотчас же пределы другого, соседнего союза, который имеет свои правовые нормы и требует повиновения им. За исключением некоторых пустынных областей Африки и Азии, каждый клочок земной поверхности отведен или захвачен в ведение того или иного государственного союза людей; это выражается юридически так: на каждой территории действует свое право. Понятно, что правовые предписания различных государств во многом не сходны, и это обнаруживается при постоянных переездах или длительном пребывании членов одного государства на территории другого. Тогда предписания норм сталкиваются, между ними возникает конфликт, который разрешается каждый раз по особым правовым правилам; для этого в каждом государстве есть особые нормы, именуемые конфликтным правом.
По общему правилу, каждая правовая норма, установленная правовым союзом, применяется на всей территории его; однако могут быть установлены правовые нормы, действующие исключительно в отдельных губерниях или частях государства. Такие нормы называются местным правом; местные законы исключают действие общих. Так, например, особое частное право (см. § 15) действует на русских окраинах: свое — в Финляндии, свое — в Польше и свое — в Остзейском крае.
Наконец, «действие» правовых норм может быть ограничено не только временем и пространством, но и личными особенностями человека или целых групп людей, если это специально установлено в праве. Отсюда происходит деление правовых норм на общие и специальные. По общему правилу, нормы права должны применяться к предусмотренным деяниям и отношениям всех членов союза и в этом смысле все равны перед законом. Но по закону могут быть и не все равны; это означает, что иногда устанавливаются правовые нормы, возлагающие особенно тяжелые обязанности на одних освобождая других от этого бремени (напр., прежнее деление русских сословий на «податные» и «неподатные»), или же предоставляющие кому-нибудь особые преимущественные полномочия (привилегии); эти привилегии могут даваться за личные заслуги (напр., привилегии изобретателей или вновь учреждаемых дворянских родов) или принадлежать целым сословиям, переходя из рода в род Этот порядок можно выразить в виде правила: специальный закон исключает действие общего. Понятно, что полное правовое равенство людей состояло бы не только вравенстве перед законом (когда каждая норма применяется ко всем без исключения предусмотренным ею деяниям и отношениям), но и в равенстве по закону (когда ни одна норма не устанавливает ни для кого ни преимущественного полномочия,
ни меньшего бремени обязанностей и запретностей). Понятно также, что полное уравнение людей по закону легко повело бы к несправедливости (см. § 9) и даже к разрушению правопорядка, ибо правопорядок всегда основан на том, что одни люди имеют преимущественное перед другими полномочие властвовать, творить право и суд (см. § 8—10).
§15> Деление права. Право публичное и частное
После всего сказанного нетрудно понять, в чем основная сущность права. Люди, объединенные в союз, поручают отдельным членам союззустанавливать общеобязательные правила внешнего поведения; правила эти, предусматривая различные свойства, деяния и отношения людей, указывают, какие полномочия, обязанности изапретности должны быть признаны за теми, кто имеет эти свойства, совершает эти деяния, вступает в эти отношения; объективное право решает, таким образом, кто есть субъект права и какие субъективные права входят в правовое состояние каждого из нас; в результате такого применения права отношения людей утверждаются как правоотношения, а все правоотношения, взятые вместе, образуют правопорядок.
И вот все право, как объективное, так и субъективное, разделяется на две большие части: на право публичное и право частное. Согласно этому делению, каждая правовая норма, каждое правовое полномочие или обязанность, наконец, каждое правоотношение должны быть признаны или публичным, или частным.
В каждом правоотношении, как было показано выше, встречаются: с одной стороны, полномочие, принадлежащее одному субъекту, с другой стороны, обязанность (а может быть, и запретность), принадлежащая другому субъекту; между тем и другим всегда есть строгое соответствие. При этом, говоря о правоотношении, не следует представлять себе встречу двух или многих правовых состояний, взятых в целом, но встречу одного единого полномочия, принадлежащего одному субъекту, с единой обязанностью, принадлежащей другому. Правоотношение есть всегда одна единая тонкая нить, протянувшаяся между двумя субъектами; поэтому между каждыми двумя людьми существует целыйряд правоотношений, и одни из них могут быть публичными, а другие частными. В основании этого деления лежат следующие различия.
Для того, чтобы правоотношение было публичным, а не частным, необходимо, во-первых, чтобы одному субъекту принадлежало полномочие на власть по отношению к другому, а другой имел бы обязанность подчиняться первому. Это означает, что публичное правоотношение есть правоотношение юридически
неравных субъектов: один является юридически независимым от другого (в пределах этого правоотношения!) и притом авторитетным для него; другой, напротив, обязан «признавать» авторитет первого, т. е. повиноваться ему и постольку является подчиненным. Понятно, например, что отношение каждого из нас к тому внешнему авторитету (к государственной власти, церковной власти), который устанавливает правовые нормы, следит за их исполнением и применяет их, — является всегда публичноправовым. Отсюда ясно, что частное правоотношение есть правоотношение юридически равных субъектов: ни один из них не является для другого правовым авторитетом; однако при этом оба одинаково подчинены третьему, вне их правоотношения стоящему правовому авторитету, которому они обязаны повиноваться и к которому могут обратиться за разрешением спора о полномочиях и обязанностях.
Понятно, что каждому из нас легче иметь частно-правовые полномочия, чем публично-правовые: потому что «простых смертных» много, а людей, имеющих полномочие властвовать и повелевать, немного, да и они сами вне этих своих полномочий могут вступать только в равные правоотношения. Не следует вообще думать, что если кто-нибудь имеет полномочие на власть, то все правовое состояние его является «публично-правовым» и все должны во всем ему повиноваться. Никто не имеет полномочия на «безграничную» власть; напротив, всякое полномочие, и в том числе всякое публично-правовое полномочие, имеет строгие пределы. И как только человек начинает действовать вне этих пределов, он действует без полномочия на власть, он сам является «простым смертным» и подчинен общим законам. Исключением является только монарх: полномочия его, правда, определяются законами, но деятельность его общим законам не подлежит и по ним не обсуждается (см. § 19).
Полномочие на власть может быть названо латинским словом империум (imperium), и тогда окажется, что в публично-правовом отношении империум всегда принадлежит одному из встречающихся субъектов, а в частно-правовом отношении империум принадлежит не им, а правовому авторитету, возносящемуся над ними. Но так как полномочие на власть только и может принадлежать правовому авторитету (в этом основная черта права, см. главы 8 и 9), то в публичном правоотношении одна из сторон всегда является правовым авторитетом или правовою властью союза (государства или церкви).
Для того, чтобы яснее понять это, необходимо помнить, что каждый союз, самостоятельно создающий правовые нормы и управляющийся на их основании, есть союз, властвующий над
своими членами. Нельзя установить правовую норму, обязательную для всех (независимо от того, одобряют они ее или нет), не обладая полномочием на власть. Правовая власть есть не что иное, как полномочие устанавливать и применять правила поведения. Эту правовую власть следует рассматривать как единое полномочие единого субъекта прав — союза в целом как единой корпорации. Но при осуществлении своем эта власть является разделенной на множество отдельных полномочий, предоставленных отдельным субъектам права—единичным лицам (напр., в государстве — монарх, министр, губернатор, мировой судья; в церкви — епископ, иерей), или корпорациям (напр., в государстве — земства и города; в церкви — приход, епархия), или учреждениям (напр., в государстве — Государственная Дума, сенат, казенная палата). Всем этим субъектам права властвующий союз поручает «делать то-то и то-то», от своего лица; они «властвуют» не от себя и не для себя, но от имени союза, осуществляя его цели, слагая за него решения и объявляя их от его лица. Все эти физические и юридические лица называются органами союза (органами государства, органами церкви). Органы властвующего союза — это те субъекты права, которые приняли от союза обязанность осуществлять его полномочия и вследствие этого получили по отношению ко всем остальным членам союза или к некоторым из них полномочие повелевать от лица союза и требовать повиновения.
Отсюда ясно, что тот, кто не повинуется органу союза, тот не повинуется самому союзу: потому что власть органа есть власть самого союза. И тот, у кого обязанность повиноваться встречается с властным полномочием органа, тот стоит в правоотношении с самим союзом: потому что полномочие органа есть полномочие самого союза. И если кто-нибудь имеет полномочие (напр., избирательное право), которому соответствует обязанность органа (напр., охранять законность, свободу и тайну выборов), тот стоит в правоотношении с самим союзом: потому что обязанность органа есть обязанность самого союза (в данном примере — государства).
Таким образом, мы можем сказать: в каждом публичном правоотношении одна из сторон есть властвующий союз, и притом именно та сторона, которая имеет властное полномочие.
Следует иметь в виду, что и в частном правоотношении одна из сторон может быть союзом, например, акционерная компания; но акционерная компания есть не властвующий союз и полномочий на власть не имеет, поэтому правоотношение остается частным. Далее, самый властвующий союз может вступать в частные правоотношения; обычно он совершает это через свои органы, например, когда выступает покупателем, или продавцом, или де
лает заказы поставщикам и фабрикантам. В таких случаях «казна» (т. е. властвующий союз как субъект имущественных полномочий и обязанностей) ставит себя в положение, равное другой стороне, подчиняется вместе с нею общим нормам права и оказывается субъектом частного права.
Наконец важно помнить, что полномочие на власть может встретиться и в частно-правовых отношениях, но тогда это полномочие принадлежит не властвующему союзу, а одному лицу и предоставляет ему не правовой авторитет, выражающийся в создании и применении правовых норм, а бытовой авторитет, выражающийся в житейских и уже не правовых приказаниях. Так, например, русские законы говорят о власти мужа над женою и родителей над детьми В этом обнаруживаются остатки древнего права, возникшего в эпоху родового быта, когда глава семьи и рода был верховным повелителем и судьею; власть родителей над малолетними детьми коренится также и в беспомощности и неразумии младенцев. Все эти правоотношения признаются частными, потому что ни муж, ни родители не являются органами властвующего союза. Однако нельзя не признать, что здесь мы все же имеем перед собою публично-правовой остатоквчастном праве.
Теперь должно быть понятно, каким образом это основное деление всех правоотношений распространяется также и на субъективные права и на правовые нормы.
Полномочие будет публично-правовым тогда, если оно предоставляет лицу частицу той власти, которая принадлежит властвующему союзу в целом; как бы ни была эта частица мала (напр., полномочие низшего из полицейских служащих) и как бы ни была незначительна сама по себе ее повелительная сила (напр., при совещательном народном представительстве или в полномочиях, предоставляющих всем подданным свободно сообщаться, обсуждать свои нужды, образовывать союзы и т. д.), — полномочие остается публично-правовым. При этом среди публично-правовых полномочий есть такие, которые всегда сопровождаются такою же обязанностью, так что лицо не только «имеет право», но и «обязано» делать «то-то» и «то-то» от лица союза; другие же полномочия не сопровождаются такою обязанностью. Так, напр., прокурор не только уполномочен, но и обязан привлекать преступников к суду; губернатор не только уполномочен, но и обязан управлять губернией; но избиратель не обязан принимать участие в выборах; в политических собраниях никто не обязан участвовать.
Обязанность будет публично-правовою тогда, если она ставит субъекта лицом к лицу с властным полномочием союза. Публично-правовая обязанность связывает всегда обязанного с
властвующим союзом: это есть или обязанность органа действовать властно от его лица, или обязанность члена союза покоряться его нормам и распоряжениям. Так, органы государства обязаны действовать от имени государства, поскольку они к тому уполномочены, а подданные государства обязаны постольку исполнять его веления. Эту публично-правовую покорность не следует смешивать с обязанностью повиноваться, лежащею на том, кто «нанялся» в услужение. Договор найма для услуг или «на работу» есть частное правоотношение*: тот, кто нанял, не имеет властного полномочия над тем, кто нанялся; обе стороны стоят наравне и одинаково подчинены правовой власти, стоящей над ними. Это выражается и в том, что договор найма может быть установлен добровольно и расторгнут свободным решением нанявшегося, конечно, с соблюдением условий о сроке, предупреждении и т. д. Но для выхода из подданства необходимо получить согласие публично-правового союза (напр., государства).
Понятно, что запретность, открыто высказанная в праве, имеет всегда публично-правовой характер, даже тогда, когда ею ограждаются интересы частных лиц. Это объясняется тем, что правящая власть союза только тогда высказывает открытые и прямые запрещения, подкрепляя их угрозою наказания, когда она придает особую важность ограждаемым полномочиям и обязанностям; тогда она объявляет, что тот, кто не исполнит таких-то обязанностей или вторгнется в чужую уполномоченную деятельность, совершит такие-то поступки или не совершит таких-то обязательных деяний, тот будет иметь дело с властью самого властвующего союза, и эта власть обратится к нему с принуждением, преследованием и наказанием. Такие правоотношения называются уголовными правоотношениями; они могут сопровождаться частно-правовыми обязанностями, но сами всегда остаются публичными (напр., за убийцею, подлежащим уголовному преследованию, может быть признана частно-правовая обязанность вознаградить семью убитого).
Наконец, правовая норма должна быть признана публично-правовою, если она устанавливает властные полномочия какого-нибудь союза (напр., государства, земской общины, городского союза, церковного союза) и обязанности повиновения со стороны его членов (или обратно: обязанности властвующего союза по отношению к его членам и полномочия его членов на участие в делах властвующего союза); если же правовая норма предусматривает равные правоотношения между сторонами и устанавливает полномочие требовать, но не властвовать, то она должна быть признана частно-правовою
* Ср об этом в части III § 81
В настоящее время существуют три главные разновидности властвующих, публично-правовых союзов: союзы церковные, государства и входящие в государства самоуправляющиеся общины (напр., земские, городские).
§ 16. Понятие о государстве
Из всех союзов, создаваемых людьми в их совместной жизни, наибольшую разносторонность и внешнюю силу имеет, несомненно, государство. Человечество, обремененное долгим опытом и тяжелыми страданиями, испытав жизнь вне организованного принудительного правопорядка, пройдя через средние века с их частно-правовым строем и публично-правовым неустройством, — убедилось теперь, что возможно совмещать жизнь в свободных и добровольных союзах с жизнью в едином властвующем и принудительном союзе, в государстве. Принудительная сила государства и разносторонность его деятельности при правильной организации не только не подавляют свободную духовную жизнь человека, но создают для нее благоприятные условия Выработать эту правильную организацию составляет высшую задачу человечества в его политической деятельности.
Государство есть союз людей, организованный на началах права, объединенный господством над единой территорией и подчинением единой власти.
Первое, что необходимо иметь в виду для верного понимания сущности государства, это то, что государство есть союз людей.
Там, где нет людей, там вообще не следует говорить о «государстве». Стада животных, общины и рои насекомых не могут быть признаны государствами, потому что мы не имеем данных, которые позволили бы нам признать их инстинктивное единение сознательно организованным правовым союзом. Государство, как и право, есть нечто, устанавливаемое людьми и имеющее в виду людей.
Но, далее, государство непременно предполагает наличность многих людей. Один человек может быть субъектом права, может входить в состав государства и иметь публично-правовые полномочия, но не может, сам по себе, образовать государства, ибо государство есть союз; воззрение, разделявшееся, например, Спинозою* и французским королем Людовиком XIV, согласно которому все государство заключается в лице короля, не следует понимать буквально (имелось в виду не государство, но вся полнота государственной власти). Самые маленькие государства современной
* Великий философ XVII века Жил и умер в Голландии (1632—1677)
Европы, Андорра и Сан-Марино, имеют около 10 000 жителей каждое; самым большим государством на земле по числу граждан является Китай (около 386 миллионов). Государственная организация оказывается необходимой и возникает только тогда, если объединяется сравнительно большое число людей; небольшие группы всегда сумели бы объединиться, не обращаясь к столь сложной организации, как государственная.
Понятно, далее, что не всякое множество людей образует государство. Это множество людей должно, прежде всего, иметь единый, и притом именно общий интерес, а не множество отдельных, индивидуальных интересов, стоящих друг к другу в отношении конкуренции и исключения. Этот интерес должен быть не только присущ каждому человеку в отдельности, но всем сразу и сообща, так, чтобы удовлетворение его было бы возможно только через объединение всех Таким интересомявляется, какужеясно из предшествующего, усовершенствование совместной жизни посредством установления и поддержания справедливого правопорядка. Этот основной интерес, действительно, един и общ для всех членов сразу, хотя он и не исчерпывает собою задач и целей государства.
Однако не следует думать, что всюду, где есть общий интерес, есть и союз, организовавшийся для его осуществления и защиты Для этого необходим еще целый ряд условий. Люди > должны осознать и признать, что такой интерес у них есть и что он един и общ для всех сразу. Это не значит, что в действительности все граждане современного государства признают это; одни могут не сознавать этого по недостатку образования, другие могут не признавать этого по нежеланию подчинять свой личный, своекорыстный интерес — общему. Но государственный союз, как и всякий союз, будет тем сплоченнее и сильнее, он будет тем дружнее и успешнее разрешать свои задачи, чем глубже в гражданах будет чувство общей объединен-ности, чем сильнее в них будет уверенность в том, что единый и общий высший интерес лежит в основании их объединения Государственный союз, в котором это чувство и эта уверенность ослабевают, идет навстречу своему разложению.
Понятно, что такое осознание и признание важны не сами по себе, но должны пробудить согласие и волю к союзной жизни и единению. Среди людей часто бывает так, что отвлеченное признание не вызывает творческого желания и не подвигает на деятельный труд. Государственная жизнь требует от людей именно волевого деятельногоучастия и труда. В XVIII веке Руссо* пытался выразить это так, что государство основывается на «общественном договоре», в котором все мы участвуем, признавая его
* Жан-Жак Руссо, великий французский мыслитель (1712—1778).
молчаливым согласием. Впоследствии Гегель* настаивал на том, что государство не только «основывается» на решении объединиться, вся государственная жизнь, думал он, состоит в том, что люди желают одного и того же и направляют свою волю и свои силы к достижению желанного, именно, корганизованному единениюради высшего блага. Государственный союз, в котором нет этого согласия и этой воли к единению, медленно распадается, и первое же серьезное испытание (напр., трудная война) может привести его к гибели
Естественно, что воля к единой цели и совместной жизни приводит к установлению и поддержанию длительной, прочной и определенной связи. Государство есть союз, образовавшийся не на срок; это — союз бессрочный; он не предвидит конца своего существования, хотя и не выдает себя за вечную или бесконечную сущность вроде физической материи или геометрического пространства. Нет, государство будет существовать, пока люди будут в этом нуждаться, т. е. пока людям будет необходимо принудительно поддерживать справедливый правопорядок. А для того, чтобы поддерживать его, государство само должно быть прочно, оно должно иметь характер строго определенный: государство есть организация, т. е. союз,устроенный и живущий на основании обязательных правил.
Эти правила, которым подчинены всеустройство и вся жизнь государственного союза, суть правовые нормы. Государство есть не просто союз, но правовой союз, организованный и действующий по правовым нормам. Это означает, что члены его участвуют в нем в качестве субъектов права, что отношение, связующее их всех в единый союз, есть правоотношение и, наконец, что самый союз, как единство, есть единый коллективный субъект права, или юридическое лицо.
Главное, что необходимо здесь усвоить и иметь в виду, это правовой характер государственного союза. Напрасно было бы думать, что государство выше права, что оно ему не подчинено. Правда, государственный союз создан для того и уполномочен к тому, чтобы устанавливать новые правовые нормы и поддерживать уже созданные; это и дает иногда повод говорить и думать, что подобно тому, как Создатель мира — выше мира, так и создатель права — выше права. Однако именно к правовой жизни это не применимо: самое создание права и поддержание права совершается в государстве по правовым нормам; государство само есть правовой союз, субъект права, имеющий полномочия и обя
‘ Георг Фридрих Вильгельм ТЬгель, великий немецкий философ (1770-1831).
занности как по отношению к другим государствам (в международных правоотношениях), так и по отношению к своим гражданам; каждая установленная государством правовая норма связывает его самого, возлагая на него обязанность поддерживать и принимать установленную норму, не предписывать обратного до ее отмены, не взыскивать большего, чем в ней указано, и т. д. Словом, все существование государства подчинено праву, все полномочия и обязанности его суть правовые полномочия и правовые обязанности; и поэтому все отношения его должны быть правоотношениями. Государство есть правовой союз, которому дана правовая власть для того, чтобы поддерживать право и служить праву. И если бы государство вышло совсем за пределы права, нарушая его, то оно не могло бы поддерживать правопорядок среди граждан и требовать от них повиновения праву. Тот, кто говорит о государстве, говорит о праве, ибо государство есть правовой союз; право есть как бы тот воздух, которым дышит государство.
Именно благодаря этому государство, как союз, есть правовой союз — коллективный субъект права, или юридическое лицо. Это означает, что государство существует не от природы, но организуется людьми; что оно не есть ни физическая вещь (напр., территория), ни простое множество людей, но представляет собою множество людей, связанное единым правом, единой властью и единой территорией в союз: государство есть множество в виде единства.
Не, следует, однако, представлять себе государство как единство, стоящее где-то над множеством людей, вне этого множества; государство не возносится над своими членами в виде чего-то чуждого и постороннего им. Тот, кто так представляет себе государство, смешивает государственный союз с государственной властью, хотя, конечно, и государственную власть не следует представлять себе, как помещенную вне союза. Все это могло бы быть так, если бы государство, как единый субъект права, было учреждением, т. е. субъектом, существующим для граждан, но не включающим их в свой состав; но государство есть именно не учреждение, обслуживающее нужды «других», а корпорация; оно есть юридическое лицо, включающее в себя хех.,ради которых оно существует. Государство существует не только ради граждан и для них, но через граждан и в них: если бы народ вымер или разбежался, перейдя в другие государственные союзы, то государство прекратилось бы.
Далее, государство как единая корпорация, включающая в себя своих членов, имеет не частно-правовой, а публично-правовой характер. Это определяется тем, что основное полномочие го
сударства есть полномочие на власть. Государство есть союз, уполномоченный властвовать над своими членами, создавать для них правовые нормы и веления, управлять ими и судить их; все это, конечно, в порядке, установленном правовыми нормами. Поэтому отношения между государством и его членами являются обыкновенно (см. § 15) публичными правоотношениями, в которых государство выступает, властвуя по полномочию, а граждане имеют обязанность подчиняться. Всякий участник государства, встречаясь с его властными правовыми велениями (будь то в виде норм или в виде императивов), оказывается в положении лица, подчиненного по праву, или подданного, и потому обязанного послушанием в своих внешних действиях. Государство есть публично-правовая корпорация, и этим она отличается ото всех частно-правовых корпораций (культурных и торговых союзов): эти союзы не имеют полномочия на власть по отношению к своим членам, и участники их не являются их подданными.
Наконец, государство, как публично-правовая корпорация, властвует над людьми только на известной территории, т. е. на известной, строго определенной правовыми нормами земной поверхности; этим оно отличается от тех публично-правовых корпораций, господство которых над людьми или совсем не связано с территорией (напр., религиозно-церковный союз), или не связано с определенным местом, служащим народу для оседлой жизни (напр., общины кочевников, еврейский народ в пустыне). Государственная власть всегда имеет свой предел в территориальных границах, и это дает основание определить государство как публично-правовую территориальную корпорацию.
Это не значит, однако, чтобы каждая публично-правовая территориальная корпорация была государством (напр., земские и городские общины, провинции и области не могут быть названы государствами). В этом мы сейчас убедимся.
§ 17. Основы государства: народ; территория; власть
Мы видели, что государство есть публично-правовая территориальная корпорация. Это означает, что существование государства покоится на следующих основах: должен быть налицо народ, т. е. множество лиц; народ должен населять определенную и ограниченную территорию; он должен быть подчинен единой правовой власти. Если нет одной из этих основ, то нет и государства. Однако для того, чтобы верно понять
эю, необходимо отчетливо усвоить, что все эти основы имеют правовой характер и правовое значение.
Государство, как правовое явление, есть союз лиц. Поэтому, с точки зрения юриста, в государстве участвуют тапъколюди, и никто и ничто, кроме человека, в государство не входит, ибо право соединяет только человека с человеком. Поэтому земля и воды, вещи и здания, растения и животные входят в географическое «государство», но не входят в правовой союз людей; то, что юрист называет государством, не следует уподоблять стеклянному колпаку, охватывающему все, помещенное на подставке; государство подобно, скорее, сети тонких незримых, но прочных нитей, связывающих всех людей в единство. По поводу вещей (будь то земля, дома, животные, растения, мебель и т. п.) люди вступают между собою в правоотношения; но сами эти вещи не могут быть лицами или субъектами права и в правовом отношении не участвуют.
а ) Народ. Положение народа в государстве можно передать образно так. Государство подобно кругу; линия окружности, всюду одинаково удаленная от центра и всюду одинаково связанная с ним нитью радиуса, обозначает одинаковую в корне включенность и одинаковое участие всех членов союза; единый центр обозначает то общее, что объединяет всех в круговое единство. Все, принадлежащие к государству, входят в государство так, как линия окружности входит в круг, все они связаны одинаковым правовым отношением так, как радиус связует каждую точку окружности с единым центром; все они имеют единое объективное право и единую власть так, как круг имеет единый центр; все они населяют единую территорию так, как единая площадь круга замыкается линией окружности.
Несмотря на все различия людей в смысле возраста, пола, характера, богатства и субъективных прав, в положении каждого члена государственного союза есть сходство с положением всех остальных членов. Все они одинаково суть члены государственного союза и поэтому одинаково стоят с ним в определенных правоотношениях. Эти правоотношения суть публично-правовые отношения, и следовательно, члены государственного союза, участвуя в них, имеют субъективные публичные права. Каждый участник государства является субъектом публичных обязанностей (а также запретностей) и полномочий, которые различно определяются в разных странах, но все-таки имеют одинаковую сущность.
Единую сущность этих обязанностей и поддерживающих их силу запретностей можно обозначить как обязанность оказывать повиновение (велениям) и покорность (запретам) правовой власти союза, и следовательно, тем правовым нормам и импера
тивам, которые по праву исходят от этой власти. Понятно, что этим обязанностям и запретностям, лежащим на каждом участнике государственного союза, соответствуют полномочия государства: устанавливать правовые нормы, издавать правовые императивы,руководить на основании их жизнью государства, применять право и судить его нарушителей. Каждый член государственного союза, обязанный ему повиновением, есть его подданный. Подданство приобретается и утрачивается исключительно с согласия государства и по его законам: нельзя выйти из подданства и вступить в подданство самовольно. Подданство может быть приобретено или по соглашению между взрослым человеком (иностранцем) и государством, или независимо от согласия человека (например, рождением от подданного или, в некоторых государствах, рождением на территории данного государства); оно прекращается обыкновенно или через разрешение государства («увольнение») или же в виде наказания («изгнание»). Подданство обязывает не только к повиновению правовым предписаниям государственной власти, но и клич-ному содействию государству: подданный обязан участвовать в обороне государственного союза и, следовательно, несет воинскую повинность; он обязан участвовать в доставлении денежных средств государственному союзу и, следовательно, несет податную или налоговую повинность; наконец, он не смеет предпринимать что-нибудь, клонящееся к тайному или явному вреду своего государства, дабы не быть обвиненным в измене (он обязан «верностью» своему государству).
Далее, общую сущность тех публично-правовых полномочий, которые предоставлены каждому участнику государственного союза, можно обозначить как право наличную свободу и право на участие в государственном союзе. Эти полномочия делают участника государственного союза уже не только подданным, но гражданином.
Ту «естественную», моральную свободу, согласно которой каждый человек, кто бы он ни был, имеет нравственное полномочие делать то, что по его крайнему разумению и убеждению есть морально лучшее, — эту свободу ни одно государство не может и не должно искоренять или заглушать внешними запретами. Государство есть правовое установление, и поэтому оно само заинтересовано в том, чтобы стоять в живом, творческом взаимодействии с моралью и моральною жизнью людей Ввиду этого каждое государство ограничивает свою власть над подданными лишь тем, что ему представляется безусловно необходимым; современные государства постепенно прониклись убеждением в том, что граждане тем прочнее и глубже объединяются государственным
союзом, чем больше участие и чем более обеспеченная личная свобода им предоставлены: ибо прочность государства требует, чтобы граждане сознательно и добровольно, на правах зрелых и свободных людей, поддерживали свое правовое единение
Понятно, что каждому полномочию гражданина, предоставляющему ему личную свободу, соответствуют обязанность и запретность, лежащие на государственной власти и ее органах. К таким правам свободы, которые государственная власть обязана хранить и защищать, которых она не смеет нарушать, но которые она может ограничивать справедливым законом, относятся следующие. Во-первых, свобода передвижения и выбора места жительства на территории государства (никто не может быть арестован или выслан иначе, как только по закону; арестованный в самый короткий срок должен быть предан суду); во-вторых, свобода выбора профессии и промысла; в-третьих, неприкосновенность частного жилища (никто не может войти в чужое жилище без разрешения хозяина, если у него нет на то особого полномочия); в-четвертых, тайна частной корреспонденции (никто не имеет права вскрывать и читать письма кроме того, кому они адресованы); в-пятых, свобода совести, т. е. религиозного исповедания (всякий имеет право открыто исповедовать ту религию, которая представляется ему истинною, или не исповедовать никакой; его нельзя лишить за это никаких прав); в-шестых, свобода слова и печати (всякий имеет право высказывать свои мысли устно и печатно, отвечая за это только по закону и перед судом; для открытия газет, журналов, книгоиздательств и книжных магазинов особого разрешения от государства не надо, достаточно простого заявления — «явочный порядок»); в-седьмых, свобода собраний (граждане имеют право сходиться для публичных бесед в закрытых помещениях и под открытым небом, не стесняя езды по улицам, но повинуясь законным требованиям полиции; явочный порядок; ответственность за беспорядок и неповиновение — по закону перед судом); в-восьмых, свобода союзов (граждане имеют право объединяться для целей, не противных закону, в союзы, учреждая их явочным порядком). При этом государственная власть обязана и уполномочена следить за тем, чтобы пользование этими основными правами свободы совершалось по закону и чтобы виновные в противозаконном пользовании ими отвечали за это по суду; помимо этого государственная власть уполномочена в случаях крайней необходимости (войны, эпидемии, стихийных бедствий, народных волнений) временно воспрещать гражданам пользование этими правами, причем она должна впоследствии привести веские основания для такого запрета
Наряду с правами свободы, принадлежащими гражданам, стоят полномочия граждан научастие в государственном союзе. Эти полномочия, с одной стороны, предоставляют каждому гражданину требовать от государства полицейской, судебной и военной защиты в случае нарушения его прав и его свободы; с другой стороны, они предоставляют каждому гражданину, если он обладает необходимыми, в законе указанными, свойствами (напр., возраст, пол, душевное состояние или, сверх того, принадлежность к известному сословию, или владение определенным имущественным состоянием), принимать участие в осуществлении государственной власти. При этом не все граждане уполномочены к одинаковому участию во властной деятельности государственного союза. Одни уполномочены только к периодическому участию в избрании тех, кто будет потом действовать от лица государства; другие получают обязанность и полномочие осуществлять постоянно предоставленную им частицу государственной власти. Эти публичные полномочия могут быть по содержанию очень широки (например, права монарха) или очень тесны (права избирателя); они могут быть пожизненны (монарх) или срочны (напр., у народных представителей); они могут приобретаться на основании закона (например, полномочия монарха) или на основании народных выборов (например, народные представители), или по назначению (например, полномочия министра, губернатора); но они всегда принадлежат только гражданину, т. е. только каждому в своем государстве, и являются необходимым соответствием и дополнением к обязанностям подданного
Для того, чтобы углубленно и отчетливо представить себе отношение между государственным союзом и его членами, следует рассматривать публичные полномочия подданных как особые, лежащие на гражданах обязанности, а обязанности и повинности, возлагаемые государством на своих граждан, как особые полномочия его подданных.
Право участвовать в жизни государственного союза есть высокое и почетное право: оно делает человека гражданином: включает его, как духовную свободную личную силу, в основной состав союза; ставит его в ряды тех, которых государство защищает, но от которых, в свою очередь, ждет защиты, которым оно доверяется как своим организаторам и осуществителям, которых оно приобщает своим целям и от которых поэтому ждет добровольного и самоотверженного сотрудничества. Знание и полномочие гражданина обязывает: оно обязывает к защите и поддержанию союза, к труду во имя общего блага, к верности союзу и его целям. Только там все будут за одного, где один за всех; и обратно. Только там государственный союз будет осуществлять успешно свои выс
шие цели, где граждане будут смотреть на свои публичные полномочия как на обязанности.
Точно также обязанности и повинности, возлагаемые государством на своих членов, можно рассматривать как своего рода полномочия; это тем более естественно, что, согласно общему правилу, тот, кто имеет известную обязанность, имеет тем самым и полномочие ее исполнять (см. § 11). С этой точки зрения окажется, что каждый может заявить о своем праве поддерживать всеми силами свой государственный союз, делать взносы в его казну, служить в его войсках и жить на его территории (если, конечно, он не изгнан в виде наказания). Некоторые из этих прав рассматриваются обычно как стесняющие и обременительные требования государства; это объясняется тем, что люди, погружаясь в свои личные дела и узкие расчеты, утрачивают живое чувство своей принадлежности к государству, чувство своей моральной и правовой связи с ним и незаметно перестают испытывать себя его членами: тогда каждый взнос в казну государства воспринимается только как личный убыток, каждая повинность переживается как тяжелое бремя и, в конце концов, люди начинают чувствовать себя чужаками в своем государстве. Однако история показывает, что в час общей опасности, в эпоху тяжелой войны, когда в людях загораются по-новому чувства родины и политического единения, участие в жизни государства получает вновь свое истинное и глубокое значение, и люди, выполняя свои правовые обязанности не только за страх, но и за совесть, чувствуют, что они действительно уполномоченные участники и граждане своего государства как объединенной корпорации.
Ь) Территория. Если государство невозможно без входящего в его состав множества подданных граждан, образующих в целом то, что называется народом, то оно невозможно и без территории. Государство есть не кочующий, а оседлый союз людей Эту оседлость следует понимать не в том смысле, что граждане фактически сидят неподвижно на месте или не имеют права переменять свое местожительство; коммивояжеры, бродячие музыканты, богомольцы-странники, цыгане и целые кочевые племена в Средней Азии всю жизнь переезжают и переходят с места на место; и, тем не менее, они, как граждане, сохраняют свою юридическую оседлость, которая определяется припискою к той или другой местной общине, входящей в состав государства. Однако оседлость государства как публично-правовой корпорации не следует сводить только к тому, что все граждане обязаны приписаться к какой-нибудь местной общине; государство сохранило бы свою территориальность и в том случае, если бы граждане не имели такой обязанности.
Связанность государства с территорией есть правовая связанность. Она состоит в том, что государство уполномочено властвовать надо всеми теми и требовать подчинения ото всех тех, кто живет или находится временно в пределах его территории; всякий, кто переступает, или переезжает, или перелетает через указанную в правовых нормах черту (сухопутную или морскую границу), подпадает всецело или до известной степени (если он иностранный подданный) правовым велениям господствующего здесь государства. Это означает, что поверхность земли и воды, именуемая «государственной территорией», определяет, кто из людей подчинен власти данного государства. Отсюда уже ясно, что не следует представлять себе дело так, будто государственный союз есть собственник своей территории. Обычно дело обстоит так, что вся поверхность земли, входящая в состав государства, принадлежит на праве собственности по частям отдельным гражданам, корпорациям и учреждениям; большие участки принадлежат нередко на праве собственности и государственной казне. Однако право собственности есть частное право, а связь государства с территорией устанавливается публичным правом. Это не значит, что между государственным союзом и территорией имеется публичное правоотношение, территория — не человек и участвовать в правоотношении не может. Публичное правоотношение имеется между государственным союзам, с одной стороны, и всяким человекам, находящимся на его территории, с другой стороны. Граница территории есть пространственный предел, за которым кончаются властные полномочия одного государства и начинаются властные полномочия другого.
Итак, территориальность государства состоит в том, что его полномочие на власть имеет предел в пространстве; отсюда ясно, что государство может потерять свою территорию только в том случае, если оно потеряет самое свое полномочие на власть. Поэтому если на войне другое государство, без всякого полномочия на власть, силой, временно займет его территорию своими войсками и будет властно распоряжаться над чужими подданными, то угнетенное государство не утратит от этого свой территориальный характер; его полномочие властвовать над жителями его территории временно будет неосуществимо, и только.
с) Власть. Каждое государство есть властвующий союз. Это означает, что ему принадлежит правовое полномочие властвовать, простирающееся до тех пределов, которые указаны в правовых нормах. Каждое государство властвует только в пределах своих полномочий, которые ограничены, с одной стороны, властными полномочиями других государств, с другой стороны, правами свободы, принадлежащими его гражданам.
По общему правилу, каждое государство является самостоятельным по отношению к другим государствам. Это означает, что каждое государство само учреждает свою власть и свое устроение и имеет полномочие устраиваться и переустраиваться независимо от согласия или несогласия других государств, одним своим самостоятельным решением. Государство не получает свою власть ни от какого другого авторитета или союза; оно всегда создает самодеятельно те правовые нормы, на основании которых оно властвует и управляется. Этим-то государство и отличается от земских и городских общин, провинций и областей, которые, будучи иногда во всем подобны государству, — имея и правовой характер, и власть, и население, и территорию, — не имеют, однако, самостоятельной власти: не могут переустраиваться сами, но получают и свое полномочие на власть и свое устройство от того государства, частью которого они являются; поэтому они и не признаются за государства.
Но если всякое государство имеет такую основную самостоятельность, то это не значит, что всякое государство имеет полную независимость от других государств. В известных второстепенных отношениях, касающихся не государственного устройства (см. § 19), а отдельных сторон государственной деятельности, одно государство может быть подчинено другому; это подчинение может состоять, например, в том, что подчиненное государство или не имеет права сноситься свободно с третьими государствами, или обязано поставлять свои войска и посылать дань господствующему государству, или же обязано в некоторых строго определенных отношениях признавать правовые нормы, исходящие от последнего и повиноваться им (это относится особенно к государствам, входящим в союзные государства, см. § 19). Однако многие государства, особенно великие державы, являются вполне независимыми и связаны лишь теми обязательствами, которые они взяли на себя по свободному договорному соглашению.
Зато в своих пределах власть каждого государства является верховною. Государству принадлежит право относиться ко всем людям, союзам людей, другим организациям и их органам, находящимся в его пределах, как к подчиненным. Государство не признает на своей территории другой власти, которая имела бы полномочие воспротивиться его власти или уклониться от повиновения. Создавая и издавая свои правовые нормы, государство определяет, кому и какая власть принадлежит в его пределах: всякое полномочие на власть дается его правовыми нормами Современному государству не приходится уже бороться за первенство и верховенство с другими лицами и общественными союзами, — с феодальными помещиками, с церковью, городами,
цехами и т. д., — как это было в средние века. Власть каждого государства есть власть в его пределах верховная.
Для того, чтобы верно понять это верховенство, необходимо иметь в виду, что государственная власть, сохраняя свое единство и свою неразделенностъ (потому что субъект ее — единая государственная корпорация — остается единым и неразделенным), все же для осуществления своего распределяется между всеми органами государства. На вопрос о том, каковы объем и размер государственной власти, можно было бы ответить следующим уравнением: власть государства равна сумме властей всех его органов; или иначе: полномочие на власть, принадлежащее государству, распределено всегда без остатка между всеми органами, действующими от его лица. Государство, как и всякая другая корпорация, не действует само, в своем цельном составе, но поручает осуществление своих полномочий и обязанностей отдельным лицам — физическим (например, монарх, президент республики, министр, губернатор, мировой судья, фабричный инспектор) и юридическим (например, Государственный совет, Государственная дума, сенат, губернское правление). У государства всегда jwz/o-го органов; каждый из них имеет, с одной стороны, полномочие действовать от лица государства самостоятельно от высших органов, с другой стороны, обязанность отвечать за правильность своих действий перед высшими органами и повиноваться их правовым велениям. Исключением является только монарх, который в качестве верховного органа не имеет над собою высшего органа и не отвечает ни перед кем за свои действия, повинуясь только правовым нормам и своей совести.
Отсюда ясно, что власть государства не следует смешивать с властью какого-нибудь отдельного органа или нескольких высших органов государства. Каждый, даже самый мало влиятельный и невидный орган государства, имеет такую область вопросов и отношений, в которой он уполномочен властно действовать от лица государства, повинуясь только правовым нормам и велениям. Если бы государство не распределяло бы так свое властное полномочие, оно совсем не могло бы управляться и разрешать свои задачи. Вот почему воззрение, отождествляющее власть государства то с властью законодательных органов, то с властью правительственных органов, следует признать ошибочным. Каждый орган имеет только то полномочие, которое он получил от государства и которое, следовательно, в сущности принадлежит самому государству; и обратно: полномочие, которое государство утвердило за собою посредством правовой нормы, оно всегда передает для осуществления одному или многим органам. Это означает, что власть государства делится и распределяется между
всеми его органами; целиком она не принадлежит ни одному органу. Тем более она не принадлежит ни одному из тех. людей, которые носят высокое и почетное звание государственного органа. Вот почему власть государства равна сумме властных полномочий всех его органов.
Наука давно уже обратила внимание на то, что власть государства, продолжая принадлежать единой корпорации,разделяется для своего осуществления на множество полномочий и что полномочия эти распределяются между отдельными органами Государство имеет две основные задачи: во-первых,устанавливать правовые нормы и правовые императивы, во-вторых, работать над проведением в жизнь того порядка, который установлен в нормах как должный. Это проведение правовых норм в жизнь происходит двумя способами, в зависимости оттого, насколько строгие и определенные полномочия предоставлены тому или другому органу: должный порядок осуществляется или путем применения права, или пухемуправления. Применение и управление суть одинаково те способы, которыми государство выполняет свое назначение: осуществляет в жизни правомерный строй и порядок Однако способы эти различны: применяя право (см. § 13), государственные органы берут готовые, состоявшиеся свойства, деяния и отношения граждан и, рассмотрев их, подводят их под ту или иную правовую норму, объявляя, согласно ее указаниям, какие полномочия, обязанности и запретности принадлежат данным людям. Самая применяющая деятельность органов обыкновенно бывает подчинена строгим правилам и предписаниям (уставам), которые обеспечивают внимательное, верное и справедливое, свободное от ошибок, применение права: именно так работают суды. В отличие от этого пути, управление происходит так, что государственные органы, действуя от имени и от лица государства, сами завязывают новые публичные или частные (от лица «казны», см. §12) правоотношения как со своими гражданами, так и с иноземными государствами и подданными, обеспечивая этим для членов своего государства упорядоченную, благоустроенную и благоприятную для духовного роста жизнь. Самая управляющая деятельность органов никогда не может быть заранее предусмотрена и подчинена строгим предписаниям и уставам: здесь очень многое предоставляется свободному почину, энергии, таланту, жизненному опыту и, главное, бескорыстной воле, мудрости и прозорливости правящих людей. Именно поэтому эта деятельность может быть названа «свободною» деятельностью государственных органов; но она «свободна» не в том смысле, что совершается без полномочий и обязанностей или не ограничена запретностями; или может быть вполне произволь
ною; или является бесконтрольною и безответственною; но в том смысле, что правовые нормы дают для нее лишь общие полномочия, обязанности и указания: управление должно преследовать «пользы» государственного союза и удовлетворять его «нужды», однако отнюдь не нарушая законов государства, но всемерно им подчиняясь.
Таковы три основные деятельности государственного союза и его органов: создание объективного права, применение его и управление. Первоначально думали, что каждому органу может принадлежать только одна из этих трех деятельностей, и, согласно этому, делили не только деятельности и полномочия государства, но и органы его на — законодательные, судебные и правительственные. Однако теперь юридическая наука признает, что органы государства могут иметь полномочия и деятельности всех трех видов. Так, например, палата представителей есть орган законодательный, участвующий главным образом в создании новых правовых норм; но в то же время палата представителей, проверяя правильность состоявшихся выборов, участвует в применении права, а контролируя путем запросов деятельность министров, она осуществляет полномочия правительственного характера. Точно так же судебным органам, работающим главным образом над применением права, приходится осуществлять правящую деятельность (через судебных приставов) и даже устанавливать новые правовые нормы (напр, нормы «обычного права», см. § 20). Наконец, правительственным органам приходится действовать не только «свободно» по соображениям «пользы», но и постоянно применять правовые нормы (напр., полиция применяет «Паспортный устав», воинские присутствия — «Устав о воинской повинности» и т. д.); кроме того, правящие органы уполномочены создавать особые правовые нормы, — правительственные распоряжения илиуказы, без которых они совсем не могли бы осуществлять свое назначение.
Отсюда ясно, что органы государства называются законодательными, правительственными и судебными по тому главному делу, которое им присвоено. Нетрудно также понять, что все эти органы, осуществляя единое государственное дело, стоят в некотором постоянном живом соприкосновении друг с другом; это выражается в их деловых сношениях. Низшие органы сносятся с высшими посредством донесений, а высшие с низшими посредством распоряжений и циркуляров. Это не значит, однако, что все органы расположены в один единый ряд начальствования и подчинения. По общему правилу, только глава государства (монарх или президент республики) является верховным органом во всех трех направлениях — законодательства, управления и суда
Относительно же других органов общее правило таково: все органы одинаково подчинены правовым нормам; но органы законодательные считаются обычно высшею инстанцией, влияющей на деятельность правящих органов, а в некоторых государствах влияющей и на замещение высших правительственных должностей (министров); деятельность же судебных органов ставится обычно в условия независимости от управления, для того чтобы придать ей беспристрастную верность и справедливость, столь необходимую в деле применения права (см. § 13).
Этим и определяется принципразделения властей, который требует распределения основных государственных деятельностей между различными органами, с тем, однако, чтобы между этими органами постоянно поддерживалось творческое взаимодействие и живое равновесие: законодательная власть является высшей, она следит за тем, чтобы деятельность правительственных органов была полезна и закономерна; правительственная власть подчиняется законодательной, но имеет и свободную сферу, в которой обязана отчетом; судебная власть отправляет свое дело независимо, и хотя судьи и назначаются правительством, однако сменить их возможно только в случае злоупотреблений.
§ 18. Возникновение государства.
Его цель и задачи
Государство как объединенный, публично-правовой, территориальный союз имеет длинную и сложную историю. Возникновение государства сокрыто в глубокой древности. Наука предполагает, что государственный союз возникал в борьбе нескольких родовых союзов за преобладание; борьба приводила к победе одного рода или к примирительному соглашению между несколькими родами и в результате над ними устанавливалась единая власть. Укреплению этой власти содействовали многие обстоятельства: необходимость держать в подчинении остаток недовольных, насильно присоединенных к союзу, а также рабов; необходимость поддерживать порядок внутри союза; авторитет князя или царя, поддерживаемый его званием судьи и законодателя, религиозного руководителя и верховного жреца; и, наконец, особенно, необходимость обороняться от вооруженных нападений соседей. Государства возникают и упрочиваются с переходом от охотничьего и пастушески-кочевого быта к земледельческому. Община, осевшая на месте со всем своим добром и стадами, связавшая свою участь с засеянным полем и ожидаемым урожаем,
естественно, вынуждена отстаивать и защищать свои владения от пришлой орды завоевателей, подвергающей все опустошению. Опасность нашествий рано заставляет провести в жизнь разделение труда между земледельцем, ведущим свое хозяйство, и воином, который сам не обрабатывает землю, но обороняет хозяйство своей общины. Судья, законодатель и жрец получает новое звание — военачальника, и власть его получает новую опору в силе постоянного войска.
Защита жизни, очага и хозяйства от набегов кочевников настолько важна, что удачное отражение их естественно создает из общины центр, слывущий защищенным и безопасным. Малые и слабые общины видят свой прямой интерес в том, чтобы отдаться под власть удачно обороняющегося союза и купить себе тем защиту, а купцы, ищущие безопасности для верных оборотов, начинают тяготеть к тому же центру. Государственная власть слагается тем быстрее и прочнее, чем скорее и вернее ей удается обеспечить порядок внутри союза и безопасность от внешних нападений.
Понятно, что исторически государства складываются раньше там, где климат и почва благоприятствуют земледельческому хозяйству: в южных плодородных странах, возле больших рек (Ассирия, Египет). Понятно также, что государства легче достигают развития и зрелости там, где море или горы помогают обороне <ут нападений и, в то же время, где сухопутные или речные и морские пути сообщения облегчают торговые сношения и создают постоянный прилив населения к центру и отлив из него в колонии (Греция, Рим). Естественно, наконец, что создание могучего государства удавалось всегда энергичным и предприимчивым, трудолюбивым и в то же время воинственным народам. Государственная жизнь развивалась медленно, и развитие это шло всегда рука об руку с развитием в душах людей правосознания: самая сущность государства состоит во властвовании по праву, через право и ради права, и потому там, где чувство права и справедливости не развивалось, государственная власть делалась жертвой между-усобных столкновений и насильственных захватов.
Таким образом, государство возникло и упрочилось в поисках внутреннего порядка и внешней безопасности. Этим определяется, но не исчерпывается его значение и назначение. Властвуя на основании полномочий («по праву»), осуществляя свою власть посредством правовых велений и правомерной деятельности своих органов («через право»), государство имеет своею первою задачей водворение на земле (как в своих пределах, так и в международных отношениях) правового порядка («ради права»), т. е. борьбу с произволом и господством грубой силы. Эта первая и
основная задача государственного союза должна привести при разрешении ее — к дружному сожительству людей как во внутренней жизни государства, так и в его внешних сношениях; государственный союз призван организовать правовое разрешение всех столкновений между отдельными гражданами и целыми государствами, а это поведет к исчезновению войн и к водворению на земле мира гражданского и международного.
Однако такосумиротворение жизни людей при помощи права может удаться только при том условии, если право будет давать справедливые решения, если оно будет справедливым правом. До тех пор, пока будут обделенные и неудовлетворенные, нарушение мира будет стоять у порога. Поэтому создание справедливого (естественного) права является одною из высших задач государства. Но так как справедливое право, по самой сущности своей, есть прежде всего морально-верное право, то государство, разрешая эту задачу, оказывается работающим во имя нравственного развития человечества. Внешними, принудительными велениями невозможно, конечно, переродить мир человеческой души, но возможно приучить человека считаться со справедливыми правами и интересами других. Это означает, что государство как правовой союз имеет все те задачи, которые предстоит разрешать праву: государство должно стремиться к водворению в жизни людей справедливой, свободной, равной и братской совместной жизни.
Такое упорядочение и умиротворение внешней жизнилю-дей при помощи справедливого права требует, чтобы государство принимало более деятельное участие в жизни граждан. Понятно, что союз, уполномоченный требовать от своих членов определенных денежных взносов и властно определять их размер (налоги), имеет возможность сделать чрезвычайно многое в деле устроения общественной жизни. И здесь перед государством открывается чрезвычайно широкое поле для деятельности, ведущей к хозяйственному устроению и духовному развитию народа. Задачи государства не ограничиваются водворением порядка, мира и справедливости; оно должно делать все возможное для того, чтобы народ не страдал не только от раздоров, войн и несправедливости, но и от голода, болезней, стихий природы и, главное, от духовной темноты.
Хозяйственная деятельность людей, предоставленная частной инициативе, нередко приходит в расстройство: неумение извлекать большой урожай из малого участка земли, отсутствие хороших, но дорогих орудий, недостаток капитала на промышленное или торговое обзаведение, недостаток быстрых и дешевых путей сообщения, наконец, неорганизованность всего
народного хозяйства по единому плану—все это нередко приводит к хозяйственным бедствиям, например, неурожаю, разорению, недостатку товара, тяжело отзывающемуся на потребителе, или чрезмерному избытку товара, разоряющему производителя. Всему этому государство идет на помощь, обучая земледельца, помогая ему ссудами и заботясь о справедливом распределении земельной собственности (Министерство земледелия), кредитуя и контролируя деятельность промышленников и торговцев (Министерство торговли и промышленности), строя и улучшая дороги (Министерство путей сообщения).
Особенную важность получают заботы государства об умственном развитии народа. Образование ума, расширение кругозора и углубление мысли необходимы человеку во всех отношениях, и прежде всего для того, чтобы исполнить свое высшее назначение: осуществить на земле жизнь духовно-значительную и нравственно-совершенную. Развитие ума есть путь к истинномузнанию, благородной воле, чистому чувству и прекрасному искусству; для государства же к этому присоединяется еще необходимость создать развитое и твердое правосознание, невозможное среди умственно отсталого народа. Вот почему основные задачи государства заставляют его взять на себя заботу о народном образовании, о всеобщем обучении и о поддержании наук и искусств (Министерство народного просвещения). Вместе с заботами о поддержании внутреннего порядка (Министерство внутренних дел) и внешних отношений (Министерство иностранных дел), о военных силах государства (военное министерство), о собирании государственных доходов и распределении расходов (Министерство финансов) и, наконец, о судебном применении права (Министерство юстиции) — эти задачи входят всегда в основной круг государственной деятельности.
Однако это разнообразие государственных задач и разносторонность его деятельности совсем не должны приводить к мелочной опеке над жизнью граждан и отучать их от самодеятельности. Напротив: жизнь и деятельность самого государства должны быть проявлением самодеятельности граждан. Ведь государство не учреждение, возносящееся над гражданами, а корпорация, существующая ими, в них и через них. Государство есть союз, несомый и творимый гражданами, их самоотверженной и в то же время свободной самодеятельностью; поэтому задача государства состоит, между прочим, в том, чтобы воспитать и приучить граждан к общественному самоуправлению, наподобие того, как мораль приучает людей к внутреннему, личному самоуправлению. На этой основе покоится современное воззрение на государство как на корпорацию, привле
кающую к своей деятельности широкие круги граждан и образующую для них живую школу самоуправления и самодеятельности.
§ 19. Государственное устройство.
Монархия и республика. Сложные формы
Из всего сказанного мы видим, что государство как особый субъект права (территориальная корпорация) имеет свои полномочия и обязанности, что эти полномочия и обязанности оно осуществляет, передавая их своим органам, и что, наконец, государство и само, и через свои органы стоит со своими гражданами во множестве публичных правоотношений. Во всех этих правоотношениях происходит встреча между полномочием на власть и обязанностью повиновения; взятые вместе, эти правоотношения образуют публичный правопорядок, подчиненный публично-правовым нормам. Нормы эти образуют особую область права, именуемую государственным правом. Особенное значение здесь имеют те нормы, которые определяютлг/чный состав государства (правила приобретения и утраты подданства), основные полномочия и обязанности граждан (т. е. членов государственного союза), границы государственной территории и устройство верховной власти. Совокупность этих норм называется основными законами, а предписанный ими публичный правопорядок называется государственнымустройством.
Каждое государство имеет своеустройство, не только предписанное в основных законах, но и осуществленное на деле, причем нередко бывает так, что жизнь вносит заметные изменения и дополнения в предписанный правопорядок Далее, каждое государство имеет устройство, отличное от других государств, и это относится особенно к организации верховной власти. В государстве всегда имеются такие высшие органы, без которых оно не может существовать; состав и полномочия этих высших органов предусматриваются в основных законах; им принадлежит высшая власть государства. Таковы все высшие законодательные, правительственные и судебные органы: глава государства, парламент (нижняя и верхняя палаты), министерства, высшие судебные органы. Наконец, каждое государство имеет единый верховный орган, высший из высших, не подчиненный никакому другому органу, но руководящий всею государственною деятельностью; он является главою законодательной, правительственной и судебной власти и именуется, согласно этому, главою государства. В зависимости от положения своего главы — госу
дарство может быть монархией и республикой. Если глава государства получает свои полномочия наследственно (основные законы указывают тот род или «царствующий дом», в котором эти полномочия передаются по наследству) и на всю жизнь, и притом свободен от всякой ответственности за свои деяния, то он имеет титул монарха, а государство является монархией. Если же гл а-ва государства получает свои полномочия по избранию на известный срок, и притом является ответственным по суду за известные деяния, то он имеет титул президента, а самое государство является республикой.
Глава государства руководит всею государственною деятельностью, но далеко не во всех государствах он имеет полномочие осуществлять верховную власть единолично и самостоятельно: такое полномочие может иметь только монарх, и притом только в неограниченных или абсолютных монархиях Неограниченный монарх имеет полномочие издавать законы, назначать министров и управлять государством по своему единоличному усмотрению, и если он привлекает к делу издания законов тех или иных лиц для совета, то это зависит от его личного желания и советы их его не связывают. В этом отношении всякой неограниченной монархии противопоставляется конституционное государство, в котором наряду с главою государства существует еще другой орган, имеющий самостоятельное право участвовать в деле законодательства, влиять на дело управления и следить за осуществлением правопорядка в стране. Этот орган имеется во всякой ограниченной, или конституционной, монархии и во всякой республике и может быть назван по своему составу «народным собранием», ибо через него народ участвует в осуществлении верховной власти.
Участие народа в осуществлении верховной власти может быть организовано так, что всякий взрослый гражданин имеет право лично участвовать в народном собрании; такой порядок называется непосредственным народоправством и возможен только в очень маленьких государствах. В огромном большинстве современных государств народ осуществляет свое участие через выборных (представителей, депутатов), и такой порядок называется народным представительством* **. И вот, если в осуществлении верховной власти и в выборе народных представителей участвуют широкие круги народа (напр., все взрослые граждане, или только взрослые мужчины, или все, уплачивающие государству минимальный налог), то государственное устройство
* Так, например, в Соединенных Штатах Северной Америки на 4 года, во Франции на 7 лет.
** Ср. часть II § 29—43
будет демократическим (демос — народ, кратос — сила, власть); если же в осуществлении верховной власти участвуют лишь тесные, привилегированные круги народа, то государственное устройство может принять или характер аристократии (арис-тос — лучший), т. е. господства лучших граждан (напр., наиболее образованных или заслуженных), илиже характер олигархии (сли-гос—немногий, архе — господство), т. е. господства тех, комуудд-лось добиться власти. Понятно, что республика может иметь характер не только демократический, но и аристократический и олигархический; и точно также, конституционная монархия может иметь не только аристократический и олигархический, но и демократический характер.
Государственное устройство имеет всегда в высшей степени сложный характер, и внимательное изучение его требует исследования каждого государства в отдельности. Эта сложность увеличивается еще оттого, что государства могут вступать между собою в различные союзы и могут даже, соединяясь, образовывать новое , высшее государство. Обычно государства вступают друг с другом в отношения, закрепленные договорами; эти договоры устанавливают полномочия и обязательства сторон и имеют значение правовых норм; государства выступают в них как равные и независимые союзы, каждое сохраняет свою самостоятельность и, подчиняясь праву, не подчиняется ни противной стороне, ни новому, высшему для обеих сторон союзу. Такие отношения государств тзъ\кгюссямеждународнъ1ми правоотношениями.
Помимо таких соглашений, постоянно заключаемых и разрываемых государствами, между ними возможны и более устойчивые и длительные соединения. Эти соединения имеют или «международно-правовой» или «государственно-правовой» характер. Соединение государств будрхмеждународным, если два государства (или более) имеют какой-нибудь общий орган, но сохраняют каждое свои равенство и независимость. Этот общий орган может состоять из уполномоченных, присланных государствами для совместного ведения общего дела (союз государств)*, или же таким органом может быть общиймонарх из единого, общего царствующего дома, признанного международным договором (реальнаяуния)**.
Соединение государств будет государственным тогда, если объединяющиеся союзыутрачивают до известной степени свою независимость и подчиняются или один другому (вассальный — сюзеренному), или все вместе — новому, большему, высшему
* Так управлялся, напр., германский союз государств с 1815до 1866г
** В реальной унии состояли до последнего времени Австрия и Венгрия.
союзу, включающему их в себя и ограничивающему их независимость (союзное государство)'. В последнем случае каждое из объединившихся государств сохраняет свою самостоятельность (см. § 17), но подчиняется власти союзного государства и издаваемым им законам; это означает, что союзное государство имеет свои особые законодательные и правительственные органы (напр., особую палату представителей, особых министров), действующие наряду с органами отдельных, зависимых государств и правящие от лица союзного государства в целом. Союзное государство объединено уже не международным договором, а государственным законом, которому все объединенные союзы должны подчиняться наподобие подданных; поэтому ни одно зависимое государство не имеет права выйти из союзного государства по своему личному, одностороннему решению, без согласия верховной власти: такой выход был бы равносилен мятежу.
Таковы основные черты государственного устройства.
§ 20. Виды правовых норм
Разрешая при помощи права основную задачу своей внешней жизни, т. е. создавая равный, упорядоченный и справедливый общественный строй, люди выработали постепенно три основных вида права, из которых каждый имеет свои особые черты и приспособлен к особой правовой потребности. Эти виды суть: закон, правительственное распоряжение и юридический обычай.
Законами называются правовые нормы, сознательно и нарочито придумываемые органами,учрежденными именно для создания права. Не следует думать, что новое положительное право возникает тольковдеятельностизлиот/оддтед&мых органов. Делов том, что органы правящие и применяющие право также имеют полномочие устанавливать новые правовые нормы; но только нормы, установленные ими, имеют лишь подчиненное и дополнительное значение и ограниченную сферу действия. Эти подчиненные и дополнительные нормы права или прямо придумываются и создаются правящими органами, или же получают только признание и словесную формулировку применяющих органов, слагаясь среди людей в виде юридической привычки повседневного оборота. Правовые нормы, придуманные и созданные правящими органами, называются правительственными распоряжениями Правовые
’ Союзными государствами являются, напр., в наше время Швейцария и Германская империя.
нормы, признанные и формулированные правоприменяющими органами, называются юридическими обычаями.
В наше время закон является важнейшим видом положительного права. По общему правилу, закон имеет основное и руководящее значение по отношению к подчиненным нормам права. Это не всегда так было. В далекой древности общины людей управлялись не законами, а распоряжениями и обычаями, правовой характер которых даже не всегда можно уловить и признать: распоряжения были произвольны, они применялись неустойчиво, они не связывали самого повелителя; обычаи были просто более или менее устойчивыми привычками или нравами, лишенными обязательной силы. Лишь постепенно люди поняли необходимость таких норм, которые имели бы строго обязательное, устойчивое, одинаковое для всех содержание; тогда появились писаные законы.
Каждый закон выражен непременно в устойчивых, неизменных словах и фразах; неизменность их обеспечивается записью, а в наше время напечатанием. Каждый закон имеет строго определенный, устойчивый смысл, имеющий для всех одинаковое значение. Именно поэтому он как бы специально приспособлен к тому, чтобы поддерживать в общежитии начало строгого равенства: равный для всех порядок, равную для всех подчиненность.
Закон не может быть ни изменен, ни отменен ни правительственным распоряжением, ни нормою обычного права, но сам может отменить и изменить и то и другое; он может быть отменен только другим законом, причем, пока он не отменен, новый закон, предписывающий обратное ему, не может быть издан Иногда бывает так, что устаревший закон постепенно перестает применяться, а вместо него применяется более подходящая норма обычного права. Это не значит, однако, что закон этот отменен юридическим обычаем; он только перестал применяться, и это выражается в том, что отмена его всегда, рано или поздно, приходит в законодательном порядке.
Однако для того, чтобы закон получил обязательное значение, он должен быть издан в строго установленном порядке. Закон в образовании своем должен пройти через четыре этапа: он должен быть предложен, обсужден,утвержден и обнародован. Для участия в каждом из этих этапов необходимо особое публичное полномочие.
Предложить закон, т. е. проявить законодательный почин (инициативу), не значит просто выяснить потребность в нем, доказать его необходимость и составить проект реформы; все это может делать всякий, не нуждаясь в особом полномочии. Точно
также подать прошение (петицию) об издании закона не значит осуществить законодательную инициативу; в некоторых государствах не возбраняется представлять в народное собрание общие или даже всенародные просьбы о новых законах, однако и там различаются подача петиции и законодательный почин. Петицию законодательный орган не обязан обсуждать в качестве законопроекта; он может оставить ее без внимания; если же он решит, что такой закон действительно нужен, то он должен сначала сам превратить петицию из народного прошения в законопроект, т. е. он сам должен осуществить законодательный почин. Если же предложат новый закон лица, имеющие право почина, — государь, или министры, или члены одной из законодательных палат, — то обсуждение его обязательно: инициатива создает законопроект.
Точно так же под обсуждением законопроекта не следует понимать те рассуждения о нем, которые ведутся устно — на собраниях, и письменно — в газетах, журналах и книгах. По общему правилу, в обсуждении законопроекта могут участвовать только члены законодательных палат. Это обсуждение ведется в строго установленном порядке, сначала в особых комиссиях, в которых нередко выслушиваются посторонние палате, но сведущие люди, а потом в общем собрании законодательной палаты, под руководством председателя и нередко в присутствии министров, делающих свои сообщения. Обсуждение делится на две основные стадии: сначала следует обмен мнений, в котором выясняется потребность в новом законе, его целесообразность и его словесная формулировка; потом происходит голосование законопроекта, в результате которого выясняется, сколько членов палаты стоит за превращение этого законопроекта в закон и сколько высказывается против. Законопроект, за который высказалось большинство голосов, считается принятым или одобренным этою палатою; в противном случае он считается отклоненным ею. В тех государствах, где законодательные права принадлежат двум палатам*, законопроект переходит из «нижней» палаты в «верхнюю» и там рассматривается в том же порядке. Обсуждение считается законченным тогда, когда законопроект подвергся голосованию в обеих палатах, причем, если хотя бы одна из палат высказалась за отклонение и между нею и другою палатою не удалось достигнуть соглашения, то законопроект считается совсем отклоненным и дальнейшего движения не получает; если же он принят обеими палатами, то он считается «принятым» законопроектом и получает дальнейшее движение.
’ Ср. часть II, §33—35
Это движение состоит в том, что законопроект восходит к главе государства (к монарху или президенту республики) на утверждение (санкция законопроекта). Ни один законопроект, если он не одобрен палатами, не может быть представлен на утверждение главе государства; в этом основная черта конституционного строя. Зато ни один законопроект не может стать законом без его утверждения; в этом основное право главы государства. Это означает, что глава государства имеет полномочие утвердить или не утвердить одобренный палатами законопроект. Право неутверждения называется правом «veto» (воспрещаю). Это полномочие имеет два вида: во всех монархиях (кроме Норвегии) монарх неутверждением своим может положить конец законопроекту, и он не становится законом (veto резолютивное); в республиках же (и в Норвегии) неутвер-жденный законопроект возвращается в палаты для нового обсуждения, и если палаты настаивают на своем решении, то глава государства обязан уступить.
Утвержденный законопроект есть уже новый закон. Однако он начинает применяться и создавать для подданных новые полномочия, обязанности и запретности лишь после обнародования. По общему правилу, нередко устанавливаемому и в законах, никто не имеет права отговариваться неведением обнародованного закона. Поэтому каждый закон до тех пор не получает силу обязательности, пока органам государства и подданным не будет дана возможность с ним ознакомиться. Для этого текст закона печатается (публикация, в России — первым департаментом Сената) и рассылается по почте государственным органам. В России закон становится обязательным к применению с того момента, как почта вручает органу официальное издание с текстом закона. Таковы этапы, через которые обязательно проходит каждый закон.
Правительственное распоряжение подобно закону в том отношении, что оно создается и издается органом государственной власти; оно отличается err закона тем, что исходит не от законодательствующего, а от правящего и применяющего органа. Именно поэтому оно всегда остается подчиненным закону Правительственное распоряжение может быть издано только лицом, имеющим соответствующее публично-правовое полномочие, и притом только в пределах этого полномочия: оно может повелевать только низшим органам и тем гражданам, которые подчинены распоряжающемуся органу. Далее правительственное распоряжение должно согласоваться с действующими законами; оно не может ни противоречить им, ни отменять
*Ср. часть II, §23-
ни изменять их, но только истолковывать и дополнять их, а также создавать на основании их правовые правила для отношений, непредусмотренных в законах.
Правительственное распоряжение не может быть заменено законом потому, что правительству в его «свободной» и «применяющей» деятельности необходимо иметь более быстроосуществимый, более подвижной и гибкий способ повелевать от лица государства; а между тем закон совершает свой путь долго и медленно, устанавливает только общие правила, не входя в детали и не заботясь о приспособлении отвлеченного правила к частным явлениям жизни. Именно поэтому конституционный строй некоторых государств предоставляет главе государства особое полномочие издавать в случае крайней надобности, и притом во время перерыва в деятельности законодательных палат, так называемые «чрезвычайные указы», т. е. верховные правительственные распоряжения, временно заменяющие закон; такой указ должен быть, однако, внесен в законодательные палаты в виде законопроекта, и притом в самый непродолжительный срок; он теряет свою силу, если не будет внесен в этот срок, или если палаты отвергнут этот законопроект*.
Юридический обычай отличается от закона и от правительственного распоряжения тем, что он не придумывается и не создается государственными органами, а только облекается ими в слова, признается и применяется; он подобен административному распоряжению в своей подзаконности: юридический обычай (или, как его еще называют, обычное право) не может ни противоречить закону, ни отменять его, ни изменять, но только восполнять его, поскольку это вообще допущено законами данной страны. Юридический обычай возникает вследствие того, что законы не в состоянии предусмотреть всех отношений и подчинять их своим велениям; людям часто приходится разбираться самим в своих отношениях и спорах, решать помимо суда и закона, кто прав и кто неправ, что справедливо и что «неправильно», и действовать согласно своему «полюбовному» или «третейскому» решению. И вот, постепенно в сознании людей возникает уверенность, что «следует», или «полагается», или «правильно» такое-то решение, а не иное. Однако это еще не юридический обычай, а бытовое обыкновение, условно заменяющее правовую норму 6?УРРогат права). Юридический обычай возникает в тот момент, когда орган государства (напр., судья), применяя право, убеждается, что, во-первых, спорное отношение не предусмотрено законом, что, во-вторых, по свидетельству сведущих граждан, это отношение обыкновенно разрешается и уже много раз разрешалось по
* Ср. часть II, § 23.
такому-то, чаще всего устно сообщаемому правилу, и что, в-третьих, это правило не стоит в противоречии с действующими законами; убедившись во всем этом, судья облекает это правило в слова и признает его; с этого момента юридический обычай становится правовою нормою и применяется к разрешению всех подобных споров. Отсюда уже ясно, что не всякий бытовой обычай может получить значение правовой нормы. В России выработка обычного права допускается только в жизни крестьян и некоторых инородцев.
Понятно, какое великое значение имеют писаные законы в жизни народа и как важно сделать их общедоступными, облегчить каждому желающему ознакомление с ними. Из года в год, иногда из века в век накапливаются законы в каждом государстве и каждый закон наверное переживает своего составителя. Отсюда возникает потребность не только в собрании всех действующих законов и расположении их в стройном порядке (такая обработка законов называется инкорпорацией; примером ее является русский Свод Законов), но и в пересмотре накопившихся законов с тем, чтобы устранить случайные внутренние противоречия, восполнить пробелы, исключить одни нормы как устаревшие и изложить другие с большею ясностью (такая обработка законов представляет из себя в сущности новый законодательный акт и называется кодификацией; примером ее являются Судебные Уставы императора Александра II и Уголовное Уложение 1903 г.). Понятно, что в инкорпорировании и кодифицировании наравне с законом нуждаются и правительственные распоряжения, и юридические обычаи.
§ 21. Деление наук о праве
Если каждый из нас окинет внимательным взором всю свою жизнь, то он убедится, что жить в обществе людей значит непрерывно стоять во множестве отношений со множеством людей. Не все эти отношения имеют правовое значение и не все влекут за собой правовые последствия, хотя все они имеют отношение к добру и злу, совести и морали. Науки о праве исследуют только те отношения, которые предусмотрены и признаны правовыми нормами. Наука, описывающая все действительные отношения людей и исследующая их причины и последствия, называется социологией; социология, занимающаяся исследованием не всех реальных человеческих отношений, но одних правоотношений, будет социологическим правоведением; если же научное исследование описывает возникновение и развитие человеческих правоотношений не в общем
типическом виде, а по отдельным эпохам и странам, то оно будет отнесено к истории права.
Однако к тем же правоотношениям можно подойти не с точки зрения причины и следствия, но с точки зрения их целесообразности. Такое исследование должно установить и доказать единую, высшую целы осуществляемую правом и правовыми союзами людей, и вслед за тем подыскать верные средства, ведущие к осуществлению этой цели; оно рассмотрит каждое правовое явление и каждую правовую норму с точки зрения их практической годности и негодности и даст указание и советы мудрому правителю. Такое исследование должно называться политикой права.
Но помимо этого необходимо исследовать самостоятельно и нормы права, которые всегда предусматривают некоторые возможные правоотношения, кому-то что-то предписывают, определяют полномочия, обязанности и запретности некоторых могущих оказаться в действительности субъектов права и объявляют некоторый порядок как должный. Понятно, что этот должный и возможный правопорядок не совпадает с действительным, осуществляющимся строем правоотношений: люди часто не пользуются в действительности своими полномочиями или же превышают их; не выполняют своих обязанностей или выполняют больше, чем предписано; не совершают предусмотренных преступлений или создают новые непредвиденные отношения, требующие правовой защиты. Поэтому следует всегда отличать действительный,реальный правопорядок, осуществленный в жизни людей, все время развивающийся и меняющийся, — от должного и возможного правопорядка, описанного в правовых нормах. Изучение последнего создает так называемую нормативную науку о праве.
Наконец, важно иметь в виду, что изучать социологически, исторически, политически и нормативно можно самые различные правоотношения, как публично-правовые, так и частно-правовые. Науки о праве делятся не только по той точке зрения, с которой ведется изучение (по методу), но и по характеру осуществившихся (или только предусмотренных) правоотношений (т. е. по свойствам изучаемого предмета). Эти два деления суть как бы горизонтальное и вертикальное, скрещивающиеся между собою.
Согласно основному делению правоотношений на публичные и частные (признак деления: в публичном правоотношении одна из сторон есть союз, уполномоченный властвовать над другою стороной, см. § 15), все право распадается на право публичное и частное. Изучение публичных правоотношений дает науку пуб
личного права, изучение частных правоотношений дает науку частного права. В свою очередь, в науку публичного права входят следующие подчиненные науки: наука церковного права (изучает правоотношения между властвующим церковным союзом и его членами), наука государственного права (изучает те основные правоотношения между властвующим государственным союзом и его членами, которые слагают государственное устройство), наука административного права (изучает те правоотношения между правительственной властью и гражданами, которые возникают в процессе управления), наука финансового права (изучает правоотношения, возникающие между государством, властно собирающим налоги и ведущим свое хозяйство, и гражданами, а также третьими лицами, ссужающими деньги государственной казне), наука уголовного права (изучает правоотношения между государством и теми гражданами, которые совершают наказуемые правонарушения) и наука судебного права (изучает правоотношения между судебною властью государства и гражданами). Наука судебного права, в свою очередь, распадается на две части: науку уголовного процесса (изучает порядок судоговорения при рассмотрении наказуемых правонарушений) и науку гражданского процесса (изучает порядок судоговорения при рассмотрении споров граждан о частных полномочиях и обязанностях, см. §15). Понятно, что во всех этих случаях властвующий союз бывает представлен свошлп уполномоченными органами.
С своей стороны, наука частного права также имеет подразделения. Она разделяется на четыре больших отдела, в зависимости от того, на чем сосредоточивается интерес людей, стоящих в правоотношении. Если интерес сосредоточивается на обладании вещью (наука частного права называет ее обычно «объектом» права), то правоотношение получает название вещного, а совокупность норм, предусматривающих эти правоотношения, рассматривается под именем вещного права. Если интерес сосредоточивается на действии, совершить которое обязалась одна из сторон, то правоотношение получает название обязательственного, а совокупность норм, предусматривающих эти правоотношения, рассматривается под именем обязательственного права. Если интерес сосредоточен на отношении кровнойродственной связи между людьми и на возникающих отсюда полномочиях и обязанностях, то правоотношение называется семейственным (соответственно — семейное право). Если же в центре интереса стоит переход частных полномочий и обязанностей отумершего кживому, то юристы говорят о наследственном праве*.
* Ср. часть III, § 56— 1 Об.
Особое положение занимает наука международного права. Международное правоотношение возникает между двумя властвующими союзами (государствами), и поэтому некоторые ученые относят и самое правоотношение, и нормы, и науку — к области публичного права. Однако государства нередко выступают в международном правоотношений как равные стороны, связанные правом (нормами, установленными в договорах), но не уполномоченные к власти друг над другом; поэтому другие ученые предлагают отнести и самые правоотношения, и нормы, и науку к области частного права. Ввиду того, что международное право еще не окрепло и не сложилось окончательно, вопрос этот остается спорным.
Таковы основные юридические науки. К ним следует добавить еще общую теорию права, исследующую самую сущность права, и философию права, применяющую к праву законы этики (построение естественного права), а к науке права законы логики (вопрос о предмете и методе юриспруденции). Законоведение сообщает краткие сведения почти из всех этих наук.
ПРОБЛЕМА
Историческая эпоха, ныне переживаемая народами, должна быть осмыслена как эпоха великого духовного разоблачения и пересмотра
Бедствие мировых войн и революций, постигшее мир и потрясшее всю жизнь народов до самого корня, есть по существу своему явление стихийное, и поэтому оно только и может иметь стихийные причины и основания. Но всюду, где вспыхивает стихия и где она, раз загоревшись, овладевает делами и судьбами людей, всюду, где люди оказываются бессильными перед ее слепым и сокрушающим порывом, — всюду скрывается несовершенство, или незрелость, или вырождение духовной культуры человека: ибо дело этой культуры состоит именно в том, чтобы подчинять всякую стихию своему закону, своему развитию и своей цели. Стихийное бедствие обнаруживает всегда поражение, ограниченность и неудачу духа, ибо творческое преобразование стихии остается его высшим заданием. И как бы ни было велико это бедствие, как бы ни были грандиозны и подавляющи вызванные им страдания, дух человека должен принять свою неудачу и в самой остроте страдания усмотреть призыв к возрождению и перерождению. Но это-то и значит осмыслить стрясшуюся беду как великое духовное разоблачение.
Стихия, ныне вовлекшая человека в неизмеримое злосчастие великих войн и потрясений, есть стихия неустроенной и ожесточившейся человеческой души.
Как бы ни было велико значение материального фактора в истории, с какой бы силою потребности тела не приковывали к себе интерес и внимание человеческой души — дух человека никогда не превращается и не превратится в пассивную, недействующую среду, покорную материальным влияниям и телесным зовам. Мало того, именно слепое, бессознательное повиновение этим влияниям и зовам умаляет его достоинство, ибо достоинство его в том, чтобы быть творческою причиною, творящею свою жизнь по высшим целям, а не пассивным медиумом стихийных процессов в материи Всякое воздействие, вступающее в
душу человека, перестает быть мертвым грузом причинности и становится живым побуждением, влечением, мотивом, подверженным духовному преобразованию и разумному руководству. К самой сущности человеческого духа принадлежит этот дар: воспринять, преломить, преобразовать и направить по-новому всякое, вторгающееся извне, воздействие. И поскольку дух человека не владеет этим даром в достаточной степени, поскольку стихии мира гнетут его и ломают его жизнь — постольку разоблачается и обнаруживается его незрелость, постольку перед ним раскрываются новые задания и возможность новых достижений.
Но для того, чтобы овладеть этим даром и использовать его во всей его миропреобразующей силе, дух человека должен овладеть своей собственной стихией — стихией неразумной и полу-разумной души. Невозможно устроить мир материи, не устроив мир души, ибо душа есть необходимое творческое орудие миро-устроения. Душа, покорная хаосу, бессильна создать космос во внешнем мире: ибо космос творится по высшей цели, а душевный хаос несется, смятенный, по множеству мелких, противоположных «целей», покорствуя слепому инстинкту. Неустроенная душа остается реальной потенцией духа: она восприемлет и преломляет, но не преобразует и не направляет по-новому влияния, вторгающиеся извне. Ее «цели» остаются пассивными знаками причинных давлений, и сумятица их всегда чревата новыми бедами. Внутренне неустроенная в своих заданиях, стремлениях и умениях душа человека напрасно ищет спасения в господстве над внешним миром: технически покоряя материю, она творит себе лишь новую беспомощность; одолевая внешнюю стихию, она готовит восстание внутреннего хаоса; ее успехи выковывают форму для нового, нежданного поражения.
Ныне на наших глазах новый мир повторяет путь древнего страдания; новый опыт дает старые выводы. Эти выводы снова научают тому, что самопознание и самопреобразование человеческого духа должно лежать в основе всей жизни, дабы она не сде-лалась жертвою хаоса и деградации; они научают тому, что внутреннее разложение индивидуальной души делает невозможным общественное устроение и что разложение общественной организации ведет жизнь народа к позору и отчаянию. И еще они научают тому, что формальная организованность индивидуальной души и народного хозяйства не обеспечивают жизнь человека от содержательного вырождения и преступных путей. Сквозь все страдания мира восстает и загорается древняя истина и зовет людей к новому пониманию, признанию и осуществлению: жизнь человека оправдывается только тогда, если душа его живет из единого, предметного центра, движимая подлинною любовью к
Божеству как верховному благу. Эта любовь и рожденная ею воля — лежат в основе всей, осуществляющейся духовной жизни человека, и вне ее душа блуждает, слепнет и падает. Вне ее знание становится пародией на знание, искусство вырождается в пустую и пошлую форму, религия превращается в нечистое самоопьяне-ние, добродетель заменяется лицемерием, право и государство становятся орудием зла. Вне ее человек не может найти единой, устрояющей цели жизни, которая превратила бы все его «занятия» и «дела» в единое дело Духа и обеспечила бы человеческому духу его победу. Эту победу обеспечивает только живая и подлинная жажда Совершенства, ибо она есть сама по себе источник величайшей и непобедимой никакими «обстоятельствами» силы, устрояющей внутренний и внешний мир. Это объясняется самою природою духа: он есть та творческая сила души, которая ищет подлинного знания, добродетели и красоты, и созерцая Божество как реальное средоточие всякого совершенства, познаетмир для того, чтобы осуществить в нем Его закон как свой закон. Но душа, всегда хранящая в себе потенцию духа, может превратить эту возможность в действительность только тогда, когда в ней загорается цельным и радостным огнем любовь к Божественному и жажда стать Духом, найти к нему путь и открыть его другим.
История показывает, что нелегко человеку найти этот путь, что трудно идти по нему и что легко его потерять. Хаос мелких желаний и маленьких целей незаметно распыляет силы души, и человеческие страсти заливают ее огонь. Душа теряет доступ к духовным содержаниям, а потому не может соблюсти и форму духа: ибо быть в образе духа она может только тогда, когда она подлинно живет его реальными содержаниями. Утратив образ духа, она делается жертвою собственного хаоса и увлекается его кружением в падение и беды. И тогда ее задача в том, чтобы в самих бедах и страданиях усмотреть свое отпадение от Бога, услышать Его зов, узнать Его голос и подвергнуть разоблачению и пересмотру свой неверный путь.
Ныне философия имеет великую и ответственную задачу положить начало этому пересмотру и разоблачению. Такая потрясающая духовная неудача человечества, как поток неслыханных войн и небывалых революций, свидетельствует с непререкаемою силою и ясностью о том, что все стороны духовного бытия жили и развивались по неверным путям, что все они находятся в состоянии глубокого и тяжелого кризиса. Человечество заблудилось в своей духовной жизни, и хаос настигнул его неслыханной бедою; это свидетельствует о том, что неверен был самый способ духовной жизни, что он должен быть пересмотрен до корней и от корней обновлен и возрожден.
И если задача организовать мирное и справедливое сожительство людей на земле есть задача права и правосознания, то современный кризис обнажает прежде всего глубокий недуг современного правосознания.
В душах людей всегда есть такие стороны, которые могут долгое время, из поколения в поколение не привлекать к себе достаточного внимания, пребывая в темноте и полуосознанности. Это бывает не только потому, что эти стороны имеют, по существу своему, инстинктивный характер и как бы вытесняются из поля сознания, и не только потому, что они, сами по себе, духовнонезначительны или практически второстепенны и как бы затериваются среди других, столь же несущественных оттенков жизни, — но и потому, что культивирование их требует особого напряжения воли и внимания, тогда как их духовное значение по основной природе своей противостоит своекорыстному интересу и близорукому воззрению повседневного сознания.
Всегда найдется немало людей, готовых искренне удивиться тому, что в них живет известное мировоззрение, что они имеют свой особый эстетический вкус, что они стоят в известном постоянном отношении к голосу совести, что у них имеется характерное для их души правосознание. А между тем каждый человек, независимо от своего возраста, образования, ума и таланта, живет этими сторонами или функциями души даже и тогда, когда он сам об этом не подозревает. В таком случае его суждения и поступки слагаются непосредственно под руководством инстинктивных влечений и побуждений и выражают его душевный уклад, его личный характер, его индивидуальный уровень жизни, несмотря на то, что он, может быть, ничего не знает об этом и даже не предполагает, что людям неизбежно иметь мировоззрение в правосознание, что им неизбежно жить эстетическим вкусом и совестью. Ограниченное, узкое, тупое мировоззрение остается воззрением на мир; неразвитой, извращенный, дурной вкус творит по-своему эстетический выбор; подавленная, невыслушанная, заглушенная совесть по-прежнему бьется и зовет из глубины; а уродливое, несвободное, слабое правосознание всю жизнь направляет деяния людей и созидает их отношения.
Человеку невозможно не иметь правосознания, его имеет каждый, кто сознает, что кроме него на свете есть другие люди. Человек имеет правосознание независимо от того, знает он об этом или не знает, дорожит этим достоянием или относится к нему с пренебрежением. Вся жизнь человека и вся судьба его слагаются при участии правосознания и под его руководством; мало того, жить — значит для человека жить правосознанием, в его функции и в его терминах: ибо оно остается всегда одною из великих
и необходимых форм человеческой жизни. Оно живет в душе и тогда, когда еще отсутствует положительное право, когда нет еще ни «закона», ни «обычая», когда никакой «авторитет» еще не высказался о «правом», верном поведении. Наивное, полусознательное, непосредственное убеждение в том, что не все внешние деяния людей одинаково допустимы и «верны», что есть совсем «невыносимые» поступки и есть «справедливые» исходы и решения, — это убеждение, еще не знающее о различии «права» и «морали», лежит в основании всякого «закона» и «обычая» и генетически предшествует всякому правотворчеству И даже в тех случаях, когда содержание обычая и закона определяется своекорыстным интересом сильного, когда право является несправедливым или «дурным» правом, — в основании его лежит все то же непосредственное убеждение в необходимости и возможности отличить «верное» и «допустимое» поведение от «неверного» и «недопустимого» и регулировать жизнь людей на основании этого общеобязательного критерия.
В этом обнаруживается своеобразная трагикомедия правовой жизни: уродливое, извращенное правосознание остается правосознанием, но извращает свое содержание; оно обращается к идее права, но берет от нее лишь схему, пользуется ею по-своему, злоупотребляет ею и наполняет ее недостойным, извращенным содержанием; возникает неправое право, которое, однако, именуется «правом» и выдается за право, компрометируя в сознании людей самую идею и подрывая веру в нее.
Эта трагикомедия характерна не только для правотворчества; это есть трагикомедия всей духовной жизни человека. Каждый из людей имеет в своем замкнутом, индивидуальном внутреннем опыте единственную среду, связующую его с вершинами духа — с истиною, добром, красотою, откровением и правом, — и единственный источник для их познания и для суждения о них; каждый знает об этих предметах лишь то, что он самостоятельно и подлинно испытал и творчески проверил. И вот, люди постоянно забывают об этих основных условиях духовного делания: не ищут подлинности в опыте и предметности в исследовании, но основываются на личной склонности и довольствуются субъективным мнением. И в результате этого слагается недостойное и комическое зрелище: люди судят о важнейшем и верховном, не зная того, о чем судят; каждый претендует и посягает, не имея на то основания; сверхличная очевидность подменяется личною уверенностью; возникает бесконечное множество разногласий, ум блуждает, колеблется и приходит к бесплодному «субъективизму» и беспочвенному «релятивизму». Утрачивается вера в возможность истинного знания, в единство добра, в объективную
ценность красоты, в возможность подлинного откровения, в справедливое, духовно-верное право, а вместе с этим неизбежно гаснет и воля к обретению верного пути к познанию и осуществление этих верховных содержаний. Личный интерес остается единственным руководителем, и жизнь незаметно вырождается.
Эту объективность предметного содержания применительно к праву можно описать так, что во внешнем отношении человека к человеку е<±ъ некая единая и объективная правота, которую можно познать только через внутренний опыт, через подлинное, предметное испытание ираскрытие естественного права. Переживание естественного права присуще каждому человеку, но у большинства оно остается смутным, неуверенным и неосознанным «правовым чувством», как бы «инстинктом правоты» или в лучшем случае «интуицией правоты». Осознать содержание этого естественного права и раскрыть его значит положить начало зрелому естественному правосознанию, сделать его предметом воли и оправданного аффекта, т. е. превратить эту единую и объективную правоту в любимую и желанную цель жизни, — значит развить и осуществить в себе естественное правосознание.
Именно естественное правосознание как предмет знания о «самом», «настоящем», едином праве должно лежать в основании всякого суждения о «праве» и всякого правового и судебного решения, а потому и в основании тех «законов», которые устанавливаются в различных общинах и государствах уполномоченными людьми под названием «положительного права». Чем развитее, зрелее и глубже естественное правосознание, тем совершеннее будет в таком случае и «положительное право», и руководимая им внешняя жизнь людей; и обратно: смутность, сбивчивость, непред-метность и слабость естественного правосознания будут создавать «непредметное», т. е. дурное, неверное, несправедливое, не соответствующее своему прообразу «положительное право» Тогда «право», единое и верное по своей идее, раздваивается и вступает в своеобразное внутреннее разноречие с самим собою: естественное правосознание утверждает не то, о чем говорит знание положительного права, и в результате этого душа приобретает два различных правосознания, ибо наряду с естественным возникает правосознание псложителъное, не совпадающее с ним по содержанию. Такое раздвоение права, такое разноречие правосознании свидетельствует, конечно, о духовной неудаче, постигающей человека: ему не удается — по отсутствию воли или по недостатку умения — осознать содержание естественной правоты и положить его в незыблемое основание всякого суждения о «положительном» праве; но так как умение всегда зависит от сердца, которое любит, и от воли, которая выковывает и воспитывает
умение, то вся эта великая духовная неудача в деле правотворчества покоится на всеобщем, исторически устойчивом очерствении сердец и недостатке вали к правому праву.
(Угсюрд уже ясно, что нормальное правосознание ведет не раздвоенную, а единую и целостную жизнь, и если оно видит перед собою исторически данное раздвоение права, то оно целиком обращается к борьбе за единое, правое право и за восстановление своего внутреннего, предметного духовного единст ва. При этом оно в качестве духовно-верного и целостного отношения души к Праву не сводится к «сознанию» и «познанию», н(> живет всегда в виде пробуждаемой сердцем и совестью воли к совершенству, справедливости и праву. Нормальное правосознание зияет свой предмет; оно есть знающая воля к праву, признающая его в его объективном значении и обязательности, и признающая его потому, что она признает его цель. Поэтому нормальное правосознание есть прежде всего воля к цели права, а потому и воля к праву, а отсюда проистекает для него и необходимость знать право и необходимость жизненно осуществлять его, т. е. бороться за право. Только в этом целостном виде правосознание является нормальным правосознанием и становится благородной и непреклонной силой, питающейся жизнью духа и, в свою очередь, определяющей и воспитывающей его жизнь на земле.
Нормальное правосознание можно изобразить как особый способ жизни, которым живет душа, предметно и верно переживающая право в его основной идее и в его единичных видоизменениях (институтах). Этот строй душевной жизни есть, конечно, нечто идеальное, однако не в том смысле, чтобы этот «идеал» был неосуществим. Напротив, этот способ жизни уже дан в зачатке каждому из людей, и от каждого из нас зависит — осознать, развить и упрочить в себе этот зачаток И в этом самовоспитании обнаруживается теснейшая зависимость между «осознанием» и жизненным «укреплением»: исследование нормального правосознания удается только при наличности творческой воли к цели права, но именно предметное познание этой цели укрепляет жизненную волю к ней.
Исследователь, поставивший перед собою эту задачу, вступит неизбежно в борьбу с целым множеством предрассудков: релятивистическое воззрение на право будет, может быть, наиболее упорным из них.
По-видимому, самые условия создания и существования права благоприятствуют этому предрассудку. В праве, по-видимому, все относительно. Сознание человека удивительно легко и прочно привыкает к тому, что право «обусловлено» временем и местом, интересом и силою, настойчивою волею и слепым случаем. То, что «сейчас» и «здесь» — право, то «завтра» и «здесь» или «сейчас»
и «там» — уже не право; запретное сегодня — позволено завтра и может быть вменено в обязанность через месяц; организованный интерес становится силою и провозглашает «справедливым» то, что завтра будет ниспровергнуто «случайным» стечением обстоятельств. Архивы хранят в себе груды «отживших норм» и целых кодексов, а изворотливый ум, обслуживая минутный интерес, умеет истолковать и приспособить «действующее» право как угодно. Содержание права всегда достаточно «неопределенно» и «условно», а значение его всегда «временно» и «относительно».
В этом убеждении вырастает и живет современное правосознание; оно глубоко проникнуто релятивизмом и не знает о себе, что оно может и должно быть иным. Убеждение в том, что право есть нечто «относительное» — и по содержанию своему, и по обязательности, — возникает незаметно, бессознательно и потому коренится в душах особенно прочно и глубоко: это убеждение идет навстречу своекорыстному и близорукому интересу, питается им и, в свою очередь, обслуживает его. Возникает порочный жизненный круг: темнота порождает зло, а зло поддерживает темноту «Образованные» и необразованные круги народа одинаково не верят в объективную ценность права и не уважают его предписаний; они видят в нем или неприятное стеснение, или, в лучшем случае,—удобное средство для защиты и нападения. Правосознание сводится к запасу непродуманных сведений из области положительного права и к умению «пользоваться» ими, а за этим «знанием» и «пользованием» оно укрывает в себе глубочайшие недуги и дефекты, внутреннее вырождение и духовное бессилие.
Слепое, корыстное, беспринципное и бессильное правосознание руководит жизнью человечества. И вот эти-то недуги правосознания развязали стихию души и подготовили ее духовную неудачу.
Жизнь духа требует здесь поистине глубокого пересмотра и обновления.
ЗНАНИЕ ПРАВА
Нормальное правосознание отнюдь не сводится к верному знанию положительного права. Оно вообще не сводится к одному «знанию», но включает в себя все основные функции душевной жизни: и прежде всего — волю и притом именно — духовно
воспитанную волю, а затем — и чувство, и воображение, и все культурные и хозяйственные отправления человеческой души. Оно не сводится и к переживанию одного «положительного права», но всегда подходит к нему с некоторым высшим, предметным мерилом; наконец, оно не есть пассивное состояние, но жизненно активное и творческое. Поэтому одно знание положительного права, верное сознавание его не гарантирует еще наличности нормального правосознания.
И тем не менее это знание необходимо. Народ, не знающий «законов» своей страны, ведет вне-правовую жизнь или довольствуется самодельными и неустойчивыми зачатками права. Люди, не ведающие своих обязанностей, не в состоянии и блюсти их, не знают их пределов и бессильны против вымогательства «воеводы», ростовщика и грабителя; люди, не знающие своих полномочий, произвольно превышают их или же трусливо уступают силе; люди, не знающие своих запретностей, легко забывают всякий удерж и дисциплину или оказываются обреченными на правовую невменяемость. Незнание положительного права ведет неизбежно к произволу сильного и запуганности слабого. Мало того, оно делает невозможною жизнь в праве и по праву. Люди пребывают в состоянии животных или вещей, до которых не доходит голос, взыскующий о том, что «можно», что «должно» и чего «нельзя», однако им запрещено «отзываться неведением закона», и, невменяемые, они не могут даже претендовать на унизительную для человека невменяемость.
Народу необходимо и достойно знать законы своей страны; это входит в состав правовой жизни. Право говорит на языке сознания и обращается к сознательным существам; оно утверждает и отрицает, оно формулирует и требует — для того чтобы люди знали, что утверждено и что отринуто, и сознавали формулированное требование. И тот, кому оно «позволяет», «предписывает» и «воспрещает», является субъектам полномочий, обязанностей и запретностей, т. е. субъектом права. Самая сущность, самая природа права в том, что оно творится сознательными существами и для сознательных существ, мыслящими субъектами и для мыслящих субъектов.
Поэтому нелеп и опасен такой порядок жизни, при котором народу недоступно знание его права: когда, например, среди народа есть неграмотные люди, или когда право начертано на чуждом языке, или когда текст законов остается недоступным для народа*, или же смысл права выражается слишком сложно, запутанно и непонятно. Тогда в лучшем случае между народом и правом воздвигает
* Гегель приводит пример с тираном Дионисием, повесившим текст законов так высоко, что его никто не мог прочесть. Hegel. Grundlinien der Philosophic des Rechts. 1833- S. 278.
ся иерархия корыстных посредников, взимающих особую дань за «отыскание» правоты и обслуживающих народную темноту в свою пользу; им выгодно затемнить ясное дело, а не уяснить темное, спасти «безнадежное» дело и внести кривду в суд; и под их «опытными» руками толкование закона быстро превращается в профессиональный кривотолк. Так правосознание народа вырождается от невозможности непосредственно принять право в сознание. Нельзя человеку не быть субъектом права, ибо самая сущность права состоит в том, что оно обращается ко всякому вменяемому человеку, хотя бы уже с одними запретами и предписаниями. И согласно этому, невозможно, чтобы субъектом права была неодушевленная вещь, насекомое или животное, ибо право предполагает способность к знанию, разумению и к соответственному управлению собою.
Однако самое знание положительного права только тогда стоит на высоте, когда оно предметно. Это означает, что обращающийся к праву должен подходить к нему, видя в нем объективное данное содержание, имеющее свой законченный и определенный смысл; этот смысл, ранее кем-то (законодателем?) продуманный и облеченный в слова и фразы, должен быть теперь точно выяснен и неискаженно понят. Тому, кто хочет действительно знать положительное право, необходимо понять, что оно прежде всего дается ему в готовом, законченном, установленном виде, как особый предмет, со специфическими свойствами и чертами. Этот предмет, как и всякий предмет, требует, чтобы восприятие, внимание и мысль приспособились к нему и научились видеть и понимать его. Это изучение, как и всякое движение к истине, требует того добросовестного и беспристрастного «теоретического» подхода, который характеризует науку и воспитывается научным преподаванием.
Это не значит, однако, что именно ученому и только ему свойственен этот подход. Нет, с одной стороны, возможны ученые юристы, всю жизнь не поднимающиеся к теоретическому изучению права; они интересуются им лишь в меру и с точки зрения его практического применения, и казуальные «запросы жизни» господствуют над их научной деятельностью. Они воспитывают в своих аудиториях умелых, но научно беспринципных практикантов и часто, сами того не сознавая, задерживают рост истинного правосознания в стране. С другой стороны, совестный и беспристрастный подход к выяснению «точного смысла закона» доступен не только «образованному» юристу, но и простому человеку; недостаток общего или юридического образования может помешать ему в осуществлении этого точного выяснения, отсутствие умения и навыка может затруднить его, но сознание важности и необходимости такого некорыстного интереса к содержанию права, такого «незаинтересованного» понимания, такого неказуального выяснения — может быть свойственно ему в высшей степени.
Ъг&ьтому правосознанию всегда присуща непоколебимая уверенность в том, что право и закон имеют свое определенное содержание и что каждый из нас, обращаясь к праву и встречаясь с его связующими указаниями, имеет прежде всего задачу выяснить и неискаженно понять это объективное содержание права. И в этой уверенности люди не заблуждаются. Праву в его зрелом и развитом виде свойственно иметь вид нормы, т. е. тезиса, выраженного в словах иустанавливающего известный порядок внешнего поведения как имеющий юридическое значение (например, позволенный, предписанный или воспрещенный)*. Правовая норма предстоит человеческому уму не просто в виде связного грамматического предложения; за ее словами скрывается всегда определенное содержание, из которого и видно, что она есть правило поведения, а не описание единичного факта и не формула позитивного закона, говорящего о том порядке, который осуществляется в действительности. Это содержание выражается в правовой норме как подуманное и мыслью определенное, так что за каждым словом грамматического предложения скрывается логическое понятие со своим особым содержанием. Правовая норма по самому существу своему сочетает всегда два более или менее сложных понятия: предписанного, позволенного или воспрещенного поведения и понятие человеческого субъекта, образ действия которого этим регулируется. Отсюда необходимость предметного логического и нормативного рассмотрения права.
Предметное чтение и изучение правовой нормы отправляется от признания того, что каждая норма как логический тезис и как правило поведения имеет свое объективное содержание, заданное к точному и адекватному уразумению.
В качестве тезиса, связующего два понятия, правовая норма стоит в ряду смыслов, непосредственно подчиненных закону тождества и закону противоречия и подлежащих поэтому формально-логическому рассмотрению**. Необходимо раскрыть в ясном
* Я пытался подробно развить и обосновать это воззрение в статье «Понятия права и силы». — Вопр. Фил. и Псих., 1910. Книга 1. Эта статья была издана и в виде отдельной брошюры.
** Под «смыслом» я разумею здесь не «метафизическую силу», и не «абсолютное достоинство», и не «творческую цель», но чисто «логическое», тождественное, отвлеченное (от образа и от акта мысли), непространственное и невременное, нечувственное и необразное содержание, постольку «объективное» и «идеальное», специфически постигаемое актом чистого мышления. Целостное выяснение его природы требует, конечно, самостоятельного исследования. К сожалению, этим термином иногда злоупотребляют в философской литературе, особенно умы, не привыкшие к дифференцированному мышлению и стремящиеся построить «систему» на основе единого термина со смутным содержанием
и отчетливом перечислении родовых и видовых признаков каждое понятие, скрытое за словесным текстом нормы; здесь ничто «само собою» не разумеется: необходимо усомниться в верности каждого признака в каждом понятии и беспристрастно проверить разумеемое в нем логическое содержание. Эта задача есть логико-анатомическая; комментатор изучает и раскрывает тождественный и неизвестный смысл, объективно скрытый за словами «значащей» (или «значившей» в прошлом) правовой нормы; он теоретически разоблачает смысловое содержание положительного права, не преследуя при этом никакой практической цели. И чем вернее он остается этой теоретической задаче, чем более исчерпывающ, последователен и беспристрастен его анализ, тем выше и утонченнее будет уровень право-знания, и соответственно, правотворчества и правосознания в стране. Исследуя все закоулки законов, устанавливая шаткость терминологии (одно понятие имеет два имени), вскрывая неустойчивость мысли (одно название скрывает за собою два различные смысла), обнаружи
Здесь возникает сложный вопрос: откуда взять материал для этих логических определений? Ведь положительное право очень часто пользуется юридическими терминами, не определяя их, так, как если бы их значение «само собою» разумелось и было известно каждому. Высокое развитие научной теории и правосознания делает излишним чрезмерное перегружение норм логическими дефинициями: законодатель (но не научный комментатор) может считать, что многие термины уже установлены в науке и усвоены народным правосознанием в их устойчивом и определенном значении. И тем не менее следует признать, что право тем совершеннее в формальном отношении, чем более оно продумано и чем более прямых определений содержится в его нормах, ибо в научной теории всегда остается спорное, а в правосознании — неустойчивое и подверженное влиянию частного интереса. Это не значит, что право должно исчерпывающе предусмотреть и педантически регламентировать все единичные детали жизни; нет, здесь всегда будет многое предоставлено на усмотрение правосознания правоприменяющего субъекта. Но то, что сказано и установлено в норме, — должно быть раскрыто и фиксировано в ней недвусмысленно.
Как бы широко ни использовал комментатор сравнительное изучение норм того же самого кодекса, пояснительные документы законодателя, бесспорные для данной научной теории, и все средства, ведущие к уразумению объективного смысла закона, он всегда будет иметь в остатке известную совокупность неопределяющихся терминов, и задача его в том, чтобы открыто разграничить добытый им точный смысл закона от предлагаемого им лично истолкования. Вся сила логического комментирования должна быть направлена на то, чтобы иметь в виду, разуметь и отличать смысл, данный в законе, от всякого добавления, из каких бы благородных соображений оно ни проистекало
вая наличность понятий с неопределенным содержанием, логических пустот и лишних терминов, воздвигая классификацию юридических понятий и обнажая смысловые пределы кодекса, — он может быть глубоко уверен в том, что его работа необходима в деле усовершенствования права и катарсиса правосознания: она создает научную базу для практического толкования и применения права, она вскрывает логические дефекты в формулах положительного права, она содействует искоренению корыстного кривотолка, она обнажает дефекты правового мышления в стране, она повышает технику правотворчества.
Совсем не случайно люди стали облекать правовые правила поведения в форму логических тезисов и записывать их. Дело не только в том, что «verba volant, scripta manent» — «слова улетучиваются, записанное остается». Живя совместно, люди обращаются к созданию помысленных правовых тезисов и формул именно для того, чтобы сохранить, повторить и распространить единожды обретенное «верное» решение спора или конфликта и закрепить найденный «верный» способ поведения: «пусть будет тоже самое во всех одинаковых случаях». Но именно мысль обладает особою способностью фиксировать, закреплять и сохранять свои содержания, доведя их до максимальной ясности и определенности и сообщая им внутреннюю непротиворечивость: ибо она делает их смыслами и подводит их под законы тождества и противоречия. Только благодаря этому право с успехом может разрешать такие задачи, как: сохранение и накопление, уяснение и упрощение правил, устрояющих жизнь; дисциплинирование инстинктивных порывов и произвольных посяганий силою разумной тождественности; постепенное приучение людей к самоограничению и увеличение бесспорной сферы человеческих отношений; и наконец, справедливое «уравнение» одинакового в жизни людей. Право принимает форму объективного смысла для того, чтобы внести в общественную жизнь началоразумного,мирного и справедливого порядка. И тот, кто в качестве последовательного субъективиста не усматривает в праве обязательного смысла и сводит все к более или менее неустойчивым субъективным «концепциям» и «толкованиям», тот отрицает эту миссию права и содействует ее неудаче.
К этому логическому изучению права тесно примыкает предметное изучение нормы какправила поведения. Понятно, что уразуметь правило можно только после раскрытия его логического смысла, и нередко юридическая лаборатория сливает оба изучения в одно.
Каждая правовая норма устанавливается уполномоченными субъектами, и притом вустановленном, предусмотренном поряд
ке, вне которого она не может получить своего значения* Исследовать правило поведения значит прежде всего найти предметно исчерпывающей ответ на эти два формальные вопроса: кем и в каком (надлежащем ли) порядке оно установлено. Объективное и убедительное решение этих вопросов чрезвычайно существенно для правосознания: могут быть нормы, посягающие на звание правовых и на достоинство значащих, связующих, «действующих» норм без всякого основания. Не всякое «веление внешнего авторитета» способно породить правовую норму; возможны произвольные веления и распоряжения, превышающие компетенцию приказывающего или же основанные на отношении грубой силы (например, противоправные распоряжения завоевателя в занятой области). И вот развитое правосознание умеет всегда разобраться в том, где начинается и где кончается право и где возникает произвол; и, решив этот вопрос, оно всегда умеет сделать надлежащие практические выводы: где надлежит признавать и повиноваться, а где надлежит противопоставить произволу и грубой силе всю мощь правоверного и до героизма последовательного непокорства. И история показывает, что такому правосознанию не раз удавалось настоять на своем и победить врага силою духовной правоты. Так знание о праве входит органически в самую сущность правовой жизни.
Исследовать правовую норму как правило поведения значит, далее, установить исчерпывающе ее содержание. Содержание каждой такой нормы скрывает в себе два критерия для рассмотрения человеческой жизни: первый критерий устанавливает, какие именно действия и состояния людей имеют вообще правовое значение, т. е. подлежат правовой квалификации или правовому рассмотрению и могут быть «правомерными» и «неправомерными» (в отличие от юридически «индифферентных», «иррелевантных»12, второй критерий устанавливает, в чем именно состоит правовое значение этих действий и состояний). Это правовое значение может быть сведено к тому, что для определенных субъектов устанавливаются определенные полномочия, обязанности и запретности, указанные в содержании нормы. Итак, каждая норма указывает, какие именно действия и состояниялюдей устанавливают для каких именно субъектов, какие именно полномочия, обязанности и запретности. Этим определяются содержание и объем правила поведения: строго определенным людям в строго определенных обстоятельствах позволяется, предписывается и воспрещается известное, строго определенное поведение. Такое правило нередко сопровождается санкцией, т. е. указанием на те обязательные, предстоящие последствия, которые должны постигнуть нарушителя
* Это относится и к нормам «обычного права», возникающим в тот момент, когда правоприменяющий орган формулирует, признает обязательным и применяет простой обычай правового общения.
нормы. Исследовать правило поведения значит найти предметно исчерпывающий ответ на эти четыре вопроса (или соответственно двенадцать вопросов): что, кому, при каких обстоятельствах и с какой санкцией предписывается, воспрещается и позволяется.
Столь тщательный анализ, очевидно, требует научной лаборатории, систематического мышления, методической работы; истинное знание и понимание положительного права, как и всякое движение к истине, есть дело в высшей степени трудное и ответственное. Ответственность же ученого юриста требует к себе особенного внимания потому, что в его объективную и беспристрастную работу часто врывается крикливый голос повседневной борьбы за существование и вплетается тайный шепот личного, группового и классового интереса. Посторонние делу мотивы часто силятся увлечь юриста-теоретика на путь угодливого приспособления: рост правосознания заставляет сильного и властвующего искать правовых оснований для своей силы и власти даже там, где заведомо может быть установлена только одна видимость права. В противовес этому юрист-теоретик обязан помнить, что дело познания, осуществляемое им, должно осуществляться предметно: он не выдумывает, не фантазирует и не «препарирует», производя «нажимы на закон»; он объективно вскрывает смысл, значение и содержание положительного права, обнажая его во всех его достоинствах и недостатках; он раскрывает не только уже живущие в практике стороны его, но и те, которые оставались доселе под спудом, тая в себе возможность новых конфликтов, недоумении, кривотолков и бед Он не ждет практических поводов, хотя и умеет использовать их научно; объективное содержание права дано ему как предмет и тогда, когда кодекс еще не введен в действие. Люди, не верящие в само-законность и силу чистого теоретического знания, в его духовную ценность и практическую важность, могут, конечно, пренебрегать таким анализом права, считая его проявлением мертвой схоластики; но горе человеку—и медику и пациенту, — изучающему анатомию лишь в меру «казуальных», т. е. случайных, запросов жизни...
Народное правосознание может стоять на высоте только там, где на высоте стоит юридическая наука. Там, где юриспруденция непредметна и пристрастна или, еще хуже, невежественна и продажна, там вырождаегся самая сердцевина правового мышления и быстро утрачивается уважение к праву; ученый приближается к типу старого подьячего и от его «научного» крючкотворчества быстро меркнет правосознание. В суждениях о праве воцаряются шаткость и злокачественная туманность; в умах все двоится и колеблется; и трудно ждать чего-нибудь от «земли», когда соль ее теряет свою силу
Живой контакт между юридическою наукою и сознанием масс есть второе условие для развития правосознания. Содержание положительного права должно быть не только «доступно» народу так,
чтобы каждый в каждом случае мог без труда установить свои правовые полномочия, обязанности и запретности; оно должно быть фактически введено в сознание народа по всей своей определенности и недвусмысленной ясности. Правосознание состоит прежде всего в том, что человек знает о «существовании» положительного права и о своей «связанности» им и, далее, он знает, что смысл этого права един и определенен, неизменяем по личному произволу и случайному интересу и что содержание его «таково-то». Необходимо, чтобы каждый фактически знал то, что ему по праву «можно», «должно» и «нельзя», чтобы он как бы воочию осязал пределы своего правового «статуса» в уверенности, что они могут быть изменены по праву, но не против права инее обход его.
Понятно также, какое огромное значение имеет популярное преподавание права и школьное воспитание правосознания в жизни народа. Необходимы общедоступные учебники права, необходимо преподавание законоведения в средних школах, необходим обязательный курс правосознания, читаемый в высших учебных заведениях для студентов всех факультетов. Огромное значение могло бы быть присуще кадру разъездных лекторов и консультантов, оплачиваемых от города или от земства и бесплатных для народа (подобно врачам, ветеринарам и агрономам). Необходимо все сделать, чтобы приблизить право кнароду, чтобы укреплять массовое правосознание, чтобы народ понимал, знал и ценил свои законы, чтобы он добровольно соблюдал свои обязанности и запретности и лояльно пользовался своими полномочиями. Право должно стать фактором жизни, мерою реального поведения, силою народной души.
И вот если условиться называть объективное содержание положительного права его смыслом, а субъективно осознанное содержание его — его понятием, то можно будет сказать: положительное правосознание состоит прежде всего в том, что человек переживает понятие положительного права адекватно его смыслу. Однако этим оно далеко не исчерпывается.
БОРЬБА ЗА ПРАВО
Нормальное правосознание есть волевое состояние души, активное и творческое; оно ищет в жизни свободного, верного и справедливого права и заставляет человека вести борьбу за его обретение и осуществление.
В этой борьбе «действующее» положительное право приемлется как последний этап, достигнутый правотворящим человечеством в деле поддержания и формулирования естественного права. Сознание усматривает не только объективный смысл положительного права, но и объективную идею естественного права и ставит перед собою задачу довести этот «смысл» до соответствия «идее». Это означает, что нормальное правосознание, начиная борьбу за право, должно осуществить три самостоятельных акта познания: во-первых, установить объективный смысл положительного права; во-вторых, формулировать в раскрытом виде объективную идею естественного права; в-третьих, усмотреть скрытое, но не полное присутствие идеи в смысле и найти такую формулу для смысла, которая точно и неискаженно воспроизводила бы сущность идеи. В результате этого правотворящая душа составляет в себе два понятия права: понятие положительного права, соответствующее его смыслу, и понятие естественного права, верное его идее За этими двумя субъективно переживаемыми понятиями кроются, предметно говоря, две объективно значащих правовых ценности, по-видимому, пребывающих во взаимном расхождении и даже противоборстве. Для поверхностного взгляда здесь обнаруживается «неизбежный» дуализм «положительного» и «естественного» права, так что совестливый, но не вдумчивый человек может усмотреть здесь безвыходность для правосознания. Однако третий акт правотворческого познания снимает этот «безысходный дуализм» и указывает исход и направление для всей борьбы: естественное право лежит сокровенным образом в основе положительного, присутствуя в нем, во-первых, в качестве известного «минимума правоты», во-вторых, в лице своих основных категорий и, в-третьих, в виде имманентного, но недоразрешенного задания. Единство положительного и естественного права уже дано, хотя бы в зачатке, и еще задано в своем целостном и осуществленном виде.
И вот, поскольку оно «еще задано» к осуществлению, правосознание, действительно, имеет перед собой некую, хотя и не безысходную, двойственность. Поскольку положительное право в своих предписаниях и формулах расходится с требованиями естественного права, постольку обнаруживаются два различных «должных» правопорядка, с виду одинаково претендующих на объективную обязательность и объективное значение. Выражая этот конфликт в образе «почиющих огоньков», можно сказать, что правосознание видит на многих состояниях, делах и отношениях людей два различные огня, из которых один, малый, выражает положительно-правовую квалификацию, а другой, большой, —
«естественно-правовую» квалификацию, так что маленький синий огонек, свидетельствующий о «положительной» правомерности поступка, может гореть наряду с большим, красным огнем, знаменующим «естественную» неправотутогоже самого деяния, и обратно. Обязанность «юриста» может оказаться в существенном противоречии с обязанностью человека, живущего «естественным» правосознанием, и это может вызвать в совестливой душе раздвоенность. Нормальному правосознанию свойственно всегда с предметным вниманием всматриваться в цвет обоих огней, и это делает его особенно доступным для таких конфликтов. Понятно, что притязающее сосуществование обоих огней должно найти себе конец в предметно-обоснованном и принципиальном решении их спора.
Конфликт между естественным и положительным правом должен быть разрешен в пользу первого, и притом потому, что объективное значение положительного права определяется в корне своем — духовным достоинством естественного, т. е., во-первых, актуальным и содержательным присутствием в нем духовно-естественной правоты; во-вторых, формальною возможностью и жизненным заданием его — быть верною и точною формою естественного права. Положительное право по самому существу своему есть организованная попытка формулировать естественное право; духовно-жизненная важность этого дела, сознание его ответственности и уверенность в том, что такая формула едина, составляют то духовное основание, которое побуждает людей сосредоточиться на строгой, формальной peiy-лированности самого порядка, в котором создается право. Понятно, что положительное право во всех случаях расхождения оказывается суррогатом естественного права, и если это расхождение обостряется до конфликта, то положительное право может предстать сознанию в роли «ложного» права, лжеправа, или «самозванца». По обнаружении такого конфликта для правосознания наступает период искушения: понятие права двоится, положительное право начинает утрачивать свой ореол правоты, и если идея объективно значащего естественного права не живет в умах с достаточной отчетливостью и силою, то «принципиальное» развенчание всякого права оказывается у порога; право начинает изображаться как «простое проявление» власти, силы и насилия, как орудие, служащее организованному господству имущего класса; оно постепенно развенчивается в последовательном, но незрячем критическом анализе, а незрячий скепсис приводит к его категорическому отвержению. Наступает более или менее глубокий кризис правосознания, который может привести и к разложению правовой жизни, но должен привести к более углуб
ленному обоснованию и пониманию права и к зарождению нового правосознания*.
Конфликт между естественным и положительным правом разрешается в жизненной борьбе за право — в правотворчестве. Эта борьба в зависимости от своего ближайшего и преимущественного задания может иметь два вида: она может быть борьбой за «право в объективном смысле» (т. е. за обновление правовых норм) и борьбой за «право в субъективном смысле» (т. е. за поддержание и осуществление справедливых полномочий, обязанностей и запретностей). Понятно, что эти два задания не только не исключают друг друга, но взаимно предполагают и обосновывают одно другое.
Обычный и здоровый путь борьбы за новое, лучшее объективное право (т. е. за «новые законы») есть путь правосоздания: неверные, несправедливые, устаревшие законы и учреждения отменяются и вместо них, посредством мирного, организованного осуществления тех внешних деяний, которыми обусловлено «возгорание» новых норм, устанавливается новое, лучшее право. Нормальное правосознание считает этот способ борьбы за объективное право лучшим потому, что простое осуществление его само по себе укрепляет и воспитывает в душах людей волю и доверие к праву: то обстоятельство, что правовая жизнь сама открывает пути к совершенствованию права, что самое блюдение положительного права может приблизить его к «естественной» верности и тем самым к его преодолению, — это обстоятельство само по себе как бы зовет его к признанию. Значение положительного права ненарушимо; но все нормы, входящие в его состав, по общему, основному существу своему поддаются отмене и замене новыми. Право обладает способностью обновляться на своих внутренних путях и, пока эта способность сохраняется, — правосознанию предстоит мирное и органическое развитие.
Приемля путь такого обновления права, нормальное правосознание начинает всегда с добросовестной попытки вскрыть и формулировать то естественное право, которое должно лежать в основании новых норм. Такая попытка необходима именно потому, что каждая пози гивная норма, как уже показано выше, берет на себя ответственную задачу указать людям обязательное для них лучшее поведение; эта идея «лучшего» отнюдь не совпадает с понятиями о наиболее «удобном», «выгодном», «полезном» и т. д.: разным людям «полезно», «выгодно» и «удобно» — разное, а право
* Постановку и освещение вопроса о кризисе современного политического правосознания дает П. И. Новгородцев в своем труде «Кризис современного правосознания». М., 1909, особенно на с. 1,5,13, 15,16,392,393.
вая идея «лучшего» имеет единое, предметное содержание; это «лучшее в праве» может разойтись и со всеми наличными «традициями», «верованиями», «предрассудками», не исключая и «общественного мнения». Ученый юрист, и в частности философ права, должен научно вскрыть эту идею и сделать содержание ее общим достоянием. Люди, создающие и формулирующие новые правовые нормы, должны выработать в себе особый «акт» правосознания или, условно говоря, правовой совести, проверяющий или даже впервые формулирующий эту идею и заставляющий положить ее в основу новых норм в качестве истинной и предметнообоснованной ценности. Истинный законодатель есть художник естественной правоты, ее искатель и служитель. Для него — «лучшее» есть всегда то, что есть лучшее на самом деле и само по себе: ибо им руководит добрая воля.
Однако может оказаться, что этот здоровый и обычный путь обновления законов и государственного строя недоступен для того, кто начал борьбу за право. Общественная группа, руководящая данным государством, может не считать реформу полезною, справедливою и необходимою, а государственное устройство может не обладать достаточной «гибкостью», чтобы обеспечивать обновление законов при всяких условиях. Тогда нормальный путь оказывается закрытым и борьба за «объективное право» вступает на новый путь.
Оказывается, что нормы положительного права приобрели противоестественный характер неотменимости или неизменности, а свойственная их содержанию «неверность» становится бичом жизни Сознание человека видит, что оно закрепощено несовершенной и, может быть, даже унизительной жизнью и что конфликт между положительным и естественным правом не поддается разрешению: право не может развиваться далее по праву, а выросшее правосознание не может вернуться вспять. И вот возникает необходимость найти иной способ правотворчества, и остается путь непосредственного осуществления новых субъективных прав.
Этот путь состоит в том, что субъект, направляемый своим правосознанием кцели права,утверждаетза собою другие полномочия, обязанности и запретности, чем те, которые ему принадлежат в данный момент на основании норм действующего положительного права, и, далее, признав их за собою, он приступает к их непосредственному осуществлению. Правосознание вы-ковывает субъекту новый статус, принадлежащий к новому, официально еще не установленному правопорядку, и ставит себе задачу жить согласно этому новому статусу. Оно как бы предвосхищает новый, более справедливый правопорядок и торопит его наступление, поспешая к нему навстречу. Естественно-правовой закон
всеобщей соотносительности и взаимности правовых кругов заставляет его признать новые полномочия, обязанности и запретности и за другими субъектами и тем самым сделать все последовательные выводы. Правосознание находит героический выход из создавшегося конфликта, признавая каждого субъекта членом двух различных правопорядков сразу: одного, отвергнутого по содержанию, но не отмененного и сохраняющего «положительное» значение, и другого, признанного по содержанию, но еще неустановленного, не утвержденного и, может быть даже, еще не формулированного, однако — верного, справедливого, лучшего и потому нередко имеющего достоинство естественного права.
Конфликт и двойственность, неустранимые через создание новых правовых норм, приемлются и творчески изживаются сознанием; открытая встреча между положительным и естественным правом, приводящая всегда к подчинению первого второму, организуется в порядке жизненного осуществления; это делается для того, чтобы внешняя встреча повлекла за собою их внутреннюю встречу — в душах слепых и глухих к естественной правоте — и в результате этого установление нового права. На этом пути естественное право осуществляется так, как если бы оно уже было положительным правом; оно фактически прививается к жизни, с тем чтобы стать реальным способом жизни и поведения Естественное правосознание утверждает себя какжизненную силу в уверенности, что оно есть правая сила и что силе этой правоты предстоит победа над коснеющим и слабеющим неправым правом.
Этот путь борьбы за право иногда воспринимается и изображается как путь правонарушения или как путь насильственного ниспровержения старого правопорядка. Однако такое воззрение по существу своему поверхностно и неверно: во-первых, элемент «правонарушения» и элемент «насильственности» могут совсем отсутствовать при таком способе борьбы; во-вторых, наличное правонарушение может быть нарушением не «права вообще», но только положительного права, и притом — во имя естественного права, т. е. оно может иметь характер деяния, не разрушающего правопорядок, подобно всем наказуемым правонарушениям, но творящего и совершенствующего жизнь в праве и по праву.
Итак, во-первых, произвольное изменение личного статуса принципиально допускается самим положительным правом, поскольку за человеком признается не только «правоспособность», но и «дееспособность», и в число правообразующих фактов включается волеизъявление. Посредством формальных изъявлений своей воли каждый дееспособный человек может добиться того, что у него будет более именее тех или других полномочий и обязанностей, причем положительное право остается ненарушенным
(secundum legem13) Никто не может помешать людям использовать эту возможность для того, чтобы приблизить их положительно-правовой статус к естественно-правовому. Мало того, эта возможность остается всегда в их распоряжении, т. е. и тогда, когда нормальный путь законодательства открыт и доступен. Нет никакой необходимости пассивно ожидать, чтобы закон или административное распоряжение возложили на меня справедливую обязанность или отменили мое несправедливое полномочие, особенно если я сам чувствую и сознаю, что справедливо и что нет. В большинстве правоотношений можно найти такой исход, который сразу или постепенно погасит мои неестественные полномочия и введет мои естественные обязанности.
Каждый из людей, если им руководит естественное правосознание, будет искать и найдет возможность приблизить свой положительно-правовой статус к естественному. Он может немедленно перестать осуществлять свое «неестественное» полномочие и затем погасить его отречением; так, естественное правосознание побудило в свое время некоторых помещиков «отпустить на волю» своих крестьян и заставило Л. Н. Толстого отказаться от авторского права на свои произведения. Он может, далее, передать свои полномочия другим в ту меру, в какую он испытывает их несправедливыми; таков внутренний смысл многих «пожертвований» на благие дела, христианской «раздачи имущества бедным» и посмертного распоряжения Л. Н. Толстого о яснополянской земле. Далее, каждый может, следуя естественному правосознанию, взять на себя исполнение чужой обязанности, внести налог за бедняка, заменить больного товарища на службе или, как это допускалось в старину, «пойти в рекруты», заменяя многосемейного брата. Правосознание может побудить каждого возложить на себя добровольно имущественные повинности, увеличить чужие полномочия на счет своих обязанностей, предоставить своим несправедливым правам угаснуть за давностью, пойти добровольцем на войну, принять на себя то или иное ответственное служение народу и т. д. Нормальное правосознание, которое вообще побуждает не уклоняться от принятия и несения публичныхполномочий и обязанностей, а напротив, искать их и радеть о них, — постепенно научает человека переживать публичные полномочия как обязанности гражданина, а публичные обязанности как неотъемлемые полномочия; естественно-правовая солидарность людей освещает по-новому положительный статус лица и обновляет его понимание из глубины: участие в законодательстве управлении и суде оказывается естественною обязанностью взрослого гражданина, а личная и имущественная повинность осмысливается как драгоценное
естественное полномочие—поддержать жизнь своего союза личным трудом и участием.
Каждый из нас, пересматривая и перестраивая свой положительно-правовой «статус» под руководством естественного правосознания, увидит, что все такие «отречения», «отчуждения» и «самообязывания» не являются с его стороны делом «сверхдолжного милосердия», снисхождения или жертвы, но простым блюде-нием естественных прав и обязанностей и, тем самым, борьбою за осуществление естественного правопорядка. То, что он делает, подсказывается ему непосредственным чувством права и живым сознанием своей естественно-правовой обязанности. Именно нормальное правосознание побуждает его доброю волею пересмотреть и очистить свой положительно-правовой статус и таким образом выступить в жизни добровольцем естественной правоты.
Вступая на этот путь, каждый из нас легко убедится в том, что естественное правосознание призвано руководить не только созданием норм положительного права, но и жизнью в повседневных правоотношениях, что борьба с неправым правом должна всегда вестись не только от верха, от «общего», через норму, но и снизу, от «единичного», через субъективное право Естественное право не только «построяет» политическую программу для более или менее отдаленного будущего, нои указывает линию для непосредственного личного поведения; осуществление его возможно и обязательно теперь же, рядом с положительным правопорядком, через него, где это возможно, и помимо него — в порядке морали, нравов, обычая, — где это невозможно Естественное право не есть «далекий» или, тем более «бесконечный» идеал; нет: для каждого из нас оно стоит у порога личной жизни как близкая и ближайшая возможность, и от нас зависит осуществлять его на каждом шагу, не отодвигая эту творческую задачу лицемерным прекраснословием.
Таким образом, — возможно, что элемент «правонарушения» будет совсем отсутствовать в этом правотворчестве: тогда этот путь приведет к. лояльной борьбе за естественное право в субъективном смысле.
Но далее, во-вторых, история показывает, что в жизни народов бывают такие стечения обстоятельств, при которых наиболее быстрым и прямым путем, ведущим к обновлению правопорядка, представляется путь, выводящий деяния человека за пределы положительного права. В этом случае правотворчество покидает стезю строгой лояльности и ищет иных мер.
Эти меры могут иметь двоякий характер ввиду того, что «за пределами» положительного права лежат, с одной стороны, деяния, совсем «непредусмотренные» в его нормах, с другой стороны, деяния, прямо запрещенные
В этом случае так называемое «обычно-правовое» творчество указывает драгоценный исход для всей правовой жизни, и не только в «частной», но и в публичной сфере История английской конституции свидетельствует о том, какое огромное жизнепреобразующее значение может иметь этот путь. Созидание юридического обычая есть правомерный способ постепенного введения в пределы положительного права тех элементов жизни, которые лежат за его пределами, но в которых нуждается правосознание. Устойчивое осуществление неправового как правового, сопровождающееся сознанием, что «такпоступапгь»—необходимо и правильно, есть поистине один из классических путей, ведущих к победе естественного права над положительным. Непредусмотренные деяния и состояния постепенно вдвигаются в правопорядок, становятся «предусмотренными» и «значащими», и прежний порядок уступает место лучшему. При таком исходе удается предотвратить конфликт между естественным правосознанием и положительным правом: творческая воля находит средства для избежания разрыва между ними и не видит себя вынужденною обратиться к правонарушению во имя права.
Понятно, что зоркая предусмотрительность старого порядка может быстро поставить нормальное правосознание перед дилеммой: или отказаться от своего творческого задания, или вступить на путь прямого нарушения отдельных норм положительного права. Если нормальное правосознание под давлением этой безысходности избирает второй путь, то оно обставляет свое решение целым рядом условий, памятуя о том, во имя чего оно борется, и оставаясь верным себе. И эта цель, и это повиновение — не превращают состоявшегося правонарушения в правомерное деяние, но делают совершителя его по праву невиновным, а самое деяние — ненаказуемым правонарушением.
Согласно тому, что было установлено выше, решение допустить прямое нарушение положительного права приемлется нормальным правосознанием только в крайнем случае: ибо сознательное нарушение права противоречит основной сущности правосознания, т. е. воле к праву. Это решение приемлется, следовательно, как бы против воли, во всяком случае — в результате внутренней борьбы. Внутренняя борьба возникает вследствие того, что воля к праву разлагается на два противоположных влечения: с одной стороны, воля к цели права зовет к правому праву и к творческому обновлению правопорядка; с другой стороны, та же воля к цели права зовет к осуществлению ненарушимости положительного права. Нормальное правосознание твердо знает, что уважение к положительному праву есть драгоценный результат долгого и мучительного процесса и что расшатывать это уваже
ние значит разрушать уже наличное и в грядущем необходимое жилище естественного права; оно не может стремиться к разрушению права и если допускает нарушение его, то именно для того, чтобы поддержать его и не допустить его разрушения.
Поэтому правосознание, решающееся вступить на этот путь, сохраняет верность себе только в том случае, если оно соблюдает следующие условия.
Во-первых, если все иные средства борьбы за обновление неверного права уже использованы, исчерпаны и не привели к необходимому результату. Правосознание может допустить нарушение положительного права только в крайнем, случае, и в частности, лишь после того, как борющийся субъект преобразил свой личный положительный статус в естественный.
Во-вторых, если это решение приемлется не из чисто личных или своекорыстных побуждений, но из воли к общему благу; правосознание видит в создании и поддержании правопорядка дело великой — духовной и общей — необходимости, а не индивидуальной пользы и поэтому допускает з^есъличные мотивы лишь в меру их совпадения с единым и общим духовным интересом.
В-третьих, если это решение проистекает из нормального правосознания, т. е. из воли к цели права. Тогда это правонарушение теряет свой обычный праворазрушительный характер; оно проистекает не из воли к бесправию и не из недостаточной воли к правопорядку, но из глубокой и целостной воли к праву; оно направлено не против права и правопорядка, но стремится создать более близкое к естественному положительное право; оно не разрушает существующего правового строя, именно поскольку он есть правовой строй, а не искажающее природу права неустройство; мало того, оно поддерживает наличный правопорядок как таковой, пытаясь исправить те черты его, которые грозят действительной и притом общей разрухой.
В-четвертых, если эта линия поведения нарушает только определенные постановления положительного права, но не стремится разрушить его целиком или водворить на его место первобытную нерегулированность жизни. Правосознание бережет положительное право даже тогда, когда решается нарушить его во имя естественной правоты, и не только поддерживает всю остальную систему действующего права, но, может быть, даже блюдет его в это время с особым тщанием: так, искусный и опытный хирург не повреждает тканей живого тела больше, чем это необходимо, и в то же время заботится о тщательном питании всего организма в целом.
В-пятых, если это деяние нарушает только те положительные нормы, которые поддерживают неотменимость или неизмени-
мость неправого права таковы именно те нормы публичного (и только публичного) права, которые формулируют и ограждают политический режим, задерживающий естественное возрастание и очищение права Тогда эта линия поведения осмысливается не как борьба с положительным правом, но как борьба с неотъемлемостью и неизменимостью его неправых норм, которая и приводит к отмене их в новом конституционном порядке.
В-шестых, наконец, если это деяние нарушает только неправые нормы положительного права, но не нарушает естественных прав человека: правосознание может допустить нарушение неправого права в меру его неправости и ради его исправления, ибо оно знает, что нарушаемое — неправым образом медлит исчезнуть перед лицом естественной правоты, но оно не может допустить нарушения естественной правоты ради ее водворения и осуществления, ибо средство, убивающее свою цель, есть неверное и неправое средство: творящий его попирает самую сущность своей цели и несет вину.
Таковы те условия, при которых нарушение положительноправовой нормы не противоречит правосознанию и которые дают человеку естественное право на неповиновение праву.
И тем не менее такое неповиновение представляет собою правонарушение, которое подлежит суду и может быть принято за преступление.
ПРАВОСОЗНАНИЕ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ
В понимании права и государства человечеству предстоит пережить глубокое обновление. Должен быть окончательно отвергнут гибельный предрассудок о «внешней» природе права и государства; должна быть усмотрена и усвоена их «внутренняя», душевно-духовная сущность. Право только «проявляется» во внешнем, пространственно-телесном мире: сферою же его настоящей жизни и действия остается человеческая душа, в которой оно выступает с силою объективной ценности. Государство в своем осуществлении «предполагает» наличность множества телесно разъединенных людей, территорий и внешних вещей; но именно человеческая душа остается тою средою, в которой зарождается, зреет, протекает — и государственная жизнь индивидуума, и жизнь государства как единого целого.
Вне духовного состояния множества индивидуальных душ — государства нет и быть не может: государственное состояние людей есть прежде всего и главнее всего их духовное состояние. Если право имеет полноту бытия, то только через правосознание, т. е. через право-чувствование, право-воление, право-мышление и, наконец, право-деяние. Если государство имеет полноту бытия, то только через душевно-духовное переживание и осуществлениелюдьми его цели и его средств, его содержания и его формы В истинном и полном смысле слова, — права и государства нет ънемножества индивидуальных, но связанных постоянным общением правосознании.
Именно этим определяется связь государственности со всею духовною культурою народа и особенно с его религиозною культурою.
Стихия государства есть стихия человеческого духа. Но именно в этой стихии зарождается и созревает—и прекрасное искусство, и истинное знание, и нравственное совершенство; сюда нисходит и божественное откровение Единый и неделимый (ин-дивиду-аль-ный) строй более или менее одухотворенной души осуществляет или, во всяком случае, призван осуществлять все безусловные ценности; и потому все возникающие отсюда ряды духовного восхождения пребывают в некотором — бессознательном или сознательном — взаимодействии. Это не значит, однако, что все эти ряды остаются равноправными или что каждый из них может, сохраняя свой объем и свою компетенцию, подчинить себе все остальные ряды. Так, взаимодействие познающей мысли и правосознания, правосознания и совести, эстетического выбора и правосознания — может считаться a priori предрешенным. Но эстетический вкус сам по себе не может претендовать на верховенство в вопросах правосознания; научное мышление само по себе не в состоянии направлять государственного деятеля; и даже совесть может оставить в некоторой беспомощности того, кто ведет борьбу за право. Одна религия оказывается здесь в исключительном положении.
Религия по самому существу своему претендует на руководительство во всех делах и отношениях. Она ищет и находит высшее слово и последнее слово; она указывает человеку то, через что сама жизнь его становится воистину жизнью и каждое действие получает свой существенный смысл, свое последнее освящение. Искусство, или знание, или добродетель сами по себе не обьемлют всего человеческого духа и неуказуютему его высшей и последней цели; если же они получают такое всеобъемлющее и руководящее значение, то они выходят из своих пределов и приобретают значение религии. Тогда человек осуществляет религию совести, или религиюмысли. илирелигию прекрасного- показания художественного чувства, или познавательной очевидности, или совести —
становятся для него голосом божественного откровения и получают в его глазах соответствующий объем и компетенцию.
Это верховное, руководящее значение религии можно было бы выразить так то, что ведет человека в жизни в качестве высшего и субъективно-наиболее-ценного содержания, — то и составляет его «религию». Каждый человек, как бы ни был он мал или плох, имеет потребность прилепиться верою и любовью к некоему «главному», любимому, безусловному для него содержанию; и то, к чему он так прилепляется, становится содержанием и предметом его «религии». Самостоятельность и сила этой преданности бывает различною у разных людей, но только известная полнота ее дает возможность говорить о подлинной религиозности. Содержание, вызвавшее эту преданность, также подвержено изменчивости и разнообразию; и только известный качественныйуровень его дает основание говорить о настоящей религии. Религиозный опыт многообразен по своей эмпирической видимости, но в глубоком существе своем он имеет известные устойчиво-однородные черты, и это однообразие религиозного акта определяется в конечном счете единством религиозного предмета — Бога. Самый предмет религии и его существенная природа придают ей с неизбежностью то центральное руководящее значение, которое остается за нею при всех условиях. Подобно тому, как нет ничего выше, значительнее и совершеннее Божества, подобно этому для человека нет ничего выше, значительнее и благотворнее подлинной и настоящей религии, т. е. такой, которая основана на предметном восприятии Бога. Такая религия имеет способность и призвание определять личность и судьбу человека, преобразуя весь его характер, все его миросозерцание и всю его жизненную деятельность. Естественно, что она приобретает решающее влияние и на его правосознание, и на его государственный образ действий.
Правосознание обыденной жизни может не иметь религиозного корня; оно может быть даже безразличным к тому, что обычно называется «религией». Но подлиннаярелигиозность не может пройти мимо права и государства: она вынуждена определить свое отношение к ним и к правосознанию. И точно так же нормальное правосознание в своем зрелом осуществлении неизбежно приобретаетрелигиозный характер, хотя этот характер может быть осознан человеком в большей и меньшей степени.
Овладевая личной душою и определяя ее характер и ее судьбу, религиозность не может пройтимимо права и государства уже потому, что право и государство ведут не внешне- механическую жизнь, но внутреннюю, душевно-духовную. Если религия ут-верждает в душе человека особое благодатное состояние, именуемое в Христианстве «царством Божиим», то она приводит
этим в движение все силы личного духа: и чувство, лежащее в основе патриотизма, и волю, поддерживающую право индивидуума на духовную автономию, и мысль, слагающую формуправа и государства, и воображение, предметно строящее систему правоотношений. Правосознание и царство Божие живут одною и тою же душевною тканью, осуществляют себя в одной и той же духовной среде. Механическое отделение «Божьего» от «кесарева» всегда будет мертвой фикцией, лишенной бытия и практического значения. Евангельское слово имеет в виду, конечно, не такое механическое отделение; оно устанавливает только совместимость «Божия» и «Кесарева» — их не непримиримость, возможность отдавать «Кесарево кесарю», не погрешая против Божьего закона, и, согласно этому, возможность служить Богу, не совершая тем самым правонарушений. Это указание на примиримость напрасно толкуется как учение о безразличии или противоположности; и средневековые уподобления («два меча», «солнце и луна» и т. п.) не только не разрешали вопроса об отношении религии и государственности, но придавали ему с самого начала неверную постановку.
Однако дело не сводится к тому, что правосознание живет теми же творческими силами, которыми правит религия, т. е. к неизбежности их «встречи» в личной душе. Сама религия как осуществление «царства Божия» невозможна вне права и его признания, т. е. вне правосознания. Религиозность есть состояние духовное, и потому она имеет смысл и ценность только при автономном приятии откровенияличною душою.Не свободное, не автономное верование, навязанное или урезанное запретом, не принятое в добровольном обращении, не созревшее в самодеятельном искании, — именно постольку теряет свой смысл и умаляется в своей «религиозной» ценности и силе. Человек имеет естественное и неотъемлемое право на автономное восприятие Божества, на свободное исповедание Его и на самодеятельное жизненное осуществление Его воли как своей собственной, и тот, кто удовлетворяет своей потребности в боговидении и в жизненном служении Богу, кто осуществляет свою способность к религии — тот осуществляет тем самым свое драгоценное право, ради которого лучшие люди всех веков и народов умели отрекаться от всех других прав, умели страдать и шли на смерть. Иметь религию есть право человека, и это право — право быть духом — лежит в основе всех других его прав. Человек, отказывающийся от этого права, теряет свое духовное достоинство и впадает во все недуги, связанные с этой утратой; человек, не осуществляющий этого права, ведет напрасную жизнь и недостойно обременяет собою землю. Потребность в религии порождает потребность в духовной свободе, а потому и в правопорядке; вот почему рели
гиозность не раз являлась в истории глубочайшим источником правосознания, а право нарелигию становилось безусловным и священным основанием борьбы за политическую свободу. Именно борьба за свободу совести способна придать народному правосознанию ту духовную основу, которая налагает в дальнейшем отпечаток подлинного благородства на всю его политическую историю.
Настоящая религиозность требует д уховной свободы и питается ею; она осуществляет естественное право человека, дорожит этим правом и потому выращивает в душе естественное правосознание. Под линная жажда богопознания пробуждает в душе человека волю к духовной автономии, а эта воля есть уже воля к естественному праву Вот почему подл инная религиозность может отрицать известное правовое содержание или известный способ правовой организации, но не может отрицать самое право в его принципе, не впадая в недоразумение. Право есть необходимая форма д уховного бытия человека, а религиозное бытие есть бытие духовное; поэтому вне права не может быть ирелигии. Можно быть религиозным человеком и сомневаться в необходимости того или иного положительного права и той или иной государственной формы, ибо их необходимость утверждается не самым фактом духовного бытия человека, но всею совокупностью конкретных исторических условий Но право само по себе, и особенно естественное право, должно быть признано каждым верующим.
Такое признание естественного права заставит, однако, в дальнейшем каждого религиозного человека обратиться к вопросу о тех путях, на которых оно может быть и должно быть ограждено в действительной жизни. И здесь перед ним неизбежно встанет дилемма: или отвергнуть положительное право и государство' или освятить их в их благородном существе и призвании. Религия склоняется к их отвержению, во-первых, если она принципиально отвергает самую задачу земного жизнеустроения, или отрицая реальность чувственного мира, или настаивая на систематическом угашении земного существования, или признавая земную жизнь религиозно-безразличным состоянием; такое отвержение земной жизни свидетельствует, с одной стороны, о содержательной скудости религиозного откровения, не раскрывшего самую основную тайну бытия — тайну присутствия Божией силы в чувственной земной стихии, с другой стороны, о творческой безжизненности религиозного акта, упускающего основное призвание всякой религии — призвание преобразить земную жизнь силою божественного откровения.
Религия склоняется к отвержению положительного права и государства, во-вторых, если она признает задачу жизнеобнов-ления, но отвергает как недопустимый принцип властного по
нуждения—или усматривая в понуждении компромисс, неприемлемый для морально непогрешимого носителя откровения, или дорожа неограниченною свободою человека в выборе добра и зла, или сочетая оба эти основания; такое отвержение государственности свидетельствует, с одной стороны, о наивности религиозного мировоззрения, упускающего трагическую природу мироздания, в силу которой самый способ земной жизни человекауисетаитв себе «компромисс», а моральная безгрешность личности содержит в себе сокровенное внутреннее противоречие; с другой стороны — о наивности правосознания, ошибочно сводящего государственность к насилию и гетерономии и принимающего несвободу человека, погрязшего во зле, за «свободу» его в выборе зла.
Наконец, в-третьих, религия тяготеет к отвержению положительного права и государства, если она отвергает как ненужный принцип гетерономного властвования—или переоценивая силу доброй воли и личной автономии, или недооценивая силу и упорство дурных страстей человека, или совершая обе ошибки вместе, такое отвержение государственности свидетельствует, с одной стороны, о наивности того понимания душевной жизни, которое полагает, что духовная автономия уже присуща каждому человеку, что она не нуждается в гетерономном содействии и что предметное созерцание добра всегда и всем доступно, с другой стороны, о жизненной слепоте и исторической непредметности созерцания.
Таким образом, религия, отвергающая положительное право и государство, или сознательно отворачивается отэмпирической жизни человека, или бессознательноупускает из вида объективные свойстваэтойжизни, самого человека и государства. Во всех этих случаях ей придется так или иначе вступить в жизненную борьбу с положительным правом и государственностью. В этой борьбе она будет стараться оторвать естественное правосознание от положительного правосознания, синимая у первого исторически найденные пути осуществления, а у второго — его благородные истоки и критерии; она неизбежно вовлечется в разрушение всей накопившейся за тысячелетия государственной вали и способности человечества и сольет свое дело с делом анархизма. И работая над разрушением всей политической культуры, она будет, со своей стороны, или настаивать на отвержении земной жизни, которая все-таки будет продолжаться, или создавать «автономный» строй внешней жизни длялюдей, неспособных к внутренней автономии. Понятно, что первый исход поведет к нелепости, а второй — осуществит все недуги дефективной воли и возвратит человека к гетерономному строю При всех этих исходах религия не выполнит своего основного призвания — преобразить земную жизнь человека на основе божественного откровения. И перед лицом
этой неудачи она будет вынуждена пересмотреть заново свое отрицательное отношение к принципу государственности.
Но если религиозное сознание обращается к приятию и признанию государственного начала, то это совсем не значит что оно освящает весь состав исторической государственности или что оно впадает в какую-нибудь «идеализацию» политических низин. В исторической государственности царит великое смешение достойного и недостойного, здорового и больного, добра и зла; признанию и освящению подлежит в ней только то, что соответствует идее государства. Идеализацию порождает незрячее или непредметное восприятие, принимающее зло за добро, падение за расцвет; такое восприятие ведет, однако, к не меньшим ошибкам и заблуждениям, чем уклонение в обратную сторону: нелепо утверждать, что исторические государства не имели творческого отношения к государственной идее или что в борьбе со злом положительное право творило одно зло, и притом в силу своей собственной, безусловно дурной природы. Напрасно было бы смешивать государство с одним из его возможных средств: идея гетерономногорегулирования сама по себе отнюдь не совпадает ни с принципом «насилия», ни тем более с началом зла. Бесспорно, зло, с которым боролось историческое государство, не только <не> уступало силе правового регулирования, но и подчиняло его себе отчасти; возникало «дурное» право и дурное государство, в котором добро и зло смешивались — и по природе, и по действию, и по результатам. Но в этом сложном и трагическом смешении зло никогда не могло вытеснить ни благой цели права, ни его благой формы, ни благого воздействия. И вот нормальное правосознание утверждает, что сущность государственности проявлялась исторически именно в этом благом воздействии благой цели через посредство благой формы. Это значит, что государственность есть благая сила в истории человечества и что поэтому она заслуживает религиозного осмысления и нуждается в нем.
Религиозное понимание положительного права и государства покоится на усмотрении в них некоторой жизненной ценности, и притом такой, которая имеет оправдание пред лицом Божиим, и потому вызывает в душе человека особое религиозное отношение. Такою ценностью является основная движущая цель права и государства — духовная культура народа и человечества, т. е. ее созидание, ее творения, ее творцы и ее необходимые условия. Расцвет человеческого духа и духовной жизни есть поистине дело Божие, и религия не может не принять его как свое собственное дело. Поэтому государство, призванное служить ему, должно получить и получает от религии признание и освящение. Мало того, именно религиозное созерцание указывает государству
его идейное назначение: установить в земной жизнилюдей посредством гетерономного регулирования строй, наиболее благоприятствующий духовному расцвету народа и человечества и воспитывающий граждан к постепенному облагорожению положительного права силами братства и автономного правосознания. Эта высшая, руководящая цель всякой истинной политики открывается именно религиозному созерцанию, измеряющему всякое явление последним, абсолютным масштабом божественного совершенства. От такого религиозного созерцания политическое творчество получает ту глубочайшую идею и то жизненное руководство, которые связуют государственность с естественным правосознанием и тем предохраняют ее от духовного вырождения.
Это означает, что последний корень здорового правосознания имеетрелигиозную природу, ибо дух инстинкта, так же как и воля к духу, есть по существу своему искание божественного совершенства. Приемля положительное право и государство, здоровое правосознание вносит в них ту же волю и то же искание, оно открывает в них религиозное достоинство и указует им их религиозное задание; оно насыщает их жизньрелигиозною энергией и тем сообщает им черты подлинной духовной реальности. Подлинная государственность строится здоровым правосознанием, т. е. религиозно созерцающею волею. Чем больше этой воли в правителях и в гражданах, тем выше духовный уровень политической жизни, тем прочнее и духовно продуктивнее государственный союз. Подобно всякой жизни человека и политическая жизнь нуждается в религиозном истоке и религиозном созерцании, ибо только отсюда она может получить ту верную градацию жизненных ценностей и целей, вне которой нет спасения от политического релятивизма и беспринципности, от политической пошлости и цинизма, от своекорыстных компромиссов и предательства, от мелкого политиканства, от «шатости в умах» и смуты. Без высшего и последнего, безусловно руководящего смысла — государственность обречена на вырождение, но такой смысл открывает именно религия. Поэтому зажить государственностью воистину — значит зажить ею религиозно, т. е. ввести ее необходимым членом в творческий ряд религиозного созерцания и ведения, или, что то же, связать правосознание с абсолютным корнем жизни.
Эта целевая (телеологическая) связь между религией и государством выразится в том, что государство будет служить религии в ее высших целях, признавая их за свои собственные. Не государство поведет религию, куда ему нужно, норелигияукажет государству, куда и как оно должно идти. Не вера станет средством власти и не церковь станет орудием политической интри
ги и политического властолюбия, но власть станет орудием той цели, которая едина у религии и государства: эта цель — одухотворяющее преобразование жизни. Это не значит, что та или другая историческая церковь или исповедание возобладает в государстве и сделает его своим орудием: не церковь и не вероисповедание, но религиозно обновленное правосознание. Государство нуждается не в послушании церковному руководству и не в конфессиональных распрях, а в подлинной, свободнойрелигиозности народа. Вызвать к жизни эту религиозность — власть не в силах, но оградить ее зарождение ирасцвет есть прямая обязанность государства, мало того—это для него вопрос бытия. Свобода совести есть залог политического расцвета, и только она сможет создать то, чего не создает никакое искусственное насаждение вероисповеданий.
Все это можно выразить так В основе достойного и могучего правопорядка, достойной и могучей государственности лежит религиозное настроение — религиозность в глубоком и подлинном смысле этого слова. Именно она раскрывает последнюю глубину человеческой души и сообщает ей безусловную преданность и безусловную стойкость. Именно она делает человека способным узреть себя и свой народ перед лицом Божиим, принять жизнь своего народа как служение Богу и стать патриотом. Патриотизм, если он не есть зоологическое пристрастие, если он есть состояние духовное, есть некая религиозно укорененная безусловная преданность и безусловная стойкость души в обращении к своему богослужащему народу. Так, в основе государства лежит патриотизм, а в основе патриотизма — религиозное дыхание души.
Религиозное состояние души не следует отождествлять с ее «церковным» или «вероисповедным» состоянием. Это ясно уже из того, что религиозный человек может не принадлежать ни к какому вероисповеданию и ни к какой церкви. Свободное богосо-зерцание может не привести человека ни к догматическим формулам конфессионального характера, ни к социальному объединению с другими людьми на основе исповедания, культа и права (церковь). Откровение может жить в душе неосознанное, невыговоренное, неформулированное, оставаясь действительным откровением, направляющим личную жизнь и одухотворяющим личное творчество. Религиозный огонь духа может не укладываться ни в какие исторически сложившиеся догмы: и тем не менее он будет подлинным и могучим. Так, христианство первого века не имело еще зрелой церковной организации; христианство до Никейского собора не имело Символа веры — и тем не менее оно вело и обновляло души силою настоящей религиозности.
Наоборот, всякое церковное и конфессиональное состояние души, казалось бы, должно быть по необходимости религиозным
состоянием, подобно тому как видовое понятие имеет всегда все признаки родового. Однако исторические явления не подчиняются законам логики. Религиозный огонь может угаснуть в недрах церковной организации, а вероисповедное объединение может утратить веру и не осуществлять исповедания. Тогда догма отрывается от подлинного, личного религиозного опыта и становится мертвою, рассудочною формулою; молитвенный культ вырождается в совокупность внешних деяний и обычаев; таинство уже не освящает жизнь; благодатная сила религии отлетает из церковного единения и превращает его в бытовую схему. Быт поглощает религию, и религия утрачивает бытие, а «церковь» и «вероисповедание» остаются как знак бывшей, но утерянной религиозности.
В таких случаях для государственности и правосознания оказывается драгоценною связь не с «церковностью» и не с «вероисповеданием», а срелигиозностью в ее основном и подлинном, так сказать, «родовом существе». Подобно тому кякмузыкант должен быть сначала художником, и прежде всего духовною личностью, подобно тому как правитель должен <быть> сначала гражданином, и прежде всего зрелым и индивидуальным духом. — так православный или католик должен быть сначала а/л/тжийнинсш, и прежде всего человеком с самостоятельным и подлинным религиозным опытом. Здесь важна не схема и не видимость, не традиция и не привычка, а огонь настоящей духовной жизни, религиозно углубленной и сосредоточенной, огонь, дающий свет воле и энергию чувству и действию. Поэтому государственность, с виду «секуляризованная», не есть тем самым внерелигиозный способ жизни; исторически же возможно и такое положение вещей, при котором религиозное возрождение государственности будет осуществимым лишь при условии открытого разрыва с традиционною, но выродившейся церковностью.
Здоровое и могучее правосознание по своей основе и по своему строению имеет религиозный характер. Это определяется самою сущностью его ирелигии.
Религиозность в основном существе есть духовное, целостное, жизненное и безусловное приятие Божества как совершенного и реального средоточия жизни.
Религиозность состоит всегда в том, что нечто испытывается как совершенное. Она начинается там, где душа выходит из состояния безразличия и различает между «лучше» и «хуже», где душа тяготеет именно к тому, что «лучше», и, следуя за ним, восходит к тому, что совершенно. Религия есть пафос совершенства; именно поэтому она невозможна там, где царит индифферентизм.
Восходя к совершенству, религиозность воспринимает его не какусловно «лучшее», или относительно «лучшее», или субъек
тивно наиболее приемлемое, но как безусловно, безотносительно, объективно совершенное, как совершенное на самом деле, само по себе, а потом и для всех. Религиозная душа живет не простою приятностью субъективных содержаний сознания, но объективным совершенством. Именно поэтому религии нет там, где господствуют субъективизм ирелятивизм. Религиозность есть радость души, воспринявшей объективное качество предмета и плененной его совершенством. Эта плененность неизбежно преобразуется ъ любовь и благодарность; эта радость дает душе чувство полета и освобождения. Именно поэтому религии нет там, где отмерла любовь и где царит озлобление.
Поднявшись к совершенству, религиозность утверждает его как нечто реальное, как действительное бытие или как творческую силу. Религиозно воспринятое совершенство не отвлеченная идея, не мечта и не только далекий идеал; в нем объективно не только качество или ценность; оно объективно само, оно подлинно есть, jyxxe тогда, когда оно вовлечено в процесс и еще осуществляет полноту своего бытия. Религиозность делает человека живымучастником этого бытия; она реально вводит его в систему этой реальности и дает ему живое чувство единения с нею; она приобщает душу этой высшей силе и тем сообщает человеку некое творчески напряженное спокойствие. Религия есть не только пафос совершенства, но и пафосреальной силы. Понятно, что нигилизм и иллюзионизм'4 исключают всякую религиозность.
Далее, религиозность есть состояние духовное. Духовность ее определяется не только ее обращением к объективно ценному, но и ее автономностью. Она покоится на самостоятельном и непринужденном восприятии совершенства, на личном и подлинном опыте, раскрывающем, углубляющем и обновляющем душу. Религиозное состояние не может возникнуть с чужих слов или на основании чужого опыта; содержание чужого опыта должно быть действительно усеоеио душою. Религия требует от человека самостоятельного опыта и искренности; она требует подлинного, свободного присутствия души в исповедуемом содержании; именно поэтому она невозможна там, где душа одержима ложью, притворством илицемерием.
Но религиозность есть состояние не только искреннее, но и целостное. Непринужденное, подлинное восприятие совершенства неизбежно захватывает всю душу и вовлекает ее в новую жизнь целиком. Ни одна из основных душевно-духовных сил человека не обособляется в этом состоянии и не противодействует остальным. Так, у человека, действительно верующего,мысль не раскалывает душу и не обессиливает ее сомнениями Веровать можно лишь в то, что на самом деле так, что «верно»; нелепо верить во что-то,
зная, что это на самом деле неверно; но нельзя и знать что-нибудь, веря, что на самом деле это иначе. Настоящая вера не боится мысли, но укрепляется и очищается ею; настоящая мысль не чужда вере, она несома ею и сильна ее силою. Вообще чувство без мысли оказывается началом слепой страсти, ведущим душу к разнузда-нию и унижению, а мысль без чувства выступает холодной рефлексией, безжизненным, праздным резонерством. Религия требует органического сочетания чувства и разума, верующий любви и знающей мысли, ибо одна мысль породит мертвое умствование и скептицизм, а одно чувство породит нечистое опьянение и суеверие. Скептицизмже и суеверие означают отсутствие религиозности
Подобно этому, религия требует органического сочетания чувства и мысли с волею, ибо отсутствие этого живого единения дробит душу и обессиливает религиозность. Воля без чувства уподобляется мертвой машине; она является холодною силою, чудовищною в своем предвзятом схематизме. Зато чувство без воли вырождается в сентиментальную пассивность, в бесплодное, мнимолирическое волнение, в мистическую чувственность. Воля без мысли остается неопределенною, слепою жаждою, бесформенным вожделением или дурным капризом и беспредметным произволом. Зато мысль без воли вырождается в нежизненное, ни к чему не обязывающее доктринерство, в беспринципное, ненужное комбинирование возможностей. Религия не слагается на этом пути, но распадается и гибнет. Если религиозность без разума ведет к суеверию или разврату, а без чувства — к скептицизму или пустой догме, то в отрыве от воли она превращается в сентиментальное ханжество 1Л2шумствующую апатию.
Поэтому религиозность есть целостное состояние духа: здесь то, что приемлется верою, что любится чувством и осмысливается разумом; оно предметно занимает воображение и вызывает напряжение воли. Исповедуемое, любимое, веруемое и желаемое — просто совпадают.
Но именно эта духовная цельность сообщает религиозной душе ту жизненную интенсивность, которая естественно изливается в делание, в систему творческих деяний. Истинная религиозность есть преданность совершенству, а эта преданность вызывает деятельное служение ему, творческое осуществление его на земле. Вера не только мертва без дел, ее просто нет. Ибо религиозное восприятие предмета вовлекает всю душу в новую жизнь и неизбежно становится жизнеопределяющей силою. Но может быть так, что религиозная вера сама по себе, а жизненные дела сами по себе, ибо это означает, что религиозность утратила свою цельность и перестала быть собою. Истинно религиозный человек любитто совершенство, в которое верует, исповедует то,
что любит, и осуществляет своей жизнью то, что исповедует. Призвание религии становится его собственным творческим призванием, и он добровольно принимает его к исполнению. Именно поэтому бездеятельная жизнь есть жизнь не религиозная.
Наконец, эта жизненная преданность совершенству есть преданность безусловная. Религиозное отношение к предмету связует индивидуальный дух без условий, ограничений и оговорок; оно побуждает душу подчинить любимому совершенству—свои силы, и свой интерес, и всякий другой интерес. Религиозное самоопределение состоит в том, что человек любит некоторый предмет (за его совершенство) больше себя, больше своей жизни и своего интереса; оно вселяет в человека некоторую окончательную уверенность в том, что без этого предмета ему нет жизни; и отсюда возникает побуждение бороться за осуществление этого предмета и за его победу — доброю волею, отдавая за это все силы и самую жизнь, и не в силу «долга», и не в виде «жертвы», но с легкою цельностью духа и сознанием, что за это поистине стоит умереть. Именно эта безусловная преданность совершенству научает человека той ценностной градации целей, которая ограждает душу от пошлости, этого худшего врага истинной религии; именно эта цельная добрая воля делает человека героем и научает его тому самоотречению, которое утверждает высшее духовное достоинство отрекающегося. Это означает, что религиозность не мирится не только с созерцательным, но и с действенным релятивизмом.
Такова основная природа всякого истинно-религиозного акта, независимо от того, к какому вероисповеданию или к какому метафизическому учению он приводит в дальнейшем личную душу Религиозность открывает человеку его духовную сущность и связывает ее с совершенным средоточием жизни; это дает чувство собственного духовного достоинства, абсолютное мерило всякой ценности и действительную энергию жизни и воли, а это сообщает душе способность к духовной автономии, к внутренней самодисциплине и научает ее духовному признанию других людей. Религиозность пробуждает в душе способность к жизнеопределяющей любви и указывает ей жизненное призвание; она воспитывает в человеке духовную зрячесть, духовную цельность и жизненный героизм. Религиозное обращение человека перерождает самые истоки его жизни и перестраивает весь его личный характер: он обновляется и разумом, и чувством, и волею, и воображением; он проходит через духовное очищение и приобретает власть над злою стихиею жизни.
Именно эти основные черты религиозности раскрывают ее связь с нормальным правосознанием. Настоящая религиозность утверждает в душе человека аксиоматические корни правосозна
ния: чувство собственного духовного достоинства, способность к автономной жизни и искусство признавать духовное начало в других людях. Пробуждая в душе духовную зрячесть и оживляя в ней силу любви, религиозность ведет человека к патриотизму к культу солидарности, к взаимному духовному уважению и доверию: ибо все эти состояния родятся именно через союз духовногоразумения с чуъслзюмлюбви. Религиозность несет правосознанию все свои дары: и высшее призвание, и абсолютное мерило ценности, цельность характера, и силу вдохновения, жизненный героизм.
Это значит, что в душе религиозного человека пробуждаются именно те самые благородные силы, которые необходимы для процветания благородной государственности. Идеярелигиозного гражданина не только не таит в себе внутреннего противоречия, но есть одна из величайших идей, с которыми человечество имеет дело. Религиозный гражданин соединяет в душе своей силу подлиннойрелигиозности с силою здорового и верного правосознания, и притом так, что правосознание его является зрелым проявлением его религиозности. Соединяясь с правосознанием, религия находит новый могучий путь для преобразования жизни; соединяясь с религиозностью, правосознание придает себе безусловную основу, утверждая «волю к духу» как волю к Богу. Из этой атмосферы восстают и религиозные вожди народов, и безвестные герои-патриоты, безмолвно отдающие свою жизнь за родину. С углублением и упрочением этой атмосферы связано будущее всех государств и всего человечества.
Итак, истинная религия не враждебна истинной государственности; она не уводит от нее, но ведет к ее расцвету. Встреча двух «царств» в душе человека органически необходима и духовно плодотворна. Человечество должно возобновить свою тысячелетнюю работу над органическим примирением «царства Божия» с политическим строительством. Но обрести это примирение нельзя ни посредством новой «синкретической» идеологии, ни посредством внешнего соединения «государства» с «церковью» или нескольких «вероисповеданий» между собою. Здесь необходим не новый способ «устроения», а новый способ жизни.
Этот новый способ духовной жизни может быть обретен и осуществлен только в результате великого общечеловеческого подъема и длительного напряжения, которое примет черты религиозного обновления и политического обновления сразу. Сущность его будет состоять в восстановлении подлинного и непосредственного общения с безусловным предметом и потому в освобождении и обновлении духовного способа жизни. Живым и подлинным, страдающим и вдохновенным опытом должны быть обновлены лично-душевные корни нашей религии —
христианства и корни исторической государственности — правосознания. Это будет эпохою великого разочарования в ложных путях и великого отвержения мертвящих установок и предрассудков. Но из огня этой эпохи родится новая религиозность, новое правосознание и новый человек
Я думаю, что мы уже вступили в эту эпоху. И при свете этой идеи я расцениваю и осмысливаю все то, что совершается вокруг нас.
ПРОБЛЕМА МОНАРХИЧЕСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
1
Катастрофа, разразившаяся в истории русского народа и с тех пор угрожающая и другим странам, произошла оттого, что на протяжении многих десятилетий, слагающихся по совокупности в века, в душах меркла и исчезала духовная очевидность, т. е. верное восприятие и переживание великих духовных Предметов — Откровения, Истины, добра, красоты и права. Это можно было бы выразить так, что соответствующие им духовные лучи, исходящие свыше, воспринимались человеческими душами все неувереннее, все слабее и беспомощнее; а так как «природа не терпит пустоты», то на их месте водворялись безблагодатные содержания: или противобо-жественные вымыслы человеческого рассудка, ложные теории, зло, уродство, безвкусие и бесправие, или же мелкие и ничтожные содержания, в общем составляющие то, что именуется пошлостью. Но злые и ложные химеры способны еще вызывать слепой «пафос», злую одержимость, неистовый и гибельный фанатизм, который однажды разоблачит себя сам, выдохнется и исчезнет. А мелкая ничтожность потребностей и страстишек не способна и к этому: она делает души тепло-прохладными, скудными, мелкими, ничего не любящими, безразличными, трусливыми и предательскими.
Так и произошла катастрофа: зло восстало во всем своем неистовстве, а пошлость трусливо и предательски спряталась, для того чтобы быть порабощенною и превратиться в покорное орудие сущего зла.
Это означает, что мы должны вступить на новые пути — волею, чувством, созерцанием, познанием и действием. Для этого мы должны признать несостоятельность наших былых духовных
позиций и приступить к обновлению нашего духовного опыта. Мы должны очистить и обновить свой дух, чтобы ему по-новому открылись все духовные предметы. И это относится и к праву, и к государственности, и в особенности к монархии. Нам необходимо обновить и углубить наше монархическое правосознание.
Люди из поколения в поколение незаметно привыкают жить так, как если бы право и правовая форма жизни были чем-то внешним и притом самодовлеющим. «Кроме меня есть на свете еще другие люди, властно распоряжающиеся жизнью и требующие от меня, нередко с угрозами, чтобы я это делал, а того не делал; требуют они многого, требуют авторитетно и следят за мною, слушаюсь ли я; часть их требований записана и напечатана, другая часть сообщается мне устно; в этом много неприятного, и я всячески стараюсь уклониться от неприятного; тогда меня начинают судить и грозят мне наказанием»... И в этом будто бы состоит правопорядок...
На самом же деле все обстоит совсем иначе. Правопорядок состоит в том, что каждого из нас признают живым, самоуправляющимся духовным центром, личностью, которая имеет свободное правосознание и призвана беречь, воспитывать и укреплять в себе это правосознание и эту свободу. В основе всякого права, и правопорядка, и всякой достойной государственной формы лежит духовное начало: человек призван к самостоятельности и самодеятельности в выборе тех предметов, перед которыми он преклоняется и которым он служит. Ему дана от Бога и от природы свобода духовного самовоспитания и самостроительства; это его право, его естественное право и в то же время — его призвание и его обязанность; и с этого все начинается. Если он внутренне, перед лицом Божиим, признает это и воспитывает себя к свободе и дисциплине, то ему присуще живое правосознание и он имеет основание считать себя и считаться от других субъектом права. Если же этого нет, то он, как существо без правосознания — будет жить собственным произволом и терпеть произвол от других. Тогда все права, предоставляемые ему, будут напрасным даром: он не сумеет ни воспользоваться ими, ни оценить их, ни сберечь их; всякий правопорядок, будет им попран и всякая государственная форма будет им нарушена и разрушена...
Без правосознания нет субъекта права, а есть лишь одно трагикомическое недоразумение — духовно пуспюй человек, которому напрасно предоставляются права живого духа. Тогда и право оказывается пустым словом и жизненным недоразумением; и правопорядок становится фиктивным, а государственная форма обречена на разложение и гибель.
2
Однако правосознание совсем не сводится к тому, что человек «сознает» свои права и о них «думает». Человек есть существо общественное, и если он об этом забудет, то умаление или прямое попрание его прав быстро напомнит ему об этом. Право не только уполномочивает, но и связует. Разумея свои права, человек призван разуметь и свои обязанности; он должен разуметь и то, что ему запрещено, чего он не смеет. Он призван также разуметь, что всем другим людям и каждому человеку в отдельности тоже присущи права, которые он должен признавать и уважать; что его собственные права как бы живут и питаются чужими обязанностями и запретностями, подобно тому, как чужие права ограничивают и связывают его самого Правопорядок связывает людей друг с другом («соотнесенность», «коррелятивность») и притом на основах взаимности («мутуально»). Он представляет собою как бы живую систему взаимно признаваемых прав и обязанностей, или, что то же, — правоотношений; частных правоотношений, поскольку ни одна сторона не властвует над другой, и обе подчиняются единой, вышепоставленной публичной власти; и публичных правоотношений, поскольку одна из сторон имеет властное полномочие, а другая — обязанность подчинения.
С другой стороны, правосознание отнюдь не сводится к «сознанию» или «мышлению». В правосознании участвуют так или иначе все душевные силы человека: и воля, и чувство, и воображение, и все те способности и силы, которыми человек осуществляет свои действия во внешнем мире, и в особенности — человеческий инстинкт.
Отстаивая свои права, человек желает их признания и требует, чтобы их блюли и уъжкллы. Признавая чужие права, человек тем самым вменяет себе в обязанность их соблюдение, т. е. связывает свою волю мерою и дисциплиною. Желание, намерения, жизненные планы людей сталкиваются; право их сдерживает, оформляет и разграничивает. Можно прямо сказать, что правосознание есть воля человека к соблюдению права и закона, воля к лояльности своего поведения, воля к законопослушанию. Во всяком случае, правосознание без воли будет или бездейственным утопическим мечтанием, или сплошным жизненным дезертирством, предательством, «непротивленчеством» и безвластием.
В этом деле великое значение принадлежит человеческому чувству Во-первых, в том смысле, что человеку присуще особое чувство правоты, чувство справедливости, чувство ответственности и чувство свободы, которыми ему подобает руководствоваться в общественной жизни. Во-вторых, в том смысле, что
правосознание само по себе есть чувство уважения к закону и законности; чувство преклонения перед авторитетом законной власти и законного суда и соответственно чувство долга и связанности им (например, служебного долга), живое чувство связующей дисциплины. Наконец, в-третьих, правосознанию естественно и необходимо любить свой народ, свою страну, свое отечество и в этой любви почерпать все те руководящие чувства, о которых я упомянул. Только любовь привязывает человека к чему-нибудь на жизнь и на смерть; только любовь вызывает в душе ту верность, без которой немыслимо никакое государство; только любовь открывает человеку то духовное око, которое позволяет ему отличать в жизни Божественное от небожественного и превращать свою жизнь в истинное служение. Правосознание вне чувства и любви будет патриотически-безразличным, формально-педантическим и породит ту мертвенную бюрократическую машину, у которой summum jus (последовательнейшая законность) будет совпадать с summa injuria (с величайшей несправедливостью). Правопорядок без жалости, без снисхождения, без милости может только угнетать людей.
Нетрудно убедиться и в том, какое значение имеет во всем этом сила воображения. Здесь дело, конечно, не в субъективном фантазировании, а в предметном созерцании правопорядка, справедливости, естественного права, человеческой души и государственной формы. Каждый из нас должен увидеть воочию окружающий нас живой правопорядок, связанность личных правовых «ячеек» друг с другом и свое собственное участие в этой жизни; тогда только он поймет, к чему это его призывает и обязывает. И справедливость совсем не совпадает с отвлеченным понятием равенства; напротив, она есть живое созерцательное приспособление к человеческому неравенству, — искание и нахождение для каждого верной меры «бремен» и «облегчений». Чтобы верно понять «естественное» право, необходимо найти его в глубине своего собственного духа, «почувствовать» его, увидеть его силою воображения и восхотеть его волею. Воспитатель, следователь, судья, правитель и законодатель, не способные вчувствоваться в чужую душу7 силою воображения, — не справятся со своей задачей, что ныне наглядно доказано опытом тоталитарных государств. И наконец, ни одна государственная форма не будет верно понята до тех пор, пока люди, творящие ее и подчиняющиеся ей, не увидят ее как живой организм законодательства, управления, суда и гражданственного воспитания. Словом, правовая жизнь нуждается в живом, предметном созерцании; и всякий, кто хоть раз в жизни пытался составить законопроект или применить закон в жизни, истолковывая его и делая из него вер
ные выводы, сразу поймет и примет мое утверждение. Правосознание вырождается вне совестной интуиции.
В том, что правосознание захватывает и подчиняет себе все внешние проявления человека, и в особенности все его действия, не может быть ни малейшего сомнения: и слово (например, в выражении согласия-несогласия, или в оскорблении, или в политической речи), и писание, и всякое телодвижение, и даже умолчание. Человек отвечает перед законом и правопорядком за свое тело, как за орудие своей воли; и поэтому так легко сразу отличить человека, лишенного правосознания и чувства ответственности, по его внешнему поведению или даже по манере держаться в обществе. Чувственные ощущения и восприятия, телесность и вещественность человека вводят человека в Божий мир; это язык телесного труда, хозяйства и миропросветления. Правосознание аскета, йога, отвернувшегося от чувственных ощущений, вещей и людей, буддиста, пытающегося обойтись без мира, будет пустым, эмбриональным, бездейственным и химерическим.
Если охватить все это единым взглядом, — всю эту цапьностъ правосознания и все его жизненные задания. — то мы неизбежно придем к тому выводу, что правосознание есть в конечном счете некая духовная дисирплинированность инстинкта, которая вызывает в нем живое чувство ответственности и сообщает ему известное чувстоомеры во всех социальных проявлениях человека. Именно так и обстоит на самом деле. Человек, одаренный живым правосознанием, инстинктивно чувствует предел своих полномочий, внутреннее понуждение к исполнению своих обязательств и обязанностей и некое отталкивание от запретных действий. В глубине его души живет легкий «удерж», который мешает ему совершить запретное, причем этот «удерж» всегда находит для себя глубокую санкцию в совести и высокую санкцию врелигиозности.
Не следует вообще думать, будто человеческий инстинкт, — жизненно-животно-жадный, — противостоит духу и всяческой духовности. Напротив, он может и должен нести в себе свою особенную, полуосознанную (а иногда и совсем неосознанную) духовность. Так, напрасно думать, что художник «выдумывает» или «изобретает» свои создания; на самом деле он прежде всего испытывает их («концепирует», вынашивает) духом своего инстинкта, с тем чтобы потом осуществить их, облечь их во внешние ризы — силою духовно-инстинктивного выбора и вкуса: искусство создается бессознательно-инстинктивною духовностью.
Напрасно также представлять себе совесть как рассудочное «co-вещание» человека с самим собою о надлежащем поведении Совесть есть власть духа над инстинктом, однако без раздвоения их, ибо эта власть осуществляется теми корнями духа, которые
живут в самом инстинкте: именно поэтому человек совершает совестный поступок с уверенностью в своей правоте, с интуитивною быстротою и инстинктивной страстной цельностью, что нередко воспринимается другими несовестными людьми, как «безрассудство». Совесть есть как бы глас Божий, цельно овладевший человеком, его инстинктом и его судьбою (см. главу о Совести в моей книге «Путь духовного обновления»).
Особенное значение духовность инстинкта приобретает в религиозности и в молитве. Вера есть состояние цельное, не могущее осуществиться вне человеческого инстинкта; если инстинкт не «обратился», а отделился и замуровался в своей обособленности, то вера не будет цельною: тогда человек будет «веровать» поверхностно и не веровать глубиною своей души; он будет молиться словами и жестами, но не сокровенным огнем своей личной страсти, и молитва его останется хладною и притворною. Это будет означать, что или его инстинкт лишен духовности, или же духовность его инстинкта еще не обратилась и не возгорелась в молитве и вере. Именно это имеет в виду русская народная мудрость: «кто в море не тонул и детей не рожал, тот Богу не маливался»; причем имеется в виду именно последняя глубина человеческого духо-инстинкта и ее искреннецелостное обращение к Богу.
Отсюда след ует, что искренняя религиозность есть вернейший и глубочайший корень правосознания и что верующая душа может обладать верным и мощным правосознанием, несмотря на малую «образованность» своего сознания.
3
Теперь должно быть уже совершенно ясно, что постигнуть жизнь и смысл государственной формы невозможно помимо правосознания. Ибо всякая государственная форма есть прежде всего «порождение» или «произведение» правосознания, — конечно, не личного, но множества сходно живущих, сходно «построенных» и долго общающихся личных правосознаний. Человеческие души не одинаковы и не равны: они все своеобразны и различны. Но те духовные акты, которыми они живут и строят свою жизнь, могут иметь некоторые черты сходства в своих основах и в своем строении, причем долгое общение может увеличить это сходство, а драгоценное духовное подобие может укрепить волю к постоянному и плодотворному общению. Возникает акт национального правосознания, национального самочувствия и самоутверждения, и из него вырастают исторически государственное правосознание и государственная форма народа.
Выражая это психологически, можно было бы сказать: у всякого народа своя особая «душа» и помимо нее его государственная форма непостижима. Потому так нелепо навязывать всем народам одну и ту же штампованную государственную форму.
С социологической точки зрения надо было бы описать это так. Множество людей переживает своим правосознанием сходную потребность в праве и в государственной власти; у многих людей — единая цель: жить в правопорядке, быть правовым и государственным единством; эта цель переживается чувством, волею и действием; здесь и бессознательно, и сознательно скрещиваются лучи правосознаний, создающих государственную форму. Отсюда — у многих людей единая государственная власть, единая система законов и единый, общий им всем государственный строй
Всякий юрист должен понять и признать, что именно правосознание есть тот орган, без которого нельзя жить правом, вступать в правоотношения с другими людьми, поддерживать правопорядок, тягаться о правах, творить суд, организовывать частные общества (ученые, акционерные компании, клубы, кооперативы) и публично-правовые организации (законодательные собрания, думы, земства), участвовать в выборах, быть чиновником, президентом и монархом. Это необходимо всегда помнить; с этим необходимо всегда сообразоваться. Правосознание необходимо в общественной и политической жизни как главное «орудие». Нельзя предполагать, что оно присуще всем людям изначально и одинаково: его необходимо воспитывать и укреплять в людях с детства. С детства необходимо вселять в людей уверенное, непоколебимое чувство, что они суть духовные существа, что они признаются субъектами права, что им присуще духовное достоинство, что они призваны к самообладанию и самоуправлению, что они призваны к взаимному уважению и доверию, что государственная власть уважает их и доверяет им и что они призваны отвечать ей теми же чувствами. Правосознание воспитывается в людях, а не предполагается готовым, зрелым и полномощным, «пока не будет доказано обратное»... И если люди забывают об этом и пренебрегают этим, то государственный кризис может наступить внезапно и неотвратимо.
Такие ошибки человек делает и в материальной сфере, и в духовной. Но вещи «мстят за себя» быстро и осязательно и этим воспитывают человека в пример его ближним; а в духовной сфере ошибки могут накапливаться долго и вдруг приводить к катастрофе. Кто не протирает долго свои очки, тот замечает, что видит плохо и что их надо протереть. Хирург, пользующийся тупым и грязным ланцетом, наделает бед, и его устранят от должности Скрипач то и дело настраивает и проверяет свою скрипку. Обре
зав провод у телефона, телеграфа или электрического освещения, человек не получит ни звука, ни сигнала, ни света... Но в сфере духовного опыта люди позволяют себе пренебрегать его законами.
Люди то и дело пытаются говорить о праве и о государственных делах и действовать в политике, ни разу в жизни не прочистив очков своего правосознания; они то и дело пытаются «оперировать» от лица государства посредством тупого и нечистого орудия — своего бессовестного или классового правосознания; или же они пытаются править государством, воображая, что их слово всемогуще, а принуждение есть нечто постыдное; они «разыгрывают» целые политические «концерты», ни разу не подумав о том, что необходимо верно настроить скрипку своего политического разумения; они как бы перерезают провод между личным правосознанием гражданина и государственной властью и удивляются, что в душах воцаряется революционный хаос, а государство переживает великое крушение...
Право и государственная форма — или бывают несомы правосознанием, или же вырождаются: тогда они превращаются в мертвую отвлеченность научной юриспруденции, в юридическую фикцию (вымысел), в «эмоциональную фантасму» (Л. И. Петражиц-кий), в пустую видимость, в нежизнеспособную слабость, которая обрушивается при появлении дерзкого политического авантюриста-революционера или при первом же буйстве уличной толпы...
Итак, государство, государственная форма, правопорядок и вся политическая жизнь народа — суть всегда проявление, живая функция, живое создание множества личных правосознаний, их силы, их верности, их действенности, их строения, их совестного благородства, их религиозности или соответственно их безбожия. И вне этого духовно-функционального освещения и постижения всякое определение будет формальным, поверхностным и условным.
При этом следует иметь в виду, что не субъективный произвол и не рассудок решают в каждом отдельном случае, какое строение имеет правосознание данного лица или народа и к какой именно политической форме оно тяготеет. Человеческое правосознание возникает иррационально, оно развивается исторически, оно подлежит влиянию семьи, рода, религиозности, страны, климата, национального темперамента, имущественного распределения и всех других социальных, психологических, духовных и материальных факторов. С этой точки зрения можно было бы говорить, например, о «морском» правосознании греков и англичан и о «континентальном» правосознании у русских и у китайцев; о религиозном правосознании магометан и о безрелигиозном правосознании современных социалистов-коммунистов; о родовом правосознании древней гражданской общины и о безродном
правосознании современных республик и т. д. Все это означает, что государственная форма присуща каждому народу в особицу, вырастая из его единственного в своем роде правосознания, и что только политические верхогляды могут воображать, будто народам можно навязывать их государственное устройство, будто существует единая государственная форма, «лучшая для всех времен и народов»... Все это означает еще, что правосознание может и должно воспитываться в народе и что это воспитание (или соответственно — перевоспитание) требует времени, духовной культуры, педагогического разумения и опыта. И нет ничего опаснее и нелепее, как навязывать народу такую государственную форму, которая не соответствует его правосознанию (например, вводить монархию в Швейцарии, республику в России, референдум в Персии, аристократическую диктатуру в Соединенных Штатах и т. д.).
4
Отсюда явствует, что сущность монархического строя, в отличие от республиканского, должна исследоваться не только через изучение юридических норм и внешних политических событий, но прежде всего через изучение народного правосознания и его строения. Здесь необходимо, однако, соблюдать известные исследовательские правила, при нарушении которых все может повести к полной неудаче или к произвольной выдумке.
Так, во-первых, не следует искать критерия в явлениях смешанных, переходных, беспочвенных и разлагающихся. Понятно, что смешанным и переходным формам правления соответствует такое же состояние правосознания. Надо изучать явление не в его закате и разложении, не в эпоху смуты и бессилия, а в его здоровий и силе. Ибо возможно такое состояние правосознания, при котором оно вообще неспособно ни к какой зрелой государственной форме: например, оно уже неспособно к традиционной монархии и совсем еще неспособно к республиканской форме; тогда обычно водворяется более или менее жестокая диктатура. В душах царит хаос; о публичном спасении никто не помышляет, чернь ищет хлеба и зрелищ, среднее сословие жаждет наживы, высшее сословие — почестей и власти, и все несут свое государство врозь. Такие состояния известны нам в истории Китая, из истории Пелопоннесской войны, из эпохи Цезарей в Риме, из эпохи Возрождения (итальянские кондотьеры)15, из истории Тридцатилетней войны, русской Смуты и т. д.
Вторым исследовательским правилом является живой, художественный подход к монархическому и республиканскому правосознанию. Исследователь должен вчувствоваться в описыва
емое настроение, воззрение или убеждение; он должен, — совершенно независимо от своих личных склонностей и симпатий, — лично пережить, перечувствовать как сильные, так и слабые стороны монархического и республиканского правосознания. Нельзя выделить одни сильные стороны монархического уклада души и противопоставить их слабым сторонам республиканского уклада; и обратно. Нелепо и несправед ливо было бы сказать, что республиканское правосознание своекорыстно и продажно, а монархическое — бескорыстно и неподкупно; или — что монархическое правосознание характеризует рабскую натуру человека, а республиканское — человека со зрелым и свободолюбивым самочувствием. Исследователю необходимо не только интуитивное вчувствова-ние, но и партийное беспристрастие, справедливость и политический такт. Ибо может оказаться, что оба эти политические воззрения и настроения имеют свои сильные и свои слабые стороны, свои здоровые основы и свои опасности... Может также оказаться, что республиканец «чистой воды» может многому научиться у настоящего, честного и убежденного монархиста; и обратно, — что искренний монархист восходит на настоящую высоту именно тогда, когда обогащает верные основы своего политического уклада лучшими умениями республиканского правосознания.
После всего сказанного мы можем обратиться к предметному анализу.
ОБОСНОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА
Для того, чтобы сознание человека могло признать право и совершить его духовное приятие, — право должно быть обосновано. Обосновать право значит показать, что оно практически необходимо на пути человека к осуществлению верховного блага. Это значит показать, что основные законы бытия человеческого духа таковы и сущность верховного блага такова, что право как объективно обязательное правило внешнего поведения является необходимою формою их встречи. Иными словами, право необходимо потому, что без него дух человека будет лишен возможности осуществить в своей жизни верховное благо. И если право не может быть признано до тех пор, пока оно в достаточной степени не обосновано, то опознание в его лице необходимой формы духовного бытия должно сделать обязательным его творческое приятие.
С самого начала может показаться, что такое обоснование права невозможно. Всякий, кто знаком с содержанием положительного права и со способами его осуществления, наверное, не раз испытал глубокое разочарование, преисполнялся чувством протеста и негодования. Можно даже уверенно предположить, что на этом негодовании воспитывается принципиальное отрицание права и государства. Тот, кто жил под бременем тоталитарного режима и террора, кто продумал сущность имущественного неравенства и понял закономерную связь между размерами урожая в стране и количеством преступлений против собственности, кто знаком с сущностью прежнего русского бракоразводного процесса, кто был в каторжной тюрьме и слышал, как на людях бряцают цепи, кто знает, что такое телесное наказание, и имел общение с человеком, приговоренным к смертной казни, кто видел все это и понял, что это совершается тоже по праву, — тот имеет достаточно душевных побуждений для того, чтобы отнестись с недоверием уже к одной постановке вопроса о его духовном обосновании. Глубокие дефекты и пороки положительного права—как в самом порядке его установления, так и в его содержании и применении — составляют всегда наибольшее препятствие на пути кего духовному приятию.
Это препятствие было бы, конечно, непреодолимо и неустранимо, если бы положительное право по самому существу своему было связано с дурным содержанием и неприемлемою формоюустановления или если бы самая сущность права состояла в том, что одни люди навязывают другим свою волю, да еще посредством «принуждения» и «насилия». Но такое понимание было бы неверно: оно смешивало бы исторически данное содержание права и некоторые несовершенные, хотя бы и распространенные, способы его установления с самою основною природою права. А между тем история показывает, что право может иметь содержание более неудовлетворительное и менее неудовлетворительное, менее свободное и справедливое и более свободное и справедливое, мало того, оно может приобретать содержание, вполне соответствующее достоинству человеческого духа (напр., все нормы и установления, гарантирующие «личную неприкосновенность» и свободу духовной жизни). Далее, история права свидетельствует о том, что меняются и формы его установления, и притом в сторону увеличения самодеятельности народов, самоопределения групп и самоуправления индивидуумов. Наконец, естественно, что по мере того, как элемент внешнеавторитетного повеления уступает в нем свое место элементу самообязывания в самом широком смысле этого слова, — по мере этого растет признание права и крепнет правосознание, а угроза неприятных последствий теряет свой реальный характер и постепенно перестает быть фактором жизни.
Необходимо провести строгое разграничение между основною сущностью права и его историческими осуществлениями. Основная сущность права выражается в терминах: объективно значащее правило внешнего социального поведения. Историческое же осуществление этой возможности может быть различно, оно может влить различное содержание в это правило, оно может выдвинуть различные способы установления права, оно может сделать правоустановителем одного, немногих, многих или всех, оно может воззвать к различным мотивам душевной жизни.
Так, право по существу своему имеет объективное значение; оно устанавливается и погашается не по способу «индивидуального произвола», а по способу «конституционного полномочия». Однако этим совсем еще не сказано, что в основании этого значения может лежать только воля других людей. Напротив, только личное приятие и признание права сообщает правовой жизни ее истинное достоинство и полноту. Конечно, бывает и так, что положительное право устанавливается по усмотрению и решению немногих уполномоченных людей, которые окажутся «другими» по отношению ко всем остальным; но если эти остальные участвуют в правовой жизни только через сознание норм и повиновение им, но не через признание их, то в их душах слагается подавленное, изуродованное правовое сознание, а самое право, не теряя своего объективного значения, утрачивает свою духовную верность, и может быть, даже свое духовное достоинство. Человеку достойно признавать правило, которому он повинуется, и только такое сознательное признание может обеспечить праву жизненное соблюдение. Политическая философия давно усмотрела это и не раз обращалась к идее «общественного договора», пытаясь построить обоснование права на этой — то исторической, то систематической «презумпции». Но проблема этим не разрешается: право должно быть признано каждым в сознательном духовном решении, а не в бессознательной, молчаливой пассивности, самостоятельно, а не в лице своих легендарных предков.
Далее, право по существу своему регулирует внешнее поведение людей, создавая в их душах особые мотивы: оно всегда обращается к разумеющему и водящему сознанию ^^руководство внешними поступками человека. Однако этим совсем еще не сказано, что право всегда и неизбежно апеллирует в душах людей к мотивам страха, расчета, выгоды, честолюбия и т. д. и что санкция его состоит в угрозах и принуждении. Уже в положительном праве немало норм, лишенных такой санкции, и можно с уверенностью сказать, что положительный правопорядок, почерпающий свою жизненную силу только в ней, идет быстрыми шагами к своему разложению. Страх унижает человека и раз поколебленный
легко превращается в озлобленную дерзость; принуждение воспитывает в душах веру в насилие и надежду на силу; личной корысти и классовому интересу далеко не всегда по пути с правом, а честолюбие есть мотив, как бы созданный именно для того, чтобы превысить право и попрать его. Человек должен уважать то правило, которому он повинуется, и повиноваться ему именно из уважения. Моральная философия давно уже признала это в своей сфере и не раз обращалась к идее «автономной воли» как единственному основанию морального поведения. Но идея автономии совсем не имеет специфически морального характера; она глубже, чем сфера этики, ибо лежит в основании всей жизни человеческого духа.
Все это можно выразить так, что историческое осуществление права не исчерпывает собою всех возможных форм его, не определяет его нормального строения и не устанавливает само по себе его достойного, идеального облика. Подобно тому как на всех других путях творящего и совершенствующего человека понятие предмета определяется не только через описание осуществленных уже вещей и состояний, но и через изучение идеального как руководящей цели и возможного (т. е. осуществимого), так и в праве. Философия права, формулируя его сущность и обретая его обоснование, имеет в виду не только понятие права, закрепленное в содержании исторически осуществленных норм, но и идею права, данную в опыте систематически очищенного правосознания, предметно-созерцающего верховную цель права и духа. Сущность права не исчерпывается содержанием положительного права; право творится целеполагающим человеком, и тот, кто стремится познать эту основную природу права, должен созерцать не только плохо сложенные в прошлом «ступени», но и верховную цель всего восхождения. Обосновывая право, философия должна отправляться от нормального правосознания, т. е. от такого предметного опыта, который шире и глубже, чем простое знание положительного права. Этот предметный опыт должен иметь в виду основную функцию всякого права как такового и показать, что эта функция необходима в жизни человеческого духа. Обосновать право не значит оправдать все исторически осуществленное, но показать, что право в его родовой сущности и в его положительном виде заслуживает духовного признания и приятия со стороны каждого человека.
В чем же основание для этого приятия?
Человечеству, живущему на земле, присущ такой способ существования, который делает право необходимою формою его бытия. Этот способ существования определяется особым соотношением множества и единства, одинаковости, различия и общности.
Именно человечество живет на земле так, что человек человеку остается всегда психофизическим инобытием, а все люди вместе представляют из себя множество одинаково одиноких, но своеобразных духовно-творческих монад, связанных общею основою существования. Такой строй бытия, данный от природы, делает духовную жизнь возможною лишь при том условии, если человечество сумеет организовать свою внешнюю жизнь на основании объективно значащих правил,утверждающих свободный и справедливый порядок в существовании этого множества.
В самом деле, человечество представляет из себя множество душевных центров, из которых каждый укрывается таинственным образом за одною, для него центральною и специфически ему служащею вещью, именуемою его телом. Каждый душевный центр, нуждаясь в своем теле для того, чтобы вообще жить и проявляться, испытывая его потребности как свои и потому отдавая их удовлетворению большую или меньшую часть своих сил, оказывается в то же время отгороженным от других душевных центров именно этою, для него центральною вещью. Каждая душа испытывает с силою непосредственности и исключительной подлинности только свои собственные состояния и инстинктивно сосредоточивается на них вниманием, аффектом и деланием; о других же центрах и событиях в них — каждая узнаеттолько опосредствованно, через телесное восприятие телесно же выраженных состояний; все это, относящееся к другим, испытывается как чужое, несравненно менее достоверное и подлинное. Не только психически, но и физически — каждый каждому остается инобытием: непосредственный процесс жизни, ее начало и конец, душевные и телесные состояния, способности и поступки, словом, вся судьба каждого — отдельна и особенна; каждое из «неделимых» духовных существ индивидуально и самобытно; здесь невозможны повторения, ибо каждый миг жизни безвозвратен, неповторим и уже пережит каждым по-своему Поэтому все люди своеобразны и единственны в своемроде, несмотря на обилие отдельных, отвлеченно взятых, сходных черт. И не взирая на постоянное, повседневное, сознательное и бессознательное общение, каждый человек совершает свой путь и осуществляет свою судьбу в глубоком и неизбывном одиночестве.
Это одиночество, одинаково присущее всем и каждому выражается психически в том, что индивидуальная душевная жизнь протекает в замкнутой изолированности и недоступности для чужой души, в своеобразных «потемках» для другого. Никто не испытывает «моих» состояний, как «свои собственные» и непосредственно ему доступные, никто — кроме меня самого; никто не может «впустить» в свою душу; никто ни с кем не может иметь «общих» переживаний
но лишь «похожие»; никто не может сделать за другого волевых или умственных усилий или «одолжить» другому свой опыт и свое настроение. Каждый знает о чужой душе лишь постольку, поскольку она «означилась» или «выразилась» чужим телом.
Далее, это одиночество выражается духовно в том, что верховное благо может осуществляться человечеством только в виде множества параллельных, одиноких восходящих процессов. Это осуществление верховного блага — познание истины, создание прекрасных образов, расцвет подлинной доброты, достижение предметного религиозного верования, и наконец, целостное одухотворение души и тела — требует прежде всего самостоятельного, подлинного и предметно-адекватного испытания того, что идет к осуществлению Здесь необходим зрелый, лично пережитый и систематически очищенный внутренний и внешне-внутренний опыт, который может быть выстрадан и выкован только каждым самостоятельно. Никто не может снять с чужой души бремя его самостоятельного вынашивания, бремя одинокого искания и творчества. Самодеятельность в искании и самостоятельность в обретении есть основной закон духовной жизни: с этой самостоятельности начинается научное знание, ставящее личную душу лицом клицу с самим предметом; с нее начинается подлинное религиозное верование, устраняющее посредников между личною душою и Божеством; с нее начинается нравственное делание, приемлющее на себя решение, ответственность и вину; словом, вся духовная жизнь и личная зрелость определяется тем моментом, когда человек ставит свой личный — испытующий и творящий — душевный центр в непосредственное отношение к миру и жизни. Свобода искания и обретения необходима для духовной жизни, как воздух для тела. Согласно этому закону, духовная жизнь только тогда имеет свое подлинное значение и свою истинную ценность, когда движущие ее мотивы питаются собственными, лично-индивидуальными влечениями и интересами, так что давление чужой воли, хотя бы благородной и правой, не имеет в этом творчестве решающего значения. Здесь необходима свобода воли — не в смысле индетерминизма, но в смысле отсутствия внешних, чуждых велений и запретов. Это есть свобода добровольно и самостоятельно узнать и признать истину в истине, увидеть красоту в красоте, убедиться и утвердиться в объективных свойствах добра, уверовать в полученное откровение. Основное достоинство человека состоит в том, чтобы жить Духовною жизнью независимо от всякого инородного посягательства и давления и в то же время — предметно творчески. Свободное самоопределение в духе есть глубочайший закон этой жизни и в то же время единственный путь к подлинному осуществлению
верховного блага; в нем лежит высший смысл всех реформаций, всякого освобождения и раскрепощения, всякого индивидуализма и политического самоуправления.
Таким образом, единый процесс духовной жизни человечества внутренне распадается на множество изолированных, самостоятельных и своеобразных процессов индивидуального характера Все эти одинокие, индивидуальные процессы стоят в сосуществовании и более или менее несовершенном взаимодействии. Это значит, что они, одинаково одинокие и одинаково обусловленные связью с личным телом, с вещественною средою и друг с другом, имеют общую основу существования. Эта основа есть общая для них в точном и строгом смысле слова: каждый человек имеет основание сказать о пространстве, в котором живет и движется его тело, о воздухе, которым он дышит, о солнце, которое его греет, о материальных вещах, которые нужны ему для разных телесных и душевных потребностей, — «это необходимо для моего бытия» и, далее, «этомое и дляменя»; и все вместе, признав это сразу и одновременно о всем вместе, — укажут верно на общую основу существования и выскажут неопределенное безграничное притязание на эту основу. И вот эта единая и общая всем, внешне-материальная основа существования приводит неизбежно к встрече множества притязаний.
Движимая первоначально инстинктом личного и семейного самосохранения, каждая единичная душа выступает в виде агрессивной вали, обращается к общей основе существования и очерчивает вокруг себя круги своего нестесненного самоутверждения. Это самоутверждение составляет не только психофизическую, но и духовную необходимость. Для того чтобы достойно существовать, т. е. жить возрастающим духом, необходимо прежде всего существовать: для того чтобы существовать, каждому единичному чело-веку необходимо самостоятельно действовать во внешнем мире, создавать нужное и беречь созданное. Круги, очерченные каждым вокруг себя, рано или поздно, но неизбежно придут в соприкосновение и столкнутся; конфликт притязаний неизбежно породит вопрос о правоте притязаний, и произвольномуустановлению своих пределов придет конец: вопрос о правом притязании есть уже вопрос о праве, зрело разрешаемый ныне признанием определенного правового статуса за каждым субъектом.
Таким образом, к созданию права ведет наличность общей основы и среды у множества раздельно существующих субъектов. И если полная изолированность людей в этой среде (наподобие монад Лейбница, которые «не имеют окон») сделала бы право ненужным, то невозможность сообщаться через нее, понимать друг друга и соглашаться друг с другом сделала бы право невозмож
ным. Такое сообщение людей друг с другом при столкновении их произвольных притязании может, конечно, вылиться в форму физического насилия, устрашения, обмана и длительной борьбы. Однако все эти унизительные для человеческого духа исходы не устраняют вопроса о праве, но дают ему искаженное и уродливое разрешение. Жить в уверенности, что трав всегда сильный и ловкий», не значит отринуть «правоту» вообще, но значит решать вопрос о праве на мнимом основании. Ибо в основании всякого решения о том, что «правильно», в основании всякой нормы, и следовательно, в основании всякой правовой нормы, всякого полномочия и обязанности лежит необходимо некоторая, открыто или тайно признаваемая ценность: «должное» есть всегда именно потому «должное», что содержание его точно воспроизводит форму и содержание ценности; так, должное в этике определяется формою и содержанием самого добра; должное в эстетике — формою и содержанием красоты; должное в знании — формою и содержанием истины и т. д. Однако эта ценность нередко уступает свое место осознанным или полуосознанным суррогатам, например: лично-муи классовому интересу, народному предрассудку или предвзятой доктрине. Тогда вопрос о «правильном» получает более или менее неверное разрешение, а «должное» приобретает более или менее неверное обоснование: слагается дурно обоснованное правило поведения. Так, в положительном праве немало таких норм, которые имеют более или менее неверные, подчас дикие и иногда унизительные основания или, если угодно, мнимые ценности. Научное вскрытие и пересмотр их могли бы дать подчас потрясающие результаты. И тем не менее положительное право может и должно получить и получит постепенно содержание, соответствующее той ценности, которая делает его необходимым. Залогом этого является особая, внутренняя связь его с естественным правом.
Ценность, лежащая в основании естественного права, есть достойная, внутренне самостоятельная и внешне свободная жизнь всего множества индивидуальных духов, составляющих человечество. Такая жизнь возможна только в видемиртого и организованногоравновесия субъективных притязающих кругов; равновесия, каждому одинаково обеспечивающего возможность духовно достойной жизни и потому нарушающего эторавенство лишь в сторону справедливости.
Единичное человеческое существо есть единственная возможность одухотворенной жизни; вести такую жизнь, создавая ее самостоятельно и свободно, есть основное и безусловное право каждого. Его можно назвать естественным правом, потому что оно выражает существенную природу духовной жизни человека: его можно назвать вечным правом, потому что оно сохраняет свое
значение для всех времен и народов; его можно назвать неотчуждаемым правом, потому что всякое умаление или попрание его извращает духовную жизнь и унижает достоинство человека.
Это естественное, субъективное право принадлежит каждому человеку, как бы ни был он мал, болен или плох. Тайна одинокого бытия ненарушима, и никакой проницательный диагноз не в состоянии обосновать квалификацию человека как существа, утратившего свое естественное право. Согласно этому, человечество предстает в виде множества субъективных естественно-правовых кругов, из которых каждый замыкает в себе или облекает собою естественно-правомощный центр духовной жизни. Периферическое соприкосновение и коррелятивность этих кругов превращают их в своеобразную систему естественно-правового разграничения и естественно-правовых значений. В этой системе участвует все человечество, независимо от пространства и от государственной принадлежности: в ней нет ни эллина, ни иудея, нет бесправных или исключенных. Она глубже всякого положительного права и всех положительно-правовых делений и разграничений. Это есть система духовно-естественной корреляции: общечеловеческого духовного братства и естественного равенства.
Признание такого естественного права за каждым человеком как возможным центром своеобразной и автономной жизни духа утверждает, действительно, начало правовой обязанности и правовогоравенства в жизни людей. Люди неравны друг другу ни телом, ни душой; они не равны и по содержанию своей духовной жизни, несмотря на то, что обращены к одним и тем же предметным центрам духа, пред лицом которых они живут, даже тогда, когда отвращаются от них и забывают о них; но по своему праву на достойную жизнь каждый равен каждому другому. Круг свободного самоутверждения, определяющий естественно-правомерный статус каждого, простирается не далее, чем до границы соседних кругов, подобных ему по духовному значению и объему. И всякое отступление от этой уравнивающей справедливости в схоролу^распределяющей должно иметь предметное основание в свойствах индивидуального духа и объективный предел в духовной автономии лица.
Право вести духовно-достойную жизнь не сводится к тому, чтобы не иметь нарочитых препятствий к существованию или «иметь возможность стараться не погибнуть». Вести духовно-достойную жизнь значит иметь не только «насущный хлеб», но и тот досуг, которого требовал Аристотель для «свободного от природы» человека. Точно также самостоятельность духа предполагает право на образование и развитие души и на самоуправление человека как свободного субъекта права Последовательное, аналитическое раскрытие идей живого духовного бытия, духов
ной свободы, духовной самодеятельности, духовного достоинства и равенства может установить целую систему естественных субъектов прав и обязанностей, слагающих вместе то, что следует называть естественным правом, общее нормативное формулирование которого позволит говорить о естественном праве и в объективном смысле. Это единое естественное право окажется, конечно, само по себе не приспособленным к различным условиям места, времени, к особливым условиям быта и т. д., но вполне поддающимся такому приспособлению; оно составит естественное и духовно-верное основание для всякого законопроекта. В этом смысле его можно, если угодно, охарактеризовать как «формальное», т. е. как сравнительно более общее, чем всякое положительное право. Но если придерживаться строго юридического словоупотребления и разуметь под содержанием объективного права — устанавливаемые им полномочия, обязанности и запретности, а под содержанием субъективного права — предоставленные и воспрещенные деяния, — то истинное естественное право окажется не «формальным», а содержательным.
Признать, что духовная жизнь человечества возможна только при утверждении этого естественного права, значит признать такое право и за собою, но не только за собою, и за всеми другими, но не только за другими. Это значит, далее, признать и за собою и за другими обязанность, коррелятивно соответствующую этому праву, ибо поистине каждая правовая ячейка питается в своих полномочиях обязанностями других и обратно, и каждая из них цела и жива лишь до тех пор, пока целы и живы соседние. Это значит, наконец, признать объективное значение за теми мыслью формулированными правилами, в которых выговорены и установлены правовые пределы личного статуса. Согласно этому, объективное значение естественного права получает два корня: ценностно-предметный—через связь свою с жизнью духа и субъективно-жизненный — через связь свою с личным, самообязывающимся признанием
Признание естественного права, основанное на зрячем и разумном убеждении в его духовной необходимости, есть условие того, чтобы личный дух человека, соблюдая его, оставался свободным. Свобода духа не нарушается оттого, что человек самостоятельно усмотрел и признал разумную обоснованность правила: напротив, самоопределение его получает от этого свое истинное, предметное содержание. Признанность правила не поглощает и не отменяет его объективного значения: оно сохраняется и состоит в том, что признание его дает объективную правоту признавшему, а непризнание остается бессильным изменить что-либо в его объективном содержании и значении. Счаст
лив тот, кто усмотрел и принял его, ему выпала на долю честь — сообщить жизнь и силу подлинной духовной ценности и в то же время утвердить в этом свое автономное самоопределение. И наоборот, тягостно и скорбно состояние того, кому придется встретиться с этой ценностью в порядке социально-гетерономном и покоряться ей, не повинуясь добровольно, преслед уя ложные цели. Ибо судьба естественного права в том, чтобы долго и тщетно ждать от людей самостоятельного и добровольного признания и постоянно получать форму положительного права с тем, чтобы подойти к душам в социально-гетерономном виде. Естественное право может быть усмотрено и признано каждым в его собственном, одиноком. предметно-духовном опыте, но в большинстве случаев люди не доходят до этого, и тогда им предстоит встретиться с естественно-правовыми требованиями в том виде их, который им придает— формулируя их, урезывая и даже искажая их сущность, — положительное право, ссылаясь на внешний авторитет уполномоченных лиц и, может быть, даже угрожая неприятными последствиями.
Гетерономная установленностъ, приблизительность содержания и возможность угрожающей санкции отличают положительное право от естественного и требуют для него особого обоснования.
ОБОСНОВАНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРАВА
Право в своем первоначальном, «естественном» значении есть не что иное, как необходимая форма духовного бытия человека. Оно указывает тот стройравной, свободной самостоятельности каждого, при котором только и возможна на земле духовная жизнь. Отсюда вытекает, что право в этом значении своем могло бы угаснуть или стать ненужным только тогда, если бы изменился основной способ человеческого бытия, т. е. если бы человечество перестало бътгъмножеством самостоятельных субъектов, объединенных общею основою внешней жизни
Иначе обстоит дело с положительным правом. Его необходимость основывается на известном незрелом состоянии человеческих душ, которое может с течением времени измениться. Однако до тех пор, пока оно не изменится, положительное пра
во будет существовать как целесообразная форма поддержания естественного права.
Эта необходимость слагается в результате, во-первых, неотчуждаемости и неумалимости естественного права, во-вторых, отсутствия у людей умения регулировать свою внешнюю жизнь посредством автономного самообязывания.
Естественное право как необходимая форма духовного бытия есть драгоценнейшее достояние человека. Вне этой формы нет пути ни к мудрости, ни к добродетели, ни к Божеству, ни к последним и высшим удовлетворениям духа. Каждое умаление естественного права унижает человеческое достоинство, каждое нарушение его является духовно противоестественным. Поэтому его необходимо охранять и поддерживать против тех, которые его нарушают и не признают; его необходимо оберегать, утверждая его коллективным организованным признанием, провозглашением и осуществлением. Это коллективное установление естественного права как общеобразовательного придает ему, однако, характер гетерономного правила, в особенности для всех тех, которые не признают его и не считаются с ними. Они встречаются с организованным, внешним авторитетом, предписывающим, позволяющим и воспрещающим различные внешние поступки и сопровождающим свое постановление угрожающей санкцией, т. ^..указанием на возможность насильственного сопротивления насильнику. Люди на долгом и горьком опыте убедились в том, что чисто автономное самообязывание вырастает в душах с чрезвычайной медленностью, на протяжении многих поколений, что человеку свойственно признавать свои полномочия, преувеличивая их пределы и не сознавая их духовной сущности, но не слишком свойственно признавать в то же время свои обязанности и чужие полномочия, что это признание чужих прав выковывается в душах лишь в результате долгих трений, в результате той борьбы на жизнь и на смерть за «взаимное признание», о которой Гегель говорил когда-то с такою прозорливой мудростью. Этот горький опыт учит, что человек нуждается в ограждении своего духовного центра правилами внешнего поведения, поддерживаемыми социальным, внешне-авторитетным порядком.
Человечество существует в виде множества душевно-духовных центров, нуждающихся во внешней безопасности и неприкосновенности ради свободного, изнутри идущего самоопределения и в то же время стоящих в особом притязающем сосуществовании; в этом виде человечество начало свою жизнь без того, чтобы были осознаны законы его бытия, и без того, чтобы было налицо духовное искусство взаимного признания. Жизнь единичной души в большинстве случаев определяется и доселе
наивным эгоцентрическим тяготением, в котором человек испытывает стесняющие его пределы чужого статуса в лучшем случае как обременительное неудобство. А между тем невозможно «отложить» осуществление естественного права и призвания человека к духовной жизни до тех пор, пока люди научатся не попирать взаимно ее пределов.
И вот основная задача положительного права состоит в том, чтобы принять в себя содержание естественного права, развернуть его в видеряда правил внешнего поведения, приспособленных к условиям данной жизни и к потребностям данного времени, придать этим правилам смысловую форму и словесное закрепление и, далее, проникнуть в сознание и к воле людей в качестве авторитетного связующего веления. Этим путем идеи обязательного и запретного должны быть внедрены в наивно-эгоцентрическую душу; и если мораль и религия пытаются достигнуть самостоятельного и активного пробуждения души из глубины и встречают в этом содействие со стороны науки и искусства, то положительное право берет на себя элементарную и сравнительно грубую задачу— приучить человека извне к первичному, внешнему, регулированному самоограничению; для этого оно обращается к идее социально организованного внешнего авторитета, уполномоченного и подчиненного правилам. Необходимо, чтобы люди приучились признавать сначала хотя бы этот внешний авторитет и его правовые веления; необходимо, чтобы хищник и насильник встретили извне организованное и импонирующее сопротивление, основанное на идее правоты и полномочия. Сознательное, принципиальное указание на то, что «это недопустимо», а «это обязательно», сделанное человеком человеку с чувством правоты и духовного достоинства и поддержанное организованным решением «не допустить» и «настоять», есть поистине одно из самых могучих средств социального воспитания. Наличность такой внешнейреакции на внешнее поведение и необходимость считаться с организованным постановлением других — составляют основную схему положительного права. Тому, кто не испытывает зовы духа и силу добра в самостоятельном, внутреннем опыте и кто сам не умеет находить естественно-правовые пределы для своих притязаний, приходится узнать об этих пределах в порядке социально-гетерономного разграничения.
Это не означает, однако, что гетерономный характер положительного права исключает автономное самообязывание. Напротив, положительное право обладает тем большею духовною верностью, чем полнее оно приспособлено к основным законам духовной жизни, и прежде всего к закону ее самозаконности. Обосновать положительное право значит доказать его приемле-
мосгъ для самозаконно живущего духа; организовать положительное право значит найти и создать для него форму творческой самозаконности; преодолеть положительное право значит наполнить его самозаконно живущим, нормальным правосознанием и тем сделать его как бы несущественным.
Так, положительное право приемлемо для самозаконно живущего духа потому, что оно по своей основной и руководящей идее, по цели своей — служит самозаконно живущему духу. Положительное право как норма устанавливается живыми д уховными существами для ограждения и укрепления самодеятельности живых духовных существ. Именно поэтому в основе всякого положительного права лежит признание человека субъектом, имеющим правоспособность и дееспособность, т. е. признанный круг юридически значащего самостоятельного изволения. Вне признания человека субъектом нет и не может быть права. Конечно, люди далеко не сразу поняли, что человек не может не быть субъектом права. Так, мысль римского юриста пыталась приравнять несвободных и зависимых субъектов права кживотным и допускала идею отом, что «раб есть вещь», и, не замечая предметной ошибки и противоречия, она утверждала за рабами известный, хотя и скудный круг полномочий, все увеличивая его с течением времени*. Если положительное право регулирует способ установления и прекращения рабства, если оно утверждает за рабовладельцем правовое полномочие, то оно вынуждено молчаливо признать за рабом коррелятивную правовую обязанность, а если оно признает, что раб может стоять в cognatio servilis16, что он может покупать, дарить, иметь obligatio naturalis17 и даже «своих рабов» (servi vicarii), то оно тем самым признает коррелятивные обязанности и полномочия у других субъектов права, как свободных, так и рабов.
Положительное право создается в таких условиях, при которых содержание его подвержено влиянию корыстной воли, неосведомленности, ложной теории и неумения. И тем не менее, как бы ни были велики и даже чудовищны уклонения и извращения, вносимые в его содержание этими факторами, оно по самой природе своей сохраняет в себе основное ядро естественного права, для служения которому оно призвано в жизнь. Положительное право не может не выражать природы той духовной среды, которая создает его; оно может попытаться игнорировать ее конститутивные законы и неизбежно впадет во внутренние противоречия, ибо духовная жизнь такова, что она неизбежно рано или поздно загорится огнем своей природы, разорвет искажающие ее покровы и снимет
* О противоречии между теорией права и положительным правом в Риме подробные данные сообщает И. А. Покровский в своем труде «История Римского права». СПБ. 1913,стр 174,285—298.
гнетущие ее противоречия. Так, положительному праву невозможно квалифицировать живого, сознательного субъекта духовной жизни как вещь: объективный закон духовной жизни, лежащий в основании всякого положительного права и руководящий его созданием, — сильнее всякого интереса и всякой теории.
Положительное право приемлемо для автономной воли потому, что оно по своему существу остается всегда «видоизменением» естественного права. И даже тогда, когда эта система положительного права есть дурная и искаженная, когда она забывает свою родовую сущность и попирает ее,—ядро естественного права продолжает лежать в ее основе. Старое учение о том, что «право служит свободе», следует принять не только в нормативном смысле, т. е. что оно должно служить свободе, но и в смысле индуктивного обобщения: положительное право в действительности всегда разграничивает круги свободного изволения, стремясь обеспечить их и совместить в известном уравновешенном порядке. Разумная и добрая воля имеет задачу усмотреть в нем это ядро естественной свободы, очистить его от ложных примесей, развить и упрочить. Точно так же утверждение того, что «право служит равенству», совсем не есть только публицистический призыв: положительное право, какие бы личные, сословные и классовые привилегии оно ни представляло, всегда и неизбежно осуществляет функцию уравнения. Это выражается нетолько в нивелирующем характере «общих» правил, которые требуют, чтобы одинаковое квалифицировалось одинаково, но и в том, что все личные правовые состояния (статусы) взаимно обусловливают и «питают» друг друга: все они одинаково соотнесены друг с другом (коррелятивность), взаимно нуждаются друг в друге и поддерживают друг друга (мутуальность). Разумная и добрая воля имеет задачу усмотреть в положительном праве это ядро естественного равенства, очистить его от неправых нарушений и создать духовно обоснованный порядок справедливого равенства. Наконец, и лозунг нового времени «право основывается на самоуправлении» совсем не представляет из себя только постулат. Положительное право по самому существу своему обращается к разумной воле человека как к самоуправляющемуся центру; основная задача его в том, чтобы каждый индивидуум управлял своим внешним поведением, согласно его требованиям и предписаниям. И в конечном счете ничто не может заменить этого духовного самоуправления, исходящего из индивидуального центра жизни. Положительное право возникает вследствие недостатка этого самоуправления в душах людей; оно создается для того, чтобы воспитать его, помочь ему, упрочить его; и вот разумная и добрая воля должна понять и принять эту задачу положительного права и помочь ему справиться с ней
Вот почему поставить положительное право на высоту и организовать его осуществление значит создать для него форму самозаконности Положительное право исполняет свое назначение тогда, когда простое осознание его правил слагает в душе че-ловекал/отмв к его соблюдению, т. е. тогда, когда индивидуальный дух приемлет его в порядке самообязывания. Способность индивидуальной воли управлять жизнью человека может быть воспитана и выработана только там, где она планомерно упражняется и систематически осуществляется Задавленная внешним авторитетом, угнетенная угрозами и страхами, привыкшая ждать во всем приказа и позволения воля привыкает «не сметь» и жить пассивно; центр, руководящий ее жизнью, перелагается из нее куда-то вовне, она разучается иметь «свои мотивы» и «свои решения», и правосознание ее теряет свою творческую связь с правом.
Нормальное правосознание состоит в том, что человек сам управляет своим поведением, но согласно положительному праву. Вот почему правосознание может стоять на высоте только там, где право организует жизнь как школу самоуправления. Начало самоуправления есть единое начало: творческая зрелость индивидуума и творческая зрелость народа — и во внутренних делах, и во внешней политике — одинаково определяется способностью к самоуправлению. Там, где не развита одинокая самодеятельность воли, там общественное самоуправление влачит жалкое существование. И обратно: именно общественное самоуправление может воспитать в душе человека истинное правосознание. Автономия личной воли и политическая автономия связаны взаимно. Народ, ведущий темную и нетрезвую жизнь, неспособен к организованному самоуправлению. Но именно там, где между правящим и управляемым лежит пропасть, народное правосознание будет неизбежно влачить жалкое существование. Оно созревает и растет только тогда, когда нет этого противопоставления; только там, где политическая организация начинается с полномочного гражданина, где управление народом есть в то же самое время самоуправление народа, где управляемый знает и чувствует себя самоуправляющимся, так что повиновение положительному праву оставляет его свободным Задача положительного права может быть разрешена только так, что организованное внешнее (общественное) самоуправление приучит человека к организованному внутреннему (индивидуальному) самоуправлению; самодеятельность человека довершит это дело в терминах морали и духовной культуры.
Понятно, что только автономному правосознанию может быть дано свободно принять положительное право. Правила поведения, исходящие от внешнего авторитета, будут необходимы всегда, но в особенности до тех пор, пока разумная и добрая воля
не поймет их необходимость, не примирится с ними за скрытое в них ядро естественной правоты и не примет на себя — как свой крест и свою судьбу — задачу их творческого преобразования. Положительное право должно неискаженно и адекватно раскрыть и осуществить собою законы духовного бытия, следуя им не только в организации способа правоустановления, но и в содержании своих правил и находясь в творческом соответствии с моралью как социально-практической основой жизни автономного духа. Рост правосознания окажется при этом в теснейшей связи с преобразованием положительного права. Нелепо и невозможно воспитывать автономное правосознание, фиксируя несвободное, неравное, несправедливое и вполне гетерономное право, ибо добровольное и творческое признание положительного права совершается тем легче, чем более свободы, справедливости и автономии в его нормах. Самое усовершенствование права есть уже могучий фактор в развитии правосознания. И вот, предвидя перспективу этого развития, можно сказать, что положительное право будет становиться все менее нужным по мере того, как оно само будет приближаться к духу и смыслу естественного права, а правосознание будет расти, углубляться и укрепляться.
Понятно, что преодоление положительного права не совпадает ни с его противоправным нарушением, ни с его правомерною отменою, ни с принципиальным отрицанием его. Это есть сложный процесс вживания души в право илнусвоения права сознанием и волею. Сознание здесь идет впереди воли и раскрывает духовно-естественные корни положительного права; этим оно дает воле основание — принять положительное право и открывает ей цель и пути для его преодоления. Оказывается, что гетерономное регулирование допускается только ради охранения автономии духа и ради воспитания личной души к верному самоуправлению во внешнем поведении, что в основе положительного правосознания должно лежать естественное правосознание. Сознание открывает, что для воли есть два возможные пути. Во-первых, зрелый систематический путь, который состоит в том, что воля автономно приемлет естественное право как высшую духовную ценность и вслед за тем обращается к признанию и творческому преобразованию положительного права; на этом пути правосознание вырастает в душе из своих глубоких и естественных корней. Во-вторых, обычный, эмпирически-случайный путь, который состоит в том, что воля встречается с положительным правом в порядке гетерономное™ и не усматривает в нем ничего, кроме внешне-авторитетного предписания Здесь опять имеются два исхода: воля может признать положительное право в его объективном значении и может не признать его. И в зависимости от
того, по каким мотивам она его признает или отвергнет, правосознание человека примет более или менее незрелую или больную форму. Для всех исходов второго пути преодоление положительного права останется неразрешимой задачей.
Для того чтобы преодолеть положительное право, правосознание должно не только признать его объективное значение, но усмотреть и принять его истинную основу. Оно должно понять, что корень этого значения лежит не в «силе», и не в «классном интересе», и не в «эмоциональной фантасме», и не в «воле других людей», и не в «безличном общественном авторитете», и не в «государственном изволении», но в объективном достоинстве естественного права. Положительное право имеет объективное значение потому, что в глубине его скрыты духовная правота и естественное право человека; его значение основывается на его достоинстве, а достоинство его определяется достоинством естественного права. Зрелое правосознание постоянно испытывает в положительном праве присутствие чего-то не относительного по своему значению и подчас затрудняется указать, что именно вызывает в нем это чувство: ибо «воля других людей», хотя бы и «уполномоченная» «третьими людьми», сама по себе не может сообщать своим велениям этого безусловного значения. Предметно исследуя и проверяя свой опыт, правосознание удостоверяется, что скрытое внутреннее достоинство действительно не покидает права, даже если оно по содержанию своему неверно или несправедливо
Это достоинство отнюдь не является продуктом воображения или, точнее: то, что воображению, и мысли, и чувству предносится здесь, — есть нечто, действительно объективно обстоящее. Положительное право, даже неверное, т. е. исказившее скрытый в нем прообраз, переживается правосознанием как несовершенное проявление или несозревшая формула естественного права, как создание человечества, смутно и беспомощно искавшего безусловной духовной правоты. Может быть так, что люди не нашли этой правоты и в искании своем сбились с пути: продолжали говорить о ней, а хотели уже другого, или же хотели ее, но искали ее там, где она не бывает. И в результате получилась неверная формула, несовершенное правило, несправедливое решение спора о притязаниях. Пусть это проявление неверно, пусть эта формула неверна, но если естественное правило будет найдено и формулировано в совершенстве и верности, то оно будет и должно быть найдено именно через творческое приятие и преобразование несовершенной формулы и через очищение ее, выстраданное жизненно и помогшее обрести верный путь. Новая норма займет то самое ме
сто, которое ныне занято неудачной формулой; она получит ее значение, которое важно соблюсти не умаленным и не расшатанным; она скажет иное иначе, но о том же: о свободе лица, о справедливости правоприменения, о самоуправлении человеческого духа. Развитое и зрелое правосознание видит в положительном праве как бы перво-проблеск естественного права и потому дорожит им: оно не «отстаивает» его от реформы, напротив, — но оно соблюдает его впредь до отмены.
К этому мотиву признания, утверждающему в лице положительного права несовершенно выраженный минимум естественного права, присоединяется другой мотив, основанный на чувстве справедливости. Если положительное право, неверно формулируя чужие обязанности, верно выражает «мои» полномочия, то «я» его приемлю: ибо, если бы «я» его не принял и не оградил «себя» им, то «моя» духовная личность, наверное, давно уже угасла бы для земной жизни. Мало того, «я» уже пользовался гарантированной им безопасностью задолго до того, как успел понять его необходимость для «моего» существования. Но если «я» соглашаюсь утвердить «свои» полномочия на основе несовершенных правовых норм, то «я» тем самым уже вступаю в сеть государственной и общественной правовой взаимности и последовательно должен принять обратную сторону этого несовершенного правопорядка.
Несовершенство положительного права есть общий бич людей, союзов, государств и всего человечества, и тот, кто принимает его в меру своего интереса, пользуется, блюдет и, может быть, постольку отстаивает его и потом умеет уклоняться и ускользать, как только чужой правомерный интерес возложит на него по принципу взаимности неудобную повинность или стесняющую обязанность, —тот осуществляет величайшее лицемерие. В этом глубокий смысл того молчаливого согласия, на которое указывал Руссо.
Нормальное правосознание, приемля положительное право как явление и обетование естественной правоты, всегда найдет в себе силу признать правомерный вывод и приговор, когда он духовно неверен и несправедлив по отношению к признающему: именно постольку, поскольку правом умален или попран «мой» интерес, «я» могу свободно признать и принять этот ущерб, если только это признание не есть отказ от «моего» духовного достоинства Такое поддержание положительного права есть акт борьбы за торжество естественного права. Вот почему образ Сократа, приемлющего неправый приговор афинских судей и спокойно выпивающего яд во имя торжества неправого права, — остается навсегда глубочайшим призывом к преодолению положительного правопорядка во имя естественного.
Нормальное правосознание есть творческая воля к цели права.
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРАВОСОЗНАНИИ
Духовная сопринадлежность людей, племен и наций, естественно, ведет их к организации жизни на основах общего права, общей власти и общей территории. Однородность духовной жизни, совместность духовного творчества и общность духовной культуры составляют глубочайшую и подлинную основу всякого государственного единения. Именно эта связь — самая утонченная и подчас наименее сознательная и уловимая — творит самое могучее, самое нерасторжимое, безусловное и священное соединение людей в правовые и государственные союзы. Государство определяется именно тем, что оно есть положительно-правовая форма родины, а родина есть его творческое, духовное содержание. Отсюда — сущность государства, его способ бытия, его обоснование, его цель, его средства и нормальное строение.
С незапамятных времен люди живут в государственных союзах, и размеры накопленного ими политического опыта огромны. Вся история есть ряд великих предметных уроков, выстраданных человечеством в деле общественного строения, и, казалось бы, что эти уроки могли бы научить людей — и отвлеченному пониманию государственности, и практическому умению созидать и поддерживать политическое единение. И тем не менее ученый-государствовед доселе затрудняется указать те категории, в которых обстоит его предмет, а практический политик доселе повторяет старые ошибки и нередко ведет свой корабль неуверенною и неискусною рукою.
Эти ошибки объясняются не только случайными недосмотрами или личными неспособностями, но общими и основными дефектами государственного правосознания.
Люди все еще не усвоили основную аксиому всякой политики, согласно которой право и государство создаются для внутреннего мира и осуществляются именно через правосознание. И в науке, и в жизни все еще господствует формальное понимание государства, извращающее его природу и разлагающее в душах все основные начала гражданственности. Следуя этому пониманию, люди строят государственную жизнь так, как если бы она сводилась к известным, механически осуществляемым, внешним поступкам, оторванным от внутреннего мира и от духовных корней человека; наличность или отсутствие этих внешних поступков должны быть, по их мнению, обеспечены какими угодно средствами и какою угодно ценою — насилием или страхом, корыстью или наказанием, и к этому будто бы сводится все: только
бы люди повиновались, только бы вносили налоги, только бы не совершали преступлений и не творили беспорядков — а остальное неважно. Государство понимается как строй внешней жизни, а не внутренней. Этим оно отрывается от правосознания и, питаясь поверхностными слоями или дурными силами души, вырождается в своем содержании и расшатывается в своих основах. Оно уводится из подлинной стихии народной жизни, сосредоточивается в изволениях и актах тесного круга правящих лиц и превращается для всех остальных граждан в чуждую им и неосмысленную систему мертвящего принуждения. Государственная принадлежность начинает переживаться как ненавистная кандальная цепь, а правители кажутся чуть ли не бессменными тюремщиками.
Если право бессильно и бессмысленно вне правосознания, то государство унизительно, эфемерно и мертво вне государственного образа мыслей. Ибо на самом деле не только его корни, но и обыденная жизнь его имеет внутреннюю, душевно-духовную природу. Нелепо и пагубно думать, что человек может жить внешними поступками в отрыве от внутренних состояний или что государство может достойно существовать, механически регистрируя своих «подданных», устанавливая для них повинности и пошлины и не превращая их в граждан, участвующих сознанием, волею, чувством и действием в создании единой, разумно-организованной жизни. Государство не есть внешняя вещь среди вещей, и бытие его не имеет материально-телесного характера, хотя природный и хозяйственный «субстрат» его и материален, а личный состав его ведет телесное существование. Государство есть нечто от духа и нечто для души. Оно есть духовное единспгволюдей, ибо в основе его лежит духовная связь, предназначенная д ля того, чтобы жить в душах и создавать в нихмотивы для правильного внешнего поведения.
В сознании этого лежит первая основа всякой государственности и политики; в осуществлении этого — первое условие ее истинного расцвета. Государственный образ мыслей есть разновидность правосознания; этим уже сказано все основное.
Государственный образ мыслей не сводится к знанию о том, что «есть на свете государство», к которому «я принадлежу». Но именно с этого он начинается.
Каждый человек, претендующий на умственную и духовную зрелость, должен отдать себе отчет в том, принад лежит ли он к какому-нибудь государству и к какому именно? И к чему это его обязывает и уполномочивает? И что значит вообще «принадлежать к государству»? Вне этого — политическое отличие гражданина от дикаря и даже от животного может стать неуловимым. Человек, который вообще не знает, к какому именно государству он принадлежит, — пребывает в состоянии первобытной наивности и
политической невменяемости. В его душе еще не прозябло семя государственности. Дикарь, лишенный, подобно ребенку, политического самосознания, действительно может не знать о самом факте своего гражданства, но именно поэтому он совсем не ведет политической жизни. да и не способен к ней. Бессмысленно ждать от него государственного изволения или акта, когда он настолько духовно немощен, что не способен даже ни к политической верности, ни к политическому предательству. Строго говоря, такие люди не входят в государство, а только причисляются к нему; они суть те «граждане in spe»18, которые пребывают, может быть, пожизненно в состоянии полурабов, полуподданных, политически отличаясь от животных только этим «возможным будущим».
Понятно, что государственный союз, имеющий в своем составе большое количество таких полудикарей, ведет мнимое существование: правящие «причисляют» подданных, повелевают и взыскивают с них так, как если бы те были способны к государственно-осмысленному акту. А между тем политическое слабоумие (imbecillitas) первобытной души делает ее бессмысленным орудием чужой воли: это орудие может «испортиться» в критический момент или перейти внезапно в другие руки, служащие иным целям, и тогда оно погубит государственное дело. Человек, таящий в себе политическое слабоумие — незнающий о своем гражданстве или непонимающий его природы, — имеет только видимость разумного существа; и всякая политическая организация, рассчитывающая на его разум и на его волю, обречена на печальный конец.
Однако этого мало: необходимо признавать свою принадлежность к определенному государству, т. е. принимать ее волею и чувством, дорожить ею и культивировать ее. Политическая принадлежность должна быть сознательно принята каждым отдельным гражданином и признана им в нестесненном, свободном решении; и это решение должно привести каждого к духовному акту добровольного самообязывания, или, что то же, к акту духовного вменения себе публично-правовых полномочий, обязанностей и запретностей. Вне этого государству неизбежно предстоит разложение.
Необходимо иметь в виду, что государственная принадлежность определяется, вообще говоря, не свободным и односторонним решением граждан, а гетерономными правовыми правилами, налагающими свое определение на человека до его решения и помимо его согласия. Еще до моего рождения было юридически установлено, что имеющее в моем лице родиться существо будет принадлежать к такому-то государственному союзу; так что потом мое «незнание» было бессильно изменить в этом что-либо,
а мое одностороннее «несогласие» всегда будет недостаточным для того, чтобы погасить мое гражданство. Государственная принадлежность имеет объективное значение и не зависит от воли одного лица. Но именно в этом обнаруживается опасность, характерная для всякого права: духовное назначение гражданства и его жизненная эффективность нуждаются именно в том, в чем не нуждается его формальное значение, — в живом, содержательном, волевом приятии, наполнении и осуществлении. Непризнанное человеком гражданство создает трагическую иллюзию: мертвый или эфемерный государственный союз. Объективному значению противостоит душевная пустота или духовная ложь и симуляция, и это неизбежно убивает всякий смысл гражданства и всякую жизнь государства.
Нельзя быть членом политического союза вопреки собственному чувству и желанию; это значит превратить всю свою жизнь в систему явного и тайного полупредательства, разлагающего изнутри тот самый союз, который гражданину подобает создавать и поддерживать. Государство, имеющее в своем составе таких членов, совершает величайшую ошибку, сохраняя за ними звание граждан; оно творит самообман и готовит себе разложение.
Однако столь же нелепо быть членом политического союза помимо собственного чувства и желания; это значит превратить себя в мертвую, зарегистрированную вещь, механически выполняющую известные внешние движения в меру чужой воли и чужого решения. Государство, готовое мириться с таким состоянием граждан, извращает самую сущность политического единения, ибо политическое единение творится именно волею, питаемою чувством и ведомою сознанием.
Государственный образ мыслей, государственное настроение чувств, государственное воленаправление — все это вместе составляет необходимую и реальную основу всякого живого государства или, вернее, — подлинную ткань его жизни. Это как бы тот воздух, которым оно дышит и без которого оно задыхается и гибнет. Где этого совсем нет, там нет государства, а есть только его пустая видимость, и первые же серьезные затруднения не замедлят обнаружить это. Человек творит государство именно сознанием, чувством и волею; не «просто» внешними поступками, но теми мотивами, которые побуждают его действовать так, а не иначе; не только правовыми нормами или силою принуждения, но длительным, устойчивым и содержательно-верным напряжением души и духа
Для того чтобы государство существовало в виде «внешней» общественной организации, оно должно жить в душах людей, занимая их внимание, вовлекая их интерес, постоянно заставляя их мысль — работать, их волю — напрягаться, их чувство — гореть.
Народ, у которого политическая жизнь бесчувственна, безвольна, бессмысленна, — государственно мертв и бесплоден; его политическая организация «имеет значение» и «обстоит de jure», но не имеет духовного существования. Такой народ, строго говоря, совсем не ведет политической жизни, ибо политическая жизнь есть разновидность духовного творчества. Это можно выразить так, что государство как предмет, творимый человеком, соответствует своему назначению и достоинству только тогда, если оно творится надлежащим органом, и притом органом, стоящим на должной высоте. Порочная воля, изуродованное или бессильное чувство, скудное и темное сознание — не в состоянии строить государственную жизнь. Ибо государство есть организованное единение духовно-солидарных людей, понимающихмыслью свою духовную солидарность, приемлющих ее патриотическою любовью и поддерживающих ее самоутвержденною волею.
Таково истинное положение дел: вне мысли — политическое правосознание смутно и беспредметно, а государство бесформенно и незрело; вне чувства — политическое правосознание поверхностно и немощно, а государство неустойчиво и подвержено распылению; вне воли — политическое правосознание пассивно и инертно, а государство обречено на рыхлое и экстенсивное прозябание. Народ, который настолько неинтеллигентен разумом, что не понимает ни своего единства, ни природы государственности, настолько безразличен или мертв чувством, что не любит свою родину, ее политическую форму и независимость, настолько робок или слаб духом, что не имеет воли к духовно-политическому самоподдержанию, — такой народ не имеет государства: он политически аморфен и его государственное существование есть трагикомическая иллюзия.
Но д ля того чтобы мысль, чувство и воля человека творчески зажили политическою связью, должно состояться духовное приятие государства. Каждый человек, пребывающий в состоянии наивного своекорыстия, должен принять государство сначала в порядке эгоистического, а затем предметно-духовного интереса.
Прежде всего он должен удостовериться на самостоятельном и подлинном, всегда суровом и мучительном опыте, что он лично заинтересован в существовании и поддержании государства. Он должен изведать и убедиться, что он сам настоятельно нуждается в политическом единении, что его собственные, основные и насущные потребности ведут его к признанию государства, мало того, что его частный, эгоистический интерес сам по себе есть уже в известных пределах не что иное, как интерес самого государства и всего государства в целом, что, наконец, самая жизнь его невозможна вне или помимо политической организации.
В этом первоначальном, корыстном приятии государства человечество медленно и постепенно — столетиями вынашивая опыт феодализма, гражданских войн и классовой борьбы — научается публично-правовому и патриотическому бескорыстию. Оно научается тому, что жизнь имеет не только измерение личной корысти, но и измерение духовного достоинства, творящего верховный суд над всяким «интересом»; оно научается тому, что государство есть нечто не только «полезное», но и духовноправовое и духовно-необходимое, что нельзя быть человеком, т. е. индивидуальным духом в полном и истинном смысле этого слова, и не участвовать личными силами в жизни и деятельности политически организованного союза. И только убедившись в этом, человек получает достаточное и в тоже время принудительное основание признать государство и добровольно принять его законы в порядке самовменения и повиновения.
Государство необходимо и приемлемо именно потому, почему необходимо и приемлемо положительное право: незрелое состояние человеческих душ, одержимых наивно-порочным, эгоистическим тяготением и не умеющих мотивировать свое внешнее поведение самостоятельным признанием естественной правоты, — делает государство необходимым и целесообразным способом поддержания естественного права через его положительно-правовое провозглашение и вменение. Неотчуждаемость и неумалимость естественных прав, с одной стороны, и весьма ограниченная способность людей к автономному самообязыва-нию, с другой — ведут к организации таких союзов, которые должны устанавливать и ограждать естественный правопорядок посредством гетерономных правовых правил и поддерживать их блюдение силою внешнего, общепризнанного, властвующего авторитета. Единая власть союза, уполномоченная правом и сама подчиненная праву, получает обязанность: формулировать естественное право в виде объективно значащих, общеобязательных правил внешнего поведения (т. е. в виде положительного права), с тем чтобы эти правила проникали в сознание и к воле людей и порождали в них мотивы к правильному действованию.
По своей основной идее государство есть союз духовно co-принадлежащих людей, племен и наций, объединенных ради гетерономного осуществления естественного права. Это означает, что государство имеет единую, объективную и высшую цель и что только свободное, волевое приятие этой цели делает человека воистину гражданином.
Так, государство в самом деле имеет такую единую, высшую цель, которой оно должно служить и которой оно в действительности — с большим или меньшим успехом — служит. Неискушен
ному, поверхностному взгляду может, конечно, казаться, что люди в их политической деятельности преследуют множество разнообразных целей, так что не только у каждого отдельного человека имеется своя, особая «политическая» цель, но что один и тот же человек может по произволу менять свои «политические» цели, отдаваясь им по очереди и перебирая их одну за другой. И каждая из этих субъективных и относительных целей, независимо от ее содержания и ее достоинства, будет иметь политический характер лишь благодаря тому, что кто-нибудь пожелает осуществить ее через посредство государственной власти При таком понимании решающим является не вопрос о том, чего желает тот или другой индивидуум, а вопрос о том, на каком пути он задумал этого достигнуть. Всякая, самая нелепая, своекорыстная и противогосударственная цель окажется «политическою» целью, а деятельность, клонящаяся к ее осуществлению, окажется государственною деятельностью. Формальное понимание государственности и политики, удовлетворяясь пустыми признаками «организованной власти» и «общего права», отрываясь от естественно-правовой основы всякого государства и прилепляясь к его положительно-правовой форме, — мирится со всяким интересом, освящает всякое вожделение, допускает всякое посягательство, вырождая тем и природу своего предмета, и самую жизнь человечества. Политический формализм насаждает в душах и в действиях людей самый беспринципный политическийрелятивизм, и в результате этого целые поколения людей вырастают в уверенности, что «в политике все дозволено» и что авторитетом государственной власти может быть «все прикрыто». И человечество, пожиная от времени до времени плоды этой деградации, продолжает слепо держаться за такую противоестественную традицию и нелепую практику.
В противоположность этому, нормальное правосознание еще со времен Платона и Аристотеля утверждало и будет утверждать единство и объективность государственной цели и политического задания. Термин «политического» указывает не только на путь организационного властвования, но прежде всего на некоторую высшую ценность, обслуживаемую государством. Так что из всех целей, с которыми люди восходят к власти, политическими будут только те цели, которые соответствуют этой высшей ценности. Интерес «политический» с формальной точки зрения может быть на самом деле — противополитическим, и деятельность, «государственная» по своей внешней видимости, может быть на самом деле — совершенно противогосударственною. Политика совсем не есть пустая форма «организованного властвования»; нет, она имеет особое, конституирующее ее содержание. Государство совсем не есть социальный механизм, безразличный
к творимому делу; нет, оно имеет свое особое, содержательноопределенное задание. Если государство совсем не осуществляет его или осуществляет совсем не его, то оно не только «в идее» перестает быть государством, но фактически, жизненно разлагается и гибнет. Государство имеет свою объективную природу, которая определяется его объективною целью и которая не может безнаказанно разрушаться и попираться. Те, кто не понимают этого, — те не способны к политической деятельности; те, кто не блюдут этого, — готовят себе и своему государству трагический конец. Государственность таит в себе некий имманентный ей рок, и этот рок несет горе и мзду — и политически немудрому правителю, и политически слепому народу.
СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Объективная природа государства определяется его высшею целью, его единым и неизменным заданием. Это задание состоит в ограждении и организации духовной жизни людей, принадлежащих к данному политическому союзу. Ограждение духа состоит в обеспечении всему народу и каждому индивидууму его естественного права на самобытное определение себя в жизни, т. е. права на жизнь, и притом на достойную жизнь, внешне свободную и внутренне самостоятельную. Организация такого сожительства людей, и притом на основах права и власти, составляет ту единую политическую цель, которой служит государство. Только верное понимание этой цели открывает доступ к пониманию средств и строения политического союза.
Основная природа этой цели, т. е. именно то, что делает ее политическою, — состоит в ее единстве и общности для всех граждан
Ограждение индивидуума как творческого центра духовной жизни есть нечто такое, в чем каждый заинтересован, по-видимому, лишь для себя и про себя. Постольку обнаруживается, что у каждого человека есть эгоцентрическое тяготение к свободе, что каждый ищет обеспечить себе свои естественные права. Это означает, что у многих людей имеются похожие или даже одинаковые цели, не совпадающие, однако, в одну единую и общую цель. Сколько людей — столько целей, ибо каждый — о себе. В определении своего интереса каждый может «согласиться» с другим, но интересы эти не сливаются в единый и общий. Иными словами, здесь
есть подобие и, может быть, согласие, но нет солидарности, ибо одинаковые интересы не объединились в общий. А между тем политическая деятельность есть именно солидарная деятельность во имя общей цели. Отсутствие ее разрушает политический союз и превращает народ во множество разъединенных атомов. Тогда эгоцентрическое тяготение ведет к эгоистической деятельности; сходство интересов порождает лишь параллелизм и конкуренцию; и в конце концов духовный атомизм и своекорыстие остаются последним словом этого противополитического разброда.
Сущность государства состоит в том, что все его граждане имеют, помимо многих различных, противоположных или одинаковых интересов и целей, одну, единую цель и один, общий интерес. Об этой цели каждый может сказать: «это моя цель», и будет прав, но должен добавить: «не только моя». И все сразу могут сказать: «Это наша общая цель», и, высказав это, все будут правы. Но это и значит, что цель эта — общая. Множество телесно и душевно разъединенных людей желают одного и того же, такого, что или сразу у всех будет, или чего сразу у всех не будет. Каждый желает одиноко и по-своему; «интерес» как личное переживание остается своеобразным и множественным. Но предмет желания — един для всех и может быть создан только в организованном, совместном и не одиноком творчестве. Общность цели создает общность путей и средств, и основа политической деятельности дана.
Эта солидаризация интересов возникает так, что каждый член союза начинает понимать неосуществимость своей цели помимо осуществления чужих одинаковых целей, и притом всех чужих. Личный духовный центр, нуждаясь в определенной и обеспеченной сфере свободного изволения, убеждается в том, что его полномочия поддерживаются и питаются исключительно чужими обязанностями и запретностями и что в то же время они отовсюду ограничиваются чужими полномочиями. Все субъективные правовые «статусы» как бы соприкасаются отовсюду друг с другом, образуя живую систему взаимного поддержания и ограничения. Каждая ячейка цела лишь до тех пор, пока целы соседние, а так как все ячейки связаны друг через друга со всеми остальными, то нарушение одной из них нарушает тем самым все остальные или, во всяком случае, ставит все остальные под угрозу. Именно коррелятивное (связное) и мутуальное (взаимное) сосуществование всех субъективно-правовых ячеекубеждает людей в том, что самая форма правовой связи не только одинакова для всех, но и есть нечто общее всем. Так, создать разграничение и ограждение для каждых двух субъектов—значит установить общий обоим предел; мало того, это значит установить общий для обоих решающий орган, т. е. правовой авторитет, творящий и применяющий право, и, нако
нец, — общее обоим правило, т. е. правовую норму или кодекс норм. Иными словами: организовать правопорядок значит создать единый общий союз (политическое «мы») с единою, общею правовою властью («наше» правительство) и единою общею системою права («наши» законы). Именно в этом и состоит организующая задача государства, в осуществлении которой все одинаково заинтересованы. Каждый одинаково заинтересован в общем деле, или, что то же: все солидарны. На этой солидарности, именно на ней и только на ней — зиждется государство; в обнаружении ее и в служении ей состоит политическая деятельность.
Понятно, что эта солидарность в вопросе о правовой форме жизни получает свое освещение из глубины духовного содержания, национально-единого и патриотически-общего. Государство есть разновидность организованного сожительства; а в основе всякого сожительства людей, если оно не унизительно для них и не эфемерно, лежит духовная однородность и общность духовной культуры. Вот почему в основе всякого могучего и духовно-продуктивного политического союза лежит духовная солидарность сынов общей родины. Любовь к отечеству есть любовь к тому самому национальному духу, совокупную и совместную жизнь которого организует и ограждает государство Чувство патриота посвящено тому самому, чему служат мысль и воля государственного деятеля. Политик, стоящий на высоте, творит то дело, в котором солидарен весь народ его, и если он творит его огнем своей души, то он патриот. Патриот, активно работающий над организацией духовной жизни своего народа, творящий общественную форму ее расцвета, — есть тем самым государственный деятель, национально-политический строитель и вождь. Политика вне патриотизма — беспредметна, нелепа и гибельна; патриотизм вне государства — нежизнен, немощен и бесформен. Итак: государство есть положительно-правовая форма родины, а отечество составляет истинное содержание политики.
Именно борьба за духовную культуру народа есть то, что сообщает государству высшее и последнее оправдание пред лицом Божиим; именно духовное содержание патриотизма придает государству его естественную правоту, противопоставляя его вселенскому братству и в то же время примиряя его с ним. В борьбе за свою духовную культуру граждане государства являются сразу сынами своей родины и поборниками вселенского дела; они суть граждане национального града Божия к в то же время творцы мировой культуры, признающие вселенское дело —своим Государство как орудие духовной жизни не только не противоречит вселенскому единению, но и прямо созидает его, ибо всякое единение людей свято и прочно лишь постольку, поскольку оно име
ет духовную природу, но именно постольку оно не раскалывает людей на непримиримые группы, но связует их в высшее единство. Созидая и организуя жизнь национального духа, каждое государство является органом единой для всего мира, вселенской духовной жизни. И понятно, что поскольку государство извращает свою природу и организует не жизнь национального духа, а национальную жадность и агрессивность, постольку оно становится орудием разъединения, бед, войн и всеобщего вырождения.
Итак, духовная солидарность есть подлинная и реальная основа государства. Именно на этой основе государство должно быть понято и осуществлено как живая система братства, не только не противоречащая христианству, но и соответствующая духу евангельского учения.
Вести политическую жизнь, или, что то же, быть настоящим гражданином, значит испытывать живое неразрывное тожде-ствомежду интересом государства и своим собственным интересом и через это признавать своим собственным интересом — каждый духовно верный интерес каждого из своих сограждан. К этому сводится основное содержание политической жизни.
В самом деле, первое, что делает человека — гражданином, есть приятие государственной цели. Принять государственную цель значит испытать ее как свою собственную; значит не только «примириться» с нею или «согласиться» на нее, но признать ее своею собственною целью и не противопоставлять ее больше своим интересам. Это возможно только при том условии, если личный интерес человека влечет его к тому самому, к чему ведет и государственное дело. А для этого необходимо или чтобы государство опустилось до содержания личной, частной корысти — что означало бы для него вырождение и разложение, — или чтобы индивидуум возвысился до содержания подлинного государственного интереса. Это значит, что гражданин должен быть патриотом, ищущим расцвета для духовной культуры своего народа: тогда основная цель его жизни сама по себе совпадает с единою и объективною целью государства и в результате живое, неразрывное тождество интересов устанавливается легко и естественно.
Если индивидуум сознает себя прежде всего духом, то дело Духа становится для него первым и основным делом. А оно есть не чисто личное и не частное дело, но по существу своему одинаковое для всех и общее всем, а по социальной форме осуществления — политическое и государственное. Обрести в себе духовный интерес значит обрести в себе общечеловеческий и патриотический корень и политическое воленаправление. Это значит утвердить основу своей личности в той глубине, на которой «мое дело» неразрывно сливается с делом «моего
государства», а интерес «моего государства» раскрывается как интерес общечеловеческий.
Однако это приятие государственного интереса совершается совсем не только в порядке самопожертвования, но и в порядке самоутверждения: ибо государство, ограждая и созидая национальную духовную культуру, приемлет, ограждает и питает духовный интерес каждого из своих членов. Созданное ради естественного права, государство утверждает естественные полномочия каждого гражданина, оберегая его как самобытный, творческий центр духовной жизни и благоприятствуя ему в его автономном самоопределении. Это значит, что каждый гражданин находит в государственной цели всю полноту своего духовного интереса — признанною, соблюденною и утвержденною; так что его патриотическое «самопожертвование» есть в то же самое время акт «самоутверждения»: ибо его личный духовный интерес не только не исключен из общеполитического, но входит в него целиком, составляет самую ткань его. Духовная правота всякого личного интереса делает его интересом самого государства, и так обстоит даже и в том случае, если историческая государственная власть почему-нибудь не признает этого или оказывается не в состоянии организовать удовлетворение каждого такого интереса. Государственный интерес слагается из всех духовно-правых интересов всех граждан, причем каждый духовно-правый личный интерес оказывается через эту государственную включенность — общим и политическим. Так, все, что необходимо гражданину для творческого труда и достойного существования, — все это входит в интерес самого государства, заполняя содержание его единой цели и его практических згщ&ч. Духовная жизнь народа есть духовная жизнь всех его граждан, и этим определяются направление и объем политической деятельности.
Именно при таком понимании государство неизбежно становится орудием братства и солидарности. Приемля государственный интерес как свой собственный, каждый индивидуум действительно усваивает все цели и все задачи государства; здесь нет ограничений или резерваций: гражданин как истинный патриот не отделяет себя — от своего политического союза, его задач — от своих задач, его судьбы — от своей судьбы. Но именно через это он приемлет и усваивает каждый духовноправый интерес каждого из своих сограждан, и приняв его, он испытывает и рассматривает его как свой собственный, личный и насущный. «Частный интерес», если он есть духовно-правый, является уже не просто «интересом», но естественным правом, и не просто «частным интересом», но общим и политическим; а это значит, что нет в государстве гражданина, кото
рый имел бы основание отнестись к нему с политическим безразличием и пассивностью.
Интерес государства состоит в поддержании и осуществлении всех естественных прав всех его граждан, и поэтому вовлечение личной воли в «политику» означает вовлечение его в борьбу за естественные права всех и каждого. Поэтому восхождение личной, частной воли к политической цели есть тем самым ее расширение по объему и по содержанию, и в то же время это есть освобождение ее от всякой чисто личной, групповой или классовой корысти, — освобождение и очищение. Ибо политика не приемлет никакого чисто личного, группового или классового интереса, но — или отвергает его совсем, или же признает его верным и справедливым естественным правом и тем превращает его в интерес общий и политический.
Истинно политическое понимание отвергает все частные посягания, все личные вожделения, все классовые интересы. Ибо, если классовый интерес имеет за себя духовные основания, то он уже не есть просто «классовый», но общий и государственный, и тогда настаивать на его «классовом» характере нет смысла: это значило бы, овладев целым, добиваться его части или же из двух общеутвердительных суждений делать частно-утвердительный вывод. Если же классовый интерес не имеет за себя духовных оснований и не скрывает за собою естественного права, то никакие усилия — ни «организация», ни «пропаганда», ни «агитация», ни ложь, ни террор, ни восстание, ни гражданская война, ни классовая диктатура — не превратят его в общий, политический или государственный; он останется частным вожделением и неоправданным посягательством, а политическая партия, отстаивающая его всеми средствами, будет подготовлять верную гибель — себе, своему классу и своему государству, оставаясь «политическою» только по имени. Ибо фактически возможно сделать государственную организацию орудием какого-нибудь классового интереса, но это значит расшатать или даже погасить волю к политическому единению во всех остальных классах и тем разложить государство заживо. К счастью, такой образ действий таит в самом себе свою обреченность: объективная необходимость государства не допустит его до полного разложения и тактика посягающего класса неминуемо вызовет в народе углубление и очищение государственного правосознания, а вместе с тем и укрепление попранной государственности.
Это можно выразить так, что государство вообще построяет-ся не по принципу корысти, а по принципу правоты ине по принципу конфликта, а по принципу солидарности. Так что каждый раз, как в политике начало корыстного конфликта выдвигается
на первый план или торжествует над началами права и солидарности — так деструктивный элемент получает преобладание и государство вступает на путь разложения. Сущность политики не в том, что граждане борются друг с другом, но в том, что они сотрудничают; государство есть разновидность не войны и разброда, но единения и творческого сотрудничества и формула его: не «компромисс своекорыстных посягательств», а «совпадение правых и солидарных воленаправлений». По самому основному существу своему государство стремится не организовать столкновение частных или классовых интересов и не просто примирить их, но исключить их, и жизненная прочность его определяется именно тою сферою интересов и политических актов, в пределах которой борьба классов стихает или не возникает вовсе (например, оборонительная война)
Естественно, что при надлежащем понимании государственности и политики своекорыстная борьба между гражданами или классами совсем не имеет почвы для возникновения. Если каждый гражданин обсуждает свои и чужие интересы по масштабу их естественной правоты, то он не имеет оснований ни для того, чтобы настаивать на своем неправомерном интересе, ни для того, чтобы отвергать чужое правомерное притязание. Напротив, он готов принять каждый чужой правомерный интерес и пребывает в уверенности, что его собственное правомерное притязание будет признано всеми остальными гражданами. Именно такое соотношение граждан, составляющее основную природу политического единения, превращает государство в живую систему братства и примиряет его с учением Христа о любви.
Можно было бы подумать, что тысячелетняя практика государственности достаточно наглядно показала несовместимость ее с духом Христова учения. По крайней мере на этом настаивают все теории, которые сводят государство к организации насилия, к «мечу» и страху или превращают учение Христа в аскетическую мораль, в «непротивление» и сентиментальное ханжество. Упуская из вида, с одной стороны, духовное значение и идеальную сущность государства, с другой стороны, задачу творческого преобразования жизни, возложенную на последователей Христа, — эти теории видят противоположность там, где ее нет. Конечно, исторический опыт человечества измерил все великое расхождение между пустою и потому извращенною формою государственности и пустою, искаженною формою евангельского учения; однако это расхождение, эта противоположность между началом «насилия» и началом «аскетической покорности» нисколько не разрешает основного вопроса. Нормальное правосознание не только не исключает любви к ближнему, но ищет и находит пути для систематической организации ее социального осуществления, ибо
принять каждый правый интерес другого как свой собственный значит именно относиться к ближнему, как к самому себе. Правильно понятая политическая деятельность не только не исключает служения Богу, но, наоборот, является сама по себе достойным поклонением Ему «в духе и истине». Учение Христа никогда не призывало к отречению от чувства собственного духовного достоинства, но именно это правое чувство лежит в основе борьбы человека за свое естественное право. И обратно: нормальное правосознание не только не поощряет своекорыстия как двигателя человеческих поступков, но предполагает в человеке именно ту способность ставить Божие дело превыше всего, о которой Христос говорил как об основе всей жизни.
Напрасно анархисты и другие сторонники сверхполитического «идеализма» считают свою критику неотразимою и окончательною: они отвергают лишь пустую форму государственности, которую следует отвергать и не будучи анархистом. но они упускают из вида истинное содержание политической деятельности и потому критикуют то, чего не понимают сами. Убежденный анархист есть всегда жертва собственной политической наивности: он судит о праве и о государстве как понимающий, не только не понимая предмета, но и не подозревая о своем непонимании, ибо понимание дается здесь только в результате предметного созерцания цели государства и сущности политического единения. Именно наивность позволяет ему верить, что с «отменою» государства естественное правосознание внезапно созреет в душах людей и начнет определять собою их поведение, что поэтому положительное право не нужно, что жизнь может быть организована даже совсем вне права или что можно установить право помимо общепризнанной власти, что власть не нуждается в санкции организованного принуждения и т. д. Все это обнаруживает, что анархисты одержимы дефективным правосознанием и что пропаганда их остается восхвалением и популяризацией собственного духовного заблуждения.
Правильно понятое государственное правосознание не только не враждебно нравственно доброй воле, но принимает ее цель и служит ее задачам. Политическая жизнь покоится на братском настроении душ, и если это настроение исчезает, то вырождается и политическая жизнь. Право фактически служит не только «свободе», но и «братству», столь торжественно и в то же время столь беспомощно провозглашенному первой французской революцией. Но «братство» и есть тот способ отношения человека к человеку, глубочайшее истолкование которого дано Христом. Поэтому истинный политик имеет все основания признавать себя — по цели и по духу — христианином: ибо «кесарево» и «Божие» образуют в нормальном правосознании живое единство.
ФОРМА ГОСУДАРСТВА
Государство по своей основной идее есть духовный союз людей, обладающих зрелым правосознанием и властно утверждающих естественное право в братском, солидарном сотрудничестве.
Такова идея государства. Но, исторически говоря, оно лишь очень медленно приобретает эти идейно верные черты и осуществляет нередко, сохраняя свое наименование, целый ряд глубоких уклонений. Исправление этих недостатков и искажений возможно только с ростом, очищением и углублением правосознания; так что если история государства обнаруживает прогресс в смысле роста государственности, то этот прогресс должен быть понят как душевно-духовное возрастание человечества. Политический строй и правосознание образуют живое неразрывное единство настолько, что ни одна реформа невозможна до тех пор, пока не назреет известный сдвиг в правосознании; и всякая реформа, несоразмерная с состоянием народного правосознания, может оказаться нелепою и гибельною для государства. Единственно верный путь ко всяким реформам есть постепенное воспитание правосознания.
Именно на этом пути и только на нем разрешается основное противоречие между идеею государства и ее историческим осуществлением. Ибо, с одной стороны, государство живет правосознанием людей, а существенной чертой правосознания является способность к самоуправлению; отсюда, по идее, государство сводится ксамоуправлению народа. Однако, с другой стороны, единая и объективная цель государства настолько высока и требует от граждан стользретого правосознания, что, исторически говоря, народы оказываются неспособными ксамоуправлению, осуществляющему эту цель. И вот обнаруживается великое расхождение между идейною формою государства и его историческим обличием. Политическая философия должна вскрыть корни этого расхождения; государственная власть должна найти путь к его исцелению.
Проблема сводится к тому, что в идее государства есть корпорация, а в действительности оно яъляехсяучреждением. Проблема разрешается через сочетание учреждения с корпорацией, однако при соблюдении аристократической природы государства.
Необходимо признать, что история придала государству особую положительно-правовую форму, не укладывающуюся в обычные категории юриспруденции. Бесспорно, что государство есть нечто, способное к совершению самостоятельных правовых актов (например, объявление войны, заключение договора, из
дание закона, конфискация); поэтому оно должно быть признано не объектом права и не правоотношением, но субъектом права (лицом). Это есть, конечно, не «физическое лицо» (духовный индивидуум, единоличный субъект права), но «юридическое лицо» (социально организованный субъект права). Однако этим и исчерпывается всё, что могут определенно высказать о государстве обычные юридические категории.
Современная наука права знает два вида юридических лиц: «корпорации» и «учреждения». Но историческая форма государства, строго говоря, не может быть отнесена ни к одной из этих групп.
Отличие корпорации в том, что ее строй восходит от одинакового интереса к общему по принципу солидарности, причем из многих субъектов, одинаково заинтересованных, одинаково целеполагающих и уполномоченных, — слагается единый субъект с единым общим интересом, общею целью, общим «субстратом», с единым субъективно-правовым статусом и единою системою действий; интерес и полномочие, интерес и целеполагание, целеполагание и действование — не отрываются друг от друга самим существом корпорации, но остаются принципиально слитыми даже тогда, когда корпорация из практических соображений создает в своих собственных пределах целый ряд подчиненных и действующих от ее лица учреждений; в корпоративном единении заинтересованные сами устанавливают свою общую цель, сами несут полномочие и сами осуществляют полномочным действием ту цель, в которой они заинтересованы.
Напротив, самая сущность учреждения состоит в том, что интерес и полномочие, интерес и целеполагание, целеполагание и действование отрываются (или попарно могут оторваться) друг от друга и распределяются среди различных субъектов: заинтересованный не формулирует своей цели, но ее формулируют за него другие, со стороны; полномочия действовать во имя этой цели он также не имеет: субъект, полагающий цель, может быть совсем не заинтересован сам в ее осуществлении и не иметь полномочия действовать для ее достижения, а уполномоченный к действованию может быть совершенно чужд — и учреждающему целеполаганию, и житейской заинтересованности в данной цели. Именно вследствие этого учреждение слагается обычно не по принципу солидарности заинтересованных, а по принципу опеки над ними; единство не включает в себя множества, но противопоставляет себя ему; одинаковое не восходит к общности; сознание, признание, полномочная воля и действие заинтересованных не слагают
правового бытия и правового акта учреждения, но остаются индифферентными и могут отсутствовать*
Можно понимать государство по его основной сущности как корпорацию, а не как учреждение. Тогда его жизнь, будет осуществляться именно в восхождении от одинакового интереса к общему по принципу солидарности; граждане его связуются общею целью (духовное процветание родины и организация ее на основах права), общим субстратом (территория и вся остальная «природа») и общей организацией (единый союз, единая власть, единая система правовых норм, единый правопорядок). Тогда эта связь должна жить в их сознании, поддерживаться их признанием, питаться их полномочною волею и осуществляться их действием. Государство, по идее, пребывает не над гражданами, но живет в них. Оно творится не только для них (т. е. в их интересе), но ими и через них (безразлично пока, кем, как и насколько). Они сами приемлют ту цель, которая выражает их общий духовный интерес, и сами испытывают тот интерес, во имя которого они вступают в политическое единение. Государство существует в лице граждан; так что все граждане как организованное политическое единство составляют само государство. Граждане не причисляются к нему по принципу опеки; они вообще не противостоят ему, но включаются в него как призванные участники и творцы общего дела.
Согласно этому воззрению, государство является корпорацией. Однако это есть не частно-правовая корпорация, а публично-правовая, и здесь начинается целый ряд осложнений В число основных полномочий государства входит полномочие властно направлять жизнь политического союза: авторитетно и окончательно устанавливать правовые нормы и принудительно применять их к отношениям граждан. Государству свойственно творить в терминах положительного права, т. е. в порядке организованного властвования. Оно уполномочено не просить, а требовать; оно обязано не уговаривать несогласных, но авторитетно предписывать и запрещать, сохраняя в перспективе возможность, обязательность и неизбежность понуждения. И по отношению к этой власти, творящей объективно значащее право, граждане имеют обязанность подчинения и повиновения; так что, формально говоря, их согласие и несогласие безразлично — как для значения норм, так и для значения всякого личного правового статуса.
Этот публично-правовой характер государства выражается в том, что оно создает в своих пределах целый ряд учреждений, уполномоченных к власти и действующих формально по принципу
* Ср. положение больных в клинике, сумасшедших в лечебнице, призреваемых в богадельне, стипендиата перед лицом стипендии, подданных авторитарного государства.
опеки. Понятно, что это придает политическому строю характер авторитарности и гетерономии и уподобляет государство не корпорации, а учреждению. И действительно, исторически всякое государство живет и действует именно как учреждение.
Корпоративный строй требует от граждан прежде всего зрелого правосознания, ибо без него общий интерес останется неосознанным, принцип солидарности отпадет, интерес и политическое целеполагание разойдутся и в результате государство или перестанет существовать, или сложится по типу учреждения. И вот государство всегда имело и всегда будет иметь в своем составе граждан с незрелым правосознанием, ибо даже при совершенном строе в нем будут дети и несовершеннолетние, составляющие приблизительно половину всего населения, а может быть, и душевнобольные. Атак как для них правильное политическое целеполагание будет недоступным, то государство навсегда сохранит по отношению к ним (т. е., по-видимому, несколько больше, чем для половины своих граждан) характер учреждения. История присоединяет к ним еще всех граждан с незрелым правосознанием, фактически неспособных участвовать в жизни и творчестве публично-правовой корпорации. Они неспособны осознать свой интерес как политический, и вследствие этого их сознание, признание, воля и действие не могут создавать правового бытия и правового акта политического союза; государство остается для них учреждением: т. е. оно продолжает работать для них, но творит свою жизнь не через их изволение.
Все это означает, что государство в своем историческом осуществлении совмещает в себе черты корпорации с чертами учреждения. Его строй будет тем совершеннее, чем выше и сильнее будет уровень правосознания в стране, и соответственно, чем сильнее будет преобладание корпоративного духа над духом опекающего учреждения. Понятно, что политик, организующий государство, должен отправляться каждый раз от верного учета наличного уровня правосознания в данной стране, определяя согласно этому уровню ту жизненную комбинацию из «корпорации» и «учреждения», которая будет наилучшей для государства при данных обстоятельствах (при наличной территории, плотности населения, составе политических и хозяйственных задач, при уровне правосознания в стране и т. д.).
Найти эту исторически наилучшую комбинацию из «солидарного самоуправления и властвующей опеки» значит верно разрешить проблему организации государственной власти.
Природа государственной власти определяется тою целью, ради которой она создается, а эта цель есть цель самого государства. Это значит, что политическая власть служит родине,
т. е. национальному духовному расцвету: в этом служении она обретает, формулирует, ограждает и обеспечивает естественное право, придавая ему форму положительного правопорядка.
Отсюда уже ясно, что политическое властвование возлагает на человека величайшую ответственность: властвующий по самому призванию своему есть законодатель естественной правоты; поэтому он должен быть способен к предметному постижению Духа и Права, или, что то же, он должен обладать развитым и углубленным правосознанием. Законодатели, организаторы, судьи только тогда стоят на высоте своего призвания, когда они руководятся волею к цели права, а потому и к праву; когда они рассматривают всякое положительное право как явление естественной правоты и сами выступают в жизни ее исследователями и творцами. Именно это имел в виду Платон, когда говорил о «власти философов» и о «философствовании правителей».
Властвующий должен иметь верное понятие о верховной цели государства и его средствах Его правосознание должно иметь свои корни в доброй воле и патриотизме. Он должен непоколебимо верить в благородство государственности и в жизненную духовную необходимость политического единения. Он должен совмещать в себе изощренное видение права с непреклонною волею к его властному осуществлению, углубленное чувство ответственности со способностью к императивному решению. Властвующий не может быть без воли к власти, но эта воля должна быть не беспредметным властолюбием, а живым вдохновением государственности. Властитель, стоящий на высоте, видит в своем публичном полномочии не жадно блюдомую выгоду, но обязанность и ответственное бремя. Он не останавливается и перед бременем жизненно необходимого компромисса, но не «придумывает» для него санкции от лица совести и не извращает нравственную природу государства ложным учением о том, что «хорошая цель оправдывает всякие средства». Одним словом, властвующий должен сделать свою волю живым органом государственности, или, что то же, его душа должна быть предметно одержима государственною целью. И всякий дефект в его правосознании чреват тягостными последствиями для всего политического союза. Властитель, кто бы ни был он — законодатель, правитель или судья, — лишенный государственного смысла или патриотизма, одержимый злою волею, своекорыстием или классовым интересом, не чувствующий права, не верящий в назначение и силу государства и не сознающий своей ответственности, безвольный или трусливый — будет всегда истинным бедствием для своего союза: ибо деятельность его подрывает самое важное в политической жизни — веру в право и волю к государственному единению.
Все это можно выразить так, что во всяком государстве и при всяком строе власть должна принадлежать лучшим людям. По своей цели и по своему существу государство аристократично; вот аксиома, непоколебимая со времен Конфуция, Гераклита и Аристотеля. Государство, поставившее к власти худших людей или тем более вынесшее наверх общественных подонков, — переживает смертельный недуг, государство, «изгоняющее» или убивающее своих лучших людей. — нуждается «в перевороте» (Гераклит); государство, не умеющее выделить лучших граждан, — обречено на прострацию и вырождение. И при всем этом критерий, по которому определяются лучшие граждане, не условен, не относителен и не спорен: это есть способность к бескорыстному служению духу и способность к социальной организации братства; первая составляет этический ценз, вторая — политический ценз аристократии. Политическое «благородство» отнюдь не то же самое, что «древность рода», «знатность» или тем более «богатство»; это есть благородство воли и правосознания. И все «аристократии», осуществлявшиеся в истории, но не удовлетворявшие этому критерию, были правлением «лучших» только по имени
Далее, самая цель государства показывает, что власть фактически не может и не должна осуществляться всем народом сообща или в одинаковой степени.
В самом деле, существование политической организации не является само по себе ни самостоятельной, ни высшей целью человеческой жизни. Государство необходимо для того, чтобы ограждение естественных прав дало человеку возможность не только и не просто «жить», но вести жизнь, достойную человеческого духа. Поэтому политическая деятельность не может и не должна поглощать народных сил более, чем это необходимо, ибо в конечном счете государственный деятель остается не столько непосредственным творцом духа, сколько слугою народа и его духовных вождей. Народ учреждает или приемлет власть для того, чтобы жить и созидать, но не обратно. Именно поэтому процесс формирования власти есть всегда процесс социальной дифференциации, т. е. выделения некоторых, уполномоченных императивно осуществлять государственные цели. К этому присоединяются техническая невозможность творить власть большою массою: власть есть прежде всего живое действующее единство, требующее единого воленаправления и, следовательно, согласия отдельных воль в вопросе об общих задачах и общих средствах. Это единое воленаправление вырабатывается тем труднее, чем большее количество людей участвует в нем своим мнением и чем больше принцип субординации вытесняется началом сговора Политическая история знает примеры того, как целые учреждения, партии
и даже режимы гибли в бездействии и бесплодии потому, что в процессе организации нарушали закон экономии сил. Наконец, далеко не всякий гражданин обладает теми свойствами, которые необходимы для власти, — развитым правосознанием, верным пониманием государственной цели, неподкупною волею, научным разумением социально-экономических процессов, гражданским мужеством и организаторским даром. Способность к власти есть очень высокая квалификация личной души, а при современном историческом уровне человечества — людей, стоящих на таком уровне, окажется особенно немного.
Все это можно выразить так, что властвование от лица государства всегда было и всегда будет связано с определенным духовным «цензом»*. Отвергать это можно только по недоразумению или же вследствие полной некомпетентности в государственном деле. Мало того, следует прямо поставить вопрос о том, отвергает ли кто-нибудь вообще эту политическую аксиому. Ибо, насколько известно, никто и никогда не выдвигал столь нелепого утверждения, что всякий гражданин кактаковой способен осуществлять публично-правовое полномочие или, что то же, может обладать публично-правовою дееспособностью... Напротив, все политические писатели и все политические партии всегда признавали, что среди граждан есть люди, духовно незрелые и духовно несостоятельные, которым нелепо и пагубно поручать государственные функции, и найти разногласие в этом вопросе, по-видимому, прямо невозможно.
В самом деле, предоставить отправление публично-правовых полномочий малолетним или душевнобольным людям было бы настолько нелепо и пагубно для политического союза, что на этом никто не настаивает. Граждане, еще не приобретшие «зрелого и здравого разумения», уже утратившие его или никогда не имевшие его (юродивые), естественно, устраняются от дел, требующих такого разумения. И такое устранение покоится, очевидно, на признании государственной власти делом, требующим духовного ценза. Разногласие начинается только с вопроса о размерах этого ценза и о способах его определения.
Напрасно было бы думать, что всякий человек, достигший двадцатилетнего возраста и не сошедший явно с ума, способен строить государственную власть. Это значило бы поставить политику ниже всякого элементарного ремесла или рукоделия, требующего, кроме возраста и отсутствия помешательства, еще наличности соответствующего органа, телесной сноровки и хотя бы смутного сознания цели. И вот политическая деятельность не хуже любого ремесла или рукоделия требует, кроме возраста и
* Не смешивать с сословным, имущественным, профессиональным и вероисповедным цензом
«небезумия», — наличности соответствующего духовного органа, сознания государственной цели или хотя бы минимальных интеллектуальных навыков. Нелепо строить государственную власть, не обладая государственным правосознанием; плачевные результаты будут всегда обеспечены: это будет или противогосударственная власть, или государственное безвластие, или же — худшее — противогосударственное безвластие. Первое примет форму личного деспотизма или классовой диктатуры; второе создаст режим малодушия, уступок, попущения и, соответственно, режим государственного распыления, т. е. расхищения власти, распадения нации и территории; третье породит худший строй — охлократию: господство черни, руководимой демагогами Политическая история знает все эти пути и возможности; и, осуществляя их, она давала и дает доказательство того, что публичная дееспособность измеряется всецело государственным правосознанием.
Поэтому необходимо признать, что исторические государства, медленно и постепенно допуская народные массы к публичной деятельности, руководятся верным инстинктом самосохранения. Политический союз, не соблюдающий этой постепенности, рискует своим существованием, он предает свою судьбу в руки государственных младенцев или политических слабоум-цев, и дни его бывают сочтены. В этой верной постепенности нет ничего политически предосудительного; напротив, в ней есть глубокий смысл и государственная мудрость. Зато гибельным и преступным является поведение властвующих групп и классов, если они пользуются недееспособностью народа для того, чтобы подменить государственный интерес — классовым и удержать народное правосознание на низменном уровне. Этим они готовят беду не только себе, но и всему государству: они компрометируют самую идею политического единения, связывая ее в народном представлении с идеею классового своекорыстия; они воспитывают в народе слепое недоверие ко всякой власти, глухую злобу и темную жадность; они сами взращивают того Калибана, ту чернь, которая однажды, потеряв страх, попытается упразднить культуру и государство и открыто заменить политическую власть своекорыстным произволом. Такое поведение властвующих групп и классов свидетельствует о том, что их собственное правосознание далеко не соответствует необходимому уровню, что против них нужны формальные правовые гарантии, ибо лучшая, содержательная гарантия —благородство правосознания — отсутствует. И тягостным является положение того государства, в котором правящие группы не способны править в порядке истинной государственной опеки, а широкие массы не способны ни принять от них власть, ни осуществить формальные правовые гаран
тии. Такое государство не может строиться по типу учреждения, но не в состоянии обратиться и к корпоративному строю, и только общественная работа над развитием правосознания может спасти его от медленного распада.
Опасность такого злоупотребления властью свидетельствует, конечно, не о «ненужности» духовного ценза, но, наоборот, о его безусловной необходимости. Основная задача государственного устройства состоит в том, чтобы обеспечить выделение к власти лучших граждан, и можно сказать, что государственная зрелость широких масс определяется именно способностью к такому выделению. Государственная власть всегда и безусловно должна иметь аристократический характер; это первое основное требование, предшествующее всем остальным. И переход от режима государственной опеки к режиму государственного самоуправления имеет смысл лишь постольку, поскольку он не нарушает этого основного условия.
Исторически государство может быть описано так: по форме —это есть публичноеучреждение, медленно приближающееся к корпорации; по духу — это есть самоуправляющаяся корпорация. медленно втягивающая в себя широкие круги и народные массы. Политическая мудрость состоит в том, чтобы поддерживать режим опеки только в меру действительной необходимости и в то же время энергично работать над преодолением политической недееспособности масс или, иначе: воспитывать в массах дух корпоративного самоуправления и закреплять этот дух соответствующею государственною формою. Задача государственной опеки состоит не в том, чтобы поддерживать опекаемого в состоянии духовного несовершеннолетия, вменяемости, но в том, чтобы воспитывать опекаемого, сообщая ему способность к волевому самообузданию и самодисциплинированию — способность к самоопеке. Ибо государство сильно и достойно не тогда, когда власть влачит население к правопорядку против его воли, навязывая народу патриотическую солидарность посредством страха и казней, но тогда, когда в самом народе живет дух государственного патриотизма и политического добровольчества.
Согласно этому, одна из основных задач государственной власти есть политическое воспитание народа. Это значит, что широкие массы должны быть вовлекаемы в политическую жизнь до того, как за ними будет формально утверждена публичная дееспособность, или, что то же: только тот может приступить к отправлению публичных полномочий, кто осмыслил и усвоил свои публичные обязанности и запретности, ибо самоуправление и самоорганизация предполагают в массе высокую дисциплину, т. е. непоколебимую верность обязанностям и запретностям. Это
можно выразить еще так: широкие массы народа должны быть вовлекаемы в государственную жизнь сначала через правосознание, а потом только через политический акт. Ибо политический акт, не выросший из здорового правосознания, гибелен и бессмыслен, а здоровое правосознание, не изливающееся ни в какой определенный и оформленный политический акт, отнюдь не бессмысленно и не гибельно, — напротив, оно остается драгоценной способностью, возможностью грядущих достижений.
Можно признать, конечно, что человек, которому совсем не позволяют стоять на ногах и ходить, — так и не научится ходить. Однако ребенок, которого воспитатель ставит на ноги преждевременно и побуждает ходить, пока они еще не окрепли, — вырастает с изуродованными, кривыми ногами. Это означает, что народу необходимо упражняться в общественном самоуправлении; однако не в той сфере, в которой изволение окончательно строит государственную жизнь в ее основных жизнеопределяющих линиях. Важно, чтобы люди приучались к строительству и поддержанию общественных организаций, но нелепо, вредно и гибельно, когда эта школа общественного самоуправления, приучающая людей к азбуке координации и субординации, перемещается в сферу судьбоносных решений и государственной политики. Политика не терпит ни ребячества, ни игры, ни дилетантизма, ни маньякального экспериментаторства. И то, что уместно в сфере частной общественности — спорт и клубы, благотворительность и кооперация, — тому не место в вопросах национального водительства и обороны.
Все это, вместе взятое, дает нам возможность осветить вопрос о государственной форме и вопрос о демократии
Этот вопрос распадается при внимательном отношении на два различные вопроса: на вопрос обэмпирически-наиболее-це-лесообразной форме и на вопрос о наиболее совершенной форме.
Нет и не может быть единой политической формы, наиболее целесообразной для всех времен и для всех народов. Этому мечтательному и беспочвенному предрассудку пора угаснуть. Ибо политическая форма определяется всею совокупностью духовных и материальных данных у каждого отдельного народа и прежде всего присущим емууровнем правосознания. Для каждого данного народа в каждую данную эпоху наиболее целесообразна та политическая форма, которая наилучше учитывает присущую именно ему зрелость и прочность государственной воли и сообразует с нею ту комбинацию из корпоративного и опекающего начала, которая ведет и строит национальную жизнь. И притом эта форма должна вести народ именно к единой и объективной государственной цели и обеспечивать аристократическую при
роду власти. Понятно, что здесь не может быть единого разрешения; мало того, возможно, что наиболее целесообразною формою окажется rebus sic stantibus19, форма наименее духовно совершенная: так, чернь как таковая требует деспотического господства, и при отсутствии монархических предпосылок в стране — государство может оказаться обреченным на формутирании.
Иначе обстоит дело с вопросом о наиболее совершенной политической форме.
Здесь определенно можно установить, что наиболее совершенна та политическая форма, которая соответствует основным и неизменным аксиомам правосознания и обращается в душах граждан именно к этим аксиоматическим основам гражданственной жизни Таких аксиом можно указать три: 1) чувство собственного духовного достоинства и его проявления: уважение к себе, начало чести и духовного измерения жизни; 2) способность к волевому самоуправлению и ее проявления: принципиальность, убежденность, самодеятельность, дисциплина и долг, 3) взаимное доверие и уважение — гражданина к гражданину, гражданина к власти и власти к гражданину. И вот наиболее совершенна та политическая форма, которая соответствует этим аксиоматическим основам, взывает именно к ним и именно их приводит в действие в качестве политически движущего мотива
Это можно было бы выразить так, что наиболее совершенна та политическая форма, которая воспринимает в себя дух христианства и пропитывает ритм политического единения — началами любви, уважения и доверия, началами духовного самоутверждения бытового-земного самоотвержения и героизма. При таком подходе будет верно освещен и вопрос о демократии.
Демократия есть государственный строй, при котором власть организована по принципу корпоративного самоуправления. Отсюда вытекает уже все существенное.
Демократический строй есть способ государственного устроения. Следовательно, как и всякий другой строй, он ценен и допустим лишь в ту меру, в какую он не противоречит государственной цели. «Государство» есть родовое понятие; «демократическое государство» — видовое.
Вид, теряющий признаки рода, есть nonsens20, государство, пытающееся быть демократией ценою своего государственного бытия, — есть нелепое и обреченное явление. Иными словами: если вторжение широких масс в политику разрушает государство, то государство или погибнет, или найдет в себе силы остановить это вторжение и положить ему конец. Демократия как начало антигосударственное не имеет ни смысла, ни оправдания; она есть охлократия, т. е. правление черни, и этим уже предначертана ее судьба
Это значит, что демократия ценна и допустима лишь постольку, поскольку она создает аристократическое осуществление государственной цели, т. е. служит общему делу власти, права и духа. Демократия не есть ни высшая цель, ни самостоятельная цель; она есть лишь способ выделения немногихлучшг/х к власти, и притом один из способов. В качестве способа аристократиза-ции власти она и подлежит решающей оценке; в этом ее испытание и отсюда ее приговор. И если этот приговор отрицательный, то государство или обратится к другим способам, или погибнет.
Демократический строй сам по себе есть лишь форма: и потому его ценность зависит от того, какое содержание вольется в эту форму.
Так называемая «народная воля» имеет ценность лишь постольку, поскольку она верна политическому содержанию; вне этого она оказывается лишь дурным вожделением толпы, и качество этого дурного вожделения нисколько не становится выше оттого, что им увлечены многие или даже большинство. Не всякая «потребность народа» священна, ибо и человеку и многим людям бывают свойственны потребности, не заслуживающие удовлетворения. И вот, политически дееспособный народ должен уметь не только осознать свои потребности, но и понять их природу. их достоинство и затем произвести среди них отбор. И те потребности, которые духовно верны, должны быть постигнуты как общие и солидарные и вслед за тем введены в рамки публичного правосознания, для того чтобы можно было организовать их аристократическое осуществление. Только в этом значении «народная воля» есть нечто драгоценное, ибо народ перестает быть темною массою, толпою или механическою суммою классов и профессий: он является политически организованным, духовным единством, он выступает как единый национальный дух, верно и автономно осуществляющий свое назначение.
Так разрешается вопрос о государственной «форме». Она должна определяться во взаимодействии двух основ: единой, объективной государственной цели и наличного в стране уровня правосознания. Она должна всегда обеспечивать аристократическую природу власти и в то же время сообразовать размеры самоуправления народа со зрелостью и прочностью его государственной воли. Нет и не может быть единой политической формы, «наилучшей» для всех времен и народов: пора угаснуть этому мечтательному и беспочвенному предрассудку, пора политическим вождям и партиям приобщиться мудрости, сочетающей духовное ведение «единого» с эмпирическим видением «множественного и различного...» Единой наилучшей формы нет: но есть основные, непреходящие аксиомы власти и аксиомы пра
восознания, на соблюдении которых должна покоиться всякая правовая организация. Эти аксиомы определяются всецело природою человеческого духа и права.
АКСИОМЫ ВЛАСТИ
Исторический опыт человечества показывает, что авторитет положительного права и создающей его власти покоится не только на общественном сговоре, не только на полномочии законодателя, не только на внушительном воздействии приказа и угрозы, — но прежде всего и глубже всего на духовной правоте, или, что то же, на содержательной верности издаваемых повелений и норм. Именно эта духовная верность творимого права является всегда лучшим залогом того, что авторитет права и власти будет действительно признан правосознанием народа и что их политическая прочность соединится с жизненною продуктивностью. Духовная правота сама по себе обладает вообще некою с виду таинственною силою, которая импонирует даже и тем, кто восстает против нее, даже и тогда, когда она, по-видимому, остается вопиющею в пустоте. Это влияние правоты объясняется тем, что она обладает не только духовною ценностью, но и жизненною верностью, и в частности, изучение естественного права разрешает не только теоретическую проблему, но и насущный вопрос человеческого устроения. Духовно верное право верно не только «в теории»; нет, оно верно решает практические задачи общественности; оно устанавливает ту основу жизни, по отношению к которой все злободневные политические вопросы и затруднения являются лишь вторичными видоизменениями или частными случаями. Верное обретение этой личной и социальной духовной формы составляет глубочайшую и безусловную потребность человечества. Напрасно думать, что какое-нибудь очередное политическое задание может быть воистину разрешено вне утверждения этой духовно верной формы жизни: вне ее всякое «разрешение» будет мнимым — или условною отсрочкою, или источником новых бед. Спасение в одном: форма духа должна установить акт правосознания, содержание права и строение политической власти. Правовая и политическая жизнь должна быть верна своим глубоким, последним корням, а эти корни имеют духовную природу.
Это можно выразить так: необходимо, чтобы люди в их совместной жизни блюли некоторые элементарные, но священные основы права и государства. Вне этого ни одна политическая организация не создаст ничего, кроме разложения и страдания. Эти основы могут быть формулированы в виде ряда аксиом, и этот ряд при нисхождении от поверхности в глубину может быть разделен на две группы: одна содержит аксиомы власти, а другая аксиомы правосознания.
Политическое властвование состоит в социально сосредоточенном и юридически организованном влиянии воли одних, лучших и уполномоченных людей на волю других, подчиненных, причем подчиненные связуются не только правотою и силою власти, но и собственным правосознанием; это влияние должно служить торжеству естественного права, т. е. его обретению и осуществлению как единого и общего порядка жизни.
Это означает, что власть по родовой сущности своей есть сила, и притом волевая сила, а по видовому отличию своему она является правовою силою.
Власть есть прежде всего сила. Это выражается в том, что она есть способность к воздействию и влиянию. Бессильная власть есть в логическом отношении бессмыслица, а в государственном отношении пагубный призрак, фантом или симуляция; такая власть никому не нужна, ибо она лишена подлинной, жизненной реальности; она опасна и гибельна, потому что ведет весь государственный союз к разложению. Для того чтобы государство могло быть и действовать. ему необходима эта подлинная энергия, сосредоточенная и организованная в живое единство. Сущность жизни состоит в действии, и притом в целесообразном действии; способность же к такому действию есхъживая сила. Поэтому сказать «сильная власть» все равно, что сказать «подлинная, живая власть» или «власть, соответствующая своей природе и своему назначению». Государство со слабою властью нежизнеспособно. Ослабление и расшатание власти есть умерщвление государства. Поэтому всето, что слагает силу власти—авторитет, единство, правота цели, организованность и исполнительность понудительного аппарата, — все это образует самую основу государственного бытия.
В отличие от всякой физической силы государственная власть есть волевая сила. Это означает, что способ ее действия есть по самой природе своей внутренний, психический, и притом духовный. Физическая сила, т. е. способность к вещественно-телесному воздействию человека на человека, — необходима государственной власти, но она отнюдь не составляет основного способа действовать, присущего государству. Мало того, государственный строй тем совершеннее, чем менее он обращается к
физической силе, и именно тот строй, который тяготеет к исключительному господству физической силы, — подрывает себя и готовит себе разложение. «Меч» отнюдь не выражает сущность государственной власти; он есть лишь крайнее и болезненное ее средство; он составляет ее последнее слово и слабейшую из ее опор. Бывают положения и периоды, когда власть без меча есть негодная и гибельная власть, но это периоды исключительные и ненормальные. Нормально сила власти не в мече, а в авторитетном влиянии ее волевого императива.
Власть есть сила воли. Эта сила измеряется не только интенсивностью и активностью внутреннего волевого напряжения, осуществляемого властителем, но и авторитетною непреклонностью его внешних проявлений. Поэтому человек с нерешительною, колеблющеюся, раздвоенною волею, поддающийся непредметным влияниям, мягкий и уступчивый — неспособен к власти. Назначение власти втом, чтобы создавать в душах людей настроение определенности,завершенности, импульсивности и исполнительности. Властвующий должен не только хотеть и решать, но и других систематически приводить к согласному хотению и решению. Властвовать значит как бы налагать свою волю на волю других; однако с тем чтобы это наложение добровольно принималось теми, кто подчиняется. Властвование есть тонкий, художественно слагающийся процесс общения более могучей воли с более слабой волей. Этот процесс создает незримую и невесомую атмосферу тяготения периферии к центру, многих разрозненных воль к единой, организованной, ведущей воле. Созданиетакой атмосферы есть дело особого искусства, требующего не только интенсивности волевого бытия, но и душевно-духовной прозорливости, подлинного восприятия бессознательной жизни других и умения ее воспитывать. Властвующий должен сделать из своей воли, во-первых, силу, предметно одержимую государственною целью, и, во-вторых, действительный и единый волевой фокус народной жизни. Жизнь государства состоит в таком согласовании вслъ (координация), которое, оставаясь по существу добровольной координацией принимает форму волевой субординации (подчинения). И вот задача властвующего состоит в том, чтобы на путях подчинения воспитать волю к автономному согласованию и насытить духом этой добровольной координации — субординирующую форму государственности. Таково волевое задание власти, и только на этом основании государство может превратиться в действительное и неунизительное единение воль
К этому присоединяется правовой характер государственной власти. Он обозначает, что воля государства как разновидность человеческой воли не беспредметна и не развязана, но предметно
связана этическим содержанием. Этим определяется духовное, а не просто социально-психическое бытие государства Выделенная в процессе социальной дифференциации и политически организованная воля народа сохраняет свою духовную природу, свою объективную цель, свои принципы и свои мерила. Государственная власть соблюдает свою истинную духовную природу только тогда, если она остается верна своей цели, своим путям и средствам; она получает свое священное значение только из этой последней, духовной, нравственной и религиозной глубины.
В этих основополагающих соображениях содержатся уже, в сущности говоря, все аксиомы власти. Взятые вместе, они утверждают, что основная природа права и государства мирится не со всяким восхождением к власти, что есть пути к власти, вступать на которые — значит разрушать и самую власть, и государство. Борьба за государственную власть должна при всяких условиях сохранять свою политическую природу; в противном случае путь погубит самое достижение и средство убьет свою^ель. Политика имеет свои необходимые пути и формы, и людям никогда еще не удавалось нарушать и попирать их безнаказанно.
Первая аксиома власти гласит, что государственная власть не может принадлежать никому помимо правового полномочия.
Это явствует из того, что законодатель естественной правоты должен обладать особою — предметною и духовною компетентностью: только духовно-зрячий человек может иметь основание и право принять на себя властное руководство общественной жизнью. В порядке политической целесообразности этого требует принцип организации, покоящейся на разделении функций, на их распределении, на общественном соглашении и признании. Мало того, правосознание требует, чтобы самая власть воспринималась не как сила, порождающая право, но кзкполнсмочие, имеющее жизненное влияние (силу) только ъмеру своей правоты. Право родится не от силы, но исключительно от права и в конечном счете всегда от естественного права. Это значит, что грубая сила, захватившая власть, будет создавать положительное право лишь в ту меру, в какую правосознание людей согласится (под давлением каких бы то ни было соображений) признать ^уполномоченной силой
Власть, совсем лишенная правовой санкции, есть юридически индифферентное явление: она не имеет правового измерения Получить правовую санкцию она должна и от конституционного закона, и от признающего правосознания.
Власть, лишенная законной санкции, возникает в катастрофических случаях дезорганизации или переворота, и тогда ее задача и ее спасение в том, чтобы опереться на санкцию правосознания (своего и народного), которое одно только и компетентно создать
новую конституционную форму и тем восполнить недостающую формальную санкцию. Если же это ей не удастся и новая форма не буцет создана, то неизбежное разложение, проистекающее из непризнания власти и углубления дезорганизации, увлечет за собою и дефективную власть, и самое государство.
Власть, лишенная признания и уважения, обнаруживается в тех случаях, когда исторически сложившийся режим изживается и переживает себя, так что правосознание властвующих кругов отстает от роста народных потребностей и общественного правосознания; задача и спасениетакой власти состоитвтом, чтобы, опираясь на имеющуюся формальную санкцию закона, обновить свое политическое воленаправление и тем заслужить санкцию правосознания. Если же это ей не удастся и правосознание народа не примет ее, то ее настигнет переворот со всеми опасностями первого исхода.
Понятно, что власть, не уполномоченная ни конституционною формою, ни приемлющим правосознанием, — может только симулировать законодательство, управление и суд, ибо она останется претендующею и посягающею силою; и даже естественное право, случайно ею провозглашенное и утвержденное, останется или отвлеченною формулою, или навязанным и мертвым жизненным трафаретом. По-видимому, эта первая аксиома власти, требующая правового полномочия, поддерживается самою жизненною механикою государства.
Вторая аксиома власти утверждает, что государственная власть в пределах каждого политического союза должна быть едина.
Это явствует из того, что естественное право выражает необходимую форму самого духа и что поэтому оно само едино, как един Дух и едина Его правота. В порядке политической целесообразности этого требует принцип государственного единения, связующего множество людей именно их отношением к общему и единому источнику положительного права.
Единство государственной власти следует понимать, конечно, не в смысле единства «органа» или нераспределимости функций и компетенции, но в смысле единого организованного воленаправления, выражающегося в единстве обретаемого и осуществляемого права. В пределах одного союза в один и тот же момент одно и то же — не может быть сразу «правом» и «неправом». Положительное право по самому смыслу своему определительно, недвусмысленно и едино; это единство его есть проявление присутствующей в нем и освящающей его естественной правоты. И государственная власть, имеющая высокое назначение формулировать естественную правоту в виде положительных норм, получает отсюда значение единого и единственного компетентного источника права; так что только
полномочное приобщение к ней может сообщить человеку или органу правоустанавливающую компетенцию.
Правосознание по самому существу своему не может признать одинаково «правовыми» две исключающие друг друга нормы или два исключающие друг друга веления. И точно также оно не может признать одинаково «государственными» две исключающие друг друга или стоящие в противоборстве власти. В каждом политическом союзе государственная власть, несмотря на все свои разветвления, по самому существу своему единственна; наличность двух государственных властей свидетельствует о наличности двух политических союзов. Может быть так, что эти два «государства» только еще зарождаются или уже отживают, или же являются обломками распавшегося политического союза; но если две возникшие власти не сливаются в одну-единственную, то они рано или поздно начинают между собою борьбу из-за личного состава и территории юридического лица, и война между ними становится неизбежною. Поэтому государство, внутри которого возникли две власти, стоит перед гражданскою войною и внутренним разложением, а правосознанию приходится отметить попрание одной из аксиом власти и совершить выбор.
Третья аксиома власти утверждает, что государственная власть всегда должна осуществляться лучшшш людьми, удовлетворяющими этическому и политическому цензу.
Это определяется высотою, сложностью и ответственностью самого задания, разрешение которого предполагает в человеке художника естественной правоты. В порядке политической целесообразности этого требует принцип авторитета власти и принцип добровольного признания ее со стороны правосознания подчиненных. Власть, лишенная авторитета, хуже, чем явное безвластие; народ, принципиально отвергающий правление лучших или не умеющий его организовать и поддерживать, является чернью, и демагоги суть его достойные вожди.
Люди становятся чернью тогда, когда они берутся за государственное дело, движимые не политическим правосознанием, но частною корыстью; но именно поэтому они не ищут лучших людей и не хотят передавать им власть. К черни может принадлежать всякий: и богатый, и бедный, и темный человек, и интеллигент. Чернь отличается корыстною волею и убогим правосознанием, а в революционные эпохи сверх того и политическою притязательностью. Государственная власть есть для нее лишь удобное средство, служащее для достижения личных или классовых целей. Различие между публично-правовой сферою и частно-правовою, преимущественность публичного блага перед частным, священность публичной обязанности — все это недоступно черни; имен
но поэтому она веками берет и дает взятки, распродавая и расхищая государственное дело, уклоняется всеми средствами от обременительных повинностей, сохраняет безразличие в годину общественных бед, а в смутное время бунтует и грабит, легко меняя вождя и знамя. Чернь не понимает ни назначения государства, ни его путей и средств; она не знает общего интереса ине чувствует солидарности; именно поэтому она не способна к организации и дисциплине и легко распыляется при первом же энергичном сопротивлении государственно-организованных сил. Она совершенно лишена сознания государственного единства и воли к политическому единению, и потому, предоставленная себе, она быстро распадается на враждебные станы и шайки и начинает бесконечную гражданскую войну. Право есть для нее вопрос силы ловкости и удачи, и потому, видя силу на своей стороне, она обнаруживает дерзость и быстро становится наглою, а растерявшись, трепещет и пресмыкается. Чернь ненавидит государственную власть, пока эта власть не в ее руках, и ненавистничая, покоряется из страха, и покоряясь, ждет и требует от нее подачек Но, посадив свою власть, она не умеет дать ей — ни уважения, ни доверия, ни поддержки; она начинает подозревать и ее, проникается ненавистью и к ней и тем расшатывает и губит свое собственное противополитическое порождение А если ей все-таки удается создать некоторое подобие «режима», то этот «режим» осуществляет под видом «демократии» торжество жадности над общим благом, равенства над духом, лжи над доказательством и насилия над правом; этот «режим» зиждется на лести и подкупе и осуществляет власть демагогов.
В ряду корыстных честолюбцев, стремящихся к власти во что бы то ни стало, демагог занимает низшее место: ибо он выбирает путь, наиболее пагубный для народного правосознания. Он обращается к черни, ищет у нее успеха и получает власть из ее рук Для того, чтобы добиться этой «инвеституры»21, он пользуется всеми путями, не останавливаясь и перед такими, которые разрушают самое государство; он взывает к слепой, противогосударственной корысти, столь легко поглощающей темную душу и, разжигая ее до состояния страсти, говорит ей слова лести и подкупа. Он обращается кхудшему что есть в человеке, и это худшее полагает в основу политики и власти; он низводит государственное дело на уровень черни и ее понимания и на этом строит свой успех. Поэтому он есть худший враг народного правосознания и государственности
Демагог затемняет сознание массы, бросая ей в виде готовых популярных лозунгов соблазнительные для нее противогосударственные «идеи»; он развращает ее чувство, питая в ней аффекты ненависти и жадности; он совращает ее волю, наводя ее на противополитические и порочные цели. Демагог осуще
ствляет систему угождения темной массе; он мобилизует чернь там, где она уже имелась, и создает ее там, где ее еще не было. И в этом угождении он, естественно, восхваляет чернь, изображая ее «суверенным народом», и славит ее низкие вожделения и деяния, изображая их мнимую высоту и доблесть. Этим он воспитывает в душах политическую продажность: он внушает черни, будто государственная власть есть ее товар, который она может выгодно продать, и затем назначает цену этому товару в виде «политических» обещаний и посулов. Демагог ищет купить государственную власть так, как если бы эта власть действительно принадлежала темной толпе. И подкупая ее противогосударственными, неосуществимыми и нелепыми посулами, он осуществляет худший, ибо наиболее утонченный и развращающий, вид политической коррупции, и в то же время он творит политический обман, ибо нелепое обещание заведомо безнадежно, а осуществление противогосударственного посула, если бы оно было предпринято, погубило бы и посулившего демагога, и полуразрушенный уже политический союз. И так, нагромождая обман на подкуп, демагоги осуществляют распродажу с молотка государственной власти.
Так нарушение третьей аксиомы власти создает постепенно режим политической порочности и извращает в самом корне аристократическую природу государственности.
Четвертая аксиома власти утверждает, что политическая программа может включать в себя только такие меры, которые преследуют общий интерес.
Это явствует из того, что государственная власть имеет призвание утверждать естественное право, а естественное право совпадает именно с общим, духовным интересом народа и гражданина. В порядке политической целесообразности это определяется тем, что только служение общему интересу превращает государственную власть в действительный, авторитетный центр политического единения.
Эту аксиому можно выразить так, что программа власти должна быть приемлема для зрелого государственного правосознания; не просто для «наличного в народе правосознания», но для его духовно-верной, предметной глубины. Поставление себя лицом к лицу с этой глубиною правосознания и с общим государственным интересом — составляет основную задачу всякой честной политической партии.
Партия есть не шайка, не банда, не клика и не котерия22, именно постольку, поскольку она стремится создать государственную власть, а не просто захватить власть в государстве. Но воля к государственной власти есть тем самым воля к государственной цели,
которая не включает в себя никакого частного—личного или классового — интереса как такового. Поэтому политическая партия не может быть классовою по своей программе: она должна быть непременно всеклас овою, и притом сверхклассовою. Ибо государственная власть есть нечто единое для всех и общее всем, и поэтому программа, намечающая ее желанную и грядущую линию поведения, может содержать указания только на общие интересы. Партия, лишенная государственной программы, поддерживающая один классовый интерес, есть противогосударственная партия; она политически недееспособна; если она захватит власть, то она поведет нелепую и гибельную политику и погубит государство раньше, чем сила вещей заставит ее наскоро придумать политические добавления к ее противополитической программе.
Зрелое правосознание есть единственная сила, которая может обеспечить государственность партийных программ. При наличности такого правосознания партия от партии отличается не потому, чей интерес отстаивает каждая из них, ибо все отстаивают один и тот же интерес — государственный, но по тому, как они понимают этот единый и общий всем интерес. Тогда борьба партий является уже не конкурсом классовых претензий, но спорам политических пониманий. Тогда все партии хотят одного и того же: государственного, т. е. Бесклассового и сверхклассового, всегражданского блага; все партии выпрашивают единое воленаправление все партии стараются прежде всего отличить государственный интерес отличного и классового; и все сознают непозволительность построения программы по принципу корысти.
В результате этого партия может и должна быть своего рода политическим чистилищем: она очищает волю своих членов от противогосударственного своекорыстия, отрывая их близорукий взгляд от непосредственных эгоистических задач и заставляя их отыскивать духовные задания родины и государства; она приучает их побеждать личную и классовую жадность на самом пороге государственного акта: этим она воспитывает их души к государственному воленаправлению и подготовляет торжество политического разума над противополитическою страстью. Первая задача политической партии состоит в том, чтобы взрастить в своих членах верное публичное правосознание и объединить их в государственном единомыслии. Это вносит в государственную жизнь необходимую духовную гигиену, ибо освобождает ее от дурных и слепых страстей. Не ослепленная этими страстями, партия перестает видеть врага в другой партии, но находит в ней сотрудника в деле государственного разумения и строительства. Самое различие программ перестает быть вопиющим: ибо все программы вынашиваются в одинаковом направлении воли к единой цели. Взаимное
признание партий и классов совершается не в порядке взаимного давления, угроз или насилия, но в порядке взаимного государственного оправдания или приятия. Политика теряет характер скрытой гражданской войны и приобретает свою истинную высоту.
Тогда единство государственной цели не возникает в результате борьбы за власть — в виде «компромисса» или «равнодействующей», — но созревает в преддверии этой борьбы. Борьба за власть предполагает уже единство воленаправлений у граждан и у партий. Только при этом условии политическая борьба не разъединяет народ, а объединяет его вокруг единого, общего всем и одинаково чтимого источника права: государственной власти. Спор различных пониманий при наличности общих целей обеспечивает и достоинство предмета, и творческое сотрудничество разномыслящих И политика становится уже не крикливым торжищем, но исканием солидности и школою естественной правоты.
Однако нормальное восхождение к власти предполагает не только государственность программы, но и ее осуществимость. Поэтому пятая аксиома власти утверждает, что программа власти может включать в себя только осуществимые меры или реформы.
Это явствует из того, что задача государственной власти есть жизненная и действенная; призвание ее не в том, чтобы грезить о совершенном строе, но в том, чтобы творчески влить в жизнь народа возможный максимум естественно-правовой формы. В порядке политической целесообразности это определяется тем, что химерические и утопические затеи не только подрывают в народе доверие к власти, веру в политическую организацию вообще и волю к государственному строительству, но просто разлагают и губят государство.
Каковы бы ни были последние причины неосуществимости реформы — будь то естественные причины, технические или хозяйственные, — в глазах государственного деятеля они получают политический характер: ибо для вето «возможно» лишь то, что может быть осуществлено при данномуровне народного правосознания посредством императивной правовой организации. Это значит, что в каждый данный исторический момент он может осуществить лишь известную часть того, что, вообще говоря, необходимо для общего блага, и только эту часть он должен включить в «программу дня». Нарушение этой аксиомы порождает болезненное явление «политического максимализма» и ведет государство к разложению.
Именно принцип «осуществимости» заставляет партии иметь две программы: «максимальную» и «минимальную»; причем первая указывает на тот «идеал», во имя которого надлежит осуществлять вторую, а вторая устанавливает реформы, осуществимые rebus sie stantibus, т. е. при наличных исторических
условиях. Поэтому «программа-максимум», строго говоря, не есть программа; она описывает некую идеальную цель, которая теперь не может осуществиться; она перечисляет те меры и реформы, которые можно будет проводить в жизнь только тогда, когда осуществится программа-минимум и указанный в ней строй и когда при этом новом строе сложится новое правосознание. Партии, поддерживающие такое разделение программ, правы.
В общественном и политическом развитии есть своя необходимая последовательность, которою нельзя пренебрегать безнаказанно, и если партии начинают пренебрегать ею, то они вступают на путь злосчастных нелепостей и губят государство. Партия, стирающая различие между далекою целью, неосуществимою при настоящем положении вещей, и очередною, необходимою реформою, — является политически недееспособною. Ибо, включая максимальные пункты в программу дня, она дает избирателям заведомо неисполнимые обещания и призывает их к заведомо безнадежной борьбе; она побуждает «требовать» того, чего не только никто не может «дать», но чего и сам «требующий» не мог бы ни «взять», ни сделать, ни осуществить, если бы все согласились ему не мешать; она побуждает верить в возможность того, что на самом деле невозможно, и — обманом или самообманом — разжигая страсти, она будит в душах неутолимые притязания и готовит поверившим тяжелое разочарование. Убеждая в возможности невозможного, максималист начинает, с одной стороны, умалять, искажать и извращать далекую идеальную цель, с другой стороны, искажать и извращать окружающую действительность, то умалчивая о неблагоприятных явлениях, то выдумывая несуществующие и т. д. Таким образом, он вступает на путь бессознательной или сознательной политической лжи и тем подрывает государственное единение, ибо он нарушает необходимое доверие людей друг к другу — и партии к вождям, и партии к другим партиям, и, главное, неорганизованной массы народа к партиям и ко всей политике вообш,е.Политическийиндифферентизм иупадок правосознания являются зрелым плодом этой тактики.
В самом деле, двигаясь по этому пути, максималисты заражают других тем недугом, которым страдают сами: своеобразною болезнью политической перспективы — дурною дальнозоркостью, она заставляет их видеть далекое как близкое, а близкого не видеть вовсе. Они всегда имеют дело с воображаемою действительностью, воображая ее так, как это соответствует их желаниям; благодаря этому суждение их о событиях, о цели и средствах получает характер постоянного уклонения от истины и от целесообразности. Они начинают галлюцинировать в политике и служить химере. Ими руководит слепая вера во всемогущество «революционного акта», в
созидающую силу разрушения; эта вера вовлекает их в слепую борьбу за неосуществимую цель, а слепая борьба заставляет их судорожно хвататься за все средства и не останавливаться ни перед какими мерами. И трагедия этого судорожного метания от средства к средству и этой неразборчивости в мерах состоит в том, что перед лицом неосуществимой цели все средства, и даже самые беспринципные и дурные, одинаково бессильны.
А между тем, обращаясь ко всем и ко всяким средствам, борьба теряет и организованную форму, и политический характер. Прилепившись к неосуществимым целям, тактика максималистов отворачивается от публично-правового пути, восходящего через воспитание правосознания и через планомерную организацию народа — к полномочию властвовать от лица государства. Понятно, что этот путь не сулит и не может сулить осуществления максимальных требований, и максималисты покидают его. Они ищут не права и не публичного полномочия, но фактического обладания и обращаются к нарушению публичного и частного права — захватам. Политическое движение превращается в состязание сильных и ловких правонарушителей друг с другом, в своего рода торжество «кулачного права», в гражданскую войну, люди ищут улучшения жизни на пути краж, поджогов, погромов, вооруженных нападений, взаимных убийств и классового террора. Слепота усиливает беспомощность и ненависть, а ненависть и жадность не позволяют душе одуматься и прозреть. И только утомление и общее расстройство жизни может остановить этот процесс слепого самоистребления. А государственное разложение и связанные с ним бедствия останутся надолго печальным памятником того, что была нарушена аксиоматическая основа государственной власти.
Наконец, шестая аксиома власти утверждает, что государственная власть принципиально связана распределяющей справедливостью, но что она имеет право и обязанность отступать от нее тогда и только тогда, когда это требует поддержание национально-духовного и государственного бытия народа.
Это явствует из того, что национальная духовная культура есть та общая первооснова жизни, помимо которой индивидуальный дух существовать не может; интерес же этой культуры включает в себя всякий индивидуальный интерес, подобно тому как интерес организма включает в себя и подчиняет себе отдел fa-ные интересы всех своих членов. В порядке политической целесообразности это определяется тем, что государство как целое имеет известные самостоятельные задачи, решение которых бывает иногда возможным только при условии отказа от справедливого учета и ограждения всех интересов всех групп и классов; последовательное и немедленное проведение справедливости
может при известных условиях разрушить национальное и политическое бытие народа.
Водворение справедливости в общественной жизни людей является, несомненно, одною из основных задач государственной власти: это вытекает уже из самой природы права и государства. Однако реальные условия государственного существования бывают таковы, что поставление этой задачи выше всех остальных может привести государство к гибели и разложению. Это означает, что в составе духовно-верных и справедливых реформ могут оказаться такие, которые придется признать политически неосуществимыми. Государственная власть не всемогуща: она скована политическою неосуществимостью и вынуждена сообразоваться с нею. Политически неосуществимо, прежде всего, все то, чторазрушает самое государство — в его организации, или в его личном составе, или в его необходимом «субстрате», и далее, все то, что превышает наличные силы народного правосознания и народной организованности. Власть не должна и не может проводить реформ, разрушающих самое бытие государства или попирающих жизнь и автономию национального духа. Поддержание государства как автономной формы национального духа, как жилища и как ограды национальной духовной культуры составляет ту грань, которая ненарушима для государственной власти и перед которой должен склониться всякий, и даже самый справедливый и духовно-верный интерес граждан.
Это станет особенно наглядным, если, например, истолковать социальную справедливость в смысле «формального уравнения всех граждан во всех отношениях». Водворение такой (уравнивающей) «справедливости» оказалось бы государственно пагубным, и поэтому оно должно быть признано политически неосуществимым. Жизнь государственно-организованного народа есть процесс глубоко дифференцированный, покоящийся на различии в способностях, занятиях и укладах и создающий, в свою очередь, эти различия. Формальное уравнение может только разрушить это живое и согласное единство разнодействующих сил. Государство как духовный союз заинтересовано не в том, чтобы устранить духовные различия между людьми, но в том, чтобы обеспечить этим различиям свободный творческий исход, полноту бытия и жизненное примирение. Перед лицом этой задачи формальное уравнение будет всегда духовно противоестественным; аристократическая же сущность государства исключит его и в смысле политической приемлемости.
Однако на самом деле социальная справедливость совсем не сводится к формальному уравнению граждан. Она состоит в беспристрастном, предметномучете, признании и ограждении каж
дого индивидуального духовного субъекта во всех его существен-ных< воиствахиосновательныхпритязаниях.Это значит, что сущность ее не в слепоте к человеческим различиям, но в признании их и в приспособлении к ним. Социальная справедливость совсем не уравнивает людей, т. е. не «утверждает» их одинаковости, которой на самом деле нет, и не «делает» их одинаковыми, что на самом деле и невозможно. Она требует, во-первых, одинакового предметного беспристрастия в рассмотрении человеческих сходств и различий, во-вторых, устойчивого содержания д ля тех мерил и масштабов, по которым совершается это рассмотрение, и, в-третьих, действительного соответствия между данным различием и связуемыми с ним правовыми и жизненными последствиями. Понятно, что справедливость в таком «распределяющем» значении требует правового неравенства и создает его, связуя, например, публичную дееспособность (голосование, служба) с известным духовным цензом или вводя подоходное прогрессивное обложение.
И вот, принципиально говоря, власть связанараспределяющей справедливостью, и корыстное попирание ее никогда не проходит ей безнаказанно. Режим, поддерживающий без достаточных оснований несправедливые привилегии, есть режим противопо-литический, он компрометирует достоинство государственной власти и подрывает волю к государственному единению. Такой режим не может быть прочен, ибо он сам воспитывает те центробежные силы, которые рано или поздно разложат его и поставят вопрос о самом существовании государства. И тогда — или политический союз погибнет, или же восстановится его сверхклассовая природа. Это можно выразить так, что всякое отступление власти от справедливости, всякое неудовлетворение духовно-верного интереса граждан — должны быть открыто оправданы предметным указанием на политическую неосуществимость обратного: справедливый интерес может быть и должен быть оставлен без удовлетворения, или «урезан», или «отложен», если его удовлетворение угрожает самому существованию государства или наносит ущерб национально-духовному развитию. Нельзя вводить во имя справедливости такой государственный строй, который погубит самое государство или разложит и погасит духовную жизнь народа: ибо справедливость служит духу, а не дух — справедливости. Нелепо осуществлять политическое «внутреннее противоречие», зная заранее о его жизненной обреченности: не стоит бороться за справедливую жизнь с тем, чтобы погубить и справедливость, и жизнь. Имущественное уравнение, особенно в условиях капиталистического производства и при низком уровне правосознания, может послужить примером такой политической неосуществимости.
Таковы основные аксиомы власти. И можно сказать с уверенностью, что грядущая судьба государственности связана с их усвоением и осуществлением.
ПРАВОСОЗНАНИЕ И УГОЛОВНАЯ ВИНА
Решение проблем уголовной вины и наказания возможно только на основании целостного и зрелого учения о правосознании. Виновность и невиновность человека, устанавливаемая уголовным судом, определяется не чем иным, как именно состоянием его правосознания, т. е. отношением руководившей им воли — к цели права, а потому и к праву Согласно этому, правонарушитель будет виновен в том случае, если он нарушил норму положительного права по недостаточной воле к цели права и к праву как необходимому средству, и будет невиновен в том случае, если верный правопорядок был его целью и его мотивом. Признать и последовательно осуществить такое понимание уголовной вины значит разрешить одну из великих очередных задач уголовной науки и практики.
Формально говоря, нарушение положительной нормы, по каким бы мотивам оно ни состоялось, — есть правонарушение, ибо оно превышает полномочия и не соблюдает обязанности, имеющие значение de jure; если же оно тем самым преступает запретности, установленные в нормах положительного права под страхом наказания за вину, то совершающий его подлежит уголовной ответственности — следствию и суду. Однако уголовный суд, верно понимающий свою задачу и предметно исследующий деяние подсудимого, не будет в состоянии найти в нем элемент правовой вины, осудить правонарушителя и возложить на него наказание, если деяние его проистекало из доброй воли, стремящейся к цели права и к праву.
Согласно такому пониманию, раскрывающему основную природу суда присяжных, а вместе с тем и сущность всякого уголовного суда, — не все уголовные правонарушения совершаются виновным образом. Согласно общему правилу, подсудимый может быть осужден только за деяние, запрещенное под страхом наказания, но это не значит, что он должен быть осужден за всякое такое деяние: возможно нарушение закона, при котором совершивший его свободен от вины, — но не потому, что он был
«невменяем» (т. е. неспособен к разумному волеопределению), а по другим основаниям. Присяжным предоставляется право решать вопрос о наличности этих оснований «единственно» по «внут-реннемуубеждению», которое слагается в результате «всесторонней оценки всех субъективных условий виновности»
Эти субъективные условия виновности всегда индивидуальны и своеобразны не только у каждого преступника, но и при каждом единичном преступлении. Они имеют не внешний, телесно-физический характер, но внутреннюю, душевно-духовную природу: так, присяжные могут, признав, что внешнее, правонарушающее деяние налицо и что оно осуществлено именно подсудимым, установить вслед за тем его невиновность. Виновность человека определяется внутренним состоянием его души и духа, а не внешним деянием, фактическая наличность и уголовная предусмотренность которого дают лишь основание для начатия предварительного следствия. Душевно-духовное состояние подсудимого рассматривается на суде со стороны сознания и вали-. он должен быть осужден, если его деяние проистекало из «полного сознания» и «преступной воли». Однако та «сознательность», которая должна быть налицо для обвинения, совсем не исчерпывается ни знанием о противозаконности данного действия, ни отчетливым сознанием о своем поступке, ни полным предвидением его последствий: налицо может быть не только «умысел», но глубокая и всесторонняя продуманность поступка — и это не может помешать присяжным вынести оправдательный приговор при наличности известных субъективных условий. Точно так же, та «преступность» воли, которая должна быть налицо для обвинения, совсем не определяется ни причинной связью между живым хотением и жизненным последствием поступка, ни естественным слабоволием подсудимого, ни решением или намерением совершить запрещенное действие: «преступившая воля» совсем еще не есть тем самым «преступная воля», и присяжные могут вынести оправдательный вердикт преднамеренному нарушителю запрета, но, конечно, при наличности известных субъективных условий.
Эти субъективные условия, оправдывающие подсудимого вопреки всему остальному, скрываются в его правосознании и определяются теми мотивами и целями, которые вызвали к жизни запрещенное действие. Это означает, что приговор присяжных зависит не от того, знал ли подсудимый, что он нарушает норму положительного права, и хотел ли он ее нарушить, но от того, что именно подвигло его к этому и какую цель он преследовал.
* Ср. Устав уголовного судопроизводства (в дореволюционной России), сост. Шрамченко и Ширковым, изд. 6.1913 г., ст. 804, доп. 1,2,3, с. 809 и 810.
Разрешая вопрос о виновности, суд должен рассмотреть и установить: каковы были цели и мотивы, владевшие душою подсудимого во время действия, и в каком отношении стоят эти цели и мотивы — к целям и мотивам нормального правосознания. Здесь опять обнаруживается, что мотивы и цели входят в самую сущность как повинующегося, так и преступающего правосознания: они-то и определяют виновность человека. Нормальное правосознание имеет свои цели и живет своими мотивами; в чем эти цели и каковы эти мотивы — закон не говорит и правовая теория доселе не разъяснила; закон предоставляет знать об этом — «совести» присяжных и заседателей* и проявляет в этом великое доверие к человеческому духу Для того чтобы быть достойными этого доверия, присяжные, подобно законодателю, должны осуществить в себе акт правовой совести, предметно свидетельствующий о том, какими объективнолучшими содержаниями живет нормальное правосознание; они должны как бы «ощутить» по мере сил своих основную идею права и его цель и для этого внутренне воззвать к доброй воле как естественной основе правосознания. Чуткий и совестный человек, выступая в качестве присяжного, совершает глубокую внутреннюю работу: ибо совесть у человека — одна, и показания ее о праве (в качестве «правовой совести») неизбежно приводят в движение ее последнюю нравственную глубину; именно эта работа и только она может сделать уголовного судью — художником естественной правоты.
Итак, суждение о виновности человека есть результат (смутного или отчетливого, воображаемого или предметного) — сопоставления: фактически данных мотивов и целей с мотивами и целями нормального правосознания, а если условно приравнять представляемое содержание цели — содержанию волевого мотива (последнее всегда сложнее, бессознательнее, неразумнее), то можно будет сказать: уголовная виновность определяется расхождением субъективной воли, породившей правонарушение, с единою объективною целью всякого права, а степень виновности определяется степенью и сознательностью этого расхождения в данном действии подсудимого. Человек виноват в том случае, когда его воля, создавшая правонарушение, попирает цель права. Сознание этого живет не только в каждом предметном приговоре суда присяжных, но и в сердцах простых людей: они знают, что люди, увлекаемые страстями, часто попирают цель права, но при этом нередко избегают уголовного правонарушения, что виновных по праву и перед правом гораздо больше, чем подсудимых, и что, с другой стороны, есть немало подсудимых, а может быть, и осужденных, совершивших «невиновное» правонарушение Вот
* См. там же с. 804, доп. 2 и 4.
почему народная мудрость советует «не открещиваться от тюрьмы» и называет осужденных — «несчастными».
Но если виновен тот, чья преступившая воля попрала цель права, то это можно выразить и так виновная воля попирает сущность права, ибо то, что составляет существеннуюприроду права, определяется именно его целью. Эта сущность права, как уже показано, лежит в основе положительного права и скрывается в его глубине; поэтому вопрос о виновности может быть формулирован так не стремился ли подсудимый, нарушая положительно-правовой запрет, нарушить и попрать то, что составляет скрытую в нем сущность права, т. е. естественно-правовую основу положительной нормы? Он будет признан виновным, если воля его тяготела к этому.
Все это можно выразить так, что духовная противоправность деяния, составляющая вину, не совпадает с формальной неправомерностью его, полагающей лишь начало уголовной реакции: воля, преступившая запрет и совершившая неправомерный поступок, может быть признана не преступной, т. е. не противоправной, и, следовательно, не виновной волей. Напротив, виновность состоит всегда в противоправности воленаправления, т. е. в более или менее сознательном и дерзающем поставлении своей, частной цели — над целью права, в попрании второй ради осуществления первой. Иными словами: подсудимый виновен в том случае, если он нарушил норму положительного права ради такой своей частной цели, которая несовместима со свободным, справедливым и мирным сожительством людей. Виновен тот, кто нарушает положительное право, исходя из такой в высшем смысле противоправной цели, и степень его виновности зависит от того, какой вид имела в его душе эта противоправность: обнаружила ли она обычный для подсудимого уровень воленаправления (правосознание «привычного» преступника), или же это было исключительное уклонение, и притом повторное (правосознание «рецидивиста»), или случайное (правосознание «случайного» нарушителя), и далее, имело ли это противоправное воленаправление в момент преступления — характер отвергающего правовую цель намерения (отсутствие правой воли) или только пренебрегающей правовою целью неосторожности (дефектправой воли), и наконец, насколько эта противоправность сложилась «сознательно», т. е. насколько сознание было вовлечено и поглощено служением противоправной воле (градация дефектов в знании и сознании высшей и низшей противоправности). Все эти разновидности виновного правосознания должны, конечно, найти д ля себя классификацию.
Таким образом, термин «виновности» квалифицирует состояние преступившей если в момент совершения запретного деяния. Отсюда уже ясно, что вопрос о наказании должен быть
отделяем на суде от вопроса о виновности и рассматриваем самостоятельно: ибо наказание возлагается на человека не в момент совершения преступления, а через известный промежуток времени, в течение которого состояние преступившей воли могло радикально измениться. Человек, преступивший запрет по дефекту или отсутствию правой воли или сознания, мог пережить в самом деянии своем или в привлечении к судебной ответственности — некое обновляющее и перерождающее потрясение души, вырастившее в нем здоровое и устойчивое правосознание. Совершая преступление, он был виновен и тогда, может быть, нуждался в организованном воздействии на его правосознание, и, может быть, если бы формы общественного взаимовоспитания были более совершенно развиты и осуществляли бы организованную реакцию на дурные поступки в порядке «уголовной морали» и «нравов» — то его правосознание не привело бы его совсем на скамью подсудимых. Однако в момент суда он, может быть, уже совсем не нуждается в постороннем воздействии на его правосознание или, если нуждается, то в самой мягкой и бережной форме.
Уголовное наказание имеет и только и может иметь одно единое назначение принудительное воспитание правосозн^ Присудить человека к наказанию значит признать, что его правосознание находится в данный момент в таком состоянии, что для него необходимо подвергнуть его обязательному, публично организованному взращиванию и укреплению; это значит признать, что он не может быть предоставлен, без дальнейших мероприятий обычной нормальной жизни, свойственной человеку как самоуправляющемуся духовному центру; это значит признать, что за период времени между преступлением и судом он не сумел самостоятельно познать неправоту своей преступившей воли и преодолеть ее силу в порядке самовоспитания. Но для того, чтобы признать это, наличное состояние его правосознания должно быть подвергнуто особому, самостоятельному рассмотрению или в суде, или же в особой коллегии, компетентной в исследовании правосознания, и в путях его живого воспитания. «Наказанию» подлежит тот, кто не может, не умеет или не хочет побороть в себе противоправную волю, но это означает, что наказание не есть уже «наказание», а социальнопедагогическая мера и что характер этой меры должен быть в применении ее строго индивидуализирован.
При таком понимании уголовной вины оказывается, что возможно не только «невиновное» нарушение запрета, но и не подлежащее наказанию «виновное» преступление. Вопрос о «вине» и вопрос о «наказании» ставятся и разрешаются порознь, но в строгой последовательности, так что признание виновности еще не предрешает вопроса о наказуемости вины, а присуждение к наказа
нию возможно только после квалификации наличного правосознания. В то же время «наказание» утрачивает свой позорящий характер и не отмеряется по формальному масштабу; его непосредственной целью остается исправление правосознания, и на основании этого отвергаются все меры возмездия, не укрепляющие, но расшатывающие правосознание или тем более прекращающие его жизнь (смертная казнь). Современный уголовный процесс оказывается глубоко неудовлетворительным, и даже суд присяжных получает существенное переустройство: его основная идея — «интуитивно-совестное суждение свободного коллегиального правосознания о воленаправлении подсудимого» — раскрывается во всем ее значении и глубине и получает сознательное дифференцированное осуществление; мало того, задача уголовного суда устанавливается как единственная и универсальная для всех его форм: на основании внешнего акта, нарушающего положительно-правовую запретность, исследовать и квалифицировать правосознание нарушителя, устанавливая противоправность его воли в момент деяния (виновность) и в момент суда (наказуемость). Понятно, что при таком разрешении проблемы институт «условного осуждения», учение «об опасном состоянии» преступника и углубленная реформа пенитенциарной системы получат свою истинную основу и полное признание. Присяжные заседатели поймут, о чем их спрашивают, и не будут вынуждены констатировать отсутствие вины там, где она была налицо, но теперь духовно преодолена подсудимым. Уголовный суд будет отправляться от уверенности, что «право» не то же самое, что «данное положительное право», и что правосознание не есть слепая воля к покорности исторически данным позитивным нормам — к повиновению несправед ливому праву во что бы то ни стало и при всякихусловиях. Только признающее, зрячее и творческое повиновение праву способно поддерживать на высоте его содержание и самую жизнь духа.
Естественно, что уголовный суд, верно понимающий свою задачу и предметно исследующий деяние человека как целостное проявление его правосознания, не признает подсудимого ни виновным, ни заслуживающим «наказания», если убедится, что нарушение запрета проистекало из воли к праву и его цели. Не встречая помехи в ошибочной организации процесса, в ложных теориях и посторонних тенденциях, зоркое око правосудия неизбежно увидит и открыто признает за видимым неповиновением праву — искреннее иубежденное служение Праву; оно установит здесь отсутствие всякого посягательства на сущность правопорядка и констатирует лишь наличность более или менее удачного правотворческого искания. Не может быть уголовной вины в деянии, не нарушающем естественной правоты и вызван
ном к жизни подлинною волею к цели права и к усовершенствованию положительных норм. Полное отсутствие гибкости в конституции, использованность других путей, наличность воли к общему и принципиальное признание положительного права — довершают те условия, в которых правосознание «преступило», но осталось свободным отуголовной вины: в борьбе с неотмени-мостью неправого права, с негибкостью конституции оно не покидает публично-правового пути, но совершает вынужденный переход от законодательного порядка к другому, представляющему сложное сочетание из обычно-правового порядка, непосредственного, предвосхищающего применения legis ferendae23, и первоначального, учреждающего провозглашения.
Таким образом, в борьбе за естественное право и за достойную жизнь правосознание не видит себя покидающим пути Права даже тогда, когда решается нарушить тот или иной позитивный запрет. Оно сознает, что, нарушая «право», осуществляет Право и что осудить и присудить его носителя можно только или вследствие неверной организации уголовного суда, или в виде внеправовой расправы. Если «наказание» есть мера принудительного воспитания и укрепление больного или слабого правосознания, то здесь оно оказывается ненужным: правосознание, которое умеет ради Права и права принять на себя по Праву бремя правонарушения и сохранить свою уголовную невиновность, нуждается не в исправлении, а в предметном изучении и подражании. И не естественно ли, что изучающему этот исход вспоминается образ Сократа, назначившего себе пред лицом осудивших его афинских судей справедливое возмездие — в виде почетного стола в Пританее.
ОСНОВА ЗДОРОВОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
Из всего, высказанного мною доселе, должно быть уже ясным, что есть здоровое правосознание. Это есть нечто более широкое и глубокое, чем «сознание» как таковое. В правосознании участвует не только «знание» и «мышление», но и воображение, и воля, и чувство, и вся человеческая душа. Недостаточно верно знать свои правовые полномочия, обязанности и запретности; бывают люди, которые отлично знают их и постоянно злоупотребляют этим знанием для того, чтобы превысить свои полномочия, преуменьшить свои обязанности и сложить с себя запретности. Необходи
мо не только знать все это, но и признавать в порядке самовмене-ния и, признавая, иметь достаточную силу воли для того, чтобы соблюдать признанное. Надо обратиться к своему инстинкту и приучить его к «законопослушности» или «лояльности», а это удастся только тому, в ком живет духовность инстинкта, достаточно сильная и определенная, чтобы усвоить духовный смысл права, его цель и его назначение.
Напрасно думать, будто духи инстинкт враждебны друг другу: будто они несовместимы и находятся в вечной борьбе. Это не соответствует действительности. Конечно, бывают люди, почти не живущие духом, безразличные к духовному началу и духовным содержаниям; они живут духовно безразличным инстинктом, которому и следует вся их деятельность. Но и у них дух может внезапно загореться в глубине инстинкта и привести их к необычным д ля них проявлениям совести, молитвы, художественно-верного выбора, чувства права или справедливости, милосердия, щедрости и любви. А задача верного воспитания состоит именно в том, чтобы с детства проявить в человеческом инстинкте духовное начало, и притом не в смысле дисциплинарно навязанного обыкновения, а в смысле свободной радости и свободного предпочтения.
Где-то в глубине бессознательного живет священная способность человека отличатьлучшее т худшего, предпочитать именно лучшее, радоваться ему, желать его, и любить его. С этого и начинается духовность человека, в этом и состоит жизнь духа. При этом, говоря о «лучшем», надо разуметь не субъективно-приятное или удобное, а объектглвно-совершеннейшее в смысле художественном, нравственном, социальном и религиозном. Человеку дано от Бога и от природы некое инстинктивное чувствилище для объективно-лучшего, и воспитать ребенка значит пробудить и укрепить в нем на всю жизнь это инстинктивное чувствилище. В искусстве это называется художественным чутьем или «вкусом», в нравственности — совестью, или чувством справедливости, или еще органической добротой души, в науке — чувством истины или иногда очевидностью, в религии—жаждою Совершенства, молитвою или иногда Богосозерцанием, в общественной жизни это выражается в здоровом и крепком правосознании.
Поэтому правосознание можно было бы описать как естественное чувство права и правоты или как особую духовную настроенность инстинкта в отношении к себе и к другим людям. Правосознание есть особого рода инстинктивное правочувствие, в котором человек утверждает свою собственную духовность и признает духовность других людей; отсюда и основные аксиомы правосознания: чувство собственного духовного достоинства, способность к самообязыванию и самоуправлению и взаимное
уважение и доверие людей друг к другу Эти аксиомы учат человека самостоянию, свободе, совместности, взаимности и солидарности. И прежде всего, и больше всего — духовной воле
Можно было бы сказать, что правосознание есть инстинктивная воля к духу, к справедливости и ко всяческому добру. Но именно поэтому—живой корень его надо искать в религиозном чувстве и в совести. Можно представить себе, конечно, правосознание вне религии и вне совести, но это будет что-то вроде воли, лишенной неба и земли, это будет дисциплина влечений, а не качественное и не творческое начало жизни, черствая форма, лишенная дара любви и дара созерцания.
Право в его основной сущности есть необходимый для человека образ его духовной жизни на земле, или иначе: необходимая форма «встречи» между верховным благом и человеческою душою. Право есть прежде всего право человека быть независимым духом, право бытия и право свободы, право самостоятельно обращаться к Богу, искать, находить, исповедовать и осуществлять узренное и предпочтенное совершенство. Одним словом: право есть атрибут духа, его способ жизни, его необходимое проявление. А правосознание есть воля к верному праву и к единой, верховной цели права как таковой
Эта связь между правом и духом настолько подлинна и существенна, что вне признания ее — ясного и зрелого или незрелого, лишь предчувствующего — невозможна жизнь нормального правосознания. Только духовная жизнь человечества нуждается в естественном и содержательно совершенном праве; только душа, имеющая орган для (сознательной или бессознательной) духовной жизни, способна к нормальному правосознанию. Человеку-животному можно совсем обойтись без права; он будет осуществлять торжество наивной силы. Человеку как созидателю хозяйства невозможно жить вне права, но зато возможно ограничиться одною поверхностною видимостью правоты, одною схемою права, культивируя и применяя дурные и несправедливые «положительные» нормы. Только человеку как творцу духовной жизни доступно нормальное правосознание, только ему дано искать и находить правое право, ибо только ему открыта цель права и его живой источник
Разрешить проблему правосознания значит установить и формулировать то безусловное основание, которое делает его бытие — необходимым, его внутреннее строение — нормальным, его содержание — духовно-верным и достойным, а его силу — жизненно творческою и непобедимою. Это основание должно быть не отвлеченным принципом, хотя и пригодным для философского построения; но бессильным в действительной жизни
человечества; его следует искать среди основных, присущих каждому человеку жизненных влечений и побуждений, выражающих в то же время духовную сущность человека как такового. Таким основанием может быть только мотив, вытекающий из самой природы человека как духовного существа и составляющий эту природу. Понятно, что этот мотив как проявление основной и универсальной жизненной воли человека не может быть наполнен каким-нибудь переходящим, или случайным, или чисто субъективным содержанием, но должен быть прикован к существенному, непреходящему и для каждого доступному. Такое универсальное жизненное влечение дано каждому живому человеку в виде воли к духу и духовности.
Как бы ни была темна и скудна жизнь души, как бы низменны и убоги ни были ее обычные содержания, она всегда имеет состояния, в которых обнаруживается ее валя к духу, даже тогда, когда она не думает об этом, не сознает этого и, может быть, даже не знает, что вообще возможна духовная жизнь. Эти состояния обнаруживают тяготение души то к форме духа, то к его содержанию.
Каждому человеку как таковому присуще тяготение к жизненной самостоятельности и самодеятельности, к автономному самоопределению; значительность и зрелость индивидуальной души определяются прежде всего глубиною и объемом этой автономии. Эта самозаконность в ее простейшем виде распространяется лишь на житейские функции человека — физиологические, хозяйственные и душевно-бытовые стороны жизни, и постольку, не находя себе достойного содержания, она изливается нередко в чисто субъективные проявления: в прихоть, каприз, произвол, упрямство, своеволие и оригинальничанье Эти низшие проявления самобытности, сами по себе еще не духовные, обнаруживают, однако, формальную потенцию духа-, искание автономной жизни есть уже тяготение к духу, ибо самозаконность есть именно его конститутивная форма. Но это искание есть не более, чем «потенция», потому что истинное достижение и удовлетворение возможно только на безусловных предметных содержаниях; низшие содержания оставляют душу всегда голодной и именно потому легко уводят ее к пустой форме, т. е. к бессодержательной независимости, — на путь непомерного властолюбия, преступного честолюбия и безудержного любостяжания.
Точно также каждому человеку присуще тяготение к тому, чтобы найти некоторое безусловное по своей ценности жизненное содержание и прилепиться к нему своею верою и своею любовью; значительность и зрелость индивидуальной души определяется объективным достоинством этого содержания и интенсивностью личного прикрепления к нему. Это содержание избирается людьми
обыкновенно из среды житейского обихода—из физиологических, хозяйственных и душевно-бытовых сторонжизни, и постольку люди осуществляют содержательное вырождение духа: вера становится непредметным суеверием, радость жизни связуется с эфемерным и пошлым, сила любви остается инстинктивным влечением, разрастается в уродливую страсть или вырождается в беспредметную меланхолию. Духовное содержание подменяется более или менее ничтожным и жалким суррогатом, а душа вынашивает бесплодную скуку (taedium vitae24) или влачится в низинах животной страсти. И тем не менее, эта потребность в «главной», любимой, безусловной жизненной ценности обнаруживает в человеке содержательную потенцию духа: искание ее есть уже тяготение к духу, ибо безусловная ценность есть объективное свойство его содержаний и предметов. Но такое тяготение есть не более чем «потенция»: безусловную по достоинству и по силе жизненную опору может дать только автономное и предметное искание, творческий акт, а не пассивная прилепленность, предметно-верный выбор, а не случайная определенность души приятным содержанием. Отсутствие такого искания всегда отдает душу в рабство низшим содержаниям и потому делает ее жертвою самообмана, позволяя принимать мелкое за великое и ничтожное за абсолютную ценность.
Однако во всех этих явлениях духовного искажения и содержательного вырождения мудрый и зоркий глаз сумеет узнать первоначальное и первобытное тяготение к духу—к его ашозаконному способу жизни и к его абсолютно-ценным предметным содержаниям. Это тяготение при всей своей явной неопределенности и бессознательности есть низшая и наиболее элементарная ступень воли к духу. Мудрый воспитатель должен найти эту смутную волю в каждой душе с тем, чтобы превратить ее в высшее состояние — в определенную и сознательную, жизнеопределяющую и могучую волю к духу, т. е. к свободной и активной жизни, посвященной предметному знанию и самодеятельному осуществлению высших, безусловных ценностей. Каждый человек не просто «имеет душу», но сам есть индивидуальный дух, т. е. самодеятельный центр возможной и уже наличной (хотя бы в зачатках «очевидности», «совести», «вкуса», «исповедания» и «правосознания») духовной жизни. Быть человеком — значит быть индивидуальным духом и сознательно или бессознательно хотеть быть им. Но хотеть быть индивидуальным духом значит нуждаться в естественном, а потом и в положительном праве, а это значит иметь — сознательную или бессознательную — волю к праву и к его цели.
Воля к духу, т. е. воля к автономной жизни, посвященной абсолютно-ценному, есть именно тот мотив, который лежит в основе нормального правосознания и который должен лечь в
основу всякого правосознания как такового. Это есть тот универсальный мотив, который уже присущ каждому человеку и который в своем истинном развитии и углублении неизбежно выковывает в душе валю к цели права.
Так, воля к духу, единая и цельная по существу, ведет к праву и к его цели — во всех трех возможных тяготениях своих: предметном. индивидуальном и социальном.
Предметное тяготение воли к Духу требует того, чтобы в жизни человека вообще осуществлялись истинное знание, подлинная доброта и объективная красота как закон и присутствие Божества. Но это осуществление, как уже показано выше, возможно только в виде множества одинаково одиноких и самобытных индивидуальных процессов, протекающих по своему внешнему существованию в единой, общей среде и требующих поэтому правого размежевания, т. е. права. Воля к Духу есть воля к его необходимым условиям; такими условиями являются — естественно-правовая самопринадлежность индивидуальных духов и положительно-правовая организация их внешнего сосуществования Дух есть цель права, а право его необходимое средство, но не всякое право, а лишь духовно-верное, свободное и справедливое право. Так возникает нормальное правосознание.
Индивидуалъноечягок&ые воли к духу, требующее, чтобы «моя личная жизнь» восприняла абсолютно-ценное содержание и осуществила в нем форму автономии, — ведет к тому же самому результату. Ддя того чтобы я мог вести духовную жизнь, необходимо, во-первых, чтобы центр моего духовного изволения был огражден от насильственных вторжений извне, во-вторых, чтобы я имел досуги доступ ксозданным и осуществленным уже духовным обстоя-ниям. Правовые гарантии личности и правовая организация достойной жизни необходимы «мне», как существу, движимому волею к духу. Правое право остается необходимым средством и в том случае, когда целью является бытие индивидуального духа И снова открывается путь к нормальному правосознанию.
Наконец, социальное тяготение воли к духу требует, чтобы другие, и притом все другие, выковали себе автономное самоопределение в абсолютно-ценных содержаниях. Этот духовный расцвет других и всех является для «меня» не только подчиненною целью — необходимою для «моего» духовного роста, обогащения и ограждения, но и самостоятельною целью, которую «я» признаю и в чисто духовном, и в чисто нравственном порядке Предметная воля к Духу глубже и шире, чем воля к его индивидуальному осуществлению и расцвету «во мне». Тот, кто действительно любит Дух как самостоятельный предмет, тот естественно и незаметно живет любовью ко всему сонму дей
ствительных и возможных индивидуальных духов, и эта любовь его получает всю глубину нравственного религиозного оправдания. Понятно, что такое искание духа во всех и для всех заставляет волю сосредоточиться с особенною силою на создании общего и правого правопорядка. Духовное единение людей, раскрывающее им духовное единство человека, есть одна из самых существенных основ нормального правосознания; оно обнаруживает с очевидностью духовную природу права и общества и обнажает в глубине правосознания его нравственный корень.
Итак, истинною основою нормального правосознания может быть только воля к духовной жизни как верховному благу.
Нормальное правосознание подходит к праву не с точки зрения частных, чисто личных интересов, но отправляясь прежде всего от его основной, единой и всеобщей цели. Право как совокупность объективно значащих правил внешнего социального поведения создается людьми ради этой единой и универсальной цели, которая состоит в ограждении и организации духовной жизни человечества на земле. Необходимость права есть необходимость его для жизни духа; содержание права определяется основными законами духовной жизни; творческая жизнь права есть жизнь его в человеческом духе и ради человеческого духа. Поэтому всякое право должно быть признано тем более совершенным, чем полнее и точнее оно выражает эти законы, чем успешнее оно организует мирное и справедливое равновесие субъективных притязающих кругов и чем быстрее и безболезненнее оно воспитывает в душах автономное правосознание.
Нормальное правосознание приемлет право, культивирует и совершенствует его, движимое волею к его верховной цели, т. е. к духовнойжизни и ее организации. Оно усматривает в этой жизни, посвященной свободному, предметному обретению и осуществлению высших и безусловных ценностей, — верховное благо и согласно этому переносит свое волевое утверждение на все то, что необходимо ведеткего правому осуществлению.Норл^гдьг/ос правосознание есть воля к праву, проистекающая из воли к духу.
Эту волю надлежит понимать не как «решение» одной только сознательно-разумной части души, но как целостное стремление, охватывающее и неразумные тайники ее и в них именно почерпающее свою жизненную силу. Такое состояние целостного, гармонического и разумно оправданного хотения, направленного на верховное и универсальное благо, является само по себе одним из высших достижений в нравственной жизни человека. А это означает, что нормальное правосознание может быть развито и упрочено в душе только в связи с ее общим, моральным и нравственным воспитанием. Это воспитание должно прикрепить смут
ную и элементарную «духовную волю» к инстинктивному корню жизни и указать ей предметный путь к достойным ее, безусловным содержаниям. Оно должно ввести правосознание в жизнь нравственно-доброй души.
Правосознание можно рассматривать отдельно от морали и нравственности как сферу, расположенную рядом со всею сферою этики. Тогда обнаружится, что правосознание и нравственное сознание суть особые проявления и стороны духовной жизни человека, одинаково определенные способом бытия, заданиями и пределами человеческого духа. Однако такое обособленное рассмотрение, допустимое по методологическим соображениям, нисколько не упускает из вида того обстоятельства, что в реальной жизни духа эти стороны стоят в необходимом и плодотворном взаимодействии и что разрешение духовных заданий возможно только при целостном и гармоническом способе жизни.
С одной стороны, самая воля к духу в ее истинном значении слагается как зрелый итог личной и общественной нравственной культуры. Так, она возникает лишь в результате примирения разумно-сознательной силы души с бессознательными влечениями инстинкта, и притом не только в порядке их дисциплиниро-вания, но в порядке их содержательного перерождения и одухотворения; она остается всегда разновидностью единого и универсального начала любви в его наиболее чистом и благородном — христианском — виде; она требует непрестанного самоотвержения и своеобразного, утонченного бескорыстия; наконец, она расцветает свободно и приносит плоды только там, где имеется налицо высокий общественный уровень, создающий нравственную атмосферу предметного служения
С другой стороны, духовная жизнь сама по себе является всегда орудием морального воспитания души и источником ее нравственной силы. Предметное служение безусловным ценностям удерживает душу в своеобразном чистилище, научая ее самопознанию и самообладанию, выковывая в ней способность к самоотречению и воспитывая ее к бескорыстнойрадости предметного совершенства. В то же время это служение сообщает душе ту силу и ту власть, которая дается только в результате действительной предметной одержимости, и то уверенное спокойствие, которое порождается только слиянием своей судьбы с судьбою подлинно реального верховного блага.
Наконец, нравственно-зрелая воля несет с собою и духовному служению, и правосознанию великий дар: искусство предметного исследования «совести», на котором может воспитываться и ориентироваться всякое вообще предметное познание В частности, развитая и углубленная нравственная воля может иногда сама
по себе поглотить и заменить своими мотивами — волю к праву: так, например, признание чужих прав на свободу и на достойную жизнь может проистекать не только из сознания сущности духовной жизни и всеобщей взаимной связи субъективных кругов, но и из глубочайшего источника — духовной любви к каждому явлению живого духа.
Так, в целостной жизни души воля к добру питает собою и обслуживает волю к духу, и обратно. Это не может быть иначе потому, что добро само по себе входит в состав духовных предметов и жизнь его в душе есть уже реальная жизнь духа.
И обе эти воли, каждая порознь и сообща порождают и воспитывают волю к правому праву. Но в порядке обоснования воля к духу как более общее и конститутивное состояние имеет первенство и определяющее значение. Воля к добру в конечном счете тяготеет к тому, чтобы заменить «право» собою и сделать его ненужным. Наоборот, воля к духу утверждает право и правосознание в самой его сущности.
Правосознание, постигающее свой духовный корень, находит свою существенную основу и источник своего содержания. Оно совершает как бы акт самопознания и раз навсегда перестает видеть в праве подкарауливающего врага и насильника. Оно знает отныне, чему оно повинуется, и признает его объективное значение; оно повинуется тому, что признает необходимым и что уважает, в чем полагает духовную ценность. Человек, живущий таким правосознанием, обладает тем правовым органом, который может разрешить самые с виду безнадежные проблемы правовой жизни. Так, именно правосознание, созерцающее цель права и осуществляющее в себе акт правовой совести, способно к тому индивидуализирующему усмотрению при применении права, которое должно основываться на подлинной и предметной, правовой интуиции и не позволять, чтобы summus jus превращалось в summa injuria25. Именно такое правосознание сумеет найти правый выход из необходимости повиноваться неправому праву и невозможности правомерно преобразить его неправоту. Оно способно разрешить проблему правовой вины и указать положительному праву его идеал.
Такое правосознание, исходя из воли к духу и питаясь волею к добру, начинает неминуемо перестраивать социальную жизнь людей на принципах духовного самоуправления, чувства собственного достоинства,уважения, доверия и справедливости.
Истинный патриотизм и чувство государственности будут его зрелыми плодами.
ЧТО ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО - КОРПОРАЦИЯ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ?
I
Когда мы находим в левых органах русской зарубежной прессы категорические заявления о том, что «теперь-де демократия признана всеми и окончательно», то мы изумляемся политической близорукости и партийной наивности этих писателей. На самом деле «демократия» переживает сейчас «великий и затяжной кризис», который может иметь только два исхода: или торжество диктатур и тираний тоталитарного направления (чего не дай Бог!), или же полное обновление демократического принципа в сторону отбора лучших и политического воспитания. Идея «формальной демократии», выдвинутая за последние полтораста лет в качестве всемирной политической панацеи (всеисцеляющего средства),уже привела целый ряд государств, а за ними и все остальное человечество к величайшим затруднениям и бедствиям и уперлась в выросший из ее последовательного осуществления тоталитарный строй. Не видеть этого могут одни только доктринеры.
То, что в действительности произошло в мире за последние тридцать лет, есть духовное обличение и отвержение тоталитарного строя, все равно — левого или правого; но совсем не политическое оправдание формальной демократии. Напротив, именно «формальная демократия» с ее внутренними пустотами, ошибками и соблазнами, и привела к левому и правому тоталитаризму: эти два политических режима связаны друг с другом, как уродливая реакция на болезненное преувеличение, или как тирания, возникающая из распада; или как рабство, возвращающееся на того, кто не сумел найти и соблюсти духовно-верную меру свободы. Ныне мы переживаем период, когда человечество еще не разочаровалось ни в формальной демократии, ни в праволевом тоталитаризме; когда одни наивно собираются лечить провалившийся тоталитаризм — формальной демократией, а другие организуются для того, чтобы заменить формальную демократию — правым или левым тоталитаризмом.
Мы же настаиваем для России на третьем исходе и считаем его единственно верным. Д ля того чтобы уразуметь его, надо поставить весь вопрос со всей возможной политико-юридической ясностью.
Государство, как многоголовый (или совокупный) субъект права, может быть или «корпорацией», или «учреждением». Что же оно есть на самом деле?
Спросим себя прежде всего: что есть «корпорация» и что есть «учреждение»?
Корпорация (например, кооператив) состоит из активных полномочных иравноправных деятелей. Они объединяются в единую организацию по своей свободной воле: когтят—входят в нее, не хотят — выходят из нее. Они имеют общий интерес и вольны признать его и отвергнуть. Если они признают его и входят в эту корпорацию, то они тем самым имеют и полномочие действовать д ля его удовлетворения. Они уполномочены формулировать свою общую цель, ограничивать ее, выбирать голосованием все необходимые органы, утверждать их и дезавуировать их, «отзывать» свою волю, погашать свои решения, обусловливать свое участие «постольку поскольку». Кооперация начинает с индивидуума: с его мнения, изволения, решения; с его «свободы» и интереса. Она строится снизу вверх; она основывает все на голосовании: она организуется на свободно признанной (и соответственно свободно ограничиваемой, свободно отвергаемой) солидарности заинтересованных деятелей «Все через народ» — идеал формальной демократии
Напротив, жизнь учреждения (напр., больницы, гимназии) строится не снизу, а сверху (даже и тогда, когда само учреждение — учреждено всенародным голосованием). Люди, заинтересованные в жизни этого учреждения, получают от него благо и пользу, но не формулируют сами ни своего общего интереса, ни своей общей цели. Они не имеют и полномочия действовать от лица учреждения. Они «проходят» через него, но не составляют его и не строят его. Они пассивно принимают от учреждения — заботы, услуги, благодеяния и распоряжения. Не их слушаются в учреждении, а они слушаются в учреждении. Учреждение само решает, «принимает» оно их или нет; и, если «принимает», на каких условиях и доколе. Они не выбирают его органов, не имеют права «дезавуировать» или «сменять» их; и даже не всегда могут самовольно отвергнуть его услуги и «уйти». Следовательно, учреждение строится по принципу опеки над заинтересованными людьми. Оно имеет свои права и обязанности, свой устав, свою организацию; но все это оно получает не от опекаемых; оно не отчитывается перед ними, и органы его не выбираются, а назначаются. Больные в больнице не выбирают врачей; гимназисты в гимназии не могут сменить директора и инспектора, и кадеты не могут самовольно выйти из кадетского корпуса; студенты принимаются в университет, но не определяют его целей и задач, и профессора не слушаются их распоряжений. И поскольку государство
есть учреждение, постольку народ в нем не управляет собою и не распоряжается, а воспитывается, опекается и повинуется.
И вот, сторонники формальной демократии считают, что государство тем лучше организовано, чем последовательнее оно превращено в корпорацию. А сторонники тоталитарного строя убеждены, что государство тем лучше организовано, чем последовательнее всякое самоуправление исключено и подавлено, чем больше государство превращено в учреждение. Принцип корпорации, проведенный последовательно до конца, погасит всякую власть и организацию, разложит государство и приведет его к анархии. Принцип учреждения, проведенный последовательно до конца, погасит всякую человеческую самодеятельность, убьет свободу личности и духа и приведет к каторге. Анархия не лечится каторгой; это варварство. Каторга не оздоравливается анархией: это безумие. Спасителен только третий путь. Какой же? И как найти его?
II
Прежде всего надо понять и до конца продумать, что корпоративный строй требует от граждан зрелого правосознания Желающий участвовать в управлении государством должен уметь управлять самим собой, понимать сущность государства, его задачи и цели, органичность народной жизни, значение и смысл свободы, технику социальной организации, законы политики и хозяйства. Нет этого — и общий интерес останется неосознанным, подмененным частной корыстью и личными вожделениями, принцип солидарности останется пустым словом, общая цель утратится. полномочие будет подменено «кулачным правом», — начнутся фальсификация государственности и развал. Государство погибнет или сложится вновь по типу диктаториального учреждения.
И вот, по отношению ко всем гражданам с незрелым правосознанием (дети, несовершеннолетние, душевнобольные, дикари, политически-бессмысленные, уголовно-преступные, анормальные, жадные плуты и т. п. — государство всегда останется опекающимучреждением. Тех, кто неспособен осознать и жизненно оформить свой общественный интерес и кому нелепо давать право голоса, — государство всегда будет опекать и вести.
Но и этим дело не ограничивается. Люди вообще живут на свете не для того, чтобы убивать свое время и силы на политическую организацию, а чтобы творить культуру. Политика не должна поглощать их досуга и отрывать их от работы, а обеспечивать им порядок, свободу, законность, справедливость и технически хозяйственные удобства жизни. Кипение в политических разногласиях, страстях и интригах, в тщеславии, честолюбии и
властолюбии — есть не культура, а растрата сил и жизненных возможностей. Поэтому политика не должна поглощать времени и воли больше, чем это необходимо. Корпоративный строй склонен растрачивать народные силы; строй учреждения, если он на высоте, экономит их.
В довершение всего — политическое дело требует особых знаний, изучения, подготовки, опыта и таланта, которыми «все» никогда не обладали и обладать не будут; политическое строительство всегда было и всегда будет делом компетентногоменыиинства.
Поэтому государство никогда не перестанет строиться по типу учреждения, особенно в тех отношениях, где необходимы единая власть и дисциплина, а именно — в делах общественного воспитания, порядка, суда, управления, обороны, дипломатии и некоторых других. Это совсем не означает, что принцип самоуправления исключается из государственной жизни и строительства, что он осуждается и отвергается; но это означает, что сфера его применения по самому существу дела ограничена: 1) принудительным характером государственного союза вообще (подданство — гражданство, лояльность без всякого «постольку-поскольку», налоги, воинская повинность, судебный приговор и наказание); 2) самой техникой государственного и в особенности военного строительства (вопросы, требующие тайны и личной ответственности, вопросы стратегии и тактики — не голосуются); 3) наличным уровнем правосознания в стране; 4) необходимой экономией сил (люди живут на свете решительно не для того, чтобы политиканствовать).
Все это означает, что современные крайности (формальной демократии и тоталитарного режима) являются нездоровыми заблуждениями. Государство в своем здоровом осуществлении всегда совмещает в себе черты корпорации с чертами учреждения: оно строится — и сверху, и снизу, и по принципу властной опеки, и по принципу самоуправления. Есть государственные дела, в которых уместно и полезно корпоративное самоуправление; и есть такие дела, в которых оно решительно неуместно и недопустимо. Голосования в русской армии в 1917 году были проявлением политического кретинизма и революционной интриги (одновременно). Подобно этому есть государственные дела, которые могут вестись только по принципу властного предписания, назначения и взыскания; и есть такие дела, в которых необходимо самоуправление, ибо тоталитарный централизм убивает в них жизнь (ср. советский строй). Нелепо строить все государство по схеме больницы или школы: ибо государственно зрелые граждане — не больные и не школьники; их осознанная солидарность драгоценна, их политическая активность необхо
дима, их публично-правовая уполномоченность зиждительна; все это есть могучий политический цемент.
Это означаеттакже, что политик, организующий государство, должен считаться, прежде всего, с наличным в данной стране и в данную эпоху уровнем народного правосознания, определяя по нему то жизненное сочетание из учреждения и корпорации, которое будет наилучшим «при данных условиях жизни».
Такими условиями жизни являются:
1. Территория и ее размеры (чем больше эти размеры, тем необходимее сильная власть и тем труднее проводить корпоративный строй).
2. Плотность населения (чем больше она, тем легче организация страны; чем меньше она, тем необходимее начало учреждения).
Ъ. Державные задачи государства (чем грандиознее они, тем меньшему числу граждан они понятны и доступны, тем выше должен быть уровень правосознания, тем труднее корпоративный строй).
4. Хозяйственные задачи страны (с примитивным хозяйством маленькой страны может легко управиться и корпоративное государство).
5. Национальный состав страны (чем он однороднее, тем легче народу самоуправляться).
6. Религиозная принадлежность народа (однородная религиозность масс облегчает управление, разнородная — затрудняет, обилие противогосударственных сект — может стать прямой государственной опасностью и т. д.).
7. Социальный состав страны (чем он первобытнее и проще, тем легче дастся народу солидарность, тем проще управление).
8. Культурныйуровень народа (чем он ниже, тем необходимее начало учреждения).
9. Уклад народного характера (чем устойчивее и духовно-индивидуализированнее личный характер у данного народа, тем легче осуществить корпоративный строй; народ, индивидуализированный не духовно, а только биологически, и притом бесхарактерный — может управляться только властною опекой).
Все это указуется здесь только для примера; при всем этом подразумевается оговорка «при прочих равных условиях».
Итак: единого мерила, единого образцового строя для всех народов и государств нет и быть не может. И тот, кто вечно твердит «все через народ» — обнаруживает свое верхоглядство и свою политическую неспособность.
Идея «государства-учреждения» представлена в истории началом монархическим (и диктаториальным); несмотря на
это. монархическая форма государства способна уживаться с самым широким корпоративным самоуправлением (напр., Англия; Россия до 1917 г.).
Идея «государства-корпорации» представлена в истории началом республиканским (и демократическим); несмотря на это, республиканская форма государства способна вырождаться в сущий тоталитаризм, приближаясь к диктатуре (Германия после 1933 г.; Россия после 1917 г.).
Крайние лозунги — «все сверху» и «все снизу», — столь соблазнительные для людей примитивного мышления и страстного темперамента, одинаково несостоятельны и опасны. Тот, кто попытается делать все «сверху»—убьет творческую самостоятельность своего народа, отвратит его от себя, ожесточит его, изолирует себя, захлебнется в сетях формальной и продажной бюрократии и подорвет жизненную силу своего государства, независимо от того, будет ли он левым или правым тоталитаристом. Тот, кто попытается строить все «снизу», — разложит государство на систему маленьких и бессильных общинок, сделает невозможным единение и правопорядок, даст преобладание дурному количеству над творческим качеством, захлебнется в волнах демагогии и смуты и очнется под пятой у тирана.
Государство по самому существу своему есть организация не частно-правовая, наподобие кооператива, добровольно-свободная, а публично-правовая, властно-повелительная, обязательно-принудительная. И этим одним уже предопределено, что оно никогда не перестает быть учреждением и никогда не превратится в кооперацию чистой воды. Дух учреждения может временно отступать на задний план, но горе той республике или демократии, в которой он выветрится совсем! В час смуты, революции, войны, стихийного бедствия, общей опасности, голода, заразы — самая демократическая, архифедера-тивная республика вспомнит о ведущей, повелевающей и принудительной опеке учреждения и не будет решать «все через народ», как этого требовали наши русские сверхдемократические головотяпы в 1917 г.
Грядущей России предстоит найти для себя — свою, особую, оригинальную государственную форму, такое сочетание из «учреждения» и «корпорации», которое соответствовало бы русским, национальным историческим данным, начиная от наличного в России пореволюционного правосознания и кончая национальной территорией.
Перед лицом такой творческой задачи — призывы зарубежных партий к формальной демократии остаются наивными, легкомысленными и безответственными.
ПРАВИТЬ ДОЛЖНЫ ЛУЧШИЕ
Первое, что мы должны сделать при обсуждении устройства русского государства, это стряхнуть с себя гипноз политических формул илозунгов. Предоставим «верующим» демократам — веровать в необходимость и спасительность этого режима и освободим себя для беспристрастного наблюдения и опытного исследования. И еще: предоставим людям, ищущим успеха у толпы, поносить «аристократов» или совсем обходить молчанием идею аристократии, как якобы «реакционную», «контрреволюционную», «старорежимную» и т. д. Когда мы думаем о грядущей России, то мы должны быть свободны, совершенно свободны от боязни кому-то не угодить и от кого-то получить «осуждение», будь то западно-европейцы или свои, доморощенные, — леворадикалы или праворадикалы.Л/ы повинны Богу и России — правдой, а если она кому-нибудь не нравится, то тем хуже для него.
Обычно «демократию», как правление людей «излюбленных» и выбранных народом, и «аристократию», как правление людей «наследственно привилегированных», — противопоставляют друг другу. Это есть ошибка, которую надо понять и отвергнуть. Она есть порождение политических страстей, демагогии и ожесточения. Править государством должны лучшие люди страны, а народ нередко выбирает не лучших, а угодных ему льстецов и волнующих его бессовестных демагогов. Править государством должны именнолучшг/е, а они нередко выходят из государственно-воспитанных и через поколения образованных слоев народа. Демократия заслуживает признания и поддержкилишъ постольку, поскольку она осуществляет подлинную аристократию (т. е. выделяет кверху лучших людей); а аристократия не вырождается и не вредит государству именно постольку, поскольку в ее состав вступают подлинно-лучшие силы народа.
Убедимся в этом.
«Аристос» значит по-гречески «лучший». Не «самый богатый», не «самый родовитый», не «самый влиятельный», не «самый ловкий и пронырливый», не привилегированный, не старейший возрастом. Но именно — лучший: искренний патриот, государственномыслящий, политически опытный, человекчести и ответственности,жертвенный,умный, волевой, организационно-даровитый, дальнозоркий и образованный. Можно было бы добавить к этому и другие качества, напр., храбрый, сердечный; но трудно отбросить хотя бы одно из перечисленных и отнести к «лучшим» человека жадного, продажного, интернационалиста,
бесчестного, лишенного государственного разума и опыта, безвольного глупца, организационного растеряху или наивного невежду. Именно лучшие должны править во всех государствах и при всехрежимах. Всякий режим, плох, если при нем правят худшие. Нелепо и противоестественно говорить: «мы требуем демократии, хотя бы в ней выбирались, выдвигались и правили безвольные глупцы, продажные невежды, бесчестные растеряхи и тому подобный социальный отброс». Наоборот, необходимо и верно ответить: «демократия, не умеющая выделитьлучших, не оправдывает себя; она губит народ и государство и должна пасть». Безумно вводить в стране демократию, чтобы погубить государство и народ, как сделали в России в 1917 году. А к чему ведет правление подлинно-худших людей, это русские люди испытывают на себе уже тридцать второй год... Суровая школа!
Можно было бы назвать наше требование политической аксиомой (т. е. истиной самоочевидной): править далжнылучшие. В жизненном распознавании этих людей можно ошибаться, можно соглашаться и не соглашаться в оценке их, но задача их выделения бесспорна и основопаложна. Можно было бы выразить это в виде лозунга: дорогу честным и умным патриотам! Дорогу им — независимо от того, принадлежат они к какому-нибудь сословию, классу, к какой-нибудь партии или нет! Важно качество человека: его политическая ценность и его политическое воление; и не важно его происхождение, его профессия, его классовая и партийная принад лежность. Важна его нравственная иумственнаямощь, а не его предки; важна его верность родине, существенно направление его воли, а не его партийный билет Партийность (всякая партийность!) не удостоверяет качества человека, а только подменяет или заслоняет его. А качество человека — первее всего и драгоценнее всего.
Поэтому всякие выборы должны иметь в виду единую, главную и необходимую цель: выделение качественно-лучших сынов народа и поручение им политического дела. Глупо и слепо прельщаться демагогами, которые, прикрывшись партийным ярлыком, яростно отстаивают интерес какого-нибудь класса, сословия, национального меньшинства, территориального округа или же попросту — свой собственный!
Во-первых, потому, что государственное дело ищет единого, общего, всенародного интереса, а не частных вожделений; и демагог, разжигающий страсти именно в сторону частных вожделений, открыто свидетельствует о своей политической негодности-. он является фальсификатором в политике; он подобен цыгану, выхваляющему подменно-поддельную лошадь; по отношению к наивному и доверчивому народу он выступает в качестве развратителя детей, строящего свое благополучие на подтасовке и лжи.
Во-вторых, потому, что самая его демагогия свидетельствует о его качественной несостоятельности: он разжигает страсти, чтобы выдвинуться и погубить государственное дело, превращая его в лучшем случае в дело частного вожделения, а в худшем случае — в дело своей личной корысти.
Россия может спастись только выделением угрш/цх людей, отстаивающих не партийный и не классовый, а всенародный интерес. На этом все должны согласиться и сосредоточиться. Это надо разъяснить самому русскому народу прежде всего. Для этого должны быть приняты все меры, как-то: освобождение народа от всех и всяких партий; введение голосования по округам с выставлением персональных, лично всем известных кандидатур; и, главное, выработка особого вида конкурирующего сотрудничества в нахождении и выдвижении лучших людей — сотрудничества государственного центра с избирателями. Это предложение будет обосновано и изложено в дальнейших выпусках «Наших задач».
Демократические выборы являются лишь условно целесообразным средством для безусловно верной цели (отбор лучших). Если такая цель и такое средство сталкиваются, то условное средство должно уступить безусловной цели. Требование, чтобы правили лучшие, относится к самому естеству, к самой идее государства; строй, при котором у власти водворяются худшие, будет жизненно обречен и рухнет рано или поздно, с большим или меньшим позором. Всякое государство призвано быть аристократией в нашем смысле слова: и монархическое, и дик-таториальное, и демократическое; и можно было бы сказать с уверенностью, что если бы исторически законные государства были на политической высоте, то они извлекали бы этих подлинно лучших изо всех слоев населения; и тогда профессиональным революционерам нечего было бы делать на свете.
Поэтому вопрос «всенародных выборов» (по четырехчленной формуле — всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право) есть вопрос средства, а не высшей непререкаемой цели или догмы. Это средство может в одном государстве и в одну эпоху оказаться целесообразным, а в другой стране и в другую эпоху нецелесообразным. Ребячливо веровать в это средство как в политическую «панацею». Совсем не всякий народ и не всегда способен выделить к власти лучших, при помощи таких выборов. Вопрос надо поставить иначе какой народ и когда, при каком размере государства, при каком уровне религиозности, нравственности, правосознания, образования и имущественного благосостояния, при какой системе выборов, в спокойные или бурные периоды жизни—действительно разрешит эту задачу успешно?
Спросим поэтому: какие основания имеют современные эмигрантские демократические партии для того, чтобы считать, что русский народ после всеразлагающей, духоопустошительной и развращающей всякое правосознание эпохи коммунизма, после водворения в стране повальной нищеты (разбогатевшие совкарьери-сты не в счет!), после тридцатидвухлетнего рабства, после отвычки от самостоятельного мышления, после полной и застарелой неосведомленности в вопросах политики, хозяйства и дипломатии, после укоренившейся привычки бояться, воровать, промышлять доносами и спасать свою жизнь пресмыкательством, сумеет осуществить такие выборы? Если у них имеются серьезные основания, то не следует их замалчивать; а если их нет, а есть обратные основания, то к чему безответственное программное пустословие?
Россия нуждается в такой системе выборов, которая дала бы ей верный способ найти и выделить своих подлинно лучших людей к власти. В этих выборах лучших людей не могут и не должны участвовать члены интернациональной партии, заведомые губители и палачи русского народа, «нырнувшие» коммунисты, перекрасившиеся предатели и т. д. А это означает, что эти выборы не могут быть ни всеобщими, ни прямыми. Лучших людей могут найти только те, которые не утратили чести и совести, те, которые страдали, а не те, которые пытали страдальцев. Иначе Россия будет опять отдана во власть политической черни, которая из красной черни перекрасится в черную чернь, чтобы создать новый тоталитаризм, новую каторгу и новое разложение. Избави нас Бог от этого!
О СИЛЬНОЙ ВЛАСТИ
I
Россия, как национально-политическое явление, была создана сильной государственной властью, которая, однако, никогда (даже при Иоанне Грозном!) не покушалась на тоталитарное ведение жизни, культуры и хозяйства Так был о в прошлом. Так будет и впредь. И нам, русским патриотам, надлежит помнить это и, не ослепляясь безобразиями коммунистически-тоталитарной диктатуры, явившей миру не сильную власть, а насильственнопроизвольное попирание жизни, самостоятельности и свободы, крепить нашу национально-государственную власть — в ее кон
ституционном строении, в ее государственном направлении, в ее волевой энергии, в ее блюдении права и свободы, в ее политическом искусстве и особенно в ее всенародных духовных корнях.
Строго говоря, самое выражение «сильная власть > должно бы считаться странным и излишним: ведь власть сама по себе есть общественно-выделенная и организованная сила — в этом ее сущность и назначение; она есть живое средоточие уполномоченной имогущественной воли, которую все признают, уважая ее, подчиняясь ей и исполняя ее требования и законы Что же означает выражение: «сильная власть»?.. «Сильная сила»? Не плеоназм26 ли это? Однако исторически и политически это выражение полно глубокого и сложного смысла.
В истории народов государственная власть нередко преувеличивала свое призвание и свою сферу действия; она направляла свою энергию к неверным целям, попирала свои правовые формы и злоупотребляла своею мощью. Это вызывало протест и борьбу. Но борьба эта, движимая страстями, — открытым честным возмущением и прикровенным личным честолюбием, — не только стремилась умерить преувеличения, исправить заблуждения, прекратить бесправие и злоупотребления исторической власти, но расшатывала и ослабляла самую власть. Борьба за «новую», «лучшую» государственность вела к подрыву самой государственной организации. Создавали не просто «лучшую власть», а слабую власть, бессильную, беспомощную,раздробленную. Опасаясь злоупотребления властью, обессиливали самую власть, а вместе с тем подрывали и внутренний порядок, и внешнюю обороноспособность государства. Придумывали такие формы власти, которые затрудняли и волевую концентрацию, и принятие решений, и проведение их в жизнь. Вводили в государственное устройство всевозможные «поправки», не замечая того, что эти поправки подтачивают действие власти, но не обеспечивают ни от безвластия, ни от ошибочных целей, ни от злоупотреблений... Так, ввели состязание государственных органов друг с другом (глава государства, министерство, верхняя палата и нижняя палата); ввели многоголовый сговор и взаимную борьбу многих партий; полномочия главы государства ограничили избираемостью его и срочностью и тем поставили его под контроль и увеличили медлительность в течении дел; стали выделять к власти людей слабых, безвольных, незначительных, зависимых от политической кулисы; конституционно закрепили недоверие народа к власти, — не заметили, что всем этим создали сущее государственное безвластие и безволие. Замесили современное государство на дрожжах взаимного недоверия, классовой борьбы, тайных соглашений и закулисных интриг — и не сообразили, что все это соответ
ствует идеям анархизма, а не идее здоровой государственности. Боролись с бесправием и произволом преувеличенной власти, — и были в этом правы; но пришли к бесправию отрастраченной власти, к распаду, к всеобщей политической интриге всех против всех, к тайновластью всевозможных интернационалов, к «перманентной революции», к гражданской войне, к анархии... И что всего поучительнее, что этому ослаблению государственной власти исторически соответствовало не сужение государственных задач, не сокращение их объема и размаха, а возложение на государственную власть новых непосильных ей задач: началось притязание на великодержавие, на колониальное водительство, на мировое преобладание и даже на социалистическое регулирование хозяйства... Всего противоречивее и даже комичнее оказалась позиция социалистов: «последовательные демократы», сто лет делавшие все, чтобы расшатать и ослабить государственную власть, они все время носились с планом реорганизации всей жизни, предполагавшим монопольно- и тоталитарно-сильную государственную власть... И когда такая уродливая и болезненная власть, которая им была необходима, оказалась предвосхищенной у них большевиками, тогда обида их оказалась пожизненной и неисчерпаемой...
Есть государства, которые могут существовать при сравнительно слабой власти. Но и в их истории может пробить час, который потребует единства, волевой энергии, доверия, повелительности, быстроты, сильных людей и ответственных решений. И тогда все будет зависеть от их способности быстро и успешно перестроить свой порядок, свой ритм и свой привычный отбор людей...
Бывают исторические условия, при которых государство может плести ткань своей жизни, не имея сильной власти. Вот эти условия (перечисляю их с оговоркой — «при прочихравныхусловиях»).
1. — Малыйразмер государства. Чем меньше государство по территории, тем легче ему обойтись без сильной власти Пространство требует, чтобы излучения власти пронизывали, прорабатывали его; оно поглощает и ослабляет их действие. Чем большая территория подчинена единой власти, тем сильнее, тем авторитетнее должна быть эта власть, тем более она должна импонировать гражданам. — Поэтому территориальные размеры России (перед революцией — 22,4 млн кв. км) требуют сильной власти. Достаточно сообразить, что территория Швейцарии составляет одну десятую часть Кавказа (вместе с Закавказьем); что территория европейской Франции составляла одну сорок четвертую тогдашней России; что Россия по пространству впятеро больше Китая, почти втрое больше Соединенных Штатов и вчетверо больше всех (нерусских) государств Европы, взятых вместе. Смо
жет ли слабая власть пронизать своими организующими и упорядочивающими лучами такое пространство?
2. —Малочисленность населения. Чем меньше население государства, тем легче ему обойтись без сильной власти. Наоборот, чем больше людей входит в государство, тем труднее создается политическое единодушие и единоволение, — особенно на путях сговора (будь то «непосредственный» или «представительный» сговор). Голос слабой власти всегда утонет в шуме «сговаривающихся» миллионов. Поэтому численность русского населения требует для России сильной власти. Население коренной России (160— 170 млн) численно почти соответствует населению всей Северной Америки и значительно превосходит все население Африки. При слабой плотности расселения (в дореволюционной России 29 человек на 1 кв. км в Европейской России и 2,3 человека на 1 кв. км в Азиатской России) русский народ всегда склонен к состоянию полуанархии и лишь с большим трудом приучается к правопорядку. Чего же достигнет в России слабая власть?.. Февральская революция это показала наглядно.
3. — Обилие средств сообщения. Чем легче людям сноситься друг с другом в пределах единого государства, — передвижением (железные и шоссейные дороги, автомобили, пароходы, аэропланы), устно (телефон, радио) и письменно (почта, телеграф), — тем более страна оказывается спаянной общением, бытом и хозяйством; тем легче может справиться со своей задачей слабая власть; и обратно. Средства сообщения в России пребывали ранее и пребывают и ныне на весьма низком уровне. Чтобы убедиться в этом, достаточно содоставить Россию и Германию. В России 1 км железнодорожных линий приходится на 262 км площади, а в Германии на 7 кв. км; в России 1 автомобиль обслуживает в среднем 850 жителей, а в Германии 54 жителя; в России одним телефонным аппаратом пользуются (вернее — не пользуются^ в среднем 295 человек, а в Германии 22 человека. Все эти данные относятся ко времени до второй мировой войны и основываются на, как всегда пропагандных, подсчетах советской статистики; в действительности все обстоит, вероятно, еще хуже. И тем не менее эти данные достаточно показательны. И вот, российская власть должна быть тем сильнее, чем труднее ей прорабатывать человеческую разъединенность страны.
4. — Слабая дифференциация страны. Чем меньше в стране национальных, языковых, религиозных, бытовых, климатических и хозяйственных различий, тем легче управлять государством, тем удовлетворительнее справится со своей задачей слабая власть; и обратно. Маленькая приморская Португалия (величиной с нашу самую малую — Черноморскую губернию), с ее 7 миллионами
единоплеменных, единоверных жителей, говорящих на одном языке и не затронутых ни климатической, ни хозяйственной дифференциацией, — и та создала свою сильную власть и внутренне замирилась. Уже в соседней Испании слабая власть обычно ведет к распаду и гражданской войне. — Что же сказать о России?.. Число ее национальностей и языковых групп доходит до 170. Число ее религий и исповеданий до 30. Климат ее знает все колебания от вечной ночи до полуденной пустыни. Ее природа требует от нас органического и хозяйственного приспособления — и к тундре, и к солончаку, и к винограду, и к полярному мху и ктаиге, и к горам, и к океану. Кровь и язык, вера и быт, хозяйственный уклад и культурный уровень — дифференцированы в России в высочайшей степени. Государственное единство возможно здесь только при наличности сильной имудрой власти.
5. — Свобода от великодержавных задач.—Чем проще национальная, культурная, хозяйственная и международная проблематика страны, тем легче ее государственные задания, тем уместнее во главе ее слабая власть. И обратно: только сильная власть справится с великодержавными задачами страны. Спаять внутренне множество в органическое единство; поднять культурный уровень народных масс; вызвать к жизни хозяйственный расцвет большого народа; установить трудовое равновесие и возможно большее хозяйственное самопитание (автаркию) страны; найти верное торговое взаимодействие с соседями и ввести страны в меновой и дипломатический организм мирового общения, — все это требует сильной власти, независимой от партийного прилива и отлива, не опасающейся «сроков», не трепещущей перед новыми выборами, прозорливо ведущей свою линию из десятилетия в десятилетие. — Именно так создавалась Россия. Удельно-вечевая власть была слаба и не могла противостать монголам. Московская власть не собрала бы Русь, если бы не окрепла. Россия нуяодалась в Иване Васильевиче Третьем, чтобы покончить с татарами. Иоанн IV подготовил смуту не только опричниной и свирепым правлением, но больше всего — подрывом царского авторитета, т. е. ослаблением власти. Россия нуждалась в Петре Великом, чтобы осознать и развернуть свое великодер-жавие. Дворцовые перевороты восемнадцатого века (1725,1730,1740, 1741,1761,1801 и 1825) расшатывали и ослабляли российскую государственную власть и готовили России, по плану декабристов, в начале >ДХ века дворянскую республику с освобождением без земли, т. е. пролетаризированным и подготовленным к новой пугачевщине крестьянством. Только сильная, эмансипированная от заговорщических партий, сверхсословная и сверхклассовая власть могла дать России великие реформы шестидесятых годов. Так и в будущем: слабая власть не поведет Россию, а развалит и погубит ее
II
6 — Высокий уровень народного правосознания — Чем выше уровень народного правосознания, тем легче слабая власть справится со своей задачей; и обратно. Правосознание есть умение уважать право и закон, добровольно исполнять свои государственные обязанности и частные обязательства, строить свою жизнь, не совершая преступлений; в основе его лежит чувство собственного духовного достоинства, внутренняя дисциплина воли, взаимное уважение и доверие граждан друг к другу, граждан к власти и власти к гражданам Чем сильнее и глубже правосознание в народе, тем легче править им, тем менее опасна слабая власть; и обратно. Русское правосознание имеет тяжелое историческое наследие: удельные раздоры, татарское иго, смуту, кочевой и разбойничий юго-восток, восстания Разина и Пугачева, дворцовые перевороты, революционные движения XIX и XX века, правление большевиков. Все это нарастало на тот особый уклад души, который можно охарактеризовать, кзкравниниую недищиплинированность, как славянский индивидуализм и славянскую тягу к анархии, как естественную темпераментность. как дыханиеАзии. Все это, вместе взятое, выработало в русском народе такое правосознание, которому импонирует только сильная власть («строгое начальство», по выражению Шмелева). Слабая власть всегда вызывала и еще долго будет вызывать в России чувство вседозволенности и общественный распад
7. — Отсутствие военной угрозы. — Чем замиреннее границы государства, чем менее грозят народу войны и нападения, тем легче справится слабая власть со своей задачей; и обратно. Слабая власть вообще не способна вести войну, ибо война требует воли, дисциплины, подготовки, концентрации и сверхсильных напряжений. Именно поэтому римская республика назначала на время войны (а также и внутренних затруднений) — диктатора, осуществлявшего единую, сильную и концентрированную власть. Обычный расчлененный и сложный аппарат государственной власти должен без труда упрощаться, сосредоточиваться и приобретать некую элементарную динамичность в трудные и опасные периоды: и чем легче происходит этот процесс упрощения и сосредоточения, тем боеспособнее угрожаемое войною государство. — История России была такова, что в первый период своей жизни (1055—1462) она имела в среднем один год войны, на один год мира (данные С. М. Соловьева), а во второй период своей жизни (вплоть до двадцатого века) она имела в среднем два года войны, на один год мира (данные ген. Н. Н. Сухотина). Нам не дано предвидеть будущего, но мы не имеем никаких оснований считать, что русские границы замирены, что государственное достояние
России закреплено в международном отношении и что нам не грозят новые оборонительные войны. По-видимому, дело обстоит как раз обратно и сильная власть будет необходима России, как, может быть, еще никогда...
Все законы общественной жизни могут быть выражены так чем труднее народу дается государственное объединение и чем необходимее оно в данный период его истории, — тем сильнее должна быть его государственная власть. Слабая власть есть своего рода «роскошь», которую может себе позволить только народ находящийся в исключительно благоприятных условиях; — не тот народ, которого все еще тянет в анархию, т. е. к безвластному замешательству, а тот народ которому маловластие или безвластие уже не грозит замешательством; — не тот народ, внешние расстояния и державные задания которого намного опередили силу и гибкость его правосознания, а тот народ, который духовно дорос до своихчисленно-пространственныхразмеров,—который идейно, технически и организационно справился с бременем своих государственных задач. Народ, не могущий позволить себе этой роскоши, не должен и посягать на нее, ибо это посягание (уупех жизненно-беспочвенным и опасным и непременно приведет к образованию утопических партий и к гибельным попыткам с их стороны.
Силою равнинного пространства, силою национального темперамента, силою славянского индивидуализма и слабостью своей общественной дисциплины — русский народ поставлен в условия, требующие не слабого, а сильного государственного центра. На протяжении своей истории он не раз обнаруживал, и ныне, в революции. вновь обнаружил тягу к безвластному замешательству, к страстному разрушительному кипению, к хаотическому имущественному переделу, к противогосударственному распаду. Русский человек способен блюсти порядок и строить государство; он способен держать образцовую дисциплину, жертвенно служить и умирать за родину. Но эта способность его проявляется и приносит плоды не тогда, когда она предоставлена самой себе, а тогда, когда она вызывается кжизни,закрепляется и ведется импонирующим ему сильным и достойным государственным авторитетом.
Именно поэтому России необходима сильная власть И она будет ее иметь.
Однако идея «сильной власти» совсем не так проста и общепонятна, как это многим кажется. Она должна быть верно и глубоко продумана. Она окружена соблазнами. Она может неверно истолковываться, противоправно строиться и дурно применяться в жизни. Здесь необходима большая предусмотрительность и ясность в определениях. Здесь преувеличения столь же вредны и опасны, как преуменьшения...
Принципиально говоря, государственная власть имеет вполне определенное и ограниченное призвание. Она совсем не «все может» и совсем не призвана «всем распоряжаться». Напротив, — все то, что требует свободного дыхания, добровольного самоопределения со стороны человека, его творческой инициативы,—не подлежит произволению и властному распоряжению государственной власти. Человек не машина, а живой организм. Дух человека живет не по приказу и творит не по принуждению. Заменить хозяйственно-трудовую инициативу человеческого инстинкта — нельзя ничем; предписывать человеческому духу любовь, веру, молитву, совестные движения души, чувство достоинства и чести, способы научного исследования и художественного созерцания — противоестественно и нелепо. К добродетели и верности можно призывать; их преимущества можно показывать и разъяснять; злые деяния можно воспрещать и наказывать.
Но «Царство Божие» и духовная культура — не вызываются к жизни государственным повелением. Это не означает, что государственной власти совсем «нечего делать»; но дело ее здесь ограничено, оно сводится к правовому обеспечению свободы, к препятствованию всем злым и соблазнительным начинаниям, к организации народного просвещения и к выделению людей благой воли.
Это означает, что сильная власть совсем не то же самое, что «тоталитарная власть».
У нас в России она существует под видом коммунизма вот уже 33 года, и нам, русскому народу, она принесла только разорение, горе и унижение. Поэтому благоденствие России и русского народа требует упразднения тоталитарной власти.
Сильная власть грядущей России должна быть сильна в своих верных пределах. Она совсем не призвана посягать на необъятное и неосуществимое. Забывая свои пределы и подминая под себя всю свободную, творческую жизнь граждан, она стала бы неизбежно надрываться и компрометировать себя. Она вынуждена была бы претендовать на всеведение, всепредвидение и всемогущество и не смогла бы оправдать свою претензию. Никакая судорожная суетливость, никакая грозная требовательность не спасла бы ее. Ей пришлось бы прибегнуть к террору и системе доносов, и это только повредило бы ей: она стала бы, наподобие советской власти, ненавистной всему народу; и свободная лояльность не водворилась бы в России. Излучения власти не смогли бы пронизать правовую жизнь народа. Никакие жестокие и дурные средства не помогли бы разрешить объективно-неразрешимую задачу — и оказалось бы, что новая власть подрывает себя так, как подрывала себя власть коммунистическая.
Сила власти определяется совсем не размером ее посяганий и не готовностью ее прибегать к любым и даже самым дурным средствам. Сила власти не сводится к тому, что она готова истощать народное терпение и растрачивать народное уважение и доверие
В чем же состоит сила государственной власти?
III
Сила власти есть прежде всего ее духовно-государственный авторитет, ееуважаемостъ, ее признаваемое достоинство, ее способность импонировать гражданам. Поставить себе неосуществимую задачу не значит проявить силу; растрачивать свой авторитет не значит быть сильным. Сила власти проявляется не в крике, не в суете, не в претенциозности, не в похвальбе и не в терроре. Истинная сила власти состоит в ее способности звать не грозя и встречать верный отклик в народе. Ибо власть есть прежде всего и больше всего — дух и воля, т. е. достоинство и правота наверху, которым отвечает свободная лояльность снизу. Чем меньшее напряжение нужно сверху и чем больший отклик оно вызывает внизу, тем сильнее власть. Принуждение бывает необходимо; но оно есть лишь техническое подспорье или условно-временная замена истинной силы. Государственная власть есть прежде всего — явление внутреннего мира, а потом только внешнего. Власть сильна не штыком и не казнью. Штык нужен тогда, когда власть недостаточно авторитетна; казнь говорит о недостаточной лояльности снизу. Власть сильна своим достоинством, своею правотою, своею волею и ответам народа (т. е. блюдением закона, доверием, уважением и готовностью творчески вливаться в начинания власти).
Эту основную природу свою,—духовную и волевую, — власть должна помнить, беречь и укреплять. В ее распоряжении всегда остается аппарат принуждения,—т. е. возможность поддерживать свои веления внешней силой. Но внешняя сила никогда не заменит внутреннюю, — ни ее достоинства, ни правоты, ни ее духовного импонирования. Пугачевский бунт свидетельствовал о том, что духовный авторитет русской государственной власти вновь (после Петра!) поколебался; что народный «идеал царя» не воплощался петербургским троном того времени... Лучшиелюди той эпохи понимали это: А. И. Бибиков, которому Императрица поручила усмирение Пугачевского бунта, писал Фонвизину: «Не Пугачев важен, важно общее негодование!» Исторически дело обстояло так, что лояльность русского простонародья пыталась поставить трону свои условия. Бунт, конечно, надо было подавить. Но штык Михельсона и казни графа Панина не разрешали вопроса: надо было принять «корректуру»
народного правосознания и творческими реформами восстановить истинную силу императорской власти. Ибо государство держится не штыком, а духом; не террором, а авторитетом власти; не угрозами и наказаниями, а свободноюлояльностью народа.
Поэтому, говоря о сильной власти в грядущей России, я разумею прежде всего и больше всего—ее духовный авторитет. Этот духовный авторитет предполагает наличность целого ряда условий.
Так, прежде всего, необходима та особая национальная вдохновенность власти, которая должна излучаться из нее: народ дол-жен уверенно чувствовать, что это есть наша, русская, национальная власть, преданная историческому делу, верная, неподкупная, блюдущая и строящая; без этой уверенности не будет ни доверия, ни уважения, ни готовности «аккумулировать» и служить. Сильная власть есть национально-убедительная власть.
Далее, в России необходимо религиозное доверие народа к власти: власть инославная, иноверная или безверная всегда будет пользоваться в России скудным, урезанным, сомнительным авторитетом. Власть, оторванная от Бога, не может знать, что полагается «по Божьи»; она будет чужда верующему сердцу, а потому вообще не привлечет к себе сердец. Сильная власть есть религиозно-убедительная власть.
Далее, духовный авторитет власти будет тем больше, чем независимее будет эта власть. Зависимая власть не будет пользоваться ни уважением, ни доверием. Человек, который сам не стоит и не идет, не сможет и вести: за ним не пойдут. Всякая зависимость будет подрывать авторитет власти: зависимость от иностранных войск, от своей армии, от каких-либо международных явных или тайных организаций, от партий, от капитала, от всяких ультимативных «нажимов» и т. д. Даже зависимость от церкви была бы нежелательна и противоречила быдревней,русско-православнойтрадиции. Русская государственная власть может определяться только верою, совестью, честью и российским всенародным благом. Это должна быть автономная и предметно-убедительная власть.
Наконец, эта власть должна быть в государственных делах волевым центром страны. Безволие и слабоволие не импонируют русскому человеку. Сам не имея зрелого волевого характера, русский человек требует воли от своего правителя. Он предпочитает окрик, строгость, твердость—уговариванью, «дискуссиям» и колебаниям; он предпочитает даже самоуправство — волевому ничтожеству. Ему необходимо императивнаяубедительность власти
Таковы основные условия внутренней силы власти Им должна соответствовать ее внешняя форма. Отчетливо вычертить эту форму можно было бы только в виде конституционного проекта с подробным объяснительным комментарием. Здесь можно уста
новить только основы грядущего государственного устройства России, и то лишь вкратце Вот эти основы.
1. — Сильная власть грядущей России должна быть не вт/епра-вовая и не сверхправовая, а оформленная правом и служащая по праву, при помощи права — всенародному правопорядку. России нужна власть не произвольная, не тираническая, не безграничная. Она должна иметь свои законные пределы, свои полномочия, обязанности и запретности, — во всех своих инстанциях и проявлениях. Это относится и к органу верховной власти, как бы он ни назывался и кем бы ни был представлен. Русский народ должен осознать себя как правовое единство, как Субъекта Права, состоящего из множества субъектов права: как живую Всероссийскую Личность, которую строит и ведет сильная правовая власть.
2. — Итак, русское государство будет субъектом права, юридическим лицом. А юридическое лицо организуется или по образцу корпорации, или по образцу учреждения (см «Н<аши> 3<адачи>» № 40 и 41).
Корпорация строится снизу вверх равноправными членами: это есть осуществленное самоуправление. Каждый участник ее есть полномочный член целого, решающий о своем участии в корпорации, о ее целях и задачах, о ее уставе и правлении. Правовая жизнь корпорации строится через тех, кого она объемлет и обслуживает. Так, последовательная демократия пытается построить государство по принципу строгой корпорации, сводя принцип «учреждения» к минимуму.
Учреждение строится сверху вниз, учредителем и группою назначенных им лиц: это есть осуществленное попечение о людях. Цель и задачи учреждения устанавливаются с самого начала учредителем; они определяются уставом; уставом же определяется структура учреждения и способы его действия. Одни люди ведут учреждение, и в этом состоит их служба; другие люди пользуются благами этого учреждения, но полномочными членами его не являются. Правовая жизнь и деятельность учреждения строится не теми, кого она обслуживает (напр., школа, больница). Так, абсолютная монархия пытается построить государство по принципу строгого учреждения.
В действительной жизни государство никогда не бывает ни последовательной корпорацией, ни последовательным учреждением. Государство всегда строится — не только сверху вниз, но и снизу вверх. Оно всегда осуществляет властное попечение; и всегда имеет сферы народного самоуправления. Понятно, что государство. нуждающееся в сильной власти, будет склоняться к форме учреждения, а государство, удовлетворяющееся слабой властью, будет более походить на корпорацию.
В грядущей России необходимо будет найти верное, жизненно-целесообразное, длярусского правосознания подходящее сочетание изучреждения и корпорации Участие русского гражданина в строительстве русского государства будет драгоценно, жизненно, необходимо; но оно не должно будет ослаблять силу государственной власти. Это участие не должно колебать и разлагать ее единства, авторитета и ее силы Составитель будущей русской конституции должен понять и запомнить, что все установления, правила и обычаи демократического строя, которые усиливают центробежные силы в политике или ослабляют центростремительные тяготения народной жизни, — должны быть специально для России обезврежены и заменены иными, закрепляющими национальное единение. Здесь потребуется творчество новых государственных форм: нового избирательного права, новых партийных принципов, новых форм контроля, единения и водительства. Русский гражданин должен присутствовать своею лояльною волею и своим уважающим признанием во всех делах своего государства, — даже и там, где он не участвует в делах формальным голосованием. Форма «общественного договора» неосуществима в России — всенародный сговор с арифметическим подсчетом голосов быстро развалитрусское государство. Но именно поэтому «общественный договор» должен стать живой, всепокрывающей, непоколебимой предпосылкойрусского правосознания.
Задача нового государственного устройства России состоит в том, чтобы найти такую форму, при которой дух братской корпорации насытит форму пстечителъно-ведущегоучреждения,—при обеспеченном и непрерывном отборе качественно-лучшихлюдей квласти. Это учреждение должно быть несомотем корпоративным духом, который оно само питает и насаждает, приучая народ к самоуправлению, но не рабствуя корпоративной схеме и доктрине
Новая конституция России должна совместить преимущества авторитарного строя с преимуществами демократии, устраняя опасности первого и недостатки второй.
3. — Государственный строй новой России должен быть по форме унитарным, а по духу федеративным. Единство державы и центральной власти не может зависеть от согласия многих отдельных самостоятельных государств (областных или национальных); это развалит Россию. Но единая и сильная центральная власть должна выделить сферы областной и национальной самостоятельности и насытить всенародное единение духом братской солидарности
4. — Сильная власть отнюдь не должна привести в России к формам централизации и бюрократизма. Русское государство должно быть единым, но дифференцированным Оно должно
иметь сильный центр, децентрализующий все, что возможно децентрализовать без опасности для единстваРоссии Центральное управление не сможет обойтись без назначаемого чиновничества, но надо будет найти новые формы для выдвижения снизу людей талантливых и достойных назначения. И в то же время бюрократии центра должно соответствовать широкое — местное, сословное и профессиональное самоуправление. Россия должна иметь сильный центр, формально-авторитетный, но по существу и по духу — народный и всенародный.
5. — Все государственные дела должны быть разделены на две категории: центрально-всероссийские, верховные, и местноавтономные, низовые. К первым должны принадлежать все дела общегосударственные, единые для всех, субстанциальные для России как великой державы. Ко вторым — все остальные. Делами первой категории должен ведать сильный, авторитетный центр (отнюдь не исключающий народного представительства и питаемый свободным всенародно-корпоративным духом). Делами второй категории должны ведать органы самоуправления, работающие в согласии с децентрализованными, местными органами центра (что обеспечит им органическую поддержку центральной власти) Должна быть найдена такая форма государственного устройства, при которой низовая сила будет вовлекаться в работу авторитарного центра, а авторитарный центр будет иметь возможность влить свою оздоровляющую силу в то низовое место, которое потребует этого своею слабостью или своим расстройством.
В этом органическом единении важнее всего, чтобы сильная власть верно соблюдаламеру своего проявления: все, чтолюжет делаться нецентрально, должно совершаться автономно; сила центра не должна подавлять автономное творчество людей и корпораций; но в час необходимости свободные люди и автономные корпорации должны получать опору и оздоровление из сильного центра. Тогда сильная власть окажется примиримою с свободною самодеятельностью народа.
6. — Что касается верховного органа власти (Глава государства) в грядущей России, то необходимо помнить следующее. Коллективное (не единоличное) строение этого органа ослабит его политическую силу: при прочих равных условиях единоличный глава государства представляет более сильную волевую власть, нежели совокупный орган. Точно так же — избираемый Глава в полномочиях своих срочный (или тем более — краткосрочный), сменяемый или тем более —легко сменяемый),зависимый от других пресекающих или авторитетно контролирующих органов, лишенный самостоятельной инициативы, — явит власть слабую.
По общему правилу он создает на ответственнейшем месте государства — центр безволия, интриг и замешательства.
Таковы общие основы, на которых может и должно покоиться государственное устройство грядущей России. Современные поколения русских людей сумеют найти соответствующие формы государственного бытия, творчески-новые и национально-спасительные.
О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСПЕХЕ (Забытые аксиомы)
I
Изволением Божиим в России умер жестокий тиран, один из самых свирепых деспотов истории, истинный «сын погибели». Окруженный при жизни обязательной для всех и притом до смешного безмерною лестью, он и в болезни, и по смерти был предметом невиданных политических и военных почестей, и советское «духовенство» чуть ли не всех исповеданий возносило фальшивые и кощунственные молитвы о его «здравии» и «упокоении». Нам. хранящим в себе верные сердца, патриотические помыслы и трезвую память о страданиях русского народа, было духо-неестественно и бесчестно видеть все это извращение политических оценок и суждений. И ныне, когда вся эта соблазнительная «помпа» отшумела и стихла, нам необходимо высказаться по существу обо всей этой смуте и связанных с нею соблазнах.
Спросим же себя: что есть истинный политический успех и какими аксиоматическими основами определяется сущность политики?
Самые опасные предрассудки это те, которые замалчиваются и не выговариваются. Так обстоит особенно в политике, где предрассудки цветут буйно и неискоренимо. И вот первый политический предрассудок должен быть формулирован так
«Что такое политика — известно каждому; туг не о чем разговаривать...»
«Известно каждому...» Но откуда же это ему известно? Откуда приходит к людям верное понимание всего того тонкого, сложного и судьбоносного, что таит в себе политика? Что же, это правильное постижение присуще людям «от природы»? Или, может
быть, оно дается им во сне? Откуда этот предрассудок, будто каждому человеку «само собой понятно» всето, что открывается только глубокому, дальнозоркому и благородному духу? Не из этого ли предрассудка вырос современный политический кризис? Недаром человечество постепенно приходит к тому убеждению, что наш век есть эпоха величайших политических неудач, известных в мировой истории. И может быть, уже пора извлечь уроки из этих неудач и подумать о новых путях, ведущих к спасению...
Было бы необычайно интересно и поучительно проследить через всю историю человечества и установить, какие данные, какие предпосылки ведут к настоящему политическому успеху и что надо делать, чтобы добиться в жизни такого подлинного политического успеха? В этой области человеческий опыт чрезвычайно богат и поучителен — от древности и до наших дней... Кто, собственно говоря, имел политический успех? Какими путями он шел к нему? Кто, наоборот, терпел крушение и почему? И, в конце концов, что же такое есть «политический успех» и в чем он состоит?
Установим, прежде всего, что в неопределенной и легко вырождающейся сфере «политики»—отдельные люди и целые партии могут иметь кажущийсяуспех, который в действительности будет фатальным политическим провалом. Люди слишком часто, говоря о политике, разумеют всякие дела, хлопоты и интриги, которые помогают им захватить государственную власть, не останавливаясь ни перед какими подходящими средствами, фокусами, подлостями и преступлениями. Люди думают, что все, что делаетсяр<ядг/ государственной власти, из-за нее, вокруг нее и от ее лица, — что все это «политика», совершенно независимо от того, каково содержание, какова цель и какова ценность этих деяний Самая коварная интрига, самое отвратительное преступление, самое гнусное правление — является с этой точки зрения «политикой», если только тут замешана государственная власть.
Так, история знает людей и партии, которые делали свою скверную и преступную политику, нисколько не заботясь и даже не помышляя об истинных целях и задачах государства, о политическом общении, о благе народа в целом, о судьбах нации, о родине и о ее духовной культуре. Они искали власти, они желали править и повелевать. Иногда они совсем даже не знали, что они будут делать после захвата власти. Иногда они открыто выговаривали, что они преследуют интересы одного-единственного класса и ничего не желают знать о народе в целом или об отечестве. Они бывали готовы жертвовать народом, родиной, ее свободой и культурой во имя захвата власти и во имя классового злоупотребления ею. Иногда же они обманно прикрывались «социальною программой» с тем, чтобы после захвата власти творить свои
собственные желания, вожделения и интересы... История знает множество авантюристов, честолюбцев, хищников и преступников, овладевавших государственною властью и злоупотреблявших ею. Нужно быть совсем слепым и наивным, чтобы сопричислять эти разбойничьи дела к тому, что мы называем Политикой
Когда мы видим в Древней Греции в эпоху Пелопонесской войны, как люди высшего класса связуются такими обязательствами: «Клянусь, что я буду вечным врагом народа и что сделаю ему столько зла, сколько смогу» (см. у Аристотеля и Плутарха), то мы отказываемся признать это «политической деятельностью»... Когда в той же Греции властью овладевают повсюду честолюбивые, жадные и легкомысленные тираны, то это не Политика, а гибель Политики. Когда в Милете демократы, захватив власть, забирают детей богатого сословия и бросают их под ноги быкам; а аристократы, вернувшись к власти, собирают детей бедного сословия, обмазывают их смолой и сожигают живыми (см. у Гераклита Понтийского), то это не Политика, а ряд позорных злодеяний.
Когда мы изучаем историю таких римских «цезарей», как Тиберий, Калигула, Нерон, Вителлий, Домициан, то мы чувствуем, что задыхаемся от отвращения ко всем их низостям и жестокостям, к их разврату и злодейству—и нет тех аргументов, которые заставили бы нас признать их деятельность «политической» и «государственной»: она остается криминальной и развратной.
Когда в Италии в XV веке воцаряются тираны, — почти в каждом городе свой, — то их злодейства можно называть «политикой» только по недоразумению. Нет того вероломства, нет той жестокости, нет того ограбления, нет того кощунства, которого бы они не совершали; нет той противоестественности, перед которой они останавливались бы. Такие имена, как Галеаццо Мария Сфорца, Ферранте Аррагонский, Филипп Мария Висконти, Сигизмунд Мал атеста, Эверсо д’Ангвиллари—должны найти себе место в истории мировых преступников, а не в истории Политики. Ибо Политика имеет свои здоровые основы, свои благородные, духовные аксиомы — и тот, кто их попирает, причисляет сам себя кзлодеям.
Робеспьер, Кутон и Марат были не политические деятели, а палачи. Тоталитарные деспоты и террористы наших дней позорят политику и злоупотребляют государством; их место среди параноиков, прогрессивных паралитиков и преступников, а не среди политических правителей.
И вот, если такие люди «имели успех», если им удавалось захватить в государстве власть и осуществить в своей жизни торжество произвола и своекорыстия, то это означает, что они «преуспели» в своей частной жизни, на горе народу и стране, а сам народ переживал эпоху бедствий и унижений, может быть,
прямую политическую катастрофу. С формальной точки зрения их житейская борьба и их карьера — имела политический характер, потому что они добивались государственной власти и захватывали ее. Но по существу дела их деятельность была антиполитической и противогосударственной. Как авантюристы и карьеристы — они «преуспевали»; но как «политики» они осуществляли «позорный провал», ибо они губили свой народ в нужде, страхе и унижениях. Их «орудие» — государственный аппарат — имел политический смысл и государственное значение; но их цель попирала всякий политический смысл, и последствия их дел были государственно-разрушительны. Тот путь, которым они шли, казался им, а может быть, и народной массе — «политическим»; но то, что они делали, и способ их деятельности, и создаваемое ими — все это было на самом деле противогосударственно, противообщественно, праворазрушительно, антиполитично и гибельно: источник несправедливостей, бесчисленных страданий, ненависти, убийств, развала и разложения.
Все это означает, что Политику нельзярассматривать формально и расценивать по внешней видимости. Она не есть дикая скачка авантюристов; она не есть погоня преступников за властью. Есть основное и общее правило, согласно которому никакая человеческая деятельность не определяется теми средствами или орудиями, которые она пускает в ход, — ни медицина, ни искусство, ни хозяйство, ни политика. Все определяется и решается той высшею и предметною жизненной целью, которой призваны служить эти средства. Государственная власть есть лишь средство и орудие, призванное служить некой высшей цели; — и не более того. Дело определяется тем великим, содержательным заданием, которому государственная власть призвана служить и в действительности служит. Политика не есть пустая «форма» или внешний способ; она зависит от цели и задания, так что цель определяет и форму власти, и способ ее осуществления. Политика есть сразу: и содержание, и форма. И поэтому истинный политический успех состоит не в том, чтобы завладеть государственной властью, но в том, чтобы верно ее построить и направить ее к верной и высокой цели.
Итак, надо различать истинный политический успех и мнимый. Частный, личный жизненный «успех» тирана — есть мнимый успех. Истинный успех есть публичный успех и расцвет народной жизни. И если кто-нибудь удовлетворяется устройством своей личной карьеры и пренебрегает благополучием народа и расцветом его национальной жизни, то он является предателем своего народа и государственным преступником.
II
Итак, что же есть истинная политика?
Политика есть прежде всего служение,—не «карьера», не личный жизненный путь, не удовлетворение тщеславия, честолюбия и властолюбия. Кто этого не понимает и не приемлет, тот не способен к истинной политике: он может только извратить ее, опошлить и сделать из нее карикатуру или преступление. И пусть не говорят нам, что «большинство» современных политиков смотрит на дело «иначе»: если это так, то все беды, опасности и гнусности современной «политики» объясняются именно этим.
Служение предполагает в человеке повышенное чувство ответственности и способность забывать о своем личном <у спехе-неуспехе» перед лицом Дела.
Истинное Политическое служение имеет в виду не отдельные группы и не самостоятельные классы, но весь народ в целом. Политика по существу своему не раскладывает людей и не разжигает их страсти, чтобы бросить их друг на друга; напротив, она объединяетлюдей на том, что им всем обще. Народная жизнь органична; каждая часть нуждается в остальных и служит им; ни одна часть не может и не смеет подавлять остальные, используя их безответственно. Каждый из нас заинтересован самым реальным образом в благополучии каждого из своих сограждан: один бедствующий без помощи — ставит всех в положение черствых предателей; один нищий есть угроза всем; один заболевший чумою заразит всех; и каждый сумасшедший, каждый запойный пьяница. каждый морфинист есть общая опасность. Поэтому истинная политика утверждает органическую солидарность всех со всеми. И поэтому истинный политический успех доступен только тому, кто живет органическим созерцанием имышлением.
Такая программа всеобщей органической солидарности ясна далеко не всем и чем более человек духовно близорук и своекорыстен, тем менее она ему доступна.
История знает бесчисленное множество живых примеров того, что массы совсем не желали настоящей политики и соответствующей ей программы, а валили за антиполитическими и противогосударственными предложениями демагогов. В XIX веке такую разрушительную практику, такой политический разврат формулировал и провозгласил Карл Маркс с его классовой партией и программой...
Но мудрые и верные отнюдь не должны соблазняться этим: они должны блюсти свое понимание и свою программу даже тогда, если это грозит им изоляцией и преследованиями. Надо иметь достаточно гражданского мужества, чтобы справиться и с изоляцией,
чтобы принять и преследование, иными словами, чтобы примириться со своим личным политическим неуспехом. Надо быть уверенным, что придет иное время, придут иные отрезвленные и умудренные поколения, которые признают этот кажущийся политический «провал» за истинный политический успех и найдут настоящие верные слова д ля осуждения политического разврата.
Но если настоящий политик встретит сочувствие у своих современников, тогда он должен повести борьбу и попытаться увлечь на верный путь широкие круги народа. Ибо политика есть искусство объединитьлюдей, — приводить к одному знаменателю многоголовые и разнообразные желания людей. Здесь дело не в том, чтобы люди «сговорились друг с другом на чем угодно», ибо они могут согласиться и на антиполитической программе и на противогосударственных основах: сговариваются ведь и разбойники, и экспроприаторы, и террористы, и детопокупатели... Нужно политическое единение, политическое и по форме, и по содержанию: лояльное, правовое, свободное по форме, и общенародное, справедливое, органическое и зиждущее по содержанию. И в этом состоит задача истинной политики.
Поэтому политика есть волевое искусство — искусство социального веления. Надо организовать и верно выразить единую всенародную волю, и притом так, чтобы это единение не растратило по дороге силу совокупного решения. Ибо история знает множество примеров того, где «единение» с виду удавалось, но на самом деле уже не имело за собою реальной волевой силы: попутно делалось так много «нежелательных уступок», заключались направо и налево такие неискренние лукавые «компромиссы», что люди охладевали и только притворялись «согласными»; на самом же деле никто уже не хотел — ни единения, ни его программы, и когда начиналось строительство, то все рушилось, как карточный дом. Вот почему политика есть искусство совместного и решительного воления: безвольная политика есть недоразумение или предательство, всегда источник разочарования и бедствий.
Отсюда вытекает, что политика нуждается в свободной и необманной (искренней) воле. Истинное единение покоится на добровольном согласии: люди должны объединяться не по принуждению, не из страха, не по лукавству, не для взаимного обмана. Чем меньше интриги в политике, тем она здоровее, глубже и продуктивнее. Комплот обманщиков, провокаторов, диверсантов, словом — людей бесчестных и безответственных, никогда не создаст ни здорового государства, ни верной политики. Чем больше в политике конспирации, тем больше в ней лжи и обмана Чем сильнее влияние таинственной и двусмысленной закулисы, тем больше лжи, предательства и своекорыстия будет в политической
атмосфере. Нельзя объединить и согласить всех; это не удастся никогда. Надо объединить лучших, умнейших, способных к ответственному служению, не связанных никакими закулисными «приказами» и «запретами»; а это объединение должно позвать за собой разумное большинство общества и народа. И при этом надо всегда помнить, что это «большинство» не способно творить и создавать, созерцать и строить политику: оно способно только отзываться на идею и поддерживать программу. Всегда все значительные и великие реформы вынашивались инициативныммень шинством и им же проводились в жизнь, а большинство только соглашалось, участвовало и подчинялось. Это отнюдь не означает призыва к тоталитарному строю, самому больному, извращенному и унизительному из всех политических режимов. Но это означает призыв—не переоценивать голосмассы в политике, ибо масса не живет органическим созерцанием и мышлением, доступным тольколучшемуменьшинству, которое и призвано осуществлять его и вовлекать в него массу доказыванием и показыванием...
Для того чтобы создать это единение, лучшие люди народа (т. е. именно те, которые хотят и могут служить общей органической солидарности) должны договориться и согласиться друге другом, сомкнуть свои ряды и затем приступить к объединению народа. Если лучшие политики страны этого не сделают, то это дело будет вырвано у них противогосударственными антиполитиками. Это значит, что политика требует отборалучшихлюдей, — прозорливых, ответственных, несущих служение, талантливых организаторов, опытных объединителей. Каждое государство призвано к отборулучшихлюдей. Народ которомутакой отбор не удается, идет навстречу смутам и бедствиям. Поэтому все то, что затрудняет, фальсифицирует или подрывает палитически-предметный отбор лучших людей, — вредит государству и губит его: всякая властолюбивая конспирация, всякие честолюбиво-партийные интриги, всякая продажность, всякое политическое кумовство, всякая семейная протекция, всякое привлечение государственно-негодных элементов к голосованию, всякое укрывательство, всякое партийное, племенное и исповедное выдвижение негодных элементов... Кто желает истинного политического успеха, тот должен проводить всеми силами предметный отборлучшихлюдей
И вот, то, что этот отбор может и должен предложить народу, есть осуществимый оптимум в пределах общей органической солидарности. Тут немедленно возникает ряд вопросов: как осуществлять эту цель? какие меры необходимы? какие законы должны быть изданы? и возможно ли немедленно отыскать и осуществить «всеобщую справедливость»? В ответ на эти вопросы необходимо всегда находить и предлагать наилучший исход из осуществимых.
Никогда не следует мечтать о максимуме и ставить себе максимальные задачи: из этого никогда ничего не выйдет, кроме обмана, разочарования, ожесточения и демагогии. Нужен не фантастический максимум, а наилучшее из осуществимого (трезвыйоптимум^).
Это означает сразу: политика невозможна без идеала; политика должна быть трезво-реальной. Нельзя без идеала: он должен осмысливать всякое мероприятие, пронизывать своими лучами и облагораживать всякое решение, звать издали, согревать сердца вблизи... Политика не должна брести от случая к случаю, штопать наличные дыры, осуществлять безыдейное и беспринципное торгашество, предаваться легкомысленной близорукости. Истинная политика видит ясно свой «идеал» и всегда сохраняет «идеалистический» характер.
И в то же время она должна быть трезво-реальной. Ее трезвый «оптимум» не должен покоиться на иллюзиях и не смеет превращаться в химеру. Но именно сюда ведет полное невежество массы и слепое доктринерство полуобразованных демагогов; и хуже всего бывает, когда такое доктринерство имеет успех у невежественной толпы и когда ему удается закрепить свою власть системой террора...
Трезвый и умный «оптимум» (наилучшая возможность! наибольшее из осуществимого!) всегда учитывает все реальные возможности данного народа, данный момент времени, наличные душевные, хозяйственные, военные и дипломатические условия. Этот оптимум должен быть исторически обоснованным, почвенным, зорко рассчитанным, — реализуемым. Истинная политика — сразу идеалистична иреалистична Она всегда смотрит вдаль, вперед — на десятилетия или даже на столетия; она не занимается торгашеством по мелочам. И в то же время она всегда ответственна и трезва; и не считается с утопиями и противоестественными химерами. Политика без идеи оказывается мелкой, пошлой и бессильной; она всех утомляет и всем надоедает. Политика химеры — есть самообман; она растрачивает силы и разочаровывает народ. Истинная же политика имеет крупные очертания, она значительна и благодетельна; и силы ее возрастают от осуществления; и в то же время она никого не обманывает, поэкономит силы и поощря ет народное творчество. Ее судит время, и суждение грядущих поколений всегда оправдывает ее.
III
Для того чтобы осуществить в жизни этот возможный «оптимум», политика нуждается в возможно лучшем государственном устройстве и в возможно лучшем замещении правительственных мест.
Государство есть властная организация; но оно есть в то же время еще и организация свободы. Эти два требования, как две координаты, определяют его задачи и его границы. Если не удается организация власти, то все распадается в беспорядке, все разлагается в анархии, — и государство исчезает в хаосе. Но если государство пренебрегает свободой и перестает служить ей, то начинаются судороги принуждения, насилия и террора, — и государство превращается в великую каторжную тюрьму. Верное разрешение задачи состоит в том, чтобы государство почерпало свою силу из свободы и пользовалось своей силой для поддержания свободы. Иными словами — граждане должны видеть в своей свободе духовную силу, беречь се и возводить свою духовную свободу и силу к государственной власти. Свобода граждан должна быть верным имогучим источником государственной власти.
Власть призвана повелевать и, если нужно — принуждать, судить и наказывать. В государстве никогда не должна иссякать импонирующая воля; сила его императива должна быть всегда способна настоять на своем и вызвать повиновение. Но это господство должно непременно обеспечивать гражданам свободу, уважать ее и блюсти ее. Внешняя деятельность государства (устройство порядка, взыскание налогов, законодательство, суд, администрация, организация армии) — не есть нечто самостоятельное и не может держаться, как чисто внешний процесс, как дело «погонщика». Если вся эта деятельность становится чисто внешним делом (вынуждения, выжимания, проталкивания, приговаривания, наказывания, «окрика» и казни), — чем-то механическим, нажимом и прижимом, взывающим не к сердцу и духу, а к страху и голоду (как в тоталитарных государствах) — то государство рано или поздно терпит крушение и разлагается. Ибо на самом деле государственная жизнь есть выражение внутренних процессов, совершающихся в народной душе, — инстинктивных влечений, мотиваций, волевых решений, импонирования, самовменения, повиновения, дисциплины, уважения и патриотической любви. Государство и политика живут правосознанием народа и почерпают свою силу и свой успех именно в нем. И здесь важно — с одной стороны, правосознание лучших людей, с другой стороны, правосознание массы, ее среднего уровня. Держится правосознание — и государство живет; разлагается, мутится, слабеет правосознание — и государство распадается и гибнет. Правосознание же состоит по существу своему в свободнойлояльности.
Вот почему всякая истинная политика призвана к воспитанию и организации национального правосознания. Это воспитание должно совершаться в свободной лояльности (не в
запугивающем рабстве!) и приучать граждан к свободной лояльности, т. е. к добровольному блюдению права. Поэтому настоящий и мудрый политик должен заботиться о том, чтобы государственное устройство и состав правительства были приемлемы для национального правосознания и действительно вызывали в нем — и сочувствие, и готовность к содействию. Так, если народное правосознание мыслит и чувствует авторитарно, то демократический строй ему просто не удастся. Напротив, правосознание с индивидуалистическим и свободным укладом не вынесет тирании. Нелепо навязывать монархический строй народу, живущему республиканским правосознанием; глупо и гибельно вовлекать народ с монархическим правосознанием в республику, которая ему чужда и неестественна. Государственное устройство и правление суть «функции» внутренней жизни народа, ее выражения, ее проявления, ее порождения; они суть функции его правосознания, т. е. его духовного уклада во всем его исторически возникшем своеобразии.
Всякий истинный политик знает, что государственная власть живет свободным правосознанием граждан; поэтому она должна давать этой свободе простор для здорового дыхания и выражать эту свободу в жизни. А народ призван заполнять свою свободу лояльностью и видеть в правительстве — свое правительство, ограждающее его свободу и творчески поддерживаемое народом. Поэтому истинная государственная власть призвана не только «вязать», но и освобождать; и не только освобождать, но и приучать граждан к добровольному самообязыванию. Власть «вяжет», чтобы обеспечивать людям свободу; она освобождает, чтобы люди учились добровольному подчинению и единению.
Однако государственная власть отнюдь не призвана к тому, чтобы развязывать в народе злые силы. Горе народу, если возникнет такая власть, — все равно, будет ли она освобождать зло по глупости или в силу порочности. Свобода не есть разнуздание злых и право на злые дела. Отрицательные силы должны обуздываться и обезвреживаться; иначе они злоупотребят свободой, скомпрометируют ее и погубят. Зло должно быть связано для того, чтобы добро было свободно и безбоязненно развертывало свои силы. Поэтому истинная политика властно связует и упорядочивает жизнь, чтобы тем освобождать и поощрятълучшие силы народа.
Но и связанные силы зла не должны гибнуть. Истинная политика мудра, осторожна и экономит силы народа. Поэтому ей присуще искусство—щадить отрицательные силы и волевые заряды и находить для них положительное применение, указуя злому, завистнику, разрушителю, преступнику, разбойнику, бунтовщику и предателю возможность одуматься и приняться за положительный труд...
Такова сущность истинной политики. Таков путь, ведущий к истинному политическому успеху.
Политика есть искусство свободы, воспитание самостоятельно творящего субъекта права. Государство, презирающее свободную человеческую личность, подавляющее ее и исключающее ее — есть тоталитарное государство, учреждение нелепое, противоестественное и преступное, оно заслуживаеттого, чтобы распасться и погибнуть.
Политика есть искусство права, т. е. умение создавать ясную, жизненную и гибкую правовую норму. Государство, издающее законы темные и непонятные, несправедливые и двусмысленные, нежизненные, педантичные и мертвые — подрывает в народе доверие к праву и лояльность, развязывает произвол и подкупность в правителях и судьях и само подрывает свою прочность.
Политика есть искусство справедливости, т. е. умение вчувствоваться в личное своеобразие людей, умение беречь индивидуального человека. Государство, несущее всем несправедливое уравнение, не умеющее видеть своеобразие (т. е. естественное неравенство!) живых людей и потому попирающее живую справедливость — накопляет в народе те отрицательные заряды, которые однажды взорвут и погубят его.
Такова сущность истинной политики. Она творится через государственную власть и потому должна держать это орудие в чистоте; государственная власть, став бесчестной, свирепой и жадной — заслуживает свержения и позорной гибели. Политика дает человеку власть, но не для злоупотребления и не д ля произвола; грязный человек, злоупотребляющий своею властью и произ-воляющий — является преступником перед народом. Напротив, истинный политик переживает свое властное полномочие, как служение, как обязательство, как бремя, и стремится постигнуть и усвоить искусство властвования. И пока его искусство не справилось и не нашло творчески верное разрешение задачи и пока он сам не освобожден от своего обязательства, он должен нести бремя своего служения, — ответственно и мужественно, — хотя бы дело шло о его личной жизни и смерти. Государственная власть есть не легкая комедия и не маскарад, где снимают маску, когда захочется Нет, ей присуща трагическая черта,- она каждую минуту может превратиться в трагедию, которая захватит и личную жизнь властителя и общую жизнь народа. Поэтому истинный политик обязан рисковать своей жизнью подобно солдату в сражении; именно поэтому люди робкие и трусливые не призваны к политике.
И вот истинный птитическийуспехуузсхуххен только тому, кто берется за дело с ответственностью илюбовью...
Нет ничего более жалкого, как бессовестный и безответственный политик: это человек, который желает фигурировать,
но не желает отдаться целиком своему призванию; — который в своей деятельности всегда не на высоте; — который не умеет расплачиваться своею земною личностью; — который бежит от своей собственной тени. Это трус по призванию, который не может иметь политического успеха.
И нет ничего более опасного и вредного, как политик,лишенный сердца, это человек, который лишен главного органа духовной жизни; — который не любит ни своего ближнего, ни своего отечества, — который не знает верности, этого выражения любви, но способен к ежеминутному предательству; — который с самого начала уже предает всякое свое начинание, — который не имеет ни одного Божьего луча для управляемой им страны; — циник по призванию, который может иметь <успех» в личной карьере, но никогда не будет иметь истинного политического успеха. Вокруг его имени может подняться исторический шум, который глупцы и злодеи будут принимать за «славу». Вокруг него могут пролиться потоки крови, от него могут произойти катастрофические бедствия и страдания, но творческих путей он не найдет для своего народа
История знает таких тиранов; но никаких Неронов, никаких Цезарей Борджиа, никаких Маратов не чествовали так, как их чествуют ныне при жизни и по смерти. Современные люди утратили живое чувство добра и зла, они принимают извращения за достижения, низкую интригу за проявление ума, свирепость за героическую волю, противоестественную утопию за великую мировую «программу». Наши современники забыли драгоценные аксиомы политики, права, власти и государства. Они «отменили» дьявола, чтобы предаться ему и поклониться ему.
И величайший, позорнейший провал мировой истории (русскую революцию) они переживают, как величайший политический успех.
Но час недалек и близится отрезвление.
О ВОСПИТАНИИ В ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ
I
Нам не дано знать, когда и в каком порядке закончится революция в России. События развертываются медленно, слишком медленно для одного поколения. Мы не можем, не должны делать себе
иллюзий: предстоят еще сложные, ответственные и мучительные события, смысл которых будет состоять в том, что всероссийское крестьянство овладеет изнутри государственным и военным аппаратом страны, сбросит или отодвинетустроившийся у власти слой международных авантюристов и начнет строить новую национальную Россию. Возможно, что из наших, старших поколений лишь немногие доживут до освобождения родины и лишь совсем немногие смогут принять участие в ее возрождении. Но именно это предвидение обязывает нас смотреть вперед и вдаль и готовить для новых русских поколений тот материал выводов и руководящих линий, который мы выстрадали и выносили за эти десятилетия и который поможет им справиться с ихпретрудной задачей. Мы должны высказать и письменно (по возможности и печатно!) закрепить в отчетливых и убедительных формулах то, чему нас научила история, чему нас умудрила наша патриотическая скорбь.
Грядущая Россия будет нуждаться в новом, предметном питании русского духовного характера; не просто в «образовании» (ныне обозначаемом в Советии пошлым и постылым словом «учеба»), ибо образование, само по себе, есть дело памяти, смекалки и практических умений в отрыве от духа, совести, веры и характера. Образование без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он, — бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, — и начинает злоупотреблять. Надо раз навсегда установить и признать, что безграмотный, но добросовестный простолюдин есгълуч-ший человек vt лучший гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная «образованность» вне веры, чести и совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации.
Новой России предстоит выработать себе новую систему национального воспитания, и от верного разрешения этой задачи будет зависеть ее будущий исторический путь.
Мы видели, как русская интеллигентская идеология XIX века подожгла Россию, вызвала великий пожар и сама сгорела в его огне. Мы знаем также, что русский народ жив и будет восстанавливать свое государство на пепелище революции. Мы же, русская интеллигенция, кость от кости русского народа, дух от духа, любовь от его любви и гнев от его гнева; — мы, никогда не верившие ни в какую «послепетровскую» пропасть, якобы отделившую нас от нашего народа, и ныне неверящие ни в какой «разрыв» между внутренней и зарубежной Россией, — мы обязаны осознать причины нашего государственного крушения, найти его истоки в строении и укладе русской души, обрести и в самих себе эти больные уклоны и преодолеть их (все эти национальные заблуждения и
соблазны, все это больное наследие уделов, татарщины, сословности, крепостничества, бунтов, заговорщичества, утопизма и интернационализма) — преодолеть и вступить на новый путь.
Россия выйдет из того кризиса, в котором она находится, и возродится к новому творчеству и новому расцвету — через сочетание и примирение трех основ, трех законов духа: свободы, любви и предметности. Вся современная культура сорвалась на том, что не сумела сочетать эти основы и блюсти эти законы. Она захотела быть культурою свободы и была права в этом; но она не сумела стать культурою сердца и культурою предметности, — и это запутало ее в противоречии и привело ее к великому кризису. Ибо бессердечная свобода стала свободой эгоизма и своекорыстия, свободой социальной эксплуатации, а это повело к классовой борьбе, к гражданским войнам и революциям. А беспредметная и противопредметная свобода — стала свободой беспринципности, разнуздания, безверия, «модернизма» (во всех его видах) и безбожия. Все это связано взаимно; все это есть единый процесс, приведший к великому кризису наших дней. Реакцией на это явился — зажим бессердечной и беспредметной свободы в государственно-партийные, дикгаториальные тиски, — то коммунистические, то буржуазно-националистические. Этот бюрократически организующий зажим должен был бы, казалось, устранить известные антисоциальные проявления свободы, злоупотребления ею и водворить большую социальность при несвободе. На самом же деле несвобода (отрицательная функция) ему удается вполне, а большая социальность (положительная, творческая функция) — не удается ему: на место прежней свободной несоциальности водворяется новая несвободная антисоциалъность, и народ попадает в наихудшие и наитягчайшие условия жизни, известные в истории. Социализм и коммунизм отнимают у людей свободу и не дают им ни социальной справедливости, ни духовного творчества.
Это объясняется тем, что осуществить социальную справедливость могут только люди с сердцем и с предметною волею, ибо справедливость есть дело живой любви и живого совестного созерцания, т. е. — предметно настроенной и устроенной души. Ошибочно принимать справедливость за равенство, ибо справедливость есть предметное неравенство людей. Наивно воображать, будто достаточно последовательной доктрины и последовательного рассудка для того, чтобы справедливесть была найдена и водворена и чтобы люди начали новую социальную жизнь. Ибо рассудок без любви и без совести, неукорененный в живом созерцании Бога, есть разновидность человеческой глупости и черствости, а глупая черствость никогда еще не делала людей счастливыми.
Из трех великих основ всякой человеческой жизни и культуры — свободы, любви и предметности — ни одна не может быть упразднена или упущена: необходимы все три и все три обусловливают одна другую взаимно. Если бессердечная свобода ведет к несправедливости и эксплуатации, то беспредметная свобода ведет к духовному разложению и социальной анархии Но бессердечная и беспредметная несвобода ведет к еще более тяжкой рабской несправедливости и глубокой деморализации. Свобода необходима человеческому инстинкту и духу, как воздух телу. Но она должна быть наполнена жизнью сердца и предметной воли. Чем больше сердца и предметной воли у человека, тем менее опасны ему соблазны свободы и тем больший смысл она приобретает для него. Спасение не в отмене свободы, а в ее сердечном наполнении и предметном осуществлении.
Именно этим определяется путь грядущей России. Ей нужно новое воспитание: в свободе и к свободе; в любви и к любви; в предметности и к предметности. Новые поколения русских людей должны воспитываться к сердечной и предметной свободе. Эта директива — на сегодня, на завтра и на века. Это единственно верный и главный путь, ведущий к расцвету русского духа и к осуществлению христианской культуры в России.
Для того чтобы выяснить это до конца, необходимо сосредоточиться на идее предметности.
События последнего века показали нам, что свобода совсем не есть последняя и самодовлеющая форма жизни: она не предопределяет ни содержания жизни, ни ее уровня, ни направления. Свобода дается, человеку для предметного наполнения ее, для предметной жизни, т. е. для свободной жизни в Предмете. Что же есть Предмет и что такое предметная жизнь?
Каждое существо на земле и каждое тело человеческое имеет некоторую цель, которой оно и служит. При этом можно иметь в виду чисто субъективную цель, зовущую человека к удовлетворению его личных потребностей и ведущую его к личному успеху в жизни Но можно иметь в виду и объективную цель, последнюю и главную цель жизни, по отношению к которой все субъективные цели окажутся лишь подчиненным средством. Это есть великая и главная цель человека, осмысливающая всякую жизнь и всякое дело, цель, на самом деле прекрасная и священная;—не та, ради которой каждый отдельный человек гнется и кряхтит, старается и богатеет, унижается и трепещет от страха, но та, ради которой действительно стоит жить на свете, ибо за нее стоит бороться и умереть. Для животного такою целью является продолжение рода, и в служении этой цели мать-самка отдает свою жизнь за детеныша. Но у человека есть более высокая, духовно-верная цель жизни, на самом
деле и для всех драгоценная и прекрасная, или если собрать все эти определения в простой и скромный термин,—Предметная
Человеку стоит жить на свете не всем, а только тем, что осмысливает и освящает его жизнь и самую его смерть. Всюду, где он живет нестоящим, — пустыми удовольствиями, самодовлеющим накоплением имущества, кормлением своего честолюбия, служением личным страстям, словом, всем, что непредметно или противопредметно, — он ведет жизнь пустую и пошлую, и всегда предаст свою цель, как только встанет выбор между этой пустой целью и самой жизнью. Ибо он сейчас же рассудит так: — спасу жизнь, — останется надежда на удовольствия и приятности; погибну за удовольствия и за богатство, — утрачу и их, и жизнь. Но если у человека есть предметная, священная цель жизни, то он мыслит обратно: если предам мою предметную цель, то потеряю и самый смысл жизни, а на что мне жизнь без смысла и святыни?.. — такая жизнь мне не нужна, а предметная цель священна и необходима и тогда, если моя личная жизнь на земле прервется...
II
Жить предметно — значит связать себя (свое сердце, свою волю, свой разум, свое воображение, свое творчество, свою борьбу) с такой ценностью, которая придаст моей жизни высший, последний смысл. Мы все призваны к тому, чтобы найти эту ценность, связать себя с нею и верно осмыслить ею наш труд и направление нашей жизни. Мы должны увидеть оком сердца предметное значение и назначение нашей жизни. Ибо в действительности мы все служим некоему высшему Делу на земле — Божьему Делу — «прекрасной жизни» по слову Аристотеля, «Царству Божьему» по откровению Евангелия. Это есть единая и великая цель нашей жизни, единый и великийПредмет истории. И вот, в его живую предметную ткань мы и должны включить нашу личную жизнь.
Мы найдем свое место в этой ткани, увидев с силою очевидности, что жизнь русского народа, бытие России, — достойное, творческое и величавое бытие, — входит в это Божье Дело, составляет его живую и благодатную часть, в которой есть место для всех нас. Кто бы я ни был, каково бы ни было мое общественное положение, — от крестьянина до ученого, от министра до трубочиста, —я служу России, русскому духу, русскому качеству, русскому величию; не «маммону» и не «начальству»; «не личной похоти» и не «партии»; не «карьере» и не просто «работодателю»; но именно России, ее спасению, ее строительству, ее совершенству, ее оправданию перед Лицам Божьим. Жить и действовать так, значит жить и действовать согласно главному, предметному призва
нию русского человека: это значит жить предметно, т. е. — службу превратить в служение, работу в творчество, интерес во вдохновение, «дела* освятить духом Дела, заботы возвысить до замысла, жизнь освятить Идеей. Или, что то же самое, — ввести себя в предметную ткань Дела Божия на земле.
Предметность противостоит сразу—и безразличию, и безоглядному своекорыстию,—этим двум чертам рабского характера.
' Воспитать к предметности значит, во-первых, вывести человеческую душу из состояния холодной индифферентности и слепоты к общему и высшему; открыть человеку глаза на его включенность в ткань мира, на ту ответственность, которая с этим связана, и на те обязательства, которые из этого вытекают; вызывать в нем чутье и вкус к делам совести, веры, чести, права, справедливости, церкви и родины Поэтому стать предметным человеком значит проснуться и выйти из гипноза бездействия и страха, растопить свою внутреннюю льдину и расплавить свою душевную черствость Ибо предметность противостоит, прежде всего, безразличию.
Воспитать к предметности значит, во-вторых, отучить человека от узкого и плоского своекорыстия, от того «шкурничества» и той беспринципной изворотливости, при которых невозможны никакое культурное творчество и никакое общественное строительство. Стать предметным человеком значит преодолеть в себе примитивный и безоглядный инстинкт личного самосохранения, тот наивный и циничный эгоизм, которому недоступно высшее измерение вещей и дел. Человек, не обуздавший своего животного себялюбия, своего практического эгоцентризма, не открывший себе глаза на свое призвание — служить, не научившийся преклоняться перед высшим Смыслом и Делом, перед Богом, будет всегда существом социально опасным Так, Предметность освобождает душу не только от душевного безразличия, но и от скудости и пошлости личного эгоцентризма.
В этих двух требованиях содержится азбука предметного воспитания. И надо признать, что вне ее — всякое вообще воспитание мнимо и призрачно, и всякое вообще образование мертво и формально. Самое важное, что должна дать человеку семья и школа. — это предметно-открытый взор, предметно-живое сердце и предметно-готовую волю. Человек должен видеть и разуметь ткань Божьего Дела на земле, — чтобы знать, как можно войти в нее и как следует включать себя в ее жизнь; — чтобы сердце его отзывалось на явления и события в этой ткани, как на важные, драгоценные, вызывающие радость и горе; чтобы воля была способна и готова жертвовать этой ткани своим личным интересом и служить ей не за страх и не за долг, а за любовь и за совесть
Ныне, как, может быть, еще никогда, Россия нуждается в таком воспитании. Ибо ранее в России была жива религиозная и патриотическая традиция такого духа и такого воспитания. А ныне старые традиции порваны, а новые еще не завязались и не сложились. Завязать и укрепить их и должна система предметного воспитания.
Духовная предметность души является, как сказано, выходом из безразличия и своекорыстия. Но этим преодолением, которое имеет лишь отрицательное, а не положительное значение, предметность не определяется и не исчерпывается. По существу же идея предметной жизни и предметного человека может быть описана так.
Преодолев свое безразличие, человек должен найти себе настоящее и достойное содержание жизни. Он должен цельно полюбить нечто такое, что на самом деле заслуживает цельной любви и преданного служения. Это значит, что настоящая предметность имеет два измерения: субъективно-личное и объективно-ценностное. Первое измерение, субъективно-личное, определяет, действительно ли я предан моей жизненной цели, искренен ли я в этой преданности, целен ли я в этой искренности и, наконец, действую ли я согласно этой преданности, искренности и цельности. Второе измерение, объективно-ценностное, определяет, не ошибся ли я в выборе моей жизненной цели, действительно ли мой «прер,1лех» Предметен, действительно ли моя цель священна и правда ли ею стоит жить и за нее стоит бороться и, может быть,умереть. Ибо в жизни возможны разные пути и перепутья.
Так, возможно, что человек субъективно — «предметен», а объективно нет. Это значит, что он страстно, искренно и деятельно предан ошибке, например, какому-нибудь вредному, обольстительному учению, ложной политической цели, нелепой и лукавой вере... Тогда возникает страстное и искреннее кипение в пустоте или соблазне. Но возможно и обратное, — когда человек высказывается в пользу верной цели, которою действительно стоит жить и за которую стоит бороться до смерти, но сам он относится к ней холодно, не имея для нее ни любви, ни жертвенности, ни борьбы. Тогда возникает верная формула Предмета, не больше, а может быть, еще и аффектированная декламация о Предмете, верная по содержанию, но фальшивая по чувству и сколъзко-предателъская в жизни. В-третьих, возможно и такое положение дела, при котором субъективно-холодный человек холодно разговаривает о Предметно-неверных или соблазнительных целях жизни. Однако, верна и духовно-значительна четвертая возможность, когда человек искренно, цельно и деятельно предан Предметной цели, т. е. делу Божьему на земле, например, церкви, науке, искусству,
духовному воспитанию своего народа, организации справедливой жизни, спасению своей родины, выработке свободного и справедливого права. И эта возможность есть единственно верная.
Тогда душою человека владеет двойная или подлинная Предметность. Она захватывает его душу, осмысливает его жизнь, делает его цельным и огненным и придает его жизни религиозный смысл, даже и тогда, когда он сам себя не считает ни верующим, ни церковным, — ибо сокровенная религиозность глубже явной и незримая церковь обширнее зримой. Такой человек переживает свой Предмет — сразу—как далекую цель, как объективное — будущее — желанное событие, и в то же время — как близкую реальность, как вдохновляющую его силу, как подлинную ткань бытия, которая захватывает и его личные силы. Настоящий человек ищет в своей жизни прежде всего — Предметности, т. е.Дела Божьего на земле; он углубляет до него каждую жизненную задачу, каждое жизненное отношение; он освещает из него все дела, исходит из него, как из задания, и восходит к нему, как к цели.
Все это придает ему особый дух—дух искания, ответственности и служения, без которого человек остается обывателем или карьеристом, слутою своих страстей или медиумом чужих влияний, а может быть, и хуже—лисой, хамелеоном и предателем. По духу искания, ответственности и служения предметные люди легко и быстро узнают друг друга, и тот, кто раз приобщился ему, быстро научивается без ошибки узнавать его: он узнает его и у Конфуция, и у Сократа, и у Марка Аврелия, и у Вильгельма Оранского, и у Карлейля; ау нас в России — онузнаетего и в православном старце, и в Петре Великом, и в Суворове, и у праведников Лескова, и будет прав, ибо этот дух действительно создавал и строил Россию. И вот каждое такое открытие, каждое такое знакомство будет ему духовной радостью и будет вызывать в нем желание — включить узнанное в свою жизнь, а если это живой человек, то связаться с ним крепко и надолго полнотою доверия и братским сотрудничеством. Предметные люди — братья перед Лицом Божиим; они суть как бы живые нити Божьей ткани на земле; или — живые струи Его потока; граждане Его медленно возрастающего Царства. И именно этим объясняется присущее им стремление — пробудить в других чувство Предметности, сознание Предмета, искание Предметности, чувство предметной ответственности.
Вот почему Предметность можно было бы описать, как включение себя в Дело Божие на земле; или как вплетение себя в Его ткань; или как вхождение в Его поток; как отождествление своего дела с Его Делом, своего успеха с Его успехом, своей силы с Его силою. И этому соответствует измерение его мерилами и его успехами — своей жизни, своей ответственности, своих ре
шений, своей правоты, своей удачи и победы. Ткань этого Дела реально присутствует во всем: в природе и в человеке; в самом человеке (в теле, в душе и в духе) и в его культуре; в индивидуальной жизни, и в народной жизни; в семье и в воспитании; в церкви и в вере; в труде и в хозяйстве; в праве и в государстве; в науке и в искусстве; в деяниях воина и в деяниях монаха. Надо научиться воспринимать ее, видеть ее, радоваться ей, пребывать в ней и служить ей. И воспитание человека тем лучше и глубже, чем больше оно сообщает ему это умение.
Можно было бы сказать, что Предметность есть единый и общий источник всех благих побуждений человека, ибо все они определяются словами «хочу Божьего Дела» и «служу Божьему Делу». Все благие дела и побуждения человека суть видоизменения Предметности; и любовно-творческое отношение к природе, и самовоспитание, и строительство семьи, и дружба двух людей, и хозяйственное вдохновение, и чувство ответственности и вины, и социальное чувство, и правосознание, и верный патриотизм, и совестный акт, и научная совесть, и художественное созерцание, и молитва, и церковное сознание — все это разновидности «божеского» подхода к Божьему Делу на земле. Это есть то, в чем нуждается всегда все человечество, но чего ищут и чем владеют только лучшие люди. Все великие религии хотели и доныне хотят этого; все монашеские ордена; все организации братства чести и служения (начиная от университета и кончая армией), — все они ищут именно Предметности в своей сфере. И духовный уровень каждого такого человеческого союза определяется именно тем, поставлены ли в нем на должную высоту — воля к Предметности и организация Предметности. Ибо есть своя особая Предметность в церкви, и своя особая Предметность в науке и преподавании, и своя Предметность в суде и управлении, своя Предметность в искусстве, своя Предметность в армии И все то. что называется в жизни — лицеприятием, непотизмом, святокупством, взяткою, криводушием, гражданскою трусостью, политической продажностью, завистью, лестью, предательством, бесчестием, карьеризмом, лукавством, интригою, или же, выражаясь русскими летописными словами, — «кривдою» и «воровством» — все это разлагает нравы и создает растленную культуру и больную государственность, сводится к отсутствию Предметности в душе и в жизни. Но надо сказать и обратное: нет более крепкого и плодотворного единения на земле, как единение людей в духовной Предметности — в совместной молитве, в духовной близости брака и дружбы, в настоящем академическом сотрудничестве, в воинском братстве единой армии, в предметно-политическом единочувствии, в патриотическом подъеме
III
Тот, кто испытал влияние Предметности на человеческую душу, тот сразу поймет, если я скажу: Предмет есть некая живая и священная стихия, субстанция или «эссенция» духовной жизни, которая несет человеку множество драгоценных даров. И прежде всего она дает ему чувство предстояния: «есть нечто высшее и большее, нежели я сам, такое, что я вижу и к чему я стремлюсь, что мне светит и зовет меня и с чем я связан благоговением и любовью». И далее — чувство ответственности-, ибо это предстояние связывает меня, возлагает на меня обязанности и полномочия, за осуществление коих я отвечаю. Отсюда новый дар: чувство реальной силы, которая призвана к действию, так, что решения ее не безразличны и усилия ее не бессильны, но необходимы и драгоценны в плане Божьего Дела. С этим связан новый драгоценный дар — чувство служения, т. е. уполномоченного и призванного самостоятельного делания перед Лицом Божиим, чувство несения бремени, разрешения заданий, — словом, творческого участия в деле мироустроения. В естественной связи с этим стоят новые дары Предметности: с одной стороны, — неподдельное смирение, ибо предстоящий духовной субстанции мира чувствует свою малость и беспомощность, и ответственный знает, за что и перед Кем он отвечает, и несущий служение учится скромности и смирению; а с другой стороны — Предметное служение дает человеку уверенность в своей правоте, которая свободна и от самомнения, и от гордости, — и некую духовную строгость и властность, которые проистекают непосредственно из чувства Предметной наполненности, призванности и силы. Человек, живущий ответственным Предметным созерцанием, есть вдохновенный человек, а настоящее вдохновение есть именно проявление Предметности и ее дар; человек во вдохновении дышит законом самого Предмета, выговаривает Его содержание, осуществляет Его ритм; и так обстоит везде — в искусстве, в науке и в политике. Именно поэтому Предметному человеку присущ дар верного целеполагания, ибо цели, которые он видит и ставит, имеют всегда далекую силу и высокий смысл; они бывают верны и в земном, эмпирическом плане, но никогда не ограничиваются им и не исчерпываются, потому что их главная сила и их главный смысл — в «небесно-земном» плане, т. е. в том, что они включены в ткань Божьего Дела. Предметный человек — знает он о том или не знает, а иногда он об этом и не знает, — есть орудие или орган Дела Божьего на земле, а потому и судьба его не безразлична в высшем плане бытия, и сам он спокойно поручает себя Руке Божией, — вот так, как Пушкин выговорил это в своем «Арионе» и как Тютчев
выговорил это о самом Пушкине («Ты был богов орган живой.. .») Такой человек не считает свой земной конец «гибелью» и не верит в неуспех или поражение своего земного дела: ибо он знает, что «его» дело не есть только «его» дело, а есть Дело Предметное, и потому — Божие, что неудача его есть лишь видимая неудача и что конечная победа его обеспечена высшею Силою. Образно это можно было бы выразить так: он всю жизнь как бы держится правой рукой за небо. Во всяком случае, он твердо знает, где находится его главная опора и Кто в конечном счете решает его судьбу.
Все это можно было бы выразить так, что Предметность дает человеку верное чувство собственного духовного достоинства.
Напрасно современные безбожники полагают, будто Бог есть фантастическое существо, пребывающее где-то «за облаками», о коем мы воображаем всякие страхи и перед которым мы все время унижаемся. На самом деле вера в Бога не унижает и не обессиливает человека, а, напротив, возносит его, преображает и укрепляет. Это объясняется тем, что Божие присутствие и веяние мы воспринимаем в нас самих, и притом не страхом, а любовью, не протестом, а радостью, и не унижением, а преображением и вознесением. Это любовь и радость, это восприятие и созерцание Божьего веяния сердцем и волею, это осуществление Его воли, как своей, и признание всего этого мыслью — нисколько не унижает человека, а преображает и возносит его. Безбожники представляют себе отношение человека к Богу, как отношение маленькой и слабой вещи к огромной и сильной, т. е. как внешнее отношение, — какое-то «внестояние» и «противостояние», страшное, угрожающее... — вот-вот обрушится гора и раздавит... На самом же деле все это обстоит совсем иначе. Это есть внутреннее отношение, — отношение восприятия и любви, присутствия и радости, откуда и возникает своеобразное и таинственное единение человека с Богом.
Человек воспринимает дыхание Божие в глубине своего личного духа, — не слухом, и не словом, а сердцем — тем таинственным и глубоким чувствилищем, которое мы называем «верою» и «молитвою», а также — вдохновением, совестью, очевидностью или иным актом созерцающейлюбви. Испытав что-либо из этого, — одним актом или многими, долго или кратко, — человек обновляется. Сущность этого обновления состоит в том, что человек, по слову Евангелия, научается быть и жить на земле в качестве земного «сына» Божия. Для этого надо, чтобы человек любил Бога и вместе с Богом любил то совершенное, чтоБоглюбит; и желал Бога и вместе с Богом желал того божественного, чего Бог желает, — и созерцал Бога и Его Творение лучом своего сердечного созерцания и стремился узреть то, что Бог зрит в людях и в мире. Пережив это, человек осуществляет и утверждает свою
способность — «быть с Богам заодно», любить Его и любить с Ним вместе, желать Его и желать с Ним вместе, созерцать Его и созерцать с Ним вместе. И если человек раз осуществил эту способность, оценил ее смысл и значение, на деле доказал ее и утвердил за собою, то это значит, что он вошел в ткань духовной Предметности мира, приобщился ей и включился в нее. Это значит, что он стал к Богу в отношение «сына» к «Отцу», стал человеком-сыном. Он перестал быть человеком-волком, или просто — «человеком-сыном-земного отца». Он стал человеком, воспринявшим своего Небесного Отца: — искрою Его огня; каплею из Его предвечного водомета, ценным камнем из Его сокровищницы; дыханием Его уст; —Его органом. Его носителем. Его жилищем или храмом, — Его сыном, имеющим призвание и право говорить Ему «Отче наш!...»
Вот откуда родится то основное, без чего нет духовной личности: — чувство собственного духовного достоинства; — это не самомнение, не самоуверенность, не тщеславие, не честолюбие и не гордость, а именно чувство собственного духовного достоинства, в котором уважение к своему духу есть в то же самое время смирение перед лицом Божиим; — и это даже не «чувство», ибо чувство неустойчиво и скоропреходяще, это предметная уверенность, доведенная до очевидности, до убеждения, до основыличной жизни. Это не есть повышенная или преувеличенная самооценка, всегда голодающая по чужомупризнанию;здесьделоневоценке своего земного состава, но в способности утвердиться в своем сверхземном составе, т. е. установить в себе алтарь Божий и поддерживать на нем огонь Божий (по древнему гимну: «Тебе в сердцах алтарь поставим...»), и обратиться к Богу со словам «Отец» и с делами «сына».
Всякому человеку доступно, и достойно, и необходимо поставить в своем сердце этот молитвенный алтарь, внимать зовам совести и чести и сделать свою волю орудием Воли Божией, — и тем утвердить в себе духовное достоинство, как основу личной жизни, как верное мерило людей и их поступков, как чувство личного, общественного и политического ранга. От этого у человека делается непроизносимое устно и словесно, но вечно живое «рассуждение» или волевое решение, вроде следующего: «как совершу я это злое дело, я, предстоящий моему Богу и освещаемый Его огнем?»; или: «как войду я сегодня в единение с Богом, покривив душой?»; или: «как соблазнюсь я взяткою, если я призван ткать ризу Божию?»; — «как оправдаю я эту жизнь притворства и лжи перед живущим во мне сыном Божиим?»; — «как уроню в себе носителя Духа?»; — «если совершу эту низость, — то куда я денусь от живущего во мне дыхания уст Его?»; — «что останется от меня, если угашу в себе Его огонь?»... — И все это есть не что иное, как голос собственного духовного достоинства, дающий человеку живую
совестливость, повышенное чувство ответственности, непрерывное предстояние, верное и спокойное хождение по Его путям, прилежное ткание ризы Его. А если выразить все это в общей, осторожной и скупой философской формуле, то это есть Предметность сердца, воли и дела.
Вот к чему надо воспитывать новые поколения русских людей. Вот в чем нуждается свободный, достойный, гражданственный русский человек. Вот в чем спасение и расцвет грядущей России. И о том, как нам создать на этих основах новое русское воспитание и образование, — должны быть все наши помыслы.
РУССКОМУ НАРОДУ НЕОБХОДИМО ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
В самом деле, что же другое необходимо ему вместо того систематического насилия, которое именуется «социализмом» или «коммунизмом», и вместо того пролганного хаоса, который представляет из себя в большинстве случаев так называемый «демократический строй»? Мы отвергаем и это насилие, и этот хаос. Мы говорим им «нет»! Но этого мало. Отвержение еще ничего не определяет... Человек творит, утверждая, а не отвергая. Мало отвергнуть мерзость коммунизма и удручающую, разлагающе-разорительную глупость социализма: надо обосновать иутвердитъ частную собственность... Мало вскрыть и доказать тот всенародный самообман, который обычно осуществляется в демократии надо найти тот здравый исход, который не грозил бы государству ни тиранией, ни тоталитарным строем, ни разложением, идущим от «партийной демократии»... И пусть не говорят нам, что наши предложения фантастичны, утопичны или неосуществимы! Пусть сами ищут, находят и предлагают свое, не «свое» скомпрометированное и губительное, а свое — новое, творческое, жизненно верное. Конечно, легче всего настаивать на провалившейся выдумке: и думать не надо, и творчества не требуется; остается только твердить свое, завладеть явно и тайно аппаратом пропаганды, замалчивать или просто пачкать противника и... валиться в пропасть
Но мы не желаем и не смеем этого: перед нами великая Россия, ее погибель или возрождение. И мы отлично знаем, чего именно хотят для нее провалившиеся выдумщики.
Итак, что же мы предлагаем и что мы будем пожизненно отстаивать?
Прежде всего мы не верим и не поверим ни в какую «внешнюю реформу», которая могла бы спасти нас сама по себе, независимо от внутреннего, душевно-духовного изменения человека. Нет такой «избирательной системы», нет такого государственного устройства, нет такого церковного строя, нет такого школьного порядка, которые обещали бы человечеству, и в частности, в особенности России, обновление и возрождение, независимо от того, что будет созерцать его воображение и каков будет внутренний уклад его мысли и настроений и каковы будут дела его жизни... Невозможно, чтобы дрянные люди со злою волею обновили и усовершенствовали общественную жизнь. Жадный пустит в ход все средства; продажный все продаст, человек, в коемБог<я нет, превратит всю жизнь в тайное и явное преступление. Внешнее само по себе не обеспечивает человеку ни духовности, ни д уховного спасения; никакой государственный строй не сообщит человеку ни любви, ни доброты, ни чувства ответственности, ни честности, ни благородства. Истинное обновление идет не от внешнего внутрь, не от формы к содержанию, не от видимости — к существу, а обратно. И странно, даже страшно доказывать это через 2000 лет после Рождества Христова; странно потому, что люди, по-видимому, прошлимимоХристианства, страшно потому, что мы не видим, чем и как восстановить и утвердить непринятое откровение.
Все великое и священное идет изнутри — от сердечного созерцания; из глубины — от постигающей и приемлющей любви; из таинственной духовности инстинкта; от воспламенившейся воли; от узревшего разума; от очистившегося воображения. Если внутри смутно, нечисто, злобно, жадно, скверно, то не поможет никакая внешняя форма, никакой запрет, никакая угроза, никакое «избирательное право», особенно всеобщее, равное и прямое. Знаем: не наше дело учить другие народы. Они сами тысячелетиями делали свою историю, сами уродовали свой духовный акт, содействуя его оскудению и формализации; они сами дошли ныне до духовной пустоты, до духовно-бессмысленной техники и самодовлеющего спорта, до так называемого модернизма, в коем зло выдается за главное, а добро презирается как ненужная сентиментальность; они сами стали жертвою пустой формы — в науке, в политике, в искусстве, в культе машины и во всем прочем. Не нам их учить, не нам их исправлять. Да и самодовольство их сделало бы все наши попытки смешными Послушайте только, что католические прелаты говорят о «Божией метле», выметающей Православие из мировой культуры... Прислушайтесь к тому, как протестанты собираются «впервые» внести евангельский свет
в «темные дебри восточно-русского язычества...» Вникните в то высокомерие, с которым европейские «цивилизованные» народы обсуждают «совершенство своих конституционных форм», не усматривая ничего особенного ни в том, что кандидат в Сев. Аме-рик<анские> президенты вытирает себе лицо, забросанное гнилыми томатами и тухлыми яйцами, ни в том, что составление работоспособного министерства во Франции становится неразрешимой задачей, ни в том, как парламентская полиция растаскивает побоище господ римских сенаторов, ни в том, какую деморализацию водворили господа английские социалисты в организации медицинской «помощи» больным... Было время, когда русская интеллигенция считала западный политический строй «образцом» для России. Это время прошло. Мы видели и наблюдали достаточно. Мы научились тому, что истинное строительство есть творчество, а не подражание. Мы увидели истинное лицо Запада: сначала в советском коммунизме, потом в европейском социализме и, наконец, в том, что называется «свободным строем», в действительности руководимым из-за кулисы. Верить в свободу этого строя могут только люди политически близорукие или наивно-доверчивые. Ибо свобода совсем не сводится к голосованию всех по всем вопросам; корни ее лежат гораздо глубже и выражается она в гораздо более существенных проявлениях, духовных, творческих и житейских.
Итак, мы не можем верить, что возрождение и обновление России придет от водворения в ней какой-нибудь другой, не коммунистической, может быть, прямо антикоммунистической формы правления, как таковой.
Мне приходилось встречать людей, непоколебимо уверенных в том, что стоит в России «провозгласитьлют/ярх^ю» — и все «пойдет гладко и станет все на место» Слушаешь таких людей и удивляешься: для них история как будто не существует. Ведь монархический строй не может, что называется, «повиснуть в воздухе»; необходимы по крайней мере две предпосылки, две основы: во-первых, — верное монархическое строение души в народе, которое можно было бы точнее всего выразить словами: надоуметь иметьЦаря; и, во-вторых, необходимы те социальные силы, которые понесли бы богоданного Государя — преданностью, верностью, служением, честью, честностью, и в особенности тем правдоговорением перед лицом Государя, которое необходимо ему самому, как «политический воздух». Имеются ли эти предпосылки в России? Россия ведь имела счастье быть монархией и почему-то развалилась... Почему? Не оттого ли, что она разучилась иметь Царя? Не от преобладания ли честолюбивой интриги над верностью и преданностью? Не оттого ли, что монархизм
карьеры вытеснил монархизм служения? Что же, дело с тех пор усовершенствовалось? И притом значительно? Научились ли русские люди иметь Царя? Или они опять предадут его за свой частный прибыток на растерзание? — Вот о чем следовало бы подумать «провозглашателям». Монархия должна быть подготовлена религиозно, морально и социально; иначе «провозглашение» окажется пустым словом и началом нового разложения...
Но означает ли это, что можно ожидать большого успеха от «провозглашения»рес^б>и/га4'’Так могут думать только люди, не понимающие, что республика есть выражение особого душевного уклада; что необходимо думать и чувствовать по-республи-кански для того, чтобы республика возникла, окрепла и удалась. Где же учился и научился русский народ так думать и так чувствовать? У «временного правительства», заговорившего революционную толпу? Или у коммунистов, ловко поставивших революционную толпу на колени? Республиканец превыше всего ставит дело свободы. Где же учился русский народ этому свободолюбию? Не в коммунистических ли каторжных лагерях?.. Свобода есть умение сочетать независимость с лояльностью, а между тем оба эти начала попираются в России уже четвертый десяток лет... Республиканство есть политическое искусство строить государство при рыхлой, зависимой, подкопанной и нерешительной верховной власти. Можно себе представить, что начнется в «республиканской» России после сорока лет тоталитарного строя!..
«Провозгласить» в России республику — значит вернуться к пустому фразерству Временного Правительства и повторить гибельный эксперимент того времени в новом, несравненно худшем виде. Государство есть не механизм, а организм; и всякая истинная и прочная форма жизни должна быть подготовлена в нем органически. Добавим к этому только, что в «органическую подготовку» всероссийской республики или многого множества малых республик — мы не имеем никаких оснований верить — ни исторических, ни географических, ни хозяйственных, ни культурных, ни духовных, ни религиозных. Надо совсем не знать или политически не постигать Россию, чтобы быть русским республиканцем.
Итак: русскому народу необходимо духовное возрождение и обновление.
О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Проблема
Есть два различных понимания человека — духовное и недуховное.
Духовное понимание человека видит в нем творческое существо с бессмертною душою, живое жилище Духа Божия, самостоятельного носителя веры, любви и совести. Жизнь этого существа есть таинственный, внутренний процесс, процесс самоутверждения и самостроительства. Этот творческий центр нуждается в свободе и заслуживает ее; он есть самостоятельный субъект права и правосознания. Он есть живая основа семьи, родины, нации и государства, ответственный источник духовной культуры: церковной жизни, науки, искусства, нравственности, политики, труда и хозяйства.
Безумно и преступно гасить этот творческий очаг на земле. Заменить его нечем, обойтись без него невозможно. Несовершенства же его преодолеваются и могут быть устранены — только им самим, в процессе внутреннего горения. Для того чтобы стать лучшим и жить лучше, человек должен принять данный ему от Бога и от природы способ бытия и совершенствовать свою жизнь изнутри. Гасить огонь личного духа безумно, потому что угасить его все равно не удастся, сколько бы людей ни было погублено и умучено в этих попытках; человеку дано быть духом; он призван быть духом; в этом основной и священный смысл его жизни; и огонь этот все равно вспыхнет вновь и разгорится с новою силою. Гасить огонь личного духа преступно, потому что это значит лишать людей доступа ко всему священному, великому и бессмертному на земле; это значит обессмысливать жизнь и разрушать культуру. Угасание этого творческого очага останавливает и опустошает жизнь человечества на земле, ибо то, что остается после его видимого, мнимого прекращения есть лишь мучительное и унизительное, слабое и бесплодное подобие былого огня и былой жизни...
Проблема частной собственности сводится при таком понимании к вопросу, подобает ли этому творческому духовному центру иметь на земле некое прочное, вещественное гнездо,
предоставленное ему и обеспеченное за ним — гнездо его жизни, его любви, деторождения, труда и свободной инициативы? И если подобает, то в силу чего и на каких условиях? Должно ли государство беречь духовную самостоятельность и творческую самодеятельность граждан — и в культуре, и в политике, и в хозяйстве — или же оно призвано стать всепоглощающим, всепора-бощаюшим, обезличивающим чудовищем Левиафаном* и потому должно стремиться к изъятию и огосударствлению частной собственности, принадлежащей отдельным гражданам, их семьям и их свободным объединениям (корпорациям)? Имеет ли оно основание и право — превращать граждан посредством экспроприации и конфискации в стадо зависимых и беззащитных рабов? Должна ли «публичная» стихия поглощать и упразднять стихию частной жизни и личной инициативы? И что есть государство — органическое единение живых людей, одаренных честью, совестью и правосознанием, или бюрократическая машина, «регистрирующая» рабочую силу и принуждающая ее к рабскому труду? Возможен ли дух без свободы и творчества? Возможны ли свобода и творческая инициатива без частной собственности?..
Так ставится вопрос о частной собственности при духовном понимании человека. Совсем иная постановка вопроса слагается при недуховном понимании человеческой природы.
Отвлеченно говоря, можно представить себе такое непоследовательное учение, которое соединяло бы «духовную» точку зрения с коммунистическими требованиями; история человеческой мысли знает и не такие еще курьезы. Но по существу говоря, совсем не случайно, что практический социализм и воинствующий коммунизм оформились и выработали свою программу именно тогда, когда связались с «экономическим материализмом»; это было последовательно и неизбежно. Для материалиста на свете нет ничего, кроме материи — ни души, как самостоятельной, не сводимой к телу реальности, ни тем более духа. Человек состоит из тела, телесных потребностей и отправлений; этим он и исчерпывается. При этом он подлежит механическим законам, которые управляют его жизнью, — законам «простым» и «ясным»; здесь нет никаких тайн и никакого особенного «творчества»; так же обстоит и в общественной жизни. Все то, что разумеют духовно настроенные люди, говоря о Боге, о бессмертной душе, о вере, о совести, о духовном творчестве, не существует для материалиста; все это кажется ему порождением невежественной глупости или своекорыстного лицемерия, Согласно этому, человек есть не духовная, а материальная величина, не творческий очаг, а рабоче
* По выражению английского философа Гоббса.
мускульный центр, не самостоятельный субъект прав, а зависимый объект, подлежащий властным распоряжениям. Ему нужна не вера, а трезвая сообразительность, не инициатива, а дисциплина и безоговорочная исполнительность, не любовь, а классовая ненависть, не совесть, а классовое сознание Нравственное чувство может только помешать его классовой борьбе; семья ему не нужна, она только отвлекает его от классового единения; разговоры о родине и нации должны быть покончены раз навсегда; государство есть машина для подавления классовых врагов и для принудительной организации труда. Естественно, что эта машина призвана поглотить жизнь и труд личного человека. Когда государство получает форму классово-пролетарскую и про-летарски-партийную, оно сведет частную жизнь человека к минимуму или совсем упразднит ее. Трудовые обязанности и размеры потребления будут предписываться человеку государственной властью; никакого прочного вещественного гнезда, своего жилища или оседлости у него не будет. Свободная инициатива ведет только к вредным субъективным выдумкам или к хозяйственной анархии, а имущественная независимость совершенно не нужна и даже недопустима, ибо она создает только дурное своеволие, беспорядок и «эксплуатацию» человека человеком. В силу всего этого частная собственность вообще, а в особенности на орудия производства (земля, фабрики, машины, скот, инструменты, библиотеки и т. д.), должна быть упразднена, а соответствующие вещи должны быть изъяты и переданы в распоряжение бюрократически-классового аппарата. Самостоятельности и самодеятельности граждан должен быть положен конец. Государство должно создавать новую культуру и новое хозяйство: безбожно-безличную, материалистическую культуру и механи-чески-принудительное, коммунистическое хозяйство.
Так противостоят друг другу духовное и недуховное понимание человека в их последовательно продуманных основах и выводах. Два противоположные миросозерцания, две различные веры, два «человека», два способа жизни. Два противоположных отношения к частной собственности. Одно — начинающееся от Бога и духа и утверждающее начало частной собственности, идущее от веры и любви, чтущее свободу и совесть, строящее семью, родину и нацию, воспитывающее в человеке правосознание и здоровое чувство сверхклассовой государственности. Другое — идущее из рассудка и ненависти, презирающее свободу и совесть, сознательно разлагающее семью, родину и национальную жизнь, подрывающее в человеке все основы правосознания и сверхклассового государства... В каждом из этих воззрений вопрос о частной собственности разрешается
не «случайно» и не «произвольно». И там, и тут все предопределено заранее — исходным отправным пунктом.
Куда же ведет каждый из этих путей?
2. Ложный путь
Какие бы вопросы ни разрешал человек в своей земной жизни — теоретические или практические, материальные или духовные, личные или общественные, — он обязан всегда считаться с реальностью, с данными ему объективными обстояниями и законами. Правда, он может и не считаться с ними, но этим он обеспечивает себе, рано или поздно, жизненную неудачу, а может быть, и целый поток страданий и бед.
Человеку реально дан от Бога и от природы особый, определенный способ телесного существования, душевной жизни и духовного бытия: индивидуальный способ. Всякая теория и всякая педагогика и политика, которые с ним не считаются, вступают на ложный и обреченный путь. Этот способ существования отнюдь не исключает ни общения, ни единения, ни совместимости людей; отвержение же ведет по ложному и обреченному пути всякое общение, всякое единение и всякую человеческую совместность, которые пытаются игнорировать личную раздельность, самодеятельность и самоценность человеческого существа. Ложность этого пути обнаруживается в наступающем снижении уровня и качества жизни: снижается уровень внешне-телесного существования (питание, одежда, отопление, жилище, здоровье), снижается уровень душевной дифференцированности (т. е. сложности, многосторонности, тонкости и гибкости), падает качество жизни (труда, продукта и творчества, и особенно нравственности, правосознания, искусства и науки). Всякая культура — и материальная, и душевная, и духовная — падает, разлагается и извращается. Осуществляется провал в некую первобытнуюупрощенность, которая создается искусственно и потому лишена всех былых достоинств былой «докультурной простоты». Творческие различия исчезают из жизни, уступая место монотонной одинаковости, одинаковой опустошенности, повальному оскудению. Качественность исчезает и не восполняется никаким количеством, ибо дурное множество есть не что иное, как обилие дурных вещей, состояний или усилий, которые никому не нужны Без качества всякое обилие теряет свой смысл; оно прямо становится бедствием и опасностью подобно тому, как в наводнении, в налетах саранчи или в многословии глупца. Жизнь вообще имеет смысл и может совершенствоваться только тогда, когда бережется и растится
качество; нет его — и гибель становится неминуемой. А качество творится и обеспечивается прежде всего и больше всего культурой личного духа. Невозможно создать хорошую ткань из гнилых нитей; нельзя построить прочный дом из трухлявого, рассыпающегося кирпича; больные и умирающие, стеная в унисон, не создадут прекрасного хорового пения. Где личный дух пренебрежен и унижен, общественность будет больною и творчески бессильною.
Тот, кто признаёт эту аксиому, признает и начало частной собственности. Кто отвергает частную собственность, тот отвергнет и начало личного духа, а этим он подорвет и общество, и государство, и хозяйственную жизнь своей страны.
Итак, коммунизм ведет людей по ложному и обреченному пути. Его последовательное противобожие, его недвусмысленный материализм, его отрицание человеческого духа и особенно самодеятельности и самоценности человеческой личности создают именно тот духовно больной и творчески бессильный общественный строй, который мы только что очертили.
\. Коммунизм противоестествен. Он не приемлет индивидуального способа жизни, данного человеку от Бога и природы. Он пытается переделать, переплавить человеческую душу в ее основных свойствах и естественных тяготениях, и прежде всего — погасить личную заинтересованность и личную инициативу человека на всех путях его творчества. Коммунизм отвергает личное начало как источник самостоятельности, многообразия и «анархии». Поэтому он угашает не только частную собственность, но и частную семью и стремится искоренить частное мнение, свободное убеждение и личное миропонимание. Для него одинаково неприемлема самодеятельность личного инстинкта самосохранения и самодеятельность личного духа. Ему нужно социализировать не только имущество, но и весь уклад человеческой жизни, чувств и мыслей; ему нужно социализировать душу человека и для этого выработать новый тип — примитивного существа с вытравленной личностью и угасшей духовностью, существа, не способного к личному творчеству, но склонного жить в стадном всесмешении. Эта противоестественная затея обречена в корне на неудачу. Разложить и угасить на время духовное начало — возможно, но личная формула человеческого инстинкта неразрушима. Возможно взрастить несколько миллионов «особей», лишенных духовной культуры, умственно и нравственно довольно похожих друг на друга, бесстрашных в толпе и ничтожных порознь, по-прежнему личносвоекорыстных, но не сдерживаемых в своей жадности никакими высшими началами. Дух временно угаснет; лично
животное начало развернется и историю личной культуры придется начинать сначала Но природа человека не поддается рассудочному произволу; и на животнообразных особях ни семья, ни общество, ни хозяйство, ни государство держаться не смогут. Вот почему отмена частной собственности противоестественна.
2. Коммунизм противообществен. Это выражается в том, что он пытается создать такой строй, который покоится целиком на началах ненависти, взаимного преследования, всеобщей нищеты, всеобщей зависимости и полного подавления человеческой личности. В основе коммунизма лежит идея классовой ненависти, зависти и мести, идея вечной классовой борьбы пролетариата с не-пролетариями; на этой идее строится все образование и воспитание, хозяйство, государство и армия; отсюда — взаимное преследование граждан, взаимное доносительство и искоренение Идея всенародной солидарности и братства отвергается и попирается. Проводится всеобщее изъятие имущества; добросовестные и покорные теряют все, недобросовестные грабят и втайне наживаются. Согласно основному замыслу, все должны превратиться в пролетариев, т. е. в неимущих людей, могущих кормиться только наемным трудом. После всеобщей экспроприации и пролетаризации оказывается, что в стране имеется только один монопольный работодатель — диктаториальное государство, ведомое монопольной коммунистической партией и управляемое аппаратом коммунистических чиновников. Таким образом, всеобщее обнищание восполняется всеобщей зависимостью от государства, от партии и от бюрократического аппарата. Никто сам по себе не может ничего предпринять; кого государство лишит права на работу, тот погибает голодной смертью; условия жизни, продовольствия и труда предписываются монопольным работодателем; монополия печати и образования, преследование веры и церкви довершают дело, и к хозяйственному подавлению личности присоединяется ее духовное порабощение. Таким образом, коммунизм есть попытка создать вампиристический строй, покоящийся на страданиях порабощенного человека и высасывающий жизненные соки из обнищавших и беспомощных граждан. Человек оказывается бесправным и раздавленным; а государство является его неограниченным эксплуататором. Вот почему отмена частной собственности создает самый противообщественный строй, известный в мировой истории.
3. Коммунизм осуществляетрастрату сил. Это выражается, во-первых, в том, что он не хочет и не умеет пользоваться творческою силою живого инстинкта, личного интереса и личной инициативы; вся творческая самодеятельность всей массы единоличных хозяев подавляется и мертвеет. Во-вторых, растрачи
вается впустую вся та масса энергии, которая необходима для самого подавления этих личных сил, — вся разрушительная и искоренительная работа коммунистического чиновничества. В-третьих, растрачивается вся та масса энергии, которая пытается вызвать в душах новую, теоретически выдуманную и властно навязываемую мотивацию (т. е. внутренние побуждения) хозяйственного труда, — вся работа по «агитации» и «пропаганде», все усилия переделать естественный уклад человеческих душ. В-четвертых, растрачивается та масса энергии, которая пытается осуществить хозяйственное и культурное всепредвидение, всеучет, всеруководство, ибо никакое правительство не может стать «всезнайкой», «всеучителем» и «всепогонщиком». Вся эта попытка заменить живой организм выдуманным механизмом, сварить на огне всенародной муки искусственного человека и его никому не нужную искусственную жизнь для того, чтобы руководить всеми его поступками и делами, как это делается с марионетками. — противоестественна и безнадежна. И, наконец, в-пятых, растрачивается вся та масса сил, которая уходит на возвеличение этого опыта в мировом масштабе, на то, чтобы внушить другим народам, будто этот нелепый и безнадежный способ хозяйствования есть самый лучший и самый продуктивный Таким образом, отмена частной собственности ведет к величайшей растрате сил известной в мировой истории.
4. Коммунизм осуществим только при помощи системы террора, т. е. насильственно, силою страха и крови. В основе этого лежит его противоестественность. Живой и здоровый инстинкт может принять его только как ненавистное иго. которое будет навязываться ему угрозою, унижением, мукою голода и страхом смерти. Навыки тысячелетий, порожденные самою природою, нельзя отменить простым запретом. Всемогущество государства осуществимо только там, где народ за-стращен до конца. Побороть сопротивление масс и разрушить исторически данный уклад жизни нельзя «добром», особенно если добиваться быстрого, «революционного темпа». Уничтожение враждебных классов неосуществимо на словах: оно неизбежно ведет к массовому избиению людей. Таким образом, отмена частной собственности требует потоков человеческой крови и ведет к системе террора.
5. Коммунизм отнюдь не ведет к справедливости. Он начинает с призывов к равенству так, как если бы равенство означало справедливое устройство жизни. Однако на самом деле все люди от природы не равны, и уравнять их естественные свойства (возраст, пол, здоровье, мускульную силу, нервную конституцию, таланты, склонности, влечения, потребности,
желания) — невозможно. Но в таком случае справедливость требует не «равенства», а чего-то иного, именно предметнонеравного обхождения с предметно-неравными людьми. Формула справедливости гласит: не «всем одно и то же», а «каждому свое». И потому уравнивать людей во всех правах было бы делом вопиющей несправедливости. Задача иная: надо устранять вредные и несправедливые неравенства, так же, как и несправедливые и вредные равенства, и устанавливать новые, жизненно полезные и справедливые неравенства.
Вместо этого коммунисты провозглашают «равенство людей от природы» и обещают им всеобщее уравнение в правах, которое будет якобы справедливым. На самом же деле они создают сначала всеобщее уравнение в бесправии, а потом — новое, обратное неравенство в пользу членов своей партии, которая превращается в привилегированную касту, набранную из наиболее завистливых, жестоких, ловких и раболепных людей. Таким образом, отмена частной собственности не только не ведет к справедливости, но создает систему новых вопиющих несправедливостей.
6. Коммунизм отнюдь не освобождаетлюдей. Он вводится принудительно и насильственно и для этого отменяет все жизненные права и свободы. Он осуществляет высшую и безусловную форму трудовой зависимости, систему всеобщего наемного труда, монопольного работодательства, эксплуатации, беззащитности, необеспеченности и повального снижения уровня жизни. Коммунизм не освобождает трудящегося, а порабощает его окончательно: все превращаются в пролетариев, а у пролетариев отнимаются все возможности защищать свои классовые и профессиональные интересы (исчезает частная конкуренция, нет свободных профессиональных союзов, свободной печати, кооперации и т. д.). Все недостатки и пороки капиталистического строя осуществляются в преувеличенных, чудовищных размерах, и притом сознательно и планомерно, со ссылкою на то, что «в рабочем государстве рабочим защищаться не от кого и не для чего». Таким образом, отмена частной собственности не только не дает людям освобождения, но и отнимает у них всякую и последнюю свободу. «Прыжок из царства необходимости в царство свободы», предсказанный Марксом и Энгельсом, оказывается иллюзией или обманом.
И вот идея коммунизма, последовательно вытекающая из материалистического безбожия, принадлежит к числу тех ложных идей, которые, по-видимому, много обещают, но в действительности разочаровывают и ведут человеческую жизнь к настоящему крушению. Попытка отвергнуть и отменить част-
ную собственность колеблет одну из последних и необходимых основ жизни; ее можно сравнить с попыткою отпилить тот сук, на котором сидит сам отпиливающий, или с попыткою перестроить человеческий организм посредством оперативного удаления из него легких. Эта попытка в ее историческом осуществлении доказывает с силою очевидности, что проблема частной собственности отнюдь не сводится к тому, какие именно внешние вещи находятся у людей во внешнем распоряжении, и притом, у каких именно людей... Частная собственность связана с человеческою природою, с телесным и душевным устройством человека, с жизнью человеческого инстинкта, с теми внутренними мотивами, которые заставляют человека трудиться над внешними вещами и строить хозяйство. Эти внутренние мотивы, эти инстинктивные побуждения к труду нельзя «разрушать» или «отменять» безнаказанно. Частная собственность зовет человеческий инстинкт к труду; отменяя ее, надо заменить ее зов чем-нибудь равносильным. Но «идеал» всеобщей зависимости, принудительности и несправедливости не заменяет этого зова ничем; напротив, он может вызвать только тяжелое отвращение к работе, настоящее бегство от труда, всеобщую надежду на хозяйственную безуспешность нового строя, безмолвную всеобщую стачку личных инстинктов. И это само-извлечениемассового инстинкта из хозяйственного процесса будет столь же естественным и психологически понятным, сколь фатальным для коммунистического строя.
А это означает, что введение коммунизма не только не скомпрометирует идею частной собственности, но окончательно реабилитирует ее. Так, попытка предпочесть ложный путь непременно вернет человека на верную дорогу, ибо рано или поздно он увидит свою ошибку. Вопрос лишь в том, после скольких неудач и страданий он поймет ее и сделает надлежащие выводы.
3. Обоснование частной собственности
Обосновать частную собственность значит показать ее необходимость для человека, ее жизненную целесообразность и ее духовную верность. Это значит указать те существенные свойства человека — естественные, инстинктивные и духовные, — в силу которых частную собственность нужно принять, признать, утвердить и оградить.
Однако это не значит одобрить и оправдать всякое наличное распределение имущества и богатства Обыкновенно эти два вопроса смешиваются, что совершенно недопустимо.
Институт частной собственности может быть необходим, целесообразен и верен; но наличное распределение имущества может быть неверным и жизненно нецелесообразным Необходимо, чтобы, вещи принадлежали людям с такою полностью, исключительностью и прочною обеспеченностью, которая вызывала бы в душе каждого полную и неистощимую волю к творческому труду: но совсем не необходимо, чтобы люди делились на сверхбогачей и нищих или на монопольных работодателей и беззащитных наемников. Фактическое распределение имущества неодинаково в различных странах; в силу одного этого его нельзя «оправдывать» или осуждать его целиком. Но и в пределах каждой отдельной страны целесообразность имущественного разделения может быть неодинаковой в различных областях жизни (землевладение, домовладение, леса, фабрики, промысловые снасти, железные дороги, скот, библиотеки и т. д.). К тому же имущество все время переходит из рук в руки, состояния распадаются, выдвигаются новые слои людей, уровень народного благосостояния колеблется, уровень частного накопления подвижен и неустойчив. В довершение всего возможно государственно организованное перераспределение имущества (напр., так называемый земельный передел, ср. реформу Столыпина), которое должно проводиться так, чтобы идея частной собственности и чувство частной собственности не приходили в колебание. Одним словом, обосновывать частную собственность не значит оправдывать любое и всякое распределение имущества или тем более любое и всякое злоупотребление имуществом (шикану27, ростовщичество, эксплуатацию, поджигание своего дома для получения страховой премии и т. д.)*.
Говоря о частной собственности, я разумею господство частного лица над вещью—господство полное, исключительное и прочно обеспеченное правом (т. е. обычаем, законом и государственной властью). Итак, я разумею именно право собственности, т. е. закономерное полномочие, а не фактическое господство силы и не произвольный захват. Я разумею именно право лица, т. е. прежде всего индивидуального человеческого существа, одаренного личным инстинктом и личным духом, имеющего субъективное правосознание и субъективную хозяйственную волю, и притом частного лица, преследующего свои частные интересы
* Эта оговорка относится и к законам, различно регулирующим в различных странах юридический институт частной собственности. Кто утверждает принцип частной собственности, тот отнюдь не выступает «апологетом» всех наличных законов и законодательств, регулирующих этот институт.
трудового, хозяйственного характера*. Этому-то лицу следует предоставить полное господство над вещью, т. е. право во всех отношениях определять ее судьбу (право пользоваться ею или не пользоваться, распоряжаться ею, видоизменять ее, отдавать, продавать, дарить, бросать ее или даже уничтожать)**. Это господство должно быть исключительным, т. е. собственник должен иметь право устранять всех других лиц от пользования вещью или от воздействия на нее, он должен иметь право требовать ее возвращения от похитителя и т. д. Наконец, это господство должно быть прочно обеспеченным, т. е. оно должно быть оговорено в законах, ограждено правосознанием сограждан, полицией и судом, и не подвергаться постоянным угрозам отчуждения или тем более бесплатного отчуждения со стороны политических партий или государственной власти. Частный собственник должен бытьуве-рен в своем господстве над своими вещами, т. е. в законности этого господства, в его признанности, почтенности и жизненной целесообразности; он должен быть спокоен за него, за его бесспорность и длительность, за то, что имущество его не будет подвергаться ни нападению, ни расхищению, ни поджогу, ни экспроприации; он должен спокойно помышлять о судьбе своих вещей замыслом долгого и творческого дыхания, предусматривая частные интересы своих детей и внуков.
Это необходимо человеку и в инстинктивном отношении, и в духовном измерении; и притом в силу того, что как инстинкту его, так и духу от природы присуща личностная, индивидуальная форма жизни.
Идея частной собственности отнюдь не выдумана произвольно лукавыми и жадными людьми, как наивно думали Руссо и Прудон. Напротив, она вложена в человека и подсказана ему самою природою подобно тому, как от природы человеку даны индивидуальное тело и индивидуальный инстинкт. Тело человека есть вещь, находящаяся среди других вещей и нуждающихся в них (человек лежит, ходит, дышит, согревается, питается, лечится и т. д.). Для
* Это отнюдь не означает, что я отвергаю право частной собственности для «юридических лиц» или право публичной собственности, принадлежащей государству или муниципалитетам. Я только намеренно сосредоточиваю свое внимание на «простейшем явлении» собственности и собственника — на частной собственности единоличного человека, особенно охотно оспариваемой.
** Ограничения возможны, но они должны быть оговорены в обычаях, договорах или законах. Отсутствие ограничений означает неограниченную полноту собственнического права. См. убедительный анализ В. И. Синайского: Основы гражданского права. — Рига, 1931 С. 58—61 и др.
того чтобы жить, человек должен заниматься этими вещами, приспособлять их к своим потребностям, посвящать им свое время, отдавать им свой труд (телесно-мускульный, нервно-душевный и созерцательно-духовный), совершенствовать их, вкладывать в них себя и свои ценности, как бы «облекаться» в них*, — словом, превращать их в объективное выражение и продолжение собственной личности.
Эту связь свою с вещами, это вкладывание себя в них человек может сводить иногда к самому скудному минимуму: один делает это от лени и беспечности (напр., итальянские лаццарони28), другие — ради высшего духовного сосредоточения (индийские йоги, христианские аскеты). Но совсем обойтись без этого человеку не дано. У человека же, создающего хозяйственную культуру, это общение с вещами становится основной формой деятельности.
Хозяйствуя, человек не может не сживаться с вещью, вживаясь в нее и вводя ее в свою жизнь. Хозяин отдает своему участку, своему лесу, своей постройке, своей библиотеке не просто время и не только труд; он не только «поливает потом» свою землю и дорабатывается до утомления, до боли, до ран на теле; он творчески заботится о своем деле, вчувствуется в него воображением, изобретается, вдохновляется, напрягается волею, радуется и огорчается, болеет сердцем. При этом он не только определяет и направляет судьбу своих вещей, но он и сам связывает с ними свою судьбу, вверяя им свое настоящее и свое будущее (свое, своей жены, детей, потомства, рода). Все страсти человеческие вовлекаются в этот хозяйственный процесс — и благородные, и дурные — от религиозно-художественных побуждений до честолюбия, тщеславия и скупости. Все интересы человеческие связуются с успехом и неуспехом дела — от инстинкта самосохранения до самых высших, духовных потребностей. Это значит, что человек связывается с вещами не только «материальным» интересом, но и волею к совершенству, и творчеством, илюбовью.
Человек не только живет «вещью», т. е. плодами и доходами ее, но живет вместе с нею и в ней; он творит ее, творит из нее, ею; он объективирует себя в ней, художественно отождествляется с нею, совершенствует ее своим трудом и воздержанием в ее пользу, и совершенствует себя ею; он изживает в ней энергию тела, души и духа. Все это не пустые слова и не отвлеченные выдумки. Называя свою землю «матушкой» и «кормилицей», пахарь действительно любит ее, гордится ею, откладывает и копит для нее, тоскует
* Отсюда в науке термин «инвестировать», «инвестиция» — облекать, облечение.
без нее*. Садовник не просто «копается в саду», но творчески чует жизнь своих цветов и деревьев и, взращивая их, совершенствует их, как бы продолжает дело Божьего миротворения. Строя себе дом, человек создает себе оплот телесного существования и средоточия духовной жизни, он устраивает себе лично-интимный угол на земле, свой священный очаг, как бы свое внешнее «я». Все знаменитые коневоды и зоологи были художественно влюблены в свое дело. Погромщик и поджигатель страшны не столько убытками, сколько неутомимой завистью и дикой ненавистью к чужому достижению и совершенству, презрением к чужому'творчеству, слепотою к «инвестированной» духовности.
Человеку дано художественно индивидуализировать не только свое отношение к людям, но и свое отношение к внешним вещам, к природе, к зданиям, к земле, к быту. Человеку дано художественно отождествляться не только с друзьями и с поэтическими образами любимых поэтов, но и с розами в саду, со взращенным виноградником, с насаженным его руками лесом, с колосящейся нивой и с построенною им фабрикой. Только люди религиозно мертвые и художественно опустошенные, люди механического века, люди рассудочные и бумажно-кабинетные могут думать, что хозяйственный процесс слагается из эгоистического корыстолюбия (жадности) и физического труда и что он состоит в том, что «классовые пауки» «высасывают кровь» из «чернорабочих». Трудно сказать, чего больше в этом воззрении — отвлеченной выдумки, лукавой демагогии или морального ханжества; но несомненно, что живая и глубокая сущность хозяйственно-творческого процесса просмотрена и упущена в нем совершенно. Расцвет и обилие создаются не «голодом» и не «жадностью», и даже не просто здоровым инстинктом и интересом, но всею душою, при непременном участии духовных побуждений и запросов — призванием и вдохновением, чувством ответственности и художественным чутьем, характером и творческим воображением. Само собой разумеется, что у каждого человека сочетание этих побуждений и сил слагается по-своему, но каждый вовлекается в творческое общение с вещами всем своим существом и успех его творчества обусловливается не только напряжением его инстинкта, но и усилиями его духа.
Ичгк, хозяйственный процесс есть творческий процесс; отдаваясь ему, человек вкладывает свою личность в жизнь вещей и в их совершенствование. Вот почему хозяйственный труд имеет не
* В Древней Руси земля, не обрабатываемая крестьянином, называлась «дикая пасма», т. е. мертвая пустошь, липкая грязь, а крестьянин без земли назывался «бобылем», бездомным, бесприютным человеком Ср. у Максимова: «Крылатые слова».
просто телесно-мускульную природу и не только душевное измерение, но и духовный корень. Хозяйственный труд имеет религиозный смысл и источник, ибо в основе его лежитрелигиозное приятие мира; он имеет нравственное значение и измерение, ибо он есть проявление любви, осуществление долга и дисциплины; он имеет художественную природу, ибо он заставляет человека вчувствоваться в жизнь вещей, отождествляться с ними и совершенствовать их способ бытия; он имеет свои познавательные корни, ибо он ведет человека к изучению тех законов, которые правят вещами и их судьбою; и, наконец, он имеет общественную и правовую природу, ибо он покоится на организации совместной жизни и требует верного распределения правовых полномочий и обязанностей. Лично-инстинктивное и лично-духовное общение человека с вещами имеет сразу и хозяйственно-производственное, и духовно-творческое значение, и потому оно непременно должно быть признано, закреплено и ограждено правом, осмыслено как необходимое, справедливое и без крайности ненарушимое полномочие. Человеку необходимо вкладывать свою жизнь в жизнь вещей: это неизбежно от природы и драгоценно в духовном отношении. Поэтому это есть естественное право человека, которое и должно ограждаться законами, правопорядком и государственной властью. Именно в этом и состоит право частной собственности.
Это право должно быть властным и прочным, хотя, конечно, не безграничным. «Безграничного» права вообще нет: всякое полномочие где-нибудь кончается, именно там, где начинается чужое полномочие и соответственно — моя обязанность и моя запретность. В разных государствах эти границы частной собственности (и по объекту права, и по содержанию урезанных полномочий) вычерчиваются законами различно. И тем не менее в своих, установленных пределах это право остается и должно оставаться властным и исключительным. Это необходимо для того, чтобы человек хотел и мог вкладываться в свои вещи уверенно и цельно, то расширяя их круг трудом и законным приобретением, то суживая этот круг продажей, дарением или уничтожением*. Предоставление такого права есть элементарное доверие к индивидуальному человеку, к его здоровому инстинкту, к его хозяйственной практичности, к его правосознанию—доверие к тому, что он захочет и сумеет творчески использовать предоставленное ему право. И в то же время это есть мера, пробуждающая и поощряющая его творческую инициативу, инициативу частного лица, преследующего свои частные интересы,
* Напр., употреблением животного в пищу, сожиганием дров или рукописи.
но способного согласовать их с интересом чужим и общим — с одной стороны, созданием новых хозяйственных ценностей и их обменом, с другой стороны, соблюдением и укреплением законного правопорядка. Частная собственность как бы «зовет» человека к трудовому и созидающему «инвестированию», и этот «зов» должен быть обставлен реальными и прочными гарантиями, ибо настоящее «инвестирование» возможно только там, где трудящийся уверен в огражденности своего права, где к вечному риску, идущему от стихии и от природы, не присоединяется риск общественно-политический. Право собственности, как полное, исключительное и обеспеченное господство лица над вещью, дает человеку лучшую и благоприятнейшую обстановку для душевного и трудового напряжения в хозяйствовании. И этим вопрос с политико-экономической точки зрения может считаться решенным.
И вот ныне, после испытаний коммунистической революции, мы можем с уверенностью сказать, что только тот способ владения и распоряжения вещами имеет будущее, который действительно поощряет человеческий инстинкт творчески вглядываться в вещи, изживаться в этом самодеятельно и интенсивно, создавать свое будущее уверенно и без опасливых оглядок. Именно таков строй частной собственности. Напротив, те способы владения и распоряжения вещами, которые подавляют человеческий инстинкт, застращивают его, обессиливают или как бы кастрируют, осуждены с самого начала и лишены будущего. Когда хотят наказать каторжника, то сводят круг его имущественной власти к минимуму или угашают его совсем; но и каторжник имеет право продать свое изделие, получить милостыню, съесть свой паек, отдать его животным или обменять его у соседа. Когда вводят или поддерживают сельскохозяйственную общину с ее периодическими переделами, то этим превращают собственника ^условного и временного пользователя участком и подрывают в нем трудовой интерес и волю к качественному, интенсивному хозяйству; он уподобляется арендатору и начинает выпахивать землю и склоняться к хищническому хозяйству. Когда над какой-нибудь группой собственников или над целой страной повисаетугроза принудительного или тем более безвозмездного отчуждения, то это пресекает и убивает «доверие» собственника к вещам и клюдям и хозяйственно вредит всей стране. Социализм и коммунизм отвергают естественное право людей на хозяйственную самостоятельность и самодеятельность и соответственно их право частной собственности; этим люди практически приравниваются к каторжникам или ставятся в положение хозяйственных кастратов. Все это относится в особенности к частной собственности на «средства производства»,
ибо человек инвестирует себя творчески — не в потребляемые вещи, а в вещи, служащие производству
Итак, частная собственность является тою формою обладания и труда, которая наиболее благоприятствует хозяйствен-но-творящим силам человека. И заменить ее нельзя ничем: ни приказом и принуждением (коммунизм), ни противоинстинктив-ной «добродетелью» (христианский социализм) В течение некоторого времени возможно принуждать человека вопреки его инстинкту; есть также отдельные люди, способные усвоить себе противоинстинктивную добродетель. Но противоестественное принуждение и противоестественная добродетель никогда не станут творческой формой массовой жизни.
Если воспретить человеку творить по собственному почину и побуждению, то он вообще перестанет творить. Любить, созерцать, молиться и творить можно только свободно, исходя из своей собственной потребности. Этот закон действует не только в религии и в искусстве, но и в жизни семьи и в хозяйстве. Ибо и семья, и хозяйство вырастают из любви и остаются живым творчеством. Из безразличия же родится не творчество, а мертвое, механическое отправление, индифферентное и формальное отбывание «очередного номера» для видимости и напоказ. Безразличный человек работает без одушевления: вдохновение незнакомо ему, творческая глубина его инстинкта остается холодной, не напрягается и бездейственно молчит. Брак без любви не создает ни здоровой семьи, ни одаренного потомства; он духовно и общественно вреден. И подобно этому — хозяйство без свободного внутреннего побуждения, без личной инициативы и частной собственности, бюрократически ведомое безразличными чиновниками, — не создает ни благосостояния, ни даже достаточного и сколько-нибудь доброкачественного продукта: оно общественно и государственно вредно. Исключить из хозяйственного процесса начало инстинктивной самодеятельности, начало личного интереса, начало духовной свободы и начало доверчивого самовложения в вещи значит отдать все на волю формального и продажного бюрократизма, безразличной нерадивости, пустой притязательности, явной безответственности, тайного саботажа и самой жалкой бесхозяйственности. Вот почему введение коммунизма не подрывает идею частной собственности, а реабилитирует и обосновывает ее
Это обоснование может быть вкратце выражено так.
1. Частная собственность соответствует тому индивидуальному способу бытия, который дан человеку от природы. Она идет навстречу инстинктивной и духовной жизни человека, удовлетворяя его естественному праву на самодеятельность и самостоятельность
2. Частная собственность вызывает в человеке инстинктивные побуждения и духовные мотивы для напряженного труда, рдя того, чтобы не щадить своих сил и творить лучшее. Она развязывает хозяйственную предприимчивость и личную инициативу и тем укрепляет характер.
3. Она дает собственнику чувство уверенности, доверие к людям, к вещам и к земле, желание вложить в хозяйственный процесс свой труд и свои ценности
4. Частная собственность научает человека творчески любить труд и землю, свой очаг и родину Он выражает и закрепляет его оседлость, без которой невозможна культура Она единит семью, вовлекая ее в собственность. Она питает и напрягает государственный инстинкт человека. Она раскрывает ему художественную глубину хозяйственного процесса и научает его религиозному приятию природы и мира.
5. Частная собственность пробуждает и воспитывает в человеке правосознание, научая его строго разделять «мое» и «твое», приучая его к правовой взаимности и к уважению чужих полномочий, взращивая в нем верное чувство гражданского порядка и гражданственной самостоятельности, верный подход к политической свободе.
6. Наконец, частная собственность воспитывает человека к хозяйственной солидарности, не нарушающей хозяйственную свободу: ибо каждый собственник, богатея, обогащает и свое окружение, и самое народное хозяйство: и конкуренция собственников ведет не только к борьбе, но и к творческому напряжению, необходимому для народного хозяйства. И путь к организации мирового хозяйства идет не через интернационально-коммунистическое порабощение, а через осознание и укрепление той солидарности, которая вырастает из частного хозяйства.
Так раскрывается и обосновывается духовный смысл частной собственности
4. Социальное понимание собственности
Все высказанное нами в обоснование частной собственности отнюдь не следует понимать в том смысле, будто вырастающий из нее общественный и правовой строй не имеет своих проблем, затруднений и опасностей. Он имеет их, и разрешить или преодолеть их совсем не легко. Однако сначала надо удостовериться, во-первых, в том, что все отрицательные проявления частно-правовой дисгармонии капиталистического строя, все опасности нецелесообразного и несправедливого деления на классы, а осо
бенно — завистливой и мстительной классовой борьбы, все бремя порабощения, безработицы, все убытки от анархии производства — нисколько не преодолеваются отменою частной собственности: ибо коммунизм создает государственный капитализм, небывалое порабощение и нищету, вызывает кжизни новую анархию производства, углубляет чувства зависти и мести, усиливает классовую борьбу и доводит до высшей беззастенчивости эксплуатацию трудящегося человека. Во-вторых, надо понять, что частная собственность коренится не в злой воле жадных людей, а в индивидуальном способе жизни, данном человеку от природы. Кто хочет «отменить» частную собственность, тот должен сначала «переплавить» естество человека и слить человеческие души в какое-то невиданное коллективно-чудовищное образование; и понятно, что такая безбожная и нелепая затея ему не удастся. Пока человек живет на земле в виде инстинктивного и духовного «индивидуума», он будет желать частной собственности и будет прав в этом.
Ввиду всего этого в дальнейшем надо искать иного выхода, и притом именно на путях духовного и правового воспитания людей, на путях свободного труда и свободной доброты, на путях изобилия, щедрости, неуравнивающей справедливости и естественной солидаризации людей. Эти пути суть пути христианские; они приведут человечество к социальному пониманию собственности.
Согласно основному учению Евангелия, «Царство Божие» обретается во внутреннем мире человека (Лук 17.21), и потому людям следует начинать очищение и преображение их жизни изнутри (Мтф. 23. 26; Мрк 7. 20—23; Лук 11. 39). Это первое и основное, что должно быть усвоено христианином: все обновляется, очищается и преобразуется изнутри — вся жизнь и вся культура. Это относится и к государству, и кхозяйству. Христос никогда не осуждал и не отвергал частной собственности, а говоря о «богатых», коим «трудно войти в Царство Божие» (Мтф. 19. 23—24; Мрк 10.23—25; Лук. 18.24—не размер их имущества, а их внутреннее отношение к богатству: они «надеются» нанего (Мрк 10.24); «служат ему, а не Богу» (Мтф. 6.24; Лук 16.13); «собирают себе» земные сокровища и пребывают в них «сердцем» (Мтф. 6.19—21), и потому богатеют «не в Бога» (Лук. 12. 21). Но изнутри Божия благодать уже посетила и преобразила души множества богатых людей, начиная с мытаря Закхея и Иосифа Ари-мафейского. Согласно этому, и нищий, и зажиточный, и богач могут быть добрыми и злыми; и только апостолам («следуй за
* Человеку это невозможно, Богу же все возможно». Мтф. 19- 26; Мрк 10.27; Лук 18, 27.
Мною». Мтф. 19,21; «возьми крест свой». Мтф. 16,24,10,38; Мрк. 8, 34) Христос советовал полное отречение от имущества (срв. Мтф. 10.8— 10; Мрк 6.8; Лук. 9.3). Остальным же он заповедовал милосердие (Мтф. 9.13; Лук 10.37; срав. Рим. 12.8; Филип. 2.1) и щедрость (Мтф. 5.42; Лук. 6.30; срв. Ефес. 4.28 и др.).
Ида по этому пути, мы должны искать разрешения проблем, возникающих в связи с частной собственностью, прежде всего через внутреннее воспитание и просветление человеческого существа, с тем, однако, чтобы постоянно отыскивать и проводить те духовно-верные и целесообразные государственные мероприятия, которые могли бы внешним образом исправить внешние последствия внутреннего несовершенства людей.
Согласно этому, вся проблема хозяйства, и в особенности частно-правового хозяйства, должна быть поставлена заново как в науке, так и на практике: это есть проблема хозяйствующей души и ее верной мотивации; это есть проблема духа, строящего культуру, и его верных жизненных форм. Те способы хозяйствования, которые повреждают естественную мотивацию человеческой души, должны быть отклонены с самого начала Отклонению подлежат и все хозяйственные формы и установления, которые противоречат человеческому духу. И в то же время в людях должна непрерывно воспитываться жизненноцелесообразная и духовно-достойная мотивация хозяйственного труда и творчества. Напрасно думать, что поврежденный инстинкт и разложившийся дух могут создать могучее и цветущее хозяйство. На самом деле только здоровый инстинкт в сочетании с сильным и воспитанным духом смогут найти верный исход и создать хозяйственное изобилие при социально справедливом строе.
Вся человеческая духовная культура — «много-личная» по субъекту и «сверх-личная» по своей ценности — возникла из личной духовности, из той первичной ячейки Духа, которая именуется духовнойличностью. Человек восходит к Богу и совершенству не через отвержение природы, не мимо ее и не вопреки ей, а через нее. Кто хочет подняться к сверхличному, тот должен принять личное начало и творить из него. Сто невежд не создадут науки; тысяча трусов не образует боеспособного отряда; миллион нищих не создадут цветущего народного хозяйства. Во всех областях человеческой культуры личное начало подлежит не подавлению и искоренению, а приятию, утверждению, воспитанию, одухотворению и гармоническому дисциплинированию. Нужно не погасить «частное», а создать гармонию иравновесиемноже-ства «частных». Вредна не частная инициатива, а противообщественное настроение и поведение единичного человека. Опасно не личное творчество, а безудержное своекорыстие не
воспитанного индивидуума. Спасителен не социализм, а творческое сочетание свободы и справедливости.
Но социальная справедливость должна быть найдена без того, чтобы душа была изуродована, а духовность утрачена: ибо стадо деморализованных варваров погубит и утратит всякую справедливость, если бы даже удалось ее найти. И свобода личного творчества должна быть утверждена без того, чтобы в общественной жизни водворилась несправедливость капиталистической эксплуатации и массовой безработицы: ибо кому нужна «свобода» безработицы и голодной смерти?
Каждый человек должен иметь в жизни такое «место», где он мог бы хозяйственно-творчески стоять на ногах; ту сферу, о которой он имел бы право сказать: «мое, а не твое». Это создаст из него живую ячейку общественного хозяйства и облегчит ему беззавистное и лояльное признание чужого достояния: «твое, а не мое». Чем больше в народе таких живых хозяйственных ячеек, тем прочнее частно-собственнический строй жизни* **. Напротив, чем больше в стране омертвевших хозяйственных ячеек, чем больше людей утратило хозяйственнотворческую почву под ногами, чем больше в народе кандидатов на звание «безработного», а потом и настоящих безработных — тем ближе частно-собственнический строй к катастрофе. Опасно не различие между богатым и бедным, а хозяйственная беспочвенность среди бедноты, творческая бесперспективность среди низшего имущественного слоя.
Безнадежно теряя «мое», масса перестает чтить «твое», т. е. все чужое; она незаметно начинает склоняться к «кулачному» или «разбойничьему» решению вопроса: «что мое — мое, а что твое — мое же». Чтобы увести ее от этого соблазна, неправильно звать ее на пути апостольского и аскетического отречения от всего, что есть на земле «мое»: это не идеал для земной жизни; это есть идеал ухода от земного строительства, идеал д ля немногих избранных^ призванных строить «землю» именно этим своим уходом от нее*; масса за этим зовом не пойдет в силу здорового жизненного инстинкта, а если бы она пошла, то погубила бы и себя, и духовную культуру на земле. Но еще неправильнее, подобно коммунистам, внушать массе, что ни «моего», ни «твоего» вообще не должно быть, что можно иметь «общее» и «только общее», не имея «моего»: если народы пойдут за этим зовом, то они скоро убедятся, что «общее» без «моего» есть «ничье» и что до «ничьего» никому и нет дела.
Задача не в том, чтобы на земле от праведности угасло хозяйство и с ним культура и человечество (Будда, Толстой). Но за
* В этом состоит идея аграрной реформы П. А. Столыпина
** См. мою книгу «О сопротивлении злу силой». Глава 22.
дача не состоит и в том, чтобы хозяйство стало самодовлеющей силой человеческой жизни, поработило людей и погасило — и справедливость, и нравственное существо человека (коммунизм).
Разрешение проблемы состоит в том, чтобы сочетать строй частной собственности с ^социальным» настроением души: свободное хозяйство с организованной братской справедливостью.
Чувствовать и действовать «социально» значит прежде всего признавать на деле начало христианской любви и братства; это значит, далее, руководиться неуравниваюшуй справедливостью («всем поровну»), а распределяющей («каждому свое, кто чего заслужил»); это значит — оберегать слабых, нуждающихся, больных и беспомощных, связывать благополучие целого с благоденствием личности и, наконец, будить и поощрять во всех слоях народа качественные, творческие силы человеческого инстинкта и духа. За последние десятилетия сложился предрассудок, будто «социальный образ мыслей» составляет монополию социалистов, которые предлагают будто бы наилучшее, хотя и радикальное разрешение вопроса о социальной справедливости Трагический опыт коммунизма смыл этот предрассудок, ибо он показал, к каким мучительным и унизительным антисоциальным последствиям ведет водворение социализма в практике. И ныне человечество будет искать новую социальную идею, новое социальное понимание собственности.
Это новое понимание будет исходить из древних христианских основ*. Основы его можно было бы вкратце формулировать так.
1. Иметь частную собственность и проистекающую из нее хозяйственную самостоятельность есть великое благо. Чем меньше людей лишено этого блага, тем лучше. Чем больше людей оторвано от собственности, тем несправедливее общественный строй, тем менее жизнеспособно государство.
2. Количественное поравнение имущества бесцельно и вредно: естественное неравенство человеческих сил, способностей и желаний все равно скоро опять приведет к имущественному неравенству. Имущественное неравенство преодолевается не переделом богатств, а освобождением души от зависти, естественным, братским доброжелательством, искусством довольствоваться тем, что есть, помышлением не о тех, кто «богаче меня», а о тех, кто «беднее меня», уверенностью, что богатство не определяет человеческого достоинства, и творческим трудолюбием Воспитание должно давать людям умение духовно переносить неравенство.
* В поисках такого понимания начертана знаменитая булла папы Льва XIII «Rerum novarum».
5. Существенно не владение человека, а его сердце и валя, а также дела, проистекающие из его внутреннего мира. Есть люди, достойные всяческого богатства; и есть люди, не умеющие употребить во благо даже свою нищенскую суму.
4. Важно не то, чтобы не было имущественного неравенства, а то, чтобы в стране не было хозяйственно-беспочвенных, бессильных, безработных, бесперспективных людей. Каждый такой человек должен испытываться всеми как национально-хозяйственная рана, вредная и опасная для всего народа. Важно, чтобы у каждого был хозяйственно-отправной пункт; чтобы подъем к благосостоянию не был искусственно затруднен; чтобы полезный и продуктивный труд реально обогащал трудящегося; чтобы масса живо чувствовала поощряющее влияние частной собственности, а также успешность и почетность честного труда.
5 Новые поколения должны воспитываться в убеждении, что частная собственность не просто «право», а нравственно обязывающее право. Собственность обязывает каждого к творческому использованию всех ее возможностей; к несению больших общественных тягот и государственных повинностей; к человеческому обхождению со всеми, кто так или иначе зависит от вещной власти собственника; к постоянной заботе о хозяйственнобеспочвенных людях.
6. В частном хозяйстве заложена тяга к самодовлению и са-мосильности. Этой тяге должны быть противопоставлены поиски новых форм солидаризации и сотрудничества частных хозяйств («кооперация» в широком и тесном смысле слова). Каждый частный хозяин должен чувствовать себя связанным законами.хозяй-ственногоинстинкта (рынок) и законами хозяйствующего духа (родина) со всею системою частных хозяйств своей страны.
7. Три требования: изобилия, качества продукта и щедрости должны быть включены в нравы народа. Первые два требования приведут к строгой экономии, к дисциплинированности труда и к поднятию техники в производстве. Третье требование придаст распределению дохода и продукта характер мягкой социальности и доступности.
8. Особые меры необходимы для борьбы с противообщественным пользованием собственности (эксплуатация, «пото-гонный труд», ростовщичество и шикана). Должны быть проведены законы, которые сделали бы социальное пользование собственностью выгодным, а антисоциальное — невыгодным. Собственник, лишенный чувства ответственности и чувства сверхклассовой солидарности, распоряжающийся своим имуществом ко вреду других и поступающий антисоциально, должен убедиться в том, что его образ действия предосудителен, что соб
ственность его пользуется меньшей защитой, что такое ведение хозяйства оказывается экономически, юридически и нравственно невыгодным для него самого так, чтобы он сам захотел вступить на другой путь, и т. д.
Все это, вместе взятое, может быть выражено так: частная собственность должна бытьутверждена. но народ должен систематически воспитываться к верному пониманию ее идеи. Это воспитание должно связать внутреннее переживание частной собственности и внешнее распоряжение ею — с благородными мотивами и социальными побуждениями человеческой души и, соответственно, вскрывать и обезвреживать дурные мотивы и побуждения. Частная собственность есть власть: непосредственно — над вещами, но опосредствованно — и над людьми. Нельзя давать власть не воспитывая к ней. Частная собственность есть свобода. Нельзя представлять свободу, не приучая к ее благоупотреблению. Частная собственность есть право: этому праву соответствуют не только юридически выговоренные обязанности, но и нравственно-социальные, и патриотические, нигде не оформленные и не выговоренные обязательства. Частная собственность означает самостоятельность и самодеятельность человека: нельзя исходить от предположения, что каждый из нас «от природы» созрел к ней и умеет ее осуществлять в жизни.
Только сильный и духовно воспитанный дух сумеет верно разрешить проблему частной собственности и создать на основании ее цветущее и социальное хозяйство.
И в этом отношении частная собственность подчинена всем основным законам человеческого духа.
Часть VI
О семье
и
воспитании
детей
О СЕМЬЕ
1. Значение семьи
Семья есть первый, естественный и в то же время священный союз, в который человек вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на любви, на вере и на свободе, научиться в нем первым совестным движениям сердца и подняться от него к дальнейшим формам человеческого духовного единения —родине и государству.
Семья начинается с брака и в нем завязывается. Но человек начинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не создавал: это семья, учрежденная его отцом и матерью, в которую он входит одним рождением, задолго до того, как ему удается осознать самого себя и окружающий его мир. Он получает эту семью как некий дар судьбы. Брак по самому существу своему возникает из выбора и решения, а ребенку не приходится выбирать и решать: отец и мать как бы образуют ту предустановленную для него судьбу, которая выпадает ему на его жизненную долю, и эту судьбу он не может ни отклонить, ни изменить — ему остается только принять ее и нести всю жизнь. То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, определяется в его детстве и притом самим этим детством; существуют, конечно, врожденные склонности и дары, но судьба этих склонностей и талантов — разовьются ли они в дальнейшем или погибнут, и если расцветут, то как именно, — определяется враннем детстве.
Вот почему семья является первичным лоном человеческой культуры. Мы все слагаемся в этом лоне, со всеми нашими возможностями, чувствами и хотениями; и каждый из нас остается в течение всей своей жизни духовным представителем своей отечески материнской семьи или как бы живым символом ее семейственного духа. Здесь пробуждаются и начинают развертываться дремлющие силы личной души; здесь ребенок научается любить (кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (чему и чем?); здесь слагаются первые основы его характера; здесь открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья и несчастья; здесь ребенок становится маленьким человеком, из которого впоследствии развивается великаяличность или, может быть, низкий
проходимец. Не прав ли Макс Мюллер, когда он пишет: «Я думаю, что там, где речь идет о воспитании детей, к жизни надо подходить, как к чему-то в высшей степени серьезному, ответственному и высокому»; и не прав ли немецкий богослов Толук, утверждая: «Мир управляется из детской...» Мир не только строится в детской, но и разрушается из нее; здесь прокладываются не только пути спасения, но и пути погибели. И если мы подумаем, что «следующее поколение» все время вновь нарождается и воспитывается и что все его будущие подвиги и преступления, его духовная сила и его возможное духовное крушение — уже теперь, все время, слагаются и созревают вокруг нас и при нашем содействии или бездействии, то мы сможем отдать себе отчет в том, какая ответственность лежит на нас...
Все это означает, что семья есть как бы живая «лаборатория» человеческих судеб—личных и народных, и притом каждого народа в отдельности и всех народов сообща, с тем отличием, однако, что в лаборатории обычно знают, что делают, и действуют целесообразно, а в семье обычно не знают, что делают, и действуют, как придется. Ибо семейная «лаборатория» возникает от природы, на иррациональных путях инстинкта, традиции и нужды; здесь люди не задаются никакой определенной творческой целью, а просто живут, удовлетворяют свои собственные потребности, изживают свои склонности и страсти и то удачно, то беспомощно несут последствия всего этого. Природа устроила так, что одно из самых ответственных и священных призваний человека — быть отцом и матерью — делается для человека доступным просто при минимальном телесном здоровье и половой зрелости, так что человеку достаточно этих двух условий для того, чтобы не задумываясь наложить на себя это призвание... «А чтоб иметь детей — кому ума недоставало?!» (Грибоедов). Вследствие этого утонченнейшее, благороднейшее и ответственнейшее искусство на земле — искусство воспитания детей — почти всегда недооценивается и продешевляется; к нему и доселе подходят так, как если бы оно было доступно всякому, кто способен физически рождать детей, как если бы существенным было именно зачатие и рождение, а остальное — именно воспитание — было бы совсем несущественно или могло бы делаться как-то так, «само собой». На самом же деле тут все обстоит совсем иначе. Окружающий нас мир людей таит в себе многое множество личных неудач, болезненных явлений и трагических судеб, о которых знают только духовники, врачи и прозорливые художники; и все эти явления сводятся в последнем счете к тому, что родители этих людей сумели их только родить и дать им жизнь, но открыть им путь к любви, к внутренней свободе, вере и совести, т. е. ко всему тому, что состав
ляет источник духовного характера и истинного счастья, не сумели; родители по плоти сумели дать своим детям, кроме плотского существования, только одни душевные раны, иногда даже сами не замечая того, как они возникали у детей и въедались в душу, но не сумели дать им духовного опыта, этого целительного источника для всех страданий души...
Бывают эпохи, когда эта небрежность, эта беспомощность, эта безответственность родителей начинают возрастать от поколения к поколению. Это как раз в те эпохи, когда духовное начало начинает колебаться в душах, слабеть и как бы исчезать; это эпохи распространяющегося и крепнущего безбожия и приверженности к материальному, эпохи бессовестности, бесчестия, карьеризма и цинизма. В такие эпохи священное естество семьи не находит себе больше признания и почета в человеческих сердцах; им не дорожат, его не берегут, его не строят Тогда в отношениях между родителями и детьми возникает некая «пропасть», которая, по-видимому, увеличивается от поколения к поколению. Отец и мать перестают «понимать» своих детей, а дети начинают жаловаться на «абсолютную отчужденность», водворившуюся в семью; и, не понимая, откуда это берется, и забывая свои собственные детские жалобы, выросшие дети завязывают новые семейные ячейки, в которых непонимание и отчуждение обнаруживаются с новою и большею силою. Непрозорливый наблюдатель мог бы прямо подумать, что «время» настолько «ускорило» свой бег, что между родителями и детьми установилась все возрастающая душевно-духовная «дистанция», которую нельзя ни заполнить, ни преодолеть; тут, думают они, нельзя ничего поделать: история спешит, эволюция с повышенной быстротой создает все новые уклады, вкусы и воззрения, старое стремительно старится, и каждое следующее десятилетие несет людям новое и неслыханное... Где же тут «угнаться за молодежью»?! И все это говорится так, как если бы духовные основы жизни тоже подлежали веянию моды и технических изобретений...
В действительности это явление объясняется совсем иначе, а именно — заболеванием и оскудением человеческой духовности и в особенности духовной традиции. Семья распадается совсем не от ускорения исторического темпа, но вследствие переживаемого человеком духовного кризиса. Этот кризис подрывает семью и ее духовное единение, он лишает ее главного, того единственного, что может сплотить ее, спаять и превратить в некое прочное и достойное единство, а именно — чувства
* Согласно словоупотреблению современной психопатологии — травмы, т. е. жгучие, болевые душевные ощущения, следы и последствия которых сохраняются потом в течение всей жизни
взаимной духовной сопринадлежности. Половая потребность, инстинктивные влечения создают не брак, а всего только биологическое сочетание (спаривание); из такого сочетания возникает не семья, а элементарное рядом-жительство рождающих и рожденных (родителей и детей). Но «похоть плоти» есть нечто неустойчивое и самовольное; она тянет к безответственным изменам, к капризным новшествам и приключениям; у нее, так сказать, «короткое дыхание», едва достаточное для простого деторождения и совершенно не соответствующего задаче воспитания.
В действительности человеческая семья, в отличие от «семьи» у животных, есть целый остров духовной жизни. И если она этому не соответствует, то она обречена на разложение и распад. История показала и подтвердила это с достаточной наглядностью: великие крушения и исчезновения народов возникают из духовно-религиозных кризисов, которые выражаются прежде всего в разложении семьи. Понятно, почему это так было и бывает. Семья есть первоначальная, исходная ячейка духовности — как в том смысле, что именно в семье человек впервые научается (или, увы, не научается!) быть личным духом, так и в том смысле, что духовные силы и умения (или, увы, слабости и неумения), полученные от семьи, человек переносит затем на общественную и государственную жизнь. Вот почему духовный кризис поражает прежде всего исходную ячейку духовности; если духовность колеблется и слабеет, то она слабеет прежде всего в семейной традиции и в семейной жизни. Но, раз поколебавшись в семье, она начинает слабеть и вырождаться — и во всех человеческих отношениях и организациях: больная клетка создает больные организмы.
Только дух имеет достаточно глубокое и длительное дыхание для того, чтобы творчески создавать и поддерживать естество семьи, чтобы успешно разрешать не только «проблему половой любви», но и проблему создания нового,лучшего и более свободного поколения. Поэтому формула брака звучит не так: «я жажду» или «я желаю», или «мне хочется», а скорее так: «в любви и через любовь я создаю новую, лучшую и более свободную человеческую жизнь...» Она звучит не так: «желаю наслаждаться моим счастьем» — ибо это была бы формула, уводящая брак на уровень простого спаривания, а скорее так: «я хочу создать свой собственный духовный очаг и в этом найти свое счастье...»
Всякая настоящая семья возникает из любви и дает человеку счастье. Там, где заключается брак без любви, семья возникает лишь по внешней видимости; там, где брак не дает человеку счастья, он не выполняет своего первого назначения. Научить детей любви родители могут лишь тогда, если они сами в бра
ке умели любить. Дать детям счастье родители могут лишь постольку, поскольку они сами нашли счастье в браке. Семья, внутренне спаянная любовью и счастьем, есть школа душевного здоровья, уравновешенного характера, творческой предприимчивости. В просторе народной жизни она подобна прекрасно распустившемуся цветку. Семья, лишенная этой здоровой центростремительности, растрачивающая свои силы на судороги взаимного отвращения, ненависти, подозрения и «семейных сцен», есть настоящий рассадник больных характеров, психопатических тяготений, неврастенической вялости и жизненного «неудачничества». Она подобна тем больным растениям, которым ни один хороший садовник не даст места в своем саду.
Если ребенок не научится любви в семье своих родителей, то где же он научится ей? Если он с детства не привыкнет искать счастья именно во взаимной любви, то в каких же злых и дурных влечениях он будет искать счастья в зрелом возрасте? Дети все перенимают и всему подражают, незаметно, но глубоко вчувству-ясь в жизнь своих родителей, тонко подмечая, угадывая, иногда бессознательно следя за «старшими» наподобие «неутомимых следопытов». И тот, кому приходилось слышать и регистрировать детские высказывания, точки зрения и игры в несчастных и разлагающихся семьях, где жизнь есть сплошное мучительство, лицемерие и надрыв, тот знает, какое больное и гибельное наследство получает от родителей такая несчастная детвора.
Чтобы развиваться верно и творчески, ребенок должен иметь в своей семье очаг любви и счастья. Только тогда он сможет развернуть свои нежнейшие и духовнейшие способности; только тогда его собственная инстинктивная жизнь не будет вызывать в нем ни ложного стыда, ни болезненного отвращения; только тогда он сможет прильнуть с любовью и гордостью к традиции своей семьи и своего рода с тем, чтобы принять ее и продолжить ее своею жизнью. Вот почему любовная и счастливая семья есть живая школа — сразу — и творческого равновесия души, и здорового органического консерватизма. Там, где царит здоровая семья, там творчество будет всегда достаточно консервативным для того, чтобы не выродиться в беспочвенную революционность, а консерватизм будет всегда достаточно творческим для того, чтобы не выродиться в реакционное мракобесие
В любовной и счастливой семье воспитывается человек с неповрежденным душевным организмом, который сам способен органически любить, органически строить и органически воспитывать Детство есть счастливейшее время жизни: время органической непосредственности; время уже начавшегося и еще предвкушаемого «большого» счастья; время, когда все прозаиче
ские «проблемы» безмолвствуют, а все поэтические проблемы зовут и обещают; время повышенной доверчивости и обостренной впечатлительности; время душевной незасоренности и искренности; время ласковой улыбки и бескорыстного доброжелательства. Чем любовнее и счастливее была родительская семья, тем больше этих свойств и способностей сохранится в человеке, тем больше такой детскости он внесет в свою взрослую жизнь, а это значит — тем неповрежденнее останется его д ушевный организм; тем естественнее, богаче и творчески продуктивнее расцветет его личность в лоне его родного народа.
И вот главным условием такой семейной жизни является способность родителей ко взаимной духовной любви. Ибо счастье дается только любовью долгого и глубокого дыхания, а такая любовь возможна только в духе и через дух.
2. О духовно здоровой семье
Напрасно думать, что духовность доступна только людям образованным, людям высокой культуры. История всех времен и народов показывает, что именно образованные слои общества, увлекаясь игрою сознания и отвлеченностями ума, гораздо легче утрачивают ту непосредственную силу доверия к показаниям внутреннего опыта, которая необходима для духовной жизни. Ум, по-рвавший с глубиною чувства и с художественною силою воображения, привыкает обливать все ядом праздного, разрушающего сомнения и поэтому оказывается в отношении духовной культуры не строящим, а разрушающим началом. Напротив, у людей наивно-непосредственных эта разрушающая сила еще не начинает действовать. Человек малой «культурности» гораздо более способен прислушиваться к показаниям внутреннего опыта, т. е. прежде всего сердца, совести, чувства справедливости, чем человек хотя бы и большой, но рационалистической культуры. Простая душа наивна и доверчива; может быть, именно потому она легковерна и суеверна, и верит, где не надо, но зато самый дар веры у нее не отнят, а потому она способна верить и там, где надо. Пусть духовность ее — некритическая, малоразумная, недифференцированная, тянет к мифу и к магии, связана со страхом и может заблудиться в колдовстве. Но духовность ее несомненна и подлинна — и в способности внимать дыханию и зову Божию, и в любви сострадательной, и в любви патриотически-жертвенной, и в совестном акте, и в чувстве справедливости, и в способности наслаждаться красотою природы и искусства, и в проявлениях собственного достоинства, правосознания и деликат
ности. И напрасно образованный горожанин стал бы воображать, будто все это недоступно «необразованному крестьянину»!.. Словом, духовная любовь доступна всем людям, независимо от уровня их культурности. И всюду, где она обнаруживается, она является истинным источником прочности и красоты семейной жизни.
В самом деле, человек призван к тому, чтобы видеть и любить в любимой женщине (или соответственно — в любимом мужчине) не только плотское начало, не только телесное явление, но и «душу» — своеобразие личности, особливость характера, сердечную глубину, для которых внешний состав человека служит лишь телесным выражением или живым органом. Любовь только тогда является простым и кратковременным вожделением, непостоянным и мелким капризом плоти, когда человек, желая смертного и конечного, любит скрытую за ним бессмертность и бесконечность; вздыхая о плотском и земном, радуется духовному и вечному; иными словами — когда он ставит свою любовь перед лицо Божие и Божиими лучами освещает и измеряет любимого человека... В этом — глубокий смысл христианского «венчания», венчающего супругов венцом радости и муки, венцом духовной славы и нравственной чести, венцом пожизненной и нерасторжимой духовной общности. Ибо вожделение может быстро пройти, оно бывает подслеповатым. И предчувствовавшееся наслаждение может обмануть или надоесть. И что тогда? Взаимное отвращение прикрепленных друг к другу людей?.. Судьба человека, который в ослеплении связал себя, а прозрев — проклял свою связанность? Пожизненная унизительность ежедневной лжи и лицемерия? Или развод? Прочность семьи требует иного; люди должны желать не только утех любви, но и ответственного совместного творчества, духовной общности в жизни, в страдании и в ношении бремен, по древнеримской брачной формуле: «где ты, Кай, там и я, твоя Кая...»
То, что должно возникнуть из брака, есть прежде всего новое духовное единение и единство — единство мужа и жены: они должны понимать друг друга и делить радость и горе жизни; для этого они должны однородно воспринимать и жизнь, и мир, и людей. Здесь важно не душевное подобие, и не одинаковость характеров и темпераментов, а однородность духовных оценок, которая только и может создать единство и общность жизненной цели у обоих. Важно то, чему ты поклоняешься? чему молишься? что любишь? чего желаешь себе в жизни и в смерти? чем и во имя чего ты способен жертвовать? И вот жених и невеста должны найти друг в друге это единочувствие и единолюбие, объединиться в том, что есть важнейшего в жизни и ради чего стоит жить... Ибо только тогда они сумеют, как муж и жена, всю жизнь верно воспринимать друг
друга, верить друг другу и верить друг в друга. Это и есть самое драгоценное в браке: полное взаимное доверие перед Лицом Божиим, а с этим связано и взаимноеуважение, и способность образовать новую, жизненно сильную духовную ячейку. Только такая ячейка может разрешить главную задачу брака и семьи — осуществить духовное воспитание детей.
Воспитать ребенка значит заложить в нем основы духовного характера и довести его до способности самовоспитания. Родители, которые приняли эту задачу и творчески разрешили ее, подарили своему народу и своей родине новый духовный очаг; они осуществили свое духовное призвание, оправдали свою взаимную любовь и укрепили, обогатили жизнь своего народа на земле: они сами вошли в ту Родину, которою стоит жить и гордиться, за которую стоит бороться и умереть.
Итак, нет более верной основы для достойной и счастливой семейной жизни, как взаимная духовная любовь мужа и жены: любовь, в которой начала страсти и дружбы сливаются воедино, перерождаясь в нечто высшее — в огонь всестороннего единения. Такая любовь примет не только наслаждение и радость — и не выродится, не выветрится, не огрубеет от них, но примет и всякое страдание, и всякое несчастье, чтобы осмыслить их, освятить их и очиститься через них. И только такая любовь может дать человеку тот запас взаимного понимания, взаимного снисхождения к слабостям и взаимного прощения, терпения, терпимости, преданности и верности, который необходим для счастливого брака.
Поэтому можно сказать, что счастливый брак возникает не просто из взаимной естественной склонности («по милу хорош»), но из духовного сродства людей («по хорошу мил»), которое вызывает непоколебимую волю — стать живым единством и соблюсти это единство во что бы то ни стало, и соблюсти его не только напоказ людям, но на самом деле, перед Лицом Божиим. В этом глубочайший смысл религиозного освящения брака и соответствующего церковного обряда. Но это составляет и первое, необходимейшее условие для верного, духовного воспитания детей.
Я уже указывал на то, что ребенок вступает в семью своих родителей как бы в доисторическую эпоху своей личности и начинает дышать воздухом этой семьи со своего первого физического вздоха. И вот в душном воздухе несогласной, неверной, несчастной семьи, в пошлой атмосфере бездуховного, безбожного прозябания не может расцвести здоровая детская душа. Ребенок может приобрести чутье и вкус к духу только у духовно осмысленного семейного очага; он может органически почув
ствовать всенародное единение и единство, только испытав это единство в своей семье, а не почувствовав этого всенародного единства, он не станет живым органом своего народа и верным сыном своей родины. Только духовное пламя здорового семейного очага может дать человеческому сердцу накаленный угль духовности, который будет и греть его, и светить ему в течение всей его дальнейшей жизни.
1. Так, семья имеет призвание дать ребенку самое главное и существенное в его жизни.
Блаженный Августин сказал однажды, что «человеческая душа — христианка от природы». Это слово особенно верно в применении к семье. Ибо в браке и в семье человек учится от природы — любить, из любви и от любви страдать, терпеть и жертвовать, забывать о себе и служить тем, кто ему ближе всего и милее всего. Все это есть не что иное, как христианская любовь. Поэтому семья оказывается как бы естественною школою христианскойлюбви, школою творческого самопожертвования, социальных чувств и альтруистического образа мыслей. В здоровой семейной жизни душа человека с раннего детства обуздывается, смягчается, приучается относиться к ближним с почтительным и любовным вниманием. В этом умягченном, любовном настроении она предварительно прикрепляется к тесному, домашнему кругу, с тем чтобы дальнейшая жизнь вывела ее в этой самой внутренней «установке» к широким кругам общества и народа.
2. Далее, семья призвана воспринимать, поддерживать и передавать из поколения в поколение некую духовно-религиозную, национальную и отечественную традицию. Из этой семейной традиции и благодаря ей возникла вся наша индо-европейская и христианская культура — культура священного очага семьи : с ее благоговейным почитанием предков, с ее идеей священной межи, огораживающей родовые могилы; с ее исторически слагающимися национальными обычаями и нарядами. Это семья создала и выносила культуру национального чувства и патриотической верности. И сама идея «родины» — лона моего рождения, и «отечества», земного гнезда моих отцов и предков — возникла из недр семьи как телесного и духовного единства. Семья есть для ребенка первое родное место на земле; сначала — место-жилище, источник тепла и питания, потом — место осоз-
* Всякий образованный человек должен однажды со вниманием прочесть и продумать глубокомысленный труд Фюстель де Куланжа «Древняя гражданская община» (La cite antique), вдумываясь особенно в собранный и дословно приведенный этим гениальным историком аутентичный материал подстрочных примечаний.
нанной любви и духовного понимания. Семья есть для ребенка первое «мы», возникшее из любви и добровольного служения, где один стоит за всех и все за одного. Она есть для него лоно естественной солидарности, где взаимная любовь превращает долг в радость и держит всегда открытыми священные врата совести. Она есть для него школа взаимного доверия и совместного, организованного действования. Не ясно ли, что истинный гражданин и сын своей родины воспитывается именно в здоровой семье?
3. Далее, ребенок учится в семье верному восприятию авторитета. В лице естественного авторитета отца и матери он впервые встречается с идеею ранга и научается воспринимать высший ранг другого лица, преклоняясь, но не унижаясь, и научается мириться с присущим ему самому низшим рангом, не впадая ни в зависть, ни в ненависть, ни в озлобление. Он научается извлекать из начала ранга и из начала авторитета всю их творческую и организационную силу, в то же время освобождая себя духовно от их возможного «гнета» посредством любви и уважения. Ибо только свободное признание чужого высшего ранга научает переносить свой низший ранг без унижения, и только любимый и уважаемый авторитет не гнетет душу человека.
В здоровой христианской семье есть один-единственный отец и одна-единственная мать, которые совместно представляют единый — властвующий и организующий авторитет в семейной жизни. В этой естественной и первобытной форме авторитетной власти ребенок впервые убеждается в том, что власть, насыщенная любовью, является благостною силою и что порядок в общественной жизни предполагает наличность такой единой, организующей и повелевающей власти: он научается тому, что принцип патриархального единодержавия содержит в себе нечто целесообразное и оздоровляющее; и, наконец, он начинает понимать, что авторитет духовно старшего человека совсем не призван подавлять или порабощать подчиненного, пренебрегать его внутренней свободой и ломать его характер, но что, наоборот, он призван воспитывать человека к внутренней свободе.
Так, семья есть первая, естественная школа свободы: в ней ребенок должен в первый, но не в последний раз в жизни найти верный путь к внутренней свободе; принять из любви и уважения к родителям все их приказы и запреты во всей их кажущейся строгости, вменить себе в обязанность их соблюдение, добровольно подчиниться им и предоставить своим собственным воззрениям и убеждениям свободно и спокойно созревать в глубине души. Благодаря этому семья становится как бы начальной школой для воспитания свободного и здорового правосознания.
4. Пока семья будет существовать (а она будет существовать, как все природное, вечно), она будет школой здорового чувства частной собственности. Нетрудно убедиться, почему это так обстоит.
Семья есть данное от природы общественное единство — в жизни, в любви, в труде, в заработке и в имуществе. Чем прочнее, чем сплоченнее семья, тем обоснованнее является ее притязание на то, что творчески создали и приобрели ее родители и родители ее родителей. Это есть притязание на их хозяйственно-овеществленный труд, всегда сопряженный с лишениями, страданиями, с напряжением ума, воли и воображения; притязание — на наследственно передающееся имущество, на семейно приобретенную частную собственность, которая является сущим источником не только семейного, но и всенародного довольства.
Здоровая семья всегда была и всегда будет органическим единством — по крови, по духу и по имуществу. И это единое имущество является живым знаком кровного и духовного единства, ибо это имущество в том виде, как оно есть, возникло именно из этого кровного и духовного единения и на пути труда, дисциплины и жертв. Вот почему здоровая семья учит ребенка сразу целому ряду драгоценных умений. Ребенок научается пробивать себе в жизни дорогу при помощи собственной инициативы и в то же время высоко ценить и соблюдать принцип социальной взаимопомощи; ибо семья, как целое, устраивает свою жизнь именно по частной, собственной инициативе — она есть самостоятельное творческое единство, а в своих собственных пределах семья есть настоящее воплощение взаимопомощи и так называемой социальности. Ребенок научается постепенно быть «частным» лицом, самостоятельной индивидуальностью и в то же время ценить и беречь лоно семейной любви и семейственной солидарности; он научается самостоятельности и верности — этим двум основным проявлениям духовного характера. Он научается творчески обходиться с имуществом, вырабатывать, создавать и приобретать хозяйственные блага и в то же время — подчинять начала частной собственности некоторой высшей, социальной (в данном случае — семейной) целесообразности... А это и есть то самое умение или, лучше сказать, искусство, вне которого не может быть разрешен социальный вопрос нашей эпохи.
Само собой разумеется, что только здоровая семья может верно разрешить все эти задачи. Семья, лишенная любви и духовности, где родители не имеют авторитета в глазах детей, где нет единства ни в жизни, ни в труде, где нет наследственной традиции, — может дать ребенку очень мало или же не может дать ему ничего. Конечно, и в здоровой семье могут совершаться ошибки.
могут слагаться в том или ином отношении «пробелы», которые способны повести к общей или частичной неудаче. Идеала нет на земле... Однако с уверенностью можно сказать, что родители, которые сумели приобщить своих детей к духовному опыту и вызвать в них процесс внутреннего самоосвобождения, будут всегда благословенны в сердцах детей... Ибо из этих двух основ вырастает и личный характер, и прочное счастье человека, и общественное благополучие.
3. Основные задачи воспитания
Все то, что мы доселе установили о духовно-здоровой семье, как бы предрешает вопрос об основных задачах воспитания.
Можно было бы просто сказать, что все воспитание ребенка или, во всяком случае, его основная задача состоит в том, чтобы ребенок получил доступ ко всем сферам духовного опыта; чтобы его духовное око открылось на все значительное и священное в жизни; чтобы его сердце, столь нежное и восприимчивое, научилось отзываться на всякое явление Божественного в мире и в людях. Надо как бы повести или сводить душу ребенка во все «места», где можно найти и пережить нечто божественное*; постепенно все должно стать ей доступным — и природа во всей ее красоте, в ее величии и таинственной внутренней целесообразности, и та чудесная глубина, и та благородная радость, которую дает нам истинное искусство, и неподдельное сочувствие всему страдающему, и действенная любовь к ближнему, и блаженная сила совестного акта, и мужество национального героя, и творческая жизнь национального гения, с его одинокой борьбой и жертвенной ответственностью, и, главное: непосредственное молитвенное обращение к Богу, который и слышит, и любит, и помогает. Надо, чтобы ребенок получил доступ всюду, где Дух Божий дышит, зовет и раскрывается — как в самом человеке, так и в окружающем его мире...
Душа ребенка должна научиться воспринимать сквозь весь земной шум и сквозь всю неиссякающую пошлость повседневной жизни священные следы и таинственные уроки Всевышнего, воспринимать их и следовать им, чтобы, внемля им, всю жизнь «обновляться духом ума своего» (Ефес. 4,23). Подобно тому, как однажды выразил это Лафатер: «Внимай тихому гласу вещающе го в тебе Господа...» Чтобы ребенок, вырастая и входя в пору зрелости, привык искать и находить во всем некий высший смысл: что
* Живую картину такого духовного паломничества дает И. С. Шмелев в своем замечательном произведении «Богомолье»
бы мир не лежал перед ним плоской, двумерной и скудной пустыней; чтобы он мог сказать миру вещей словами поэта:
Кругом обставшие меня Всегда безмолвные предметы, Лучами тайного огня
Вы осиянны и согреты...
И мог закончить свою жизнь словами глубокомысленного созерцателя Баратынского:
Велик Господь! Он милосерд, но прав, Нет на земле ничтожного мгновенья...
Духовно живой человек всегда внемлет Духу — и в событиях дня, и в невиданной грозе, и в мучительном недуге, и в крушении народа. И, вняв, отзывается не пассивно-созерцательным пиетизмом, но и сердцем, и волею, и делом.
Итак, самое важное в воспитании — это духовно пробудить ребенка и указать ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть, уже подстерегающих его опасностей и искушений жизни — источник силы иутешения в его собственной душе. Надо воспитать в его душе будущего победителя, который умел бы внутренне уважать самого себя и утверждать свое духовное достоинство и свою свободу — духовную личность, перед которой были бы бессильны все соблазны и искушения современного сатанизма.
Как бы странно и сомнительно ни прозвучало это указание для педагогически неискушенного человека, но по существу оно остается непоколебимым: самое большое значение имеют первые пять-шесть лет детской жизни; а в следующее за ним десятилетие (с шестого по шестнадцатый год жизни) многое, слишком многое, завершается в человеке чуть ли не на всю жизнь. В первые годы детской жизни душа ребенка так нежна, так впечатлительна и беспомощна... Он как бы плывет в потоке наивной, непосредственной доверчивости и некоего как бы предмирного «всесмешения»: «свет и тьма», «твердь и вода» еще не отделены друг от друга; и свод, имеющий потом отделить дневное сознание от нашей бессознательной сферы, еще не создался в процессе вытеснения* * ***. Этот свод, который будет потом всю жизнь обуздывать кипение страстей и за
* Федор Сологуб (Тетерников).
Баратынский. На посев леса.
*** -г-.
Разумею этот термин в том смысле, который придан ему основополагающими открытиями и формулами создателя современной психопатологии Зигмунда Фрейда.
мыкать томление аффектов, подчиняя их творческой жизненной целесообразности, находится еще в стадии возникновения. В этот период жизни — впечатлениям открыта последняя глубина души; она вся всему доступна и не защищена никакой защитной броней; все может стать или уже становится ее судьбой, все может повредить ребенку или, как говорит народ, испортить ребенка. И действительно, все вредное, дурное, злобное, потрясающее или мучительное, что ребенок воспринимает в этот первый, роковой период своей жизни, — все причиняет ему душевную рану («травму»), последствия которой он потом влачит в себе через всю жизнь то в виде нервного подергивания, то в виде истерических припадков, то в виде уродливой склонности, извращения или прямой болезни. И обратно, все то светлое, духовное и любовное, что детская душа получает в эту первую эпоху, приносит потом, в течение всей жизни, обильный плод. В эти годы ребенка надо беречь, не терзать его никакими страхами и наказаниями, не будить в нем преждевременно элементарные и дурные инстинкты. Однако упускать эти годы в смысле духовного воспитания было бы столь же недопустимо и непростительно Надо сделать так, чтобы в душу ребенка проникало как можно большелучейлюбви, радости и Божией благодати. Здесь надо не баловать ребенка, не потакать его капризам, не изнеживать его и не топить его в физических ласках, но заботиться о том, чтобы ему нравилось, чтобы его умиляло и радовало все то, что есть в жизни божественного, — от солнечного луча до нежной мелодии, от жалости, сжимающей сердце, до прелестной бабочки, от первой, лепетом сказанной молитвы до героической сказки и легенды... Родители могут быть твердо уверены: здесь ничто не пропадет, ничто не канет бесследно; все даст плоды, все принесет хвалу и совершение. Но пусть никогда ребенок не будет для родителей игрушкой и забавой; пусть он будет для них нежным цветком, который нуждается в солнце, но который так легко может быть незаметно надломлен. Именно в эти первые годы детства, когда ребенок считается «несмышленышем», родители должны помнить при всяком обхождении с ним, что дело не в их родительских восторгах, наслаждениях и забавах, а в состоянии детской души, абсолютно впечатлительной и (именно вследствие «несмыслия» своего) абсолютно беспомощной...
Итак, до пяти-шести лет, т. е. до самого «вытесняющего» перелома в детской душе, ребенка нужно душевно беречь, как нежный цветок, с тем, чтобы затем постепенно изменить весь тон воспитания: ибо после периода душевной теплицы должен наступить период душевного закала; ребенок должен приучаться внутренне к самообладанию и к высоким требованиям; и этот
процесс дастся ему тем легче, чем меньше «травм» он вынесет из первого периода. В нежнейшую эпоху своей жизни ребенок должен привыкнуть к семье — к любви, а не к ненависти и зависти; к спокойному мужеству и самодисциплине, а не к страху, унижениям, доносам и предательству Ибо воистину — мир можно пересоздать, перевоспитать из детской, но в детской же можно его и погубить.
Духовная атмосфера здоровой семьи призвана привить ребенку потребность в чистой любви, склонить к мужественной искренности и способность к спокойной и достойной дисциплине.
Чистоталюбви, о которой здесь идет речь, имеет в виду эротическую сторону жизни.
Вряд ли есть что-нибудь более вредное для жизни и для всей судьбы ребенка, как слишком раннее эротическое пробуждение его души, в особенности, если это пробуждение происходит в той форме, что ребенок начинает воспринимать жизнь пола как что-то низменное и грязное, как предмет тайных мечтаний и постыдных забав, или еще — если это пробуждение вызывается неосторожностями или прямыми грубостями со стороны нянек, воспитателей или родителей...
Вредность преждевременного эротического пробуждения состоит в том, что на юную душу возлагается непосильная задача, которую она не может ни разрешить, ни изжить, ни достойно понести или устранить. Тогда ребенок оказывается без вины виноватым и безысходно обремененным; начинается бесплодная и нечистая работа воображения, сопровождающаяся судорожными попытками вытеснить весь этот непосильный заряд и в то же время — болезненными напряжениями нервной системы. Начинаются внутренние конфликты и страдания, с которыми ребенок не может справиться; ему приходится отвечать за невольные настроения и поступки; и ответственность эта превышает его душевные силы; в последней родовой глубине инстинкта начинается болезненное смятение, о котором ребенок не может даже совсем высказаться, — и весь организм души и тела оказывается выведенным из равновесия. Большинство так называемых «дефективных» детей проходит этот страдальческий путь без всякой вины и очень редко встречает со стороны взрослых чуткое понимание и помощь...
Нередко бывает и хуже, именно, когда кто-нибудь из «товарищей» или взрослых, испорченных дурным опытом, начинает «просвещать» (т. е. портить) ребенка в вопросах половой жизни. Там, где для чистой и целомудренной души, собственно говоря, нет ничего «грязного» («ибо всякое творение Божие
хорошо». Тимофею. 1.4.4), несмотря на все человеческие несовершенства, заблуждения и болезни, — потому что «грязное», чисто воспринятое, есть уже не «грязное», а больное или трагическое — там, в душе такого несчастного ребенка, искажается жизнь воображенияиразвращаетсяжизнь чувства, причем это искажение и развращение может излиться и в настоящее неисцелимое душевное уродство. Душевное восприятие такого ребенка становится пошлым или полуслепым — он как бы не видит чистого в жизни, а видит во всем двусмысленное и грязное; с этой точки зрения он начинает воспринимать всю человеческую любовь, и притом не только ее чувственную сторону, но и духовную. Чистое осмеивается; интимное и нежное забрасывается уличной грязью; здоровый половой инстинкт начинает тянуть к извращениям; все священное в любви, в браке и в семье оказывается вывернутым, оскверненным и утраченным. Там, где уместно благоговейное молчание, шепот или молитва, водворяется атмосфера двусмысленных улыбок и плоского подмигивания. Душевное целомудрие гибнет; воцаряется бесстыдство и бесцеремонность; все священные удержи и запреты души колеблятся; ребенок оказывается душевно растленным и как бы проституированным. Человек переживает целое духовное опустошение: в его «любви» отмирает все священное и поэтическое, чем живет и строится человеческая культура; начинается разложение семьи. Можно было бы прямо сказать, что в процессе современного разложения семьи и связанной с ним большевизации нравов — вреднейшее и разрушительное значение принадлежит непристойному анекдоту, внесенному в детскую. Порнография есть одно из величайших зол в деле воспитания; и чем скорее родители, воспитатели и духовники объединятся между собою для того, чтобы повести против нее решительную и неутомимую борьбу, полную осторожного такта и психологического искусства, тем лучше будет для всего человечества.
Еще одна серьезная опасность грозит эротически чистой любви ребенка — от неосторожных или грубых родительских проявлений.
При этом я имею в виду прежде всего так называемую «обезьянью» любовь родителей, т. е, слишком чувственную влюбленность их в ребенка, которого они то и дело волнуют всевозможными и неумеренными физическими ласками, заигрываниями, щекоткой, возней, не постигая безрассудства и вредоносности всего этого; этим они, с одной стороны, вызывают в душе ребенка целый поток напрасного и неутолимого возбуждения и причиняют ему ненужные душевные «травмы», с
другой стороны — избаловывают и изнеживают его, подрывая его способность к выдержке и самообладанию*
Наряду с этим надо поставить и всевозможные неумеренные проявления взаимной любви родителей в присутствии детей. Супружеское ложе родителей должно быть прикрыто для детей целомудренной тайной, хранимой естественно и непод-черкнуто; пренебрежение этим вызывает в душах детей самые нежелательные последствия**, о которых следовало бы написать целое научное исследование... Во всем и всегда есть некая правильная и драгоценная мера, которую люди должны блюсти, а в данном случае эта мера может быть предсказана только живым чувством такта и в особенности врожденным женщине естественным имудрым целомудрием.
Помимо всего этого, должны быть особо упомянуты те разрушительные для семейной жизни взаимные «супружеские измены» со стороны родителей, которые дети подмечают с таким ужасом и переживают так болезненно; иногда такие события переживаются детьми как настоящие душевные катастрофы. Родители всегда должны помнить о том, что дети не просто «воспринимают» отца и мать или «подмечают» за ними, но что они в глубине души идеализируют их. мечтают о них и втайне жаждут видеть в них идеал совершенства***. Конечно, с самого начала ясно, что каждому ребенку предстоит пережить в этом вопросе некоторое разочарование, ибо совершенных людей нет, совершенство принадлежит одному Богу. Но это неизбежное разочарование не должно приходить слишком рано, оно не должно быть слишком острым и глубоким, оно не должно обрушиваться на ребенка в виде катастрофы. Тот час, когда ребенок утрачивает уважение к отцу или матери, — хотя бы никто не заметил этого крушения, хотя бы и сам ребенок пережил его в молчаливом разочаровании или даже отчаянии, — этот час обозначает собою духовную катастрофу семьи; и редкой семье удается оправиться впоследствии от этой катастрофы.
* Особенно вредною является дурная манера многих родителей брать ребенка к себе в кровать. По последствиям своим эта манера, может быть, еще вреднее жестоких телесных наказаний вроде порки.
** Особенно в крестьянском и вообще простонародном быту, где теснота помещения снимает все покровы целомудрия и подрывает в душах детей естественный пиетет к родителям Наука однажды откроет здесь душевный источник, из которого выросло самое постыдное человеческое ругательство, известное у многих народов
*** Это настроение глубоко и тонко изображено в «Подростке» и «Неточке Незвановой» Достоевского.
Словом, счастливый ребенок наслаждается в счастливой семье эротически чистой атмосферой. Для этого родителям необходимо искусство духовно-целомудреннойлюбви.
Второй особенностью здоровой семьи является атмосфера искренности.
Родители и воспитатели не должны лгать детям ни в каких важных, значительных обстоятельствах жизни. Всякую ложь, всякий обман, всякую симуляцию или диссимуляцию ребенок подмечает с чрезвычайной остротой и быстротой: и, подметив, впадает в смущение, соблазн и подозрительность. Если ребенку нельзя сообщить что-нибудь, то всегда лучше честно и прямо отказать ему в ответ или провести определенную границу в осведомлении, чем выдумывать вздор и потом запутываться в нем или чем лгать и обманывать, и потом быть изобличенным детской проницательностью. И не следует говорить так: «это тебе рано знать» или «этого ты все равно не поймешь»; такие ответы только раздражают в душе ребенка любопытство и самолюбие. Лучше отвечать так «я не имею права сказать тебе это; каждый человек обязан хранить известные секреты, а допытываться о чужих секретах неделикатно и нескромно». Этим не нарушается прямота и искренность и дается конкретный урок долга, дисциплины и деликатности...
Родителям и воспитателям совершенно необходимо понять, что переживает ребенок, встречая с их стороны ложь или обман. Ребенок прежде всего теряет непосредственное доверие к родителям; он наталкивается на стену неправды в них, и чем холоднее, изворотливее, циничнее преподносится ему эта неправда, тем ядовитее она оказывается для детской души. Поколебавшись в доверии, ребенок становится подозрителен и ждет новой лжи и обмана; он колеблется и в своем уважении к родителям. В силу естественной подражательности он начинает отвечать им тем же, постепенно замыкается от них и приучается сгм.лгатъ и обманывать. Это переносится ина других людей; у ребенка появляется склонность к хитрости и неверности вообще. В нем исчезает ясность и прозрачность души; он начинает жить сначала мелкими, а потом и крупными самообманами. Кризис доверия вызывает (рано или поздно) и кризис веры, ибо вера требует душевной цельности и искренности. Итак, все основы духовного характера приходят у ребенка в состояние кризиса или оказываются просто подорванными. В душе водворяется та атмосфера лукавства, притворства и малодушия, к которой человек постепенно привыкает настолько, что перестает замечать ее, а из этой атмосферы и вырастают потом все большие интриги и предательства.
Никогда из лживой, пролганной семьи не выйдет искренний, верный и мужественный человек; разве только в порядке от
вращения к своей семье и духовного преодоления ее наследия. Ибо ложь растлевает человека незаметно, незаметно проникая из невинных пустяков в глубину священных обстояний; и удержать ее действие на поверхности житейских пустяков могут тол fa-ко люди с уже сложившимся духовным характером, люди, уже утвердившиеся в Боге. И если в современном мире все кишит открытой ложью, обманом, неверностью, интригой, предательством и изменой своей родине, то это несчастье имеет свои корни в двух явлениях: во всеобщем религиозном кризисе и в атмосфере семейной лживости. Из семьи, где все построено на фальши и трусости, где сердце утратило искренность и мужество, в общество и в мир вступают только фальшивые люди. Но там, где в семье царит и ведет дух прямоты и искренности, там дети оказываются предрасположенными к честности и верности. Лживость в детской ядовита тем, что она приучает человека к нечестности наедине с собою и к подлости с другими.
Есть особое искусство правдивости и искренности, которое нередко требует от человека больших совестных напряжений внутри и большого такта в обхождении с людьми и, сверх того, всегда — мужества. Это искусство дается нелегко, но в здоровых и счастливых семьях оно процветает всегда.
Наконец, особенностью здоровой и счастливой семьи является спокойная, достойная дисциплина.
Такая дисциплина не может возникнуть из атмосферы родительского террора, от кого бы он ни исходил — от отца или от матери. Такая система террора, поддерживаемая криками и угрозами, моральным гнетом или телесными наказаниями, вызывает у здорового ребенка чувство возмущения, легко переходящее в отвращение, ненависть и презрение. Ребенок чувствует себя унижаемым и не может не возмущаться; эта система изливает на него поток оскорблений, и он не может не противостать им. Эти унижения и оскорбления он может, что называется, «проглатывать» и сносить молча; но его бессознательное никогда не изживет этих травм и не простит их родителям. Там, где семейная власть осуществляется угрозами и страхом, там на каждом шагу ощущается враждебная напряженность; там воцаряется система «защитного обмана» и лукавства; там оба поколения остаются, быть может, еще в состоянии пространственного рядом-жительства, но семья как живое, органическое единство, держащееся силою взаимной любви и доверия, оказывается разрушенной. Дети, униженные угрозами, наказаниями и вечным страхом, защищаются всеми средствами и постепенно приучаются, иногда сами того не замечая, к внутренней вседозволенности. И если эта атмосфера вседозволенности устанавливается в их отношении к родителям,
то что же можно будет ждать от них в их отношении к другим, посторонним людям? Восстание против родителей перевертывает в человеческом сердце все нормальные основы общежития — чувство ранга, идею свободно признанного авторитета, начала лояльности, верности, дисциплины, чувство долга и правосознание; и семейный террор оказывается одним из главных источников общественной деморализации и политической революционности. Семья становится школой вечного, несытого бунтарства; и проявления его могут стать фатальными в жизни народа и государства.
Настоящая, подлинная дисциплина есть по существу своему не что иное, как внутреннее самообладание, присущее самому дисциплинированному человеку. Она не есть ни душевный «механизм», ни так называемый «условный рефлекс». Она присуща человеку изнутри, душевно, органически; так что если в ней есть элемент «механизма» или «механичности», то дисциплина все-таки органически предписывается человеком самому себе. Поэтому настоящая дисциплина есть прежде всего проявление внутренней свободы, т. е. духовного самообладания и самоуправления. Она принимается и поддерживается добровольно и сознательно. Труднейшая часть воспитания и состоит в том, чтобы укрепить в ребенке волю, способную к автономному самообладанию. Способность эту надо понимать не только в том смысле, чтобы душа умела сдерживать и понуждать себя, но и в том смысле, чтобы это было ей нетрудно. Разнузданному человеку всякий запрет труден; дисциплинированному человеку всякая дисциплина легка: ибо, владея собой, он может уложить себя в любую, благую и осмысленную форму. И тогда владеющий собою способен повелевать и другими. Вот почему русская пословица говорит: «превысокое вла-детельство — собою владеть»...
Однако эта способность владеть собою, которая дается человеку тем труднее, чем страстнее и разностороннее его душа, не должна превращать внутреннюю жизнь в какое-то подобие тюрьмы или каторги. Поистине настоящая дисциплина и организация имеются лишь там, где, образно выражаясь, последняя капля пота, вызванная дисциплинирующим и организующим усилием и напряжением, стерта с чела или, еще лучше — где усилие было легко и напряжение совсем не вызвало ее. Дисциплина не должна становиться высшей или самодовлеющей целью: она не должна развиваться в ущерб свободе и искренности в семейной жизни; она должна быть духовным умением или даже искусством и не должна превращаться в тягостный догмат или в душевное каменение; она не
должна парализовывать любовь и духовное общение в семейной жизни*. Словом, чем незаметнее прививается детям дисциплина и чем менее она при соблюдении ее бросается в глаза, тем удачнее протекает воспитание. И если это достигнуто, то дисциплина удалась и задача разрешена.
И, может быть, для ее удачного разрешения лучше всего положить в основу самообладания свободный совестный акт.
Итак, есть особое искусство повеления и запрета, оно дается не легко. Но в здоровых и счастливых семьях оно цветет всегда.
Однажды Кант высказал о воспитании простое, но верное слово: «Воспитание есть величайшая и труднейшая проблема, которая может быть поставлена человеку». И вот эта проблема, действительно, раз навсегда поставлена огромному большинству людей. Разрешение этой проблемы, от которой всегда зависит будущность человечества, начинается в лоне семьи, и заменить семью в этом деле ничто не может: ибо только в семье природа дарует необходимую для воспитания любовь, и притом с такою щедростью, как нигде более. Никакие «детские сады», «детские дома», «приюты» и тому подобные фальшивые замены семьи никогда не дадут ребенку необходимого: ибо главной силой воспитания является то взаимное чувство личной незаменимости, которое связывает родителей с ребенком и ребенка с родителями связью единственной в своем роде — таинственной связью кров-нойлюбви. В семье и только в семье ребенок чувствует себя единственным и незаменимым, выстраданным и неотрывным, кровью от крови и костью от кости — существом, возникшим в сокровенной совместности двух других существ и обязанным им своей жизнью, личностью, раз навсегда приятною и милою во всем ее телесном — душевном — духовном своеобразии**. Это не может быть ничем заменено; и как бы трогательно ни воспитывался иной приемыш, он всегда будет вздыхать про себя о своем кровном отце и о своей кровной матери...
Именно семья дарит человеку два священных первообраза, которые он носит в себе всю жизнь и в живом отношении к которым растет его душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту, и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение. Горе человеку, у которого в душе нет места для этих зиждительных и ведущих первообразов, этих живых символов и в то же время творческих источников духовнойлюбви и духовной веры\ Ибо поддонные силы его души, не пробужденные и не взлелеян
* Этими крайностями нередко грешит английское воспитание, покоящееся на волевом подавлении эмоций.
** Ср. русскую поговорку: «Дитя хоть гнило, а отцу-матери мило».
ные этими благими, ангелоподобными образами, могут остаться в пожизненной скованности и мертвости.
Суровой и мрачной стала бы судьба человечества, если бы однажды в душах людей до конца иссякли эти священные источники. Тогда жизнь превратилась бы в пустыню, деяния людей стали бы злодеяниями, а культура погибла бы в океане нового варварства.
Эту таинственную связь человека со священными силами, или «прообразами», которые открываются ему в недрах его семьи и рода, с дивною силою почуял и выговорил Пушкин: один раз, в язычески-мифологической форме, именуя эти прообразы «пенатами», или «домашними божествами»; другой раз — в обращении к тому, что знаменует жилище семьи и священный прах предков:
.......Еще единый гимн —
Внемлите мне, пенаты! вам пою
Ответный гимн. Советники Зевеса...
Примите гимн, таинственные силы!.
Так, я любил вас долго! Вас зову В свидетели, с каким святым волненьем Оставил я людское стадо наше, Дабы стеречь ваш огнь уединенный, Беседуя один с самим собою. <Да,> Часы неизъяснимых наслаждений! Они дают нам знать сердечну глубь, В могуществе и в немощах сердечных Они любить, лелеять научают Не смертные, таинственные чувства, И нас они науке первой учат: Чтить самого себя. О, нет, вовек Не преставал молить благоговейно Вас, божества домашние .
Так, из духа семьи и рода, из духовного и религиозно осмысленного приятия своих родителей и предков родится и утверждается в человеке чувство собственного духовного достоинства, эта первая основа внутренней свободы, духовного характера и здоровой гражданственности. Напротив, презрение к прошлому,
* Этот неоконченный набросок я привожу с некоторыми сокращениями. Курсив Пушкина. Ср. еще у Пушкина великолепное стихотворение «Домовой». Комментарий к нему читатель найдет в № 9 журнала «Русский Колокол».
к своим предкам и, следовательно, к истории своего народа, порождает в человеке безродную, безотечественную, рабскую психологию. А это означает, что семья есть первооснова родины
Во втором отрывке Пушкин выражает эту мысль с еще большею точностью и страстностью:
Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам. На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека, — Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва, Без них наш тесный мир — пустыня, Душа — алтарь без божества.
Так, семья есть первичное лоно человеческой духовности, а потому и всей духовной культуры, и прежде всего — родины.
деть VII
Обретение Родины
О РОДИНЕ
1. Проблема
В судорогах бесплодного и разъедающего сомнения современный человек, пытаясь отвергнуть веру, свободу, совесть и семью, не останавливается и перед драгоценным началом родины. И, странное дело, в этом вопросе, как и в некоторых других, соблазнительное сомнение, исходящее от врагов духа и христианства, встречает своеобразный отклик в пределах самого христианства. Старые, изжитые и отвергнутые христианскими исповеданиями идеи, идеи первых веков, оживают или всплывают на поверхность сознания и тем увеличивают современную смуту и шатание умов.
Кто эти сомневающиеся отрицатели родины и что мы должны им противопоставить?
Современный христианин, сомневающийся в «допустимости» родины, по-видимому, имеет в виду следующее.
Христианская любовь, говорит он себе, учит нас видеть брата в каждом человеке; все люди всех стран и народов имеют единого Небесного Отца и призваны, став пред Его Лицом, искренно и последовательно признавать свое вселенское братство. А это означает, что христианин рожден быть гражданином вселенной; и высшее призвание его состоит в том, чтобы отвергнуть всякие условные деления людей — по сословиям, странам, классам, национальностям, расам и т. д. Все эти перегородки должны пасть в душе христианина, а в этом падении сокрушится и деление человечества на различные «родины» и «отечества». Разве дело не обстоит так, что каждый личный человеческий дух во вселенной есть как бы живое жилище Божие или некий алтарь для Его священного пламени? Разве человечество, с точки зрения христианской, не есть братская община, каждый член которой рожден для веры и добрых дел и потому имеет неотъемлемое право получить внешнюю свободу и воспользоваться ею для внутреннего самоосвобождения? Словом — разве христианин не рожден для интернационализма? Разве он имеет основание серьезно и последовательно говорить о различных национальностях, причислять себя к одной из них и служить ей преимущественно или даже исключительно? Нет, патриотизм и национализм решительно несовместимы с духом христианства... Отечество христианина
на земле — вселенная; и христианин не имеет права иметь сверх того или наряду с этим еще особую, земную родину, любить ее, строить ее и бороться за нее с решимостью и мужеством...
Наряду с такими христианами, которые, может быть, рассуждают искренно, хотя и поверхностно, и наряду с такими нехристи-анами, которые поддерживают первых из лицемерно-гуманных соображений, — в наши дни имеется еще неопределенное множество людей, которые подтачивают начала «родины» и «национализма» из побуждений нигилистических. Современный мир все более пронизывается интернационалистическими организациями; одни из них считают принцип национал-патриотизма «устаревшим» и «реакционным», а потому не заслуживающим поддержки; другие отвергают этот принцип последовательно и агрессивно, считая его по существу «вредным и нетерпимым предрассудком». Замечательно, что такой интернационализм захватывал в течение XIX и XX веков все более широкие круги. Появились, например, организации, которые поставили себе задачу «преодолеть» и «устранить» национальные языки и заменить их единым, искусственно выдуманным «синтетическим» языком («волапюк» и «эсперанто»). Разрослись и окрепли так называемые «рабочие интернационалы», утверждающие, что солидарность хозяйственно-производящих классов должна весить больше, чем национально-патриотическая или государственная сопринадлежность людей. Сложилось и крайнее, большевистское воззрение, согласно которому господство должно принадлежать «социально-революционному» принципу, а этот принцип требует, чтобы сознательный пролетарий предавал свою «родину» и в мирное время, и особенно во время войны, работая на ее разложение и на победу рабочего интернационала*. И замечательно, что сторонникам большевистского нигилизма от времени до времени удается приобретать себе сторонников и в христианском лагере.
В противовес этим неверным и соблазнительным учениям мы должны поставить основную проблему открыто и недвусмысленно и спросить себя: можно ли обосновать и оправдать начало родины духовно, перед Лицом Божиим и перед лицом христианства?
С самого начала ясно, что жизнь человечества на земле подчинена пространственно-территориальной необходимости: земля велика и человечество разбросано по ее лицу. Оно не может и никогда не сможет победить эту пространственную разъединенность и управляться из единого мирового центра. Условия расстояний, климата, расы, хозяйства, государственного управления и законов,
‘ Читатель найдет доказательство этого в вышедшей недавно книге Alfred Norman. Bolschewistische Weltmachtpolitik. — Gott-helf — Verlag, Bern. См. особенно главы 13,14,15,16,17. Книга построена целиком на исследовании первоисточников.
языка и обычая, вкусов и душевного уклада—действуют на людей различающе и обособляюще (дифференциация), и человечеству приходится просто принимать эти условия жизни и приспособляться к ним. Идея сделать всех людей одинаковыми во всех отношениях и подчинить их единой всеведущей и всеорганизующей власти есть идея бредовая, больная, и потому она не заслуживает серьезного опровержения. Культурный человек должен жить и трудиться оседло; и эта оседлость, с одной стороны, прикрепляет человека и отделяет его от далеко живущих, с другой стороны, заставляет его войти в организованные волевые союзыместного характера. В результате этого мир распадается на пространственно раздельные государства, которые не могли бы слиться в одно единое государство даже при самом сильном и добром желании. Силою инстинкта самосохранения, подобия, пространства, взаимной защиты, географических рубежей и оружия — люди объединяются в правовые, властвующие союзы и сживаются друг с другом; подобие родит единение, а долгое единение усиливает подобие; одинаковый климат, интерес, образ жизни и труда, наряд и обычай поддерживают это уподобление и завершают правовую и бытовую спайку. Государственная власть закрепляет все это единою системою законов и общественной дисциплиной. Психологически говоря, в основе всего этого лежит, конечно, инстинкт самосохранения и далее — краткость личной жизни и ограни-ченностъличной силы в труде и творчестве. Человеку нет времени для долгого выбора, на него давит суровая необходимость — он вынужден примкнуть к одной, единой и единственной, хорошо организованной группе и искать у нее, именно у нее и только у нее, обороны, помощи и суда. А примкнуть к одной группе значит противопоставить себя остальным. Общественная солидарность и общественная противоположность связаны друг с другом и обусловлены друг другом, как, например, свет и тьма. Беда, опасность и страх научают человека солидаризироваться со своими ближними; из этой солидарности возникают первые проблески правосознания, «верности» и «патриотического настроения». И, таким образом, «патриотизм» оказывается, по-ви-димому, неизбежным, целесообразным и жизненно полезным...
Однако наша задача совсем не сводится к тому, чтобы установить инстинктивную необходимость и эмпирическую целесообразность «патриотического настроения». Любовь к родине должна быть нами духовно оправдана и обоснована, а все то, что мы доселе установили, есть не более, чем ряд соображений о жизненно-бытовой пользе патриотизма. Мы совсем еще не подошли к последнему и глубочайшему источнику любви к родине, который действительно даетхристианину основание и право поставить свой патриотизм на первое место, а вселенскому гражданству отвести
второе, осуществляя это и чувством, и волею, и поступками. Дело не в том, что нам навязывают природа и история; они могут навязывать нам и духовно неприемлемые вещи (напр., людоедство в эпоху голода, панику на тонущем корабле и т. п.). Дело в том, чтобы вскрыть духовную и религиозную правоту патриотизма. А для этого необходимо показать, что любовь к родине есть творческий акт духовного самоопределения, верный перед Лицом Божиим и потому благодатный. Только при таком понимании патриотизм и национализм могут раскрыться в их священном и непререкаемом значении; только при таком освещении инстинктивная необходимость и историческая целесообразность — все эти соображения об опасности, солидарности и взаимной обороне — получат свое главное и последнее обоснование.
Есть на свете предметы, которые можно воспринять только глазом (например, свет или цвет); есть такие предметы, которые доступны только уху и слуху (например, звук, пение, музыка); подобно этому есть такие предметы, которые могут быть восприняты, пережиты и приобретены толъколюбовью (будь то любовь чистого инстинкта или любовь, прокаленная духом). К таким предметам принадлежит иродина С человеком, у которого нет реального, живого опыта в этой сфере, который никогда не ощущал сердцем, что есть для него родина, трудно было бы даже беседовать на эту тему
По-видимому, люди приобретают этот патриотический опыт без всяких поисков и исследований: он приходит как бы сам собою. Люди инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, к природе, к соседям и культуре своей страны, к быту своего народа. Но именно поэтому духовная сущность патриотизма остается почти всегда за порогом их сознания. Тогда любовь к родине живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, пока нет надлежащего раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного быта), то вспыхивает слепою и противоразум-ною страстью, пожаром проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способного заглушить в душе и голос совести, и чувство меры и справедливости, и даже требования элементарного смысла Тогда патриотизм оказывается слепым аффектом, который разделяет участь всех слепых и духовно непросветленных аффектов: он незаметно вырождается и становится злой и хищной страстью —презрительной гордыней, буйной и агрессивной ненавистью, и тогда оказывается, что сам «патриот» и «националист» переживает не творческий подъем, а временное ожесточение и, может быть, даже озверение. Оказывается, что в сердце человека живет не любовь к родине, а странная и опасная смесь из воинственного шовинизма и тупого национального самомнения или же из слепого
пристрастия к бытовым пустякам и лицемерного «великодержавного» пафоса, за которым нередко скрывается личная или классовая корысть. Из такой атмосферы, подкрепленной чисто коммерческими интересами (сбыт товаров!), и возникает нередко та форма национализма, которая решительно нежелаетсчитаться ни справами, ни с достоинствами других народов и всегда готова возвеличить пороки своего собственного. Люди, болеющие таким «патриотизмом», не знают и не постигают — ни того, что они «любят», ни того, за что они это «любят». Они следуют не духовно-политическим мотивам, из которых только и может родиться политика истинного великодержавнаа стадному или массовому инстинкту во всей его слепоте; и жизнь их «патриотического» чувства колеблется, как унастоящего животного, между бесплодной апатией и хищным порывом. Конечно, надо признать, что патриотизм слепого инстинкта лучше, чем отсутствие какой бы то ни было любви к родине; и возражать против этого могли бы только фанатики интернационализма. Однако ныне пришло время, когда такой, чисто инстинктивный патриотизм, сводящийсяунекоторыхнародовксамой наивной националистической гордыне и к самой откровенной жажде завоеваний, готовит человеку неизмеримые опасности и беды; ныне пришло время, когда человечество особенно нуждается в духовно осмысленном и христиански облагороженном патриотизме, который совмещал бы страстную любовь и жертвенность смуд-рым трезвением и чувствоммеры, ибо только такой патриотизм сумеет разрешить целый ряд ответственных проблем, стоящих перед современным человечеством... Нам, ищущим путей духовного обновления, не может быть безразлично, какой патриотизм мы утверждаем и какой национализм мы насаждаем.
Но, противопоставляя «слепоинстинктивный» патриотизм «духовному», мы нисколько не отрицаем и не умаляем силу инстинкта в отношении к «родине» и «нации». Напротив. Здесь осуждается отнюдь не «инстинкт»—это было бы беспочвенно и нелепо, а только слепой, духовно не освященный, противодуховный инстинкт. Нельзя человеку жить на земле без инстинкта, без этой таинственноцелесообразной, органически-мудрой, бессмысленно-страстной силы, от Бога дарованной и от природы нам присущей — силы, строящей и личное здоровье, и приспособление к природе, и хозяйственный труд, и брак, и жизнь семьи, и историю народа. В здоровой жизни человека инстинкт и дух вообще не оторваны друг от друга: но степень их примиренности, взаимной согласованно-
* Великодержавие определяется не размером территории и не числом жителей, но способностью народа и его правительства брать на себя бремя великих международных задач и творчески справляться с этими задачами. Великая держава есть та, которая, утверждая свое бытие, свой интерес, свою волю, вносит творческую,устрояющую, правовую идею во весь сонм народов, во весь «концерт» народов и держав.
сти и взаимного проникновения бывает неодинакова. Инстинкт, не приемлющий духа, — слеп, самоволен, безудержен и чаще всего порочен; он идет к крушению. Дух, не приемлющий инстинкта, — подорван в своей силе, теоретичен, бесплоден и чаще всего нежизненен; он идет к истощению. Инстинкт и дух призваны к взаимному приятию: так, чтобы инстинкт получил правоту и форму духовности, а дух получил творческую силу инстинктивности. Так и в патриотизме. Патриотизм есть любовь — не просто «предпочтение», «склонность» или «привычка». И если эта любовь не «пустое слово» и не «поза», то она есть инстинктивная прилепленность к родному. Поэтому патриотизм всегда инстинктивен. Но он не всегда духовен. И то, что должно быть достигнуто, есть взаимное проникновение инстинкта и духа в обращении к родине. Инстинктивная страсть должна креститься огнем духа; духовное избрание, предпочтение и самоопределение должны получить всю силу инстинктивной страстности. Это будет любовь зрячая и оформляющая: это будет духовность таинственно-целесообразная и страстномудрая: это будет истинный патриотизм...
Как же это достигается и осуществляется?
Поучительно отметить, что человек может прожить всю жизнь в пределах своего государства и «не найти» своей родины, и не полюбить ее, так что душа его будет до конца патриотически пустынна и мертва; и эта неудача или личная неспособность приведет его к своеобразному духовному сиротству, к творческой беспочвенности и бесплодности. В современном мире есть множество таких несчастных безродных людей, которые не могут любить свою родину потому, что инстинкт их живет лично-эгоистическим или эгоистически-классовым интересом, а духовного органа они лишены. И вот идея родины ничего не говорит их душе. Идея родины предполагает в человеке живое начало духовности. Родина есть нечто от духа и для духа, а в них — духа нет: он или безмолвствует, или мертв. То, во что они верят, есть материя, тогда как начало духа отринуто или поругано; или то, чего они хотят, есть новое распределение материальных благ, а все духовное им безразлично или враждебно*. Орган духа атрофирован в них, как же они могут найти и полюбить родину? Ибо обретение родины есть акт духовного (хотя бы смутно-духовного, хотя бы духовно-инстинктивного) самоопределения, предполагающий, что сам человек живет духом и что духовный орган в нем не атрофиро
* Ср. у Карла Маркса: «Законы, мораль, религия суть для него (для пролетария) сплошные буржуазные предрассудки, за которыми прячутся сплошь буржуазные интересы». «Рабочие не имеют родины» «Коммунистический манифест», главы «Буржуа и пролетарий» и «Пролетарий и коммунисты».
ван; и этот акт самоопределения указывает ему его собственные духовные истоки и тем самым развязывает и оплодотворяет его собственное духовное творчество. Итак, духовно-мертвый человек не будет любить свою родину и будет готов предать ее потому, что ему нечем воспринять ее и найти ее он не может. Бремя этой неспособности и этого духовного бессилия такие несчастные люди обычно несут в течение всей своей жизни.
Но бывает и так, что человек, в действительности не нашедший свою родину и не сумевший ее полюбить, все-таки всю жизнь ошибочно принимает и выдает себя за патриота. Это означает, что он прилепился своею любовью не к родине, а к какому-то «суррогату» ее, который он по ошибке принимает за родину. Таким «суррогатом» можетбьпъ любое из перечисленных нами естественных и исторических условий, составляющих обстановку народной жизни: стоит только взять это эмпирическое условие жизни как нечто самостоятельное, оторвать его от духовного смысла и священного значения — и заблуждение возникает само собой. Нечто, взятое само по себе, в отрыве отдуха, — ни территория, ни климат, ни географическая обстановка, ни пространственное рядом-жи-тельство людей, ни расовое происхождение, ни привычный быт, ни хозяйственный уклад, ни язык, ни формальное подданство—ничто не составляет Родину, не заменяет ее и не любится патриотической любовью. Ибо все это, взятое в отдельности, подобно телу без души или колыбели без ребенка, или раме без картины; все это есть не более, чем жилище родины, ее орудие, ее средство, ссматериал, но не она сама. Все это необходимо ей; все это через нее и через ее жизнь получает высший смысл и священное значение, но она сама больше всего этого; она этим не исчерпывается и к этому не сводится; и потому она может жить и осуществляться — и при известных изменениях в ее жилище или в ее материале. Родина нуадается в территории, но территория не есть родина. Родине необходима географическая и климатическая обстановка, но похожие условия климата и географической обстановки можно найти и в другой стране и т. п. Ни одно из этих условий жизни, взятое само по себе, не может указать человеку его родину: ибо родина есть нечто от духа и для духа. И обратно: патриотизм может сложиться при отсутствии любого из этих содержаний. Есть люди, никогда не бывавшие в России и еле говорящие по-русски, но сердцем поющие и трепещущие вместе с Россией; и обратно: есть люди, русские по крови, происхождению, месту пребывания, быту, языку и государственной принадлежности— и предающие Россию, ее судьбу, ее жилище, ее тело, ее колыбель и ее самое во славу материализма и интернационализма.
И вот, чтобы постигнуть сущность родины, необходимо уйти в глубь своего сердца, проверяя и удостоверяясь, и обнять взором весь объем человеческого духовного опыта.
Долгая жизнь на чужбине не делает ее родиной, несмотря на сложившуюся привычку к чужому быту и природе и даже на принятие нового подданства, — все это остается бессильным, пока человек не сольется духом с дотоле чужим ему народом. Признак расы и крови не разрешает вопроса о родине: например, армянин может быть русским патриотом, а может быть и турецким патриотом, но может быть и армянским сепаратистом, революционным агитатором и в России, и в Турции. А в великую войну за Россию патриотически дрались на фронте представители многих десятков российских национальностей*. У людей смешанной крови происхождение бессильно разрешить вопрос о родине. Формальная принадлежность к какому-нибудь государству не только не обеспечивает патриотическое настроение у граждан, а, наоборот, в случае завоевания или произвольного проведения границ создает недобровольное подданство и вызывает в душах упорное антипатриотическое напряжение...
Все это означает, что родина не определяется и не исчерпывается этими содержаниями; она больше и глубже, чем каждое из них, взятое в отдельности, и чем все они вместе.
Французский аристократ, граф Шамиссо де Бонкур**, родом из Шампани, братья которого были лейб-пажами Людовика XVI, спасается со своей семьей в 1790 году от революционного террора в Германию, срастается с нею духовно и становится одним из глубочайших немецких лирических и патриотических поэтов. Швейцарские патриоты говорят на четырех различных языках: немецком, французском, итальянском и лодинском. Лорд Биконсфильд (д’Израэли) был евреем и английским патриотом. Э. Ст. Чемберлен был англичанином и патриотом германской родины. Славный русский генерал 1812 года, Бенигсен, был немцем по крови и русским патриотом. А ныне, в эпоху русского эмигрантского рассеяния, во всех государствах мира найдутся полноправные граждане, духовно верные России... И именно в этой связи осмысливается поступок английского Индепендента Роджера Вильямса29, который, видя себя религиозно теснимым в Англии, порывает со всем, что обычно считается родиной, и отправляется за океан создавать себе новую родину — где английский дух сочетался бы со свободой вероисповедания...
Чем же определяется родина и как находит ее человек?
* Перепись 1926 года насчитала в России до 128 различных национальностей.
** Его настоящая фамилия звучит так: Comte de Chamisso, Vicomte d’Ormond, Seigneur de Boncourt, Magnieux, Tournoison, Leviel, Dampierre Его владения числились бы теперь по департаменту Марны
2. Обретение родины
Человек находит родину не просто инстинктом, но инстинктивно укорененным духом, и имеет ее любовью. А это означает, что вопрос о родине разрешается в порядке самопознания и добровольного избрания.
Можно принудительно и формально причислить человека или целое множество людей к какому-нибудь государству. Можно наказывать и казнить людей за формально совершенную измену. Но заставить человека любить какую-нибудь «страну», как свою родину, или быть националистом чужой ему нации — невозможно. Любовь возникает сама, а если она сама не возникает, то ее не будет; она не вынудима, она есть дело свободы, внутренней свободы, человеческого самоопределения.
Но этого мало. Она есть дело его духовной свободы, добровольного, духовного самоопределения. Как это понимать?
Установим прежде всего, что природные, исторические, кровные и бытовые связи, которые сами по себе могут и не указывать человеку его родину, могут и должны приобретать то духовное значение, которое делает их достойным предметом патриотической любви. Тогда они наполняются внутренним, священным значением,ибо человеквоспринимаетчерез них какбытело или жилище, или колыбель, или орудие и средство, или материал для духа, для своего духа, но не только для своего: для духа своих предков и своего народа. Все перечисленные нами внешние условия жизни становятся тогда верным знаком национального духа и необходимым ему материалом. Вот почему русскому сердцу не милы степи Пампасов и тундры Канады, но малороссийские степи и архангельские тундры могут заставить его сердце забиться. Не кровь сама по себе решает вопрос о родине, а кровь как воплотительница и носительница духовной традиции. Не территория священна и неприкосновенна, ибо императорская Россия уступила добровольно Аляску и никто не видел в этом позора, но территория, необходимая для расцвета русской национальной духовной культуры, всегда будет испытываться русскими патриотами как священная и неприкосновенная.
Итак, вопрос решается инстинктивно укорененными духом илюбовью: духовнойлюбовъю или, точнее и полнее, —любовью к национальному духу.
Так, для истинного патриотизма характерна не простая приверженность к внешней обстановке и к формальным признакам быта, но любовь к духу, укрывающемуся в них и являющемуся через них, к духу, который их создал, выработал, выстрадал или наложил на них свою печать. Важно не «внешнее», само по себе, а «внутреннее», не видимость, а сокровенная и явленная сущность.
Важно то, что именно любится в любимом и за что оно любится. И вот, истинным патриотом будет тот, кто обретет для своего чувства предмет действительно стоящий самоотверженной любви и служения, предмет, который прежде всего «по хорошу мил», а потом уже и «по милу хорош».
Это можно выразить так, что истинный патриот любит свое отечество не обычным сильным пристрастием, мотивированным чисто субъективно и придающим своему предмету мнимую ценность («по милу хорош»): «мне нравится моя родина, значит, она для меня и хороша...» Он любит ее духовною, зрячею любовью; не только любит, но ещеутверждает совершенство любимого: «моя родина прекрасна, на самом деле прекрасна — перед Лицом Божиим; как же мне не любить ее?!» Это значит, что истинный патриот исходит из признания действительного, не мнимого, объективного достоинства, присущего его родине, иными словами: он любит ее духовною любовью, в которой инстинкт и дух суть едино.
Любить родину значит любить нечто такое, что на самом деле заслуживает любви; так что любящий ее — прав в своей любви и служащий ей — прав в своем служении; и в любви этой, и в служении этом — он находит свое жизненное самоопределение и свое счастье. Предмет, именуемый родиною, настолько сам по себе, объективно и безусловно прекрасен, что душа, нашедшая его, обретшая свою родину, не может не любить ее...
Человек не может не любить свою родину; если он не любит ее, то это означает, что он ее не нашел и не имеет. Ибо родина обретается именно духом, духовным гладом, волею к божественному на земле. Кто не голодает духом (ср. у Пушкина «Духовной жаждою томим...»), кто не ищет божественного в земном, тот может и не найти своей родины: ибо у него может не оказаться органа для нее. Но кто увидит и узнает свою родину, тот не может не полюбить ее. Родина есть духовная реальность. Чтобы найти ее и узнать, человеку нужна личная духовность. Это просто и ясно: родина воспринимается именно живым и непосредственным духовным опытам; человек, совсем лишенный его, будет лишен и патриотизма.
Духовный опыт у людей сложен и по строению своему многоразличен; он захватывает и сознание человека и бессознательноинстинктивную глубину души: одному говорит природа или искусство родной страны; другому—религиозная вера его народа; третьему — стихия национальной нравственности; четвертому — величие государственных судеб родного народа; пятому—энергия его благородной воли; шестому — свобода и глубина его мысли и т. д. Есть патриотизм, исходящий от семейного и родового чувства, с тем чтобы отсюда покрыть всю ширину и глубину, и энергию национального духа и национального бытия*. Но есть патриотизм,
* См. стихотворения Пушкина, приведенные в конце предыдущей главы
исходящий от религиозного и нравственного облика родного народа, от его духовной красоты и гармонии, с тем чтобы отсюда покрыть все дисгармонии его духовного смятения. Таку Тютчева:
Эти бедные селенья.
Эта скудная природа — Край родной долготерпенья, Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя 30.
Есть патриотизм, исходящий от природы и от быта, презирающий в них некий единый духовный уклад и лишь затем уходящий к проблемам всенародного размаха и глубины. Так, у Лермонтова («Отчизна»):
Люблю отчизну я, но странною любовью, Не победит ее рассудок мой!
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой, Ни темной старины заветные преданья — Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам — Ее полей холодное молчанье, Ее лесов дремучих колыханье, Разливы рек ее, подобные морям; Проселочным путем люблю скакать в телеге И, взором медленно пронзая ночи тень, Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз, И на холме, средь желтой нивы, Чету белеющих берез.
* О смятении, и дисгармонии см. стихотворения Тютчева: «Безумие», «О чем ты воешь», «День и ночь», «О, вещая душа моя...» и др. Нет никакого сомнения в том, что эти созерцания и образы почерпнуты поэтом из русского, всенародно-национального духовного опыта и высказаны им не только от себя и за себя, но и за весь народ.
С отрадой, многим незнакомой, Я вижу полное гумно, Избу, покрытую соломой, С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым, Смотреть до полночи готов На пляску с топаньем и свистом, Под говор пьяных мужичков*31.
Но есть иной патриотизм, исходящий от духовной отчизны, сокровенной и «таинственной», внемлющий «иному гласу», созерцающий «грань высокого призванья» и «окончательную цель», с тем чтобы постигать и любить быт своего народа с этой живой, метафизической высоты. Таков граф А. К Толстой («И. С. Аксакову»):
Судя меня довольно строго, В моих стихах находишь ты, Что в них торжественности много И слишком мало простоты. Так В беспредельное влекома, Душа незримый чует мир, И я не раз под голос грома, Быть может, строил мой псалтырь. Но я не чужд и здешней жизни; Служа таинственной отчизне, Я и в пылу душевных сил О том, что близко, не забыл. Поверь, и мне мила природа И быт родного нам народа;
Его стремленья я делю И все земное я люблю, Все ежедневные картины, Поля, и села, и равнины, И шум колеблемых лесов, И звон косы в лугу росистом, И пляску с топаньем и свистом Под говор пьяных мужичков’, В степи чумацкие ночлеги, И рек безбережный разлив, И скрип кочующей телеги, И вид волнующихся нив; Люблю я тройку удалую, И свист саней на всем бегу, На славу кованную сбрую.
* К проблемам всенародного размаха и глубины Лермонтов уходит, напр., в стихотворениях «Смерть поэта», «Бородино», «Опять народные витии», «Новгороду», «Песнь про царя Ивана Васильевича...» и др.
И золоченую дугу;
Люблю тот край, где зимы долги, Но где весна так молода, Где вниз по матушке по Волге Идут бурлацкие суда;
И все мне дороги явленья, Тобой описанные, друг, Твои гражданские стремленья И честной речи трезвый звук. Но все, что чисто и достойно, Что на земле сложилось стройно, Для человека то ужель, В тревоге вечной мирозданья, Есть грань высокого призванья И окончательная цель?
Нет, в каждом шорохе растенья И в каждом трепете листа Иное слышится значенье. Видна иная красота!
Я в них иному гласу внемлю И, жизнью смертною дыша, Гляжу с любовию на землю, Но выше просится душа; И что ее, всегда чаруя, Зовет и манит вдалеке, О том поведать не могу я На ежедневном языке.
И нет сомнения, что око, привыкшее к созерцанию непреходящего, легче обретет вечные красоты и глубины в душе своего народа.
Итак, нет единого, для всех людей одинакового пути к родине. Один идет из глубины инстинкта, от той священной купины духовной, которая горит и не сгорает в его бессознательном; другой идет от сознательно-духовных созерцаний, за которыми следует, радуясь и печалясь, его инстинкт. Один начинает от голоса «крови» и кончает религиозной верой; другой начинает с изучения и кончает воинским подвигом. Но все духовные пути, как бы велико ни было их различие, ведут к ней. Патриотизм у человека науки будет иной, чем у крестьянина, у священника, у художника; имея единую родину, все они будут иметь ее — и инстинктом, и духом, и любовью и все же — каждый по-своему. Но человек, духовно мертвый, не будет иметь ее совсем. Душа, религиозно-пустынная и государственно-безразличная, бесплодная в познании, мертвая в творчестве добра, бессильная в созерцании красоты, с совершенно неодухотворенным инстинктом, душа, так сказать, «духовного идиота» — не имеет духовного опыта; и все, что есть
дух, и все, что есть от духа, остается для нее пустым словом, бессмысленным выражением; такая душа не найдет и родины, но, в лучшем случае, будет пожизненно довольствоваться ее суррогатами, а патриотизм ее останется личным пристрастием, от которого она, при первой же опасности, легко отречется.
Иметь родину значит любить ее, но не тою любовью, которая знает о негодности своего предмета и потому, не веря в свою правоту и в себя, стыдится и себя, и его, и вдруг выдыхается от «разочарования» или же под напором нового пристрастия. Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное; которая живым опытом (может быть, вполне «иррациональным») испытала объективное и безусловное достоинство этого священного — и узнала его в святынях своего народа. Такой человек реально знает, что любимое им есть нечто прекрасное передЛицомБожиим, что оно живет в душе его народа и творится в ней; и огонь любви загорается в таком человеке от одного простого, но подлинного касания к этому прекрасному. Найти родину значит реально испытать это касание и унести в душе загоревшийся огонь этого чувства; это значит пережить своего рода духовное обращение, которое обязывает к открытому исповеданию; это значит открыть в предмете безусловное достоинство действительно и объективно ему присущее, и прилепиться к нему волею и чувством, и в то же время открыть в самом себе беззаветную преданность этому предмету и способность — бескорыстно радоваться его совершенству, любить его и служить ему. Иными словами, это значит — соединить свою жизнь с его жизнью и свою судьбу с его судьбою, а для этого необходимо, чтобы инстинкт человека приобрел духовную глубину и дар духовной любви.
Вот этот процесс я и обозначаю словами: в основе патриотизма лежит акт духовного самоопределения.
Человек вообще определяет свою жизнь тем, что находит себелюбимый предмет; тогда им овладевает новое состояние, в котором его жизнь заполняется любимыми содержаниями, а он сам прилепляется к их источнику и проникается тем, что этот источник ему несет. При этом истинная любовь дает всегда способность к самоотвержению, ибо она заставляет человека любить свой предмет больше себя.
И вот, когда человек так воспринимает духовную жизнь и духовное достояние своего народа, то он обретает свою родину и сам становится настоящим патриотом: он совершает акт духовного самоопределения, которым он отождествляет в целостном и творческом состоянии души свою судьбу с духовной судьбою своего народа, свой инстинкт с инстинктом всенародного самосохранения.
Духовное сокровище, именуемое родиною, не исчерпывается душевными состояниями людей; и все же оно прежде всего живет в них, в душах, и там должно быть найдено. Тот, кто чувствует себя в вопросе о родине неопределенно и беспомощно, тот должен обратиться прежде всего ксвоему собственному духу иузнать в своем собственном духовном опыте—духовное лоно своего народа (акт патриотического самопознания). Тогда он, подобно сказочному герою, припавшему к земле ухом, услышит свою родину; он услышит, как она в его собственной душе вздыхает и стонет, поет, плачет и ликует; как она определяет и направляет, и оплодотворяет его собственную личную жизнь. Он вдруг постигнет, что его личная жизнь и жизнь его родины суть в последней глубине нечто единое и что он не может не принять судьбу своей родины, ибо она так же неотрывна от него, как он от нее: и в инстинкте, и в духе.
Однако родина живет не только в душах ее сынов. Родина есть духовная жизнь моего народа; в то же время она есть совокупность творческих созданий этой жизни; и, наконец, она объемлет и все необходимые условия этой жизни — и культурные, и политические, и материальные (и хозяйство, и территорию, и природу). То, что любит настоящий патриот, есть не просто самый «народ» его, но именно народ, ведущий духовную жизнь, ибо народ духовно разложившийся, павший и наслаждающийся нечистью, не есть сама родина, но лишь ее живая возможность («потенция»), И родина моя действительно («актуально») осуществляется только тогда, когда мой народ духовно цветет, достаточно вспомнить праведный, гневный пафос иудейских пророков-обличителей. Истинному патриоту драгоценна не просто самая «жизнь народа» и не просто «жизнь его в довольстве», но именно жизнь подлинно духовная и духовно-творческая; и поэтому, если он когда-нибудь увидит, что народ его утоп в сытости, погряз в служении мамону и от земного обилия утратил вкус к духу, волю и способность к нему, то он со скорбью и негодованием будет помышлять о том, как вызвать духовный голод в этих сытых толпах павших людей. Вот почему и все условия национальной жизни важны и драгоценны истинному патриоту—не сами по себе: и земля, и природа, и хозяйство, и организация, и власть, — но как данные для духа, созданные духом и существующиеради духа.
Вот в чем состоит это священное сокровище — родина, за которое стоит бороться и ради которого можно и должно идти и на смерть. Здесь все определяется не просто инстинктом, но глубже всего и прочнее всего — духовною жизнью, и через нее все получает свое истинное значение и свою подлинную ценность. И если когда-нибудь начнется выбор между частью территории и пробуждением народа к свободе и духовной жизни, то истинный патриот не будет колебаться, ибо нельзя делать из территории или
хозяйства, или богатства, или даже простой жизни многих людей некий фетиш и отрекаться ради него от главного и священного — от духовной жизни народа.
Именно духовная жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться за него и погибнуть за него. В ней сущность родины, та сущность, которую стоит любить больше себя, которою стоит жить именно потому, что за нее стоит и умереть. С нею действительно стоит слить и свою жизнь, и свою судьбу, потому что она верна и драгоценна передЛгщомБожиим.р^овная жизнь моего народа и создания ее суть не что иное, какподлинноеи живое Богу служение (богослужение!), котороедолжны чтить и охранять и все другие народы. Это живое Богу служение священно и оправданно само по себе и для меня; но не только для меня и для всего моего народа, но не только для моего народа, для всех и навеки, для всех людей и народов, которые живут теперь и когда-нибудь будут жить. И если бы кто-нибудь захотел убедиться на историческом примере, что духовная жизнь иных народов действительно чтится всеми людьми через века, то ему следовало бы только подумать о «ветхом завете», о греческой философии и греческом искусстве, о римском праве, об итальянской живописи, о германской музыке, о Шекспире и о русской изящной литературе XIX века...
Соединяя свою судьбу с судьбою своего народа — в его достижениях и в его падении, в часы опасности и в эпохи благоденствия, — истинный патриот «отождествляет себя инстинктом и духом не с множеством различных и неизвестных ему «человеков», среди которых, наверное, есть и злые, и жадные, и ничтожные, и предатели; он не сливается и с жизнью темной массы, которая в дни бунта бывает, по бессмертному слову Пушкина, «бессмысленна и беспощадна»; он не приносит себя в жертву корыстным интересам бедной или роскошествующей черни (ибо чернью называется вообще жадная, бездуховная, противогосударственная масса, не знающая родины или забывающая ее); он отнюдь не преклоняется перед «множеством» только потому, что на его стороне количество, и не считает, что большинство всегда одарено мудрою и безошибочною волею. Нет, он сливает свой инстинкт и свой дух с инстинктом и с духам своего народа; и духовности своего народа он служит жизнью и смертью, ибо его душа и его тело естественно и незаметно следуют за совершившимся отождествлением. Подобно тому, как тело человека живет только до тех пор, пока оно одушевлено, так душа истинного патриота может жить только до тех пор, пока она пребывает в творческом единении с жизнью своего народа. Ибо между ним и его народом устанавливается не только общение или единение, но обнаруживается прямое единство в инстинкте и в духе.
И это единство он передает многозначительным и искренним словом «мы».
Такое отождествление не может быть создано искусственно, произвольно или преднамеренно. Можно желать его и не достигнуть, можно мечтать о нем и не дойти до него. Оно может сложиться только само собою, естественно и непроизвольно, как бы расцвести в душе, иррационально распуститься в ней, победить и заполнить ее. Однако это признание «иррациональности» патриотического чувства отнюдь не следует толковать в смысле отказа от его постижения или в смысле его полной случайности, хаотичности, или неуловимой беззаконности. Ибо на самом деле это чувство, иррациональное по переживанию, подчинено совершенно определенным инстинктивно-духовным формам и законам, которые могут быть и должны быть постигнуты.
3. Что есть патриотизм
Патриотизм есть чувство любви к родине, и потому он, как и всякое чувство, а особенно чувство любви, уходит корнями в глубину человеческого бессознательного, в жилище инстинкта и страстей, куда далеко не всякий любопытный глаз имеет доступ. Однако есть ступень духовного опыта и сила духовного видения, которая этот доступ открывает. Тогда обнаруживаются следующие формы и законы.
Прежде всего, обретение родины должно быть пережито каждым из людей самостоятельно и самобытно. Никто не может предписать другому человеку его родину—ни воспитатели, ни друзья, ни общественное мнение, ни государственная власть, аболюбить и радоваться, и творить по предписанию вообще невозможно. Патриотизм, как состояние радостнойлюбви и вдохновенного творчества, есть состояние духовное, и потому он может возникнуть только в порядке автономии (свободы) — в личном, но подлинном и предметном духовном опыте. Всякое извне идущее предписание может помешать этому опыту и привести к злосчастной симуляции. Любовь возникает «сама», в легкой и естественной предметной радости, побеждающей и умиляющей душу. Эта свободная предметная радость или осеняет человека — и тогда он становится живым органом любимого предмета и не тяготится этим, а радуется своему счастью; или она минует его душу — и тогда помочь ему может только такое жизненное потрясение, которое раскроет в нем источники духовного опыта и любви.
Так называемый казенный, внешне принудительный, официальный патриотизм далеко не всегда пробуждает и воспитывает в душе чувство родины, нередко даже повреждает его. А между тем опытный и тактичный воспитатель может действительно пробу
дить в ребенке настоящий патриотизм. Но именно пробудить, а не навязать. Для этого он сам должен быть искренним и убежденным патриотом и уметь убедительно показывать детям те глубины и прекрасное™ родины, которые на самом деле заслуживают любви и преклонения. Он должен не «проповедовать» любовь к родине, а увлекательно исповедовать и доказывать ее делами, полными энергии и преданности. Он должен как бы вправить душу ребенка в духовный опыт его родины, вовлечь ее в него и приучить ее пребывать в нем и творчески расцветать в нем. Тогда патриотическое самоопределение осуществится свободно и непосредственно. И ребенок станет незаметно живым органом своей родины.
В основе такого слияния или сращения лежит всегда некоторая однородность в путях и способах духовной жизни: человек может узнать свой народ , прислушиваясь к жизни своего личного духа и к духовной жизни своего народа и узнавая свое творчество в его путях, а его пути в своем творчестве. Это дает ему радостное, уверенное чувство, которое можно выразить словами:
Я—как он; он — как я...
Или еще:
Мой дух — как его Дух; его Дух — как мой дух.
И, следовательно: я есмь дух отДуха его;я принадлежу ему, а потому — ему моя любовь,моя воля, моя жизнь.
Вникнем в этот процесс основательнее и глубже, и мы найдем следующее.
Патриотическое единение людей покоится на некоторой сопринадлежности их, столь необходимой, естественной и священной, сколь необходим, естественен и священен человеку сам духовный Предмет и духовный способ жизни. Люди связуются в единую нацию и создают единую родину именно в силу подобия их духовного уклада, а этот духовный уклад вырабатывается постепенно, исторически из эмпирической данности — внутренней, скрытой в самом человеке (раса, кровь, темперамент, душевные способности и неспособности), и внешней (природа, климат, соседи). Вся эта внутренняя и внешняя эмпирическая данность, полученная народом от Бога и от истории, должна быть проработана духом, причем она и со своей стороны формирует дух народа, то облегчая ему его пути, то затрудняя и загромождая их. В результате возникает единый национально-духовный уклад, который и связует людей в патриотическое единство.
Бремя эмпирического существования вообще преодолевается только творчеством, т. е. созданием новых ценностей в страдании, в труде, во вдохновении. Человека вообще освобождает только прорыв к духу, только осуществление духовных состояний. Личный страх и опасность, личное страдание и гибель пере
вешиваются и превозмогаются только тою любовью и тем радова-нием, которые посвящены негибнущему, божественному содержанию. И вот в этом творчестве и особенно в этом духовном творчестве каждый народ имеет свои специфические особенности, образующие его национальный духовныйуклад или, выражаясь философически, его национальный духовный акт*.
Так, каждый народ по-своему вступает в брак, рождает, болеет и умирает, по-своему ленится, трудится, хозяйствует и отдыхает, по-своему горюет, плачет, сердится и отчаивается; по-своему улыбается, смеется и радуется; по-своему ходит и пляшет; по-своему поет и творит музыку; по-своему говорит, декламирует, острит и ораторствует; по-своему наблюдает, созерцает и создает живопись; по-своему исследует, познает, рассуждает и доказывает; по-своему нищенствует, благотворит и гостеприимствует, по-своему строит дома и храмы; по-своему молится и геройствует... Он по-своему возносится и падает духом; по-своему организуется. У каждого иное чувство права и справедливости, иной характер, иная дисциплина, иное представление о нравственном идеале, иная политическая мечта, иной государственный инстинкт. Словом, у каждого народа иной и особый национальный духовный акт.
Самые узлы исторически данного характера — инстинкта, страстей, темперамента, чувства, воображения, воли и мысли — распутываются и расплетаются у каждого народа по-своему; и по-своему же он превращает эти нити в духовную ткань. В борьбе души с ее ограниченностью и с ее несчастьем, с ее страстями и с ее невозможностями каждый индивидуальный человек слагает себе особый духовный путь; но именно этот путь выстраданной духовности роднит индивидуальную душу сходством и близостью с другими душами единого национальноголона.
Замечательно, что нити душевного и духовного подобия свя-зуют людей глубже, а потому и крепче других нитей. Самый путь и способ личного одухотворения, самый ритм духовной жизни в ее созерцании и действии, самый характер умственного интереса, самая степень духовной жажды и удовлетворения, самый подъем отчаяния и славословия — все скрепляет души единого народа подобием и близостью. Это подобие ведет к тому, что люди связываются взаимным, глубоким тяготением, заставляющим их дорожить совместною жизнью, устраивать ее и совершенствовать ее организацию. Сходство в духовной жизни ведет незаметно к интенсивному общению и взаимодействию, а это, в свою очередь, порождает и новые творческие усилия, и новые достижения, и
* Само собою разумеется, что этот акт включает в себя и всю глубину бессознательного, жизнь инстинкта, страстей и наследственного уклада жизни.
новое уподобление Духовное подобие родит духовное единение, и обратно. И весь этот процесс духовного «симбиоза» покоится в последнем счете на сходном переживании единого и общего духовного предмета. Нет более глубокого единения, как в одинаковом созерцании единого Бога, но истинный патриотизм и приближается к такому единению.
Это не значит, что все сыны единой родины должны быть одного религиозного исповедания и принадлежать к единой Церкви. Однако патриотическое единение будет несомненно более тесным, интимным и прочным там, где народ связан не только единой территорией и климатом, не только государственной властью и законами, не только хозяйством и бытом, но и духовной однородностью, которая доходит до единства религиозного исповедания и до принадлежности единой и единственной Церкви. Патриотическое единение есть разновидность духовного единения, а поклонение Богу есть одно из самых глубоких и сильных проявлений человеческого духа.
Эту религиозную основу патриотизма культивировали еще древние, языческие народы. Для них гражданственный патриотизм был прежде всего делом поклонения богам родного города. Клятва юноши, вступающего в кадр граждан, гласила: «Буду оборонять святилища и священные обряды и почитать святыни моей родины» (Поллукс)32; согласно этому «быть гражданином» было равносильно «соучастию в жертвоприношениях» (Демосфен)*. Подобное этому мы находим и у римлян, например, у Цицерона, этого холодного мастера огненных слов: «Здесь моя вера, здесь мой род, здесь след моих отцов; я не могу выговорить, какой восторг охватывает мое сердце и мое чувство...»**
Так, в древности начало религиозного единения и начало патриотического единения просто совпадали: единый народ творил единую духовную культуру и имел единую веру. В дальнейшем процессе исторической дифференциации появились патриотические общины, не связанные единой религией, а также религиозные союзы (церкви), члены коих принадлежат к различным нациям, родинам и государствам.
Различие между религиозной и патриотической общиной состоит в том, что в религии люди любят Бога и верят в Бога, а в патриотическом единении люди любят свой народ в его духовном своеобразии и верят в духовную силу и в духовное творчество своего народа. Народ — не Бог, и возносить его на уровень Бога — слепо и грешно. Но народ, создавший свою родину, есть
* См. по этому вопросу поучительный материал справок в замечательном исследовании Фюстель де Куланжа Древняя гражданская об-щина*(Ьа cite antique), гл. 3—7.
** Cicero. De legibus. II. 1.
носитель и служителъБожьего дела на земле, как бы сосуд и орган божественного начала. Это относится не только к «моему» народу (кто бы он ни был), но и ко всем другим народам, создавшим свою духовную культуру. Следовательно, это относится и кмоему народу, а это для меня теперь важнее всего.
И вот, если мы взглянем глубже и пристальнее, то мы увидим, что каждый духовный акт имеет свое особое душевно-духовное строение, слагаясь по-своему из инстинктивных влечений, чувства, воли, воображения, мысли, ощущения и внешних поступков. Так обстоит и в религиозной вере, и в познании, и в нравственности, и в искусстве, и в правосознании, и в труде, и в хозяйственной деятельности, словом, во всей духовнойжизни человека. Оказывается, чтотакобсто-ит дел о не только в личной жизни каждого данного чел овека, но и в жизни целых народов. Каждый народ вынашивает и осуществляет в своей истории душевно-духовные акты особого национального строения, которые и придают всей его культуре своеобразный характер. И каждое создание этой культуры — начиная от резного украшения на избе и кончая ученым трактатом, начиная от национальной пляски и кончая музыкальной сонатой, начиная от простонародного костюма и кончая национальным героем или собором, расцветает и цветет в его духовном саду и слагается как бы в духовную гирлянду, которая связует его в единство крепче всяких законов или оков. Каждое духовное достижение народа является единым, общим для всех очагом, от которого размножается, не убывая, огонь духовного горения; так что вся система национальной духовной культуры предстает в виде множества общих воз-жженных огней, у которых каждый может и должен воспламенить огонь своего личного духа. И пламя это, перекидываясь на новые очаги, сохраняет свою изначальную однородность — и в ритме, и в силе, и в окраске, и во всем характере горения. Так народы слагаются в своеобразные духовные единства, а отсюда — всякая внешняя эмпирическая связь (расовая, пространственная, историческая) получает свое истинное и глубокое значение.
Вот почему национальный гений и его творчество оказываются нередко предметом особенной патриотической любви.
Жизнь народного духа находит себе в творчестве гения сосредоточенное и зрелое выражение. Гений говорит от себя, но не за себя только, а за весь свой народ; и то, о чем он говорит, есть единый для всех, но неясный большинству, а многим, может быть, и недоступный Предмет; и то, что он говорит о нем, есть истинное, подлинное слово, раскрывающее и природу Предмета, и сущность народного духа; и то, как он говорит это слово, — разрешает скованность и томление народного духа, ибо слово его рождено духовным актом национального строения и несомо подлинным ритмом народной жизни.
Гений подъемлет и несет бремя своего народа, бремя его несчастий, его исканий, его жизни, его исторического и естественного существования; и, подняв его, он несет его творчески к духовному разрешению всех его узлов и трудностей. Он одолевает это бремя, он торжествует, он одерживает победу, и притом так, что его победа становится — на путях непосредственного или опосредствованного общения — источником победы для всех, связанных с ним национально-духовным подобием. Гению дана та мощь, о которой томились и ради которой страдали целые поколения в прошлом; и от этой мощи исходит и будет исходить духовная помощь и радость для целых поколений в будущем. Он учит своих братьев духовной победе; он показывает им, как они могут сами стать духовными победителями. Творческое достижение гения указывает путь всем ведущим полутворческую жизнь; им стоит только воспринять его создание и его творчество, художественно отождествиться с ним — и в этом воспроизведении и подражании они найдут себе ту духовную свободу, без которой они остались бы обреченными на томление и соблазны.
Вот почему гений всегда остается для своего народа живым источником духовного освобождения, радости и любви. Он есть тот очаг, на котором, прорвавшись, вспыхнуло пламя национального духа. Он есть тот вождь, который открывает своему народу прямой доступ к свободе и к божественным содержаниям»,—Прометей, дарящий ему небесный огонь; Атлас, несущий на своих плечах духовное небо своего народа; Геракл, совершающий от его лица свои подвиги. Его акт есть акт всенародного, национального самоопределения в духе; и к творчеству его потомки стекаются как к единому и общему алтарю национального Богу-служения.
Гений ставит свой народ перед Лицо Божие и выговаривает за него и от его имени символ его предметной веры, его предметного созерцания, знания и воли. Этим он открывает и утверждает национальное духовное единство, то великое духовное «Мы», которое обозначает самую сущность родины. Гений есть тот творческий центр, который оформляет духовную жизнь и завершает духовное творчество своего народа, этим он оправдывает жизнь своего народа перед Богом и потому перед всеми остальными народами истории — и становится истиннымзиждителемродины...
Итак, обосновать идею родины и чувство патриотизма значит показать не только их неизбежность и естественность в историческом развитии народов, и не просто их государственное значение и их культурную продуктивность, но — их верность перед Богам, их религиозную (сверхисповедную и сверхцерковную) священность, а потому их правоту перед всем человечеством, что мы и сделали.
Тот, кто говорит о родине, разумеет (сознательно или бессознательно) духовное единство своего народа. Это есть единство, возникшее из инстинктивного подобия, общения и взаимодействия людей в их обращении к Богу, к данной от Бога внешней природе и друг к другу. Это единство вырабатывается исторически, в борьбе с природой, в создании единой духовной культуры и в самообороне от вторгающихся нарушителей Это единство закрепляется своеобразием национально-духовного акта и системой навязывающихся исторически-культурных и государственно-хозяйственных задач. Каждый народ призван к тому, чтобы принять свою природу и историческую «данность» и духовно проработать ее, одолеть ее, одухотворить ее по-своему, пребывая в своем, своеобразном национально- творческом акте. Это его неотъемлемое, естественное, священное право и в то же время это его историческая, общечеловеческая и, что самое главное, —религиозная обязанность. Он не имеет духовного права — отказаться от этой обязанности и от этого призвания. А раз отказавшись, он духовно разложится и погибнет, он исторически сойдет с лица земли.
Иными словами: каждому народу дается от природы и отДулг? Божия. Каждый народ призван принять и природу, и Дух, и Духом одухотворять и себя, и природу. Это одухотворение у каждого народа совершается своеобразно и должно протекать самостоятельно. Национальная духовная культура есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу всяческих. И ради создания этой духовной музыки народы живут из века в век, в работах и страданиях, в падениях и подъемах, то паря к небу, то влачась долу, — вынашивая своеобразную молитву труда и созерцания на поучение другим народам. И эта музыка духа своеобразнау каждого народа, и эта музыка духа есть Родина. И каждый человек узнает свою Родину потому, что его личная музыка духа откликается на ее всенародную музыку; и, узнав, он врастает в нее так, как врастает единичный голос в пение хора.
Вот почему мы утверждаем, что Родина есть нечто от Духа Божия: национально воспринятый, взращенный и в земные дела вработанный дар Духа Святого. Нельзя погасить в себе эту святыню. Ею надо жить. Ее надо творчески и достойно блюсти в себе. Ее нельзя отдать в порабощение или в попрание другим народам. За нее стоит бороться и умереть. И всякий христианин, увидевший это, постигший это, призван не отзываться на соблазны пустого и лицемерного интернационализма, а мужественно и честно поставить перед собою все проблемы, смущающие его христианскую совесть, и искать разрешения в духе истинного, духовного патриотизма.
-----Часть VIII------
О НАЦИОНАЛИЗМЕ
1. Идея нации
Проблема истинного национализма разрешима только в связи с духовным пониманием родины: ибо национализм есть любовь к духу своего народа и притом именно к его духовному своеобразию.
Тот, кто говорит о родине, разумеет духовное единство своего народа. Он разумеет нечто такое, что остается сущим и объективным, несмотря на гибель единичных субъектов и на смену поколений. Родина есть нечто единое длямногих. Каждый из нас может сказать про нее: «это моя родина», и будет прав; все сразу могут сказать про нее: «это моя родина, это наша родина», и все будут правы. Родина есть великое лоно, объединяющее всех своих сынов так, что каждая душа соединена с нею нитью живой связи; и эта связь сохраняется даже тогда, когда кто-нибудь почему-нибудь не культивирует ее, пренебрегает ею и совсем не думает о ней. Не во власти человека — перестать быть силою, призванною и способною к духовной жизни; не во власти человека оторваться душою от той среды, которая его взрастила, погасить свой национально-духовный облик и, раз надышавшись родного духа, сделать себя действительно лишенным духа и родины. Но для того, чтобы найти свою родину и слиться с нею чувством и волею, и жизнью, необходимо жить духом и беречь его в себе и, далее, необходимо осуществить в себе патриотическое самосознание или хотя бы верно «почувствовать» себя и свой народ в духе. Надо верно ощутить — свою духовную жизнь и духовную жизнь своего народа, и творчески утвердить себя в силах и средствах этой последней, т. е., например, принять русский язык, русскую историю, русское государство, русскую песню, русское правосознание, русское историческое миросозерцание и т. д. — как свои собственные. Это и значит установить между собою и своим народом подобие, общение, взаимодействие и общность в духе; признать, что творцы и создания его духовной культуры суть люг/ вожди и мои достижения. Мой путь к духу есть путь моей родины; ее восхождение к Духу и Богу есть мое восхождение. Ибо я тождествен с нею и неотрывен от нее в духовной жизни.
Такое слияние патриота с его родиной ведет к чудесному и плодотворному отождествлению их духовных энергий.
В этом отождествлении духовная жизнь народа укрепляется всеми личными силами патриота, а патриот получает неиссякаемый источник творческой энергии, во всенародном духовном подъеме. И это взаимное духовное питание, возвращаясь и удесятеряя силы, дает человеку непоколебимую веру в его родину. Сливая мою жизнь с жизнью моей родины, я испытываю дух моего народа как безусловное благо и безусловную силу, как некую Божию ткань на земле и в то же время я отождествляю себя с этой живой силой добра: я чувствую, что я несом ею, что я силен ее силою, что я прав ее правдою и правотою, что я побеждаю ее победами; я становлюсь живым сосудом или живым органом моего отечества, а в нем имею свое духовное гнездо. На этом пути любовь к родине соединяется с верою в нее, с верою в ее призвание, в творческую силу ее духа, в тот грядущий расцвет, который ее ожидает. Что бы ни случилось с моим народом, я знаю верою и ведением, любовью и волею, живым опытом и победами прошлого, что мой народ не покинут Богом, что дни падения преходящи, а духовные достижения вечны, что тяжкий молот истории выкует из моего народа духовный меч, именно так, как это выражено у Пушкина:
Но в искушеньях долгой кары Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь. Так тяжкий млат, Дробя стекло, кует булат33.
Нельзя любить родину и не верить в нее, ибо родина есть живая духовная сила, пребывание в которой дает твердое ощущение ее блага, ее правоты, ее энергии и ее грядущих одолений. Вот почему отчаяние в судьбах своего народа свидетельствует о начавшемся отрыве от него, об угасании духовной любви к нему. Но верить в родину может лишь тот, кто живет ею, вместе с нею и ради нее, кто соединил с нею истоки своей творческой воли и своего духовного самочувствия.
Любить свой народ и верить в него, верить в то, что он справится со всеми историческими испытаниями, восстанет из крушения очистившимся и умудрившимся, не значит закрывать себе глаза на его слабости, несовершенства, а может быть, и пороки. Принимать свой народ за воплощение полного и высшего совершенства на земле было бы сущим тщеславием, больным националистическим самомнением.
* Есть народы, у которых такой патриотизм традиционно преобладает
Настоящий патриот видит не только духовные пути своего народа, но и его соблазны, слабости и несовершенства. Духовная любовь вообще не предается беспочвенной идеализации, но созерцает трезво и видит с предметной остротой. Любить свой народ не значит льстить ему или утаивать от него его слабые стороны, но честно и мужественно выговаривать их и неустанно бороться с ними*. Национальная гордость не должна вырождаться в тупое самомнение и плоское самодовольство, она не должна внушать народу манию величия. Настоящий патриот учится на политических ошибках своего народа, на недостатках его характера и его культуры, на исторических крушениях и на неудачах его хозяйства. Именно потому, что он любит свою родину, он пристально и ответственно следит за тем, где и в чем народ не находится на надлежащей высоте; он не боится указывать на это, памятуя хорошую народную поговорку: «велика растет чужая земля своей похвальбой, а наша крепка станет своею хайкою»**... Духовная любовь не есть опьянение или чванство; она не только горит, но и светит, и светом показывает. Кто постиг духовную силу своей родины и проследил через историю пути и судьбы своего народа, тот должен был увидеть и установить пределы и опасности национальной души. Смеет ли он молчать о них? И позволительно ли требовать от него молчания, ссылаясь на то, что его критика «срывает народное самочувствие» и «внушает народу неверие к своим силам»? Есть критика и критика. Есть критика ироническая, злобная, несправедливая, нигилистическая и разрушительная; так критикуют враги. Но есть критика любовная, озабоченная, воспитывающая, творческая даже и тогда, когда — гневная, это критика созидательная: так критикуют верные друзья; такая критика ничего «сорвать» не может, и то, что она «внушает», есть мужество и воля к преодолению своих слабостей. Так критикуют свое, любимое, не отрываясь от него, но пребывая в нем, пребывая в слиянии и отождествлении с ним, говоря о «нас», для «нас», из крепкого и единого национального «мы»...
Понятно далее, что в таком слиянии и отождествлении незаметно преодолевается то душевное распыление (психический
* Понятно, что здесь необходимы: зоркость, правдивость и гражданское мужество. Одним из соблазнов национализма является стремление оправдывать свой народ во всем и всегда, преувеличивая его достоинства и сваливая всю ответственность за совершенное им на иные «вечно злые» и «предательски враждебные» силы. Никакое изучение враждебных сил не может и не должно гасить в народе чувство ответственности и вины или освобождать его от трезво-критического самопознания: путь к обновлению ведет через покаяние, очищение и самовоспитание.
** От слова — хаять, т. е. порицать.
«атомизм»), в котором людям приходится жить на земле: этот атомизм состоит в том, что каждый скрыт за своим телом, все ощущают только себя, все друг другу чужие и пребывают в душевно-телесном одиночестве. Это преодоление общественного атомизма состоит, однако, не в том, что человек перестает быть самостоятельным, обособленным и замкнутым существом («монадой»). Нет, обычный, данный ему от природы способ бытия сохраняется. Но наряду с ним возникает могучее творческое единение людей в общем и сообща творимом лоне — в национальной духовной культуре, где все мы одно, где все достояние нашей родины (и духовное, и материальное, и человеческое, и природное, и религиозное, и хозяйственное) — едино для всех нас и общее всем нам: и творцы духа и «труженики культуры», и создания искусства, и жилища, и песни, и храмы, и язык, и лаборатории, и законы, и территория... Каждый из нас живет всем этим, физически питаясь и душевно воспитываясь, огражденный другими и обороняя других, получая и принимая дары во всеобщем взаимном обмене. В жизни и в ткани нашего общества мы все — одно, а в ее духовной сокровищнице объективировано то лучшее, что есть в каждом из нас. Ее созданиями заселяется и обогащается, и творчески пробуждается личный дух каждого из нас; родина делает то, что душевное одиночество людей отходит на задний план и уступает первенство духовному единению и единству.
Такова идея родной нации. И при таком понимании ее обнаруживается воочию, что человек, лишенный ее, будет действительно обречен на духовное сиротство или безродность; что обретение ее есть поистине акт жизненного самоопределения; что иметь родную нацию есть поистине счастье, а утратить с нею связь есть великое горе; что тоска по ней естественна, а отчаяние в своем народе противоестественно; и что, наконец, человеку подобает блюсти на всех путях достоинство своего народа, гордиться его признанием, его величием и его успехами.
Есть закон человеческой природы и культуры, в силу которого все великое может быть сказано человеком или народом только по-своему, и все гениальное родится именно в лоне национального опыта, духа иуклада. Денационализируясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к священным огням жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны: в них заложены и живут целые века всенародного труда, страдания, борьбы, созерцания, молитвы и мысли. У римлян изгнание обозначалось словами: «воспрещение воды и огня». И действительно, человек, утративший доступ к духовной воде и к духовному огню своего народа, становится безродным изгоем, беспочвенным и бесплодным скитальцем по чужим духовным дорогам, обезличенным
интернационалистом. Горе ему и его детям: им грозит опасность превратиться в исторический песок и мусор.
Национальное обезличение есть великая беда и опасность в жизни человека и народа. С ним необходимо бороться настойчиво и вдохновенно. И вести эту борьбу необходимо с детства.
Напрасно было бы указывать на то, что национализм ведет к взаимной ненависти народов, к обособлению, «провинциализму», самомнению и культурному застою. Все это относится к больному, уродливому, извращенному национализму и совершенно не касается духовно здоровой любви к своему народу. И в самом деле, кто захотел бы выслушивать с серьезным видом такие, например, возражения против гимнастики и спорта: гимнастика вредна и опасна, ибо она воспитывает в человеке ненависть к умственному труду, содействует общему огрубению души, ведет к эмфиземе легких, к переутомлению сердца и к вывиху рук и ног? Или подобные же возражения против искусства: искусство вредно человеку, ибо оно прививает ему отвращение к мысли и здоровому физическому труду, приучает его к беспочвенному фантазированию, к лени, праздности, вину и разврату и убивает в нем вкус к общественной деятельности? По такому способу можно против всего возражать и все отвергнуть: достаточно только приписать больные проявления — здоровому делу и как можно ярче описать последствия неумных злоупотреблений так, как если бы это дело только и могло сводиться к злоупотреблениям... Злоупотреблять, как известно, можно всем — не только ядом, но и здоровой пищей, не только трудом, но и сном; не только глупостью, но и умом. Злоупотреблять можно и аргументацией в полемике, и приведенные возражения против национализма являются тому наглядным примером
2. О национальном воспитании
Итак, есть глубокий, духовно верный, творческий национализм и его необходимо прививать людям с раннего детства.
Мы установили уже, что национальность человека определяется не его произволом, а укладом его инстинкта и его творческого акта, укладом его бессознательного и, больше всего, укладом его бессознательной духовности. Покажи мне, как ты веруешь и молишься; как просыпаются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи; что ты называешь «знать» и «понимать», как тылюбишъ свою семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки, — скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и все это
зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада твоего бессознательного.
А этот уклад слагается, формируется и закрепляется прежде всего и больше всего — в детстве. Воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту, укрепление в нем их сердца, их воли, их воображения и их творческих замыслов.
Бороться с национальным обезличиванием наших детей мы должны именно на этом пути: надо сделать так, чтобы все прекрасные предметы, впервые пробуждающие дух ребенка, вызывающие в нем умиление, восхищение, преклонение, чувство красоты, чувство чести, любознательность, великодушие, жажду подвига, волю к качеству — были национальными, у нас в России — национально русскими; и далее: чтобы дети молились и думали русскими словами; чтобы они почуяли в себе кровь и дух своих русских предков и приняли бы любовью и волею — всю историю, судьбу, путь и призвание своего народа; чтобы их душа отзывалась трепетом и умилением на дела и слова русских святых, героев, гениев и вождей. Получив в дошкольном возрасте такой духовный заряд и имея в своей семье живой очаг таких настроений, русские дети, где бы они ни находились, развернутся в настоящих и верных русских людей.
В особенности следует обогащать их следующими сокровищами.
1 .Язык. Язык вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. Все это ребенок должен получить вместе с молоком матери (буквально). Особенно важно, чтобы это пробуждение самосознания и личностной памяти ребенка (обычно — на третьем, четвертом году жизни) совершилось на его родном языке. При этом важен не тот язык, на котором говорят при нем другие, но тот язык, на котором обращаются к нему, заставляя его выражать на нем его собственные внутренние состояния. Поэтому не следует учить его чужим языкам до тех пор, пока он не заговорит связно и бегло на своем национальном языке. Это относится и к чтению: пока ребенок не зачитает бегло на родном языке, не следует учить его никакому иному чтению. В дальнейшем же в семье должен царить культ родного языка: все основные семейные события, праздники, большие обмены мнений должны протекать по-русски; всякие следы «волапюка» должны изгоняться; очень важно частое чтение вслух Св. Писания, по возможности на церковно-славянском языке, и русских классиков, по очереди всеми членами семьи хотя бы понемногу; очень важно ознакомление с церковно-славянским языком, в ко
тором и ныне живет стихия прародительского славянства, хотя бы это ознакомление было сравнительно элементарным и только в чтении; существенны семейные беседы о преимуществах родного языка — о его богатстве, благозвучии, выразительности, творческой неисчерпаемости, точности и т. д.
2 . Песня. Ребенок должен слышать русскую песню еще в колыбели. Пение несет ему первый душевный вздох и первый духовный стон: они должны быть русскими. Пение помогает рождению и изживанию чувства в душе; оно превращает пассивный, беспомощный и потому обычно тягостный аффект — в активную, текучую, творческую эмоцию-, ребенок должен бессознательно усваивать русский строй чувств и особенно духовных чувствований. Пение научит его первому одухотворению душевного естества — по-русски; пение даст ему первое «не-жи-вотное» счастье — по-русски. Русская песня глубока, как человеческое страдание, искренна, как молитва, сладостна, как любовь и утешение; в наши черные дни, как под игом татар, она даст детской душе исход из грозящего озлобления и каменения. Надо завести русский песенник и постоянно обогащать детскую душу русскими мелодиями, — наигрывая, напевая, заставляя подпевать и петь хором. Всюду, по всей стране, надо создавать детские хоры — церковные и светские, организовывать их, объединять, устраивать съезды русской национальной песни. Хоровое пение национализирует и организует жизнь — оно приучает человека свободно и самостоятельно участвовать в общественном единении.
Ъ-Молитва. Молитва есть сосредоточенная и страстная обращенность души к Богу. Каждый народ совершает это обращение по-своему, даже в пределах единого исповедания; и только для поверхностного взгляда Православие русского, грека, румына и американца — одинаково. Живое многогласие и многохва-ление Господа, идущее от мира, требует, чтобы каждый народ молился самобытно; и эту самобытную молитву надо вдохнуть ребенку с первых лет жизни
Молитва даст ему духовную гармонию, пусть он переживет ее по-русски. Молитва даст ему источник духовной силы — русской силы. Молитва научит его сосредоточивать чувство и волю на совершенном — по-русски. Молитва даст ему религиозный опыт и поведет его к религиозной очевидности — по-русски. Ребенок, научившийся молиться, сам пойдет в церковь и станет ее опорой — русской опорой,русской церкви. Он найдет пути — и в глубину русской истории, и на простор русского возрождения.
* При этом разумеется, конечно, дифференцированное, многоголосное пение, а не унисонный рев толпы.
Неправославный может быть верным русским патриотом и доблестным русским гражданином, но человек, враждебный Православию, не найдет доступа к священным тайникам русского духа и русского миропонимания, он останется чужеродным в стране, своего рода внутренним «неприятелем».
4. Сказка. Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство героического — чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие «правды» и «кривды». Она заселяет его душу национальным мифом, тем хором образов, в которых народ созерцает себя и свою судьбу, исторически глядя в прошлое и пророчески глядя в будущее. В сказке народ схоронил свое вожделенное, свое ведение и ведовство, свое страдание, свой юмор и свою мудрость. Национальное воспитание неполно без национальной сказки. Ребенок, никогда не мечтавший в сказках своего народа, легко отрывается от него и незаметно вступает на путь интернационализации. Приобщение к чужеземным сказкам вместо родных будет иметь те же самые последствия.
5. Жития святых и героев. Чем раньше и чем глубже воображение ребенка будет пленено живыми образами национальной святости и национальной доблести, тем лучше для него. Образы святости пробудят его совесть, арусскость святого вызовет в нем чувство соучастия в святых делах, чувство приобщенности, отождествления; она даст его сердцу радостную и гордую уверенность, что «наш народ оправдался перед Лицом Божиим», что алтари его святы и что он имеет право на почетное место в мировой истории («народная гордость»). Образы героизма пробудят в нем самом волю к доблести, пробудят его великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения, готовность терпеть и бороться, а русскость героя — даст ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа. Все это, вместе взятое, есть настоящая школа русского национального характера.
Преклонение перед святым и героем возвышает душу; оно дает ей сразу — и смирение, и чувство собственного достоинства, и чувство ранга; оно указывает ей — и задание, и верный путь. Итак, национальный герой ведет свой народ даже из-за гроба.
6. Поэзия. Стихи таят в себе благодатно-магическую силу: они подчиняют душу, пленяют ее гармонией и ритмом, заставляют ее прислушиваться к сокровенной жизни вещей и людей, побуждают ее искать закона и формы, учат ее духовному восторгу. Как только ребенок начнет говорить и читать, так классические национальные поэты должны дать ему первую радость стиха и постепенно раскрыть ему все свои сокровища.
Сначала пусть слушает, потом пусть читает сам, учит наизусть, пытается декламировать — искренно, прочувствованно и осмысленно. Русский народ имеет единственную в своем роде поэзию, где мудрость облекается в прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой. Русский поэт одновременно — национальный пророк и национальный музыкант. И русский человек, с детства влюбившийся в русский стих, никогда не денационализируется.
В меру возрастания и в меру возможности необходимо открывать ребенку доступ ко всем видам национального искусства — от архитектуры до живописи и орнамента, от пляски до театра, от музыки до скульптуры. Тогда душа его всесторонне раскроется для восприятия того, что впервые дали ей песня, сказка и поэзия. Понятно, что наиболее доступным, наиболее увлекающим и непосредственно национализирующим видом искусства останется русская пляска со всей ее свободой и ритмичностью, со всем ее лиризмом, драматизмом и неистощимым юмором.
7. История. Русский ребенок должен с самого начала почувствовать и понять, что он славянин, сын великого славянского племени и в то же время сын великого русского народа, имеющего за собою величавую и трагическую историю, перенесшего великие страдания и крушения и выходившего из них не раз к подъему и расцвету. Необходимо пробудить в ребенке уверенность, что история русского народа есть живая сокровищница, источник живого научения, мудрости и силы. Душа русского человека должна раскрыть в себе простор, вмещающий всю русскую историю так, чтобы инстинкт его принял в себя все прошлое своего народа, чтобы воображение его увидело всю его вековую даль, чтобы сердце его полюбило все события русской истории... Мы должны освоить волею наше прошлое и волею замыслить наше будущее. Мы должны прочувствовать окрыленные слова Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». И еще: «Клянусь вам моею честью, что я ни за что на свете не согласился бы ни переменить родину, ни иметь другую историю, чем история наших предков, какую нам послал Господь». При этом национальное самочувствие ребенка должно быть ограждено от двух опасностей: от националистического самомнения и от всеосмеивающего самоунижения. Преподаватель истории отнюдь не должен скрывать от ученика слабых сторон национального характера, но в то же время он должен указать ему все источники национальной силы и славы. Тон скрытого сарказма по отношению к своему народу и его истории должен быть исключен из этого
преподавания. История учит духовному преемству и сыновней верности-, а историк, становясь между прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, разуметь его путь, любить его и верить в его призвание. Тогда только он сможет быть истинным национальным воспитателем.
8. Армия. Армия есть сосредоточенная волевая сила моего государства, оплот моей родины; воплощенная храбрость моего народа, организация чести, самоотверженности и служения — вот чувство, которое должно быть передано ребенку его национальным воспитателем. Ребенок должен научиться переживать успех своей национальной армии как свой личный успех; его сердце должно сжиматься от ее неудачи; ее вожди должны быть его героями; ее знамена — его святынею. Сердце человека вообще принадлежит той стране и той нации, чью армию он считает своею. Дух воина, стоящего на страже правопорядка внутри страны и на страже родины в ее внешних отношениях, отнюдь не есть дух «реакции», «насилия» и «шовинизма», как думают иные даже до сего дня. Без армии, стоящей духовно и профессионально на надлежащей высоте, — родина останется без обороны, государство распадется и нация сойдет с лица земли. Преподавать ребенку иное понимание значит содействовать этому распаду и исчезновению.
9. Территоршя. Русский ребенок должен увидеть воображением пространственный простор своей страны, это национально-государственное наследие России. Он должен понять, что народ живет не для земли и не ради земли, но иго он живет на земле и от земли и что территория необходима ему, как воздух и солнце. Он должен почувствовать, что русская национальная территория добыта кровью и трудом, волею и духом, что она не только завоевана и заселена, но что онауже освоена и еще недостаточно освоена русским народом. Национальная территория не есть пустое пространство «от столба до столба», но исторически данное и взятое духовное пастбище народа*, его творческое задание, его живое обетование, жилище его грядущих поколений. Русский человек должен знать и любить просторы своей страны: ее жителей, ее богатства, ее климат, ее возможности так, как человек знает свое тело, так, как музыкант любит свой инструмент, так, как крестьянин знает и любит свою землю.
10. Хозяйство. Ребенок должен с раннего детства почувствовать творческую радость и силу труда, его необходимость, его почетность, его смысл. Он должен внутренне испытать, что «труд» не есть «болезнь» и что работа не есть «рабство», что, наоборот,
* Ср. у Шекспира о Цезаре: «Мир лесом был для этого оленя, а тот олень душою мира был».
труд есть источник здоровья и свободы. В русском ребенке должна проявиться склонность к добровольному. творческому труду, и из этой склонности он должен почувствовать и осмыслить Россию как бесконечное и едва початое трудовое поприще. Тогда в нем пробудится живой интерес к русскому национальному хозяйству, воля к русскому национальному богатству как источнику духовной независимости и духовного расцвета русского народа. Пробудить в нем все это значит заложить в нем основы духовной почвенности и хозяйственного патриотизма.
Таков дух национального воспитания, необходимый русскому и каждому здоровому народу. Задача каждого поколения состоит в верной передаче этого духа, и притом в формах возрастающей одухотворенности, национального благородства и международной справедливости. Только на этом пути человечеству удастся соблюсти священное начало родины и в то же время одолеть соблазны — как больного национализма, так и всеразлагающего интернационализма.
3. О соблазнах
Из всего сказанного должно быть уже ясно, в чем состоит связь между родиной и нацией.
Родина есть дух народа во всех его проявлениях и созданиях; национальность обозначает основное своеобразие этого духа. Нация есть духовно своеобразный народ; патриотизм есть любовь к нему, к духу, его созданиям и к земным условиям его жизни и цветения.
Истинный патриот любит дух своего народа и гордится им, и видит в нем источник величия и славы именно потому, что выше Духа и прекраснее Духа на земле нет ничего, и еще потому, что его личный дух следует путям его народа. И вот, каждый народ есть по духу своему некая прекрасная самосиянность, которая сияет всемлюдям и всем народам и которая заслуживает и с их стороны любви и почтения, и радости. Каждое истинное духовное достижение — в знании и в добродетели, в религии, в красоте или в праве — есть достояние общечеловеческое, которое способно объединить на себе взоры и чувства, и мысли, и сердца всех людей, независимо от эпохи, нации и гражданской принадлежности Нам ли, русским, надо доказывать это, нам ли, проливающим с детства слезы над мучениями негра дяди Тома и зачитывающимся сказками Шехерезады, способным трепетать сердцем при виде скульптуры Праксителя или картины Леонардо да Винчи, умеющим молиться вместе с Бетховеном, созер
цать вместе с Конфуцием и Платоном; отчаиваться вместе с Иовом и бушевать вместе с Шекспиром? Нам открыт дух всех народов; мы с детства привыкали чтить и любить их гениев. Мы знаем по опыту, что истинное духовное достижение всегда национально и в то же время всегда выходит за национальные подразделения людей, а потому и уводит самих людей за эти пределы, отнюдь не колебля и не угашая свет родины, но обогащая его новыми восприятиями и лучевыми отражениями. Всякое истинное достижение и создание духа свидетельствует о некотором высочайшем и глубочайшем сродстве их, о некотором подлинном единстве рода человеческого, пребывающем несмотря на все разделения, грани и войны Оно свидетельствует о том, что самый патриотизм, отверзая человеку efo духовное око, тем самым бесконечно и благотворно расширяет его духовный горизонт, и что есть вершина, с которой человеку может действительно открыться общечеловеческое братство, братство всех людей перед Лицом Божиим.
Эта вершина и есть родина как организм национальной духовной культуры,. Она пробуждает в человеке духовность, которая может быть и должна быть оформлена как национальная духовность, развертывающаяся в актив национальной структуры. И только пробудившись и окрепнув, она сможет найти доступ к созданиям чужого национального духа. Тогда человеку откроется всечеловеческое братство, но это братство будет не интернациональным, а сверхнациональным.
Необходимо раз навсегда провести отчетливую грань между интернационализмом и сверхнационализмом.
Интернационализм отрицает родину и национальную культуру, и самый национализм, и духовный акт своеобразно-национальной структуры. Интернационалист, будучи духовно никем, желает сразу стать «всечеловеком»; и это не удается ему, ибо все-человечество есть духовное состояние, которое может быть доступно только духовно и национально самоутвердившемуся человеку. То, что откроется бездуховному интернационалисту, будет не «всечеловечество», а элементарная животная низина, которая даст не культурный подъем и расцвет, а всеснижение и всесмешение. Человек родится в лоне своей семьи и своего народа; он — их детище; они дают ему первоначальное строение его тела, души и духа; стряхнуть все это с себя не в его власти; он может только не культивировать в себе духовную высоту своего семейного и национального начала, а предпочесть элементарную, животную низину. В этой низине он и найдет себе уровень для своего желанного «интернационализма». Так, русский интернационалист. не желающий русского духа, останется русским
по всему укладу тела и души, своего сознания и своего бессознательного, но это будет «русскость» низшего, худшего,элементарно-животного уровня; и этой бездуховной, выцветшей, грубой «русскости» будет легко вступить во всесмесительный и всесни-жающий процесс с такими же бездуховными, выцветшими, грубоэлементарными интернационалистами других наций. Через ассимиляцию с ними он может даже постепенно создать некий безнациональный и бездуховный тип международного бес-почвенника, который забыл свой родной язык и дух и не научился никакому чужому языку и духу, и живет в виде некоего интернационалистического «Тарзана»...
Напротив, сверхнационализм утверждает родину и национальную культуру, и самый национализм, и особенно—духовный акт своеобразно-национального строения. Человек приемлет и дух своей семьи, и дух своего народа, и в них растет и зреет; он не «никто», он имеет оплодотворяющее и ведущее его духовное русло. И именно оно дает ему возможность подняться на ту высоту, с которой перед ними откроется «всечеловеческий» духовный горизонт. Образно говоря: только со своей родной горы человек может увидеть далекие чужие горы. Постигнуть дух других народов может только тот, кто утвердил себя в духе своего народа. Поэтому сверхнационализм отнюдь не отрицает национализма и патриотизма, но сам вырастает из него; так что у каждого народа может быть свой, особый сверхнационализм — русский, английский, французский и т. д., и ни один из них не будет жить в ущерб своему основному, исконному патриотизму — русскому, английскому, французскому и т. д. Ибо сверхнационализм доступен только настоящему националисту: только он сумеет увидеть ширь духовной вселенскости и не соблазниться ею — не соскользнуть в духовную беспочвенность. В чем же состоит сущность истинного национализма? Любить родину значит любить не просто «душу народа», т. е. его национальный характер, но именно духовность его национального характера и в то же время национальный характер его духа Это различие нетрудно уловить на живом примере: русский человек может любить в Шекспире и Диккенсе даруемое ими духовное содержание, но специфически английский характер их творчества может быть ему чужд; напротив: Толстой и Достоевский будут ему близки и драгоценны — и в их духовном содержании, и в специальнойрусскости их творческого акта, и описанного ими быта. Но это-то и выражается формулою: мы можем любить у чужих народов духовность их национального характера, но трудно нам любить национальный характер их духовной культуры, которого они сами в себе нередко не замечают. В своей же, родной культуре мы
будем любить все: не только ее духовность, но и ее национальность, причем нередко у людей бывает так, что они с нежностью воспринимают национальный характер своего народа и мало воспринимают его духовную глубину и красоту: чуют быт и не чуют духа. Настоящий патриот чует больше всего дух своего народа, и притом так, что самый национальный уклад и быт пронизан для него насквозь лучами этого духа; это есть для него живое единство, которое он любит цельно и крепко. Он воспринимает национальные особенности родного ему народа как свои собственные и питается не просто его духовностью, но и его национальностью. А это значит, что истинный национализм есть национализм духовный, который идет не только от инстинкта национального самосохранения, но и от духа и любит не просто «родное», «свое», — но родное-великое и свое-священное.
Этим определяется отношение националиста и к другим народам
Тот, кто совсем не знает, что такое дух, ине умеет любить его, тот не имеет и патриотизма. Но тот, кто чует духовное и любит его, тот знает его сверхнациональную, общечеловеческую сущность. Он знает, что великое русское велико для всех народов; и что гениальное греческое гениально для всех веков; и что героическое у сербов заслуживает преклонения со стороны всех национальностей; и то, что глубоко и мудро в культуре китайцев или индусов, глубоко и мудро перед лицом всего человечества. Но именно поэтому настоящий патриот не способен ненавидеть и презирать другие народы, потому что он видит их духовную силу и их духовные достижения. Он любит и чтит в них духовность их национальной культуры, хотя национальный характер их культуры может казаться ему странным, чуждым и даже неприятным. И эта любовь к чужому духу и его великим проявлениям нисколько не мешает ему любить свою родину преимущественною любовью, одновременно — страстною и священною.
Это можно выразить так любить свою родину умеет именно тот, кто не склонен ненавидеть или презирать другие народы; ибо только он знает, что такое дух, и потому умеет обретать его дары и проявления у чужих народов, а не ведая духа, нельзя любить воистину свой народ. Истинный патриот любит в своем народе то, что должны любить и будут любить, когда узнают, и все другие народы; правда, он любит у своего народа и то, что другие народы не полюбят; однако и он вовсе не призван любить у других народов все, но лишь то, что составляет истинный источник их величия и славы.
В жизни и культуре всякого народа есть Божие и есть земное. Божие надо и можно любить у всех народов, что и выра
жено словами Писания: «всяческая и во всех Христос», но любить земное у других народов не обязательно. Сострадание же к «человеческому естеству» не имеет ограничений, если не считать преимущественности в служении своему народу Итак, истинный патриот не только не слеп к духовным созданиям и достижениям других народов, но он стремится постигнуть и усвоить их, чтобы приобщить к ним свой народ, чтобы обогатить ими его жизнь, углубить его путь и восполнить ими его творчество. Любить свою родину совсем не значит отвергать всякое иноземное влияние, но это не значит и наводнять свою культуру полою водою иноземщины. Есть творческая мера в духовном общении и взаимодействии народов; и мера эта лучше всего обретается живым, расцветающим творчеством самого народа.
Из всего этого вытекает, что истинный национализм не растворяется и не исчезает в душе, открытой для сверхнациональной вселенскости. Напротив, тот только может нелицемерно говорить о «братстве народов», кто сумел найти свою родину, усвоить ее дух и слить с нею свою судьбу. Только те народы способны к духовному братанию, которые создали свою родину и утвердились в своем национализме и патриотизме. Чтобы брататься, надо прежде всего быть, и притом быть самим собою, и быть перед Лицом единого Отца. Чтобы духовно брататься, надо не стыдиться своего национального бытия, а нести его с горделивым духовным достоинством. Вот почему так называемый «христианский интернационализм» есть искусственная выдумка, сентиментальная и фальшивая; и каждый раз, как она выдвигается, надо ставить вопрос, не выдвигается ли она для того, чтобы один народ мог успешнее разложить, завоевать и покорить другой народ?..
Итак, отказывающийся от своего индивидуального духовного лица (все равно — будет это человек или народ) — не восходит на какую-то высшую ступень всеобщего, а нисходит в духовное небытие: ему предстоит не братание и не братство, а исчезновение с арены истории.
Подобную же нелепость и фальшь предлагают те, кто допускает, что русский народ есть какой-то особенный вселенский народ, который призван не к созданию своей творчески-особли-вой, содержательно-самобытной культуры, а к претворению и ассимиляции всех чужих, иноземных культур Это есть новое отречение от своего национально-индивидуального духовного лица. Только нищие пекут хлеб из собранных отовсюду и растолченных сухих корочек, а русский народ не имеет оснований жаловаться на духовную нищету и побираться по чужим культурам; и он уже достаточно доказал это. Только малолетних застав
ляют списывать с книги или излагать чужие мысли своими словами, а русская культура давно уже выведена ее гениями из малолетства. Каждый народ призван иметь свое самобытное, национально-духовное лицо, и эта самобытность не может состоять в сочетании отовсюду заимствованных черт; она возникает из инстинктивно-душевного своеобразия и из самостоятельного восприятия природы, людей и Бога, а не из заимствования отовсюду чужого достояния.
Правда, не всякому народу удается выносить самостоятельный духовный акт и создать самобытную духовную культуру. Народы, которым это удалось, суть духовно ведущие народы; народы, которым это не удалось, становятся духовно ведомыми народами. Задача ведущего народа не в том, чтобы подавить или искоренить ведомый народ, а в том, чтобы дать ему возможность приобщиться к духовному акту и к духовной культуре ведущего народа и получить от него творческое оплодотворение и оживление. Тогда ведомый народ находит свою родину в лоне ведущего народа и, не теряя своей исторической и биологической «национальности», вливается духовно в национальность ведущего. Формула такого патриотического «симбиоза» народов такова: «я римлянин, и притом галл»; «я англичанин, и притом африканский негр»; «я швейцарец, и притом лодин»; «я француз, и притом мавр»; «я русский, и притом калмык»... И эта формула означает, что ведущему народу удалось выработать национальный акт такой ширины и гибкости, а может быть, и глубины, что он образует для ведомых народов как бы родовое духовное лоно, которое они могут видоизменять по-своему, оплодотворяя и оживляя из него свою духовную жизнь.
Вот как определяется духовный смысл национализма. И перед этими основами бессильно меркнут все разновидности современного интернационализма и антинационализма. У настоящего националиста жизйь его личного духа сразу как бы «растворена» в духовной жизни его народа и в то же время «собрана» из нее и сосредоточена в его живой личности; он дорожит этим чудесным состоянием духовного саморасширения и самообогащения, и, произнося от лица своего народа «мы», он действительно чувствует себя как бы его живым аванпостом, блюдущим его имя, его достоинство и его земной интерес. И о других народах он мыслит всегда исходя от своего народа, а о вселенскости он помышляет именно как патриот. Поэтому можно сказать, что национализм есть правая и верная любовь личного «я» к тому единственному для него национальному «мы», которое одно может вывести его к великому, общечеловеческому «мы» Человек может найти общечеловеческое только так углубить свое
духовно-национальное лоно до того уровня, где живет духовность, внятная всем векам и народам.
Единение человека с его народом — единение национальное и патриотическое — слагается обычно в форму правовой связи и принимает вид государственного единения. Вследствие этого национализм и патриотизм живут в душе в теснейшей связи с государственным правосознанием. Инстинкт, дух и чувство права, восполняя друг друга, создают в душе ту цельную, мужественную и нравственно-прекрасную энергию, которая необходима для героической обороны родины и которая в то же время не позволяет человеку впадать в состояние мирозавоевательной алчности. Эта энергия есть проявление «естественного правосознания».
Дня человека с таким правосознанием весь род человеческий входит в правопорядок, в эту живую сеть субъективных правовых ячеек; и любовь к своему отечеству не ведет его к отрицанию естественного права на существование и на духовный рост у других народов. Для такого националиста — право других не кончается там, где начинается интерес его народа, а право его народа не простирается до пределов его силы, но лишь до пределов его духовной необходимости. Каждый народ имеет неотъемлемое естественное право вести национально-духовную жизнь, которая бывает иногда возможна и вне самостоятельной суверенной государственности; и каждый народ, отстаивая свою духовно-культурную самобытность, прав. Народы при всех условиях призваны видеть друг в друге не материал для завоевания и порабощения, а субъектов естественного и международного права, и поэтому они призваны рассматривать свои взаимные споры как споры о праве. Только при таком понимании и восприятии дела — национализм, обоснованный духовно, будет постепенно преодолевать в себе свой опасный шовинистический уклон: ибо любовь к своему народу не есть неизбежно ненависть к другим народам; самоутверждение не есть непременно нападение; отстаивание своего совсем не означает завоевание чужого. И, таким образом, национализм и патриотизм становятся явлениями высокого духа, а не порывами заносчивости, самомнения и кровопролитного варварства, как пытаются изобразить это иные современные публицисты, не помнящие рода и растерявшие национальный дух.
При всех условиях неблагоразумно и опасно культивировать патриотизм как слепое, внеэтическое исступление, забывая о том, что внеэтическое ожесточение может только развязать безрассуд-
* Оба воззрения характерны для современного шовинизма и воинствующего империализма
ную стихию международного нахрапа, а слепота может только довершить это безрассудство. Столкновение народов есть на самом деле не просто столкновение слепых и ненавистных взаи-мопосягательств, как думают нередко и трезвые обыватели, и «мудрые» политики; это есть, по существу своему, столкновение правовых притязаний, в основе которого лежит различное понимание и толкование естественных прав, принадлежащих народам. Такое столкновение требует правового регулирования. Естественное право народа есть притязание его на духовно достойную жизнь, на расцвет его Богу-служащей духовной культуры. Решение такого спора о правах посредством силы и завоевания есть способ примитивный и, как показывает история последних десятилетий, культурно-разрушительный. Война становится все более и более обоюдоострым орудием; она оказывается способом, опасным не только для побежденного, но и для победителя; она требует от народа таких духовно и нервно непосильных напряжений и грозит им таким внутренним социальным распадом, что заставляет людей помышлять со все возрастающей искренностью о правовом разрешении международных столкновений. Трудно надеяться на то, что война исчезнет совсем из истории человечества; однако она все более приобретает и будет приобретать для воюющих значение совместного или даже всеобщего «харакири», т. е. хозяйственнополитического и социально-культурного самоубийства или, во всяком случае, самоизуродования; и поэтому исторически можно предвидеть, что в дальнейшем будет возрастать тяготение к правовому разрешению международных споров.
Столкновение прав есть спор о праве, а спор о праве должен разрешаться именно на путях правовой организации и взаимного признания взаимных прав. Духовное назначение войны в истории человечества и состоит, между прочим, в том, чтобы убедить людей в естественности и необходимости правового пути.
Вот почему патриотизм и национализм, вскормленные духом и сроднившиеся со здоровым правосознанием, не могут видеть в войне лучшего способа бороться за право; отнюдь не впадая в наивное прекраснословие пацифизма и в его политическую пропаганду, которая только и может обезоружить доверчивого и передать его на поток и разграбление воинственным соседям, настоящий патриот должен искать не силы, попирающие всякое право, а права, поддержанного достаточной силой...
Итак, любить свою родину не значит считать ее единственным на земле средоточием духа, ибо тот, кто утверждает это, не знает вообще, что есть Дух, а потому не умеет любить и дух своего народа; его удел — звериный национализм. Нет человека и нет народа,
который был бы «единственным» средоточием духа, ибо дух живет по-своему во всех людях и во всех народах. Истинный патриотизм и национализм есть любовь не слепая, а зрячая; и парение ее не только не чуждо добру и справедливости, и праву, и, главное, Духу Божию, но есть одно из высших проявлений духовности на земле
Послесловие
Таков утверждаемый нами путь духовного обновления. Таковы первые, фундаментальные вопросы человеческого бытия, древние, как мир, и в то же время требующие от нас новой очевидности, нового постижения и нового осуществления. Это необходимые человеку формы духовной жизни. Они представляют собою некое органическое единство, цельное и нерасторжимое; и ни одна из этих форм не может быть по произволу отвергнута или отдана в жертву мировому соблазну.
1. Надо научиться веровать. Не — «верить» вопреки разуму и без оснований, от страха и растерянности, а веровать цельно, вместе с разумом, веровать в силу очевидности, загоревшейся в личном духовном опыте и не могущей угаснуть.
2. Такая вера добывается любовью, духовною любовью к совершенному. Верование и любовь связаны воедино: в человеческой душе, в глубине личного сердца (субъективно) и там, вверху, в самом духовном Предмете (объективно). Кто полюбит качество, тот уверует в Бога; кто полюбит Бога, тот уверует в качество и возжелает совершенного в земных делах.
Через веруй любовь постигается и осмысливается все остальное. Так, смысл свободы в том, чтобы самому полюбить, через любовь самому увидеть и через очевидность — самому уверовать; свобода есть самостоятельная, самобытная, творческая любовь и вера. И совесть движется силою веры и любви. И семья есть первое лоно любви и веры. И родина постигается любовью и строится верою. И национализм есть не что иное, каклюбовь к своеобразной духовности своего народа и вера в его творческие богоданные силы. Без любви и веры невозможно правосознание, необходимое для государственности, оберегающей нацию, и для справедливой организации хозяйственного труда.
3. Мы должны научиться свободе. Ибо свобода не есть удобство жизни или приятность, или «развязание» и «облегчение», но претрудное задание, с которым надо внутренне справиться. Свобода есть бремя, которое надо поднять и понести, чтобы не уронить его и не пасть самому. Надо воспитывать себя к свободе, надо созреть к ней, дорасти до нее, иначе она станет источником соблазна и гибели.
Свобода необходима верующему и любящему, чтобы любить любимое цельно и веровать искренно. Без свободы не будет настоящей веры и любви.
Но первым проявлением свободы должен быть совестный акт. И первым жилищем свободы должна быть семья, чтобы человек в семейной жизни созрел к свободному патриотизму, свободному национализму и свободной государственности.
4. Мы должны научиться совестному акту. Он откроет нам живой путь к восприятию Бога и к вере. Он научит нас самоотверженной любви. Он даст нам величайшую радость — радость быть свободным в добре.
Совесть научает нас строить здоровую, духовную семью. Она откроет нам искусство любить родину и служить ей. Она предохранит нас от всех соблазнов и извращений ложно понятого национализма.
5. Мы должны научиться чтить и любить, и строить наш семейный очаг—это первое, единственное гнездо любви, веры, свободы и совести, эту необходимую и священную ячейку родины и национальной жизни.
6. Мы должны научиться духовному патриотизму, научиться обретению родины и передать это умение всем другим, кто соблазнился о своей родине и пошатнулся в сторону интернационализма. Мы должны понять, что люди связуются в единую родину силою веры, любви, внутренней свободы, совести и семейного духа, силою духовного творчества во всех его видах; и, увидев это, мы должны утвердить наше священное право быть единой духовно великой нацией.
7. Истинный национализм есть как бы завершительная ступень в этом восхождении. И в нем, как в фокусе, собираются все другие духовные лучи. Почему ныне появились люди, сомневающиеся в правоте национализма? Потому что они представляют себе национализм в отрыве от веры, как проявление земной, обособляющейся гордыни; в отрыве от любви, как воплощение самомнения и жадности; в отрыве от свободы, как воинственное стремление поработить все иные народы; в отрыве от совести, как систему агрессивности, кровожадности и хищности; в отрыве от органической семейственности, как произвольную и неискреннюю выдумку; в отрыве от патриотизма, как начало противодуховное и противо-культурное... Кто же виноват в этих заблуждениях? Позволительно ли молчать при виде этого соблазна?
Нет, родившись в эпоху соблазна, соблазнами окруженные и одурманиваемые, мы должны противопоставить этим временным соблазнам — вечные основы духовного бытия, необходимые человеку в его земной жизни. Эти вечные основы слагают
единую духовную атмосферу, единый путь, который необходимо прочувствовать и усвоить; чтобы на вопрос: «во что же нам верить?» мы могли бы ответить живою верою: в Бога, в любовь, в свободу, в совесть, в семью, в родину и в духовные силы нашего народа, начиная с Бога и возвращаясь к Нему, утверждая, что и любовь, и свобода, и совесть, и семья, и родина, и нация суть лишь пути, ведущие к Его постижению и к Его осуществлению в земной жизни человека.
Знаем, что помимо этих путей к Нему ведут еще и иные пути: и наука, и философия, и искусство. Но об этих путях и о связанных с ними кривых истолкованиях и соблазнах надлежит говорить отдельно.
----- Часть IX -------
ОСНОВЫ БОРЬБЫ
ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ РОССИЮ
1. На кого нам надеяться
Мы должны надеяться на Бога, на д уховные силы национальной России и на самих себя, верных Богу и родине. И только; этого довольно и больше надеяться нам не на кого.
И прежде всего, и больше всего — мы должны надеяться на Божию помощь, молитвенно призывать ее и укреплять свои души в Божиих веяниях и зовах.
Напрасно иные представляют себе дело так, что между Богом и человеком лежит разобщение, что человек предоставлен в земной жизни своим собственным силам, что Господь есть судия и взыскатель, но не помощник и не источник любви и силы. Если бы люди знали, что Бог естьДух^, то они поняли бы, что во всякой человеческой духовности веет живое присутствие Божие: в совести, в верности и в храбрости, в смирении и в жертвенности, в знании и в науке, в красоте и в искусстве, в дисциплине и в правосознании, в молитве и в богомыслии... И если бы люди знали, что Бог есть Любовь^5, то они поняли бы, что во всякой искренней любви веет живое дыхание Божие-.ълюбъы ко всякому совершенству, в любви к родителям, к жене, кдругу и кдетям, в любви кродине и ксвоему народу, к ближним и ко всякому живому существу. Бог доступен нам и близок нам; от нас зависит призывать его, т. е. укреплять свою слабую силу Его великою Силою, свой дух — Его Духом, свою любовь — Его Любовию. Мы должны помнить, что «всякий, делающий правду, рожден от Него» (1 Ин. 2, 29); и еще, — что «если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него» (1 Ин. 3, 21—22). Мы должны быть уверены, что наше дело есть дело самой России, а дело России — правое; правое же дело всегда найдет защиту и помощь у Бога.
Мы должны надеяться, далее, на духовные силы национальной России. Тот, кто сомневается в них, пусть изучает русскую историю и пусть увидит, какие природные, пространственные и исторические бремена поднял русский народ, создавая на протяжении тысячелетия свое единство, строя свое государство, от
стаивая свою веру и творя свою культуру*. Пусть припадет он душою к тем источникам, из которых русский народ черпал свои силы; к его молитве, к его совестным исканиям, к его патриотическому и национальному чувству, к его художественному созерцанию, к его государственной воле, к самобытности его на всех путях жизни. Надо утвердить свой дух в духе национальной России-, надо слить свой инстинкт срусским национальным инстинктом самосохранения. И тогда нам откроется, что русский народ искони обретал свою силу через молитву, верность и жертвенное служение.
И, наконец, мы, русские люди всех племен, всех народностей и всех исповеданий, должны надеяться на себя, на самих себя и ни на кого другого. Будет сделано только то, что мы сделаем сами; чего мы сами не сделаем, того не сделает за нас никто другой. .. Дело освобождения и возрождения России есть наше общее дело, и оно будет выполнено нашими силами и нашими руками. Поэтому нам необходимо усвоить три правила, ввести их в свою душу, как бы в плоть и кровь, и передать их детям и внукам.
Первое: на чужие силы надеетсялишь безвольный человек, а безвольный человек не победит никогда. Победа безвольного есть пустая видимость. Д ля него самая победа есть разновидность поражения, которая вот-вот обнаружит всю его немощь. И если он случайно «победит», то он не сумеет взять свою победу, а если он случайно возьмет ее, то не удержит..
Второе правило: затруднение и неудача ослабляют силу безвольного человека и укрепляют силу волевого. Волевой человек живет и рассуждает так: «не удалось — значит мало сил собрал, значит соберу их вдвое...»; «непреодолимо — значит боролся не так, как надо, значит найду верный способ, может быть, недооценивал силы врага, переоценивал свои силы, плохо готовился, мало углублялся, неумело организовывал...» Затруднение заставляет волевого человека извлечь из самого себя еще больше силы, чем он извлекал доселе, но отнюдь не отнимает у него решимости и мужества.
И, наконец, третье правило: из двухлюдей кпобеде ближе тот, в ком сильнеелюбовькделу, кому лично нечего терять и кто ничего не боится Такой человек борется не «постольку-поскол ьку», а — без оговорок; не по принуждению, а добровольно; не по должности, а всей душой, не напоказ, а честно и грозно. Он отдает все, чтобы взять все; т. е. чтобы осуществить всю свою цель и удержать ее.
Трудно представить себе, что смогут сделать два волевых человека, которые укоренились в Боге и в патриотической верно
* См. мои «Три речи о России». См. также соответствующие статьи в журнале «Русский Колокол», кн. 1—9-
сти. которые безусловно верят друг другу и сговорились друг с другом на жизнь и на смерть... А три таких человека? А десять? А тысячи?..
Что же нам нужно?
Глубокая вера в то, что наше дело — правое перед Лицом Божиим и что молитвенное очищение души даст нам нужные силы. Сосредоточенная подготовка своей воли и своего умения. Неоши-бающийся отбор волевых и безусловно доверяющих друг другу людей. Выдержанный, трезвый расчет в борьбе. И неколеблюще-еся подчинение единому вождю и единому плану.
Вот на что и на кого нам надо надеяться.
2. О русском самостоянии
При свете того мученического костра, на котором горит Россия, мы должны пересмотреть все основы нашего государственного быта и нашего национального самочувствия. И первое, чему мы должны научиться, — это русскому национальному самосознанию.
Мы должны укрепить в себе и в наших детях и внуках инстинкт национального самосохранения. Мы должны научиться слышать его в наших душах и повиноваться его требованиям. Мы должны понять, что все совершившееся с Россией во время великой войны и революции и еще совершающееся на наших глазах, — возникло оттого, что в русском народе временно помрачилось духовное самосознание и временно ослаб инстинкт национального самосохранения, тот самый инстинкт, который увел его от татар из южных степей в северные леса, который вел политику московских князей, собирателей Руси, который вывел Россию из татарщины и смуты, повел ее за Петром Великим и Ломоносовым, восстал на Наполеона и замирил оружием, колонизацией и культурой одну шестую часть земной поверхности. В этом исторически замедленном, но великом подъеме русский народ обнаружил такую силу и гибкость инстинкта самосохранения, такой государственный смысл и такт, такую способность личного самопожертвования, такое всеперемалывающее и всепобеждающее терпение, такую цепкость, верность себе и самобытность, что сомневаться в его грядущем возрождении могут только совершенно неосведомленные и непомерно жадные иностранцы. Русский народ восстанет и возродится. Но для того чтобы это совершилось, должно быть преодолено то временное изнеможение его национального инстинкта, то временное помрачение его духовного самосознания, которое привело его к нынешнему состоянию. Гнет коммунистов является,
по-видимому, величайшим препятствием для этого; но именно он-то пробуждает, и углубляет, и закаляет русское национальное самосознание, в унижениях и муках подготовляя великий подъем религиозной веры и национального чувства.
Народ с колеблющимся инстинктом национального самосохранения и помраченным духовным самосознанием—не может отстаивать свою жизнь на земле; а заменить этот инстинкт и это самосознание нельзя ничем. Народ должен чувствовать в поддонных глубинах своей души свое единство, свою неразрывную связь и сопринадлежность, свою самобытность и духовную драгоценность своего своеобразия перед Лицом Божиим; он должен чуять свое «мы» и его величие; он должен верить в свои силы, в свою правду и свою богоблагословенность. И это чувство и чутье, эта вера и гордость должны будить в нем в роковые исторические часы ту особую природно-инстинктивную «муравьи-ность» и «пчелиность», без которых ему нельзя отстаивать свое существование на земле.
Здесь нужна не хвастливость, не гордыня и не «мессианская» мания величия. Здесь нужны крепкая вера в Бога и воля к жизни. Здесь необходимо полусознательное, национальногосударственное чутье; и чувство собственного достоинства. Нация есть живая система самоутверждения и самопомощи. Ей не на что и не на кого надеяться, кроме Бога и своих собственных сил. И после верности Богу у нее нет другого высшего закона, кроме самоподдержания и расцвета духовно-национальных сил. Народ призван блюсти себя сам. Он призван к духовному и государственному самостоянию. Он сам должен уметь заклинать свои злые страсти и будить свои благие силы. Он должен помнить, что всяким изнеможением его инстинкта и всяким помрачением его самосознания беззастенчиво и безжалостно воспользуются все его непоколебавшиеся и непомрачившиеся соседи. Ибо миром международных отношений движет не благородство, не благодарность и даже не правосознание, а интересы и силы народов.
Только самодеятельностью спасаются народы. Только в само-стоянии будет жить Россия. Никто ей не поможет. Она должна помочь себе сама: молитвенным подъемом и действенной волей.
3. Историческое единство России
Россия должна прежде всего почувствовать сердцем и волею, а затем восстановить и организовать на деле свое духовное единство.
Духовное единство России доказано той великой — самобытной и глубокой — культурой, которая была создана единым русским народом во всем сложном сочетании его национальностей. Эта культура создавалась в течение целого тысячелетия на единой, все расширяющейся территории, в единой и общей равнинной природе, в едином сурово-континентальном климате, под единой государственной властью и системой управления, при едином государственном и культурном языке, в единой судьбе международных войн и социально-классового, хозяйственноторгового сотрудничества. Все это выработало у народов России сходство душевного уклада, подобие характеров, близость в обычаях и, наконец, то основное единство в восприятии мира, людей и государства, которым русские народы без различия племени отличаются от западноевропейских народов.
Из этого единого и общего «материала» жизни и быта славяно-русское племя, исповедовавшее христианско-право-славную веру, создало и выносило тот самобытный духовнотворческий акт, которым творилась и создавалась русская национальная культура.
Славяно-русское племя исторически вело и государственно строило Россию Оно никогда не угнетало других, численно меньших племен, но само вынуждено было то свергать их гнет (татарское иго), то обороняться всею силою от их завоевательных вторжений (крымские татары, литовцы, поляки, шведы). Русский народ не жесток и не воинствен; он от природы благодушен, гостеприимен и созерцателен. Но русские равнины были искони со всех сторон не защищены и открыты, и все народы рады были травить их безнаказанно. И поэтому России пришлось провоевать ровно две трети своей жизни. Издревле русский пахарь погибал от меча: а русский воин кормился сохою и косою. Замирение и колонизация шли тысячу лет рука об руку*
Славяно-русское племя, проведшее Россию через все эти испытания, не отгораживалось от замиренных и присоединенных им племен даже тогда, когда они были совершенно чуждыми ему в расовом отношении, но принимало их постепенно — гражданственно, кровно, культурно и правительственно — в свой состав Различия не исчезали, но равноправие и душевно-бытовое общение вызывали кжизни духовно-братское единение. Вследствие этого духовно-творческий акт славяно-русского племени, не изменяя своей природе, приобретал все новые горизонты и задания-. чтобы вести Россию, он должен был становиться все более
* См. мои «Три речи о России». См. в «Русском Колоколе» статьи Б. А. Никольского: № 3 — «Войны России», № 5 — «Русская колонизация»
свободным, гибким, отзывчивым и глубоким. Его вели: славянская даровитость и вселенское дыхание русского Православия. И когда он окреп и развернул свое творчество, то оказалось, что Россия есть не пустое слово и не просто единое государство, но система духовного единства, созидаемая единым,русско-национальным духовным актом.
Этот единый акт есть по глубине и гибкости своей национальный акт для всех племен России: все они найдут себе в нем творческий исход и родную стихию. Он собрал все их различные творческие струи и, впитав их, уместил, угнездил их в себе. Этим он их принял, освободил и оформил. И всякий сын России, владеющий русским языком, найдет себе в русской вере, в русской добродетели, в русской песне и музыке, в русской живописи и архитектуре, в русской науке и философии, в русском праве и правосознании—такие пути жизни и такие формы творчества, которых никогда не даст ему ни один чужой народ.
Это духовно-культурное единство России завершается ныне, как и встарь, ее территориально-политическим единством, ее общею международно-военною судьбою и ее хозяйственно-производительною и торговою сопринадлежностью. Россия не выдумана дерзким завоевателем подобно империи Наполеона; она не есть недавно и наскоро построенная федерация подобно Штатам Северной Америки. Она есть живой, духовно и исторически сложившийся организм, который при всякой попытке раздела и из всякого распада вновь восстановится таинственной, древней силой своего духовного бытия.
4. Что дало России православное христианство
Национальная духовная культура творится из поколения в поколение не сознательной мыслью и не произволом, а целостным, длительным и вдохновенным напряжением всего человеческого существа, и прежде всего, инстинктом и бессознательными, ночными силами души. Эти таинственные силы души способны к духовному творчеству только тогда, если они озарены, облагорожены, оформлены и воспитаны религиозной верою. История не знает культурно-творческого и духовновеликого народа, пребывавшего в безбожии. Самые последние дикари имеют свою веру. Впадая в безверие, народы разлагались и гибли. Понятно, что от совершенства религии зависит и высота национальной культуры.
Россия была искони страною православного христианства Ее творчески ведущее национально-языковое ядро всегда испове
довало православную веру*. Вот почему дух Православия всегда определял и ныне определяет столь многое и глубокое в строении русско-национального творческого акта. Этими дарами Православия в течение столетий жили, просвещались и спасались все русские люди, все граждане Российской Империи, — и те, которые о них забывали, и те, которые их не замечали, от них отрекались или даже их поносили; и граждане, принадлежавшие к инославным исповеданиям или инородным племенам; и другие европейские народы за пределами России.
Для исчерпывающего описания этих даров понадобилось бы целое историческое исследование. Я могу указать на них лишь кратким исчислением.
1) Все основное содержание христианского откровения Россия получила от православного Востока и в форме Православия на греческом и славянском языках. «Великий духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В этой священной стихии исчез и обновился мир» (Пушкин). Эту священную стихию — крещения и облечения во Христа Сына Божия — русский народ переживал в Православии. Оно было для нас тем, чем оно было для западных народов до разделения церквей; оно давало им то, что они впоследствии утратили, а мы сохранили; за этим утраченным духом они начинают ныне обращаться к нам, потрясенные мученичеством Православной Церкви в России.
2) Православие положило в основу человеческого существа жизнь сердца (чувства, любви) и исходящего из сердца созерцания (видения, воображения). В этом его глубочайшее отличие от католицизма, ведущего веру от воли к рассудку, — и от протестантизма, ведущего веру от разума к воле. Это отличие, тысячу лет определявшее русскую душу, останется навеки; никакая «уния», никакое «католичество восточного обряда», никакое протестантское миссионерство — не переделает православную душу. Весь русский дух и уклад оправославлены. Вот почему когда русский народ творит, то он тцегсувидеть и изоб-разитьлюбимое. Это основная форма русского национального бытия и творчества. Она взращена Православием и закреплена славянством и природой России.
3) В нравственной области это дало русскому народу живое и глубокое чувство совести, мечту о праведности и святости, вер-
’ См., например, статистические данные Д. Менделеева «К познанию России», с. 36—41,48—49- К началу XX века Россия насчитывала около 66% православного населения, около 17% неправославных христиан и около 17% нехристианских религий (около 5 миллионов евреев и около 14 миллионов тюркско-татарских народов).
ное осязание греха, дар обновляющего покаяния, идею аскетического очищения, острое чувство «правды» и «кривды», добра и зла.
4) Отсюда же столь характерный для русского народа дух милосердия и всенародного, бессословного и сверхнационального братства, сочувствия к бедному, слабому, больному, угнетенному и даже преступнику*. Отсюда наши нищелюбивые монастыри и Государи * отсюда наши богадельни, больницы и клиники, создававшиеся на частные пожертвования.
5) Православие воспитывало в русском народе тот дух жертвенности, служения, терпения и верности, без которого Россия никогда не отстоялась бы от всех своих врагов и не построила бы своего земного жилища. Русские люди в течение всей своей истории учились строить Россию «целованием Креста» и почерпать нравственную силу в молитве. Дар молитвы есть лучший дар Православия.
6) Православие утвердило религиозную веру на свободе и на искренности, связав их воедино; этот дух оно сообщило и русской душе, и русской культуре. Православное миссионерство стремилось приводить людей «на крещение» — «любовью», а «никак не страхом»***. Именно отсюда в истории России этот дух религиозной и национальной терпимости, который инославные и иноверные граждане России оценили по достоинству лишь после революционных гонений на веру.
7) Православие несло русскому народу все дары христианского правосознания — волю к миру, к братству, справедливости, лояльности и солидарности; чувство достоинства и ранга; способность к самообладанию и взаимному уважению — словом, все то, что может приблизить государство к заветам Христа****.
8) Православие вскормило в России чувство ответственности гражданина, чиновника и Царя пред Богом, и прежде всего упрочило идею призванного, помазанного и Богу служащего монарха. Благодаря этому тиранические государи были в истории России сущим исключением. Все гуманные реформы в русской истории были навеяны или подсказаны Православием.
9) Русское Православие верно и мудро разрешило труднейшее задание, с которым почти никогда не справлялась Западная
* См., например, у Достоевского: «Дневник писателя за 1878 г», статья III «Среда» и статья V «Влас».
** Ср., например, у И. Е. Забелина: «История города Москвы», с. 431-432 и др.
*** Из наставления митрополита Макария первому казанскому архиепископу Гурию в 1555 г. См. «Русский Колокол», кн. 2, с. 42. Статья И. И. Лаппо. Исключения только подтверждают основное правило
**** См. ниже главу шестнадцатую
Европа, — найти правильное соотношение между церковью и светскою властью , взаимное поддержание при взаимной лояльности и взаимном непосягании.
10) Православная монастырская культура дала России не только сонм праведников. Она дала ей ее летописи, т. е. положила начало русской историографии и русскому национальному самосознанию. Пушкин выражает это так: «Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и просвещением»* **. Нельзя забывать, что православная вера долго считалась в России истинным критерием «русскости».
11) Православное учение о бессмертии личной души***, о повиновении высшим властям за совесть, о христианском терпении и об отдаче жизни «за други своя» дало русской армии все источники ее рыцарственного, лично бесстрашного, беззаветно послушного и всепреодолевающего духа, развернутого в ее исторических войнах, и особенно в учении и в практике А. В. Суворова, и не раз признававшегося неприятельскими полководцами (Фридрихом Великим, Наполеоном и др.).
12) Все русское искусство изошло из православной веры, искони впитывая в себя ее дух — дух сердечного созерцания, молитвенного парения, свободной искренности и духовной ответственности****. Русская живопись пошла от иконы; русская музыка была овеяна церковным песнопением; русская архитектура пошла от храмового и монастырского зодчества; русский театр зародился от драматических «действ» на религиозные темы; русская литература пошла от церкви и монашества.
Все ли здесь исчислено? Все ли упомянуто? Нет. Здесь еще не сказано о православном старчестве, о православном паломничестве, о значении церковно-славянского языка, о православной школе, о православной философии. Но всего здесь и нельзя исчерпать.
Все это и дало Пушкину основание установить как незыблемую истину: «Греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер»*****.
* См. ниже главу двенадцатую. Имеется в виду допетровская Россия
** Пушкин. «Исторические замечания», 1822
*** «Утраченное в современном протестантизме, толкующем вечную жизнь не в смысле бессмертия личной души, которая признается смертной».
**** См. у Гоголя «В чем же наконец существо русской поэзии?» А также «О лиризме наших поэтов». Ср. мою книгу «Основы художества. О совершенном в искусстве»
***** Пушкин, «Исторические замечания», 1822.
Таково значение православного христианства в русской истории. Вот чем объясняются те лютые, исторически неслыханные гонения на Православие, которые оно претерпевает ныне от коммунистов. Большевики поняли, что корни русского христианства, русского национального духа, русской чести и совести, русского государственного единства, русской семьи и русского правосознания — заложены именно в православной вере, поэтому они пытаются искоренить ее. В борьбе с этими попытками русский народ и православная церковь выдвинули целые сонмы исповедников, мучеников и священномучеников; и в то же время возродили религиозную жизнь эпохи катакомб — всюду, в лесах, в оврагах, в селах и городах. За двадцать лет русский народ научился сосредоточиваться в молчании, очищать и закалять свою душу перед лицом смерти, молиться шепотом, организовывать церковную жизнь в гонениях и закреплять ее в тайне и тишине. Закладывается фундамент новой России: она будет строиться на священной крови и на молитвенных слезах.
И ныне, после двадцати лет гонения, коммунисты должны были признать (зимой 1937 г.), что одна треть городских жителей и две трети сельского населения продолжают открыто веровать в Бога. А сколькие из остальных веруют и молятся втайне?..
Гонения пробуждают в русском народе новую веру, полную новой силы и нового духа. Страдающие сердца восстанавливают свое исконно древнее религиозное созерцание И Россия не только не уйдет от Православия, как надеются ее враги на западе, но укрепится в священных основах своего исторического бытия.
Последствия революции преодолеют ее причины.
5. Творческие уроки русской истории
Для того чтобы увидеть будущую Россию и верно пойти ей навстречу, мы должны глубоко вдуматься и вчувствоваться в русское историческое развитие, как бы подслушать законы и формы русского национального бытия и сделать соответствующие выводы. Эти выводы будут приблизительно таковы.
1. Для того чтобы русская жизнь духовно цвела, вера должна быть в России свободна*, а церковь — не подчинена государственной власти. Только свободная вера искренна; только искренняя вера цельна и сильна; только цельная и сильная вера воспитывает людей и вдохновляет их творчество.
* Это не относится к учениям сатанинским, противоестественным и противогосударственным
2. Дня того чтобы религиозно воспитать народ, христианская церковь должна преодолеть в себе склонность к сентиментальному непротивленчеству и преклонение перед западным богословием. Православная церковь, строившая Россию, была ми-роприемлюща и национальна; она не отвергала государства и блюла верные и мудрые пути восточного православия.
3. Русский народ справится с историческим бременем и опасностями только тогда, если это бремя будет несомо всеми. Все русские люди должны быть вовлечены в судьбу и в борьбу своего отечества. Это участие совсем не должно выражаться непременно в «демократических голосованиях», в которых обычно своекорыстные люди противогосударственно отвечают на непонятные вопросы. Это участие должно выражаться во внутреннем отношении к России и в вытекающих из него организованных действиях. Каждый русский человек должен любить свою родину, видеть сердцем и волею ее пути, принимать правосознанием ее законы и ее власть и искать жертвенного служения России на законных путях. Задача власти — открывать и подсказывать эти пути гражданам. В этом — основная задача будущего русского государственного устройства.
4. Государство совсем не есть сочетание насилия и коварства, свирепости и обмана. Корень его жизненности — внутри человека, в его правосознании. Поэтому в душах должно воспитываться от малых лет и на протяжении всей жизни здоровое правосознание, приемлющее за совесть правопорядок, законы и власть. Правосознание есть крепчайший цемент государства, источник его силы и расцвета.
5 Россия будет творить свою культуру и цвести только тогда, если в русских людях сложится сильный, духовный и дисциплинированный характер. Бесхарактерная Россия будет подкуплена, обманута, разложена и завоевана другими народами. Русскому человеку необходимы — закон, мера и форма. Его величайшая опасность — разнуздание и всесмешение*.
6. Никакое государство не может строиться без жертвенности. К России, с ее опасностями и затруднениями, это относится с особенной силой. Но это распределение жертв между сословиями и классами должно быть равномерным, посильным и братским. Абсолютная справедливость неосуществима; но у всех граждан должна быть живая уверенность, что справедливость ищется искренно всенародно и правительственно.
7. Россия многонациональна и многоисповедна. Без взаимного братского признания и уважения, без культурной автономии и терпимости Россия не сможет объединиться и окрепнуть.
* См. мои брошюры «Три речи о России» и «Творческая идея нашего будущего».
8. Русский человек даровит и предприимчив. Его творческая инициатива должна быть не скована, а освобождена и поощрена. Достаточно вспомнить историю русской колонизации; историю русского казачества; историю русской торговли; введение подушной подати Петром Великим, развязавшее на сто лет запашку земли; земельную реформу Столыпина...
9. Россия при ее объеме и составе не будет существовать под слабой государственной властью, чем бы эта слабость ни вызывалась: безволием правителя, противодействием партий или международной зависимостью. Русская государственная власть или будет сильной, или ее не будет вовсе. Но эта власть должна быть в то же время — не бюрократической, не централизованной, не далекой от населения и не грубо насильственной. Она должна быть ответственной и творческой; с дальнозоркой, большой идеей, с чистыми руками и с жертвенным служением.
10. Россия искони велась и строилась своими законными монархами. Ее история отмечает республиканскую формуправления два раза — московская «семибоярщина» в эпоху Смуты (1609—1612) и современное нам революционное бедствие (1917—1938?). Это означает, что Россия становилась республикой только в периоды, разложения и провала. Русская политика велась князьями и государями в период домонгольского киевского расцвета, в эпоху татар и освобождения от них, в эпоху возвышения Москвы, в эпоху возвышения Петербурга, в эпоху имперского и императорского объединения России, в эпоху освобождения крестьян и предреволюционного роста. Это историческое сопоставление говорит само за себя.
11. Историческая задача верховной власти в России была и будет всегда одна и та же: властно внушаемая сверху солидаризация всего народа вопреки сословному и классовому явлению; организация России в духе братской корпорации и в то же время в форме отеческого учреждения-, патриотическое объединение русских людей и народностей на основах веры в Бога, верности, чести, служения и жертвенности при постоянном привлечении творчески сильных и идейно-талантливых людей снизу.
12. Россия может быть сильна и свободна только тогда, когда духовно и государственно на высоте ее ведущий слой (духовенство, офицерство, чиновничество, интеллигенция). Крушение ведущего слоя означает всегда крушение здоровой государственности и распад страны Так всегда было, так всегда и будет.
13. России необходимо, чтобы ее средний слой был многочислен, состоятелен, патриотичен и организован России необходимо, чтобы ее крестьянство владело землею на праве частной собственности; чтобы оно имело гражданское полноправие; что
бы оно вело интенсивное хозяйство. России необходимо, чтобы ее рабочее сословие было братски поставлено в достойные — духовные, материальные, жилищные, оседлые и семейные — условия жизни.
14. Жизнь России требует, чтобы все стояли за каждого, а один за всех; чтобы правительство и армия были неотрывны от народа, а народ от них; чтобы национальный инстинкт самосохранения чувствовал себя духовно правым и религиозно благословленным.
Таковы творческие уроки русской истории
6. Внешние причины русской революции
Причины русской революции глубоки и сложны. Не следует ни замалчивать их, ни упрощать. Напротив, тот, кто хочет бороться за Россию, должен тщательно и всесторонне продумать их...
Но это не значит отыскивать виновников и карать их.
Дело не в наказании и не в мести. Кто из нас самих во всем прав и безошибочен? А революция уже оказалась неслыханным по суровости мучительным наказанием. Наказаны все: и богатые, и средние, и бедные; и социалисты, и либералы, и правые; и народ, стонущий под игом коммунистов; и эмиграция, рассеянная по лицу земли, нищая и униженная. А ныне наказуются уже сами коммунисты, ненавистные всему народу, проклятые в истории и сами изобретшие для себя унизительные судьбища, пытки и казни; они будут терзать друг друга до конца, пока гнев народа не смоет их в бездну. Историческое возмездие неизбежно и неотвратимо; и только злобные и мстительные натуры могут предвкушать его и требовать новых потоков крови, которые прольются и без их требования.
Итак, за Россию отвечаем перед Богом мы все, все сословия, все партии, все поколения, весь народ. Одни виновны в своекорыстии и жадности; другие в доктринерстве и заблуждениях; третьи в трусости и сентиментальности; четвертые в прямой измене; пятые в беспочвенном бахвальстве, заносчивости и непредметном образе действий. Все виновны и в неверном делании, и в пассивном неделании...
Но суть дела не в виновниках, а в причинах. Причины же — не личные, а общие.
Говоря о причинах русской революции, надо иметь в виду причины внешнеевропейские и внутрирусские. Начнем с первых
1. Русская революция есть последствие и проявление глубокого мирового кризиса, переживаемого всеми странами, каждою
по-своему. Этот кризис грозит всем народам. Он назревал давно, но большинство не видело его и не разумело. Сущность его в за-силииматерии и в бессилии духа.
Человек призван от Бога к духовной власти над своею душою и над миром материи. Эту власть западноевропейское человечество постепенно утрачивает.
Оно утрачивает власть над душою потому, что перестает верить в ее самостоятельное бытие и пренебрегает ее глубокими бессознательными истоками. В древности человек владел душою при помощи магии. В христианскую эпоху он научился владеть ею через божественное откровение и веру. Ныне человек отверг и магию, и религию, и притом потому, что отверг и самую душу: он считает себя существом материальным и живет суевериями. Дух отмирает в нем; душа пренебрежена и запущена: ее ведут интересы, страсти и произвол. В человеке торжествуют материя и чувственный инстинкт.
Но именно поэтому современное человечество утрачивает и власть н-эл материей. Технические науки открывают перед ним чрезмерные возможности, которые человек не успевает ни продумать, ни подчинить высшим целям своей жизни Материально современный человек может слишком много-, душевно — слишком мало-, духовно — почти ничего. Он подобен ребенку, играющему с огнем, или обезьяне, жонглирующей динамитными бомбами. Материя становится самозаконной силой и увлекает человека в пропасть.
Так современное человечество затеяло и войну 1914 года, которая была ему не по силам. Так оно приближается и ныне к новой войне. Испытания и соблазны нарастают; для слабого духом жизненное бремя становится непосильным; техника изобретает душепотрясающие средства разрушения; духовные устои и удержи слабеют...
Русская революция возникла именно из такой диспропорции: испытаний, соблазнов и нервных потрясений, с одной стороны, и духовной неподготовленности—с другой. Эта диспропорция была выношена в Западной Европе и навязана ею нам в виде войны. Революция пришла в Россию в форме военного крушения.
2. Русская революция есть проявление современного религиозного кризиса: это есть попытка осуществить антихристианский общественный и государственный строй, задуманный в нравственном отношении Фридрихом Ницше, а хозяйственно и политически — Карлом Марксом. Эта зараза антихристианства была принесена в Россию с Запада.
Западный европеец постепенно утрачивает веру в Бога и во Христа. Истоки этого безверия восходят к эпохе Возрождения
(XIII—XV вв.) и к эпохе Реформации (XVI в.). Французские «энциклопедисты» (половина XVIII в.) как бы подводят итоги прежним «завоеваниям» безбожия и материализма. Французская революция явилась первым практическим проявлением их учения. Наполеоновские войны разнесли этот дух по всей Европе. «Просвещение» стало равнозначным материализму, отвлеченно-рассудочному мышлению, безверию и безбожию. Великие системы немецкой идеалистической философии (Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля) пытались противостать этому безбожному духу и найти философический путь к Богу. Но учения их были непонятны даже современной им интеллигенции, а народу они не могли дать почти ничего. К тому же они были быстро извращены в сторону окончательного безбожия, материализма и прямого нигилизма (Бауэр, Фейербах, Штраус, Штирнер, Маркс). Во вторую половину XIX века эта атмосфера захватывает широкие круги западного общества и все более сгущается: повсюду торжество чувственного опыта, плоского рассудка, материализма и безбожия. Новое протестантское богословие питает дух сомнения и все более суживает сферу христианской веры. Запад теряет Христа. Фридрих Ницше начинает прямое восстание против христианства во имя «нестыдящегося» «варвара», во имя (буквально!) «дикого», «злого», «преступного» человека*. В то же время этот новый враг христианства получает политическую и хозяйственно-общественную программу, а также и организацию от Карла Маркса... Яд готов. Ему нужно еще отстояться, перебродить и найти массу последователей. Он будет применен в точке наименьшего сопротивления. Этой точкой оказалась военно-переутомленная Россия, не выработавшая в себе этого яда, но именно поэтому не выработавшая и необходимых отпорных противоядий для него.
3. Итак, русская революция есть первый опыт применения западноевропейской программы экономического материализма и интернационального коммунизма. Россия стала как бы опытным полем, где жизненно насаждается безбожная и противоестественная химера, выдуманная на Западе, для разрешения европейского социально-хозяйственного кризиса. Надо изумляться, с какою готовностью и безответственностью, с каким отсутствием патриотизма и достоинства русская революционная интеллигенция предоставила Россию западноевропейским экспериментаторам и палачам...
* Ср. Friedrich Nietzsche Werke, в изд. «Bong». Том VII, «Ессе Ното», с. 80,86-87,95,96,101,141,146,147. «Der Antichrist», с. 12, 28, 29. «Wille zurMacht»,c 151,152,154,158,161,163,166,175,177,179, 195,200,203, 209-210,230,234-235,236,239,323,326,329,341-344,359,365,381,389.
Открытия естествознания (пар, электричество и др.) и практическое использование их в промышленной технике вызывают в XIX веке великий переворот в промышленности и в строении общества. Промышленность становится машинной и фабричной; машина подавляет ручной труд; образуется промышленный и торговый капитал, с одной стороны, и всевозрастающий класс наемных рабочих, с другой*. Развивается мировой торговый оборот, слагается биржевой капитал со всеми его соблазнами и злоупотреблениями. Население Европы численно возрастает и уплотняется. Начинается погоня за рынками и колониями. Возникают две враждебные силы:л/^/?овой капитал и мировой пролетариат. Каждое государство оказывается вооруженным хозяйственным предприятием и конкурирует — и хозяйственно, и национально, и политически, и военно — с другими государствами. И в то же время каждое государство раздирается внутренними противоречиями-, и хозяйственными (борьба капитала и пролетариата, борьба промышленности и земледелия, борьба торговца и потребителя), и национальными (борьба национальностей и «меньшинств»), и политическими (республиканцы против монархистов, демократы против консерваторов, социалисты против буржуазных партий, клерикалы против светских партий), и религиозно-исповедными.
В этой атмосфере назревающей социальной революции и выдвинулась социалистическая программа. Коммунизм же есть не что иное, как последовательно и безоглядно проведенный социализм. Так, Россия становится жертвою мирового капитализма имирового социализма...
4. Русская революция началась, однако, не во имя коммунизма, а во имя демократии и республики-, она подготовлялась как политическая революция, которая должна водворить в России «свободу», «равенство» и «народоправство». Императорскую Россию расшатывали и подрывали, чтобы насадить в ней западно-европейские формы жизни, уже приведшие Европу к тупику и кризису
Европейский политический кризис состоит, во-первых, в том, что в людях вырождается правосознание-, оно оторвалось от своих религиозных корней и от христианского духа; и поэтому оно все более впадает в беспринципность и формализм; а это ведет к разнузданию правовой жизни, ко всеобщей деморализации и к социальному распылению. Правосознание отрывается постепенно и от любви к родине-, в наши дни мир кишит людьми, которые или действительно не считают ни одну страну своею родиною, или же пытаются уверить себя, что они «интернационалисты».
* Статистические данные о европейском пролетариате приведены в «Русском Колоколе», № 4.
Европейский политический кризис состоит, во-вторых, в том, что демократически-парламентарный строй медленно, но верно разлагает государственную машину, ослабляет государственную власть, понижает уровень правящей элиты и подрывает государственное единение партийной рознью. Все эти проявления и последствия демократически-парламентарного строя могли быть только вредны для России: они могли только развязать центробежные силы в стране, ослабить государственную власть, вызвать к жизни неслыханную демагогию, обострить классовую борьбу, создать угрозу гражданской войны и расшатать и ослабить Россию во всех отношениях — национально, хозяйственно и военно.
В действительности Россия нуждалась в мире, религиозном и государственном, в воспитании народных масс, в закреплении и углублении аграрной реформы Столыпина и в развитии производительных сил. Главные опасности ее были: война и революция.
5 Европейский кризис был делом, чуждым России. Европейская война была делом, крайне опасным для нас. Мы имели иные задания; мы боролись с иными затруднениями.
Рассудочное, материалистическое «просвещение* еще не проникло в толщу русского народа; оно заразило только русскую интеллигенцию — и то не всю, не до конца, и преодоление этой заразы было уже в ходу. Россия таила в себе великие запасы религиозной веры, что она и доказала во время коммунистических гонений на церковь. Русской интеллигенции предстояло великое задание — найти верное сочетание веры и знания и избежать того безбожия, которое разъедало европейскую культуру. К началу XX века этот поворот от рассудка к верующему разуму уже наметился в русской интеллигенции.
Хозяйственный кризис имел в России совсем иную природу, чем в Европе. Капитализм в России только еще зародился, и размеры русского «капитала» по сравнению с европейскими странами, а тем более с Соединенными Штатами, были просто детскими. Россия была страною сельскохозяйственною; и промышленного пролетариата в ней было сравнительно ничтожное количество. В «колониях» Россия нисколько не нуждалась: она еще не проработала своих собственных внутренних пространств и богатств. Вывоз и ввоз ее за последние 14 лет перед войною почти удвоились; вопрос о рынках сбыта мало беспокоил ее. Территориальные приобретения были ей решительно не нужны. Вопрос о черноморских проливах был делом далекого будущего Участие в европейской войне, где, в сущности, за мировую гегемонию боролись Англия и Германия, ничего не обещало ей.
Политический кризис в России смягчался перед войною; он утратил свою остроту с тех пор, как благодаря Столыпину началась творческая работа Государственной думы. Россия нуждалась больше всего в длительном мире, в развитии своих производительных сил, в установлении прочного правопорядка и расцвете своего духовного творчества. Как страна технически отсталая, хозяйственно-экстенсивная, не проработавшая еще ни своих душевных, ни своих хозяйственных возможностей, она не могла принимать участия в борьбе европейских стран, которые отчасти именно поэтому торопились и ускоряли эту войну.
6. Вступая в 1914 году в великую войну, Россия имела единственного истинного друга — маленькую, но героическую Сербию. Только Сербия видела великие задания России; только она им сочувствовала; только для нее Россия была не «просто средством» и не просто объектом или жертвою.
SanajX никогда не знал Россию и не понимал ее. Не зная ее и ее языка, не чуя ее духа, он верил всякому вздору о ней и сам сочинял и распространял этот вздор. Европа боялась России, не любила ее и презирала ее. За последние 100 лет она всегда была готова навредить ей, ослабить и оклеветать ее. Запад интересовался Россией лишь в торговом и военном отношении; да разве еще в смысле возможного расчленения или подчинения ее. Следуя тайным указаниям европейских политических центров, которые будут впоследствии установлены и раскрыты исторической наукой, Россия была клеветнически ославлена на весьмир как «оплот реакции», как гнездо деспотизма и рабства, как рассадник антисемитизма, как колосс на глиняных ногах. Движимая враждебными побуждениями, Европа была заинтересована в военном и революционном крушении России и помогала русским революционерам укрывательством, советом и деньгами. Она не скрывала этого. Она сделала все возможное, чтобы это осуществилось. А когда это совершилось, то Европа под всякими предлогами и видами делала все, чтобы помочь главному врагу России — советской власти, выдавая ее и принимая ее за законную представительницу русских державных прав и интересов.
Таким образом, русская коммунистическая революция была гибельным даром Запада — Востоку, а затем и всему миру. Она есть плод европейского духовного разложения; продукт европейского хозяйственно-социального кризиса; результат европейского политического «просвещения»; последствие европейской войны за рынки и за мировую гегемонию. Она есть детище европейского безбожия, европейского распада и европейского империализма.
7. Внутренние причины русской революции
К внешним причинам присоединились внутренние. Ни те ни другие сами по себе не были достаточными причинами, но вместе они довершили беду, и катастрофа разразилась.
В отличие от Франции, переживавшей перед своей большой революцией период упадка, Россия переживала в царствование Императора Николая Второго период бурного роста и расцвета*.
За двадцать лет (1894—1914) население ее увеличилось на 40%; урожай хлебов возрос в одной Европейской России на 78%; количество рогатого скота возросло на 649о; количество добываемого угля увеличилось на 300%; нефти — на 65%; площадь под свеклой увеличилась на 1509о, под хлопком — на 350%; железнодорожная сеть возросла на 103%; золота в Государственном банке прибавилось на 146%. Бюджет Министерства народного просвещения увеличился на 628%, число обучающихся в низших учебных заведениях возросло на 96%, в средних — на 227%, в университетах — на 180 %. Россия бурно строилась и расцветала; темп этого строительства значительно, иногда во много раз, опережал рост населения и мог соперничать с темпами Канады. Каждое следующее поколение имело бы все лучшие и лучшие условия жизни. Главный и труднейший из ее внутренних вопросов — аграрный — мирно разрешался. Помещичьи хозяйства, поскольку они были нежизнеспособны, таяли и скупались при содействии государства крестьянами. Перед самым началом революции крестьяне составляли около 80% всего населения страны. И вот, 79% земель сельскохозяйственного назначения принадлежало трудовому крестьянству** *** и только 21 % этих земель можно было причислить к «капиталистическому» землевладению. В то же время великая аграрная реформа Столыпина постепенно, но чрезвычайно успешно рассасывала хозяйственно и психологически застойную сельскую общину, укрепляя в крестьянстве личную собственность на землю, насаждая хуторское землевладение и развязывая великие запасы творческой инициативы во всей России**.
Итак, Россия шла на всех парах к великому подъему и расцвету. Этот подъем был сорван войной и революцией. В чем же причина этого срыва?
* Считая участки до 50 десятин. См. подробные данные у лучшего знатока аграрного вопроса в России проф. В. А. Косинского: «Русский Колокол», № 4.
** См. мою статью «Будущее русского крестьянства» в № 3 «Русского Колокола».
*** См. подробную статистическую сводку С. С. Ольденбурга в № 1 «Русского Колокола». В основе этой сводки лежат данные объективного и очень осведомленного английского источника
1 Великая европейская война (1914—1918) была для всех воюющих стран страшным потрясением, грозным историческим экзаменом. России пришлось приступить к нему в состоянии не готовом, в период неподготовленности армии и флота (после японской войны), в эпоху хозяйственного переустройства, в эпоху духовного и политического брожения, в эпоху ослабления императорской власти, в эпоху технической отсталости. Все эти условия до крайности затрудняли военную победу. Война должна была неминуемо проявить все технические затруднения и все хозяйственные неустройства; а военные неудачи грозили вызвать всеобщий упадок духа и обострить душевно-духовный и политический кризис в стране. Это и совершилось.
2 Духовный кризис, проявившийся во время войны, состоял в том, что русское всенародное правосознание не стояло на томуровне великодержавна, который был необходим России. Так было и в народной массе, не постигавшей ни разумом, ни волею великодержавных задач, затруднений и опасностей России, и в интеллигенции, предавшейся сентиментальным мечтам, политическому радикализму и хозяйственно-социалистическим утопиям. Бороться за русское самостояние и за историческое единство России такое правосознание могло только при большом подъеме духа, при непоколебимостимонархической формы и при отсутствии тяжелых неудач на фронте.
3. Это можно было бы выразить еще так-русский духовный характер оказался не на высоте тех национальных задач, которые ему надо было разрешать . В нем не оказалось надлежащей религиозной укорененности, неколеблющегося чувства собственного духовного достоинства, волевой самодисциплины, отчетливого и властного национального самосознания. Все это имелось налицо; но не в достаточной силе и распространенности. Почему? Вследствие ряда исторических причин: вследствие недостаточной просвещенности простонародной души светом Евангелия и светом исторически-национального видения; вследствие зараженности русской интеллигенции безбожием и революционностью; вследствие сравнительной молодости и отсталости русского образования; вследствие двух-с-половиною-векового татарского ига; вследствие непрестанных и трудных войн за последние 400 лет; вследствие великих бунтов — Смуты, Разинщины и Пугачевщины; вследствие непреодоленности сословных обид эпохи крепостного права; вследствие многонаци
* См. об этом мои опыты: «Основные задачи правоведения в России». Публичная речь, произнесенная в Москве в 1922 году. «Русская мысль», Прага, 1922, кн. VIII—XII. А также «Творческая идея нашего будущего», 1937.
онального состава русского народа; вследствие всех трудностей смешанной азиатской крови, равнины и климата...
Русскому народу пришлось принять на свои плечи бремя ве-ликодержавия до того, как созрел окончательно его характер, до того, как окрепло его государственное и национальное самосознание. Нам пришлось нести все бремя азиатского тыла и материкового пространства и в этой войне. И русский характер поколебался. России, стране экстенсивной и технически отсталой, пришлось воевать со странами интенсивными и технически передовыми. Время работало на Россию; но время требовало выдержки, а ее не хватило.
4. За последние два века Православная церковь утратила свою независимость от государства и от его великодержавного аппарата. Это отразилось и на ее самосознании (она привыкла служить правительству и не дерзать самостоятельно вести народ к Богу), и на ее строении (назначение, отзыв от верующих, ослабление приходской жизни), и на ее воспитывающей силе, и на свободе и авторитетности ее суждений.
5. В крестьянстве не было утверждено начало частной собственности, а частная собственность воспитывает народ к хозяйственной инициативе, к самостоятельности, к правопорядку, к чувству собственного достоинства, к элементарной честности, к лояльности, к борьбе за родину. Крестьянство находилось во власти количественного аграрного психоза, всячески поддерживавшегося демагогией левых партий. Крестьянство видело спасение не в интенсификации хозяйства, а в расширении площади своего землевладения, и воображало при этом, что в стране имеются бесконечные запасы удобной земли и что запасы принадлежат помещикам: оставалось только «нажимать» на помещиков и «захватывать» государственную машину, т. е. приступать к погромам и революции. На этом психозе партия социалистов-революционеров и проводила февральскую революцию и выборы в Учредительное собрание (1917).
6. В России не сложился еще и не окреп средний класс, уравновешивающий государство, составляющий оплот правопорядка, правосознания, частной инициативы, патриотизма, семьи, добрых нравов и порядочности. Богатое крестьянство, вышедшее из общины, и окрепший средний класс сумели бы уже через 20 лет отстоять Россию от соблазна социализма и от восстания коммунистов. Это понимали европейские державы и поэтому торопились с войною.
7. Значительный кадр русской интеллигенции не был на высоте. Он был заражен западным рассудничеством, доктринерством, безбожием и революционностью. Он «верил» в демокра
тию и не понимал, что демократический строй не для всех народов подходящ и что он сам переживает великий кризис*. Эта часть русской интеллигенции предавалась всевозможным утопиям — то сентиментальным (анархизм Кропоткина, толстовство), то революционным (республиканство, социализм, коммунизм). При этом революционная интеллигенция раз навсегда отвернулась от трона, создававшего 1 000 лет великую Россию; она изолировала его, расшатала его оппозицией и клеветой, а сама оказалась совершенно неспособной к власти.
В России была и другая интеллигенция: верующая и верная, патриотическая и созидательная. Но именно вследствие этого она не болела честолюбием, не политиканствовала и обычно оказывалась оттесненной и заглушенной радикальными партиями.
8. В предреволюционной России не было государственной сплоченности и русский национально-государственный интерес не царил в умах. Шла социально-классовая борьба: помещики и крестьяне, фабриканты и рабочие, горожане и сельские жители, торговцы и потребители выдвигали свой классовый интерес и группировались вокруг своих классовых партий. Сверхклассовое единение — важнейшее в жизни каждого государства — только намечалось. Военные неудачи развязали классовую борьбу, и простой народ повалил за классовыми революционными партиями. Белая армия осуществила сверхклассовое государственное единение всей России, но психоз разложения и распада взял уже верх.
9. В предреволюционной России недоставало и национальной сплоченности. Целый ряд народов, входивших в состав русского государства, тянул не к России, а от России прочь. Эти народы не только участвовали в русском революционном движении; некоторые из них старались вредить России и за границей — при помощи как явных, таки тайных организаций Россия как многонациональная империя не закончила еще своего формирования. А за границей назревалмировой заговор против нее.
10. Отношение к русской национальной армии было в России не на высоте. Все слои народа, затронутые революционным брожением, смотрели на армию как на орудие «реакционного» правительства, тянули к ее разложению и «революционному братанию» с нею. Так было уже в 1903—1905 годах В 1917 году это настроение вспыхнуло в виде настоящего психоза
11. В довершение всех этих опасностей в России пошатнулась вековая сила императорской династии.
* См. книгу проф. П. И. Новгородцева «Кризис современного правосознания».
Силу династии колебали и расшатывали еще в XVIII веке дворцовые перевороты, производившиеся дворянством (1725г. — восшествие на престол Екатерины I, 1730 г. — воцарение Анны Иоанновны. 1740 г. — воцарение Анны Леопольдовны, 1741 г. — воцарение Елизаветы Петровны, 1762 г. — свержение Петра III и воцарение Екатерины II, 1801 г. —убиение Павла I и 1825 г, —бунт декабристов): участники переворота навязывали трону свою волю и свой классовый интерес. Чтобы представить себе, чем это грозило России, достаточно вспомнить, что декабристы намеревались освободить крестьян без земли, т. е. пролетаризировать русское крестьянство (это всего через 50 лет после пугачевского бунта!)...
Для того чтобы правовое оформление России, оживление ее творческих сил и освобождение крестьян могли состояться ко благу России, трон должен был предварительно окрепнуть и подняться на высоту сверхсословного, всенародного созерцания, что и состоялось при Императоре Николае I. Славные реформы Императора Александра II, и в частности освобождение крестьян на условиях, не доступных и не известных Западу, были величавым проявлением окрепшей монархической власти. Именно после этого творческого апофеоза монархии революционные партии немедленно начали свою террористическую работу против трона.
Последовавшие затем многочисленные покушения на Царя-Освободителя, завершившиеся его мученической кончиной 1 марта 1881 года; новые покушения на Императора Александра III (1883 г. — при участии Ульянова, брата Ленина, и 1888 г. — крушение императорского поезда в Борках); убиение великого князя Сергея Александровича (1905); поток террористических угроз, направленных против Императора Николая II и других членов династии (1905 г. и след.) — все это глубоко оскорбляло русскую императорскую династию, колебало ее веру в свое призвание, подрывало в ней волю к власти, расшатывало ее водительскую силу. Вокруг трона все время подогревалась и искусственно сгущалась атмосферареспубликанствующего недоверия-, в либерально-радикальных кругах царила клевета и разливалось злорадство...
После военных неудач 1915 года это настроение стало принимать формы сознательной изоляции и подготовки дворцового переворота. Монархический строй заживо разлагался. В членах династии угасала воля к трону и воля к власти.
И все закончилось отречением и великим неискупимым мученичеством.
Таковы были внутренние причины революции в России. Все остальное было лишь проявлением или последствием этих причин: и февральский переворот, и октябрьская революция.
8. Отжившие предрассудки русской интеллигенции
В духовном укладе русской интеллигенции есть отжившие предрассудки, к которым она не должна возвращаться. Некоторые из этих предрассудков открыто выговаривались, другие допускались бессознательно и молчаливо. Ныне мы призваны продумать их до конца и освободиться от них.
1. Русская интеллигенция не видела и не постигала глубокого своеобразия России. Она не понимала, что Россия может строиться только самобытным творчеством, а не слепым заимствованием у Запада. Она не разумела, что русский национальный духовный акт—иной, чем у западного европейца, и что поэтому у русского должна быть иная вера, иная наука, иное искусство, иное правосознание, иное государство, иной уклад жизни. Петр Великий никогда не порабощал русский дух западному. Остерман недаром записал за ним слова: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом». Творящему не страшно никакое заимствование; кто умеет только подражать, тот погубит свое творчество.
2. Русская интеллигенция обычно относилась к простому народу с «состраданием» и с затаенным чувством «вины» («кающийся барин»). Но она не знала своего народа, не видела его творческую силу, плохо верила в его организаторскую способность и даже уверовала в подкинутую иностранцами теорию, будто порядок и культура были принесены русским полудикарям «норманнами»*
3. Истинная наука не исключает веру и не разрушает ее. Безбожие есть не высшее проявление культуры, как думала русская интеллигенция, а проявление духовной слепоты, духовной нечуткости и ограниченности. Христианское откровение отнюдь не осуждает науку и не стремится заменить ее Русской интеллигенции предстоит великая творческая задача — внести дары христианства в научное исследование и утвердить христианство светом истинного научного знания**
4. Христианство отнюдь не отрицает ни права, ни государственной культуры; оно совсем не проповедует сентиментального непротивленчества***. Об этом свидетельствует вся великая традиция христианской церкви и русского православия. Русская интеллигенция должна раз навсегда отвергнуть соблазны непротивления.
’Доктрины Байера и Шлецера (XVIII век).
** См. в № 3 «Русского Колокола» мою статью «Идея обновленного разума».
См. мое исследование «О сопротивлении злу силою».
5. Культура (дух!) и цивилизация (внешняя дисциплина и техника!) — отнюдь не одно и то же. Русская интеллигенция должна понять, что у цивилизованных народов может выродиться духовная жизнь, что мы ныне и наблюдаем. Русский народ, сильно отставая в вопросах цивилизации, всегда имел глубокую и самобытную духовную культуру. Противоестественно думать, будто менее цивилизованные народы суть исторический навоз для более цивилизованных.
6. Русская интеллигенция воображала, будто в жизни есть только «отвратительная действительность» и «святой идеал». Она не видела Божьего присутствия в ходе истории и не понимала, что «идеал» требует от человека прежде всего строгости к самому себе, скромности и долгой борьбы со своими страстями; что Бог близок, а идеал далек. Поэтому она страдала маниловской мечтательностью, доктринерством, политическим максимализмом и социальным утопизмом. Надо уметь трезво беречь унаследованное национальное достояние и с молитвою в сердце впрягаться волею и делами в несовершенное (творческий реализм!).
7. Русская интеллигенция вслед за Кропоткиным, Бакуниным и Л. Н. Толстым верила, что чем полнее свобода, предоставленная человеку, тем быстрее и полнее он приблизится к совершенству. Отсюда ее сентиментальный либерализм и тяга к анархии. Она считала, что государство не столько воспитывает человека, сколько развращает его; и поэтому она всегда была готова поддерживать всякое оппозиционное, противогосударственное, революционное начинание. С этим соблазном она должна покончить.
8. Русская интеллигенция держалась за предрассудок, будто справедливость требует равенства и будто жизнь будет тем справедливее и лучше, чем больше люди будут во всех отношениях уравнены*.
9. Русская интеллигенция склонялась к тому мнению, что «гражданин вселенной» всегда выше патриота с его националистическими пристрастиями. Отсюда возникало ее тяготение ко всевозможным «интернационалам» и ее безразличное или холодное отношение к своей национальной армии.
10. Русская интеллигенция не умела верно принимать и уважать частную собственность. Многие собственники умели быть щедрыми; но далеко не многие понимали, что собственность обязывает к творческому труду и что богатеющий хозяин служит не только себе, но и всему народу и своему государству В связи с этим русская интеллигенция готова была преклоняться перед низшим видом труда — физическим (перед «мозолистыми руками» и «пролитым потом») и решительно
* См. ниже главу о равенстве и справедливости.
недооценивала глубину, утонченность и ответственность духовного творчества.
11. В довершение всего русская интеллигенция страдала неверным самосознанием. Она рассматривала свое положение как «привилегированное» и всегда несколько «конфузилась» от своих «преимуществ». Она не понимала, что ведущий слой должен давать народу творческую идею, волевую энергию, воспитание характера и национально-правовую организацию, и что если он выполняет это призвание свое, то все связанные с этим «преимущества» являются не более чем необходимым условием жизни и скромным вознаграждением*.
Будущая русская интеллигенция должна быть свободна от этих предрассудков; иначе она не поведет Россию и не возродит ее. Эти предрассудки во многом подготовили и февральский переворот, и коммунистическую революцию.
9. Сущность большевизма
Большевизм есть не что иное, как последовательно проведенная революция, ничем не сдержанный и все сметающий дух безбожия, дух поругания святынь, дух зависти и мести, дух восстания низшего на высшее, дух отрицания и разложения, дух грабежа и террора. Этот дух заложен в каждой революции, хотя не каждая осуществляет его последовательно и до конца. Русская же революция явила его именно до конца.
Революция не есть просто «насильственное свержение нежелательной власти». Такое свержение след ует называть не революцией, а переворотом. Революция же есгьмассовое духовное заболевание — ослабление и распадение духовныхустоев. Если слабеет только одно правосознание, а силы религиозной веры, совести, чести, патриотизма, национального чувства остаются непоколебленны-ми, то все эти силы скоро залечивают рану правосознания и переворот не становится революцией. Но если все эти священные силы духа наход ятся в состоянии кризиса, то может распасться и выродиться вся жизнь. Поэтому ныне для России надо желать не «революции», а политического переворота, который должен возродить национальную Россию и обновить всю жизнь.
В силу указанных выше внешних и внутренних причин политический переворот в России в 1917 году не мог не превратиться в революцию, которую революционеры всячески старались углубить, разлагая все устои жизни и духа. В результате этого и возник большевизм**.
* Ср. у Ключевского «Русская история», т. V, с. 115 и 141.
** См. мою брошюру «Яд большевизма», Женева, 1931.
Итак, большевизм есть разложение духа и разнуздание алчности в человеческой душе. В человеке разлагается и слабеет духовное начало: он начинает посягать на все и разрешать себе все. Формулы большевизма: «все немедленно мне» и «все средства хороши». Именно поэтому на большевизм так легко отзываются все беспринципные карьеристы, все политические авантюристы, безыдейные честолюбцы, продажныелюди, хулиганы и в особенности профессиональные преступники. Большевизм есть вторжение разбоя в политику и в то же время превращение внутренней и внешней политики государства в уголовщину.
Большевистское настроение всегда живет в нравственных низах общества. Но оно может охватить и целый класс. Тогда этот класс станет революционным-, требования его окажутся максимальными и государственно разрушительными; он не остановится ни перед какими средствами борьбы и начнет гражданскую войну. Поэтому в политическом отношении большевизм есть максимализм и терроризм.
В душе, заболевшей большевизмом, смолкают все духовные побуждения: правосознание, патриотизм, чувство чести, долг, совесть и вера. Тогда человек отдается жадности и «политика» его становится свирепою и бессовестною. Такой дух живет в классовом понимании государства у Маркса. Классовая борьба есть не что иное, как прикровенная и «приличная» гражданская война; достаточно «революционному классу» потерять терпение и ожесточиться — и гражданская война начнется в открытую. Поэтому большевизм по самому существу своему отвергает государство, ибо государство есть начало сверхклассового мира, солидарного сотрудничества, твердого правопорядка и справедливости. Большевизм отвергает и самое право и пытается построить жизнь на принуждении
Правопорядок строится на самостоятельном и самодеятельном субъекте прав; на законе и законности; на справедливости. Большевизм отвергает все эти основы. Он подавляет свободного человека, его инициативу и его духовное самоуправление: человек есть для большевика материальный атом, покорная машина или раб. Большевик отдает все в монопольное распоряжение государства: люди делятся для него на чиновников и бесправных рабов. Поэтому большевизм есть деспотизм. Он презирает закон и законность: власть не связана ничем, а рабы связаны вечным гнетом и страхом. Большевистское государство является единственным работодателем во всей стране, всякая частная собственность отменяется; частных предприятий нет. Все оказываются абсолютно бедными и абсолютно зависимыми от монопольного работодателя. Все оружие конфискуется: восстание
без оружия невозможно. Нищета, голод и страх закрепляют рабство. И над всем возвышается новое привилегированное сословие — коммунистическая партия (около 2% всего населения), вооруженная, всем распоряжающаяся и пронизывающая страну всеобщим политическим сыском и доносительством.
В хозяйственном отношении большевистское государство осуществляет коммунистический строй (называемый также социализмом). Идея коммунизма состоит в том, чтобы 1) погасить личную инициативу в хозяйстве и заменить ее всепредус-матривающим и всерегулирующим распоряжением, идущим из полновластного центра; 2) в том, чтобы погасить у людей личную заинтересованность в труде и заменить ее принуждением и обязательным для всех революционным «пафосом»; 3) в том, чтобы построить хозяйство по единому плану на равенстве бесправных наемников. Это приводит ко всеобщему безразличию, к падению качества и количества продукта, к страшному повышению себестоимости, к «плановому» хаосу, ко всеобщей бесхозяйственности и безответственности, к падению производства, потребления и вывоза.
В смысле миросозерцания большевизм есть материализм: нет ничего кроме материи и чувственных состояний тела. Нет души. Нет духа. Нет Бога. Религия есть лицемерная выдумка богатых для одурачивания и порабощения бедных. Иисуса Христа «не было». Христианство есть фальшь. Любовь есть вредный предрассудок Духовная культура есть «буржуазный» вздор и ложь. Хорошо то, что полезно большевистской революции. Добро и зло, красота, истина, честь, любовь к отечеству, национализм — пустые и вредные выдумки. Семья есть реакционная форма жизни; ее надо разрушить. Христианская церковь есть главная реакционная сила и главная опасность для большевистской революции. Отсюда гонения на христианство, и в особенности на Православие. Россия есть лишь плацдарм и орудие для мировой революции. Все народы должны быть соблазнены, разложены и покорены коммунистическойреволюцией.
Для всего этого необходимо разрушить весь исторически унаследованный душевный уклад и подорвать все прежние духовные силы человека. Это надо осуществить во всеммире-, и притом — любой ценой, не останавливаясь ни перед какими злодействами, не щадя ни поколений, ни народов.
Таковы планы и «дары» большевизма: освободить человека от веры, совести и чести, сделать его безродным, бессемейным, нищим и поработить его мировому коммунистическому центру, опирающемуся на безбожников и злодеев всех стран (Коммунистический Интернационал).
10. Отрицательные уроки русской революции
Все то, что русский народ пережил в коммунистической революции и что я здесь не могу ни описать, ни исчерпать, открыло и утвердило в назидание нам следующие истины.
1. Безбожие разлагает в человеческой душе все священные основы жизни: веру, совесть, честь, верность, любовь к отечеству, правосознание, чувство ответственности, чувство ранга, справедливость и дисциплину. Начинается разнуздание человеческого инстинкта; бессознательная духовность человека перестает определять его образ жизни Всюду торжествуют злые страсти. Правопорядок гибнет. Государство переживает крушение. Народ обрекается на унижение, муку и вымирание.
2. Материализм обессмысливает, опустошает и разрушает жизни. Человек не сводится к телу, чреву и похоти; он не машина, не чувственное животное и не голодный зверь. Такое понимание ведет ко всеобщему унижению, к рабству и бесконечной муке.
3. Всякий ненавистник вызовет в других ненависть и сосредоточит ее на себе. Всякий предатель будет однажды предан сам. Всякий грабитель будет сам ограблен и убит. Таков закон самоуничтожения зла
4. Завистью и ненавистью нельзя ничего построить: ни государства, ни культуры, ни хозяйства. Созидает только любовь. любовь к Богу, любовь к отечеству, доверие к правителю, взаимное доверие, уважение и братство граждан, сострадание к слабым, всеобщая сверхклассовая солидарность.
5. В жизни народа важнее всего и ценнее всего качество-. качество души (сердца, воли, ума, образованности) и качество создания (поступка, строения, картины, книги, закона, хозяйственного продукта). Количество, лишенное качественного достоинства, — обманно, смешно и позорно. Злая душа не построит ни здоровую семью, ни здоровое государство.
6. Кто отменяет и разрушает семью, тот уродует детскую душу; он насаждает общий разврат, общее ожесточение, нравственную анархию и беспризорность. Он подрывает самые основы народной и государственной жизни.
7. Общественный класс имеет смысл и жизнь только как живая часть народно-государственного организма. Различные классы нуждаются друг в друге и восполняют друг друга. Они должны ценить друг друга и сотрудничать. Диктатура одного класса (все равно, какого?) разваливает всю народную жизнь: восстающий и посягающий класс погубит государственное единение, обессилит страну и сам будет порабощен своими вожаками.
8. Классовая борьба есть прикровенная гражданская война. Гражданская война свирепее и разрушительнее международной.
Кто начинает ее во имя одного класса, тот становится предателем своего отечества и ведет к погибели всю страну.
9. Революция есть не «спасение», а начало гибели. Она разнуздывает людей; она научает людей пренебрежению к праву и закону. Народ, не уважающий права и закона, — потеряет все свои права и будет порабощен.
10. Социализм несет людям не братство, а классовую ненависть; не новую справедливость, а худшую несправедливость; не свободу, а свирепый зажим.
11 Коммунизм не уважает человеческую личность и ее свободную самодеятельность. Поэтому он идет против духа и против природы и может насаждаться только голодом, страхом и кровью (террором).
12. Коммунизм отменяет частную собственность и делает всех безнадежными нищими, зависимыми от коммунистической партии и власти. Этим он подрывает в народе желание трудиться и распространяет всеобщую лень, саботаж, взяточничество, воровство и всяческую безответственность. Все это гибельно для культуры и народного хозяйства.
13. Коммунизм не бережет народные силы, а растрачивает их: личная, частная инициатива подавляется; работа из-под палки становится ненавистна и непродуктивна, всенародное уговаривание работать из-под палки — безнадежно; аппарат всенародного надсмотра и понуждения к работе не заменит человеческой самостоятельности; все предвидеть из центра и все всем приказывать через чиновников есть затея нелепая и неосуществимая. Все это ведет к растрате сил и всеобщему оскудению.
14. Если в государстве начнут править интернационалисты, то они не захотят и не сумеют блюсти исторические интересы народа. Порабощенный народ станет средством для чужих ему интересов. Он будет разорен и обессилен, а в последний час предан на поток и разграбление воинственным соседям.
Таковы отрицательные уроки революции. Этим они отнюдь не исчерпываются, здесь они только начинаются. Однако не продумавший и не усвоивший этих основ не постигнет и остального.
И прежде всего, он не постигнет религиозного смысла русской революции.
11. Религиозный смысл русской революции
Коммунистическая революция является величайшим бедствием и провалом в истории России. С нею не может сравниться ни одна из войн, ведшихся русским народом. С нею не может
сравниться ни Смута (1605—1613), ни бунты Разина (1667—1670) или Пугачева (1771—1775) Это бедствие равновелико по своей глубине и по своим последствиям разве только татарскому погрому, хотя развертывается в совершенно иных формах. Как тогда, так и теперь дело идет о самом бытии России, об ее исторической судьбе, о субстанции ее духа. Как тогда, так и теперь русский народ стоит перед величайшим испытанием, которое или погубит его, или закалит; оно или разложит до конца его дух и его культуру, или же очистит их, углубит и возвеличит. Как тогда, так и теперь русский народ чувствует себя стоящим перед Лицом Божиим и отвечает на ниспосланное ему бедствие молитвенным сосредоточением души и воли.
И он прав в этом. Путь к возрождению России ведет через одухотворение и благодатное оживление русского национального инстинкта. Именно последняя глубина души может и долж-на возродить Россию: искренняя и цельная жажда Бога и божественного в жизни. Испытания и лишения, унижения и муки должны поднять со дна наш затонувший «град Китеж», должны возродить «Святую Русь» в душе русского народа. В этом религиозный смысл революции.
Революция совершилась отнюдь не в силу положительной воли Божией, ибо Господь не может хотеть зла; но в силу Его попущения. Нелепо и пагубно думать, будто коммунистическая власть в России «установлена» Богом и будто в силу этого русские люди должны повиноваться ей «за совесть». На самом деле не Господь восхотел этого потока зла и страдания, но соблазняющие и соблазненные люди восхотели его, злоупотребляя своею человеческою свободой и идя по пути страстного произволения и греха
Напрасно было бы приводить здесь слова Апостола Павла из Послания к римлянам (гл. 13, ст. 1—10), где действительно сказано, что «нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (ст. 1) и что «противящийся власти противится Божиему установлению» (ст. 2). Ибо эти слова Писания, как и другие, непозволительно отрывать от контекста, от общего духа и смысла. Из общего же контекста и смысла (ст. 1—10) явствует с очевидностью, что Ап. Павел требует повиновения властям потому, что он подчиняет самих правителей Богу и Его заповедям. Власть устанавливается Богом для того, чтобы начальник был «Божьим слугой», чтобы он поощрял добро и пресекал зло: правители «постоянно заняты» этим служением Богу, и в греческом тексте называются не только «архонтами», но и «диаконами» и «литурга-ми». В этом их призвание. Ими должен руководить тот же высший закон любви, что и повинующимися им гражданами. Именно поэтому (по-гречески «дио») мы должны повиноваться им «не толь
ко из страха наказания, но и по совести». Иными словами: наша совестная лояльность причитается Божиим слугам, а не слугам сатаны. Коммунистическая же власть, сеющая зависть, ненависть, страх, унижение и ложь, поощряющая всякое зло и искореняющая всякое добро, ведущая кровавое гонение на веру и верующих, служит не Богу, а сатане, и потому мы, христиане, должны отказать ей в повиновении и повести против нее непримиримую борьбу словом и делом*.
Итак, безбожная и бессовестная власть не связывает нашего правосознания. Она послана русскому народу для закаления, очищения и укрепления его духа. Попустить злу—значит «не воспрепятствовать» ему, как бы отвести обороняющую руку, предоставить злу развернуться по его внутренним законам и совершить заложенную в нем судьбу его: одним в наказание, другим в научение, третьим в испытание или в укрепление и закаление; героям — в возвеличивание, мученикам и святым — в прославление
Попущению этому придет однажды конец: когда окрепнет вера и закалится воля в русском народе. К этому времени и мы должны быть готовы: мы должны умудриться через наказание закалиться в испытаниях, уразуметь ошибки и упущения прошлого, преодолеть соблазны настоящего; чтобы с обновленною, крепкою верою и государственно-национальной волею заткать ткань новой России.
Религиозный смысл русской революции — не в подчинении большевизму, а в борьбе против него во славу Божию и во имя Великой, Богу служащей России.
12. Вера в Бога
Чтобы возродить Россию, русский человек должен жизненно укоренить свою душу в Боге и принять эту укорененность — сердцем, волею и разумом. Тогда в его душе расцветет цельная и огненная вера, двигающая горами. Именно такая вера ему необходима для возрождения и воссоздания России
Здесь недостаточно мыслить «идеал» и иметь в душе «идеализм». Идеал есть величина отвлеченная; он зовет только издали; он не срастается с последними, глубокими корнями инстинкта. А если он срастается с ними и начинает вести человека изнутри, то он становится предметом веры.
Несомненно, что «идеализм» гораздо лучше безразличия и гораздо выше своекорыстия. Но «идеализм» должен статьреалъ-
* См. об этом в моих статьях в «Возрождении», 1936, от 18, 23 и 25 апреля, № 3972, 3977, 3979-
ною силою в жизни и целостным состоянием души. Он должен связать себя с таким идеалом, который есть сразу нечто объективнолучшее и в то же время объективно сущее, т. е. подлинно реальное, подлинное совершенство. А это есть Бог.
Надо цельно и вернолюбить идеал. И для этого надо убедиться в том, что этот идеал не только «мой» идеал и не только «для меня» идеал; но что он есть идеал всегда и для всех, потому что он на самом деле совершен. И это есть Бог.
Надо видетьреальность идеала, — не только тогда, когда нам удается осуществить его в жизни, но и тогда, когда мы далеки от него в наших слабостях, страстях и грехах Он подлинно реален и без нас, и помимо нас; он хочет и должен осуществиться через нас. И это мы должны видеть — сердцем* волею и воображением. И это есть вера. А предмет веры есть Бог .
Вера не есть умственная теория; но она не есть и слепой страх Вера не отвлеченное богословие; но она не есть и суеверие фанатика. Вера есть живой огонь, светящий и греющий; вера есть личная сила, возникающая от богосозерцания; открытость души для всего божественного; преданность Богу даже до смерти: способность жить тем, за что стоит бороться и умереть. Она свободна и не терпит запрета и принуждений. И потому она терпима. Она ценит каждую искру Божию в душе человека; она ценит и внеис-поведную религиозность. Она цельна и действенна.
Никакое земное строительство невозможно без Бога. Так обстоит не потому, что Бог не терпит человеческого безбожия и немедленно наказывает за него. Нет, человеку дается свобода веровать и не веровать, молиться и не молиться, помнить о Боге и безумствовать во грехах Ибо Богу нужна свободная вера, свободная молитва, свободное благочестие. Откровение даруется, а не навязывается. Путь к Богу открывается, но не делается принудительным и не должен становиться насильственным. Но человек свободно впадает в неверие и нечестие, сам опустошает свою душу от всех божественных зовов, желаний и побуждений. Смолкает голос совести, и люди становятся бессовестными. Исчезает воля к качеству на всех путях жизни, и люди предаются всем порокам, скверно работают и создают одно плохое (плохое искусство, плохую жизнь, плохие дома, плохой хозяйственный продукт). Отмирает чувство ранга, и все начинают посягать на все. Любовь уступает место ненависти, знание подменяется и снижается, воспитание становится развращением. В душах не остается чувства ответственности. И вся жизнь наполняется жестокостью, страхом, бесстыдством и нуждою. И это понятно. Ибо чувство Бога есть пер
* См об этом в первых двух главах моей книги «Путь духовного обновления».
воисточник совести и любви, то первичное лоно, где зарождаются воля к качеству, чувство ранга и чувство ответственности.
Ныне русский народ, оторванный террором от храмов и духовенства, измученный и униженный безбожниками, будет свободно и настойчиво искать путей к Богу, будет добиваться искренней, цельной и неколеблющейся веры, основанной на самостоятельном, но подлинном богосозерцании. Из тюрьмы не возвращаются «бесследно», прозревший слепой смотрит на жизнь новыми глазами: видевший ад обращается к Богу из последней глубины, из потрясенного сердца и трепещущего инстинкта. Это будет настоящая жажда Бога и всего божественного. Религия и храмы будут восстанавливаться с любовью и благоговением. Души обратятся к Богу; это обращение будет осуществляться живым личным опытом; живой опыт найдет примирение с разумом. Возникнет обновленная вера; она углубит и окрылит созерцающее воображение, чтобы сердце узрело Бога и все Его лучи в мире. Такая вера пробудит волю; воля станет характером, а характер поведет к поступкам. Так, верою в Бога возродится русский национальный характер.
Крушение наше последовало потому, что мы не жили Богом в наших сердцах и делах: погасили в себе Его огонь, растеряли в себе Его искры и разложили первоосновы нашей жизни. Теперь наши души должны укорениться в Боге.
13. О характере и предметности
Укорениться в Боге — значит стать сильным в добре. Быть сильным в добре — значит иметь настоящий духовный характер
России необходимы, ей дороже всего отныне и на века люди с сильным, религиозно укорененным и верным характером. Это они строили Россию в прошлом. Это они будут строить ее и впредь. Для русского народа нет выбора; если он не сумеет укрепить в себе национально-духовный характер, тогда он вообще не сможет удержаться на исторической арене; тогда он будет отвеян в пространство, как мякина, или затоптан, как глина*.
Россия сокрушилась в революции потому, что русские люди были в большинстве своем добродушны, но слабы в добре. Сильных же в добре было немного. И вот, когда появились люди сильные возле и стали звать массы не бояться падения, падать, скользя вниз по линии наименьшего сопротивления, — то множество слабых поколебалось и отдалось этому зову. Тогда сильные в добре повели неравную борьбу с сильными во зле при бесхарак
* См мою брошюру «Творческая идея нашего будущего».
терном нейтралитете или слабохарактерном разложении массы. И победило зло
Чтобы в русском человеке сложился и окреп духовный характер, он должен увидеть добро, поверить ему и в него и полюбить его; это видение, эта вера и любовь должны передать свой духовный заряд воле, и заряд этот должен быть осмыслен и принят разумом. Тогда душа русского человека станет свободною и цельною в добре: он утвердит свое духовное достоинство, и вследствие этого честь и честность станут необходимыми и устойчивыми формами его жизни. Рабские черты угаснут в нем навсегда. Он утвердит в себе Сына Божия; и соблазны разнузда-ния и всесмешения будут ему не страшны. Его поведет дух предметного служения.
Россия не освободится и не возродится, пока русские люди не вступят на предметный путь.
В каждом труде, в каждом жизненном деле есть своя большая, все осмысливающая цель: высшая задача всех усилий, прекрасное и священное призвание нашей жизни. Все мы — от уличного метельщика до министра — не рабы и не каторжники; мы никогда и не были ими, даже во времена сословного закрепощения. Это проклятие, ныне повисшее над русским народом при коммунистах, должно исчезнуть вместе с ними навсегда. Мы все призваны к тому, чтобы верно осмысливать предметную сущность нашейработы, чтобы видеть оком духа ее предметное значение и назначение, чтобы желать сердцем ее успеха. Ибо мы все служим некоему высшему Делу на земле, Божьему Делу, делу России и через это Божьему плану мира и истории. Ибо жизнь русского народа, бытие России,—достойное, творческое, величавое бытие — входит в этот план и составляет живую и благодатную часть этого Дела.
Кто бы я ни был, каково бы ни было мое общественное положение, —я служу России; не маммону и не просто «начальству»; не карьере и не просто работодателю. Но именно России: ее спасению, ее строительству, ее качеству, ее величию, ее оправданию передЛицом Божиим. Жить и действовать так — значит жить и действовать согласно главному предметному призванию русского человека; это значит служить Божьему Делу и жить предметно: службу превратить в служение, и «делишки» освятить духом Дела.
Это значит, во-первых, вывести себя из состояния холодного безразличия и слепоты ко всему общему и высшему: к делам совести, веры, чести, права, справедливости, церкви, искусства и родины. Проснуться и выйти из гипноза бездействия и страха; растопить свою льдину, расплавить свою черствость, преодолеть
свою проклятую жестоковыйносгь. Ибо предметность противостоит прежде всего духовному безразличию и холоду.
Она противостоит, во-вторых, узкому и плоскому своекорыстию, тому «шкурничеству» и той беспринципной изворотливости, к которым советская власть систематически приучает русских людей вот уже двадцать лет. Ибо по духу и по программе коммунист есть рабовладелец; а тем, кого он ограбит и поработит, он прививаетрабский дух «шкурника», «ловчилы» и лодыря: нежелание трудиться, презрение к качеству труда и продукта, жажду урвать, окопаться и отсидеться, пользование всеми средствами и путями и пораженческое злорадство во всех делах. Коммунизм есть настоящая школа противопредметности.
Этому мы противопоставляем ныне идею религиозной предметности в жизни и в делах, идею верности Делу, идею мужественной и жертвенной прямоты.
В непредметной душе нет духовного измерения вещей и нет чувства собственного достоинства-, нет совести и чести; нет чувства ответственности-, нет крепкой грани между добром и злом Бога нет. Предстояния нет. Нет правосознания и национального достоинства. А потому такой человек не служит Делу. Его ведут приобретательств и честолюбие—эти исконные, вековые враги всякой предметной политики.
И как всегда и во всем, так и здесь: начинать оздоровление надо с самого себя. Надо победить в самом себе дух национального безразличия, уныния и малодушия: надо любить Россию и верить в творческие силы русского народа. Надо победить в себе дух частного,личного, партийного, классового интереса-, надо восхотеть русского, всероссийского, единого и общего. И наконец, надо укорениться сердцем и волею в Божьем Делено бесстрашия, до непоколебимости: надо твердо верить в свои и в национальные богоукорененные силы.
Тогда остальное воспоследует и развернется само собою.
14. Церковь и государство
Это драгоценное и спасительное укоренение русских душ в Боге отнюдь не надо представлять себе как систему «религиозного принуждения», или как появление «обязательной церковности», или как водворение официального ханжества, или как гонение на иноверцев и безбожников.
Вера, исповедание и церковь есть дело внутренней духовной потребности. Это есть дело добровольное и свободное-, дело личного обращения, духовного видения, исповедующего сердца Вера
не терпит принуждения; «обязательная» вера родит одно лицемерие. Для иноверцев мы имеем только свободное изложение доводов и удостоверение веры делами. Безбожники нуждаются в духовной помощи, а не в преследовании. Им можно воспретить сеяние соблазна, но их нельзя лишать других человеческих и гражданских прав.
Вообще нельзя делать веру, исповедание или церковность критерием гражданской или публичной правоспособности: например, «только верующие могут вступать в брак»; или — «только члены прихода участвуют в государственных голосованиях»; или — «кто не принадлежит ник какому исповеданию, тот не может занимать никакой должности». Вера есть счастье; безверие — несчастье; несчастному нужна помощь, а не наказание. Вера насаждается свободно, а не вымогается в государственном порядке. Сделать веру и церковность условием правоспособности — значило бы вызвать в массе интерес к религиозному притворству и наводнить церковь симулянтами илицемерами. Вера по расчету есть соблазн и извращение. Вера от страха есть ложь и пошлость.
Принадлежность к исповеданию и церкви может быть только невынужденной и свободной. В этом церковь принципиально отличается от государства. Ибо принадлежность к государству определяется законом: она обязательна и принудительна. В силу одного этого церковь и государство не могут ни совпадать, ни подчинять, ни заменять друг друга. Они должны быть самостоятельны.
Это не есть «отделение церкви от государства», но духовное согласование их служений. Нужно возвращение к старой русской, допетровской (отнюдь не византийской) традиции. Церковь должна быть самостоятельной и самозаконной организацией внутри государства под единым главою (в Православной церкви — Патриарх). Церковь и государство служат единой высшей цели: Делу Божиему на земле; но — разными способами и средствами Отсюда разделение сфер и органическое согласование целей и усилий; обоюдная независимость организаций при взаимном непосягании и невторжении.
Мы не верим в «теократию»: государство есть дело земное, человеческое; его надо строить, имея Бога в сердце, но не возлагая на Бога ответственности за свои земные решения и человеческие поступки. Мы отрицаем «цезарепапизм»: Государь не может и не должен быть главою церкви. Мы отрицаем и «папо-цезаризм»: глава церкви не должен посягать на светскую власть в государстве, на звание правителя или Государя.
Государство не должно править церковью ни в сфере догмата, ни в сфере обряда, или таинства, или организации; оно
может требовать от церкви только верности родине и соблюдения общих законов. Церковь учит и советует; если необходимо, то обличает и отлучает; но не властвует в государстве. Государство ограждает церковь и помогает ей, но не господствует над ней. Церковь молится и проповедует; государство правит, судит и воюет. Священник и правитель, монах и воин — сослужители Дела Божьего на земле, совоспитатели национальной души народа. Они сочетают свои усилия, но идут различными путями.
Государство не может и не должно злоупотреблять церковью в светских делах, обезличивать ее, навязывать ей свои мерила и способы действия, нарушать тайну исповеди, искажать или снижать присущую церкви любовную благодарность зова и научения. Государство не должно превращать свои субсидии церкви в орудие давления на нее. История знает такое обхождение государства с церковью, но она свидетельствует о том, что оно всегда вредило призванию и делу церкви, что оно всегда было в высшем смысле слова — противопредметным.
Однако церковь не должна злоупотреблять своим влиянием и авторитетом в жизни: ни в государственных делах, ни в делах духовной культуры. Политиканство только уронит авторитет церкви. Попытки принудительного оцерковления жизни и культуры только восстановят людей против веры. Формальная причислен-ность к церкви есть сущая неправда перед Лицом Божьим. Церковь должна звать людей откровением и любовью, примером и свободой; но не навязывать себя принудительно, торопясь любою ценою установить церковную «тоталитарность».
Церковь приемлет мир и возводит его к Богу; но не насилует его и не распоряжается его земными делами.
Только в таком сочетании своих сил церковь и государство смогут достойно строить свою земную родину.
15. Любовь к родине
Родина не есть то место на земле, где я родился, произошел на свет от отца и матери или где я «привык жить»; но то духовное место, где я родился духом и откуда я исхожу в моем жизненном творчестве. И если я считаю моей родиной Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верую в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух — мой дух; его судьба — моя судьба; его страдания — мое горе; его расцвет — моя радость.
Вот что думает и чувствует настоящий патриот, говоря о своей родине.
«Народ мой! Я рожден из твоих недр плотию и духом. Во мне горит тот самый дух, который горел в моих предках Во мне живет и меня водит тот инстинкт народного самосохранения, который вел тебя через дебри и муки твоей истории...», «Вздох моего народа есть мой вздох; и стон моего народа есть мой стон Я силен его силою; и эту силу я отдаю ему и за него. Я связан с ним в единое мы. Я верую в его духовную мощь и в его творческие пути. Я сам творю так, как он; с ним молюсь и работаю; с ним созерцаю и мыслю; мечтаю иметь все его достоинства и болею о его слабостях и несовершенствах. Его национальный интерес есть мой. личный. Я радостно приобщаюсь к его славе; и терзаюсь в дни его крушения и позора. £го друзья — мои друзья. Его враги — мои враги. Ему принадлежит моя жизнь. Его язык есть мой язык. Его земная территория есть моя территория; и армия, верная ему, есть моя родная армия. Я не избирал его, ибо это он сам родил меня из недр своих. Но, будучи рожден им, я избрал его и принял его в последнюю глубину моего сердца. И потому я верен ему; и верен именно ему — во всех положениях, трудностях и опасностях жизни. Этого чувства я не могу питать сразу к двум народам. Нельзя человеку иметь двух матерей или исповедовать две различные веры. И если народ мой велик и многообразен и принял в себя струи многих кровей, — то всякая из этих кровей может и должна найти свое крещение в его духе\ и всякая из них призвана связать свою судьбу с его судьбою, и мыслить, и чувствовать себя в духовном тождестве с ним...»
Такое исповедание своей родины произносится нами не только перед людьми, но, прежде всего, перед Лицом Божиим Правоту нашей родины, священность ее великих очагов, ее историческое призвание — все это мы должны утвердить в порядке религиозном. И если кто-нибудь скажет нам, что христианство несовместимо с патриотизмом, потому что христианин есть «гражданин вселенной», то мы ответим ему, что заблуждение на его стороне. Ибо христианин не отвергает богоданный мир, но приемлет его во всех его драгоценных ризах и необходимых законах.
Христианин любит свою земную родину, дорожит ею, блюдет ее достоинство, радеет о ее величии. Он видит в ней некое священное сокровище, живое веяние Духа Божия. Родина есть для него национально воспринятый, исторически взращенный и в земные дела вработанный дар Духа Святого. Народ не Бог, но силы его духа — от Бога. Путь его исторической
борьбы и его страданий есть путь его восхождения к Богу; этот путь дорог и священен для меня. Его святые и пророки — мои духовные отцы; его гении — мои учители; его правители и герои — мои вожди.
Поэтому я всегда молюсь за него; ненасытно и трепетно изучаю его историю; горжусь созданиями его культуры (религии, науки, искусства, права, хозяйства); берегу его земное жилище (территорию, природу, богатства, здания); приемлю его армию сердцем и честью, волею и делом.
И потому исповедую перед Лицом Божиим:родина священна; ею надо жить; за нее стоит бороться иумереть. Отрицание ее есть соблазн. Отречение от нее гибельно. Правы другие народы, если они любят так свое отечество. И если все народы будут так чувствовать и поступать, то они научатся чтить друг друга, как братья перед лицом Единого Отца.
Первая, живая ячейка родины есть семья.
16. Семья
Человек родится не только в недрах родины, но и в лоне семьи. Семья есть первая родина. Родина есть великая, национальная семья. Как соты пчелиные состоят из запечатанных ячеек с благоухающим медом, так жизнь народа состоит из семей: каждая ячейка отделена и запечатана, и все-таки все они вместе сращены в единство; в каждой ячейке свой мед, но из этих медов состоит единый мед целого улья. Разрушьте ячейки — и вытечет мед, и распавшуюся вощину отдадут на переплавку...
Семья вырастает из любви, живет любовью, родит и растит любимых детей. Поэтому она есть первая школа любви и жертвенности. Кто убивает семью, тот гасит любовь в своей стране. Тогда остается одна разрушительная ненависть.
То, что нужно сейчас России, — это умение любить крепко и долго. Ей нужна любовь долгого и глубокого дыхания. Где же научатся русские дети, если не в крепкой, единобрачной семье своих родителей?
Только в семье любовь чиста, верна и органически строительна. Вне семьи она становится распутною и приучает людей к безответственности, измене, анархии и общественному распаду; безответственные и распущенные родители плодят беспризорных детей.
Нам не удастся ни освободить, ни возродить Россию без чувства национального достоинства, без веры в благие силы своего
народа. Где же научатся этому русские дети, если не в своей родной семье? Где загорится этот огонь национальной гордости, если отец и мать не будут блюсти его словом и делом? Кто внушит нашим детям веру в Русский Народ, если русская семья развеет и растеряет эту веру?
То, что нужно России навеки, — это сила русского национального характера. Исторически этот характер зарождался в суровой русской природе; он закалялся в войнах; приобретал глубину и благородство в молитвах; выковывался в монастырях и в армии. Но хранилищем его была прежде всего русская семья. И ныне эта семья должна понести и осуществить свое призвание: она должна превратить самые нужды, беды и лишения свои в школу характера для своих детей, чтобы новое русское поколение получило тот крепкий закал, ту стоическую выдержку, ту свободу небоящегося духа, без которых нам не воссоздать порядка в России.
Семья есть первая школа взаимного доверия, солидарности и дисциплины. Именно здесь человекучится подчиняться и властвовать в знак любви и справедливости. Таким образом семья дает человеку первые начатки правосознания.
В семье русский ребенок должен научиться первой основе гражданственности: умению чтить авторитет и в то же время оставаться внутренне свободным. Он должен научиться здесь чести, жертвенности и справедливости. Здесь он должен въяве и вживе понять, что значит «один за всех, все за одного». Ибо он сам однажды создаст семью, новую семью следующего поколения, и внесет в нее тот самый дух, который он бессознательно вынес из впечатлений своего детства.
Семья есть родовой очаг всех здоровых традиций. Человечеству нелепо начинать все сначала каждые двадцать лет. Опыт и мудрость накапливаются тысячелетиями. Культура без традиции — невозможна; а традиция передается верно и полно только в знак любви и заботы, т. е. в семье.
Семья есть трудовой очаг, трудовое, наследственное единение людей. Где прочная семья, там народ работает и богатеет. Где семья богатеет, там цветет народное хозяйство.
Семья дает человеку два священных первообраза: образ лю-бящей чистойматери и образ сильного и благостного отца. Через них душа учится прилепляться к родине-матери и возноситься к Богу-Отцу. И кто пронесет эти два первообраза через всю жизнь, тому никакие дьявольские соблазны не будут страшны.
Вот в каком смысле семья есть хранилище национального духа и здорового правосознания.
17. Что есть истинный национализм
Есть закон человеческой природы и культуры, в силу которого все великое может быть сказано человеком или народом только по-своему и все гениальное родится именно в лоне национального опыта, уклада и духа. Денационализуясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к священным огням жизни. Ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны: в них заложены и живут целые века всенародного труда, страдания, борьбы, созерцания, молитвы и мысли. Национальное обезличение есть великая беда и опасность: человек становится безродным изгоем, беспочвенным и бесплодным скитальцем по чужим духовным дорогам, обезличенным интернационалистом, а народ превращается в исторический песок и мусор.
Всей своей историей и культурой, всем своим трудом, созерцанием и пением каждый народ служит Богу, как умеет. И для этого служения каждый народ получает свыше дары Святого Духа и земную среду для жизни и борьбы. И каждый по-своему приемлет эти дары и по-своему создает свою культуру в данной ему земной среде.
И вот, национализм есть уверенное и страстное чувство: что мой народ действительно получил дары Святого Духа; что он приял их своим инстинктивным чувствилищем и творчески претворил их по-своему;
что сила его жива и обильна и призвана к дальнейшим великим, творческим свершениям;
что поэтому народу моему подобает культурное «самостоя-ние» как залог его величия (формула Пушкина) и независимость государственного бытия.
Итак, национальное чувство есть любовь к историческому облику и к творческому акту своего народа.
Национализм есть вера в его духовную и инстинктивную силу; вера в его духовное призвание.
Национализм есть воля к творческому расцвету моего народа —в земных делах и в небесных свершениях.
Национализм есть созерцание своего народа перед Лицом Божиим, созерцание его истории, его души, его талантов, его недостатков, его духовной проблематики, его опасностей, его соблазнов и его достижений.
Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви и веры, из этой воли и этого созерцания.
Вот почему истинный национализм можно описать как духовный огонь, возводящий человека к жертвенному служе-
нию, а народ — к духовному расцвету. Это есть восторг от созерцания своего народа в плане Божьем, в дарах его Благодати. Национализм есть благодарение Богу за эти дары; но он есть и скорбь о своем народе, если народ оказывается не на высоте этих даров.
В национальном чувстве источник достоинства (Суворов: «Помилуй Бог — мы русские!»), источник братского единения («Постоим задом Пресвятыя Богородицы!»), источник правосознания («Грозно служить и честно прямить»).
Но истинный национализм учит и покаянию, и смирению — при созерцании слабостей и крушений своего народа:
За всё, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За темные отцов деянья,
За темный грех своих времен,
За все беды родного края, —
Пред Богом благости и сил, Молитесь, плача и рыдая, Чтоб Он простил, чтоб Он простил!36
Хомяков
Истинный национализм открывает человеку глаза и на национальное своеобразие других народов-, он учит не презирать другие народы, а чтить их духовные достижения и их национальное чувство, ибо и они причастны дарам Божьим, и они претворили их по-своему, как могли. Он учит еще, что интернационализм есть духовная болезнь и источник соблазнов; и что сверхнационализм доступен только настоящему националисту: ибо создать нечто прекрасное для всех народов может только тот, кто утвердился в творческом лоне своего народа. Истинное величие всегда почвенно. Подлинный гений всегда национален.
Такова сущность истинного национализма И мы не должны колебаться в нем, внимая соблазнам псевдохристианского или безбожного интернационализма.
18. О здоровом правосознании
Напрасно думают о праве и о государстве, что им есть дело только до «внешнего поведения» человека; что если это «внешнее поведение» в порядке, то внутренняя жизнь человека безразлична. Это западноевропейское понимание права, сложившееся в девятнадцатом веке, глубоко ошибочно и таит в себе множество
опасностей. Ибо на самом деле право и государство обращаются к внутреннему миру человека, они чтут в нем свободного субъекта прав и подсказывают его самосознанию и его правосознанию, что именно ему по закону «можно» (полномочия), «должно» (обязанности) и «нельзя» (запретности). Поэтому в каждом государстве правопорядок зависит не только от «законов» и от «полиции», но прежде всего и глубже всего — от правосознания граждан.
Все, что человек творит, он творит изнутри; и если он хочет сделать что-нибудь хорошее, то он должен сам стать внутренне лучше. В этом нравственная аксиома христианства.
Поэтому мы, русские люди, должны прежде всего обуздать, воспитать и укрепить в добре свои души. Жадные люди создадут хищную государственность; завистливые люди создадут общественный строй злобы и террора; продажные люди сведут все к взятке и предательству. России же нужны люди с христиански укорененным, честным и крепким правосознанием.
Поэтому мы должны научиться: ставить дело родины как Божие Дело выше своего личного интереса; помышлять о служении России, а не о личной карьере; служить не соблазненно, неподкупно, по совести и по справедливости; на власть смотреть не как на почет и выгоду, а как на бремя, обязывающее и ответственное.
Мы должны утвердить в себе чувство собственного духовного достоинства, уважая в себе подобие Божие и звание русского человека. Только это застрахует нас от всяческой кривизны и низости.
Мы должны обуздать в себе беспредметное честолюбие и тщеславие, жадность, зависть, мстительность, склонность к озлобленному напору и отпору. Без этого мы не внушим к себе доверия, не создадим ни порядка, ни мира.
Мы должны развить в себе самообладание, дисциплину и чувство духовного ранга. Эти свойства необходимы всякому гражданину, тем более всякому организатору, чиновнику и правителю. Кто не умеет повиноваться, тот не способен повелевать.
Мы должны научиться чтить закон и добровольно, накрепко вменить себе в обязанность его соблюдение,—соблюдая при этом не букву закона, а скрытый в каждом законе дух порядка, справедливости и братства.
Мы должны чтить в каждом человеке бессмертную душу, брата перед Лицом Божиим и свободного субъекта прав.
Каждый русский должен быть нам дорог как носитель русского огня и русского будущего.
Помышляя о России, мы должны всегда идти не от частей к целому (от людей, сословий, классов — к государству), но от целого к частям, понимая, что государство не только дает права и
выгоды, но требует от всех служения и жертв. Один за всех, все за одного. Только жертвою и служением восстановим Россию.
Таковы черты здорового и могучего христианского правосознания. Мы должны усвоить его сами и передать его другим. Кто не усвоит его, тот извратит политическое единение людей и не выдержит бремени власти.
19. О политической деятельности
Тот, кто хочет политически служить России, должен прежде всего понять, в чем состоит сущность политики, и верно настроить свою душу для нее. При этом он, может быть, скоро убедится, что он не призван к такой работе, что в душе его нет надлежащих сил и умений; и тогда он поступит правильно, если сосредоточит свои силы на другой работе, а в политике уступит первенство другим, призванным. Надо раз навсегда покончить с вредным предрассудком, будто политика есть дело легкое, общедоступное и не требующее ни особых способностей, ни знаний, ни подготовки. Ибо на самом деле политика есть дело сложное и трудное, требующее дара и искусства.
Нам надо начать с того, чтобы извлечь идею государства и политики из той предреволюционной пошлости, в которую совлекает эти идеи демократический строй, и из той революционной грязи, в которую эти идеи сброшены коммунистическим строем. Политика совсем не есть сочетание из демагогической агитации и слепого, полупродажного «голосования», из честолюбивой толкотни, партийной интриги и беспринципного компромисса; так обстоит обычно в демократиях. Но политика не есть и смешение насилия и коварства, свирепости и лжи, она не есть темное дело презренных плутов, где чиновник становится вымогателем или разбойником, а авантюрист или уголовный преступник выходит в чиновники; так обстоит дело в большевизме.
Политика есть дело правовой и справедливой организации национального бытия. Организации — значит, необходима воля, такт, прозорливость в распознавании людей, жизненное чутье и знание законов общественной жизни (социологическое, юридическое, экономическое, историческое образование).
Эта организация должна быть правовая: значит, необходимоздоровое правосознание, чувство ответственности, способность кподчинению и к власти, патриотическое и национальное чувство, честь и честность.
Эта организация должна быть справедливая-, значит, необходима живая совесть, любовь к людям, религиозная и нравственная укорененность души.
Следовательно, политика требует не ловкого проходимца и не хитрящего интригана, а человека настоящего (волевого и духовного) качества. Отсюда в высшем смысле слова аристократическая природа государства, значение духовной традиции, отбора характеров и профессиональной подготовки. При этом аристократия (правление лучших) разумеется не по рождению, не по сословию, не по богатству, а по качеству и достоинству лица. Нельзя вводить такой политический строй, при котором всякий бесстыдник и карьерист будет выдвигаться наверх только потому, что он сумел стать угодным массе. Выдвигаться должны лучшие люди, призванные к политической деятельности.
После революционной ставки на жадность, на слепоту, на трусость и на бесчестие — Россию спасет только ставка на качество. Из хаоса, из разложения, из оскудения есть только один путь: к сосредоточению благородной воли, к волевой дисциплине, к интенсивному труду, к отбору и выдвижению лучших национальных сил. Надо творчески развязать качественные силы России.
Русская политика нуждается прежде всего в честной верности. Что могут построить бесчестные и продажные руки? Революция уже дала ответ на это.
России нужны опыт и умение — во всех областях: от генерального штаба до кооперации, от торговли до полиции. Нам надо приобретать этот опыт и это умение, чтобы отдать их России.
Россия будет голодать по знающим и способным людям — на всех поприщах: от бухгалтерии до медицины, от профессуры до агрономии, от церкви до армии. И особенно — в политике.
России необходимы воля и талант. Их нельзя ничем заменить: ибо талант творит новое, а воля строит и держит организацию народной жизни. Революция скомпрометировала партийный отбор; новый отбор должен быть деловым, предметным, а не партийным.
Дорогу честности! Дорогу знанию и таланту! Дорогу русскому гению\ Новая, качественная эпоха нужна нашей родине, эпоха, которая довершила бы все упущенное, исцелила бы и зарастила бы все язвы революционного времени. Качество необходимо России: люди верные, волевые, знающие и даровитые; крепкая и гибкая организация; напряженный и добросовестный труд; выработанный, первосортный продукт; высокий уровень жизни. Необходима верная и мудрая, справедливая и предметная политика; политика, ведомая честью и прозорливостью, а
не политиканство, мятущееся в честолюбии, криводушии и всеобщем обмане.
Только так создадим новую, сильную и национальную власть в России.
20. О власти
Есть русская национальная идея власти, выношенная русской историей, вскормленная и освященная православным христианством. Согласно этой идее, христианин берет власть не из честолюбия, а из желания служить Богу и людям. Поэтому он чувствует свою ответственность даже тогда, когда никто с него не взыскивает; именно поэтому он никогда не злоупотребляет властью.
Власть есть духовная сила-, она покоится на уважении и доверии, на согласии людей повиноваться авторитету. Это согласие надо беречь, оно драгоценно. Если его разочаровать и растратить, то власть сведется к страху и насилию.
Кто принимает власть, хотя бы самую малую, тот принимает не только полномочие распоряжаться, но и обязанность распоряжаться. Отныне он обязан указывать людям, что им «можно», «должно» и «нельзя», конечно, — в отведенных ему пределах. И за неисполнение этой обязанности он подлежит суровой ответственности
Только тщеславные люди пьянеют от власти; только глупцы впадают в «административный восторг» и в суетню; только неумелые люди начинают возвышать голос и махать руками. Власть есть бремя; надо нести его достойно и спокойно. Всякая власть имеет свои пределы-, необходимо их строго соблюдать, не впадая в «превышения». Власть организует и движет жизнь, бездействие власти разрушает живой порядок. Власть должна импонировать людям; необходимо, чтобы люди ее уважали; кого они не уважают, тому они не повинуются. Надо, чтобы люди постоянно ощущали, что власть хочет добра, что она неподкупна и справедлива, что она сильна и тверда и что ее дело действительно удается ей. Внешние усилия власти не должны бросаться в глаза; пусть людям кажется, что дело идет само собою. И только тогда, когда неповиновение явно подрывает престиж власти, необходимо уметь показать, что она сильна и даже грозна.
Власть есть проявление духовного достоинства и воли. Кто вручает власть недостойным людям, тот губит ее. Кто вручает власть безвольному, тот подрывает ее. Власть призвана выбирать, решать, предписывать, настаивать и понуждать. Кто к этому не
способен, тот должен бытъустранен от власти Властвующий обязан проявлять государственный авторитет и вести борьбу за него. Для этого ему необходимы независимость и мужество; он не должен и не смеет бояться толпы. В серьезном и критическом столкновении властвующий должен быть готов умереть на своем посту.
И притом он должен всегда: помнить Бога, блюсти верность России и не бояться ответственности.
Было бы, однако, величайшим заблуждением, если бы кто-нибудь захотел утверждать, будто государственная власть «всемогуща» и должна поэтому впитать в себя и как бы поглотить всю жизнь народа.
Все духовное в жизни зарождается, зреет и творится в самодеятельности человека, по его внутреннему, таинственно-органическом почину. (Аристотель выражал это термином «диауту», буквально: «через самого себя».) Государственная власть ставит себя в нелепое и смешное положение, когда начинает предписывать веру, молитву, любовь, вдохновение, творчество, добродетель или иные духовные состояния. Столь же безнадежно и вредно подавлять свободный почин людей и в области хозяйства и труда. Жизнь народа подобна не машине, а растению: к ней надо присматриваться и приспособляться, ей можно осторожно помогать и устранять ее болезненные проявления. Но заменить ее — нечем; а произвол будет для нее гибелен. И государственная власть всегда должна помнить, что ее настоящее призвание состоит в том, чтобы служить живому организму народа, защищать его и оберегать, а не подавлять.
21. О сопротивлении злу силою
Нельзя сделать людей насильно — честными и добрыми. Совершенствование души есть дело свободы, любви и очевидности. Ни приказ, ни принуждение, ни запрет, ни угрозы, ни наказание — этого не достигнут. Христианину это ясно без доказательств.
Но это не значит, что право «не нужно», что государство правит «насилием», что суд есть дело «греховное», а наказание нравственно недопустимо (как думают непротивленцы во главе с Л. Н. Толстым).
Отвергнуть право — значит отвергнуть мирное и справедливое размежевание человеческих притязаний. Отвергнуть право значит разрушить все человеческие организации и водворить повсюду хаос и резню. Кто от чрезмерной «святости» отвергает право, тот дает людям возможность сложить с себя всякие обя
занности и попрать чужие полномочия: он должен понять, что его святошничеством воспользуются злоумышленники...
Государство держится совсем не насилием, а правовым авторитетом, живым правосознанием граждан, их добровольной ^лояльностью^. Нелепо думать, что в государстве все всех ко всему принуждают. Сила пускается в ход редко; огромное большинство людей не нуждается в ее применении. Судится в судах и наказывается самое небольшое меньшинство граждан. Отождествлять государство с насилием могут только наивные люди или же отъявленные хитрецы.
Суд и наказание необходимы: они укрепляют и воспитывают человеческое правосознание. «Не судите» сказано не государству, а подозрительному и злоязычному человеку; это сказано о нравственном суде, а не о юридическом. И Христос сам не уклонился от суда, зная, что этот суд будет злостный и жестокий.
Государство призвано сопротивляться злу силой. Его призвание не в том, чтобы проповедовать добро и вызывать в человеческих душах умиление — это призвание семьи и церкви, — но в том, чтобы пресекать противозаконные и злые дела всюду, где это необходимо. К этому деятельность государства не сводится-, но это пресечение несомненно входит в его обязанности. Отказаться от этого значило бы предать слабых на угнетение или на растерзание сильным; или же предать свой народ на порабощение и эксплуатацию иностранцам. Человек имеет право прощать свои обиды, но не чужие страдания. Он имеет право жертвовать собою и своим имуществом, но не своими братьями и не своей родиной.
Само собою разумеется, что это сопротивление злу силою может стать обязательным не только для людей, находящихся на государственной службе и пресекающих его от лица государства, но и для каждого из нас в повседневной жизни. Однако человек имеет право противопоставить злодею свою силу не тогда, когда ему этого хочется, а тогда, когда он чувствует, что при данном положении вещей он призван к этому и нравственно обязан это сделать. В этом случае долг есть мерило права.
Но и в этом случае человеку естественно (а может быть, даже и неизбежно) почувствовать в своей душе некоторый осадок злобы, ожесточения, отвращения или ненависти, вызванный этим необходимым и обязательным поступком и отравляющий его душу («как будто я в чем-то испачкался», или «огрубел», «озверел», или «грех на душу принял»). Тогда он призван очистить свою душу покаянием. Не раскаянием в том, что он совершил, как если бы он совершил что-то недолжное, запретное или греховное, в чем ему хотелось бы дать теперь зарок «никогда больше не
совершу этого» или «я не смел поступать так и впредь этого не повторится»; но раскаянием в тех злых страстях, которые живут в нем и вот пробудились от этого верного поступка и замешались в это необходимое дело. Тогда человек говорит о себе: «Поступив так, я был прав; я не должен был иначе поступать, и не смел иначе действовать; и если впредь случится подобное, то я опять поступлю также, но душа моя от этого замутилась, соблазнилась и ожесточилась; она вложилась в это дело не только своими благими силами, но и злыми; и эти злые силы моей души нуждаются в покаянном очищении...»
После международных войн, гражданских войн, смут и революций такое покаянное очищение души надо проводить всецерковно и всенародно — и для тех, кто участвовал в «смутном воровстве», и для тех, кто «верно служил и прямил» родине: дабы состоялось умягчение душ и «всепрощение» и люди «пришли в чувство и правду»*.
22. О верном компромиссе
Такова земная жизнь человека и христианина. Он всегда должен по совести хотеть лучшего; но он должен помнить, что есть множество положений в жизни, из которых нет праведного исхода, и что во всех этих случаях необходима внутренняя честность с самим собою.
Многие люди поступают так всю жизнь ловко грешат в свою пользу; а когда придет опасность и потребует волевого подвига, тогда они вспоминают о праведности и о «нравственном совершенстве» и начинают разводить фальшивое и сентиментальное ханжество. В результате они оказываются жизненными дезертирами и прославляют впоследствии мнимую «чистоту своих риз».
Человек с религиозным и сильным характером не уклоняется от компромисса, когда этого требует его служение: он принимает решение и совершает поступок, — защищает слабого и больного, обличает предателя, доносит на торговца живым товаром; он дерется с нападающим убийцей, отстаивает правое дело в гражданской войне, сражается за родину на фронте. Все это есть отступление от праведности и потому — компромисс. Но этот компромисс не компрометирует его; ибо это отступление — бескорыстное, вынужденное, жизненно верное-, и, что особенно важно, оно не отрывает человека от Бога и не заглушает в нем голос
* Выражение Забелина. См.: «Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время», с. 126.
совести. Молитва связует его с Богом; покаяние очистит его от злых страстей; совесть восстановит в нем волю к нравственному совершенству; а сознание того, что компромисс его не был корыстным, что он был принят не ради личной карьеры, а в порядке служения, — позволит ему не стыдиться перед своей совестью и перед людьми: уважение к себе не будет подорвано и чувство собственного духовного достоинства останется не-поколебленным.
Все это можно выразить так: благая цель не оправдывает и не освящает дурных средств, никогда и ни в чем. Человек нередко оказывается в таком жизненном положении, при котором самая искренняя и глубокая воля к верпюй цели и к чистым средствам встречается с практической безвыходностью-, нет таких средств, которые были бы столь же верны и чисты, как сама цель. Тогда ему остается только два выхода: или предать свою цель, или прибегнуть к нравственно неправедному, «нечистому» средству. Для благородного и нравственно чуткого человека такое положение является всегда трагическим, и душа его может оказаться в состоянии мучительного колебания и нерешительности.
Во всех таких случаях исход надо находить, руководясь следующими основаниями.
Во-первых, надо окончательно удостовериться в том, что других, нравственно чистых, средств действительно нет. Иногда человеку дается для этого кратчайший миг: например, в случае насилия над слабым или в случае необходимости тотчас же пресечь злую интригу.
Во-вторых, надо отдать себе ясный отчет в явной недоброкачественности этого средства и попытаться облагородить его или свести его дурную природу к возможному минимуму: ибо прямой и храбрый путь всегда лучше кривого и трусливого, и всюду, где жестокость не необходима, она всегда должна быть избегнута.
В-третьих, надо проверить в душе своей, не своекорыстие ли ведет ее к этому дурному средству; и не тайная ли порочная склонность ко злу тянет душу на этот путь; и не потому ли это средство кажется необходимым и единственным, что оно есть субъективно желанное.. .
В-четвертых, надо понять, что благая верность цели никак не может передаться дурному средству. Нравственное качество средства измеряется не целью, а особым суждением совести-, и если совесть свидетельствует, что средство неправедно, нечисто, несовершенно, то жизненная целесообразность не может изменить в этом ничего Может оказаться, что дурное средство вынужденно и тогда к нему надо обратиться; но никогда и никак не может оказаться, что вынужденное дурное средство стало благим или
праведным. Жизненная целесообразность средства и его нравственное качество — суть два совершенно различные свойства; их нельзя ни смешивать, ни подменять
Нравственно дурное средство останется при всех условиях дурным. Следовательно, поступок окажется жизненно необходимым и верным, но неправедным-, и нравственный компромисс будет налицо. Есть немало прекрасных, мужественных и сильных людей, которые совершают такие поступки.
Но именно потому, в-пятых, нельзя закрывать себе глаза на природу таких средств и поступков. И после каждого жизненно необходимого и «предметно обоснованного» компромисса всякому человеку, а особенно христианину, необходимо подумать об очищении своей души.
Компромиссами живут все люди. Но я разумею здесь только предметно обоснованные компромиссы. Очищение души необходимо и после них, иначе душа снизится и очерствеет от того потока лжи, обмана и жестокости, через который ведет нас жизнь.
Итак, целесообразность или жизненная необходимость какого-нибудь средства не делает его ни добрым, ни «оправданным», ни «освященным». Христианину предоставлена внутренняя и внешняя свобода воздерживаться от жизненных компромиссов или решаться на них. Но эта свобода всегда предполагает ответственность человека за свое решение и за свой поступок
23. О свободе
Если кто-нибудь требует свободы или призывает к ней, то он обязан точно сказать, кто должен быть свободен и от чего он должен быть свободен. Ибо свобода всех от всего привела бы только к общему разнузданию, разврату, поножовщине, хаосу и гибели
Мы признаем и чтим свободу потому, что молиться, любить, творить, иметь убеждения, исследовать, совершать совестные поступки и строить семью — человек может только сам, изнутри, по собственной инициативе, добровольно. Все попытки предписывать, заставлять или принуждать в этих областях вредны и бессмысленны. Вот почему человеку необходима свобода сердца, веры, совести и воззрений. Человек не механизм, а организм. Жизнь — как сад: она растет сама. А власть — как садовник она может и должна только направлять этот свободный рост.
Это не значит, что все, что люди делают в этих областях жизни, одинаково хорошо и что им надо предоставить безграничную свободу. Преступное должно быть оговорено, запрещено и подвергнуто пресечению и наказанию Злое и растленное
должно быть решительно и сурово остановлено в своих внешних проявлениях, но внутренне оно должно воспитываться и преображаться в свободном общении.
Однако получая эту внутреннюю свободу духа (свободу исповедания, любви, творчества, исследования и воззрений), человек призван не к тому, чтобы злоупотреблять ею, но чтобы верно, предметно наполнить ее и осуществить ее в жизни. Свобода веры не есть свобода изуверства. Свобода любви не есть право на разврат или извращение. Свобода творчества не есть свобода лени или безответственного произвола. Свобода исследования не есть свобода шарлатанства, лжи и фальсификации. Свобода воззрений не есть право на притворство, на продажность, соблазн или совращение глупых, необразованных или малолетних. Кто так понимает свободу духа, тот заслуживает того, чтобы у него ее отняли.
Свобода духа дается человеку именно для того и только для того, чтобы он сам освободил себя внутренне от звериного инстинкта, от порочных страстей, от дурного произвола и всяческих непредметных пристрастий. Свобода совести не есть свобода от совести. Свобода убеждений не есть беспринципность. Свобода питания не есть оправдание обжорства или пьянства.
Итак, свобода духа дается человеку только для того, чтобы он освободил свою волю от злых влечений и созрел к христианской свободе: к свободе самостоятельного, ответственного, совестного служения Делу Божьему на земле (к этой свободе люди, конечно, могут приближаться и в нехристианских исповеданиях).
И вот политическую свободу (свободу публичного слова, печати, собраний и участие в выборах) можно и должно предоставлять только тому, кто словом и делом показал, что он воспитывает себя к такой свободе воли и преуспевает в этом. Именно поэтому политическая свобода не дается сумасшедшим, преступникам и малолетним. Именно поэтому ее нельзя давать пьяницам, морфинистам, людям зазорных профессий, дезертирам, взяточникам и всем осужденным по суду чести. И именно поэтому ее нельзя предоставлять людям, исповедующим безбожие, исповедующим религию зла, приверженным к учениям ненависти, мести и зависти, отвергающим право и государство, подрывающим основы родины, чести, совести и дисциплины.
Современная политика должна найти новые, жизненные мерила для политической зрелости гражданина и устранить незрелых или политически порочных от участия в политической жизни.
Только такое оздоровление духа и политики откроет людям верное разрешение вопроса о равенстве и справедливости.
24- О равенстве и справедливости
Люди от природы не равны: ни здоровьем, ни полом, ни возрастом, ни красотою, ни силою, ни выносливостью, ни телесными потребностями. Они не равны и душою: ни восприимчивостью, ни отзывчивостью, ни памятью, ни умом, ни образованием, ни чувствам, ни волею, ни творческим воображением, ни душевным здоровьем. Люди не равны и духом: они по-разному веруют и молятся; у них разные художественные вкусы. Мы не знаем двух одинаковых поступков, подвигов или преступлений. Мы знаем, что все люди единственны в своем роде и неповторяемы: мы знаем, сколь незаменимы у нас мать, жена, сын и друг; наше сердце всегда содрогается от разлуки, от невозвратности счастья и любви, от непоправимости всякой обиды, от смертности гениального человека...
Итак, люди неравны. Как же справедливость может требовать «равенства», т. е. одинакового обхождения с неодинаковымилюдъ-ми> Она этого и не требует. Напротив: справедлив человек тогда, когда емуудается обходиться неодинаково с неодинаковыми людьми и притом — соответственно их неодинаковости. Справедливость требует индивидуализированного подхода к человеку, личного учета, приспособления; справедливость не отвлеченна и не механична — от художественна илюбовна, она старается верно (предметно) рассмотреть каждого человека и указать ему в жизни верную (предметную) сферу свободы и права.
Итак: справедливость требует не «равенства», а предметного неравенства. Так, кому много дано, с того надо больше взыскивать; и это справедливо. Кому меньше дано, с того надо меньше взыскивать; и это тоже справедливо. Есть справедливые привилегии, например, женщины не служат в солдатах; беременные женщины освобождаются от труда; налог должен быть подоходным и прогрессивным. Но есть и несправедливые привилегии: например, если только богатые имеют право получать образование; или если богатому обеспечена безнаказанность по суду; если только членам коммунистической партии предоставляются все блага жизни; если одни фабричные рабочие имеют доступ к высшим должностям и т. д.
Поэтому никогда не следует обещать народу равенство. Нелепо и невозможно уравнивать людей в их естественных свойствах. Несправедливо и разрушительно уравнивать неодинаковых людей в их правах.
Чтобы люди переносили естественное неравенство, надо их воспитывать к свободе от зависти. Зависть есть один из главных источников злобы, вражды, мстительности, беспорядка и револю
ции. Зависть разрушительна; она портит, вредит, отнимает, убивает. Она говорит: «Я, а не ты». Напротив жизненно и созидательно соревнование: «И ты, и я; посмотрим, кто лучше, а кто победит, тому не завидуй». Никогда не надо смотреть на то, чего у меня нет, а у других есть: надо смотреть на тех, кто беднее; ибо у них многого нет, что у меня имеется Это есть первое средство против зависти.
Чтобы люди переносили правовое неравенство, надо им объяснить, что несправедливый порядок лучше, чем несправедливость всеобщего хаоса ирезни. Полной справедливости никогда не было на земле; при всяком порядке будет оставаться несправедливость. Но пока есть порядок, с несправедливостью можно бороться. А в революции и в гражданской войне царит голый произвол и с несправедливостью бороться нельзя: бессовестные грабят беззащитных и человек человеку волк.
Людей много Каждый добивается своего. Как воздать каждому надлежащее? Как водворить всеобщую справедливость? Как найти эту желанную меру в жизни? Ведь люди обычно называют «справедливым» то, что им самим выгодно Поэтому необходимо воспитывать в людях чувство законности и чувство справедливости. А для того, чтобы люди до поры до времени терпели неизбежные несправедливости жизни, нужна всеобщая твердая уверенность, что «мы все искренно желаем и честно ищем справедливости для каждого из нас».
Революция звала людей к равенству и создала великий обман: новое неравенство и всеобщее угнетение. Мы должны звать людей к иному. Мы говорим:
надо примириться с естественным неравенством людей;
надо свободно и добровольно признавать чужой ранг;
надо совестно, братски искать живой справедливости;
надо открыть дорогу таланту, личной инициативе и нравственно сильным, ответственным, качественным людям, преобладание которых было бы для всех убедительным и водительство коих говорило бы само за себя.
Только на этом пути нам удастся угомонить революционные страсти и воссоздать Россию.
25. О частной собственности
Может быть, ни в чем люди не воспринимают так болезненно отсутствие свободы и отсутствие равенства, как именно в сфере имущества.
Свободутворчества человек должен иметь и в области хозяйства. Человек хозяйствует из инстинкта самосохранения А этот
инстинкт есть начало личное и самодеятельное. Поэтому жизненны только те способы хозяйства, которые пробуждают и напрягают этот творческий инстинкт, а не пресекают и не подавляют его.
Именно частная собственность пробуждает и напрягает хозяйственный инстинкт и хозяйственное творчество человека; она дает человеку уверенность в том, что продукт его труда не будет у него отнят, она дает ему спокойствие и вызывает в нем волю к усердному и постоянному труду; человек начинает охотно «инвестировать» (облекать) свой труд в вещи, как бы доверять его им; его чувство прилепляется к «своим» вещам (любовь к своей земле, к мастерской, к библиотеке), его воля оживает и дышит как бы полной грудью; его воображение творит, создает, предвидит, его мысль ищет знаний и верно разрешает жизненные задачи; его тело работает до пота и крови. Но именно тогда-то и обнаруживается, что его личный инстинкт служит не только самому ему, но и семье, и роду, и обществу; и что от его самостоятельности, от его частной инициативы приходят в движение все силы и возможности народной жизни.
Отменяя частную собственность, социализм и коммунизм пресекают действие этого инстинкта; они подавляют его и делают его бесплодным. Поэтому они нежизненны и обречены на хозяйственный провал.
Христианин должен глубоко и верно продумать все это, ставя перед собой вопрос о хозяйстве. Человек создан личным, индивидуальным и самодеятельным; таков он от Бога и от природы. Изменить в этом что-нибудь — пересоздать человека — нам не дано. Но нам задано воспитать душу человека так, чтобы опасные стороны частно-собственнического строя (а следовательно, и капитализма) не влекли за собою противохристианских последствий.
Это значит взрастить в человеке христиански социальное понимание частной собственности. «Спасителен» не социализм, а творческое сочетание свободы,, всенародного братства и справедливости. Здесь не может быть единого практического рецепта для всех стран и народов. Проблема должна быть разрешена для каждого народа в отдельности в порядке национально-христианского воспитания и верных реформ.
В душах надо укрепить: творческую заботу о том, чтобы не было неимущих и безработных; свободу от зависти и естественное братское доброжелательство; уверенность, что богатство не определяет человеческого достоинства; чувство общественной и нравственной ответственности за свою собственность; живое понимание, что всякий честный труд почетен; волю к общественной и национальной солидарности. В жизни надо утвердить три основы: изобилие, качество продукта и щедрость.
Только такое воспитание поможет людям найти новые формы частной собственности и установить законы, при помощи которых христианский дух преодолеет дурные формы и дурные последствия имущественного неравенства. Итак, частная собственность есть как бы естественное, необходимое земное жилище человеческого инстинкта и человеческого духа. Нельзя отнимать его. Но надо научить человека владеть им творчески и братски.
26. О национальной территории
Что для человека — частная собственность, то для народа и государства — его территория: земное жилище национального инстинкта и национального духа. Народ, творящий свое национальное дело, дело своей духовной культуры, нуждается в этом земном жилище, бережет его и обороняет. Это естественно и неизбежно. Народ призван владеть своей территорией в культурном и хозяйственном отношении, извлекая богатства из ее природы и для себя, и для других народов. И если он не выполняет этого призвания, то он рано или поздно окажется неспособным и оборонять ее. Культура духа, культура природы и оборона страны связаны между собою глубокою связью, и эта связь бывает для народов судьбоносною.
Народ живет не для земли и неради природы. Но он живет на земле и от земли Ни одна великая культура не была создана кочевым народом или народом, находящимся в рассеянии. Настоящая культура начинается с оседлой и совместной жизни. Территорию мало завоевать; ее надо освоить и культивировать. Право на нее приобретается не только воинственно пролитой кровью, но и ее хозяйственным, и техническим приспособлением для жизни, а также ее искусною и упорною обороною. Тогда территория перестает быть пространством, условно ограниченным таможнями, но становится творческим созданием народа. Добытая кровью и трудом, волею и духом, она становится национальным наследием, священным достоянием нации.
Народ теряет территорию тогда, когда оставляет ее лежать «впусте». Народ теряет территорию, когда в нем угасает воля к обладанию ею. Народ теряет территорию, когда он оказывается духовно, хозяйственно и стратегически бессильным для ее удержания.
* Это не значит, что территория принадлежит народу на праве частной собственности; она принадлежит ему на праве публичного властвования. Но культурная связь народа с территорией определяется именно через идею земного жилища и возделываемого поля
Народ имеет право добровольно отказаться от ненужных ему кусков территории (так Россия уступила Аляску Северо-Американским Соединенным Штатам в 1867 г. за 7 200 000 долл.). Но народ имеет право не отказаться и от той территории, которая отнята у него силою оружия (так Италия не отказалась от Триеста и Триента и получила их вновь; так восстановилась трижды «разделенная» Польша и др.). Завоеватель должен всегда помнить, что история еще не сказала своего последнего слова; что занятие войсками и провозглашение «аннексий» часто бывает только началом борьбы-, что насильственное присоединение территорий и народов может стать для самого завоевателя внутренним бедствием, историческим проклятием, началом конца (например, присоединение Австро-Венгрией в 1909 г. Боснии и Герцеговины). «Завоевать» — не значит освоить (достаточно вспомнить всех великих завоевателей, начиная от Тутмоса I, Александра Великого, Атиллы и Чингисхана и кончая Наполеоном); «присоединить» — не значит удержать. Завоеванный народ может как бы пробудиться от сна именно вследствие временного завоевания (Пруссия при Наполеоне).
Каждый русский патриот должен знать и видеть свою национальную территорию и ее природу; он должен крепко продумать ее состав с исторической, политической и хозяйственной точки зрения. Он должен знать, как она слагалась в истории, какою ценою присоединялись к ней отдельные части; зачем каждая часть нужна России и что может означать для России ее утрата.
27. Национальная армия
Армия представляет собою единство народа; его мужественное начало; его волю, его силу, его рыцарственную честь Так она должна восприниматься и самим народом.
В будущей России отношение народа к армии обновится и углубится. Народ не должен и не смеет противопоставлять себя — своей армии, как это было перед революцией: «мы — рабочие, крестьяне, штатские, интеллигенция», а «они — военщина, орудие реакции, усмирители, опричники, янычары».
... Это больное и позорное отношение исчезнет навсегда. На самом деле все обстоит иначе. Мы — это русский народ со всеми его братскими меньшинствами; и в нем — наше почетное и ответственное, вооруженное и знаменами славы осененное волевое средоточие, наша армия и наш флот-, наша сила, наша надежда, основа нашего национального существования. Кость от нашей кости, кровь от нашей крови, дух от нашего духа. Мы сами ее составляем. Ее победа — наша победа. Ее разложение — наша
гибель. Она — воплощение нашей национальной рыцарственности; ограда нашей национальной целости и независимости
Принадлежать к ней — значит не «отбывать воинскую повинность». А осуществлять свое почетное право и пр^юбщстгься национальной славе. Воинское знамя есть священная хоругвь всего народа. Военный инвалид есть почетное лицо в государстве.
Русская армия всегда была школой русской патриотической верности, чести, дисциплины и стойкости. Самое воинское звание и дело заставляют человека выпрямить хребет своей души, собрать свою распущенную особу, овладеть собою, победить свой «страх» и сосредоточить свою выносливость, мужественность и храбрость. Армия невозможна без самообладания иусердия. Армия требует воинского качества. Она гасит в душах распущенность, лень и склонность к раздору. Она учит повиновению и ответственности. Она приковывает волю человека к воинской чести, а чувство единства и солидарности — к своей воинской части. Армия невозможна без характера, патриотизма и жертвенности. Ее лозунг: «Жить для России и умереть за Россию».
Русскому народу предстоит изведать опять это радостное, искреннее волевое единение со своей армией. Это даст армии настоящий расцвет, а русскому народу — настоящий закал характера. Тогда будут осмыслены все великие заслуги армии в создании России — от похода князя Игоря на половцев до последней европейской войны, от Александра Невского до Салтыкова и от Петра Великого и Суворова до наших дней. Тогда будут окончательно сформулированы и признаны основы русской национальной стратегии и тактики, над которыми так ревностно работал всю жизнь генерал А. К. Байов* И тогда каждая из народностей России по-настоящему вложит в оборону своей единой родины — свою самобытную доблесть и военное искусство.
Дух народа станет духом армии, и обратно. А сама армия станет истинной школой патриотического служения, верного заветам ее великих вождей — князей, императоров и полководцев.
28. О монархии и республике
Какая государственная форма установится в России после революции — мы не знаем. Мы не в состоянии предусмотреть и предопределить надвигающихся событий. Мы должны помнить, что мы всего-навсего незначительная часть русского народа и что
* См. поучительную книгу генерала Б А. Штейфона «Национальная военная доктрина».
\
за ндми нет силы, которую мы могли бы противопоставить внут-рирусской стихии и международным силам. Но мы знаем, что мы примем Россию в момент падения большевиков такою, какова она будет к тому времени: с переутомленной, измученной, ожесточившейся народной душой, с дезорганизацией повсюду, в состоянии всестороннего оскудения и растерянности. Какая государственная форма будет тогда возможною, необходимою, желательною, спасительною? Ответ ясен и прост: внепартийная, сверхклассовая, национальная,религиозно-вдохновенная и жизненно-творчески-гибкая диктатура Только она сумеет властною, авторитетною рукою остановить всякую новую гражданскую войну, подавить партийную резню и националистические погромы, сократить период хаоса, побудить население немедленно взяться за мирный труд, приступить сразу — к очищению страны от коммунистической нечисти и к водворению справедливых, устойчивых форм правопорядка. Без этого стране предстоит новая эпоха длительного распада и хаоса, с вечными восстаниями авантюристов, субсидируемых из-за границы и с новыми попытками гибельных расчленений извне и изнутри. Никакая республиканская форма — центробежная по своей природе — не справится с этой задачей. Никакая монархическая форма не сможет быть установлена на основе неосевшего хаоса, в пыли и грязи революционно-контрреволюционного кипения. Спасти Россию сможет только полновластный глава государства, вокруг которого мы сможем творчески объединиться, забыв все и помня одну Россию, не предрешая той окончательной государственной формы, в которой Россия сможет в дальнейшем жить и крепнуть.
Это есть великая иллюзия, что «легче всего» возвести на престол законного Государя. Ибо законного Государя надо заслужить сердцем, волею и делами. Мы не смеем забывать исторических уроков: народ, не заслуживший законного Государя, не сумеет иметь его, не сумеет служить ему верою и правдою и предаст его в критическую минуту. Монархия — не самый легкий и общедоступный вид государственности, а самый трудный, ибо душевно самый глубокий строй, духовно требующий от народа монархического правосознания. Республика есть правовой механизм, а монархия есть правовой организм. И не знаем мы еще, не видим мы еще, будет ли русский народ после революции готов опять сложиться в этот организм. Отдавать же законного Государя на растерзание антимонархически настроенной черни было бы сущим злодеянием перед Россией.
Посему: да будет национальная диктатура, подготовляющая всенародноерелигиозно-национальное отрезвление!
При таком положении дел нам, в зарубежии, надлежит блюсти скромность. А политически-партийное доктринерство из пространственного и временного далека является непозволительным. Мы должны быть готовы к возвращению в Россию и к служению ей на месте при всяком небольшевистском, некоммунистическом строе. Мы будем служить ей, ее Делу, ее возрождению предметно, честно и грозно. И тогда там на месте, учитывая реальную обстановку общенационального русского бытия, мы вместе со всей остальной Россией сумеем найти и создать, именно творчески создать новую государственную форму для нашей родины.
Именно в этом смысле, и только в этом смысле, мы считаем правильным не предрешать будущую государственную форму в России. Нам «приемлема» всякая не-болыпевистски-коммуни-стическая Россия; мы примем Россию во всякой политической форме —.. .только бы она нас опять приняла в свое вековое лоно. И так обстоит потому, что л/ы от России никогда и не отрывались, что и в революционной горячке, и под коммунистическим игом, и в мученичестве тюрем, колхозов и концентрационных лагерей она всегда оставалась нашим духовным, национальным и территориальным лоном, нашей родиной, нашей святыней; и клятвы верности ей, произнесенные нами, будут жить в нас до конца.
Но это не значит, что мы согласны быть людьми без политической идеи, без государственного идеала, без национальной памяти и благодарности, без волевого хребта; людьми, не постигшими исторических путей и судеб своей родины; отвлеченными мечтателями, воображающими, что есть единая государственная форма, наилучшая для всех стран и народов, или что любой народный организм может по человеческому произволу жить и развиваться в любой государственной форме...
В вопросе о монархии и республике ныне необходимо идейное очищение душ и глубокий идейно-государственный пересмотр. Здесь нельзя восклицать, шуметь, агитировать, интриговать и грозить. Здесь все поколеблено событиями последних двадцати пяти лет. Здесь ничего «само собой« не «разумеется». Здесь необходимо идейное творчество, восстановление старых забытых истин и новое освящение, и новое углубление их из глубины нового опыта и вынесенных страданий.
Те, кто хотят быть ныне «русскими республиканцами»* **, должны прежде всего показать совместимость русского историческо
* Как образец отвлеченного доктринерства в политике, укажу на брошюру Ф. Ф. Кокошкина «Республика», Петроград, 1917.
** Я подчеркиваю эту формулу: она означает «республиканцами из любви к национальной России». Ибо «республиканцем для России» может быть любой доктринер-иностранец, чуждый России, не принимающий ее благо к сердцу.
го бремени и русской исторической судьбы с республиканской формой; они должны вскрыть республиканские способности и склонности русского правосознания, если таковые имеются; они должны показать, что республика всегда была формой русского национального расцвета или, если этого доселе не было, — что так «наверное будет в дальнейшем» и почему именно... Если же они не сумеют доказать этого, то им придется остаться при их отвлеченном «идеале» и признать его неприменимость в России. Ибо нелепа и скандальна такая постановка вопроса: «Россия должна стать республикой хотя бы ценою собственной гибели».
Но и этого мало, они должны открыто и принципиально сосчитаться с фактом большевистскойреспублики, ибо этот факт вскрыл в республиканстве ряд больных и отвратительных уклонов. Им придется доказать, что начала классовой борьбы, личного карьеризма, партийной интриги, гражданской войны, одним словом — всяческой социальной и политической центробеж-носпги, не составляют самой сути республиканства. Они должны открыто выговорить, что идея республики переживает в России и повсюду острый кризис, ибо именно республика оказалась подходящей государственной формой для большевистского содержания. Пока русские республиканцы этого не сделали, пока они пытаются игнорировать постигшую их беду и притворяются, будто ничего особенного не случилось, они продолжают оперировать устаревшей и мертвой схемой; и к их республиканству нельзя относиться серьезно.
А те, кто хотят быть нынерусскимимонархистами, должны утвердить свой монархизм в событиях и судьбах русского прошлого и вслед затем показать, что русская национальная и историческая проблематика по-прежнему требует монархической формы, что Россия может стать республикой только ценою своей собственной гибели. Мало быть «монархистом» в смысле отвлеченного идеала; Россия есть великая историческая реальность, а мы обязаны стать политическими реалистами. И иностранцы должны понимать и чтить этот реализм, так, как мы умеем чтить реализм швейцарского или североамериканского республиканства.
Но и этого недостаточно. Русские монархисты обязаны открыто сосчитаться с фактом крушения монархии в России и доказать, что монархическая Россия рухнула не потому, что она была монархическая. Они должны мужественно осмыслить и исследовать это крушение и постигнуть его духовные, социально-экономические и национально-имперские причины, и тогда заново обосновать и оправдать идеюмонархии. Они должны по
казать, что все те обвинения, которые выдвигаются республиканцами против монархии, — «вредная централизация», «кастовый режим», «бюрократическое средостение», «бесправный произвол», «реакционный обскурантизм», «временщичество» и т. д., словом, все начала вредной и застойной центростремителъности, — совсем не составляют самой сути монархизма. Они должны доказать, что монархия сокрушилась в России не потому, что монархическая стихия была слишком сильна в стране, а потому, что она ослабла, расшаталась и выветрилась в душах; что за последние двадцать лет перед революцией государственный строй в России был «монархией» больше по закону и по имени, чем по существу, ибо радикально настроенная интеллигенция проводила противомонархическую тактику изоляции, оклеве-тания и обессиления Царя; что монархия в России заживо захлебнулась в чистореспубликанской стихии недоверия к главе государства, ослабления его власти, интеллигентского честолюбия и партийной борьбы за власть. Пока русские монархисты этого не сделали, пока они не очистили и не укрепили свое собственное монархическое правосознание и не доказали всем, что монархическая идея творчески жива, сильна и национальна (а не партийна!), они рискуют тем, что их «политику» будут принимать за политиканство и что они сами извратят идею монархии до полной неузнаваемости.. .*
Ныне весь мир стоит на великом распутии: и духовно, и политически, и социально. И кто хочет жить старыми, отжившими трафаретами, тот не имеет ничего сказатъмиру.
Новое же добывается лишь через духовный опыт и творческое созерцание.
29. Россия спасется творчеством
Возродить Россию может только новая идея: ее могут воссоздать только обновленные души.
Нет больше былой России. Нет ее и не будет. Будет новая Россия. По-прежнему Россия, но не прежняя. Ее дух жив и будет жить; мало того, в невиданном крушении и в исторически небывалых страданиях дух русского народа очистится и углубится, закалится и расцветет. Но ее общественный и государственный уклад будет иной; и хозяйственный строй ее будет новый. Самый душевный материал, из которого будет строиться новая Россия, окажется не тем, что прежде. Все проблемы будут поставлены заново; все борозды и межи будут проведены иначе. Мы должны
’ Ср., например, кощунственную, бредовую и бесконечно пошлую идею «Царь и Советы»
понимать это и предвидеть; мы обязаны готовиться к этому. Все, что было в нашем прошлом священного, мы должны понимать и хранить. Мы не смеем забыть ни одного из тех уроков, «нежданных и кровавых», которые послала нам история. Мы не отречемся ни от одной национальной святыни. И тем не менее мы должны готовить нереставрацию, а новую Россию.
Мы не должны пугаться этого: нас учит этому все наше историческое прошлое. Всю историю Россия провела в том что строилась на пепелище. И то пепелище, которое останется нам в наследство от большевиков, будет не страшнее тех пепелищ, которые оставались нам от татар или от Смуты. Страшнее, опаснее будет то духовное пепелище, которое мы унаследуем после их крушения.
За прежними культурными, политическими и социальными лозунгами, увлекавшими русскую интеллигенцию (от «кантианства» до «толстовства», от «демократии» до «анархизма», от «народнической общины» до «марксизма»), осталась некая духовная пустота; вся эта идеология повисла над бездною и все эти идеи стали беспочвенны и мертвы. Обновить их, наполнить их новым, зиждущим содержанием сможет только тот, кто, отрешившись от всех доктрин и предрассудков,уйдет опытом и созерцанием в глубину, к последним истокам человеческого духа, к последним корням человеческого существа и человеческой веры.
Мы должны понять и усвоить эту суровую истину: безыдейная интеллигенция не нужна своему народу. Она не исполняет своего назначения; она не может никого вести; она есть мнимая реальность, историческая накипь, политический мираж
Нет «всеисцеляющих средств» и рецептов; нет спасительных трафаретов. И заимствовать их нам не у кого. Никто не разведет руками нашу беду, никто не сумеет и ума приложить к ней. А если бы нашлись такие из иностранцев, то только с тем, чтобы использовать нашу беду и попытаться построить на ней свое собственное благополучие.
Россия спасется творчеством — обновленной религиозной верой, новым пониманием человека, новым политическим строительством, новыми социальными идеями.
Так, западноевропейский разрыв между научным знанием и верою можегг привести культуру только в тупик и в разложение. Россия будет добывать себе новое знание и новую веру*
Безбожнаялю/шдь черствой порядочности — не удовлетворит русскую совесть.
* При этом разумеется не новая религия, а новый акт веры в пределах православного христианства. См. об этом мою статью «Идея обновленного разума» в № 5 «Русского Колокола»
Русское искусство вернется к своим собственным созерцаниям и глубинам, и западный модернизм перестанет быть д ля него соблазном*.
Европейский разрыв между формальным правом и живым правосознанием — не поведет за собою Россию. Возникнет новая, русская культура права.
Россия создаст новую политическую форму, подходящую только для нее, но зато действительно соответствующую всем ее нуждам.
Возникнет новая русская, национальная культура, которая пойдет от прежних национальных корней, но по-новому и к новому расцвету.
То, что нам нужно, есть новая постановка и новое разрешение все тех же вечных проблем, но из нового, национальнотрагического опыта истории. Мы повинны России новыми идеями и новыми ведущими словами; не отрицательным только, но и положительным; не отвлеченными выдумками, не рассудочными построениями, не демагогическими выкриками. Здесь спасительны только: чувство ответственности, почвенность духовного опыта, серьезность ищущей мысли. Ибо те новые идеи и новые слова, которые необходимы новой России, будут, вероятно, лишь вновь открытою, но зато по-новому постигнутою древней мудростью.
Эта древняя и священная глубина духовного опыта не должна отпугивать нас. Наоборот, увидеть сквозь завесу новых событий старую истину и ее верность, увидеть ее по-своему и по-новому, извлечь из нее умудрение для будущей России — будет для нас не разочарованием, а радостью. Ибо в конечном счете новое ценно не новизною своею, а целительной верностью.
Русский народ вернется к Богу и ко Христу, чтобы по-новому заткать и создать новую христианскую культуру.
30. Заключение
Восстановить Россию можно только верным, предметным служением ей, которое должно быть почувствовано и осмыслено, как служение Делу Божьему на земле. Нас должен вести религиозно осмысленный патриотизм и религиозно вдохновленный национализм. Тогда наше служение найдет верные пути и примет верные формы.
Вот основы такого служения.
* См. об этом мою книгу «Основы художества. О совершенном в искусстве».
1. Для всех политических событий есть единое и единственное мерило: русский национальный интерес — интерес Богу служащей России.
2. Россия ни на кого не похожа. Она — единственна в своем роде во всей истории человечества. Она идет своими путями. Ей необходимы свои, особые формы жизни.
3. Чтобы найти эти новые русские формы бытия, надо созерцать Россию как она есть — ее дары, ее опасности, ее нужды, ее силы и слабости; и из нее самой, для нее самой создавать верный уклад, и строй, и порядок, и власть, а не навязывать ей иностранные, инославные, иноплеменные трафареты.
4. Россия — наше отечество, наша родина, русское государство — выше классов, сословий, партий, выше всякого лица и всякого рода, выше династии. Мы призваны ей служить, а не она нам. Она не есть «механическая сумма» лиц, партий и классов. Она есть живое, органическое, таинственное и священное единство и зовет нас всех к совестному единению перед Лицом Божиим.
5. Русский — это тот, кто принимает Россию огнем своей любви и служит ей волею и делами. И вот, русский русскому — брат в предметном служении Родине как общему и совместному Делу Божьему на земле. Мы свободны объединяться с нашими братьями по единочувствию и единомыслию. Но всякая непредметная вражда, борьба и ненависть между русскими — запретна и позорна.
6. У русских должна быть ныне одна главная забота: во всем и всегда искать ответственного служения, стоять «безо всякие шатости» и дело России «нести честно и грозно». И так служа, искать себе таких же людей, верных, крепких и грозных. С ними договариваться до полного доверия. И беспощадно жечь в себе всякие непредметные и противопредметные побуждения.
Таковы основы борьбы за национальную Россию.
КОММЕНТАРИИ СОСТАВИТЕЛЯ
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ
Работа написана 20 февраля 1950 г., впервые опубликована в Бюллетене РОВСа «Наши задачи» за №№ 86—87. См. также: Ильин И. А Собр. соч. в 10 тт., т. 2, кн. I, с. 265—278 (М.: Русская книга, 1993).
О ДУХОВНОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА
2-я глава из фундаментального труда И. А Ильина «Аксиомы религиозного опыта» (Париж, 1953).
1 Servus est res (лат.) — раб есть вещь.
огни личной жизни
16-я глава «Аксиом религиозного опыта» (Париж, 1953).
2 Liberum arbitrium indifferentiae (лат.) — свободное независимое решение.
3 Ноль иДамаянти — легендарный древнеиндийский царь страны нишадхов и его супруга, царевна Видарбхи. Сказание о страдании полюбивших друг друга людей вошло в качестве самостоятельного эпизода в «Махабхарату» (III50—78).
4 Определение человеческой судьбы соответственно по земле, воде, огню, звездам, птицам, полету птиц, древним письменам, прутикам, курам, лошадям, руке.
6 Учение о Пути (Боге).
НЕУДАЧА
5-я глава из книги И А Ильина «Я вглядываюсь в жизнь». См. также: ИльинИ.А Собр. соч. в 10тт.,т.З, с. 100—102 (М.: Русская книга, 1993).
БЕЗБОЖИЕ
24-я глава из книги И. А Ильина «Я вглядываюсь в жизнь». См. также: Ильин И.А Собр. соч. в 10 тт., т. 3, с. 135— 137 (М.: Русская книга, 1993).
ЗАВИСТЬ
25-я глава из книги И. А Ильина «Я вглядываюсь в жизнь». См. также: ИльинИА Собр. соч.в 10тт,т. 3,с. 137—138 (М.: Русская книга, 1993).
САМОМНЕНИЕ
26-я глава из книги И. А Ильина «Я вглядываюсь в жизнь». См. также: ИльинИА Собр. соч. в 10 тт., т. 3, с. 139—140 (М.: Русская книга, 1993).
МИРОВАЯ ПЫЛЬ
10-я глава из книги И. А. Ильина «Поющее сердце». См. также: Ильин И. А. Собр. соч. в 10 тт., т. 3, с. 269—274 (М.: Русская книга, 1993)
О БОЖИЕЙ ТКАНИ
26-я глава из книги И. А Ильина «Поющее сердце». См. также: Ильин И.А Собр. соч. в 10 тт. — Т. 3. — С. 348—350 (М.: Русская книга, 1993).
О ДУХОВНОСТИ ИНСТИНКТА
4-я глава из книги И. А Ильина «Путь к очевидности». См. также: Ильин И.А Собр. соч. в 10 тт., т. 3, с. 407—416 (М.: Русская книга, 1993)
7 In magnis et voluisse — sat est (лат.) — «В великом и желать уже достаточно». Высказывание принадлежит Сексту Проперцию (ок. 50 — ок. 15 до н. э.). Позже стало знаменитой латинской поговоркой.
СПАСЕНИЕ В ЦЕЛЬНОСТИ
5-я глава из книги И. А Ильина «Путь к очевидности». См. также: Ильин И.А Собр. соч. в 10 тт., т. 3, с. 416—424 (М.: Русская книга, 1993).
8 Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума».
ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
Эта работа является первой частью книги «Основы законоведения: общедоступные очерки И. А Ильина, В. М. Устинова, И. Б. Новицкого и М. Н. Гернет», опубликованной в Москве и Петрограде в 1915 году издательством товарищества «В. В. Думнов, наслед. бр. Салаевых». Это было 4-е, исправленное и значительно дополненное издание, предназначавшееся в качестве учебного пособия для гимназий. В первых трех И. А Ильин не участвовал. Текст работы воспроизводится по указанному изданию. См. также: Ильин И. А Собр. соч. в 10 тт., т. 4, с. 45— 147 (М.: Русская книга, 1994).
9 Императив — категорическое, безусловное требование.
10 «Свобода каждого человека простирается лишь до тех пределов, у которых начинается свобода других людей» — фраза, которую приводит в ряде своих работ И. А Ильин, принадлежит английскому философу Д. С. Миллю.
11 Природа по-гречески — «фюсика», в русской транскрипции — физика.
ПРОБЛЕМА
1 -я глава монографии И. А. Ильина «О сущности правосознания». Книга была задумана и написана Ильиным еще в России и называлась «Учение о правосознании». Он закончил писать текст еще в 1919 г. Но с тех пор она не была опубликована. И только после смерти философа его вдова Наталия Николаевна опубликовала ее в Мюнхене в 1956 году. См. также: Ильин И.А Собр. соч. в 10 тт., т. 4, с. 151 — 160 (М.: Русская книга, 1994).
ЗНАНИЕ ПРАВА
2-я глава монографии И. А Ильина «О сущности правосознания». См.:Ляьш/ИАСобр.соч.в 10тт.,т.4,с. 160—170 (М.: Русская книга, 1994).
12 Иррелевантный (англ, irrelevant) — неуместный, не относящийся к делу.
БОРЬБА ЗА ПРАВО
7-я глава монографии И. А Ильина «О сущности правосознания». См.: Ильин И. А Собр. соч. в 10тт.,т.4,с. 210—222 (М.: Русская книга, 1993).
13 Secundum legem (лат.) — в соответствии с законом.
ПРАВОСОЗНАНИЕ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ
21-я глава монографии И. А Ильина «О сущности правосознания». См.: Ильин ИА Собр. соч. в 10 тт., т. 4, с. 386—402 (М.: Русская книга, 1994).
14 Иллюзионизм — воззрение, согласно которому пространственно-временной внешний мир есть только видимость, иллюзия, феномен мозга.
ПРОБЛЕМА МОНАРХИЧЕСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
2-я глава монографии И. А Ильина «О монархии и республике». См.: Ляьш/И.АСобр.соч.в 10тт.,т.4,с.444—455 (М.: Русская книга, 1994).
15 Кондотьеры — в Италии XIV—XVI вв. предводители наемных военных отрядов, находившихся на службе у государей или римских пап
ОБОСНОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА
5-я глава монографии И. А Ильина «О сущности правосознания». См.: Ильин И А Собр. соч. в 10 тт., т. 4, с. 188—200 (М.: Русская книга, 1994).
ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРАВА
6-я глава монографии И. А. Ильина «О сущности правосознания». См.: Ильин И. А Собр. соч. в 10 тт., т. 4, с. 188—200 (М.: Русская книга, 1994).
16 Cognate) servilis (лат.) — рабская связь, отношение. Здесь: в положении раба.
17 Obligatio naturalis (лат.) — естественное обязательство.
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРАВОСОЗНАНИИ
18 In spe (лат.) — в надежде.
СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
12-я глава монографии И. А Ильина «О сущности правосознания». См.: Ильин И. А Собр. соч. в 10тт.,т.4,с. 267—276 (М.: Русская книга, 1994).
ФОРМА ГОСУДАРСТВА
13-я глава монографии И. А Ильина «О сущности правосознания». См.:Ляьш*И.АСобр.соч.в 10тт.,т.4,с. 276—291 (М.: Русская книга, 1994).
19 Rebus sic stantibus (лат?) — при данном положении дел.
20 Nonsens (лат) — бессмыслица, нелепость.
АКСИОМЫ ВЛАСТИ
14-я глава монографии И. А Ильина «О сущности правосознания». См.: ИльинИ.А Собр. соч. в 10тт.,т.4,с. 291—308 (М.: Русская книга, 1994).
21 Инвеститура (от лат. investio — облачаю) — в средневековой Европе юридический акт введения во владение феодальной собственностью, в государственную и церковную должность или сан.
22 Котерия — кружок, сплоченная группа лиц, преследующих какие-либо узкогрупповые корыстные цели.
ПРАВОСОЗНАНИЕ И УГОЛОВНАЯ ВИНА
8-я глава монографии И. А. Ильина «О сущности правосознания». См.: ИльинИА Собр. соч. в 10 тт., т. 4, с. 222—229 (М.: Русская книга, 1994).
23 Legisferendae (лат?) — то, что подлежит законодательному установлению.
ОСНОВА ЗДОРОВОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ
9 глава монографии И. А Ильина «О сущности правосознания». См.: Ильин ИА Собр. соч. в 10 тт., т. 4, с. 230—239 (М.: Русская книга, 1994).
24 Taedium vitae (лат?) — отвращение к жизни.
25 Summusjus (лат?) — высшее право; summa injuria (лат?) — наибольшая несправедливость, высшее бесправие.
ЧТО ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО - КОРПОРАЦИЯ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ?
Эта работа написана 10 и 17 января 1949 г., впервые опубликована в Бюллетене РОВСа «Наши задачи», № 40—41. См. также:: ИльинИА Собр. соч. в 10 тт., т. 2, кн. I, с. 98—105 (М.: Русская книга, 1993)
ПРАВИТЬ ДОЛЖНЫ ЛУЧШИЕ
Эта работа написана 3 июня 1949 г., впервые опубликована в Бюллетене РОВСа «Наши задачи», № 56. См. также: Ильин И. А Собр. соч. в 10 тт., т. 2, кн. I, с. 155—159 (М.: Русская книга, 1993).
О СИЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Эта работа написана 15 и 31 января 1951 г., впервые опубликована в Бюллетене РОВСа «Наши задачи», № 124—126. См. также: Ильин И.А Собр. соч. в 10 тт., т. 2, кн. I, с. 404—419 (М.: Русская книга, 1993).
26 Плеоназм (от греч. — излишество) — стилистический оборот речи, содержащий однозначные и как бы излишние слова.
О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСПЕХЕ
Эта работа была опубликована на немецком языке в книге «Blick in die Feme». По-русски опубликована в Бюллетене РОВСа «Наши задачи», № 174—176. См.также:Идьш/ И.А Собр. соч. в 10тт.,т.2,кн.П,с. 150—164 (М.: Русская книга, 1993).
О ВОСПИТАНИИ В ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ
Написана 15,22 и 31 мая 1953 г., впервые опубликована в Бюллетене РОВСа «Наши задачи», № 180—182. См. также: Ильин ИА Собр. соч. в 10тт.,т. 2,кн.II,с. 178—192 (Русскаякнига,М., 1993).
РУССКОМУ НАРОДУ НЕОБХОДИМО ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Написана 10 апреля 1952 г., впервые опубликована в Бюллетене РОВСа «Наши задачи», № 146. См. также: Ильин И.А Собр. соч. в 10 тт., т. 2, кн. II, с. 37—41 (М.: Русская книга, 1993).
О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
10-я глава книги И. А Ильина «Путь духовного обновления». См.: Ильин И.А Собр. соч. в 10 тт., т. 1, с. 254—280.
27 Шикана — от шиканить, шиканировать, т. е. притеснять, придираться, надоедать, вредить.
28 Лаццарони {ит. нищие, босяки) — в XVII—XIX вв. деклассированные элементы, люмпены.
О СЕМЬЕ
5-я глава книги И. А Ильина «Путь духовного обновления». См.:Ильин И.А Собр. соч. в 10 тт., т. 1, с. 142—168 (М.: Русская книга, 1993).
О РОДИНЕ
6-я глава книги И. А Ильина «Путь духовного обновления» См.: Иль-инИА Собр. соч. в 10 тт., т. 1, с. 168—196 (М.: Русская книга, 1993).
29 Вильямс Роджер (1603—1683) — основатель колонии английских поселенцев Род Айленд на Атлантическом побережье Северной Америки, приверженец религиозной свободы.
30 Из стихотворения «Эти бедные селенья...»
31 Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Родина».
32 Поллукс Юлий (II в. до н. э.) — древнегреческий оратор и грамматик
О НАЦИОНАЛИЗМЕ
7-я глава книги И. А. Ильина «Путь духовного обновления». См.: Ляьш/Л.АСобр.соч.в Ютт. —Т. 1. —С. 196—217 (М.: Русская книга, 1993).
33 Строфа из стихотворения А С. Пушкина «Полтава».
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Заключение к книги И. А Ильина «Путь духовного обновления». См: Ильин И. АСобр.соч.в 10тт.,т. 1,с. 280—282 (М.: Русская книга, 1993).
ОСНОВЫ БОРЬБЫ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ РОССИЮ
Впервые работа вышла в сокращении отдельной брошюрой без подписи автора в 1937 г. в Женеве. Называлась она «Спутник русского христианина-националиста». Полностью опубликована под названием «Основы борьбы за национальную Россию» за подписью автора в 1938 г. в Нарве в издательстве «За Россию». См.: Ильин И.А Собр. соч. в 10 тт., т. 9— 10, с. 317—396 (М.: Русская книга, 1999).
34 Ин. 4,24.
351 Ин. 4,8.
36 Концовка стихотворения «Не говорите: 'То былое... ”» (1844).
СОДЕРЖАНИЕ
Ю. Т.Лисица. КОНСЕРВАТИВНАЯ МЫСЛЬ ИВАНА ИЛЬИНА.5
Вступление
НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ.........16
Часть I
О СОЧЕТАНИИ ДУХА И ИНСТИНКТА О ДУХОВНОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА..............28
ОГНИЛИЧНОЙЖИЗНИ.........................42
НЕУДАЧА.................................56
БЕЗБОЖИЕ................................58
ЗАВИСТЬ.................................60
САМОМНЕНИЕ..............................61
МИРОВАЯ ПЫЛЬ............................62
О БОЖИЕЙ ТКАНИ..........................67
О ДУХОВНОСТИ ИНСТИНКТА..................68
СПАСЕНИЕ В ЦЕЛЬНОСТИ....................76
Часть II
АЗЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ......84
Часть III
УЧЕНИЕ ИА. ИЛЬИНА О ПРАВОСОЗНАНИИ ПРОБЛЕМА....................................170
ЗНАНИЕ ПРАВА...........................177
БОРЬБА ЗА ПРАВО........................185
ПРАВОСОЗНАНИЕ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ..........195
ПРОБЛЕМА МОНАРХИЧЕСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ..........................209
ОБОСНОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА........218
ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРАВА.......228
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРАВОСОЗНАНИИ........237
СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА...................244
ФОРМА ГОСУДАРСТВА......................252
АКСИОМЫ ВЛАСТИ.........................2б4
ПРАВОСОЗНАНИЕ И УГОЛОВНАЯ ВИНА.........278
ОСНОВА ЗДОРОВОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ.........284
Часть IV О ВЛАСТИ
ЧТО ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО — КОРПОРАЦИЯ
ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ?.........................294
ПРАВИТЬ ДОЛЖНЫ ЛУЧШИЕ...................300
О СИЛЬНОЙ ВЛАСТИ........................303
О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСПЕХЕ (Забытые аксиомы).316
О ВОСПИТАНИИ В ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ..........327
РУССКОМУ НАРОДУ НЕОБХОДИМО ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ.....................339
Часть V
О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ...............344
Часть VI
О СЕМЬЕ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
О СЕМЬЕ.................................368
Часть VII ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ
О РОДИНЕ................................392
Часть VIII
ОБ ИСТИННОМ НАЦИОНАЛИЗМЕ О НАЦИОНАЛИЗМЕ.............................416
Часть IX О ПУТЯХ РОССИИ
ОСНОВЫ БОРЬБЫ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ РОССИЮ...438
КОММЕНТАРИИ СОСТАВИТЕЛЯ.....................504
В 2001-2002 гг.
в серии «Библиотека МШУ» будут опубликованы следующие книги:
В. Непомнящий ПУШКИН Избранные работы 1960-1990-х гг. (в двух томах) *
М. М. Пришвин МИРСКАЯ ЧАША. ВЕСНА СВЕТА Избранные произведения (в двух томах) *
А. В. Ткачев
БОШ И ДЕМОНЫ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
(в двух томах)
*
Н. М. Карамзин О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ Избранная проза и публицистика *
В. Ф. Ходасевич книга И ЛЮДИ Этюды о русской литературе * Юрий Коваль ОТ ДЕВЯТИ ДО ДЕВЯНОСТА Повести для детей и взрослых
За справками и по вопросам приобретения книг данной серии просим обращаться в издательство «Жизнь и мысль» по телефонам:
(095)494-39-08;94844-83
Иван Александрович Ильин
О ВОСПИТАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
Ответственный за выпуск В. Е. Валков Редактор М.Д. Филин Художественный редактор С. Ю. Рубин Компьютерный набор и верстка О.В.Лисица Корректор Н. А Шатерникова
Сдано в набор 12.04.2001. Подписано в печать 20.07.2001.
Формат 60x90 716. Бумага офсетная. Гарнитура «Гарамовд».
Печать офсетная. Печ. л. 32,0. Тираж 20 000. Заказ № 1638.
ЛР № 071891 от 08.06.99.
ИПЦ «Жизнь и мысль»
123459, Москва, Туристская ул., 19, корп. 5
Отпечатано в АО «Московские учебники и Картолитография»
125252, Москва, ул. Зорге, 15
ISBN 5-8455-0033-8
9 785845 500335