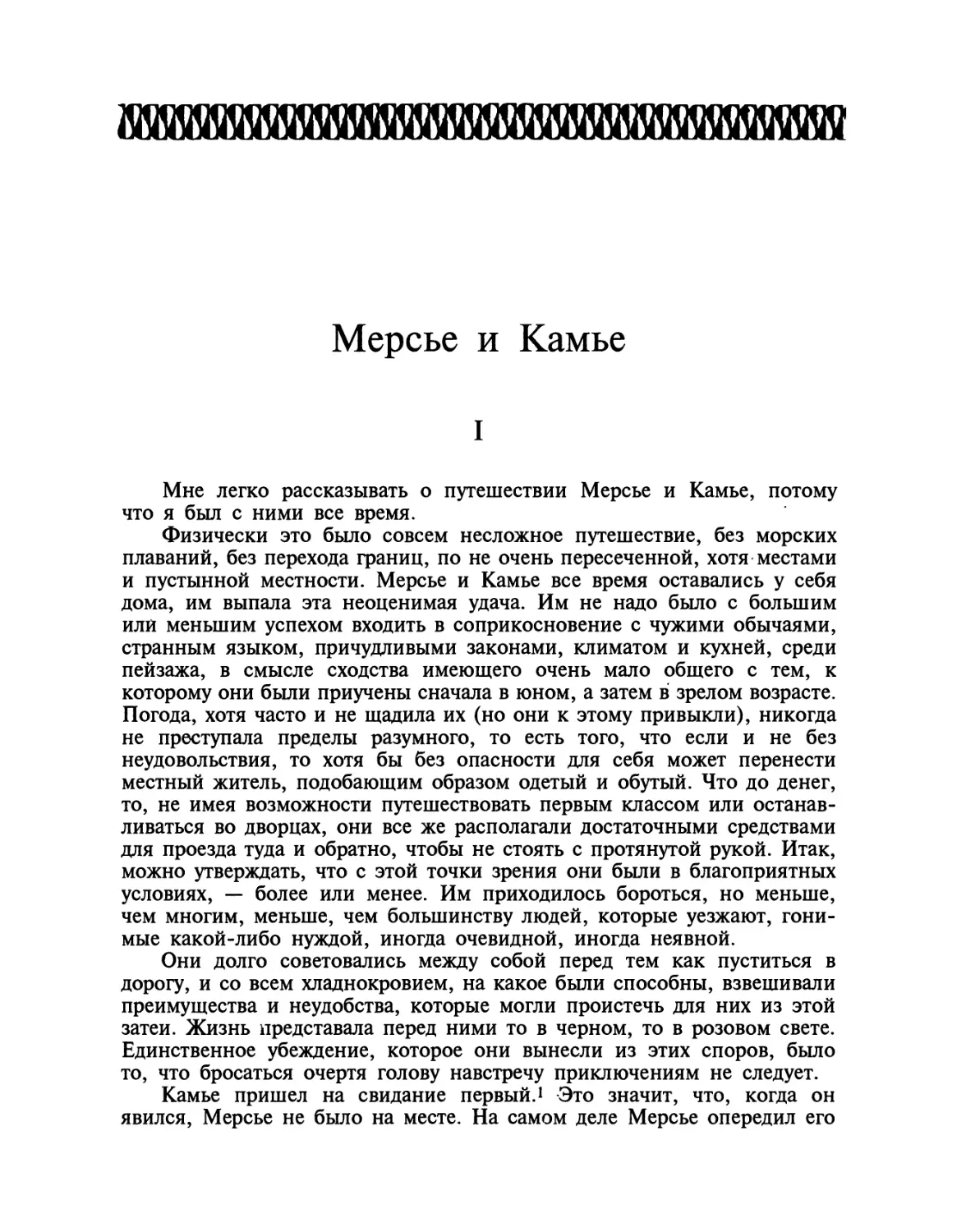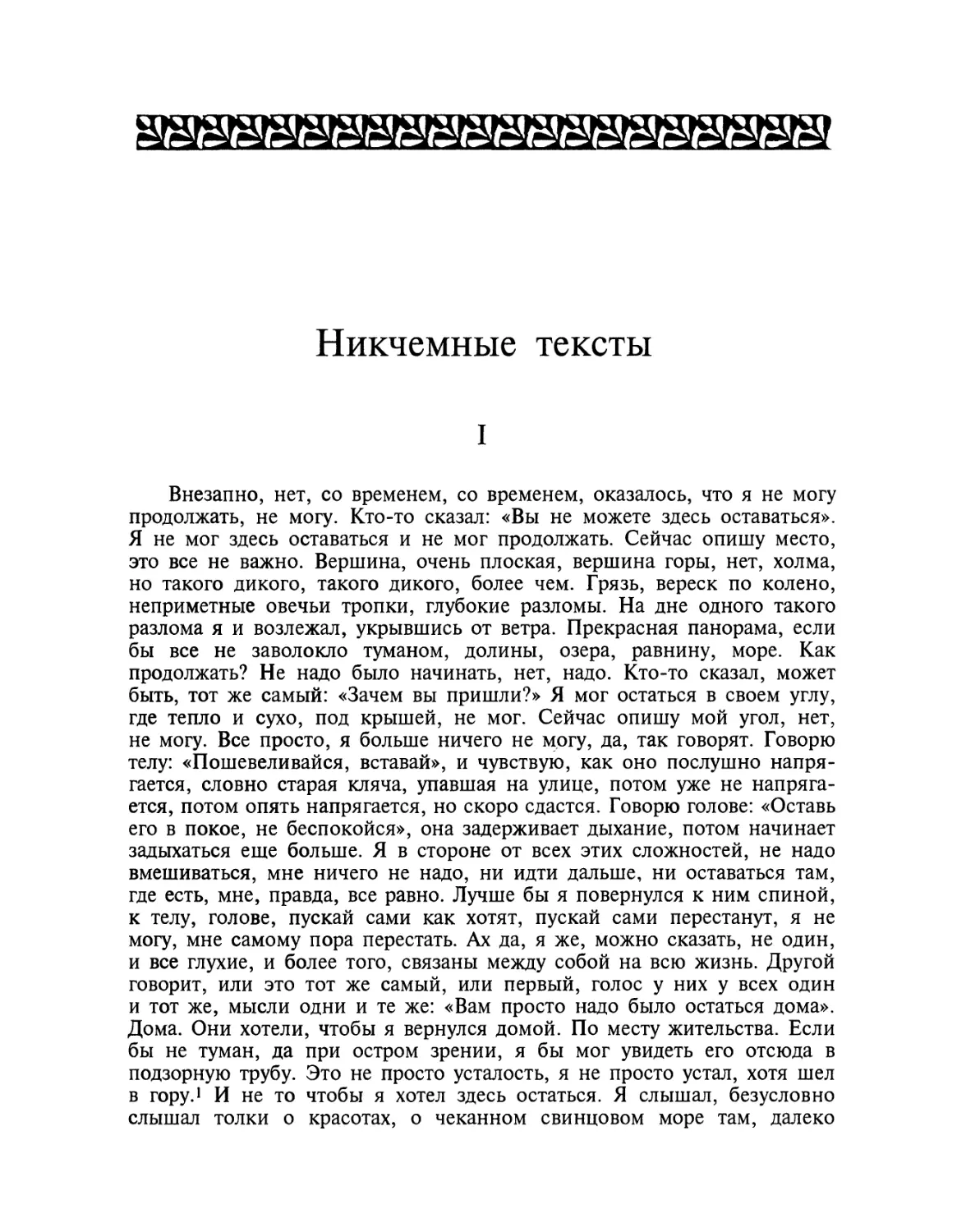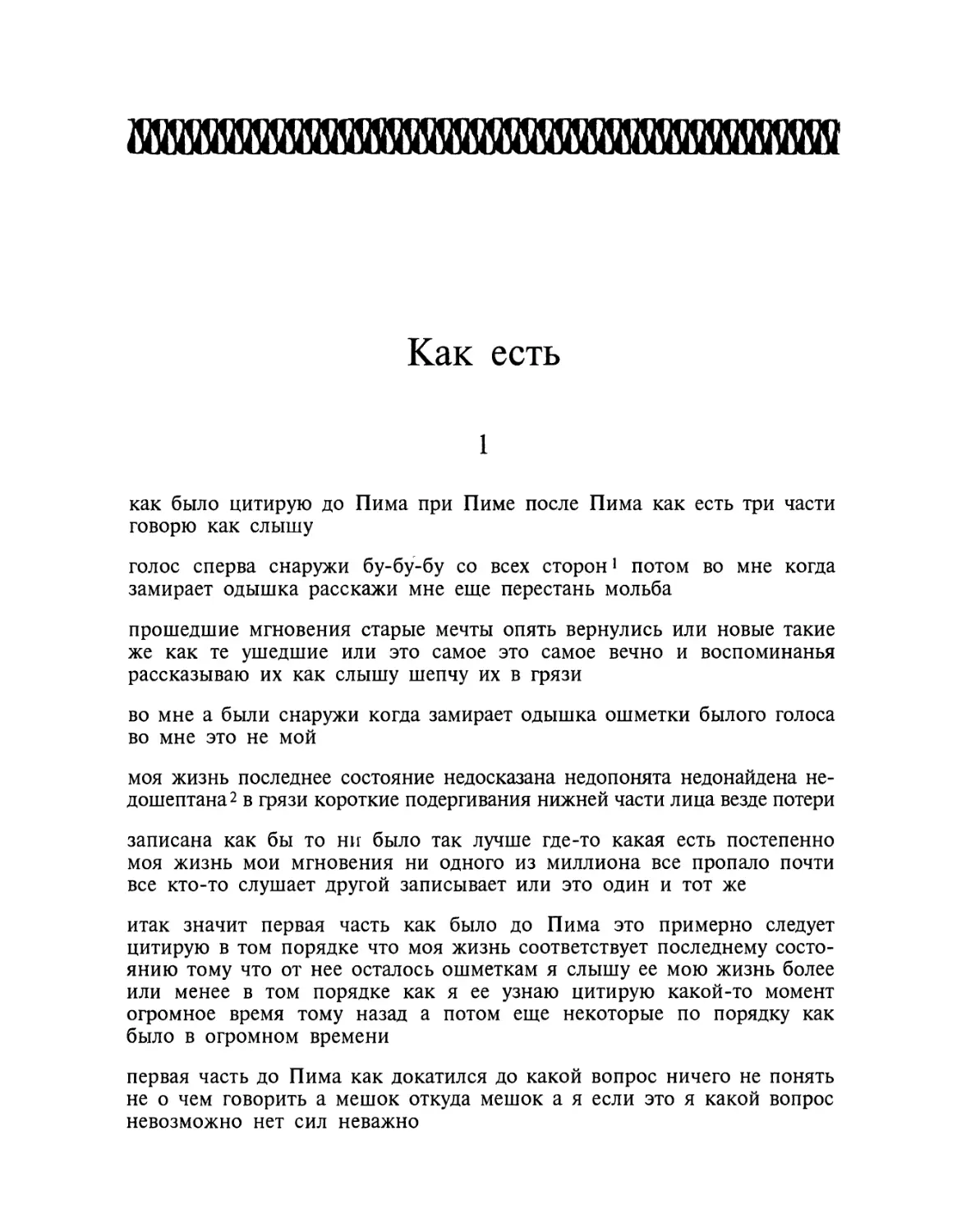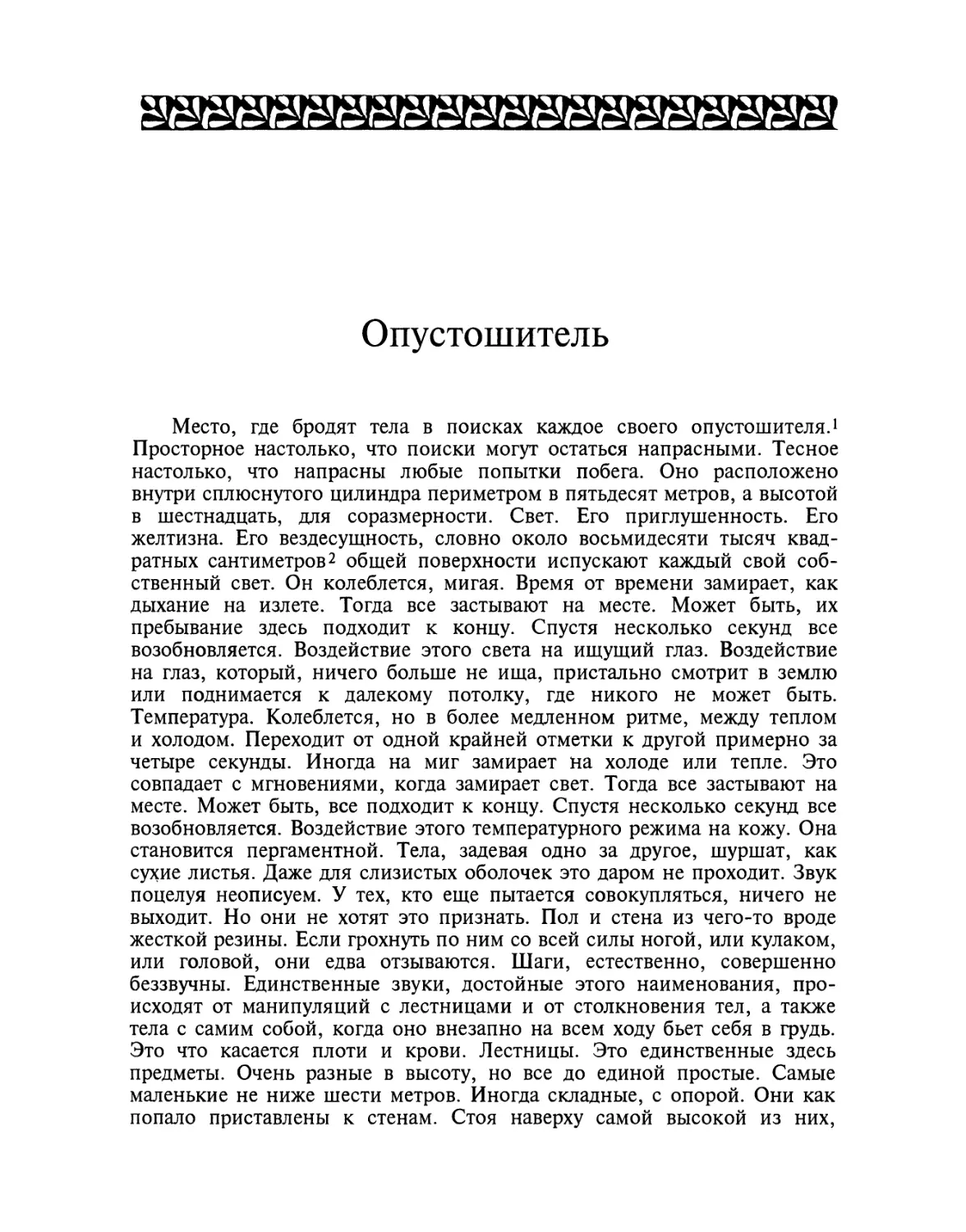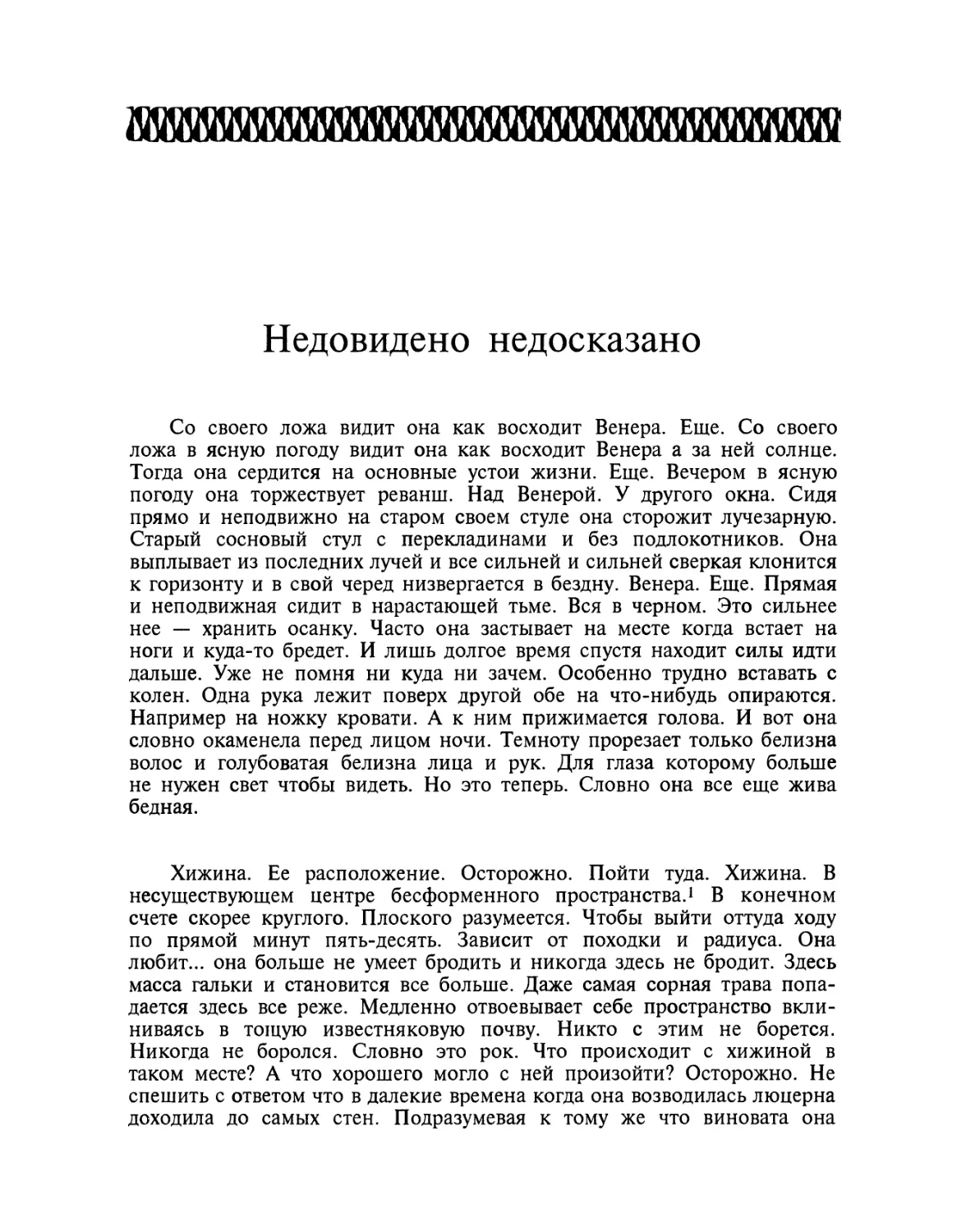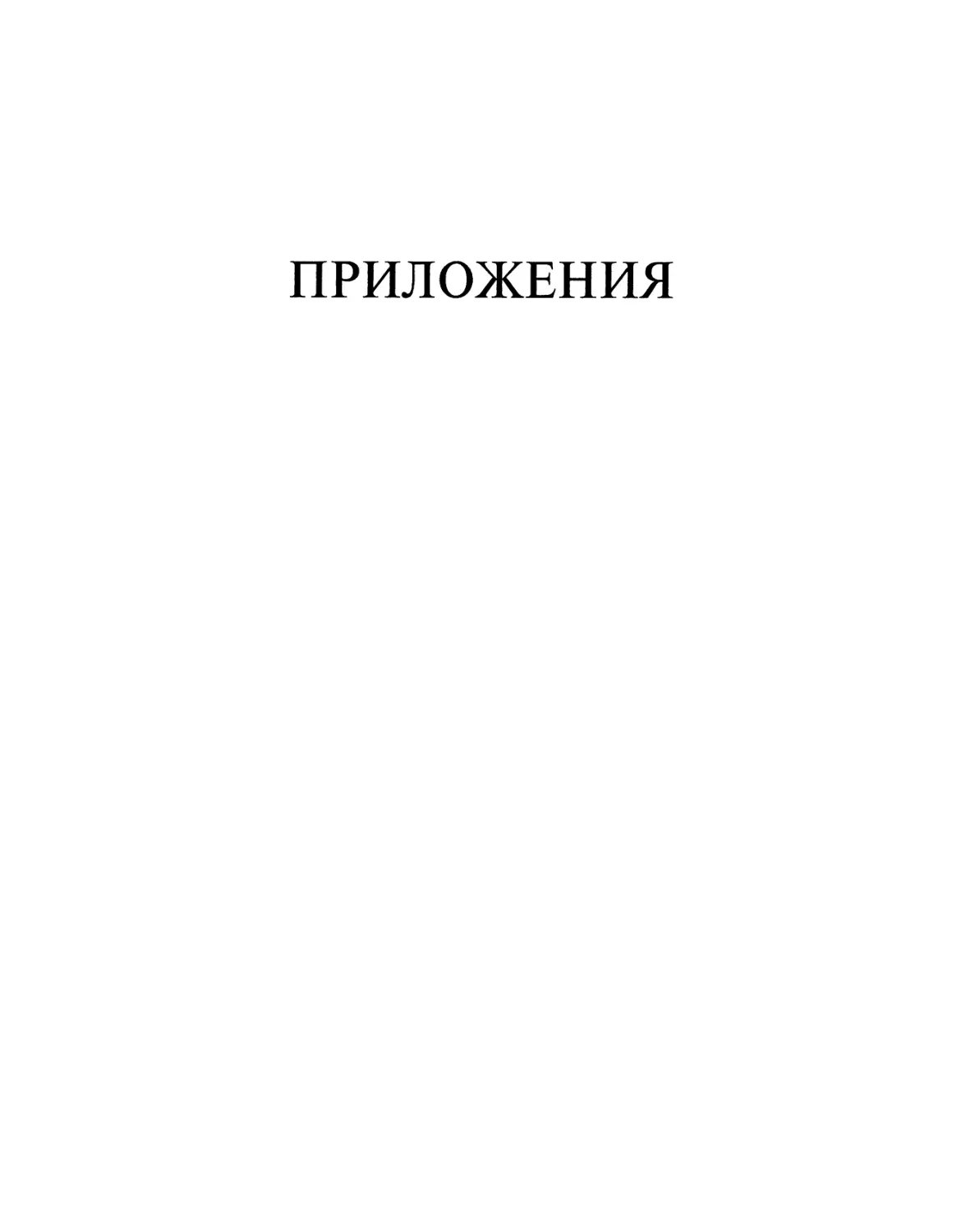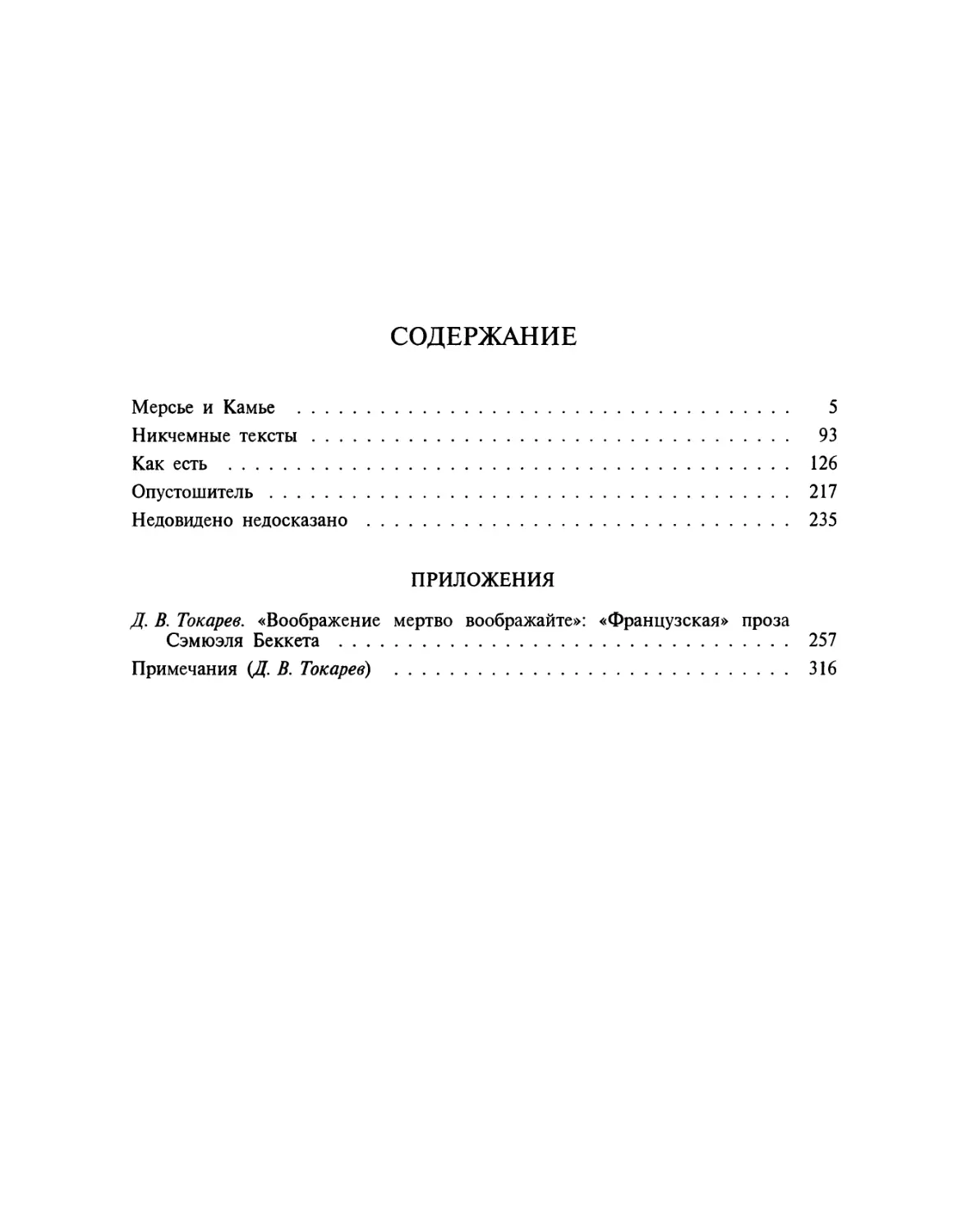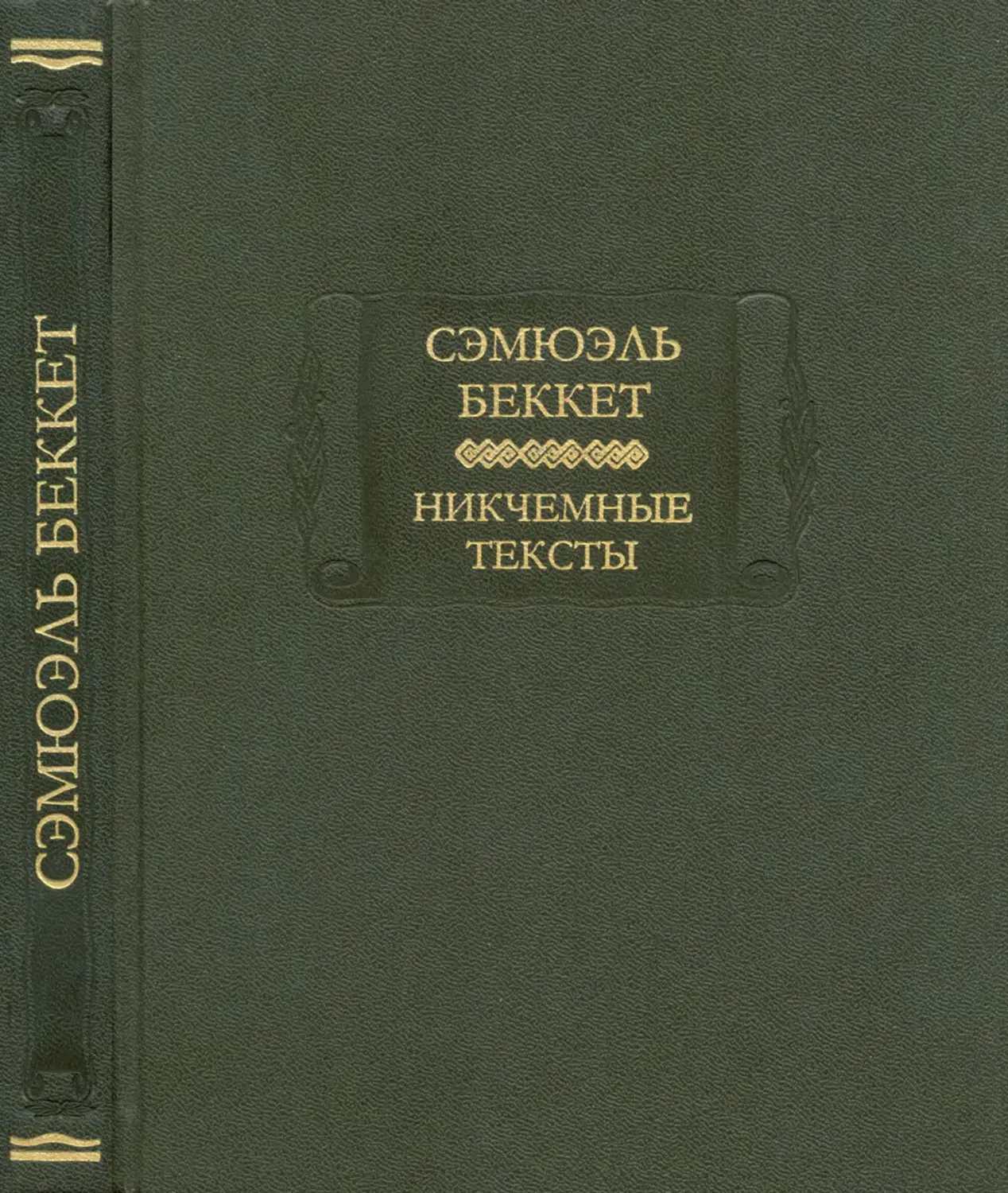Автор: Беккет С.
Теги: художественная литература литературные памятники классика литературы издательство наука
ISBN: 5-02-028514-5
Год: 2003
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
SAMUEL BECKETT
жжжжжжжжжжжжжж
TEXTES POUR RIEN
Mercier et Camier
Textes pour rien
Comment (^est
Le Depeupleur
Mal vu mal dit
СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТ
388838888883*33
НИКЧЕМНЫЕ ТЕКСТЫ
XX
Мерсье и Камье
Никчемные тексты
Как есть
Опустошитель
Недовидено недосказано
Перевод Е. В. Баевской
е
Санкт-Петербург
«Наука»
2003
ББК 84(4)
Б 42
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
\Д. С.Лихачев\ (почетный председатель),
В. Е. Багно, Н. И. Балашов (заместитель председателя),
\В. Э. Вацуро]. М. Л. Гаспаров, А. Н. Горбунов, А. Л. Гришунин,
Ю. Данилевский, Н. Я. Дьяконова, Б. Ф. Егоров (председатель),
Н. В. Корниенко, Г. К. Косиков, А. Б. Куделин, А. В. Лавров,
А. Д. Михайлов, И. Г. Птушкина (ученый секретарь),
И. М. Стеблин-Каменский, С. О. Шмидт
Ответственный редактор
В. Е. БАГНО
Programme
Издание осуществлено в рамках
программы "Пушкин"при
поддержке Министерства
иноапранных дел Франции
и посольства Франции в России,
Ouvrage realise dans le cadre du
programme datde a la publication
Pouchktne avec le soutien du Ministere
des Affaires Etrangeresfrancais et de
PAmbassade de France en Russie
© Les Editions de Minuit
© E. В. Баевская, перевод, 2001
© Д. В. Токарев, составление, статья,
примечания, 2001
© ROGER PIC, фотография
© Российская Академия наук и издательство
«Наука», серия «Литературные памятники»
(разработка, оформление), 1948 (год осно-
ISBN 5-02-028514-5 вания), 2001
Мерсье и Камье
ι
Мне легко рассказывать о путешествии Мерсье и Камье, потому
что я был с ними все время.
Физически это было совсем несложное путешествие, без морских
плаваний, без перехода границ, по не очень пересеченной, хотя местами
и пустынной местности. Мерсье и Камье все время оставались у себя
дома, им выпала эта неоценимая удача. Им не надо было с большим
или меньшим успехом входить в соприкосновение с чужими обычаями,
странным языком, причудливыми законами, климатом и кухней, среди
пейзажа, в смысле сходства имеющего очень мало общего с тем, к
которому они были приучены сначала в юном, а затем в зрелом возрасте.
Погода, хотя часто и не щадила их (но они к этому привыкли), никогда
не преступала пределы разумного, то есть того, что если и не без
неудовольствия, то хотя бы без опасности для себя может перенести
местный житель, подобающим образом одетый и обутый. Что до денег,
то, не имея возможности путешествовать первым классом или
останавливаться во дворцах, они все же располагали достаточными средствами
для проезда туда и обратно, чтобы не стоять с протянутой рукой. Итак,
можно утверждать, что с этой точки зрения они были в благоприятных
условиях, — более или менее. Им приходилось бороться, но меньше,
чем многим, меньше, чем большинству людей, которые уезжают,
гонимые какой-либо нуждой, иногда очевидной, иногда неявной.
Они долго советовались между собой перед тем как пуститься в
дорогу, и со всем хладнокровием, на какое были способны, взвешивали
преимущества и неудобства, которые могли проистечь для них из этой
затеи. Жизнь представала перед ними то в черном, то в розовом свете.
Единственное убеждение, которое они вынесли из этих споров, было
то, что бросаться очертя голову навстречу приключениям не следует.
Камье пришел на свидание первый.1 Это значит, что, когда он
явился, Мерсье не было на месте. На самом деле Мерсье опередил его
6
Сэмюэль Беккет
на добрых десять минут. То есть первым на свидание пришел не Камье,
а Мерсье. Он терпеливо ждал пять минут, держа под наблюдением все
пути, которыми мог прибыть его друг, а потом ушел прогуляться
примерно на четверть часа. Камье, в свой черед, не обнаружив Мерсье,
пять минут прождал и пошел немного пройтись. Через четверть часа
он вернулся на место встречи и стал искать глазами Мерсье, но
напрасно. И это понятно. Ведь Мерсье, терпеливо прождав на
условленном месте еще пять минут, пошел, по его излюбленному выражению,
размять ноги. Итак, Камье, спустя пять минут тупого ожидания, опять
ушел, сказав себе, может, я наткнусь на него на одной из соседних
улочек. В этот самый миг Мерсье, вернувшись после своей недолгой
прогулки, которая на сей раз продолжалась минут десять, не больше,
увидел удаляющийся силуэт, в утреннем тумане смутно напоминавший
Камье, причем это и в самом деле был Камье. К сожалению, силуэт
исчез, словно сквозь мостовую провалился, и Мерсье вновь
расположился на отдых. Но спустя пять минут, что уже явно начинало входить
в обыкновение, он снялся с места, ощущая потребность подвигаться.
И какова же была наконец их радость в решительный миг, радость
Мерсье и радость Камье, когда после соответственно пяти и десяти
минут тревожного безделья они одновременно вышли на площадь и
столкнулись нос к носу — впервые с предыдущего вечера. Это случилось
в девять часов пятьдесят минут.
Итак:
Приб. Отб. Приб. Отб. Приб. Отб. Приб.
Мерсье... 9.05 9.10 9.25 9.30 9.40 9.45 9.50
Камье... 9.15 9.20 9.35 9.40 9.50
Получилось прямо как нарочно.
Пока они обнимались и целовались, с чисто восточной
внезапностью хлынул дождь. Они бросились в укрытие в форме пагоды,
которое было выстроено там, чтобы служить убежищем от дождя и
прочей непогоды и вообще от погоды. Там было темно и полным-полно
ниш и закоулков, что одинаково годилось влюбленным и старикам,
мужчинам и женщинам. Одновременно с нашими двумя умниками туда
ринулась собака, за ней другая. Мерсье и Камье нерешительно
переглянулись. Они еще недоцеловались до конца, но им было неловко к
этому возвращаться. А собаки уже без малейшего смущения занимались
любовью.
Место, в котором они очутились, место, где им не без труда удалось
назначить друг другу свидание, было, собственно говоря, и не площадь
даже, а скверик, вжавшийся в путаницу улочек и переулков. Этот
скверик был в таком изобилии украшен зелеными насаждениями,
цветочными клумбами, бассейнами, фонтанами, статуями, газонами и обыч-
Мерсье и Камъе
7
ными скамейками, что все это буквально задыхалось от тесноты. Было
в том скверике что-то от лабиринта, ходить по нему было неудобно, и
только зная его, удавалось найти выход с первой попытки. Войти,
естественно, было легче легкого. В центре или неподалеку вздымался
огромный пурпурный сияющий бук, посаженный, если верить грубо
прибитой к стволу табличке, маршалом Франции с мирным именем
Сент-Рут2 несколько веков тому назад. Судя по надписи, не успел он
посадить этот бук, как его (маршала) насмерть сразило пушечное
ядро, — в безнадежной борьбе, на поле брани, имеющем очень мало
общего в смысле ландшафта с теми, на которых он проявил себя
бригадиром, а затем лейтенантом, коль скоро на полях сражений
принято проявлять себя именно в таком порядке. Сквер, по-видимому, был
обязан своим существованием этому дереву — обстоятельство, о котором
маршал, надо думать, не догадывался, когда в стороне от выстроившихся
в шахматном порядке зеленых насаждений, на виду у элегантного и
пресыщенного общества, опускал в ямку, лоснившуюся от вечерней
росы, хрупкий дичок. И чтобы уж покончить с этим деревом и больше
к нему не возвращаться, именно оно, наряду с названием «Сквер
Сент-Рута», сообщало скверу остатки очарования. Задыхающийся
великан приближался уже к концу своего поприща и постепенно чахнул, и
недалек был тот день, когда его распилят на куски и увезут. И тогда
на какое-то время в сквере с таинственным названием станет легче
дышать.
Мерсье и Камье не знали этого места. Как раз поэтому, вероятно,
они назначили свидание именно здесь. Есть вещи, которых нам никогда
не узнать наверняка.
Сквозь оранжевое оконное стекло дождь казался золотым, и это, в
соответствии с теми местами, где они успели побывать прежде,
напомнило одному Рим, а другому Неаполь, причем они друг другу в этом
не признались и обоим было как-то стыдно. Казалось, им бы могло
полегчать благодаря этому вмешательству далеких времен, когда они
были молодыми и горячими, любили живопись, смеялись над женатыми.
Но им не полегчало. Тогда они были не знакомы, но с тех пор как
познакомились, часто говорили о тех временах, слишком много
говорили, перескакивая, по своему обыкновению, с одного на другое.
— Вернемся домой, — сказал Камье.
— Почему? — сказал Мерсье.
— Теперь до вечера не перестанет, — сказал Камье.
— Это ливень, просто он затянулся, — сказал Мерсье.
— Я не могу стоять и ничего не делать, — сказал Камье.
— Давай сядем, — сказал Мерсье.
— Так еще хуже, — сказал Камье.
— Тогда давай ходить взад и вперед, — сказал Мерсье. — Возьмем
друг друга под руку и будем прогуливаться. Пространство ограничено,
8
Сэмюэль Беккет
но бывает и теснее. Поставь зонтик, помоги мне снять рюкзак, ага,
спасибо, и вперед.
Камье покорился.
— Раз-два, раз-два, — сказал Мерсье.
— Раз-два, — сказал Камье.
Временами небо прояснялось, и дождь делался реже. Тогда они
останавливались в дверях. Но вскоре небо опять омрачалось, и дождь
принимался лить с новой силой.
—- Не смотри, — сказал Мерсье.
— Хватит и того, что я слышу, — сказал Камье.
—■ Что верно, то верно, — сказал Мерсье.
— Будем терпеть и мужаться, — сказал Камье.
— Собаки тебе не мешают? — сказал Мерсье.
— Почему эта застыла на месте? — сказал Камье.
— Иначе не может, — сказал Мерсье.
— Почему? — сказал Камье.
— Так задумано, — сказал Мерсье. — Чтобы не прерывать акта
оплодотворения.
— Начинают верхом одна на другой, — сказал Камье, — а кончают
задница к заднице.
— А ты бы чего хотел? — сказал Мерсье. — Экстаз прошел, они
бы и рады разбежаться в разные стороны, пописать у тумбы или слопать
кусок дерьма, но не могут. Ну, и отворачиваются друг от друга. Ты бы
на их месте вел себя точно так же.
— Нет, мне бы деликатность не позволила, — сказал Камье.
— А как бы ты себя вел?
— Я бы притворился, — сказал Камье, — будто мне жаль, что я
не могу сразу же начать все сначала, до того было хорошо.
После недолгого молчания Камье сказал:
— Может, присядемся,3 а то я вымотался.
— Ты хотел сказать присядем, — сказал Мерсье.
— Я хотел сказать присядемся, — сказал Камье.
— Можно и присесться, — сказал Мерсье.
Люди вокруг уже вовсю занимались своими делами. Воздух
наполнился довольными и недовольными криками, а также степенными
голосами тех, для кого жизнь уже исчерпала свои сюрпризы, как в
хорошем смысле, так и в дурном. Неодушевленные предметы тоже
тяжело трогались с места, в первую очередь тяжелые средства
передвижения, например, грузовики, фургоны и вообще транспорт. Несмотря
на бушующий дождь, все опять пришло в такое бурное движение, словно
небо сияло лазурью.
— Мне пришлось тебя ждать, — сказал Мерсье.
— Наоборот, — сказал Камье, — это мне пришлось тебя ждать.
— Я был на месте в пять минут десятого, — сказал Мерсье.
Мерсье и Камье
9
— А я в четверть десятого, — сказал Камье.
— Вот видишь, — сказал Мерсье.
— И ожидание, и опоздание, — сказал Камье, — считается с того
момента, о котором заранее договорились.
— А на когда, по-твоему, мы договорились? — сказал Мерсье.
— На четверть десятого, — сказал Камье.
— В таком случае ты глубоко заблуждаешься, — сказал Мерсье.
— То есть как? — сказал Камье.
— Нет, ты меня все-таки поражаешь, — сказал Мерсье.
— Объяснись, — сказал Камье.
— Стоит мне закрыть глаза, я так и вижу всю сцену, — сказал
Мерсье, — твоя рука в моей руке, на глаза мне набегают слезы, и я
дрогнувшим голосом произношу: значит, договорились, завтра в девять.
А мимо проходит пьяная тетка, распевая неприличную песню и задирая
юбку.
— Она тебя отвлекла, — сказал Камье. Он вытащил из кармана
записную книжку, полистал ее и прочел: понедельник, второе число,
Св. Макарий,4 Мерсье, четверть десятого, сквер Сент-Рута, забрать у
Элен зонтик.
— И что это доказывает? — сказал Мерсье.
— Мои благие намерения, — сказал Камье.
— Что правда, то правда, — сказал Мерсье.
— Мы все равно никогда не узнаем, — сказал Камье, — в котором
часу договорились встретиться сегодня. Так что не будем и пытаться.
— Одно во всей этой истории не вызывает сомнений, — сказал
Мерсье, — мы встретились без десяти десять, одновременно со
стрелками на часах.
— И на том спасибо, — сказал Камье.
— Дождя еще не было, — сказал Мерсье.
— Утренние благие порывы еще не развеялись, — сказал Камье.
— Не потеряй нашей записной книжки, — сказал Мерсье.
Тут появился первый из длинной вереницы вредителей. Он был в
линялом зеленом мундире, обильно украшенном в предусмотренных
уставом местах героическими орденами, медалями и лентами, и этот
наряд был ему к лицу, очень к лицу. По примеру великого Сарсфилда,5
он чуть не погиб, защищая территорию, которая сама по себе была ему
явно безразлична, да и как символ она, скорее всего, волновала его
ничуть не больше. В руке у него была трость, элегантная и вместе с
тем массивная, и временами он даже на нее опирался. У него очень
болела ляжка, временами боль зигзагом пронзала ему ягодицу и
проникала в отверстие, из которого посылала сигналы бедствия всей
кишечной системе вплоть до пилорического клапана и его продолжений,
то есть мочеточников и мошонки, разумеется, и вызывала почти
непрестанное желание помочиться.6 Ему, на пятнадцать процентов инва-
10
Сэмюэль Беккет
лиду, из-за чего его не уважали почти все те, как мужчины, так и
женщины, с которыми он что ни день соприкасался в силу профессии
и остатков добродушия, иногда представлялось, что лучше бы он во
времена великих бурь7 посвятил себя домашним перепалкам, гэльскому
языку, укреплению веры и сокровищам уникального и неповторимого
фольклора.8 Опасность для здоровья была бы меньше, а выгоды
вероятнее. Но, просмаковав всю горечь этой мысли, он ее обычно гнал от
себя как недостойную. Ему хотелось, чтобы его усы торчали вверх, и
они торчали прежде, но теперь обвисли. Время от времени он обдавал
их снизу облачком зловонного дыхания пополам со слюной. Это
ненадолго вздымало их кверху. Застыв у подножия лестницы, ведущей в
пагоду, в распахнутом дождевике, по которому струилась вода, он
переводил взгляд с Мерсье и Камье на собак, с собак на Мерсье и
Камье.
— Чей велосипед? — сказал он.
Мерсье и Камье переглянулись.
— Мы и без велосипедов обходимся, — сказал Камье.
— Уберите, — сказал сторож.
— Может, это нас хоть немного развеселит, — сказал Мерсье.
— Чьи собаки? — сказал сторож.
— По-моему, — сказал Камье, — нам придется отсюда уйти.
— Может, это как раз тот удар хлыста, которого нам не хватало,
чтобы отправиться в путь, — сказал Мерсье.
— Мне что, позвать полицию? — сказал сторож.
— Боюсь, добром дело не кончится, — сказал Камье.
— Вы предпочитаете, чтобы я позвал слесаря сбить с него замок?
Или чтобы я вышвырнул его отсюда пинком прямо по спицам?
— Ты понимаешь что-нибудь в этих бессвязных речах? — сказал
Камье.
— У меня сильно упало зрение,9 — сказал Мерсье. — По-моему,
речь о велосипеде.
— И что дальше? — сказал Камье.
— Его присутствие здесь, — сказал Мерсье, — противоречит
правилам.
— Тогда пускай уберет, — сказал Камье.
— Не может, — сказал Мерсье. — Велосипед как-то прикреплен,
вероятно, к дереву или к статуе, не то замком, не то тросом. По крайней
мере, такова моя интерпретация.
— Вполне правдоподобно, — сказал Камье.
— К сожалению, тут не только велосипед, насколько я понимаю, —
сказал Мерсье. — Тут еще и собаки.
— Кому они мешают?
— Противоречат постановлению, — сказал Мерсье, — точно так же
как велосипед.
Мерсье и Камъе
и
— Но они же ни к чему не привязаны, — сказал Камье, — только
друг к другу, совокуплением.
— Это верно, — сказал Мерсье.
— В таком случае пускай он исполнит свой долг, — сказал
Камье. — Пускай он их тут нам немедленно уберет.
— Я с тобой согласен, — сказал Мерсье.
— Собаки могут подождать, — сказал сторож.
— Ха-ха, — сказал Камье.
— Почему ты так хохочешь? — сказал Мерсье.
— Они могут подождать! — сказал Камье.
— Я вам посмеюсь, — сказал сторож. — Я вам так посмеюсь.
— Отец мне всегда повторял, — сказал Мерсье, — чтобы я вынимал
трубку изо рта перед тем как заговаривать с чужим человеком, какое
бы скромное положение в обществе он ни занимал.
— Какое бы скромное, — сказал Камье. — Как забавно звучит.
Сторож поднялся по ступеням, ведущим в убежище, и замер в
дверном проеме. Внутри сразу потемнело и воздух пожелтел.
— По-моему, он сейчас на нас нападет, — сказал Камье.
— Ты, как всегда, бей по яйцам, — сказал Мерсье.
— Дорогой блюститель порядка, — сказал Камье, — чего вы,
собственно, от нас хотите?
— Видите велосипед? — сказал сторож.
— Ничего не вижу, — сказал Камье. — Мерсье, ты видишь велосипед?
— Он ваш? — сказал сторож.
— Поскольку разговор идет о предмете, которого мы не видим, —
сказал Камье, — о предмете, существование которого вытекает только
из ваших утверждений, откуда же нам знать, наш он или чужой?
— Почему наш? — сказал Мерсье. — Разве собаки наши? Нет. Мы
их сегодня увидели в первый раз. А вы хотите, чтобы этот велосипед,
если тут вообще есть велосипед, был наш. Вот ведь собаки не наши.
— Плевать мне на ваших собак, — сказал сторож.
Но тут, словно опровергая собственные слова, он налетел на собак
и, осыпая пинками и ударами палки, а также энергичными
ругательствами, выдворил их из пагоды. Отступление далось им нелегко, так
крепко они были привязаны друг к другу. Пытаясь высвободиться, они
тянули в разные стороны и их усилия взаимно уничтожались. Вероятно,
им было очень больно.
— Грязные скоты, — сказал сторож.
— Теперь ему плевать на собак, — сказал Мерсье.
— Он выгнал их из убежища, — сказал Камье, — это бесспорно,
но не из сквера.
— Дождь скоро ослабит связующие их узы, — сказал Мерсье. —
Они одурели от любви и не подумали об этом.
— В сущности, он оказал им услугу, — сказал Камье.
12
Сэмюэль Беккет
— Будем с ним полюбезнее, — сказал Мерсье, — он герой Великой
войны.10 Пока мы, не боясь, что нам помешают, на всю катушку
онанировали в укромном местечке, он с полными штанами барахтался
во фламандской грязи.
Не делайте вывода из этих легковесных слов, Мерсье и Камье были
немолодые юнцы.11
— Это мысль, — сказал Камье.
— Только посмотри на всю эту дребедень, ордена и медали, —
сказал Мерсье. — Представляешь, какие количества поноса за этим
кроются?
— С трудом, — сказал Камье. — У меня всегда был запор.
— Предположим, что этот так называемый велосипед наш, — сказал
Мерсье. — Что страшного?
— Давайте начистоту, — сказал Камье, — он наш.
— Даю вам пять минут на то, чтобы его убрать, — сказал сторож. —
Потом я позову полицию.
— Сегодня мы наконец, — сказал Мерсье, — после многолетних
проволочек удалимся в неизвестном направлении и, быть может, не
вернемся живыми. Мы только ждем, чтобы распогодилось, и тут же
пустимся в путь. Попытайтесь нас понять.
— Это меня не касается, — сказал сторож.
— А кроме того, — сказал Мерсье, — нам осталось кое в чем
разобраться, пока еще не поздно.
— Разобраться? — сказал Камье.
— Вот именно, — сказал Мерсье.
— Я думал, мы уже во всем разобрались, — сказал Камье.
— Не во всем, — сказал Мерсье.
— Уберете или не уберете? — сказал сторож.
—- Раз уж вы глухи к доводам рассудка, — сказал Мерсье, — нельзя
ли купить ваше расположение?
— Разумеется, — сказал страж.
— Дай ему шиллинг, — сказал Мерсье. — Как все же неудачно,
что первые наши расходы совершатся под знаком низкого шантажа.
— Убийцы, — сказал сторож. Потом он исчез.
— Какие-то они все одинаковые, — сказал Мерсье.
— Теперь будет бродить вокруг, — сказал Камье.
— А нам-то что? — сказал Мерсье.
— Не люблю, когда мне бродят вокруг, — сказал Камье.
— Ты хочешь сказать, бродят вокруг меня? — сказал Мерсье.
— Я хочу сказать, мне бродят вокруг.
Этой забавы им хватило ненадолго.
Время уже клонилось к полудню.
— А теперь займемся собой, — сказал Мерсье.
— Собой? — сказал Камье.
Мерсье и Камье
13
— Ну да, — сказал Мерсье. — Самими собой, серьезным делом.
— Не перекусить ли нам? — сказал Камье.
— Сначала разберемся, — сказал Мерсье. — А потом подкрепимся.
Последовал долгий спор, перемежавшийся долгими паузами, во
время которых оба размышляли. При этом то один, то другой
проваливались в такие бездны задумчивости, что голос одного из них,
подхватывая спор, был не в силах вывести другого из этого состояния
или просто не достигал его слуха.12 Или, одновременно придя к зачастую
противоположным выводам, они принимались одновременно их
излагать. Кроме того, нередко получалось так, что один из них глубоко
задумывался еще до того, как второй успевал изложить свою идею.
Время от времени они переглядывались, не в силах больше произнести
ни слова и с пустотой в мыслях. На исходе одной из таких вспышек
обалдения они решили, что от дальнейших исследований временно пора
отказаться. Время шло к часу дня, дождь лил по-прежнему, короткий
зимний день клонился к закату.
— Продукты были на тебе, — сказал Мерсье.
— Наоборот, на тебе, — сказал Камье.
— Да, правда, — сказал Мерсье.
— У меня прошел голод, — сказал Камье.
— Надо поесть, — сказал Мерсье.
— Не вижу зачем, — сказал Камье.
— Нам еще предстоит долгий и трудный путь, — сказал Мерсье.
— Чем раньше подохнем, тем лучше,13 — сказал Камье.
— Правда, — сказал Мерсье.
В дверях возникла голова сторожа. Это было неправдоподобно —
одна голова.
— Если решите заночевать, с вас полкроны, — сказал он.
— Мы уже разобрались? — сказал Камье.
— Нет, — сказал Мерсье.
— А разберемся когда-нибудь? — сказал Камье.
— Надеюсь, — сказал Мерсье. — Да, надеюсь, хотя и не очень
твердо, что настанет день, когда мы наконец во всем разберемся.
— Это будет замечательно, —- сказал Камье.
— Давай не терять надежды, — сказал Мерсье.
Они обменялись долгим взглядом. Камье подумал: «Я даже его и
то не вижу». Аналогичная мысль пронзила его собеседника.
Однако за время разговора вроде бы прояснились два пункта.
1. Мерсье поедет один, на велосипеде, в непромокаемом плаще.
Прибыв на место привала, он позаботится обо всем необходимом до
появления Камье, который пустится в путь, как только погода позволит.
Зонтик остается у Камье.
2. Так вышло, что до сих пор Мерсье проявлял скорее бодрость, а
Камье инертность. С минуты на минуту положение может кардинально
14
Сэмюэль Беккет
перемениться. Чтобы идти вперед, пускай более слабый всегда опирается
на менее слабого. Возможно, оба преисполнятся энергии. Это будет
превосходно. Но может статься, что они одновременно впадут в полное
изнеможение. В таком случае не следует предаваться отчаянию, а нужно,
не теряя веры, ждать, когда трудный период кончится. Несмотря на
неопределенность этих слов, их значение более или менее понятно.
— Не знаю, о чем теперь думать, — сказал Камье, — а потому
отворачиваюсь.
— Похоже, развиднелось, — сказал Мерсье.
— Солнце наконец проглянуло, — сказал Камье, — чтобы мы могли
полюбоваться, как оно закатится за горизонт.
— Меня всегда так волнуют, — сказал Мерсье, — эти долгие зори,
играющие тысячами красок.
— Трудовой день окончен, — сказал Камье. — Кажется, будто
чернила брызжут с востока и затопляют небосвод.
Зазвонил колокол, возвещавший закрытие.
— Мне чудятся, — сказал Камье, — смутные и пушистые призраки.
Они витают вокруг нас, издавая глухие стоны.
— И впрямь, — сказал Мерсье, — с самого утра за нами следят
соглядатаи.
— Неужели теперь мы останемся одни? — сказал Камье.
— Я никого не вижу, — сказал Мерсье.
— Раз такое дело, отправимся в путь вместе, — сказал Камье.
Они вышли из убежища.
— Рюкзак, — сказал Мерсье.
— Зонтик, — сказал Камье.
— Плащ, — сказал Мерсье.
— Он у меня, — сказал Камье.
— А больше ничего? — сказал Мерсье.
— Больше ничего не вижу, — сказал Камье.
— Пойду поищу, — сказал Мерсье. — Постереги велосипед.
Это был дамский велосипед, к сожалению, без ручного тормоза.
Чтобы затормозить, надо было крутануть педали назад.
Сторож со связкой ключей в руке смотрел им вслед. Мерсье
держался за руль, Камье за седло.
— Убийцы, — сказал сторож.
π
Витрины озарялись, другие витрины гасли, смотря какая витрина.
Скользкие улицы заполнялись толпой, спешившей, судя по всему, к
определенной цели. Воздух был пропитан каким-то яростным и усталым
Мерсье и Камъе
15
комфортом. Если закрыть глаза, не слышно было ни одного голоса,
только безбрежное шарканье ног. В этой тишине поспешающих орд
они, как могли, шли вперед. Они шагали по самой кромке тротуара.
Впереди Мерсье, держась за руль, позади Камье, держась за седло, а
велосипед катился в кювете рядом с ними.
— Ты мне больше мешаешь, чем помогаешь, — сказал Мерсье.
— Я не стараюсь тебе помочь, — сказал Камье, — я стараюсь
помочь себе.
— Тогда ладно, — сказал Мерсье.
— Мне холодно, — сказал Камье.
И в самом деле было холодно.
— И в самом деле, холодно, — сказал Мерсье.
— Куда мы идем таким неуверенным шагом? — сказал Камье.
— По-моему, мы движемся в сторону канала, — сказал Мерсье.
— Уже? — сказал Камье.
— Возможно, нам понравится, — сказал Мерсье, — идти бечевой,
не отклоняясь ни вправо, ни влево, пока не наскучит. Чтобы впереди,
смотрим мы на них или нет, призывно сияли меркнущие огни, которые
нам столь дороги.
— Говори за себя, — сказал Камье.
— А кроме того, вода будет свинцового цвета, — сказал Мерсье, —
и от этого тоже не стоит отмахиваться. И кто знает, быть может, нас
охватит желание броситься в волны.
— Мостики попадаются все реже и реже, — сказал Камье. —
Наклонившись над шлюзами,14 мы пытаемся что-то понять. С барж,
причаленных к берегам канала, доносятся голоса моряков, кричащих
нам «добрый вечер». Их день окончен, они курят последнюю трубку,
перед тем как уйти на покой.
— Шлюзы? — сказал Мерсье.
— Шлюзы, — сказал Камье. — Ш-Л-Ю-3-Ы, шлюзы.
— Каждый сам за себя, — сказал Мерсье. — Только Бог за всех.
— Город далеко позади, — сказал Камье. — Вокруг постепенно
сгущается тьма, синяя с черным. Звезды подернулись дымкой. Луна
взойдет лишь к четырем часам утра. Все сильнее пробирает холод. Мы
шлепаем по лужам, оставшимся после дождя. Больше нет сил идти
вперед. Вернуться тоже невозможно.
Чуть погодя он добавил:
— О чем ты задумался, Мерсье?
— Так, вообще, об ужасе жизни, — сказал Мерсье.
— Может, пойдем пропустим по глотку? — сказал Камье.
— Я думал, мы договорились, — сказал Мерсье, — прибегать к
алкоголю только в случаях дорожных происшествий или недомоганий.
Разве среди наших многочисленных условий не предусматривался такой
пункт?
16
Сэмюэлъ Беккет
— Я не говорю выпить, — сказал Камье, — я говорю пропустить
по стаканчику, быстро, чтобы взбодриться.
Остановились у первого же бара.
— С велосипедами нельзя, — сказал хозяин бара.
Если подумать, это скорее всего был просто бармен.
— Он это называет велосипедом, — сказал Камье.
— Пошли отсюда, — сказал Мерсье.
— Дерьмо, — сказал бармен.
— Ну и что? — сказал Камье.
— А не привязать ли его к фонарю? — сказал Мерсье.
— Это развяжет нам руки, — сказал Камье.
В конце концов сошлись на том, чтобы привязать велосипед к
решетке. Результат был тот же самый.
— А что дальше? — сказал Мерсье.
— Вернемся к месье Велосипеду? — сказал Камье.
— Никогда, — сказал Мерсье.
— Никогда так не говори, — сказал Камье.
И они пошли в бар напротив.
Сидя у стойки, они рассуждали о том, о сем, перескакивая, по
своему обыкновению, с пятого на десятое.15 Говорили, умолкали,
слушали друг друга, не слушали, ни в чем себя не неволя и следуя
собственному ритму. Иногда Камье целую минуту был не в силах
поднести к губам стакан. На Мерсье подчас нападало такое же
изнеможение. Тогда тот, кто сильнее, давал попить более слабому, прижимая
к его губам краешек стакана. Вокруг них теснились сумрачные и словно
плюшевые фигуры, постепенно толпа становилась все гуще. Тем не
менее из их разговора вытекало нижеследующее.
1. В настоящий момент идти дальше было бы бессмысленно и даже
безрассудно.
2. Остается только попроситься на ночлег к Элен.
3. Ничто не помешает им продолжить путь завтра с утра пораньше,
в любое время.
4. Упрекнуть им себя не в чем.
5. Существует ли то, что они ищут?
6. Что они ищут?
7. Никакой спешки нет.
8. Все соображения насчет этого путешествия надо будет
пересмотреть на свежую голову.
9. Важно одно — пуститься в путь.
10. И хрен с ним.
На улице они вновь взялись под руки. Через несколько сотен
метров Мерсье обратил внимание Камье на то, что они шагают не в
ногу.
— У тебя свой ритм, — сказал Камье, — а у меня свой.
Мерсье и Камье
17
— Я не в осуждение, — сказал Мерсье. — Просто это утомительно.
Движемся рывками.
— По мне так лучше попроси меня прямо и без экивоков, — сказал
Камье, — и я или отпущу твою руку и отойду в сторону, или
приноровлюсь к твоим кренделям.
— Камье, Камье, — сказал Мерсье, сжимая руку товарища.
На перекрестке они остановились.
— Куда теперь потащимся? — сказал Камье.
— Положение наше очень странное, — сказал Мерсье, — я имею
в виду по отношению к дому Элен, если я правильно сориентировался.
Дело в том, что все эти дороги, которые ты видишь, приведут нас туда
одинаково легко и просто.
— Тогда повернем обратно, — сказал Камье.
— Это нас значительно отдалит от цели, — сказал Мерсье.
— Но не можем же мы торчать тут всю ночь, как дураки, — сказал
Камье.
— Метнем в воздух наш зонтик, — сказал Мерсье. — Он как-нибудь
да упадет на землю, согласно законам, кои нам неведомы. Останется
только пойти в ту сторону, в какую он нам укажет.
Зонтик указал налево. Он был похож на большую раненую птицу,
большую и несчастную птицу, которую подстрелили охотники, и вот теперь
она, задыхаясь, ждет, чтобы ее добили из милосердия. Сходство было
поразительное. Камье подобрал зонтик и прицепил к своему карману.
— Надеюсь, он не сломался, — сказал Мерсье.
В этот миг их внимание привлек странный тип — на этом
господине, вопреки зябкой погоде, были только фрак и цилиндр. Казалось,
ему с ними по дороге, потому что он был виден им со спины. Его
руки с каким-то безумным кокетством приподнимали, разводя по
сторонам, фалды фрака. Шагал он осторожно, широко расставляя
негнущиеся ноги.16
— Тебе хочется петь? — сказал Камье.
— Насколько мне известно, нет, — сказал Мерсье.
Опять припустил дождь. Хотя разве он прекращался?
— Прибавим шагу, — сказал Камье.
— Почему ты спрашиваешь? — сказал Мерсье.
Камье как будто не спешил с ответом. Наконец он сказал:
— Я слышу пение.
Они остановились, чтобы лучше слышать.
— Ничего не слышу, — сказал Мерсье.
— А ведь у тебя, по-моему, хороший слух, — сказал Камье.
— Очень приличный, — сказал Мерсье.
— Странно, — сказал Камье.
— Ты и сейчас слышишь? — сказал Мерсье.
— Похоже на смешанный хор,17 — сказал Камье.
18
Сэмюэль Беккет
— Наверно, это иллюзия, — сказал Мерсье.
— Может быть, — сказал Камье.
— Давай бегом, — сказал Мерсье.
Некоторое время они бежали по темным, сырым и безлюдным
улицам. Когда бег прекратился, Камье сказал:
— В хорошем же виде мы явимся к Элен, мокрые до нитки.
— Мы сразу разденемся, — сказал Камье. — Повесим одежду
сушиться у огня или в бельевой шкаф, там проходят трубы с горячей
водой.
— В сущности, — сказал Мерсье, — почему мы не воспользовались
зонтиком?
Камье посмотрел на зонтик, который был у него в руке. Он его
взял в руку, чтобы удобнее было бежать.
— А ведь могли, — сказал он.
— Зачем нагружать себя зонтиком, — сказал Мерсье, — если нельзя
раскрыть его, когда нужно?
— Я того же мнения, — сказал Камье.
— Так раскрывай, черт побери, — сказал Мерсье.
Но у Камье зонтик не раскрывался.
— Не могу, — сказал Камье.
— Дай сюда, — сказал Мерсье.
Но у Мерсье он тоже не раскрылся.
В этот миг дождь, услужливый агент всемирной зловредности,
обратился в сущий потоп.
— Заело, — сказал Камье. — Главное, не надо силой.
— Сволочь, — сказал Мерсье.
— Это ты про меня? — сказал Камье.
— Это я про зонтик, — сказал Мерсье. Он высоко поднял его над
головой обеими руками и яростно швырнул на землю. — Ну, мразь, —
сказал он. И добавил, подняв к небу искаженное промокшее лицо и
вздымая к нему кулаки: — Да на хрен ты мне тут сдался.
Страдания, которые Мерсье героически сдерживал с самого утра,
вырвались наконец на свободу, это было очевидно.
— Это ты к нашему выручателю так обращаешься?18 — сказал
Камье. — Ты неправ. Это, наоборот, ты ему тут на хрен сдался. Ему —
то ни хрена не делается. Этому выручателю ни хрена не делается.
— И пожалуйста, не припутывай к нашему спору мадам Мерсье, ^ —
сказал Мерсье.
— Это бред, — сказал Камье.
— Будь в этом месте грязь поглубже,20 — сказал Мерсье, — я бы
побарахтался в ней до утра.
У Элен первым делом заметили ковер.
—■ Ты только посмотри на этот палас, — сказал Камье.
Мерсье посмотрел.
Мерсъе и Камье
19
— Симпатичный коврик, — сказал он.
— Неслыханно, — сказал Камье.
— Можно подумать, что ты его видишь в первый раз, — сказал
Мерсье. — Ты-то уж вдоволь на нем повалялся.
— Впервые вижу, — сказал Камье. — Я его никогда не забуду.
— Все так говорят, — сказал Мерсье.
Тем вечером больше всего бросался в глаза ковер, хотя было на
что посмотреть и кроме ковра. На попугая ара, например. Он
балансировал в неустойчивом равновесии на жердочке, подвешенной в углу
к потолку и чуть заметно подрагивавшей от естественной склонности
к колебаниям и вращению. Несмотря на позднее время, попугай не
спал. Его грудь слабо вздувалась и опадала в неровном задыхающемся
ритме. При каждом выдохе пушок приподнимался от неуловимой дрожи.
Время от времени клюв раззевался и на несколько секунд оставался
разинутым. Прямо не попугай, а рыба. Тогда было видно, как шевелится
черный веретенообразный язычок. Настороженные глаза, полные
несказанной тоски и растерянности, слегка отворачивались от света. По
оперению, вспыхивающему ироническим блеском, пробегали тревожные
складки. Под попугаем, на ковре, была разложена большая развернутая
газета.
— Есть моя кровать и диван, — сказала Элен.
— Вы располагайтесь, — сказал Мерсье, - а я ни с кем вместе
спать не буду.
— А я бы не отказался, — сказал Камье, — от небольшого славного
насосика, только не слишком долго, а так, чуть-чуть.
— Никаких насосиков, — сказала Элен. — С этим покончено.21
— Я лягу на полу, — сказал Мерсье, — и буду ждать рассвета.
Перед моими открытыми глазами вереницей пройдут сцены и лица.
Дождь будет барабанить коготками по стеклам, и тьма поведает мне о
своих красках. Меня охватит желание выброситься из окна,22 но я его
обуздаю... Я его обуздаю! — проревел он.
Когда они опять оказались на улице, то задумались, куда делся
велосипед. Рюкзак тоже исчез.23
— Видал попугая? — сказал Мерсье.
— Красивый, — сказал Камье.
— Он стонал ночью, — сказал Мерсье. — Я и не знал, что попугаи
стонут, а этот стонал, и даже довольно часто.
— Может, это была мышь, — сказал Камье.
— Я его буду видеть до конца дней моих, — сказал Мерсье.
— Я и не знал, что у нее есть попугай, — сказал Камье. — Но
меня добил ковер.
— И меня, — сказал Мерсье. — Она говорит, что он у нее уже
много лет.
— Ей соврать ничего не стоит, — сказал Камье.
20
Сэмюэль Беккет
Дождь шел по-прежнему. Они укрылись под аркой, не зная, куда
идти.
— В какой именно момент ты обнаружил отсутствие рюкзака? —
сказал Мерсье.
— Сегодня утром, — сказал Камье, — когда хотел выпить какой-
нибудь сульфамид.
— Такие подробности меня не интересуют, — сказал Мерсье.
— Помнишь события вчерашнего вечера? — сказал Камье.
— Помню в общих чертах, — сказал Мерсье. — Но мы были в
районе, который я плохо знаю.
— Как ты себя сегодня чувствуешь? — сказал Камье.
— Слабым, но решительным, — сказал Мерсье. — А ты?
— Чуток получше, чем вчера, — сказал Камье.
— Не вижу зонтика, — сказал Мерсье.
Камье осмотрел себя с головы до ног, опуская голову и разводя
руки, словно речь шла о пуговице.
— Скорее всего, мы забыли его у Элен, — сказал он.
— Сдается мне, — сказал Мерсье, — что, если мы не покинем
этого города сегодня, мы не покинем его никогда. Так что
давай хорошенько подумаем, прежде чем пускаться на поиски этих
вещей.
— Что именно было в рюкзаке? — сказал Камье.
— Туалетные принадлежности, — сказал Мерсье.
— Излишняя роскошь, — сказал Камье.
— Несколько пар носков и одни трусы, — сказал Мерсье.
— Надо же, — сказал Камье.
— И кое-какая еда, — сказал Мерсье.
— Которую давно пора выбросить, — сказал Камье.
— Сперва ее надо найти, — сказал Мерсье.
— Сядем в первый же экспресс и поедем на юг! — воскликнул
Камье. И добавил: — Так у нас хотя бы не будет искушения сойти на
первой же станции.
— А почему на юг, — сказал Мерсье, — а не на север, не на восток
и не на запад?
— Мне больше нравится юг, — сказал Камье.
— Разве это объяснение? — сказал Мерсье.
— Вокзал ближе всего, — сказал Камье.
— Об этом я не подумал, — сказал Мерсье. Он вышел на улицу и
посмотрел на небо. Небо было серое и низкое, в какую сторону ни
посмотри.
— Небо равномерно пакостное, — сказал он, вернувшись в
укрытие. — Без зонтика мы промокнем, как крысы.
— Ты хочешь сказать, как собаки, — сказал Камье.
— Я хочу сказать, как крысы, — сказал Мерсье.
Мерсье и Камье
21
— Даже если бы у нас был зонтик, — сказал Мерсье, —- мы бы не
смогли им воспользоваться. Он сломан.
— Что ты сочиняешь? — сказал Мерсье.
— Мы его сломали вчера вечером, — сказал Камье, — пока с ним
советовались. Это была твоя идея.
Мерсье обхватил голову руками. Постепенно вся сцена воскресла
перед его взором. Он гордо выпрямился.
— Ладно, — сказал он. — Не будем предаваться бесплодным
сожалениям.
— Плащ можно носить по очереди, — сказал Камье.
— Мы же будем в поезде, — сказал Мерсье, — мчащемся к югу.
— Сквозь залитые водой стекла, — сказал Камье, — мы попытаемся
считать коров. Они уныло дрожат за шаткими изгородями. Улетают
вдаль мокрые и взлохмаченные вороны. Но постепенно погода
исправляется. И под сверкающим солнцем мы прекрасным зимним деньком
выходим из вагона. Где-нибудь в Монако.
— Не помню, ел ли я что-нибудь за последние двадцать четыре
часа, — сказал Мерсье.
— Я ел луковый суп, часа в четыре утра, — сказал Камье. — Ты,
наверно, слышал.
— Несмотря на это, я совершенно не голоден, — сказал Мерсье.
— Надо есть, — сказал Камье. — Не то желудок растянется и
сплющится, как ложная киста.
— А правда, как твоя киста? — сказал Мерсье.
— Затаилась, — сказал Камье. — Но там, в глубине, назревает
катастрофа.
— И что ты тогда собираешься делать? — сказал Мерсье.
— Подумать боюсь, — сказал Камье.
— Я бы съел пирожное с кремом, — сказал Мерсье. — Нельзя, так
нельзя, но я бы съел.
— С клубничным, — сказал Камье.
Мерсье подумал.
— Скорее, со сливовым, — сказал он.
— Пойду принесу, — сказал Камье. — Жди меня здесь.
— Нет, нет! — воскликнул Мерсье. — Не уходи от меня, давай
держаться вместе!
— Успокойся, — сказал Камье. — Плащ сейчас на мне. Значит, я
и схожу. Дел-то на две минуты. — Он вышел на улицу и стал переходить
дорогу.
— Камье! — воскликнул Мерсье.
Камье обернулся.
— Марципан! — воскликнул Мерсье.
— Что? — воскликнул Камье.
— Марципан! — воскликнул Мерсье.
22
Сэмюэль Беккет
Камье бегом вернулся под арку.
— Ты хочешь, чтобы я попал под машину! — сказал он. — Что
тебе надо?
— Марципан, — сказал Мерсье.
— Марципан, марципан, — сказал Камье. — А что это такое,
марципан?
Мерсье объяснил.
— И с кремом, — сказал Камье.
— Разумеется, с кремом! — воскликнул Мерсье. — Ну давай, живо.
Камье не двинулся с места.
— Чего ты ждешь? — сказал Мерсье.
— Я советовался сам с собой, — сказал Камье. — Я говорил себе:
Камье, разозлиться нам на него или не стоит?
— Советуйся с собой в другом месте, — сказал Мерсье.
— Кто угодно на моем месте разозлился бы, — сказал Камье. — А
я, по зрелом размышлении, не стал. Потому что подумал: время
нелегкое, а Мерсье не в форме. — Он подошел ближе к Мерсье, тот
попятился. — Я хотел только тебя обнять,24 — сказал Камье. — Обниму
в другой раз, когда тебе будет лучше, если только не забуду. — Он
вышел под дождь и исчез.
Оставшись один, Мерсье стал расхаживать взад и вперед под аркой
и погрузился в горькие размышления. С позавчерашнего вечера это
была их первая разлука. Подняв глаза, словно для того, чтобы отогнать
нестерпимую картину, он увидел двух детей, мальчика и девочку,
смотревших на него. Они были в совершенно одинаковых черных
непромокаемых накидках с капюшоном, на спине у мальчика — небольшой
ранец. Дети держались за руки.
— Папа, — почти хором сказали они.
— Здравствуйте, детки, — сказал Мерсье, — живо марш отсюда.25
Но они и не думали уходить. Сцепленные вместе руки раскачивались
туда-сюда, как качели. Наконец девочка вырвала руку и подошла к
тому, кого они обозвали папой. Она потянулась к нему, словно прося,
чтобы ее поцеловали или по крайней мере приласкали. Мальчик, явно
волнуясь, двинулся следом. Мерсье поднял ногу и гневно топнул по
мостовой. —- «Убирайтесь!» — воскликнул он. Дети попятились до
тротуара и там опять замерли. — «Пошли вон!» — взревел Мерсье. Он
яростно рванулся в их сторону, и дети смылись. Мерсье вышел под
дождь и стал смотреть, как они бегут прочь. Но скоро они остановились
и оглянулись. То, что они увидели, вероятно, произвело на них сильное
впечатление, потому что они. понеслись дальше и юркнули за первый
же угол. Незадачливый Мерсье несколько минут с остервенением следил,
в самом ли деле угроза миновала, а потом, весь промокший, вернулся
под арку и возобновил свои размышления если и не с того самого
места, на котором они прервались, то с близкого к нему. У размышлений
Мерсъе и Камъе
23
Мерсье была та особенность, что они неизменно выливались в одну и
ту же бурю и выносили его на один и тот же риф, с какого места их
ни начинай. Может быть, это были не столько размышления, сколько
бурные и зловещие грезы, в которых прошлое самым неприятным
образом сливалось с будущим, а настоящее исполняло неблагодарную
роль вечного утопленника. Что поделаешь.
— Ну вот, — сказал Камье, — надеюсь, ты не начал беспокоиться.
Мерсье развернул бумагу и выложил пирожное на ладонь.
Придвинул к нему нос, глаза, низко наклонился. Не выпрямляясь, искоса
метнул на Камье исполненный недоверия взгляд.
— Это ромовая баба, — сказал Камье. — Все, что я смог найти.
Мерсье, по-прежнему согнувшись в три погибели, подошел к выходу
на улицу, где было светлее, и еще раз рассмотрел пирожное.
— В нем полным-полно рома, — сказал Камье.
Мерсье медленно сжал кулак, и пирожное брызнуло у него между
пальцами. Его выпученные глаза наполнились слезами. Камье подошел
ближе, чтобы лучше видеть. Все новые и новые слезы, набегая, текли
по щекам и прятались в бороде.26 Лицо оставалось спокойным. Глаза,
набухшие влагой и, вероятно, незрячие, казалось, пристально следили
за чем-то, перемещавшимся по земле.
— Если бы ты не злился, — сказал Камье, — ты бы мог просто
отдать его собаке или ребенку.
— Я плачу, — сказал Мерсье, — не мешай.
Когда Мерсье доплакал, Камье сказал:
— Возьми наш платок.
— Бывают дни, — сказал Мерсье, — когда мы то и дело рождаемся.
В такие дни повсюду полным-полно маленьких вонючих Мерсье. Это
потрясающе. Никогда не сдохну.
— Хватит, — сказал Камье. — Что ты скорчился закорюкой?
Словно тебе девяносто лет.
— Это был бы мне прекрасный подарок, — сказал Мерсье. Он
вытер руку о штаны. — Кажется, я сейчас стану на четвереньки,27 —
сказал он.
— Я пошел, — сказал Камье.
— Ты меня покидаешь, — сказал Мерсье. — Так я и знал.
— Ты же меня знаешь, — сказал Камье.
— Нет, — сказал Мерсье, — но я надеялся на твое доброе
отношение, надеялся, что ты поможешь мне избыть мою боль.
— Я могу тебе помочь, но не могу воскресить, — сказал Камье.
— Возьми меня за руку, — сказал Мерсье, — и уведи далеко отсюда.
Я буду послушно трусить рядышком, как щенок или малое дитя. И в
один прекрасный день...
Воздух разорвал кошмарный визг тормозов, сопровождавшийся
ревом и гулким стуком. Мерсье и Камье бросились (после недолгого
24
Сэмюэль Беккет
колебания) наружу и увидели, прежде чем набежала толпа, что на
земле чуть заметно колышется довольно-таки пожилая толстуха.
Одежда ее пришла в такой беспорядок, что виднелось застиранное
исподнее, невероятно толстое и пышное. Из одной или нескольких ран у
толстухи текла кровь, и ручеек этой крови уже достиг водосточной
канавки.
— Ага, — сказал Мерсье, — вот то, что мне было нужно. Я
совершенно воспрянул.28 -—Ив самом деле, он преобразился.
— Пусть это послужит нам уроком, — сказал Камье.
— В каком смысле? — сказал Мерсье.
— Что никогда не стоит падать духом, — сказал Камье. — Будем
верить в жизнь.
— В добрый час, — сказал Мерсье. — Я боялся, что не так тебя
понял.
По дороге навстречу им попалась машина скорой помощи, которая
неслась по направлению к тому месту, где разыгралась сцена несчастного
случая.
— Что? — сказал Камье.
— Стыд и срам, — сказал Мерсье.
— Не понял, — сказал Камье.
— Восемь цилиндров, — сказал Мерсье.
— Ну и что? — сказал Камье.
— А они толкуют о нехватке горючего, — сказал Мерсье.
— Может, жертв несколько, — сказал Камье.
Сеял мелкий дождик, словно из лейки с очень мелкими дырочками.
Мерсье шагал, запрокинув голову. Время от времени свободной рукой
он тер себе лицо. Он уже давно не мылся.
ш
Краткое изложение
двух предыдущих глав
I
Отбытие.
Трудная встреча Мерсье и Камье.
Сквер Сент-Рута.
Пурпурный бук.
Дождь.
Убежище.
Собаки.
Мерсье и Камье
25
Депрессия Камье.
Сторож.
Велосипед.
Ссора со сторожем.
Мерсье и Камье совещаются.
Плоды совещания.
Вечернее прояснение.
Колокол.
Мерсье и Камье уходят.
II
Город в сумерках.
Мерсье и Камье направляются к каналу.
Воспоминание о канале.
Гнев бармена.
Первый бар.
Мерсье и Камье совещаются.
Плоды совещания.
Мерсье и Камье направляются домой к Элен.
Колебания в выборе пути.
Зонтик.
Человек во фраке.
Дождь.
Камье слышит пение.
Мерсье и Камье бегут.
Дождь.
Ливень.
Горе Мерсье.
У Элен.
Ковер.
Попугай ара.
Второй день.
Дождь.
Исчезновение рюкзака, велосипеда, зонтика.
Мерсье и Камье совещаются.
Плоды совещания.
Камье уходит.
Горе Мерсье.
Мерсье и дети.
Размышления Мерсье.
Камье возвращается.
Ромовая баба.
Слабость Мерсье.
26
Сэмюэль Беккет
Несчастный случай.
Мерсье и Камье уходят.
Дождь на лице у Мерсье.,
IV
— Я родился в П. и был единственным, надеюсь, ребенком в семье.
Мои родители были родом из Р. От них я унаследовал, вместе с бледной
спирохетой, большой нос, остатки которого вы можете видеть и поныне.
Со мной обращались строго, но справедливо. При малейшем
непослушании отец лупил меня до крови толстым ремнем, на котором правил
бритву. Но никогда не забывал сказать маме, чтобы смазала меня йодом
или марганцовкой. Вероятно, этим объясняется мой скрытный и
замкнутый характер. Я оказался не особенно способен к умственным
упражнениям, поэтому в возрасте тринадцати лет меня взяли из школы
и поместили к окрестным фермерам. Поскольку, выражаясь их слогом,
небу было не угодно даровать им детей, они с вполне естественным
остервенением набросились на меня. И когда родители мои как нельзя
более кстати погибли в железнодорожной катастрофе, они усыновили
меня по всей форме, предусмотренной законом. Но я, немощный как
телесно, так и умственно, был для них источником многочисленных
разочарований. Править возом, махать косой, возиться со свеклой и
т. д. — все эти работы были мне не по силам и буквально убивали
меня на месте, как только меня заставляли ими заняться. Даже на
пастбище, как я ни усердствовал, мне никак не удавалось справиться
ни с коровами, ни с козами. Скотина незаметно для меня забредала в
соседские владения и там обжиралась цветами, фруктами и овощами.
Не говорю о боях быков, козлов и баранов, которые настолько меня
пугали, что я со всех ног бежал прятаться на гумне. Вдобавок, досчитать
до десяти было свыше моих сил, поэтому стадо никогда не возвращалось
домой в полном составе, что, естественно, навлекало на меня упреки.
И только на двух поприщах я могу похвалиться не скажу великими
достижениями, но хотя бы успехами: я научился забивать ягнят,2^ телят
и козлят и холостить молодых бычков, барашков и козликов, правда,
при условии, чтобы они были совсем нежные и невинные. И вот с
пятнадцати лет я сосредоточился на этой специальности. У меня до сих
пор хранятся славные маленькие — ну, сравнительно маленькие,
конечно, — яички одного барашка, память о тех счастливых временах. Кроме
того, я щегольски и не зная промаха свирепствовал на птичьем дворе.
У меня был свой особый способ душить гусей, вызывавший всеобщее
восхищение. О, знаю, что вы слушаете меня вполуха и даже с
раздражением, но мне все равно. Ведь я уже стар, и в жизни мне осталась
Мерсье и Камье
27
одна радость — вспоминать (вслух и в возвышенном стиле, ненавистном
мне самому) о славных деньках, которых, к счастью, уже не вернуть.30
Лет в двадцать, не то в девятнадцать, по оплошности обрюхатив
молочницу, я дал деру — под покровом ночи, поскольку с меня не
спускали глаз. Заодно уж я поджег гумна, амбары и конюшни. Но
пожары, не успев толком разгореться, были залиты сильным ливнем,
которого никто не мог предвидеть — так безоблачно было небо в миг
покушения. Дожди — проклятие того злополучного края. Пятьдесят лет
тому назад это было, все равно что пятьсот.31 — Он размахнулся палкой
и стукнул ею по сидению, из которого тут же вылетело облако
тончайшей мимолетной пыли. — Пятьсот! — взревел он.
Поезд замедлил ход. Мерсье и Камье переглянулись. Поезд
остановился.
— Не повезло, — сказал Мерсье, — мы в пассажирском поезде.
— Может, это удача, — сказал Камье.
— Вот вы говорите об удаче, — сказал старик.
Поезд опять тронулся с места.
— Мы могли бы выйти, — сказал Мерсье. — А теперь уже поздно.
— Выйдете на следующей, вместе со мной, — сказал старик.
— Это совсем другое дело, — сказал Мерсье.
— Подручный мясника, — сказал старик, — приказчик в
бакалейной лавке, рассыльный у перекупщика, служащий похоронной конторы,
ризничий, об этом лучше не будем, опять трупы, —- вот вам моя жизнь.
Я держался на плаву благодаря хорошо подвешенному языку, и каждый
день было чуть легче, каждый день чуть лучше. Надо сказать, мне было
в кого пойти, мой отец вышел — и нетрудно угадать, с какой
спешкой, — из чресел сельского кюре, это было известно всем и каждому.
В пригородных кабачках и борделях я был главной фигурой. Друзья,
говорил я им, а я ведь писать, и то не умею, друзья, Гомер учит нас,
«Илиада», песнь третья, стих восемьдесят пятый и дальше,32 в чем
состоит счастье на земле, счастье то есть. О, я их не щадил. Я ведь им
как говорил: Potopompos scroton evohe.33 Я, понимаете, ходил в школу. —
Он испустил пронзительный самопроизвольный смешок. — В
бесплатную школу, великодушно предназначенную для изголодавшихся по
ночному свету оборванцев. Potopompos scroton, наложить в штаны и пить
неразбавленным. Я им как говорил: выйдите отсюда, поджавши хвост
и вскинув голову, и приходите назад завтра. Супружницу — в шею,
пускай сама крутится как знает. Иногда я попадался. Вставал с земли —
сам весь в кровище, одежа в клочья. Детки, я ведь им как говорил,
это отходы лю6еи. Боженька тоже был замешан в эти дела. Но в конце
концов все привыкли. Разоденусь, бывало, в пух и прах и иду на свадьбу,
похороны, или танцы, или посиделки там, крестины. Всюду меня
привечали. Меня в сущности любили. Я, бывало, им такого наговорю
насчет девственной плевы, вазелина, зари нужды, конца забот. Сплош-
28
Сэмюэль Беккет
ные трупы всю жизнь. До самого того дня, когда мне досталась ферма.
Что я говорю — ферма, не одна, а целых две. Эти бедняги по-прежнему
меня любили. И все вышло очень кстати, потому что у меня начал
крошиться паяльник. А когда ваш паяльник начинает крошиться, вас
любят все меньше и меньше. Подъезжаем.
Мерсье и Камье поджали ноги, чтобы его пропустить.
— Не выходите? — сказал старик. — И правильно. Здесь только
горемыки окаянные выходят.
Он был в гетрах, в желтой шляпе-котелке34 и в балахоне вроде
редингота, доходившем ему до колен. Он проковылял на перрон,
обернулся, захлопнул дверь и обратил к ним свое безобразное лицо.
— Видите ли, — сказал он, — я присматриваю себе купе заранее,
жду, когда поезд тронется, и тогда уж сажусь в вагон. Они чувствуют
себя спокойно, под защитой всяких зануд, но простите, не тут-то было.
В самый последний момент притащился папаша Мэдден. Поезд набирает
скорость, а люди заперты внутри, никуда не денешься.
— Прощайте, прощайте, — крикнул господин Мэдден. — Они меня
так и не разлюбили, не разлюбили...
Мерсье, сидя против хода поезда, видел, как он, не обращая
внимания на людей, устремившихся к выходу, уронил голову на руки,
опиравшиеся о набалдашник трости.
О небе много толкуют, в поисках законной и желанной передышки
к нему то и дело обращаются взоры и блуждают в толщах прозрачных
пустынь, это факт. И как они потом рады, что могут вернуться на
землю и снова рыскать в потемках и порхать среди живых. Вот до чего
мы дошли.
— Все, — сказал Мерсье. — Это меняет все.
Камье вытер окно отворотом рукава, скрюченными пальцами
придерживая его за край.
— Это воистину катастрофа, — сказал Мерсье. — Меня это... —
Он подумал. — Меня это удручает, — сказал он.
— Видимость нулевая, — сказал Камье.
— Меня удивляет твое спокойствие, — сказал Мерсье. — Ты что,
нарочно, пользуясь моим состоянием, вместо приличного скорого поезда
сел со мной в этот драндулет?
— Я тебе все убъясню, — сказал Камье. Камье всегда говорил
«убъясню». Почти всегда.
— Я не прошу тебя ничего Убъяснять, — сказал Мерсье, — я
прошу, чтобы ты ответил на мой вопрос, да или нет.
— Сейчас не время жечь за собой мосты, — сказал Камье, — и
загонять лошадей.
— Это признание, — сказал Мерсье. — Так я и знал. Я
постыднейшим образом попался на удочку. И я не выбрасываюсь из поезда
только потому, что не особо стремлюсь вывихнуть себе лодыжку.
Мерсье и Камье
29
— Я тебе все убъясню, — сказал Камье.
— Ты мне ничего не будешь Убъя*снять, — сказал Мерсье. — Ты
воспользовался моей слабостью, чтобы внушить мне, будто я сажусь в
скорый, а на самом деле... — Его лицо исказилось. Лицо у Мерсье
вообще очень легко искажалось. — Мне слов не хватает, — сказал он, —
чтобы высказать переполняющие меня чувства.
— Эту уловку, — сказал Камье, — мне подсказало как раз твое
расслабленное состояние.
— Объяснись, — сказал Мерсье.
— Учитывая то, в каком ты виде, — сказал Камье, — надо было
уезжать, но при этом не уезжать.
— Ты вульгарен, — сказал Мерсье.
— Мы сойдем на следующей станции, — сказал Камье. —
Перекусим и договоримся, какой путь избрать. Если решим двигаться вперед,
двинемся вперед. Мы потеряли часа два. Ну что такое два часа?
— Не знаю, — сказал Мерсье.
— Если же мы, напротив, решим вернуться в город... — сказал
Камье.
— В город? — сказал Мерсье.
— В город, — сказал Камье, — вернемся в город. За нами выбор
одного из быстрых и удобных видов транспорта, я, естественно, говорю
о трамвае, автобусе и железной дороге.
— Но мы только что из города, — сказал Мерсье, — а теперь ты
говоришь туда вернуться.
— Когда мы покидали город, — сказал Камье, — надо было
покидать город. Вот мы его и покинули, и правильно сделали. Но мы
не дети. Если необходимость, явив нам свое изменившееся лицо,
снова пытается обрушить на нас удар, Мы же, надеюсь, не станем
упираться.
— Я ощущаю только одну необходимость, — сказал Мерсье, — как
можно скорей вырваться из этого ада.
— Здесь все надо взвесить, — сказал Камье. — Никогда не
доверяйся ветру, дующему в твои паруса, он всегда несет гибель.
Мерсье сдержался.
— Наконец, — сказал Камье, — поскольку все нужно предвидеть,
не исключено, что мы примем героическое решение остаться на месте.
В таком случае у меня есть то, что нам нужно.
Деревня, которая представляла собой одну улицу, но, правда,
длинную улицу, на которой все выстроилось в один ряд: жилые дома, лавки,
бары, две церкви, вокзал, заправочная станция, кладбище и т.д. Бурный
поток.
— Возьми плащ, — сказал Камье.
— Вот еще, я не сахарный, — сказал Мерсье.
Они вошли в гостиницу.
30
Сэмюэль Беккет
— Вы не туда попали, — сказал человек. —■ Это дом «Кляпп и
сыновья, оптовая торговля фрукты—овощи».
— А что заставляет вас думать, — сказал Камье, — что мы не имеем
дела с папашей Кляппом или с одним из его отпрысков?
Вышли на улицу.
— А там что, — сказал Камье, — гостиница или рыбный рынок?
На сей раз человек у входа посторонился, виляя всем телом.
— Входите, господа, прошу вас, — сказал он. — Здесь у нас,
конечно, не «Савой», но, как бы сказать... — он смерил их быстрым
подозрительным взглядом. — Как бы вам сказать? — повторил он.
— Скажите, — сказал Камье. — Не томите нас.
— Здесь у нас... коузи,* — сказал человек. — Вот именно. Здесь
коузи. Вот увидите. Патрик! — вскричал он. И добавил тихо и как бы
неуверенно: — Здесь... гемютлих.**
— Он принимает нас за туристов, — сказал Мерсье.
— Ах, — потирая руки, сказал человек, — уж я-то разбираюсь в
лицах. Не каждый день мне выпадает такая честь... —- Он запнулся и
продолжил: — Выпадает такая честь. Патрик!
— Я со своей стороны, — сказал Мерсье, — счастлив, что
наконец-то познакомился с вами. Ваш образ уже давно витал перед моим
мысленным взором.
— О, — сказал человек.
— Да, да, — сказал Мерсье. — Обыкновенно вы видитесь мне на
пороге или у окна. За спиной у вас — вихри света и радости, которые,
казалось бы, должны были размыть ваши черты. Но нет. Вы улыбаетесь.
Скорее всего, вы меня не видите, потому что я на другой стороне
улочки, окутанный густой тьмой. Но я тоже улыбаюсь и прохожу своей
дорогой. Вас зовут Голл.35 Видели ли вы меня в своих грезах, господин
Голл?
— Снимайте с себя все, — сказал человек.
— Как бы то ни было, я рад, — сказал Мерсье, — увидеться с
вами при несравненно более благоприятных обстоятельствах.
— Что именно снимать? — сказал Камье.
— Ну, плащи там, — сказал человек, — шляпы, мало ли. Патрик!
— Да посмотрите вы на нас, — сказал Камье. — Разве мы похожи
на людей в шляпах? Может, мы незаметно для себя носим перчатки?
Надо бы приглядеться.
— Чего вы ждете? Почему никто не несет наверх наши чемоданы? —
сказал Мерсье.
— Патрик! — вскричал человек.
* Cosy — уютный {англ.). — Примеч. сост.
* Gemütlich — удобный (нем.). — Примеч. сост.
Мерсье и Камье
31
—- Мщение! Мщение! — сказал Мерсье. Он подошел к человеку. —-
Вы что, не видите, — сказал он, — что я насквозь промок? Накормите нас.
День был ярмарочный. В зале было полно фермеров, торговцев
скотом и приравненных к ним лиц. Сам скот был уже далеко, он,
растянувшись цепочкой, брел по грязным дорогам под крики
погонщиков. Часть скота возвращалась домой, другая часть шла сама не зная
куда. Позади волнисторунных овец на некотором расстоянии громыхали
тележки. У погонщиков сквозь ткань карманов торчали стрекала.
Мерсье облокотился на стойку. Камье, напротив, прислонился к
ней спиной.
— Они едят, не снимая шляп, — сказал он.
— Где он теперь? — сказал Мерсье.
— Возле дверей, — сказал Камье, — наблюдает за нами, не подавая
виду.
— Зубы показывает? — сказал Мерсье.
— Прикрывает рот рукой, — сказал Камье.
— Я не спрашиваю, прикрывает ли он рот, — сказал Мерсье. — Я
спрашиваю, показывает ли он зубы.
— Отсюда его зубов не видно, — сказал Камье, — потому что он
прикрывает их рукой.
— Что мы здесь делаем? — сказал Мерсье.
— Сначала мы подкрепимся, — сказал Камье. — Бармен, что у вас
сегодня есть хорошенького из еды?
У бармена было много чего из еды. Все это он перечислил. Мерсье
не слушал.
— Будьте добры, салат из морского ежа, — сказал Мерсье, — с
соусом «бугле».
— Не знаю такого, — сказал бармен.
— Тогда сэндвич с плутром,36 — сказал Мерсье.
— Кончились, — сказал бармен. Он слыхал, что им не надо
перечить.
— Не грубите, — сказал Мерсье. Он обернулся к Камье. — Ну и
забегаловка! — сказал он. — Разве это путешествие?
В тот миг путешествие Мерсье и Камье выглядело и впрямь не
блестяще. Если оно не оборвалось тут же, то благодарить за это следует,
скорее всего, Камье: его предприимчивость и душевное величие
оказались выше всяких похвал.
— Мерсье, — сказал он, — положись на меня.
— Да сделай же что-нибудь, сделай же что-нибудь, — сказал
Мерсье. — Неужели я всегда должен идти первым?
— Позовите хозяина, — сказал Камье.
Бармен, казалось, не очень-то этого хотел.
— Позовите, — сказал Мерсье, — позовите, друг мой, если вас
просят. Подайте негромкий сигнал, который он узнает из тысячи и
32
Сэмюэль Беккет
расслышит посреди самой сильной бури. Или чуть кивните головой,
так, чтобы было заметно ему одному и чтобы он примчался на этот
кивок наперекор любым природным катаклизмам.
Но тот, кого Мерсье называл господином Голлом, был уже рядом
с ними.
— Имею ли я честь говорить с владельцем этого заведения? —
сказал Камье.
— Если вам нужен управляющий, — сказал управляющий, — то я
управляющий.
— Мне сказали, что кончился плутр, — сказал Мерсье. — Хорошо
же вы управляете, а еще управляющий. Что у вас с зубами? И это вы
называете «гемютлих»?
Управляющий словно бы задумался. Он не любил скандалов.
Кончики его седых висячих усов, казалось, вот-вот сойдутся вместе. Бармен
смотрел на него. Мерсье с изумлением рассматривал редкие седые
волосики, тонкие, как у младенца, которые, покорствуя прискорбному
кокетству, были с самого затылка тщательно зачесаны вперед. Он еще
никогда не видел господина Голла таким, а всегда только улыбчивым
и сияющим.
— Ну, полно, — сказал Мерсье, — не будем к этому возвращаться.
В конце концов вполне простительное упущение.
— Нет ли у вас номера, — сказал Камье, — где бы мой друг мог
минутку отдохнуть. Он смертельно устал. — Он придвинулся к
управляющему и сказал ему что-то на ухо.
— Его мать? — сказал управляющий.
— Моя мать? — сказал Мерсье. — Она умерла, ведьма, как только
произвела меня на свет. Не смела глянуть мне в лицо. Что на тебя
нашло? — сказал он Камье. — Почему ты не можешь оставить в покое
мою семью?
— Номер-то у меня найдется, — сказал управляющий, — только...
— Просто чтобы мой друг мог минутку передохнуть, — сказал
Камье. — Он на ногах не держится.
— Давай, старый зануда, — сказал Мерсье, — ты же не можешь
отказать мне в этой просьбе.
— Вам это, разумеется, будет стоить как сутки, — сказал
управляющий.
— На каком-нибудь из верхних этажей, если можно, —- сказал
Мерсье, — чтобы при случае я мог, ничего не боясь, выброситься из окна.
— Вы останетесь при нем? — сказал управляющий.
— Разумеется, — сказал Камье. — Пришлите нам в номер
что-нибудь подкрепиться. Впрочем, не исключено, что мы заночуем.
— Вряд ли, — сказал Мерсье.
— Патрик! — вскричал управляющий. — Где Патрик? — сказал он
бармену.
Мерсье и Камье
33
— Болен, — сказал бармен.
— Как болен? — сказал управляющий. — Я видел его вчера
вечером. И мне даже кажется, он мелькнул здесь вот только что.
— Болен, — сказал бармен. — Говорят даже, что он недолго
протянет.
— Какая досада, — сказал управляющий. — Что там с ним
случилось?
— Не знаю, — сказал бармен.
— А почему мне не сообщили? — сказал управляющий.
— Наверно, думали, что вы в курсе, — сказал бармен.
— А кто сказал, что это так опасно? — сказал управляющий.
— Такой прошел слух, — сказал бармен.
— А где он? — сказал управляющий. — Дома или...
— Да отвяжитесь вы с вашим Патриком, — сказал Мерсье. — Вы
меня добить хотите?
— Отведи этих господ наверх, — сказал управляющий. — Возьми
у них заказ и живо возвращайся.
— В пятый? — сказал бармен.
— Или в седьмой, — сказал управляющий. — Как будет удобнее
господам.
Он посмотрел им вслед. Налил себе и залпом выпил.
— А, здравствуйте, господин Грейвз,37 — сказал он. — Что вам
подать?
— Странные типы, — сказал господин Грейвз.
— Ничего, — сказал управляющий, — я привык.
— А где это вы привыкли? — сказал господин Грейвз низким
жирным голосом начинающего пасторального патриарха. — Не с нами
же, полагаю.
— Где я привык? — сказал управляющий. Он закрыл глаза, чтобы
лучше видеть то, что вопреки всему было по-прежнему дорого его
сердцу. — У моих хозяев, — сказал он.
— Счастлив это слышать, — сказал господин Грейвз. — Всего вам
наилучшего.
— До скорого свидания, господин Грейвз, — сказал управляющий.
Его усталый взгляд блуждал по залу, где снималось с места
почтенное мужичье. Господин Грейвз подал сигнал к отправке, и они
незамедлительно последовали столь весомому примеру.
— Всё, господин Гэст, — сказал бармен.
Господин Гэст не сразу ответил, он был целиком поглощен сценой,
которая перед его распахнутыми глазами постепенно заволакивалась
дымкой, и на эту дымку все с большей четкостью наплывала маленькая
площадь, средневековая и серая, по которой с трудом шагали, увязая
в глубоком снегу, укутанные до бровей безмолвные фигуры.
— Они взяли два номера, — сказал бармен.
2 С. Беккет
34
Сэмюэлъ Беккет
Господин Гэст обернулся.
— Заказали бутылку виски, — сказал бармен.
— Из еды ничего? — сказал господин Гэст.
— Ничего, — сказал бармен.
— Заплатили? — сказал господин Гэст.
— Да, — сказал бармен.
— Это все, что меня интересует, — сказал господин Гэст.
— Говорили всякую чушь, — сказал бармен. — Особенно
долговязый с бородой. Толстячок еще куда ни шло.
— Не обращай внимания, — сказал господин Гэст.
Он подошел к двери, обменялся последними любезностями с
посетителями, которые уже совершенно явно и неотвратимо уходили
прочь, сбившись в стадо. Большинство рассаживалось по стареньким
фордам, высоко посаженным на колеса. Другие рассеялись по деревне,
на что-то надеясь. Наконец, остальные собирались по двое, по трое и
заводили беседу прямо под дождем, который им, похоже, ничуть не
мешал. Кто знает, возможно, они были настолько рады дождю по
производственным причинам, что им приятно было чувствовать, как он
льется прямо на них. Кто разберет эту публику. Скоро они будут далеко,
разбредутся по дорогам, которые уже с алчностью размывает меркнущий
свет скупого дня. Каждый поспешает в свое маленькое королевство, к
своей жене, которая его ждет, к скотине в теплом сарае, к собаке,
настораживающей уши, чтобы не пропустить тарахтение хозяйского
автомобиля.
Господин Гэст вернулся в зал.
— Отнес им заказ? — сказал он.
— Отнес, — сказал бармен.
— Ничего не сказали? — сказал господин Гэст.
— Только чтобы их не беспокоили, — сказал бармен, — потому
что им больше ничего не нужно.
— Где Патрик? — сказал господин Гэст. — Дома или в больнице?
— По-моему, дома, — сказал бармен, — но я не уверен.
— Ты, похоже, мало чего знаешь, — сказал господин Гэст.
— Я занимаюсь своей работой, — сказал бармен. Он глянул
господину Гэсту прямо в глаза. — Своими обязанностями и своими
правами, — сказал он.
— Правильно делаешь, — сказал господин Гэст. — Этим путем ты
и придешь к высшему счастью.
С такими Гэстами и им подобными нет необходимости знать, всегда
можно догадаться.
— Если меня будут спрашивать, — сказал господин Гэст, — я
вышел и скоро вернусь.
Он вышел и в самом деле скоро вернулся.
— Умер, — сказал он.
Мерсье и Камье
35
Бармен поспешно обтер руки и перекрестился.
— Его последние слова перед тем как отдать Богу душу, — сказал
господин Гэст, — были неразборчивы. Предпоследние, если кому
интересно, были: пить, Господи, пить.38
— Чем он, собственно, болел? — сказал бармен.
— Мне не удалось узнать, — сказал господин Гэст. — За сколько
дней мы ему были должны?
— В субботу он получил, как все, — сказал бармен.
— Тогда и говорить не о чем, — сказал господин Гэст. — Пошлю
ему крест.
— Хороший был товарищ, — сказал бармен.
Господин Гэст пожал плечами.
— Где Тереза? — сказал он. — Она что, тоже испустила дух?
Тереза! — крикнул он.
— Она в туалете, — сказал бармен.
— Ты хорошо информирован, — сказал господин Гэст.
— Бегу! — прокричала Тереза.
Это была молодая крепкая женщина, под мышкой у нее был поднос,
а в руке тряпка.
— Посмотри, какая здесь конюшня, — сказал господин Гэст.
В зал вошел человек. На нем была фуражка, плащ-дождевик,
испещренный клапанами и карманами, брюки для верховой езды и
альпинистские ботинки. Его еще бодрые плечи сгибались под тяжестью до
отказа набитого мешка, а в руке он держал огромную палку. Он пересек
зал неуверенной походкой, шумно шаркая по полу подбитыми гвоздями
подошвами.
Это один из тех героев, о которых следует рассказать сразу же,
потому что в любую минуту они могут исчезнуть и уже никогда больше
не появиться.
— Мой паркет, — сказал господин Гэст.
— Воды, воды, — сказал господин Конейр3? (назовем его сразу).
Господин Гэст и бровью не повел, бармен тоже. Если бы господин
Гэст повел бровью, бармен, вероятно, тоже повел бы бровью. Но
господин Гэст не повел бровью, и грубиян не повел бровью тоже.
— Сперва воды, — сказал господин Конейр, — а затем море
спиртного. Спасибо. Еще. Спасибо. Хватит.
Он уронил мешок, судорожно потянулся плечами и всем туловищем.
— Джину, — сказал он.
Он снял фуражку и яростно стряхнул ее, обрызгав все вокруг. Потом
опять нахлобучил ее на свой остроконечный сияющий череп.
— Господа, — сказал он, — вы видите перед собой человека.
Воспользуйтесь этим. Я пришел пешком из самых недр газовой камеры
метрополитена, ни единого раза не остановившись, разве только чтобы... —
Он оглянулся по сторонам, увидел Терезу (он ее уже видел, но теперь
36
Сэмюэль Беккет
посмотрел на нее со значением, так было надо), перегнулся через стойку
и докончил фразу вполголоса. Его глаза перебегали от господина Гэста
к Жоржу (бармен теперь будет зваться Жоржем),40 от Жоржа к
господину Гэсту, словно желая убедиться, что слова его произвели
ожидаемый эффект. Затем он, выпрямившись, сказал звучным голосом:
«Много и часто, много и часто, и помедленней, помедленней, вот мое
правило». Он метнул взгляд на Терезу и издал пронзительный смешок.
Ему удалось отпустить шутку в мужской компании. «Кстати, где у вас
тут укромное местечко? — сказал он. — Укромное! Какая уж тут
укромность!»
Господин Гэст описал путь в это местечко.
— Как сложно, — сказал господин Конейр. — Вечно эта
омерзительная скрытность во имя приличий. Во Франкфурте, когда выходишь
из поезда, что видишь первым делом? Огромную надпись светящимися
буквами: HIER.* Это какое-то сумасшествие. В Перпиньяне тоже
додумались. Я имею в виду кафе «У почты». Пить.
— Вам сухого? — сказал господин Гэст.
Господин Конейр отступил и приосанился.
— Сколько лет вы мне дадите? — сказал он. Он стащил с головы
фуражку. — Маски долой, — сказал он. Медленно повернулся вокруг
своей оси. — Ну, — сказал он, — не щадите меня.
Господин Гэст назвал цифру.
— Черт побери, —- сказал господин Конейр, — прямо в точку.
— Лысина сбивает с толку, — сказал господин Гэст.
— Ни слова больше, — сказал господин Конейр. — Вы сказали, во
дворе?
— В самый конец и налево, — сказал господин Гэст.
— А туда как попасть?
Господин Гэст объяснил еще раз.
— Хорошо, — сказал господин Конейр, — пойду взгляну, как у вас
там, а то лопну, чего доброго. — Выходя, он прицепился к Терезе.
— Привет, красотка, — сказал он.
Тереза посмотрела на него.
— В чем дело, — сказала она.
— Какая прелесть, — сказал господин Конейр. В дверях он
обернулся. — И приветливая, — сказал он. — С ума сойти. — Он вышел.
Господин Гэст и Жорж переглянулись.
— Приготовь грифельную доску, — сказал господин Гэст. Потом
он обратился к Терезе. — Ты не можешь вести себя чуть-чуть полюбез-
нее? — сказал он.
— Он омерзительный старикашка, — сказала Тереза.
* Здесь {нем.). — Примеч. сост.
Мерсье и Камъе
37
— Речь не о том, чтобы стелиться по земле, — сказал господин
Гэст. Он стал расхаживать взад и вперед, потом остановился, приняв
решение.
— Оставьте все дела, — сказал он, — и соберитесь с мыслями. Я
расскажу вам о постояльце,41 об этом милом и диком зверьке. Жаль,
что Патрик не может послушать.
Он вскинул голову, заложил руки за спину и заговорил о постояльце.
Тщательно подбирая слова и заботясь о производимом впечатлении, он
видел перед собой небольшое окошко, за которым открывался плоский,
четкий и пустой пейзаж. Это песчаные равнины, по которым, насколько
хватит взгляда, петляет своими мягкими поворотами узкая дорога, а по
обочинам ее нет ни деревца, ни тени. Бледно-серый воздух недвижен.
Видно далеко вдаль между небом и землей, как будто сквозь щель, в
которую то тут, то там словно просачивается, не умещаясь, залитый
солнцем мир. Похоже на осенний вечер, может быть, начало ноября.
Не сразу и распознаешь, что это за небольшая темная масса надвигается
так медленно. Это накрытая брезентом повозка, которую везет черная
лошадь. Она тащит ее легко и словно гуляючи. Впереди, помахивая
кнутом, идет возчик. На нем просторный, тяжелый, светлый плащ,
ниспадающий до пят. Возможно, ему весело: он напевает обрывки песен.
Время от времени он оборачивается, вероятно, чтобы заглянуть внутрь
повозки. Теперь его лицо можно рассмотреть. Он молод на вид,
поднимает голову и улыбается.
— На сегодня все, — говорит господин Гэст. — Усвойте
хорошенько такой взгляд на вещи. Подумайте над этим во время работы. Это
плоды публичного кувыркания и закулисных ухмылок. Дарю их вам.
Если меня будут спрашивать, я вышел. Тереза, разбуди меня в шесть,
как обычно. — Он вышел.
— В том, что он говорит, есть правда, — сказал Жорж.
— Ах, мужчины, мужчины, — сказала Тереза, — нет у них идеалов.
Вернулся господин Конейр, довольный, что справился так быстро.
— Мне пришлось туго, — сказал он, — но я справился. Джину.
— Туго, — сказал себе Жорж, — но он справился.
— Как здесь холодно, — сказал господин Конейр. — Что вы пьете?
Прикладывайтесь, я чувствую, меня опять призывает бездна.
Жорж приложился.
— Ваше здоровье, — сказал он.
— Пейте, пейте, — сказал господин Конейр, — оно заслуживает
нашего внимания. А эта очаровательная девица, — сказал он, — не
соблаговолит ли она выпить с нами вместе?
— Она замужем, — сказал Жорж, — и мать троих детей.
— Тьфу ты! — воскликнул господин Конейр. — Как у вас язык
поворачивается говорить такое!
— Тебя хотят угостить портвейном, — сказал Жорж.
38
Сэмюэль Беккет
Тереза подошла и присела к стойке.
— Истязания плоти, вот что это такое, — сказал господин Ко-
нейр. —- Бедная промежность вся клочьями! Вопли! Кровь! Слизь!
Плацента! — Он поднес руку к глазам. — Плацента! — простонал он.
— За ваше! — сказала Тереза.
— Пейте, пейте, — сказал господин Конейр, — не обращайте на
меня внимания. Какой ужас! Какой ужас!
Он отвел руку и увидел, что они улыбаются ему, как ребенку.
— Простите, — сказал он. — Когда я думаю о женщинах, я думаю
о девственницах, это сильнее меня. — Он добавил: — У них тело
безволосое, и они никогда не писают и не какают.
— Это вполне естественно, — сказал Жорж.
— Я принял вас за девственницу, — сказал господин Конейр. —
Не сочтите за лесть, но я правда принял вас за девственницу.
Крепенькая, пожалуй, кругленькая, пышечка такая, грудки ничего себе, попка,
ляжки... — Он осекся. — Бесполезно, — сказал он изменившимся
голосом. — Сегодня у меня не встанет. Джину.
Тереза вернулась к работе.
— Теперь я перехожу к цели моего посещения, — сказал господин
Конейр, явно нисколько не удрученный. — Не знаете ли вы некоего Камье?
— Нет, — сказал Жорж.
— А между тем он назначил мне встречу именно здесь во второй
половине дня, — сказал господин Конейр. — Вот его карточка.
Жорж прочел:
ФРАНСИС КСАВЬЕ КАМЬЕ
Расследования и слежка
Тайна гарантируется
— Понятия не имею, — сказал он.
— Невысокий толстячок, — сказал господин Конейр. —
Рыжеватый, волосы поредевшие, тройной подбородок, живот грушей, ноги
кривые, маленькие поросячьи глазки.
— Там наверху два типа, — сказал Жорж, — они только что
приехали.
— Как выглядит второй? — сказал господин Конейр.
— Длинный тощий бородач, — сказал Жорж, — еле на ногах стоит.
На вид злющий как черт.
— Это он, это они, — воскликнул господин Конейр. — Идите
сообщите ему скорее. Скажите, прибыл господин Конейр и ждет внизу.
— Как вы сказали? — сказал Жорж.
— Ко-нейр, — сказал господин Конейр. — Конейр.
— Дело в том, что они не велели беспокоить, — сказал Жорж. —
Они, знаете ли, с норовом.
Мерсье и Камье
39
— Послушайте, — сказал господин Конейр.
Жорж послушал.
— Хорошо, схожу посмотрю, — сказал он.
— Сходите, сходите, — сказал господин Конейр.
Жорж вышел и через несколько минут вернулся.
— Спят, — сказал он.
— Надо их разбудить, — сказал господин Конейр.
— Бутылка пуста, — сказал Жорж, — а они там...
— Какая бутылка? — сказал господин Конейр.
— Они заказали в номер бутылку «Джей-джей», — сказал Жорж.
— Ну свиньи, — сказал господин Конейр.
— Растянулись одетые прямо на полу, рядышком, — сказал
Жорж. — И держатся за руки.
— Ну свиньи, — сказал господин Конейр.
ν
Перед ними простиралось поле. На нем ничего не росло, вернее,
ничего полезного для людей. Кроме того, не слишком понятно было,
какой интерес это поле может представлять для животных. Вероятно,
птицы находили здесь дождевых червей. Оно было очень неправильной
формы и окружено чахлыми изгородями, состоявшими из старых пней
и зарослей колючего кустарника. Осенью здесь бывает, возможно,
немного ежевики. Синяя острая трава спорила за землю с лопухами и
чертополохом. Эти последние могли в крайнем случае пойти на корм
скоту. По ту сторону изгородей другие поля, похожие, окруженные
другими, не менее похожими изгородями. Как попасть с одного поля
на другое? Вероятно, перемахнуть через изгородь. Какая-то коза
капризно интересовалась колючками на кустах. Привстав на задние ноги,
а передними опираясь на пень, она выбирала шипы понежнее.
Порывисто пятилась, делала несколько неистовых скачков и замирала. Время
от времени она подпрыгивала, взвиваясь прямо в воздух. Потом опять
принималась за изгородь. Обойдет ли она таким образом вокруг всего
поля? Или раньше устанет?
В конце концов люди поймут. Возведут дома. Или придет священник
с кропилом, и здесь будет кладбище. Когда снова начнется процветание.
Камье читал свою записную книжку. Прочитав листок, он его
вырывал, комкал и выбрасывал. Вот вам одна страничка в качестве
образца:
20.10. Джоли, Лиза, 14, ушла из дома 14-го, в 8, как всегда, в шк.
Портфель, с непокр. голов., сандалии на босу ногу, без пальто, синее
40
Сэмюэль Беккет
платье. Тоненькая, белокур., смущ. На уроках не была. Недавн. фотогр.
Родители без гроша. 25. Ожид. прибавка.
5.11. Гамильтон, Гертруда, 68, мал. рост, крепк. телосл., белокур,
вол. Хромает. Русская шляпка. Вуаль. Платье черное. Блестки. Трость
эбен. Цианоз. Живет у замужн. доч. Обман, сиделку не позднее ночи
с 29 на 30. Вероятно, без гр. Кольца эм. Фот. в 65. Запои, постоянные
побеги. Осторожно! После оконч. приступа может вернуться. Богатая
баба. 100 + расходы.
10.11. Джерард, Джерард, 50, биржев. маклер, 7 дет., хорош, сост.
Бурн. темперамент (с ее слов). Вот уже 6 мес. уклоняется от супруж.
обяз. Ночует дома. Утр. в Б. Обедает в клубе. Днем в конторе. Ужинает,
но. Вечером играет с детьми. Никогда не уход. Спортом не заним.
Любит читать! 50—70, как пойдет, + расходы.
N.B. — 12.11. Видел Дж. Дж. Улажено. 80 4- конфид. инф.
— Он смотрит, что я делаю, и молчит, — сказал себе Камье. Достал
из кармана большой конверт, извлек из него и выбросил следующие
предметы: несколько пуговиц, два образчика волос и щетины, вышитый
платок, несколько шнурков (в этой области он был специалистом),
зубную щетку, кусок резины, подвязку, разные лоскутки. Когда все это
было из конверта вытряхнуто, он выбросил и сам конверт. Все равно что
прочищать себе нос, — сказал он себе. Встал, терзаясь угрызениями
совести, которые делали ему честь, и подобрал скомканные листки
записной книжки, то есть те из них, которые утренний ветерок не унес далеко,
не закинул в ямку или за куст чертополоха. Подобрав листки, он порвал
их на мелкие клочки, а клочки выкинул.42 Он обернулся к Мерсье.
— Ну вот, — сказал он, — стало легче.
— Я вижу дырку у тебя в носке, — сказал Мерсье.
— Стало легче, —- сказал Камье. — Фотографии я пока
придержу. — Он ощупал карман. — Ты по крайней мере не сидишь на мокрой
траве? — сказал он.
— Я сижу на моей половинке плаща, — сказал Мерсье. — Мне
божественно хорошо.
— Слишком рано распогодилось, — сказал Камье. — Плохая
примета.
— А какая погода, вообще говоря? — сказал Мерсье.
— Посмотри сам, — сказал Камье.
— Я бы предпочел услыхать от тебя, — сказал Мерсье. — А потом
я тебе скажу, согласен я с тобой или нет.
— На небе, — сказал Камье, — появилось бледное, нежаркое пятно.
Должно быть, это солнце. К счастью, оно показывается только
временами, по причине измызганных, обтрепанных по краям облаков,
дрейфующих с запада прямо перед его ликом. Некоторые из них словно
побиты молью. Холодно, но дождя еще нет.
Мерсъе и Камье
41
— Сядь на место, — сказал Мерсье. — Ты меньше мерзнешь, чем
я, это очевидно, но все-таки воспользуйся тем, что здесь косогор. Не
переоценивай своих сил, Камье. Если ты подхватишь воспаление легких,
мне тоже будет паршиво.
Камье сел на место.
— Иди ко мне, — сказал Мерсье, — нам будет теплее. Ближе.
Теперь делай, как я, подверни край со своей стороны и натяни на ноги.
Вот так. Теперь не хватает только крутого яйца и бутылки лимонада.
— Я чувствую, как сырость втекает мне прямо в задницу, — сказал
Камье.
— Лишь бы не вытекала, — сказал Мерсье.
— Я вообще-то боюсь за свой цистит, — сказал Камье.
— Чего тебе не хватает, так это чувства меры, — сказал Мерсье.
— Не вижу связи, — сказал Камье.
— Вот-вот, — сказал Мерсье, — ты никогда не видишь связи. Когда
ты боишься за свой цистит, думай о свище. А когда дрожишь за свой
свищ, поразмышляй немного о шанкрах. Эта система кое-чего стоит в
смысле достижения того, что некоторые люди еще называют счастьем.
Возьми, к примеру, парня, который ничем не страдает, ни телом, ни
вообще. Как ему-то выйти из положения? Очень просто. Пускай думает
о небытии. Так в каждой ситуации природа призывает нас улыбаться
и даже смеяться.
— Дальше, — сказал Камье.
— Спасибо, — сказал Мерсье. — А теперь рассмотрим спокойно
положение вещей.
После минутного молчания на Камье напал хохот. Мерсье тоже в
конце концов признал, что это забавно. Итак, они некоторое время
смеялись вместе, вцепившись друг другу r плечи, чтобы не рухнуть на
землю.
— Какое чистосердечное веселье, — сказал наконец Камье. —
Прямо Вовенарг.43
— В общем, ты понимаешь, что я хочу сказать, — сказал Мерсье.
— Как ты сегодня себя чувствуешь? — сказал Камье. — Я тебя еще
не спрашивал.
— Я чувствую себя немощным, — сказал Мерсье, — но более чем
когда-либо исполненным решимости. А ты?
— Пока все в порядке, — сказал Камье. — То, что я избавился от
всей этой грязи, пошло мне на пользу. Я чувствую облегчение. — Он
прислушался. — Я говорю, что чувствую облегчение, — сказал он, но
эта фраза решительно оставляла Мерсье равнодушным. — Нет, я бы не
сказал, что я в ударе, — сказал Камье. — Например, я был бы не в
состоянии еще раз пройти через все, что мне выпало вчера.
— Что именно мы решили? — сказал Мерсье. — Помню, что мы
о чем-то договорились, как всегда, впрочем, но не помню, о чем. Но
42
Сэмюэль Беккет
ты-то должен знать, потому что в сущности мы ведь осуществляем твой
замысел, не правда ли?
— Некоторые подробности, — сказал Камье, — и у меня тоже
слегка подзабылись, уж не говоря о некоторых изощренных
умствованиях. Скорее я могу тебе сказать, что мы будем делать, а не то, почему
мы будем это делать. Или вернее, что мы попытаемся сделать.
— Готов на любые попытки, — сказал Мерсье, — лишь бы знать,
какие именно.
— Значит, мы тихо-мирно и без малейшей спешки вернемся в
город, — сказал Камье, — и останемся там столько времени, сколько
будет нужно.
— Столько времени, сколько будет нужно для чего? — сказал Мерсье.
— Чтобы найти вещи, которые мы потеряли, — сказал Камье, —
или чтобы отказаться от этой идеи.
— И впрямь, изощренные же нужны были умствования, — сказал
Мерсье, — чтобы привести нас к подобному решению.
— Мне сдается, — сказал Камье, — хотя я и не могу это
подтвердить, что загвоздка всего дела — в рюкзаке. Мы, по-моему, решили,
что там лежит или лежала вещь, одна или даже несколько вещей, без
которых нам очень трудно обойтись.
— Но мы уже перебрали все, что там лежало, — сказал Мерсье, —
и рассудили, что там было только лишнее.
— Этого я не отрицаю, — сказал Камье, — и мало вероятно, чтобы
наше понятие о лишнем переменилось со вчерашнего утра. Так откуда
же происходит наше смущение? Вот вопрос, который нам пришлось
перед собой поставить.
— И откуда же оно происходит? — сказал Мерсье.
— Если память мне не изменяет, — сказал Камье, — мы порешили,
что оно происходит из интуитивного представления о том, что в рюкзаке
содержалась одна или даже не одна вещь, необходимая для нашего спасения.
— Но мы знаем, что это не так, — сказал Мерсье.
— Знаком ли тебе, — сказал Камье, — тот тоненький умоляющий
голосок, который подчас взывает к нам из нашего предсуществования?
— Я его все больше и больше путаю, — сказал Мерсье, —- с
голосом, желающим меня уверить, что я еще не умер.44 Но я понимаю,
что ты имеешь в виду.
— Какой-то аналогичный орган, — сказал Камье, — последние
двадцать четыре часа нашептывает мне: Рюкзак! Ваш рюкзак! Наше
вчерашнее вечернее совещание, во время которого мы сравнили свои
впечатления, не оставило ни малейших сомнений на этот счет, если
память меня не подводит.
— Ничего такого не помню, — сказал Мерсье.
— А ведь мы установили, — сказал Камье, — необходимость если
не найти, то хотя бы поискать наш рюкзак, а из этого неудержимо
Мерсье и Камье
43
вытекает остальная часть нашей программы. Потому что поиски рюкзака
фатально влекут за собой поиски велосипеда и зонтика.
— Совершенно не понимаю, почему, — сказал Мерсье. — Почему
не заняться просто рюкзаком, не занимаясь ни велосипедом, ни
зонтиком, поскольку речь идет именно о рюкзаке, а не о велосипеде, не
о зонтике, не о...
— Понял, понял, — сказал Камье.
— Ну? — сказал Мерсье. — Почему бы нам...
— Не заводи все сначала! — взвыл Камье.
— Ну? — сказал Мерсье.
— Я и сам до конца не понимаю почему, — сказал Камье. — Знаю
только, что вчера вечером мы очень хорошо понимали почему. Надеюсь,
ты не хочешь опять все поставить под сомнение?
— Когда причины ускользают от моего понимания, — сказал
Мерсье, — мне как-то не по себе.45
На сей раз только Камье промочил себе штаны. Будем же
внимательно следить за Мерсье и Камье, никогда не отставая от них больше
чем на лестничный пролет или на толщину стенки. Пускай никакая
забота о композиции или о гармонии никогда ни на мгновение не
заставит нас от них отвернуться.
— Мерсье не смеется вместе с Камье? — сказал Камье, как только
оказался в состоянии заговорить.
— В другой раз, — сказал Мерсье.
— По мне, нам следовало бы рассуждать таким образом, — сказал
Камье, — или как-нибудь вроде того. Вещи (рассмотрим наихудшее
положение вещей), каковы бы они ни были, коль скоро мы полагаем,
что они нам нужны для того, чтобы мы могли продолжать наше
путешествие...
— Наше путешествие, — сказал Мерсье. — Какое путешествие?
— Наше путешествие, — сказал Камье, — с максимальными
шансами на успех, так вот, они у нас были, а теперь их больше нет. Мы
предполагаем, что они в рюкзаке, потому что рюкзак — вещь, в которой
держат другие вещи. Но по зрелом размышлении ничто не мешает нам
считать, что они в зонтике или привязаны к одной из частей
велосипеда — возможно, веревочкой. Мы знаем лишь, что они были, а теперь
их нет. И даже в этом мы совершенно не уверены.
— Если иметь в виду посылки силлогизмов, это посылки, — сказал
Мерсье.
— Что ты от меня хочешь, — сказал Камье.
— А твой тоненький голосок, шепчущий: рюкзак! рюкзак! — как
ты с ним обходишься? — сказал Мерсье.
— Он же заразился невесть чем гораздо раньше, чем дошел до
нас, — сказал Камье. — Не глупи, Мерсье. Подумай хоть о миазмах,
через которые ему пришлось пробираться.
44
Сэмюэль Беккет
— Мне сегодня ночью снился странный сон, — сказал Мерсье. —
Сейчас он мне вспомнился.
— Итак, — сказал Камье, — речь идет о неизвестных предметах,
которые не только совершенно необязательно лежат в рюкзаке, но,
возможно, и не влезут ни в один рюкзак на свете, — да хоть велосипед,
например, или зонтик, или оба они. Каким образом мы распознаем
истину? По внезапно нахлынувшему блаженству? Не думаю.
— Я был в лесу вместе с бабушкой,46 — сказал Мерсье. — Я не...
— Это бы меня удивило, — сказал Камье. — Нет, как мне
представляется, это постепенное, долгое чувство облегчения, достигающее
наивысшего накала недели за две, за три, если все пойдет хорошо,
причем мы не знаем точно, чему его приписать. Это радость неведения47
(к слову сказать, нередкое сочетание), радость обретения утраченного
главного блага при неведении его природы. Не подлежит сомнению то,
что наше нынешнее и будущее состояние налагает на нас обязанность
всеми средствами пытаться вступить во владение нашим изначальным
снаряжением, прежде чем взмывать ввысь. Быть может, мы потерпим
неудачу. Но мы исполним свой долг. Вот, на мой взгляд, более или
менее те аргументы, которые нам следовало пустить в ход. Они воистину
неотразимы.
— Она несла в руках свои груди, — сказал Мерсье, — держала их
за соски, зажав большими и указательными пальцами. Но я не...
Камье вспылил, то есть притворился, будто вспылил, потому что
на Мерсье он был неспособен вспылить по-настоящему. Мерсье так и
остался с приоткрытым ртом. В растрепанной седой бороде блестели
капли, взявшиеся непонятно откуда. Немного выше бороды пальцы
перебегали на огромный костлявый нос, туго обтянутый красной кожей,
украдкой залезали в большие черные дыры, растопыривались, следуя
впадинам щек, и опять принимались за свое. Бледно-серые глаза
пристально смотрели вперед с подобием ужаса. Широкий и низкий лоб,
прочерченный глубокими морщинами в форме крыльев, морщинами,
что были обязаны своим происхождением не столько раздумьям,
сколько тому хроническому удивлению, которое сначала поднимает
брови, а потом раскрывает глаза, — этот лоб представлял собой все-таки
наименее гротескную часть его лица. Он был увенчан
неправдоподобно спутанной гривой сальных волос, в которых были представлены
все оттенки цвета, от белобрысого до седого. Об ушах говорить не
будем.
Мерсье вяло защищался.
— Ты просишь у меня убъяснений, — сказал Камье. — Я тебе их
предоставляю. Ты не слушаешь.
— А мне вспомнился сон, — сказал Мерсье.
— Да, — сказал Камье, — вместо того чтобы слушать, ты так и
норовишь рассказать мне свой сон. А ведь для тебя не секрет то, о чем
Мерсье и Камье
45
мы договорились: никаких рассказов о снах,48 ни под каким предлогом.
Аналогичное соглашение запрещает нам приводить цитаты.
— Lo bello stilo che m'ha fatto onore, — сказал Мерсье, — это
цитата?
— Lo bello что? — сказал Камье.
— Lo bello stilo che m'ha fatto onore,4^ — сказал Мерсье.
— Откуда мне знать? — сказал Камье. — Очень похоже. А что?
— Со вчерашнего дня слова жужжат у меня в голове, — сказал
Мерсье, — и губы обжигают.
— Мне на тебя смотреть противно, Мерсье, — сказал Камье. —
Мы принимаем определенные меры предосторожности, чтобы нам стало
как можно лучше, чтобы не стало как нельзя хуже, и это совершенно
все равно что мчаться вперед вслепую, глядя себе под ноги. — Он
встал. — Ты в состоянии шевелиться? — сказал он.
— Нет, — сказал Мерсье.
— Все ясно, — сказал Камье. —- Пойду поищу тебе чего-нибудь
поесть.
— Топай, — сказал Мерсье.
Короткие кривые ножки быстро донесли его до деревни. Плечи
плясали, руки ходили взад-вперед мимо груди, прямо комедия. Мерсье,
оставшийся под сенью косогора, вновь не знал, по какой стороне из
имевшихся двух ему спускаться. Потому что они сходились вместе. В
конце концов он себе сказал: я — Мерсье, одинокий, больной, в холоде,
в сырости, старый, полубезумный, вляпавшийся в безвыходную историю.
Мгновение он ностальгически смотрел на это мерзкое небо, на
кошмарную землю. В твои-то годы, сказал он. И так далее. Тоже комедия.
Так какая разница.
— Я уже отчаялся и хотел уходить, — сказал господин Конейр.
— Жорж, — сказал Камье, — мне пять сэндвичей, четыре завернуть,
а один отдельно. Видите, — сказал он, любезно повернувшись к
господину Конейру, — я обо всем подумал. Тот, который я съем здесь,
придаст мне сил, чтобы донести остальные четыре.
— Начетничество, — сказал господин Конейр. — Вы уносите свои
пять сэндвичей завернутыми, внезапно ощущаете упадок сил,
разворачиваете пакет, вынимаете один сэндвич, съедаете его, восстанавливаете
свои силы и идете дальше с четырьмя остальными.
—- На это я вам отвечу просто, — сказал Камье, — я предложу вам
вмешиваться в то, что вас касается, а я собираюсь выпить пинту
крепкого портера, что натощак не делается. Я не говорю, что я это
сделаю, я говорю, что я это, может быть, сделаю. Следовательно, я
вынужден съесть один сэндвич немедленно. — Он откусил кусок. —
Хотите? — сказал он.
— Вы о нем заботитесь, — сказал господин Конейр. — Вчера
пирожные, сегодня сэндвичи, завтра черствый хлеб, а в четверг камни.
46
Сэмюэль Беккет
— Горчицы, — сказал Камье.
— Прежде чем покинуть меня вчера, — сказал господин Конейр, —
ради вашего жизненно важного дела, вы назначили мне встречу в этом
самом месте в полдень. Я приезжаю, спросите у Жоржа в каком
состоянии, с моей обычной пунктуальностью. Жду. Скажете, я привык.
Возможно. Меня начали одолевать сомнения. Не перепутал ли я место?
День? Я во всем признаюсь бармену. Узнаю, что вы где-то наверху, с
вашим бароном, причем уже довольно давно, и оба погружены в гнусное
бесчувствие. Я прошу, чтобы вас разбудили, давая понять, насколько
срочно мое дело. Но нет. Вас нельзя беспокоить ни под каким
предлогом. Вы завлекаете меня в этот дом, якобы для того, чтобы нам
потолковать спокойно, а едва появившись, вы принимаете меры, чтобы
помешать мне с вами увидеться. Мне дают добрые советы. Подождите,
они скоро спустятся. Проявляю слабость, жду. Вы спускаетесь? Какое
там! Я возобновляю свои попытки. Разбудите его, скажите, что господин
Конейр ждет внизу. Ни хрена. Желания постояльца священны, — вот
какие возражения мне выставляют. Я угрожаю, мне смеются в лицо. Я
действую по-другому. Силой. Мне преграждают путь. Хитростью, улучив
момент рассеянности, чтобы проскользнуть на лестницу. Меня
настигают. Я умоляю, а им хоть бй что. Подбивают меня выпить, остаться
пообедать, переночевать. Я увижу вас завтра. Мне дадут знать, как
только вы спуститесь вниз. Зал наполняется народом. Чернорабочие,
несколько проезжих. Я попадаю в водоворот. Просыпаюсь на кушетке.
Семь часов. Вы ушли. Почему меня не предупредили? Никто не знал. В
каком часу они ушли? Никто не знает. Вернутся ли они? Никто не знает.
Камье поднял воображаемую пивную кружку, это было видно по
его скрюченным пальцам. Настоящую же кружку он медленно
опорожнил не отрываясь. Заплатил, взял сверток и пошел к дверям. В дверях
остановился.
— Господин Конейр, — сказал он, — примите мои извинения.
Вчера в какой-то момент я много о вас думал. Потом я перестал о вас
думать, ну совершенно, ни секунды. Как будто вас никогда не было,
господин Конейр. Нет, я ошибся, как будто вы были, но исчезли. Нет,
не так, как будто вы существовали без моего ведома. Не усмотрите в
моих словах, господин Конейр, ничего дурного. Я не хочу вас оскорбить,
господин Конейр. Просто я понял, или, вернее, решил, что с моей
работой покончено, я хочу сказать, с той моей работой, о которой все
знают, и что я был не прав, полагая, будто вы можете присоединиться
к нам, пускай даже на день-другой. Еще раз позвольте перед вами
извиниться, господин Конейр, и прощайте.
— А моя сука! — возопил господин Конейр.
— Вы ее знаете, — сказал Камье. — Вам ее не хватает. Вы бы
заплатили деньги, и немалые, за то, чтобы она нашлась. Цените свое
счастье. — И он вышел.
Мерсье и Камье
47
Господин Конейр чуть не бросился за ним. Но он уже некоторое
время сдерживался и в сущности обрадовался, что разговор пришел к
концу. Вернувшись со двора, он бросил взгляд на улицу. Потом вернулся
в зал, и там на него навалилась такая тоска, что он опять принялся за
джин.
— Моя сука, — стонал он.
— Ладно, ладно, — сказал Жорж, — вам найдут другую.
— Маркиза! — стонал господин Конейр. — Она улыбалась!
Итак, и от этого отделались, если ничего не случится.
Господина Гэста было не видать, и не случайно, потому что он
искал в роще подснежники для Патрика. Нет худа без добра.
Терезы тоже было не видать, и никто не пожалел о том, что ее не
видать.
С остальными надо было потерпеть.
Мерсье совершенно не хотел есть. Но Камье его заставил.
— Ты весь зеленый, — сказал Камье.
— Кажется, меня сейчас стошнит, — сказал Мерсье.
Он не ошибся. Камье его поддержал.
— Тебе полегчает, — сказал Камье.
И правда, мало-помалу Мерсье почувствовал себя лучше, — то есть
лучше, чем до того, как его стошнило.
—- Когда ты ушел, — сказал он, — меня одолевали такие печальные
мысли. Я не знал, вернешься ты или нет.
— Я же оставил тебе плащ, — сказал Камье.
— Я понимаю, что это было бы только справедливо, — сказал
Мерсье. Он немного подумал. — Чтобы не бросить Мерсье, надо быть
Камье.
— Идти можешь? — сказал Камье.
— Я пойду, не бойся, — сказал Мерсье. Он встал и сделал
несколько шагов. — Смотри, как я хорошо хожу, — сказал он.
— Может, бросим плащ? — сказал Камье. — Зачем он нужен?
— Он замедляет воздействие дождя, — сказал Мерсье.
— Это саван, — сказал Камье.
— Не будем ничего преувеличивать, — сказал Мерсье.
— Хочешь, я скажу тебе все, что думаю по этому поводу? — сказал
Камье. — Тому, кто его носит, физически и морально так же неловко,
как тому, кто его не носит.
— В том, что ты говоришь, есть правда, — сказал Мерсье.
Они посмотрели на плащ. Он распростерся там, где начиналась
насыпь. Вид у него был ободранный. К плечам прилипли чарующе
блеклые клочья клетчатой подкладки. Участками более светлого желтого
цвета были отмечены те места, которые еще не пропитала сырость.
— Может, я скажу ему пару слов? — сказал Мерсье.
— Успеется, — сказал Камье.
48
Сэмюэль Беккет
Мерсье подумал.
— Прощай, старенький габардин, — сказал он.
И опять замолчал. Камье сказал:
— Это и была пара слов?
— Да, — сказал Мерсье.
— Пошли отсюда, — сказал Камье.
— А его мы что, не выбросим? — сказал Мерсье.
— Оставим его здесь, — сказал Камье. — Зачем себя утруждать.
— А я хотел его выкинуть, — сказал Мерсье.
— Мы оставим его здесь, — сказал Камье. — Постепенно
изгладятся следы наших тел. Под лучами солнца он свернется, как опавший
лист.
— А если его похоронить? — сказал Мерсье.
— К чему разводить сантименты, — сказал Камье.
— Просто чтобы его не взял посторонний, — сказал Мерсье, —
вшивый какой-нибудь.
— Разве нас от этого убудет? — сказал Камье.
— Нет, конечно, — сказал Мерсье, — и все-таки.
— Я ухожу, — сказал Камье.
Он зашагал прочь. Вскоре к нему присоединился Мерсье.
— Можешь на меня опереться, — сказал Камье.
— Потом, потом, — с раздражением сказал Мерсье.
— В чем дело, почему ты все время оглядываешься? — сказал
Камье.
— Он шевельнулся, — сказал Мерсье.
— Кто? — сказал Камье. — А, понял. Он машет нам платком.
— Мы хотя бы ничего не оставили в карманах? — сказал Мерсье.
— Всякие-разные использованные билеты, — сказал Камье, —
горелые спички, обрывки газет с истершимися следами неотменимых
свиданий на полях, заветный огрызок сточенного на девять десятых
карандаша, несколько клочков замусоленной бумаги для подтирки,
несколько сомнительной надежности презервативов, ну и пыль. Вся жизнь,
чего уж там.
— Ничего нужного? — сказал Мерсье.
— Я же тебе говорю, вся жизнь, — сказал Камье.
Некоторое время они шагали молча, как это с ними иногда
случалось.
— Если понадобится, кинем на это дней десять, — сказал Камье.
— Не воспользуемся транспортом? — сказал Мерсье.
— То, что мы ищем, не обязательно находится на другом конце
острова, — сказал Камье. — Поэтому пускай нашим девизом станет...
— То, что мы ищем, — сказал Мерсье.
— Мы путешествуем не просто ради того, чтобы путешествовать,
насколько я понимаю, — сказал Камье. — Мы идиоты, но не настоль-
Мерсье и Камье
49
ко. — Он с любопытством уставился на Мерсье. — Ты вроде как
запыхался, — сказал он. — Если хочешь что-то сказать, валяй.
— Я и правда хотел что-то сказать, — сказал Мерсье. — Но по
размышлении приберегу это для себя.
— Не желудок, надеюсь? — сказал Камье.
— Продолжай, — сказал Мерсье.
— На чем я остановился? — сказал Камье.
— Пускай нашим девизом станет, — сказал Мерсье.
— Ах, да, — сказал Камье. — Пускай нашим девизом станет
неспешность и осмотрительность, с резкими поворотами направо и налево
и внезапными возвращениями назад в согласии со смутными уколами
интуиции. Кроме того, ничего страшного, если нам придется делать
остановки на целые дни и даже недели. У нас вся жизнь впереди, во
всяком случае, весь остаток.
— Какая сейчас погода? — сказал Мерсье.
— За кого ты меня принимаешь? — сказал Камье. — За гадалку?
— Я в полном равновесии, — сказал Мерсье.
— Погода такая же, как всегда, — сказал Камье, — с той только
разницей, что мы начинаем к ней привыкать.
— Мне показалось, что на мое лицо упали капли дождя, — сказал
Мерсье.
— Мужайся, — сказал Камье, — скоро привал окаянных душ. Я
вижу колокольню.
— Хорошо, — сказал Мерсье, — мы сможем передохнуть.
VI
Краткое изложение
двух предыдущих глав
IV
Поезд.
Вставка о Мэддене, 1.
Омнибус.
Вставка о Мэддене, конец.
Деревня.
Гостиница.
Господин Гэст.
Скот на дорогах.
Фермеры.
Сон Мерсье.
Путешествие под угрозой срыва.
50
Сэмюэлъ Беккет
Хладнокровие Камье.
Болезнь Патрика.
Мерсье и Камье идут наверх.
Господин Грейвз.
Разъезд фермеров.
Смерть Патрика.
Его предпоследние слова.
Вставка о Конейре, 1.
Господин Гэст говорит о постояльце.
Видение господина Гэста.
Вставка о Конейре, 2.
Мерсье и Камье спят.
V
На другой день.
Поле.
Коза.
Рассвет.
Смех Мерсье и Камье.
Совещание (и смех одного Камье, и лицо Мерсье).
Сон Мерсье.
Уход Камье.
Мерсье один.
Гостиница.
Вставка о Конейре, окончание.
Подснежники.
Мерсье ест.
Рвота Мерсье.
Плащ.
Они уходят.
Колокольня окаянных душ.
VII
И наконец, в один прекрасный день возник город, сперва
предместья, потом центр. Они потеряли представление о времени,50 но вид
улиц, людей и звуки, которыми полнился воздух, — все твердило им о
еженедельном отдыхе. Вечерело. Они немного покружили по центру, не
зная, куда податься. В конце концов по предложению Мерсье (была
его очередь руководить) они отправились к Элен. Она была в постели,
ей немного нездоровилось. Все же она встала и впустила их, хотя сперва
Мерсье и Камье
51
покричала через дверь: «Кто там?». Они посвятили ее в свои
разочарования и надежды. Рассказали ей историю бычка, который их прогнал.
Она ушла и вернулась с зонтиком. Камье стал испытывать его в деле.
«Но он прекрасно открывается и закрывается, — сказал он, — просто-
таки превосходно». — «Я его починила», — сказала Элен. — «Прямо
лучше, чем раньше», — сказал Камье. — «Может быть», — сказала
Элен. — «Открывается мягко, — сказал Камье, — а когда я нажимаю
на кнопку, тык, — и он сам складывается. Открываю, закрываю, раз,
и два, раз, и два, тык! пык! тык!» — «Хватит, — сказал Мерсье, — ты его
опять сломаешь». — «Мне немного нездоровится», — сказала Элен. —
«Это счастливое предзнаменование», — сказал Камье. Однако рюкзака
там не было. — «Не вижу попугая», — сказал Мерсье. — «Я отпустила
его на волю», — сказала Элен. Ночь прошла спокойно, без малейшего
разврата. На другой день они никуда не пошли. Время тянулось
медленно, они немного потрогали друг друга, но так, чтобы не устать.
Перед жарким камином, в смешанном свете лампы и свинцового дня,
они потихоньку извивались на ковре, переплетясь обнаженными телами,
томно касаясь друг друга движениями, какими девушки расставляют в
вазах цветы, а дождь тем временем барабанил по стеклам. Какое это,
небось, было удовольствие! К вечеру Элен заказала несколько бутылок
доброго вина, и они надрались до полного блаженства. Менее стойкие
мужчины могли бы уступить соблазну и остаться. Но вечер следующего
дня вновь застал их на улице, рвущимися к намеченной цели. До ночи
им оставалось всего несколько часов сумрачного дня, предночье. Надо
было торопиться. Однако темнота, неполная лишь по вине уличных
фонарей, в конечном счете не могла помешать им в поисках. Напротив,
она могла бы послужить им лишь бесценным подспорьем. Ибо в квартал,
в который они собирались и подступы к * которому были им плохо
известны, легче было попасть ночью, чем днем, поскольку в тот
единственный раз, когда они там побывали, был не день, а ночь, или почти
ночь. Итак, они вошли в какой-то бар, поскольку дожидаться ночи в
баре было для Мерсье и Камье наименее неприятно. Кстати, у них была
на то еще одна, менее серьезная причина, а именно интерес, в том
числе и чисто интеллектуальный, к возможно более полному погружению
в атмосферу, подобную той, что повергла их в такую неуверенность в
их первый приход. Этим они и занялись, больше уже не мешкая.
«Слишком многое поставлено на карту, — сказал Камье, — так что мы
не можем пренебрегать предосторожностями». Так одним выстрелом они
убили двух зайцев, и даже трех. Потому что передышкой они
воспользовались для того, чтобы с огромной для себя пользой посудачить о том,
о сем. Потому что на всей планете свободнее всего такие, как Мерсье
и Камье, беседуют именно в барах. Мало-помалу в сознании у них
сильно прояснилось. Вернее, туда потоком хлынули такие соображения:
1. Безденежье — зло. Но оно может обернуться благом.
52
Сэмюэль Беккет
2. Что потеряно, то потеряно.
3. Велосипед — большое благо. Но если его неправильно
использовать, он становится опасен.
4. Сидение на мели наводит на мысли.
5. Бывают две потребности: в том, что у вас есть, и в том, чего у
вас нет.
6. Интуиция толкает на безрассудства.
7. То, что извергается из души, никогда не бывает потеряно.
8. Когда чувствуешь, что в карманах у тебя с каждым днем тают
последние средства, рушится самая стойкая решимость.
9. Мужские штаны погрязли в рутине, особенно гульфик, который
следовало бы перенести в промежность и придать ему форму подвесного
кармашка, благодаря чему, независимо от низменных
мочеиспускательных проблем, мошонка могла бы спокойно дышать свежим воздухом,
оставаясь вне досягаемости для любопытных. Естественно, кальсоны
следовало бы исправить в том же направлении.
10. Вопреки распространенному мнению, есть места в природе, где
Бога как бы нет.
11. Что бы мы делали без женщин? Изменили бы привычки.
12. В душе четыре буквы, но полтора или даже чуть не целых два
слога.
13. Что можно сказать о жизни такого, что бы не было уже сказано?
Очень многое. Например, что ее вечно заносит черт-те куда.
Они ни на секунду не выпускали из виду намеченной цели. По
мере того, как шло время, им все больше казалось, что стремиться к
этой цели надо спокойно и не теряя головы. И будучи еще достаточно
спокойными для того, чтобы знать, что спокойствие они уже утратили,
они приняли удачное решение отложить все действия на завтра, а если
понадобится, то и на послезавтра. Итак, они в превосходном
расположении духа вернулись в квартиру к Элен и без малейших церемоний
уснули. И на другой день они даже отказались от милого
времяпрепровождения, столь уместного дождливым утром, так хотелось им
свежими и бодрыми выйти навстречу грядущим испытаниям.
Часы били полдень, когда они вышли из дома. Под аркой они
остановились.
— Какая славная радуга, — сказал Камье.
— Зонтик, — сказал Мерсье.
Они переглянулись. Камье вернулся на лестницу. Когда он вышел
с зонтиком, Мерсье сказал:
— Как ты долго.
— Ну, знаешь, — сказал Камье, — раз на раз не приходится.
Раскрыть?
Мерсье долго смотрел на небо.
— А как ты сам думаешь? — сказал он.
Мерсье и Камье
53
Камье вышел на улицу и подверг небо тщательному осмотру,
поочередно поворачиваясь на север, восток, юг и запад.
— Ну? — сказал Мерсье.
— Погоди-погоди, — сказал Камье. Он вышел на середину
мостовой, желая свести к минимуму возможность ошибки. Наконец он
вернулся под арку.
— На нашем месте, — сказал он, — я бы не раскрывал.
— А собственно, почему? — сказал Мерсье. — Как мне
представляется, дождь зарядил надолго. Ты даже весь вымок.
— По-твоему, надо раскрыть? — сказал Камье.
— Я этого не говорю, — сказал Мерсье. — Я только не понимаю,
когда же мы его раскроем, если теперь мы его раскрывать не будем.
Пожалуй, его следовало рассматривать скорее не как зонтик от
дождя, а как зонтик от солнца. В состоянии покоя расстояние между
наконечником самого зонта и концами спиц составляло немногим
больше четверти от общей длины. Рукоятка заканчивалась янтарным
шаром с шишечками/Ткань была, вернее когда-то была, красного цвета,
.хотя местами этот цвет сохранился и поныне. По периметру еще уцелели
нерегулярно повторявшиеся участочки бахромы.
— Посмотри на него хорошенько, — сказал Камье. — Нет, ты
посмотри. Да возьми его, он тебя не укусит.
— Назад! — крикнул Мерсье,
— Откуда он вообще взялся? — сказал Камье.
— Я купил его у Хана, — сказал Мерсье, — зная, что у нас один
плащ на двоих. Он заломил шиллинг, и я получил свое за девять пенсов.
Он чуть не накинулся на меня с поцелуями.
— Должно быть, начинал этот зонтик в преддверии девятисотых, —-
сказал Камье. — По-моему, это был год Ледисмит, на Клипе.51
Помнишь? Великолепное время. Что ни день — праздник в саду. Будущее
представлялось лучезарным. Можно было надеяться буквально на все.
Люди играли в осажденных. Мерли как мухи. От голода. От жажды.
Бах! Бах! Последние патроны. Сдавайтесь! Никогда! Люди ели трупы.
Пили собственную мочу. Бах! Бах! Еще двоих потеряли. Крик с вышки.
На горизонте пыль! Движется колонна! Языки почернели. Все равно
ура! Ра! Ра! Не воронье ли кружит? Артиллерийский сержант умирает
от радости. Мы спасены. Веку было два месяца.
— А посмотри на него теперь, — сказал Мерсье.
— Как ты себя чувствуешь? — сказал Камье. — Все время забываю
спросить.
— Когда спускался по лестнице, чувствовал себя хорошо, — сказал
Мерсье. — Теперь похуже. Пучит, если хочешь знать, но не так чтобы
лопнуть. А ты?
— Пробка, — сказал Камье, — посреди бушующего океана.
— Самое время нанести удар, — сказал Мерсье.
54
Сэмюэль Беккет
— Что до этого портативного убежища, — сказал Камье, —
полагаю, что лучше приберечь его для самых жарких дней. Солнце мечет
свои жгучие лучи с беспощадно синего неба. А у нас — ни одной
шляпы.
— С тем же успехом можно его немедленно выбросить, — сказал
Мерсье.
— Я с удовольствием, — сказал Камье.
— Мы будем лежать врастяжку в тени тисов, — сказал Мерсье, —
с утра до вечера.
— Каких тисов? — сказал Камье.
— Не важно каких, — сказал Мерсье.
— А если не будет тисов? — сказал Камье.
— Уж найдем как-нибудь, — сказал Мерсье.
— В этой злосчастной стране, — сказал Камье, — есть целые
департаменты, где не то что тисы, ни одно деревце не растет,52 вообще
ни одно, и самые дерзновенные кусты в высоту не больше метра.
— В знойное время года мы будем избегать этих мест, — сказал
Мерсье.
— У тебя на все найдется ответ, — сказал Камье.
— Это разве ответы, — сказал Мерсье.
— Так что, выбрасываем? — сказал Камье.
— Мы в сомнениях, — сказал Мерсье.
— Мы в сомнениях, выбрасывать или нет, — сказал Камье. —
Какие у нас доводы?
— Я вижу два, — сказал Мерсье. — Но насколько они
основательны? Вот что надо решить.
— Я нам скажу, — сказал Камье, — когда я их узнаю.
— От солнца или не от солнца, — сказал Мерсье, — на какое-то
время он может защитить нас от дождя. Я хочу сказать, с ним мы
какое-то время, возможно, будем не такие мокрые, как без него.
— А другой? — сказал Камье.
— Другой что? — сказал Мерсье.
— Другой довод, — сказал Камье.
— В том-то и дело, — сказал Мерсье. — Его ухватить, наверно,
немного сложнее.
— Ухватим, — сказал Камье.
— Смеем ли мы хладнокровно выбросить вещь, — сказал
Мерсье, — которая потом может оказаться именно той вещью, которая нам
нужна, той, потеря которой остановила наш стремительный натиск и
заставила вернуться назад, поджав хвосты?
— Мы никогда его не выбросим, — сказал Камье.
— Не говори так, — сказал Мерсье. — Но, быть может, настанет
время его выбросить, когда он, износившись, уже не сможет больше
служить нам укрытием или когда у нас появится уверенность, что между
Мерсье и Камье
55
ним и нашим нынешним отчаянным положением нет ни малейшей
связи.
— Очень хорошо, — сказал Камье. — Но недостаточно знать, что
мы его не выбросим, надо знать также, следует ли его раскрывать.
— Но ведь отчасти мы не выбрасываем его именно для того, чтобы
раскрывать, — сказал Мерсье.
— Знаю-знаю, — сказал Камье. — Но надо ли его раскрывать прямо
сейчас или подождать, пока погода определится?
Мерсье впился взглядом в непроницаемые небеса.
— Глянь, — сказал он. — Скажи, что ты об этом думаешь.
Камье вышел на улицу. Он даже дошел до угла, так что Мерсье
потерял его из виду. Вернувшись, он сказал:
— Среди облачности, пожалуй, есть просветы. Хочешь, я влезу на
крышу?
Мерсье сосредоточился. Наконец он сказал, поддавшись порыву:
— Раскроем его, а там как Бог даст.
Но Камье не мог раскрыть зонтик.
— Дай, — сказал Мерсье.
Но Мерсье справился не лучше. Он потряс зонтом. Но вовремя
взял себя в руки. Как в пословице.
— Чем мы провинились перед Господом? — сказал он.
— Мы его отрицали, — сказал Камье.
— Ты меня не убедишь в том, что он до такой степени
злопамятный, — сказал Мерсье.
—■ Покажу его Элен, — сказал Камье. — Она нам его наладит в
два счета. — Он взял зонтик и исчез в парадной. Когда он вернулся,
Мерсье сказал:
— Это ты называешь в два счета?
— Второй раз всегда выходит дольше, — сказал Камье.
— Зонтик? — сказал Мерсье.
— Ей там работы на полчаса, — сказал Камье, — а мы не можем
терять время.
— Значит, нам придется за ним вернуться, — сказал Мерсье.
— Мы бы и так... — сказал Камье.
— Ничего не и так, — сказал Мерсье. — Я хочу, чтобы мы отсюда
убрались до ночи.
— Куда? — сказал Камье.
— Подальше, — сказал Мерсье.
— Ну и? — сказал Камье.
— Одно из двух, — сказал Мерсье.
— Увы! — сказал Камье.
— Или мы дождемся, пока он будет готов, — сказал Мерсье, — или...
— Но я ей сказал, что это не срочно, — сказал Камье, — что у
нее есть время до завтра.
56
Сэмюэль Беккет
— Или один из ^ нас останется здесь, — сказал Мерсье, — пока
зонтик не будет готов, а другой займется рюкзаком и велосипедом. Это
позволит нам выиграть время. А встретимся в условленном месте, надо
только договориться когда.
Самое забавное, что они продолжали называть это зонтиком.
— Но она не может сразу, — сказал Камье.
— Вот мы как сделаем, — сказал Мерсье, — чтобы все выглядело
безукоризненно. Ты объяснишь Элен, как обстоят дела. Попросишь ее
починить зонтик сразу. Она или согласится или нет, не так ли?
— Не согласится, — сказал Камье.
— Если она не согласится, — сказал Мерсье, — ты возьмешь зонтик
как есть и спустишься вниз. Я буду здесь и мы уйдем вместе. Если
она, наоборот, согласится, подождешь, пока работа будет сделана, и
встретишься со мной там и тогда, где и когда я скажу или где и когда
ты скажешь, это совершенно все равно.
— А может, ты останешься, — сказал Камье, — а я пойду? Я
привык к розыскам.
— То, что ты говоришь, разумно, — сказал Мерсье. — Но сделай
мне одолжение. Так приятно время от времени выходить из привычной
роли.
— Так где и когда? — сказал Камье.
Как все это прискорбно.
Как только Мерсье остался один, он ушел. В какой-то момент его
путь пересек старик с наружностью эксцентричной и жалкой, несший
под мышкой нечто вроде согнутой пополам планшетки. Мерсье
показалось, что он уже видел его где-то, и, продолжая путь, он ломал себе
голову, где же он мог его видеть. И старику, от которого
удивительнейшим образом не укрылось, что мимо шел Мерсье, тоже почудилось,
что он уже видел это гротескное существо, и некоторое время ушло у
него на то, чтобы припомнить, при каких обстоятельствах. Так они
понапрасну думали друг о друге, пока расстояние между ними неспешно
увеличивалось. Но таких, как Мерсье, остановит всякая мелочь,
шепоток, что взлетает, ширится, растворяется в воздухе, голос, твердящий о
том, какая это странная штука — осень дня, в любое время года. Все
начинается заново, но сердце тут как будто ни при чем, да и при чем
оно может быть? Это особенно чувствуется в городе, но в деревне это
чувствуется тоже, там, где коровы и птицы. Сквозь огромные пустые
пространства медленно бредут крестьяне, и непонятно, как они сумеют
вернуться домой к ночи, на ферму, которой не видно, в деревню,
которой не видно. Уже не хватает времени, да и Бог его знает, осталось
ли оно вообще. Даже в цветах чувствуется некоторая замкнутость, и
крылья охватывает какое-то смятение. Ястреб по-прежнему срывается
вниз слишком рано, воронье среди бела дня взлетает над нивой и
спешит в место сбора, где будет теперь каркать и браниться до ночи.
Мерсье и Камье
57
В этот миг крикунов обуревают робкие поползновения улететь прочь,
но слишком поздно. Это факт, день кончается намного раньше своего
конца, и люди падают с ног от усталости гораздо раньше, чем наступает
час отдохновения. Но ни слова, последние часы дня полны лихорадки,
люди мечутся направо и налево, и ничего не делается. Опасный час —
надо дать ему пройти, потому что пока никакой опасности нет, а потом
мы останемся безоружными. Люди ходят по улице, окруженные
катастрофами, которые вершатся прямо сейчас. Слишком короткое, чтобы
начать, слишком долгое все-таки, чтобы не начинать вообще, вот их
время, клетка, в которой часы сидят, как Ля Балю.53 Спросите у
прохожего, который час, он скажет вам что попало, на глазок, через
плечо, уходя. Но не волнуйтесь, он ненамного ошибся, он же смотрит
на часы каждые пятнадцать минут, подводит их по городским
астрономическим часам, прикидывает, рассчитывает, как бы ему сделать все,
что он должен сделать, до конца бесконечного дня. Или яростным и
усталым жестом выражает терзающее его странное ощущение, что есть
время, соединяющее красоты опоздания с очарованием
преждевременности, что оно, это время Безвременья, всегда было и всегда будет, и
нет больше ничего, даже вороны и те улетели! Впрочем, так оно и
бывает целый день, с первого тика до последнего така, или, скажем, с
третьего до предпредпоследнего, поскольку грудному тамтаму все-таки
требуется некоторое время, чтобы призвать нас ко сну, да и на то,
чтобы нас спровадить, тоже время нужно. Но других-то слышно, каждое
просяное зернышко слышно, и обнаруживаешь себя с каждым разом
немного ближе, всю жизнь все ближе и ближе. Радость — ложечками
для соли, как воду полностью обезвоженным людям, и славную
маленькую агонию в гомеопатических дозах, чего вам еще надо? Сердце вместо
сердца? Ну, ну. Но попросите прохожего, наоборот, показать вам дорогу,
и он возьмет вас за руку и с радостной готовностью поведет множеством
восхитительных дорог, поворот за поворотом. Это большое серое
строение — оно не завершено, оно никогда не будет завершено, в нем две
двери, одна для входящих, другая для выходящих, а из окон смотрят
лица. Вам только надо ничего не просить.
Рука Мерсье выпустила прут решетки, к которой его пригвоздили
эти храбро претерпеваемые отсылки к минувшим, как говорится, эпохам.
Да, он храбро их претерпевал, зная, что в конце они завершатся
медленным падением в сторону шепота, а потом тишины, той тишины,
которая тоже шепот,54 но невнятный. Закрывается дверь, или люк, в
каменном мешке все те же пересуды, а в тюрьме как таковой воцарилась
тишина. Но путь его не замедлил пересечься с путем косматого и
оборванного старика, который шагал рядом с ослом. Осел был без узды
и скучными и бодрыми шажками трусил вдоль поребрика, отрываясь
от него, только чтобы обогнуть стоящую машину или играющих в
шарики мальчишек, присевших на корточки в ручейке. Осел тащил две
58
Сэмюэль Беккет
корзины, одна — полная ракушек, а другая — песку. Человек шел по
мостовой, между подпрыгивающим серым боком и враждебными
автомобилями. Оба почти не поднимали глаз, ни человек, ни осел, разве
что изредка, оценивая опасность. Мерсье подумал: «Внешнему миру не
нарушить этой гармонии». Этот Мерсье еще не перестал нас
разочаровывать. Возможно, он преувеличивал свои силы, когда расставался с Камье
в такое темное время суток. Конечно, нужны были силы, чтобы остаться
с Камье, точно так же и для того, чтобы остаться с Мерсье, тоже нужны
были силы, но все же меньшие, чем для одинокой битвы. А между тем
вот он ушел, голоса смолкли, осел и старик чуть не повергли его наземь,
но он вновь пришел в себя, благодетельный туман, который лучше всего
сущего в мире, вновь простерся внутри своих живых творений, он может
еще идти далеко. Он продвигается вперед, почти невидимый, задевая о
решетку, в тени невесть каких деревьев, якобы зеленых, может быть, это
остролист, насквозь вымокших под дождем, если можно назвать тенью
свет чуть более свинцовый, чем над ближайшим торфяником. Ворот его
пиджака поднят, правая рука засунута в левый рукав, и наоборот, и обе
по-стариковски трясутся над животом, и иногда он мельком, словно
сквозь колышащиеся водоросли, видит ногу, шаркающую по плитам.
Тяжкие цепи, подвешенные между железными столбиками, прогибаясь,
украшают фестончиками тротуар по обе стороны мостовой. Если их
тронуть, они качаются долго, спокойно или извиваясь, подобно змеям.
Когда Мерсье был маленьким, он ходил сюда играть. Пробегая вдоль
тротуара, он палочкой приводил цепи в движение одну за другой.
Добежав до конца, он оборачивался посмотреть. Тротуар содрогался из
конца в конец от тяжелых толчков, которые долго не могли утихнуть.
VIII
Место Камье было возле дверей. Перед ним был красный маленький
столик, столешница которого была покрыта толстым стеклом. Слева от
него незнакомые люди говорили о незнакомых людях, а справа, понижая
голос, обсуждали, с какой энергией иезуиты вмешиваются в
общественную жизнь. На эту или близкую к ней тему цитировали
опубликованную в религиозном журнале статью об искусственном
оплодотворении. Кажется, вывод из этой статьи сводился к тому, что в каждом
случае, когда сперма принадлежит не мужу, имеет место грех. На эту
тему завязался спор. В него вступило множество голосов.
— Говорите о другом, — сказал Камье, — если не хотите, чтобы я
пошел к архиепископу и все ему рассказал. Вы меня волнуете.
Все было настолько мутно и прокурено, что он плохо различал
происходящее. Сквозь туман только иногда прорывались куски рукавов,
Мерсье и Камье
59
увенчанные курительными трубками, и повсюду то островерхая шляпа,
то фрагменты нижних конечностей, в частности, ступни ног,
напряженные и неестественно вывернутые, беспрестанно шевелились, словно
они-то и служили вместилищем душе. Но позади была толстая надежная
стена, совершенно простая и четкая, он чувствовал ее спиной, он задевал
эту стену затылком. «Когда придет Мерсье, — сказал он себе, — потому
что он ведь придет, знаю я его, но куда же он приткнется? Сюда, к
столу?» На некоторое время он застыл, поглощенный этой проблемой.
В конце концов он решил, что нет, этого не нужно, что он, Камье,
этого не вынесет, а почему, он и сам не знал. Что же случится тогда?
Чтобы лучше себе представить, что тогда случится, коль скоро Мерсье
вообще не следовало приходить к нему сюда в этот угол, Камье вынул
руки из карманов, сложил их перед собой в мягкую и уютную кучку и
уткнулся в них лицом, сперва немножко, а потом налег всей тяжестью
черепа. И сразу же Камье увидел — увидел, что он видит Мерсье, до
того как Мерсье его увидел, увидел, как он сам, Камье, встает и бежит
к дверям. «Вот и ты, наконец-то, — восклицает он, — я думал, что ты
меня бросил», и он увлекает его к стойке или в задний зальчик, или
они вместе уходят, хотя это мало вероятно, потому что Мерсье усталый,
ему хочется сесть, попить, а потом уж двигаться дальше, и ему надо
рассказать о разных вещах, которые нехорошо откладывать, и у Камье
тоже есть о чем рассказать, да, им надо сказать друг другу важные
вещи, и оба устали, и потом они же давно не виделись, и вообще
пускай все успокоится и прояснится, и пускай они оба хоть примерно
представят себе, как к этому относиться и каковы виды на будущее,
хороши или нет или попросту так себе, как нередко бывает, и
существует ли та сторона, а не эта, в которую было бы предпочтительно
устремиться, или, короче, каковы их дела йот сейчас, прежде чем они
смогут в порыве радостного озарения броситься к одной из
многочисленных целей, которые уравнивает снисходительная оценка, или,
просияв (что необязательно), они воздадут должное этому порыву,
восхищаясь целями издали, потому что они далеко, одна дальше другой. И
тогда перед человеком начинает брезжить то, что могло бы быть, если
бы не оказалось неизбежным то, что есть, и уж не каждый день удается
рассечь на четыре части этакий волосок. Потому что с того мига, как
вы родились на свет, — дудки! Наведя таким образом порядок в
ближайшем будущем, Камье поднял голову и увидел напротив себя
существо, узнать которое удалось ему не сразу, настолько это был Мерсье, —
и вот откуда потянулись размышления, и хитросплетения эти
улеглись бы не раньше чем послезавтра (и какое тогда облегчение!) в
сладостном выводе о том, что не того невыносимого мига он опасался,
когда друг окажется рядом, а опасался, что вот он захлопнет дверь и
закончит пересекать обширное пространство, разделявшее их с утра. По
прямой.
60
Сэмюэль Беккет
С появлением Мерсье поднялось некоторое волнение, в зале повеяло
холодком конфуза. А ведь там сидели по большей части грузчики и
матросы, да несколько таможенников, то есть люди, которых вообще
не так легко смутить явлениями, выходящими за рамки привычного.
Однако голоса словно отхлынули, жесты замерли, пивные кружки
затрепетали у краешков губ, все лица повернулись в одну сторону. Если
бы там был наблюдатель, хотя его там не было, он подумал бы,
возможно, о стаде овец, или буйволов, которое пришло в беспокойство
перед лицом неведомой опасности. Застывшие тела, вытянувшиеся и
раздраженные лица, намагниченные опасностью, на мгновение
становятся более неподвижными, чем природа, в плену которой они
пребывают. Потом начинается паническое бегство или, если чужак слаб, на
него набрасываются, или все возвращаются к своим занятиям, щиплют
травку, жуют жвачку, предаются любви, резвятся. Или это напоминает
тех ходячих больных, при появлении которых смолкают разговоры, все
забывают о своих телах, а души преисполняются боязнью, жалостью,
гневом, смехом и отвращением. Да, когда вы наносите природе
оскорбление, берегитесь, если не хотите услыхать улюлюканье или принять
помощь чьей-нибудь омерзительной руки. На миг Камье показалось,
что дело примет дурной оборот, и мускулы его ног напряглись под
столом. Но мало-помалу в воздухе словно разлился огромный вздох,
облачко пара, которое поднималось, поднималось, подобно волне, что
набегает на песок, и ярость ее в конце концов разбивается в брызги и
дребезги под детский смех.
— Что с тобой случилось? — сказал Камье.
Мерсье поднял голову, избегая, однако, глядеть Камье в глаза
или даже на стену. На что он мог смотреть столь пристально?
Непонятно.
— Ну и вид у тебя, — сказал Камье. — Будто с того света явился.
Что ты говоришь? — В самом деле, губы Мерсье шевельнулись. —
Можно носить бороду, — сказал Камье, — и не бормотать в нее.
— Я знаю только одного такого, — сказал Мерсье.
— Тебя не побили?55 — сказал Камье.
На них упала тень человека исполинского роста. Фартук доходил
ему до середины бедер. Камье посмотрел на него, он посмотрел на
Мерсье, а Мерсье принялся смотреть на Камье. Таким образом, хотя
взгляды всех троих не пересеклись, родились очень сложные образы,
поскольку каждый насладился собой одновременно в трех разных
версиях, и вместе с тем, хотя и менее отчетливо, тремя версиями «я»,
которыми насладились двое других, итого девятью совершенно новыми
образами, с трудом совместимыми один с другим, и это не считая
множества других смутных раздражителей, кишевших поодаль. Это
создавало сутолоку, скорее тягостную, но поучительную, поучительную.
Добавьте к этому множество взглядов, которые притягивали к себе эти
Мерсъе и Камье
61
трое посреди вновь установившейся тишины, и вы получите слабое
представление о том, что навлекает на себя человек, пытаясь схитрить,
то есть я хочу сказать, покидая пустую, темную и отгороженную от
мира крепость, где каждые несколько веков на секунду вспыхивает
багрянцем далекий свет, безобидное безумие чувствовать, что ты есть,
что ты был.
— Что будете заказывать? — сказал официант.
— Когда вы понадобитесь, вас позовут, — сказал Камье.
— Что будете заказывать? — сказал официант.
— То же самое, — сказал Мерсье.
— Вы еще ничего не брали, — сказал официант.
— То же самое, что для месье, — сказал Мерсье.
Официант посмотрел на стакан Камье. Стакан был пуст.
— Я не помню, что вы заказывали, — сказал он.
— И я не помню, — сказал Камье.
— А я и раньше не знал, — сказал Мерсье.
— Ну, постарайтесь, — сказал Камье.
— Вы нас запугиваете, — сказал Мерсье. — Браво.
— Мы храбримся, — сказал Камье, — а сами обделались. Сходите
поскорей за опилками, друг мой.
Вот так каждый из них продолжал говорить то, что ему говорить
не следовало, пока не установилось что-то вроде взаимопонимания,
скрепленного несколькими лакированно-деревянными улыбками и
кислыми любезностями. Опять поднялся гул голосов.
— За нас, — сказал Камье.
Мерсье поднял стакан.
— Об этом я не думал, — сказал Камье.
Мерсье поставил стакан.
— Но в конце концов, почему бы и нет? — сказал Камье.
Итак, они подняли стаканы и выпили за здоровье друг друга, и
каждый в одно и то же время, или почти, сказал: «За твое здоровье».
Камье добавил: «И за успех нашего...» Но ему не удалось закончить это
пожелание. «Помоги мне», — сказал он.
— Я не знаю ни слова, — сказал Мерсье, — ни даже фразы,
способной выразить то, что мы, как нам кажется, хотим сейчас сделать.
— Руку, — сказал Камье, — нет, обе.
— Зачем? — сказал Мерсье.
— Чтобы пожать их, — сказал Камье.
Их руки ощупью поискали друг друга под столом, среди ног, нашли
друг друга, пожали — две маленькие руки — одну большую, две
большие — одну маленькую.
— Да, — сказал Мерсье.
— В каком смысле да? — сказал Камье.
— Что-что? — сказал Мерсье.
62
Сэмюэль Беккет
— Ты сказал да, — сказал Камье. — Не объяснишь ли, к чему ты
это сказал?
— Я сказал да? — сказал Мерсье. — Не может быть. В последний
раз я произнес это слово в день своей свадьбы. С Тоффаной. Матерью
моих детей. Моих детей. Неотъемлемых. Ты ее не знаешь. Она до сих
пор жива. Воронка.56 Точно с болотом трахаешься. Как подумаешь, что
ради этого гектолитра дерьма я отказался от самой радужной мечты. —
Он смолк не без кокетства. Но Камье не хотелось играть. Так что Мерсье
пришлось сказать самому: — Ты не смеешь спросить меня, от какой
мечты? Ладно, признаюсь. Оторваться от кокосовой пальмы моей расы.
— Я бы очень любил цветного ребенка, — сказал Камье.
— С тех пор я употребляю другое выражение, — сказал Мерсье. —
Мы делаем, что можем, но мы ничего не можем. Надрываемся,
надрываемся, а вечером оказываемся там же, где были утром. И все же! Вот
ценное изречение, если я не ошибаюсь. Всё — vox inanis,* за
исключением разве что иных конъюнкций в иные дни: вот вклад Мерсье в
спор об универсалиях.57 Ты красный, как помидор, Камье, рано или
поздно ты лопнешь.
— Где наши вещи? — сказал Камье.
— Где наш зонтик? — сказал Мерсье.
— Я хотел помочь Элен, — сказал Камье, — и сделал неловкое
движение.
— Ни слова больше, — сказал Мерсье.
— Я швырнул его в бассейн,58 —- сказал Камье.
— Пошли отсюда, — сказал Мерсье.
— А куда? — сказал Камье.
— Криво вперед, — сказал Мерсье.
— А вещи? — сказал Камье.
— Не будем больше об этом, — сказал Мерсье.
— Ты меня доведешь до ручки, — сказал Камье.
— Тебе подробно? — сказал Мерсье.
Камье не ответил ничего. Не находит слов, — про себя отметил
Мерсье.
— Помнишь наш велосипед? — сказал Мерсье.
— Да, — сказал 'Камье.
— Говори громче, — сказал Мерсье, — я ничего не слышу.
— Я помню наш велосипед, — сказал Камье.
— От него осталось, — сказал Мерсье, — накрепко пристегнутое к
решетке то, что по логике вещей должно было остаться после недели
непрерывного дождя от велосипеда, с которого свинтили два колеса,
седло, звонок и багажник. И фонарик, — добавил он, — чуть не забыл.
Что у меня с головой.
* Бесплотный голос {лат.). — Примеч. сост.
Мерсье и Камье
63
— И насос, естественно, — сказал Камье.
— Поверишь ты мне или нет, — сказал Мерсье, — мне все равно,
но насос нам оставили.
— А что, хороший насос, — сказал Камье. — Где он?
— Я подумал, что дело, по-видимому, в обычной забывчивости, —
сказал Мерсье. — И я его оставил там. По-моему, я поступил правильно.
Что нам теперь надувать? Я его перевернул, кстати. Не знаю зачем.
— Он и перевернутый хорошо держится? — сказал Камье.
— Да, вполне, — сказал Мерсье.
Они вышли. Дул ветер.
— Дождь еще идет? — сказал Мерсье.
— Сейчас, кажется, перестал, — сказал Камье.
— Однако сыро, — сказал Мерсье.
— Если нам нечего сказать друг другу, — сказал Камье, — лучше
ничего не будем говорить.
— Нам есть что сказать друг другу, — сказал Мерсье.
— Тогда почему мы это не говорим? — сказал Камье.
— Потому что не знаем, — сказал Мерсье.
— Тогда помолчим, — сказал Камье.
— Но мы пытаемся, — сказал Мерсье.
— Мы вышли беспрепятственно и не понеся ущерба, — сказал
Камье.
— Вот видишь, — сказал Мерсье. — Продолжай.
— Мы с тягостным усилием...
— С тягостным усилием! — воскликнул Мерсье.
— С мучительным... с мучительным усилием пробираемся мы вперед
по темным улицам, относительно пустынным, возможно, по причине
позднего времени и неустойчивой погоды, и не знаем, кто вождь, кто
ведомый.
— В тепле, у камелька, как-то одуреваешь, — сказал Мерсье. —
Книга падает из рук, голова падает на грудь. Огонь догорает, жаровня
тускнеет, сновидение рождается и бредет за поживой. Но страж бдит,
человек просыпается и идет в постель, благодаря Бога за благоденствие,
добытое тяжким трудом, приносящее в ряду прочих такие радости, такой
покой, пока ветер и дождь хлещут по стеклам, и мысль, чистый дух,
блуждает среди тех, кто лишен крова, неловких, отверженных, слабых,
бесталанных.
— Знаем ли мы хотя бы, что каждый из нас делал последнее
время? — сказал Камье.
— Что-что? — сказал Мерсье.
Камье повторил свое замечание.
— Даже когда мы вместе, — сказал Мерсье, — как сейчас, бок о
бок, рука в руке, ноги шагают в такт, каждый миг происходит больше
событий, чем можно было бы описать в огромном томе, и у тебя, и у
64
Сэмюэль Беккет
меня. Вероятно, этому изобилию обязаны мы благотворным чувством,
что ничего нет — нечего делать, нечего говорить. Потому что в конце
человека утомляет желание утолить свою жажду из пожарного шланга
и видеть, как под автогеном одна за другой тают несколько оставшихся
у него свечей. И тогда он раз и навсегда посвящает себя жажде и
сумраку.5^ Так спокойнее. Но прости меня, в иные дни вода и огонь
заполоняют мои мысли, а стало быть и речи, постольку, поскольку одно
с другим связано.
— Я бы хотел задать тебе несколько простых вопросов, — сказал
Камье.
— Простых вопросов? — сказал Мерсье. — Камье, ты меня
удивляешь.
— По форме они будут совсем простенькими, — сказал Камье. —
Тебе надо будет только ответить на них, не раздумывая.
— Что я в жизни ненавижу, — сказал Мерсье, — так это
разговаривать на ходу.
— Положение наше отчаянное, — сказал Камье.
— Ладно тебе, самодовольный ты тип, — сказал Мерсье. — Как ты
думаешь, дождь перестал, если он перестал, из-за ветра?
— Понятия не имею, — сказал Камье.
— Это все для нас меняет, вне всякого сомнения. Но похоже, ветер
с каждым мигом усиливается, вот что меня беспокоит. Скоро мы сможем
разговаривать только криком.
— Два маленьких чепуховых вопросика, — сказал Камье. — А потом
подхватишь опять свою рапсодию.
— Послушай, — сказал Мерсье. — Я уже не знаю никаких ответов,
лучше я тебе скажу это сразу. Раньше знал, причем самые лучшие,
только они одни и составляли мне компанию. Я даже сочинял фразы
в вопросительной форме, чтобы было с кем водиться. Но я давно уже
отпустил всю эту нечисть на свободу.
— Речь не о ней, — сказал Камье.
— А о чем? — сказал Мерсье. — Это становится интересно.
— Вот увидишь, — сказал Камье. — Прежде всего, какие новости
о рюкзаке?
— Ничего не слышу, — сказал Мерсье.
— Рюкзак, — крикнул Камье. — Где рюкзак?
— Свернем сюда, — сказал Мерсье. — Тут дует меньше.
Они углубились в узкую улочку, по сторонам которой высились
старые дома.
— Слушаю тебя, — сказал Мерсье.
— Где рюкзак? — сказал Камье.
— С чего тебе взбрело в голову к этому возвращаться, — сказал
Мерсье.
— Ты мне еще ничего не сказал, — сказал Камье.
Мерсье и Камъе
65
Мерсье остановился, чем вынудил Камье остановиться тоже. Не
остановись Мерсье, Камье бы тоже не остановился. Но Мерсье
остановился, и Камье пришлось остановиться в свою очередь.
— Я тебе ничего не сказал? — сказал Мерсье.
— Ровным счетом ничего, — сказал Камье.
— О чем тут говорить, — сказал Мерсье, — если предположить,
что мне нечего тебе сказать?
— Ну, в общем, если ты его нашел, как это случилось, и так
далее, — сказал Камье.
Мерсье сказал:
— Лучше продолжим наш... — И смущенно ткнул свободной рукой
куда-то себе и другу под ноги.
— Я понял, — сказал Камье.
И они его продолжили, это не поддающееся описанию нечто,
имевшее некоторое отношение к их ногам.
— Так ты говорил... — сказал Мерсье.
— Рюкзак, — сказал Камье.
— Он при мне? — сказал Мерсье.
— Я бы не сказал, — сказал Камье.
— Ну так о чем говорить? — сказал Мерсье.
— Этого маловато, — сказал Камье.
— Кому ты рассказываешь, — сказал Мерсье.
— Столько всего могло случиться, — сказал Камье. — Ты мог его
искать, но понапрасну, найти его и опять потерять или даже выбросить,
подумав: «Не имеет смысла с ним возиться» или «На сегодня хватит с
меня, а завтра будет видно», да мало ли что.
— Я его искал, но напрасно, — сказал Мерсье, — долго, терпеливо,
тщательно и безуспешно.
Он преувеличивал.
— Разве я тебя спрашиваю, как именно ты исхитрился сломать
зонтик? — сказал Мерсье. — Или до какой степени ты обезумел, чтобы
его выбросить? Я осмотрел множество разных мест, опросил множество
народу, воздал должное невидимости вещей, переменам, какие
приносит время, склонности человеческой, а значит, и моей, к слабости
и лжи, к желанию порадовать ближнего и уязвить его, но с тем же
успехом, ровно с тем же, я мог бы сидеть где угодно сложа руки,
потому что это не имеет никакого значения, и еще поискать средства
против никуда не ведущих подходов, шаркающих шлепанцев и
звякающих ключей, которое было бы получше, чем вопли, беготня, одышка,
окрики.
— Какая определенность, — сказал Камье.
Мерсье продолжал:
— Почему мы упорствуем, Камье, к примеру, ты да я, когда-нибудь
ты задавал себе подобный вопрос, раз уж ты их задаешь в таком
3 С. Беккет
66
Сэмюэлъ Беккет
количестве? Неужели то немногое, что от нас осталось, надо ввергать
в тоску бегства и в грезы об освобождении? Не брезжит ли перед тобой,
как передо мной, возможность приспособиться к этой бессмысленной
муке, мирно дожидаться палача, как ратификации фактического
положения дел?
— Нет, — сказал Камье.
— Мне часто случалось, — сказал Мерсье, — сожалеть на концерте
о том, что музыка смолкла, потому что она мне весьма нравилась, но
тут же я, как ни в чем не бывало, отправлялся на боковую, потому что
был утомлен.
Они задержались на краю широкого открытого пространства,
возможно, площади, где царила суматоха, метались огни, извивались тени.
— Повернем обратно, — сказал Мерсье. —- Эта улица
очаровательна. Она пахнет борделем.
Они повернули и пошли по той же улице в другую сторону. Улица
заметно изменилась, несмотря на темноту. Но сами они едва ли
изменились.
— Вижу дальние края... — сказал Мерсье.
— Минуточку, — сказал Камье
— Ну и зараза, — сказал Мерсье.
— Куда мы идем? — сказал Камье.
— Когда же я от тебя отделаюсь? — сказал Мерсье
— Ты не знаешь, куда мы идем? — сказал Камье.
— Какая нам разница, — сказал Мерсье, — куда мы идем? Идем —
и ладно.
— Не кричи, — сказал Камье.
— Идем туда, где нас как можно меньше корчит от отвращения, —
сказал Мерсье. — Пользуемся тем, что на некоторых путях дерьма
поменьше, туда и юркаем, ни слуху ни духу, следы заметаем. Угодили
на превосходную улочку, нам остается только шагать по ней, пока она
не предстанет в истинном свете, а ты хочешь знать, куда мы идем. Что
у тебя с нервами нынче вечером, Камье?
— Подведу итог, — сказал Камье. — Мы решили, худо ли, бедно
ли, что...
— Худо ли, хорошо ли, — сказал Мерсье.
— Худо ли, бедно ли, — сказал Камье, — что из этого города нужно
уехать. И мы из него уехали. Это было нелегко. Что бы ни случилось,
мы будем гордиться этим славным свершением, пока живы. Но едва
мы уехали из города, как перед нами встала необходимость в него
вернуться, не теряя ни минуты. Якобы за кое-какими вещами, которые
мы там оставили. Что бы ни говорить об этом мотиве, мы повиновались
только ему, с бранью, но и с отвагой, и никакой другой мотив не
прозвучал в оправдание нашего крутого поворота. Мы договорились,
что вновь покинем город при первой возможности, то есть как только
Мерсье и Камье
67
найдем или откажемся от надежды найти всю совокупность или
отдельную часть наших вещей. Следовательно, нам остается только выбрать,
или, иначе говоря, определить, наш путь из города. Каковы твои
предпочтения? Какой вид транспорта представляется тебе наиболее
уместным? Хочешь ли ты, чтобы мы отправились немедленно, или
предпочитаешь дождаться зари? Ты сам сказал: «Я хочу, чтобы мы
выработали план еще до ночи и отправились в путь». А если нам
придется заночевать здесь, где нам ночевать? Или, возможно, отныне
и впредь мы окажемся мишенью для новых сил, которые по-прежнему
будут лишь смутно проявляться, глухо противодействовать
осуществлению нашей программы и взывать к ее новому пересмотру? Вот что
я предлагаю на твое рассмотрение. Если по той или иной причине ты
не можешь об этом подумать или на это ответить, не думай или не
отвечай, ты не обязан. Я подумаю об этом за нас двоих, и я на это
отвечу.
Они снова дружно повернули в обратную сторону.
— Мы слишком много разговариваем, — сказал Мерсье. — Я не
говорил и не слушал такого количества чуши с тех пор, как следую за
тобой.
— Это я следую за тобой, — сказал Камье.
— Не будем ссориться из-за мелочей, — сказал Мерсье.
— Быть может, недалек тот день, — сказал Камье, — когда мы
ничего больше не сможем сказать друг другу. Так задумаемся же, прежде
чем себя сдерживать. Потому что в тот день ты напрасно обернешься
ко мне, я уже буду не там, а в другом месте, но все такой же — или
почти такой же.
— А зачем тебе туда перемещаться? — сказал Мерсье.
— Не случайно, — сказал Камье, — я^ часто, очень часто
задумываюсь, не лучше ли было бы нам отправиться в путь не мешкая.
— Ты меня не разжалобишь, — сказал Мерсье.
— Да вот сегодня, например, — сказал Камье, — я чуть не
пропустил свидание.
— Как это интересно, — сказал Мерсье, — мне пришлось биться
с аналогичным ангелом.
— Рано или поздно кто-нибудь из нас махнет на все рукой, —
сказал Камье.
— В самом деле, — сказал Мерсье, — мы не обязаны изнемочь оба
одновременно.
— Это не обязательно было бы уклонением, — сказал Камье.
— Отнюдь нет, — сказал Мерсье, — отнюдь нет.
— Я имею в виду отречением, — сказал Камье.
— Именно так я и понял, — сказал Мерсье.
— Но шансы есть, — сказал Камье.
— Шансы на что? — сказал Мерсье.
68
Сэмюэлъ Беккет
— На то, что получится именно оно, — сказал Камье.
— Разумеется, — сказал Мерсье, — идти дальше одному, все равно,
ты бросил или тебя бросили... Ты позволишь мне не развивать эту
мысль до конца?
Несколько шагов они прошли молча. Потом Камье ни с того ни с
сего разразился смехом.
— Тряпка ты, вот что, — сказал он, — тебя и ребенок заставит
идти.
Мерсье издал что-то вроде стрекотания.
— Хороша шутка, — сказал он. — Ты думал, что ты меня обвел
вокруг пальца, а на самом деле сам обделался.
— На самом деле, я скорее вспотел, — сказал Камье.
— Мне и самому было не по себе, — сказал Мерсье.
— Шутки в сторону, — сказал Камье, — это достойно некоторого
изучения.
— Мы посовещаемся, — сказал Мерсье, — мы всесторонне
исследуем перспективы.
— Прежде чем двигаться дальше, — сказал Камье.
— Вот-вот, — сказал Мерсье.
— Для этого нам нужно полностью распоряжаться всеми нашими
многочисленными способностями, — сказал Камье.
— Хорошо бы, — сказал Мерсье.
— А мы полностью? — сказал Камье.
— Полностью что? — сказал Мерсье.
— Распоряжаемся всеми нашими способностями, — сказал Камье.
— Надеюсь, что нет, — сказал Мерсье.
— Нам надо поспать, — сказал Камье.
— Вот-вот, — сказал Мерсье.
— Может, пойдем к Элен? — сказал Камье.
— Я не настаиваю, — сказал Мерсье.
— Я тоже, — сказал Камье.
— Здесь где-то должны быть бордели, — сказал Мерсье.
— Все темно, — сказал Камье. — Ни света. Ни номеров.
— Спросим у этого симпатичного полицейского, — сказал Мерсье.
Они обратились к полицейскому.
— Прощу прощения, — сказал Мерсье, — не знаете ли вы, где
здесь по соседству дом, как бы мне вам сказать, дом терпимости?
Полицейский уставился на них.
— Не смотрите на нас так, — сказал Мерсье. — По возможности
с гарантией гигиены. Мы с другом страшно боимся сифилиса.
— У вас что, стыда нет, в ваши-то годы? — сказал полицейский.
— Какое ваше дело? — сказал Камье.
— Стыда? — сказал Мерсье. — Камье, у тебя есть стыд, в твои-то
годы?
Мерсье и Камье
69
— Идите своей дорогой, — сказал полицейский.
— Я запишу ваш номер, — сказал Камье.
— Дать тебе карандаш? — сказал Мерсье.
— Тысяча шестьсот шестьдесят пять, — сказал Камье. — Год
эпидемии чумы.60 Легко запомнить.
— Видите ли, — сказал Мерсье, — ребячеством было бы, по-моему,
отказаться от любви по причине простой задержки спермообразования.
Вы ведь не хотели бы, чтобы люди жили без любви, инспектор, хотя
бы раз в месяц, скажем, в ночь первой субботы?
— И вот на что идут наши прямые налоги, — сказал Камье.
— Я вас задерживаю, — сказал полицейский.
— На каком основании? — сказал Камье.
— Продажная любовь — единственная, какая нам осталась, —
сказал Мерсье. — Страсть и интрижки — все это для других.
— И одинокое наслаждение, — сказал Камье.
Полицейский схватил Камье за руку и начал ее заламывать.
— Ко мне, Мерсье, — сказал Камье.
— Отпустите его, — сказал Мерсье.
— Ай! — сказал Камье.
Одной рукой, огромной, как две обычные руки, ярко-красной и
волосатой, удерживая Камье за локоть, полицейский влепил ему другой,
свободной, мощную оплеуху. Становилось интересно. Не каждый день
однообразие его дежурства нарушалось таким отменным развлечением.
В его ремесле есть свои радости, он всегда это говорил. Он вытащил
дубинку. «Давай-давай, — сказал он, — нечего тут». Той рукой, в
которой была дубинка, он достал из кармана свисток и поднес его к
губам, потому что был не только силен, но и ловок. Но он недостаточно
всерьез принял Мерсье (кто его осудит?), й это его погубило, потому
что Мерсье поднял правую ногу (кто мог этого ожидать?) и неуклюже,
но хладнокровно направил ее в яйца (будем называть вещи своими
именами) противника (промахнуться не было ни малейшей
возможности). Полицейский разжал руки и упал, вопя от боли и отвращения.
Мерсье и сам потерял равновесие и тоже упал, больно ударившись
бедром. Но Камье, вне себя от возмущения, проворно поднял дубинку,
пинком отшвырнул в сторону каску и несколько раз изо всех сил стукнул
полицейского по черепу,61 держа дубинку обеими руками. Крики
замерли. Мерсье встал с земли. «Помоги мне!» — проревел Камье. Он яростно
тянул за капюшон, застрявший между телом и мостовой. — «Что ты
хочешь сделать?» — сказал Мерсье. — «Прикрыть эту образину», —
сказал Камье. Они вытащили капюшон и натянули его на лицо жертве.
Потом Камье опять принялся наносить удары. — «Хватит, — сказал
Мерсье, — дай сюда это тупое оружие». Камье выпустил из рук дубинку
и бросился бежать. — «Погоди», — сказал Мерсье. Камье
остановился. — «Скорее», — сказал Камье. Мерсье подобрал дубинку и нанес по
70
Сэмюэль Беккет
прикрытому черепу умеренный и старательный удар,
один-единственный. — «Как крутое яйцо», — сказал он. — «Как знать, — подумал
он, — может, его прикончил именно этот». Он бросил дубинку и зашагал
рядом с Камье, взяв его под руку. — «Пойдем не таясь», — сказал
Мерсье. Камье дрожал, но недолго. Когда они дошли до конца площади,
им пришлось остановиться под яростными порывами ветра. Потом
медленно, опустив головы, пошатываясь, цепляясь друг за друга, они
пошли вперед сквозь свистопляску теней и шумов, спотыкаясь о
булыжники мостовой, по которым уже неслись, то шаркая, то резкими
скачками, как на пружинах, черные ветки. На другом конце виднелась
маленькая тихая улочка, похожая на ту, с которой они только что ушли.
Там царил необыкновенный, хотя мало-помалу истаивавший покой.
— Надеюсь, он сделал тебе не слишком больно? — сказал Мерсье.
— Сволочь какая, — сказал Камье. — Ты видел эту морду?
— Полагаю, это весьма упрощает дело, — сказал Мерсье.
— И это они называют поддерживать порядок, — сказал Камье.
— Все равно сами бы мы ни за что не нашли, — сказал Мерсье.
— Думаю, проще всего сейчас было бы пойти к Элен, — сказал
Камье.
— Бесспорно, — сказал Мерсье.
— Ты уверен, что нас никто не видел? — сказал Камье.
— Риск — благородное дело, — сказал Мерсье. — В сущности, я
всегда только на него и рассчитывал.
— К счастью, тут недалеко, — сказал Камье.
— Ты отдаешь себе отчет в том, что это для нас значит? — сказал
Мерсье.
— Не думаю, что сию минуту это для нас что-то меняет, — сказал
Камье.
— Не должно менять, — сказал Мерсье, — но это изменит все.
— Это должно все изменить, — сказал Камье, — но это ничего не
изменит.
— Вот увидишь, — сказал Мерсье. — Цветы в вазе, а овечки
вернулись в парк.62
— Не понимаю, — сказал Камье.
Остаток пути они проделали большей частью в молчании, то всецело
отдаваясь ярости ветра, то пользуясь затишьем. Мерсье пытался охватить
во всей полноте последствия для них того, что произошло, а Камье
пытался отыскать смысл во фразе, которую только что услышал. Но им
не удавалось — Мерсье постичь, как им повезло, а Камье довести до
конца свое исследование, .потому что они устали, нуждались во сне,
шатались под ветром, а к довершению всех неприятностей на головы
им неистощимыми потоками изливался дождь.
Мерсы и Камье
71
IX
Краткое изложение
двух предыдущих глав
VII
Вечер восьмого (?) дня.
У Элен.
Зонтик.
На другой день у Элен.
Приятное времяпрепровождение.
Под вечер на улице.
Бар.
Мерсье и Камье совещаются.
Результаты этого совещания.
У Элен.
На другой день в полдень, перед домом Элен.
Зонтик.
Взгляды, устремленные на небо.
Зонтик.
Снова взгляды, устремленные на небо.
Ледисмит.
Зонтик.
Снова взгляды, устремленные на небо.
Зонтик.
Мерсье уходит.
Встречи Мерсье.
Мозг Мерсье.
Цепи.
VIII
Тот же день.
Задница и рубашка, с иллюстрациями (отрывок, полностью
изъятый).
Предпоследний бар.
Мать-Церковь и искусственное оплодотворение.
Приход Мерсье.
Официант-исполин.
Вклад Мерсье в спор об универсалиях.
Зонтик, конец.
Велосипед, конец.
72
Сэмюэль Беккет
На улице.
Ветер.
У камелька.
Струя воды и автоген.
Ветер.
Формы обучения катехизису.
Роковая улица.
Рюкзак.
Музыка и сон.
Бездна.
Дальние страны.
Роковая улица.
Полицейский.
Смерть полицейского.
Бездна.
«Цветы в вазе».
Ветер.
Бурное поголовье.
χ
Дорога, еще проезжая, тянется по высоко лежащей песчаной
равнине. Это старая военная дорога. Она наискось прорезывает обширные
торфяники на высоте пятисот или, если вам так больше нравится,
тысячи метров. Теперь она уже никуда не ведет. Кое-где развалины
фортов, кое-где развалины домов. Море невдалеке, оно виднеется за
долинами, полого тянущимися к востоку, оно бесцветно, или, пожалуй,
оно того же цвета, что бесцветное небо, цвета цемента.63 В расщелинах
равнины прячутся озера, чтобы их увидать, надо сойти с дороги, к
озерам ведут малые тропки, а над ними нависают высокие утесы. Все
кажется плоским или слегка скользит под откос, а между тем проходишь
совсем близко от высоких утесов, не подозревая об их существовании.
Вдобавок кругом гранит. Странная местность. На западе горная цепь
достигает наибольшей высоты, ее пики заставляют самых угрюмых
путников поднять глаза, — знаменитые пастбища, золотая долина.
Впереди, насколько хватит взгляда, дорога петляет к югу. Она идет в гору,
но это совершенно незаметно. Сюда больше никто не забредает, разве
какие-нибудь маниакальные приверженцы живописных видов или
пешего хода. Замаскированный зарослями вереска торфяник манит к себе,
и перед этой заманчивостью не устоять никому из смертных. Потом
торфяник их поглотит, или падет туман. Город тоже недалеко, есть
места, с которых ночью видны его огни, вернее огонь, а днем — дым.
Мерсье и Камье
73
В очень ясные дни даже можно различить молы в порту, в двух портах,
они тянут крошечные ручонки в остекленевшее море, и мы знаем, что
они лежат плашмя, но видим их воздетыми. Видны острова и мысы —
надо только вовремя обернуться, а ночью, конечно, маяки, неподвижные
и кружащиеся. Небо, даже синее, кажется ниже, когда смотришь с этого
плоскогорья, и сколько ни рассуждай, впечатление никуда не денется.
Хочется прилечь там в какой-нибудь щели, плотно устланной сухим
вереском, и однажды под вечер уснуть последним сном. И будет светить
солнце, вокруг головы будет вершиться кропотливая жизнь стебельков
и венчиков, и вы быстро уснете, быстро расстанетесь со всем этим
очарованием. И это небо без птиц, с хищными птицами на худой конец,
но без птиц — птиц. Конец описания.64
— Что это за крест? — сказал Камье.
Опять они здесь.
Прямо посреди торфяника, невдалеке от дороги, но все же слишком
далеко, чтобы можно было прочитать надпись, высился совсем простой
крест.
— Я знал, — сказал Мерсье, — но забыл.
— Я тоже знал, — сказал Камье, — я в этом почти уверен.
Но все-таки он был уверен не до конца.
Это была могила патриота, которого в ночи привел сюда враг и
казнил. А может быть, принесли уже его труп и бросили в этом месте.
Погребли его много позже, не без торжественности. Его имя было Масс.
В националистических кругах его не очень-то почитали. В самом деле,
работал он скорее неважно. Но памятник за ним сохранялся
по-прежнему. Все это Мерсье и Камье знали, и, вероятно, еще многое другое,
но все забыли.
— Досадно, — сказал Камье.
— Хочешь, подойдем посмотрим? — сказал Мерсье.
— А ты хочешь? — сказал Камье.
— Я как ты, — сказал Мерсье.
В последнем на их пути леске они вырезали себе палки. Для
стариков шли они в хорошем темпе.
— Как сегодня чувствует себя Мерсье? — сказал Камье.
— Право же, — сказал Мерсье, — бывало и хуже. А что Камье?
— Воздержусь от жалоб, — сказал Камье.
Они гадали, кто рухнет первым. Добрый километр прошагали молча.
За руки больше не держались. Каждый шел независимо со своей стороны
дороги, так что их разделяла почти вся ее ширина. Одновременно они
заговорили. Мерсье сказал: «У тебя не бывает иногда такого
ощущения...», а Камье: «Как ты думаешь, там есть черви...»
— Прости, — сказал Камье, — что ты сказал?
— Нет-нет, — сказал Мерсье, — давай лучше ты.
— Я так, — сказал Камье, — ничего интересного.
74
Сэмюэль Беккет
— Ну и что, — сказал Мерсье, — все равно давай.
— Уверяю тебя, — сказал Камье.
— Ну, пожалуйста, — сказал Мерсье.
— Сперва ты, — сказал Камье.
— Я тебя перебил, — сказал Мерсье.
— Это я тебя перебил, — сказал Камье.
— Ничего подобного, — сказал Мерсье.
— Нет, перебил, — сказал Камье.
Установилось молчание. Его нарушил Мерсье или, вернее, Камье.
— Ты простудился? — сказал Мерсье.
В самом деле, Камье закашлялся.
— Пока еще ничего нельзя понять, — сказал Камье.
— Надеюсь, что все обойдется, — сказал Мерсье.
— Хорошая погода, — сказал Камье.
— Не правда ли? — сказал Мерсье.
— Красивая равнина, — сказал Камье.
— Очень красивая, — сказал Мерсье.
— Ты только посмотри на этот вереск, — сказал Камье.
Мерсье с подчеркнутым вниманием посмотрел на вереск.
Присвистнул.
— Там внизу торф, — сказал Камье.
— Никогда бы не подумал, — сказал Мерсье.
Камье закашлялся.
— Ты кашляешь, как безнадежный больной, — сказал Мерсье.
— Как ты думаешь, там есть черви, — сказал Камье, — как в земле?
— У торфа удивительные свойства,65 — сказал Мерсье.
— А-а, — сказал Камье.
— В нем все сохраняется, — сказал Мерсье.
— А черви там есть? — сказал Камье.
— Хочешь, покопаем немного, чтобы проверить? — сказал Мерсье.
— Еще чего, — сказал Камье, — скажешь тоже. Он закашлялся.
Погода была в самом деле хорошая, во всяком случае здесь такая
погода считалась хорошей, но прохладная, и ночь была не за горами.
— Где будем ночевать? — сказал Камье. — Ты об этом подумал?
— Странно, — сказал Мерсье, — мне часто метится, что мы не
одни.66 А тебе нет?
— Не уверен, что понимаю, — сказал Камье.
— Как будто здесь есть кто-то третий. И его присутствие нас
обволакивает. Я это чувствовал с первого дня. Хотя я никоим образом
не склонен к спиритизму.
— Это тебе мешает?
— Первое время не мешало, — сказал Мерсье.
— А теперь? — сказал Камье.
— Начинает немного мешать, — сказал Мерсье.
Мерсье и Камье
75
Да, ночь была не за горами, и для них это было совсем не плохо,
хотя они себе в этом, пожалуй, еще не признавались.
— Кто ты такой, Камье, в конце-то концов? — сказал Мерсье.
— Я? — сказал Камье. — Я Камье, Франсис Ксавье.
— Негусто, — сказал Мерсье.
— Кому ты это рассказываешь, — сказал Камье.
— Я мог бы задать себе самому тот же вопрос, — сказал Мерсье.
— Где мы собираемся ночевать? — сказал Камье. — Под открытым
небом?
— Это бы нам уже не повредило, — сказал Мерсье, — после всех
тех ночей подряд, которые мы провели у Элен. Удалось тебе ее оттра-
хать?
— Пытался, — сказал Камье, — но я был как-то не в форме.
— С некоторых пор ты слишком много занимаешься любовью, —
сказал Мерсье. — Совсем стыд потерял, в твои-то годы. Смотри,
перегреешься.
— У меня в самом деле вся головка так и горит, — сказал Камье. —
Это порочный круг.
— Помажь мазью, — сказал Мерсье.
— Боюсь трогать, — сказал Камье.
— А как твоя киста?67 — сказал Мерсье.
— Ох, и не спрашивай, — сказал Камье.
— Она по крайней мере не влезла в попу, как ты одно время
боялся? — сказал Мерсье.
— Торчит все время поблизости, — сказал Камье. — С каждым
днем все растет, но к дырке не ближе, чем двадцать лет тому назад.
Вот и пойми что-нибудь.
— От этих штук хорошо помогает вода с торфяников, — сказал
Мерсье. — Можешь просто сесть прямо туда. Заодно сполоснешь задний
проход.
Ни деревца — надо ли об этом говорить? На всякий случай лучше
скажем. Оазисы здесь — папоротники.
— Мы замерзнем, — сказал Камье, — и сырость проберет нас до
мозга костей.
— А развалины на что, — сказал Мерсье. — Или просто будем идти
до полного изнеможения. Что может быть лучше в борьбе с ненастьем.
На некотором расстоянии от этого места они очутились перед
развалинами дома68 или даже форта. Развалинам было лет пятьдесят.
До того долгое время ничего подобного им не попадалось. Уже почти
стемнело.
— Теперь надо сделать выбор, — сказал Мерсье.
— Между чем и чем? — сказал Камье.
— Между развалинами и изнеможением,69 — сказал Мерсье.
— А нельзя их как-нибудь соединить? — сказал Камье.
76
Сэмюэль Беккет
— До следующих нам ни за что не добраться, — сказал Мерсье.
— Очень просто, — сказал Камье.
— Это только так говорится, — сказал Мерсье.
— Просто нам нужно пройти еще немного, — сказал Камье, —
пока не почувствуем, что дошли до того места, откуда нам хватит сил
ровно на то, чтобы вернуться обратно. Тогда мы повернем и придем
сюда, к развалинам, в полном изнеможении.
— Это опасно, — сказал Мерсье.
— Ты предложишь что-нибудь получше? — сказал Камье.
— Может, просто поплясать здесь немного, — сказал Мерсье, —
словом, поделать всякие резкие телодвижения. Это нам ничем не грозит.
А когда с нас будет достаточно, рухнем без сил среди руин.
— Я еще могу некоторое время тащиться по дороге, — сказал
Камье, — но ни на какие прыжки я неспособен.
— Тогда просто будем ходить взад и вперед, — сказал Мерсье.
— Мы не устоим перед соблазном лечь раньше времени и слишком
быстро покончить со всем этим, — сказал Камье.
— Однако в твоем плане полно подвохов, — сказал Мерсье. —
Усталость — странная штука, особенно на последней стадии: она
прогрессирует, причем в ней до безумия много всего намешано, и не все
ее причины нам известны. Не говоря уж о том, что темнеет и мы можем
забрести в болото.
— Не паясничай, — сказал Камье. — Чем мы в конце концов
рискуем?
— Разумеется, — сказал Мерсье.
Они вновь зашагали вперед, если это можно назвать «зашагали».
— Иногда, — сказал Камье, — с тобой поговорить — истинное
наслаждение.
— В душе я незлой, — сказал Мерсье.
Спустя некоторое время Мерсье сказал:
— Не думаю, что я еще долго смогу идти дальше.
— Уже? — сказал Камье. — Ноги, что ли? Ступни?
— Скорее, голова, — сказал Мерсье.
Было темно, в нескольких метрах от них дорога исчезала из виду.
Звездам было еще слишком рано зажигаться. Луне предстояло взойти
тоже гораздо позже. В сущности, наступило самое темное время суток.
Они остановились. Они еле-еле видели друг друга через дорогу. Камье
подошел к Мерсье.
— Пошли обратно, — сказал Камье. — Обопрись на меня.
— Я же тебе говорю, это голова, — сказал Мерсье.
— Тебе мерещатся видения, — сказал Камье. — Например, купы
деревьев, а на самом деле там нет ничего. Или выскакивают странные
звери, гигантские коровы и лошади ярких расцветок, они выскакивают
из темноты, стоит тебе поднять голову, — или высокие амбары, огром-
Мерсье и Камье
77
ные мельницы. И все это расплывается, зыблется, как будто слепнешь
прямо на глазах, ха-ха, слепнешь прямо на глазах.
— Если хочешь, возьми меня за руку, — сказал Мерсье.
Так, рука об руку, повернули они обратно, — маленькая в большой.
— У тебя рука потная, — сказал Мерсье, — и ты кашляешь. Может,
у тебя старческий туберкулез.
Не успел он это сказать, как вздрогнул и пожалел о сказанном.
Чего он боялся? О чем жалел? Он боялся, что Камье вернет ему этот
мяч 70 и тем заставит его или понимать, отвечать, или хранить
нелюбезное молчание, и ему стало жаль, что он навязал себе такую дилемму.
Глупости, сожаления, оправдания, страхи, упреки, оправдания, а потом
иногда, редко, но иногда — огромное облегчение, как бывает после
безнаказанного проступка, потому что Камье хранил молчание, так что
даже непонятно было, слышал он или нет. Может быть, он устал гораздо
сильнее, чем хотел признаться, и силы у него, так же как у Мерсье,
были на исходе. И вот что сообщает такому предположению
правдоподобие, каковое, между прочим, есть драгоценный дар: чуть погодя
Мерсье пришлось повторить одну и ту же фразу несколько раз кряду,
прежде чем она дошла до Камье. То есть:
— Надеюсь, мы не проскочили лачугу, — сказал Мерсье.
Камье не ответил.
— Надеюсь, мы не проскочили лачугу, — сказал Мерсье.
— Что? — сказал Камье.
— Я говорю, надеюсь, мы не проскочили лачугу, — сказал Мерсье.
Камье ответил не сразу. Бывают в жизни такие случаи, когда самым
простым и прозрачным словам требуется некоторое время, чтобы
развернуться во всей своей красе. И лачуга вносила некоторую путаницу.
Но наконец он резко остановился — изнемогающий от усталости
человечек, взявший на себя, так сказать, руководство операцией.
— Она немного на отлете от дороги, — сказал Мерсье. — Мы могли
пройти мимо, не заметив, уж больно темно стало, вот что мне кажется.
— Мы бы заметили тропинку, — сказал Камье.
— Может быть, — сказал Мерсье. — Что до меня, честно говоря,
я уже ничего не вижу, ни дороги, ни своих собственных ног, ни коленок,
ни груди (правда, она у меня впалая). Краешек бороды, пожалуй, не
будем лицемерить, время от времени, благо она у меня довольно седая.
Мы бы могли пройти мимо Ла Скала в вечер премьеры, я бы и то
ничего не заметил. Ты, мой дорогой Камье, по вечной своей доброте
тащишь за собой на буксире не человека, а жалкую развалину.
— А я отвлекся, — сказал Камье. — Это непростительно.
— Тебе не в чем себя корить, — сказал Мерсье. — Совершенно не
в чем, ни в единой мелочи. Главное, не отпускай моей руки. Не
прекращай своей отчаянной гимнастики, не лишай себя этого, сейчас
это на пользу, но не отпускай моей руки.
78
Сэмюэль Беккет
В самом деле, Камье сотрясался от беспорядочных телодвижений.
— Ты дошел до ручки, мой бедный Камье, — сказал Мерсье. —
Признайся.
— Сейчас увидишь, дошел я до ручки или нет, — сказал Камье.
— У тебя попка болит, — сказал Мерсье, — и писька болит.
— Назад мы больше не повернем, — сказал Камье, — что бы ни
случилось.
— В добрый час, — сказал Мерсье. — Мне самому обрыдло
дергаться, как разочарованный мотылек. Но откуда я черпаю силы для
разговора? Можешь ты мне сказать?
Камье чуть не сказал: «Вперед», но вовремя осекся. Потому что они
ведь и так согласились не поворачивать назад, а характер местности
под угрозой катастрофы исключал любое отклонение влево или
вправо, — так куда же, как не вперед, могли они идти под угрозой
катастрофы? Он ограничился тем, что зашагал дальше, таща за собой
Мерсье.
— Постарайся, ради Бога, идти вровень со мной, — сказал Камье.
— Пойми, тебе еще повезло, — сказал Мерсье, — что ты не
вынужден меня нести. Обопрись на меня, ты же сам сказал.
— Это правда, — сказал Камье.
— Я отклоняю это предложение, — сказал Мерсье, — чтобы не
слишком тебя обременять. Но не ори, когда я немного отстаю. Что за
манера!
Вскоре они уже не шли, а ковыляли. Ковыляя, можно прекрасно
двигаться вперед, конечно, не так прекрасно, как если не ковыляешь,
а главное, не так быстро, но все же вперед. Они вышли на край
торфяника, что могло иметь для них тяжелые последствия, но ничего
не поделаешь. Начинались падения71 — то Мерсье увлекал за собой
Камье (в падение), то наоборот, то падали оба одновременно, как один,
не сговариваясь и совершенно независимо друг от друга.
Поднимались не всегда сразу, в молодости они занимались боксом,72 но
каждый раз поднимались, ничего не поделаешь. И в худшие моменты
руки хранили верность — руки, про которые уже трудно было сказать,
какая из них пожимает другую, какая отвечает на пожатие, настолько
все перепуталось. Вероятно, этому как-то способствовало их
беспокойство насчет развалин, и очень жаль, потому что беспокоиться
было не о чем. В конце концов добрались они до этих развалин, про
которые думали, будто они их проскочили, и у них даже достало сил
проникнуть в самое укромное местечко, туда, где они были укрыты со
всех сторон и словно погребены. И только тогда, спрятавшись
наконец от холода, которого они больше не чувствовали, от сырости,
которая им почти не мешала, они согласились передохнуть или, верней,
поспать, и тут их руки обрели свободу и вернулись к прежним
обязанностям.
Мерсье и Камье
79
Ночь также отражается в зеркалах, они — в ней, она — в них,
умножая бесчисленные и тщетные отражения. Оба спят бок о бок
глубоким старческим сном. Они еще поговорят друг с другом, но это
будет, так сказать, совершенно случайно. Но разве они когда-нибудь
говорили иначе? Впрочем, отныне ничего нельзя знать наверняка. Самое
время кончать. В сущности, все кончено. Но есть еще день, который
тянется весь день, и жизнь, которая тянется всю жизнь, они слишком
хорошо знакомы нам — эти долгие посмертные оползни, серый осадок,
который постепенно успокаивается, мгновенная прозрачность, пыль
завершенности, что взлетает, кружит вихрем, вновь оседает — и конец.
Это тоже приемлемо. Давайте разбудим Мерсье, или Камье, какая
разница, Камье, он просыпается, темно, по-прежнему темно, он не
знает, который час, мы тоже, какая разница, темно, он встает и
удаляется во мрак, ложится чуть дальше, по-прежнему в развалинах,
можно и не уточнять, в развалинах места много. Почему? Ответить на
это вопрос невозможно. Узнать об этом не в нашей власти. На то,
чтобы перебраться с места на место, причины всегда найдутся.
Основательные, надо думать, причины, потому что вот то же самое
происходит и с Мерсье, причем, судя по всему, примерно в то же самое
время. И вопрос о приоритете, как бы кристально ясен ни был он до
сих пор, тут же совершенно утрачивает всю свою кристальность. Итак,
вот они ложатся или, может быть, только присаживаются на корточки,
на более или менее приличном расстоянии друг от друга, — имеется в
виду, что расстояние мы оцениваем с точки зрения привычной им
тесной близости. Они вновь впадают в дремоту (как любопытно
внезапное вторжение настоящего времени) — или, может быть, просто
задумались. По зрелом размышлении они, наверно, все же впадают в
дремоту, все на это указывает. Так или иначе, до рассвета, задолго до
рассвета, один из них встает, допустим, Мерсье, теперь его очередь, и
идет проверить, на месте ли Камье, то есть на том ли самом месте, где
они рухнули поначалу, один рядом с другим. Это ясно? Жаль, что
где-нибудь поблизости, чуть дальше, не случилось третьего разбойника
с намеком на Христа,73 загибающегося перед потиром, куда как слишком
по-человечески. Но Камье там больше нет, потому что откуда же ему
там взяться? Тогда Мерсье думает: так, проклятый Камье потащился
вперед, пробивает себе путь в потемках, выпучив глаза (чтобы не
потерять ни крупицы света), шевеля руками, как антеннами,
неуверенными шагами нащупывая путь и карабкаясь (развалины расположены в
подземелье, разве это не чувствуется?) по тропе, ведущей на дорогу.
Почти в тот же миг, хотя не совсем, иначе бы не получилось, но почти,
чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, это не важно, или почти не важно,
Камье начинает тот же самый маневр. Скотина, думает он, ушел не
попрощавшись, и пробирается с тысячью предосторожностей, жизнь так
бесценна, а боль так страшна, старая шкура заживает с таким трудом,
80
Сэмюэль Беккет
прочь из этого дружелюбного хаоса, напоминающего о Мантенья,74 без
единого слова, без единого звука благодарности. Камням не выражают
признательности, а зря. В общем, все, вероятно, происходило более или
менее так. Итак, вот они на дороге, как-никак основательно
передохнувшие, и каждый знает, что другой рядом, чувствует, верит, боится,
надеется, отрицает и ничего не может поделать. Время от времени они
останавливаются, напрягают слух при звуке шагов — шагов, узнаваемых
среди всех шагов на свете, а этих шагов немало, тихо попирающих все
дороги земли днем и ночью. Но ночью видишь то, чего нет, слышишь
то, чего нет, и это бесспорно: попадаешь под власть иллюзий, даже и
пытаться не стоит этого избежать. И все же пытаешься, видит Бог.
Таким образом, может случиться, что один из двух останавливается,
садится на обочине, почти на торфянике, чтобы отдохнуть, или чтобы
удобней было поразмышлять, или чтобы не размышлять больше —
чтобы остановиться, причин всегда хватает, и тогда подходит другой,
тот, что шел позади, и видит эту тень Сорделло,75 но не верит себе,
во всяком случае, недостаточно верит, чтобы броситься в его объятия
или отвесить ему такой пинок, чтобы он отлетел вверх тормашками
прямо в болото. Сидящий тоже видит, если только не зажмурился, и
уж, во всяком случае, слышит, если только не спит, и считает, что у
него галлюцинации, но не до конца в этом уверен. Потом, немного
погодя, тот, который сидел, встает, а другой садится и так далее, сами
видите, в чем здесь фокус, они могут таким образом дойти до города,
то впадая в сомнения, то выпадая из них, и все попусту. Потому что
идут они, разумеется, к городу, как всякий раз после того, как его
покидают, как после долгих тщетных расчетов, уронив голову на
исходные данные. Но в глубине долин, резко понижаясь к востоку, небо
меняется, и внезапно вот оно, тут как тут, солнце, старая свинья,
пунктуальное, как палач. Внимание, сейчас мы опять увидим земное
великолепие, мы опять увидимся, что еще забавнее, ночь ничего не
изменит, это всего лишь изнанка панспермочепухи, хорошо еще, что у
нее есть изнанка, спасибо, что здесь есть братья, готовые (в случае
сомнений) это подтвердить, все братья готовы и это подтвердить, и
любые другие замечательные сенсации. И тогда они друг друга видят,
а что вы хотели, им, конечно, следовало выйти раньше, но разве
угадаешь? Чья очередь, Камье, тогда обернись, мерзавец, и смотри
хорошенько. Ты глазам не веришь, ничего, поверишь: это он, он, твой
изысканный любезник, бородатый, костлявый, разбитый на ноги,
пропащий, вот он — рукой подать, и подай, подай ему руку, вспомни
доброе старое время, когда вы оба вместе валялись в дерьме. Мерсье
также сдается перед лицом очевидности, к этому привыкаешь, имея
дело с аксиомами, Камье поднимает руку, это безопасно, это элегантно,
это галантно, это ни к чему не обязывает. Пока Мерсье колеблется, не
решаясь ответить на это приветствие, по меньшей мере неожиданное,
Мерсье и Камье
81
Камье пользуется паузой и идет дальше. Из этого настоящего времени
больше не выйти. Но приветствовать можно даже мертвых, ничто этому
не мешает, это даже одобряется, им это на пользу не пойдет, но
похоронщикам приятно, это помогает им проводить похороны, и
друзьям, и родственникам, — это помогает им почувствовать, что сами-то
они живы, и тому, кто приветствует, тоже хорошо — это бодрит. Мерсье
не позволяет себе подать вид, что нет, он поднимает руку в свой черед,
соответствующую, неаналогичную руку, в размашистом и дружелюбно
бескорыстном жесте, каким прелаты преподносят Богу причитающиеся
ему порции материи. Какой я добрый, говорит Мерсье, добрей, чем
если бы он меня видел. Но, чтобы покончить с этим бредом, дойдя до
первой развилки (на краю равнины), Камье остановился (наконец хоть
маленькое прошедшее), и его сердце застучало (еще одно прошедшее!)
сильнее при мысли о том, что он собирался вложить в это последнее
приветствие, до такой степени чреватое неслыханной деликатностью,
что вот-вот лопнет. По ту сторону был уже настоящий деревенский
пейзаж, живые изгороди (живые!), грязь, навозная жижа, болота, скалы,
лачуги, да изредка, на большом расстоянии друг от друга —
несомненный представитель рода человеческого, самый настоящий антропопсев-
доморф, с первых крошек зари ковыряющийся в своем клочке земли
или перетаскивающий свой навоз с места на место заступом, потому
что лопату потерял, а вилы сломались. На развилке растет исполинское
дерево, заросли черных веток. Две дороги, левая ведет прямо в город,
во всяком случае настолько прямо, насколько возможно в этих местах,
а другая сначала тащится сквозь россыпь зловонных лачуг, которые
заслуживают только огня и которые люди упрямо постарались всеми
силами сохранить, откуда и эта карикатура на дорогу, в предвидении,
надо думать, того славного дня, когда город под страхом уничтожения
явится на встречу с ними. Итак, добравшись до этого перепутья, Камье
остановился и обернулся, в результате чего Мерсье тоже остановился и
совершил полуоборот, готовый убежать, надо ли повторять дважды? Но
напрасно он тревожился, потому что Камье просто поднял руку в
приветственном жесте, в точности похожем на тот, на который он уже
столь любезно расщедрился раньше, протянул другую, прямую и,
кажется, дрожащую, к правому ответвлению и бросился по нему вперед
с героическим проворством. Если бы ему надо было броситься в дом,
охваченный пламенем, в котором поджидали, когда их оттуда вынесут,
три поколения его семьи, он и тогда не мог бы действовать быстрее.
Успокоившись, но не вполне, Мерсье осторожно подошел к развилке.
Он посмотрел направо. Камье исчез. Он поспешным шагом пошел по
левому ответвлению. Разъединились! По всей видимости, так или почти
так все и произошло. Земля тянулась к свету, короткому, слишком
долгому свету.
82
Сэмюэль Беккет
XI
Ну вот. Для того чтобы более или менее точно узнать, что
произошло, нужно время. Это ваше единственное оправдание, во всяком
случае, лучшее. Ради этого стоит жить, нет, серьезно, стоит вставать,
одеваться (очень важно), питаться, выделять экскременты, гулять в
хорошую погоду, раздеваться, ложиться в постель и делать все прочее,
и претерпевать все прочее, то, что перечислять было бы, пожалуй,
скучно, да, пожалуй, скучно. Потом — восемь, роковое число (а какое
число не роковое?), два для каждой ноги, два для каждой руки, а для
тех, кто перенес ампутацию, — шесть, четыре, два или ноль, смотря
какая ампутация. При таких условиях не рискуешь утратить интерес.
Пестуешь свою память, наконец она становится сносной, сокровище,
болтаешься в ее крипте, без свечки, возвращаешься на старые места,
восстанавливаешь в памяти звуки (очень важно), и в конце концов
выучиваешь их наизусть, не знаешь, за что хвататься, во что
всматриваться, вслушиваться, внюхиваться, над какими останками наклоняться
(все они одинаково хоропю пахнут),76 какую пластинку ставить. Ах,
милое замогилье! А потом с вами может произойти еще кое-что, еще
приключения! Ну да, да. Вы думаете, что с ними покончено, и вдруг
в один прекрасный день бах! — прямо в морду. Или в задницу, или в
яйца, или в п..., целей-то хватает, особенно ниже пояса. И подумать
только, что при всем при том трупам бывает скучно! Какая
бесчувственность! Мщение! Мщение!
Это явно утомительно, это захватывает вас целиком, не хватает
времени напомадить душу, но нельзя же все сразу, чтобы и тело —
всмятку, и совесть — обнажена, и архей77 — как во времена
невинности, до грехопадения, без страховки, да, так и есть, на вечность времени
не хватает.
А между тем бывает такой своеобразный сплин, который трудно
предотвратить. Это ожидание утра, которое вечера мудреней, потому
что не все утра обладают этим свойством. Это может длиться месяцами.
Это ни то ни се, долгая, томная, изнуряющая смесь сожалений,
последних с окончательными, это было с нами тысячи раз, это потеха,
но не удается потешиться, распасться в улыбке, которой мы улыбались
уже тысячи раз. Это конец, почти самый конец дня, и таблетки уже
не помогают. К счастью, это не всегда длится вечно, как правило, это
длится всего несколько месяцев, бывало даже, что внезапно все
кончалось — например, в теплых странах. И потом, это не обязательно
происходит беспрерывно, формального запрета на передышку нет, вовсе
нет, и некоторые передышки даже приносят вам самую настоящую
иллюзию жизни, пока они длятся, иллюзию бегущего, незагубленного
дня. И даже если не заходить так далеко, они, эти передышки, приносят
Мерсье и Камье
83
вам хоть небольшое облегчение, некоторые, не все, лишь те, которые
дозволены, причем именно на то время, пока длятся.
Еще есть очаровательные краски, оттенки зеленого и преходяще-
лимонного, не будем уточнять, они еще бледнеют, но это, чтобы вернее
вас насадить на вертел, угаснут ли они когда-нибудь, да, о да, угаснут.
И что тогда? Тогда всё, спасибо.
Снаружи это был такой же дом, как многие другие. Изнутри тоже.
Из него вышел Камье. Он еще прогуливался понемногу в хорошую
погоду. Стояло лето. Предпочтительней была бы осень, конец октября,
начало ноября, но стояло лето, ничего не поделаешь. Солнце садилось,
смычки настраивались (непонятно зачем), прежде чем разразиться
древним плачем.78 Камье, легко одетый, шел вперед, уронив голову на
грудину. Время от времени он выпрямлялся резким и тут же сходившим
на нет движением, просто так, чтобы сориентироваться. Он чувствовал
себя не слишком плохо, день выдался скорее удачный. Прохожие его
толкали, но не нарочно, нет, не нарочно, они бы предпочли до него
не дотрагиваться. Он делал круг, только один круг, иначе он скоро
уставал, очень уставал. Тогда он останавливался, широко раскрывал свои
маленькие сине-красные глазки и обводил ими все вокруг, пока не
определял свое местонахождение. Поскольку сил дойти до дому не
хватало, ему частенько приходилось заглядывать в первый попавшийся
бар, просто чтобы взбодриться, набраться уверенности, уверенности и
мужества на то, чтобы пуститься в обратный путь, о котором часто у
него бывало довольно смутное представление. Он помогал себе палкой,
стуча ею по земле на каждом шагу, не на каждом втором шагу, а просто
на каждом. Вдруг на его плечо легла чья-то рука. Камье замер, съежился,
но головы не поднял. Ему было все равно, так ему было даже лучше,
проще, но это был еще не повод отрывать глаза от земли. Он услыхал:
«Мир тесен». Чьи-то пальцы приподняли ему подбородок. Он увидел
человека мощного телосложения, крайне гнусно одетого. Вдаваться в
подробности бесполезно. Человек выглядел немолодым. От него воняло
старостью, да и немытостью, в общем, сильно воняло. Камье со знанием
дела принюхался.
— С моим другом Мерсье ты знаком, — сказал человек.
Камье безуспешно поискал вокруг глазами.
— Позади тебя, — сказал человек.
Камье обернулся. Мерсье, всецело поглощенный витриной шляпного
магазина, был виден в профиль.
— Разрешите, — сказал человек. — Мерсье, Камье, Камье, Мерсье.
Ни дать ни взять, два слепца, которым только зрения и не хватает,
чтобы составить представление друг о друге, а все прочее в наличии, —
и желание, и взаиморасположение тел в пространстве.
— Вижу, что вы знакомы, — сказал человек. — Я и не сомневался.
Главное, не здоровайтесь.
84
Сэмюэль Беккет
— Я вас не знаю, месье, — сказал Камье.
— Я Уотт,79 — сказал Уотт. — В самом деле, я неузнаваем.
— Уотт? — сказал Камье. — Это имя ничего мне не говорит.
— Я малоизвестен, это правда, — сказал Уотт, — но рано или
поздно я добьюсь известности. Не говорю — всемирной, например,
немного шансов на то, что слух обо мне достигнет Лондона или
Кук-Тулза.80
— Откуда мы друг друга знаем? — сказал Камье. — Простите мою
забывчивость. Я еще не все успел восстановить в памяти.
— Охотно прощаю, — сказал Уотт. — В колыбели.
— Признайте, что в таком случае мне трудно было бы вас
опровергнуть, — сказал Камье.
— Никто тебя не просит меня опровергать, — сказал Уотт. — В
самом деле, мне весьма тягостно дважды за столь краткий промежуток
времени слышать все те же глупости.
— Я совершенно вас не знаю, — сказал Камье. — В колыбели,
говорите?
— В твоей плетеной люльке, — сказал Уотт. — Ты не изменился.
— В таком случае вы знали мою мать, — сказал Камье.
— Святая женщина, — сказал Уотт. — До пяти лет каждые два часа
меняла на тебе одежки. — Он повернулся к Мерсье. — А твою, —
сказал он, — я узнал только бездыханной.
— Я был знаком с неким Мэрфи,81 — сказал Мерсье, — который
немного напоминал вас, только он был гораздо моложе. Но он умер
тому десять лет при весьма загадочных обстоятельствах. Представьте
себе, его тело так никогда и не было найдено.
—- Значит, вы с ним тоже не знакомы? — сказал Камье.
— Полноте, полноте, — сказал Уотт, — перейдите опять на ты,
дети мои. Не стесняйтесь меня. Я сама скромность. Могила.
— Господа, — сказал Камье, — с вашего разрешения я вас покину.
— Если бы у меня оставались еще хоть какие-нибудь желания, —
сказал Мерсье, — я купил бы одну из этих шляп и надел ее себе на
голову.
— Ставлю вам по стаканчику, — сказал Уотт. И добавил: —
Парни, — с беззлобной, почти нежной улыбкой.
— В самом деле... — сказал Камье.
— Ту, коричневую, на болванке, — сказал Мерсье.
Уотт схватил Мерсье за правую руку, Камье, после короткой борьбы,
за левую и потащил их за собой.
— Куда еще мы идем? — сказал Камье.
Мерсье завидел вдали цепи своего детства, те, что служили ему
забавой. Уотт сказал ему:
— Если бы ты поднимал ноги, ты бы шел вперед быстрее. Сегодня
я не поведу тебя к зубному врачу.
Мерсье и Камье
85
Они шли прямо на закат (нельзя же во всем себе отказывать), чьи
огненные языки вздымались выше высоких домов.
— Жаль, что нас не увидит Дюма-отец,82 — сказал Уотт.
— Или один из евангелистов, — сказал Камье.
Что ни говори, Мерсье и Камье — это был другой уровень.
Мерсье сказал блеющим фальцетом: «Я бы снимал ее при встрече
с катафалками».
— Если у вас силы не ограничены, — сказал Камье, — то у меня
ограничены.
— Мы уже пришли, — сказал Уотт.
Дорогу им преградил полицейский.
— Здесь тротуар, — сказал он, — а не цирковая арена.
Полицейскому на роду было написано быстрое повышение, это
было видно.
— Какое ваше дело? — сказал Камье.
— Оставьте нас в покое, — сказал Мерсье.
— Полегче, полегче, — сказал Уотт. Он наклонился к
полицейскому. — Инспектор, — сказал он, — не сердитесь. Они немного того, —
он похлопал себя по лбу, — но они и мухи не обидят. Длинный считает
себя Иоанном Крестителем, о котором вы наверняка слышали, а
коротышка колеблется между Юлием Цезарем и Туссеном Лувертюром.83
Я сам смирился с ролью, выпавшей мне от рождения, она обширна
и повелевает мне, помимо прочего, водить на прогулки этих господ,
когда время позволяет. Полегче, полегче. При таких условиях вы
согласитесь, что нам трудно было бы построиться гуськом, как велят
приличия.
— Гуляйте за городом, — сказал полицейский.
— Мы пробовали, — сказал Уотт, — несколько раз пробовали. Но
они впадают в дикую ярость при первом же взгляде на поля. Любопытно,
не правда ли? А витрины, бетон, цемент, асфальт, толпа, неоновые
огни, карманные воришки, полицейские, бордели, все оживление
столичного Бонди84 — все это их успокаивает и сулит целительный ночной
отдых.
— Тротуар — не ваша собственность, — сказал полицейский.
— Осторожно, — сказал Уотт. — Видите, они начинают
беспокоиться. Я не уверен, что сумею их сдержать.
— Вы мешаете добрым людям идти своей дорогой, — сказал
полицейский. — Это пора прекратить.
— Конечно, — сказал Уотт. — Сейчас все устроим. Вот увидите. —
Он отпустил их руки и обхватил их за талии, прижимая к себе. —
Вперед, красавчики, — сказал он. — Они пошли дальше, спотыкаясь,
на заплетающихся ногах. Полицейский смотрел им вслед. — Дерьмо, —
сказал он.
— Вам на нас наплевать, — сказал Камье. — Пустите меня.
86
Сэмюэль Беккет
— Ну-ну, и так хорошо, — сказал Уотт. — Мы все трое
припахиваем тлением, так и шибаем в нос. Видали, какую он рожу
скорчил? Еле удержался, чтобы нос не заткнуть. Поэтому он нас и
отпустил.
Они ввалились в какой-то бар, ввалились как попало, Камье и
Мерсье тянули к стойке, но Уотт усадил их за столик и зычным голосом
заказал три двойных.
— Вы мне, наверно, скажете, что никогда ни ногой сюда не
ступали, — сказал он. — Не стесняйтесь. Не смею заказать пиво, нас
за дверь вышибут.
Принесли виски.
— Я тоже искал, — сказал Уотт. — Совсем один, только я
думал, что знаю, чего ищу. Нет, вы только подумайте! — он воздел
ладони и провел ими по лицу, они медленно скользнули по плечам,
по груди и вновь встретились на коленях. — Невероятно, но факт, —
сказал он.
Исчезающие руки-ноги болтались в сером воздухе. Шум и гам были
размечены крошечными паузами мертвого молчания.
— Он родится, он рождён от нас, — сказал Уотт, — тот, кто, ничего
не имея, ничего не будет хотеть, кроме того ничто, что имеет.
Мерсье и Камье внимали этим речам с рассеянным вниманием.
Они начинали поглядывать друг на друга взглядом, в котором мелькало
нечто от прежних времен.
— Я чуть было не сдался, — сказал Камье.
— Ты возвращался на то место? — сказал Мерсье.
Уотт потирал руки.
— Вы меня радуете, — сказал он, — в самом деле радуете. Даже
утешаете.
— А потом я подумал... — сказал Камье.
— Если бы вы когда-нибудь могли почувствовать, — сказал Уотт, —
то, что я сейчас чувствую. Это не избавит вас от ощущения напрасно
прожитой жизни, но вы поймете — как бы вам объяснить?..
— Потом я подумал, — сказал Камье, — что тебе наверное придет
в голову то же, что и мне. Ну в общем, сам понимаешь. Эта причина
была не единственной, а просто первой пришедшей мне в голову.
— Ты не возвращался на то место? — сказал Мерсье.
—- Капля тепла, согревшего старое сердце, — сказал Уотт, — да,
самая капелька тепла, согревшего бедное старое сердце.
— Я бы, конечно, вернулся посмотреть, — сказал Камье, — но
боялся наткнуться на тебя. Недурной виски.
Уотт с силой стукнул по столу, и в зале тут же установилась
внушительная тишина. По-видимому, он того и хотел, ибо голосом,
рокочущим от страсти, воскликнул:
— Жизнь — к расстрелу!
Мерсье и Камье
87
Поднялся негодующий ропот. Подошел управляющий, а может, даже
хозяин. Он был одет со всем тщанием. Кому-то, вероятно, учитывая,
что на нем были жемчужно-серые брюки, пришлись бы больше по вкусу
черные ботинки, а не желтые, в которые он был обут. Но в конце
концов он был у себя дома. В качестве бутоньерки он выбрал
тюльпан. — Выйдите, — сказал он.
— Откуда? — сказал Камье. — Отсюда?
— Убирайтесь, — сказал управляющий. Наверно, это был
управляющий. Но до чего не похож на господина Гэста!
— Он только что потерял единственного ребенка, — сказал
Камье, — единственное свое дитя.
— Двойняшневого, — сказал Мерсье.
— Он вне себя от горя, — сказал Камье, — это так понятно.
— Его жена в агонии, — сказал Мерсье.
— Мы от него ни на шаг, — сказал Камье.
— Еще одну двойную, — сказал Мерсье, — если нам удастся
заставить его проглотить, он спасен. ·
— Он как никто, — сказал Камье, — любит жизнь, скромную
повседневность, невинные радости и даже сами горести, помогающие
нам разобраться с искуплением грехов. Растолкуйте этим господам. У
него вырвался вопль протеста. Его утрата так свежа! Завтра, над своей
овсянкой, он устыдится этого.
— Он утрет губы, — сказал Мерсье, — сунет салфетку в кольцо,
возденет руки к небесам и возопит: «Блаженны мертвые, коих уж нет!»
— Если бы он разбил рюмку, — сказал Камье, — мы бы первые
его осудили. Но ничего подобного не было.
— Забудьте об этом инциденте, — сказал Мерсье. — Он не
повторится. Правда, Тото?
— Подайте губку, — сказал Камье, — как у святого Матфея.85
— И принесите нам то же самое, — сказал Мерсье. — Вкусный у
вас виски.
— Давненько я не пробовал такого хорошего виски, — сказал
Камье.
— Черешневую? — сказал управляющий.
— Двойняшневую, — сказал Камье.
— Да, — сказал Мерсье, — всего по два, только задница одна.
Похороны послезавтра. Правда, Тото?
— Это все из-за организатора, ему же наплевать, — сказал Камье.
— Из-за организатора? — сказал управляющий.
— Каждому олуху свое бремя, — сказал Мерсье. — А вы не знали?
Иногда он сбивается с курса. Вас это удивляет?
— Уймите его, — сказал управляющий. — Не толкайте меня на
крайние меры. — Он удалился. Он был тверд без жесткости, человечен
без заискивания, у него было чем оправдаться перед своими завсегда-
88
Сэмюэль Беккет
таями, по большей части мясниками, которых смерть агнца86 сделала
несколько нетерпимыми.
Принесли по второй порции выпивки. Сдача с первой осталась
лежать на столе. — Это вам, друг мой, — сказал Камье.
Управляющий переходил от группы к группе. Мало-помалу в зале
опять воцарилось оживление.
— Как можно говорить подобное? — сказал Камье.
— Думать такое —- и то оскорбительно, — сказал Мерсье.
— По отношению к человечеству, — сказал Камье.
— И к животным, — сказал Мерсье.
— Бог ему судья, — сказал Камье.
— Вот именно, — сказал Мерсье.
Уотт, казалось, уснул. Ко второму стаканчику он не притронулся.
— Немного воды? — сказал Камье.
— Оставь его в покое, — сказал Мерсье.
Мерсье встал и подошел к окну. Он просунул голову между шторой
и стеклом, что, как он и предвидел, позволило ему увидеть небо. Оно
еще не потускнело. Одновременно он заметил — о чем и не
подозревал — что с неба падал тонкий и, наверно, ласковый дождик. Стекло
не намокло. Мерсье вернулся к столику и снова сел.
— Знаешь, о чем я часто думаю? — сказал Камье.
— Дождь идет, — сказал Мерсье.
— О козе, — сказал Камье.
Мерсье смущенно смотрел на Уотта.
— Ты не помнишь? — сказал Камье. День хватал за душу скверной
погодой.
— Где я видел этого типа? — сказал Мерсье. Он отодвинул назад
стул, пригнулся и снизу стал всматриваться в лицо, сплющенное под
шляпой.
— И старый Мэдден тоже... — начал Камье.
Внезапно Уотт схватил трость Камье, размахнулся, поднял и в ярости
стукнул по соседнему столику, за которым перед растянувшейся надолго
кружкой пива человек с бакенбардами читал газету и курил трубку.
Случилось то, что должно было случиться, стеклянный столик разлетелся
вдребезги, трость переломилась пополам, кружка опрокинулась, а
человек с бакенбардами полетел навзничь, по-прежнему сидя на стуле, с
трубкой в зубах и газетой в руке. Уотт швырнул остававшийся у него
в руках конец трости в сторону стойки, свалив оттуда несколько бутылок
и уйму стаканов. Уотт дождался, пока затих разнообразный стук и звон,
а потом взвыл:
— К чертям собачьим такую жизнь!
Мерсье и Камье, словно их дернули за одну и ту же веревочку,
стремительно допили свои стаканы и побежали к выходу. Там они
обернулись. Какофонию на мгновение перекрыл полузадушенный рев:
Мерсье и Камъе
89
— Да здравствует Квин!87
— Дождь идет, — сказал Камье.
— Я тебе говорил, — сказал Мерсье.
— Ну, пока, — сказал Камье.
— Не проводишь меня немного? — сказал Мерсье.
— Тебе куда? — сказал Камье.
— Я теперь живу на другом берегу канала, — сказал Мерсье.
— Мне не по дороге, — сказал Камье.
— Оттуда такой вид открывается, не пожалеешь, — сказал Мерсье.
— Не думаю, — сказал Камье.
— Ну как хочешь, — сказал Мерсье.
— Нет, серьезно, — сказал Камье.
— Пропустим по последней, — сказал Мерсье.
— У меня ни гроша, — сказал Камье.
Мерсье сунул руку в карман.
— Нет, — сказал Камье.
— У меня есть, — сказал Мерсье.
— Нет, я сказал, — сказал Камье.
— Это похоже на полярные цветы,88 — сказал Мерсье. — За полчаса
управимся.
— Каналы меня больше не волнуют, — сказал Камье.
В молчании дошли до конца улицы.
— Теперь направо, — сказал Мерсье. Он остановился.
— Что с тобой? — сказал Камье.
— Я останавливаюсь, — сказал Мерсье.
— Так ведешь ты меня, — сказал Камье, — смотреть на твои
чертовы прыщики или не ведешь?
Свернули направо, Камье по тротуару, Мерсье по ручью.
— Да здравствует кто? — сказал Камье.
— Мне послышалось «Квин», — сказал Мерсье.
— Это, по-моему, кто-то несуществующий, — сказал Мерсье.
Виски все-таки пошел им на пользу. Для стариков они шагали
довольно споро. Камье жалел о своей трости.
— Жаль мне трости, — сказал Камье, — еще отцовская.
— Ты мне никогда не говорил, — сказал Мерсье.
— Знал бы ты, — сказал Камье.
— Знал бы я что? — сказал Мерсье.
— В сущности, — сказал Камье, — мы говорили о чем угодно,
кроме нас самих.89
— Плохо работали, — сказал Мерсье, — я и не спорю. — Он
подумал. И произнес обрывок фразы: — Может, мы бы...
— Какой глухой закоулок, — сказал Камье, — не здесь ли мы
потеряли рюкзак?
— Недалеко отсюда, — сказал Мерсье.
90
Сэмюэль Беккет
Между высокими старыми домами полоска бледного неба казалась
еще уже, чем улица. А должна бы, наоборот, казаться шире. Ночь шутит
иногда такие шутки.
— Теперь все в порядке? — сказал Мерсье.
— Как? — сказал Камье.
— Я спрашиваю, как ты сейчас, в порядке, более-менее? — сказал
Мерсье.
— Нет, — сказал Камье.
Спустя несколько минут на глаза ему навернулись слезы. Старики
вопреки тому, что можно подумать, довольно легко пускают слезу.
— А ты? — сказал Камье.
— Тоже нет, — сказал Мерсье.
Дома становились все реже, расстояние между ними — все больше,
небо делалось просторнее, им вновь было видно друг друга, достаточно
было только голову повернуть, одному вправо, другому влево, поднять
голову и повернуть. Потом вдруг все перед ними расступилось,
пространство словно распустилось подобно бутону,90 земля исчезла в тени,
которую она отбрасывает в небеса. Но подобные развлечения всегда
недолги, и им тут же найесло удар их собственное положение, а
именно — положение двух людей, высокого и низенького, на мосту.
Мост сам по себе был очарователен, если верить знатокам. Почему бы
и нет? Как бы то ни было, он назывался Шлюзовым, причем с полным
правом: чтобы в этом убедиться, достаточно было опустить голову.
— Вот мы и на месте, — сказал Мерсье.
— Здесь? — сказал Камье.
— К концу все пошло быстро, — сказал Мерсье.
— А твой хваленый вид? — сказал Камье.
— Да посмотри, — сказал Мерсье.
Камье поискал ответа со всех сторон.
— Не подгоняй меня, — сказал он, — я сейчас.
— С берега видно лучше, — сказал Мерсье.
— Тогда с чего мы тут торчим? — сказал Камье. — Ты хотел
повздыхать?
Спустились на берег. Там была скамья, со спинкой. Сели.
— Значит, это здесь, — сказал Камье.
Над каналом бесшумно шел дождь. Мерсье стало грустно. Но прямо
над горизонтом тучи разлохматились длинной редкой и черной
бахромой, волосами плакальщицы. Природа бывает подчас очень чуткой.
— Я вижу нашу товарку по заключению, Венеру, — сказал
Камье, — похоже, что ей грозит страшная опасность со стороны Сар-
гассова моря.91 Надеюсь, не ради этого ты меня сюда затащил.
—- Дальше, дальше, — сказал Мерсье.
Камье свернул руку подзорной трубкой.
— Но ведь я не слепой, — сказал он.
Мерсье и Камье
91
— Севернее, — сказал Мерсье. — К северу, говорю тебе, не к югу.
— Погоди, — сказал Камье.
Чуть дальше, чуть ближе.
— Цветы, да? — сказал Камье.
— Видел? — сказал Мерсье.
— Я видел два-три зыбких огонька, — сказал Камье.
— Просто надо привыкнуть, — сказал Мерсье.
— С тем же успехом я могу ткнуть себя пальцем в глаз, — сказал
Камье.
— Это Остров блаженных, в который верили древние, — сказал
Мерсье.
— Они были нетребовательны, — сказал Камье.
— Вот увидишь, — сказал Мерсье, — ты плохо смотрел, но теперь
ты уже не забудешь, ты вернешься.
— Что это за мрачный барак? — сказал Камье. — Хлебопекарня?
— Здесь я его встретил, — сказал Мерсье.
— Кого? — сказал Камье.
— Уотта, — сказал Мерсье. — Он сказал, что часто сюда приходит.
— Что это за здание? — сказал Камье.
— Больница, — сказал Мерсье. — Для кожных болезней.
— Это для меня, — сказал Камье.
— И слизистой оболочки, — сказал Мерсье. Он прислушался. —
Сегодня не слишком воют, — сказал он.
— Может быть, еще рано, — сказал Камье.
Камье встал и подошел к воде.
— Осторожно, — сказал Мерсье.
Камье вернулся на скамейку.
— Помнишь попугая? — сказал Мерсье.
— Я помню козу, — сказал Камье.
— Я думаю, он умер, — сказал Мерсье.
— Мы встречали не так уж много животных, — сказал Камье.
— Я думаю, в тот день, когда она сказала нам, что отдала его в
деревню, он был уже мертвый, — сказал Мерсье.
— Не беспокойся о нем, — сказал Камье.
Он во второй раз подошел к воде. Некоторое время смотрел на
воду, потом вернулся на скамейку.
— Ладно, я пошел, — сказал он. — Прощай, Мерсье.
— Спокойной ночи, — сказал Мерсье.
Он смотрел в одиночестве, как гаснет небо, как сгущается тьма.
Когда горизонт канул, он по-прежнему не отрывал от него взгляда,
потому что по опыту знал, что возможны проблески. В темноте он и
слышал лучше, он слышал звуки, которые скрывал от него долгий день,
человеческий шепот, например, и шорох дождя по воде.
92
Сэмюэль Беккет
XII
Краткое изложение
двух предыдущих глав
X
Песчаная равнина.
Крест.
Развалины.
Мерсье и Камье расстаются.
Возвращение.
XI
Жизнь как выживание.
Камье один.
Мерсье и Уотт.
Мерсье, Камье и Уотт.
Последний полицейский.
Последний бар.
Мерсье и Камье.
Шлюзовый мост.
Мерсье один.
Сгущается тьма.
1^!Ш
^6^ΐ^ι^ι9έ!αία&£!&0^96ΰί0£@-
Никчемные тексты
ι
Внезапно, нет, со временем, со временем, оказалось, что я не могу
продолжать, не могу. Кто-то сказал: «Вы не можете здесь оставаться».
Я не мог здесь оставаться и не мог продолжать. Сейчас опишу место,
это все не важно. Вершина, очень плоская, вершина горы, нет, холма,
но такого дикого, такого дикого, более чем. Грязь, вереск по колено,
неприметные овечьи тропки, глубокие разломы. На дне одного такого
разлома я и возлежал, укрывшись от ветра. Прекрасная панорама, если
бы все не заволокло туманом, долины, озера, равнину, море. Как
продолжать? Не надо было начинать, нет, надо. Кто-то сказал, может
быть, тот же самый: «Зачем вы пришли?» Я мог остаться в своем углу,
где тепло и сухо, под крышей, не мог. Сейчас опишу мой угол, нет,
не могу. Все просто, я больше ничего не могу, да, так говорят. Говорю
телу: «Пошевеливайся, вставай», и чувствую, как оно послушно
напрягается, словно старая кляча, упавшая на улице, потом уже не
напрягается, потом опять напрягается, но скоро сдастся. Говорю голове: «Оставь
его в покое, не беспокойся», она задерживает дыхание, потом начинает
задыхаться еще больше. Я в стороне от всех этих сложностей, не надо
вмешиваться, мне ничего не надо, ни идти дальше, ни оставаться там,
где есть, мне, правда, все равно. Лучше бы я повернулся к ним спиной,
к телу, голове, пускай сами как хотят, пускай сами перестанут, я не
могу, мне самому пора перестать. Ах да, я же, можно сказать, не один,
и все глухие, и более того, связаны между собой на всю жизнь. Другой
говорит, или это тот же самый, или первый, голос у них у всех один
и тот же, мысли одни и те же: «Вам просто надо было остаться дома».
Дома. Они хотели, чтобы я вернулся домой. По месту жительства. Если
бы не туман, да при остром зрении, я бы мог увидеть его отсюда в
подзорную трубу. Это не просто усталость, я не просто устал, хотя шел
в гору.1 И не то чтобы я хотел здесь остаться. Я слышал, безусловно
слышал толки о красотах, о чеканном свинцовом море там, далеко
94
Сэмюэль Беккет
внизу, о равнине, якобы золотой, многажды воспетой, о двойных
долинах, о ледяных озерах, о струйках дыма над столицей, все только
об этом и твердили. Кто эти люди, кстати? Когда они пришли — после
меня, вместе со мной, до меня? Я в яме, которая вырыта столетиями,
столетиями непогоды, лежу лицом к бурой земле со стоячей, медленно
впитывающейся, шафранно-желтой водой. Они там, наверху, обступили
меня, как на кладбище.2 Не могу поднять на них глаз, жаль. Не увижу
лиц. Только утопающие в вереске ноги. А видят ли они меня, и если
да, то что именно? Может, никого уже нет, может, им стало противно
и они ушли. Слушаю и слышу все те же мысли, я имею в виду те же,
что всегда, странно. Подумать только, что в долине солнце светит на
склоне обезумевшего неба. Как долго я здесь торчу? Ну и вопрос,
сколько раз я его себе задавал. И часто удавалось ответить: «Час, месяц,
год, сто лет», смотря что я понимал под «долго», под «здесь» и под
«я», и никогда я не искал в них ничего необычного, никогда не пытался
внести разнообразие, там просто нечему было меняться, кроме «здесь»,
да и то чуть-чуть. Или я говорил: «Наверное, недавно», потому что
иначе я бы не выдержал. Слышу куликов, значит, день отступает, ночь
наступает, кулики — они такие, кричат перед приходом ночи, а весь
День промолчали. Они такие, дикие твари, да, такие, и жизнь у них
очень короткая по сравнению с моей. И еще другой вопрос, который
мне тоже прекрасно известен: «Почему я здесь», и тоже без ответа, так
что я отвечал: «Для разнообразия», или: «Это не я», или: «Случайно»,
или: «Из любознательности», или наконец в самые буйные годы: «Такая
судьба», я слышу ее поступь, пускай приходит, врасплох ей меня не
застать. Кругом гул, черный торф, насыщенный влагой, но готовый пить
еще и еще, по исполинским папоротникам проходит зыбь,3 вереск в
черных безднах спокойствия, в которых тонет ветер, моя жизнь с ее
старыми навязшими в зубах мотивами: Из любознательности, Для
разнообразия, нет, это я видел, все видел, до мозолей на глазах, не для
того чтобы укрыться от зла, зло причинено, зло уже причинили, в тот
день я вышел, волоча ноги, созданные для ходьбы, созданные, чтобы
делать шаги, ноги, которые я истомил хождением, которые приволокли
меня сюда, вот почему я здесь. И что я делаю, самое главное, я дышу
и говорю себе словами, словно сотканными из дыма: «Я не могу
остаться, не могу уйти, посмотрим, что дальше будет». А каковы
впечатления? Господи, разве я могу жаловаться, это все он, но под
сурдинку, как под снегом, минус жара, минус сон, а все эти голоса,
все участники, я совсем неплохо за ними слежу, в меня проникает
холод, и сырость тоже, по крайней мере мне так кажется, я ведь далеко.
О своем ревматизме во всяком случае я больше не думаю, он меня
мучит не больше, чем мамин, когда маму мучил ревматизм. Терпеливый
и пристальный глаз навыкате, на лице застыло выражение изумленного
стервятника, зоркий глаз, это миг его торжества, это, быть может, миг
Никчемные тексты
95
его торжества. Я там, наверху, и я здесь, такой, каким я себя вижу,
разлегся, глаза закрыты, ухом-присоской прижимаюсь к сосущему
торфянику, мы ладим, все друг с другом ладим, всегда, в сущности, ладили,
очень друг друга любим, жалеем, просто так уж вышло, что мы ничего
не можем. Ясно, что через час будет уже слишком поздно, через полчаса
стемнеет, а кроме того, это еще под сомнением, да чего там, в чем
сомневаться-то, никакого сомнения быть не может: чего нельзя ночью,
то можно днем, если знаешь, как взяться за дело, если хочешь взяться
и если можешь, если можешь еще попробовать. Туман рассеется, это я
знаю, сколько ни отвлекайся, ветер посвежеет, как только станет темно,
и на гору наляжет ночное небо с его светилами, и все их медведицы
станут мне вожатыми, опять укажут мне путь, давайте дождемся ночи.
Перепуталось все, перепутались времена, поначалу я только был здесь
когда-то давно, теперь я здесь и раньше был здесь, а вот сейчас меня
здесь еще не будет, я буду с трудом карабкаться по середине косогора
или блуждать в зарослях папоротника, которые тянутся вдоль леса, это
лиственницы,4 не пытаюсь понять, никогда больше и пытаться не буду,
похоже на то, вот сейчас я здесь, и всегда был, и всегда буду, никогда
больше не стану бояться громких слов, они не громкие. Не помню, как
пришел, уйти не смогу никогда, весь мой маленький мир, закрою глаза
и щекой чувствую шершавый и влажный перегной, с меня свалилась
шляпа, упала рядом или ветер унес ее вдаль, мне это казалось важно.
То это море, то гора, часто был лес, город, и равнина тоже, я и равнину
попробовал, где я только не ждал смерти, от голода, от старости, меня
убивали, я тонул, да и беспричинно, чаще всего беспричинно, от скуки,
это бодрит, последний вздох, да комнаты, где меня настигала
естественная смерть в постели, где я, содрогаясь среди моих пенатов, всякий
раз бормотал одни и те же речи, одни и те же истории, одни и те же
вопросы и ответы, вот какой молодец, почти молодец, глупец из
глупцов —- никогда ни одного проклятия, я не так глуп или просто
забыл. Да, до конца, тихим голосом, сам себя баюкая, сам себя занимая
и, как прежде, внимая, внимая старым историям, как в те времена,
когда отец держал меня на коленях и читал мне про Джо Брима, или
Брина, сына смотрителя маяка, вечер за вечером, всю долгую зиму. Это
была сказка, сказка для детей, дело было на скале, в бурю, мать умерла
и чайки с размаху разбивались о стекло маяка, Джо бросился в воду,
вот все, что я помню, с ножом в зубах, сделал, что было надо, и
вернулся, вот все, что я помню нынче вечером, конец был хороший,
начиналось плохо, а конец был хороший, каждый вечер, комедия для
детей. Да, я был моим отцом и я был моим сыном, задавал себе вопросы
и, как умел, отвечал, заставлял себя пересказывать вечер за вечером
одну и ту же историю, которую знал наизусть, хотя не мог в нее верить,
или мы шли, держась за руки, молча, погруженные каждый в свои
миры, каждый в свои, и наши руки по забывчивости оставались одна
96
Сэмюэль Беккет
в другой. Так я и продержался до нынешнего часа. И сегодня вечером
все еще как будто в порядке, я у себя в руках, держу себя в руках, без
особой нежности, но с неизменной верностью, с неизменной верностью.
Уснем вповалку, как под той далекой лампой, когда, бывало,
наговоримся, наслушаемся, нагорюемся, наиграемся вдоволь.
II
Там наверху как будто свет, какое-то движение, и вроде так светло,
что можно разглядеть, как движутся фигурки, не слишком напрягаясь,
как сходятся, расходятся, лавируя искусно, не слишком напрягаясь,
глазами что-то ищут, потом глаза прикроют, замрут, не замирая, покуда
происходит мельтешение фигурок. Если только это не изменится, если
только не остановится. Вещи тоже еще там, чуть больше потрепаны, и
стало их чуть поменьше, многие на тех же местах, что во времена своего
равнодушия. Еще один стеклянный колпак, как он быстро становится
непригодным для жилья, надо отсюда уходить. В том-то и дело, там,
где ты есть, всегда непригодно для жилья, вот так. Тогда уйти, нет,
лучше остаться. Потому что куда же теперь, когда знаешь? Опять наверх?
Нет, правда. Туда, где вроде бы так светло. Опять увидеть скалы, быть
там, между морем и скалами, метаться взад и вперед, втянув голову в
плечи, зажав ладонями уши, быстро, невинно, мутно, вредно. Искать
в ночном свете, ненужном, спрос не превышает предложения, и
окопаться, не солоно хлебавши, с первым лучом рассвета, с первым
проблеском дня. Вновь увидать мадам Кальве, снимающую сливки с
помойки, пока не приехали мусорщики. Мадам Кальве. Она, наверно, и
поныне там. Со своим псом и скелетиком детской коляски. Куда уж
лучше. Она тихо говорила сама с собой, бормотала: мой президент, мой
принц. В руке у нее было что-то вроде трезубца. Пес становился на
задние лапы, цеплялся за край бачка, копался в мусоре вместе с ней.
Он ей мешал, она все ему позволяла, говоря: «Мерзкая тварь». Вот
хорошее воспоминание. Мадам Кальве. Она знала, чего хочет, а может
быть, даже чего она хотела раньше. И красоты, силы, ума, света каждый
день, деятельности, поэзии, чего угодно, для всех. Если бы только было
можно больше этого не знать. Перестрадать в этом жидком свете, какая
оплошность. Она вела себя так, что ничего ужасного не было видно,
ничего не заметно было из того, что было на самом деле, иначе бы
все пропало. А теперь здесь, какое теперь здесь, огромная секунда, как
в раю, и мысль крутится медленно, медленно, почти стоит. Хотя оно
меняется, что-то меняется, вероятно в голове, в голове медленно
треплется кукла, мы наверное внутри головы, темно как в голове, пока туда
не забрались черви. Каменный мешок слоновой кости. Слова тоже,
Никчемные тексты
97
медленно, медленно, подлежащее умирает, не успев добраться до
глагола, слова замирают тоже. Ну что, лучше, чем во времена болтовни?
Верно, верно, в этом плюс. А отсутствие других, это разве ничего? Ну,
другие, их вообще не бывает, кому они когда мешали. Впрочем, наверно,
здесь они тоже есть, другие другие — невидимые, немые, неважно.
Прятался от них, это да, вжимался в их стены, все так, этого здесь не
хватает, разнообразия не хватает, и это минус, да ладно, об этом уже
говорили там наверху, живой горчичник. Пока слова будут приходить,
ничего не изменится, опять эти старые слова. Говорить, и все, говорить,
выплескивать из себя, здесь, как всегда, только это. Но они сякнут,
это правда, это все меняет, они приходят туго, это плохо, плохо. Или
боишься добраться до самых последних, окончательно выговориться и
рассчитаться, нет, потому что это и будет конец, конечный счет, кто
его знает. Чувствовать, что хочешь стонать, а не можешь, ох, лучше
приберечь силы, подождать настоящей агонии, она обманчива, думаешь
началось, начинаешь выть, оживаешь, благотворное воздействие вытья,
лучше помолчать, единственное средство, если хочешь сдохнуть, ни
гу-гу, лопнуть, треснуть от сдавленных в глотке проклятий, взорваться
от молчания, все возможно, но что дальше. Не смерть, не могила,
ничего подобного, какая там могила, это было бы слишком. Там,
наверху, может быть, лето, может быть, воскресенье, воскресный летний
день. Месье Жоли5 на колокольне, починил башенные часы, теперь
звонит в колокола. Месье Жоли. У него было только полторы ноги.
Воскресенье. Уходить из дому было нельзя. Дороги кишели людьми,
те самые дороги, которые ко мне так часто бывали добры. Здесь хотя
бы ничего подобного нет, о творце ни слуху ни духу, а с природой
все тоже не слишком понятно. Сухо, пожалуй, а может, и мокро, или
тина, как до возникновения жизни. Воздух, что ли, из-за чего я тут
еще давлюсь, иногда почти вслух, может быть, это такой воздух. Что
произошло, собственно, собственно, ах, старый ксантиновый смех,6
все же нет, с плеч долой, никогда в этом ничего забавного не было.
Нет, но последнее воспоминание, последнее, это может помочь опять
пойти на дно. Пирс, волов погоняющий среди равнины, нет, вот он
в конце борозды глаза возвел к небесам и сказал: «Ясной погоде
конец». И впрямь, вскоре повалит снег. Иными словами, как черна была
ночь, когда стемнело наконец, но нет, несмотря на тучи, не столь
черна. Долог был путь, что вел в убежище через поля, извилист,
он, наверно, и ныне проходит по тем же местам. На самом краю
скалы он устремляется вниз, отчаянно, нет, искусно, как серна,
крутыми зигзагами сбегая к песчаному берегу. Никогда еще море не
грохотало так вдалеке, море под снегом, хотя превосходные степени
уже никого не чаруют. День не принес плодов, еще бы, в эту-то
пору года, пору последних луковок. Что ни говори, это было
возвращение, не все ли равно к чему, благополучное, а ведь оттуда не воз-
4 С Беккет
98
Сэмюэль Беккет
вращаются. Что это было? Встреча? Внезапный удар? Нет. Перед фермой
братьев Грейвз7 ненадолго помедлить у освещенного окна. Свет
вдали, красный, ночь, зима, это кара, это, наверно, была кара. Вот так-то,
готово, на этом все кончено, на этом со мной покончено. Далекое
воспоминание, далеко не последнее, пожалуй, на вид я еще хоть
куда. Жаль, что надежда умерла. Нет. Как мечталось там, наверху,
временами. Насколько все было иначе.
ш
Оставь, я хотел сказать, оставь это все. Какая разница, кто говорят,
кто-то сказал, какая разница кто. Скоро мне уходить отсюда, там буду
я, это буду не я, я буду здесь, скажу, что я далеко, это буду не я, я
ничего не скажу, выйдет история, кто-то попробует рассказать историю.
Да, довольно опровержений, все вранье, никого нет, это ясно, ничего
нет, довольно фраз, останемся в дураках, останемся в дураках у времени,
у любых времен, пока все не пройдет, пока все не останется в прошлом,
пока не прервутся голоса, это лишь голоса, вранье и больше ничего.
Здесь, уйти отсюда, в другое место, или остаться здесь, но ходить
туда-сюда.8 Сперва шевельнись, здесь должно быть тело, как когда-то,
я же не возражаю, я возражать не стану, скажу, что у меня тело, тело,
ерзающее туда и сюда, снующее вверх и вниз, смотря что ему надо. С
кучей членов и органов, с которыми можно еще пожить, продержаться
какое-то время, я назову это жить, скажу, что это я, встану на ноги,
я перестану думать, я буду слишком занят стоянием на ногах,
постоянным стоянием на ногах, переползанием с места на место, терпением,
дотягиванием до утра, до понедельника, хватит с меня, недели хватит
с меня, одна неделя весной, это очень бодрит. Достаточно захотеть, и
я захочу, захочу тело, голову, капельку сил, капельку мужества, начну
прямо сейчас, неделя промчится быстро, а там и назад, это безвыходное
место, от дней вдалеке, дни далеко, это не будет легко. Но почему в
конце-то концов, нет, нет, оставь, не начинай сначала, не слушай все
подряд, не говори все подряд, все старо, все одно и то же, раз и
навсегда. Ты же стоишь на ногах, уверяю тебя, клянусь, это так и есть,
пошевели руками, пощупай себе голову, там у тебя мозги, а без них
никуда, потом остальное, нижний этаж, он тебе тоже нужен, и скажи,
какой ты из себя, прикинь, что ты за человек, мужчина или женщина,
пощупай между ног, узнаешь, красота необязательна, сила тоже, неделя
промчится быстро, никто тебя не полюбит, не бойся. Нет, не так, это
слишком быстро, я себя напугал. И потом для начала перестань дрожать,
никто тебя не убьет, о нет, никто тебя не полюбит и никто тебя не
убьет, можешь впасть в высокогорную депрессию Гоби,9 ты там будешь
Никчемные тексты
99
как дома. Я подожду тебя здесь, совершенно спокойный, за тебя
спокойный, нет, я же один, больше никого, это я сам ухожу, на сей
раз ухожу я сам. Знаю, как я сделаю, буду мужчиной, так надо, вроде
мужчины, старенького ребенка,10 у меня будет гувернантка, она будет
меня любить, даст мне руку, переведет через дорогу, отпустит меня в
саду, я буду вести себя хорошо, стану в уголок, расчешу себе бороду,
приглажу, чтобы выглядеть симпатичнее, чуть-чуть симпатичнее, если
получится. Она мне скажет: «Иди сюда, мой красавчик, пора домой».
Я ни за что не буду отвечать, за все будет отвечать она, ее будут звать
Няня, я буду ее звать Няня, если можно. «Иди, мой зайчик, пора пить
молочко». Кто научил меня всему, что я знаю, все сам, еще в годы
странствий, я все понял из наблюдений над природой, с помощью
справочника, я-то знаю, что это не я, но поздно, слишком поздно
отпираться, знания здесь, вспыхивают и гаснут, одно за другим, близкие
и далекие, мерцают над бездной, в сговоре против меня. Оставь, надо
идти, или хотя бы сказать, пора, неизвестно почему. Не все ли равно,
что ты о себе скажешь, здесь или там, привязанный к месту или
передвижной, бесформенный или продолговатый, как люди, во тьме
или при свете небесных огней, не знаю, а ведь это, наверное, важно,
это будет нелегко. А если вернуться туда, где все погасло, и начать
сначала, нет, это ничего не даст, никогда ничего не давало, память об
этом тоже угасла, сильная вспышка, а потом темнота, сильный спазм,
а потом ни веса, ни пространства, не знаю. Я пытался падать со скалы,
падать на улице, среди смертных, это ничего не дало, я махнул рукой.
Еще раз проделать путь, который привел меня сюда, а потом повернуть
назад или идти дальше, разумный совет. Это чтобы я больше никогда
не двигался с места, чтобы я здесь маялся до конца времен и раз в
тысячу лет бормотал: «Это не я, неправда, это не я, я далеко». Нет-нет,
я сейчас буду говорить о будущем, буду говорить в будущем времени,
как тогда, по ночам, когда я говорил себе: «Завтра надену синий галстук,
в звездах», и когда ночь проходила, я его надевал. Скорей, скорей, пока
я не заплакал. У меня будет друг, нас вместе повысят в звании, земляк,
одного призыва со мной, мы будем воскрешать в памяти наши походы,
сравнивать шрамы. Скорей, скорей. У него за плечами служба во флоте,
может быть, под началом Джеллико,11 пока я, укрывшись за бочкой
Гиннеса, обстреливал захватчиков из своей пищали. Теперь нас уже
ненадолго хватит, да-да, осталось немного, нынешняя зима нас
доконает, аллилуйя. Спрашивается, что приведет нас к концу. Он погибает
от легких, я скорее от простаты. Мы друг другу завидуем, он мне
завидует, я ему завидую, временами. Я ставлю себе катетер в
одиночестве, дрожащей рукой, стоя в общественной уборной, согнувшись
пополам, накрывшись плащом, чтобы никто не видел, меня принимают
за порочного старикашку. Тем временем он ждет меня на скамейке,
вибрируя от приступов кашля, сплевывая в табакерку, а когда она
100
Сэмюэль Беккет
переполняется, опорожняет ее в канал, из чувства долга перед
обществом. У нас заслуги перед отечеством, оно нас в конце госпитализирует.
Мы проводим жизнь, какую есть, в мечтах завладеть одновременно
лучом солнца и бесплатной скамьей в оазисе городской листвы,
научились любить природу, на склоне лет, она для всех людей, местами. Он
мне читает вчерашнюю газету, тихим голосом, задыхаясь, лучше бы он
был слепым. Мы увлекаемся бегами, конными, собачьими, в политике
своих мнений не имеем, убеждения смутно республиканские. Но
интересуемся и Виндзорским домом, и Ганноверским,12 не помню, или
Гогенцоллернами.13 Первым делом перевариваем лошадиные и собачьи
новости, а после ничто человеческое нам не чуждо. Нет, в одиночестве,
мне лучше в одиночестве, так быстрее. Он бы кормил меня, у него был
знакомый колбасник, его мортаделла помогала бы моей душе вернуться
в тело. Своими утешениями, намеками на рак, воспоминаниями о
бессмертных восторгах, он бы не давал мне сбросить с плеч бремя
разочарованности. И вместо того чтобы иметь свои представления, даже
пускай бы потом я выбросил их в грязь, я бы отвлекался на то, как
это видит он. Я бы ему сказал: «Ладно, старик, кончай с этим, выброси
из головы», и я сам тоже выбросил бы все из головы, одурев от братских
чувств. А обязательства — особенно эти свидания в десять утра, в любую
погоду, перед Даггеном,14 где в это время уже масса народу и спортсмены
до открытия пивных спешат сделать ставки в надежном месте. Мы
являлись, теперь это в прошлом, тем лучше, тем лучше, минута в минуту.
Видеть, как под проливным дождем враскачку вышагивают останки
Винсента с непроизвольной бодростью старого морского волка, голова
обмотана окровавленной тряпкой,15 глаза горят, — это для тех, кто
понимает, было примером, на что способен человек в жажде
наслаждений. Одной рукой он придерживал грудную кость, тыльную сторону
другой прижимал к позвоночнику, нет, это все воспоминания,
допотопные уловки. Посмотреть, что здесь происходит, здесь, где нет никого,
где ничего не происходит, сделать так, чтобы что-нибудь произошло,
чтобы кто-нибудь был, потом положить этому конец, установить
тишину, уйти в тишину, или устроить другой шум, шум других голосов, не
жизни и смерти, жизней и смертей, которые не хотят быть моими,
войти в мою историю, чтобы потом из нее выйти, нет, это все вздор.
А если в конце у меня отрастет собственная голова, в которой будут
вариться всякие яды, достойные меня, и ноги, чтобы пританцовывать,
это было бы здорово, я мог бы уйти, больше я ни о чем не прошу,
нет, ни о чем не могу просить. Ничего — только голову и две ноги,
или одну, посредине, я бы ушел вприскочку. Или только голову, совсем
круглую,16 совсем гладкую, без выступов и впадин, я бы катился под
уклон, почти чистый дух, нет, так не выйдет, попробуем еще раз, нужна
нога, или эквивалент, может быть, несколько отростков, умеющих
сокращаться, с ними можно уйти далеко. Уйти прямо от Даггена,
Никчемные тексты
101
весенним утром, дождливым и солнечным, не зная наверняка, сумеешь
ли идти до вечера, что тут такого? Это было бы так легко. В ту плоть
заползти или в эту, в объятия той руки, сжимающей руку друга, или в
эту руку, без объятий, без руки и без души в этих трепещущих душах,
сквозь толпу, посреди обручей, мячей, что тут такого? Я не знаю, я
здесь, вот все, что я знаю, и то, что это не всегда я, к этому надо
как-то приспособиться. Нигде нет никакой плоти, умереть не от чего.
Оставь все это, самому захотеть оставить все это, не зная, что это
значит, все это, скоро все сказано, скоро все сделано, напрасно, ничто
не шевельнулось, никто не заговорил. Здесь ничего не произойдет, здесь
никого не будет, очень скоро. Уходы, передряги, это еще не завтра. И
откуда бы ни шли голоса, они безусловно мертвы.
IV
Куда бы я пошел, если бы я мог идти, кем бы я был, если бы я
мог быть, что бы я сказал, если бы у меня был голос, кто это там
говорит, говоря, что это я говорю? Ответьте просто, пусть кто-нибудь
ответит просто. Это все тот же вечный незнакомец, единственный, для
которого я существую, в щелке моего небытия, его небытия, нашего,
вот самый простой ответ. Он найдет меня не думая, но что он может
сделать, живой и смятенный, да, живой, что бы он там ни говорил.
Забыть меня, не знать обо мне, да, это было бы самое разумное, уж в
этом-то он понимает. Откуда это внезапное дружелюбие после такой
отверженности, это легко понять, так он себе говорит, но он не
понимает. Меня нет у него в голове, нет нигде в его старом теле, а
все-таки я там, для него я там, с ним, от этого такая путаница. Казалось
бы, ему бы могло хватить и того, что меня нет, но нет, подавай ему
меня сюда, во плоти и со всей вселенной в придачу, как он, назло ему,
меня, который есть все, в то время как он ничто. И когда он чувствует,
что я лишен бытия, он хочет лишить меня и своего бытия тоже, и
наоборот, сумасшедший, сумасшедший он, сумасшедший. На самом деле
он ищет меня, чтобы убить, чтобы я умер, как умер он и все живые.
Все это он знает, но это знание ничем ему не помогает, я не знаю
этого, я ничего не знаю. Он возражает, что и не думает рассуждать, а
сам только и делает что рассуждает, лицемер, словно это может ему
помочь. Он воображает, что бормочет, он воображает, что, если
бормотать, можно внедриться в мое молчание, молчать моим молчанием,
он хочет, чтобы это я заставлял его бормотать, ну конечно, бормочет
он, а не я. Каждые пять минут рассказывает свою историю, говорит,
что она не его, согласитесь, что это с его стороны неглупо. Он хочет,
чтобы это я мешал ему иметь свою историю, ну конечно, у него нет
102
Сэмюэль Бвккет
истории, но разве это повод навязывать историю мне? Вот как он
рассуждает, неправильно, согласен, но в чем неправильность, это еще
надо посмотреть. Он заставляет меня говорить, говоря, что это не я,
согласитесь, что это ловко подстроено, он заставляет меня говорить,
что это не я, а я-то ничего не говорю. Все это воистину глупо. Если
бы он еще удостаивал меня третьего лица, как другие свои химеры, но
нет, для своего я он желает только меня. Когда он обладал мной, когда
он был мной, он только и мечтал от меня отделаться, я не существовал,
это ему не нравилось, это была не жизнь, ну конечно, я не существовал,
и он тоже, ну конечно это была не жизнь, ну вот теперь у него есть
жизнь, пускай теряет ее, если ему покоя захотелось, и мало ли чего
еще. Его жизнь, поговорим об этом, она ему не нравится, значит, это
не его жизнь, это не он, представляете, так обращаться с собой, если
бы Моллой,17 если бы Мэлон,18 это бы еще ладно, смертные, счастливые
смертные, но он, вы себе не представляете, пройти через такое, ему-то,
который никогда с места не сдвигался, ему, который, если вникнуть в
суть, все равно что я, да и какая там суть, и как в нее вникнуть, нужно
было просто держаться подальше. Вот как он говорит сегодня вечером,
как заставляет меня говорить, как говорит сам с собой, как я говорю,
кроме меня, никого нет, я один с моими химерами сегодня вечером,
здесь, на земле, и голос, беззвучный, потому что не обращен ни к кому,
и голова, а в ней только сложенное оружие и мертвецы, которые сразу
встают на ноги, и тело, чуть о нем не забыл. Сегодня вечером, я говорю
вечером, хотя, может, сейчас утро. И все это, что «все», то, что вокруг
меня, я больше не хочу это отрицать, не стоит труда. Если это природа,
то, вероятно, деревья и птицы, они ходят рука об руку, вода и воздух,
чтобы все могло продолжаться, знать подробности мне ни к чему. Я,
может быть, сижу под пальмой. Или это комната с мебелью, со всем,
что надо для удобства жизни, полутемная из-за стены за окном. Что я
делаю, я говорю, заставляю говорить мои химеры, это не может быть
никто, кроме меня. Если молчать и слушать, слышишь звуки, те, что
здесь, те, что в мире, вы же видите, как я стараюсь быть рассудительным.
Вот моя жизнь, а что, какая есть, если угодно, если вы так настаиваете,
я не отказываюсь, сегодня-то вечером. Говорят, иногда нужно, чтобы
были слова, не история, как раз без истории можно обойтись, ничего,
кроме жизни, вот в чем моя вина, одна из моих вин, в том, что я
захотел историю, хотя хватает просто жизни. Я делаю успехи, было
время, в конце концов мне окажется под силу заткнуть мою грязную
пасть, если не случится чего-нибудь предвиденного.*9 Но тот, кто
приходит и уходит, кто совершенно один ухитряется перебраться с места
на место, даже если с ним ничего не происходит, очевидно, это он. Я
остаюсь здесь, сижу, если я сижу, часто я чувствую, что сижу, иногда
стою на ногах, или то, или другое, или вообще лежу, такое тоже
возможно, одно из трех, или на коленях. Важно вот что, быть в мире,
Никчемные тексты
103
все равно в какой позе, лишь бы на земле. Дышать, больше и не
требуется, ты не обязан бродить, не обязан принимать гостей, можно
даже считать себя мертвым при условии, чтобы это было заметно,
разве можно мечтать о более либеральном режиме, не знаю, не
мечтаю. Бесполезно в этих условиях говорить, что я в другом месте, что
я другой, такой, какой есть, я имею под рукой все что надо, чтобы
делать что, не знаю, все, что мне надо делать, вот я опять
наконец один, какое, должно быть, облегчение. Да, бывают мгновения,
как вот сейчас, как сегодня вечером, когда я как будто почти
возрождаюсь для чего-то исполнимого. Потом это проходит, все
проходит, я опять далеко, опять с отдаленной историей, и я жду сам себя
поодаль, жду, когда начнется моя история, когда кончится, и опять не
может быть, что этот голос мой. Вот куда я бы пошел, если бы мог
идти, вот кем бы я был, если бы я мог быть.
V
Я протоколист, я секретарь суда, где слушается дело, не знаю какое.
Зачем настаивать, что это дело мое, я не настаиваю. Вот так все
повторяется, вот первый вопрос этого вечера. Быть судьей и одной из
сторон, свидетелем и адвокатом, и тем, внимательным, равнодушным,
кто ведет протокол. В бессильной моей голове картина, на которой все
спит, все мертво, все еще не родилось, не знаю, или она у меня перед
глазами, они видят сцену, на миг она прорывается сквозь веки и остается
в глазах. Потом глаза быстро зажмуриваются вновь, и вглядываются
внутрь головы,20 пытаются заглянуть внутрь, ищут меня, ищут кого-то,
в тишине совсем другого правосудия, в паутине этой темной инстанции,
где быть значит быть виновным. Вот почему ничего не видно, все
молчит, страшно родиться, нет, хочется быть, чтобы скорей начать
умирать. Я говорю не вообще, а о себе, это совсем другое дело, там,
куда я вглядываюсь, желая хоть что-нибудь разглядеть, нет и не может
быть никакого желания. Я бы мог встать, пройтись, я этого страстно
хочу, но не сделаю. Знаю, куда бы я пошел, я бы пошел в лес, попытался
бы добраться до леса, хотя, может быть, я и теперь там, не знаю, где
я. Так или иначе, останусь здесь. Я понимаю, что происходит, я пытаюсь
быть как тот, у меня в голове, которого я ищу, которого ищет моя
голова, у которой я требую искать его, прощупывая саму себя изнутри.
Нет, не притворяйся, будто ищешь, не притворяйся, будто думаешь,
просто оставайся начеку, вытаращи глаза, прикрытые веками, насторожи
уши, лови звук непостороннего голоса, пускай хоть на секунду, на время
новой лжи. Слышу голос, это, должно быть, голос разума, мол, ожидание
напрасно, и лучше бы я пошел погулять, так переставляют оловянных
104 Сэмюэлъ Беккет
солдатиков. И, конечно, тот же голос отвечает, что я не могу, хотя
мгновение назад мне казалось, будто могу, наверное, чувство вмешалось,
оно, как всем известно, переменчиво, назойливо. Поццо21 — почему
он ушел из дому, у него были замок и слуги. Коварный вопрос, чтобы
мне не забыть, что я обвиняемый. Иногда я слышу вещи, которые на
мгновение кажутся правильными, на мгновение мне становится жаль,
что их сказал не я. Какое потом облегчение, какое облегчение знать,
что я немой навсегда, если бы только я от этого не страдал. И глухим,
мне кажется, будь я глухим, я бы меньше страдал оттого, что я немой,
надо же, какое облегчение, что у меня нет этого на совести. Ах да,
слышу, говорят, у меня есть что-то вроде совести и даже что-то вроде
чувствительности, надеюсь, оратор ничего не забыл, и, не переставая
слушать и царапать пером по бумаге, я огорчаюсь, готово, услышал,
записал. Сегодня вечером заседание протекает спокойно, то и дело
наступает долгое молчание, все глаза устремлены на меня, и все для
того, чтобы я совсем потерял контроль над собой, чувствую, как во
мне поднимаются невнятные вопли, записал. Краешком глаза слежу за
рукой, которая пишет, совершенно сбитая с толку... не отдаленностью,
а наоборот. Кто все эти люди, представители судейского сословия,
согласно картине, но исключительно согласно ей, а ведь есть и другие,
будут другие, другие картины, другие люди. Неужели я никогда больше
не увижу неба, никогда больше не смогу уходить и приходить, в солнце,
в дождь, ответ «нет», все отвечают «нет». К счастью, я ничего не
спрашивал, и пока эхо не замерло вдали, завидую им, завидую этой
чудовищной глупости. Небо, я слышал — небо и земля, я о них много
слышал, надо же, я все изложил слово в слово, ничего не выдумал. Я
записал, я, должно быть, записал много историй, они нужны в качестве
украшения, создают среду. Там, где находится герой, они образуют
большой зазор, а везде вокруг сливаются воедино, так что получается
вроде как вы находитесь под колпаком и все-таки можете перемещаться
до бесконечности в любую сторону, понимай, как знаешь, это не входит
в мою компетенцию. Море тоже, я и насчет моря в курсе, оно находится
в том же ряду, я даже несколько раз тонул, под несколькими
вымышленными именами, дайте отсмеяться, если бы только я мог смеяться,
все бы исчезло, что, да все, почем мне знать, я сам в лодке.22 Да, вижу
всю сцену, вижу руку, она медленно выступает из тени, из тени головы,
потом одним прыжком возвращается на место, это меня не касается.
Как маленький коротколапый зверек, она чуть проползает вперед из
укрытия, потом юркает назад, что тут слышать, я говорю, как слышу.23
Это рука протоколиста, имеет ли он право на парик, не знаю, когда-то,
возможно, имел. Что я делаю, когда восстанавливается тишина, ради
ораторского эффекта, или это эффект усталости, смущения, огорчения,
я провожу опять и опять между губ средней фалангой указательного
пальца, но шевелится голова, а рука неподвижна, вот такими деталями
Никчемные тексты
105
надеешься всех обмануть. Сегодня вечером оно так, завтра иначе,
возможно, я предстану перед церковным собором, это будет правосудие
высшей любви, суровое, как полагается, но подчас поддающееся
непонятной снисходительности, речь пойдет о моей душе, мне так больше
нравится, возможно, кто-нибудь призовет сжалиться над моей душой,
я бы не хотел это пропустить, но меня там не будет, Бога тоже, ничего,
будут наши представители. Да, это наверняка будет скоро, скоро
исполнится вечность, с тех пор как меня не подвергали вечному
проклятию, да, но довлеет дневи злоба его, сегодня вечером я веду протокол.
Сегодня вечером, всегда вечер, речь всегда о вечере, даже если утро,
это чтобы внушить мне, что наступает ночь, а с ней покой. Прежде
всего надо будет, чтобы я поверил, что я там, потом я уже проглочу
все остальное, я был бы легковернее всех на свете, если бы я там был.
Но я и так там, иначе и быть не может, и не надо иначе. И что толку
быть там, если не можешь в это поверить. До чего изнурительно — в
едином порыве выигрывать и проигрывать, со всеми сопутствующими
эмоциями, я же не деревянный, оглашать приговор, надевать шапочку
и падать в обморок, это в конце концов утомительно, я утомлен, будь
я на своем месте, я бы от этого переутомился. Это игра, это
превращается в игру, сейчас я встану и уйду, а если не я, то кто-нибудь еще,
призрак, да здравствуют призраки, призраки мертвых и живых и тех,
кто еще не родился на свет. Я провожу его запечатанными глазами,
ему не нужна дверь, не нужна мысль, чтобы выйти из этой воображаемой
головы, смешаться с воздухом, с землей, и капля за каплей раствориться
в изгнании. Я одержим, пускай они уйдут, один за другим, пускай
последние покинут меня, оставят меня пустым, пустым и безмолвным.
Они, они бормочут мое имя, говорят мне обо мне, говорят о каком-то
я, пускай уйдут и говорят о других, которые в них не поверят, или
которые в них поверят. Им, им принадлежат все эти голоса, они, как
звон цепей у меня в голове, бормочут мне, что у меня есть голова.
Там, там внутри этот вечерний суд, в глубине этой сводчатой ночи, это
там я веду протокол, не понимая того, что слышу, не зная, что пишу.
Это там будет завтра церковный собор, там будут молить о моей душе,
как о душе мертвеца, как о душе умершего младенца в чреве мертвой
матери, чтобы она, душа, не улетела в лимбы,24 какая прелесть это
богословие. Это будет в другой вечер, все происходит вечером, но это
будет та же самая ночь, в ней тоже бывают свои вечера, свои утра и
свои вечера, прелестная точка зрения, полная духовности, это чтобы я
верил, что день придет, который разгонит призраки. А теперь вот птицы,
первые птицы, это еще что за история, не забудь про вопросительный
знак. Это, должно быть, конец заседания, оно прошло спокойно, в
общем и целом. Да, так бывает, вдруг откуда ни возьмись птицы, и все
на мгновение умолкает. Но призраки возвращаются, напрасно они
уходят, смешиваются с умирающими, они возвращаются и проскаль-
106 Сэмюэль Беккет
зывают в гроб, маленький, как спичечный коробок, это они научили
меня всему, что я знаю, о том, что там, наверху, и всему, что мне
полагается знать о себе, они хотят меня создать, хотят меня сотворить,
как птичка птенчика, напитать личинками, за которыми она летает
далеко, с риском для — чуть не сказал с риском для жизни! Но довлеет
дневи злоба его, и боль его, выпадают и другие минуты. Да, со
временем здорово устаешь, здорово устаешь от боли, здорово устаешь
от пера, оно выпадает из рук, готово, записано.
VI
Что происходит между этими видениями? И если происходит, то
удается ли моим стражам отдохнуть и поспать, прежде чем вновь на
меня наброситься, и как это у них происходит? Вполне естественно,
что надо дать им возможность восстановить силы. Всем вместе? Может,
они играют в карты, понемножку, в шары, чтобы дать голове передышку,
имеют же они право перевести дух? Я бы сказал, будь у меня право
голоса в этом вопросе, что нет, никаких передышек, только немного
отдыха, слегка подкрепиться, в разумных пределах, ради здоровья. Они
любят эту работу, я это чувствую! Нет, но я хочу сказать, что происходит
со мной, а не с ними. Скверная слышимость сегодня вечером, правда,
сплошные обрывки.25 Новости, помнишь последние новости, вечерние,
за последний час, медленными светящимися буквами, над площадью
Пикадилли, в тумане? Где ты топтался на пороге закрытой табачной
лавчонки на углу Гласхаус-стрит, нет, не помнишь, и правильно. А
иногда, так бывает, иногда, начинают работать глаза, и тишина, вздохи,
будто вздохи печали, усталой от крика, или вдруг старой, которая вдруг
чувствует себя старой, и вздыхает о себе самой, о прекрасных днях,
долгих днях, когда она кричала, что никогда не погибнет, но в целом
такое бывало редко. Мои стражи, зачем стражи, я и сам не рискну
никуда уйти, а, ясно, это чтобы я считал себя пленником, раздувшимся
от собственной значительности, сметающим стены, ограды, границы. В
другие разы это санитары, белые с головы до ног, даже ботинки белые,
и речи тогда другие, но все сводится к тому же самому. В другие разы
это такие женщины-вампиры, мягкие и голые, как черви, они ползают
вокруг и квохчут над трупом, но мертвый я пользуюсь таким же
скромным успехом, как умирающий. В другие разы это огромные
костяные скелеты, качающиеся с постукиванием, как кастаньеты, это
чисто и весело, прямо негры. Я бы пошел с ними, если бы сразу,
почему никогда ничего не бывает сразу. Вот примеры. Они
разнообразны, моя жизнь разнообразна, я никогда ничего не достигну. Я прекрасно
знаю, здесь никого нет, ни меня, ни других, но таких вещей не говорят,
Никчемные тексты
107
вот я ничего и не говорю. В другом месте отчего же, в другом месте,
а может ли быть другое место, отличное от этого беспредельного здесь?
Я знаю, если бы немного поработать головой, я бы нашел отсюда выход,
нашел у себя в голове, как многие другие, и из места похуже, чем это,
и у меня в голове опять был бы целый мир, а посреди я, такой же,
как когда-то. Я бы знал, что ничего не изменилось, что стоит только
захотеть, и я опять смогу уходить и приходить под меняющимся небом,
на меняющейся земле, как в те долгие летние дни, слишком короткие
для всех игр, это называлось играми, если бы у меня хоть что-то было
в голове. Там бы опять был воздух, солнце, небесные тени, скользящие
по земле, и этот муравей, этот муравей, к счастью, в голове у меня
пусто. Оставь, оставь, ничто никуда не ведет, ничто из всего этого, моя
жизнь разнообразна, нельзя иметь все сразу, я ничего не добьюсь, но
когда я чего-нибудь добивался? Когда я работал весь день и, чуть не
забыл, часть ночи, когда я верил, что всего добьюсь упорством и найду
себя? Ну что ж, вот он я, щепотка праха в малом гнезде, которую
вздымает одно дуновение, и прибивает к земле другое, прилетевшее из
затерянных краев. О, я здесь навеки, с пауками и дохлыми мухами,26
которые пляшут в паутине, трепеща увязшими крыльями, и я этим
очень доволен, очень доволен, что все кончается и потом я могу
сотрясать своим дыханием их долину слез. Иногда прилетает мотылек,
весь теплый от цветов, какой он слабый, и скоро умирает, крылышки
крестом, как будто пригрелся на солнце, серые чешуйки. Вычеркнуть,
слова можно вычеркнуть, и безумные мысли, которые они измышляют,
ностальгию по этой грязи, в которой повеял дух Предвечного и по
которой писал его сын, много позже, кончиком своего дурацкого
божественного пальца у ног прелюбодейки,27 это надо стереть, надо только
сказать, что ничего не сказал, и тем самым снова ничего не сказать.
Но тогда, что с ними стало, с телесными тканями, которыми я был, я
больше не вижу, не чувствую, как они парят вокруг меня, во мне, ах,
наверно, они еще где-то болтаются, притворяясь мной. Верил ли я в
это когда-нибудь, верил ли когда-нибудь в себя, поищи лучше вон там,
прищи получше, может быть, ты по-прежнему там, какая чушь, конечно,
нет. Глаза, да, если это мои воспоминания, я, наверное, в это на миг
поверил, поверил, что видел себя там, смутно, в глубине их просветов.
Я еще вижу здешними глазами, давно запечатанными, вижу, как
вглядываюсь теми, прежними, мне было лет двенадцать, потому что вон
там зеркало, круглое, зеркало для бритья, двухстороннее, одна
увеличительная, другая нормальная, и вглядываюсь в один из других,
настоящих глаз, тогда настоящих, и вижу себя там, воображаю, будто вижу
себя, забравшегося в глубину голубоватых завес, вижу, что смотрю на
себя, но не вижу, в двенадцать лет, все дело в зеркале, которое
покачивалось, все дело в отце, если то был мой отец, в душевой, откуда
было видно море, и плавучие маяки ночью, и красный огонь в порту,
108
Сэмюэлъ Беккет
если эти воспоминания относятся ко мне, в двенадцать лет, или в сорок,
потому что зеркало осталось, отец исчез, но осталось зеркало, в котором
он так менялся, моя мать отражалась в нем, причесывалась дрожащими
руками, в другом доме, откуда моря было не видно, откуда была видна
гора, если то была моя мать, вот освежающая струйка земной жизни.
Я был, я был, говорят те, что в Чистилище, те, что в Аду тоже,
восхитительное множественное число, чудесная страховка. Окунувшись
в зеркальный лед до самых ноздрей, веки склеены от замерзших слез,
вновь пережить свои походы, какая безмятежность, и знать, что
сюрпризы подходят к концу, нет, я наверное ослышался. Сколько еще часов
до следующей тишины, это не часы, это будет не тишина, и все-таки
сколько еще часов до ближайшей тишины? Ах, застыть на месте, знать,
что у этого нет конца, у этого, у этого, у этих зарослей тишины и слов,
тишины, которая не тишина, и нашептанных слов. Или знать, что это
тоже жизнь, такая форма жизни, обреченная на конец, как кончались
многие другие, как будут кончаться многие другие, пока жизнь не
кончится во всех своих формах. Слова, слова, моя жизнь всегда была
только это, только мешанина, вавилонское столпотворение тишины и
слов, вот она моя жизнь, что бы я про нее ни говорил, что она кончена,
или только наступает, или все еще длится, это зависело от слов, от
времени дня, лишь бы она продолжалась, пускай хоть так странно.
Видения, стражи, какое ребячество, и женщины-вампиры, подумать, что
я сказал — женщины-вампиры, разве я хотя бы знаю, что это значит,
но я конечно не знаю, и что происходит в промежутках, словно я об
этом понятия не имею, как будто есть две разные вещи, эта и другая,
что это такое, эта неназываемая вещь, которую я называю, называю,
называю, не истрепывая, подумать только, что я называю это словами.
Это потому, что мне не удалось набрести на правильные, те, что убивают,
кислота этой смрадной жижи еще не подступила мне к горлу, этого
словесного месива, какими словами их назвать, те мои неназываемые
слова. И я до сих пор очень надеюсь, честное слово, надеюсь, что
когда-нибудь еще расскажу историю, другую историю, с людьми, с
такими людьми, как в те времена, когда я ни о чем не догадывался,
почти ни о чем. Но сперва закроем рот и будем плакать дальше, с
широко раскрытыми глазами, чтобы драгоценная влага изливалась
свободно, не обжигая век, или хрусталика, что уж там она обжигает.
Погоди, дурацкие рыдания — это что ли и будет интонация и
содержание? Уж больно легко получается. Впрочем, ни одной слезинки, ни
одной, скорее я не удержусь и начну смеяться. Тоже нет. Серьезность —
я буду хранить серьезность, не стану слушать, закрою рот и буду хранить
серьезность, пора уже, пора. А открою его, возможно, только для того,
чтобы рассказать историю, в полном смысле обоих слов — слова
«рассказать», слова «история», очень на это надеюсь, небольшую историю
с живыми существами, которые входят и выходят, и все это будет
Никчемные тексты
109
происходить на обитаемой земле, битком набитой мертвыми,
коротенькую историю, с мельтешением дней и ночей, если на них останутся
слова, я очень на это надеюсь, честное слово.
VII
А все ли я испробовал, хорошо ли порыскал всюду, потихоньку,
терпеливо вслушиваясь, стараясь не шуметь? Я говорю серьезно, как
это часто бывает, мне бы хотелось знать, все ли я сделал, прежде чем
доложить, что пропал без вести, и все бросить. И всюду ли, я хочу
сказать во всех ли местах, где я мог бывать или бывал когда-то,
дожидаясь часа, когда можно будет оттуда удрать, в надежных местах,
все это я хотел сказать, когда говорил «всюду». Когда-то, я хочу сказать,
когда я еще передвигался, чувствовал, что передвигаюсь, с муками,
едва-едва, но в общем бесспорно перемещаясь с места на место, это
подтверждали деревья, пески, воздух горных вершин, камни городских
мостовых. Такая интонация многое обещает, она больше похожа на
прежнюю, из тех дней и ночей, когда я хранил спокойствие, несмотря
ни на что, и снова и снова проходил бесполезный путь, зная, как он
короток и как нетруден, если смотреть с Сириуса, хранил спокойствие,
как мертвый, посреди всех моих лихорадочных тревог. Мой вопрос, у
меня был вопрос, ах да, все ли я испробовал, я его еще вижу, но он
уходит, легче воздуха, словно облачко лунной ночью за чердачным
окошком28 на фоне луны, как луна за чердачным окошком. Нет, в
прямом смысле я хорошо это знаю, в смысле вечерней тени, которую
провожаешь глазами, думая о другом, в мыслях где-то витая, да, вот
именно, в мыслях где-то витая, и глазами тоже, правду сказать, глазами
тоже где-то блуждая. Ах, если уж говорить все, говорить из самой
глубины души, как в гостиной, тогда нет, у меня только одно желание,
если оно у меня вообще есть. Только вот еще одно, прежде чем перейти
к серьезным вещам, у меня как раз есть на это время, если я поспешу,
как раз есть время, в щели всех времен. И это еще одно, я его называю
другое, это старое другое, которое я из последних сил стараюсь не
выболтать, видя, как улетают мгновения, а с ними радости, я называю
это радостями, я говорю о радостях, улетают, а я даже не пытаюсь
воспользоваться случаем, так вот, это другое не сразу вспомнится, если
память мне не изменяет, но оно вспомнится, в этом мое утешение, а
с ним и вся мгновенная праздничная суматоха. Впрочем, это не я, я
говорю не о себе, я это сто тысяч раз говорил, и нечего смущаться,
смущаться, зачем я говорю о себе, хотя есть X, образчик рода
человеческого, свободный в своих передвижениях, со своими радостями и
муками, может быть, с женой и детьми, наверняка с предками, со
no
Сэмюэль Беккет
скелетом по образу Божьему и черепом современного человека, но
главное, со способностью к передвижению, вот что самое поразительное,
с такой узнаваемой физиономией и такой назидательной душой, что в
самом деле говорить о себе, когда есть X, нет, к счастью, я не говорю
о себе, хватит, гнусный попугай, я тебя убью. А что если все это время,
все это время я проторчал в зале ожидания третьего класса
Юго-Восточного вокзала,2^ не смея сунуться в другой класс, в ожидании
отправления, что если я с минуты на минуту ждал отправления на юго-восток,
вернее, на юг, на востоке море, вдоль всей железной дороги, ломая
себе голову где, ну где выходить, или витая в мыслях не здесь, а совсем
в другом месте. Последний поезд ушел в двадцать три тридцать, затем
вокзал заперли на ночь. Сколько воспоминаний, это все для того, чтобы
я поверил, что я умер, я это сто тысяч раз говорил. Но вспоминается
все одно и то же, как спицы вращающегося колеса30 всегда одни и те
же, и воспоминания похожи одно на другое, как спицы. И, однако, я
себя спрашиваю, каждый раз, когда наступает время себя об этом
спросить, крутится ли колесо у меня в голове, вот я о чем спрашиваю,
в такт с кровообращением, так мне кажется, а может, оно просто ходит
взад и вперед, как баланс в коробке часового механизма, и то еле-еле,
измерить-то надо необъятность, и потом, головы ведь заводят только
один раз, одновременно с дыханием, так мне кажется. Но, черт побери,
вот я опять далеко от конечной станции, в красивой неоклассической
колоннаде, и далеко от этого комка мяса, кожи, костей и щетины,
который ждет отправления, не зная куда, куда-то на юг, и, может быть,
спит, зажав в руке билет во имя приличий, или уронив его на пол,
потому что во сне все разжимается, и, может быть, ему снится, что он
уже прибыл на станцию небо, или, верней, заря, и какая радость, когда
можешь себе сказать, у меня целый день впереди, чтобы себя обмануть,
чтобы наверстать, чтобы успокоиться, чтобы отказаться, мне нечего
бояться, мой билет годен на всю жизнь. Там ли я остановился, я ли
это сижу прямой и напряженный на краю скамьи, руки на коленях,
зная, как опасно распускаться, билет зажат между большим и
указательным пальцем, в этом зале, в который проникает только темный
свет с перрона сквозь дверь на пружине, скупо застекленную и запертую
на ключ, в темноте, это там, это я. В этом случае ночь длинна и
удивительно безмолвна, и тому, кто, казалось бы, помнит нестройный
хор городских шумов, вспоминается теперь только один шум,
невозможное воспоминание об одном нестройном шуме, который длился всю
ночь, разбухал, замирал, но ни разу ни на миг не прерывался тишиной,
которая была бы сравнима с этой оглушительной тишиной. Из чего
должно было следовать, но нет, ничего подобного, что зал ожидания
третьего класса Юго-Восточного вокзала следует вычеркнуть из числа
мест, пригодных для посещения, смотри выше, несколькими веками
выше, что эта глыба мрамора уже не я и что следует поискать в другом
Никчемные тексты
111
месте или вообще махнуть рукой, и я сам того же мнения. Но не
будем спешить, все города не вечны, и этот, возможно, уже умер,
описанный в моем письменном задании, и заброшен вокзал, на котором
я жду, прямой, напряженный истукан, руки на коленях, уголок билета
между большим и указательным пальцем, жду, когда придет состав,
который никогда не придет, никогда не уйдет туда, на лоно природы,
или жду, когда рассветет за дверью, запертой на замок, с черным
стеклом, покрытым пылью разрухи. Вот почему не следует спешить
с выводами, слишком велик риск ошибиться. И искать меня в другом
месте, там, где жизнь берет свое, а я здесь, откуда вся жизнь ушла,
кроме моей, если я вообще живу, нет, это было бы зряшной тратой
времени. А лично у меня, я слышу, как говорят, что у меня нет
больше времени, которое было бы не жаль терять, и что на сегодня
все, наступает ночь и мне пора начинать.
VIII
Только слова нарушают тишину, все остальное прекратилось. Если
бы я замолчал, я бы уже ничего не услышал. Но если бы я замолчал,
снова начались бы другие звуки, те, к которым я стал глух из-за слов
или которые в самом деле прекратились. Но я молчу, так бывает, нет,
никогда, ни на секунду. Я и плачу тоже не умолкая. Беспрерывно течет
поток слов и слез. И все бездумно. Но я говорю тише, с каждым годом
все тише. Может быть.31 И медленней тоже, с каждым годом все
медленней. Может быть. Сам я не замечаю. А значит, паузы, вероятно,
удлиняются, между словами, предложениями, слогами, слезами, я их
путаю, слова и слезы, мои слова — это мои слезы, мои глаза — мой
рот. И в каждой маленькой паузе я бы должен слышать тишину, о
которой я уже говорил, когда говорил, что ее нарушают только слова.
А вот и нет, все время тот же шепот, струящийся, без перерывов, как
одно-единственное слово без конца и соответственно без значения,
потому что значение слов становится понятно только в конце.32 Тогда
по какому праву, нет, на этот раз я вижу, что достиг, чего хотел, и
останавливаюсь, говоря: «Ни по какому, ни по какому». Но продолжая
его, этот свой старый глупый погребальный плач, я задаю себе, задаю,
пока не добьюсь ответа, новый вопрос, более древний, о том, всегда
ли так было. Ну что ж, я себе сейчас кое-что скажу (если смогу),
чреватое, надеюсь, надеждами на будущее, а именно, что я вообще
перестаю помнить, как было раньше (смог), а под раньше я
подразумеваю в другом месте, время стало пространством и его больше не
будет, пока я отсюда не уберусь. Да, мое прошлое выставило меня вон,
его решетки отворились, или я сам удрал, может быть, вырыл подкоп.
112
Сэмюэль Беккет
Чтобы мгновение помечтать на свободе о днях и ночах, мечтая о том,
как я буду, год за годом, скользить к последнему году, как настоящий
живой человек, а после я вдруг очутился здесь, и все воспоминания
исчезли. И с тех пор уже ничего, только фантазии да надежда на
какую-нибудь историю, о том, что я откуда-то пришел и могу туда
вернуться, или идти дальше, не сейчас, так потом, или то же самое без
надежды. Без какой надежды, это я только что сказал, надежды увидеть
себя живым, и не только в воображаемой голове, увидеть себя камешком
на песке под изменчивым небом, камешком, который перекатывается
с места на место каждый день, каждую ночь, как будто это поможет
ему уменьшаться, уменьшаться, но никогда не исчезать.33 Нет, правда,
все равно что, я говорю все равно что, в надежде, что голос устанет,
голова устанет, или без надежды, без причины, все равно что, без
причины. Но это кончится, придет завершение, или задохнусь, еще и
лучше, наступит тишина, я узнаю, если наступит тишина, нет, я никогда
ничего не узнаю. Но выбраться отсюда, лишь бы выбраться. Не знаю.
И чтобы опять началось время, небо, шаги по земле, ночь, которую
по-дурацки призывают утром, и заря, которую вечером умоляют не
брезжить больше. Не знаю, не знаю, что все это значит, день и ночь,
земля и небо, призывы и мольбы. И разве я могу их желать? Кто сказал,
что я их желаю, это говорит голос, и что я не могу не желать, здесь
как будто противоречие, у меня нет своего мнения. Я здесь, если они
могли открыться, эти маленькие слова, поглотить меня и опять
захлопнуться, то, наверно, это и произошло. Пускай же они опять откроются
и выпустят меня наружу, в суматоху света, запечатавшую мне глаза, и
людей, чтобы я снова попытался быть одним из них. Пускай меня
помилуют, если я виновен, и разрешат искупить вину, со временем,
уходя и приходя, каждый день становясь немного чище, немного
мертвее. Мой грех в том, что я хотел мыслить, один из грехов, даже так,
как я это делал, такой, какой есть, я не должен был это уметь, даже
так, как я это делал. Но кого же я мог так тяжко оскорбить, чтобы
терпеть теперь такое необъяснимое наказание, все необъяснимо,
пространство и сознание, лживо и необъяснимо, страдание и плач, и даже
старый душераздирающий крик: «Это не я, не может быть, что это я».
Но страдаю ли я, будь это я или не я, откровенно говоря, имеет ли
место страдание? Но здесь нет места откровенности, что бы я ни сказал,
будет ложью, и прежде всего это не будет исходить от меня, я здесь
только кукла чревовещателя, я ничего не чувствую, ничего не говорю,
он держит меня в руках и заставляет мои губы шевелиться с помощью
бечевки, с помощью рыболовного крючка, нет, нет, не нужно губ, все
черно, никого нет, что у меня с головой, я ее, наверное, оставил в
Ирландии, в кабачке, она, небось, и поныне там, лбом на стойке,
лучшего она не заслуживает. Но причина того, что я здесь, причина
этой черной тишины, причина того, что я уже не могу ни шевельнуться,
Никчемные тексты
113
ни поверить, что этот голос мой, — в другом человеке, слепом, глухом
и немом, и этот человек — я. Это в него я должен рядиться до самой
смерти, для него отныне пытаться больше не жить, в этой полугробнице,
которая считается принадлежащей ему. Хотя я-то знаю, что мертв и
рвусь наружу, вверх, куда-то туда, в Европу, вероятно, с каждым днем
все более созревая под сосущим и гнетущим небосводом, как вчера в
насосе утробы. Нет, сказанное мною убеждает меня в обратном, я
никогда не видел дня, не больше, чем он, вот чисто отрицательная
красота речи, в которой, к сожалению, отрицания подвергаются той же
судьбе, и вот ее уродство. Выбрать удачный момент и замолчать, неужели
это единственный способ иметь бытие и жилье? Но я-то здесь, хоть
это наверняка, и сколько бы я это ни говорил и ни твердил, это остается
правдой. Возможно, я и ошибаюсь. Не столь правильно, не столь точно
то, что я говорю, когда утверждаю, что я на земле, что я появился на
свет и уверен, что уйду из него, вот почему говорю я это терпеливо,
на разные лады, пытаюсь сказать на разные лады, а все потому, что
никогда не знаешь, может быть, дело только в том, чтобы нащупать
подходящее словосочетание. Чтобы больше наконец не быть здесь,
никогда вообще не быть здесь, ни раньше, ни теперь, но все это время
быть там, наверху, с именем, как собака, чтобы меня могли позвать, и
отличительными признаками, чтобы меня могли заметить, грудь сама
надувается и опадает, задыхаясь навстречу великой остановке дыхания.34
Словосочетание подходящее, но таких четыре миллиона, возможных или
даже вероятных, по Аристотелю, который знал все. Но что я вижу, и
с чем, белая трость и слуховой рожок, где это, площадь Республики, в
час, когда пьют перно, ну-ка посмотрим, может быть, это наконец я.
Рожок, паря на высоте уха, внезапно становится похож на паровую
сирену, вроде тех, что помогают моим пароходам не спеша уходить в
туман, это должно было бы уточнить эпоху, с точностью до нескольких
полустолетий. Трость приближается, стуча своим железным
наконечником по благородному цоколю Магазен Реюни,35 на дворе, вероятно,
зима, во всяком случае, не лето. Кроме того, я смутно вижу, немного
напрягшись, шляпу-котелок, ее, увы, можно было бы назвать
смехотворным синтезом всех шляп, которые мне никогда не шли, а на другом
конце столь же подозрительные желтые ботинки, рваные и раззявленные.
Эти знаки отличия, если осмелюсь так выразиться, дружно
приближаются, словно склеенные традиционной соединительной тканью, а
именно человеком, останавливаются, снова идут, подтвержденные
просторными витринами. Уровень шляпы и соответственно рожка дает мне
представление о скромном будущем карлика или по крайней мере
горбуна. Все это свободно, все это соблазнительно. Скользну ли я в
этот облик, попытаюсь ли заставить их послужить мне еще раз, мои
сонные немощи, чтобы они превратились в плоть и закружились,
усугубляясь, вокруг этой грандиозной площади, которую я, возможно,
114
Сэмюэль Беккет
путаю с площадью Бастилии, и даже заслужили право на соседнее
кладбище Пер-Лашез, или, еще лучше, безвременно упокоились при
попытке на заре перейти эту площадь. Нет, ответ будет «нет», потому
что в разгар кружения, причем в самый волнующий момент, когда
протягивается рука или шляпа, без предварительного пения либо другой
уступки самолюбию, на террасе кафе или у выхода из метро, я буду
знать, что это не я, буду знать, что я здесь, клянчу в другой тишине,
в другой темноте, другую милостыню, умоляю о том, чтобы я был, или
чтобы меня не стало, или, еще лучше, чтобы меня вообще никогда не
было. И тщетно дряхлая рука выронит обол, и дряхлые ноги опять
зашагают по направлению к смерти, еще более тщетной, чем чья угодно.
IX
Если бы я сказал: «Там есть выход, где-то есть выход», остальное
случилось бы само собой. Чего же я жду, почему не скажу, не поверю?
И что означает «остальное»? Стану ли я отвечать, искать ответ, или
пойду дальше, словно ничего не спрашивал? Не знаю, ничего не могу
знать ни заранее, ни потом, ни одновременно, будущее покажет, близкое
или далекое, я не услышу, я не пойму, ибо все умирает, едва родившись.
И да и нет ничего не значат, в этих устах они словно вздохи,
подчеркивающие муку, или ответы на непонятый вопрос, на немой вопрос, в
глазах немого, умственно отсталого, который не понимает, ничего не
понял, который смотрится в зеркало,36 который смотрит в пространство,
в пустыню, вытаращенными глазами, изредка вздыхая то да, то нет. Но
рассуждение идет, происходит, иными словами, те же вещи
возвращаются, одни тащат за собой другие, одни гонят другие, неважно, что за
вещи. Это происходит автоматически, как сильный мороз, как сильная
жара, как длинные дни, короткие ночи, фазы луны, таково мое
убеждение, потому что у меня есть убеждения, когда до них доходит дело,
а потом я от них отделываюсь, вот так, надо думать, что так оно и
есть, а потому надо это сказать, вот я сейчас и сказал. Выход, сегодня
вечером дело дошло до выхода, не правда ли, это напоминает дуэт, или
трио, да, временами похоже, потом все проходит и больше уже не
похоже, и никогда не было похоже, ничего не было похоже, ни на что
не похоже, даже и речи не может быть о том, чтобы узнать, что это
такое. Какое разнообразие и в то же время какая монотонность, как
это разнообразно и в то же время как это, как бы сказать, как это
монотонно. Как это бурно и в то же время как это спокойно, какое
непостоянство в самом сердце какой неизменности. Миги сомнений,
скорее редкие, чем частые, если надо выбирать, и быстро преодоленные
в угоду истинной цели, от которой сперва зависит все, потом многое,
Никчемные тексты
115
потом немногое, потом ничего. Все правильно, дребедень, обрушься на
меня, лавина, чтобы больше ни о ком речи не было, ни о мире, который
надо покинуть, ни о мире, который надо завоевать, чтобы с ними было
покончено, с мирами, с людьми, со словами, с нищетой, с нищетой.
И вот чего я не сказал раньше: «Ах, — говорю я себе, — этого надо
было ожидать», если бы только я мог сказать: «Там есть выход», все
было бы сказано, это был бы первый шаг долгого осуществимого
путешествия, назначение — могила, совершать в молчании, маленький
неотвратимый шажок, потом другой шажок, сперва по длинным
коридорам, потом под открытым смертным небом, сквозь дни и ночи, все
быстрей и быстрей, нет, все медленней и медленней, по причинам,
которые легко понять, и вместе с тем все быстрей и быстрей, по другим
причинам, которые легко понять, или по тем же самым, понимаемым
по-другому, или точно так же, но в другой момент, моментом раньше,
моментом позже, или в тот же самый момент, ну нет, этого не может
быть, подытоживаю, это невозможно. Разве я бы знал, откуда пришел,
нет, у меня была бы мать, у меня когда-то раньше была бы мать, и
откуда я вышел, с какой мукой, нет, я бы забыл, все забыл, и зачем
мне говорить то, и зачем мне говорить другое, и зачем мне говорить
все, и это ненадежно, не так надежно, как если бы у меня была мать,
как если бы у меня была могила, вот это было бы надежно, если бы
был выход, если бы я говорил, что выход есть, заставьте меня это
сказать, бесы, нет, я ничего не попрошу. Да, у меня была бы мать,
была бы могила, я бы отсюда не вышел, отсюда не выходят, моя могила
здесь, моя мать здесь,37 сегодня вечером все у меня здесь, я умер и
рождаюсь, и я еще не кончил, и не в силах начать, это моя жизнь.
Как это разумно, и на что же мне жаловаться, на то, что больше не
слоняюсь у входа на кладбище, говоря себе: «Лишь бы только эта
комедия продолжалась, чтобы дали время доиграть», в чем же моя
жалоба, возможно, в этом. Я был прав, когда беспокоился, понятия не
имея, о чем беспокоюсь, и когда ходил взад и вперед и ломал себе
голову над тем, что бы это могло быть, и говорил себе: «Это не я, меня
еще нет, меня еще не заметили», и когда потом говорил себе: «Нет,
нет, это я», и когда, к тому же, переставал быть, и когда ускорял шаг,
чтобы поспеть до следующего приступа, как если бы я шагал к
определенному часу, и когда говорил себе, и так далее. Едва ли я мог
оставаться незамеченным все это время, однако трудно сказать, что я
не остался незамеченным. Я не говорю о приветственных словах, мне
бы первому они доставили беспокойство, почти так же, как кивок
головой или взмах руки. Но другие знаки, неустранимые, вздрагивания
и гримасы, которыми люди невольно вас обвиняют, тоже нет, мне
кажется, разве только со стороны лошадей, впряженных в катафалки,
правда, хорошо вышколенных и снабженных шорами, хотя и в этом я,
возможно, обольщаюсь. Правда, я не помню больше ни одного лица,
116
Сэмюэль Беккет
это доказывает, что меня здесь не было, нет, это ничего не доказывает.
Но ясно, что я не подвергался притеснениям, иначе разве я остался бы
к этому нечувствительным? Увы, боюсь, они бы могли терзать меня
самым лестным для меня образом, и я не стану уверять, что вообще
не заметил бы этого, но скажу, что это бы все равно не помогло мне
почувствовать, что я, пожалуй, все же здесь, а не в другом месте. И не
исключено, что я успел провести половину жизни в тюрьмах их
государства, искупая прегрешения другой половины, а мое добровольное
ожидание неизвестно чего перед воротами кладбища так и не смягчилось
ни единым мгновением передышки. Но что если они, утомленные тем,
что после каждых вынужденных каникул я поднимаюсь на ноги и
возвращаюсь к воротам кладбища, позволили себе слегка утяжелить свои
удары, ровно настолько, чтобы причинить смерть, не нанеся трупу ни
малейших повреждений, там, у ворот кладбища, где я появился тем утром,
едва успев расслабиться, уплатив свой долг обществу и вновь взвалив на
себя свою старую вину, то взад, то вперед, шагом то медленным, то
стремительным, как шаг заговорщика Каталины,38 ткущего крах отчизны,
говоря себе: «Это не я, нет, это я», и говоря себе: «Там есть выход», нет,
нет, я перепутал, я наверное перепутал, здесь и там, теперь и тогда,
совершенно так же, как я их путал тогда, тогдашнее здесь, тамошнее тогда,
с другим пространством, другим временем, отличить их было трудно, но
не труднее, чем теперь, теперь, когда я здесь, если я в самом деле здесь,
а не там, не расхаживаю больше, смущенный, взад и вперед перед входом
на кладбище. Или я просто сел в конце концов и прислонился к стене,
и впереди долгая ночь, пока мертвецы, лежа на спине, на смертном ложе,
в саванах или в гробах, ждут восхода солнца. Но что я делаю, я пытаюсь
понять, где я, чтобы, если понадобится, уйти в другое место или сказать
себе: «Остается только ждать, когда за мной придут», такое у меня ощущение
в иные минуты. Потом оно проходит, и я вижу, что нет, это не то, это
другое, трудноуловимое, и я это не улавливаю или улавливаю, как когда,
да это и все равно, потому что это тоже не то, но еще что-то другое, или
первое, что приходит в голову, или всегда одно и то же, то же самое, что
навязывается, к моему смущению, и исчезает, а потом опять навязывается,
к моему смущению, которое так и остается неудовлетворенным или временно
умирает от голода. Кладбище, да, туда бы я вернулся, сегодня вечером
именно туда, подхваченный своими словами, если бы я мог выбраться
отсюда, иными словами, если бы я мог сказать: «Выход там», тогда узнать,
где именно, было бы просто вопросом времени, и терпения, и
последовательности идей, и удачного словесного выражения. Но тело, с которым
туда идти, где тело? Это вторично, это вторично. И я не сомневаюсь, я
бы нашел этот выход, раньше или позже, если бы я мог сказать, что он
там, или где-то еще, остальные слова у меня нашлись бы, раньше или
позже, и сил бы хватило туда пойти, и я бы пошел, и прошел насквозь,
и увидал красоты небесные, и снова увидел звезды.
Никчемные тексты
117
X
Покинуть, но все уже покинуто, это не новость, я сам не новость.
Значит, когда-то что-то было. Можно думать, что да, но при этом нужно
знать, что нет, никогда ничего, кроме покинутости. Если сказал
«покинуть», тем самым, хочешь или не хочешь, говоришь «покинутость».
Но допустим, что нет, иными словами, допустим, что да, что когда-то
что-то было, в голове, в сердце, в руках, прежде чем все открылось,
опустошилось, опять затворилось, окоченело. В результате мы
успокоились, согрелись и в состоянии идти дальше, опять. Но это не тишина.
Нет, бормотание, где-то бормотание. Может, бессмысленное, согласен,
но даже если так, разве это хоть что-нибудь значит? Я понимаю, в чем
дело, голова не поспевает за остальным, голова и ее анус — рот,39 или
она идет дальше одна, совсем одна по своим прежним следам, извергая
свое старое дерьмо и снова его пожирая, слизывая с губ, как во времена,
когда она была о себе высокого мнения. Только сердце тут уже ни при
чем и аппетит тоже. И вот снова и снова, без малейшего жульничества,
у меня за душой возникает это старое прошлое, всегда новое, но навсегда
завершенное, навсегда идущее к завершению, а вместе с ним и все, что
оно в себе прячет, обещания на завтра и утешения прямо сейчас. И я
снова в надежных руках, они держат меня за голову, сзади, любопытная
подробность, как у парикмахера, и указательными пальцами закрывают
мне глаза,40 а большими пальцами затыкают ноздри, а мизинцами уши,
но не до конца, так, чтобы я слышал, но не до конца, а четырьмя
другими манипулируют с челюстями и языком, чтобы я задохнулся, но
не до конца, и сказал, для моего же блага, то, что я должен сказать
ради моего будущего, знакомая песня, а главное, сразу, не откладывая,
в этот самый миг, неприятный, но который сейчас пройдет, миг,
который без этой помощи мог бы оказаться для меня роковым, зато
когда-нибудь я буду снова знать, что когда-то я был, и в общих чертах —
кто я был, и как мне продолжать, и говорить самостоятельно, ласково,
о себе самом и о своих бледных подобиях. И может быть, — чрезмерно
категоричным мне быть не пристало — это было бы не в моих интересах,
чтобы другие пальцы, чтобы, возможно, другие пальцы, другие
щупальца, другие добрые присоски — но не будем прерываться ради таких
пустяков — наложили запрет на мои заявления, а иначе в конце
бесконечного бреда, если когда-нибудь он возобновится, я могу навлечь
на себя упрек в том, что проявил слабость. Это плохо, плохо, да ладно,
и на том спасибо. А рядом, может быть, рядом и повсюду вокруг задают
трепку другим душам, обморочным, больным, оттого что слишком много
служили или не могли служить, но еще способным к служению, или
решительно годным только в мусорную корзину, бледным подобиям
моей души. Или здесь нас теперь наконец предают телам, наподобие
118
Сэмюэль Беккет
того как предают тела земле в час их смерти, причем сразу после того,
как они умерли, во избежание лишних расходов, или нас здесь
перераспределяют, души умерших детей, или тех, что умерли раньше, чем
тела, или души, сохранившие молодость посреди распада, или не
жившие, не умевшие жить, по той или иной причине, или бессмертные
души, такое тоже, наверно, встречается, души, которые ошиблись телом,
но тело, которое им предназначено, их ждет среди несметного множества
тел, готовых родиться, хорошее могильное тело, потому что живые все
разобраны. Нет, никаких душ, никаких тел, никакого рождения, никакой
жизни, никакой смерти, нужно продолжать без всего этого, все это
смертельно изнемогает от слов, от избытка слов, ничего другого они
говорить не умеют, они говорят, что ничего другого нет, только это и
больше ничего, но они больше не будут говорить, не будут говорить
это вечно, найдут другое, все равно что, и я смогу продолжить, нет,
смогу остановиться, или смогу начать совсем тепленькую неправду, это
заполнит мое время, это станет моим временем, местом, и голосом, и
молчанием, голосом молчания, голосом моего молчания. Вот такими
видами на будущее они хотят побудить вас к терпению, хотя все и так
терпеливы и спокойны, где-то там, в другом месте люди спокойны, а
тут уж какое спокойствие, ну ладно, сейчас скажу, какое тут
спокойствие, и как мне хорошо, и как я молчалив, сейчас начну, спокойствие
и молчание, которых ничто никогда не нарушало, которых ничто
никогда не нарушит, которых я, говоря, не нарушу, или говоря, что я
скажу, да, я скажу все это завтра вечером, да, завтра вечером, ну словом,
в другой вечер, не сегодня, сегодня уже слишком поздно что-либо
делать, я пойду спать, чтобы потом я мог сказать, мог услышать сам,
как скажу немного позже: «Я спал, он спал», но потом окажется, что
он не спал, или он и сейчас спит, он ничего не сделает, ничего, просто
будет продолжать, продолжать что, делать то, что делает, без остановки,
иными словами, я не знаю, покидать, я буду и дальше покидать то,
чего у меня никогда не было, и те места, где я никогда не был.
XI
Когда я думаю, нет, так не годится, когда приходят те, которые
меня знали, а может, и сейчас еще знают, с виду, разумеется, или по
запаху, когда я об этом думаю, это как... как все равно, ну в общем
не знаю, ничего я не знаю, не надо было и начинать. Если бы я начал
сначала, внимательнее, это иногда дает хорошие результаты, надо
попытаться, я попытаюсь, на днях, в один из ближайших вечеров или
прямо сегодня вечером, перед тем как исчезну оттуда, отсюда, как будто
меня сдунуло вечными словами. Ах, но как раз нет, как раз нет, я
Никчемные тексты
119
больше об этом не думал, у меня этого и в мыслях не было, вот именно
что нет. И я еще бреду, через да и через нет, к тому, кого еще предстоит
назвать, чтобы он оставил меня в покое, чтобы он сам успокоился,
чтобы его больше не было, чтобы его и раньше, вообще никогда не
было. Назвать, нет, ничто никогда не называемо, сказать, нет, ничто
не высказываемо, так как же быть, не знаю, не стоило и начинать.
Добавить его к списку, готово, и казнить, как я казню себя, убиваю
кусок за куском, вечер за вечером, и ночь за ночью, и все дни подряд,
но это всегда оказывается вечер, почему всегда вечер, сейчас скажу
почему, чтобы это уже было сказано, чтобы осталось позади, одну
минутку. Дело в том, что время уже изнемогает в час серенады, или
еще на заре, нет, я не снаружи, я под землей, или где-то внутри
собственного тела, или в другом теле, а время по-прежнему пожирает,
но не меня, готово, вот почему всегда вечер, чтобы впереди у меня
было самое лучшее, долгая темная ночь, когда можно спать, вот, я
ответил, на что-то ответил. Или это в голове, как минутная стрелка,
как секундная стрелка, или это как клок моря под скользящим лучом
маяка, скользящий клок моря под скользящим лучом. Мерзкие слова —
чтобы я поверил, что я здесь и что у меня есть голова, и есть голос,
голова, которая верит в то, верит в это, вообще уже не верит, ни в
себя, ни в другое, но все же голова, с ее голосом, или не ее, а других,
других голов, как будто бывают две головы, как будто бывает одна
голова или безголовый голос, безголовый, но голос. Но меня не
одурачить, пока я еще не здесь, и более того, я и не в другом месте, ни
как голова, ни как голос, ни как яичко, жаль, жаль, что я нигде не
нахожусь в виде яичка, или п... и всех тех мест, или лобкового волоска,
вот ему здорово видно, причем сверху, в общем, как есть, так и есть.
И я не мешаю им говорить, моим словам, которые не мои, хотя они
говорят «мои», говорят слово «мои», но напрасно. Получается,
получается, а когда придут те, которые меня знали, скорей, скорей, вот так,
нет, рано. Но я опять здесь, ку-ку, вот он я, готов к услугам, как
корень квадратный из минус одного, образование у меня классическое,
ну-ка, ну-ка, присмотримся, эта синюшная физиономия, перепачканная
в чернилах и варенье, caput mortuum* прямо из трудолюбивой юности,
оттопыренные уши, вытаращенные глаза, редкие волосы, на губах пена,
челюсти жуют, что жуют, сопли, молитву, урок, всего понемногу,
молитву, затверженную на все случаи жизни, в последнюю очередь для
души, молитву, которая вкривь и вкось пробивается из старого рта, в
котором закончились слова, из старой головы, которая не слушает, вот
я и старик, быстро это получилось, сопливый старик с классическим
образованием в общественном туалете на два места, на улице Гинмер,
где вода бежит с тем же шумом, что и шестьдесят лет назад, за это я
* Мертвая голова (лат.). — Примеч. сост.
120
Сэмюэль Беккет
его и люблю, словно мамочка приговаривает пи-пи-пи, и я прижался
лбом к перегородке, посреди рисунков и надписей, напрягая простату,
выхаркивая из себя господибожемой, застегивая ширинку, я не
выдумываю, по рассеянности, или от чрезмерной усталости, или от
равнодушия, или нарочно, чтобы сильней захотелось, уж я-то знаю, или
лучше пусть я буду безрукий, совсем без рук, так мне больше нравится,
старый как мир, омерзительный как мир, все, что можно, ампутировано,
стоя на своих верных культях, лопаясь от старой мочи, от старых молитв,
от старых уроков, в едином строю скелет, душа и череп, не говоря о
плевках,41 о них не будем, рыдания, превращающиеся в слизь, идущую
из сердца, это что касается сердца, с сердцем разобрались, теперь я в
комплекте, не считая нескольких конечностей, получивших классическое
образование, а потом выбывших из игры, гордиться тут нечем, и
требований никаких, сотрясаясь от семяизвержения, боже, боже. Вечера,
вечера, какие были вечера, из чего сделаны и когда это было, не знаю,
из ласковой тьмы, ласковых небес, сытого времени, передышки перед
поздним ужином, не знаю, не больше знаю, чем тогда, когда я себе
говорил — изнутри, или снаружи, из наступавшей ночи, или из-под
земли, во всяком случае издалека: «Где я», имея в виду только место, и
как, и с каких пор, а это насчет времени, и до каких пор, и кто этот
кретин, который не знает, куда идти, который не может остановиться,
который принимал себя за меня и за которого я сам себя принимал,
В общем, все равно, старая песня. Тогдашние вечера, но из чего сделан
этот вечер, который не кончается, этот вечер, когда я один, я там, где
был всегда, откуда я сам с собой разговаривал, откуда я с ним
разговаривал и куда он ушел, он, которого я видел, вероятно, опять на улицу,
возможно, не зная, куда идти, не в силах остановиться, без голоса,
который с ним разговаривает, я с ним больше не разговариваю, я с
собой больше не разговариваю, мне больше не с кем разговаривать, и
я разговариваю, голос разговаривает, который может быть только моим,
поскольку никого больше здесь нет. Да, я его потерял, и он меня
потерял, потерял из виду, потерял из слуху, я этого и хотел, неужто я
в самом деле хотел этого, хотел того, а он, чего он хотел, он хотел
остановиться, может быть, он остановился, я-то остановился, но я
никогда и не двигался, может быть, он умер, я-то умер, но я-то никогда
и не жил. Но он-то ходил взад и вперед, доказательство живости,
прежними вечерами, которые тоже двигались куда-то, вечерами,
приходившими к концу, вечерами, переходившими в ночи, ходил, ни слова
не говоря, не в силах сказать ни слова, не зная, куда идти, не в силах
остановиться, слушая мои крики, слыша крики о том, что это не жизнь,
как будто он сам не знал, как будто имелась в виду его жизнь, ведь
это тоже была жизнь, вот и вся разница, хорошее было время, я не
знал, где я, ни на что похож, ни с каких пор, ни до каких пор, зато
теперь, и в этом вся разница, теперь я это знаю, это неправда, но я
Никчемные тексты
121
это говорю, вот и вся разница, теперь я это говорю, сейчас скажу,
кончу тем, что скажу, а потом кончу, я смогу кончить, меня больше
не будет, это больше не будет иметь смысла, в этом больше не будет
необходимости, на это больше не будет возможности, но это больше
не имеет смысла, в этом нет необходимости, на это нет возможности,
вот таким образом я рассуждаю. Нет, надо найти что-то другое, надо
найти повод получше, чтобы это остановилось, найти другое слово,
лучшую мысль, поставить в отрицательную форму, найти новое «нет»,
отменяющее все другие, старые «нет», которые пустили меня на дно
здесь, в этом месте, которое и не место вовсе, а просто момент, когда
время становится вечностью, которая называется «здесь», и в этом
существе, которое называется «я», хотя это вовсе и не я, и в этом
невозможном голосе, все эти старые «нет», которые висят в темноте и
раскачиваются, как дымовая лестница, да, найти новое «нет», которое
говорится только один раз, которое открывает свой люк, и я
проваливаюсь в тень и лепет, в пустоту, менее тщетную, чем пустота
существования. О, я знаю, что это случится не так, что ничего не случится,
что ничего не случилось и что я по-прежнему, а особенно с тех пор
как я не могу больше в это верить, существую живой, во плоти, где-то
там, наверху, в ее сифилитическом сиянии, и что я бьюсь в агонии.
И вот почему, когда наступает час тех, которые меня знали, на этот
раз все получится, когда наступает час тех, которые меня знают, все
происходит так, как будто я среди них, вот что мне надо было сказать,
я среди них, которые смотрят, как я приближаюсь, потом следят за
мной глазами, качая головами и приговаривая: «Неужели это в самом
деле он, не может быть», а потом я как будто иду с ними дальше
по дороге, причем дорога эта не моя, по дороге, которая с каждым
шагом удаляет меня от той другой дороги, которая тоже не может быть
моей, или как будто остаюсь один на месте, между двумя снами,
которые расходятся в разные стороны, и я никого не знаю, и меня
никто не знает, вот в сущности то, что мне надо было сказать, то,
что я должен был сказать сегодня вечером.
XII
Зимняя ночь там, где я был, буду, вспоминаемый, воображаемый,
не важно, верящий в себя, верящий, что это я, хотя нет, не стоит труда,
на то есть другие, но где, в мире других, в мире долгих смертельных
переходов, под небом, с голосом, нет, не стоит труда, и способный
время от времени передвигаться, хотя это тоже не стоит труда, потому
что мимо идут другие, настоящие, но — на земле, разумеется, на земле,
пока не наступит время новой смерти, нового пробуждения, пока здесь
122
Сэмюэль Беккет
не произойдут перемены, какие-нибудь перемены, пока не станет можно
полнее родиться, полнее умереть42 или воскреснуть внутри и вне этого
шепота памяти и сна. Зимняя ночь, ни луны ни звезд, но светлая, он
видит свое тело, весь перед, часть переда, что их освещает, эту
невозможную ночь, это невозможное тело, о нем моя память, об истинной
ночи, мой сон — о ночи без завтра, а завтра, что он будет делать завтра,
чтобы вынести завтра, зарю, день, то же самое, что вчера, что он делал
вчера, чтобы вынести вчера. Это правда, это не я, еще не я, уже не я,
это ветеран, умеющий переносить дни и ночи, но он забывает, он
думает обо мне, слишком много думает обо мне, а заря еще далеко,
она еще, может быть, успеет вообще не взойти. Так он говорит, голосом,
который его покинет, может быть, этой ночью, и он говорит: «Как
светло, что же я буду делать завтра, что я делал вчера, не все ли равно,
это конец, завтра еще не скоро, и кто во мне все это говорит, и кто
меня отрицает, словно я занял его место, словно я узурпировал его
жизнь, старый стыд, который мешал мне жить, стыд за мою жизнь,
который мешал мне жить», и так далее, невнятной скороговоркой, старые
бессмыслицы, подбородок уперся в грудь, руки болтаются и
надломившись падают на колени во тьме. Успеют ли мои память и сны
проскользнуть в него, пока он еще жив, да ведь я уже в нем, я всегда был
в нем, расползся как угрызение совести, и разве не там вершится все,
моя ночь и заочное рассмотрение моего дела, в тайных глубинах этого
умирающего, и разве его смерть — не последний мой шанс на то, что
я жил, но кто это бредит, ах да, не все ли равно, повсюду есть голоса,
повсюду уши, кто-то, говоря без умолку, говорит: «Кто говорит? О чем?»,
а кто-то слушает, безгласный, непонимающий, отстраненный, и повсюду
тела, скрюченные, неподвижные, в которых у меня ровно столько же
шансов, так же мало шансов, как в этом первом попавшемся. И никто
не станет ждать, ни он, ни другие, никто никогда не ждал, умирая,
пока я поживу в нем, чтобы иметь возможность с ним умереть, нет,
они все быстро-быстро умирают, говоря себе: «Умрем быстро, без него,
как жили, пока еще есть время, а не то получится, будто мы и не жили».
А этот другой, естественно, что сказать об этом другом, с его бредом
о бездомных «я» и безденежных «он», об этом другом без номера и
личины, чье брошенное существование мы рвемся занять, ничего.
Очаровательное трио, и подумать только, что все это только один человек,
и этот один в сущности ничто, пустое место. В таком случае
предполагается, что я сейчас скажу, поскольку пришло время, что это и есть
Земля, и эти жизненно важные органы, едва живые, были предназначены
мне, но если я их не захвачу как можно быстрей, они могут достаться
другому, ну спасибо, и рассмеявшись, рассмеявшись долгим беззвучным
смехом все понимающего несуществующего существа, которое слышит,
как ему приписывают такие крепкие выражения, — какое чувство
юмора, — признайте, что вы опускаетесь и кончите тем, что сядете на
Никчемные тексты
123
велосипед. Вот хор счетоводов, они выступают, как один человек, еще
один человек, и это еще не конец, здесь не хватит и всех народов,
понадобятся биллионы, а после понадобится Бог, не
засвидетельствованный свидетель свидетелей,43 к счастью, ничего из этого не вышло,
ничего даже не началось, никогда и ничего, кроме никогда и ничего,
это воистину счастье, никогда ничего, кроме мертвых слов.
XIII
Он становится еще слабее, старый слабенький голос, не сумевший
стать мной, он замирает вдали, скажем так, уходит, или, попробуем
иначе, слабеет, кто его знает, скажем так, вот-вот оборвется, больше и
пытаться не будем. Он говорит, что не было голоса, кроме него, в моей
жизни, если говоря обо мне можно говорить о жизни, а он может, он
это еще может, или, если не о жизни, здесь он замирает, если только
то, если только другое, здесь он замирает, если, говоря обо мне, здесь
он замирает, но кто может больше всех, может меньше всех, если вы
заговорили обо мне, вы можете говорить о чем угодно, вплоть до точки,
где, вплоть до момента, когда, здесь он замирает, он больше не может
говорить обо мне, здесь ли, в другом месте, так он говорит, так он
шепчет. Кто это, это никто, здесь никого нет, есть голос без рта, и
где-то там есть слух, что-то, что, вероятно, умеет слышать, и где-то
там есть рука, этот голос называет ее рукой, он хочет, чтобы это
считалось рукой, ну словом, что-то где-то, оставляющее следы того, что
делается, того, что говорится, самую малость, нет, это фантазии, опять
фантазии, есть только голос, он шелестит и оставляет следы. Следы,
он хочет оставить следы, какие оставляет воздух в листве, в траве, в
песке, он хочет, чтобы это выглядело как жизнь, но скоро всему конец,
жизни не будет и не было никогда, будет тишина, и воздух, который
еще дрожит секунду, а потом застывает навсегда, будет маленькая
пылинка, которая падает долю секунды. Воздух, пылинка, здесь нет
воздуха и неоткуда взяться пыли, а если говорить о мгновениях, о долях
секунды, то и говорить не о чем, хотя все-таки есть о чем, это слова,
которые он употребляет, и он всегда говорил и всегда будет говорить
о вещах, которые не существуют, или существуют в другом месте, если
угодно, если это называется «существовать», но сейчас речь не о другом
месте, речь о том, что здесь, а, наконец-то он об этом, он все еще об
этом, надо было уйти от этого, перейти к другому, туда, где время
проходит и атомы на долю секунды собираются вместе, в то место,
откуда, быть может, пришел этот голос, или порой говорит, что пришел,
оправдывая свое право говорить о своих выдумках. Да, уйти отсюда, но
как, все пусто, ни пылинки, ни дуновения, только дуновения этого
124
Сэмюэль Беккет
голоса, и сколько бы он ни старался, ничто не происходит. Если бы я
был там, если бы он мог оказаться мной, как бы я пожалел его за то,
что он столько говорил понапрасну, нет, так не годится, он бы не
говорил понапрасну, если бы я был там, и я бы его не жалел, если бы
он стал мной, я бы его проклинал или благословлял, он был бы у меня
в устах, проклинающий, благословляющий, который, да чего там, он
бы не сумел это сказать, он бы больше не сумел сказать ничего
особенного у меня в устах, он, сумевший столько вещей сказать
понапрасну. Вот их оболочки, пускай улетают, это последние. Но эта
жалость, все-таки эта жалость, разлитая в воздухе, хотя здесь нет воздуха,
в котором могла бы разливаться жалость, просто такое выражение, не
лучше ли на этом остановиться, спросить себя, откуда она берется,
спрашивает себя голос, и не мерцает ли там зловредная искра надежды
сквозь предательский пепел, еще одно выражение, робкая надежда
робкого существа, в конце концов представителя рода человеческого,
проливающего слезинку еще до того, как успел хоть что-то увидеть,
нет, не нужно, ни этого, ни другого, и останавливаться ни на чем не
нужно, ничто больше не должно останавливать его, ни в его падении,
ни в его восхождении, и он, быть может, кончится пронзительным
воплем. Правду сказать, нечасто он шел из сердца, в прямом или в
переносном смысле, но это не повод надеяться, так сказать, на то, что
однажды он вырвется, и взлетит ввысь, и треснет там, среди китайских
теней,44 жаль, жаль. Но чего еще он ждет в конце-то концов, раз уже
все решено и обжалованию не подлежит, почему не приглушит свой
предсмертный хрип (еще одно выражение), почему не завершит все свое
свинство одной подобающей случаю последней песнью? Последние
вечные вопросы, на последней странице маленькая девочка в
мечтательной позе, последние картинки, конец сновидений, конец
прошедшей, проходящей — еще чуть-чуть и совсем пройдет — жизни, конец
лжи. Возможно ли, возможное ли это дело наконец — погасить это
черное ничто и его невозможные тени, покончить с нескончаемым и с
говорящей тишиной, спрашивает себя голос, который сам и есть
тишина, или это я, трудно сказать, все это один и тот же сон, одна и та
же тишина, голос и я, голос и он, он и я, и все наши, и все их, и
все их, но чей, чей сон, чья тишина, старые вопросы, последние
вопросы, наши, то есть сна и тишины, но это закончено, мы закончены,
да и не было нас никогда, и скоро ничего не будет там, где и никогда
ничего не было, последние картинки. И кому стыдно за каждую
беззвучную миллионную дольку слога, — причем неутоленная
бесконечность угрызений все глубже вонзает свои зубы, — за то, что нужно
выслушивать и шепотом тише тишайшего говорить так много лжи, так
много раз произносить одну и ту же ложь, опровергая ее ложью, и чье
это ревущее молчание, которое вместе и рана «да», и нож «нет», вот о
чем он себя спрашивает. Но что стало с этим желанием знать, спра-
Никчемные тексты
125
шивает он себя, исчезло, сердце исчезло, голова исчезла, никто ничего
не чувствует, ничего не просит, ничего не ищет, ничего не говорит,
ничего не слышит, кругом молчание. Неправда, нет, правда, и правда,
и в то же время неправда, молчание и не молчание, никого нет и кто-то
есть, ничто ничему не мешает. А если бы голос, старый прерывающийся
голос, совсем наконец прервался, это было бы неправдой, и неправда,
будто он говорит, говорить он не может, и прерваться не может. И
если бы только один день был здесь, где нет дней, где вообще не место,
а немыслимое существование, родившееся от невозможного голоса, и
первый проблеск дня, все равно все было бы безмолвно, и пусто, и
черно, как теперь, как будет скоро, когда все будет кончено, все сказано,
вот что он говорит, вот что он шепчет.
ттттттштттттм
Как есть
ι
как было цитирую до Пима при Пиме после Пима как есть три части
говорю как слышу
голос сперва снаружи бу-бу-бу со всех сторон1 потом во мне когда
замирает одышка расскажи мне еще перестань мольба
прошедшие мгновения старые мечты опять вернулись или новые такие
же как те ушедшие или это самое это самое вечно и воспоминанья
рассказываю их как слышу шепчу их в грязи
во мне а были снаружи когда замирает одышка ошметки былого голоса
во мне это не мой
моя жизнь последнее состояние недосказана недопонята недонайдена не-
дошептана2 в грязи короткие подергивания нижней части лица везде потери
записана как бы то ни было так лучше где-то какая есть постепенно
моя жизнь мои мгновения ни одного из миллиона все пропало почти
все кто-то слушает другой записывает или это один и тот же
итак значит первая часть как было до Пима это примерно следует
цитирую в том порядке что моя жизнь соответствует последнему
состоянию тому что от нее осталось ошметкам я слышу ее мою жизнь более
или менее в том порядке как я ее узнаю цитирую какой-то момент
огромное время тому назад а потом еще некоторые по порядку как
было в огромном времени
первая часть до Пима как докатился до какой вопрос ничего не понять
не о чем говорить а мешок откуда мешок а я если это я какой вопрос
невозможно нет сил неважно
Как есть
127
жизнь жизнь другая наверху в лучах говорят это была моя жизнь
урывками не возвращаться туда наверх какой вопрос некому меня об
этом просить и всегда было некому какие-то картинки урывками в грязи
земля небо какие-то существа в лучах некоторые стоя
мешок единственное достояние3 на ощупь невелик с углем
пятьдесят кило мокрый джут стискиваю его теперь с него капает но давно
давно огромное зремя назад заря жизни первый ее признак совсем
первый
потом приподнимаюсь на локте цитирую вижу как погружаю туда в
мешок разговор о мешке погружаю туда руку пересчитываю банки одной
рукой невозможно все-таки пробую когда-нибудь станет можно
выкинуть банки в грязь сложить их обратно в мешок одну за другой
невозможно нет сил страшно потерять
нет аппетита крошку тунца потом глотать осклизлое да ладно у меня
есть еда всегда будет в любую минуту
початая банка отложенная в мешок зажатая в руке я о ней думаю когда
аппетит возвращается или не думаю больше открываю другую одно из
двух что-то там не так это начало моей жизни нынешнее прочтение
другое в чем уверен грязь темнота подведем итог мешок банки грязь
темнота тишина одиночество пока всё
вижу себя ничком плашмя закрываю глаза не синие другие позади тех
и вижу себя ничком открываю рот язык вылезает вываливается в грязь
минута другая и жажды как не бывало а о том чтобы умереть и речи
нет все это время огромное время
жизнь в лучах картинка первая некто я смотрел на него как привык
издали снизу в зеркало ночь из окна картинка первая
я говорил себе он лучше лучше чем вчера не такой безобразный не
такой глупый не такой злой не такой грязный не такой старый не такой
несчастный а я говорил я себе а я непрерывная череда бесповоротных
ухудшений
что-то там не так
я говорил себе хуже не будет я ошибся
писал и какал другая картинка в моей колыбельке никогда с тех пор я
не был таким чистым
128
Сэмюэль Беккет
я изрезал ножницами на тонкие ленточки крылышки бабочек одно
потом другое а иногда для разнообразия оба одновременно я отпускал
на свободу тельце посредине никогда с тех пор я не был таким добрым
пока все теперь ухожу слышу это шепчу это в грязь теперь ухожу в
настоящий момент жизнь в лучах все гаснет
на животе в грязи темнота вижу себя это просто передышка я
путешествую просто привал
вопросы а если бы я потерял открывалку вот еще один предмет или
когда мешок опустеет в таком роде
мерзость мерзость героические века глазами следующих когда придет
последний когда был мой золотой каждой крысе4 свой blütezeit* говорю
как слышу
колени подтянуты спина колесом прижимаю мешок к животу теперь я
вижу себя со стороны придерживаю его рукой мешок разговор о мешке
закидываю на спину не выпускаю никогда не выпущу
что-то там не так
не страх его потерять цитирую другое непонятное не сказали когда он
опустеет суну голову потом плечи голова коснется дна
уже другая картинка женщина поднимает голову и смотрит на меня
сначала появляются картинки часть первая потом исчезнут говорю как
слышу шепчу это в грязи картинки часть первая как было до Пима
вижу их в грязи все озаряется сейчас исчезнут женщина вижу ее в грязи
она далеко десять метров пятнадцать метров поднимает голову смотрит
на меня говорит себе хорошо наконец-то он работает
голова где моя голова она лежит на столе моя рука дрожит на столе
она же прекрасно видит что я не сплю ветер дует неудержимо быстро
летят облачка картина колышется от света к тени от тени к свету
это еще не все она вновь берется за рукоделие5 глаза подернуты дымкой
игла застывает на половине стежка она выпрямляется и опять на меня
смотрит что ей стоит окликнуть меня по имени встать потрогать но нет
не шевелюсь тревога ее нарастает внезапно она вылетает из дому бежит
к друзьям
* Расцвет {нем). — Примеч. сост.
Как есть
129
всё конец это был не сон я не спал и не воспоминание мне отказано
в воспоминаниях на сей раз это была картинка вроде тех что я иногда
вижу в грязи вижу и видел
размахнувшись как будто сдаю карты или как сеятель бросаю пустые
банки падают без стука
падают прямо не верится те самые которые я иногда нахожу на дороге
и опять поскорее бросаю
тепло первородной черной непролазной грязи
внезапно как все чего не было а потом стало я ухожу причина не в
пакости и отбросах а в чем-то другом никто не знает никто не скажет
что там готовится внезапная смена субъект объект субъект объект подряд
и вперед
беру из мешка веревку еще один объект завязываю мешок сверху вешаю
на шею знаю мне понадобятся обе руки или просто предчувствую одно
из двух и вперед правая нога правая рука тяни толкай десять метров
пятнадцать метров стоп
значит в мешке пока только банки открывалка и веревка но хочется
чего-то другого кажется этого мне не дали картинка чего-то другого
здесь со мной в грязи в темноте в мешке у меня под боком ох нет
боюсь на этот раз6 в мою жизнь этого не вложили
полезные вещи тряпка для вытирания и все такое или то что приятно
потрогать
такое что проискав понапрасну среди банок то одно то другое смотря
чего хочется сию минуту смотря какая картинка такое чтобы когда
устану от поисков пообещать себе что поищу это позже когда буду не
такой усталый уже не такой усталый или выкинуть из головы сказать
себе правда правда не думай больше об этом
нет хочется стать чуть-чуть не таким плохим хочется получить толику
красоты когда замирает одышка я ничего такого не слышу мне ничего
такого не рассказывают на этот раз
ни о гостях на этот раз в моей жизни совершенно не хочется гостей
подумаешь набегут со всех сторон всякие разные рассказывать мне как
ни в чем не бывало о себе о жизни о смерти а может под конец и обо
мне это бы мне помогло продержаться а потом привет до скорого
каждый своей дорогой
5 С. Беккет
130
Сэмюэль Беккет
всякие старики как они качали меня на коленях узелок с тряпьем и
кружевами а потом следили за моими успехами
другие понятия не имеют как я начинал и знают только то что разнюхали
из сплетен да по архивам
другие узнали меня только здесь в последнем моем месте говорят со
мной о себе обо мне может быть под конец о мимолетных радостях и
печалях об империях которые умирают и рождаются как ни в чем не
бывало
и наконец другие еще не знают меня они проходят тяжкой поступью
бормочут себе под нос они убежали в пустыню чтобы наконец остаться
в одиночестве чтобы свободно излить душу и чтобы никто их не
подслушал
если эти меня увидят я для них одинокое чудище оно впервые видит
человека и не убегает и путешественники привозят домой его шкуру
вдруг вдали шаги голос ничего потом вдруг что-то что-то потом вдруг
ничего вдруг вдали тишина
итак жить без гостей нынешнее прочтение чтобы никаких историй кроме
моих никакого шума кроме моего никакой тишины кроме той нарушить
которую некому кроме меня если я больше не хочу тишины так я и
буду жить дальше
вопрос а есть ли здесь кто-нибудь кроме меня разумеется в этом все
дело три четверти дела долгая нудная дискуссия временами возникают
опасения что да но в конце концов вывод нет я один избранный одышка
замирает и я слышу только это еле слышу вопрос ответ еле слышно
есть ли другие обитатели кроме меня здесь со мной безвылазно в темноте
в грязи долгая безнадежная дискуссия вывод нет я один избранный
сон тем не менее мне ниспослан сон как человеку который насладился
любовью с бабенкой она у меня под боком и тоже спит и видит во
мне мужичка будто он у нее под боком это есть в моей жизни сейчас
иногда бывает часть первая во время путешествия
или за неимением родственной плоти ламе снится самопогружение лама
альпага7 знание мое естествознание
лама ко мне не придет я сам пойду зароюсь в ламье руно но они
добавляют нет здесь животное нет душа это также и обязательный разум
а также минимум всего и пожалуй много чести
Как есть
131
обращаюсь к собственной руке к свободной подношу к лицу вот оно
спасение когда не хватает всего картин грез сна материала для
размышлений что-то там не так
и не хватает великих потребностей вроде потребности шагать вперед
потребности есть и блевать и других великих потребностей самого
важного в жизни
и тогда лучше прибегнуть к моей руке к той что свободна чем к любой
другой части тела говорю как слышу короткие подергивания нижней
части лица шепоток в грязи
она приближается к моим глазам не вижу ее закрываю глаза чего-то не
хватает хотя обычно закроешь глаза откроешь
а если этого мало машу рукой разговор о моей руке десять секунд
пятнадцать секунд закрываю глаза занавес падает
а если этого мало прижимаю ее к лицу она закрывает его целиком но
я не люблю себя трогать сейчас мне этого не дано
зову ее не приходит она мне нужна и всё тут зову что есть мочи
получается слишком тихо я снова смертен
память моя ну конечно одышка проходит и дело в памяти очевидно в
этом тоже все дело в этом тоже на три четверти этот голос так
переменчив от него во мне остается все меньше и меньше едва уловимые
ошметки когда отпускает одышка так мало так тихо одна миллионная
может быть говорю как слышу шепчу в грязь каждое слово всегда
что с моей памятью разговор о моей памяти ничего особенного что она
улучшается ухудшается что мне помнится всякое ничего не помнится
но от этого до уверенности
до уверенности что никто больше никогда не придет с лампой и не направит
ее на меня и никогда больше ничего другие дни другие ночи нет
потом другая картинка еще одна уже третья может быть скоро они
перестанут это я весь целиком и лицо моей матери я его вижу снизу
оно ни на что не похоже
мы на ажурной веранде вербена ее оплела благоуханное солнце блестки
красные плиты прекрасно
исполинская голова в уборе из птиц и цветов склоняется над моими
кудряшками глаза пылают строгой любовью ей навстречу мои глаза
132
Сэмюэлъ Беккет
светлые возведенные под идеальным углом к небу откуда к нам нисходит
спасение знаю со временем возможно его не станет
короче вытягиваюсь в струнку коленями на подушке дрожа в ночной
рубашонке стиснув сложенные руки на груди и молюсь по ее указаниям
еще не всё она закрывает глаза и монотонно бубнит ошметки «Верую»
так называемого апостольского украдкой внимательно слежу за ее губами
кончила и снова вспыхнули ее глаза возвожу поскорее взгляд к небесам
и повторяю за ней как попало
воздух дрожит от гудения насекомых
конец все гаснет как будто задули лампу
мгновенье длится мгновенье проходит все конец прошлое мое крысенок
крадется за мной по пятам остальное вранье
вранье старое время часть первая как было до Пима огромное время
когда изумляясь что у меня еще сил хватает я тащусь и тащусь в шею
веревка врезается сбоку мешок болтается рука выброшена вперед к стене
к яме которые никогда не становятся ближе что-то там не так
а Пим часть вторая что я ему сделал что он сказал
вымыслы например мертвая голова8 рука в которой жизнь еще теплится
маленький столик колеблемый облаками женщина резко встает и
бросается из дому на ветер
неважно я больше не скажу продолжаю цитату разве это я разве это я
это уже не я на этот раз я изъят я только говорю как продержаться
как продержаться
первая часть до Пима до открытия Пима этим кончить и останется
только вторая при Пиме как было и остается только третья после Пима
как было как есть огромные времена
мой мешок единственная переменная мои дни мои ночи зимы весны
и прочее и праздники он говорит мне вечная Пасха а потом сразу День
всех святых в этом году нет лета если это тот же самый год почти нет
весны благодаря моему мешку и если я умру с природы увяданьем
и банок у меня с каждым днем все меньше но аппетит исчезает быстрее
банки разной формы никакого предпочтения но пальцы знают
выхватывая наудачу
Как есть
133
все меньше и как странно да что странного годами затишье а потом
вдруг раз и вдвое меньше
эти слова о тех для кого под кем земля вертится и все вертится эти
слова еще здесь дни ночи года зимы весны и прочее в том же духе
обмануты пальцы рот ждал оливку оказалась черешня но я не выбирал
даже слов не ищу ни на свой вкус ни на чужой больше не ищу
мой мешок когда он опустеет мешок обладание воющее слово обладание
короче провал и в итоге одно накладывается на другое аномалия
аномалия мешок здесь мой мешок когда он опустеет да чего там время
еще есть века
века вижу себя совсем маленьким почти таким как сейчас но меньше
совсем маленьким ни вещей ни припасов а я жив питаюсь воздухом
грязью все еще жив
мешок с ним можно по-разному беру в руки говорю запихиваю голову
трусь щекой прижимаюсь губами отворачиваюсь досадливо опять
прижимаюсь говорю ему ты ты
говорю говорю часть первая ни звука только слоги губы мои шевелятся
и всё вокруг весь низ это способствует пониманию
вот речь она мне дана часть первая до Пима вопрос много ли я этим
пользуюсь этого мне не говорят или я не слышу одно из двух говорят
свидетель мне понадобится свидетель
он живет склонясь надо мной это его жизнь и вся поверхность моя
залита светом его ламп когда я ухожу он согнувшись в три погибели
идет за мной по пятам
у него есть помощник сидящий в сторонке он сообщает помощнику о
коротких подергиваниях нижней части моего лица помощник записывает
в реестр 9
у меня онемела рука у меня онемела речь слов не найти никаких даже
немых а как мне нужно слово моей рукой очень нужно а я ничего не
могу это тоже
износ чувства юмора меньше слез этого тоже слез тоже не хватает а
вот еще картинка мальчик сидящий на кровати в темноте или маленький
старичок не вижу обхватил голову руками молодая она или старая но
это сердце мое
134
Сэмюэлъ Беккет
вопрос а счастлив ли я сейчас все это было так давно а счастлив ли я
сейчас хоть немного хоть иногда часть первая до Пима короче провал
и потихоньку нет я бы это заметил и потихоньку добавить не создан
не очень создан для счастья несчастье покой души
крысы нет на этот раз никаких крыс я им опротивел что еще было
тогда часть первая до Пима огромное время
скрюченная наизготовку рука ныряет но вместо привычной хляби ляжка
там кто-то лежит тоже плашмя а что было до этого хватит ухожу
не дерьмо и помои а что-то другое я ухожу мешок на шее я готов
первым делом дать волю ноге которой ноге одним словом провал и еле
слышно правой так оно лучше
поворачиваюсь на бок на какой на левый так оно лучше выбрасываю
вперед правую руку сгибаю правое колено суставы действуют пальцы
вязнут нога вязнет это мои приемы хлябь это преувеличение приемы
это преувеличение все преувеличение говорю как слышу
тяни толкай нога распрямляется рука сгибается все суставы действуют
голова дотягивается до руки отдых ничком лежа на животе
другой бок левая нога левая рука тяни толкай голова и верхний отдел
позвоночника отрываются от поверхности чтобы меньше трения падают
ползу иноходью десять метров пятнадцать метров 10 стоп
сон длительность сна просыпаюсь никаких сколько к последнему
фантазия мне дана фантазия одышка проходит стенные часы бодрый
вид голову в мешок с кислородом на тридцать минут пробуждение от
удушья остается только повторить четыре раза шесть раз достаточно я
поправился передохнул силы вернулись пускай начинается день эти
ошметки еле слышно ошметки фантазии
опять клонит в сон недосып так они пробуют мне рассказать на
этот раз я проглочен выблеван зевота зевота опять клонит в сон
недосып
этот голос бу-бу-бу потом во мне когда отпускает одышка часть третья
после Пима не до Пима не при Пиме я путешествовал нашел Пима
потерял Пима все конец я в третьей части после Пима как было как
есть говорю как слышу более или менее по порядку ошметки в грязи
моя жизнь шепчу в грязь
Как есть
135
я узнаю это все более или менее в том порядке как было до Пима при
Пиме огромное время промелькнувшая жизнь как было потом как стало
теперь после Пима11 как есть моя жизнь ошметки
как помню ее так и рассказываю в том порядке губы мои шевелятся я
их чувствую она вытекает в грязь жизнь моя то что от нее осталось
недосказана недослышана недонайдена когда замирает одышка недо-
шептана в грязь теперь все это такие древности естественный ход вещей
путешествие пара разлука все это теперь потихоньку ошметки
я путешествовал я Пима нашел потом потерял все конец этой жизни
первой второй уже третья по счету подступает одышка отпускает одышка
и я слышу потихоньку как я путешествую со своим мешком банками
в темноте в грязи иноходью ползу к Пиму сам того не зная ошметки
теперь такие древности их слышу их шепчу такие как есть потихоньку
в грязь
часть первая до Пима путешествую больше так продолжаться не может
продолжается я успокаиваюсь воображаешь будто успокоился а сам нет
потихоньку и ты на краю говорю как слышу и что смерть смерть если
она когда-нибудь придет это все конец
конец и я вижу крокус в горшке во дворике в подвале шафран солнце
карабкается вдоль стены рука вывешивает на солнце этот желтый цветок
спускает его на веревке вижу длинную руку часы напролет солнце
прячется горшок спускается он уже на земле исчезает рука исчезает
стена
лохмотья жизни в лучах слышу не отрицая не веря я больше не говорю
кто разговаривает так больше не говорят это должно быть неинтересно
но слова как теперь до Пима это нет так не говорят только мои эти
мои слова немые короткие подергивания всем низом ни звука когда
удается в этом разница большая неразбериха
вижу все в натуральную величину в том числе и в мою вспышка света
в грязи молитва голова на столе крокус старик в слезах слезы из-под
пальцев небеса все самое разное на земле на море внезапную синеву
золото зелень земли внезапно в грязи
но слова как сейчас слова не мои до Пима нет нет так не говорят
большая разница я ее слышу между тогда и теперь какую-то разницу
среди подобий
слова Пима голос исторгнутый у него он молчит вмешиваюсь
проделываю все необходимое он подхватывает я бы слушал его всегда но
136
Сэмюэль Беккет
мои-то слова покончить с моими естественный порядок до Пима то
немногое что я говорю ни звука то немногое что вижу в жизни не
отрицая не веря но во что верить в мешок может быть в темноту в
грязь в смерть может быть в конце концов после всей этой жизни
бывают мгновения
как докатился если это я нет не может быть нет сил неинтересно но
с этого места я начинаю на этот раз нынешнее прочтение часть первая
моя жизнь сжимаю мешок с него капает первый признак это место
какие-то ошметки
ты здесь где-то здесь в жизни какое-то огромное время потом все конец
тебя больше здесь нет потом ты опять тут это был не конец ошибка
все сначала более или менее с того самого места с другого как когда
новая картина там наверху в лучах в больнице к тебе возвращается
сознание в темноте
то же самое что которое какое место никто не говорит не слышу одно
из двух то же самое более или менее более сыро менее светло совсем
не светло что это значит что я был где-то где было светло говорю как
слышу каждое слово всегда
более сыро менее светло совсем не светло и шум смолк милый шум
повод для рассуждений я наверное поскользнулся мы в самом низу нас
больше нет скользим что дальше
другая эпоха тоже привычная несмотря на эти странности мешок хлябь
нежность воздуха чернота печи цветные картинки хватило бы сил
тащиться дальше все эти странности
но прогресс собственно говоря открывается вид на руины как в дорогом
десятом в дорогом двадцатом о чем говорить исключая себя о синеве
сна ах если бы ты видел какие потрясенья бывали четыреста лет назад
ах мой юный друг этот мешок если бы ты его видел я насилу его волок
а теперь погляди я касаюсь макушкой дна
а у меня ни морщинки ни одной
на исходе мириадов часов мой час пятнадцать минут бывают мгновения
я страдал в этом все дело мне пришлось нравственно страдать без конца
надеяться и отчаиваться тоже сердце истекает кровью теряешь сердце
каплю за каплей даже внутри иногда ни звука ни картин ни путешествий
ни голода ни жажды сердце уходит мы уже близко я это слышу в иные
минуты в лучшие минуты
Как есть
137
рай прежде надежды выхожу из сна возвращаюсь в сон между тем и
другим есть все все что надо сделать что надо выдержать что надо
упустить что надо сварганить что надо довести до ума прежде чем опять
разверзнется грязь вот как они хотят мне сказать на сей раз моя жизнь
до Пима часть первая от одного сна к другому
потом Пим потеряны банки рука ощупывает ляжку крики мой
беззвучный моментально рождается надежда быть там знать что это с тобой
было чувствовать как сердце уходит слышать как говорят что ты уже
близко
быть с Пимом пускай не сейчас а прежде знать что это с тобой было
слышать как говорят что он вернется придет другой лучше Пима он
уже близко правая нога правая рука тяни толкай десять метров
пятнадцать метров он остается там в темноте не колышется грязь и на тебя
внезапно ложится рука словно на Пима твоя рука два крика его
беззвучный
у тебя будет тихий голосок он будет едва различим ты будешь
рассказывать ему на ухо целую жизнь у тебя будет маленькая жизнь ты ее
расскажешь ему на ухо это будет другое дело совершенно другая музыка
вот увидишь как Пим тихая музыка жизни но в твоих устах она тебе
покажется новой
потом ты уйдешь не простившись все будет кончено со временем с
временами или только с тобой больше ни путешествий ни пар ни разлук
никогда и нигде вот и пойми это
как было до Пима вот и скажи это сперва естественный порядок вещей
те же самые вещи говорить их как слышу шептать в грязь единственной
вечности для большей ясности одну вечность превратить в три
просыпаюсь и иду туда вся жизнь часть первая до Пима как было потом Пим
как было при нем потом после более чем после Пима как было как
есть когда замирает одышка ошметки иду туда мой день моя жизнь
часть первая ошметки
спящий вижу себя спящим на боку или на животе одно из двух на
каком на правом так лучше мешок под головой или прижат к животу
колени подтянуты спина колесом крошечная головка почти уткнулась
в колени сжимающие мешок Белаква12 завалившийся на бок уставший
ждать забытый сердцами в которых живет дремлющая благодать
не знаю что за насекомое скрючилось над своим добром с пустыми
руками прихожу в себя на свое место что сперва попросить его немного
повременить
138
Сэмюэль Беккет
с чего начну мой долгий день моя жизнь нынешнее прочтение пусть
немного повременит свернувшись над моим сокровищем начеку Боже
мой надо это шептать
двадцать лет сто лет ни звука и я не слушаю свет и я таращу глаза
четыреста раз единственное мое лето или зима прижимаюсь крепче к
мешку банка звякает из тишины этой дырявой тьмы самая первая
передышка
что-то тут не так
грязь вечно теплая вечно сырая она на мне не сохнет воздух насыщен
теплыми испарениями воды или какой-то другой жидкости вдыхаю
воздух ничего не чувствую сто лет никакого запаха нюхаю воздух
ничего не сохнет сжимаю мешок первый верный признак жизни с него
капает банка звякает мои волосы никогда не бывают сухими никаким
электричеством их не взбить расчесываю их ага начинается вот другой
предмет сзади это еще один мой запас а теперь часть третья вот еще
одна разница
настроение перед уходом перед тем как события начнут развиваться
стремительно и удовлетворительно ах душа какая у меня была душа в
те времена равенства вот почему мне был дан товарищ
это все еще мой день часть первая до Пима моя жизнь нынешнее
прочтение самое начало ошметки прихожу в себя на свое место в темноту
в грязь сжимаю мешок с него капает банка звякает готовлюсь ухожу
конец путешествия
говорить о счастье не решаешься маленькое словцо говорить об участье
первая спаржа лопнувший нарыв но о приятных мгновениях это да
ну еще бы до Пима при Пиме после Пима огромное время да чего
там что я говорю о приятных мгновениях о не столь приятных к ним
тоже надо быть готовым сразу слышу шепот дорогие ошметки
собранные невесть где так лучше кто-то слушает другой записывает или тот
же самый никогда ни стона ни слезы изредка внутри жемчужина
никакого звука огромное время естественный порядок вещей
внезапно поскольку все что происходит уже еле удерживаешь кончиками
пальцев альпийскую или спелеологическую картину в своем роде
картину тех что смеются не последними а первыми жестокий миг здесь
слова приносят пользу грязь беззвучна
Как есть
139
итак затем испытание перед уходом правая нога правая рука тяни толкай
десять метров пятнадцать метров к Пиму сам того не зная заранее банка
звякает я падаю перетерпеть минутку все это
над чем смеяться почти в самом деле если подумаешь чувствовать что
подыхаешь и снова обманом цепляться за жизнь короткие подергивания
нижней части лица ни звука если бы можно было подумать про все
что потом будет потеряно про эту великолепную грязь замирает одышка
и я слышу ее еле слышно только чтобы было над чем посмеяться всю
неделю если удастся об этом подумать
побег шар это воздух то немногое что осталось немногое которому вы
обязаны тем что еще держитесь на ногах смеясь и плача и говоря что
думаешь в телесном смысле ничего здоровье вне опасности одно мое
слово и я снова есть разеваю рот чтоб не терять ни секунды пускаю
газы у них свой смысл они вылетают изо рта ни звука в грязи
приходит слово мы говорим словами у меня есть еще кажется сейчас
по моим потребностям хватит и одного аха значит мама невозможно
рот открыт оно приходит сразу или в крайнем случае или между тем
и другим есть место а-а-а значит мама или что-то другое другой шум
потихоньку значит другое не важно первое попавшееся мне поможет
утвердиться в правах
проходящее время мне рассказано и прошедшее время огромное время
одышка проходит и ошметки огромной сказки такие услышанные такие
прошептанные в этой грязи которая мне рассказана по порядку по
естественному порядку вещей часть третья это там где у меня моя жизнь
моя жизнь по порядку более или менее в настоящем более или менее
часть первая до Пима как было такие древности путешествие последний
этап последний день прихожу в себя на свое место сжимаю мешок с
него капает банка звякает потеря такого рода беззвучное слово это
начало моей жизни нынешнее прочтение я могу начинать продолжать
мою жизнь это будет еще один человек
что сперва сперва пить ложусь на живот это длится немало мгновений
перетерплю мгновение рот открывается наконец язык высовывается
лезет в грязь это длится немало мгновений это лучшие мгновения может
быть самые лучшие попробуй выбери лицо в грязи рот открыт грязь во
рту жажда проходит отвоеванная человечность
иногда в таком положении прекрасная картина прекрасная я хочу сказать
в движении в цвете цвета синее с белым облака на ветру и в такой
день под грязью прекрасная картина сейчас опишу она будет описана
140
Сэмюэль Беккет
потом разлука правая нога правая рука тяни толкай к Пиму но Пима
нет на свете
иногда в этой позе я опять засыпаю язык уходит на место рот
закрывается грязь расступается это я засыпаю перестаю пить засыпаю или
язык наружу и пью всю ночь все время пока сплю вот такая моя ночь
нынешнее прочтение другой у меня нет пока сплю никаких сколько к
последнему человеческому да и звериному тоже просыпаюсь спрашиваю
сам себя опять цитирую стараюсь продлить это мгновение это тоже
спасение
язык обложен грязью и так бывает остается только втянуть его в рот
и пошевелить там проглотить грязь13 или выплюнуть вопрос питательна
ли она и надежды потерпеть минутку
набираю полный рот грязи и так бывает это еще один мой запас
потерпеть минутку вопрос если я ее проглочу пойдет ли впрок возникают
надежды приятные минутки
розовый язык выныривает из грязи чем в это время заняты руки всегда
надо видеть пытаться увидеть чем заняты руки что они пытаются делать
левая ладно мы ее видели опять сжимает мешок а правая
пальцы правой руки закрываю глаза не голубые другие сзади и в конце
концов ухитряюсь разглядеть эти пальцы краешком глаза там справа на
конце вытянутой руки на одной оси с ключицей на самом конце говорю
как слышу они разжимаются и сжимаются в грязи разжимаются и
сжимаются это тоже мое спасение это мне помогает
эта кисть наверно недалеко от силы метр я чувствую что она далеко
однажды она уйдет на своих четырех пальцах14 большой палец она
потеряла что-то там не так она покинет меня вижу ее закрываю глаза
другие глаза и вижу как она выбрасывает свои четыре пальца вперед
словно крючья кончики погружаются тащат за собой и так она удаляется
раз за разом понемножку подтягиваясь в горизонтальной плоскости уйти
вот так смыться это мне помогает
и ноги и глаза голубые закрыты конечно но нет потому что внезапно
наплывает другая картина последняя говорю как слышу там в грязи я
вижу себя
мне вроде бы лет шестнадцать и в довершение счастья погода
чудесна небо синее легкое запорошенное маленькими облачками вижу
себя со спины и девочка тоже держимся за руки я и она ну и зад у
меня
Как есть
141
мы трудно поверить что за краски расцветили изумрудные травы даже
трудно поверить мы старинный сон о цветах и об апрельской или
майской поре а в кое-какие детали прямо не верится белый забор
розовая трибуна мы на беговом поле в апреле или в мае
высоко подняв голову мы смотрим воображаю мы воображаю во все
глаза смотрим куда-то вперед оба неподвижны как статуи не считая
болтающихся рук статуи у которых переплелись руки что еще
в свободной левой руке у меня непонятный предмет а у нее
соответственно в правой конец короткого поводка связывающего ее с довольно
крупной пепельно-серой собакой которая сидит скособочившись
повесив голову неподвижность этих рук
вопрос почему поводок в этой безбрежной зелени где понемногу
зарождаются серые и белые пятна ягнята жмущиеся к матерям15 что еще
на заднем плане пейзажа четыре тысячи пять тысяч метров синеватая
масса пологой горы наши головы выше ее гребня
мы разжимаем руки и поворачиваем в разные стороны я направо она
налево она перекладывает поводок в левую руку а я в тот же миг в
правую тот предмет что-то вроде маленького белого кирпичика
свободные пальцы сливаются руки болтаются собака не шевельнулась мне
кажется что мы смотрим на меня втягиваю язык закрываю рот и
улыбаюсь
если смотреть анфас девочка не такая уродина меня интересует не она
бесцветные волосы ежиком толстое красное лицо в прыщах живот торчит
над расстегнутой ширинкой кривые ноги с узловатыми коленками
раздвинутыми для пущей устойчивости ступни развернуты на сто тридцать
градусов блаженная полуухмылка обращена назад к горизонту образ
брезжащей жизни зеленый твидовый костюмчик желтые ботинки все
эти краски первоцвет или вроде того в бутоньерке
снова поворот внутрь на двадцать четыре градуса короткий спор
переходы предметов из рук в руки слияние пальцев болтание рук
неподвижность собаки ну у меня и задница
вдруг хлоп влево вправо и мы сломя голову нос по ветру руки болтаются
собака следом понуря голову хвост поджат ничего общего с нами
просто ей в тот же миг пришла в голову та же мысль что нам как у
Мальбранша16 минус розовый цвет литературу-то я изучал если она
начнет писать то будет писать без конца я кричу ни звука брось ее там
и беги вскрывать себе вены
142
Сэмюэлъ Беккет
короче темно вот мы опять на вершине собака садится скособочившись
в вереске опускает морду на черно-розовый свой пенис и вылизывает его
а мы наоборот быстро разворачиваемся внутрь лицом к лицу
перекладывание предметов сцепление пальцев раскачивание рук молчаливое
наслаждение морем и островами головы дружно поворачиваются в сторону
труб дымящих над городом безмолвно ориентируются по
достопримечательностям головы разворачиваются обратно словно на одной оси
набрасываемся на бутерброды кусаем по очереди каждый от своего
перебрасываемся нежными словами моя миленькая я кусаю она глотает
мой миленький она кусает я глотаю того и гляди заворкуем да рты
набиты
любимая я кусаю она глотает сокровище она кусает я глотаю короткое
затемнение и вот мы снова идем прочь сквозь луга ладонь вложена в
ладонь руки раскачиваются головы задраны к вершинам которые все
меньше и меньше я больше не вижу собаки я больше не вижу нас
сцена опустела
еще несколько животных овцы будто гранит выступил на поверхность
горы лошадь не видел ее раньше стоит неподвижно выгнув хребет
понурив голову животные знают
синева и белизна небес еще мгновение апрельское утро под грязью все
конец готово гаснет была картинка да исчезла сцена опустела несколько
животных потом гаснет нет больше синевы остаюсь там
там справа в грязи кисть руки разжимается и сжимается это мне
помогает пускай идет своей дорогой замечаю что я опять улыбаюсь не
стоит труда уже давно не стоит труда
язык высовывается прячется во рту замираю потом жажда язык прячется
рот закрывается теперь губы наверно вытянуты в нитку все конец готово
была картинка да исчезла
это должно быть заняло некоторое время скоро будет Пим откуда мне
знать слова не подбираются скоро конец одиночеству скоро конец эти
слова
я только что был не один потому что в компании мне веселей говорю
как слышу с маленькой подружкой под апрельским или майским небом
мы исчезли замираю
там справа рука вытягивается вперед жесткий сжатый рот выпученные
глаза не отрываются от грязи мы вернемся может быть будут сумерки
Как есть
143
будет земля детства постепенно проступающая сиянием янтарные
полосы умирающие в пепельной гризайли там наверно прошел огонь когда
я вижу нас снова мы уже совсем близко
сумерки мы устали идем домой вижу только то что не скрыто одеждой
наши лица сообщников воздеты к восходу зыбкое свечение слипшихся
ладоней медленных и усталых мы входим ко мне домой и исчезаем
руки проходят сквозь меня и тела как тени сквозь еще одну тень сцена
пуста под грязью последнее небо гаснет пепел темнеет нет больше для
меня иного мира кроме моего очень славного но не такого так не бывает
я жду может быть мы вернемся но нет не вернулись какие встречи
бормочет вечер то что напело мне утро и в этот день в это утро а
вечера нет
найти что-то другое чтобы продержаться еще вопросы кто это был что
за люди какое место на земле в таком вот духе откуда это кино вернее
эта пантомима лучше ничего съесть что-нибудь
это должно быть длилось минуту бывают минуты и похуже обманутая
надежда ничего страшного день уже клонится к вечеру съесть что-нибудь
это продлится минуту приятная будет минута
затем в случае необходимости моя боль самая глубокая неуловимая из
всех моих болей самая любимая проблема с моими болями выход в том
чтобы перетерпеть минутку потом идти дальше не из-за дерьма и блевоты
тут другое этого не понять не высказать конец путешествия
правая нога правая рука тяни толкай десять метров пятнадцать метров
добрались новое место привыкаем к новому месту молитва о том чтобы
хоть ненадолго уснуть какие вопросы если так надо то что это были
за люди какое место на земле
это будет неплохая минута потом будут еще и похуже к этому тоже
надо готовиться настанет ночь нынешнее прочтение я бы поспал а если
проснусь
и если немой смешок проснусь наспех катастрофа Пим конец первой
части остается только вторая остается только третья остаются только
вторая и третья
одышка проходит я на боку какой бок правый так оно лучше растягиваю
края мешка вопросы чего о Господи чего я могу пожелать голод что я
ел в последний раз в таком вот роде время проходит я остаюсь
144
Сэмюэль Беккет
сцена с мешком обе руки растягивают его края чего еще можно желать левая
ныряет в мешок сцена с мешком а рука потом до самой подмышки а потом
блуждает среди банок не снисходя до пересчитывания убеждается что
их там добрый десяток хватает может быть последние креветки не важно
лишь бы хоть что-нибудь
вынимает маленькую овальную банку передает другой руке возвращается
за консервным ножом наконец находит извлекает открывалку на свет
божий разговор о консервном ноже с резной костяной ручкой в форме
веретена прикоснуться к ней чувство покоя
руки что делают руки в состоянии покоя трудно заметить большой и
указательный пальцы у которых грязь соответственно на конце и на
внешней стороне второй фаланги что-то там не так щиплют мешок а
оставшиеся пальцы прижимают предметы к ладони банку открывалка
лучше уж эти детали чем ничего
ошибка покой речь о покое ошибка сколько раз на этой стадии говорю
как слышу в этом положении руки внезапно оказываются пусты щиплют
мешок опять и опять мешок оказался пустым
искать обезумев в грязи открывалку в ней вся моя жизнь но от чего
она мне трудно сказать это точно от чего и так всегда моя маленькая
вечно запропавшая огромное время
покой итак мои ошибки это моя жизнь колени подтянуты спина колесом
голова легла на мешок обхваченная руками мешок мой мешок тело мое
тело все эти части каждая часть
мне чтобы сказать мне чтобы что-то сказать чтобы сказать то что я
слышу когда замирает одышка в царстве мертвых я наконец увижу свой
пуп там дуновение17 оно и крылышка майской мухи не шелохнет я
чувствую открывается рот
в грязном низу живота я увидел в один благословенный день в
подтверждение правоты Гераклита Темного в самой выси горней лазури 18
меж большими черными крылами распростертыми недвижными видел
как висело снежное тело неизвестной птицы парусник альбатрос горлан
южных морей знал я одну историю Господи вот такое естествознание
были у меня неплохие мгновения
но последний день путешествия это неплохой день без просчетов без
взлетов словно сходил отдохнул и вернулся руки как я их оставил ничего
не потеряю ничего больше не увижу
Как есть
145
мешок моя жизнь никогда не выпущу нет выпущу нужны обе руки как
во время путешествия это связывается в голове с тем заревом пустым
и черным до изумления потом внезапно словно пылающая пригоршня
стружек ну и зрелище
нужно путешествие когда я это скажу слабеющим голосом позже когда-
нибудь позже голос мой слабый как я
итак двумя руками как бывает когда путешествую или обхватываю
обеими голову обхватывал ее там наверху в лучах итак отпускаю мешок
но на какую-то минуту он становится моей жизнью итак ложусь поверх
это по-прежнему связывается в голове
царапают мне ребра сквозь джут края последних банок мятые края
истлевший джут верхние ребра правый бок немного выше чем там где
за них держишься держался сегодня моя жизнь еще не ускользнет от
меня еще не эта жизнь еще не ускользнет
если я родился она не была левшой правая рука перекладывает банку в
другую d та сразу же инструмент в эту изящное движение маленькое
завихрение пальцев и ладоней маленькое чудо благодаря которому маленькое чудо
среди множества других благодаря которым я еще жив еще был жив
остается только съесть десять двенадцать эпизодов открыть банку убрать
инструмент постепенно поднести к носу открытую банку безупречная
свежесть далекий аромат счастья приправленного лавром мечтать или
нет опустошить банку или нет бросить или нет и в том же духе этого
не говорят не вижу не особенно важно утереть рот вот так всегда и так
далее и наконец
взять мешок в руки унести такой легкий прижав к себе что есть сил
приложиться щекой это важнейшая сцена с мешком она сыграна она
уже позади день уже клонится к вечеру закрыть глаза наконец и ждать
мою боль пускай болит с ней я продержусь еще хоть немного а пока
молитва ни к чему спать я еще не имею права еще не заслужил молитва
для молитвы когда всего не хватает когда я думаю о неприкаянных
душах по-настоящему неприкаянных о настоящих душах которые
никогда не имеют права даже на сон однажды я молился за них если
верить старому пожелтевшему снимку
опять я всегда и всюду в лучах век неизвестно какой вид сзади на
коленях кверху ляжками на вершине горы отбросов одет в мешок с
дыркой для головы в зубах горизонтально зажато древко огромного стяга
на котором читаю
146
Сэмюэль Беккет
по милосердию твоему то и дело пускай великие грешники спят далее
неразборчиво из-за складок потом видеть во сне быть может счастливое
время которым они обязаны своим заблуждениям все это время демоны
будут отдыхать десять секунд пятнадцать секунд
сон единственное благо короткие подергивания нижней части лица ни
звука единственное благо иди погаси эти два старых угля кои уже ни
при чем и этот старый очаг разрушенный огнем и во всей этой дряни
вся эта дрянь от начала до конца от волос до ногтей с пальцев на руках
и на ногах как мало она пока ощущает что она такое пока собой
представляет и сон
сон приди с неба с земли из-под земли где я непостижим а-а-а ни звука
в заднице жгучий кол в тот день мы больше не молились до того как
сколько раз на коленях сколько раз сзади на коленях под всеми углами
сзади во всех положениях на коленях и сзади сразу если это был не я
это был всегда один и тот же жалкое утешение
ляжка вдвое больше чем надо другая вдвое меньше чем надо или это
обман зрения когда испражняешься грязью тогда и подтираешься вот
уже века я этого больше не касаюсь возьмем отношение четыре к одному
я всегда любил арифметику она мне платила взаимностью
у Пима они были хоть и маленькие но одинаковые ему бы еще третью
я засовывал туда открывалку равнодушно что-то там не так но сперва
покончить с этим с моей жизнью путешественника часть первая до
Пима как было остается только вторая потом третья остается только
третья и последняя
из времен когда я еще жался к стенам среди моих ближних и братьев
я это слышу и шепот который тогда там наверху на свету на каждую
телесную боль душевная я от нее леденел я выл на помощь в одном
случае на сотню испытывая долю блаженства
как когда в виде исключения надравшись в тот час когда появляются
мусорщики упорно желая выйти из лифта я застреваю ногой между
площадкой и клеткой лифта а спустя два часа минута в минуту хоть
время засекай прибегает кто-то кто все это время тщетно жал на кнопку
вызова
старый сон я не верю или верю это зависит от чего неизвестно смотря
какой день зависит от того какой день прощайте крысы
кораблекрушение свершилось немного меньше вот и все о чем я умоляю
Как есть
147
немного меньше неизвестно чего неизвестно как неизвестно когда
немного меньше времени быть и не быть прошедшее настоящее будущее
и условное наклонение давайте давайте продолжение и конец часть
первая до Пима
жжение в прямой кишке как превозмог размышления о том как
вытерпеть боль непреодолимое начало пути относящиеся к нему
приготовления благополучный маршрут внезапное прибытие в гостеприимный порт
задние огни отбой и гоп разве это сон
сон мало шансов смерть мешка ляжки Пима конец первой части остается
только вторая потом третья остается только третья и последняя о сжалься
Талия где твой зеленый плющ19
скорее голову в мешок где с позволения сказать я терплю все муки
всех времен меня это заботит как прошлогодний снег и каждая клеточка
трясется от безудержного смеха банки от этого трещат наподобие
кастаньет грязь чавкает под моим трясущимся телом я одновременно пукаю
и писаю
удачный последний день путешествия все проходит как нельзя лучше
шутка выдыхается слишком стара содрогания унимаются возвращаюсь
на вольный воздух к серьезным вещам мне довольно было бы поднять
мизинец чтобы улететь на лоно Авраамово я бы попросил его иметь
это в виду
тем не менее кое-какие мысли чтобы занять время о непрочности
эйфории у разных классов животного царства начиная с губок как вдруг
нет не могу больше терпеть ни секунды так что этот эпизод пропускаем
испражнения нет они это я но я их люблю старые банки не до конца
опорожненные вяло отброшенные нет что-то еще грязь поглощает все
она выдерживает меня одного мои двадцать кило тридцать кило немного
проседает под ними а потом уже больше не проседает я не бегу я
удаляюсь
оставаться всегда в одном и том месте никогда у меня не было других
притязаний с моим малым бессильным весом в этой теплой тине вырыть
себе логово и не шевелиться старый сон возвращается вижу его в этот
тягучий час он есть и будет еще долго начинаю сознавать чего он стоит
чего стоил
глотнуть побольше черного воздуха и покончить наконец с моей жизнью
путешественника до Пима часть первая как было до другого до оседлого
с Пимом после Пима как было как есть огромное время когда я ничего
148
Сэмюэль Беккет
больше не вижу слышу его голос потом эта другая приходит издалека
из тридцати двух сфер зенита и глубин потом во мне когда отпускает
одышка ошметки бормочу их
с этим беспокойством причина в том что я больше не выдержу ни
секунды здесь где я не в силах даже поднять мизинец даже если от
этого подо мной грязь расступится а потом сомкнётся
вопрос старый вопрос да или нет это ежедневное если ежедневное
потрясение это слово которое нужно слышать шептать это потрясение
если ежедневное оно меня подхватывает и вышвыривает из моего
пьянства
и день который так клонится наконец к своему концу не состоит ли
он из тысячи дней старый добрый вопрос ужасный для головы он всегда
может возникнуть по поводу чего угодно и вообще без повода что такое
великая красота
обладать хронометром Пима что-то там не так и нечего
хронометрировать итак я больше не ем нет я больше не пью и не ем больше не
шевелюсь и не сплю больше ничего не вижу и не делаю может быть
это еще восстановится полностью частично слышу говорят да потом
нет
голос хронометрировать голос он не мой молчание хронометрировать
молчание это бы могло мне помочь я увижу как что-то делается что-то
делается Боже милосердный
проклинать Бога ни звука мысленно отмечать время и ждать полдень
полночь проклинать Бога или благословлять и ждать засекая время но
дни опять это слово как с ними быть если нет памяти вырвать лоскут
из мешка узлом завязать или веревку не выдержит
но сперва покончить наконец с моей жизнью путешественника часть
первая до Пима безымянные шевеления в грязи это я говорю как слышу
кто роется в мешке вынимаю из него веревку стягиваю мешок вешаю
себе на шею переворачиваюсь на живот прощаюсь ни звука и вперед
десять метров пятнадцать метров полуоборот налево правая нога правая
рука тяни толкай плашмя безмолвные извержения семени полуоборот
направо левая рука левая нога тяни толкай плашмя безмолвные
извержения семени это описание не изменить ни на йоту
здесь расчеты запутались таким образом что я не сумел отклониться
больше ни на секунду от направления которое в один прекрасный
Как есть
149
день в одну прекрасную ночь в непостижимом начале пути было
навязано мне случаем необходимостью понемногу и тем и другим это
одно из это было одно из трех с запада это чувствуется с запада на
восток
и так в грязи темнота плашмя стройными рядами немного больше
немного меньше двести триста километров пускай через восемь
тысяч лет если бы я не остановился оборот вокруг земли то есть
эквивалент
не сообщается где я получил образование приобрел понятия об
арифметике астрономии или даже о физике я отмечен ими вот главное
всем обязанный этим горизонтам я не чувствую усталости хотя она
сказывается более тяжкий переворот с бока на бок в перерывах
затягивающееся лежание плашмя множащиеся немые проклятия
внезапно почти уверенность что еще сантиметр и я упаду в канаву или
разобьюсь о стену хотя с этой стороны мне ли не знать надеяться не
на что это вырывает меня из задумчивости я прибыл
люди там наверху которые жаловались на то что не живут странно в
такую минуту такой пузырь в голове все теперь умерли теперь другие
для кого это не жизнь продолжение очень странное то есть я их
понимаю
все всегда понимал кроме например истории географии все понимал и
ничего не умел прощать никогда ничего всерьез не порицал даже
жестокости к животным ничего не любил
такой пузырь ну он лопнет и день уже ничего для меня не значит
но слишком слабо нельзя согласен если хочешь слабее нет надо как
можно слабее потом еще слабее говорю как слышу каждое слово всегда
мой день мой день моя жизнь вот так всегда старые слова которые
возвращаются больше почти ничего только пока я опять приспособлюсь
потом продолжаются пока не усну не уснуть сумасшедшим или тогда
вообще не надо
сумасшедшим или хуже преображенным как Геккель20 родившийся в
Потсдаме где жил также Клопшток и многие другие и работал хотя
похоронен в Альтоне21 тень которую он отбрасывает
вечером обратив лицо к огромному солнцу уж не знаю об этом не
сообщается огромная тень которую он отбрасывает на свой родной
150
Сэмюэлъ Беккет
восток гуманитарные науки я ведь их изучал о Боже и вдобавок немного
географии
и это почти всё но премудрость отринь ты забыл всю латынь надо быть
бдительным итак настал удобный миг потом внезапно принимаюсь
самому не верится слушать
слушать как будто накануне вечером уехал из Новой Земли география
какую я знал я как раз опять пришел в себя в субтропической супре-
фектуре вот какой я был какой я стал или какой я был всегда одно из
двух
вопрос а старый добрый вопрос а всегда ли вот так с тех пор как мир мир
для меня шепот моей матери обрушиваясь на меня в невероятном хаосе
доводит до того что я не в состоянии сделать шаг особенно ночью без
того чтобы не застыть на одной ноге закрыв глаза затаив дыхание
прислушиваясь к преследователям и подмоге
закрываю глаза всё те же и вижу себя с задранной головой так что шее
больно руки судорожно хватаются за грязь что-то там не так затаив
дыхание это длится я длюсь вот так еще минутку до легкого
подергивания низа лица знак что говорю себе удалось сказать себе
что такого можно себе сказать в такие минуты маленькая жемчужина
безнадежного утешения тем лучше тем хуже что-то подобное но не
такое холодное в добрый час что-то в таком роде но не такое горячее
радость и горе эти двое сумма этих двух деленная на два и теплая как
в прихожей
когда найдешь что сказать говоришь быстро говоришь быстро губы
застывают и все мышцы вокруг руки распахиваются голова падает
забираюсь поглубже потом больше уже некуда это то же королевство
что недавно что недавно и всегда я никогда из него не выезжал оно
беспредельно
Бог знает часто ли я счастлив но никогда больше никогда так как в ту
минуту счастье несчастье знаю знаю но поболтать-то об этом можно
там наверху будь я там наверху звезды уже и на каланчах краткий час
теперь уже остается совсем немного потерпеть я бы готов так остаться
навсегда но это не получается
развязать веревку со стороны мешка со стороны шеи так и делаю так
надо так назначено мои пальцы это делают я их чувствую
Как есть
151
в грязи темнота лицом в грязь руки все равно как что-то там не так
веревка в руке все тело не важно как скоро будет словно здесь только
на этом месте я жил когда-то или всегда
Боже где-то иногда вот сейчас но у меня случайно выдался удачный
день я бы конечно съел что-нибудь но я не съем рот открывается язык
не высовывается рот скоро закрывается
слева за мной тащится мешок переворачиваюсь на правый бок и беру
его такой легкий у меня в руках колени подтянуты спина колесом голова
ложится на мешок у нас уже наверно раньше были такие движения
где-нибудь возможно последние
а теперь да или нет мешковина между губ так бывает не во рту между
губ в прихожей
несмотря на жизнь которую мне дали я остался губастым две толстых
губы созданных для поцелуев воображаю красные алые воображаю они
вытягиваются еще немного растягиваются и смыкаются на складке
мешковины похоже на лошадь
да или нет не сообщается не вижу других возможностей переделать мою
молитву в сон добиться чтобы он спустился чтобы он разомкнулся подо
мной в спокойных водах наконец и в опасности более чем когда-либо
потому что когда отразишь удар всегда жди еще
найти еще слова когда они уже все израсходованы короткие
подергивания опять низа лица ему бы хорошие глаза свидетелю если там был
свидетель хорошие глаза хорошую лампу будут у него хорошие глаза
хорошая лампа
писарю сидящему в сторонке он бы объявил полночь нет два часа три
часа час Ballast Office22 короткие подергивания низа лица ни звука это
мои слова натворили то что натворили мои слова я еще усну в лоне
человечества очень просто
там пыль камни вперемешку с известью и гранитом нагроможденные
чтобы построить стену дальше цветущий терновник зелено-белая живая
изгородь бирючина с терновником вперемешку
слой пыли потом маленькие ножки большие для своего возраста босые
в пыли
портфель под попкой спиной к стене поднять глаза на синеву
проснуться в поту какая была белизна маленькие облачка виднелись синева
152
Сэмюэль Беккет
сквозь теплые камни сквозь майку в горизонтальную полоску синюю
и белую
поднять глаза искать лица в небе засыпающих зверей а там прекрасный
юноша встретить прекрасного юношу с золотистой бородкой
облеченного в зарю проснуться в поту потому что во сне повстречал Христа
в таком роде картина не для глаз созданная из слов не для ушей день
завершен я уцелел до завтра грязь разверзается ухожу до завтра голова
на мешке руки вокруг остальное не важно как
темнота короткая темнота долгая как знать а вот и снова я в пути
здесь чего-то не хватает еще два-три метра и пропасть еще два-три
последних ошметка и конец конец первой части остается только вторая
потом третья остается только третья и последняя здесь чего-то не
хватает того что уже известно или что никогда не станет известно
одно из двух
прихожу и падаю как слизець падаю беру мешок в руки он уже ничего
не весит ничего куда положить голову прижимаю дерюгу не скажу к
сердцу
никакого волнения все погибло дно прохудилось сырость таскание
потертость объятия поколения старый мешок из-под угля пятьдесят кило
это угнетает все прошло банки открывалка без банок от этого я избавлен
банки без открывалки этого у меня не будет на сей раз в жизни
и еще столько всего другого столько воображаемого никогда не
называемого никогда не возможного полезного необходимого прекрасного
на ощупь все что мне дали нынешнее прочтение как это далеко все
кроме веревки рваный мешок веревка старый мешок говорю как слышу
шепот в грязи старый мешок старая веревка вас вас я храню
еще немного чтобы вытерпеть расплести веревку сделать из нее две
стянуть дно мешка наполнить мешок грязью стянуть его сверху
получится хорошая подушка будет мягко у меня в руках короткие
подергивания нижней части лица если бы они могли быть последними
когда последняя трапеза последнее путешествие что я делал где побывал
в таком роде безмолвные вопли покинутость свет надежда
беспорядочный уход вокруг шеи веревка во рту мешок собака
покинутость здесь результат надежды это неотделимо от вечной прямой
результат благих чаяний не умереть до срока в темноте грязи не говоря
уж о прочем
Как есть
153
единственное что можно сделать повернуть назад на худой конец
потоптаться на месте а я иду вперед зигзагами это впрямь подходит к
моей комплекции нынешнее прочтение в поисках того что я потерял
там где никогда не бывал
дорогие цифры когда всего не хватает чтобы кончить часть первую до
Пима прекрасная эпоха хорошие минуты утраты рода я был молод
цеплялся за род я имею в виду человеческий род говоря себе короткие
подергивания ни звука два плюс два дважды два и так далее
итак внезапный рывок влево так лучше сорок пять градусов и два метра
прямая линия такова сила привычки потом направо прямой угол и
прямо четыре метра дорогие цифры потом налево прямой угол и вперед
по струнке четыре метра потом направо прямой угол достаточно и так
далее вплоть до Пима
также с обеих сторон заброшенной прямой воздействие надежды ряд
зубьев пилы или расширяющихся по краям шевронов со стороной два
метра основанием три метра немного меньше это основание на старом
направлении пути которое я таким образом нахожу снова мгновение
между двумя апогеями полтора метра немного меньше дорогие цифры
прекрасная эпоха итак она завершается часть первая до Пима моя жизнь
путешественника огромное время я был молод все это итак прекрасная
эпоха шевроны апогеи каждое слово всегда как я его слышу в себе
которое сперва было бу-бу-бу со всех сторон и шепот в грязи когда
замирает одышка тише ошметки
полуоборот налево правая нога правая рука тяни толкай плашмя
проклинать Бога благословлять его умолять ни звука ногами и руками шарить в
грязи на что я надеюсь банка потерялась там где я никогда не был
полупустая банка выброшенная передо мной это все на что я надеюсь
где я никогда не был но другие может быть совсем давно совсем недавно
совсем и так и этак процессия какое утешение когда доставляешь другим
затруднение какое утешение
те которые тащатся впереди те которые тащатся позади с кем случилось
случится то что случается с вами бесконечное шествие рваные мешки
на общее благо
или небесная банка сардины чудодейственно ниспосланные Богом как
новое в моих невзгодах чтобы было чем тошнить лишнюю неделю
полуоборот направо левая нога левая рука тяни толкай плашмя немые
проклятия шарить в грязи каждые полметра восемь раз каждый шеврон
154
Сэмюэль Беккет
пускай три метра полезного пути немного меньше загнутая крючком
для захвата рука погружается вместо привычной тины в задницу два
крика из них один безмолвный конец первой части вот как это было
до Пима
2
итак вот наконец часть вторая где я опять должен сказать как было
как я это слышу в себе что было снаружи бу-бу-бу со всех сторон
ошметки как было при Пиме огромное время потихоньку в грязи в
грязь когда замирает одышка как было моя жизнь разговор о моей
жизни в темноте грязь при Пиме часть вторая остается только третья
и последняя и там моя жизнь там она у меня была и там будет огромное
время часть третья и последняя в темноте грязь потихоньку ошметки
счастливый период на свой лад часть вторая разговор о второй части
при Пиме как было хорошие минуты хорошие для меня разговор обо
мне для него тоже разговор и о нем тоже счастлив на свой лад я об
этом узнаю позже узнаю на какой лад его счастье у меня это будет у
меня еще было не все
итак слабый тоненький крик предвкушение этого шепота полукастрата
который мне придется выносить как долго хватит цифр вот еще
маленькая разница с предыдущим отныне больше никаких цифр все
измерения зыбкие23 да зыбкие ощущения протяженности
пространственной протяженности временной протяженности смутные ощущения
близости того и другого а следовательно больше никаких вычислений
если только алгебраического порядка на худой конец да слышу как
говорят что да потом что нет
проворно как из глыбы льда или раскаленная добела моя рука
отодвигается какое-то время медлит на весу это неопределенно потом медленно
опускается и твердо ложится пожалуй слегка по-хозяйски плашмя на
чудесную плоть перпендикулярно щели культя бугор и впадина большого
пальца на левой ягодице четыре пальца на другой правая рука значит
мы еще не валетом
плашмя очень хочу но немного все же выгнутая от внезапной
стыдливости это возможно она не могла притворяться и броситься вот так на
щель немного выпукло как спина осла, отчего контакт с правой ягодицей
не включал подушечек пальцев но тут ногти второй крик испуган
конечно но мне показалось что я различил в нем словно заглушённый
Как есть
155
оркестром маленький флажолет удовольствия уже от вольности с моей
стороны это возможно
вот прошедшее эта часть может быть пойдет в прошедшем часть вторая
при Пиме как было еще небольшое отличие может быть от
предыдущего но быстро одно слово о моих ногтях у них своя роль и они
сыграют ее
опасно ну-ну чтобы в этой части я не оказался не то что угасшим до
этого еще далеко в моем сочинении а как бы сказать тусклым как не
вспыхнувшая коптилка Пим исчез еще более живой если возможно чем
до нашей встречи потом как сказать более живой нет ничего лучше
человека когда никого кроме него не видишь никого кроме него не
слышишь слишком сильно сказано как всегда да мне теперь приходится
опасаться запасных ролей
потому что без меня уже никогда не будет Пима разговор о Пиме
никогда вообще просто безжизненный и безмолвный каркас навсегда
распластавшийся в грязи без меня но как я его оживлю вы увидите и
если я сумею стушеваться позади своего творения когда это со мной
случится теперь мои ногти
быстро предположение если эта грязь так сказать просто наше общее
дерьмо по-настоящему общее если нас не биллионы в эту минуту а
почему нет потому что вот нас двое а были биллионы которые ползли
испражнялись в собственном дерьме сжимая как сокровище в руках
то что позволит им и дальше ползти и испражняться еще теперь мои
ногти
мои ногти ну что ж если говорить только о кистях рук не говоря об
этом восточном мудреце они у меня были в плачевном состоянии этот
дальний восточный мудрец24 который сжимал кулаки начиная с самого
нежного возраста как это неопределенно до смертного часа не
сообщается в каком возрасте так вот когда он это делал
итак в свой смертный час не сообщается в каком возрасте смог наконец
их увидеть незадолго до свои ногти своей смерти которые пронзили
ему ладони насквозь наконец смог их увидеть они вышли наконец с
другой стороны и вскоре прожив таким образом делал то делал се всю
жизнь сжимал кулаки так прожил умер наконец говоря себе последний
вздох что они еще будут расти
занавес раздвигался часть первая я видел друзей приходивших его
навестить где сидя на корточках в глубокой тени могилы или бо25 со
сжатыми кулаками на коленях он так и жил
156
Сэмюэль Беккет
они ломались не хватало извести или чего-то вроде но не одинаково
так что одни мои ногти разговор о моих ногтях одни всегда длинные
другие нормальные я видел как он мечтает грязь раздвигалась оно
зажигалось я видел как он мечтает с помощью друга или без этого
счастья совсем один мечтает чтобы они вернулись на тыльную сторону
ладони пронзили ее насквозь в обратном направлении но этому смерть
положила конец
на правой ягодице у Пима итак первый контакт он должен был слышать
их скрип прекрасное прошлое что вот я их мог бы вонзить если бы
пожелал мне хотелось выпустить когти процарапать глубокие борозды
впитать вопли синеву жестокую тень голова в тюрбане свешивается на
кулаки круг друзей в белых набедренных повязках если не углубляться
еще дальше
крики говорят мне с какого конца голова но я могу ошибаться и в
результате это логично рука не отлипая перемешается вправо скоро оно
раздваивается именно так я и думал потом все-таки налево чтобы вне
всякого сомнения она вторично прошла по заднице о не задерживаясь
попадает в углубление поднимается бугорок большого пальца по хребту
до трепещущих ребер я знаю в чем дело учил анатомию бесполезно
настаивать опять он кричит я весь вниманье повторяю в прошедшем
ничего не получается или у меня никогда не будет прошедшего или
никогда не было26
хорошо это мой ближний более или менее но мужчина женщина девочка
мальчик крики не обладают ни некоторые крики не обладают ни полом
ни возрастом пытаюсь перевернуть его на спину но нет ни на правый
бок ни тем более на левый мои силы уходят ладно ладно никогда не
узнать мне Пима иначе чем плашмя
все это говорю как слышу каждое слово всегда и покопавшись в грязи
между ног я наконец обнаруживаю то что мне кажется яичком или
яичками анатомию я учил
как слышу и шепчу в грязи взгромождаюсь если смею так выразиться
немного вперед чтобы ощупать череп он лысый нет отменить лицо
так лучше масса щетины совершенно белой на ощупь я весь
вниманье это маленький старичок мы два маленьких старичка что-то тут
не так
в темноте грязь моя голова рядом с его головой мой бок прижат к его
боку моя правая рука обнимает его за плечи он уже не кричит мы
замираем на несколько минут хорошие минуты
Как есть
157
сколько времени так без движения без звука не считая огромного
дыхания огромное время под моей рукой время от времени медленно
приподнимаю ее наконец отпускаю и медленно опускаю назад дыхание
глубже другой бы сказал вздох
такова наша жизнь вообще так мы ее начинаем я не говорю так нельзя
говорить как другие ее кончают почти в обнимку я этого не видел
похоже не только они но даже звери за собой наблюдают я видел как
они за собой наблюдают понимай кто хочет а мне все равно
почти в обнимку это преувеличение как всегда он не может меня
оттолкнуть это как мой мешок когда он у меня еще был эта свыше
ниспосланная плоть я ее никогда не отпущу называйте это постоянством
если хотите
когда она у меня еще была но она у меня еще есть это у меня во рту
нет уже нет больше уже нет я прав я был прав
итак огромное время для наших первых шагов в эпоху цифр невероятное
наши первые шаги в совместной жизни и вопрос в том что кладет
этому долгому мирному периоду конец наконец и что позволяет нам
узнать больше какая помеха
внезапно мотивчик он напевает мотивчик внезапно как все чего не
было а потом есть я его слушаю минуту-другую хорошие минуты это
он больше некому но возможно я ошибаюсь
моя рука сгибается итак правая так лучше очень тупой угол между
плечевыми костями превращается в очень острый анатомия геометрия
и моя правая рука ищет его губ попробуем рассмотреть это милое
движение поближе по крайней мере его окончание
пройдя под грязью рука опять идет на риск указательный палец встречает
рот это неопределенно он хорошо нацелен указательный палец щека
где-то что-то там не так ямочка на щеке скула все это шевелится губы
щеки и щетина так я и думал это он он поет всегда я весь внимание
не различаю слов их заглушает грязь или язык не наш он поет может
быть романс на языке оригинала может быть он иностранец
восточный человек в моем сне он отказался я тоже откажусь у меня
не станет желаний27
значит он умеет говорить это главное он умеет держать себя хотя я и
не обдумывал вопрос по-настоящему мне бы следовало предположить
158
Сэмюэль Беккет
что он-то как раз и не умеет и вероятно в несколько более общем
смысле несомненно единственный способ быть там где я был а именно
мой способ никогда бы не подумал что можно там петь
торжественный миг во всяком случае если он был какие перспективы
который завершает первую фазу нашей жизни сообща и приоткрывает
щелку во вторую и право слово последнюю более щедрую на несчастья
и перипетии самую прекрасную в моей жизни может быть трудно
выбрать
человеческий голос там в нескольких сантиметрах моя мечта или даже
может быть мысль человеческая если придется выучить итальянский
конечно же будет не так забавно
но несколько соображений сперва очень разрозненных огромное время
лет тридцать может быть в целом вот два три из них там будет видно
с его ориентацией он должен был следовать тем же путем что и я
прежде чем упасть и вот
однажды мы пустимся в путь вместе28 и я видел нас занавеси
раздвигались мгновение что-то там не так и я нас видел в щелку все это до
мотивчика о гораздо раньше мы взаимно помогали друг другу идти
вперед падали дружно и ждали обнявшись когда можно будет идти
дальше
играть того который существует по крайней мере существовал тогда
знаю знаю тем хуже можно об этом поболтать это полезно время от
времени это хорошие мгновения какая важность это никому не
причиняет зла никого нет
и вот наконец позади нас первый кусок уже нашей жизни вместе
остается только второй и последний конец второй части остается только
третья и последняя
проблема дрессировки постепенные одновременные решение и
применение и параллельно начальный толчок и развитие отношений
собственно говоря но сперва несколько уточнений два три
перемещаясь вправо моя правая нога встречает только привычную тину
а значит одновременно с тем что нога максимально сгибается ступня
разговор сейчас о моей ступне поднимается и болтается сверху вниз
заметно движение по ногам Пима прямым и негнущимся так я и думал
и сразу
Как есть
159
моя голова то же движение она встречается с его головой так я и думал
но я могу ошибиться итак она отступает и бросается направо происходит
ожидавшийся толчок я весь внимание я тут самый большой
принимаю прежнюю позу прижимаюсь к нему крепче он достает мне
до лодыжки на два-три сантиметра меньше меня отношу это на счет
возраста
теперь его руки крестом Андрея Первозванного2? расстояние между
верхними ветвями уменьшено моя левая рука следует вдоль левой ветви
проникает следом в мешок в его мешок он держит свой мешок изнутри
возле краев я бы на его месте побоялся моя рука медлит на его руке
как веревки его жилы убирается назад и возвращается на место слева
в грязи больше про этот мешок пока ничего
в тишине которая в обличье Пима приходит на смену все глубже в
конце концов огромное время далекое тиканье слушаю его добрую
минуту это добрые минуты
моя правая кисть скользит вдоль его правой руки с трудом добирается
до предела ее досягаемости и дальше и кончиками пальцев задевает
часы на ощупь чувствуя браслетку так я себе и говорил она еще сыграет
свою роль я слышу что да потом что нет
лучше толстые обыкновенные часы с тяжелой цепью он держит ее
сжимая в руке мой указательный палец торит себе путь среди сжатых
пальцев и говорит обыкновенные массивные часы с тяжелой цепью
подтягиваю руку к себе за спиной она застревает явное улучшение
тиканья впиваю его добрую минуту
еще несколько мгновений положить руку на место потом придвинуть
к себе другой стороной слева сверху пока она не застрянет видно
движение схватить запястье моей левой руки и тянуть всей тяжестью
повисая на ней другой рукой за локоть оттуда сзади все это выше
моих сил
не пришлось даже поднять головы из грязи о чем речь в конце концов
мне удается поднести часы к уху рука кулак так оно лучше впиваю в
себя секунды долго восхитительные мгновения и перспективы
выпустил наконец рука резко отскакивает назад потом замирает а мне
еще нужно помочь ей вернуться на место там справа в грязи Пим он
такой он будет такой позы которые ему придают он сохраняет но в
общем это мелочи скала
160
Сэмюэль Беккет
от них до меня теперь часть третья оттуда вправо в грязи до меня
покинутое далекое тиканье я не извлекаю из него никакой пользы
больше никакой удовольствие больше не в счет секунды которые
проходят безвозвратно не измеряю ничьей длительности частоты не меряю
себе пульс девяносто девяносто пять
они составляют мне компанию вот и все их тиканье временами но
разбить их выбросить далеко нет позволить остановиться нет какая-то
помеха останавливаются встряхиваю рукой вновь идут больше ничего
об этих часах
больше ничего значит я если поверить ему или моим представлениям
у него не было имени значит это я дал ему имя Пим для большего
удобства большей свободы действий снова возврат к прошедшему
времени
ему должно было понравиться я понимаю в конце концов ему должно
было понравиться наконец он сам себя так называл задолго до того
Пим то Пим се я Пим я рсегда говорю когда человека зовут Пим он
не имеет права на все то на что никогда не имел права всегда говорил
когда его имя было Пим и с этим лучше исходя из этого живее
болтливее
по привычке ставлю ему на вид что я тоже Пим30 меня зовут Пим тут
ему хуже минутное замешательство раздражение понимаю это красивое
имя потом все успокаивается
мне тоже это пошло на благо такое впечатление на благо особенно
вначале трудно сказать точнее менее анонимно в каком-то смысле менее
мрачно
я тоже я чувствую как меня понемногу отпускает скоро больше никого
не будет никогда не было никого под прекрасным именем Пим слышу
как говорят что да потом что нет
тот кого я жду о без особенной надежды говорю как слышу пусть он
мне даст другого это будет мой первый Бом пускай он зовет меня Бом
для удобства мне бы это понравилось «эм» на конце и один слог а
остальное все равно
БОМ процарапано ногтем поперек задницы гласная в дырке я бы
сказал в сцене из моей жизни он бы заставил меня иметь
прожитую жизнь позади Бомы месье вы плохо знаете Бомов месье можно
на Бома наложить месье но нельзя его унизить Бома месье Бомов
месье
Как есть
161
но сперва покончить с этой частью второй при Пиме жизнь вместе как
было чтобы потом осталось покончить только с третьей и последней
где я среди прочих странностей слышу что приближается десять метров
пятнадцать метров тот кто для меня для кого я то что я для Пима Пим
для меня
среди прочих нелепостей в том числе владение речью ко мне вернется
это правда ко мне вернулось вот оно я слушаю я говорю короткие
подергивания нижней части лица со звуком в грязи лицом в грязь
потихоньку всякие разные некий Пим жизнь которую я бы прожил до
него при нем после него жизнь которую бы я прожил
дрессировка времена изначальные или героические дописьменные
тонкости трудно сказать ничего кроме как в общих чертах гоп стоп в таком
вот роде свыше моих сил я плавал он плавал но мало-помалу
мало-помалу
между сеансами иногда шпрота розовая креветка это со мной
бывало это продолжается в прошлом ах право неужто все прошлое все
в прошлом Бом пришел я исчез а Бом о жизни вместе было
хорошо это были хорошие минуты глупости не важно шпрота розовая
креветка
не рваный мешок у Пима не рваный нет на свете справедливости или
уж вообще ничего понять нельзя
старее моего а не рваный может джут покрепче и потом набит до
половины или уж еще что-то что от меня ускользает
одни мешки пустеют и рвутся другие нет как это может быть вопрос
благодати вплоть до этого подземелья зачем хотеть чтобы все мы были
равны одни исчезают другие никогда
все что я слышу оставить побольше все оставить ничего больше не
слышать остаться здесь в моих объятиях с моим старым мешком со
мной разговор обо мне старый бесконечный окутывающий все
человечество вплоть до последней дряни это были бы хорошие минуты там
в темноте грязь ничего не слышать ничего не говорить ничего не мочь
ничего
потом внезапно как все что начинается опять начинается как знать
прочь опять прочь десять метров пятнадцать метров правая нога правая
рука тяни толкай какие-то картины уголки синевы три четыре
беззвучных слова не взрезать несколько сардин грязь разверзается порвать
мешок глупости и грязное рокотание короче старая дорога
6 С. Беккет
162
Сэмюэль Беккет
от следующего смертного к следующему смертному никуда не ведущая
без иной цели даже самой обширной кроме следующего смертного
прилепиться назвать воздвигнуть покрыть ее всю большими кровавыми
римскими буквами обжираться ее баснями слиться с ней на всю жизнь в
стоической любви даже к самой последней веселой селедке и еще дольше
пока не придет прекрасный день когда тссс он развеивается оставив
мне все свое и устанавливается пророчество новая жизнь никаких
больше нет путешествий никакой лазури шепот в грязи что правда то
правда наверно все правда и вперед и вперед десять метров пятнадцать
метров что я для Пима то Пим для меня
все что я слышу ничего больше не слышать быть как до Пима после
Пима как до Пима в моих объятиях с моим мешком потом внезапно
старая дорога к моему ближайшему смертному десять метров пятнадцать
метров тяни толкай лето за летом единственное мое лето к моему
ближайшему смертному глупости к счастью недолгое
урок первый тема пускай он поет я вонзаю ногти ему в подмышку
ногти правой руки в правую подмышку он кричит убираю ногти мощный
удар кулаком по черепу его лицо погружается в грязь он умолкает урок
первый окончен отдых
урок второй тема та же ногти в подмышку вопль удар по черепу
молчание урок второй окончен отдых все это свыше моих сил
но этот человек не дурак он должен себе сказать поставлю себя на его
место чего он от меня хочет вернее они чего они от меня хотят зачем
истязают и ответ мало-помалу рассеянный по огромному времени
не для того чтобы я вопил это очевидно потому что меня сразу
наказывают
простой элементарный садизм тоже нет потому что мне мешают вопить
того на что я быть может не способен наверняка нет это существо не
дурак это чувствуется
на что я способен по их убеждению петь значит они хотят чтобы я пел
вот так бы я в конце концов сказал себе на его месте так мне кажется
но я могу ошибаться и Богу ведомо я не очень умен иначе я бы уже
умер
так или иначе день приходит опять это слово так мы к нему приходим
по прошествии чего только никаких цифр огромного времени когда
Как есть
163
долго царапаемый в подмышку по живому потому что переменить место
есть такой соблазн отчаяться в одном деле попытать другое
почувствительней глаз пипку нет смутить его главное ничего непоправимого
итак день когда ему царапают подмышку а он вместо того чтобы вопить
поет песня летит ввысь в настоящем дальше идем в настоящем
я убираю ногти он продолжает тот же мотив мне кажется я достаточно
музыкален на сей раз я своего добился в своей жизни на сей раз и на
сей раз на лету несколько слов глаза небеса любовь эта последняя
возможно в множественном числе так шикарно мы пользуемся одним
языком это потрясающе
это еще не конец он замолкает ногти в подмышку он заводит опять
вот добились подмышка песня и теперь эту музыку столь же наверняка
как нажимая на кнопку я могу в любой момент себе обеспечить отныне
это еще не конец он продолжает удар по черепу он останавливается и
остановить это таким же манером удар по черепу при любых
обстоятельствах означающий стоп причем чуть ли не автоматически если
хорошенько подумать по крайней мере что касается слов
автоматически почему потому что результат удар по черепу сейчас
разговор об ударе по черепу в результате чего лицо погружается в грязь
рот нос даже глаза и о чем еще мог бы идти разговор о чем еще для
Пима помимо слов нескольких слов от него время от времени я же не
чудовище
я не стану себя изнурять добиваясь от него того чего он не может дать
стать на голову например или на ноги или на колени конечно нет
или на спину или на бок я не злопамятен уже нет больше никому не
желаю беспрестанно быть должным и беспрестанно не быть в состоянии
огромные медные тарелки исполинские объятия распахнутые на двести
градусов и бум трах чудо чудо невозможное сотвори невозможное
претерпи невозможное конечно нет
просто пускай он поет или говорит или ладно пускай нет лучше пускай
для начала просто говорит что хочет что может время от времени
несколько слов почему бы и нет
итак урок первый серия вторая но сперва взять у него мешок ага
сопротивляется царапаю ему левую руку до кости это неглубоко он орет
но не отпускает кровь сколько крови он уже потерял с тех пор как
огромное время я не злой как я уже говорил доступ к мешку ага
164
Сэмюэль Беккет
добрался моя левая рука туда проникает шарит в поисках открывалки
здесь скобка
не будем уточнять никаких проблем но с тех пор как мы вместе
множество пар уже с удовольствием посмотрели бы на то как партнер
умирает безропотно получив по заслугам
а Пим все это время огромное время ни движения только губами и тем
самым нижней частью лица чтобы петь орать да изредка конвульсивно
правой рукой 31 пока не окрасится в бледную зелень час коего ему
никогда не увидать и те которые хочешь не хочешь процарапаны мной
Пим не ел
я если ничего не говоря не все сказано почти ничего и это слишком
много я-то ел я ему предлагал поесть размазывал по рту затерявшемуся
в щетине грязь моя ладонь истекающая тресковым жиром или вроде
того терла что было сил напрасный труд если он чем и кормится еще
так это грязью если это грязь я это всегда говорил эта грязь в силу
взаимовлияния в силу длительности времени посредством
капиллярности
посредством языка когда он высовывается изо рта когда он
приоткрывается ноздрей глаз когда они приоткрываются заднего прохода нет он
в воздухе и уши тоже нет
мочеточника может быть после того как изверг последнюю каплю
мочевой пузырь который после того как столько из себя излил некоторое
время всасывает некоторые поры тоже мочеточник возможно некоторое
количество пор
эта грязь я всегда говорил она вас поддерживает человек жив и цепляется
за мешок так и должно было случиться говорю как слышу служит ему
только подушкой уже нет он сжимает его рукой как человек
выброшенный из окна подоконник
нет вы видите этот мешок я это всегда говорил этот мешок для нас
совсем не то что вместилище для еды что подушка под голову что
присутствие друга что вещь которую можно сжать в объятиях что
поверхность которую покрывают поцелуями совсем другое им больше
не пользуются ни на какой лад а за него цепляются я должен был
заплатить ему эту дань
моя левая рука теперь часть вторая половина вторая что она теперь
делает в покое она сжимает мешок рядом с мешком Пима больше
ничего об этом мешке открывалка открывалка скоро Пим заговорит
Как есть
165
столько банок еще там что-то от меня ускользает я их вынимаю одну
за другой в грязь по-прежнему левой рукой пока открывалку наконец
кладу это себе в рот убираю на место банки не все конечно а моя
правая рука тем временем
все это время огромное время все это свыше моих сил право при Пиме
мои силы убывают это неизбежно нас двое моя правая рука прижимает
его ко мне любовь страх быть покинутым всего понемногу ничего не
знаешь ничего не говорят а затем
затем моей правой ногой заброшенной наискось прижимая обе его ноги
так что видно движение беру открывалку в правую руку веду ею вниз
вдоль позвоночника и вонзаю ему в зад не в задний проход вы наверно
это подумали в ягодицу в одну из ягодиц он орет вынимаю открывалку
удар по черепу он умолкает автоматизм конец первого урока второй
серии отдых здесь скобка
эта открывалка куда ее деть когда надобность отпала убрать обратно в
мешок к банкам конечно нет держать в руке во рту тоже нет мускулы
расслабятся утонет в грязи так куда же
между ягодиц Пима убрать ее туда не очень эластичные но на худой
конец сойдет там он ничем не рискует говоря себе это где-то говорится
слова там где-то там что если бы у меня был кто-то кто бы мог мне
стать товарищем я был бы другим человеком более совершенным
нет ниже между ляжек так лучше острием вниз торчит только маленькая
шишечка рукоятки в форме груши там он ничего не боится говоря мне
слишком поздно для товарища слишком поздно
урок второй итак серия вторая принцип тот же прием третий четвертый
и так далее огромное время вплоть до дня опять это слово когда после
укола в зад он вместо того чтобы орать поет какой болван этот Пим
все-таки путать зад с подмышкой рог со сталью опять на него
обрушивается удар клянусь вам счастье что он не дурак он должен был
сказать сам себе что опять от меня хотят что значат эти новые истязания
чтобы я орал нет пел нет тоже нет это подмышка похотливая жестокость
мы видели что нет право я ума не приложу
какой-то умысел в этом есть это очевидно это существо слишком хитрое
чтобы требовать от меня невозможного что же для меня не невозможно
петь плакать что еще что я умею делать еще чтобы я мог сделать на
худой конец
166
Сэмюэль Беккет
думать может быть если они хотят это возможно что я сейчас сделаю
еще и здрасьте опять все сначала вой удары по черепу молчание отдых
значит это не то опять не то что-то же можно сделать нет в самом
деле не знаю а если я спрошу когда-нибудь возьму и спрошу если
смогу
нет не дурак просто медлительный и приходит день мы к этому
приходим когда его колют в ягодицу теперь уже там открытая рана а
вместо вопля короткое бормотание победа
рукояткой консервного ножа как пестиком удар по правой почке удобнее
чем по левой из этого я и исхожу крик удар по черепу молчание
короткий отдых укол в задницу невнятный шепот хороший удар по
почке раз и навсегда сильнее крик удар по черепу молчание короткий
отдых
и так далее время от времени чтобы закрепить усвоенное возврат к
подмышке песня поднимается дело идет бах и тут же стоп все это меня
убивает я не выдержу но вот в один прекрасный день получив по почке
он в конце концов не дурак просто медлительный вместо того чтобы
орать он выдает э вы я что я не э вы я что я не хорошо хорошо я
понял удар по черепу победа он еще не привык но привыкнет что-то
здесь от меня ускользает
пристраиваю орудия между его ляжек снимаю ногу с его ног правой
рукой зажимаю его плечи это как мешок он не может меня покинуть
но я держусь начеку долгий отдых говоря себе вот слова что слишком
поздно конечно но все-таки насколько уже лучше какая победа
буйство мнимого существования общая жизнь короткие приступы стыда
я не потерялся в небытии не безвозвратно будущее покажет уже и
показывает но такая вмятина да чего там даже не вмятина даже не
вмятина да чего там короткие подергивания нижней части лица
воспользуемся молчанием окунемся в мертвое молчание потерпим
продолжение дрессировки не стоит пропустим
таблица основных возбудителей один песня ногти в подмышку два слова
открывалка в зад три стоп кулаком по черепу четыре громче рукояткой
от консервного ножа по почке
пять тише указательным пальцем в задний проход32 шесть браво шлепок
наотмашь по ягодицам семь плохо то же что три восемь еще раз то же
что один или два как когда
Как есть
167
все правой рукой я это говорил а левая все это время огромное время
я это говорил слышал как во мне говорили а я был снаружи бу-бу-бу
со всех сторон шепот в грязи она держит мешок рядом с левой рукой
Пима мой большой палец пролез между его ладонью и согнутыми
пальцами
транскрипция потом голос Пима вплоть до его исчезновения конец
части второй остается только третья и последняя
итак ногтем вытянутого указательного пальца выцарапываю а когда
он ломается или падает то пока он не отрастет ногтем другого
пальца на спине у нетронутого Пима начиная слева и направо и сверху
вниз как принято в нашей цивилизации выцарапываю мои римские
буквы
поначалу тяжело дальше легче он не глупый просто медлительный в
конце он понимает все почти все мне нечего сказать почти нечего даже
Господи сплошные пустяки Господи то и дело вопрос как в далеком
детстве какой-то даже расплывчатый Господи в конце он почти
понимает
момент из далекого детства черный ягненок грехов мира очищенный
мир три лица33 я вам скажу и эта вера впечатление с тех пор десять
лет одиннадцать лет эта вера что была у меня впечатление с тех пор
огромное время что я должен был вновь ее обрести синий плащ голубь
чудеса он понимал
какое детство у меня наверное было трудно в это поверить впечатление
что я родился скорее восьмидесятилетним в возрасте когда умирают34
в темноте грязи всплывая выныривая на поверхность как утопленники
и ну-ну четыре спины убористо исписанных буквами детство вера синева
чудеса все погибло и не было никогда
синева которую я видел белая пыль более недавние впечатления
приятные неприятные наконец те к которым не примешивается никакая
эмоция непростые вещи
на одном дыхании ни красной строки ни запятой ни секунды на
размышления ноготь указательного пальца уже отваливался а усталая
спина местами кровоточила дело шло к концу как вчера огромное
время
но быстро пример попроще из первобытных или героических времен
потом слово Пиму вплоть до его исчезновения конец части второй
остается только третья и последняя
168
Сэмюэль Беккет
итак ноготь вытянутого указательного пальца очень крупными буквами
две целые строчки чем короче сообщение тем крупнее буквы достаточно
знать немного заранее что хочешь сказать он тоже чувствует большая
изукрашенная буква змеи чертенята в добрый час это будет коротко
ТЫ ПИМ перерыв ТЫ ПИМ на звуковых дорожках в этом трудность
понял ли он как узнать
просто кольнуть его в зад то есть говори он скажет что попало что
может а доказательство мне нужно доказательство значит кольнуть его
особым выразительным способом раз и навсегда отвечай значит так я
и делаю какой успех какая победа
особый неописуемый удар характерное движение руки приносящий мне
удовлетворение однажды огромное время я Тим или Джим не Пим во
всяком случае нет еще спина у него еще не равномерно чувствительна
но будет уже и теперь замечательно какая победа отдых
остается только начать сначала не отчаиваться как следует поглубже
резануть это «Пэ» кольнуть его как следует чтобы в один прекрасный
день он ответил уже не перебирая все согласные латинского алфавита
чтобы проще говоря это математика я Пим то что он делает в конце
концов было вынуждено я Пим шлепок наотмашь по попке открывалка
между ляжек руку вокруг его жалких плеч отдых победа
итак к чему другие примеры он был плохой ученик я плохой учитель
но время тянулось так долго а сказать друг другу нам надо было так
мало всего ничего
мне нечего только скажи то скажи се твоя жизнь наверху ТВОЯ ЖИЗНЬ
перерыв моя жизнь НАВЕРХУ долгий перерыв наверху НА на СВЕТУ
перерыв свету его жизнь наверху на свету почти восьмисложник в
конечном счете совпадение
итак мне о себе нечего моя жизнь какая жизнь никогда ничего почти
никогда он тоже разве что под нажимом по доброй воле никогда но
если его уже завели не без удовольствия такое впечатление или это
иллюзия он уже не иссякал пока не десять пятнадцать ударов по
черепу иногда всеми отверстиями рожи в дерьмо приходилось лупить
лупить
доля изобретательности огромна разумеется огромная доля штука о
которой никто понятия не имеет угроза задница в кровь нервы обнажены
изобретаешь но как знать воображаемое реальное никто не может никто
не говорит что за важность это важно было важно это прекрасно важная
вещь
Как есть
169
итак эта жизнь которую он должен был изобрести припомнить и то и
то как знать эта штука наверху он мне ее давал я ее присваивал меня
это приводило в восторг особенно небеса особенно дороги особенно по
которым он шнырял как они менялись вслед за небесами которые вели
по Атлантике вечером по океану к островам или с островов характер
момента люди не особенно еле-еле всегда одни и те же я к ним прилипал
я их покидал хорошие минуты ничего от них не остается
милый Пим вернувшийся из мира живых кто-то другой дал ему эту
собачью жизнь еду и питье я дам ее другому это сказал голос во мне
теперь который раньше был снаружи бу-бу-бу со всех сторон как этому
поверить в темноте грязь что одна-единственная жизнь в вышине из
века в век никогда что одна-единственная какую захочешь ха и сколько
захочешь
вот чего нужно лично мне больше всего нужно переменчивые стороны
вот именно жизни всегда одной и той же всегда переменчивые какие
захочешь но желания желания они здесь не всегда одни и те же из
века в век жажда одна и та же так сказал голос
он так сказал я шепчу это всем нам одному за другим жажда одна и
та же одна-единственная жизнь в вышине только смотря по тому что
хочешь как здесь одна-единственная как в это поверить если не верить
в это по доброй воле это зависит от того какой день какое настроение
в этот день настроение остается слегка переменчивым можно себе
сказать ни звука ничто вам в этом не мешает сегодня я может быть не
так печален как вчера ничто вам не запрещает
вещи которых я больше не видел маленькие сцены часть первая
вместо них голос Пима Пим в голубом свете дня и ночи
маленькие сцены занавес раздвигался грязь грязь раздвигалась зажигался
свет он видел за меня так тоже можно сказать ничто этому не
противоречит
паузы все дольше огромное время пропадает зря все больше и больше
у него на ответы у меня на вопросы надоела жизнь на свету один
вопрос все больше никаких цифр никакого времени огромная цифра
огромное время о жизни в темноте грязь до меня история главное
если бы он был еще жив ТВОЯ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ ДО МЕНЯ полная
путаница
Бог о Боге отчаяние и не зря полная путаница если бы он верил он
верил а потом перестал не мог больше в обоих случаях у него были
причины о Господи
170
Сэмюэль Беккет
я его колол как я его колол под конец задолго до всего этого
исключительно чтобы знать он жив бах удар по черепу в грязи грязные слезы
неистребимого брата
слышит ли он голос просто слышит или нет слышал ли хоть
когда-нибудь голос голоса если бы я хоть когда-нибудь его об этом спросил
невозможно я его еще не слышал голос голоса как узнать конечно нет
и я тоже под конец я его не услышу никогда больше слышал он так
сказал я это шепчу только его голос больше не слышу Пима больше
нет у меня никогда не было Пима никогда не было голоса как в это
поверить в темноте грязь никакого голоса никаких картин под конец
задолго до
образчики что бы ни вспомнилось что бы ни представилось как узнать
жизнь там вверху жизнь здесь Боже на небесах да или нет если бы он
меня хоть немного любил если бы Пим меня хоть немного любил да
или нет если бы я сам его любил в темноте грязь все-таки немного
симпатии найти кого-нибудь чтобы кто-нибудь вас нашел наконец жить
вместе прижаться друг к другу любить друг друга хоть немного любить
хоть немного пускай безответно не в силах любить ответить на эту
любовь пускай остается смутным в темноте
конец второй части первая кончена остается только третья и последняя
это были хорошие минуты будут хорошие минуты не такие хорошие
нужно быть к этому готовым но сперва еще одна прогулочка последняя
новая позиция и воздействие на душу
выпускаю мешок выпускаю Пима эту хуже всего выпускать мешок и
хлоп вперед полуоборот налево правая нога правая рука тяни толкай
направо направо не потерять его у него в голове спереди шпилька опять
направо потом дотянуться поверх его правой руки вдоль тела сжать и
стоп голова прижата к его ногам его ноги к моей голове долгий отдых
растущая тревога
внезапно назад прижимаясь к нему запад и север правой рукой
ухватываю его за кожу слишком велика для него и подтягиваюсь вперед
последняя прогулочка на прежнее место не надо было отсюда уходить
я больше отсюда не уйду потом опять беру мешок он не шевельнулся
Пим не шевельнулся наши руки соприкасаются долгий отдых долгое
молчание огромное время
ТВОЯ ЖИЗНЬ ТАМ НАВЕРХУ больше не надо света только две строчки
слово Пиму он оборачивается слезы в глазах глаза мои слезы мои если
бы они у меня были тогда бы они мне и были нужны а теперь нет
Как есть
171
его правая щека в грязи его рот у моего уха наши узкие плечи вжались
одно в другое его щетина смешалась с моей человеческое дыхание
свистящий шепот слишком громкий палец в заднице лучше мне отсюда
не двигаться я еще здесь
быстро невыносимый удар по черепу долгое молчание огромное время
открывалка ягодица или буквы если он сбился ТВОЯ ЖИЗНЬ БОЛВАН
ТАМ НАВЕРХУ БОЛВАН ЗДЕСЬ БОЛВАН цепляющиеся один за
другой разрозненные фрагменты разный круг понятий не такой уж
разный и в довершение это был бы достойный ответ ТЫ МЕНЯ
ЛЮБИШЬ нет или ногти подмышка и песенка в довершение это был
бы хороший конец второй и осталась бы только третья и последняя
придет день приду я придет Бом ТЫ БОМ я Бом Я БОМ ты Бом
мы Бом
он придет у меня будет голос больше нет в мире голоса кроме моего
шепот была жизнь наверху здесь увижу опять мои вещи немного синевы
под грязью немного белизны наши вещи мелкие ссоры а главное небеса
и дороги
и я себя увижу мельком увижу десять секунд пятнадцать секунд смирно
в своем углу или с приходом ночи наконец меньше света немного
меньше добрые люди уже спят спешу к следующему последнему самому
лучшему конечно это будет хорошо хорошие минуты какие у меня будут
хорошие минуты там наверху здесь больше ничего остается только
воспарить в небеса
образчики моя жизнь там наверху жизнь Пима разговор о Пиме моя
жизнь там наверху моя жена остановка открывалка ягодица поначалу
медленно потом его заносит удар по черепу долгое молчание
моя жена там наверху Пам Прим я уже не знаю я ее уже не вижу она
брила себе бугорок никогда этого не видел я говорю как он это я
говорю разговор обо мне как он крошечные пакеты птичья грамматика
меня это больше не занимает потом шлеп в норку
я говорю как он Бом будет говорить как я одинаковый разговор здесь
один за другим это сказал голос он говорит как мы наш всеобщий
бу-бу-бу со всех сторон потом внутри нас когда пройдет одышка ее
ошметки мы его подхватим наш старый разговор каждый на свой лад
кто как хочет кто как может голос умолкает наш голос начинает
подхватывает как знать
Пам Прим любили друг друга целыми днями раз в три дня потом в
субботу потом вот так туда сюда чтобы избавиться попробовал пристать
172
Сэмюэль Беккет
сзади слишком поздно она выпала из окна или выбросилась перелом
позвоночника
в больнице35 где она потом проводила целые дни провела всю зиму
она мне простила всем людям всему миру она подобрела Бог ее призвал
холмик синюшный как странно но неплохо почему не черный оброс
на смертном одре
цветы на столике у кровати она не могла повернуть головы вижу цветы
я их держал в руках у нее перед глазами вещи которые видишь правая
рука левая рука у нее перед глазами я ее навестил тогда она меня
простила хризантемы католические жемчужно-серые ничего другого не
достал
железная кровать крашеная белой эмалью пятьдесят в ширину все белое
на высоких ножках вот вам любовь видеть чужую мебель но не любимое
существо согласитесь
сел в ногах на краешек держа в руках вазу высокую тонкую вазу
зеленого стекла ноги болтались между нами были цветы сквозь цветы
лицо мне уже трудно сказать какое оно было нетронутое только белое
как мел ни царапинки или у меня глаза блуждали цветов было десятка
два
на выходе дорога под гору обсаженная деревьями тысячами совершенно
одинаковых одной породы никогда не знал что за порода километры
под гору все прямо и прямо никогда такого не видел карабкаться наверх
зимой гололед черные серые заиндевелые ветки она наверху в конце
умирающая прощающая вся белая
она умоляла остролист ягоды все равно что немного цвета немного
зелени все такое белое плюща все равно сказал что не сумел найти
места найти слова места она делала это летом в июле ох найти слова
чтобы ей сказать места где я искал левая нога правая нога шаг вперед
два назад
моя жизнь наверху что я делал в моей жизни наверху всего понемногу
за все хватался потом бросал все то же самое вечно дыра вечно развалина
вечно кусок хлеба никогда ни к чему не способен не создан для этих
тонкостей слоняться по углам да спать вот все чего я хотел это и
получил остается только пойти на небеса
папаша никакого понятия строитель что ли36 где-то там упал с лесов
на задницу нет леса упали а он вместе с ними сто кило и прямо на
задницу умер в лепешку кажется это был он может дядя Бог знает
Как есть
173
мамаша тоже не очень смоляной столб невидимая Библия в черной
руке пурпурный переплет а обрез золоченый черным пальцем заложен
псалом сто с чем-то Господи дни человека как трава37 цвет полевой
над ним ветер в облаках лицо белизна слоновой кости губы бормочут
и все что ниже все может быть
никого никогда не знал никого всегда удирал убегал прочь места моя
жизнь вверху сколько мест дороги длинные самые короткие или тысячи
поворотов самые надежные всегда ночью чтобы меньше света немного
меньше из А в В из В в С наконец дома надежное место рухнуть спать
первые звуки шаги шушуканье металлическое звяканье не глядеть
руками обхватил голову глаза в землю сверху пальто сунуть голову под
укрытие капюшона выглянуть в щелку быстро открыть глаза зажмурить
закрыть щелку ждать ночи
Из В в С из С в D из ада в дом ад дом ад всегда ночью из Ζ в А38
божественное забвенье довольно
думал он думали мы как раз довольно чтобы говорить чтобы слушать
даже не так запятая рот ухо старые хитрецы один против другого изъять
остальное поместить их в банку там закончить если у него есть конец
монолог
тогда мы мечтали хотя бы разумеется не я мечтал я Пим будущий Бом
подумать только я тьфу
совсем один Пим совсем один до меня голос к нему вернулся говорил
ли он как я часть третья как я шепчу в грязи что слышу в себе когда
замирает одышка ошметки если бы только я спросил невозможно я не
знал я еще не говорил он бы не знал ТОГДА ТОГДА я не знаю я не
узнаю я не спросил меня не спросят
пропадает мой голос он вернется мой первый голос там наверху нет
голоса нет жизни Пима там наверху никогда не было никогда ни с кем
не говорил никогда совсем один немые слова ни звука почему бы и
нет короткие подергивания низа большая путаница как знать
если бы Бом не пришел если бы только но тогда как закончить эта
ягодица рука погружается ощупью значит воображение и продолжение
и этот голос его утешения его посулы воображение дорогой плод дорогой
червь39
все это всегда каждое слово как я его слышу в себе которое было
снаружи когда замирает одышка и шепот в грязи ошметки я это помню
174
Сэмюэль Беккет
каждое слово всегда я его больше не скажу а теперь-то что в завершение
осталось ли что-нибудь перед тем как продолжать кончить вторую
останется только третья и последняя да совсем один там совсем один
увы
совсем один и свидетель склонился надо мной имя Крам склонился
над нами от отца к сыну к внуку да или нет и писарь имя Крим
поколения писцов ведущих записи40 немного в стороне сидя стоя да и
нет не говорят образчики извлечения
короткие подергивания нижней части лица ни звука или слишком тихо
десять метров один час сорок шесть метров в час иными словами так
будет лучше десять сантиметров в минуту четыре пальца немного больше
я вспомнил мои дни ширина моей ладони моя жизнь как ничто человек
стоя дыхание41
силится открыть банку не видит чем надо сменить лампы сдается банку
и открывалку сует в мешок очень спокойно
поспал шесть минут неровное дыхание ушел как только проснулся шесть
метров немного больше час двенадцать рухнуть
конец седьмого года неподвижности начало восьмого короткие
подергивания морды словно жрет грязь
три часа ночи начинает шептать к моему изумлению сумел уловить
какие-то ошметки Пим Бим имена собственные вероятно воображаемые
грезы разное воспоминания жизни невозможно все во множественном
на всякий случай вот мой старшенький старая стройка прощай
тишина чудовища огромное время полнейшее ничто перечел записки
предка просто чтобы время скоротать начало шепота его последний
день счастливчик присутствовать при этом вот на что я годен
перечел наши записки просто чтобы время скоротать больше из-за меня
чем из-за него он едва мямлит уже год с лишним я девять десятых не
улавливаю это раздается так внезапно звучит так слабо вылетает так
быстро длится так мало бросаюсь все кончено
лежит и не шевелится как куль а отводить глаза запрещено к чему все
это Крим говорит он подыхает я тоже не смеем его бросить живо
единственный выход подохнуть
вчера в дедовской тетрадке место где он жаждет умереть слабость к
счастью к чести семьи мимолетна он продержался до пенсии я слава
Как есть
175
Богу скука бездействие дайте мне отсмеяться все дело в характере и
профессия сказывается
лежу рядом с ним удачное новшество так лучше за ним наблюдать ни
одно содрогание от меня не укроется чем сидеть на скамеечке на манер
древних даже папаша и в том состоянии в каком он пребывает не
столько на глаз сколько на ухо позволю себе так выразиться это ясно
нужно придумать что-то новое
Крим то же самое прямой как жердь за своим пюпитром сосредоточен
шариковая ручка наготове начеку ловит каждую мелочь работы хватает
если ничего нет изобрету надо себя занять иначе смерть
тетрадь для тела незловонное пуканье такие же испражнения чистая
грязь причмокивания42 вздрагивания мелкие судороги левой руки в
мешке беззвучные содрогания низа тихие неспешные движения головы
лицо отделяется от грязи левая или правая щека и щека которая
оказывается на ее месте левая или правая лицо или правая щека левая
щека или лицо соответственно опять мое мнение меняется это мне
плюс что-то это мне напоминает
Крам Седьмой возможно при последнем издыхании физиономия белее
наволочки а я еще сопляк когда же это кончится наконец долгая агония
покой и я счастливый избранник тетрадь для всего этого во всяком
случае можно прочесть образчики восьмое мая праздник победы
впечатление такое будто он тонет Крим считает будто я чокнутый
вторая для болтовни слово за слово я едва к ней прикасаюсь третья
вот эта для моих комментариев хотя до сих пор все вперемешку в
одной и той же синей желтой и красной соответственно стоило только
подумать
купаясь в свете моих ламп так что кожа лоснится он цедит сквозь зубы
насчет темноты слепой он что ли вероятно он иногда открывает эти
огромные синие глаза и насчет приятеля я никого не вижу у него в
голове темнота друг
трогать запрещается можно было бы ему помочь Крим хочет пойти
дальше почистить ему ягодицы по крайней мере вытереть лицо чем мы
рискуем никто не узнает кто знает лучше не надо
мечтал о великом Краме Девятом самом великом из нас всех на сей
день незнаком с ним жаль старикан о нем вспоминал буйный
сумасшедший которого останавливали силой пока он не дошел до предела
связывали как колбасу Крим исчез больше я никогда его не видел
176
Сэмюэль Беккет
он был первый кто пожалел к счастью безрезультатно семейная честь
убрать скамеечку несносное нововведение не сохранилось и идея трех
тетрадей осталась без последствий в чем величие она там
пышное свидетельство согласен спорное к тому же особенно желтая
тетрадь этот голос нездешний здесь надо отринуть свое «я» ничего не
говорить когда ничего
синие глаза я их вижу старый камень может быть наш новый дневной
свет это ладно друг в голове и темнота это конечно и голос голоса их
всех а я ничего не слышу и какое все черт я тринадцатый кто носит
это имя
и еще конечно как знать наши чувства наши знания что такое
доказательство а если я тринадцать жизней здесь я говорю тринадцать но уже
до того с тех пор сколько уже других династий
этот голос как неудачно в иные минуты мне чудится что я его слышу
и мои фары что мои фары гаснут Крим считает меня сумасшедшим
чуть больше двух лет протянуть потом всплыть ах нет лечь если бы я
мог лечь больше не шевелиться я на это способен мимолетная слабость
из жалости пойти немного дальше если есть какое-нибудь немного
дальше мы знаем только это маленькое освещенное поле когда-то он
шевелился это есть в книге немного дальше в грязи темнота мой
старшенький умирающий падает к его внуку твой папаша его дед он
исчез внутри никогда больше не видел думай об этом когда придет твой
час
маленький блокнот в сторону эти интимные записки мой маленький
блокнот излияния души изо дня в день это запрещается одна-единст-
венная огромная книга и все внутри43 Крим воображает что я рисую
что пейзажи лица забытых любимых
хватит конец извлечений да или нет да или нет нет нет никакого
свидетеля никакого писаря совсем один и все-таки я его слышу шепот
совсем один в темноте грязь и все-таки
а теперь чтобы продолжить чтобы закончить чтобы быть в
состоянии это сделать еще несколько сценок жизнь там наверху в лучах
света вот так идет постольку поскольку слово за слово последние
сценки я его запускаю останавливаю ударом по черепу невозможно
слушать это дальше или он остановится невозможно говорить об этом
больше одно из двух открывалка сразу же или нет часто нет молчание
отдых
Как есть
177
он замолчал я заставил его замолчать позволил ему замолчать одно из
двух не уточняется все останавливается молчание долгое более или менее
не уточняется долгий отдых более или менее я его привожу в действие
открывалка или буквы как когда иначе слова не добьешься новый цикл
и так далее
пробелы это дыры иначе оно протекает более или менее более или менее
большие дыры разговор о дырах невозможно уточнить не стоит я их узнаю
жду продолжения или ошибаюсь а открывалка или открывалка все-таки
это ему помогает выкарабкаться не уточняется постольку поскольку вот
так идет слово за слово чтобы продолжить чтобы закончить чтобы быть
в состоянии это сделать вторая потом только третья и последняя
какая страна все страны полнощное солнце полуденная ночь все широты
все долготы
все долготы
какие люди весь спектр от черного до белого все испытал потом отверг
получалось одно и то же слишком расплывчато милосердие сострадание
вернулся умирать на родину двадцать лет железное здоровье там наверху
где свет моя жизнь заработал на нее моя жизнь все испытал особенно
стройка он прошелся по всем специальностям особенно штукатуром
повстречался кажется с Пам
любовь рождение любви рост убыль смерть совместные попытки
оживления сзади тщетно новые попытки спереди тщетно выбросилась из
окна или выпала перелом позвоночника больница хризантемы ложь
кстати об омеле44 милосердие
выходил из дому днем нет ночью меньше света немного меньше выходил
ночью днем вырыл себе норку руина страна усеянная руинами всех
столетий мой пес спинномозговой или spinal dog он лизал мне все места
Ском Скум попал под самосвал у него были не все дома перелом
позвоночника тридцать лет до сих пор жив здоровье железное что делать
что делать
жизнь сценки времени в обрез чтобы увидать занавес который
раздвигается тяжкое колыхание черного бархата что за жизнь чья десять лет
двенадцать лет уснул на солнце у подножия стены белая густая пыль у
подножия пальмы лазурь маленькие облачка еще детали опять сгущается
тишина
какое солнце о чем я говорил не важно я говорил так было надо видел
что-то называл это там наверху говорил что это так что это я десять
178
Сэмюэль Бвккет
лет двенадцать лет уснул на солнце в пыли чтобы был покой он у меня
есть он у меня был открывалка ягодица сцена следующие слова
море под луной выход из порта после солнца луна всегда свет день и ночь
кучка людей позади я все те кого вижу всех столетий поток меня уносит
отлив долгожданный ищу остров дом наконец упасть и больше не
шевелиться небольшая прогулка вечером до самого берега с той стороны где
шире потом вернуться упасть спать проснуться в тишине глаза которые
могут остаться открытыми жить старый сон о крабах водорослях
назад уходит вдаль земля братьев и гаснут огни гора а если обернусь
бряцание сильней он падает я на колени падаю ползу вперед к бряцанию
цепей это может быть другое другое путешествие я путаю с другим
какой остров какая луна что видишь то и говоришь мысли иногда уходят
вместе с этим исчезает голос продолжается несколько слов он может
остановиться он может продолжаться непонятно от чего это зависит
этого не сообщают
от чего ногти которые могут продолжать мертвая рука несколько
миллиметров слишком медленно жизнь их покидающая волосы мертвая
голова мозг которые катит как обруч дитя я выше чем он я падаю
исчезаю обруч еще катится теряет скорость качается падает исчезает
алея спокойна
невозможно продолжать я разговор обо мне не о Пиме Пим кончился
он кончился теперь я в третьей не Пим голос мой голос говорит это
эти слова невозможно продолжать а Пим что Пима никогда не было и
Бом которого я жду чтоб закончить чтобы тоже кончиться что Бома
никогда не будет ни Пима ни Бома а голос бу-бу-бу наш всем нам
принадлежащий никогда больше был один-единственный голос мой
никогда никакого другого
все это не Пим а я шепчу все это этот голос мой голос совсем один
и склоненный надо мной вот сейчас отмечает одно слово из трех два
из пяти из поколения в поколение одно слово из да или нет но главное
продолжать невозможно сию минуту совершенно это главное и даже
безумие я слышу его шепот в грязи обращенный к грязи безумие безумие
останови свой лепет размажь опять грязь по лицу дети так делают в
песке на морском пляже в деревнях в каменоломнях те кому не повезло
размажь размажь повсюду дитя ты делал бы так в песочницах даже ты
грязь выше висков так что больше уже ничего не видно кроме трех
седых волосков старый парик брошенный на помойку фальшивый
заплесневелый череп а отдых ты ничего не можешь сказать когда времена
кончатся ты кончишься быть может
Как есть
179
все это времени в обрез только сказать все это мой голос этот голос
он мой не так тише не так четко но смысл и возврат к Пиму где
покинут часть вторая она еще может кончиться так надо так лучше
больше трети две пятых потом только последняя потом только
последняя
о Ч довольно глубоко плевать на свет скоро конец там наверху последняя
вещь последнее небо эта муха быть может скользящая по стеклу по
простыне все лето перед ней или полдень торжество красок за стеклом
в проеме пещеры и плывущие к берегу паруса
два паруса один слева другой справа которые плывут сюда сближаются
или один опускается другой поднимается или плоскость перерезана по
диагонали из верхнего левого или правого нижнего угла правого или
левого раз два три и четыре плывущие сюда сближаются
первая пара потом еще и другие столько раз сколько надо или первый
раз два три или четыре второй два три четыре или раз третий три
четыре раз или два четвертый четыре раз два или три столько раз
сколько нужно
для чего чтобы быть счастливым чтобы в глазах в расширившихся
зрачках45 среди бела дня стало темно скорее муха рано утром четыре
часа пять часов солнце поднимается ее день начинается муха разговор
о мухе ее день ее лето на стекле простыне ее жизнь последняя вещь
последнее небо
о Ч очень глубоко быстро конец там наверху где свет мой шлепок
и ноготь по коже для верхней перекладинки римского И когда
внезапно слишком рано слишком рано несколько сценок еще внезапно
я перечеркиваю крест сверху очень глубоко Святой Андрей
Черноморский46 и открывалка это значит опять у меня внезапные перепады
настроения
моя жизнь еще там наверху где свет в мешке оно шевелится
утихомиривается опять шевелится сквозь потертую ткань свет проникает не
такой яркий сухие шорохи всегда издали но меньше вечер он вылезает
из мешка еще совсем маленький47 я еще здесь первый всегда я потом
остальные
сколько лет Боже мой пятьдесят шестьдесят восемьдесят сморщенный
на коленях ягодицы на пятках ладони на земле расставлены как ступни
это совершенно ясно больно ягодицам задница приподнимается голова
качается елозит по соломе так оно лучше шум метлы хвост собаки мы
хотим домой наконец
180
Сэмюэль Беккет
глаза мои открываются еще слишком светло вижу каждую соломинку
стучат три или четыре как минимум молотки ножницы кресты может
быть или какое-то другое украшение
на четвереньках добираюсь до двери поднимаю голову ну да глазею
в щелку на край света я бы так дошел до края света на коленях я
бы обошел его на коленях руках передних лапах глаза в двух пальцах
от земли ко мне возвращается обоняние временами сухой смешок
вздымает пыль на коленях вдоль сходней на нижнюю палубу где
эмигранты
сиреневый свет Гомерова сиреневая волна48 среди улиц летучие мыши
выходят мы еще нет не так глупы это я мозг звуки все такие же далекие
все меньше виноват вечерний воздух это нужно понимать а то что потом
надвигается это только скрип колес он надвигается железный обод
подпрыгивающий на булыжниках может быть везут урожай но тогда
деревянные башмаки
не важно вот и я как я продолжаю существовать все еще на коленях
сложены руки все еще прижаты к лицу кончики пальцев соединены
перед кончиком носа кончики пальцев соединены перед дверью
верхушка головы или макушка прислонена к двери поза видна и непонятно
что сказать кого умолять о чем умолять не важно важна поза важно
намерение
как я продолжаю существовать стемнеет придет день когда все заснет
мы выскользнем наружу хвост который метет солому у него не все дома
теперь мне надо подумать за нас двоих вот занавес закрывается очень
дорогой слева справа мы исчезаем потом все остальное вся дверь
исчезает жизнь там наверху маленькая сцена я бы не мог вообразить я
бы не мог
удар по черепу зачем аутопсия потом что потом что сейчас мы попробуем
увидеть потом последние слова так на так несколько слов ТЫ МЕНЯ
ЛЮБИШЬ БОЛВАН нет исчезновение Пима конец второй только третья
и последняя мы не можем продолжать мы продолжаем то же самое
можно ли будет остановиться скорее уж остановить мы не можем
продолжать мы не можем остановиться остановить
итак Пим останавливается жизнь там наверху где свет он не может
больше чтобы или я соглашался или удар по черепу я не могу больше
одно из двух а потом что он я сейчас я у него спрошу но сперва я
когда Пим остановится что со мной станет но сперва тела прижатые
бок к боку я на севере ну вот с туловищами ясно с ногами но руки
когда Пим останавливается где что делают руки кисти рук
Как есть
181
его правая там справа на уровне ключицы или креста Святого Андрея
Волжского моя вокруг его плеч шеи не вижу это что касается
правых рук с кистями я не вижу этого не говорят соответственно а
другие левые руки разговор о наших руках вытянутых впереди нас
кисти вместе в мешке ну вот с четырьмя руками четырьмя
кистями рук ясно но вместе как вместе только соприкасаются или
сцеплены
сцеплены но как сцеплены как в рукопожатии нет но его кисть
растопырена моя сверху пальцы скрючены просунуты между его пальцев
ногти рядом с ладонью такое положение они в конце концов заняли
так я его хорошо вижу хорошо и в скобках внезапно слишком поздно
немного поздно озарение как мои приказы другим способом более
гуманным
мои требования через другую систему сигналов совсем другую более
гуманную более тонкую от руки к руке в мешке кривые ногти и ладонь
поскрести нажать но нет по-прежнему правая удар по черепу ногти в
подмышку для пения острие консервного ножа в ягодицу рукоятка
тыкается в почку хлопает наискось а указательный палец в дырку все
необходимое до конца жаль хорошо а головы
голова к голове мое правое плечо неизбежно налегает на его левое я
повсеместно сверху но рядом как как две старые клячи запряженные
вместе нет но моя то есть моя голова лицом в грязь а его голова правой
щекой книзу его рот у моего уха наша щетина перемешалась впечатление
что для того чтобы нас разлучить надо было бы нас побрить ну вот
это насчет тел рук кистей рук голов
итак то что стало им и мной проваливается в прошлое в этом положении
когда Пим останавливался потому что не мог больше я соглашался или
удар по черепу потому что не мог больше я его спрошу но я я
вопрос что он сейчас сказал вернее я услыхал от этого
надтреснутого голоса который так долго молчал треть две пятых или уж каждое
слово вопрос если когда он останавливается есть ли в этом какой бы
то ни было материал для размышлений молитва без слов у дверей в
стойло долгий ледяной подъем к всепрощающей слишком поздно а
что еще ночь на морском просторе в стоячей воде в мелком убогом
море испещренном островками или уж какое-нибудь другое
путешествие
здесь найдется чем ненадолго обмануть это долгое время года или просто
чуть-чуть воды утолить жажду попить и привет ответ слегка стоячей
воды я бы рад был сейчас попить
182
Сэмюэлъ Беккет
а вопрос то о чем я его спрошу вот сейчас я ведь еще сумею его
спросить сумею этим заняться пускай хоть считанные секунды это будут
сладостные секунды вопрос не ответ почему вопрос потому что ну да
конечно ведь со мной остается все что я у него спросил только я больше
не знаю что это только знаю что только то что он еще здесь отчасти
в моих объятиях прижавшись ко мне во всю свою маленькую длину
это я знаю по крайней мере и в маленьком безвозрастном тельце черном
от тины когда смыкается тишина еще достаточно чувства потому что
он еще здесь
кто-то со мною еще там со мною я еще там желание странное когда
тишины еще там достанет на то чтобы меня спросить пускай хоть
считанные секунды он подышит еще или в моих объятиях уже
недоступное пытке тело и это тепло у меня под рукой у меня под боком
просто тепло сохраненное грязью мы это видали благодаря словам через
них вы видите и страну какие странные путешествия
так вперед веселей еще тяни толкай если бы только селедка временами
или креветка это были бы сладостные мгновения увы уже все дорога
больше здесь не проходит банки на дне мешка герметически вакуумно
сомкнутые навек вокруг своих мертвецов пресекается голос жизнь там
наверху где свет по той ли другой причине мы вместе с тем что
происходит с нами
во всяком случае я у него я сейчас у него спрошу что происходит во
всяком случае со мною когда тишина настает останавливаюсь и снова
вперед вот это дорога открывалка или буквы «а» в моей щетине над
самым ухом вымученный голос жизнь там наверху шепот рукоятка по
почкам выше выше светлее и что со мной станет когда больше не будет
этого будет другое бу-бу-бу наш голос наш общий голос я этого не
говорил я не знал потом мой голос мой и все уже все
нет ничего я не говорил ничего говорю как слышу всегда говорил
короткие содрогания низа ни звука голос Пима над ухом что это будет
всегда жизнь там наверху невозможно иначе наши сценки и синева и
вечный свет ясно облачно снежные хлопья ночь звезды светила
небесные темноты никогда не бывает вволю тайная ночь между нами
секреты и вечный шепот вдобавок я убежден что я его слышу никогда
вопрос я твержу его шепотом мое убеждение никогда меня не посмеет
задеть вопрос сомнение убеждение это я слышу а шепот никогда
никогда
голос Пима короче а потом ничего жизнь как мы говорим короткая
сценка минута-другая сладостные мгновения потом ничего такого
получше что бы не подлежало сомнению Крам ожидает и год и два он
Как есть
183
нас знает что-то не так как надо но все же года два-три под конец у
Крима они мертвы что-то не так как надо
Крим мертвы ты болен здесь не умирают и длинным когтистым
указательным пальцем Крам потрясенный пронзает грязь прокладывает трубу
до самой кожи потом до Крима ты прав они теплые Крим и Крам
поменялись роли это грязь Крам мы оставим их наверху и посмотрим
годик-другой палец Крама еще теплые
Крим не могу поверить измерим температуру Крам бесполезно кожа
розовая ты болен Крим розовый Крам они теплые и розовые вот мы
ничто и все равно розовеем сладостные мгновения нет никакого
сомнения
короче еще раз и навсегда голос Пима потом ничего ничего потом голос
Пима его замолчать заставляю от молчания сам страдаю потом заставляю
его вновь зазвучать чтоб наконец не быть а потом быть опять что-то
здесь от меня ускользает потому что по-моему быть чтобы мочь буквы
открывалка неизбежная логика я еще что-то соображаю
в конечном счете мне хотелось добиться чтобы во мне было больше
жизни и добился говорю как слышу больше как бы сказать больше
жизни лучше и быть не может до Пима часть первая обретя
независимость я видел картины какие хотел ползал ел мозгами раскидывал даже
немного если угодно терял незаменимую открывалку за людской род
цеплялся тысяча и одна уловка и все это с волнениями смехом даже
слезами соответственно высыхавшими быстро короче цеплялся
ничего также конечно часто ничего мертвец несмотря ни на что теплый
и розовый я к этому был предрасположен со времен материнского лона
хотя что правда то правда все меньше и меньше я знаю себя со времен
материнского лона замирает одышка я это шепчу
даже Пим с Пимом в начале первой четверти первой половины второй
части во мне было больше жизни коль скоро я мог а я же мог заниматься
его дрессировкой выдумать такую систему потом применить ее на деле
больше прибегнуть к ней мне не удастся моя погибель потому что с
тех пор это ясно едва глаза приоткроются как сразу смыкаются снова
я видел себя с тех пор остался один только голос
голос Пима потом бу-бу-бу наше общее бу-бу-бу а под конец только
мое наше мое на мой собственный лад шепоток в грязи в разреженном
воздухе черном только краткие волны триста-четыреста метров в секунду
короткие подергивания низа с шепотком короткие содрогания тишком
грязь метр-другой я такой живой остались только слова изредка шепоток
184
Сэмюэль Беккет
столько слов столько потерянных слов одно из трех два из пяти звук
потом смысл в той же пропорции а подчас никакой слышу все понимаю
все и вижу вновь вновь пережил не то что бы там вверху где свет
отыскивая тень среди теней говорю здесь ТВОЯ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ короче
мой голос а если нет ничего итак ничего а если не мой голос итак мой
голос столько слов цепляющихся одно за другое шепот итак значит
первый пример
итак значит он меня покидает как и других потом ничего меньше чем
ничего потом Бом и вместе мы я и Бом старые слова вернувшиеся
издалека он этого хочет он слева от меня правая рука меня обнимает
левая в мешке вложена в мою руку ухо прижато к моим губам моя
жизнь там наверху потихоньку какие-то дряхлые старцы из древней
бессмертной лазури утро а там и вечер и другие отрезки времени как
их там называют несколько банальных цветков ночи всегда слишком
светлые что там ни говори смена надежных пристанищ адских жилищ
я буду всегда при нем иногда совсем тихо вволю долгой чумы которая
нас не прикончила а потом здрасьте один как крыса с головы до ног
в темноте грязь f
или итак значит второй пример нет ни Пима ни Бома и я один
единственный голос мой он покидает меня и приходит ко мне опять
и я вместе с ним или в ярких лучах наконец третий пример и последний
в ярких лучах идеального наблюдателя внезапно трясутся губы и все
вокруг весь низ на мгновение вываливается розовый язык с бисеринкой
слюны потом внезапно губы поджаты прямые в нитку слизистой ни
следа десны накрепко сжаты из конца в конец по всему полукружью
рта он ни о чем не подозревает но куда я попал а потом внезапно
опять а потом потом куда я иду от потом к потом и вхожу но сперва
поскорее покончить с жизнью вместе наконец конец второй части
остается только последняя
ТВОЯ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ долгая пауза ТВОЯ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ глубочайшая
долгая пауза мертвая эта душа что за ужас воображаю ТВОЯ ЖИЗНЬ
дальше обрыв ибо шепоток свет дневной и ночной свет ЗДЕСЬ
небольшая кровавая сценка и на коленях некто а может на четвереньках в
углу во мраке сценки начало теряется в полумраке ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ до
самой кости от этого скоро ломается ноготь другой прочерчивает
бороздки ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ завывания удар по черепу все лицо в грязи и
рот и нос больше ни вздохов ни завываний никогда такого не видел
его жизнь здесь в черном воздухе и в грязи завывания старенького
ребенка их задушить невозможно ладно начнем сначала ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ
до мозга костей завывания испиваются солнечные годы никаких цифр
пока наконец ладно допустим жизнь здесь эту жизнь он не может
Как есть
185
итак вопросы ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ БОЛВАН эта семья не в бровь а
в глаз подводя итог мы наконец своего добились помнит ли он как он
сюда попал нет однажды он оказался здесь да как будто родился на
свет да если угодно да помнит ли он когда это было нет понятия не
имеет нет помнил ли он как жил нет он всегда так жил да распластанный
в самой грязи да в темноте да со своим мешком да
никогда ни проблеска света нет никогда никого нет никогда никаких
голосов нет я первый да никогда не двигался нет не ползал нет даже
несколько метров нет ел пауза ЕЛ из самых недр нет знает ли что
в мешке нет ни разу не полюбопытствовал нет верит ли он что когда-
нибудь он умрет пауза КОГДА-НИБУДЬ ОН УМРЕТ нет
никогда не делал для кого бы то ни было то же что я для него оживлял
нет точно да никогда не чувствовал рядом со своей другую плоть нет
счастлив нет несчастлив нет чувствует ли меня рядом с собой нет только
когда я его истязаю да
любит ли он петь нет но иногда поет да всегда одну и ту же песню
пауза ТУ ЖЕ ПЕС да видит ли он что-нибудь да часто нет короткие
сценки да в ярких лучах да но не часто нет как будто зажигается да
как будто да
небо и землю да людей шныряющих повсюду да и сам он где-то там
же да где-то приткнулся да как будто грязь расступается да или делается
прозрачной да но не часто нет и не надолго нет и только если темно
да он называет это жизнь там наверху да в противоположность жизни
здесь пауза ЗДЕСЬ завывания ладно
это не воспоминания нет воспоминаний нет у него нет он не утверждает
что был там наверху нет в тех местах которые видит нет но возможно
он там и был да где-то приткнулся да крался вдоль стен в темноте да
он не настаивает на этом нет не отрицает нет значит нельзя сказать
что это воспоминания нет но можно и сказать да
говорит ли он сам с собой нет думает нет верит в Бога да каждый день
нет мечтает о смерти да но не рассчитывает умереть нет рассчитывает
остаться здесь да в темноте да в грязи да распластанный подобно клопу
да неподвижно да бездумно да вечно да
убежден ли он в том что говорит нет ничего не берется утверждать нет
возможно многое позабыл нет некоторые мелочи да то немногое что с
ним было да например что все-таки ползал чуть-чуть да чуть-чуть ел
да чуть-чуть думал чуть-чуть шептал чуть-чуть и лишь про себя да
186
Сэмюэль Беккет
слышал человеческий голос нет этого бы он не забыл нет мимолетно
соприкасался с собратом до меня нет этого бы он не забыл нет
хочет ли он чтобы я его оставил да в покое да без меня у него будет
покой да был покой да каждый день нет верит ли он что я его оставлю
нет останусь при нем да буду прижиматься к нему да истязать его да
вечно да
но он не берется ничего утверждать нет отрицать нет все могло
обернуться и по-другому да его жизнь здесь пауза его жизнь здесь могла
обернуться и по-другому пауза ТВОЯ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ поглубже в следы
от прежних царапин завывания удар по черепу лицо в грязь нос рот
завывания в грязь ладно допустим он не может
ТАМ НАВЕРХУ все озаряется светом короткие сценки в грязи или
память о стародавних он находит слова во имя покоя ЗДЕСЬ завывания
эта жизнь он не может больше не может а раньше мог как было до
другого при другом после другого до меня то немногое что было с ним
почти все как со мной моя жизнь здесь до Пима при Пиме как было
то немногое что было со мной все это я мог сказать я верю как слышу
и говорю чтобы с этим покончить вразумленный его примером
потихоньку в грязь скорей скорей уже скоро меня больше нет и никогда
больше Пима не будет и не было ничего скорей итак остается немного
скорей доскажу до Бома пока он не пришел и не начал допрос как
было моя жизнь здесь до него то немногое что остается скорей досказать
как было после Пима до Бома как есть
скорей же итак наконец конец части второй как было при Пиме теперь
только третья последняя как было после Пима до Бома как есть говоря
так как слышу что однажды все это каждое слово всегда как я это слышу
в себе то что было снаружи бу-бу-бу наш общий голос когда замирает
одышка и шепот в грязи в грязь что однажды вернувшись к себе к Пиму
почему не знаешь не говоришь ни о чем вернувшись ни о чем как
удивительно быть одному больше нет Пима я один в темноте грязь конец
наконец второй как было при Пиме осталась только третья и последняя
как было после Пима до Бома как есть вот как было при Пиме
з
итак здесь это опять цитата третья часть как было после Пима как есть
наконец-то третья и последняя на которую фррр легче воздуха на
мгновение слетели дождем старые вздохи молитвы без слов я слышу
это с самого первого слова со слова как
Как есть
187
кончен мой срок говорю как слышу шепоток в грязи ухожу все глубже
это видимо перебор у меня нелады с головой иссякло воображение
пресекается вздох
огромное прошлое что недавнее что далекое из древнейших самое
древнее может сегодня или еще когда птичка колибри известная как
улетающий миг и так далее
огромное прошлое птичка колибри она прилетает слева провожаешь
глазами проворный разворот по часовой потом передышка и другая
колибри еще и еще или зажмуришься голову лучше вобрать в плечи но
можно и так и под грозовым небом белые крохи мгновения счастья
черные блики а после фррр и опять и так далее
все то же самое почти сплошь пробел а какой был узор остались только
следы это все учитывая что кто я всегда более или менее лишь отчасти
отчасти там но там отчасти но там и ничего не поделать
до Пима задолго до при Пиме огромное время разнообразные мысли
и той же породы разные сомнения чувства доходящие даже до слез и
движения и перемещения отдельных частей и всего вместе как будто
это самое все вместе пустилось в путь на поиски дома
так значит там более или менее встарь плюс еще недавно минус совсем
немного все последнее время это последние крайне немногочисленные
их почти что и нет секунда-другая туда-сюда значки отмечающие жизнь
всякие крестики тут и там неизгладимые следы
все то же самое почти сплошняком пробелы из них ничего не следует
почти ничего туда ничего не вставить и это всего печальней наверно
всего печальней поникшее воображение опустившееся так низко что
возникает соблазн сказать упавшее до нуля
или вознесшееся наконец к небу в самую его глубину
или наконец замереть в неподвижности так тоже можно наполовину в
грязи тонуть наполовину наружу торчать
как бы то ни было у меня нелады с головой огромные нелады и с
сердцем тоже неладно ровно настолько чтобы быть довольным отчасти
довольным что ты лишь отчасти там что ты наконец опустился немного
глубже на самое дно
отчасти веселым чем меньше ты там тем тебе веселее когда ты там
проливаешь меньше слез немного меньше когда ты там не хватает слов
188
Сэмюэль Беккет
да и мало чего хватает меньше слез за неимением слов за неимением
пищи даже рождению не хватает всего этого от этого веселишься это
закономерно все то же самое становишься несколько веселей
как было этого не хватает до Пима при Пиме все погибло почти все погибло
ничего больше нет почти ничего слава Богу это уже в прошлом осталось
только то что было после как есть после Пима огромное время до Пима
с Пимом огромные времена дополнительная минута-другая туда-сюда
огромна вечность под стать ей величие а внутри ничего почти ничего
зажмурить глаза продолжаю цитату опять не синие нет другие все другие
те что за ними что-то увидеть где-то после Пима и более того ветер в
моей голове больше самой головы а внутри ничего почти ничего кроме
ветра у-у-у у-у-у сто порывов в минуту удержать его пускай удержится
на десять пятнадцать секунд слушать что-то в попытке расслышать
несколько старых слов после Пима как было как есть скорей
Пим скорей после Пима до пускай он исчезнет его никогда не было
только я Пим это я как было до меня при мне после меня как есть
скорей
в добрый час мешок цвета грязи в грязи скорей сказать что это мешок
он защитной окраски он со своим окружением сроднился он всегда
был такой надо выбрать одно из двух не искать ничего другого да и
что бы могло быть другого столько всего скажи мешок старое слово
так и просится с языка два слога кончается на «к» не будем искать
другие а то и они исчезнут мешок сойдет слово «вещь» это всё
возможные вещи в нашем весьма невозможном мире да мире чего же
еще пожелать возможных вещей увидеть возможную вещь увидеть
назвать назвать увидать довольно теперь отдохнем я вернусь ничего не
поделать когда-нибудь я вернусь
осилить одышку говорить что слышишь видеть что говоришь рука цвета
грязи высовывается из мешка скорей сказать рука а потом другая сказать
другая рука видеть какая она негнущаяся напряженная словно слишком
короткая не дотянуться на сей раз добавим к ней кисть с
растопыренными пальцами с чудовищными ногтями говорить и видеть все это
тело какая разница сказать тело увидеть тело49 всю изнанку белую
изначально пару оставшихся светлыми пятен серость волос они еще
отрастают довольно голова сказать голова понять что увидел голову все
увидал все что возможно мешок со съестным целое тело живое да оно
живо сладить с одышкой десять пятнадцать секунд слышать это дыхание
залог жизни слышать и говорить говорить и слышать ладно пускай себе
будет одышка
Как есть
189
изредка от случая к случаю как под порывами ветра но ни вздоха
тихий сухой треск Божьей трещотки старая мельница машущая
крыльями впустую или по прихоти словно для разнообразия огромные
ножницы черной старухи древней как мир щелк да щелк50 щелк да
щелк две нити каждую секунду пять нитей в две секунды а мою
никогда
вот и все больше я ничего не услышу ничего не увижу если для
завершения нужны еще несколько старых слов даже не таких уж старых
как во времена Пима вторая часть с этим все кончено как не было но
состарилось огромное время этот голос эти голоса словно унесенные
всеми ветрами но ни дуновения другая древность чуть-чуть не такая
древняя сладить с одышкой пускай уймется десять пятнадцать секунд
несколько старых слов здесь и там одни слова прибавлять к другим
составлять предложения
несколько старых картин все одних и тех же больше нет синевы
кончилась синева никогда не было мешок руки тело грязь темнота
волосы да ногти живые вот и все
мой голос пускай он ко мне наконец вернулся наконец-то вернулся
голос в мои уста пускай это будут мои уста наконец-то голос в темноте
грязь невозможно себе представить такие сроки
дыхание задержать задержишь дыхание раз другой ночью и днем долго
же это длится для тех под которыми и над которыми и вокруг вращается
земля вращается все и они так поспешно несутся от цели к цели что
если бы не дыхание я бы наверно слышал их шаги задержать его
задержать дыхание на десять пятнадцать секунд попробую что-то
услышать
из этой старой сказки со всех сторон бу-бу-бу а после во мне ошметки
постараюсь расслышать хотя бы ошметки по два по три обрывка ночью
и днем добавлю одни к другим сложу из них предложения другие
последние предложения как было после Пима как есть что-то там не
так конец третьей и последней
этот голос эти голоса как знать пожалуй не хор этот голос один но
бу-бу-бу несется со всех сторон громкоговорители технические
возможности но внимание
внимание ни один никогда дважды или для этого нужно время огромные
времена одряхлевший неузнаваемый нет часто даже звонче звучнее чем
до хотя если хвори несчастья иногда потом это проходит становится
лучше не так худо после не так худо как до
190
Сэмюэль Беккет
или его записать на эбонит51 или вроде целую жизнь поколений на
эбонит можно себе представить ничто не мешает смешать перепутать
изначальный порядок бороться с этим
или в конце концов тот же самый а я в чем моя вина в недостатке
внимания памяти у меня в голове мешаются времена все времена до
при после огромные времена
и вечно одно и то же вещи одни и те же возможные невозможные или
просто я не признаю ничего другого когда замирает одышка только это
и слышу одни и те же пять шесть вещей всякие там узоры жизнь там
наверху короткие сценки
он мне их рассказывал обо мне кому же еще другому о ком же еще
другом зажмурюсь попытаюсь увидеть другого кому о ком кому обо мне
мне о ком или кто-нибудь третий зажмурюсь попытаюсь увидеть третьего
и так далее
бу-бу-бу наш голос принадлежащий всем кому всем всем здесь до меня
и грядущим одиноким в этой канаве или прижатым друг к другу всем
Пимам дипломированным палачам и бывшим жертвам если жертвы
бывают бывшими и будущим это уж точно больше чем было загублено
на земле и в ее лучах и так далее
что я от него узнаю что я знал то немногое что оставалось нет погоди
немногое что остается от того как было до Пима при Пиме и после
Пима и вплоть до того как теперь и для этого тоже он находил слова
для того как будет когда этого голоса больше уже не будет как будет
до того как у меня появится свой в этой огромной яме и когда он
появится у меня наконец как будет в этом огромном промежутке когда
у меня появится свой голос и когда у меня его больше не будет как
это будет тогда
миг когда я не смогу но должен буду сказать мамочка милая услыхать
этот лепет обмануть мою жажду по губным согласным а потом сразу
слова и еще потом на огромное время
бессмысленные подергивания низа лица ни звука ни слова потом и того
не будет не стоит нельзя рассчитывать на единственную надежду на то
что поищешь что-то другое как это будет поискать слова
все это от него от самой чуточки остается чуть-чуть я себя нарек
замирает одышка и я есмь на мгновение на это древнее чуть-чуть
съеживающееся то и дело которое как мне кажется я слышу от древнего
Как есть
191
голоса нашего общего бу-бу-бу поскольку мы уж наверное кончим тем
что когда-то мы были что-то тут не так
мера веселья кстати выше чем на земле за все времена считая от золотого
века там наверху в лучах падают мертвые листья
одни трепещут на ветке до новой весны по зеленой мерзости стелются
черные и сухие а других таких же хватает на две весны полтора лета а
то и на три четверти
до Пима путешествие часть первая правой правой ногой рукой тяни
толкай десять пятнадцать метров стоп сон сардинка или вроде того язык
в грязи картинка-другая немые слова не падать вперед тяни толкай и
так далее часть первая до Пима но до
другая история оставим в тени нет та же история не две а одна и
все-таки оставим в тени и все остальное тоже еще чуть-чуть несколько
слов все-таки несколько старых слов и про все остальное тоже сладить
с одышкой пускай уймется
попытайся расслышать несколько старых слов тут и там слепить их
вместе в предложение одно или несколько попытайся увидеть как это
могло быть не до Пима это уже позади часть первая еще раньше в
огромное время
двое значит нас было двое рука поперек моих ягодиц пришли Бем и
Пем один слог «м» на конце остальное одинаково Бем пришел и ко
мне прижался позже увижу себя и Пима я пришел и к Пиму прижался
то же самое не считая того что я Пим Бем я Бем слева я справа на
юге
Бем пришел и ко мне прижался там где покинутый я валялся дать мне
имя его имя дать мне жизнь заставить меня говорить о жизни там
наверху прежней жизни в лучах до падения все что было сказано в
части второй не той а другой той что до первой кроме того что я Пим
Бем я Бем слева я справа на юге я это слышу шепчу в грязь
так значит вместе жизнь сообща я Бем он Бем оба Бем огромное время
до самого дня слышать день твердить день шептать его не стыдиться
словно есть и земля и солнце мгновения когда делается светлее темнее
и там смеяться
темно светло эти слова всякий раз когда они возникают ночь день свет
тень из той же семьи смех разбирает всякий раз нет иногда три раза
из десяти четыре из пятнадцати в такой вот пропорции
192
Сэмюэль Беккет
светло темно из той же семьи на сотню их появлений три четыре
удавшихся смеха таких чтобы минутку трястись на минутку ожить а
потом стать еще мертвее чем до
до самого дня ну что же шепчи не стыдись не смейся до дня когда к
своему изумлению что-то там Бем один в темноте грязь для него конец
этой части для меня тоже к моему изумлению тоже что-то там не так
и я удаляюсь прочь правой правой ногой рукой тяни толкай десять
пятнадцать метров долог долог путь до Пима
время забыть все потерять всем пренебречь откуда взялся куда иду
частые остановки короткий сон сардинка язык в грязи снова утрата
слова отвоеванного такой дорогой ценой картинки какие-то небо дома
сценки полупадения из рода людского короткие подергивания низа лица
ни единого звука утрата прекрасного имени Бем часть первая до Пима
как было огромное время с этим покончено
настало сказано вышептано в грязи как было не до Пима с этим
покончено в части первой и даже раньше огромное время здорово это
не так что-то там не так
мешок это мешок Пим ушел без мешка мешок он оставил мне а я свой
оставил Бему я оставлю мешок Бому я от Бома уйду без мешка я от
Бема ушел без мешка и ушел к Пиму52 это мешок
Бем значит я был с Бемом а потом я пошел к Пиму значит от Бема
я ушел без мешка однако этот мешок был при мне когда я ушел к
Пиму в первой части был у меня мешок
значит мешок которого у меня не было когда я ушел от Бема и который
был когда я ушел к Пиму не зная что ухожу от кого-то к кому-то так
вот этот мешок значит я его нашел и по этой причине мешок остался
со мной иначе какое путешествие
мешок нужная вещь в путешествиях носить припасы мы его видели еще
бы видели в первой части без него нельзя такое правило мы следуем
правилу
значит ушел без мешка был у меня мешок значит нашел его на дороге
препятствие устранено мы оставляем наши мешки тем кому они не
нужны мы забираем мешки у тех кому они будут нужны мы уходим
прочь без мешка потом находим мешок теперь можно в дорогу
мешок словно кто-то умер здесь можно подумать некий мертвец бросил
его в свой последний миг а после его поглотила грязь но ничего
Как есть
193
подобного обыкновенный мешок на ощупь ничего особенного
небольшой для угля на пятьдесят кило из отсыревшего джута внутри припасы
простой мешок значит просто с трудом пустившись в путь без припасов
без понятия как их добыть без воспоминаний о том где мы их видали
без понятия пригодятся ли нам они мы едва пустившись в путь находим
в темноте грязь без нее путешествие было бы короче а так нет огромное
время и почти ничего не теряем пока не придем с несъеденными
припасами как мы видели в части первой как было до Пима
мешков здесь больше нет значит какое бесконечное множество народу
если мы путешествуем бесконечно и какая бесконечная ничем не
оправданная утрата вот она преодоленная трудность что-то здесь не так
в тот миг когда я покидаю Бема кто-то другой покидает Пима если
сию минуту нас сто тысяч пятьдесят тысяч ушедших пятьдесят тысяч
покинутых нет ни солнца и ни земли ничто не вращается всюду все
тот же миг всегда и везде53
в тот миг когда я встречаю Пима кто-то другой встречает Бема такое
правило этого требует справедливость пятьдесят тысяч пар опять и опять
в один и тот же миг повсюду одно и то же разлученные тем же
пространством обычная математика так надо по справедливости в этой
трясине где все одинаково дороги темпы правой правой ногой рукой
тяни толкай
и все время пока я с Пимом кто-то другой с Бемом сто тысяч валяются
прижавшись попарно и так протекает огромное время никаких шевелений
разве только со стороны палачей тех кому пора время от времени
царапать чью-то подмышку правой руки выжимая пение вырезать
надписи втыкать открывалку колотить по почке проделывать все необходимое
в тот миг когда Пим меня покидает и уходит к другому Бем покидает
другого и уходит ко мне с моей точки зрения это напоминает миграцию
дождевых червей или хвостатое лихорадочное размножение делением в
отхожих местах дни великого веселья
в тот миг когда Пим встречает другого чтобы опять составить с ним
единственную пару не считая той которую он составляет со мной Бем
встречает меня чтобы опять со мною составить единственную пару не
считая той которую он составляет с другим
здесь озарение значит Бем это Бом или Бом Бем а голос бу-бу-бу от
которого я узнаю все о своей жизни эти ошметки жизни во мне когда
замирает одышка это одно из трех
7 С. Беккет
194
Сэмюэль Беккет
там где по-моему этот голос говорил Бем рассуждая о том как было до
путешествия в первой части и говорил Бом рассуждая о том как будет
после разлуки в третьей и последней части он говорил на самом деле
в обоих случаях он говорил на самом деле и когда говорил только о
Беме и когда только о Боме
или же он говорил на самом деле то о Беме то о Боме по рассеянности
или невниманию не замечая что говорит то так то сяк я его наделяю
человеческими чертами он сам себя наделяет человеческими чертами
или в конце концов он предумышленно переходил от одного к другому
то говорил о том как было до путешествия то как будет после разлуки
не поняв что Бем и Бом одно лицо и никак не иначе
что напрасно желать нового воплощения того чье прибытие он возвещает
мне правой правой ногой рукой тяни толкай десять пятнадцать метров
и что этот другой неизбежно окажется прежним о котором он мне
говорил с которым я намучался а потом покинул его и ушел к Пиму
точно так же как Пим намучался со мной а потом покинул и ушел от
меня к своему другому
чтобы не без того чтобы знать все здесь скорее не зная такова
справедливость никогда не уходить от уходить уйти никогда не идти к
не зная что каждый всегда покидает одного и того же уходит всегда к
одному и тому же теряет всегда одного и того же уходит к тому кто
его покидает покидает того кто к нему уходит такова справедливость
миллионы миллионы нас миллионы одновременно нас трое такова моя
точка зрения Бем это Бом Бом Бем скажем Бом так лучше Бом значит
я и Пим я посередке
и вот во мне это опять цитата когда замирает одышка ошметки прежнего
голоса что о голосе обмолвки точность что о нас о миллионах поскольку
нас миллионы о троих о наших парах путешествиях и разлуках обо мне
одном это опять цитата о моих воображаемых путешествиях ·ο живущих
во мне воображаемых братьях когда замирает одышка та что была вне
меня со всех сторон бу-бу-бу ошметки я их шепчу
голос который я считал бы своим будь у меня голос который в тот миг
когда я его слышу это опять цитата слушают также и тот кого Бом
покинул ради меня и тот ради которого Пим от меня ушел а если нас
миллион то и все остальные 499 997 покинутых
Как есть
195
тот же голос все то же самое кроме имен еще два и будет вполне
достаточно каждый ждет безымянно своего Бома54 и безымянный уходит
навстречу своему Пиму
а Бом к тому который покинут не я Бом ты Бом мы Бом но я Бом
ты Пим я к тому кто покинут не я Пим ты Пим мы Пим но я Бом
ты Пим что-то тут совершенно не так
и так до бесконечности это опять цитата что-то там не сложилось тоже
до бесконечности иной раз Бом иной раз Пим исходя из того справа
вы или слева на севере или на юге палач или жертва все это несколько
преувеличено палач всегда одинаков жертва всегда одинакова а иной
раз одинокий путешественник одинокий покинутый безымянный все
это несколько преувеличено почти все с некоторым перехлестом говорю
как слышу
или он единственный одно-единственное имя прекрасное имя Пим а я
недослышу или голос недопроизносит и там где я слышу Бом или там
где он во мне произносит Бом когда замирает одышка ошметок Бом
был вне меня со всех сторон бу-бу-бу
там где я слышу или он и впрямь говорит что до того как я ушел к Пиму
в первой части я был с Бомом как Пим был со мной в части второй
или что вот сейчас в части третьей правой правой рукой ногой тяни
толкай Бом ко мне как я к Пиму в части первой
надо слышать именно Пима надо было сказать именно Пиму что я был
с Пимом до того как ушел к Пиму в части первой а теперь в третьей
части Пим ко мне как я к Пиму в первой части правой правой рукой
ногой тяни толкай десять пятнадцать метров
значит миллион если нас миллион миллион Пимов подчас неподвижных
попарно слипшихся в чрезмерных истязательных целях пятьсот тысяч
маленьких кучек грязного цвета подчас тысяча тысяча безымянных
полупокинутых полупокинувших одиноких
а трое если нас трое когда во мне когда замирает одышка этот голос
что звучал вне меня со всех сторон бу-бу-бу когда я слушаю этот голос
вещающий о миллионах троек то будь у меня голос это цитата и хоть
немного сердца и хоть немного мозгов я мог бы поверить что он только
мой никто его не слышит кроме меня покинутого
шепчу я один о миллионах троек о путешествиях наших о парах и о
разлуках об именах которыми мы нарекаем себя и других
196
Сэмюэль Беккет
все эти ошметки один я слышу один шепчу в грязи и в грязь двое
моих товарищей как мы видели сейчас шагают шагают и тот что идет
ко мне и тот что идет от меня что-то тут не так то есть каждый остался
в своей части первой
или в своей пятой или в своей девятой или в своей тринадцатой и так далее
правильно
однако голос как мы видели есть достояние третьей или седьмой или
одиннадцатой или пятнадцатой и так далее точно так же пара достояние
второй или четвертой или шестой или восьмой и так далее
правильно
при условии что мы предпочтем предложенный здесь порядок а именно
сперва путешествие потом пара под конец разлука тому или тем что
получатся если начать с разлуки и заключить путешествием а в середину
поставить пару или начать с пары и заключить
парой
а в середину поставить разлуку
или путешествие
правильно
что-то тут не так
а если наоборот я один тогда и проблемы нет но если хорошенько не
напрячь воображение нелегко избежать такого решения
как например пройденный нами путь замкнутая кривая если мы
расположим на ней номера от 1 до 1000000 номер 1000000 покидая своего
палача обозначенного номером 999999 вместо того чтобы опрометью
бежать в пустыню к несуществующей жертве направляется к номеру 1
а где номер 1 он брошенный своей жертвой номером 2 не навсегда
остается лишен своего палача поскольку как мы уже видели этот
последний под номером 1000000 демонстрирует прекрасную скорость
правой правой ногой рукой десять пятнадцать метров
а трое если нас только трое и пронумерованы только от 1 до 3 хотя
нет четыре все-таки лучше более показательно если нас только четверо
и мы пронумерованы от 1 до 4
Как есть
197
тогда только два места на концах самой большой хорды назовем их а
и b на четыре пары четверо покинутых
в распоряжении путешественников только два пути по одному полукругу
как бы нам их назвать скажем ab и Ьа
пускай я к примеру обозначен номером 1 это будет нормально и в
некий определенный момент нахожусь вернее оказываюсь покинутым в
а на конце огромной хорды и предположим что мы повернем направо
тогда прежде чем я опять окажусь в той же точке и почти в том же
состоянии я последовательно побуду
жертвой номера 4 в точке а путешественником по ab палачом номера
2 в точке b опять покинутым но на сей раз в точке b снова жертвой
номера 4 но на сей раз в точке b снова путешественником но на сей
раз по Ьа снова палачом номера 2 но на сей раз в точке а и наконец
опять покинутым в точке а и все сначала
правильно
значит для каждого из нас если нас четверо прежде чем восстановится
начальная ситуация две разлуки два путешествия четыре спаривания из
которых два слева в качестве палача мучающего всегда одну и ту же
жертву в моем случае номер 2 а два справа в качестве жертвы
страдающей от одного и того же палача в моем случае от номера 4
что касается номера 3 ни я его не знаю ни соответственно он меня и
точно так же не знают друг друга номера 2 и 4
значит коль скоро нас четверо каждому из нас один из нас остается
неизвестен или известен только понаслышке это конечно возможно
я общаюсь с номерами 4 и 2 в качестве соответственно жертвы и палача
а номера 2 и 4 общаются с номером 3 соответственно выступая как
палач и как жертва
значит возможно в принципе что номеру 3 с одной стороны через мою
жертву для которой он сам жертва а с другой через моего палача для
которого он сам палач итак повторяю это цитата что номеру 3 я не
вполне незнаком хотя нам никогда не доводилось встречаться
равным образом если нас миллион каждый из нас лично знаком только
с собственной жертвой и собственным палачом то есть с тем кто идет
непосредственно до него и с тем кто непосредственно после
198
Сэмюэль Беккет
и только этим двоим он знаком лично
но в принципе может прекрасно знать понаслышке остальных 999997 с
которыми согласно его месту в хороводе ему никогда не доводилось
встречаться
и сам он может быть им знаком понаслышке
выберем двадцать номеров идущих подряд
причем все равно какие все равно какие это неважно
с номера 814326 по номер 814345
тогда номер 814327 может что-то сказать некстати вообще-то палачи
безмолвны мы это видели в части второй о номере 814326 номеру 814328
который может это сказать номеру 814329 который может это сказать
номеру 814330 и так далее до номера 814345 который таким путем может
с номером 814326 быть понаслышке знаком
точно так же номер 814326 может знать понаслышке номер 814345
поскольку номер 814344 сказал о нем номеру 814343 а тот номеру 814342
а тот номеру 814341 и так далее вплоть до номера 814326 который таким
путем с номером 814345 может быть понаслышке знаком
молва может передаваться в обоих направлениях до бесконечности
слева направо посредством признаний палача жертве которая
пересказывает их своей жертве
справа налево посредством признаний жертвы палачу который
пересказывает их своему палачу
все эти слова повторяю это опять цитата жертвы палачи признания
повторяю цитата я и все прочие все эти слова преувеличение я
по-прежнему говорю как слышу все тот же шепоток все в ту же грязь только
в масштабе бесконечности
спрашивается зачем
затем что если номер 814336 опишет номеру 814335 номер 814337 и
номеру 814337 номер 814335 то в конечном итоге он просто-напросто
опишет сам себе самого себя таким каким его всегда знали оба его
собеседника
но зачем
Как есть
199
впрочем это кажется и невозможно
потому что номер 814336 как мы видели когда он пришел к номеру
814337 уже давным-давно ничего не знает о номере 814335 как будто
его и не было никогда а когда к нему приходит номер 814335 мы это
тоже видели он уже давно ничего не знает о номере 814337 огромное
время
так что на самом деле здесь все знают своего палача только пока он
их истязает а жертву только пока ее истязают а кроме того
и эти самые пары которые вечно перепариваются из конца в конец
этой огромной вереницы так что вечно в миллионный раз постигаешь
то же самое что и в первый непостижимый раз два человека
объединяются для пыточных надобностей
а когда на непредсказуемые ягодицы в миллионный раз на ощупь
ложится рука то для руки это первые ягодицы для ягодиц первая рука
что-то тут не так
как верно то что замирает одышка я это слышу я это шепчу в грязь
так верно все это
значит никакого знакомства со второй рукой а что касается другого так
называемого личного знакомства приобретенного посредством общения
которое есть у каждого с одной стороны с собственным палачом а с
другой с собственной жертвой что касается этого общения
когда думаешь о паре которую составляли мы с Пимом во второй части
и которую пересоставили в шестой десятой четырнадцатой и так далее
каждый раз когда думаешь о немыслимой самой первой
какими мы тогда были каждый сам за себя и друг за друга
слипшиеся вместе единым телом в темноте в грязи
словно всякий миг исчезали обращались в ничто сами для себя и для
другого и это тянулось огромные времена
а когда возвращались чтобы еще немного побыть вместе как подумаешь
страдание жестокость такие крохотные короткие
робкая нужда в жизни в голосе человека у которого нет ни того ни
другого
200
Сэмюэль Беккет
голос вымучен несколько слов жизнь потому что это крик вот оно
подтверждение стоит воткнуть поглубже и сразу тихий крик значит не
все мертво пьешь и другому даешь попить пока
это были цитирую прекрасные моменты в каком-то смысле прекрасные
моменты как подумаешь
Пим и я часть вторая и Бом и я часть четвертая что из этого выйдет
после сказать что мы друг друга знаем лично даже в этот самый
момент
слипшиеся вместе единым телом в темноте в грязи
неподвижные друг от друга отставшие правая рука шевелится слегка
время от времени все необходимое
после сказать что я знал Пима что Пим знал меня и Бом и я что мы
друг друга узнаем пускай бегло
можно так сказать а можно сказать что нет смотря что под этим
понимаешь
нет сожалею здесь никто никого не знает ни лично ни как угодно у
меня вырывается нет я его шепчу
и опять нет и опять сожалею здесь никто никого не знает в этом месте
нет никакого знания вероятно в этом его прелесть
что кружась в хороводе четверо нас или миллион мы все четверо друг
друга не знаем весь миллион друг друга не знаем а также сами себя но
здесь это опять цитата мы не кружимся в хороводе
это там наверху в лучах где измерено их пространство здесь прямая
прямая тянется к востоку55 четверо нас или миллион прямая тянется
к востоку как странно а на западе как правило смерть
значит ни четверо ни миллион
ни десять миллионов ни двадцать миллионов ни любое конечное число
четное или нечетное как бы оно ни было велико а все потому что наша
справедливость велит чтобы никто будь нас хоть двадцать миллионов
чтобы ни один из нас не оказался в невыгодном положении
чтобы никто не остался без своего палача как остался бы номер 1
чтобы никто без собственной жертвы как было бы с номером 20000000
Как есть
201
если предположить что этот последний возглавляет шествие которое
направляется как мы видели слева направо или если угодно с запада
на восток
и никогда не откроется глазам
чьим глазам
того кто обеспечивает мешки
возможно
его глазам зрелище с одной стороны одного из нас к которому никто
никогда не приходит а с другой стороны другого одного который никогда
ни к кому не идет это было бы несправедливо так считается там наверху
в лучах
проще говоря цитирую или я один и тогда больше нет проблемы или
нас бесконечное множество и опять же проблемы нет
не считая проблемы самопостижения но это вне всякого сомнения
должна быть процессия выстроенная в прямую линию без хвоста и
головы в темноте в грязи со множеством разных бесконечностей которые
содержатся в ней
как бы то ни было ничего не поделаешь мы живем по справедливости
я никогда не слыхал чтобы кто-то утверждал обратное
притом неописуемо медленно процессия разговор сейчас о процессии
передвигаясь рывками и толчками56 как дерьмо по кишке требует для
себя дней великого веселья если нас в конце концов одного за другим
или пару за парой не извергнут в открытое пространство в яркий
дневной свет в условиях благодати
настолько медленно что одни только цифры даже произвольные могут
дать об этом слабое представление
считая цитирую двадцать лет на путешествие и зная с другой стороны
поскольку об этом уже слыхали что четыре фазы через которые мы
проходим две разновидности одиночества две разновидности общения
через которые мы все палачи покинутые жертвы путешественники
проходим опять и опять поскольку правила таковы длятся одно и то же
время
зная с другой стороны благодаря той же милости что путешествие
происходит поэтапно десять метров пятнадцать метров из расчета по-
202
Сэмюэлъ Беккет
ложим здесь есть какой-то расчет одного этапа в месяц это слово эти
слова месяц год я их шепчу
четыре за двадцать восемьдесят двенадцать с половиной за двенадцать
сто пятьдесят за двадцать три тысячи делим на двадцать четыре тридцать
семь с половиной от тридцати семи до тридцати восьми метров в год
вот с какой скоростью мы двигаемся вперед
правильно
мы движемся слева направо каждый движется и все вместе движется с
запада на восток удачный год неудачный год в темноте в грязи истязании
одиночестве со скоростью от тридцати семи до тридцати восьми
округляя сорок метров в год
вот слабое представление о медленности нашей которое можно получить
из цифр если принять их к сведению а принять их к сведению может
с одной стороны тот кто задет длительностью путешествия а с другой
стороны эти цифры отражают длительность и частотность этапа что дает
отдаленное представление о нашей медлительности
наша медлительность медлительность нашей процессии слева на восток
в грязи в темноте
на картинке в ее неупорядоченности путешествия суммой коих она
является состоящего из этапов остановок и тех этапов суммой которых
является путешествие
пока мы ползем иноходью правой правой ногой рукой тяни толкай
плашмя немые проклятия левой ногой левой рукой тяни толкай плашмя
немые проклятия десять метров пятнадцать метров остановка
все это было снаружи со всех сторон во мне бу-бу-бу когда замирает
одышка и так далее и так далее тише слабее но еще различимо не так
четко но чувствую это в себе когда замирает одышка
и что по правде сказать все здесь неупорядоченно путешествия пытки
картинки и даже одиночество часть третья где голос говорит а потом
умолкает какие-то ошметки потом больше уже ничего кроме темноты
грязи все неупорядоченно кроме темноты грязи
на картинке изображающей этот голос тоже десять слов пятнадцать слов
долгая тишина десять слов пятнадцать слов долгая тишина долгое
одиночество сначала снаружи со всех сторон бу-бу-бу огромное время
потом во мне когда замирает одышка ошметки
Как есть
203
и от него я знаю все как было до Пима еще до этого при Пиме после
Пима как есть слова для этого а также как будет слова для этого короче
мою жизнь огромные времена
я слышу себя опять шепот в грязи и я еще есть
путешествие которое я совершил в темноте и в грязи в ровной колонне
с мешком на шее никогда до конца не выпадая из вида и рода я
совершил это путешествие
потом что-то еще и этого я не сделал потом опять и я опять это сделал
и Пим как я его нашел заставил страдать заставил говорить и потерял
и так далее пока это длится у меня все это было когда замирает одышка
и поскольку нас трое четверо миллион и я там и всегда был там с Пимом
Бомом другим с другими 999997 путешествую в одиночку гнию в одиночку
пытаю и подвергаюсь пытке ничего страшного умеренно без
самозабвения немного крови несколько криков несколько слов жизнь там наверху
в лучах немного синевы короткие сценки ради жажды во имя мира
и поскольку нас может быть только четверо только миллион и я там
и всегда был там с Пимом Бомом с бесчисленными другими в процессии
без конца и начала лениво бредущей слева направо по прямой к востоку
странно в грязи в темноте зажатый между жертвой и палачом а
поскольку в этих словах все же есть некоторое преувеличение во всяком
случае в большинстве из них
или один и больше нет проблем никогда не было Пима никогда Бома
никогда путешествия только грязь темнота мешок может быть это тоже
кажется постоянным и это голос который не знает что говорит или я
его недослышу голос который будь у меня голос и хоть немного сердца
и хоть немного мозгов я мог бы поверить что он мой прежде всего
снаружи со всех сторон бу-бу-бу а уж потом во мне когда замирает
одышка тихий теперь едва дыхание
и так далее и так далее пока это длится все эти разнообразные формы
жизни когда замирает одышка все это у меня было смотря что под
этим понимаешь все это я знал делал и претерпевал смотря по тому в
настоящем а также в будущем это уж точно нужно просто слушать когда
замирает одышка десять секунд пятнадцать секунд все эти разнообразные
формы жизни эти ошметки шептать их в грязь
а поскольку наконец в настоящем одышка усиливается все больше
напоминает животное жаждущее воздуха и унять ее снова чтобы снова
204
Сэмюэль Беккет
она унялась такая одышка снова слышать этот голос который был
снаружи со всех сторон бу-бу-бу какие-то ошметки во мне еще когда
замирает одышка но вероятно скоро это станет уже невозможно
в этот момент по-прежнему это цитата начиная с этого самого момента
и дальше я буду только этот голос эти ошметки и наконец я не буду
уже ничем но не прервусь потому что так мало конец части третьей и
последней наверно она уже почти завершена
да верно одышка в грязи темноте вот к чему это сводится путешествие
пара разлука где все рассказывается палач который потом будет потерян
путешествие которое завершится жертва которая будет а потом
потеряется картинки мешок коротенькие истории о том что там наверху
маленькие сценки немного голубизны адские обиталища
голос со всех сторон бу-бу-бу а после внутри под тесным сводом в
запертом тесном пустом подвале восемь лиц бледны как слоновая кость
если бы был свет хоть искорка света все было бы бело десять слов
пятнадцать слов как блуждания когда замирает одышка потом гроза
дыхание залог жизни часть третья и последняя наверно она уже почти
завершена
а между, тем у каждого своя жизнь есть и была дальние путешествия
общество ближних утраченных ныне и прочь я бегу когда замирает
одышка вот к чему это сводится одышка в грязи в темноте не смешок
но похожа на своеобразный смешок
или пускай все начнется и тогда будет жизнь и будет палач и свершится
путешествие и будет жертва две три будет жизнь которая была и прошла
жизнь которая есть жизнь которая будет
эту последнюю трудно себе представить или вместо того чтобы
дебютировать в качестве путешественника я дебютирую в качестве жертвы
а вместо того чтобы продолжать в качестве палача продолжаю в качестве
путешественника а вместо того чтобы кончить покинутым
вместо того чтобы кончить покинутым я кончу палачом
похоже что не хватает главного
того одиночества о котором рассказывает голос единственного что
помогает ее пережить
если только голос мне не поведает жизнь мою начиная с того другого
одиночества которое есть путешествие то есть вместо первого прошлого
Как есть
205
второго прошлого и настоящего о прошлом настоящем будущем что-то
здесь не так
освежающие чередования то история то пророчества то новости дня
которые в свой черед обрушиваются на меня вероятно это меня и хранит
какова была моя жизнь разговор по-прежнему о моей жизни
как было до Пима как было при Пиме как есть нынешнее прочтение
как было при Боме как есть как будет при Пиме
как есть как будет при Боме как будет до Пима
как было моя жизнь все еще при Пиме как есть как будет при Боме
мимолетное впечатление это цитата если хочешь представить в трех
частях или эпизодах дело которое при внимательном рассмотрении
содержит четыре рискуешь многое упустить
а к этой третьей части которая идет наконец к своему завершению
должна была бы вообще говоря добавиться четвертая из которой было
бы видно в числе множества других вещей невидимых или почти
невидимых в нынешнем прочтении вот что
вместо меня втыкающего открывалку в задницу Пиму Бом втыкающий
этот же нож в мой зад
а вместо воплей Пима его пения и вымученного голоса было бы слышно
то же самое почти что неотличимое но мое от меня
но мы никогда не увидим Бома в деле сотрясаемого одышкой в грязи
в темноте я останусь страдать поскольку голос устроен так это цитата
что из всей нашей жизни передает только три четверти
то первую вторую и третью то четвертую первую и вторую
то третью четвертую и первую то вторую третью и четвертую
что-то там не так
и поскольку он так устроен он отвергает случай при котором эпизод
пара пускай даже в своем двойственном варианте фигурирует дважды
в одном и том же сообщении что было бы неизбежно если вместо того
чтобы дебютировать в качестве путешественника как это и есть в
нынешнем прочтении или же в качестве покинутого а такое прочтение
также возможно я бы сперва оказался в качестве палача или жертЪы
206
Сэмюэль Беккет
итак чтобы поправить все сказанное и его последствия скажем вместо
этого что из четырех вариантов трех четвертей всей нашей жизни
которыми она располагает только два поддаются передаче
а именно те три четверти в которых первым идет путешествие в
нынешнем прочтении а также те три четверти в которых первым идет
разлука прочтение также допустимое
с таким отвержением легко согласиться если учтешь что два одиночества
то что во время путешествия и то что во время разлуки значительно
различаются и соответственно заслуживают отдельного рассмотрения и
что две пары та в которой я фигурирую к северу как палач и та где я
фигурирую к югу как жертва представляют в точности то же самое
зрелище
поскольку уже поживши в качестве палача рядом с Пимом часть вторая
я не обязан принимать во внимание часть четвертую где я выступлю в
качестве жертвы рядом с Бомом достаточно чтобы этот эпизод был
заявлен Бом приближается правой ногой правой рукой тяни толкай
десять метров пятнадцать метров
или волнения ощущения внезапно проникнуться интересом или еще
какого хрена кто-то там терпит цитата весь этот трепет все это дрожание
какого хрена кто-то терпит кто-то заставляет терпеть кто-то вопит кто-то
чтобы его оставили наконец в покое в грязи в темноте бормочет десять
секунд пятнадцать секунд о солнце тучах земле море клочках синевы
светлых ночах и о создании которое стоит на ногах или может стоять
на ногах все то же воображение растрачивающее себя в поисках норки
которую больше нельзя увидать посреди этой феерии впивающее эту
каплю мочи бытия и дух испуская оно испускает из себя эту каплю
питья в тот момент когда кто-то есть каждый в свой черед как велит
справедливость наша и это никогда не кончается этого тоже требует
справедливость будь все мертвы или никто
итак два возможных прочтения нынешнее и другое которое началось
бы там где это кончается наконец и соответственно кончилось бы
путешествием в темноте в грязи путешественник правой ногой правой
рукой тяни толкай прибывающий в такой-то пункт из никуда и от
никого и направляющийся в такой-то пункт в который он следует вечно
и будет следовать вечно таща за собой мешок в котором припасы тают
хоть и не так быстро как его аппетит
значит пускай из нынешнего сообщения будет извлечено знание в
противоположном направлении и если один раз изучить его слева
Как есть
207
направо можно будет наметить его направление справа налево ничто
этому не противоречит
при условии что с помощью усилия воображения эпизод с парой
останется центральным и будет соответствующим образом исправлен
что-то там не так
все это что было снаружи когда замирает одышка ошметки во мне
десять секунд пятнадцать секунд все это тише слабее неотчетливей но
чувствую это в себе когда оно утихает дыхание разговор о дыхании
залоге жизни когда оно утихает словно последнее в лучах потом опять
начинается сто тысяча пятнадцать в минуту когда оно утихает десять
секунд пятнадцать секунд
тогда я слышу это мою здешнюю жизнь какую-то жизнь где-то
которая была бы у меня еще будет еще ошметки цепляющиеся один
за другой огромное время старую историю мою старую жизнь каждый
раз когда Пим меня покидает и до того как Бом меня находит она
здесь
слова бу-бу-бу потом во мне когда замирает одышка ошметки чуть
слышные эта старая жизнь те же слова те же ошметки миллионы раз
каждый раз первый как было до Пима и еще раньше при Пиме после
Пима до Бома как есть как будет все это слова для всего этого во мне
я слышу их я их шепчу
жизнь моя десять секунд пятнадцать секунд тогда я ее живу я ее шепчу
так лучше логичней короткие подергивания нижней части лица и в
грязи шепоток
древнего голоса недозвучавшего недослышанного недошепоток
несколько древних обрывков для Крама что слушает для Крома что
пишет или пускай будет один Крам хватит и одного Крам один и
свидетель и писарь свет его ламп освещает меня Крам при мне он
склоняется надо мной до конца своих дней а потом его сын внук и
так далее
со мной пока я путешествую со мной при Пиме со мной когда я
покинут часть третья и последняя со мной при Боме из века в век и
свет их ламп озаряет меня
озаряет блокноты в которые вписано все то немногое что удалось
вписать мои деяния движения шепот десять секунд пятнадцать секунд
часть третья и последняя нынешнее прочтение
208
Сэмюэлъ Беккет
жизнь моя голос снаружи со всех сторон бу-бу-бу слова ошметки а
потом ничего а потом другие другие слова другие ошметки все те
же недосказанные недослышанные потом ничего минует огромное
время потом в склепе внутри меня белые кости ошметки десять
секунд пятнадцать секунд недослышаны недошептаны недослышаны
недозаписаны вся моя жизнь бормотание ободранное заживо
шестикратно
одышка проходит слышу жизнь моя я ее живу я ее шепчу так лучше
логичней для Крама который может записывать а если нас бесконечно
много допустим бесконечно много Крамов или один-единственный мой
и только мой Крам здесь где царствует справедливость его хватает на
только одну жизнь всю жизнь не две жизни это и есть справедливость
Крам не из наших по этой причине он оставляет мне своего сына
производит на свет сына покидает свет Крам возвращается ввысь
доживать свои дни
или пускай не Крам но тоже когда замирает одышка какое-то ухо
где-то там наверху и к нему поднимается шепоток и если нас
бесчисленное множество совсем одинаковых это и есть справедливость
повсюду единая жизнь недосказана недослышана со всех сторон бу-
бу-бу потом внутри когда замирает одышка десять секунд пятнадцать
секунд в маленьком ящичке чистая белизна костей на свету ошметки
древнейших слов недослышанных недошептанных ах этот шепоток ах
эти шепотки
и несть им числа из наших уст упавшим в грязь а теперь вот возносятся
туда где ухо где дух способные все понять умеющие записать забота о
нас желание записывать любопытство чтобы понять ухо чтобы
расслышать пускай кое-как эти ошметки обрывков и старинного вздора
древнее и нетленное как мы ухо разговор об ухе там наверху в лучах
и потому нас ждут дни веселья великого в этом устройстве неустанно
внимающем неизменному антифону это слабая нам подсказка что когда-
нибудь переменится все и наступит славный конец это и есть
справедливость
или для него как для нас всякий раз все как впервые и тогда никаких
проблем
или хрупкое созданное чтобы слушать дроздов когда долгая тьма наконец
уступает дню а чуть-чуть погодя нескончаемый день сменяется тьмой
но для нас эта жизнь как было как есть как непременно будет для
всего этого она не годится повторяется и так далее и в этом случае
тоже не приходится ждать никаких сюрпризов
Как есть
209
все это между прочим между прочим недосказанным недослышанным
недозапомненным с единственным возможным концом белым по белому
след от многих и многих слов недопроизнесенных недовоспринятых
недонайденных недовоспроизведенных и при всем при том оказывается
что ухо это дар понимания это забота о нас это средство записи и не
все ли равно
не все ли равно кому тому кто ответствен за мешки возможно за мешки
и припасы опять эти слова мешок как мы видели
мешок как мы видели уже были случаи когда мешок был для нас больше
чем просто хранилище для припасов да в иные минуты пожалуй для
нас больше чем просто
вечные эти слова на вечном своем месте конец третьей и последней
нынешнее прочтение в конце перед тем как настанет тишина
беспрестанная одышка животное жадно хватающее воздух рот раззевается в
грязи а когда одышка проходит вечное продолжение десять слов
пятнадцать слов потихоньку в грязи
а позже гораздо позже когда эти бесконечные сроки пресекаются вновь
о Боже еще десять еще пятнадцать во мне еле слышный шепот дыхание
а потом из уст и в грязь поцелуй короткий краешком губ легкий поцелуй
таким вот образом клочок к клочку последние рассуждения эти мешки
эти мешки надо понять попытаться понять с нами эти бесчисленные
мешки для наших бесчисленных путешествий по этой узкой метр
полтора стезе все они там уже готовы к отправке и мы тоже готовы к
непостижимой отправке нашей процессии нет невозможно
невозможно почему мы должны раньше и ныне и вечно каждый из нас
должен в каждом путешествии ради того чтобы настичь свою жертву
перевалить через эти горы мешков а ведь наше поступательное движение
хотя как мы видели оно дается нам нелегко но все-таки почва почва
надо понять никаких непредвиденностей никакого неравенства вот она
справедливость
последние рассуждения последние цифры номер 777777 покидает номер
777776 и сам того не зная направляется к номеру 777778 сразу находит
мешок без которого ему далеко не уйти хватает его и держит путь
дальше тот самый путь по которому в свой черед за ним следом
пойдет номер 777776 и затем 777775 и так далее вплоть до
невообразимого номера 1 и каждый в самом начале пути найдет мешок
необходимый для путешествий и расстанется с ним только незадолго
до прибытия как мы уже видели
210
Сэмюэль Беккет
отсюда следует что если все мешки так же как мы готовы с самого
начала такова гипотеза то происходит загромождение стези хотя и
сосредоточенное на тесном пространстве поскольку как мы уже видели
это неизбежно коль скоро он хочет настичь свою жертву если допустим
что он хочет ее настичь
в начале стези скопилось бы столько мешков что движение вперед
невозможно оно бы захлебнулось навеки и закоснело в несправедливости
тогда слева направо или с запада на восток вплоть до ночной тьмы
грядущих времен открылось бы жестокое зрелище брошенный палач
которому никогда не стать жертвой затем небольшой промежуток затем
его краткое путешествие завершается и он распластан у подножия горы
припасов жертва которой никогда не стать палачом потом большой
промежуток потом другой покинутый и так далее до бесконечности
потому что если каждый участок стези каждый отрезок стези вот так
перекрыт в том числе и между двумя следующими одна за другой
парами и между двумя следующими один за другим покинутыми смотря
как на нее взглянуть на стезю разговор о стезе ее участках ее отрезках
то более чем очевидно что до всяких разлук и во время путешествий
движение без конца застревает и более чем очевидно что точно так
же закупорен каждый участок каждый отрезок а тем самым и наша
справедливость
таким образом потребности в миллиардный раз третья часть и последняя
нынешнее прочтение под конец перед тишиной в беспрестанной одышке
если мы хоть как-то чтобы спариваться путешествовать и разлучаться
надо чтобы кто-то не из наших чтобы какой-нибудь разум что ли любовь
вдоль всей нашей стези в нужных местах по мере наших потребностей
оставлял нам мешки
каждые десять метров пятнадцать метров к востоку от пар от покинутых
смотря по тому перед разлукой или во время путешествия разбросаны
нужные эти места
и кому учитывая численность нашу следует приписать эту
исключительную власть или может у него под началом не счесть помощников и
кому упростим вопрос в эти десять секунд пятнадцать секунд приписать
ухо к которому если сбросить со счетов Крама взывает наш шепоток
под страхом остаться цветком в пустыне
и этот минимум благоразумия без которого оно было бы таким же ухом
как наши и эту странную заботу о нас которой не найдешь среди нас
и желание и возможности записать которых у нас нет
Как есть
211
совместительство должностей с которым легко согласиться если учтешь
что выслушивание одного-единственного из наших шепотков и его
запись это выслушивание и запись их всех
а свет вдруг направленный на мешки в какой момент новые мешки в
какой-то момент жизни вдвоем потому что как мы уже видели как мы
видим покинутый палач шепчет когда жертва путешествует а то еще
колокол и процессия что тоже возможно скудный свет
и кому иногда следует вменить в вину этот голос это общее наше бу-бу-бу
которое вот как только пройдет одышка десять секунд пятнадцать секунд
последние ошметки совсем чтобы сохраниться в каком состоянии
итак вот он не из наших и вот мы наконец и он слушает сам себя57
навостряя ухо навстречу нашему шепотку только и делает что навостряет
навстречу оригинальной истории недовнушенной недосказанной и
каждый раз такой древней такой забытой что может ему показаться
одинаковой с той которую мы шепчем ему в грязи
а эта жизнь в темноте в грязи ее радости и печали путешествия близость
разрывы такая что один-единственный голос пресекающийся без конца
то одна половина из нас то другая мы ее выдыхаем когда замирает
одышка та в общем-то которую он изложил
и которую неустанно каждые двадцать или сорок лет по сообщению
кое-каких его цифр он напоминает нашим покинутым в общих чертах
и этот анонимный голос говорящий себе наше общее бу-бу-бу сперва
снаружи со всех сторон потом внутри нас обрывками когда замирает
одышка едва различимый искаженный конечно вот он наконец до
нового сообщения голос того кто прежде чем слушать как мы шепчем
что мы такое учит нас как может
тот кому мы обязаны между прочим тем что никогда не терпим нужды
в съестном и благодаря этому можем продвигаться вперед без отдыха
и перерыва
тот который право слово продолжаю цитировать должен подчас
спрашивать себя сумеет ли он хоть когда-нибудь положить предел этим
вечным поставкам сообщениям выслушиваниям и изложениям сохраняя
нас в определенном состоянии бесконечной и безупречной
справедливости или по крайней мере пытается
а если в конце концов ему не было бы никакого интереса рассказать
это по-иному например сообщив нам раз и навсегда что это разнооб-
212
Сэмюэль Беккет
разие не для нас при котором из одиноких путешественников мы
становимся палачами наших непосредственных ближних и из покинутых
их жертвами
ни что весь этот черный воздух который циркулирует сквозь наши ряды
и прячет как в келью наши пары и наши одиночества то в путешествия
то в разлуки
но что на самом деле мы все начиная с немыслимого самого первого
прилеплены одни к другим в мозаике плоти не ведающей зазоров
потому что мы уже видели в части второй как было с Пимом сближение
вплоть до прикосновения рта и уха влечет за собой легкое
взаимоналожение тел в области плеч
и что так непосредственно связанные одни с другими каждый из нас
в то же время Бом и Пим палач жертва наставник двоечник истец
безмолвный ответчик и театр одной речи обретенной в грязи в темноте
ничего тут не поправить
итак вот последние цифры номер 777777 это опять он в тот момент
когда он вонзает открывалку в задницу номеру 777778 и в ответ получает
слабый крик который как мы уже видели он обрывает ударом по черепу
который в тот же момент и таким же способом будучи стимулирован
номером 777776 тоже испускает жалобу у которой та же судьба
что-то тут не так
и в тот момент когда он поет пока его царапает номер 777776
подмышкой он применяет к номеру 777778 те же методы с тем же успехом
и так далее все то же самое вдоль по цепочке в обоих направлениях
со всеми остальными нашими радостями и печалями все что от одного
к другому непостижимый конец этой необъятной трясины мы
претерпеваем и выносим одни от других
изложение надо еще уточнить разумеется в свете наших возможностей
и пределов но кто будет вечно обладать преимущественным правом
отменяя любое путешествие любую разлуку отменять тем самым каждый
случай мешков и голоса бу-бу-бу внутри нас когда замирает одышка
и процессию которая казалось затянется до бесконечности и нашу
справедливость преимущественное право ее остановить причем не
ущемляя никого из нас потому что если хотеть ее остановить не закрыв
предварительно наших рядов то одно из двух
Как есть
213
или ее остановить в период пар и в этом случае половина из нас навечно
палачи навечно жертвы другой вариант
остановить ее в период путешествий и в этом случае одиночество для
всех наверняка обеспечено но никакой справедливости поскольку
путешественник которому жизнь обещала жертву никогда ее не получит
и точно также никогда не получит палача покинутый которому жизнь
его обещала
и другие беззакония игнорировать их задыхаться сильнее достаточно
одной-единственной последние ошметки совсем последние когда
замирает одышка попытаться уловить последние шепотки совсем
последние
таким образом сперва чтобы закончить с этим существом не нашей
породы
его мечта положить конец нашим путешествиям разлукам потребностям
в припасах и шепоткам
изнурительным повинностям всякого рода которые для него из этого
проистекают
но при этом чтобы не пришлось погружаться сразу всем вплоть до
невообразимого последнего в эту черную грязь поверхность которой
больше ничто уже не пачкает
в справедливости и защите основных наших занятий
это новое изложение так сказать эта новая жизнь чтобы с этим
покончить
внезапный вопрос если несмотря на это нагромождение всех наших тел
мы никого еще не обвиняем медленное перемещение с запада на восток
предпринимаются попытки
разумеется принимая во внимание что если в качестве палачей мы
заинтересованы в том чтобы оставаться в покое то в качестве жертв в
наших интересах уйти
и что из этих двух стремлений борющихся в каждом сердце будет
нормально если верх одержит второе хотя бы с небольшим перевесом
потому что как мы уже видели во времена путешествий и разлук и это
даже поразительно когда об этом подумаешь путешествовали одни
жертвы
214
Сэмюэль Беккет
их палачи словно пораженные изумлением вместо того чтобы бросаться
вдогонку за ними правая нога правая рука тяни толкай десять метров
пятнадцать метров оставались там где их покидали возможно это была
расплата за их старания но также и результат нашей справедливости
хотя этой последней несколько уменьшившейся из-за общей суматохи
становится не видно
подразумевая для всех и каждого одну и ту же обязанность а именно
убегать без страха преследовать без надежды
а если в этот поздний час еще можно вообразить себе существование
других миров
таких же справедливых как наш но не так изумительно организованных
один может быть найдется один может быть довольно милосердный
чтобы вместить в себя такие утехи где никто никогда никого не покидает
и никто никого никогда не ждет и никогда два тела не касаются друг
друга58
и если может показаться странным что без припасов которые могли бы
нас поддержать мы можем вот так влачиться отданные на милость
нашим страданиям тесно объединенные с запада к востоку навстречу
несуществующему миру и покою то нам полагалось бы принять во
внимание
что для таких как мы и все равно как нам об этом рассказывают больше
пользы в крике или даже во вздохе вырванном у того чье единственное
богатство это молчание или в словах исторгнутых у того кто наконец
смог от них отвыкнуть чем в том что нам дадут сардины
и уж чтобы с этим со всем покончить наконец самые распоследние
ошметки когда замирает одышка чтобы покончить с этим голосом и
так сказать с этой жизнью
этим не нашей породы безумным любителем повторений с ним тоже
мы устали уже от него так чтобы с ним тоже покончить
нет ли у нас под рукой продолжаю цитировать решения гораздо проще
и более радикального
формулировки которая в одно и то же время полностью бы его устранила
и открыла бы ему путь к этому покою по крайней мере возложила бы
ответственность на меня одного за этот неопределимый шепоток от
которого вот соответственно наконец последние ошметки совсем последние
Как есть
215
в привычной форме вопросов которые я сам бы себе задал и ответов
которые я дал бы сам себе как бы неправдоподобно это ни показалось
совсем последние ошметки когда замирает одышка совсем последние
шепотки как бы странно это ни показалось
не есть ли все это все это да не есть ли все это не правда ли как бы
сказать нет ответа не есть ли все это неправильно да
все эти расчеты да объяснения да вся история от начала до конца да
совершенно неправильно да
все происходило по-другому да совершенно да но как нет ответа как
это произошло нет ответа ЧТО ИМЕННО ПРОИЗОШЛО вопль ладно
что-то произошло да но ничего из всего этого нет все вздор с начала
и до конца да этот голос бу-бу-бу да вздор да голос вообще да мой
голос да когда замирает одышка да
когда замирает одышка да одышка да шепоток да в темноте да в грязи
да в грязь да
также трудно поверить да что у меня есть голос да во мне да когда
замирает одышка да не в другие моменты нет и что это я шепчу да в
темноте да в грязи да просто так да я да но в это надо верить да
а грязь да темнота да настоящие да грязь и темнота настоящие да здесь
жалеть не о чем нет
а эти истории насчет голоса да бу-бу-бу да другие миры да о ком-то
кто в мире ином да значит я что-то вроде сновидения да и он меня
видит все время во сне да все время рассказывает да свой единственный
сон да свою единственную историю да
эти истории с приготовленными мешками да привязанными к
веревочке наверно да об уже которое меня слушает да о заботе обо
мне о способности записать да все это вздор да Крим и Крам да
вздор да
а эти истории о том что там наверху да лучи да небеса да немного
синевы да немного белизны да земля которая вращается да светло и не
так светло да короткие сценки да вздор да женщины да собака да
молитвы дома да вздор да
а эта история с процессией нет ответа эта история с процессией да
никогда не было процессии нет ни путешествий нет никогда не было
Пима нет ни Бома нет никогда никого не было нет только я нет ответа
216
Сэмюэль Беккет
только я да значит это все-таки было правда да я это правда да а как
меня зовут нет ответа КАК МЕНЯ ЗОВУТ вопли ладно
но я во всяком случае да один да в грязи да это точно да грязь и
темнота это точно да здесь жалеть не о чем нет с моим мешком нет
пардон не понял нет мешка нет нет больше нет у меня даже нет мешка
нет
только я да один да с моим голосом да с моим шепотком да когда
замирает одышка да все это так и есть да одышка да все сильнее и
сильнее нет ответа ВСЕ СИЛЬНЕЕ И СИЛЬНЕЕ да распластанный на
животе да в грязи да в темноте да здесь ничего не надо исправлять нет
руки крестом нет ответа РУКИ КРЕСТОМ нет ответа ДА ИЛИ НЕТ
да
никогда не полз иноходью нет никогда правой рукой правой ногой тяни
толкай десять метров пятнадцать метров нет никогда не шевелился нет
никогда не терзал других нет никогда не терзался нет ответа НИКОГДА
НЕ ТЕРЗАЛСЯ нет никогда не покидал нет никогда не был покинут
нет значит это и есть жизнь здесь нет ответа ЭТО И ЕСТЬ МОЯ
ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ вопли ладно
один в грязи да в темноте да точно да с одышкой да кто-нибудь меня
слышит нет никто меня не слышит нет иногда шепчу да когда замирает
одышка да не в другие моменты нет в грязи да в грязь да я да мой
собственный голос да не чужой нет только мой да точно да когда
замирает одышка да время от времени несколько слов да несколько
обрывков да которых никто не слышит да но все меньше и меньше нет
ответа ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ да
значит все может перемениться нет ответа кончиться нет ответа я могу
задохнуться нет ответа утонуть исчезнуть нет ответа больше не засорять
собою грязь нет ответа темноту нет ответа больше не нарушать тишину
нет ответа сдохнуть нет ответа СДОХНУТЬ вопли Я МОГУ СДОХНУТЬ
вопли Я СДОХНУ вопли ладно
ладно ладно конец третьей части и последней вот как было конец
цитаты после Пима как есть
mst^
^&&&&&15Ш&&&^&&а&ШЁШ&&-
Опустошитель
Место, где бродят тела в поисках каждое своего опустошителя.1
Просторное настолько, что поиски могут остаться напрасными. Тесное
настолько, что напрасны любые попытки побега. Оно расположено
внутри сплюснутого цилиндра периметром в пятьдесят метров, а высотой
в шестнадцать, для соразмерности. Свет. Его приглушенность. Его
желтизна. Его вездесущность, словно около восьмидесяти тысяч
квадратных сантиметров2 общей поверхности испускают каждый свой
собственный свет. Он колеблется, мигая. Время от времени замирает, как
дыхание на излете. Тогда все застывают на месте. Может быть, их
пребывание здесь подходит к концу. Спустя несколько секунд все
возобновляется. Воздействие этого света на ищущий глаз. Воздействие
на глаз, который, ничего больше не ища, пристально смотрит в землю
или поднимается к далекому потолку, где никого не может быть.
Температура. Колеблется, но в более медленном ритме, между теплом
и холодом. Переходит от одной крайней отметки к другой примерно за
четыре секунды. Иногда на миг замирает на холоде или тепле. Это
совпадает с мгновениями, когда замирает свет. Тогда все застывают на
месте. Может быть, все подходит к концу. Спустя несколько секунд все
возобновляется. Воздействие этого температурного режима на кожу. Она
становится пергаментной. Тела, задевая одно за другое, шуршат, как
сухие листья. Даже для слизистых оболочек это даром не проходит. Звук
поцелуя неописуем. У тех, кто еще пытается совокупляться, ничего не
выходит. Но они не хотят это признать. Пол и стена из чего-то вроде
жесткой резины. Если грохнуть по ним со всей силы ногой, или кулаком,
или головой, они едва отзываются. Шаги, естественно, совершенно
беззвучны. Единственные звуки, достойные этого наименования,
происходят от манипуляций с лестницами и от столкновения тел, а также
тела с самим собой, когда оно внезапно на всем ходу бьет себя в грудь.
Это что касается плоти и крови. Лестницы. Это единственные здесь
предметы. Очень разные в высоту, но все до единой простые. Самые
маленькие не ниже шести метров. Иногда складные, с опорой. Они как
попало приставлены к стенам. Стоя наверху самой высокой из них,
218
Сэмюэль Беккет
самые высокие в состоянии кончиками пальцев дотянуться до потолка.
Поэтому его состав известен, так же как состав пола и стены. Если
грохнуть по нему со всей силы перекладиной, он едва отзывается. Эти
лестницы идут нарасхват. У подножия каждой всегда маленькая очередь,
или почти всегда. Однако, чтобы пользоваться лестницами, нужна
известная смелость. У всех не хватает половины перекладин, причем не
по порядку, а как попало. Если бы не хватало каждой второй, это бы
еще не беда. Но когда отсутствуют три ступеньки подряд, приходится
заниматься акробатикой. Тем не менее эти лестницы идут нарасхват, и
нет ни малейшей опасности, что их низведут до уровня простых стоек,
соединенных сверху и у основания. Потому что потребность карабкаться
наблюдается у слишком многих. Избавиться от нее —- облегчение,
которое мало кому дается. Выломанные ступеньки находятся в руках у
горстки привилегированных. Они ими пользуются исключительно для
нападения и защиты. Отдельные попытки проломить ими собственный
череп приводят в лучшем случае к кратковременным потерям сознания.
Назначение лестниц — поднимать искателей к нишам. Те, кто больше
туда не стремится, пользуются ими, просто чтобы подняться над землей.
Забираться на лестницы по двое не принято. Беглец, которому
посчастливилось найти свободную, может взобраться на нее и переждать, когда
утихнет ярость. Ниши, или впадины.3 Это углубления, выдолбленные в
той же самой стене на уровне воображаемого пояса, который тянется
на полдороге от пола к потолку. Так что они имеют отношение только
к верхней половине. Более или менее широкий вход быстро приводит
в камеры, которые бывают более просторными и менее просторными,
однако в них всегда достаточно места для того, чтобы тело, сгибаясь и
разгибаясь обычным образом, могло туда проникнуть и с грехом пополам
улечься внутри. Они располагаются в нестрогом шахматном порядке, с
точно отмеренными погрешностями, каждая сторона равна в среднем
семи метрам. Гармоничность расположения может оценить только тот,
кто долго посещал все эти ниши и изучил их так основательно, что у
него в голове сложилось идеальное представление об их устройстве.
Вряд ли есть такой. Потому что у каждого верхолаза есть любимые
ниши, а лазить в другие он по мере возможности избегает. Некоторые
ниши связаны между собой туннелями, пробитыми в толще стен, такие
туннели достигают порой пятидесяти метров. Но у большинства выход
там же, где вход. Словно в какой-то момент начало сказываться уныние.
Именно под этим углом зрения можно рассматривать существование
длинного заброшенного туннеля-тупика. Горе телу, которое туда
легкомысленно сунется, — после долгих усилий ему придется возвращаться
ползком задом наперед, иначе никак. Эта драма, по правде сказать, —
не отличительная черта именно этого туннеля как недостроенного. Стоит
только посмотреть, что происходит неотвратимо, когда в обычный
туннель с противоположных сторон одновременно заползают два тела.
Опустошитель
219
В нишах и туннелях поддерживается то же освещение и тот же
температурный режим, что во всем помещении. Вот краткое описание помещения.
Из расчета одно тело на квадратный метр получаем ровным счетом
двести тел. Близкие и дальние родственники и более или менее добрые
друзья в принципе знакомы друг с другом. Узнавание затрудняется
давкой и темнотой. Под определенным углом зрения эти тела можно
разбить на четыре вида. Во-первых, те, кто циркулирует безостановочно.
Во-вторых, те, кто иногда останавливается. В-третьих, те, которые, если
не сгонят, никогда не сходят с отвоеванного места, а когда их сгоняют,
бросаются на первый же свободный клочок и снова замирают. Это не
совсем точно. Потому что хотя у этих последних, или сидячих,
потребность карабкаться отмерла, тем не менее иногда они непонятным
образом оживают. В таком случае данная особь покидает свой пост и
отправляется на поиски свободной лестницы или пристраивается к
наименее длинной или наиболее близкой очереди. На самом деле
искателю трудно отказаться от лестницы. Парадоксальным образом
именно сидячие своей яростью нарушают спокойствие в цилиндре.
В-четвертых, те, кто не ищет, или неискатели, — они, как правило,
сидят у стены в позе, которая исторгла у Данте одну из его редких
бледных улыбок.4 Под неискателями, несмотря на пропасть, в которую
это заводит, в итоге оказывается невозможно понимать что бы то ни
было, кроме бывших искателей. Чтобы отчасти лишить это понятие
оттенка безнадежности, достаточно предположить, что потребность
искать может воскреснуть с тем же успехом, что и потребность в лестнице,
а глаза, явно и навсегда потупленные или прикрытые, обладают
странной способностью вспыхивать опять среди лиц и тел. Но несмотря на
это, неискателей все равно оказывается достаточно, чтобы за более или
менее длительный срок в этом народце уничтожились последние остатки
энергии. Изнеможение — к счастью неощутимое, по причине его
крайней постепенности и внезапных пробуждений к жизни, частично его
компенсирующих, а также рассеянности заинтересованных лиц,
оглушенных то страстями, которые еще их волнуют, то состоянием истомы,
в которое они неощутимо впадают. И будучи далеко не в силах
представить себе, что с ними будет под конец, когда каждое тело застынет
без движения, а взгляд опустеет, они дойдут до этого незаметно для
себя, да так и останутся. Даже при том же освещении и температурном
режиме нетрудно предугадать, что с ними тогда произойдет. Но
предположим, что освещение за ненадобностью отключится, а температура
упадет приблизительно до нуля. Тьма, холод, застывшая плоть. Вот в
общих чертах что касается взгляда на эти тела под определенным углом
зрения, а также самого этого понятия и его последствий, коль скоро
такое понятие у нас принято.
220
Сэмюэлъ Беккет
Площадь внутренней поверхности сплюснутого цилиндра,
периметром в пятьдесят метров и высотой, для соразмерности, в шестнадцать,
в целом равна приблизительно тысяче двумстам квадратным метрам,
восемьсот из которых приходятся на долю стены. Это не считая ниш
и туннелей. Вездесущий слабый желтый свет, постоянно одержимый
головокружительными метаниями из одной крайности в другую и
обратно. Температура, подверженная аналогичным колебаниям, но в трид-
цать-сорок раз более замедленным, под влиянием которых она быстро
падает от максимума порядка двадцати пяти градусов до минимума
порядка пяти, что дает регулярное изменение на пять градусов в секунду.
Это не вполне точно. Поскольку очевидно, что в крайних точках
амплитуды разница может сократиться только до одного градуса. Но
такая ремиссия длится от силы секунду. Очень редко — остановка обоих
колебаний, зависящих, вне всякого сомнения, от одного и того же
двигателя, и одновременное их возобновление после затишья различной
длительности, достигающего максимум секунд десяти. Соответственная
приостановка какого бы то ни было движения у движущихся тел и
возрастающее окоченение у неподвижных. Единственные предметы —
полтора десятка простых лестниц, из них несколько складных, с опорой,
приставленных к стене через неравномерные промежутки. В верхней
части стены по всей окружности — расположенные в шахматном
порядке, для соразмерности, два десятка ниш, причем некоторые из них
связаны между собой туннелями.
Постоянно проносится слух, или, вернее, имеет хождение идея о
том, что существует выход. Те, которые в это больше не верят, не
застрахованы от того, чтобы верить новым подтверждениям понятия,
согласно которому, пока оно сохраняется, все здесь умирает, но смертью
настолько постепенной и, в сущности говоря, настолько мерцающей,
что она даже ускользает от взгляда посетителя. Относительно природы
выхода и его местонахождения имеются два главных мнения, которые
разделяют, не противопоставляя, всех тех, кто остался верен этому
древнему поверью. Для одних речь может идти только о тайном ходе,
берущем начало в одном из туннелей и ведущем, как сказал поэт, в
убежища, нам данные природой. Другие грезят о замаскированном люке
в центре потолка, ведущем в трубу, в конце которой могут блистать
солнце и другие звезды.5 Курс часто меняется в ту и другую сторону,
и тот, кто в какой-то момент только и твердит о люке, запросто может
сам себя опровергать минутой позже. Однако не менее очевидно и то,
что из этих двух партий первая убывает за счет второй. Но убывает так
медленно, непоследовательно, и, разумеется, столь незначительно
отражаясь на поведении тех и других, что обнаружить это могут только
посвященные. Такое перетекание в порядке вещей. Потому что те,
Опустошитель
221
которые верят в доступность выхода, берущего начало в каком-нибудь
туннеле, даже если при этом они и не мечтают им воспользоваться,
могут соблазниться поисками. Тогда как сторонникам люка этот демон-
искуситель не страшен по той причине, что центр потолка недосягаем.
Таким образом, выход неощутимо перемещается из туннеля на потолок,
не успев оказаться никогда не существовавшим. Вот краткое описание
этого поверья, такого странного и по существу, и по причине той
преданности, которую оно внушает множеству одержимых сердец. Его
бесполезный огонек последним покинет их, если окажется, что их
ожидает тьма.
Самые высокие, стоя на верхней перекладине большой лестницы,
максимально раздвинутой и приставленной к стене, кончиками пальцев
могут коснуться краешка потолка. Тем же телам та же лестница,
установленная вертикально в центре пола, позволяя выиграть полметра, даст
возможность спокойно исследовать баснословную зону, слывущую
недоступной, которая в принципе таковой отнюдь не является. Ибо такое
использование лестницы вполне можно себе представить. Достаточно
было бы двух десятков добровольцев, решивших объединить усилия,
чтобы удержать ее в равновесии с помощью, если понадобится, других
лестниц, которые выполняли бы функцию подпорок. Братское единение.
Но это последнее, даже если забыть о вспышках ярости, так же чуждо
им, как бабочкам. И дело не в нехватке мужества или ума, а в идеале,
снедающем каждого из них. Это что касается того неприкосновенного
зенита, где, по мнению любителей мифологии, скрывается выход с
земли на небо.
Употребление лестниц регулируется соглашениями, источник
которых неизвестен, а своей определенностью и тем, что требуют от
верхолазов безусловного повиновения, они скорее напоминают законы. Есть
проступки, которые обрушивают на виновного коллективную ярость,
удивительную в существах в своей массе столь мирных и обращающих
друг на друга так мало внимания во всем, что не имеет отношения к
главному делу. Другие, напротив, почти не нарушают всеобщего
равнодушия. Это на первый взгляд весьма любопытно. Все основано на
запрете взбираться на одну лестницу более чем по одному. Пока тот,
который ею пользуется, не спустится на землю, лестница остается под
запретом для следующего. Бесполезно даже пытаться представить себе
неразбериху, которая возникла бы, если бы этого правила не было или
если бы оно не соблюдалось. Но поскольку оно создано для всеобщего
удобства, не может быть и речи о том, чтобы оно функционировало
без ограничений, или о том, чтобы оно позволяло бестактному верхолазу
222
Сэмюэль Беккет
удерживать у себя лестницу сверх разумных пределов. Потому что если
этого как-то не обуздать, тот, кому придет в голову фантазия поселиться
в нише или в туннеле, оставит за собой неиспользуемую лестницу
вообще навсегда. А если его примеру последуют другие, что неизбежно,
то в итоге сто восемьдесят пять тел верхолазов, за вычетом побежденных,
никогда больше не смогут оторваться от земли. Не говоря о том, как
нестерпимо было бы наличие оборудования, которое никак не
используется. Итак, было решено, что спустя определенный срок, который
трудно выразить в цифрах, но все умеют его определить с точностью
до секунды, лестница снова освобождается, то есть поступает на тех же
условиях в распоряжение следующего верхолаза, которого легко
распознать по его месту в голове очереди, а кто допустил злоупотребление,
тот пускай пеняет на себя. Положение этого последнего, утратившего
свою лестницу, в самом деле щекотливо, и может показаться, что
возможность для него когда-либо вернуться на землю исключается
априори. К счастью, рано или поздно ему это все-таки удается благодаря
другому установлению, согласно которому в любых обстоятельствах
спуск имеет приоритет перед подъемом. Таким образом, ему остается
только караулить у выхода из своей ниши, пока вблизи не окажется
лестница, а затем преспокойно ступить на нее в уверенности, что тот
внизу, который собирается или уже начал подниматься, уступит дорогу.
Худшее, что ему грозит, это долгое ожидание подходящей лестницы. В
самом деле, тот, чья очередь наступила, редко хочет подняться в ту
самую нишу, что и его предшественник, причины самоочевидны и могут
быть изложены в любое время. Итак, он, а за ним и очередь, вместе
со своей лестницей уходит в другое место и устанавливает ее под одной
из пяти ниш, остающихся в его распоряжении, поскольку такова
разность между числом этих последних и числом лестниц. Возвращаясь к
несчастным, не уложившимся в срок, очевидно, что шансы на быстрый
спуск будут расти, хотя далеко не вдвое, если благодаря туннелю тело
имеет в своем распоряжении две ниши, возле которых можно караулить.
Правда, даже и в этом случае тело чаще всего, а если туннель длинный,
то и всегда предпочтет сделать ставку на одну из двух ниш, опасаясь,
как бы лестница не оказалась вблизи в тот момент, когда оно будет на
пути от одной ниши к другой. Но лестницы служат не только для того,
чтобы добираться до ниш и туннелей, и те, кого это больше не
интересует, хотя бы временно, пользуются ими просто для того, чтобы
подняться над землей. Они взбираются наверх и останавливаются на
той высоте, какую выберут, и чаще всего устраиваются стоя лицом к
стене. Этой категории верхолазов тоже случается превышать
предписанные сроки. В таком случае предусмотрено, чтобы тот, к кому переходит
лестница, поднялся к виновнику и одним или несколькими ударами в
спину вернул его к действительности. Большего и не требуется, чтобы
этот последний поспешил спуститься следом за своим преемником,
Опустошитель
223
которому потом остается только вступить во владение лестницей на
обычных основаниях. Такая уступчивость нарушителя ясно показывает,
что проступок был совершен неумышленно, но в силу временного сбоя
его внутренних песочных часов, что легко понять и соответственно
простить. Вот почему эта провинность, впрочем, не столь частая, как
со стороны тех, кто поднимается к нишам и туннелям, так и со стороны
тех, которые останавливаются на лестнице, никогда не влечет за собой
вспышек гнева, приберегаемых для несчастных, которые, когда подходит
их очередь, вздумают подниматься до истечения срока и чья
поспешность, между прочим, могла бы, кажется, получить объяснение, а
следовательно, и прощение с тем же успехом, что противоположная
крайность. Это в самом деле любопытно. Но имеется основной принцип,
запрещающий подниматься больше чем по одному, и постоянное
пренебрежение этим принципом быстро превратило бы цилиндр в ад
кромешный. В то время как запоздалое возвращение на землю вредит
в конечном счете только опоздавшему. Вот краткое изложение кодекса
верхолазов.
Перемещение тоже происходит не как попало, а всегда вдоль стены
в направлении всеобщего движения по кругу. Это такое же суровое
правило, как запрет подниматься больше чем по одному, и его
нарушение не сулит ничего хорошего. И это более чем естественно. Потому
что, если во имя сокращения пути разрешить беспрепятственно носить
лестницы сквозь толпу или даже вдоль стены, но в обоих направлениях,
жизнь в цилиндре скоро станет невозможной. Поэтому для переносчиков
лестниц предусмотрена вдоль всей стены дорожка шириной около метра.
Там же размещаются те, которые ждут своей очереди на подъем и
должны избегать вторжения на арену как таковую, стараясь держаться
как можно ближе к соседям по очереди и прижиматься спиной к стене,
занимая как можно меньше места.
Любопытно отметить, что на дорожке, сидя или стоя спиной к
стене, присутствует некоторое количество сидячих. Хотя для лестниц
они практически мертвы и создают помехи как для переноски лестниц,
так и для ожидания, тем не менее их терпят. Дело в том, что эти
своеобразные полумудрецы, среди которых, кстати, представлены все
возрасты, внушают тем, кто еще суетится, если не поклонение, то во
всяком случае некоторое почтение. Те дорожат этим как почестями,
которые им полагаются по праву, и болезненно чувствительны к
малейшему недостатку уважения. Сидячий искатель, на которого
наступили, вместо того чтобы через него перешагнуть, может взорваться и
перебудоражить весь цилиндр. Равным образом прижимаются к стене
224
Сэмюэлъ Беккет
и четыре пятых побежденных, как сидя, так и стоя. На этих можно
наступить, и они не среагируют.
Наконец, следует отметить, как стараются искатели на арене не
вторгаться в пространство, отведенное верхолазам. Если, устав от
бесплодных поисков в толпе, они поворачиваются к дорожке, то медленно
продвигаются по воображаемой кромке, так и пожирая глазами тех, кто
там находится. Их медленный хоровод в направлении, противоположном
переносчикам лестниц, создает вторую дорожку, еще более узкую, и в
свою очередь большинство искателей ее придерживается. При
надлежащем освещении, если смотреть сверху, это похоже на два тонких
кольца, вращающихся в противоположных направлениях вокруг кише-
ния в центре.
Из расчета одно тело на квадратный метр получаем ровным счетом
двести тел. Тела обоего пола и всех возрастов от старости до малолетства.
Грудные младенцы, которые, когда им больше не нужно сосать грудь,
ищут глазами, сидя на коленях у старших или на земле, на корточках,
в позах, необычных для столь нежного возраста. Другие, немного
постарше, передвигаются на четвереньках и ищут под ногами у других тел.
Живописная деталь: женщина с седыми волосами, похоже, еще молодая,
в забытье притулилась к стене, глаза закрыты, руки машинально
прижимают к груди малыша, а тот выгибается и норовит повернуть головку
и посмотреть, что там у него за спиной. Но таких, совсем маленьких,
очень мало. Никто не смотрит просто так, туда, где никого не может
быть. Потупленные или прикрытые глаза означают забытье и
принадлежат только побежденным. Эти последние, которых с большой
точностью можно было бы пересчитать по пальцам одной руки, не
обязательно хранят неподвижность. Они могут блуждать в толпе и никого
не видеть. Физически они ничем не отличаются от тел, которые еще
упорствуют. Эти последние их узнают и пропускают. Они могут ждать
у подножия лестниц, а когда подходит их очередь, забираться в ниши
или просто подниматься над землей. Они могут ползать на ощупь по
туннелям в поисках неизвестно чего. Но обычно они скованы забытьём,
пригвождающим их к одному и тому же месту в одной и той же позе.
Чаще всего именно поза, для которой характерна крайняя сутулость как
у тех, кто сидит, так и у тех, кто стоит, позволяет отличать их от
сидячих искателей, пожирающих глазами каждое проходящее тело,
пускай при этом головы их не совершают ни малейшего движения. Эти
же сидят или стоят, прижавшись к стене, кроме одного, которого
оцепенение застигло прямо на арене, где он стоит посреди беспокойных.
Эти последние его узнают и стараются не беспокоить. Они постоянно
Опустошитель
225
подвержены резким приступам глазной лихорадки, точно так же, как
те, которые, отказавшись от лестницы, внезапно снова за нее хватаются.
Точно так же справедливо, что в цилиндре то немногое, что возможно
там, где ничто не возможно, обращается в ничто и даже в целом менее
того, коль скоро у нас принято такое понятие. Вдруг ни с того ни с
сего глаза вновь принимаются искать с таким же остервенением, как
это было в непредставимый первый день, но потом без какой бы то
ни было видимой причины вдруг опять закрываются, а голова падает
на грудь. Словно от большой кучи песка, защищенной от ветра, каждые
два года по три песчинки убавляют и по две добавляют, коль скоро у
нас принято такое понятие. Если у побежденных еще есть куда идти,
то что говорить об остальных и каким словом их назвать, кроме
красивого слова «искатели». Одни из этой далеко не самой многочисленной
категории никогда не останавливаются, разве только чтобы дождаться
лестницы или покараулить возле ниши. Другие время от времени
ненадолго застывают в неподвижности, не переставая искать глазами. Что
касается сидячих искателей, то эти больше не циркулируют, прикинув
и рассчитав, что имеют больше шансов, оставаясь на месте, которое
себе отвоевали, и если они больше почти не поднимаются в ниши и в
туннели, то это потому, что слишком часто поднимались туда напрасно
или потому, что у них произошли там слишком неудачные встречи.
Возникает вполне разумное искушение видеть в этих последних будущих
побежденных и настойчиво требовать и ждать от тех, которые
циркулируют без передышки, чтобы рано или поздно все они кончили тем
же, чем кончают те, которые иногда останавливаются, а от этих
последних равным образом — чтобы они кончили на положении сидячих,
а от сидячих — чтобы они превратились в побежденных, а от двухсот
побежденных, полученных таким образом, — чтобы каждый из них без
исключения рано или поздно в свою очередь окончательно превратился
из побежденного в настоящего оцепеневшего, застывшего на своем месте
и в своей позе. Но если присвоить этим категориям порядковые номера,
то опыт показывает, что из первой категории возможно перейти в
третью, пропустив вторую, и из первой — в четвертую, пропустив
вторую, или третью, или обе из них, а из второй — в четвертую,
пропустив третью. И наоборот: изредка, причем каждый раз на все более
недолгий срок, не до конца побежденные возвращаются в состояние
сидячих, наименее надежные из которых, всегда одни и те же, в свою
очередь могут опять поддаться лестничному соблазну, пускай даже
по-прежнему не подавая признаков жизни на арене. Но больше никогда
не будут неустанно циркулировать те, которые совершают периодические
остановки, не переставая одновременно искать глазами. Следовательно,
в час начала, непредставимого, как и конец, все, вплоть до грудных
младенцев, которые, правда, передвигались на руках у взрослых,
блуждали без остановки и передышки, за исключением, естественно, тех,
8 С Беккет
226
Сэмюэль Беккет
которые уже ждали у подножия лестниц, или караулили, вжавшись в
ниши, или застывали в туннелях, чтобы лучше слышать, и блуждали
таким образом очень долгое время, которое невозможно выразить в
точных цифрах, и только потом первый из них замер в неподвижности,
за ним второй и так далее. Но что касается положения вещей на данный
момент, если зафиксировать количество тех не сдавшихся, которые
неустанно ходят взад и вперед, никогда не давая себе ни малейшей
передышки, и тех, которые время от времени делают остановки, и
сидячих, и так называемых побежденных, то можно ограничиться
утверждением, что на текущий момент, с точностью до одного тела,
несмотря на давку и темноту, первые в два раза более многочисленны,
чем вторые, которые втрое более многочисленны, чем третьи, которые
вчетверо более многочисленны, чем четвертые, то есть на всех про всех
пятеро побежденных. Широко представлены родственники и друзья, не
говоря о просто знакомых. Давка и темнота затрудняют идентификацию.
Приведем в пример только самые близкие родственные отношения —
муж и жена не узнают друг друга на расстоянии в два шага. Пускай
они даже подойдут друг к другу еще немного ближе, настолько, чтобы
быть в состоянии коснуться друг друга, и, не останавливаясь,
обменяются взглядом. Если они и припомнят друг друга, со стороны это не
заметно. Что бы они ни искали, это явно что-то другое.
Что первым делом поражает в этой полутьме, это исходящее от нее
ощущение желтизны, чтоб не сказать сернистости, учитывая
возникающие ассоциации. Затем то, что она постоянно и равномерно вибрирует
с такой частотой, которая, будучи высокой, никогда не превосходит
уровня, делающего пульсацию незаметной. И наконец, более чем изредка
и на очень короткое время пульсация прекращается. Эти редкие и
короткие перерывы оказывают невыразимо трагическое воздействие, и
это еще очень мягко сказано. Беспокойные от них застывают, словно
их пригвоздили к месту, в позах, зачастую диковинных, а что до
побежденных и сидячих, то их обычная неподвижность выглядит просто
смехотворной по сравнению с этим удесятеренным оцепенением. Уже
занесенные под воздействием ярости или отчаяния кулаки застывают в
какой-то точке кривой и не довершают удара или серии ударов, пока
не пройдет тревога. То же самое и с теми, которые были застигнуты,
когда карабкались или несли лестницу, или занимались любовью, что,
конечно, неисполнимо, или забились в ниши, или ползли по туннелям,
каждый по-своему, но не будем вдаваться в ненужные подробности.
Однако секунд через десять дрожание возобновляется и в тот же момент
все вновь приходит в порядок. Те, которые блуждали, вновь начинают
блуждать, неподвижные расслабляются. Парочки вновь замыкают
объятия, а кулаки приходят в движение. Шум, который затих было, словно
Опустошитель
227
повернули рубильник, теперь вновь заполняет цилиндр. Из всех
составляющих этого шума ухо в конце концов начинает различать слабое
стрекотание, которое исходит от самого света, оно одно остается
неизменным. Разница между крайними значениями силы света при вибрации
не превосходит двух-трех свечей. Вследствие чего к ощущению желтого
добавляется более слабый оттенок красного. Короче, освещение, которое
не только затемняет, но вдобавок еще и размывает. Ничто не мешает
утверждать, что глаз в конце концов привыкает к этим условиям и
приспосабливается к ним, хотя на деле скорее происходит обратное,
что проявляется в форме медленной деградации зрения,6 постепенно
разрушающегося из-за этого туманного и колеблющегося красного
отблеска и непрестанного усилия, никогда не достигающего цели, не
говоря о чувстве отчаяния, сказывающемся на органе зрения. И если
бы удалось в течение достаточно длительного времени тщательно
наблюдать за определенной парой глаз, лучше всего синих, поскольку они
более подвержены пагубным воздействиям, обнаружилось бы, что они
все сильнее вылезают из орбит и наливаются кровью, а зрачки неуклонно
расширяются, пока окончательно не вытеснят радужную оболочку. Все
это, разумеется, происходит так медленно и неощутимо, что сами
заинтересованные лица ничего не замечают, коль скоро у нас принято
такое понятие. И мыслящему существу, хладнокровно рассмотревшему
все данные и факты, в самом деле нелегко в итоге своего анализа не
счесть ошибкой то, что вместо термина «побежденные», который в самом
деле имеет неприятный патетический оттенок, речь не ведется просто
о слепых. Наконец, отрешаясь от первых неожиданностей, в этом
освещении еще то необычно, что, хотя отнюдь не удается обнаружить
один или несколько источников света, видимых или скрытых, создается
впечатление, что свет этот исходит со всех сторон сразу,7 а его источник
располагается всюду одновременно, будто светится все место в целом,
включая частички циркулирующего в нем воздуха. До того доходит, что
даже лестницы — и те, кажется, скорее излучают свет, чем поглощают
его, так что чуть ли не само слово «свет» начинает выглядеть
неуместным. Тени соответственно возможны только, если их создают
неосвещенные тела, нарочно или вынужденно прижимаясь одно к другому,
например, когда на какую-нибудь грудь, чтобы загородить ее от света,
или на какой-нибудь половой орган кладут непрозрачную руку, ладонь
которой тоже сразу же исчезает из виду. Между тем у верхолаза, который
находится один на лестнице или забрался в недра туннеля, вся кожа
без изъятия мерцает тем же красно-желтым свечением, вплоть до
известных складок и углублений, в той мере, в какой в них попадает
воздух. Что касается температуры, она колеблется в намного более
широком диапазоне и с гораздо менее высокой скоростью, поскольку
она не меньше чем за четыре секунды переходит от минимума, равного
пяти градусам, к максимуму в двадцать пять градусов, то есть меняется
228
Сэмюэлъ Беккет
в среднем всего лишь на пять градусов в секунду. Значит ли это, что
каждую новую секунду происходит подъем или падение температуры
ровно на пять градусов, не больше и не меньше? Не совсем так. Потому
что ясно, что в два определенных момента, а именно, в верхней и в
нижней точке диапазона, а именно начиная от двадцати одного градуса
в нисходящем направлении и от четырех градусов в обратном, этот
интервал пройден не будет. Итак, только в течение от силы семи секунд
из тех восьми, за которые осуществляется полный цикл, тела
подвергаются максимальному режиму смены нагревания и охлаждения, что
дает, однако, в этой области, если прибегнуть к сложению, или, еще
лучше, к делению, итоговое число от двенадцати до тринадцати лет
частичной задержки в столетие. Поначалу есть нечто настораживающее
в относительной медлительности этого челночного движения, если
сравнивать его с вибрацией света. Но анализ быстро рассеет эту
настороженность. Потому что, если хорошенько подумать, разница учитывается
не между скоростями, а между разницей в их изменении. Если бы
разницу в изменении температуры можно было приравнять к разнице
в несколько свечей, имея в виду силу света, тогда оба воздействия,
mutatis mutandis, оказались бы равносильными. Но цилиндру бы это не
помогло. Так что все к лучшему. Тем более что оба бедствия роднит
то, что если внезапно прервется одно, то и второе, повинуясь незримому
волшебству, прервется тоже, словно оба связаны с существующим где-то
одним и тем же единственным коммутатором. Потому что только внутри
цилиндра все очевидно, а снаружи сплошная тайна. Таким образом,
тела испытывают то жару, то прохладу, то среднюю температуру, и
каждый из этих режимов может продлиться вплоть до десяти секунд,
но это не может считаться передышкой, поскольку в других отношениях
напряжение не спадает.
Дно цилиндра можно разбить на три различные зоны, имеющие
точные мысленные, или воображаемые, то есть неуловимые физическим
зрением, границы. Прежде всего, внешний пояс шириной
приблизительно в метр, отведенный верхолазам, в котором, как это ни смешно,
держится также большая часть сидячих и побежденных. Затем
внутренний пояс, слегка поуже, там медленно шествуют гуськом те, кто, устав
от поисков в центре, обратился к периферии. Наконец, собственно
арена, представляющая собой поверхность ровным счетом в сто
пятьдесят квадратных метров, это излюбленные охотничьи угодья
большинства. Если присвоить этим трем зонам порядковые номера, станет ясно,
что из третьей во вторую и обратно искатель переходит свободно, тогда
как, чтобы проникнуть в первую, как, впрочем, и чтобы из нее выйти,
он должен соблюдать некоторые ограничения, налагаемые дисциплиной.
Один из тысячи примеров царящей в цилиндре гармонии между поряд-
Опустошитель
229
ком и вседозволенностью. Итак, доступ в пространство верхолазов
разрешен только, когда один из этих последних оттуда уходит и
присоединяется к искателям на арене или в виде исключения к искателям
промежуточной зоны. Покушения на это правило происходят редко, но
случается тем не менее, что какой-нибудь особо нервный искатель
больше не в силах устоять перед призывом ниш и туннелей и пытается
затесаться среди верхолазов, не дождавшись, пока кто-либо из этих
последних своим уходом узаконит для него эту попытку. В таком случае
ему неотвратимо даст отпор ближайшая к месту вторжения очередь, и
тем дело кончится. Итак, в обязанности искателя на арене, желающего
примкнуть к верхолазам, входит дождаться удобного случая среди
промежуточных, или искателей-караульщиков, или просто караульщиков.
Это что касается доступа к лестницам. В другую сторону переход тоже
не является неограниченным, и, оказавшись среди верхолазов,
караульщик некоторое время там находится, пускай как минимум на тот в
разных случаях очень разный срок, который нужен каждому, чтобы
перейти из хвоста своей очереди в ее голову. Потому что если у каждого
тела есть право карабкаться или не карабкаться, согласно своему
желанию, то есть у него и неуклонная обязанность отстоять до конца
добровольно избранную очередь. Всякая попытка покинуть ее
преждевременно решительно пресекается участниками очереди, и нарушителя
возвращают на его место в строю. Но едва он доходит до подножия
лестницы и ему остается только дождаться возвращения на землю
предшественника, чтобы завладеть лестницей самому, тут
заинтересованное лицо получает право беспрепятственно присоединиться к
искателям на арене или, в виде исключения, к караульщикам из второй
зоны. Соответственно именно первые в очереди способны освободить
столь страстно желаемое место, которое караулят искатели из второй
зоны, снедаемые жаждой перейти в первую. Объекты этого их ожидания
перестают быть таковыми только в тот момент, когда реализуют свое
право на лестницу, вступив во владение ею. Потому что нередко верхолаз
может добраться до головы очереди с твердым намерением подняться
и увидеть, как это намерение мало-помалу тает, а вместо него возникает
желание уйти, но решиться на это трудно до самого последнего момента,
когда его предшественник уже спускается и лестница фактически уже
принадлежит ему. Следует отметить также, что верхолаз, имея
возможность покинуть очередь сразу по достижении ее головы, не обязан при
этом покидать зону. Чтобы остаться, он должен лишь присоединиться
к любой другой очереди среди четырнадцати имеющихся в его
распоряжении или даже вернуться на последнее место своей собственной.
Но редко бывает, во-первых, чтобы тело покидало свою очередь, а
во-вторых, чтобы, покинув ее, оно не покидало зону. Итак, в
обязанности верхолазов входит оставаться в зоне по меньшей мере на то время,
которое требуется для перемещения из хвоста в голову выбранной
230
Сэмюэль Беккет
очереди. Продолжительность пребывания зависит от длины этой
последней и от того, как долго лестница остается занята. Некоторые
пользователи держат ее до самого конца максимально разрешенного
срока. Другим хватает половины или любой другой доли этого времени.
Таким образом, короткая очередь не обязательно самая быстрая, и тот,
кто занял очередь десятым по счету, может оказаться первым раньше,
чем другой, занявший свою очередь пятым, считая, разумеется, что они
присоединились к своим очередям одновременно. Неудивительно в таких
условиях, что выбор очереди определяется обстоятельствами, не
имеющими ничего или почти ничего общего с ее длиной. Нельзя сказать,
чтобы все, или хотя бы большинство, выбирали себе очередь. Скорее
существует тенденция сразу вставать в ту очередь, которая ближе к
пункту проникновения, при непременном условии, что это не повлечет
за собой перемещения в запрещенном направлении. Для того, кто
вступает в эту зону, ближайшая очередь расположена справа, если стоять
вперед лицом, а если она ему не по вкусу и он желает встать в другую,
он должен идти на поиски вправо. Существует запрет проходить более
одного круга, иначе тела в этих условиях, прежде чем займут место в
хвосте какой-нибудь очереди и замрут в ожидании, пробегали бы по
арене тысячи градусов. Всякая попытка преступить этот запрет
пресекается ближайшей от точки замыкания очередью, а нарушителю
вменяется в обязанность присоединиться к этой очереди, потому что
вернуться назад он также не имеет права. То, что разрешается совершить
один полный круг по арене, достаточно наглядно свидетельствует о духе
терпимости, смягчающем дисциплину внутри цилиндра. Но как только
место в очереди, выбранной или первой попавшейся, занято, остается
все та же обязанность отстоять ее до конца, и только после этого можно
перейти к верхолазам. Таким образом, первый переход возможен в
любой момент между достижением головы очереди и возвращением на
землю предшественника. Остается уточнить в этой связи ситуацию тела,
которое, отстояв свою очередь, и пропустив первую возможность
перехода, и осуществив свое право на лестницу, возвращается на землю. В
этот момент оно опять свободно уйти без каких бы то ни было
дополнительных действий, хотя, с другой стороны, ничто его к этому
не вынуждает, и, чтобы остаться у верхолазов, ему достаточно повторно
простоять на тех же условиях очередь, которую оно только что
простояло, и получить повторную возможность уйти, как только оно окажется
на первом месте. А если по той или иной причине оно сочтет
предпочтительным сменить очередь и лестницу, оно имеет право, с целью
зафиксировать свой выбор, совершить полный круг на тех же
основаниях, что и только что пришедшее тело, и приблизительно на тех же
условиях, с той только разницей, что, поскольку оно уже раньше
отстояло до конца одну очередь, теперь на этом новом этапе оно
свободно в любой момент покинуть зону. И так далее до бесконечности.
Опустошитель
231
Откуда теоретически возможность для тех, кто уже находится среди
верхолазов, остаться там постоянно, а для тех, кто еще не там, никогда
туда не попасть. Отсутствие какого-либо установления, направленного
на предупреждение подобной несправедливости, ясно показывает, что
она не грозит воцариться на вечные времена. В самом деле. Ведь страсть
искать по природе своей понуждает искать повсюду. Тем не менее
падкому на свободное место караульщику ожидание может показаться
бесконечным. Подчас, не в силах больше терпеть и вдохновленный
долгим отсутствием, он отказывается от лестницы и уходит искать на
арену. Вот в общих чертах на какие зоны делится пол и каковы права
и обязанности тел при переходе из одной в другую. Сказанное не
исчерпывает всего и никогда не исчерпает. Каким принципам
очередности должны следовать караульщики, желающие воспользоваться
первым же освободившимся местом у верхолазов, учитывая, что их очередь
занять позицию готовности не может быть установлена ни в порядке
очереди, поскольку саму очередь среди них установить невозможно, ни
другим способом? Не следует ли опасаться перенасыщения
промежуточной зоны, и каковы будут последствия этого для совокупности тел
и особо для тех, что находятся на арене, отрезанные таким образом от
лестниц? За более или менее длительный срок не придет ли цилиндр
в беспорядок, управляемый исключительно законом ярости и насилия?
Ответы на эти и многие другие вопросы еще понятны и дать их нетрудно,
но надо ли. Поскольку лишь искушение лестницей может нарушить
неподвижность сидячих, их случай не представляет собой ничего
особенного. Побежденные, по всей очевидности, в этом отношении в
расчет не идут.
Воздействие здешнего климата на душу тоже нельзя недооценивать.
Но она страдает от этого безусловно меньше, чем кожа, все защитные
механизмы которой, от пота до гусиной кожи, ежесекундно испытывают
нагрузку. Тем не менее кожа продолжает защищаться, без особого успеха
конечно, но успешнее глаза, которому даже при наилучших на свете
намерениях трудно, когда предел его возможностей будет исчерпан, не
предречь слепоту. Потому что будучи в своем роде тоже кожей, не
считая входящих в его состав жидкостей и век, он имеет только одного
противника. Это иссушение оболочки, которое во многом лишает наготу
очарования, придавая ей серый цвет, и превращает естественную
сочность плоти, прижимающейся к другой плоти, в шуршание крапивы.
Это распространяется даже на слизистые, что было бы не так страшно,
если бы не затруднения, которые вытекают из этого для любви. Но
даже с этой точки зрения зло не столь велико, поскольку эрекция в
цилиндре наблюдается редко. Хотя она все же происходит, а за ней и
проникновение, более или менее удачное, в ближайший канал. Согласно
232
Сэмюэль Беккет
закону вероятности, таким образом изредка удается совокупиться даже
супругам, хотя они и не отдают себе в этом отчета. В подобных случаях
любопытно наблюдать мучительные и безнадежные забавы, которые
длятся намного дольше, чем у наиболее искусных любовников в спальне.
Дело в том, что у каждого и каждой присутствует острое сознание того,
какой редкостный случай им выпал и как маловероятно его повторение.
Но и здесь наблюдается напряжение и смертельная неподвижность в
позах, доходящая подчас до непристойности, когда вибрации
останавливаются, и все это на протяжении всего времени, пока длится кризис.
Еще более любопытно наблюдать в этот момент, если бы они не были
так плохо видны, все эти ищущие глаза, которые застывают по ходу
дела и вперяются в пустоту или в вечную мерзость других глаз, и как
тогда одни глаза впиваются в другие взглядами, которые должны были
избегать друг друга. Нерегулярные перерывы между такими отключками,
достаточно длинные для того, чтобы для этих беспамятных все каждый
раз оказывалось словно впервые. Откуда всякий раз та же бурная
реакция, словно конец света наступил, и то же короткое удивление,
когда отшумит двойная гроза и они опять начинают искать, не испытав
ни облегчения, ни даже разочарования.
Если смотреть с земли, стена по всей окружности представляет
собой сплошную поверхность. Однако ее верхняя часть испещрена
нишами. Этот парадокс объясняется природой освещения,
вездесущность которого, не говоря о его слабости, смазывает шероховатости.
Никогда не видано, чтобы нишу искали глазами снизу. Глаза поднимают
редко. А если поднимают, то к потолку. Пол и стены не запятнаны ни
единой отметиной, которая могла бы служить опознавательным знаком.
Лестницы ставят всегда на одни и те же места, а ноги следов не
оставляют. Удары кулаками и головами по стенам тоже. Если бы были
отметины, их нельзя было бы разглядеть из-за освещения. Верхолаз,
который несет свою лестницу, чтобы поставить ее в другом месте, делает
это на глазок. Редко он ошибается больше чем на несколько
сантиметров. Ниши расположены таким образом, что максимально возможная
ошибка не превышает метра или около того. В силу его страсти
проворство его таково, что даже такой зазор не мешает ему ни попасть
в выбранную или на худой конец любую другую нишу, ни выбраться
из нее, хотя встать на лестницу, чтобы спуститься вниз, труднее. При
всем том север существует в форме побежденного, или, вернее,
побежденной, или, еще вернее, одной конкретной побежденной. Она сидит
у стены, подтянув к себе ноги. Голову она уронила в колени, руками
обвила ноги.8 Левая рука держится за правую ногу, а правая рука за
левое предплечье. Рыжие волосы, поблекшие от освещения, падают до
земли. Они прячут лицо и всю переднюю часть тела, включая промеж-
Опустошитель
233
ность. Ноги скрещены, левая впереди. Она и есть север. Именно она,
а не какой-нибудь другой побежденный, потому что она неподвижнее
всех. Кто в виде исключения нуждается в точке отсчета, может ее
использовать. Такая-то ниша для верхолаза, мало склонного к излишним
акробатическим упражнениям, может находиться в стольких-то шагах
или метрах к востоку или к западу от этой побежденной, хотя он,
естественно, даже мысленно не называет ее ни так, ни как-нибудь еще.
Само собой, лица прячут только побежденные. Однако не все.
Некоторые сидят или стоят высоко держа голову и довольствуются тем, что
больше не открывают глаз. Разумеется, запрещено прятать лицо или
любую другую часть тела от искателя, если он попросит посмотреть, а
кроме того, искатель может, не опасаясь сопротивления, отвести руки
от плоти, которую они прикрывают, и поднять веки, чтобы осмотреть
глаза. Есть искатели, которые приходят к верхолазам, не собираясь
карабкаться, а с единственным намерением с близкого расстояния
осмотреть того или иного побежденного или сидячего. Таким образом,
волосы той самой побежденной много раз приподнимали и отводили в
сторону, и приподнимали ей голову, и обнажали лицо и всю переднюю
часть тела вплоть до промежности. По окончании осмотра принято
аккуратно восстановить все в прежнем виде, насколько это удастся.
Своего рода мораль требует не делать другому того, что причинило бы
страдание, если бы исходило от него по отношению к тебе. Это
предписание строго исполняется в цилиндре в той мере, в какой от
него не страдают розыски. Эти последние обратились бы в насмешку,
не будь возможности в случае сомнения проверить некоторые детали.
Прямое вмешательство для их прояснения происходит только
применительно к личности побежденных и сидячих. В самом деле, сидя лицом
или спиной к стене, эти последние обычно видны только с одной
стороны и соответственно подвергаются переворачиванию. Но там, где
происходит движение, как то на арене или у караульщиков, и существует
возможность обойти кругом объекта, в этих манипуляциях нет никакой
необходимости. Случается, конечно, что одно тело вынуждено
обездвижить другое тело, чтобы получить возможность заняться им
определенным образом, подробно осмотреть отдельный участок, найти, например,
шрам или родимое пятно. Наконец, следует отметить
неприкосновенность в этом отношении тех, кто стоит в очереди за лестницей.
Вынужденные из-за нехватки пространства жаться друг к другу во время
длительного периода, они доступны для обзора только частично,
отдельными местами, и то вперемешку. Горе отважному, захлестываемому
страстью, который посмеет поднять руку на самого ничтожного из них.
Вся очередь набросится на него, как единое тело. Эта сцена по
жестокости превосходит все в подобном роде, что может произойти в
цилиндре.
234
Сэмюэлъ Беккет
И так далее до бесконечности, пока ближе к непредставимому
концу, коль скоро у нас принято такое понятие, вялые, с перебоями,
поиски не будет вести последний оставшийся. На первый взгляд ничто
не отличает его от других тел, застывших сидя или стоя в безвозвратном
забытьи. Прилечь, вытянуться во весь рост здесь, в цилиндре, есть нечто
неслыханное, и в этой утешительной для побежденных позе им здесь
навсегда отказано. Лишение, которое частично объясняется недостатком
места на полу, на каждое тело от силы один квадратный метр, каковое
может быть дополнено только за счет пространства внутри ниш и
туннелей. Так или иначе, зажатость этих иссохших тел, вынужденных
беспрестанно задевать друг друга и одержимых отвращением к
контактам, никогда не доходит до своего естественного предела. Но упорное
продолжение двойной вибрации наводит на мысль, что в этом старом
месте не все еще пока устроено наилучшим образом.9 И вот в самом
деле медленно выпрямляется последний, если это мужчина, и через
какое-то время вновь открывает выжженные глаза. У подножия лестниц,
беспорядочно прислоненных к стенам, не ждет больше ни один верхолаз.
В темных отблесках потолка по-прежнему хранит свою тайну зенит.
Вокруг старика-побежденного из третьей зоны лежат, прижавшись к
земле скрюченными торсами, только такие же оцепеневшие, как он сам.
Малыш, еще обнимающий седую молодую женщину, уже неотличим от
ее колен. Рыжая голова понурилась уже до последнего предела, так что
спереди виден затылок. И вот он — если это мужчина — вновь
открывает глаза и через какое-то время прокладывает себе дорогу до этой
первой побежденной, которую так часто принимали за точку отсчета.
Став на колени, он отводит в сторону тяжелую массу волос и
приподнимает голову, не оказывающую сопротивления. На изможденном лице,
таким образом, становятся видны глаза, которые без труда открываются
с помощью больших пальцев. В эти спокойные пустыни он погружает
свои10 на какое-то время, пока и первые, и последние не закрываются,
и голова, которую он отпустил, не возвращается на прежнее место. Сам
он в свою очередь спустя время, которое невозможно выразить в точных
цифрах, находит наконец свое место и опускается на него, вслед за чем
наступает темнота и в то же время температура устанавливается около
нуля. В тот же момент затихает вышеупомянутое стрекотание, что
создает внезапную тишину, которая громче всех этих слабых дуновений
вместе взятых. Вот в общих чертах последнее состояние цилиндра и
этого маленького народца искателей, первый из которых — если это
был мужчина — когда-то в непредставимом прошлом наконец впервые
понурил голову, коль скоро, конечно, у нас принято такое понятие.
Недовидено недосказано
Со своего ложа видит она как восходит Венера. Еще. Со своего
ложа в ясную погоду видит она как восходит Венера а за ней солнце.
Тогда она сердится на основные устои жизни. Еще. Вечером в ясную
погоду она торжествует реванш. Над Венерой. У другого окна. Сидя
прямо и неподвижно на старом своем стуле она сторожит лучезарную.
Старый сосновый стул с перекладинами и без подлокотников. Она
выплывает из последних лучей и все сильней и сильней сверкая клонится
к горизонту и в свой черед низвергается в бездну. Венера. Еще. Прямая
и неподвижная сидит в нарастающей тьме. Вся в черном. Это сильнее
нее — хранить осанку. Часто она застывает на месте когда встает на
ноги и куда-то бредет. И лишь долгое время спустя находит силы идти
дальше. Уже не помня ни куда ни зачем. Особенно трудно вставать с
колен. Одна рука лежит поверх другой обе на что-нибудь опираются.
Например на ножку кровати. А к ним прижимается голова. И вот она
словно окаменела перед лицом ночи. Темноту прорезает только белизна
волос и голубоватая белизна лица и рук. Для глаза которому больше
не нужен свет чтобы видеть. Но это теперь. Словно она все еще жива
бедная.
Хижина. Ее расположение. Осторожно. Пойти туда. Хижина. В
несуществующем центре бесформенного пространства.1 В конечном
счете скорее круглого. Плоского разумеется. Чтобы выйти оттуда ходу
по прямой минут пять-десять. Зависит от походки и радиуса. Она
любит... она больше не умеет бродить и никогда здесь не бродит. Здесь
масса гальки и становится все больше. Даже самая сорная трава
попадается здесь все реже. Медленно отвоевывает себе пространство
вклиниваясь в тощую известняковую почву. Никто с этим не борется.
Никогда не боролся. Словно это рок. Что происходит с хижиной в
таком месте? А что хорошего могло с ней произойти? Осторожно. Не
спешить с ответом что в далекие времена когда она возводилась люцерна
доходила до самых стен. Подразумевая к тому же что виновата она
236
Сэмюэль Беккет
сама. А от нее потому что она и есть очаг зла как бы недосказать и
распространилось зло. Хотя никто никогда не ратовал за ее разрушение.
Словно ее хранит рок. Вот так. Меловая галька под луной бросается в
глаза. Предположим что в ясную погоду луна стоит напротив. Тогда
старуха скорей едва опомнившись после захода Венеры скорей к другому
окну — смотреть как восходит другое чудо. Как набирая высоту луна
делается все белее и белее и все больше и больше выбеливает гальку.
Она долго стоит изумляясь прямая и негнущаяся лицо и руки прижаты
к стеклу.
Две зоны образуют огороженное пространство в форме
неправильного круга. Словно вычерченное дрожащей рукой. Диаметр? Осторожно.
Тысяча метров. Меньше. Приблизительно. По ту сторону лежит
неизвестность. К счастью. Часто кажется что здесь ниже уровня моря.
Особенно ночью в ясную погоду. Море невидимо хотя близко.
Неслышимо. Вся поверхность покрыта травой. Если минуешь зону
покрытую галькой. Кроме тех мест где она отходит от меловой почвы. Тысяча
белесых пятен разной величины. Под луной это выглядит упоительно.
А на самом деле это только животные овечья порода. После
стольких сомнений. Белые и неприхотливые. Откуда вдруг явились — тайна и
куда ушли. Без пастуха блуждают где вздумается. Цветы? Осторожно.
Только россыпь последних крокусов. Во времена ягнят. А человек?
Людей уже наконец не стало совсем? Ну нет. Потому что если однажды
она не увидит их больше она удивится не так ли? Не удивится
больше она удивляться не может. Сколько? Да сколько угодно. Двенадцать.2
Чтобы было чему маячить на горизонте. Она поднимает глаза от земли
к ногам и видит одного. Отворачивается и видит второго. И так далее.
Каждый раз далеко. Они неподвижны или уходят вдаль. Она никогда не
видит чтобы кто-нибудь шел по направленью к ней. Или она забывает.
Она забывает. Всегда одни и те же? Видят ли ее? Довольно.
Тут больше пришлась бы кстати песчаная равнина. Но речь не о
том что бы пришлось кстати. Нужны были ягнята. Так или иначе. На
песчаной равнине это было бы в самый раз. Ягнята бы выбелили
равнину. И по другим основаниям пока неясным. Другое основание. И
чтобы вдруг оказалось что их не стало. Во времена ягнят. Чтобы время
от времени она поднимала глаза — а их больше нет. Песчаная равнина
не исключала бы их появления. Но дело сделано. Какие еще ягнята.
Ленивые вялые. Белые пятна в траве. Поодаль от своих безучастных
матерей. Застывают на месте. Потом минутку побродят. Потом опять
застывают. И так далее. Подумать что в этом веке еще есть живые.
Спокойно.
Недовидено недосказано
237
Некое место ее влечет. Снова и снова. Там высится камень.3 Издали
белый. Он-то ее и влечет. Прямоугольный скругленный сверху в высоту
раза в три больше чем в ширину. Раза в четыре. В ее нынешний рост.
Маленький рост. Когда на нее накатывает она должна туда идти. Из
дома камень ей не виден. Она могла бы дойти до него с закрытыми
глазами. Она уже не говорит сама с собой. Она никогда сама с собой
много не говорила. Теперь и вовсе перестала. Словно она все еще жива
бедная. Но в такие минуты когда она на ногах молитва: уведите ее.
Особенно ночью в ясную погоду. При луне или без. Они уводят ее и
ставят перед камнем. Она сама словно каменная. Но черная. Иногда
под луной. Часто при звездах. Разве она ему завидует?
Воображаемый непосвященный вообразил бы что в домишке никто
не живет. Если за ним неустанно наблюдать невозможно заметить что
кто-нибудь там есть. Если впериться взглядом в одно и другое окно
видны только черные занавески. Надолго застыв под дверью он слушает.
Ничего. Стучится. Никого. Ночью напрасно дожидается малейшего
огонька. Наконец возвращается в свою страну и признается: никого.
Она показывается только своим. Но у нее их нет. Нет нет есть один.
И она у него.
Были времена когда она не показывалась на гальке. Очень долгие
времена. И никто не видал чтобы она входила и выходила. Или
показывалась но только в полях. Но не видно было чтобы она уходила
прочь. Разве что по волшебству. Но постепенно она начала появляться.
На гальке. Сперва смутно. Потом все явственнее. И наконец стало
видно в подробностях как она переступает порог в обе стороны и
затворяет за собой дверь. Потом какое-то время ее не видали внутри.
Очень долгое время. Но постепенно она начала появляться. Сперва
смутно. По правде сказать и сейчас это так. Несмотря на то что ее там
больше нет. Уже давно.
Да дома она до сих пор только у окна. У того или другого окна.
Рассеянно глядя на небо. И еле недовидны до сих пор в темноте ложе
и призрачный стул. И эта ее манера внезапно замирать в разгар кратких
хождений то туда то сюда. И без конца опускаться на колени. Но
постепенно она начинает показываться все ясней. Одновременно с
другими предметами. Как этот у нее под подушкой... Похоже на альбом
выступающий из темноты ящика. Может быть позволено будет когда-
нибудь полистать его вместе с ней. Увидать как ее старые пальцы
старательно листают страницы. А какие картинки могут там оказаться
238
Сэмюэль Беккет
над которыми ее голова клонится еще ниже и застывает надолго. Пока
еще трудно сказать может быть просто засушенные цветы.
Распластанные. Всего-то!
Но скорее настичь ее там где она поддается лучше всего. В полях
далеко от дома. Она проходит по гальке и вот она уже там. Чем ближе
тем все более четко. Скорее бы ведь она выходит из дому все реже и
реже. И между прочим только зимой. Зимой она блуждает по дому
зимой. Вдали от дома. Опустив голову медленно семенит по снегу кружа
и плутая. Вечер. Еще один. За ней неотступно бредет по снегу ее
длинная тень. Другие там. Вокруг. Все двенадцать. Вдали. Стоят
неподвижно или уходят вдаль. Она поднимает глаза и видит одного из них.
Отворачивается и видит другого. Вот она опять застывает без движения.
Сейчас или никогда. Но что-то мешает. Успеваешь только поверить
будто заметил как мелькнул краешек черной вуалетки. Лицо потом.
Только и успеваешь а потом глаза потупляются. И видишь уже только
снег под косыми лучами солнца. И как вокруг медленно истаивает след
ее шагов.
Что ее защищает? Даже от того своего. Заставляет ее потупить
взгляд в мгновенном понимании. Вменяет в вину усвоенное. Удерживает
от догадок. Беззащитна. Это жизнь кончается. Ее собственная жизнь.
Ее несобственная жизнь. Но так по-другому. Ей ничего не нужно.
Ничего о чем можно сказать. Только другое. Как можно испытывать в
чем-то нужду перед концом? Ну как? Как можно испытывать в чем-то
нужду перед концом?
Временами она исчезает. Надолго. В тот раз с крокусами это было
по дороге к далекой могиле. Хранить в воображении еще и это. Держа
за нижнюю перекладину или повесив на руку — крест или венок. Но
ее исчезновения не зависят от времени года. В любую пору она может
просто больше не оказаться на месте. Внезапно ничего больше не видно.
Ни плотским глазом ни другим.4 А потом так же внезапно опять здесь.
Много времени спустя. И так далее. Любой бы сдался. Признал: никого.
Никого больше. Любой но не другой. Другой ждет когда она объявится
вновь. Чтобы начать сначала. Сначала — что как сказать? Как недосказать?
Глаз вперенный в деталь пустыни заплывает слезами. У
сумасшедшей в доме входит в сердце печаль. Ночь наступает когда та
которой нет слышит море. Подтыкает юбку чтобы идти быстрее демон-
Недовидено недосказано
239
стрируя башмаки и чулки до икры. Слезы. Последний пример: перед
дверью плита которая сильно сильно просела от ее ничтожного веса.
Слезы.
До того как их совсем расстегнули чтобы высвободить чулки
ботинки успели оказаться плохо застегнутыми. Исчерпаны слезы как
бывает вот крючок для застегивания ботинок больше чем в натуральную
величину. Потускневший серебряный как рыба на крючке5 он висит на
гвозде. Все время слегка болтаясь взад и вперед. Словно в этом месте
беспрестанно дрожит земля. Слегка. На овальной рукоятке чеканка
слегка напоминающая чешую. Сухие глаза все время скользят по слегка
изогнутому стволу до крючка похожего на рыболовный. Его столько тянули
что он утратил крутизну изгиба. Временами кажется даже что он негоден
больше к употреблению. Неисправность легко устранить с помощью
плоскогубцев. Когда-нибудь их для этого пускали в ход? Осторожно.
Временами. Пока могли. А после уже не могли их сжать. О не от слабости. С
тех пор крючок бесполезный висит на гвозде. Все время незаметно болтаясь
взад и вперед. Иногда вечерами в ясную погоду серебристые блики. В
этот момент — крупный план. Где вопреки рассудку главное — гвоздь.
Это изображение надолго а потом внезапно оно расплывается.
Она там. Снова там. Пускай глаз там снаружи на миг отвлечется.
На рассвете или в сумерки. Отвлечется глядя на небо. На что-то что в
небе. А когда взглянет опять занавеска уже не будет задернута. Она
отодвинет занавеску чтобы смотреть на небо. Но все равно она там.
Снова там. Даже если занавеска задернута. Внезапно отдергивается.
Молния. Какая внезапность во всем! То и дело она застывает. На ходу
не уходя. В движении недвижима.6 Возвращаясь безвозвратно. Внезапно
вечер. Или рассвет. Глаз вперен в незавешенное окно. В небе его ничто
больше не отвлечет. Ничто пока его взгляд не насытится. Хлоп!
затворилось. Ничто не шелохнулось.
Все уже перепутывается. Вещи химеры. Как всегда. Перепутывается
уничтожается. Несмотря на предосторожности. Если бы только она
могла быть просто тенью. Тенью без примеси. Эта старуха такая
умирающая. Такая мертвая. В безумии черепа и больше нигде. Где уже
бесполезны любые предосторожности. Бесполезны и невозможны.
Заперта вместе со всем этим. Хижина галька и прочее. И наблюдатель.
Как все было бы просто. Если бы все было просто тенью. Ни быть ни
быть обязанной быть ни быть в состоянии быть. Спокойно.
Продолжение. Осторожно.
240
Сэмюэль Беккет
Здесь на помощь два окошка. Два круглых слуховых оконца.7 По
одному на каждый скат островерхой крыши. Каждое со своей стороны
сочит полусвет. А потолка нет. Нарочно. Если бы не задернутые
занавески она бы всегда была в темноте. Что дальше? Она уже почти не
поднимает глаз. Но лежа с открытыми глазами она еще различает кровли.
В полусвете сочащемся из окошек. Полусвет все слабее. Стекла все
мутнее. Она ходит и ходит в полной тьме. Края ее длинной черной
юбки метут по полу. Но чаще всего она неподвижна. Стоя ли сидя ли.
Лежа или на коленях. В полусвете сочащемся из окошек. Она любит
чтобы занавески были задернуты иначе она бы все время была в темноте.
Потом выплывает из тени перегородка. И тает уступая место
уходящему вдаль пространству. На востоке ложе. На западе стул. Итак это
место можно разделить только исходя из назначения каждой вещи.
Насколько во всех отношениях лучше сплошное пространство. Глаз с
облегчением успокаивается но ненадолго. Потому что перегородка
медленно восстанавливается. Медленно вырастает из пола вздымается
теряется в темноте. Полумрак. Вечер. Крючок для застегивания ботинок
поблескивает в закатных лучах. Едва виднеется ложе.
Она рассеянно — глаз устал от безжизненности — переводит взгляд
на двенадцать. Они не видны ей а она им. Но когда она поворачивает
в другую сторону ее глаза неотрывно уставлены в землю. Туда где дорога
остановилась у нее под ногами. Вечер зима. Все так смутно. Все было
так давно. Итак за неимением лучшего вдовый взгляд в сторону тех
двенадцати. Все равно какой взгляд. Он стоит вдали лицом к закату.
Темный плащ до земли. Изогнутая шляпа из прежних времен. Наконец
лицо прямо в глаза светят последние лучи. Скорей укрупнить поглотить
пока не настала ночь.
Совершенно не нуждаясь в свете для зренья торопится глаз. Пока
не стемнело. Это так. Так он сам себе противоречит. Потом утоленный...
потом утомленный он под прикрытым веком выходит на простор бреда.
Что они могут брать в кольцо если не ее? Осторожно. Она не
поднимающая больше глаз поднимает глаза и видит их. Неподвижных или
уходящих прочь. Уходящих прочь. Тех которые если смотреть на них
слишком близко удаляются на должное расстояние. Но тем временем
приближаются другие. Те которых ее блуждания от нее отдаляют.
Никогда она не видит чтобы кто-то из них сделал хоть шаг в ее сторону.
Или она забывает. Она забывает. И вот они делают этот шаг. Не
сближаясь друг с другом. Так чтобы она все время была в середине.
Недовидено недосказано
241
Примерно. Что же им брать в кольцо если не ее? В кольцо из которого
она без помех исчезает. Откуда они ее выпускают. Вместо того чтобы
исчезать вместе с ней. Так рождается бред. Покуда глаз пожирает свое
пропитание. Утомленный в собственной своей темноте. Во всеобщей
темноте.
В агонии надежда больше никогда ее не увидеть — вот и она опять.
Мало переменилась на первый взгляд. Вечер. Всегда будет вечер. Не
считая ночи. Она возникает в просвете лугов и пускается в долгий путь.
Медленно неверным шагом словно теряя равновесие. Внезапные
остановки а после внезапно опять вперед. Так ей до ночи не дойти. Но
время притормаживает время которое ей нужно. Приноравливается к
ней. Поэтому за все время пути все одни и те же сумерки. С разницей
в пару свечей. С грехом пополам она тащится на юг отбрасывая в
сторону встающей луны свою длинную черную тень. Вот они обе
наконец у двери в руке большой ключ. Тут же и ночь. Когда не будет
вечера будет ночь. Опустив голову она стоит лицом к рассвету. Волосы
белым нимбом. Только колеблется вися на пальце старый ключ
отполированный временем. Слегка пошатываясь взад и вперед она слабо
мерцает в лунном свете.
Если брать снизу лицо наконец поддается. В слабом свете
отраженном в плите. В недвижной массе мягко вогнутой отполированной
веками хождений взад и вперед. Свинцовая белизна. Ни морщинки.
Какой безмятежной кажется эта старинная маска. Наравне с масками
недавно умерших. Правда освещение оставляет желать лучшего. Закрыты
глаза так что зрачков не видать. В будущем окажется что зрачки
обведены бледной голубизной. Возможно плач был им не чужд.
Невообразимый плач былых времен. Агатово-черные ресницы знак того что
она была брюнеткой. Может быть. На заре жизни. Миниатюрная
черноволосая. Нос исчезает по знаку губ а губы едва наметившись
расплываются. Плита в которой отражается небо потемнела. Отныне ночь
черна. А на заре уже никого. И невозможно установить вернулась ли
она домой или ушла под покровом тьмы.
Белесой гальки с каждым годом все больше. Чуть не с каждой
секундой. Если так дальше пойдет постепенно галька погребет под собой
все остальное. Первая зона пожалуй уже более пространная чем на
первый взгляд недовзгляд и с каждым годом немного больше.
Потрясающее зрелище под луной — эти миллионы крошечных гробниц каждая
уникальна. Но утешения нет почти нет. Наконец уйти ради другой
242
Сэмюэль Беккет
недоназванной известняковой долины. Пастбище больное хлорозом
усеянное белесыми пятнами меловой земли с которых облезла трава. Глядя
на известняк пробившийся на поверхность глаз излечивается от боли.
Камень везде побеждает.8 Белизна. С каждым годом все больше. Чуть
не с каждым мигом. Повсюду с каждым мигом белизна побеждает.
Глаз вернется к местам своего предательства. Раз в сто лет его
отпустят из тех пределов где стынут слезы.9 Еще мгновение ему
дозволено плакать горючими слезами. Оплакивать блаженные слезы что были
когда-то. Наслаждаясь грудой белых камешков. Которая за неимением
лучшего все громоздится выше и выше. Если так пойдет дальше дорастет
до небес. Луна. Венера.
После гальки она спускается в поля. Как из одного яруса цирка в
другой. Разница которую сгладит время. Потому что покуда галька
равняет землю вздымается другая земля из которой прорезываются
другие камни. Все это пока бесшумно. Время положит конец этой
тишине. Этой великой тишине дневной и ночной. Тогда вдоль всей
кромки глухой стук камня о камень. Того которому уже не хватает места
наверху о тот который выходит из недр на поверхность. Поначалу лишь
изредка. Потом все чаще и чаще. И наконец все смешается в
непрерывном стуке. Которого никто не слышит. А потом все они опять замрут
на одном уровне и тишина вернется. Дневная и ночная. А пока вот
она внезапно садится ноги на земле. Если бы не с пустыми руками кто
знает возможно и к могиле. Вернее уже оттуда. Словно выходец из
могилы. Застыв неподвижно верна себе словно обратилась в камень.
Лицом к иным пределам и напрасно жмурится глаз чтобы их недовидеть.
Наконец они на миг возникают. На севере — там где она всегда их
пересекает. Дремлющий лучистый туман. Растаять в нем как в раю.
Длинные седые волосы вздымаются веером. Над головой и во все
стороны а лицо спокойно. Словно никогда не кончался тот древний
ужас. Или оно навеки осталось в его плену. Или под властью все нового.
Который леденит лицо. Воющий глаз тишины. Что сказать? Недосказать.
Что? И то и другое. И третье. Вот ответ.
Сидящую на гальке ее видно со спины. Если смотреть из низины.
Черный прямоугольный обломок. Затылок под черным кружевным
воротничком. Белый ущербный нимб волос. Лицом к северу. К могиле.
Может быть она пристально смотрит на горизонт. Или закрыв глаза
Недовидено недосказано
243
видит камень. Поблекшие крокусы. Вечер еще не кончен. На нее
ложатся косые лучи. Они ничего не меняют. Ни в черноте материи ни
в белизне волос. Они тоже неподвижны. В неподвижном воздухе. Покой
пустота вечер как все вечера. Вечер и ночь. Достаточно пристально
посмотреть на траву. Как она клонится неподвижно. Пока наконец не
задрожит под упорным взглядом. Мельчайшей дрожью идущей из самой
ее глубины. И волосы тоже. Встали дыбом замерли и дрожат под
взглядом который готов к неудачам. И само это старое тело. Словно
из камня. Разве оно не дрожит с головы до ног? Пускай она пойдет и
замрет в неподвижности возле того другого камня. Того белого что
высится далеко в полях. И пускай глаз перебегает с нее на него. Взад
и вперед. Какой покой тогда. И какая буря. Под мнимым спокойствием
траура.
Скорее так чем в виде химеры. Переносимее. Она и все прочее.
Только закрыть глаз раз навсегда и увидеть ее. Ее и все остальное. Все
же закрыть глаз и увидеть ее смертельно. Без затмений. В хижине. На
гальке. В полях. В тумане. Перед могилой. И возвращение. И остальное.
Раз и навеки. Все. Смертельно. Освободиться от этого. Пойти дальше.
К следующей химере. Закрыть все-таки этот грязный плотский глаз.
Что мешает? Осторожно.
С помощью... крах с помощью краха вмешивается безумие. С
помощью обломков. Не все ли равно как видены не все ли равно как
сказаны. Страх черноты. Белизны. Пустоты. Пускай он исчезнет. И все
остальное. Всерьез. И солнце. Последние лучи. И луна. И Венера. Только
черное небо. Только белая земля. Или наоборот. Больше ни неба ни
земли. Конец всему вверху и внизу. Ничего кроме черного и белого.
Все равно где везде. Только чернота. Пустота. Ничего другого. Смотреть
на это. Ни слова больше. Вот и все. Спокойно.
Паника прошла — дальше. Руки. Взгляд вниз. Покоятся сложенные
на животе. Вопиюще белые. Их легкость свинцовость смазанность на
черном фоне. Капелька кружев на запястьях. Напоминание о
воротничке. Сжимаются. Разжимаются. Систола диастола потихоньку. И это
облезлое тело. Пока видны только руки. Только на животе.
Неподвижном конечно. На стуле. После увиденного. Потихоньку
расколдовываются. Долго длится все та же уловка. Сжимаются и разжимаются. В
ритме сердца которому больно. Какое отчаяние когда внезапно они
разъединяются. Внезапно медленно. Расходятся по сторонам взлетая
вверх и замирают падая навзничь. Вот наши ладони. Потом спустя
244
Сэмюэль Беккет
мгновение словно пряча свои линии падают перевернувшись и ложатся
плашмя на колени. Два пальца растопырены. Левого безымянного не
хватает. Опухоль конечно — конечно опухоль сустава на пальце и в
один отчаянный день оказывается невозможно снять обручальное
кольцо. Гладкое кольцо без камня. Замершие в неподвижности как два
булыжника они словно бросают вызов взгляду. Чувствуют ли они плоть
под материей? Плоть под материей — чувствует ли она их? Неужели
они никогда не задрожат? Этой ночью наверняка нет. Ведь прежде чем
они успеют — прежде чем глаз успеет изображение подергивается
влагой. Кто виноват что виновато? Они? Глаз? Недостающий палец?
Кольцо? Крик? Какой крик? Пять. Шесть. Все. Всё. Виновато всё. Всё.
Зимний вечер в полях. Снег перестал. Шаги так легки что почти
не оставляют следов. Почти не оставили следов и замерли. Следы
остались но совсем мало. Вниз по снегу. Как она разберется в какую
сторону ей дальше? И в ту и в другую? Или все прямо навстречу
миражу? Где во время остановок? Глаз наконец различает вдали какое-то
пятнышко. Это в итоге крутая островерхая крыша из-за которой
пробиваются первые лучи заката. Под темным низким небом север исчез.
Двенадцать там заметенные снегом. Подними она глаза она бы их не
увидела. Она наоборот незапятнанно черна ни одна снежинка на нее
не упала. Пожалуй скоро начнут падать уже падают. Сперва по одной
то тут то там. Потом все гуще отвесно сквозь неподвижный воздух. Она
медленно исчезает. Исчезают ее следы и след далекой крыши. Как она
теперь сможет вернуться? Как перелетная птица. В родную якобы гавань.
В хижине пока она белеет вдали царит полная тьма. Тишина когда
бы не воображаемый шорох снежных хлопьев падающих на крышу. А
изредка издали настоящий хруст. Ее спутник. Здесь глаз не закрываясь
издали видит ее. Неподвижную в снегу под снегом.10 Крючок для
застегивания ботинок как ни в чем ни бывало подрагивает на гвозде.
У черной занавески дышит одиночеством стул. Не имея потомства
например стола. Далеко от него в углу ларь такой же старый. Вот и он
не менее одинок. Он знает что это за хруст. И в глубине своей знает
чистое слово наконец. Слово «конец». Но нынче ночью стул. Кажется
он стоял на этом месте всегда. Даже меньше — даже больше чем пустое
сиденье приводит в отчаяние его решетчатая спинка. Сидя здесь она
подкрепляется если подкрепляется здесь. Закрывается глаз во тьме и в
конце концов начинает видеть ее. Правой рукой словно она здесь держит
за краешек миску поставив ее на колени. Левой ложку ныряющую в
похлебку. Она ждет. Может быть чтобы остыло. Или нет. Просто опять
застыла перед тем как начать. Наконец двойным движеньем исполнен-
Недовидено недосказано
245
ным грации медленно подносит миску к губам и одновременно с той
же замедленностью склоняет к ней голову. Начав движение в один и
тот же миг они встречаются на полпути и замирают. Новое оледенение
перед первым глотком и часть содержимого ложки льется обратно. То
же самое еще несколько раз а потом операция начинается и медленно
происходит в обратном порядке так же точно и плавно как это было
вначале. И вот она снова сидит как статуя Мемнона и так же недвижно.11
Правой рукой держит край миски. Левой ложку ныряющую в похлебку.
Это только начало. Но не успев начать все сначала она бледнеет и
растворяется в воздухе. Перед вытаращенным глазом теперь только стул
в его одиночестве.
Однажды вечером за ней увязался ягненок. Ягненок со скотобойни
отбился от стада и прибился к ней. Теперь и навеки. Все это такие
давние дела. Помимо скотобойни он не такой как все. Все в завитушках
его руно волочится по земле и путается в ногах. Он не столько идет
сколько скользит как игрушка на веревочке. Останавливается
одновременно с ней. Одновременно снимается с места. Знает ли она что он за
ней увязался? Замирая как она он опускает голову как она ниже
обычного. Контраст черного с белым который не только не смягчают
но еще и подчеркивают последние лучи. И тут начинает бросаться в
глаза какой он маленький. Ей в глаза. В сущности кажется что это
смиренное создание жмется к ее юбке. Короткая загадка. Потому что
внезапно они дружно снимаются с места. Петляя бредут туда где галька.
Там она поворачивает и садится. Видит ли она белое тельце у своих
ног? На этот раз высоко подняв голову она глядит в пустоту. Глядит
всласть. Или с закрытыми глазами видит могилу. Он больше никуда не
идет. И только когда сгущается ночь она наконец бредет назад к дому.
По прямой словно видит дорогу.
Было ли когда-нибудь время когда не было вопроса о вопросах?
Мертворожденных всех до одного. Раньше. Как только возникли. Или не
было вопроса об ответах. Невозможно было ответить. Когда невозможно
было хотеть узнать. Невозможно узнать. Нет. Никогда. Сон. Вот и ответ.
Как быть с глазом подчиненным этому режиму? Капля за каплей
холодно-горячо. Ну ладно больше его не открывать. Готово. Уже. Или
бросить. Скелет и безрассудство. Просто чтобы восстановить силы. В
так называемом видимом мире. Такая глупость. От отвращения быстро
восстановить все как было и закрыть. Закрыть — и всё. Пока не
кончится. Или не завершится провалом. Вот и ответ.
246
Сэмюэль Беккет
Ларь. Его долго осматривали в ночи и он пуст. Ничего. Только в
самый последний миг под пылью клочок бумаги надорванный с одной
стороны словно вырванный из записной книжки. Еле разборчиво
чернильная надпись на одной стороне пожелтевшей бумаги слово и цифра.
Море 17. Или маре. Море или маре 17.12 Не считая этого чистый листок.
Не считая этого пустой.
Она вновь возникает лежа на спине. Неподвижно. Вечером и ночью.
Неподвижно лежа на спине вечером и ночью. Ложе. Осторожно. С
трудом опускается на колени прямо тут на полу. Молитва. Если есть
молитва. Что за беда нужно только склониться пониже. Или в другом
месте. Перед стулом. Или ларем. Или на кромке гальки головой к
камешкам. Итак на коврике прямо на полу. Без подушки. Закутавшись
с ног до головы черным одеялом она оставляет на виду только голову.
Только! Вечером и ночью это беззащитное лицо. Скорее глаза. Как
только они откроются. И вдруг вот они тут. Хотя ничто не шевельнулось.
Хватит и одного. Вытаращенного. Разверстый зрачок скупо обрамленный
блеклой голубизной. Ни следа влаги. Уже ни следа. Без взгляда. Словно
изнемогая от всего виденного опущены веки. Другой туда погружается.13
Потом в свой черед открывается тоже. И тоже изнемогая.
Без перехода пустота со всего размаха. Зенит. Еще вечер. Если не
ночь так вечер. Бессмертный день все еще в агонии. С одной стороны
раскаленные угли. С другой пепел. Бесконечная партия выигрыш
проигрыш.14 Незаметная.
И опять голова под одеялом. Это неважно. Уже неважно. Правда
в том что реальное и — как сказать наоборот? Короче это и то. Правда
в том что это и то если когда-то было это и то теперь легко перепутать.
И что своему собрату обремененному печальным знанием глаз более не
сообщает почти ничего кроме смятения. Это неважно. Уже неважно.
Правда в том что это и то обман. Реальное и — как недосказать
наоборот? Противоядие.
Еще живо разочарование от ларя а вот уже подворачивается люк.
Так искусно устроенный что с трудом раскрывает себя даже вовсе
прикрытому глазу. Осторожно. Ни в коем случае не поднимать его иначе
немедля рискуешь навлечь на себя новые горести. Только заранее
насладиться тем что он может в себе таить подобно английскому шкафу.
Итак пол в первый раз деревянный. Половицы совпадают с краями
Недовидено недосказано
247
люка так чтобы их нельзя было заметить. Это явное стремление к
маскировке вселяет надежду. Но не будем доверчивы. Заодно спросим
что это за древесина в самом-то деле. Допустим черное дерево. Доски
черного дерева. Черная на черном юбка бесшумно их задевает.
Скелетоподобный стул высится призрачнее чем бывает на самом деле.
Пока она лежит укрытая с головой одеялом небольшая прогулка в
полях. Если бы она уже умерла в этом не было бы ничего особенного.
Конечно она уже умерла. Но пока это ничего не меняет. Итак она еще
живая лежит под одеялом. По неясным причинам натянув его на голову.
Или без причин. Ночь. Когда не вечер всегда ночь. Зимняя ночь.
Бесснежная. Суть в разнообразии. Посреди однообразия. Вялая трава
так странно стынет под тяжестью инея. Она цепляется за длинную
черную юбку к ее шепоту стоит прислушаться. Безлунное небо
испещренное звездами отражается в бездонных голых глубинах мельчайшей
льдинки. Тишина превращается в бесконечно далекую музыку15 и обе
они на одном дыхании. В унисон ветры небесные и ни вздоха. И в
этом все. Вдали слабо блестит галька и хижина чьи стены впервые
кажутся белыми. Притворяются белыми. Стражи — двенадцать стражей.
На месте но не все. Ну и ну. Главное не понимать. Просто отмечать
как они блюдя верность друг другу разошлись в разные стороны. Так
недовидится эта ночь в полях. Пока она возлежит живая укрытая с
головой одеялом. Если смотреть ближе это большой плащ. Судя по
застежке мужской. Видит ли она его с закрытыми глазами?
Белые стены. Было время. Белые как в первый день. Все дело в
том что нет ветра. Никогда ни дуновения. Все что нахлынет уже никогда
не отхлынет. И чудо солнце их пощадило. Великое солнце былых времен.
Значит восточный и западный фасады — обязательно. Южный скат
крыши — тоже не беда. Но другой. Эта дверь. Осторожно. Тоже черная?
Тоже черная. И крыша. Черепица. И еще. Мелкая черная черепица —-
она тоже из той разрушенной усадьбы. Отягощенная историей. На исходе
своей истории. Вот дом недовиденный недосказанный. Снаружи. Было
время.
Переменился камень манящий ее если взглянуть на него снова уже
без нее. Или это она меняет камень увиденная рядом с ним. Теперь
он наклонен. Не то назад не то вперед. Почему он так похож на
набросок — только ли от природы? Или об этом позаботилась слишком
человеческая рука которую вынудили остановиться. Как руку Микелан-
джело изваявшего бюст цареубийцы.16 Если нельзя чтобы больше не
248
Сэмюэлъ Беккет
было вопросов пускай хотя бы на них больше не будет ответа. Гранит
без вопросов редкостно разнообразный. Черная как смоль яшма
торжествующая над белизной. Спереди как сказать искалечена черными
зарубками. Граффити столетий которые тщетно вопрошает глаз. Зимой
перед входом она грезит порой что видит как он сверкает вдали. Пока
последние юго-западные лучи косо ударяют в ее полуотвернувшееся
лицо. Такой недовиденный камень один на своем месте на рубеже
полей. По дороге с цветами изо всех сил стараясь идти прямо она
запаздывает. А на обратном пути руки пустые. Миг передышки перед
следующим перегоном. К одному или другому жилищу. Изо всех сил
стараясь идти прямо.
Вот они рядом. Не касаясь друг друга. Под бьющими искоса еще
последними лучами они отбрасывают на северо-восток длинные
параллельные тени. Итак вечер. Зимний вечер. Всегда будет вечер. Всегда
зима. Или ночь. Зимняя ночь. Больше не будет барашков. Не будет
цветов. С пустыми руками она будет ходить на могилу. А потом однажды
не сможет пойти. Или не' сможет вернуться. Решено. Две тени так
похожи что можно их перепутать. Но одна все же словно из менее
прозрачного материала она плотнее. Неподвижнее. А вторую под
упорным взглядом все-таки начинает бить легкая дрожь. И пока они так
стоят друг против друга остановка солнца. То есть земли. Она
возобновляет паденье не раньше чем они начинают расходиться в разные
стороны. Тогда по ее лицу по полям а потом по гальке скользящим
шагом идет еще живая тень. Делаясь все длиннее и вместе все бледнее.
Но никогда не истаивает совсем. А сверху над нею парит глаз.
Огромная плоскость циферблата.17 Ничего больше. Белый диск
разделенный на минуты. Или даже секунды. Шестьдесят черных точек.
Ни одной цифры. Одна-единственная стрелка. Тонкая черная стрелочка.
Движется толчками не тикая. С деления на деление переносится
таким мгновенным скачком что только видя ее на новом месте можно
понять что она передвинулась. Могут пройти целые ночи а может
доля секунды или невесть какой промежуток пока она перепрыгнет с
деления на деление. Никогда отметим для точности никогда ни через
одно не перескакивая. Предположим что в момент своего
возникновения она показывает на восток. Следовательно пробежала с
присущей ей безупречной уверенностью первую четверть своего последнего
часа. Если только это не его последняя минута. В этом случае в иные
ночи можно сомневаться — можно отчаиваться — в том что она хоть
когда-нибудь доберется до самого конца. Хоть когда-нибудь укажет на
север.
Недовидено недосказано
249
Вечером она вновь возникает у окна. Когда не ночь то вечер. Если
она хочет вновь увидеть Венеру ей надо будет открыть окно. Этого еще
не хватало. Сперва отодвинуть занавеску а потом открыть окно. Опустив
голову она ждет пока сможет. Может быть думает о тех вечерах когда
это ей удалось слишком поздно. С приходом темной ночи. Но нет. И
в голове тоже ожидание и ничего больше. Занавеска. Если рассмотреть
ее поближе под покровом этого мертвого времени она в конце концов
выдает свою сущность. Черный плащ похожий на тот виденный нами
служивший одеялом. Свисает с карниза вниз головой распяленный с
изнанки как скелет на прилавке. Там где виднее всего ниспадают рукава.
И так же мелко подрагивает как крючок для ботинок и прочее. Другое
новшество — место стула совсем рядом с окном. Это чтобы обеспечить
глазу достаточный угол прицеливания в прекрасную цель которая выше
чем на первый взгляд недовзгляд. Как пусто отныне пространство.
Можно ходить без конца и без краю взад и вперед в потемках. Внезапно
одним движением она отодвигает плащ и вновь задергивает его поверх
неба такого же черного как плащ. Вечно эта внезапность! А потом?
Осторожно. Сесть? Лечь? Выйти? Она в нерешительности. Наконец
колебания маятника подхватили ее. Раскачка от стены до стены по оси
север—юг. В дружелюбной тьме.
Она пропадает. Вместе со всем остальным. Уже недовиденное
заволакивается туманом или опять недовиденное уничтожается.
Предательски блестят предатели-глаза их предательство подтверждает
предательское слово. Только туман надежен. Туман с полей. Она уже там. Вот-вот
доберется до гальки. Потом до дома окольными тропками. И пускай
закрывается глаз. Все равно он ничего не увидит кроме тумана. И более
того. Сам превратится в туман. Как сказать про туман. Скорей как
недосказать про туман раньше чем он затопит все. Свет. Предательским
словом. Туман свет. Великий. В котором ничего уже не разглядеть. Не
сказать. Спокойно.
На лицо еще ложатся последние лучи. Но оно остается таким же
бледным. Таким же холодным. По касательной к горизонту замирает
заходящее солнце на время пока длится это изображение. Это значит
земля летит кувырком. Кажется тонкие губы уже никогда не разожмутся.
Над очерчивающими рот костями — недонамек на плоть. Едва ли на
этой сцене разыгрывалось когда-то зрелище поцелуев полученных и
возвращенных. Или только полученных. Или только возвращенных.
Главное запомнить тончайший изгиб в углах губ. Улыбка? Возможно
ли это? Тень старинной улыбки18 проступившая наконец раз и навсегда.
Словно рот недополуувиденный в последних лучах которые внезапно ее
250
Сэмюэль Беккет
покидают. Вернее это она их покидает. Уходит назад в темноту улыбаться
вечно. Если это вообще улыбка.
Если присмотреться к этому рту под защитой от света он
преобразится. Необъяснимо. Ничуть не меняются губы. Так же сжаты. Та же
неплотно сомкнутая полоска плоти. Даже в углах губ та же неуловимая
небрежность. Словно улыбка если это улыбка живет там всегда. Ни
больше ни меньше. Меньше! И все-таки уже другая. Ничуть не
изменился этот рот и все-таки улыбка уже другая. Правда и то что свет
обманчив. Особенно свет заката. Такая неудача. Правда и то что глаза
недавно вперенные в невидимую планету теперь закрыты. На другие
невидимости время которым еще не пришло. Вот наконец объяснение.
Та же самая улыбка выявленная когда глаза широко раскрыты меняется
если они закрыты. Хотя между тем и другим взглядом губы нисколько
не шевельнулись. Ладно. Но в каком направлении меняется? Что теперь
с этой улыбкой коль скоро с ней что-то чего не было раньше? Или
чего больше нет что было? Хватит. Оставь.
Позже немало зим приходят опять. Много позже той же зимой
бесконечной. Бесконечное зимнее сердце. Слишком рано. Вот она вновь
такая же как была когда ее покидали. Там где. По-прежнему или вновь.
Закрытые глаза в темноте. В темноте. В их темноте. На губах та же
миллионная доля улыбки если это улыбка. Словом живая как умеет она
одна ни больше ни меньше. Меньше! Сравнительно с настоящим
камнем. Не меньше печали в состоянии мест на первый взгляд недоуви-
денных вновь. За одним счастливым исключением: слуховые окошки
более матовы. Свет еле-еле пробьется сквозь них если вновь будет свет.
Зато вне дома успех. В смысле непрерывной ночи. Камень повсюду.
Едва рассветает как уже и закат. Сбыли с рук все недовиденное
недосказанное. Глаз изменился. И мутная его фантазия. Их изменило
отсутствие. Недостаточно. Осталось только снова уйти. Или еще
измениться. Слишком рано вернулись значит. Слишком мало
изменились. Недостаточно посторонние. Всему недовиденному
недосказанному. Потом слова вернуться. Нетвердые в том что нужно чтобы покончить
со всем наконец. С ней с небесами с местами. А если еще рано снова
уйти. Снова измениться. Снова вернуться. Если не помешают. Ах. И так
далее. Пока не появятся силы покончить со всем наконец. Со всей
дребеденью. В непрерывной ночи. Камень повсюду. Значит сперва уйти.
Но сперва увидеть ее опять. Такую же как была когда ее покидали.
И дом. Под изменившимся глазом пусть там тоже изменится все.
Начнет меняться. Пусть до свидания. Потом уйти. Если не
помешают. Ах.
Недовидено недосказано
251
Но вот внезапно ее здесь уже нет. Или она внезапно была покинута.
Скорее стул прежде чем она возникнет опять. Медленно. Все углы.
Каким единым словом назвать все перемены? Осторожно. Малейшим.
Ах прекрасное единое слово. Малейшее. Она — малейшая. Та же но
малейшая. Поэтому пусть глаз усердствует. Воистину освещение. Да и
слова тоже. Несколько капель на худой случай и уже удушье. Короче
недоговоря. Малейшая. Кончится тем что ее вообще не станет. Что ее
и не было никогда. Божественная перспектива. Воистину освещение.
Внезапно хватает места для смутного воспоминания. Глаз вновь
закрыт усталый от этого впечатления или вновь открыт или оставлен
как был. Время всему вернуться. В конце концов славные первые
повешенные вниз головой два черных плаща. Начинают вырисовываться
очертания чего-то смахивающего на ящик но внезапно довольно.
Смутное воспоминание! Между тем там все хуже чем на первый взгляд.
Убогое ложе. Стул. Ларь. Люк. Только глаз изменился. Только глаз
может их изменить. А пока все на месте. Нет. Крючок для ботинок.
Гвоздь. Нет. Вот же они. Хуже чем когда бы то ни было.
Неизменившиеся к худшему. Вперед на них первым делом глаз! Но сначала
перегородка. Если ее убрать они будут убраны вместе с ней. Приглушить
ее — и они приглушатся.
Наименее наверняка упрямый элемент среди всех. Смотреть один
миг снова смотреть куда он исчез сам по себе. Так сказать сам собой.
Глаз ни при чем. А появляется много позже и тоже сам по себе. Словно
нехотя. По какой причине? По одной-единственной которую обнаружить
нетрудно. По другим объявленным непонятными. И еще по одной
которую далеко искать. Влечение сердца? Головы? Ад на двоих? Здесь
начинается хохот погибших душ.
Довольно. Скорее. Скорее смотреть чтобы стул не совсем оказался
вразрез со своим изображением. Минимально малейше. Не больше.
Прекрасное начало по дороге к несуществованию так бесконечность
стремится к нулю. Скорее сказать. А она? То же самое. Скорее ее
отыскать. В этом черном сердце. В этом фальшивом мозгу.
Лист. Кончиками дрожащих пальцев. Надвое. Начетверо. Навосьме-
ро. Старые пальцы неистовствуют. Это уже не бумага. Каждая осьмушка
отдельно. Надвое. Начетверо. А под конец ножом. Искрошить в клочки.
В дыру. И за следующий. Белый. Скорее его зачернить.
252
Сэмюэлъ Беккет
Остается только лицо. Больше под одеялом ни следа. Во время
осмотра внезапно шум. Его не прерывая пробуждается разум. Как это
объяснить? И не доходя до этого как это сказать? Далеко позади глаза
затевается розыск. Покуда бледнеет событие. Каким бы оно ни было.
Но вот внезапно спеша на помощь оно оживает. И сразу бедствия имя
расхожее ни на что не похожее. Очень скоро его укрепляет хотя
возможно и ослабляет необычная томность. Томное бедствие. Два.
Далеко от глаза поглощенного своим терзаньем всегда огонек надежды.
По милости этих скромных первых шагов. А на второй взгляд развалины
хижины. Одновременно взглядом уловить неуловимое лицо. Уже без
малейшего любопытства.
Позже пока лицо сопротивляется вечно новый шум падения на сей
раз сухой. Укрепленная сразу иллюзия что начинается всеобщий распад.
Здесь великий скачок в то немногое что остается от будущего чтобы
не медля больше сдулся этот воздушный шарик. До того мига из далеких
времен когда окнам будет не хватать плащей а гвоздю крючка для
ботинок. И вырвется вздох из груди: только-то и всего. Вздох что будет
все полней и полней пока не подхватит все и не унесет. Всю дорогую
рухлядь. Прежде чем быть обреченный быть всего-навсего вот этим и
ничем иным. Вздох конца. Облегчения.
Скорее до срока еще две тайны. Хотя нет. Неожиданности. И еще.
Насколько здесь голова ни при чем. И останется ни при чем. Прежде
всего никаких больше занавесок без которых не чувствуется больше
темнота. Запах конюшни приберечь для порога. Затем после колебаний
вообще ничего там где было завешено. Ни следа этого безобразия. Почти
ни следа. Одни карнизы с одной стороны. Слегка перекошены. И один
с другой стороны совсем один гвоздь. Неизменный. Годный к
повторному употреблению. По образцу своих доблестных предков. В
вышеуказанном месте головы. Апрельский вечер. Снятие совершилось.19
Во все глаза впериться в лицо вот оно здесь без конца в недавнем
будущем. Без конца недосмотренное ни больше ни меньше. Меньше!
Вжавшееся в штукатурку оно бесспорно живет. Хотя бы недовершен-
ностью своей белизны. И неприметными подрагиваниями по сравнению
с истинным минералом. Мотив ободрения но зато упрямо опущены
веки. В такой позе это вероятно рекорд. Во всяком случае такого еще
никто не видал. Внезапно взгляд. Хотя ничто не шевельнулось. Взгляд?
Сказано слишком мягко. Недосказано. Его отсутствие? Тоже нет.
Неописуемый шар. Невыносимый.
Недовидено недосказано
253
Μ ас с л времени тем не менее две три секунды покуда радужная
совсем исчезает поглощена зрачком. А склера или попросту белок на
вид уменьшается вполовину. По меньшей мере меньше чем но какой
ценой. Можно предвидеть очень скоро если ничего непредвиденного —
две черные бездны как очки для души два сортирных очка. Здесь вновь
возникают слуховые окошки бесполезно отныне мутные. Причем будь
они прозрачны сквозь них струилась бы темная ночь или лучше просто
тьма. Настоящая тьма где в итоге нечего видеть.
Отсутствие лучшее из благ и все же. Озарение значит на этот раз
уйти навсегда а когда вернешься больше уже ни следа. На поверхности.
Иллюзии. А если к несчастью опять уйти опять навсегда. И так далее.
Пока больше уже ни следа. Навсегда. Вместо того чтобы дальше искать
там где свершилась беда. Доискаться до какого-нибудь следа. Да только
попробуй найди. Попробуй освободиться от этих следов. Иллюзии.
Скорей иногда внезапное «да прощай» просто так наудачу. Хотя бы
тому лицу. Его след упрямый.
Решение принятое не раньше или вернее гораздо позже чем... как
бы сказать? Как недосказать чтобы с этим покончить в самый последний
раз? Пускай исчезнет. Нет но истает медленно слегка очень слегка
словно последний остаток дня когда задергивается занавес. Тихонько-
тихонько совсем сама когда движением призрачной руки миллиметр за
миллиметром задергивается занавес. Прощайте прощания. Потом в
полной тьме похоронного звона предвестие — совсем тихий и мелодичный
звук словно как только она возникла пошла звукозапись. Первая
последняя секунда. Лишь бы только оставалось еще достаточно чтобы все
пожрать. Жадно секунда за секундой. Небо землю и все прочее. Потом
нигде уже ни крошки падали. Потом облизнуться и баста. Нет. Еще
секунду. Только одну. Просто вдохнуть пустоту и все. И узнать счастье.
[ШЮ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Д. В. Токарев
«ВООБРАЖЕНИЕ МЕРТВО ВООБРАЖАЙТЕ»:
«ФРАНЦУЗСКАЯ» ПРОЗА СЭМЮЭЛЯ БЕККЕТА
Сэмюэль Беккет (1906—1989) является, без сомнения, одним из
самых значительных писателей XX века: за свою долгую жизнь он создал
большое количество пьес, среди которых всемирно известные «В
ожидании Годо» и «Эндшпиль», написал семь романов, а также —
множество трудно поддающихся жанровому определению текстов,
демонстрирующих, насколько условной становится в современной литературе
граница между собственно повествовательным и драматическим текстом,
между рассказом и киносценарием, радиопьесой и «сценкой без слов».
В 1969 году писателю была присуждена Нобелевская премия, а по
количеству посвященных ему научных работ Беккет не уступит ни
Прусту, ни Джойсу. В то же время до сих пор не существует
однозначного ответа на вопрос, к какой литературе следует отнести его
произведения. В англоязычных странах Беккета традиционно считают
ирландским писателем, поскольку родился он в Ирландии и там же
провел детство и юность. Ирландским писателем, пишущим
по-английски, нужно добавить, ибо гэльским языком Беккет не владел. Во
Франции к Беккету, напротив, относятся как к писателю французскому:
в самом деле, больше 50 лет писатель провел в этой стране, к тому же
половина его текстов была изначально написана по-французски и уже
потом переведена самим автором на английский. Писатель, пишущий
на иностранном языке, — в истории литературы такие примеры
встречались: достаточно вспомнить англичанина Уильяма Бекфорда,
написавшего свою «арабскую сказку» «Ватек» по-французски, или Владимира
Набокова, творчество которого подразделяется на русский и на
американский периоды. Если говорить о писателях XX в., то можно назвать
еще Эжена Ионеско, чьи первые произведения написаны по-румынски,
а основной корпус текстов, принесших ему славу, — по-французски.
Но даже на этом фоне Сэмюэль Беккет выделяется: никогда еще до
него никто не писал две версии одного и того же текста — английскую
и французскую. Временной разрыв между двумя версиями мог быть
достаточно значительным (так, прежде чем Беккет приступит к переводу
на французский своего романа «Уотт», написанного по-английски во
9 С. Беккет
258
Приложения
время войны, пройдет двадцать лет), но, как правило, английская версия
следует почти сразу за французской, и наоборот. Поскольку сам Беккет
давал туманные ответы на вопрос, чем объясняется его билингвизм,
исследователи выдвинули по этому поводу множество подчас
противоречащих друг другу предположений: например, широкое
распространение получила точка зрения, что Беккет сознательно перешел во второй
половине 1940-х годов на французский язык ради самоограничения,
своеобразной «языковой аскезы», целью которой была выработка
некоего «нейтрального», «бесстилевого» письма. Согласно другому
предположению, смена языка давала писателю возможность расширить свою
языковую компетенцию, освоить новые области художественной
деятельности.
Все эти объяснения не учитывают, однако, один важный момент:
переход Беккета на французский совпал по времени с радикальным
изменением взглядов писателя на взаимоотношения между автором и
текстом. Действительно, в ранних текстах, в которых зачастую
сказывается влияние другого великого ирландца, Джеймса Джойса, Беккет не
уставал демонстрировать свои возможности писателя-демиурга,
обладающего абсолютной властью над языком. Однако постепенно, по мере
того как молодой писатель подходил к созданию собственной поэтики,
менялось и его отношение к языку: язык как объект манипуляции
больше его не устраивает; ему хочется исследовать его внутренние
пределы, услышать тот языковой гул, который начинает звучать, когда
писателю удается проникнуть в глубины языка, в ту сферу, где слово
непосредственно соприкасается с тишиной. Убежденный в
принципиальной абсурдности мира, Беккет отвергает язык конвенциональный,
логический в пользу языка дорефлексивного, алогического,
выпадающего из временного потока. Письмо мыслится им отныне как
деятельность во многом бессознательная, спонтанная, когда текст начинает
вести самостоятельную от автора жизнь, пишется как бы сам собой. В
этой перспективе смена языка стала необходимым условием реализации
такого рода письма, и, покинув привычную почву родного английского
языка, Беккет бросился в стихию языка чужого, который по
определению хуже поддавался манипулированию. В это переломное время, то
есть в середине 1940-х годов, и был написан первый «французский»
роман Беккета «Мерсье и Камье», за которым последовала трилогия,
знаменитая пьеса «В ожидании Годо» и другие произведения. Этим
романом и открывается настоящий сборник, в который вошли также
еще четыре «французских» прозаических текста, в концентрированном
виде воплотившие в себе весь творческий путь, пройденный Беккетом
более чем за 30 лет.
Роман «Мерсье и Камье» продемонстрировал, что процесс
«вхождения» писателя в чужой язык неизбежно приводит к переосмыслению
отношений между ним и его текстом: именно в этом романе происходит
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 259
превращение писателя-творца в скриптора, который, по выражению
Ролана Барта, рассказывает о чем-то не «ради прямого воздействия на
действительность», а «ради самого рассказа».1 Следующим шагом будет
перерождение текста в повествование о том, как пишется текст: текст
становится единственной реальностью, вне которой ничего не
существует, в том числе и автор. Последний окончательно теряет свою
индивидуальность и растворяется в письме. Трилогия, «Никчемные тексты»
и роман «Как есть» стали вехами на этом пути, пройти по которому
было необходимо, чтобы проникнуть в ту сферу бытия, в которой
творчество, по слову Беккета, перестает быть свершением и становится
констатацией неудачи.
В данной перспективе «Никчемные тексты» (1950—1953; опубл. 1955)
особенно характерны: написанные непосредственно после трилогии,
они, с одной стороны, подводят итог тому необыкновенно
плодотворному пятилетию, в течение которого из-под пера Беккета вышли
ключевые его произведения, и, с другой — открывают дорогу роману «Как
есть» (1959—1960; опубл. 1961) — тексту, целиком построенному на
принципе неразличения формы и содержания. Это удивительное
произведение, в котором нет ни одного знака препинания, напоминает
скорее поэму в прозе, поэму об архетипическом, существующем вне
времени, и пространства бытии — или, точнее, поэму, которая сама есть
это бытие. Здесь слово перестает быть орудием писательского труда и
становится той экзистенциальной «грязью», по которой с трудом
передвигается писатель, замкнувшийся в своем бессилии и неведении. Такой
текст потенциально бесконечен, он есть то самодостаточное бытие,
которое не несет в себе возможности небытия. Остановить этот
словесный поток, заставить языковой гул замолчать — а Беккет с самого
начала своей творческой деятельности был одержим идеей смерти,
небйтия, тишины — можно лишь в том случае, если противопоставить
аморфной массе языка нематериальность абстрактного образа,
бесплотного как видеоизображение или как музыкальная тема. В текстах,
которые завершают настоящий сборник — «Опустошитель» (1965—1970;
опубл. 1970) и «Недовидено недосказано» (1979—1980; опубл. 1981), —
стремление свести повествование к бесстрастному фиксированию образа
прослеживается наиболее ярко. В них наконец смолкают голоса,
раздирающие на части персонажа «Никчемных текстов» и «Как есть», и в
свои права вступает тишина, та тишина, ради достижения которой
Сэмюэль Беккет начал писать свои произведения.
1 Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика. М.,
1994. С. 384.
260
Приложения
* * *
короче вытягиваюсь в струнку коленями на подушке дрожа в
ночной рубашонке стиснув сложенные руки на груди и молюсь по ее
указаниям
еще не всё она закрывает глаза и монотонно бубнит ошметки «Верую»
так называемого апостольского украдкой внимательно слежу за ее
губами
кончила и снова вспыхнули ее глаза возвожу поскорее взгляд к небесам
и повторяю за ней как попало
воздух дрожит от гудения насекомых
конец все гаснет как будто задули лампу («Как есть»).
В своем творчестве Беккет последовательно проводил линию на
«деиндивидуализацию» текста, на устранение из него биографических
элементов, но эта сценка, как будто выхваченная слабым лучом лампы
из непроницаемой темноты, имеет под собой реальную основу.
Существует детская фотография Беккета, на которой он запечатлен
молящимся, под строгим материнским присмотром, на веранде дома его
родителей в Фоксроке, богатом предместье Дублина, населенном
предпринимателями и чиновниками. Фотография сделана в 1909 году, когда
будущему писателю было всего 3 года; поэтому, скорее всего, та сценка,
которая изображена в «Как есть», навеяна не личными воспоминаниями,
а рассматриванием фотографии. В своей книге о фотографии Ролан
Барт пишет, что, «возникнув в эпоху упадка религиозной обрядности,
фотография может быть соотнесена с вторжением в наше современное
общество асимволической, внерелигиозной, внеобрядовой Смерти; с нею
мы как бы погружаемся в буквальность Смерти».2 Фотография, отсылая
событие в невозвратное прошлое, тем самым как: бы уничтожает его,
делает невозможным. Сценка молитвы статична, и этим она похожа на
фотографию, делающую прошлое неподвижным. Для Беккета, с юных
лет «больного» смертью, очень важна эта невозвратность прошлого, его
оторванность от настоящего; так, изживание прошлого позволяет
преодолеть линейность временного потока и перевести смерть из состояния
потенциальности в состояние абсолютной актуальности здесь и сейчас,
то есть сделать смерть будущую смертью настоящей. Различные приемы,
которые Беккет использует как в своих прозаических, так и
драматических произведениях (так называемые «истории», рассказываемые
персонажами; прослушивание магнитофонной записи о прошлых собы-
2 Barthes R. La chambre claire. Paris, 1980. P. 144. Цит. по. Зенкин С. Ролан Барт //
Французская литература. 1945—1990. М., 1995. С. 837
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 261
тиях; восходящая к кинематографу техника флэшбека, обратного кадра),
преследуют в сущности одну цель: избавиться от прошлого, выговорить
его, исчерпать все его возможности.
Вот почему герой беккетовских текстов так часто возвращается к
моменту собственного рождения, которое всегда трактуется как событие
негативное, даже зловещее, ибо означает нарушение предродового
покоя и погружение во враждебный, абсурдный мир. Моллою,
главному герою одноименного романа (1947—1948; опубл. в 1951),
составившему вместе с романами «Мэлон умирает» (1948; опубл. в 1951) и
«Безымянный» (1949; опубл. в 1953) трилогию, принадлежат жестокие
слова:
Моя мать. Я не сужу ее слишком строго. Она сделала все, что могла,
кроме главного, чтобы я не появился, и если ей удалось все-таки меня
извергнуть, так только потому, что судьба предназначила меня для
худшей выгребной ямы. Она искренне желала мне добра, и мне этого
вполне достаточно. Нет, не достаточно, но я отдаю ей должное за то,
что она пыталась для меня сделать. Я прощаю ей те грубые сотрясения,
которые я испытывал в первые месяцы и которые испортили
единственный сносный, именно сносный, период моей необъятной истории.
И я отдаю ей должное за то, что она не принялась за это снова, то
ли благодаря мне, то ли просто вовремя остановившись.3
Рождение человека — это та отправная точка, которая начинает
новый цикл существования. Его жизнь превращается в блуждание по
лабиринту бытия, в бесконечное приближение к смерти. Будучи актом
одномоментным и окончательным, вводящим и «стабилизирующим»
бытие, рождение в то же время предстает как что-то, что уже
совершилось, как событие, ограниченное во времени; рождения больше
нет, так как оно уже совершилось. В вечности бытия рождение
представляет собой событие, которое, несмотря на то что оно же и
спровоцировало появление этого самого бытия, находится как бы за его
пределами, занимает внешнюю по отношению к нему позицию.
Надеяться на смерть — значит пытаться придать ей конкретность
рождения; чтобы «проговорить» смерть, освобождающую как от
времени, так и от вечности, надо парадоксальным образом вновь заставить
время течь, но теперь уже не вперед, а вспять, по направлению к
моменту рождения, «стирание» которого и будет долгожданным
моментом смерти.
Вводя временную прогрессию, рождение постоянно вытесняется из
памяти, отсылается в прошлое, в забвение. Для того чтобы вернуться
к исходной точке, нужно приостановить процесс забывания, «перенести»
момент рождения из прошлого в настоящее. Это и делает Беккет, когда
в позднем тексте «Общение» (1980) ведет от второго лица рассказ о
3 Беккет С Моллой // Беккет С. Трилогия СПб., 1994. С. 16
262
Приложения
своем собственном рождении, имевшем место 13 апреля 1906 года,4 в
Страстную Пятницу:
Ты появился на свет в той комнате, где скорее всего и был зачат.
Большой эркер смотрел на запад, на горы. [...] День был
неприсутственный, и потому твой отец сразу после завтрака отправился в горы,
захватив с собой фляжку и свои любимые бутерброды с яйцом. Тут не
было ничего особенного. Но в то именно утро не одна только любовь
к ходьбе и дикой природе гнала его подальше от дома. Прибавлялось
отвращение, которое он испытывал к мукам и другим мало
соблазнительным сторонам родов. [...] Вернувшись в сумерки, с черного хода,
он, к своему ужасу, узнал от горничной, что роды еще продолжаются.
Хотя начались еще до того, как он ушел из дому часов десять назад.
Он тотчас бросился в сарай в глубине сада, где держал свой Де Дион
Бутон. Хлопнул дверцей, забрался на водительское сиденье. Вообрази
его мысли, когда он сидел, в темноте, не зная, что думать. Несмотря
на усталость, на стертые ноги, он чуть снова не отправился по полям
в первом свете луны, но тут горничная прибежала с известием, что
наконец-то все кончилось. Кончилось!5
Заметно, что рождение, ребенка вызывает у отца лишь ужас,
смешанный с омерзением, и не столько из-за физиологических
особенностей процесса, сколько из-за осознания своей ответственности за
закрепление «дурной бесконечности» существования. Отказаться от
детей — значит преодолеть сериальность, суть которо4й в
непрекращающемся приращении бытия. У Беккета рождение ребенка ничуть не
является желанным результатом любви двух людей — мужчины и
женщины, — но, напротив, проявляет себя как абсурдное следствие
абсурдной причины — акта зачатия, в котором в наибольшей степени
обнаруживается, согласно Шопенгауэру, господство интересов рода над
интересами индивидуума. Если даже самое страстное любовное стремление
представляет собой «непосредственный залог неразрушимости ядра
нашего существа и его бессмертия в роде»,6 то что же говорить тогда о
той ситуации, когда инстинкт самосохранения в роде не вуалируется
никакими любовными переживаниями: род требует своего, и мужчина
и женщина являются лишь его послушными орудиями. Так заявляет о
себе внутренняя сущность рода — воля к жизни, которая неподвластна
даже смерти. Смерть разрушает лишь внешнюю оболочку, но не может
разрушить внутреннюю сущность человека, которая продолжает жить в
4 Некоторые исследователи подвергали сомнению дату рождения Беккета, указывая
на тот факт, что его свидетельство о рождении датировано 13 мая. Отсюда делался вывод
о том, что Беккет, герои которого часто сравнивают себя с Христом, сознательно
передвинул дату на месяц вперед Однако позднейшие изыскания доказывают, что писатель
действительно родился в Страстную Пятницу.
5 Беккет С. Общение // Беккет С Изгнанник. Μ , 1989. С. 197-198
6 Шопенгауэр А. Метафизика половой любви // Шопенгауэр А. Избр. произв. М., 1993
С. 404
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 263
грядущих поколениях. В радиопьесе «Зола» (1959) мужской персонаж
вспоминает о том, как появилась на свет его дочь Ада:
Она у нас получилась не сразу, — говорит Генри. — (Пауза.) Бились
годами. (Пауза.) И в конце концов добились. (Пауза. Вздох.) В конце
концов добились.7
Если бы не было рождения, не нужно было бы всю жизнь отчаянно
искать смерти. По словам Сартра, «бытие может породить лишь бытие,
и если человек вовлечен в этот процесс порождения, он произведет на
свет то же бытие».8 Вот почему Клов, один из персонажей знаменитой
беккетовской пьесы «Эндшпиль» ( 1954—1956), хватается за багор, увидев
в телескоп «мальца» — «будущего производителя». Ему вторит Генри из
«Золы», обращаясь к своему умершему отцу:
Из-за чего она так настроилась против меня, как ты думаешь ?. —
говорит он, имея в виду свою жену Аду. — Наверное, из-за девчонки —
отвратительное маленькое существо, Господи, лучше бы ее у нас не
было, я с ней гулял по полям, и какой это ужас был, Господи Иисусе,
вцепится в мою руку, а я не могу говорить и с ума схожу: «А теперь
побегай, Адочка, погляди на овечек». (Изображая голос Адочки.) «Нет,
папа». — «Иди, иди побегай». (Слезливо.) «Нет, папа». (В бешенстве.)
«Кому сказано — иди погляди на овечек!» (Громкий рев Адочки. Пауза.)
Ну и Ада — тоже, с ней разговаривать — это же Бог знает что, это,
наверное, как в преисподней разговоры, под лепет Леты, про доброе
старое время, когда мы еще только мечтали о смерти.9
Вспоминается пьеса Сартра «За закрытой дверью», герои которой
даже в аду не перестают говорить, быть вместе; ад — это, если
воспользоваться термином Хайдеггера, «толки», которые мешают говорить о
смерти, а значит, мешают достичь ее, сделать ее реальной. Генри хочет
освободиться от «толков», чтобы иметь возможность говорить о смерти
со своим мертвым отцом. По сути, он хочет разорвать родовые связи,
в то время как его жена и дочь удерживают его на этой «бедной старой
нищенке Земле».10
Вообще, мать у Беккета всегда на стороне ребенка, то есть на
стороне жизни, движения, настоящего. Симптоматично, что отношения
самого писателя с его собственной матерью были далеки от идеальных:
Мэй Беккет отличалась тяжелым, требовательным и суровым характером
и пыталась воспитывать двух своих сыновей, Сэмюэля и его старшего
7 Беккет С Зола // Беккет С. Театр / Сост. В. Лапицкого. СПб., 1998. С. 260.
8 Sartre J.-Р. L'etre et le neant: Essai d'ontologie phenomenologique. Paris, 1943. P. 59.
В русском издании дается несколько иная версия перевода: «Бытие может порождать лишь
бытие, и если человек охвачен этим процессом порождения, он выйдет из него только
бытием» (Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М, 2000. С. 61).
9 Беккет С. Зола. С. 254.
10 Beckett S. Watt. Paris, 1968. P. 47.
264
Приложения
брата Фрэнка, в духе викторианских традиций соблюдения правил
этикета и беспрекословного подчинения старшим. Мэй безусловно
любила своих детей и старалась обеспечить им то будущее, которое
представлялось ей наиболее достойным, но если Фрэнк никогда не
подвергал сомнению авторитет матери, то младший сын обладал
чрезвычайно независимым характером, считая, что он сам вправе выбрать
свою судьбу. Притяжение-отталкивание — так можно было бы
определить отношения между Мэй и Сэмюэлем, причем Беккет к тому же
всю жизнь испытывал комплекс вины перед матерью за то, что якобы
не оправдал ее ожиданий.
Принадлежность семьи к кругам протестантской буржуазии сыграла
свою роль в выборе учебного заведения, в которое должен был поступить
Сэмюэль: это был самый престижный ирландский университет, опора
протестантской власти — колледж Тринити. В 1960 году Беккет станет
доктором honoris causa этого заведения. В колледже будущий писатель
специализируется во французском и итальянском языках, углубленно
изучает «Божественную комедию» Данте, влияние которой на него будет
так велико, что он даже заимствует одного из персонажей «Чистилища»,
Белакву, для своих собственных текстов. Старый экземпляр
«Божественной комедии» на итальянском находился при нем до самой смерти.
Ко времени учебы в колледже относятся и первые проблемы со
здоровьем: Беккета мучают бессоница, сердцебиения, ночные страхи. В
1930-е годы к ним прибавятся периодические депрессии, вызванные
неудачами творческого плана, денежными затруднениями, общей
неустроенностью бытия, абсурдность которого заставляет молодого писателя
искать забвения в алкоголе. Беккет, с его обостренным восприятием
несправедливости мироустройства, когда страдают невинные, а
процветают те, кого Сартр называл «подонками», не мог не сделать боль бытия
главной темой своего творчества. Недаром однажды, как вспоминал его
приятель по колледжу, Беккет прикрепил к стене своей комнаты
алюминиевую дощечку, на которой трижды написал одно и то же слово:
«боль».
Христианское учение о том, что страдания на земле необходимы,
чтобы обрести жизнь вечную в раю, возмущает его своим лицемерием.
Владимир, персонаж пьесы «В ожидании Годо», вспоминает, что у
одного из евангелистов говорится о том, что из двух разбойников,
казненных вместе с Иисусом, один был проклят, а другой прощен.
Комментарий, который дает этому пассажу Св. Августин, — «не
отчаивайся: один из разбойников был спасен; не обольщайся: один из
разбойников был проклят», — поражает Беккета своей выверенной
парадоксальностью и тем, что по сути подчеркивает нерасторжимое
единство проклятия и спасения. Справедлива ли такая ситуация, когда
спасение одного невозможно без проклятия другого? И вообще, можно
ли говорить о справедливости в применении к той силе, которая
Д В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 265
трансцендирует понятия святости и греха, добра и зла, радости и
страдания? Эти метафизические вопросы не перестают волновать
писателя на протяжении всего его творчества.
* * *
В 1928 году состоялась встреча, которая оказала большое влияние
на Сэмюэля, — Беккета принимают в узкий круг молодых
интеллектуалов, помогающих Джеймсу Джойсу в написании «Вещи в работе»,
ставшей позднее «Поминками по Финнегану». В это время Беккет,
успехи которого были по заслугам оценены профессурой Тринити,
получает место преподавателя английского языка в знаменитой Высшей
Нормальной школе в Париже. Беккет проверяет для Джойса, зрение
которого неуклонно ухудшается,11 различные ссылки, роется в словарях,
записывает под диктовку целые пассажи из будущего романа. В 1930
году Беккет вместе с Альфредом Пероном переводит на французский
отрывок из «Поминок по Финнегану»; правда, этот перевод не стал
окончательным и был позже переработан Полем Леоном, Иваном Гол-
лем, Филиппом Супо и самим Джойсом.
Джойса и Беккета объединяет не только интерес к языку, к тем
возможностям, которые он предоставляет современному писателю, но
и преклонение перед Данте, а также любовь к фильмам Чарли Чаплина12
и к песням Шуберта.13 Не случайно, что первой серьезной
самостоятельной работой молодого Беккета стала статья, посвященная Джойсу.
Опубликованная в сборнике «Our exagmination round his factification for
incamination of Work in progress» (1929), она представляла собой
достаточно подробное исследование источников джойсовского романа.
Отметив, что на Джойса оказала влияние доктрина Джордано Бруно о
совпадении Противоположностей, Беккет особое внимание уделил
философии истории Джанбатисты Вико и структуре дантовского
Чистилища в его сопоставлении с Чистилищем, описанным в «Поминках по
Финнегану». По мнению Беккета, Чистилище у Данте имеет
конусообразную форму, что подразумевает наличие вершины. У Джойса
Чистилище, напротив, имеет форму сферическую, что исключает наличие
вершины. Таким образом, если у Данте движение является линейным
и направлено к некой идеальной точке — Земному Раю, то у Джойса
движение не имеет направления и направлено ко всем точкам сразу.
Джойсовское Чистилище — это абсолютная потенциальность, в которой
11 С годами у Беккета также возникнут серьезные проблемы со зрением.
12 В 1963 году Беккет напишет сценарий немого фильма («Фильм»), роль в котором
он хотел предложить Чаплину. В конце концов «Фильм» был снят при участии другого
великого комика — Бастера Китона.
13 Беккет использует песню Шуберта в телевизионной пьесе «Nacht und Träume»
(1982).
10 С. Беккет
266
Приложения
снимается оппозиция позитивности—негативности. В нем прогресс
уравновешивается регрессом, и оба они превращаются в вечное брожение,
кипение, ферментацию. Чистилище — это смешение Ада и Рая, та
область, в которой добро равнозначно злу, а движение — покою.
Именно сюда, влекомый инстинктом саморазрушения, попадет впоследствии
беккетовский герой, и здесь произойдет еще более ужасающая, чем в
реальном мире, «консервация» бытия. Чистилище — это, как говорит
сам Беккет, «апофеоз слова», слова универсального, безличного,
потенциально бесконечного. Слова сливаются одно с другим,
перемешиваются, образуя слитную магматическую массу, и мы слышим тот самый
«гул языка», о котором в XX веке мечтали Ролан Барт и Морис Бланшо.
Спустя восемь лет после написания статьи, Беккет вновь
возвращается к творчеству ирландского писателя. В письме к своему
немецкому знакомому Акселю Кауну он утверждает, что задача современного
писателя должна заключаться в поисках такого метода, который
«позволил бы выразить издевательское отношение к языку средствами самого
языка».14 «Поминки по Финнегану», по мнению молодого писателя, не
имеют ничего общего с этой задачей, поскольку Джойс показал в них
себя «биологом от слов», блестящим манипулятором своего материала.
Писатель же, который пытается «опорочить» язык, должен работать в
неведении, без сил. В интервью, данном уже в 1950-е годы, Беккет
подробно останавливается на этом парадоксе:
По-видимому, есть что-то вроде эстетической аксиомы, согласно
которой художественное творчество — это свершение, должно быть
свершением, — размышляет он. — Я пытаюсь исследовать ту зону бытия,
которой всегда пренебрегали художники, считая ее ненужной или же
по определению несовместимой с задачами искусства. Я думаю, что
сегодня каждый, кто обращает хотя бы самое ничтожное внимание на
свой собственный опыт, отдает себе отчет, что это опыт того, кто не
знает, того, кто не может.15
Именно в статье о Джойсе Беккет формулирует тот принцип
неразличения содержания и формы, который ляжет в основу его
собственного художественного метода.
Здесь форма есть содержание, а содержание форма, — говорит Беккет
о последнем джойсовском романе. — Вы жалуетесь, что эта ерунда
14 BeckettS. Lettre a Axel Kaun II Beckett S. Disjecta* Miscelanious Writings and A Dramatic
Fragment / Ed. by Ruby Cohn. New York, 1984. P. 172.
15Цит. no: Melese P. Samuel Beckett. Paris, 1966-1969. Ρ 137 В 1989 году, за два
месяца до смерти, Беккет продолжал настаивать на том, что его собственный метод
отличается от метода Джойса. «Я понял, — говорит он, — что Джойс пошел по пути
максимального накапливания знаний и контроля за тем, что писал Он без остановки
вносил дополнения: посмотрите на его черновики. Я понял, что я, напротив, пошел по
пути обеднения, умаления, утери знания, то есть скорее по пути вычитания, чем сложения»
(Цит. по: Knowlson J. Beckett. Paris, 1999. P. 453).
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте»
267
написана не по-английски. Это вообще не написано. Это не нужно
читать или, точнее, это не нужно только. читать. Это нужно
смотреть и слушать. Его (Джойса. — Д. Т.) письмо не о чем-то, оно само
есть это что-то.16
Об этом же принципе он пишет и в следующей своей критической
работе — книге о Марселе Прусте (1931). По словам Беккета,
он (Пруст. — Д. Т.) даже не пытается разграничить форму и содержание,
первая является конкретизацией второй, открытием целой вселенной.17
«Пруст» продемонстировал, что Беккет отнюдь не стремился к
академичности, которая не помешала бы молодому ученому,
готовящемуся к университетской карьере. Текст, в котором всего шесть сносок,
напоминает, скорее, попытку сформулировать свои собственные
предпочтения, не всегда совпадающие с воззрениями разбираемого автора.
Блестящие пассажи чередуются в нем со страницами, сомнительными
с точки зрения чистоты стиля. Тем не менее значение «Пруста» не стоит
преуменьшать: прежде всего, чтение «В поисках утраченного времени»
позволило Беккету найти несколько понятий, которые отвечали его
собственным представлениям о природе творчества. В первую очередь
это осознание искусства как апофеоза одиночества, во-вторых,
признание того факта, что человеческая личность состоит из множества
ускользающих «я», наконец, инспированное усердным чтением
Шопенгауэра отношение к музыке как к чистой Идее, свободной от феноменов.
В то же время Беккет не принимает прустовскую одержимость прошлым;
задача реконструировать прошлое и восстановить тем самым целостность
личности, утерянную в разрушительном потоке времени, совсем не
привлекает его. Наоборот, он хочет очистить личность от наслоений
прошлого, ибо приблизиться к смерти как к событию, разрушающему
темпоральность, можно лишь убивая прошлое. Подобного рода
очищение находит символическое выражение в пьесе Беккета «Последняя
лента Крэппа» (1958—1960): очищая от кожуры банан — символ
мужской силы, — ее единственный герой по фамилии Крэпп избавляется
от своей сексуальности и соответственно от своего прошлого, когда он
еще надеялся стать писателем и завоевать любовь женщин. «Убивая»
прошедшее, свои предыдущие «я», герой Беккета преодолевает
искушение найти объяснение своему нынешнему состоянию в прошлом:
Только что прослушал кретина, каким выставлялся тридцать лет назад,
даже не верится, что я когда-то был такой идиот. Слава Богу, с этим
со всем покончено, — говорит Крэпп.18
16 Beckett S. Dante... Bruno. Vice. Joyce II Beckett S. Disjecta. P. 27.
17 Beckett S. Proust. Paris, 1990. P. 101.
18 Беккет С. Последняя лента Крэппа // Беккет С. Театр. С. 220.
268 Приложения
* * *
В 1930 году заканчивается двухгодичное пребывание Беккета в
Париже и он вынужден вернуться в Дублин, чтобы приступить к
обязанностям преподавателя французской литературы в Тринити.
Замкнутый и сдержанный, он с трудом находит общий язык со студентами;
преподавание чрезвычайно тяготит его. С трудом выдержав один год,
Беккет решает подать в отставку, что и делает в январе 1932 года. Он
не может не отдавать себе отчет в том, какое разочарование вызовет
его решение у коллег по университету и в особенности у его родителей.
Тем не менее писательская деятельность привлекает его куда больше,
нежели интерпретирование чужих текстов. Вновь поселившись в
Париже, Беккет лихорадочно пишет свой первый роман — «Мечты о
женщинах, красивых и средних» (1932). Роман строится вокруг
взаимоотношений персонажа по имени Белаква, заимствованного Беккетом у
Данте, с тремя его возлюбленными: Смеральдиной-Римой, Сира-Кузой
и Альбой. В каждой из них нетрудно угадать черты тех девушек, к
которым Сэмюэль был неравнодушен: Смеральдина-Рима срисована с
Пегги Синклер, кузины Беккета, проживавшей вместе с родителями в
Германии; Сира-Куза имеет немало общего с дочерью Джойса Лючией;
наконец, образ Альбы навеян воспоминаниями о первой большой любви
Сэмюэля — студентке Тринити Этне МакКарти.
Надо сказать, что Беккет постарался убрать все прямые указания
на то, кто именно был прототипом Сира-Кузы, и это неудивительно,
если вспомнить о ссоре, после которой отношения Беккета и Джойса
прервались на некоторое время. Причиной ссоры была Лючия Джойс,
которая влюбилась в молодого ирландца, уверив себя, что он отвечает
ей взаимностью. На самом же деле Беккет скорее всего просто
испытывал симпатию к дочери мэтра, и не более того. После тяжелого
объяснения Лючия, душевное здоровье которой уже тогда вызывало
опасения, впала в депрессию. Нора, жена Джойса, обвинила Сэмюэля
в том, что он воспользовался ее дочерью, чтобы войти в доверие к
Джойсу. Тому не оставалось ничего иного, кроме как отлучить Сэмюэля
от дома. Лишь в начале 1932 года былые обиды были забыты, и Беккет
вновь стал появляться у Джойсов.
Гораздо меньше осторожности было проявлено Беккетом в
отношении двух других женских персонажей романа. В особенности это
касается Пегги Синклер, одно из любовных посланий которой Беккет
воспроизвел почти дословно в своем романе. Позднее писатель включил
его в виде отдельной новеллы и в сборник рассказов «Больше замахов,
чем ударов» (1934),19 который представлял собой переработанный
вариант его первого романа, при жизни Беккета так и оставшегося не
19 В русском переводе «Больше лает, чем кусает» (Киев, 1999).
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 269
опубликованным. Публикация этого личного письма, по-немецки
сентиментального и к тому же пестрящего грамматическими ошибками, не
могла не опечалить родителей Пегги, год назад потерявших свою дочь,
скончавшуюся от туберкулеза. Уже много лет спустя Беккет, не
просчитавший в свое время всех последствий своего шага, все еще сожалел
о том, что решился обнародовать письмо, хотя и понимал при этом,
что реальное событие, ставшее текстом, меняет свою природу и теряет
связь с конкретным отрезком времени, на котором оно было
расположено.
Роман «Мечты о женщинах, красивых и средних» остался самым
личным произведением Беккета, поскольку в дальнейшем он всегда
избегал прямых намеков на каких-либо реально существовавших людей.
Так, он дал согласие на публикацию написанной уже после войны
новеллы «Первая любовь» (1946; опубл. 1970) лишь после того, как
женщина, о которой в ней шла речь, умерла. И это при том, что Беккет
предельно деиндивидуализирует свою героиню, которая становится у
него безличным воплощением женского начала, угрожающего мужской
индивидуальности героя. Имя женщины здесь вообще не играет никакой
роли: вначале ее зовут Лулу, а потом ей присваивается имя Анна. Имя —
это мнимость, иллюзия или, если употребить театральный термин,
«тромплей» (от фр. «trompe-ГсеП»), «обманка». Оно скрывает под собой
аморфную стихию бессознательного; контакт с этой стихией, который
на экзистенциальном уровне манифестирует себя как контакт
сексуальный, ведет к постепенной утрате героем собственной индивидуальности,
и он сам теряет имя, превращаясь из асоциального бродяги-маргинала
в глобальное, самодостаточное, андрогинное существо. Таким образом,
характерный для Беккета отказ от изображения реальности, и в том
числе размывание личности персонажей, их деиндивидуализация,
объясняется не только и не столько щепетильностью писателя, сколько
общей динамикой его творчества, целью которого было не приращение
реальности, но ее умаление, сведение ее к абстрактной, нетелесной
форме, стремящейся к бесконечному нулю.
Для того чтобы достичь этой формы, необходимо пройти путь
очищения, преодолев в первую очередь потребности тела, удерживающие
человека в абсурдном мире существования. Вот почему беккетовскому
герою так важно разорвать путы детопроизводства, преодолеть
сексуальность. Уже в «Мечтах о женщинах, красивых и средних» главный
герой, Белаква, делает выбор в пользу чистой и идеальной любви,
восставая против любви телесной; он остается верен ему и в сборнике
рассказов «Больше замахов, чем ударов»: поддерживая сексуальные
отношения с несколькими женщинами, Белаква делает это нехотя, как
бы против своей воли, уступая натиску своих подруг. В любовном письме
к нему его возлюбленная Смеральдина описывает сон, который ей
приснился накануне: в нем Белаква превращается в маленького маль-
270
Приложения
чика, который не знает, что такое любовь. Все попытки Смеральдины
объяснить ему сущность любви, которая для нее немыслима без телесной
связи, ни к чему не приводят: Белаква так и остается в неведении.
В последующих текстах мотив доминирующей активности женщины
и соответственно нарастающей пассивности мужчины приобретает еще
более резкие формы: теперь уже речь идет о настоящем изнасиловании
мужчины женщиной, как, например, в «Первой любви», где Лулу, она
же Анна, овладевает героем, погруженным в сон-смерть. Мужчина хочет
достичь покоя, освободиться от телесного, материального, Лулу же
навязывает ему половой акт, результатом которого будет рождение
ребенка. По сути, в новелле разыгрывается та же ситуация, что и в
написанной спустя много лет радиопьесе «Зола»: ребенок нужен
женщине, чтобы закрепить в мире дурную бесконечность бытия. Мужчина
превращается в пассивный объект желания, однако утеря им полового
влечения его ничуть не беспокоит.
Мэрфи, главный герой следующего беккетовского прозаического
текста, романа «Мэрфи» (опубл. 1938), не составляет здесь исключения.
Беккет начинает писать роман в Лондоне, куда он перебирается после
смерти отца, скончавшегося в июне 1933 года. Сэмюэль тяжело
переживал кончину отца, ведь именно с отцом, а не с матерью ему всегда
удавалось достичь наибольшего взаимопонимания. Теперь между ним и
матерью не осталось никого, кто мог бы притушить возникавшие то и
дело конфликты. После смерти Билла Беккета обстановка в доме стала
еще более тяжелой: Мэй Беккет превратила дом в мавзолей, а свою
жизнь — в бесконечный траур по супругу. Отягощенный
воспоминаниями, озабоченный своим физическим состоянием (его продолжают
мучить ночные страхи, пугают учащенное сердцебиение и общее истощение
организма), Сэмюэль покидает Дублин. В Лондоне он чувствует себя
свободнее, там больше возможностей для начинающего автора и, что
важно, нет таких цензурных ограничений, как в католической Ирландии.
Действительно, опубликованные в Лондоне «Больше замахов, чем
ударов» и «Мэрфи» будут вскоре запрещены в его родной стране, пополнив
список подвергнутых цензуре книг, среди которых уже находился джой-
совский «Улисс». Беккет живет в стесненных материальных условиях,
страдая от одиночества и неуверенности в себе: чтобы разобраться со
своими проблемами, ему приходится даже прибегнуть к услугам
психоаналитика. Сеансы психоанализа, которые проводил известный
впоследствии психоаналитик доктор Уилфрид Бион, продолжались около двух
лет. В это время Беккет активно интересуется психоаналитической
литературой, читает труды Фрейда, Адлера, Ранка, присутствует на одной
из лекций, прочитанных Юнгом в психиатрической клинике Тэвисток,
в которой работает Бион. Более того, Беккет не отказывает себе в
удовольствии продемонстрировать свою начитанность: так, в «Мэрфи»
поведение главного героя рассматривается с точки зрения различных
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте»
271
школ психоанализа, информацию о которых Беккет почерпнул в книге
Р. С. Вудворта «Современные школы в психологии» (1931). Его особое
внимание привлекают концепции, рассматривающие рождение ребенка
как первичную травму, последствия которой сказываются на человеке
на протяжении всей его жизни. Именно в этом контексте Беккет
рассматривает отношения со своей собственной матерью,
травматическую природу которых ему помог понять пройденный им
психоаналитический курс. Во время сеансов его посещают воспоминания о
внутриутробном периоде его жизни, когда он чувствовал себя
беспомощным, слабым существом, зажатым в тесном пространстве, из которого
нет выхода.
С психоаналитической точки зрения желание вырваться из
материнского лона объясняется необходимостью преодоления контроля рода
над формирующейся автономной личностью, отсюда неоднократно
предпринимавшиеся Сэмюэлем попытки ослабить власть матери над
собой, подчеркнуть свою независимость от ее всепроникающей заботы.
С другой стороны, притяжение родового слишком сильно, родовое
обещает покой, защиту от враждебного внешнего мира, от мира других.
Отсюда свойственное всем беккетовским персонажам стремление
обратить время вспять и вновь оказаться в замкнутом пространстве чрева.
Сеансы психоанализа помогли начинающему писателю осознать, что
только творчество может избавить его от зацикленности на собственных
неврозах и комплексах. Отныне писание станет для него единственным
способом существования, не в смысле зарабатывания денег, а в смысле
проживания бытия как текста, который пишется зачастую независимо и
даже вопреки авторской воле. Это не означает, что Беккет будет
эксплуатировать свои личные комплексы, выплескивая их на страницы
романов и пьес; наоборот, доля личного будет уменьшаться от
произведения к произведению, уступая место анонимному голосу бытия как
такового, взятого в своей вневременной и внепространственной основе.
Беккета всегда интересовали различного рода психические
отклонения; теоретические знания ему удалось подкрепить практическими
наблюдениями во время посещений знаменитого лондонского Бедлама, в
котором работал его друг доктор Джеффри Томсон. Санитаром в
психиатрическую лечебницу устраивается работать и Мэрфи. Мэрфи —
чрезвычайно характерная для Беккета фигура: одинокий,
неприкаянный уроженец Дублина, он живет в Лондоне, избегая контактов с
окружающим миром и испытывая стойкое отвращение к работе, а также
к семейным ценностям. Больше всего ему нравится раскачиваться
обнаженным в кресле-качалке; монотонные раскачивания погружают
его в состояние отрешенности, нирваны. Нарастающее отвращение к
жизни-в-мире сказывается и на его отношении к женщинам: хотя
женщины досаждают ему своим вниманием, сексуальные потребности
Мэрфи постепенно угасают. Беккет не забыл, что многие персонажи
272
Приложения
«Больше замахов, чем ударов» были легко узнаваемы, и на этот раз был
более осторожен.20 Так, Сэлия, любовница Мэрфи и проститутка по
роду своих занятий, уже не является слепком с какой-либо из подруг
Беккета; это просто персонификация женского начала, женщина как
муза и одновременно как послушное орудие воли рода. Забота Сэлии
о Мэрфи простирается так далеко (именно по ее настоянию Мэрфи
находит работу санитара), что она перестает быть просто любовницей
и становится скорее любовницей-матерью, главная цель которой в том,
чтобы Мэрфи был таким, как все, стал настоящим мужчиной,
зарабатывающим деньги и заботящимся о семье.
Вообще, у Беккета смешение образов матери и любовницы является
константой многих текстов. В романе «Моллой», к примеру, герой
откровенно признается в том, что образы его любовниц путаются в его
сознании с образом матери. Этому способствует и тот факт, что по
своему физическому состоянию любовницы Моллоя ничем не
отличаются от его матери: все они достигли крайних степеней телесного
разложения и настолько стары, что понятие возраста перестает играть
сколько-нибудь существенную роль. Моллой, отправившийся в долгое
путешествие на поиски своей матери, оказывается в конце концов в ее
комнате: по сути, занимая место матери, он возвращается к тому
времени, когда составлял с матерью единое целое, «вбирает» в себя
свою мать, растворяет ее в себе, и это позволяет ему разорвать путы
рода, удерживающие его на земле. Происходит радикальная деформация
всех родственных связей: мать является любовницей, а сын чувствует
себя своим собственным отцом. «Да, я был моим отцом и я был моим
сыном», — утверждает безымянный персонаж «Никчемных текстов».
Неудивительно, что и мать Моллоя принимает его не за сына, а за
собственного мужа. В результате герой вырастает в универсальную,
архетипическую фигуру, выпадающую из временного потока.
Центр романа «Мэрфи» составляет шестая глава, в которой дается
описание структуры духа его главного персонажа. Дух Мэрфи состоит
из трех зон: первая, зона света, — ментальный аналог физического
мира; во второй, так называемой зоне Белаквы, царствуют сумерки.
Вторая зона не имеет параллелей во внешнем мире, она замкнута на
себе, это зона бессознательного, опасность которой кроется в ее
вневременной природе: то, что неподвластно времени, превращается в
вечность. Наконец, третья зона, зона черноты, — это «матрица ирра-
циональностей», порождающая бесконечный круговорот распадающихся
и вновь возникающих форм; в третьей зоне Мэрфи «был лишь точкой в
20 Единственное исключение составляет ирландский поэт Остин Кларк, которого
Беккет вывел в романе под именем Остина Тиклпенни. Возмущенный сатирой на себя,
Кларк подумывал о том, чтобы возбудить процесс о диффамации, но потом отказался от
этой мысли.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте»
273
кипении линий, в ничем не обусловленной бесконечности рождающихся
и умирающих линий».21 Это зона абсолютной свободы, в ней все
возможно, но ничто не имеет места. Здесь нет движения, то есть нет
протяженности. Сжимаясь до размеров бестелесной точки, Мэрфи
возвращается в дородовое, добытийственное состояние, когда первородный
хаос еще не превратился в космос.
В целом шестая глава романа содержит в себе в концентрированном
виде многое из того, что Беккет почерпнул из трудов по философии и
психологии. Особенно занимает его в это время проблема соотношения
между телесным и духовным в человеке; Мэрфи также чувствует себя
разделенным на две части — тело и душу, которые каким-то загадочным
образом общаются между собой. Решение проблемы было предложено
активно изучавшимися Беккетом философами-окказионалистами, и в
первую очередь Николя Мальбраншем и Арнольдом Гейлинксом,
которые считали, что контакт между телесным и духовным есть реализация
божественной воли. Мэрфи, в принципе, согласен с таким объяснением,
однако внимания данной проблеме он уделяет все меньше, ибо телесные
его потребности быстро ослабевают. Мэрфи уже не нужно тело, ведь
оно не дает ему в полной мере вкусить абсолютной свободы небытия.
Раскачивание в кресле-качалке погружает его в забвение лишь на время,
затем ему приходится вновь возвращаться в мир повседневности. Только
смерть может принести Мэрфи долгожданное освобождение, и она —
редкий случай у Беккета — будет ему дарована в конце романа. Мэрфи
погибнет в результате неосторожного обращения с газом, который для
Беккета этимологически связан с хаосом. Окончательно избавившись от
тела, Мэрфи целиком переходит в третью сферу своего духа, которая
представляет собой часть общемирового хаоса. По сути, он становится
Богом, ведь Богу неведомы телесные ограничения, но Богом, который
не сознает себя Богом, Богом, который существует лишь в виде чистой
потенциальности.
Мир сумасшедших, с которым по долгу службы и по сердечному
влечению приходится сталкиваться Мэрфи, находит свое соответствие
во второй зоне его духа, зоне бессознательного. Подобно дантовскому
Белакве, прикорнувшему в тени огромного валуна в Предчистилище,
пациенты психиатрической клиники Марии Магдалины «зависли» в той
области бытия, где все «безостановочно останавливается»,22 никогда не
достигая конечной точки. Лишь один из них, господин Эндон,
существует по ту сторону как материального мира, так и области
бессознательного: дух Эндона состоит только из одной зоны, той самой третьей
зоны, куда Мэрфи удается попадать слишком редко. Именно Эндон
станет для Беккета той эмблематической фигурой, на- которую ориен-
21 Beckett S. Murphy. Paris, 1965. P. 84.
22 Beckett S. Watt. P. 211.
274
Приложения
тируются, бессознательно конечно, персонажи всех последующих
произведений писателя. Действительно, с одной стороны, Эндон неукоре-
нен в бытии, погружен в кататонический ступор, препятствующий
любым контактам с внешним миром. С другой стороны, он лишен и
мира внутреннего, погружение в который грозит постепенным
растворением в бессознательном, что и происходит в трилогии и особенно в
романе «Как есть», агонизирующий язык которого отражает полную
дезинтеграцию сознания. Мутизм Эндона, его бытие, трансцендирующее
как ограничения, накладываемые телесностью, так и безграничность
бессознательного, определяют в конечном счете всю динамику бекке-
товского творчества: вначале отказ от изображения внешней
действительности, затем растворение в недрах бессознательного и в конце
концов создание текста нейтрального, абстрактного, такого, каким будет
написанный спустя десятилетия прозаический текст «Недовидено
недосказано».
Конечно, у господина Эндона есть имя, но он не осознает его как
свое имя, есть тело, но он не осознает его как свое тело; лишь
окружающие его знают, что у этого тела есть имя. На самом деле Эндон
существует по ту сторону жизни и смерти, ибо не осознает, что живет,
и не осознает, что умер. Смерть его телесной оболочки ничего не
изменила бы в его состоянии: он и так уже свободен от тела. Залогом
его абсолютной свободы служит как раз то, что смерть его уже
состоялась — не та, ненастоящая, физическая смерть, которая, как сказал
бы Шопенгауэр, лишь демонстрирует неразрушимость нашего существа
в себе, а смерть как выход в ту область небытия, где нет ни личного
«я», ни безличного «оно». Точно так же и физическая смерть Мэрфи
определяется уже не внешними причинами, хотя погиб он на первый
взгляд в результате банального взрыва газа, а тем, что структура его
духа включает в себя третью зону, зону абсолютной свободы от бытия.
Роман «Мэрфи», как и два предыдущих беккетовских текста —
«Мечты о женщинах, красивых и средних» и «Больше замахов, чем
ударов», — наполнен явными и скрытыми цитатами и аллюзиями; эти
произведения сближает и тот факт, что действие в них разворачивается
в конкретном географическом пространстве и в менее конкретном, но
все же достаточно легко определяемом историческом времени. Однако
при этом, как справедливо отмечает автор фундаментальной беккетов-
ской биографии Джеймс Ноулсон, метод писателя радикально
отличается от метода, использовавшегося в литературе XIX века, и в частности
у Бальзака.
[Беккет] не использует топографические детали для того, чтобы
поместить своих персонажей в некую «естественную» среду, и тем более для
того, чтобы объяснить с их помощью поведение героев, — поясняет
исследователь. — Скорее эти детали лишь делают еще более явной ту
границу, которую Мэрфи пытается провести между своим внутренним
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 275
«мирком» и «гудящей путаницей» внешнего мира. Обилие указаний на
реально существующее место действия контрастирует с продуманным
отсутствием базовых сведений о протагонистах (так, читатель никогда
не узнает, кто же такой на самом деле Мэрфи) и с нарочитой
приблизительностью сюжетной составляющей повествования.23
В последующих текстах реалии внешнего мира будут размываться
все больше и больше, вплоть до почти полного их исчезновения. Эта
же динамика прослеживается и в отношении ссылок на произведения
других авторов: явные цитаты уступают место цитатам скрытым,
искаженным до неузнаваемости. Текст выпадает из литературного контекста
и становится «черной дырой», поглощающей чужие тексты. Существуя
вне цитатности, он отсылает в то же время к бесконечному количеству
других текстов, составляющих его неявную основу.
Уже в следующем прозаическом тексте, романе «Уотт» (1942—1944),
стремление деиндивидуализировать персонаж и окружающий его мир
будет во многом определять характер повествования. «Уотт» писался в
то время, когда Беккет был вынужден скрываться от оккупировавших
Францию немцев в небольшой горной деревне Руссильон, на юге страны.
Опубликован был роман спустя десять лет, в 1953 году. За те несколько
лет, что предшествовали началу войны, Беккет написал довольно мало.
В декабре 1935 года выходит сборник написанных по-английски поэм
«Кости эхо и другие осадки», в которых по-прежнему доминирует тема
страдания, покинутости, разлуки; спустя четыре годач Беккет начинает
писать пьесу, посвященную английскому писателю XVIII в. Сэмюэлю
Джонсону, но не может продвинуться дальше одиннадцатой страницы.
Надо отметить, однако, что некоторые особенности этой незаконченной
пьесы предвосхищают те характерные для Беккета-драматурга приемы,
которые в полной мере будут им использованы в пьесе «В ожидании
Годо» и других театральных произведениях. Действительно, сам
Джонсон, подобно Годо, ни разу не появляется на сцене, о нем говорят
другие, перебрасываясь короткими репликами, напоминающими диалоги
цирковых клоунов. Так будут говорить Владимир и Эстрагон, персонажи
самой известной беккетовской пьесы.
Работать над пьесой о Сэмюэле Джонсоне Беккет будет уже в
Париже, куда он переехал окончательно в 1937 году, чтобы прожить
там до самой смерти. В Париже Беккет стал впервые писать
по-французски: одиннадцать из сочиненных им за несколько довоенных лет
стихотворений будут опубликованы уже после войны в издаваемом
Сартром журнале «Тан модерн». 1946—1953 годы будут годами
«исступленной», как говорил сам Беккет, работы; пока же, во второй половине
1930-х годов, писатель как будто готовит почву для будущего прорыва:
много читает, в том числе любимого Шопенгауэра, переписывает целые
23 Knowlson J. Beckett. P. 276.
276
Приложения
страницы из трудов по философии, посещает музеи и выставки, много
общается с Джойсом. Джеймс Джойс и его жена Нора будут навещать
своего младшего друга в больнице, куда он попадет в самом конце 1937
года в результате хулиганской выходки какого-то пьянчуги, напавшего
на него с ножом. Это серьезное ранение, едва не приведшее к более
тяжелым последствиям, еще раз продемонстрировало писателю всю
уязвимость и шаткость человеческой экзистенции. Определенную роль
в мировоззрении Беккета сыграла, без сомнения, и поездка в Германию,
которую он предпринял в 1936—1937 годах. Германия очень изменилась:
из музеев выносятся произведения современного искусства, евреи
подвергаются преследованиям, повсюду царит нацистский дух. Беккет,
который всегда с отвращением относился к любым проявлениям
ксенофобии, находит отдушину в работах старых мастеров, словно не
подвластных Истории, течению времени. Две картины особенно его
поражают: автопортрет кисти Джорджоне и картина Каспара Давида
Фридриха «Два человека, созерцающих луну». Человеческое лицо,
выступающее из темноты, — этот образ, навеянный автопортретом
Джорджоне, станет центральным, если не единственным в таких пьесах, как
«На этот раз» (1974), «Колкбельная» (1981), «Соло» (1981). Человек
одинок, замкнут на себе, коммуникация между людьми невозможна —
подтверждение этой мысли Беккет находит и в созерцании картины
Каспара Давида Фридриха, на которой изображены две залитые светом
луны маленькие человеческие фигурки, поразительно напоминающие
Владимира и Эстрагона, застывших в ожидании Годо.
В целом, живопись играет чрезвычайно важную роль в творчестве
Беккета. Помимо работ старых мастеров его восхищает современная
живопись, лучшими образцами которой он считает картины Джека Йейтса,
Андре Масона, Таль Коата, братьев Абрахама (Брама) и Герардуса ван
Вельде. Характерно, что, избегая говорить о своем художественном методе,
Беккет изложил основные его положения именно в статьях о живописи,
напечатанных после войны под заголовками «Мир и штаны», «Художники
препятствия» и «Три диалога». Согласно Беккету, современная живопись,
признавая, что «выражать нечего, выражать нечем, выражать не из чего,
нет силы выражать, нет желания выражать», выражает как раз эту
невозможность выражения.24 Быть художником — значит терпеть провал,
неудачу, но именно в приятии неудачи как эндемической неизбежности
художник находит основание для своего творчества. Писательство также
должно перестать быть свершением, считает Беккет, и должно стать
опытом «того, кто не знает, того, кто не может». Если цель художника —
изобразить то, что препятствует изображению: отсутствие этого
изображения, то цель писателя — облечь в слова то, что препятствует
вербализации: отсутствие этих слов, то есть молчание.
24 Beckett S. Three dialogues II Beckett S. Disjecta. P. 139.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте»
277
* * *
Итак, в октябре 1942 года Беккет и его подруга Сюзанна Дешево-
Дюмениль, которая впоследствии станет его женой, оказываются в
горной деревушке Руссильон, почти без средств к существованию,
вырванные из привычной интеллектуальной среды. Позади остался
мучительный переезд из оккупированного Парижа, который Беккет и его
спутница были вынуждены спешно покинуть, когда угроза их ареста
стала слишком явной. После каждодневной опасности, которой Беккет,
входивший в подпольную группу участников Сопротивления,
подвергался в Париже, жизнь в Руссильоне будет, несомненно, более
спокойной, но в то же время и более однообразной. Для Беккета, вынужденного
заниматься, чтобы заработать на пропитание, тяжелой физической
работой в поле, писание романа «Уотт» становится единственной
возможностью уберечь себя от распада. Роман, целиком построенный на
принципе исчерпания всех возможностей бытия, кажется на первый
взгляд чисто формальным упражнением ума, интеллектуальной игрой,
за которой не скрывается глубинного смысла. В реальности это одно
из самых значительных и самых загадочных беккетовских произведений,
роман-инициация в область вневременных сущностей. Сюжет его
достаточно прост: Уотт, типичный беккетовский маргинал, нанимается
слугой в дом некоего господина Нотта. Его пребыванию там посвящены
две первые главы произведения, повествование в которых идет от
третьего лица. Уотт, наследник Декарта, одержим жаждой знания, он
не выносит, когда вещи, имена которых были ему известны, вдруг
перестают быть таковыми, теряют привычный свой облик. А именно
это и происходит в доме господина Нотта; слова как бы «отклеиваются»
от предметов, и, для того чтобы присвоить объекту новое имя или
вернуть ему старое, Уотту приходится выстраивать бесконечные серии
предположений и допущений.
Никакого контакта со своим хозяином Уотту установить не удается,
ибо в его доме все находится в процессе вечного становления, все
нестабильно, неустойчиво. Меняется даже сама внешность Нотта, и на
следующий день невозможно утверждать, что речь идет о том же
человеке, что и в предыдущий. Уотт волен задавать вопросы (сама его
фамилия — по-английски «Watt» — является омофоном слова «what?»,
«что?»), но ответов на них он не получит (недаром фамилия Нотта —
по-английски «Knott» — это омофон слова «not», «не»).
Природа господина Нотта принципиально непознаваема, поскольку
трансцендируег понятия, присущие человеческому разуму. В сущности,
Нотт — это Бог, которому человек пытается приписать свои
собственные качества, пытается сделать его максимально похожим на самого
себя. Однако такая попытка была бы, по мнению рассказчика,
непозволительной «антропоморфической дерзостью».
278
Приложения
Несомненно, господин Нотт олицетворяет собой бессознательное, в
котором происходит совпадение противоположностей, невозможное в
мире логики и детерминизма. Уотт чувствует, что постепенно сам
начинает уподобляться своему хозяину, погружаясь в ту сферу бытия,
где отрицание равно утверждению, а на один вопрос дается бесконечное
множество ответов. В конце концов этот путь приведет Уотта в
психиатрическую лечебницу, о чем мы узнаем из третьей главы романа,
повествование в которой ведется уже не от третьего, а от первого лица.
Рассказом о пребывании Уотта в психиатрической лечебнице мы
обязаны Сэму, другому пациенту этого заведения, который и выступает в
качестве эксплицитного или фиктивного автора. Однажды Сэм видит
Уотта, передвигающегося по парку задом наперед; при этом его поражает
схожесть Уотта с Христом, изображенным на одной из картин Иеро-
нимуса Босха. Передвижение задом наперед, мотив, восходящий к
«Божественной комедии», символизирует здесь обращение времени
вспять и возвращение на стадию дородовую, досознательную. С точки
зрения языка, оно обозначает распад коммуникации и обессмысливание
речи. В самом деле, Уотт то переставляет предложения в высказывании,
то слова в предложении, то буквы в слове, то все вместе одновременно.
В романе приводятся восемь способов подобного рода перестановок,
причем восьмой и последний способ, предусматривающий синхронную
инверсию всех элементов высказывания, демонстрирует, что полное
разложение языка является тем этапом, через который необходимо
пройти, чтобы достичь тишины, ничто. Бессмысленные звуки, которые
произносит Уотт, не несут никакой конкретной информации, с чем не
может смириться Сэм, старающийся расшифровать их, приписать им
хоть какой-нибудь смысл. Когда Сэм утверждает, что ему удалось понять
как минимум половину из того, что говорит его приятель, он, как сказал
бы Сартр, сознательно скрывает истину не только от других, но и от
самого себя: действительно, ведь Уотту так и не удалось установить
контакт со своим хозяином, который изъяснялся именно на том
нечеловеческом языке, на каком изъясняется теперь сам Уотт. Как же тогда
Сэм может быть уверенным, что правильно понял своего приятеля? Сэм
пытается осмыслить то, что ускользает от смысла, то, что бессмысленно,
или, еще точнее, то, что заключает в себе так много непроявленного,
скрытого смысла, что он, этот непроявленный смысл, отрицает саму
возможность своей актуализации в качестве смысла явного, доступного
пониманию.
В «Мэрфи» Беккет впервые прикоснулся к реальности, которая
трансцендирует понятия смысла и бессмыслицы, жизни и смерти, и
сделал попытку дать ее развернутое, связное описание. Получился
вполне традиционный текст с нетрадиционным главным героем и всеведущим
автором-демиургом. Но уже в следующем романе позиция автора
подверглась существенной трансформации: автор теперь не является пол-
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 279
ностью внеположенной тексту фигурой, но начинает постепенно входить
в текст, о чем свидетельствует резкий переход от повествования от
третьего лица в первой и второй главе к повествованию от первого лица
в главе третьей. Автор уже находится внутри текста, однако еще не
растворился в нем окончательно, не случайно в четвертой главе романа
вновь осуществляется переход к третьему лицу. Такая неустойчивость
авторской позиции свидетельствует о том, что сам писатель еще на
перепутье: с одной стороны, он чувствует, что текст о бессознательном
не может быть больше текстом связным, логичным, последовательным,
с другой — ему сложно отказаться от той манеры письма, которая
сформировалась не в последнюю очередь под влиянием Джеймса
Джойса. Скоро, однако, от этой неуверенности не останется и следа:
погружение в бессознательное потребует от писателя максимального
ослабления контроля над текстом, вплоть до полного исчезновения в
текстовой массе, потерявшей свою структуру. Своей максимальной
интенсивности процесс вхождения автора в текст достигнет в романах
«Безымянный» и «Как есть», в «Никчемных текстах», а также в таких
пьесах, как «Соло», «На этот раз», «Экспромт Огайо»; автор здесь
превратится в простого «скриптора», у которого, по словам Ролана
Барта, нет «никакого бытия до и вне письма». Скриптор «говорит, как
слышит», то есть цитирует, удовлетворяясь ролью переписчика или, как
в пятом «никчемном тексте», писца. Отказавшись от контроля над
текстом, он попадает в многомерное пространство письма, созданное
тысячами культурных источников.
Скриптор, пришедший на смену Автору, — указывает Барт, — несет в
себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой
необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее
остановки; жизнь- лишь подражает книге, а книга сама соткана из
знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности.25
Закономерно к тому же, что процесс перерождения автора в
скриптора сопровождается сменой языка: в течение всего послевоенного
десятилетия Беккет пишет только по-французски (не считая
автопереводов). Стоит подчеркнуть еще раз, что отказ от английского языка
(разумеется, не окончательный) стал для писателя необходимым
условием преодоления диктата сознания над творчеством; чужой язык, в
который нужно было войти, предоставлял ему в этом смысле больше
возможностей. Характерно, что свое первое после войны художественное
произведение — рассказ «Продолжение», впоследствии
переименованный в «Конец», — Беккет начинает писать по-английски, но, исписав
двадцать девять страниц, перечеркивает страницу и переходит на
французский. Больше колебаний он испытывать не будет: в том же 1946 году
25 Барт Р. Смерть автора. С. 389.
280
Приложения
написаны по-французски рассказы «Изгнанник», «Первая любовь»,
«Успокоительное» и роман «Мерсье и Камье».
Все рассказы объединяет тема скитания, покинутости: их
безымянный персонаж рассказывает от первого лица историю своей жизни,
бедной на события, но богатой на невзгоды. Он посторонний в мире
людей, презирающих его за то, что он другой. Антуан Рокантен, главный
герой романа Сартра «Тошнота», вспоминает, как в детстве, во время
прогулок по Люксембургскому саду, ему приходилось сталкиваться с
человеком с рыбьим взглядом, устремленным внутрь себя. Каждый раз
при встрече с этим человеком Рокантен испытывал неподдельный ужас,
поскольку чувствовал, что в голове у того «шевелятся мысли краба или
лангуста».26 Такой же ужас и отвращение внушает окружающим и герой
беккетовских новелл, ибо они не понимают, что происходит у него в
голове.
Герои новелл настолько неотличимы друг от друга, что можно
говорить о некоем глобальном, архетипическом существе, кочующем из
текста в текст. Процесс освобождения персонажа от имени, а значит,
и от своей ложной индивидуальности, примет впечатляющие размеры
в написанной вскоре трилогии: если персонаж первых двух романов
еще назван по имени, то в последнем романе он становится просто
Безымянным. Возраст.его тоже не поддается определению, он
настолько стар, что «стабилизировался» где-то на границе между жизнью и
смертью.
Я больше не знаю, когда я умер, — заявляет герой новеллы
«Успокоительное». — Мне всегда казалось, что я умер старым, в возрасте
девяноста лет, и каких лет, лучшим свидетелем того было мое тело, с
головы до ног. Но этим вечером, один в своей ледяной постели, я
чувствую, что буду еще старше, чем в тот день, ту ночь, когда небо со
всеми своими огнями упало на меня, то же самое небо, на которое я
столько смотрел с тех пор, как начались мои скитания по далекой
Земле.27
Другая новелла, «Конец», завершается отплытием героя на лодке в
открытое море. Он отправляется на поиски смерти, отдав себя на волю
течения, которое уносит его прочь от тверди сознания в темную
безбрежность бессознательного.
Наверно, я заранее просверлил дыру в днище, потому что вот уже я,
на коленях, ножом выдирал затычку, — говорит рассказчик. — Дыра
была маленькая, вода прибывала медленно. На все про все могло уйти
целых полчаса, если без нежданных помех. Я снова сел на корму,
вытянул ноги, привалился спиной к мешку, набитому травой, который
служил мне подушкой, и проглотил транквилизатор. Море, небо, гора,
26 Сартр Ж.-П. Тошнота // Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992. С. 24.
27 Beckett S. Le calmant II Beckett S. Nouvelles et Textes pour rien. Paris, 1958. P. 39.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте»
281
острова стиснули меня мощной систолой и тут же разлетелись по
дальним краям пространства. Смутно, без сожаления, я подумал о
рассказе, который надо бы сочинить, о рассказе наподобие моей жизни,
то есть когда не хватает смелости кончить и сил нет продолжать.28
В 1945 году Беккет отправляется в Ирландию навестить свою мать,
и тут он переживает то, что сам назовет «откровением». Спустя почти
15 лет он вновь вернется к пережитому тогда, вложив рассказ о нем в
уста Крэппа, единственного персонажа пьесы «Последняя лента Крэп-
па».
Год прошел в духовном мраке и скудости до самой той незапамятной
ночи в марте, на молу, под хлещущим ветром, — не забыть, не
забыть! — когда я вдруг все понял. Это было прозрение. Вот что прежде
всего сегодня надо бы записать, на тот день, когда мой труд будет
завершен и в памяти моей, может быть, не останется уже ни теплого,
ни холодного местечка для того чуда... {колеблется) того огня, который
все озарил. А понял я вдруг, что то, из чего я всю жизнь исходил, а
именно... (Крэпп резко выключает магнитофон, прокручивает ленту вперед,
включает)... огромные гранитные скалы, брызги пены в свечении маяка,
и анемометр кружил как пропеллер, и вдруг меня осенило, что то
темное, что я вечно стремился в себе подавить, в действительности
самое во мне... (Крэпп чертыхается, выключает магнитофон, прокручивает
ленту вперед, снова включает магнитофон)... эта буря и ночь до самого
моего смертного часа будут нерушимо связаны с пониманием, светом,
с этим огнем...29
Крэпп, как и Беккет, тоже писатель, правда неудавшийся; было
продано всего семнадцать экземпляров его книги. Он проводит время,
слушая то, что записал на магнитофон много лет назад. Свет, о котором
говорит записанный на пленку его голос, это свет понимания,
озаривший его сознание: в ту холодную мартовскую ночь тридцать лет назад
он вдруг понял преимущества темноты, бессилия, смерти. Темнота
парадоксальным образом осветила его путь, бессилие стало источником
силы, смерть — плотью письма. Он понял, что понять смерть
невозможно, но именно это непонимание смерти и является необходимым
условием прозрения. «Недостижимое достигается через посредство его
недостижения», — говорил Николай Кузанский. Смерть становится
достижимой только в том случае, если больше не мыслится в качестве
таковой.
Крэпп не смог воспользоваться плодами своего «прозрения», он так
больше и не написал ни одной книги. Беккет в отличие от своего героя
28 Беккет С. Конец // Беккет С. Изгнанник С. 194.
29 Беккет С. Театр. С. 218.
11 С. Беккет
282
Приложения
сделал бессилие и непонимание основой своей художественной
стратегии, попытавшись найти такую форму, которая могла бы «выразить
грязь»:
Это не значит, что отныне искусство будет обходиться без формы, —
отметил он в одном из интервью. — Это значит, что форма будет новой
и что она сможет принять беспорядок, не пытаясь сказать, что
беспорядок в конечном счете — это нечто иное.30
«Грязь» становится у Беккета метафорой потерявшего свою
идентичность мира и «конвульсивного», как сказали бы сюрреалисты,
сознания; более того, в романах «Безымянный» и «Как есть» происходит
«материализация» этой метафоры: герой в буквальном смысле ползет по
вселенской грязи, покрывающей собой мир, в котором не осталось
ничего определенного, стабильного, твердого.
Послевоенные «французские» новеллы стали отправной точкой на
этом пути к «грязи», важнейшими этапами которого стали романы
трилогии, а кульминацией — такой не имеющий аналогов в мировой
литературе текст, как роман «Как есть». Но в промежутке между
новеллами и трилогией был написан еще один прозаический текст,
значение которого часто недооценивали, поскольку опубликован он был
уже после того, как получили известность основные прозаические и
драматические произведения Беккета. Речь идет о романе «Мерсье и
Камье».
«Мне легко рассказывать о путешествии Мерсье и Камье, потому
что я был с ними все время» — так начинается роман. В этом тексте
рассказчик еще занимает внешнюю по отношению к своим героям
позицию, он следит за их передвижениями и в конце каждой главы
составляет даже нечто вроде протокола, куда заносит все, что имело
место на протяжении определенного отрезка времени. В этом отношении
он похож на Сэма из романа «Уотт», который тоже играл роль свидетеля,
наблюдателя. Но Сэм ролью протоколиста не ограничивался: он
надеялся разобраться в бормотании Уотта, хотел понять смысл того, что
смысл трансцендирует. Рассказчик в «Мерсье и Камье», напротив, в
основном лишь фиксирует происходящее, не вмешиваясь в действия
своих героев.
Когда Мэрфи пытался установить контакт с господином Эндоном,
он стремился навязать ему некую модель поведения, стремился
подчинить его своей воле. Любопытно, что эта, правда неудавшаяся, попытка
имела место во время шахматной партии, которую разыграли Мэрфи и
Эндон. Это партия наоборот: один из игроков, а именно господин
Эндон, делает все возможное, чтобы, перемещая фигуры по доске,
30Цит. по: Melese P. Samuel Beckett. P. 138—139.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 283
вернуть их на прежние исходные позиции, не потеряв ни одной из них.
Неудивительно, что Эндон играет черными: он просто не хочет сам
начинать игру. Инициатива принадлежит внешнему миру, орудием
нападения которого являются белые фигуры. Мир хочет установить
контакт с Эндоном, и тому не остается ничего иного, как с маниакальным
упорством избегать столкновения с фигурами противника (при этом
нарушаются правила игры: фигуры перепрыгивают друг через друга,
возвращаются обратно и т. п.). Тем самым Эндон разрушает понятие
временной прогрессии, развития; ведь если его фигуры вновь
оказываются на своих местах, то получается, что и партии-то как таковой не
было. Оборачивая время вспять, Эндон возвращается в состояние до
времени, в ту исходную точку, в которой время присутствует лишь в
качестве чистой потенциальности. После того как он добивается своей
цели, белые, которыми играет Мэрфи, сдаются.
В сущности, Мэрфи хочет, чтобы Эндон уподобился шахматной
фигуре, которую можно было бы легко переставлять по доске.
Рассказчик в «Мерсье и Камье» такой цели перед собой не ставит: его герои
похожи не на шахматные фигуры, а, скорее, на заводных кукол, которые
судорожно передвигаются по пространству романа. Он следит за ними,
возможно, он их и «завел», но куда они двинутся в следующий момент,
он не знает сам. И действительно, Мерсье и Камье отправляются в
путешествие, не имея представления, что они ищут, затем возвращаются
на исходную позицию, вновь отправляются в дорогу и т. д.
Продвинуться в поисках им, по сути дела, не удается, хотя некоторая
прогрессия все-таки налицо: в конце романа они встречаются в другом
месте и в других обстоятельствах, чего не скажешь о Владимире и
Эстрагоне, героях «В ожидании Годо», которым сдвинуться с места так
и не удается.
Оба биографа Беккета — Дэрдр Бэр и Джеймс Ноулсон —
подчеркивают, что Беккет сам был страстным игроком в шахматы; одним из
его партнеров во время написания «Мэрфи» был доктор Джеффри
Томсон, благодаря которому писателю удалось несколько раз посетить
Бедлам. Беккет и Томсон проводили долгие часы, размышляя над тем,
каким образом можно сыграть партию, не пожертвовав ни одной
фигурой. В результате у Беккета сложилось стойкое убеждение, что
идеальной партией была бы та, в которой фигуры вообще не сдвигались
бы с места. В этом смысле «В ожидании Годо» — идеальная пьеса, ибо
в ней персонажи как будто прикреплены к своему месту. Если «Мерсье
и Камье» представляет собой отчет о путешествии двух неразлучных
друзей, во время которого герои неоднократно возвращаются на одно
и то же место, то «В ожидании Годо» является отчетом о том, что
происходит (а не происходит, в принципе, ничего), когда они наконец
«стабилизируются» в одной, произвольно взятой точке пространства.
Весь мир сжимается до размеров этой точки, существующей как бы вне
284
Приложения
времени. Вспомним, что в бесплотную точку превращался Мэрфи, когда
ему удавалось проникнуть в третью зону своего духа.
В «Мерсье и Камье» блуждания героев выполняют сюжетообразую-
щую функцию; в «Годо» такую же функцию выполняет ожидание.
Владимир и Эстрагон ждут того, кто придет и освободит их от ожидания.
Другая нерасторжимая пара персонажей — Лаки и Поццо, — несмотря
на кажущуюся свободу передвижения, также по сути статична: она
возникает ниоткуда и уходит в никуда, так что ее передвижения не
могут служить источником информации. Чтобы создать иллюзию
движения, персонажи вынуждены обмениваться репликами; они
перебрасываются ими как клоуны в цирке или артисты в мюзик-холле. Впрочем,
они говорят об этом сами:
Владимир. Чудесный вечер.
Эстрагон. Незабываемый.
Владимир. И пока не кончился.
Эстрагон. Скорее всего, нет.
Владимир. Только начинается.
Эстрагон. Это ужасно.
Владимир. Прямо как в театре.
Эстрагон. В цирке.
Владимир. В мюзик-холле.31
Такую же коммуникативную модель, основанную на незначительных
вариациях, Беккет использует и в неоконченной пьесе о Сэмюэле
Джонсоне, и в «Мерсье и Камье».
Критики неоднократно отмечали, что пара Мерсье—Камье
напоминает другую, известную в литературе пару персонажей: флоберовских
Бувара и Пекюше. Действительно, Бувар и Пекюше фактически не могут
существовать друг без друга, и в этом они похожи как на Мерсье и
Камье, так и на персонажей «В ожидании Годо». Наличие этой
нерасторжимой связи между персонажами создает значительный комический
эффект, причем если у Флобера она хоть как-то мотивирована (Бувару
и Пекюше интересно друг с другом, у них много общих тем для
разговоров), то у Беккета ее природа остается нераскрытой. Более того,
беккетовские персонажи устали от сосуществования и были бы рады
расстаться, но что-то мешает им это сделать. Возможно, не дает им
расстаться сам факт ожидания: они ждут того, кто поможет им обрести
их истинное «я», не то, ложное, «я», которое в повседневности
существования превратилось в пустую форму, лишенную содержания, но то,
которое есть чистое содержание, не нуждающееся ни в какой форме.
Ложное «я» определяет себя через другие «я», истинное «я» от них
независимо и не отсылает ни к чему иному, кроме как к самому себе.
31 Беккет С. В ожидании Годо // Беккет С. Театр. С. 52—53.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 285
Где сейчас? Кто сейчас? Когда сейчас? Вопросов не задавать. Я,
предположим, я. Ничего не предполагать. Вопросы, гипотезы, назовем их
так. Только не останавливаться, двигаться дальше, назовем это
движением, назовем это движением дальше.32
Так начинается последний роман трилогии — «Безымянный».
Движение, о котором говорит Безымянный, уже не имеет ничего общего с
физическим передвижением по пространству, это движение духовное в
поисках своего утраченного «я». Безымянный прикреплен к месту,
недвижим, и этим напоминает Владимира и Эстрагона. Но если герои
пьесы ожидают Годо как внешнюю по отношению к ним силу, то
персонаж последнего романа трилогии больше ничего не ждет от мира,
предпочитая вслушиваться в те голоса, которые поднимаются из
глубин бессознательного. Годо, откуда бы он ни пришел — изнутри или
извне, — это и есть то истинное «я», достижение которого будет
означать одновременно и преодоление тяжести земного бытия; обрести
«я» — значит вплотную подойти к той черте, за которой чернота
абсолютной свободы становится единственной и отныне неустранимой
реальностью.
Примечательно, что пьеса «В ожидании Годо» (1948) была написана
в то время, когда Беккет уже закончил роман «Моллой» и работал над
вторым романом трилогии — «Мэлон умирает». В «Моллое», как и в
«Мерсье и Камье», два основных персонажа: Моллой, который
отправляется на поиски своей матери (этому посвящена первая часть романа),
и Моран, который отправляется на поиски Моллоя (вторая часть).
Моллой и Моран также образуют нерасторжимую пару, причем Моран
в течение своего путешествия становится все больше похож на Моллоя.
Так два разных человека превращаются — и физически, и духовно —
в единое существо.
Фамилия Моран является анаграммой слова «роман», то есть Моран,
по профессии детектив, выполняет в тексте функцию писателя,
разыскивающего своего персонажа. В «Мерсье и Камье» автору своих
персонажей разыскивать не нужно, он и так находится все время рядом с
ними, поэтому его отчет об их передвижениях так точен. У автора в
«Моллое» (он же Моран) задача более сложная: ему нужно написать
отчет о том, кого он не знает. Поэтому ему не остается ничего иного,
кроме как самому стать тем, кого он ищет. Отчет о другом становится
отчетом о самом себе.
Итак, Моран пишет отчет (роман) о том, как он искал Моллоя,
то есть самого себя. Но и Моллой пишет отчет (роман) о том, как он
искал свою мать. Если Моран превращается в Моллоя, то нечто похожее
происходит и на уровне текста: два романа сращиваются в один, и отчет
32 Беккет С. Безымянный // Беккет С. Трилогия. С. 320.
286
Приложения
о поисках себя самого необходимо становится отчетом о поисках своей
матери, своих истоков. Для того чтобы обрести свое истинное «я»,
нужно вернуться в ту точку, которая была его истоком. Путешествие в
пространстве, в которое отправились Мерсье и Камье, а затем и сам
Моллой, должно стать путешествием во времени. Не случайно Моллой
постепенно теряет способность свободного передвижения, превращаясь
в беспомощного инвалида, прикованного к постели. Тело ему уже не
нужно, ибо оно было бы препятствием на пути к тому, что неподвластно
материальному.
Мэлон, герой следующего романа, уже не встает с кровати: с
помощью карандаша он фиксирует на бумаге постепенное ухудшение
своего состояния, которое, как он надеется, приведет его к смерти.
Я пухну. Что если я лопну? — спрашивает он себя. — Потолок
поднимается и падает, поднимается и падает, как заведенный, так уже
было, когда я лежал в утробе. Необходимо упомянуть еще о падающей
воде, явление mutatis mutandis, аналогичное, по всей видимости,
миражам, случающимся в пустыне. Окно. Его я больше не увижу. Почему?
Потому что, к сожалению, не могу повернуть головы. Все тот же
свинцовый свет, густой, клубящийся, пронизанный крохотными
туннелями, ведущими к сиянию, возможно, воздуха, притягательного воздуха.
Все готово. Кроме меня.33
Он ждет смерти, как Владимир и Эстрагон ждут Годо, но ждет ее
в отличие от героев пьесы не извне, а изнутри, изнутри себя самого.
Беккет говорил, что начал писать «В ожидании Годо», чтобы
преодолеть ту депрессию, в которую его погрузила работа над трилогией.
В самом деле, отказ от изображения внешнего мира, стремление к
«обеднению» и «умалению» объективной реальности, приятие неведения
и бессилия как основополагающего принципа художественного
творчества поставили Беккета на грань душевного распада. Процесс
перерождения автора в скриптора, который начался еще в «Уотте», привел
к тому, что текст стал самостоятельной реальностью, неподвластной
воле писателя. Текст начинает писаться как бы сам собой, словесная
магма затягивает писателя, повествование перестает быть линейным
и превращается в «пережевывание» (пьеса «Шаги», 1976) одного и того
же.
Беккетовский герой мечтает о том, чтобы прямая линия
существования свернулась в круг, отражающий единство посмертного и
дородового небытия.
Ничего — только голову и две ноги, или одну, посредине, я бы ушел
в прискочку, — грезит персонаж «Никчемных текстов». — Или только
голову, совсем круглую, совсем гладкую, без выступов и впадин, я бы
катился под уклон, почти чистый дух, нет, так не выйдет, попробуем
33 Беккет С. Мэлон умирает // Беккет С. Трилогия. С. 314.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 287
еще раз, нужна нога, или эквивалент, может быть, несколько отростков,
умеющих сокращаться, с ними можно уйти далеко.
Вот почему герой Беккета часто принимает позу зародыша в чреве
матери, свертываясь в клубок. Смешение образов матери и любовницы,
о котором говорилось выше и которое принимает особенно яркие формы
в «Моллое» и в «Мэлон умирает», — лишь этап на пути к тому
недифференцированному и бессознательному бытию, достижение
которого для Беккета означало максимальное приближение к смерти. Но
именно эта «разлитость», замкнутость на себе архетипического бытия и
представляет собой главную угрозу, с которой пришлось ему столкнуться
во время работы над трилогией: стихия бессознательного, погрузиться
в которую было необходимо, чтобы разрушить каркас сознания, начала
угрожать индивидуальности самого писателя.
Уже в следующем романе — «Безымянный» — повествование
превращается в нагромождение сталкивающихся между собой, обгоняющих
друг друга слов. Темп речи убыстряется до такой степени, что
Безымянный не успевает еще закончить одну историю, как ему приходится
начинать новую. Время спрессовывается в одну точку,
последовательность событий нарушается, как будто тысячи маленьких побочных
веточек-историй начинают одновременно отрастать от ствола, корни
которого — в дородовом, бесструктурном существовании, а вершина
теряется в пустоте небытия. Кстати, впервые прием, состоящий в
нарушении последовательности событий, Беккет применил еще в романе
«Уотт», главный герой которого, рассказывая о своем пребывании в
доме господина Нотта, расставляет события в следующем порядке: два,
один, четыре, три. В полном соответствии с повествовательной манерой
«Уотта» Беккет переставляет местами третью и четвертую главы романа
(ту же операцию он проделывает с двумя частями «Моллоя»). Но именно
в трилогии нарушение последовательности событий становится знаком
не просто душевного нездоровья персонажа, а знаком постепенной
гомогенизации мира, утратившего свой временной стержень.
В статье «Смерть автора» Ролан Барт пишет:
Писатель подобен Бувару и Пекюше, этим вечным переписчикам,
великим и смешным одновременно, глубокая комичность которых как раз
и знаменует собой истину письма; он может лишь вечно подражать тому,
что написано прежде и само писалось не впервые; в его власти только
смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не
опираясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя,
ему все равно следовало бы знать, что внутренняя «сущность», которую
он намерен «передать», есть не что иное, как уже готовый словарь, где
слова объясняются лишь с помощью других слов, и так до
бесконечности.34
34 Барт Р. Смерть автора. С. 388-389.
288
Приложения
В «Мерсье и Камье» Беккет выступает в основном в роли
нейтрального свидетеля поступков персонажей; он не вмешивается в их действия,
но при этом сохраняет контроль над текстом в целом. Поскольку именно
он рассказывает об их путешествии, в его власти структурировать
повествование, придать ходу событий нужную последовательность, а
возможно, и опустить что-то (хотя в то же время он признает, что «есть
вещи, которые нам никогда не узнать наверняка»). Например, он ни
слова не говорит о том, что произошло с друзьями в промежутке между
их расставанием и новой встречей. Непонятно даже, сколько времени
протекло между двумя событиями. Точно так же поступает Сэм, который
не только пересказывает то, что сказал ему Уотт (а Уотт, как мы помним,
объяснялся на нечленораздельном языке), но и, похоже, добавляет
кое-что от себя. В первых двух романах трилогии «передача»
полномочий от автора к скриптору принимает по сравнению с
предыдущими произведениями еще более определенные формы и достигает
своего апогея в последнем романе. Уже в «Уотте» и «Мерсье и Камье»
писатель перестает быть тем, кто вынашивает, по выражению Барта,
свое произведение; в трилогии он просто тонет в языковой стихии, где
«слова объясняются лишь с помощью других слов, и так до
бесконечности».
Безымянный бредит:
[...] слова, ничего больше нет, надо продолжать, это все, что я знаю,
они прекратятся, я это знаю, я чувствую, как они покидают меня,
наступит молчание, на мгновение, на долгое мгновение, или же это
будет мое молчание, то, что длится, не длилось, длится всегда, это буду
я, надо продолжать, я не могу продолжать, надо продолжать, значит,
я буду продолжать, надо говорить слова, пока они есть, надо их говорить,
пока они меня не найдут, пока не скажут мне, странная боль, странный
грех, надо продолжать, возможно, все уже кончено, возможно, они уже
сказали мне, возможно, они донесли меня до порога моей истории, до
двери, которая открывается навстречу моей истории, меня бы это
удивило, если она откроется, это буду я, наступит молчание, там, где
я, не знаю, никогда не узнаю, в молчании не^наешь, надо продолжать,
я не могу продолжать, я буду продолжать.35
У него не осталось ничего, кроме слов, с помощью которых он
должен назвать молчание, проговорить его. Но сначала нужно
произнести все возможные слова и тем самым исчерпать их. Произнесенное
слово уходит в небытие, и смерть отвоевывает позиции, утраченные при
вторжении Логоса. Естественно, риск, с которым сталкивается писатель,
огромен: слово угрожает бесконечным саморазвертыванием, поглощаю-
35 Beckett S. L'Innommable. Paris, 1953 Ρ 212—213 (курсив мой. - Д. Т.). Валерий
Молот дает несколько иной перевод; см.: Беккет С. Безымянный // Беккет С. Трилогия.
С 462.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 289
щим индивидуальность творца. Но у писателя, поставившего своей
задачей достижение молчания с помощью слова, нет иного выхода:
погружение в магматическую языковую массу, которому на
психологическом уровне соответствует растворение в бессознательном, является
необходимым этапом на пути от конвенционального,
детерминированного сознанием языка к языку абстрактному, нейтральному, который
только и может назвать то, что ускользает от называния. В более поздних
произведениях, как прозаических, так и драматических, Беккету удалось
создать такого рода язык, но в 1949 году, когда он пишет «Безымянного»,
этап разложения языка и дезинтеграции сознания еще не пройден до
конца: внутреннее напряжение, нарастающее с каждым новым
произведением, заставляет писателя продуцировать все новые тексты.
Доведенный до крайних степеней истощения, он не может остановиться,
ибо текст начинает диктовать ему свои законы. Так, «Моллой», который
поначалу отнюдь не задумывался как роман с продолжением,
перерастает в «Мэлон умирает», давший в свою очередь жизнь «Безымянному»,
а за «Безымянным», в котором вроде бы были использованы все
возможности, предоставляемые языком, последуют «Никчемные тексты» и,
через десять лет, «Как есть».
Едва Беккет успел завершить рукопись «Безымянного», как ему
пришлось на некоторое время вернуться в Ирландию, чтобы ухаживать
за умирающей матерью. Смерть матери оставила в душе писателя
неизгладимый след; в «Никчемных текстах» он упоминает об этом событии,
но при этом, что характерно, ставит его не,в реальный, а в литературный
контекст.
Да, до конца, тихим голосом, сам себя баюкая, сам себя занимая, —
говорит с собой анонимный рассказчик, — и как прежде внимая,
внимая старым историям, как в те времена, когда отец держал меня
на коленях и читал мне про Джо Брима, или Брина, сына смотрителя
маяка, вечер за вечером, всю долгую зиму. Это была сказка, сказка для
детей, дело было на скале, в бурю, мать умерла и чайки с размаху
разбивались о стекло маяка, Джо бросился в воду, вот все, что я помню,
с ножом в зубах, сделал, что было надо, и вернулся, вот все, что я
помню нынче вечером, конец был хороший, начиналось плохо, а конец
был хороший, каждый вечер, комедия для детей.
Рассказчик не может точно вспомнить фамилию героя, и это важный
знак: история про Джо Брима, или Брина, перестает быть конкретной
историей, рассказанной в конкретной книге (отец действительно читал
маленькому Сэмюэлю эту сказку, но о какой книге идет речь, установить
так и не удалось), и становится просто услышанной в детстве историей
о жизни и смерти. Не имеет значения, какова мораль этой сказки для
290
Приложения
детей, важно, что в ней говорится о мальчике и его матери, о зиме, о
бурном ночном море. Кстати, Джо Брим упоминается еще и в новелле
«Успокоительное».
Да, нужно, чтобы сегодня вечером все было так, как в сказке, которую
читал мне мой отец, вечер за вечером, когда я был маленьким, а он
не мог пожаловаться на здоровье, чтобы успокоить меня, вечер за
вечером, сегодня вечером мне кажется, что это тянулось годами, я
плохо помню эту сказку, только то, что речь в ней шла о приключениях
некоего Джо Брима, или Брина, сына смотрителя маяка, крепком и
мускулистом весельчаке пятнадцати лет от роду, так прямо и было
сказано, преследуя акулу, он проплывал целые мили, зажав нож в зубах,
не знаю зачем, может, из героизма.36
Если сравнить два отрывка, заметно, что во втором, написанном
раньше, больше конкретной информации: во всяком случае, Джо не
является фантомной фигурой, как в первом отрывке. Неясно, для чего
ему понадобилось преследовать акулу, но понятно хотя бы, что он делал
в море с ножом в зубах. В то же время во втором отрывке ничего не
говорится о буре, о чайках, разбивающихся о стекло маяка, о смерти
матери. Таким образом, за те четыре года, что отделяют
«Успокоительное» от «Никчемных текстов», история про Джо Брима теряет в деталях,
но при этом на первый план выходят экзистенциальные мотивы.
На первый взгляд тот факт, что в истории про Джо вдруг возникает
мотив смерти матери, объяснить достаточно просто: незадолго до
написания «Никчемных текстов» мать писателя умерла, и он вставил это
событие в ткань своего рассказа. С другой стороны, нужно иметь в
виду, что этот мотив появляется также и в «Моллое», тексте,
написанном за несколько лет до смерти Мэй Беккет. Событие
вымышленное предшествует событию реальному. Здесь уместно вспомнить еще
об одном произведении — пьесе «Последняя лента Крэппа». На Крэп-
па снисходит «озарение» в холодную мартовскую ночь, когда волны
разбивались о гранитные скалы у подножия маяка. Именно эта ночь,
скорее всего, и описана в сказке про Джо Брима. В пьесе рассказ о
прозрении непосредственно следует за рассказом о смерти матери,
которая имела место глубокой осенью. По-видимому, между этими двумя
событиями — смертью матери и озарением — существует некая связь:
смерть открывает Крэппу глаза, заставляет его понять преимущества
темноты, молчания. Что касается Беккета, то его «откровение» посетило
летом 1945 года, и произошло это в комнате матери, задолго до ее
кончины.
Очевидно, что отношения текста с реальностью гораздо сложнее,
чем кажется поначалу. Текст ни в коем случае не является отражением
реальности, напротив, он ее продуцирует. Смерть матери, упомянутая
36 Beckett S. Le calmant. P. 44.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 291
в «Никчемных текстах», отсылает не столько к реальному событию,
сколько к другому тексту — сказке о Джо Бриме, услышанной в детстве.
При этом текст-источник до предела размыт, вырван из исторического
и литературного контекста; получается, что беккетовский текст отсылает
не к какому-то конкретному тексту, а к тексту как таковому,
анонимному, не имеющему ни начала ни конца. В принципе, слово
«отсылает» не совсем точно передает здесь специфику отношений между
двумя текстами, ибо подразумевает, что один текст написан раньше,
чем другой. На самом деле, анонимный текст не является в
полном смысле слова источником заимствований для другого текста,
поскольку не предшествует ему; выпадая из времени, он пишется
одновременно с тем текстом, который выходит здесь и сейчас из-под пера
скриптора.
Получается следующая картина: с одной стороны, кажется
бесспорной связь между историей о Джо Бриме и процитированным выше
эпизодом из первого «никчемного текста», в котором рассказчик
вспоминает о том, как отец рассказывал ему эту историю. В то же время
похожий эпизод имеется и в новелле «Успокоительное». Нетрудно
предположить, что отрывок из «Никчемных текстов» может отсылать как
непосредственно к истории, так и к новелле «Успокоительное»,
поскольку она по времени была написана раньше. Но нельзя не отметить
при этом, что в «Текстах» дается несколько иная версия истории: уходят
детали — и это вполне объяснимо, ведь с течением времени память
слабеет, — но появляется тема смерти матери. Если рассказчику все
труднее вспомнить, о чем шла речь в истории о Джо, почему тогда
возникает новый мотив, которого не было в предыдущей версии?
Конечно, на этот вопрос можно ответить так: как раз в это время мать
Беккета умерла, и это событие не могло не найти отражения в тексте.
Однако мы помним, что мотив смерти матери возникает у Беккета еще
до того, как произошло само это событие, а именно в романе «Моллой».
Когда же он вновь возвращается к этой теме — на этот раз в пьесе
«Последняя лента Крэппа», — то, связывая теперь уже состоявшееся,
принадлежащее прошлому событие с другим реальным событием —
снизошедшим на него «откровением», — он не только ставит последнее
в фиктивный, заимствованный в сказке про Джо контекст (холодная
мартовская ночь, штормовое море), но и меняет последовательность
событий: если в реальности сначала было «откровение», а затем смерть
матери, то в тексте все происходит наоборот. Кстати, похожее нарушение
последовательности имеет место и в романе «Мерсье и Камье»: в
последней главе романа появляется Уотт, персонаж предыдущего романа;
однако его относительно стабильное физическое и психическое
состояние позволяет предположить, что это Уотт, каким он был еще до того,
как попал в дом к господину Нотту и тем более в психиатрическую
лечебницу.
292
Приложения
В результате подобных манипуляций нарушается коррелятивная
связь между реальным событием и текстом; они становятся подвижными
по отношению друг к другу и могут теперь вступать в новые,
преодолевающие принцип миметизма отношения. Так, смерть как событие
дискурса (смерть матери в романе «Моллой») может предшествовать
смерти как событию экзистенциальному; если же рассказ о событии
следует за самим событием (смерть матери в пьесе «Последняя лента
Крэппа), то событие в этом рассказе может быть подвергнуто
трансформации, сама возможность которой определяется наличием других
текстов, в которых это событие уже было проговорено (то есть опять
же романа «Моллой», а также новеллы «Успокоительное» и «Никчемных
текстов»). Реальность становится текстом, единым текстом, не
вмещающимся в жанровые рамки. Какой бы текст из упомянутых выше мы
ни взяли, он являет себя как фрагмент некоего универсального текста,
который пишется как бы сам собой и содержит в себе множество
других текстов, переработанных до неузнаваемости. Вспомним, что во
второй зоне духа Мэрфи, зоне сумерек, располагались формы, не
имеющие соответствий во внешнем мире. Так и универсальный текст
предстает в виде единственной реальности, замкнутой на себе,
самодостаточной.
Мэрфи в конце концов удается растовориться в абсолютной черноте
третьей зоны — зоны ничем не обусловленной свободы. Но невозможно
попасть в нее сразу из первой зоны, зоны света; путь к свободе небытия
неизбежно проходит через зону сумерек. Сумерки — это смешение света
и темноты, зона перехода, в которой сосуществуют элементы двух других
зон. Первая зона еще подвластна времени, в третьей времени уже нет,
во второй же происходит разрушение темпоральное™ и свертывание
прямой линии земного, сознательного бытия в замкнутый круг бытия
бессознательного, «стабилизировавшегося» на полпути между жизнью и
смертью. Время перестает протекать из будущего в прошлое и
превращается в болото стоячей воды, в котором лицом вниз лежит беккетов-
ский герой.
Я в яме, которая вырыта столетиями, столетиями непогоды, — говорит
он, — лежу лицом к бурой земле со стоячей, медленно впитывающейся,
шафранно-желтой водой. Они там, наверху, обступили меня, как на
кладбище. Не могу поднять на них глаз, жаль. Не увижу лиц. Только
утопающие в вереске ноги («Никчемные тексты»).
Он не видит лиц других, поскольку его глаза больше не направлены
на внешний мир; они смотрят внутрь себя, внутрь этой огромной
головы, которая вобрала в себя всю вселенную. Он не видит лиц и не
помнит имен, поскольку там, где находится он, все безымянно. Он не
знает, сколько времени прошло с тех пор, как он оказался в своей яме:
может быть, протекли столетия, может, годы, а может, прошел лишь
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 293
один миг. Время сжимается в точку, и когда рассказчик в
«Успокоительном» и «Никчемных текстах» вновь внимает старой истории о Джо
Бриме (или Брине, имя не важно), он опять становится «стареньким
ребенком» («Никчемные тексты»), которого гувернантка выводит на
прогулку в сад.
Жизнь жизнь другая наверху в лучах говорят это была моя жизнь
урывками не возвращаться туда наверх какой вопрос некому меня об
этом просить и всегда было некому какие-то картинки урывками в
грязи земля небо какие-то существа в лучах некоторые стоя («Как есть»).
Та другая жизнь «наверху в лучах», о которой говорит безымянный
герой «Как есть», это жизнь в свете, даруемом разумом, жизнь в той
зоне духа, которая состоит из форм, имеющих соответствие в
объективном мире. В ней обретаются те, кто обступил распростертого в грязи,
превратившегося в личинку персонажа. Отголоски другой жизни
доносятся до него в виде «картинок», «образов» прошлого. Одна из таких
«картинок» — сценка молитвы, к которой мы уже обращались. Она,
несомненно, связана с прошлым, но герой проживает ее как то, что
происходит в настоящем; отсюда употребление настоящего времени,
которое Моллой предлагает называть «мифологическим настоящим».37
Беккетовского героя в отличие от героя Пруста возможность оживить
прошлое не привлекает; напротив, он чувствует, что главная опасность
кроется как раз в этом «вхождении» прошлого в настоящее, ибо оно
означает смещение временных пластов и, следовательно, ставит под
сомнение саму возможность заговорить когда-нибудь во времени
будущем, в том времени, когда придет долгожданный Годо и освободит от
этого «затянувшегося бессвязного переживания»,38 которое и есть жизнь.
Настоящее время — время ожидания, ожидания тем более мучительного,
что прошлое не отпускает от себя, заставляет вновь и вновь говорить
о себе.
Еще раз проделать путь, который привел меня сюда, а потом повернуть
назад, или идти дальше, разумный совет, — размышляет герой
«Никчемных текстов». — Это чтобы я больше никогда не двигался с места,
чтобы я здесь маялся до конца времен, и раз в тысячу лет бормотал:
«Это не я, неправда, это не я, я далеко». Нет-нет, я сейчас буду говорить
в будущем времени, как тогда, по ночам, когда я говорил себе: «Завтра
надену синий галстук, в звездах», и когда ночь проходила, я его надевал.
Только тогда, когда он заговорит в будущем времени, он сможет
произнести то самое последнее слово, которое и будет началом
бесконечного молчания. Но пока «слова и образы в бешеной пляске
проносятся [...] в голове, догоняя друг друга, ускользая, сталкиваясь, сливаясь,
37 Беккет С. Моллой. С. 25.
38 Там же. С. 24.
294
Приложения
и так до бесконечности».39 От текста к тексту темп речи нарастает, и
вот уже Безымянный, а за ним и герой «Никчемных текстов» начинают
захлебываться словами.
Мерзкие слова — чтобы я поверил, что я здесь, и что у меня есть
голова, и есть голос, голова, которая верит в то, верит в это, вообще
уже не верит, ни в себя, ни в другое, но все же голова, с ее голосом,
или не ее, а других, других голов, как будто бывают две головы, как
будто бывает одна голова, или безголовый голос, безголовый, но голос.
[...] И я не мешаю им говорить, моим словам, которые не мои, хотя
они говорят «мои», говорят слово «мои», но напрасно. Получается,
получается, а когда придут те, которые меня знали, скорей, скорей, вот
так, нет, рано («Никчемные тексты»).
В 1937 году, в письме к Акселю Кауну, Беккет утверждал, что задача
современного писателя должна состоять в том, чтобы почувствовать
молчание, которое скрывается за толщей языка. Для этого в языке
нужно «проделать дыры»:
Поскольку мы не можем устранить язык за один раз, —
рассуждает Беккет, — мы должны, по крайней мере, сделать все, что бы
могло опорочить его. Проделать в нем дыры, пока то, что скрывается
за ним — будь это нечто или ничто — не начнет сочиться, — я не
могу себе представить более благородной задачи для современного
писателя.40
«Нечто или ничто»: Беккет отнюдь не уверен в природе того, что
скрывается за толщей языка; что если за этими пустотами таится другая
реальность, устранить которую будет гораздо труднее, чем опорочить
язык? Что если за всей этой «безумной вакханалией» сталкивающихся
друг с другом слов «царит величайшее спокойствие, безразличие,
которого никто не потревожит, никогда»?41 Ничто не может нарушить
спокойствия глубинных пластов бытия-в-себе, где «нет прочного
фундамента, где все безжизненно наклонено и вечно рушится, вечно
крошится, под небом, не помнящим утра, не надеющимся на ночь».42
Это ведь только на поверхности так, — говорит Ада, героиня радиопьесы
«Зола». — Внизу — тишина, как в могиле. Ни звука. Весь день, всю
ночь ни звука.43
Но эта тишина ненастоящая, ибо соткана из бесчисленного
множества голосов, которые мучают героя, не дают ему успокоиться. Хотя
ему и кажется, что они приходят извне, на самом деле эти голоса звучат
39 Беккет С. Мэлон умирает. С. 217.
40 Beckett S. Lettre ä Axel Kaun. P. 172.
41 Беккет С. Мэлон умирает. С. 218.
42 Беккет С. Моллой. С. 41.
43 Беккет С. Зола. С. 260.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте»
295
в его голове, сливаясь в единый голос, приходящий из глубин
бессознательного.
[...] говорить я никогда не прекращаю, — утверждает Безымянный, —
но иногда говорю очень тихо, слишком далеко, слишком глубоко, и
ничего не слышу, нет, слышу, но не понимаю, я вообще никогда не
понимаю. Он (голос. — Д. Т.) слабеет, уходит, он за дверью, скоро я
умолкну, скоро наступит тишина, я начну слушать, это еще хуже, чем
говорить, нет, не хуже, не лучше. Разве что на сей раз наступит истинная
тишина, такая, которую никогда не придется нарушить, когда не надо
больше прислушиваться, когда я смогу успокоиться в своем углу, без
головы, умолкнуть, тишина, которую я всю жизнь пытался заслужить,
которую, я думал, можно заслужить. Скоро я замолчу, то есть
притворюсь, что замолчал, снаружи это незаметно. Как будто кто-то смотрит
на меня! Как будто это я! Тишина будет все той же, как всегда, будет
журчать приглушенными стенаниями, вздохами и стонами невыносимой
скорби, похожей на отдаленные раскаты смеха, с короткими паузами
гробового молчания, как у преждевременно похороненного. Длительное
или короткое, все то же молчание. После чего я восстану и снова
заговорю.44
Сартр полагал, что разрушение чего-либо возможно только тогда,
когда есть кто-то, кто трансцендентен этому разрушаемому бытию.
Образование горных складок, буря не разрушают, или, по крайней мере,
они не разрушают непосредственно: они просто изменяют распределение
масс существующих вещей. Их не меньше после бури, чем перед ней.
Есть другая вещь. И даже это выражение не подходит, так как, чтобы
полагать нечто иное, необходим свидетель, который мог бы каким-либо
способом удерживать прошлое и сравнивать его с настоящим в форме
«больше нет».45
Беккетовский герой таким свидетелем не является, так как
абсолютно имманентен тому аморфному бытию, которое он пытается
исчерпать с помощью слов. Словесные потоки, извергающиеся из его рта,
бушуют лишь на поверхности, перераспределяя пласты бытия, но никак
не затрагивая их неразрушимого ядра.
Итак,
чтобы произошло уничтожение, необходимо вначале отношение
человека к бытию, то есть трансцендентность. И в рамках такого отношения
необходимо, чтобы человек постигал некоторое бытие как разрушаемое.
Это предполагает ограничивающее вырезание бытия в бытии, то, что,
как мы это видели в отношении истины, уже есть ничтожение.
Рассматриваемое бытие есть это, и вне этого — ничто46
44 Беккет С. Безымянный. С. 438—439.
45 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 46.
46 Там же. С. 46-47.
296
Приложения
Если сравнить, скажем, роман «Безымянный» и «Никчемные
тексты», с одной стороны, с романом «Как есть», с другой, — то мы увидим,
что в первом случае текст построен по принципу безличной языковой
машины, безостановочно продуцирующей слова. Слов так много, что
невозможно остановиться, сделать паузу. Роман «Как есть», напротив,
представляет собой последовательность разных по длине строф,
разделенных паузами, пробелами. Это скорее поэма в прозе, чем
прозаический текст. Пауза возникает, когда «замирает одышка» героя, ползущего,
подобно червю (Червь — одна из инкарнаций Безымянного), по
вселенской грязи. Пауза — это зачаток тишины, обрести которую
стремятся все без исключения беккетовские персонажи, это то мгновение,
когда смолкает «бу-бу-бу со всех сторон» и наступает кратковременный
отдых. Пауза «вырезает», как сказал бы Сартр, бытие в бытии, отделяет
то, что было, от того, что будет. Невозможно уничтожить все бытие,
но можно попытаться уничтожить некоторое бытие. Пауза разрезает
бытие на куски, что само по себе уже есть «ничтожение».
Похожий демарш предпринимал, кстати, и Мэлон, персонаж
второго романа трилогии. Роман заканчивается на том, что группа
пациентов психиатрической лечебницы, среди которых санитар Лэмюэль и
Макман — инкарнация Мэлона, — отплывает на лодке в открытое
море. Сама графическая форма текста, расположенного в виде
опрокинутого вершиной вниз треугольника, с пробелами между строк, передает
вхождение в смерть, которая есть не что иное, как «блаженство
отсутствия».47
Лемюэль отвечает за всех, он поднимает топорик, на котором никогда
не просохнет кровь, но не затем, чтобы ударить, он никого не ударит,
он больше никого не ударит, он больше никого не коснется, ни этим,
и ни этим, и ни этим, и ни этим
и ни этим, ни топориком, ни палкой, ни кулаком, ни в мысли, ни во
сне, никогда он никогда
ни карандашом, ни палкой, ни
ни свет ни свет никогда
никогда он никогда
никогда ничего
больше
не.48
47 Беккет С. Мэлон умирает. С. 245.
48 Там же. С. 319.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 297
Мэлон заклинает смерть появиться, он почти уверен в успехе,
недаром он употребляет грамматическую форму будущего времени. Но
достигнут ли Макман и его товарищи вожделенной смерти, ведь
отплывают они в море, ту бескрайнюю стихию, которую невозможно разделить
на части? Вода обладает регенеративной природой; «вода есть то, что
убивает и оживляет», говорили средневековые алхимики.49 Грязь, по
которой ползет герой «Как есть», обладает, по-видимому, теми же
свойствами: если в первой части рассказчик пребывает в одиночестве,
то во второй ему удается достигнуть своего двойника по имени Пим,
которого он хочет заставить петь, ударяя того по голове и ввинчивая
открывалку в его ягодицы; в третьей он сам становится жертвой некоего
Бома, который является двойником Пима и одновременно самого
рассказчика. «Убив» Пима, грязь оживляет его в облике Бома, а Бом, как
признается к концу третьей части рассказчик, это он сам:
а эта история с процессией нет ответа эта история с процессией да
никогда не было процессии нет ни путешествий нет никогда не было
Пима нет ни Бома нет никогда никого не было нет только я нет ответа
только я да значит это все-таки было правда да я это правда да а как
меня зовут нет ответа КАК МЕНЯ ЗОВУТ вопли ладно
Грязь, как и вода, не имеет структуры, любая ее частица служит
заменителем целого; в грязи теряет всякий смысл понятие
последовательности или, другими словами, «процессии», как смены неких
объектов или состояний.
Если «Безымянный» и «Никчемные тексты» изобилуют запятыми,
то в «Как есть» знаков пунктуации нет вообще: действительно, запятая,
поставленная после слова, свидетельствует, с одной стороны, что это
слово уже произнесено, неважно — вслух или про себя, и, следовательно,
принадлежит прошлому, и что, с другой — на смену ему должно прийти
следующее слово. Герой первых двух произведений должен продолжать,
поскольку еще не проговорил все, что нужно проговорить, чтобы достичь
тишины; в «Как есть» ситуация становится еще более сложной: липкая
грязь, в которой барахтается персонаж, — это словесная магма,
существующая по ту сторону любого разделения. Попытка «оттеснить» слова
в прошлое уступает место стабилизации вне конкретного времени и
пространства; слова больше не следуют одно за другим, а начинают
существовать как бы одновременно, и вот уже «подлежащее бесконечно
удаляется от сказуемого, а дополнение оказывается в пустоте».50
Пауза в этой перспективе становится тем инструментом, которым
персонаж пытается прорвать однородную словесную массу; в отличие
от запятой, указывающей на то, что последует продолжение, пауза —
49 См.: Юнг К.-Г. Психология переноса. М; Киев, 1997. С. 188.
50 Бвккет С. Мэлон умирает. С. 259.
298
Приложения
это та «дыра» в языке, через которую должно просочиться ничто,
пустота, небытие. Но «истинная тишина» все не наступает, ничто
превращается в неопределимое, не поддающееся называнию нечто,
«дыра», проделанная в языке пустотой, «выравнивается».51
Там, где нет времени, смерть становится недостижимой, вот почему
в стремлении как-то структурировать повествование, придать ему некую
форму, безымянный герой «Как есть» делит свое существование на три
периода: до Пима, вместе с Пимом и после Пима. Тем самым создается
видимость временной последовательности, прогрессии. Проблема,
однако, состоит в том, что встреча рассказчика и Пима сама не укоренена
во времени, это некая абстрактная точка, которая не может служить
реальным ориентиром, поскольку не отсылает ни к каким иным точкам
времени или пространства. Куда ползет герой, он не знает сам, вокруг
только однородная грязь, так что рассказ о его медленном продвижении
в сущности бесконечен. То, что конец романа отнюдь не является
концом дискурса, следует из специфического употребления глагольных
времен: так, модальная конструкция («я могу сдохнуть»; в оригинале
употреблено условное наклонение: «я мог бы сдохнуть» ) превращается
в непосредственное будущее время («Я сдохну»), которое в свою очередь
уступает место настоящему («ладно ладно конец третьей части и
последней») и прошедшему («вот как было конец цитаты после Пима»).
Однако после того как происходит возвращение к настоящему времени
(«как есть»), надежда на то, что все уже в прошлом, становится совсем
уже призрачной. К тому же само название романа «Как есть»
(по-французски «Comment c'est») является омофоном инфинитива глагола
«начинать» (commencer); инфинитив же — это «пустая» форма времени,
которая заключает в себе все остальные глагольные формы. Ее
потенциальность позволяет ей быть вне времени. Таким образом, роман «Как
есть» становится романом о том бесконечно возобновляющемся
настоящем, которое, по слову рассказчика в «Мерсье и Камье», исполняет
«неблагодарную роль вечного утопленника».
Безымянного преследует образ «огромного кретинского рта,
красного, ревущего, пускающего слюни, в полном уединении, неутомимо
извергающего, наряду со звуками мокрых поцелуев и полоскания в
лохани, загромождающие его слова».52 Парящий в пустоте,
бестелесный Рот вновь возникает в пьесе «Не я», написанной по-английски в
51 См.: Беккет С. Зола. С. 260. В тексте «Недовидено недосказано», в котором нет
ни одной запятой, паузы размечаются с помощью точек, делающих текст фрагментарным,
прерывистым.
52 Беккет С. Безымянный. С. 434.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте»
299
1972 году. Из него по-прежнему продолжают извергаться слова, все те
же бессвязные слова, призывающие чудо смерти.
долгие часы темноты... а сейчас... сейчас... все быстрее и быстрее...
слова... мозг... хватающий впустую... обезумевший... трах! в пустоте...
попробовать в другом месте... хватать в другом месте... и постоянно
молитва... где-то там молитва... чтобы все остановилось... и нет ответа...
или его не расслышать... слишко слабый... и так далее...53
В пьесе есть еще Слушатель, чья бесформенная, завернутая в
широкую джеллабу фигура демонстрирует невозможность сопротивления
напору бессознательного. Роль Слушателя сугубо пассивна; его хватает
только на то, чтобы несколько раз бессильно всплеснуть руками.
Выдвигалось предположение, что Слушатель выполняет в пьесе функцию
психоаналитика, вслушивающегося в исповедь своего пациента; на
самом деле Слушатель в буквальном смысле реализует идею Беккета о
том, что писатель должен отказаться от контроля над произведением и
отдаться во власть слов. Слушатель — это сам писатель, выбравший
бессилие и неведение; ему остается только прислушиваться к
бессвязному потоку слов, в котором растворилась без остатка объективная
реальность земного мира. Преодоление контроля сознания ведет, в
частности, к стиранию половых признаков (Слушатель существует по
ту сторону полового разделения) и в результате к эрозии эго как
конституирующего центра личности. Если в ранних произведениях
Беккета главная опасность заключалась в сексуальной привлекательности
/женского тела, то теперь доминирует бестелесный голос, который
безостановочно мучает персонажа, напоминая о бесконечности бытия. Этот
голос идет уже не снаружи, а изнутри, из глубин бытия; он порождает
слова, выполняя, по сути, материнскую функцию.
В пьесе для телевидения «А, Джо?» (1965) голос женщины, звучащий
в голове Джо, постоянно воскрешает в памяти старую историю о
загубленной любви, убивая тем самым малейшую возможность
молчания, тишины. Самоубийство девушки, спровоцированное Джо,
парадоксальным образом не означает абсолютной смерти; девушка продолжает
жить в голосе другой женщины или, точнее, просто в голосе женщины,
не важно, какое имя она носит. Этот голос причиняет Джо большие
страдания, чем боль от неудавшейся любви; теперь его терзает боль
вечного «пережевывания». По мнению Альфреда Симона, этот голос,
вещающий то от первого, то от третьего лица, смешивается с голосом
нынешней любовницы Джо, с которой он поддерживает половые
отношения.54 Поэтому женщина угрожает ему как бы на двух уровнях: на
уровне половой любви (любовница) и на уровне сексуальности как
таковой (голоса). Но в сущности оба этих голоса едины, и, проникая
53 Beckett S. Pas moi II Beckett S. Oh les beaux jours, Pas moi. Paris, 1963-1974. P. 94.
54 Simon A. Samuel Beckett. Paris, 1983. P. 256.
300
Приложения
в голову другого, они навязывают ему свой собственный дискурс.
Слушатель уже не понимает, кто говорит — он сам или кто-то другой;
голос «наплывает» из глубин безындивидуального бытия, стирая границы
между человеком и остальным миром.
Драматические тексты, написанные Беккетом в течение 1950— 1960-х
годов, демонстрируют, что и в пьесах он остался верен стратегии, которую
выбрал в то время, когда приступал к написанию трилогии — ключевого
своего произведения. Действительно, беккетовский театр претерпел ту
же эволюцию, что и произведения в прозе: нейтральный автор-свидетель
(«Мерсье и Камье»; «В ожидании Годо») пришел на смену автору
всеведущему («Мэрфи»; первая, при жизни Беккета так и не
опубликованная, пьеса «Элеутерия» (1947; по-гречески «свобода»)), а он в свою
очередь уступил место пассивному слушателю, растворяющемуся в
массах продуцируемого им текста (трилогия, «Никчемные тексты», «Как
есть»; «Зола», «Счастливые дни» (1960—1961), «Игра» (1963), «Не я»
и др.).
Уже в следующей после «В ожидании Годо» пьесе «Эндшпиль»
(1954—1956) используется тот же прием, что и в романах «Моллой» и
«Мэлон умирает»: персонаж пишет (а точнее, проговаривает) роман, в
котором фигурирует он сам. Действительно, история, которую сочиняет
прикованный к инвалидному креслу слепец Хамм, — это история о том,
как к нему, в незапамятные времена, пришел мужчина с ребенком^
умирающим от голода. Этот ребенок — не кто иной, как Клов, его
слуга, усыновленный Хаммом и воспитанный в его доме. Теперь Клов
помогает Хамму влачить его жалкое существование, но все время
порывается уйти, покинуть дом своего приемного отца. Интересно, что
одно окно лома выходит на море, а другое — на безжизненную землю.
Исследователь творчества Беккета Альдо Тальяферри заметил, что пустая
комната с двумя высоко расположенными окнами, в которой находятся
персонажи, напоминает череп с пустым глазницами.55 Таким образом,
все, что имеет место на сцене, является экстериоризацией того, что на
самом деле происходит в голове.
Важный момент: Клов не понимает, что речь в «романе» идет о
нем; так, персонаж произведения не ощущает себя персонажем,
существующим в фиктивной реальности текста. Клов, слова которого —
«конец, конец... скоро конец... наверно, скоро конец...»56 — открывают
пьесу, не может уйти от Хамма, пока не окончен роман, а поскольку
Хамм не слишком продвинулся, вероятность ухода стремится к нулю.
Как говорит сам Хамм: «В самом начале — конец, и все равно
продолжаешь».57
55 Tagliaferri A. Beckett et la suredetermination litteraire Paris, 1977. P. 85.
56 Беккет С. Эндшпиль II Беккет С. Театр. С. 123
57 Там же. С. 160
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 301
Американский критик Энох Братер обратил внимание на тот факт,
что и «Эндшпиль», и «Не я» содержат аллюзии на библейскую историю
о Ноевом ковчеге.58 Беккетовский Хамм — это один из сыновей Ноя,
занявший место отца; но его ковчегу не суждено достичь вожделенной
земли, ибо он застыл в неподвижности. Не случайно возраст
персонажей — обитателей ковчега в принципе не поддается определению, хотя
речь и идет о представителях трех поколений. Иногда они ведут себя
как дети, нуждающиеся в помощи; иногда — как облеченные властью
взрослые. Подобное смешение детства и старости отражает вечное
возвращение бытия к своим истокам, его замкнутость на самом себе:
ребенок уже родится с «оскалом покойника».59
В один прекрасный день ты ослепнешь, — предсказывает Хамм Кло-
ву. — Как я. Будешь сидеть, крошечный, затерянный в пустоте, навеки
во тьме. Как я. [...] Бесконечность пустоты будет вокруг, всем мертвецам
всех времен, воскреснув, ее не заполнить, ты будешь как песчинка
посреди бескрайних степей.60
Если в «Моллое» Моран, который пишет отчет о своих поисках
Моллоя, постепенно превращается в того, кого ищет, то в «Эндшпиле»
персонаж «романа» — Клов — должен превратиться в его автора —
Хамма. Моран пишет о поисках другого, то есть Моллоя, но когда он
превратится в этого другого, придет черед писать о себе, о своих истоках.
На пути, ведущем в небытие, Морану суждено потерять имя и увидеть,
как объективный мир рухнет под напором словесной стихии.
Наедине со словами остается и Хамм: когда, уже в самом конце
пьесы, ему кажется, что Клов окончательно покинул его, он начинает
свой финальный монолог. Теперь,· когда герой его «романа» ушел (хотя
на самом деле Клов молча стоит возле двери), можно закончить
повествование о другом:
Мгновенья ничтожны, каждое — нуль, но они складываются, и
подводится счет, и заканчивается история, — говорит он.61
Отныне ему придется говорить только о себе, а это угрожает
бесконечным саморазвертыванием слова. Вспомним, что Безымянный,
запутавшийся в массах бытия-в-себе, никак не может определить, кто
он такой и где находится. Если нет больше никакого внешнего
ориентира (а Клов для Хамма и был таким ориентиром), то разговор о себе
превращается в череду вопросов, на которые не найти ответа. Как можно
понять, кто я такой, если вокруг никого нет?
58 Brater Ε. Noah, Not I and Beckett's «Incomprehensibly Sublime» II Comparative Drama.
VIII. N 3 Automne 1974. P. 254-263
59 Beckett S. Solo II Beckett S Catastrophe et autres dramaticules. Paris, 1986 P. 30
60 Беккет С. Эндшпиль С 142
61 Там же С. 168
302
Приложения
Говорить, говорить, говорить, как ребенок, который себя делит надвое,
натрое, чтобы было с кем разговаривать, когда страшно одному в
темноте.62
Когда Хамм проговаривает свою «историю», он как раз и делит себя
надвое: так автор рождает персонаж. Если Клов уйдет, Хамм останется
один, но такая же судьба ждет и самого Клова: вырвавшись из-под
власти автора-отца, персонаж обретет свободу, а вместе с ней и
одиночество. Об этом свидетельствует судьба Уотта, который, покинув дом
господина Нотта, пускается в бесконечное путешествие по кругам бытия;
платой за свободу будет утрата тела и безумие.
Хамм слеп и прикован к инвалидному креслу; Клов, наоборот, не
может сесть; Винни, персонаж пьесы «Счастливые дни», написанной в
начале 1960-х годов, просто погружена в землю, в первом акте — по
грудь, во втором — по шею. Земля символизирует здесь ту
неорганическую, первичную материю, погружение в которую равнозначно
разрушению индивидуальности и возвращению на дородовую, досознатель-
ную стадию. Винни, которую захлестывает поток бессвязных слов,
отчаянно цепляется за внещний мир; ей не хочется оставаться одной,
и она постоянно проверяет, на месте ли* ее сумка (сумка была и у героя
«Как есть») и ее муж Вилли. Последний, надо сказать, очень слабо
реагирует на ее призывы.
Вот только я терпеть не могу одиночества, — признается Винни, — в
смысле, терпеть не могу болтать в одиночестве, когда меня никто не
слушает.63
Если уйдет Вилли и исчезнет сумка, голоса, которые звучат в голове
Винни и которые она пытается заглушить своим «пустоговорением»
(Хайдеггер), окрепнут и завладеют ею. И тогда земля окончательно
поглотит ее, оставив лишь Рот, извергающий слова. Но пока у Винни
есть Вилли, сумка и то, что она называет своим «рассказом», своей
«историей». «На худой конец, если не останется ничего другого, всегда
остается мой рассказ»,64 — заявляет она. Это история о маленькой
девочке по имени Милдред, но, по-видимому, Винни рассказывает о
своем собственном детстве, рассказывает в третьем лице. Рот в пьесе
«Не я» тоже, кстати, говорил о себе в третьем лице, пытаясь выдать
свой голос за голос кого-то другого. Обращение к третьему лицу
позволяет тому, кто говорит, занять позицию наблюдателя, не включенного
в историю. Тем самым история как бы оказывается в его власти, и он
может оборвать ее, когда захочет.
62 Там же. С. 161.
63 Беккет С. Счастливые дни // Беккет С. Театр. С. 274.
64 Там же. С. 296.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 303
Винни не властна над настоящим, она не в силах остановить процесс
разрушения, в который вовлечено ее тело и ее сознание. «История»,
напротив, — это то, что с настоящим не связано, «история» относится
к прошлому, и, рассказывая ее, Винни демонстрирует, что прошлое
находится под ее контролем. Если настоящее неисчерпаемо, то прошлое
можно выговорить и тем самым уничтожить его, исчерпав все его
возможности. «История» помогает Винни отсрочить тот момент, когда
ей придется полностью раствориться в недифференцированной массе
бытия-в-себе, в том настоящем, которое вбирает в себя и прошлое, и
будущее.
Говоря о себе как о другом (такой же прием использует и Мэлон,
который называет себя сначала Сапо, а потом Макманом), Винни
изолирует свое прошлое, извлекает его из временного потока. Если она
будет говорить о прошлом как о своем прошлом, то вновь будет иметь
дело со временем: «раньше я была такой», — вынуждена будет она
признать, — «но сейчас я другая». Время — это вечное изменение, в
нем все вечно рождается и вечно умирает, смерть во времени не является
настоящей смертью, ибо «в конце все будет то же самое, в конце,
наконец, возможно, все будет прежним, как всегда и было».65 Истинная,
окончательная смерть происходит не во времени, а в отдельно взятом,
выпавшем из временного потока мгновении. Во времени событие смерти
уничтожается длительностью; в мгновении оно становится реальным.
Французский философ Жиль Делез обратил внимание на то, что с
древности существует два прочтения времени: согласно одному из них,
только настоящее существует, [...] оно впитывает в себя прошлое и
будущее, сжимает их в себе и, двигаясь от сжатия к сжатию, со все
большей глубиной достигает пределов всего Универсума, становясь
живым космическим настоящим. Достаточно двигаться в обратном
порядке растягивания, чтобы Универсум начался снова, и все его моменты
настоящего возродились. Итак, время настоящего — всегда
ограниченное, но бесконечное время — бесконечно потому, что оно циклично,
потому, что оживляет физическое вечное возвращение как возвращение
Того же Самого и этическую вечную мудрость как мудрость Причины.66
Когда герой «Никчемных текстов» говорит об «огромной секунде»
вечного «сейчас», не имеет ли он в виду как раз этот лабиринт Хроноса,
в котором все вечно повторяется, «пережевывается», как сказал бы
Беккет, в котором настоящее — это все, а «прошлое и будущее
указывают только на относительную разницу между двумя настоящими»?67
Но есть и другое прочтение времени, указывает Делез; в
соответствии с ним,
65 Беккет С. Безымянный. С. 412.
66 Делез Ж. Логика смысла. М., 1995 С. 84.
67 Там же. С. 85.
304
Приложения
существуют только прошлое и будущее, [...] они делят каждое настоящее
до бесконечности, каким бы малым оно ни было, вытягивая его вдоль
своей пустой линии. Тем самым ясно проявляется
взаимодополнительность прошлого и будущего: каждое настоящее делится на прошлое и
будущее до бесконечности. Или, точнее, такое время не бесконечно,
поскольку оно никогда не возвращается назад к себе. Оно
неограниченно — чистая прямая линия, две крайние точки которой непрестанно
отдаляются друг от друга в прошлое и будущее.68
Это время Зона, и в отличие от времени Хроноса настоящее в нем
есть «чистый математический момент», «отвлеченное понятие», «пустая
форма»,69 независимая от всякой материи. В Зоне настоящее — это не
имеющая длительности точка, нанесенная на бесконечную прямую. Она
атемпоральна и является, по сути, сгустком чистой энергии.
Винни, Мэлон, Безымянный, анонимные персонажи «Никчемных
текстов» и «Как есть» запутываются в клубке сплетающихся настоящих:
чтобы выбраться из него, они и прибегают к «истории», которая
представляет собой событие автономное, не связанное с другими. Но для
того чтобы «история» стала событием автономным, необходимо говорить
о ней в третьем лице. Если же говорить о ней в первом лице, то
прошлое войдет в настоящее, и герой опять окажется в лабиринте
Хроноса. Такую ошибку, кстати, совершает Хамм, когда проговаривает
свой «роман», и человек-личинка в «Как есть», когда вспоминает о
своем детстве. Правда, в последнем случае большую роль играет сама
«статичность» образа: фигуры матери и сына, бормочущих слова
молитвы, неподвижны, как на фотографии, и к тому же предельно деинди-
видуализированы. Вот почему сценка молитвы с легкостью может быть
«выдернута» из своего исторического контекста и перенесена в любой
иной; мать и ребенок вырастают в ней до размеров универсальных фигур
(характерно, что на фотографии, запечатлевшей маленького Сэмюэля и
его мать, почти не видно их лиц). И все же это образ-воспоминание,
образ прошлого, проникающий в настоящее и тем самым
«стабилизирующий» его. В этом смысле «история» похожа на паузу, которая
прорывает словесную магму «Как есть», «Не я», «Счастливых дйей»
и других текстов. Пауза — это «дыра» в языке, «история» — «дыра»
во времени, но через эту дыру начинает сочиться то неназываемое,
безымянное бытие, которое «обволакивает» героя, лишая его
возможности назвать смерть, заговорить о ней в будущем времени. Как же
«расширить» эти дыры, как превратить текст, который сворачивается в
круг бесконечных повторений, в чистую бестелесную прямую линию?
В своих поздних произведениях Беккет дает ответ на этот вопрос: об
«истории» нужно заговорить не в прошедшем (как это делает Винни,
68 Там же. С. 84.
69 Там же С. 85.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 305
лишь на время отсрочивая погружение в настоящее) и не в
«мифологическом» настоящем (как это делает герой «Как есть», разрушая
временную прогрессию), а в том настоящем времени, которое равнозначно
мгновению. «История» из образа-воспоминания должна стать чистым
образом-событием, той нематериальной точкой на прямой линии,
которая существует лишь в собственном угасании. Тогда единственной
формой ее бытия будет бытие-к-смерти.
Жиль Делез выделил в творчестве Беккета три «языка», три способа
существования текста. Язык I представляет собой «язык атомический,
дизъюнктивный, рубленый, отрывистый, где перечисление вытесняет
высказывание, а комбинаторные отношения — отношения
синтаксические; это язык имен».70 Своей кульминации язык I достигает в романе
«Уотт». Но если герой рассчитывает исчерпать все возможности с
помощью слов, а именно такова интенция беккетовских персонажей,
то для этого нужно обладать неким метаязыком, языком II, который
позволит исчерпать сами слова.
Чтобы исчерпать слова, — продолжает Делез, — надо приписать их
Другим, которые будут их произносить или, скорее, их излучать,
источать, следуя потокам, которые то смешиваются, то вновь расходятся.71
По Делезу, голоса — это волны или потоки, разносящие «языковые
частицы». Когда возможности исчерпываются с помощью слов, то
происходит своеобразное дробление языка на атомы; когда же
исчерпываются слова, то иссякают потоки голосов. Приписываемая другому
«история», выпадая из времени, из Истории, замыкается на себе, на своей
собственной индивидуальности, которая, однако, также представляется
эфемерной: извлечение события из исторического контекста в каком-то
смысле нивелирует его неповторимость, исключительность, поскольку
любой эпизод исторического события может быть перенесен в другое
место и в другую эпоху. Такое событие представляет собой
мельчайший отрезок времени, меньше минимума длящегося мыслимого
времени, ведь оно разделяется на только что прошедшее прошлое и
наступающее будущее. Но оно же при этом и самый долгий период
времени, более долгий, чем максимум длящегося мыслимого времени,
потому что его непрестанно дробит Эон, уравнивая со своей
безграничной линией. Важно понять, что каждое событие в Зоне меньше
наимельчайшего отрезка в Хроносе; но при этом же оно больше самого
большого делителя Хроноса, а именно, полного цикла. Бесконечно
разделяясь в обоих смыслах-направлениях сразу, каждое событие
пробегает весь Эон и становится соразмерным его длине в обоих
смыслах-направлениях.72
70 Deleuze G. L'epuise II Beckett S. Quad et autres pieces pour la television. Paris, 1992.
P. 66.
71 Ibid. P. 67.
72 Делез Ж. Логика смысла. С. 86.
306
Приложения
«История», как событие замкнутое на себе и в то же время
безличное, располагается на линии Зона, но «не заполняет» ее. Она
превращается в дробящуюся до бесконечности точку, в мерцающий образ,
который лишен протяженности, как временной, так и пространственной.
Энергия образа — энергия диссипативная, говорит Делез; образ исчезает
быстро и разрушается, будучи сам орудием этого разрушения.
В «Опустошителе» мерцает не только свет («вездесущий слабый
желтый свет, постоянно одержимый головокружительными метаниями
из одной крайности в другую и обратно»), но и температура,
«подверженная аналогичным колебаниям», а также звук — «слабое
стрекотание, которое исходит от самого света». В «Недовидено недосказано»
эта вселенская дрожь охватывает само тело персонажа («мельчайшей
дрожью, идущей из самой [...] глубины»), и оно тоже начинает мерцать
(«слегка пошатываясь взад и вперед, она (старуха. — Д. Т.) слабо
мерцает в лунном свете»). В результате тело утрачивает свою
субстанциальность и превращается в бесплотный образ.
Эффект мерцания достигается, как уже было сказано, за счет
бесконечного дробления мира, предельной его фрагментации. Фрагменты
мира больше не связаны между собой, каждый из них проживается как
автономная реальность, что приводит к разрушению темпоральное™ и
приостановке движения. Мир становится набором бестелесных образов,
которые лежат на прямой линии, но не заполняют ее. Несомненно,
подобного рода дробление заключает в себе определенную опасность,
и проявляется она прежде всего в сфере языка: действительно,
теоретически мерцанию мира должен соответствовать эйфорический гул,
гудение языка, распавшегося на отдельные элементы. Но в
«Опустошителе» и «Недовидено недосказано» языкового гула мы не слышим;
скорее, мы слышим тишину, которая коренится в самой сердцевине
слова «пустого», «полого», исчерпывающего себя в фиксации
мерцающего образа. Если образ не имеет глубины и есть одна лишь поверхность,
то слово, фиксирующее угасающий образ (а образ существует лишь в
процессе своего угасания), становится иконическим знаком
исчезновения, смерти. В «Как есть», напротив, языковый гул слышится явственно,
и исходит он от «кипящих» в языковом котле слов. Эти слова,
находящиеся в вечном процессе «брожения», — все, что осталось от
утратившего свою идентичность разложившегося мира, мира
черной/однородной грязи, которая не мерцает, но, наоборот, поглощает свет. Здесь
слово оказывается лишь фрагментом анонимной речи, которая
«засасывает» персонаж, не давая ему выговорить небытие и тем самым сделать
его реальным.
Итак, дробление мира может, с одной стороны, привести к
образованию «слитного», аморфного мира («Как есть», «Безымянный») и, с
другой — вызвать мерцание («Опустошитель», «Недовидено
недосказано»). Естественно, предпочтительнее второй вариант, ибо он напрямую
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 307
связан с возможностью достижения смерти как окончательного
освобождения. Но как выбраться из грязи и раствориться в мерцании?
Думается, ответ кроется в словах из «Опустошителя» о том, что в
цилиндре все умирает «смертью настолько постепенной и, в сущности
говоря, настолько мерцающей, что она даже ускользает от взгляда
посетителя». Смерть начинает мерцать, когда она ускользает от
наблюдателя и не воспринимается в качестве смерти; вспомним господина
Эндона, который существует по ту сторону и жизни и смерти. Эндон
знает лишь одну реальность — реальность отсутствия, но он не осознает
себя как находящегося внутри отсутствия. Если внешний мир и
существует для него, то лишь в форме абстрактных геометрических фигур,
лишенных телесности (например, фигур шахматных). Его внутренний
мир так же беден, как и внешний, а его голова в отличие от головы
героя «Как есть», в которой раздается неумолкающий рокот слов, пуста,
свободна от слов, в ней звучит неслышимая музыка небытия.
Характерна следующая сцена из романа «Мэрфи», в которой прямо говорится
о том, что Эндон мерцает:
Как только господин Эндон сделал свой сорок третий ход, Мэрфи
долгим неподвижным взглядом уставился на доску, потом, не сводя с
нее глаз, тихо положил на бок своего Короля. Мало-помалу он
почувствовал, как его глаза наполняются сиянием, исходящим от фигуры
господина Эндона, который так и продолжал сидеть взявшись руками
за ноги. И скоро Мэрфи увидел, как искрящиеся пурпурные, ярко-
красные и черные пятна халата господина Эндона слились в единое
целое, и из этого лопающегося, подобно почкам, жужжащего смешения
выплыл расплывчатый, но стойкий силуэт Ниери,73 к счастью,
лишенный лица. Усталость сморила Мэрфи, и он уронил голову прямо на
доску, от чего фигуры разлетелись со страшным грохотом. Красочный
образ господина Эндона, ненамного менее яркий, чем сам оригинал,
еще какое-то время присутствовал в его сознании, затем и он
растворился, и Мэрфи увидел Ничто, то бесцветное сияние, которое мы,
покинув материнскую утробу, видим так редко и которое есть не что
иное, как отсутствие (давайте проигнорируем то тонкое различие,
которое кроется в этих словах) не столько percipere, сколько percipi. Все
остальные его чувства также пребывали в покое, что было для него
приятной неожиданностью. И этот покой был непохож на простое
оцепенение ощущений, нет, он был вызван тем, что «нечто»
превратилось в Ничто, то Ничто, которое насмешник из Абдеры74 считал
реальнее самой реальности.75
Мэрфи проникает в отсутствие, в котором постоянно пребывает
господин Эндон, только тогда, когда отказывается от мысли туда про-
73 Один из персонажей романа.
74 Протагор, древнегреческий философ (V в. до н. э.).
75 Beckett S. Murphy. P. 176.
308
Приложения
никнуть; неудача оборачивается успехом, а поражение — победой, хотя
и временной. Если Эндон не осознает себя ни в качестве объекта
наблюдения, ни в качестве субъекта мысли, то Мэрфи приближается к
такому же состоянию, не осознавая самого факта своего приближения.
Он идет по дороге, ведущей в безымянное, не отдающее себе отчета в
своей безымянное™. Собственно Безымянный, а также
персонаж-личинка «Как есть» еще страдают от.своей безымянное™; путь Мэрфи
лежит туда, где анонимность оборачивается небытием. То же самое
происходит и со старухой из «Недовидено недосказано», и с
персонажами «Опустошителя»: они начинают мерцать, когда перестают ждать,
ждать, что придет Годо, который освободит их от страдания. Только
тогда «ожидание забвения» превращается в «ожидание забвение».76
Орудием забвения становится язык III, в котором преодолевается
как конвенциональность обыденного языка, так и аморфность
бессознательного, безличного дискурса. Язык III — это энергия чистого,
абстрактного образа, он
сводит язык уже не к поддающимся перечислению и комбинированию
предметам и не к голосам — «передатчикам», а к своим внутренним
изменчивым пределам, к пробелам, дырам и разрывам, в которых не
отдаешь себе отчета, приписывая их простой усталости, в то время как
на самом деле они неожиданно увеличиваются в объеме, как бы
принимая в себе что-то, что приходит снаружи, извне.77
Уже в «Как есть» чистый образ ведет борьбу с
образом-воспоминанием:78 «это не воспоминания нет воспоминаний нет у него нет», —
утверждает рассказчик. В последующих текстах выбор делается то в
пользу одного, то в пользу другого: так, образ-воспоминание доминирует
в радиопьесе «Слова и музыка», в коротких прозаических текстах «Из
заброшенного произведения» и «Хватит», входящих в сборник
«Мертвые головы» (1967), в тексте под названием «Общение» (1980). Но и
здесь, особенно в «Общении», налицо существенные изменения,
затрагивающие прежде всего взаимоотношения между субъектом и объектом
коммуникации. В отличие от более ранних текстов голос, который в
«Общении» доносится до кого-то, лежащего в темноте, не исходит из
глубин подсознания героя, а приходит извне, из окружающей его
пустоты, так что складывается впечатление, что персонаж не имеет к
нему никакого отношения. Более того, голос не дает ему заговорить от
первого лица, навязывая ему третье: «Употребление второго лица озна-
76 «Ожидание забвение» — так называется текст Мориса Бланшо.
77 Deleuze G. L'epuise. P. 69-70.
78 Первый набросок «Как есть» носил название «Образ» и заканчивался словами:
«Готово я сделал образ» (Beckett S. L'image. Paris, 1988. P. 18). Согласно Делезу, эти слова
означают, что исчерпаны все возможности образа, который в результате прекращает свое
существование (см.: Deleuze G. L'epuise. P. 78).
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 309
чает голос. Употребление третьего — этого злостного другого. Если бы
он мог говорить с тем и о том, с кем и о ком говорит голос, вышло
бы первое лицо. Но он не смеет. Не станет», — констатирует
бесстрастный рассказчик и тут же, чтобы еще резче обозначить пропасть между
говорящим и слушающим, в дело вступает голос, обращаясь напрямую
к персонажу: «Ты не смеешь. Не станешь».79 Таким образом, если голос
занимает внешнюю по отношению к персонажу позицию, то рассказчик
внеположен и персонажу, и голосу: в результате у него появляется
реальная возможность закончить текст, поставить долгожданную точку,
погрузиться в блаженство молчания.
В других текстах есть лишь балансирующий на грани исчезновения
абстрактный образ, бесплотный, как геометрическая фигура. К этой
группе относятся такие тексты, как «Воображение мертво воображайте»,
«Бах», «Без» (все три также входят в сборник «Мертвые головы»80),
«Опустошитель», «Недовидено недосказано», пьесы для телевидения. От
словоизвержения «Не я» остается немногое: короткие синтагмы приходят
на смену нечленимой словесной массе, темп речи снижается, третье
лицо окончательно вытесняет первое, предпочтение отдается
безглагольным конструкциям:
Голова как шар приподнята белые глаза неподвижное старое лицо бах
последний шепот а может и нет одинокий секунда потускневший глаз
черно-белый полузакрытый длинные ресницы умоляющие бах молчание
гоп кончено.81
Образ не держится дольше секунды, и вот он уже угас, растворился
в пустоте, окрашенной в черно-белые тона: белый цвет — вообще не
цвет, а его отсутствие, «пустая форма» цвета, подобная инфинитиву —
«пустой форме» времени (инфинитивные конструкции преобладают в
«Недовидено недосказано»); черный цвет — чернота и непроглядность
замогильного существования, не воспринимающий свет зрачок,
закрытый веком.
Образ можно вообразить только тогда, когда умерло воображение:
Нигде ни признака жизни, говорите вы, ба, ну и дела, воображение не
умерло, нет, умерло, хорошо, воображение мертво воображайте. Острова,
вода, лазурь, зелень, посмотрите внимательно, подумаешь, фокусы,
вечность, обойдите молчанием. В наибелейшей белизне ротонда. Входа
нет, войдите, измерьте. Диаметр 80 сантиметров, такое же расстояние
от пола до вершины свода. Две поперечные линии под прямым углом
делят белый пол на два полукруга. На земле два белых тела, каждое в
своем полукруге.82
79 Беккет С. Общение. С. 195.
80 Текст «Без» вошел во второе издание сборника, осуществленное в 1972 году.
81 Beckett S. Bing II Beckett S. Tetes-mortes. Paris, 1967, 1972. P. 66.
82 Beckett S. Imagination morte imaginez II Beckett S. Tetes-mortes. P. 51.
310
Приложения
Образ, который сочетает в себе максимальную конкретность и
максимальную безличность, помещается в абстрактное пространство
умозрительной геометрической фигуры: круга, полукруга, квадрата,
цилиндра. «Дно цилиндра, — говорится в «Опустошителе», — можно
разбить на три различные зоны, имеющие точные мысленные, или
воображаемые, то есть неуловимые физическим зрением, границы». Эдмунд
Гуссерль отметил в «Идеях к чистой феноменологии и
феноменологической философии», что
геометрия не схватывает в единичных интуициях, не описывает и не
упорядочивает в классификациях низшие эйдетические дифференции,
то есть бесчисленное множество фигур, какие можно изобразить в
пространстве, то есть поступает не так, как дескриптивные науки о
природе поступают с эмпирическими природными образованиями.
Наоборот, геометрия фиксирует лишь немногие виды основных фигур, а
также идеи тела, плоскости, точки, угла и т. д. — те самые, которые
играют определяющую роль в «аксиомах». [...] Геометрические
понятия — это понятия «идеальные», они выражают нечто такое, что нельзя
«видеть»; у них существенно другой «исток», а тем самым и существенно
другое содержание, чем у описательных понятий, которые выражают
сущности, почерпнутые в простом бесхитростном созерцании, а отнюдь
не «идеальное».83
Линии, делящие цилиндр на три зоны, нельзя увидеть: они
существуют лишь как мыслительная проекция, как идеальное понятие. Текст
исчерпывает себя в фиксации идеальных сущностей, ускользающих как
от физического, так и интуитивного восприятия. Он сам превращается
в геометрическую фигуру, которую автор чертит на пространстве белого
листа бумаги.
Характерно, что в «Опустошителе» и «Недовидено недосказано»
сначала исчерпывается пространство и лишь затем образ: сведение всех
возможных точек пространства к единой точке достигается за счет
максимально полного их охвата (отсюда тщательность, с которой
фиксируются все передвижения обитателей цилиндра, а также, хотя и в
меньшей степени, старухи, курсирующей от хижины к могильному
камню и обратно); в результате казавшееся безостановочным движение
замирает и происходит стабилизация, позволяющая превратить персонаж
из объекта описания в объект изображения. Если описание подразумевает
длительность, временную и пространственную протяженность, то
изображение позволяет зафиксировать объект в то не длящееся мгновение,
когда он дается как идеальный, бесплотный образ. Этот момент и будет
моментом его угасания, исчезновения.
83 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1:
Общее введение в чистую феноменологию. М., 1999. С. 151, 155.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 311
Уже в третьей части «Как есть» намечается переход от языка I как
языка имен к языку III как языку абстрактного пространства и образа:
перечисляя возможные комбинации, образуемые палачами (они же
жертвы других палачей) и их жертвами (они же палачи других жертв),
протагонист, по сути дела, «исчерпывает» не самих палачей и жертв,
являющихся лишь его клонами, а то пространство, которое они
занимают. В «Опустошителе», «Недовидено недосказано», «Бах»,
«Воображение мертво воображайте» язык III станет единственным языком изо-
бражения. В этих текстах мы становимся свидетелями радикального
изменения и в отношении автора к тексту, изменения, которое, впрочем,
продиктовано всей эволюцией беккетовского письма. В своих первых
произведениях Беккет ощущал себя демиургом, полностью
контролирующим свой материал; в «Уотте», а затем и в «Мерсье и Камье» начался
процесс вхождения автора в текст, достигший апогея в трилогии,
«Никчемных текстах», романе «Как есть» и некоторых пьесах. Теперь же
писателю удается преодолеть затягивающее влияние словесной магмы и
максимально абстрагироваться от текста, который становится
развернутой дидаскалией, бесстрастно фиксирующей то, что происходит в
идеальном пространстве геометрической фигуры. Если в «Мерсье и
Камье» автор играл роль свидетеля, постоянно находящегося со своими
персонажами, но не вмешивающегося в их действия, а в «Никчемных
текстах» — роль «вечного утопленника», барахтающегося в аморфной
массе текста, то в «Опустошителе» и «Недовидено недосказано» он
добивается максимальной «экстериоризации» по отношению к
собственному тексту. В результате имеет место предельная деперсонализация
автора, становящегося такой же фикцией, как и его персонажи, от
которых остался лишь пустой каркас. Их тело перестало быть телом
человеческим и превратилось в тело геометрическое.
В отличие от «Мерсье и Камье», где автор, следуя за персонажами
по пространству текста, пересказывал увиденное, в «Опустошителе» и
«Недовидено недосказано» за ним остается лишь функция наблюдения:
его глаз напоминает бесстрастный окуляр теле- или кинокамеры,
который ни на секунду не выпускает объект из поля обозрения. Впервые
Беккет обратился к технике следящей за персонажем камеры еще в
1960-е годы, в сценарии немого фильма, который так и назывался —
«Фильм» (1963—1964), и в пьесе для телевидения «А, Джо?». Но там
камера выполняла функцию «внутреннего» глаза персонажа: «Поиски
небытия путем устранения любого внешнего восприятия наталкиваются
на неустранимое восприятие себя самого», — предупреждает автор
сценария.84 В телепьесах, написанных в 1970—1980-е годы, — «Четверка»
(1980), «Трио призрака» (1975), «...одни облака...» (1976), «Nacht und
Träume» (1982) — камера уже занимает внешнюю по отношению к
84 BeckettS. Film II Beckett S. Comedie et actes divers. Paris, 1972. P. 113.
312
Приложения
объекту наблюдения85 позицию: ее задача состоит в том, чтобы
зафиксировать визуальный образ, бесплотный, тающий в пустоте. Слова (если
они есть, ибо «Четверка» и «Nacht und Träume» — пьесы без слов)
играют сугубо вспомогательную роль, всецело подчиняясь изображению
и — в «Трио призрака» и «...одни облака...» — музыке, которая
выступает как сила нематериальная, трансцендентная бытию.
Однако недоверие к слову, которое явно ощущается в телепьесах,
не заставило Беккета полностью отказаться от создания прозаических
текстов. Работая на рубеже 1960—1970-х годов над «Воображение мертво
воображайте», «Бах», «Без», «Опустошителем», а затем, спустя
десятилетие, над «Недовидено недосказано», он приходит к выводу, что слово
можно побороть не только музыкой и изображением, но и самим словом,
но для этого оно должно утратить свою субстанциальность, стать
нейтральным, безжизненным. Словесная грязь «Как есть» должна уступить
место словам легким, «сухим», по преимуществу коротким. Добиться
этого можно в том случае, если превратить прозаический текст в
сценарий (или, если угодно, в протокольную запись событий, подобную
той, которая завершала каждые две главы в «Мерсье и Камье»), где с
максимальной объективностью фиксируются мельчайшие изменения,
происходящие с образом.
Интересно, что глаз-«камера» может быть как статичной — тогда
она расположена как бы с внешней стороны текста, который
представляет собой объект фиксации («Опустошитель»), — так и подвижной —
и тогда она передвигается по пространству текста (в «Недовидено
недосказано» «камера» — это глаз другого, наблюдателя, который всюду
следует за старухой86). Важно, что возможность прекращения текста
определяется не желанием автора, а внутренней необходимостью смерти,
присущей чистому образу, фиксацией которого текст и исчерпывается.
По Делезу,
образ отвечает требованиям, предъявляемым Недовиденным
Недосказанным, Недовиденным Недослышанным, которые правят в царстве
духа. И, будучи движением духа, образ не существует вне процесса
собственного исчезновения, испарения, даже если оно наступает
преждевременно. Образ — это дыхание, дуновение, которое угасает,
затухает. Образ тускнеет, чахнет, это падение, чистая интенсивность,
которая обретает себя лишь в высоте своего падения.87
Когда кто-то говорит: «Готово я сделал образ» — это означает не
то, что он волевым усилием положил ему конец, а то, что образ,
85 Поскольку камера фиксирует даже не сам образ, а его исчезновение, точнее было
бы определить его, вслед за Делезом, как образ- процесс, а не как образ -объект.
86 Но в то же время наблюдатель сам является объектом наблюдения, как будто за
ним следит еще одна камера, ему внеположная.
87 Deleuze G. L'epuise. P. 97.
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте»
313
исчерпав все возможности своего бытия, угас, затух сам собой,
повинуясь внутренней необходимости. В «Недовидено недосказано» глаз
камеры останавливается то на крючке для застегивания обуви, то на
ларе в хижине, то на лице старухи:
Но вот внезапно ее здесь уже нет. Или она внезапно была покинута.
Скорее стул прежде чем она возникнет опять. Медленно. Все углы.
Каким единым словом назвать все перемены? Осторожно. Малейшим.
Ах прекрасное единое слово. Малейшее. Она — малейшая. Та же но
малейшая. Поэтому пусть глаз усердствует. Воистину освещение. Да и
слова тоже. Несколько капель на худой случай и уже удушье. Короче
недоговоря. Малейшая. Кончится тем что ее вообще не станет. Что ее
и не было никогда. Божественная перспектива. Воистину освещение.
Давно замолкли голоса, которые мучили героев «Никчемных
текстов» и «Как есть», и от старого альбома, полного воспоминаний,
осталось одно лишь нечеткое изображение. В то время как в ранних
беккетовских текстах старуха олицетворяла собой стихию
бессознательного, в «Недовидено недосказано» она, напротив, символизирует смерть
как блаженство пустоты и молчания: «Она уже не говорит сама с собой.
Она никогда сама с собой много не говорила. Теперь и вовсе перестала».
Ее глаза, которые затянуло бельмо беспамятства, все больше напоминают
бесцветные, «рыбьи» глаза господина Эндона, с их почти отсутствующей
радужной оболочкой:
Масса времени тем не менее две три секунды покуда радужная совсем
исчезает поглощена зрачком. А склера или попросту белок на вид
уменьшается вполовину. По меньшей мере меньше чем но какой ценой.
Можно предвидеть очень скоро если ничего непредвиденного — две
черные бездны как очки для души два сортирных очка. Здесь вновь
возникают слуховые окошки бесполезно отныне мутные. Причем будь
они прозрачны сквозь них струилась бы темная ночь или лучше просто
тьма. Настоящая тьма где в итоге нечего видеть.
И старуха, и господин Эндон, и другой беккетовский герой,
господин Нотт, достигли состояния покоя, того полного спокойствия духа,
которое сам Беккет в романе «Уотт» называл «атараксией».
Воспользовавшись терминами «Опустошителя», их можно назвать «неискателями»
или «побежденными», погруженными в глубокую прострацию.
«Побежденные» сидят в «позе Белаквы» — голова спрятана в колени, руки
обвивают ноги, — того дантовского героя, образ которого преследовал
Беккета на протяжении всего его творчества. Но если Белаква обречен
еще долгое время томиться у ворот Чистилища, то «побежденные»
обретают в своем поражении победу, победу над круговоротом бытия,
в который они были вовлечены в цилиндре. Выход из цилиндра не
имеет пространственных координат, он внутри них самих, в их бессилии
и неведении, в их исчерпанности. Так, то, что не существует, то, что
12 С. Беккет
314
Приложения
нельзя довидетъ и досказать, вдруг встает перед глазами со всей
очевидностью реальности: Ничто дает назвать себя, и тает образ, и
задергивается занавес, и наступает тишина.
* * *
Творчество Сэмюэля Беккета охватывает собой более полувека, и в
течение всего этого времени не прекращались попытки связать его с
доминирующими в литературе XX века направлениями и тенденциями:
от техники потока сознания в духе Джойса до такого влиятельного во
второй половине века течения, как «новый роман». Позднее, уже в
1960-е годы, возник термин «театр абсурда» и, шире, «литература
абсурда», и Беккет был объявлен одним из родоначальников этого
направления. Сам писатель воздерживался от каких-либо комментариев
по этому поводу, не отрицая, но и не подтверждая наличия возможных
взаимосвязей. В самом деле, невозможно, скажем, отрицать тот факт,
что в молодости Беккет находился под сильным влиянием Джойса, но
так же очевидно и то, что очень рано он осознал необходимость
освобождения от этого влияния и выработки своей собственной поэтики.
То же самое можно сказать и о близости Беккета к «новому роману»:
некоторое количество общих приемов (бесконечное дублирование
событий, автоцитирование, игра с местоимениями, использование других
текстов, а также математических формул и геометрических фигур,
обнажение приемов повествования) никак не может послужить основанием
для того, чтобы записать его в адепты этого литературного движения,
как, впрочем, и в адепты «театра абсурда», критерии принадлежности
к которому всегда оставались слишком размытыми. В целом, стремление
критиков поставить наследие Беккета в определенный литературный или
же философский контекст не только связано с вполне понятным
желанием «каталогизировать» писателя, но и определяется природой самого
беккетовского текста, который, существуя как бы вне литературы, вне
цитатности, отсылает в то же время к бесконечному количеству других
текстов. Беккетовский текст открыт для интерпретации, ибо
представляет собой, как сказал бы Барт, многомерное пространство, сотканное
из различных культурных источников, наличие которых так же трудно
опровергнуть, как и установить. Избегая высказываться о собственном
творчестве, Беккет давал понять критикам, что вся информация, по его
убеждению, содержится непосредственно в тексте, который существует
по своим собственным законам. Писатель, который признал за текстом
право на автономное существование, творит в неведении, следуя
внутренней логике письма. Он не может не писать, ибо только письмо
способно вырвать его из абсурдного мира повседневности; но и
писать —- это очень тяжело, почти невыносимо, особенно если «выражать
нечего, выражать нечем, выражать не из чего, нет силы выражать, нет
Д В. Токарев. «Воображение мертво воображайте» 315
желания выражать». Он пишет, надеясь когда-нибудь замолчать,
остановиться, поставить долгожданную точку, за которой последует тишина.
Но единственным орудием достижения этой тишины остается для него
слово: он должен выговорить тишину, назвать ее, заставить ее зазвучать.
Риск, с которым сталкивается писатель, огромен, ведь «непрерывные
поиски средств покончить с движением, покончить с разговором
гарантируют непрерывность повествования».88
Пожалуй, нет в литературе другого такого писателя, который лучше,
чем Беккет, почувствовал бы эту парадоксальную истину: путь, начатый
в «Мерсье и Камье» и еще раньше в «Уотте», привел его в трилогии,
«Никчемных текстах» и «Как есть» на грань распада и дезинтеграции.
Только обращение к невербальным видам художественной
деятельности — прежде всего, к кино и музыке — помогло ему преодолеть
притяжение бессознательного, безостановочного письма и превратить
его в письмо абстрактное, математически выверенное, бесплотное. В его
последних произведениях словесный образ уже «не существует вне
процесса собственного исчезновения» (Ж. Делез) и вплотную
соприкасается с тишиной. Но для того чтобы этот образ стал реальностью,
несущей в себе возможность своего собственного небытия, понадобилось
пройти долгий и трудный путь. Об этом свидетельствуют тексты,
представленные в настоящем издании.
88 Беккет С. Безымянный. С. 330.
ПРИМЕЧАНИЯ
МЕРСЬЕ И КАМЬЕ
1 Камье пришел на свидание первый. — Передвигаясь в поисках друг друга по
пространству сквера, Мерсье и Камье в сущности занимаются «исчерпанием»
этого пространства. Если Уотт, герой предыдущего романа, занимался
«исчерпанием» предметов, без конца перечисляя их, то теперь наступил черед такой
абстракции, как само пространство. В этом отношении таблица прибытий и
отбытий Мерсье и Камье предвосхищает математически выверенное описание
перемещений по пространству квадрата четырех безымянных персонажей
телевизионной пьесы «Четверка». Однако, в то время как персонажи «Четверки»
предельно деперсонализированы, Мерсье и Камье находятся еще в самом начале
пути в то анонимное бытие, которое станет единственной реальностью
«Никчемных текстов» и «Как есть».
2 Сент-Рут — В списке маршалов Франции фамилия Сент-Рут не значится.
Обстоятельства смерти Сент-Рута напоминают о д'Артаньяне, которого
пушечное ядро сразило в тот момент, когда ему был вручен маршальский жезл. См.
примеч. 82.
3 Присядемся — Неправильности в речи Камье являются отголоском
«звуковых конвульсий» Уотта.
4 Св. Макарий — Св. Макарий Великий, или Египетский (301—391) —
пустынник, за кротость и смирение прозванный отроком-старцем. См.
примеч. 11, а также примеч. 10 к «Никчемным текстам» и примеч. 24 к «Как есть».
5 Сарсфилд — Патрик Сарсфилд (ум. 1693) — ирландский национальный
герой. Сохранив верность свергнутому королю Якову II, возглавил вооруженную
оппозицию протестантскому королю Вильгельму Оранскому.
6 ... почти непрестанное желание помочиться. — У многих героев Беккета
нарушены выделительные функции организма (например, у Хамма в пьесе
«Эндшпиль»), что является признаком общего телесного разложения.
7 ... во времена великих бурь. — Имеются в виду события 1916—1921 годов,
которые предшествовали провозглашению Ирландской республики, независимой
от британской короны.
8 ... сокровищам уникального и неповторимого фольклора. — В статье
«Современная ирландская поэзия», опубликованной в 1934 году в лондонском журнале
«The Bookman», Беккет противопоставляет молодую ирландскую поэзию,
представленную именами Тома МакГриви, Дениса Девлина, Брайана Коффи,
«антикварам, которые отпускают свой оссианский товар с самодовольством и
надменностью ирландцев-победителей».
Примечания
317
9 У меня сильно упало зрение. — Слепота — еще одна напасть, настигающая
беккетовских героев. Однако утеря зрения не особенно их страшит, ибо
оборачивается потерей контакта с внешним миром, а также освобождением от
всевидящего ока Божества.
10 ... он герой Великой войны. — Имеется в виду Первая мировая война.
11 ... немолодые юнцы. — Характерный мотив смешения возрастов,
связанный с нарушением временной последовательности. См. примеч. 4, а также
примеч. 10 к «Никчемным текстам» и примеч. 24 к «Как есть».
12 ... не достигал его слуха. — В мире повседневности люди разъединены и
коммуникация между ними невозможна.
13 Чем раньше подохнем, тем лучше... — Этим девизом руководствуются все
без исключения беккетовские персонажи.
14 Наклонившись над шлюзами... — Пример проекции в будущее: в конце
романа герои оказываются на Шлюзовом мосту.
15 ... они рассуждали о том, о сем, перескакивая, по своему обыкновению, с пятого
на десятое. — Прием, состоящий в нарушении последовательности изложения,
Беккет использует в романах «Уотт» и «Моллой».
16 Шагал он осторожно, широко расставляя негнущиеся ноги. — В более поздних
текстах трудности с передвижением усугубятся и приведут в конце концов к
полной неподвижности.
17 Похоже на смешанный хор... — В голове Камье начинает звучать голос
бессознательного. Ср. в «Мэлон умирает»: «Я слышу также, добрались наконец и
до этого, я слышу хоровое пение, настолько далеко, что я не слышу, когда поют
piano. Поют песню, я знаю ее, не знаю откуда, и когда песня стихает, когда она
совсем смолкает, она продолжает звучать во мне, но слишком напевно или слишком
бодро, и потому, когда она снова летит по воздуху, она меня не настигает, то
отстает, то опережает. Хор смешанный, или я глубоко заблуждаюсь. Возможно, в
нем есть и дети. У меня нелепое чувство, что хором дирижирует женщина».
18 Это ты к нашему выручателю так обращаешься? — Камье имеет в виду
Бога, который у Беккета всегда враждебен человеку и несет ответственность за
его страдания на земле. При этом Бог лишь делает вид, что он индифферентен;
на самом деле его глаза постоянно направлены на человека, в присутствии
которого он находит оправдание собственному бытию.
19 ... не припутывай к нашему спору мадам Мерсье. — Во французском языке
слова «inemmerdable» (дословно: тот, кому невозможно доставить неприятности)
и «madame Mercier» составляют частичную анаграмму.
20 Будь в этом месте грязь поглубже... — В «Как есть» не останется ничего,
кроме вселенской грязи, в которой будет барахтаться человек-личинка.
21 Никаких насосиков ~ с этим покончено. — По мере того как герои
преодолевают притяжение телесного, убывает и их сексуальная активность.
22 Меня охватит желание выброситься из окна... — В том мире, где существуют
герои Беккета и где больше нет будущего, но только прошедшее, ставшее
настоящим, попытка самоубийства оборачивается лишь бесконечным
погружением в трясину остановившегося времени.
23 Рюкзак тоже исчез. — Исчезновение предметов становится знаком
постепенной гомогенизации мира. В «Как есть» и в пьесе «Счастливые дни»
герой бережно относится к своей сумке, поскольку ее наличие
свидетельствует о том, что он еще не окончательно погрузился в аморфную массу
бытия-в-себе.
318
Приложения
24 Я хотел только тебя обнять... — Ср. в «В ожидании Годо»: «Владимир.
Подонок! — Эстрагон. Вот, вот, давай ругаться. (Обмениваются
ругательствами. Пауза.) А теперь давай помиримся. — Владимир. Гого! — Эстрагон.
Диди! — Владимир. Твою руку. — Эстрагон. Вот она! — Владимир. Приди
в мои объятья! — Эстрагон. Куда? — Владимир (раскрывая объятья).
Сюда! — Эстрагон. Иду. (Обнимаются. Пауза.)».
25 — Здравствуйте, детки, — сказал Мерсье, — живо марш отсюда. — Ярость
Мерсье в отношении мальчика и девочки вызвана его отвращением к
деторождению (которое разделяют все герои писателя) и нежеланием подчинять свои
интересы интересам рода. Настоящая, «окончательная» смерть становится
достижимой лишь в том случае, если человеку удастся разорвать порочный круг
рождений и смертей, за которыми следуют новые рождения.
26 Все новые и новые слезы, набегая, текли по щекам и прятались в бороде. —
Ср. в «Безымянном»: «Да, я поистине купаюсь в слезах. Они собираются в
моей бороде, и оттуда, когда ее переполняют, — нет, никакой бороды у меня
нет, и волос тоже нет, большой гладкий шар на плечах, лишенный
подробностей, не считая глаз, от которых остались одни глазницы».
27 Кажется, я сейчас встану на четвереньки... — Такая поза символизирует
отказ от прямохождения и возвращение на стадию, предшествующую появлению
Homo sapiens.
28 Я совершенно воспрянул. — Ср. в «Мэлон умирает»: «Чужая смерть
животворна».
29 ... я научился забивать ягнят... — Персонаж, похожий на папашу Мэдде-
на (по-английски to madden — «сходить с ума»), есть в романе «Мэлон умирает».
Там он носит фамилию Ламбер и занимается забоем домашней живности.
30 ... о славных деньках, которых, к счастью, уже не вернуть. — Ср. в пьесе
«Последняя лента Крэппа»: «Возможно, мои лучшие годы прошли. Когда была
еще надежда на счастье. Но я бы не хотел их вернуть».
31 Пятьдесят лет тому назад это было, все равно что пятьсот. — Человеческое
время относительно; оно протекает на поверхности, а в глубине длится все та
же бесконечная, огромная секунда. Ср. в «Никчемных текстах»: «Как долго я
здесь торчу? Ну и вопрос, сколько раз я его себе задавал. И часто удавалось
ответить: „Час, месяц, год, сто лет", смотря что я понимал под „долго", под
„здесь" и под „я", и никогда я не искал в них ничего необычного, никогда не
пытался внести разнообразие, там просто нечему было меняться, кроме „здесь",
да и то чуть-чуть».
32 «Илиада», песнь третья, стих восемьдесят пятый и дальше... — «Рек, — и
ахеяне прервали бой и немедленно стали / Окрест, умолкнув; и Гектор великий
вещал среди воинств: / „Сонмы троян и ахеян красивопоножных! внимайте, /
Что предлагает Парис, от которого брань воспылала. / Он предлагает троянам
и всем меднолатым ахейцам / Ратные сбруи свои положить на всеплодную
землю; / Сам посреди ополчений с воинственным он Менелаем / Битвой, один
на один, за Елену желает сразиться. / Кто из двоих победит и окажется явно
сильнейшим, / В дом и Елену введет, и сокровища все он получит; / Мы ж
на взаимную дружбу священные клятвы положим"» (Гомер. Илиада / Пер.
И. Гнедича. М., 1993. С. 53).
33 Potopompos scroton evohe. — Сильно деформированная латинская фраза,
которую можно было бы перевести примерно как: «Да здравствует мошонка
шествующего на пир».
Примечания
319
34 ...в желтой шляпе-котелке... — Многие беккетовские герои носят шляпу-
котелок, которая, по мнению исследователей, символизирует собой материнское
лоно, куда они мечтают вернуться.
35 Вас зовут Голл. — В романе «Уотт» фамилию Голл (Gall, по-английски
«желчь», «злоба») носят отец и сын — настройщики пианино.
36 ... с плутром. — Несуществующий предмет.
37 Господин Грейвз — По-английски «graves» — «могилы». Персонаж под
таким именем возникает также в романе «Уотт» и в «Никчемных текстах».
38 ... пить, Господи, пить. — Аллюзия на сцену смерти Христа (Мф., 27;
46-50).
39 Господин Конейр — От французского «conard» — «дурак».
40 ... бармен будет теперь зваться Жоржем... — Для Беккета имя — не более
чем этикетка, наклеиваемая на человека, поэтому имена героев зачастую
меняются в процессе повествования (например, в трилогии).
41 Я расскажу вам о постояльце... — Господин Гэст рассказывает типичную
«историю», «прорывающую» ткань повествования.
42 Подобрав листки, он порвал их на мелкие клочки, а клочки выкинул. — Так
Камье пытается избавиться от прошлого. Ср. в «Недовидено недосказано»:
«Лист. Кончиками дрожащих пальцев. Надвое. Начетверо. Навосьмеро. Старые
пальцы неистовствуют. Это уже не бумага. Каждая осьмушка отдельно. Надвое.
Начетверо. А под конец ножом. Искрошить в клочки. В дыру. И за следующий.
Белый. Скорее его зачернить». Правда, Камье оставляет фотографии, но
фотография как раз и делает прошлое невозвратным.
43 Вовенарг — Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг (1715—1747) —
французский писатель-моралист. Вовенарг, которого жизнь подвергла суровым
испытаниям (его лицо было обезображено оспой), учил стойкости духа и
мужеству.
44 ... с голосом, желающим меня уверить, что я еще не умер. — Ср. в
«Безымянном»: «О, если бы только голос смолк, этот бессмысленный голос,
который мешает быть ничем, просто мешает быть ничем и нигде, поддерживает
горение, желтый язычок пламени слабо подергивается из стороны в сторону,
трепещет, словно пытаясь оторваться от фитиля, этот огонек не надо было
зажигать, не надо было поддерживать, надо было погасить его, позволить ему
погаснуть».
45 Когда причины ускользают от моего понимания, — сказал Мерсье, — мне
как-то не по себе. — Мерсье рассуждает, как Уотт, который также хотел «измерить
отсутствие» и «заключить ничто в слова».
46 Я был в лесу вместе с бабушкой... — В алхимической традиции дерево,
называвшееся arbor philosophica и arbor sapientiae (дерево мудрости),
рассматривалось как дух жизни, ведущий к воскрешению. Не случайно беккетовский
герой ищет освобождения в лесу: именно в лес приводит Моллоя потребность
ответить на вопрос, кто он. Блуждая, он надеется обрести покой неподвижности.
Но тот, кто блуждает в лесу, рискует в нем заблудиться, потерять направление;
движение-к-смерти превращается в топтание на месте. Во сне Мерсье
возвращается в свое детство, в то бессознательное состояние, которое освобождает от
ложной индивидуальности, но в то же время несет в себе угрозу еще большей
«стабилизации» выпавшего из времени бытия.
47 Это радость неведения... — Камье, возможно, иронизирует над учением
Николая Кузанского об умудренном неведении.
320
Приложения
48 ... никаких рассказов о снах... — Возможно, речь идет о сюрреалистической
поэтике, основывающейся на представлении о всемогуществе грезы и
сновидения.
49 Lo bello stilo che m 'hafatto onore. — Слова Данте, обращенные к Вергилию.
В переводе М. Лозинского: «Лишь ты один в наследье мне вручил / Прекрасный
слог, везде превозносимый» (Данте Алигьери. Божественная комедия // Данте
Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967. С. 79).
50 Они потеряли представление о времени... — Ср. в радиопьесе «Зола»: «Я
утратила понятие времени».
51 ... год Ледисмит, на Клипе. — Ледисмит — Город в ЮАР, на берегу реки
Клип. Основан в 1850 году англичанами и назван в честь жены губернатора
Капской провинции. Осажден войсками буров 1 ноября 1899 года; осада
продолжалась четыре месяца, вплоть до 28 февраля 1900 года, когда она была
прорвана английскими войсками. Упоминается также в романе Джойса «Улисс».
52 ... ни одно деревце не растет... — Пустынный пейзаж характерен для текстов
Беккета.
53 ... клетка, в которой часы сидят, как Ля Валю. — Жан де Ля Балю
(1421—1491) — министр Людовика XI, кардинал, вошел в историю как интриган,
не брезгающий ничем ради обогащения. И лет провел в заключении.
54 ... тишины, которая тоже шепот... — Ср. в «Никчемных текстах»:
«Неправда, нет, правда, и правда; и в то же время неправда, молчание и не
молчание, никого нет и кто-то есть, ничто ничему не мешает. А если бы голос,
старый прерывающийся голос, совсем наконец прервался, это было бы
неправдой, и неправда, будто он говорит, говорить он не может, и прерваться не
может».
55 Тебя не побили? — сказал Камье. — Такой же вопрос задает Владимир
Эстрагону («В ожидании Годо»).
56 Воронка — По словам Сартра, «непристойность женского полового органа
является непристойностью всякой зияющей вещи; это — зов бытия, как, впрочем,
все отверстия; в себе женщина призывает чужое тело, которое должно ее
преобразовать в полноту бытия посредством проникновения и растворения.
И наоборот, женщина чувствует свое положение как призыв и именно потому,
что она „продырявлена". В этом истинное происхождение адлеровского
комплекса. Вне всякого сомнения, женский половой орган является ртом, и ртом
прожорливым, который глотает пенис, что хорошо может подвести к идее
кастрации; любовный акт является кастрацией мужчины; но прежде всего
женский половой орган является дырой» (Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт
феноменологической онтологии / Пер. В. И. Колядко. М., 2000. С. 615).
57 ... спор об универсалиях. — Вопрос об отношении общего к единичному,
занимавший средневековых богословов и разделивший их на сторонников
«реализма» (Иоанн Скот Эриугена, Фома Аквинский) и «номинализма» (Ро-
сцелин, Уильям Оккам). Согласно «реализму», универсалии (общие роды)
существуют реально и независимо от человеческой мысли и речи.
«Номиналисты», напротив, разделяли убеждение, что универсалии не имеют вне
мышления никакого действительного прообраза и являются лишь субъективными
формами мысли.
58 Я швырнул его в бассейн... — С символической точки зрения жест Камье
может быть интерпретирован как отказ от своей маскулинности (зонтик как
фаллический символ) в пользу женской бессознательной стихии (бассейн с
Примечания
321
водой, в алхимии предстающий в виде купели, в которой происходит соединение
разнородных элементов).
59 ... нечего делать, нечего говорить. ™ ...посвящает себя жажде и сумраку. —
Современное искусство, как сформулировал Беккет в статье о художниках Таль
Коате, Андре Массоне и Браме ван Вельде, предпочитает «выражение того, что
выражать нечего, выражать нечем, выражать не из чего, нет силы выражать,
нет желания выражать, и при этом есть необходимость выражать». Художник,
который руководствуется этим принципом, посвящает себя неведению и
бессилию, жажде и сумраку.
60 Год эпидемии чумы. — В 1665 году эпидемия чумы была в Лондоне.
61 ... стукнул полицейского по черепу... — В абсурдном мире, где понятия
нормы и антинормы потеряли всякий смысл, насилие становится вполне
естественной модельер поведения. При этом членовредительство лишь
подчеркивает относительность тела, теряющего свою конкретность под напором бытия-
в-себе. Сама боль перестает быть чисто физической (персонажи Беккета почти
не страдают) и превращается в смутную тоску бытия, потерявшего свои четкие
контуры.
62 Цветы в вазе, а овечки вернулись в парк. — Эта загадочная фраза может
быть как шпионским паролем (не будем забывать, что герои занимаются
сыском), так и пародией на сюрреалистическое творчество.
63 ... цвета цемента. — Серый цвет доминирует во многих текстах Беккета
и символизирует то переходное состояние, когда герой как бы застыл на
полпути между сном и бодрствованием, жизнью и смертью, светом и темнотой.
Серый непроницаемый туман окружает Безымянного, скрывая от него все,
что не является им самим; в написанном много лет спустя прозаическом
тексте «Курс на худшее» (1982) речь опять идет о «незатемняемых», «неухуд-
шаемых» сумерках.
64 Конец описания. —, Прием, состоящий в обнажении приемов
повествования, будет активно использоваться авторами «нового романа».
65 У торфа удивительные свойства. ™ В нем все сохраняется. — Торфяное
болото, образованное остатками растений, подвергшихся неполному
разложению, — это и не суша, и не вода; в его аморфной массе исчезают
индивидуальности, но остается неизменной неразрушимость бытия-в-себе. Болото —
«бескачественная» основа мира, еще не подвергнутая дифференциации
первичная растительная субстанция. Ср. в «Никчемных текстах»: «Я в яме, которая
вырыта столетиями, столетиями непогоды, лежу лицом к бурой земле со стоячей,
медленно впитывающейся, шафранно-желтой водой».
66 ... мне часто метится, что мы не одни. — Ср. в «Счастливых днях»:
«Странное чувство — словно на меня кто-то смотрит». Бог не желает выпускать
человека из поля своего зрения.
67 А как твоя киста ? — Беккет сам часто страдал от различных
психосоматических расстройств.
68 ... перед развалинами дома... — Ср. в «Без»: «Руины настоящее укрытие
наконец-то к которому издалека через столько заблуждений. Бесконечные дали
небо землю не отличить ни шороха ни шевеления. Серое лицо два
бледно-голубых тельце с бьющимся сердцем одно оно на ногах. Угасшее открытое четыре
грани навзничь настоящее убежище без выхода». Эти руины, засыпанные
пепельно-серым песком, символизируют, по-видимому, разрушенное,
занесенное песком забвения сознание.
322
Приложения
69 Теперь надо сделать выбор... ~ Между развалинами и изнеможением... —
«Изнуренный», так назвал свое эссе о позднем Беккете Жиль Делез.
«Изнуренный отличается от просто усталого, — подчеркивает философ. — [...] Усталый
лишь исчерпал осуществление, изнуренный исчерпывает возможное. Усталый
не может больше осуществлять что-либо, изнуренный не может больше полагать
что-либо в качестве возможного» (Deleuze G. L'epuise II Beckett S. Quad et autres
pieces pour la television. Paris, 1992. P. 57). Ср. в «Никчемных текстах»: «Это не
просто усталость, я не просто устал, хотя шел в гору».
Когда далее Камье говорит о том, что они могут не устоять перед «соблазном
лечь раньше времени и слишком быстро покончить со всем этим», он хочет
предостеречь своего друга от того, чтобы отдаться усталости, в то время как
не исчерпаны еще все возможности бытия.
70 ... вернет ему этот мяч... — Точно такое же выражение использует
Владимир, обращаясь к Эстрагону («В ожидании Годо»).
71 Начинались падения... — Ср. в «Безымянном»: «Две фигуры, удлиненные,
похожие на человеческие, столкнулись прямо передо мной. Они упали, и больше
я их не видел. Естественно, я подумал о псевдо-паре Мерсье—Камье».
72 ... в молодости они занимались боксом... — Беккет занимался боксом во
время учебы в Королевской школе в Порторе.
73 ... третьего разбойника с намеком на Христа... — Аллюзия на евангельскую
историю о двух разбойниках, казненных вместе с Иисусом (см. также «В
ожидании Годо»).
74 Мантенья — Андреа Мантенья (1431—1506) — итальянский живописец и
график эпохи Возрождения.
75 Сорделло — Наряду с Белаквой еще один персонаж Предчистилища.
Сорделло провожает Данте и Вергилия в Долину земных властителей.
76 ... все они одинаково хорошо пахнут... — Ср. в новелле «Первая любовь»: «Я
лично ничего не имею против кладбищ, мне нравится там гулять, наверно, больше
даже, чем где-то еще, если уж надо дышать воздухом. Трупный запах, который я
четко различаю среди запахов перегноя и трав, я нахожу довольно приятным».
77 Архей — В средневековой науке: жизненное начало.
78 ... древним плачем... — В оригинале: «Enueg»; такое название носят два
стихотворения Беккета, написанные по-английски в 1931 году.
79 Уотт — Главный герой одноименного романа, написанного во время
войны. Упоминается также в романе «Безымянный».
80 ... достигнет Лондона или Кук-Тулза. — Кук-Тулза — деревня во
французском департаменте Тарн. Здесь: как пример глубокой провинции.
81 Мэрфи — Главный герой одноименного романа. Мэрфи погиб при взрыве
газа. Упоминается также в романах «Мэлон умирает» и «Безымянный».
82 Жаль, что нас не увидит Дюма-отец...™ ...или один из евангелистов... —
Аллюзия на «Трех мушкетеров» и одновременно на уже упомянутый
евангельский рассказ о двух разбойниках. Уотт, который идет между Мерсье и Камье,
уподобляется здесь Христу. Ср. с описанием Уотта в одноименном романе: «Но
он молча все отступал и отступал, пока не рухнул у изгороди, раскинув руки
крестом и сжимая руками проволоку. Затем он сделал полуоборот, намереваясь,
вероятно, отправиться обратно, и я увидел его лицо и всего его спереди. Его
лицо было в крови, руки тоже, а в голове полно колючек. Его сходство с
Христом, приписываемым Босху (National Gallery № ?), было таким
потрясающим, что я был потрясен».
Примечания
323
83 .... Туссеном-Лувертюром. — Пьер Доминик Туссен-Лувертюр (1743—
1803) — руководитель восстания негров-рабов на Гаити. В 1801 году избран
пожизненным правителем острова. В 1802 году войска Наполеона захватили
Туссена-Лувертюра в плен. Умер во Франции в заточении. Упоминается также
в романе «Безымянный», где назван «третьесортным».
84 ... столичного Бонди. — Бонди — пригород Парижа. Упоминается здесь в
ироническом смысле.
85 Подайте губку ...как у святого Матфея. — «И тотчас побежал один из них,
взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить» (Мф., 27;
48).
86 ... смерть агнца... — Смерть Христа.
87 Да здравствует Квин! — Человек по фамилии Квин упоминается также в
романе «Мэлон умирает». Скорее всего, речь идет о служащем или враче
психиатрической лечебницы, в которой пребывали как Уотт, так и Макман
(персонаж «истории», рассказываемой Мэлоном).
88 Это похоже на полярные цветы... — Аллюзия на строчку Рембо из
стихотворения «Первобытное» («Озарения»): «По прошествии дней и времен, после
стран и людей, / Флаг — окровавленным мясом над шелком морей и полярных
цветов (которых не существует)» (пер. И. Кузнецовой; см.: Поэзия французского
символизма. М., 1993. С. 98).
89 ... мы говорили о чем угодно, кроме нас самих. — В дальнейшем беккетовский
герой будет говорить в основном о себе. Ср. в «Безымянном»: «Сейчас я должен
говорить о себе, даже если мне придется употребить для этого их язык, это
будет начало, шаг к молчанию и конец безумию, безумию говорить по
обязанности и не быть способным сказать ничего, не считая того, что меня не касается,
того, что не важно, того, чему я не верю, того, чем меня до конца напичкали,
чтобы не дать сказать, кто я и где я, чтобы не позволить сделать то, что я
должен сделать единственным образом, который может положить конец этому,
не дать сделать то, что я должен сделать».
90 ... пространство словно распустилось подобно бутону... — Похожую,
заимствованную из ботаники терминологию Беккет использует, когда в своем
неоконченном романе «Мечты о женщинах, красивых и средних» дает описание
настоящей поэтики молчания, навеянной музыкой Бетховена, ее «пунктуацией
вскрывающихся плодов»: «Я думаю о Бетховене, — говорит Белаква, главный
герой романа, — его глаза закрыты, [...] я думаю о его ранних композициях,
где в тело музыкального высказывания он внедряет пунктуацию вскрывающихся
плодов, волнообразные колебания, связь распадается, непрерывность летит к
черту, ибо единицы непрерывного ряда отреклись от своего единства, их много,
они рассыпаются на кусочки, ноты летят, как снежный буран электронов; и
затем эти изъеденные грозными паузами композиции, раскрывающиеся вечером,
подобно некоторым плодам, и музыка, неделимость, целостность которой
куплены ценою такого тяжелого труда, какой только может себе представить человек
(включая, возможно, и ту женщину, которая играет на французском рожке),
музыка, продырявленная наводящими ужас ураганами пауз, он топит в них
свою истерию, которая раньше говорила и пела, как ей хотелось». Музыка, по
Беккету, обладает новой, фугой субстанциальностью, непосредственно связанной
с Ничто; пустота небытия становится в музыкальном произведении тишиной
пауз и остановок. Если писатель хочет достичь пустоты с помощью слов,
необходимо, чтобы литература стала музыкой, чтобы письмо несло в себе
324
Приложения
возможность своей собственной смерти, своего собственного небытия. Слово,
расширившись до пределов Вселенной, должно прорваться множественностью
пауз, недоговоренностей, смысловых «дыр».
91 ... ей грозит страшная опасность со стороны Саргассова моря. — Камье
уподобляет бахрому туч водорослям Саргассова моря.
НИКЧЕМНЫЕ ТЕКСТЫ
I
1 ... шел в гору. — Герой уподобляет себя Христу, восходящему на Голгофу.
2 Они там, наверху, обступили меня как на кладбище. — О жизни «наверху»
постоянно говорит и герой «Как есть». Это жизнь, которой живут на земле, в
то время как сам герой лежит в могиле, в яме, вырытой «столетиями непогоды».
Покинув земной мир, он «стабилизировался» на границе жизни и смерти.
«Гнить — это тоже жить», — говорит Моллой.
3 ... по исполинским папоротникам проходит зыбь... — Герой, по сути, вернулся
в ту доисторическую эпоху, когда Земля была покрыта гигантскими зарослями.
4 ... это лиственницы... — Под лиственницей была погребена собака
любовницы Моллоя Лусс. Некоторые критики видят в отношениях Моллоя и его
любовницы Лусс отражение одного из древних средиземноморских мифов о
сакральном самооскоплении, которое произвел Аттис в честь богини плодородия
Кибелы, чье имя означает дословно «пещера», «полость». Сосна, под которой
оскопил себя Аттис, у Беккета превращается в лиственницу. Миф об Аттисе
связан с природными циклами и с архаическими ритуалами умирания и
воскрешения.
II
5 Месье Жоли — Упоминается также в романе «Моллой».
6 ... ксантиновый смех... — Ксантин — бесцветный порошок.
7 Перед фермой братьев Грейвз... — См. примеч. 37 к «Мерсье и Камье».
III
8 ... ходить туда-сюда. — В 1965 году Беккет пишет по-английски
небольшую пьесу, которая носит название «Приходят и уходят».
9 ... в высокогорную депрессию Гоби... — Гоби — пустынная и степная область
в Центральной Азии.
10 ... старенького ребенка... — Гувернантка, о которой говорит герой
«Никчемных текстов», предстает как инкарнация мифической матери, на поиски
которой устремляется человек, решивший повернуть время вспять и
приблизиться тем самым к покою дородовой пустоты. Таким образом, отвращение,
которое беккетовский персонаж испытывает к детям, скрывает подсознательное
желание перестать быть взрослым и вновь стать беспомощным ребенком. Он
Примечания
325
ищет в женщине замену матери, отсюда его пассивность в сексуальных
отношениях. Ср. в письме Смеральдины к Белакве: «Прошлой ночью мне приснился
очень странный сон про тебя и меня в темном лесу мы лежали рядышком на
тропинке а ты вдруг превратился в совсем малинькаво и не понимал что такое
любов мущины и женщины, а я хотела тебе обяснить что такое любов и гаварила
тебе что люблю тебя больше всего на свете но ты все равно ничего не понимал
и не хотел итти ко мне но это был просто глупый сон и поэтому это не имеет
значения» («Больше замахов, чем ударов»). См. также примеч. 4 и 11 к «Мерсье
и Камье», а также примеч. 24 к «Как есть».
11 Джеллико — Джон Рашворт Джеллико, виконт Скапа (1859—1935) —
британский адмирал, во время Первой мировой войны командовал флотом в
битве при Скагерраке.
12 ... Виндзорским домом, и Ганноверским... — С 1714 года Англией правила
Ганноверская династия; с 1901 года — Саксен-Кобург-Готская,
переименованная в 1917 году в Виндзорскую.
13 ... Гогенцоллернами. — Династия бранденбургских курфюрстов (1415—
1701), прусских королей (1701—1918) и германских императоров (1871—1918).
14 ... передДаггеном... — По-видимому, один из многочисленных дублинских
пабов.
15 ... останки Винсента... ~ ...голова обмотана окровавленной тряпкой... —
Возможно, намек на Винсента Ван Гога, в приступе безумия обрезавшего себе
ухо.
16 Или только голову, совсем круглую... — Ср. в «Безымянном»: «И эти
слезящиеся впадины я тоже высушу, закупорю их, вот так, готово, нет больше
слез, я — большой говорящий шар, говорящий о том, что не существует или,
возможно, существует, как знать, да и не важно».
IV
17 Моллой — Главный герой первого романа трилогии.
18 Мэлон — Главный герой второго романа трилогии.
19 ... если не случится чего-нибудь предвиденного. — Парадоксальность этого
высказывания в полной мере соответствует двусмысленности положения бек-
кетовского героя, вырванного из жизни, но еще не обретшего смерть.
V
20 ... глаза ... вглядываются внутрь головы... — Если глаза не видят ничего
вовне, если их взгляд направлен внутрь себя, рот становится тем каналом, через
который извергаются волны бессознательного дискурса. Возможность остановки
этого дискурса напрямую связывается Беккетом с отказом как от «внешнего»,
так и от «внутреннего» зрения, не случайно в его поздних текстах глаз персонажа
«остекленевает», теряет способность видеть.
21 Поццо — Персонаж пьесы «В ожидании Годо».
22 ... я сам в лодке. — В лодке отплывают в море Мэлон и герой новеллы
«Успокоительное».
326
Приложения
23 ... я говорю, как слышу. — Такую же формулировку использует и герой
«Как есть».
24 Лимбы — У Данте первый круг Ада, в котором пребывают некрещеные
младенцы и добродетельные нехристиане.
VI
25 ... сплошные обрывки. — «Обрывки», или, как в «Как есть», «ошметки»,
которые доносятся до героя, свидетельствуют о предельной фрагментации мира,
распавшегося на отдельные атомы. О таком мире невозможно говорить связно,
ибо он не длится. От языка остаются одни «ошметки», но это не означает, что
наступает тишина: напротив, дискурс «магматизируется», становится вязким, а
значит, бесконечным. Вырванный из исторического контекста, лишенный
индивидуальности «обрывок» оказывается лишь фрагментом некой анонимной
речи, которая не укоренена во времени и пространстве.
26 О, я здесь навеки, с пауками и дохлыми мухами... — Мир, покрытый паутиной,
выпадает из времени и начинает жить безличной, разлитой,
неконцентрированной жизнью. Возможно, Беккет вспоминает здесь известную сказку об уснувшем
царстве, все обитатели которого погружены в летаргический сон.
Характерно, что сам беккетовский герой часто напоминает паука; вот как,
к примеру, передвигается Моллой: «Я лежал ничком, — говорит он, — костыли
служили мне абордажными крючьями. Изо всех сил я метал их вперед, в
подлесок, и когда чувствовал, что они зацепились, подтягивался на кистях».
27 ... по этой грязи ....по которой писал его сын, много позже, конником своего
дурацкого божественного пальца у ног прелюбодейки... — Ср. в гл. 8 Евангелия
от Иоанна: «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, / Сказали Ему: Учитель! эта
женщина взята в прелюбодеянии; / А Моисей в законе заповедал нам побивать
таких камнями: Ты что скажешь? / Говорили же это, искушая Его, чтобы
найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал
перстом на земле, не обращая на них внимания. / Когда же продолжали
спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый
брось в нее камень. / И опять, наклонившись низко, писал на земле» (Иоанн,
8; 3-8).
VII
28 ... за чердачным окошком... —■ Окно у Беккета всегда выполняет функцию
разрыва, провала, паузы. В окошко смотрит прикованный к своей постели
Мэлон, в «Эндшпиле» одно окно комнаты выходит на море, а другое на сушу,
в коротком прозаическом тексте под названием «Скала» (1975) окно словно
подвешено в пустоте между небом и морем.
29 ... Юго-Восточного вокзала... — На этом вокзале в Дублине юный Сэмю-
эль, закончив уроки в школе, каждый вечер садился на поезд, шедший в
направлении Фоксрока, где находился его дом. Дублинский вокзал послужил
прообразом железнодорожной станции, в зале ожидания которой Уотт,
покинувший дом своего хозяина, господина Нотта, проводит ночь.
Примечания
327
30 ... как спицы вращающегося колеса... — Колесо Сансары — в индийской
философии символ вечного кругооборота бытия.
VIII
31 Может быть. — Беккет говорил, что это ключевое слово его
произведений.
32 ...значение слов становится понятным только в конце. — Поэтому так важно
произнести, выговорить их.
33 ... это поможет ему уменьшаться, уменьшаться, но никогда не исчезать. —
Ср. в «Моллое»: «И я слышу, как голос шепчет, что все гибнет, что все рушится,
придавленное огромной тяжестью, но откуда тяжесть в моих руинах, и гибнет
земля — не выдержать ей бремени, и гибнет придавленный свет, гибнет до
самого конца, а конец все не наступает».
34 ... великой остановке дыхания. — Беккет, по-видимому, был знаком с
некоторыми йогическими практиками. Не случайно, из всех способов
самоубийства, господина Эндона («Мэрфи») больше всего привлекала именно
остановка дыхания, апноэ. Остановку дыхания практикует и другой любимый герой
писателя, господин Нотт («Уотт»).
35 ... по благородному цоколю Магазен Реюни... — Магазин на площади
Республики в Париже.
IX
36 ... смотрится в зеркало... — Человек, который смотрится в зеркало, по
сути раздваивается на того, кто смотрит, и на того, на кого смотрят. Что-то
похожее происходит и с беккетовским героем; так, к примеру, Безымянный
переходит от утверждения, что его глаза смотрят прямо перед собой, к гипотезе,
что его зрачки устремлены друг на друга.
37 ... моя могила здесь, моя мать здесь... — Когда беккетовский герой мечтает
о том, чтобы раствориться в женщине, в амниотических водах материнского
лона, им движет желание отказаться от тела как такового и соответственно от
своей индивидуальности. Подобного рода демарш, однако, таит в себе опасность
toro, что бытие «личное» превратится в гомогенную массу, которая, подобно
плазме, породившей органическую жизнь, скрывает возможность нового
зарождения жизни, нового блуждания по кругам существования.
38 ... заговорщика Катилины... — Луций Сергий Каталина (108—62 до н. э.) —
руководитель заговора, направленного против римского Сената. Заговор был
разоблачен Цицероном.
X
39 ... голова и ее анус — рот... — Моллой говорит о заде, из которого он,
по его словам, появился на свет, как об «истинном портале нашего
существа», в то время как уста — не более, чем «кухонная дверца». Но можно ли
достичь небытия, если жизнь начинается с того, что обычно считается концом
328
Приложения
всего? Можно ли когда-нибудь остановиться, если переработанная и
исторгнутая словесная масса вновь оказывается объектом поглощения? См. также
в «Как есть»: «[...] пускаю газы у них свой смысл они вылетают изо рта
40 ... и указательными пальцами закрывают мне глаза... — Ср. в «Уотте»:
«Пожалуй, единственным характерным жестом господина Нотта было
одновременное затыкание всех лицевых впадин: большими пальцами он закрывал рот,
указательными — уши, мизинцами — ноздри, безымянными — глаза, и,
наконец, средние, с помощью которых ему удавалось в критические моменты
стимулировать мозговую деятельность, он приставлял к вискам. И в таком
состоянии он мог находиться довольно долго, не испытывая никакого видимого
неудобства».
XI
41 ... не говоря о плевках... — Плевок служил образцом бесформенности как
для сюрреалистов, так и для близкого к ним Жоржа Батая. Вообще, интерес к
различного рода гуморальным жидкостям — сперме, слюне, поту — связан с
желанием прорвать ограниченность собственного тела и причаститься телу
коллективному, бесформенному.
XII
42 ... полнее родиться, полнее умереть... — Беккетовский герой мечтает о том,
чтобы его смерть стала событием конкретным, окончательным. Но для этого
нужно, чтобы и рождение было событием свершившимся, завершенным,
ограниченным во времени.
43 ... Бог, не засвидетельствованный свидетель свидетелей... — Ср. в «Уотте»:
«Не имея необходимости ни в чем, кроме как в необходимости не иметь
необходимости, во-первых, и в необходимости иметь свидетеля этого отсутствия
необходимости, во-вторых, господин Нотт не знал ничего о своей собственной
природе. Откуда проистекала необходимость иметь свидетеля, но не для того,
чтобы знать, а для того, чтобы продолжать существовать».
Так всеобъемлющая природа Бога испытывает необходимость в человеке,
само несовершенство и неполнота которого, отсылая к совершенству Бога,
делает его вечным, «парализует» его; именно в нежелании божественной
тотальности превратиться в пустоту небытия и заключается, согласно Беккету,
основное стремление Божества. Если божественное бытие является источником
существования человеческой экзистенции, то человек, его присутствие в мире
позволяют Богу существовать вечно.
XIII
... среди китайских теней... — Имеется в виду восточный театр теней.
Примечания
329
КАК ЕСТЬ
1
1 ... бу-бу-бу со всех сторон... — Ср. в «Безымянном»: «Не лучше ли просто
повторять, скажем, „ба-ба-ба", ожидая, пока выяснится истинная функция этого
почтенного органа?».
2 ... недосказана недопонята недонайденанедошептана... — Через двадцать лет
Беккетом будет написан текст под названием «Недовидено недосказано».
3 ... мешок единственное достояние... — Ср. в пьесе «Счастливые дни»: «На
худой конец у меня есть сумка. (Поворачивается к ней.) Есть и будет (Лицом к
залу.) Надеюсь, что будет (Пауза.)».
4 ... каждой крысе... — Мыши и особенно крысы герою писателя очень
симпатичны: «судорожность» бега, присущая им, находит свое соответствие не
только в манере передвижения беккетовского персонажа, но и в том, каким
образом он изъясняется («речевые конвульсии») . В романе «Уотт» Сэм и Уотт
кормят водяных крыс прямо с рук, в их присутствии они чувствуют себя ближе
всего к Богу. Последнее не должно удивлять: крыса — это материализация
бесформенного, а Бог Беккета — Бог абсурдный, аморфный.
5 ... она вновь берется за рукоделие... — Этот образ навеян воспоминаниями
о том послевоенном времени, когда жена Беккета, Сюзанна Дешево-Дюмениль,
была вынуждена заниматься рукоделием, чтобы прокормить себя и мужа.
6 ... на этот раз... ·— Так называется пьеса, написанная по-английски в
1974 году.
7 ... ламе снится самопогружение лама альпага... — Игра слов: в первом случае
имеется в виду монах у буддистов-ламаистов; во втором — животное.
8 ... мертвая голова... — В 1967 году вышел в свет сборник прозаических
текстов, озаглавленный «Мертвые головы» (дополненное издание в 1972 году).
9 ... свидетель... вся поверхность моя залита светом его ламп... помощник
записывает в реестр... — Можно предположить, что «свидетель» здесь — это
Бог, глаза которого неотрывно следят за персонажем. В пьесе «Катастрофа»
(1982), посвященной Вацлаву Гавелу, Беккет выводит на сцену Режиссера, его
Помощника, записывающего указания в блокнот, и Протагониста, молчаливая
фигура которого является в течение всей пьесы объектом манипуляции. Важно,
что Протагонист почти не реагирует ни на слова Режиссера, ни на свет, который
направляет на него осветитель Люк, пребывающий за сценой. Так герой
последних беккетовских текстов ускользает от своего «свидетеля». Более того,
потоки бессвязных слов больше не захлестывают его, и эта абсолютная немота
служит опровержением высказанного в «Фильме» (так называется сценарий
немого фильма) утверждения, что «человек, избавленный от любого внешнего
восприятия, какую бы природу оно ни имело: животную, человеческую,
божественную, — продолжает воспринимать себя самого». Протагонист не является
больше ни свидетелем кого-то другого, ни тем, кого «свидетельствуют», ни
«свидетелем себя самого». Это становится возможным за счет превращения его
в абстрактную, почти бесплотную фигуру, в визуальный образ, растворяющийся
в пустоте. То же самое происходит и в «Недовидено недосказано», но здесь в
отличие от «Катастрофы» автор, если и выступает в роли режиссера, то такого,
который не вмешивается в ход действия.
330
Приложения
10 ... тяни толкай...отдых...пятнадцать метров... — Ср. в «Моллое»: «[...]
тот, кто движется моим способом, на животе, как пресмыкающееся, приступает
к отдыху в то самое мгновение, как только принял решение отдохнуть, и даже
само движение его воспринимается как разновидность отдыха по сравнению с
другими движениями, я говорю, разумеется, о тех, от которых я уставал. Так
вот двигался я вперед по лесу, медленно, но с несомненной регулярностью и
покрывал свои пятнадцать шагов изо дня в день, изо дня в день, особенно не
надрываясь».
11 ... как было до Лима при Лиме... как стало теперь после Лима... — Рассказчик
оказывается в лабиринте Хроноса, в котором настоящее «вбирает» в себя и
прошлое, и будущее.
12 Белаква — Персонаж Предчистилища. «Один сидел как бы совсем без
сил: / Руками он обвил свои колени / И голову меж ними уронил» (Данте Алигъ-
ери. Божественная комедия // Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная
комедия. М, 1967. С. 241).
13 ... проглотить грязь... — Когда герой поедает грязь, он тем самым
причащается глубинной бесформенности мира.
14 ... однажды она уйдет на своих четырех пальцах... — Ср. в романе Сартра
«Тошнота», главный герой которого, Антуан Рокантен, разглядывает кисть своей
руки: «Я вижу кисть своей руки. Она разлеглась на столе. Она живет — это я.
Она раскрылась, пальцы разогнулись и торчат. Рука лежит на спине. Она
демонстрирует мне свое жирное брюхо. Она похожа на опрокинувшегося на
спину зверька. Пальцы — это лапы. Забавы ради я быстро перебираю ими —
это лапки опрокинувшегося на спину краба. Вот краб сдох, лапки скрючились,
сошлись на брюхе моей кисти. Я вижу ногти — единственную часть меня
самого, которая не живет. А впрочем. Моя кисть перевернулась, улеглась
ничком, теперь она показывает мне свою спину. Серебристую, слегка
поблескивающую спину — точь-в-точь рыба, если бы не рыжие волоски у основания
фаланг. Я ощущаю свою кисть. Два зверька, шевелящиеся на концах моих
рук, - это я» (Сартр Ж.-Л. Тошнота // Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992. С. 104).
15 ... белые пятна ягнята жмущиеся к матерям... — Ср. в «Недовидено
недосказано»: «Нужны были ягнята. Так или иначе. На песчаной равнине это
было бы в самый раз. Ягнята бы выбелили равнину». В обоих текстах ягнята
перестают быть материальными объектами и превращаются в цветовые пятна.
Ягненок-агнец из символа Христа становится чистым объектом изображения.
16 ... какуМальбранша... — Николя Мальбранш (1638—1715) — французский
философ, представитель окказионализма. Согласно Мальбраншу, с помощью
чувств человек не может познать существа вещей. Достоверность обеспечивают
только законы чистого мышления, которые содержатся в математических
понятиях и в необходимости которых проявляется Бог. Бог оказывает влияние на
все и всюду.
17 ... в царстве мертвых я наконец увижу свой пуп там дуновение... — В
соответствии с некоторыми восточными представлениями, в низу живота, чуть
ниже пупа, находится магическая точка — средоточие жизни. При медитации
нужно пристально смотреть в эту точку.
18 ... в грязном низу живота я увидел ... в подтверждение правоты Гераклита
Темного в самой выси горней лазури... — Гераклит Эфесский (ок. 544—483 до н. э.) —
древнегреческий философ, за глубокомыслие своего учения прозванный
«Темным». По Гераклиту, мир не создан ни богами, ни людьми, но вечно существует
Примечания
331
в виде огня, закономерно воспламеняющегося и закономерно угасающего. Из
божественного первоогня путем раскола и деления произошло множество вещей
(«путь вниз»); согласие и мир ведут к оцепенению, которое вновь превращается
в единство первоогня. Мир — вечное движение вверх и вниз, добро есть зло,
и зло есть добро, во всем объединены противоположности, за которыми
скрывается гармония.
19 ... Талия где твой зеленый плющ... — Одна из греческих муз,
покровительница комедии, изображалась с комической маской в руках и венком из плюща
на голове.
20 Геккель — Эрнст Геккель (1834—1919) — немецкий естествоиспытатель,
сторонник учения Ч. Дарвина, сформулировал так называемый биогенетический
закон, в соответствии с которым живые существа повторяют в течение своего
индивидуального развития (особенно зародышевого) главнейшие этапы развития
всего ряда предковых форм. Высказал гипотезу о существовании исходной
примитивной животной формы, так называемой гастрейи. Человек, по Геккелю,
прошел в своем развитии 26 стадий от бесформенной протоплазмы и
одноклеточных организмов до собственно «человека прямоходящего». Беккетовский
персонаж, напротив, оборачивает эволюционный процесс вспять.
21 Клопшток... похоронен в Алыпоне... — Фридрих Готлиб Клопшток (1724—
1803) — немецкий поэт и драматург. В 1936 году, во время своего путешествия
по Германии, Беккет посетил могилу Клопштока в городе Альтона ( в настоящее
время входит в пределы Гамбурга).
22 Ballast Office — Строительная организация в Дублине, основанная в 1705 году
и занимавшаяся сооружением порта, облицовкой набережных реки Лиффи и т. п.
2
23 ... все измерения зыбкие... — Эта неопределенность контрастирует с
математической точностью описаний в «Опустошителе».
24 ... этот дальний восточный мудрец... — По-видимому, Лаоцзы («старый
ребенок») — легендарный основатель даосизма в Китае, живший в конце
VII в. до н.э. Согласно мифам, был зачат без отца от солнечной энергии. В
даосских трактатах глава всех бессмертных, рожденный вместе с небом и землей.
Ему приписывались магические способности, в том числе смена облика. В
V—VI вв. н. э. появилась легенда о том, что уехавший на запад Лаоцзы прибыл
в Индию и, оплодотворив спящую мать принца Гаутамы, стал отцом будды
Шакьямуни. Отсюда, возможно, смешение образов Лаоцзы и Шакьямуни,
которое прослеживается в «Как есть»; см. примеч. 27. Об образе «старого
ребенка» см. примеч. 4 и 11 к «Мерсье и Камье» и примеч. 10 к «Никчемным
текстам».
25 Бо — Священное фиговое дерево, под которым на Будду снизошло
вдохновение. Сажается около каждого буддийского храма.
26 ... повторяю в прошедшем ничего не получается или у меня никогда не будет
прошедшего или никогда не было... — Ср. в «Общении»: «Нельзя ли
усовершенствовать голос? Сделать ценней для общения. Скажем, введя какое-то прошедшее
время. Хотя в этом затеменном сознании времени нет. Миновавшее, текущее,
надвигающееся. Все сразу».
332
Приложения
27 ... восточный человек в моем сне он отказался... у меня не станет желаний... —
Имеется в виду Шакьямуни (собственное имя Сиддхартха, родовое имя Гаута-
ма) — в буддийской мифологии последний земной будда, достигший полной
нирваны.
28 ... однажды мы пустимся в путь вместе... — Аллюзия на путешествие
Мерсье и Камье.
29 ... его руки крестом Андрея Первозванного... — По преданию, апостол Андрей
был распят на кресте, имевшем форму буквы X.
30 ... ятожеПим... — В сущности все персонажи-личинки романа являются
производными Безымянного, который, будучи шаром, наполненным слизью,
обладает способностью размножаться, исторгая из себя такие же бесскелетные
организмы, как и он сам.
31 ... петь орать да изредка конвульсивно правой рукой... — Ср. с последней
строчкой романа Андре Бретона «Надя»: «Красота будет КОНВУЛЬСИВНОЙ
или не будет вовсе» (Антология французского сюрреализма. 20-е годы / Сост.
С. А. Исаева и Е. Д. Гальцовой. М, 1984. С. 246).
32 ... указательным пальцем в задний проход... — Погружая палец или
открывалку в зад Пима, безымянный рассказчик как бы вскрывает его тело, делает
его проницаемым для той вселенской грязи, по которой они медленно ползут.
Тело растворяется в океане грязи, его гуморальные соки смешиваются с соками
земли. Более того, вскрытие тела выступает в качестве метафоры письма как
препарирования реальности («...БОМ процарапано ногтем поперек задницы
гласная в дырке...»). Рука писателя, водящего пером по бумаге, уподобляется, таким
образом, руке насильника, вспарывающего тело другого, для того чтобы
обнаружить под его непрочной оболочкой иное, конвульсивное, нечеловеческое тело.
Раскрытие другого будет одновременно и самораскрытием, выбросом себя вовне.
С психоаналитической точки зрения, отношения между рассказчиком и
Пимом имеют скрытую гомосексуальную природу и могут быть
интерпретированы в качестве «инфантильной регрессии на анальную стадию» (См.: Simon А.
Samuel Beckett. Paris, 1983. P. 246).
33 ... черный ягненок грехов мира очищенный мир три лица...— Имеется в виду
Христос и в целом Божественная Троица, четвертым членом которой становится
рассказчик.
34 ... я родился скорее восьмидесятилетним в возрасте когда умирают... — Ср.
в «Моллое»: «Да, мир кончается, несмотря на видимость, это его конец вдохнул
в него жизнь, он начался с конца, неужели не ясно?».
35 ... в больнице... — Беккет рассказывал, что этот эпизод романа был навеян
воспоминаниями о посещении в больнице одной его знакомой.
36 ... папаша... строитель что ли... — Отец Беккета, Билл, работал в сфере
строительства.
37 ... псалом сто с чем-то Господи дни человека как трава... — Ср.: «Дни мои —
как уклоняющаяся тень; и я иссох, как трава» (Псалтирь; псалом 101).
38 ... из Ζ в А... — Время течет вспять, и герой ищет свою могилу в
материнском лоне.
39 ... дорогой червь... — В «Безымянном» Червь является одной из
инкарнаций рассказчика.
40 ... поколения писцов ведущих записи... — См. «Никчемные тексты» (№ 5).
41 ...дыхание... — Так называется театральный «скетч» без слов, написанный
по-английски в 1969 году.
Примечания
333
42 ... причмокиванья... — В оригинале «succion» — дословно «сосание»,
«высасывание», «отсасывание». Бытие-в-себе, подобно болоту, засасывает беккетов-
ского персонажа; о том, что их «засасывает», говорит и Генри из радиопьесы
«Зола», и Винни из пьесы «Счастливые дни».
43 ... одна-единственная огромная книга и все внутри... — В 1981 году Беккет
написал пьесу «Экспромт Огайо», в которой вывел на сцену Чтеца, читающего
книгу жизни, и Слушателя, чья жизнь в этой книге описана. На самом деле
два персонажа представляют собой две части одного «я» — прием, который
Беккет использовал во множестве текстов.
44 ... кстати об омеле... — Священное растение друидов, растущее на дубе.
Дуб у друидов символизировал верховное божество, и все, что росло на нем,
считалось священным. Омела рассматривалась как лекарственное растение,
панацея от всех болезней.
45 ... в расширившихся зрачках... — Такие же невидящие, с расширившимися
зрачками глаза у старухи из «Недовидено недосказано» и у господина Эндона
из «Мэрфи». См. также в «Опустошителе»: «И если бы удалось в течение
достаточно длительного времени тщательно наблюдать за определенной парой
глаз, лучше всего синих, поскольку они более подвержены пагубным
воздействиям, обнаружилось бы, что они все сильнее вылезают из орбит и наливаются
кровью, а зрачки неуклонно расширяются, пока окончательно не вытеснят
радужную оболочку».
46 ... святой Андрей Черноморский... — Намек на хождение апостола Андрея
по причерноморским и приволжским областям (см. далее в тексте: «...святого
Андрея Волжского...»).
47 ... вылезает из мешка еще совсем маленький... — Мешок здесь играет роль
материнского чрева.
48 ... Гомерова сиреневая волна... — Возможно, намек на странствия Одиссея.
3
49 ... сказать тело увидеть тело... — Ср. в «Никчемных текстах»: «Сперва
шевельнись, здесь должно быть тело, как когда-то, я же не возражаю, я
возражать не стану, скажу, что у меня тело, тело, ерзающее туда и сюда,
снующее вверх и вниз, смотря что ему надо».
50 ... огромные ножницы черной старухи древней как мир щелк да щелк... —
Черная старуха — это Клото, «прядущая», одна из трех мойр (в греческой
мифологии — богини судьбы). Архаические мойры — дочери ночи, породившей
смерть и сон.
51 ... записать на эбонит... — Каучук, применяется в качестве изоляционного
материала.
52 ... оставил Бему я оставлю мешок Бому... и ушел к Пиму... — Одного из
санитаров психиатрической лечебницы, в которой работает Мэрфи («Мэрфи»),
зовут Бом, а другого Бим. Спустя почти пятьдесят лет Беккет напишет пьесу
«Что где» (1983), в которой четыре идентичных персонажа будут носить имена
Бем, Бим, Бом и Бам (голос последнего, доносящийся из рупора,
расположенного на авансцене, выполняет функции «ведущего», того, кто «открывает»
действие). Джеймс Ноулсон отметил, что Бам, Бем, Бим и Бом восходят к
сонету Рембо «Гласные», первая строчка которого гласит: «„А" черный, белый
334
Приложения
„Ε", „И" красный, „У" зеленый, „О" голубой» (пер. В. Микушевича; см.:
Knowlson J. Beckett. Paris, 1999. P. 861-862). Поскольку речь в пьесе идет о пяти
персонажах, а на сцене присутствуют всего четыре, можно предположить, что
пятый персонаж носит имя Бум («Bum» по-английски «лодырь», «лентяй», а
также «зад»). Интересно к тому же, что по-английски «Bum» читается как «бам»,
что создает типичный для беккетовского творчества эффект раздвоения,
расщепления единого персонажа.
53 ... ничто не вращается всюду все тот же миг всегда и везде... — Ср. в
«Никчемных текстах»: «А теперь здесь, какое теперь здесь, огромная секунда,
как в раю, и мысль крутится медленно, медленно, почти стоит. [...] Слова тоже,
медленно, медленно, подлежащее умирает, не успев добраться до глагола, слова
замирают тоже».
54 ... каждый ждет безымянно своего Бома... — Ср. в «Опустошителе»:
«Место, где бродят тела в поисках каждое своего опустошителя».
55 ... прямая тянется к востоку... — Т. е. к той исходной точке, которой в
онтогенетическом плане соответствует рождение человека, а в плане
филогенетическом — возникновение человечества.
56 ... продвигаясь рывками и толчками... — «Толчки» — так называется
прозаический текст, работа над которым продлилась несколько лет и была
завершена в 1987 году.
57 ... и он слушает сам себя... — Ср. в «Общении»: «Выдумавший голос, и
слушателя, и себя самого. Выдумавший себя для общения. Предположим. Он
говорит о себе как о ком-то другом. Говорит: Говорит о себе как о ком-то
другом. Себя выдумал для общения. Пока оставим так».
58 ... никогда два тела не касаются друг друга... — Ср. в «Воображение мертво
воображайте»: «В наибелейшей белизне ротонда. Входа нет, войдите, измерьте.
Диаметр 80 сантиметров, такое же расстояние от пола до вершины свода. Две
поперечные линии под прямым углом делят белый пол на два полукруга. На
земле два белых тела, каждое в своем полукруге».
ОПУСТОШИТЕЛЬ
1 ...в поисках каждое своего опустошителя. — В английском варианте своего
текста Беккет предпочел употребить не слово «depopulator», которое
соответствовало бы употребленному в оригинале и не существующему во французском
языке слову «depeupleur», а словосочетание «lost one». Если «depopulator»
обозначает в первую очередь активного деятеля, того, кто уничтожает других,
то «lost one» — деятеля пассивного, того, кто утерян или умер. В то же время
было отмечено, что возможным источником появления во французском
оригинале слова «depeupleur» было стихотворение Альфонса де Ламартина
«Одиночество», одна из строчек которого гласит: «Un seul etre vous manque, et tout est
depeuple!» («Нет в мире одного —· и мир весь опустел»; пер. Ф. Тютчева).
Получается, что «depeupleur» — это не только тот, кто уничтожает другого, но
и тот, чье исчезновение, чья смерть опустошает мир, превращает его в пустыню
для того, кто перенес эту потерю. Введя во французский текст слово «depeup-
leur», Беккет смог добиться поразительного эффекта, когда одно и то же слово
несет в себе два противоположных смысла (в английском варианте этой
Примечания
335
двусмысленностью пришлось пожертвовать). Теперь становится ясным и смысл
первой фразы: «опустошитель» — это тот, кто уже «опустошен» (или, как сказал
бы Делез, «изнурен»); сам «опустошитель» никого не ищет, ибо уже не
принадлежит миру «искателей». Задача «искателей», напротив, состоит в поисках
того, кто ничего не ищет, то есть «неискателя». Найти «опустошителя», или
«неискателя», — значит «причаститься» его пассивности, его выключенности из
бытия, самому стать «опустошенным опустошителем». В конце текста дается
описание того, кому первому удалось достичь состояния абсолютного
опустошения и неподвижности. Это женщина, поза которой заставляет еще раз
вспомнить о дантовском Белакве. Именно она является точкой отсчета и
источником «опустошения» для остальных, количество которых неуклонно
уменьшается, «пока ближе к непредставимому концу, коль скоро у нас принято
такое понятие, вялые, с перебоями, поиски не будет вести последний
оставшийся». В тот момент, когда он погружает свои глаза в «спокойные пустыни»
глаз первой опустошенной, он сам превращается в своего собственного
«опустошителя».
2 ... восьмидесяти тысяч квадратных сантиметров... — То есть 8 м2, в то
время как несложные подсчеты показывают, что площадь цилиндра (точнее,
его стен), при условии, что его периметр 50 м, а высота 16, должна
равняться 8 000 000 см2, или 800 м2. Заметив эту ошибку, редакторы американских
изданий «Опустошителя» попытались ее исправить, внеся свои коррективы и —
еще больше запутав ситуацию. Кстати, в оригинальном тексте ошибка больше
не повторяется, и, когда рассказчик вновь возвращается к подсчету площади
цилиндра, он дает верную цифру: 1200 м2 общей площади, из которых 800 м2
приходится на долю стены. Чем же тогда вызвана данная ошибка: несет ли она
какую-то смысловую нагрузку или объясняется простой невнимательностью?
На этот вопрос определенного ответа не существует. Если предположить, что
Беккет сознательно допустил погрешность в расчетах, то, возможно, им двигало
желание привлечь внимание читателя к тому, что происходящее в цилиндре
является чисто умозрительной проекцией, ментальным конструктом, созданным
«мертвым», «опустошенным» воображением (см. текст «Воображение мертво
воображайте»). Возможно и другое объяснение, связанное с тем, что цилиндр
дается как внешний объект фиксации, который осматривается глазом-камерой.
Тогда колебания в определении точной площади (8 м2 или 800 м2) могут быть
вызваны перемещениями камеры: когда она приближается, срабатывает эффект
«зума», объектива с переменным фокусным расстоянием, и цилиндр дается
крупным планом; и наоборот, когда она отъезжает, цилиндр кажется меньше,
чем он есть на самом деле.
3 Ниши, или впадины. — Внутренность цилиндра напоминает гробницу семьи
Августа, изображенную на гравюре Пиранези.
4 ... сидят у стены в позе, которая исторгла у Данте одну из его редких бледных
улыбок. — То есть в позе Белаквы. Как указывает биограф Беккета Джеймс
Ноулсон, писатель на отдельном листке отметил все те места в «Божественной
комедии», где Данте улыбался.
5 Другие грезят о замаскированном люке в центре потолка, ведущем в трубу, в
конце которой могут блистать солнце и другие звезды. — Ср. в последней песне
«Ада»: «Там место есть, вдали от Вельзевула, / Насколько стены склепа вдаль
ведут; / Оно приметно только из-за гула / Ручья, который вытекает тут, /
Пробившись через камень, им точимый; / Он вьется сверху, и наклон не крут.
336
Приложения
I Мой вождь и я на этот путь незримый / Ступили, чтоб вернуться в ясный
свет, / И двигались все вверх, неутомимы, /Он — впереди, а я ему вослед, /
Пока моих очей не озарила / Краса небес в зияющий просвет; / И здесь мы
вышли вновь узреть светила» (Данте Алигьери. Божественная комедия // Данте
Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М, 1967. С. 224).
В своей статье о Джойсе, написанной в 1929 году, Беккет подробно
останавливается на том, чем отличается Чистилище Джойса от Чистилища Данте:
«Чистилище Данте имеет конусообразную форму, что подразумевает наличие
вершины. Чистилище г. Джойса имеет форму сферическую, что наличие
вершины исключает. В первом из них реальная вегетация — Предчистилище —
превращается в вегетацию идеальную — Земной Рай. Во втором нет ни
превращения, ни идеальной вегетации. В первом — развитие носит абсолютный
характер и устремлено к конечной точке, наличие которой гарантировано. Во
втором — есть только вечное колебание, между движением вперед и движением
назад нет разницы, а конечная точка оказывается мнимой. В первом —
движение не прерывается, и шаг вперед означает явную прогрессию; во втором —
движение не имеет направления, если это только не движение во всех
направлениях сразу, и шаг вперед по определению равносилен шагу назад». Очевидно,
что цилиндр, в котором находятся беккетовские персонажи, больше похож на
джойсовское Чистилище.
6 ... медленной деградации зрения... — См. примеч. 45 к «Как есть».
7 ... свет этот исходит со всех сторон сразу... — Свет, подобно взгляду
Божества, проникает повсюду, не оставляя ни малейшего укрытия.
8 Голову она уронила в колени, руками обвила ноги. — В такой же позе сидят
многие фигуры на рисунках Уильяма Блейка (см., в частности, «Заснувшее
человечество» и «Hyle»).
9 ... в этом старом месте не все еще пока устроено наилучшим образом. —
Иронический намек на «Теодицею» Лейбница, в которой философ доказывал,
что наш мир является наилучшим из всех, которые мог бы сотворить Бог.
10 В эти спокойные пустыни он погружает свои... — В романе «Мэрфи»
отсутствие контакта между Мэрфи и господином Эндоном также служит
«катализатором» внутреннего перерождения героя и в конце концов приводит его
к смерти. Эндон не видит ничего вокруг себя, и «общение » с ним делает
слепым также и Мэрфи. Ослепление, будь оно реальным или
метафорическим, — это залог освобождения из-под власти материального мира,
освобождения духовного, за которым неизбежно последует и освобождение
физическое — телесная смерть.
НЕДОВИДЕНО НЕДОСКАЗАНО
1 Хижина. В несуществующем центре бесформенного пространства. — Совсем
не случайно хижина должна находиться именно в центре пространства: тем
самым она становится той бесконечно малой точкой, которая аккумулирует в
себе все его потенциальные и актуальные состояния. Если бы не было хижины,
то это пространство окончательно потеряло бы форму и заполнилось бы
вселенской грязью, передвижение по которой равнозначно топтанию на месте
(см. «Как есть»). Бесформенное пространство, в котором поиски смерти обре-
Примечания
337
чены на неудачу, внушает беккетовским персонажам безотчетный ужас, и они
стремятся найти в нем некую центральную точку (так, центральную позицию
стремятся занять и Безымянный, и Хамм из пьесы «Эндшпиль»), которая
«вбирала» бы пространство в себя. Таким образом, среди всех возможных
состояний пространства, аккумулированных в точке, было бы и состояние его,
этого пространства, несуществования. Событие смерти возможно лишь в этой
бесплотной точке, которая существует только в процессе угасания. В таком
случае хижина, помещенная в центральную точку бесформенного пространства,
перестает быть материальным объектом и превращается в абстрактный образ,
несущий в себе возможность собственного небытия.
2 Двенадцать. — Возможно, речь идет о двенадцати апостолах или же, в
символическом прочтении, о двенадцати цифрах на циферблате часов.
3 Там высится камень. — Это могильный камень, высящийся, по-видимому,
на ее собственной могиле (см. далее: «Конечно она уже умерла»). Могила
расположена на севере; ср. в «Опустошителе»: «Она и есть север. Именно
она, а не какой-нибудь другой побежденный, потому что она неподвижнее
всех».
4 Ни плотским глазом ни другим. — См. в книге Иова: «Разве у Тебя плотские
очи, и Ты смотришь, как смотрит человек?» (Иов, 10; 4).
5 ... серябряный как рыба на крючке... — Рыба — символ Христа.
6 В движении недвижима. — Ср. в «Безымянном»: «Мэлон. Он там. От его
предсмертной живости осталось совсем немного. Он появляется передо мной
через равные промежутки времени, или, не исключено, это я появляюсь перед
ним. Нет, однажды замерев, я больше не двигаюсь. Он проходит передо мной,
неподвижный».
7 Два круглых слуховых оконца. — См. примеч. 28 к «Никчемным текстам».
8 Камень везде побеждает. — В «Недовидено недосказано», как и в
некоторых других текстах Беккета (например, в радиопьесе «Зола»), намечается
противопоставление моря и камня. Если «мягкая», аморфная водная стихия
символизирует бессознательное, в котором прошлое сосуществует с настоящим и
будущим («Ночь наступает когда та которой нет слышит море»), то камень,
абсолютно неподвижный и безжизненный, является тем орудием, которое может
«пробить» бесконечный дискурс бессознательного, напоминающий безбрежность
морской глади. Ср. далее, где говорится о «сухом» звуке падения.
9 Раз в сто лет его отпустят из тех пределов где стынут слезы. — В отдельном
примечании к своему рукописному тексту Беккет связал данный пассаж с
тридцать второй песнью «Ада»; ср.: «И их глаза, набухшие от слез, / Излились
влагой, и она застыла, / И веки им обледенил мороз» (Данте Алигьери.
Божественная комедия // Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М.,
1967. С. 212).
10 Неподвижную в снегу под снегом. — Ср. в «Золе»: «Огонь погас, и трескучий
мороз, и бело, и беда, и ни звука».
11 И вот она снова сидит как статуя Мемнона и так же недвижно. — Мем-
нон — в греческой мифологии сын Эос и Тифона, царь Эфиопии, погиб в
поединке с Ахиллом во время Троянской войны. При фараоне Аменхотепе III
были изваяны две гигантские статуи, одна из которых, по преданию
изображавшая Мемнона, была повреждена во время землетрясения и с тех пор стала
издавать на рассвете звук, считавшийся приветствием Мемнона своей матери —
утренней заре.
338
Приложения
12 Море или маре 17. — Надпись на листке автореферентна и не отсылает
ни к какому событию. Значит, можно сказать, что она и не существует. Тем
более что клочок бумаги с надписью лежит в ларе, который самой своей формой
напоминает гроб.
13 Другой туда погружается. — См. примеч. 45 к «Как есть» и примеч. 10
к «Опустошителю».
14 Бесконечная партия выигрыш проигрыш. — Аллюзия на шахматную партию.
Вспомним, что в той партии, которую разыграли Мэрфи и господин Эндон,
проигрыш Мэрфи оборачивается выигрышем: увидев, что аутизм Эндона
невозможно ничем поколебать, он убеждается в том, что небытие существует и,
более того, достижимо.
15 Тишина превращается в бесконечно далекую музыку... — Для Беккета
нематериальность музыки, ее близость к пустоте были очень важны с самого начала
его творчества; не случайно музыка играет такую существенную роль не только
в более поздних пьесах («Про всех падающих», «Трио призрака», «Nacht und
Träume»), но и в ранних романах «Мэрфи» и «Уотт». Так, в «Мэрфи» переход
героя в состояние нирваны равнозначен растворению в музыке, а в
телевизионной пьесе «Nacht und Träume» несколько тактов из одноименной песни
Шуберта предваряют появление образа и замыкают его исчезновение.
16 Как руку Микеланджело изваявшего бюст цареубийцы. — Имеется в виду
незавершенный бюст Брута, работу над которым Микеланджело начал спустя
два года после убийства флорентийского герцога Алессандро Медичи (1537).
17 Огромная плоскость циферблата. — Отсутствие цифр на циферблате
говорит о том, что обитательница хижины не подвластна больше течению времени.
Каждое новое деление, на которое указывает стрелка, проживается как не
связанное с другими мгновение. Именно в мгновении, не имеющем
протяженности, смерть становится событием, а не процессом.
18 Тень старинной улыбки... — Эта «недовиденная» улыбка напоминает улыбку
Джоконды.
19 ... совсем один гвоздь. Неизменный. Годный к повторному употреблению. ~ В
вышеуказанном месте головы. Апрельский вечер. Снятие совершилось. — Аллюзия
на крестные муки Христа. На арамейском языке Голгофа означает «череп».
СОДЕРЖАНИЕ
Мерсье и Камье 5
Никчемные тексты 93
Как есть 126
Опустошитель 217
Недовидено недосказано 235
ПРИЛОЖЕНИЯ
Д. В. Токарев. «Воображение мертво воображайте»: «Французская» проза
Сэмюэля Беккета 257
Примечания (Д. В. Токарев) 316
Сэмюэль Беккет
НИКЧЕМНЫЕ ТЕКСТЫ
Утверждено к печати
Редколлегией серии
«Литературные памятники»
Редактор издательства А. И. Строева
Художник Л. А. Яценко
Технический редактор Г. А. Смирнова
Компьютерная верстка Л. Н. Напольской
Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Подписано к печати 12.11.03. Формат 70x90 7ΐ6·
Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25.3. Уч.-изд. л. 22.8.
Тираж 3000 экз. (2-й завод 1501-3000 экз.).
Тип. зак. № 4605. С 254
Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
main@nauka.nw.ru
Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
1ЖГ 5-02-028514-5
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА» РАН
ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
Л. Леонов
«ПИРАМИДА»
ПРОБЛЕМА МИРООПРАВДАНИЯ
Издание представляет собой коллективную монографию,
посвященную изучению одного из значительных произведений
конца XX в. — романа Л. Леонова «Пирамида» (1994). Книгу
открывает публикуемый впервые материал, содержащий
высказывания писателя о России, о литературном творчестве, об
истории создания романа. В научных статьях отечественных
и зарубежных исследователей разрабатываются следующие,
наиболее остро напряженные на рубеже веков темы: вера и
миросозерцание, христианство и православная культура,
философия истории и философия природы. Большой раздел посвящен
проблемам поэтики «романа-наваждения»: жанрово-сюжетным
аспектам, мотивным структурам, тематическим комплексам,
мифопоэтическим системам, интертекстуальным связям.
Для специалистов-филологов, преподавателей русской
литературы XX в., студентов, для всех, кто интересуется
философской прозой Л. Леонова.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА» РАН
ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
А. В. Денисов
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
Структура и функции
Монография посвящена исследованию феномена
«музыкальный язык». В первую очередь ставится задача определения
самой категории «язык музыки»; на основе сопоставления
музыкального языка с другими языковыми системами, прежде
всего художественными, устанавливаются специфические
особенности его организации. В работе рассматриваются
проблемы музыкальной семантики и структуры музыкального текста.
Для искусствоведов, культурологов, философов, всех,
интересующихся вопросами теории искусства.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА
«НАУКА» РАН
ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ
В. А. Туниманов
ДОСТОЕВСКИЙ И РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
В книге рассматриваются зачастую трудно и мучительно
складывавшиеся отношения с творчеством Ф. Достоевского
В. Розанова, Л. Андреева, И. Бунина, В. Ходасевича, А.
Ремизова, Е. Замятина, М. Алданова и других выдающихся
художников новой русской литературы. Это яркие фрагменты
грандиозного и страстного диалога с Достоевским литераторов
и философов различных идеологических и эстетических
направлений, обращавшихся к создателю «Братьев Карамазовых»
с вопросами, требовавшими немедленного ответа, вступавших
в своеобразное соревнование и спор не с «классиком», а с
живым современником, соглядатаем, «вожатым», постоянным
собеседником. Глубокая философско-религиозная мысль
Достоевского, его откровение о человеке во многом определили
пути русской и мировой литературы, многообразны отражения
произведений писателя в философии и искусстве только что
прошедшего столетия. Некоторым граням этого живого, все
еще продолжающегося процесса и посвящена книга.
Для филологов, студентов гуманитарных факультетов,
всех, кого волнуют судьбы русской культуры.
АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА»
Магазины «Книга — почтой»
121009 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52
197345 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-05-67
Магазины «Академкнига» с указанием отделов
«Книга — почтой»
690088 Владивосток-88, Океанский пр-т, 140 («Книга — почтой»);
(код 4232) 5-27-91
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
(код 3432) 55-10-03
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 («Книга — почтой»);
(код 3952) 46-56-20
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90
220012 Минск, проспект Ф. Скорины, 73; (код 10375-17) 232-00-52,
232-46-52
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00
117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79
103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96
103624 Москва, Б. Черкасский пер., 4; 298-33-73
630091 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60
630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 («Книга — почтой»);
(код 3832) 30-09-22
142292 Пущино Московской обл., МКР «В», 1 («Книга — почтой»);
(13) 3-38-60
443022 Самара, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»);
(код 8462) 37-10-60
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57; (код 812) 272-36-65
199034 Санкт-Петербург, Таможенный пер., 2; (код 812) 328-32-11
194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т, 4; (код 812) 247-70-39
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9 линия, 16; (код 812)
323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; (код 3822) 22-60-36
450059 Уфа-59, ул. Р. Зорге, 10 («Книга - почтой»); (код 3472) 24-47-74
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85