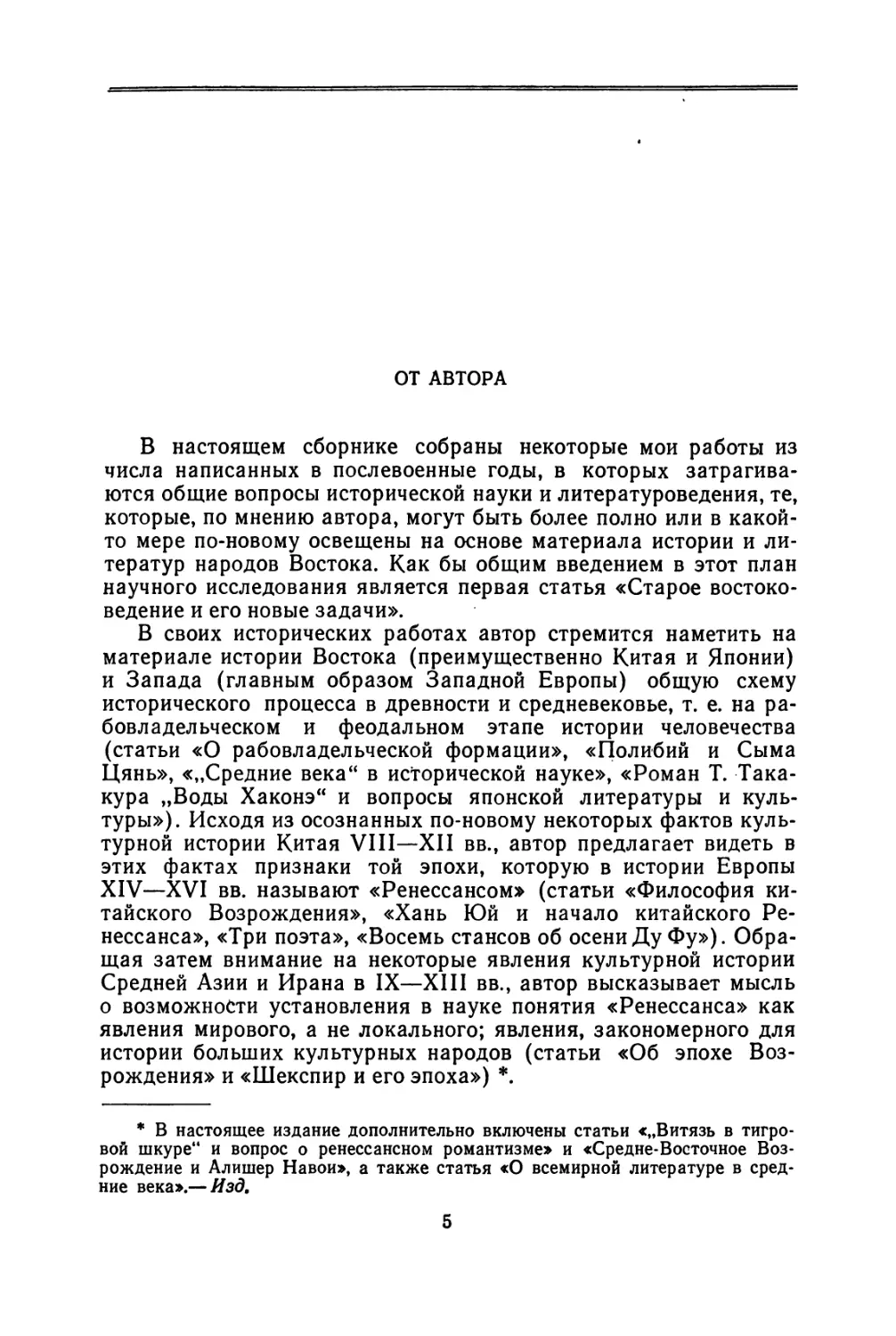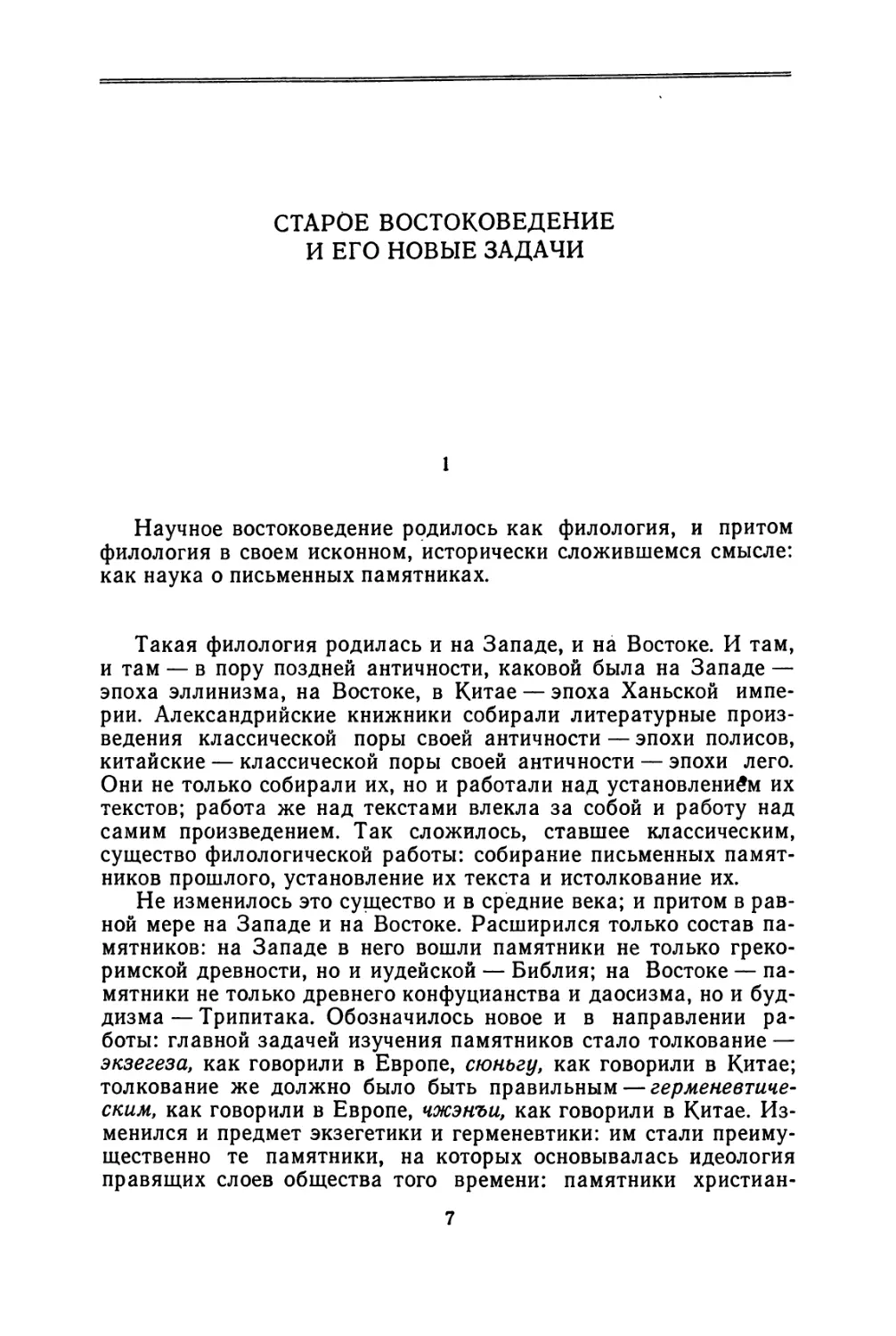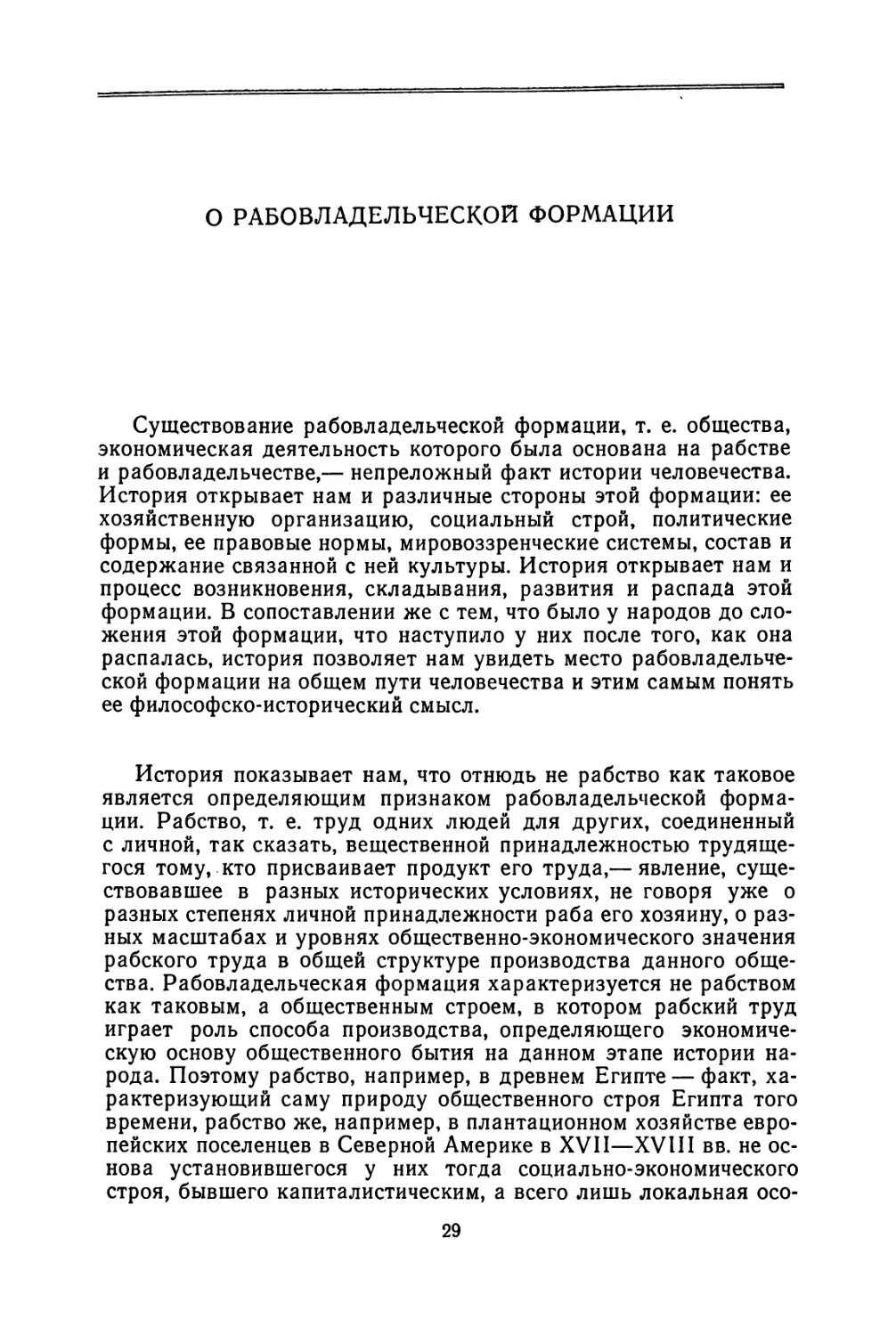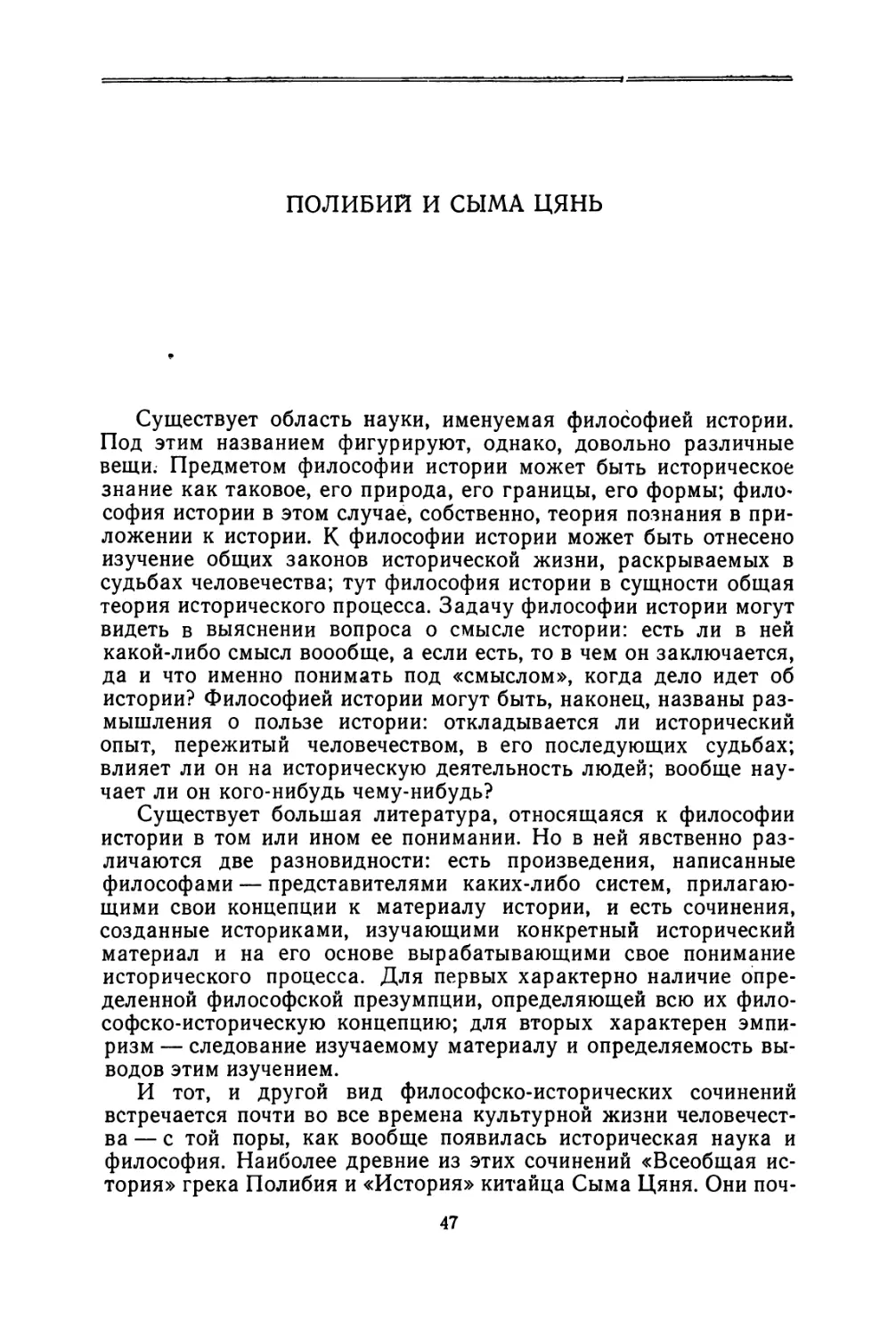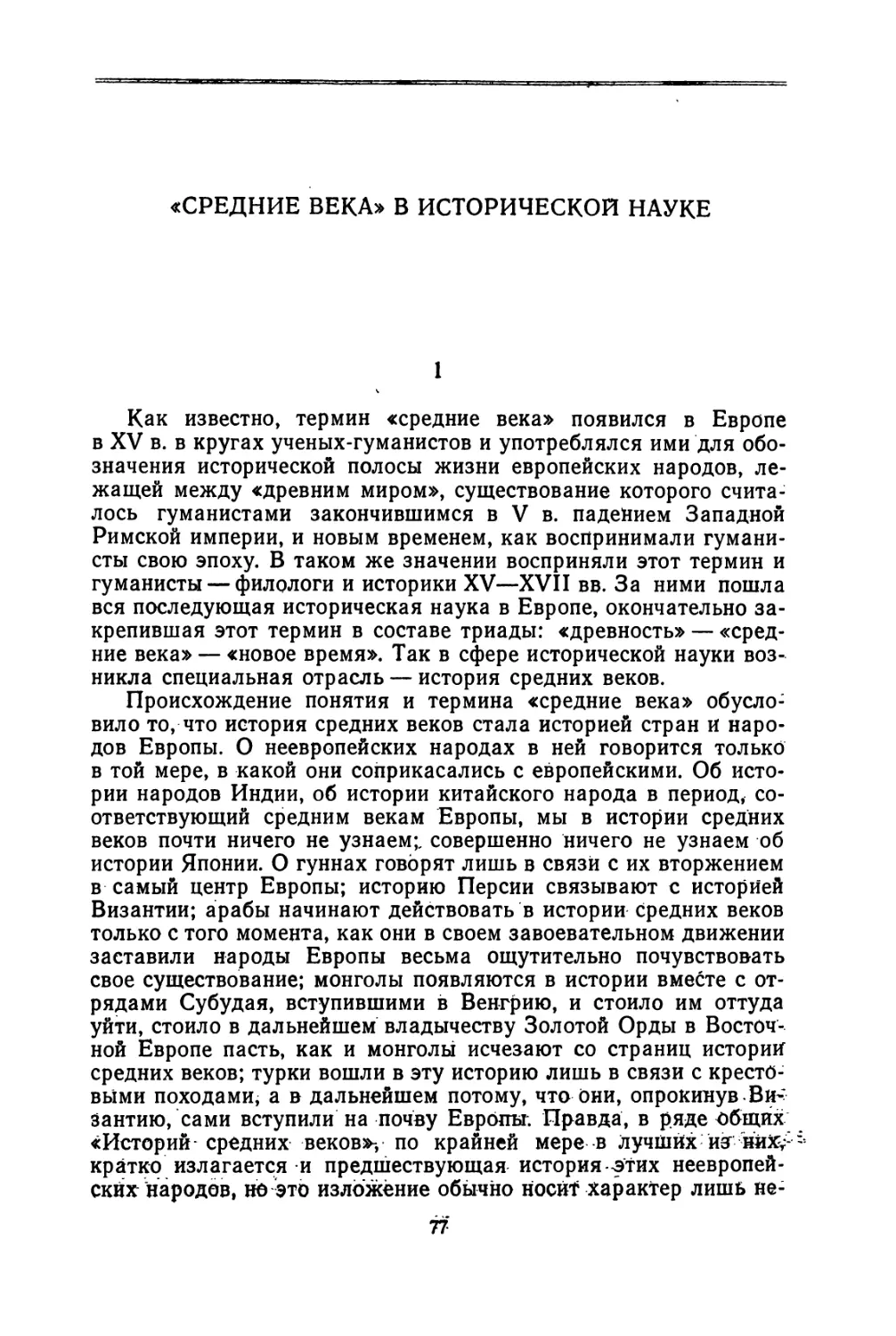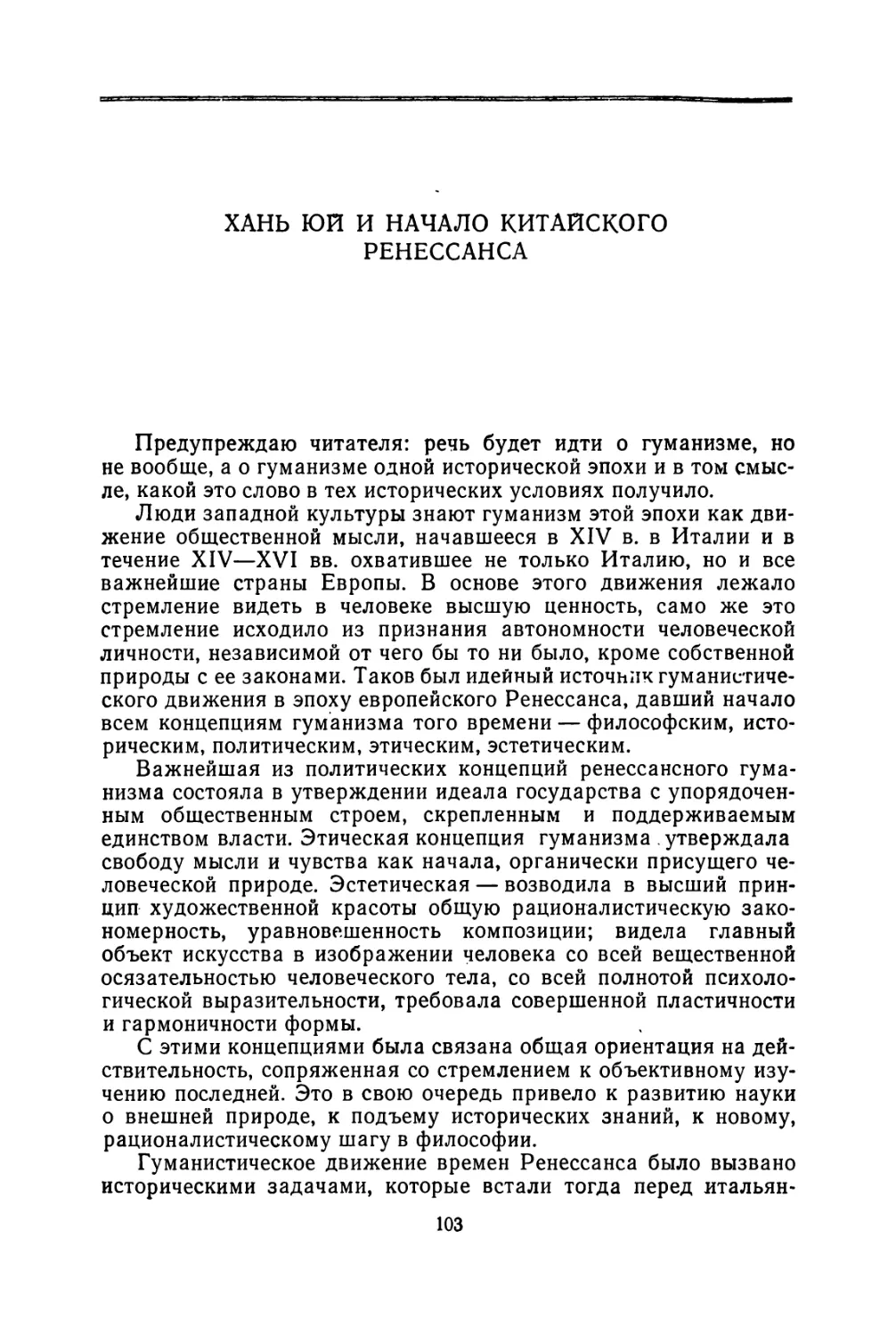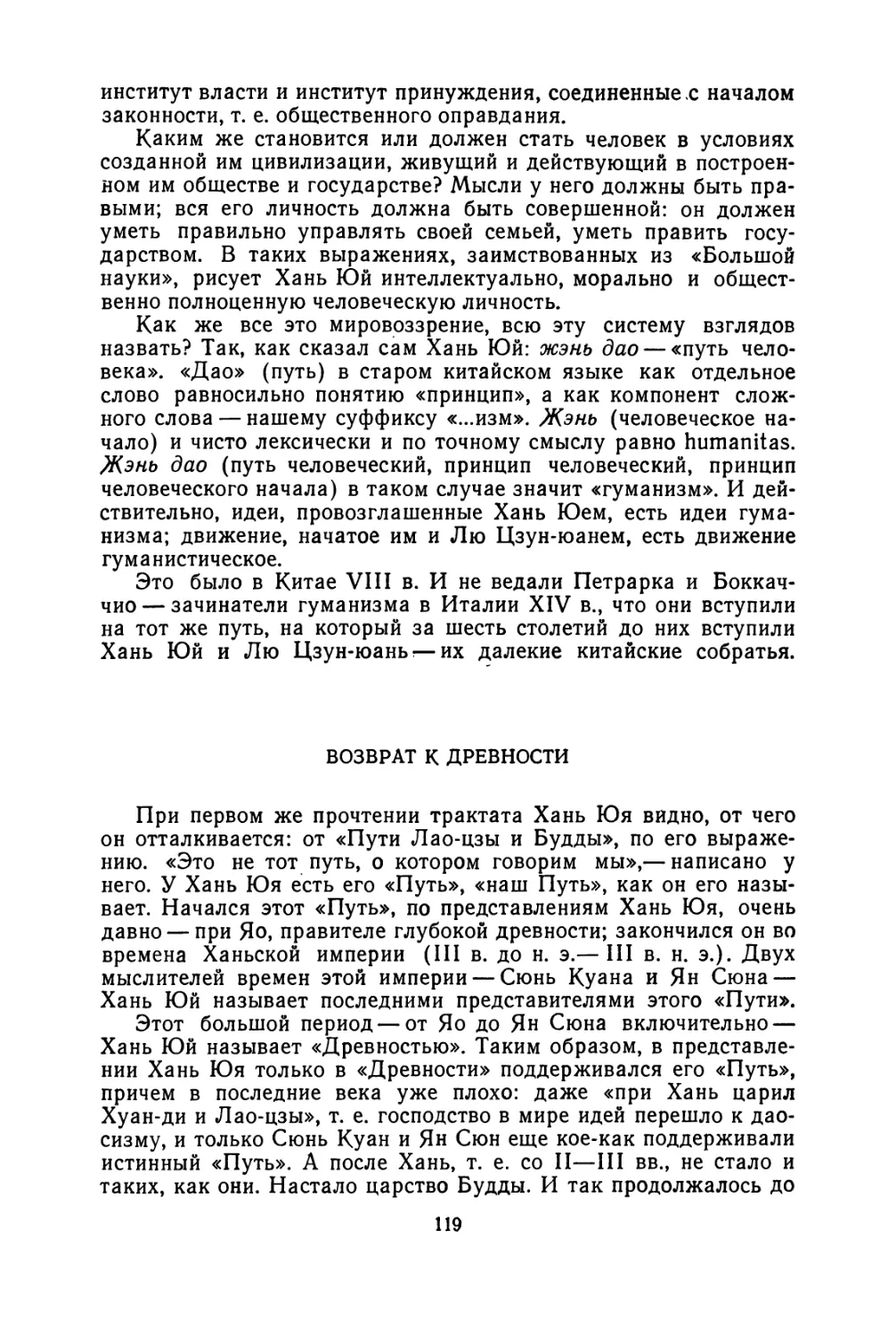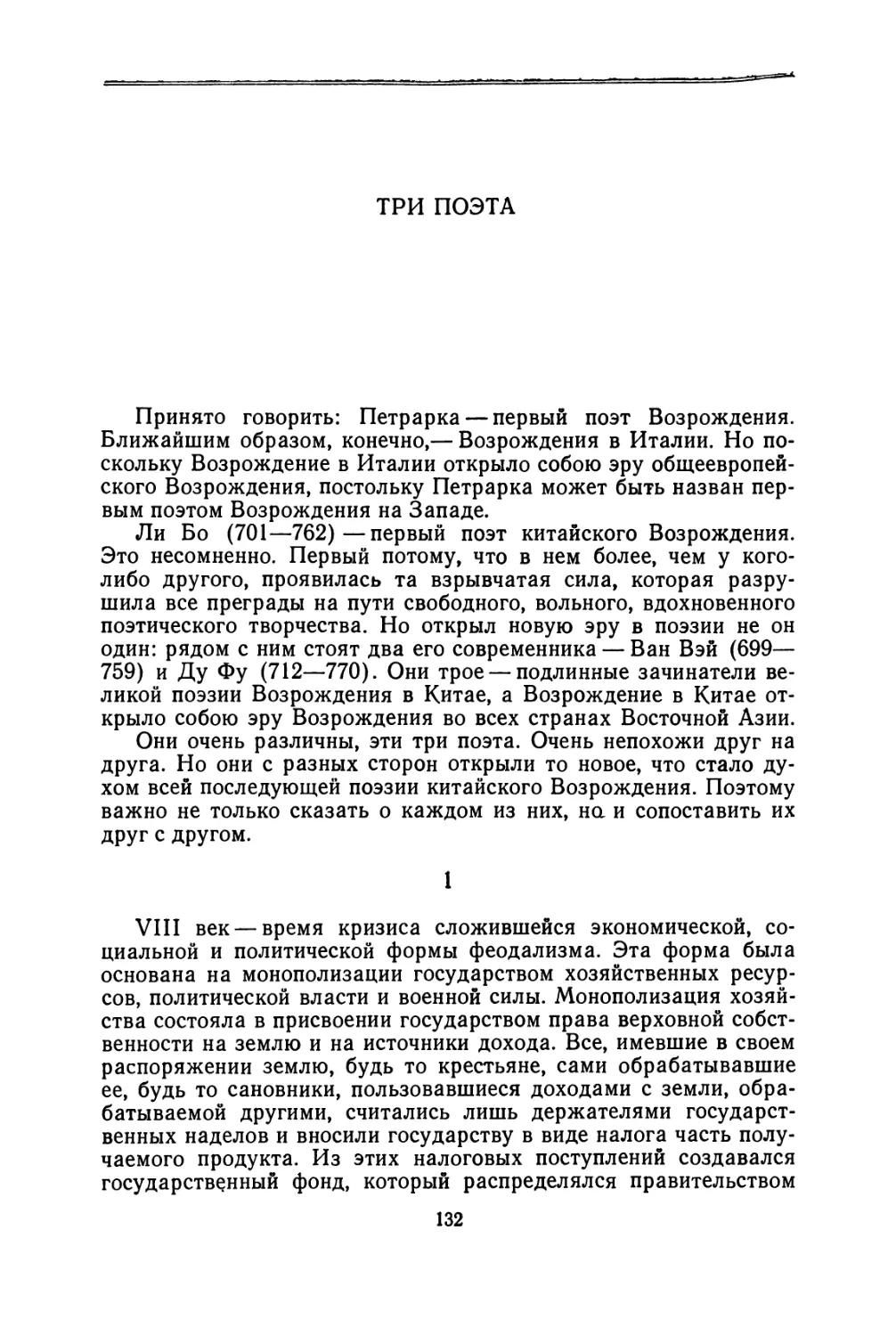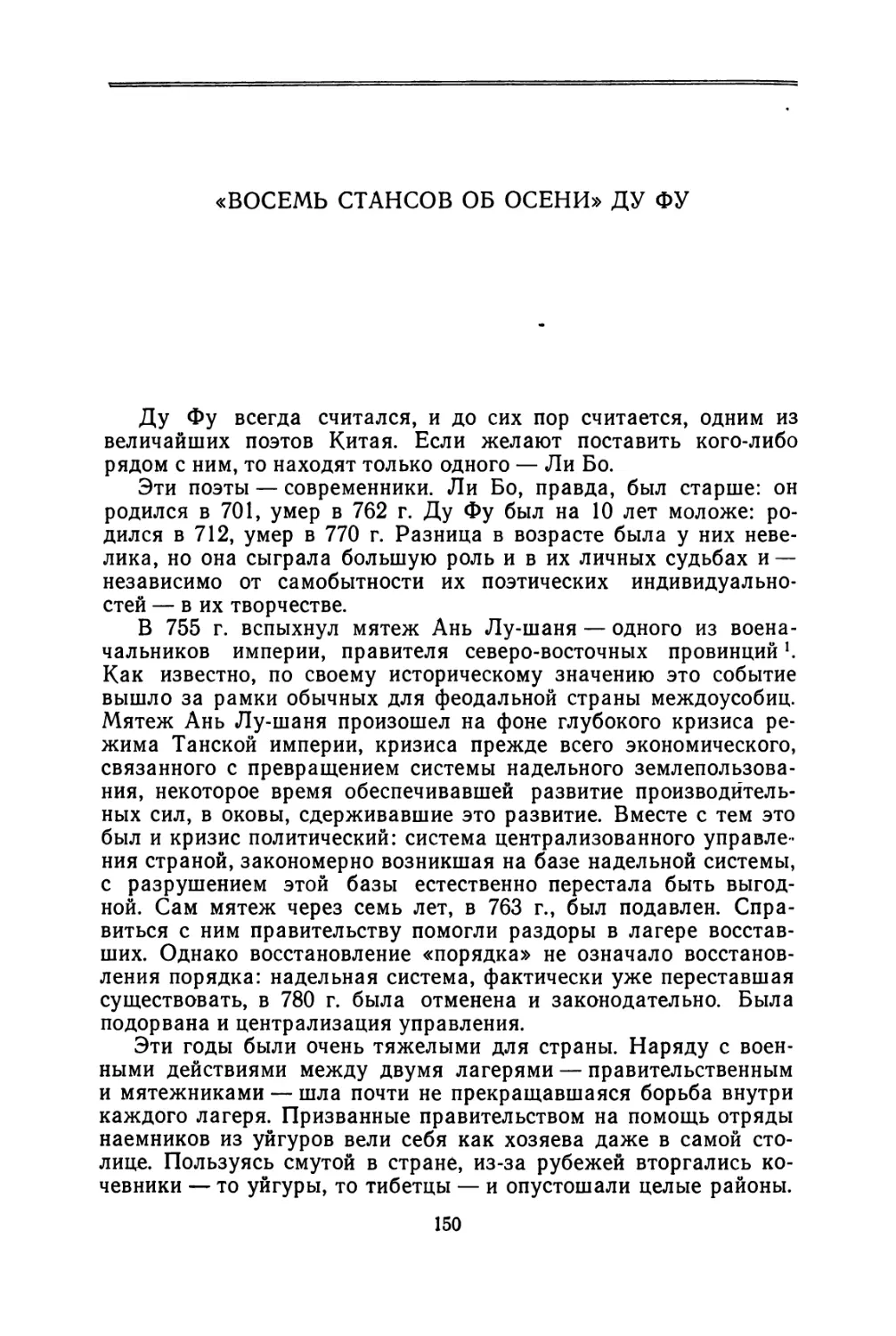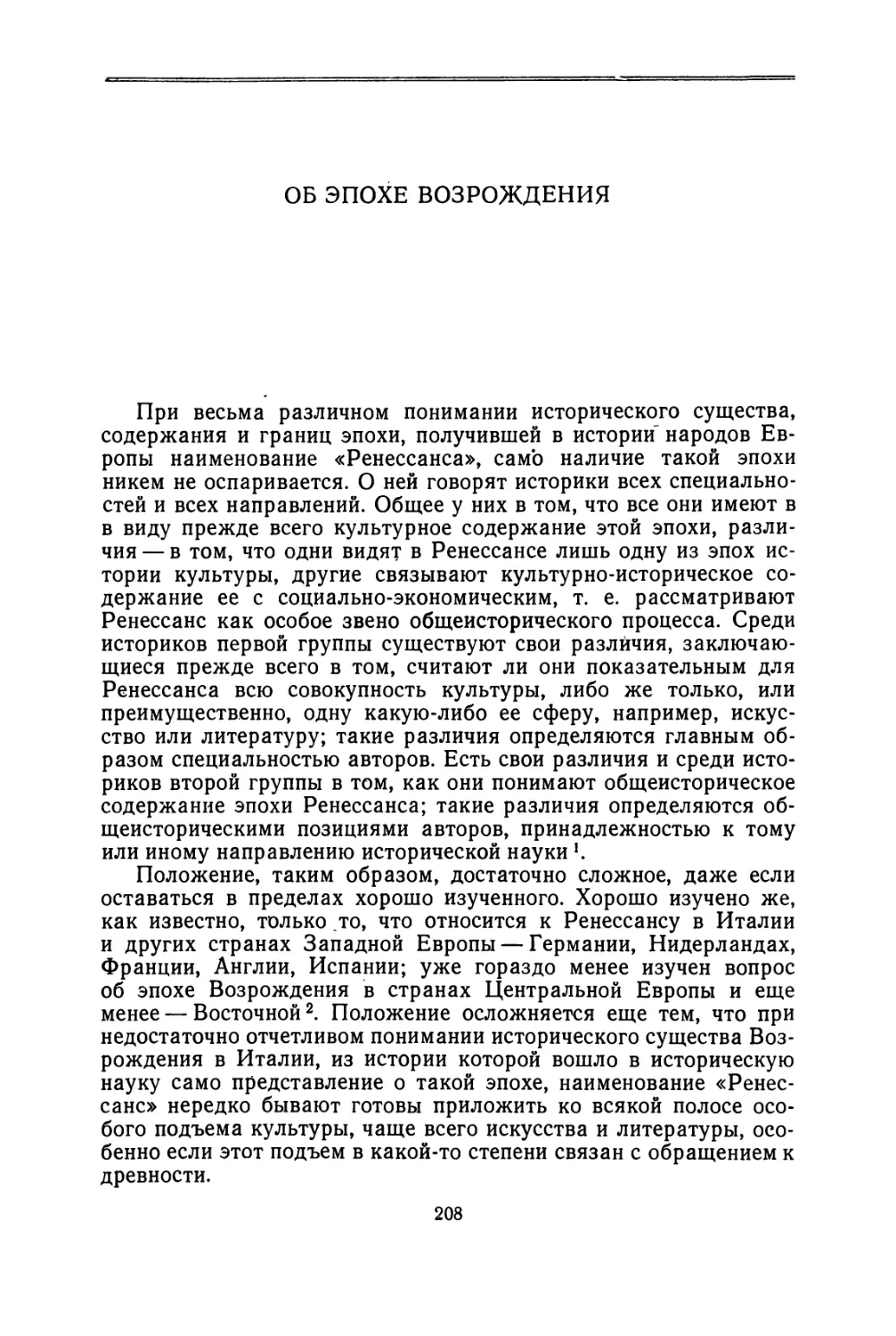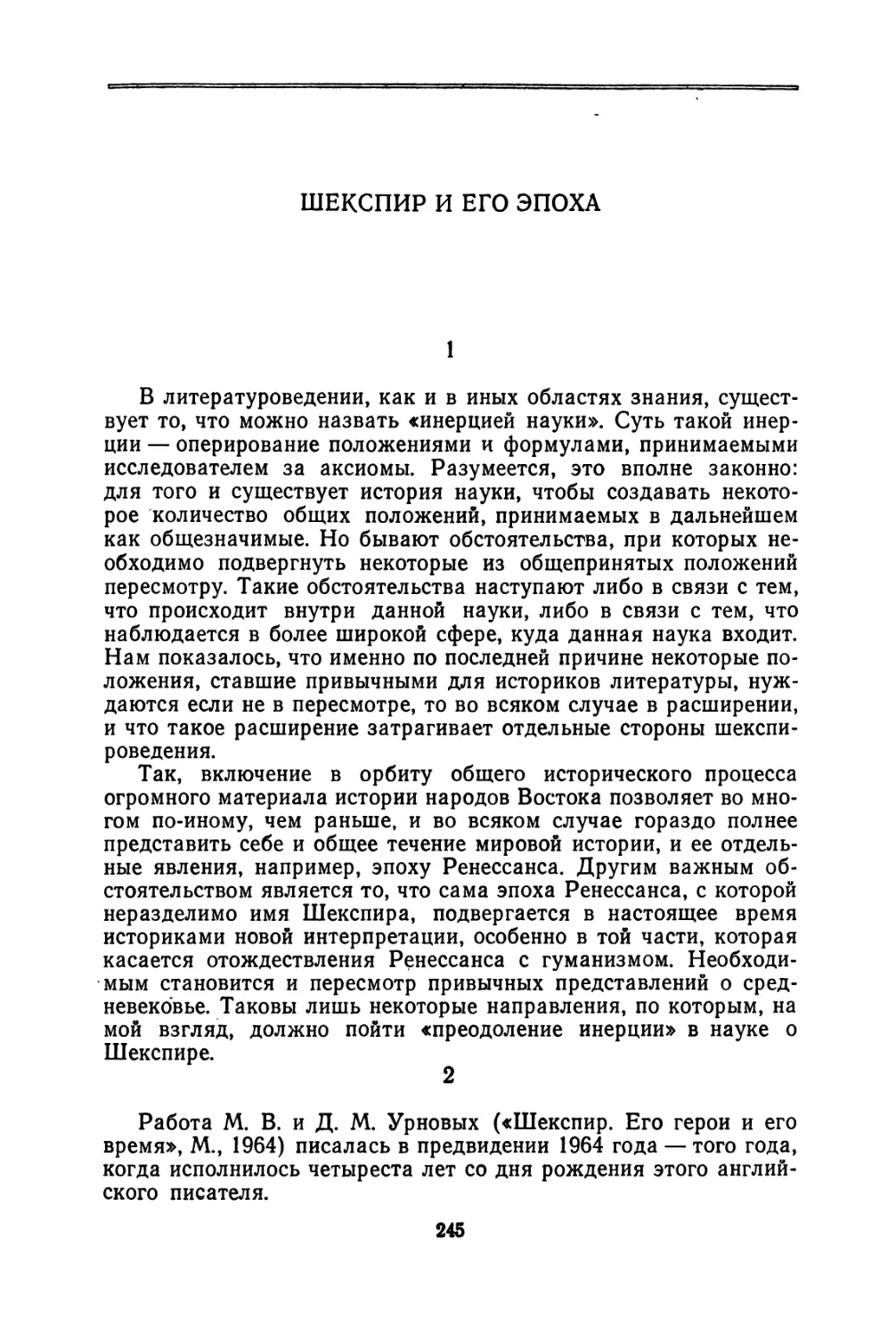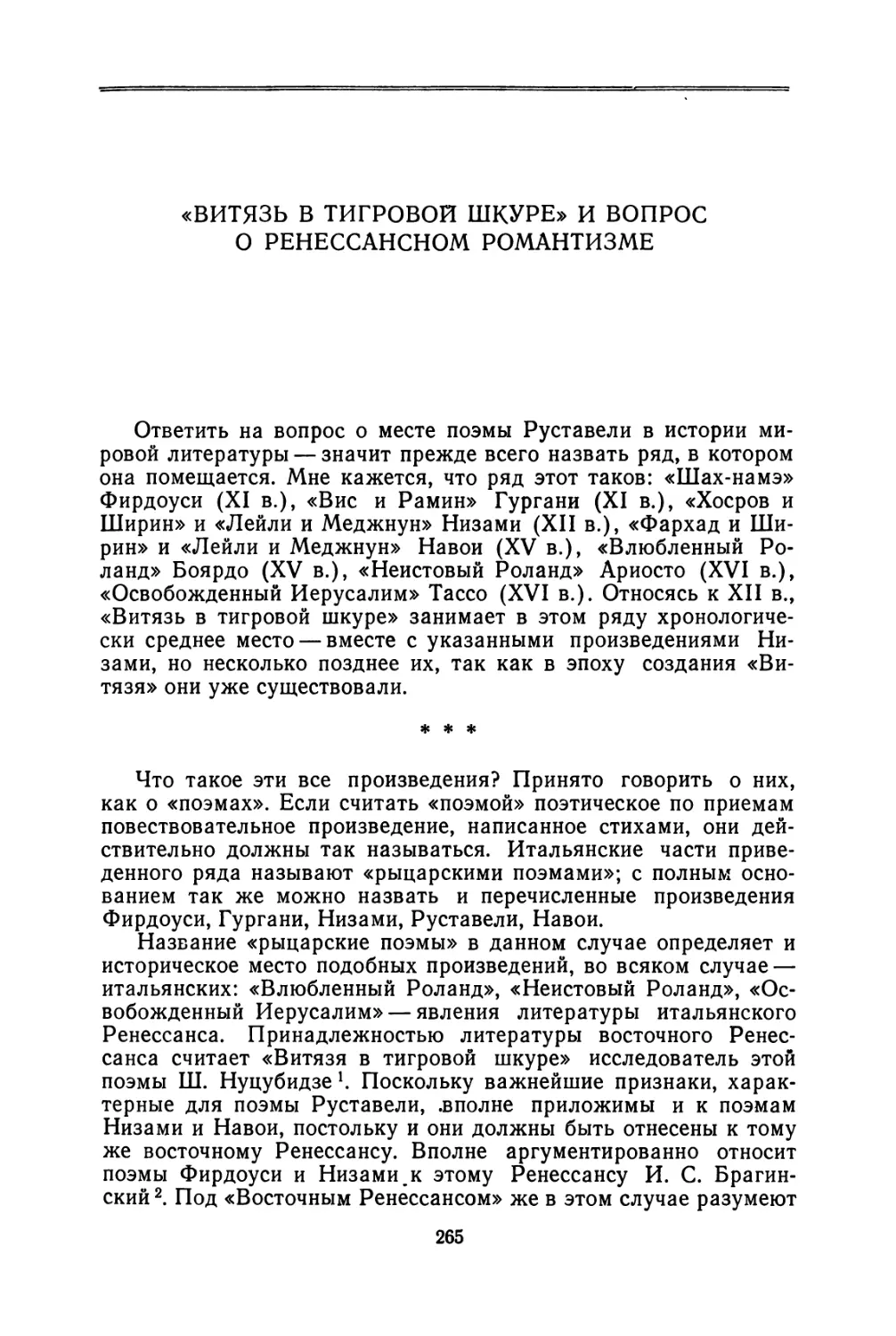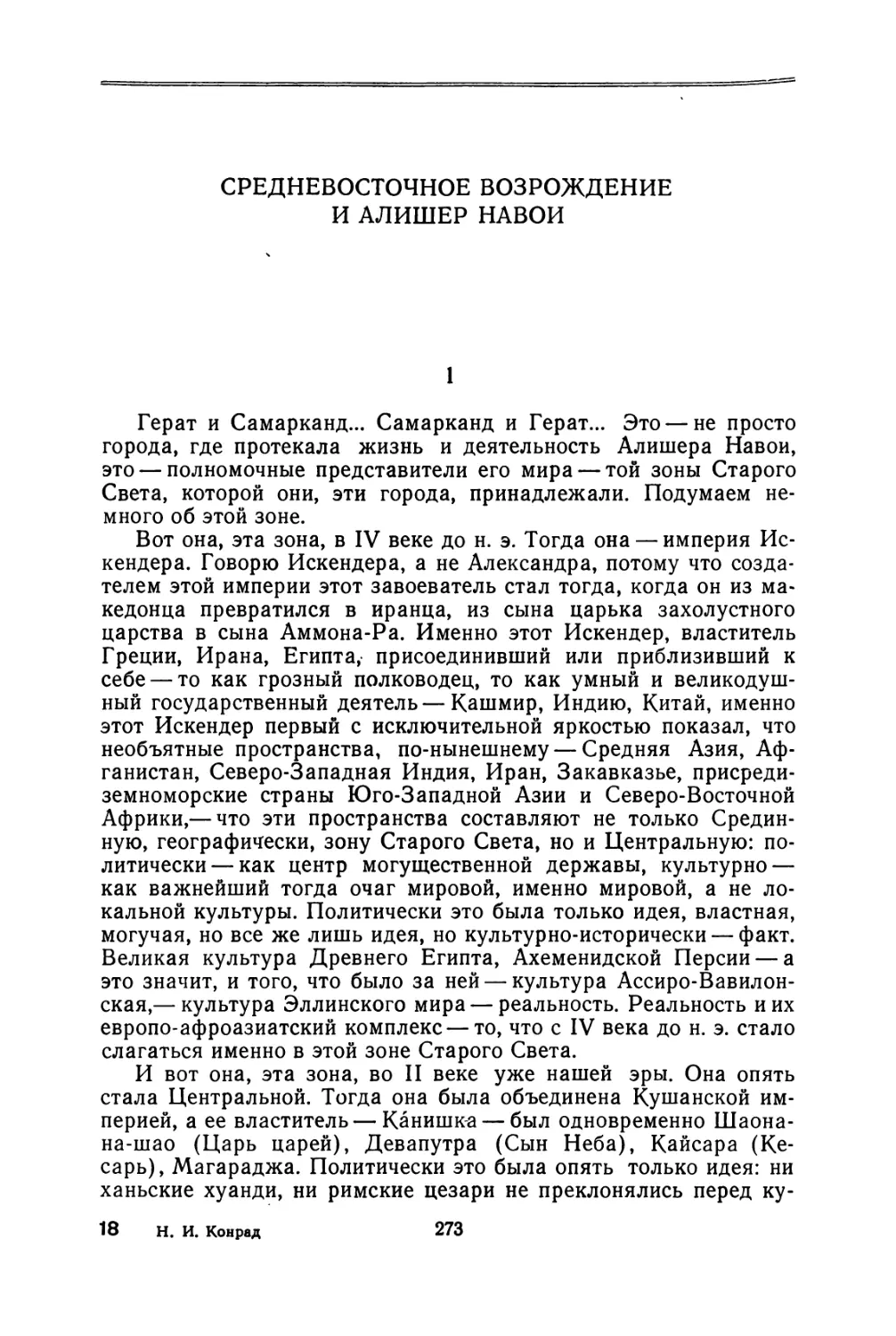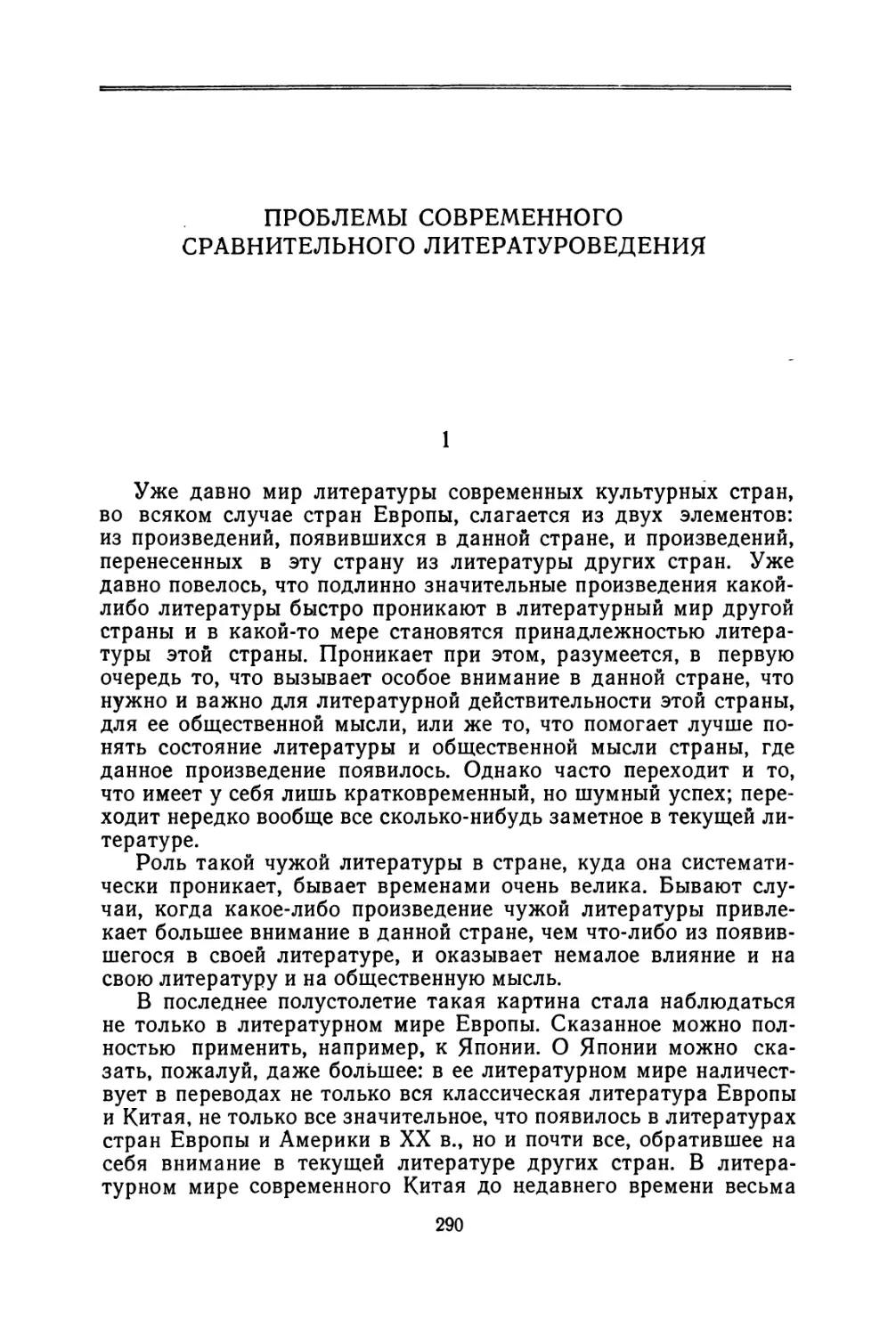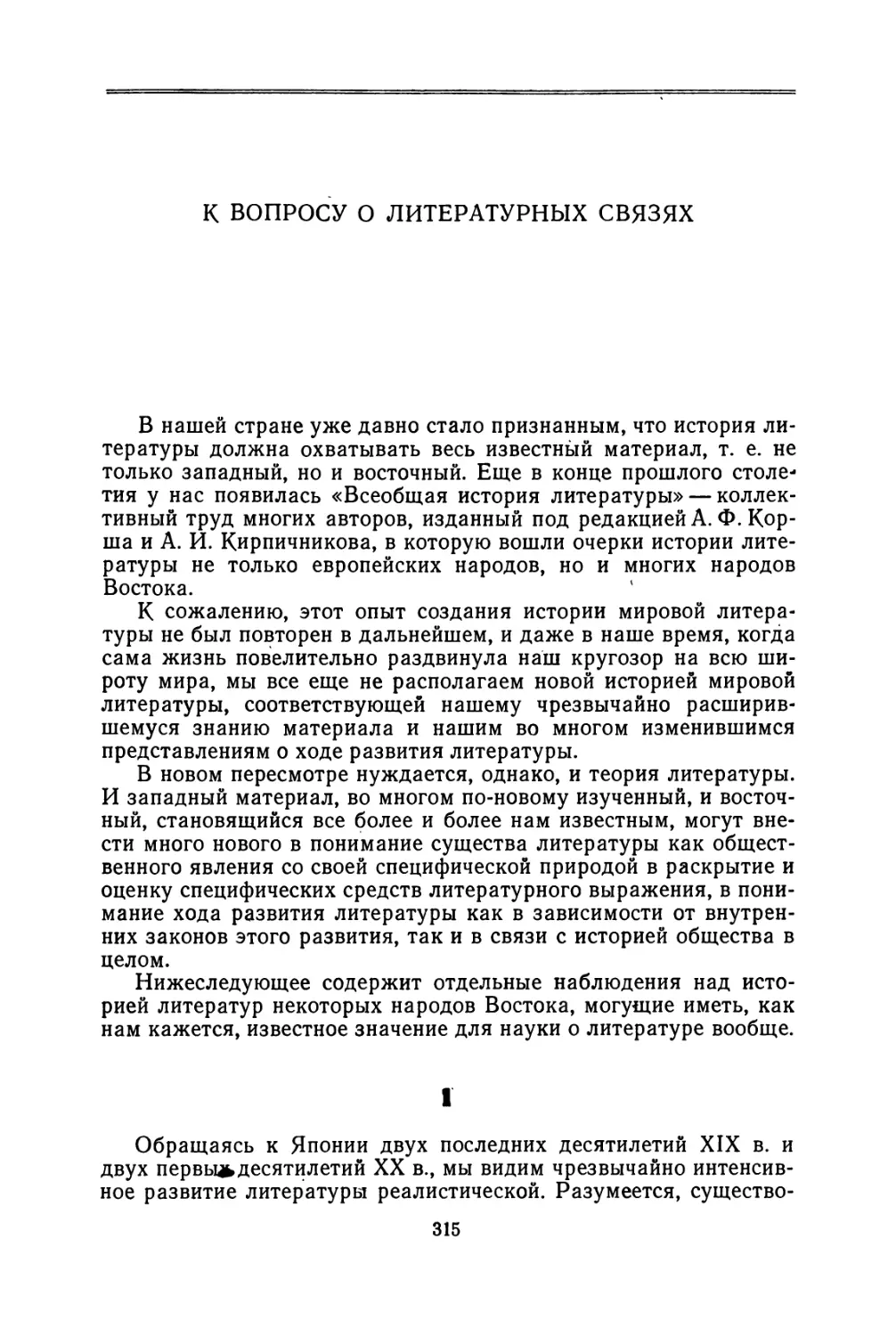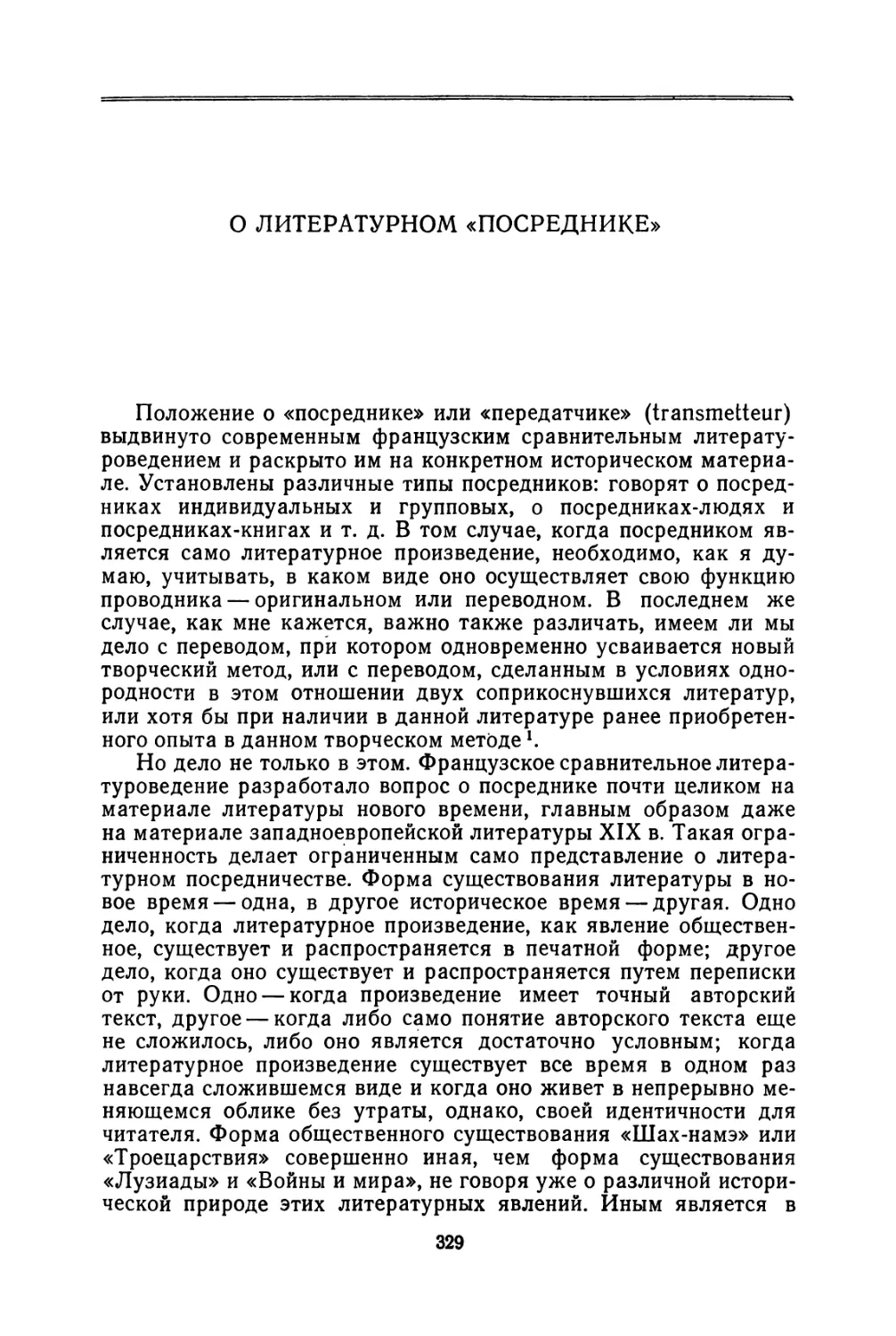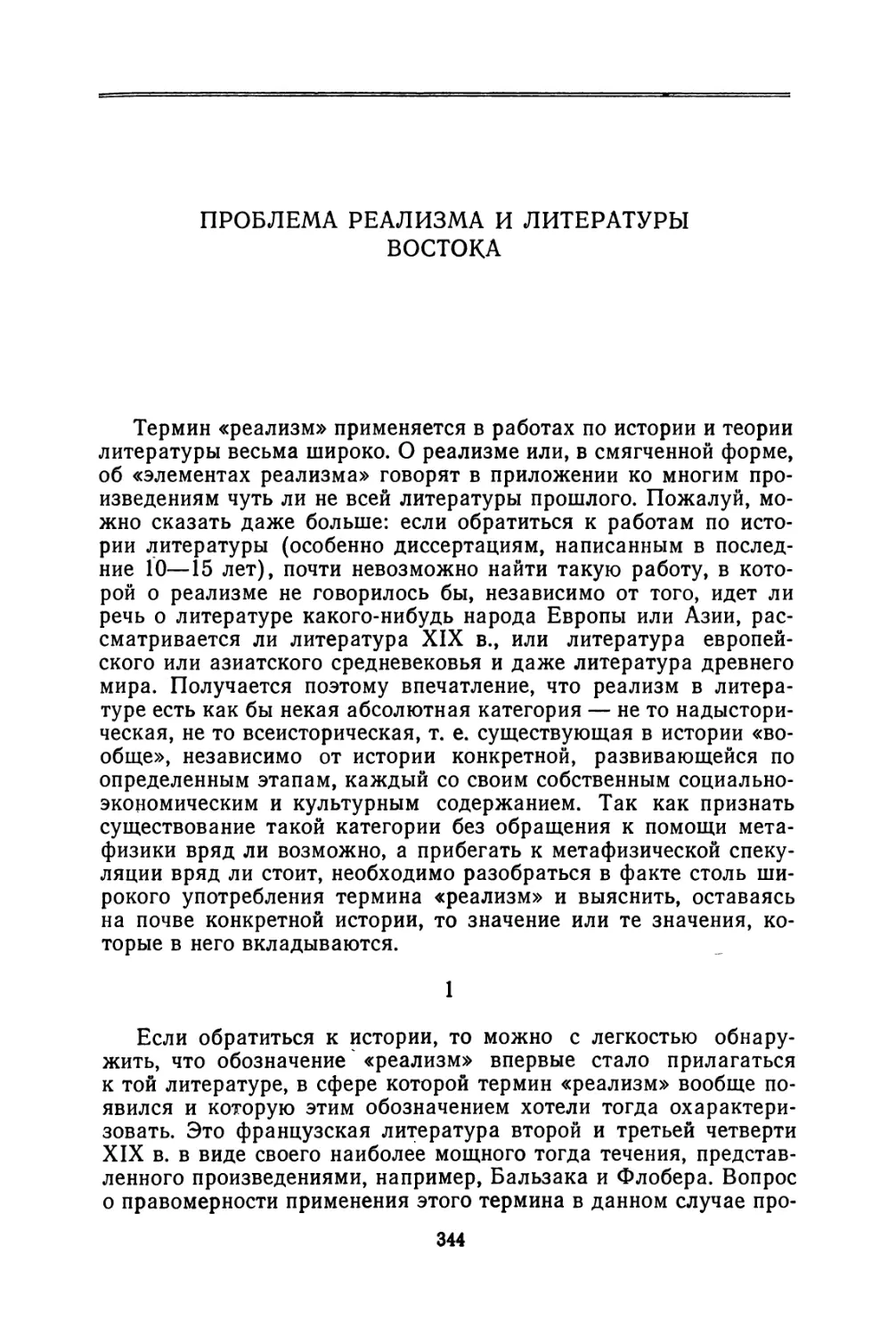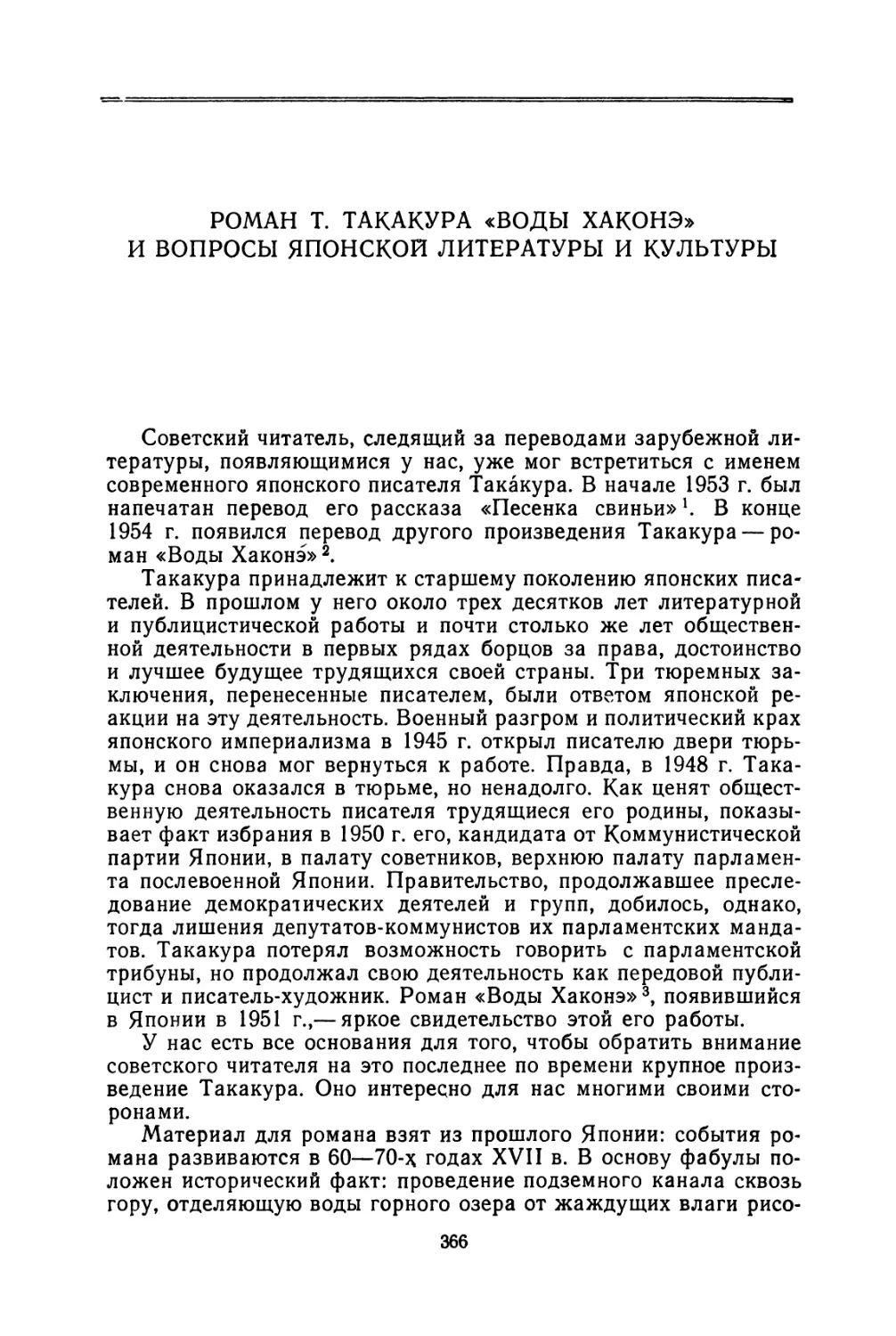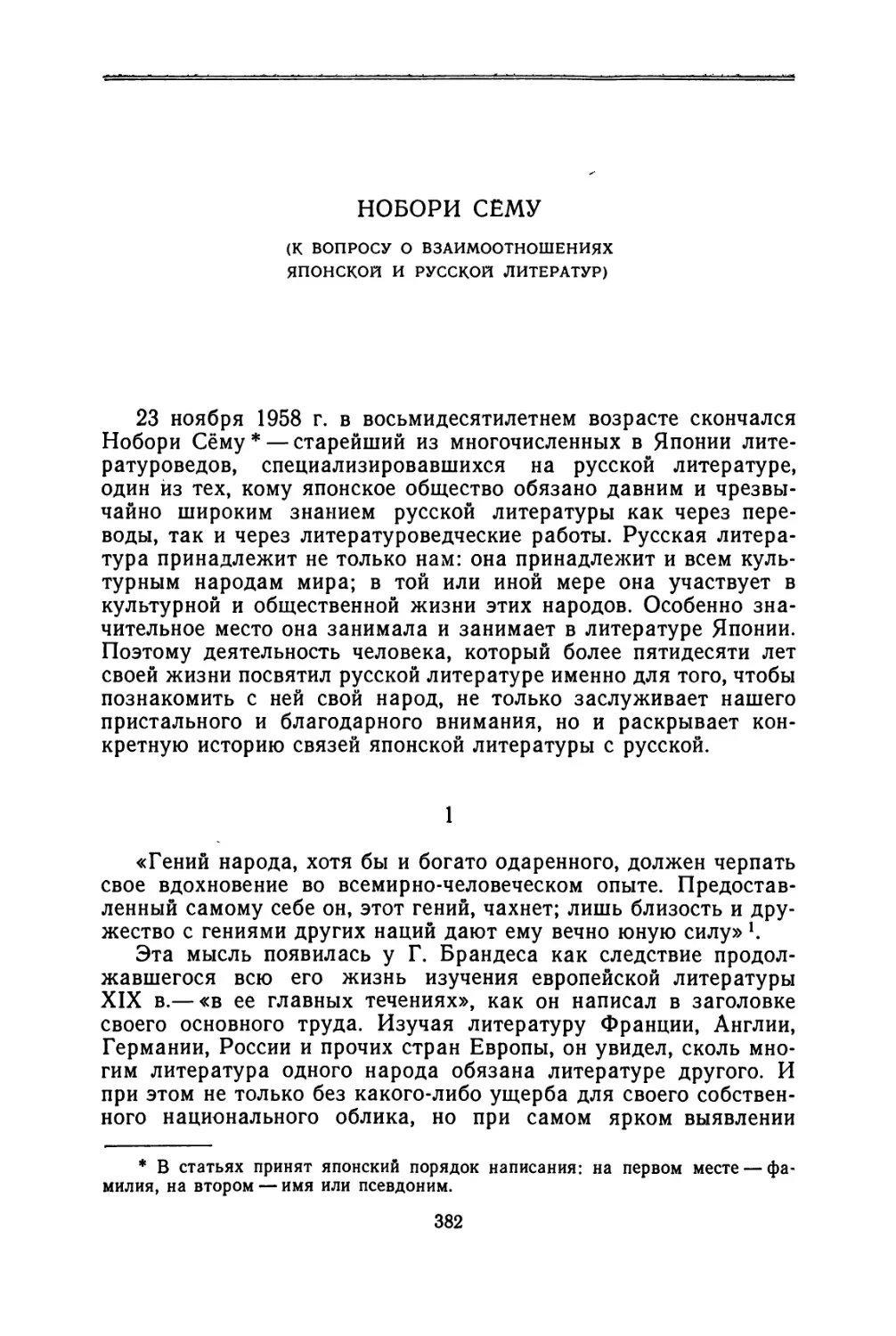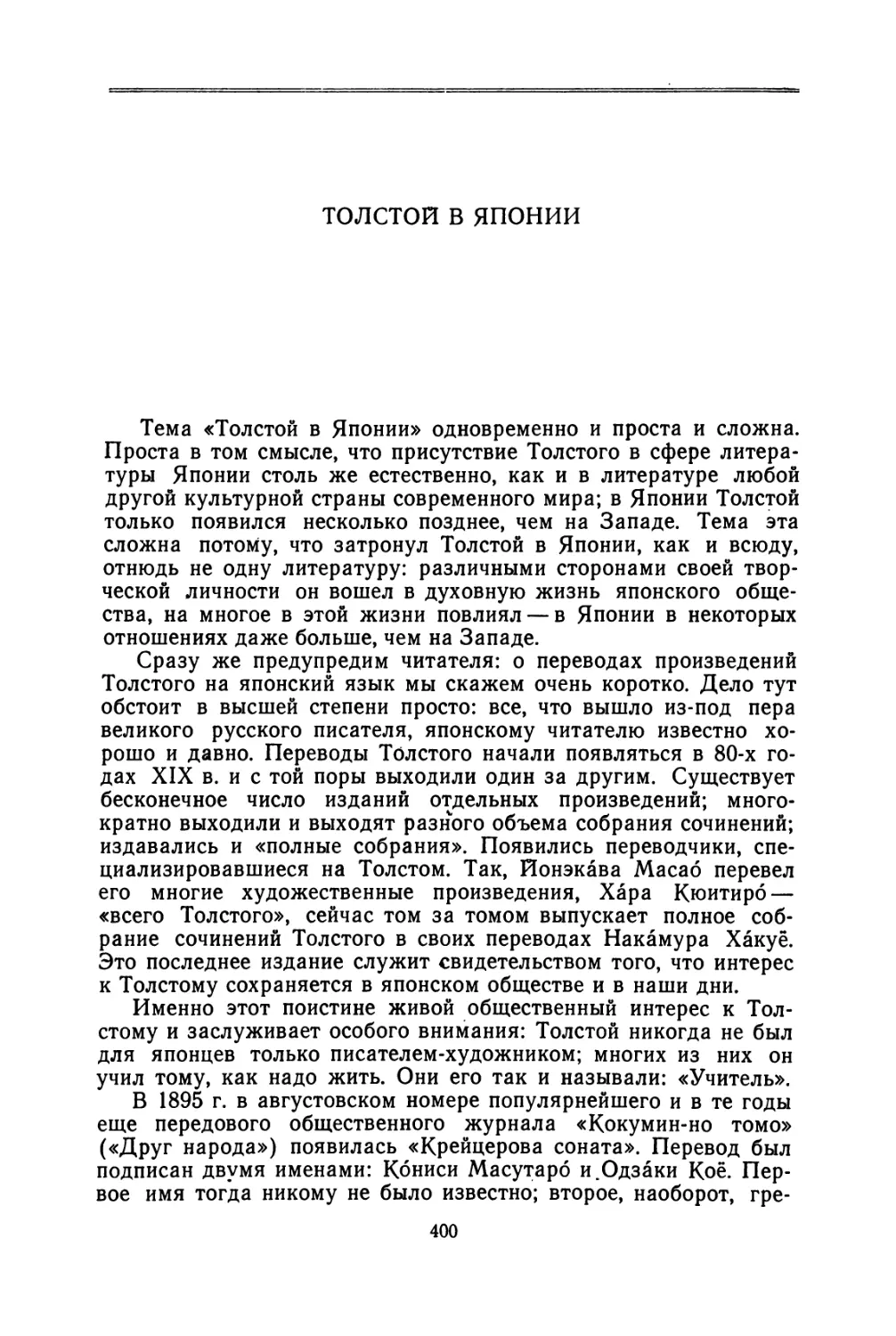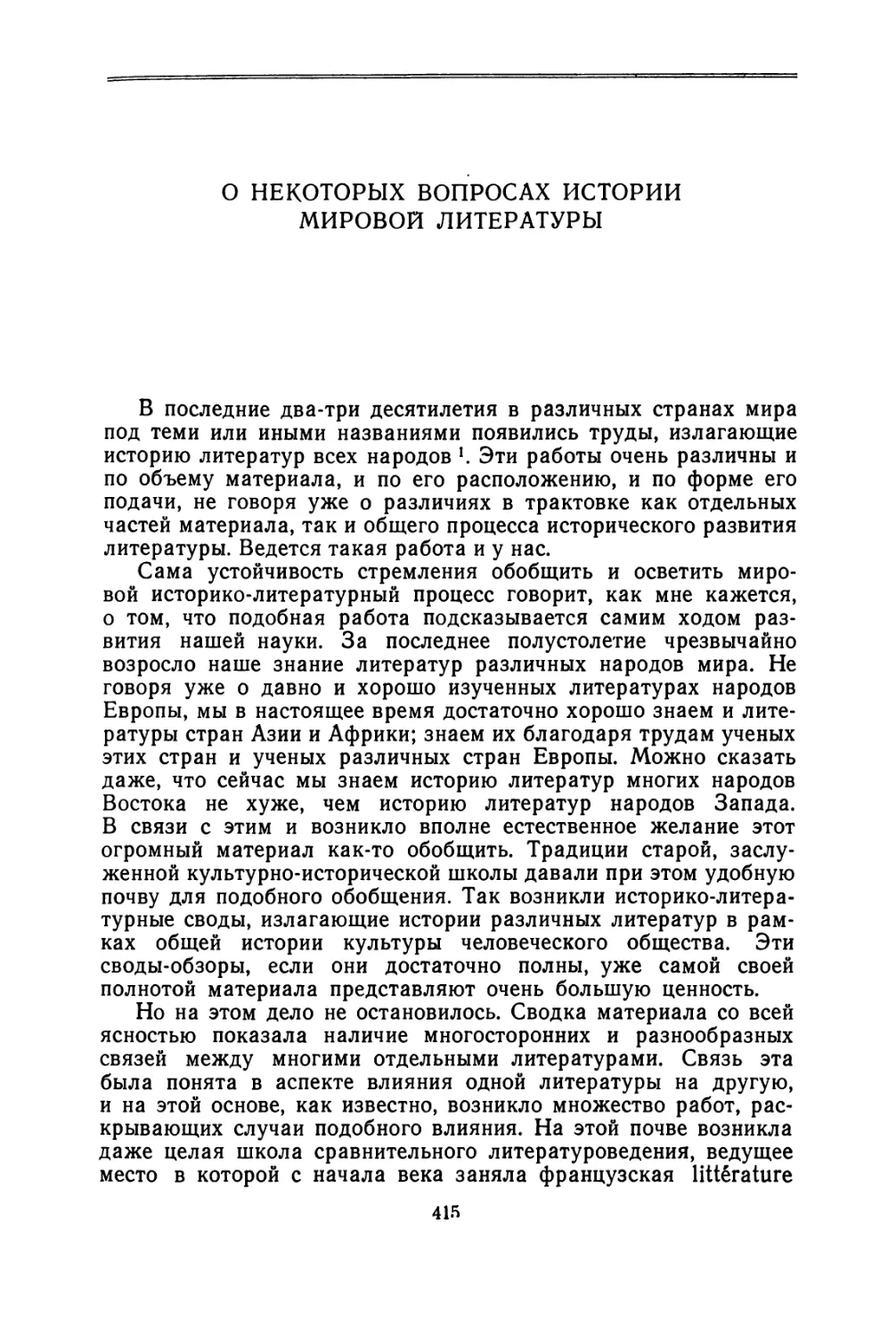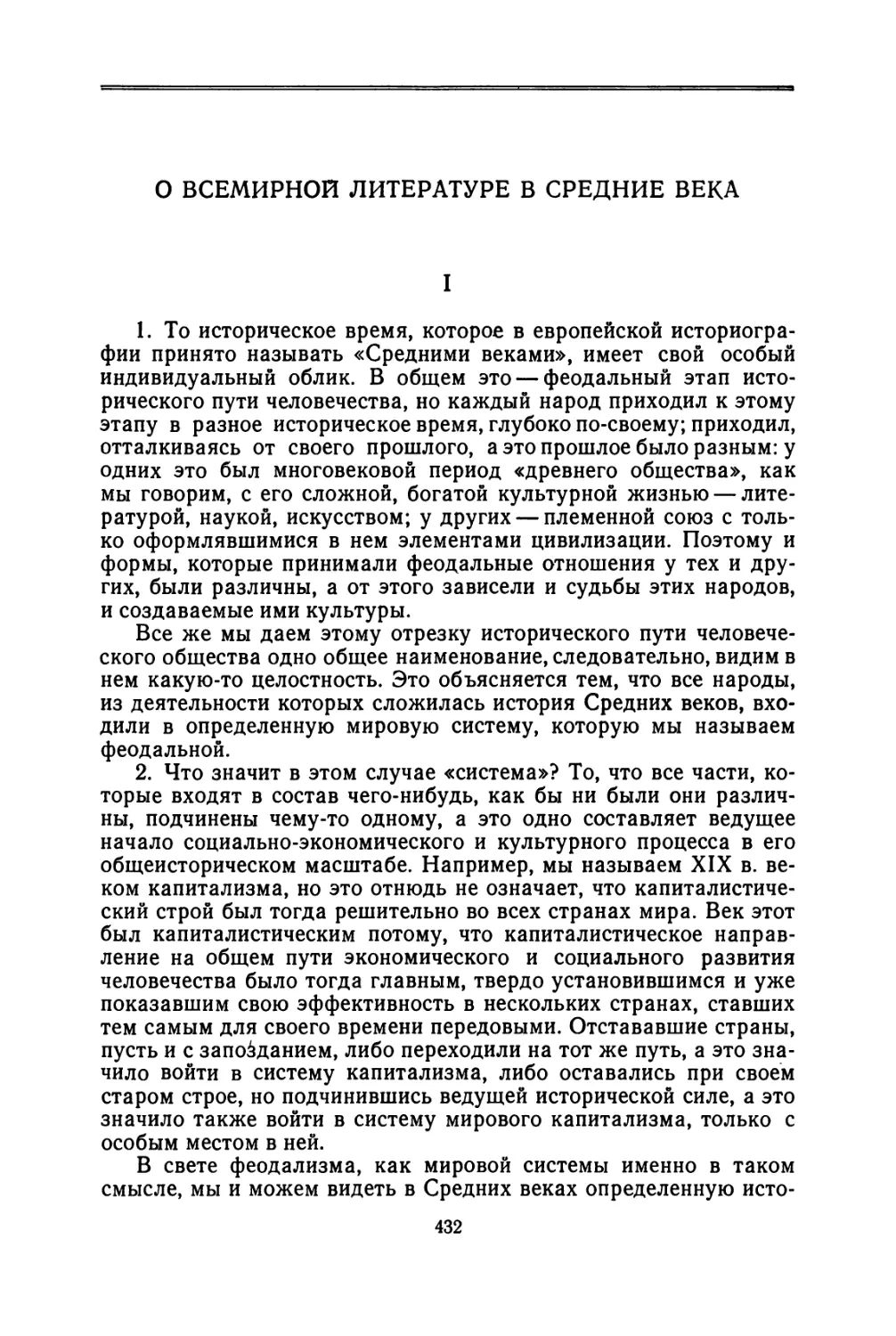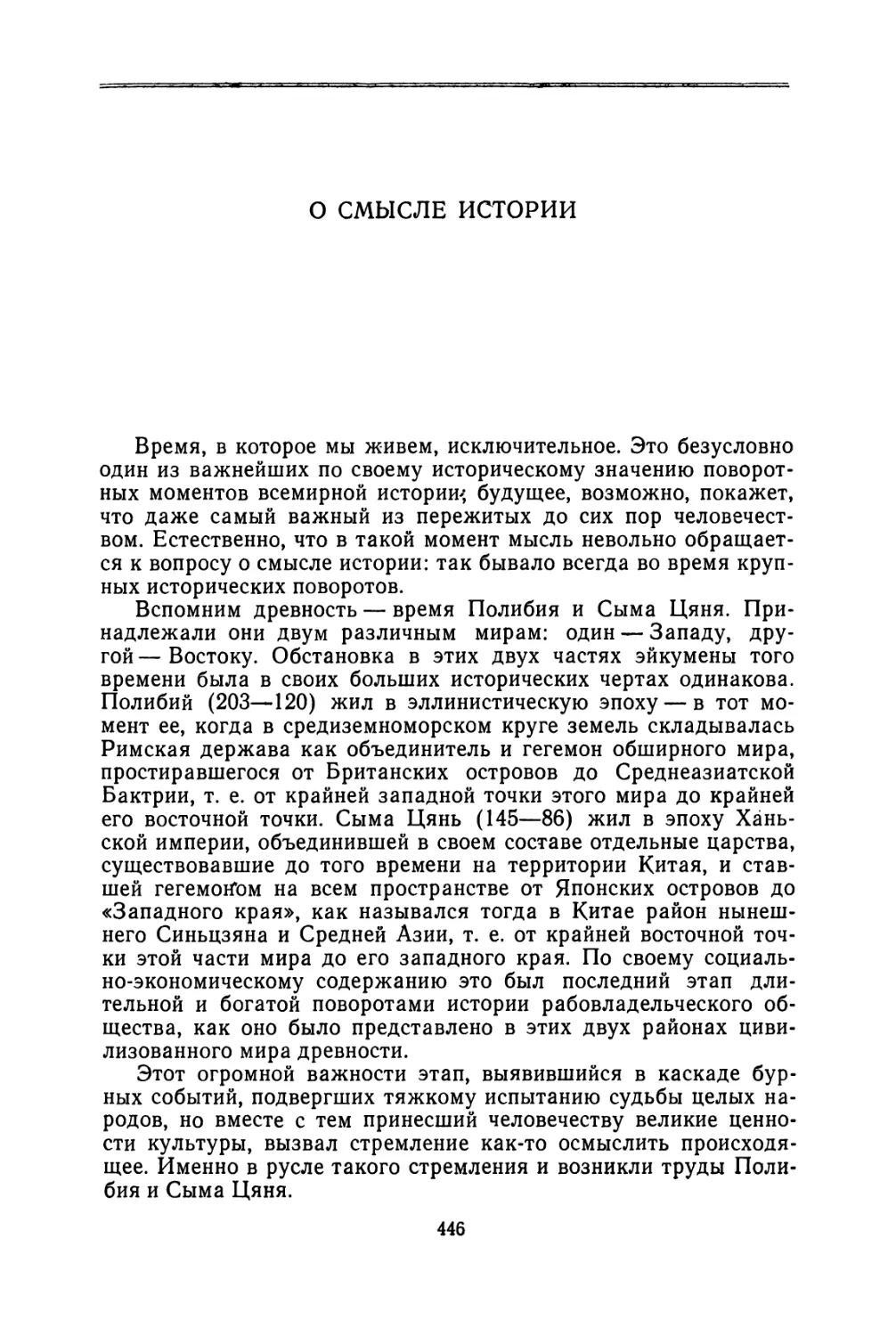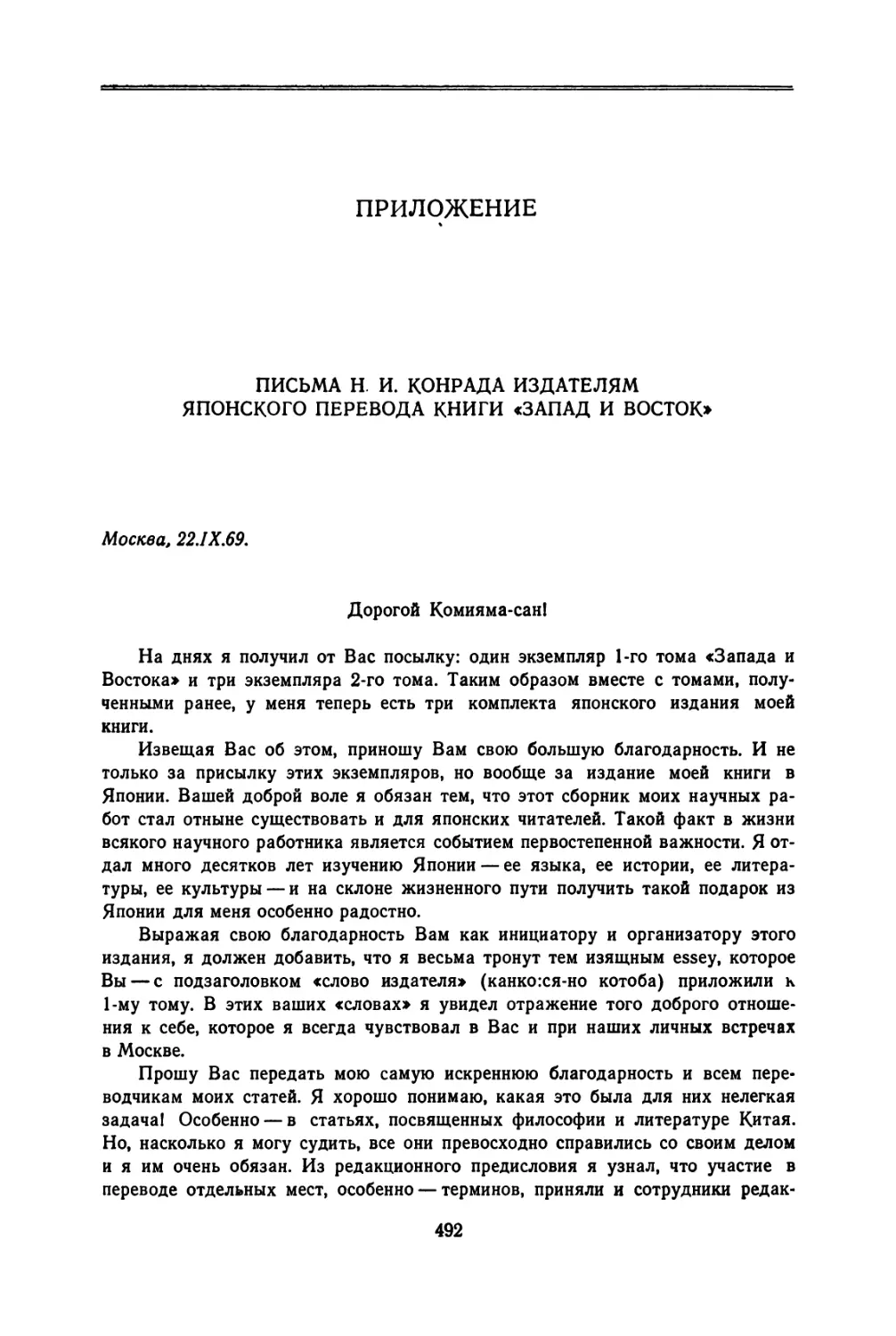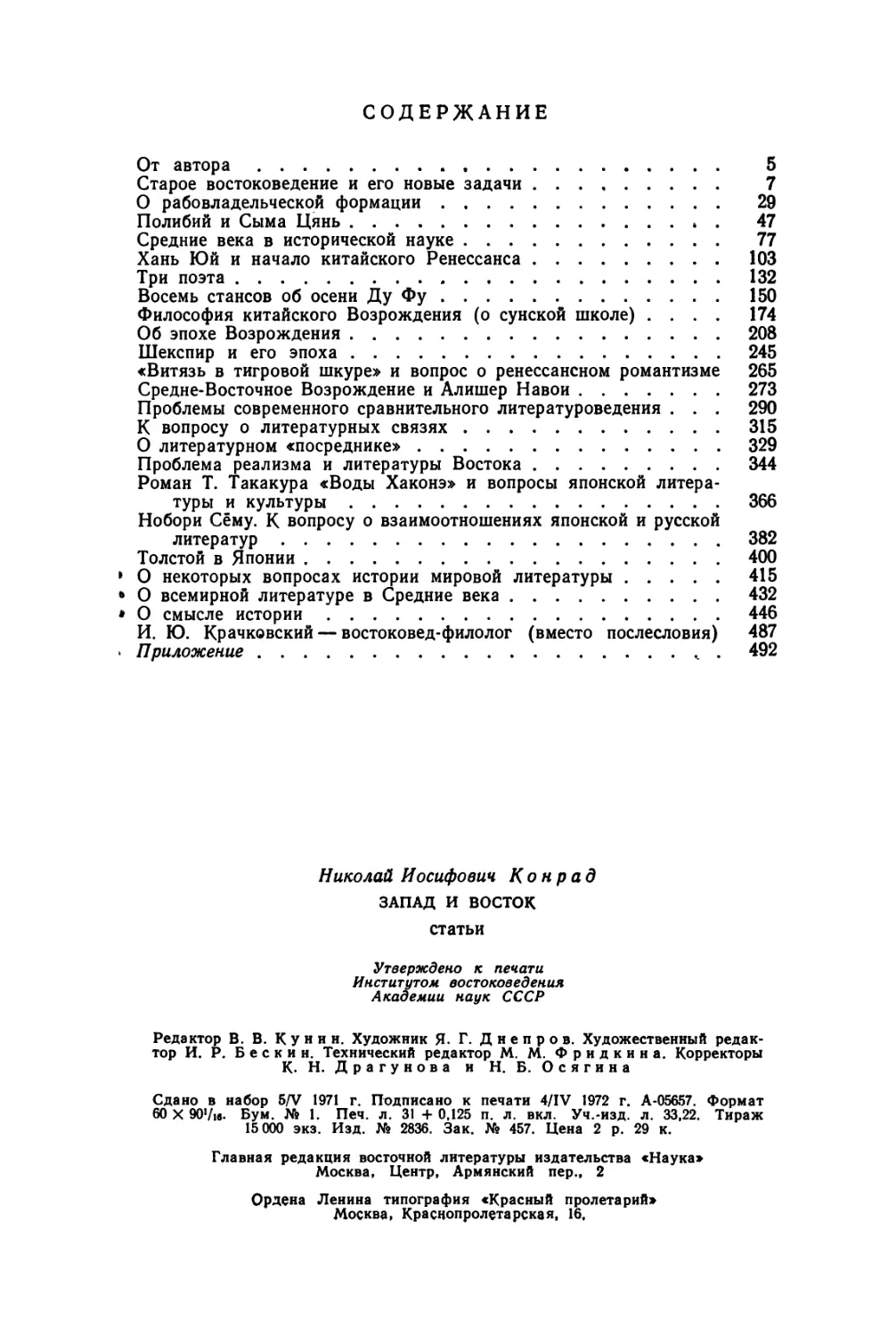Автор: Конрад Н.И.
Теги: история история средних веков статьи история культуры издательство наука научные статьи
Год: 1972
Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»
Н. И. КОНРАД
ЗАПАД
ВОСТОК
СТАТЬИ
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1972
9
К 64
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ
Сборник работ выдающегося советского востоковеда
Н. И. Конрада посвящен кардинальным проблемам истории
культуры стран Запада и Востока. Особенное внимание уде¬
ляет автор разработанной им концепции эпох Возрождения и
Просвещения в истории Востока.
Первое издание книги Н. И. Конрада, вышедшее на рус¬
ском и английском языках, вызвало большой интерес в самых
широких читательских кругах.
1-6-3
8-72
ОТ АВТОРА
В настоящем сборнике собраны некоторые мои работы из
числа написанных в послевоенные годы, в которых затрагива¬
ются общие вопросы исторической науки и литературоведения, те,
которые, по мнению автора, могут быть более полно или в какой-
то мере по-новому освещены на основе материала истории и ли¬
тератур народов Востока. Как бы общим введением в этот план
научного исследования является первая статья «Старое востоко¬
ведение и его новые задачи».
В своих исторических работах автор стремится наметить на
материале истории Востока (преимущественно Китая и Японии)
и Запада (главным образом Западной Европы) общую схему
исторического процесса в древности и средневековье, т. е. на ра¬
бовладельческом и феодальном этапе истории человечества
(статьи «О рабовладельческой формации», «Полибий и Сыма
Цянь», «„Средние века“ в исторической науке», «Роман Т. Така¬
кура „Воды Хаконэ" и вопросы японской литературы и куль¬
туры»). Исходя из осознанных по-новому некоторых фактов куль¬
турной истории Китая VIII—XII вв., автор предлагает видеть в
этих фактах признаки той эпохи, которую в истории Европы
XIV—XVI вв. называют «Ренессансом» (статьи «Философия ки¬
тайского Возрождения», «Хань Юй и начало китайского Ре¬
нессанса», «Три поэта», «Восемь стансов об осени Ду Фу»). Обра¬
щая затем внимание на некоторые явления культурной истории
Средней Азии и Ирана в IX—XIII вв., автор высказывает мысль
о возможности установления в науке понятия «Ренессанса» как
явления мирового, а не локального; явления, закономерного для
истории больших культурных народов (статьи «Об эпохе Воз¬
рождения» и «Шекспир и его эпоха») *.
* В настоящее издание дополнительно включены статьи «„Витязь в тигро¬
вой шкуре*4 и вопрос о ренессансном романтизме» и «Средне-Восточное Воз¬
рождение и Алишер Навои», а также статья «О всемирной литературе в сред¬
ние века».— Изд.
5
В своих литературоведческих работах автор путем сопостав¬
ления некоторых явлений литератур Китая и Японии, с одной сто¬
роны, литератур Европы — с другой, стремится, во-первых, про¬
следить связи между отдельными литературами и выяснить
характер этих связей; во-вторых, наметить черты общности и раз¬
личий в историческом процессе возникновения и развития лите¬
ратур у разных народов (статьи «Проблемы современного срав¬
нительного литературоведения», «К вопросу о литературных
связях», «О литературном посреднике», «Проблема реализма в
литературах Востока», «Нобори Сёму — к вопросу о взаимоотно¬
шениях японской и русской литератур», «Толстой в Японии»). На
основе всего этого материала автор делает попытку определить
важнейшие общелитературоведческие вопросы, выдвигаемые
историей мировой литературы, и наметить главные пути этой ис¬
тории (статья «О некоторых вопросах истории мировой литера¬
туры»).
Во всех работах этих двух циклов автор старался показать
действие в историческом процессе гуманистического начала, как
«вечного спутника» человечества на его историческом пути, как
основного фактора общественного прогресса. Обобщающей рабо-
той в этом плане явилась последняя статья сборника — «О смысле
истории».
Обрисованное содержание сборника позволило, как мне ка¬
жется, обоснованно дать ему наименование «Запад и Восток».
СТАРОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
И ЕГО НОВЫЕ ЗАДАЧИ
1
Научное востоковедение родилось как филология, и притом
филология в своем исконном, исторически сложившемся смысле:
как наука о письменных памятниках.
Такая филология родилась и на Западе, и на Востоке. И там,
и там — в пору поздней античности, каковой была на Западе —
эпоха эллинизма, на Востоке, в Китае — эпоха Ханьской импе¬
рии. Александрийские книжники собирали литературные произ¬
ведения классической поры своей античности — эпохи полисов,
китайские — классической поры своей античности — эпохи лего.
Они не только собирали их, но и работали над установлением их
текстов; работа же над текстами влекла за собой и работу над
самим произведением. Так сложилось, ставшее классическим,
существо филологической работы: собирание письменных памят¬
ников прошлого, установление их текста и истолкование их.
Не изменилось это существо и в средние века; и притом в рав¬
ной мере на Западе и на Востоке. Расширился только состав па¬
мятников: на Западе в него вошли памятники не только греко¬
римской древности, но и иудейской — Библия; на Востоке — па¬
мятники не только древнего конфуцианства и даосизма, но и буд¬
дизма— Трипитака. Обозначилось новое и в направлении ра¬
боты: главной задачей изучения памятников стало толкование —
экзегеза, как говорили в Европе, сюньгу, как говорили в Китае;
толкование же должно было быть правильным — герменевтиче¬
ским, как говорили в Европе, чжэнъи, как говорили в Китае. Из¬
менился и предмет экзегетики и герменевтики: им стали преиму¬
щественно те памятники, на которых основывалась идеология
правящих слоев общества того времени: памятники христиан¬
7
ства — в Европе, конфуцианства — в Китае. Правильным же счи¬
талось то толкование их, которое соответствовало официальной
идеологии.
Новый этап филологической науки наступил с приходом Ре¬
нессанса, и опять как на Западе, так и на Востоке. Новизна этого
этапа состояла в том, что на место экзегетики стала критика, гер¬
меневтики — философское осмысление содержания древних па¬
мятников в свете ренессансного гуманизма, вступившего в борьбу
с догматизмом официальной идеологической ортодоксии: рели¬
гиозной — христианской — в Европе, философской — конфуциан¬
ской — в Китае. Борьба шла и с духом насаждавшего этот дог¬
матизм школьного.— схоластического — просвещения. Так фило¬
логия схоластическая, которой закончилась история филологии в
средние века, сменилась филологией ренессансной, гуманистиче¬
ской.
Филология нового времени была в известной мере продолже¬
нием ренессансной; расширился только состав ее объектов: изу¬
чаться стали и классики средневековья. Дух же остался преж¬
ний — традиционно-гуманистический. Но основы гуманизма из¬
менились: он всецело перешел на позиции философского рацио¬
нализма, ставшего тогда главным принципом познания. В связи
с этим в филологии усилились элементы критицизма, появив¬
шиеся в ней еще в эпоху Ренессанса, и, что особенно существенно,
внимание филологов направилось на установление подлинного и
неподлинного в древних памятниках и освещение вопроса об их
аутентичности вообще. Такое направление стало характерным
признаком филологии эпохи Просвещения как на Западе, так и
на Востоке. Вполне отчетливо эти черты проявились, например, в
исследовательской школе (каочжэн) в Китае, в китаеведении
(кангаку) и родиноведении (кокугаку) в Японии. Так создалась
та филология, которую впоследствии в Европе назвали классиче¬
ской.
Само собой разумеется, что с исследованием подлинности ста¬
рых памятников, с тем или иным их толкованием соединились
общественные интересы того времени. Поскольку исторической
задачей Просвещения — этой центральной эпохи нового вре¬
мени — была борьба новых, формировавшихся тогда, капитали¬
стических порядков со старыми — феодальными, постольку тен¬
денции разрушительные и охранительные действовали тогда с
особой силой. В филологии эпохи Просвещения они проявились
в том, что у одних исследователей старые памятники прямо или
косвенно доказывали историческую правомерность существую¬
щих устоев, у других — обратное. Так было в классической фило¬
логии во Франции, так было в классической филологии Китая и
Японии. Но предмет филологической работы оставался тот же —
письменные памятники минувших времен; прежним оставалось и
содержание работы — изучение этих памятников.
8
2
Если филология в целом — детище всех цивилизованных наро¬
дов со старой культурой, без деления их на западные и восточные,
то востоковедная филология, т. е. научное востоковедение, в своем
первоначальном виде — детище Запада, т. е. тех стран, для ко¬
торых существовал «Восток» как особый мир, противостоящий
их собственному — миру «Запада».
Востоковедение окончательно сформировалось в начале XIX в.,
но складываться начало еще в новое время под действием при¬
чин, возникших тогда. В новое время шла интенсивная — вторая
по историческому счету — капиталистическая колониальная экс¬
пансия, сменившая первую — феодальную. Субъектами этой
экспансии были западноевропейские государства: либо уже ка¬
питалистические— Голландия и Англия, либо быстро превращав¬
шиеся в капиталистические — как Франция. Главными объек¬
тами экспансии стали как старые культурные страны Востока —
Индия, Индокитай, Индонезия, Китай, Иран, так и относительно
молодые, но быстро выросшие в своей культуре страны — Турция
и арабские владения на Средиземноморском побережье Африки.
Все они в разное время — на положении либо колоний, либо по¬
луколоний, либо в различной степени зависимых стран — вошли
в орбиту колониальных империй Голландии, Англии, Франции.
Колониальная экспансия требовала от колонизаторов не
только военной силы, но и определенного комплекса знаний о тех
странах, куда она проникала. Комплекс этот состоял из сведе¬
ний о странах Востока в их современном для той поры состоянии
с добавлением необходимых сведений об их истории и культуре.
Позднее этот комплекс получил наименование страноведения.
Особую отрасль такого страноведения составляло изучение «жи¬
вых восточных языков», как стали говорить, противопоставляя
современные языки народов Востока языкам древним, либо
«мертвым», как, например, древнеегипетский, т. е. языкам исчез¬
нувших народов, либо языкам «классическим», как, например,
санскрит, т. е. языкам древней поры существующих народов.
Наряду с практическим востоковедением, как стали обозна¬
чать это направление в изучении Востока, развивалась и та от¬
расль востоковедной работы, которая получила наименование
научного востоковедения. Толчком к его развитию послужил бо¬
лее глубокий интерес к Востоку. Несомненно, такой интерес по¬
догревался практическими потребностями: для захвата колоний
достаточно было военной силы в соединении с техническим и эко¬
номическим превосходством, но для управления завоеванными
странами — в одних случаях, для удержания в зависимости от
себя стран, сохранявших политическую самостоятельность,—
в других нужно было всестороннее знание этих стран. Сказалась
справедливость старой истины, когда-то сформулированной после
завоевания монголами Китая ученым советником монгольских
9
ханов киданином Елю Чуцаем: «Сидя на коне завоевать государ¬
ство можно, но сидя на коне управлять им нельзя».
Было бы, однако, несправедливым по отношению к представи¬
телям научного востоковедения объяснять их деятельность только
такими требованиями. Независимо от того, чему в руках полити¬
ков служила их работа, лучшая часть филологов-востоковедов
вдохновлялась подлинным, вполне бескорыстным интересом к на¬
родам Востока, к их истории и культуре. Хорошо известно, какое
уважение питали востоковеды к народам Востока. У некоторых
из них это уважение принимало даже оттенок преклонения: в их
умах как будто оживала старая формула «ех Опеп1е Ьих». Ог¬
ромную роль играли и бурно развивавшиеся в XIX в. гуманитар¬
ные науки со своими собственными требованиями: проявившаяся
в этом веке с новой силой общность исторической жизни многих
народов требовала постановки и освещения крупных, масштаб¬
ных проблем, а сделать это без изучения Востока было невоз¬
можно. Ввиду этого перед востоковедением предстала особая
задача: оно должно было пополнить существовавшие знания бо¬
лее подробными, более точными и хорошо обработанными све¬
дениями об истории, культуре, идеологии народов Востока.
Естественно, что лучшим источником таких сведений были
письменные памятники этих народов. Поэтому научное востоко¬
ведение и не могло не стать филологией, и притом того уровня и
направления, которые были характерны для филологической
науки в новое время,— филологией критической.
Памятники, представшие перед учеными-востоковедами, были
очень различны. Если распределить их по привычным для нас
сейчас рубрикам, тут были памятники исторические, экономиче¬
ские, юридические, философские, религиозные, литературные.
Поэтому в востоковедной филологии с самого начала наличество¬
вал весь комплекс гуманитарных наук. И именно как комплекс,
а не как простое соединение. Понять письменный памятник —
значит прежде всего понять его письмо и язык, письмо и язык
того времени, к которому относится памятник, или то письмо и
тот язык, на котором тогда писали. Поэтому востоковед-филолог
по необходимости должен не просто знать данный восточный
язык и его письмо, но знать их исторически. Понять письменный
памятник — значит, далее, понять его литературную природу, по¬
скольку всякий письменный памятник, какими бы ни были его со¬
держание и форма, есть литературное произведение. Если, разу¬
меется, не воспринимать понятие «литература» в тех ограничен¬
ных рамках, в какие его ввели в XIX в., а брать его в исконном
смысле — как обозначение произведений письменности, т. е. про¬
изведений, в которых в материале языка в его письменном выра¬
10
жении воплощен определенный замысел и воплощен именно так,
как того требует замысел. Поэтому всякий филолог по необходи¬
мости должен быть литературоведом при указанном широком
понимании слова «литература». Понять письменный памятник —
значит, наконец, понять его содержание, а так как содержание,
каково бы оно ни было, всегда исторично, филолог должен быть
историком, и притом в самом широком объеме.
Такие требования, предъявляемые к востоковеду-филологу,
делают тип его знаний очень своеобразным. Мы часто называем
его комплексным, и это в общем справедливо, если только пра¬
вильно понимать природу этой комплексности. Представление о
комплексе может существовать лишь при наличии представления
о частях этого комплекса. Такими частями в данном случае счи¬
таются науки, изучающие религиозные верования, философские
воззрения, научные концепции, науки, рассматривающие явления
культуры — материальной и духовной, в их составе — явления
искусства и литературы. Было бы, однако, неправильным счи¬
тать, что востоковедение еще как бы не доросло до уровня спе¬
циальных наук — языкознания, литературоведения, искусствозна¬
ния, социологии, истории, экономики, философии, почему и вра¬
щается в сфере, где смешаны элементы всех этих наук, да еще
лишенные обязательной для каждой науки специфичности. Если
придерживаться подобных взглядов, появление востоковедов-спе-
циалистов — языковедов, литературоведов, экономистов, истори¬
ков и т. д.— следует рассматривать как переход востоковедения
на высшую ступень; может быть, даже больше — как знамение
конца прежнего востоковедения.
То, что появление востоковедов-специалистов — факт новый
для истории востоковедения, не подлежит сомнению. То, что этот
факт свидетельствует о развитии востоковедения, также бес¬
спорно. Но думать, что специализированное востоковедение
устраняет комплексное, было бы ошибкой. Ни то, ни другое не
устраняет друг друга и устранять не может: у них различны
самые предметы исследования, различие же предметов исследо¬
вания влечет за собой различие методов и целей работы. Пред¬
мет научного востоковедения в его исконном виде — письменный
памятник, т. е. определенное литературное произведение; когда
же изучается произведение, его изучение по необходимости дол¬
жно быть комплексным: оно само, это произведение,— комплекс.
Литературное произведение любого содержания — факт реаль¬
ной истории, а всякий факт реальной истории вмещает в себя
в том или ином виде, в тех или иных дозах, в тех или иных соот¬
ношениях многие элементы исторической действительности своего
времени. Поэтому и невозможно изучать памятник как таковой
иначе, чем в единстве выраженных в нем сторон действительно¬
сти; различая их, но искусственно не обособляя их друг от друга.
Иное положение создается, когда данное произведение по
тому или иному своему признаку воспринимается в ряду других,
11
по этому признаку однородных или во всяком случае — близ¬
ких. Тогда изучается не произведение как определенный памят¬
ник, а некое явление, в нем представленное и характеризуемое
своим определенным признаком. Поскольку же всякое явление,
обладающее своим признаком, специфично, постольку и изуче¬
ние его должно вестись специфическими же методами. Если спе¬
цифика данного явления экономическая, оно изучается приемами
экономической науки; если она языковая, оно становится объек¬
том языковедческой работы, и т. д. В этом и состоит отличие двух
возникших исторически и закономерно сосуществующих отраслей
научного востоковедения: комплексного, действующего в рамках
филологии как общей гуманитарной науки, и специализирован¬
ного, действующего в рамках отдельных наук — частей гумани¬
тарного цикла.
4
Эта на первый взгляд как будто вполне ясная картина на
деле, однако, может быть достаточно сложной. Сложность ее
в том, что далеко не всегда возможно выделение признака, особо
характерного для данного произведения; иначе говоря, далеко
не всегда возможно деление памятников на исторические, фило¬
софские, литературные и т. д. Так, например, если взять за
основу признак документальности материала, то как будто сразу
выделяются памятники законодательные. На среди них оказы¬
ваются такие, в которых статьи законов сопровождаются рас¬
суждениями или даже излагаются в форме рассуждения; а это
относит такие памятники и к юридическим, и к философским.
В других случаях положения законодательства соединены с из¬
ложением истории данного закона; а это относит памятник одно¬
временно к юридическим и историческим. Если взять за основу
признак историчности материала произведения, оно по этому
признаку как будто должно быть отнесено к разряду историче¬
ских. Но исторический материал в чистом, оголенном виде можно
найти лишь в таких произведениях, как летописи, анналы, хро¬
ники, т. е. в чисто фактографических, в других же элементы дей¬
ствительности бывают соединены с элементами вымысла, причем
вымысла не бессознательного, т. е. принимаемого самим автором
за действительность, а открытого. Таковы, например, произведе¬
ния, в которых в уста исторических персонажей вложены речи,
которые они не произносили, но, по мнению автора, могли произ¬
нести. В некоторых произведениях исторический материал по¬
дается не в виде простого изложения событий, а в особо обрабо¬
танном виде — с тем, чтобы не только рассказать о чем-то, но
и произвести требуемое впечатление на читателя, вызвать в нем
желательные автору эмоции. Так появляются произведения по
материалу как будто бы и исторические, но содержащие в себе
элементы и публицистики, и художественного творчества. Суще-
12
ствуют произведения, для которых характерно соединение фило¬
софского рассуждения, публицистической риторики и поэзии.
Существенно при этом, что невозможность отнести многие памят¬
ники к какому-нибудь чистому типу — явление не случайное,
а структурное, т. е. составляющее их специфику: они не соедине¬
ние различных литературных видов, а особый вид.
Разумеется, мы хорошо знаем, что историческое движение
в литературе состоит в создании все новых и новых видов лите¬
ратурных произведений, либо прямо исходящих из прежних, либо
как-то связанных с ними, либо возникших независимо от них;
видов, иногда более сложных, чем предыдущие, иногда, наоборот,
более простых, но столь же по-своему полноценных. Понятие ли¬
тературной ценности произведения относится не к его виду как
таковому, а к его содержанию и форме. Никакая идейная значи¬
тельность содержания не может обеспечить литературную пол¬
ноценность произведения при неуклюжести формы, в которой оно
подано. И, наоборот, никакая безукоризненность формы не соз¬
дает полноценности произведения при идейной незначительности
замысла или неумении автора сделать его значительным. По¬
этому и нельзя в появлении все новых и новых видов литератур¬
ных произведений видеть только одну дифференциацию литера¬
турного творчества, да еще такую, которая преодолевает перво¬
начальную комплексность, являющуюся якобы признаком прими¬
тивности, и тем самым выводит литературу на новую, гораздо
более высокую ступень. Понимать исторический процесс так —
значит ошибаться. Настоящая историчность позиции исследова¬
теля в том и состоит, чтобы видеть литературную полноценность
значительных произведений любого вида, любой исторической
эпохи и, в частности, не рассматривать более новые литератур¬
ные виды как всегда обязательно более полноценные, чем преж¬
ние.
Все это должен понимать не только востоковед-филолог, изу¬
чающий литературные памятники, но и востоковед, работающий,
опираясь на те же памятники, в плане какой-либо отдельной
науки — истории, литературоведения и т. д. Исследовать самый
памятник как таковой, востоковед-историк не обязан, но полно¬
стью учитывать литературную природу памятника, из которого
он заимствует материал для своих научных построений, он дол¬
жен. Коротко говоря, в востоковедении всякое исследование, ве¬
дущееся на оригинальном материале, должно быть соединено
с ясным представлением об историчности привлекаемого мате¬
риала; непосредственное же содержание филологического и спе¬
циализированного востоковедения, конечно, различно. Содержа¬
ние первого состоит в изучении памятников письменности как яв¬
лений духовной культуры данного периода; содержание вто¬
рого — в изучении не памятников такой культуры, а отдельных
сфер исторической, культурной жизни народов, отраженных в па¬
мятниках. А обе эти отрасли научного востоковедения выпол¬
13
няют, каждая со своей стороны, общую задачу: описание и объ¬
яснение картины исторической и культурной жизни народов Во¬
стока — как в целом этой жизни, так и в ее отдельных сферах
и моментах.
5
Не исчезает ли востоковедение как особый комплекс наук?
Такой вопрос с особой остротой встал в тот момент, когда закон¬
чилось формирование специальных отраслей востоковедения.
Спрашивается, чем изучение, например, истории и художествен¬
ной литературы Японии принципиально отличается от изучения
истории и литературы любой другой страны? Тем, что история и
литература Японии — глубоко свои, индивидуальные? Но своя,
индивидуальная история и литература у каждого народа.
Ссылаться на какую-то особую оригинальность истории и куль¬
туры народов Востока было возможно в те времена, когда на За¬
паде была в ходу концепция «экзотизма» — чего-то особого, глу¬
боко чуждого всему европейскому, но именно этой чуждостью,
таинственностью и даже непонятностью манящего к себе. Особую
'популярность эта концепция получила во Франции, Англии и Гер¬
мании во второй половине XVIII и в первой половине XIX в. Она
отразилась не только в художественной литературе, но и в науке.
Позднее представление об экзотичности Востока из серьезной
науки исчезло, а в последний период нашей истории стало нам
особенно чуждым. Таким образом, даже такое кажущееся осно¬
вание для существования востоковедения как особого комплекса
наук уже давно отпало.
Право на существование какой-либо науки как самостоятель¬
ной отрасли познания обусловливается наличием у нее своего
предмета. Какой же особый предмет у востоковеда, изучающего
историю какого-либо народа Востока, его литературу, его эконо¬
мику? Он тот же, что и у историка, литературоведа, экономиста,
изучающего историю, литературу, экономику любого из народов
Запада. Право, если не на особое существование, то на особое
положение, может получать наука, когда она оперирует своими
собственными, действительными только для нее, методами и при¬
емами исследования. Но вся история научного востоковедения
свидетельствует, что никаких особых методов у него не было и
нет. Поскольку востоковедами были ученые западных стран, по¬
стольку они, получая общую для своего времени научную подго¬
товку, оперировали методами, установившимися тогда в науке
вообще. Да и принципиально,— полагать, что для изучения исто¬
рии, например, Турции нужны научные методы, отличные от тех,
которыми изучается история, например, Франции, глубоко оши¬
бочно. Словом, ни по предмету исследования, ни по его методам
ни одна область востоковедения ничем не отличается от соответ¬
14
ствующей области «западоведения». Почему же мы все еще гово¬
рим о каком-то «востоковедении»?
Для обособленного существования востоковедения, действи¬
тельно, не было бы никаких оснований, если бы оно продолжало
ставить перед собою только те задачи, которые сложились в нем
искони. Задача изучения письменных памятников, разумеется,
остается в полной силе, но чем работа над письменными памят¬
никами Востока принципиально отличается от работы над такими
же памятниками Запада? Разве это не та же филология? Задачи
специального изучения истории, литературы, экономики и т. д.
народов Востока полностью сохраняют свою силу, но не отходят
ли эти отрасли востоковедения в круг своих дисциплин — исто¬
рии, экономики, литературоведения, языкознания и т. д.? Оста¬
вить за востоковедением особое, самостоятельное место может
только появление в нем новых задач, и притом задач специфи¬
ческих, присущих только ему. Такие задачи, как мне кажется,
есть, и с особой ясностью они предстали перед нами в наше
время.
6
Собственно, не задачи, а задача — одна, но очень сложная
по содержанию и очень большая по значению. Обрисовалась она
в ходе истории самой науки.
Не требуется доказывать, что теоретические основы гумани¬
тарных наук, действительные в наше время для исследователей
во всех странах, сложились в процессе изучения истории и куль¬
туры народов Европы с добавлением к этому, главным образом
для древнего периода, истории и культуры народов азиатского
и африканского Присредиземноморья, в своей исторической
жизни связанных с жизнью греков и римлян или даже в опреде¬
ленное время входивших в орбиту греко-римского мира непо¬
средственно. На основе таких теоретических положений ведется
изучение истории и культуры и всех прочих стран и народов, сле¬
довательно, и всех народов Востока.
Этот факт исторически вполне закономерен: сохраняющие
свою силу и сейчас теоретические основу гуманитарных наук
стали складываться в Европе с нового времени, т. е. с той исто¬
рической поры, когда технический, экономический и социальный
прогресс народов Европы стал решительно обгонять такой же
прогресс в странах Азии, даже в таких странах, обладающих
великой и древней цивилизацией, как Ирак, Индия, Китай. На
базе этого прогресса в передовых странах Европы стремительно
развивалась и наука во всех ее отраслях, в том числе, конечно,
и наука об обществе. Высшей ступенью развития науки об обще¬
стве стал марксизм. Историки, философы, социологи, экономи¬
сты, литературоведы в нашей стране, а также многие ученые
в других странах ведут свои исследования, опираясь на маркси¬
15
стскую теорию общественно-исторического процесса. Действи¬
тельность этой теории открывается в том, что именно те исследо¬
вания, которые ведутся на ее основе, дают наиболее точное и
подтверждаемое реальными историческими фактами знание.
Наука об обществе, однако, не стоит на месте. Она и не мо¬
жет стоять на месте, так как в поле зрения ученых, работающих
в разных областях обществоведения, непрерывно поступает но¬
вый материал. Новый — прежде всего тот, который создается те¬
кущим историческим процессом. Как значителен и по объему, и
по значению может быть материал истории, рождающейся на на¬
ших глазах, красноречиво свидетельствует исторический опыт,
пережитый человечеством за последние полвека. Новым, однако,
может быть материал и отнюдь не современный, даже очень да¬
лекий по времени, к которому он относится: наука неуклонно
открывает нам все новое и новое в минувшей жизни народов.
Материал наших знаний о прошлом человечества непрерывно
возрастает в количестве и улучшается в качестве.
Исключительно важный новый материал, относящийся как к
современной жизни, так и к прошлому, дает нам Восток. Хорошо
известно огромное развитие научного востоковедения во второй
половине XIX и первой половине XX в. Особый размах это раз¬
витие получило в 10—60-х годах текущего столетия в нашей
стране. Наше знание современной и прошлой истории и культуры
народов Востока чрезвычайно выросло в своем объеме и стало
гораздо более точным в своем качестве. Последним мы обязаны
тому, что ведем свои исследования, опираясь на марксистскую
теорию общественного развития.
Но именно количественный и качественный рост материала
предъявляет свои требования и к теории. Все более и более рас¬
крывающаяся перед нами история народов Востока, прошлая и
современная, так многообразна и сложна, что никакая теория
заранее предусмотреть ее не может, а должна сама пополняться
положениями, выведенными из изучения нового материала. За¬
мечается и другое: хорошо нам известное и как будто бы вполне
проверенное научное положение может в свете нового материала
предстать перед нами по-иному — иначе, чем мы склонны были
до сих пор его понимать. Позволю себе привести несколько фак¬
тов, которые, как мне кажется, могут иллюстрировать высказан¬
ное соображение.
7
Хорошо известно положение марксизма об исторических фор¬
мациях. Согласно этому положению, в истории наблюдалось сло¬
жение различных форм общественного строя, представляющих —
каждая в своем специфическом облике — законченные социально-
экономические системы. В истории человечества эти системы раз¬
вивались последовательно — одна вслед за другой, последующая
16
сменяла собой предыдущую; сама же смена формаций представ¬
ляет собою восходящий ход общественного развития.
Положение об общественных формациях марксизм создал на
основе европейского исторического материала, лишь попутно
привлекая материал истории Востока, да и то главным образом
Древнёго, материал к тому же в то время крайне недостаточный,
а в ряде случаев и просто неверно освещенный наукою. Разу¬
меется, и история народов Европы дает превосходный материал
для построения общеисторической теории. Среди народов Европы
есть старые — греки и итальянцы, пережившие весьма долгую и
богатую содержанием историю, имеющие в своем прошлом боль¬
шую и всесторонне развитую Древность, т. е. эпоху рабовладель¬
ческой формации. Как эти старые, так и прочие, более молодые,
позднее первых вступившие в общую историческую жизнь народы
германские, славянские, романские пережили всесторонне разви¬
тое Средневековье, т. е. эпоху феодализма. Все они затем всту¬
пили в этап капитализма, а в новейшее время часть их даже пере¬
шла к социализму. Таким образом, материал для построения
учения об исторических формациях и об их смене Европа дает
достаточный.
Общие положения, выведенные на основе истории европей¬
ских народов, помогли востоковедам правильно понять то, что
они увидели в историческом процессе, развернувшемся в странах
Востока. Поистине торжеством марксизма явилось обнаружение
в истории этих стран тех же формаций, которые были установ¬
лены на материале истории народов Европы, в частности форма¬
ции рабовладельческой в Древности, феодальной — в средние
века. Но история Востока позволила более точно представить по¬
ложение о смене исторических формаций. История Японии, на¬
пример, свидетельствует, что бывают случаи, когда от племенного
союза переходят к государству, построенному не на рабовладель¬
ческой основе, а на феодальной, и это — несмотря на наличие
достаточно определившихся рабовладельческих отношений. Исто¬
рия Китая показывает, что страна может перейти от феодализма
к социализму, минуя капиталистический этап, и это — несмотря
на наличие у себя давних и далеко продвинувшихся вперед капи¬
талистических отношений. Изучение даже этих двух случаев по¬
зволяет видеть, какую роль в историческом пути народа играют
внешние факторы — то, что происходит рядом. История каждого
народа всегда связана с историей его соседей. Связь эта, конечно,
может быть очень различной — и по характеру, и по интенсивно¬
сти, и по масштабу, но она всегда существует. Поэтому в истории
народов действуют факторы, создаваемые именно общностью
исторической жизни. Такая общность ближайшим образом бы¬
вает региональной, т. е. охватывающей определенную группу со¬
седствующих стран, но может становиться и очень широкой,
включающей целые группы стран. В новое время она является
даже мировой, т. е. в масштабе всего человечества. Как масштаб
2 Н. И. Конрад
17
общности, так и ее характер так же историчны, как и все прочее
в жизни общества.
В рамках каждой общности в определенные периоды обычно
бывают страны, ушедшие вперед по пути технического, экономи¬
ческого, социального и культурного прогресса, и страны, отстаю¬
щие на этом пути, но на разных ступенях этого этапа, даже на
разных уровнях одной и той же ступени. Равномерности истори¬
ческого хода, особенно — полной, обычно не бывает, и именно
эта неравномерность обусловливает и различное положение
стран, входящих в состав общности. Одна страна или несколько
занимают ведущее место, и то, что происходит в ней или в них,
влияет на всю обстановку в рамках данной общности. В VII в.
в Восточной Азии, районе. известной общности исторической
жизни целого круга стран, ведущее место занимал Китай, успев¬
ший к тому времени пережить длительный и всесторонне разви¬
тый этап рабовладельческой формации, перейти к этапу феодаль¬
ному и далеко продвинуться на этом пути. Феодальной страной
стала тогда и Корея; по феодальному пути пошел Вьетнам.
Могла ли в этой обстановке Япония, выходившая в это время из
стадии родо-племенного строя, превратить свой племенной союз
в государство на рабовладельческой основе? И это, как было
упомянуто выше, несмотря на наличие в стране рабовладельче¬
ских отношений, могущих, может быть, привести к установлению
рабовладельческого строя, если бы были налицо условия для
этого. Условия же эти должны быть не только внутренние, но и
внешние. Но уже давнее утверждение феодализма в соседних
странах, особенно в Китае, ликвидировало в данных региональ¬
ных рамках условия, допускающие новое возникновение в них
рабовладельческого строя. Поэтому в Японии элементы рабовла-
дельчества отошли на задний план и на первый выступили те эле¬
менты, которые выросли в обстановке родо-племенных отноше¬
ний, но могли быть преобразованными в феодальные. Этими эле¬
ментами оказались те формы отношений между родовой и пле¬
менной массой, с одной стороны, и старейшинами и вождями —
с другой, которые выражались в «приношениях» в виде продук¬
ции земледелия и промысла, охотничьего и ткацкого, которые де¬
лали своим вождям рядовые общинники, а также в работе на
общие нужды, производимой под руководством тех же старейшин
и вождей. Нетрудно видеть, что три вида феодальных обяза¬
тельств, установившихся затем в Японии — продуктовый налог,
промысловая подать и рабочая повинность,— в преобразованном
виде и уже на иных основах воспроизводили старые институты.
Какую роль сыграла внешняя обстановка в том, что Китай смог
от феодализма перейти к социализму, минуя этап капитализма,
несмотря на наличие в стране достаточно продвинувшихся вперед
капиталистических отношений, хорошо известно всем нам.
Разумеется, исторические случаи, подобные тем, которые
имели место на Востоке — в истории Японии и Китая, наблюда¬
18
лись и на Западе — в истории некоторых народов Европы, и уже
эти случаи свидетельствовали, что положение о смене социально-
экономических формаций не закон истории, а научный постулат,
но без привлечения истории стран Востока это не стало бы совер¬
шенно ясным и, главное, не открылось бы в своем принципиаль¬
ном, теоретическом значении.
8
Другой иллюстрацией возможности получения из материала
истории Востока данных для улучшения общеисторической тео¬
рии может служить появившаяся в нашей науке концепция Во¬
сточного Ренессанса.
Суть дела пока состоит главным образом в том, что признаки
наличия своей ренессансной эпохи исследователи стали находить
в истории некоторых народов Востока. В одних случаях, как, на¬
пример, в Грузии, такие признаки видели в некоторых явлениях
литературы или в педагогической мысли; в других, как, напри¬
мер, в приложении ,к Китаю,— в некоторых явлениях философии
и литературы; в третьих, как, например, в приложении к Арме¬
нии,— во всем содержании культуры. Следует отметить при этом,
что разговор о Ренессансе в этих странах советские ученые по¬
вели в научно-историческом плане, т. е. на основе определенного
понимания общеисторического содержания данного этапа исто¬
рии народа, а не в чисто образном плане, в каком многие ученые
на Западе и Востоке прилагают слово «Ренессанс» вообще к но¬
вому расцвету литературы и искусства независимо от историче¬
ского времени расцвета, т. е. независимо от общеисторической,
а в ней — социально-экономической — основы.
Нечего и говорить, что толчок к мысли о Ренессансе на Во¬
стоке дала история Запада, история народов Европы. В истории
этих народов была в свое время открыта особая эпоха, получив¬
шая наименование Ренессанса. Об этой эпохе говорят в равной
мере ученые-немарксисты и ученые-марксисты, но говорят, ко¬
нечно, по-разному: первые, связывая явления Ренессанса глав¬
ным образом с историей культуры, особенно искусства; вторые —
с общей историей, а в ее сфере — с историей социально-экономи¬
ческой. Но само наличие в истории стран Запада эпохи Ренес¬
санса — факт признанный. Столь же общепризнанными счита¬
ются и общеевропейские хронологические границы ее: XIV век —
начало, XVII век — конец. Для истории Запада дело в настоящее
время, следовательно, сводится к освещению ренессансных явле¬
ний в разных странах Запада; к изучению содержания этих явле¬
ний, их истории, к установлению их особенностей в отдельных
странах; к выяснению их связей — как в рамках отдельных стран,
так и в рамках общего круга стран, в которых была эпоха Ренес¬
санса.
19
Иначе обстоит дело с Ренессансом на Востоке. Поскольку
отправным пунктом утверждения о наличии ренессансных явле¬
ний в какой-либо неевропейской стране всегда служит сходство
этих явлений с теми, которые в странах Запада считаются бес¬
спорно ренессансными, постольку всегда возникает вопрос: не
появились ли ренессансные явления в данной стране Востока
в связи с Ренессансом на Западе? Не сводится ли дело в сущно¬
сти к простому географическому расширению европейской ренес¬
сансной зоны?
Но ставить вопрос так можно лишь при наличии двух обстоя¬
тельств: общего совпадения времени предполагаемого Ренессанса
в данной стране Востока с хронологией Ренессанса на Западе и
присутствия в ренессансной культуре сопоставляемых стран Во¬
стока и Запада материала одних и тех же элементов. Именно так
обстоит дело при постановке вопроса о Ренессансе в Грузии и
Армении. Для Армении, например, полностью действительно то
же «классическое», т. е. греко-римское, наследие, что и для Ита¬
лии; и по времени — явления, считающиеся ренессансными, раз¬
виваются в общих рамках ренессансного времени в Европе.
К тому же сама история Армении искони столь же принадлежит
Западу, сколь и Востоку. Поэтому открытие эпохи Ренессанса
в ней может трактоваться даже как необходимое расширение ра¬
мок Ренессанса на Западе.
Иначе обстояло бы дело, если бы своя эпоха Ренессанса
была обнаружена в какой-либо стране Востока, которая не вхо¬
дит в орбиту европейской культуры, и притом во время более
раннее, чем на Западе; иначе говоря, при полном исключении
возможности какого-либо занесения Ренессанса с Запада. В та¬
ком случае надо было бы признать полную самостоятельность
явлений Ренессанса в этой стране Востока. Именно такие усло¬
вия мы имеем в X—XII вв. в том районе Среднего Востока, .кото¬
рый в общем культурном комплексе охватывал в средние века
Ирак, Северо-Западную Индию и Среднюю Азию. В этом случае
нам пришлось бы считать Ренессанс в этом районе явлением, воз¬
никшим вне какой бы то ни было зависимости от Ренессанса
в Европе. И тем более так, если говорить о VIII—XII вв. в исто¬
рии Китая как об эпохе Ренессанса в этой стране. Какая бы то
ни было связь явлений Ренессанса в культуре Китая в эти века
с явлениями Ренессанса в Европе и в указанном районе Среднего
Востока исключается уже по условиям времени: ренессансные
явления возникают в Китае на много веков раньше, чем в Европе,
и гораздо раньше, чем даже на Среднем Востоке. Мог бы встать
обратный вопрос: не находится ли возникновение ренессансных
явлений в тех странах, где они возникли позднее, в связи с на¬
личием ренессансных явлений там, где они образовались раньше?
Но такой поворот вопроса в отношении Китая и Европы исклю¬
чается уже потому, что для всех связей требуется наличие точек
соприкосновения — исторических, культурных; в данном же слу¬
20
чае ни тех, ни других в достаточно эффективных масштабах
не было.
Утвердительное решение вопроса о наличии в истории наро¬
дов Ирана, Северо-Западной Индии и Средней Азии — на Сред¬
нем Востоке, в истории Китая — на Дальнем Востоке ренессанс¬
ных явлений имело бы очень большое значение не только для по¬
нимания истории этих стран, но и для общего понимания того,
что в Европе названо эпохой Ренессанса. Если не называть Ре¬
нессансом всякую эпоху, когда наблюдается особо яркий расцвет
науки, культуры и особенно искусства, литературы и философии,
а связывать этот расцвет с определенным этапом общей истории
данной страны, то Ренессанс как эпоха становится строго исто¬
рическим явлением, занимающим в общей истории данной страны
свое специфическое место. Понимание же этого места и содержа¬
ния самого явления достигается изучением Ренессанса во всех
странах, где он был. Эпоха Ренессанса окажется тогда не исто¬
рической случайностью, каковой она в аспекте всемирной истории
должна быть признана, если считать, что она была только в исто¬
рии Европы, а исторической закономерностью.
Увидим мы тогда и другое — наличие Ренессанса самостоя¬
тельного и Ренессанса «отраженного». Фактор общности истори¬
ческой жизни отдельных групп народов приводит к распростра¬
нению явлений, возникающих вполне самостоятельно в передовой
по цивилизации стране, на прочие страны в составе данной общ¬
ности. Так было на Западе, когда Ренессанс, начавшийся в Ита¬
лии, в разное время захватил затем и прочие страны Западной,
Центральной и даже Восточной Европы; некоторые из них, на¬
пример Англию, даже очень поздно — в XVI в., т. е. когда Ренес¬
санс в Италии уже закончился. Так было и на Востоке, где Ре¬
нессанс, начавшийся, например, в Китае, распространился и на
прочие страны Восточной Азии; во всяком случае — на Корею и
Японию. Разумеется, страны, на которые распространился Ренес¬
санс, начавшийся в другом месте, не повторяют его у себя бук¬
вально: ренессансные явления в них — глубоко свои, обусловлен¬
ные и общим течением своей истории, и требованиями своего вре¬
мени, но общий характер, общественная природа этих явлений
отражают Ренессанс, каким он сложился в первой стране. По¬
этому, если выяснится, что Ренессанс не историческая случай¬
ность, а историческая закономерность, то эту закономерность
следует считать принадлежностью истории тех народов, которые
пережили в своем прошлом и свою Древность, и свое Средне¬
вековье, и притом в полном развороте этих социально- и куль¬
турно-исторических систем. Такими народами были, видимо, на¬
роды Китая, Индии, Ирана и Средней Азии, Греции и Рима.
Таков может быть еще один вклад в общую теорию обществен¬
ного развития, который представит история Востока.
21
9
В настоящее время невозможно ни перечислить, ни даже
предвидеть все, что может внести в общественные науки восто¬
коведение. Думаю, что возможно будет внести уточнение в наши
представления о самом порядке смены социально-экономических
формаций. Вероятно, потребуется особое внимание уделять тому,
что смена формаций — не единичный акт, а процесс, в котором
существенную и, конечно, каждый свою особую, роль играют два
момента: момент решительной ломки уходящего строя и момент
утверждения наступающего. Между этими двумя моментами мо¬
жет проходить довольно значительное время. Так, например,
смена рабовладельческой формации формацией феодальной со¬
стояла не только в падении рабовладения как системы, опреде¬
лявшей весь строй, но и в закреплении зависимого положения
ранее свободного населения. Для установления новой формации
этот второй момент не менее важен, чем первый. Натолкнуть на
мысль об этом может, как мне кажется, история Китая, где фео¬
дализм утвердился после подавления в конце II в. н. э. восстания
«желтых повязок» — грандиозного движения сопротивления за¬
ковываемых в феодальные путы ранее свободных земледельцев
и ремесленников. В связи с этим, возможно, придется выдвинуть
положение об особых передовых эпохах, захватывающих послед¬
нюю стадию одной формации й начальную другой. На протяже¬
нии таких эпох и протекал процесс распада одного строя и сло¬
жения другого. В истории Запада одной из таких эпох, видимо,
является так называемая эпоха эллинизма, если считать ее
в больших границах, т. е. с III в. до н. э.— времени сложения
эллинистических монархий — по VII в. н. э.— время перехода
азиатских и североафриканских частей эллинистического мира
в руки новых завоевателей — арабов. За эти века в этом огром¬
ном районе старой исторической жизни распалась старая система
древнего рабовладельческого мира. Второй великой переходной
полосой для Запада была эпоха Ренессанса: она подвела народы
Западной Европы к капитализму, причем в первую очередь не
в той стране, где элементы капиталистических отношений про¬
явились раньше, чем в других, а где они проявились позднее, но
развивались быстрее, т. е. не в Италии, а в Голландии и Англии,
за которыми последовала Франция. На Востоке Ренессанс на¬
чался в Китае, но первой пришла к капитализму Япония, Ренес¬
санс в которой был только отраженным.
10
Таковы некоторые из возможных общих положений, которые
история Востока может предложить общей теории общественного
развития. Вероятно, будут выдвинуты и другие, в том числе и от¬
носительно частные. Так, например, возможно, придется по-иному
22
понять, что такое централизация власти в феодальном государ¬
стве. Сейчас такую централизацию видят в так называемом абсо¬
лютизме, т. е. в том политическом строе, который сложился на
последней стадии феодального этапа истории. Особенно ярко
такой строй был представлен в истории Франции XVII—XVIII вв.
История Японии в так называемый период Токугава, т. е. в
XVII — начале XIX в., подтверждает, что централизация власти
действительно может образоваться на последней стадии феода¬
лизма. Подтверждает этот факт и история Китая в XVII—XIX вв.
Но в то же время та же история Китая показывает нам появ¬
ление централизованного строя в VII—VIII вв., т. е. на более
ранней стадии феодализма — в период повсеместного и всесто¬
роннего утверждения феодальных начал в экономической, соци¬
альной и политической жизни, в момент их наивысшей целост¬
ности и силы. В соответствующей степени с таким же строем мы
встречаемся в VIII—X вв. и в истории феодальной Японии. Тем
самым оказывается, что централизация политической власти бы¬
вает не только средством поддержания уже шатающегося, иду¬
щего под гору строя, но и орудием всестороннего утверждения
ставшего господствующим социально-экономического строя.
Думаю, что приведенных примеров достаточно для того, чтобы
подкрепить возможность тезиса о появлении у востоковедения
новой задачи: задачи реконструировать некоторые положения
общей теории общественного развития, а тем самым и некоторые
разделы науки об обществе в целом. Здесь я оставался в преде¬
лах истории, но соответствующие положения могли быть выдви¬
нуты и в науке о литературе, о философии, да и вообще во всех
гуманитарных науках. Не видеть появления у востоковедения
именно такой задачи в настоящее время — невозможно, а это и
создает новую основу для существования востоковедения как
особой отрасли научного исследования, иную по характеру, чем та,
на которой до сих пор востоковедение строилось и развивалось.
11
Выполнение такой исторической задачи должно привести
к тому, что я назвал бы преодолением европоцентризма.
Сразу же предупреждаю, что тут я не имею в виду европо¬
центризм как следствие представления о каком-то расовом пре¬
восходстве «белых» народов Европы над «цветными» народами
других континентов: для деятелей науки абсурдна сама мысль
о таком превосходстве. Не имею в виду европоцентризм и как ре¬
зультат убеждения в культурном превосходстве народов Европы
над народами Азии и Африки: серьезные ученые хорошо пони¬
мают, что такое убеждение может возникать при недостаточности
знания и понимания даже того, что известно. Широко ведущиеся
в последнее время на разных форумах разговоры о равенстве
Запада и Востока настоящим ученым, особенно востоковедам,
23
глубоко чужды: настолько странна и непонятна, не говоря уже
о ее вредности, самая мысль о возможности какого-то неравен¬
ства народов. Говоря об европоцентризме, я имею в виду наше
научное мышление: сознательно или бессознательно мы опери¬
руем положениями, созданными европейской наукой. Говоря
«мы», я не имею в виду только ученых нашей страны, даже уче¬
ных Европы и Америки, т. е. вообще Запада; я включаю сюда и
ученых современного Востока: и они поступают так же.
Такое положение вполне понятно, и ничего плохого в нем нет.
Объясняется оно совершенно бесспорным фактом — уровнем ми¬
ровой науки в настоящее время. Не подлежит сомнению, что со¬
временная мировая наука во всех отраслях зиждется на основах,
созданных наукою в странах Европы в последние столетия; во
всяком случае с XVII в.— со времени Декарта и Ньютона. Пере¬
довой характер европейской науки этих веков есть отражение
общего исторического прогресса в этих странах, выведшего их
в эти столетия на передний край общественно-исторического раз¬
вития человечества в целом. Поэтому вполне естественно, что
физика в настоящее время есть та физика, которая начала фор¬
мироваться в новое время в Европе; что историческая наука —
та, которую создали историки стран Запада, и т. д. Именно по¬
этому исследователи в странах Запада работают в плане евро¬
пейской науки: всякий настоящий исследователь должен опи¬
раться на наиболее высокий уровень в своей науке. Вполне по¬
нятно, что так поступают и ученые современного Востока, тем
более что многие из них и прямо получили свою научную подго¬
товку в университетах Запада. Разумеется, невозможно даже
представить себе, чтобы наука в дальнейшем сошла с этого пути.
Это невозможно уже потому, что наука в настоящее время —
явление мировое и как продукт общей деятельности ученых всех
цивилизованных народов, и как общее для всех них достояние.
Если существует общность историческая, то общность научная
является, пожалуй, наиболее отчетливым ее выражением, и при¬
том в ее наиболее высокой, подлинно достойной человека форме.
Наука в какой-либо области может бороться с одним и биться
за другое: идеалы могут быть различны, но борьба за них ведется
на основе общепризнанных научных положений, а если и выдви¬
гаются новые, то на уровне, достигнутом данной наукой вообще.
Однако, если иметь в виду науки гуманитарные, научный
европоцентризм всегда таит в себе опасность механического пере¬
несения категорий, открытых в истории и культуре стран Запада,
на явления, наблюдаемые в истории и культуре стран Востока.
Так, например, если такая, выведенная из истории Запада кате¬
гория, как феодализм, и может законно прилагаться к определе¬
нию некоторых явлений истории Востока, то ни в коем случае
нельзя искать всюду на Востоке обязательно те же формы фео¬
дальной ренты, что и на Западе, или тр же соотношение их, когда
эти формы действительно оказываются однотипными. Такая ка¬
24
тегория общественного сознания, как рационализм, правомерно
отыскивается в истории философской мысли не только Запада,
но и Востока, но отнюдь не Обязательно, чтобы исходной фор¬
мулой рационалистической философии в Индии или в Китае было
бы положение «со§Ио ег§о зит». И так — в любой сфере гума¬
нитарных наук.
Дело тут не только в том, чтобы допустить существование на
Востоке своих особых форм общих категорий, открытых в исто¬
рии Запада: большинство ученых это хорошо понимают. Важно
проникнуться мыслью, что самое моделирование таких общих
категорий должно производиться на материале Запада и Восто¬
ка*. Так, например, моделирование общего типа рабовладельче¬
ской формации, в свете чего становится ясным многообразие кон¬
кретно-исторических разновидностей ее, не может быть произве¬
дено на материале истории только древней Греции и древнего
Рима; оно должно строиться на сравнительном изучении мате¬
риала, характеризующего рабовладельческую формацию всюду,
где она была представлена, особенно там, где она была всесто¬
ронне развита. В полной мере эти условия мы находим в исто¬
рии пяти народов — Греции, Рима, Ирана, Индии и Китая, т. е.
двух — традиционно западных, трех — традиционно восточных.
При сопоставлении соответствующих периодов истории этих пяти
стран выяснится как то, что в рабовладельческой формации яв¬
ляется специфическим, конституирующим, т. е. необходимым для
того, чтобы иметь право видеть в общественном строе данного
времени именно рабовладельческую формацию, так и то, что
характеризует, индивидуализирует ее в каждой отдельной стра¬
не, т. е. специфика ее в данной, конкретной исторической обста¬
новке. Если обратиться к истории и философии, то такую кате¬
горию, как рационализм, можно найти в истории философской
мысли и на Западе, и на Востоке; в наиболее отчетливом выра¬
жении, вероятно,— в философии X—XII вв. в Китае, в философии
XVII—XVIII вв. во Франции. Выяснится при этом, что рацио¬
нализм зарождается в ту замечательную эпоху обновления чело¬
веческого сознания, которую в Европе назвали эпохой Ренес¬
санса, и может достигнуть большого развития только в ту эпоху,
которую в истории Запада назвали эпохой Просвещения. Тем
самым выяснится основная историческая задача рационализма —
служить основой перестройки умов в эпоху перехода от средне¬
вековой авторитарности к критицизму нового времени; выяс¬
нятся и различные ступени рационалистического мышления, ста¬
нут ясными и естественные, исторически-действенные границы
его. Тем самым окажется возможным то, что я назвал здесь мо¬
делированием, т. е. определение сущности рационализма как фи¬
лософской категории, но определение, сконструированное не умо¬
зрительно, а на основе данных, извлеченных из самой истории
рационалистических воззрений в различных странах, где такие
воззрения сформировались.
25
12
Можно было бы привести еще некоторые примеры для иллю¬
страции высказанной мысли о важности изучения Востока, для
преодоления научного европоцентризма, что привело бы к улуч¬
шению общих основ научного знания, но, полагаю, что на первых
порах достаточно и сказанного. Необходимо только обратить
внимание на то, что нам может в этой работе существенно по¬
мочь,— на историю науки на самом Востоке.
Нельзя не признать, что великий прогресс науки в Европе
в новое время затмил в нашем сознании все, что было в науке
до этого даже в той же Европе. Если мы и вспоминаем о науке
в средние века, то главным образом для того, чтобы отметить,
как плохо было в науке тогда и как хорошо в ней стало потом.
В этом мы прямые наследники ренессансных настроений. К науке
самого Ренессанса мы относимся уважительно, считая, что тогда
в некоторых отраслях научного исследования были заложены
основы, действительные и для нашего времени. Обычно вспоми¬
нают тут имена Коперника, Джордано Бруно, Галилея. Продол¬
жением ренессансного отношения к Древности являются наши
взгляды на науку того времени: о ней принято говорить не иначе
как в высоких тонах. Но и тут главным образом потому, что в
науке греко-римской древности находят начала многих идей и
концепций, действующих в науке нового времени. Словом, це¬
нится то, что было когда-то более или менее так, как теперь, и
оставляется без внимания или даже отвергается то, что было
тогда иначе. И, конечно, нет отношения к науке Древности и
Средневековья, этих двух великих эпох в жизни культурного че¬
ловечества, как к явлению самостоятельному, глубоко органич¬
ному, законченному в себе и именно в этом аспекте наиболее
важному для нашего научного мышления.
Если так обстоит дело со своим собственным, т. е. европей¬
ским научным наследием, то насколько меньше ценится наука,
возникшая и развивавшаяся за пределами Европы, например
в Индии, в Китае, в арабских странах. Если ее и замечают и
даже изучают, то главным образом в плане истории культуры,
просвещения и науки в этих странах; на значение же ее для об¬
щетеоретических положений научного знания обычно должного
внимания не обращают.
А обращать внимание следует. Оставляя в стороне науки
о природе, достаточно взглянуть на то, что было достигнуто в не¬
которых странах Востока в науке о человеке и об обществе. Нам
довольно хорошо известна история философской мысли в Индии
и Китае. Но обычно мы изучаем появление и развитие идей и
концепций, т. е. саму философскую мысль, и мало обращаем вни¬
мания на то, как в этих странах понимали и оценивали эти идеи
и концепции; иначе говоря, оставляем без должной оценки науку,
предметом которой является философская мысль. Мы прилагаем
26
к оценке философских идей Востока обозначения, сложившиеся
в философской науке у нас, в Европе, такие, например, как мате¬
риализм, идеализм, рационализм, интуитивизм, мистицизм, кри¬
тицизм, монизм, плюрализм и т. п., даже не подумав всерьез
о том,— подходят ли вообще эти обозначения к тому, что мы хо¬
тим обозначить ими; не лучше ли обратиться к тем обозначениям
и характеристикам, которые выработаны научной мыслью там
же — на Востоке; не соответствуют ли именно эти обозначения
природе и содержанию обозначаемых ими явлений. Во всяком
случае первое, что мы должны сделать,— это обратить самое при¬
стальное внимание, на эти обозначения, постараться понять их
из них самих, как они сложились в истории философской мысли
в данной стране. Надо полностью учитывать, что и в Индии, и
в Китае в древности и в средние века существовала не только
богатая, всесторонне развитая философская мысль, но и наука
о философии со своей терминологией, своей технической номен¬
клатурой. В последнее время кое-какая работа по выяснению
всего этого ведется, но все еще нет другого — оценки значения
науки о философии, как она сложилась на Востоке, для общей
теории философии, т. е. и для нас. Моделирование основных фи¬
лософских категорий должно быть произведено путем сопостав¬
ления и оценки всего материала — и западного, и восточного.
Сказанное о философской науке можно с таким же основа¬
нием приложить и к науке об истории. В странах Востока суще¬
ствовала не только богатейшая историография, но и историоло-
гия, наука об истории. Как факты истории, так и исторический
процесс осознавались в аспекте определенных концепций. В Ки¬
тае, например, вырабатывались концепции общего исторического
процесса, создавались схемы исторического развития, многие из
которых сохраняют значение для китайских историков по сию
пору, иногда под новыми, наскоро пригнанными европейскими
наименованиями. Принимать такие концепции безоговорочно
нельзя, но понимать, что они означают, почему сложились и ка¬
ково их отношение к реальному историческому процессу, необ¬
ходимо. А в дальнейшем надо подумать и о том, что в них есть
такого, что.должно быть наряду с европейским материалом при¬
нято во внимание при разработке общих положений исторической
науки. Коротко говоря, необходимо учесть теоретическую мысль
Востока во всех областях науки о человеке и об обществе, памя¬
туя, что именно эти области разработаны на Востоке в масшта¬
бах и подробностях исключительных.
Работу в этом направлении я и называю преодолением евро¬
поцентризма в науке, а такое преодоление считаю одной из самых
важных в наше время задач науки о человеке и об обществе. Та¬
ким путем она, эта наука, сможет стать по-настоящему общезна¬
чимой, т. е. действительной для изучения жизни и деятельности
человечества во все времена его исторического существования.
Именно востоковеды призваны давать материал для такого
27
преодоления. Для этого они должны быть вооружены не только
знанием стран Востока — их истории и культуры, их просвеще¬
ния и науки, но и уменьем сопоставлять то, что они видят на Во¬
стоке, с тем, что они знают о Западе. Разумеется, для этого тре¬
буется, чтобы востоковед владел основами науки, выработан¬
ными на Западе, понимая их происхождение, иначе он не сможет
ни понять своих задач, ни тем более способствовать их решению.
Говоря «востоковед», я имею в виду отнюдь не одних только
ученых стран Запада; я имею в виду и ученых стран Востока —
тех, которые изучают историю и культуру своих народов в инте¬
ресах не только науки в своей стране, но и науки международ¬
ной. В такой совместной работе полностью утратится особое по¬
ложение ученого-востоковеда, как оно сложилось в истории
науки в Европе, по в новом значении предстанет научное восто¬
коведение. В таком положении оно не только не исчезнет, но по¬
лучит новую почву для своего существования.
Надолго ли? Вопрос вполне законный. Ответ на него может
быть таким: востоковедение как особая отрасль научного иссле¬
дования будет существовать до тех пор, пока не будет достигнута
его новая цель — способствовать своим материалом разработке
общей теории, охватывающей все стороны истории и культуры
человечества, теории, построенной на истории всех народов, без
разделения их на восточные и западные, и проверенной доступ¬
ным нам историческим опытом.
13
Такая цель не только устраняет опасность научного европо¬
центризма, она делает недопустимым и азиацентризм. А он воз¬
можен, и одинаково на Западе и на Востоке. На Западе своеоб¬
разный азиацентризм может проявиться у тех востоковедов, ко¬
торые все еще считают, что свет вообще идет с Востока, забывая
о великом свете Запада; на Востоке — у тех ученых, которые,
преисполненные вполне законной гордости многотысячелетней
историей своих стран, огромным и всесторонним развитием в них
культуры, перестают видеть то же, и ничуть не в меньших мас¬
штабах, и в других странах, прежде всего в Европе. Народов
искони передовых и искони отсталых нет; все большие цивилизо¬
ванные народы Востока и Запада имели в своей истории полосы
и стремительного движения вперед, и движения замедленного,
а то и вовсе приостанавливающегося, что приводило к времен¬
ному отставанию. И ни у кого нет права считать себя народом
особым, превосходящим всех других. Каждая нация должна об¬
ладать чувством собственного достоинства, но мания величия
у нации столь же ложна, вредна и просто смешна, как и мания
величия у отдельного человека.
1965 г.
О РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ
Существование рабовладельческой формации, т. е. общества,
экономическая деятельность которого была основана на рабстве
и рабовладельчестве,— непреложный факт истории человечества.
История открывает нам и различные стороны этой формации: ее
хозяйственную организацию, социальный строй, политические
формы, ее правовые нормы, мировоззренческие системы, состав и
содержание связанной с ней культуры. История открывает нам и
процесс возникновения, складывания, развития и распада этой
формации. В сопоставлении же с тем, что было у народов до сло¬
жения этой формации, что наступило у них после того, как она
распалась, история позволяет нам увидеть место рабовладельче¬
ской формации на общем пути человечества и этим самым понять
ее философско-исторический смысл.
История показывает нам, что отнюдь не рабство как таковое
является определяющим признаком рабовладельческой форма¬
ции. Рабство, т. е. труд одних людей для других, соединенный
с личной, так сказать, вещественной принадлежностью трудяще¬
гося тому, кто присваивает продукт его труда,— явление, суще¬
ствовавшее в разных исторических условиях, не говоря уже о
разных степенях личной принадлежности раба его хозяину, о раз¬
ных масштабах и уровнях общественно-экономического значения
рабского труда в общей структуре производства данного обще¬
ства. Рабовладельческая формация характеризуется не рабством
как таковым, а общественным строем, в котором рабский труд
играет роль способа производства, определяющего экономиче¬
скую основу общественного бытия на данном этапе истории на¬
рода. Поэтому рабство, например, в древнем Египте — факт, ха¬
рактеризующий саму природу общественного строя Египта того
времени, рабство же, например, в плантационном хозяйстве евро¬
пейских поселенцев в Северной Америке в XVII—XVIII вв. не ос¬
нова установившегося у них тогда социально-экономического
строя, бывшего капиталистическим, а всего лишь локальная осо¬
29
бенность этого строя, образовавшаяся в нем в силу специфиче¬
ских в те времена условий капиталистического хозяйства в неко¬
торых вновь осваиваемых далеких территориях — колониях.
Странами, в истории которых ученые открывают рабовла¬
дельческий строй, являются государства так называемого Древ¬
него Востока, т. е. Египет, Вавилония, Ассирия, Персия; государ¬
ства Крита и Микен, древней Греции и Италии, древней Индии и
древнего Китая. Этот перечень свидетельствует, что рабовла¬
дельческая формация существовала в те времена, которые люди
уже давно называют «древностью», что она соединена с первыми
в истории человеческого общества формами государственной ор¬
ганизации, что она складывалась у народов, вышедших тогда на
первое место в культурно-историческом процессе, что она имела
значение мировой системы, занимавшей тогда господствующее
положение во всем мире. Отсюда — вывод: возникновение рабо¬
владельческой формации не историческая случайность, а истори¬
ческая закономерность.
Но так — только в рамках общемирового исторического про¬
цесса, и отнюдь не процесса, развертывавшегося в рамках исто¬
рии отдельных народов или стран. Иначе говоря: человечество в
своем целом, в своей общей истории прошло через этап рабовла¬
дельческой формации, и этот этап был для него неизбежен, но
отдельные части человечества не проходили через него и не были
исторически обязаны через него проходить. В Африке и Южной
Америке наших дней, например, есть народы, живущие еще пле¬
менным бытом, т. е. находящиеся на уровне какой-то ступени
первобытнообщинной формации, но это не значит, что они дол¬
жны перейти у себя к формации рабовладельческой, затем — к
феодальной и т. д. В современных условиях международной общ¬
ности, когда жизнь каждого народа так или иначе связана с
жизнью других народов, когда исторический процесс в целом на¬
правляется народами, вышедшими на передний край обществен¬
ного развития и цивилизации, для всякого народа, отставшего на
этом общем пути, но желающего сохранить свою историческую
самостоятельность, возможно лишь то или иное по степени и силе,
по темпам и длительности подтягивание к уровню высшей сту¬
пени общественного развития и цивилизации своего времени.
Возникновение у какого-нибудь народа рабовладельческой фор¬
мации тогда, когда у других народов уже сложилась феодальная
система, было возможно лишь при полной исторической изоляции
этого народа от других. Именно такая изоляция сделала возмож¬
ным существование рабовладельческих государств в Централь¬
ной и Южной Америке в то время, когда большие культурные
народы Европы, Азии и Северной Африки уже проходили этап
феодализма. И эти рабовладельческие государства сразу же рас¬
пались, как только соприкоснулись с Испанией — страной в то
время уже давно феодальной. Государство в Японии в полной
мере сформировалось в VII в. н. э., и оно было построено не на
30
рабовладельческой, а на феодальной основе, хотя рабство в пред¬
шествующей истории японского народа существовало и рабский
труд занимал даже важное место в хозяйственной жизни. В VII в.
в Восточной Азии, в которой ведущее место занимал Китай, нахо¬
дившийся на высокой ступени феодального развития, народу, вхо¬
дившему в орбиту стран, связанных в этой части Азии друг с дру¬
гом известной общностью исторической жизни, переходить к ра¬
бовладению было просто невозможно. Было бы настоящим
историческим анахронизмом для Руси IX в. н. э. создавать у себя
государство на рабовладельческой основе, когда ведущей стра¬
ной в этом районе Европы была феодальная Византия.
Коротко говоря, в условиях международной общности отстаю¬
щие народы либо утрачивают самостоятельное место в мировой
исторической жизни, а то и вовсе исчезают, либо стремятся под¬
тянуться к уровню того передового, что образовалось в орбите
этой общности, орбите в предшествующие эпохи жизни челове¬
чества региональной, в новую же эпоху — общемировой. Имеет
место при этом как бы «равнение» отстающих на передовых, а не
механическое перенесение общественных форм передового госу¬
дарства в отстающее. Создание государства на феодальной, а не
на рабовладельческой основе, т. е. с точки зрения историко-со¬
циологических норм ускорение общественного процесса, происхо¬
дило либо путем более интенсивного, чем в других случаях, раз¬
вития элементов феодализма, уже в какой-то мере зарождав¬
шихся в предшествующей истории данного народа, либо путем
направления в феодальную сторону развития тех элементов ра¬
бовладельческого строя, которые могли перестроиться на фео¬
дальный лад. Так, например, феодальная эксплуатация в став¬
шей в VII в. на феодальный путь Японии строилась на системе
«трех обязанностей»: земельном налоге, промысловой подати и
трудовой повинности — обязательстве определенное число дней в
году отрабатывать на работах общественного значения. Не¬
трудно видеть в этих трех повинностях в преобразованном виде
явления, характерные для патриархально-родовых отношений,
когда общинники отдавали в порядке подношения своим старей¬
шинам и вождям часть продукции своих полей и своих промыс¬
лов, главным образом охотничьего и ткацкого, и выходили, когда
это оказывалось нужным, на общую работу в интересах всей
данной группы племени.
Таким образом, изучение рабовладельческой формации дол¬
жно вестись только на основе истории рабовладельческих госу¬
дарств. Такими государствами были перечисленные выше госу¬
дарства древности. Однако если для истории, как таковой, оди¬
наково важно изучение рабовладельческого строя, например, в
древнем Египте и в древней Греции, то для выяснения общеисто¬
рического содержания рабовладельческой формации, ее места и
роли в общеисторическом процессе, для раскрытия ее философ¬
ско-исторического смысла необходимо изучение тех древних ра¬
31
бовладельческих государств, где ее история развернулась во всей
полноте и где нам известны предыдущие и последующие этапы
истории создавших ее народов. Ввиду этого наибольшее, как бы
моделирующее, значение имеет история рабовладельческой фор¬
мации у тех народов, которые пережили полно выраженную эпоху
первобытнообщинного строя, перешли потом к большой, длитель¬
ной, богатой содержанием эпохе рабовладельческого строя, а за¬
тем вступили на путь феодализма; иначе говоря, история тех на¬
родов, которые прошли курс истории полностью и последова¬
тельно, не перескакивая через ступени. Такими наоодами
являются греки, итальянцы, персы, индийцы, китайцы. Народы
Древнего Востока создали рабовладельческие государства
раньше всех, но эти государства, кроме Персии, исчезли еще в
той же древности, и история создавших их народов слилась с
историей других. Разумеется, созданное этими древними наро¬
дами бесследно не исчезло. Древняя Эллада и через нее древний
Рим — наследники еще более древней цивилизации Но поскольку
эта цивилизация вместе с создавшими ее государствами сама по
себе не имела своего продолжения, постольку в указанной необ¬
ходимой полноте рабовладельческая формация оказывается пред¬
ставленной только в истории указанных пяти народов. Поэтому
в аспекте философско-историческом эту формацию следует изу¬
чать по данным истории именно этих народов.
Возможно, однако, и дальнейшее ограничение материала. Для
исторического моделирования рабовладельческой формации
важно взять такие ярко выраженные и богатые содержанием ее
проявления, которые возникли и развивались вполне независимо
друг от друга. Такими случаями мы считаем рабовладельческую
формацию, представленную в двух районах Старого света, гео¬
графически очень отдаленных доуг от друга и не связанных ни¬
какой непосредственной общностью: у народов Китая — в одном
районе, у народов Греции и Италии — в другом. Несомненно, ра¬
бовладельческий строй в каждом из них имел свои особенности.
Так, например, масштаб и уровень эксплуатации рабов в Китае
были менее высоки, чем в Греции и Риме, но эта разница не ме¬
няла существа самих производственных отношений.
Для всякого суждения о рабовладельческой формации в це¬
лом необходимо обозреть ее историю. Такое обозрение открывает
нам прежде всего то, что эта история есть движение и что в этом
движении есть свои этапы. Их — три: первый — время складыва¬
ния рабовладельческой системы, второй — время ее утверждения
и развития, третий — время ее зенита и вместе с тем распада.
Историческую характеристику первого этапа можно построить на
материале истории Китая времен Чжоуского царства, бывшего
совокупностью большого числа отдельных полупатриархальных,
полурабовладельческих царств разных масштабов (XI—VIII вв.
до н. э.), истории Греции — древних греческих царств «гомеров¬
ской эпохи» (VIII—VI вв. до н. э.) и истории Италии — древних
32
государств Апеннинского полуострова (VIII—VI вв. до н. э.).
Характеристику второго этапа можно построить на материале
истории Китая — времен Лего, рабовладельческих царств так на¬
зываемого периода Чуньцю-чжаньго (VIII—III), Греции — эпохи
полисов в период их расцвета (VI—III) и Италии — времени
Римской республики поздней поры (V—II). Характеристику
третьего этапа можно построить на материале истории двух им¬
перий: Ханьской — на Востоке (II в. до н. э.— III в. н. э.), Рим¬
ской — на Западе (I в. до н. э.— V в. н. э.).
Первый этап — время сложения рабовладельческого строя.
Для него характерны четыре процесса. Первый: постепенное, но
все более устойчивое превращение рабского труда, бытовавшего
до этого лишь на уровне домашнего рабства, в средство интен¬
сификации сельского хозяйства и отчасти ремесленного произ¬
водства, интенсификации, ставшей необходимой ввиду роста по¬
требностей— количественного, связанного с увеличением состава
семьи и рода, и качественного, обусловленного повышением тре¬
бований к материальной стороне жизни. Второй процесс: рост
производства за счет расширяющегося применения труда рабов,
появление в связи с этим возможности накопления и отчуждения
производимого продукта и возникновение на этой почве частной
собственности. Третий: возникновение имущественного неравен¬
ства внутри общины, обусловленного возможностью для некото¬
рых членов общины в силу наследственного несения ими общест¬
венных должностей частнособственнического присвоения про¬
дукта, захвата в свою собственность рабов, а затем земли.
Четвертый: сложение в составе общины первых классов — рабов
и рабовладельцев, антагонистических по своему отношению к
производству, и вместе с тем зарождение антагонистических отно¬
шений между крупными рабовладельцами-землевладельцами, с
одной стороны, и мелкими производителями — с другой. Эти про¬
цессы развертывались в обстановке противоречий: рабского
труда и труда мелких свободных производителей; этих последних
и крупных рабовладельцев-землевладельцев; этих последних и
родовой знати общинно-родовой эпохи. В итоге борьбы, вызван¬
ной этими противоречиями, и распада в ней институтов родо-пле-
менного строя или превращения их в органы управления, возни¬
кает государство как стабилизатор и регулятор отношений между
антагонистическими классами в интересах господствующего. При¬
знаком сложения такой обстановки являются: в истории Китая —
реформы, проведенные в царстве Ци (VII в.) и в царствах Лу, Чу,
Чжэн (VI); в истории Греции — реформы Солона и Клисфена
(VI); в истории Италии — реформы Сервия Туллия.
Второй этап является временем расцвета той формы госу¬
дарственности, что в истории Греции получила название поли¬
сов, в истории Италии — сюИаз, в истории Китая — го. Под
этими наименованиями скрывается в общем одно и то же: госу¬
дарство, сведенное к одному центру — городу, господствующему
3 Н. И. Конрад
3?
над всей подвластной ему территорией, причем такой город-го¬
сударство был не только политическим, но и экономическим це¬
лым. Именно в этом смысле город-государство и был базисом соб¬
ственности в том ее масштабе, который она тогда приняла: ее
объектом были, во-первых, рабы, во-вторых, земля. Преоблада¬
ющая форма собственности на рабов была частная: общественная
форма собственности на рабов (государственные рабы) появля¬
ется на более позднем этапе истории рабовладельческой форма¬
ции, да и тогда эта форма относилась к непроизводственным
категориям рабов — подсобному персоналу государственных уч¬
реждений. Форма собственности на. землю была двойная — об¬
щинная и частная, причем последняя была опосредствована пер¬
вой: условием частной собственности на землю была принадлеж¬
ность к гражданской общине, чем и были полис в Греции, сШ1аз
в Италии, го в Китае. Следует, однако, учитывать, что рабский
труд тогда еще далеко не имел того значения в хозяйстве, которое
он получил позднее. Именно к этому этапу античности относятся
известные слова Маркса: экономической основой «классического
общества в наиболее цветущую пору его существования», когда
общинные формы собственности уже разложились, а «рабство
еще не успело овладеть производством в сколько-нибудь значи¬
тельной степени»^ было «как мелкое крестьянское хозяйство, так и
независимое ремесленное производство» (К. Маркс, Капитал,
т. I,— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 23,
стр. 346, прим. 24). Эта характеристика относится к Греции и
Риму классической эпохи, но она приложима к среднему этапу
истории рабовладельческой формации и в Китае, в котором эпоха
Лего — отдельных городов-государств (VII—III вв.) с полным
правом может быть названа классической.
Основным фактором перехода к третьему этапу, т. е. эпохе
больших рабовладельческих держав, был кризис города-государ¬
ства классической эпохи. Развившиеся производительные силы,
улучшившаяся техника производства, увеличившиеся его коли¬
чественные возможности требовали других масштабов самого
производства и его цели — потребления. Замкнутые сферы горо¬
дов-государств, обособленных политически и в известной степени
экономически, не открывали необходимых перспектив. Сложи¬
лась альтернатива: либо сохранение замкнутости и, следова¬
тельно, застой, а это означало и деградацию, либо ликвидация
замкнутости, т. е. выход из рамок города-государства и, следова¬
тельно, возможность дальнейшего развития. Действием именно
такого экономического требования, вероятно, и следует объяснить
возникшую еще в конце классической эпохи тенденцию к образо¬
ванию более широких экономических и политических общностей
либо в форме союзов, как Ахейский, 1-й и 2-й Афинские и Коринф¬
ский союз в Греции V—IV вв., либо в форме федераций, как
федерация итальянских городов-государств под гегемонией Рима
и Италии IV в., либо в форме поглощения одних государств дру-
34
Мши, болёе сильнУми, как это было в Китае, где с середины IV
по середину III в. на месте многих относительно небольших горо¬
дов-государств появилось четыре крупных — Хань, Ци, Цинь, Чу.
Концом этого процесса политической и экономической интегра¬
ции следует считать: в одной части Старого света образование
в III в. до н. э. так называемых эллинистических монархий, осо¬
бенно таких крупных, как Египет, Сирия и Македония, делив¬
ших между собою гегемонию во всем Восточном Присредизем-
номорье, а также образование в III в. до н. э. Римской респуб¬
лики, не только как крупного италийского государства, но после
2-й Пунической войны и как гегемона во всем Западном При-
средиземноморье; в другой части Старого света образование в
конце III в. до н. э. в Китае единого большого государства — им¬
перии, сначала около двух десятилетий управляемой императо¬
рами династии Цинь, затем уже до конца — императорами дина¬
стии Хань. Эта империя стала гегемоном на огромном простран¬
стве от Прибайкалья на севере до тибетского нагорья на юге, от
Тихого океана на востоке до Средней Азии на западе. С I в. до
н. э. в другой половине Старого света такой же огромной импе¬
рией становится Римская, объединившая под своей властью все
Присредиземноморье — как Восточное, так и Западное; послед¬
нее — со всеми прилегающими к ней территориями Южной и За¬
падной Европы.
В рамках этих больших мирорых держав рабовладельческая
формация и достигла максимума своего развития. Сущность
этого максимума — превращение рабского труда в основную
силу во всем производстве, т. е. достижение им того положения,
которое он не имел в эпоху городов-государств, т. е. на втором
этапе своей истории. Рабский труд в самых широких масштабах
‘стал применяться в различных отраслях сельского хозяйства, тем
самым подрывая положение массы свободных мелких произво¬
дителей. Этот процесс соединился с ростом крупного землевла¬
дения, базировавшегося на частной собственности на землю.
О том, какое значение имело утверждение в этой сфере частной
собственности, свидетельствует история усиления царства Цинь
в Китае, усиления, позволившего этому царству в конце III в. до
н. э. объединить под своею властью всю страну. В IV в. до н. э.
в царстве Цинь были разрешены сделки с землей (продажа, за¬
клад), были отменены ограничения на размеры владения землей.
Тем самым там был нанесен решительный удар по общинному
земледелию, подорвавший его значение в общем хозяйстве этого
царства.
Рост рабовладельческих земельных латифундий — явление,
характерное для рабовладельческих империй как на Востоке, так
и на Западе,— естественно сопровождался увеличением числа
рабов, а это увеличение в свою очередь сопровождалось расши¬
рением применения рабского труда и в промышленном производ¬
стве. К этому толкали повысившиеся требования, обращенные к
35
ётому производству со стороны Многочисленного й культурно
выросшего населения городов, неуклонно увеличивавшихся в
своем числе и в своих размерах. К этому же толкал и чрезвы¬
чайно расширившийся обмен между районами, ранее обособлен¬
ными, теперь же объединенными в одном государстве — как в
европо-афро-азиатском круге земель времен эллинистических
монархий, а позднее — Римской империи, так и в восточно- и
центральноазиатском круге, подвластном Ханьской империи. Об¬
мен этот был в первую очередь торговлей, главным же предме¬
том торговых операций были промышленные изделия: на них был
тогда международный — в своих региональных пределах —
спрос. Впрочем, в более позднюю пору этих империй создался
международный спрос и поверх региональных рамок: достаточно
вспомнить о существовании Великого шелкового пути из Китая
на римский Восток.
Растущая торговля стимулировала ремесленное производство;
оно же в этих условиях требовало улучшения своей техники и
повышения производительности труда.
Совокупность этих условий могла образоваться только в го¬
роде, почему торгово-промышленный город и стал главным оча¬
гом цивилизации. Сельское же хозяйство все еще могло оста¬
ваться на техническом уровне, в общем не так уж далеко ушед¬
шем вперед от прежних норм: необходимое увеличение продукции
достигалось главным образом увеличением рабочей силы — ра¬
бов. Поэтому цивилизация этого позднего этапа истории рабовла¬
дельческой формации и есть в первую очередь цивилизация го¬
рода. Конечно, во всемирно-историческом масштабе равномерно¬
сти в этом отношении не было. В своем наибольшем блеске
городская цивилизация мировой античности проявилась в ис¬
конно древнем центре культурной жизни человечества — в стра¬
нах Восточного Присредиземноморья, в век империй превратив¬
шихся в восточные провинции Рима. Достаточно вспомнить, что
именно в этом районе находились Александрия, Пергавд, Антио¬
хия, Афины, Родос. Ничего подобного этим городским очагам
образованности и культуры не было ни в Италии, ни на римском
Западе, ни в Ханьской империи — этой огромной сельскохозяй¬
ственной стране. Но, разумеется, и там возникли свои очаги го¬
родской цивилизации: в Италии, в более раннюю пору — Сира¬
кузы, позднее — Рим; в Китае — Чанъань и Лоян. В более позд¬
нюю пору этих империй заметными очагами цивилизации стано¬
вятся города, возникшие на периферии, особенно в провинциях
римского Запада — Галлии и Испании.
О наступлении конца третьего этапа истории рабовладель¬
ческой формации в указанных двух крупнейших районах мировой
истории говорит ряд явлений. Первое — утрата рабским трудом
в его как бы «машинной» форме прежнего значения: такой труд
перестал не только обеспечивать необходимое развитие хозяй¬
ства, но даже поддерживать его на уровне выросших потребно¬
36
стей. Для повышения продуктивности производства не только
в ремесле, но и в сельском хозяйстве требовалась уже не живая
машина, нужен был человек, организующий свою работу. В связи
с этим в составе рабского населения появился культурный, интел¬
лектуально развитый слой, ничуть не уступающий в этом отно¬
шении рядовым труженикам из свободного населения, особенно
земледельческого. Поскольку же положение раба не изменилось,
постольку значение и роль рабского труда в производстве всту¬
пили в полное противоречие с положением раба в социальной
структуре. Уравнение рабов в сфере их трудовой деятельности
со свободными трудящимися становилось насущной хозяйствен¬
ной необходимостью. Таков был первый признак социально-эко¬
номического кризиса рабовладельческого строя.
О кризисе свидетельствовало также увеличение имуществен¬
ного неравенства. Характерно, что еще в системе Сервия Туллия
было констатировано наличие в составе римской гражданской
общины, т. е. в составе свободного населения, так называемых
«пролетариев», т. е. людей, не имеющих ничего, кроме потомства,
иначе говоря, неимущих. Это означает, что еще в начале второго
этапа истории рабовладельческого строя стала обнаруживаться
пауперизация определенных слоев свободного населения. С раз¬
витием же рабовладельческого хозяйства угроза пауперизации
нависла над значительной частью свободного трудящегося насе¬
ления — как ремесленного, так и земледельческого; последнего
в особенности, так как именно мелкое производство свободного
земледельца подрывалось крупным производством рабовладель¬
ческой латифундии и даже производством рабовладельческой
виллы средних размеров — этой наиболее распространенной
формы земельного хозяйства. Ввиду же того, что свободные про¬
изводители составляли большинство населения, их экономическое
положение сталкивало их в конфликте с самой социально-эконо¬
мической системой, поскольку она не обеспечивала им возмож¬
ности существовать на сколько-нибудь достаточном материаль¬
ном уровне.
Таким образом, кризис экономический перерастал в кризис
социальный и привел в конечном счете к распаду рабовладель¬
ческого строя. Рабовладельческая формация — социально-эконо¬
мическая система, создавшая в свое время условия для огромного
хозяйственного, общественного и культурного развития челове¬
чества,— исчерпала свои возможности и превратилась в основ¬
ное препятствие на пути дальнейшего прогресса. С ней нужно
было покончить, и с ней покончили.
В исторической литературе встречаются утверждения, что
главной силой, ниспровергшей рабовладельческий строй, были
рабы, встречается даже выражение «революция рабов». Несоот¬
ветствие такого утверждения исторической реальности обнару¬
живается при обозрении конкретного исторического процесса,
приведшего к замене рабовладельческого строя феодальным. Ра¬
37
зумеется, волнения рабов — несомненный исторический факт.
Временами эти волнения, как, например, известное, возглавляе¬
мое Спартаком движение рабов в Риме, превращались в прямые
восстания. Но эти восстания могли иметь какой-либо серьезный
эффект только в том случае, если они сливались с общей борьбой
трудящегося населения, т. е. с борьбой свободных. Именно сво¬
бодные земледельцы и ремесленники, т. е. основная масса трудя¬
щегося населения, экономическое существование которого нахо¬
дилось под угрозой, и были главной силой, покончившей с рабо¬
владельческим строем.
Из сопоставления того, что было при рабовладельческом
строе и что образовалось после его падения в сменившем его
феодальном строе, выясняется, в чем состояла происшедшая
тогда грандиозная перестройка всей общественной жизни. Ут¬
рата рабским трудом значения основной экономической силы при¬
вела к исчезновению рабов как класса: рабы в конечном счете
слились с массой свободных мелких производителей. Экономи¬
ческий крах старых сельскохозяйственных латифундий и про¬
мышленных предприятий, основанных на рабском труде, поднял
общественное значение труда мелких производителей, устранил
угрозу обнищания,'все время перед ними стоявшую, и позволил
им расширить свою хозяйственную инициативу. Однако время
свободы труда еще не наступило: экономическая жизнь общества
все еще могла развиваться только на основе регулирования хо¬
зяйственной деятельности трудящегося населения, осуществля¬
емого правящим классом — феодалами прежде всего в своих ин¬
тересах. Регулирование это проводилось методом принуждения,
и поскольку до времени, когда такое принуждение могло осу¬
ществляться экономическими средствами, было еще далеко, оно
проводилось тогда путем насилия, орудиями которого были: сила
оружия и сила закона. Мелкие производители, трудящиеся стали
обязанными производить продукт и отдавать тем, кто управлял
государством, ту или иную часть производимого продукта; отда¬
вать эту часть уже в принудительном порядке.
Ввиду этого признаком краха рабовладельческой формации
и перехода от рабовладельчества к феодализму служат не дви¬
жения рабов, а движения свободного трудящегося населения ра¬
бовладельческой страны, движения сопротивления налагаемому
на него новому гнету. Именно такое движение имело место в Ки¬
тае на грани между рабовладельческим и феодальным перио¬
дами его истории: так называемое «Восстание желтых повязок»,
развившееся в конце II в. н. э. Жестокое подавление этого восста¬
ния военачальниками Ханьской империи, особенно одним из
них — Цао Цао, бывшим фактическим верховным правителем, и
утвердило новые формы эксплуатации, а это значит и новые
правовые и политические институты, призванные поддерживать
новые, уже феодальные, экономические порядки. В истории Рима
такими движениями были восстания III в. н. э., происходившие
38
в разных частях империи, особенно в африканских провинциях и
в Галлии, где особо сильный размах получило восстание бага-
удов. Жестокое подавление этих восстаний военачальниками им¬
перии, управляемой тогда Диоклетианом, и последующие так
называемые «реформы» его, т. е. правовые мероприятия, меняю¬
щие положение земледельцев, мероприятия, соединенные с пере¬
устройством политической и военной организации, и явились на¬
чалом перехода в этом районе Старого света от рабовладельче¬
ской системы к феодальной.
Таков исторический процесс, сложившийся в условиях рабо¬
владельческой формации, как он рисуется в истории двух круп¬
нейших по значению и вполне независимых друг от друга райо¬
нов мира.
В чем же состоит исторический смысл этой формации? Он
очень велик и очень сложен.
Рабовладельческая формация продемонстрировала нам пре¬
жде всего процесс образования классового общества. Последую¬
щая история человечества до самой последней поры была исто¬
рией именно классового общества; даже в наше время такое
общество, пусть и утратившее свое положение единственной
формы общественно-экономической организации, все же суще¬
ствовать продолжает. Отсюда ясно, сколь велико значение той
эпохи, когда классовое общество сформировалось.
Рабовладельческая формация показала нам, что возникнове¬
ние классов происходит на производственной основе и сопряжено
с определенными производственными отношениями. Первые
классы — рабов и рабовладельцев — возникли на почве эксплу¬
атации, т. е. использования одними труда других. В условиях ра¬
бовладельческой формации такое использование было соединено
с отношением к трудящемуся, как к живому орудию труда. По¬
этому антагонистический характер отношений классов эксплуа¬
таторов и эксплуатируемых в эпоху рабовладельческой формации
был максимально выражен — так, как он уже никогда не выра¬
жался позднее. Ввиду этого и представляется крайне важным
знать то, от чего и пошло все последующее.
Рабовладельческая формация продемонстрировала нам также
процесс образования в составе населения различных обществен¬
ных групп. Очень отчетливо это отражено в китайском трактате
«Гуань-цзы», материал которого относится к V—IV вв. до новой
эры, т. е. ко времени расцвета второго этапа рабовладельческой
формации в истории Китая. В этом трактате называются «четыре
народа»: служилые люди, земледельцы, ремесленники, торговцы.
С этого времени такие группы мы встречаем на протяжении всей
последующей истории человечества. Разумеется, менялось их
место в хозяйственной жизни, их отношение к производству, их
положение в общественной системе. Некоторые из этих общест¬
венных групп превратились в классы. Тем более важно знать да¬
39
лекое начало классового устройства вообще и общественную ис¬
торию перечисленных групп.
Рабовладельческая формация показала нам процесс образо¬
вания государства как политической организации, выросшей на
базе устанавливавшейся классовой структуры общества и ее
спутника — имущественного и общественного неравенства. Поли¬
тическим выражением такого неравенства было деление обще¬
ства на управляющих и управляемых. Для управления же была
необходима и политическая организация — государство.
Рабовладельческая формация выработала и основные формы
власти в государстве. Чрезвычайно яркое и точное определение
этих форм дал греческий историк Полибий (210—122). Исходя
из того, в чьих руках находится власть, он на основании уже ис¬
торического опыта его народа установил, что существуют и три
формы власти: царство, когда власть находится в руках одного;
аристократия, когда власть находится в руках немно¬
гих; демократия, когда власть находится в руках многих. Но тут
же он указал на возможность вырождения каждой из этих трех
форм, прихода каждой из них к самоотрицанию. Царская власть,
вначале благодетельная для народа, поскольку тот единствен¬
ный, которому была отдана власть, являлся избранником народа
как лучший и мудрейший, в дальнейшем превращается в монар¬
хию, т. е. в чисто личную власть, что открывает широкую дорогу
для произвола, обычно превращающегося в общественное зло.
В этом случае народ, когда-то уполномочивший одного управлять
всеми, свергает тирана и, опасаясь оставлять дальше власть в
руках одного человека, передает ее нескольким — лучшим в
своей среде. Так рождается аристократия — правление лучших,
избранных. Но и аристократия в дальнейшем превращается в
олигархию, т. е. в правление кучки из немногих, преследующих
свои собственные цели. В этом случае народ свергает и их и,
опасаясь, на основе этого опыта, оставлять власть в руках не¬
многих, передает ее многим, принципиально — всему народу. Эта
форма управления названа Полибием демократией. Однако и тут
обнаруживается опасность: власть в руках всех приводит к охло¬
кратии — к господству толпы, отождествляющей свои узкие ин¬
тересы с интересами общества и государства в целом.
Что же из этого следует? Народ снова переходит к царской
власти и т. д.? Обычно именно так, т. е. как концепцию кругово¬
рота, и толкуют это место в «Истории» Полибия. Вернее, однако,
считать, что Полибий, говоря о царстве, аристократии и демо¬
кратии, как о трех особых формах власти, считает, что они уже
испытаны историей, которая и показала, что в каждой из них
таится опасность из полезного превратиться во вредное. Поэтому
нужна не царская власть, аристократия или демократия, а такая
форма власти, которая соединяла бы в себе то хорошее в каждой
из этих трех форм, что было в них, когда люди их изобрели. Такой
синтез Полибий видел в организации управления, выработанной
40
Римской республикой. В этом управлении он видел власть еди¬
ноличную — в руках консулов, власть немногих, избранных — в
руках сената, власть всех, народа, представленную народным
собранием, комициями. Полибию казалось, что эти три органа
управления, взаимно контролируемые, и являются той новой
формой власти, которая приходит на место прежних. Тем самым
у Полибия не только сформулированы ставшие для последую¬
щего человечества столь привычными понятия трех форм власти,
не только показано, что в них есть положительного и что отри¬
цательного, но и утверждается идея эволюции органов власти,
перехода от одних, себя не оправдавших, к другим.
Совершенно с другой стороны к проблеме управления людьми
подошел младший современник Полибия — китайский историк
Сыма Цянь (145—86). Он рассуждал не о формах управления, а
об его принципах. При этом он так же, как и Полибий, основы¬
вался на пережитом его народом историческом опыте. В его пред¬
ставлении в царстве Ся, первом, по его мнению, государстве в
Китае, в основу управления был положен принцип «прямоду¬
шия» — душевной непосредственности и простоты. Что же полу¬
чилось? Оказалось, что «людей малых», т. е. народную массу,
этот принцип поверг в «дикость», т. е. в какое-то первобытное со¬
стояние; жизнь же народа, общественная жизнь требует опреде¬
ленных общественных установлений, норм.
Ввиду этого в Иньском царстве, сменившем собою Ся, в ка¬
честве принципа управления было принято «почитание» — прису¬
щий человеческой природе инстинкт, определяющий отношение
человека прежде всего к его родителям, а затем и ко всякого
рода «высшим силам», божествам. На этом принципе хотели ус¬
тановить общезначимость и обязательность общественных норм.
Что же получилось? Оказалось, что «почитание» у «малых лю¬
дей», т. е. в народной массе, обернулось «культом». Культ, как
это свидетельствует вся история, связан с представлениями о
божествах, божествами же являются и «боги», и «демоны». Ха¬
рактерно, что для обозначения понятия «культ» в этом месте
своего рассуждения Сыма Цянь взял иероглиф, сам по себе обоз¬
начающий «демон», т. е. божество безусловно отрицательное, а
это означало, что культ власти есть не просто «суеверие», а слу¬
жение злу.
Ввиду такого результата опоры власти на принцип «почита¬
ния» в Чжоуском царстве, сменившем собою Иньское, в качестве
принципа управления была принята «культура» — создаваемые
человеком всевозможные нормы общественной жизни. Этим пу¬
тем думали устранить саму возможность культа власти. Что же
получилось? Оказалось, что «культура», т. е. совокупность форм
и правил общественной жизни, созданных обществом, преврати¬
лась в нечто такое, что оказалось как бы наложенным на чело¬
века извне, подавляющим естественные свойства и проявления
его природы. Вместе с тем эти нормы стали стеснять и политиче¬
41
скую власть. Правитель Циньской империи, сменившей Чжоуское
царство, стал бороться с «культурой», мешавшей его самовла¬
стию, очень простым средством — казнями главных создателей
культурных установлений — «ученых», как тогда говорили, т. е.
интеллигенции того времени. Эта политика погубила циньского
императора, а вместе с ним и его династию. Власть в империи
перешла к династии Хань, которая положила в основу управле¬
ния снова принцип «прямодушия» в указанном выше смысле. Та¬
ким образом, основателем теории круговорота в истории явля¬
ется не Полибий, а Сыма Цянь. Только нужно помнить, что в
представлении китайского философа истории круговорот наблю¬
дался не в формах правления, а в его принципах: повторяются
именно они.
К тому общезначимому, что образовалось в эпоху рабовла¬
дельческой формации, относятся и те категории, которые у нас
фигурируют в виде понятия «национального» и «общечеловече¬
ского». Своими истоками эти понятия восходят к представле¬
ниям, возникшим еще в древности. Этап рабовладельческой фор¬
мации, связанный с городом-государством, создал представление
о локальной человеческой общности, реализуемой в масштабах
данной племенной группы; во времена союзов и федераций эта
локальная общность приняла большой масштаб, поскольку она
реализовалась уже в рамках совокупности племенных групп.
С образованием же империй на место племенной общности стала
общность межэтническая, воспринимаемая даже как общечело¬
веческая. Именно тогда появилась идея человечества как единого
большого целого. Идея эта проявилась и в понятии «вселенная»,
получившем тогда вполне реальный смысл. У греков это была
эйкумена (обитаемая земля), у римлян — огЫз Iеггагит (круг
земель), у китайцев — Тянься (Поднебесная).
Идея человечества, сложившаяся в эту древнюю эпоху чело¬
веческой истории, представляет один из самых существенных
вкладов людей этой эпохи в общую историю человеческого рода.
-гСтоль же существенной является оформившаяся тогда идея гума¬
низма. Идея гуманизма есть прежде всего представление о чело¬
веке как о наивысшей ценности, как о носителе всех основ об-
I щественной жизни, как о творце культуры. Ярчайшее проявление
такого сознания можно видеть в греческом мифе о человеке-ти-
тане, Прометее, похитившем у Зевса небесный огонь — символ
всемогущества. На этой основе был решен важнейший для исто¬
рической деятельности человека вопрос о роли его в общем про¬
цессе бытия, а следовательно, и о его природе. Вопрос о природе
человека решался в плане этическом. Человек был признан но¬
сителем высшего этического начала — добра. Мэн-цзы в Китае
понимал это как свойство самой человеческой природы: он счи¬
тал, что добро — прирожденное свойство человека. Цицерон в
Риме, суммируя эллинистические представления, утверждал, что
нравственный закон — требование самой человеческой природы.
42
Сюнь-цзы в Китае думал, что природа человека как таковая —
зло, но и он полагал, что своею деятельностью человек может это
прирожденное зло своей натуры преодолеть и прийти к добру.
Но реальная историческая действительность поставила чело¬
века перед не менее трудным и столь же острым вопросом. Об¬
щественный строй, выработавшийся в условиях рабовладельче¬
ской формации, показал существование неравенства людей, при¬
чем неравенства даже в среде свободных. В связи с этим идея
неравенства была перенесена и на человеческую природу. По¬
скольку же эта природа воспринималась в этическом плане, по¬
стольку и неравенство в этом аспекте понималось этически: люди
стали делиться на этически полноценных и этически неполноцен¬
ных. Конфуций назвал первых «господами» (цзюньцзы), вто¬
рых— «людьми малыми» (сяожэнь). Для Цицерона первые были
избранным меньшинством, руководившимся в своей деятельности
высокими принципами морали, вторые — массой, находившейся
во власти своих инстинктов.
Однако остановиться на этом человеческое сознание не могло,
и тот же Конфуций назвал всех людей «посередь четырех, морей»,
т. е. все человечество, братьями, а «человеческое начало» (жэнь)
в каждом человеке определил как «любовь к людям».
Это была высшая ступень того гуманизма, которая была
достигнута обществом рабовладельческого мира в пору его рас¬
цвета. Когда же это общество вошло в полосу кризиса, гумани¬
стическая идея поднялась на новую ступень. И поднялась она
на новую ступень именно потому, что на последнем этапе истории
рабовладельческого общества особую остроту получило общест¬
венное неравенство в его самой резкой, оголенной форме: в
форме деления людей на полноценных, людей в полном смысле
слова, и неполноценных, людей-вещей, какими были рабы.
Именно в связи с таким резчайшим противопоставлением од¬
них людей другим и сформулировалась следующая ступень гума¬
низма, и притом в столь же резкой, не оставляющей места ни¬
каким компромиссам, форме: в форме представления о полной
человеческой равноценности всех людей — как рабов, так и сво¬
бодных. Резкость тезиса о человеческой равноценности всех,
стремление придать ему категорическую императивность обусло¬
вили то, что тезис этот оформился в категориях религиозного соз¬
нания, в те времена обладавших силой императивности. Это про¬
изошло в двух крупнейших религиозных системах, образовав¬
шихся во времена рабовладельчества: в буддизме и христиан¬
стве.
Представление о человеческой равноценности уже всех лю¬
дей без различия — свободные они или рабы — было реализовано
прежде всего в концепции равенства их природы: в христиан¬
стве эта концепция приняла форму положения об едином проис¬
хождении всех людей от бога, в буддизме — форму идеи форми¬
рования человека, каждого человека в общем потоке бытия.
43
Представление о человеческой равноценности было реализо¬
вано и в аспекте человеческих взаимоотношений, т. е. в общест¬
венно-этическом плане. В этом плане был создан тезис о любви
к человеку, с разной степенью силы провозглашенный и буддиз¬
мом, и христианством, и конфуцианством.
Таково было величайшее духовное достижение человечества
эпохи рабовладельчества. И именно оно составило идеологиче¬
скую основу процесса образования рабовладельческого строя и
его конечного краха.
Гуманистическая идея древности имела огромное значение
и для всей последующей исторической деятельности человечества,
особенно после того, как из идеи о человеческой равноценности
всех людей стала вырастать идея об общественной равноценно¬
сти людей, их общественном равенстве. Эта последняя идея
стала духовной основой всех движений, направленных на борьбу
с различными видами, формами и степенями эксплуатации чело¬
века человеком. Борьба не приводила к желаемым результатам:
идея человеческого равноправия всех людей была впоследствии
искусно переведена правящими классами, преимущественному
положению которых она угрожала, из плана реального, земного в
план идеальный, небесный, но и это не помешало ей сохранять
свою значимость и силу.
В эпоху рабовладельческой формации были заложены важ¬
нейшие основы и научного познания природы, и человеческой
жизни. Противопоставление двух общественных классов, в эпоху
рабовладельчества носившее максимально резкий характер, со¬
единившись с наблюдениями простейших явлений в природе,
привело к идее противоположностей. В Китае эти противополож¬
ности получили в «И-цзине», древнейшей книге Китая, обозначе¬
ния ян и инь, первоначально — освещенная и неосвещенная сто¬
рона горы, затем — свет и тьма, в дальнейшем — любая пара
противоположностей: тепло и холод, небо и земля, мужчина и
женщина и т. п. Символом противоположностей у китайцев стала
черта — цельная и раздельная. У грека Пифагора как противо¬
положности выступили свет и тьма, покой и движение, правое и
левое, мужчина и женщина и т. д. Символом противоположно¬
стей у него стало число — чет и нечет.
На основе идеи о противоположностях выросла идея связи
всего со всем, т. е. исходный пункт всякой диалектики. В Китае
представление о такой связи получило выражение в «восьми
триграммах» «И-цзина», устанавливавших основные элементы
природы — элементы бытия: небо, низина, огонь, гром, ветер,
вода, гора, земля. На основе этих восьми триграмм были вырабо¬
таны 64 гексаграммы, показывающие сочетание основных элемен¬
тов и переход их друг в друга, т. е. рисующие картину всеобщей
связи явлений природы. Эту же идею в греческой философии
сформулировал Гераклит, заявивший, что все переходит друг в
друга: день — в ночь, холод — в тепло, зима — в лето, голод —
44
в сытость. Та же идея всеобщей связи явлений распространилась
и на человеческий мир, на общество. Мир слагается из «трех
сил» —неба, земли и человека, учила философия «И-цзина». Эл¬
линская мудрость устами римлянина Цицерона провозгласила:
мир — общее государство богов и людей. Таким образом, уже на
этом древнем этапе истории человеческого общества была соз¬
дана концепция, ставшая основой всего дальнейшего научного
познания.
Таков был первый шаг на пути познания окружающего мира.
Вторым шагом было появление идеи о существовании перво¬
элементов материальной природы. Этот шаг в совершенно отчет¬
ливой форме сделали три древних народа: греки, индийцы, ки¬
тайцы.
Хорошо известны четыре пёрвоэлемента Эмпедокла: вода,
огонь^земля, воздух. Те же четыре первоэлемента мы находим в
натурфилософии чарваков в Индии. В философии Веданты таких
первоэлементов — пять: вода, огонь, земля, воздух, эфир. Пять
их и в китайском «Шу-цзине»: вода, огонь, дерево, металл, земля.
С идеей о первоэлементах материальной природы соедини¬
лась идея их круговорота. У Гераклита огонь, угасая, превраща¬
ется в воду, а через нее — в землю, чтобы затем, воспламенясь,
снова перейти в землю, а через нее — в воду; через нее же —
опять в свое первичное состояние. Движущей силой тут служит
процесс «угасания» и «воспламенения». У индийских чарваков
все в мире образуется путем различных комбинаций четырех
первоэлементов, причем смерть, равно настигающая как людей,
так и животных и растения, снова превращает их в первоэле¬
менты. У китайцев круговорот выражен в категории «преодоле¬
ния»: каждый из пяти первоэлементов переходит друг в друга
путем «преодоления»: вода преодолевает огонь, огонь — дерево,
дерево — металл, металл — землю, земля — воду и т. д. Концеп¬
ция «преодоления» превращает переход одного первоэлемента в
другой в процесс не чисто механический, а несущий в себе опреде¬
ленное содержание.
Третьим шагом на пути познания мира была идея мельчай¬
шей частицы вещества. Левкипп и Демокрит назвали эту частицу
атом, индийцы — ану.
Не следует главное внимание уделять тому, в каком реаль¬
ном виде представлялись человеку той эпохи противоположно¬
сти, первоэлементы материальной природы, мельчайшие частицы
вещества — как они сами, так и переход их друг в друга. Важны
идеи — представления о наличии этих категорий. Зная последу¬
ющую историю научного знания, мы без труда поймем, что
важнейшие по своему принципиальному значению основы науч¬
ного знания были созданы человеком в эпоху рабовладельческой
формации.
Был сделан и еще один шаг на пути человеческого знания, и
шаг первостепенной важности: человеческий ум обратился не
45
только к содержанию познания, но и к самому его процессу. Так
была создана логика как учение о познании. Она развивалась
у индийцев, у китайцев, у греков. Начало было положено в Ин¬
дии— Акшапада (II в. н. э.), в Китае — Мо-цзы (V в. до н. э.)
В Греции — Аристотелем (IV в. до н. э.).
Таким образом древность, эпоха рабовладельческой форма¬
ции, заложила основы всей последующей истории классового че¬
ловечества и определила его путь. В ней с исключительной отчет¬
ливостью и резкостью проявились противоположности, прежде
всего общественные. Оказалось, что одно играло положительную
роль, способствующую прогрессу человечества, его общественной
жизни, его культуре, другое мешало этому, вредило. Одно было
светом, другое — тьмой; в других выражениях — добром и злом.
Эти противоположности пребывали в состоянии непрерывной
борьбы. Но тем, как совесть человека древности реагировала на
рабство — самое темное, злое, что создала древность, та же
древность показала, что и тогда существовала у человека, в его
природе сила, боровшаяся с этим темным. Последующая исто¬
рия человечества засвидетельствовала, что такая сила сохраня¬
лась и действовала на всех этапах истории.
1965 г.
ПОЛИБИЙ И СЫМА ЦЯНЬ
Существует область науки, именуемая философией истории.
Под этим названием фигурируют, однако, довольно различные
вещи. Предметом философии истории может быть историческое
знание как таковое, его природа, его границы, его формы; фило¬
софия истории в этом случае, собственно, теория познания в при¬
ложении к истории. К философии истории может быть отнесено
изучение общих законов исторической жизни, раскрываемых в
судьбах человечества; тут философия истории в сущности общая
теория исторического процесса. Задачу философии истории могут
видеть в выяснении вопроса о смысле истории: есть ли в ней
какой-либо смысл воообще, а если есть, то в чем он заключается,
да и что именно понимать под «смыслом», когда дело идет об
истории? Философией истории могут быть, наконец, названы раз¬
мышления о пользе истории: откладывается ли исторический
опыт, пережитый человечеством, в его последующих судьбах;
влияет ли он на историческую деятельность людей; вообще нау¬
чает ли он кого-нибудь чему-нибудь?
Существует большая литература, относящаяся к философии
истории в том или ином ее понимании. Но в ней явственно раз¬
личаются две разновидности: есть произведения, написанные
философами — представителями каких-либо систем, прилагаю¬
щими свои концепции к материалу истории, и есть сочинения,
созданные историками, изучающими конкретный исторический
материал и на его основе вырабатывающими свое понимание
исторического процесса. Для первых характерно наличие опре¬
деленной философской презумпции, определяющей всю их фило¬
софско-историческую концепцию; для вторых характерен эмпи¬
ризм — следование изучаемому материалу и определяемость вы¬
водов этим изучением.
И тот, и другой вид философско-исторических сочинений
встречается почти во все времена культурной жизни человечест¬
ва — с той поры, как вообще появилась историческая наука и
философия. Наиболее древние из этих сочинений «Всеобщая ис¬
тория» грека Полибия и «История» китайца Сыма Цяня. Они поч¬
47
ти современники: время жизни первого, старшего — 210(203?) —
122(121?) гг. до н. э.; второго, младшего— 145—86 гг. до н. э.'.
Конечно, и Полибий, и Сыма Цянь — не философы истории;
они просто историки. И как историки, они думали о том, чтобы
как можно лучше выяснить, что, когда и как происходило, и по¬
ведать об этом своим современникам и потомкам. Но оба они
не только собиратели сведений о прошлом, но и мыслители, же¬
лающие не только узнать исторический ход событий, но и понять
его; поэтому в трудах обоих древних историков присутствует и
философско-историческая концепция. Ее ценность в том, что она
выработалась у них на почве изученного ими исторического мате¬
риала; ее значение в том, что она, как выражение исторических
взглядов наиболее просвещенных людей своей эпохи, сама по
себе представляет замечательный материал для историка; ее
важность в том, что это первые вообще в истории попытки осмыс¬
лить исторический процесс. Поскольку же оба историка принад¬
лежат к одному и тому же этапу исторической жизни человече¬
ства, который мы связываем с рабовладельческой формацией,
постольку изучение их философско-исторических концепций дает
дополнительный материал для освещения этой формации.
1
Концепция Полибия хорошо известна: она весьма ясно из¬
ложена в его «Всеобщей истории».
Изучив историю своего народа — эллинов, Полибий подметил
наличие в ней трех форм государственной власти. Он назвал их
царством (базилейя), аристократией и демократией. Различают¬
ся они по признаку количественному — в скольких руках эта
власть находится: если у одного — это царство (единовластие);
если у нескольких — это аристократия (власть немногих); если
у многих, принципиально у всех — это демократия (народовла¬
стие). Впрочем, как отмечает Полибий, все это совсем не его
открытие: «Большинство писателей,— пишет он,— различают
три формы государственного устройства, из коих одна име¬
нуется ^ царством, другая — аристократией, третья — демокра¬
тией (Полибий, «Всеобщая история», гл. VI, 3)2. Но тут же,
видимо внося нечто свое в это общее знание, он добавляет: «Не
всякое единовластие может быть без оговорок названо царством,
но только такое, в котором управляемые уступают власть по доб¬
рой воле и в котором властвует не столько страх или сила,
сколько рассудок. Аристократией надлежит признавать не каж¬
дое правление меньшинства, но только такое, при котором пра¬
вящими людьми бывают справедливейшие и рассудительнейшие
по выбору. Подобно этому, нельзя назвать демократией государ¬
ство, в котором вся народная масса имеет власть делать все, что
бы она ни пожелала и ни вздумала» (VI, 4). Это значит, что ха¬
48
рактеристику трех форм государственной власти Полибий строит
не на одном количественном признаке, он вводит в нее признак
качественный: царство только тогда, когда власть добровольно
отдается народом достойнейшему; аристократия только тогда,
когда власть отдается народом лучшим; демократия отнюдь не
власть всех и каждого; это власть народа как организованного
целого, жизни и интересам которого подчинены жизнь и инте¬
ресы каждого члена этого целого. Словом, царство, аристокра¬
тия и демократия у Полибия категории безусловно положитель¬
ные: это то хорошее в области государственного устройства, что
люди сумели создать.
Но есть у Полибия и другие термины: монархия, олигархия
и охлократия. Это также обозначения формы власти, и также по
признаку количественному и качественному: монархия — власть,
осуществляемая одним, но не достойнейшим, действующим по до¬
веренности народа, а узурпатором, действующим по собствен¬
ному произволу; олигархия — власть немногих, но не лучших, из¬
бранных народом, а кучки захватчиков, преследующих свои лич¬
ные цели: охлократия — власть народа, но не как организован¬
ного целого, а как стихийно действующей массы, толпы. Таким
образом, трем положительным формам власти Полибий проти¬
вопоставил три формально аналогичные, но отрицательные.
Но оказывается — и это особенно замечательно у Полибия,—
что отрицательные формы власти связаны с положительными;
связаны, как Полибий говорит, по закону природы: каждая поло¬
жительная форма переходит в отрицательную — монархия есть
перерождение царства, извращенная форма последнего, олигар¬
хия — то же по отношению к аристократии, охлократия — к де¬
мократии. И — что еще важнее — такое же отношение проявля¬
ется не только внутри каждой пары формально однородных ви¬
дов власти, но и между формально разнородными видами.
«Когда царское управление переходит в соответствующую ему из¬
вращенную форму, т. е. монархию, тогда в свою очередь на раз¬
валинах этой последней вырастает аристократия. Когда затем и
аристократия выродится по закону (т. е. по общему закону ве¬
щей.— Н. К.) в олигархию и разгневанный народ выместит обиды
правителей (т. е. нанесенные правителями.— Н. К.), тогда на¬
рождается демократия. Необузданность народной массы и прене¬
брежение ее к законам порождают с течением времени охлокра¬
тию» (VI, 4). «Демократия разрушается и в свою очередь перехо¬
дит в беззаконие и господство силы... Толпа, привыкнувшая кор¬
миться чужим и в получении средств к жизни рассчитывать на
чужое состояние, выбирает себе в качестве вождя отважного че¬
столюбца и сама вследствие бедности устраняется от должно¬
стей. Тогда водворяется господство силы, и собравшаяся вокруг
вождя толпа совершает убийства, изгнания, передел земли, пока
не одичает совершенно и снова не обретет себе властителя и са¬
модержца» (VI, 9). «Таков круговорот государственного обще-
4 Н. И. Конрад
49
Жития, таков порядок природы, согласно которому формы прав¬
ления меняются, переходят друг в друга и снова возвращают¬
ся»,— заканчивает Полибий (VI, 9).
Что это? Законченная концепция исторического круговоро¬
та? На такую мысль наталкивает сам Полибий своими словами о
круговороте человеческих судеб (VI, 9, 10). Так понимают и
многие авторы работ, излагающих философско-исторические тео¬
рии. Некоторые из них видят в Полибии не только представителя
теории круговорота, но даже ее основоположника. Так полагает,
например, К. Ловит, один из новейших авторов, пишущих по этим
вопросам: он считает, что Полибий своими рассуждениями хотел
сказать, что «В\е ОезсЫсМе уеНаиП а1з ет Кге1з1аиГ уоп роН-
ИзсЬеп ит1аи!еп»3. Такого же мнения придерживается и совре¬
менный восточный адепт теории цикличности истории Ян Син-
тин4. Однако это была бы действительно концепция круговорота,
если бы Полибий не увидел в истории, в области форм государст¬
венной власти, ничего, кроме царства аристократии и демократии
и их противоположностей — монархии, олигархии и охлократии.
Но он показал наличие и еще одной формы, которую он усмотрел
в государственном устройстве Римской республики его времени.
Следует помнить, что Полибий жил, когда в Риме в полной силе
были еще старые республиканские институты — консулы, сенат и
комиции, и именно этим он объясняет тот взлет римского могу¬
щества, свидетелем которого было его поколение. Он сам непо¬
средственно наблюдал победоносную борьбу Рима с Македонией;
присутствовал в войсках Сципиона Эмилиана при взятии Карфа¬
гена; видел разрушенный Коринф и многое-многое другое того же
рода. «Каким же образом и силою каких учреждений римляне в
течение каких-либо 53 лет подчинили себе почти всю обитаемую
землю, подчинили ее своему безраздельному владычеству; раньше
не было ведь ничего подобного?» (VI, I) — задает он себе вопрос.
И отвечает: «В государстве римлян были все три власти, поиме¬
нованные мною выше, причем все было распределено между от¬
дельными властями и при помощи их устроено столь равномерно
и правильно, что никто даже из туземцев не мог бы решить: ари¬
стократическое ли было все управление в совокупности, или де¬
мократическое, или монархическое» (VI,II). В глазах Полибия в
консульской власти был воплощен принцип царства, во власти
сената принцип аристократии, в комициях — демократии. Причем
эти три органа власти, как считает Полибий, взаимно ограничи¬
вали друг друга. Именно такое равновесие всех видов власти и
создало то преимущество, которое дало возможность Риму под¬
чинить себе чуть ли не весь обитаемый мир — эйкумену древних
эллинов (VI, 15—18).
Таким образом, оказывается, что существовала и еще одна
форма власти, так сказать, синтетическая, в которой на основе
50
взаимного ограничения и контроля действовали принципы цар¬
ства, аристократии и демократии. Следовательно, круговорот этих
трех форм отнюдь не обязателен во всех случаях. Но, видимо,
круговорот вообще все же в глазах Полибия существует, если
только понимать круговорот в аспекте общего закона бытия —
«силы природы», как он говорит: «Все существующее подвержено
перемене и порче; в том убеждает нас непреоборимая сила при¬
роды...»
Эти слова Полибия проливают свет на существо его истори¬
ческой концепции. Смена политических форм для него, конечно,
несомненный факт, но в этом факте он видит действие не како¬
го-то особого закона, присущего только истории, а общего закона
всякого бытия. На исторической концепции Полибия, видимо, от¬
разилось его мировоззрение, а что такой тип мировоззрения эл¬
линам был свойствен, свидетельствует учение Пифагора с его
идеей противоположностей вообще и перехода одной противо¬
положности в другую в частности. Только у Полибия эта идея
представлена в чисто человеческом плане, а не в том универсаль¬
но-физическом, в каком она дана у пифагорейцев. У них переход
одной противоположности в другую есть результат взаимодейст¬
вия двух противоположных начал, заложенных в самой природе
вещей, начала положительного и отрицательного; у Полибия же
смена одной политической системы другой, ей противоположной,
называется «порчей» первой, т. е. чем-то характерным именно для
человеческих представлений. Вдобавок в общую формулу смены
видов бытия Полибий вносит еще одну черту, которая, видимо,
составляет в его глазах специфику таких смен, когда они проис¬
ходят в человеческом обществе: «Всякая форма правления,— пи¬
шет он,— может идти к упадку двояким путем, так как порча
проникает извне или зарождается в ней самой. Первая не подчи¬
няется каким-либо неизменным правилам, тогда как для второй
существует порядок от природы» (VI, 57). Другими словами, в
истории, по мнению Полибия, существуют два фактора: случай¬
ность и закономерность. Смена форм государственной власти во¬
обще для Полибия закономерность; и то, что эта смена в целом
протекает по принципу перехода противоположностей одна в дру¬
гую, для него, по-видимому,— конкретное содержание этой за¬
кономерности, обусловленное принадлежностью и человеческой
жизни к обшей жизни всего сущего, в которой действует «порядок
природы» (VI, 9, 10) —общий закон смены противоположностей.
Но для исторического процесса характерно, однако, действие не
только закономерности, но и случайности. Именно так, как мне
представляется, и следует понимать философско-историческую
концепцию круговорота в том виде, в каком она дана у Полибия.
Следует понимать ее диалектически, а отнюдь не формально-на¬
туралистически, как представляли себе круговорот бытия некото¬
рые позднейшие пифагорейцы или их толкователи вроде Эвдема.
«Если верить пифагорейцам,— говорил он своим ученикам,— то я
51
когда-нибудь с этой же палочкой в руках буду опять так же бесе¬
довать с вами, точно так же, как теперь, сидящими передо мной, и
так же повторится все остальное»5. Предполагать, что Полибий
мог как-нибудь в этом роде представлять себе круговорот исто¬
рии, было бы, как мне кажется, ошибкой. Круговорот истории не
повторение одних и тех же политических форм, а диалектическое
возобновление их в процессе исторического развития, т. е. каж¬
дый раз с новым содержанием.
2
В «Истории» Сыма Цяня есть одно замечательное место.
В главе о Гао-цзу, основателе Ханьской империи («Ши-цзи»,
VIII), он говорит об основном принципе правления этого импера¬
тора— том принципе, на котором, по мнению китайского исто¬
рика, утвердилась вообще вся власть Ханьского дома. Но перед
тем как сформулировать этот принцип, Сыма Цянь делает обзор
принципов правления предшествующих владетельных домов,
правивших в Китае до Хань; он говорит о принципах правления
трех (в его представлении — сменивших друг друга) древних
царств — Ся, Инь и Чжоу. Каждый из этих принципов он опреде¬
ляет одним словом: в Ся это был принцип чжун, в Инь — цзин,
в Чжоу — вэнь.
Слова эти хорошо известны каждому, соприкасающемуся с
историей общественной мысли в Китае. В ней они — термины, и
притом из числа важнейших. Несомненными терминами они яв¬
ляются и у Сыма Цяня. Ключ к их пониманию следует искать в
той сфере идей, к которой эти термины принадлежат6.
Как мы знаем из всей истории философии в Китае, термины
эти сложились в том направлении философской мысли, которое
связано с именем и учением Конфуция. Время Сыма Цяня (II—
I вв. до н. э.) —эпоха образования исторически первой системы
этого учения. Факт этот соединен с именем Дун Чжун-шу, стар¬
шего современника великого китайского историка. Дун Чжун-шу
сделал первое и главное для создания системы: установил ее ка¬
нон— письменные памятники, в которых, как он считал, были
заложены основы той мировоззренческой системы, разрабаты¬
вать и насаждать которую он стремился. Из всего древнего на¬
следия своей письменности он отобрал четыре сочинения: «Ши»,
«Шу», «Ли» и «Юэ», добавив к ним пятое, возникшее позднее и
считавшееся произведением самого Конфуция,— «Чуньцю», ле¬
топись царства Лу. Эти пять произведений были объявлены
цзин'ами «основами», т. е. книгами канона. Так образовалось в
своем первом по времени составе конфуцианское «Пятикнижие»
(«У-цзин»), сам же Дун Чжун-шу стал «доктором Пятикнижия»
(У-цзин боши). Это было в 136 г. до н.э., когда Сыма Цянк? было
только 9 лет. Следовательно, когда он вошел в зрелый возраст,
52
конфуцианская доктрина существовала уже в оформленном
виде.
В составе Пятикнижия мы не находим того сочинения, нали¬
чие которого в этом случае казалось бы естественным: не нахо¬
дим «Луньюя», а именно в нем ближайшим образом и излагает¬
ся учение, соединяемое с именем Конфуция.
Как к этому отнестись? Объяснять отсутствие «Луньюя» в со¬
ставе Пятикнижия тем, что он не был тогда известен, нельзя.
Сведения о просвещении в Китае во времена Ханьской империи,
которыми мы располагаем, удостоверяют, что «Луньюй» был то¬
гда известен, что существовали даже различные списки этого
произведения. Дело, по-видимому, заключается в том отношении
к нему, которое тогда установилось, во всяком случае у людей,
подобных Дун Чжун-шу: для них «Луньюй» был не источником
той доктрины, здание которой они воздвигали, а разъяснителем
ее. В этом отношении Дун Чжун-шу следовал тому, что сказал
о себе, о своем учении сам Конфуций: что он ничего не изобре¬
тает, а только передает, передает же он то, что создано еще в
Древности; и передает потому, что преклоняется перед этой
Древностью, верит в нее («Луньюй», VII, I). Как мы знаем,
«Луньюй» и позднее не включался в состав Пятикнижия; даже
в сунскую эпоху, когда он был особенно высоко вознесен. Даже
для сунцев он был не цзин'ои, а только шу — книгой. Правда,
книгой с большой буквы, каких в глазах сунцев было всего че¬
тыре: «Луньюй», «Мэн-цзы», «Чжун юн» и «Да сюэ». Из них две
последние были извлечением из «Ли-цзи», т. е. одной из книг
древнего канона, извлечением, получившим у сунских философов
значение совершенно самостоятельных произведений; книга же
«Мэн-цзы» принадлежала уже не к Древности — той, перед ко¬
торой преклонялся Конфуций, а к средней поре китайской ан¬
тичности, т. е. к той большой эпохе, к которой принадлежал и
Конфуций, эпохе, в исторической литературе Китая обозначае¬
мой наименованием Чуньцю-Чжаньго (VIII—III вв. до н.э.). По
своему содержанию эта книга могла встать рядом с «Луньюем»,
так как в ней не устанавливались какие-то новые идеи, во всяком
случае в глазах сунцев, а, как и в «Луньюе», разъяснялась и раз¬
вивалась та доктрина, которая создалась в Древности. Именно
о таком принципиальном отличии и говорят разные в китайском
языке обозначения Пятикнижия и Четверокнижия — «У-цзин»
(«Пять цзинов») и «Сы-шу» («Четыре книги»).
Все это, однако, никак не может быть истолковано как пока¬
затель недостаточно высокой оценки значения Конфуция. Наобо¬
рот, именно о самой высокой оценке его личности и учения гово¬
рят два знаменательных факта. Первый — то, что «Чуньцю», т. е.
сочинение, считающееся принадлежащим самому Конфуцию,
было включено в состав Пятикнижия, т. е. поставлено в ряд с
теми памятниками Древности, которые были наивысшим автори¬
тетом для самого Конфуция. Второй — то, что остальные части
53
Пятикнижия были составлены из тех произведений Древности,
на которые указал не кто иной, как Конфуций. В «Луньюе» пря¬
мо и точно сказано: «то, о чем Учитель постоянно говорил, были
Ши, Шу и Ли („Луньюй“, VII, 17). Рядом же с „Ши" („Песня-
ми“) и „Ли" („Законами") он в другом месте поставил „Юэ“
(„Музыку"): „на 'Песнях’ поднимаются, на 'Законах’ утвержда¬
ются, на ’Музыке’ завершаются"» (VIII, 8).
Все это и позволяет подойти к определению того, как следует
понимать термины чжун, цзин и вэнь, которыми Сыма Цянь обо¬
значил принципы правления древних царств,— через раскрытие
того значения, которое эти слова получили в конфуцианстве и
притом ближайшим образом в «Луньюе»: в нем о чжун, цзин и
вэнь говорится много, причем как об очень важных категориях.
О том, насколько важное место в учении Конфуция занимает
то, что обозначено словами чжун и вэнь, говорит то место в
«Луньюе», где чжун и вэнь поставлены в ряду «четырех предме¬
тов», которым учил Конфуций: вэнь, син, чжун и синь (VII, 24).
Что такое вэнь в системе «Луньюя»? Это то, что противопо¬
ставляется таким категориям, как сяо — сыновнее служение
родителям, как ди — долг младшего брата по отношению к стар¬
шему, как ай — любовь ко всем, т. е. к людям вообще (1, 6).
Вэнь, однако, противопоставляется этим категориям не как не¬
что, несовместимое с ними, а как нечто иное по своей природе:
сыновний долг, братская обязанность, любовь к людям в концеп¬
ции «Луньюя» — свойства человеческой природы, т. е. нечто, за¬
ложенное в ней. При этом природа мыслится не физическая, а
общественная. В «Луньюе» устанавливаются и сферы, в которых
проявляется эта общественная природа человека: она проявля¬
ется в его отношении к родителям, братьям, т. е. к семье, и ко
всем людям вообще. Именно в такой любви ко всем, как гово¬
рится в рассматриваемом отрывке «Луньюя», ближе всего и
проявляется то начало, которое составляет суть общественной
природы человека,— начало жэнь — «человечность». Недаром
сам знак, которым передается это слово, состоит из символов
двух соединенных вместе людей. И на прямой вопрос, что зна¬
чит жэнь, «человечностью, «человеческое начало в человеке»,
Конфуций ответил: «любовь к людям» (XII, 21).
Вэнь — категория другого порядка. Человечность, любовь к
другому — свойства самой человеческой натуры, но вэнь — нечто
приобретаемое. Поэтому вэнь, даже вэньсюэ — особая сфера
деятельности человека как существа общественного. В «Луньюе»
перечислены области такой деятельности: говоря о своих учени¬
ках, Конфуций замечает, что одни из них (он их, конечно, назы¬
вает) лучше всего проявляют себя в нравственном поведении
(дэсин), другие — в ораторском искусстве (яньюй), третьи — в
политических делах (чжэнши), четвертые — в науке вэнь (вэнь-
54
Сюэ) (XI, 2). Оставляя йока 6 стороне вопрос о содержании э'ГОго
понятия, мы на основании указанного отрывка можем с опреде¬
ленностью сказать, что вэнь относится к тому, что существует в
организованном человеческом обществе, т. е. в той сфере, кото¬
рая выходит за пределы проявления свойств самой человеческой
натуры; в сфере, созданной человеком. Естественные свойства
человеческой природы в «Луньюе» обозначаются словом чжи, и
в одном месте «Луньюя» это чжи прямо противопоставляется
тому, что обозначается словом вэнь. Оба эти начала могут даже
вступать в конфликт друг с другом: одно может возобладать над
другим. Но что же тогда получается? Если чжи, т. е. естествен¬
ные свойства человеческой натуры, возобладают в человеке над
вэнь, получается е — «дикость», «дикарство». Столь же нехо¬
рошо, если вэнь возобладает над чжи: тогда получается то, что
«Луньюй» обозначает словом иги. В таком контексте это слово
принимает смысл нашего «ученость», когда мы употребляем это
понятие в отрицательном плане — как чисто формальное знание.
Что же в таком случае есть то, что не является принадлежно¬
стью самой человеческой природы, а что она приобретает в орга¬
низованном обществе? Я позволил бы себе предложить наше
слово «культура». Одни природные свойства человека, если они
господствуют в нем над всем прочим, действительно, с точки зре¬
ния организованного общества приводят к дикости, но если при¬
обретенная человеком культура подавляет (в тексте сказано об¬
разно: «побеждает») его естественные свойства, получается ли¬
шенная жизненного значения образованность, «ученость».
В пользу такого понимания слова вэнь говорит и одно крайне
знаменательное указание «Луньюя»: вэнь, т. е. в предлагаемом
толковании — «культура», является категорией исторической;
о ней можно говорить только с эпохи Чжоу (III, 14) и никак не
раньше — ни в эпоху Инь, ни во времена Ся. Чжоу же.для Кон¬
фуция именно то время, когда появилась культура. Основатель
Чжоуского царства носит имя Вэнь-ван, т. е. представлен не то
как носитель вэнь, не то как даже олицетворение этого начала.
О том же, что конкретно несло с собой это начало, мы узнаем из
«Чжоу ли» («Чжоуского Законника»)—собрания правил обще¬
ственной и государственной жизни этого царства. Установление
этих правил считается делом младшего сына Вэнь-вана — Чжоу-
гуна, после смерти своего старшего брата, управлявшего царст¬
вом Чжоу от имени сына последнего — Чэн-вана. Нам хорошо
известны вполне обоснованные сомнения в подлинности данных,
приведенных в этом памятнике, сомнений как в их историчности
в целом, так и в допустимости приурочивания их ко времени
Чжоуского царства, если кое-что историческое в этих данных и
есть. В данном случае, однако, важно то, что в «Луньюе» вэнь
ассоциируется с Чжоу, а героем Чжоу для Конфуция был именно
Чжоу-гун. В «Луньюе» даже приводятся слова Конфуция:
«Ужасно! Как я опустился! Уже давно я не вижу во сне Чжоу-
55
гуна» (VII, 5). С именем же Чжоу-гуна связаны в представлений
Конфуция все установления Чжоуского царства, делающие его
обществом упорядоченным, организованным, т. е. культурным.
Вот это новое, что началось именно с Чжоу, Конфуций и назвал
вэнь. Поэтому наше слово «культура», как обозначение того, что
создается человеческим обществом на этапе выхода его из состо¬
яния первобытности, и может быть подходящим для передачи
китайского вэнь, как оно употреблено в «Луньюе».
Следует заметить, однако, что вэнь, «культура», отнюдь не
сводится к ли, «правилам» или «законам», как можно подумать
по «Чжоу ли». Вэнь и ли — категории одного порядка в смысле
своей принадлежности к жизни организованного общества, но
они различны по своим функциям в этом обществе. Это со всей
ясностью показано в «Луньюе» в известных словах Янь Юаня.
Говоря о том, как искусно его Учитель руководит людьми, этот
любимый ученик мудреца отметил: «Расширяет он меня при по¬
мощи вэнь, сдерживает меня при помощи ли» (IX, 10). В этой
формуле выражена та мысль, что культура «расширяет» чело¬
века, т. е. обогащает его большим внутренним содержанием; за¬
коны же, т. е. то, что регулирует жизнь и действия человека в ор¬
ганизованном обществе, держат его в определенных рамках.
Но из того, что вэнь «культура» и ли «законы» различны по
своим общественным функциям, нельзя делать вывод, что они как
бы противостоят друг другу. В другом месте «Луньюя» в уста
уже самого Конфуция вложены слова: «Если цзюньцзы широко
изучает вэнь и сдерживает себя с помощью ли, они у него не про¬
тивостоят друг другу» (IV, 25). Как известно, цзюньцзы. в «Лунь¬
юе»— обозначение человека как носителя высоких моральных
и интеллектуальных качеств. Поэтому у такого человека расши¬
рение его духовного мира культурою естественно проходит в
рамках «законности», т. е. общезначимых устоев жизни органи¬
зованного общества.
Для полного понимания существа того, что Конфуций обо¬
значил словом вэнь, важно учесть еще одно примечательное ме¬
сто «Луньюя». В нем приведен разговор между Цзи Цзы-чэном
и Цзы-гуном. Второй — один из выдающихся учеников Конфу¬
ция, первый — важный сановник Вэйского царства. Цзи Цзы-чэн
будто бы возмущался пристрастием людей своего времени к
культуре. Говоря об этом с Цзы-гуном, он с негодованием вос¬
кликнул: «Цзюньцзы — весь в своей естественной природе. Чего
же ему еще обращаться к культуре?» Цзы-гун на это заметил:
«Я жалею, что вы заговорили о цзюньцзы... За сказанным и на
четверке коней не угонишься! Культура есть то же, что и естест¬
венная природа человека; естественная природа — то же, что и
культура. Кожа тигра или леопарда такая же, как и кожа собаки
или овцы» (XII, 8). Сравнение в этом тексте разъясняет мысль
Цзы-гуна: шкуры у тигра или леопарда, конечно, другие, чем у
собаки или овцы, но кожа у них, как таковая, т. е. без покрова
56
из шерсти, одинаковая. Этим Цзы-гун хотел сказать, что у
цзюньцзы, т. е. настоящего человека, данное ему его человече¬
ской природой и приобретенное им в жизни общества не проти¬
востоят друг другу, а превращаются в одинаковую принадлеж¬
ность его личности. Поэтому-то в приведенном выше отрывке
Конфуций противопоставил эти оба начала тогда, когда нару¬
шена их гармония, когда какое-нибудь одно начало «побеждает»
другое. При победе в человеке его естественной, т. е. как бы сти¬
хийной, природы он впадает в «дикость», при победе же в нем
культуры — в формальную, т. е. нежизненную, образованность.
Так бывает, но в идеале —у цзюньцзы — этого быть не может.
Таким образом, основой, на которой была, по мнению Сыма
Цяня, построена власть в одном из трех древних царств, была
культура, культурное начало в человеке.
Чжун — другая из трех, перечисленных Сыма Цянем, основ
правления,— так же, как и вэнь, приводится в списке тех четы¬
рех предметов, которым Конфуций учил своих учеников. Что
же значит чжун в «Луньюе»?
Одно несомненно: чжун — такое свойство человека, которое
проявляется в отношениях его с другими. В уста Цзэн-цзы, од¬
ного из самых выдающихся учеников Конфуция, вложены такие
слова: «Я трижды на день проверяю себя: в своих заботах о
ком-либо был ли я чжун? В своем обращении с друзьями был ли
я синь?» (I, 4). Что значит слова чжун и синь в этом контексте?
В европейских языках бывают случаи, когда лучший свет на
значение слова, во всяком случае первоначальное, проливает его
внутренняя форма, открываемая его этимологией. На внутрен¬
нюю форму китайского слова своеобразно указывает «внутрен¬
няя форма» его письменного знака, раскрывающаяся в его гра¬
фике. Внутренняя форма знака, обозначающего слово чжун,
представляет соединение символов «середина» и «сердце». Сле¬
довательно, чжун означает что-то, идущее из самого сердца. Не
это ли значение заложено в русском слове «прямодушие»?
Смысл слова синь, если обратиться к нему также через «внутрен¬
нюю форму» его письменного знака, основан на соединении двух
понятий: «слова» (речи) и «человека». Дело, следовательно, в
том, что должно быть признаком слова, когда оно обращено к
другому. Учитывая различные случаи употребления этого слова,
думаю, что смысл его по-русски следует передавать словом
«правдивость».
Если подставить эти русские слова в приведенный выше пе¬
ревод, слова Цзэн-цзы будут звучать так: «Я трижды на день
проверяю себя: в своих заботах о ком-либо был ли я правдив?»
Иными словами, не исходила ли забота о людях из чего-либо
другого, а не от сердца, только от сердца; не примешивалось ли
в то, что я говорю друзьям, что-либо фальшивое, лживое?
Уяснить значение чжун в этом отрывке помогает, как видно
из приведенного текста, сопоставление этого понятия с другим,
57
выраженным в данном случае словом синь. Не менее вырази¬
тельно сопоставление его и с другим понятием, обозначаемым
словом шу. Оно дается в известном отрывке «Луньюя», считаю¬
щемся одним из важнейших для характеристики центральной
идеи всей доктрины Конфуция. В нем сообщается, что Конфуций,
обращаясь к Цзэн-цзы, т. е. к тому своему ученику, который, как
это представлено в «Луньюе», сумел наиболее глубоко проник¬
нуть в мысли своего Учителя, сказал: «Шэн! Путь мой — в одном.
И этим одним я пронизываю все». Реакция Цзэн-цзы на эти
слова была очень своеобразна: он сказал только одно слово:
«Да!», т. е. как бы «понимаю». Но другие ученики ничего не
поняли и, как только Учитель вышел, тут же пристали к Цзэн-
цзы: «О чем это он тут говорил?» Цзэн-цзы ответил им так: «Путь
Учителя это — чжун и шу, и только». «Внутренняя форма» пись¬
менного знака чжун, как указано выше,— «середина сердца»;
«внутренняя форма» знака шу — «подобие сердца». Понятие, вы¬
раженное словом шу, следовательно, означает что-то вроде «чув¬
ство подобия»: чувствовать то же, что чувствует другой. Если
чжун передать по-русски словом «прямодушие», то не будет ли
китайскому слову шу соответствовать русское «отзывчивость»?
«Путь Учителя это — прямодушие и отзывчивость и только!» —
сказал Цзэн-цзы. И если понимать, что «Путь» этот, как свиде¬
тельствует все содержание «Луньюя», есть жэнь, «любовь к лю¬
дям», то не становится ли ясным, что Цзэн-цзы, поняв своего
Учителя по одному его слову, раскрыл, в чем в первую очередь и
состоит эта любовь к людям?
Таким образом, чжун, прямодушие,— не простое наименова¬
ние какого-то свойства человека, а обозначение качественное,
оценочное, и притом в самом положительном смысле: это свой¬
ство входит в состав высшего, чем, по Конфуцию, обладает чело¬
век: в состав жэнь, любви к людям. В ответ на вопрос одного
из своих собеседников, что значит обладать жэнь, Конфуций от¬
ветил: «Если ты, сидя на месте, сохранишь выдержку, делая
какое-либо дело, бываешь предан ему, общаясь с людьми, отно¬
сишься к ним со всем прямодушием, можешь отправляться хоть
к самим варварам,— и там ты будешь нужен!» (XIII, 19).
«Луньюй» говорит о прямодушии в разных случаях. Так, на¬
пример, оно проявляется в отношении родителей к детям: «Любя
сына, можешь ли ты не заставлять его трудиться? Относясь к
нему со всем прямодушием, можешь ли ты не поучать его?»
(XIV, 8). Прямодушие проявляется в отношении слуги к госу¬
дарю. Дингун, правитель царства Лу, как-то спросил Конфуция:
«Как государь должен пользоваться службой своих слуг? Как
слуги должны служить своему государю?» Конфуций на это
ответил: «Государь, пользуясь службой своих слуг, должен де¬
лать это по закону; слуга, служа своему государю, должен делать
это со всем прямодушием» (III, 19). Прямодушие проявляется не
только в отношениях с людьми, по-своему оно проявляется и по
58
отношению к делу. Цзы Чжан, один из учеников Конфуция,
говоря об одном важном сановнике, который три раза призывался
на службу и три раза отстранялся, недоуменно заметил: «Когда
его призывали на службу, он не выражал радости; когда его
отстраняли, он не выражал недовольства... и каждый раз со всей
тщательностью передавал все дела». Цзы Чжан не мог понять
такое поведение. Конфуций разъяснил ему одним словом: «Это
объясняется его прямодушием» (V, 8), т. е. отношением к делу,
не осложненным никакой посторонней мыслью, никаким посто¬
ронним чувством. О прямодушии, как о том, что характеризует
должное отношение к своему делу, говорится в ответе Конфуция
Цзы Чжану на вопрос последнего, как следует заниматься де¬
лами правления: «Когда сидишь в покое, не впадай в леность;
когда действуешь, будь прямодушен!» (XII, 14). Прямодушие
может проявляться и в отношении к своим словам. Очень выра¬
зительно сказано об этом в том месте «Луньюя», где перечис¬
ляются «девять дум» цзюньцзы, т. е. человека высоких досто¬
инств: «Он думает о том, чтобы видеть — ясно, слышать — с пони¬
манием; чтобы выражение лица было приветливое, чтобы манеры
были благопристойные; чтобы в словах было прямодушие; чтобы
в делах было уважение к ним; чтобы при сомнениях — спраши¬
вать, при гневе — помышлять о беде, при получении чего-либо —
помышлять о должном» (XVI, 10).
Весь этот разнообразный материал, могущий быть привлечен¬
ным для выяснения значения слова чжуч, позволяет, как мне
кажется, понять его как русское «прямодушие» в смысле не
осложненного ничем, идущего от самого сердца отношения ко
всему — и к людям, и к делу. В связи с этим чжун может прини¬
мать те же оттенки смысла, которые в разных контекстах может
принимать и русское «прямодушие». В словарях русского языка
слово «прямодушный» толкуется и как «искренний», «прямой»,
«откровенный», и как чистосердечный; слово «прямодушие» пони¬
мается прежде всего как отсутствие лицемерия, чистосердечность.
Подобные оттенки и надлежит иметь в виду, употребляя русское
слово «прямодушие» как перевод китайского чжун.
Таким образом, основой, на которой, по мнению Сыма Цяня,
была построена власть в другом из трех древних царств, было
«прямодушие» как свойство человеческой природы.
Основа, на которой была, как считает Сыма Цянь, построена
власть в третьем царстве, обозначена им словом цзин. Для выяс¬
нения его значения обратимся, как и в общих предыдущих слу¬
чаях, к «Луньюю».
В очень ясном смысле это слово употреблено в тех местах
«Луньюя», где говорится об отношении к родителям. На вопрос
одного из учеников, в чем состоит сяо, служение родителям, Кон¬
фуций ответил так: «В наше время служением родителям назы¬
вают заботу о них. Но о собаках и лошадях также заботятся.
Если родителей при этом не чтить (цзин), то чем же забота о них
59
будет отличаться от заботы о собаках и лошадях?» (II, 7). Пере¬
дача китайского слова цзин в этом случае русским словом
«чтить» напрашивается сама по себе. Такой перевод оказывается
удобным и для другого отрывка, где говорится также об отноше¬
нии к родителям. Для понимания этого отрывка необходимо
учитывать, что в служение родителям, по «Луньюю», входит
также и «увещание» их, т. е. призыв к родителям не поступать
так, как они поступают, если сын видит, что эти поступки заслу¬
живают порицания. Только нужно понимать границы таких уве¬
щаний: «Если, служа родителям, несколько раз обратишься к
ним с увещанием и видишь, что они не слушают твоих увещаний,
чти (цзин) их и не противься. Трудись для них и не питай к ним
злобы» (IV, 18).
То же слово цзин употреблено и для обозначения отношения
человека к «богам и демонам». Русское слово «чтить» здесь
так же уместно, как и при переводе цзин как отношения к роди¬
телям. Как-то раз Конфуция спросили: «Что такое знание
(чжи)}-» И он ответил так: «Делать должное по отношению к лю¬
дям, чтить богов и демонов и держать их в отдалении 7. Это и есть
знание» (VI, 20). Столь же естественно русское «чтить» и для
обозначения отношения народа к правителю. Это легко усмат¬
ривается из того отрывка, в котором Конфуций перечисляет
четыре «пути» цзюньцзы, т. е. человека высоких достоинств:
«В своем отношении к себе он выдержан; в своем служении пра¬
вителю он почтителен (цзин); в своей заботе о людях он мило¬
серд; в своем обращении с людьми он придерживается должного»
(V, 15). О том же говорится и в другом отрывке, где приводится
разговор Конфуция с Фань-чи: «Фань-чи попросил научить его
возделывать хлеба. Учитель на это сказал: это лучше меня сде¬
лает старый земледелец. Тогда Фань-чи попросил научить его
разводить овощи. Учитель на это сказал: это лучше меня сделает
огородник. Фань-чи вышел, и Конфуций сказал: Малый человек
этот Фань-чи! Если правитель придерживается законов (ли),
народ не смеет не чтить его. Если правитель придерживается
должного, народ не смеет не подчиняться ему. Если правитель
придерживается правды, народ не смеет не относиться к нему с
добрым чувством. А если будет так, люди со всех сторон придут
к нему, неся на спине своих малых ребят. Чего же тут думать о
возделывании хлебов?» (XIII, 4).
Пригодность перевода цзин русским «чтить» (почитать) удо¬
стоверяется и еще одним случаем употребления этого слова в
«Луньюе», где оно прилагается к законам (ли). «Быть правите¬
лем и не быть великодушным, создавать законы и не чтить их,
присутствовать на похоронах и не скорбеть — на что же мне
тогда в нем смотреть?»,— сказал однажды Конфуций (III, 26).
Таким образом, становятся ясными те три основы правления,
о которых говорит Сыма Цянь. В царстве Ся в правлении опи¬
рались на чжун, на присущее человеческой природе прямодушие;
60
В Царстве Инь — на цзин, на Заложенный в человеке , Инстинкт
почитания; в царстве Чжоу — на вэнь, на культуру как элемент
человеческой личности и общественной жизни. Такими были три
опоры государственной власти, которые усмотрел в истории на¬
рода его первый историк.
История, как думает Сыма Цянь, показала, что на этих
трех атрибутах человеческой природы можно было построить
систему управления людьми, режим государственной власти. Но
та же история свидетельствует, как выходит по Сыма Цяню, что
режим этот в каждом случае в конце концов терпел крах и сме¬
нялся другим. А это было одновременно крахом и самой власти,
создавшей такой режим: она уступала место другой. Так, власть,
представленную царством Ся, сменила власть царства Инь, по¬
следнюю— власть царства Чжоу, после падения которого уста¬
новился новый порядок — режим империи Хань. Почему же все
это произошло?
По концепции Сыма Цяня, такая смена вызывалась тем, что
в каждой системе власти был заложен свой «вред», как он пи¬
шет, который в конечном счете и приводил ее к краху. Вред,
заложенный в принципе опоры на прямодушие, т. е. на ничем не
осложненную, стихийную натуру человека, проявляется в том, что
такая натура, предоставленная себе самой, приводит к тому, что
Сыма Цянь обозначил словом е.
Слово это, так же как и чжун, встречается в «Луньюе», и
выше оно было уже приведено. С полной ясностью своего смысла
оно встречается в том отрывке, где говорится, что происходит,
когда в человеке над вэнь, культурой, получает преобладание
чжи, естественные свойства его природы, так сказать ее «мате¬
рия»: человек становится дикарем. Именно о таком значении го¬
ворит само слово е: оно значит «поле», но поле необработанное,
т. е. дикое. Таким образом, власть, думающая управлять людьми,
опираясь на одно прямодушие, создает условия, обрекающие лю¬
дей на дикарство.
В царстве Инь это поняли и выбрали другую опору. Было
учтено наличие в человеческой природе особого инстинкта, про¬
являющегося ближайшим образом в отношении человека к своим
родителям,— инстинкта почитания. И была сделана попытка
построить власть именно на этой основе. Инстинкт почитания,
обращенный на родителей, может быть обращен и на правите¬
лей, на самое власть, на закон (ли). Выше были приведены
отрывки из «Луньюя», говорящие именно об этих объектах почи¬
тания. Оказалось, однако, что и эта опора имеет свой «вред»: она
привела к тому, что Сыма Цянь определил словом гуй. Гуй —
демон, как элемент сложного слова гуйшэнь, буквально демоны и
боги, т. е. божества.
Существует довольно устойчивая традиция передачи этого
гуй в данном тексте Сыма Цяня на других языках словами со
смыслом русского «суеверие». Так передано слово гуй и в ука¬
61
занных двух новейших работах, посвященных Сыма Цяню,—
амеоиканской и японской8. Однако согласиться с таким перево¬
дом нельзя: он основан на неверном, как мне кажется, понимании
китайской мысли.
Что такое «суеверие»? Вера во что-то либо несуществующее,
либо незначительное. «Суеверие» всегда противопоставляется
«истинной вере» — вере в подлинно могучие силы. Приписать
такие же представления китайцам времен Сыма Цяня, во всяком
случае для объяснения значения слова гуй, нельзя. «Демоны»
(гуй) в их представлении стоят рядом с «богами» (шэнь). Это
видно даже из приведенного отрывка из «Луньюя»: когда Кон¬
фуция спросили, как он относится к богам и демонам, он ответил:
«Я их чту, но держу их от себя в отдалении». Как было пояснено
выше, эти слова выражают самое благоговейное отношение к
«богам и демонам», т. е. не только к «богам» (шэнь), но и «демо¬
нам» (гуй). Это значит, что определять почитание «богов» как
«веру», а почитание «демонов» как «суеверие» нельзя: и то, и
другое — вера. Но деление божеств на два разряда шэнь и гуй,
помимо всего прочего, отражает представление о божествах свет¬
лых, добрых и темных, злых. Шэнь — светлые духи, гуй — темные.
Вера в первых есть культ светлых божеств, вера во вторых —
культ темных; культ бога, сказали бы мы, в первом случае,
культ дьявола — во втором. Сыма Цянь словом гуй определил
вред, который получается, когда государственная власть опи¬
рается на инстинкт почитания, присущий человеческой природе;
если захотеть передать это слово буквально, надо бы сказать:
тогда получается «дьявольщина».
Но как понять эту «дьявольщину», когда ее находят в по¬
литической сфере? Помочь нам в этом может, как мне кажется,
Чжэн Сюань (127—201 гг. н. э.), другой замечательный мысли¬
тель китайской древности, живший, правда, почти на два века
позже Сыма Цяня, но по своему миросозерцанию принадлежав¬
ший к той же линии создавшегося тогда конфуцианства. Он ска¬
зал: «Слишком много воздавать власти — то же, что служить де¬
монам и богам». Служение божествам мы называем культом.
Следовательно, чрезмерное почитание государственной власти, по
Чжэн Сюаню, есть культ.
Эта фраза Чжэн Сюаня обычно вставляется в текст данного
места «Истории» Сыма Цяня в виде примечания к нему. Это сви¬
детельствует о том, что издатели «Истории» понимали сложность
этой столь лапидарно выраженной мысли Сыма Цяня. И по¬
скольку у Сыма Цяня приведены не оба названия объектов
культа, т. е. не оба слова шэнь и гуй, а только одно — гуй, по¬
стольку ясно, что речь идет о культе этих темных божеств, т. е.
именно о «дьявольщине». Именно «дьявольщина» и воцарилась
в стране в результате насаждения в ней всепоглощающего культа
власти.
Следствием такого положения и было то, что Иньское цар¬
62
ство пало и на его месте образовалось царство Чжоу. И утвер¬
дилось оно именно потому, что основатели этого царства в каче¬
стве опоры власти взяли нечто другое, новое — вэнь.
Выше для передачи этого слова на русском языке было пред¬
ложено слово «культура». Было также объяснено, какой смысл
вкладывается в «Луньюе» в это понятие: вэнь — все то, что возни¬
кает в человеческом обществе, управляемом не свойствами и
инстинктами человеческой природы, а законами (ли), создан¬
ными самим обществом. «Культура» существует для того, чтобы
«расширять», как сказано в «Луньюе», человека, т. е. обогащать
человеческую личность. «Законы» (ли) существуют для того,
чтобы «сдерживать», как сказано в «Луньюе», человека, т. е.
держать его в определенных рамках, установленных жизнью и
деятельностью общества, членом которого он является.
Небезынтересно указать на первоначальное значение слова
вэнь. Строго говоря, это слово значит «узор». Им обозначается
всякий узор или рисунок, нанесенный на что-либо простое, чис¬
тое, голое. Понятие «культура» в этом свете является дериватом
понятия «узор», образовавшимся на почве представления о
культуре, как о чем-то, что, так сказать, «нарисовано» на чистой
человеческой природе, что ее украшает. А такие «узоры» созда¬
ются жизнью и деятельностью человека в организованном обще¬
стве. Другим дериватом является понятие «письменный знак»,
а отсюда — «письменность» вообще, потом — «произведение пись¬
менности», т. е. «литература» в исконном смысле этого слова.
Поэтому в «Луньюе» в орбиту вэнь входят и известные тогда
произведения, в нем упоминается «Ши», т. е. то, что впоследствии
стало «Ши-цзин», «Книгой Песен», «Шу», т. е. «Шу-цзин», «Кни¬
гой Истории», «Юэ», т. е. «Юэ-цзин», «Книгой Музыки», «Ли-
цзи», «Законами» — частями будущего Пятикнижия. Из этого
вытекает, что понятие «культура», когда оно выражено словом
вэнь, относится к культуре духовной. В «Ханьской истории»,
первой из так называемых «династийных историй» Китая, есть
раздел «Ивэнь чжи» — «Описание (чжи) культуры материаль¬
ной (и) и духовной (вэнь)»9.
На культуре в таком понимании и построили свою власть
правители Чжоу. Принцип культуры стал даже как бы символом
этого царства: слово вэнь стало именем его основателя. Он —
Вэнь-ван, «Царь Вэнь».
Оказалось, однако, что и в культуре таится свой «вред», что
опора только на это начало также приводит к фатальным резуль¬
татам: в царстве Чжоу это привело к тому, что Сыма Цянь
назвал сы, фальшивостью, чем-то показным, ненастоящим.
Следует вспомнить, что сказано в «Луньюе» о вреде, при¬
носимом в известных случаях культурой. В приведенном ниже
отрывке говорится: когда в человеке над культурой одерживают
верх свойства его натуры, это приводит к дикости; когда же,
наоборот, культура подавляет естественные свойства его натуры,
63
это приводит к «учености», понимаемой тут в чисто формальном,
т. е. отрицательном, смысле. Если сопоставить это место «Лунь¬
юя» с рассматриваемым текстом Сыма Цяня, получается, что
вред от односторонней опоры на культуру состоит в том, что
культура как бы нарушает первоначальную непосредственность
человеческой природы, заглушает в ней простоту, искренность,
чистосердечие.
И вот тут Сыма Цянь заявляет: «Для того, чтобы спасти
человека от фальшивости, нет ничего лучшего, чем обратиться к
прямодушию», т. е. к естественным, чистым свойствам человече¬
ской природы. Так и поступил, как считает Сыма Цянь, основа¬
тель Ханьской империи, принявши^ страну из рук разваливше¬
гося Чжоуского царства.
Правда, это произошло не сразу, был некий промежуток
между Чжоу и Хань — краткий период власти дома Цинь. При
воцарении этого дома уже был ясен вред, нанесенный односторон¬
ней ориентацией на культурное начало, но циньские правители
ничего не исправили, как выражается Сыма Цянь, а задумали
справиться с вредом, который получился, способом жестоких
репрессий. Понятие «способа» (метода, средств) выражено у
Сыма Цяня словом фа. Переводить его по-русски можно нашим
словом «закон», но только в смысле «закон государственный»,
т. е. способ или орудие, которым осуществляется управление госу¬
дарством. В таком смысле слово фа прямо противоположно слову
ли, которое также значит «закон», но не как орудие управления,
а как общественная норма, регулирующая жизнь организован¬
ного общества и этим обществом вырабатываемая. Циньский
«эпизод» показал, что фа — государственные законы или методы
управления — тогда свелись к репрессиям, да еще жестоким, как
специально отметил Сыма Цянь. «Разве это не была ошибка?» —
тут же восклицает он. Эта ошибка очень скоро и привела дом
Цинь к гибели. Правители Ханьского дома, сменившего у власти
дом Цинь, поэтому прекратили репрессии и для исправления
вреда от односторонней опоры на культуру обратились опять к
чжун — к прямодушию; т. е. к чистой и простой человеческой
натуре.
Во всем этом рассуждении Сыма Цяня есть одна подробность,
заслуживающая особого внимания. Говоря о гибельных послед¬
ствиях каждого из трех, открытых им в истории, принципов вла¬
сти, он указывает, что эти последствия проявляются у сяожэнь —
«людей малых». Именно они, эти «малые люди», впадают в «ди¬
кость» в первом случае; отдаются культу «демонов» — во вто¬
ром; превращают культуру в нечто «фальшивое», «показное» —
в третьем. Кто же эти сяожэнь?
Тут мы сталкиваемся с одним из существеннейших в то время
положений учения о человеке: о делении людей на цзюньцзы и
64
сяожэнь. Как было указано выше, словом цзюньцзы в «Луньюе»
обозначаются люди высокого морального и интеллектуального
уровня, словом сяожэнь — люди прямо обратных свойств. Иначе
говоря, Конфуций стоял здесь на тех же позициях, на которых на
другом конце мира, но в такой же Древности стоял Цицерон, как
представитель идей сципионовского кружка, как известно, вос¬
принявшего в себя эллинскую мудрость: в обществе есть избран¬
ное меньшинство и есть масса; принадлежащие к первому в своей
деятельности руководствуются высокими моральными принци¬
пами, принадлежащие ко второй — своими инстинктами 10. Эти
две категории древние китайцы обозначили словами цзюньцзы и
сяожэнь. Избранные — цзюньцзы, «господа»; масса — сяожэнь,
«люди малые», «людишки». Передача цзюньцзы русским словом
«господа» допустима, так как «избранные», конечно, те, кто
управляет; «люди малые» же — те, кем управляют, народная
масса. Таким образом, вред, получающийся при опоре власти на
какой-нибудь единый принцип, сказывается именно на массе, а не
на избранных. Понимают же, что произошло, избранные, цзюнь¬
цзы. И они делают то, что нужно: обрушиваются не на послед¬
ствия, к которым привела власть, а на причину этих последствий:
на самый режим этой власти. В результате этот режим устра¬
няется и заменяется другим.
Необходимость действовать именно так поняли и правители
Инь, и правители Чжоу, а потом и правители Хань. Не поняли
этого только правители Цинь: они обрушились на народ и осо¬
бенно на цзюньцзы, этих мудрых мужей, интеллигенцию своего
времени, понимавших, что так дальше править нельзя, и гово¬
ривших об этом: их просто закапывали живыми в землю, а их
писания сжигали. Исключение было сделано только для тех, кто
придерживался принципа вышеуказанных фа, государственных
законов, поставленных над ли — законами общества, законами
морали. На народ был наложен ряд тяжких повинностей, которые
и довели его до полного изнурения. Это и привело циньский ре¬
жим к падению: Циньский дом продержался всего 15 лет. Вос¬
стание смело его, и его место занял дом Хань, представители
которого приняли другой принцип власти.
Итак, основатели империи Хань снова избрали принцип «пря¬
модушия». Что же это означает? Снова вернулись к тому, с чего
все началось? Чжэнь Сюань так и считает: «Снова вернулись к
началу»,— написал он. И эти слова его также обычно вносятся
в текст «Истории» Сыма Цяня как примечание к словам послед¬
него: «Для того, чтобы спасти людей от фальшивости, нет ничего
лучшего, чем обратиться к прямодушию». Но обращаться за
разъяснением к Чжэнь Сюаню и не требуется: вполне ясно гово¬
рит и сам историк. Как бы резюмируя изложенное, он пишет:
«Путь трех царств оказался подобным круговороту: он кончился
и снова начался». Властители Хань пришли к тому, с чего все
началось. Таким образом, перед нами, как и у Полибия, ясно
б Н. И. Конрад
65
выраженная теория круговорота. Сыма Цянь, как и его грече¬
ский собрат, даже употребляет именно это самое слово «кругово¬
рот» — сюньхуань.
Как отнестись к этой теории? Сыма Цянь, как мне кажется,
дает указание, как его надлежит понимать.
Сказав о том, что ханьские правители обратились к прин¬
ципу «прямодушия» для того чтобы «спасти», как он выразился,
людей от вреда, причиненного политикой Чжоу, и от бед, вызван¬
ных политикой Цинь, Сыма Цянь завершает свое изложение
такими словами: «Так они не дали людям пребывать в инертно¬
сти и обрели тяньтун».
Что такое тяньтун? В толковых словарях это слово пояс¬
няется как «преемственность на троне», т. е. законное наследо¬
вание престола, причем обычно для оправдания такого толкова¬
ния приводится именно это место текста «Истории» Сыма Цяня.
Мне кажется, что это, видимо, вполне правильное толкование
следует понять несколько глубже. Буквально тяньтун значит
«небесная преемственность», т. е. понятие законности в такой
преемственности выражено через понятие «неба», как символа
высшего закона. Поэтому в понятие тяньтун вложено больше,
чем простое наследование в силу исторической преемственности;
в него вложен смысл обоснованности принятия власти как бы
высшим законом правопорядка. Именно так и представил Сыма
Цянь переход власти в государстве в руки Ханьского дома: это
было возвращение к законному правопорядку11.
Что же сделали правители Хань для того, чтобы по-настоя¬
щему, не так, как правители павшего Циньского дома, исправить
вред, нанесенный односторонней опорой на культуру, вред, вы¬
разившийся в превращении культуры в нечто показное, не затра¬
гивающее существа, а этим самым — во внесении фальшивости в
саму человеческую натуру? Опять вернуться к тому, что противо¬
положно фальшивости,— к чжун, прямодушию. А это означало
возвращение к принципу, принятому в свое время правителями
царства Ся. «Путь трех царств кончился и снова начался»,—
сказал Сыма Цянь. Не значит ли это, что тяньтун — общий пра¬
вопорядок и есть круговорот?
Хорошо известно, что в эпоху Ханьской империи, в ее ран¬
нюю пору, в частности во времена Сыма Цяня, было в ходу так
называемое учение о «пяти стихиях». У син («пять стихий») —это
металл, дерево, земля, вода, огонь; то же, что «четыре элемента»
у древних эллинов, четыре или пять элементов у древних индий¬
цев. Коротко говоря, это древняя форма представления о перво¬
элементах материальной природы. В китайском варианте эти
первоэлементы не статичны, а динамичны, не изолированы друг
от друга, а взаимно связаны, причем связаны диалектически:
один переходит в другой. Представление о таком переходе выра¬
жено в образе «победы» одного над другим: металл побеждает
дерево, дерево — землю, земля — воду, вода — огонь, огонь —
66
металл, металл — дерево и т. д., т. е. процесс опять повторяется.
Таким образом, жизнь природы — круговорот. Но жизнь природы
и есть «небесная преемственность», миропорядок. Следовательно,
тяньтун и есть круговорот.
Следы учения о «пяти стихиях» мы встречаем в глубокой
древности: о «пяти стихиях» упоминается в «Шу-цзине», и притом
в важнейшей части этого памятника — в «Хун Фань» — «Уложе¬
нии» Юя, чуть ли не в первом документе, в котором сделана
попытка представить в точных категориях весь миропорядок —
бытия и общественной жизни. Свое развитие это учение получило
у Цзоу Яня — во второй половине IV — первой половине III в. до
н. э. Цзоу Янь был младшим современником Мэн-цзы и одним
из знаменитой плеяды ученых-мыслителей, одно время образо¬
вавшейся в г. Цзи, столице царства Ци. Именно ему принадле¬
жит концепция преодоления одного элемента другим. В этой
концепции образно выражена мысль об угасании и возрастании
как о существе всего процесса материального бытия. Цзоу Янь,
однако, этим не ограничился: он распространил этот закон и на
человеческую жизнь, на историю. В его представлении каждая
стихия обладает своим особым свойством (дэ), и эти свойства
заложены и в формах общественного строя. Иначе говоря, каж¬
дый строй есть как бы воплощение в жизни общества свойства
соответствующей «стихии». Поскольку же деятельность «пяти
стихий», т. е. общий процесс бытия, осуществляется в их кру¬
говороте, постольку, следовательно, и историческая жизнь про¬
ходит также в форме круговорота.
Существовала и другая формула круговорота пяти стихий:
в ней одна стихия не «преодолевает» другую, а «порождает» ее.
Так, дерево порождает огонь, огонь — землю, земля — металл,
металл — воду, вода — дерево, дерево — огонь и т. д. Принадле¬
жит эта формула Цзоу Ши, другому представителю этой док¬
трины.
Как было сказано выше, учение о «пяти стихиях» особенную
популярность получило в Ханьскую эпоху. Оно было известно
и Сыма Цяню. Более того, именно ему мы и обязаны знанием
доктрины и Цзоу Яня и Цзоу Ши. В «Истории Хань» («Ханыиу»),
в упомянутом выше разделе «Ивэнь-чжи» сообщается о двух со¬
чинениях этого Цзоу Яня, но сами эти сочинения до нас не дошли,
и то, что мы знаем об их содержании, заимствовано из того, что
сказал о нем Сыма Цянь. Сведения о Цзоу Яне и Цзоу Ши даны
у него в двух «Жизнеописаниях» — Мэн-цзы и Сюнь-цзы.
Но Сыма Цянь не только знал об этом учении; он и разде¬
лял его, по крайней мере в понимании процесса бытия, а в нем —
процесса исторической жизни как круговорота. В пяти историче¬
ских режимах, возникших и исчезнувших, сменивших друг друга,
отразились «свойства» пяти стихий. Цзоу Янь говорит о пяти
больших этапах, пройденных страною до Хань: периоды Сюй, Ся,
Инь, Чжоу и Цинь. В режиме каждого этапа он находит присут¬
67
ствие «свойства» какой-либо из пяти стихий: в режиме Сюй —
земли, Ся — дерева, Инь — металла, Чжоу — огня, Цинь — воды.
На этом цикл закончился и начался новый — с Хань, в режиме
которой снова воплотилось «свойство» земли. Таким образом, и
с этой стороны появление Ханьской империи есть «возвращение к
началу». Так еще с большей силой звучат для нас слова Сыма
Цяня: «Кончилось и снова началось». И с полной конкретностью
предстают его слова о том, что Ханьская империя «обрела тянь-
тун», т. е. вошла в общий правопорядок. Из этого же следует,
что концепция исторического круговорота у Сыма Цяня пред¬
ставляет перенесение в область исторической жизни доктрины
круговорота как общего закона бытия.
Но выше было отмечено, что в резюме Сыма Цяня входит
еще одно положение: ханьские правители своими действиями не
только ввели историческую жизнь страны в общий процесс миро¬
порядка, но и вывели людей из «инертности».
И Здесь мне приходится разойтись с обычным пониманием
переводчиками этого места «Истории». Как можно увидеть хотя
бы из указанных двух новейших работ, то, что я предложил тут
понимать, как «вывели людей из инертности», толкуется иначе:
слово цзюань понимается как «утомляться», из чего следует, что
ши бу цзюань означает «дали возможность (людям) не утом¬
ляться», т. е. сняли с народа изнурительные повинности, нало¬
женные на него правителями Цинь.
Такое толкование кажется мне не столько неверным, сколько
недостаточным и поверхностным. Говоря о «вреде», наносимом
людям какими-либо действиями власти, Сыма Цянь всегда имел
в виду не что-либо преходящее, а нечто существенное, не какое-
нибудь временное состояние человека, а то, что произошло с его
натурой. Впадение в «дикость», в «культ демонов», в «фальши¬
вость» означает известное перерождение самой природы чело¬
века. Поэтому и в данном случае дело должно было бы идти о
том, что сделали с человеком тяжелые повинности, наложенные
на него властью. Значение «утомляться» в физическом смысле
лишь один аспект значения глагола цзюань; в его значение вхо¬
дит и понятие утомления духовного, впадения в апатию, в душев¬
ную инертность.
Остановиться и на этом, как мне кажется, также невозможно.
Надо учесть, что режим циньской власти лишь кратковременный
эпизод, не характерный для «большого» движения истории.
«Большое» же движение истории вело страну от режима Чжоу к
режиму Хань. Главная задача ханьских правителей состояла в
том, чтобы ликвидировать «вред», нанесенный народу режимом
Чжоу. Как было показано выше, вред этот понимался как вне¬
сение в природу человека «фальшивости», под чем понималась
утрата отношения к культуре, к ее установлениям как к чему-то
жизненно важному, коренящемуся в самой природе человека;
превращение этой культуры в нечто внешнее, показное. Именно
68
это и привело к тому, что живое творческое начало в человеке
ослабело, развилась душевная «леность» (а «леность» также
один из аспектов значения цзюань), духовная инертность. По¬
этому главное, что должны были сделать новые правители,— это
ши бу цзюань «заставить (людей) не быть инертными», вызвать в
них импульс творчества, духовную активность. Сыма Цянь счи¬
тает, что это было достигнуто.
Но что это означало? Полное возвращение к тому, что когда-
то было в царстве Ся? Мне кажется, что — нет. Возвращение к
чему-либо не есть обязательно повторение того, что было. Хань-
ские правители вернулись к политике Ся, но не к тому, что
было в эпоху этого древнего царства. Ханьский режим призвал к
действию духовные силы человека для того, чтобы продвинуть
жизнь народа вперед. Вернулись к методу, но не к факту.
О том, что именно так поняли появление ханьской власти
определенные круги китайского общества того времени, свиде¬
тельствует деятельность Цзя И, представителя первого ханьского
поколения: начало правления Гао-цзу, основателя империи,—
206 г. до н. э.; Цзя И родился в 200 г., умер в 168 г. Сыма Цянь,
родившийся в 145 г. и умерший в 86 г., принадлежал уже ко
второму поколению. Поэтому судить о том, как было встречено,
разумеется в среде уцелевших «цзюньцзы», установление хань¬
ского режима, можно именно по Цзя И. Им были сформулиро¬
ваны основные положения новой власти. Сделано это в его изве¬
стном трактате—«Го Цинь лунь» («Об ошибке Цинь»).
Вполне естественно, что Цзя И прежде всего заговорил об
этом: сначала нужно было установить, почему пала власть Цинь-
ского дома. Исходя из этого, можно было определить, что же
нужно теперь делать. Ошибку циньских правителей Цзя И видел
в том, что у них «человеческое и должное не осуществлялось»,
что они не поняли, что «захватить — одно, а сохранить — другое».
Не буду здесь вдаваться в объяснение этих исключительно
важных для китайской общественной мысли положений. Скажу
лишь коротко, что «человеческое» — это жэнь, о чем так много
говорится в «Луньюе», т. е. человеческое начало в человеке, пони¬
маемое как «любовь к людям»; «должное» — это и, тот принцип,
который Мэн-цзы поставил рядом с жэнь: «должное» у него —
го, что полагается делать, а полагается делать то, что вытекает
из существа вещей, из самой природы явлений. Слова же, что
«захватывать — одно, сохранять — другое» употребляются тогда,
когда нужно сказать, что поддерживать достигнутое насилием —
нельзя.
Указать на эти ошибки циньской политики было еще мало;
мало было сказать и что следует восстановить: в данном слу?
чае — человеческие отношения между людьми и соблюдение
должного в действиях. Нужно было сказать и как этого до¬
биться. И тут Цзя И предложил опереться в политике на два на¬
чала: ли — «законы» в указанном выше понимании этой концеп-
69
ции, и юэ — «музыку». «Законы» поведут жизнь общества по
руслу естественных для жизни общества, им же созданных норм:
«музыка» будет формировать психическую природу человека.
Конечно, это в какой-то степени и есть возвращение к прин¬
ципу чжун, «прямодушию», т. е. к культивированию в человеке
естественных свойств его природы. Но это не означало стихий¬
ности в проявлении этих свойств: они вводились в рамки обще¬
ственных норм и подвергались гармонизирующему воздействию
музыки. Тем самым «возвращение к началу», т. е. к принципу
чжун, отнюдь не означало повторение точно того же, что было
когда-то; движение по новому кругу пошло на тех же основа¬
ниях, но уже не с тем же содержанием. Пифагорейцы создали
концепцию круговорота вещей, но не понимали ее так элемен¬
тарно натуралистически, как Эвдем, нарисовавший своим уче¬
никам упомянутую выше картину. Полибий увидел в историче¬
ском процессе круговорот форм политической власти, но понял
этот круговорот не формально, а реально, не метафизически, а
диалектически. Видимо, близко к этому было понимание круго¬
ворота истории и у Сыма Цяня.
3
Итак, перед нами два историка, два великих историка древ¬
ности. Один воссоздал историю своего народа — эллинов и вме¬
сте с нею и тех, кому его родина подчинилась,— историю римлян.
Другой изложил историю своего народа — китайцев.
Но Полибий и Сыма Цянь не только историки-повествова¬
тели; они — историки-мыслители. Они не только рассказали о
содержании исторического процесса, но и постарались осмыслить
его ход. И это было в исторической науке осмысление, основан¬
ное на конкретном материале. Поэтому именно Полибий и Сыма
Цянь и должны быть признаны основоположниками философии
истории.
Они принадлежат к двум различным мирам: первый — греко¬
римскому кругу земель, второй — китайскому. Но разными эти
миры тогда были только географически и этнографически; с
точки зрения же истории они были очень близки друг другу: они
проходили один и тот же этап человеческой истории. Даже боль¬
ше: одну и ту же ступень этого этапа. Этап этот — эпоха рабо¬
владельческого общества; ступень — последняя пора истории
этого общества: время империй. Полибий жил, когда в его части
мира рождалась великая империя, сначала — Македонская, за¬
тем — Римская. Сыма Цянь жил, когда в его части мира утверж¬
далась великая империя, сначала — Циньская, затем — Ханьская.
Аналогия исторического процесса на этих двух концах мира
того времени в высшей степени знаменательна: она открывает
действительные закономерности в истории рабовладельческого
общества, разумеется, не в конкретных подробностях, а в боль¬
70
ших линиях. Образование империи на Западе означало конец
прежних политических форм — того, чем в истории эллинов был
полис, в истории римлян — сш1аз. К империи подвел кризис их
структуры как политической, так — что особенно важно — и эко¬
номической. Попытки преодоления политической и экономической
ограниченности полиса, без чего дальнейшее развитие происхо¬
дить не могло, начались еще до империи: возникли объединения
отдельных полисов под гегемонией какого-либо одного из них;
затем появились союзы, как, например, Этолийский и Ахейский
в Греции; федерации, как, например, Тускульская и Римская в
Италии. Однако свое решение этот вопрос нашел в образовании
большой державы, в которую и вошли все прежние политиче¬
ские образования — республики, царства, самоуправляющиеся
города: в своей хозяйственной и политической жизни они стали
связанными друг с другом. Политически единая власть в этой
державе долго не устанавливалась; она утвердилась только в
I в. до н. э., когда над всем этим кругом земель простерлась
1трепит готапит; но это не препятствовало экономической и
культурной диффузии частей этого круга.
Образование империи на Востоке также означало конец преж¬
них политических образований — того, чем в истории Китая
были го— царства, бывшие также государствами-городами
различных размеров. К империи подвел кризис структуры такого
города-государства, бывшего не только политическим, но и
экономическим целым. Знаком такого кризиса и вместе с тем
попыткой преодоления его было образование союзов с гегемо¬
нией (ба) какого-либо одного из этих царств, но решающее зна¬
чение в этом процессе имело соединение всех этих городов-
государств в одном целом — империи. Остатки прежних царств
остались и в этой империи, но их экономическая автаркия и
политическая самостоятельность ослабели.
Рабовладельческое общество в своей истории прошло через
три этапа. Первый — эпоха, когда в условиях еще родо-племен-
ных общин стали возникать рабовладельческие отношения; окон¬
чание этой эпохи у греков — конец так называемого Гомеровского
периода истории; у римлян — время Сервия Туллия; у китай¬
цев— так называемый «Переход Чжоу на Восток», т. е. возник¬
новение на территории страны ряда самостоятельных госу¬
дарств-городов— го, царств, как мы их тут называем. Второй
этап — эпоха, когда полис, сшйаз, го достигли высокого рас¬
цвета, когда рабовладельческие отношения стали играть уже
важную роль в хозяйственной жизни; это классическая пора
истории рабовладельческого общества, время подъема общест¬
венной жизни и культуры. Третий и последний этап — эпоха
империй. Это пора максимального развития рабовладельчества и
вместе с тем кризиса рабовладельческого хозяйства и его краха.
Следует помнить, что распад системы рабовладельческого обще¬
ства произошел еще в эпоху империй; что новая полоса истории
71
человечества — средневековье — началась в них, в этих импе¬
риях.
Полибий и Сыма Цянь жили в начальный момент этих импе¬
рий — в ту пору, когда они уверенно набирали силу. Это значит,
что оба историка были современниками восходящей линии обще¬
ственного развития. И это время наложило свой отпечаток на их
настроения: они приветствовали то, что на их глазах воздви¬
галось.
Хорошо известно, как Полибий относился к установлению
римской власти над своим кругом земель. «Владычество македо¬
нян в Европе обнимало пространство от побережья Адриатики до
реки Истра, что составляет весьма небольшую долю этой страны.
Впоследствии, сокрушивши мощь персов, они приобрели и власть
над Азией. Как ни далеко простиралась их власть и как ни была
она обширна, все же македоняне не коснулись большей части
известного тогда мира. Ибо они и не помышляли никогда о поко¬
рении Сицилии, Сардинии и Ливии, а о народах Западной
Европы, собственно говоря, не имели и понятия. Меж тем римляне
покорили своей власти почти весь известный мир, а не какие-либо
части его, и подняли свое могущество на такую высоту, какая
немыслима была для предков и не будет превзойдена потомками»
(I, 2),— так написал Полибий в самом начале своей «Всеобщей
истории», а написал так потому, что усмотрел в этом факте нечто
большее, чем простое возвышение одного какого-то народа: он
увидел в нем движение самой истории. «Особенность нашей исто¬
рии и достойная удивления черта нашего времени состоит в сле¬
дующем: почти все события мира судьба направила в одну сто¬
рону и подчинила их одной и той же цели,—-написал он.— Судьба
никогда не совершала ничего подобного и не давала такого сви¬
детельства своей мощи» (1,4).
Да, образование империи было для Полибия делом не римлян,
а «судьбы», т. е. законов самой истории, проявлением историче¬
ской закономерности. И он принял эту закономерность. Более
того, он сам старался способствовать ее осуществлению. Изве¬
стно, какую роль сыграл Полибий в «умиротворении Греции»,
убеждая своих соплеменников принять власть Рима.
Сыма Цянь находился в иных условиях: та империя, которая,
если и не народилась непосредственно на его глазах, то во всяком
случае в его время укрепилась, была не чужой для него: Хань¬
ская империя была создана его же народом. Поэтому он не
только принял ее, но и вознес; вознес тем, что показал законо¬
мерность ее образования. Эту мысль он выразил в своих знаме¬
нательных словах о том, что Ханьская империя «обрела Тянь-
тун» — «Небесную преемственность», т. е. стала выразителем
правопорядка, на языке Полибия — судьбы.
Таким образом, оба историка действовали в одну и ту же
историческую эпоху, оба приветствовали тот исторический пово¬
рот, который в их странах и на их глазах происходил, и оба от¬
72
разили какую-то сторону общественных настроений своего вре¬
мени; настроений, как можно думать, тех кругов интеллигенции,
которые нашли себе место в новой обстановке, приняли ее, но
и в то же время постарались понять, что произошло, и на основе
такого понимания оправдать свое отношение к происшедшему.
Для этого же им понадобилось осмыслить ход истории, выяс¬
нить— как и почему история народа подвела к тому, что тогда
установилось. Поэтому они стали не только историками, показав¬
шими своим современникам, какой путь прошли их народы перед
тем, как дойти до нынешнего состояния, но и историками-фило-
софами.
Оба они осмыслили процесс исторической жизни как кругово¬
рот. И это можно понять. Появление империи они представили
как историческую неизбежность. Это могло быть лучшим сред¬
ством убедить сомневающихся, воодушевить убежденных. Неиз¬
бежность в глазах историка — проявление исторической законо¬
мерности, а в каком образе нагляднее всего можно представить
эту закономерность, как не в образе круговорота?
Но необходимо обратить внимание на то, к чему у обоих
историков отнесена концепция круговорота. Мне кажется, Поли¬
бий и Сыма Цянь говорят об одном: о власти. Их философия не
есть философия истории в точном смысле этого слова, а филосо¬
фия политической власти. Лучше сказать, впрочем, иначе: фило¬
софия истории, раскрытая через философию власти.
Разве могло быть тогда иначе? Мы привыкли говорить об
«империях» — Римской, Ханьской, вкладывая в эти слова смысл
нашего понятия государства. Но разве Римская империя была
государством таким же, каким являются государства эпохи
наций? Разве она была похожа даже на то, что считалось госу¬
дарством в эпоху народностей? То, что мы называем «Римской
империей», был ОгЫз готапиз — «римский круг земель», т. е.
территории, на которые простиралась 1трепит, власть Рима.
Таким же «кругом земель» была и Ханьская империя. Государ¬
ство как некая единая экономически, социально и политически
структура — порождение эпохи наций. В Римской же империи,
как было упомянуто выше, были и города-республики, и монар¬
хии, и даже племенные союзы. В Ханьской империи при наличии
хуанди, императоров, были ваны, цари, были вожди, управляв¬
шие своими племенными объединениями. Но над всем этим гос¬
подствовала одна власть — 1шрегшш. Поэтому нет ничего неожи¬
данного в том, что для Полибия и Сыма Цяня категория власти
воплотила в себе весь исторический процесс.
Однако рассматривают они власть с разных позиций: Поли¬
бий — с точки зрения того, кем эта власть представлена — одним
лицом, группой или массой; Сыма Цянь — с точки зрения того,
каков принцип этой власти. Греческого историка интересует —
73
сколько человек правят и что из этого получается; китайского —
на что в людях опираются те, кто ими, людьми, управляет. По¬
этому оба историка как бы взаимно дополняют друг друга.
И вот, оказывается, что судьба, как сказал бы Полибий,
тяньтун, как выразился бы Сыма Цянь, историческая закономер¬
ность, как сказали бы мы, привела сначала к появлению монар¬
хической власти, затем — аристократической, наконец — демокра¬
тической. Каждая из этих трех форм власти в определенный
момент способствует общественному прогрессу; следовательно,
необходима и законна. Но значение их не абсолютно; в природе
каждой из них заложено ее отрицание: монархия переходит в
тиранию, аристократия — в олигархию, демократия — в охлокра¬
тию. Такой переход — также проявление закономерности; законо¬
мерности уже общей, выраженной в диалектическом процессе
бытия. Но Полибий не мог остановиться на этом: это означало бы
признать неизбежность конца и той империи, которую он про¬
славлял, в появлении которой он даже видел руку самой судьбы.
Поэтому он допустил выход из очерченного им круга: обращение
к синтезу описанных им форм власти. Этим самым в его концеп¬
цию включается идея о возможности создания из элементов уже
известных форм власти каких-то новых ее форм. Вероятно, и в
них проявляется та же закономерность возникновения и исчезно¬
вения; действие общего закона движения противоположностей
сохраняется; круговорот власти будет продолжаться, но в новых
ее формах, на новой основе, как сказали бы мы.
Сыма Цяня не интересовало — сколько человек и кто пред¬
ставляет власть. Исторический опыт его народа в той мере, в
какой он узнал его, не показал ему примеров трех властей в том
законченно-оформленном виде, в каком их увидел в истории
своего народа Полибий. Поэтому для Сыма Цяня на первый план
выступил другой вопрос: на чем была построена власть в сме¬
нявших друг друга царствах, почему власть в данном царстве
установилась на таком принципе и что в нем привело эту власть
к гибели. К решению этого вопроса он подошел очень своеоб¬
разно. Власть в его представлении — управление людьми. Коль
скоро так, первое, что должен знать правитель,— знать природу
человека со всеми ее свойствами. Зная это, можно выбрать ту
сторону этой природы, опираясь на которую или призвав к дей¬
ствию которую, можно управлять людьми. Сыма Цянь увидел,
что наиболее важными с точки зрения управления являются
такие свойства человеческой натуры, как прямодушие — чистая
и в этой чистоте благая непосредственность, как инстинкт почи¬
тания, как действующее в человеке культурное начало — стрем¬
ление к творчеству. История, как ее представил Сыма Цянь, пока¬
зала, что можно, опираясь на эти свойства человеческой природы,
управлять людьми и двигать вперед общественную жизнь. Но она
же, история, показала, что каждое из этих свойств несет в себе
свой «вред», как он выразился, подвергается «порче», как сказал
74
бы Полибий. Поэтому в конечном счете эти принципы правления
приводят к кризису: к дикости, т. е. к интеллектуальной и мораль¬
ной первобытности — в первом случае, к слепому культу власти —
во втором, к приверженности к внешнему, показному — в третьем.
Поэтому история и отменяла последовательно каждый из этих
принципов, заменяя его другим.
Интересно отметить, что Сыма Цянь увидел еще один прин¬
цип власти: «закон жестоких кар», как он его назвал, т. е. прин¬
цип устрашения жестокими репрессиями; иначе говоря, управле¬
ние людьми с использованием присущего человеку чувства
страха. На этой основе и захотели построить свою власть прави¬
тели Циньского дома. К этому следует добавить, что режим этой
власти состоял не в одних «наказаниях», но и «наградах». Эти
два средства воздействия на управляемых всегда были связаны
друг с другом, и в литературе китайской Древности /Система
управления посредством устрашения и приманивания хорошо
освещена.
И вот, как представил Сыма Цянь, власть, построенная на
устрашении, оказалась не признанной историей. Это было «ошиб¬
кой», заявил он. Так же думал и Цзя И. Действительно, режим
Циньской империи продержался всего 15 лет — с 221 г. по 206 г.
до н. э. История в своем круговороте как бы выбросила его из
круга исторически-законного. С воцарением Ханьского дома все
вернулось, как сказал Сыма Цянь, к началу. Начался новый круг.
Но и у Сыма Цяня это не было все же простым повторением
уже бывшего когда-то. Как он сказал, правители империи не
дали людям пребывать в состоянии духовной инертности, т. е.
привели в действие творческие силы; а это означало, что опора
снова на «прямодушие» человеческой натуры должна была соз¬
дать в исторической жизни что-то новое.
Таким образом, как мне представляется, оба великих исто¬
рика древности свои концепции исторических перемен полити¬
ческой власти, а через них и общего хода исторического развития
построили на образе круговорота, это вне всякого сомнения, но
не как простого повторения уже бывшего когда-то, а повторения
с другим содержанием. Иначе говоря, диалектика их была не
формальной, а реальной, не метафизической, а исторической. Вот
это и дала потомству в сфере понимания исторической жизни
Древность.
1965 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Дата жизни Сыма Цяня указана по Ван Го-вэю.
2 Цитаты из «Всеобщей истории» Полибия приведены в переводе
Ф. С. Мищенка (см. Полибий, Всеобщая история в сорока книгах, т. II, Москва,
1855 г.).
3 К. Ьо'Л'ЦЬ, \7еИуе$сЫсМе ипй НеИзуезсНеНтв, 5. 16—17.
4 Ян Син-тин, Рэкиси сюки хосокурон, Токио, 1951, стр. 125—126.
75
6 Цит. по кн.: Теодор Гомперц, Греческие мыслители, пер. Е. Герцих и
Д. Жуковского, СПб., 1911, стр. 121.
8 Как будет видно из дальнейшего, автор предлагает свои переводы всех
этих терминов, не совпадающие с традиционными, а также — и это особенно
в данном случае важно — иное понимание их, как и понимание всей концеп¬
ции Сыма Цяня. О традиционном (и совершенно недостаточном, как полагает
автор) понимании этих терминов см. новейшие работы: Виг1оп >Уа1зоп,
Ззи-та СНЧеп, Огапй Н18(опап о[ СНта, Уогк, 1958, стр. 26; Отакэ
Фумио, Отакэ Такэо, Сики гэндайяку, Хонги, стр. 234.
7 Слова «держать в отдалении» следует понимать как выражение вели¬
чайшего почтения, как мысль о том, что человек не может как-то приближать
божества к себе.
8 См. прим. 6.
9 Позволяем себе предложить такое понимание наименования упомянутого
отдела династийных историй. И — слово, обозначающее понятие «мастерства»,
«искусства», т. е. той деятельности человека, продукцией которого является
нечто материальное; вэнь — слово, обозначающее то, что относится к просве¬
щению, осуществляемому средствами письменности, т. е. ко всем видам лите¬
ратуры.
10 Об этом см. Ф. Зелинский, Соперники христианства (Из жизни идей,
том. III), СПб., 1907, стр. 209—213.
11 Указанное значение слова тяньтун не следует смешивать с другим, отно¬
сящимся к календарному исчислению в древнейшем Китае: сменившие друг
друга древние «династии» начинали летосчисление с момента своего утверж¬
дения во власти. Календарная эра царства Ся получила наименование жэнь-
тун, эра царства Инь — дитун, эра Чжоу — тяньтун.
«СРЕДНИЕ ВЕКА» В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
1
Как известно, термин «средние века» появился в Европе
в XV в. в кругах ученых-гуманистов и употреблялся ими для обо¬
значения исторической полосы жизни европейских народов, ле¬
жащей между «древним миром», существование которого счита¬
лось гуманистами закончившимся в V в. падением Западной
Римской империи, и новым временем, как воспринимали гумани¬
сты свою эпоху. В таком же значении восприняли этот термин и
гуманисты — филологи и историки XV—XVII вв. За ними пошла
вся последующая историческая наука в Европе, окончательно за¬
крепившая этот термин в составе триады: «древность» — «сред¬
ние века» — «новое время». Так в сфере исторической науки воз¬
никла специальная отрасль — история средних веков.
Происхождение понятия и термина «средние века» обусло:
вило то, что история средних веков стала историей стран и наро¬
дов Европы. О неевропейских народах в ней говорится только
в той мере, в какой они соприкасались с европейскими. Об исто¬
рии народов Индии, об истории китайского народа в период, со¬
ответствующий средним векам Европы, мы в истории средних
веков почти ничего не узнаем;, совершенно ничего не узнаем об
истории Японии. О гуннах говорят лишь в связи с их вторжением
в самый центр Европы; историю Персии связывают с историей
Византии; арабы начинают действовать в истории Средних веков
только с того момента, как они в своем завоевательном движении
заставили народы Европы весьма ощутительно почувствовать
свое существование; монголы появляются в истории вместе с от¬
рядами Субудая, вступившими в Венгрию, и стоило им оттуда
уйти, стоило в дальнейшем владычеству Золотой Орды в Восточ¬
ной Европе пасть, как и монголы исчезают со страниц историк
средних веков; турки вошли в эту историю лишь в связи с кресто¬
выми походами, а в дальнейшем потому, что они, опрокинув Ви^
зантию, сами вступили на почву Европы. Правда, в ряде общих
«Историй- средних веков»-, по крайней мере в лучшйхизгнйхт:
кратко излагается и предшествующая история--этих неевропей¬
ских народов, но это изложение обычно носи? характер лишь не-
77
обходимой исторической справки; самостоятельного места ни
история гуннов, ни история персов, ни история арабов, ни исто¬
рия монголов, ни история турок, не говоря уже об истории наро¬
дов Индии, Китая, Кореи, Японии, Индокитая, Индонезии, в об¬
щей истории средних веков не занимают. Все эти народы счи¬
таются как бы принадлежащими к другому миру, лежащему за
пределами того «круга земель», к которому относятся народы
Европы. Этот другой мир по старой, идущей еще со времени евро¬
пейской античности традиции, обозначается общим термином
«Восток».
Представление о Востоке как о каком-то «другом мире» при¬
вело к тому, что в европейской исторической науке история наро¬
дов Азии и Северной Африки оказалась уделом особой отрасли,
именуемой «историей Востока». В «историю Востока» попала при
этом вся история перечисленных народов с того момента, с кото¬
рого вообще можно по состоянию наших знаний эту историю из¬
лагать, т. е., следовательно, и древняя история этих народов, если
о ней что-нибудь известно.
Углубление исторического изучения Востока привело к тому,
что наряду с общей «историей Востока» появились как отдель¬
ные ее части и даже как отдельные отрасли исторической науки
«история древнего Востока», «история восточного средневековья»
и даже «история нового Востока». Однако это не повлияло на
общее положение: историки европейского средневековья продол¬
жали называть свои работы просто «Историей средних веков»,
не находя нужным оговариваться, что речь идет только о средних
веках в истории Европы.
Что же, может быть, они, эти историки, и правы, так посту¬
пая? Ведь само понятие «средние века» исторически возникло
и определилось в Европе, было принято и разработано европей¬
ской исторической наукой в приложении именно к истории евро¬
пейских народов. Скорее можно спросить историков Востока,
имеют ли они право переносить это обозначение, сложившееся
в исторической науке народов Европы, на какую-то часть истории
народов Востока. Нам кажется, что это право они имеют, и при¬
том по тем же основаниям, по которым употребляют этот термин
историки народов Европы.
Обратим внимание на один, хорошо известный, исторический
факт: понятие «средние века», когда оно зародилось у гумани¬
стов, обозначало не только определенный промежуток времени
между «древним миром» и «новым временем», но вместе с тем в
это понятие входил и признак, резко отличающий «средние века»
от «древнего мира». Хорошо известно, как понимали тогда это
отличие: с точки зрения западноевропейских гуманистов XV—
XVI вв., «средние века» — время отхода от культуры, образован¬
ности, просвещения, от принципов общественной жизни, харак¬
терных для античного мира, конечно, как они, гуманисты, это
все понимали. Гуманисты видели в этом как бы погружение в
78
темноту, из которой народы Европы были выведены «Возрожде¬
нием», т. е. возвращением, как они полагали, к античности, какою
она тогда им представлялась. Именно это противопоставление
«средних веков», с одной стороны, «античному миру», с другой —
«новому времени», как эпох, разных по своему историческому со¬
держанию, и составляло для гуманистов важнейший элемент по¬
нятия «средние века».
Так было в Европе. Было ли что-либо подобное и на Востоке?
Восток обширен, и развитие исторической науки в разных его
странах протекало сложно и разнообразно. О «средних веках»
в Европе мы можем говорить, имея в виду всю Европу, во всяком
случае все наиболее значительные и культурные в те времена
страны. Гораздо труднее говорить столь же обобщенно о Востоке.
Но говорить все же в ряде случаев можно. Обратимся к самой
далекой от западного мира державе Востока — к Китаю, к Тан¬
ской империи — этому самому обширному и самому могучему
в VII—IX вв. государству не только на Востоке, но, пожалуй, и
во всем мире.
Во второй половине VIII в. в Танской империи возникло на¬
правление, превратившееся в наиболее могущественное течение
общественной мысли в последующие столетия вплоть до монголь¬
ского нашествия, т. е. до XIII в. Это движение, представленное
такими крупнейшими деятелями культуры, как Хань Юй, Лю
Цзун-юань, Оуян Сю, Су Дун-по, вызвало к жизни свою филосо¬
фию и свою эстетику, свою художественную литературу и свое
искусство, свою науку и свою публицистику — все резко отлич¬
ное от того, что наблюдалось в этих областях ранее. Развивалось
это движение под знаменем обращения к «древнему просвеще¬
нию» (гу вэнь).
Что же именно было «древностью» (гу) для представителей
этого движения?
Прямой ответ на этот вопрос мы находим у того, кто первый
обосновал положение о необходимости обращения к «древнему
просвещению»: это был Хань Юй (768—824) — поэт, публицист,
философ. В одной из своих работ — трактате «О продвижении
в науке» («Цзинь сюэ цзе») — он точно перечислил те письмен¬
ные памятники, которые определили для него «древнее просве¬
щение». Это — важнейшие произведения китайской философской,
исторической, публицистической мысли, поэтического творчества
за время от глубокой древности до конца Ханьской империи, т. е.
до III в. н. э.
Этот перечень свидетельствует, что у Хань Юя было вполне
определенное понятие «древности», определенное прежде всего
хронологически. В то же время, поскольку он «древнее просвеще¬
ние» (гу вэнь) противопоставлял «современному» (ши вэнь), по¬
стольку ясно, что для него существовало и понятие «нового вре¬
мени». Ближайшим образом это было, конечно, его время, т. е.
вторая половина VIII в.— первая четверть IX в. В более широком
79
смысле для людей его поколения «новым временем» была вообще
Танская эпоха, т. е. время, наступившее после установления им¬
перии дома Тан в начале VII в.
Наличие этих двух историко-хронологических категорий само
собою обнаруживает, что наряду с «древностью» и «новым вре¬
менем» у Хань Юя и его единомышленников в его время и в по¬
следующем существовало вполне отчетливое представление и о
промежуточной полосе, лежащей между «древностью» и «новым
временем». Наименования «средние века» эта полоса у них не
получила, но существование соответствующего представления об
этом промежутке не подлежит сомнению.
Это представление, как явствует из сказанного, было прежде
всего хронологическим, относилось ко времени с III по VII в. Но
хронологическое содержание понятия «средних веков» отнюдь не
было главным и у китайских «возрожденцев»: и Хань Юй, и его
единомышленники считали эту промежуточную полосу между
«древностью» и их временем по умственному уровню, по культуре
ниже того, что было в древности. Если бы они думали иначе, они
не призывали бы обратиться к «древнему просвещению»: нельзя
призывать к тому, что не считалось бы лучшим, хотя и утерян¬
ным. Это распространялось и на литературу, и на философию, и
на научное познание. Очень ярко отрицательное отношение тан-
ских «возрожденцев» проявилось и к религии.
Как известно, «средние века» в понимании Хань Юя, т. е.
III—VI вв., ознаменовались распространением и укреплением
в Китае новой религии, начавшей проникать в Китай из Кушан-
ского царства в Средней Азии еще в I в. н. э. Этой новой рели¬
гией был буддизм. В Танской империи влияние этой религии бла¬
годаря покровительству знати и самих императоров не только
сохранялось, но и росло. Показателем силы этого влияния в
эпоху Хань Юя служило перенесение в Китай «кости Будды»:
«Частица мощей» — была перевезена в столицу империи город
Чанъань и с великой торжественностью водворена в дворцовом
храме.
Хань Юй отозвался на это «перенесение мощей» знаменитым
памфлетом «О кости Будды». В нем он протестовал против такого
покровительства диким, с его точки зрения, суевериям. «Ведь он
(Будда),— писал Хань Юй,— мертв, и уже давно. Это всего
только сгнившая кость. Это всего только скверна и нечисть. Как
же можно помещать ее во дворце?»
Хань Юй резко отрицательно относился к буддизму, да и
вообще к распространенным в его время в Китае формам рели¬
гии. Он был тем, кого принято называть «конфуцианцами»,
а «Луньюй» — книга, в которой излагается учение Конфуция,—
сообщает, что «учитель не говорил ни о богах, ни о демонах»; на
прямой же вопрос, как он к ним относится, ответил: «Я чту богов
и демонов, но держу их от себя в отдалении». Кстати сказать,
эти слова Хань Юй привел и в своем памфлете.
80
Говорить на этом основании о Хань Юе как об атеисте, ко¬
нечно, нельзя, но его пренебрежительное отношение к религии
как собранию всякого рода суеверий несомненно. Так же относи¬
лось к религии и большинство других деятелей движения за обра¬
щение к «древнему просвещению». Следует помнить при этом,
что обе массовые религии тогдашнего Китая — буддизм и дао¬
сизм — были в то время в полной силе.
То, что в средневековом Китае именуется «конфуцианством»,
представляло собой светское просвещение. Это' было учение об
обществе и государстве, о человеке и его морали; это было уче¬
ние о природе и ее познании. Совершенно светский характер в
Тайскую эпоху носила и находившаяся в руках конфуцианцев
система образования. Представителями именно такого светского
просвещения были и все деятели движения за обращение к древ¬
ности.
Хань Юй выдвинул и основной принцип этого движения. Он
обозначил его словом «человеческое» (жэнь) или, полнее, «путь
человеческого» (жэнь дао). Невольно напрашивается перевод
этих слов нашим словом «гуманизм». И это — допустимо, при¬
чем не только чисто этимологически, но и по существу: предста¬
вители «танского возрождения» настойчиво выдвигали положе¬
ние о высшей ценности человека как основы общественной жиз¬
ни, просвещения, культуры. Хань Юй посвятил этой теме особый
трактат, так и названный им «О человеке» («Юань жэнь»).
Такое положение дел позволяет нам сказать, что и на Востоке
в определенный исторический момент, обусловленный своим хо¬
дом исторического развития, возникла концепция «средних ве¬
ков», которая имела притом не только хронологическое, но и
культурно-историческое содержание. По крайней мере так было
в истории китайского народа.
Было ли что-нибудь похожее в историй и других народов
Востока?
Обратимся к мусульманскому миру, и прежде всего к мусуль¬
манскому миру Средней Азии IX—XI вв. Нам известно, что в эти
столетия там имел место величайший для того времени расцвет
науки, философии, просвещения. Но также известно и то, что
аль-Фараби, Ибн Сина (Авиценна), аль-Хорезми и аль-Бируни
и другие великие современники этого расцвета создавали направ¬
ление тогдашней научной и философской мысли, приняв фило¬
софское и научное наследие древнего мира. Они обратились ко
всем. источникам великих древних цивилизаций, с которыми их
народы оказались связаны в своих исторических судьбах. Это
была, как известно, европейская античность, особенно эпоха
эллинизма; они черпали и из древнего индийского источника;
последующее изучение, вероятно, откроет, что кое-чем они обя¬
заны и древнему Китая, если и не непосредственно, то во всяком
случае через наследие старых народов Средней Азии, всегда
бывших в тесных сношениях с древним Китаем. Средняя Азия
6 Н. И. Конрад
81
еще в древнейшие времена была местом скрещения путей к важ¬
нейшим источникам человеческой цивилизации и сама представ¬
ляла один из центров этой цивилизации. Поэтому передовые дея¬
тели науки и философии среднеазиатского мира IX—XI вв.— под¬
линные гуманисты по своим принципам, создавая новую образо¬
ванность, новое просвещение, так же как до этого их собратья
в Китае, а после них — их собратья в Европе, перешагнули через
какую-то историческую полосу, лежащую посредине между их
временем и древним миром, иначе говоря, через свои «средние
века».
Эта краткая справка позволяет сказать, что историки Во¬
стока имеют право употреблять термин «средние века» на том же
основании, на каком этот термин вошел в употребление гумани¬
стов Европы XV—XVII вв. Вместе с тем приведенные факты, как
нам кажется, позволяют поставить вопрос и о том, не следует ли
считать то, что в истории народов Европы получило наименова¬
ние «Возрождения», проявлением общей закономерности истори¬
ческого процесса, обязательно наступающим в определенный мо¬
мент исторического развития народов великих цивилизаций. На
такую мысль наталкивает и то обстоятельство, что движение за
обращение к «древнему просвещению», как оно проявилось в
истории китайского народа, так же как и в Европе, возникло
в обстановке бурно развивавшейся городской культуры, при на¬
личии многочисленного слоя писателей, публицистов, историков,
философов, общественных деятелей, тесно связанных с этой го¬
родской культурой, с жизнью влиятельных городских сословий,
работавших при достаточно развившемся книгопечатании.
Разумеется, ни в коем случае нельзя полностью отождеств¬
лять все эти явления. Если условно именовать их «возрожде¬
нием», то и «танское возрождение», и «среднеазиатское возрож¬
дение» имеют свои глубоко специфические черты, отличающие
их друг от друга и каждое из них от «европейского возрожде¬
ния». Но вправе ли мы видеть только эти отличия, не обращая
внимания на сходства, тем более что эти сходства лежат в исто¬
рическом существе этих явлений?
Сопоставим теперь хронологию «средних веков» в упомяну¬
тых центрах мировой цивилизации в то историческое время.
Для китайских гуманистов времен Танской империи «средние
века» начались после распада древней Ханьской империи, т. е.
в III в. н. э.; для великих мыслителей и ученых Средней Азии и
Ирана — после падения древнего Парфянского царства, т. е. в
том же III в.; для народов Европы — после крушения Западной
Римской империи, т. е. в V в. Концом «средних веков» для тан-
ских гуманистов была эпоха обращения к «древности», т. е.
«эпоха танского возрождения», вполне отчетливо обозначив¬
шаяся, как сказано выше, в VIII в., но подготовленная еще пред¬
шествующим веком. Концом «средних веков» для гуманистов
Средней Азии и Ирана была «эпоха газневидского возрождения»,
82
начавшаяся в IX в., но достигшая своего расцвета в, X—XI вв.
Концом «средних веков» для европейского мира была «эпоха ев¬
ропейского возрождения», начавшаяся в XIV в. в Италии и со¬
здавшая в дальнейшем великий расцвет цивилизации во всей
Европе.
Стоит только определить начало «средних веков» в этих трех
центрах мировой истории того времени, как нам — при современ¬
ном уровне исторических знаний — становится ясным подлинное
историческое содержание этих «средних веков». «Средние
века» — период становления, утверждения и расцвета феода¬
лизма.
В самом деле. Существуют различные мнения о конце «древ¬
него мира» в Китае. Понимая «древний мир» как эпоху рабо¬
владельческого общества, новейшая историческая наука в Китае
склонна относить крушение рабовладельческого общества, а сле¬
довательно, и начало феодального периода в Китае, к далеким
временам, во всяком случае не ближе, чем IV—III вв. до н. э.
Действительно, элементы феодализма начали развиваться в Ки¬
тае раньше, чем у других народов. Но при всей несомненности
этого факта все же следует учитывать, что процесс крушения ра¬
бовладельческих порядков и установления феодальных занимал
обычно длительное время, что элементы распадающегося рабо¬
владельческого строя и постепенно возникающего феодального
могли существовать рядом друг с другом в течение столетий. По¬
этому эти века можно при одном подходе — с точки зрения исто¬
рии рабовладельческого общества — рассматривать как послед¬
нюю, закатную фазу рабовладельческого периода в истории дан¬
ного народа, при другом подходе — с точки зрения истории
феодального общества — считать начальной фазой периода фео¬
дализма. Так по-разному можно оценивать и последние века Рим¬
ской империи, так можно относиться и ко времени Ханьской им¬
перии, т. е. к последним двум столетиям до н. э. и первым двум
векам н. э. Отношение к этому времени танских гуманистов, ви¬
девших четкий рубеж между «древностью» и «средними веками»
именно в конце Ханьской империи, заставляет нас считать более
правильной оценку этой эпохи как закатной фазы рабовладель¬
ческого периода истории Китая, несмотря на несомненное нали¬
чие в строе Ханьской империи уже довольно развитых элементов
феодализма. А если так, то и для Китая, и для Рима — в пер¬
вом несколько раньше, во втором несколько позже — «средние
века» в указанных хронологических рамках были в равной ме¬
ре временем окончательного утверждения и развития феода¬
лизма.
В истории Ирана «древностью» было время Парфянского
царства — государства с рабовладельческим строем. После паде¬
ния аршакидской Парфии и образования на ее месте Сасанидской
державы в этом государстве также стали постепенно утвер¬
ждаться феодальные отношения. Кушанское царство в Средней
83
Азии и Северо-Западной Индии было государством рабовладель¬
ческим. Это была «древность» для народов этой части Старого
света. После падения Кушанского царства в V в. и в этой части
стали постепенно формироваться феодальные отношения.
Таким образом, и на Востоке, и на Западе «средние века»
имеют одно и то же историческое содержание: это — время ут¬
верждения и развития феодализма.
Марксистская историческая наука показывает, что переход от
рабовладельческой формации к феодализму в то историческое
время имел глубоко прогрессивное значение. Это обстоятельство
заставляет отнестись к «средним векам» иначе, чем относились
к ним гуманисты. Отношение это было, как известно, отрицатель¬
ным. Гуманисты видели в «средних веках» время темноты и не¬
вежества, из которого, как им казалось, могло вывести челове¬
чество обращение к лучезарной «древности». Мы же не можем не
видеть в наступлении «средних веков» шаг вперед, а не назад.
Парфенон, храмы Эллоры и Аджанты — великие создания чело¬
веческого гения, но не менее великими созданиями человеческого
гения являются и Миланский собор, Альгамбра, храм Хорюдзи в
Японии.
2
На каких же основаниях мы можем строить историю «средних
веков» в том охвате, о котором шла речь выше, т. е. в таком объ¬
еме, который включал бы не одну историю народов Европы в
средние века, а историю за этот же период и народов Азии и
Северной Африки — всего известного тогда цивилизованного
мира? Иначе говоря, на каких основаниях можно строить исто¬
рию средних веков во всемирно-историческом масштабе?
Как было упомянуто выше, у нас есть прежде всего самое
главное: единая общая почва для такого построения. Эта поч¬
ва — история утверждения феодализма как господствующей во
всемирно-историческом аспекте формации. Хронологически от¬
правным пунктом при этом является III век.
К этому времени древний мир на всемирно-исторической арене
был представлен пятью государствами, если считать только «ве¬
ликие державы» того времени. Это были: Ханьская империя в Во¬
сточной Азии, империя Гуптов в Индии, Кушанское царство в
Средней Азии, Парфянское царство в Месопотамии и Иране, Рим¬
ская империя в Передней Азии, Северной Африке и Западной Ев¬
ропе. Распад Ханьской империи начался в конце II в.; в начале
III в. пала Парфия. Таким образом, на рубеже III в. рухнули две
крупнейшие державы древнего мира на Востоке. Дольше продер¬
жались прочие державы: они распались .только в V в;. -
Хорошо известно, однако, что, говоря о.' падеННй Западной
Римской империи в V в:, подразумевают -факт, не имевший ника¬
кого эпохального значения: свержение ОдоаИром с престола Рим¬
84
ской империи «последнего римского императора» Ромула-Авгу-
стула. Фактически империя перестала существовать уже раньше.
Еще в IV в. она распалась на две части — восточную и западную,
и уже тогда в западной части стали хозяйничать завоеватели —
«варвары». Явственные же признаки развала Римской империи
обнаружились еще раньше — в III в.; ее ослабление сказалось и
в том, что она с великим трудом отстояла свое существование от
натиска «варварских» народов.
Таким образом, следует признать, что в III в. распад древнего
рабовладельческого мира обнаружился не в двух, а в трех его
центрах: в Китае, в Иране и в Римской империи. Конечно, сте¬
пень и масштаб утверждения феодальных отношений в каждой
из этих трех стран были очень различны. С наибольшей силой
этот процесс проявился тогда в Китае, с наименьшей — в Иране.
Поэтому в аспекте историй отдельных народов и стран и даже в
аспекте историй региональных хронология перехода к феода¬
лизму в каждом случае будет особая. Но если брать процесс в
целом, в плане всемирной истории, эти местные отличия в степени
утверждения феодализма существенно изменить общую хроноло¬
гию не могут.
Гораздо позднее начался переход к феодализму в остальных
двух центрах мировой цивилизации. Кушанское царство пало в
конце V в., а окончательно исчезло в самом начале VI в. Было
бы, однако, неправомерным ожидать, что исторический процесс
утверждения феодализма мог протекать всюду, на всем протя¬
жении Старого света в одних и тех же хронологических рамках;
следует скорее изумляться близости по времени развития этого
процесса в трех важнейших государствах древнего мира: в Во¬
сточной Азии, на Ближнем Востоке и в Западной Европе. О том,
какое всемирно-историческое значение имели события, развер¬
нувшиеся в этих странах, можно судить по тому, что уже в IV в.
обнаруживаются признаки развала и в Кушанском царстве, т. е.
в стране, с одной стороны примыкавшей к уже павшей Парфии, с
другой — к распавшейся Ханьской империи; почти одновременно
с падением этого царства в V в. произошло .и падение соседней с
ним империи Гуптов. Поэтому, если брать всемирно-исторические
масштабы, именно III в. и следует считать началом того про¬
цесса, который привел к утверждению феодализма как господст¬
вующей социально-экономической системы.
Основаниями, на которых можно строить историю средних
веков в подлинно всемирно-историческом масштабе, служат мно¬
гие — общие и для Востока и для Запада — исторические факты,
сопровождавшие процесс утверждения Феодализма. Один из этих
фактов — появление в этот период, в III—V вв., на всемирно-ис¬
торической арене ряда новых, «молодых» народов. Население
двух могучих.империй древнего мира — Ханьской и. Римской г— с
их древней цивилизацией, давно, уже страдавшее от набегов этих
народов,. обозначало .их; словами,: совершенно.. одинаковыми. яо.
95
своему смыслу: китайцы называли их ху или хужэнь, римляне —
барбари. Эти названия в равной мере значат: «иноплеменники»
и вместе с тем — «нецивилизованные». Для китайцев III—V вв.
это были гунны, тибетцы, сяньбийцы, жужане; несколько
позже — тюрки. Для римлян этих же столетий это были готы,
вандалы, аланы, лангобарды, франки, гунны; несколько позд¬
нее — славяне.
Народы, окружавшие древний Китай, в IV в. установили в
северной его половине свои «варварские королевства» — гунн¬
ское, тибетское, сяньбийское, чем и привели страну к распаду
на две половины — северную и южную; другие — вандалы, ост¬
готы, визиготы, франки, окружавшие древний Рим, способство¬
вали также в IV в. распаду Римской империи на две половины —
восточную и западную, а затем обосновались на территории за¬
падной половины. Такая же картина наблюдалась и в других
районах дреянего мира. Парфянское царство еще в III в. пере¬
шло в руки другой группы иранских племен, основавших новое
государство под властью Сасанидов. Кушанское царство и импе¬
рия Гуптов пали в V в. под ударами гуннов-эфталитов, также об¬
разовавших на некоторое время на завоеванной территории свое
государство.
Черты общности не должны, однако, заслонять от нас и су¬
щественные различия в процессе столкновения «старых» и «мо¬
лодых» народов. Как известно, в результате «варварских» втор¬
жений в Западную Римскую империю эта империя вообще пере¬
стала существовать, и возникшие на ее месте «варварские
королевства» положили начало полному изменению картины в
Европе. Дальнейшая история этой части света есть история уже
этих «молодых» народов.
Иначе шел процесс в Китае: варварские завоевания не только
не уничтожили китайское государство, но даже не прервали его
существования. Вне захватов осталась южная часть страны,
причем она отнюдь не превратилась в дальнейшем в своего рода
«Византию», а продолжала оставаться тем же Китаем. И даже в
северной части страны, где образовались «варварские королев¬
ства», эти королевства очень скоро перестали быть «варвар¬
скими», превратившись в те же китайские. Коренное китайское
население этой части страны ассимилировало пришельцев и при¬
вило им свою цивилизацию. На этой основе в дальнейшем вос¬
становилось и государственное единство страны.
В связи с этим по-разному отразились «варварские завоева¬
ния» и на процессе утверждения феодализма. «Молодые» народы
стояли тогда на более нц$кой ступени общественного развития,
чем народы древних цивилизаций: одни находились еще на позд¬
ней стадии первобытнообщинного отроя, у других уже зарожда¬
лись элементы феодализма. Поэтому в целом эти народы, тесно
соприкасаясь с народами древних цивилизаций, у которых уже
шел процесс становления феодализма, были втянуты в этот про¬
86
цесс. Но в одних случаях они сыграли большую роль в этом про¬
цессе, в других — меньшую.
Многие из перечисленных племен как на Востоке, так и на
Западе развивались за пределами стран древней цивилизации.
В Азии такими племенами были: маньчжуро-тунгусские племена,
как мы теперь называем эту этническую группу, давно уже осев¬
шие на территории, впоследствии получившей название Мань¬
чжурии; к ним примыкали предки современных корейцев, уже
в I в. до н. э. создавшие на Корейском полуострове свои госу¬
дарства; жужане, находившиеся на северо-западе от Китая и в
V в. достигшие высшей точки своего могущества; тюрки, образо¬
вавшие в VI в. могущественную державу на обширных прост¬
ранствах к северо-западу от Китая, подчинив при этом своей
власти жужаней. В Европе к таким племенам относились
свевы — в северной части, славяне — в восточной и юго-восточ¬
ной.
Этот процесс продолжался и в дальнейшем, и в ходе его
вступали в общую историческую жизнь все новые и новые на¬
роды. В Восточной Азии это были японцы, тангуты, кидане,
чжурчжени, монголы; в Средней и Передней Азии — различные
тюркские племена; в Передней Азии — арабы. Одни из этих на¬
родов селились на территории старых цивилизованных стран, со¬
здавая там свои государства и то сливаясь с местным населе¬
нием, то истребляя его; другие создавали свои государства на
новых территориях, этим самым вводя в общую историю новые
обширные районы Старого света.
Общим для истории народов средневековья на Востоке и на
Западе является далее тот факт, что эти народы строили свою
цивилизацию при наличии старого наследства — цивилизации
древнего мира. Для одних народов такое наследство было пря¬
мым, поскольку они развивались на территориях великих госу¬
дарств древности, с их старой цивилизацией. Для других эта
цивилизация была как бы внешней, но мощь древних цивилиза¬
ций была такова, что все народы в тоц или иной мере подпадали
под их влияние, вовлекались в их орбиту. Поэтому древние ци¬
вилизации играли в истории народов средневековья особую
роль.
К началу средних веков мир знал пять старых очагов циви¬
лизации: Китай, Индию, Кушанское царство, Парфию и Греко¬
римский мир. Под влиянием древней китайской цивилизации на¬
ходились все народы Восточной и Юго-Восточной Азии; под
влиянием цивилизации Индии — различные народности самой
Индии и Средней Азии: в свою очередь и цивилизация Средней
Азии простирала свое влияние на Северо-Западную Индию, на
народы Центральной Азии и даже на Китай; греко-римская ци¬
вилизация господствовала в Европе, Передней Азии и Северной
Африке, а в эпоху эллинизма проникла и в Среднюю Азию.
Такая ситуация определила очень сложный ход развития эко¬
87
номических, социальных и политических институтов народов
средневековья. Многие из таких институтов вырастали либо не¬
посредственно из соответствующих установлений древнего мира,
либо формировались под их влиянием. Поэтому та «чистота» об¬
щественных форм, которая может наблюдаться при самостоя¬
тельном, свободном от внешних влияний, историческом развитии
какого-либо народа,— случай, кстати сказать, в истории вряд ли
когда-либо бывший,— в указанной исторической обстановке на¬
блюдаться не могла. Средневековье — эпоха, коренным образом
отличающаяся от древнего мира,— все же было преемником
этого древнего мира. Это двойное обстоятельство — преемствен¬
ность цивилизации, .с одной стороны, и отказ от старой цивили¬
зации ради новой — с другой,— и составило одну из существен¬
ных черт культурного развития средневековья, именно ту черту,
которая обусловила упомянутую сложность и зачастую противо¬
речивость отдельных явлений этого процесса.
Роль древнего мира в развитии средневековья с особой отчет¬
ливостью выявилась в два исторических момента: в момент его
перехода в новую, уже сравнительно позднюю фазу. Становление
феодального строя происходило в обстановке резкого столкнове¬
ния нового со старым по всем линиям, столкновения, приведшего
к крушению рабовладельческого мира, представленного древ¬
ними государствами; и в то же время новый феодальный строй
формировался в соединении со многими элементами культуры
старых рабовладельческих государств.
Роль древней цивилизации ярко проявилась при переходе
средневекового феодального общества в новую фазу его разви¬
тия, когда в этом обществе стали вырисовываться элементы но¬
вых для того времени отношений — раннекапиталистических.
Это было в эпоху, которую в Европе называли «Возрождением»
и которую этим же именегё, при непременном учете своеобразия,
можно назвать, как нам кажется, и в некоторых странах Азии.
Переход в новую форму сопровождался известным отталкива¬
нием от «средневековья» и обращением к «древности». «Древ¬
ность» призвана была содействовать развитию новых поряд¬
ков — тех, о которых мечтали гуманисты Европы, Китая, Сред¬
ней Азии. Конечно, как мы хорошо знаем, это не было действи¬
тельно полное отрицание «средневековья». От него и нельзя было
отойти: феодализм, т. е. тот строй, который мы называем сред¬
невековьем, еще продолжал существовать. Это не было и воз¬
рождением «древности». Ее и нельзя было восстановить: это оз¬
начало бы возвращение к рабовладельческому строю. От «сред¬
невековья» осталось все то, что могло еще развиваться; от
«древности» было взято то, что могло способствовать необходи¬
мому движению вперед. Но мы также хорошо знаем, как велико
было это новое проявление влияния античности на средневеко¬
вый мир, как долго оно держалось и к каким многообразным по¬
следствиям в культуре оно привело.
88
Таким образом, особая роль наследия древнего мира в исто¬
рии средневековья проявилась одинаково и на Востоке, и на За¬
паде, и это составляет для нас еще одну опору в построении
истории средних веков во всемирном масштабе.
Можно указать много общих исторических явлений, могущих
служить опорой при построении такой истории. Укажем на одно
из существенных: особую роль религии и церкви в истории сред¬
невекового общества.
Как известно, в средние века мы наблюдаем то, чего не знал
древний мир — появление мировых религий. Это были: буддизм
в Восточной, Центральной и отчасти Средней Азии, ислам в
Средней и Передней Азии и в Северной Африке, христианство в
Европе и отчасти в Передней и Средней Азии. Конечно, буддизм
и христианство зародились и получили свое развитие еще в древ¬
нем мире, но только в период средневековья они превратились в
религии мирового масштаба. Ислам возник в средние века, но
также быстро приобрел мировое значение. Оказалось, таким об¬
разом, что именно феодализм — средневековое общество — обу¬
словил самое возможность приобретения религией такого ис¬
ключительного положения. Новый базис в первое время нуж¬
дался в такой надстройке, которая помогла бы ему укрепиться:
буддизм, христианство и ислам и составили тогда именно такую
надстройку, и притом всеобъемлющего характера.
Надстройки, укрепляющие свой базис,— это право, политиче¬
ская теория, система морали, эстетические взгляды, философия
и религия. Религия в средние века была и системой права, и по¬
литической доктриной, и моральным учением, и философией. Она
была синтезом всех надстроек над феодальным базисом, по
крайней мере до тех пор, пока этот базис не стал расшатываться
под действием факторов, ведших к капитализму. Такой всеохва¬
тывающий характер религии в средние века обнаружился всюду.
Буддизм — это далеко не только верования; это — философия со
своей теорией познания; со своим учением о бытии; это — мо¬
ральное учение; это— учение об обществе и государстве; это, на¬
конец,— система эстетических воззрений, под знаком которых
расцвело замечательное буддийское искусство — архитектура,
скульптура, живопись; образовалась художественная литера¬
тура — поэзия, повесть, драма. Ислам не только совокупность
верований; это — политическое учение, это — право, мораль. То
же можно сказать и о средневековом христианстве: достаточно
перелистать одну «Зитта ШеоЬ^ае», чтобы увидеть, что в ней
содержались элементы всех видов надстройки вплоть до эконо¬
мической теории. Поэтому признаком начала освобождения
из-под власти религии, проявлением ослабления ее значения был
распад этого синтеза: высвобождение из общего целого отдель¬
ных самостоятельных областей. Как нам известно, первыми на
этом пути были науки о природе — естествознание, астрономия
и математика. Именно поэтому их возникновение и развитие име¬
89
ло для того времени поистине революционное значение, предве¬
щавшее установление нового общественного порядка.
Дело было, однако, не только в чисто идеологической стороне
религии. Надстройки вызывают к жизни соответствующие им ин¬
ституты и действуют через них. Таким институтом религии как
надстройки была церковь. И в той же мере, как и сама над¬
стройка, этот ее институт имел всеобъемлющий характер. Появ¬
ление церкви как огромной, разветвленной, могущественной об¬
щественной организации — новая и притом чрезвычайно харак¬
терная черта средневекового строя.
Здесь мы опять можем констатировать в каждом отдельном
случае сходство явлений на Востоке и на Западе — при всех спе¬
цифических чертах. Не одно только христианство создало
церковь: церковь имел и ислам, церковь имел и буддизм. При
этом формы организации этих трех церквей были близкими в
своей основе. Церковь состояла из духовенства и мирян; духо¬
венство было организовано на началах иерархии; одинаков был
и принцип, на котором строилась эта иерархия,— принцип авто¬
ритета.
Была еще одна черта, во всей полноте выявившаяся именно
в религии средних веков. Все три церкви были прежде всего
крупнейшими политическими организациями, и история хри¬
стианской, исламской и буддийской церкви есть в первую оче¬
редь история их политической деятельности. Излишне напоми¬
нать, что эти организации были орудиями правящего класса —
феодалов — в целях наиболее полного подчинения этим феода¬
лам эксплуатируемых ими народных масс.
Такой специфический характер религии в средние века и ее
особая роль как идеологии и как церковной организации, роль,
одинаково проявившаяся в истории и христианской церкви, и
ислама, и буддизма, могут быть добавлены к числу тех общих
факторов исторической жизни в средние века, которые создают
почву для построения истории средних веков как общей истории
стран и народов Старого света в этот период.
Однако при всей общности этого явления нельзя упускать из
вида и значительные различия в сферах и степени влияния ре¬
лигий на идеологию и общественную жизнь в разных странах
периода средневековья. Примером этих различий может служить
роль католичества в жизни народов Западной Европы и буддизма
в Китае. Буддизм в Китае никогда, даже во времена своего
наибольшего могущества, не играл такой роли в общественной
и государственной жизни, какую играло в западноевропей¬
ских странах католичество. Так, например, один из самых важ¬
ных участков — просвещение, образование — в Китае всегда на¬
ходился в руках так называемых конфуцианцев, т. е. представи¬
телей, как мы отметили выше, светского просвещения. В руках
конфуцианцев было сосредоточено и школьное образование, выс¬
шая ученая академия. Буддийские трактаты никогда не были
90
учебниками в этих школах, а если конфуцианцы эти трактаты и
читали, то только для того, чтобы их критиковать и на основе
этой критики — отвергать. Таким образом, в этой сфере положе¬
ние в средневековом Китае резко отличалось от того, что наблю¬
далось в христианской Европе и в мусульманской Азии и в Аф¬
рике.
Можно было бы перечислить еще ряд явлений, служащих на¬
дежной опорой для построения общей, всемирно-исторической, а
не региональной — западной или восточной — истории средних
веков. Рассмотрим из них только одно из числа самых важных.
Это явление — крестьянские движения в историческом процессе.
Хорошо известно, что именно в средние века крестьянские
движения получили такой размах, который не наблюдался ни
раньше, ни позднее. И это естественно, так как в условиях фео¬
дализма крестьянство составляло основную массу трудового на¬
селения, было основным антагонистическим классом по отноше¬
нию к господствующему классу — феодалам. Прочие угнетаемые
слои общества — ремесленники, люди наемного труда, городской
плебс — лишь в эпоху позднего феодализма стали выступать са¬
мостоятельно, да и то относительно; в течение же всего периода
средних веков эти угнетенные слои поднимались на борьбу,
лишь присоединяясь к крестьянам. Поэтому классовая борьба в
средние века велась в форме столкновения основных анта¬
гонистических классов феодального общества — крестьян и фео¬
далов.
Очень хорошо известны и досконально изучены крестьянские
движения в Европе. Гораздо менее они изучены на Востоке, а
между тем в средние века именно на Востоке крестьянская
борьба принимала наиболее крупные масштабы и выливалась в
наиболее острые формы. Это особенно относится к Китаю.
Но с точки зрения исторического процесса важен не столько
самый факт таких восстаний, сколько их историческая роль.
Крестьянские восстания в средние века, как правило, закан¬
чивались неудачей: феодалы обычно жестоко подавляли их. Но
было бы крайне неправильно видеть только это. Несмотря на все
репрессии, которые обрушивались на борющихся крестьян,
именно эти восстания, эта борьба в решительные моменты дви¬
гала историю вперед. Если взять историю Китая, этот факт мож¬
но проиллюстрировать тремя яркими примерами.
Первый пример. В 80-х годах II в. н. э. в Ханьской империи
разразилось огромное восстание, известное под названием «Вос¬
стания желтых повязок» (желтая повязка служила знаком при¬
надлежности к восставшим). В нем приняли участие все угне¬
тенные слои населения, главным образом закабаляемые земле¬
дельцы и рабы. Восстание было подавлено, но оно подорвало са¬
мые основы Ханьской империи и заставило господствующий
класс окончательно отказаться от остатков рабовладельческой
эксплуатации и решительно перейти к эксплуатации феодальной.
91
А такой переход для того времени был шагом вперед на пути
общественного развития.
Второй пример. В 70-х годах XI в. н. э. в Танской империи
вспыхнула крестьянская война, так называемое восстание Ван
Сянь-чжи и Хуан Чао. Как всегда, основную массу восставших
составили крестьяне; к ним примкнули и другие угнетенные слои
трудящихся. Восстание было подавлено, но форма эксплуата¬
ции, которая господствовала до этого,— форма, основанная на
государственном закрепощении крестьянства,— была оконча¬
тельно ликвидирована и заменена зависимостью крестьян непо¬
средственно от феодалов. Это соответствовало интересам прежде
всего класса эксплуататоров, но в связи с этим началась эра так
называемого раздробленного феодализма, характеризовавше¬
гося значительной хозяйственной самостоятельностью отдельных
феодальных владений, что способствовало общему экономиче¬
скому развитию страны. Для того времени это было, следова¬
тельно, шагом вперед. Нужно, однако, помнить, что господству¬
ющий класс перешел к другой форме эксплуатации именно под
влиянием этого крестьянского восстания.
И третий пример. В первой половине XVII в. в Минской им¬
перии разгорелась крестьянская война, известная под названием
«Восстания Ли Цзы-чэна». Восстание это также было подавлено
при содействии маньчжур, позванных на помощь китайскими
феодалами. Но это восстание не только повлекло за собой свер¬
жение правящей династии, но и привело к более важному резуль¬
тату: оно окончательно привело китайский феодализм к его по¬
следней фазе — фазе абсолютизма, т. е. двинуло историю вперед.
Эти три примера, как нам кажется, подтверждают тезис мар¬
ксистской теории исторического процесса: именно народ, трудя¬
щиеся классы являлись и являются истинными двигателями ис¬
тории. Разумеется, это одинаково ярко иллюстрируется борьбой
крестьян и на Западе. И этот факт может служить надежнейшей
опорой в выявлении общности хода исторического процесса на
Западе и Востоке.
3
Достаточно ли, однако, всего этого? Достаточно ли для по¬
строения истории средних веков того факта, что в этот период на
всем протяжении Старого света господствовал феодализм, что
этот феодализм вырос на развалинах древнего рабовладельче¬
ского мира, что в этот период и в Азии, и в Европе стали дейст¬
вовать новые народы, что многие из них положили начало обра¬
зованию в дальнейшем современных наций, что весь историче¬
ский процесс в это время проходил в обстановке переплетения
элементов новой цивилизации с элементами старой цивилизации,
что в этом процессе огромную роль играли религия и церковь, что
двигали историю трудящиеся массы, их борьба? Ведь для общей
92
истории нужна какая-то общность самой жизни. Была ли в сред¬
ние века такая общность исторической жизни народов Азии, Ев¬
ропы, Северной Африки?
Никому не приходит в голову сомневаться, что в исторической
жизни народы Европы тесно соприкасались друг с другом. Само
существование уже с давних пор «истории средних веков» в ев¬
ропейском понимании этого термина как особого отдела истори¬
ческой науки свидетельствует об этом. Никто не спорит и о том,
что исторические судьбы народов Средней и Передней Азии, а
также Индии тесно переплетались: это давно уже сделало воз¬
можным существование «истории Востока» вообще и даже
«истории восточного средневековья» в частности. Тесно связаны
между собой и народы Дальнего Востока, а также и народы Юго-
Восточной Азии. Но общность исторической жизни Запада и Во¬
стока в целом? Существовала ли она?
Обратимся к тому, что нам хорошо известно. Обратимся к
древнему миру. Древняя Греция была не только страной Ев¬
ропы; ее малоазиатские колонии делали ее и страною Азии.
Греко-персидские войны — красноречивое свидетельство самого
близкого соприкосновения истории Греции с историей народов
Ближнего Востока. История Запада в эпоху Александра Маке¬
донского перестает быть историей одного Запада, она превра¬
щается и в историю Востока. Более того, в эллинистическом
мире, образовавшемся после походов Александра, вообще не
было разделения на Восток и Запад. Частями этого мира в рав¬
ной мере были и европейская Греция, и африканский Египет, и
переднеазиатская Сирия, и среднеазиатская Бактрия.
Трудно провести разделение на Восток и Запад и в эпоху
Рима. Римская империя отнюдь не была государством только ев¬
ропейским — ни географически, ни политически, ни культурно.
Даже в области религии: митраизм и христианство, господство¬
вавшие в Римской империи в последние столетия ее существова¬
ния — явления одинаково восточные и западные. Хорошо изве¬
стно и то, как тесно соприкасалась история Рима с историей ок¬
ружавших его народов Азии и Северной Африки.
Чем было Кушанское царство? Оно находилось в Азии, так
что географически принадлежало Востоку. Но оно включало в
свой состав и территорию бывшей Бактрии — страны эллинисти¬
ческой культуры; оно владело территорией нынешнего Афгани¬
стана и частью Северо-Западной Индии, а оттуда в него проник
буддизм; оно находилось в постоянных сношениях с Ханьской
империей, а это означало проникновение в него китайской циви¬
лизации и вместе с тем проникновение из него в Китай буд¬
дизма. Кушанское царство в эпоху своего расцвета было пои¬
стине перекрестком и средоточием цивилизации иранской, ин¬
дийской, эллинистической и китайской, обогативших местную
культурную основу. Для того чтобы в этом убедиться, доста¬
точно взглянуть на искусство Гандхары — на памятники изобра¬
93
зительного искусства, оставшиеся от этого царства: в изображе¬
ниях будд и бодисатв, созданных тогда, можно увидеть и черты
индийского искусства, и элементы эллинистического искусства,
и отголоски изобразительного искусства древнего Китая. Это
скрещение разных культур получило даже своеобразное симво¬
лическое выражение: Канишка, правитель Кушанского царства,
в эпоху его высшего могущества носил четыре титула: «Сына
Неба» (Дэвапутра), «Царя Царей» (Шаонана шао), «Цезаря»
(Кайсара) и «Магараджи». Это были титулы правителей Китая,
Ирана, Рима, Индии.
Обратимся к Ханьской империи. Хорошо известно, что ис¬
тория этой империи тесно переплеталась с историей народов на
Корейском полуострове, с историей народов Юго-Восточной
Азии, с историей «Западного края» (Си юй), как называли тогда
китайцы Восточный Туркестан и Среднюю Азию. О связи же с
историей многочисленных «варварских» племен, обитавших к се¬
веру и северо-западу от китайских границ, и говорить нечего:
история этих племен прямо включается в так называемые дина¬
стические истории Китая. Так, например, в «Хоу-Хань шу»
(«Истории 2-й Ханьской династии») есть отделы, излагающие и
историю народов Корейского полуострова и «Западного края».
А через Среднюю Азию историческая жизнь китайского народа
соприкасалась и с жизнью народов Индии и Ближнего Востока.
Китайцы знали и о «Великой стране Цинь» (Да-Цинь) на дале¬
ком Западе: так они называли Римскую империю. Знали о
«Стране серов», существующей где-то на Дальнем Востоке, и
древние римляне; им было известно, что те шелковые материи,
которые привозили к ним восточные купцы, шли из этой страны.
Обе страны иногда даже стремились установить прямую связь
друг с другом. В I в. н. э. в Рим было направлено ханьское по¬
сольство; оно до Рима не дошло, но в римской Сирии побывало.
Когда же «Да-Циньский Антон», т. е. Марк Аврелий Антонин, во
II в. н. э. разгромил парфян и ступил на берег Персидского за¬
лива, он тут же направил в «Страну серов» посольство. Оно на¬
правилось в Китай морским путем — через Индийский океан —
к берегам Кохинхины и оттуда по суше до ханьской столицы —
города Лояна. Таким образом, существовала торговая связь ме¬
жду двумя великими империями Востока и Запада. Она поддер¬
живалась и «северным путем» — по суше через страны Передней
и Средней Азии, и «южным путем» — по морю, от Персидского
залива до Индокитая.
Все эти хорошо известные факты приведены лишь для того,
чтобы напомнить, что еще в древнем мире образовалась извест¬
ная общность исторической жизни народов Востока и Запада.
И в средние века эта общность не только не исчезла, но увеличи¬
лась в масштабах и усложнилась в своем содержании. В этом не¬
трудно убедиться, если бросить хотя бы самый беглый взгляд на
важнейшие исторические события средних веков.
94
Уже в самом начале средних веков мы видим проявление общ¬
ности истории народов Востока и Запада: это — история гуннов.
Вспомним ее.
Гунны из той части племени, которая осталась на своей искон¬
ной родине в Восточной Азии, в начале IV в. ринулись на
Цзиньскую империю в Китае, на короткое время восстано¬
вившую старую империю под властью другой династии, и завла¬
дели северной половиной этой империи. Гунны из этой части
племени, которая в конце II в. покинула свою древнюю родину
и двинулась на Запад, сначала на некоторое время задержались
в Средней Азии, а затем пошли дальше — «продолжать свою
историю» уже в других местах. Одна их группа, которую евро¬
пейские историки называют гуннами-эфталитами, в V в. обру¬
шилась на Кушанское царство и овладела им, а вскоре затем по¬
корила и индийскую империю Гуптов. Другая группа продвину¬
лась к Каспийскому морю, заняв северный берег его вплоть до
южных отрогов Урала, а затем, увлекая с собою покоренные
племена и в известной мере смешавшись с ними, двинулась да¬
лее на Запад, установив во второй половине IV в. свое государ¬
ство в степях Нижней Волги, Дона и Северного Кавказа; в по¬
следней четверти IV в. эти гунны, перейдя Дон — границу гот¬
ской державы, разбили остготов и, продвинувшись далее к
Днестру, разгромили визиготов, подступив таким образом к гра¬
ницам Римской империи. В V в. начался натиск гуннов уже на
Рим, приведший к перенесению центра гуннской державы в са¬
мое сердце Европы — Паннонию.
Где развернулась эта история гуннов? На Востоке? На За¬
паде? В Восточной Азии? В Средней Азии? В Передней Азии?
В Индии? В Восточной Европе? В Центральной Европе? Ответ,
конечно, может быть только один: всюду, на всем пространстве
Старого света — от северных областей Китая до западных про¬
винций Рима. Можно ли поэтому излагать историю гуннов вооб¬
ще как-нибудь иначе, как в рамках общей истории народов Ста¬
рого света в средние века?
Исторический путь гуннов наглядно свидетельствует о невоз¬
можности строить эту историю в рамках одного Востока или од¬
ного Запада. Выходит за эти рамки и история некоторых других
народов, появившихся на исторической арене в средние века. Та¬
кие народы — тюрки, арабы, монголы.
История тюркских племен начинается в Азии, в районе Ал¬
тая. В VI в. эти племена образовали сильный племенной союз,
именуемый западными историками «тюркским каганатом». В это
время владения тюрок представляли обширную державу, прости¬
равшуюся от Хинганских гор на Востоке до Согдианы в Средней
Азии, отнятой тюрками от гуннов-эфталитов. Центр этой дер¬
жавы был на берегу реки Орхон в нынешней Северной Монголии.
Но уже в те времена эта держава, бывшая непрочным объеди¬
нением большого числа кочевых племен, фактически распадалась
95
на две слабо связанные между собой части — восточную и запад¬
ную, имевшие каждая своего отдельного кагана. Поэтому даль¬
нейшее развитие истории тюрок пошло по двум направлениям.
История восточных тюрок протекала в ближайшем соседстве с
Китаем и тесно соприкасалась с китайской историей. Уже в VI в.
обнаружился сильный натиск тюрок на Северный Китай, выну¬
дивший китайцев то отбиваться от них оружием, то откупаться
дарами и данью. Столкновения продолжались в течение всего
VI и VII вв. и были настолько значительными, что в эти столетия
«тюркская опасность» была главной внешней угрозой для Китая.
Еще в VI в., т. е. во время существования единой тюркской
державы, западные тюрки покорили Среднюю Азию и даже Пер¬
сию, завязали сношения с Византией. Они вели через эти старые
культурные страны оживленную торговлю, связывавшую тогда
Восток с Западом.
Незачем здесь излагать историю западных тюркских племен:
она хорошо известна. В последующие времена мы находим тюрк¬
ские государства и в Средней Азии, и в Передней Азии, и в Ин¬
дии, и в Европе. Какой же части Старого света принадлежит
история тюрок? Разве только азиатской была империя Тимура?
Разве только азиатской была Османская империя? И можно ли
вообще историю тюркских народов излагать иначе, как вне ра¬
мок Востока и Запада?
Столь же общим и для Востока, и для Запада фактом являет¬
ся и история арабов. В средние века арабские государства про¬
тянулись цепью от Аравии и Средней Азии по всему побережью
Северной Африки до Атлантического океана и перешли оттуда
на Пиренейский полуостров. История этих государств на Востоке
была историей не только самих арабов, но и народов Средней
Азии и даже Северо-Западной Индии; а история аравийских
арабов соприкасается и с историей Эфиопии. История арабов в
Передней Азии самым тесным образом сомкнулась с историей
Византии и даже стран Западной Европы. Об арабах на Пире¬
нейском полуострове повествует история Европы. В равной мере
немыслимо излагать историю Кордовского халифата отдельно от
истории Испании, как и историю Испании в средние века без
истории мавров.
Подобным же образом и историю монголов, как и историю
гуннов, тюрок и арабов, невозможно излагать в рамках одной
только истории Востока. Монгольская империя XIII—XIV вв.,
протянувшаяся от берегов Тихого океана до западных границ
Восточной Европы,— явление, принадлежащее и Востоку, и За¬
паду. Трудно себе представить, чтобы у монголов времен Чин¬
гиза или Хубилая могла даже существовать мысль о рубеже, де¬
лящем их владения на «Восток» и «Запад». Следует вообще ска¬
зать, что в Европе образовалось понятие «Восток», но у народов
Азии понятия «Запад» в средние века не было. «Запад» как по¬
нятие, противопоставляемое «Востоку», появилось, например, у
96
китайцев и японцев лишь в новейшее время и своим возникнове¬
нием обязано знакомству с европейским словом «Восток» в спе¬
цифическом для европейцев понимании.
Так обстоит дело с историей некоторых народов, действовав¬
ших в средние века: она может быть рассказана только в рамках
всемирной истории. Это касается не только тех народов, кото¬
рые вышли из Азии; это распространяется и на некоторые из ев¬
ропейских народов. Вспомним хотя бы историю Византии или
историю Киевской Руси и Московского царства. Можно ли из¬
лагать историю Византии без истории Персии, Арабского хали¬
фата или Турции? Можно,ли представить историю Киевской
Руси и затем Московского царства без того, чтобы не затронуть
при этом Монгольской империи или державы Тимура? '
Таким образом, переплетенность исторической жизни народов
Востока и Запада в средние века несомненна. Само собою разу¬
меется, эта переплетенность в разные времена и у разных наро¬
дов была различной и по степени, и по содержанию. Временами
она могла и совсем отсутствовать. Но если историю народов Во¬
стока и Запада в средние века брать в целом, эта переплетен¬
ность исторической жизни наличествует всюду.
Можно и нужно излагать историю отдельных народов — и
больших, и малых; каждый народ является субъектом истории и
обладает своею собственной судьбой. Историческая деятельность
каждого народа имеет самодовлеющее историческое значение.
Можно и нужно излагать историю отдельных групп народов,
особо связанных между собой течением своих исторических су¬
деб. Вполне возможна, например, история в средние века наро¬
дов Восточной Азии — китайцев, корейцев, японцев, история на¬
родов Индии, Средней Азии, Ближнего Востока, история славян¬
ских народов, история народов Западной Европы и т. п. Но не
менее важна и столь же необходима и общая история средних
веков. Возможна она по той причине, что исторически жизнь на¬
родов Старого света тесно связана была с общей; необходима же
такая общая история потому, что лишь в таких общих рамках
перед нами в подлинном свете и в должном масштабе предста¬
нут многие процессы истории отдельных народов и целых групп
народов.
4
Как строить эту общую историю средних веков? Как не допу¬
стить того, чтобы эта история превратилась в собрание историй
отдельных стран и народов или, в лучшем случае, в какую-то
общую сводку этих историй, иначе говоря, в новый вариант так
называемых «всеобщих историй», существующих уже с давних
пор и имеющих свои установившиеся традиции? Как следует
строить эту историю, чтобы получилась действительно общая
история стран и народов средних веков?
7 Н. И. Конрад
97
Построить подлинно всемирную историю средних веков мож¬
но лишь в том случае, если постоянно помнить о ее специфических
особенностях, отличных от задач историй отдельных народов и
стран или истории отдельных групп народов. Некоторые из этих
задач можно, как нам кажется, назвать без особого труда.
Одна из таких задач состоит в раскрытии содержания и зна¬
чения каждого исторического события, затрагивающего одновре¬
менно несколько стран и народов, несколько групп стран и наро¬
дов или даже Восток и Запад в целом, не в аспекте истории ка¬
кого-либо одного из участников этого события, а в аспекте все¬
мирной истории.
Возьмем для примера один исторический факт.
Мы знаем о крестовых походах, знаем историю их. Но один
тот факт, что мы знаем эту историю под названием «крестовые
походы», свидетельствует, что она представлена у нас «с этой
стороны» — со стороны Европы. Замена наименования «кресто¬
вые походы» другим ничего не меняет в таком, так сказать, ев¬
ропейском подходе к этим событиям.
Меж тем крестовые походы представляют события, в такой
же мере составляющие историю и восточных народов, и их можно
излагать, подходя к ним и «с той стороны»; оснований для этого
ничуть не меньше, чем для изложения их в аспекте истории Ев¬
ропы. Представим себе, что об этих событиях повествует какой-
либо мусульманский историк. Он расскажет о них иначе, чем
историки Европы. У него это будет, может быть, «защита от на¬
шествия неверных», может быть, «история продвижения ислама
на Запад» или еще как-нибудь в подобном роде. Отмечать эти
события в аспекте истории Европы вполне законно, но только
для истории Европы. Так же законно излагать их и в аспекте
истории арабов, позднее — турок, но только для истории арабов
или турок. Иначе должна подойти к этим событиям всемирная
история средних веков: она должна посмотреть на эти события
не с «этой» или «той» стороны, а как бы «сверху», т. е. незави¬
симо от концепций «этой» и «той» стороны. И лишь в таком слу¬
чае эти события предстанут перед историком в своем общеисто¬
рическом, т. е. наиболее правильном свете.
Возьмем еще пример. Мы знаем о монгольских завоеваниях
в Восточной Европе; мы знаем о борьбе русского народа с завое¬
вателями и о крушении их государства. Можно излагать это кру¬
шение как освобождение от монгольского ига; так и нужно делать
в истории русского народа. Можно говорить об этом крушении,
как о спасении народов Западной Европы от монгольской опас¬
ности: так и следует освещать это событие в истории этих наро¬
дов. Однако историк средних веков в целом увидит тут одновре¬
менно упорную борьбу китайского народа с монгольскими завое¬
вателями, борьбу, приведшую к его освобождению от монголь¬
ского ига; борьбу народов Средней Азии и Ближнего Востока с
монгольскими завоевателями и распад монгольского владыче¬
ства в этом районе Старого света; героическое сопротивление
русского народа, в длительной борьбе завоевавшего свою сво¬
боду. Всемирная история увидит все эти три факта одновре¬
менно, они войдут в связь друг с другом и все вместе раскроют
подлинный смысл событий: это будет крушение мировой мон¬
гольской империи и начало нового развития народов, на некото¬
рое время оказавшихся в своем развитии скованными владыче¬
ством завоевателей.
Такова одна задача истории средних веков: раскрытие содер¬
жания и значения всех событий в подлинно всемирно-историче¬
ском аспекте.
Другая из возможных задач состоит в раскрытии роли каж¬
дого народа в общем историческом процессе средневековья. Это
может быть достигнуто двойным путем: во-первых, прослежива¬
нием истории каждого народа как явления самодовлеющего, а не
как придатка к истории какого-либо другого народа; во-вторых,
раскрытием переплетенности истории каждого народа с историей
других народов. Эти два аспекта должны неуклонно сопровож¬
дать друг друга. Нельзя, например, историю арабов излагать
только с того момента, когда европейские народы реально столк¬
нулись с ними; нужно излагать всю историю арабских племен в
средние века. Но для того, чтобы это не превратилось в историю
арабов и только, эту историю следует излагать с точки зрения
той роли, которую сыграли арабы в общей исторической жизни
средних веков. И тогда эта история предстанет пред нами как
процесс выхода различных арабских племен на арену всемирной
истории; как процесс распространения их по огромной части
Старого света — от Аравийского полуострова до берегов Атлан¬
тики, с одной стороны, до Индонезии — с другой; как процесс
образования ряда арабских народностей, создавших свои госу¬
дарства; как процесс вхождения их в историю других народов и
в Азии, и в Европе с серьезным влиянием на течение истории и
даже на судьбы некоторых из них.
В особом свете предстанет перед историком средних веков
и история русского народа. Он увидит в ней процесс сплочения
и объединения ряда восточнославянских племен, превращения
их в один из мощных факторов всемирной истории; процесс
образования восточнославянского государства — нового пункта
скрещения истории Востока и Запада с последствиями этого: не¬
обходимостью вести борьбу за свое существование и развитие в
двух направлениях — западном и восточном; историк увидит в
дальнейшем процесс образования государства, становящегося в
XVI в. могучей державой, перешагнувшей через Урал и тем са¬
мым уже тогда положившей начало многонациональному объ¬
единению, сделавшему вообще беспочвенным какое-либо деление
на Восток и Запад, со всеми последствиями этого факта для даль¬
нейшего течения всемирной истории.
Так может быть определена еще одна задача общей истории
99
средних веков: раскрытие истории каждого народа в аспекте его
места и роли в общем историческом, процессе.
Но эта задача сама ставит и новую задачу: прослеживание
и раскрытие процесса исторической жизни в средние века в це¬
лом. Эта задача самая трудная, но в то же время настоятельно
требующая своего решения. Можно сказать, что без ее решения
подлинной истории средних веков не получится.
Было бы преждевременным сейчас намечать пути решения
этой задачи и предсказывать результаты, к которым это решение
может привести. Надлежит ограничиться лишь самыми общими
соображениями.
Как было сказано выше, для нас средние века — период ус¬
тановления и развития феодального социально-экономического
строя, сменившего собою прежний рабовладельческий строй.
Но вместе с тем внимательное изучение картины истории на¬
родов в средние века со всей ясностью обнаруживает несколько
несомненных фактов: конкретную историческую разновремен¬
ность утверждения феодализма в разных странах средневекового
мира; различные в разных странах условия установления феода¬
лизма и его развития; разные степени его развития и, наконец,
многообразие его форм при общем единстве его социально-эко¬
номической сущности.
Только общая история средних веков может все это раскрыть
и объяснить. При этом раскрытие и объяснение указанных явле¬
ний достигается изучением истории отдельных народов и
стран и одновременно истории всех их, вместе взятых. Без
этого нельзя выяснить, почему в одной стране феодализм утвер¬
дился раньше, в другой позже; почему в одних странах он уста¬
новился таким-то путем, в других — иным; почему в одном месте
он был более прочен и более развит, в другом — меньше; почему
в одном месте он проявился в одних формах, в другом месте — в
других. Без общего изучения нельзя установить самое'последнее
и самое важное: как все это историческое многообразие уклады¬
валось все же в единый процесс исторического развития; как,
в каких конкретных формах, в какой последовательности и взаи¬
мосвязанности он протекал и к чему в конечном счете привел
средневековое общество; иначе говоря, что именно и как вызвало
к жизни феодальный строй средневекового общества, что соста¬
вило силу его огромного развития и что привело его к упадку, а
в дальнейшем — к концу.
Этот общий процесс имеет одну конкретную сторону, которая
составляет его историческую специфику. Эта сторона — общая
направленность исторического процесса зарождения, развития и
упадка феодализма. Раскрытие этой направленности объясняет
нам исторические судьбы народов средневековья не только в
средние века, но и в дальнейшем, в новое время.
Присмотримся к общему ходу мирового исторического про¬
цесса за время средних веков. При первом же ознакомлении с
100
ним мы увидим, что в этой общей истории Востока и Запада Во¬
сток в течение долгого времени играл передовую роль. Выра¬
жается это в том, что на Востоке раньше начинаются те про¬
цессы, которые стали впоследствии общими для Запада и Во¬
стока. Так, например, на Востоке раньше, чем на Западе, произо¬
шел натиск «варваров» на древние цивилизованные государства:
уже в III в. до н. э. китайцам пришлось воздвигать для защиты
от вторжения этих варваров на севере различные оборонительные
сооружения, положившие начало известной в дальнейшем Вели¬
кой китайской стене. Аналогичное же оборонительное сооружение
Римской империи на ее северо-восточной окраине — Траянов
вал — понадобилось только в начале II в. н. э. Движение племен,
охватившее Азию и Европу и приведшее в конечном результате
к созданию новых народностей и новых государств, иначе говоря,
крупнейшее по исторической важности явление, ознаменовавшее
начальный период средневековья, зародилось на Востоке и при
этом задолго до того, как оно захватило и Европу: оттеснение ча¬
сти гуннов от северных границ Ханьской империи произошло в
конце I в. н. э.; и это движение гуннов достигло Европы и толк¬
нуло на запад — в сторону Римской империи — причерноморских
готов только в IV в. н. э. На Востоке ранее, чем на Западе, стали
создаваться новые «варварские королевства»: на территории Се¬
верного Китая они начали появляться уже в начале IV в. н. э., в
то время как в Европе, на территории Западной Римской импе¬
рии они возникли лишь в V в. Феодализм как основа экономиче¬
ского, общественного и государственного строя на Востоке начал
складываться раньше, чем на Западе. Равным образом и на¬
чатки элементов капитализма зарождаются в феодальном обще¬
стве на Востоке раньше, чем на Западе. Другим признаком пере¬
довой роли Востока в эту эпоху является то обстоятельство, что
именно на Востоке в связи с таким ранним и могучим развитием
феодализма образовались в этот период наиболее крупные, мощ¬
ные государства.
Наконец можно упомянуть и еще об одном признаке той важ¬
нейшей роли, которую играли страны Востока в средние века.
Несомненно, что китайская, индийская, арабская, иранская,
среднеазиатская культура в этот период, как во многих областях
техники и материальной культуры, особенно в искусстве, так и
в области законодательства, политических учений, философии,
историографии, науки и художественной литературы развилась
раньше и была долгое время богаче по содержанию, чем все эти
области культуры на Западе.
Наряду со всем этим на Востоке возникли и развились такие
условия, которые постепенно стали задерживать исторический
процесс, стали замедлять развитие капиталистических элемен¬
тов. Поскольку такие условия на Западе не создались, постольку
там развитие феодализма, а в дальнейшем — рост капитализма
шли быстрее. В результате в определенный момент средних ве¬
101
ков центр тяжести в поступательном движении человеческого об¬
щества в Старом свете стал перемещаться от Востока к Западу.
Началось то, что мы называем отставанием Востока, отставанием
экономическим прежде всего, а затем и политическим и культур¬
ным. Как известно, это отставание в новое время привело к яв¬
лению прямо обратному тому, что наблюдалось в средние века:
если тогда шел почти непрерывный натиск Востока на Запад, то
теперь начался натиск Запада на Восток, поставивший в конце
концов большинство стран Востока в положение колоний, полу¬
колоний стран западного мира или зависимых от него государств.
Таким образом, настоящее научное раскрытие истории народов
средних веков во всемирно-историческом масштабе, т. е. одновре¬
менно народов Востока и Запада, дает возможность объяснить
ход исторического процесса и в новое время.
1955 г.
ХАНЬ Юй И НАЧАЛО КИТАЙСКОГО
РЕНЕССАНСА
Предупреждаю читателя: речь будет идти о гуманизме, но
не вообще, а о гуманизме одной исторической эпохи и в том смыс¬
ле, какой это слово в тех исторических условиях получило.
Люди западной культуры знают гуманизм этой эпохи как дви¬
жение общественной мысли, начавшееся в XIV в. в Италии и в
течение XIV—XVI вв. охватившее не только Италию, но и все
важнейшие страны Европы. В основе этого движения лежало
стремление видеть в человеке высшую ценность, само же это
стремление исходило из признания автономности человеческой
личности, независимой от чего бы то ни было, кроме собственной
природы с ее законами. Таков был идейный источник гуманистиче¬
ского движения в эпоху европейского Ренессанса, давший начало
всем концепциям гуманизма того времени — философским, исто¬
рическим, политическим, этическим, эстетическим.
Важнейшая из политических концепций ренессансного гума¬
низма состояла в утверждении идеала государства с упорядочен¬
ным общественным строем, скрепленным и поддерживаемым
единством власти. Этическая концепция гуманизма утверждала
свободу мысли и чувства как начала, органически присущего че¬
ловеческой природе. Эстетическая — возводила в высший прин¬
цип художественной красоты общую рационалистическую зако¬
номерность, уравновешенность композиции; видела главный
объект искусства в изображении человека со всей вещественной
осязательностью человеческого тела, со всей полнотой психоло¬
гической выразительности, требовала совершенной пластичности
и гармоничности формы.
С этими концепциями была связана общая ориентация на дей¬
ствительность, сопряженная со стремлением к объективному изу¬
чению последней. Это в свою очередь привело к развитию науки
о внешней природе, к подъему исторических знаний, к новому,
рационалистическому шагу в философии.
Гуманистическое движение времен Ренессанса было вызвано
историческими задачами, которые встали тогда перед итальян¬
103
ским обществом, а вслед за ним и перед обществом других стран
феодальной Европы. Но в оформлении основных концепций гума¬
низма огромную роль сыграли два фактора: отталкивание от то¬
го, что гуманисты отвергали, и стремление опереться на то, что
они принимали. Отталкивались они от «Средневековья», опору
же для себя искали в «Древности».
Отталкивание от средневековья состояло в противопостав¬
лении всеопределяющей идее религиозной авторитарности идеи
автономии человеческой личности, всесилия человеческого разу¬
ма; необходимую же опору в утверждении этой своей идеи гума¬
нисты находили в европейской древности. Не удивительно поэто¬
му, что деятельность гуманистов приняла облик движения за вос¬
становление в обществе тех основ, на которых зиждилась жизнь
и культура людей древнего мира. «Возрождение», так со времен
Вазари, пустившего это слово в оборот в своих «Жизнеописаниях
художников» (1550 г.), и стала называться вся эта сложная,
многогранная, великая по своему историческому и культурному
значению эпоха.
Таков был ренессансный гуманизм как явление истории на¬
родов Запада. И этот гуманизм мы знаем.
Хань Юй... Это имя стоит первым в списке «Восьми великих
людей времен Тан и Сун», т. е. VII—VIII вв. истории Китая. Эти
«великие» — Хань Юй (768—824), Лю Цзун-юань (773—819),
Оуян Сю (1007—1072), Су Сюнь (1009—1066), Су Ши (Су Дун-
по, 1036—1101), Су Чжэ (1039—1112), Цзэн Гун (1019—1083),
Ван Ань-ши (1021—1086). Уже во второй половине XIV в. имена
их были выделены из большого числа выдающихся деятелей
культуры Китая VII—VIII вв., в XVI в. им был присвоен
эпитет «великие» (да цзя). С этого времени собрание их избран¬
ных произведений стало источником всякого серьезного образо¬
вания.
Кто же эти «великие» и в чем они «великие»?
Все это — люди многогранные: публицисты, поэты, философы,
историки, общественные и государственные деятели. Однако в
собрании их избранных произведений содержится лишь «изящ¬
ная проза», а проза эта, в какой бы форме она ни выступала, в
форме ли философского рассуждения, исторического исследова¬
ния, дружеского послания, очерка-описания и т. д., в сущности
является публицистикой, своеобразной статьей на значительную
для того времени тему^— политическую, историческую, культур¬
ную. Но эта публицистика является вместе с тем и «изящной
литературой», и притом самого высокого уровня. Художествен¬
ным произведением эти очерки, этюды, рассуждения становятся
благодаря приемам выражения мыслей, благодаря композиции
и стилю. Многие из этих произведений заслуживают принятого
у нас наименования «поэмы в прозе».
104
Таким образом, «Восьмеро великих» — великие прежде всего
как мыслители и писатели, поднимавшие в своих произведениях
важнейшие темы общественной жизни и культуры их времени.
Собрание избранных сочинений этих писателей открывается
произведениями Хань Юя. Это можно объяснить просто — хроно¬
логией: он первый по времени среди них. Среди его произведений
на первом месте стоит рассуждение «О пути» («Юань дао»). Это
уже нельзя объяснить хронологией: оно далеко не первое по вре¬
мени среди его произведений, отобранных для собрания. Первое
место среди них и вместе с тем первое место во всем собрании
сочинений «Восьми великих людей времен Тан и Сун» предостав¬
лено этому рассуждению по другой причине. Познакомимся с
ним в переводе.
«О ПУТИ» ХАНЬ юи
(768—824)
1
Любовь ко всем — это человеческое в человеке. Осущест¬
влять человеческое, и притом так, как нужно,— это чувство
должного в человеке. Следовать такой стезе — это путь чело¬
веческий. Иметь все в себе самом и не ждать ничего извне —
это внутреннее достояние человека.
Человеческое и должное — нечто Определенное. Путь и до¬
стояние сами по себе еще ничего не значат. Поэтому в пути че¬
ловеческом есть и человек достойный, есть и человек малый;
в достоянии человеческом есть и несчастье, есть и счастье.
2
Лао-цзы считал человеческое в человеке, чувство должного
в человеке чем-то малым. Он отвергал их, полагая, что они име¬
ют в виду что-то малое. Сидящий в колодце и смотрящий оттуда
на небо также скажет, что небо мало, но это ведь не значит,
что небо действительно мало. Лао-цзы принимал за человече¬
ское в человеке обычные добрые поступки, за чувство должного
в человеке — следование своим побуждениям. Назвать это ма¬
лым — правильно. И тот путь, о котором Лао-цзы говорил, имен¬
но такой малый путь и есть. Но это не тот путь, о котором гово¬
рим мы. То достояние человека, о котором он говорил, именно
такое малое достояние и есть. Но это совсем не то достояние, о
котором говорим мы. Тот путь и то достояние, о котором гово¬
рим мы, сочетают в себе и человеческое и должное; это — поня-
105
тия, значимые для всей Поднебесной. Тот же путь и то достоя¬
ние, о которых говорил Лао-цзы, далеки и от человеческого и от
должного — это понятия, значимые только для одного себя.
3
Путь Чжоу закончился *. Конфуция не стало. Во время Цинь
запылал огонь2. При Хань царили Хуан-ди и Лао-цзы 3. Во вре¬
мена Цзинь, Син, Ци, Лян, Вэй и Суй царил Будда4. Те, кто
говорил о пути, достоянии, человеческом и должном, если не шли
к Ян Чжоу, шли к Мо Ди 5; если не шли к Мо Ди, шли к Лао-цзы;
если не шли к Лао-цзы, шли к Будде. Но тот, кто шел к ним, тем
самым уходил от нас. Для идущих к ним они становились гос¬
подами; для уходящих от нас мы становились рабами. Шедшие
к ним присоединялись к ним, уходящие от нас отвращались от
нас.
О люд» последующих времен! Если бы они и хотели услышать
учение о человеческом и должном, о пути и достоянии, за кем
было пойти им, у кого спросить?
4
Последователи Лао-цзы говорят: «Конфуций — ученик наше¬
го Учителя». Последователи Будды говорят: «Конфуций — уче¬
ник нашего Учителя». Даже те, кто следует за Конфуцием, и они
прилежно слушают их речи, с радостью внимают их пустосло¬
вию, а то, чем они сами обладают, считают чем-то малым. Даже
они говорят: «Ведь сам наш Учитель когда-то сказал, что Лао-
цзы для него Учитель». И не только говорят так, но и пишут в
своих книгах.
О люди позднейших времен! Если бы они и хотели услышать
учение о человеческом и должном, о пути и достоянии, у кого
им было искать? Ужасно подумать! Люди пристрастны к чудес¬
ному. Они не ищут начала, не спрашивают о конце. Им хочется
одного: узнать что-нибудь необыкновенное.
5
В древности народ слагался из четырех групп; теперь на¬
род слагается из шести. В древности те, кто учил народ, со¬
ставляли одну группу; теперь те, кто учит народ, составляют
три группы. Семья земледельца — одна, но просо его едят
шесть семей; семья ремесленника — одна, но пользуются его из¬
делиями шесть семей; семья торговца — одна, но берут с него
шесть семей. Как же народу не обнищать и не грабить?
106
6
В древние времена бед у людей было много. Явились Совер¬
шенные6 и стали учить помогать друг другу. Они стали прави¬
телями, стали наставниками. Они прогнали насекомых, змей,
птиц, зверей и поселили людей в самой середине страны. Людям
было холодно — они научили их изготовлять одежду. Люди
были голодны — они научили их приготовлять пищу. Люди жили
на деревьях и сваливались оттуда, жили в пещерах и заболе¬
вали — они научили их строить дома. Они научили людей изго¬
товлять вещи — и у тех появились орудия. Они научили людей
торговать — и они стали обменивать то, что у них было, на то,
чего у них не было. Они научили людей врачеванию и этим изба¬
вили их от преждевременной смерти. Они научили людей погре¬
бать умерших, совершать поминальные обряды и этим сделали
вечной благодарную любовь к ушедшим. Они научили прави¬
лам общественной жизни и этим установили последовательность
старших и младших. Они научили музыке и этим дали свободу
человеческому духу. Они научили управлению и повели за со¬
бой даже нерадивых. Они научили наказаниям и этим устра¬
нили противящихся правилам. Люди обманывали друг друга.
Они научили их завести у себя бирки, мерки, печати, весовые
гирьки, весы, и люди перестали доверять друг другу. Люди от¬
нимали друг у друга. Они научили строить укрепления, изготов¬
лять оружие, и люди стали сберегать свое достояние. Они на¬
учили людей быть готовыми, если приходила беда. Они научили
сопротивляться, если появлялась опасность.
7
А последователи Лао-цзы сейчас говорят: «Только потому,
что Совершенные не умерли, грабители еще не перевелись.
Только когда люди перебьют мерки и поломают весы, они пере¬
станут ссориться».
О! Рассуждать так — значит просто ни о чем не думать!
Если бы в древности не было Совершенных, род людской уже
давно бы исчез. Почему? Потому что у людей нет перьев, шер¬
сти, чешуи, панциря, чтобы защититься от холода и жары; нет
когтей и клыков, чтобы драться за пищу.
8
Поэтому-то государь отдает повеления, а слуги его, выполняя
эти веления, передают их народу. Народ разводит просо, рис,
‘коноплю, шелковицу; изготовляет орудия и утварь, ведет обмен
товарами и имуществом и этим служит своим правителям.
Если бы государь не отдавал повелений, он перестал бы быть
107
государем. Если бы его слуги не выполняли его велений и не
осуществляли их в народе, они перестали бы быть его слугами.
Если бы народ не стал разводить просо, рис, коноплю, шелко¬
вицу и не стал изготовлять орудия и утварь, не стал бы обмени¬
ваться товарами и имуществом и служить этим своим прави¬
телям, за это последовало бы наказание.
А сейчас в их законе говорится: «Не надо никаких государей
и слуг, не надо никаких отцов и сыновей! Следует запретить
людям помогать друг другу, заботиться друг о друге. Стреми¬
тесь только к тому, что мы называем Чистотой и Нирваной».
9
Да, их счастье, что они появились после Ся, Инь и Чжоу7 и
что поэтому не были устранены Юем, Чэн-таном, Вэнь-ваном,
У-ваном, Чжоу-гуном8 и Конфуцием. Но наше несчастье, что
они не появились до Ся, Инь и Чжоу и что поэтому их учение не
было исправлено Юем, Чэн-таном, Вэнь-ваном, У-ваном, Чжоу-
гуном и Конфуцием.
10
«Государи», «цари» — наименования у них различны, но в
том, в чем состоит их совершенство, они едины. Летом носят
одежду из легкой ткани, зимой носят одежду из теплого меха.
Когда чувствуют жажду — пьют; когда чувствуют голод — едят.
Действия эти различны, но в том, в чем состоит их разумность,
они едины. А те сейчас говорят нам: «Почему вы не следуете
„не-деянию”, как было в глубокой древности?». Это все равно
что порицать людей за теплую одежду зимой, что говорить им:
«Почему вы не одеваетесь в легкие ткани?» Это все равно что
порицать людей за то, что они едят, когда голодны, что гово¬
рить им: «Почему вы не пьете воду?».
11
В древней книге сказано 9:
«В древности тот, кто хотел проявить в Поднебесной свое
светлое достояние, прежде всего должным образом правил госу¬
дарством. Тот, кто хотел должным образом править государ¬
ством, прежде всего правильно управлял своей семьей. Тот, кто
хотел правильно управлять своей семьей, прежде всего доби¬
вался собственного совершенства. Тот, кто хотел добиться соб¬
ственного совершенства, прежде всего делал правым свое
сердце. Тот, кто хотел сделать правым свое сердце, прежде всего
приводил свои мысли в согласие с истиной».
Это значит, что те, кто в древности делал свое сердце пра¬
вым, кто приводил свои мысли в согласие с истиной, осущест-
108
вляли это посредством деяния. А теперь у них те,, кто хочет
управлять своим сердцем, ставят себя вне Поднебесной и не
считаются с вечными законами: сын не считает своего отца от¬
цом; слуги не считают своего государя государем; народ не счи¬
тает свои дела настоящими делами.
12
Конфуций создал «Чуньцю»10, и когда князья соблюдали
правила отношений с варварами, они относились к ним как к
варварам: когда варвары вступали в Срединное государство,
они относились к нему как к Срединному государству. В «Лунь¬
юе» 11 сказано: «Если у варваров есть государь, положение у
них все равно хуже, чем в Срединном государстве, если бы в
нем даже и не было государя». В «Ши-цзине» сказано: «Варва¬
рам Севера дав надлежащий отпор, цзинские орды и Шу оста¬
новим». А теперь у нас поднимают законы варваров, ставят их
выше законов наших древних царей! Что же? Разве не про¬
изойдет, что через какое-то время мы, увлекая друг друга, все
станем варварами?
13
Что же такое то, что мы называем учением древних царей?
Любить всех — это человеческое в человеке. Осуществлять че¬
ловеческое и поступать при этом как нужно — это чувство долж¬
ного в человеке. Следовать такой стезе — это путь человече¬
ский. Иметь все в самом себе и не ждать ничего извне — это
внутреннее достояние человека. Слова эти — слова «Ши»,
«Шу», «И», «Чуньцю»12. Закон этот — закон правил обществен¬
ной жизни, музыки, наказаний, управления. Народ — это прави¬
тели, земледельцы, ремесленники, торговцы. Положения их —
положения государя и слуги, отца и сына, учителя и друга, хо^
зяина и гостя, старшего брата и младшего, мужа и жены.
Одежды их — холст и шелк; жилища их — дома и хижины,
пища их — просо, рис, овощи, плоды, рыба, мясо. Путь их све¬
тел и легок. Учение их легко исполнимо.
14
Поэтому, когда, основываясь на их учении, управляют сами
собой, все благополучно и удачно; когда, основываясь на их
учении, управляют людьми, повсюду любовь, справедливость;
когда, основываясь на их учении, управляют своим сердцем,
везде согласие и мир; когда, основываясь на их учении, управ-,
ляют Поднебесной и государством, все, что ни делают, пра-.
109
вильно. Поэтому, когда живут — получают желаемое; когда
умирают — выполняют все, что положено. При молении в поле
нисходят небесные духи; при молении в святилище предков ни¬
сходят человеческие души.
15
Спрашивают: «А Путь человеческий — что же это за путь?».
Отвечаю: «Это тот путь, о котором я сейчас говорю. Это не путь
Лао-цзы и Будды, о котором я говорил раньше. Наш Путь Яо
передал Шуню; Шунь передал его Юю; Юй передал его Чэн
Тану; Чэн Тан передал его Вэнь-вану, У-вану и Чжоу-гуну;
Вэнь-ван, У-ван и Чжоу-гун передали его Конфуцию; Конфу¬
ций передал его Мэн-цзы 13. Но умер Мэн-цзы, и после него ни¬
кто этого учения не принял. Сюнь Куан и Ян Сюн14 разбира¬
лись в этом учении, но главного в нем они не поняли; они изла¬
гали его, но освещали его не полно.
Те, кто был до Чжоу-гуна, стояли наверху: они были госу¬
дарями; поэтому они оставили себя в своих делах. Те, кто был
после Чжоу-гуна, были внизу: они были слугами, поэтому дол¬
гую жизнь они обрели в своих словах 15.
16
Так что же нам делать? Отвечаю:
Если не ставить препятствия учению Лао-цзы и Будды, на¬
ше учение не распространится. Если не положить конец учениям
Лао-цзы и Будды, нам ничего не осуществить. Если превратить
их храмы и кумирни в жилища, если разъяснить Путь древних
царей и тем самым повести людей за собой, если заботиться об
одиноких вдовцах, одиноких вдовах, о детях-сиротах, о бездет¬
ных стариках, о неизлечимо больных и калеках — это и будет
близко к тому, что нужно.
«ПУТЬ» ХАНЬ ЮЯ
В первом разделе рассуждения декларируется основное по¬
ложение всего мировоззрения автора. Это положение выражено
в китайском тексте одним словом жэнь в переводе на русский —
«человеческое». Так, в первой же строке своего рассуждения, где
излагается самое главное, Хань Юй говорит не о Небе (тянь),
не о Небесном велении (тяньмин), не о Пути (дао) — начале
бытия, как это делали до него и в его время другие, а о человеке.
Тут же следует разъяснение: «человеческое в человеке — это
любовь ко всем». Вместо вполне возможного возведения «чело¬
веческого» в некую абстракцию, даже в чисто метафизическую
110
категорию, Хань Юй делает человеческое начало в человеке
вполне конкретным: свойством его общественной природы.
Что же значит это «человеческое»? Просто «человеколюбие»,
«гуманность»? Да, это и человеколюбие, и гуманность. Во мно¬
гих случаях именно этими русскими словами и надлежит пере¬
давать китайские жэнь. Но у Хань Юя, как это явствует из
текста, «любовь ко всем», «человеколюбие» — не само человече¬
ское начало в человеке, а проявление этого начала в действии.
Проявление этого начала подлежит регулированию. Что же его ре¬
гулирует? «Веление Неба»? Нет, сама человеческая природа,
присущее ей особое свойство: оно обозначено словом и, по-рус¬
ски «должное», присущее человеку «чувство должного». Слово
и может передаваться русским «справедливость», в нем на прак¬
тике проявляется чувство «должного».
Но, может быть, чувство должного внушено человеку Небом,
какой-нибудь «высшей силой»? Нет, «человек имеет все в себе
самом и не ждет ничего извне». Самая человеческая природа
определяет и все действия человека, все его поведение, его
«путь» (дао) и все его свойства, его «достояние» (дэ). Вряд ли
можно с большей ясностью декларировать чисто человеческую
основу всего мировоззрения, с большей отчетливостью выразить
положение о полной автономности человеческой личности.
Хань Юй назвал свое рассуждение «О Пути». О «пути» —
это значит о «действии». Хань Юй призывал не к размышлению,
а к действию. Действие же для него означало борьбу за осуще¬
ствление своих принципов. С чем же ведет Хань Юй в своем
«Юань дао» борьбу? С теми учениями, которые не признавали
человека высшей и автономной реальностью, высшим хозяином
жизни. Учения эти принадлежали двум религиям: даосизму и
буддизму.
Даосизм как религия и философия начал господствовать в
умственной жизни Китая еще в эпоху Ханьской империи, т. е.
в последнюю фазу китайской древности. Превратившись в усло¬
виях соприкосновения с буддизмом в религиозное учение, создав
большую церковную организацию, он продолжал развиваться и
в последующие века — вплоть до времени Танской империи, т. е.
до эпохи самого Хань Юя. Об отношении к даосизму правящего
класса феодального Китая этого времени красноречиво говорит
тот факт, что императорский дом не только покровительствовал
даосизму, но, основываясь на том, что носит ту же фамилию Ли,
какую носил основоположник философского даосизма Лао-цзы,
стал возводить свой род к этому мудрецу древности.
С III—IV вв. в Китае начал интенсивно распространяться
буддизм, выросший в эпохе Тан в крупнейшую идеологическую,
культурную и политическую силу. Правящий класс находил в
буддийской церкви могущественное орудие укрепления своей
власти; образованные слои китайского общества были захвачены
широтой и тонкостью буддийской философии; народные массы
111
буддизм привлекал и своим красочным ритуалом, и обещаниями
земных и небесных благ16.
Как относился Хань Юй к этим своим противникам? «Запре¬
тить эти учения! Сжечь их писания! Расстричь их монахов! Их
храмы и монастыри превратить в обыкновенные жилища!» (раз¬
дел 16) —вот его программа. Но это программа борьбы в дейст¬
вии. В «Юань дао» — борьба в рамках идеологической полемики.
Хань Юй действует очень смело: он выступает против самой фи¬
лософской основы обеих религий. В «Юань дао» эти основы на¬
званы: положение о «чистоте» в даосизме, положение о «нир¬
ване» в буддизме (раздел 8).
Основоположник философии даосизма говорил о человеке и
даже склонен был признавать человека высшей реальностью.
Однако эта реальность у Лао-цзы целиком заключалась в чело¬
веческой природе, взятой в ее «естественной», т. е. изначальной,
«чистоте». Поэтому, по Лао-цзы, всякий выход из состояния
изначальной «чистоты», т. е. всякое действие, приводит к нару¬
шению этой «чистоты», иначе говоря, к искажению человеческой
природы. Из этого следует, что основной закон человеческой
жизни — закон сохранения «естественности человеческой при¬
роды», ее изначальной «чистоты», т. е. «недеяние». Так понимали
учение Лао-цзы все его последователи в средневековом Китае.
Абстрактность и метафизичность этой концепции Лао-цзы в
таком ее понимании была совершенно неприемлема для
Хань Юя. Последний признавал человека высшей реальностью,
но реальностью для него был не «естественный» человек, а чело¬
век общественный, не абстрактный, а конкретный, исторический.
Свое основное положение о «человеческом начале» в человеке
он брал в аспекте любви ко всем, т. е. в аспекте общественного
бытия человека. Главное же свойство такой общественной при¬
роды человека — именно действие. «Недеяние», с точки зрения
Хань Юя, настолько противно человеческой природе, что^он
сравнивает даоское порицание «деяния» с порицанием за то, что
люди надевают теплую одежду, когда им холодно, за то, что они
едят, когда голодны (раздел 10).
Хань Юй видел проявление человеческого начала в человеке
в «любви ко всем». Одно из важнейших положений буддизма —
сострадание, милосердие. Как будто бы предмета сп<эра с буд¬
дизмом в этом пункте у Хань Юя нет. Но так кажется'только на
первый взгляд. Буддизм учит милосердию. Он призывает верую¬
щего обходить букашку, ползующую по дороге, чтобы случайно
ее не раздавить. Призыв всячески оберегать жизнь в философ¬
ском плане как будто бы является признанием высшей ценности
именно бытия. Однако бытие в учении буддизма не есть нечто
застывшее, постоянное; оно непрерывно развивается, и его раз¬
витие завершается в нирване, т. е. в небытии. И только в таком
завершении бытие превращается в подлинную реальность; до
этого реальность бытия иллюзорна.
112
Все существо Хань Юя восстает против такой концепции бы¬
тия. Он отказывается принять такое понимание эволюции чело¬
веческой жизни. В своей полемике с буддийской концепцией
нирваны, как конечной фазы и цели эволюции бытия, Хань Юй
исходит из реальной, действительной истории. «Естественное»
состояние для него — состояние первобытное, «когда люди жили
на деревьях... жили в пещерах» (раздел 6). Человек вышел йз
этого «естественного» состояния и создал культуру, цивилиза¬
цию, создал общество с упорядоченным строем, создал государ¬
ство. И не мог всего этого не создать: «потому что у людей нет
перьев, шерсти, чешуи, панциря, чтобы защищаться от холода и
жары; нет когтей и клыков, чтобы драться за пищу» (раздел 7).
И целью развития человека, целью его бытия является не приход
к небытию, а приход ко все более совершенным формам общест¬
венной и культурной жизни, что вместе с тем означает и все
большее совершенствование человеческой личности.
Хань Юй противопоставляет буддийскому положению о нир¬
ване совершенно иное положение. Он заимствует его из раздела
древней «Книги правил», названного «Большая наука» («Да
сюэ», см. раздел 11).
Прежде всего — приведение своих мыслей в согласие с ис¬
тиной, т. е. правильное осмысление всего существующего. От
этого первого звена протягивается вся цепь. Ее последователь¬
ные звенья: «правое сердце», т. е. высокая нравственность; «со¬
вершенство всей человеческой личности» — интеллектуальное
и моральное. Это все в плане индивидуальном. Но этот план су¬
ществует только как основа для перехода в общественный план:
к правильным действиям в качестве главы семьи, в качестве пра¬
вителя государства. Оспаривая концепцию изначальной «чисто¬
ты» человеческой природы как высшей ценности бытия, Хань Юй
сослался на всем понятную реальность — на историю человечес¬
кой культуры, опровергающую фактами эту концепцию; при
этом он сумел четко обрисовать весь ход этой истории (раздел
6). Оспаривая концепцию «нирваны» как высшей и конечной
цели эволюции человека и человеческого общества, Хань Юй не¬
ведомой и абстрактной цели противопоставляет цель совершенно
конкретную и вполне понятную людям: создание правильно уп¬
равляемого государства, основанного на обществе, в котором все
его члены неустанно стремятся ко все большему совершенству
своей личности, но не во имя самого совершенства как такового,
а во имя общественного прогресса. Таким образом, и здесь вы¬
явился общественный характер основной концепции Хань Юя,
концепции «человеческого начала» в человеке.
Хань Юй не привел цитаты из «Да сюэ» полностью. В ней
есть одна фраза: «Когда государство должным образом управ¬
ляется, в Поднебесной царит мир (Тянься пин)». В сущности и
правильное управление государством имеет свою цель, и цель
эта — всеобщий мир.
8 Н. И. Конрад
113
Тему государства Хань Юй развивает, однако, гораздо под¬
робнее, чем она дается в «Да сюэ». Государство понимается им
как организованное человеческое общество, организованное с
точки зрения точного распределения общественных функций и,
соответственно этому, общественных обязанностей. Одни «разво¬
дят просо, рис, коноплю, шелковицу», другие «изготовляют ору¬
дия и утварь», третьи «ведут обмен товарами и имуществом»,
четвертые «управляют» всем этим механизмом. Среди них — го¬
сударь, который «отдает повеления», и его слуги, которые «эти
повеления осуществляют в народе». Организованность проявля¬
ется и в социальном аспекте: есть «государь и его слуги», т. е.
правящие, есть «народ», т. е. управляемые; есть «отцы и сы¬
новья», т. е. семья — старшие и младшие. Общественную обязан¬
ность Хань Юй видит в йомощи друг другу, заботе друг о друге
(раздел 8). В этом указании Хань Юя высшее требование обще¬
ственно необходимого поведения превращается в высшую норму
общественной морали.
Таково для Хань Юя организованное общество. И оно, по его
представлению, предъявляет к людям — членам общества — су¬
ровое и безоговорочное требование: делать все то, что каждому
положено. Кто своего дела не соблюдает, тот подлежит каре.
Хань Юй персонифицирует верховную государственную власть
в государе. Поэтому выполнение каждым человеком в госу¬
дарстве своих обязанностей есть, на языке Хань Юя, служение
государю. Поэтому и право санкций по отношению к уклоняю¬
щимся от своих обязанностей он дает государю.
Это суровое положение, впрочем обычное для государства с
его системой принуждения, у Хань Юя соединено, однако, с
двумя другими положениями. Первое — обязанность всех помо¬
гать друг другу; второе — особо «заботиться об одиноких вдов¬
цах, одиноких вдовах, о детях-сиротах, о бездетных стариках, о
неизлечимо больных и калеках» (раздел 16). Эти положения сви¬
детельствуют о том, что в воззрениях Хань Юя общество и госу¬
дарство не только предъявляют требования к своим членам, но
и несут обязанности по отношению к ним.
Совершенно понятно, что при таких воззрениях Хань Юй с
особым ожесточением нападал на даосизм с его отрицанием вся¬
кой деятельности, с его отрицанием общества и государства, с
его отрицанием цивилизации. Все, о чем говорит сам Хань Юй,
для него «значимо для всей Поднебесной», т. е. обладает обще¬
ственной значимостью; то, чему учит Лао-цзы, по мнению Хань
Юя, значимо только для отдельного индивидуума (раздел 2).
Вот почему Хань Юй отвергает у даосов и буддистов право
«учить», т. е. руководить народом. Право руководить народом,
по его мнению, имеют лишь те, кто ведет народ, общество все к
лучшему и лучшему.
В «Юань дао» есть место, всегда привлекавшее особое вни¬
мание исследователей. Хань Юй говорит, что в его время «семья
114
земледельца — одна, но просо его едят шесть семей;, семья ре¬
месленника— одна, но изделиями его пользуются шесть семей;
семья торговца — одна, но берут с него шесть семей. Как же на¬
роду не обнищать и не грабить?» (раздел 5).
Смысл этих слов вполне понятен. Общество в представлении
ХаньЮя состоит из четырех групп: земледельцев, ремесленников,
торговцев и «учителей», т. е. руководителей, правителей. Во вре¬
мена Хань Юя «учили» народ, т. е. принадлежали к правящему
слою, три категории: правительственные чиновники, даоское и
буддийское духовенство. Следовательно, в обществе стало не че¬
тыре, а шесть групп. Понятно поэтому, что продукцией, произво¬
димой земледельцем, ремесленником, торговцем, пользуется не
только он со своей семьей, но и прочие пять групп населения,
т. е. «шестеро». Хань Юй разделил общество на тех, кто произ¬
водит или обеспечивает производство и распределение, и на тех,
кто потребляет, в частности — на тех, кто присваивает продукт.
При этом он считает, что «нагрузка» на производящих слишком
велика. Естественно, что при таких условиях народ нищает и
вынужден «грабить», т, е. восставать и забирать обратно отня¬
тое у него. Вряд ли можно яснее выразить мысль об оправдании
народных восстаний и определить причину этих восстаний —
чрезмерность эксплуатации. Чрезмерность эксплуатации, но, ко¬
нечно, не эксплуатация как таковая. Как это видно из предыду¬
щего, Хань Юй считает вполне нормальным и необходимым для
общественного существования, чтобы производители — кресть¬
яне и ремесленники, а за ними и торговцы «служили» правите¬
лям, т. е. отдавали им часть продукта (раздел 8).
В работах по истории Китая сейчас же после имени Хань Юя
всегда ставится имя его соратника, друга и единомышленника
Лю Цзун-юаня. Их всегда ставят рядом как зачинателей того
общественного движения, которое здесь рассматривается. У
Хань Юя в «Юань дао» мы не находим определения, как он по¬
нимает передачу трудовым населением части своего достояния
правящему классу. У Лю Цзун-юаня такое определение есть: это
плата хозяина слуге. Хозяин — народ, слуга — чиновники, пра¬
вители. Среди сочинений Лю Цзун-юаня есть одно, написанное в
форме «Слова», обращенного к другу, уезжающему на место но¬
вого назначения.
«Слово» Лю Цзун-юаня — как бы напутствие ему: «Вот вы,
правительственные чиновники в стране, знаете ли вы, в чем со¬
стоит ваша служба? Только в одном: быть слугами народа и не
делать народ слугами себе. Народ кормится от земли. Он отде¬
ляет десятую долю урожая и нанимает вас, чиновников, чтобы вы
следили за порядком и спокойствием. А в наше время все вы в
Поднебесной получаете свою плату, дела же своего не делаете.
Да что там! Не только дела не делаете, вы еще грабите народ!
Предположим, что ты нанял к себе в дом слугу, и вот он,
этот слуга, получая от тебя плату, не делает своего дела, да еще
115
крадет у тебя. Конечно, ты разгневаешься, прогонишь и нака¬
жешь его. В наше время большинство вас, чиновников, посту¬
пают именно так, как этот слуга, а народ не смеет дать волю
своему гневу, прогнать и наказать вас. Почему? Да потому, что
положения у вас с народом неодинаковые. Положения у вас не¬
одинаковые, но ведь законы вещей одни и те же! А что вы де¬
лаете с народом? Те из вас, кто понимает законы вещей, можете
ли вы не бояться, не страшиться?».
Итак, народ —хозяин, чиновники — его наемные слуги. Они
нужны народу для того, чтобы поддерживался порядок, дающий
возможность каждому спокойно заниматься своим делом. Чинов¬
ники, правители — не более чем наемные стражники, охраняю¬
щие людей и имущество, преследующие воров и грабителей.
А то, что называется «налогом»,— просто плата этим наемным
слугам. Из этого вытекает и право народа — право хозяина про¬
гнать нерадивого слугу. И наказать его. В каком случае? Если
он, не довольствуясь платой, еще крадет добро хозяина. «Кра¬
жей», и никак иначе, называет Лю Цзун-юань всякие поборы с
населения, кроме тех, что с точки зрения народа законны, т. е.
тех, что составляют жалованье слуге.
В «Слове» Лю Цзун-юаня содержится одна знаменательная
мысль. Судя по его «Слову», положение в стране в его время
было таким, что должно было возбудить гнев народа — хозяина:
«В наше время все вы в Поднебесной,— говорит Лю Цзун-юань,
обращаясь к отъезжающему,— получаете свою плату, дела же
своего не делаете. Да что там! Не только дела не делаете, вы
еще грабите народ!». Причина для того, чтобы прогнать слуг и
наказать их, таким образом, налицо. Почему же народ этого не
делает? «Потому, что положения у вас с народом неодинако¬
вые»,— говорит Лю Цзун-юань, т. е. слуги присвоили себе пре¬
рогативы, на которые они не имеют права; они вообразили себя
правителями. Дальше следует многозначительное замечание:
«Положения у вас неодинаковые, но ведь законы вещей одни и
те же!». Трудно яснее сказать об единстве «закона вещей», т. е.
о равенстве людей в их положении в общественном организме.
При этом особенно существенно то, что китайское слово ли, ко¬
торым выражено понятие, переданное по-русски как «законы
вещей», имеет смысл не закона государства, а «естественного за*
кона».
Самоуправством слуг, вообразивших себя хозяевами, «зако¬
ны вещей», однако, не отменяются: действие этих законов рано
или поздно обязательно проявляется. Поэтому Лю Цзун-юань
заканчивает эту часть своего напутствия поразительными сло¬
вами: «Те из вас, кто понимает законы вещей, можете ли вы не
бояться, не страшиться?.».
Годы жизни Лю Цзун-юаня —773—819. Его детство было ом-,
рачено последствиями закончившегося незадолго до этого (в
763 г*) мятежа одного из - могущественных феодалов —Айн
Ш
Лу-шаня, мятежа, потрясшего империю. Последние годы жизни
Лю Цзун-юаня озарялись вспышками назревавшего гнева на¬
рода, вылившегося впоследствии в огромное народное восстание
(875 г.), которое вошло в историю под названием «Восстание
Хуан Чао». Это восстание привело Танскую империю и динас¬
тию, царствовавшую в ней, к гибели.
Повторяю, приведенные мысли мы находим не у Хань Юя, а
у Лю Цзун-юаня, но эти два человека не только современники,
они и друзья-единомышленники, зачинатели большого общест¬
венного движения. Поэтому недосказанное одним мы вправе вос¬
полнять найденным у другого. Мысли того и другого одинаково
принадлежат этому движению. «Путь» Хань Юя — это также
«Путь» Лю Цзун-юаня. Это «Путь» всей их эпохи. Что же это
за «Путь»?
ГУМАНИЗМ
Исходный пункт всех рассуждений Хань Юя — человек. Осно¬
ва человеческой природы — «человеческое начало» (жэнь) в че¬
ловеке. Действенная сущность этого начала — любовь ко всем
(боай), т. е. общественная. Проявление человеческого начала в
человеке регулируется присущим ему внутренним чувством
должного (и). Должное — то, что нужно (и)\ при общественной
природе человека нужное — общественно необходимое.
Человеческой природе свойственна деятельность. Эта дея¬
тельность направляется свойственным человеческой природе
«человеческим началом» (жэнь) в человеке и* «чувством долж¬
ного» (и). Такая деятельность и есть «путь» (дао) человека.
И эта деятельность не зависит ни от чего иного, кроме собствен¬
ной природы человека — ее «достояния» (дэ).
Из этого следует, что жизнь, бытие сводится к свободному
развитию человека в условиях полной автономности человече¬
ской личности, свободы человека от всякой опеки со стороны
каких-либо внешних сил. Поскольку все эти положения противо¬
поставляются учениям Лао-цзы и Будды, т. е. религиозно-фило¬
софским, постольку свобода от опеки означает в этом аспекте
свободу от опеки со стороны религии и связанной с религией фи¬
лософии.
Общественная природа человеческой личности и внутренний
регулятор в виде «чувства должного» делают «достояние» чело¬
века, т. е. все, что он несет в себе, делают его «Путь», т. е. про¬
явление им своего «достояния» в жизни, в деятельности, «значи¬
мым для всей Поднебесной», т. е. общественно значимым. Такая
общественная значимость развития человеческой личности про¬
тивопоставляется «значимому только для одного себя» — инди¬
видуалистическому по своей природе «Пути» даосизма и буд¬
дизма.
117
Свободно развивающийся человек является создателем куль¬
туры, цивилизации. Люди сами создали культуру. Правда, они
создали ее под руководством Совершенных, но Совершенные не
божества, а те же люди, и действовали они вполне человеческими
способами. Юй, один из таких Совершенных, справился с разли¬
вами Хуанхэ не с помощью магии или богов, а возведением за¬
щитных насыпей, проведением отводных каналов. Так-из истории
создания человеческой культуры были полностью устранены
всякие сверхъестественные силы. При этом создание культуры
рисуется как действие, вызванное необходимостью: без куль¬
туры, без цивилизации человек оставался бы беспомощным пе¬
ред силами природы. «Если бы в древности не было Совершен¬
ных (т. е. руководителей людей в создании культуры.— Н. К.),
то род людей уже давно бы исчез». Эти идеи Хань Юй противо¬
поставляет учению Лао-цзы об «естественном» состоянии чело¬
века, приводящему к отрицанию культуры.
Созданием человека является и общество. Общество мыс¬
лится как организованный коллектив, организованность кото¬
рого проявляется в определенном социальном порядке, вытекаю¬
щем из самой природы общества. Порядок этот создается отно¬
шениями «отцов» и «детей», т. е. старших и младших. Он
создается наличием общественных обязанностей у каждого
члена общества. Государство также организованное целое, но
организованность в нем создается специфическими государст¬
венными регуляторами: правилами, т. е. общественными нор¬
мами, музыкой, т. е. воспитательными средствами, наказаниями,
т. е. санкциями, и управлением, т. е. властью. Публичная власть —
специфическая для государства категория. Субъект этой вла¬
сти— государь и его слуги, т. е. сановники, чиновники; объект —
народ.
Эти положения были также направлены против учения Лао-
цзы, отрицавшего и общество, и государство. «Не надо никаких
государей и слуг! Не надо никаких отцов и сыновей!»,— в таких
выражениях формулирует Хань Юй анархические, по его мне¬
нию, взгляды Лао-цзы.
Существование организованного общества требует, по мысли
Хань Юя, распределения между людьми различных обществен¬
ных функций. И эти функции имеют обязательный характер: но¬
сители их обязаны эти функции выполнить в интересах государ¬
ства. Производители материальных благ должны эти блага
производить и отдавать часть своего достояния государству;
невыполнение этой обязанности влечет строгое наказание. Пра¬
вители должны следить за выполнением всеми их обязанностей,
но если они сами переступают границу должного, т. е. присваи¬
вают себе достояние населения сверх положенного, народ отни¬
мает у них незаконно отнятое и наказывает их. Таким образом,
с государством ассоциируются два специфических института:
118
институт власти и институт принуждения, соединенные с началом
законности, т. е. общественного оправдания.
Каким же становится или должен стать человек в условиях
созданной им цивилизации, живущий и действующий в построен¬
ном им обществе и государстве? Мысли у него должны быть пра¬
выми; вся его личность должна быть совершенной: он должен
уметь правильно управлять своей семьей, уметь править госу¬
дарством. В таких выражениях, заимствованных из «Большой
науки», рисует Хань Юй интеллектуально, морально и общест¬
венно полноценную человеческую личность.
Как же все это мировоззрение, всю эту систему взглядов
назвать? Так, как сказал сам Хань Юй: жэнь дао — «путь чело¬
века». «Дао» (путь) в старом китайском языке как отдельное
слово равносильно понятию «принцип», а как компонент слож¬
ного слова — нашему суффиксу «...изм». Жэнь (человеческое на¬
чало) и чисто лексически и по точному смыслу равно ЬшпапНаз.
Жэнь дао (путь человеческий, принцип человеческий, принцип
человеческого начала) в таком случае значит «гуманизм». И дей¬
ствительно, идеи, провозглашенные Хань Юем, есть идеи гума¬
низма; движение, начатое им и Лю Цзун-юанем, есть движение
гум а нистическое.
Это было в Китае VIII в. И не ведали Петрарка и Боккач-
чио — зачинатели гуманизма в Италии XIV в., что они вступили
на тот же путь, на который за шесть столетий до них вступили
Хань Юй и Лю Цзун-юань ^—их далекие китайские собратья.
ВОЗВРАТ к ДРЕВНОСТИ
При первом же прочтении трактата Хань Юя видно, от чего
он отталкивается: от «Пути Лао-цзы и Будды», по его выраже¬
нию. «Это не тот путь, о котором говорим мы»,— написано у
него. У Хань Юя есть его «Путь», «наш Путь», как он его назы¬
вает. Начался этот «Путь», по представлениям Хань Юя, очень
давно — при Яо, правителе глубокой древности; закончился он во
времена Ханьской империи (III в. до н. э.— III в. н. э.). Двух
мыслителей времен этой империи — Сюнь Куана и Ян Сюна —
Хань Юй называет последними представителями этого «Пути».
Этот большой период — от Яо до Ян Сюна включительно —
Хань Юй называет «Древностью». Таким образом, в представле¬
нии Хань Юя только в «Древности» поддерживался его «Путь»,
причем в последние века уже плохо: даже «при Хань царил
Хуан-ди и Лао-цзы», т. е. господство в мире идей перешло к дао¬
сизму, и только Сюнь Куан и Ян Сюн еще кое-как поддерживали
истинный «Путь». А после Хань, т. е. со II—III вв., не стало и
таких, как они. Настало царство Будды. И так продолжалось до
119
начавшейся в VII в. эпохи Тан, которая была временем Хань Юя
и Лю Цзун-юаня.
Отталкиваться от одного — значит призывать к чему-то дру¬
гому. К чему же призывал Хань Юй? К возвращению на тот
«Путь», который был когда-то в древности. Фу гу («Возврат к
древности») —так было названо движение, начатое Хань Юем и
Лю Цзун-юанем.
Хань Юя принято относить к конфуцианцам. В любой истории
китайской философии имя Хань Юя неизменно фигурирует в том
разделе, в котором говорится о конфуцианстве. При этом за ним
установилась характеристика мыслителя, внесшего в конфуци¬
анство новую струю. Такая оценка Хань Юя не лишена основа¬
ний. Конечно, он не последователь Лао-цзы и не буддист. Он сам
называет Конфуция своим учителем; говорит о нем как о муд¬
реце, установившем «наш путь», т. е. «Путь» самого Хань Юя;
ссылается на «Луньюй» — книгу, в которой изложено учение
Конфуция. Перечисляя памятники древней письменности, в
которых, по его представлениям, заложены основы его собствен¬
ных взглядов, он говорит о «Книге перемен» («И-цзин»), «Книге
песен» («Ши-цзин»), «Книге истории» («Шу-цзин») и «Летописи»
(«Чуньцю»), цитирует «Книгу правил» («Ли-цзи»), т. е. называет
те древние сочинения, которые уже„со II в. до н. э. получили в
конфуцианстве значение канонических. Наконец, древнему кон¬
фуцианству принадлежит и то понятие «человеческого» (жэнь)
которое является основой для всех построений Хань Юя. Таким
образом, близость Хань Юя к конфуцианству не подлежит сом¬
нению.
Прочно связало имя Хань Юя с конфуцианством и установле
ние им специфической традиции этого направления китайской
философской и общественной мысли. Эта традиция указана
именно в «Юань дао»: «Наш Путь Яо передал Шуню; Шунь пере¬
дал его Юю; Юй передал его Чэн Тану; Чэн Тан передал его
Вэнь-вану, У-вану и Чжоу-гуну; Вэнь-ван, У-ван и Чжоу-гун пе¬
редали его Конфуцию; Конфуций передал его Мэн-цзы. Но умер
Мэн-цзы, и после него никто этого учения не принял» (раздел 15).
Конфуций в «Луньюе» часто упоминает «древних царей»,
правителей-мудрецов глубокой древности. Имена Яо, Шуня, Юя.
Чэн Тана, Вэнь-вана, У-вана и Чжоу-гуна у него встречаются
не раз. Но никто до Хань Юя не соединял эти имена в одну цепь,
никто не обрисовал через эти имена оамое традицию учения —
ее начало и ее преемственность. И представление именно о такой
традиции настолько прочно привилось в последующем конфу¬
цианстве, что многие из позднейших исследователей конфуциан¬
ства упускают из виду, что так изображать традицию конфуци¬
анского учения стали только с VIII в., т. е. почти через четырнад¬
цать веков после Конфуция; забывают и о том, что Хань Юй
был первым, кто ввел в эту традицию имя Мэн-цзы. Учение
Мэн-цзы знали, у него были почитатели, но положение классика
120
конфуцианства он занял только со времен Хань Юя; и то не
сразу. Таким образом, прочная связь Хань Юя с конфуцианской
линией философской и общественной мысли Китая несомненна.
Однако отношение Хань Юя к конфуцианству особенное, для
его времени необычное. Во-первых, Хань Юй не признает совре¬
менного ему конфуцианства. У него нет даже упоминания о Кун
Ин-да, официальном столпе конфуцианской ортодоксии во вре¬
мена Тан, нет ни слова и о «Пятикнижии в правильном освеще¬
нии» («У цзин чжэн и»), которое стало в Танской империи основ¬
ным пособием во всей системе правительственного образования
и которое не мог не знать Хань Юй, трижды становившийся
профессором Высшей школы. Во-вторых, он ни словом не упо¬
минает о Чжэн Сюане (127—201) —крупнейшем конфуцианском
ученом последнего столетия Ханьской империи, сопоставившем
не пять, а шесть древних сочинений, т. е. добавившем к входив¬
шим в «Пятикнижие» «И-цзин», «Шу-цзин», «Ши-цзин», «Ли-цзи»
и «Чуньцю» еще «Юэ-цзин» («Книгу музыки»). А то, что Хань Юй
знал «Шесть искусств», как назвал Чжэн Сюань свою работу об
этих шести памятниках, видно из его произведений. Наконец, он
не назвал даже имени Дун Чжун-шу, который в 136 г. до н. э.
первый свел «И-цзин», «Шу-цзин», «Ши-цзин», «Ли-цзи» и
«Чуньцю» в «Пятикнижие». А ведь именно с Дун Чжун-шу и
началась история конфуцианства как системы политических, со¬
циальных, экономических, правовых, этических и натурфилософ¬
ских взглядов. С Дун Чжун-шу, действовавшего под покрови¬
тельством императора У-ди, конфуцианство стало идеологиче¬
ской основой правительственного образования.
Из «Юань дао» понятно, почему Хань Юй так отрицательно
относился к прочим конфуцианцам: он считал, что они попали в
плен идей или Лао-цзы, или Будды, или еще кого-либо, кого
Хань Юй не признавал. Такая оценка исторически верна, так как
для конфуцианцев средних веков действительно характерно
стремление к эклектизму. Но рядом с этой эклектической линией
находилась и ортодоксальная, к тому же официально покрови¬
тельствуемая. Почему же Хань Юй игнорировал и ее?
Здесь не место подробно излагать историю и содержание этой
линии конфуцианства. Достаточно сказать, что превращение кон¬
фуцианства в официальную доктрину правительственной власти,
в основу подготовки правительственной бюрократии быстро
превратило его из живого, развивающегося учения в мертвую
догму, а преподавание наук на основе этой догмы выродилось в
схоластику. Догма же и схоластика были для Хань Юя столь же
ненавистны, как и нигилизм, анархизм и квиетизм Лао-цзы, как
учение о «небытии» буддизма. Понятно поэтому, что Х^нь Юй
обратился к «Древности», т. е. к самим истокам конфуцианства.
И все же считать, что Хань Юй в своем обращении к древ¬
ности имел в виду одно только конфуцианство, неправильно.
Содержание его трактата свидетельствует, что от древности он
121
воспринял далеко не одну конфуцианскую традицию. Так, на¬
пример, он отрицательно отозвался о Мо Ди (478—397 гг.
до н. э.), считая «Путь» последнего не тем, по которому должны
идти блюстители подлинного «Пути» (раздел 3), но его собствен¬
ное положение о «любви ко всем» — хотел ли он этого или не
хотел — очень близко соприкасается с положением Мо Ди о
«любви к другим». Хань Юй совершенно не упоминает имени
Гуань Чжуна (ум. в 645 г. до н. э.), но его слова о том, что народ
состоит из четырех групп — правителей, земледельцев, ремеслен¬
ников и торговцев (раздел 13), в точности воспроизводят крае¬
угольный тезис всей социальной концепции Гуань Чжуна, а по¬
следний никогда не входил в орбиту конфуцианства.
С полной ясностью кругозор Хань Юя обрисован в его дру¬
гом произведении — «О продвижении в учении». В нем в форме
разговора с учениками — слушателями Высшей школы, в кото¬
рой он тогда занимал должность профессора, Хань Юй очень
точно перечислил то, что он нашел замечательного в древности
(раздел 12).
Первая группа источников Хань Юя — та, которая «вверху»,
т. е. те же «Шу-цзин», «Ши-цзин», «И-цзин», «Чуньцю» вместе с
«Цзо-чжуань», о которых он говорит и в «Юань дао» (раздел 12),—
это канонические книги ортодоксального конфуцианства. Вторая
группа — та, которая «внизу», т. е. относится к более поздней
древности, никогда не имела отношения не только к ортодок¬
сальному, но и вообще к конфуцианству: Чжуан-цзы вошел в
список классиков даоской философии; приверженцем учения о
так называемых «пяти первоэлементах», т. е. древней натурфило¬
софии, был историк Сыма Цянь; Ян Сюн, о котором упоминается
и в «Юань дао», только примыкает к конфуцианству; что же ка¬
сается Цюй Юаня, автора поэмы «Лисао», и Сыма Сян-жу, то
оба они — поэты, которых нельзя причислить ни к одной из древ¬
них философских школ. Но все перечисленные имена составляют
гордость культуры древнего Китая, и Хань Юй не мог пройти
мимо этих людей. Наконец, есть еще одно свидетельство, также
исходящее от самого Хань Юя, которое окончательно устраняет
суждение о его конфуцианской ограниченности и вместе с тем
обрисовывает диапазон его «Древности». Словами того же слу¬
шателя он говорит о себе:
«Ваши уста не перестают произносить слова „Шести ис-
кусств“. Ваши руки не устают раскрывать сочинения „ста писа¬
телей" 17. Когда Вы пишете что-либо, Вы неукоснительно выби¬
раете самое важное в них; когда Вы сочиняете что-либо, Вы
неизменно ухватываетесь за самое существенное в них».
«Шесть искусств» в данном случае — те же «И-цзин», «Ши-
цзин», «Шу-цзин» и «Чуньцю», о которых говорится и в «Юань
дао», с добавлением к ним «Книги правил» («Ли-цзи»), о которой
также упоминается в «Юань дао», и еще одного древнего памят¬
ника— «Книги музыки» («Юэ-цзин»), не вошедшей в конфуци¬
122
анский канон ё егб окончательном (танском) составе, но близ¬
кой к конфуцианской традиции. Таким образом, это все линия
конфуцианства. Но «сто писателей» совершенно вне конфуциан¬
ства. Под таким наименованием фигурируют в истории древнего
Китая самые различные мыслители, писавшие по философским,
политическим, экономическим, социальным вопросам, по во¬
просам военного искусства, сельского хозяйства, обществен¬
ной морали, права и т. д. Эпоха этих «ста писателей» —
V—III века до н. э. Именно в связи с их деятельностью, их спо¬
рами и сложилось выражение, характеризующее умственную
жизнь их эпохи.
Хань Юй, как он сам свидетельствует, усердно изучал сочи¬
нения этих писателей, многое заимствовал у них. Правильна та
общая оценка им самого себя, которую он также вложил в уста
обращающегося к нему слушателя: «Вы простираете свои поиски
на все». Таким образом, ясно, что древность для Хань Юя отнюдь
не исчерпывалась только тем, что вошло в конфуцианскую тра¬
дицию до него или было включено в эту традицию им самим.
Поэтому его призыв к возвращению к древности не носил узкий,
догматический характер. Это был призыв вернуться к древности
во всем богатстве и многообразии ее культуры и мысли, призыв
обратиться к этому древнему наследию и призвать к новой
жизни из этого наследия то, что нужно для нового времени.
Выражение фу гу в китайском языке может в равной мере
означать и «возврат к древности» и «возрождение древности».
Как изумился бы Вазари, первый, кто в XVI в. назвал эпоху гу¬
манизма в Италии словом «возрождение» (имея в виду именно
возрождение древности), если бы узнал, что за много веков до
него таким же словом и в таком же смысле была обозначена
одна эпоха гуманистического движения в далеком Китае.
ХАНЬ Юй —ПРОФЕССОР
«Юань дао» вовсе не отвлеченный философский трактат, если
с философией обязательно ассоциировать «высокую» тему, мало
доступную простым смертным, ассоциировать бесстрастность,
«философское спокойствие», с которым эта тема разрабатыва¬
ется. Каждое положение Хань Юя — стрела, с яростью пущенная
в стан врага — даосов и буддистов. Когда призывают к тому,
чтобы запретить эти учения, сжечь их книги, закрыть монастыри,
разогнать монахов,— это уже не абстрактное рассуждение о вы¬
соких материях...
А в то же самое время император благоговейно принимал у
себя во дворце священную реликвию, принесенную ему в дар
буддистами далекой Индии,— кусочек кости пальца якобы са¬
мого основателя буддизма. Хань Юй, конечно, не мог стерпеть
и разразился протестом — резким памфлетом «О кости Будды»,
123
написанным в форме послания к императору. «Подумайте, что
Вы делаете? Ведь это — только кусочек сгнившей кости!»,—
кричал он. Скоро он вынужден был уехать на службу на далекую
южную окраину, т. е. отправиться в ссылку.
Да, в годы жизни Хань Юя буддизм был еще во всей силе.
Был достаточно силен даосизм. Обе религии боролись друг с
другом за влияние, каждая искала и находила могущественных
покровителей среди правящего класса, среди знати. Правда, не¬
которая часть этой знати, получившая конфуцианское, т. е. впол¬
не светское, образование, довольно иронически взирала на эти
распри. Но и эта часть не склонна была начать преследование
этих религий. Правители феодального Китая не раз учиняли
такое преследование. История буддийской церкви полна описа¬
ний «гонений за веру», но причиной подобных гонений обычно
служило уже слишком большое скопление земельных и иных
богатств у монастырей.
Каково же было положение Хань Юя в этой обстановке? Он
слыл ученым, считался конфуцианцем, т. е. представителем свет¬
ского образования. Государственное же управление строилось
не на буддизме и даосизме: изначальная «чистота» первого и ко¬
нечное «небытие» второго мало что значили для управления
государством; для этой цели были как нельзя более пригодными
ясные, точные, чисто «земные» и деловые формулы, выработан¬
ные конфуцианством, т. е. той сферой идеологии, которая имела
вполне светский характер и говорила о «правилах, музыке, нака¬
заниях и управлении» — главных пружинах государственного
механизма. Уже вскоре после укрепления Танской династии кон¬
фуцианец Кун Ин-да по поручению правительства издал в 640 г.
«Пятикнижие в правильном освещении». Поэтому такими людь¬
ми, как Хань Юй, пренебрегать было нельзя. И применение ему
нашлось: именно в сфере правительственной системы образо¬
вания.
В столице Танской империи была Высшая школа (Тайсюэ),
которую вполне можно назвать университетом (так в средние
века и стала именоваться Высшая школа). Правда, китайский
средневековый университет не состоял из нескольких факульте¬
тов, как университеты в средневековой Европе. Был в сущности
один факультет — «политических, правовых и моральных наук».
Хань Юй стал профессором этого университета, работа в кото¬
ром и послужила основой для его произведения «О продвижении
в учении» («Цзинь сюэ цзе»). Приведем его в переводе.
«О ПРОДВИЖЕНИИ В УЧЕНИИ» ХАНЬ ЮЯ
Профессор, придя рано утром в университет18, созвал студен¬
тов, поставил их у здания и, поучая их, сказал:
— В вашем деле вы утончаетесь при работе и грубеете при
124
развлечениях. В ваших действиях вы созидаете себя, при раз¬
мышлении и разрушаете себя при рассеянии. Сейчас же у нас
совершенные и мудрые встречаются друг с другом, орудия упра¬
вления охватывают всё. Удаляется все злое и ложное, выдвига¬
ется достойное и доброе. Даже тех, кто хорош лишь в чем-нибудь
малом, и их вносят в служебные списки. Даже тем, кто известен
лишь одним каким-нибудь искусством, и тут не бывает, чтобы им
не нашли применения. Таких выскребают, вылавливают, выко¬
выривают, откапывают отовсюду; соскабливают с них грязь и
начищают их до блеска. Бывает, конечно, что кто-нибудь полу¬
чает избрание и по счастливой случайности, но кто же скажет,
что у нас человека со многими способностями не подняли? Сту¬
денты, вы в вашем деле огорчайтесь тем, что оказываетесь не в
состоянии развить в себе тонкость ума, и не огорчайтесь тем, что
власти не понимают вас. В ваших действиях огорчайтесь тем, что
оказываетесь не в состоянии созидать себя, и не огорчайтесь тем,
что власти несправедливы к вам.
Речь еще не была окончена, а в рядах слушавших нашелся
один, который засмеялся. Он сказал:
— Профессор, вы нас обманываете! Мы, ваши ученики, слу¬
жим вам уже целый год. Ваши уста не перестают возглашать
слова «шести искусств», ваши руки не перестают раскрывать со¬
чинения «ста писателей». Когда вы пишете что-либо, вы неукос¬
нительно выбираете самое важное у них; когда вы сочиняете что-
либо, вы неукоснительно ухватываетесь за самое существенное.
Вы жаждете все большего, вы берете и крупное и мелкое, не
отбрасывая ничего. Вы зажигаете лампу и с ней продолжаете
день. Вы все время в неустанных трудах и так проводите весь
год. Таким образом, именно про ваше дело можно сказать: «Да,
это работа!».
Вы, как бык, бросаетесь на чуждые учения и отталкиваете их.
Вы с метлой устремляетесь на Будду и Лао-цзы и отгоняете их.
Вы восполняете недостающее и выпавшее в нашем учении. Вы
'простираете ваши поиски на все и ведете преемство из глубо¬
кой дали. Вы преграждаете течение сотням рек и направляете
их к востоку19. Вы поворачиваете волны, уже готовые обру¬
шиться. Про вас в конфуцианстве можно сказать: «Да, это
труд!».
Сочинения, которые вы создали, погружаясь в крепкое вино и
пропитываясь им, поглощая прекрасное, вкушая цветущее,—
такие сочинения заполняют ваш дом. Вверху для вас образцами
служат неиссякаемость и безграничность Шуня и Юя20, твер¬
дость и жестокость чжоуских указов, указов иньского Пань-
гэна21, почтительность и строгость «Чуньцю», легкость и без¬
удержность «И-цзина», правда и красота «Ши-цзина». Внизу вы
доходите до «Чжуан-цзы» и «Лисао», до писания Сыма Цяня, до
Ян Сюна и Сыма Сян-жу23. Мастерство у вас то же, что и у них,
но ход мысли у вас другой. Про вас в литературе можно сказать:
125
«В содержании своих сочинений вы охватываете все! С их фор¬
мой вы делаете все, что хотите!».
Вы стали познавать науку еще в юности. В своих смелых по¬
ступках вы обнаружили мужество. Когда вы выросли, вы пости¬
гли правильное. Поворачивались налево, поворачивались на¬
право— и это всегда было у вас так, как должно. Про вас как
человека можно сказать: «Да, он себя создал!».
Но... в окружающем обществе вы не приобрели доверия лю¬
дей. В личной жизни вы не имеете поддержки друзей. Делаете
шаг вперед — натыкаетесь, ступите назад — спотыкаетесь. Вас
то и дело обвиняли в чем-нибудь. Одно время вы были даже на
посту Юйши24, но в конце концов попали в ссылку к южным вар¬
варам. Вы три раза становились профессором с пустым званием;
а чтобы управлять чем-либо — этого вы не ведали. Ваша судьба
действовала в сговоре с вашими врагами. Сколько раз вы тер¬
пели поражения? Зима бывала теплой, а дети ваши кричали от
холода. Год бывал хорошим, а жена ваша плакала от голода.
Голова ваша облысела, зубы повыпали. В конце концов вы
умрете, и какая будет от всего этого польза? И вот вы не сознае¬
те, что вам именно об этом следует думать. Вы же, наоборот, еще
поучаете других!
Профессор проговорил:
— О сынок, подойди-ка сюда!
Слушай! Из большого дерева делают балки. Из тонкого де¬
рева делают планки. Брусы, подпорки, притолоки, пороги, за¬
совы— все это обретает свое назначение, и так строится дом...
Это искусство плотника.
Истолченная яшма, порошок киновари, красный бамбук, си¬
ний гриб, коровья моча, кожа продырявленного барабана...25.
Все это собирать, сберегать и ждать, когда можно пустить в ход,
ничего не оставлять... Это умение врача.
Понимать, кого выдвигать; быть беспристрастным в выборе,
продвигать вперед и умеющих что-либо и не умеющих, в обшир¬
ных способностях видеть красоту, в больших талантах видеть
героическое, разбираться в недостатках, оценивать достоинства
и использовать людей только по их способностям... Это образ
действий министра.
Некогда Мэн-цзы26 любил спорить, и благодаря ему путь
Конфуция стал ясным. И что же? Колеи от его колесницы обвели
всю Поднебесную, и кончил он тем, что в постоянных поездках
и состарился. Сюнь-цзы27 хранил правильное учение, и его рас¬
суждения разносились всюду. И что же? От клеветы он бежал в
Чу и умер в Ланьлине в полном упадке. А эти два конфуцианца...
Выговаривали они слово, и сказанное ими становилось каноном.
Поднимали они ногу, и шаг их делался образцом. Они были со¬
всем другие, чем все; они далеко отошли от обычных людей; они
в своем превосходстве вошли в пределы, где Совершенные. А как
обошелся с ними свет?
126
Твой же профессор в науке усерден, но преемства, от них не
принял. Слов у него много, но они не передают главного в уче¬
нии тех. Писания его необыкновенны, но ни на что не годны.
Действия его правильны, но они никому не видны. И все же ка¬
ждый месяц он тратит получаемое жалованье, каждый год по¬
требляет получаемое зерно28. Дети его не знают, что такое па¬
хота; жена его не знает, что такое тканье. Разъезжает он в ко¬
леснице, его сопровождают слуги; дома он спокойно сидит и ест.
Он идет по обычной дороге и трудится. Заглядывает в старые
книги и крадет оттуда... И государь его не наказывает. Министр
его не гонит. Ну разве он.не счастливец? Когда человек дейст¬
вует, он в ответ встречает клевету, и это влияет на его доброе
имя. Твой профессор предоставлен праздности, оставлен без
дела. Что же? Для его участи так и должно!
Если бы я стал считать, что из имущества у меня есть и чего
нет; стал измерять, высок ли в чинах и жалованьем или низок;
если бы я позабыл, чего сам заслуживаю по своим качествам,
стал бы показывать пальцем на недостатки стоящих передо
мной, это было бы все равно, что укорять плотника за то, что
тот из кола не делает балки, что корить врача за то, что тот
удлиняет твои годы лекарством из ирисов, и желать, чтобы он
дал тебе ядовитое средство!
...ТОЛЬКО ПРОФЕССОР
«О продвижении в учении» написано в 812 г. Хань Юю было
тогда 45 лет. Это был возраст наибольших возможностей свер¬
шения. За спиной у него были долгие годы учения, службы, раз¬
нообразного опыта. Накоплены были огромные знания. Но он
имел при этом и свои собственные взгляды на человека, обще¬
ство, государство и жаждал деятельности, которая открыла бы
ему возможность провести свои взгляды в жизнь. Но ходу ему
не давали. Он как старый, одряхлевший волк: впереди у этого
волка низко отвисший от старческой дряблости кожи подгрудок,
сзади — облезший, повисший хвост; шагнет этот волк вперед —
наткнется на свой же собственный хвост... Такими словами, за¬
имствованными из «Ши-цзина», характеризует Хань Юй самого
себя в этом своем произведении (раздел 2).
Странное и любопытное это произведение! В нем пафос и
уныние, гордость и горечь, недовольство и смирение. Начинается
«О продвижении в учении» обращением к студентам. Стандарт¬
ные призывы учиться. Судя по этому произведению, подобная
унылая дидактика была чем-то вроде «неотчуждаемой принад¬
лежности» профессорского звания чуть ли не всех времен. И ар¬
гументация соответствующая. Студенты во времена Хань Юя
поступали в университет, чтобы потом получить назначение по-
127
выгоднее. И Хань Юй говорит им: «Посмотрите вокруг себя!
Какие времена! Ни один, даже самый скромный, талант не оста¬
нется незамеченным. Всякая, даже самая мелкая, способность
учитывается. Даже и для неспособных работа будет. Только ста¬
райтесь, учитесь!». Вполне благонамеренная речь. Но это только
внешне. По сути же дела — издевательство и обвинительный акт
правительству. ^
Хань Юй прибегает к особому литературному приему: он
строит свое произведение в форме диалога профессора со сту¬
дентом и заставляет студента опровергать доводы своего про¬
фессора, обращая его же аргументы против него самого. «Вы
говорите, что у нас в наше время всякому таланту ход. А Вы
сами? Разве Вы не талант? Вы говорите, что нужно только ста¬
рательно учиться. Вы ли не учились всю жизнь! Вы ли не превзо¬
шли все науки! Вы ли не сражались за свои убеждения! И что
же? Делаете шаг вперед — натыкаетесь, ступите назад — споты¬
каетесь. Ничего у Вас не получилось. А Вы еще поучаете дру¬
гих!»,— так устами студента изливает свою горечь Хань Юй.
Остается искать в чем-нибудь утешение. И Хань Юй находит.
Одно — ироническое, другое — как будто бы реальное. Утешение
горькое, ироническое: «что же, разве я не живу более или менее
обеспеченной жизнью? Получаю жалованье, паек. Мне даже
предоставлена колесница. Даны слуги. Чего же мне еще? Хоть и
бывает, что мои дети плачут от холода, а жена — от голода, все
же дети не вынуждены сами пахать, жена — ткать. Разве я не
счастливец?» Утешение реальное: «так всегда было! Со всеми
выдающимися людьми. Всцомните Мэн-цзы, Сюнь-цзы! Уж они
ли не великие? А какова была их судьба? Мэн-цзы всю жизнь
провел в скитаниях по стране, в поисках правителя, который оце¬
нил бы его государственные таланты и дал бы ему власть прове¬
сти свои замыслы в жизнь. Скитался всю жизнь и в скитаниях
бесславно умер. А другому — Сюнь-цз$>1 — пришлось даже спа¬
саться бегством... Он как будто бы стал добиваться своего, но,
как полагается, нашлись завистники и пустили в ход обычное
средство — клевету. И если такова была судьба тех, подлинно
великих, то на что же мне, Хань Юю, жаловаться?»
На первый взгляд горечь Хань Юя непонятна. Разве он не
был профессором и не мог излагать свои взгляды ученикам?
Правда, за эти взгляды его два раза прогоняли, но все же потом
принимали обратно.
Вот тут-то и раскрывается истинная природа этого ученого
гуманиста в Китае. Он профессор, но... только профессор. «Про¬
фессор» же для него — «пустое звание». «Пустое» в том смысле,
что оно не соединено с властью, с правом и возможностью уп¬
равлять. Он же, как когда-то и Мэн-цзы, перед которым он осо¬
бенно преклонялся, хотел действовать, управлять. Он хотел пре¬
образовать свое общество, свое государство в духе исповедуе¬
мых им принципов гуманизма. И этого-то ему не дали. Отсюда
128
и вся горечь, этого неуемного, кипящего инициативой чело¬
века.
Только Хань Юй был неправ. Его личная судьба, может быть,
действительно сложилась не так, как ему бы хотелось, «действо¬
вала в сговоре с его врагами». Но он был не один. Рядом с ним
был Лю Цзун-юань. Формула нового гуманизма была создана
ими, но его ветер уже давно веял над китайской землей. Дух
нового гуманизма уже прочно вошел в поэзию. Два гиганта —
Ли Бо (701—762) и Ду Фу (712—770) — великие поэты-гумани¬
сты Китая — уже властвовали над умами и сердцами. В годы
жизни Хань Юя (768—824) работал третий великий поэт-гума¬
нист Китая — Бо Цзюй-и (772—846), чрезвычайно расширивший
диапазон гуманизма и орбиту его влияния. При жизни Хань Юя
расцвела художественная проза: появился новый для истории
литературы Китая жанр — художественно-литературная новел¬
ла. Творчеством ее главных создателей — Юань Чжэня (779—
831), Бо Синь-цзяня (775—826) и других — руководил тот же
подлинно гуманистический дух. Художники писали картины, счи¬
тая, что их задача — изображать человека, и изображать, как
это сделал Хань Хуан (конец VIII в.) в своей знаменитой картине
«Сад литературы», не только внешний облик, но и внутреннюю
жизнь. Хань Юй мог чувствовать горечь за себя, но мог бы испы¬
тывать радость, видя, как набирают силы — не в правительст¬
венных сферах, конечно, а в обществе — дорогие ему идеи.
Таково было начало китайского Ренессанса.
1957 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Речь идет о судьбе древнего Чжоуского царства, в VIII в. до н. э. рас¬
павшегося на отдельные государства и сохранившегося лишь в качестве одного,
наименее значительного из этих государств.
2 При объединении в 221 г. до н. э. страны в одном государстве-империи,
во главе которой стала династия правителей царства Цинь, покорившего про¬
чие государства древнего Кит^я, учение Конфуция и его учеников подверглось
гонению, а конфуцианские книги сжигались. Выражение «циньский огонь» в
конфуцианской литературе стало обозначать это сожжение.
3 Во время правления Ханьской династии, сменившей в 206 г. до н. э. на
престоле империи прежнюю Циньскую, наибольшее распространение в Китае
получил даосизм, в своей религиозной форме восходящий к древним шаман¬
ским верованиям, а в философской форме — к учению Лао-цзы. Учение же, Лао-
цзы, личности, овеянной легендами, возводилось последователями Лао-цзы к
легендарному Хуан-ди, по древней традиции считавшемуся одним из первых
правителей Китая.
4 Цзинь — название династии, при которой после падения Ханьской импе¬
рии и последующего распада Китая на три царства было восстановлено в
265 г. н. э. государственное единство страны. Сун, Ци, Лян — названия дина¬
стий, сменявших друг друга на престоле южного китайского государства после
распада Китая в 316 г. на две части — южную и северную, отошедшую под
власть кочевников. Вэй — название государства, образовавшегося в северной
части страны. Суй — название династии, пришедшей к власти в северном госу¬
дарстве, при которой в конце VI в. произошло новое объединение Китая в од-
9 Н. И. Конрад
129
ной империи. Время распада Китая на два государства, о котором тут идет
речь, т. е. IV—VI вв.,— эпоха распространения буддизма в Китае.
5 Ян Чжу (395—335) и Мо Ди (478—397) — мыслители эпохи распада
древнего Китая на отдельные государства (VIII—III вв.). Первый считается
проповедником доктрины эгоизма, второй — альтруизма.
6 Наиболее принятый в нашей специальной литературе перевод китайского
слова шэнжэнь, которым обозначались древние правители-мудрецы, а также
Конфуций.
7 Ся, Инь, Чжоу — названия последовательно сменявших друг друга ки¬
тайских царств глубокой древности.
8 Имена древних правителей, считавшихся конфуцианской традицией Со¬
вершенными. —
9 Речь идет о «Ли-цзи» («Книге правил») — древнем сочинении, излагав¬
шем нормы обычного права и содержащем ритуальные предписания. Приведен¬
ное место взято из части, озаглавленной «Да сюэ» («Большая наука»), которая
впоследствии выделилась в самостоятельную книгу, вошедшую в конфуциан¬
ское «Четверокнижие».
10 «Чуньцю» — летопись царств^-Лу (одного из царств древнего рыбовла¬
дельческого Китая). Охватывает период с 722 по 484 г. до н. э. Считается
написанной самим Конфуцием, происходившим из этого царства. Ценится кон¬
фуцианцами за содержащиеся в ней оценки деятельности правителей.
11 «Луньюй» («Суждения и беседы») —книга, в которой содержатся суж¬
дения Конфуция по разным вопросам и его беседы с учениками и другими
лицами.
12 Имеются в виду древние сочинения, вошедшие впоследствии в конфу¬
цианский канон: «Шицзин» («Книга песен»), «Шуцзин» («Книга истории»),
«Ицзин» («Книга перемен») и «Чуньцю» («Летопись»).
13 Перечислены имена правителей Китая времен глубокой древности, счи¬
тавшихся носителями древней мудрости, которую конфуцианцы возвели в ос¬
нову своего учения.
14 Сюнь Куан (298—238 гг. до н. э.) и Ян Сюн (53 г. до н. э.— 18 г. н. э.) —
мыслители поздней поры китайской древности. Первый был близок к школе
«законников», второй — ближе к направлению, идущему от Конфуция.
15 Мысль автора такова: древние Совершенные были правителями, и их
учение выражалось в их деятельности как правителей, как устроителей чело¬
веческого общества; позднейшие Совершенные не были правителями, они были
слугами, поэтому выражать свое учение непосредственно в действиях не могли,
но они сделали другое: записали это учение в книгах и этим сохранили его
на вечные времена.
16 С тем, что отчасти в Ханьское время и безусловно после Хань наиболь¬
шее влияние в области идеологии имели даосизм и, позднее, буддизм, в на¬
стоящее время согласны почти все исследователи истории идеологических уче¬
ний в Китае. Из новейших работ см., например: Хоу Вай-лу, Цзи Сюань-бин,
Зу Шоу-су и Цю Хань-шэн, История китайской идеологии, т. II, кн. 2. Пекин,
1951.
17 «Сто писателей» — различные мыслители и деятели V—III вв. до н. э.,
эпохи расцвета общественной мысли в древнем Кит*ае, писавшие по вопросам
экономики, политики, социального устройства, законодательства и права, мо¬
рали, военного искусства и т. д.
18 Считаю возможным употреблять слова «профессор» и «университет», так
как эти термины возникли и у нас в средние века как названия высшего учеб¬
ного заведения и его преподавателей.
19 Все реки Китая текут к востоку — по направлению к Тихому океану,
поэтому течение реки на запад считается неестественным и чуждым природе
Китая.
20 Имеются в виду памятники древнего законодательства, связываемые с
именами легендарных правителей глубокой древности — Яо, Шуня и Юя
(III тысячелетие до н .э.): «Уложение Яо», якобы записанное при его преем¬
нике Шуне, «Уложение Шуня», якобы записанное при его преемнике Юе, и «За¬
коны Юя». Все эти материалы содержатся в «Шуцзине».
130
21 Пань-гэн (1401—1373 гг. до н. э.) —один из правителей древней дина¬
стии Инь (Шан). Чжоу — название династии и царства, по традиционной хро¬
нологии с 1122 г. до н. э. сменившего павшее царство Инь.
22 «Цзо-чжуань» — произведение, относящееся к более позднему периоду,
чем «Чуньцю», и считающееся распространенным комментарием к последнему.
23 Чжуан-цзы (369—286) — один из главных представителей древнего фи¬
лософского даосизма, а также наименование сочинения, содержащего, как счи¬
тают, учение этого мыслителя. «Лисао» — поэма, главное произведение поэта
Цюй Юаня (342—290 гг. до н. э.). Ян Сюн (53 г. до н. э.— 18 г. н. э.) — фило¬
соф и поэт. Сыма Сян-жу (179—117 гг.) — поэт.
24 Одна из судейских должностей.
25 Перечислены принадлежности средневековой китайской фармакологии.
26 Мэн-цзы (372—289 гг. до н. э.) —выдающийся мыслитель древнего Ки¬
тая, считающийся продолжателем учения и дела Конфуция.
27 Сюнь-цзы (ум. в 236 г. до н. э.)—один из древних мыслителей, при¬
мыкавших к школе Конфуция.
28 В то время лица, находившиеся на государственной службе, получали
денежное жалованье и продовольственный паек.
ТРИ ПОЭТА
Принято говорить: Петрарка — первый поэт Возрождения.
Ближайшим образом, конечно,— Возрождения в Италии. Но по¬
скольку Возрождение в Италии открыло собою эру общеевропей¬
ского Возрождения, постольку Петрарка может быть назван пер¬
вым поэтом Возрождения на Западе.
Ли Бо (701—762)—первый поэт китайского Возрождения.
Это несомненно. Первый потому, что в нем более, чем у кого-
либо другого, проявилась та взрывчатая сила, которая разру¬
шила все преграды на пути свободного, вольного, вдохновенного
поэтического творчества. Но открыл новую эру в поэзии не он
один: рядом с ним стоят два его современника — Ван Вэй (699—
759) и Ду Фу (712—770). Они трое — подлинные зачинатели ве¬
ликой поэзии Возрождения в Китае, а Возрождение в Китае от¬
крыло собою эру Возрождения во всех странах Восточной Азии.
Они очень различны, эти три поэта. Очень непохожи друг на
друга. Но они с разных сторон открыли то новое, что стало ду¬
хом всей последующей поэзии китайского Возрождения. Поэтому
важно не только сказать о каждом из них, на и сопоставить их
друг с другом.
1
VIII век — время кризиса сложившейся экономической, со¬
циальной и политической формы феодализма. Эта форма была
основана на монополизации государством хозяйственных ресур¬
сов, политической власти и военной силы. Монополизация хозяй¬
ства состояла в присвоении государством права верховной собст¬
венности на землю и на источники дохода. Все, имевшие в своем
распоряжении землю, будь то крестьяне, сами обрабатывавшие
ее, будь то сановники, пользовавшиеся доходами с земли, обра¬
батываемой другими, считались лишь держателями государст¬
венных наделов и вносили государству в виде налога часть полу¬
чаемого продукта. Из этих налоговых поступлений создавался
государственный фонд, который распределялся правительством
132
среди организованного в служилое сословие правящего класса
соответственно месту каждого в обширном чиновническом аппа¬
рате.
Монополизация политической власти выражалась в созда¬
нии обширного, централизованного управленческого аппарата.
Представители исполнительной власти считались чиновниками,
служащими государства. Все звенья этой власти, начиная с ор¬
гана, управляемого крестьянской общиной, и кончая высшими
правительственными учреждениями в столице империи Чанъане,
были связаны между собой и составляли единую цепь.
Монополизация военной силы выражалась в организации
единой общеимперской армии, формируемой путем набора на
основе воинской повинности населения и находящейся под
командованием начальников, назначаемых правительством.
Орудиями поддержания описанных порядков служили за¬
коны, регулирующие все стороны жизни страны, а также система
образования, призванная насаждать официально санкциониро¬
ванную идеологию. Эта идеология была основана на «класси¬
ках», т. е. на отобранных из старого наследия и надлежаще интер¬
претированных сочинениях. «Пять классических книг в правиль¬
ном толковании» («У цзин чжэн и») —труд Кун Ин-да, предпри¬
нятый по повелению императора и законченный в 640 г., должен
был поддерживать в нужном направлении умственную жизнь.
Такой строй, начавший складываться с IV в., по мере своего
укрепления и развития помогал китайскому народу преодолеть
разруху, вызванную внутренними междоусобицами и многочис¬
ленными нашествиями «варваров» — кочевых племен, окружав¬
ших Китай. Он помог восстановить в последней четверти VI в.
государственное единство страны, до этого вследствие варвар¬
ских завоеваний в течение почти трех столетий (с IV в. по конец
VI в.) распадавшейся на две самостоятельно управляемые ча¬
сти— северную и южную; помог установить в огромной стране
порядок, ввести расшатанную хозяйственную и общественную
жизнь в определенное русло. Принудительное наделение кресть¬
янского населения земельными участками фактически прикреп¬
ляло его к земле и затрудняло всякого рода перемещения и тем
самым забрасывание земель. Обязательство обрабатывать эти
участки в положенных размерах и в указанном направлении в
какой-то мере обеспечивало устойчивость в накоплении продук¬
ции. Налоговая система, сопровождавшая этот порядок и ста¬
вившая трудовое земледельческое население в очень жесткие
условия, передавала в руки правительства огромные материаль¬
но-финансовые средства. Монополизация политической власти
положила конец сепаратистским тенденциям местных феодалов,
а монополизация военной силы, лишавшая этих феодалов воз¬
можности иметь собственные вооруженные отряды, делала за¬
труднительными выступления их против центрального прави¬
тельства. Наличие общеимперской армии позволяло подавлять
133
всякие вспышки недовольства, когда такие проявлялись. Офици¬
альная идеология, усвоение которой, проверяемое на правитель¬
ственных экзаменах, было обязательным условием доступа к
государственной службе, должна была предотвращать возмож¬
ность всякого вольномыслия в среде правящего класса.
В VIII в. положение в стране характеризовалось следующими
чертами. Сельское хозяйство и ремесла давали большую продук¬
цию; торговля охватила всю обширную страну: расцвели города
как центры торговли и ремесла. Торговля велась и с другими
странами. Порты Юго-Восточного Китая, особенно Кантон, были
полны заморскими гостями — малайскими, индийскими, иран¬
скими и арабскими купцами. По старым континентальным путям
из Средней Азии в Китай шли торговцы — иранцы, тюрки, арабы.
Столица империи Чанъань был огромным городом с миллионным
разноплеменным населением. По блеску (но не по размерам и
числу жителей) с Чанъанем тогда мог сравниться только один
Константинополь.
Была обеспечена и внешняя безопасность. Удалось не только
отразить внешних врагов, но и стать на путь завоеваний.
К VIII в. границы империи были продвинуты до самой Средней
Азии. Оттуда в Китай хлынул и поток чужой культуры. Жители
«Западного края», как называли тогда китайцы район Восточ¬
ного Туркестана и Средней Азии, приносили с собой свою му¬
зыку, свои песни, свои пляски, свою одежду, свое прикладное ис¬
кусство. Появились в Китае и различные религиозные учения:
манихейство, зороастризм, ислам и даже христианство (послед¬
нее в форме несторианства). Все это создавало сложную идеоло¬
гическую атмосферу.
Такое развитие экономической и общественной жизни требо¬
вало изменений существующих порядков. К середине VIII в.
стало ясно, что дальнейшее развитие производительных сил в
сельском хозяйстве уже не может обеспечиваться системой пра¬
вительственных надельных крестьян. Необходимо было открыть
простор и хозяйственной инициативе населения, а это было воз¬
можно лишь при изменении формы феодальной собственности,
при предоставлении держателям земли права распоряжаться ею.
Отдельные районы страны, вовлеченные в общий хозяйственный
оборот, уже не могли далее развиваться в определяемом сверху
направлении; требовалась не только хозяйственная, но и полити¬
ческая децентрализация. Торговцы и ремесленники нуждались в
большей свободе действий и по части производства, и по части
сбыта. Старые феодальные дома стремились выйти из полного
подчинения центральному правительству. Общественная мысль
не могла развиваться далее, оставаясь в рамках официальной
идеологии.
В середине VIII в. кризис проявился во всей своей силе. Зна¬
ком его был мятеж, поднятый в 755 г. Ань Лу-шанем, генерал-
губернатором северных областей империи. Внешне этот мятеж
134
был направлен против произвола временщиков, захвативших
власть в центральном правительстве, но целью поднявших его
военачальников-феодалов было освобождение от чрезмерной
опеки центральной власти и приобретение свободы действий. Мя¬
теж был поддержан и частью крестьян, видевших в нем средство
освобождения от системы правительственных наделов, сковывав¬
шей хозяйственную инициативу земледельцев и соединенной с
крайне тяжелыми государственными налогами и повинностями,
к которым добавлялись безудержные поборы и вымогательства
местных чиновников.
Пламя мятежа, осложненного междоусобной борьбой в лагере
восставших, бушевало в стране почти десять лет — с 755 по 763 г.
Страну разоряли не только военные действия, но и грабежи и
насилия, чинимые отрядами кочевников, призываемых вражду¬
ющими лагерями на помощь и вторгавшихся в страну из-за ру¬
бежа.
Мятеж был подавлен, но последствием его была отмена в
763 г. подушного налога и замена его налогом с имущества, а в
780 г. была ликвидирована и надельная система, т. е. произошел
переход к частной феодальной собственности на землю с раскре¬
пощением хозяйственной инициативы владельцев земли. Все же
для полной ликвидации уже отживших свой век порядков пона¬
добилось мощное народное восстание. Такое восстание и про¬
изошло столетием позже — в 875—884 гг. Но первый удар был
нанесен во второй половине VIII в.
Три танских поэта — Ли Бо, Ван Вэй и Ду Фу принадлежат
этой критической эпохе в жизни своей страны, эпохе, когда де¬
лалась громкая заявка на новые порядки. В этой заявке мощно
зазвучал и голос поэзии. Поэзия первая возвестила то новое в
интеллектуальной, духовной жизни страны, что должно было со¬
провождать переход на новый этап истории.
Мы знаем, что бывали в истории случаи, когда новое пред¬
ставало перед людьми в образах старого. Так было в истории
Италии при переходе к эпохе, получившей название Ренессанса.
Как известно, это был очень важный по своему общеисториче¬
скому и историко-культурному значению переломный момент в
жизни средневековой Италии, а за ней и в жизни ряда других
народов тогда еще феодальной Европы. Особенностью этого
момента было то, что переход к новому передовыми деятелями
эпохи воспринимался как «ренессанс», «возрождение» старого.
«Старым» в этом случае была европейская античность — время
древней Греции и древнего Рима.
Разумеется, о действительном восстановлении порядков, ха¬
рактерных для античной эпохи, не могло быть и речи. Ведь это
означало бы возвращение к рабовладельческому строю, уже
давно в этой части мира историей отмененному. Речь шла о не¬
которых элементах культуры античного мира, в которых деятели
итальянского Ренессанса справедливо или произвольно усмат¬
135
ривали как бы прообраз того, что они хотели видеть у себя, в
свое время. Важнейшим из этих элементов явился гуманизм.
Таким словом было обозначено представление, что именно чело¬
век есть наивысшая ценность общественной жизни и бытия.
Близкую к этой картину мы наблюдаем в VIII в. в Китае. При
этом, как и в Италии, приближение новой эпохи раньше всего
почувствовал поэт. В Италии им был Данте, в Китае — Ли Бо.
Ли Бо первый не только остро почувствовал необходимость но¬
вого, но и выразил свое представление о нем. И сделал это также
путем обращения к своей античности. Такой античностью для
него была эпоха древнего Чжоуского царства (XII—VIII вв.
дон. э.).
Есть у Ли Бо цикл стихов, носящих название «Древнее», Пер¬
вое стихотворение этого цикла открывает нам главную мысль
поэта. Ли Бо говорит о поэзии — той, которая дана в Шицзине,
причем не во всей этой древней, принадлежавшей времени Чжоу¬
ского царства «Книге песен», а в том ее разделе, который носит
наименование «Да я» — «Великие оды». Для Ли Бо главное за¬
ключалось не в жанре или содержании этих «од»: и то, и другое
было связано с совершенно иной жизнью — жизнью глубокой
древности; дело было в общем тоне. В этом разделе он видел
поэзию «великую» (да) и «высокую» (я), какой, по его мнению,
истинная поэзия и должна быть. В первой же строке своего сти¬
хотворения поэт говорит: «великой и высокой поэзии уже давно
нет». Она исчезла с наступлением Чуньцю-Чжаньго, эпохи войн,
которые с начала VIII в. по конец III в. до н. э. вели между со¬
бою различные царства, составлявшие тогда Китай. Это было
время, когда, по словам поэта, «драконы и тигры», т. е. прави¬
тели, «пожирали друг друга». Далее поэт делает обзор после¬
дующей истории своей страны, говорит, что бывали полосы не¬
которого подъема, но за подъемом всегда следовал новый упадок.
И вот поэт доходит до своей эпохи и заявляет, что в его время
происходит «возвращение к древности», т. е. к той идеальной
поре, когда «государь правит в длинной, свешивающейся одежде,
не прибегая к действию»; когда «чтут все чистое и истинное»;
когда «таланты развиваются в покое и свете»; когда «внешний
узор и внутреннее качество освещают друг друга»; когда «све¬
тил на земле столько же, сколько звезд на осеннем небе». Такова
в изображении поэта картина общества, вернувшегося к поряд¬
кам лучезарной древности.
Поэт определяет и свою миссию в процессе возвращения к
древности. Когда-то соответственно исторической традиции, Кон¬
фуций также стремился вернуться к старине. Вернуть людей к
древности, по мнению Конфуция, должны были старинные сочи¬
нения, в которых древность и была запечатлена. Конфуций счи¬
тал, что он призван передать людям своего времени то, что в
этих сочинениях содержалось в подлинном виде. Поэтому он и
взял на себя работу по «очищению» старого наследия от всего
136
напластовавшегося на него и по «передаче» того, что являлось
подлинным.
Так же понимал свою миссию и Ли Бо. «Мое стремление,—
пишет он,— очистить и передать» так, чтобы то, что передается,
«засияло светом и озарило тысячелетие вперед». Если вспомнить
начальную строку этого стихотворения, где говорится о «вели¬
кой» и «высокой» поэзии, становится ясным, что поэт считал
именно себя призванным возродить истинную поэзию.
К чему должно было привести возрождение истинной поэзии?
Ли Бо об этом говорит очень образно. Он хотел бы, как в свое
время Конфуций, услышать, что «единорог пойман». И тогда,
пишет поэт, он «положит свою кисть», т. е. сочтет свое дело сде¬
ланным.
Конфуцию приписывается составление «Чуньцю», сочинения,
по содержанию представляющего собой летопись царства Лу,
родного царства Конфуция. Последователи древнего мудреца
видели в «Чуньцю» не книгу истории, а книгу суда, произведен¬
ного их учителем над правителями. Суд этот заключался в том,
что мудрец назвал деяния каждого правителя настоящими име¬
нами. Тем самым потомкам был преподан точный критерий для
определения того, что хорошо и что плохо.
Конфуций довел свою летопись до 481 г. до н. э. На этом он
закончил свою работу. И отметил, что в этом году в стране поя¬
вился и был пойман единорог.
Единорог — одно из сказочных существ китайской мифологии.
Появление единорога понималось как знамение того, что на
землю приходит благо. Однако в эпоху Конфуция картина была
прямо обратная: всюду царила смута. И люди не поняли тогда,
что в жизни страны произошло счастливое событие: появился
мудрец, произведший суд над правителями и указавший людям
путь к благу. Именно такой знак и хочет увидеть Ли Бо. Если бы
он услышал, что в его время «пойман единорог», он спокойно «по¬
ложил бы свою кисть».
Образ единорога говорит также и о том, в чем заключается
благо, наступления которого так ждал Ли Бо. Единорог — жи¬
вотное, которое, когда идет, «не наступит ни на что живое»; когда
питается, «не ест ничего живого». Единорога поэтому назвали
носителем жэнь,
Жэнь — древнее слово, которым обозначали «человеческое
начало», самое высокое и ценное в бытии. На этом начале, т. е.
на понимании того, что человек и есть высшая ценность, должна
быть построена вся общественная жизнь, вся культура. Нетрудно
увидеть, что это китайское слово и по общему смыслу, и даже
этимологически соответствует европейскому слову «гуманность»,
в том его значении, которое вкладывалось в него в эпоху Воз¬
рождения в Европе. В этом слове выразилось тогда стремление
к возможному в общих рамках феодализма освобождению чело¬
веческой личности от тисков средневекового догматизма.
137
2
Провозвестниками эры гуманизма в Китае были три поэта —
Ли Бо, Ван Вэй и Ду Фу. Все трое были современниками, а пер¬
вые двое даже сверстниками. Оба ,они родились почти в одно и то
же время — Ли Бо в 701 г., Ван Вэй в 699 г.— и прожили почти
один и тот же век: Ли Бо умер в 762 г., Ван Вэй — в 759 г. или в
761 г. Ду Фу был на десять лет моложе их; он родился в 712 г.,
и умер он позднее тех— в 770 г. Все трое были, таким образом,
свидетелями и блистательной поры царствования императора
Сюань-цзуна (712—756), и крушения этого блеска — мятежа Ань
Лушаня. Они жили, следовательно, в переломный момент исто¬
рии своего народа.
Но для перехода к новому, для построения общества, жизнь
которого была бы основана на началах гуманизма, нужны были
не только новые общественные условия, не только новые идеи, но
и новые люди. Ли Бо, Ван Вэй и Ду Фу таких людей и имели в
виду; они и сами представляли тип новых людей.
Как-то раз Ли Бо во время своих странствий очутился в Хуч-
жоу, оживленном торговом городе на берегу озера Тайху. На
вопрос местного градоправителя, кто он такой, поэт ответил:
Я — цзюйши из Цинляня, изгнанный сянь.
В кабаках хороню свое имя вот уже тридцать лет.
А тебе, правитель Хучжоу, чего же и спрашивать?
Я — будда Цзиньсу, его воплощение.
В китайском тексте этого четверостишия всего двадцать че¬
тыре знака, но в этих немногих знаках — и биография поэта, и
его характеристика.
Словом цзюйши среди горожан средневекового Китая обозна¬
чали человека самостоятельного, имеющего свое хозяйство,
главу семьи; в этом случае слово цзюйши означало «хозяин».
Отец Ли Бо был богатым купцом, он оставил сыну большое со¬
стояние. Следовательно, Ли Бо мог назвать себя «хозяином». Это
было как бы определение им своего общественного положения.
Однако слово цзюйши употреблялось и в других случаях. Так
называли человека образованного, ученого, но из тех, кто не
принадлежал к официальной касте, не находился на государ¬
ственной службе. Среди буддистов термин цзюйши прилагался к
почтенным лицам из мирян, т. е. к верующим, не принадлежа¬
щим к официальным кругам церкви. Ли Бо был, безусловно,
очень образованным человеком, но чиновником он никогда не
был. Правда, около трех лет он состоял при дворе, но попал туда
только по настоянию друзей и именно как поэт. Его обязанность
состояла в том, чтобы писать стихи по повелению императора.
Однако придворным поэтом Ли Бо не стал. Во дворце он дер¬
жался не только независимо, но даже вызывающе. Говорили,
138
что у него в спине «кость гордости», которая мешает ему сги¬
баться. Дело кончилось тем, что Ли Бо был изгнан из дворца.
Никогда не был Ли Бо и приверженцем какой-нибудь религии —
ни в смысле церковной организации, ни в смысле свода догматов.
Была ли у него «кость гордости» — неизвестно, но дух независи¬
мости составлял отличительную черту его личности. Назвав себя
«цзюйши из Цинляня» (Цинлянь — город в провинции Сычу¬
ань— был его родиной), Ли Бо таким способом как бы сказал
о себе, что он человек вольный.
Он говорит о себе далее, что он «изгнанный сянь»: так назы¬
вали его современники, особенно друзья. Сянь— образ, создан¬
ный даосизмом. Даосизм не только совокупность исконных на¬
родных верований, не только построенная на них религия средне¬
векового Китая, конкурировавшая с пришедшим извне буддиз¬
мом, но и свод представлений о мире, о жизни, целое мироощу¬
щение. Даоский сянь в обычном представлении — это человек,
удалившийся в «пустыню», в Китае — в глубь гор, стремившийся
там познать тайну природы, в частности открыть секрет вечной
молодости и бессмертия. Для одних людей это был отшельник,
подвижник, небожитель, для других — чародей, кудесник, маг.
Таким людям было свойственно чувство вольности, независимо¬
сти от всякой власти в природе, в обществе, в себе самом — от
власти желаний и страстей. Добавим, что из среды таких сяней
выходили иногда вожаки народных бунтов. Ли Бо еще в юности
стал изучать даоские ци шу — «книги о необычайном»; в 718 г.,
т. е. когда ему было 17 лет, он ушел в горы, стремясь войти в об¬
щение со скрывавшимися там отшельниками. В 721 г. Ли Бо во
второй раз удалился в горы и прожил там около пяти лет. Таким
образом, поэт имел право сказать о себе, что он сянь.
Но почему же он добавил «изгнанный»? Действительно, в
жизни поэта было многое, что никак не вязалось с представле¬
нием о подвижнике-отшельнике. Например, в возрасте 19—20 лет
он примкнул к «героям» (жэньсе), как называли тогда народных
рыцарей, взявших на себя защиту слабых и обиженных и рас¬
праву с сильными и обидчиками. Профессией их было «совер¬
шать подвиги». Под этим могли разуметься и расправа с угнета¬
телями и ограбление зловредных богачей. «Герои» могли тут же
раздать неимущим все, что добывали, могли и устроить гранди¬
озный пир. И даже готовы были всегда по любому поводу пустить
в ход «искусство меча». В те времена это были защитники на¬
рода— горожан и крестьян. Им были свойственны стремление к
независимости и свободе, неукротимый мужественный дух, безу¬
держно широкая натура. Ли Бо, побывав в их среде, пожив их
жизнью, позаимствовал их качества, впрочем, в зачатках зало¬
женные в нем самом. Он работал мечом и швырял деньгами и
ценностями, не отобранными у других, а своими: биографы ут¬
верждают, что он в эти годы растратил и роздал почти все своё
состояние.
139
Но жизнь поэта была какая-то особая. В 719—720 гг. он, по
свидетельству биографов, водил компанию с «героями», а в 721 г.
ушел в горы, да еще почти на пять лет.
Что он там делал? Постигал тайны природы, толок в ступе
всякие специи в надежде приготовить пилюли бессмертия, как
полагалось классическому сяню?
Из некоторых его стихов мы узнаем, что нравилось ему в
жизни других даоских отшельников. Так, об одном из них он
писал:
Горные пики скребут самое небо.
Забыв обо всем, он не считает годов,
Расталкивая облака, ищет «Древний путь»,
Прислонившись к дереву, слушает журчанье струй.
Говорил он и о себе:
Меня спрашивают, что вы там живете —
в голубых горах?
Смеюсь и не отвечают Сердце мое спокойно.
Цветок персика уносится струей и исчезает.
Есть другой мир — не наш человеческий *.
В первом стихотворении поэт употребил слово сяояо, переве¬
денное «забыв обо всем». Это очень старое слово, которым в
древности Чжуан-цзы, один из основоположников даосизма,
обозначил путь истинного сяня. Сяояо значит «обладать великой
духовной свободой», не давать жизни с ее повседневными забо¬
тами, делами, пристрастиями сковывать дух. Именно так — в
смысле житейской повседневности — и надлежит понимать слова
Ли Бо о «человеческом мире».
Указан в приведенных строках и другой признак сяня. Сянь
умеет слушать и понимать журчание ручья, песню ветра, умеет
общаться с природой, как с живым существом. Ли Бо действи¬
тельно всегда искал общения с природой. Его жизнь заполнена
странствиями по родной стране. Поэт побывал во многих дейст¬
вительно замечательных по красоте местах и рассказал о них в
своих стихах. Но в этих стихах всюду присутствует и сам поэт со
своими думами и чувствами. Это придает его стихам о природе
исключительную лиричность. Таким образом, и с точки зрения
отношения к природе Ли Бо — несомненный сянь.
Почему же все-таки «изгнанный»? Потому что настоящий
сянь, «оседлав ветер», вольно летит по поднебесью, Ли Бо же
«тридцать лет провел в кабаках». Так он сам сказал о себе. Это
подтверждает и Ду Фу, его младший современник и приятель:
«Ли Бо... в кабаках Чанъаня пьяный спит»,— читаем мы в одном
стихотворении этого поэта. Из него мы узнаем, что Ли Бо гово¬
рил про себя: «Я — винный сянь». Основания для такого опреде¬
ления действительно были. Биографы рассказывают, что в 735 г.
Ли Бо с приятелями некоторое время провел в горах Цзуйлай-
* Все цитируемые стихи даются в переводах А. И. Гитовича. См. «Три
китайских поэта», М., 1960.
140
шань. Это была знаменитая компания «шестерых бездельников
из бамбукового ущелья», проводивших время за вином у быстрой
горной речки, в живописном ущелье, поросшем бамбуковыми
деревьями. В 743 г. он стал одним из «восьми винных сяней» —
членов другого веселого содружества.
Чего же искал Ли Бо в вине? Об этом он сам сказал в своих
стихах:
Как хорош сегодняшний день — и ветер и солнце!
И завтра, вероятно, будет не хуже.
Весенний ветерок смеется над нами:
«Люди, чего вы сидите уныло?
Задуйте в цевницы! Пусть запляшет у вас
птица-феникс с радужным опереньем.
■ Зачерпните чашей! Пусть запрыгают у вас
чудесные рыбешки.
И за тысячу золотых покупайте себе хмель!
Берите радость и не ищите ничего другого...»
Но есть у поэта и другая мотивировка обращения к вину. Она
высказана в строках другого стихотворения, написанного, как
обозначено в заголовке, «весенним днем после того, как очнулся
от хмельного сна». Начальные строки этого стихотворения та¬
ковы:
Жизнь в этом мире — всего лишь большой сон.
Зачем же нам делать ее трудной?
Поэтому я и пью весь день.
Строки первого стихотворения говорят о жизнелюбии поэта,
о его стремлении к радости. Мотивируется это чудесным днем,
который будет и завтра. Во втором стихотворении — тот же при¬
зыв радоваться жизни, но с другой мотивировкой: зачем печа¬
литься? Ведь жизнь есть сон.
Не следует цидеть в словах «жизнь... всего лишь сон» пред¬
ставление об иллюзорности жизни. Слова эти следует понимать
иначе. В книге Чжуан-цзы есть место, где рассказывается, как
Чжуан-цзы раз заснул и увидел сон, будто бы он превратился в
бабочку. Потом заснула бабочка и увидела сон, будто бы она
превратилась в человека, Чжуан-цзы. И вот Чжуан-цзы не знает,
кто же он на самом деле: человек ли, которому приснилось, что
он стал бабочкой, или бабочка, которой приснилось, что она
стала человеком? Это не представление о жизни как о сновиде¬
нии, это мысль об одинаковой реальности того, что мы называем
действительностью, и того, что мы считаем сновидением; в дру¬
гом плане — это мысль об одинаковой реальности действитель¬
ности и мечты.
Последнее, что сказал о себе Ли Бо в ответе градоправителю
Хучжоу, что он «будда Цзиньсу». Цзиньсу — обозначение Вима-
лакирти, одного из очень популярных персонажей буддизма. Ви-
малакирти был очень богатым человеком, вел большие торговые
дела, имел семью. В буддизме он является воплощением образа
праведиика-миряннна, прямо противоположного подвижнику,
141
аскету. В этом образе утверждается мысль, что истинная пра¬
ведность состоит не в отказе от мира, а в приятии мира, не в от¬
решении от мирских дел, а в самой активной мирской деятельно¬
сти. В уста Вималакирти при этом вкладываются слова резкого
осуждения не только аскетизма, но и приверженности к догма¬
там. Он порицает тех последователей Будды, которые живут
мертвой доктриной, находятся во власти схоластических формул.
Таким образом, рловами «я — Вималакирти, его воплощение»
Ли Бо хотел подчеркнуть, что он человек жизни, человек дей¬
ствительности, свободный от всякого схоластического догма¬
тизма.
Это определение, данное себе самим поэтом, открывает путь
к пониманию еще одной стороны его поэзии. У Ли Бо очень много
стихов о жизни. В них он говорит о радостях и горестях людей,
о своей родной стране, о событиях своего времени, о смуте, по¬
стигшей страну во время мятежа Ань Лу-шаня. Мятеж задел и
его самого. Когда император Сюаньцзун бежал из столицы и
затем отрекся, престол перешел к его старшему сыну, но на
власть стал претендовать и другой сын — Юн-ван. Ли Бо показа¬
лось, что именно этот принц сражается за интересы народа, и он
примкнул к его отрядам. Однако Юн-ван был разбит; Ли Бо по¬
пал в плен и как мятежник был приговорен к смерти. На его сча¬
стье военачальником правительственных войск был Го Цзы-и,
которого поэт в свое время, когда он действовал заодно с «народ¬
ными рыцарями», спас от смерти. Го Цзы-и, за это время из
солдата ставший военачальником, смягчил участь поэта, заменив
казнь изгнанием, а затем, после подавления мятежа, .Ли Бо по¬
пал под общую амнистию.
Есть еще одна черта, которая проявляется в многогранном
творчестве поэта. Эта черта — нежнейшая любовь к родине. Как
говорил поэт, когда он поднимает взор вверх, он видит небо ро¬
дины, когда опустит глаза вниз — видит землю ее, т. е. думает
о ней непрестанно.
Таков был поэт — воплощение духа вольности, жизни, дея¬
тельности. Этот дух проявился и в его поэзии,' преисполненной
поистине магической силой внутреннего напряжения, высокой
лиричностью. Вероятно, именно поэтому и назвали поэта ся-
нем — магом.
3
Совсем другим — и человеком и поэтом — был Ван Вэй. Он
принадлежал к чиновничьему сословию. Отец его был скромным
провинциальным чиновником, но сам Ван Вэй, в молодости по¬
ступивший на службу, быстро стал продвигаться по служебной
лестнице. Правда, был один эпизод, который нарушил такое те¬
чение жизни. Он также был связан с мятежом Айь Лу-шаня. При
приближении войск Ань Лу-шаня к столице Ван Вэй не-успел во¬
142
время уехать и после взятия города попал в руки мятежников.
Сначала они подвергли его заключению, а потом стали уговари¬
вать поступать к ним на службу. Угрозы заставили Ван Вэя со¬
гласиться. Поэтому, когда столица была освобождена, Ван Вэй,
как и все перешедшие на службу к мятежникам, был предан суду.
Однако то, что согласие поэта поступить на службу к мятежни¬
кам было вынужденным, а главное — заступничество влиятель¬
ных друзей, в первую очередь брата поэта, занимавшего крупный
пост в правительстве, избавили Ван Вэя от суда и наказания.
В 758 г. он вновь вернулся на правительственную службу и до¬
стиг высокого положения..
Ван Вэй проник в верхи чиновнического мира, но по образу
жизни, по складу характера он был очень непохож на многих
других из этой среды. Биографы рассказывают, как строго он со¬
блюдал траур по скончавшейся матери; передают, что, потеряв
жену, он до конца своей жизни, в течение целых 30 лет, сохранял
верность ее памяти. Все, что мы знаем о Ван Вэе, рисует его как
человека высокой нравственности и душевной глубины.
Друзья часто называли поэта «Вималакирти». Такое про¬
звище говорит о Ван Вэе как о буддисте. Он действительно был
глубоко верующим буддистом, но из тех буддистов, которые, как
Вималакирти, не отвергали мир и жизнь. Поэтому Ван Вэй оста¬
вался мирянином, продолжал служить на государственной
службе. Но все же буддизм усилил в нем одну вообще присущую
ему черту: склонность к углубленной внутренней жизни. В био¬
графии Ван Вэя, помещенной в «Старой истории Тан», рассказы¬
вается, что он, «проживая в столице, каждый день устраивал тра¬
пезу с несколькими знаменитыми монахами и находил радость в
беседах о высших законах бытия. После того же как удалился от
двора, он стал возжигать благовония и сидел в одиночестве, чи¬
тая про себя словеса чань».
Упоминание о чань проливает свет на строй мыслей и чувств
Ван Вэя. Учение чань — один из толков буддизма, возникший в
VI в. в Китае. Основателем его считается Бодидарма, выходец из
Индии. Рассказывают, что он был призван к императору и объ¬
яснил ему, в чем заключается сущность его убеждений. Импера¬
тор спросил его: «Я построил много храмов и совершал добрые
дела, что я извлеку из этого?» — «Ничего! — ответил Бодидар¬
ма.— Не важны ни философия, ни литература, ни священные изо¬
бражения, ни добрые дела — все это ничтожно. Есть только один
путь. Высшее нужно искать в самом себе». Нужно уметь погру¬
жаться в особое состояние сознания, которое именуется на сан¬
скрите дьяна, а по-китайски чань. В этом состоянии человек сли¬
вается с окружающим миром. При этом такое слияние должно
достигаться не какими-либо магическими средствами, а только
усилием духа.
Ван Вэй нашел путь к состоянию дьяна, но путь этот был
не столько путем буддиста, сколько путем поэта. Слияния с жиз¬
143
нью природы он достигал своим поэтическим творчеством. В этом
смысле его и называют поэтом природы.
В странах Дальнего Востока существовал обычай устраивать
себе место, в котором можно было бы уединяться и предаваться
там какому-нибудь любимому занятию: размышлению, чтению,
писанию каких-либо сочинений, каллиграфии, музыке. У одних
таким приютом был павильон в своем саду, у других — загород¬
ный дом. Такие убежища получали особые наименования, на¬
пример: «Хижина без соседей», «Вилла чистого воздуха» и т. п.
Было свое убежище и у Ван Вэя. В некотором расстоянии от
столицы, в горах, на берегу реки Ваньчуань он построил себе
загородный дом, который назвал «Ваньчуаньской виллой». Здесь,
после ухода с правительственной службы, он провел остаток
своих дней.
Среди произведений поэта есть особый сборник стихов о Вань¬
чуаньской вилле, фактически представляющий собой целую
поэму. В предисловии к этому сборнику поэт перечисляет места
вокруг, которые отличаются красотой, в каждом случае своей
особенной. Перед читателем развертывается панорама различ¬
ных картин природы.
Надо сказать, что Ван Вэй был не только прославленным
поэтом, но и столь же прославленным художником-пейзажистом.
Он даже считается основателем особой школы пейзажной живо¬
писи. При этом в нем было трудно отделить художника от поэта,
и наоборот. Знаменитый писатель и поэт XI в. Су Дун-по писал
про Ван Вэя: «Когда вчитываешься в его стихи, в них оказыва¬
ется картина; когда всматриваешься в его картины, в них ока¬
зываются стихи». Эти слова стали постоянной характеристикой
творчества Ван Вэя — поэта и художника. Следует добавить, что
он был также одаренный музыкант.
В своих стихах о природе поэт достигает слияния с ней, т. е.
того, чего он ищет как буддист, введением в пейзаж человека.
Вот, например, одно из как будто бы совершенно пейзажных его
стихотворений:
В пустынных горах опять прошел дождь.
Наступил вечер. Осень.
Ясный месяц светит среди сосен.
Прозрачная речка бежит по камням.
Бамбуки зашумели: идут домой женщины,
стиравшие белье.
Зашевелились кувшинки: плывут назад челны рыбаков.
В китайской пейзажной живописи есть прием, называемый
дяньцзин — «внесение чего-то в пейзаж». Если рисуют горы, в
горный пейзаж вводится фигура человека; если рисуют сосны, в
пейзаж вводится изображение камня, скалы. Считается, что это
придает полноту и законченность изображению. Ван Вэй-поэт
применял этот прием в своей пейзажной лирике, соединяя при¬
144
роду с человеком. О том, насколько при помощи такого приема
действительно углубляется содержание картины природы, можно
судить по его стихотворению «Гуляю у храма Сянцзисы».
Не знаю, где храм Сянцзисы.
Прошел уже несколько ли, вступил на облачную вершину.
Старые деревья... Тропинки для человека нет.
Глубокие горы. Откуда-то звон колокола.
Голос ручья захлебывается на острых камнях.
Краски солнца холодеют среди зелени сосен.
Вечерний сумрак. У излучины пустынной пучины
В тихом созерцании отшельник укрощает ядовитого дракона.
В этих стихах рисуется картина, характерная для мест, где
обычно располагаются уединенные буддийские обители. Дорога
в гору идет через лес из старых, высоких деревьев. Тропинка со¬
всем исчезает. По каменистому руслу бежит горная речка, и ее
голос как бы захлебывается среди камней. Для усиления на¬
строения поэт погружает все в вечерний сумрак, вводит звук от¬
даленного удара колокола. И вот среди всего этого — человек.
У излучины реки над омутом видна одинокая, неподвижная фи¬
гура человека, сидящего в позе, которую обычно принимают при
размышлении. Видимо, этот человек, возможно монах из обители,
укрощает своей мыслью злого дракона — того дракона, который
гнездится в пучине, а может быть, того же дракона, только тая¬
щегося в его собственной душе? Человеческая фигура сразу же
придает всему пейзажу особый смысл. Картина, нарисованная
стихами, оказывается законченной.
В некоторых стихах Ван Вэя присутствует он сам; им свойст¬
венна не только общая лирическая эмоциональность, но непо¬
средственно эмоция самого поэта. Например, поэт рисует кар¬
тину, открывающуюся ему с холма Хуацзыган:
Птицы летят... удаляются, и нет им конца.
Цепи гор... они опять в осенних красках.
Иду вверх, иду вниз по склонам Хуацзыган —
Печаль на душе! Думы, что вы так сильны?
Вот за такую углубленность пейзажной лирики, за внесение
в картины природы, рисуемой поэтом, глубоких человеческих
чувств и эмоций Ван Вэя назвали поэтом-монахом. Словом «мо¬
нах» в этом случае обозначается не официальная принадлеж¬
ность к определенной религии, не какой-то духовный сан, а опре¬
деленный склад мышления, строй чувств, образ существования.
Ван Вэй настолько же «монах», насколько «магом» был его
современник Ли Бо. Этими привычными обозначениями метафо¬
рически определялись особенности личности людей — их душев¬
ного склада.
Ван Вэй был, однако, человеком своей эпохи — той эпохи,
когда все лучшие умы Китая принимали жизнь во всех ее про¬
явлениях. И вот у этого углубленного созерцателя природы нахо¬
дятся стихи, где воспевается нечто совершенно иное, никак не
10 н. И. Конрад
145
вяжущееся ни с какой дьяна. Достаточно прочитать хотя бы пер¬
вое четверостишие его стихотворения «Наблюдая охоту»:
Ветер крепчает, и луков звенят голоса.
То у Вэйчана охотятся вновь полководцы.
Высохли травы, у соколов — злые глаза.
Стаял весь снег. Легка поступь коней.
Иные тона звучат в стихотворении «На прощанье»:
Куда вы держите долгий путь? Позвольте спросить о том.
«Сложилась жизнь не так, как хотел»,— вы отвечаете мне.
«И я возвращаюсь к южным горам, монахом жить в тишине».
Если так, извините меня за вопрос, я знаю, что жизнь не легка.
Но помните, дружба наша чиста, как белые облака.
Из этих примеров можно видеть, что в стихах Ван Вэя, «поэта-
монаха», бывали и темы дружбы, и темы вина.
Таков был второй, великий поэт той эпохи. В своем творче¬
стве Ван Вэй показал, как человек глубиной и мощью своей лич¬
ности может одухотворить природу, слиться с нею.
4
Совершенно иным был третий великий поэт ранней поры ки¬
тайского Ренессанса Ду Фу.
Ду Фу принадлежал к другому общественному кругу, чем два
его великих современника. Он происходил из старинного рода
служилых людей. Среди его предков были и крупные полковод¬
цы, и замечательные ученые, писатели, поэты, видные государст¬
венные деятели. Но ко времени рождения Ду Фу это была заху¬
далая семья провинциального чиновника.
В жизни и творчестве Ду Фу различают несколько периодов.
Родился поэт в 712 г. До начала 40-х годов о его жизни изве¬
стно мало. Рассказывают, что в возрасте 20—35 лет он много пу¬
тешествовал. Возможно, что в этом проявилась его беспокойная
натура, толкавшая его к скитальческой жизни; возможно, что тут
сыграли роль огорчение, недовольство в связи с неудачами на
правительственных экзаменах, помешавшими Ду Фу вступить на
путь чиновника, к чему он стремился и в силу семейных тради¬
ций, и по необходимости иметь обеспеченные средства к суще¬
ствованию. Путешествие с друзьями Ли Бо и Гао Ши было за¬
ключительным этапом этой полосы скитаний, продолжавшейся в
общем с 731 до 741 г. Следует сказать, что стихов от этого пе¬
риода осталось очень немного, да и те в большинстве принадле¬
жат к последним годам этой полосы жизни поэта. Но даже из
этих стихов можно видеть, что поэт стремился преодолеть тради¬
ции прежней поэзии с ее внешней красивостью при внутренней
пустоте и оторванности от действительности. Это ранний Ду Фу,
нащупывающий свой путь.
146
Далее идет вторая полоса жизни поэта — 40-е годы и первая
половина 50-х годов — до мятежа Ань Лу-шаня. В 741 г. поэт
прекращает свои скитания и на целых десять лет обосновывается
в Чанъане.
Почему Ду Фу приехал в Чанъань? Возможно, что ему надо
было подумать о более или менее прочном устройстве своей
жизни, о заработке, и он рассчитывал устроиться на государст¬
венную службу. Во всяком случае мы знаем, что он предприни¬
мал различные шаги в этом направлении, пытался даже сбли¬
зиться с влиятельными в политическом мире купцами, принимал
участие в их кутежах. Но из этих попыток ничего не вышло.
А кроме того, обстановка в столице уже заметно менялась. Во
всем ощущалось приближение кризиса. Это заставило поэта пе¬
ренести свое внимание на общественную жизнь. Он переходит к
изображению несправедливости, зла, насилий, которые напол¬
няют жизнь и омрачают ее. Верность жизненной правде он видит
именно в раскрытии темных сторон действительности своего вре¬
мени. Это гневный, горячий, молодой Ду Фу.
Далее идут 755—759 годы. Тяжелые годы и для страны, и для
нашего поэта. В конце 755 г. Ань Лу-шань во главе большой ар¬
мии начинает движение к центру страны и в середине 756 г. ов¬
ладевает Чанъанем. Сюаньцзун со всем двором бежит в про¬
винцию Сычуань.
В начале мятежа Ду Фу со своей семьей находился в одном
городке к северо-востоку от Чанъаня. За некоторое время до
падения столицы он перебрался подальше, и, устроив в одной
деревне свою семью, сам направился ко двору нового импера¬
тора Суцзуна, сына Сюаньцзуна, сменившего на престоле отрек¬
шегося отца. Однако по дороге поэт попал в руки мятежников,
был препровожден в Чанъань и брошен в тюрьму. В 757 г. ему
удалось бежать из заключения. На этот раз он добрался до Суц¬
зуна и поступил на службу. Вместе с двором он вернулся в осво¬
божденную столицу. Однако служба его в столице продолжалась
недолго: меньше чем через год он был переведен в провинцию —
в Хуачжоу. Но и здесь ему не пришлось задержаться: через год
этот район постиг неурожай и начался голод. Ду Фу вынужден
был спасать свою семью. Вместе с женой и детьми он в 759 г.
перебрался в Циньчжоу в провинции Ганьсу. Через три месяца
ему пришлось бежать и отсюда: голод дошел и до этих мест,
а кроме того, весь уклад жизни, непривычный и чуждый, дейст¬
вовал на состояние духа поэта, и без того обостренное. После
некоторого времени бесплодных скитаний по различным город¬
кам Ду Фу, наконец, после трудного и опасного путешествия до¬
брался в конце 759 г. до Чэнду — главного города богатой про¬
винции Сычуань.
В такой жизненной обстановке в творчестве Ду Фу произо¬
шел перелом. От изображения зла и насилий он перешел к изо¬
бражению горя, страданий. В центре его. внимания оказался
147
человек. При этом через человека своей эпохи и своей страны он
начинает видеть человека как такового. В его стихах уже звучит
тема человеческой жизни, человеческой судьбы. Он становится
поэтом-гуманистом в самом высоком значении этого слова.
Правда, в жизни он видел только страдания. Отсюда повышен¬
ная эмоциональная обостренность его стихов тех лет. Это стра¬
дающий, почти отчаявшийся в жизни, зрелый Ду Фу.
И, наконец, наступает последний этап творчества поэта —
с начала 60-х годов до смерти в 770 г.
В Чэнду Ду Фу сначала нашел то, чего искал: возможность
мирного и спокойного существования. Здесь у него были друзья,
покровители, помогшие ему устроиться. В 760 г. он даже по¬
строил себе домик, где прожил три года. Это были, пожалуй,
наиболее светлые годы в его жизни. Но пришел конец этому.
В 762 г. и в Чэнду вспыхнули беспорядки — отголоски волнений
в центральной части страны. Пришлось поэту снова спасать не
столько себя, сколько свою семью. Около полутора лет он провел
в разных городках провинции Сычуань, дожидаясь успокоения.
С восстановлением спокойствия Ду Фу снова вернулся в Чэнду,
но обстановка там была уже не та, и поэту не на кого было опе¬
реться. В 765 г. он опять покинул Чэнду, на этот раз навсегда.
Спустившись вниз по Янцзыцзян, он весной 766 г. остановился
в маленьком городке Куйчжоу. Здесь он провел два года.
Однако мысль о Чанъане не оставляла Ду Фу, и в 768 г. он
отправился в свое последнее путешествие, надеясь добраться до
столицы. Но Чанъань и весь окружающий район был тогда аре¬
ной непрестанных столкновений отдельных военачальников, аре¬
ной вторжений кочевников. Такая обстановка не позволила
поэту осуществить свое намерение. Так, на джонке посреди Ян¬
цзыцзян в 770 г. его и застигла смерть.
Эти годы были для поэта периодом интенсивного творчества,
принявшего новое направление. Ду Фу начал понимать, что
в жизни есть не только зло и страдание, но и добро, и радость,
что сам человек есть прежде всего носитель именно доброго и
светлого. В связи с этим в стихах Ду Фу появляется душевная
теплота, неожиданная для него при всех неудачах в его личной
судьбе, при всех несчастцях его страны. Поэт, до этого говорив¬
ший о человеческом горе, как бы понял, что за этим горем он
перестал видеть самого человека, а через него — вечное в людях
и в жизни. Именно благодаря этому пониманию в его стихи про¬
никло теплое чувство к людям, соединенное с сознанием величия
человеческого духа. Об этом и говорит данное ему имя поэта-
мудреца.
Сюй Эр-ань, литератор XVII в., в своей книге «О танской
поэзии» («Шо тан ши») написал: «Поэзия, вообще говоря, неот¬
делима от силы. Есть сила Неба, есть сила Земли, есть сила Че¬
148
ловека. Силу Неба мы находим в Ли Бо, силу Земли — в Ду Фу,
силу Человека — в Ван Вэе». Эти слова требуют особого объяс¬
нения.
Еще в глубокой древности философская мысль в Китае выра¬
ботала концепцию, что в бытии действуют «три пути»: путь
Неба, путь Земли и путь Человека. Эти «пути» трактовались при
этом как три «способности» или три «силы». Бытие состоит из
действия этих трех сил, причем не в отдельности, а в их совокуп¬
ности. Действием этих сил определяется и конкретное содержа¬
ние жизни. Сюй Эр-ань считал Ли Бо воплощением силы Неба,
Ван Вэя — силы Человека, Ду Фу — силы Земли. Он видел это
воплощение в мощной лирической силе первого поэта, в глубине
второго, в ясности и точности третьего. Можно увидеть в этих
поэтах и большее. Ли Бо явил собой образ человека вольного
и сильного. Ван Вэй показал, какой глубиной может обладать
человек и какую силу может иметь эта духовная глубина. Ду
Фу вобрал в свою душу всю жизнь — страдание и горе людей
своей страны, тяжелую судьбу родной земли. Три поэта и своей
личностью и своим творчеством показали, какие люди были
нужны их родине в переломный момент ее истории, когда надо
было построить светлый мир гуманизма, в котором главное со¬
ставляет человек.
В стихах этих трех поэтов «вознесена к цветам», как говорили
в Китае, т. е. дана в поэтическом преображении, человеческая
личность, человеческая жизнь со всеми ее горестями и радостя¬
ми. В стихах Ли Бо, Ван Вэя и Ду Фу «вознесена к цветам» кон¬
кретная историческая эпоха — время их жизни. Их творчество
служит наглядным свидетельством того, что подлинно великий
поэт неотделим от своего народа, своей страны, своей эпохи. Но
их творчество говорит также и о том, что поэт должен все уви¬
денное, пережитое, выстраданное «вознести к цветам».
Ли Бо, Ван Вэй и Ду Фу сумели это сделать, а так как та
эпоха, которая их вдохновила, была одним из таких переломных
моментов в жизни человечества, которые открывают путь к но¬
вому, к светлому, поэзия китайских поэтов VIII в. оставалась
живой и нужной для их страны «на тысячелетие вперед», как
мечтал Ли Бо. Но эти же свойства их поэзии делают ее важной
и нужной и для всего человечества, мечтающего о светлом буду¬
щем и борющегося за него.
1960 г.
«ВОСЕМЬ СТАНСОВ ОБ ОСЕНИ» ДУ ФУ
Ду Фу всегда считался, и до сих пор считается, одним из
величайших поэтов Китая. Если желают поставить кого-либо
рядом с ним, то находят только одного — Ли Бо.
Эти поэты — современники. Ли Бо, правда, был старше: он
родился в 701, умер в 762 г. Ду Фу был на 10 лет моложе: ро¬
дился в 712, умер в 770 г. Разница в возрасте была у них неве¬
лика, но она сыграла большую роль и в их личных судьбах и —
независимо от самобытности их поэтических индивидуально¬
стей — в их творчестве.
В 755 г. вспыхнул мятеж Ань Лу-шаня — одного из воена¬
чальников империи, правителя северо-восточных провинций
Как известно, по своему историческому значению это событие
вышло за рамки обычных для феодальной страны междоусобиц.
Мятеж Ань Лу-шаня произошел на фоне глубокого кризиса ре¬
жима Танской империи, кризиса прежде всего экономического,
связанного с превращением системы надельного землепользова¬
ния, некоторое время обеспечивавшей развитие производитель¬
ных сил, в оковы, сдерживавшие это развитие. Вместе с тем это
был и кризис политический: система централизованного управле¬
ния страной, закономерно возникшая на базе надельной системы,
с разрушением этой базы естественно перестала быть выгод¬
ной. Сам мятеж через семь лет, в 763 г., был подавлен. Спра¬
виться с ним правительству помогли раздоры в лагере восстав¬
ших. Однако восстановление «порядка» не означало восстанов¬
ления порядка: надельная система, фактически уже переставшая
существовать, в 780 г. была отменена и законодательно. Была
подорвана и централизация управления.
Эти годы были очень тяжелыми для страны. Наряду с воен¬
ными действиями между двумя лагерями — правительственным
и мятежниками — шла почти не прекращавшаяся борьба внутри
каждого лагеря. Призванные правительством на помощь отряды
наемников из уйгуров вели себя как хозяева даже в самой сто¬
лице. Пользуясь смутой в стране, из-за рубежей вторгались ко¬
чевники — то уйгуры, то тибетцы — и опустошали целые районы.
150
Кроме того, волнения вспыхивали в самых различных местах от¬
части как отзвуки мятежа, отчасти как проявления того же об¬
щего кризиса.
Оба поэта пережили эту трудную пору в жизни своей ро¬
дины. Но в жизни каждого из них эта пора заняла разное
место2.
Когда начался мятеж, старшему из них, Ли Бо, было 55 лет.
Большая часть его жизни прошла еще в то время, когда могу¬
щество Танской империи, блеск ее цивилизации казались непо¬
колебимыми. Правда, Ли Бо успел еще увидеть мятеж Ань Лу-
шаня, в какой-то степени затронувший и его собственную судьбу;
но расцвет его творчества — 30—40-е годы VIII в.— уже был по¬
зади, почему и поэзия его осталась отзвуком главным образом
блистательной поры империи.
Когда вспыхнул мятеж Ань Лу-шаня, другому поэту, Ду Фу,
было всего 44 года, он находился в расцвете жизненных и твор¬
ческих сил. И прожил он еще целых 15 лет, а это означало, что
он наблюдал и весь мятеж, и все, что за ним последовало.
К тому же события затронули его самого в гораздо большей
мере, чем Ли Бо. Поэтому в поэзии Ду Фу, особенно этого по¬
следнего периода, отразились тяжелое состояние страны и жиз¬
ненные трудности самого поэта. Это и придало стихам главного
по значению периода его творчества тот колорит, который по¬
зволяет говорить о трагической музе Ду Фу.
«Восемь стансов об осени» написаны поэтом в 766 г. в Куй-
чжоу — маленьком городке-крепости на Янцзыцзяне в горах во¬
сточной части провинции Сычуань. Здесь поэт провел два года
(766—767), но это была лишь остановка на пути новой полосы
скитаний, начавшейся еще с 765 г. Весной этого года он вынуж¬
ден был покинуть Чэнду, главный город провинции Сычуань, где
прожил с конца 759 г. до начала 765 г. Правда, и за это время
из-за волнений, вспыхнувших в Чэнду в 762 г., ему пришлось
провести почти полтора года в различных городках к северо-
востоку от этой провинциальной столицы, но в 764 г. он смог
снова вернуться в свой «Соломенный дворец» — домик, который
был им в ней выстроен. Однако вторичное пребывание в этом
городе оказалось недолгим: обстановка, сложившаяся там, не
давала поэту возможности создать себе те условия, в которых
он нуждался для себя и своей семьи. Пришлось покинуть Чэнду
и снова пуститься искать счастья. В начале 765 г. он был в Юнь-
ане, небольшом городке на Янцзыцзяне к востоку от Чэнду. Бо¬
лезнь вынудила его задержаться здесь до начала 766 г.
Весной этого года, почувствовав себя лучше, он тронулся
дальше и добрался до Куйчжоу — ниже по течению Янцзыцзян.
Здесь он пробыл до весны 768 г., т. е. почти два года, мечтая
вернуться в столь милый его сердцу Чанъань. Весной 768 г. ему
151
показалось, что такая возможность появилась, и он с семьей по¬
кинул Куйчжоу. Однако по дороге он узнал о вторжении тибет¬
цев, об опустошениях, творимых ими в районе Чанъаня. Путь
снова оказался закрыт. Еще два года (768—770) поэт провел
в скитаниях на джонке, заменявшей ему дом; и на такой джонке
в 770 г. зимою, когда «рыбы и дракон уже запрятались» в свои
убежища в глубинах реки, чтобы погрузиться в «зимний сон»3,
заснул — только вечным сном — и Ду Фу, этот, может быть, ве¬
личайший поэт Китая.
«Восемь стансов об осени» обобщают то, чем он всегда жил,
и что двигало его творчество: «родных садов сердце» и «о род¬
ной стране дума»4. В этих стансах, образующих целую поэму,
получили свое выражение и эпоха, и личность поэта. А так как
эпоха была исключительной по своему историческому значению
и столь же исключительной была личность поэта, его поэма
стала настоящим памятником этой поры истории китайского на¬
рода, какой она отразилась в сознании современника — боль¬
шого человека и подлинного сына своей родины.
1
Жемчужины-росинки ведут к увяданию кленовый лес.
Горы Ушань, ущелье Усян... все в природе грустно и уныло.
Валы волн на реке вскипают, захватывая само небо.
В ветре тучи над крепостью, стелясь по самой земле,
погружают все во мрак.
Кусты хризантем... во второй раз они расцвели... других дней слезы.
Одинокий челн крепко привязан... родных садов сердце.
Зимние одежды повсюду требуют ножниц и аршина.
Замок Белого владыки высится... спешат с вечерними плитами 5.
Дело явно происходит осенью. Об этом прямо говорит вся
первая строфа этого станса. Притом осенью не яркой, «золотой»,
а сумрачной, «ведущей к увяданию» даже кленовый лес, кото¬
рый как раз осенью блистает красками. Об осени говорят и
штрихи быта, содержащиеся в двух последних строках: «Зимние
одежды повсюду требуют ножниц и аршина» — всюду режут и
меряют ткани, готовясь кроить и шить одежды на зиму; «спешат
с вечерними плитами» — обрабатывают вальками ткани, растя¬
нутые на широких плоских камнях.
И вдруг неожиданность — перед поэтом предстают целые за¬
росли цветущих хризантем. Это дикорастущие, полевые хризан¬
темы, которых много в этих местах по берегам рек. Несомненно,
поэт передает то, что он видит. Но как понять добавление:
«расцвели во второй раз»? Последнее маловероятно: вряд ли
можно предположить, что поэт видит такие заросли хризантем
вообще во второй раз в жизни. Вероятнее, во второй раз за по¬
следнее время. Значит, в Куйчжоу? Но согласно наиболее на¬
дежной хронологии жизни Ду Фу осень 766 г., когда этот цикл,
152
по убеждению большинства исследователей творчества поэта,
написан, была первой осенью, которую он проводил в Куйчжоу.
Предыдущая осень, в 765 г., застала поэта в Юньане, куда он
переехал из Чэнду, и известно, что в Юньане он пролежал боль¬
ной до весны 766 г.6.
Таким образом, за словами «расцвели во второй раз» скры¬
вается воспоминание. Более того, так как эти слова идут сейчас
же за словами «кусты хризантем», главное для поэта здесь не
впечатление от представшего перед ним красочного зрелища,
а именно воспоминание.
Почему же первое, что пришло в голову поэту, было воспо¬
минанием о прошлой осени в Юньане? Как сказано выше, Юнь-
ань был первым пунктом на пути его новых скитаний: поэтому-
то ему так и запомнилась осень, проведенная там. При таком
понимании слов «во второй раз» следует считать, что в этой
строке реальная суть не картина цветущих хризантем, т. е. не
штрих в картине осени, а горькая мысль о своей жизни.
Но сейчас же вслед за словами «во второй раз расцвели»
идут слова «других дней слезы». Они именно идут вслед, а не
входят в состав какого-то синтаксического целого. Грамматиче¬
ской связи между этими двумя словосочетаниями нет никакой.
О каких это других днях думает поэт? О прошлом или о буду¬
щем? Само выражение «другие дни» может употребляться в при¬
ложении и к тому и к другому. Это удостоверяет уже древний
китайский язык, например, язык Мэн-цзы. Так же двояко упо¬
требляется это выражение и в языке Танской эпохи. У самого
Ду Фу слова та жи («другие дни») встречаются в том и другом
смысле.
Большинство старых комментаторов, и среди них Чжан Янь7,
хороший знаток творчества Ду Фу, полагают, что поэт имел
здесь в виду прошлое и слова «других дней слезы» означают
«слезы о прошлых днях». Такое толкование вполне допустимо:
поэт вспомнил о прошлой осени, а это значит — о своих скита¬
ниях, о своих жизненных невзгодах, и эти воспоминания вызвали
на его глаза слезы.
Иначе думает Цзинь Шэнь-тань8, один из лучших исследова¬
телей творчества Ду Фу. По его мнению, Ду Фу, которому цве¬
тущие хризантемы напомнили о начале новых скитаний, с горе¬
стью подумал о том, что ему еще предстоит. «Других дней сле¬
зы» — горькие мысли о днях впереди.
Судзуки Торао9, современный японский исследователь Ду
Фу, придерживается особого мнения. Он считает, что Ду Фу,
увидев эти цветы, залюбовался ими, но тут же к его радости при¬
мешалась мысль: скоро я уеду отсюда, буду продолжать свои
скитания и когда-нибудь, «в другие дни», я вспомню об этих
цветах и заплачу.
Какую же из этих трех версий выбрать? Непосредственно
в самой строке нет ничего, что говорило бы в пользу какой-либо
153
из них. Читатель, требующий от поэта, чтобы тот ясно говорил
то, что хочет сказать, может быть недоволен таким стихом.
Та же неясность есть и в следующем стихе:
Одинокий челн крепко привязан... родных садов сердце.
Что такое «одинокий челн»? С первого взгляда это как будто
бы вполне ясно. Строка построена совершенно так же, как пре¬
дыдущая — строго параллельно:
Кусты хризантем... во второй раз расцвели... других дней слезы.
Одинокий челн крепко привязан... родных садов сердце.
Если слова о хризантемах принять за деталь описания ме¬
ста, где находился поэт, то по закону параллелизма и слова
о лодке надлежит принять за такую же реальную деталь. И это
вполне допустимо. Поэт несомненно находился на берегу реки,
следовательно, вполне возможно, что он увидел привязанную
к берегу лодку.
Но тут же возникают другие соображения. «Одинокий челн»
в китайской поэзии — один из распространенных образов одино¬
чества. Им пользуется и Ду Фу, когда хочет сказать о своем оди¬
ночестве, о своей оторванности от всего, к чему стремятся его
чувства, его думы. Пусть слова «одинокий челн» и указывают на
реальный предмет, они не могут не восприниматься и как образ.
Иначе говоря, здесь опять присутствует мысль о себе: в преды¬
дущем стихе — через воспоминание о себе в прошлую осень,
в данном случае — через представление о себе сейчас. Паралле¬
лизм вторых частей этих двух строк полный: «других дней
слезы» и «родных садов сердце» несомненно относятся к душев¬
ному состоянию поэта.
«Родные сады» — то же, что «родные места». Родными ме¬
стами поэт мог назвать свой любимый Чанъань; еще точнее —
южный пригород столицы у реки Ванчуань, где находился его
дом- Это становится ясным, если вспомнить, что у поэта при
доме был сад, а в саду — кусты хризантем. Об этом сказано в
его стихотворении «Девятый день»: «О, хризантемы у реки
Ван — в родном моем селеньи...». Таким образом, устанавли¬
вается прямая связь между «кустами хризантем» в первом стихе
и этими словами второго стиха: зрелище цветущих хризантем
в чужих местах вызывает у поэта мысль о его родном доме.
Слово «сердце» употребляется в значении и «мысль», и «чув¬
ство».
Как же все-таки понимать этот стих? Комментаторы, не на¬
ходящие связи в грамматической структуре стиха, стремятся
установить какую-нибудь связь чисто логического характера.
Опорой для них при этом служит выражение «крепко привя¬
зана».
Цинский Цянь Цянь-и10 передает содержание этого стиха
так: поэт крепко привязал здесь свою лодку, держа ее на слу¬
154
чай: может быть, и окажется возможным отправиться в путь.
Он сделал это потому, что в его душе все время жила мысль
о родных местах.
Иначе толкует эти слова Шао Фу11: он считает, что образом
крепко привязанной лодки поэт хочет выразить мысль о том, что
телом он привязан к этим местам, но душа его — далеко.
Наконец, третье толкование дает Гу Чэнь12: лодка поэта при¬
вязана к берегу крепко; так же крепко привязано, сковано его
сердце, все время стремящееся к родным местам.
Существуют и иные толкования, вернее — различные вари¬
анты приведенных13. Что же правильно? Приходится повторить
сказанное выше: в тексте нет ничего, что говорило бы за какое-
либо из этих и всяких других толкований. Единственно, что
с полным основанием можно сказать о первом стансе, то, что
в нем присутствуют два плана: описание окружающей обста¬
новки (картины поздней осени) и мысли и чувства поэта. Но оба
плана никак не соединены — ни грамматически, ни логически.
Они просто «вложены» друг в друга. При этом, если первый
план (описание картины) выражен достаточно ясно, второй (пси¬
хологический) дан скрыто, образует как бы некий подтекст.
2
Одинокая крепость Куйчжоу... заходящее солнце косит.
Вся время смотрю на Северный ковш... гляжу вдаль на столицы блеск.
Слышу обезьян и действительно проливаю... при третьем крике слезы.
Еду посланцем, лишь попусту следую... восьмой луны плот.
В расписной палате курильницы от меня, приникшего к изголовью,
отвратились.
Горной башни белый парапет... камышовая дудка скрыта.
Прошу, смотри! В глициниях и плюще на скалах — луна
Вот уже освещает на отмели тростников и мискантов цветы.
Первые три стиха первой строфы имеют вполне ясный смысл:
продолжается описание обстановки. На западе виднеется кре¬
пость Куйчжоу. Повернувшись в ее сторону, поэт видит косые
лучи уже совсем заходящего солнца. На небе проступили
звезды. Виден Северный ковш — созвездие Большой Медведицы.
В десятой луне, т. е. осенью, это созвездие стоит здесь низко в
северо-западной части неба — как раз в том направлении, где
находится далекий Чанъань. Смотря в сторону Северного ковша,
поэт как бы видит вдали блеск столицы. Быстро наступает вечер.
Из ущелья Усян доносятся крики обезьян, во множестве там
обитающих. Их жалобные крики в соединении с унылой карти¬
ной осени усилили грустное настроение поэта, и на глазах у него
навернулись слезы. Он вспомнил, как в песенке охотника,
известной ему из старинной «Книги о воде» («Шуй цзин») 14
говорится:
«Длинны ущелья Санься и Уся. Кричат обезьяны. И при тре¬
155
тьем их крике слезы уже льются у меня на одежду!». Поэту
остается только сказать: «Слышу обезьян и действительно про¬
ливаю... при третьем крике слезы».
Но есть в этих строках и одна деталь, напоминающая о вто¬
ром плане: поэт говорит не просто «крепость Куйчжоу», а «оди¬
нокая крепость Куйчжоу»; выражение же «одинокая крепость»,
как и выражение «одинокая лодка», является обычным в поэзии
образом одиночества, покинутости. Поэтому вполне подготовлен
переход к четвертому стиху: «еду посланцем, попусту следую...
восьмой луны плот».
Чтобы понять этот стих, следует знать старинные рассказы.
Один — о том, как некий человек, живший на берегу моря, од¬
нажды во время восьмой луны увидел плот, прибитый к берегу,
отправился на нем в море и доплыл до самой Небесной реки,
по-нашему — до Млечного пути 15.
Другой — о том, как известный Чжан Цянь, отправленный
ханьским императором У-ди в «Западный край», по-нашему —
в страны Восточного Туркестана, поплыл на плоту вверх по
Хуанхэ и также добрался до Небесной реки 16.
Из первого рассказа поэт взял выражение «восьмой луны
плот», которое стало в китайской поэзии образом странствий.
Из второго заимствовал выражение «еду посланцем», которое он
применяет к себе: по своей прежней должности в Чанъане он
мог быть также куда-нибудь направлен с поручением. В кон¬
тексте это звучит как «я — странник».
Но главное в этом стихе содержится в словах «лишь попусту
следую». Те двое достигли чего-то — добрались до самой Небес¬
ной реки, он же только попусту странствует — без всякой на¬
дежды дойти до какой-нибудь цели.
Во второй строфе опять соединены два плана: прошлое и на¬
стоящее. Поэт говорит о «расписной палате», как именовали
тогда высшее правительственное учреждение в Чанъане. Стены
этой палаты были расписаны изображениями «мудрых и до¬
блестных мужей древности». Когда-то поэту приходилось нести
там ночное дежурство, а во время дежурства у изголовья дежур¬
ных ставились жаровни для согревания, служившие одновре¬
менно курильницами с благовониями. Теперь, думает поэт, все
это отошло от меня. И тут же следует возвращение к первому
плану: вероятно, показалась луна и осветила белый парапет гор¬
ной башни — сторожевого укрепления, послышались камышо¬
вые дудки часовых. Он добавляет, что и светлое пятно на вер¬
хушке башни, и звуки дудки «скрыты», т. е. едва видно первое,
едва слышно второе. Вот что теперь перед поэтом вместо Чанъ-
аньского дворца.
До сих пор все понятно. Но два последних стиха снова доста¬
вили комментаторам немало хлопот.
На первый взгляд все обстоит как будто благополучно. Сна¬
чала шла речь об уже совсем косых лучах солнца; затем о том,
156
что солнце зашло и показалась луна, сперва — низко над гори¬
зонтом, так что она осветила только самый парапет сторожевой
башни на горе, потом она поднялась выше и ее лучи осветили
камни на склоне горы, выступавшие среди цветущих глициний и
плюща, растущих меж этих камней; наконец луна поднялась еще
выше, и вот ее лучи упали на цветы, точнее, султаны тростников
и мисканта, уже в самом низу — на прибрежной отмели. Пред¬
ставляется так, что поэт нарисовал картину природы в ее изме¬
нениях во времени.
И тем не менее в этих строках есть кое-что, вызывающее не¬
доумение. Согласно приведенному толкованию, дело идет об
одном вечере, о том, что луна сначала освещает камни на склоне
горы, выступающие среди цветущих глициний и плюща, а по¬
том — цветущие тростник и мискант внизу у самой реки. Сюй
Вэй первый обратил внимание на то, что поименованные расте¬
ния не цветут одновременно: глицинии и плющ цветут летом,
тростник и мискант — осенью 17. Справедливость указания Сюй
Вэя подтвердили и 'многие другие комментаторы. Следовательно,
эти строки не входят в описание вечера.
О чем же они говорят?
Ключ к пониманию смысла этих строк видят в начальном
восклицании: «Прошу, смотри!». Эти слова в китайском языке
могут употребляться как восклицание вообще. И тогда полу¬
чается такой смысл: «Смотри, пожалуйста! Видел я, как луна
освещала камни среди цветущих глициний и плюща, и вот вижу,
как она освещает султаны тростников и мисканта».
Речь идет, следовательно, о движении времени. Но о каком
времени — ближайшем, т. е. о минувшем лете и наступившей
осени, или о более отдаленном?
Упомянутый уже Цянь Цянь-и считает, что камни, о которых
говорится в этой строке,— это не камни на склоне горы, это де¬
коративные камни в саду, разбросанные среди вьющихся расте¬
ний. Это — картина сада поэта в Чанъане. Следовательно, упо¬
минание об этих камнях здесь — то же «родных садов сердце»,
которое появилось в предыдущем стансе. Иначе говоря, в двух
последних строках — смещение времени и места, а еще точнее —
два плана: один — связанный с картиной, находящейся перед
глазами, другой — независимый от данной конкретной действи¬
тельности, входящий в другую действительность — сознание
поэта.
3
Тысяча домов внутри горных укреплений... мирно утреннее солнце.
День за днем в башне над рекой... сижу на средине подъема.
Второй день ночующие рыбаки... все еще плывут и плывут.
Начало осени... ласточки хлопотливо летают и летают.
Куан Хэн представлял доклады... заслуги его показались малы.
Лю Сян передавал «цзины»... по желанию сердца не вышло.
157
Одновременно учившиеся со мной молодые люди... в большинстве
не на низких постах.
В Улине одежды и кони их... само собой легки, тучны.
Первая строфа третьего станса такая же, как и в двух преды¬
дущих: в ней дается описание картины, наблюдаемой поэтом.
На этот раз — картина утра.
Рисуется эта картина как бы сверху: «с башни над рекой»,
как назвал поэт свой домик с надстройкой-мезонином. Располо¬
жен этот домик на высоком берегу, на склоне горы, и из него
хорошо видно все вокруг: домики, разбросанные внутри стен
горного укрепления; солнце, мирно освещающее все окружаю¬
щее; река, а на ней — челны рыбаков, уже второй день раски¬
нувших на берегу свой стан. Всюду мелькают в хлопотливом по¬
лете стрижи.
Во второй строфе — уже другое. Звучат имена Куан Хэна и
Лю Сяна.
Имена эти хорошо известны людям, читавшим старые исто¬
рические сочинения или слышавшим рассказы из них. Куан
Хэн — чиновник, находившийся на службе у Юаньди (48—33 гг.
до н. э.), одного из императоров Ханьской династии; Лю Сян —
ученый, служивший в царствование Чэнди (32—6 гг. до н. э.).
Речь идет, следовательно, о двух известных людях далекого про¬
шлого — I в. до н. э.
Известно и почему имена этих людей остались в истории.
Считалось, что «доклады», т. е. советы и предложения, Куан
Хэна принесли пользу правлению, а он сам достиг высокого по¬
ложения, к чему стремился тогда всякий государственный дея¬
тель. Лю Сян работал над цзинами — древними сочинениями,
считавшимися источником государственной, общественной и че¬
ловеческой мудрости; он «приводил их в порядок», т. е. вел ра¬
боту текстолога и редактора. Основную часть работы он успел
произвести и, умирая, передал драгоценные цзины своему сыну
для бережного хранения и для продолжения работы; это озна¬
чает, что ему удалось то, что в те времена жаждало сердце каж¬
дого ученого: передать свои труды, а с ними и свою работу, свою
традицию, свою школу, как сказали бы мы, в руки достойного
и верного хранителя и продолжателя.
Зная это, мы не можем сразу понять слова Ду Фу: он гово¬
рит: заслуги Куан Хэна показались его правителю малы, у Лю
Сяна не вышло так, как он хотел. Что же, Ду Фу спорит с исто¬
рическими источниками, утверждает обратное тому, что они
говорят?
Этого никак быть не могло. Ду Фу с историей своей страны
знаком был и судьбу этих двух людей знал. Как же объяснить
такое противоречие?
Ключ к пониманию этих строк дает третий стих — слова
«одновременно учившиеся со мной молодые люди в большинстве
158
своем не на низких постах». Речь идет, следовательно, не о дав¬
нем прошлом, а о времени самого поэта.
Следует правильно понять эти слова. Это не простая конста¬
тация факта: в нее вложено порицание, осуждение.
В последнем стихе строфы говорится, что преуспевшие в
жизни бывшие товарищи поэта разъезжаются в Улине, краси¬
вом месте к северу от столицы, на тучных конях и в одеждах из
легких, т. е. дорогих, мехов. Выражения «тучные кони» и «лег¬
кие меховые одежды» идут из «Луньюя» и употреблены здесь
неспроста.
Как известно, Конфуций, хорошо разбиравшийся в склоннос¬
тях и способностях людей, стремился направить каждого из сво¬
их учеников по тому пути, на котором тот мог полнее всего
проявить свои таланты. Цзы Хуа, одного из учеников, он считал
наиболее пригодным к политико-дипломатической деятельности
и направил его поэтому в царство Ци — центр политической
жизни страны в то время. Отправляя Цзы Хуа в Ци, Конфуций
предоставил ему для снаряжения довольно крупные средства.
Когда тот уехал, Жань-цзы, другой ученик, пришел к учителю и
обратил его внимание на то, что мать уехавшего бедствует, и
попросил позволения послать ей зерна. Конфуций приказал по-
послать некоторое количество зерна. Ученику показалось этого
мало, и он попросил дать больше. Конфуций добавил еще не¬
много. Жань-цзы, которому и этого показалось недостаточно,
уже по собственной воле послал той много зерна. Тогда учитель
и сказал ему, что помочь матери уехавшего, конечно, следует,
но также следует помнить, что мать Цзы Хуа бедствует по вине
самого Цзы Хуа. Получив большие средства, он потратил их це¬
ликом на себя: приобрел тучного, т. е. откормленного, дорогого
коня; сшил себе одежду из легких, т. е. дорогих, мехов и даже не
подумал о том, чтобы оставить что-либо матери 18.
Исходя из смысла этого рассказа «Луньюя», следует при¬
знать, что словами «тучные кони и легкие меховые одежды» Ду
Фу выразил свое осуждение поведению своих бывших товари¬
щей. И вместе с тем высказал осуждение порядков, при которых
люди, заботящиеся только о себе, о своем благополучии, отнюдь
не остаются на низких постах.
В свете этих двух стихов становятся понятны и слова о Куан
Хэне и Лю Сяне. Понимать их следует так же, как осуждение
порядков, господствовавших во времена Ду Фу. Поэт хочет ска¬
зать, что и сейчас есть свои куан хэны, свои лю сяны, т. е. су¬
ществуют ученые, способные развивать науку, но они не нужны,
а вот те, кто думает только о личном благополучии,— в почете.
Таков смысл второй строфы этого станса.
159
4
Как слышу — Чанъань похож на шахматную доску.
На сто лет хватит событий... не преодолеть печали.
Дворцы князей... у всех них новые хозяева.
Гражданские и военные одеяния и шапки... они не на тех, что прежде.
Прямо на север на горных заставах гонги и барабаны гремят.
В походе на запад колесницы и кони с оперенными грамотами мчатся.
Рыбы и дракон запрятались... осенняя река холодна.
Родная страна... постоянно о ней мои думы.
В этом стансе все ясно и понятно. Поэт в ярких образах
вполне точно обрисовывает положение своей родной страны.
Можно даже подивиться тому, как в немногих словах он сумел
отметить все существенные события своего времени.
Первое из них и самое важное для страны — восстание Ань
Лу-шаня. Ань Лу-шань, как и другие вожди восстания, подни¬
маясь против императора Сюаньцзуна, действовал в своих инте¬
ресах, но в его войска вливались отряды крестьян, которым
стала уже невмоготу система правительственных наделов, свя¬
занная с массой налогов и повинностей. Однако борьбой против
правительства руководили военачальники-феодалы, преследо¬
вавшие собственные интересы и не останавливавшиеся перед
разорением целых областей. Обе стороны — как военачальники
правительственных войск, так и руководители восстания — без
стеснения прибегали к услугам наемников, особенно из уйгуров.
Отряды этих полукочевников смотрели на Китай как на страну,
отданную им на разграбление. А за ними, стремясь использо¬
вать благоприятную для грабежей и захватов обстановку, в
границы страны вторгались уже «незваные» отряды сородичей
этих наемников. Чанъань переходил из рук в руки. В 765 г. его
занял Ань Лу-шань. В следующем году его выбил оттуда Го
Цзы-и, один из военачальников правительственного лагеря.
В 763 г., когда был убит главный тогда предводитель восстания
Ши Чао-и 19 и восстание прекратилось, страну постигло враже¬
ское нашествие: в нее ворвались орды кочевников из Тибета.
Они дошли до самой столицы и овладели ею. Тому же Го Цзы-и
снова пришлось освобождать столицу. Действительно, как и го¬
ворит Ду Фу, Чанъань был похож на шахматную доску, клетки
которой занимали фигуры то одной стороны, то другой. Естест¬
венно, что в городе все изменилось. Наемники, остававшиеся в
столице, вели себя как в завоеванной стране. Дворцы, дома знати
опустели: одни хозяева убежали вместе с отрекшимся Сюань-
цзуном и его двором на юго-запад — в далекую, богатую и тогда
еще спокойную провинцию Сычуань; другие кинулись на северо-
запад, в провинцию Шэньси, где Суцзун, новый император пы¬
тался сформировать правительство. Таким образом, в Чанъане,
как и говорит Ду Фу, появились новые хозяева, не говоря уже о
«лихих наемниках», хозяйничавших в столице. Военачальники,
попеременно владевшие этим городом, назначали своих должно¬
160
стных лиц — гражданских и военных. Знаки чиновничьих зва¬
ний— особые одеяния и головные уборы — появились теперь,
как и говорит Ду Фу, совсем на других людях, чем раньше.
Но страдала не только столица. На пограничных заставах
Шэньси и Ганьсу, этих окраинных северо-западных областей импе¬
рии, неумолчно гремели гонги и барабаны — сигналы опасности:
они возвещали о приближении новых и новых отрядов уйгуров.
На западные границы мчались правительственные курьеры с
«оперенными грамотами», т. е. со срочными распоряжениями об
организации отпора вторгавшимся тибетцам. 763—765 гг. были
очень тяжелыми годами для этих областей страны, ставших аре¬
ной вражеских нашествий. Если добавить к этому вспыхивавшие
то здесь, то там местные междоусобицы, захватывавшие даже
«спокойную» Сычуань, то можно согласиться с Ду Фу: событий
было столько, что их вполне хватило бы на целое столетие. Можно
понять поэта: «не преодолеть печали!».
Эти слова сказаны в начале станса, и к этому же мотиву поэт
возвратился в конце.
Последние два стиха снова возвращают нас к обстановке, в
которой создан этот цикл: к осени в Куйчжоу. Время шло, «осен¬
няя река холодна»; приближалась зима. Рыбы и драконы, обита¬
ющие в глубинах вод, воспринимают приближение зимы как на¬
ступление ночи и «укладываются спать» — прячутся в свои убе¬
жища до самой весны. Все затихает, замирает. Но не успокаи¬
вается сердце поэта: «родная страна... постоянно о ней мои
думы». Так заканчивается этот исторический по своему содержа¬
нию станс.
5
Ворота дворца Пэнлай обращены к Наньшань.
Золотой стебель Чэнлу... там, где дожди и небесная река.
На западе вижу вдали пруд Яочи... там нисходит Сиванму.
С востока идет фиолетовая дымка... заполняет заставу Хань.
Облака расходятся... фазаньи хвосты раскрывают дворцовое опахало.
Солнце окружает чешую дракона... узнаю государево лицо.
Лежу у реки... пугаюсь, как год вечереет.
А сколько раз у лазоревой цепи стоял при перекличке у дворца.
Начиная с этого станса все меняется. Реальный план — кар¬
тина осени в затерянном в горах укреплении — отступает. Отсту¬
пает и «родных садов сердце» — воспоминания о своем прошлом.
Отступает и «о родной стране дума» — картина состояния госу¬
дарства. На место всего этого выступают видения.
Высоко на горе красуется пышный дворец Пэнлай. Его глав¬
ные ворота, а это значит весь фасад, повернуты к Наньшань —
Южной горе, т. е. к солнцу. Вздымается ввысь — туда, где соби¬
раются дожди и протекает Небесная река, т. е. к самому небу,
«Золотой стебель» — медный столб, увенчанный чашей Чэнлу,
«принимающей небесную росу». Там, на западе — Яочи, Яшмо<
вый пруд. В него сходит Сиванму, «Мать — царица Запада».
11 Н. И. Конрад
161
С востока идет фиолетовая дымка. Вот она уже заполнила за¬
ставу Хань. Медленно расходятся облака — два сомкнувшихся
пышных фазаньих хвоста-опахала над троном,— и в сиянии
солнца сверкает золотая чешуя дракона... Узнаю лик самого го¬
сударя.
Что это такое? Чанъань? Видение столицы? Как будто так.
Пэнлай — это Дамингун, дворец за воротами Красного феникса,
на горе Лунгоушань, т. е. один из загородных дворцов танских
императоров. Его главные ворота, а это значит и он сам, обра¬
щены, как это и полагается, к югу — в сторону Наньшань,
ныне — Чжуннаныпань,— Горы Юга. В дворцовом парке действи¬
тельно был «Яшмовый пруд» — Яочи. У трона в парадном зале
действительно было большое опахало, сделанное из пышных фа¬
заньих хвостов. Когда обе половинки этого опахала раздвигались,
перед всеми представал восседавший на троне император и в лу¬
чах солнца (трон был обращен на юг) действительно ярко бли¬
стал вытканный на его одеянии дракон. Но в видении поэта для
омовения в Яшмовый пруд сходила не Ян Гуй-фэй, прекрасная
фаворитка Сюаньцзуна, а Сиванму — «Мать — царица Запада»,
того таинственного «Запада» древних китайских легенд, который
был для обитателей древнего Китая такой же страной чудес, ка¬
ким был когда-то для людей Запада загадочный Восток. Один из
правителей глубокой древности, Му-ван, пробрался в эту таин¬
ственную страну, был гостем «Матери — царицы Запада» и пи¬
ровал с ней на берегу Яочи — Яшмового пруда 20.
Но может быть, поэт здесь просто говорит образами древней
легенды о том же парке Чанъань, и «Сиванму» просто поэтиче¬
ское обозначение императорской фаворитки?
Можно было бы подумать и так, если бы не «застава Хань»
и не «фиолетовая дымка», которая надвинулась на нее с Востока.
«Застава Хань» никак уже не Чанъань, даже как-нибудь фигу¬
рально. Это где-то на далекой границе страны; пройдя ее, путник
попадает на дорогу, ведущую именно на «Запад» — в ту самую
неведомую, полную чудес страну, которой правит «Мать — ца¬
рица Запада». Когда-то, также очень давно, страж этой заставы
заметил странное явление: с Востока, т е. из глубины Китая, к
заставе медленно надвигалось облако — дымка необычайной фи¬
олетовой окраски. Он был мудр, этот страж, и сразу понял, что
эта дымка возвещает, что к заставе приближается «Дао-жэнь» —
«Человек Дао», «Человек Пути». И действительно, скоро у за¬
ставы показался восседавший на быке величественный старец.
Это был Лао-цзы. Страж низко склонился перед путником, кото¬
рый, передав ему для покидаемой им страны «Дао дэ цзин» —
«Великую книгу о Дао и Дэ», проехал заставу и исчез навсегда21.
Если «застава Хань» не Чанъань, и «фиолетовая дымка» ни¬
как не дымки из очагов столицы, то солнце в следующем стихе
не солнце, восходящее над городом, фазаньи хвосты не дворцо¬
вое опахало, дракон не прозаический император в парадном оде-
103
йнйи: поэт 6 своём Видений у&иДёл вс всём блескё самого «Сына
Неба», властителя могучей империи, во всей его славе.
Но тогда и Пэнлай не известный всем дворец Дамингун, а
Пэнлайшань — «Волшебная гора», сказочная страна на самом
востоке Восточного моря, т. е. того, неизвестно где кончающегося,
а может быть, и никогда не кончающегося, океана, который
только и видели обитатели Китая у себя с Востока. А «Золотого
столба» с чашей «Чэнлу» в Чанъане тех времен и вообще не су¬
ществовало. Предание говорило, что такой столб стоял когда-то,
в ханьские времена, в столице, находившейся тогда тут же, в
районе Чанъаня. Это был отлитый из меди высокий столб в виде
фигуры «Сяня» — мага, державшего в руках над головой чашу,
в которой собиралась «небесная роса». Воздвигнуть этот столб
приказал сам У-ди, с которым предание и история соединили об¬
раз создателя могущества империи. Император время от времени
выпивал эту росу, и она давала ему здоровье, долголетие, силу.
Характерно, что «Небо», в которое вздымается этот столб с ча¬
шей, «собирающей небесную росу», поэт называет образно: ме¬
стом, где скопляются дожди и где протекает Небесная река.
Таким образом, в этом видении поэта черты реального Чанъ¬
аня переходят в образы славы и блеска великой империи. Не опи¬
сание столицы дается в этом стансе, а гимн стране — древней,
великой, славной. И воспета она в самых сказочных образах. Ре¬
альные черты истории причудливо переплетаются с легендой;
конкретные детали становятся частями волшебной картины.
И вдруг в конце: «лежу у реки... пугаюсь, как год вечереет».
«Вечереет год» — не только тот год, осенью которого поэт создал
свой цикл: слово «год» в этом стихе означает также «года», т. е.
человеческую жизнь. А к старости китайцы всегда применяют вы¬
ражение «вечерние годы». Поэт, затерянный в этой глуши, ле¬
жит на берегу реки и со страхом видит, как уходят последние
годы.
А когда-то он стоял с группой чиновников у ворот дворцо¬
вого квартала, где находились и высшие правительственные уч¬
реждения, и ждал обычной переклички перед впуском в дворцо¬
вый квартал; стоял у ворот, половинки которых как бы замыка¬
лись «лазоревой цепью» — нарисованным на них лазоревым ла¬
ком изображением цепи.
Снова воспоминание, снова реальный план. Действительно,
с десятой луны 757 г., когда Суцзун со своим двором после ос¬
вобождения Чанъаня вернулся в столицу, по шестую луну 758 г.
Ду Фу находился на правительственной службе. Служба его про¬
должалась меньше года, но сейчас он вспомнил о ней.
6
Отверстие ущелья Цзюйтан... голова излучины Цзюйцзян.
Десять тысяч ли... ветер-мгла... соединяет все в осени.
Длинная галерея башни Хуаэ...
163
Она проводит величия дух.
Лотосовый садик... входит туда скорбь.
Жемчужные завесы, разукрашенные столбы окружают желтых цапель.
Парчовые вожжи мачты из слоновой кости поднимают белых чаек.
Поворачиваю голову... мне жалко этого места песен и плясок.
Центр Циньской земли... Область древних царей.
Поэт из своего домика над рекой видит там, на востоке от
Куйчжоу, «отверстие» — узкий вход в ущелье Цюйтан, одно из
трех прославленных своей дикой красотой ущелий, через которые
пробивается Янцзыцзян. А там, далеко,— «голова», т. е. начало,
излучины Цзюйцзян, живописной местности в окрестностях Чанъ-
аня, где находился загородный дворец с обширным парком при
нем. Это было тогда одним из любимейших мест увеселительных
прогулок и празднеств.
Далеки друг от друга эти два пункта — Цюйтан и Цзюйцзян,
между ними «десять тысяч ли», йо осень — как тут, так и там;
ветер разносит повсюду осеннюю мглу, и она как бы соединяет в
одно целое и дикое ущелье на Янцзыцзяне, и роскошный парк
около столицы.
Это «единство в осени» двух столь далеких друг от друга
мест позволяет поэту как бы непосредственно видеть Цзюйцзян.
Вот башня Хуаэлоу, примыкающая к дворцу Синцингун, нахо¬
дящемуся в парке; вот галерея Цзячэн — длинный узкий проход,
которым через башню Хуаэлоу проходили из дворца к Лотосо¬
вому садику—«Собственному садику» в парках загородных
дворцов русских царей. Поэт видит, как проходит по этой гале¬
рее сам император, видит, какое величие тут царит. А вот и сам
Лотосовый садик. «Входит туда скорбь».
Больше ничего не сказано, и комментаторы, стремящиеся все
понять, во все внести ясность, вносят ее: «Входит туда скорбь
скитальца-поэта»,— утверждают одни; «Входит туда скорбь —
солдаты Ань Лу-шаня, неся с собою разорение и опустошение»,—
заявляют другие. И те и другие при этом забывают, что Ду Фу
сумел бы сказать, что он имел в виду. Но он сказал только то,
что сказал. '
Поэт как бы идет дальше по парку. Вот «разукрашенные
столбы», между ними «жемчужные завесы». Вот желтые цапли.
Комментаторы опять хотят ясности: что это — живые птицы, про¬
гуливающиеся по пространству, окруженному «разукрашенными
столбами с жемчужными завесами», или их изображения, выши¬
тые на завесах или нарисованные на столбах? Вполне допустимо
и то и другое, хотя слово «окружают» скорее говорит о том, что
тут имеются в виду живые птицы: в подобных парках всех времен
бывали «декоративные» птицы и животные.
Вот большой пруд. В каком же дворцовом парке не было та¬
кого пруда или озера? «Парчовые вожжи» — нарядные придвор¬
ные экипажи, на которых катаются вдоль пруда; «мачты из сло¬
164
новой кости» — пышные джонки, на которых катаются по пруду,
вспугивая белых чаек.
Поэт не может вынести этого. Он «поворачивает голову», от¬
ворачивает свой взор: ему жаль этого места песен и плясок.
Чем оно теперь стало?
Об этом можно судить по сказанному в четвертом стансе:
столица и все вокруг нее разорено, опустошено. И под конец —
горестное восклицание: «О ты, Чанъань, центр Циньской земли,
Область древних царей».
Да, действительно Чанъань, вернее, район Чанъаня был
«областью древних царей», исконной территорией Китая. Здесь
еще в XV в. до н. э. появилась первая в истории страны столица;
это была столица древнего Чжоуского царства — первого госу¬
дарства на китайской земле. Здесь была столица великого госу¬
дарства китайской древности — Ханьской империи, в которой
была объединена вся страна. Чанъань стал столицей и образо¬
вавшейся в конце VI в. великой Империи китайского средневе¬
ковья, управляемой сначала — очень короткое время — дина¬
стией Суй, потом — целых три века — династией Тан. Действи¬
тельно тут был «центр Циньской земли» 22.
Эти слова поэта сразу меняют содержание станса: не о пыш¬
ности дворцовых парков он думает, а о своей стране. Чанъань
для него образ китайской земли, символ ее истории; конечно,
истории, представляемой в ослепительном свете величия и
блеска.
7
Пруд Кунминчи... подвиг ханьского времени.
Знамена и штандарты У-ди... прямо перед глазами.
Ткачиха и ее пряжа... попусту ночная луна.
Каменный кит, чешуя и панцирь... шевелятся от осеннего ветра.
Волны несут на себе водяной рис... в глубине облако — черно.
Росинки холодят чаши лотоса... опадает цветной пыльцы пурпур.
Далекая крепость у края небес... лишь одна птичья дорога.
Реки, озера заполняют всю местность... один старик-рыбак.
Обращение к истории, к прошлому окончательно укрепило
двуплановость видения поэта. В этом стансе причудливо соеди¬
нены штрихи действительности с образами прошлого.
«Пруд Кунминчи»... Искусственное озеро, так называвшееся,
существовало в действительности в 20 ли к западу от Чанъаня.
Это был искусственный водоем, очень большой по размерам —
40 ли в окружности, выкопанный по повелению У-ди, создателя
могущества древней Ханьской империи. Но увидел поэт на этом
озере не то, что можно было увидеть на нем в его время, а то,
что было во времена У-ди: знамена и штандарты самого великого
императора. У-ди устраивал здесь примерные сражения своих
речных боевых судов.
165
Никакой «Ткачихи» во времена поэта На берегу этого озера
не было, но он увидел ее. И это был уже не пруд, а Небесная
река — Млечный путь. Звезда-дева — Ткачиха обитала на одной
стороне Небесной реки, а на другой жил ее возлюбленный — Пас¬
тух, звезда-юноша. Один раз в году, в седьмую ночь седьмой
луны, могли встречаться у Небесной реки эти небесные любов¬
ники.
Поэт все это увидел так, как было когда-то. Но действитель¬
ность все же вторглась в это видение: Ткачиха стоит, в руках у
нее, как и полагается, пряжа, но понапрасну ходит по небу ноч¬
ной месяц: не встретится она с Пастухом.
Никакого «Каменного кита» во времена поэта в пруду Кун-
минчи не было. Но он увидел и услышал то, о чем читал: «В пруду
Кунминчи сделали из камня огромного кита. При громе и дожде
он ревел; при ветре его плавники и хвост двигались»23.
Все так, как рассказывало старинное сочинение. Но действи¬
тельность опять вторглась в видение: не просто «при ветре» ше¬
велились чешуя и панцирь каменного изваяния, а при осеннем
ветре... Осень, реальная осень в Куйчжоу не отступала от поэта.
И эта осень уже открыто присутствует в следующем стихе.
Зерна «водяного риса», цицании,— черного цвета; осенью они
осыпаются и массой оседают на дно, так что кажется, будто в
воде — черное облако. Об осени говорит и следующий стих — о
холодной росе, блистающей в чашечках лотоса; о красной пыльце,
осыпающейся с увядающих цветов.
Последние два стиха целиком возвращают к действительно¬
сти, причем к действительности Куйчжоу. «Далекая крепость»,—
сказал поэт во втором стансе; т. е. пограничное, затерянное на
самой окраине страны, укрепление — сказал он здесь. Отсюда
до Чанъаня дорога открыта только для птиц. И в плену у рек и
озер, заполняющих этот край, живет он один — «старик-рыбак»,
как назвал себя тут поэт.
8
Куньу — Юйсу... дорога сама извивается и кружит.
Северный склон пика Цзыгэ... ведет к Мэйпи.
Ароматный рис... оставшиеся не склеванными попугаями зернышки.
Голубая павлония... осталось старое гнездо фениксов на ее ветвях.
Вместе с красавицами собирал зеленые растения весною, с ними
переговаривался.
Вместе с сянями усаживался в лодку... вечером только приходил
в другое место.
Моя красочная кисть вмешивалась и в явления природы.
Седая голова... пою стихи, смотрю вдаль... скорбно поникаю головой.
Последний станс «Осеннего цикла» опять воспринимается
как воспоминания. В горах, недалеко от Чанъаня, есть озеро
Мэйпи. Это живописное высокогорное озеро, одно из любимых
мест дальних загородных прогулок. Ду Фу в годы своей жизни в
166
столице часто бывал на берегах этого озера, обычно с друзь¬
ями — братом и поэтом Цэнь Вэнем. Одну из таких прогулок он
описал в 753 г., т. е. еще в спокойное для страны время, в стихот¬
ворении «Песня об озере Мэйпи». В данном стансе поэт как бы
видит перед собой дорогу к этому оЗеру: упоминает места, через
которые она проходит, обращает внимание на то, как она вьется
по горным склонам, поднимаясь к Цзыгэфынъинь — Пику фио¬
летовых палат, одной из вершин хребта Чжуннанынань, Южных
гор, высящихся к юго-востоку от Чанъаня. На северном склоне
этой вершины и лежит озеро Мэйпи.
Само озеро и весь его район еще во время Ханьской империи
входили в границы дворцового парка, а в местности Куньу был
выстроен павильон. Тут же вилась живописная горная речка
Юйсу.
Поэт вспоминает, как он во время одной из своих прогулок —
вероятно, той, которая описана в «Песне об озере Мэйпи», по-
видимому, особенно запомнившейся ему,— видел еще уцелевшие
от попугаев, во множестве водившихся в этих местах, зернышки
«ароматного риса» — какого-то растущего здесь растения. Видел
на огромной голубой павлонии старое, оставленное обитателями
гнездо фениксов.
Упоминание о фениксах резко меняет общий тон стихотворе¬
ния: оно опять уводит в иллюзорный мир. Феникс в действитель¬
ности не существует: это сказочная птица китайских легенд. Но
дело не просто во внесении поэтом в свое воспоминание элемента
сказочности.
Древнее предание рассказывает, что люди в первый раз уви¬
дели феникса, когда ими стал править Шунь, государь-мудрец,
один из Совершенных людей глубокой древности. Стали считать
поэтому, что появление феникса служит знаком того, что госу¬
дарством управляют мудро, что в обществе царят добрые нравы,
что вокруг разлито благополучие. Поэтому-то Конфуций и горе¬
вал, что в его времена «Феникс не появляется» («Луньюй», IX),
а мы знаем, что это было связано у него с осуждением прави¬
телей его времени.
Ввиду этого слова Ду Фу о том, что он по дороге в Мэйпи
увидел старое, оставленное гнездо фениксов, должны восприни¬
маться так же, как и восклицание Конфуция. В полном виде оно
таково: «Феникс не появляется... Река не выносит знаки... Ко¬
нец мне!» 24.
«Река не выносит знаки» — не выносит из своих глубин то
чудесное существо — «лошадь-дракон», на коже которого Фу-си,
другой Совершенный человек, другой государь-мудрец древних
преданий, прочитал первые в мире письмена. Появление из воды
этого сказочного существа — такой же признак мудрого, благого
правления, как и прилет феникса. Конфуций, наблюдая, до ка¬
кого плачевного состояния правители его времени довели страну,
выразил свою оценку в таких символических образах.
167
В свете этих образов понятно, что хотел сказать Ду Фу сво¬
ими словами о старом, оставленном гнезде фениксов. В них со¬
держится не менее суровая, чем у Конфуция, оценка положения,
до которого довели страну правители его времени. И только ста¬
рое гнездо феникса напоминает о былом благополучии. В нем ос¬
тались лишь недоклеванные птицами зернышки. Эти слова тоже
звучат символически.
Вторую строфу последнего станса комментаторы пытаются
понять то в реальном плане, то в фантастическом. Одни пола¬
гают, что в стихах этой строфы поэт говорит о себе, продолжая
свои воспоминания о прогулках у озера Мэйпи. В этом случае
вполне реальны и «красавицы», с которыми он собирал что-то яр¬
кое, зеленое; думают, что речь идет о каких-то красивых ярко-
зеленых растениях. Другие считают, что «красавицы» — это ска¬
зочные феи, а «зеленое» — их украшения, сделанные не то из
«зеленого камня» (вероятно, малахита), не то из перьев зимо¬
родка. Феи играли на берегу и растеряли эти свои украшения.
И вот поэт вместе с ними их собирает. Слова «весною с ними пе¬
реговариваюсь», как будто бы благодаря упоминанию о весне
имеющие вполне определенный смысл, некоторые комментаторы
хотят понимать как «обмен украшениями». Что же касается «ся-
ней», о которых говорится в следующем стихе, то, по мнению
одних, это просто друзья поэта, с которыми он катается на лодке;
по мнению других — маги, волшебники.
Есть, однако, старый рассказ, несомненно известный поэту,
о том, как двое друзей — Ли Пи и Го Тай — катались по этому
озеру, а видевшие их восклицали: «Вот катаются сяни!». Преда¬
ние говорит, что это было во время Ханьской империи25. Не
унесся ли поэт опять от Мэйпи своего времени к Мэйпи эпохи
Хань, этой идеальной в его представлении древней поры? И тогда
«красавицы» должны восприниматься также в этом аспекте —
это бывшие здесь когда-то прекрасные обитательницы этих мест.
Последние две строки станса — горестное заключение. Ког¬
да-то, думает поэт, его стихи были исполнены такой силы, что
действовали на самое природу; они могли уничтожать для него и
пространство и время. Такое представление о силе поэзии, ее
могуществе, почти сверхъестественном, было распространено
среди многих поэтов средневекового Китая. И вот теперь, думает
Ду Фу, он как будто по-прежнему «поет», т. е. слагает и читает
нараспев, свои стихи, но ни времени, ни пространства он преодо¬
леть с их помощью не может. «Седая голова» — знак того, что
не он, поэт, властвует над временем, а оно над ним. «Смотрю
вдаль» — в сторону Чанъаня; это знак того, что не он, поэт, гос¬
подствует над пространством, а сам в его власти. Поэтому скорб¬
но и поникает глава измученного «думами о родной стране»,
«любовью к родным садам» поэта.
«Восемь стансов об осени» действительно могут не нравиться
тем, кто считает, что поэтическое произведение должно быть яс¬
168
ным по мысли и точным по словесному выражению; что Никаких
загадок оно содержать в себе не имеет права. «Прекрасной яс¬
ности» в осенней поэме Ду Фу нет.
В поэме, прежде всего, два плана: внешний и внутренний.
Внешний план — то, что поэт видит в природе; внутренний — то,
что происходит в его душе. Оба плана не отделены друг от друга;
они перемешиваются, сплетаются, притом весьма прихотливо.
По поверхности течет какой-то поток, как будто вполне опре¬
деленный; и вдруг его течение уходит куда-то в глубину и на
поверхности появляется откуда-то из глубины другое течение;
бывает, что первое течение не исчезает и второе только присо¬
единяется к нему; присоединяется, а не сливается. Есть что-то,
управляющее этими двумя течениями, но оно скрыто где-то в
глубине и внешне ни в чем не выражается.
В каждом из этих двух основных планов — своя двойствен¬
ность. Во внешнем плане смешивается то, что поэт непосредст¬
венно видит перед собой, т. е. картина осени в Куйчжоу, с тем,
что предстает перед умственным взором в далеком Чанъане; в
том и другом случае выступает то настоящее, то прошлое. Иначе
говоря, налицо двуплановость не только пространства, но и вре¬
мени.
Во внутреннем плане соединено личное и общественное. По¬
являются мысли о себе, о своей неудавшейся жизни, и тут же ря¬
дом — о своей стране, о ее печальном состоянии. Прихотливо
перемешаны одно место с другим, настоящее с прошлым.
И, наконец, еще одна двойственность: смешение реального
с иллюзорным. Такое смешение присутствует и во внешнем плане,
и во внутреннем: то вполне реальная местность, конкретная де¬
таль обстановки, то какой-то фантастический мир; то совершенно
реальная история с очень точными подробностями, то история,
облеченная в совершенно сказочные одеяния; в последнем слу¬
чае — в каком-то причудливом сочетании действительного и во¬
ображаемого.
В дополнение ко всему этому — наличие особого плана, как
бы стоящего за всем целым. Из приведенного разбора видно, что
многое в стихах поэта понятно только в связи с целым комплек¬
сом ассоциаций, облекающих какой-либо образ, только при зна¬
нии символики некоторых образов, только при учете душевного
состояния поэта и его общего умонастроения. А это все требует зна¬
ния истории — той, которая развертывается на глазах поэта, и
прошлой; знания литературы, раскрывающей, как народ представ¬
лял себе и свое прошлое, и свое настоящее; знания поэзии, воспе¬
вающей то и другое.
Но в этом сложном произведении есть все же нечто совер¬
шенно ясное и понятное. Это — «родных садов сердце» и «о род¬
ной стране думы», т. е. тема своей жизни и судьбы и тема жизни
и судьбы своей родины. Обе эти темы настолько переплетены
друг с другом, что их просто невозможно отделить. Ду Фу —
169
0031“, у которого действительно личное слито с общественным, пе¬
реживание своей судьбы — с переживанием судьбы всей родины.
Но доминанта в этом едином сложном звучании безусловно тема
родины. Это вообще характерно для творчества Ду Фу.
Но тема своей жизни и жизни родины подана у Ду Фу в этой
поэме поэтически по-иному, чем в других его стихах. Он облек
ее в образы, приподнятые над действительностью. Из приведен¬
ного разбора видно, что поэт все время обращается ко временам
Ханьской империи. Для китайцев его времени это была древность
их страны, то же, что для итальянцев эпохи Возрождения древ¬
ний Рим, Римская империя. В глазах людей итальянского Воз¬
рождения эта древняя империя представлялась не в своем реаль¬
но-историческом существе, а как образ величия, славы, государ¬
ственной мудрости, расцвета общественной мысли и жизни. Тем
же была для китайцев VIII в. древняя Ханьская империя. Ду Фу
именно так и представил ее в своей поэме, но не рационалисти¬
чески, а в особой образности, заимствованной из старых легенд
и преданий. И в этой образности растворилась и исчезла собст¬
венно Ханьская империя даже в идеализированном представле¬
нии. Осталась «циньская земля», «область древних царей», оста¬
лась родина.
«Восемь стансов об осени» появились в 766 г. Вскоре, уже
в 770 г., поэта не стало. Незадолго до этого один за другим
умерли два других больших поэта — современники Ду Фу: Ван
Вэй (701—761) и Ли Бо (701—762). Еще раньше закончил свой
жизненный путь самый старший из этого замечательного поко¬
ления — поэт Мэн Хао-жань (689—740). Но уже жил на свете
Хань Юй (768—824) — поэт, публицист, философ; за ним следо¬
вали: поэт Бо Цзюй-и (772—846), публицист Лю Цзун-юань
(773—819), новеллисты и поэты Бо Синь-цзянь (775—826) и
Юань Чжэнь (779—831). На смену одному славному поколению
приходило другое, столь же славное26.
Жизнь этих двух поколений заняла в общем около полутора
столетий, а если считать по годам их творческой деятельности —
около столетия: с середины VIII до середины IX в.
Это было замечательное столетие: пора интенсивной пере¬
стройки страны. Рухнула надельная система — та форма органи¬
зации хозяйственной жизни, на которой укрепился и развился
феодализм в Китае,— а вместе с ней и раннефеодальное центра¬
лизованное государство — политическая форма, соответствовав¬
шая экономическому строю того времени. Страна продолжала
оставаться феодальной, но на смену одной форме феодальной соб¬
ственности приходила другая. Крестьянин, до этого обрабатывав¬
ший участок казенной земли, предоставленный ему правительст¬
вом в строго регламентированном размере в виде надела, и от¬
дававший часть получаемого продукта казне, теперь' стал
170
работать на земле, которую он считал своею; служилое сословие,
представители старой знати из держателей «должностных» и про¬
чих привилегированных наделов уже открыто стали собствен¬
никами поместий. Свобода земельных сделок, развязанная хо¬
зяйственная инициатива, накопление средств повлекли за собой
расширение обработки земли и привели к росту поместий и к ук¬
реплению относительно зажиточного слоя крестьян-собственни-
ков. Но одновременно крестьяне малоимущие, малоземельные с
трудом вели свое хозяйство, и среди них все более увеличивалось
число зависимых от помещика-феодала. Правительство вынуж¬
дено было отдавать под контроль местных владетелей целые об¬
ласти, в которых по своим путям развивалось хозяйство. Вклю¬
чались в хозяйственную жизнь новые обширные районы. Города,
уже в VII в. ставшие центрами производства и торговли, жили
интенсивной, разносторонней жизнью. Росло число и значение
организаций ремесленников и торговцев — цехов и гильдий. Ре¬
месленное и торговое население в городах увеличивалось в числе,
укреплялось в экономических позициях, росло в культурных тре¬
бованиях. Наряду с внутренней торговлей большой размах при¬
обрела и внешняя: торговыми сношениями Китай был связан не
только с Кореей и Японией, но и со всем миром Юго-Восточной
Азии; постоянными гостями в больших городах-портах Юго-Вос¬
точного Китая стали персы, арабы, малайцы. Чанъань в VIII в.—
город с миллионным населением, в составе которого был значи¬
тельный слой иноземцев, главным образом из «Западного края»,
т. е. Восточного Туркестана и Средней Азии. Во дворцах знати и
в увеселительных кварталах звучала «западная музыка», были
в ходу «западные пляски». Столичные модницы одевались и при¬
чесывались на «западный манер».
Возник многочисленный слой представителей культуры — пи¬
сателей, публицистов, философов, художников. Они создавали
свои содружества, в которых горячо обсуждались не только во¬
просы литературы или философии, но и текущей политики и об¬
щественной жизни. Развивавшееся книгопечатание способство¬
вало распространению различных сочинений. В Чанъане и Лояне,
второй столице страны, были книжные лавки. Именно к этому
слою образованной, высококультурной интеллигенции и принад¬
лежали названные поэты, публицисты, ученые. Такой была исто¬
рическая обстановка, которая их породила и в которой они жили.
И черты этой обстановки стали явственно обрисовываться именно
с середины VIII в., особенно после мятежа Ань Лу-шаня.
Понадобилось, правда, еще довольно много времени, прежде
чем новые порядки укрепились. Это произошло лишь после огром¬
ного по масштабам крестьянского восстания, последней четверти
IX в., вошедшего в историю под названием «Восстания Хуан
Чао» (по имени своего главного предводителя) 27. Однако после
этого восстания наступил уже второй этап обрисованного
процесса. В нем были свои славные имена. Все же писатели,
171
публицисты, ученые, названные выше, принадлежат к первому
этапу.
Как назвать эту полосу истории Китая? Несомненно это —
феодализм, но феодализм, сопряженный со многими новыми яв¬
лениями в экономической, политической и культурной жизни.
Главное в этом новом — повышение значения человеческой лич¬
ности. Это хорошо выразилось в формуле, возникшей в то время:
«Человек... Поскольку мы живем в мире человека, надлежит
быть верным ему, человеку». Именно человеку и стали служить
литература, искусство, философия. Не следует ли поэтому назы¬
вать эту эпоху «Гуманизмом» в хорошо нам известном по истории
Запада историческом смысле? 28.
Вместе с темой человека перед общественной мыслью того
времени с огромной силой встала тема родины, ее состояния, ее
судеб. Публицисты главным образом эту тему и разрабатывали.
И разрабатывали с огромной любовью к своей стране, с беспо¬
койством о ее положении, с тревогой за ее судьбы, с восхищением
перед ее прошлым величием, с надеждой на такое же величие в
будущем.
Обе эти темы — человека и его судьбы, родины и ее судьбы —
по-разному звучали в произведениях писателей этого замеча¬
тельного столетия. С особой силой они прозвучали в творчестве
Ду Фу. «Восемь стансов об осени» — одно из свидетельств этого.
1960 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 О мятеже Ань Лу-шаня см. «Всемирная история», т. III, М., 1957, стр.
279, 280, а также «История стран зарубежного Востока в средние века», Мм
1957, стр. 114, 115.
2 О жизни и творчестве Ли Бо см. вступительную статью Б. И. Панкратова
в кн. «Ли Бо. Избранная лирика» (М., 1957), а также работу О. Л. Фишман
«Ли Бо. Жизнь и творчество» (М., 1958). О жизни и творчестве Ду Фу см.
вступительную статью Е. А. Серебрякова в кн. «Ду Фу. Стихи» (М., 1955).
3 См. ниже, станс 4.
4 См. ниже, стансы 1 и 4.
5 Перевод всюду дан подстрочный; объяснения отдельных слов и выраже¬
ний даются в комментарии к каждому стансу.
6 См. биографию Ду Фу в указанной выше статье Е. А. Серебрякова.
7 См. Чжан Янь, Ду чунбу ши тун.
8 Цзинь Шэнь-тан, Чанцзинтан Ду ши цзе.
9 Судзуки Торао, То сёрё си сю,— «Дзоку кокуяку камбун тайсэй».
10 См. Цянь Цянь-и, Ду гунбу цзи цзяньчжу.
11 См. Шао Фу, Ду люй цзи цзе.
12 См. Гу Чэнь, Ду ши чжу.
13 О приведенных выше толкованиях, а также о некоторых других см.
Курокава Еити, То Хо Сю: се: хассю дзёсэцу,— журн. «Тю: коку бунгаку хо:»,
Киото, 1956, № 4, стр. 1—14.
14 «Шуйцзин» («Книга о воде») —одно из древних (вероятно, III в. н. э.)
географических сочинений. Название обусловлено тем, что в основу описания
положена водная, главным образом речная, система Китая. Приведенные слова
содержатся в «Шуйцзин чжу» — изданий, «Книга о воде» с комментариями Ли
Дао-юаня (IV в?).
172
15 Эти легенды приводятся й «Бо-у чжи» («Описание всяких вещей» — вто¬
рая половина III в. и. э.) —сочинении типа энциклопедии.
16 Чжан Цянь — эмиссар императора У-ди (140—86 гг. до и. э.), посланный
в страны Западного края (Си Юй) — Восточного Туркестана и Средней Азии —
с дипломатической и разведывательной миссией; записки о ъго путешествии яв¬
ляются драгоценным материалом для изучения этой части Азия в ту эпоху.
О Чжан Цяне и его путешествии см. Я. М. Свет, По следам путешественников
и мореплавателей Востока, М., 1955, стр. 7—62. Приведенная легенда о Чжан
Цяне содержится в книге «Цзин чу суйши цзи» («Описание годового кален¬
даря празднеств и обрядов в Цзинчу»— середина VI в. н. э.).
17 См. Курокава Вити, То Хо Сю: се: хассю дзёсэцу, стр. 16, 17.
18 См. «Луньюй», VI, 3.
19 В лагере мятежников все время шла распря между предводителями: Ань
Лу-шань, поднявший мятеж, был в 757 г. убит своим сыном Ань Цзин-сюем,
ставшим после этого во главе мятежа; в 759 г. он был в свою очередь убит
Ши Сы-мином, одним из подчиненных ему командиров, но в 759 г. и тот был
убит своим сыном Ши Чао-и.
20 О путешествии Му-вана рассказывается в книге «Ле-цзы», гл. III (Чжоу
Му-ван). Эта древняя книга была разыскана и отредактирована упоминав¬
шимся выше Лю Сяном (77—6 гг. до н. э.).
21 Об этом рассказывается в книге «Ле сянь чжуань» («Жизнеописания ся-
ней»), приписываемой Лю Сяну, но появившейся, вероятно, в IV—V вв. н. э.
22 Цинь — древнее наименование территории, впоследствии вошедшей в со¬
став провинции Шэньси, где находился город Чанъань.
23 Рассказ о «Каменном ките» помещен в «Си-цзинь цзацзи» («Заметки о
Западной столице») — сочинения, описывающем столицу Ханьской империи,
т. е. древний Чанъань, в эпоху его блеска; книга эта возникла, вероятно,
в III—IV вв.
24 См. «Луньюй», IX, 8.
25 Предание это помещено в «Хоу-Хань шу» — «Истории 2-й Ханьской ди¬
настии».
26 Переводы из этих поэтов см. «Китайская классическая поэзия (эпоха
Тан)», М., 1956. Сведения о них см. там же, во вступительной статье Н. Т. Фе¬
доренко. 4 1
27 Об этом см.: «Всемирная история», т. III, стр. 39—43 и 277—283, а также
«История стран Зарубежного Востока в средние века», стр. 108—120.
28 Об этом см. статью в настоящем сборнике «Хань Юй и начало китай¬
ского Ренессанса» (стр. 119—151).
ФИЛОСОФИЯ китайского ВОЗРОЖДЕНИЯ
(О СУНСКОЙ ШКОЛЕ)
В «Сун ши» — «Истории Сун», в «Даосюэ чжуань» — отделе,
посвященном описанию «Даосюэ» («Науке о Дао») — важнейше¬
му в эпоху Сунской империи (960—1279) направлению философ¬
ской мысли *, особо отмечается, что философия этой школы вос¬
становила в его истинном духе древнее конфуцианство — эту
подлинную, как тогда считали, науку «совершенных и мудрых»
(шэнсянь). После Конфуция, как утверждает «История Сун»,
хранителем учения великого учителя оказался лишь один его
ученик — Цзэн-цзы, который затем передал эстафету своей науки
Цзы Сы, своему ученику, а тот в свою очередь своему ученику —
Мэн-цзы. И со смертью этого последнего все кончилось: тради¬
ция истинного учения оборвалась. И надолго: только в сунскую
эпоху, т. е. через много веков, эту эстафету принял Чжоу Дунь-и
и вместе с ним — Чжан Цзай. Их дело продолжали братья Чэн
Хао и Чэн И; завершил же всю эту работу Чжу Си, сам приняв¬
ший эстафету от младшего Чэн-цзы — Чэн И. Таким образом,
учение философов сунской школы «через головы всех мыслите¬
лей восходит непосредственно к Мэн-цзы». Так изобразили дело
составители «Сун ши», т. е. люди первой половины XIV в.2, дав¬
шие в своем труде не только картину истории недавней эпохи, но
и оценку того, что она, эта эпоха, с собой принесла.
Переведем все это на язык нашего летосчисления. Кун-цзы
(Конфуций) жил в 552—497 гг., Мэн-цзы — в 372—289 гг., Чжоу
Дунь-и — в 1017—1073 гг., Чжан Цзай — в 1019—1077 гг. Таким
образом, истинная традиция учения, начало которому в VI—
V вв. до н. э. положил сам «Совершенный» (шэнжэнь), т. е. Кон¬
фуций, после смерти Мэн-цзы, т. е. в первой половине III в. до н. э.,
прервалась, и прервалась на целых тринадцать столетий: она
была восстановлена только в XI в. н. э., когда появился Чжоу
Дунь-и, почтительно называемый в дальнейшем Чжоу-цзы. Все
же тринадцать столетий (с III в. до и. э. по XI в. н. э.), т. е. века,
лежащие между древностью и сунским временем, «средние ве-
174
Кй», какими они являлйсь в гЛаЗах сунцев,— были временем либо
искажений истинного учения, либо забвения его.
Введем эти хронологические даты в рамки исторического про¬
цесса, Время Конфуция и Мэн-цзы, т. е. VI—III вв. до и. э., в ис¬
тории Китая — древность (гу). Такой «древностью» оно было и
в глазах составителей «Истории Сун». Цитированное выше место
из «Даосюэ чжуань» начинается со слов «Наименование „Дао-
сюэ“ (т. е. то, которым обозначалось учение Чжоу-цзы и прочих
поименованных философов этой эпохи.— Я. К.) в древности (т. е.
во времена Конфуция, Цзэн-цзы, Цзы Сы и Мэн-цзы.— Я. К-) не
существовало» (речь идет именно о наименовании учения, а не о
нем как таковом — Я. К.).
Под древностью в истории Европы обычно понимают время
древней Греции и древнего Рима. В социально-экономическом
аспекте — это эпоха рабовладельческого строя. Она имела, одна¬
ко, свои внутренние этапы: ранний, в истории Греции до VI в. до
и. э.,— время «гомеровских» царств; средний — с VI в. до и. э.,
время полисов; поздний — с III в. до и. э., время эллинистических
монархий, переходящее затем в историю Римской империи. Древ¬
ность в истории Китая также эпоха рабовладельческого строя и
также распадается на три этапа: ранний — до VIII в. до и. э.—
время Чжоуского царства; средний — с VIII в. до н. э.— время
лёго (отдельных царств); поздний — с III в. до н. э.— время им¬
перии. Время Конфуция и Мэн-цзы, таким образом, приходит¬
ся на средний этап истории рабовладельческого общества в
Китае.
Что такое этот «средний период» истории древнего общества?
Для греческой древности это ее «классическая пора», классиче¬
ская и в аспекте социально-экономическом, и в аспекте культур¬
ном. Это — время наиболее «чистого» с точки зрения историче¬
ской типологии рабовладельческого строя, уже не связанного с
остатками прежних общинно-родовых и племенных отношений и
еще не осложненного новыми ростками будущих феодальных
отношений; это — время, когда жили и действовали Эсхил, Со¬
фокл, Еврипид, Аристофан, Геродот, Фукидид, Демокрит, Гера¬
клит, Сократ, Платон, Аристотель, Исократ, Демосфен. В исто¬
рии Китая это также время наиболее отчетливо выраженного
рабовладельческого строя, эпоха, украшенная такими именами,
как Кун-цзы и Мэн-цзы, Лао-цзы, Ле-цзы и Чжуан-цзы, Сюнь-
цзы, Цюй Юань и Сун Юй. Достаточно назвать только эти
имена, чтобы понять, что с культурно-исторической сторо¬
ны это также настоящая «классическая» пора китайской древ¬
ности.
Таким образом, сунцы, говоря о древности, имели в виду
именно эту «классическую» ее пору; «науку», т. е. конфуциан¬
ство', лишь этой поры они принимали, все же то, что с конфуциан¬
ством произошло в «средние века», т. е. во время между «древ¬
ностью» и их собственным временем, они отвергали.
175
Сочинения сунских философов дают возможность установить,
почему они это сделали. Им не нравилось, что все в этом учении
держалось на авторитете «учителей», что к цзинам «основам» —
древним письменным памятникам, считавшимся источниками
«древней науки», обращались не как к животворному источнику
идей, а как к тексту — объекту экзегезы, что и в этой экзегети¬
ческой работе занимались не главным, существенным, а лишь ме¬
лочами. Чтобы надлежащим образом понять эти инвективы, не¬
обходимо учитывать положение, которое установилось в конфу¬
цианстве в эпоху, непосредственно предшествующую сунской, т. е.
в последний этап предыдущей истории этого учения. Эпоха эта в
традиционной системе «династийного» членения истории Китая
носит наименование «Танской» — по названию правившей тогда
династии (618—919).
Как известно, еще при Тай-цзуне (627—650) —главном орга¬
низаторе режима новой империи — был взят курс на создание
такой доктрины, которая при всяких поворотах общественной
мысли могла бы служить опорой для государственной власти.
Материал для такой доктрины нашли в конфуцианстве как уче¬
нии, широко освещающем именно вопросы жизни общества и го¬
сударства. К тому же за конфуцианством была слава подлинно
государственного учения, поскольку при появлении в Китае
Ханьской империи — первого государства, в котором объедини¬
лись все части страны, государства, ставшего в дальнейшем идеа¬
лом всякой возникавшей в дальнейшем в истории Китая импе¬
рии, конфуцианство — в том виде, какой оно тогда приняло, стало
официальной доктриной установившегося режима. Поэтому при
всех своих личных склонностях то к даосизму, то к буддизму пер¬
вые правители Танской империи в качестве государственного
учения избрали все-таки конфуцианство.
Но такое решение было только началом дела. За восемь ве¬
ков, протекших после смерти Мэн-цзы, конфуцианство пережило
ряд метаморфоз, вызвавших к жизни большую литературу, чрез¬
вычайно разнородную по содержанию и идейному направлению.
Поэтому надо было прежде всего что-то из этой литературы ото¬
брать. Но для этого надо было сначала определить канон —
установить список памятников, призванных служить основой
доктрины. Ими стали «И-цзин», «Шу-цзин», «Ши-цзин», «Чунь¬
цю», «Ли-цзи».
Понять это так, что эти сочинения только в VII в. стали кано¬
ническими, было бы неверно; конфуцианское «Пятикнижие»
именно в этом же составе сложилось еще во второй половине II в.
до н. э., на первом же этапе своего формирования как системы,
и именно в то время, когда оно—-в правление ханьского У-ди
(140—86 гг. до н. э.) было призвано выполнить роль официаль¬
ной идеологии государственной власти. Вполне понятно, что и
при танском Тай-цзуне, искавшем такую же систему идеологии,
остановились на том же составе «канона».
176
Определением состава канона дело, Однако, далеко не закан¬
чивалось: канонические книги — это прежде всего тексты, а за
восемь веков, прошедших после ханьского Дун Чжун-шу, утвер¬
дившего в 136 г. до и. э. «Пятикнижие» в указанном составе, эти
тексты претерпели очень многое. Поэтому после установления
канонического состава «классиков» необходимо было установить
канонический текст. Это и было сделано при том же Тай-цзуне,
и установил такую каноническую редакцию «Пятикнижия» Ян
Ши-гу. Так появилось «У-цзин динбэнь» — «Пятикнижие в ут¬
вержденной редакции».
Но и это еще было не все. Предыдущая история «классиков»
свидетельствовала, как по-разному можно было их текст пони¬
мать. Поэтому работа по установлению канонического текста
классиков требовала работы и по установлению канонического
толкования их. Эту работу выполнил второй столп танского кон¬
фуцианства— Кун Ин-да: из обширного арсенала всевозможных
толковательных версий он выбрал те, которые счел наиболее со¬
ответствующими общему замыслу. Так, в 641 г. появилось изда¬
ние «У-цзин чжэнъи» («Пятикнижие в правильном понимании»)3.
Но доктрина была создана не просто для того, чтобы она
существовала, а для того, чтобы она владела умами. Лучшим
орудием для достижения этого было признано школьное препо¬
давание. Изучение канона было положено в основу образования,
получаемого в высшей школе империи — в столичном Чанъань-
ском университете4. Так конфуцианство стало школьным просве¬
щением — схоластикой.
В свете всего этого становится понятным, что означали инвек¬
тивы сунцев по адресу бывшего до них конфуцианства: это был
протест против авторитарности как метода обоснования истины,
против догматизма как принципа вечности одной единственной
истины, против экзегезы как метода изучения источников истины,
против школярства — схоластики с ее абстрактностью и форма¬
лизмом как способа усвоения истины.' Если учитывать общест¬
венное положение сунских философов, бывших це профессорами
правительственного университета, а руководителями своих соб¬
ственных, «частных» школ (шуюань)5, к вышесказанному сле¬
дует добавить еще их отрицательное отношение к огосударствле¬
нию философии, к превращению ее в орудие государственного
управления, в атрибут власти.
Как же сунцы возродили «заветы Конфуция и Мэн-цзы», как
сказано в «Истории Сун»? Для ответа на этот вопрос необходимо
изложить хотя бы в самом кратком виде главные положения их
философии. Впрочем, очень сжато, но, по-моему, исчерпывающе
это сделано в указанном отделе «Истории Сун». И это изложе¬
ние драгоценно для нас: мы узнаем из него оценку ближайших к
сунцам поколений.
12 Н. И. Конрад
177
Вот первый из перечйсЛенных в нем Мыслителей: Чжоу Дунь-й
(1017—1073)—тот самый, который «воспринял забытую науку
Совершенных и Мудрых», т. е. тот, который начал ее возрожде¬
ние... Он «раскрыл закон (ли) света и тени (инь — ян) и пяти
стихий (усин)\ показал, что у Неба есть его судьба (мин), у че¬
ловека — его природа (син)» 6.
Вот второй зачинатель философского Возрождения — Чжан
Цзай (1019—1077), современник Чжоу-цзы. Он установил, что
«Закон един, но его части (доли) различны».
Далее следуют братья Чэн Хао (1032—1085) и Чэн И (1033—
1107); они «приняли дело Чжоу-цзы», т. е. продолжали его ра¬
боту. Что же они сделали? «Развили то, что от него узнали»; от¬
редактировали два сочинения — «Дасюэ» и «Чжунъюн» и поста¬
вили их в ряд с «Луньюем» и «Мэн-цзы». За ними следует Чжу
Си (1130—1200); «он воспринял истинную науку от Чэнов и под¬
робно разработал ее». На первое место поставил «познание ве¬
щей— созидание знания»; как самое же важное установил «рас¬
крытие добра — соединение себя с истиной».
Надо отдать справедливость составителям «Истории Сун»:
вряд ли можно было бы в столь кратких словах отметить самое
существенное из того, что сделали сунские философы.
Самое примечательное — что именно они поставили на первое
место. Чжоу-цзы «открыл закон света и тени и пяти стихий».
В передаче нашими словами это значит: открыл закон противо¬
положностей и первоэлементов материальной природы. Поясним
это.
Существование в бытии «противоположностей»; наглядным
выражениям которых являются свет (ян) и тень (инь) — образ,
ставший затем символом противоположностей вообще,— было
подмечено еще в глубокой древности и уже тогда получило свое
философское осмысление; в движении противоположностей рож¬
даются «перемены», т. е. все многообразие явлений бытия. Об
этом говорится'в «Ц-цзине», «Книге перемен»,— древнейшем,
сложившемся, вероятно, не позднее VII в. до н. э. памятнике ки¬
тайской письменности. Точно так же в древности было понято,
что за всем многообразием материальной природы скрывается
лишь небольшое число ее элементов, так сказать, первоэлементы
материального бытия. Их насчитывали пять и природу каждого
определили через посредство хорошо известных человеку пред¬
ставлений: воды, огня, дерева, металла и земли, которые, таким
образом, превратились в символы первоначальных элементов ма¬
териальной природы. О них говорится во втором древнейшем па¬
мятнике китайской письменности — «Шу-цзине», «Книге исто¬
рии». Таким образом, Чжоу-цзы не принадлежит открытие самих
противоположностей и пяти элементов; он открыл их «закон».
Составители «Истории Сун» как бы позаботились о том, чтобы
читатели сразу же узнали, где найти разъяснение, что такое этот
«закон» и почему он — один и для «противоположностей» и для
178
«пяти первоэлементов»: они тут же назвали два произведения
Чжоу-цзы: «Тайцзи ту шо» — «Изъяснение плана Великого пре¬
дела» и «Тун шу», «Книга Проникновения». Достаточно открыть
первое, чтобы сразу же понять концепцию его автора. «Свет»,
т. е. одна из двух противоположностей, определяется как «движе¬
ние», «Тень», другая,— как «покой»7. Это уже ново: до Чжоу-цзы
еще никто так эти противоположности не понимал. Далее там же
говорится: «движение достигает своего предела и наступает по¬
кой», «покой достигает своего предела и наступает опять движе¬
ние». Это также ново: то, что противоположности связаны друг
с другом,— знали, но до мысли о переходе их друг в друга и пе¬
реходе при этом — в процессе количественного развития каждого
до Чжоу-цзы еще не дошли, во всяком случае в форме концеп¬
ции единства этих противоположностей, на которое тут прямо и
указывается: «движение и покой составляют корни друг друга».
Как сказано выше, еще в древности выработали концепцию
первоэлементов материальной природы; в дальнейшем пришли к
заключению, что эти первоэлементы переходят друг в друга. Об
этом говорил еще в III в. до и. э. Цзоу Янь. Но до Чжоу-цзы ни¬
кто прямо не соединил концепцию круговорота первоэлементов
с концепцией движения противоположностей. Чжоу-цзы же это
сделал и притом в самой категорической форме: «Пять стихий —
это и есть свет и тень»,— кратко сказал он. И разъяснил: «свет»
и «тень» порождают «воду», «огонь», «дерево», «металл»,
«землю». Порождают они их в своем действии: действие же
«света», т. е. движение, состоит в «изменении», действие «тени»,
т. е. покоя,— в «соединении», так с новой стороны оказались оха¬
рактеризованы противоположности.
Тем самым становится ясным, почему составители «Истории
Сун» определили главную заслугу Чжоу-цзы в том, что он «от¬
крыл закон света и тени и пяти стихий», т. е. не отдельно «Света
и Тени» и «Пяти стихий», а совместно, как некоего единства. Но
все эти разъяснения еще не дают нам ответа на вопрос: а в чем
же состоит самый закон этого единства? Составители «Истории
Сун» ответили на этот вопрос, но для понимания их ответа сле¬
дует принять во внимание еще одну сторону концепции Чжоу-
цзы. Сказав о том, что первоэлементы материальной природы по¬
рождаются действием двух противоположностей, он тут же про¬
должает: «Эти пять категорий материальной природы распро¬
страняются повсюду, и в этом осуществляются четыре времени»,
т. е. в общую схему была введена концепция процессу и при¬
том— в его пространственном и временном выражении. Харак¬
терно притом, что для обозначения «времени» взят образ четырех
времен года. Видимо, в этом образе нагляднее всего можно вы¬
разить не только текучесть времени,— но — что еще важнее —
ту же идею перехода. Ведь, выражаясь языком Чжоу-цзы, можно
было бы сказать: «весна достигает своего предела, и наступает
лето; лето достигает своего предела, и наступает осень» и т. д.
179
Таким образом, движение противоположностей, осуществляю¬
щееся в материальной природе, есть процесс, протекающий в
пространстве и во времени, процесс диалектический. Диалектика
и есть «закон», сформулированный первым философом Сунской
школы, первый теоретический тезис, с которым началось фило¬
софское Возрождение.
Но составители «Истории Сун» тут же делают дополнитель¬
ное замечание: «так открылось, что у Неба есть его судьба»
(мин). Что это значит? В этой русской фразе дан перевод лишь
слов, употребленных в китайском оригинале, перевод же слов не
всегда передает полный смысл их. Особенно в данном случае,
когда употреблены слова, получившие в китайском языке столь
различные значения. Здесь нет возможности разбирать значения
слов тянь «небо», мин «судьба». Полагаю, что в данном случае
слово тянь употреблено в том смысле, который отражен в проис¬
шедшем от него слове тяньжань «по природе», «естественно»,
т. е. что «небо» здесь образное обозначение того, что мы выра¬
зили бы словом «Природа» с большой буквы, т. е. как категория
бытия. Слово мин может иметь смысл и «веление», и «судьба».
Судьба — то, что присуще всякому бытию, это как бы некое «ве¬
ление», в нем заложенное, внутренняя императивность его про¬
цесса. Если так понять эти слова, получается, что у Природы,
т. е. у всего сущего, есть своя судьба. Не означает ли это, что
словом мин обозначалось то, что мы выражаем словом «законо¬
мерность»? Тогда мысль составителей «Истории Сун» станет яс¬
ной: закон диалектики бытия открывает нам, что в Природе, т. е.
во всем сущем, действует не случайность, а закономерность. Сле¬
дует сказать, что само слово ли, переведенное русским «закон»,
означает не закон государственный, а «закон природы», «естест¬
венный закон». И в самом этом понятии заложена идея импера¬
тивности, т. е. закономерности.
Но составители «Истории Сун» тут же сказали еще, что с от¬
крытием «Закона света, тени и пяти стихий» стало ясным не
только то, что «у Неба есть- его судьба», но и то, что «у человека
есть его природа». Что значат эти слова?
В том же трактате «Тайцзи ту шо» его автор Чжоу-цзы, гово¬
ря, что в процессе «взаимодействия Света-Тени», сопряженного
с круговоротом пяти первоэлементов, «рождаются и превращают¬
ся все вещи», т. е. все предметы материального мира; тут же до¬
бавляет, что человек среди них «наиболее одухотворен». На этой
формуле необходимо остановиться.
Несомненно, слово лин говорит о чем-то, относящемся к ка¬
тегории духа. Вдаваться в разбор, что именно разумеется под
этим понятием, тут невозможно, да и нет необходимости. Но сле¬
дует особо отметить, что о человеке сказано, что он всего только
«наиболее одухотворен», что, следовательно, в какой-то мере
одухотворены и «все вещи», т. е. все предметы материального
мира. Иначе говоря, человек и как существо «одухотворенное»
180
не изымается из всего материального мира, не противопостав¬
ляется «всем вещам», а только выделяется среди них. Идея об
единстве всего существующего присутствует и в другой формуле
Чжоу-цзы, где говорится о «всех делах». В сопоставлении с тер¬
мином «все вещи», т. е. предметы бытия, этот термин означает
все, что «происходит», т. е. явления бытия. И вот Чжоу-цзы ука¬
зывает, во-первых, на то, что «явления», возникают в процессе
взаимодействия «пяти природ», т. е. природы каждого из пяти
первоэлементов, во-вторых, на то, что в этом взаимодействии
«разделяется добро и зло».
Слова эти в высшей степени примечательны. Из них следует,
что понятия, выраженные словами шань и э, приложимы ко всем
явлениям бытия, т. е. по своему содержанию они шире, чем «доб¬
ро» и «зло», как категории нравственной природы человека. Если
человек своей природой входит в орбиту «всех вещей», т. е. всех
предметов бытия, то своею жизнью он входит в орбиту «всех
дел», т. е. явлений бытия. И тут устанавливается его «человече¬
ский предел» — идеал человека в его действии. Идеал этот, как
всегда в конфуцианстве, воплощен в образе человека совершен¬
ного (шэнжэнь); этим образом и оперирует Чжоу-цзы. «Пять
природ взаимодействуют и, разделяя хорошее (добро) и плохое
(зло), появляются все дела. Совершенный человек утверждает в
них срединное, правильное, человеческое, должное, хозяином ста¬
вит покой и устанавливает человеческий предел».
Слово жэнь, которое мы тут передали русским «человече¬
ское»— исконное в китайской философии обозначение человече¬
ского начала, т. е. специфического признака природы именно че¬
ловека. Слово и, переданное русским «должное», также идущее
из Древности обозначение органически присущего человеку чув¬
ства «должного». Отсюда идут и такие дериваты этого понятия,
как «долг», «справедливость». Однако у Чжоу-цзы эти понятия
даны в особом аспекте: в «Тун шу», другом его трактате, также
упоминаемом в «Истории Сун», о жэнь говорится как о «силе,
порождающей вещи», об и — как о «действии, образующем вещи».
Этим самым те категории, которые наличествуют в природе че¬
ловека, распространяются на «все вещи», т. е. оказываются все¬
общими. Таким образом, «человеческое начало» в человеке и при¬
сущее ему чувство «должного» — общее у него со всем бытием.
Такая концепция вполне естественная для Чжоу-цзы, все свое
учение построившего на единстве всего бытия, как «вещей», так
и «дел», и все содержание этих «вещей» и «дел» выводящего из
самого бытия.
Но в приведенных выше словах «Тайцзи ту шо» говорится,
что совершенный, т. е. идеальный человек, утверждает в себе не
просто «человеческое» и «должное», а еще и «срединное» и «пра¬
вильное». «Тун шу» поясняет, что это такое: «срединное»: «это —
гармоническое»; «правильное» же относится к характеру, к каче¬
ству проявления в бытии «человеческого» и «должного».
Л 181
Таким образом, человеческая природа в своей основе та же,
что природа «всех вещей», всего бытия. Но в бытии соответст¬
венно его диалектической природе есть «хорошее» и «плохое»;
это есть, следовательно, и в человеке. Но как все стремится к
своему пределу, так стремится к нему в своей жизни и человек,
причем достигает он этого предела с помощью «человеческого
начала» и «чувства должного», заложенных в нем и реализуемых
в плане «срединности», т. е. гармоничности и «правильности».
Поскольку все это разъяснил Чжоу-цзы, открывший основной
закон бытия — его диалектическую природу, постольку этим са¬
мым стало ясно и то, что «у человека есть его природа» — гармо¬
нически и правильно выраженные качества человечности и долж¬
ного. Все это показано им со всей ясностью, «как на ладони»...
как выразились составители «Истории Сун».
От Чжоу-цзы «История Сун» переходит к Чжан-цзы. Из всех
произведений последнего она упоминает только одно «Си мин» —
«Западную надпись». У Чжан-цзы в его ученом кабинете висели
две «надписи» — небольшие философские поэмы, которые всегда
были у него перед глазами; одна — на западной стороне, дру¬
гая— на восточной. Наибольшую славу получила «Западная над¬
пись». В представлении «Истории Сун», в ней Чжан-цзы со всей
силой выразил положение: «закон — един, его части — различны».
Учитывая общий характер изложения учений сунской школы в
«Истории Сун», следует понимать, что это положение она счи¬
тает следующим — после Чжоу-цзы — крупнейшим шагом по пути
развития этой школы.
И тут мы встречаемся с некоторой неожиданностью: такой
формулы у Чжан-цзы нет — ни в «Западной надписи», ни в ка¬
ком-либо другом его произведении. Она принадлежит не Чжан-
цзы, а Чэн И, т. е. младшему Чэн-цзы — И-чуаню. Впрочем, не¬
что подобное можно было бы отметить еще ранее — в изложении
учения Чжоу-цзы: сказано, что он «открыл закон света, тени и
пяти стихий». Но у Чжоу-цзы есть все о двух противоположно¬
стях и пяти первоэлементах, но самого слова «закон» — нет; оно
введено составителями «Истории Сун».
Не следует забывать, что составители этой «Истории» жили
тогда, когда изложенная ими история сунской философской
школы была уже позади, причем, с их точки зрения, она была
не только позади, но и закончена, т. е. сложилась в систему: по¬
следний из упоминаемых ими мыслителей.— Чжу Си — завершил
дело, начатое Чжоу-цзы: закончил восстановление давно забы¬
того учения совершенных и мудрых. Поэтому они в своих сужде¬
ниях оперируют терминами всей системы, тем самым подчерки¬
вая ее единство и преемственность главных положений отдель¬
ных представителей школы. Так они для характеристики сути
выставленного Чжоу-цзы положения о движении противополож¬
182
ностей и первоэлементов употребили термин «закон» .(ли), вве¬
денный в философский обиход Чэн Хао, т. е. старшим Чэн-цзы —
Мин-дао. Разбирая отношения противоположностей, Мин-дао
специально подчеркнул, что они действуют друг в друге: одно
«возрастает», другое «исчезает», и такой переход он назвал
«естественным законом» (тяньли) или просто «законом» (ли).
Несомненно, что составители «Истории Сун» считали себя в пра¬
ве применить этот термин и к формуле Чжоу-цзы. На сходных
же основаниях они приложили к положению Чжан-цзы формулу
И-чуаня. Чжан-цзы понимал процесс бытия как «превращение
первоматерии» (ци хуа); эти же «превращения», т. е. различные
формы «материального бытия», по его концепции, образуются в
процессе «сгущения» и «разрежения» первоматерии. Такова бы¬
ла его формула противоположностей, стоящая у него на месте
формулы «движения» и «покоя», данной его современником
Чжоу-цзы. Но если общий процесс, в котором рождаются все
формы материального бытия, состоит в сгущении и разрежении
первоматерии, то в своей конкретной реализации сгущение и раз¬
режение создают различные формы. Поэтому в каждой «вещи»
есть две «природы»: общая и единичная; общую Чжан-цзы на¬
звал «общебытийной» (тяньди-чжи син), единичную — «веще¬
ственной» (цичжи-чжи син). В своей первой природе все вещи
едины; во второй — различны. Вот эту мысль составители «Исто¬
рии Сун» нашли возможным выразить формулой И-чуаня, доста¬
точно четкой и выразительной: «закон — един, его части (т. е.
формы его проявления.— Я. К.) — различны».
Любопытно, что непосредственно вслед за тем составители
«Истории Сун» замечают: «после этого стало совершенно ясным
и не вызывающим сомнений, что Великий источник пути исходит
от Неба». Поймем эти слова в свете сунской философии и, в част¬
ности, в свете идей Чжан-цзы. Слово «путь» (дао) он применяет
к «превращениям первоматерии», т. е. к процессу материального
бытия; слово «небо» у него, как и вообще у сунцев, имеет, как
было отмечено выше, смысл, близкий к нашему «природа». Если
исходить из такого понимания этих категорий, заключительные
слова «Истории Сун» получают действительно весьма серьезное
значение: Чжоу-цзы выставил положение, что бытие — диалек¬
тический процесс, и видел в этом процессе некую «судьбу», имею¬
щуюся у «Неба», т. е. общую закономерность бытия. Но, говоря
о единстве всего сущего как «всех вещей», так и «всех дел», он
не разъяснил тот факт, что «все вещи» непохожи друг на друга,
т. е. факт разнообразия конкретных проявлений бытия. И вот
это, как думают составители «Истории Сун», разъяснил Чжан-
цзы своим положением о «двух природах» в каждой вещи: он вы¬
сказал мысль о многообразии в единстве и об единстве в много¬
образии, связав все это с общим процессом (дао) бытия. Таким
образом, приведенные слова «Истории Сун» означают: после
Чжан-цзы стало совершенно ясно и не вызывает сомнения, что
183
«Ьеликий источник путй», т. е. первоначальный тоЛчок, преподан¬
ный процессу бытия, и в его единстве и в его многообразии «ис¬
ходит от Неба», т. е. от самой природы: это — закономерность,
заложенная в ней.
В первом году Миндао (1032) правления Жэнь-цзуна (1023—
1063), говорится далее в «Истории Сун», «родился Чэн Хао, а
затем его младший брат И». Когда они выросли, «они приняли от
Чжоу-цзы его дело: расширили то, о чем узнали от него, отредак¬
тировали „Да-сюэ“ и „Чжун-юн“ и поставили их в ряд с „Лунь-
юем“ и ,,Мэн-цзы“».
В этих словах прежде всего обращает на себя внимание со¬
единение имен братьев Чэн-цзы с именем Чжоу-цзы, без упоми¬
нания о Чжан-цзы. Это надо понимать не как отрицание значе¬
ния Чжан-цзы, а как указание, что оба Чэн-цзы свою науку
восприняли от одного из двух прославленных в дальнейшем
своих старших современников, а это существенно в том смысле,
что изучать идеи братьев Чэн-цзы следует, сопоставляя их с тем,
что создал Чжоу-цзы.
Составители «Истории Сун» прямо не сказали, в чем именно
братья Чэн-цзы «расширили» учение своего учителя. Однако, ис¬
ходя из того, что при изложении основного положения Чжоу-цзы
о переходе противоположностей друг в друга, осуществляющемся
в круговороте первоэлементов материальной природы, был при¬
менен термин старшего Чэн-цзы — «закон» {ли), можно пола¬
гать, что расширение учения Чжоу-цзы составители «Истории
Сун» видели именно в этой области. Поэтому обратимся к этой
части его учения.
Выше было отмечено, что старший Чэн-цзы, Мин-дао, вслед
за Чжоу-цзы, понимал бытие как «Путь», т. е. как процесс, со¬
стоящий в переходе противоположностей друг в друга. Содержа¬
ние же этого процесса он видел в «рождении и становлении»
форм бытия — «всех вещей», т. е. предметов, и «всех дел», т. е.
явлений; саму диалектику этого процесса он понимал как «за¬
рождение» одного и «исчезновение» другого и видел в этом «ес¬
тественный закон» — присущую самому процессу закономер¬
ность.
Человек в своей бытийной природе для Мин-дао то же, что
все бытие в целом: следовательно, этот «естественный закон»
присущ и ему. Но поскольку каждая из «всех вещей» отлична от
каждой другой, этот общий закон в человеке проявлен также
специфически. И вот тут Мин-дао выставил положение, которое
определило одну из самых существенных черт всей сунской фило¬
софии: положение, что специфика человеческой природы, т. е.
проявленная именно в нем, в человеке, форма бытия, есть
жэнь — человеческое, гуманистическое начало; а поскольку «че¬
ловек» и «все вещи» в своей «вселенской природе» в бытийном
184
плане едины, постольку, следовательно, гуманистическое начало
присуще и вещи.
В одном из своих философских писем8 Мин-дао высказался
даже еще определеннее: «Учащийся (т. е. изучающий философ¬
ские науки, философ.— Я. /С.) должен прежде всего познать
жэнь; жэнь, вообще говоря, единосущно с „вещью"». Если вспом¬
нить приведенные выше слова Чжоу-цзы, что «жэнь — это сила,
порождающая вещи», станет ясно, что Мин-дао действительно
«принял дело» своего учителя. Впрочем, цитату на последних
словах нельзя кончать. Написав, что «гуманистическое начало
единосущно с вещью», автор добавил: «чувство должного, чув¬
ство законности, знание и правдивость — также жэнь», т. е. то же
гуманистическое начало. На этих словах следует остановиться.
Для всей сунской философии характерно учение о пяти свой¬
ствах человеческой природы. Этой природе присущи особые,
именно человеческие свойства: свойство «человечности» (жэнь),
т. е. отношение к себе и ко всем другим как к человеку; свой¬
ство «должного» (и), т. е. стремление думать, чувствовать и по¬
ступать так, как нужно, как оно естественно для каждого случая;
свойство «законности» (ли), т. е. понимание того, что вся жизнь
по необходимости протекает в определенных рамках, регули¬
руется присущими ей нормами, свойство «знания» (чжи), т. е.
способность познавать и быть носителем знания; свойство внут¬
ренней «правдивости» (синь), т. е. стремление во всех выявле¬
ниях своей природы быть адекватным выявляемому. И вот Мин-
дао, не обинуясь, выключает из этого ряда, составленного как
будто бы из равнозначных величин, первое звено — «человече¬
ское начало» и делает его покрывающим все остальное. Если
видеть в указанных пяти свойствах моральную сторону человече¬
ской природы, то оказывается, что одно из этих свойств — гума¬
нистическое начало, во-первых, обобщает все остальное; во-вто¬
рых, является общим у человека со всем бытием. Гуманистиче¬
ское начало «единосуще», как сказал Мин-дао, со всякой вещью,
т. е. составляет существо каждого предмета бытия.
В этой области в высшей степени характерно для Мин-дао
его отношение к упомянутому выше тезису его учителя, «что че¬
ловек среди всех вещей наиболее одухотворен». Мин-дао — в дру¬
гом письме по этому поводу — замечает: «в мире не только один
человек „наиболее одухотворен". Моя душа — та же, что и душа
трав, деревьев, птиц, животных. Отличие человека от этого всего
только в том, что он рождается, приняв „срединное" неба — зем¬
ли»9. Понятие «срединного», как было указано выше, идет от
Чжоу-цзы, у которого оно также дано в аспекте особого каче¬
ства человеческой природы, причем поставлено рядом с «пра¬
вильным». Мин-дао тоже употребляет понятие «правильное», про¬
тивопоставляя его тому, что он обозначает словом пянь,— поня¬
тию, которое одинаково противоположно и «правильному» и
«срединному».
185
В свете именно этих двух понятий Мин-дао и понимает раз¬
личие между природой «вещей» и человека: «человек и вещи все¬
го только правильное и неправильное в первоматерии (ци)»10.
Таким образом, концепция Мин-дао ясна: человек и все живое в
природе одинаково обладают «душою», т. е. жизненными свойст¬
вами, а эти жизненные свойства принадлежат самой материи
(ци), они одна из ее функций. И все различие между человеком
и предметом природы только в разной полноте заложенного в
каждом из них этого жизненного начала.
Таким образом, если искать в учении Мин-дао то, чем он
«расширил» учение Чжоу-цзы, то первым в этом смысле придет¬
ся принять следующее.
Диалектический характер процесса бытия, обрисованный
Чжоу-цзы, Мин-дао назвал «естественным законом», объяснив
при этом, что этот «закон» не какая-то особая сущность, из кото¬
рой исходит все бытие, а нечто существующее в самих явлениях
бытия — то, что делает каждое явление именно этим явлением,
т. е. создает его «природу». Тем самым было провозглашено
единство «естественного закона» (ли) и «природы вещей» (син).
Насколько эти понятия стали репрезентативными для всего мыш¬
ления сунских философов, показывает наиболее распространен¬
ное наименование их учения: синлисюэи — «учение об естествен¬
ном законе и природе вещей».
Второе, в чем следует видеть расширение учения Чжоу-цзы,
состоит в утверждении, что синь (сердце, душа) — психическое
начало — не есть свойство лишь его одного: оно есть в своем вы¬
ражении во всех предметах природы. Следовательно, это «психи¬
ческое начало» есть не что иное, как «жизненное начало», толь¬
ко в человеке оно выражено не «односторонне», как у «всех ве¬
щей», а «всесторонне».
Третье — что это жизненное начало есть свойство самой ма¬
терии (ци); оно обнаруживается в диалектическом развертываю¬
щемся круговороте ее первоэлементов. И, наконец, четвертое:
Мин-дао решительно возвел' гуманистическое начало, т. е. специ¬
фическое свойство прежде всего, человеческой природы — в ранг
всеобщей категории, т. е. распространил его на все существую¬
щее. Исключительно образно и ярко эта идея выражена и у
Чжан-цзы в знаменитом начале его «Западной надписи»:
«Небо — мой отец. Земля — моя мать... То, что заполняет
Небо и Землю,— мое существо. То, что властвует в Небе и на
Земле,— моя природа. Люди — мои братья. Вещи — мои сотова¬
рищи». Думаю, что к мировоззрению Чжан-цзы и Чэн-цзы при¬
менимо определение: пангуманизм.
«История Сун» упоминает, однако, об обоих Чэн-цзы, а не
только о старшем — Мин-дао. Чем же «расширил» учение их об¬
щего учителя младший — И-чуань? О том, что именно составите-
186
Ли «Истории Сун» сочли у И-чуанй исключитёльно важным, яё-
ствует из того, что они для определения самого существенного,
что сделал Чжан-цзы, воспользовались формулой И-чуаня: «за¬
кон— един, а части его — различны». Следует сказать, однако,
что Чжан-цзы выразился не совсем так: не «закон — един, а
части его — различны», а «материя (ци)—едина, а ее части —
различны». Думать, однако, что И-чуань сказал что-то совер¬
шенно иное, чем Чжан-цзы, нельзя: в этом случае выходило бы,
что составители «Истории Сун» фальсифицировали мысль Чжан-
цзы. Надо полагать, дело сводится к тому, что, с точки зрения
последующих поколений, обе формулы равнозначны, только вто¬
рая как-то лучше передает существо первой, лучше в свете си¬
стемы сунской философии вообще. Видимо, все дело в том, какой
смысл вкладывается в понятие «закон».
Как известно, И-чуань значительную часть своей жизни от¬
дал изучению «И-цзина» («Книги перемен»). Его «И чжуань»—
исследование этого древнего памятника — стало одной из самых
важных работ во всей ицзинистике. Поэтому в его философском
языке присутствуют термины, идущие из «И-цзина»; в их чис¬
ле — сян.
Мы привыкли передавать это слово русским «образ», понимая
под этим образ действительности. Однако И-чуань соединил сло¬
во сян с другим, с которым мы также уже встречались: со сло¬
вом ши «дело», которое фигурирует у сунцев обычно в форме
множества — чжуиш «все дела». Как было объяснено выше, «все
дела» обычно сопоставляются со «всеми вещами». Поэтому, по¬
скольку «все вещи» — предметы природы, постольку «все дела»
означают все, что происходит, т. е. явления бытия. Так как
И-чуань употребляет слово сян (образ), которым в «И-цзине»
обозначается именно все существующее в природе, рядом с ши
(дело), не значит ли это, что на его языке шисян — то же, что у
других сунцев ши-у, т. е. предметы и явления сущего?
И вот тут мы подходим к центральной идее всего учения
И-чуаня: образ (сян), т. е. «вещи», формы сущего, он назвал «са¬
мым явственным» из всего, что есть; закон (ли) же—«самым
скрытым». Самое скрытое — закон, самое явственное — образ.
«Закон,— говорит он тут же,— суть субстанция, дела и обра¬
зы же — акциденции. Отделять их друг от друга нельзя. Дела
и закон — единство; у субстанции и акциденции — один источ¬
ник» 12.
Несомненно, что И-чуань был далек от мысли как-то проти¬
вопоставить друг другу «закон» и «действительность». Это видно
из того, что для него разница между ними только в том, что пер¬
вый— субстанция сущего, вторая — акциденция, т. е. форма про¬
явления этой субстанции. Об их единстве он сказал даже прямо:
«у субстанции и акциденции — один источник; между явствен¬
ным (т. е. действительностью) и скрытым (т. е. законом) проме¬
жутка нет» ,3.
187
И все же в этой формуле И-чуаня отражен, как мне кажет¬
ся, поворот в философской мысли сунской школы: предложив по¬
нятия субстанции и акциденции, он ввел в систему рассуждений
сунцев категории онтологические, выраженные притом в логиче¬
ском плане. Тем самым в философское мышление сунцев было
введено рационалистическое начало.
Тот самый «закон», о котором говорил старший Чэн-цзы, по¬
нимавший его как «естественный закон», стал категорией рацио¬
налистической. Если так понять И-чуаня, следует признать, что
он действительно сделал новый и огромной важности шаг вперед
по пути утверждения рационалистического характера философ¬
ской спекуляции сунцев.
Однако составители «Истории Сун» отмечают еще одно дело,
которое сделали Мин-дао и И-чуань: они «отредактировали» два
древних сочинения — «Да-сюэ» и «Чжун-юн» и поставили их в
ряд с «Луньюй» и «Мэн-цзы». Действительно, если выбирать са¬
мое важное из того, что сделали братья Чэн-цзы, то, пожалуй,
рядом с переводом философского умозрения на рельсы рациона¬
лизма следует поставить именно это.
Как известно, два трактата — «Да-сюэ» («Большая наука»)
и «Чжун-юн» («Среднее и обычное»)—входили в состав «Ли-
цзи» — одной из частей древнего «Пятикнижия». Братья Чэн-цзы
извлекли их из этого памятника, обработали их текст и издали
как самостоятельные прозведения. Как мы знаем, именно таки¬
ми, совершенно самостоятельными по содержанию и общему на¬
правлению, трактатами эти произведения и являются. Но братья
Чэн-цзы не просто выделили их, но и придали им особое значе¬
ние. Какое — об этом красноречиво свидетельствуют в «Истории
Сун» слова: они поставили эти два произведения «в один ряд с
„Луньюем“ и „Мэн-цзы“». Так сложилось то, что стало обозна¬
чаться термином «Сы-шу» («Четыре книги»). Рядом с «Пяти¬
книжием» появилось «Четверокнижие», рядом со старыми
классиками — новые.
Мы так привыкли к этим «Пятикнижию» и «Четверокни-
жию», что забываем, что «Четверокнижие» только со времени
сунской школы стало такой же неотъемлемой принадлежностью
конфуцианской философии, как и «Пятикнижие»; забываем, что
включение Мэн-цзы в состав классиков было настоящим револю¬
ционным актом, так как до самого VIII в., т. е. в течение всей
поздней древности и раннего средневековья Мэн-цзы оставался
в тени; вспомнил о нем Хань Юй, причем он не только извлек его
из мрака забвения, но и заговорил о нем как об одном из вели¬
ких учителей древности, продолживших дело самого Конфуция.
Никакого особого внимания не проявлялось и по отношению к
двум небольшим трактатам, помещенным в «Ли-цзи»: о «Да-
сюэ» вспомнил тот же Хань Юй, и вспомнил при этом в важ¬
нейшем своем произведении — трактате «О пути». Да и «Луньюй»
никогда не находился в центре внимания; при всем почтении к
188
Конфуцию составители «Пятикнижия», первого сводд классиче¬
ских книг, «Луньюй» в него не включили, хотя «Чуньцю», другое
сочинение, связанное с именем Конфуция, в этот свод ввели. По¬
этому выдвижение новых классиков знаменовало целый поворот
в конфуцианской мысли: ключ к философской мудрости стали
искать не в «Пятикнижии», как до тех пор, а главным образом
в «Четверокнижии»: «Если хочешь с легкостью познать во всей
их простоте сочинения Совершенных и Мудрых, с легкостью
блюсти их во всей их сжатости,— то нет ничего лучшего, как
обратиться к „Да-сюэ“, „Луньюю“, „Чжун-юн“ и ,,Мэн-цзы“»,—
писал Чжу Си14. Он же весьма точно определил и взаимоотно¬
шения этих четырех произведений: «Если не начать с „Да-сюэ“,—
не постигнуть, схватив самое основное, тонкость и глубину
„Луньюя“ и „Мэн-цзы“; если не обратиться к „Луньюю“ и „Мэн-
цзы“, не дойти, пройдя через них, до „Чжун-юна“; если же не
дойти до „Чжун-юна“, как можно понять Великую Основу, чи¬
тать книги Поднебесной и рассуждать о делах Поднебесной? По¬
этому те, кто стремится изучить науку, должны обратиться
именно к этим четырем сочинениям»,— сказал он в другом ме¬
сте15. Даже из одних этих слов видно, что «Четверокнижие» в
глазах сунцев было не только сводом замечательных памятни¬
ков философской мысли древности, но и ключом ко всей древней
мудрости. Можно ли после этого не видеть не просто поворот в
философской мысли, но поворот коренной? Можно ли не видеть,
что возрождение древности в этом повороте было по существу
целой идейной революцией? До сунцев конфуцианство строилось
на «Пятикнижии», начиная же с сунцев — на «Четверокнижии».
Да, составители «Истории Сун» знали, что делали, когда в сво¬
ем предельно кратком изложении сунской философии нашли
нужным в числе самых важных дел этой школы упомянуть о со¬
здании «Четверокнижия» 16.
От братьев Чэн-цзы «История Сун» переходит к Чжу Си.
И первое, с чего она начинает,— указание, что он, Чжу Си,
«принял правильную традицию науки от Чэн-цзы и со всей
тщательностью дополнил ее». В чем же заключается это допол¬
нение?
Если исходить из того, что нашли нужным отметить состави¬
тели «Истории Сун», ответ будет таков: Чжу Си объяснил,
что «самое первое» (сянь) в науке и что «самое важное» (яо)
в ней. Самое первое — «познавание вещей — созидание знания»;
самое важное — «раскрытие добра и подведение себя к ис¬
тине».
Формула «познавание вещей — созидание знания» (гэ у-чжи
чжи) идет из «Да-сюэ». В своем комментарии к этому трактату
Чжу Си сказал: «Чэн-цзы в свое время дал объяснение, что зна¬
чит «познавание вещей — созидание знания», но в настоящее
189
время э?о объяснение утрачено. Основываясь на том, что когда-Тй
слышал от Чэн-цзы, я восполняю утраченное». Вот как он это
сделал.
«Что такое „созидание знания заключается в познавании ве-
щей“? Чтобы создать в себе знание, следует приникнуть к вещи
и постигнуть ее закон. Ибо у человека есть духовное знание его
сердца, у вещей Поднебесной — их закон. Если закон не постиг¬
нут, знание — недостаточно. Поэтому первое, чему учит „Да-сюэ“,
это — побудить учащегося стремиться к тому, чтобы', приникнув
к какой-либо вещи Поднебесной на основе познания ее закона,
идти по пути постижения все дальше и дальше и дойти до пре¬
дела. Когда усилия будут приложены в течение долгого времени,
в один прекрасный день все в вещах — их лицевая сторона и об¬
ратная, тонкое в них и грубое,— все, как озаренное светом, ста¬
нет ясным для нашего сердца и в своей сущности (субстанции),
и в своем проявлении (акциденции). Это и есть „познание ве¬
щей", это и есть „созидание знания"» 17.
Как оценить такое объяснение? «Вещь» — обычное у сунцев
обозначение предметов природы. Весьма возможно считать, что
под «вещью» они могли подразумевать и то, что в других случаях
обозначали словом «дела», т. е. и явления действительности.
В таком случае речь будет идти о познании вообще всей дейст¬
вительности. Не может вызвать удивление и то, что объектом по¬
знания в каждой «вещи» объявляется ее «закон»: эта катего¬
рия была выдвинута братьями Чэн-цзы, у них получила разъяс¬
нение, которое в дальнейшем было принято всеми сунцами, в
первую очередь Чжу Си. Обращает на себя внимание указание,
что для познания закона вещи следует «приникать» к ней и в
таком «приникании» переходить от одной вещи к другой. Не сле¬
дует ли видеть в этом мысль, что знание приобретается путем
опыта, пусть и рационалистического, но все же опыта? Что к
знанию приводит именно накопление опыта? Если допустить та¬
кое понимание, придется признать, что в теоретико-познаватель¬
ной концепции Чжу Си рационализм не противоречит эмпиризму,
а соединяется с ним.
Однако одним эмпиризмом Чжу Си не удовлетворяется. Чис¬
тый эмпиризм в теории познания, считающий, что знание толь¬
ко то, что постигнуто опытом, должен по необходимости счи¬
тать достижение полного знания невозможным, так как при та¬
ком подходе полное знание требует познания всего, что есть в
действительности, а это неосуществимо. Но сунские мыслители
думали именно об опытном знании, почему и должны были ска¬
зать, что оно достижимо, и объяснить, как оно достигается и при
ограниченном опыте. Чжу Си это и сделал в словах: «у человека
есть духовное знание его сердца, у вещей Поднебесной — их за¬
кон». Понять его мысль нетрудно, следует только вспомнить
знаменитую формулу его учителя — младшего Чэн-цзы: «закон —
един, а его части (доли) —различны». Как было разъяснено вы¬
190
ше, И-чуань этой формулой хотел сказать, с одной стороны, о
единстве всего сущего, следовательно, и человека, и предметов
природы, с другой — о конкретном, физическом, многообразии
этого сущего. По-видимому, без постулирования принципиально¬
го единства познающего субъекта с познаваемым объектом сун-
цы не могли вообще допустить возможность познания человеком
внешних для него объектов. Но так была объяснена лишь сама
возможность познания, требовалось же не только это, но и объ¬
яснение возможности приобретения полного знания, «достижения
предела», как выразился Чжу Си. Предел этот достигается, по
его учению, как бы сам собой: накопленный опыт, обязательно
большой, как подчеркивает Чжу Си, приведет «в один прекрас¬
ный день» к тому, что все сразу станет ясным — «все вещи», и
притом всесторонне — «с лицевой стороны и с обратной» и «как
субстанция и как акциденция». Видимо, это следует понимать
так, что вслед за опытом вступает в действие интуиция, которая
и восполняет недостающее в опыте. Интуитивный путь познания
возможен именно потому, что «у человека есть духовное зна¬
ние его .сердца», т. е. в самой его природе заложено всеобъемлю¬
щее знание.
Итак, теоретико-познавательная концепция Чжу Си ясна: мир
познаваем, познаваем человеком в категориях разума, путь по¬
знания объективно существующей действительности — опыт, это
значит познавать каждую отдельную вещь, «приникая к ней», т. е.
сосредоточиваясь на ней, как таковой; знание складывается из
опыта, но опыт должен быть как можно более обширен; на опре¬
деленном уровне этого опыта вступает в действие интуиция и
восполняет недостающее в опыте. Без предыдущего опыта и опы¬
та большого, как подчеркивает Чжу Си, интуиция «сработать» не
сможет. В основе всего познавательного процесса лежит все-та¬
ки опыт. Такова, как мне кажется, гносеологическая концепция
Чжу Си.
Но как понять слова Чжу Си, что он восстанавливает то, что
уже говорил И-чуань и что было потом утрачено? У И-чуаня
в одном из его философских писем находим очень сходное изло¬
жение этого же вопроса, но все же — не совсем то же. «Один че¬
ловек спросил меня: „В практике самосовершенствования, что
является самым первым”? Я ответил: „Самое первое — сделать
свое сердце правым, привести свои мысли к истине. Приведение
же своих мыслей к истине состоит в познании вещей. В каждой
вещи есть ее закон. Необходимо проникнуть в этот закон”. Тогда
этот человек спросил: „Познавать вещи — что же это значит?
Нужно познать все вещи? Или же познание одной вещи дает
знание всех законов?” На это я ответил: „Как можно познать
все? Познаешь сегодня одно, завтра — другое, и когда накоплен¬
ное знание будет достаточно велико, сразу проникаешь во все"» 18.
Как легко заметить, многое в. приведенных словах Чжу Си
прямо повторяет сказанное И-чуанем, но Чжу Си кое в чем до¬
191
полняет мысли своего учителя, кое в чем же существенно их ме¬
няет.
Дополняет их он тем, что разъясняет, каким образом можно,
переходя от познания одной вещи к познанию другой, достиг¬
нуть полного знания без изучения всех вещей. И-чуань сказал
только, что это вообще возможно, но почему — этого он не объ¬
яснил. Чжу Си сделал это, введя в познавательный процесс ин¬
туицию. Этим он действительно дополнил И-чуаня. Но в другом
он говорит прямо обратное тому, что в указанном письме ска¬
зал И-чуань. И-чуаню был задан прямой вопрос: что является
самым первым на пути науки? И он столь же прямо ответил:
самое первое — сделать свое сердце правым, свои мысли приве¬
сти к истине. Чжу Си же, как видно из приведенных выше его
слов, на первое место совершенно отчетливо поставил познава¬
тельную работу. Поэтому, если верить ему, что он излагает
только мысли И-чуаня, придется допустить, что И-чуань уже
после того, что он писал в цитированном письме, изменил свою
концепцию. Изменение же тут очень серьезное: выходит, что
сначала И-чуань первым шагом на пути науки считал достиже¬
ние определенной моральной и интеллектуальной высоты, потом
же признал, что начинать следует с приобретения знания.
Здесь нет надобности разбирать, действительно ли И-чуань
переменил свой взгляд; во всяком случае то, что предложил
Чжу Си, хорошо укладывается в общую концепцию И-чуаня:
ведь тот сам сказал, что надлежит «познавать вещи» — «сегодня
одно, завтра другое». Поэтому, как мне кажется, составители
«Истории Сун» объяснили все наилучшим образом: приобретение
знания — самое первое, но не самое важное; самое важное — до¬
стижение моральной и интеллектуальной человеческой высоты.
Следовательно, знание — не самоцель, а только средство; цель
же — высокое качество человека.
Обращает, однако, на себя внимание, что «История Сун» оп¬
ределяет это высокое качество человеческой личности не так, как
это сделано у И-чуаня: в формулировке И-чуаня достигнуть та¬
кого качества — значит иметь сердце правым, мысли — истинны¬
ми. В формулировке «Истории Сун» — «раскрыть добро и при¬
вести себя к истине». Различие есть, и немаловажное.
И-чуань в своих формулах строго следует «Да-сюэ». Как из¬
вестно, в «Да-сюэ» дан целый ряд, состоящий из последователь¬
ных, соединенных друг с другом звеньев: «...Когда вещи познаны,
создано знание; когда знание создано, приведены к истине мыс¬
ли; когда мысли приведены к истине, правым становится сердце;
когда сердце становится правым, делается полноценной челове¬
ческая личность; когда личность человека полноценна, благо¬
устроена его семья; когда семья благоустроена, надлежаще
управляется государство, когда государство управляется надле¬
жаще, наступает мир в Поднебесной». И-чуань, сказавший, что
самое важное — иметь сердце правым и мысли согласными с
192
истиной, выражается в точности словами «Да-сюэ»; Чжу Си, как
указывает «История Сун», определил «самое важное» в других
выражениях: раскрытие добра и приведение к истине личности
человека.
Думаю, что при всем различии в словах мысль И-чуаня, вы¬
раженная словами «Да-сюэ», и мысль Чжу Си, как ее передает
«История Сун», однозначны: «сделать свое сердце правым» — то
же, что «раскрыть в себе добро». Еще Мэн-цзы настаивал на
том, что добро — прирожденное свойство самой человеческой
природы и человек должен это свойство раскрывать.
И это никак не противоречит и идеям «Да-сюэ». В самом на¬
чале этого трактата говорится, что содержание «Большой науки»
(«Да-сюэ») состоит «в раскрытии светлых свойств человеческой
природы, ведении народа всегда к новому и пребывании в Выс¬
шем добре». «Сердце» вполне может пониматься как другое обо¬
значение «человеческой природы», поэтому «сделать свое сердце
правым» может означать то же, что раскрыть в себе свои «свет¬
лые свойства», а они и приводят к Добру. Таким образом, фор¬
мула Чжу Си, как ее передает «История Сун», определяет самое
важное в науке через категорию Добра, самым важным оказы¬
вается достижение высокого морального уровня.
Но это лишь одна часть «самого важного»; вторая — «приведе¬
ние себя к истине». Вот тут Чжу Си сказал иначе, чем «Да-сюэ»:
в «Да-сюэ» говорится о приведении к истине не себя, а своих
мыслей. Думаю, что Чжу Си в данном случае сделал из этого
положения естественный вывод: приведение своего мышления
в такое состояние, что оно адекватно истине, преображает и всю
личность человека. Таким образом, в конечном счете «самым
важным» оказывается не один высокий моральный уровень, но
и уровень интеллектуальный; иначе говоря, цель науки заклю¬
чается в достижении всесторонней полноценности человеческой
личности, оцениваемой в свете категорий добра и истины, т. е.
категорий морали и разума.
Таков в изложении «Истории Сун», т. е. в оценке последую¬
щих поколений, путь, проделанный новой философской школой,
таковы провозглашенные ею принципы. Что же все это значит
с точки зрения истории,— об этом весьма определенно говорят
заключительные слова. «И вот тогда,— пишут составители „Исто¬
рии Сун“, закончив изложение сделанного Чжу Си,— „наука
Ши и Шу“, шесть искусств, заветы Кун-цзы и Мэн-цзы — то, что
было повержено в циньский огонь, разодрано на клочки хань-
скими учеными, погружено во мрак во времена Вэй и Лючао,—
все это открывалось со всей ясностью, во всем своем блеске, все
стало на свои места». Поэтому сунские ученые — через головы
мыслителей прежних эпох — прямо соприкоснулись с Мэн-цзы.
При всей краткости этих слов в них сказано в сущности все.
Мэн-цзы умер в 289 г. до н. э. Сравнительно скоро после его
смерти в 221 г. образовалось первое всекитайское государство —
13 Н. И. Конрад
193
империя Цинь, и первый же ее правитель — император Цинь
Ши-хуанди по предложению своего первого министра Ли Сы
(как обычно эти события излагаются) начал с того, что обрушил
на ученых, особенно конфуцианского толка, жестокие репрессии:
их самих живыми забивали в землю, их же сочинения сжигали.
Это и было то, что получило наименование «циньского огня».
Однако очень скоро, в 206 г., династия Цинь пала и власть в
империи перешла к дому Хань. Ханьские правители заняли по
отношению к конфуцианству другую позицию: они не только пре¬
кратили преследования, но и возвели конфуцианство на степень
государственной идеологии. В связи с этим началась огромная
работа по разыскиванию и восстановлению письменных памят¬
ников прошлой эпохи, особенно тех, которые, по конфуцианской
традиции, считались цзинами («основами») всего учения. На этой
почве сложилась знаменитая ханьская филология, далекий ана¬
лог столь известной в истории науки на Западе александрийской
филологии, тоже занимавшейся текстами памятников своей
древности. Но филологический, по необходимости — главным об¬
разом текстологический, характер этой работы отодвигал на
задний план содержание этих памятников, и изучение этой сто¬
роны их почти не производилось, не говоря уже об изучении
системы идей, заложенной в них в целом. К тому же трудность
работы вызывала необходимость даже узкой специализации
исследователей: как на характерную особенность ханьской фи¬
лологии всегда указывают на появление филологов-специалистов
по какому-нибудь одному памятнику. Видимо, именно это и име¬
ли в виду составители «Истории Сун», когда сказали, что хань¬
ские ученые науку «разодрали на клочки». В следующие же века
«История Сун» называет время Вэй и Лючао — «Шести дина¬
стий», в III—VI вв. н. э. стало еще хуже: истинная наука была
«погружена во мрак». И только с появлением Чжоу-цзы и Чжан-
цзы, т. е. в XI в., а за ними — братьев Чэн-цзы и Чжу Си эта
наука снова предстала во всем блеске. Можно ли еще яснее вы¬
разить мысль, что, по представлению.людей XIV в., с XI в. на¬
ступила новая эпоха, и была она именно эпохой Возрождения?
Впрочем, эта оценка отражает уже давно сложившееся мне¬
ние об историческом значении сунской школы. Как известно, в
1175 г. появился первый свод важнейших произведений Чжоу-
цзы, Чжан-цзы и обоих Чэн-цзы: его составили Чжу Си и Люй
Бо-гун (Дун-лай)—для «начинающих науку», как сказал в
своем «предисловии» первый из них. Свод этот, названный со¬
ставителями «Цзиньсылу» («О том, о чем нужно помыслить бли¬
жайшим образом»), быстро получил большое распространение в
многочисленных философских кружках сунского времени. На¬
сколько была высока его репутация, видно из того, что в правле¬
ние Цзинь-ди (1225—1265) один из ученых тех лет — Е Цай —
преподнес этот свод со своими комментариями самому императо¬
ру, причем в сопроводительном адресе (бяо) писал:
194
«Кэ из Цзоу (т. е. Мэн-цзы.— Н. К.) умер, и учение о Законе
погрузилось во мрак. При циньском Сы (Ли Сы.— Н. К.) запы¬
лал огонь и книги почти все исчезли. При Хань велась только ра¬
бота над текстами и их толкованием. Во времена Тан учеными
делались с помощью изящного слова и художественного изобра¬
жения (т. е. на путях формальной художественности произведе¬
ния.— Н. К.) и наука измельчала.
Но вот Небо открыло нам век державной Сун (сунская ди¬
настия утвердилась на престоле империи в 960 г.— Н. К.). Все
пять светил (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн — небес¬
ные тела, влияющие на судьбы истории.— Н. К.) сошлись в со¬
звездии Куй (Андромеды — знамение особого расцвета науки.—
Н. К.). Один за другим последовали просвещенные государи, и
правление полностью пошло по пути древних царей. Появилось
множество ученых, и наука во всем величии засияла в своей ис¬
тинной традиции».
2
Если исходить из «Истории Сун», эпоха Возрождения, во
всяком случае в области философской мысли, начинается с XI в.
Однако у самих сунцев можно найти другие указания. Так, на¬
пример, в упомянутом выше «Цзиньсылу» в 14-м разделе, посвя¬
щенном совершенным и мудрым прежних времен, после длитель¬
ного промежутка, падающего на «средние века», первым выдаю¬
щимся ученым нового времени назван Хань Юй (765—824). Как
к этому отнестись?
Для понимания всех указаний «Истории Сун» всегда следует
учитывать, что она по всему своему замыслу была историей
именно сунского времени, т. е. не выходила и не должна была
выходить за хронологические рамки Сунской империи, т? е. 960—
1279 гг. Иное дело — другие источники.
Так особый интерес для нас представляет отмечаемое уже в
XII в., т. е. еще во времена Сунской империи, соединение имен
выдающихся деятелей философии и литературы танского и сун¬
ского времени. Такое соединение мы находим, например, в
«Гувэнь гуаньцзянь» («Ключ к Заставе древней литературы»),
работе упомянутого выше Люй Бо-гуна (1137—1181) — современ¬
ника и друга Чжу Си. В этой работе он собрал считавшиеся в
его время самыми важными сочинения восьми авторов — двух
танского времени, шести — сунского. Танские авторы у него —
Хань Юй (765—894) и Лю Цзун-юань (773—770). В возникшем
несколько позднее, но также еще во времена Сунской империи
своде «Вэньчжан гуйфань» («Образцы художественной литера¬
туры»), составленном Се Фань-дэ (1226—1289), также соединены
работы танских и сунских писателей, первыми из которых идут
опять те же Хань Юй и Лю Цзун-юань. И такое соединение в
дальнейшем стало настолько прочным, что появилось даже по¬
195
нятие «Тан Сун ба дацзя»— «Восемь великих писателей Тан и
Сун». Таким образом, сами сунцы видели начало дела — дела
возрождения истинной науки — еще в эпоху Тан и возводили его
к Хань Юю.
Следует сказать также, что почти во всех научных историях
китайской философии, созданных учеными Китая и Японии в но¬
вейшее время, т. е. во второй половине XIX в. и первой половине
XX в., Хань Юй как философ считается предшественником сун¬
цев. Мне это кажется совершенно бесспорным.
Прежде всего следует отметить, что Хань Юй еще до сунцев
сказал, что традиция истинной науки прервалась еще в древно¬
сти: со смерти Мэн-цзы. Излагая в своем трактате «Юань дао»
путь древней науки и доведя его до Конфуция, Хань Юй закан¬
чивает словами: «Конфуций передал его (т. е. «путь».— Н. К.)
Мэн-цзы. Умер Мэн-цзы, и после него никто этого учения не при¬
нял».
Позиция Хань Юя в высшей степени знаменательна. Он был
профессором чанъаньского университета, в котором преподавал
ту же «науку», т. е. конфуцианство, и тем не менее он ни словом
не упомянул об основном материале этого преподавания — о
«У-цзин чжэн-и» («Пятикнижии в правильном понимании»), т. е.
о том своде классиков, который был составлен Кун Ин-да и в
котором каждый классик был соединен со своим комментарием,
объявленным «правильным», т. е. канонизованным. Следователь¬
но, Хань Юй полностью отвергал не только конфуцианство хань-
ское, не только конфуцианство времен Вэй и Лючао, но и конфу¬
цианство своего собственного времени. Так что в своей оценке
конфуцианства как поздней древности, так и средних веков Хань
Юй является несомненным предшественником сунцев.
Предшественником их он является еще и в том, что основ¬
ным источником «истинной науки» он считал не только то, что
восходит к глубокой древности, т. е. то, что отражено в «Пяти¬
книжии», но и то, что восходит непосредственно к Конфуцию и
верному продолжателю традиции последнего — к Мэн-цзы. Если
присоединить сюда еще столь явно продемонстрированное им в
трактате «О пути» особое внимание к «Да-сюэ» и «Чжун-юну»,
станет ясно, что им был уже намечен путь к созданию будущего
«Четверокнижия» 20.
Предшественником сунцев Хань Юй является и по самому
характеру своей работы: свою задачу он видел не в комментиро¬
вании классиков, а в разработке идей, заложенных в их произ¬
ведениях. Иначе говоря, он считал, что возрождение истинной
конфуцианской традиции может произойти не в русле экзегетики
и герменевтики, а на путях философии как свободной творческой
мысли: а вся деятельность сунцев исходила именно из этого
принципа. Поэтому характерными для него были такие же виды
произведений, какие мы находим у сунцев: трактаты, статьи, по¬
слания.
196
Так же, как сунцы, в этих своих сочинениях Хань Юй ста¬
вил и освещал важнейшие философские вопросы. У него три глав¬
ных сочинения — трактаты «О человеке» («Юань жэнь»),
«О пути» («Юань дао»), «О природе человека» («Юань син»), и
самые наименования их говорят, что и в том, какие именно фи¬
лософские проблемы он считал наиболее существенными, он так¬
же являлся предшественником сунцев.
Хань Юй первый выставил положение, что самое главное во
всем сущем — человек: в своем трактате «О человеке» он прямо
заявляет, что человек «высшее во всем том, что есть между Не¬
бом и Землей». Человеку противопоставлены «все прочие»: это —
«птицы и животные», но также и «дикари». Видимо, понятие о
«человеке» у него не только физическое, видовое, но и качест¬
венное, поскольку он противопоставляет его не только птицам и
животным, но и «дикарю». Как высшее из всего существующего,
человек является «хозяином» (чжу) этого существующего, и яв¬
ляется им потому, что обладает «путем человеческим». Что та¬
кое этот «путь человеческий», разъясняется в другом трактате —
«О пути»; путь человеческий — осуществление человеком основ¬
ного свойства своей природы — «человеческого начала», гума¬
низма.
, Выше уже было дано объяснение, что именно так следует по¬
нимать китайское слово жэнь. Выше было также указано, что
в понятие «человеческое начало», «гуманизм», мог вкладывать¬
ся разный смысл. Поэтому очень важно, что Хань Юй с первых
же слов своего трактата счел нужным дать разъяснение: челове¬
ческое начало в человеке*— любовь ко всем (боай).
В таком понимании «человеческого начала» в человеке не¬
сомненно содержится известное «возвращение к древности»
(фугу), т. е. то самое, что для Хань Юя и его единомышленника
в этой сфере Лю Цзун-юаня было самым важным для их эпохи:
когда-то Конфуций на вопрос, что такое жэнь, ответил столь же
прямо: «любовь к человеку». И в то же время считать, что Хань
Юй сказал совершенно то же, что Конфуций, нельзя: Хань Юй
знал «Луньюй», в котором зафиксирован этот ответ Конфуция, и
мог бы прямо его повторить. «Возвращение» к Конфуцию в дан¬
ном случае содержится только в одной части ответа — в слове
«любовь». Да, тут Хань Юй прямо повторяет древнего учителя,
но Конфуций сказал «любовь к человеку», а Хань Юй — «ко
всем». Само собой разумеется, что «ко всем» прежде всего зна¬
чит «к людям». Это явствует из всего содержания его трактата
«О пути». Весь пафос его учения в том, что люди должны забо¬
титься друг о друге, помнить друг друга, причем подчеркивается
необходимость заботиться о тех, кто особенно нуждается в по¬
мощи: о вдовах, сиротах, больных и т. п. Но в трактате «О че¬
ловеке» Хань Юй выставил положение, что человек^-хозяин
всех живых существ. Следовательно, основное свойство его при¬
роды — человеческое начало — простирает свое действие и на
197
них, т. е. человек должен относиться «по-человечески» не только
к людям, но и к «птицам и животным». Не следует ли поэтому
передавать его выражение боай не «любовь ко всем», а «любовь
ко всему»? В таком случае Хань Юй может считаться предшест¬
венником сунцев и в отмеченном выше их убеждении, что «чело¬
веческое начало» есть высшая категория всякого бытия вообще,
т. е. всего мира природы.
Третьей основной темой Хань Юя, как было сказано выше,
является «природа человека». Ей посвящен его трактат, так и
названный «О человеческой природе». В нем он устанавливает
наличие в человеческой природе трех категорий: одну он харак¬
теризует как «добро», другую — как «добро и зло в смешении»,
третью — как «зло». Разве нельзя и в этой сфере соединить Хань
Юя с сунцами? Ведь они предложили концепцию «двух природ»
в человеке: одной, первоначальной, основной, общебытийной,
обусловленной самим «законом» бытия, другой — «веществен¬
ной», обусловленной материальной природой бытия. Тем более
что, как и Хань Юй, сунцы постулированием «двух природ» стре¬
мились решить проблему добра и зла в человеке, т. е. понять
природу человека в аспекте этическом.
Предшественником сунцев должен быть признан и Ли Ао,
ученик Хань Юя. Главное его произведение «О возвращении к
своей природе» («Фусиншу») по форме, как и произведения его
учителя,— философский трактат. Он посвящен той же теме —
«человеческой природе» и так же, как и у Хань Юя, в плане про¬
явления в ней двух начал: добра и зла. Но решает вопрос Ли Ао
по-своему. Он считает, что в своей основе человеческая природа,
как в свое время сказал Мэн-цзы,— добро, но ей, этой природе,
свойственны эмоции, а эмоции могут быть и добрыми и злыми.
Как мы знаем, эмоций, по представлению традиционной китай¬
ской психологии, семь: радость, гнев, печаль, веселье, любовь,
ненависть, желание. Ли Ао считает, что зло возникает в человеке
именно в связи с действием его эмоций. На вопрос же, как во¬
обще возможно, чтобы при исконном добре человеческой природы
его эмоции могли быть злыми, Ли Ао отвечает целой концеп¬
цией. Человеческая природа, конечно, добра: но она добра в
своей основе, по выражению Ли Ао,— «в состоянии покоя», не¬
возмутимости. Когда же она приходит в возмущение или, как
говорит на своем языке Ли Ао, в «движение», т. е. когда эмоции
действуют, становится возможным не только добро, но и зло.
Поэтому человек должен подавлять «ложные движения» своих
эмоций и, идя дальше, вообще стремиться к «покою», т. е. к бес¬
страстию^.
Если учитывать, как много места уделяли в своих рассужде¬
ниях сунцы проблеме тех же эмоций, если вспомнить хотя бы
Чжоу-цзы, говорившего о верховенстве «покоя» в дуаде «движе¬
ние — покой», принадлежность и Ли Ао к предшественникам сун-
ских философов становится совершенно ясной. Интересно также
198
отметить, что у него большое внимание уделено «Чжун-юну»: от¬
части для разъяснения своих положений, отчасти для подкреп¬
ления их он часто ссылается именно на этот старый памятник.
Так, например, он считает, что известная формула «Чжун-юн»
«закон неба — это и есть человеческая природа» говорит о том
же, что и его положение о добре как исконном свойстве приро¬
ды человека. В словах же «Чжун-юн» «управление своей приро¬
дой — это и, есть путь» он видит тот же принцип подавления в
себе «ложных движений» эмоций, который выставил он.
Выше было указано, какое внимание в своем трактате «О пу¬
ти» удалил Хань Юй «Да-сюэ»; из трактата его ученика мы ви¬
дим, какое внимание уделено «Чжун-юну». Это еще раз свиде¬
тельствует, что уже в годы Хань Юя и Ли Ао на первое место для
философской мысли выходили те древние памятники, из которых
в дальнейшем было составлено «Четверокнижие».
Здесь нет возможности вдаваться в более подробное изложе¬
ние учения как Хань Юя, так и Ли Ао, но полагаю, что и ска¬
занного достаточно, чтобы понять, почему Чжу Си в «Цзиньсы-
лу» первым среди деятелей ближайшей к себе эпохи, с кем свя¬
зано возрождение истинного учения, назвал Хань Юя. Поэтому
начало Возрождения, во всяком случае в области философской
мысли, следует отнести ко времени Хань Юя, т. е. ко второй по¬
ловине VIII в.— первой четверти IX в.
Таким образом, начало новой эпохи в области философской
мысли мы имеем право перенести с XI в. в VIII. А как быть с
концом ее? «История Сун» после описанного в ней времени по¬
ставила точку, и это естественно, так как «История Сун» и есть
история Сун, т. е. периода Сунской империи. Но нам совершенно
ясно, что новая философская мысль, пробудившаяся в VIII в. и
так расцветшая в XI—XII вв., не оканчивалась автоматически с
падением Сунской империи, т. е' в конце XIII в. Империя, т. е.
независимое китайское государство, на некоторое время сущест¬
вовать перестало, но китайское общество, создавшее великую
культуру сунского времени, нйкуда не исчезло и не могло после
подпадения страны под власть монголов сразу же оторваться от
всего, чем оно до тех пор жило. И действительно, вся история
общественной мысли последующего времени свидетельствует, что
движение философской мысли в сунское время, создавшей целую
эпоху, продолжало развиваться и притом в живых спорах — этих
лучших показателях не только ее существования вообще, но —
что еще важнее — и отсутствия в ней застоя.
Споры эти, и на очень принципиальной основе, начались еще
в конце сунской эпохи — при жизни Чжу Си. Более того, сама
деятельность этого завершителя системы протекала в обстановке
столкновений с идейными противниками. Главным из них был
Лу Сян-шань (1139—1191), младший современник Чжу Си.
Оба они утверждали, что основная категория бытия — «за¬
кон» (ли). Но Чжу Си на этом и остановился, все внимание на-
199
правив на самый процесс, развертывающийся в бытии, привлекая
при этом категорию «материи» (ци), в которой этот «закон» и,
проявляется. Это свидетельствует, что Чжу Си в своей рациона¬
листической позиции был склонен к материалистическому истол¬
кованию внешнего мира как объективно существующего бытия;
в гносеологическом же аспекте — склонялся к полной познавае¬
мости этого мира человеческим сознанием. Лу Сян-шань проти¬
вопоставил этому совершенно иную концепцию: «Душа челове¬
ческая — это и есть закон»,— таково его основное положение. Но
если «душа и есть закон», а «все, что заполняет мир, всего толь¬
ко закон», как он говорил, то, следовательно, «мир и есть моя
душа, моя душа и есть мир»; «все, что происходит в мире, есть
то, что происходит во мне; то, что происходит во мне, есть то,
что происходит в мире» — таковы его формулы, вытекающие из
основного положения21. Но и на этом Лу Сян-шань не останавли¬
вается. Надо было определить, что такое есть этот самый «мир».
Слово юйчжоу «мир», «вселенная» в китайском языке состоит из
двух компонентов. Лу Сян-шань, объясняя, что такое «мир», го¬
ворит: «четыре стороны, верх и низ — это юй; прошлое и буду¬
щее — это чжоу», т. е. понимает мир в пространственном и вре¬
менном аспектах и в этом плане заявляет: «Мир — это моя душа;
моя душа — это мир. И те Совершенные, что появились во все
предшествующие века,— то же, что и эта душа, то же, что и этот
закон. И те Совершенные, что появятся во все последующие ве¬
ка,— все то же, что и эта душа, то же, что и этот закон...»22. При¬
веденного достаточно, чтобы видеть, что Лу Сян-шань строил
свой рационализм на идеалистической основе, не только не при¬
знавал объективное — в онтологическом смысле — существова¬
ние внешнего мира, но и полностью отождествлял этот мир со
своим сознанием.
Из этого коренного в аспекте онтологии расхождения с Чжу
Си вытекает и его расхождение с последним в аспекте гносеоло¬
гии. Чжу Си считал, что путь к знанию — через познание; объек¬
том познания является внешний мир, само же познание состоит в
том, чтобы, «приникнув к вещи, постигнуть ее закон». Лу Сян-
шань, считавший, что весь мир заключен в душе человека, что
эта душа и есть мир, естественно утверждал, что знание заложе¬
но в самом себе, почему и познавать мир — значит познавать
самого себя. Эти столь различные позиции обусловили в высшей
степени характерное для обоих философов различие в методах
их философской работы. Чжу Си, считавший, что он должен по¬
знавать «вещи через их закон», т. е. чисто рационалистически,
искал это познание в идеях же; материал же этих идей видел
в «классиках» — как старых — «Пятикнижии», так и в новых —
«Четверокнижии». Поэтому он всю жизнь не переставал изучать
эти материалы и результаты своего изучения передавал в форме
либо трактатов на темы этих классиков, либо комментариев к
ним. Лу Сян-шань, считавший, что все сказанное «Совершенны-
200
ми», есть в душе человека, был вправе заявить: «...наука... по¬
скольку я знаю основное, постольку все шесть классиков — ком¬
ментарий ко мне»2!3. Известно, что Лу Сян-шань не оставил по¬
сле себя сочинений, им самим написанных; все, что мы знаем о
его учении,— записи его учеников. И вот, когда один из его уче¬
ников спросил, почему он не пишет своих комментариев к клас¬
сикам, Лу Сян-шань ответил: «Шесть классиков комментируют
меня, чего же мне комментировать шесть классиков?»24.
Однако при столь различных позициях в онтологии и гносео¬
логии этих двух философов-современников в одном их концеп¬
ции совпадают: в трактовке значения жэнь «человеческого нача¬
ла». Выше было отмечено, что Чжу Си различал в человеке «две
природы» — «основную» и «вещественную». Наличие их выво¬
дится из общего положения, что все бытие есть действие «зако¬
на» и «материи». Основная природа отражает «закон», вещест¬
венная — «материю». Характеризуя первую, Чжу Си определяет
ее как «истину», а то, что в гносеологическом плане именуется
«истиной», в этическом плане именуется «добром». В человече¬
ской же природе это «добро» реализовано в «четырех свойст¬
вах»— человечности, чувстве должного, чувстве законности, зна¬
нии, первое из которых — «человечность» — является важнейшим.
«Человечность» же в его интерпретации — это «закон любви».
Таким образом, у Чжу Си категория «человеческого начала», гу¬
манизма как сущности самой человеческой природы через этиче¬
скую категорию «добра» восходит к гносеологической категории
«истины», а от нее к онтологической категории «закона». Лу Сян-
шань же заявляет прямо: «человеческое начало — это и есть ду¬
ша, это и есть закон». Словом, при всевозможных различиях во
всем другом в возведении человека как носителя высокого нрав¬
ственного начала в центр всего бытия сунские мыслители схо¬
дятся; строго говоря, именно в этом, а не во всяких умствованиях
по поводу «закона», «материи» и т. д. и заключается общественно
значимая суть всего этого течения философской мысли. А в этом
положении сунцы идут от Хань Юя, сказавшего то же, но в со¬
вершенно конкретной форме: «человеческое начало — любовь ко
всему».
Из этого ясно, что данное в «Истории Сун» изложение линии
развития философии сунской школы не исчерпывает состава этой
школы. Во всяком случае к названным там именам — Чжоу
Дунь-и, Чжан Цзай, Чэн Хао, Чэн И, Чжу Си — следует доба¬
вить имя Лу Сян-шаня. Принадлежность его к той же школе не
вызывает никаких сомнений.
Следует отметить, что так считал и сам идейный противник
Лу Сян-шаня — Чжу Си. В одном из своих сочинений он назы¬
вает учителя Лу Сян-шаня, указывает далее, от кого получил
свою науку тот, и так возводит Лу Сян-шаня к старшему Чэн-
201
цзы — Мин-дао. И действительно, свою исходную позицию Лу-
Сян-шань взял у последнего. Мин-дао сказал: «все явления ми¬
ра — закон»; Лу Сян-шань повторил эту формулу почти дослов¬
но: «все, что заполняет мир,— все только один закон». Поскольку
Чжу Си себя самого возводит к младшему Чэн-цзы — И-чуаню,
постольку уже в его время было осознано наличие в философ¬
ской мысли эпохи двух линий: одной — идущей от Мин-дао, дру¬
гой — идущей от И-чуаня. Почему же составители «Истории Сун»
не упомянули о Лу Сян-шане — о философе, жившем еще в сун-
ское время? Ответ на такой вопрос, как мне кажется, может быть
таков: составители «Истории Сун» упомянули только о линии
И-чуаня — Чжу Си потому, что именно по этой линии была по¬
следовательно, не выходя из рамок одних и тех же основных по¬
ложений, достигнута полнота всей системы; именно Чжу Си раз¬
работал различные аспекты философской мысли, проявлявшиеся
у его предшественников, и постарался согласовать и связать их
друг с другом. Именно в философии Чжу Си философская мысль,
идущая от Чжоу-цзы, достигла своей кульминации. Положения
Лу Сян-шаня тогда еще не получили дальнейшего развития; это
произошло гораздо позднее: своей кульминации эта линия до¬
стигла в учении Ван Ян-мина (1472—1526) т. е. в конце XV в.—
начале XVI в. Поэтому составители «Истории Сун» имели право
не упоминать Лу Сян-шаня, как не упомянули они и о многих
других мыслителях Сунской эпохи, несомненно заслуживающих
внимания, но не создавших определенного этапа в развитии глав¬
ной для того времени школы. Но философская мысль продолжа¬
лась и дальше, особенно та линия, которая была представлена
в воззрениях Лу Сян-шаня: как уже было отмечено выше, свое
максимальное развитие она получила в конце XV в. Принадлеж¬
ность их обоих к одному и тому же руслу философской мысли
была для позднейших поколений настолько очевидна, что вся
эта линия получила даже наименование «школы Лу — Вана».
В сопоставлении с ней линия, противоположная ей, часто имену¬
ется «школой Чэн — Чжу». В последующее время развивались и
конкурировали друг с другом главным образом эти две школы.
Ван Ян-мин довел принципы Лу Сян-шаня до их логического кон¬
ца. Так же как Лу Сян-шань, он исповедовал положение «ду¬
ша— это есть закон». Так же как и тот, он считал, что все зна¬
ние уже заложено в душе, что процесс познания состоит поэто¬
му в самопознании. Поэтому он с еще большим убеждением за¬
являл, что не человек комментирует классиков, а классики ком¬
ментируют человека. Но он довел учение о внутреннем знании до
логического конца, объявив это прирожденное знание «добром»
не в смысле противоположности «злу», а в смысле высоты, со¬
вершенства; его обозначение лянчжи можно было бы перевести
также и «прекрасное знание». Так же как и Лу Сян-шань, он го¬
ворил о «знании» и «действии», но в отличие от своего предшест¬
венника, утверждавшего: «сначала познание, потом действие»,
202
выставил положение «знание и действие — одно». Этс? его поло¬
жение получило настолько большое значение, что в глазах его
последователей как бы покрыло собой всю его философию, по¬
лучившую в связи с этим оттенок того, что мы назвали бы волюн¬
таризмом. Следует отметить, что некоторые народные движения,
вплоть до восстаний, возглавлялись последователями Ван Ян-
мина, поскольку они рассуждали: раз мы знаем что плохо, значит
мы обязаны действовать.
История очень отчетливо продемонстрировала общественную
судьбу этих двух школ — Чэн-Чжу и Лу-вана. Безусловно, гос¬
подствующее положение занимала школа Чжу Си — вплоть до
самого XVII в., когда она подверглась нападкам со стороны так
называемой «критической школы». Школа Лу Сян-шаня всегда
оставалась как бы боковой; в последующей борьбе на фронте
общественной мысли она сыграла крупную роль только как одно
из орудий в арсенале противников чжусианства. Новый этап в
истории философской мысли в Китае связан с упомянутой крити¬
ческой школой, которая стала идейной основой китайского «Про¬
свещения». Точно такую же роль — роль лишь одного из средств
борьбы с чжусианством — сыграла философия школы Лу-Ван и
в Японии в XVII—XVIII вв. Только там философия японского
«Просвещения» образовалась не на почве «критической школы»,
как это было в Китае,— школы в основном филологической, а на
опыте естественных наук в их европейском облике.
Выше был поставлен вопрос: где же видеть конец той фило¬
софской мысли, которая началась в Китае в VIII в. со времени
Хань Юя? Ответ в сущности уже дан: там, где кончаются все
линии этой мысли, разумеется, в их органическом развитии, а не
формальном существовании, т. е. пока она еще не превратилась
в неприкосновенную догму. Одна из этих линий, представленная
в чжусианстве, стала догмой в сущности уже вскоре после Чжу
Си: настолько был велик авторитет этого замечательного мысли¬
теля. Другая, идущая от Лу Сян-шаня, своей высшей точки до¬
стигла в философии Ван Ян-мина, на которой ее история и
закончилась. Если первый философ китайского Возрождения —
Хань Юй, Ван Ян-мин — последний. Таким образом, эпоха Воз¬
рождения— в плане философии — начинается в VIII в., закан¬
чивается на пороге XVI в.
1965 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Заслуживает особого внимания, что сведения о конфуцианской филосо¬
фии в период Сунской династии даны в «Истории Сун» в двух разделах: «Жу-
линь чжуань» и «Даосюэ чжуань». Такое распределение материала само по
себе свидетельствует, что в глазах составителей «Истории Сун», т. е. поколе¬
203
ния, еще жившего умонастроениями сунской эпохи, философская школа, пред¬
ставленная Чжоу-цзы, Чжан-цзы, братьями Чэн-цзы и Чжу-цзы, не вливалась
в русло того, что обозначалось словом жулинь. Слово это мы обычно пере¬
даем по-русски «конфуцианцы», и, вообще говоря, это правильно, но только
при условии понимания, что в этом случае речь идет о конфуцианцах, офици¬
ально представляющих это учение. Поэтому, давая особый раздел «О науке
Дао», составители «Истории Сун» тем самым противопоставляли философии
официальной философию истинную, как они считали; философии чиновников —
философию мыслителей. Мне кажется, что наличие в «Истории Сун» двух этих
разделов может быть понято как еще одно свидетельство борьбы на идеоло¬
гическом фронте: борьбы гуманистов-возрожденцев со схоластами-догма-
тиками.
2 «Сун ши» была закончена составлением в 1345 г. Справочники сообщают,
что приказ о составлении истории правления павшей династии был дан новой,
монгольской властью в 1343 г., т. е. через полвека после подавления монголами
в 1279 г. последнего очага сопротивления завоевателям, причем одновременно
с «Сун ши» предписывалось написать «Ляо ши» и «Цзинь ши», т. е. истории
двух других погибших государств — киданьского (907—1115) и чжурчжень-
ского (1115—1234), возникших на территории. Северного Китая, которая еще
раньше подпала под власть монголов. Выполнение столь сложной задачи в та¬
кой короткий срок — три года — заставляет думать, что материал был подго¬
товлен раньше. Составителем «Истории Сун» в ее первоначальном варианте
считается Дун Вэнь-бин, человек, еще целиком принадлежавший Сунской
эпохе и бережно собиравший все, что к ней относилось, во исполнение своего
убеждения: «государство исчезнуть может, история исчезнуть не может». Я от¬
мечаю эту подробность, так как вижу в ней подтверждение того, что в «Сун
ши» должны были найти отражение не только события и факты, но и умона-
строения эпохи, продолжавшие оставаться действительными и в новых полити¬
ческих условиях. Иноземные нашествия — киданьское, чжурчженьское, монголь¬
ское, сопровождавшиеся подпадением под их власть сначала северной поло¬
вины страны, а затем, при монголах, и всей ее территории — при всех неис¬
числимых бедствиях, которые они принесли китайскому народу, не остановили
Возрождения, как не остановили Ренессанс в Италии все эти иноземные наше¬
ствия— французов, испанцев, закончившиеся в середине XVI в. включением
большой части страны в империю испанских Габсбургов. Поэтому эпоха мон¬
гольской власти в Китае не конец Возрождения в Китае, а ее новый этап.
3 История «Пятикнижия» в указанном составе вкратце такова. На пер¬
вом этапе классической поры китайской древности (в традиционном обозначе¬
нии — в период Чуньцю, 770—403 до н. э.) основой просвещения считались че¬
тыре древних письменных памятника — «Ши», «Шу», «Ли» и «Юэ». Именно эти
памятники упоминаются в «Луньюе» (слова Конфуция об «И-цзине» считаются
позднейшей вставкой). На втором этапе этой классической поры (по традици¬
онному обозначению — в период Чжаньго, 403—221 до н. э.) Сюнь-цзы (315—
236) к этим четырем добавил пятый — «Чуньцю», а позднее к этому списку был
присоединен еще и «Ицзин». Так образовалось «шесть книг» (лю цзин) или
«шесть искусств» (лю и). С наступлением эры Империи при организации в
136 г. до н. э. в «Высшей школе» (тайсюэ) того времени кафедры конфуци¬
анской науки в основу образования были положены пять памятников из ука¬
занного состава: «Шицзин», «Шуцзин», «Ицзин», «Лидзи» и «Чуньцю», по¬
скольку шестой «Юэцзин» («Книга музыки») оказался утерянным. По пред¬
положению Бань Гу, высказанному в его «Бойутун», этот памятник погиб в
«циньском огне», т. е. при сожжении во времена Циньши хуанди конфуциан¬
ских сочинений. Следует притом учитывать, что текстом «Ли» тогда считался
тот, который впоследствии рассматривался как особый памятник — «И ли»,
текстом же «Чуньцю» считалось то, что получило наименование «Чуньцю
Гунъ-ян чжуань», т. е. гунъяновская версия конфуциевой «Летописи» царства
Лу. Ввиду всего этого «Пятикнижие», о котором обычно думают, употребляя
это выражение, строго говоря, оформилось только в 642 г. н. э. в результате
работы Ян Ши-гу и Кун Ин-да.
4 Я передаю китайское слово тайсюэ — обозначение высшей школы в го¬
204
сударстве — нашим словом университет, имея в виду, что это наше слово слу¬
жит обычным наименованием высшей школы в странах Запада В' средние века
и в эпоху Ренессанса. Вместе с тем необходимо, конечно, учитывать и неко¬
торые отличия «университета» в средневековом Китае от «университета» в
средневековой Франции или Италии. Впервые учреждения под названием
тайсюэ появились в Китае в 136 г. до н. э., когда У-ди по предложению Дун
Чжун-шу учредил такую «Высшую школу» для разработки «науки», под чем
разумелся тогда комплекс знаний, составлявших конфуцианство, и для рас¬
пространения этих знаний. Иначе говоря, первый в истории Китая «универ¬
ситет» совмещал функцию научного учреждения и учебного заведения. В та¬
ком виде он сохранился до 278 г. н. э., когда рядом с ним появился гоцзысюэ
«лицей», учебное заведение, специально предназначенное для обучения моло¬
дых людей из высшей служебной знати (не ниже 5-го ранга по существовав¬
шей табели о рангах). Университет сохранял свою функцию учебного заведе¬
ния, но для гораздо более широкого состава учащихся и без задачи специаль¬
ной подготовки чиновнических кадров. Такое положение сохранялось до XI в.,
когда Вань Ань-ши (1021—1086), в чьих руках тогда сосредоточилось все уп¬
равление, подчинил и университет чисто практическим задачам: подготовке
чиновнических кадров. На этой почве возникли в дальнейшем большие трения
между двумя школами — университетом и лицеем, переходившие временами
в прямые столкновения, отражавшие противоречия различных общественных
групп.
5 Возникновение частных школ — одно из характернейших явлений сун¬
ской эпохи, характеризующих проходивший тогда процесс демократизации
просвещения, литературы и вообще всей культуры. Шуюань появились еще в
VIII—IX вв., но тогда это были либо хранилища книг и документов при пра¬
вительственных учреждениях, либо библиотеки — кабинеты отдельных ученых.
В сунское время эти последние стали превращаться в настоящие частные шко¬
лы — «академии», которые и стали основными рассадниками просвещения,
образования и вместе с тем науки, поскольку в большинстве случаев ими руко¬
водили выдающиеся ученые своего времени. Так, например, настоящей «акаде¬
мией» — и как научное учреждение, и как питомник кадров — была знамени¬
тая Академия Байлудун («Пещера Белого Оленя»): так называлась школа,
возникшая в X в., но особо прославившаяся в те годы, когда в ней работал
Чжу Си. В связи с тем что официальным питомником кадров, составлявших
чиновничество, были правительственные школы (см. прим. 4), в этих частных
«академиях», как правило, находили себе прибежище всякого рода оппози¬
ционные, антиправительственные течения, почему общественное значение этих
школ чрезвычайно велико. Так, например, в сунское время именно в этих шко¬
лах оформлялась и крепла новая философская школа, бывшая в оппозиции
к официальному конфуцианству, в Минское время эти школы были главными
пропагандистами учения Ван Ян-мина, также тогда оппозиционного по отно¬
шению к официальной философии. В конце Минской эпохи этими школами
пользовалась оппозиционная Дунлинская школа. Такое свое значение эти шко¬
лы потеряли только с установлением режима маньчжурской власти — в эпоху
Цинской империи.
6 Все цитаты, за исключением особо оговоренных, взяты из указанного раз¬
дела «Истории Сун».
7 Цитаты из упомянутых произведений сунских философов даются всюду
в моем переводе по обычным изданиям этих произведений. Я пользовался глав¬
ным образом их текстами, помещенными в «Цзиньсылу» — издании, подготов¬
ленном Чжу Си и Люй Богуном в 1175 г.
8 См. собрание его писем «И шу», ч. I.
9 «И шу», I.
10 Там же.
11 Такое наименование получило всеобщее распространение главным обра¬
зом после появления в 1415 г. «Синли дацюань» — огромного (95 томов) свода
произведений 120 представителей сунской философской школы, составленного
Ху Гуаном по повелению Чэн-цзу (1403—1425)—третьего императора дина¬
стии Мин. Это издание в высшей степени знаменательно: то, что оно вышло
205
в свет под таким наименованием, свидетельствует, что самым важным в фи¬
лософии сунской школы считали именно учение о «природе вещей» (син) и
«естественном законе» (ли), а отнюдь не о «великом пределе» (тайцзи), как
можно было думать при возникновении школы; то, что оно было предпринято
по «высочайшему повелению», служит свидетельством, что оно стало перехо¬
дить на вооружение правительственной власти. Тем самым определяется вре¬
мя, когда шло полным ходом превращение сунской философии из учения,
оппозиционного к официальной идеологии, в оплот этой идеологии. Оконча¬
тельное превращение этой когда-то столь прогрессивной философии в реак¬
ционную произошло при маньчжурской власти, когда при Шэн-цзу (Канси),
втором императоре новой династии Цин — главном организаторе в Китае ре¬
жима феодального абсолютизма, было издано препарированное собрание со¬
чинений сунских философов «Синли цзинъи» («Истинный смысл учения о при¬
роде и законе»). Достаточно даже бегло ознакомиться с этим изданием, чтобы
увидеть, как старательно были удалены из философии сунцев, особенно Чжу
Си, все элементы диалектики. Впрочем, такая судьба философии китайского
Возрождения удивлять не может: мы хорошо знаем, что учения гуманистов
европейского Возрождения в конце концов стали оплотом застоя. Следующий
прогрессивный этап в идеологической сфере общественной жизни связан с фи¬
лософией Просвещения. Так было на Западе, так было и в Китае.
12 Приведенные цитаты — из «Предисловия» И-чуаня к его «И-чуань»' —
трактату об «Ицзине». Почти в том же виде эти формулы повторены в одном
из его философских писем: см. «И шу», 25. Вообще говоря, трактат об «Ицзине»
получил такое значение во всей истории философской мысли сунской школы
именно потому, что И-чуань сломал всю предшествующую комментаторскую
традицию и интерпретировал «Ицзин» в свете учения об «естественном законе».
Благодаря этому «Ицзин» и занял такое большое место в философской спе¬
куляции сунцев.
13 Из того же «Предисловия» к «И-чжуань».
14 См. «Чжу-цзы вэньцзи» («Собрание сочинений Чжу-цзы»), 50: «Да Цао
Юань-кэ» («Ответ Цао Юань-кэ»).
15 См. «Да сюэ хэвэнь» («„Да сюэ“ в вопросах и ответах»), предисловие.
Следует притом обратить внимание на порядок, в каком Чжу Си перечисляет
эти четыре сочинения: в этом порядке отражается стремление сунцев видеть
в «Четверокнижии» не просто комплекс определенных произведений, а целую
систему идей и вместе с тем как бы некий курс философского образования.
Чжу Си считал, что начинать нужно с «Да сюэ», так как это сочинение охва¬
тывает наиболее широкий, в сущности всеобъемлющий круг проблем — от про¬
блемы познания до проблемы мира во всем мире; после этого следует изучать
«Луньюй» для того, чтобы понять основное — принцип жэнь, «человечности»;
затем следует Мэн-цзы, который развивает доктрину дальше — говорит не
только о принципе жэнь, но и о принципе и — «должного»; все венчает «Чжун-
юн», поскольку в нем, как говорит Чжу Си, учащийся касается уже самого
«сокровенного у древних людей». Так обосновал Чжу Си этот порядок в ука¬
занном своем издании «Четверокнижия». Однако впоследствии этот порядок
был изменен: на первые места были поставлены «Да сюэ» и «Чжун-юн». Имен¬
но в таком порядке эти сочинения стали издаваться и в дальнейшем.
16 Представление об особом комплексе «Четверокнижия» пошло от братьев
Чэн-цзы, так как именно они извлекли из «Лицзи» трактаты «Да сюэ» и «ЧжуН-
юн» и рядом с ними поставили «Луньюй» и «Мэн-цзы», но как наименование
этого комплекса слово «Сышу» утвердилось благодаря Чжу Си, который в
70—80-х годах XII в. издал «Сышу цзичжу» («Сводный комментарий к «Чет-
верокнижию»»)г. Таким образом, в эпоху составления «Истории Сун» «Чет¬
верокнижие» и как понятие, и как термин было уже распространенным.
17 Из комментария Чжу Си к этой формуле «Да сюэ».
18 См. письма «И шу», 28.
19 «Юань дао», раздел 15. Перевод этого трактата см. «Китайская лите¬
ратура. Хрестоматия», М., 1959, стр. 305—311, а также мою статью «Хань Юй
и начало китайского Ренессанса».
20 Это место трактата открывает нам одну из очень характерных черт фи¬
206
лософии китайского Возрождения: важность для нее того, что обозначалось
словом дао тун «преемственность в науке о Дао», т. е. в истинной науке. Хань
Юй начиная линию этой «истинной науки» с глубокой древности, доводил до
Конфуция, после которого переходил прямо к Мэн-цзы. Однако сунские фило¬
софы это последнее звено расширили, включив в него еще два имени: Цзэн-
цзы и Цзы Сы. Это вызывалось тем, что они и прежде всего братья Чэн-цзы,
особенно высоко вознесли еще два древних трактата — «Да сюэ» и «Чжун юн»,
и для того чтобы придать им исторический авторитет, нашли их Авторов —
вполне безупречных со стороны своей философской генеалогии: Цзэн-цзы,
прямого ученика Конфуция, и Цзы Сы — ученика Цзэн цзы. Тем самым «Чет-
верокнижие» было уже полностью оправдано.
21 Цитаты взяты из разных мест его «Цюаньцзи» («Полного собрания со¬
чинений»): из биографии, из раздела «Юйлу», из письма к Цзэн Чжай-чжи,
из письма к Ли Нину.
22 Это знаменательное место содержится в разделе «Цза шо» («Разные
высказывания») в 22-й книге упомянутого «Полного собрания сочинений».
23 «Юйлу», кн. 34. «Шесть классиков» — «Шицзин», «Шуцзин», «Ицзин»,
«Чуньцю», «Лицзин» и «Юэцзин» (ср. прим. 3).
24 Там же.
ОБ ЭПОХЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
При весьма различном понимании исторического существа,
содержания и границ эпохи, получившей в истории народов Ев¬
ропы наименование «Ренессанса», само наличие такой эпохи
никем не оспаривается. О ней говорят историки всех специально¬
стей и всех направлений. Общее у них в том, что все они имеют в
в виду прежде всего культурное содержание этой эпохи, разли¬
чия — в том, что одни видят в Ренессансе лишь одну из эпох ис¬
тории культуры, другие связывают культурно-историческое со¬
держание ее с социально-экономическим, т. е. рассматривают
Ренессанс как особое звено общеисторического процесса. Среди
историков первой группы существуют свои разлйчия, заключаю¬
щиеся прежде всего в том, считают ли они показательным для
Ренессанса всю совокупность культуры, либо же только, или
преимущественно, одну какую-либо ее сферу, например, искус¬
ство или литературу; такие различия определяются главным об¬
разом специальностью авторов. Есть свои различия и среди исто¬
риков второй группы в том, как они понимают общеисторическое
содержание эпохи Ренессанса; такие различия определяются об¬
щеисторическими позициями авторов, принадлежностью к тому
или иному направлению исторической науки'.
Положение, таким образом, достаточно сложное, даже если
оставаться в пределах хорошо изученного. Хорошо изучено же,
как известно, только то, что относится к Ренессансу в Италии
и других странах Западной Европы — Германии, Нидерландах,
Франции, Англии, Испании; уже гораздо менее изучен вопрос
об эпохе Возрождения в странах Центральной Европы и еще
менее — Восточной2. Положение осложняется еще тем, что при
недостаточно отчетливом понимании исторического существа Воз¬
рождения в Италии, из истории которой вошло в историческую
науку само представление о такой эпохе, наименование «Ренес¬
санс» нередко бывают готовы приложить ко всякой полосе осо¬
бого подъема культуры, чаще всего искусства и литературы, осо¬
бенно если этот подъем в какой-то степени связан с обращением к
древности.
208
Положение в последнее время осложнилось еще тем, что об
эпохе Ренессанса заговорили и востоковеды. В 1947 г. Ш. П. Ну-
цубидзе в работе «Руставели и Восточный Ренессанс» заговорил
о времени великого грузинского поэта, т. е. о XII—XIII вв., как
о грузинском Ренессансе. В 1948 г. И. Джавахишвили в своей
«Истории Грузии» охарактеризовал историю своей страны в XI—
XII вв., как время, по своему историческому содержанию близ¬
кое к той эпохе истории западноевропейских стран, которую на¬
звали Ренессансом. В 1961 г. В. Д. Чантурия в работе «Педагоги¬
ка грузинского гуманизма XI—XII вв> утверждал, что педагоги¬
ческие идеи этого времени свидетельствуют именно о такой эпохе.
В 1963 г. В. К- Чалоян в работе «Армянский Ренессанс» на ос¬
нове анализа широкого круга социально-экономических и куль¬
турных признаков доказывал наличие именно такой эпохи в ис¬
тории Армении. В приложении к истории стран Востока работа
В. К. Чалояна пока является в пределах своей темы наиболее
широкой по материалу и тщательной по аргументации.
На Грузии и Армении дело, однако, не остановилось. В 1955 г.
в статье «Средние века в исторической науке» мною был постав¬
лен вопрос о своей «эпохе Ренессанса» в Китае с отнесением ее
к VIII—XII вв. и высказано предположение, что сходную по
своему историческому и культурному содержанию эпоху можно
открыть в истории Среднего Востока — Средней Азии, Ирана,
Северо-Западной Индии в IX—XII вв. В 1957 г. в статье «Начало
китайского гуманизма» вопрос об эпохе Возрождения в Китае
в плане истории общественной мысли был рассмотрен мною уже
с некоторой обстоятельностью. В плане истории литературы этот
же вопрос был освещен в моей статье 1960 г. «Три танских
поэта». В статье 1965 г. «Философия китайского Возрождения»
(о сунской философской школе) этот же вопрос рассмотрен в
плане истории философской мысли в Китае. Обширный материал
по вопросу об эпохе Возрождения в Китае дан в статье 1965 г.
В. И. Семанова «Различные концепции китайского Возрожде¬
ния». В 1961 г. в статье «Алишер Навои и проблема Ренессанса
в восточных литературах» о Ренессансе на Востоке заговорил
В. М. Жирмунский. В 1965 г. в работе «Арабская классическая
литература» к концепции «Ренессанса» подошел в своем освеще¬
нии арабской литературы VIII—XII вв. И. М. Фильштинский.
В том же 1965 г. яркую ренессанскую интерпретацию поэзии, фи¬
лософии и науки Ирана и Средней Азии в IX—XII вв. дал в своей
работе «Иранские миниатюры» И. С. Брагинский. В работе
1965 г. «О некоторых общих проблемах курса истории литератур
Востока» ее авторы — И. В. Бородина, В. Б. Никитина, Е. В. Па-
евская, Л. Д: Позднеева — обстоятельно осветили вопрос об
эпохе Возрождения в странах Востока в плане общей истории
литературы этих стран.
Конечно, количество материала, привлеченного авторами ука¬
занных работ, очень различно; очень различна и степень разра-
14 Н. И. Конрад
209
ботки его, но для всех авторов характерно отношение к тому,
что они предлагают называть хотя бы условно «Ренессансом»,
не просто как ко времени особого расцвета литературы и искус¬
ства, а как к определенной исторической эпохе.
Такое внимание к проблеме «Ренессанса» в странах Востока
вполне понятно. Вопрос в сущности поставлен не столько отдель¬
ными учеными, сколько самой исторической наукой. Известно,
как широко раздвинулись в нашей стране рамки исторического
знания: в него вошел весь Восток, со всей своей историей. И не
только вошел, но и занял подобающее ему место. Для того, чтобы
убедиться в этом, достаточно раскрыть вышедшие десять томов
советской «Всемирной истории». Появилось множество работ,
воссоздающих и общую картину исторического процесса в какой-
либо восточной стране, и отдельные стороны этого процесса.
В число народов, история которых предстала теперь с невидан¬
ной доселе полнотой, входят и народы с древней, непрерывно
развивающейся и в наши дни исторической жизнью и культурой:
народы Китая, Индии, Ирана, Средней Азии, Кавказа. Стали
гораздо более видны и понятны полосы общественно-историче¬
ских подъемов у этих народов, эпохи особого расцвета их жизни
и культуры. И вполне естественно, что некоторые из подобных
эпох стали сопоставлять со сходными эпохами исторической
жизни и культуры народов Европы. При этом получилось, что
многие обозначения исторических явлений, выработанные на
материале истории Запада, были перенесены на аналогичные или
близкие им явления в истории Востока.
Это также понятно. История как отрасль знания на Востоке
сложилась ранее, чем на Западе, но история как прагматическая
наука развилась на Западе раньше и полнее, чем на Востоке.
Поэтому применение и для истории народов Востока таких об¬
щих обозначений:характеристик, как, например, феодализм, ка¬
питализм, класс, сословие и т. д., вполне законно, тем более, что
марксистская историческая наука придала этим обозначениям
точный смысл, т. е. превратила эти наименования в термины ис¬
торической науки. Вполне допустимо также пользование и та¬
кими обозначениями, возникшими в истории народов Европы,
как «древность», или «античность», «средние века», «новое
время» 3. На тех же основаниях перешли к историкам Востока и
некоторые наименования культурно-исторических эпох, в их чи¬
сле и наименование «эпоха Возрождения».
Нельзя признать также случайным или произвольным, что об
«эпохах Возрождения» заговорили в приложении к истории
именно упомянутых стран Востока. Постулирование наличия в
их истории именно такой эпохи подсказано мыслью, что «эпоха
Возрождения» возникает, во всяком случае первоначально, у
народов с длительной, непрерывно развивавшейся исторической
жизнью и культурой. На эту мысль наводит тот факт, что стра¬
ной, в истории которой впервые была отмечена «эпоха Возрож-
210
г
дения», является Италия, т. е. страна народа, историческая
жизнь которого началась еще в VIII в. до н. э. и которая до своей
«эпохи Возрождения» имела в прошлом и многовековую «антич¬
ность» и столь же продолжительное «средневековье», причем в
рамки итальянской античности входила не только латинская
культура, но и культура эллинская. Термин «Возрождение» в
смысле «Возвращение к древности» {фугу) встречается и в ис¬
тории Китая, и притом именно как обозначение одной из черт
эпохи, очень напоминающей эпоху Возрождения в Италии; исто¬
рия же китайского народа также началась очень давно, в XII—
XI вв. до н. э., и в ней была своя «древность», воспринимавшаяся
в «эпоху Возрождения» как время сложения всех основ культуры
и просвещения. У народов Средней Азии и Ирана термин «воз¬
рождение» не встречается, но эпоха, имеющая черты «Возрож¬
дения», была в IX—XIII вв., а иранские народы начали свою
историю, как и китайский, еще в конце II тысячелетия до н. э.— с
момента появления в Северном Иране ираноязычных племен;
историческая же жизнь и культура иранских народностей всегда
протекала в переплетении с исторической жизнью и культурой
народов Средней Азии и Северо-Западной Индии, также древ¬
них и богатых культурою: первые государства в Средней Азии —
Хорезм и Бактрия — возникли в VII—VI вв. до н. э. Таким об¬
разом, у народов этой части мира была своя «античность», в зна¬
чительной мере общая для них, так же как общей является «ан-_
тичность» для итальянцев и греков. К группе древних народов с 1
длительной и непрерывной историей, с богатой и древней куль¬
турой принадлежат и грузины, у которых в III в. до н. э. была
уже государственная жизнь; к этой группе принадлежат и ар¬
мяне, история которых, если ее считать с момента появления
предков позднейших армян на их нынешней территории, начина¬
ется с VII в. до н. э. У этих народов Закавказья была своя «древ¬
ность», с культурно-исторической стороны бывшая в известной
мере общей с древностью не только народов Ирана и Переднего
Востока, но еще больше с «античностью» греко-римской. Были у
них и свои «средние века» с богатой культурой. Таким образом,
вопрос, поставленный исторической наукой, вызван в сущности
самой историей. Существо же вопроса настолько серьезно, что
обсуждение его стало настоятельно необходимым. Дело идет во^
обще не только об открытии своих «эпох Возрождения» в исто¬
рии разных народов, т. е. о новом осмыслении исторического
процесса у них, но и гораздо большем: о самом понимании исто¬
рического смысла такой эпохи, об исторических условиях, ее вы¬
зывающих и определяющих, ее историческом смысле и, наконец,
о закономерности такой эпохи в истории определенных народов,
а через нее и в истории человечества.
Хороший материал для обсуждения всего комплекса этих воп¬
росов может, как мне кажется, дать сопоставление тех истори¬
ческих «случаев» этой эпохи, которые ни в какой связи друг с
211
другом не находятся, которые возникли, сложились и развились
совершенно независимо. Первый из этих случаев нам хорошо из¬
вестен: эпоха Возрождения в Италии. Второй — эпоха Возрож¬
дения в Китае; наличие такой эпохи в Китае пока еще не рас¬
крыто во всем объеме, но все же сказано о ней, как мне думается,
достаточно, чтобы отнестись к мысли об этой эпохе в истории
Китая хотя бы как к обоснованному историческому постулату.
1
В обоих случаях обращает на себя внимание прежде всего
существование совершенно одинакового не только по общему
смыслу, но даже и по лексическому выражению обозначения
этой эпохи, обозначения, данного ее современниками. Шпа-
зсИа назвал эту эпоху в своей стране Вазари, фугу в своей —
Хань Юй. Итальянское слово означает «возрождение», но при
этом подразумевается, что дело идет о возрождении древности.
В китайском слове понятие «древность» включено в самый тер¬
мин: фугу состоит из двух компонентов: фу — «возвращение»,
гу — «древность». Сочетание этих компонентов можно понимать
как «возвращение к древности», так и «возвращение древности»,
т. е. восстановление ее.
Обращает, однако, на себя внимание и время, в которое воз¬
никли эти обозначения. Вазари жил в XVI в. (1511—1574), когда
эпоха Возрождения в его стране была уже фактически исчер¬
пана. Хань Юй жил во второй половине VIII в.— первой четверти
IX в. (768—824), когда эпоха Возрождения в его стране только
начиналась. Это различие свидетельствует, что название эпохи
может быть ее итоговой характеристикой, может быть и лозун¬
гом, с которым она вступает в историю.
Но что такое в глазах Вазари и Хань Юя эта самая «древ¬
ность»?
Разумеется, прежде всего что-то совершенно замечательное.
Ведь нельзя оценивать то, что стремились возродить, иначе как
самым высоким образом. «Древность» в этом случае понятие
прежде всего качественное. Но оно, конечно, и историческое. Что
же имели в виду конкретно-исторически, говоря «древность», эти
деятели?
Хорошо известно, что для итальянцев эпохи Возрождения
«древность» прежде всего их древность, т. е. период древнего
Рима. Но не весь, а главным образом время, которое ознамено¬
вано замечательным расцветом общественнрй мысли и литера¬
туры— последний период республики и первый период империи.
Иначе говоря, не ранний и не поздний этап истории римского на¬
рода, а средний: тот, который стал «классическим». К этой своей
латинской древности итальянские возрожденцы присоединили и
эллинскую, наследниками которой стали римляне, особенно в
212
эпоху принципата. Но также не начальную древность, «гомеров¬
скую», и не позднюю, эллинистическую, а среднюю — «класси¬
ческую». Конечно, уважение питали ко всей древности в целом,
но на первом плане в ней бесспорно выступала именно эта клас¬
сическая пора.
Что же было «древностью» в глазах Хань Юя? Об этом он
сказал с полной ясностью в своем трактате «О пути»4, т. е. том
просвещении, ревнителем которого он был. Это — вся древность
китайской истории до начала 1 в. н. э.; последние из великих
деятелей культуры древности, которых он называет,— Сыма
Сянь-жу (ум. в 117 г. до н. э.), Сыма Цянь (145—86 г. до н. э.)
и Ян Сюнь (53 г. до н. э.— 18 г. н. э.). Это означает, что поздняя
древность — второй период империи — не признается им, как не
признается эпоха эллинизма и поздней империи его итальян¬
скими коллегами. Если же учесть, что основоположником «Пути»,
т. е. науки и просвещения, в глазах Хань Юя был Конфуций и
что такие памятники, как упоминаемые им «И-цзин», «Ши-цзин»,
«Шу-цзин», возникшие еще до Конфуция, окружены ореолом вы¬
сокой мудрости именно благодаря ему же, получается, что и для
Хань Юя «древность» была главным образом эпоха Лего — горо¬
дов-государств, эта подлинно классическая пора истории древней
культуры. Таким образом, зная историю древнего мира, мы мо¬
жем сказать, что в эпоху Возрождения, возникшую в двух важ¬
нейших из числа уцелевших со времен древности странах За¬
падной Европы и Восточной Азии — Италии и Китае,— под той
древностью, которую деятели этой эпохи видели возрожденной,
подразумевалась в первую очередь срединная, наиболее цельная
по своему типологическому облику, пора истории рабовладель¬
ческого общества в этих двух районах мира.
2
Столь устойчивая избирательность вряд ли случайна: она,
как мне кажется, объясняется одной особой чертой исторического
мировоззрения возрожденцев.
Хорошо известно — и это составляет одну из самых типичных
черт эпохи,— что возрожденцы в Италии, прославлявшие свою
классическую древность, тем самым отрицательно относились к
тому времени, которое отделяло их эпоху от древности. Это были
для них всего только «средние», т. е. промежуточные, века, а
поскольку древность — время лучезарное, а их собственное
время — пора возрождения этой лучезарности, постольку сред¬
ние века — мрак, темнота.
Китайские возрожденцы обозначения «средние века» терми¬
нологически не создали, но представление именно о точно такой
же промежуточной полосе своей истории они имели. Это хорошо
видно из свидетельства «Истории Сун» — памятника, возникшего
213
в XIV в., когда возрождение уже насчитывало несколько веков
своего существования и уже сложилось представление о нем в
целом. В этой «Истории Сун», т. е. истории Китая за время Сун¬
ской империи (960—1279), есть раздел, описывающий так назы¬
ваемую сунскую философскую школу, т. е. ту школу, которая, как
мне кажется, является несомненной принадлежностью китай¬
ского Возрождения5. В этом разделе перечислены главные дея¬
тели этой философской школы, обрисован вклад каждого в раз¬
витие школы и дана общая оценка всей ее деятельности. Оценка
эта такова: «И вот тогда наука Ши и Шу, Шесть искусств, за¬
веты Кун-цзы и Мэн-цзы — то, что было повержено в Циньский
огонь, разодрано на клочки ханьскими учеными, погружено во
мрак во времена Вэй и Лючао,— все это открылось со всей ясно¬
стью и во всем блеске, все стало на свои места. Поэтому сунские
ученые — через головы мыслителей прежних эпох — прямо со¬
прикоснулись с Мэн-цзы». «Ши-цзин» («Книга Песен») и «Шу-
цзин» («Книга Истории») —древнейшие письменные памятники,
вошедшие в конфуцианское «Пятикнижие»; «Шесть искусств» —
наука, которая представлена в шести памятниках: в тех же «Ши
цзин» и «Шу-цзин» и присоединенных к ним «И-цзин» («Книге
Перемен»), «Чуньцю» («Летописи»), считавшейся созданием са¬
мого Конфуция, и «Юэ цзин» («Книге Музыки»). Заветы Кун-
цзы и Мэн-цзы — «Луньюй» и «Мэн-цзы» — два сочинения, изла¬
гающие учение этих двух основоположников конфуцианства, т. е.
вообще всей, как тогда считали, философии. На Мэн-цзы, т. е. в
III в. до н. э., все закончилось. И надолго — до XI в. Таким обра¬
зом, и для составителей «Истории Сун» древность — это прежде
всего та же классическая пора, что и для Хань Юя. Отличие
только в том, что Хань Юй упомянул еще о трех деятелях на¬
чального периода империи; но первый из них — Сыма Сянь-жу —
был не философ, а поэт, второй — Сыма Цянь — историк; третий
же — Ян Сюн — главным образом поэт; как философ он не имеет
особого значения, а Хань Юй даже отозвался о нем в этом смы¬
сле весьма неодобрительно. Поэтому для составителей «Истории
Сун» древность, во всяком случае по философской линии, закан¬
чивается Мэн-цзы, деятельностью последнего крупного мысли¬
теля классической поры истории рабовладельческого общества в
Китае. После этого, т. е. с переходом к поздней поре той же древ¬
ности, к эпохе Империи, наука и просвещение сначала вообще
попали в «циньский огонь», как назвала история сожжение кон¬
фуцианских сочинений в самые первые годы Империи, а потом
книжниками Ханьской поры Империи были «разодраны в клоч¬
ки». Авторы «Истории Сун» тут имеют в виду ханьских филоло¬
гов, поведших кропотливую работу по разысканию уцелевших
памятников, восстановлению утерянных, обработке их текстов и
комментированию их, т. е. делавших ту работу, которую вели
александрийские книжники над наследием классической поры
своей античности. С точки зрения возрожденцев, больше всего
214
ценивших идеи, текстологическая работа, да еще разрозненная —
над отдельными, изолированными друг от друга памятниками,
привела к тому, что «наука» была «разодрана на клочки», т. е.
разменена на мелочи. Ну а потом, «во времена Вэй и Лючао»,
т. е. с III по VII в., наука и просвещение и вовсе оказались «по¬
гружены во мрак», и новый свет зажегся только с наступлением
Сунской эпохи. Можно ли более ясно выразить мысль о «проме¬
жутке» — «средних» веках между «древностью» и «современно¬
стью», причем именно как о веках «темных»?
В свете такого отношения становится, как мне кажется, по¬
нятным, почему возрожденцы отрицательно отнеслись не только
к тому времени, которое мы обозначаем термином «средневеко¬
вье», т. е. к начальному периоду истории феодального общества,
но и поздней античности. Эта поздняя античность (для Италии —
эллинистическая эпоха и период поздней Римской империи, для
Китая — период Ханьской империи и особенно вторая половина
его) — время переходное, т. е. принадлежит средневековью, кото¬
рое оно подготовляет, не менее чем древности, от которой оно
отходит. Поскольку же «средневековье» в Европе, как и «Вре¬
мена Вэй и Лючао» в Китае, возрожденцами как в Италии, так
и в Китае отрицалось, это отрицательное отношение распростра¬
нялось и на эпоху, к средневековью подводящую.
3
Что же адептам Возрождения не нравилось в этом «средневе¬
ковье», «времени Вэй и Лючао», в этом «темном», по их опреде¬
лению, времени? Попытаемся ответить на этот вопрос сначала
в плане общей идеологии.
Для идейных позиций Хань Юя, с которого, как мне кажется,
следует начинать историю ренессанского движения в Китае, ха¬
рактерно резко отрицательное отношение к буддизму и даосизму.
Но пора «Вэй и Лючао», т. е. III—VII вв., эти «темные века», как
раз время чрезвычайной силы именно этих мировоззренческих
систем. За это время буддизм со своей хорошо налаженной и
разветвленной церковной организацией, многочисленным духо¬
венством и монашеством превратился в Китае чуть ли не в самую
распространенную религию. В настоящее религиозное учение со
своей догматикой, своим культом, со своей церковной органи¬
зацией превратились и те верования, которые обычно обозначают
наименованием «даосизм». Обе эти религии обладали филосо¬
фией многосторонней и высоко развитой. Против их философских
положений и выступал Хань Юй; против того, что он считал са¬
мым главным в этом философии и самым неприемлемым: в буд¬
дизме—против концепции нирваны, в даосизме — против кон¬
цепции недеяния. Обе эти концепции, с его точки зрения, отвле¬
кали людей от главного: от жизни, деятельности, от реального
215
служения реальному обществу. Этому буддизму и даосизму он
противопоставлял «истинную науку», т. е. конфуцианство, причем
идеалом для него был Мэн-цзы, действительно самый активный в
древности ревнитель «истинной науки», неутомимый борец со
всем тем, в чем видел общественное зло своего времени, не стес¬
нявшийся резко обличать и самих правителей. Хань Юй даже
считал себя как бы «Мэн-цзы своего времени»6. Но воспевать
Мэн-цзы в его время — означало восхвалять то, что было в
«древности», и отвергать то, что было во времена «Вэй и Лючао»,
т. е. в китайские «средние века». Как мы знаем, в эти века книга
Мэн-цзы далеко не была популярна.. Не был на первом плане
даже «Луньюй» — та книга, в которой были запечатлены слова
самого Конфуция. На первом плане стояли другие источники,
главным образом «И-цзин», «Ши-цзин», «Шу-цзин», «Чуньцю»
и «Лицзи» — все, кроме «Чуньцю»,— «Летописи» (царства Лу),
восходящие к доконфуцианскому времени. В ту же эпоху, в ко¬
торую жил Хань Юй, внимание было направлено не на развитие
содержащихся в них положений, а на установление «правиль¬
ного» в них, «правильного» и со стороны установления подлин¬
ности текста, и со стороны его понимания. Еще в первую поло¬
вину VII в. Янь Ши-гу издал отредактированный им текст ука¬
занных пяти древних сочинений, а Кун Ин-да отобрал из всех
существующих комментариев к ним те, которые счел лучшими;
и сделано это было не только при одобрении, но по прямому
требованию правительственной власти, нуждавшейся в идеологи¬
ческом подкреплении установившегося режима. Текст «Пятикни¬
жия» в редакции Янь Ши-гу был объявлен динбэнь, «утвержден¬
ным», толкование же его в составленном Кун Ин-да виде — чжэ-
нъи, «правильным». И это «Пятикнижие» — как текст, так и его
освещение — стало в просвещении того времени зшшпа зишта-
гит всей учености. Не вызывает ли этот факт в памяти появление
в истории философско-религиозной мысли средневекового като¬
лицизма «Зшпта Шео1од1ае» Фомы Аквинского? И не поможет
ли сопоставление этих двух совершенно изолированных друг от
друга фактов лучше понять, что, собственно, тогда произошло в
конфуцианской философии в Китае, в католической философии
в Италии? Не следует ли нам видеть в этих фактах вполне есте¬
ственное и закономерное для любого обладающего жизненной
силой учения сложение его в целостную и всеобъемлющую си¬
стему, т. е. достижение им высшей точки своего развития? И не
произошло ли вместе с тем также обычно наблюдаемое одновре¬
менно с этим введение этой системы в строго определенные тол¬
ковательные рамки с недопущением никаких выходов за их пре¬
делы, т. е. не произошло ли превращение этой системы в догму?
Поэтому не лежала ли в основе отрицательного отношения к
«средним векам» возрожденцев и в Китае и в Италии, во всяком
случае на идеологической почве, именно неприемлемость для их
сознания установившегося к их времени идеологического догма¬
216
тизма? Китайский «случай» дает, как мне представляется, вполне
ясную картину именно этого. Хань Юй, сам бывший профессо¬
ром правительственного университета, следовательно, обязанный
«по долгу службы» преподавать науку, под которой тогда разу¬
мелся весь комплекс общественных наук в их теоретических ос¬
новах, по «классикам», т. е. по книгам «Пятикнижия» в их офи¬
циально утвержденном тексте и толковании, стал заниматься
совершенно самостоятельными исследованиями. Он писал не ка¬
кие-либо новые варианты комментариев к «классикам», а трак¬
таты по проблемам, считавшимся им наиболее важными. Глав¬
ных трактатов у него три: «О человеке», «О пути», «О природе
человека». И это была свободная, поистине творческая разра¬
ботка тем, пусть присутствующих в трудах «классиков», но либо
остававшихся у них неразвитыми вообще, либо же представлен¬
ных не в том аспекте, какой считался Хань Юем наиболее суще¬
ственным.
Философы сунской школы, действовавшие в XI—XII вв., т. е. в
значительно более позднее время, когда ренессанское движение
вступило в новую фазу, были одушевлены тем же, что и Хань Юй.
Они тоже отрицательно относились к буддизму и даосизму, разу¬
меется, к философским концепциям этих учений; как культы буд¬
дизм и даосизм их не интересовали, философам конфуцианского
толка явления религиозного культа всегда были глубоко чужды.
Достаточно вспомнить, с каким негодованием обрушился Хань
Юй в своем знаменитом памфлете «О кости Будды» на дворцо¬
вые сферы за то, что они с великой пышностью поместили во
дворец доставленный из далекой Индии кусочек кости якобы са¬
мого Будды, т. е. «частицу мощей». «Ведь это же всего только
кусочек гниющей кости!» — воскликнул Хань Юй. Поэтому ки¬
тайские возрожденцы вели борьбу с тем в буддизме и даосизме,
что они считали действительно серьезным: с их философскими
концепциями. Достаточно взглянуть на последнюю часть «Цзинь-
сылу» — известного свода важнейшего сочинения сунских фило¬
софов, составленного в XII в. Чжу Си и Люй Бо-гуном, чтобы
увидеть, как и через три века после Хань Юя философы китай¬
ского Возрождения протестовали против тех же концепций нир¬
ваны и недеяния, считая их не только антиобщественными, но и
противоречащими самой природе человека. Но все же главное, с
чем они боролись, было в самом конфуцианстве — той системе
философской мысли, к которой они принадлежали: они боролись
с тем, что называлось в истории конфуцианства сюньгу. Этим
словом обозначали ту работу, которая велась над классиками
в течение всей поздней древности, раннего средневековья и даже
в первое время Возрождения. О сюньгу как о вполне реальном
факте упоминает в одном из своих сочинений Чэн И — человек
XI в.
Что же такое это сюньгу? Комментирование и только ком¬
ментирование: сюнь — толкование фраз, выражений, гу — толко¬
217
вание слов. А как умели это делать, видно хотя бы из слов Нака¬
мура Тэкисай (1629—1702), одного из японских последователей
сунской школы: в предисловии к своему изданию упомянутого
выше свода «Цзиньсылу» он написал следующее:
«Считается, что в идейном мире конфуцианства с наступле¬
нием периода Сун началась новая эра. Это основано на том, что
Чжоу Лянь-си (т. е. Чжоу Дунь-и.— Н.К), Чэн Мин-дао, Чэн
И-чуань, Чжан Хэй-цюй (т. е. Чжан Цзай.— Н. К.) провозгла¬
сили учение о Природе и Законе, а Чжу Вэнь-гун (т. е. Чжу Си.—
Н. К.), следуя за ними, собрал и завершил его. Ибо ученые Хань-
ского и Танского времени самым важным считали дать как мож¬
но больше толкований (сюньгу.— Н. К.). Доходило до того, что
на толкование четырех знаков, стоящих в начале „Яо дянь“, в
„Шан-шу“, потратили более 30 тыс. слов и все-таки до смысла
этих четырех знаков не добрались»7. Так создалась сюнь-
гусюэ — «наука толкования», как мне кажется, то же, что в сред¬
ние века в Европе называли экзегетикой. Сунские философы про¬
тестовали против экзегетического и герменевтического метода в
изучении классиков и противопоставили ему науку о «Природе и
Законе», т. е. изучение не буквы, а духа, не текстов как таковых,
а проблем, в них изложенных. Упомянутый Чэн И (Чэн Мин-
дао) эту мысль высказал в таких словах: «В древности наука
была одна; в настоящее время наук — три... Чуждые учения (т. е.
буддизм и даосизм.— Н. К.), я не считаю. Одна — наука о тек¬
сте, другая — наука о толковании (сюньгусюэ), третья — наука
ученых. Кто хочет пойти к Пути (т. е. к истинному знанию.—
Н. К.), тот обойтись без этой науки не может»8.
С чем можно все это сопоставить в итальянском Возрожде¬
нии? Как мы знаем, ничего похожего на то отношение к религии,
какое наблюдалось у деятелей Возрождения в Китае, у итальян¬
ских возрожденцев не было. Максимальное, что можно у них
найти,— это индифферентизм к вопросам религии, принимавший
нередко форму не простого равнодушия к ним, но и неверия, со¬
единяемого даже с прямой насмешкой. Только у очень немногих
деятелей Возрождения на место религиозности становится пага¬
низм: вспомним крайнее увлечение Платоном у некоторых гума¬
нистов второй половины XV в. Но при всем этом расхождении
одна черта, характерная для многих итальянских возрожденцев,
напоминает возрожденцев Китая: та черта, которую некоторые
исследователи европейского Возрождения называют секуляри¬
зацией теоретической мысли, т. е. изъятием ее из орбиты рели¬
гии9. Такая секуляризация означала по существу разрыв с бого¬
словием, т. е. догмой, была, следовательно, одной из форм борьбы
с догматизмом. В этом существенном признаке возрожденцы Ки¬
тая и Италии сходятся, а это означает, что борьба за освобожде¬
ние человеческого интеллекта от оков догматизма — религиоз¬
ного в Италии, философского в Китае — составляет главную в
области идеологической черту Возрождения.
218
Наряду с этим сходством необходимо отметить и одно рас¬
хождение в этих двух исторических случаях: Возрождение в Ки¬
тае создало свою большую и оригинальную философию; Возрож¬
дение в Италии оригинальной философской системы не создало.
Вначале у Петрарки и у ранних гуманистов вообще дело своди¬
лось к утрате интереса к метафизической стороне философских
построений и к стремлению свести всю философию к морали;
позднее со второй половины XV в., в связи с особым вниманием
к учениям Платона и Аристотеля, появляются оргинальные мы¬
слители, но целостной системы, как это получилось в китайском
Возрождении, они создать не смогли.
Однако, несмотря на такое расхождение, сопоставление фи¬
лософской мысли у возрожденцев Китая и Италии провести можно
и притом в самом существенном — в методе.
Многими исследователями итальянского и вообще западно¬
европейского Возрождения отмечается наличие в теоретико-по¬
знавательных воззрениях гуманистов элементов рационализма 10.
Обычно даже считается, что начало «эпохи разума» было поло¬
жено именно гуманистами Возрождения: они перевели человече¬
ское мышление на рельсы рационализма. Мне кажется бесспор¬
ным, что то же произошло и в теоретической мысли Китая эпохи
Возрождения. Основной категорией сунских философов был «за¬
кон» (ли) —понятие чисто логическое; познание сводилось к уяс¬
нению именно этого «закона», присущего «всем вещам», т. е. всем
предметам и явлениям действительности, а ступени и резуль¬
таты этого познания воспринимались в чисто интеллектуальном
плане, обозначались рационалистическими категориями. И в
этом,— а не в том, создана ли целостная система или нет, со¬
стоит, как мне кажется, самое существенное в том перевороте,
который произошел в умах в ту знаменательную эпоху, которую
на Востоке и на Западе назвали «Возрождением». Переход мыш¬
ления на путь рационализма и создал ту основную почву, на
которой выросло все, что обычно считается признаками Возрож¬
дения: протест против догматизма как принципа мировоззрения;
против экзегетики и герменевтики как метода познания; против
схоластики как формы познания. Но тут же следует отметить,
что рационализм, перестроивший всю систему мышления, в Ев¬
ропе показал всю свою силу позднее — в век Просвещения; в
Китае это случилось еще в рамках Возрождения — в сунской фи¬
лософской школе, но в дальнейшем рационализм этой школы не
получил такого развития, какое наблюдалось в Европе — в фи¬
лософии Декарта и прочих великих европейских рационалистов
XVII—XVIII вв. Общественные условия в Китае этих веков вы¬
звали некоторое развитие рационализма на рельсах «критической
школы» (каошэнсюэ)—этого китайского варианта философии
Просвещения, но не могли обеспечить такое бурное развитие тео¬
ретической мысли, какое произошло в Европе в эти предбуржу-
азные века.
219
4
| Чуть ли не самой важной чертой, характеризующей итальян-
^ ское Возрождение, считают выдвижение им на первый план чело¬
века. Человек стал в центре всего — как высшая категория с
высшими правами, как высшая ценность; все остальное — обще¬
ство, история, мир — ценно и важно постольку, поскольку все
это касается человека. Считается, что такое представление было
реакцией на то, что было характерно, для настроений средневе¬
ковья: на отношение к человеческой природе и внешнему миру
как к источнику соблазна, причине гибели; на отношение к ра¬
зуму как к опасному началу, приводящему людей лишь к умст¬
венной гордыне, т. е. к смертному греху. Таким же источником
соблазна считали и внешний мир в его связи с человеком. От¬
сюда следовал вывод: от мира следует бежать, г. с потребностями
человеческой природы — бороться.
Такая весьма распространенная интерпретация итальянского
Возрождения, как мне кажется, частично верна, частично не¬
верна. Она верна в основном: в том, что к человеку в эпоху Воз¬
рождения стали относиться иначе, чем в средние века: он дейст¬
вительно вышел на первый план. Она неверна в том, что всю
суть такого выдвижения человека видели только в предоставле¬
нии свободного развития всех свойств его природы, особенно
чувственных, как будто все зло было в монашеском «подавлении
плоти». Дело было, как мне представляется, в гораздо более
важном.
Факт выдвижения человека на первый план в эпоху Возрож¬
дения в Италии сомнению не подлежит. Но самое существенное в
этом выдвижении никак не признание за ним права удовлетво¬
рять свои потребности, да еще именно «плотские». Если бы все
сводилось к этому, незачем было бы особенно и восторгаться
. Возрождением, как это обычно ведется. Самым существенным в
выдвижении человека было то, что Мишле и Буркгардт назвали
«открытием человека»; первый — в своей формуле: «открытие
мира и человека»; второй — в своей: «открытие человека и при¬
роды».
В чем, собственно говоря, проявилось «открытие человека»?
Прежде всего в понимании, что он может мыслить сам — как
подсказывает его Разум. Именно это и заложено в том, что на¬
зывают «секуляризацией» теоретической мысли, происшедшей в
эпоху Возрождения. У историков Запада это понимается как ос¬
вобождение человеческого сознания из-под формулы религиоз¬
ной догмы, как переход от религиозного мышления к светскому.
Характеристику «секуляризации» применяют и к морали, пони¬
мая под этим освобождение понятий морали от связи с понятием
религии.
220
Если выдвижение на первый план человеческой личности
принимать как характернейший признак именно эпохи Возрож¬
дения,— а это вполне соответствует действительности,— самым
настоящим «Возрождением» представляется нам и то, что про¬
изошло в общественном сознании китайского общества VIII—
XV вв. Выше были упомянуты три трактата Хань Юя: «О чело¬
веке», «О пути», «О природе человека». Одни названия их гово¬
рят, что главной темой философских размышлений Хань Юя был
человек. В первом трактате утверждается, что человек — госпо¬
дин всего живущего на земле; во втором объясняется, почему он
занимает такое место в мире: потому что он обладает своим, «че¬
ловеческим путем», «путь» же этот заключается в «любви ко
всему», в третьем утверждается, что природа человеческая —
добро ". Хань Юй был первым глашатаем идей Возрождения в
философской области, и эти его положения были приняты и в
дальнейшем получили всестороннее развитие. Чжоу Дунь-и
(1017—1073) сказал, что человек — среди всего существую¬
щего— «максимально одухотворен». Чэн Мин-дао (1031—1085)
сказал другое: «В мире максимально одухотворен не только Че¬
ловек. Моя душа — та же, что и душа трав, деревьев, птиц, жи¬
вотных. Только человек рождается, приняв срединное Неба —
Земли» 12.
Тут нет возможности подробно разъяснять это положение:
необходимо только пояснить, что «срединное» на языке сунских
философов — то, что не склоняется ни в одну какую-либо сто¬
рону, не однобокое, одностороннее, а всестороннее, т. е. полно¬
ценное. Эта мысль о полноценности человеческой природы и со¬
ставляет основу выдвижения человека на первый план бытия.
И делается это не с противопоставлением человека всему ос¬
тальному, а в соединении со всем этим. Чжан Цзай (1019—1077)
утверждал, что в человеке заложена «общебытийная природа», а
эта природа едина у людей и «вещей». В весьма образных словах
он выразил эту мысль в самом начале своего знаменитого трак¬
тата «Западная надпись»: «Небо — мой отец, Земля — моя мать,
все люди — мои братья, все вещи — мои товарищи». Поэтому,
если прилагать к китайскому Возрождению формулу Буркгардта
«открытие человека и природы», то ее следовало бы понять, как
«открытие человека в природе» и одновременно как «открытие
природы в человеке».
Как известно, Колюччо Салютати (1331—1406) и Леонардо
Бруни (1369—1444), оба — последователи Петрарки, пустили в
ход слово ЬитапИаз, которое они нашли в древности — у Цице¬
рона: они сочли, что это слово лучше всего определяет, в чем
именно отличие их времени от средних веков. Понимали же они
ЬитапКаз как то свойство человека, которое определяет его че¬
ловеческое достоинство и влечет к знанию. Такое же слово —
в китайской языковой формуле оно звучит жэнь — пустил в ход
Хань Юй и именно для того, чтобы им обозначить отличие
221
«Пути» его времени от «Путй» До Него. Слово же это он наШел
также в древности — у Конфуция. Какой смысл имеет китайское
жэнь у самого Конфуция, предельно ясно: на вопрос, «что такое
жэнь», он ответил: «любовь к человеку». Хань Юй сказал иначе:
«любовь ко всем».
Несомненно, у Хань Юя это жэнь выступает как категория
общественной морали, а это значит — как основа всего челове¬
ческого общежития. Однако у более поздних возрожденцев —
философов сунской школы жэнь = ЬитапНаз получило ‘ другое
значение. Как было упомянуто выше, философы этой школы вы¬
двинули понятие «закона» (ли) — «естественного закона»
(тяньли) бытия, действующего во всех «вещах» (ваньу), т. е.
предметах природы. Чэн Мин-дао, первый, выдвинувший эту ка¬
тегорию, считал, что природа человека как существа полноцен¬
ного позволяет понять содержание этого «естественного закона».
Поскольку главным свойством природы человека он считал имен¬
но жэнь = ЬитапИаз, постольку, следовательно, эта ЬишапИаз и
является общим законом сущего, законом, действующим во «всех
вещах». Чэн Мин-дао выразился определенно: «жэнь единосущна
с вещью».
Но что же все-таки эта «человечность» конкретно? Свое по¬
нимание Чэн Мин-дао выразил в такой цепи рассуждений: «че¬
ловечность в человеке стоит в ряду с другими его свойствами»;
они — следующие:.органически присущее человеку чувство «дол¬
жного», т. е. стремление всегда делать то, что следует, чувство
«законности», понимание необходимости всегда оставаться в
рамках каких-то норм, т. е. своего рода внутренняя дисциплини¬
рованность; стремление к знанию и способность его иметь; нако-.
нец, правдивость. «Человечность» (жэнь = ЬишапИаз) стоит в
ряду этих свойств, но, как полагает Чэн Мин-дао, она охватывает
их все.
Это уже совсем не то представление о жэнь, какое было в
древности, когда жэнь воспринималась только как заповедь
любви к людям, т. е. как чисто этическое требование. Теперь оно
было возведено в степень основного закона всего бытия, т. е. при¬
обрело онтологический смысл, в аспекте же этическом оно стало
требованием относиться с любовью, т. е. истинно по-человечески,
не только к людям, но и к «травам, деревьям, птицам, живот¬
ным» — ко всему живому в природе. Не следует ли поэтому ука¬
занную формулу Хань Юя передать по-русски не «любовь ко
всем», а «любовь ко всему»?
Если гуманизм даже в интерпретации итальянского Возрож¬
дения считается самым ярким признаком Возрождения, то не
должен ли гуманизм, как его понимали китайские мыслители
рассматриваемой эпохи, быть свидетельством того, что их эпоха
имеет также все права называться «Возрождением» в том же
большом историческом смысле?
222
5
Исследователи эпохи Возрождения в Италии при перечисле¬
нии (явлений культурной жизни, в которых особенно ярко выра¬
зился дух Возрождения, всегда упоминают о поэзии. Ее нередко
даже ставят на первое место. Обоснование такого взгляда видят
в том особом положении, которое занимала поэзия в умах, серд¬
цах и деятельности гуманистов: все они не только высоко ставили
поэзию, но и себя самих называли поэтами; а многие из них та¬
ковыми и действительно были. В Петрарке потомки увидели не
только первого великого поэта Возрождения, но и зачинателя
того нового направления умов, которое определило всю эпоху.
Это же новое направление ярче всего сказалось в лирике, кото¬
рая таким образом и стала как бы самым характерным жанром
поэзии Возрождения вообще. Мне кажется, что совершенно ана¬
логичная картина наблюдается в этой области в Китае.
Началом эпохи Возрождения, как было отмечено выше, я
предлагаю считать время Хань Юя (768—824), т. е. VIII в. В этом
же веке жили: Ван Вэй (699—759), Ли Бо (701—762), Ду Фу
(712—770); частично тому же веку принадлежит и Бо Цзюй-и
(772—846). Достаточно только представить себе творчество этих
поэтов, чтобы сразу же почувствовалось, что действительно с
ними пришла новая эпоха. И не только в поэзии: если бы не при¬
шла новая эпоха в целом, поэзия не могла стать такой, какою
она предстает перед нами в стихах этих подлинно великих поэтов
старого Китая. А за ними идет ряд выдающихся поэтов, таких,
как Оуян Сю, Вань Ань-ши, Су Ши, Лу Ю, из них прежде всего
Су Ши (Су Дун-по, 1036—1101), также вполне заслуживающих
наименования великого. Добавим к этому, что чуть ли не все те,
кто действовал преимущественно на других поприщах — фило¬
софии, науки, искусства,— также писали стихи, и многие из них
вполне заслуживают наименования поэта, а некоторые были
поэтами даже крупными. Таков был, например, Хань Юй. Та¬
кими поэтами были и прославленные новеллисты: Юань Чжэнь,
Бо Синь-цзянь и др. Аналогия с итальянским Возрождением в
этой области действительно полная.
Исключительный расцвет поэзии в Китае VIII—XIII вв. хо¬
рошо известен и не требует каких-либо дополнительных разъяс¬
нений. Требуется другое: определить то качественно новое, что
внесла эта поэзия в общую историю китайской поэзии, и почему
это новое принадлежит именно Возрождению.
Обратимся сначала к тому же вопросу, к которому обраща¬
лись при изложении философской мысли рассматриваемой эпохи:
осознавалась ли поэзия этого времени как нечто новое, отлич¬
ное от предыдущего? Ответить, однако, на этот вопрос можно,
лишь несколько расширив рамки рассматриваемого: обратиться
не к одной стихотворной поэзии, а к поэзии вообще, т. е. и выра¬
женной языком прозы, иначе говоря, к художественной литера¬
223
туре в том понимании этого явления, которое было тогда в обра¬
зованных кругах китайского общества распространено.
В 530 г., т. е. за два столетия до Ли Бо и Хань Юя, появилась
под названием «Вэньсюань» («Избранное в литературе») об¬
ширная антология. Ее составители — «Десять ученых Высокого
Кабинета» («Гаочжай ши сюэши»)—содружество литераторов,
собиравшихся в «Башне Вэньсюань» («Вэньсюань лоу») во
«Дворце Радости и Мудрости» («Лэсянь дянь»). Патроном этого
содружества был Сяо-тун, принц Лянского королевского дома,
занимавшего тогда престол южнокитайского государства — по¬
следней оставшейся независимой части Китая, вся северная по¬
ловина которого еще в 316 г. была захвачена «варварами»-сянь-
бийцами. В эту антологию были взяты произведения — стихи и
проза — литературы со II в. до н. э. по VI в. н. э., т. е. поздней
поры китайской древности и средневековья. Из произведений
классической поры этой древности были взяты только стихи Цюй
Юаня (340—278 гг. до н. э.), т. е. поэта уже самого конца этой
поры древности. Таким образом, литература классической древ¬
ности в эту антологию не вошла.
Разумеется, такой отбор был связан с определенным пони¬
манием литературы; и понимание это изложено в предисловии к
«Вэньсюань», написанном самим Сяо-туном. В нем он как бы
отвечает на вопрос: почему он ничего не взял от таких мудрецов
древности, как Чжоу-гун, которого так прославлял Конфуций,
как сам Конфуций. «Я не брал,— пишет Тяо-тун,— произведений
Чжоу-гуна и Кун’а, нашего отца. Они среди нас, как солнце и
луна в небесах, и сверхъестественно глубоки, словно хотят спо¬
рить с божественными силами... не выбрал я ничего из летописей
и хроник, ибо они не подходят к моей задаче по доктринерству
своих суждений о правом и неправом, по вечному стремлению
восхвалять одних и унижать других. Но то, что составлено ис¬
ключительно из изящных фраз, а затем особые повествования,
написанные художественным слогом, я поместил в «Вэньсюань»
.как глубоко продуманные по содержанию и стремящиеся к сло¬
весной утонченности»13.
В этих словах Сяо-туна нетрудно усмотреть, что к его вре¬
мени в китайском средневековье произошла серьезная пере¬
стройка всей концепции того, что обозначалось словом «лите¬
ратура» (вэнь): литературным произведение становилось
только тогда, когда оно оказывалось художественным; художест¬
венное же усматривалось в форме языковой и специфически ли¬
тературной. Таким образом, «глубина мысли», т. е. высокая зна¬
чительность содержания произведения, сама по србе еще не де¬
лала его в глазах литераторов «Высокого кабинета» произведе¬
нием литературы.
Несомненно, что подобное представление о литературе было
тогда распространенным, во всяком случае в сферах, близких к
феодальной знати, и может считаться характерным для курту¬
224
азной поэзии китайского средневековья в канун эпохи Возрожде¬
ния.
Но этим кануном дело, однако, не ограничилось: антология
«Вэньсюань», как собрание лучших образцов литературы, позд¬
нее, с образованием Таиской империи, стала основным материа¬
лом преподавания при подготовке будущих деятелей граждан¬
ской части управления государством; на правительственном эк¬
замене требовалось сочинение, написанное по образцу тех, что
вошли в антологию. Таким образом, в сфере литературы произо¬
шло то же, что произошло и в философии: канонизация опреде¬
ленного состава литературы, определенного понимания ее суще¬
ства и ее приемов.
То, что наблюдалось в китайской поэзии в канун Возрожде¬
ния, невольно заставляет вспомнить, что происходило в канун
Возрождения в литературе Италии, в ее литературном центре —
Флоренции, где также существовало содружество литераторов,
имевших свои весьма определенные взгляды на поэзию: группа
поэтов «сладостного нового стиля». Их школа поэтического ис¬
кусства также главным в поэзии считала изощренность мысли,
утонченность чувств, эмоций, гибкость и гармоничность стиха.
Конечно, официальной канонизации принципов этой поэтической
школы в Италии не произошло, но приемы «сладостного нового
стиля» и без всякой официальной канонизации стали эталоном
поэтического искусства. В конце XIII в., т. е. также в канун
Возрождения, в Италии появились «новеллино» — сборники ба¬
сен, бытовых анекдотов, маленьких новелл, пересказывавших
различные сюжеты — античные, средневековые, библейские, вос¬
точные, причем составители чуть ли не в тех же словах, как и
Сяо-тун, заявляли, что они «заносят сюда цветы изящной речи,
отменных учтивостей, остроумных ответов».
Тот же Хань Юй, который первый начал борьбу с канониза¬
цией определенных формул философской мысли, повел борьбу
и с канонизированными представлениями о литературе. Естест¬
венно, что его протест выразился прежде всего в провозглаше¬
нии других принципов литературного творчества. Составители
«Вэньсюань» считали содержание, конечно, важным, но не опре¬
деляющим литературное качество произведения. Хань Юй гово¬
рил иначе: «То, что именуется „литературой", находится в нас
самих. Поэтому-то цзюньцзы (просвещенный человек.— Н. К.)
так внимателен к содержанию своего произведения». Литера¬
торы «Высокого кабинета», видимо, допускали, что искусная ху¬
дожественная форма может даже скрыть незначительность со¬
держания. Хань Юй думал иначе: «Красота или безобразие со¬
держания, раз это уже выявлено, ничем скрыто быть не может».
Можно сказать даже, что залог действительно высокого литера¬
турного качества произведения он видел именно в значительности
замысла: «Когда ствол глубоко уходит в землю, то и ветки гу¬
стые», «когда музыкальный инструмент большой, то и звук его
1В Н. И. Конрад
225
громкий». Можно сказать даже больше: поскольку идейное каче¬
ство замысла определяется личностью человека, постольку зало¬
гом литературной значительности произведения являются в ко¬
нечном счете именно человеческие качества писателя: «Когда
сердце у человека чистое, то и дух его гармоничен». «Когда по¬
ступки человека достойные, то и слова его сильны». «Тело... если
в нём чего-либо не хватает, превратиться в человека не может.
Слово... если в нем чего-либо не хватает, стать литературным
произведением не может» ,4. «Дух — вода, слово — плавучий
предмет. Когда воды много, то все, что может плавать,— боль¬
шое и малое,— все всплывает. Таково отношение духа и сло¬
ва» 15. Из этих и многих других подобных высказываний Хань
Юя видно, что в его глазах литературную полноценность произ¬
ведения определяет человеческая полноценность его автора. Мо¬
жно ли представить себе что-либо более противоположное тому,
что думали о литературном творчестве литераторы кануна Воз¬
рождения?
Но Хань Юя нельзя было бы назвать возрождением, если бы
он не призывал писателей своего времени учиться у писателей все
той же древности. Он считал, что и он сам учился у них. «Я по¬
гружаюсь в крепкое вино (древней литературы.— Н. К.), пропи¬
тываюсь им. Я поглощаю ее созревшие бутоны, вкушаю ее рас¬
пустившиеся цветы; и так я создаю свои сочинения»,— пишет он
в своем трактате «О пути». И там же указывает конкретно, у
кого он учился. «Наверху», т. е. в более раннее время, образцами
для него были «Шу-цзин», «И-цзин», «Ши-цзин», «Чуньцю»,
«Цзочжуань». Это не только более ранняя линия древней лите¬
ратуры, но и ставшая классической для конфуцианцев. «Внизу»,
т. е. в более позднее время той же древности, учителями его были
Чжуан-цзы (IV в. до н. э.), Сыма Цянь (II—I вв. до н. э.), Ян
Сюн (I в. до н. э.). Это не только более поздняя линия древней
литературы, но и та линия, которая в дальнейшем не вошла в
рамки конфуцианства. Такая позиция высоко характеризует са¬
мого Хань Юя, при всем своем преклонении перед Конфуцием,
признававшего и такого классика даосизма, как Чжуан-цзы, и
такого очень своеобразного поэта, как Цюй Юань16.
Хань Юй не только перечислил тех, у кого писатели его вре¬
мени должны учиться, но и определил, чему они должны у тех
учиться: «Если мысль доведена до конца—это и все»,— повто¬
рил он слова Конфуция.
И все же не это, как мне кажется, составляет то действи¬
тельно новое, что внес Хань Юй в литературу своего времени.
Самое существенное — это положение о «свободе и самостоя¬
тельности» (цзыю цзыцзай) писателя как творческой личности.
И тут Хань Юй оказался полностью созвучен своей эпохе.
В годы жизни Хань Юя уже была оценена по достоинству
поэзия Ли Бо, поэта, принадлежавшего к предшествующему по¬
колению писателей; творчество же именно Ли Бо как раз и яв-
226
Ляёт ■Гот дух свободы и кезавйсймости, о котором говорил Хань
Юй. Если Петрарку называют первым поэтом итальянского Воз¬
рождения, то Ли Бо с таким же правом можно назвать первым
поэтом китайского Возрождения. И так же, как и Петрарку, не
только первым по времени, но и первым по духу.
О творчестве Ли Бо у нас писали многие, так что говорить
здесь о нем необходимости нет. Да лучше всего об этом творче¬
стве говорят его стихи, также известные нашему читателю в мно¬
гочисленных переводах. Свободолюбие и чувство независимости,
присущие этому поэту, также отмечаются всеми, писавшими о
нем. Мне хотелось бы только указать на то, что путь Ли Бо был
совсем иной, чем тот, на который указывал Хань Юй. Общим для
них обоих было сознание необходимости обретения полной сво'
боды и независимости — духовной, творческой, но пути, на кото¬
рых эта духовная свобода приобреталась, были у них различны.
Думаю, что ключ к внутреннему миру Ли Бо, к глубинной ос¬
нове его творчества дает трактат о существе поэзии, который
создал Сыкун. Ту (837—908), поэт и теоретик поэзии, живший в
то время, когда Ли Бо уже не было, но поэзия его властвовала
над умами.
В. М. Алексеев, переведший и прокомментировавший этот
трактат, вполне правильно и, как мне кажется, исчерпывающе
разъяснил существо концепции его автора. В. М. Алексеев счи¬
тает, что для Сыкун Ту поэтическое творчество — наитие, т. е.
вдохновение, рождаемое общением с «Дао», «Путем» в даосском
понимании этой категории — сокровенным, истинным бытием17.
Перед нами, следовательно, концепция, прямо противополож¬
ная рационалистической, поскольку человек осознает свой внут¬
ренний опыт не в категориях разума, а в категориях сверхчувст¬
венного постижения, т. е. мистики. Разумеется, поэзия Ли Бо —
явление весьма сложное и многостороннее18; в ней можно найти
и явные элементы рационалистического мышления, но все же
озарение, как результат непосредственного общения с бытием,
играет в его творчестве огромную роль; самое же главное в том,
что на этом пути Ли Бо обрел ту свободу духа, то чувство неза¬
висимости, которые Хань Юй искал на путях рационалистиче¬
ской мысли.
Таким образом, и китайский материал удостоверяет то, что
исследователи находят в итальянском Возрождении: не только
рационализм, но и мистицизм. И тот и другой лишь различные
пути к одному и тому же: к освобождению человеческого созна¬
ния от власти догм, к выходу в сферу полной духовной, а это зна¬
чит и творческой, свободы; а именно это и было необходимо для
движения вперед человеческой мысли, общественной жизни,
культуры, науки.
Только не следует понимать мистику единственно в аспекте
религиозного сознания. Может быть, такой она была в некото¬
рых направлениях итальянского Возрождения, но не такой она
227
была в китайском Возрождении: это была мистика философская,
никакого отношения к религии не имевшая.
Необходимо также напомнить еще раз, что для дальнейшего
прогресса общественной мысли и всей общественной жизни наи¬
более плодотворным оказался путь рационализма.
6
Мне кажется, что для понимания существа того переворота
в общественном сознании, который. произошел в эпоху Возро¬
ждения, в первую очередь важно то, что проявилось в философии
и поэзии 19. Все остальное, как бы оно ни было значительно, ук¬
ладывается в те же рамки, в том числе и то, что имело место в
литературе в целом.
Расцвет литературы считается одним из самых выразитель¬
ных симптомов Возрождения в Италии и других странах Европы,
затронутых ренессансными веяниями. Хорошо известно также,
что и в Китае в века его Возрождения наблюдался огромный
подъем литературы. И тут мы сталкиваемся с очень своеобраз¬
ным явлением, весьма характерным для эпохи Возрождения и в
Европе, но в Китае получившим особо яркое выражение: с мощ¬
ным выступлением на литературной арене и притом именно в
художественном качестве литературы, которую по ее характеру
мы назвали бы публицистической, философской, научной, по ее
форме — очерком, этюдом, статьей, трактатом, письмом. Этот
комплекс художественной литературы получил в Китае даже
особое наименование — гувэнь.
Гувэнь буквально «древняя литература», но поскольку в нее
входили произведения Хань Юя, Лю Цзун-юаня и прочих воз-
рожденцев VIII—XII вв., и прежде всего именно их, постольку
это не была литература древности. Это была литература «древ¬
няя» не по времени, а по духу. Это была та литература, которая
возникла в русле движения фугу, «возвращения к древности»,
которое и создало своеобразие этой исторической эпохи. Поэтому
вполне точно по его смыслу наименование гувэнь можно пони¬
мать как «литература Возрождения».
Что именно так и было, видно хотя бы из следующего. До
нас дошел сборник литературных произведений, названных его
составителями «Гувэнь чжэньбао» («Подлинные драгоценности
древней литературы»). Наиболее ранние из известных нам изда¬
ний относятся к 1366 г., но появился этот сборник, как полагают
исследователи, скорее всего еще в конце XIII в., т. е. тогда, когда
обстановка уже позволяла подвести некоторые итоги того, чего
достигло движение за «возвращение к древности» в области ли¬
тературы.
В этом сборнике представлены прежде всего писатели VIII—
XII вв., т. е. тех веков, которые ознаменованы развитием этого
228
движения; эти писатели представлены большим числом своих Про¬
изведений. Представлены и писатели прошлого — с III в. до н. э.
по VI в. н. э., но только очень немногие и притом крайне ограни¬
ченным числом своих произведений. Так что в сущности это сбор¬
ник произведений писателей Возрождения; произведения же пи¬
сателей древности и средневековья даны как бы для того, чтобы
показать, что возрожденцы, во-первых, ценят, как они говорили,
подлинные шедевры прошлого, во-вторых, что их собственные
произведения действительно восстанавливают блеск этого про¬
шлого, что новая «древняя литература» — достойная преемница
старой, классической.
Сборник состоит из двух томов. Первый целиком отдан поэ¬
зии; второй — прозе, причем именно такой, о которой говорилось
выше. Вот некоторые из ее образцов: «Об истории» — философ¬
ско-исторический трактат Су Сюня; «О праве подданного крити¬
ковать правителя» — статья Хань Юя; «О полевых работах» —
дидактический трактат Су Дун-по; «Против мести» — статья Лю
Цзун-юаня; «Беседка пьяного старца» Оуян Сю — поэтическое
описание павильона, построенного автором в живописном месте
для встречи с друзьями. Тут и «предисловия» к сборникам про¬
изведений кого-либо из друзей, «послания», «биографии», «эпи¬
тафии» и т. д. Проза эта считалась литературой именно в том
смысле, в каком представлял ее себе Хань Юй. Эпоха Возрожде¬
ния в Китае не только ознаменовалась огромным расцветом та¬
кой литературы, но и вознесла ее на уровень подлинной худо¬
жественности. Вполне возможно говорить об особой поэтике
такой литературы, о ее жанрах и видах, о ее приемах, даже
о принадлежности ее к поэзии—-в прозаической форме послед¬
ней.
Однако не меньшее значение для этой эпохи имело и другое
направление литературной прозы — проза повествовательная;
для последующей же истории литературы в Китае она имела
даже большее значение.
Повествовательная проза эпохи Возрождения в Китае пред¬
ставлена жанром новеллы. Новеллой она была и на первом
этапе своей истории — в VIII—IX вв., и на втором — в X—
XIII вв. В истории литературы первую обычно именуют «танской
новеллой», поскольку она относится главным образом ко вре^
мени правления Танской династии, вторую — «сунской новел¬
лой», поскольку она сформировалась главным образом во вре¬
мена Сунской династии. В целом — это одна линия развития ху¬
дожественной повествовательной прозы, но с ясно очерченными
этапами: танская новелла аристократична, сунская — демокра¬
тична. Первая создавалась в кругу просвещенных, высококуль¬
турных литераторов своей эпохи и предназначалась для образо¬
ванного слоя общества своего времени; вторая была более на¬
родной как по своему происхождению, так и по своей обращен¬
ности к более широкому кругу читателей.
229
Ё наличии этих Двух этапов и в истории новеллы проявились
очень существенные черты китайского Возрождения: подняли
это движение представители наиболее образованных, просве¬
щенных кругов общества, его духовная аристократия, но в даль¬
нейшем общие тенденции Возрождения стали проникать и в бо¬
лее широкие круги общества, поскольку во вторую фазу Возро¬
ждения— с XI в.—^явственно обнаруживается подъем именно
демократической культуры20. Именно поэтому история и судьба
новеллы китайского Возрождения чрезвычайно показательны не
только для самой этой эпохи в целом, но и для ее внутреннего
развития. Вместе с тем эта новелла позволяет нам увидеть линии
Возрождения и в других областях, прежде всего в драме. Связь
новеллы, особенно танской, с так называемой «юаньской дра¬
мой», т. е. с первым в истории театра в Китае вполне сформиро¬
вавшимся драматургическим жанром, несомненна. И дело не
только в том, что многие, в том числе самые замечательные дра¬
мы XIII—XIV вв., построены на сюжетах, заимствованных из но¬
велл, что, кстати сказать, столь же характерно для ренессансной
драматургии и в Европе, но еще больше в том, что творческие
принципы, на основе которых была создана новелла, оказались
действительными и для драмы.
Принадлежность новеллы танского и сунского времени имен¬
но эпохе Возрождения видна во всем. Во-первых, это уже не
народная повесть, не те рассказы, которые появились в китай¬
ской литературе в средние века; это не фольклор, пусть и лите¬
ратурно обработанный; это — литература, художественная лите¬
ратура во всей ее специфике.
Об этом свидетельствует и ее язык: это язык литературный в
том значении, в каком понимает эту языковую категорию наше
языкознание21. Из последующей истории китайского языка мы
знаем, как долго именно этот литературный язык, т. е. тот, кото¬
рый выработался в эпоху Возрождения, сохранял свою силу в
литературной практике китайского общества. В сущности он
продержался вплоть до XX в. Только в начале этого века вошел
в силу новый, современный литературный язык. И такая долгая
история литературного языка эпохи Возрождения вполне объяс¬
няется тем, что этот литературный язык был разработан Хань
Юем, Ли Во, Лю Цзун-юанем, Ду Фу, Оуян Сю, Су Дун-по,
Ван Ань-ши и другими столь же замечательными художни¬
ками.
Во-вторых, и это, конечно, самое существенное, принадлеж¬
ность новеллы этих веков именно Возрождению удостоверяется -
их содержанием: в них дан человек — тот самый человек, кото¬
рый находился в центре внимания всех сунских философов, за
которого ратовали Хань Юй и Лю Цзун-юань. Впервые в повест¬
вовательной литературе Китая появляется человек как личность
со своей психологией, со своими эмоциями, своей судьбой. В но¬
веллах можно даже найти отражение столь характерного для
230
всей философии китайского Возрождения различения, в человеке
двух природ: «общебытийной», а это значит доброй, и «вещест¬
венной», а это значит могущей быть и доброй и злой. И столь же
явственно представлено общее гуманистическое умонастроение
эпохи. Новеллы этих веков созданы в том же русле гуманистиче¬
ской идеи, в котором протекала и вся передовая общественная
мысль.
Таким образом, в орбиту литературы китайского Возрожде¬
ния следует с полным основанием включить новеллу и вместе с
нею драму, поскольку в ней — и, может быть, наиболее впечатля¬
юще— представлен индивидуальный человек, человеческая лич¬
ность, человеческий характер и отражена гуманистическая умо-
настроенность передовых слоев китайского общества.
В орбиту китайского Возрождения входит также еще многое
другое. Не имея возможности говорить об этом сколько-нибудь
обстоятельно, ограничусь лишь кратким перечислением тех сфер,
в которых также проявился дух Возрождения. Прежде всего на¬
зову историческую науку: как известно, в эти века обнаружилось
новое, критическое направление в ней22, в русле же этого напра¬
вления была создана и новая концепция философии истории23.
Совершенно необходимо назвать и искусство: тайская портрет¬
ная и сунская пейзажная и жанровая живопись занимает в исто¬
рии искусства Китая, а также Кореи и Японии такое же место,
как искусство Возрождения в истории искусства в Европе. Не
могу также не упомянуть и о том, что пора рассматривать в ас¬
пекте идей Возрождения и то, что в эти века имело место в сфере
буддизма как религии, так и филосрфии. Не следует забывать,
что без буддизма нельзя понять и происхождение многих поло¬
жений сунской философской школы; как бы отрицательно ни
относились сунские философы к буддизму, без знакомства с его
философией они вряд ли сами дошли бы до своих основных по¬
ложений. Но и помимо этой связи с философией сунской школы
буддизм важен и тем, что в эту эпоху в. нем появляются новые
веяния, напоминающие реформацию, т. е. одно из характерных
проявлений идей Возрождения в Европе. Трудно понять вне идей
Возрождения и учение чань (яп. Дзэн), получившее такую силу
не только в Китае, но и в Японии; учение, во многом определив¬
шее возрожденческую эстетику24.
Все это еще ждет своего исследователя, и без обстоятельного
исследования этих явлений нам просто не обойтись, если мы хо¬
тим как-то сдвинуться с устоявшихся и застоявшихся позиций.
Это исследование, я уверен, принесет новый огромной важности
материал для понимания китайской эпохи Возрождения — ее
содержания, ее размаха, ее исторического значения, а через
нее — для понимания многих явлений культурной жизни сосед¬
них стран — Кореи и Японии.
231
7
Из сопоставления материала, предоставленного историку
двумя рассмотренными историческими «случаями» эпохи Воз¬
рождения, случаями, возникшими и сложившимися вполне неза¬
висимо друг от друга, можно, как мне кажется, вывести некото¬
рые общие черты этой эпохи в ее культурно-историческом содер¬
жании.
Основное, что тогда в этой области проявилось, был дух гу¬
манизма. Однако сказать только это — значит еще ничего не
сказать: в исторической жизни человечества гуманистическое на¬
чало всегда — с большей или меньшей силой — управляло умами
и деятельностью людей; иначе они не были бы создателями са¬
мой истории и культуры — истории и культуры человечества. По¬
нятие ЬитапНаз было действительным и для Цицерона, понятие
жэнь — и для Конфуция, т. е. еще задолго до эпохи Возрожде¬
ния, и притом одинаково на противоположных концах цивили¬
зованного мира того времени. Важна поэтому не сама концепция
гуманизма как такового, а ее содержание. Содержание это исто¬
рически было различным. Вспомним гордое заявление, что чело¬
век— образ и подобие божества; вспомним о человеке — облада¬
теле огня, вырванного из рук божества. Не означает ли это со¬
знание, что человек обладает теми же силами, какие им припи¬
сывались божеству, т. е. в представлениях того времени — са¬
мыми могущественными? Такова была, видимо, наиболее древ¬
няя концепция гуманизма, и концепция огромного значения, так
как без такой веры в собственную мощь человеку было бы трудно
творить жизнь и культуру, а о значении этого сознания свиде¬
тельствует то, что концепция эта была оформлена средствами
наибольшей для умов того времени силы — средствами мифо¬
творчества. Вспомним далее, заповеди «любви к ближнему»,
«любви к человеку», «милосердия и сострадания». Они были про¬
возглашены также в древности, только в более поздней, когда
общественная жизнь и культура были уже высоко развиты.
В этих заповедях выразилось сознание равенства и братства
всех людей, т. е. равноценности их в бытийном плане и общности
их в моральном. О значении этой концепции свидетельствует то,
что она утверждалась средствами, для людей того времени наи¬
более императивными — средствами религии. Концепция эта от¬
ражала самую важную для той эпохи идею — идею неправомер¬
ности существовавшего тогда разделения людей на полноцен--
ных — свободных и неполноценных — рабов. А без борьбы с та¬
ким разделением нельзя было двинуть вперед жизнь и культуру,
т. е. самое историю.
Если вспомнить даже это, станет ясным, что концепция гума¬
низма, сложившаяся в эпоху Возрождения, исторически была
уже по меньшей мере третьей. Но содержание у нее было свое;
232
ренессансный гуманизм состоял в уверенности человек в ценно¬
сти своей личности — во всех аспектах последней — общебытий¬
ном и конкретно-жизненном, в ее разуме, в ее чувственной при¬
роде, в ее волевых импульсах. При этом сознание такой ценно¬
сти было сопряжено с представлением, автономности человече¬
ской личности — ее свободы и самостоятельности. Эта, третья,
концепция гуманизма получила свое оформление в категориях
уже не мифа и не религии, а философии. Гуманизм именно в та¬
ком содержании и составляет, как мне кажется, первый признак
эпохи Возрождения в указанном культурно-историческом ее
плане.
Не следует думать, что эта концепция гуманизма устраняла
прежние. Она и не могла бы это сделать: слишком драгоценны
для человеческой жизни и культуры, для самой истории те были.
Но она добавила к ним новое и существенное — необходимое для
того, чтобы идти вперед по пути истории.
Для гуманизма эпохи Возрождения характерно, однако, не
только то, что он утверждал, но и то, что он отрицал. Оба исто¬
рических «случая» эпохи Возрождения — китайский и итальян¬
ский— с чрезвычайной ясностью указывают, что отрицалось все,
что мешало духовной свободе человека, свободе во всех прояв¬
лениях его природы. Главным препятствием для этой свободы
был тогда догматизм, как принцип отношения к истине, и схола¬
стика, как метод познания истины. Отрицательное отношение
конкретно направлялось на то, что тогда в данном обществе
было прибежищем этих двух явлений: в Китае им было конфуци¬
анство, т. е. философия, в Италии — католичество, т. е. религия.
Но объектом отрицания ни в коем случае не была сама филосо¬
фия или сама религия, а только претензии той и другой быть
единственным источником истины, притом именно в выработан¬
ных тогда положениях, претензии, поддержанные при этом вла¬
стью, государственной — в одном случае, церковной — в другом.
Однако так же, как и в основном — в самом появлении в эпо¬
ху Возрождения гуманизма,— и в таком пути его утверждения
совершенно нового для истории не было. Догматизм и схола¬
стика как его неизменная спутница, складывались в истории че¬
ловеческой мысли и раньше; возникала тогда и борьба с ними.
Исторически и логически законно и то и другое. Любое учение
складывается постепенно, и постепенно же вырабатываются по¬
ложения, в которых фиксируется главное, что в этом учении есть;
и вполне естественно, что эти положения на каком-то этапе
принимают законченную, вполне отработанную форму, как
внутреннюю, так и внешнюю — смысловую и языковую. Если
учение имеет какие-то корни в общественном бытии, т. е. истори¬
чески обосновано, такой процесс для него обязателен и служит
даже признаком его жизненности. Поэтому само по себе появле¬
ние догм как строго определенных концепций есть факт не толь¬
ко законный, но и свидетельствующий о достижении данным уче-
233
нйем полноты в своем развитии. С этой стороны зитта зит-
тагит конфуцианства, данная в своде Кун Ин-да, зитта
зиттагит католичества, данная в «Зитта Шео1о§рае» Фомы
Аквинского, представляют вершины того, что было достигнуто
конфуцианской и католической мыслью за все предыдущее вре¬
мя. Но вершины эти исторически были связаны с определенной
эпохой — со средними веками. Поэтому, когда историческая
обстановка стала изменяться, Кун Ин-да и Фома Аквинский мо¬
гли защищать свои принципы только принудительными средст¬
вами: внутренними — объявлением своих догм единственной
истиной, внешними — использованием авторитета и силы власти.
Так догма породила догматизм. Создание догм — явление исто¬
рически законное и прогрессивное; создание догматизма — явле¬
ние исторически закономерное, но реакционное.
Борьба с догматизмом наблюдалась в истории и раньше.
Вспомним хотя бы стремление конфуцианских мыслителей сред¬
них веков выйти из рамок ханьского конфуцианства и дать ему
новое содержание через введение в него элементов, заимствован¬
ных из даосизма и буддизма. Вспомним ереси средневекового
католичества с их стремлением выйти из ставших каноническими
рамок. Дело поэтому не в самом факте борьбы с догматизмом,
а в том, как она велась. И тут эпоха Возрождения также дала
нечто новое: до нее борьба с догматизмом велась при помощи
догм же, т. е. одним догмам противопоставлялись другие; в
эпоху Возрождения, во всяком случае на ее восходящем этапе,
не какие-либо новые, точно сформулированные догмы противо¬
поставлялись существовавшим, а возник протест против духа
догм, т. е. против догматизма как самого принципа мышления.
Догматизму была противопоставлена свобода мысли, схоласти¬
ке — творческое начало. В этом и состояло, как мне кажется, то
новое, что внесла в историю человеческой мысли эпоха Возро¬
ждения.
Эта эпоха в ее восточном и ее западном вариантах показы¬
вает нам пути, на которых достигалась тогда творческая свобода
человеческой мысли. Этих путей, и притом прямо противополо¬
жных, оказалось два: путь рационализма и путь мистики.
И рационализм и мистика в данной исторической обстановке
были двумя различными путями познания. Рационализм призы¬
вал к познанию бытия путем его изучения — через опыт, осмыс¬
ляемый при этом в категориях логического мышления, в катего¬
риях разума, мистики же считали, что такое познание достига¬
ется прямым путем — непосредственным соприкосновением с по¬
знаваемым, осуществляемым не только разумом, но и чувством.
И тот и другой путь наблюдались и в Возрождении в Китае, и в
Возрождении в Италии. Рационалистическое начало у китайских
возрожденцев проявилось главным образом в русле конфуциан¬
ства и отчасти буддизма — в его реформационных направлениях,
мистическое — в русле даосизма и некоторых направлениях буд¬
234
дизма. Нередко оба эти пути приводили к одному и тому же.
Чжан Цзай назвал всех людей, живущих на земле, своими бра¬
тьями и сестрами, а все прочие живые существа — «травы и де¬
ревья, птиц и животных», как тогда говорили,— своими «товари¬
щами», т. е. членами одного содружества; Франциск Ассизкий
обратился к рыбам и птицам как к братьям и сестрам. Оба при¬
шли к тому же, но первый — путем рационализма, второй — ми¬
стики. Как показала последующая история, исторически эффек¬
тивным оказался первый путь: дальнейший процесс — общест¬
венный и культурный — был сопряжен с рационализмом, в его
новом развитии, конечно, рационализмом как принципом позна¬
ния и опытом как его методом. Разумеется, опять-таки до опре¬
деленной поры.
Не следует забывать также, что возрожденческий гуманизм
имел свою судьбу: наступило время, когда он сам стал оплотом
догматизма. Чрезвычайно яркий пример этого дает история воз¬
рожденческой философии в Китае: философия эта, в свое время
построившая одну из самых цельных, законченных и для той
эпохи общественно необходимых, т. е. прогрессивных, систем, с
XVI в. превратилась в систему догм, отстаиваемую уже внеш¬
ними средствами — правительственной властью, не допускавшую
сомнений в своей истинности. В общем такое же положение соз¬
далось и в Европе, где также в XVI в. явно обнаружился кризис
гуманистической мысли в ее ренессансном облике. И на Востоке
и на Западе гуманизм Возрождения сменился гуманизмом Про¬
свещения. Но этот поворот, как и вообще история эпохи Возро¬
ждения,— предмет особого исследования.
В тесной связи с гуманизмом в указанном реальном, истори¬
ческом содержании находится то, что получило наименование
«Возрождения». Это наименование приобрело даже значение
главного обозначения всей эпохи. Не посягая на столь прочно
утвердившееся терминологическое обозначение данной эпохи,
все же отметим с точки зрения существа дела: то, что подразуме¬
вается под этим наименованием — факт для характеристики этой
эпохи вторичный; несомненно неотъемлемый от главного — гу¬
манизма, но все же только сопутствующий ему.
Как было сообщено выше, китайское слово фугу не только
по общему смыслу, но даже прямо лексически показывает, что
речь идет о возрождении древности. В европейских обозначениях
этой эпохи — в словах КшазсКа, Кепа18запсе— понятие «древ¬
ность» лексически не выражено, но оно подразумевается, если и
не в прямом смысле — как возрождение самой древности, то во
всяком случае как возрождение наук и искусств на основе древ¬
ности. Таким образом, гуманисты Возрождения как на Востоке,
так и на Западе в равной мере обратились к древности. За чем?
За вдохновением и помощью. К какой? — К «классической».
Гуманисты Возрождения хотели видеть в жизни и культуре
новое, они чувствовали и понимали, в чем это новое состоит, но
235
нуждались в помощи в разработке своих взглядов и, что не ме¬
нее было важно для них,— в подкреплении своих взглядов чьим-
либо авторитетом. Такой авторитет они нашли в древности.
Однако нужно было при этом всемерно укрепить этот авто¬
ритет в глазах современников. Гуманисты Возрождения сделали
это. Строго говоря, тот ореол, которым в глазах человека Запад¬
ной Европы окружена греко-римская античность, в глазах че¬
ловека Восточной Азии — китайская античность, если и не со¬
здан целиком гуманистами Возрождения, то во всяком случае
укреплен ими. И за этим ореолом скрылось многое в реальной
картине античности. Этот ореол оказался настолько прочным,
что следы возрожденческой идеализации античности сохрани¬
лись до новейшего времени.
Но древность обширна и очень различна в свои разные эпохи.
Поэтому в высокой степени характерно для Возрождения, в ка¬
кой древности гуманисты этой эпохи искали вдохновения и под¬
держки. И в Китае и в Италии такой древностью оказалась ее
классическая пора: для китайцев — эпоха лего, т. е. средний
период китайской древности, &ля итальянцев — последний пе¬
риод Республики и начальный Империи в древности латинской,
период полисов — в древности эллинской, т. е. также средний пе¬
риод древности. Более ранняя древность признавалась, во всяком
случае к ней относились с почтением, но поздняя древность от¬
вергалась, во всяком случае она играла гораздо меньшую роль.
Объяснение этого следует, как мне думается, видеть в том, на
что было выше указано: в зависимости отношения к древности
от отношения к средним векам. Эти два отношения — две сто¬
роны одного и того же исторического мировоззрения. Концепция
Возрождения родилась в процессе борьбы за свободу человече¬
ской мысли, за свободное развитие всех сторон человеческой при¬
роды. Мешали этому догмы в оболочке философии, светской —
в Китае, религиозной — в Италии. Надо было выйти из-под их
власти. Но догмы эти были созданием предшествующей эпохи;
следовательно, она и была виновата во всем. Но когда она на¬
чалась? Надо было найти ее начало, и оно было найдено: она
началась с того момента, как померкла лучезарная пора древ¬
ности.
Следует сказать, что за этой исторической концепцией скры¬
вается известная историческая реальность. Действительно позд¬
няя древность, т. е. последняя фаза истории рабовладельческого
общества как на Востоке, так и Западе, сливается с ранним сред¬
невековьем, т. е. первой фазой истории общества феодального.
Многие явления средневековой культуры, особенно в области ре¬
лигии и философии, получили развитие еще в поздней древности.
Как на один из примеров этого можно указать на историю дао¬
сизма на Востоке, христианства — на Западе. В целостную рели¬
гиозно-философскую систему даосизм сложился в период «Вэй
и Лючао», в эти китайские «средние века», но первое свое разви¬
[236
тие получил еще во время Ханьской империи. В религиозно-фи¬
лософскую систему христианство превратилось в раннее средне¬
вековье, но его источники, как еврейские, так и эллинские, вос¬
ходят к древности; да и многое в христианской догматике также
сложилось еще в позднюю пору этой древности. Именно потому,
что поздняя древность оказалась как-то «замешанной» в том, что
принесли с собою средние века, гуманисты Возрождения и обра¬
тились к древности в ее классической фазе.
На этом факте необходимо остановиться.
Мы знаем, что обращение к древности за помощью и вдохно¬
вением отнюдь не является особенностью одной эпохи Возрожде¬
ния. К древности и на Востоке и на Западе обращались и до нее
и после нее. Важно — к кому или чему конкретно обращались.
Гуманисты итальянского Возрождения обращались к Платону,
а не к Плотину; гуманисты китайского — к Мэн-цзы, а не Ван
Би. Богословы средних веков и гуманисты Возрождения обраща¬
лись к Аристотелю, но первые для того, чтобы с его помощью
воздвигнуть здание схоластики, вторые — для того, чтобы с его
помощью разрушить это здание. К концепции пяти первоэле¬
ментов материальной природы обращались в Китае и в средние
века и в эпоху Возрождения, но в первом случае для того, чтобы
построить на ее основе мистико-магическое учение, во втором —
для того, чтобы с ее помощью материалистически осознать про¬
цесс бытия. Поздняя древность и раннее средневековье как-то
отделили человечество от более ранней поры его истории, Воз¬
рождение вновь соединило его с нею. Иначе говоря, было восста¬
новлено, а может быть, даже впервые по-настоящему создано
представление о преемственности исторического бытия человече¬
ства, и создано было это представление на гуманистической ос¬
нове— на основе отношения к человеку как к автономному дея¬
телю истории.
В заключение следует только напомнить, что никакого дейст¬
вительного Возрождения древности, разумеется, не было, да и
не могло быть. Разве мыслимо было после всего того, что вы¬
страдало человечество в своей борьбе против разделения людей
на свободных и рабов, снова возвращаться к рабовладельче¬
скому строю? Это — в социально-экономическом плане. Нельзя
было вернуться и к идеологическим системам древности. Пага¬
низм фанатических поклонников Платона в Италии конца XV в.
всего лишь эпизод истории религиозно-философской мысли Воз¬
рождения; самое характерное же для него — стремление постро¬
ить новую систему мировоззрения. Острое внимание сунских
философов к древнему «И-цзину» отнюдь не означало возврата
к его натуралистической концепции бытия, а было лишь знаком
растущего осознания бытия как диалектического процесса. То же
наблюдалось и в литературе. Итальянские гуманисты восхища¬
лись произведениями античных авторов, но сонеты Петрарки
совсем не Атогез Овидия — ни по форме, ни по содержанию.
237
Хань Юй, призывавший к возвращению к древности и видевший
эту древность сквозь призму ее письменных памятников, даже
назвал настоящую в его глазах литературу своего времени
«древней литературой», но даже в тех же ее жанрах, которые
разрабатывались им и его единомышленниками — в жанрах
статьи, трактата, этюда и т. п.,— и в них было мало общего со
сходными элементами в литературе древности, не говоря уже о
стихах и повествовательной прозе. Чрезвычайно выразительным
признаком, что никакого восстановления древности не было, слу¬
жит то, что произошло в Китае: старые классики были фактиче¬
ски заменены новыми.
8
Гуманизм и Возрождение — таковы наиболее общие и в то же
время основные движущие силы эпохи Ренессанса, какою она
предстает в истории человечества в своих двух вариантах —
итальянском и китайском. Все явления культуры этой эпохи либо
прямо созданы этими силами, либо целиком определяются ими.
Прямо созданы ими философия и поэзия; целиком определялись
ими литература в целом, историческая наука, искусство; под воз¬
действием их развивались и естественные науки. Определялся
ими и самый стиль жизни: для гуманистов как Италии, так и
Китая характерно стремление к практической деятельности, к
распространению своих идей. Одинаковыми в обоих случаях
были и средства их распространения: публичные выступления,
занятия с учениками, беседы с друзьями, дискуссии с противни¬
ками; послания, памфлеты, статьи, трактаты, образовавшие на¬
учную, публицистическую литературу; исследования, коммента¬
рии к классикам, составившие специально возрожденческую фи¬
лологию. Вся эта многообразная деятельность показала цам су¬
ществование особого общественного слоя — интеллигенции, по
своему положению, характеру деятельности, по самому своему
типу резко отличного от деятелей культуры прежних времен —
пророков, мудрецов, учителей, мастеров. Гуманисты Возрожде¬
ния — писатели, ученые, художники — положили начало типу ин¬
теллигенции нового времени, и круг их деятельности во многом
очертил круг деятельности интеллигенции последующих эпох.
Часто говорят, что ренессансная интеллигенция, совершив
переворот в умах образованного общества своего времени, не
оказала сколько-нибудь серьезного влияния на народную массу,
поскольку не имела никаких связей с ней. В доказательство при¬
водят— и их действительно можно привести — множество под¬
тверждений. Но в чем же тогда общепризнанное великое истори¬
ческое значение этой эпохи? Ответ на этот вопрос, как мне кажет¬
ся, дает сама история.
Выше были намечены общие черты, характеризующие с куль¬
турно-исторической стороны эпоху Возрождения, какой она была
238
в Китае и Италии. Само повторенйе их в каждой стране й ПоЯВ-
ление совершенно независимо от каких бы то ни было взаим¬
ных влияний заставляет думать, что тут действовала какая-то
историческая закономерность; то же обстоятельство, что черты
эти характеризуют действительно самое важное, что относится к
духовному производству, заставляет считать их ключом к пони¬
манию места этой эпохи в общей истории данных народов.
Как было указано, эпохой Возрождения в Китае я предлагаю
считать VIII—XV вв.; эпохой Возрождения в Италии считаются
XIV—XVI вв. И Китай и Италия в эти века были странами фео¬
дальными. Если относить утверждение феодального строя в Ки¬
тае к III в. (после восстания «желтых повязок» в конце II в.), в
прошлом этой страны было уже пять веков феодализма. Если
утверждение феодального строя на итальянской почве отнести к
V в. (времени остготского королевства Теодориха Великого), в
прошлом этой страны было уже восемь феодальных столетий.
Таким образом, и в Китае и в Италии эпохи Возрождения фео¬
дальный строй находился уже далеко не на раннем этапе своей
исторической жизни. Не вдаваясь в изложение тех изменений,
которые к VIII в. в Китае, к XIV в. в Италии произошли в их фео¬
дальных структурах, позволю себе только напомнить слова Мар¬
кса: «в Средние века (Германская эпоха) деревня как таковая
является отправной точкой истории, дальнейшее развитие кото¬
рой протекает затем в форме противоположности города и де¬
ревни» 25. Мне кажется, что это «затем» относится именно к эпохе
Возрождения. То, что именно развитие городов со всеми эконо¬
мическими, социальными и культурными последствиями этого
было одним из самых характерных явлений эпохи Возрождения
в Италии общеизвестно. Не менее важным фактом экономиче¬
ской, социальной и культурной жизни Китая в его эпоху Возро¬
ждения было развитие городов, как центров не только политиче-
ски-административных, военных, но и торгово-ремесленных и
культурных. Принято отмечать, что в эпоху Возрождения в Ита¬
лии начали возникать формы капиталистического производства.
Но следует помнить и другие слова Маркса: «Хотя первые за¬
чатки капиталистического производства спорадически встреча¬
ются в' отдельных городах по Средиземноморью уже в XIV и
XV столетиях, тем не менее начало капиталистической эры отно¬
сится лишь к XVI столетию»26. Италия — страна Средиземно¬
морья, XIV—XV вв.— время ее эпохи Возрождения. Следова¬
тельно, эпоха эта все еще принадлежит феодальной эре истории
этой страны. С еще большим основанием то же можно сказать
о времени Возрождения, т. е. о VIII—XV вв., в Китае. И все же
это уже особый этап истории феодального общества. Я предло¬
жил бы назвать его переходным.
Исторический процесс в своих больших линиях непрерывен.
Когда дело идет о таком явлении, как смена общественно-эко¬
номического строя, то отмирание одной его формы и рождение
239
другой есть процесс весьма продолжительный. Поэтому погранич¬
ные полосы истории рабовладельческого общества и истории об¬
щества феодального сливаются в одно целое. В истории народов
Запада мы это видим в так называемой эллинистической эпохе,
переходящей в историю раннего периода Римской империи. Эта
эпоха — последний этап истории рабовладельческого общества в
этой зоне Старого света и начальный — истории общества фео¬
дального. С IV в. обнаруживается перемещение центра полити¬
ческой и культурной жизни из Рима в Византию, а «вместе с
возвышением Константинополя и падением Рима заканчивается
Древность»,— сказал Энгельс27. Поэтому историю феодального
общества в Италии нельзя оторвать от этого подготовительного
этапа, этой переходной поры. То же можно сказать и примени¬
тельно к истории феодального общества в Китае. Утвердился
этот строй в III в., но складываться начал раньше — в позднюю
пору Ханьской империи. Она, эта пора, и составляет этот пере¬
ходный этап.
Такое же положение создалось и при переходе от феодализма
к капитализму: и тут пролегла целая большая переходная эпоха.
Если на Западе брать уже не одну Италию, а всю Западную
Европу, то эта переходная эпоха заканчивается в конце
XVIII в;—утверждением капитализма во Франции. Если на Во¬
стоке брать не один Китай, а всю Восточную Азию, такая пере¬
ходная эпоха там заканчивается в середине XIX в. утверждением
капитализма в Японии. Представляет особый интерес то, что
страны, в которых элементы переходного этапа зародились рань¬
ше, чем в других (Китай и Италия), оказались отстающими от
других, более молодых стран: капиталистический строй в Италии
устанавливается только в XIX в., в Китае — только в конце
XIX — начале XX в., причем даже не успев развиться во всей
своей полноте.
Эпоха Возрождения входит в эту, переходную полосу исто¬
рии в качестве первой ее фазы; вторая — та, которую на Западе
назвали эпохой Просвещения; очень близкая по характеру эпоха
сложилась и в истории Китая. Следовательно, эпоха Возрожде¬
ния— еще феодализм, но уже переходящий на новый, город¬
ской этап своей истории; она еще не капитализм, но без нее не
было бы и капитализма.
Что же она сделала, эта эпоха Возрождения? Она произвела
ту революцию умов, без которой не могло бы создаться мышле¬
ние строителей будущего общественного строя — капиталистиче¬
ского, а этот строй был в мировых условиях того времени зако¬
номерным шагом истории, шагом вперед по большому и труд¬
ному пути человечества. Основными носителями этой революции
умов были, разумеется, деятели культуры, т. е. интеллигенция,
но, как сказал Ленин, «интеллигенция потому и называется ин¬
теллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее отра¬
жает и выражает развитие классовых интересов и политических
240
группировок во всем обществе». То, к чему стремились гумани
сты Возрождения, было, как мы знаем из истории, исторически
прогрессивным; поэтому пусть они прямо, непосредственно и не
были связаны с народной массой, все равно, поскольку они шли
навстречу требованиям эпохи, постольку они выражали объек¬
тивные интересы общества в целом. Само собою разумеется, эта
революция умов в известной мере определялась зачатками того
нового, что тогда вообще стало появляться в социально-эконо¬
мической сфере жизни народов, но произошла она раньше, чем
эти зачатки превратились в ростки. О том, что революция умов
является одним из важнейших условий перехода к новому обще¬
ственному строю, свидетельствует то обстоятельство, что идей¬
ная подготовка перехода от капитализма к социализму произо¬
шла еще задолго до утверждения социалистического строя где
бы то ни было. Мне кажется, что, поняв историческое содержа¬
ние эпохи Возрождения именно так, мы легко определим и ее
место в истории, и ее исторический смысл. Поскольку же такая
эпоха оказалась ясно выраженной не только в Италии, но и в
Китае, постольку возникает уже особый вопрос: что такое эта
эпоха с общеисторической точки зрения — принадлежность исто¬
рии только одной какой-либо страны, может быть, двух, т. е.
историческая случайность? Или же она принадлежность истории
и других стран, историческая жизнь которых характеризуется
теми же общими чертами, что и историческая жизнь Китая и
Италии, т. е. стран, прошедших длительный этап рабовладельче¬
ского строя с многосторонне развитой культурой, переживших и
большой, столь же многосторонне развитый этап феодализма, т. е.
историческая для этих случаев закономерность? Если это уда¬
лось бы убедительно показать на разном материале, это сыграло
бы очень большую роль в нашем общем понимании историче¬
ского процесса.
Мы знаем, однако, что эпоха Возрождения, во всяком случае
в Европе, охватывает часть истории не только одной Италии, но
и других стран Европы. В то же время мы хорошо знаем, что
первой страной, в которой она, эта эпоха, развернулась, была
Италия; знаем также, что Возрождение в других странах Ев¬
ропы во многом определялось тем, что имело место в Италии.
Историческая независимость Возрождения в этих странах от
Возрождения в Италии несомненна. Коль скоро это так, возни¬
кает вопрос об эпохах Возрождения автохтонных и отраженных.
Если первые, по-видимому, возникали в истории старых народов,
так сказать «заслуженных деятелей» истории, то вторые — в
истории более молодых, вступавших на общеисторическую арену
уже тогда, когда мир рабовладельческого общества уже уходил
в прошлое. Поэтому своей древности — такой, какая была у ста¬
рых народов,— у этих народов не было. Но, быстро идя по пути
феодального развития, они подходили к тому же, что и старые
народы, т. е. к необходимости умственной революции в указан-
13 Н. И. Конрад
241
йом смысле слова. Поэтому эпоха Ёозрожденйя в своих формах
и на своих уровнях была и у них, причем отсутствие своей «клас¬
сической» древности компенсировалось усвоением древности
старых народов. Эллинская и римская античность стала древно¬
стью и всех прочих европейских народов, китайская античность
заняла такое же место в истории культуры и других народов
Восточной Азии.
Таким образом, вопрос об эпохе Возрождения перестает
быть вопросом истории какой-либо отдельной страны и стано¬
вится вопросом мировой истории. Вместе с этим возникает и
новый вопрос: о формах и уровнях эпохи Возрождения в отдель¬
ных странах. Мы знаем, например, что в Германии дух Возро¬
ждения ярче всего сказался в реформации, т. е. в перестройке
религиозного сознания. Возможно, что в своей сфере — в буд¬
дизме— это произошло и в Японии. Словом, далеко не обяза¬
тельно, чтобы элементы Возрождения в других странах разви¬
вались именно в тех сферах, в которых они развивались в первой
ренессансной стране. Точно так же совершенно не обязательно,
чтобы высшее, что было в какой-либо области достигнуто Воз¬
рождением, имело место в этой первой стране. Мы знаем, напри¬
мер, что ренессансная драма высшей ступени своего развития до¬
стигла не в Италии, на родине европейского Ренессанса, а в
Англии, где Ренессанс был только отраженным. То же, по-види¬
мому, следует сказать и о ренессансной драме в Восточной Азии:
впервые она сложилась в Китае и там же достигла очень боль¬
шого развития, но ее вершину, видимо, следует видеть в япон¬
ской драме XVII—XVIII вв. Поэтому понять историческое содер¬
жание Ренессанса можно только на основе учета того, что имело
место во всех странах, так или иначе затронутых этим движе¬
нием, группируя их на основе их исторических связей по опреде¬
ленным культурно-историческим зонам, например, европейская,
восточноазиатская, средневосточная. Ренессанс же как явление
мировой истории во всем свЬем историческом значении раскры¬
вается только при сопоставлении явлений Ренессанса как в от¬
дельных странах, так и в каждой из возможных зон. И в этом
общем свете гораздо отчетливее станут явления Ренессанса в
каждой стране — их качество, их значение, их историческая
роль.
Не могу не добавить, что при сопоставительном изучении
может стать совершенно конкретным движение мировой истории,
а в этом движении — и факт, с одной стороны, географической
направленности и последовательности этого движения, с дру¬
гой— его неравномерности и даже прерывистости. И, может
быть, отпадут попытки то полностью зачеркнуть Ренессанс, це¬
ликом выводя его из средневековья, т. е. отказав ему во всякой
самобытности, то, наоборот, целиком оторвать его от средних
веков. Без средних веков не было бы Ренессанса, но Ренессанс
242
покончил со средними веками; покончил, однако, не,в том смы¬
сле, что зачеркнул все, в том числе и великое, что создано чело¬
веком в эти средние века, а смело шагнув дальше.
1965 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Среди новейших авторов, занимавшихся проблемами западноевропей¬
ского Ренессанса как особой исторической эпохи большой интерес представ¬
ляет, как мне кажется, Ншгш^а (1872—1945), голландский историк, которого
его почитатели нзаывают даже «Буркгардом XX века».
О его работах см. К. Кбз1ег, вступительная статья в кн.: .ТоЬап Ншгт&а,
ОезсЫсЫе ипЛ КиИиг ОезаттеИе Аи{за1ге, ЗШ^агсИ, 1954.
2 Решительный сдвиг в этой области произвела выдающаяся работа
И. И. Голенищева-Кутузова «Итальянское возрождение и славянские литера¬
туры XV—XVI вв.» (М., 1963).
3 Об этих вопросах см.: В. И. Семанов, Об исторической основе литера¬
турной периодизации,— «Народы Азии и Африки», 1963 г., № 5, стр. 118—
134.
4 См. «Китайская литература. Хрестоматия», т. 1, «Древность. Средние
века. Новое время», М., 1959, стр. 305—311; см. также Н. И. Конрад, Хань Юй
и начало китайского Ренессанса (см. выше).
5 Этой школе посвящена работа Н. И. Конрада «Философия китайского
Возрождения» (см. выше).
6 Н. И. Конрад, Хань Юй и начало китайского Ренессанса (см. выше).
7 «Цзиньсылу» с толкованиями Накамура Тэкисай воспроизведено в 1912 г.
(45-й Мэйдзи) в 8-м томе «Кансэки кокудзикай дзэнсё» — собрании китайских
классиков с комментариями японских конфуцианцев XVII—XVIII вв., издан¬
ном университетом Васэда в Токио.
8 «Цзиньсылу», гл. 2 («Вэйсюэ лэй»).
9 См. М. С. Корелин, Очерки итальянского Возрождения, М., 1910.
10 Своеобразную концепцию «формализма» выдвигает Ншгт&а в работе
«Ье ОёсНп ди Мобегп А&е» (Рапз, р. 278 и сл.).
11 См. «Философия китайского Возрождения», стр. 214.
12 Это утверждение мы находим в одном из его философских писем, поме¬
щенных в сборнике Чэн Мин-дао, «И шу», 1.
13 Цит. по пер. В. М. Алексеева («Об определении китайской литературы
и об очередных задачах ее историка»,— «Журнал Министерства народного про¬
свещения», 1916 г., № 6).
14 Цитата взята из письма «Да Вэй Чи-шэн-шу» («Отвечаю Вэй Чи-
шэну»).
15 Из письма «Да Ли Ао шу» («Отвечаю Ли Ао»).
16 См. «Китайская литература. Хрестоматия», т. 1.
17 См. В. М. Алексеев, Китайская поэма о поэте. Пг., 1916, стр. 014—027.
18 О поэзии Ли Бо с этой стороны см.: О. Л. Фишман, Ли Бо, Жизнь и
творчество, М., 1958.
19 Об этом см.: Н. И. Конрад, Три танских поэта,— в кн. «Три танских
поэта. Ли Бо, Ван Вэй, Ду Фу», М., 1960, а также в настоящем сборнике.
20 См.: Н. И. Конрад, Краткий очерк истории китайской литературы, в кн.:
«Китайская литература. Хрестоматия», 1959, М., стр. 35—37.
21 Об этом см.: Н. И. Конрад, О литературном языке в Китае и Японии,—
«Вопросы языкознания», 1954, № 3.
22 Не имея возможности останавливаться на этом вопросе с необходимой
обстоятельностью, упомяну лишь, что под «критической школой» в китайской
исторической науке этого времени я разумею направление, начало которому
положил Оуян Сю своими работами о подлинности и об авторстве некоторых
243
древних памятников и развитие которого мы находим в исторических рабо¬
тах Су Ши и Су Чжэ.
23 О формировании такой концепции свидетельствуют такие философско-
исторические трактаты, как «Чуньцю лунь» Оуян Сю, «ЧжЭнтун лунь» Су
Ши, «Ши лунь» Су Чжэн, «Чжэнтун лунь» Чжу Си. Разумеется, огромное зна¬
чение имеет и Сыма Гуан со своим историографическим сводом «Цзычжи тун-
цзянь» и его обобщением «Цзычжи тунцзянь ганму», сделанным Чжу Си.
В связи с этим обращаю внимание на то, с моей точки зрения, примечательное
обстоятельство, что новая историческая школа, весьма характерная именно
для эпохи Возрождения, возникла в Китае на втором этапе этой эпохи.
24 С этой стороны весьма показательно, как мне представляется, учение
Цзун Ми (780—841), особенно его трактат «Юань жэнь лунь» («О чело¬
веке»). Изучение этого трактата и всей системы идей, которой он принадле¬
жит, считаю одной из первоочередных задач в исследовании различных сто¬
рон китайского Возрождения.
25 См. К. Маркс, Формы, предшествующие капиталистическому производ¬
ству,— «Вестник древней истории», 1940, № 1, стр. 15.
26 К. Маркс, Капитал, т. 1.—К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2,
т. 23, стр. 728.
27 К. Маркс, Капитал, т. III,— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2,
т. 25, ч. 1, стр. 365.
ШЕКСПИР И ЕГО ЭПОХА
1
В литературоведении, как и в иных областях знания, сущест¬
вует то, что можно назвать «инерцией науки». Суть такой инер¬
ции — оперирование положениями и формулами, принимаемыми
исследователем за аксиомы. Разумеется, это вполне законно:
для того и существует история науки, чтобы создавать некото¬
рое количество общих положений, принимаемых в дальнейшем
как общезначимые. Но бывают обстоятельства, при которых не¬
обходимо подвергнуть некоторые из общепринятых положений
пересмотру. Такие обстоятельства наступают либо в связи с тем,
что происходит внутри данной науки, либо в связи с тем, что
наблюдается в более широкой сфере, куда данная наука входит.
Нам показалось, что именно по последней причине некоторые по¬
ложения, ставшие привычными для историков литературы, нуж¬
даются если не в пересмотре, то во всяком случае в расширении,
и что такое расширение затрагивает отдельные стороны шекспи¬
роведения.
Так, включение в орбиту общего исторического процесса
огромного материала истории народов Востока позволяет во мно¬
гом по-иному, чем раньше, и во всяком случае гораздо полнее
представить себе и общее течение мировой истории, и ее отдель¬
ные явления, например, эпоху Ренессанса. Другим важным об¬
стоятельством является то, что сама эпоха Ренессанса, с которой
неразделимо имя Шекспира, подвергается в настоящее время
историками новой интерпретации, особенно в той части, которая
касается отождествления Ренессанса с гуманизмом. Необходи¬
мым становится и пересмотр привычных представлений о сред¬
невековье. Таковы лишь некоторые направления, по которым, на
мой взгляд, должно пойти «преодоление инерции» в науке о
Шекспире.
2
Работа М. В. и Д. М. Урновых («Шекспир. Его герои и его
время», М., 1964) писалась в предвидении 1964 года — того года,
когда исполнилось четыреста лет со дня рождения этого англий¬
ского писателя.
245
Значит, что же? Очередная работа, сделанная «к юбилею»,
т. е. в соответствии с установившейся практикой литературно¬
юбилейных «мероприятий»?
Нет, не так. Авторы не намеревались только напомнить в оче¬
редной раз о писателе, пусть и великом, но уже давно отошед¬
шем в историю. Они помнили слова Белинского, сказанные им
о Пушкине: Пушкин принадлежит «к вечно живущим и движу¬
щимся явлениям», не останавливающимся на той точке, на кото¬
рой застала их смерть, но продолжающим развиваться в созна¬
нии общества. То же можно сказать и о Шекспире.
Авторы хотели говорить о Шекспире живом — живущем,
пусть и посмертной, но вполне реальной для человеческой куль¬
туры жизнью, реальной даже для нашего времен!}. В своих «за¬
ключительных словах» они сказали: «...Снова Шекспир объеди¬
няет людей вокруг своего имени». «Снова» — значит, он объеди¬
нял их и раньше? Да, конечно! Но каждый раз по-иному. По-
особенному — и сейчас. Почему? Потому что четырехсотлетие со
дня рождения Шекспира приходится на 1964 год. Дело именно
в этом годе, а лучше сказать — в нашем времени. И книга М. В.
и Д. М. Урновых убеждает: да, есть основания для того, чтобы
нам обратиться к Шекспиру. И, может быть, даже не столько
ради Шекспира, сколько ради нас самих.
3
Для того, чтобы сейчас услышать от Шекспира что-то нуж¬
ное нам, надо прежде всего понять его самого. Кто же он такой,
этот самый Шекспир?
Ответ на этот вопрос не один. Впрочем, может быть, лучше
сказать — один, но многоступенчатый. Авторы книги его дают.
На первой ступени ответ обескураживающе прост. Шекс¬
пир— это некий человек, который тогда-то и тогда-то «родился,
женился, приехал в Лондон, переделывал чужие пьесы, писал
свои, сделал завещание и умер». Как утверждают авторы, в
конце XIX в. только это и могли сказать шекспироведы. С той
поры появилось много новых биографий, целые «весомые тома»,
но в них, как пишут авторы, речь идет «вокруг Шекспира», о нем
же самом пока ни одному исследователю ничего достоверного,
кроме «родился, женился» и т. д., выяснить не удалось.
Не сложен и вполне бесспорен ответ и на второй ступени.
Шекспир — один из плеяды драматургов елизаветинской эпохи;'
самый выдающийся из них.
Однако на следующей, третьей, ступени ответ уже перестает
быть выпиской из исторической анкеты. Что такое эта «елиза¬
ветинская эпоха»? Как следует из характеристики, данной ей
авторами,— пора конечного подъема английского Возрождения.
246
Значит, Шекспир — последний и самый выдающийся представи¬
тель ренессансной культуры в Англии.
Но сама ренессансная культура Англии — явление не уни¬
кальное и не обособленное; она часть более широкого явления,
слагающегося из ренессансных культур Италии, Германии,
Франции, Испании и, конечно, той же Англии. Разумеется — и
это полностью учитывают авторы,— ренессансная культура в
этих странах возникла не одновременно: в одних странах рань¬
ше, в других позже. Зародилась она в XIV в. в Италии; Англия
же была последней по времени страной, где проявилась эта
культура. Таким образом, четвертая ступень ответа: «Англий¬
ская литература, точнее, английская трагедия конца XVI — на¬
чала XVII в. завершает собой развитие европейской ренессанс¬
ной литературы». Поскольку же высшее выражение английской
трагедии — творчество Шекспира, именно Шекспиром заканчи¬
вается история литературы европейского, точнее западноевро¬
пейского, Возрождения.
Здесь стоит немного задержаться. Факт существования — во
всяком случае для эпохи Ренессанса в Европе — литературы за¬
падноевропейской, т. е. региональной, не подлежит сомнению.
Региональные литературы представляют собой вполне ощутимую
историческую реальность. В разных географических масштабах
с меняющимися границами, с разной степенью внутреннего един¬
ства, с разным отношением входящих в них частей региональные
литературы — принадлежность многих эпох истории мировой ли¬
тературы. Некоторые из таких региональных литератур имеют
ярко выраженный характер, например александрийская эпоха
эллинизма. Важно только видеть историческую почву, на кото¬
рой региональные литературы складывались и существовали.
Эта почва в разное историческое время была разной. Например,
на одной основе создалась региональная литература в эпоху на¬
родностей, на другой — в эпоху наций. Если подойти к регио¬
нальной литературе, сложившейся в пределах стран Западной
Европы в эпоху Ренессанса, с этой стороны, то необходимо будет
сказать, что эта региональная литература возникала в условиях
медленного неравномерного, но неуклонного перерастания запад¬
ноевропейских народов из народностей в нации. Ренессанс —
промежуточная эпоха: между средневековьем, как последней
эпохой в истории народностей, и новым временем, как первой
эпохой в истории наций.
Это обстоятельство важно для того, чтобы понять, на каком
общественном слое в такую эпоху держалось единство ренессанс¬
ной культуры стран Западной Европы. Оно держалось на интел¬
лигенции эпохи, а она, эта ренессансная интеллигенция, была
бесспорно международной, в масштабах своего времени, конеч¬
но. Это давно подмечено и всеми историками Ренессанса. Кстати,
из того факта, что деятелями Ренессанса была интеллигенция,
отнюдь нельзя делать вывод, что ренессансная культура была
247
уделом какой-то одной узкой среды. В своей книге М. и Д. Ур-
новы не употребляют слово «интеллигенция», они говорят о «гу¬
манистах», но для историков эпохи Ренессанса это одно и то же.
И авторы очень правильно отмечают: «Гуманизм как целостная
система представлений был доступен узкому кругу лиц. Гумани¬
стов было немного, но гуманистическое, освобождающееся от
средневекового догматизма мироощущение оказывалось достоя¬
нием целой эпохи».
Однако наряду с этим необходимо учитывать, что эпоха Ре¬
нессанса не неподвижность, а процесс. Ренессансные явления
с течением времени преображались, менялись, теряли одни чер¬
ты, приобретали другие. Этот процесс коснулся самих носителей
Ренессанса: с развитием наций ослабевала прежняя почва, на
которой держалась их «международность». Шекспир стоит даже
не на пороге, а уже в воротах эпохи наций в Западной Европе,
а в то время «международность» строилась уже на другой осно¬
ве, чем, например, во времена Петрарки. В этом также виден
признак того, что английская литература второй половины
XVI — начала XVII в., в частности английская трагедия, а это
значит — Шекспир, является не только поздним, но и последним
этапом великой региональной литературы эпохи Ренессанса в
Западной Европе.
Речь, однако, не может идти только о Западной Европе.
Идейное выражение Ренессанса, как известно,— гуманизм. Ав¬
торы книги о Шекспире и его времени говорят о гуманизме как
о новом направлении духовной жизни не только Западной, но
и Центральной Европы. Это совершенно справедливо. Ренессанс¬
ные явления в искусстве, литературе, науке наблюдались в эти
века и у народов Центральной Европы. Но к этому надо доба¬
вить: и у народов Восточной Европы. Для исследователей Ре¬
нессанса в наше время это уже не предмет спора. Достаточно
обратиться хотя бы к замечательной книге И. Н. Голенищева-
Кутузова «Итальянское Возрождение и славянские литературы
XV — XVI веков». Шекспир — завершение ренессансной лите¬
ратуры Европы в целом.
Хочется, однако, сказать и другое: в силу известной инерции
о Ренессансе принято говорить не иначе как в весьма высоких
тонах. Без слов о величайшем прогрессивном перевороте, пере¬
житом человечеством, не обходится у нас ни один пишущий
о Ренессансе.
Но о Ренессансе в таком смысле говорят, имея всегда в виду
Ренессанс в Западной Европе. Конечно, могут быть такие пере¬
вороты, которые происходят в группе стран и даже в одной стра¬
не, но по своему значению оказываются переворотами в истории
всего человечества. Таким был, например, промышленный пере¬
ворот в Англии. Относится ли западноевропейский или даже
общеевропейский Ренессанс именно к такого рода локальным по
248
месту своего возникновения и всеобщим по своему значению
переворотам в истории?
Нет, вернее сказать так: Ренессанс действительно один из
крупнейших прогрессивных поворотов на исторических путях
человечества, но не потому, что поворот .этот, происшедший в од¬
ной стране, потом затронул и все другие, а потому, что поворот
этот на определенном этапе истории произошел и у некоторых
других цивилизованных народов мира, причем у каждого из них
возник самостоятельно, в связи с течением собственной истории.
То, что у нас названо «Ренессансом» в истории народов Евро¬
пы,— явление общемировое, а не местное.
Западноевропейский Ренессанс начался в Италии. Что пред¬
ставляла собою тогда Италия среди прочих народов Западной
Европы? Старейшую страну, «заслуженного деятеля» истории,
страну, имевшую в этой части Европы самую длительную и при¬
том непрерывную историю, т. е. имевшую свою долгую древ¬
ность, свое многовековое средневековье. Италия в XIV в. среди
народов Западной и Центральной Европы была страной, обла¬
давшей богатейшим культурным наследием.
В этом наследии соединилось все, что дала европейцам антич¬
ность, т. е. культура древней Греции и древнего Рима; все, что
дало европейское средневековье в рамках Римской империи хри¬
стианского периода. В силу же движения собственной истории
Италия тогда была той страной в Европе, которая в общеевро¬
пейском историческом процессе шла впереди всех остальных.
Но разве Италия была единственной страной с подобной
историей и культурой? Ведь такую же длительную и непрерыв¬
ную историю, включавшую в себя и всесторонне развитую древ¬
ность, и свое широко развитое средневековье, имела и другая
страна — Византия. Для народов Восточной Европы она была
тем, чем была Италия для Западной и Центральной. А помимо
Европы? Подобную же историю имели народы Ирана, Индии и
Китая. В этих странах была отнюдь не менее высокая, а в неко¬
торых областях и более богатая цивилизация. И вот у этих древ¬
них культурных народов в определенный момент их истории на¬
чали возникать явления, весьма сходные с теми, которые мы
в Европе назвали «ренессансными». Особенно ярко такие явле¬
ния выразились в огромном и весьма своеобразном подъеме ли¬
тературы, искусства, общественной мысли, науки. В Италии та¬
кой подъем начался в XIV в.; в Иране и в тесно связанных с ним
частях Северо-Западной Индии и Средней Азии — в IX в.; в Ки¬
тае еще раньше — в VIII в. Чтобы сразу же почувствовать, что
процесс тут в своих больших линиях один и тот же, достаточно
немного повнимательнее почитать стихи таких поэтов, как Пет¬
рарка, Ронсар, Рудаки, Саади, Хафиз, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и.
Этих поэтов у нас знают хорошо, но разрозненно, а каким новым
блеском засверкало бы их творчество, если бы они предстали
перед нами рядом, в одной серии книжек: «Сокровища поэзии
249
мирового Ренессанса»! Это было бы гораздо более убедитель¬
ным аргументом в пользу признания Ренессанса мировым явле¬
нием, чем иные исторические исследования.
Здесь не место вдаваться в исследование Ренессанса как об¬
щемирового явления. Следует только подчеркнуть, что мировой
Ренессанс — движение. История демонстрирует нам Ренессанс
как некий вал, прокатившийся по всему необъятному конти¬
ненту Евразии, а вернее — Афроевразии, поскольку Северная
Африка с глубокой древности составляла одно историческое це¬
лое с присредиземноморскими странами Европы и Азии. Движе¬
ние это началось в VIII в. на восточном конце Евразийского кон¬
тинента — на берегах Тихого океана, а закончилось в XVII в. на
западном конце — на берегах Атлантического океана.
Разумеется, в эти девять веков мировой эпохи Ренессанса
история не стояла на месте. Сама разновременность возникнове¬
ния Ренессанса в разных странах — свидетельство движения
истории. История некоторых стран Востока подвела их к своему
Ренессансу раньше, чем Италию. И ничего удивительного тут
нет: в те времена великие старые народы Востока стояли впе¬
реди народов Запада. Европа стала обгонять Азию начиная
с XVI в., и чем дальше, тем решительнее.
Необходимо помнить и о другом обстоятельстве. Поскольку
Ренессанс — движение, и движение историческое, судьба его
подчинена общему ходу истории. Поэтому ренессансные явления
не оставались постоянно одними и теми же. Даже в одной стране
они меняли постепенно и свое содержание, и свой облик. Тем
более разнообразны ренессансные явления в движущейся исто¬
рии разных стран: в каждой стране, в каждый исторический мо¬
мент они глубоко индивидуальны. И уже совсем особую картину
дает движение мирового Ренессанса в целом: ренессансные явле¬
ния в одной стране могут постепенно ослабевать, могут исчез¬
нуть совсем, в то время как в другой стране они в это время
существуют в полной силе. Но все же, если иметь в виду ренес¬
сансное движение в целом — от его исторического начала до его
исторического конца, то можно говорить о действительно миро¬
вой эпохе Ренессанса с VIII по XVI в.
Следует отметить, что движение, называемое нами Ренессан¬
сом, начиналось, как правило, в странах наиболее старых, бога¬
тых своей историей, но впоследствии захватывало и другие
страны, исторически более молодые. Так, например, было на
Дальнем Востоке, где китайский Ренессанс вызвал к жизни ре¬
нессансные явления в Корее и Японии; так было на Среднем
Востоке, где индо-иранско-среднеазиатский Ренессанс вызвал
к жизни такие же явления у народов Закавказья; так было и'в
Европе, где итальянский Ренессанс захватил страны Западной,
Центральной и Восточной Европы, проникнув даже в страны За¬
кавказья, например Армению, в культуре которой элементы Ре¬
нессанса западного своеобразно скрестились с элементами Ре¬
250
нессанса восточного. Необходимо поэтому различать Ренессанс
автохтонный, т. е. саморожденный, и Ренессанс занесенный или
отраженный. Полностью автохтонным явлением, возникшим в
силу движения собственной истории, был Ренессанс в Китае,
в индо-иранско-среднеазиатском комплексе стран и в Италии.
В остальных странах он был отраженным.
Однако «отраженность» ренессансных явлений не делает эти
явления менее выразительными для эпохи. И это видно хотя бы
в истории ренессансной драмы. В Европе, например, высшее до¬
стижение ренессансной драматургии не драма, появившаяся
в Италии, т. е. на родине общеевропейского Ренессанса, а драма,
появившаяся в Англии, т. е. в одной из стран, на которую рас¬
пространился Ренессанс, начавшийся в Италии.
Подобные факты наблюдаются и в общей истории мирового
Ренессанса. Ренессансная драма началась в Китае XIII—XIV вв.
Это так называемая «юаньская драма». Но высшее достижение
ренессансной драматургии в этой части мира — японская драма¬
тургия XVII—XVIII вв., сложившаяся в стране, где явления Ре¬
нессанса не были автохтонными. .
В истории драматургии мирового Ренессанса на двух концах
мира стоят два имени: Вильям Шекспир и Тикамацу Мондза-
эмон. Это два великих имени, но по масштабу и характеру про¬
блем, по силе художественного выражения, по общечеловече¬
ской глубине содержания на первом месте стоит безусловно
Вильям Шекспир.
Итак, не вправе ли мы сказать, что Шекспир — гений не
только английской, не только западноевропейской, не только
европейской в целом, но и мировой ренессансной драматургии?
И не будет ли это добавление частью того, что можем сказать
нового о Шекспире именно мы, именно наша наука, притом
именно в юбилейном году?
4
Для авторов новой книги о Шекспире особенно существенно
то, что творчество великого драматурга относится к концу ренес¬
сансной эцохи. Поэтому и важно понять, что такое эта ренессанс¬
ная драматургия вообще и что с ней случилось на конечном
этапе ее исторического существования.
Историки театра часто говорят, что ренессансная драма ле¬
жит на пути от мистериально-площадных форм драматического
искусства к литературному театру. С этим в общем можно со¬
гласиться. Для театрального искусства средневековья харак¬
терны представления, рассчитанные на массового зрителя и по¬
этому не требующие особо устроенной сцены: сценой могла быть
городская площадь, территория монастыря, площадка перед
дворцом или замком, широкая паперть храма. На такой сцене
разыгрывались либо мистерии, либо непритязательные фарсо¬
вые сценки. Такое театральное искусство в самых различных
251
формах мы находим всюду: и на Востоке, и на Западе, и в Азии,
и в Европе. Слово в них могло совершенно отсутствовать: так
было в представлениях типа пантомим, танцевальных или полу-
цирковых сцен, процессий и шествий. Там же, где слово присут¬
ствовало, оно играло обычно подсобную роль, как одно из
средств инсценировки какой-либо фабулы, часто хорошо знако¬
мой зрителю.
С наступлением эпохи Ренессанса положение стало меняться.
Если под драмой понимать театральное произведение, в котором
фабула превратилась в законченный сюжет, рассчитанный на
специфически театральные способы его изложения; если в этом
изложении словесная часть получала полноценное значение, то
придется признать, что драма в том ее облике, в каком она пред¬
стала на феодальном этапе развития человечества, появилась
именно в эпоху Ренессанса. В этом убеждает нас вся история
театра. Именно такова, например, «юаньская драма» XIII—
XIV вв. в Китае — первая по времени возникновения ренессанс¬
ная драма вообще. Такова и «драма Но» XIV—XV вв. в Японии.
И все же это еще не был театр литературный. В книге М. и
Д. Урновых есть интересная глава, озаглавленная «Пристрастие
к музыке». В этой главе авторы указывают, сколь важное место
в пьесах Шекспира занимает музыка. Дело идет при этом не об
известных ремарках, вроде «Фанфары. Входят с трубами и бара¬
банами» и т. д. Авторы пишут: «Музыка включается в драма-,
тическую концепцию Шекспира и в замыслы его пьес, вносит
заметные оттенки в их поэтическую атмосферу, используется им
для решения идейно-эстетических задач». Это очень верные
слова.
Верной представляется мне и следующая мысль: «Язык му¬
зыки не соперничает в пьесах с речью персонажей, но дополняет
ее и порой выражает нечто, о чем молчит слово, то ли не ре¬
шаясь досказать все до конца, то ли не чувствуя в себе необхо¬
димой силы и полагаясь более на непосредственность музыкаль¬
ного выражения». Если бы нужно было указать в драматургии
на что-либо такое, что сразу же выдает принадлежность ее к Ре-,
нессансу, то лучше такой приметы, как мне кажется, трудно что-
либо найти. Сказанное М. и Д. Урновыми о музыке в драматур¬
гии Шекспира полностью приложимо к музыке в «юаньской
драме» и в «драме Но».
И это понятно. Ренессансная драма все еще театр, а в стихию
театра входит музыка. И не как иллюстрирующий элемент, не
как сопровождение слова, а как элемент самой драматургии.
Эту мысль авторы книги о Шекспире выразили в словах:
«В театре Возрождения музыка — организующая основа всего
хода представления: она управляет не только речью актеров, но
их движением, их игрой».
Но это относится к драматургии Ренессанса, когда Ренес¬
санс был еще в своей полной силе. К концу Ренессанса положе¬
252
ние стало меняться. Авторы приводят много примеров, когда
о музыке в пьесах Шекспира говорят, рассуждают, и это уже не
Ренессанс. Когда в драме о музыке говорят — это значит, что
музыка становится чем-то внешним. О том, что является необхо¬
димым элементом жизни, не говорят: этим живут. В «юаньской
драме» и в «драме Но» действующие лица о музыке не философ¬
ствуют, а просто живут в ней. Разговоры о музыке в пьесах
Шекспира — свидетельство того, что конец чисто ренессансной
драматургии уже наступил.
Да, именно так и произошло. Драма все более и более пере¬
ходила в область литературы, «драматической литературы», как
потом ее назвали. Тексты пьес получали все более и более само¬
стоятельное значение. Правда, во времена Ренессанса эпоха
литературного театра еще не наступила: она началась с нового
времени — с театра Барокко и Просвещения. Но подход к драме
как произведению литературы, пусть и особой — «драматиче¬
ской», по мере движения Ренессанса обозначается всюду: в ки¬
тайской драме XV—XVI вв., в испанской драматургии XVI в.,
в японской драме XVII в. Яркие образцы такого подхода к лите¬
ратурному театру дает английская драма второй половины
XVI — начала XVII в., а в ней — драматургия Шекспира. Она
действительно принадлежит к концу Ренессанса и вместе с тем
кладет начало новой эре в этой области.
Это обстоятельство отнюдь не простая историческая подроб¬
ность. Время, когда жил и творил Шекспир, т. е. конец Ренес¬
санса и начало нового времени, определило не только общий
характер и форму, но и историческое место шекспировской дра¬
матургии. Оно определило и ее содержание, а это содержание
заставляет нас снова заговорить о Шекспире, и заговорить о нем
именно в наши дни.
5
М. и Д. Урновы в конце своей книги, упомянув о прошлых
шекспировских юбилеях, сказали: два юбилея — предшествую¬
щий, 1939 г., и нынешний, 1964 г.,— «оказались отделены друг от
друга, событиями поистине шекспировского трагизма».
Мысль глубокая. И, думаю, понятная нам всем. К тому же
сами авторы, разбирая пьесы Шекспира, подсказывают многое.
Вряд ли только с чисто театральным интересом мы можем сей¬
час смотреть такую, например, пьесу, как «Ричард III», или слу¬
шать такие реплики Макбета, как «лей кровь и попирай людской
закон...»
Но авторы имели в виду не события как таковые. Трагиче¬
ским была полна вся эпоха Шекспира, и именно эта общая тра¬
гедийность эпохи выражена в пьесах Шекспира с огромной худо¬
жественной силой. Именно она и находит отклик в наших душах
в наше время. Мне кажется, что книга М. и Д. Урновых сама
представляет такой отклик. В ней звучит голос исследователя,
253
специалиста йо английской литературе, ШексййровёДа И вместе
с тем чувствуется взволнованность человека нашей эпохи — не
того, который только живет в наше время, а того, который на¬
шим временем живет.
Лейтмотив всего, что авторы нашли в 1964 году нужным ска¬
зать о Шекспире и о его современниках,— мысль о кризисе,
о кризисе, заложенном в самом их времени.
Это понятно. Время Шекспира — конец одной эпохи и на¬
чало другой. В плане социально-экономическом — последний
этап эры феодальной и первые шаги капиталистической. Позади
Шекспира, еще совсем недалеко от него, была Нидерландская
революция — первая буржуазная революция в мировой истории.
Впереди — Английская революция, с которой многие историки
вообще связывают начало капиталистической эры. В плане куль¬
турно-историческом — это закат Ренессанса и заря Просвеще¬
ния.
Однако в Англии время Шекспира имело свое особое содер¬
жание. Это был не только конец Ренессанса, но и сам Ренессанс,
во всяком случае, как пишут авторы, самый решительный для
Англии его этап. М. и Д. Урновы указывают: «...если в Европе
Ренессанс растянулся на целые столетия и складывался, как, на¬
пример, в Италии, многоступенчатым процессом, то в Англии
он с торопливостью сдвинул все — в государстве, обществе,
умах — и был по своей решительности, напряженности и кратко¬
сти особенно похож на революционный переворот». К этому
можно добавить: краткость, даже торопливость, и вместе с тем
решительность и напряженность свойственны революционным
переворотам тогда, когда они происходят в странах, находя¬
щихся позади других и рвущихся вперед. И вот, пишут авторы,
самый решительный этап величайшего прогрессивного пере¬
ворота в английской истории уместился в пределах одной, да и
то укороченной, человеческой жизни. Едва Англия избавилась
от безвременья, как «связь времен порвалась». «Избавилась от
безвременья» — видимо, означает: перешла к Ренессансу. «Связь
времен порвалась» — видимо, означает: и тут же наступил кри¬
зис Ренессанса.
Но что же такое этот самый Ренессанс? Время особого, небы¬
валого расцвета искусства, литературы, науки? Сказать так —
явно недостаточно. Начало капиталистической эры? Это просто
неверно, особенно в свете мировой истории.
Время Ренессанса не начало буржуазно-капиталистической
эры; но без той подготовки, которая за время Ренессанса была
проведена, не могла бы наступить новая, более высокая по
сравнению с предыдущей, ступень исторического процесса. Для
того, чтобы разрушить средневековье и подготовить новое время,
нужен был крутой поворот в плане идейном, культурном. У нас
принято говорить: поворот к гуманизму. В этом аспекте слова
«Ренессанс» и «гуманизм» стали у нас почти равнозначны.
254
В таком отождествлении Ренессанса с гуманизмом есть, как
мне кажется, серьезная ошибка. Бесспорно, Ренессанс органи¬
чески связан с движением, которое можно назвать гуманистиче¬
ским, но это не значит, что гуманизм появился на свет только
в эпоху Ренессанса. Мне кажется очень важным, что авторы но¬
вой книги о Шекспире преодолели здесь инерцию своей науки.
Гуманизм существовал и в древности, и в средние века, притом
повсеместно — во всех странах Европы и Азии, история которых
знала и свою древность, и свои средние века. Гуманизм — про¬
явление того, что обозначается словом ЬишапНаз — «человече¬
ское начало» в природе человека, человечность. Это начало и
легло в основу всей деятельности человечества. Но масштаб и
конкретные черты гуманизма менялись. Поэтому о гуманизме
времен Ренессанса следует говорить только как об одном, исто¬
рически определенном облике этого действительно вечного спут¬
ника человека.
Чем же этот исторический облик характеризуется? Авторы
дают обычный ответ на этот вопрос. Суть ренессансного гума¬
низма они видят в «рождении личности, освободившейся от тыся¬
челетнего гнета средневековых догм», в «появлении человека
с новым типом сознания и нормой поведения». Что такое эти
«религиозные догмы»? «...Догма о двойственности и порочности
человеческой природы, о немощи человека перед высшими сила¬
ми, о бренности земного существования»,— отвечают авторы.
А что такое «новый тип сознания»? Дерзание, творчество, сво¬
бодная, реальная, действенная мысль большого теоретического
и практического размаха, призванная заменять прежнюю ско¬
ванность, ригоризм, бесплодное схоластическое умствование. Что
такое «новая норма поведения»? «Повседневная практика само¬
утверждения, духовная стойкость и неистощимое жизнеутверж-
дение, как основа преодоления всякого трагического надлома».
Все это верно. Но именцо это, а не обычные, столь свойствен¬
ные многим историкам Ренессанса инвективы по адресу пре¬
словутого «средневековья». Обычно оно у них только «мрачное».
Оно длилось много веков, но это было лишь многовековое гоне¬
ние плоти. Высшая мера обвинения, обычно предъявляемого
средневековью,— упоминание о «страшной» формуле: «Филосо¬
фия есть служанка богословия». Поэтому мне кажется очень
важным, что М. и Д. Урновы в своей книге о Шекспире устра¬
нили эту «инерцию науки», своим происхождением обязанную
либо предубежденности, либо просто недостаточному знанию
реальности.
Не будем здесь вдаваться в то, могло ли средневековье
вообще быть сплошным адом, в котором человечество пробыло
тысячу лет и из которого это бедное человечество извлек Ренес¬
санс. Думать так — значит прежде всего недооценивать чело¬
века, его силы, его труд. Ограничимся лишь напоминанием, что
в это самое «мрачное средневековье» сложились всеобъемлющие
255
мировоззренческие системы — христианство, буддизм, ислам,
философские по своему существу, но представленные, что и было
естественным для того времени, в категориях религии.
Можно вспомнить также готическую архитектуру, зодчество
и скульптуру буддийских храмов, мавританские дворцы и сады.
Можно подумать и о лучезарной поэзии трубадуров и миннезин¬
геров, о рыцарском эпосе и романе, о жизнерадостных, брызжу¬
щих юмором народных фарсах, о захватывающих массовых зре¬
лищах — мистериях, мираклях и о многом другом, в разных фор¬
мах и в разных уровнях представленном в культуре и Запада
и Востока. Средневековье — одна из великих эпох в истории че¬
ловечества. А то, что это была эпоха во многом очень тяжелая,
трудная для людей, так разве Ренессанс привел их в рай? Это
«вдохновенное время не было безоблачным, оно проходило в не¬
прерывной борьбе. Его окрашивает скорее суровость, нежели
счастливая улыбка. Все, что в процессе переворота сдвинулось
и не нашло себе подобающего места, вставало на пути новой
мысли и деятельности. Религиозные столкновения, войны, со¬
словная, кастовая, групповая и личная вражда, политические
схватки...»,— написали М. и Д. Урновы.
В эпоху Ренессанса стало ясно, с чем надо было бороться,
от власти чего надо было освободиться, от чего раскрепостить
личность: «от тысячелетнего гнета средневековых догм». Отки¬
нем слово «тысячелетнего». Неужели переход от рабовладель¬
ческого общества к миру феодальному уже с первых же шагов
был сплошным бедствием и не был для своего времени прогрес¬
сивным, необходимым шагом истории? Дело поэтому не просто
в «средневековье», а в том, что в определенный момент его исто¬
рии в его мировоззрении появились непреложные догмы.
Всякому учению — религиозному и философскому, если оно
не идет вслед за временем, не развивается, не пополняется но¬
выми чертами, угрожают две опасности: догматизм, т. е. превра¬
щение свободной творческой мысли в догму, и скепсис, т. е. по¬
явление сомнения в ценности данного учения вообще. Скепсис
может привести к плохому — нигилизму, интеллектуальному и
моральному, может привести и к хорошему — к плодотворной
переоценке ценностей. Догматизм же останавливает всякое дви¬
жение, а это значит — самое возможность прогресса. Великие
религиозно-философские системы в конце средневековья дейст¬
вительно стали превращаться в каменные глыбы догм. Задержи¬
валось, следовательно, дальнейшее развитие не только самих
этих систем, но и общества, культуры, человеческой личности.
Так произошло по крайней мере в трех из указанных миро¬
воззренческих систем: в конфуцианстве, христианстве, исламе.
В Китае это выразилось в конфуцианском «правоверии», догма¬
ты которого изложены в известном своде, сделанном в VII в.
Кун Ин-да и так и озаглавленном «Пятикнижие в правильном
истолковании». Свое «правоверие» образовалось и в исламе.
256
Превратилась в систему догм, особенно ярко выраженную в зна¬
менитом сочинении Фомы Аквината, и христианская религиозно¬
философская мысль.
Против этого догматизма и восстала свободная мысль чело¬
веческая, притом на двух путях: скепсиса и вольномыслия. Но,
для того чтобы эту борьбу вести успешно, нужно было укре¬
питься на каких-то новых позициях. Эти позиции создал Ренес¬
санс. Лучшие умы Ренессанса боролись не с религией как тако¬
вой, не с какой-либо определенной философией, а с догматиз¬
мом как в религии, так и в философии. Борьба велась при этом
различными средствами. Одним из них было обращение к дру¬
гим направлениям мысли, к другим учениям, в особенности
к мистическим. В Китае это был даосизм — для конфуцианства,
некоторые секты — для буддизма, в странах ислама — суфизм,
в христианских странах — так называемые «ереси». Другим
средством было обращение к разуму, к свободной творческой
мысли. Это движение умов и создало то, что применительно
к Ренессансу назвали гуманизмом.
М. и Д. Урновы дают, как мне кажется, правильный ответ
на вопрос, что представлял собой этот ренессансный гуманизм
в его глубинной сущности. Они написали: «...причастен к духу
нового времени» всякий, кто имел смелость считать «себя своим
собственным творцом»; «человек осознал свое достоинство, уве¬
ровал в свои силы, себя поставил на место бога».
Не следует думать, что слова «себя поставил на место бога»
означают, что деятели Ренессанса стали пламенными богобор¬
цами, воинствующими атеистами или бесчинствующими безбож¬
никами. Были среди них, конечно, скептики и вольнодумцы, не
верившие ни в сон, ни в чох. Они м'огли быть даже князьями
церкви. Все это хорошо известно. Но формально они придержи¬
вались религии, а большинство гуманистов были даже искренне
верующими. Так было в странах ислама, в странах христиан¬
ства. В Китае Ренессанс не был связан с религией — в своей тео¬
ретической части он целиком реализовался в сфере философской
мысли. Но в то же время слова о «возвысившейся до бога лич¬
ности» верны и для китайского гуманизма: стоит только вспом¬
нить мысль Лу Сян-шаня (1139—1191), что не человек коммен¬
тирует канонические книги, а они комментируют человека. Это
равносильно тому, как если бы на Западе в средние века кто-
либо сказал: не я комментирую священное писание, а оно ком¬
ментирует меня.
Средневековье создало свой гуманизм, а в нем — свой прин¬
цип мышления и поведения. После падения казавшегося таким
великим старого рабовладельческого мира надо было браться
за переустройство общества, его жизни, его воззрений. Для этого
требовались гигантские силы, огромная энергия, уверенность
в том, что переустройство не только нужно, но и возможно.
Где же найти эти силы, эту уверенность? Конечно, в себе са-
17 н. И. Конрад
257
мом: другого источника ведь не было. Чтобы перестроить мир,
казалось, нужны были такие силы, которые делали человека
чуть ли не всемогущим. И именно это скрытое сознание возмож¬
ного всемогущества человека нашло свое выражение в катего¬
риях, для мышления того исторического этапа наиболее ясных и
понятных: в религии, в представлениях о божестве как носителе
всемогущества. Именно такая интерпретация своих возможно¬
стей и дала тогда человеку необходимые интеллектуальные и
моральные силы для исторического творчества, именно она и
составила суть средневекового гуманизма. Это относится и к
средневековью арабскому с его исламом, к средневековью китай¬
скому с его даосизмом и буддизмом.
По мере того как перестройка общества была в основном про¬
изведена и феодальный мир пошел по своему пути, этот гума¬
низм, бывший сначала «больше энтузиазмом, страстью, чем си¬
стемой мышления», как правильно отмечают М. и Д. Урновы,
стал в свою очередь развиваться и принимать другой вид. Стали
появляться строгие, точные формулы. Сначала это было полезно
и необходимо. Это делало работу по дальнейшему развитию об¬
щества более сознательной и уверенной. Но формулы не поспе¬
вали за быстро движущейся жизнью, требовались новые, а люди
цеплялись за старые, старались в новой практике следовать им.
Но поскольку сила их, бывшая некогда реальной, теперь ослабе¬
ла, ревнители старых формул постарались их реальную силу
заменить абстрактной, превратив жизненные формулы в догмы.
Так возник тот догматизм, который и стал главной помехой уси¬
лиям человека идти дальше по своему историческому пути.
6
Когда один источник силы иссякает, обычно появляется дру¬
гой. Человек нашел его опять в самом же себе, но только «себя
поставив на место бога», осознав, что те силы в себе, которые
он воспринимал как нечто, относящееся к божеству, являются
вполне человеческими. Так создалась новая основа гуманисти¬
ческой, т. е. человеческой, деятельности, и на этой-то основе и
произошло то великое обновление лица культуры, которое в ка¬
кой-то мере действительно может быть названо Возрождением.
И вдруг неожиданность: «...Какие бы личные задачи ни ре¬
шал Гамлет, какими бы муками ни мучился,— во всем сказы¬
вается его характер, его умонастроение, а через них духовное со¬
стояние, испытанное, вероятно, самим Шекспиром и многими его
современниками, представителями молодого поколения: это со¬
стояние глубочайшей потрясенности»,— так написали авторы
книги о Шекспире. А потрясением явился крах’гуманизма, точ¬
нее— его идеала: «Гамлет, его характер, переживания, судьба
дают представление, сколь тяжким, а для многих приверженцев
258
гуманизма, по-видимому, непоправимым потрясением явился
крах гуманистического идеала».
Неужели с ренессансным гуманизмом произошло то же, что
случилось в свое время с гуманизмом средневековым? Неужели
и он превратился в догму? В известной мере так. Авторы упоми¬
нают, что гуманистов называли «гордецами», так как они смот¬
рели на других как бы свысока, а поступали они так потому, что
считали себя носителями непреложной истины. Но такой исти¬
ной ко времени Шекспира эти принципы уже не были. О таких
гуманистах можно сказать то, что М. и Д. Урновы сказали об
Отелло: «Он продолжает мыслить догматически и доходит до без¬
рассудного педантизма при обстоятельствах, требующих широты
взгляда, трезвой гибкости, мужественного такта, волевой сдер¬
жанности, проницательного доверия». Хорошие, верные слова!
Но все же самым существенным в кризисе ренессансного гума¬
низма был, как они правильно отметили, крах самого гумани¬
стического идеала. Пользуясь словами авторов, это можно по¬
яснить так: свободная и гармонически развитая личность, как
норма жизни, оказалась прекрасной, но утопической идеей гу¬
манистов и потерпела крах... Вставал «жестокий век самоутвер¬
ждения абсолютистско-буржуазного общества»,— пишут ав¬
торы.
Да, по времени это так. Крах ренессансного гуманизма обо¬
значился в обстановке назревавшего переустройства общества. На
этот раз — в духе буржуазно-капиталистического строя. Отсюда
понятно и то, что особым потрясением этот крах оказался в Ан¬
глии времени Шекспира; тогда, и притом не в очень большой
исторической дали, уже вырисовывались контуры буржуазной
революции, которая для судеб народов Европы имела значение
большее, чем буржуазная революция в Нидерландах. «Умона¬
строение принца Датского», т. е. молодого человека того поко¬
ления, «передает надломленный дух времени».
В чем же эта надломленность времени состояла? «Тше 15
оиГ о! ]'от{» — «порвалась связь времен», «век расстроен», «век
расшатан» — так по-разному передавали эту знаменитую фразу
русские переводчики, и каждый из этих переводов отражает
очень емкий смысл английского выражения.
Конечно, вполне законно принимать за основную причину
краха гуманистического идеала этот начавшийся переход от
одной общественной системы к другой. «В людских душах сред¬
невековье (т. е. феодализм.— Я. К.) сталкивалось с новым вре¬
менем (т. е. с началом капитализма.— Я. К.), и было видно, как
сложен, пестр и противоречив этот процесс»,— пишут М. и Д. Ур¬
новы. И все же правильнее, как мне кажется, сказать, что этот
переход образовал только почву, на которой возник кризис ре¬
нессансного гуманизма.
В одном месте своей книги авторы приводят глубокое наблю¬
дение одного из лучших в нашей стране в прошлом исследова¬
259
телей английской литературы — Н. И. Стороженко: «...Не крова¬
вые события, не ужасы, а потрясенный страстью дух становится
главным содержанием трагедии». Именно — потрясенный дух.
Но откуда же взялась эта душевная потрясенность? Это
«разочарование» в ренессансных «доблестях», эта «скептическая
реакция на энтузиазм Возрождения»? Дело в самой природе ре¬
нессансного гуманизма.
Это хорошо подметили авторы. В связи с характеристикой
творчества одного из предшественников Шекспира — Лили —
они сказали: «...Ренессансное раскрепощение человека чревато
кризисом». Почему? Потому что гуманистический принцип «че¬
ловек — мера всех вещей» превращался в личный практический
девиз «все дозволено». Потому что остатки ренессансных гума¬
нистических понятий как будто бы еще держались, но «внутрен¬
ние нормы, дисциплина чувств и мышления обладали уже не ши¬
ротой и свободой, а распущенностью». Макбет, как замечают
авторы, «охваченный честолюбивой страстью спешит освободить
свой интеллект от нравственных принципов и бытовых правил,
считая их пустыми предрассудками. В нем бурно кипит энергия,
неукротимая инициатива не чувствует узды, он пришпоривает
волю и устремляется к цели, преодолевая навязчивые сомнения,
не страшась риска, и крушит препятствия, не разбираясь в сред¬
ствах». Вот, значит, в чем дело! Путь, по которому пошел ренес¬
сансный гуманизм, привел его к краху, как категорию не только
интеллектуальную, но и моральную.
То, что авторы подвели своего читателя к этому выводу,
имеет очень серьезное значение. Гуманизм на всякой ступени
своего исторического пути всегда требовал определенной дисцип¬
лины ума и чувства, дисциплины интеллектуальной и мораль¬
ной. Средневековый гуманизм создал такую дисциплину; это
была дисциплина, основанная на религиозных представлениях
о мире и деятельности человека в нем. Ренессансный гуманизм
стал создавать свою дисциплину, строя ее уже на антропологи--
ческих воззрениях. Интеллектуальную сторону этой дисциплины
он искал на путях рационализма. (Замечу, кстати, что черты ра¬
ционализма свойственны Ренессансу,* где бы он ни проявился.
Вполне явственно, например, черты рационализма ренессансного
уровня проявились в философии китайского Ренессанса — в так
называемом неоконфуцианстве.). Эти черты в эпоху Ренессанса
в Европе еще не сложились в определенную систему, но присут¬
ствие их ощущается всюду — в естествознании, исторической
науке, даже литературе. Моральную же дисциплину ренессанс¬
ный гуманизм продолжал брать из религии. И в этом, между
прочим, также обнаруживается переходная природа этого этапа
истории человечества. Ведь только с наступлением эпохи Про¬
свещения, этого подлинного века рационализма, была создана на
новой, строго антропологической основе и дисциплина интеллек¬
туальная, слившаяся с дисциплиной моральной.
260
Именно эта недостаточная еще развитость в условиях Ренес¬
санса новой мировоззренческой опоры — рационализма — и при¬
вела к краху моральной дисциплины гуманизма. Действительно
ренессансное раскрепощение личности было само по себе «чре¬
вато кризисом». Действительно принцип «человек—мера всех
вещей», т. е. антропологический гуманизм превратился в прак¬
тический девиз «все дозволено». И как ярко в истории Ренес¬
санса это проявилось! И как отчетливо отразилось в историче¬
ских хрониках и трагедиях Шекспира! К равновесию — при вза¬
имной зависимости — дисциплины интеллектуальной и мораль¬
ной привел только век Просвещения с его рационалистической
философией. Впрочем, также на определенное время: твердые
основы рационалистической дисциплины интеллектуальной и мо¬
ральной создал Декарт, но у Канта развитие на этой основе при¬
вело к тупику антиномий, т. е. опять к краху гуманистического
идеала. Поиски нового гуманистического идеала пошли по дру¬
гим путям.
Крах ренессансного гуманизма, как этической категории, и
обусловил то состояние глубокой потрясенности, которое М. и
Д. Урновы видят в душе Гамлета, а через него — самого Шек¬
спира, а через него и вообще молодого человека конца XVI —
начала XVII в.— конечной поры истории Ренессанса вообще.
Шекспир с огромной силой отразил тот душевный надлом,
которым заканчивался ренессансный гуманизм; тот надлом, ко¬
торый создает в человеке «рассудок, отуманенный безумием»,
«кипящий мозг». Но тот же Шекспир показал и пути выхода из
этого кризиса. Этот выход — в восстановлении в человеке утра¬
ченной гармонии.
Лучшим выражением Гармонии, ее символом у Шекспира,
как считают авторы, служит музыка. И вот эта гармония, пред¬
ставленная музыкой, решает все: «Торжественный напев врачует
рассудок, отуманенный безумьем, кипящий исцеляя мозг».
Эти слова взяты авторами из «Бури», этой поистине самой
удивительной из пьес Шекспира. Позволю себе выписать одно
место книги М. и Д. Урновых, которое мне представляется
крайне важным для всей их концепции:
«Волшебник Просперо, центральное лицо драмы, призывая
„музыку небес", передает авторское мироощущение. Тяготение
к музыкальному звучанию жизни может показаться надзвезд¬
ным, а монолог о „могуществе ужасного заклятья", снимаемого
музыкой,— ворожбой алхимика.
Между тем метафорическими словами облечено просветление
и поэтическое прозрение. Возможно, в основе его необычной
силы — чувство жизни, ее ритмического биения, непрерывно
ощущаемого. Эту силу питает опыт, проверенные впечатления от
человека, знание народной жизни. Вслушиваясь в этот ритм,
вдохновляясь мощью разума и воли, Просперо, последний герой
Шекспира, откликается на радостный возглас дочери: „Как род
261
людской прекрасен!..“ Просперо, а вместе с ним покидающий
театр Шекспир заново обращает надежды к человеку».
К какому человеку? К человеку прошлого, т. е. средневеко¬
вья? Но авторы хорошо показали, что Шекспир там ничего найти
не мог. Они очень удачно вспомнили про Мэлори, который еще
за сто лет до Шекспира,— при всем своем восхищении рыцарями
Круглого стола,— показал крах этой «рыцарской вольницы».
К человеку будущего, т. е. наступающего буржуазного века?
О, нет! Авторы хорошо пояснили это, вспомнив о Ленгленде.
Разве «видение» этого, тогда еще далекого, века вызвало у Пи-
тера-Пахаря, простого человека своего времени, восторг? Совсем
наоборот!
Было бы не только дешевым, .но и просто удручающим заго¬
ворить здесь о человеке иной, послебуржуазной эпохи. И авторы,
конечно, этого не делают. В мечтаниях драматурга об идеаль¬
ном обществе и новом человеке не следует искать «теоретиче¬
скую' программу или стройную систему практических указа¬
ний»,— справедливо пишут они. Дело идет не о человеке какой-
либо конкретной исторической эпохи; дело идет о человеке во¬
обще, а еще точнее — о гуманистической вере в человека. Тут
следует только отметить, что такая вера в человека характерна
не только для гуманизма времени Ренессанса, но для гуманизма
любой другой эпохи. Иначе это просто не был бы гуманизм.
Что же питает эту веру в человека? Да еще в те дни, когда
«ужасный век, ужасные сердца»? Авторы хорошо это объяснили,
и их объяснение, может быть, и есть самое существенное в их
книге — отклике человека нашей страны, наших дней на думы
Шекспира. Веру в человека питает «перспективность мышления».
«Ощущение надвигающегося хаоса никогда всецело не овладе¬
вало Шекспиром. Потому ли, что в нем жило, как в Пушкине,
чувство далекой перспективы или он в большей степени был
прочным человеком момента?» — задают себе вопрос авторы.
И отвечают: Шекспир «трагически потрясен неустроенностью и
разладом, и только гениальная перспективность мышления удер¬
живает его в пределах гуманистической веры...».
К чему же привела эта действительно гениальная перспек¬
тивность мышления? К оптимизму? Да, к оптимизму!
Шекспир — оптимист даже тогда, когда пишет свои хроники,
даже такую кровавую, как «Ричард III». «Ужас и кровь, напол¬
няющие историю Англии, представляются ему искупленными от¬
крывающейся перспективой».
В процессе работы над рукописью авторы заменили бывшее
у них ранее в этой фразе слово «оправданными» словом «искуп¬
ленными». Ужас и кровь никогда и ничем не могут быть оправ¬
даны. Их либо прощают, либо искупают. Но простить может
лишь тот, кому дано это право, искупить же их обязано челове¬
чество. Ужас и кровь, наполняющие историю Англии, представ¬
ляются Шекспиру, как раскрывают авторы, искупленными от¬
262
крывающейся ему перспективой — может быть, тогда и очень
еще далекой — великих трудов человечества, направленных на
устранение из жизни английского народа и всех народов земли
ужаса и крови, устранение их на основе нового, еще более глубо¬
кого и всестороннего гуманизма.
На чем же основана у Шекспира эта оптимистическая вера
в человека? Авторы отвечают: «Одно слово... вырывается и сразу
становится заметным, ибо оно тянет за собой ту же цепь гамле¬
товских ассоциаций. Слово это — „совесть"».
Совесть и позволяет не бросать надежды на будущее челове¬
чества даже в самые тяжелые времена. Не могу не вспомнить,
что в конце китайской эпохи Ренессанса с особой силой было
произнесено слово, по смыслу тождественное русскому «со¬
весть» — лянсинь. О совести как о великом начале человеческой
природы, направляющем всю деятельность человека, заговорил
тогда последний представитель ренессансной философской
мысли в Китае Ван Ян-мин (1472—1526).
Мне кажется, что у Шекспира есть даже нечто такое, что
можно понять как высшее проявление именно гуманистической
совести. Но предварительно следует вспомнить, что говорил
о своем времени, о своем трагическом двадцатилетии один из
современников Шекспира — Джон Донн, автор «Анатомии
мира». Позволю себе повторить цитату, приведенную в книге
М. и Д. Урновых:
Так много новостей за двадцать лет
И в сфере звезд, и в облике планет,
На атомы вселенная крошится,
Все связи рвутся, все в куски дробится.
Основы расшатались, и сейчас
Все стало относительным для нас.
(Перевел Б. Томашевский)
Обратимся еще раз к Шекспиру. Кто главный герой «Бури»?
Просперо, т. е. тот, который вызвал эту самую бурю. Но он же
и открыл путь к миру и счастью. На чем основано его могуще¬
ство? Он — маг, открывший «тайну страшную природы», вели¬
кую и действительно страшную силу природы, и овладевший ею.
Но, испробовав раз эту почти сверхъестественную мощь, увидев,
что это такое, он отрекается от нее. Не совесть ли как удиви¬
тельное свойство человеческого начала в человеке, как высшая
этическая категория заставила его так поступить?
М. и Д. Урновы написали книгу о Шекспире. Конкретно-исто¬
рическом Шекспире. Но «художественная мысль, насыщенная
жизнью и нашедшая свой образ, обретает нечто вроде самостоя¬
тельной жизни»,— читаем мы у них. «Посмертная жизнь» Шек¬
спира, о которой они сказали в самом начале своей книги, и есть
ставшая самостоятельной жизнь его трагедий.
Один аспект этой жизни мы с особой силой ощутили в минув¬
шее, к счастью, минувшее, двадцатипятилетие нашей истории,
263
действительно исполненное, как сказали авторы, поистине шек¬
спировской трагичности. Нужно ли после написанного выше
разъяснять, почему в книге М. и Д. Урновых следует видеть не
юбилейное мероприятие, а горячий отклик на творения Шекспира
человека нашей эпохи, нашей страны — страны великой перспек¬
тивности мышления, огромной гуманистической веры в человека,
страны, жизнью которой должны управлять наряду с разумом
и волей именно совесть — образ и выражение высшего этиче¬
ского начала в человеке?
1964 г.
«витязь В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ» И ВОПРОС
О РЕНЕССАНСНОМ РОМАНТИЗМЕ
Ответить на вопрос о месте поэмы Руставели в истории ми¬
ровой литературы — значит прежде всего назвать ряд, в котором
она помещается. Мне кажется, что ряд этот таков: «Шах-намэ»
Фирдоуси (XI в.), «Вис и Рамин» Гургани (XI в.), «Хосров и
Ширин» и «Лейли и Меджнун» Низами (XII в.), «Фархад и Ши¬
рин» и «Лейли и Меджнун» Навои (XV в.), «Влюбленный Ро¬
ланд» Боярдо (XV в.), «Неистовый Роланд» Ариосто (XVI в.),
«Освобожденный Иерусалим» Тассо (XVI в.). Относясь к XII в.,
«Витязь в тигровой шкуре» занимает в этом ряду хронологиче¬
ски среднее место — вместе с указанными произведениями Ни¬
зами, но несколько позднее их, так как в эпоху создания «Ви¬
тязя» они уже существовали.
* * *
Что такое эти все произведения? Принято говорить о них,
как о «поэмах». Если считать «поэмой» поэтическое по приемам
повествовательное произведение, написанное стихами, они дей¬
ствительно должны так называться. Итальянские части приве¬
денного ряда называют «рыцарскими поэмами»; с полным осно¬
ванием так же можно назвать и перечисленные произведения
Фирдоуси, Гургани, Низами, Руставели, Навои.
Название «рыцарские поэмы» в данном случае определяет и
историческое место подобных произведений, во всяком случае —
итальянских: «Влюбленный Роланд», «Неистовый Роланд», «Ос¬
вобожденный Иерусалим» — явления литературы итальянского
Ренессанса. Принадлежностью литературы восточного Ренес¬
санса считает «Витязя в тигровой шкуре» исследователь этой
поэмы Ш. Нуцубидзе \ Поскольку важнейшие признаки, харак¬
терные для поэмы Руставели, .вполне приложимы и к поэмам
Низами и Навои, постольку и они должны быть отнесены к тому
же восточному Ренессансу. Вполне аргументированно относит
поэмы Фирдоуси и Низами,к этому Ренессансу И. С. Брагин¬
ский2. Под «Восточным Ренессансом» же в этом случае разумеют
265
те особые — «ренессансные» — явления в общественной мысли,
культуре и литературе, которые развернулись в X—XV вв. у на¬
родов Среднего Востока — Ирана, Северо-Западной Индии,
Средней Азии и Закавказья.
Мысль о наличии у этих народов «эпохи Ренессанса», в своих
существенных чертах сопоставимой с хорошо известной эпохой
Ренессанса у народов Европы, возникла в нашей науке сравни¬
тельно недавно, и родилась она в процессе изучения мировой
истории как некоего целого, без разделения на «Запад» и «Во¬
сток». В свете такой общей истории «эпоха Ренессанса» пред¬
стала перед нами как один из этапов исторического процесса в
истории народов, обладающих древней, высокоразвитой и не¬
прерывно развивавшейся цивилизацией. Конечно, работы пред¬
стоит еще очень много, но, как мне кажется, сделанного до сих
пор уже достаточно, чтобы отнестись к мысли о наличии в исто¬
рии народов Азии своих эпох Ренессанса хотя бы как к обосно¬
ванной научной гипотезе. Изучение же поэмы Руставели в свете,
грузинского Ренессанса, как это сделал Ш. Нуцубидзе, дает но¬
вый и убедительный материал в пользу такого постулата.
Что же дает для истории мировой литературы изучение «Ви¬
тязя в тигровой шкуре» в указанном ряду, т. е. в сопоставлении
с поэмами Фирдоуси, Низами, Навои, Ариосто и Тассо? Прежде
всего, как мне кажется, право заговорить о наличии в литературе
Ренессанса особой романтической линии — о ренессансном ро¬
мантизме. Разумеется, он — не такой, каким был романтизм в ев¬
ропейских литературах начала XIX в. Шатобриану очень не
нравился «Освобожденный Иерусалим». Это означает, что для
него романтизм поэмы Тассо был либо не тот, какой он призна¬
вал, либо вообще не был романтизмом. Тариэл, потерявший свою
возлюбленную, льет слезы, но совсем не так, как Вертер. Надо
говорить о романтизме «своем», «ренессансном» и к самому слову
«романтизм» отнестись как к условному обозначению некоторой
суммы признаков, отличающих все перечисленные поэмы от
других видов литературы той же эпохи; к обозначению столь же
условному, каким является и «реализм» в приложении к неко¬
торым из других видов этой литературы, в первую очередь — к
новелле. Будущее исследование раскроет нам существо ренес¬
сансного романтизма и, возможно, определит его как «романтизм
героический». Возможно также, что одним из самых типичных
героев этого романтизма, как на Западе, так и на Востоке, бу¬
дет признан «меджнун» — «безумец», т. е. человек, одержимый
любовью, потерявший рассудок из-за любви. Ведь говорит же о
чем-то наличие именно такого героя у Низами — в «Лейли и
Меджнуне», у Руставели — в «Витязе в тигровой шкуре», у На¬
вои— в «Лейли и Меджнуне», у Ариосто — в «Неистовом Ро¬
ланде», т. е. в наиболее показательных произведениях указан¬
ного ряда. Исключительный интерес представило бы и сравни¬
тельное изучение типа такого героя: Тариэл у Руставели — не
266
совсем то, что Каис у Низами; и совсем не Тариэл и не Каис —
Роланд у Ариосто, хотя все они по-своему «меджнуны» или «мид-
жнуры», как звучит это слово в его грузинском варианте. Тип
«меджнуна» в этих поэмах модифицирован, разработан по-раз¬
ному: в этом проявляются и национальные особенности данной
литературы, и различия, обусловленные разным временем
создания самих произведений. Но как общий тип он остается
тем же.
Изучение романтической линии ренессансной литературы име¬
ет, как мне кажется, большое значение для правильного пред¬
ставления об этой литературе в целом. При разговоре о литера¬
туре Ренессанса мы прежде всего вспоминаем поэтов. И это
вполне понятно: ведь, кого мы при этом имеем в виду? Рудаки,
Саади, Хафиза, Руми, Петрарку, Ронсара! И это — только в пре¬
делах Среднего Востока и Западной Европы. Мы говорим далее
о трактатах, посланиях и т. п.— о различных видах художествен¬
ной публицистики, даже науки: эти жанры не только широко и
разносторонне представлены во всех ренессансных литерату¬
рах,— как на Востоке, так и на Западе,— но и представляют
одну из примечательных особенностей самой системы этих ли¬
тератур. Мы говорим, далее, о новелле. И, действительно, она
характерна для ренессансных литератур Западной Европы и
Китая. Мы подчеркиваем реалистические элементы в этой но¬
велле; говорим даже о «ренессансном реализме» как чуть ли не
о самом существенном направлении в литературе Ренессанса.
И как-то остается недооцененной линия «рыцарских поэм», т. е.
литературы ренессансного романтизма. А поэмой Ариосто в
Италии зачитывались едва ли менее, чем новеллами Боккаччо
или Саккетти; достаточно указать на то, что с 1516 г., когда впер¬
вые появился для читателей «Неистовый Роланд», по 1600 г.
«Неистового Роланда» издавали 185 раз! Первый поэт Ренессанса
в Италии — Петрарка был торжественно увенчан лаврами в Ка¬
питолии, но такой же триумф готовился и Торквато Тассо — ав¬
тору «Освобожденного Иерусалима», и только его болезнь поме¬
шала этому триумфу осуществиться. А сколько подражаний этим
поэмам было в разные времена того же Ренессанса! Нет, роман¬
тическая линия в ренессансной литературе Италии отнюдь не вто¬
ростепенна. Можно ли себе представить итальянский Ренессанс
без Боярдо, Ариосто, Тассо? И с чем больше всего перекликаются
образы ренессансного искусства — скульптуры, живописи, архи¬
тектуры, как не с образами этих поэм? Не буквально, а по сво¬
ему характеру! Если же учесть, что Низами, Руставели и Навои
представляют «Восточный Ренессанс» ничуть не меньше, чем его
знаменитые поэты, ренессансный романтизм предстает перед
нами не только как одно из звеньев ренессансной литературы, но
и как ее исключительно показательный вид. Да и могла ли такая
великая эпоха, как Ренессанс, обойтись без своей героики и ге¬
роики при этом подъемной — «романтической»? Какими другими,
267
как не романтическими, приемами могли быть обрисованы во
всей своей мощи и красоте идеальные образы эпохи? Образы
света и тьмы, добра и зла, красоты и безобразия?
* * *
Изучение «Витязя в тигровой шкуре» помогает раскрыть и то,
как складывались подобные произведения. По отношению к
итальянским поэмам это уже сделано; и сделано очень обстоя¬
тельно: выяснен материал, который лег в основу этих поэм. Мы
знаем, какое место при создании этих поэм занимали сказания
каролингского и артуровского циклов. Выяснено, например, что
при всем грандиозном сюжетном богатстве и разнообразии «Не¬
истового Роланда» в этой поэме нет ничего, что Ариосто изобрел
бы сам: все взято из каких-либо источников. Известны источ¬
ники и «Витязя в тигровой шкуре»: они показаны в работах
Н. Я. Марра — «Об истоках творчества Руставели и о его поэме»
(Тбилиси, 1964), Ш. Нуцубидзе — «Руставели и Восточный Ре¬
нессанс», И. В. Мегрелидзе — «Руставели и фольклор» (Тбилиси,
1960). Сделано многое и в отношении поэм Низами и Навои.
Но столь же важно установить, что получилось в результате соз¬
дания этих поэм. Дело ведь не только в том, что простые «песни»
различных рапсодов, рассчитанные на устное воспроизведение,
под руками образованных, обладавших книжной культурой, ли¬
тераторов превратились в литературные произведения: мы зна¬
ем, что на базе этих «песен» еще в раннем Средневековье также
складывались свои «поэмы» — большие, цельные поэтические
произведения. Достаточно вспомнить хотя бы «Песнь о Роланде»,
«Песнь о Сиде», «Песнь о Гудрун», наконец, «Песнь о Нибелун-
гах». Суть вопроса поэтому в том — чем ренессансные рыцарские
поэмы отличаются от средневековых. Отличаются не по мате¬
риалу, а по литературному существу.
Ответить на этот вопрос можно только большим исследова¬
нием, но все же, особенно после чтения «Витязя в тигровой шку¬
ре», можно и сейчас высказать хотя бы несколько соображений.
В средневековых рыцарских сказаниях и в рыцарских поэмах
Ренессанса герои — одни и те же. Так, во всяком случае — в ли¬
тературе Европы. Мне кажется, что это распространяется и на
литературы Востока, во всяком случае — на некоторые; доста¬
точно указать на «переход» некоторых героев из поэмы Фир¬
доуси в поэмы Низами. Одинаковы и образы этих героев: они —
носители «героических» начал, как светлых — мужества, верно¬
сти, благородства, так и темных — трусости, вероломства, подло¬
сти. Но в средневековом рыцарском эпосе показаны сами эти на¬
чала в наиболее впечатляющих их проявлениях; в ренессансных
рыцарских поэмах показаны люди, выразители этих начал; сами
же акты мужества, благородства, дружбы, любви, как и веро¬
ломства, гнусности, даются как знаки силы или слабости чело¬
268
веческой личности, как проявления живой человечности,— не ста-
туарно, а в движении. В средневековом рыцарском эпосе воспе¬
вается подвиг, в ренессансной рыцарской поэме — человек, совер¬
шающий подвиг. В средневековом рыцарском эпосе показывается
подлость, в ренессансной поэме — человек, совершающий под¬
лость.
Другим отличием ренессансных поэм от средневековых долж¬
на быть признана поразительная пластичность образов, гармо¬
ническое слияние отдельных черт характеров персонажей. С этой
стороны примечательны, как мне кажется, иллюстрации худож¬
ника С. Кобуладзе к «Витязю в тигровой шкуре»: они превос¬
ходно передают пластичность и гармоничность образов поэмы.
Художник не поддался сказочности сюжета поэмы и особенно —
многих ее эпизодов. В том и заключается ренессансное существо
поэмы Руставели, что сказочность — чисто внешняя, условная;
вернее даже, то, что мы можем воспринять, как «сказочность»,
есть именно тот «романтизм», который определяет существо твор¬
ческого метода создателя поэмы. Образы поэмы Руставели не
сказочны, а реальны, но реальность их дана не в приземленно-
бытовом плане, а в приподнятом, идеально-преображенном, что
и делает их впечатляющими не только для людей своего времени,
но и для читателей других веков, в том числе и двадцатого..Пре¬
восходно эта идеализированная, т. е. самая подлинная в своей
глубинной сущности, реальность дана в посланиях, которыми об¬
мениваются действующие лица поэмы. Одних этих посланий до¬
статочно, чтобы увидеть ренессансную, чисто человеческую, сущ¬
ность поэмы Руставели. Как, впрочем, и поэм Низами и Навои.
Здесь мне все же хотелось бы сделать одну оговорку. Я ни¬
как не хочу сказать, что рыцарские поэмы Ренессанса — выше ры¬
царских поэм Средневековья, что «Неистовый Роланд» выше
«Песни о Роланде». Средневековье, т. е. средневековый мир до
наступления своей ренессансной поры,— отнюдь не примитив,
темнота, невежество, как это старались внушить себе и своим
современникам ренессансные гуманисты: это — великая, гранди¬
озная пора культуры, создавшая свои немеркнущие и никогда
более не повторенные ценности. «Неистовый Роланд» просто не¬
что другое, чем «Песнь о Роланде», не лучше и не хуже. Исто¬
рическое движение тут состоит в том, что для одной поры было
важно прежде всего «деяние», для другой — «деятель».
«Витязь в тигровой шкуре» позволяет увидеть еще одну черту
ренессансных поэм: их композиционную четкость. Исследователи
европейских образцов таких поэм давно обратили внимание на
то, что за чрезвычайной сюжетной пестротой, чуть ли не хаотич¬
ностью, за безудержным нагромождением всевозможных собы¬
тий, скрывается гармонический план, которому и подчинено все
изложенное. В этих случаях говорят о скрытой и мудрой дисцип¬
лине авторской фантазии, властвующей над всем творческим про¬
цессом. Мне думается, что дело здесь не в дисциплине, как та¬
269
ковой; дисциплина, если говорить о ней в этом случае, есть не
более, как проявление чего-то более глубинного: той рациона¬
листичности мышления, которая была свойственна деятелям Ре¬
нессанса и которая составляет одну из самых существенных черт
умственного уклада эпохи. Стоит только присмотреться к тому,
как развернут сюжет «Витязя в тигровой шкуре», чтобы ясно
увидеть, что материал — при всей своей фантастичности — обра¬
ботан вполне рационалистически: все повороты сюжета мотиви¬
рованы и подчинены замыслу.
* * *
Поэма Руставели стоит в определенном ряду. Ряд этот был об¬
рисован выше. Но ряд этот — от Фирдоуси до Тассо — есть дви¬
жение — и во времени, и в пространстве. Не выходя из этого ряда,
мы проходим по XI, XII, XV и XVI вв.; переходим из Ирана в
Азербайджан, оттуда в Грузию, из нее — в Среднюю Азию, а за¬
тем— в Италию. При изучении этих поэм, особенно при сравни¬
тельной оценке их, необходимо учитывать оба эти движения.
«Витязь в тигровой шкуре» находится в первой половине этого
ряда — на исходе этой половины — и по времени, и по месту.
Разумеется, каждая страна, в которой родилась та или иная
поэма, имеет свою собственную историю, и прежде всего в свете
именно этой истории и надлежит оценивать каждую из этих поэм.
Но есть и общее движение истории, в той или иной мере проявля¬
ющееся в судьбе каждой страны. Это особенно относится к исто¬
рии тех народов, которым принадлежат перечисленные поэмы.
Не претендуя на далеко идущие выводы, позволю себе обра¬
тить внимание на некоторые элементы этих поэм, которые, как
мне кажется, помогают уяснить направление общеисторического
движения в эти века в этой части мира, а тем самым помогают
лучше понять и отдельные поэмы данного ряда.
В «Неистовом Роланде» героиня — Анджелика — находится
на попечении старого герцога Немона. Войско Немона разбито
сарацинами. Анджелика на быстром коне мчится куда глаза гля¬
дят. Следует целая вереница приключений. Но вот она встре¬
чается с раненым сарацинским рыцарем Медоро, юным и пре¬
красным. Она проникается жалостью к нему и излечивает его
раны. Конечно, влюбляется в него. Разумеется, и он — в нее. Тем
временем Роланд, влюбленный в Анджелику, всюду ищет ее. Он
приходит в ту долину, где она встретилась с Медоро. И что же
он видит? Их там нет, но всюду на коре деревьев их вензеля,
слова любви. То же и в гроте, где влюбленные скрывались. Это
приводит Роланда в неистовство. Он становится даже не просто
«меджнуном», «одержимым», но настоящим безумным.
Право, сейчас трудно без улыбки читать про эти вензеля и
любовные стишки, вырезанные на коре деревьев или на стенках
грота. Но все дело в том, что и Ариосто явно улыбается.
270
Исследователи рыцарских поэм итальянского Ренессанса от¬
мечают юмор, то и дело прорывающийся у авторов в их повест¬
вовании. Жонглер, этот рапсод старо-французского эпоса, с воо¬
душевлением описывал невероятные подвиги своих героев, не же¬
лая и думать о каком-либо правдоподобии. Ренессансный автор
также описывает такие подвиги, нередко даже стремясь сделать
их еще более поразительными. Вот, например, у Тассо в «Осво¬
божденном Иерусалиме» семеро рыцарей побивают рать из двух
миллионов воинов — никак не меньше. Выходит, что авторы поэм,
эти культурнейшие, просвещенные интеллигенты своего времени,
искренне любуются своими героями, увлеченно развертывают
перед читателем их приключения, но далеко не все в них прини¬
мают всерьез. В нагромождении невероятностей, в гиперболиза¬
ции отдельных черт некоторые исследователи даже усматривают
прием реалистического снижения героических образов. Элементы
иронии и даже прямой сатиры есть и у итальянских авторов, и у
восточных; особо выразительны они — в поэме «Вис и Рамин»
Гургани. Да есть они и у Руставели. Например, в эпизоде Фатьмы
и Автандила при описании страсти, обуявшей Фатьму, и самооп-
равдательных раздумий Автандила. Но мыслимо ли, чтобы Шота
Руставели связал «безумие» Тариэла с чем-нибудь вроде вен¬
зелей, нацарапанных на коре деревьев? Автор слишком любит
своих героев, слишком искренне любуется ими, по-настоящему
всерьез переживает их огорчения и радости, чтобы позволить
себе, пусть и ласково, усмехнуться по поводу того или иного их
поступка.
Безумие Роланда в поэме Ариосто излечивается. Но как?
Оказывается, утраченный им разум — на луне. А что такое луна?
Склад неисполнившихся желаний людей, их неоправдавшихся
надежд, обманутых ожиданий, горьких разочарований. Там же
находятся и рассудки тех, кто их утратил на земле. Рассудки
помещены в баночки или флаконы с этикетками, на которых
обозначено имя того, кому данный рассудок принадлежит. Од¬
ного только на луне нет — человеческой глупости; ее Ариосто це¬
ликом оставил на земле... И вот Астольфо летит на луну и добы¬
вает там флакон с разумом Роланда: он сразу находит этот фла¬
кон по его величине и тяжести. Роланд вдыхает содержимое фла¬
кона и снова обретает разум.
Можно себе представить, с каким удовольствием писал все
это Ариосто. Вероятно, он весело посмеивался. Как и его просве¬
щенные друзья. «Безумен» по-своему от любви и Тариэл, но мыс¬
лимо ли, чтобы Руставели вернул ему разум иначе, как соединив
его с возлюбленной?
Конечно, ни Ариосто, ни Тассо, у которых ирония особенно от¬
четлива, никак не осмеивают рыцарство. Они вполне искренни в
своих стремлениях возвеличить в своих поэмах — в образах ры¬
царей— то, что им дорого: высокие человеческие чувства — ве¬
ликодушие, благородство, мужество, самоотверженность, беспре¬
271
дельную верность, всепоглощающую любовь. Через эти образы
они принимали свой мир — с человеком, освобожденным в своем
разуме и чувстве от всяких оков. И все же усмешка присутствует
в их-произведениях. А у Руставели ее нет.
Вот тут-то и сказалось упомянутое историческое движение.
Ариосто и Тассо принадлежат XVI веку, а этот век — закат
итальянского Ренессанса. Руставели, как и Низами, принадле¬
жит XII веку, а этот век в их странах — расцвет Ренессанса. За¬
кату всегда присущ некоторый скепсис по отношению к ценно¬
стям и идеалам своего времени; да и сами идеалы в эту пору уже
тускнеют. В пору же расцвета эти идеалы в полной силе. По¬
этому именно к «Витязю в тигровой шкуре» следует обращаться
при желании услышать Ренессанс в его мажорном звучании. Сле¬
дует обратить самое серьезное внимание и на то, что поэма Ру¬
ставели чуть ли не единственная во всем перечисленном ряде,
которая заканчивается счастьем, радостью.
Явления Ренессанса на Востоке, например,— в указанной ча¬
сти восточного мира, стали возникать по времени раньше, чем на
Западе, в частности,— в Италии. Трудно, во всяком случае —
пока, провести какую-то общую «ренессансную линию» с Востока
на Запад. Те особенности, которые мы находим в поэмах Ари¬
осто и Тассо, следует прежде всего объяснять историей их ро¬
дины — Италии. Но невольно закрадывается мысль, не «старше»
ли по историческому возрасту Ренессанс в Италии, не более ли
«молод» в этом смысле Ренессанс в Иране, Азербайджане, Гру¬
зии? И не одна ли из самых «молодых» ренессансных поэм — бес¬
смертная поэма Руставели? Не потому ли она так «звучит» в на¬
шем, вновь ставшем молодым, мире?
1968 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См. Ш. И. Нуцубидзе, Руставели и Восточный Ренессанс, Тбилиси, 1947.
2 См. И. С. Брагинский, Двенадцать миниатюр, М., 1966.
СРЕДНЕВОСТОЧНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
И АЛИШЕР НАВОИ
1
Герат и Самарканд... Самарканд и Герат... Это — не просто
города, где протекала жизнь и деятельность Алишера Навои,
это — полномочные представители его мира — той зоны Старого
Света, которой они, эти города, принадлежали. Подумаем не¬
много об этой зоне.
Вот она, эта зона, в IV веке до н. э. Тогда она — империя Ис-
кендера. Говорю Искендера, а не Александра, потому что созда¬
телем этой империи этот завоеватель стал тогда, когда он из ма¬
кедонца превратился в иранца, из сына царька захолустного
царства в сына Аммона-Ра. Именно этот Искендер, властитель
Греции, Ирана, Египта, присоединивший или приблизивший к
себе — то как грозный полководец, то как умный и великодуш¬
ный государственный деятель—Кашмир, Индию, Китай, именно
этот Искендер первый с исключительной яркостью показал, что
необъятные пространства, по-нынешнему — Средняя Азия, Аф¬
ганистан, Северо-Западная Индия, Иран, Закавказье, присреди-
земноморские страны Юго-Западной Азии и Северо-Восточной
Африки,— что эти пространства составляют не только Средин¬
ную, географически, зону Старого Света, но и Центральную: по¬
литически— как центр могущественной державы, культурно —
как важнейший тогда очаг мировой, именно мировой, а не ло¬
кальной культуры. Политически это была только идея, властная,
могучая, но все же лишь идея, но культурно-исторически — факт.
Великая культура Древнего Египта, Ахеменидской Персии — а
это значит, и того, что было за ней — культура Ассиро-Вавилон¬
ская,— культура Эллинского мира — реальность. Реальность и их
европо-афроазиатский комплекс — то, что с IV века до н. э. стало
слагаться именно в этой зоне Старого Света.
И вот она, эта зона, во II веке уже нашей эры. Она опять
стала Центральной. Тогда она была объединена Кушанской им¬
перией, а ее властитель — Канишк-а— был одновременно Шаона-
на-шао (Царь царей), Девапутра (Сын Неба), Кайсара (Ке¬
сарь), Магараджа. Политически это была опять только идея: ни
ханьские хуанди, ни римские цезари не преклонялись перед ку-
18 Н. И. Конрад
273
шанскими властителями, но культурно-исторически это опять —
факт. И факт еще большей исторической значимости. На огром¬
ных пространствах этой зоны снова образовался комплекс. На¬
иболее известным выражением его явилось искусство. Его мы
называем гандхарским — по главному району, где оно было об¬
наружено, греко-буддийским, а лучше сказать греко-индий¬
ским,— по его источникам. Но даже такое более расширенное
наименование не исчерпывает всех его элементов: в нем, этом
искусстве, есть не только то, что пришло сюда из окраин этой
Срединной зоны — эллинистического мира и мира индийского, но
и то, что зародилось за пределами этой зоны: далеко на За¬
паде— в Риме, далеко на Востоке — в Китае. А главное, все это
накладывалось на свое, исконное — на первый, начавший созда¬
ваться еще в IV веке до н. э. культурно-исторический комплекс.
Если этнически эта Срединная зона и не имела определенного
лица — ведь в ней были тогда иранцы, индийцы, греки,— то куль¬
турно у нее такое, глубоко своеобразное и, главное, собственное,
лицо было.
В эпоху Кушанской империи эта зона вновь стала Централь¬
ной для всего Старого Света, но на этот раз — и в другом, осо¬
бом аспекте.
Во всякой эпохе есть ее современность и ее будущее. Совре¬
менностью тогда во II—III вв. н. э. как в Кушанском царстве,
так и за его пределами была Античность. И какая Античность!
Не забудем, что на Востоке это был век Поздней Ханьской импе¬
рии, на Западе — век Августа-Диоклетиана. А это — не просто
Античность, это — ее апогей.
Да, апогей... Но вспомним другой апогей. В небе нестерпимым
блеском засияла величественная Валгалла. С земли к ней про¬
тянулся сияющий мост — радуга. И по этому мосту торжествен¬
но, величаво шествуют в эту самую Валгаллу боги. Высшее тор¬
жество! Апогей! Не правда ли? А оказалось, что это был также
и УогаЬепб «Канун». И за ним последовал великий пожар Вал¬
галлы, а вместе с ним и ОбИегбаттегипд, «Сумерки богов»...
Первый факел, который был брошен в Сияющую Валгаллу Ан¬
тичности, факел, созданный той же Античностью, был зажжен
именно тут, в Кушанском царстве. При том же Канишке состо¬
ялся Вселенский собор буддизма, его называют и вторым и тре¬
тьим, а этот собор превратил принципиальное вероучение во все¬
ленскую религию: он со всей мощью вознес идею Махаяны,
«Большого Колеса», и он же положил начало «походу веры», то
есть внес во вселенскую идею необходимый для нее динамизм.
А менее чем через два столетия, в 325 г. в той же Центральной
зоне, в малоазиатской Никее, состоялся первый Вселенский со¬
бор христианства, выработавший всеобъемлющую доктрину
веры, которая превратила первоначально провинциальную секту
во вселенскую религию, и религию при этом — миссионерскую,
то есть с тем же неудержимым динамизмом. А еще через четыре
274
столетия, в VII в., также в этой зоне был приведен в систему Ко¬
ран, превративший ислам в третью — вселенскую по идее, мис¬
сионерскую по динамизму — религию человечества.
То, что все это происходило именно в этой зоне Старого Све¬
та, не было ни случайностью, ни прихотью божественной Клио.
Ведь именно в этой зоне Старого Света еще во времена Искен-
дера твердо установилась одна из самых великих идей челове¬
чества — идея универсализма. А коль скоро так, не заслуживает
ли она имени не просто Срединной, но Центральной зоны Ста¬
рого Света? И разве не такой же она в третий раз стала в век
Алишера Навои?
2
Да, она стала такой, по-своему, по-новому, но все же опять
не только географически Срединной, но — Центральной зоной.
Прежде всего потому, что в ней снова ожил великий дух уни¬
версализма. И опять — в тех же своих двух ипостасях: полити¬
ческой и культурной. На этот раз дух Искендера и Канишки про¬
явился в Тимуре. Я не оговорился: дух Искендера и Канишки,
а не Чингис-хана, потомком которого Тимур был и чью разва¬
лившуюся империю хотел восстановить. Но «Империя Чингиси-
дов», как и «Священная Римская империя германской нации»,
была лишь локальным выражением той подлинно вселенской
идеи, которая во всей ясности оформилась в этой Центральной
зоне Старого Света в век ее Античности и с особой силой воз¬
неслась в ее Средневековье. Понимал ли ее Тимур или не пони¬
мал— сказать трудно, но то, что он вырос там, где эта вселен¬
ская идея родилась, не могло не сказаться и на его идеалах.
И что же? Опять в политическом аспекте этот универсализм
оказался иллюзией, но в культурном — снова стал реальностью.
Помните, что произошло, когда Алишер закончил свою «Хам-
сэ», свое «Пятикнижие»? Он захотел показать этот свой труд, и
должен был это сделать, своему учителю и старшему другу —
Абдурахману Джами. Тот взял рукопись, бросил на нее взгляд —
и этого было достаточно: он положил руку на плечо ученика.
И тот увидел, что он в каком-то чудесном саду, а в этом саду
какие-то величавые мужи. Один из них подошел к нему, оказа¬
лось, это — Хасан Дехлеви, знаменитый поэт. Он сказал Али¬
шеру, что эти мужи хотят заговорить с ним. И вот перед Алише¬
ром— трое: посредине—Низами, справа — Амир Хосров, сле¬
ва— сам Джами. А за этими тремя стояли Фирдоуси, Унсури,
Насер Хосров, Анвари, Хакани, Сана’и, Саади. Прославленные
поэты с X—XI вв.— с века Фирдоуси, по середину XV века —
века Джами.
Нужно ли объяснять, что это означало? Не забудем, кто по¬
ложил свою руку на плечо поэта: его Учитель. Тогда Учитель де¬
лал только то, что единственно нужно ученику: делал невидимое
275
видимым, неосознаваемое — осознаваемым. Джами показал
своему ученику, к кому привела его Хамсэ, в круг каких людей
она его ввела, то есть показал ему и направление, и смысл его
творческой работы. А что большее может сделать Учитель? Но
великий Учитель сделал то же и для нас, историков литературы:
мы увидели то, что, может быть, не столь ясно видели,— эти люди,
эти поэты принадлежат одному большому времени, одной боль¬
шой эпохе и что эта эпоха — своя, особая.
Что это за эпоха? Чтобы лучше ответить на этот вопрос, к
перечисленным именам добавим еще некоторые, имена людей,
также принадлежавших этим пяти векам — с XI по XV. Вот эти
имена: Рудаки, Руми, Хафиз =— великие поэты; ал Фараби, ал
Бируни, Ибн-Сина, Ибн-Рошд — ученые, философы. Кажется, до¬
статочно. Примем еще во внимание и то, что ал Фараби был
тогда — и не только в этой зоне — авторитетнейшим знатоком
Аристотеля, что он сделал то, что для средневекового настроя
мышления было так близко и так нужно,— соединил аристоте-
лизм с неоплатонизмом. Не забудем, что Ибн-Сина не кто иной,
как Авиценна, то есть величайший в эту эпоху и для Запада ав¬
торитет в науке врачевания — той науке, которая, как показала
история научного знания, была входом в естествоведение, во вся¬
ком случае, в ту его область, которая изучает человека. Вспом¬
ним, наконец, что Ибн-Рошд — это сам Аверроэс, а аверроизм
был первым очагом, в котором затеплился огонек рационали¬
стической мысли, той самой, которая привела потом к Декарту,
Спинозе, Лейбницу — великим умам, открывшим новую струк¬
туру мышления, соединившуюся с тем комплексом новых явле¬
ний в экономике, социальном строе, политической сфере, который
мы называем Новым временем.
А Джами? Он — поэт, он — философ, он — филолог, он — му¬
зыкант. Но при всем том он — суфи. Для него существуют две
сферы познания: тайны бытия и тайны творчества. Поэтому среди
его писаний — тайноведческие откровения и трактаты по поэти¬
ке, риторике, музыке.
Не достаточно ли? Ибн-Рошд с его рационализмом, Джами с
его мистицизмом... Разве это не те самые могучие силы, которые
взорвали Средневековье и открыли дорогу к Новому времени?
Разве это не именно те силы, которые создали ту динамическую
переломную эпоху в общей истории феодального мира, которую
мы называем Ренессансом?
Но что они, эти силы, взорвали? Можно по-разному ответить
на этот вопрос — смотря с какой стороны к этой эпохе подойти.
Я позволю себе ответить: с особой стороны — той, существование
которой мне открыл буддизм.
Мы знаем, что одним из проявлений того, что я назвал ре¬
нессансным взрывом Средневековья, была реформация. Мы
знаем об этом по истории Ренессансной эпохи в Западной Ев¬
ропе. Мы знаем также —по тому, что нам открыла история
276
Западной Европы,— что в этой форме ранессансцый взрыв
произошел не в центральной стране западноевропейского Ренес¬
санса, а на ее периферии: не в исполненной тысячелетними куль¬
турными традициями Античности старой Италии, а в молодых
странах, не имевших опыта и наследия собственной большой Ан¬
тичности. Мне кажется, что это не случайность, а определенная
закономерность и что в сходных исторических условиях подоб¬
ную же картину, разумеется, расцвеченную своими красками,
можно наблюдать и на другом конце Старого Света — в Восточ¬
ной Азии, где также была старая, исполненная тысячелетними
традициями своей великой Античности страна — Китай и где ря¬
дом была молодая, не имевшая опыта и наследия подобной Ан¬
тичности Япония. В Китае, как и в Италии, Ренессанс проявился
не в форме Реформации, в Японии, как и в Германии — именно
так. Она была осуществлена, естественно, в сфере буддизма, и
произвел ее буддизм Дхьяна — тот самый, который в специаль¬
ной литературе западных стран называют обычно японским про¬
износительным вариантом этого санскритского слова — буддиз¬
мом Дзэн.
Я заговорил об этом только для того, чтобы воспользоваться
мудрым, как мне кажется, словом, которым деятели Дзэн-буд¬
дизма обозначили то, против чего они выступали, и одновременно
объяснили, почему они против него выступили. В буддийской
доктрине существует учение о трех эрах, через которые проходит
«Закон», как они говорили, то есть учение. Толкуются эти эры
по-разному, но суть всегда одна: каждое учение проходит три
эры. Первую они называют эрой «Истинного Закона»: это — то
время, когда учение пламенеет в душах людей, делает каждую
их мысль, каждое действие вдохновенным. Вторую они назвали
эрой «Подобия Закона»: это — тогда, когда все как будто на
своем месте, даже как будто прочнее, чем раньше, но учение
уже — простая принадлежность духовного мира, а не его жиз¬
нетворное начало. Мы говорим: гуманисты на Западе боролись с
догматикой и схоластикой. Не есть ли догматика и схоластика,
а с ними и то, чему они служат опорой,— ортодоксализм, именно
не «Закон», а всего только «Подобие Закона»? И не это ли есть
самое страшное? Ведь за эрой «Подобия Закона» неизбежно на¬
ступает третья — эра «Конца Закона».
Дзэнцы совершили свою духовную реформацию, провозгла¬
сив единственной основой духовного процесса «сатори». Это —
опять японское слово, по-русски оно, как мне кажется, лучше
всего в данном случае передается словом «постижение». Это
слово удобно потому, что в нем могут сосуществовать обе идеи,
заложенные в понятии «сатори»: идея познания разумом и идея
познания интуицией, коротко говоря, те два переплетающихся
начала — рационализм и мистицизм, которые мы находим в ре¬
нессансном мире Алишера Навои.
Но у него, как и у его учителя Джами, как у всех его сорат¬
277
ников — современников и предшественников,— в борьбе с «По¬
добием Закона» были могучие соратники. Кто они?
Вот поэма Джами — о том же Искендере. В ней он рассказы¬
вает об учителе будущего великого завоевателя — об Аристо¬
теле. Рассказывает, что Искендер с этим своим учителем изучал
Эвклида и Птолемея. А затем в той же поэме идут: Книга муд¬
рости Аристотеля, Книга мудрости Платона, Книга мудрости
Сократа, Книга мудрости Гиппократа, Книга мудрости Пифа¬
гора, Книга мудрости Искилиноса, Книга мудрости Гермеса
Трисмегиста...
А вот поэма Низами. В ней — диспут, происходивший у того
же Искендера. Диспут о «происхождении Неба и Земли», то есть
о бытии. В нем участвуют Аристотель, Фалес, Аполлоний Тиан-
ский, Сократ, Порфирий, Гермес Трисмегист, Платон...
Мне эти перечни имен представляются изумительным исто¬
рическим документом. Во-первых — по своей точности: названы
все великие имена Античности, и, затем, почти все они так или
иначе связаны с этой Срединной зоной Старого Света. Во-вто¬
рых, они говорят о Возрождении: ведь и Сократ, и Платон, и
Аристотель, и Пифагор уже прожили свои три эры — своей «Ис¬
тинности», своего «Подобия», своего «Конца». И вот они возро¬
дились. Конечно, в новом, совсем в особом, облике, но таком, ко¬
торый был снова истинным — для другого времени, для других
людей, для другого строя мысли. В-третьих, само сочетание этих
имен. Вот уж где нет ни тени догматической ограниченности!
Аристотель и Гермес Трижды Великий, Сократ и Аполлоний Ти-
анский... Беспринципность? Нет! Огромная емкость ума, удиви¬
тельная многоцветность мысли, поразительное богатство духа!
Прибавим к этим именам еще и индийских гимнософистов... О них
ведь также идет речь. И перед нами во всем своем сияющем бле¬
ске Ренессанс! Если учесть, что все-таки не в Японии и не в Ки¬
тае родился Дзэн-буддизм, что его истоки также лежат где-то
в далекой Срединной зоне Старого Света, не заслуживает ли она
снова в эту эпоху, в свои X—XV вв., наименования Централь¬
ной?
Все названные великие люди Древности присутствуют и дей¬
ствуют в произведениях Алишера Навои. Он и в этом — человек
своей замечательной эпохи. Ее ренессансный дух проявился и
тут.
3
Джами, однако, показал своему ученику, и показал точно,
место его в этом Ренессансе. Кто были те трое, которые подошли
к нему в его видении первыми? Низами, Амир Хосров, Дж,ами.
Что их объединяет? Они создали — каждый свою — Хамсэ, свою
«Пятирицу». Почему Низами посредине? Потому что прославлен-
ность этого творческого жанра началась с его «Пятирицы».
278
Хамсэ — соединение пяти отдельных произведений, поэм, как
мы их обычно именуем, героико-романтических поэм, как пояс¬
няют некоторые исследователи литературы этой эпохи.
Если позволено к литературе Ренессанса прилагать опреде¬
ления «реалистическое» и «романтическое» не в исторически точ¬
ном значении этих понятий, когда они сложились, а как обозна¬
чения двух особых настроев образного мышления,— в литера¬
туре Ренессанса был и свой реализм, и свой романтизм. Поэмы
Алишера Навои несомненно, во всяком случае одной своей сто¬
роной, принадлежат романтической стихии Ренессанса. А то, что
она, такая стихия, столь же показательна для этой эпохи, как и
реалистическая, удостоверяет картина ренессансной литературы
и в двух других зонах Старого Света. На Западе есть новеллы
Боккаччо, Сакетти и многих других,— и есть «Влюбленный Ро¬
ланд» Боярдо, «Неистовый Роланд» Ариосто, «Освобожденный
Иерусалим» Торквато Тассо. На Востоке есть новеллы Юань
Чжэня, Бо Синь-цзяня и многих других — и есть «Пинхуа Сань-
гочжи» (1321), «Саньгочжи яньи» (1494), «Шуйху чжуань»
(1566). Эти китайские произведения принято называть романами,
вероятно, главным образом потому, что они написаны прозой.
Но опыт мировой литературы наводит на мысль, что жанры, оди¬
наковые по литературной природе и своему историческому ме¬
сту, могут реализоваться разными средствами — и стихами, и
прозой. Многое зависит от литературных традиций, наконец от
возможностей самого языка. Героико-романтические эпопеи этого
же плана в Японии — «Сога-моногатари» и «Гикэйки» (XV) —
также реализованы в прозе. «Поэмность» в них создается не сти¬
хом, а другими средствами и приемами словесного искусства —
особой образностью, широко развитыми фигурами, ритмом, ин¬
тонацией и т. д.
Поэмы Алишера Навои помогают нам лучше понять отличие
ренессансных поэм от поэм Средневековья. «Влюбленный Ро¬
ланд»— совсем не то, что «Песнь о Роланде». Герой «Песни» —
рыцарь как он есть, со всеми чертами, которые тогда считались
присущими истинному рыцарю, он обрисован, следовательно, для
того времени «реалистически». Герои ренессансных поэм обри¬
сованы «романтически». И это понятно: в век Ренессанса рыца¬
рей уже не существовало, а если их как-то себе представляли,
то с мобилизацией всех сил воображения, фантазии.
Возьмем два образа Алишера Навои. Он — герой, она — ге¬
роиня. Он, конечно, витязь. Но как обрисовано в нем это каче¬
ство витязя? Посмотрим это на примере Фархада, героя поэмы
«Фархад и Ширин»:
Всего достичь — таков его удел:
Оружием науки он владел.
Оружием отваги — силой сил —
Теперь он также овладеть решил.
279
И овладел. Хватая на бегу,
Мог разгибать он радуги дугу;
Тупой стрелой он мог Арктур пронзить,
А острой мог зенит он занозить;
Планету Марс он на аркан ловил,
Созвездью Льва хребет он искривил;
Он выжал воду из созвездья Рыб;
Он шестопером семь бы сфер прошиб.
(Перевод Льва Пеньковского)
А вот — героиня, Ширин. Разумеется, она — красавица. Ме¬
жду прочим, весьма любопытно, что в поэме свои прелести она
описывает сама! Да в каких выражениях! Прочтем несколько
строк из знаменитого ее письма к Фархаду — разлученному с ней
и, следовательно, как она уверена, горько тоскующему по ней,—
мысленно представляя себе ее облик:
Лишь о моих ты вспомнишь волосах,
Чернеет ли весь мир в твоих глазах?
Михраб 1 моих бровей припомнив там,
Как юный месяц, не согнешься ль сам?
Мои ресницы вспомнишь ли, грустя,
Чтоб каждый волос стал острей гвоздя?
Лишь вспомнишь ты мои глаза, скорбя,
Пронзит ли боль стоиглая тебя?
Представишь ли мои зрачки себе
Так, чтобы выжглись клейма на тебе?
Вообразишь мои две розы ты,
Прольешь ли розовые слезы ты?
О родинке моей мечтать начнешь,
На ране сердца сколько мух сочтешь?
...Когда вообразишь мои уста,
Блуждает ли в небытии мечта?
Не стали б ямки на щеках моих
Колодцами горчайших мук твоих?
(Перевод Льва Пеньковского)
Вот такой, поистине не знающей границ, гиперболизм в опи¬
саниях и характеристиках, вот такой разгул фантастики, вот та¬
кая увлеченность стихией героико-романтического приключения,
авантюры и составляет, как мне кажется, существенные приметы
поэм Ренессанса, кто бы их ни создавал — Низами или Тассо, На¬
вои или Ариосто. Алишер — полномочный представитель этой ли¬
280
нии Ренессанса. И где? На огромном пространстве Центральной
зоны Старого Света, где были иранцы и тюрки, арабы и индийцы,
китайцы и греки.
4
И вдруг — неожиданность: этот великий поэт, поэт-мысли¬
тель, как его справедливо называют, принадлежащий огромному,
этнически столь разнообразному миру, стал классиком узбекской
поэзии, основоположником узбекской литературы. Его вывели из
широчайшей сферы и ввели в узкую. Поэт, у которого герои —
кто угодно: Фархад — китаец, Шапур — перс, Ширин — армянка,
Кайс—араб, Искендер — грек, этот поэт оказался поэтом узбек¬
ского народа.
Сначала это поражает и как будто бы даже огорчает, но по¬
том начинаешь понимать законность такого превращения. Более
того, начинаешь видеть в этом превращении проявление одного
исключительного по важности момента истории мировой литера¬
туры — распада зональных литератур на литературы националь¬
ные, то есть изменение масштаба, характера, самой формы су¬
ществования литературы как общественного явления.
О чем мы должны тут вспомнить прежде всего? О том, о чем
сказал Энгельс: «Тенденция к созданию национальных госу¬
дарств, выступающая все яснее и сознательнее, является одним
из важнейших рычагов прогресса в средние века» 2. XV век в зоне
Алишера Навои — век Ренессанса, когда Средние века в собст¬
венном, специфическом смысле этого исторического понятия уже
уходили в прошлое. Следовательно, именно в это время процесс
формирования «национальных государств», как их назвал Эн¬
гельс, должен был проявиться с особой ясностью.
Факты — налицо: в век Алишера Навои в 1428 г. начинает су¬
ществовать узбекское ханство, в 1501 г. узбеки изгоняют из Са¬
марканда Бабура. Рождается государство, но что гораздо важ¬
нее— народность начинает превращаться в нацию. Только начи¬
нает, конечно,— та ступень социальной интеграции этнического
коллектива, которую мы обозначаем словом «нация», достигается
позднее. Но путь установился уже тогда: для узбеков он начался
именно в век Алишера Навои. Он сам свидетельствует об этом:
Я — не Хосров, не мудрый Низами,
Не шейх поэтов нынешних — Джами.
Но так в своем смирении скажу:
По их стезям прославленным хожу.
Пусть Низами победоносный ум
Завоевал Берда, Ганджу и Рум;
Пусть был такой язык Хосрову дан,
Что он завоевал весь Индустан;
281
Пускай на весь Иран поет Джами,
В Аравии в литавры бьет Джами,—
Но тюрки всех племен, любой страны,
Все тюрки мной одним покорены:
Я войск не двигал для захвата стран,
Но каждый раз я посылал фирман3.
Скажи: писал я дарственный диван4
Не так, как государственный диван,—
И от Шираза до степей туркмен,
От Хорасана до китайских стен,
Где б ни был тюрк, под знамя тюркских слов
Он добровольно стать всегда готов.
И эту повесть горя и разлук,
Страстей духовных и высоких мук,
Всем собственным невзгодам вопреки,
Я изложил на языке тюрки...
(Перевод Льва Пеньковского)
Еще недавно, уже в наше время в Средней Азии произошло
то, что мы назвали «национальным размежеванием». С середины
XV века в той же Средней Азии начался процесс, который можно
назвать «литературным размежеванием». Алишер подметил это
и совершенно точно сам определил свое историческое место:
он — тюрок, узбек — положил начало отдельной литературе,
тюркской, как он ее назвал,— узбекской, как уточняем мы.
И уточняем вполне обоснованно: язык поэм Алишера — тюрк¬
ский, но тот представитель обширной семьи тюркских языков,
который имеет собственное лицо и который мы называем старо¬
узбекским. А что такое для народа язык? Спросим об этом са¬
мого Алишера.
В первой части его «Хамсэ», в поэме «Смятение праведных»,
есть удивительное место — о сознании. «Наступление утра» —
пробуждение сознания: ему открывается весь наш мир. «Наступ¬
ление ночи» — расширение сознания: звездное небо открывает
ему все мироздание. «Возвращение утра» — обогащенное созна¬
ние возвращается в дневную оболочку. Но дневной лик созна¬
ния — язык, слово. А в слове есть и его душа, и его тело. Душа
слова — значение, смысл. Тело слова — звуковая оболочка. Али¬
шер Навои написал свое «Пятикнижие» на родном языке. Зна¬
чит, это был тот язык, которым он только и мог выразить все со¬
держание своего сознания — и дневного, и ночного. Не означает
ли это, что он передал своему народу самого себя?
Мы считаем общность языка одним из факторов националь¬
ной ступени социальной интеграции. Есть и другие — экономиче¬
ские, социологические, политические. Но степень общности, до¬
282
стигаемая с помощью этих факторов в классовом обществе, все¬
гда относительная, в языке же она действительно полная. Али¬
шер Навои передал своему народу то, что должно было послу¬
жить и послужило самым мощным средством создания у носи¬
телей этого языка необходимого и поистине императивного чув¬
ства национальной общности. Навои имел право стать националь¬
ным поэтом узбекского народа. А разве может быть для поэта
большая честь?
5
И вот — новый поворот, новая неожиданность: Алишер Навои
стал поэтом всех народов нашей страны. Он снова вошел в боль¬
шую зону. Она именуется Союзом Советских Социалистических
Республик. Можно ли назвать ее опять Срединной? Географиче¬
ски она частично совпадает с границами Срединной зоны вре¬
мен Навои, частично — нет. Но во всяком случае узбекский народ
принадлежит этой зоне и в ее новых границах. Но именно в этих
новых границах она, пожалуй, также оказывается Срединной,
только не в рамках Старого Света, как это было раньше, а в рам¬
ках Света Старого и Нового. Можно ли ее опять назвать Цент¬
ральной— в том смысле, в каком она уже трижды в истории
представала? Я не хочу отвечать на этот вопрос от себя: каждый
из нас, кто стал бы утверждать, что это так, может навлечь на
себя упрек в патриотическом пристрастии, даже в непозволитель¬
ной гордыне. Я предоставляю ответить на этот вопрос человеку
совершенно постороннему, да еще такому, кого у нас принято
бранить,— Арнольду Тойнби, знаменитому историку нашего вре¬
мени, и притом историку размышляющему, что встречается во¬
все не так часто. Размышляющему — значит, такому историку,
который может и ошибаться, но может и открывать действи¬
тельно большие истины. Процитирую одно место из его письма
ко мне, служащее ответом на мое письмо, известное тем, кто чи¬
тает журнал «Новый мир». Вот его слова (даю их в русском пе¬
реводе.— Н. К.):
«Ваша страна состоит из стольких различных народов, гово¬
рящих на стольких различных языках и унаследовавших столько
различных культур, что она является моделью мира в целом, а
соединением культурных и языковых различий с экономическим,
социальным и политическим единством на федеральной основе
вы показали в вашем Советском Союзе, чем может стать мир и
чем он, я надеюсь, в будущем и станет».
К этим словам английского историка я сделал бы — уже от
себя — два добавления. Первое: членами нашего содружества
являются отдельные нации, это так. Но чтобы стать членами
именно нашего содружества, они должны быть нациями социа¬
листическими, то есть достигшими высшей — из нам пока изве¬
стных— степени социальной интеграции; спаянность нации до¬
283
стигнута тем, что из национальной общности удалено то, что все¬
гда служило препятствием для действительного единства любого
народа, достигнувшего уровня нации,— удалена классовость, это
подлинное социальное зло. Поэтому мы не столько модель всего
мира, сколько создающийся его образец. Второе: мы не можем
утверждать, что уже стали достойными служить таким образцом:
наша межнациональная общность все еще строится, и нам мно¬
гое еще придется преодолеть в самих себе. Многое... в том числе
и опасность превращения «Истинного Закона» в «Подобие За¬
кона».
Но и на уже достигнутой нами ступени нашей многонацио¬
нальной общности Алишер Навои — наше общее достояние. Уз¬
бекский народ сделал поистине драгоценный вклад в нашу общ¬
ность. И за это мы все должны благодарно поклониться ему. Но
как мы сами отнесемся к этому дару? Как примем Алишера На¬
вои? Как классика? Что же, это хорошо и достойно Алишера.
Но нередко у нас «классик» главным образом предмет литера¬
турных хрестоматий, библиотек мировой литературы, «роскош¬
ных» изданий, объект «верных» с точки зрения конечного резуль¬
тата диссертаций, звучный материал для наименования улиц,
площадей, театров, парков. Я понимаю, что за всем этим скры¬
вается огромное уважение к писателю, поэту, признание его
большого значения для нас всех. Но все же мне никак не хоте¬
лось бы, чтобы он стал для нас только «классиком», даже в са¬
мом лучшем смысле этого слова. Мне хотелось бы, чтобы его не
только чтили, не только изучали, но и просто читали. Читали как
поэта, нужного нам сейчас, в нашей теперешней жизни. Он, как
мне кажется, может напомнить нам о многом, нам реально не¬
обходимом. И напомнить глубоко по-своему. Как, впрочем, де¬
лает это каждый действительно великий поэт.
Я говорил, что Центральная зона Старого Света, которой
принадлежал Алишер, была родиной универсализма. Универса¬
лизм это есть и общность, и цельность. Алишер Навои напоми¬
нает нам об этой цельности — своей «Хамсэ».
Что такое «Хамсэ»? «Пятирица», как обычно передают это
слово по-русски. «Пятирица» же — воплощенное в чем-то число
«пять». Великое число. Когда я о нем думаю, предо мной пробе¬
гает длинный-длинный ряд всевозможных «пятириц». Тут и «Пя¬
тикнижие»— Моисеево и Конфуцианское. Тут и пять первоэле¬
ментов вещественной природы — в древнекитайском Шу-цзине и
в индийской Веданте. Тут и пять факторов, направляющих жизнь
человеческого общества: государь и народ, то есть государст¬
венная власть и подчиненные; отец и сын, то есть родители и
дети; муж и жена, то есть мужчина и женщина; старшие и млад¬
шие братья, то есть старшее и младшее поколение в обществе;
наконец — друзья, то есть люди, как таковые. Тут и пять функ¬
ций государства: законодательная, исполнительная, судебная,
воспитательная и контрольная. Тут и пять внешних чувств: зре¬
284
ние, слух, обоняние, вкус, осязание, пять эмоций — радость, гнев,
желание, страх, горе; пять основных цветов; пять тонов гаммы.
«Пятирицами» мир культуры буквально переполнен. И на всех
этапах его истории.
Не нужно думать при этом, что все это — только примитив.
Сунь-цзы еще в VI веке до н. э. сказал: «Цветов в природе всего
пять, но изменений их и исчислить невозможно; тонов в му¬
зыке — пять, но изменений их и исчислить невозможно»5. Нет, это
не примитив. В числе «пять» воплощена идея цельности как выс¬
шего состояния разнородности. Внешних чувств — пять, но все
они вместе составляют одно целое — систему ощущений чело¬
века. Тонов — пять, но они составляют одно целое — определен¬
ную гамму. Пять поэм — одно целое, то целое, которое зовется
человеческой жизнью. Именно об этой высшей цельности жиз¬
ни— при всей разнородности и противоречивости действующих в
этой жизни сил — напоминает нам Алишер Навои самим фактом
своей «Пятирицы». И при той «атомизации» мира, общества,
жизни, о которой у нас так много говорят, напоминание о цель¬
ности в высшей степени своевременно и полезно.
Но всякая цельность есть соединение единичностей. И они —
реальны и индивидуальны. В пентатонике один звукоряд, но в
нем пять отдельных, вполне различных тонов, с интервалами в
целый тон или полтора тона. В «литературной пентатонике» пять
частей, и каждая из них звучит по-своему.
Вспомним, что Навои, как и его учитель Джами, были и му¬
зыканты, среди их произведений есть и работы по музыке. По¬
этому можно подойти к его «Пятирице» и с музыкальной стороны.
В таком случае она предстанет перед нами как звучание жизни,
переданное языком слов. Но вспомним, что звукоряд пентато¬
ники реализуется в пяти различных ладах — по тому, как рас¬
положены интервалы между тонами, и каждый лад звуцит по-
своему. Один — как чистый мажор; другой — как чистый минор;
третий — как «приближающийся» к мажору; четвертый — как
«приближающийся» к минору, есть еще один лад, в котором ма¬
жор и минор неразличимы.
Мне кажется, что пять поэм Алишера Навои звучат именно
так. Не буду говорить о всех, скажу только о трех.
Первая часть, как полагается в пентатонике, должна быть
мажором. Это — поэма «Смятенье праведных». Она очень мно¬
гогранна, но основание в ней — «макалэ» — «беседы». Читаешь
их и удйвляешься: где тут мажор? Идет жестокая критика пра¬
вителей, духовенства, вообще нравов той эпохи, обнажаются по¬
роки, злодеяния. Правда, в других макалэ прославляются пря¬
мые, честные люди, стремящиеся к знанию, думающие о благе
людей. Но о подобных вещах мы читали уже не раз... Может
быть, у Навои об этом сказано кое-где лучше, ярче, чем у дру¬
гих, но все это мы знаем и никакого мажорного чувства это у нас
не вызывает. Но вдруг я наталкиваюсь на слова, которые все
285
меняют. К сожалению, я не могу процитировать их в поэтиче¬
ском переводе, так как этих слов в изданных русских переводах
нет. Но они есть у автора: их приводит в своем прозаическом точ¬
ном переводе Е. Э. Бертельс. Вот как он передает эти слова:
О ты, руку которого укрепила власть,
Ведь путь твой ведет к насилию.
Насилие твое над людьми не уменьшается,
Но ты творишь его и над самим собой6.
Контекст тут вполне конкретен: правители грабят народ, а
потом это награбленное растрачивается на пиршества, на раз¬
врат. Вот и выходит, что люди вредят не только другим, но и себе.
Оставим в стороне эту конкретность, для нас важна сама идея:
насилие над другими есть в то же время насилие над самим со¬
бой. Глубина этой мысли поражает. И когда соприкасаешься с
такой великой человеческой мудростью, в сердце звучит мажор.
Пятая часть «Пятирицы», как и следует цо законам пентато¬
ники,— минор. Пятая часть — поэма «Вал Искендера». И опять,
когда ее читаешь, удивляешься: где же тут минор? В ней расска¬
зывается об Искендере. Мы видим перед собою великого полко¬
водца, мудрого правителя, человека, стремящегося к знанию. Не
мажор ли это? Но что Навои делает из этого мажора? Искендер
умирает и, умирая, говорит его окружающим:
Когда над здешним садом дух вспорхнет,
Когда к иным оградам дух вспорхнет
И, не увидев света поутру,
Я плоть доверю смертному одру,—
Пред тем, как тлену я достанусь в дань,
Мою возденьте над могилой длань,
Чтоб эти пальцы людям помогли,
Чтоб люди, глядя, пользу извлекли,
Чтоб поняли, что шах семи держав,
В познанье сфер семижды величав,
Уходит в область, где желаний нет,
И у него крупицы в длани нет,
Тот, кем владеет жадности огонь,
Да помнит эту нищую ладонь!
(Перевод Марка Тарловского)
Эти строки взяты из первой поэмы. К сожалению, конца по¬
эмы «Вал Искендера» нет в русском поэтическом переводе. Там
говорится о том же, но несколько иначе. Искендер умер. Согласно
его предсмертной воле его тело везут для погребения в его лю¬
бимый город — Египетскую Александрию. Везут в гробу... И из
гроба высовывается рука с открытой горстью... Ничего в этой
руке нет. Эта высовывающаяся из гроба рука с открытой гор¬
286
стью — художественный образ поразительной силы. Если бы
Алишер создал даже только этот один образ, мы все равно по¬
няли бы, что перед нами гениальный поэт.
Но почему это минор? Для нас, конечно... Не потому, что
этот образ напоминает нам о тщете всякой славы и богатства, а
потому, что мы хорошо знаем — история в этом нас убеждает,—
что он ничему не научил: завоеватели продолжали появляться и
после Александра Македонского, и ничто их не останавливало —
никакое людское горе, которое они причиняли, ни даже перспек¬
тивы собственной невеселой участи.
И последнее —поэма, в которой мажор и минор неразличимы.
Это, конечно, Лейли и Меджнун. Повесть о разом вспыхнувшей
любви, об одержимости этой любовью, о смерти в один и тот же
миг. Что ж, и тема эта, да и сюжет — вечны. И встречались мы
с ними в литературе не раз.
Любовь с первого взгляда... Она может вспыхнуть и в школе.
Увидел Кайс весеннюю зарю,
И стал он весь подобен янтарю.
Вокруг царила юная весна —
Его лицо покрыла желтизна,
Дыханье осени в его крови:
Восточный вихрь ворвался, вихрь любви.
По телу слабому пошел озноб,
Росой холодной увлажнился лоб,
Он чувствовал: сейчас конец придет,
В беспамятстве сейчас он упадет.
Его лицо менялось каждый миг.
Он обезумел: он любовь постиг.
Это Кайс. А вот и Лейли:
В огонь упала слабая душа,
Сгореть в любовном пламени спеша.
Волненье Кайса ей передалось.
Он для нее прозрачным стал насквозь.
Лейли глядит — и видит только страсть.
Да, и она любви узнала власть!
(Перевод Семена Липкина)
Она, любовь, может вспыхнуть и на корабле, идущем по ир¬
ландскому морю. И даже в кривом, скучном переулке, на который
повертывают с Тверской.
Она может стать всевластной, он и она превращаются в одер¬
жимых ею.
287
Тпз1ап! ГзоНеГ
СеНеЫег! НоЙе!
В1з1 с!и теш? НаЬ юЬ сНсН шес!ег?
ОагГ 1сЬ ОюЬ Газзеп? Капп \сЪ гшсЬ {гаиеп?
ЕпсШсЫ ЕпсШсЬ! Ап тешет Вгиз17.
Разве это не встреча Кайса и Лейли?
Судьба таких одержимых одна: они умирают. Но оба — в один
и тот же миг. И это — кульминация. Самой любви и судьбы
любви.
Могут сказать: да, Лейли и Меджнун умерли в одно и то же
мгновение. Но Тристан и Изольда — нет. Не соглашусь: Тристан
и Изольда также умерли в одно и то же мгновение — в тот самый
миг, когда она с криком — Тристан! — вбежала к нему на замко¬
вую башню, когда он поднялся навстречу ей с криком:
«Изольда!» Мне скажут: он действительно умирает, но она в этот
момент только лишается сознания, а потом приходит в себя и поет
целую песнь любви и смерти. Не соглашусь: она умерла в тот же
миг и поет уже потом... там, где они опять оба вместе. Музыка
ясно говорит об этом. Изольда смотрит на Тристана и поет:
МПс! ип<1 1е1зе \У1е ег 1асЬеИ
Ме сПе Аидеп ЬоИ егбНпе1...8
Так о мертвом не поют. Но эти слова поются на тот же са¬
мый мотив, на который были положены совсем другие слова:
5о зШгЬеп теи ит ип§е1гепп1
Емд е1шд оЬпе Епс!!
ОЬп егоасЬеп, оЬп РгЬап&еп
Ыатеп1оз т ЫеЬ 11т?ап&еп... 9
Смерть окончательно соединила этих западных Лейли и Ме-
джнуна.
«Прасковья Федоровна! А вы лучше мне скажите,— заду¬
шевно попросил Иван,— а что там рядом, в сто восемнадцатой
комнате сейчас случилось?
— Скончался сосед ваш сейчас,— прошептала Прасковья Фе¬
доровна.
— Я так и знал. Я уверяю вас, Прасковья Федоровна, что сей¬
час в городе еще скончался один человек. Я даже знаю кто,—
тут Иванушка улыбнулся,— это — женщина».
Да, Мастер и Маргарита умерли в одно и то же мгновение.
И уже потом там звучит песнь Изольды:
«Слушай беззвучье, слушай и наслаждайся тишиной. Смотри,
вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду.
Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подни¬
мается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Ты
будешь засыпать... ты будешь засыпать с улыбкой на губах... Бе¬
речь твой сон буду я!»
Поэты нашли разные слова, чтобы сказать о смерти в любви.
Нашел свои слова и Алишер Навои:
288
Тогда влюбленный появился вдруг,
Пришел, как верный друг... Нет, вечный друг!
Глаза — глаза желанные нашли:
Глаза одно желание прочли.
Возлюбленная руку подняла,
Возлюбленному душу отдала.
Возлюбленный склонился, не дыша:
К возлюбленной ушла его душа.
(Перевод Семена Липкина)
Чудесны слова, сказанные о смерти в любви Тристана и Изо¬
льды, Мастера и Маргариты. Но как чудесны те слова, которые
нашел для этого Алишер Навои!
Возлюбленному душу отдала.
К возлюбленной ушла его душа.
Порадуемся, что был такой поэт, как Алишер Навои! Скажем
великое спасибо узбекскому народу, принесшему нам в дар та¬
кого поэта. И будем не только изучать его, но и читать. И не
только читать, но и думать над ним. Сделаем его своим! Он при¬
шел из одной великой эры Ренессанса к другому Ренессансу —
еще большего исторического смысла.
1968 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Михраб — ниша в мечети.- Круглая арка михрабы часто сравнивается
с бровями красавицы.
2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 21, стр. 410.
3 Султанская грамота, указ.
4 Диван— 1) сборник стихов, 2) совет, канцелярия.
5 См. Н. И. Кодрад, Сунь-цзы, 1950, стр. 39.
6 Е. Э. Бертельс, Избранные труды. Навои и Джами. М., 1935, стр. 130.
7 Изольда! Тристан!
Друг милый!
Мой ли ты?
Вновь ли моя ты?
Правда ли это?
Верить могу ли?
Снова вместе!
К сердцу прижмись!
(Перевод В. Коломийцева)
8 Вот он нежно улыбнулся...
Тихо взор открыл прекрасный... »
(Перевод В. Коломийцева)
9 Так примем смерть,
чтоб не знать разлуки.
Быть вместе вечно
без конца,
без пробужденья,
сожаленья
утратить имена свои,
в любви единством став.
(Перевод мой.— Н. К)
19 н. и. Конрад
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
СРАВНИТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
1
Уже давно мир литературы современных культурных стран,
во всяком случае стран Европы, слагается из двух элементов:
из произведений, появившихся в данной стране, и произведений,
перенесенных в эту страну из литературы других стран. Уже
давно повелось, что подлинно значительные произведения какой-
либо литературы быстро проникают в литературный мир другой
страны и в какой-то мере становятся принадлежностью литера¬
туры этой страны. Проникает при этом, разумеется, в первую
очередь то, что вызывает особое внимание в данной стране, что
нужно и важно для литературной действительности этой страны,
для ее общественной мысли, или же то, что помогает лучше по¬
нять состояние литературы и общественной мысли страны, где
данное произведение появилось. Однако часто переходит и то,
что имеет у себя лишь кратковременный, но шумный успех; пере¬
ходит нередко вообще все сколько-нибудь заметное в текущей ли¬
тературе.
Роль такой чужой литературы в стране, куда она системати¬
чески проникает, бывает временами очень велика. Бывают слу¬
чаи, когда какое-либо произведение чужой литературы привле¬
кает большее внимание в данной стране, чем что-либо из появив¬
шегося в своей литературе, и оказывает немалое влияние и на
свою литературу и на общественную мысль.
В последнее полустолетие такая картина стала наблюдаться
не только в литературном мире Европы. Сказанное можно пол¬
ностью применить, например, к Японии. О Японии можно ска¬
зать, пожалуй, даже большее: в ее литературном мире наличест¬
вует в переводах не только вся классическая литература Европы
и Китая, не только все значительное, что появилось в литературах
стран Европы и Америки в XX в., но и почти все, обратившее на
себя внимание в текущей литературе других стран. В литера¬
турном мире современного Китая до недавнего времени весьма
290
ощутимо было и по числу переводов, и по общественному зна¬
чению присутствие русской советской литературы. Словом, в
последнее полустолетие процесс проникновения литературы од¬
них стран в мир литературы других стран в той или иной степени
охватил буквально все культурное человечество. И процесс этот
неудержимо развивается и дальше и по своему масштабу, и по
своей интенсивности, и по своему общественному значению.
Он очень сложен, этот процесс, в нем много противоречий,
столкновений, но он идет, и одна из важнейших задач современ¬
ного литературоведения — следить за ним и его изучать. Дело
идет ведь о важнейшем явлении: о структуре литературы в каж¬
дой отдельной стране и о структуре мировой литературы.
Главным орудием проникновения одной литературы в другую
является, конечно, перевод. Но переводчик далеко не только
«посредник». Воссоздание на своем языке литературного произ¬
ведения, написанного на другом языке, всегда есть акт твор¬
чества. Появление перевода представляет в той или иной сте¬
пени обогащение собственной литературы. Литературное произ¬
ведение возникает в орбите своего языка, неотрывно от него; уже
само появление произведений другой литературы на языке дан¬
ной страны вводит их в орбиту литературы этой страны. Поэтому
деятелями литературы в каждой стране являются не только пи¬
сатели, но и переводчики.
Наряду с этим необходимо учитывать, что в ряде случаев
для проникновения одной литературы в мир другой литературы
перевода не требуется. Перевод не нужен читателям Англии, Ка¬
нады, Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканской Респуб¬
лики, Соединенных Штатов Америки для того, чтобы читать про¬
изведения, появившиеся во всех этих странах на одном и том
же — английском — языке. Читатели в Испании и во всех стра¬
нах Центральной и Южной Америки, кроме Бразилии, не нужда¬
ются в переводе, чтобы читать литературные произведения, соз¬
данные писателями этих стран. Читатели Португалии и Бразилии
читают в оригинале произведения, появившиеся в обеих странах.
Представители образованных слоев индийского общества могут
читать без перевода литературу на английском языке, где бы она
ни появилась. Многие читатели Турции, арабских стран, Индо¬
китая не нуждаются в переводе для того, чтобы знакомиться с
произведениями, написанными на французском языке. Читатели
Скандинавских стран в своей большей части читают немецкую
литературу в оригинале. Все большее число французов читают
произведения, написанные на английском языке, без перевода;
то же можно сказать об англичанах по отношению к француз¬
ской литературе. Все больше становится читателей в народно-
демократических странах, для которых доступна без перевода ли¬
тература на русском языке. Иначе говоря, литература какой-либо
страны становится достоянием литературы других стран и благо¬
даря переводам и без них, в последнем случае — вследствие либо
291
одноязычия населения этих стран, либо чрезвычайного распро¬
странения в данной стране определенного иностранного языка.
Если учесть масштаб этого явления, становится ясным об¬
щемировой характер взаимопроникновения литератур, иначе го¬
воря международных литературных связей. Поэтому в наше
время одной из насущнейших задач литературоведения и стано¬
вится изучение таких связей.
Мы живем в век национальных литератур. Конечно, термин
«национальная литература» следует понимать в общественно¬
историческом смысле: как обозначение определенного обществен¬
ного качества литературы. «Национальная литература» в этом
смысле есть та литература данного народа, которая возникает у
него, когда он сам, этот народ, достигает в своем историческом
развитии уровня нации — в марксистском понимании этой об¬
щественной категории. При этом на наших глазах продолжается
существование национальных литератур уже, так сказать, «ста¬
рых», высокоразвитых; таковы, например, литературы большин¬
ства европейских народов; наряду с ними мы видим националь¬
ные литературы еще «молодые», т. е. сформировавшиеся как
национальные сравнительно недавно; таковы, например, лите¬
ратуры грузинская, армянская, японская, турецкая, персидская;
видим литературы, еще продолжающие формироваться как на¬
циональные; такую картину мы наблюдаем даже у очень древних,
но до последнего времени по тем или иным причинам отставав¬
ших в своем общественном развитии народов, как китайский на¬
род, народы Индии; на наших глазах складываются националь¬
ные литературы у тюркских народов Советского Востока, у наро¬
дов арабского мира, Индонезии, Индокитая.
Эти явления крайне важны. Они свидетельствуют о том, что
эпоха, когда мир национальных литератур ограничивался рам¬
ками одной Европы, ушла в прошлое. В наше время националь¬
ные литературы на той или иной ступени своего развития — при¬
надлежность всех культурных народов мира. Это одно из замеча¬
тельных последствий всемирно-исторического процесса крушения
мировой капиталистической системы, поставившей большое число
стран, в том числе и стран древней культуры, на положение коло¬
ний, полуколоний или стран, экономически и политически зависи¬
мых от главнейших капиталистических государств. Это задержи¬
вало экономическое и социальное развитие данных стран и вме¬
сте с тем и национальное развитие. Теперь система колониализма
рухнула, и это уже повлияло на ускорение национального разви¬
тия бывших колоний и полуколоний и на структуру их литера¬
туры, вместе с тем и на структуру мировой литературы в целом.
Наблюдается и другое явление. Ранее, когда шла речь о на¬
циональных литературах, разумелись литературы буржуазных
наций; ныне мы можем говорить также и о литературах социали¬
стических наций, причем оказалось, что проходить все этапы ис¬
торического развития для национальных литератур не обяза¬
292
тельно. Если современная русская литература стала литературой
социалистической нации, имея за собой большую и славную ис¬
торию, как литература буржуазной нации, то многие современ¬
ные советские литературы, например узбекская, казахская,
азербайджанская, развиваются как литературы социалистиче¬
ских наций, являясь в прошлом литературами, характерными для
этапа народности, максимум — с зачатками раннего буржуазного
«просветительства».
Нет и равномерности в темпах развития. Японская нацио¬
нальная литература прошла через все «классические» этапы бур¬
жуазной литературы, если считать «классическим» путь, проде¬
ланный литературами Англии, Франции и других народов Ев¬
ропы, т. е. путь классицизма, романтизма, реализма, натура¬
лизма, символизма; только французской литературе для этого
понадобилось целое столетие — весь XIX век, японско'й же не
более 40 лет— с 70-х годов XIX в. по 10-е годы XX в. Литература
Китая, до начала XX в. не выходившая за рамки своей «эпохи
Просвещения», т. е. развивавшаяся как ранняя буржуазная, еще
в условиях феодализма, с 20-х годов XX в. стала приближаться
к типу литературы социалистической нации, а с победой Народ¬
ной революции и укрепилась в этом своем историческом каче¬
стве. С особой быстротой развиваются литературы народов Со¬
ветского Востока. Путь от Абая до «Пути Абая» — от песенной
поэзии до современного романа, расстояние для других литера¬
тур огромное,— казахская литература проделала за каких-ни¬
будь полвека.
Убыстренность темпа может иметь, однако, двоякие послед¬
ствия. С одной стороны, она может подвести отстававшую ранее
литературу к развитым литературам других народов, но, с дру¬
гой стороны, она может усиливать различие в уровнях этих лите¬
ратур. Так, в Турции есть своя литература романтизма, реализма,
но произведений, которые могли бы войти в литературу мирового
романтизма и реализма на тех же правах, как, например, произ¬
ведения Гюго и Бальзака, в турецкой литературе отыскать нельзя.
Нельзя найти такие произведения и в литературах других ранее
отстававших народов. Бывают, правда, явления, подобные твор¬
честву Рабиндраната Тагора, но они составляют исключение.
Поэтому, если взять, например, литературу реализма нового
времени в мировом масштабе, то при идентичности художествен¬
ного метода мы увидим крупные различия, обусловленные не
только национальным своеобразием отдельных литератур, но и
их идейным и художественным уровнем.
Понять эту сложную картину в каждом отдельном случае
можно только в свете мирового литературного процесса, при
учете межлитературных связей. Нельзя уяснить себе, например,
историю новой японской литературы, не учитывая связи этой ли¬
тературы с литературами русской, французской, английской, в
меньшей степени — немецкой. Ни одна работа японских исследо¬
Ф
293
вателей истории своей литературы не проходит мимо этих связей;
существуют специальные исследования, раскрывающие значение
той или иной литературы для формирования отдельных направле¬
ний японской литературы, для творческого пути отдельных пи¬
сателей, для процесса создания того или иного произведения.
Невозможно полностью уяснить себе развитие литературы народ¬
ного Китая без учета значения для нее творческого опыта рус¬
ской советской литературы. Тесно связаны друг с другом новые
литературы Англии, Франции, Италии, Германии, Испании, Скан¬
динавских стран. Связана с литературами народов Европы и рус¬
ская классическая литература. В сущности, в новое время все
литературы современных культурных народов так или иначе
связаны друг с другом, и их развитие происходило и происходит
в обстановке этих связей. Это обстоятельство не только не исклю¬
чает самостоятельности каждой национальной литературы, но,
наоборот, делает ее национальное своеобразие даже более рель¬
ефным.
Эти же условия создают и почву для возникновения некото¬
рых литературных общностей — общностей направления, идей¬
ного содержания, творческого метода. Пример общности показы¬
вают литературы народов Советского Союза. Известную общ¬
ность на основе близости или даже единства многих направле¬
ний демонстрируют литературы капиталистических стран Запад¬
ной Европы и Америки.
Литературная общность может создаваться и на почве
общности исторических судеб и задач. Так, литературы, развива¬
ющиеся у разных народов Индии и в арабском мире, объединя¬
ются в некую совокупность, которую можно назвать «литерату¬
рой национального возрождения». Наше время — эпоха нацио¬
нальных литератур, но вместе с тем и эпоха литературных
общностей. А так как национальные литературы развиваются в
обстановке интенсивных и разнообразных международных ли¬
тературных связей, в этой же обстановке создаются и литера¬
турные общности. Вследствие этого изучение мировых межлите¬
ратурных связей приобретает еще более важное значение.
Обрисованная картина современного состояния мировой
литературы требует пристального внимания к вопросам сравни¬
тельного литературоведения.
Под сравнительным литературоведением можно понимать
многое. Под ним можно разуметь изучение двух или нескольких
отдельных литератур при наличии между ними в прошлом исто¬
рической общности. В таком случае дело сводится к изучению
процесса выделения из прежней общности отдельных литератур,
формирования их в качестве самостоятельных явлений. Так мо¬
жет быть, например, поставлено изучение процесса образования
национальных литератур двух иранских народов — персидского
и таджикского.
294
Под сравнительным литературоведением может разуметься,
далее, сравнительно-типологическое изучение явлений, возник¬
ших в литературах разных народов. Это изучение может ка¬
саться явлений, возникших в составе известной исторической
общности. Так может быть поставлено изучение литературы
классического реализма XIX в. При таком изучении в сравни¬
тельно-типологическом аспекте сопоставляются литературы
Франции, Англии, России и других стран Европы и даже неко¬
торых стран Азии. Итогом исследования в этом случае может
быть, во-первых, лучшее понимание сущности реализма как твор¬
ческого метода во всей его сложной природе; во-вторых, раскры¬
тие разновидностей реализма, возникших в литературах стран,
входивших в данную литературную общность.
В сравнительно-типологическом плане могут изучаться и яв¬
ления, возникшие в разных литературах вне какой бы то ни
было исторической общности, при отсутствии всякой связи между
ними, даже явления, возникшие в разное историческое время.
Так может быть поставлено, например, сравнительное изучение
житийной литературы, возникшей у народов Европы в русле хри¬
стианства, а у народов Азии в русле буддизма. Задачей изуче¬
ния в таком случае может быть анализ каждого из этих явле¬
ний — более полный при сопоставлении их друг с другом, чем
при изолированном изучении.
Задачей сравнительно-типологического изучения может быть
и открытие самой типологической общности явлений, возникших
независимо друг от друга. Например, может быть, как мне ка¬
жется, доказано типологическое сродство рыцарского романа
западноевропейских литератур и «воинских эпопей» (гунки)
японской литературы, европейского сатирического романа эпохи
Просвещения и китайского обличительного романа XIX в.
Под сравнительным литературоведением можно понимать,
наконец, и изучение связей между литературами разных народов.
Задачей в этом случае является, во-первых, обнаружение самих
связей, выяснение их исторических причин, их характера, путей,
средств; во-вторых, раскрытие последствий этих связей как для
отдельных литератур, так и для всей совокупности литератур,
охваченных ими. Обрисованная выше картина мировой литера¬
турной действительности побуждает к организации сравнитель¬
но-исторических изучений прежде всего в последнем смысле. По
этой причине нам необходимо обратиться к тому, чем мы уже
располагаем в этой области современной науки о литературе.
2 (
Хорошо известно, что именно в последнем из рассмотрен¬
ных выше направлений развивается в нашу эпоху сравнительное
литературоведение на Западе. В разных странах оно фигурирует
под разными наименованиями: французы говорят о Ниёга1иге
295
сотрагёе; то же обозначение на своем языке — сотрагаИуе
Шега1иге применяют англичане и американцы; на своем языке —
хикаку-бунгаку — японцы; немцы пользуются старым термином
«УегдЫсЬепйе ЬМегаШг^езсЫсМе». В каждой стране, даже у
отдельных авторов, особенно в зависимости от объекта исследо¬
вания, сравнительное литературоведение имеет некоторые осо¬
бенности: черты 81оНде5сЫсМе у немецких исследователей и у
французских, когда последние изучают явления, обозначаемые
ими словами Шёшез, 1урез, шу1Ьез, 1ёдеп<1ез; черты АИдетете 1Л-
1ега1игдезсЫсМе у немецких и у некоторых итальянских литера¬
туроведов. Черты различия, несомненно, существуют, но все же
в целом это направление имеет общую специфику, делающую
его явлением новым в общей истории сравнительного литерату¬
роведения. Явственнее всего такая специфика обнаруживается
в работах французских исследователей, которые вообще зало¬
жили основы всего современного западноевропейского и амери¬
канского сравнительного литературоведения. Поэтому к ним и
надлежит обращаться в первую очередь ’.
Еще в 1890 г. Иозеф Текст, которого французы единодушно
считают родоначальником НДёга^иге сотрагёе, определил «генеа¬
логию» нового направления: «Проложили нам путь,— сказал
он,— Георг Брандес, Макс Кох, Эрих Шмидт и Познетт»2.
Истоки эти во многом различны. Брандес с его «Главней¬
шими течениями литературы XIX в.» — одно, Макс Кох с его
журналом «2еИзсЬгШ; Гйг Уег^ешЬепёез Ы1ега1иг^езсЫсЫе» —
нечто иное; своеобразное явление представляет и Познетт. Для
концепции Брандеса самое важное — идея о том, что гений од¬
ного народа, «чтобы не заглохнуть», как он выражается, всегда
нуждается в соприкосновении с гениями других народов, и это
всегда дает ему новую силу для себя, для своего собственного
развития3. Если просмотреть тома журнала, издававшегося в
конце прошлого века под руководством Макса Коха, то, помимо
очень определенных черт того, что немцы называют 81о1Г§езсЫсЬ-
1е, видно стремление как-то связать литературы разных народов
обоюдными влияниями, заимствованиями. Для направления,
представленного Познеттом, характерна ориентациц^на социоло¬
гию XIX в., к ней он обращался для того, чтобы раскрыть общие
черты литератур разных народов. Безусловно, литературоведы,
названные Текстом, различны, но ориентация именно на них, а
не на кого-либо другого, весьма показательна. Видно, что пред¬
ставители французского сравнительного литературоведения, за¬
родившегося в конце прошлого столетия, хотели вступить на
иной путь, чем тот, которым шли их предшественники.
Сущность этого нового пути сформулировал в 1924 г. Поль
ван Тигем в своей работе «Преромантизм»: «Политическая исто¬
рия каждого народа в какую-либо эпоху его существования не*
может быть полностью понята вне общей истории той же эпохи,
той части мира, к которой данная страна принадлежит... Так
296
и литературная история каждой страны в каждый момент своего
развития не может быть представлена полно и точно, если она
не рассматривается как часть какого-то большого целого... Ко¬
нечно,— добавляет П. ван Тигем,— каждая национальная лите¬
ратура имеет свои собственные традиции, и очень прочные. Эти
традиции позволяют ей всегда сохранять свой собственный, ин¬
дивидуальный облик; но каждая такая литература всегда встре¬
чается с новыми идеями и чувствованиями в искусстве, которые
ее укрепляют, ее трансформируют. Изучение этих международ¬
ных течений столь же необходимо, сколько и национальных тра¬
диций» 4.
В 1931 г. в свой книге «Ьа Ш1ёга1иге сотрагёе», являющейся,
как известно, первой работой, в которой рассматривается
история нового направления, формулируются его принципы, оп¬
ределяются его задачи, устанавливаются его методы, П. ван
Тигем писал: «Ьа Ш1ёга1иге сотрагёе входит в состав истории
каждой национальной литературы, раскрывая на каждом этапе
развития последней связи этой литературы с литературами дру¬
гих народов. Тем самым 1а 1Шёга1иге сотрагёе в сильнейшей сте¬
пени повышает научную ценность историко-литературных иссле¬
дований национальной литературы сравнительно с прежними
исследованиями»5.
В этих словах П. ван Тигема важно подчеркивание того, что
главное заключается в изучении национальных литератур, т. е.
литератур отдельных народов. Один из представителей этого на¬
правления в Японии, К- Накадзима, также подчеркивая, что
речь идет именно об изучении своей литературы, настаивает на
той мысли, что и сам исследователь принадлежит и должен при¬
надлежать к лагерю исследователей именно своей литературы б.
Таковы свидетельства двух представителей современного
сравнительного литературоведения, и эти свидетельства, а еще
более — сами работы, выполненные в духе этой литературовед¬
ческой школы, показывают, что современный этап сравнитель¬
ного литературоведения действительно сильно отличается от
предшествующего.
Предшествующий этап датируется 30-ми годами XIX в., и
его формирование было связано с чрезвычайным развитием этно¬
графии. Этнография принесла с собой усиленное внимание к
творчеству очень разных народов, в том числе (а, пожалуй, даже
в особенности) тех народов, которые тогда стояли на относи¬
тельно ранних ступенях общественного развития. Такое внима¬
ние породило стремление к выявлению как бы некоего фонда
мировых, общечеловеческих тем, сюжетов и образов. В сущно¬
сти, на этом этапе сравнительное литературоведение состояло в
изучении формирования этих сюжетов и образов, их движения
во времени и их проявления прямо, непосредственно или кос¬
венно, опосредствованно в литературе разных народов, разных
эпох. Как известно, развитие этого типа сравнительного литера¬
297
туроведения связано с деятельностью Якоба Гримма, Боппа, Га¬
стона Пари.
Из этого сопоставления видно, в чем именно заключается
отличие современного сравнительного литературоведения от
прежнего. Современное сравнительное литературоведение зани¬
мается изучением международных литературных связей — кон¬
кретных, исторических. Именно так сформулировал заДачу срав¬
нительного литературоведения в 1951 г. М. Ф. Гюйяр в работе,
озаглавленной Ьа Н11ёга1иге сотрагёе7,— так же, как в свое вре¬
мя назвал свою, аналогичную по замыслу, работу П. ван Тигем.
Если обратиться к огромной научной литературе, созданной
представителями Ш1ёга1иге сошрагёе, окажется, что дело сво¬
дится преимущественно к раскрытию влияний — односторонних
и обоюдных.
Среди множества работ, посвященных влиянию одной лите¬
ратуры на другую, по методике исследования показательны, как
мне кажется, исследования Мэгрона «Исторический роман в
эпоху романтизма»8 и Эггли «Шиллер и французский роман¬
тизм» 9. Автор первой работы, прослеживая возникновение исто¬
рического романа во Франции, показывает, какую роль сыграло
в этом процессе творчество В. Скотта. Эта работа может служить
примером того, как французские исследователи раскрывают
влияние одной литературы на другую в области определенного
жанра. Работа Эггли о Шиллере во Франции показывает, как
ставят проблему влияния литературного явления одной страны
на формирование направления в драматургии, а через послед¬
нюю — ив литературе в целом другой страны. Работа П. Азара
«Великая французская революция и итальянская литература» 10
показывает, как изучали французские литературоведы влияние
литературы одной страны на литературу другой страны в целом.
Примером работы по изучению взаимовлияния двух литера¬
тур может служить исследование Эстева «Байрон и французский
романтизм» п. Автор сначала раскрывает те стороны творчества
Байрона, которые развились у него под влиянием французов.
Так, Эстев считает, что индивидуализм и культ чувства в «Кор¬
саре» во многом идет от «Новой Элоизы» Руссо; скепсис в «Дон-
Жуане» в значительной мере создался под влиянием «Кандида»
Вольтера; кое-что в мотиве «мировой скорби» в «Манфреде» и
«Чайльд Гарольде» восходит к «Рене» Шатобриана. Однако эти
элементы, возникшие в творчестве Байрона спонтанно, но окреп¬
шие под влиянием французов, переплавились в глубоко индиви¬
дуальном творчестве английского поэта и в своем сложном пе¬
реплетении приобрели новое художественное качество.
Получив так много от Франции, Байрон затем расплатился
с ней. Его «Чайльд Гарольд», «Корсар» и «Манфред» помогли,
по мнению Эстева, французам отойти от «Духа христианства»
298
Шатобриана, этого знамени католической реакции и политиче¬
ского консерватизма 20-х годов, и снова сделать романтическую
литературу выразительницей передовых идей и настроений
эпохи. Байрон помог утверждению того, что называют левым,
демократическим романтизмом.
Эти немногие примепы освещают основную идею представи¬
телей 1Шёга1иге сотрагее — необходимость для лучшего понима¬
ния явлений литературы своей страны учитывать связи этой ли¬
тературы с литературами других стран. Но книга Эстева проли¬
вает свет и на то, как ведется работа по вскрытию общностей,
охватывающих литеоатуры нескольких стран.
Еще Поль ван Тигем обрисовал, что следует понимать под
такими общностями,— это своего рода «царства» — ёШз, но
«царства» своеобразные: ё1а1з де зепзМШё, ёШз йез
^ёез Шега1гез... царства определенных чувств и идей, вопло¬
щенных в литературе, царства определенных тем, царства одних
и тех же художественных форм. Исследователи таких «царств»
открывают цепи фактов — то параллельных, то зависящих друг
от друга; обнаруживают истоки, фиксируют рождения, просле¬
живают развитие, оценивают модификации, подмечают ню¬
ансы 12. Наиболее широкой по временному и пространственному
охвату и отвечающей задачам раскрытия такой общности яв¬
ляется, пожалуй, работа того же П. ван Тигема «История лите¬
ратуры в Европе и в Америке от Ренессанса до наших дней»13.
Все же в вопросе о литературных общностях наблюдается
известная сдержанность, особенно в последние годы. Так,
Ж -М. Каррэ призывает исследователей к осторожности в обра¬
щении с такими понятиями, как гуманизм, классицизм, роман¬
тизм, реализм, символизм, когда ими хотят обозначить общность
литератур нескольких народов. Он полагает, что соединение не¬
скольких литератур под такими общими обозначениями может
оказаться излишней систематизацией, вылиться в абстракцию,
превратиться в голую номенклатуру м.
Помимо практической работы по исследованию конкретных
проявлений межлитературных связей представители француз¬
ского сравнительного литературоведения разработали и теорию
этого рода изучений. Наиболее интересным в их теоретических
построениях, на мой взгляд, является предложенная ими кон¬
цепция механизма литературного влияния.
В этом механизме они усматривают действие трех факторов:
ётеМеиг, гесер!еиг, 1гапзтеиеиг — «дающий», «принимающий»
и «передающий». Наряду с термином {гапзтеИеиг встречается
и термин Мегте&аше. Особенно подробно разработан вопрос
именно о последнем — «проводнике» или «посреднике» ,5.
Посредник может быть индивидуальный — лицо, человек;
может быть и групповой — литературное объединение, журнал.
Как на примеры индивидуального посредника указывают на
Стендаля, лично осуществившего связь французской литера¬
890
туры с английской, на Ж. де-Сталь, открывшую французам
своего времени Германию и немецкую литературу16. Примером
группового посредника может служить группа «Плеяды», вовлек¬
шая французскую литературу в орбиту литературы Ренессанса,
сложившегося в Италии, в частности привившая французской
поэзии итальянскую поэтическую форму — сонет. Ф. Бальданс-
перже считал групповым посредником французскую эмиграцию
времен Великой революции и отчасти Империи: рассеявшись по
разным странам, французские эмигранты узнали жизнь и лите¬
ратуру Англии, Германии, Испании, Италии, России, Америки,
и писатели из числа этих эмигрантов потом перенесли многое из
узнанного в литературу своей родины 17.
Особый раздел теории французского сравнительного литера¬
туроведения составляет учение о зиссёз, Гог1ипе, шИиепсе. Под
«успехом» разумеется степень значимости какого-либо явления
одной литературы в литературе другой страны; под «судьбой» —
история жизни данного литературного явления в другой стране;
под «влиянием» — результат этой жизни.
Благодаря такой разработке теории и методики сравнитель¬
но-литературных исследований, а главным образом благодаря
большому числу тщательно выполненных конкретных работ
французское сравнительное литературоведение обеспечило себе
ведущее положение во всем западном сравнительном литерату¬
роведении 1-й половины XX в.
3
Как отнестись к этой работе? Мне кажется, она сама свиде¬
тельствует о себе.
Сравнительное литературоведение на современном этапе
своей истории — детище XX в. Но литературная теория часто
бывает своего рода «послесловием», т. е. относится к тому, что
имело место раньше. Упомянутая работа П. ван Тигема указы¬
вает на самую отдаленную границу этого «раньше» — эпоху Воз¬
рождения; подавляющая же часть исследований имеет своим
объектом явления, возникшие в XVII — XIX вв.
Это сразу же выясняет суть дела.
Эпоха Возрождения — самая дальняя точка во времени, с
которой можно начинать прослеживание процесса складывания
национальных литератур современных европейских народов.
XVII век — время, когда уже явственно обнаружились очерта¬
ния таких литератур. XIX век — эпоха грандиозного развития
национальных литератур почти всех европейских народов, раз¬
вития во всей своей классической форме. Вместе с тем с эпохи
Возрождения начинают широко развиваться международные
литературные связи; в XVII в. они принимают характер отноше¬
ний между литературами национальными. В XIX в. межлитера¬
турные связи приобретают огромный размах.
300
Французские литературоведы учли этот двойной процесс и
постарались его осознать в фактах и в теории. И сделали они в
этой области очень много. Изучать историю европейских литера¬
тур XVII — XIX вв. без их работ невозможно.
Однако, исследуя этот процесс, необходимо дать себе отчет
в его историческом существе, а в связи с этим и в его подлинном
масштабе. Существо процесса — складывание национальных ли¬
тератур, т. е. литератур определенного общественно-историче¬
ского качества и определенной структуры. Масштаб — совокуп¬
ность стран, составляющих систему мирового капитализма.
С XVII в. начинается складывание этой системы. Нидерланд¬
ская революция второй половины XVI в. была первой в истории
буржуазной революцией. За ней последовали такие же револю¬
ции в Англии, Соединенных Штатах Америки, Франции. Для ис¬
тории Европы наибольшее значение имела Французская буржу¬
азная революция, для истории других частей мира — нидерланд¬
ская и английская. Голландцы первые стали распространять ка¬
питалистические отношения по всему свету, первые стали созда¬
вать колониальную систему на других основаниях, чем до них
это делали португальцы и испанцы — страны чисто феодальные.
Достаточно вспомнить деятельность основанной в 1602 г. гол¬
ландской Ост-Индской компании, за которой тут же и теми же
методами стали действовать английская и французская Ост-
Индские компании. Эти компании были организациями уже чисто
капиталистического типа.
Начавшийся в XVII в. процесс формирования мировой систе¬
мы капитализма закончился в 40—50-х годах XIX в. Момент его
окончания — «открытие дверей» в Китай и Японию18.
Конечно, страны, создававшие мировую систему капитализма,
сами находились на разных уровнях капиталистического разви¬
тия, что и отражалось на их положении в капиталистической си¬
стеме. Другие страны были втянуты в эту систему еще на фео¬
дальном этапе своей истории, в лучшем случае — только при пер¬
воначальном развитии капиталистических отношений. В общей
системе мирового капитализма такие страны заняли положение
колоний, полуколоний или зависимых стран.
Складывавшаяся в течение XVII—XIX вв. мировая система
капитализма влекла за собой развитие не только экономических,
торговых связей, но й связей культурных, а с ними — и литера¬
турных, причем эти связи охватили весь мир. Хорошо известно,
что в этот период литературы стран Запада стали проникать в
Индию, Турцию, позднее — в Японию, Китай. Современные ли¬
тературоведы стран Востока превосходно понимают значение
этого факта, когда изучают историю своих литератур в указан¬
ный период 19.
Но связи были обоюдными, а в работах западных литерату¬
роведов этот факт не учтен в надлежащей мере при анализе про¬
цесса развития литератур в указанные века. «Западно-восточный
301
диван» Гете известен и изучен, но оценен ли в достаточной ме¬
ре самый факт обращения немецкого поэта к Востоку не только
в очень серьезный момент его собственной творческой биографии,
но и в крайне важный момент всей исторйи новой европейской
литературы — момент перехода от литературы эпохи Просвеще¬
ния к литературе капиталистической эпохи? Хорошо известно, как
внимательно знакомился с поэтами Ближнего Востока В. Гюго,
но оценено ли достаточным образом, что обращение к Востоку
понадобилось французскому поэту в тот момент, когда он своими
«Восточными стихотворениями» утверждал основы романтиче¬
ской поэзии во Франции? И не связано ли обращение Жуковского
к Шахнаме и Махабхарате с аналогичным процессом в истории
русской литературы? «ОЬег <Не ЗргасЬе ипб Л\^е1зЬе11 <1ег 1пбег»
Фридриха Шлегеля — важная веха в умственном развитии Гер¬
мании, и не только ее одной. Подобных примеров можно приве¬
сти много, притом не только для XIX в., но и для XVIII и даже
XVII вв., и все они свидетельствуют, что масштаб международ¬
ных литературных связей выходил далеко за пределы Европы,
что не только литературы Запада сыграли большую роль в ис¬
тории литератур народов Востока в этот период, но и восточные
литературы внесли свой «клад в историю развития европейских
литератур. Представители современного сравнительного литера¬
туроведения на Западе этого не учли. Более того, они не охватили
своими исследованиями и литератур стран Восточной Европы, в
том числе и русской, отчего у них фактически получилась лишь
одна часть общей картины — история литератур только народов
Западной Европы в их взаимной связи. П. ван Тигем в указанной
работе включил сюда и литературу Америки.
Поэтому первое, что надлежит сделать в области сравни¬
тельного литературоведения даже во временных рамках, очер¬
ченных западноевропейскими исследователями, т. е. XVII—
XIX вв.,— решительно расширить пространственные границы,
включив в орбиту изучения связи между литературами всего
культурного человечества.
При изучении таких связей, а в более широком плане — вза¬
имоотношений отдельных литератур следует принимать во вни¬
мание политические отношения между национальными государ¬
ствами, уровни их культуры, сходства и различия в складах мыш¬
ления, в мировоззрении, верованиях, образе жизни, даже во вку¬
сах отдельных народов. Необходимо постоянно учитывать клас¬
совые отношения в каждой стране, политическую и идейную
борьбу. Без этого невозможно понять подлинный характер взаи¬
моотношений отдельных литератур.
Сводить в этих взаимоотношениях все к влиянию, конечно,
нельзя. Под влиянием обычно подразумевают содействие, ока¬
зываемое чем-либо в литературе одного народа росту какого-ни¬
будь явления в литературе другого народа. При этом влияние
может быть односторонним и двусторонним. Примером первого
302
может служить роль, которую английский готический роман сыг¬
рал в формировании такого же жанра во французской литера¬
туре. Примером второго является влияние французской литера¬
туры эпохи Просвещения на складывание творческой индивиду¬
альности Байрона и последовавшее затем влияние Байрона на
французских романтиков. Но, как правильно указывает
Ж.-М. Каррэ: «С^ш сН1 тПиепсе, сН1 зоиуеп! т1егрге!а1юп, гёас-
Иоп, гез151апсе, сотЪаЬ20. Действительно, соприкосновение од¬
ной литературы с другой может приводить к своего рода «интер¬
претации» одной литературой каких-либо явлений другой лите¬
ратуры, к «откликам» на них; может приводить и к «сопротивле¬
нию», даже к «борьбе».
В самом деле, в романе Вл. Реймонта «Мужики» несомненно
сказывается знакомство автора с произведениями Золя. Но ав¬
тор не подчинился французскому писателю, а вступил с ним в
идейную борьбу, создав иную концепцию, чем у Золя. Книгу То¬
кутоми Рока «Бормотание земляного червя»21 вообще нельзя
понять без учета значения для этого японского писателя его зна¬
комства с произведениями, идеями и жизнью Л. Н. Толстого.
Токутоми по возвращении из Ясной Поляны, где он побывал в
1906 г., зажил крестьянской жизнью: переселился в деревню, при¬
писался к крестьянской общине, построил себе крестьянский до¬
мик, приобрел крохотный участок (около 0,15 га) земли, кото¬
рую решил обрабатывать собственными руками, этим трудом
жить. Однако его замечательная книга, в которой он с исключи¬
тельной искренностью и прямотой, с большой художественной си¬
лой описал свою «мужицкую» жизнь, представляет собой настоя¬
щее развенчание идей Толстого: он показывает, как, пытаясь
жить по заветам Толстого, он понял фальшь так называемого
опрощения, искусственность своего «мужицкого» положения,
ложность своего труда. Таким образом, книга Токутоми — при
всем преклонении ее автора перед великим русским писателем —
представляет собой непрерывную полемику с некоторыми взгля¬
дами и идеями последнего.
Это различное отношение деятелей одной литературы к фак¬
там и явлениям другой объясняется многими причинами: разны¬
ми классовыми позициями авторов, различием мировоззрения,
особенностями творческих индивидуальностей, жизненного опы¬
та. Литературные связи могут не только быть чрезвычайно раз¬
личными по своему содержанию и характеру, но и приводить в
каждой отдельной литературе к очень разным последствиям.
Сложное соединение сил притяжения и оттал¬
кивания и составляет сущность взаимоотно¬
шений отдельных национальных литератур.
303
4
Вторая задача современного сравнительного литературоведе¬
ния состоит в расширении временных границ исследования. Нуж¬
но включить в орбиту исследования и средневековье.
То или иное по масштабу и значению общение между лите¬
ратурами отдельных народов существовало всегда. Существова¬
ло оно и в средние века. О многом мы уже знаем, но в последнее
время открываются все новые факты, вносящие серьезные допол¬
нения в ранее известную картину.
Один из таких фактов — открытие в пещерном монастыре
Дуньхуана целой библиотеки. Монастырь этот, расположенный
в северо-западном углу Ганьсу, одной из западных провинций
Китая, когда-то стоял на перепутье между Китаем, Тибетом, Ин¬
дией и «Западным краем», как в прежние времена называли ки¬
тайцы земли Восточного Туркестана, Средней Азии, Афганиста¬
на. В дальнейшем эти* пути потеряли свое значение, по району
Дуньхуана прошли завоеватели, и когда-то цветущий и богатый
монастырь заглох. Но в нем, в его пещерах все стены были по¬
крыты фресками и не только на буддийские сюжеты, но и на мир¬
ские — вплоть до жанровых. Ныне эти пещеры — одна из миро¬
вых сокровищниц изобразительного искусства. В монастыре было
собрано и множество рукописей и ксилографов. Монахи еще в
XI в. замуровали, входы в пещеры и строго хранили их тайны.
Однако слухи о сокровищах Дуньхуана все Же дошли до евро¬
пейских ориенталистов, и в начале XX в. туда стали направляться
экспедиции. Первым (в 1907 г.) прибыл Стейн, за ним (в
1908 г.) — Пеллио, побывавший в Дуньхуане два раза, в дальней¬
шем — Ольденбург22. В результате в ряде европейских стран об¬
разовались «дуньхуанские фонды».
Китайские ученые с чрезвычайной энергией занялись изуче¬
нием рукописей и ксилографов Дуньхуана и обнаружили среди
них многое, до этих пор неизвестное в истории литературы своей
страны. Важнейшим из этого была целая литература жанра
бяньвэнь. Два тома памятников этого жанра, изданных в совре¬
менном печатном виде, являются первой крупной публикацией
этих материалов Начато изучение этого рода литературы и
у нас24.
На основании уже имеющихся работ китайских ученых25, к
которым присоединились японские26, вырисовывается с достаточ¬
ной ясностью, с чем тут мы имеем дело.
Весь луддийский канон, т. е. совокупность множества сутр и
шастр, был еще в VIII в. переведен с санскрита и пали на ки¬
тайский язык. Однако то, что именуют «буддийским писанием»
содержит в себе в сущности очень многое из индийского фольк¬
лора, из огромной сокровищницы сказок, легенд, сказаний, пре¬
даний. Этот материал слился в дальнейшем с церковной легендой
и преданием, возникшими в сфере самого буддизма, а в какой-
304
то мере послужил и основой для такой легенды и предания. На
этой почве возникла обширнейшая житийная литература, по сво¬
ему типу многим напоминающая житийную литературу христи¬
анства. Недоступность этой литературы для неграмотных масс
верующих, а также сами условия религиозной пропаганды обус¬
ловили то, что по крайней мере часть этого материала должна
была излагаться устно — в форме «проповеди для мирян». Впро¬
чем, не только для мирян. Вероятно, в средневековых буддийских
монастырях происходило то же, что бывало в монастырях сред¬
невековой Европы: чтение вслух для монахов избранных мест
из писания и житий. Как известно, именно таким путем создал¬
ся один из жанров литературы Средневековья — «легенда». Так
как задача «чтения вслух» или «проповеди для мирян» состояла
в овладении вниманием слушателей, то выбирались наиболее ин¬
тересные в сюжетном отношении и насыщенные эмоциями места.
В сущности делалось то же, что и в религиозной живописи, где
предметом изображения становились прежде всего особо впе¬
чатляющие события, необыкновенные происшествия. Соответст¬
вующий буддийский термин был передан на китайский язык сло¬
вом бянъ, которое для китайцев могло иметь смысл именно «не¬
обычайного происшествия». Среди фресок, украшающих стены
«Пещер тысячи будд», как называли монастырь Дуньхуана, име¬
ется много картин именно на такие сюжеты. Они имели поясни¬
тельный текст, по-китайски — вэнь. Так родилось слово бянь¬
вэнь, как обозначение такой картины с приданным ей текстом.
Это же слово со значением «рассказ о необыкновенных проис¬
шествиях», т. е. о всякого рода примечательных событиях, из
житий буддийских святых, подвижников и учителей, стало обоз¬
начать и устное повествование об этих событиях, «проповедь для
мирян». Когда же эти события стали предметом письменного из¬
ложения, слово бяньвэнь стало названием определенного пове¬
ствовательного жанра. Однако на пути своего превращения в
особый литературный жанр «проповедь для мирян» обратилась
к художественным средствам своего первоисточника — народного
сказа. Особенностью этого сказа в Индии было соединение прозы
и стиха: оно обеспечивало наибольшую силу воздействия на чи¬
тателя. Усвоение такого приема в Китае было облегчено наличи¬
ем сходного приема в предыдущей китайской литературе. Таким
путем бяньвэнь превратилась в жанр, в котором сочетались про¬
за, несущая на себе функции изложения повествовательного ма¬
териала как такового, и стихи, несущие функцию преподнесения
того же материала в особо обработанном виде.
Очень скоро в этот чрезвычайно доходчивый литературный
жанр, к тому же рожденный в стихии народного творчества, со
всей силой вторгся китайский фольклор, вся необъятная масса
китайских легенд, сказаний, исторических преданий, ни в своем
происхождении, ни в развитии никак не связанная с буддизмом.
Так возникли три рода бяньвэнь: на буддийские сюжеты, на не-
20 н. И. Конрад
305
буддийские, чисто китайские сюжеты, и на сюжеты, в которых
элементы индийского фольклора, обогащенные буддийским цер¬
ковным преданием, соединились с элементами китайского фоль¬
клора, обогащенного китайским историческим преданием.
Открытие бянъвэнъ представляет собой событие очень боль¬
шого значения. Оно касается прежде всего, конечно, истории ки¬
тайской литературы: отныне некоторые разделы этой истории
должны будут строиться и излагаться по-иному, чем до сих пор,
а главное — во многом изменится общее представление о лите¬
ратуре китайского средневековья. Открытие бяньвэнь, далее,
позволяет поднять и более широкий вопрос — о возникновении
на разных концах мира — в Западной Европе и в Китае — типо¬
логически близких, если не вполне даже однородных явлений:
литературного жанра, именуемого в западной литературе «леген¬
дой», «житием». Все данные обрисовывают конкретную истори¬
ческую обстановку так, что подобная типологическая близость
становится вполне обоснованной. Но главное, что открывает
бяньвэнь для темы настоящей статьи,— факт наличия связи ли¬
тератур двух великих народов — Индии и Китая,— связи, до сих
пор совершенно недостаточно учитываемой исследователями ис¬
тории китайской литературы. Открывается новый материал и для
суждения о «посреднике», «проводнике». «Посредником» здесь
является не «лицо», «индивидуум», не «группа», о чем так обос¬
нованно говорят представители западноевропейского сравнитель¬
ного литературоведения, а буддизм, т. е. религиозное учение,
«проводником» же — монахи, но не всякие, а именно те, которые
в буддизме именуются «проповедниками для мирян». В связи
с з^им возникает необходимость исследования вопроса о таких
«посредниках» или «проводниках» в механизме межлитератур¬
ных связей в таких областях, как философское направление, ре¬
лигиозное учение, та или иная идеология вообще.
Второй факт, также принадлежащий к открытиям последних
лет, относится к вопросу о связях западноевропейской литера¬
туры раннего средневековья и литературы арабской. Материал,
позволяющий по-новому осветить эти связи, содержится в рабо¬
те Никла «Испано-арабская поэзия и ее связи с поэзией старых
провансальских трубадуров»27.
Большая часть книги Никла посвящена истории поэтического
творчества испанских арабов. В этой части автор продолжает
давно уже ведущееся исследование. Новое в этой работе —
документально доказанное влияние испано-арабской поэзии на
провансальскую поэзию XI—XIII вв. Никл раскрывает это на
анализе творчества Гильома де Пуатье, Маркобрюна, Джауфре
Рюделя. Он устанавливает, что в ряде случаев чрезвычайная
близость поэзии первых трубадуров Прованса к поэзии испан¬
ских арабов не может быть истолкована иначе как «подражание»
или «заимствование»28. Он берет правила, выработанные для
определенных видов арабских стихотворений ибн Халдуном, и
306
показывает, что ряд стихотворений Гильома написан по этим пра¬
вилам. При этом Никл, как это считают для себя обязательным
все представители современного сравнительного литературоведе¬
ния на Западе, устанавливает реальные факты, делающие зна¬
комство Гильома с этими правилами вполне правдоподобным.
Так, он ссылается на участие Гильома в Крестовом походе, сопо¬
ставляет стихи, написанные Гильомом до этого, со стихами, на¬
писанными после похода, и открывает резкое различие между
ними, притом такое, которое можно объяснить только тем, что
Гильом во время похода хорошо узнал арабскую поэзию29.
Никл очень настойчиво подчеркивает, что изображать дело
так, будто бы поэзия аквитанских трубадуров вообще возникла
под влиянием арабов,— было бы грубой ошибкой. Он настаива¬
ет на этом и для большей убедительности пускает в ход не только
английский термин, но и немецкие: «...саппо! Ье саИеб „оп§тз”,
ог „Цгзргипд”, ог „НегкипИ”». Провансальская поэзия возникла,
по его выражению, вполне «автохтонно»; роль арабской поэзии
состояла только в том, что последняя способствовала быстрому
формированию и развитию первой, причем это сказалось не толь¬
ко на содержании, жанровых разновидностях, но даже на стро¬
фике, ритмике, даже на рифмовке30. Из этого факта можно, как
мне кажется, сделать далеко идущие заключения.
Арабская Испания представляла собой крайний западный
конец Арабского Магриба — арабского Запада, т. е. той части
арабских владений, которая протянулась по всему североафри¬
канскому побережью, начиная от Египта. А по другую сторону
от Египта простирался арабский Восток — Аравийский полуост¬
ров, Палестина, Ливия, Сирия, Месопотамия (ныне — Ирак).
Цепь, начинавшаяся от Севильи, Кордовы и Гренады, тянулась
через Каир к Дамаску и Багдаду, и повсюду на этом пространст¬
ве звучали в те времена песни арабской андалузской поэзии. Ибн
Саид, арабский историк XIII в., писал, что заджали ибн Козмана
слышались в Багдаде, пожалуй, чаще, чем даже в столицах Маг¬
риба.
Кончалась ли эта цепь Багдадом? Ведь оттуда, из этого цент¬
ра, тянулись нити арабского влияния в Северо-Западную Индию,
Иран, Среднюю Азию, в «Сиюй» — «Западный край», с точки
зрения географов Китая. Указанная картина относится ко вто¬
рому, или халифатскому, периоду арабской литературы, т. е. к
VII—VIII вв. А в эти века в арабской поэзии расцвела любовная
лирика,элегии, славословия.
Поэзию мы находим и у провансальских трубадуров, и теперь
знаем, что такое сходство объясняется не только типологической
однородностью двух самостоятельно возникших видов поэтиче¬
ского творчества, однородностью, обусловленной общностью ис¬
торического содержания эпохи, но и прямыми связями этих двух
потоков поэзии, связями, также созданными конкретными истори¬
ческими условиями.
807
Поэзию такого же рода мы обнаруживаем и в Китае. Только
находим мы ее не у поэтов, давно введенных в историю литера¬
туры и по достоинству оцененных, а у поэтов менее известных и
еще больше — в безымянном народном творчестве. До нас дошли
образцы этой поэзии в двух сборниках — «Юэфу» и «Юйтай синь
юн»в1. Первый из них уже более или менее изучен китайскими
литературоведами, хотя и не оценен еще в должной мере; второй
же сборник до сих пор не занял подобающего места в истории ки¬
тайской поэзии. В последние годы оба эти сборника изучаются
Б. Б. Вахтиным, а первый также И. С. Лисевичем32.
В этих двух сборниках мы находим ту же любовную лирику,
те же элегии, те же славословия, из которых слагается арабская
и провансальская поэзия указанного времени — раннего средне¬
вековья. Только в Китае раннее средневековье было раньше, чем
у арабов и провансальцев: к тому времени, как арабы и прован¬
сальцы только начинали свою историю, китайцы насчитывали в
прошлом уже почти две с половиной тысячи лет исторической
жизни, и «ранним средневековьем» с точки зрения общественно¬
исторического развития у них был период с III по VII в. Именно
к этому времени и относится большая часть стихов указанного
типа.
Близкую по содержанию лирическую поэзию мы находим и в
Японии VII—X вв.— в ту эпоху, которая была «ранним средне¬
вековьем» для этой страны83. Черты сходства японской поэзии
с китайской обусловливаются прежде всего общностью социаль¬
но-исторических предпосылок. Японская поэзия возникла так же
«автохтонно», как и провансальская. Но подобно тому как в ис¬
тории провансальской поэзии большую роль сыграли связи ее с
поэзией арабской, в истории японской лирики серьезную роль
сыграло знакомство японцев с поэзией соседнего Китая. В этом
отношении между рассматриваемыми двумя историческими «слу¬
чаями» наблюдаются общие черты, что само по себе представля¬
ет большой интерес для сравнительно-исторического исследова¬
ния; но так же отчетливо видны и черты различия. Тогда как
влияние арабской поэзии на провансальскую затронуло не толь¬
ко содержание лирики, но и ее форму, влияние китайской поэзии
совершенно не отразилось на форме японской лирики: она сохра¬
нила свою строфику, свою ритмику, свою композицию стиха; не
восприняла она и рифмы. Этот факт также представляет глубо¬
кий интерес для исследователя.
Таким образом, перед нами как бы предстают две цепи: араб¬
ская и китайская. Крайнее звено арабской цепи — поэзия акви¬
танских трубадуров; крайнее звено китайской цепи — поэзия
японских лириков. Невольно встает вопрос: а что же такое пред¬
ставляет собою близость арабской поэзии к китайской — прояв¬
ление только лишь одной типологической общности или еще и
результат каких-то конкретно-исторических связей?
В 751 г. к реке Таласс, находящейся в восточной части ны¬
308
нешнего Казахстана, подошли две армии — Багдадского хали¬
фата и Таиской империи. Столкнулись две великие державы того
времени, каждая в своем экспансионистском движении: одна — в
сторону Востока, другая — в сторону Запада. Битва приостано¬
вила оба движения, и река Таласс стала границей двух различ¬
ных миров.
Во всем ли различных? С точки зрения исторического процес¬
са обе стороны переживали полосу своего подъема — политиче¬
ского и культурного. Древний Китай подходил к своей эпохе Воз¬
рождения; молодая арабская держава быстро шла к расцвету
своего феодального строя. Один народ успел пройти по историче¬
скому пути несколько дальше другого, но в большой историче¬
ской перспективе китайская лирическая поэзия III—VI вв., к ко¬
торой так близка арабская, родилась и развилась в той же исто¬
рической обстановке, что и арабская поэзия VII—X вв. Середина
VIII в.— момент, когда арабский мир соприкоснулся с китай¬
ским,— была той эпохой, когда в одной стране поэзия раннего
феодализма уже отцветала, в другой же только шла к расцвету,
но существо и той и другой поэзии было в историко-типологиче¬
ском отношении однородным. Поэтому эти два мира и не могли
быть чуждыми друг другу ни с какой стороны.
Об этом свидетельствует ряд конкретных исторических фак¬
тов. В столице китайской империи Чанъане в VII—VIII вв. было
великое множество выходцев из Западного края, т. е. из того
района, слагавшегося из частей позднейшего Восточного Турке¬
стана, нынешней Средней Азии и Афганистана, который искони
был одним из перекрестков мировой цивилизации. В древности
на культуру местных народностей, саму по себе достаточно вы¬
сокую, наслоились элементы культур иранской, индийской и эл¬
линской; с давних пор сюда стала проникать и культура китай¬
ская. В эпоху арабских завоеваний здесь стало ощущаться и
культурное влияние арабов. В рассматриваемый период, т. е. в
VII—X вв., арабское влияние было здесь, несомненно, значитель¬
ным, и в той музыке и плясках, в тех нарядах и украшениях,
предметах искусства, которые принесли с собой в Чанъаць выход¬
цы из Западного края, наличествовали не только элементы тюрк¬
ской и иранской культуры, но и культуры арабской34. Ведь не¬
даром даже в далекую Японию в VIII в. проникли предметы ис¬
кусства явно арабского происхождения. Проник в Китай и ис¬
лам; в самом Чанъане появились мечети. Мусульманами были
при этом не только выходцы из Западного края; принимать ис¬
лам стали и китайцы. Но мусульмане-китайцы, еще до того как
узнали язык Корана, знали язык «Луньюя»; до того как стали
распевать песни на арабском языке, пели их на китайском. Поэ¬
зия на Востоке всегда была связана с песней, музыкой; с другой
стороны, и пляски и музыкальные номера обычно соединялись с
песней. Поэтому распространение в Чанъане «западных» плясок,
309
«западной» музыки не могло не быть вместе с тем и распрост¬
ранением «западной», в том числе и арабской поэзии.
К сказанному следует добавить, что арабское влияние шло
не только со стороны Западного края; мы хорошо знаем, что
порты Юго-Восточного Китая, прежде всего Кантон, усердно по¬
сещались кораблями арабских купцов и арабские «торговые
гости» имели в Кантоне свои подворья; иначе говоря, в этих
портовых торговых городах было постоянное арабское насе¬
ление.
В таких исторических условиях так ли уже невероятно пред¬
положить, что между двумя великими народами средневековья
были не только торговые и культурные, но и литературные свя¬
зи? Причем связи не односторонние, а двусторонние. Как изве¬
стно, уже в наше время, в 1933 г., на горе Муг на южном берегу
Зеравшана советские археологи нашли документы не только на
согдийском языке, но единичные — на арабском и китайском35.
Наличие согдийских документов понятно: тут была Согдиана —
страна согдийцев, одной из древних иранских народностей. Из
арабского документа мы узнали, что правил тогда этим районом
арабский наместник, из китайского — что у китайцев были тогда
свои сношения с этими местами. А район горы Муг входил в со¬
став Западного края, согдийские же купцы были главными тор¬
говыми посредниками между тогдашними Востоком, т. е. Китаем,
и Западом, т. е. странами Среднего и Ближнего Востока. Поэто¬
му вполне допустимо, что культурный обмен был двусторонним.
И если в танском Китае обнаруживаются элементы культуры
«западной», в том числе и арабской, то в Средней Азии и Иране
есть достаточно явственные следы культуры китайской. Наличие
культурных связей не подлежит сомнению; могли быть и связи
литературные. Можно почти с уверенностью сказать, что такие
связи будут со временем раскрыты. И тогда перед нами предста¬
нет картина литературной общности от Прованса до Японии.
Ареал этой общности — Прованс, Иберийский полуостров, все
североафриканское побережье (вероятно, включая Сицилию),
Аравия, Ливан, Сирия, Иран, Ирак, Северо-Западная Индия, Аф¬
ганистан, Средняя Азия, Восточный Туркестан, Китай, Япония.
Весь этот обширный мир, заселенный самыми разными народ¬
ностями — франками, арабами, иранцами, тюрками, китайцами,
японцами, жил в условиях многообразных взаимных связей —
торговых, политических, религиозных, культурных и литератур¬
ных. Отдельные части этого мира многое разъединяло и сталки¬
вало; но неужели следует обращать внимание только на то, что
разъединяло и сталкивало, и забывать о том, что соединяло и
сближало? Во всяком случае для будущего, вероятно, важнее
помнить именно об этом втором.
310
5
Таким образом, раздвинув границы изучения мировой литера¬
туры XVII—XIX вв. до пределов всего культурного мира того
времени, мы сможем преодолеть пространственную ограничен¬
ность западноевропейского сравнительного литературоведения,
ограниченность, отражающуюся не только на понимании подлин¬
ных масштабов и исторического существа раскрываемых литера¬
турных связей, но и на полноте характеристики литературного
процесса у отдельных народов. Включив в орбиту изучения и
средневековье, мы сможем преодолеть временную ограничен¬
ность современного сравнительного литературоведения, ограни¬
ченность, ,отражающуюся не только на построении общей исто¬
рии международных литературных связей, но и на полноценно¬
сти самой теории сравнительно-исторических исследований.
Включение в рамки изучения литератур средневековья пока¬
жет, насколько важно различать литературы национальные и
литературы народностей. О различии в границах — этнических,
языковых и политических — по сравнению с XVII—XIX вв. и го¬
ворить не приходится. Например, этническая карта Европы в
средние века иная, чем в новое время. Несомненно, возникнове¬
ние современных наций подготовлялось развитием общества в
средние века, но не следует забывать, что появление наций есть
новая форма, новая сравнительно с эпохой, когда человечество
расчленялось на народности. Границы между народностями были
иными, чем границы, впоследствии образовавшиеся между нация¬
ми: они были гораздо менее определенными; места стыков раз¬
личных народностей бывали нередко расплывчатыми, не говоря
уже об их общей неустойчивости. То же можно сказать о язы¬
ковых границах: ареалы языков в эпоху народностей были иные,
чем в эпоху наций, иным было и соотношение языков, их грани¬
цы, степень их «проницаемости». И все это оказывало свое влия¬
ние и на литературу — на ее этнические и языковые границы. По¬
этому многие произведения средневековой литературы принадле¬
жали одновременно нескольким народностям Европы. Эпоха
XVII—XIX вв., т. е. эпоха наций, в истории литературы народов
Европы характеризуется двумя противоположными тенденциями:
с одной стороны, шел процесс формирования и развития нацио¬
нальных литератур, т. е. процесс обособления отдельных, четко
выраженных по языковому и национальному признаку литера¬
тур; с другой стороны — процесс интенсивного развития между¬
народных литературных связей, т. е. процесс включения отдель¬
ных, самостоятельных литератур в некоторые общности. Для
средних веков, т. е. для эпохи народностей, характерно иное:
с одной стороны, не существует столь резко очерченных отдель¬
ных литератур; с другой — на связи между ними часто большое
влияние оказывают расплывчатость этнических и языковых гра¬
ниц, их подвижность, большая степень языковой проницаемости.
311
Необходимо учитывать также существование в эпоху народ¬
ностей международных литературных языков. Такими языками
для разных ареалов были: санскрит, греческий, латинский, книж¬
ный древнеславянский, классический литературный китайский,
персидский, арабский. Знание соответствующего языка или даже
нескольких было в то время необходимой принадлежностью об¬
разования, почему такой язык становился языком многих про¬
изведений литератур разных народностей. Наличие таких про¬
изведений дифференцировало литературу отдельной народности,
так как наряду с произведениями на международных языках у
каждой народности существовали произведения и на своем на¬
родно-разговорном языке. Но вместе с тем произведения на меж¬
дународных языках соединяли народности друг с другом, служи¬
ли основой для образования больших литературных общностей.
Существование таких общностей — одно из характернейших яв¬
лений истории мировой литературы эпохи народностей. Но эти
общности по своей природе и структуре совершенно иные, чем
общности в мире литератур эпохи наций.
Необходимо, наконец, во всей полноте учитывать факт разли¬
чия самих форм существования литературы в разные историче¬
ские периоды. Для эпохи наций обычная форма существования
литературы — письменная; в эпоху народностей — многое в лите¬
ратуре существует в форме устной. И это вовсе не только в обла¬
сти фольклора, специально устного народно-поэтического творче¬
ства. Как показывает приведенный выше пример с бяньвэнь,
этот литературный жанр сложился именно путем устного твор¬
чества, и, даже будучи записанными, те же бяньвэнь продолжа¬
ли существовать в устной форме, в передаче рассказчиков. Такое
же явление мы наблюдаем в Китае и в других областях литера¬
туры. Основой для этого служило то обстоятельство, что произве¬
дение в записанном виде было недоступным для огромного боль¬
шинства китайского народа; поэтому даже «написанные» произ¬
ведения существовали для китайского народа и в форме устного
рассказа. А кроме того, такая форма существования литератур¬
ного произведения открывала огромный простор для инициа¬
тивы рассказчиков, для их творческого участия в бытовании и
дальнейшем развитии данного произведения. Поэтому-то так
трудно во многих случаях говорить об «авторах» произведений.
Если учесть, что на то, как рассказывалось данное произве¬
дение, прямое влияние оказывали вкусы слушателей, т. е. народ¬
ной массы, то не будет преувеличением сказать, что очень многие
повествовательные произведения китайской средневековой лите¬
ратуры являются народными даже в смысле авторства.
Таковы те положения, которые, на мой взгляд, должны быть
введены в общую теорию современного литературоведения для
того, чтобы оно могло дать действительно новые для науки о ли¬
тературе результаты.
1959 г.
312
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Наиболее компактное изложение истории, теоретических позиций и ме¬
тодов исследования французского сравнительного литературоведения см.:
Р. уап НедЬеш, Ьа ИШгаЫге сотрагёе, Рапз, 1931; Р. ВаМепзрегдег,
АУ. Р. РпеЗпсЬ, ВЫНо^гарку о/ сотрагаНое ШегаЫге, СЬареШШ, 1950;
М. Р. Оиуагс!, Ьа ИШгаЫге сотрагёе, Рапз, 1951.
2 Р. уоп НедЬет, Ьа ИШгаЫге сотрагёе.
3 См. Г. Брандес, Литература XIX в. в ее главных течениях. Французская
литература, пер. Эл. Бауэр, Спб., 1895, стр. 1.
4 Р. уоп НедЬеш, Ье РгёготапНзте. ЕЫйез й'к1з1о1ге ИШгаЫге еигорёеппе,
Рапз, 1924, р. 9.
6 Р. уоп НедЬеш, Ьа ИШгаЫге сотрагёе.
6 См. К. Накадзима, Хикаку-бунгаку-но иги,— в кн. «Хикаку-бунгаку дзё-
сэцу», Токио, 1951, стр. 8.
7 См. М. Р. Оиуагб, Ьа ИШгаЫге сотрагёе, р. 7.
8 См. Ма1^гоп, Ье готапе ЫзЫгьдие а Тёродие готапИдие, Еззау зиг
1’Щ1иепсе йе ЧРаИег ЗсоИ, Рапз, 1912.
9 См. Е. ЕддН, ЗсЫИег е1 1е готапИзте }гапда1зе, Рапз, 1907.
10 См. Р. Нагагб, Ьа Огапйе РеооЫИоп }гапда1зе е( 1а ИШгаЫге Па-
Пепле.
11 С. Е. Ез1ёуе, Вугоп е1 1е готапИзте ^гапдаьзе, Рапз, уо1. 2, 1927.
12 См. Р. уап Т1едЬет, Ье РгёготапИзте, р. 12.
13 См. Р. уап НедЬет, ШзШге НИегаИе йе ТЕигоре е1 йе ТАтег1дие йе 1а
Репеззапзе }издие а поз }оигз, 1946.
14 См. его предисловие к книге М. Р. Сшуагб, Ьа ИШгаЫге сотрагёе, р. 6.
15 Об этом см. главным образом соответствующие разделы Р. уап НедЬет,
Ьа ИШгаЫге сотрагёе.
16 См. Сотр1еззе ^ап бе Рапде, М-те йе 8Ые1 е/ 1а йесоиоеШ йе ТАНе-
тадпе, 1929.
17 См. Р. ВаМепзрегдег, Ье тоиоетеп1 йез Шёез йапз Гёпй&гаИоп }гап-
даьзе, уо1. 2, 1925.
18 Под «открытием дверей в Китай» следует понимать открытие Китаем,
согласно Нанкинскому договору 1842 г., пяти портов для английской торговли
(Кантон, Амой, Нинбо, Фучжоу, Шанхай); под «открытием дверей в Японию»
понимается открытие Японией по договору в’Канагава в 1854 г. портов Симода
и Хакодатэ для американской торговли.
19 Особенно подробно эти вопросы изучены японскими литературоведами
по отношению к японской литературе. См., например, коллективную работу
«Хикаку-бунгаку.— Нихон-бунгаку-о тюсин-то ситэ» (Токио, 1953), а также
соответствующие разделы в «Нихон бунгакуси дзитэн» (Токио, 1955).
20 См. его предисловие к упомянутой работе М. Р. Сиуагб, Ьа ИШгаЫге
сотрагёе, р. 6.
21 См. Токутоми Рока, Мимидзу-но тавагото, 1913.
22 См. С. Ольденбург. Пещеры тысячи будд,— «Восток», 1922, кн. 1,
стр. 57—66.
23 «Дуньхуан бяньвэнь цзи», Пекин, 1957, т. 1, 2. См. также «Дуньхуан
бяньвэнь хуйлу».
24 Первая работа в этом направлении — исследование Л. Н. Меньшикова
«О жанре бяньвэнь и его истоках».
26 См., например, Чжэн Чжэн-до, Чжунго вэньсюэ иги, Пекин, 1957, т. 2,
гл. 33.
26 Например, Итеги Иго, Р1еп апс! Р1еп-'\уеп, ТНе 1арапезе заепсе геоьехзо
(АЬзНасЫ апй гетешз о( БьззегЫНопз), уо1. 8, 1957, рр. 1—2. См. также Утида
Сэнноскэ, Тюгоку бунгаку си Токио, 1956, стр. 327—330.
27 См. А1о15 К1сЬагс1 Мук1, Шзрапо-агаЫс роеНу оп Из геШюпз шНкИге о1й
ргооепаа1 НоиЬайоигз, ВаШтоге, 1946.
28 1ЬМ., р. 379.
29 1Ыс1., р. 382.
313
80 1Ыс1., р. 373.
31 «Юэфу»— собрание произведений народной поэзии с II в. до н. э. по
VI в. н. э. «Юйтай синь юн» — собрание произведений китайской литературной
поэзии приблизительно за тот же период.
82 См. Б. Б. Вахтин, Юэфу, Из древних китайских песен, М.— Л., 1959.
33 См. «Японская поэзия», М., 1956, стр. 17—111, 481—534.
34 Одна из последних китайских работ по этому вопросу — Сян Да, Тан
дай Чанъань юй Сиюй вэньмин, Пекин, 1957.
35 См. «Согдийский сборник», Л., 1934.
К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРНЫХ связях
В нашей стране уже давно стало признанным, что история ли¬
тературы должна охватывать весь известный материал, т. е. не
только западный, но и восточный. Еще в конце прошлого столе¬
тия у нас появилась «Всеобщая история литературы» — коллек¬
тивный труд многих авторов, изданный под редакцией А. Ф. Кор-
ша и А. И. Кирпичникова, в которую вошли очерки истории лите¬
ратуры не только европейских народов, но и многих народов
Востока.
К сожалению, этот опыт создания истории мировой литера¬
туры не был повторен в дальнейшем, и даже в наше время, когда
сама жизнь повелительно раздвинула наш кругозор на всю ши¬
роту мира, мы все еще не располагаем новой историей мировой
литературы, соответствующей нашему чрезвычайно расширив¬
шемуся знанию материала и нашим во многом изменившимся
представлениям о ходе развития литературы.
В новом пересмотре нуждается, однако, и теория литературы.
И западный материал, во многом по-новому изученный, и восточ¬
ный, становящийся все более и более нам известным, могут вне¬
сти много нового в понимание существа литературы как общест¬
венного явления со своей специфической природой в раскрытие и
оценку специфических средств литературного выражения, в пони¬
мание хода развития литературы как в зависимости от внутрен¬
них законов этого развития, так и в связи с историей общества в
целом.
Нижеследующее содержит отдельные наблюдения над исто¬
рией литератур некоторых народов Востока, могущие иметь, как
нам кажется, известное значение для науки о литературе вообще.
I
Обращаясь к Японии двух последних десятилетий XIX в. и
двух первьцьдесятилетий XX в., мы видим чрезвычайно интенсив¬
ное развитие литературы реалистической. Разумеется, существо¬
315
вали и другие направления, но доминирующим в этот период
бесспорно был реализм. Начало этому пути положил в 80-х годах
прошлого века Хасэгава Фтабатэй; последним крупным предста¬
вителем этого направления, продолжавшим его творчески разви¬
вать, был Нацумэ Сосэки, главные произведения которого появи¬
лись в конце первого десятилетия и в первой половине второго
десятилетия нашего века.
Называя литературу Японии этих десятилетий реалистиче¬
ской, мы вкладываем в понятие «реализм» то содержание, кото¬
рое придала ему история европейской литературы XIX в., т. е.
история литературы французской, английской, русской и других
народов Европы. Японская литература указанного направления
по своим основным признакам примыкает к этому течению евро¬
пейской литературы и образует тем самым часть мировой литера¬
туры классического реализма. В общую орбиту ее входят и лите¬
ратуры некоторых других стран Востока, например Турции.
Самое поверхностное ознакомление с мировой литературой
этого времени открывает наличие оживленных связей между ли¬
тературами различных стран. О том, как близко соприкасались
друг с другом литературы стран Европы в этот период, известно
всем. Специалисты по восточным литературам знают, что со вто¬
рой половины XIX в. в некоторых странах Востока, по крайней ме¬
ре в определенных общественных кругах этих стран, приобрели
широкую известность многие из европейских литератур. Так, на¬
пример, эти литературы, среди них особенно английская, стали
хорошо известны многочисленному слою индийского общества,
получившему европейское образование. В европейски образован¬
ных слоях турецкого общества конца XIX в. хорошо знали фран¬
цузскую литературу *. В Японию с 80-х годов прошлого века все
ширящимся потоком проникала литература русская, француз¬
ская, английская, немецкая, скандинавская2. То же явление с
различной степенью интенсивности и в разных масштабах наблю¬
далось и у других народов Востока. Наличие мировых связей
между литературами в период классического реализма не подле¬
жит сомнению.
Такая картина невольно наводит на мысль об особой роли
этих связей, на мысль, что появление однотипных литератур в
различных странах Запада и Востока в какой-то мере обуслов¬
лена именно этими связями.
Действительно, в истории можно найти случаи появления у
разных народов однотипных литератур именно при наличии свя¬
зей между ними. Нельзя, например, оспаривать взаимосвязь и
взаимозависимость литератур Средней Азии, Ирана, Северо-За¬
падной Индии и Кавказа X—XIII вв., литератур, несмотря на
местные различия, все же несомненно однотипных. К одному и
тому же типу литературы относятся «Шах-наме» и «Витязь в тиг¬
ровой шкуре» — произведения, возникшие в определенной, харак¬
терной именно своими внутренними связями, культурной зоне.
316
В той же зоне сформировалась столь близкая по темам и стили¬
стической окраске лирика таких поэтов, как Рудаки, Низами,
Саади, Омар Хайям 3.
Несомненны связи японской литературы XVII — начала XIX в.
с китайской литературой4. Совершенно однородны, например, в
обеих странах такие распространенные тогда литературные жан¬
ры, как фантастическая новелла, авантюрно-героический роман,
нравоописательный рассказ. Так, в частности, совершенно одно¬
родны японские фантастические новеллы, вошедшие в известный
сборник «Отоги-боко» (1666), и китайские рассказы из популяр¬
нейшего сборника «Цзянь-дэн синьхуа» (конец XIV в.), а как
японский сборник, так и китайский только представители целого
массива литературных произведений. К одному и тому же типу
литературы принадлежат бытовые рассказы, объединенные в
сборник «Кокин кидан ханабусадзоси» (1749), считающиеся на¬
чалом особой линии японской литературы XVIII в., и китайские
рассказы жанра чуаньци, «рассказы о необыкновенном», и хунь-
цы, «рассказы о смешном», также представляющие собой целую
отрасль литературы. Авантюрно-героические романы Бакина
(1767—1848) воспроизводят авантюрно-героический жанр китай¬
ской повествовательной литературы, для которого характерны,
например, такие произведения, как «Юйсянь вайши» и «Шуйху-
чжуань». Подобных примеров можно привести немало и притом
из истории мировой литературы как в средние века, так и в новое
время.
Без труда можно найти, однако, и обратные примеры: случаи
возникновения у разных народов однотипных литератур при от¬
сутствии связей между ними. Так, например, японские рыцарские
эпопеи XIII—XV вв. далеки от рыцарского эпоса — героических
поэм народов Средней Азии, Ирана и Кавказа и близки к запад¬
ноевропейскому средневековому рыцарскому роману; установить
же какие-либо связи между Японией этих веков и Западной Ев¬
ропой совершенно невозможно. У Юань Цзи, китайского поэта
III в., одного из «семи мудрецов бамбукового леса», есть цикл
стихов о вине — своеобразное выражение чувства жизненной го¬
речи, и очень близкие по настроению, по общей идее стихи о ви¬
не мы находим в XII в. у Омара Хайяма, во всяком случае среди
стихов, распространявшихся по свету под именем этого знамени¬
того иранского поэта. Данных же для предположения, что на
Омара Хайяма как-то повлияли стихи китайского поэта, да еще
написанные почти за тысячу лет до этого, у нас нет никаких.
Когда мы находим в японской поэзии раннего средневековья
стихотворения, в которых содержится укор влюбленных, обра¬
щенный к утренней заре, неумолимо возвещающей им час разлу¬
ки, мы невольно вспоминаем, что о том же говорят и средневеко¬
вые провансальские альбы; предполагать же наличие какой-либо
связи в то время между этими двумя, столь далеко отстоящими
друг от друга, частями мира бессмысленно. Таких примеров воз¬
317
никновения у разных народов однородных или весьма близких
литературных явлений при отсутствии связей между литература¬
ми этих народов также можно было бы привести немало.
Из этого следует сделать вывод: в возникновении и развитии
однородных литературных явлений у разных народов литератур¬
ные связи могут играть определенную роль, но наличие связей
для возникновения таких явлений вовсе не обязательно. Решаю¬
щее условие возникновения однотипных литератур — вступление
разных народов на одну и ту же ступень общественно-историче¬
ского и культурного развития и близость форм, в которых это
развитие проявляется. Общие условия, создающиеся в обществен¬
ной жизни и культуре разных народов на ранней стадии феода¬
лизма, бывают часто очень близки по существу и даже по форме,
поэтому нет ничего удивительного в том, что также и очень мно¬
гое в литературе оказывается близким. Явление, известное в
истории немецкой поэзии средневековья под именем ЬбНзсЬе
Ьупк, наблюдалось и у других народов Западной Европы того
времени: своя «придворная лирика» характерна и для поэзии
Ирана и Средней Азии в их пору раннего средневековья; такая
же лирика составляет главное течение и японской поэзии в ран¬
нюю пору японского средневековья. Но если возникновение и
развитие такой лирики у разных народов Западной Европы и
происходило в условиях связей между этими народами, то о свя¬
зях между Западной Европой того времени и Ираном, а тем бо¬
лее находившейся на другом конце света Японией, и речи быть
не могло. Известно, например, большое сходство между арабской
поэзией в Испании X—XII вв. и поэзией трубадуров во Франции,
литературные же и вообще культурные связи между испанскими
арабами и французскими в те времена были крайне слабы, хотя
эти народы были достаточно близкими соседями. Таким образом,
географическая близость отнюдь не обусловливает в определен¬
ные периоды исторической жизни народов обязательное сущест¬
вование литературных связей между ними. Рыцарский эпос в
своих разных формах — эпопеи, поэмы, романа — явление, оди¬
наково наблюдавшееся и в литературе народов Западной Европы,
и в литературе арабов, и в литературе иранцев, и в литературе
Грузии, и в литературе Японии. Между некоторыми из перечис¬
ленных литератур связи наличествовали, между другими их не
было, сходное же литературное явление тем не менее возникло.
Из этого следует, что основное условие возникновения подобного
сходства — существование у самих этих народов рыцарства, появ¬
ление у них специфического типа рыцаря с характерным для него
образом жизни, психологией, мировоззрением. Подобного типа не
было, например, в феодальном Китае; не было его и в феодаль¬
ной Руси; поэтому в этих странах и не появилось такого рыцар¬
ского эпоса. Объяснение этому факту следует искать в своеобра¬
зии исторических форм, в которых развился у китайского и рус¬
ского народов феодализм.
318
Таким образом, литературные связи — явление, не определяю¬
щее возникновение однородных литератур, а сопутствующее ему,
причем явление даже в этом случае не обязательное, а обнару¬
живающееся лишь при наличии общих исторических условий.
И вовсе не обязательно, чтобы эти связи устанавливались и раз¬
вивались только в обстановке возникновения у двух народов од¬
нотипной литературы; они могут существовать и при наличии
очень разных литератур. Широкое проникновение в нашу страну
в наше время очень различных произведений литератур западно¬
европейских стран и обратно отнюдь не означает, что в нашей
литературе существует направление, аналогичное, например,
творчеству Пруста или Джойса, и что в Англии, например, где
хорошо известна советская литература, сложилась литература,
близкая к социалистическому реализму. Литературные связи —
категория историческая. Когда народы мира были в значительной
мере разобщены, литературные связи возникали при описанных
выше общеисторических условиях между географически и куль¬
турно близкими странами, находившимися на одной и той же
стадии исторического развития; связи имели тогда региональный
масштаб. При развитии же широких международных связей,
охватывающих уже все культурные народы мира, литературные
связи приобретают общемировой характер, превращаясь в одну
из форм международного общения. Такими они становятся со
второй половины XIX в. Это не исключает, конечно, и более уз¬
кого круга региональных связей. Так, например, европейская
литература второй половины XIX и XX вв. становится хорошо
известной народам арабских стран, но в то же время в полной
мере сохраняют свое значение литературные связи внутри этих
стран, т. е. связи регионального масштаба. Сохраняют свое зна¬
чение и в настоящее время связи между литературами отдель¬
ных народов Индии, хотя в то же время Индия входит в орбиту
и общемировых литературных связей. Литературные связи —
категория конкретно-историческая: и их масштаб, и их роль в
литературном процессе в целом, и их значение в истории литера¬
тур отдельных народов в разное историческое время, в разных
исторических условиях различны. Именно поэтому изучение ли¬
тературных связей и составляет одну из задач науки о литера¬
туре.
2
Литературные связи в самом общем смысле
есть проникновение одной литературы в мир
другой литературы. Такое проникновение может осуще¬
ствляться в разных формах.
Со второй половины XIX в. литературные связи приобрели
общемировой масштаб и стали фактом литературы каждого от¬
дельного народа и вместе с тем фактом мировой литературы.
В эту эпоху в орбиту мировых литературных связей был вовлечен
319
и Восток. Процесс проникновения европейских литератур в лите¬
ратурный мир народов Востока приоткрывает и формы, в кото¬
рых это проникновение происходило.
Прежде всего можно установить, что европейская литература
зачастую проникала в литературы Востока в своем собственном
облике. «В своем собственном облике» — значит в подлиннике,
т. е. в своем языковом выражении. Именно такая форма проник¬
новения и была наиболее действенной в начальную пору вхожде¬
ния литератур Востока в общую орбиту литературных связей,
т. е. в указанную эпоху формирования в странах Востока своей
реалистической литературы. Характерно, что проникновение в
таком случае происходило через отдельных конкретных писате¬
лей.
Для многих восточных литератур этой эпохи характерен тип
писателя, хорошо знающего европейскую литературу, обычно ка¬
кую-либо одну из литератур народов Запада. Так, например,
Хасэгава Фтабатэй (1864—1909), общепризнанный основополож¬
ник реалистической литературы в Японии, очень хорошо знал
русскую литературу классического реализма, в начале своей
творческой деятельности главным образом — произведения Тур¬
генева и Гончарова, в дальнейшем — Гоголя, Достоевского, Тол¬
стого, Чехова и многих других русских писателей. Можно прямо
сказать, что именно благодаря русской реалистической литера¬
туре он и сформировался как писатель. При этом с русской лите¬
ратурой он знакомился не по переводам, а в подлиннике: он
очень хорошо знал русский язык и даже читал лекции по русско¬
му языку и литературе.
Знатоком английской литературы был крупный писатель и
критик Цубоути Сёё (1859—1929), стоящий как автор трактата
«О сущности литературы» («Сёсэцу синдзуй», 1885) рядом с
Фтабатэем у самых истоков реалистической литературы в Япо¬
нии. Знатоком немецкой литературы был третий крупнейший
деятель начального периода реалистической литературы в Япо¬
нии Мори Огай (1862—1922). Халид Зия Ушаклыгиль (1866—
1945), крупнейший из первых представителей реалистической
литературы в Турции, не только знал французскую литературу
своего времени, но и образование получил в коллеже, где препо¬
давание велось на французском языке5. Зачинатели новой лите¬
ратуры в Персии драматург Мирза Мальком (Мальком-хан,
1833—1909) и романист-сатирик Зейн ал-Абедин (1837—1900)
были непосредственно, без помощи переводов, знакомы пер¬
вый— с французской литературой, второй — с русской6. Вообще
для подавляющего большинства крупных писателей восточных
стран — не только в начальную пору новой для этих стран реали¬
стической литературы, но и в дальнейшем — характерно именно
непосредственное знание европейской литературы, нередко на не¬
скольких языках. А так как именно эти писатели создавали свою
литературу и направляли ее развитие, такое непосредственное
320
приобщение их к литературе народов Европы имело, большое
значение: европейская литература приходила к ним в своем соб¬
ственном языковом облике, т. е. во всей полноте своего выраже¬
ния, во всеоружии своего возможного воздействия на читателя.
Но это означает в то же время, что прочитанное писателем про¬
изведение действует в его сознании в совершенно своеобразном,
возможно, даже меняющемся, языковом воплощении, и притом
избирательно, в соответствии с его индивидуальностью. Переходя
же в его собственное творчество, оно преломляется через творче¬
скую индивидуальность писателя и проходит сквозь толщу раз¬
личных напластований, образуемых традицией отечественной
литературы.
Непосредственное знакомство с чужой литературой в ее под¬
линном виде — одна из форм проникновения одной литературы в
мир другой литературы. Другая форма, также со всей полнотой
проявившаяся в эпоху мировой реалистической литературы,—
перевод.
Проникновение литературы одного народа в литературный
мир другого в форме перевода — явление другого порядка, чем
проникновение непосредственно в подлиннике. Перевод по необ¬
ходимости создает вполне определенный новый языковой облик
переводимого произведения, и в этом виде произведение и начи¬
нает существовать для данного народа. При проникновении же
литературного произведения в подлиннике оно не получает строго
зафиксированного нового языкового облика; этот облик создает¬
ся каждым читающим в известной мере на свой лад и сущест¬
вует поэтому только для него. Другим оказывается, конечно, и
масштаб действия этой второй формы проникновения литерату¬
ры одного народа в литературный мир другого. В эпоху мировой
реалистической литературы этот масштаб становится поистине
огромным: все сколько-нибудь значительное или просто привлек¬
шее внимание массового читателя распространяется по всему
свету, только меняя в каждой стране свою языковую оболочку.
Но это означает, что литературное произведение начинает жить
уже независимо от своей первоначальной языковой формы. Оно
становится в языковом выражении многоликим. При таком пре¬
вращении оно кое-что теряет, кое-что приобретает. Теряет оно
свою единичность — ту неповторимую индивидуальность, какую
дает ему языковая плоть, в которой оно родилось в своей стране;
но, с другой стороны, разноязычное существование выявляет в
литературном произведении то общее, что выводит его за рамки
единичности, что значимо для всех. «Г-жа Бовари» в своем фран¬
цузском языковом облике — частица французской литературы, в
русском языковом облике — достояние русского литературного
мира, в японском — японского, а в целом, в своем многоязычном
облике — частица мировой литературы.
21 Н. И. Конрад
321
3
Сейчас у нас существует определенное понимание того, что
такое перевод. Не следует, однако, думать, что наше нынешнее
понимание существовало и во все предшествующие эпохи и что
сами переводы всегда отличались друг от друга только тем, что
одни были хороши, другие — плохи, что одни были более «близ¬
ки к оригиналу», другие — менее. Можно найти случаи, когда
переводчики руководствовались особыми соображениями. И та¬
кие соображения были не результатом собственных воззрений
переводчиков, а требованием их времени.
Европейские литературы, как было сказано, зачастую прони¬
кали в литературный мир Востока в*своем собственном облике.
Зачинатели реалистической литературы во всех странах Востока
именно таким путем и проводили ту или иную европейскую лите¬
ратуру в свою страну. Главным средством такого проведения
было их собственное творчество, но они же, эти писатели, обычно
выступали и как переводчики.
Упомянутый выше Фтабатэй не только изучал в подлиннике
произведения Тургенева, он одновременно и переводил их. Пер¬
выми его работами в этой области были перевод «Свидания» из
«Записок охотника» и рассказа «Три встречи». Это произошло в
1888 г.,— еще на самой заре реалистической литературы в Япо¬
нии, в те годы, когда передовые писатели еще только нащупыва¬
ли пути создания такой литературы. Пионером на этом поприще
был сам Фтабатэй, выпустивший в 1887 г. первую часть своего
романа «Плывущее облако» («Укигумб»), в 1888 г.— вторую
часть. По этому роману и видно, как много дало автору изучение
творчества Тургенева и Гончарова.
«Вечером, развернув газету, я увидел: на пути между Колом¬
бо и Сингапуром на корабле умер от чахотки возвращавшийся
из России на родину Хасэгава Фтабатэй. Это было уже десять
дней назад.
В свое время меня, зачитывавшегося произведениями Бакина
и литературным хламом типа „Цветок сливы среди снега"
(Сэттюбай), поистине потрясло его „Плывущее облако". Я как
бы впервые в своей жизни был введен в анатомический театр, где
вскрывали человека. Мне было прямо страшно видеть, как дей¬
ствует перо — острое, как скальпель. Когда же я потом в журна¬
ле „Кокумйн-но тбмо“ прочитал переведенное им „Свидание14, а
в журнале „Мияко-но хана" — „Три встречи", я был восхищен:
неужели есть на свете такой прекрасный мир? Я читал и перечи¬
тывал эти рассказы, и мне все было мало. Я их переписал...» 7
Так писал в 1909 г. Токутоми Рока, младший современник
Фтабатэя, уже ставший тогда одним из крупнейших писателей
Японии, развивавший своим творчеством направление критиче¬
ского реализма. Кстати говоря, приведенные слова как раз и сви-
322
детельствуют, что он воспринял в романе Фтабатэя черты именно
такого реализма.
Исключительное впечатление, произведенное переводами Фта¬
батэя, было явлением, характерным для всей молодой Японии
того времени. Трудно найти японского писателя этой поры, у ко¬
торого где-нибудь не было бы аналогичных высказываний.
Читатель, вероятно, помнит, что в «Свидании» две части: сна¬
чала— описание березовой рощи, в дальнейшем — изложение
подслушанного автором разговора барского лакея с крестьянской
девушкой. Если присмотреться к переводу Фтабатэя, можно за¬
метить, что первая часть переведена с особой тщательностью.
Это поистине тонкий, проникновенный перевод. Видно, что автор
затратил на перевод этого места особенно много труда.
Что последовало дальше? Отрывки именно из этой части пе¬
ревода впоследствии стали включать в «Хрестоматии» родного
языка, т. е. в собрания лучших образцов японской речи. Куни-
кида Доппо (1871—1908), один из корифеев реалистической лите¬
ратуры Японии в пору ее расцвета, в свой «Дневник равнины
Мусаси», где описывается живописная природа обширной равни¬
ны, к которой примыкает город Токио, прямо вставил при описа¬
нии лесной чащи целые куски из перевода Фтабатэя8. Так рус¬
ская березовая роща оказалась перенесенной на японскую землю.
Но не она была перенесена. Теперь, спустя много лет, мы луч¬
ше понимаем, что тогда в японской литературе происходило: ста¬
ло ясно, что не русская березовая роща как таковая была перене¬
сена на японскую землю, а приемы описания рощи. Так, как
Тургенев средствами языка нарисовал в своем рассказе картину
рощи, японские писатели тогда нарисовать не могли.
Не нужно думать, что они были примитивны в своем творче¬
стве, эти японские писатели. За ними в прошлом был более чем
тысячелетний многосторонний литературный опыт; позади них
лежала богатейшая и разнообразная литература. В чем же
дело?
Представим себе рощу, написанную японским художником в
красках или тушью. Перед нами будет пейзаж, выписанный в ха¬
рактерной для восточной живописи линейной перспективе. Это —
одно видение внешнего мира. Представим теперь себе такую ро¬
щу, написанную европейским художником. Перед нами будет
пейзаж, выписанный с добавлением воздушной перспективы,
соединенный со светотенью. Это — другое видение внешнего мира.
Японские писатели, рисуя средствами языка пейзаж, привыкли
воспринимать этот пейзаж в линейной перспективе; соответст¬
вующим образом выбирали они и языковые приемы. В тургенев¬
ском же пейзаже они почувствовали глубину пространства, свето¬
тень; поэтому-то Фтабатэю и пришлось так поработать, чтобы
найти языковые средства, могущие передать это другое, непри¬
вычное для его поколения, восприятие. И он этого достиг. Поэто¬
му-то перевод Фтабатэя «открыл глаза» его современникам. То-
323
кутоми Рока правильно сказал, что перед ним открылся новый,
прекрасный мир.
Для японской литературы, вступившей на путь реализма,
нужна была и «воздушная перспектива», и «светотень». Это было
и большее проникновение в действительность, чем при линейной
перспективе, и, главное, иное: именно оно и было для японских
писателей того времени реалистическим.
Что же в таком случае было главным в переводческой рабо¬
те Фтабатэя над «Свиданием»? Не сцена камердинера с кре¬
стьянской девушкой. В конце концов изображение подобных чув¬
ствительных историй было по силам японским писателям, пусть
и с меньшим проникновением в изображаемое. Поэтому вторая
часть переведена Фтабатэем, так сказать, обычно. Но первая
часть имела совершенно другое значение для самого направле¬
ния, для писателей его времени, вообще для его поколения. По¬
этому она и переведена с таким тщанием9.
Этот пример иллюстрирует то важное положение, что пере¬
водчик может ставить перед собой задачи особого рода; задачу
освоения с помощью перевода нового творческого метода, задачу
разработки языковых средств, характерных для этого метода.
Поэтому и выполнение переводческой работы получается иное: о
том, что решению этих задач не способствует, особенно не забо¬
тятся: над тем же, что этим задачам служит, работают со всей
тщательностью. Перевод в этом случае является одним из средств
творческого перевооружения писателя, для читателя же — одним
из средств преображения его восприятия действительности. По¬
нятно поэтому, что на этапах становления какой-либо новой по
методу, по направлению литературы переводческая работа зани¬
мает такое большое место и переводческой работой так усиленно
занимаются именно писатели. История становления реалистиче¬
ской литературы в странах Востока убедительно свидетельствует
об этом. Переводы этого времени никак нельзя рассматривать
под тем же углом зрения, под которым следует рассматривать
переводы в эпоху уже установившейся однотипности двух литера¬
тур, воздействующей и воспринимающей это воздействие. Поэто¬
му нам и кажется, что изучение переводов именно с этой стороны
может дать многое для оценки качества и содержания связей
литератур.
4
Не следует думать, что существуют только две формы проник¬
новения литературы одного народа в литературный мир другого
народа — проникновение в подлиннике и в переводе. История ми¬
ровых литературных связей свидетельствует о наличии и других
форм.
Одна из таких форм — воспроизведение в творчестве писателя
одного народа содержания и мотивов произведения, созданного
324
писателем другого народа. Эта форма получила особое распро¬
странение в литературе народов Средней Азии, Ирана и Перед¬
ней Азии в средние века.
Безымянные народные сказители создали печальную повесть
о Лейле и Меджнуне, этих Ромео и Джульетте Востока. Азер¬
байджанец Низами (1141—1203) превратил этот сказ в поэму —
одну из жемчужин поэзии человечества. Узбек Навои (1441 —
1505) пересказал ее на своем языке. Поэма стала существовать
в двух языковых обликах — персидском и узбекском. Здесь воз¬
ник не просто перевод. Сличение текстов поэм Низами и Навои
показывает, что Навои внес много своего 10. И в то же время это,
по нашим современным понятиям, и не оригинальное произведе¬
ние: слишком многое у Навои идет прямо от Низами.
Может быть, это плагиат? Нет ничего несообразнее такого
предположения: при плагиате о подлиннике тщательно умалчи¬
вают. Навои же открыто говорит о Низами, его «Лейле и Мед¬
жнуне», преклоняется перед азербайджанским поэтом и отнюдь
не скрывает того, что он воспроизводит его поэму. Может быть,
это новая обработка того же сюжета? И этого сказать нельзя:
новые обработки обычно делаются как-то независимо от преж¬
них, часто даже прямо вследствие неудовлетворенности прежни¬
ми; в данном же случае Навои не только не высказывает какой-
либо неудовлетворенности тем, как обработал сюжет «Лейли и
Меджнуна» Низами, но, наоборот, безмерно восхищается его
творением. Надо, следовательно, отбросить привычные для нас
оценки при рассмотрении этого факта. Мне кажется, что главное
тут в следующем: воссоздание чужого произведения на другом
языке в те времена было актом творчества и притом творчества
свободного. Другой языковой облик произведения делал в гла¬
зах людей того времени и само произведение чем-то другим. Оно
начинало жить новой, другой жизнью. Творцом этой другой жиз¬
ни становился другой поэт, часто по силе и характеру своего
поэтического гения равный создателю этого произведения в его
первоначальной языковой форме.
Но если вдохнуть в литературное произведение новое бытие
в другом языковом облике означало, по тогдашним понятиям, со¬
вершить акт творчества, то естественно и право творческого вме¬
шательства в оригинал. Поэтому-то поэмы Навои и не являются
ни переводом поэм Низами, ни подражанием им. И в то же время
несомненно, что появление поэм Навои — факт проникновения
произведений азербайджанского поэта в литературу другого на¬
рода, т. е. факт литературных связей.
Подобного рода примеров в истории средневековой литера¬
туры народов Средней Азии, Ирана, арабского мира и даже
Кавказа можно найти немало. Пожалуй, можно даже сказать,
что такая форма проникновения тогда была очень распростра¬
ненной. Разумеется, тут были разные градации: от подлинного
творческого воспроизведения до обыкновенного подражания.
325
История мировых литературных связей открывает и еще одну
форму проникновения литературы одного народа в литературу
другого. Эта форма — национальная адаптация.
Выше был упомянут «Отоги-боко» — японский сборник рас¬
сказов «о необычайных происшествиях», изданный в 1666 г. Там
же было указано на теснейшую связь рассказов этого сборника с
рассказами китайского сборника «Цзяньдэн синьхуа». Эта связь
выражается в том, что подавляющее большинство рассказов
японского сборника воспроизводит рассказы китайского сборни¬
ка в приспособленном для японского читателя виде.
Что означает в данном случае это приспособление? Прежде
всего, китайский материал превращается в японский: и место дей¬
ствия перенесено в Японию, и персонажи стали японскими. Да¬
лее, из китайского оригинала устраняются черты, чуждые или
непривычные для японцев, и заменяются элементами, соответст¬
вующими представлениям и вкусам японцев того времени. Имен¬
но такое приспособление, как нам кажется, и можно именовать
«национальной адаптацией».
Этот случай далеко не единичен. Он повторяется в целом ряде
областей японской литературы XVII — начала XIX в. Почти весь
жанр «рассказов о необычайных происшествиях» (кайданмоно)
основан на такой переработке китайского литературного мате¬
риала. Многое в обширной сфере бытовых новелл также связано
с соответствующей областью китайской литературы. Таковы, на¬
пример, многие новеллы сборника «Кокин-кидан ханабуса-дзоси»
(1744—1747), представляющие переделку соответствующих рас¬
сказов известного китайского сборника «Цзинь гу цигуань» (пер¬
вая половина XVII в.) и некоторых других китайских сборников.
Тут опять-таки следует учитывать, что факт заимствования
материала отнюдь не замалчивался; наоборот, указание на такое
заимствование шире открывало путь к читателю. Поэтому часто
повторяли даже названия произведений. Так, например, в Китае
существовал очень популярный среди массового читателя истори¬
ческий героико-приключенческий роман «Шуйху-чжуань», наибо¬
лее распространенная версия которого относится к первой поло¬
вине XVII в. В 1773 г. в Японии появился роман «Хонтё Суйко-
дэн», т. е. «Японский Шуйху-чжуань», в котором действие было
перенесено в Японию и действующие лица заменены японцами;
сам сюжет был взят из японской истории.
Тут перед нами факт несколько иного порядка. Говорить о
простой адаптации чужого литературного произведения в этом
случае нельзя. Появление «Японского Шуйху-чжуаня» скорее
свидетельствует о стремлении создать на японской почве новый
для того времени литературный жанр — романтического героико¬
авантюрного повествования, иначе говоря, японский вариант ми¬
рового жанра «разбойничьего романа». Первым шагом на этом
пути было создание такого романа по чужому образцу, классиче¬
скому для литератур этой части мира. Таким образцом был
326
«Шуйху-чжуань» — китайский вариант мирового типа «разбойни¬
чьего романа». Здесь не воспроизведение чужого произведения, а
воспроизведение жанра, но по строго определенному образцу.
Вероятно, возможен вопрос: если японские писатели того вре¬
мени так хорошо знали этот китайский роман, если они восхища¬
лись им, почему же они просто не перевели его? Ответить на этот
вопрос с достаточной убедительностью мы не в состоянии. Ска¬
жем только, что китайский роман в Японии существует и в пере¬
воде, но перевод этот сделан в наше время. Все дело в том, что
перевод как форма передачи литературного произведения из од¬
ной языковой среды в другую — явление историческое, т. е. ха¬
рактерное для определенных исторических эпох, вовсе не обяза¬
тельное для других эпох и даже вообще не существовавшее в
иные эпохи. Если же учесть, как огромно то историческое время,
в течение которого одна литература проникала в другую иными
способами, то окажется, что эпоха переводов не столь уж велика.
В заключение —еще об одной форме проникновения одной ли¬
тературы в другую. В древней Индии — на родине буддизма —
существовали предания о жизни основателя буддизма — Будды.
На основе преданий в средние века сложилась своеобразная по¬
весть— житие. Эта повесть известна в самых различных языко¬
вых оболочках: индийской, персидско-пехлевийской, арабской,
еврейской, эфиопской, армянской, латинской, греческой, почти на
всех западноевропейских и славянских языках, а также на язы¬
ках тибетском, китайском и монгольском11.
Вряд ли будет правильно говорить здесь о переводах: слиш¬
ком отличны друг от друга разноязычные версии этой повести.
Нельзя говорить и о воспроизведении того типа, с которым мы
встречаемся в случае с поэмами Навои. Правильнее всего счи¬
тать, что мы имеем здесь дело с единым литературным произве¬
дением, в разных формах и вариантах, бытующем в очень многих
странах культурного мира. О том же, даже в еще более широком
масштабе, можно говорить и в приложении к другому памятнику
старой индийской литературы — Панчатантре.
Таковы различные формы литературных связей, наблюдаю¬
щиеся в разное историческое время и характерные для опреде¬
ленных исторических эпох. Возможно, что некоторые из рассмот¬
ренных форм следует дифференцировать на более узкие; можно
найти еще и другие формы. Но вывод, как нам кажется, все же
ясен: проблема литературных связей — одна из важных проблем
истории мировой литературы, и рассматриваться она должна
строго исторически, во всей своей исторической конкретности.
1957 г.
327
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См. Л. О. Алькаева, Творчество Халида Зии Ушаклыгиля, М., Изд.
АН СССР, 1956, стр. 23—37.
2 См. «Хикаку бунгаку» (Ниппон бунгаку-о тюсин-то ситэ), Токио, 1953,
стр. 107—286.
3 См. И. С. Брагинский, Из истории таджикской народной поэзии, М., 1956,
стр. 252—378.
4 См. «Хикаку бунгаку», стр. 72—103.
5 См. Л. О. Алькаева, Творчество Халида Зии Ушаклыгиля, стр. 42, 51.
6 См. Е. Э. Бертельс, Очерк истории персидской литературы, Л., 1928,
стр. 131—140.
7 См. «Индоё» в «Токутоми Рока сю» (серия «Гэндай Ниппон бунгаку
дзэнсю», 2-й год Сёва, изд. Кайдзося, т. 12, стр. 552).
8 См. «Мусасино» в «Куникида Доппо-сю» (Серия «Гэндай Ниппон бун¬
гаку дзэнсю», т. 15, стр. 5).
9 См. Фтабатэй Симэй, Мои принципы художественного перевода, пер.
Р. Карлиной,— «Восточный альманах», М., 1957, стр. 384—388.
10 О поэмах Навои и Низами см. Е. Э. Бертельс, Навои и Низами,— «Али¬
шер Навои», сб. ст. под ред. А. К. Боровкова, М.— Л., 1946, стр. 68—91.
11 Русский вариант, как известно, получил наименование «Житие Вар-
лаама и Иосафа». Текст издан Обществом любителей древней письменности
(XXXVIII, СПб., 1895).
О ЛИТЕРАТУРНОМ «ПОСРЕДНИКЕ
Положение о «посреднике» или «передатчике» (^апзшеНеиг)
выдвинуто современным французским сравнительным литерату¬
роведением и раскрыто им на конкретном историческом материа¬
ле. Установлены различные типы посредников: говорят о посред¬
никах индивидуальных и групповых, о посредниках-людях и
посредниках-книгах и т. д. В том случае, когда посредником яв¬
ляется само литературное произведение, необходимо, как я ду¬
маю, учитывать, в каком виде оно осуществляет свою функцию
проводника — оригинальном или переводном. В последнем же
случае, как мне кажется, важно также различать, имеем ли мы
дело с переводом, при котором одновременно усваивается новый
творческий метод, или с переводом, сделанным в условиях одно¬
родности в этом отношении двух соприкоснувшихся литератур,
или хотя бы при наличии в данной литературе ранее приобретен¬
ного опыта в данном творческом методе
Но дело не только в этом. Французское сравнительное литера¬
туроведение разработало вопрос о посреднике почти целиком на
материале литературы нового времени, главным образом даже
на материале западноевропейской литературы XIX в. Такая огра¬
ниченность делает ограниченным само представление о литера¬
турном посредничестве. Форма существования литературы в но¬
вое время — одна, в другое историческое время — другая. Одно
дело, когда литературное произведение, как явление обществен¬
ное, существует и распространяется в печатной форме; другое
дело, когда оно существует и распространяется путем переписки
от руки. Одно — когда произведение имеет точный авторский
текст, другое — когда либо само понятие авторского текста еще
не сложилось, либо оно является достаточно условным; когда
литературное произведение существует все время в одном раз
навсегда сложившемся виде и когда оно живет в непрерывно ме¬
няющемся облике без утраты, однако, своей идентичности для
читателя. Форма общественного существования «Шах-намэ» или
«Троецарствия» совершенно иная, чем форма существования
«Лузиады» и «Войны и мира», не говоря уже о различной истори¬
ческой природе этих литературных явлений. Иным является в
329
разное историческое время и состав литературы. Дело при этом
не в том, что, скажем, в древности в состав литературы входило
все — и песня, и историческое сочинение, и правовой документ,
и философский трактат, и рассказ, а в более позднее время лите¬
ратурой стало только то, что получило наименование «художест¬
венной литературы». Исторически столь же реально и другое:
различное представление о «художественности» и в связи с этим
различный состав именно художественной литературы. Так, на¬
пример, в Китае в некоторые периоды средневековья в орбиту
художественной литературы не входил рассказ или роман, но вхо¬
дил политический трактат или публицистическая статья, если они
были написаны с соблюдением определенных стилистических
правил.
Коротко говоря, в литературном процессе исторично все.
Исторично и явление, именуемое «посредником». Пути и формы
передачи могут быть очень различны; различны и сами посред¬
ники. История литератур народов Востока, особенно таких, как
китайская или иранская, насчитывающих около 3 тыс. лет непре¬
рывного, исторически засвидетельствованного существования,
дает большой материал для суждения о посреднике именно в
иных, весьма отличных от современных, исторических условиях.
В дошедших до нас мемуарах Фудзивара Такэмори2, одного
из представителей образованного слоя господствующего класса
Японии в эпоху раннего феодализма, в записи, помеченной 838 г.,
рассказывается следующее: Такэмори был в опале, т. е. удален из
столицы и послан на далекую окраину; он служил таможенным
инспектором в одном порту на острове Кюсю. В этот порт прихо¬
дили купеческие суда из Танской империи. Досматривая товары,
привезенные на одном таком корабле, Фудзивара Такэмори уви¬
дел в каюте шкипера какую-то книжку. Оказалось, что это недав¬
но появившийся в Китае сборник новых стихов Бо Цзюй-и3.
Такэмори сразу сообразил, что перед ним не только новый
поэтический клад, но и верное средство для возвращения в сто¬
лицу. Он взял этот томик и направил с курьером в Киото в пода¬
рок императору. Он знал, что томик новых стихов Бо Цзюй-и
вернет ему милость. И он не ошибся.
Да, Бо Цзюй-и, которому в это время было 67 лет, именно
так был известен в Японии и так в ней ценим. При этом популяр¬
ность его выходила далеко за пределы узкого круга японских
знатоков китайской литературы и даже вообще образованного
слоя господствующего класса того времени: его стихи, особенно
поэмы «Песнь бесконечной тоски» и «Лютня», проникли и в на¬
родную среду. В стихотворении (на китайском языке) Мунэмб-
ри, посвященном памяти китайского поэта, есть такие слова:
«У нас даже дети часто напевают „Песнь о бесконечной тоске";
даже невежественные люди знают стихи из „Лютни". Путники
слышат его стихи повсюду»4.
Популярность Бо Цзюй-и за пределами его родины не ограни¬
330
чивалась Японией. Сам поэт в 845 г., когда ему было уже 74 года,
в послесловии к сборнику своих стихов написал: «В этом после¬
словии не упоминаются стихи, существующие в списках в Япо¬
нии, Силла, а также у жителей обеих столиц» (т. е. городов
Чанъаня и Лояна) 5. Действительно и в Силла, т. е. Корее того
времени, его стихи были хорошо известны. В предисловии Юань
Вей-чжи, предпосланном указанному сборнику, рассказывается,
что купцы, торговавшие с Кореей, старались захватить с собою
книжки стихов Бо Цзюй-и. Это был товар очень прибыльный: за
один томик стихов они получали по сто золотых; упоминаются
случаи, когда они пытались подсунуть покупателю подделку, но
чаще всего из этого ничего не получалось: покупатель сразу уз¬
навал, что это не Бо Цзюй-и. Так хорошо знали китайского поэта
еще при жизни в соседних с Китаем странах.
О роли поэзии Бо Цзюй-и в Японии свидетельствует очень
много литературных фактов. Влияние китайского поэта на япон¬
скую литературу хорошо изучено и современными японскими
учеными6.
Итак, перед нами как будто бы обычный тип «проводника» —
само литературное произведение. Важно только отметить: в сво¬
ем собственном, оригинальном облике. Тогда в Японии и в голову
не могла прийти мысль о каком-то переводе. Образованное обще¬
ство Японии VIII—IX вв. хорошо знало китайский язык; многие
даже писали стихи на этом языке. Да и понятия перевода худо¬
жественного произведения тогда не существовало. Пе¬
ревод также категория историческая. Не только в смысле прин¬
ципов, но и в своем существе.
И все же в этом случае есть одна особенность. После смерти
Бо Цзюй-и для могильной плиты была составлена эпитафия.
В ней, как и полагалось, отмечались основные вехи жизненного
пути поэта. Но к этому была добавлена и общая характеристика
личности Бо Цзюй-и.
«Лэ-тянь» («Радующийся небу» —таково было литературное
имя поэта), сказано в ней, в своем отношении к внешнему миру
воспитывал себя действиями, предписываемыми конфуцианством;
своим внутренним миром управлял согласно учению, преподанно¬
му Буддой. Рядом с ним всегда были горы, вода, ветер, луна.
В своих устремлениях он вдохновлялся песней, стихами, лютней,
вином».
Мы понимаем, что это значит. Конфуцианство... Тогда это бы¬
ло учение, задача которого состояла прежде всего в том, чтобы
раскрыть «суть человеческого общества» и определить обязанно¬
сти человека в обществе. Буддизм... Тогда это было учение, имев¬
шее в виду прежде всего внутреннюю жизнь человека, указывав¬
шее, как добиваться духовной глубины, проникновенности, ду¬
шевного богатства. Мы знаем даже, что именно из конфуциан¬
ства было ближе всего Бо Цзюй-и: идея общего блага —
цзяньцзи; из буддизма —душевная простота и чистота*
331
Был ли Бо Цзюй-и действительно таким — вопрос особый и
интересный, пожалуй, главным образом для тех литературоведов,
которые обязательно хотят знать, каков писатель, когда он «в ха¬
лате и туфлях». Для истории литературы существует поэт, каким
видят его в его стихах. И именно таким видели Бо Цзюй-и и его
почитатели в Японии, где облик поэта в течение некоторого вре¬
мени был как бы образцом, причем не столько образцом поэта,
сколько человека. Правда, человека определенной социальной
среды: образованного слоя господствующего класса.
Мы хорошо знаем эту среду почитателей Бо Цзюй-и в Япо¬
нии. Они получали конфуцианское образование, т. е. изучали
конфуцианских классиков, историю, право, этику, литературу7.
Буддизм учил их размышлять на философские темы. Они любили
природу — горы, воду, ветер, луну; умели петь песни, слагать
стихи, играть на лютне и флейте, пить и воспевать вино. Правда,
в их «жизненную программу» входило и то, что в указанной эпи¬
тафии китайскому поэту не было приписано: культ любви. Но и
тут они не обошлись без Бо Цзюй-и; его знаменитая «Песнь бес¬
конечной тоски» — такая же песнь об утраченной возлюбленной,
какой позднее стал цикл сонетов Петрарки,— была любимейшим
произведением японских поклонников китайского поэта.
Таков в этой социальной среде был тип эпохи и таков был ее
литературный герой. Таковы, например, герои японского куртуаз¬
ного романа IX—X вв. Единство типа эпохи и героя литературы
хорошо понимали и писатели того времени.
Мурасаки-Сикибу, знаменитый автор «Гэндзи-моногатари»
(«Повести о Гэндзи»), крупнейшего произведения куртуазной ли¬
тературы, оставила нам свой дневник. В нем мы находим такие
строки:
«Раз тихим вечером сидели мы вдвоем с Сайсё и беседовали.
Занавеску нашего покоя слегка приподнял Йоримйти, сын Его
светлости. Он не по годам был серьезен и сердцем глубок. „Да,
сложно человеческое сердце!” — тихо завел он разговор о нашем
веке, и я со стыдом подумала, как несправедливо относиться к
нему с пренебрежением как к человеку молодому!
Он ушел, тихо напевая строчки старого стихотворения: „Когда
так много цветов на поле...”, и я подумала: вот кого надо бы
воспевать в романе!» 8.
Роль Бо Цзюй-и в Японии побуждает меня предложить вклю¬
чить в число «посредников» или «передатчиков» и образ поэта.
Образ, разумеется, созданный из черт творчества поэта и жиз¬
ненной биографии, но биографии обязательно преображенной.
Писателей другой страны могли вдохновлять не только стихи
данного поэта, но и весь его облик, может быть и не совпадаю¬
щий с его личностью в отдельных чертах, но полностью выражаю¬
щий ее существо.
Передо мной встают облики других поэтов — в разных местах
мира и в разное время. Возникает облик Ду Фу, ставший образом
.332
поэта-мудреца, поэта-странника, облик Саади, облик Байрона.
Наплывают и другие образы, наиболее настойчиво —Франсуа
Вийон, Торквато Тассо.
Таково первое дополнение к главе о «посреднике» в общей
теории сравнительного изучения литератур.
Второе дополнение.
Буддизм стал проникать в Китай еще в I в. Тогда же появи¬
лись первые переводы буддийской литературы. Однако интенсив¬
ное распространение буддизма началось лишь с IV в. Продолжа¬
лись и работы по переводу, особенно оживившиеся с V в., после
того как Фа Синь, побывавший в Индии в 399—412 гг., вывез от¬
туда много буддийских сочинений.
Что представляли собою тогда эти переводы? Строго говоря,
это не были переводы в привычном для нас понимании: перевод¬
чики скорее пересказывали содержание произведения по возмож¬
ности в простой форме. Переводы в настоящем смысле появились
главным образом благодаря Сюань Цзану, вывезшему из Индии,
где он был с 629 по 642 г., не только целую библиотеку, но и пре¬
восходное знание санскрита и пали — двух языков буддийской
литературы.
Так начала входить в мир китайской литературы чрезвычай¬
но разнообразная, богатая литература Индии.
Однако такие пересказы стали играть роль в литературной
действительности Китая только тогда, когда из письменной фор¬
мы перешли в устную. Читать какие бы то ни было переводы
буддийской литературы могли монахи, вообще люди образован¬
ные, знакомые с письменностью. Народная масса, рядовые па¬
ломники, заполнявшие монастыри в дни празднеств, читать их не
могли. Но они могли слушать. В связи с этим в монастырях по¬
явились особые специалисты, которых называли «монахами для
мирских проповедей» (суцзяншэн). Слово «мирской» в этом наи¬
меновании одновременно означает и «простонародный» и «разго¬
ворный». Соответственно этому строилось и изложение: оно было,
во-первых, устным, причем язык был самый простой, понятный
массовому слушателю; оно было, во-вторых, специально обрабо¬
танным: поменьше поучений и побольше занимательного. Именно
поэтому на первое место выступили повествовательные жанры
буддийской литературы. Слагались же они не только на мате¬
риале буддийского церковного предания, легенд, «житий» святых
и буддийских деятелей, но и на богатейшем индийском повество¬
вательном фольклоре. Слушатели, заполнявшие монастыри в
дни выступлений рассказчиков, могли слышать и потрясающие
фактические истории, и драматические исторические предания, и
повести из обыденной жизни. Рассказчики нередко прибегали к
особой форме повествования: они смело соединяли прозу со сти¬
хом, причем прозу подавали в декламационной манере, стихо¬
вую часть пели9.
Успех таких рассказчиков был огромен. Мы знаем даже име¬
333
на некоторых особо искусных мастеров рассказа. Таким был, на¬
пример, Вэнь Шу. Его выступления всегда привлекали массу слу¬
шателей, а сочиненные им песенки быстро распространялись.
В народе его называли «Хэшан-цзяофан», что значит «преподоб¬
ный отец — эстрадник». В его рассказах уже ничего не остава¬
лось от пресловутой формулы «гуйми-динли» — «предайтесь Буд¬
де, отдав ему свою жизнь», но зато много было интересного, за¬
хватывающего слушателя.
Вот таким путем и проникала в Китай индийская повествова¬
тельная литература, и ее проникновение способствовало расцвету
близкой по характеру повествовательной литературы Китая, по¬
строенной на материале китайского фольклора, исторического
предания, сказки, бытового рассказа. К тому же многие расска¬
зы строились на материале всем известных происшествий и собы¬
тий. Часто в этих происшествиях было что-либо из действий вла¬
стей, что не нравилось народу, вызывало его неодобрение. Тогда
рассказ приобретал значение и характер сатиры. Недаром в бо¬
лее поздние времена выступления подобных рассказчиков не раз
запрещались.
Во всем этом много интересного для изучения процесса лите¬
ратурных связей путем проникновения одной литературы в мир
другой литературы, форм, в которых такое проникновение про¬
исходит, общих условий проникновения и взаимодействия с ме¬
стной литературой. И ясно вырисовывается еще один тип «по¬
средника» или «передатчика», такой, как Вэнь Шу, т. е. мастер
устного рассказа.
Невольно вспоминается близкое по характеру явление в исто¬
рии литератур других народов, то, что в литературе западноев¬
ропейского средневековья получило наименование «легенды».
И в этой части мира тогда действовала новая, пришедшая извне
религия — христианство, а с ней пришла — в виде «писания» —
и древнееврейская литература во всем многообразии своих жан¬
ров, в том числе и повествовательных — сказочных, фантастиче¬
ских, исторических, бытовых; пришел и обширный мир «житий»,
т. е. той же повествовательной литературы. Так же, как в буддий¬
ских монастырях феодального Китая, в христианских монасты¬
рях феодальной Европы читались вслух главным образом во
время трапез отрывки из писаний и житий; так же выбирались
места, которые могли бы производить наиболее сильное впечат¬
ление. По-видимому, и тут действовал принцип: поменьше поуче¬
ний, т. е. скучного, и побольше событий, т. е. интересного. Именно
таким путем прививалась в данной стране чужая литература,
способствуя развитию собственных видов литературы. Не только
происхождение легенды, но и само наименование этого вида
средневековой литературы восходит к упомянутым монастырским
«чтениям».
Устный рассказ, как средство передачи какому-нибудь народу
произведений литературы других народов встречается в истории
334
мировых литературных связей нередко. Разумеется, причины его
возникновения, условия его существования, а также сама его
форма могут быть очень различны, поскольку они зависят от ис¬
торической и культурной обстановки в данной стране.
Нужно сказать еще и о следующем.
В первой половине VII в. при дворе императора Тайцзуна су¬
ществовало «десять групп мастеров искусств». Это были музы¬
канты, играющие на разных инструментах, певцы, танцовщики,
мимы, скоморохи.
Они представляли те искусства, из которых позднее сложился
китайский театр с его специфической формой исполнения и осо¬
бой драматургией.
Примечательно, что из десяти видов этих искусств только три
обозначались как китайские, прочие же семь рассматривались
как чужеземные; одно из них — как корейское, остальные
шесть — как «западные».
«Западом», «Западным краем» для китайцев издавна был да¬
лекий мир Восточного Туркестана, ныне Синьцзяна, Средней
Азии, Афганистана. Вплотную прилегали к нему части северо-
западной Индии, нынешнего Пакистана, а дальше лежал огром¬
ный мир Ирана. Таким образом, множество образцов театраль¬
ного искусства, функционировавшего при дворе императора ди¬
настии Тан в VII в., вышло оттуда. Уже это одно свидетельствует,
как интенсивно было общение двух великих центров культуры:
восточно-азиатского и средне- и переднеазиатского.
Разумеется, это искусство не само пришло в Китай из «За¬
падного края», его принесли с собой певцы и певицы, танцов¬
щики и танцовщицы, музыканты, мимы, скоморохи. Они при¬
несли с собой и свои музыкальные инструменты и свои песни, так
как словесная часть была необходимым элементом не только
певческого исполнения, но и многих танцевальных сцен.
Нам известна история проникновения музыкального и теат¬
рального искусства «Западного края» в Китай. Следы такого
проникновения обнаруживаются еще во II—I вв. до н. э. С IV в.,
когда северную половину страны заняли племена и народности,
связанные различными узами с далеким азиатским западом, пе¬
реход оттуда всяких песен и плясок стал особо интенсивным.
В VI в. это искусство получило признание при дворе, а в VII —
VIII в. «западные» певцы, музыканты, скоморохи и всяческие
лицедеи заполняли увеселительные кварталы Чанъаня — бле¬
стящей столицы империи с ее почти миллионным разноплемен¬
ным и разноязычным населением.
Шел процесс складывания больших, развитых форм китай¬
ского театрально-драматического искусства. Началом его исто¬
рии обычно считают образование в середине VIII в. при дворе
Сюань-цзуна труппы под названием «Грушевый сад». Но это
лишь зарегистрированный официальными источниками факт, и не
с него начался процесс образования театра в Китае. Создан был
335
этот театр на своей, китайской почве, из элементов, выросших на
ней, но большую роль сыграло и театральное искусство «Запад¬
ного края».
Драма в средневековом Китае неотделима от театра, а театр
вообще неотделим от музыки — вокальной и инструментальной.
В область литературы драма входит лишь косвенно, но все же
входит, особенно в своих позднейших, возникших в XIII в., фор¬
мах. Поэтому о связях в области театрального искусства можно
говорить и в плане связей литературных.
Итак, перед нами новый, вполне реальный факт занесения в
одну страну каких-то элементов культуры других стран. Были
ли и тут посредники? Несомненно: это — певцы и певицы, тан¬
цовщики и танцовщицы, музыканты, мимы, скоморохи. Имена
некоторых особо выдающихся мастеров мы даже знаем. Тем са¬
мым в главу о «посреднике» вводится еще один тип посредника
или передатчика.
Местом, откуда главным образом шел поток театрального ис¬
кусства, обогатившего театральное искусство Китая, был «За¬
падный край». Следовательно, оно, это искусство, принадле¬
жало народностям тюркского и иранского этнических корней;
поскольку же в состав «Западного края» входила также Индия,
оно частично было индийским. Есть, однако, в этом искусстве
одна деталь, заслуживающая специального внимания.
Начиная с VII в. это театральное искусство из Китая и Кореи
стало проникать и на японские острова. При дворе японских
правителей того времени также появились группы чужеземных
музыкантов, певцов, танцовщиков, мимов. Часть их пришла из
Кореи, из Бохая — государства, прилегающего к Корейскому по¬
луострову с северо-запада; были выходцы из Китая и даже из
страны Линьи, т. е. нынешнего Вьетнама. Они занесли в Японию
очень различные по характеру и по происхождению виды теат¬
рального искусства. В соединении с ними рождалось и театраль¬
ное искусство Японии.
Следует отметить одну особенность этого театрального ис¬
кусства: в одном из его видов (гигаку) исполнители носили ма¬
ски. Первое появление гигаку в Японии относится к началу
VII в. В 612 г., как сообщает старая хроника «Нихонги», некий
Мимаси из страны Кудара принес в Японию этот вид театраль¬
ного искусства, научившись ему в стране Курэ. «Кудара» — япон¬
ское название Пэкче, одного из государств на Корейском полу¬
острове, находившегося в тесных сношениях с Китаем и многое
в своей культуре воспринявшего от него. «Курэ» — японское на¬
звание той части Китая, которая лежит по нижнему течению Ян-
цзыцзяна и к югу от него. Таким образом, Мимаси занес на
японские острова театральное искусство Южного Китая.
До нас дошло описание представления гигаку. Правда, оно
дается в «Кёкунсё» — источнике позднем, возникшем в 30-х годах
XIII в., но сделано оно человеком, хорошо знавшим старый ма¬
336
териал и старую театральную традицию. Согласно этому описа¬
нию, представление гигаку было своего рода «шествием масок»:
на сценическую площадку один за другим выходили актеры, каж¬
дый в своей особой маске и особом одеянии, и исполняли свои
номера.
Первым появлялся «ведущий». Он открывал шествие, указы¬
вал дорогу и вместе с тем «очищал» ее от всяких злых сил. За
«ведущим» шли музыканты со своими инструментами: флейтой и
барабанами разной формы и величины. Далее следовал «лев»,
т. е. маска льва. Она была настолько больших размеров, что ее
несли на себе двое исполнителей. За львом шел «львенок».
После их номера на сцену с комической важностью вступал в
своей маске «князь страны Курэ». За ним выступал «Конго» —
один из персонажей буддийского предания. Затем выходил ис¬
полнитель в маске «Гаруды»— волшебной птицы индийского
фольклора, которая заклевала злого дракона. После «Гаруды»
шествовал «брамин» — явно комический персонаж; он исполнял
пляску, изображавшую стирку им своей грязной набедренной по¬
вязки. За «брамином» следовал «Курон» — также комический
персонаж. Одновременно с ним на площадке показывались пять
«женщин из Курэ», и Курон начинал заигрывать с двумя из них.
Это заигрывание имело форму весьма непристойной пляски —
сценки. Но тут появлялся «силач», он накидывался на безобраз¬
ничавшего Курона, дрался с ним и побеждал. После этого на
сцену выходил исполнитель в маске дряхлого старца, едва дер¬
жавшегося на ногах. Старец комически изображал как бы при¬
ход в храм на поклонение. Затем на сцену вступал «пьяный царь
варваров», он исполнял пляску. На этом представление заканчи¬
валось и исполнители в том же порядке уходили со сцены. Ни¬
какого устройства сцены, по-видимому, не было: действие про¬
исходило на открытом воздухе на какой-нибудь достаточно боль¬
шой площадке на территории храма 10.
Специалисты по истории японского театра в этом представ¬
лении, т. е. в искусстве гигаку, справедливо видят соединение
многих элементов. Несомненно, есть элементы различные и по
происхождению и по первоначальному значению. Вряд ли можно
сомневаться в том, что соединение их произошло еще на родине
гигаку — в «стране Курэ», т. е. в Южном Китае, откуда это ис¬
кусство и вывез кореец Мимаси. Поскольку его приезд в Японию
датируется 612 г., следует предположить, что искусство это заро¬
дилось еще до VII в. (вопрос, который может быть решен лишь
в связи с историей подобного рода театрального искусства в Ки¬
тае и еще ждет своего изучения) п.
Всесторонне рассматривать это явление здесь не место. Не¬
обходимо остановиться только на том элементе искусства гигаку,
который, на мой взгляд, имеет отношение к основной теме на¬
стоящей статьи,— к вопросу о «посреднике», или «передатчике».
К счастью для исследователей, до нас дошли маски гигаку.
22 н. и. Конрад
337
В государственной сокровищнице — музее Сёсоин г. Нара, в сок¬
ровищницах древних буддийских храмов Хорюдзи и Тодайдзи
близ г. Нара, центра политической и культурной жизни Японии
VIII в., хранится 239 масок. Все они очень старые. На некоторых
есть пометы, указывающие время их изготовления. Наиболее ста¬
рая из таких датированных масок относится к 752 г. Это не зна¬
чит, что маска 752 г. самая древняя вообще. По заключению спе¬
циалистов, среди масок, не снабженных пометами, несомненно,
есть более древние, допускают даже, что в числе их есть маски,
привезенные или изготовленные еще самим Мимаси, этим пер¬
вым мастером гигаку в Японии.
Маски были занесены в Японию из Кит'ая. О существовании
в старом Китае представлений масок известно. Есть сведения о
таких представлениях, относящихся еще ко II в. до н. э. Но ни
древние, ни более поздние китайские маски до нас не дошли. Это
делает маски, в таком количестве и в таком разнообразии сохра¬
нившиеся в Японии, драгоценным материалом для истории теат¬
рального искусства не только Японии, но и Китая, а также Кореи.
Более того, маски гигаку должны заинтересовать и всякого исто¬
рика театра, так как они — единственные сохранившиеся образцы
древних масок: греческую и римскую маску мы знаем только по
изображениям.
Маска льва была и в Китае. Но, как известно, пришла она в
Китай откуда-то из Сиюй — «Западного края». Исследователи
открыли, что «лев» масок гигаку — типичный ассирийский лев.
Львиные маски гигаку очень похожи на такие же маски, найден¬
ные ассириологами при раскопках. Это делает вполне правдопо¬
добным предположение, что львиная маска была занесена в Ки¬
тай именно из «Западного края», т. е. из Средней Азии, так как
из Ассирии львиная маска могла перейти в соседние с этой древ¬
ней державой страны. Среди масок гигаку есть и другие, изобра¬
жающие животных и какие-то фантастические существа. Они на¬
поминают маски индийские и тибетские. Такие маски могли быть
занесены в Китай двумя путями: либо из того же «Западного
края», в орбиту которого, как было сказано выше, входили при¬
легающие к Восточному Туркестану и Средней Азии части Се¬
веро-Западной Индии и Тибета, либо со стороны Индокитая 12.
Главную загадку для исследователя представляют, однако, не
маски «льва» и других животных или фантастических существ, а
маски людей.
Уже в эпоху занесения гигаку в Японию считалось, что такие
маски изображают типы варваров (кохитогата). Слово «варвар»
(кохито) в этом наименовании обозначалось теми же иерогли¬
фами, которыми слово «варвар» (хужэнь) обозначалось и в Ки¬
тае. В Китае также считалось, что маски изображали «варваров».
Таким образом, все указания говорят о происхождении масок
где-то за пределами Китая. Но где?
Исследователи масок гигаку единодушно утверждают, что эти
338
маски не воспроизводят антропологический тип ни китайца, ни
корейца, ни вообще какого-либо представителя монгольских или
тюркских народностей. Маски гигаку воспроизводят арийский
тип. Некоторые из них напоминают тот арийский тип, который
характерен для представителей индо-иранского мира, но есть ма¬
ски, напоминающие греческие, употреблявшиеся в представле¬
ниях мимов, т. е. в народном театральном искусстве древней Гре¬
ции. Таковы, в частности, комические маски. Это поразительное
сходство в типе сопровождается и другими сходными моментами:
и те и другие маски — большого размера; японские маски имеют
размер от 24,2 до 45,5 см; и те и другие надеваются не на лицо,
а на всю голову. Таким образом, возникает мысль о греческом
происхождении этих масок гигаку.
Об этом уже давно заговорили японские ученые13, ссылаясь
на такие уже вполне удостоверенные наукой факты, как несом¬
ненное ассирийское происхождение маски льва, как несомненное
греческое происхождение появившегося в Японии еще в древно¬
сти узора каракуса — одного из видов растительного орна¬
мента 14.
Вопрос касается, однако, не только масок как таковых: речь
может идти о всем представлении, связанном с ними. Достаточно
обратить внимание хотя бы на то, что «шествие» составляет один
из характерных элементов как представления гигаку, вроде опи¬
санного выше, так и представлений греческих мимов; изображе¬
ние «царя» и «брамина» в гигаку носит характер пародии, т. е.
насмешки, издевки над носителями власти и духовенством, а па¬
родия и сатира наличествовали и в представлениях мимов. Схо¬
дна в обоих случаях и грубая эротика отдельных номеров. Об¬
щей является и явная фольклорная основа тех и других, прида¬
ющая всему характер своего рода натуралистически-гротескного
бытового фарса. Гигаку в Японии были приняты в обиходе двора
и храмов, т. е. были обращены к зрителю из образованного слоя
общества того времени; известно, что представления мимов в
Сицилии, где этот вид народного театрального искусства осо¬
бенно процветал, также проникли ко двору местных правите¬
лей — сицилийских тиранов15.
Вполне допустимо, что и представления, подобные тому, ко¬
торое, перейдя в Японию, получило там название гигаку, также
появились в Китае из «Западного края». Это становится тем
более вероятным, что они явно связаны с буддизмом. Как изве¬
стно, буддийский ритуал включал много плясок, песен, представ¬
лений. Одни из них развивались в сфере культа, другие были
вполне «светского» происхождения, чисто народного по своему
характеру16.
Вопрос сводится к следующему: возможно ли, чтобы в на¬
родном театральном искусстве «Западного края» было что-ни¬
будь от древнегреческого театра?
Представим себе этот «Западный край». В его состав входила
339
и территория Бактрии, а эта страна в 330—327 гг. до и. э. была
завоевана Александром Македонским и после его смерти была
включена в Селевкидское царство, образовавшееся в азиатской
части завоеванного им мира. Тем самым Бактрия вошла в ор¬
биту эллинистической культуры. В 250 г. до и. э. эта среднеазиат¬
ская провинция Селевкидской державы стала отдельным госу¬
дарством, называемым историками Греко-Бактрийским царст¬
вом. Как известно, власть в этом царстве находилась в руках
греков и македонцев, в нем стояли греко-македонские гарнизоны;
было много выходцев из различных частей эллинского мира — ре¬
месленников, торговцев. Эллинизация Средней Азии, как и при¬
легающих к ней восточных областей Ирана, продолжалась и
после падения во второй половине II в. до н. э. власти Селевки-
дов. Коротко говоря, Бактрия была выдвинутым далеко на во¬
сток форпостом эллинистической культуры, стоявшим на пере¬
путье между Ираном, Северо-Западной Индией и Китаем17.
В 140—130 гг. до н. э. Греко-Бактрийское царство исчезло.
Власть в этом районе перешла в руки массагетских племен, глав¬
ным образом тохаров. В дальнейшем же здесь снова возникло
мощное государство, обозначаемое историками как Кушанское
царство. Расцвет этого царства приходится на время правления
Канишки 78—123 гг. н. э. В это время в сферу Кушанского цар¬
ства входила и Средняя Азия, и территория нынешнего Афгани¬
стана, и часть Северо-Западной Индии.
Нам хорошо известны связи Кушанского царства с Китаем.
Достаточно сказать, что главным образом оттуда проникал в Ки¬
тай буддизм. В правление Канишки Кушанское царство было
центром буддизма. Но буддизм был не только религией; с ним
шло и искусство.
В эпоху Кушанского царства возникло знаменитое гандхар-
ское искусство — одно из драгоценнейших созданий художествен¬
ного гения человечества. До нас дошли некоторые памятники
этого искусства, главным образом скульптуры. Среди них широ¬
кой известностью пользуется одна, под репродукцией которой в
современных художественных изданиях часто пишется: Будда
или Аполлон18.
Действительно, это может быть и Будда, может быть и Апол¬
лон. Вернее, впрочем, ни тот, ни другой, а образ, созданный но¬
вым искусством, созданный, правда,- при явном участии хорошо
усвоенных скульптором форм искусства древней Индии и древ¬
ней Греции, но совершенно самостоятельный, глубоко оригиналь¬
ный.
Если учесть этот факт, уже прямо относящийся к области ис¬
кусства, если принять этот факт в свете общей культурной обста¬
новки в этой части Азии, бывшей для Китая и «Западным краем»,
то нет ничего невероятного в предположении, что и в театральном
искусстве этого района осуществилось соединение местных эле¬
ментов с пришлыми из Индии и из эллинистического мира. В та¬
340
ком случае вполне возможно допустить и наличие в «Западном
крае» форм театрального искусства, связанных с искусством гре¬
ческих мимов, тем более, что оно принадлежало к области на?
родного искусства, т. е. к тем видам искусства, которые обладают
особой мобильностью, легко переходят из одного места в другое.
Предположение о греческом происхождении масок гигаку ста¬
новится исторически допустимым.
Из всего сказанного явствует следующее.
Факт перехода среднеазиатского театрального искусства в
Китай VII—VIII вв. несомненен. Закрепление этого искусства и
его дальнейшее развитие уже в. Китае, самостоятельное и ори¬
гинальное, также не подлежит сомнению. Кто же тут сыграл роль
«посредника», «передатчика»? Музыкант, певец, танцовщик, ско¬
морох, мим. Таков еще один тип «посредника» в развитии куль¬
турных связей.
Но в данном случае речь идет не о всякого рода театральных
представлениях, а о представлениях масок. Следовательно, здесь
как бы символом этого вида искусства является именно маска.
Маска, конечно, деталь театрального искусства, но такая де¬
таль, по которой можно судить о всем характере данного вида
театрального искусства.
Маска присутствует во многих видах театрального искусства
и на Востоке и на Западе. В Японии после гигаку театром масок
является театр Но, сложившийся в XIV в. Другой вид большого
театрального искусства в Японии, театр Кабуки, сложившийся в
XVII в., маской как таковой не пользуется, но делает посредст¬
вом грима лицо актера маской. Как в представлениях масок
каждая маска призвана изображать определенный тип, так и
грим в театре Кабуки имеет своим назначением сделать зрителю
сразу ясным, кого он видит на сцене — героя или злодея.
В Китае театр масок большой формы, на манер японского те¬
атра Но, не образовался, но место маски там с самого же на¬
чала, т. е. с XIII в., когда образовалась большая форма театра и
драмы, заняло соответствующим образом загримированное лицо
актера. Типизация грима — явление, характерное для китайского
театра и в позднейшее время.
Излишне доказывать, что театр масок как явление театраль¬
ного искусства включает, по крайней мере в некоторых своих ви¬
дах, словесную часть. В развитых видах театра масок эта часть
вырастает в драму. Но драма эта весьма специфична: по всей
своей природе, по своему содержанию, по структуре она рассчи¬
тана на воспроизведение средствами и приемами театра масок.
Воспроизведение другими театральными средствами нарушает
художественную цельность всего комплекса и даже не дает воз¬
можности полноценного выражения драматургического мате¬
риала так, как он создан. Поэтому маска несет с собой не только
определенный вид театрального представления, но и в какой-то
степени определяет характер драматургии. Драма — принадлеж¬
ав
ность не только театра, но и литературы. Поэтому не следует ли
в число «посредников» включить и маску?
Изложенное, как мне кажется, может показать, что материал,
представляемый историей литературных связей на Востоке, по¬
зволяет добавить некоторые новые данные для суждения о ме¬
ханизме, при посредстве которого осуществляется взаимодейст¬
вие литератур, и тем самым расширить понятие «посредник»
сравнительно с тем, как оно раскрывается современной западной
компаративистикой. Вместе с тем предложенный материал мо¬
жет дополнительно удостоверить, насколько важно при изуче¬
нии литературных связей учитывать историческую эпоху, в кото¬
рую такие связи имеют место, принимать во внимание состояние
литературы в эту эпоху, и как опасно переносить суждения и
оценки, выработанные на основании изучения литературных
связей в новое время, на средние века или древность. Вопрос
о литературных связях тесно переплетается почти со всеми вопро¬
сами, перечисленными в начале данной статьи, особенно с вопро¬
сами состава литературы и форм ее существования. От надлежа¬
щей разработки этих вопросов зависит в конечном счете и осве¬
щение того, что следует понимать под «мировой литературой» на
разных этапах общей истории человеческого общества.
1961 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Соответствующие мысли развиты в статье Н. И. Конрада «/С вопросу о
литературных связях» (см. стр. 316—329 настоящего сборника).
2 См. биографию Фудзивара Такэмори в «Монтоку дзицуроку», (879 г.),
кн. 3.
3 О Бо Цзюй-и см.: Бо Цзюй-и, Четверостишия, пер. с кит. вступит, ст. и
комм. Л. Эйдлина, М., 1949.
4 Об этом и вообще о популярности Бо Цзюй-и в Японии см.: Камида Хи-
дэо, Хаку Ракутэн-ни кансуру хикакубунгакутэки итикосацу (Кокуго то коку-
бунгаку), Сева 23 нэн 10 гацу го; Бо Цзюй-и, Песнь о бесконечной тоске, пер.
Б. А. Васильева,— «Восток», сб. 1, изд-во «Асабегша», 1935, стр. 117—125; см.
также: «Танские новеллы», пер. с кит. послесл. и прим. О. Л. Фишман, М., 1955,
стр. 130—135; Бо Цзюй-и, Лютня,— «Антология китайской лирики», пер.
Ю. К. Шуцкого, ред., вводные обобщения и предисл. В. М. Алексеева, М.— Пг.,
1923, стр. 118—126.
5 См. послесловие Бо Цзюй-и к так называемому Чанцинскому сборнику
его стихов «Бо ши Чанцин-цзи, хоусюй».
6 Важнейшие работы указаны в статье Камида Хидэо «Нихон-бунгаку то
Тюгокубунгаку (Кодай)» (в сб. «Хикаку бунгаку. Нихон-бунгаку-о тюсин-то
ситэ. Ясима-сёбо», Токио, 1953).
7 По кодексу Тайхорё (701 г.) система образования включала в себя че¬
тыре основных раздела: раздел «классиков», раздел истории, раздел законо¬
дательства и раздел счета. В разделе «классиков» изучались «Чжоу И»,
«Шан Шу», «Чжоу ли», «Или», «Лицзи», «Мао Ши», «Чуньию», «Цзочжуань»,
«Сяоцзин», «Луньюй». В разделе истории изучались «Шиизи», «Ханьшу»,
«Цзиныну»; в этом же разделе значилось и изучение известной литературной
342
антологии VI в. «Вэнь сюань». В раздел законов входило изучение кодексов
танского времени и действующего японского законодательства, составленного
по китайским образцам и на китайском же языке.
8 Привожу по изданию дневника Мурасаки-сикибу в серии «Нихон котэн
бунгаку тайкэй» (т. 19, изд-во Иванами-сетэн, Сева 33 г., стр. 945).
9 О проникновении буддийской литературы в Китай см.: Н. И. Конрад,
Проблемы современного сравнительного литературоведения,— «Известия
АН СССР», отделение литературы и языка, т. XVIII, вып. 4, 1959, стр. 326—328,
а также стр. 291—315 настоящего сборника.
10 Излагаю по изданию «Кёкунсё», в серии «Нихон котэн дзэнсю», под ред.
Ямада Иосио.
11 Слово гигаку (кит.— цзиюэ), ставшее в Японии наименованием подоб¬
ного рода представлений,— китайское, но оно не пришло в Японию вместе с
самим этим искусством, а соединено с последним уже на японской почве. Счи¬
тают, что такое название дал этим представлениям Сётоку-тайси (ум. в 621 г.),
принц-регент, при котором они появились, он же сам взял это слово из сутры
«Саддхарма пундарика» в китайском переводе, особенно им почитаемой
(см. Каватакэ Сигэтоси, Нихон энгэки дзэнси, Токио, 1959, стр. 29—30).
12 Об истории масок в Японии см.: Нома Сэйроку, Нихон камэн си, Токио,
Сёва 16 г. (1941).
13 Морисуэ Йосиаки, Энгэки, серия «Синко Дай-Ниппон си», т. 16, Токио,
Сёва 17 г. (1932), стр. 7—14.
14 Каватакэ Сигэтоси, Нихон энгэки дзэнси, Токио, 1959, стр. 30.
15 Об искусстве греческих мимов см.: А. Пиотровский, Античный театр,—
«История европейского театра», т. 1, Л., 1926.
16 Среди работ, посвященных этому вопросу, необходимо выделить труд
китайского исследователя Сян Да «Тандай Чанъань юй Сиюй вэньмин» (Пе¬
кин, 1957) и работы японского историка Иосида Того.
17 М. Тагп, ТНе Сгеекз т Вак(г1а апй 1пеНа, СашЬпс1де.
18 К. В. Тревер, Памятники греко-бактрийского искусства, М.— Л., 1940.
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗМА И ЛИТЕРАТУРЫ
ВОСТОКА
Термин «реализм» применяется в работах по истории и теории
литературы весьма широко. О реализме или, в смягченной форме,
об «элементах реализма» говорят в приложении ко многим про¬
изведениям чуть ли не всей литературы прошлого. Пожалуй, мо¬
жно сказать даже больше: если обратиться к работам по исто¬
рии литературы (особенно диссертациям, написанным в послед¬
ние 10—15 лет), почти невозможно найти такую работу, в кото¬
рой о реализме не говорилось бы, независимо от того, идет ли
речь о литературе какого-нибудь народа Европы или Азии, рас¬
сматривается ли литература XIX в., или литература европей¬
ского или азиатского средневековья и даже литература древнего
мира. Получается поэтому впечатление, что реализм в литера¬
туре есть как бы некая абсолютная категория — не то надыстори-
ческая, не то всеисторическая, т. е. существующая в истории «во¬
обще», независимо от истории конкретной, развивающейся по
определенным этапам, каждый со своим собственным социально-
экономическим и культурным содержанием. Так как признать
существование такой категории без обращения к помощи мета¬
физики вряд ли возможно, а прибегать к метафизической спеку¬
ляции вряд ли стоит, необходимо разобраться в факте столь ши¬
рокого употребления термина «реализм» и выяснить, оставаясь
на почве конкретной истории, то значение или те значения, ко¬
торые в него вкладываются.
1
Если обратиться к истории, то можно с легкостью обнару¬
жить, что обозначение «реализм» впервые стало прилагаться
к той литературе, в сфере которой термин «реализм» вообще по¬
явился и которую этим обозначением хотели тогда охарактери¬
зовать. Это французская литература второй и третьей четверти
XIX в. в виде своего наиболее мощного тогда течения, представ¬
ленного произведениями, например, Бальзака и Флобера. Вопрос
о правомерности применения этого термина в данном случае про¬
344
сто не может быть поставлен. Тут это конкретный исторический
факт, который следует принять. Из него и следует исходить во
всякой работе по изучению значения понятия «реализм» в лите¬
ратуре.
Вопрос о значении понятия «реализм» и о самой допустимо¬
сти употребления термина «реализм» возникает только тогда,
когда мы обнаруживаем перенесение обозначения «реализм» на
другие литературы. Как известно, это случилось с английской
литературой XIX в., с русской литературой того же времени, а
также и с литературами других народов Европы.
И в этих случаях вопрос решается легко и в положительном
смысле. Да, такое перенесение вполне правомерно: оно моти¬
вировано возможностью называть все эти литературы реалисти¬
ческими в одном и том же значении понятия «реализм».
Реалистическая литература во Франции XIX в. возникла и
развилась в условиях господства капиталистического строя. Это
означает, что она характерна именно для этих общественных от¬
ношений и с точки зрения их общего социального содержания
и с точки зрения той специфической обстановки, которая отли¬
чает эпоху капитализма от предшествовавшей ей эпохи феода¬
лизма. Социальная обстановка, характерная для общества капи¬
талистической эпохи, определяется, как известно, борьбой двух
основных классов этого общества — буржуазии и пролетариата.
Поэтому все, что появляется в культуре капиталистического об¬
щества, зарождается и развивается именно в обстановке и под
воздействием диалектики этой борьбы. Такова и литература ка¬
питалистической эпохи. Но уровень этой литературы, ее содер¬
жание, ее теоретические принципы определяются конкретным
историческим моментом. Этот момент известен: середина XIX в.
во Франции — время стремительного развития и расцвета капи¬
талистического строя, но вместе с тем и время роста силы и ак¬
тивности пролетариата, этого неизбежного спутника буржуазии
и в конечном счете ее могильщика. Это означает, что именно в
момент подъема капитализма со всей ясностью обнаруживаются
и общественные противоречия, коренящиеся в самой природе
этого строя. Именно такая обстановка привела реалистическую
литературу к чрезвычайно высокому развитию. Этим она обя¬
зана тому значению, которое получил в творческом методе реа¬
листической литературы критицизм.
Не следует понимать этот критицизм упрощенно — как «ра¬
зоблачение», «обнажение язв» и т. п. Все это имелось, и време¬
нами в достаточно сильной степени. Но одновременно было и об¬
ратное: утверждение того прогрессивного, что было в этом строе,
представляющем следующую, более высокую по своему уровню
ступень общественного развития, чем феодализм. Поэтому кри¬
тицизм французского реализма XIX в. следует.понимать именно
как метод раскрытия действительности во всей сложности и про¬
тиворечивости действующих в ней сил. Ебли не отходить от кон¬
345
кретной истории и всегда видеть французский реализм в общей
обстановке того времени, то вполне возможно перенесение ха¬
рактеристики «реализм» и на литературы других народов, если
социально-экономические и общекультурные условия, в которых
эти литературы развивались в соответствующий исторический
момент, сходны с условиями, наблюдавшимися тогда во Фран¬
ции. Вполне законно приложение обозначения «реализм» к тому
течению английской литературы XIX в., которое представлено
творчеством, например, Диккенса и Теккерея. Вполне правомерно
назвать «реалистической» в таком же точном, историческом,
смысле и русскую литературу XIX в.-^-в том ее течении, которое
представлено произведениями, например, Гончарова и Тургенева.
Конкретные черты эпохи в каждой из этих стран — Франции,
Англии и России — во многом различны: уровень буржуазно-ка¬
питалистического развития в каждой из них неодинаков, но в це¬
лом, в аспекте больших линий исторического процесса, общих
тенденций социально-экономического развития, это одна и та же
большая эпоха истории стран Европы. При несомненной нерав¬
номерности развития капитализма все страны Европы в этот пе¬
риод были втянуты в общий процесс развития, образовав в це¬
лом общую систему капитализма в Европе. Поэтому в XIX в.,
особенно с середины его, о реалистической литературе (в точном,
«французском», смысле этого слова, но, конечно, с необходимыми
национальными поправками) можно говорить применительно ко
всем литературам народов Запада. Употребление этого термина в
данном случае исторически вполне оправдано.
Если быть верным историческому значению термина «реа¬
лизм», применение этого термина к литературам народов Востока
возможно только тогда, когда в истории этих народов мы нахо¬
дим сходные с западными — в основных чертах и в главных
тенденциях — социально-экономические условия, т. е. утвержде¬
ние и развитие капитализма как господствующего строя.
Как известно, подобные условия сложились только в одной
Японии. Япония была единственной страной Востока, которая
вышла из рокового столкновения с наступавшим Западом без
превращения в колонию какой-либо из европейских стран, т. е.
без утраты государственной независимости, как это случилось,
например, с государствами Индии и Индонезии. Япония не пре¬
вратилась и в полуколонию какой-либо из стран Запада, как это
на определенное время произошло, например, с государствами
Индокитая, сохранившими видимость государственной самостоя¬
тельности. Япония не стала и зависимой страной, какими на не¬
которое время стали такие государства, как Турция и Персия и
отчасти даже могучий Китай,— политически формально само¬
стоятельные, на деле же опутанные сетями финансовой и дипло¬
матической зависимости. Япония — единственная страна Востока,
ступившая после революции 1868 г. на путь самостоятельного
капиталистического развития и достигшая столь высокого уровня
346
этого развития, что в начале XX в. она оказалась в состоянии
присоединиться к весьма недружной «семье» империалистиче¬
ских держав, а после первой мировой войны — даже на правах
политически чуть ли не равного партнера. Поэтому только в
Японии развился этот этап ее новейшей истории, который по
своему социально-экономическому содержанию в основных чер¬
тах и в главных тенденциях соответствовал этапу буржуазно-ка¬
питалистического развития Англии, Франции, России. Поэтому в
Японии второй половины XIX в. и начала XX в. можно искать ли¬
тературу, в общих чертах сходную с реалистической литературой
стран Запада. Такую литературу мы действительно находим, ко¬
нечно, со своими национальными особенностями. Она представ¬
лена творчеством, например, Токутоми Рока, Симадзаки Тосон,
Нацумэ Сосэки.
Сложнее обстоит дело с другими странами Востока. Их поло¬
жение колоний, полуколоний или зависимых стран замедлило
распад феодализма, сделало развитие капиталистических отно¬
шений в них медленным, ограниченным и искривленным. Соот¬
ветственно этому своими особыми чертами сопровождалось в
этих странах и развитие буржуазии. Недаром именно на Востоке
сложилось такое своеобразное явление, как «компрадорская
буржуазия». Именно на Востоке оказались противопоставлен¬
ными друг другу две группы буржуазии — компрадорская и на¬
циональная. Они противостояли друг другу в силу известных
различий своих интересов, различий в отношении к экономиче¬
скому, политическому и культурному развитию своей страны,
различий в своей роли в таком развитии. Но при всей замедлен¬
ности, ограниченности и искривленности и в этих странах раз¬
витие капиталистических отношений и сложение буржуазно-капи¬
талистического строя все же шло. XIX век — время утверждения
капитализма как мировой и притом господствующей социально-
экономической системы. Разные страны занимали в этой системе
различные места, уровни развития капитализма и сами пути
этого развития были очень различны, но все эти страны в той или
иной роли в конечном счете вошли в образовавшуюся тогда ми¬
ровую капиталистическую систему.
Поэтому не только в Японии, но и в других старых культур¬
ных странах Востока даже при их колониальном, полуколониаль¬
ном или зависимом положении не могла в том или ином виде, в
той или иной степени развития не появиться реалистическая ли¬
тература общего для данной мировой эпохи типа. Достаточно
указать хотя бы на писателей группы «Сервети — Фюнун» в Тур¬
ции, на произведения Мальком-хана, Зейн ал-Абедина в Персии.
Особенности внутреннего исторического развития в соедине¬
нии с положением в системе мирового капитализма наложили
свой индивидуальный отпечаток на облик реалистической лите¬
ратуры в каждой из таких стран Востока, определили собствен¬
ный путь этой литературы. Общая экономическая и политиче¬
347
ская отсталость, незрелость буржуазии ограничивали идейный и
художественный уровень реалистической литературы колониаль¬
ных, полуколониальных и зависимых стран Востока, суживали
ее общественную роль. Ориентация наиболее образованных слоев
национальной буржуазии на ту или иную передовую в то время
страну, ориентация, усиливаемая часто получением образования
непосредственно в этой стране, приводили к нарушению последо¬
вательности национального литературного развития. Реализм во
Франции возник после романтизма, бывшего исторически зако¬
номерным явлением в общем процессе развития французской ли¬
тературы от эпохи распада феодализма до эпохи полного утверж¬
дения господства капитализма. Существование предшествующей
и в течение довольно длительного времени сопутствующей роман¬
тической литературы было необходимо для реалистической лите¬
ратуры, так как она сама, с одной стороны, формировалась в
борьбе с романтической литературой, отталкиваясь от ее основ¬
ных творческих принципов, с другой — призвана была некоторые
из достижений этой литературы творчески продолжать и разви¬
вать. Реалистическая литература не смогла бы стать тем, чем она
стала, без предшествовавшего этапа полноценной, развитой ли¬
тературы романтизма.
Литература в странах Востока на этом этапе их истории как
бы торопилась. Едва — и вполне закономерно! — ступив на путь
романтизма, она, не успев этот путь как следует освоить, уже
спешила дальше — к реализму. Этим определялась одна с боль¬
шей или меньшей силой повторяющаяся почти во всех литерату¬
рах Востока своеобразная черта: при всем несомненном стрем¬
лении к реализму во многих произведениях, относимых к реали¬
стическим, проступали — и часто весьма ощутимо — элементы
романтизма, притом обычно в крайне сентиментальной форме.
Литература реализма как бы стремилась сама, внутри себя, вос¬
полнить недостаточную развитость необходимой предшествую¬
щей полосы. Реалистическая литература как бы сама в течение
некоторого времени продолжала романтизм и, продолжая его,
преодолевала, отталкиваясь от него.
Другая особенность реалистических литератур Востока воз¬
никла в силу действия общей мировой обстановки. К своей реа¬
листической литературе страны Востока подходили обычно
позже, чем передовые страны Запада. Даже в Японии, которая
в 70-х годах XIX в. ступила на путь самостоятельного капитали¬
стического развития и очень быстро по нему продвигалась, даже
в ней реалистическая литература типа, характерного для Европы
второй и третьей четверти XIX в., начала формироваться лишь в
самом конце XIX в., т. е. тогда, когда в важнейших странах За¬
пада распространился натурализм. Поэтому на литературу япон¬
ского реализма с самого начала ее пути легла некоторая печать
натурализма. Иначе и быть не могло, так как японские писатели-
реалисты имели перед собою не только произведения Гончарова
348
и Тургенева, но и Золя и Мопассана. Когда же во втором деся¬
тилетии XX в. реалистическая литература Японии достигла
высшей точки своего развития, она существовала уже в очень
сложной обстановке, в которой причудливо переплетались линии,
восходящие к натурализму, с линиями, идущими от идей и на¬
строений европейского Нп <1е 31ёс1е’я, породивших на Западе
крайне разнообразную и противоречивую по форме и приемам, по
творческим принципам литературу конца XIX и начала XX в. По¬
этому в японской реалистической литературе времени ее высшего
развития чувствуются отзвуки творчества то Достоевского и Рол-
лана, то Чехова и Ибсена, то Франса и Уайльда. Таким образом,
японская реалистическая литература, едва ступившая в полосу
своей полной зрелости, тут же стала сходить с классического для
такой литературы пути и закончила свое существование в виде
смеси элементов позднего, аналитического натурализма с элемен¬
тами эстетизированного модернизма.
Для литератур стран Востока характерна и еще одна своеоб¬
разная черта. Все сказанное выше относится к потоку литера¬
туры в целом. Но в каждой из этих литератур были отдельные
писатели, которые шли не вслед за общим движением реалисти¬
ческой литературы передовых стран Европы, а в ногу с ним, в
какой-то мере приближаясь к общему уровню. Таков был, на¬
пример, Фтабатэй, который уже в середине 80-х годов создал ро¬
ман «Укигумо» («Плывущее облако»), по теме, по замыслу, по
творческим приемам близкий к романам Гончарова («Обыкно¬
венная история» и «Обрыв») и Тургенева («Отцы и дети»), а
свои теоретические установки выработал под влиянием идей Бе¬
линского. Можно и позднее найти в японской литературе писа¬
телей, стоявших на уровне мировой литературы своего времени.
Появление таких писателей обусловлено тем, что в странах
Востока в процессе соприкосновения их с передовыми странами
Европы складывался слой вполне европеизированной интелли¬
генции, полностью знакомой с наукой, литературой, обществен¬
ной жизнью передовых стран Европы, свободно владевшей язы¬
ками этих стран. Он был немногочисленный, этот слой; его раз¬
витие опережало общее культурное развитие буржуазии, к кото¬
рой эта интеллигенция принадлежала; поэтому писатели, вхо¬
дившие в этот слой, играли роль провозвестников или основопо¬
ложников какого-либо литературного направления, само же на¬
правление оформлялось и приобретало соответствующую обще¬
ственную значимость только позднее. Личность и роль Фтабатэя
в этом смысле крайне показательны. Он был специалистом по
русскому языку и русской литературе; он был первым перевод¬
чиком Тургенева и Гоголя;, превосходно знал работы Белинского,
Добролюбова, Чернышевского. И все это — в 80-х годах, т. е.
тогда, когда во всей Японии, может быть, только несколько че¬
ловек вообще слышали о Тургеневе и Гоголе, а о Белинском, мо¬
жно утверждать, вообще никто ничего не знал. Поэтому роман
349
Фтабатэя и не был тогда принят обществом: он не укладывался
в общее русло, по которому шла японская литература. Но его ро¬
ман указал путь этой литературе, и позднее, когда реалистиче¬
ская литература сложилась и окрепла, об этом романе Фтабатэя
вспомнили. Ныне всем японским литературоведением единодуш¬
но признано, что именно Фтабатэй был провозвестником клас¬
сической для Японии этого времени реалистической литературы.
При всех этих своеобразных чертах развития реалистических
литератур в странах Востока все же эти литературы и могут и
должны рассматриваться в общем плане мировой реалистической
литературы в указанном историческом смысле.
Характерна и судьба самого термина «реализм». Французский
по своему происхождению, образованный на основе латинского
корня, он стал общим не только для народов европейских, но и
для всех других культурных народов мира. В одни языки он во¬
шел в своем собственном языковом облике, в другие — в пере¬
водном.
Правда, он стал таким термином только со второй половины
XIX в. В первое время те же явления в литературе, которые во
Франции обозначили словом реализм, у других народов называли
другими словами, например: словом «натурализм» у скандина¬
вов, обозначением «натуральная школа» у русских в середине
XIX века. Однако с течением времени «местные» термины были
вытеснены термином «реализм», ставшим сначала общеевропей¬
ским, а затем и мировым.
2
Таким образом, употребление термина «реализм» в приложе¬
нии к мировой литературе определенной исторической эпохи ис¬
торически правомерно, эпоха эта — вторая и третья четверти
XIX в. если брать, так сказать, центральные хронологические
рамки, учитывая, что в масштабе мировой истории реалистиче¬
ской литературы отдельные национальные литературы выходят
за пределы этих рамок. В одних случаях, как, например, во
Франции, реалистическая литература захватывает и конец пер¬
вой четверти XIX в. и последние десятилетия этого века; в других
случаях, как, например, в Японии, реалистическая литература,
вообще только начавшая свой путь в последней четверти XIX в.,
естественно, протянулась и на два десятилетия XX в. Нужно
учитывать также, что в истории реалистической литературы, как
и в истории любого другого направления в литературе, вполне
отчетлива, строго говоря, середина, начало же и конец весьма
расплывчаты, так как в своем начале реалистическая литература
не только отталкивается от той, которую ей историей суждено
сменить, но и несет в себе многие черты существовавшей тогда
литературы; в конце же бывает трудно провести резкую грань
между литературой реализма и литературой натурализма. Надо
350
учитывать и то, что реалистическая литература за время своего
исторического существования сама, в своем внутреннем разви¬
тии, переходила от одного этапа к другому. Реализм Флобера не
то, что реализм Бальзака. И дело тут отнюдь не в одном разли¬
чии творческих индивидуальностей, какое бы огромное значение
индивидуальность писателя ни имела; многое вызвано измене¬
ниями, происшедшими в общественной обстановке, а также
самими внутренними законами развития определенного типа ли¬
тературы. Поэтому в составе мастеров реалистической литера¬
туры мира мы видим очень разные имена. Мировая реалистиче¬
ская литература — это творчество Стендаля, Бальзака, Флобера,
Диккенса, Теккерея, Дж. Элиота, Дж. Мередита, Гоголя, Гонча¬
рова, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, Б. Ауэрбаха,
Ф. Шпильгагена, Э. Ожешко, Б. Пруса, Переса Гальдоса, Току¬
томи, Таяма, Симадзаки, Нацумэ, Халида Зии Ушаклыгиля,
Малькома-хана, Зейн ал-Абедина и многих других писателей как
перечисленных стран, так и других. Но при всех различиях исто¬
рическое, социальное и художественное существо этой литера¬
туры в своих наиболее важных частях и в главных тенденциях
развития вполне определенно.
Имеем ли мы право при конкретно-историческом подходе к
явлениям литературного процесса выходить с термином «реа¬
лизм» за указанные рамки? Имеем ли мы право переносить обо¬
значение, определявшее магистральную линию литературы, сло¬
жившейся и развившейся в условиях утверждения капитализма
как мировой господствующей социально-экономической системы,
на литературу других эпох, возникшую в других исторических ус¬
ловиях?
Ответ на этот вопрос должен быть отрицательным, и — если
соблюдать конкретно-исторический подход к явлениям — другим
он и быть не может. И тем не менее факт есть факт. Термин «реа¬
лизм» прилагается и к литературе XVIII в. во Франции, Герма¬
нии, Англии и к литературе западноевропейского Возрождения.
Можно встретить слово «реализм» и в суждениях о «Витязе в
тигровой шкуре», о «Повести о Гэндзи», даже о... Гомере. Пожа¬
луй, легче сказать, к чему не применяется словечко «реализм»,
чем перечислять те произведения, появившиеся у разных народов
в разные времена, к которым его прилагают.
И все же, так как мерки для литературы времени расцвета
капитализма несомненно не могут быть применены для оценки
литературы феодального и рабовладельческого общества, надо
считать, что при применении характеристики «реализм» к лите¬
ратурам различных народов времен феодализма и рабовладель-
чества произошло что-то с самим термином. Нетрудно заметить,
что именно произошло: он утратил свое конкретное историческое
содержание.
Из каких элементов слагалось понятие «реализм» тогда, когда
оно вообще стало прилагаться к литературе? Для определения
351
этих элементов удобнее всего исходить из сопоставления реа¬
лизма середины XIX в. во Франции с предшествовавшей ему и
некоторое время сосуществовавшей с ним литературой француз¬
ского романтизма. Формирование реализма как творческого ме¬
тода происходило во многих отношениях на основе отрицания
творческих принципов романтизма. В творческом отображении
действительности реализм отверг подход к действительности от
идеи, от абстракции, как это было характерно для романтизма;
вместо этого он требовал, чтобы писатель исходил непосредст¬
венно от действительности. В отображении природы реализм от¬
верг принцип слияния с природой, погружения в ее тайны и ее
красоту. Писатель-реалист хотел быть внимательным наблюда¬
телем природы, хотел раскрывать ее тайны и ее красоту. Автор-
романтик стремился в своем творчестве выявить себя; автор-реа-
лист хотел быть объективным. На более поздней стадии реализма
Флобер выразил эту мысль в особо заостренной форме, сказав,
что художник должен скрыть себя так, чтобы убедить людей
позднейших поколений, что он вообще никогда в этом мире не су¬
ществовал. Берясь за современный сюжет, писатель-романтик
искал в современной ему действительности необычное, скрытое и
с помощью всего этого выражал свои идеалы, свой внутренний
мир. В противоположность этому писатель-реалист искал в мно¬
гообразии современной ему действительности типическое и
стремился на этой основе создавать тип каждого явления. Та¬
ким типом женщины-жены из буржуазной семьи провинци¬
альной Франции середины XIX в. должна, была стать г-жа
Бовари.
Из таких весьма кратко обрисованных признаков слагался
реализм как определенная историческая категория в литературе.
Неужели все эти признаки приложимы к литературе какой-либо
другой эпохи? Мы хорошо знаем общее состояние культуры того
времени в Европе; знаем, насколько тесно связан реализм в ли¬
тературе с состоянием науки, прежде всего с состоянием и на¬
правлением естествознания. Коротко говоря, исторические черты
эпохи реализма ясны и в своем комплексе неповторимы. Что же
дало возможность применять характеристику «реализм» к лите¬
ратурным произведениям других исторических эпох, когда ком¬
плекса подобных черт не было и не могло быть?
Первая мысль, которая напрашивается в этом случае, состоит
в допущении, что помимо понятия «реализм» в литературе суще¬
ствовало понятие «реализм» и в какой-либо другой области, при¬
чем именно в таком значении, которое открывало возможность
его очень широкого применения.
Да, слово «реализм» существовало тогда и в другой области:
в философии, у Шеллинга. При этом Шеллинг употреблял его
для определения действительности, познаваемой средствами ис¬
кусства. Но реализм у Шеллинга выступает в рамке его учения
об идентитете: он считал, что реальность бытия познается по¬
352
средством искусства в полной мере именно потому, что познание
и бытие идентичны в аспекте их единства в некоем абсолютном
начале высшего порядка. Если такое понимание реализма и мог¬
ло стать основой распространения термина «реализм» на любое
соответствующее явление искусства в любое историческое время,
то только в плане метафизики. Простое же наблюдение того, как
термин «реализм» применяется в оценке литературных произве¬
дений прежних эпох, свидетельствует о том, что понимание реа¬
лизма в этих случаях весьма далеко от метафизики.
Термин «реализм» существовал еще, как известно, и в сред¬
невековой философии как обозначение направления философ¬
ской мысли, противоположного «номинализму», но совершенно
ясно, что этот «реализм» никакого отношения к понятию «реа¬
лизма», как оно создалось во французской литературе середины
XIX в., иметь не может. Таким образом, только какое-то изме¬
нение в содержании понятия «реализм» позволило применять
этот термин к явлениям литературы всех предшествующих эпох.
В сущности уже само применение раскрывает, какое измене¬
ние произошло. Если стало возможным применять понятие «реа¬
лизма» к литературе всех исторических эпох, это означало, что
оно, это понятие, перестало быть историческим, превратилось во
что-то общезначимое для всех времен.
Нетрудно увидеть, что именно обусловило такое превраще¬
ние: в общем комплексе признаков, из которых слагалось кон¬
кретно-историческое понятие «реализм», содержится признак, ко¬
торый сам по себе имеет право на общезначимость. Этот при¬
знак— «действительность». Именно он и был элиминирован из
общего комплекса и приобрел самостоятельное значение. По¬
скольку же действительность всегда сопровождает человека на
всех этапах его исторического существования и сама жизнь че¬
ловеческая есть часть этой действительности, постольку признак
«действительности» как общезначимый и мог стать критерием
для оценки литературного произведения любой эпохи.
Превращение понятия «реализм» в его сложном историческом
содержании в синоним понятия «принцип действительности»
имело двоякое следствие: с одной стороны, этим была создана
возможность прослеживать в литературном процессе, в единич¬
ных явлениях, из которых он складывается, общее, но, с другой —
это привело к игнорированию того, что общее всегда проявляется
в единичном, единичное же всегда конкретно. «Действительность»
есть нечто общее, но проявляется она в единичном, а единичное
в общественной жизни, в общественных явлениях всегда не толь¬
ко конкретно, но и исторично. Для людей одного уровня позна¬
ния мира, одних задач этого познания, одного отношения к миру
«действительность» — одно; для людей другого уровня, других
задач познания и другого отношения к миру она — нечто другое.
Явление магнитного поля сейчас для нас — часть действительно¬
сти, но оно не входило в состав действительности для л*одей еще
23 Н, И. Конрад
?53
не столь далекого прошлого. В японском романе конца X в. «По¬
весть о Гэндзи» («Гэндзи-моногатари»), изображающем обще¬
ство своего времени и дающем исторически верные картины его
жизни и быта, рассказывается, как на одну женщину во время
ее сна напал дух ее соперницы. Такое происшествие для автора,
для людей того времени было вполне действительным: «дух», мо¬
гущий временно покидать свою телесную оболочку и совершать
те или иные действия, входил для японцев X в. в состав дейст¬
вительности. Об этом свидетельствует сам автор, заявляющий в
одном месте своего романа, что «повести (моногатари) описы¬
вают нам все, что случилось на свете». Поэтому, если подобные
происшествия не были бы автором описаны, он не был бы верен
действительности, какой она существовала для него и людей его
времени. При этом надо учитывать, что подобного рода явления
отнюдь не воспринимались в плаце какой-то мистики; наоборот,
такой «дух» был для людей того времени совершенно материа¬
лен, не менее, чем сам человек «во плоти». Для людей определен¬
ного периода европейского средневековья весьма материальны
персонажи, участвующие в оргиях на Брокене. «Любовный напи¬
ток» в романе «Тристан и Изольда» — совсем не «мистика», а*
просто продукт фармакологии того времени, и не только для ге¬
роев романа, но и для Готфрида Страсбургского, не говоря уже
о его предшественниках в обработке этого сюжета.
Можно ли поэтому применять термин «реализм» для какого-
либо литературного произведения на том основании, что оно «от¬
ражает действительность», без учета того, о какой действитель¬
ности идет речь и с какой целью, во имя чего эту действитель¬
ность отражает? Не учитывать это — значит ставить на место
конкретной исторической действительности какую-то абстракт¬
ную или ту самую действительность, которая существует для ис¬
следователя. В этом-то и состоит опасность применения термина
«реализм» в его оторванном от исторической конкретности смыс¬
ловом облике.
Однако даже при учете такой исторической конкретности
применение определения «реализм» к какому-нибудь произве¬
дению или к литературному направлению прежних исторических
эпох все же может быть только ограниченным. О «реализме»
даже со всеми оговорками можно говорить только тогда, когда
мы сталкиваемся с произведением, которое ориентировано на
действительность, конечно, такую, какой она представлялась в
данное время.
Та же история французского реализма XIX в. дает нам один
из надежных критериев для определения условий, позволяющих
говорить о «реализме», имея в виду под этим словом ту или иную
ориентацию на действительность. Французский реализм — это не
только произведения литературы, не только творчество писателя;
это и осознанный писателем, его читателем, его эпохой метод.
Термин «реализм» родился в обстановке французской литера-
354
туры середины XIX в., без нее он вообще не появился бы; но само
его появление свидетельствует, что писатели, критики, мысли¬
тели эпохи поняли, что имеют дело с чем-то оригинальным, уяс¬
нили себе, в чем эта оригинальность заключается, и назвали ее
«реализмом».
Поэтому всякую литературу, ориентирующуюся на действи¬
тельность (если она, эта литература, представляет явление круп¬
ное, большое, имеющее серьезную общественную значимость),
сопровождает понимание писателем, обществом его времени та¬
кой ориентации. Понимание это может проявляться в разной
форме: в высказываниях писателя, в суждениях читателя, в заяв¬
лениях литературных критиков, в формулах соответствующих
поэтик, т. е. в литературной теории, все это — того же времени.
Хороший материал для изучения этого дает история литературы
в Японии.
3
Одна из своеобразных черт истории японской литературы со¬
стоит в очень часто встречающемся сопровождении какого-либо
вновь появляющегося литературного направления возникшим
тогда же наименованием этого направления. Так, в литературе
XVII—XVIII вв., когда существовало множество различных на¬
правлений, произведения, создаваемые в плане какого-либо из
этих направлений, получали точное обозначение: «комический
роман» (коккэйбон), «сентиментальный роман» (ниндзёбон), «ис¬
торическая пьеса» (дзидаймоно), «бытовая пьеса» (сэвамоно)
и т. д. О таких обозначениях очень заботились книгоиздатели,
помещавшие их на обложке, чтобы покупатель наперед знал,
какую он книгу берет. И вот среди всех этих книг на прилавках
книготорговцев того времени появились книжки с обозначением:
укиёдзоси. Дзоси в составе этого сложного слова обозначало
тогда произведение повествовательного жанра любого типа, т. е.
и роман, и рассказ, и цикл рассказов — словом, нечто целое по
замыслу, но реализованное в нескольких отдельных произведе¬
ниях. Слово же укиё в этом наименовании значило «мир»,
«жизнь». Таким образом, весь термин передается по-русски: «ро¬
ман (рассказ) из жизни».
В понятие «мир», «жизнь» вкладывалось при этом вполне оп¬
ределенное содержание: под «миром» имели в виду действитель¬
ность, которая окружает людей; под «жизнью» — человеческую
жизнь, жизнь общества. Таким образом, эти произведения соз¬
давались с заявкой на отображение действительности.
Что же, значит — «реализм»? Так обычно и говорят об этой
литературе. Но стоит сопоставить этот японский реализм послед¬
ней четверти XVII и первой половины XVIII в., когда он особенно
интенсивно развивался, с французским реализмом середины
XIX в., чтобы увидеть, насколько различны эти «реализмы», на¬
355
сколько неправомерно перенесение термина, определявшего твор¬
чество Бальзака, на творчество Сайкаку — главного представи¬
теля указанного направления японской литературы.
Понятие «реализм» в литературе во Франции XIX в. сложи¬
лось на почве противопоставления новых принципов творчества
прежним, на которых выросла литература романтизма. Понятие
литературы мира, жизни (укиё) в Японии XVII в. сложилось на
почве противопоставления одного представления о мире — дру¬
гому. Слово укиё возникло в буддизме и было в устах буддистов
определением действительности, но действительности как «мира
суеты», «земной суеты», «суетной жизни». Такое понимание было
основано на отрицании истинности окружающей действительно¬
сти, обычной человеческой жизни. Высшая истинность — в абсо¬
лютной действительности, в которой действительность, бытие
диалектически сливается с «небытием», нирваной.
Течение литературы, представителем которого был Сайкаку,
демонстративно обозначило этим же термином (укиё) «эту», а
не «ту» жизнь; для него земная жизнь и была подлинной жиз¬
нью; мир был не «миром суеты», а миром человеческой деятель¬
ности; не к отказу от мира они призывали, а к самому интенсив¬
ному обращению к нему. Это отношение к жизни и определило
творческий метод Сайкаку и писателей этого направления.
Как отличается этот творческий метод от того, который мы
находим у французских реалистов XIX в.! Там писатель стре¬
мился быть объективным, здесь писатель ни о какой объектив¬
ности или субъективности вообще не помышлял. Там писатель
стремился раскрыть действительность, здесь он просто показы¬
вал ее, не задаваясь какими-либо целями ее раскрытия. Там ав¬
тор стремился раскрыть действительность в типическом, здесь он
ни о чем типическом и не думал. Там писатель хотел быть вер¬
ным объективной действительности; здесь писатель мог создавать
образы и не наблюдаемые им в жизни. Так, например, Сайкаку
очень упорно в ряде произведений обращался к образу «сладо¬
страстника», человека, безудержно стремящегося к чувственным
наслаждениям. Такие люди во множестве были у Сайкаку перед
глазами, и сама распространенность этого типа, бывшая одной
из примечательных черт общества, которое рисовал Сайкаку,
влекла писателя к тому, чтобы выявить действительность этого
типа с помощью его гиперболизации. Но было бы ошибочно ду¬
мать, что гиперболизация образа была специфическим творче¬
ским приемом, на котором зиждилось творчество Сайкаку; нет,
автор прибегал к этому приему тогда, когда он казался ему нуж¬
ным, в других же случаях был крайне «объективен», рисовал свои
образы такими, какими они были в действительности. Так, на¬
пример, вполне «объективны» у Сайкаку образы женщин из ку¬
печеских семей, выведенные им в цикле рассказов «Пять жен¬
щин» («Гонин онна»). Но и тут объективность отнюдь не явля¬
лась каким-то нарочитым приемом. Так же обстоит дело и с ро¬
356
лью автора в произведении: автор может исчезать из произведе¬
ния, может прямо появиться в нем через сентенции, лирические
отступления. Словом, специфичность «реализма» Сайкаку, если
обозначить его творчество этим именем, не раскрывается путем
сопоставления его отдельных приемов с отдельными же прие¬
мами французских реалистов XIX в. Эти приемы несопоставимы;
они в этих двух «реализмах» лежат в разных плоскостях.
Японский реализм (укиёдзоси) второй половины XVII и пер¬
вой половины XVIII в., как и вся японская художественная лите¬
ратура того времени, связан с эпохой укрепления буржуазии.
Это была для Японии эпоха абсолютизма, т. е. того политического
строя, когда класс феодалов уже терял почву под ногами, но еще
не был настолько слаб, чтобы выпустить из своих рук власть;
класс же буржуазии еще не был настолько силен, чтобы эту
почву из-под ног феодалов окончательно выбить. Купец еще гнул
спину перед феодалом, но прекрасно знал, что тот придет про¬
сить его о денежной ссуде. Феодал еще имел право срубить го¬
лову купцу, если считал, что тот чем-нибудь задел его честь, но
купец был спокоен за свою голову, так как знал, что хозяйство
феодала, а значит благополучие последнего, в руках его, купца.
И вот, почувствовавшая свою силу буржуазия жадно потяну¬
лась к жизни. Ее на первых порах культурная ограниченность,
естественная при многовековой монополизации культуры клас¬
сом феодалов, чрезвычайно суживала содержание ее жизни. Бо¬
гатые купцы, мануфактурщики, цеховые мастера обратились
прежде всего к тому, что было им доступно; доступно же было
то, что покупалось на деньги. Деньги у них были. И они устре¬
мились к наслаждению жизнью, прежде всего жизнью чувствен¬
ной. Литература укиёдзоси такую тягу к жизни и отразила. По¬
этому в литературе оказались представленными те стороны
жизни, из которых главным образом и слагалась действитель¬
ность для буржуазии той эпохи. Это были судьбы купцов — тор¬
говцев и предпринимателей, т. е. примеры предпринимательства,
случаи обогащений и разорений. Специально этой стороне жизни
посвящен у Сайкаку цикл новелл, объединенных под названием
«Сокровищница» («Эйтайгура»). Далее следовали жизнь и нравы
купеческих семейств, а в этой жизни — семейные драмы, среди
которых немалое место занимала измена купеческих жен с при¬
казчиками мужа (цикл «Пять женщин» у Сайкаку специально
посвящен семейным сюжетам) и, наконец, жизненные наслажде¬
ния: кутежи в веселых кварталах, создавшихся в то время, без¬
удержная чувственная жизнь. Роман «Сладострастник нашего
времени» («Косёку итидай отоко») рисует именно эту жизнь.
Таким образом, литературу этого времени следует назвать
«литературой жизни», а еще вернее — «литературой утвержде¬
ния жизни», в тех пределах и тех ее сторонах, которые были до¬
ступны буржуазии эпохи первоначального накопления. Утверж¬
дать же жизнь можно и путем верного, «объективного» отраже¬
357
ния ее, и путем гиперболизации какого-нибудь явления с тем,
чтобы особенно явственно показать само явление и его значение.
Отношение к жизни можно выявить и при элиминировании ав¬
тора, и при громком голосе его. У Сайкаку и других представи¬
телей «литературы жизни» (укиёдзоси) подобные черты не иг¬
рают роль определяющих существо творческого метода.
Литература эпохи абсолютизма в Японии (XVII в.— первая
половина XIX в.) направлением, представленным творчеством
Сайкаку, далеко не исчерпывается. В «литературу действитель¬
ности» входят и «роман о чувствах» (ниндзёбон), и «комический
роман» (коккэйбон), и «рассказы о действительных происшест¬
виях» (дзицурокумоно), и многое другое. Не ограничивается эта
литература и одной повествовательной прозой; в нее входит мощ¬
ный поток драматической литературы, в первую очередь «быто¬
вые пьесы» знаменитого современника Сайкаку, крупнейшего
драматурга феодальной Японии Тикамацу Мондзаэмона. По¬
этому такие произведения, как «Сладострастник нашего време¬
ни», вызывают в памяти знаменитый китайский роман XVI в.
(эпохи начала китайского абсолютизма) «Цветок сливы в золо¬
том кувшине», где описывается исполненная чувственных на¬
слаждений жизнь богача купца с вызывающей тенденцией про¬
тивопоставить открыто чувственную жизнь фальшивой морали
семейства феодалов, вызывают в памяти «Кавалера Фоблаза»
или «Мемуары» Казановы. Другие линии творчества того же
Сайкаку, а также прочие направления «литературы жизни» за¬
ставляют вспомнить Лесажа, Филдинга, Смоллета, Дефо с его
«Молль Флендерс», даже Ричардсона и многих других прозаиков
эпохи абсолютизма в Европе. Читая же «бытовые пьесы» (сэва-
моно) Тикамацу Мондзаэмона и его же «исторические пьесы»
(дзидаймоно), невольно вспоминаешь не только знаменитую ки¬
тайскую драму XVI—XVIII вв., но и «мещанскую драму» Лессин¬
га и его последователей в Европе, исторические трагедии Шил¬
лера и Гете. Не намечается ли тем самым еще одна общая линия
в мировой литературе? Это безусловно литература действитель¬
ности, но не обладает ли она, особенно если взять ее в мировой
совокупности, своими столь отчетливо выраженными особенно¬
стями, что объединять ее под общей вывеской «реализм» с лите¬
ратурой XIX в.— даже со всеми оговорками по поводу этого тер¬
мина — трудно?
Другим явлением истории японской литературы, также раз¬
вивавшимся под знаменем «действительности», была драма в
эпоху ее сложения, т. е. в XIV—XV вв. На этот раз знамя «дейст¬
вительности» выступило не в наименовании, сопутствовавшем
произведению, как это было в повествовательной литературе
конца XVII — начала XVIII в., а в теории.
Создателем японской драмы является Сэами (1363—1443).
Это был драматург, актер, постановщик, директор театра, глава
труппы и учитель актеров. Поскольку драма, т. е. текстовая часть
358
представления, составляла всего лишь один из элементов целого,
именуемого театральным представлением, а само представление
было построено на музыке, постольку драматург тогда был и ком¬
позитором. Текстовая часть в исполнении слагалась из ариозного
пения, мелодического речитатива и сценической декламации, ак¬
терское же исполнение — из особого сценического движения, пан¬
томимы и танца. Поэтому актер в этом театре должен был уметь
петь и танцевать. Таким образом, облик Сэами как автора — соз¬
дателя текста, музыки, пантомимической и хореографической
композиции, как исполнителя — драматического актера, певца,
танцовщика, как учителя профессионального искусства, как орга¬
низатора театра — столь же многогранен и синтетичен, как мно¬
гогранно и синтетично само искусство «театра Но», как стали
называть эти представления. Следует добавить еще, что это был
театр масок, поскольку главные персонажи действовали на сцене
в масках, что помимо актеров действующим лицом был хор, му¬
зыка была представлена не только пением, но и инструменталь¬
ной музыкой, исполняемой оркестром, действующим то как ак¬
компанемент певцу и танцовщику, то в содружестве с хором, то
как самостоятельный элемент представления. Актерами могли
быть только мужчины.
Сэами изложил и принципы своего искусства. Два важней¬
ших принципа обозначены им словами: мономанэ и югэн.
Слово мономанэ лексически переводится на русский язык
словосочетанием «подражание вещам». Под словом «вещь»
(моно) в японском языке может разуметься всякий «предмет»,
существующий на свете или считающийся существующим. Для
Сэами — в аспекте «театра Но» — понятие такого «предмета» ог¬
раничивалось миром живых существ.
Кто же эти существа? Люди, духи, боги. Сэами сказал даже
точнее: люди — это знатные аристократы, воины-рыцари, оруже¬
носцы, слуги, буддийские монахи, синтоистские жрецы, послуш¬
ники, крестьяне, торговцы, рыбаки, дровосеки, солевары, уголь¬
щики; из женщин — знатные дамы, жены и возлюбленные вои-
нов-рыцарей, женщины из народа, танцовщицы, певицы; духи —
души умерших, духи растений, гор; боги — божества синтоист¬
ского пантеона, буддийские божества и святые. Следует доба¬
вить, что все эти персонажи у Сэами выступают в одном ряду;
никакого особого, «трансцендентного» плана для духов и богов
нет. Все это было «действительностью» для Сэами. Добавим к
этому: это были XIV—XV века — время расцвета японского фео¬
дализма.
В чем заключалось «подражание вещам», т. е. воспроизведе¬
ние действительности на сцене «театра Но», как стало имено¬
ваться все это искусство, воспроизведенное равным образом в са¬
мой пьесе, как таковой, и в ее исполнении? Сэами объяснял
это так:
«Описать, в чем заключается подражание каждому пред¬
359
мету,— трудно. Но главное — в одном: нужно всячески приникать
к каждому предмету. Главное — уметь подражать каждому пред¬
мету полностью, во всем. Следует помнить только, что в одних
случаях требуются густые краски, в других — легкие».
В другом месте он добавляет:
«Подражание вещам отнюдь не состоит в достижении простого
сходства. Тот, кто приобретет подлинное уменье в подражании,
вникает в самую суть вещи, а поэтому у него нет и мысли о том,
что он чему-то подражает».
Что же такое «суть» вещи, в которую должен вникнуть ху¬
дожник, воспроизводя эту вещь в своем творчестве? Сэами опре¬
деляет эту «суть» словом югэн, наиболее близким переводом ко¬
торого лексически будет «скрытое», и поясняет это понятие так:
«скрытое есть во всем: это — прекрасное. Подражание вещам ме¬
няется в зависимости от вещи, но во всякой вещи есть красота».
Что же понимает Сэами под «красотой» — «внутренней кра¬
сотой»? Как следует передавать значение слова югэн по суще¬
ству? Он поясняет это на примере воспроизведения , на сцене
образа знатного аристократа: нужно уметь воспроизводить изы¬
сканность его манер, мягкость и деликатность речи, изящную
простоту одежды; в музыке этот образ следует передавать кра¬
сивой мелодией, в танце — изяществом и плавностью движений.
Итак, перед нами — новый случай провозглашения в искус¬
стве принципа ориентации на действительность, т. е. реализм,
если пользоваться привычным термином. Но что общего между
реализмом «воспроизведения действительности» XIV—XV вв. и
реализмом «литературы жизни» второй половины XVII — первой
половины XVIII в., между тем и другим и реализмом японской
литературы конца XIX — начала XX в.? Все эти «реализмы» име¬
ют в виду воспроизведение действительности, но в каждом слу¬
чае и действительность иная, и отношение к ней иное, и задачи
воспроизведения ее иные. Духов и богов в действительности Сай¬
каку нет, нет их как элементов действительности и в реалистиче¬
ской литературе рубежа XIX—XX вв. Ни о какой «внутренней
красоте» в изображаемых им людях его времени Сайкаку и не
помышлял и при показе своего «сластолюбца» воспроизведение
его «внутренней красоты» в качестве своей задачи и не ставил.
Не думал об этой «внутренней красоте» в начале XX в. и Симад-
заки, когда рисовал в своем романе «Нарушенный завет» образ
скрывающего свое происхождение пария.
Во имя чего же воспроизводится действительность у Сэами?
Тут перед нами сложная картина. Внешне содержание всех
пьес соединено с буддийским положением «невечности всего зем¬
ного». Но если учесть, что представления театра перешли во
дворцы феодалов и стали принадлежностью празднеств, а не поч¬
вой для скорбных резиньяций, нетрудно понять, что буддийская
тема была приключена,к пьесе для «облагораживания» зрелища,
которое еще совсем недавно было «низменным», поскольку «театр
360
Но» вырос из народных представлений. Феодалы из приличий
слушали всякие рассуждения о «невечности всего земного», но
сами они меньше всего думали об этой «невечности», поэтому их
увлекали персонажи и сюжеты, вполне жизненные и хорошо зна¬
комые. И поскольку все персонажи, образы феодального мира,
все события, характерные для этого мира, были показаны в их
красоте, постольку все искусство «Но» представлялось как гимн
феодальному миру. Именно такое отношение к действительности
и определяло творческий метод Сэами.
Японский «театр Но» и его драматургию можно сопоставить
с некоторыми явлениями в истории мирового театрального ис¬
кусства и драматической литературы. Наиболее близким к япон¬
скому театру и его пьесам и по характеру самого явления с
точки зрения искусства, и по художественному уровню является
китайский театр времени Юаньской империи (вторая половина
XIII — первая половина XIV в.), так называемые «юаньские пье¬
сы» (юань цюй). По историческому месту с «театром Но» в из¬
вестной мере сопоставим театр мистерий и мираклей средневеко¬
вой Европы, но этот последний очень далек от китайского и
японского театра и по своему развитию, и по своему художест¬
венному уровню.
Приведем еще один случай из истории литературы, когда и
само существо литературного произведения и общественная
оценка этого существа также свидетельствуют, что эта литера¬
тура имела в виду действительность. На этот раз речь идет о
китайской литературе VIII—XII вв.
Это время — целая особая полоса истории литературы, искус¬
ства и философии в Китае, полоса, связанная с так называемым
движением за «возвращение к древности». Раскрыл сущность
этого движения Хань Юй (768—824) — поэт, публицист, мысли¬
тель.
Древность, к возвращению к которой призывал Хань Юй, оп¬
ределена им очень точно: это время с XII в. до н. э. по III в. н. э.
С точки зрения общего процесса исторического развития Китая
„это — все то время, которое предшествовало утверждению в Ки¬
тае феодализма как господствующей социально-экономической
системы, т. е. прежде всего период рабовладельческого строя.
Таким образом, «древность» для китайцев VIII в., когда феода¬
лизм в Китае находился на своем высшем подъеме, была тем же,
чем была «античность» для средневековой Европы.
Мыслителей, публицистов, писателей и поэтов VIII в. привле¬
кала в этой «древности» литература. Она привлекала их потому,
что они видели в этой литературе воплощенной ту идею, которую
они считали важнейшей для своего времени. Эта идея — гума¬
низм.
Есть все основания применить этот европейский термин в его
точном историческом смысле к мировоззрению Хань Юя и по¬
следовавших за ним всех крупнейших деятелей и его времени и
361
последующих веков. Как и в Европе в средние века, в Китае гу¬
манизм заключался в том, что на первый план был выдвинут
человек.
В одном из своих трактатов — «О пути» («Юань дао») —
Хань Юй окидывает взглядом всю историю своей страны, вос¬
производящей для него и историю человечества, и находит, что
именно человек является создателем культуры, цивилизации и
таким он является с того самого момента, как он вышел из пе¬
щеры и стал строить себе дом, как он стал готовить себе пищу,
чтобы насытить свой голод, как он стал приготовлять одежду,
чтобы защитить себя от холода; с того момента, как он создал
семью, общество, государство, регулируемые определенными нор¬
мами общественной и государственной жизни. Все это в глазах
Хань Юя создал именно человек для себя, а не какое-либо боже¬
ство для человека. Среди людей же он выделяет обладающих
наибольшей полнотой интеллекта — лучших представителей че¬
ловечества. Он называет их «совершенными». Совершенные вели
людей за собою, и под их руководством люди создавали свою
цивилизацию.
Провозглашая такое понимание исторического процесса, сво¬
бодное от всякого следа религиозного сознания, Хань Юй резко
протестовал не только против религии, которая в его время в Ки¬
тае была представлена буддизмом и даосизмом, но и против
буддийской и даосской философии. Философию даосизма, учение
Лао-цзы, Хань Юй отвергал за то, что оно отрицало культуру
и призывало к возвращению в «естественное состояние», к «не¬
деянию». Философию буддизма Хань Юй отвергал за то, что она
считала бытие лишь низшей ступенью человеческой эволюции,
за то, что конечной целью этой эволюции считала «небытие»,
нирвану.
В указанном трактате Хань Юй цитирует одно почти забытое
к его времени сочинение древности. Оно называлось «Большая
наука» и содержалось в «Лицзи» — древнем своде норм общест¬
венной жизни и предписаний культа. Центральное место в этом
сочинении звучит так:
«В древности тот, кто хотел сделать светлыми для всей Под¬
небесной светлые свойства своей природы, сначала научался
править государством. Тот, кто хотел править государством, сна¬
чала научался управлять своим домом. Тот, кто хотел управлять
своим домом, сначала научался совершенствовать самого себя.
Тот, кто хотел совершенствовать самого себя, сначала научался
делать правым свое сердце. Тот, кто хотел сделать правым свое
сердце, сначала научался приводить свои мысли в согласие с ис¬
тиной. Тот, кто хотел привести свои мысли в согласие с истиной,
сначала научался приобретать знания. Приобретение же знания
состоит в изучении вещей».
Итак, начало всей человеческой деятельности — «изучение ве¬
щей». Понятие «вещь» мы только что встретили у японского дра¬
362
матурга XV в. Сэами: там «вещь» — люди, духи, боги. Для ки¬
тайцев VIII—XII вв. это — предметы материальной природы, сам
человек, общество, государство. Именно из этого состояла дейст¬
вительность для Хань Юя и прочих идеологов китайского гума¬
низма, и деятельность человека начиналась для них с ее по¬
знания.
Итак, снова «реализм»? Все стереотипные признаки как будто
налицо. Добавим еще соображение по аналогии: литературу
времени расцвета гуманизма в Европе также называют реали¬
стической.
Присмотримся, однако, к литературе китайского гуманизма
несколько ближе. Из чего она состоит? Прежде всего — из поэ¬
зии. Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Бо Цзюй-и, Су Дун-по— имена ее
главнейших представителей, и одни эти имена подлинно великих
поэтов говорят об уровне этой поэзии. Рядом с поэзией должна
быть названа проза, но проза особая: трактаты на общественные,
исторические, философские темы, описания, послания, обраще¬
ния и т. п. Мы сказали бы: публицистика, очерки, различные
жанры риторической прозы. У нас очень немногое из этого всего
зачисляется в художественную литературу, у китайцев же все
это — художественные произведения, и притом самого высокого
ранга. Хань Юй, Лю Цзун-юань, Оуян Сю, Су Дун-по — круп¬
нейшие представители этой прозы — по праву вошли в список
«Восьми великих писателей времен Тан и Сун», как назвала их
позднейшая традиция.
За такой прозой следует проза повествовательная — новелла.
Юань Чжэнь, Бо Синь-цзянь и многие Другие — создатели этой
новеллы.
Такой состав литературы эпохи гуманизма в Китае требует,
чтобы при оценке художественного метода этой литературы мы
принимали бы в расчет весь ее состав, а не какую-либо часть, а
в этом составе прежде всего — поэзию и бессюжетную прозу, так
как именно эти линии занимали в литературе тогда господству¬
ющее положение. Обычные же мерки «реализма» к такой лите¬
ратуре не подходят. Да, это была, конечно, литература, созна¬
тельно и убежденно ориентирующаяся на действительность, и
действительность самую человеческую, но дело отнюдь не сво¬
дилось к тому, чтобы показать действительность, отобразить ее.
Писатель стремился во всем, что он писал, говорить о человеке,
об обществе. Но как? Любым способом: посредством вдохновен¬
ной поэмы о любви к умершей возлюбленной, как это сделал Бо
Цзюй-и в своей «Песне бесконечной жалобы»; посредством дум
о судьбах родной страны, о горестях, ею переживаемых, как это
сделал в своей проникновенной лирике Ду Фу; посредством рас¬
суждения о «любви ко всем», регулируемой чувством должного,
как это сделал в трактате «О пути» Хань Юй; посредством рас¬
сказа о чьей-нибудь судьбе, о происшествии с кем-либо, как это
делали новеллисты; посредством «слова», обращенного к отъез¬
363
жающему на место назначения другу с призывом помнить, что
правительственный чиновник всего только слуга народа, что на¬
логи всего только плата, которую народ платит нанятому слуге.
Подлинной основой творческого метода этих писателей был гу¬
манизм, а такая основа допускала любые творческие приемы, в
том числе и фантастику. Фантастикой, например, полна новелли¬
стическая линия этой литературы. Но обращение к фантастике
только прием раскрытия нужной стороны темы человека, темы
общественной жизни, темы истории. Говорить о литературе Ки¬
тая VIII—XII вв. как о «литературе действительности» можно,
применение же к ней определения «реализм» привело бы, как мне
кажется, только к подмене подлинного понимания творческого
метода этой литературы каким-то другим, принимающим неко¬
торые частные и, главное, производные черты творческого метода
за основополагающие.
Нельзя не вспомнить, что и литература европейского гума¬
низма также очень сложна по составу. В нее входят произведения
и Боккаччо, и Петрарки, и Пико делла Мирандола, и Эразма Рот¬
тердамского, и Ульриха фон Гуттена. При этом во многих слу¬
чаях провести резкую грань между художественным произведе¬
нием и всякими другими видами литературы невозможно. Ха¬
рактерна также для эпохи гуманизма и в Китае и в Европе
тесная связь литературы с философией, историей, наукой. В Китае
VIII—XII вв. наблюдался подлинный расцвет истории и филосо¬
фии. Достаточно назвать имена историков Оуян Сю, Сыма Гуана,
философов Хань Юя, Чжоу Дун-и, Чэн Хао, Чэн И, Чжу Си. При
этом, как и в Европе, большинство их было и публицистами, и
поэтами, и представителями обрисованного выше жанра бессю¬
жетной художественной прозы.
Невольно вспоминается при этом и еще одна замечательная
эпоха в истории человечества: история Средней Азии, Ирана и
Северо-Западной Индии в IX—XV вв. Эта эпоха блистает име¬
нами ученых, историков, философов аль-Фараби, аль-Хорезми,
Ибн Сина, аль-Бируни, именами поэтов Рудаки, Фирдоуси,
Хайяма, Насир Хосрова, Саади, Хафиза, Джами.
Если учесть, что это — время расцвета в этом районе мира
того же гуманизма, то не откроется ли перед нами еще одна
эпоха великой общности литературы — мировой литературы гу¬
манизма? Начинает ее в VIII—XII вв. Китай, продолжает в IX—
XIII вв. Средняя Азия и Иран вместе с прилегающей частью Ин¬
дии, заканчивает в XIV—XVI вв. Европа.
Все изложенное свидетельствует о необходимости крайней
осторожности в применении обозначения «реализм» к литературе
до XIX в., даже при наличии всяких оговорок и дополнительных
определений («первобытный», «стихийный» и т. п.). Литература,
сознательно ориентирующаяся на действительность, возникает в
истории на многих этапах исторического развития человечества.
Поэтому термин «литература действительности» еще может в ка¬
364
кой-то мере служить общим обозначением для всех таких слу¬
чаев; термин же «реализм» лучше оставить для одного из таких
случаев: для охарактеризованного выше направления мировой
литературы XIX в. Но и при допущении общего обозначения сле¬
дует опасаться произвольного сужения понятия «литература»:
предположения, что она всегда слагалась из поэзии, повество¬
вательной прозы и драмы. Были целые эпохи, когда литература,
и притом художественная, слагалась из совершенно других эле¬
ментов.
Необходимо остерегаться и еще одной опасности: следует не
забывать, что литература, сознательно ориентирующаяся на дей¬
ствительность, составляет лишь одну линию в истории мировой
литературы. Существовало много и других линий; были целые
эпохи, когда именно в этих линиях проявлялись высшие дости¬
жения человеческого гения, когда именно эти линии вели чело¬
вечество вперед. Считать, что только «реалистическая литера¬
тура» играла в прошлом такую роль — значит так же отвле¬
каться от конкретной истории, как и в ничем не оговариваемом
применении к литературе обозначения «реализм».
1957 г.
РОМАН Т. ТАКАКУРА «ВОДЫ ХАКОНЭ»
И ВОПРОСЫ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ
Советский читатель, следящий за переводами зарубежной ли¬
тературы, появляющимися у нас, уже мог встретиться с именем
современного японского писателя Такакура. В начале 1953 г. был
напечатан перевод его рассказа «Песенка свиньи» К В конце
1954 г. появился перевод другого произведения Такакура — ро¬
ман «Воды Хаконэ»2.
Такакура принадлежит к старшему поколению японских писа¬
телей. В прошлом у него около трех десятков лет литературной
и публицистической работы и почти столько же лет обществен¬
ной деятельности в первых рядах борцов за права, достоинство
и лучшее будущее трудящихся своей страны. Три тюремных за¬
ключения, перенесенные писателем, были ответом японской ре¬
акции на эту деятельность. Военный разгром и политический крах
японского империализма в 1945 г. открыл писателю двери тюрь¬
мы, и он снова мог вернуться к работе. Правда, в 1948 г. Така¬
кура снова оказался в тюрьме, но ненадолго. Как ценят общест¬
венную деятельность писателя трудящиеся его родины, показы¬
вает факт избрания в 1950 г. его, кандидата от Коммунистической
партии Японии, в палату советников, верхнюю палату парламен¬
та послевоенной Японии. Правительство, продолжавшее пресле¬
дование демократических деятелей и групп, добилось, однако,
тогда лишения депутатов-коммунистов их парламентских манда¬
тов. Такакура потерял возможность говорить с парламентской
трибуны, но продолжал свою деятельность как передовой публи¬
цист и писатель-художник. Роман «Воды Хаконэ»3, появившийся
в Японии в 1951 г.,— яркое свидетельство этой его работы.
У нас есть все основания для того, чтобы обратить внимание
советского читателя на это последнее по времени крупное произ¬
ведение Такакура. Оно интересно для нас многими своими сто¬
ронами.
Материал для романа взят из прошлого Японии: события ро¬
мана развиваются в 60—70-х годах XVII в. В основу фабулы по¬
ложен исторический факт: проведение подземного канала сквозь
гору, отделяющую воды горного озера от жаждущих влаги рисо-
366
ёых полей на равнинё за этой горой. Озеро это — Асиноко, рас¬
положенное в горах Хаконэ, на границе между Кантб и Кансай,
восточной и западной половинами острова Хонсю. Равнина, поля
которой орошаются водой озера, спадающей по этому подзем¬
ному водостоку,— часть префектуры Сидзуока, расположенной к
западу от гор Хаконэ.
Конечно, существование этого подземного водостока хорошо
известно. Его обозначают на картах. Его воды по выходе из тон¬
неля в настоящее время используются для трех небольших гид¬
роэлектростанций. Знают в Японии и то, что этот подземный ка¬
нал проведен почти 300 лет назад.
Прорытие этого канала само по себе ничего необыкновенного
не представляет. Всякого рода ирригационные сооружения на Во¬
стоке в обширных земледельческих странах Азии известны еще
в древности. Если говорить о наземных сооружениях, достаточно
вспомнить обширную оросительную сеть, связанную с Великим
каналом в Китае — этой огромной транспортной магистралью, в
своем первоначальном виде сооруженной еще в начале VII в.
Общая протяженность крупных и мелких каналов, входящих в
систему Великого канала, в настоящее время превыщает 1800 км.
Хорошо известны на Востоке, особенно на Ближнем й Среднем, и
кяризы — подземные каналы, проводящие на равнину воду гор¬
ных водоемов. Протяженность кяризов иногда может доходить
до многих километров. Кяризы знали еще парфяне, а они, веро¬
ятно, не были первыми, кто открыл этот способ водоснабжения.
Поэтому появление канала Хаконэ в Японии XVII в. не яв¬
ляется неожиданным. Сам автор отмечает, что в тот же период в
Японии строились и другие подземные каналы для орошения, на¬
пример, каналы сквозь горы Такидзава и Хакияма.
И все же писатель имел основания обратить на канал Хаконэ
особое внимание. Протяженность тоннеля — 1280 м; это самый
крупный в Японии того времени искусственный подземный водо¬
сток. Очень велик был поэтому и объем работ: как указывает
Такакура, на постройку канала потребовалось 833 586 человеко¬
дней. Строительные работы почти без перерывов продолжались
около десяти лет. Уже это одно могло привлечь внимание любого
историка японской культуры.
Однако не этот — необычный для Японии XVII в.— масштаб
постройки заставил писателя заинтересоваться каналом Хаконэ.
Еще в 40-х годах он обнаружил некоторые документы, относя¬
щиеся к сооружению канала, и именно они вызвали у Такакура
живейший интерес к этому делу. Изучение материалов открыло
писателю, что сооружение канала Хаконэ было предприятием
особого рода.
Как отмечает в романе сам автор, в Японии XVII в. устрой¬
ство крупных оросительных сооружений находилось в руках гос¬
подствующего класса, представленного либо правительством фео¬
дального государства, либо местными феодалами. Такой порядок
367
установился искони и притом не в одной Японии. Во всех зем¬
ледельческих странах Азии, сельское хозяйство которых зависело
от искусственного орошения, устройство и поддержание ороси¬
тельной сети — во всяком случае тогда, когда дело шло о круп¬
ных сооружениях,— находилось в руках правящего класса. Это
объяснялось тем, что оросительные сети, как правило, по своему
масштабу далеко выходили за рамки хозяйства небольших зем¬
ледельческих общин и тем более отдельных крестьянских дворов,
да такие сети и не могли сооружаться усилиями отдельных об¬
щин: требовалась более мощная сила. Ею стало государство: в
древности — государство рабовладельцев, в средние века — фео¬
далов. При меньших масштабах подобные сети строились отдель¬
ными владениями, управляемыми местными феодалами. С дру¬
гой стороны, захват оросительной сети или контроль над ней
давал в руки феодалов могущественное средство власти над сель¬
скохозяйственным населением своей страны, служил одним из
орудий эксплуатации. Поэтому феодалы всегда стремились дер¬
жать в руках сколько-нибудь значительные оросительные соору¬
жения.
Так было всюду в феодальной Азии, так было и в феодаль¬
ной Японии в годы сооружения канала Хаконэ. Такакура сооб¬
щает, что сооружение подземного канала сквозь гору Такидзава
собиралось осуществлять само центральное правительство. Ини¬
циатором проведения канала сквозь гору Хокияма был, правда,
Нонака Кэндзан, принадлежавший к феодальному дворянству,
сам, однако, не бывший владетельным феодалом; но вся работа
и в этом случае должна была вестись средствами княжества
Тоса, т. е. находиться под контролем феодального князя и аппа¬
рата его управления.
Иная картина открылась писателю, когда он стал изучать ма¬
териалы постройки канала Хаконэ. Оказалось, что сооружение
этого канала было результатом проявления трудовой энергии на¬
рода, самих крестьян. И это в Японии XVII в., в эпоху Току-
гава — в период феодального абсолютизма, когда трудовые
массы, в первую очередь и больше всего крестьяне, находились в
тисках всякого рода феодальных стеснений и ограничений, пре¬
пятствовавших проявлению их инициативы и развитию их само¬
стоятельной деятельности.
Писатель остался верен исторической правде: он не изобразил
дела так, будто бы крестьяне с самого начала прониклись пафо¬
сом строительства и воодушевленно отдались ему. Крестьяне
бедствовали на своей плохо орошаемой земле, бились в безы¬
сходной нищете. Неожиданно из города явился некий купец, ко¬
торый сообщил, что хочет прорыть гору и через подземный водо¬
сток пустить на их поля воду из озера, лежащего в горах, и пред¬
ложил им пойти работать на строительство этого канала,
пообещав хорошую для тех времен плату. Вначале крестьян
больше всего привлекала именно эта плата, и даже не столько
368
ее размер, сколько то, что они получали возможность в течение
нескольких лет иметь постоянный заработок. Этим штрихом Та¬
какура хорошо показывает общую необеспеченность крестьян¬
ского хозяйства, полную неустойчивость материальной основы
жизни крестьян. Эта сторона дела в первое время заслоняет от
крестьян даже главное — перспективу полного изменения усло¬
вий самого их хозяйства. Но по мере того, как работы подвига¬
лись, крестьяне все отчетливее осознавали общественное значе¬
ние своего труда, и их труд из работы ради заработка превра¬
тился в собственное кровное дело, целью которого было благо
их всех. Именно это сознание оживило в них скованную феодаль¬
ным гнетом инициативу, удесятерило их энергию, породило на¬
стойчивость, обусловило самоотверженность в труде и привело к
успешному завершению строительства.
Изображая дело так, автор не погрешил против истины. Он
сумел правильно оценить факты. То, что канал Хаконэ был по¬
строен не по повелению правительства феодальной Японии, не
по приказу местного феодала, а по инициативе горожанина-
купца, т. е. представителя сословия, бывшего в токугавской Япо¬
нии ограниченным в правах,— исторический факт. Но при тех
препятствиях, которые чинили этому Предприятию феодальные
власти, подозрительно и опасливо относившиеся ко всякому про¬
явлению инициативы «снизу», без подлинной самоотверженности
и руководителей постройки, и ее участников осуществить это
предприятие было бы невозможно. А самоотверженность эта мо¬
гла быть порождена только сознанием важности дела, направ¬
ленного на общее благо.
Чувство правды не покидает писателя и в конкретных деталях
восстанавливаемой им картины постройки. Он не нивелирует
всех ее участников-крестьян. Наряду с энтузиастами, уверенно
идущими через все препятствия, есть и колеблющиеся, есть и от¬
ступающие при столкновении с серьезными затруднениями, есть
и поддающиеся на провокационные уловки властей, направлен¬
ные на срыв работы. Но основная масса остается верной делу и
доводит его до конца.
Автор исторически правдив и в изображении инициатора и
«главного инженера» стройки. Томоно Иоэмон не крестьянин и
не самурай: он — купец и притом богатый. У него собственное
торговое дело, он — пайщик крупной оптовой организации, у
него в Эдо, столице страны, земельный участок, дом. Вдобавок
он — старшина своей гильдии. Ему даже разрешено носить два
меча, т. е. присвоены некоторые внешние привилегии дворянства.
Короче говоря, Томоно — из верхнего слоя купеческого сословия
времен феодализма. И что же, этот богатый купец — герой
стройки? Да, герой и вместе с тем жертва. Такакура изображает
его именно так, и в этом опять-таки сказывается чувство истори¬
ческой правды.
Томоно — представитель буржуазии на том этапе ее истории,
24 Н. И. Конрад
369
когда она развивалась еще в условиях феодализма. Но ее раз¬
витие в Японии XVII в. происходило уже в эпоху первоначаль¬
ного накопления, т. е. тогда, когда роль буржуазии в хозяйст¬
венной жизни страны становилась все более и более значитель¬
ной. Такакура правильно заставляет Номура, наместника цент¬
рального правительства в районе, где происходит постройка ка¬
нала, понять, что «среди чиновников феодального правительства,
начиная от самых высокопоставленных и кончая самыми низ¬
шими, не найдется сейчас ни одного, кто в большей или меньшей
степени не был бы связан с горожанами» (стр. 177). Номура ви¬
дит, что «порвать эти связи — значит до основания разрушить
весь жизненный уклад чиновничества». Автор романа нисколько
не отошел от исторической правды, нарисовав образ князя Ута,
всемогущего правителя того времени, понимавшего, что «горо¬
жане, которые исподволь, снизу, подтачивали власть централь¬
ного правительства, оказались намного могущественнее, чем мог
предполагать князь Ута» (стр. 123). Однако в эпоху первона¬
чального накопления растущая японская буржуазия была неод¬
нородна: одна часть ее паразитически обогащалась с помощью
феодальных способов эксплуатации, это были ростовщики; дру¬
гая часть стремилась к созданию своего «дела», это были купцы
и вместе с тем промышленники, организаторы производства, вво¬
дившие новые, уже не феодальные методы эксплуатации. Именно
к этим последним и принадлежит Томоно.
Томоно жаждет «большого дела». В привычной ему сфере он
его не находит. Поняв, что с проведением воды из горного озера
на поля в равнине оживет большой район, что этот район из бед¬
ствующего и нищего превратится в богатый и процветающий, он
почувствовал, что это и есть то большое дело, которого ищет его
энергия.
Такакура тонко ведет линию этого героя. Писатель показы¬
вает, что в первое время замысел постройки канала сопряжен у
Томоно с чисто коммерческим интересом: перспективой извлече¬
ния прибыли из этого сооружения. Но когда он входит в сопри¬
косновение с крестьянами, начинает работу с ними, перед ним
выявляется другая сторона предприятия: все сильнее и сильнее
на первый план начинает выступать его общественное значение.
И только это сознание дает ему в дальнейшем силы для преодо¬
ления постоянно возникающих трудностей, для борьбы с проти¬
водействием властей, крайне неблагосклонно наблюдавших за
этой инициативой двух «низших», с точки зрения феодального
дворянства, сословий: крестьянства и купечества. В конце концов
Томоно гибнет: власти убивают его. В тех условиях большое на¬
родное дело могло быть осуществлено только ценою жертв. По¬
этому такой исход судьбы Томоно исторически закономерен. Но
поистине воодушевляющим концом этой трагической судьбы
является награда герою. Она так проста, эта награда,— это всего
лишь рисовая лепешка. Но эта лепешка испечена из первого уро-
370
/кая риса, взошедшего на когда-то бесплодных, а ныне расцвет¬
ших полях; и послали эту лепешку те самые крестьяне, с кото¬
рыми Томоно строил канал; послали, чтобы он увидел, что его
труды не напрасны, что дело сделано. А то, что нашелся человек,
который взялся разыскать, где томится Томоно, и доставить ему
в темницу этот дар, хотя и знал, что рискует при этом головой,
показало Томоно, как ценят его труд крестьяне и как любят его.
Поэтому трагический исход судьбы героя не только не ложится
мрачной тенью на сделанное им, а, наоборот, окружает его дея¬
ния и его самого светлым ореолом, пробуждающим чувство ве¬
ликого душевного подъема.
Одним из героев повествования является Отомо Укиё — ста¬
рик, живший сначала почти отшельником в хижине, затерянной
в горах Хаконэ, но потом покинувший свой одинокий приют и
присоединившийся к строителям канала.
Фигура Отомо может несколько удивить нашего читателя.
Оказывается, Отомо побывал в Испании и Португалии, в Голлан¬
дии и Англии. Он знает имена Галилея и Кеплера. Он видел в
Европе подзорную трубу, через которую «заглядывают в мир
звезд». У него в хижине «на верхней полке — довольно большой
глобус, на нижней — ряд прекрасных книг, на кожаных кореш¬
ках которых вытиснены европейские буквы».
И это в Японии — Японии второй половины XVII в.? — скажет
читатель. В стране, опустившей между собой и остальным миром
как будто такой непроницаемый занавес? Ведь рядом указов в
20—30-х годах XVII в. правительство феодальной Японии запре¬
тило японцам под страхом смертной казни покидать свою страну,
заперло дверь и для иностранцев. Оставалась лишь одна малень¬
кая щелочка: раз в год в Нагасаки мог явиться голландский тор¬
говый корабль, мог явиться и китайский. Как мы знаем из исто¬
рии, эта щелочка дала себя знать: через нее все интенсивнее и
интенсивнее просачивались в Японию сведения о таинственном
западном мире, проникала оттуда и наука.
Но это проявилось гораздо позже. Во второй половине XVII в.,
когда происходит действие романа, еще строго следили за тем,
чтобы через эту щелочку не проникало ничего, кроме допущен¬
ных к ввозу товаров. Откуда же могли появиться в Японии люди,
подобные Отомо? Для ответа на этот вопрос надо вспомнить одну
страницу всемирной истории, притом страницу очень важную, в
некотором отношении знаменующую даже поворот в этой ис¬
тории.
Вспомним XVI век. На самой грани этого века, в 1498 г., араб-
лоцман проводит корабль Васко да Гамы вокруг Африки в Ка¬
ликут, в Индию. Происходит событие, которое на Западе на¬
звали открытием морского пути в Индию. В Индийском океане
появляются первые корабли людей с Запада. Этими людьми были
португальцы.
371
Индийским океаном дело не ограничилось. Португальцев не¬
удержимо влекло дальше. Их манил к себе «Дом сокровищ», как
давно называли на Востоке островной мир Индонезии. Создав
себе в 1510 г. в Гоа, в Индостане, опорный пункт, португальцы
стали оттуда двигаться дальше на Восток — в Малакку, на Яву,
и в 1516 г. они уже в Кантоне, а в 1543 г. один из кораблей зано¬
сится бурей и к берегам Японии. Так начинается проникновение
европейцев в Тихий океан. Оно идет с двух сторон: португальцы
идут с Запада — через Индийский океан; с Востока — со стороны
Америки — идут испанцы. После закрепления в 1519—1521 гг. в
Мексике испанцы начинают продвижение в островной мир Ти¬
хого океана и в 1549 г. доходят до Японии. В 1571—1575 гг. они
захватывают Филиппинские острова, которые и становятся их
опорным пунктом в этой части мира.
С начала XVII в. картина начинает усложняться; следом за
португальцами начинают двигаться на Восток и другие люди За¬
пада— голландцы и англичане. На первое место выходят гол¬
ландцы — представители страны, где в 70-х годах XVI в. произо¬
шла первая победоносная буржуазная революция. Голландцы
идут по следам португальцев и испанцев, постепенно вытесняя
их. В 1619 г. они утверждаются в «Доме сокровищ» — на острове
Ява, где построенная ими Батавия становится главным опорным
пунктом для их действий как в Индийском, так й в Тихом океа¬
нах. В 1622 г.— голландцы уже в Китае. В 1624 г. они захваты¬
вают у берегов Китая большой остров, который из европейцев
первыми узнали португальцы, назвав его «Формоза» (по-порту¬
гальски— «Прекрасная»), но который давно был известен ки¬
тайцам под названием «Тайвань». Еще до этого, в 1609 г., гол¬
ландцы добираются и до Японии.
Одновременно с голландцами двигаются в Индийский, а затем
и в Тихий океан англичане. В том же 1609 г. они впервые появля¬
ются в Японии.
Всю эту историческую полосу называют то «эпохой великих
географических открытий», то «началом колониальных захва¬
тов». Так называть можно, но только с одной оговоркой: если
подходить к этому времени с точки зрения истории стран Запада,
истории Европы. Если же подойти к этой эпохе и со стороны ис¬
тории стран Востока, стран Восточной Азии, то исторический
процесс предстанет в гораздо более полном виде.
Страны Индокитая и Индонезии были известны китайцам и
индийцам с очень давних времен, еще задолго до нашей эры.
Давно известны были они и арабским мореплавателям. В XIII в.
монголы, на время подчинившие своей власти Китай, снарядили
целую экспедицию для завоевания некоторых стран Индокитая
и Индонезии. Монгольский флот подходил к берегам Суматры и
Явы. Завоевательные цели экспедицией достигнуты не были, но
на развитие мореплавания в Южных морях этот морской поход
оказал большое влияние. В XV в., между 1405 и 1431 гг., ки¬
372
тайцы, освободившиеся уже более полустолетия назад от ига
монголов, организуют несколько больших и превосходно снаря¬
женных экспедиций в южную часть Тихого океана и в Индийский
океан.
Всемирная история обычно сообщает нам все подробности о
плавании Васко да Гамы и в то же время ничего не говорит о
плаваниях Чжэнь Хэ, а они заслуживают не меньшего внимания.
Ведь И июля 1405 г. из устья Янцзыцзяна вышла целая флотилия
двух- и трехмачтовых кораблей. На каждом корабле было по
нескольку сот человек, в ряде случаев — по четыреста, по пять¬
сот. Всего в плавании участвовало более 20 тыс. человек. И это
были не только моряки и солдаты; на кораблях Чжэнь Хэ были
оружейные мастера и механики, кузнецы и плотники, бондари и
шорники, лекари и астрономы-навигаторы, писцы и переводчики
с разных языков народов Южных морей. Находились на этих
судах и купцы — представители богатых торговых домов. При
ветре шли на парусах, при безветрии — на веслах. Шли по ком¬
пасу, давно уже известному китайским мореплавателям. По чи¬
слу судов, по снаряжению, по числу участвовавших и их подбору
с этой китайской экспедицией не может даже в отдаленное срав¬
нение идти никакая морская экспедиция ни португальцев, ни ис¬
панцев, ни голландцев.
Флотилия Чжэнь Хэ зашла в Фучжоу, останавливалась в од¬
ной из гаваней страны Чампа в Индокитае и оттуда дошла до
Индии, до самого города Каликут. Так почти за сто лет до Вас¬
ко да Гамы китайцами был освоен морской путь в Индию с Во¬
стока. Само же описание этого пути появилось в Китае еще
в VIII в.
Семь раз на протяжении тридцати лет Чжэнь Хэ предприни¬
мал свои морские экспедиции. Его корабли появлялись у бере¬
гов Индокитая — в гаванях Чампа (часть современной Кам¬
боджи), Малакки, Сиама: они проникли на Яву, Суматру, по¬
бывали на Цейлоне, в Индии, в районе Персидского залива —
у знаменитого острова Ормуз, этого перекрестка великих торго¬
вых путей с Запада на Восток, старинного центра мировой тор¬
говли. Корабли Чжэнь Хэ побывали и в Адене, у входа в Красное
море. Во время седьмого похода, в 1430—1431 гг., Чжэнь Хэ
смело направил свой флот на юг вдоль восточного побережья
Африканского континента, и китайские корабли достигли бере¬
гов Мозамбика.
Это были экспедиции торгово-политические, целью которых
было установление сношений со странами южной части Тихого
океана, странами Индийского океана, сношений торговых прежде
всего, но одновременно и политических. Экспедиции Чжэнь Хэ
обогатили китайцев новыми и разносторонними сведениями об
этих странах, открыли новые торговые пути и упрочили старые.
В результате их в Индокитае, на островах Индонезии появилось
многочисленное китайское население. Малакка превратилась во
373
второй центр мировой торговли, процветавший даже более, чем
старый центр в Персидском заливе.
С XIV в. начинают продвигаться на юг от берегов своих остро¬
вов и японцы, «японские пираты», как называли их тогда ки¬
тайцы. В XV в. пиратская торговля распространяется на все по¬
бережье Китая; пираты оперируют у берегов Тайваня, Филиппин,
Индокитая. Морские суда появляются у побережья Малакки,
Явы, Суматры. Во многих пунктах этих стран возникают япон¬
ские торговые фактории, образуются пиратские базы.
Таким образом, мировая эпоха великих географических от¬
крытий — XV — XVI вв.— эпоха двустороннего движения в
страны Южных морей, к «Островам пряностей», как называли
район Индонезии в Европе, к «Дому сокровищ», как называли
эти места на Востоке. С одной стороны, с Запада, шли пфггу-
гальцы, за ними — несколько позднее — голландцы и англичане;
с другой стороны, с Востока — испанцы, двигавшиеся из Мек¬
сики; из своих стран — кицайцы и японцы. В странах Южных
морей произошла встреча этих двух великих исторических дви¬
жений. Открылась новая всемирно-историческая эра: эра широ¬
кого международного общения, в которое были вовлечены на¬
роды Дальнего Запада — португальцы, испанцы, голландцы и
англичане — и народы Дальнего Востока — китайцы и японцы.
Это общение было прежде всего торговым. Было оно и полити¬
ческим, приводившим к основанию опорных пунктов в чужих
землях. Было оно и культурным. На Западе лучше узнали куль¬
туру Дальнего Востока и Индии, на Востоке — культуру стран
Дальнего Запада.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в результате
почти столетних сношений с португальцами и испанцами, а за¬
тем и с голландцами появилось много японцев, знавших куль¬
туру этих западных народов. Не только европейцы побывали за
это время в Японии, но и японцы побывали на Западе. Отправ¬
ка посольств из Японии в 1582—1590 гг. в Испанию и Рим, в
1613—1620 гг. в Мексику, к испанскому вице-королю — доста¬
точное свидетельство оживленности этих сношений. Следова¬
тельно, в личном знакомстве японцев со странами Запада нет
ничего невероятного. Такие люди, как Отомо Укиё, действи¬
тельно могли существовать. И то,} что некоторые из них — уже,
конечно, старики — могли дожить и до 60-х годов XVII в.,
вполне возможно: ведь окончательно страна была закрыта для
внешних сношений только в 1639 г.
Старик Отомо занят в своем уединении в горах разведенцем
лекарственных растений. К строителям тоннеля он присоеди¬
няется как врач. В условиях того времени он — естественник.
Автор романа не случайно сделал его естественником. Отомо,
как рассказывается о нем в романе, получил знания в Европе.
А в Европе того времени на передовых позициях стояло именно
естествознание. «Современное естествознание,— писал Эн¬
374
гельс,— единственное, о котором может идти речь (как о нау¬
ке)... начинается с той грандиозной эпохи, когда буржуазия сло¬
мила мощь феодализма, когда на заднем плане борьбы между
горожанами и феодальным дворянством показалось мятежное
крестьянство, а за ним революционные пионеры современного
пролетариата, с красным знаменем в руке и с коммунизмом на
устах,— начинается с той эпохи, которая создала монархии Ев¬
ропы, разрушила духовную диктатуру папства, воскресила грече¬
скую древность и вместе с ней высочайшее развитие искусства
в новое время, которое разбило границы старого мира (огЫз) и
впервые, собственно говоря, открыло землю...»4. Вкладывая в
уста Отомо имена великих людей второй половины XVI в. и пер¬
вой половины XVII в. Иоганна Кеплера и Галилео Галилея, ав¬
тор связывает Отомо именно с этим естествознанием, о котором
писал Энгельс.
Такакура не грешит против исторической правды, наделяя
Отомо при этом верой в исторический прогресс. «Бывают пери¬
оды, когда кажется, будто жизнь становится хуже. Но это только
кажется так, а на самом деле даже в тяжелые времена жизнь
идет вперед, становится лучше» (стр. 55). Действительно, твер¬
дое убеждение в том, что человечество неуклонно идет вперед,
что в этом поступательном ходе важнейшим двигателем явля¬
ется именно наука, представленная естествознанием, математи¬
кой,— характерная черта мировоззрения великих умов того вре¬
мени. Но Такакура допустил некоторую ошибку, видя развитие
этих наук только на Западе, в Европе.
Следует сказать, что и в этой области исторический процесс
был двусторонним. Естествознание в Китае еще в XII—XIII вв.
сделало огромный шаг вперед. Это проявилось главным образом
во врачебной науке, заставившей пристально изучать человече¬
ский и вообще животный организм. В связи с врачеванием раз¬
вивалось и изучение лекарственных растений, что и привело к
расцвету ботанической науки.
Еще в середине VII в. появился чрезвычайно обстоятельный
труд «Синьсю бэньцао» («Описание лекарственных растений»).
Эта китайская лекарственная ботаника перешагнула границы
своей страны. Марко Поло отмечает, что эта ботаника с XIII в.
стала известной даже в Европе. В связи с этим усилился вывоз
из Китая лекарственных растений, с XV в. принявший значитель¬
ные размеры. А это способствовало дальнейшему развитию бота-
ники в Китае.
Сводом всех знаний, достигнутых китайцами в этой области,
явилось «Бэньцао ганму» («Основы фармакологии»)—знамени¬
тый труд величайшего ботаника и фармаколога средневекового
Китая Ли Ши-чжэня (1518—1593). В этом труде, изданном в
1596 г., детально описаны 1892 лекарственных вещества, глав¬
ным образом растительного происхождения. Но значение этого
описания не ограничивается одной фармакологией и медициной:
375
описывая Лекарственные растения, автор йо существу дает и
свою классификацию растений.
Уже в 1659 г., т. е. через шестьдесят с небольшим лет после
появления труда Ли Ши-чжэня в Китае, вышел частичный пере¬
вод его на латинский язык, сделанный польским медиком Бу-
мигэ. Перевод двух глав из «Бэньцао ганму» помещен в книге
Дью Хэлда «Облик китайской империи», изданной в 1735 г.
Этот труд в 1606 г., т. е. вскоре после своего появления в Ки¬
тае, попал и в Японию, а в 1637 г. был там даже переиздан. Та¬
ким образом, ботанические и врачебные знания Отомо могли пи¬
таться не только одними западными источниками. На полке в его
хижине рядом с книгами, на кожаных корешках которых были
вытиснены европейские буквы, автор мог бы поместить и китай¬
ские ксилографы в застегивающихся костяными застежками
картонных папках, оклеенных синей материей.
Вместе с тем не следует забывать, что и в самой Японии в
это время шло развитие естествознания. Основной толчок этому
развитию дала, как и в Китае, медицина, требовавшая изыска¬
ния лечебных средств. Эти средства искали прежде всего в ра¬
стениях, почему сначала стала развиваться ботаника. Однако
при всем прикладном направлении ботанических исследований
многие работы по необходимости касались и морфологии расте¬
ний и мест их произрастания; изучалась и номенклатура. В 60—
70-х годах XVII в., когда происходит действие романа, уже рабо¬
тал над своими ботаническими сочинениями Каибара Экикэн
(1630—1714). Изучались уже с теми же целями и животные,
птицы, рыбы. Таким образом, и Япония в это время не отставала
от общего процесса развития естествознания.
Описывая работу «главного инженера постройки тоннеля» —
Томоно и его помощников, автор, естественно, говорит о произво¬
димых ими математических вычислениях, необходимых для
правильной планировки тоннеля. Автор и тут указывает на то,
что эти математические знания также почерпнуты из общения
с европейцами. Значение этих новых знаний, конечно, велико,
но не следует при этом забывать, что искусство проведения кана¬
лов, сооружения всякого рода оросительных систем возникло на
Востоке, в частности в Китае, еще в древности. Достаточно ука¬
зать на знаменитую оросительную систему Дунцзян в провинции
Сычуань, построенную более двух тысяч лет назад. Проведение
подземных каналов само по себе требовало уменья производить
различные математические вычисления. «Для того, чтобы вести
проходку тоннеля одновременно с двух сторон и встретиться по¬
середине, тебе придется определить высоту уровня воды в озере,
со всех сторон окруженном горами»,— справедливо указывают
строителю канала правительственные чиновники. Томоно под¬
тверждает это и в своем ответе объясняет, как он будет эту вы¬
соту определять, обнаруживая солидные познания в геометрии.
Автор романа показывает, что все эти знания приобретены в
376
Европе; между тем следовало бы помнить и о математической
науке, «правилах вычислений» (суань фа), развившихся в Ки¬
тае. Достаточно указать хотя бы на то, что в Китае очень давно,
во всяком случае не позже VI в., был выработан способ решения
в целых числах систем неопределенных уравнений первой сте¬
пени. Этот способ описан в труде «Шусюэ цзю чжан» («Девять
отделов математики») Цинь Цзю-шао, появившемся в 1247 г.
Способ исчисления размеров недоступных предметов и расстоя¬
ний до них был разработан еще в III в. Лю Хуэем. В первой по¬
ловине VII в. Ван Сяо-тун предложил решение геометрических
задач, приводящих к уравнениям третьей степени. В середине
XI в. появилась работа «Цзю чжан суаньфа» («Правила вычис¬
лений в девяти главах»), принадлежащая математику Цзя Сяню.
Китайские математики уже в XI—XIV вв. знали свойства бино¬
миальных коэффициентов и были знакомы с арифметическим
треугольником. Совсем близко ко времени, описываемому в ро¬
мане, в Китае появился знаменитый компендиум математических
знаний — «Суаньфа тунцзун» («Основы правил вычислений»),
вышедший в 1592—1593 гг. Это был труд великого математика
старого Китая Чэн Давэя. Следует помнить и о японском мате¬
матическом трактате «Дзингоки» («О вещах и времени»), со¬
ставленном в 1627 г. математиком Иосида Мицуёси.
Иосида Мицуёси только один из представителей математиче¬
ской школы, основоположником которой был Иосида Соан (ум.
в 1631 г.). Соан был широко известен своими познаниями в обла¬
сти гидротехнических сооружений, вследствие чего именно его
привлекли к работам по проведению канала из Фусими в Киото,
предназначенного для транспортировки строительных материа¬
лов; на этом канале им было построено более десяти шлюзов,
были устроены водоподъемные сооружения. Следовательно, и в
этой специальной области Отомо мог найти материал в науке
своей страны.
Таким образом, в изображении Отомо и Томоно исторически
более правильным было бы показать соединение двух великих
потоков развития положительных знаний — одного, идущего с
Дальнего Запада, другого — с Дальнего Востока. Первый поток
хорошо известен и по справедливости высоко оценен историей.
Второй мало известен, и его значение поэтому пока еще в тени.
Но кому же, как не представителю Востока, показать нам вели¬
чие человеческого разума и в той половине мира? Тем более в
наше замечательное время, когда Восток предстал перед нами во
всей своей интеллектуальной и культурной мощи.
Что же заставило токугавское правительство прервать вели¬
кий процесс сближения культур Дальнего Запада и Дальнего
Востока, развернувшийся в XVI в.? Что побудило правительство
феодальной Японии 30-х годов XVII в. закрыть страну? В романе
377
об этом говорится с горечью. Упоминается и то событие, которое
положило конец всяким колебаниям правительства в этом во¬
просе. Это событие — восстание в Симабара на острове Кюсю,
вспыхнувшее в 1637 г. Это восстание называют крестьянским.
И действительно крестьяне представляли его основную силу. Но
в нем участвовали и самураи, среди них особенно вассалы Ко-
ниси Юкинага, который был одним из военачальников во время
японского вторжения в Корею в 1592—1593 гг. Сопротивление
корейцев и вступление в войну на стороне Кореи китайцев при¬
вело к провалу плана захвата полуострова, который должен был,
по замыслу Хидэёси, диктатора Японии того времени, составить
только первый этап завоеваний. Эта неудача обострила борьбу
против диктатора других князей, и вскоре после его смерти, в
1598 г., власть перешла в руки Токугава Иэясу, дом которого по¬
сле этого управлял Японией до 1868 г. Были устранены все сто¬
ронники диктатора, в том числе и Кониси Юкинага. Таким обра¬
зом, самураи-вассалы этих феодалов превратились в ронинов-
изгоев. Это положение и приаело их в лагерь восставших против
дома Токугава.
Кониси Юкинага называли «христианским генералом». Он
был христианин. Христианами были и большинство его вассалов.
Почти все крестьяне, участвовавшие в восстании, также испове¬
довали христианство. Поэтому историки часто называют восста¬
ние в Симабара в 1637 г. «восстанием японских христиан».
Появление христианства в Японии XVI—XVII вв. не должно
нас удивлять. Хорошо известно, что вместе с конкистадорами
шли и патеры. Португальцы и испанцы, попав в Японию, не
только торговали, но и насаждали христианство. В новую веру
обращались феодальные князья, рассчитывая этим путем при¬
влечь торговые корабли чужеземцев именно в свои владения.
Вместе с бархатом, стеклянными изделиями, часами и всякими
прочими диковинками эти корабли привозили и огнестрельное
оружие, которое было очень нужно феодалам.
Князья крестили своих вассалов. Принимали новую веру и
крестьяне. Но крестьяне принимали эту веру не из-за торговых
выгод и пушек. Как известно и из истории Запада, крестьянские
восстания в средние века обычно соединялись с той или иной
религиозной идеологией, всегда сектантской с точки зрения гос¬
подствующей церкви. В Японии до той поры такую идеологию
поставляли различные секты и толки буддизма. Но постепенно
буддизм перестал удовлетворять поднимающиеся на борьбу кре¬
стьянские массы. Требовалось что-то иное, новое, и это новое
крестьяне пытались найти в христианстве. Таким путем фанта¬
стически понятное, по-своему осознанное, христианство в начале
XVII в. соединилось с борьбой крестьян и прочих недовольных
против угнетателей-феодалов.
Главным местом, где соприкасались европейцы с японцами,
были южные и западные районы острова Кюсю. Поэтому именно
378
на Кюсю и появились «христианские князья». Там же особенно
распространилось христианство и среди крестьян. Симабара, где
разразилось восстание,— один из районов северо-запада Кюсю.
Однако для того, чтобы представить себе более полно значе¬
ние этого восстания, необходимо сопоставить это восстание с
некоторыми другими событиями.
Восстание в Симабара в Японии вспыхнуло в 1637 г. В это
время в соседнем Китае уже с 1628 г. шла великая крестьянская
война — «Восстание Ли Цзы-чэна», как его обычно называют.
Эта война, в которой вместе с крестьянами против феодалов
поднялись и плебейские массы городов, и даже часть торгово¬
ремесленного класса, привела в 1644 г. к падению правившего
дома — династии Мин — и заставила зашататься весь установив¬
шийся строй феодальной эксплуатации.
Пройдем далее на запад. Несколько ранее, в 1599—1603 гг.,
произошло крестьянское восстание Кара-Ясыджи в османской
Турции. В начале века, в 1607 г., вспыхнуло восстание Болотни¬
кова в Московском царстве, в 1648—1654 гг.— крестьянское вос¬
стание на Украине, в 1629 г. началась крестьянская война в
Германии, в 1639 г.— крестьянское восстание в Нормандии. Од¬
них этих фактов достаточно, чтобы увидеть, что в первой поло¬
вине XVII в. почти на всем протяжении феодального мира — от
Японских островов до Британских — бушевал огонь крестьян¬
ской борьбы, всколыхнувшей и плебейские массы городского на¬
селения. Мы знаем, чем все это кончилось: восстания были по¬
давлены, эксплуатация крестьян приобрела еще более жестокие
формы. Некоторые историки считают даже возможным рассмат¬
ривать этот процесс как «вторичное закрепощение крестьян». Но
вместе с тем эти могучие народные движения сделали важней¬
шее историческое дело: они перевели феодализм — в разных
странах в различное историческое время, с различной степенью
полноты — на последний этап его истории, этап, закончившийся
распадом системы мирового феодализма. Критическим момен¬
том этого перехода в Японии, конечно, со своими местными исто¬
рическими особенностями, и было восстание в Симабара.
Почему же в Японии переход к феодальному абсолютизму,
олицетворявшемуся в режиме Токугава, сопровождался изгна¬
нием европейцев и закрытием страны? Это заставили сделать
сами португальцы и испанцы, с помощью «христианских князей»
выкачивавшие из страны ее богатства; это заставили сделать
португальцы и испанцы, начавшие вмешиваться во внутреннюю
борьбу в стране для подчинения этой страны своему влиянию,
может быть даже — при удаче — и для превращения ее в свою
колонию. Свою роль сыграло и то, что — хотели этого европейцы
или не хотели — новые веяния, приносимые ими, всколыхнули
Японию. Выше мы говорили о проникавшей в Японию новой нау¬
ке— естествознании. Энгельс назвал эпоху Возрождения, оха¬
рактеризованную им в вышеприведенных словах, величайшей из
379
революций, какие до того времени пережила земля. Поэтому, го¬
ворит он, «и естествознание, развивавшееся в атмосфере этой
революции, было насквозь революционным, шло рука об руку
с пробуждающейся новой философией великих итальянцев, по¬
сылая своих мучеников на костры и в темницы»5. Именно этот
дух нового позитивного знания заставил пресечь доступ этого
знания, этих идей в Японию. Было строжайшим образом запре¬
щено и христианство. Вынуждаемые к отречению от него дол¬
жны были доказать искренность своего отречения «попиранием
икон» (фумиэ), т. е. публичным осквернением изображений, счи¬
тавшихся священными; тех же, кто не хотел отказываться от
своей веры, распинали на крестах. Такими крестами при подав¬
лении восстания в Симабара были уставлены все дороги и пере¬
крестки. В некоторых странах Европы после полосы крестьян¬
ских восстаний воцарилась католическая реакция; в Японии по¬
сле расправы с крестьянами в Симабара установилась реакция
конфуцианская.
В своем предисловии к роману Такакура пишет: «Я хотел
показать сами устои феодального строя времен Токугава, строя,
существовавшего в условиях «закрытой страны». Этим путем я
стремился вскрыть то, что течет в глубинах японского общества
и в наше время».
Эти слова свидетельствуют, что Такакура, создавая произве¬
дение о далеком прошлом, имел в виду настоящее. О чем же он
написал для своих соотечественников нашего времени?
Есть одна линия романа, которая, как нам кажется, дает
возможность ответить на этот вопрос. Эта линия представлена
Кайтё.
Кайтё— буддийский прелат. Он один из представителей уце¬
левшей ветви стариннейшего аристократического рода Фудзи-
вара. Он настоятель храма, расположенного в горах Хаконэ, не¬
далеко от места стройки. Храм этот посвящен «Хаконэ гонгэн»,
«божеству, явленному в Хаконэ», т. е. божеству этих мест.
Кайтё — служитель буддийской церкви, но вряд ли его мо¬
жно назвать верующим буддистом. Он стал монахом не по своей
воле: издавна повелось, что младшие сыновья знатных семей ста¬
новились духовными лицами. Все его отношение к религии за¬
ключается только в том, что он перечитал положенные книги и
стал носить «соответствующий духовный сан. А в прошлом у него
совершенно земная, большая и счастливая любовь, закончив¬
шаяся, однако, неизбежной в его положении разлукой. Он поте¬
рял любимую женщину и вместе с нею весь мир. Много лет про¬
вел он в монастыре в горах, укрываясь от всех в своем покое.
Но из этой неподвижности, из состояния самоизоляции от
мира его выводит тот же канал Хаконэ. Заметив, что около его
убежища что-то происходит, он постепенно начинает понимать,
380
что тут ведется большое и настоящее дело, какого он до сих пор
никогда в своей жизни не наблюдал. И работа по сооружению
канала увлекает и его.
Кайтё начинает принимать участие в сооружении канала.
В необходимых случаях он пускает в ход свое влияние прелата
для устранения помех, чинимых властями. Ему даже удается
вызволить Томоно из тюрьмы, когда власти в первый раз пыта¬
ются устранением руководителя сорвать работу. Все его мысли,
все действия целиком отданы делу проведения канала.
Наступает великий день для строителей. Канал прорыт: пред¬
стоит его испытать. Пойдет ли вода? Медленно раскрываются
ворота шлюза, и на жаждущие поля бурным потоком, беспре¬
пятственно, свободно хлынула доселе бесполезная вода.
Конечно, на церемонии присутствует и Кайтё во всем блеске
своего облачения. Он должен освятить эту воду. Но что же?
Мальчик-послушник, стоящий подле своего настоятеля, вдруг
вместо мудреных, «книжных» слов молитвы, вместо имени «Ха-
конэ гонгэн» слышит такие простые, совершенно понятные, «раз¬
говорные» слова: «Замечательно! Великий светлый бог Томоно!
Хорошо ты сделал!»
Эта сцена — и сюжетная и идейная кульминация всего про¬
изведения.
Кайтё понял, кто действительный «Хаконэ гонгэн». Это —
человек, отдавший свой труд и свою жизнь общему делу; это —
человек, слившийся воедино с народом, с бедняками и угнетен¬
ными, .это— люди, крепко верящие в правоту и конечный успех
дела, которое имеет своей целью счастье и благо угнетенных;
это — люди, которые, воодушевленные уверенностью в своих си¬
лах, и подчиняют себе природу, и побеждают все препятствия,
которые ставятся на их пути угнетателями. Такова та большая
идея, которая заложена в повествовании о давно случившемся
событии, та идея, которую писатель в художественных образах
хотел показать своим современникам в своей стране.
1957 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Т. Такакура, Песенка свиньи, пер. В. В. Логуновой,—«Новый мир», 1953,
№ 2.
2 Т. Такакура, Воды Хаконэ. Исторический роман, пер. с яп. И. Льво¬
вой, 1954.
3 Заглавие «Воды Хаконэ» дано роману переводчицей И. Львовой. Япон¬
ское заглавие — «Хаконэ ёсуй» («Канал Хаконэ») — так именуют этот канал
в обиходе, так он обозначается на картах.
4 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 1, т. XIV, стр. 415—416.
6 Там же, стр. 416.
НОБОРИ СЕМУ
(К ВОПРОСУ о взаимоотношениях
ЯПОНСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУР)
23 ноября 1958 г. в восьмидесятилетием возрасте скончался
Нобори Сёму* — старейший из многочисленных в Японии лите¬
ратуроведов, специализировавшихся на русской литературе,
один из тех, кому японское общество обязано давним и чрезвы¬
чайно широким знанием русской литературы как через пере¬
воды, так и через литературоведческие работы. Русская литера¬
тура принадлежит не только нам: она принадлежит и всем куль¬
турным народам мира; в той или иной мере она участвует в
культурной и общественной жизни этих народов. Особенно зна¬
чительное место она занимала и занимает в литературе Японии.
Поэтому деятельность человека, который более пятидесяти лет
своей жизни посвятил русской литературе именно для того, чтобы
познакомить с ней свой народ, не только заслуживает нашего
пристального и благодарного внимания, но и раскрывает кон¬
кретную историю связей японской литературы с русской.
1
«Гений народа, хотя бы и богато одаренного, должен черпать
свое вдохновение во всемирно-человеческом опыте. Предостав¬
ленный самому себе он, этот гений, чахнет; лишь близость и дру¬
жество с гениями других наций дают ему вечно юную силу» 1.
Эта мысль появилась у Г. Брандеса как следствие продол¬
жавшегося всю его жизнь изучения европейской литературы
XIX в.— «в ее главных течениях», как он написал в заголовке
своего основного труда. Изучая литературу Франции, Англии,
Германии, России и прочих стран Европы, он увидел, сколь мно¬
гим литература одного народа обязана литературе другого. И
при этом не только без какого-либо ущерба для своего собствен¬
ного национального облика, но при самом ярком выявлении
* В статьях принят японский порядок написания: на первом месте — фа¬
милия, на втором — имя или псевдоним.
382
этого облика. Французский романтизм многое получил от Бай¬
рона, но кто же скажет, что Гюго, Виньи, Мюссе — эти замеча¬
тельные писатели Франции — повторяют Байрона? Каждый из
них прежде всего — он сам; они не похожи друг на друга, и в то
же время каждый из них — яркая, творческая индивидуальность,
совсем иная, чем Байрон.
Японская литература на всем протяжении своего историче¬
ского пути многим обязана литературам других народов. Это
хорошо видно исследователям японской литературы, и все круп¬
ные японские литературоведы — историки своей литературы —
об этом постоянно говорят. И говорят при этом с гордостью,
справедливо считая, что взять что-либо из литературы другого
народа, из того, что в ней замечательно,— значит только обога¬
тить свою литературу. Но с не меньшей гордостью и также спра¬
ведливо эти же литературоведы утверждают, что такие обраще¬
ния к чужим литературам только помогали литературе их собст¬
венной страны создать свое собственное, ярко выраженное лицо.
Приведу лишь один пример.
Кто не знает о значении для японского общества VIII—XI вв.
литературы Китая того времени? Ведь в эти века — в Танскую и
Сунскую эпохи, как называют это время китайские историки,—
китайская литература переживала этап исключительного творче¬
ского взлета. Знание ее считалось в Японии того времени необ¬
ходимой принадлежностью образования и просто признаком
культурности. И ее знали. Но именно в эту же эпоху, на рубеже
X—XI вв., японцы создали «Гэндзи-моногатари» («Повесть о
Гэндзи»), высокохудожественный нравоописательный роман.
Ничего похожего тогда в Китае не было. Там были великие
поэты — Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и, Су Дун-по, были замеча¬
тельные эссеисты, как, например, Хань Юй, новеллисты, как, на¬
пример, Бо Синь-цзянь, но романа в китайской литературе тогда
еще не было. Ничего похожего, кстати сказать, не было тогда и
на Западе — в литературе народов Европы. Это значит, что в
эпоху самого тесного соприкосновения с высокоразвитой китай¬
ской литературой, самого интенсивного обращения к последней
японцы создали совершенно своеобразный, глубоко националь¬
ный и нигде не встречавшийся тогда литературный жанр — ро¬
ман, т. е. большую форму художественной повествовательной
прозы.
Обращение к литературе другого народа бывает особенно за¬
метным в моменты больших исторических поворотов. Это можно
видеть, например, во французской литературе, когда в ней про¬
исходил поворот от классицизма к романтизму, т. е. когда выра¬
батывалась литература, соответствовавшая общественному состо¬
янию Франции в первые десятилетия после Великой революции.
Хорошо известно, какую роль сыграло в выработке основ¬
ных творческих принципов французского романтизма ознакомле¬
ние французов с литературой Германии — с Шиллером, Шлеге-
383
лем, с литературой Англии — с творчеством Скотта, Байрона.
Хорошо известна та роль, которую сыграли прямые связи писа¬
телей Франции с литераторами и общественными кругами других
стран: Италии и Германии — у Сталь, Италии и Англии — у
Стендаля.
Один из подобных решительных поворотов в истории япон¬
ской литературы наступил в 70—80-е годы прошлого века. По¬
ворот этот заключался в приведении литературы в соответствие
с изменившейся жизнью японского общества, перешедшего после
революции 1868 г. на капиталистический путь. В историко-лите¬
ратурном аспекте это означало закрепление за литературой но¬
вого исторического качества — качества национальной литера¬
туры, т. е. литературы, соответствующей в истории обществен¬
ного развития этапу нации, в данном случае — нации буржуаз¬
ной. Если обратиться к историческим аналогиям, этот момент
истории японской литературы по своему характеру близок к
тому поворотному моменту истории русской литературы, кото¬
рый наблюдался в начале XIX в., т. е. к моменту складывания
русской литературы XIX в.
В этот исторический, ответственнейший и трудный момент
своего существования японская литература, естественно, обра¬
тилась к литературам передовых для того времени стран. Та¬
кими литературами были английская, немецкая, французская и
русская. Это общеизвестно: об этом говорится во всех работах
японских литературоведов, посвященных истории их новой ли¬
тературы. Это под углом зрения сравнительного литературове¬
дения разобрано и в наиболее крупной из работ, написанных в
плане изучения взаимосвязи японской литературы с литературой
других стран, в книге «Сравнительная литература» («Хикаку
бунгаку»), вышедшей в 1953 г.2. На связи новой японской лите¬
ратуры именно с этими литературами, с добавлением для по¬
следнего времени еще связей с американской литературой, ука¬
зывает и новейшая «Японская историко-литературная энцикло¬
педия», вышедшая в 1955 г. 3.
Однако роль русской литературы в истории становления и
развития японской национальной литературы в указанном исто¬
рическом смысле этого понятия несколько особая.
Известный современный японский русист Екэмура, автор
раздела «Россия», в статье «Связи японской литературы с лите¬
ратурами других стран» («Гайкоку бунгаку-то-но ко:сё:») в упо¬
мянутой «Японской историко-литературной энциклопедии» заяв¬
ляет, что «связи и со старой русской и советской литературой
почти целиком выразились в форме влияния той стороны на
нашу». Изучать связи японской литературы с русской, по его
словам, значит изучать, «как русская литература помогла заро¬
ждению и развитию новой японской литературы». В целом же
это означает, что «в процессе самобытного развития японского
общества японские писатели приняли определенные черты и ме¬
384
тоды русской литературы и использовали их для собственного
развития»4.
Известная семитомная «Большая японская литературная эн¬
циклопедия», выпущенная в 1947 г.5, т. е. издание, по самому
своему характеру содержащее наиболее установившиеся фор¬
мулы и оценки, сочла необходимым поместить специальную ста¬
тью «Влияние русской литературы» («Росиа бунгаку-но эйкё:»),
не сделав того же ни для какой другой литературы. Говоря о ста¬
новлении новой японской литературы, эта статья, естественно,
останавливается на деятельности Фтабатэя, своим романом
«Плывущее облако» («Укигумб») указавшего уже тогда, в
1887—1888 гг., т. е. на самой заре новой японской литературы,
путь критического реализма. Обрисовывая эту деятельность, ав¬
тор статьи особо останавливается на первых переводах Фтаба¬
тэя: на изданных в 1888 г. переводах двух тургеневских расска¬
зов— «Свидание» (из «Записок охотника») и «Три встречи».
Говоря об этих переводах, автор пишет: «Эти переводы зажгли в
истории литературы нашей страны небывалый по яркости свет;
вместе с тем они показали всем блистательное существование
русской литературы, и с точки зрения эффективности еще неиз¬
вестно, что было более великим,— эти переводы или „Укигумо".
Во всяком случае не будет ошибкой сказать, что вся линия реа¬
лизма, представленная в дальнейшем творчеством школы Утида
Роан и Куникида Дбппо, поистине пошла от „Свидания" и „Трех
встреч"»6. Такова была общепризнанная теперь роль русской
литературы в самый ответственный момент исторического пово¬
рота в японской литературе.
И эта роль была сыграна в самом существенном для новой
литературы деле — в выработка нового творческого метода. Это
видно из того, что Фтабатэй, своими переводами показав, что
такое творческий метод русского реализма в художественной
практике, тут же счел необходимым сформулировать основные
положения этого метода и теоретически. Это он сделал в 1886 г.
в статье «Общая теория литературы» («Бунгаку со:рон»). Но
взгляды, выраженные в этой статье, как показали наши7 и япон¬
ские исследования, целиком заимствованы у Белинского и Доб¬
ролюбова. «Изучая русский язык,— пишет Ёкэмура,— Фтабатэй
познакомился с теоретическими взглядами Белинского и Добро¬
любова— этих представителей самой передовой тогда русской
интеллигенции, носителей русского национального самосознания
и вместе с тем представителей чаяний народа...»8.
И еще в один также крайне важный момент в истории новой
японской литературы столь же конструктивную роль сыграла
русская литература. Только на этот раз это были не Тургенев
и Гончаров, а Фадеев и Серафимович. В 1928 г. был переведен
«Разгром», в 1929 г.— «Железный поток». Эти переводы появи¬
лись в период, когда «распускались цветы движения пролетар¬
ской литературы», как в новейшей большой (8 томов) «Серии по
26 Н. И. Конрад
385
истории японской пролетарской литературы»9 названы 1928—
1929 годы, действительно решающие годы в становлении этой
революционно-демократической линии японской литературы того
времени. «Разгром» и «Железный поток» помогли тогда этой ли¬
нии идейно и художественно оформиться. Основные положения
творческого метода этой литературы, именовавшегося тогда в
Японии «пролетарским реализмом», были разработаны в статье
Курахара Корэхито «Путь к пролетарскому реализму» («Про-
рэтариа риаридзуму-э-но мити»), напечатанной в 1928 г.10, т. е.
одновременно с выходом в свет «Разгрома».
Следует добавить к этому, что Курахара в 1925—1926 гг. жил
в нашей стране, в Москве, и изучал принципы марксистского
литературоведения, главным образом по трудам Плеханова и
Ленина. Результатом этих занятий явились изданные еще в
1927 г., т. е. сейчас же по возвращении Курахара на родину, две
работы: переводная — «Искусство и общественная жизнь» Пле¬
ханова и собственная — «Основы марксистской критики литера¬
туры и искусства». Так русская литература в лице Тургенева и
Гончарова как писателей, Белинского и Добролюбова как теоре¬
тиков— в первый из двух исторических поворотных моментов
истории новой японской литературы, в лице Фадеева и Серафи¬
мовича как писателей, Плеханова и Ленина как теоретиков —
во второй из них сыграла важную роль в определении путей раз¬
вития наиболее общественно значительных для своего времени
направлений японской литературы.
Русская литература вошла в японскую в форме переводов.
«Посредником» — по терминологии сравнительного литературо¬
ведения— был, таким образом, переводчик. Но как переводы,
так и переводчики с точки зрения тех исторических задач, кото¬
рые они выполняют, бывают разные.
Фтабатэй, переводя «Свидание» и «Три встречи», не просто
переводил — он учился на этом переводе как писатель: усваивал
новый творческий метод, вырабатывал языковые средства для
передачи нового содержания, нового вйдения мира, нового отно¬
шения к нему. Все это — в применении к новому литературному
жанру: современному роману. То же в свое время в сходных ли¬
тературно-исторических условиях делал у нас Жуковский, пере¬
водя «Кубок», «Донику» и прочие немецкие и английские бал¬
лады: он усваивал новый для русской литературы того времени
творческий метод романтизма и одновременно новый для рус¬
ской литературы литературный жанр — романтическую балладу.
А разработка именно нового творческого метода и характерных
для него жанров тогда была насущнейшей задачей рождающе¬
гося направления литературы. Оба переводчика осуществили
принципы нового творческого метода и на практике: Фтабатэй,
создав роман «Укигумо», Жуковский — балладу «Светлана».
Но когда дело сделано, когда новый творческий метод дан¬
ной литературы освоен и развит своими писателями, когда были
386
сбзданы и новые литературные жанры и формы, тогда литера¬
тура той страны, которая помогла в этом деле, становится про¬
сто фактом своей литературы, входит в орбиту своей литературы
как ее составная часть. И эту свою роль она осуществляет в пе¬
реводах. Тогда появляется другой тип переводчика — перевод¬
чика, который вводит в литературу своего народа литературу
другого народа. Переводчиком первого типа большей частью бы¬
вает сам писатель, перевод есть часть его собственной творче¬
ской работы; переводчик второго типа может и не быть писате¬
лем; во всяком случае, если он и сам писатель, перевод как тако¬
вой не является частью его собственной творческой деятельно¬
сти. Большей же частью переводчик второго типа — только
переводчик, но обычно одновременно литературный критик и
публицист, нередко и литературовед. Такое сочетание обеспечи¬
вает успешное выполнение обрисованной исторической задачи.
Именно таким переводчиком, критиком-публицистом, историком
литературы и был Нобори Сёму.
2
Нобори Сёму родился 17 июля 1878 г. в одном из селений
острова Осима — главного в группе Амами-Осима, расположен¬
ной к югу от Кюсю, южного острова японского архипелага. Но
уже в 1895 г., т. е. в семнадцатилетнем возрасте, он переезжает
в Токио, и с этого времени его жизнь и деятельность связываются
с этим городом.
В Токио Нобори получает образование в православной ду¬
ховной семинарии, существовавшей тогда при русской право¬
славной миссии. Это было учебное заведение, следовавшее про¬
граммам японской средней школы, но с дополнениями, заимство¬
ванными из программ русских гимназий и духовных семинарий.
Благодаря этому Нобори смог получить основательное знание
русского языка и знакомство с русской литературой.
Первым автором, которым он увлекся, был Гоголь. Еще в
1902 г., когда Нобори было 24 года, он написал свою первую ра¬
боту— статью об этом русском писателе. Она была помещена в
ученическом журнале, но в 1904 г. в переработанном виде была
издана по-настоящему — отдельной книжкой под названием «Ве¬
ликий русский писатель Гоголь». Свидетельством его любви к
Гоголю остался сделанный им впоследствии (в 1934 г.) превос¬
ходный перевод «Ревизора».
Такое начало было очень характерным. Нобори начал изу¬
чение русской литературы с того писателя, произведения кото¬
рого открыли, по словам Белинского, новый, «гоголевский» пе¬
риод русской литературы. Этот период Нобори в своей послед¬
ней по времени работе «История русской и советской литера¬
387
туры» (1955) назвал периодом «новой демократической литера¬
туры» и начал этот отдел главой «Эпоха Белинского».
Вступление Нобори на арену литературы произошло в 1904 г.
Каково было положение в то время в литературе его родной
страны?
Для характеристики этого положения достаточно указать на
немногие факты. Сейчас же по окончании русско-японской
войны, в 1906 г., появились такие произведения, как «Нарушен¬
ный завет» («Хакай»), «Фаталист» («Уммэйронся»), «Маль¬
чуган» («Боттян»), «Изголовье из травы» («Кусамакура»), «Его
образ» («Соно омокагэ»), вошедшие, в основной состав литера¬
туры японского реализма; их авторы — Симадзаки Тбсон, Куни-
кида Дбппо, Нацумэ Сосэки и Фтабатэй Симэй — потом стали
признанными классиками новой японской литературы. Следует
добавить, что в этом же году началось проникновение в Японию
социалистических идей и была сделана попытка создать первую
японскую социалистическую организацию — партию «Ниппбн-
сякайтб»; в этом же году из Америки на родину вернулся Ко-
тбку Сюсуй, первый переводчик в Японии «Коммунистического
манифеста», революционер.
В следующем, 1907 г. Фтабатэй выпустил еще один роман —
«Обыкновенный человек» («Хэйббн»), Нацумэ — роман «Мак»
(«Губидзинсо»). К ним присоединился третий автор, также
ставший классиком реализма в японской литературе,— Таяма
Катай, издавший тогда свое наиболее крупное произведение —
роман «Постель» («Футбн»). К этому можно добавить, что в
1907 г. на некоторое время возобновилось «движение простых
людей» («Хэймйн ундб») — массовое демократическое движение
того времени, возникшее еще в момент русско-японской войны;
была сделана попытка создания революционно-демократической
организации — «Ассоциации простых людей» («Хэймин кё:кай»).
Все это означает, что в годы, когда Нобори начал свою деятель¬
ность, реализм стал уже доминирующим направлением в его
родной литературе и развивался этот реализм в обстановке об¬
щественного подъема, в котором нельзя не видеть известных от¬
звуков русской революции 1905 г. Следует вспомнить, что и
Фтабатэй начал свою деятельность в конце 80-х годов, когда
начала формироваться новая японская литература, а формиро¬
вание ее происходило в обстановке «движения за свободу и
права народа», целью которого была прежде всего борьба с пе¬
режитками феодализма в экономическом, социальном и полити¬
ческом строе страны. В этих условиях обращение к русской ли¬
тературе было вполне естественным. Влияние русской литера¬
туры, пишет Екэмура, было во многом обусловлено тесной
связью русского реализма с освободительным движениеми.
В годы, когда в Японии развивалось «движение за свободу и
права народа», именно наличие этой связи придало особое зна¬
чение русской литературе. Русский критический реализм никогда
388
не был лишь простым обличением социального зла; он всегда
звал к борьбе с этим злом, к преодолению его. Понятно поэтому
обращение Фтабатэя к «Запискам охотника». Сам он опублико¬
вал тогда лишь один рассказ из этой книги русского писателя,
но в 1889 г. появились и другие рассказы в переводе Токутоми
Рока, сделанном с английского перевода. Сам же Фтабатэй в
1889 г. опубликовал перевод романа «Накануне»12.
Естественно, что и в первом десятилетии XX в., когда крити¬
ческий реализм уже был главным направлением японской лите¬
ратуры, русская литература, поднимавшая проблемы, близкие
к тем, которые волновали тогда передовые слои японского обще¬
ства, продолжала оставаться нужной японской литературе.
И Нобори стал одним из тех, кто вводил русскую литературу в
свою страну и как переводчик, и как критик-публицист, и как
литературовед.
В описанной обстановке Нобори свое внимание обратил на
то, что в своей «Истории русской и советской литературы» он
назвал «литературой нового времени». «Новое время» в этой его
работе — 40—80-е годы XIX в., т. е. эпоха классического для рус¬
ской литературы реализма — от Белинского до Короленко.
В 1907 г. вышел в свет сборник его статей по русской литера¬
туре этого периода, а в 1908 г.— первый сборник переводов рас¬
сказов отдельных русских писателей этой эпохи. По первому пе¬
реведенному Нобори Сему произведению он был назван «Белые
ночи».
Уже в это время у Нобори зародилась любовь к Достоев¬
скому. Достоевского до этого времени знали в Японии только
как автора «Преступления и наказания» — в переводе (с англий¬
ского перевода), сделанном еще в 1892 г. писателем Утида Ро-
ан. Однако «пора Достоевского» в Японии наступила значи¬
тельно позднее — в годы первой мировой войны и особенно в по¬
слевоенные годы. Нобори учитывал в дальнейшем возраставшее
значение Достоевского и в 1914 г. опубликовал перевод «Уни¬
женных и оскорбленных», выбрав, таким образом, одно из самых
гуманистических произведений великого русского писателя. Ин¬
терес к Достоевскому не затухал у него до конца жизни. Так, в
1946 г. он перевел рассказы «Маленький герой» и «Честный вор»,
а в 1948 г. написал целую книгу «О Достоевском».
В те же годы в Японии пробудился интерес и к Толстому.
Еще в 1889 г. Токутоми Рока издал перевод (с английского пере¬
вода) «Казаков». В 1897 г. тот же Токутоми Рока издал популяр¬
ный очерк о Толстом. Появилось и «Воскресение» — в переводе
Утида Роан, сделанном с английского перевода. Нобори учиты¬
вал этот интерес, особенно когда он стал возрастать, ив 1911 г.
опубликовал очерк «Великий Толстой», в 1917 г. издал «Двена¬
дцать лекций о Толстом». В дальнейшем он стал работать и как
переводчик. В 1918 г. перевел «Дневник», в 1921 г.— «Чем люди
живы», в 1927 г.— «Власть тьмы» и «Живой труп». В этом же году
389
вышло в его переводе и «Воскресение», заменившее прежний,
сделанный с английского, перевод Утида Роан.
Такая деятельность сделала вполне оправданным приглаше¬
ние Нобори в СССР в 1928 г. для участия в праздновании столе¬
тия со дня рождения Толстого. На торжественном собрании в
Москве Нобори огласил приветствие от японских писателей и
сделал сообщение на тему «Влияние Толстого в Японии».
Занятия Толстым продолжались и дальше: Нобори пересмат¬
ривал для новых переизданий свои прежние переводы, а в 1931 г.
выпустил книгу «О Толстом», в дополненном виде переизданную
в 1948 г.
Однако положение в японской литературе стало быстро ме¬
няться. С конца первого десятилетия XX в., т. е. как раз с того
момента, когда Нобори вступил в литературу, период классиче¬
ского для Японии реализма, достигнувшего тогда, в 1906—
1908 гг., высшей точки своего развития, стал постепенно закан¬
чиваться переходом к натурализму. Одновременно возникло
множество новых литературных направлений, весьма пестрых,
противоречивых, нередко претенциозных, часто эфемерных. Как
это обычно бывает в такой обстановке, эти направления высту¬
пали под знаменем громких, иногда наспех придуманных, назва¬
ний: неореализма, неоромантизма, неогуманизма, эстетизма,
символизма... Короче говоря, во втором десятилетии XX в. в
японской литературе возникла обстановка, близкая по своему
облику к тому, что было характерно для литературы Западной
Европы «конца века». Япония как бы с запозданием проходила
тот этап, который страны, раньше ее вступившие на путь капи¬
тализма, уже прошли. Но проходила она этот этап уже в другой
мировой обстановке — далекой от «конца века» и в ее собствен¬
ной действительности причудливо соединялись черты, порожден¬
ные особенностями ее собственной истории, с чертами «прош¬
лого» для Европы и одновременно «самоновейшего» в ней. И вся
эта сложная, противоречивая обстановка отразилась в литера¬
туре.
Русская литература и тут оказалась как-то ближе японцам
того времени, чем литература других стран. Может быть, это
объясняется отчасти тем, что русская литература также пере¬
живала свой «конец века» позднее, чем другие европейские
страны, почти в те же годы, что и японская литература, т. е. со
второй половины первого десятилетия XX в.; отчасти тем, что и
общественные условия — усиление в те годы реакции со всеми ее
последствиями — были во многом близки. Так или иначе, многое
в настроениях русского общества того времени оказалось со¬
звучным Японии. Поэтому русская литература именно с того
времени и стала фактом литературной действительности Японии.
Когда литература какой-либо другой страны становится фак¬
том своей литературы, это значит, что почти все в той литературе
оказывается в той или иной мере близким обществу данной
390
страны. В таких случаях переводится почти все, что в той стра¬
не — пусть хоть на короткое время — становится заметным.
Именно такое положение и создалось в Японии в области перево¬
дов русской литературы. Переводить стали всех — от Горького
до символистов; более всего, однако, переводили тогда Чехова.
Именно в это время благодаря образцовым переводам Сэнума
Каё 13 Чехов, особенно Чехов — дра.матург, стал одним из самых
близких для японской интеллигенции писателей. Пьесу «Вишне¬
вый сад» японская интеллигенция смотрела почти с теми же
чувствами, с какими смотрела ее русская интеллигенция того
времени.
Главную работу по введению в японскую литературу произ¬
ведений русской литературы в эти годы повел именно Нобори.
Весьма показателен для Нобори был выбор тех русских писате¬
лей, на творчестве которых он остановился. В 1910 г. он перевел
«На дне» Горького», в 1912 г.— «Поединок» Куприна, в 1914 г.—
«В дурном обществе» Короленко, в 1916 г. появились в его пере¬
воде «Бывшие люди» Горького и «Дни нашей жизни» Андреева.
Видно было, что Нобори, воспитавшийся на произведениях рус¬
ского классического реализма, тяготел к тем русским писателям,
которые, как Куприн и Короленко, как-то продолжали в новой
обстановке традиции этого реализма. Вместе с тем его обраще¬
ние к Горькому свидетельствует о его понимании растущего
значения этого русского писателя как в России, так и в Японии.
В Японии переводы произведений Горького стали появляться
еще в конце 90-х годов XIX в. Ко времени русско-японской войны
японским читателям уже были известны «Каин и Артем», «Чел-
каш», «Мальва», «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»,
«Легенда о Данко»; появился и первый перевод «На дне». После
русско-японской войны число переводов стало расти, и Нобори
стал работать с еще большей энергией.
Заслуживает внимания и обращение Нобори к творчеству
Л. Андреева, причем прежде всего как к автору реалистической,
обличительной пьесы «Дни нашей жизни».
Но выполняя свою миссию проводника в японскую литера¬
туру произведений современной ему русской литературы, Нобори
старался тогда переводить все то, что в России того времени
привлекало особое внимание и читателей и критики. В силу этого
им были переведены и такие произведения, успех которых в Рос¬
сии был кратковременным и вызывался различными настрое¬
ниями русского общества в годы реакции.
Так, в 1910 г. он издал «Сборник шести авторов» — собрание
избранных, получивших тогда в России широкую известность,
произведений русских писателей того времени. Среди них были
и Бальмонт, и Андреев («В тумане»), и Б. Зайцев («Тихие зо¬
ри»). По свидетельству Уно Кбдзи 14, молодежь тогда зачитыва¬
лась этим сборником, особенно «Тихими зорями» Зайцева.
В 1912 г. появился перевод «Ядовитого сада» Сологуба, также
391
горячо принятый японскими читателями. В 1915 г. Нобори издал
целую книжку рассказов Зайцева, общим заглавием которой
стало название первого помещенного в ней рассказа — «Тихие
зори».
Как было сказано выше, Нобори выполнял свою миссию не
только как переводчик, но и как критик-публицист и как историк
литературы. Соответственно этому он в дополнение к переводам
современных для тех лет русских писателей, переводам своим и
чужим, дал в 1915 г. книгу «Современные идейные течения и ли¬
тература в России». По отзыву Екэмура, эта книга «сыграла
большую роль в пропаганде русской литературы, в распростра¬
нении сведений о ней»15. О значении этой работы свидетельст¬
вует и факт переиздания ее в переработанном виде в 1923 г.
В 20-х годах положение в литературе стало изменяться как в
России, так и в Японии. В России после победы революции на¬
чала формироваться новая литература, советская; в Японии воз¬
никло направление, получившее название «пролетарской лите¬
ратуры».
Обращение к новой русской литературе, разумеется, не могло
произойти сразу же. Требовалось время, чтобы оформилась и ок¬
репла сама молодая советская литература; необходимо было
время и для того, чтобы зарождавшиеся еще во второй половине
10-х годов в Японии ростки новой революционно-демократиче¬
ской литературы дали первые всходы. Поэтому в первые годы
для Японии продолжала существовать еще только та русская
литература, с которой японцы были уже знакомы.
Все же и тут русская революция возымела свое действие:
она усилила внимание японцев к русской литературе. Это отра¬
зилось в целом потоке переводов и в переходе к более обстоя¬
тельному изучению русской литературы в целом.
Переводы появлялись один за другим. Переводили Пушкина,
Гоголя, Толстого, Достоевского, Гончарова, Гаршина, Чехова,
Короленко, Горького, Куприна, Бунина, Андреева, Арцыбашева,
Сологуба, Зайцева. Переводили, следовательно, и классиков рус¬
ской литературы и писателей — представителей различных на¬
правлений послеклассической поры русской литературы. Глав¬
ную работу вели прежние переводчики — Енэкава, Накамура,
Хара, Баба, Осэ. Среди них был, конечно, и Нобори. В 1920 г. он
издал три сборника рассказов: Андреева, Куприна и Арцыба¬
шева, Сологуба и Зайцева; в 1921 г.— два сборника рассказов:
Горького и Чехова. Как было уже упомянуто, в этом же году он
перевел «Чем люди живы» Л. Толстого; в 1922 г. издал «Сбор¬
ник лучших произведений современных русских поэтов».
Еще в 1915 г. Нобори начал преподавание русского языка
в университете Васэда— одном из крупнейших университетов
Японии — и работал там до 1919 г. Эта его деятельность способ¬
ствовала тому, что университет Васэда стал первым в Японии
высшим учебным заведением университетского типа, в котором
392
развивалось систематическое научное изучение русской литера¬
туры: на филологическом факультете этого университета было
открыто отделение русского языка и литературы. Во главе его
стал Ката га ми Нобуру.
Литературные интересы и взгляды Катагами сформировались
на почве японского реализма. Научной цитаделью этого направ¬
ления японской литературы был университет Васэда, а критико¬
публицистической трибуной — издаваемый этим университетом
журнал «Васэда бунгаку» («Васэдаская литература»). Ката¬
гами учился в университете Васэда и по окончании курса
(в 1906 г.) стал в нем преподавателем. Сначала он работал в
области английской литературы, но скоро перешел на русскую.
В 1915 г. он уехал в Россию и вернулся в Японию только в 1918 г.
Таким образом, он был свидетелем русской революции.
По возвращении в Японию он добился учреждения в своем
университете отделения русского языка и литературы и вскоре
стал во главе этого отделения. В 1924 г. ему пришлось, однако,
оставить преподавание. В этом же году он снова уехал в Россию,
где и пробыл до конца 1925 г.
Катагами работал как ученый и как переводчик. Ему принад¬
лежит перевод «Записок из мертвого дома» Достоевского. Но
главная его деятельность протекала в области литературной кри¬
тики и литературоведения. Изучая русскую литературу, он в пер¬
вое время находился под влиянием Айхенвальда, но пребывание
в России в годы революционных перемен заставило его обратиться
к изучению марксистского литературоведения. Первым результа¬
том этого изучения была написанная им в 1918 г. книга «Русская
литература», несомненно подготовленная во время работы в на¬
шей стране.
Меж тем менялось положение и в японской литературе.
В 1921 г. в ней возникло движение, которое по названию появив¬
шегося тогда журнала «Танэмаку хито» («Сеятель»), ставшего
органом этого движения, назвали «движением Танэмаку хито».
Журнал этот был основан группой молодых литераторов во
главе с Комаки Оми.
Комаки стал во главе движения, воодушевленный деятель¬
ностью Барбюса и возглавляемой последним группы «С1аг1ё».
С этой деятельностью он познакомился во время пребывания
во Франции. Его увлекли идеи, выраженные в известном мани¬
фесте группы «С1аг1ё», написанном в 1920 г. Барбюсом, и в
статье последнего «С ножом в зубах», в которой автор призывал
всех сознательных представителей интеллигенции стать на сто¬
рону социальной революции. Эти призывы в соединении с содер¬
жащимся в программе «С1аг1ё» решительным осуждением капи¬
талистического строя и его цивилизации через журнал «Танэ¬
маку хито» зазвучали теперь и в Японии.
Широко распространено мнение, что момент появления этого
журнала, т. е. 1921 г., есть дата начала истории японской проле¬
393
тарской литературы, все же предшествовавшее — не более чем
ее «предыстория». Конечно, появление «Танэмаку хито», как сви¬
детельствует последующее развитие движения,— факт первосте¬
пенной важности: журнал этот способствовал консолидации сил
и оформлению идеологической основы движения. Но нельзя не
учитывать значение и тех явлений в японской литературе, кото¬
рые стали обозначаться уже с 1916 г. под наименованием «рабо¬
чей литературы» («ро:до: бунгаку»), «народного искусства»
(«минею: гэйдзюцу»). Учитывать это явление тем более необхо¬
димо, что тем самым становится более понятным и мотивирован¬
ным тот бурный рост «движения пролетарской литературы», ко¬
торый обнаружился в 20-е годы. Крайне важным представляется
именно то, что этот рост был вызван прежде всего внутренними
причинами, коренящимися в самой общественной жизни того
времени.
Очень скоро новое направление японской литературы поняло,
что в народившейся и крепнувшей советской литературе оно
имеет могучего союзника. Выше уже было указано, какую роль в
этом повороте к советской литературе сыграл Курахара, позна¬
комившийся с советской литературой и с советским литературо¬
ведением тех лет на месте, в Москве. Появились новые переводы.
Кроме упомянутых «Разгрома» и «Железного потока», японские
читатели узнали «Чапаева» Фурманова и «Цемент» Гладкова.
В 1924 г. Енэкава перевел некоторые вещи Федина и Эренбурга.
Сменившие «Танэмаку хито» журналы «Дзэнъэй» («Авангард»),
«Бунгэй сэнсэн» («Литературный фронт»), «Сэнки» («Боевое
знамя»), «НАПФ» (сокращение «№рропа АгИз1а Рга1е1а Ребе-
гасю» на эсперанто) непрерывно печатали все сколько-нибудь
значительное, появлявшееся в 20-е годы и в начале 30-х годов в
советской литературе. Многие переводы выходили отдельными
изданиями, составлялись сборники. Коротко-говоря, советская
литература становилась в Японии чуть ли не столь же известной,
как и в своей собственной стране.
Переводились и важнейшие литературоведческие и критиче¬
ские работы советских авторов. В 1928 г. Курахара издал перевод
работы Луначарского под названием «О задачах марксистской
критики литературы и искусства» и работы Плеханова под за¬
главием «Искусство классового общества». Подобные переводы
появлялись один за другим. Неукоснительно переводились и вся¬
кого рода программные документы.
Позиция Нобори как переводчика и как литературоведа была
несколько особая. В широких кругах японского общества продол¬
жал возрастать интерес к русской литературе вообще, т. е. и к
русскому классическому реализму и к литературе предреволю¬
ционной эпохи. Особенно велико было тогда увлечение Достоев¬
ским, число переводов произведений которого и изданий этих
переводов непрерывно возрастало. «Записки из мертвого дома»,
«Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные»,
394 ,
«Идиот» — в переводе непосредственно с русского — были изве¬
стны японскому читателю еще с 1914 г. В 1916 г. в переводе Енэ-
кава вышли «Братья Карамазовы». После же войны популяр¬
ность Достоевского стала исключительной. Значительная часть
японской интеллигенции под влиянием войны и тех потрясений,
которые пережило сознание мыслящих людей и их нравственное
чувство, обратилась к Достоевскому как к источнику глубочай¬
шего, подлинно человеческого гуманизма. Но такое обращение
имело и другую сторону: для многих в это время на первый план
выступили реакционные черты творчества Достоевского, для них
Достоевский был тем, кто открыл «мир души» человеческой, и,
кроме этого «мира души», у него ничего не искали. Было чрезвы¬
чайно сильно и внимание к Толстому. С 1916 г. стал выходить
даже специальный журнал «Изучение Толстого» («Торустой
кэнкю:»).
Нобори учитывал запросы этой части японского общества и в
1924 г. дал японским читателям книгу, которая была для того
времени наиболее крупным и, как тогда многим казалось, отве¬
чающим запросам эпохи исследованием творчества этих двух рус¬
ских писателей. Это была работа Мережковского «Толстой и
Достоевский».
Одновременно он пересматривал и переиздавал свои прежние
переводы Достоевского и Толстого, добавляя к ним новые.
В 1927 г. в его переводе вышли пьесы «Власть тьмы» и «Живой
труп», было издано «Воскресение», в 1946 г. переведен «Кавказ¬
ский пленник» Толстого, в 1947 г.— «Маленький герой» и «Чест¬
ный вор» Достоевского. Обращался он и к Тургеневу: в 1914 г.
вышла его книга «Тургенев»; в 1937 г. он пересмотрел для выхо¬
дившего тогда нового полного собрания сочинений этого рус¬
ского писателя свой старый перевод «Отцов и детей»; в 1946 г.
дал перевод «Песни торжествующей любви». В том же году он
издал целый сборник рассказов Чехова («Володя», «Человек в
футляре», «Тиф», «Степь»), перевел «Яму» Куприна; в 1950 г.—
роман Арцыбашева «Санин», который, впрочем, был уже знаком
японским читателям. Благодаря такой работе Нобори и ряда
других выдающихся переводчиков в 20-е годы японские читатели
получили полное собрание сочинений Пушкина, Гоголя, Турге¬
нева, Толстого, Достоевского, Чехова и собрания сочинений мно¬
гих других русских писателей.
Переводя русских писателей-классиков и писателей предре¬
волюционного времени, Нобори следил и за тем, что появлялось
тогда в советской литературе.
Как было указано выше, в 1923 г. он опубликовал очерк «Ли¬
тература и культура в рабоче-крестьянской России». В 1924 г.,
вернувшись из России, куда он ездил на сельскохозяйственную
и промышленную выставку, он напечатал статью «Заря литера¬
туры новой России», а в 1928 г.— статью «Русская литература
после революции». Наряду с этой информацией он занимался и
395
переводами, в первую очередь произведений Горького. О его пе¬
реводе «На дне» и «Бывших людей» уже говорилось выше; в
1929 г. он добавил к этому перевод «Фомы Гордеева». Поскольку
в те годы произведения Горького переводили очень многие, Но¬
бори смог, уже опираясь на знание японским обществом этого
русского писателя, дать целую книгу о нем: в 1936 г. он опуб¬
ликовал «Жизнь и творчество Горького». Работа эта была пере¬
издана в 1947 г. Переводил он и многое другое: в 1927 г. вышел
в его переводе «Воздушный пирог» Ромашова, в 1929 г.— «Трест
ДЕ» Эренбурга и «Жизнь человека» Андреева, в 1930 г.— «Мед¬
вежья свадьба» Луначарского, «Мистерия-буфф» Маяковского,
«Любовь Яровая» Тренева, «Эхо» Билль-Белоцерковского. По¬
следним его переводом, сделанным в 1950 г., т. е. когда ему было
уже 72 года, совместно с другим переводчиком — Томинага
Дзюнтаро, — был роман А. Толстого «Сестры» — первая часть
трилогии «Хождение по мукам».
Нобори следил не только за советской художественной лите¬
ратурой: он стремился знакомить читателей своей страны и с
теми работами, которые считались тогда изложением принципов
марксистского литературоведения. В 1928 г. он под заглавием
«Теория пролетарской литературы» («Прорэтариа бунгакурон»)
издал перевод некоторых работ Когана, под заглавием «Марк¬
систская теория искусства» («Маркс-сюги гэйдзюцурон») — пе¬
ревод некоторых статей Луначарского, в 1930 г.— перевод «Со¬
циологии искусства» Фриче.
Разумеется, эти работы, особенно книга Фриче, представили
японскому читателю марксистское литературоведение со всеми
ошибками, вытекающими из того, что в этих работах впоследст¬
вии было справедливо определено как «вульгарный социоло¬
гизм». Японские критики и публицисты лагеря пролетарской ли¬
тературы также перенесли к себе многие из признанных впослед¬
ствии ошибочными установок РАППа. Первым, кто вступил на
путь преодоления вульгарного социологизма в Японии, был Ку-
рахара: в 1931 г. появилась его первая статья, трактовавшая эту
проблему,— «Борьба за ленинизм в теории искусства». Резолю¬
ция ЦК ВКП(б) 1932 г. о перестройке литературно-художествен¬
ных организаций и Первый съезд советских писател.ей в 1934 г.,
определивший творческий метод советской литературы как метод
социалистического реализма, помогли движению пролетарской
литературы в Японии уяснить правильный путь и своего разви¬
тия. Следует сказать все же, что рецидивы вульгарного социоло¬
гизма наблюдались даже в годы после второй мировой войны.
Обнаружившееся с начала 30-х годов усиление реакции стало
затруднять дальнейшее поступательное движение пролетарской
литературы. Прямые репрессии, обрушившиеся на левые орга¬
низации и на их деятелей, привели к временному свертыванию
всего движения. Затруднялась и работа по ознакомлению япон¬
ского общества с тем, что делалось в советской литературе. .Все
396
же отдельные переводы появились. Так, например, японские чи¬
татели узнали «Скутаревского» Леонова, первую часть «Петра
Первого» А. Толстого. Даже в годы второй мировой войны были
переведены «Русские люди» Симонова. В 1941 г. в серии «Миро¬
вая библиотека» («Сэкай бунко») в переводе Екэмура Еситаро
вышел сборник избранных работ Белинского, Сигэиси Масами
перевел две статьи Добролюбова — «Что такое обломовщина?»
и «Когда же придет настоящий день?» В переводе Нисио Сёдзи
вышли «Сказки для взрослых» Салтыкова-Щедрина. Эти изда¬
ния привлекли внимание прогрессивной части японской интел¬
лигенции, но затянувшаяся война прервала подобного рода
работы.
По окончании второй мировой войны в Японии создалась но¬
вая обстановка, которая отразилась в литературе новым обра¬
щением к русской и советской литературе. Освещение этого пе¬
риода должно быть предметом особой работы. Все же на одном
явлении необходимо остановиться.
В 1955 г. Нобори Сёму исполнилось 77 лет. Японцы говорят,
что этот возраст есть возраст знака «радость». Формально это
связывается с тем, что иероглиф «радость» в скорописном начер¬
тании похож на комбинацию цифр 7—10—7, т. е. похож на то,
как написали бы цифру 77. Но за таким формальным толкова¬
нием скрывается понимание, что достижение такого возраста для
человека есть радость.
Друзья и почитатели старого литератора превратили этот
знаменательный день в его жизни, его «юбилей», как мы сказали
бы, в день подлинной радости: они преподнесли ему изданную их
стараниями его последнюю работу — «Историю русской и совет¬
ской литературы» 16. В работе этой около 650 страниц. Содержа¬
ние ее — история всей русской литературы.
У Нобори за более чем пятидесятилетнюю деятельность, ко¬
нечно, накопилось много материалов для этой «Истории». Но все
же приведение этих материалов в должный порядок, их перера¬
ботка, всевозможные дополнения к ним потребовали от него де¬
сяти лет напряженной работы. Работа была закончена весной
1955 г., к моменту его юбилея: в августе того же года отпечатан¬
ный том уже лежал у него на столе.
В работе Нобори много интересного для нас, и она заслужи¬
вает нашего внимательного рассмотрения. Приведем из нее лишь
один короткий абзац из той части, где автор излагает свое пони¬
мание различий между старой и новой русской литературой.
Абзац этот содержит сопоставление героя старой и новой лите¬
ратуры.
«Прежний герой — индивидуалист; у нового нет ничего от ин¬
дивидуализма. Прежний герой предавался рефлексии, во внеш¬
нем мире он искал разрешения мучивших его вопросов; его соз¬
нание непрерывно терзалось мыслями о любви и смерти. Новый
герой не предается пустым умствованиям; его главной заботой
397
является жизнь, жизнь как борьба. Прежний герой стремился
познать мир. Новый герой также стремится познать мир, но для
того, чтобы его перестраивать. Прежний герой противопоставлял
себя миру: для него существовали „я“ и „мир“. Новый герой сое¬
диняет себя с миром. Прежний герой уделял много времени,
места, сил личному чувству, личной жизни, личному счастью.
Новый герой все личное отодвигает на второй план; общественные
интересы у него доминируют над личными, личное в нем слива¬
ется с общественным; и это не только не сужает его внутренний
мир, но, напротив, расширяет его.
Прежний герой весь уходил в мир чувств; он любил плакать,
читая роман. Новый герой не знает, что такое сантименты. Он
твердо уперся в великую землю, цепко ухватился за действитель¬
ность. Все, чего он ищет,— действительность. Другого интереса,
кроме интереса к реальным вещам на реальной земле, он не
знает. Поэтому-то он и покончил для себя со всяким идеализмом
и мистикой. Прежний герой воспевал разум и в то же время пре¬
клонялся перед мистическим познанием. Новый герой в общем —
рационалист, но его рационализм пришел от действительности.
Он стремится понимать точно, строить уверенно, разрушать убеж¬
денно. Его мировоззрение — диалектический материализм, и
этот диалектический материализм оберегает его от материа¬
лизма метафизического» 17.
Ясно, что Нобори мог написать эти строки только в конце
своей жизни. И они очень знаменательны, эти строки. Они гово¬
рят о том, что, изучая русскую литературу на ее путях, он сам
шел с нею по этим путям. Переводя произведения различных
русских писателей, знакомя своих соотечественников с русской
общественно-литературной мыслью, он не оставался вне той ли¬
тературы и той мысли, которую изучал; и то и другое станови¬
лось в какой-то мере содержанием его собственного сознания.
Именно поэтому он и смог в конце своего пути сказать приве¬
денные выше слова.
«История русской и советской литературы» была последним,
что создал Нобори. Через три года он, все время болевший,
умер. Русская литература и русское литературоведение должны
с благодарностью сохранить о нем память.
Нобори был одним из многих японских литературных деяте-
лей-переводчиков, критиков-публицистов, литературоведов, ко¬
торые отдали свои силы делу ознакомления японского общества
с русской литературой. Наиболее заслуженные из них, кроме
Нобори Сёму, также Енэкава Масао, Хара Кюитиро, Накамура
Хакуё, Осэ Кэйси, Курбда Тацуо, Сотомура Сиро (Баба Тэцуя),
Курахара Корэхито. Изучение их деятельности как посредников
является одной из очередных задач нашего литературоведения.
1959 г.
398
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Г. Брандес, Литература XIX в. в ее главных течениях. Французская ли¬
тература, СПб., 1895, стр. 1.
2 «Хикаку бунгаку, нихон бунгаку-о тюсин-то ситэ. Нихон хикаку бунгаку
кой-хэн», Токио, 1953.
3 «Нихон бунгакуси дзитэн», Нихон-хёронся, 1955.
4 Там же, стр. 893.
5 «Нихон бунгаку дайдзитэн», Токио, 1937.
6 «Нихон бунгаку дайдзитэн», стр. 99.
7 См. Р. Карлина, Белинский и японская литература,— «Литературное на¬
следство», т. 56, М., 1950, стр. 501, 512.
8 «Нихон бунгакуси дзитэн», стр. 726.
9 «Ниппон пурорэтария бунгаку хайкэй», т. III, Токио, 1955.
10 «Сэнки», 1928, № 5.
и* См. «Нихон бунгакуси дзитэн», стр. 894.
12 См. там же.
13 См. Н. И. Конрад, Чехов в Японии,— «Изв. АН СССР», отд. литературы
и языка, т. III, вып. 5, М., 1944.
14 «Нихон бунгакуси дзитэн», стр. 895.
15 Там же.
16 Нобори Сёму, Росия совэто бунгакуси, Токио, 1955.
17 Там же, стр. 538.
ТОЛСТОЙ В ЯПОНИИ
Тема «Толстой в Японии» одновременно и проста и сложна.
Проста в том смысле, что присутствие Толстого в сфере литера¬
туры Японии столь же естественно, как и в литературе любой
другой культурной страны современного мира; в Японии Толстой
только появился несколько позднее, чем на Западе. Тема эта
сложна потому, что затронул Толстой в Японии, как и всюду,
отнюдь не одну литературу: различными сторонами своей твор¬
ческой личности он вошел в духовную жизнь японского обще¬
ства, на многое в этой жизни повлиял — в Японии в некоторых
отношениях даже больше, чем на Западе.
Сразу же предупредим читателя: о переводах произведений
Толстого на японский язык мы скажем очень коротко. Дело тут
обстоит в высшей степени просто: все, что вышло из-под пера
великого русского писателя, японскому читателю известно хо¬
рошо и давно. Переводы Толстого начали появляться в 80-х го¬
дах XIX в. и с той поры выходили один за другим. Существует
бесконечное число изданий отдельных произведений; много¬
кратно выходили и выходят разного объема собрания сочинений;
издавались и «полные собрания». Появились переводчики, спе¬
циализировавшиеся на Толстом. Так, Ионэкава Масао перевел
его многие художественные произведения, Хара Кюитирб —
«всего Толстого», сейчас том за томом выпускает полное соб¬
рание сочинений Толстого в своих переводах Накамура Хакуё.
Это последнее издание служит свидетельством того, что интерес
к Толстому сохраняется в японском обществе и в наши дни.
Именно этот поистине живой общественный интерес к Тол¬
стому и заслуживает особого внимания: Толстой никогда не был
для японцев только писателем-художником; многих из них он
учил тому, как надо жить. Они его так и называли: «Учитель».
В 1895 г. в августовском номере популярнейшего и в те годы
еще передового общественного журнала «Кокумин-но томо»
(«Друг народа») появилась «Крейцерова соната». Перевод был
подписан двумя именами: Кониси Масутарб и.Одзаки Коё. Пер¬
вое имя тогда никому не было известно; второе, наоборот, гре¬
400
мело: это был один из наиболее известных писателей — вождей
новой литературы. Но перевел, конечно, первый: Одзаки рус¬
ского языка не знал. Кониси же не только знал русский язык,
выучившись ему в православной семинарии, учрежденной для
японцев при русской духовной миссии в Токио, но уже тогда на¬
чал увлекаться моральными концепциями русского писателя;
впоследствии он, как известно, долгое время лично общался с
Толстым и даже перевел для него трактат Лао-цзы — одного из
тех древних китайских мудрецов, которого Толстой особенно
чтил. Видимо, Одзаки Кое, опытный литератор, читавший «Крей-
церову сонату» в английском переводе, только литературно от¬
шлифовал работу тогда еще неопытного переводчика. Но его
участие в этом деле само по себе показательно: Одзаки всегда
стремился быть на уровне запросов своего века и, видимо, счи¬
тал, что тема, с такой силой разработанная в «Крейцеровой со¬
нате», именно этим запросам японского общества в те годы и от¬
вечает.
Так оно было и в действительности. 80—90-е годы — время
всестороннего преобразования жизни Японии. Страна перехо¬
дила на путь капитализма. Переходила не только эконо¬
мически и политически, но и социально. И социально
не только в смысле классовой перестройки, но и с точки
зрения пересмотра самих основ общественной жизни, осо¬
бенно моральных. Разумеется, одним из острых вопросов, встав¬
ших перед японским обществом, во всяком случае перед его пе¬
редовой интеллигенцией, был вопрос о любви — плотской и ду¬
ховной, о браке, о семье. Прежние, державшиеся столько веков
положения морали, сложившиеся в условиях феодального обще¬
ства, не могли удовлетворять поколение, которое выросло в ме¬
нявшемся социальном строе. Понятно, что «Крейцерова соната»
не могла не оказать самое сильное действие на многих японцев,
наиболее чутких к проблемам морали. Остался вполне видимый
след появления этого произведения русского писателя в Японии:
трактат «Киндайно рэнъайкан» («Любовь в современную эпо¬
ху»). Его автор — Куриягава Хакусон, профессор университета в
Киото, специалист по английской литературе, один из тех япон¬
ских ученых литераторов, которые были в своей стране проводни¬
ками литературы Западного мира и которые вместе с тем высту¬
пали по вопросам «современных идей», как тогда говорили, т. е.
по актуальным проблемам общественной жизни. Об умонастрое¬
нии этого японского автора можно судить хотя бы потому, как он
озаглавил одну из своих, очень известных тогда статей «Поки¬
нув башню из слоновой кости»Г
«Крейцерова соната» познакомила с русским писателем так
называемого широкого читателя; среди же тех, кто по возмож¬
ности следил за всем, что было в литературе и в общественной
жизни передовых тогда стран мира — а таких людей в
Японии тогда уже было много, — произведения Толстого
26 Н. И. Конрад
401
были не только известны главным образом благодаря англий¬
ским переводам, но и достаточно оценены. В этих кругах
Толстой был безоговорочно причислен к великим писателям.
Деятели общества «Минъюся» («Друзья народа»), изда¬
вавшего журнал «Кокумин-но томо», в котором был поме¬
щен перевод «Крейцеровой сонаты», выделили тогда из числа
литературных деятелей разных стран и эпох двенадцать таких
писателей и пропагандировали их творчество путем издания се¬
рии очерков, им посвященных К В 1897 г. в составе этой серии
вышел и очерк о Толстом. Автором его был Токутоми Кэндзиро,
по литературному имени Рока,— тот самый, воспоминания кото¬
рого о встрече с Толстым в Ясной Поляне напечатаны в русском
переводе в 75 т. «Литературного наследства». Это была вторая
его публикация, посвященная русскому писателю. Еще в 1890 г.,
в первые годы своей деятельности, он поместил в журнале «Ко¬
кумин-но томо» статью «Великое светило русской литературы —
Толстой».
Содержание новой работы Токутоми о Толстом — первого в
Японии обстоятельного очерка жизни и деятельности великого
русского писателя — открывает, что именно привлекало тогда в
Толстом японцев, во всяком случае таких, как Токутоми.
В 1897 г. он был еще молод. Это был представитель одного
из национальных вариантов мирового типа «молодого человека»
буржуазного века, первой поры истории этого века. Для Фран¬
ции, где этот тип особенно ярко запечатлен в литературных обра¬
зах, это была первая половина XIX столетия; для Японии, почти
на восемь десятилетий позднее вступившей на буржуазный путь,
это был конец XIX — начало XX столетия, т. е. пора, которая для
буржуазной Франции была уже «концом века». Поэтому в япон¬
ском типе «молодого человека», формировавшегося под влия¬
нием особенностей запоздалого общественного развития Японии,
с одной стороны, и веяний, шедших из передовых стран Запа¬
да,— с другой, причудливо скрещивались черты плохо преодоле¬
ваемой отсталости с безудержной жаждой нового, обязательно
самого нового, откуда бы оно ни шло.
Токутоми вырастал в атмосфере общества «Минъюся», глав¬
ным вождем которого был его старший брат Токутоми Сохо.
В 80-е годы это общество было средоточием пылкой молодежи,
увлеченной тогда еще новыми для Японии идеями буржуазной
демократии, образцы которой она видела в общественном строе
Англии и Соединенных Штатов Америки середины XIX в. На
страницах своего журнала молодежь вела борьбу с остатками
феодальных порядков, с косностью в политике, общественной
жизни, морали, нравах. Впоследствии, с укреплением буржуаз¬
ных порядков, этот пыл стал, естественно, остывать, а когда в
условиях того же буржуазного режима стали обнаруживаться
излишние с точки зрения добропорядочного буржуа радикальные
устремления, многие из деятелей «Минъюся», в том числе и сам
402
Токутоми Сохо, превратились в охранителей буржуазных усто¬
ев. Но в 90-е годы известный радикализм в них самих еще дер¬
жался, особенно среди более молодых членов. К ним-то и при¬
надлежал Токутоми Рока, впоследствие даже порвавший со сво¬
им старшим братом из-за расхождения с ним именно на почве
общественно-политических взглядов.
Токутоми Рока, с юности проявлявший особый интерес к
вопросам морали, нашел у Толстого то, что было близко ему са¬
мому: призыв ко всеобщему братству, к безграничной духовной
свободе, высокой нравственности, действенному, не скованному
догматизмом религиозному сознанию. Эти призывы казались ему
особенно острыми потому, что они звучали в России 90-х годов,
когда в нашей стране господствовала политическая реакция и
догматизм официальной религии, губительно действовавшие на
общество, разлагавшие его интеллектуальные и моральные ос¬
новы. Несомненно, что на эти стороны русской действительности
тех лет Токутоми обратил особое внимание потому, что симп¬
томы надвигавшейся политической реакции со всеми ее общест¬
венными последствиями он, как и многие из его поколения, ви¬
дел в своей собственной стране. Поэтому-то он так остро воспри¬
нял обличение Толстым пороков государственного и обществен¬
ного строя России и так горячо откликнулся на призывы русского
писателя бороться с этим злом. Отзвуками этих настроений по¬
лон его роман «Куросиво» (иначе: «Кокутё»), первая часть кото¬
рого первоначально печаталась в 1901 —1902 гг. в газете «Коку-
минсимбун», полностью роман был издан в 1903 г.2. Обличитель¬
ный пафос этого произведения Токутоми направлен против
реакционного режима, продажности и нравственного разложения
правящих кругов Японии 80—90-х годов.
Но Толстой увлек Токутоми и другой, автобиографической
стороной своего творчества. Молодому японскому писателю
важно узнать, каким путем шел молодой Толстой: он сам только
что пережил свою юность, бурную, исполненную всяких исканий,
и жаждал как-то осмыслить пережитое. Он и сделал это в своем
замечательном автобиографическом романе «Омоидэ-но ки»
(«Записи воспоминаний», 1901): в этом произведении можно без
труда заметить явную печать знакомства автора с «Детством»,
«Отрочеством» и «Юностью» русского писателя.
Не у одного Токутоми можно было в это время обнаружить
повышенный интерес к Толстому. В Японии последние годы XIX
и первые годы XX в.— пора всевозможных исканий, «исканий
истины», как часто тогда говорили. Одним из «искателей исти¬
ны» был Накадзава Ринсэн. Он посвятил Толстому работу, в ко¬
торой назвал жизнь русского писателя «последовательным про¬
явлением Великой Истины» и поставил Толстого в ряд с вели¬
кими гуманистами нового времени, к числу которых он — наряду
с Бетховеном и Ролланом — относил и Ницше в средний период
его жизни3. Позднее Накадзава в своих гуманистических воззре¬
403
ниях опирался главным образом на Толстого, Роллана и Гюго.
В последний период жизни этот японский литератор проявил
большой интерес к марксизму. О его отношении к марксизму го¬
ворит заглавие, данное им сборнику статей, посвященных этому
учению: «Синсякай-но кисо» («Основа нового общества», 1920).
Таким представляла себе Толстого Япония в первую пору его
проникновения в умы передовой японской интеллигенции. С воз¬
никновением русско-японской войны 1904—1905 гг. Толстой пред¬
стал перед японским обществом в другом свете.
Война застала японское общество на новом рубеже его но¬
вейшей истории. Закончился период переустройства страны на
капиталистических началах. За это время были введены основ¬
ные буржуазно-демократические институты: конституция, двух¬
палатный парламент, местное общественное самоуправление;
были юридически уравнены в правах сословия; обеспечена сво¬
бода совести — религиозных убеждений; установлено всеобщее
обязательное начальное (шестилетнее) образование. Вместе с тем
в деревне крепко держалось помещичье землевладение, обрекав¬
шее значительную часть крестьянства на положение арендато¬
ров; в промышленности сохранились элементы патернализма,
влиявшие на положение с наймом рабочей силы, на формы
эксплуатации. Развитие капитализма ставило под угрозу суще¬
ствование средних и мелких предпринимателей и торговцев, мно¬
гочисленных ремесленников и кустарей. Молодой японский капи¬
тализм перекладывал издержки своего роста на плечи трудя¬
щихся и готовился уже к захвату соседних стран — Кореи и
Китая. На этой почве сошлись интересы новой капиталистиче¬
ской буржуазии и старого феодального дворянства, обеспечи¬
вавшего складывавшемуся монополистическому капиталу право
на безраздельное управление и военную силу.
Эти противоречивые тенденции с приближением войны не
только с полной ясностью проявились, но и усилились. Именно в
годы, непосредственно предшествовавшие войне, начало склады¬
ваться рабочее движение современного типа. Как наблюдалось
всюду в других отстававших молодых капиталистических стра¬
нах, в нем сочетались элементы и социал-демократизма и анар¬
хо-синдикализма. Вокруг этого начального и пока еще очень ог¬
раниченного по размаху действий этапа активности рабочего
класса стало развиваться более широкое демократическое дви¬
жение, получившее наименование «Движения простых людей»
(«Хэймин ундо»)4. В него влились довольно широкие слои мел¬
кой буржуазии, в частности мелкобуржуазная интеллигенция и
даже некоторые категории крестьянства. Коротко говоря, япон¬
ское общество стояло на пороге борьбы за расширение демокра¬
тии. Наиболее прозорливые деятели этого движения хорошо по¬
нимали, что война помимо своей главной цели — колониальных
захватов — служит реакционной буржуазно-помещичьей власти
и для подавления начинающегося в стране широкого демократи¬
404
ческого движения. Именно поэтому главные деятели «Движения
простых людей» выступили против войны и в своей антивоенной
борьбе нашли мощную опору у Толстого.
Эту опору им дали известные статьи Толстого, направленные
против войны. Напечатанные за пределами России, они немед¬
ленно стали известны в Японии. Котоку Сюсуй, один из деятелей
«Движения простых людей», тут же перевел их с английского
перевода на японский язык и опубликовал в газете «Хэймин сим-
бун» — органе этого движения. Таким образом, сближение пере¬
дового слоя японского общества с Толстым произошло на почве
протеста против войны.
Котоку Дэндзиро, по литературному имени Сюсуй, однако,
не только опубликовал антивоенное выступление Толстого, но
напечатал и свою статью. В ней он восторженно оценил выступ¬
ление Толстого и целиком солидаризировался с ним, но реши¬
тельно не согласился с Толстым в объяснении причины войны.
Он отверг положение Толстого, что войны порождаются нравст¬
венным упадком людей, и заявил, что войны возникают в силу
экономических противоречий классового общества. Котоку Сю¬
суй тогда уже достаточно хорошо знал Маркса. Ему принадле¬
жит первый в Японии перевод «Коммунистического манифеста»;
он первый в Японии дал общедоступное, написанное в превос¬
ходной литературной форме, изложение основ социализма в
большой работе «Сякайсюгисиндзуй» («Сущностьсоциализма»).
Уже из этого одного ясно, что Котоку Сюсуй был человек иного
склада, чем Толстой: человек иных представлений о борьбе, о
демократии, о прогрессе. Ему, в частности, были совершенно
чужды религиозные идеи Толстого. Но при всем этом смелость и
острота обличения Толстым зол буржуазного общественного уст¬
ройства, гуманистический пафос русского писателя вызывали в
нем восхищение5. Так к Толстому стало подходить уже другое
поколение передовой части японского общества, поколение вто¬
рого, более высокого по уровню этапа борьбы за демократиза¬
цию своей родины.
Война не только не отделила Японию от России, но, наобо¬
рот, вызвала большой общественный интерес к нашей стране,
особенно к русской общественной мысли, воплощенной в русской
литературе. Усилился интерес и к Толстому, подогретый его ан¬
тивоенными статьями. Стало появляться в переводах все больше
и больше произведений русского писателя, увеличилось число
читателей.
Еще сильнее потянулся к Толстому Токутоми. Тотчас же по
окончании войны, в апреле 1906 г., он направился в заграничное
путешествие, которое назвал «паломничеством». Как пилигрим,
он направился к «святым местам». Такими «святыми местами»
были для него, как он сам говорил, Иерусалим и Ясная Поляна.
Это путешествие описано им в книге «Записки пилигрима»
(1906), часть которой, относящаяся к пребыванию в Ясной По¬
405
ляне, напечатана в уже упоминавшемся томе «Литературного
наследства».
О том, как Токутоми оценивал свою встречу с Толстым, чи¬
татель может судить по опубликованному переводу; здесь же до¬
бавим только то, что он написал в 1918 г. в автобиографическом
очерке «Весть весны». Он вспомнил, как, приехав в Ясную По¬
ляну рано утром, вышел прогуляться и дошел до скамейки в ле¬
су. Он прилег на нее и задремал. Вдруг он услышал голос, оклик¬
нувший его: к нему подходил сам Толстой с протянутой для руко¬
пожатия рукой. Рука Толстого в этом рукопожатии коснулась
руки Токутоми. Через много лет Токутоми понял, что это означа¬
ло. Он вспомнил, как на фреске, украшающей потолок Сикстин¬
ской капеллы, Микельанджело изобразил беспомощно лежащего
гиганта Адама и как мимо него проносится в могучем движении
величественный старец Саваоф: как он одним легким прикосно¬
вением руки делает эту груду человеком. Фреска так и именует¬
ся: «Сотворение человека». Токутоми понял, с ним тогда произо¬
шло то же самое — прикосновением руки Толстой превратил его
в человека6.
О том, что означало это «сотворение человека» в данном слу¬
чае, можно увидеть из действий Токутоми по возвращении из
Ясной Поляны: он решил порвать со своим прежним буржуаз¬
ным существованием, отказаться от писательской деятельности и
жить трудом своих рук. В феврале 1907 г. он приобрел в одной
деревушке неподалеку от Токио маленький участок, который
мог обрабатывать сам, собственными силами, и поселился там в
крохотном крестьянском, покрытом соломенной кровлей, домике
вместе с женой, приписавшись к местной деревенской общине,
т. е. став и формально крестьянином. Его идеалом было возвра¬
щение к единственно достойной, по его мнению, человеческой
жизни — к жизни земледельца, мотыга которого, как он писал,
поднималась над матерью-землей, сверкая в лучах солнца, на
заре человеческой истории, и будет сверкать «над тучной равни¬
ной Сахары» и тогда, когда «Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк,
Токио станут норами лисиц и зайцев»7. Короче говоря, он хотел
не только пойти по пути, указанному его русским учителем, но
пойти и дальше в осуществлении своих принципов. Заметим, что
у Токутоми детей не было, жена же его полностью разделяла его
убеждения и на протяжении всей своей жизни была его верной
спутницей.
Как и следовало ожидать, из всего этого ничего не вышло:
Токутоми скоро понял вопиющую фальшивость своего «опроще¬
ния» и возвращения к «праведной крестьянской жизни» и, будучи
всегда непримиримым ко всякой жизненной фальши, кончил тем,
что порвал с этим искусственным существованием и вернулся к
писательскому труду. Но об этом следует говорить особо, здесь
же мы упомянули об эпизоде в жизни японского ученика Тол¬
стого для того, чтобы сделать еще более ясным, насколько да¬
406
леко зашло влияние Толстого на одного из крупнейших японских
писателей нового времени. Остается только добавить, что лите¬
ратура от этого выиграла: «Бормотанье земляного червя» —
книга, излагающая всю историю этого «ухода» Токутоми из бур¬
жуазного мира, описывающая его жизнь в деревне с беспощад¬
ной к себе откровенностью, раскрывающая, как постепенно и не¬
заметно он стал обрастать собственностью, как ничего не вышло
из его «крестьянства», осталась замечательным документом и
одним из лучших произведений японской литературы. Все в ней
так и дышит Толстым, конечно, преломленным через японскую
обстановку и индивидуальность автора.
О возвращении писателя к реальной жизни и к общественной
деятельности и вместе с тем о сохраняющейся верности идеям
своего русского учителя красноречиво говорит следующий эпи¬
зод. В июне 1910 г. японская полиция неожиданно произвела ряд
политических арестов. Официальная версия объясняла эти аре¬
сты раскрытием подпольной группы революционеров-социали-
стов, замышлявших убийство императора. Главным руководите¬
лем этой группы был объявлен Котоку Сюсуй.
Поскольку арестованные были названы тяжкими государст¬
венными преступниками, суд был негласный. В январе 1911 г.
был объявлен приговор, по которому двадцать четыре обвинен¬
ных подлежали смертной казни через повешение. Разумеется, в
их числе был и Котоку Сюсуй.
В этих условиях Токутоми, одушевляемый идеями своего
русского учителя, не мог молчать. Он решил протестовать про¬
тив такого приговора. Сначала он обратился к Кацура Таро,
тогдашнему премьер-министру, с ходатайством об отмене смерт¬
ного приговора. Когда из этого ничего не получилось, он поме¬
стил в газете «Асахи» открытое письмо к императору Муцухито
с просьбой о спасении жизни осужденных. Между прочим, самый
факт помещения письма в одной из самых распространенных
японских газет говорит о вызванных этим приговором настрое¬
ниях в японском обществе. Под влиянием ли этих общественных
настроений или по каким-либо своим соображениям правитель¬
ство изменило приговор: для половины осужденных смертная
казнь была заменена пожизненной каторгой, но двенадцать че¬
ловек, в их числе Котоку Сюсуй и его жена Канно Суга, были по¬
вешены. Эти казни произвели на японское общество удручающее
впечатление.
Как реагировал на них Токутоми? Вскоре после этого ему
пришлось выступить с лекцией в Первой высшей общеобразова¬
тельной школе в Токио: у студентов этой школы было обыкнове¬
ние приглашать к себе известных литераторов. Токутоми про¬
читал им лекцию «Мухонрон» («О восстании»). В ней он резко
нападал на правительство, требовал свободы мысли, убеждений,
говорил о необходимости революции человеческого сознания,
духовной революции — важнейшей, по его мысли, вообще. Со¬
407
хранились свидетельства, что его выступление произвело на слу¬
шателей очень сильное впечатление.
«Тайгяку-дзикэн» («Дело о великом преступлении»), как офи¬
циально именуется процесс Котоку, было не только одним из
крупнейших по значению событий внутренней истории Японии,
оно сыграло роль пробного камня для определения гражданских
позиций японских писателей. С протестами выступили многие
крупные и передовые в то время писатели: Иосано Тэккан, Сатб
Харуо, Хирадэ Осаму, Исикава Таку боку, Акита Удзяку и неко¬
торые другие. Но они протестовали в своих произведениях —
рассказах, стихах — нередко в завуалированной форме, иноска¬
зательно. Нагаи Кафу, влиятельнейший уже тогда представитель
молодой литературы, хорошо знал, как он сам признавался, что
Золя в деле Дрейфуса счел своим долгом протестовать (именно
как писатель) против судебного приговора, бороться за справед¬
ливость и гуманность, но сам дальше простого протеста не пошел
и предпочел, как он выразился, укрыться в «сосаку саммай-но
«сэйкацу» («жизнь литературы, отрешенной от повседневности»).
Всем этим общественная репутация японских писателей была
спасена, но только один из этой среды, именно Токутоми, ре¬
шился на открытое, смелое для тех времен выступление.
Протест Токутоми против смертной казни явился наиболее
ярким проявлением революционного воздействия на него идей
Толстого в той мере, в которой это воздействие могло вообще
проявиться в кругах буржуазной интеллигенции. В дальнейшем
влияние Толстого в буржуазном обществе Японии идет главным
образом по линии идей гуманизма в его моральном и общечело¬
веческом аспекте.
Для понимания такого влияния Толстого на умы японцев,
наиболее ярко в ту пору сказавшегося именно на писателях, не¬
обходимо учитывать, какими путями проникали в Японию идеи
гуманизма в его западной версии, разумеется, в новой, уже
не возрожденческой форме, т. е. идеи европейского гуманизма
XIX в.
Гуманизм нового времени японцы последней четверти XIX в.
видели в том направлении общественной мысли в Англии, кото¬
рое выступало против философского и политического утилита¬
ризма, столь характерного для умов английской буржуазии
первой половины и середины XIX в. Гуманистами-борцами про¬
тив утилитаризма казались тогда японцам такие философы и
критики, как Рескин и особенно Карлейль, такие писатели, как
Диккенс. Продолжателя дела Диккенса они видели в Гессинге,
считая, что последний усилил социальную окраску диккенсов¬
ского гуманизма, приблизив его тем самым к представлениям и
запросам пролетариата. Однако высшей своей ступени этот но¬
вый гуманизм достиг в представлении японцев конца XIX — на¬
чала XX в. в России, в русской классической литературе, а в ней
наиболее полно и ярко у Толстого и Достоевского. На первых
408
порах из этих двух великих русских писателей главное место за¬
нимал безусловно Толстой.
Примечательна одна подробность, характеризующая начало
знакомства японцев с русским гуманизмом вообще и гуманизмом
Толстого в частности. 70-е годы, когда японцы о Толстом вообще
ничего не знали, были для Японии эпохой утилитаризма, питав¬
шегося веяниями, которые шли из Англии и Америки; новые,
буржуазные порядки, особенно в экономической области, высту¬
пали под знаком именно утилитаризма. Но уже тогда у части
молодой японской буржуазии стал зарождаться протест против
захлестывавшей все области жизни волны утилитаризма, порож¬
давшего грюндерство полностью авантюристического типа, деля¬
чество совершенно беспринципного характера, чуть ли не демон¬
стративное безразличие к интеллектуальным и моральным запро¬
сам. В поисках какой-то опоры эти круги японского общества
обратились: одни — к идеям Великой французской буржуазной
революции, другие — к русскому нигилизму, т. е. к тому, что им
казалось тогда самым революционным. На этом последнем пути
японцы столкнулись с С. М. Степняком-Кравчинским — с его
«Подпольной Россией» и другими работами, напечатанными за
пределами нашей страны8. От него и узнали о Толстом как гу¬
манисте.
Конечно, это было лишь первое, весьма смутное представле¬
ние об этой стороне личности Толстого. .Только после русско-
японской войны, когда знакомство с произведениями великого
русского писателя стало доступным, гуманизм последнего начал
обрисовываться с большей полнотой. Огромную роль в этом
сыграло «дело Котоку» — двенадцать смертных казней, потряс¬
ших всю мыслящую, обладающую чуткой общественной совестью
часть японского общества.
Главны^ произведением Толстого, представившим в глазах
японцев великий гуманизм русского писателя, был в эти годы
роман «Воскресение». В 1908 г. вышла в полном переводе первая
часть этого произведения, в 1910 г.— вторая. Переводчиком был
Утида Роан, один из крупнейших литературных критиков, обще¬
ственных публицистов и писателей тех лет. Перевод был сделан с
английского, но у переводчика был консультант, хорошо знав¬
ший русский оригинал, знаменитый Фтабатэй Симэй, основопо¬
ложник нового японского романа, первый проводник реалисти¬
ческого метода в новой японской литературе, метода критиче¬
ского реализма, усвоенного им у русской классической
литературы XIX в., первым в Японии знатоком и переводчиком
которой он был. Поэтому перевод «Воскресения», сделанный не с
русского текста, был достаточно верен оригиналу. Разумеется, в
дальнейшем последовали переводы, сделанные уже непосредст¬
венно с русского.
О том, какое впечатление произвело это произведение Тол¬
стого на японцев, можно судить по следующему факту.
409
В 1913 г. начал свою деятельность «Гэйдзюцудза» (Художе¬
ственный театр). Это была труппа, состоявшая из актеров евро¬
пейской школы актерского искусства и намеревавшаяся играть
пьесы новой драматургии, в первую очередь европейской. Во
главе труппы стояли Симамура Хогэцу и Мацуй Сумако. Первый
был тогда известным писателем — прозаиком и драматургом, ли¬
тературным критиком, одним из рьяных пропагандистов наибо¬
лее влиятельного тогда направления японской литературы —
«натурализма». Сначала под этим наименованием выступала
чисто реалистическая литература, со второго десятилетия XX в.
она действительно приобрела черты натурализма. Мацуй Сумако
была актриса, получившая театральное образование на курсах
«Бунгэй кёкай» (Литературно-художественное общество), осно¬
ванных в 1906 г. Цуббути Сёё, одним из крупнейших литератур¬
ных деятелей новой Японии, писателем, критиком, теоретиком
литературы и театра, знатоком Шекспира, подарившим своей
стране первый и образцовый перевод всех произведений вели¬
кого английского драматурга. В те годы Цубоути всю свою энер¬
гию направил в театральную сферу, поставив задачей создать
новый японский театр, основанный на новой драматургии и на
новом исполнительском искусстве. Мацуй Сумако еще до вступ¬
ления в труппу Художественного театра успела сыграть в спек¬
таклях, организованных Литературно-художественным общест¬
вом, роль Офелии в «Гамлете» Шекспира, Норы в «Кукольном
доме» Ибсена и Магды в «Родине» Зудермана. Первой пьесой,
поставленной в 1913 г. Художественным театром, была «Монна
Ванна» Метерлинка, главную роль в которой исполняла, разуме¬
ется, Мацуй Сумако. Тем самым она уже выдвинулась в первый
ряд актеров нового японского театра; однако решающее значе¬
ние для ее славы имело исполнение ею роли Катюши Масловой
в «Воскресении» Толстого, инсценированном для ц$е самим Си¬
мамура Хогэцу. В пьесу была введена песенка, которую пела
Катюша в сцене с Нехлюдовым еще в часы своего счастья. Прос¬
тая, доходчивая мелодия этой песенки, столь же простые тро¬
гательно-наивные слова благодаря удачному исполнению арти¬
стки стали как бы символом самой Катюши, во всяком случае в
первой фазе ее жизни. Песенку эту вскоре стала петь буквально
вся Япония. Ее не забыли и до сих пор.
Успех «Воскресения» был совершенно исключительный.
Труппа Художественного театра, не имевшая своего стационара
и все время разъезжавшая по стране, показала инсценировку
во многих городах и создала этому произведению Толстого не¬
слыханную до тех пор популярность. «Воскресение», а за этим
романом и другие произведения русского писателя стали читать
и те, кто до тех пор Толстым совершенно не интересовался. Еще
больше усилился интерес к Толстому после того, как Художест¬
венный театр поставил «Живой труп», разумеется, с Мацуй Су¬
мако в роли цыганки Маши.
410
Современные историки Японской литературы по-разному От¬
носятся к этим фактам. Некоторые считают, что спектакли Худо¬
жественного театра «снизили» Толстого, приспособив его к не¬
взыскательным вкусам массового зрителя. Действительно, в пьесе
«Воскресение» на первый план выступили те нотки этого, может
быть глубочайшего, произведения Толстого, которые могли зву¬
чать как «чувствительные», «трогательные» и т. п. Но в то же
время нельзя упускать из виду и то, что путь к овладению умами
часто идет через овладение чувствами. Во всяком случае тол¬
стовские спектакли Художественного театра привели к тому, что
Толстого стало читать бесконечно большее число читателей, чем
раньше.
Такое усиленное общественное внимание к Толстому не могло
не отразиться и на японской литературе. Симамура Хогэцу и
писатели его направления воспринимали Толстого в аспекте на¬
турализма. Но уже тогда, еще в годы, предшествовавшие первой
мировой войне, другая группа японских литераторов с ожесточе¬
нием восстала против натурализма в литературе. Они заявляли,
что натуралистическая литература изображала человека каким-
то механизмом, существом, утратившим всякую живую жизнь,
переставшим быть самим собою. Они призывали писателей воз¬
родить в литературе человека как такового, показать ничем не
ограниченную свободу его мысли, жизни, поведения; призывали
не описывать лишь то, что видно, а открывать в человеке, в
жизни невидимое глазу, новое, неизвестное; призывали всемерно
расширять внутренний мир человека.
Не подлежит сомнению, что многое в этих устремлениях воз¬
никло под влиянием некоторых течений европейского «конца
века» — течений, также вступивших в бой с натурализмом. Это
были главным образом те направления, которые выступали под
флагом то нового романтизма, то нового идеализма. Но еще бо¬
лее это японское движение было обязано Толстому, именно его
гуманизму. Поэтому наиболее общественно значительным на¬
правлением японской литературы этих лет стало то, которое по¬
лучило наименование «гуманизма». Главным его органом был
журнал «Сиракаба» («Белая береза»), основанный в 1910 г.
Это же название стало и наименованием всей группы.
Вождем этой литературной группы был Мусянокодзи Санэ-
ацу, впоследствии в 1910—1920 гг. занявший положение одного
из ведущих писателей Японии, «властителя дум» некоторой части
молодого поколения тех лет. Он и стал вторым после Токутоми
прямым последователем Толстого в Японии.
«Когда мне было еще двадцать лет, я уже преклонялся перед
Толстым, и мне не хотелось обращаться к кому-нибудь другому...
Вместо этого,— думал я,— лучше прочитать хотя бы одну стра¬
ницу Толстого»,— так писал Мусянокодзи Санэацу впоследствии.
Особенное влияние на него оказали «Исповедь» и «В чем моя
вера?» Толстого. Из этого явствует, что в Толстом его привле¬
411
кало не гневное обличение политического и общественного строя
своего времени, как это было у Токутоми, а моральные идеи, гу¬
манистический пафос. Он воспринял Толстого как проповедника
«любви к человечеству» (дзинруйай), как певца высоты челове¬
ческого духа. Захватили его и мысли Толстого о необходимости
жить своим трудом, отказавшись от личной собственности. Под
влиянием этих идей Мусянокодзи Санэацу поднял движение за
устройство трудовых земледельческих коммун, где каждый дол¬
жен был определенное время отдавать работе, обеспечивающей
удовлетворение общих нужд членов коммуны, остальное же время
мог бы отдавать труду по собственному выбору: писатель мог бы
писать свои произведения, ученый — вести свои исследования и
т. д. Так возникли под названием «Атарасики мура» («Новая де¬
ревня») трудовые коммуны интеллигенции. Первая из них была
организована в 1918 г. Это был японский вариант «толстовских
колоний» в России.
К этому можно только добавить, что в Японии эти колонии
были столь же непрочны, как и в России. Они распадались в
силу внутренних неурядиц, происходивших от органической
фальшивости подобных предприятий в условиях буржуазного
общественного строя. Все же они не только были сами нагляд¬
ным проявлением уже имевшегося большого влияния Толстого в
определенных слоях интеллигенции, но и способствовали усиле¬
нию интереса к произведениям и идеям русского гения в широ¬
ких кругах японского общества.
Влияние гуманистических идей Толстого сказалось на твор¬
честве и деятельности не только одного Мусянокодзи Санэацу,
но и других членов группы «Сиракаба», особенно таких, как про¬
заик Арйсима Такэо и драматург Курата Момодзо. Влияние
Толстого проявлялось различно: Мусянокодзи Санэацу оставался
в рамках этического гуманизма, Курата Момодзо был во власти
гуманизма религиозного, Арисима Такэо в конце жизни подошел
к гуманизму социалистическому. Все это требует, однако, осо¬
бого изложения и здесь сколько-нибудь подробно освещено быть
не может. Добавим только, что о росте общественного интереса
к идеям и произведениям Толстого свидетельствует появление в
1916 г. под редакцией Като Такэо — уже вне рамок движения
«Сиракаба» — специального журнала «Торустой кэнкю» («Изу¬
чение Толстого»).
В заключение необходимо сказать об общественной обста¬
новке, в которой происходило обращение к Толстому в описан¬
ный второй период «истории Толстого» в Японии.
Процесс Котоку Сюсуй и других привлеченных по делу о по¬
кушении на жизнь императора оказался симптомом поворота
во внутренней истории Японии. Поворот этот связан с
двумя взаимно противоречащими и вместе с тем взаимно
зависимыми обстоятельствами: с расширением общественной
борьбы за дальнейшую демократизацию политического и соци¬
412
ального строя и с усилением сопротивления этому движению со
стороны правящих кругов. Главная роль в общественной борьбе
все более и более переходила к рабочему классу с примкнув¬
шими к нему слоями буржуазной интеллигенции, при поддержке
наиболее активной части крестьянства; главными же устоями об¬
щественной реакции становились выраставшие монополистиче¬
ские организации японского капитализма, подчинявшие своему
влиянию бюрократический аппарат управления и органы поли¬
тической и военной власти. В такой обстановке в буржуазной
среде первое место заняла концепция этического гуманизма Тол¬
стого; элементы же воинствующего обличительного гуманизма
были приняты на вооружение новым классом, поднявшимся на
борьбу уже не только за буржуазно-демократическую пере¬
стройку своей страны, но и за переход ее на высшую, социали¬
стическую ступень демократии. Отражение этих революционных
идей Толстого теперь уже надлежало искать в так называемой
«пролетарской литературе» — наиболее общественно значимом
направлении японской литературы 20-х годов, революционно-
демократическом по своему содержанию.
Так продолжалось до начала 30-х годов, когда правительст¬
венные репрессии, обрушившиеся на Коммунистическую пар¬
тию Японии и на все левое движение, вынудили уцелевших его
деятелей перейти в подполье.
Революционную силу толстовского гуманизма хорошо пони¬
мали, однако, и наиболее умные и чуткие писатели, формально
стоявшие в стороне от пролетарской литературы. Одним из таких
писателей был уже упомянутый Арисима Такэо, другим — Аку¬
та гава Рюноскэ.
У последнего есть рассказ «Вальдшнеп»9 («Кидзи»). Сюже¬
том его служит один эпизод из жизни Толстого в Ясной Поляне:
приезд туда Тургенева и их совместная охота. Рассказ этот мо¬
жет служить превосходным свидетельством того, насколько уве¬
личилась популярность Толстого в широких кругах японского
общества, во всяком случае среди писателей. Этот рассказ напи¬
сан человеком, великолепно знавшим не только произведения
самого Толстого, но и обширную литературу о нем, в том числе
и мемуарную. Однако важнее другое. Акутагава Рюноскэ пре¬
клонялся перед Толстым как писателем-художником и совер¬
шенно не принимал его религиозно-нравственного учения. И все
же он сказал: «„Исповедь" и „В чем моя вера?“ Толстого были
ложью. Но ничье сердце не страдало так, как сердце Толстого,
ее рассказывающего. Его ложь сочится алой кровью куда боль¬
ше, чем правда иных» 10.
1964 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Это были: Карлейль, Маколей, Огю Сорай, Вордсворт, Гёте, Эмерсон,
Тикамацу Мондзаэмон, Аран Хакусэки, Гюго, Толстой, Рай Санъё и Такидзава
Бакин.
2 Токутоми Рока, Куросиво, пер. И. Львовой, М., 1957; там же статья
И. Львовой об этом романе и о творчестве Токутоми.
3 См. его рассказ «Араси-но маэ» («Перед бурей», 1918), где выведен
Ницше средней поры жизни и деятельности.
4 См. ст. Е. Жуков, Первый этап социалистического движения в Японии
и марксизм,— сб. статей «Памяти Карла Маркса», Л., 1933, стр. 759—779. См.
также Г. Д. Иванова, Котоку — революционер и литератор, М., 1959.
5 См. Г. Д. Иванова, Котоку — революционер и литератор; Деятельность
газеты «Хэймин симбун» и ее редактора Котоку Дэндзиро,— «Уч. зап. ЛГУ»,
серия исторических наук, 1956, № 220, вып. 26, стр. 142—155.
6 Токутоми Кэндзиро, Синсюн (Новая весна), Токио, 1918, стр. 37—39.
7 См. поэму Токутоми в прозе «Но» («Земледелец») в сб. «Мимидзуно та-
вагото», Токио, 1913.
8 «Подпольная Россия» С. М. Степняка-Кравчинского появилась в япон¬
ском переводе в 1884 г. под заглавием «Они сюсю» («Демоны вопиют»).
9 Акутагава, Новеллы, пер. с яп., пред. и комм. Н. Фельдман, М., 1959,
стр. 200—209.
10 Там же, стр. 401.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИИ
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В последние два-три десятилетия в различных странах мира
под теми или иными названиями появились труды, излагающие
историю литератур всех народов '. Эти работы очень различны и
по объему материала, и по его расположению, и по форме его
подачи, не говоря уже о различиях в трактовке как отдельных
частей материала, так и общего процесса исторического развития
литературы. Ведется такая работа и у нас.
Сама устойчивость стремления обобщить и осветить миро¬
вой историко-литературный процесс говорит, как мне кажется,
о том, что подобная работа подсказывается самим ходом раз¬
вития нашей науки. За последнее полустолегие чрезвычайно
возросло наше знание литератур различных народов мира. Не
говоря уже о давно и хорошо изученных литературах народов
Европы, мы в настоящее время достаточно хорошо знаем и лите¬
ратуры стран Азии и Африки; знаем их благодаря трудам ученых
этих стран и ученых различных стран Европы. Можно сказать
даже, что сейчас мы знаем историю литератур многих народов
Востока не хуже, чем историю литератур народов Запада.
В связи с этим и возникло вполне естественное желание этот
огромный материал как-то обобщить. Традиции старой, заслу¬
женной культурно-исторической школы давали при этом удобную
почву для подобного обобщения. Так возникли историко-литера¬
турные своды, излагающие истории различных литератур в рам¬
ках общей истории культуры человеческого общества. Эти
своды-обзоры, если они достаточно полны, уже самой своей
полнотой материала представляют очень большую ценность.
Но на этом дело не остановилось. Сводка материала со всей
ясностью показала наличие многосторонних и разнообразных
связей между многими отдельными литературами. Связь эта
была понята в аспекте влияния одной литературы на другую,
и на этой основе, как известно, возникло множество работ, рас¬
крывающих случаи подобного влияния. На этой почве возникла
даже целая школа сравнительного литературоведения, ведущее
место в которой с начала века заняла французская Н11ёга1иге
415
сошрагёе2. Само по себе влияние, т. е. активная роль чего-либо
в литературе одной страны в какой-либо области литературы
другой,— факт несомненный, наблюдаемый в истории очень мно¬
гих литератур. Поэтому работы, раскрывающие такие явления,
не только законны, но и просто необходимы.
Наличие связей, однако, было понято и в другом аспекте —
как показатель известной общности истории двух или несколь¬
ких литератур, обычно народов-соседей. На этой почве роди¬
лось представление о зональных литературах, например о лите¬
ратурах народов Западной Европы, славянских народов и т. д.
Тесная связь истории литератур некоторых народов — факт
несомненный, неоднократно наблюдавшийся в истории. В пра¬
вильном, конкретно-историческом понимании такого явления
открытие зональных литератур составляет большое достижение
литературоведения. Французская компаративистика показала
общность литератур в пределах одной зоны, той, в которую
входят литературы народов Западной Европы и Америки, при¬
том в определенное историческое время, главным образом в мас¬
штабе XVII—XIX вв., максимально—- с Ренессанса3. Этого, ко¬
нечно, недостаточно, но и за это литературоведение может быть
весьма обязано французским компаративистам. Во всяком слу¬
чае идея зональных литератур несомненно отразилась, и весьма
плодотворно, на некоторых из вышедших всеобщих историй ли¬
тератур.
И этим, однако, дело не ограничилось. Идея зональных лите¬
ратур естественно породила идею мировой общности литера¬
туры. В свете этой идеи выражение «мировая литература» полу¬
чило особый смысл — не совокупности отдельных явлений, пусть
и тесно связанных между собой, а явления самостоятельного.
На этой почве возникла даже особая отрасль компаративисти-
ческой школы, развивающаяся главным образом в США4.
Несомненно, аспект этот новый и безусловно важный; он не¬
обходим для понимания историко-литературного процесса. Но
только при правильном его понимании. Понятие «мировая лите¬
ратура» в американском сравнительном литературоведении об¬
разовалось в сущности путем распространения понятия «зо¬
нальная литература» на всю совокупность литератур: иными
словами, принцип связей, лежащий в основе концепции зональ¬
ных литератур, остается краеугольным камнем и этой концепции.
Разумеется, и тут налицо некая историческая реальность;
американские компаративисты говорят о литературе новейшего
времени, главным образом даже о литературе современности,
конечно, в широком смысле этого слова, а известная общность
всех литератур, во всяком случае с середины XIX в., факт не¬
сомненный. Но если оперировать только признаком связей и соз¬
даваемой ими общности, по необходимости придется ограничи¬
вать историю мировой литературы одной новейшей эпохой, т. е.
превратить понятие «мировая литература» из общего в частное,
416
применимое лишь к одному определенному историческому
этапу.
Мы назвали создаваемую ныне историю литератур всех на¬
родов и за все историческое время «историей мировой литера¬
туры». Из этого явствует, что мы понимаем выражение «мировая
литература» иначе. Наша работа должна раскрыть это иное по¬
нимание и его оправдать.
Но на этом пути необходимо сначала наметить несколько
частных вопросов; частных по отношению к общему — вопросу о
существе «мировой литературы» и ее судьбах, но самих по себе
достаточно общих.
I
Приступая к обозрению истории мировой литературы, мы
прежде всего сталкиваемся с одним вопросом, старым и элемен¬
тарным — с вопросом о составе литературы.
Факт разного состава литературы в разное историческое
время совершенно очевиден. В составе древнегреческой литера¬
туры мы находим «Пир» Платона, но «Так говорит Заратустра»
Ницше в составе немецкой литературы нового времени не зна¬
чится, «История» Тита Ливия и «История» Сыма Цяня входит в
состав литературы, первая — древнего Рима, вторая — древнего
Китая, но «Величие и падение Рима» Ферреро в составе итальян¬
ской литературы нового времени не числится, как не числится
в составе английской литературы того же времени «Герои и ге¬
роическое в истории» Карлейля — при всем бесспорно блиста¬
тельном, именно литературном, качестве этих двух произведений.
«Исповедь» Аврелия Августина безусловно памятник литературы
поздней античности в греко-римском мире (это произведение
даже называют первым по времени автобиографическим рома¬
ном), но вот «Исповедь» Жан-Жака Руссо то упоминается в ис¬
тории французской литературы своего времени, то нет; также и
«Исповедь» Льва Толстого в обычных историях русской лите¬
ратуры не рассматривается: о ней говорят только в плане общего
изучения творчества ее автора. Таким образом, очень сходные по
теме, характеру, несомненно замечательные по литературным
качествам произведения в более раннее историческое время вхо¬
дят в состав литературы, в более позднее — нет.
Бывает и обратное. «Троецарствие» и «Речные заводи» — про¬
изведения типа больших романов — эпопей, появившиеся в сред¬
ние века в Китае, долго находились в китайском литературове¬
дении за пределами того, что считалось литературой, а вот пуб¬
лицистическая статья, философский трактат тогда были литера¬
турой, да еще самого высокого плана. И только позднее, примерно
с XVII в., они стали признаваться литературными произведе¬
ниями. Следовательно, общественно-признаваемый состав лите¬
ратуры зависит и от представлений о литературном произведе¬
27 Н. И. Конрад
417
нии, а эти представления всегда историчны, т. е. определяются
общим положением литературы в данную историческую эпоху:
ее местом в культурной жизни страны, ее ролью в этой жизни;
определяются отношением общества своего времени к вопросам
темы литературного произведения, его материала, формы, жан¬
ра, назначения.
Все это известно, но сейчас при нашем выросшем знании ма¬
териала и лучшем понимании его становится ясным, что исто¬
рический состав литературы — одно из важнейших явлений исто¬
рии литературы. И чего более всего приходится опасаться — это
трафаретных представлений о ходе литературного развития: о
первоначальном недифференцированном составе литературы и
о последующем процессе его дифференциации; о постепенном
складывании особого явления, наименованного художественной
литературой и т. п. Опасность оперирования только этими поло¬
жениями — в том, что при таком подходе исчезает цельность, за¬
конченность в их неповторимом своеобразии литературных сис¬
тем каждой большой исторической эпохи, качественная полно¬
ценность каждой из них для своего времени и для своего обще¬
ства. Именно поэтому нам снова следует вернуться к вопросу об
историчности состава литературы.
2
Непосредственно с этим связан вопрос о представлениях о
литературе как об элементе ее истории. Забыть об этом элемен¬
те просто нельзя: сам наш материал настойчиво напоминает о
том, что история литературы есть вместе с тем и история пред¬
ставлений о ней. Хорошо известны, например, всевозможные
поэтики — трактаты о поэтическом искусстве, его формах и прие¬
мах, о существе и задачах поэзии. Подобными поэтиками усеяна
чуть ли не вся история поэзии индийской, японской, китайской,
арабской. Среди них особенно выделяются те, которые возника¬
ют в какие-либо особо значительные моменты, например, в такой,
какой запечатлен в «Мейстерзингерах» Вагнера. Заканчивается
поэзия мейстерзингеров. Стар становится сам знаменитый мас¬
тер Ганс Закс. На смену ему приходит Вальтер, у которого зву¬
чит совсем иная песня. Она очень не нравится Бекмессеру: ведь
Вальтер поет не так, «как положено», т. е. не по табулатуре, а
табулатура — закон. Закс же понимает, что пришло время имен¬
но такой песни. И оказывается, что на нюрнбергском фестивале
поэтической самодеятельности цеховых мастеров и подмастерьев
эта песня побеждает, табулатуре же, как и всякой табулатуре,
которая начинает воображать себя единственной истиной на све¬
те, предстоит сойти со сцены и даже еще хуже — превратиться,
как это получилось у жреца табулатуры Бекмессера, в карика¬
туру на самое себя.
418
Вот такой песней Вальтера в один из важных переломных
моментов истории поэзии народов Запада прозвучали стихи дк>
Белле, а вместе с ними заговорил и его знаменитый манифест —
«Защита и прославление французского языка», в котором даны
новые для французской поэзии, уже выходившей из средне¬
вековья, представления о поэтическом искусстве. В очень сход¬
ный момент истории поэзии в Японии на рубеже XVII—XVIII вв.
своей «песнью Вальтера» прозвучала поэзия Басё, а вместе с нею
и его мысли о сущности и задачах новой поэзии, которая шла на
смену поэзии хайкай — творчества цеховых мастеров и гильдей¬
ских купцов. Подобное соединение нового литературного явления
с новыми представлениями о литературе можно обнаружить поч¬
ти в каждой отрасли литературного творчества, притом как на
Западе, так и на Востоке.
Таким образом, история литературы слагается из двух пе¬
реплетающихся явлений — самой литературы, т. е. совокупности
литературных произведений, и мыслей о ней, т. е. представлений
о ее сущности, ее задачах и видах. Отсюда и вопрос о том, как
и в чем выражается взаимодействие этих двух явлений, каково
значение этого взаимодействия и чем определяется оно в жизни
самого общества. Но само взаимодействие — факт несомненный
и всеобщий.
3
Если считаться с историческим характером состава литерату¬
ры и допускать, что каждая большая эпоха имеет свою литера¬
туру как нечто цельное, общественно и эстетически для своего
времени полноценное, естественно возникает вопрос об истори¬
ческих системах литературы. Мы достаточно ясно видим удиви¬
тельную устойчивость однородных или очень близких явлений в
литературах разных народов одного и того же исторического вре¬
мени. Вряд ли простой случайностью следует считать, например,
факт одновременного существования в древнегреческой и древне¬
китайской литературе такого литературно-исторического жанра,
как «прагматическая история», и параллельно с ним такого, как
«исторические жизнеописания». В Греции это — «История» По¬
либия, в Китае — «История» Сыма Цяня, «Сравнительные жиз¬
неописания» Плутарха и «Жизнеописания» Сыма Цяня. Послед¬
ние хотя и не названы «сравнительными», но точно так же, как
и у Плутарха, построены на сопоставлении, казалось бы, разных
и в то же время в чем-то сходных фигур и судеб. В средневековой
Европе мы находим, с одной стороны, мистерии и миракли, с дру¬
гой — фарсы и фастнахтшпили. И в средневековой Японии были
свои мистерии — ёкёку, свои фарсы — кёгэн. Если учесть, что по¬
добные же произведения в своей жанровой форме встречаются
в средние века и у некоторых других народов Востока, невольно'
возникает мысль о закономерности параллельного возникновения
419
и развития двух противоположных видов драматургии и о при¬
надлежности их к одной системе. То же можно сказать о курту¬
азной лирике и куртуазном эпосе: в том или ином виде они пред¬
ставляют принадлежность системы литературы своего историче¬
ского времени. Вряд ли случайно существование в средневековой
литературе рядом с изысканно-галантной поэмой — новеллой
вроде «Окассен и Николет» и самого бесшабашного шванка. Или
так уж случайно одновременное появление обличительного ро¬
мана и слезливой мелодрамы, что очень показательно для ли¬
тературы последней поры феодального общества и во Франции
и в Китае? Едва ли вероятно, чтобы литературные формы роман¬
тизма и реализма — так, как они даны в художественных про¬
изведениях и в соединенных с ними манифестах, памфлетах, по¬
лемических статьях — не были бы взаимозависимы и чтобы эта
взаимозависимость не являлась одним из важнейших признаков
системы литературы капиталистического общества в пору его
расцвета. Ведь именно эти формы мы неизменно находим как в
литературах XIX в. Франции, Англии, России, так и в литерату¬
рах XX в.,— исторически сходного времени — в Японии, Турции.
Объяснять такие совпадения одним литературным влиянием
нельзя. Влияние может ускорить какой-либо процесс или замед¬
лить его, может направить его в какую-либо сторону, но вызвать
процесс, притом такой, который имеет кардинальное значение
для всей литературы данного народа, оно не может. Вопрос об
исторических системах литературы встает сам собой, и на него
необходимо так или иначе ответить.
4
Видимо, основные типы литературных систем придутся на та¬
кие большие эпохи человеческой истории, как древность, средние
века, новое время. Эти эпохи, конечно, сопряжены с определен¬
ными социально-экономическими системами — рабовладельче¬
ской, феодальной, капиталистической, но только в самой основе.
Все системы всегда находятся в движении: конец одного боль¬
шого этапа вливается в начало другого; начало нового этапа вы¬
текает из последней стадии прежнего. Поэтому «чистую» форму
общественно-исторической системы создает, по-видимому, сред¬
ний период ее истории, когда развитие всех элементов системы
идет в возможно гармоническом порядке.
Очень явственно этот факт обнаруживается в истории рабо¬
владельческого общества. В какую свою пору эллинская циви¬
лизация создала самое великое, что она дала миру, ставшее клас¬
сическим наследием для всех народов Европы? В среднюю пору
своей истории: в эпоху полисов, городов-государств. Именно то¬
гда действовали Сократ, Платон, Аристотель, Эсхил, Софокл,
Еврипид, Фидий и т. д. В какую свою пору древний Китай создал
420
культуру, ставшую, классическим наследием для всех народов
Восточной Азии? В свою среднюю пору — в эпоху Лето, горо¬
дов-царств. Именно тогда действовали Конфуций, Лао-цзы,
Чжуан-цзы, Ле-цзы, Сюнь-цзы, Гуань-цзы и т. д.
На такую же свою среднюю пору приходится и расцвет сред¬
невековой цивилизации — в форме, типичной для нее, только ис¬
кать ее наиболее показательную форму следует в истории не
старых, а молодых для того времени народов — тех, которые
шагнули к феодализму, миновав самостоятельный этап рабовла¬
дельческого строя: они пришли к феодальному строю свободны¬
ми от огромного груза античного наследия, которого у них про¬
сто не было. В Италии, например, переход к феодализму был
процессом сложным, перегруженным всевозможными элемента¬
ми, идущими из прошлого, и прошлого великого. То же можно
сказать и о других народах, в истории которых был этот всесто¬
ронне развитый этап рабовладельческого общества. Таких на¬
родов мы знаем в истории человечества не более пяти: эллины,
латиняне, иранцы, индийцы, китайцы. Они вместе с евреями древ¬
ности создали то, что составляет мировое «классическое» насле¬
дие. Поэтому моделировать систему средневековой литературы
следует скорее по литературе франков, англосаксов, японцев,
арабов, чем по литературе средневековых итальянцев или китай¬
цев. «Классическая», или средневековая, поэзия сложилась у про¬
вансальских трубадуров, германских минезингеров, арабских и
японских певцов. То же можно сказать о рыцарском эпосе. Он
создан именно исторически более молодыми народами. Вспомним
«Песню о Роланде» и «Слово о полку Игореве», «Песни с Сиде»
и «Сказание о Тайра».
5
Если вопрос о типичных для больших исторических эпох сис¬
темах литературы имеет решающее значение для раскрытия об¬
щего хода литературной жизни человечества, то для понимания
перехода литературы одной большой эпохи к другой исключи¬
тельную важность приобретают литературы переходных эпох,
так сказать «крайних» для каждой общественно-исторической
формации: выводивших из одной формации и вместе с тем под¬
водивших к другой.
В истории Западного мира такие переходные эпохи выявле¬
ны с чрезвычайной ясностью. Первая из них — время перехода
от древнего общества к средневековому, эпоха эллинизма, как
ее обычно называют; вторая — время перехода от средневековья
к новому времени, ей присвоено название эпохи Ренессанса;
третья — время перехода от нового времени к новейшему, обще¬
принятого наименования у нее пока нет, но дата ее рожде¬
ния известна всем: время «Парижской коммуны» и «Интерна¬
ционала».
421
Огромное значение этих трех переходных эпох для истории
литературы можно усмотреть хотя бы из того, что каждая из
них открывается гениальным литературным произведением, воз¬
вестившим ее наступление. О первой возвестил «О граде божи-
ем», о второй — «Божественная комедия», о третьей — «Комму¬
нистический манифест».
Наличие в истории Запада этих столь важных для истории
литературы переходных эпох сразу же ставит нас перед вопро¬
сом: что же, они принадлежность только народов Европы? Ина¬
че говоря, исторически они явление локальное?
История народов Запада — один из важнейших массивов ми¬
ровой истории. Как много она дала науке для понимания обще¬
исторического процесса в целом, видно хотя бы из того, что та¬
кие категории, как рабовладельческий строй, феодализм, капи¬
тализм, открытые исторической наукой в истории европейских
народов, оказались категориями общеисторическими. Поэтому
вполне законна мысль о том, что переходные эпохи подобного же
значения должны быть и в истории тех народов, которые, как гре¬
ки и итальянцы, имели свою древность со столь же великой раз¬
носторонней культурой. Такими народами были иранцы, индий¬
цы, китайцы. И они так же, как греки и итальянцы, перешли к
феодализму. Переходная эпоха у них, конечно, была.
Эпоха перехода от древности к средневековью — это уже не
рабовладельческий строй в его классической форме, но еще и не
феодальный также в его классической форме. Однако поворот
намечался и отразился в сознании людей. Эпоха эллинизма воз¬
никла и развернулась в истории старых цивилизованных народов
восточного Присредиземноморья — всех трех его частей: европей¬
ской, африканской и азиатской. Революция умов, происшедшая
здесь, состояла в крушении прежнего мировоззрения, языческого,
как тогда говорили, и замене его новым< христианским. Разуме¬
ется, и то и другое наименование — лишь самые общие обозна¬
чения, сами же комплексы явлений, которые этими наименова¬
ниями покрываются, весьма сложны, разнообразны и противоре¬
чивы, но все они равным образом вступили в борьбу со старым
миром. И это новое пришло в мир Римской империи как бы из¬
вне — с Востока: иудейского, сирийского, египетского — Римско¬
го Востока, как называют этот Восток историки. Собственно го¬
воря, революция умов началась и развернулась прежде всего
именно на этом Римском Востоке, но она захватила и греко-ла¬
тинскую часть «римского круга земель», в котором шел свой кри¬
зис старого сложившегося мировоззрения.
Переход от древности к средневековью у китайцев и иран¬
цев также сопровождался своей революцией умов. Такая рево¬
люция в первую очередь питалась собственными внутренними
источниками — далекими от идеологической ортодоксии идейны¬
ми течениями: тем, что в Китае суммарно называют даосизмом, в
Иране — манихейством. Сюда присоединялся и внешний фактор:
422
система идеологии, пришедшая извне. В Китае это был буддизм,
в Иране — ислам. Под воздействием этих двух сил и соверша¬
лась в этих частях мира перестройка умов в эту первую великую
переходную эпоху.
Вторая переходная эпоха — от средневековья к новому вре¬
мени— в Европе развернулась раньше всего в Италии; и то, как
она происходила в этой стране, раскрывает ее содержание. Это
была также революция умов, и она также черпала свое вооду¬
шевление из двух источников. Первый — то, что в кругах орто¬
доксальной идеологии называлось ересями; второй — то, что шло
из греко-римской древности, своей древности. Конечно, кое-что
пришло и извне: отчасти — из возникшего рядом арабского мира,
отчасти — из мира средневекового еврейства, но главными фак¬
торами умственной революции были несомненно два слоя:
один — из своей современности, другой — из своего прошлого.
Развитие событий, однако, показало, что второй фактор вы¬
шел на первое место, во всяком случае в глазах деятелей этой
второй переходной эпохи. Участию древности в перестройке их
собственного времени они придавали такое значение, что даже
все свое движение назвали «Возрождением». Разумеется ника¬
кого восстановления древности не было и не могло быть; факти¬
чески создавалась новая философия, новая политическая и пра¬
вовая наука, новая литература, новое естествознание, но древ¬
ность, конечно, по-своему была призвана содействовать этому.
Совершенно таку1р же картину мы наблюдаем в IX—XII вв.
в обширном индо-иранском и среднеазиатском мире. И там в
эти века происходила своя революция умов, приведшая в рас¬
цвету философскую мысль, литературу, науки — как гуманитар¬
ные, так и естественные. И, как и в Италии, это движение пита¬
лось из двух источников: из своей современности — различных
антиортодоксальных течений в исламе, и своей древности. На¬
сколько велико было значение этого движения в глазах его дея¬
телей, видно хотя бы из того, что они назвали происходящее
«Обновлением».
В VIII—XIII вв. подобное же движение со всей ясностью об¬
рисовалось и в Китае. Оно привело к созданию новой философии,
новой исторической науки, новой литературы. Питалось оно так¬
же из двух источников: из своей современности — различного
рода умственными течениями, противопоставлявшими себя офи¬
циальной идеологии, и из своего прошлого — древности. Сколь
значителен в глазах представителей этого движения был второй
источник, видно из того, что они назвали свое дело «возвраще¬
нием к древности» (фугу).
Таким образом, перед историками мировой литературы
встает вопрос: как исторически расценить эти факты? Видеть в
них некую случайность или закономерность? И далее: законо¬
мерность общего исторического хода, в своих собственных чер¬
тах проявившуюся в истории во всяком случае трех великих, и
423
несомненно, тогда в культурном отношении ведущих народов?
Избежать этого вопроса невозможно. Без его решения нельзя
просто понять хотя бы того удивительного расцвета лирической
поэзии, который связан с именами Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и,
Рудаки, Саади, Хафиза. Петрарки, Ронсара, Дю Белле.
Я не касаюсь здесь третьей переходной эпохи — нашей, но
думаю, что внимательное изучение двух первых, и именно во
всемирно-историческом аспекте, поможет нам лучше понять и
современную, а тем самым и процессы, которые происходят с
конца прошлого века в мировой литературе.
6
Все эти факты, когда удастся раскрыть их с должной полно¬
той и пониманием существа дела, позволят нам со всей ясностью
увидеть движение в литературах отдельных народов. Вместе с
тем они же, эти факты, позволят увидеть движение в литературе
и в общемировом плане. А для истории мировой литературы,—
если не подменять ее простой сводкой историй, отдельных лите¬
ратур,— вопрос о таком общем движении, пожалуй, и есть
главный.
Поясню эту мысль двумя примерами. Приняв положение о
возникновении своей, назовем ее «ренессансной», литературы у
старых народов — Китая, Ирана и Италии, мы тут же увидим,
что в дальнейшем соответствующие ренессансные явления заро¬
ждаются и у более молодых народов: в зоне Китая—у корейцев,
японцев; в зоне Ирана — у народов Северо-Западной Индии, у
среднеазиатских тюрков; в зоне Италии — у народов Западной,
Центральной и даже Восточной Европы. Таким образом, придется
констатировать, что ренессансные явления становились уже фак¬
тами мировой культуры. Но одновременно выяснится, что в ряде
случаев центр их перемещался: с течением времени наиболее
блистательные явления Ренессанса в некоторых областях куль¬
туры обнаружились не на родине Ренессанса в данной культур¬
ной зоне, а в другом месте. Так, например, своего кульминацион¬
ного пункта ренессансная драматургия на Западе достигла не в
Италии, а в Англии — в творчестве Шекспира, на Востоке — не
в Китае, а в Японии — в творчестве Тикамацу Мондзаэмона.
Следовательно, ренессансные явления начинаются, продол¬
жаются и заканчиваются всюду, и раньше всего — на своей ро¬
дине. Беря в качестве примера Европу, это можно сказать по
отношению к Италии, которая стала отставать как в своем со¬
циально-экономическом, так и в культурном развитии от более
молодых стран — Нидерландов, Англии и Франции. История
мировой литературы должна иметь дело с этим процессом.
Но помимо движения в каждой отдельной зоне есть и обще¬
мировое движение. Если основываться на хронологии Ренессанса
424
в каждой зоне, обнаружится, что сначала этот процесс обозна¬
чился в Китае — в VIII в., затем — в Средней Азии, Иране и Се¬
веро-Западной Индии — в IX в.; наконец — в Италии — в XIII в.
Закончился же он в XVII в. на дальних окраинах Старого Света:
в Англии — на Западе, в Японии — на Востоке. Возьмем другой
пример. Литература нового времени — литература капиталисти¬
ческого общества — в наиболее ярких формах развилась не в
старых странах, а в новых; не в Италии, а в Англии и Франции,
не в Китае, а в Японии. Потом этот процесс стал захватывать и
другие страны. Тем самым устанавливается и хронология про¬
цесса образования мировой системы литературы нового вре¬
мени— с XVII по конец XIX в. При этом движение этого миро¬
вого процесса оказалось обратным первому, ренессансному: с
Запада на Восток. Гребень этой волны наибольшей высоты до¬
стигает не в той стране, где процесс начался, а в другой: на
Западе — в России, в творчестве Достоевского, Толстого, Чехова;
на Востоке — в Японии, в творчестве Симадзаки Тосона, Нацумэ
Сосэки; разумеется, с совершенно различными уровнями — и ху¬
дожественными и общественными. К этим двум примерам можно
добавить и третий. Начало литературы новейшей, т. е. современ¬
ной, эпохи обозначалось явственнее всего на Западе — в России,
в творчестве Горького и Маяковского; на Востоке — в Японии, в
творчестве Кобаяси Такйдзи и Исикава Такубоку; разумеется,
на очень разных уровнях в художественном плане, но однород¬
ных по общественному звучанию для своей страны.
Так обрисовывается существо чуть ли не главного вопроса
истории мировой литературы: вопроса о движении в ней; о со¬
держании этого движения; наконец, о толчках, создающих само
движение, направляющих его и стимулирующих — откуда, когда
и как они, эти толчки, шли. Осветить это движение — одна из
важнейших научных задач нашей «Истории мировой литера¬
туры».
7
Существует ли все-таки «мировая литература» не в том ог¬
раниченном понимании, в каком это наименование прилагают к
литературе современного мира, а как некое особое явление, быв¬
шее во все времена? Ответить на этот вопрос можно, как мне
кажется, следующим образом.
Выше говорилось, что состав литературы исторически ме¬
нялся: его определяло реальное состояние литературы данного
времени и сопряженное с ним представление о литературном
произведении. Факт этот наблюдался в истории всех отдельных
литератур и в своих важнейших чертах является общим для них
всех.
Мы наблюдаем также, как постепенно в процессе указанных
исторических изменений состава литературы обрисовывается,
425
принимает все более и более определенное очертание и получает
самостоятельное бытие то, что человечество назвало «литерату¬
рой», т. е. особая категория духовной творческой деятельности
общества, отличная от философии, науки, искусства и вместе с
тем сопряженная с ними, поскольку она пользуется всеми их
средствами: понятиями, символами, образами, метром, ритмом,
эвфонией. Процесс этот неизменно наблюдается в истории всех
отдельных литератур, т. е. носит всеобщий характер.
В каждую большую историческую эпоху явления литературы,
на какой бы ступени ни находилось само ее формирование, все¬
гда складывались в некое целое, получающее значение системы,
отдельные части которой связаны друг с другом различными от¬
ношениями. Наличие таких систем наблюдается в истории всех
литератур, причем — и это особенно важно — в своих главных
чертах характер этих систем и даже их состав воспроизводится
в истории всех отдельных литератур; конечно, в однородные по
своему общественно-историческому содержанию эпохи.
История литературы состоит в движении этих систем — в
складывании, развитии и затем отмирании одних и появлении на
их месте других с той же последующей судьбой. Этот процесс
со своими особенностями также повторяется в истории всех от¬
дельных литератур.
Однако смена литературных систем не означает полной ут¬
раты того, что сменяется: смена означает процесс пополнения
наличествующих эстетических ценностей новыми. Понятие «на¬
следие»— совершенно реальное, и «наследие» это не только в
том, что продолжают оставаться живыми и для новых эпох мно¬
гие произведения эпох ушедших, но и в том, что эстетические цен¬
ности, воплощенные в этих произведениях, обогащают сознание
последующих поколений. Такая протягиваемая через века связь
и преемственность образуют реальный субстрат всего литера¬
турно-исторического процесса. Эстетическое накопление и
составляет суть прогресса, создаваемого средствами литера¬
туры.
Сменяющие друг друга литературные системы связаны между
собой и в ином отношении: в генетике литературных видов и жан¬
ров. Каждый вид литературы данной исторической системы,
каждый жанр бывает как-то связан со своим предшественником
в прежней системе. И даже тогда, когда в новой системе возни¬
кают совершенно новые виды и жанры, изучение открывает их
зависимость от старых. Разумеется, зависимость отнюдь не обя¬
зательно в смысле прямого продолжения или развития их; зави¬
симость может проявляться и в полном отрицании их. И это
также наблюдается всюду и всегда.
Различного рода отношения между литературами — факт,
присутствующий в истории всех литератур; конечно, в различных
в разное историческое время пространственных и временных
рамках. Поэтому и те литературные общности, о которых гово¬
426
рилось выше, отнюдь не создаются раз навсегда. Вспомним хотя
бы историю литератур народов Средней Азии: в средние века эти
литературы входили в состав общности, охватывавшей литера¬
туры народов Средней Азии, Ирана и Северо-Западной Индии;
в наше время они входят в состав литературной общности наро¬
дов Советского Союза. Факт существования своих для каждого
исторического времени зональных литератур засвидетельствован
всей историей. Исторические же изменения в числе, составе и
границах зон составляют один из элементов общеисторического
процесса.
Всюду, где только появляется литература, ее характер отра¬
жает социальную природу ее создателя. Природа эта меняется:
возникают племена, племена соединяются в народности, в составе
народностей формируются нации. Поэтому есть литература, ха¬
рактерная для эпохи племени, для эпохи народности, для эпохи
нации. Национальная литература в точном социально-историче¬
ском смысле этого понятия — категория особая, возникшая лишь
в новое время и в настоящее время безусловно господствующая.
Самый факт исторического изменения социального субстрата ли¬
тературы, определяющего характер, формы и границы сущест¬
вования литературы,— принадлежность истории всех больших,
длительно существующих литератур.
Таким образом, в истории известных нам отдельных литера¬
тур есть присущие им всем одни и те же черты; в движении их
истории наблюдаются одни и те же процессы, получающие зна¬
чение определенных закономерностей. Но наличие общих законо¬
мерностей у ряда развивающихся явлений свидетельствует, что
по своей природе эти явления едины. Поэтому сама история от¬
дельных литератур удостоверяет, что все они при всех своих ин¬
дивидуальных различиях — одно и то же явление: литература.
Но отдельные литературы соединяются в единое целое не
только на основе, так сказать, своего субстанционального един¬
ства. Связывает отдельные литературы и общее движение исто¬
рии. Как известно, история развертывается неравномерно: на
общем пути социально-экономического развития одни народы
выходят вперед, другие отстают. Такая неравномерность — одна
из движущих сил исторического процесса. Поэтому в каждую
большую эпоху толчок вперед создается в каком-нибудь одном
районе мира и под влиянием этого толчка возникает соответст¬
вующее движение и в других районах. Так наблюдалось в со¬
циально-экономической истории, так наблюдалось и в литератур¬
ной истории. Тем самым создается и общая история литератур
всего мира.
Существование историй отдельных народов не исключает су¬
ществования истории и всего человечества как явления зш пе¬
лене.
Точно так же и существование отдельных литератур не ис¬
ключает существование и мировой литературы. Каждая отдель¬
427
ная литература есть явление индивидуальное и вполне самостоя¬
тельное, но также вполне самостоятельным явлением уже вы¬
сшего порядка является и мировая литература.
8
Остается последний вопрос, которого я хотел бы коснуться,—
вопрос, возникающий перед нашим литературоведением именно
в связи с предпринятой работой по составлению «Истории миро¬
вой литературы». Стоит ли нам всю эту работу производить?
А если стоит, то для чего? Для того, чтобы узнать, как протекал
процесс зарождения и развития литературы у разных народов?
Несомненно и для этого. Чтобы увидеть этот процесс во всем его
действительно мировом масштабе? Да, и для этого. Это — науч¬
ные цели нашего труда.
Но есть и другие цели — общественные. История мировой ли¬
тературы может способствовать введению в круг сознания на¬
шего общества многого из того в мировой литературе, что этого
достойно. Конечно, нашими переводчиками и литературоведами
в этом направлении уже проделана огромная работа. Широкому
читателю нашего времени теперь известны: Медея, Ромео и
Джульетта, Фархад и Ширин, Петрарка, Ли Бо, Басё, Омар
Хайям и очень многое другое. Но пусть молодой человек нашего
времени знает не только Беатриче и Лауру, но и Ян Гуй-фэй и
Суламифь. Пусть зазвучит для него героика не только «Песни
о Роланде», но и «Сказания о Тайра». И пусть звучит,— потому
что и это нужно,— для нас не только Монтень, но и Экклезиаст.
Одной из существенных задач «Истории мировой литературы»,
впрочем, является не столько введение в сознание нашего обще¬
ства новых литературных фактов, сколько распространение над¬
лежащего понимания эстетической ценности их.
Другая общественная задача нашей работы — показать, что
«История мировой литературы» — продукт совместной деятель¬
ности всего человечества. Мы хорошо знаем большие культурные
зоны. Издавна народу Восточной Азии и Индии находились во
взаимной связи. Буддизм,— а это далеко не только религия, не
только философия, но и литература и искусство, причем послед¬
нее— во всех своих отраслях,— такой буддизм соединил в куль¬
турном комплексе страны Центральной, Восточной и Юго-Вос¬
точной Азии. В другом направлении индийская цивилизация со¬
прикасалась со Средней Азией, Средним и Ближним Востоком
и даже греческим миром, как времен Эллады, так и Византии.
Византийская цивилизация распространилась на Юго-Восточную
и Восточную Европу, а сама она входила в круг общеевропейской
цивилизации. Римская культура, другая часть этой общеевро¬
пейской цивилизации, охватила Центральную и Западную Ев¬
ропу. Восточносредиземноморский мир с его разноплеменным и
428
разноязычным населением — европейским, азиатским,, африкан¬
ским— превратился в одну огромную культурную зону еще в
эпоху эллинизма. Арабская культура со своим исламом в разных
его толках распространилась по необъятному пространству от
Испании до Индонезии. Одна из целей «Истории мировой лите¬
ратуры»— раскрыть эти многосторонние связи через сферу ли¬
тературы и, самое важное, помочь правильно понять эти связи:
понять, что разные части человечества, при всех своих распрях,
в области культуры всегда были в общении друг с другом и без
этого общения обойтись не могли.
Возможно, как мне кажется, думать и еще об одной задаче
«Истории мировой литературы»: она должна содействовать ук¬
реплению в общественном сознании представления о подлинном
критерии исторического общественного прогресса.
Существовали и существуют различные представления о том,
что надлежит считать прогрессом в культурной жизни человече¬
ства. Весьма распространено мнение, что прогресс следует видеть
только в повышении уровня материально-технической культуры.
Но даже тот отрезок истории, который четверть века назад про¬
шел на глазах ныне живущего поколения, со всей наглядностью
показал, что в одной из европейских стран едва ли не самый вы¬
сокий для того времени уровень материально-технической куль¬
туры оказался совместимым с едва ли не самым низким для ци¬
вилизованного человечества того времени уровнем морального
сознания. Вполне понятно, что этот факт, воспринятый во всей
его глубине и серьезности, многих привел к историческому скеп¬
тицизму, а некоторых и к еще более горькому — к историческому
пессимизму. Однако и это не было еще самым тяжелым: ведь и
скептицизм и пессимизм все-таки движение человеческого ра¬
зума, не могущего равнодушно пройти мимо всего происшедшего.
Гораздо страшнее, что одновременно распространился цинизм,
равнодушие, безразличие ко всему, кроме материальных благ,
отказ от всякой думы о будущих путях человечества.
Спор со скептицизмом, пессимизмом, с одной стороны, и
борьба с цинизмом, духовной инертностью — с другой, и явля¬
ются в настоящее время особенно необходимыми. И прежде всего
следует восстановить истинность простого положения: истори¬
чески прогрессивно только то, что сочетается с гуманизмом и
оправдывается им.
Мне кажется, что литература является одним из наиболее
мощных средств для того, чтобы утвердить в человеческом со¬
знании императивность этого положения.
Есть различные формы мышления. Одна действует в той об¬
ласти, которую мы называем наукой; другая — в той, которую
мы называем философией; третья — в той, которую мы именуем
искусством. Материал, с которым работает наша мысль, вызы¬
вает существование многих специфических отраслей как науки,
так философии и искусства, но все они для общественного со¬
429
знания человека представляют своеобразное целое. Это целое, от¬
лившееся в понятия, образы, символы, воплощено в языке, как
«в непосредственной действительности мысли»; а через язык,
возведенный в план искусства,— в литературе. Именно это и де¬
лает литературу синтезом элементов философии, науки и искус¬
ства. Именно этот синтез и делается достоянием общественного
сознания.
Если это так, то не является ли литература самым прямым и
самым мощным средством восстановления в общественном со¬
знании действенности представления о гуманизме, как высшем
критерии общественного и культурного прогресса?
Конечно, в нашем социалистическом обществе, призванном
всемерно повысить прежде всего этический уровень обществен¬
ного сознания, заботиться о восстановлении значения гуманисти¬
ческой концепции общественного и культурного прогресса не
требуется: эта концепция лежит в самой основе нашего строя. Но
все же напомнить об этом еще раз нужно, поскольку огромный
материально-технический прогресс настоящего времени с сопро¬
вождающим его великим взлетом теоретической мысли в этой
области при недостаточном развитии теоретической мысли в об¬
ласти духовных ценностей общественного существования вызы¬
вает у многих переоценку значения первого прогресса и недо¬
оценку важности второго. Вот почему указанная задача лите¬
ратуры в известной мере действительна и для нашего общества.
Если литература как таковая может наиболее ощутимо ввести
в общественное сознание гуманистическую концепцию прогресса
общественной жизни и культуры, то разве может какая-нибудь
иная отрасль знания лучше, чем история литературы, показать,
что этот критерий был действителен для цивилизованного чело¬
вечества во все времена его истории? Именно поэтому такая ра¬
бота получает особый смысл: она не просто очередное, пусть и
очень важное, научное предприятие, а большое общественное
дело.
9
И, наконец, последнее — о том, что нужно нам самим. Что мы
можем извлечь из истории мировой литературы? Мы — люди
третьей великой переходной эпохи. И нам ближе всего именно
переходные эпохи прошлого. Что же мы можем извлечь из них?
Я назвал три великих произведения, звавшие к созданию но¬
вого— для каждого исторического времени — своего будущего:
«О граде божием», «Божественная Комедия», «Коммунистиче¬
ский манифест». Как обрушился Августин на свой век! Как беспо¬
щадно бичевал его пороки! А что сделал Данте? Подверг прош¬
лое и все свое время настоящему страшному суду: кого поместил
в ад — каждого со специализированным для него наказанием;
кого нашел возможным подвергнуть только чистке; кого же счел
430
достойным рая. Следует ли напоминать, как обрушились авторы
«Коммунистического манифеста» на зло своего времени, своего
общества.
Все эти эпохальные произведения прежде всего — книги ве¬
ликого гнева.
Но как пламенно верил Августин в свой идеал, названный им
«Градом божиим», т. е. мыслимый в категориях общественного
сознания своего времени! Как страстно верил Данте в то, что
можно построить такое общество, которое было его идеалом! Как
было велико убеждение авторов «Коммунистического манифе¬
ста» в необходимости и достижимости нового общественного
строя! Все эти три произведения не только книги великого гнева,
но и великой веры, великой убежденности в высшей этической
природе того, к чему эти книги призывали.
И, наконец, эти три произведения есть книги и великой любви.
К человеку, к человечеству. Ведь о нем думали авторы этих про¬
изведений, о нем страдали, за него боролись, для него хотели
создать то новое, лучшее, что им рисовалось. Без этой великой
любви были бы бесплодны и гнев и вера. Вот это, как мне ка¬
жется, также может показать история мировой литературы.
И вряд ли это — последнее из того, что нам нужно.
1965 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Упомяну лишь важнейшие: Е. 1.аа1Ь$, ОевсЫсЫе Лег МРеКШега(иг, Е[пе
6езат1Лагз1е11ип(г, МйпсЬеп, 1953; О. Тгис, ШзШге Шиз1гёе Лез ИИёгаёигез,
Рапз, 1952; Е. Типк, П1из1г1ег1е ЦТёИШегсЛигцезсЫсЫе. 1п Лге'1 ВйпЛеп, 2й-
псЬ, 1954—1955; О. РгароНги, 81опа ипшег$а1е Ле11а 1Шега1ига, Топпо, 1959;
Н. V. Ерре1$сЬе1тег, НапЛЬисН Лег УРеШИегсЛиг, Ш. 1, 2. Ргапк!/М, 1950;
К. Ьауа1е11е, ШегаёшцезсЫсЫе Лег УРе11, 2йпсЬ, 1948.
* О ней см. М. Р. Оиуагй, 1а 1Шёга(иге сотрагёе, Рапз, 1951.
8 См. Р. Тхе§Ьет, НШосге ИШгшге Ле 1'Еигоре е1 VАтеНцие Ле 1а Кепш-
ззапсе а поз ]оигз, Рапз. 1946.
* См. \У. Р. Рпе^псЬ, ОиШпе о/ сотрагаИое Шега(иге /гот Оап1е АИцЫе~
П (о Ей. О’ЫеИ, СЬаре! НП1, 1954.
о всемирной литературе в средние века
I
1. То историческое время, которое в европейской историогра¬
фии принято называть «Средними веками», имеет свой особый
индивидуальный облик. В общем это — феодальный этап исто¬
рического пути человечества, но каждый народ приходил к этому
этапу в разное историческое время, глубоко по-своему; приходил,
отталкиваясь от своего прошлого, а это прошлое было разным: у
одних это был многовековой период «древнего общества», как
мы говорим, с его сложной, богатой культурной жизнью — лите¬
ратурой, наукой, искусством; у других — племенной союз с толь¬
ко оформлявшимися в нем элементами цивилизации. Поэтому и
формы, которые принимали феодальные отношения у тех и дру¬
гих, были различны, а от этого зависели и судьбы этих народов,
и создаваемые ими культуры.
Все же мы даем этому отрезку исторического пути человече¬
ского общества одно общее наименование, следовательно, видим в
нем какую-то целостность. Это объясняется тем, что все народы,
из деятельности которых сложилась история Средних веков, вхо¬
дили в определенную мировую систему, которую мы называем
феодальной.
2. Что значит в этом случае «система»? То, что все части, ко¬
торые входят в состав чего-нибудь, как бы ни были они различ¬
ны, подчинены чему-то одному, а это одно составляет ведущее
начало социально-экономического и культурного процесса в его
общеисторическом масштабе. Например, мы называем XIX в. ве¬
ком капитализма, но это отнюдь не означает, что капиталистиче¬
ский строй был тогда решительно во всех странах мира. Век этот
был капиталистическим потому, что капиталистическое направ¬
ление на общем пути экономического и социального развития
человечества было тогда главным, твердо установившимся и уже
показавшим свою эффективность в нескольких странах, ставших
тем самым для своего времени передовыми. Отстававшие страны,
пусть и с запозданием, либо переходили на тот же путь, а это зна¬
чило войти в систему капитализма, либо оставались при своем
старом строе, но подчинившись ведущей исторической силе, а это
значило также войти в систему мирового капитализма, только с
особым местом в ней.
В свете феодализма, как мировой системы именно в таком
смысле, мы и можем видеть в Средних веках определенную исто¬
432
рическую целостность, учитывая, что в этой системе были и свои
ведущие страны, и свои отстававшие, не говоря уже о разных
уровнях и формах феодализма даже там, где он утвердился.
Нельзя также упускать из виду и то, что вся эта система находи¬
лась в непрерывном движении, причем движении отнюдь не пря¬
молинейном и равномерном. Это проявлялось отчетливо хотя бы
в том факте, что в течение четырнадцати веков общей истории
феодального мира опережающие и отстающие страны менялись
своими местами. Поэтому единство в Средних веках это также
и общность самого исторического процесса — его направления и
составляющих его экономических, социальных, политических и
культурных сил и эта общность определяла, пусть и меняющий¬
ся, но все же глубоко свой облик всей этой большой исторической
полосы.
3. Сложен вопрос — с какого времени начинать историю Сред¬
них веков. Если ставить этот вопрос во всемирно-историческом
аспекте, ответить на него следует так: с того времени, как феода¬
лизм начал складываться как мировая социально-экономическая
система.
Когда это произошло? Ответ нам кажется ясен: в III—IV вв.
В эти века на феодальный путь стали переходить ведущие стра¬
ны Древнего мира: в Восточной зоне его — Китай (со II—III вв.);
в Срединной зоне — Иран (с III—IV вв.); в Западной зоне — Рим
(с III—IV вв.). Знамениями этого перехода были в Китае — вос¬
стание «Желтых повязок» и крушение Ханьской империи, в Ира¬
не— народные движения, приведшие к падению Парфянского
царства и к установлению державы Сасанидов, в Риме — ряд
восстаний в разных частях империи, экономические реформы
Диоклетиана и переход к режиму Домината.
Не менее ясно вырисовывается и время конца феодализма как
мировой системы: это — XVII век. Потому что в 70-х годах XVI в.
произошла первая в истории буржуазная революция — в Нидер¬
ландах, разумеется, и на своем уровне и со своими особыми исто¬
рическими задачами, а за нею последовали такие же революции
в Англии, в ее Северо-американских владениях, во Франции;
каждая — на своем уровне, в своей форме и со своими задачами
и последствиями. Таким образом XVII век является отчетливым
рубежом между уходящим миром феодализма и устанавливаю¬
щимся миром капиталистическим.
II
1. Однако, такое понимание термина «Средние века» не един¬
ственное: с ним соединяется и другое.
Четырнадцать столетий Средних веков были не неподвижно¬
стью, а движением; движением великим, разносторонним; ко¬
нечно, далеко не прямолинейным, но все же движением, имею¬
щим целенаправленное содержание. На всяком же пути всегда
бывают его отрезки, со стороны времени — периоды, в аспекте
28 Н. И. Конрад
433
содержания — этапы. Человечество за время своих «Средних
веков» прошло через несколько этапов. Если взять историю тех
народов, историческая и культурная жизнь которых началась в
Древности и в Средние века продолжалась с такой же полнотой
(а так было, например, у китайцев, персов, индийцев, греков, ла¬
тинян) в их Средние века явственно различаются три этапа: пер¬
вый был переходным, на нем шла борьба за утверждение новых
порядков, за создание новой культуры — той культуры, которая
начинала обрисовываться еще в конце Древности; второй этан
был временем наиболее своеобразного для феодализма социаль¬
но-экономического развития и расцвета новой культуры; тре¬
тий — время выхода этих старых народов на новые рубежи, со¬
пряженного с перестройкой некоторых форм общественной жизни
без утраты ее феодальной социально-экономической основы, но,
что для культурной истории было особенно важно,— с освобож¬
дением от власти идеологических догм, связывающих мысль и
деятельность человека, осознавшего самостоятельную ценность
своей личности. Лишь отправляясь от этих новых рубежей, сред¬
невековое общество могло подойти к своему «Новому времени»,
а в нем — к той поворотной эпохе, которая в истории Европы по¬
лучила наименование «Просвещения». Как известно, первый из
перечисленных этапов, который был определен как «переход¬
ный», часто именуется «Эпохой раннего феодализма»; третий —
«Ренессансом», во всяком случае — в истории Италии.
2. Из сказанного, однако, вытекает, что этапом, наиболее реп¬
резентативным для Средних веков, своего рода классическим для
них, был средний — время наибольшего расцвета феодального
строя, как прогрессивной для той полосы мировой истории обще¬
ственно-экономической формы, и сопряженной с этим строем спе¬
цифической культуры. Отсюда вытекает, что приходится употреб¬
лять термин «Средние века» двояко: в широком смысле, как об¬
щее обозначение одного из крупнейших отрезков пути всемирно-
исторического развития человечества и его культуры, и в узком
смысле, как наименование одной части этого большого отрезка,
когда и сам феодальный строй и его культура выступили в своем
как бы «чистом» виде, т. е. не осложненные ни отзвуками Древ¬
ности, что составляет отличительный признак первого, переход¬
ного этапа, ни предвестниками Нового времени, что является ха¬
рактерной чертой третьего, ренессансного, этапа. С таким двоя¬
ким употреблением термина «Средние века» считаться приходит¬
ся; необходимо только, чтобы всегда было ясно, что именно мы
имеем в виду, когда говорим о «Средних веках».
Ш
1. Предложенное моделирование исторического процесса
Средневековья относится к истории^ «старых» народов, т. е. на¬
родов, имевших в прошлом свою многовековую Древность с вы¬
сокоразвитой общественной и культурной жизнью, но отличи¬
434
тельной чертой той большой полосы истории человечества, кото¬
рую мы называем «Средними веками», было именно то, что к
старым деятелям истории присоединились молодые и притом в
высшей степени активные — те, которые до этого в своей массе
составляли принадлежность так называемой «варварской пери¬
ферии» старых культурных стран — Китая, Индии, Ирана, Гре¬
ции, Рима. Учитывать этот факт во всем его огромном историче¬
ском значении необходимо в интересах того же моделирования
исторического процесса, особенно — в аспекте создавшейся в нем
культуры, а в ее составе — литературы.
2. Молодые народы вошли в историю Средних веков. И даже
не просто вошли, а существенно повлияли на нее. Вторжение этих
народов в пределы старых во многом определило даже самый пе¬
реход старых народов от Древности к Средневековью, не^говоря
уже о последующем течении их судьбы. Но молодые народы
строили и свою собственную историю; одни — на собственных
землях и на собственной этнической основе, другие — на террито¬
рии старых стран, смешавшись с их населением. В последних слу¬
чаях некоторые из них не только сохранили свою этническую ин¬
дивидуальность, но и подчинили ей исконное население. Так
было, например, с вестготами, вторгшимися в Испанию; позд¬
нее — с арабами, захватившими Сирию и Египет. Другие, наобо¬
рот, смешавшись с местным населением, растворились в нем и ут¬
ратили свою этническую самобытность. Так было, например, с
сяньбийцами, в начале китайского Средневековья захвативши¬
ми северную часть страны и создавшими свое государство на об¬
ширнейшей территории от Желтого моря до подступов к Средней
Азии; так было с тохарами, вторгшимися в старую культурную
Срединную зону Старого Света; так было с остготами, занявшими
значительную часть Италии и создавшими на ней одно время
могущественное государство. Все это не только расширило ор¬
биту цивилизованного мира, не только внесло существенные из¬
менения в его этнический состав, но и оказало решающее влия¬
ние на течение всего исторического процесса и на его содер¬
жание.
3. Присутствие этих молодых народов мы явственно замечаем
в истории старых народов уже на первом из трех намеченных
выше и характерных для них этапов — на том, который мы пред¬
ложили называть переходным. Они, эти молодые народы, сыгра¬
ли в этом переходе весьма ощутительную роль. И все же этот
первый этап культурно-исторически приндалежал старым наро¬
дам. Достаточно указать хотя бы на то, что языком науки, фило¬
софии, публицистики продолжал оставаться исконный литера¬
турный язык старого народа: китайский, санскрит, персидский,
арамейский, коптский, греческий, латинский; оставались те же
системы письма — старые, испытанные, заслуженные; своего
письма молодые народы в тот старый мир, в который они вторг¬
лись, тогда не внесли. Исключение составили арабы, создавшие
435
свое письмо и навязавшие его покоренным ими народам, но араб¬
ское нашествие — явление относительно позднее и, как и другие,
еще более поздние, вторжения — тюркское и монгольское, имело
место на другом этапе истории старого мира: арабское нашест¬
вие произошло тогда, когда переходный этап у старых культур¬
ных народов Срединной и Западной зоны Старого Света уже
закончился, и арабы могли повлиять только на некоторые сто¬
роны второго, «классического» для этих народов, этапа Средне¬
вековья. Первый же этап, переходный, принадлежит — во всей
полноте своего всемирно-исторического смысла — истории старых
народов.
4. Иначе обстоит дело со вторым этапом: он принадлежит и
старым и молодым; создавали его и те и другие. Но главную роль
тут сыграли именно молодые. Разумеется, и у старых народов
появилась своя репрезентативная для этого этапа культура, своя
средневековая литература, но для человечества наиболее новое в
классической культуре Средневековья создали народы молодые.
Разве можно сравнить яркость такого подлинно классического
для средневековой литературы вида поэзии, как любовная ли¬
рика японцев, арабов, провансальцев, с такой же поэзией китай¬
цев и итальянцев? Разве можно сравнивать куртуазный эпос, т. е.
другой столь же классический для Средневековья вид литерату¬
ры, у японцев и новых западноевропейских народов с такой же
прозой у какого-нибудь старого народа? Даже у такого, у кого
подобный эпос был сравнительно хорошо представлен,— у пер¬
сов? Это не значит, конечно, что и на этом втором этапе у ста¬
рых народов не появилось ничего яркого, свежего, показатель¬
ного для этого времени, но все же с точки зрения всемирной
истории литературы наиболее типичные для классического Сред¬
невековья литературные произведения были созданы молодыми
народами, обретшими к тому времени и свое письмо и свой лите¬
ратурный язык.
IV
1. Остается сказать о третьем, последнем этапе Средневековья
в широком смысле этого слова, о том этапе, который на Западе
назвали «Возрождением». Особенности развития науки в Европе
привели к тому, что явление, обнаруженное в исторической жиз¬
ни одного из старых народов мира — у итальянцев, осталось не¬
замеченным у других старых народов, обладавших не менее древ¬
ней и богатой культурой и также переживавших свое Средневе¬
ковье,— у китайцев и иранцев. Инерция исторического мышле¬
ния, создавшаяся европейским происхождением нашей нынешней
исторической науки, привела к тому, что чему-либо незамеченно¬
му или неоцененному в истории других, не менее старых народов
мира, но не европейских, стали отказывать вообще в праве на
существование. Это делается даже тогда, когда историки этих
других старых народов соответствующие факты открыли, описали
436
и оценили. Вместо мысли о том, что «Возрождение», составившее
особый этап в историко-культурной жизни одного древнего на¬
рода, могло в своей форме и на своем уровне наблюдаться и в ис¬
тории других древних народов, также, как и итальянцы, имевших
в прошлом свою богатую Античность, вместо этой — столь есте¬
ственной — мысли, появилось как бы принципиальное недопу¬
щение «Возрождения» где бы то ни было, кроме Италии и неко¬
торых других стран Европы, испытавших на себе влияние италь¬
янского Возрождения. Оставаться на такой позиции мы не мо¬
жем; перед нами ясная картина своего «Возрождения» в истории
китайского народа и в истории иранских, тюркских и северо-ин-
дийских народов Срединной зоны.
2. Историческая реальность такого этапа в жизни старых на¬
родов вытекает прежде всего из известной закономерности в воз¬
никновении и смене культур. В эпоху классического Средневе¬
ковья центрами общественной жизни и культуры были замки,
дворцы феодальных правителей с их многочисленным и пестрым
по людскому составу двором и монастыри со столь же многочис¬
ленными и разнообразными обитателями. И там, и там была своя
интеллигенция — ученые, художники, поэты, а они и были тогда
главными создателями культуры, в ее составе — литературы.
Иная картина появилась на третьем, ренессансном этапе: с зам¬
ком и монастырем стал уверенно конкурировать город, как торго¬
во-ремесленный и культурный центр. Это означало, что к числу
культурных деятелей присоединился новый общественной слой —
городские сословия, а в нем образовалась своя интеллигенция.
Поскольку же дворцы, -замки и монастыри оказались тогда свя¬
занными с городами, постольку, естественно, и в их среде интел¬
лигентские круги сближались и даже сливались с городскими.
Вот этот новый, порожденный самой историей феодального об¬
щества, общественный слой и стал теперь основным деятелем
культуры. А так как прежние, цепко ухватившиеся за человече¬
ские умы нормы и категории мышления, готовые, чеканные фор¬
мулы мешали создавать новое, нужное для прогресса в том на¬
правлении, в каком пошла история, оказалось, что главное, что
требовалось сделать, это — бороться с готовыми формулами, соз¬
давать новые нормы мышления, открывать другие — чисто чело¬
веческие — ценности и вырабатывать другие подходы к ценно¬
стям существующим. Это не был еще общественный переворот,
что-то вроде начала капитализма: до этого было еще далеко; эко¬
номически господствующим строем был все еще феодализм, но
пришедший к тому этапу своей истории, не пройдя которого, он
не смог бы впоследствии подвести свои народы к порогу Нового
времени, проложившего дорогу к капитализму. '
3. В свете сказанного становится, как нам кажется, ясным,
почему третий, ренессансный этап начался и наиболее полно раз¬
вернулся именно у старых народов: у них, и только у них, была в
прошлом культура, исчислявшаяся многими веками, у некоторых
437
даже тысячелетиями. Конечно, было время — на первом этапе
Средневековья, когда они отвергали свою старую культуру и бур¬
но приветствовали то новое, что рождалось в их собственном
мире, и даже то, что сделали с их старым миром «варвары». Да,
конечно, многое в их старой культуре поблекло и даже исчезло,
многое удержалось, только развиваясь в новом направлении, но
все же духовная, интеллектуальная сила, вошедшая в старые на¬
роды вместе с их тысячелетним культурным опытом, оставалась;
оставалась и инерция, шедшая от старых культурных навыков;
пусть и в измененной форме, но продолжали действовать и не¬
которые старые институты. Может быть, этим отчасти объясняет¬
ся и тот факт, что в своем наиболее показательном виде феодаль¬
ная культура, а в ее составе — литература, оказалась созданной
не старыми народами, а новыми: последние были более свобод¬
ными в своем литературном творчестве. Но для крутого пере¬
лома, потребовавшего огромной силы мысли, изменения самого
мышления, должной подготовки у них не было. Разумеется, они
не остались за бортом начавшегося нового процесса: его направ¬
ление не было случайностью или явлением местным; оно опреде¬
лялось требованиями всего развивающегося феодального обще¬
ства; но присоединились они к этому процессу не сразу. Ренес¬
санс у китайцев начался в VIII в., в соседней же Японии истори¬
чески сходные или близкие явления стали обнаруживаться лишь
в XIV в.; у иранцев Ренессанс начался в X в., у тюрков он по¬
явился в XIV—XV вв.; в Италии Ренессанс начался в XIV в., во
Франции — в XVI в.
4. Однако и тут повторилось то, что уже раз имело место в
истории: Ренессанс у старых народов, открывших этот новый
путь, через какое-то время увял и замер, а у некоторых из них
наступила даже полоса длительного замедления поступательного
хода исторического развития; у новых же народов, присоединив¬
шихся к Ренессансу позднее, да еще во многом по-своему, он при¬
вел к следующей большой, поступательной по значению, ступени
исторического процесса — той, которую мы называем «Новым
временем». Напомним, что первыми странами в Европе, в кото¬
рых произошла буржуазная революция, были Нидерланды, Анг¬
лия и Франция, а отнюдь не старая Италия — родина европей¬
ского Ренессанса; что страной, в которой произошла первая бур¬
жуазная революция в Азии, была Япония, а отнюдь не старый
Китай, у которого в прошлом была эпоха блистательного Ренес¬
санса. Да, с Нового времени ведущая роль во всемирно-истори¬
ческом процессе перешла к молодым народам истории. К ним
перешла ведущая роль и в литературе.
V
1. Однородные этапы истории литературы, как у народов ста¬
рых, так и у народов молодых, протекали далеко не одновремен¬
но. Так, например, первый — переходный — этап у китайцев на¬
438
чался в III в. и уже в IV в. там появился такой поэт, так Тао
Цянь, творчество которого может служить свидетельством клас¬
сического для средневековой литературы этапа; в Римской же
империи в IV в. только начинался переход к Средневековью.
У японцев литература начала формироваться в VII/VIII вв., а у
франков в 1Х/Х вв. Явления, обозначавшие наступление эпохи
Возрождения, в Китае стали возникать в VII/VIII вв., у иранцев в
1Х/Х вв., в Италии — только в ХШ/Х^ вв. Неравномерность ми¬
рового общественного процесса — одна из существенных черт
всемирной истории и подобная неравномерность в общем течении
литературы вполне естественна и может даже служить опорой в
раскрытии мирового ее течения. Поэтому три даты— 111/1^ вв.,
ХП/ХШ вв. и ХШ/Х^ вв.— являются большими вехами на ми¬
ровом пути средневековой литературы.
2. Начальная и конечная вехи вполне ясны: во П/Ш вв. новую
для истории цивилизованного мира того времени — феодаль¬
ную — полосу этой истории открывает Китай и в нем начинается
переход к литературе* характерной для Средневековья; в конце
XVI в. капиталистическую полосу всемирной истории открывает
революция в Нидерландах и с XVII в. в Западной Европе начи¬
нает формироваться литература, отвечающая запросам насту¬
пающего Нового времени. Из предыдущего также ясно, почему
VII/VIII вв. являются датой всемирно-исторического значения: в
эти века начинают создавать свои литературы японцы и арабы,
а мы знаем, что значило для всемирной истории литературы по¬
явление литератур у молодых народов. Требуется, следовательно,
только объяснение третьей даты — ХШ/Х^ вв.
3. На этом рубеже, как известно, начинается эпоха Возрож¬
дения в Италии, а мы знаем, что итальянское Возрождение спо¬
собствовало развитию ренессансных явлений и у молодых наро¬
дов Европы. Это — бесспорно, но все же почему начало Возрож¬
дения в Италии превращается в дату всемирно-исторического
значения? Хронологически эра Возрождения в Средневековом
мире зародилась в VII/VIII вв. в Китае, в 1Х/Х вв. началось Воз¬
рождение и на Среднем и Ближнем Востоке. Не может быть соч¬
тено всемирно-исторической датой начало Возрождения в Ита¬
лии и с «качественной» стороны: как бы ни был велик Петрар¬
ка — первый поэт итальянского Возрождения, как бы ни были
значительны другие поэты этой эпохи, все же ничуть не уступают
им ни Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюй-и — великие поэты Китайского
Возрождения, ни Рудаки, Саади, Хафиз — замечательные поэты
Иранского Возрождения. И все-таки есть одно обстоятельство,
побуждающее усматривать в Итальянском Возрождении событие,
по своему значению выходящее за рамки не только истории Ита¬
лии, но и истории Запада: пусть и отдаленным, но все же послед¬
ствием исторического процесса, начавшегося в эти века в Италии,
стал переход цивилизованного мира к Новому времени.
439
4. Возрождение в Италии сопровождалось развитием ренес¬
сансных явлений в культуре, в литературе других стран Европы,
среди них — в Нидерландах, Англии, Франции. Мы знаем также,
что культура Возрождения в дальнейшем вышла на первый план
и в них и — после сложных «зигзагов», среди которых был и та¬
кой блистательный, как Барокко,— подвела эти страны к эпохе
Просвещения. К своей эпохе Просвещения пришла, конечно, и
Италия, но по силе, яркости, по историческому значению Про¬
свещение в ней уступало Просвещению в молодых странах Ев¬
ропы. На другом конце Старого света Возрождение началось в
Китае и оказало могучее влияние и на соседние страны. Ренес¬
сансный взлет в старом Китае был ярче, чем в молодой Японии,
но культура Просвещения, к которой он также в свое время при¬
шел, в своец историческом значении уступала такой же культу¬
ре в Японии. Тайпинское восстание в середине XIX в. было рево¬
люцией, но революцией, отягченной грузом Средневековья, что
и ослабило ее и вместе с другими историческими факторами при¬
вело к поражению, замедлившему продвижение Китая к новому
общественному строю. Мэйдзийская революция 1867/68 гг. в Япо¬
нии не только сыграла огромную роль в истории своей страны,
но и получила всемирно-историческое значение, так как с «откры¬
тием дверей в Японию» закончился процесс образования миро¬
вого рынка, а вместе с этим и мировой системы капитализма. Но
это был конец, а не начало; начало же этому процессу было по¬
ложено на Западе — революцией в Нидерландах и Англии, а по¬
скольку Просвещение в них своими корнями уходило в итальян¬
ское Возрождение, постольку начало этого Возрождения и полу¬
чило всемирно-историческое значение.
5. Следует, однако, упомянуть и еще об одном историческом
факте, который также делает XIII в. важной исторической да¬
той: в этом веке развернулись монгольские завоевания, поста¬
вившие под власть завоевателей огромною часть Старого Све¬
та — от берегов Тихого океана до предгорья Карпат. Событие это
отнюдь не безразлично и для истории литературы. В Китае под
властью монгольских ханов утратило значительную часть своего
влияния привилегированное чиновническое сословие, вследствие
чего большую свободу получили городские сословия, а этим са¬
мым расширилась и орбита их литературы. В Хорезме же, Ира¬
не и на Руси — странах не только завоеванных, но и опустошен¬
ных, поступательный ход культуры был замедлен. Историк все¬
мирной литературы не может пройти мимо и этого факта.
VI
1. Эти три вехи позволяют наметить деление истории средне¬
вековой литературы и по хронологическому принципу: в ней мож¬
но увидеть три большие раздела: с П1/1У по УН/УШ вв., с
УН/УШ по ХШ/Х1У вв., с Х1П/Х1У вв. по ХУ1/ХУП вв. Чего мы
можем достигнуть, группируя материал по этим трем разделам?
440
Первый раздел этот должен быть посвящен старым литера¬
турам. И это — вполне естественно: важнейшие из новых лите¬
ратур родились в УП/УШ вв. до этого же, т. е. на протяжении
всего времени, отведенного этому разделу, на мировой арене дей¬
ствовали старые, давно сложившиеся литературы. Что в этом
разделе мы можем показать? То, что эти старые литературы не
исчезли с изменением общей мировой обстановки, что они про¬
должали свое существование и даже развивались. Тем самым бу¬
дет продемонстрировано одно из важнейших положений всемир¬
ной истории: непрерывность и преемственность общего хода этой
истории; преемственность, разумеется, проявляющаяся в разных
случаях по-разному: иногда в примыкании, иногда, наоборот, в
отталкивании. То, что в этих литературах пошел процесс пере¬
стройки, вызванной изменением мировой обстановки. Располо¬
жив же материал по трем культурно-историческим зонам, мы смо¬
жем показать, как происходила эта перестройка в каждой зоне,
в чем она конкретно выражалась, к чему привела. Вероятно, нам
придется констатировать, что в Восточной зоне, конкретно — в
Китае, перестройка первоначально оказалась сопряженной с об¬
разованием двух линий литературы: старой традиционной, пере¬
страивавшейся по-своему, и новой, выходившей из сферы устного
народного творчества с переходом страны на почву Средневе¬
ковья уверенно вышедшего на литературную арену; что в даль¬
нейшем эти обе линии привели к образованию средневековой ли¬
тературы в ее классической форме. В Срединной зоне, вероятно,
придется констатировать другое: как отдельные, уже существо¬
вавшие литературы — парфянская, согдийская, сакская, слив¬
шись в один поток, образовали новую средневековую персидскую
литературу. Процессы, происходившие в Западной зоне в ее ста¬
рых литературах — греческой и латинской, вероятно, продемон¬
стрируют нам развитие этих литератур, вызванное мощным втор¬
жением новых общественных задач, а соответственно этому, по¬
явление в этих литературах новых тем, новых сюжетов, новых
приемов; продемонстрируют борьбу этих новых или обновленных
линий литературы со старыми, цеплявшимися за исконные тра¬
диции, и в конечном счете сложение новой структуры литературы,
созвучной с новым «средневековым» содержанием эпохи.
2. Расположив материал этих трех зон в той последователь¬
ности, которая предложена, мы сможем обрисовать и ту нерав¬
номерность литературно-исторического процесса, которая играет
такую большую роль во всем движении. Мы покажем, что в Во¬
сточной зоне китайская литература проходит за этот отрезок
времени два этапа: переходный и классический. Как мы полага¬
ем, переходный этап захватил около двух столетий — III и 1У-ое,
классический же четыре столетия —с 1У-го по УП-ое включи¬
тельно. К рубежу — к УП/УШ вв.— китайская средневековая ли¬
тература уже подошла к порогу своего третьего этапа — Возрож¬
денческого.
441
Медленнее развивался процесс в Срединной зоне, но и в ней
литература за это время прошла первый этап — переходный и
вступила во второй — классический.
И, наконец, в Западной зоне литературно-исторический про¬
цесс, развернувшийся у старых народов, к VIII в. продемонстри¬
ровал полностью лишь один первый этап — переходный.
3. Такой состав первого хронологического раздела позволяет
описать ту общекультурную и специально-литературную среду, в
соприкосновении с которой возникали литературы молодых наро¬
дов. Как давно установлено, эти литературы рождались из тра¬
диций и материала устного народного творчества, восходящего
своими корнями в эпоху племенного существования, и из элемен¬
тов, воспринятых молодыми народами из культуры и литературы
народов старых, с которыми они вступили в определенные отно¬
шения еще в пору Древности. Напомним, что, например, японская
литература выросла из своих собственных фольклорных корней,
что оформилась она под воздействием литературы китайской —
как собственной, так и переводной буддийской; что среди первых
литературных произведений, появившихся в УИ/УШ вв., были
произведения,записанные японскими авторами на китайском ли¬
тературном языке; что во многом, вышедшем из собственных ис¬
точников, даже в поэтическом творчестве звучали отголоски ки¬
тайской поэзии. Но одновременно с этим изобретение в IX в. соб¬
ственной системы письма, отвечающей условиям японского язы¬
ка, открыло широкий путь к развитию литературы и на своем
языке. Общеизвестно, что подобная же картина наблюдалась и
у франков: и там письмо было взято у старого народа — римлян;
и там появились литературные произведения, написанные на ла¬
тинском языке; и там даже в героическом эпосе, вышедшем из
собственных источников, видно присутствие рядом старой боль¬
шой латинской литературы. Но и там одновременно шло разви¬
тие и оригинальной литературы. Наличие письма, пусть и чужого
по происхождению, но вполне отвечающего требованиям своего
языка, наилучшим образом способствовало этому развитию.
4. Предложенной группировкой материала мы открываем путь
для показа той роли, которую в создании средневековой культу¬
ры — в целом, литературы — специально, сыграли мировые рели¬
гии, зародившиеся еще в эпоху Древнего общества, но приобрет¬
шие свой вселенский размах и миссионерскую силу именно в ука¬
занное историческое время, в основном — на первом его этапе,
на этапе всеобщей перестройки. Именно в это время буддизм ши¬
роко развил «поход веры», прокламированный на Вселенском со¬
боре II в.; манихейство создало разветвленный аппарат своих об¬
щин, в христианстве сложилась мощная епископальная церковь.
Именно в этот отрезок времени разразилась борьба мировых мис¬
сионерских религий, как всеобъемлющих идеологических систем,
с местными религиями; борьба буддизма с даосизмом в Китае,
с синтоизмом в Японии; борьба манихейства с зороастризмом в
442
мире персидской культуры; борьба христианства с античными ре¬
лигиями позднего периода, с одной стороны, с манихейством, с
другой, и притом — чуть ли не на всем протяжении Срединной
и Западной зон Старого Света. А то, что эта борьба имела самое
близкое отношение к литературе во всех зонах, видно из состава
литературы в них: в этом составе так много произведений, во¬
зникших в обстановке этой борьбы, служивших орудиями ее;
так много даже особых литературных жанров, рожденных пот¬
ребностями и целями идеологической борьбы, в которой рожда¬
лось Средневековье не только как социально-экономическая, но
и как идеологическая система.
5. Что дает нам второй раздел в предложенной группировке
материала?
Самое главное — картину появления на мировой арене ря¬
да новых литератур, созданных новыми народами в других, чем
в Древности, общеисторических и культурных условиях. При
этом весьма примечательно то, что именно со взятого нами рубе¬
жа— УИ/УШ вв.— начинается формирование важнейших для
Средневековья новых литератур: японской, новых индийских, но¬
вых тюркских, новых иранских, арабской, армянской, грузинской,
славянских, романских, германских. Появление этих литератур
приводит в одних случаях к изменению границ старых культур¬
но-исторических зон, в других — к сложению особых регионов,
частично в рамках тех же старых зон, частично же и за их пре¬
делами, что влечет за собою последствие огромной общеистори¬
ческой важности: решительное расширение границ цивилизован¬
ного мира и образование тем самым гораздо более обширной аре¬
ны всемирной литературы. За этот второй период, т. е. за время
с УН/УШ вв. до ХШ/Х1У вв., устанавливается в сущности не¬
прерывная цепь литератур от одного островного конца Старого
света — Японии до другого — Британии. Приближение к рубе¬
жам Средней Азии с одной стороны литературы китайской, с
другой — арабской, обозначившееся в те же УН/УШ вв., перено¬
сит элементы культуры Восточной зоны в культуру Срединной и
наоборот — элементы культуры Срединной зоны в культуру Во¬
сточной. А так как Срединная зона была издавна связана с куль¬
турой Западной зоны, с УИ/УШ вв. она постепенно выходит на
первый план в мировом культурно-историческом процессе.
6. Предложенная группировка материала и порядок его рас¬
положения во втором хронологическом разделе позволяет и на
этом отрезке времени показать неравномерность литературно¬
исторического процесса.
Раздел этот снова должен быть начат с китайской литерату¬
ры, и не только ца хронологическом основании, но и по той при¬
чине, что она к VIII в. заканчивает свой классический для Сред¬
невековья этап и выходит на рубежи нового, третьего этапа —
своей эпохи Возрождения и за VIII—XIV вв. проходит обе ста¬
дии этой эпохи — раннюю (VIII—X вв.) и позднюю (X—XIV вв.).
443
Тем самым мы получаем возможность установить важнейшие
черты исторически первой в истории мировой культуры эпохи
Возрождения; выяснить, какую роль в формировании такой эпо¬
хи сыграла литература — какая именно и чем именно; в частно¬
сти, какое место в культуре и литературе Возрождения занимает
«возвращение к Древности» (фугу), как это называлось в эту
пору в Китае; и, что является самым существенным,— что новое
в жизнь и культуру своего народа внесла эта эпоха. Собственно
говоря, вся китайская часть этого раздела целиком должна быть
посвящена показу этой эпохи и ее анализу.
7. Вторым по хронологической последовательности местом
в изложении мирового литературно-исторического процесса за
этот второй период оказывается Срединная зона. В ней в рас¬
сматриваемое время, т. е. в VIII—XIV вв., средневековая литера¬
тура проходит свой классический этап и в X в. входит уже в пору
своего Возрождения. Последующие X—XV века являются вре¬
менем расцвета в этой зоне ее возрожденческой культуры, а в
ее составе — литературы. Отсвет этих веков падает и на после¬
дующее время, рассматриваемое уже в третьем разделе.
Расположение материала позволяет нам показать состав воз¬
рожденческой литературы в этой Срединной зоне: мы найдем
в ней литературу персидскую и рядом с ней возникшие к тому
времени литературы тюркских народностей и народов Закавказья,
а также литературу арабскую. Такая структура позволит нам ус¬
тановить факт втягивания ведущей в данном ареале литературой
в свой процесс других литератур, развивавшихся рядом и издавна
входивших в тот же культурно-исторический круг. Предложенное
расположение материала позволит осветить содержание Возрож¬
дения в этой зоне, установить, чем конкретно была та самая
Древность, которая была призвана на помощь для выхода наро¬
дов этой зоны на новый уровень культурной, литературной жиз¬
ни. В частности, позволит увидеть разницу между тем, что было
Древностью для Возрождения в Китае, и что было Древностью
в этой зоне: в Китае это была — своя, т. е. неизбежно ограничен¬
ная, Древность, в этой же зоне Древностью была не только своя,
но и вся древняя культура и литература Западной, т. е. греко¬
римской, зоны как ее классического, так и эллинистического пе¬
риодов. Тем самым с особой ясностью раскроется исключительное
значение эпохи Возрождения в этой зоне не только для рассмат¬
риваемого времени, но и для будущего; и не только для народов
данной зоны, но и для народов зоны Западной.
8. Хронологически последним звеном в цепи явлений, рас¬
сматриваемых в этом втором разделе, является литература За¬
падной зоны, т. е. Европы. За пять — шесть веков своей истории,
если считать с VIII в. по ХШ-ый включительно, в этой зоне с яр¬
костью развивается своя классическая средневековая литература,
так что именно она и составляет, в сущности, единственный пред¬
мет изложения в этой части-второго раздела истории средневеко¬
444
вой литературы; следующий этап — эпоха Возрождения на Запа¬
де, в Европе,— подлежит описанию в следующем разделе.
Материал Западной зоны позволяет нам и тут раскрыть про¬
цесс распада прежней большой зоны на несколько отдельных
культурных и литературных регионов, создаваемых группами тех
или иных народностей; позволяет уяснить уровень, масштаб, со¬
держание и роль внутренних связей в пределах каждого региона,
а также соотношение регионов в рамках всей европейской зоны.
9. Что же открывает для истории Средневековой литературы
третий хронологический раздел — с ХШ/Х1У вв. по ХУ1/ХУН вв.?
Прежде всего два крупнейших факта: на этом отрезке времени
мы видим, во-первых, превращение Возрождения в явление обще¬
мировое, во-вторых, различные в каждой из трех больших куль¬
турно-исторических зон Старого Света судьбы этого Возрожде¬
ния. На путях же литературы мы сможем увидеть расширение
ее состава. Так, например, в литературе китайского Возрожде¬
ния в XIII в. появляется драма — «юаньская», как ее обычно на¬
зывают; в литературе Возрождения в Срединной зоне расцве¬
тает жанр своего рода «романтической» поэмы: вспомним имена
Низами, Навои, Руставели; во всех трех зонах широкое распро¬
странение получает учено-публицистическая литература, разви¬
вается жанр посланий. Всюду возрастает общественная роль ли¬
тературы, ширится ее влияние на умы.
И вместе с тем идет и неуклонное ослабление средневекового
духа, пафоса литературы. Мир не то стареет, не то «взрослеет».
Низами, Навои, Руставели любуются героическими и романтиче¬
скими персонажами своих поэм, самозабвенно воспевают их;
Тассо, Боярдо, Ариосто, авторы таких же ренессансных поэм, не¬
сомненно любуются своими героями, но воспевают их часто с
легкой улыбкой мудрого взрослого, а самой героике склонны
придавать характер фантастики. Дыхание времени чувствуется во
всем. Поэтому и похожи, и одновременно непохожи друг на друга
литературы даже социально-экономически и общекультурно од¬
нородных, но хронологически разновременных этапов. Непохожи
они не только вследствие общеисторических и культурных осо¬
бенностей своих зон, но и в силу различий своих мест в потоке ис¬
торического времени.
Таков ход мирового литературного процесса в Средние века.
Таким он открывается при сравнительно-историческом изучении
отдельных литератур этой большой полосы истории цивилизован¬
ного человечества. Но именно сравнительное изучение позволяет
увидеть и самое существенное: не только как шел этот процесс,
ноисамый факт этого процесса.
1970 г.
О СМЫСЛЕ ИСТОРИИ
Время, в которое мы живем, исключительное. Это безусловно
один из важнейших по своему историческому значению поворот¬
ных моментов всемирной истории-' будущее, возможно, покажет,
что даже самый важный из пережитых до сих пор человечест¬
вом. Естественно, что в такой момент мысль невольно обращает¬
ся к вопросу о смысле истории: так бывало всегда во время круп¬
ных исторических поворотов.
Вспомним древность — время Полибия и Сыма Цяня. При¬
надлежали они двум различным мирам: один — Западу, дру¬
гой — Востоку. Обстановка в этих двух частях эйкумены того
времени была в своих больших исторических чертах одинакова.
Полибий (203—120) жил в эллинистическую эпоху — в тот мо¬
мент ее, когда в средиземноморском круге земель складывалась
Римская держава как объединитель и гегемон обширного мира,
простиравшегося от Британских островов до Среднеазиатской
Бактрии, т. е. от крайней западной точки этого мира до крайней
его восточной точки. Сыма Цянь (145—86) жил в эпоху Хань-
ской империи, объединившей в своем составе отдельные царства,
существовавшие до того времени на территории Китая, и став¬
шей гегемоном на всем пространстве от Японских островов до
«Западного края», как назывался тогда в Китае район нынеш¬
него Синьцзяна и Средней Азии, т. е. от крайней восточной точ¬
ки этой части мира до его западного края. По своему социаль¬
но-экономическому содержанию это был последний этап дли¬
тельной и богатой поворотами истории рабовладельческого об¬
щества, как оно было представлено в этих двух районах циви¬
лизованного мира древности.
Этот огромной важности этап, выявившийся в каскаде бур¬
ных событий, подвергших тяжкому испытанию судьбы целых на¬
родов, но вместе с тем принесший человечеству великие ценно¬
сти культуры, вызвал стремление как-то осмыслить происходя¬
щее. Именно в русле такого стремления и возникли труды Поли¬
бия и Сыма Цяня.
446
Оба историка увидели в образовании своих империй факт
всемирно-исторического и притом высокоположительного значе¬
ния: для них это был момент восхождения на вершину.
Замечательная попытка по-своему осмыслить ход истории на¬
блюдалась и на пороге средневековья — в эпоху, переходную
от рабовладельчества к феодализму. На Востоке такое осмыс¬
ление дал тогда Нагарджуна (середина II — середина III в.), на
Западе — Аврелий Августин (354—430).
Нагарджуна в своих взглядах, отраженных в различных его
сочинениях, особенно в «МаЬарга]парагагш1а-5и1га», исходил из
положений, возвещенных в «ЗайбЬагтарипбапса-зЫта» (I в. н. э.),
«Сутре Лотоса». Положения эти сложились в русле концепции
Махаяны, «Большого колеса», в основе которой лежала ярко вы¬
раженная универсалистическая идея. Именно эта идея позволила
буддизму преодолеть местную индийскую ограниченность и вы¬
вела его на мировой простор: сначала — в прилегающие к Ин¬
дии части Среднего Востока, а затем и в необъятные простран¬
ства Центральной и Восточной Азии. Это превратило буддизм —
вероучение, возникшее в обстановке рабовладельческого общест¬
ва,— в одну из религиозных систем, призванных служить уже но¬
вому, нарождавшемуся тогда миру—миру феодального общества.
Учение Августина, как оно выражено в его сочинении «Ое С\-
уИа!е ЦеЬ> (413—426), принадлежит христианству — религии,
возникшей также в условиях рабовладельческого общества, но
сложилось оно в позднеэллинистическую эпоху и отражает тот
универсализм, который составляет одну из важнейших черт умо¬
настроений эллинистического мира.
Как Нагарджуна, так и Августин чувствовали, что наступает
новая всемирно-историческая эпоха, и притом эпоха восхожде¬
ния человечества на вершину. Вершина эта понималась как ко¬
нечное «спасение» человечества божественной силой: Будды —
у одного мыслителя, Христа — у другого. Нагарджуна и Авгус¬
тин мыслили категориями религии, но именно в таких категориях
представали в умах людей того времени, чувствовавших новое,
наиболее общезначимые, всеохватывающие идеи. Само же пред¬
ставление о восхождении основывалось на смело провозглашен¬
ной тогда и буддизмом и христианством идее единства «сансары»
и «нирваны», «царства земного» и «царства небесного» — мира
эмпирического и мира абсолютного. Именно эта идея и позволила
буддизму и христианству полностью войти в мир реальный и ре¬
шительно вмешаться в самые земные дела.
В высокой степени примечательное осмысление своего исто¬
рического момента также в свете общей истории человечества
мы находим в эпоху перехода от феодализма к капитализму.
Понятно, что в наиболее отчетливом виде такое осмысление про¬
явилось там, где такой переход ощущался наиболее реально,—
на Западе, в Европе. На Востоке, в Азии, складывание элементов
капиталистических отношений, начавшееся в некоторых странах,
447
например в Китае, раньше, чем на Западе, шло, однако, по опре¬
деленным историческим причинам гораздо медленнее и далеко
не с такой, характерной для Западной Европы, остротой. По¬
этому на том этапе мировой истории для нас важна прежде
всего та концепция исторического процесса, которую изложил в
своей «Новой науке» Джамбатиста Вико (1668—1774).
Историческую концепцию Вико обычно оценивают как теорию
круговорота. Человеческое общество в его представлении про¬
ходит три стадии: эпоху варварства, век героев, век человечест¬
ва. Век человечества — высшая точка, достигаемая на этом пу¬
ти, т. е. максимальное восхождение, за которым следует паде¬
ние — возвращение 'к новой эпохе варварства. Следует, однако,
учитывать, что, по мысли Вико, каждое падение низводит чело¬
вечество во все большие глубины варварства, соответственно
чему каждое восхождение приводит его каждый раз на новую,
ранее еще не достигнутую высоту. Поэтому ход истории у Вико
идет не по замкнутому кругу, а по спирали, что означает не веч¬
ное повторение одного и того же, пусть и в разных формах, а в
целом движение вперед.
Для нас в данном случае важна, впрочем, не столько эта
сторона учения, сколько отношение Вико к его собственной эпо¬
хе. «Век человечества» он считал «веком города, законов, разу¬
ма». Но в его представлении это и была картина его собствен¬
ного времени. Следовательно, его историческая эпоха была для
него началом «века человечества», а это значит — эрой восхож¬
дения.
Употребляемое Вико выражение «век человечества» свиде¬
тельствует, что он мыслил категориями гуманистической фило¬
софии, т. е. системы мышления в максимально возможной для
того времени степени светской.
Стремление осмыслить свой исторический момент должно
было проявиться и на следующем крутом повороте истории: в
эпоху перехода от капитализма к социализму. Это и произошло,
причем именно тогда и там, где такой переход обозначился наи¬
более явственно: в XX в., на Западе — в Европе. Выразительный
документ этого осмысления — «Закат Европы» (1918—1922)
О. Шпенглера. Эта работа создавалась в годы, последовавшие за
первой мировой войной и социалистической революцией в Рос¬
сии. Она хорошо известна, и нет надобности излагать концепции
ее автора. Следует только обратить внимание на то, что являет¬
ся как бы основным тоном этого произведения: оно звучит совер¬
шенно иначе, чем у всех упомянутых выше предшественников
этого мыслителя новейшего времени.
Как было отмечено, и Полибий и Сыма Цянь высоко оценива¬
ли свое время. Каковы бы ни были их взгляды на общий ход
истории человечества, в своем времени они видели эру восхож¬
дения. Твердой верой в «конечное спасение» многострадального
человечества, т. е. коренным оптимизмом были проникнуты воз¬
448
зрения Нагарджуны и Августина. Вико считал, что после «века
человечества» людям предстоит вновь сойти в «эпоху варварст¬
ва», но это была его общая, так сказать, теоретическая плат¬
форма, практически же для своего времени у него была концеп¬
ция восхождения. Иначе говоря, в пределах своей истории он
мыслил оптимистически. Совершенно другое отношение к своей
эпохе у новейшего представителя философии истории, у Шпенг¬
лера; оно — пессимистическое.
Вряд ли нужно особенно сложно объяснять различие истори¬
ческих настроений у Полибия и Сыма Цяня, Нагарджуны и Ав¬
густина, Вико, с одной стороны, у Шпенглера — с другой. Пер¬
вые мыслили в русле восходящего потока своей эпохи, второй —
в русле уходящего. Концепции Шпенглера надлежит рассматри¬
вать скорее в плане эсхатологических настроений, столь часто
овладевавших умами многих во времена острых исторических
коллизий: настроений, нашедших свое отражение в ряде по-сво¬
ему замечательных произведений, ярчайшим образцом которых
является «Апокалипсис» Иоанна. Мы знаем, что и в наше время
острота переживаемого нами исторического момента также вы¬
зывает у многих эсхатологические настроения. И понять это мож¬
но. Понять, но не разделять. Но для этого нужно еще раз «всмот¬
реться» в историю: в путь, пройденный человечеством до сего
времени.
Нечего и говорить, что наше понимание прошлого зависит от
объема и уровня наших знаний. Но и то и другое всегда отно¬
сительно, всегда исторично. Что можем мы сейчас, в начале вто¬
рой половины XX в., сказать о нашем знании прошлой истории
человечества? Только то, что оно очень велико, гораздо больше
того, что люди знали даже во второй половине XIX в. Полагать,
что в дальнейшем оно не будет еще полнее, можно, лишь допус¬
кая мысль о деградации человеческого рода. Мы хорошо видим,
как постепенно росло наше знание прошлого, как много вноси¬
ли в это знание новые открытия, как они нередко даже застав¬
ляли менять, казалось бы, прочно утвердившиеся представления.
И сколько таких открытий еще будет!
Но если даже и допустить, что в основных чертах прошлое
человечества нам известно достаточно, и то новое, что еще мо¬
жет прийти в историческое знание, затронет лишь отдельные сто¬
роны этого прошлого или его частности,— все же и тогда наше
знание исторического процесса будет по необходимости ограни¬
чено временными его рамками. Всякое осмысление человеческой
истории по необходимости строится на том, что мы выводим из
пережитого человечеством опыта и что на этой основе мы можем
предвидеть в будущем.
Правда, опыт этот не так уж мал. Ведь если даже начинать
обозрение истории с момента появления на земле первых госу¬
29 Н. И. Конрад
449
дарственных образований, а это было в IV тысячелетии до н, э.,
перед нами предстанет не более не менее как шеститысячелетняя
движущаяся картина жизни человечества. За эти шесть тысяче¬
летий не могли не проступить общие контуры пути, по которому
человечество шло, не могло не раскрыться содержание этого
пути, не могла не обнаружиться его направленность.
Есть, однако, еще одно обстоятельство, которое делает наше
осмысление ограниченного временем материала не только более
полным и отчетливым, но и могущим быть распространенным на
будущее, во всяком случае ближайшее. Обстоятельство это —
наш собственный исторический опыт — опыт современной эпохи.
Есть в истории человечества моменты, которые не только оз¬
начают конец чего-то большого, существовавшего до этого, но и
начало чего-то нового; моменты, которые бросают свет и на бу¬
дущее. Моменты эти — революционные повороты.
Первый из них — крушение мира, называемого нами «древ¬
ним обществом». В социально-экономическом аспекте это был
в общем мир рабовладельческого строя. В свое время он как гос¬
подствующая мировая система рухнул. Последними представите¬
лями его из числа наиболее крупных были: Ханьская империя в
Восточной Азии, Римская — в Южной Европе, Северной Африке
и Передней Азии. Первая рухнула во II—III вв. н. э., вторая — в
IV—V вв. И эти события не только осветили прошлое, но и при¬
открыли будущее. Крушение этих империй уже самым своим
фактом показало, что на историческую арену выступают те со¬
циально-экономические отношения, которые складывались еще
в пору этих империй, что именно за этими отношениями — буду¬
щее. Мы называем эти новые для того времени отношения фе¬
одальными.
Второй из крупнейших революционных поворотов истории —
крушение мира, называемого нами «средневековым обществом».
В социально-экономическом аспекте это был в общем мир фео¬
дального строя. В свое время он, как господствующая мировая
система рухнул. Из крупных стран, в которых этот поворот про¬
изошел ранее других, главными были Англия и Франция. В Ан¬
глии это было в XVII в., во Франции — в XVIII в. События пока¬
зали, что наступал исторический черед тех социально-экономи¬
ческих отношений, которые понемногу уже складывались раньше.
Мы называем эти отношения капиталистическими.
Третий революционный поворот всемирно-исторического зна¬
чения произошел в XX в. О нем возвестили революции в России
и в Китае. Они означали начало крушения капиталистического
строя как господствующей мировой системы: они показали, что
будущее принадлежит тем новым социально-экономическим от¬
ношениям, которые стали вырисовываться еще в условиях ка¬
питалистического общества. Мы называем эти отношения социа¬
листическими, считая при этом, что социализм является первой
фазой коммунизма.
450
Если обратиться к истории общественной мысли, всегда мо¬
жно найти свидетельства того, что на пороге каждого из этих
трех поворотов находились люди, как-то провидевшие будущее,
даже рисовавшие себе его конкретные черты. Так, например, еще
в эпоху феодализма, но уже на пороге капиталистической эры
фактически о будущем, т. е. о капиталистическом общественном
устройстве, размышляли такие представители философско-исто¬
рической мысли, как Гоббс (1588—1679) и Руссо (1712—1778).
Маркс причислял Гоббса к тем мыслителям, которые «стали
рассматривать государство человеческими глазами и выводить
его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии»
(К. Маркс, Передовица в № 179 Кб1шзсЬе 2еИип^ К. Маркс и
Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. I, стр. III): про теорию же Рус¬
со Маркс прямо говорил, что «это предвосхищение буржуазного
общества» (К. Маркс, К критике политической экономии. М., Гос-
политиздат, 1952, стр. 193), т. е. для того времени — предвос¬
хищение будущего. Нагляднейшим примером того, как выдаю¬
щиеся умы своей эпохи в преддверии революционных переворо¬
тов умеют провидеть будущее, служит вся деятельность Маркса
и Энгельса. Живя и работая в условиях капиталистического
строя, но стоя уже на пороге его крушения как мировой системы,
они вполне отчетливо представляли себе черты будущего социа¬
листического общественного строя.
Однако этот третий революционный поворот имеет иное исто¬
рическое значение, чем два предыдущих. Там дело происходило в
одних и тех же больших общественно-исторических рамках; в
рамках классового общественного строя при антагонистическом
характере отношений между классами. Дело шло, следовательно,
о замене одной классово-антагонистической общественной си¬
стемы другою такою же, только с другими классами-антагонис¬
тами. Социалистическая революция в корне меняет самый ход
истории: она ведет не к замене одних классов другими, а к от¬
миранию классов вообще и соединенного с ними общественного
антагонизма. Поэтому революционный поворот социалистиче¬
ского содержания не занимает очередного места в ряду бывших
до этого, а противостоит им, вместе взятым. Если крушение ра¬
бовладельческой системы и переход к феодализму, крушение фео¬
дальной системы и переход к капитализму означали переход от
одного этапа в истории человечества к другому, в рамках одной
общественной системы — классового строя, то крушение капита¬
лизма и переход к социализму есть переход к новой эре: к прин¬
ципиально иной общественной системе — бесклассовому обще¬
ству. Сопоставить этот поворот истории можно только с перехо¬
дом человечества от доклассового общества к классовому.
Именно поэтому настоящая эпоха и создает большие, чем ра¬
нее, возможности для понимания как прошлого, так и будущего,
последнего, конечно, в обозримой для нас перспективе. В сущ¬
ности лишь в свете последнего революционного поворота мы от¬
451
четливо увидели в прошлом классы как социально-экономические
категории; поняли существо их взаимоотношений, их столкнове¬
ний; поняли наличие на самых отдаленных этапах жизни чело¬
вечества бесклассового общества и смену его классовым; поняли
коренное различие между доклассовым обществом далекого
прошлого и бесклассовым обществом недалекого будущего.
Таким образом, имеющееся у нас знание прошлого в соедине¬
нии с тем, что нам открывает наша современная эпоха по отно¬
шению как к прошлому, так и к будущему, позволяет нам осмыс¬
лить ход исторической жизни человечества и тем самым наметить
философскую концепцию истории. Сделать это можно, однако,
только принимая во внимание историю всего человечества, а не
какой-либо группы народов или стран. Такие понятия, как «Ев¬
ропа», «Азия», «Африка» и т. д.— понятия географические, а не
исторические. В лучшем случае они принадлежат исторической
географии. Так же весьма ненадежны такие понятия, как «Во¬
сток» и «Запад». В лучшем случае они обозначают некоторые
группы народов, но и то с различным у разных народов и при¬
том меняющимся содержанием. Так, например, у китайцев древ¬
ности и средневековья существовало свое представление о
«Западе», и этим «Западом» были для них тогда те районы Ази¬
атского континента, которые впоследствии у нас получили наиме¬
нования «Восточный Туркестан» и «Средняя Азия»; для китай¬
цев новейшего времени «Запад» — Европа и Америка. Для
древних римлян «Востоком» были Сирия, Палестина, Персия, Ар¬
мения, Месопотамия; для их потомков — итальянцев средневеко¬
вья — «Восток» начинался с Византии; для современного же
итальянца, как вообще для жителей стран Западной Европы,
«Восток» — это Чехословакия, Польша, Румыния, не говоря уже
об СССР. Поэтому строить концепцию исторического процесса
на материале, ограниченном рамками Европы или Азии, Запада
или Востока, невозможно. Материалом может быть только исто¬
рия всего человечества, которое именно в целом и является под¬
линным субъектом истории.
В этом прежде всего убеждает нас известный нам историче¬
ский процесс. Достаточно уже того, что два из трех перечислен¬
ных выше революционных поворотов всемирно-исторического
значения — поворот от рабовладельчества к феодализму и от ка¬
питализма к социализму — начались на близком по времени
промежутке друг от друга на разных концах мира: первый — в
Ханьской империи на Востоке Евразийского континента и в Рим¬
ской империи — на Западе; второй — в России, т. е, в Европе, и
в Китае, т. е. в Азии. Даже образование мировой системы капи¬
тализма началось в XVI в. на одном конце мирав Нидёрлан,-
дах, закончилось же в XIX в. на другом конце в Японии." Сле¬
дует вспомнить,и о том, что наиболее мощные выступления кре¬
452
стьян в их борьбе с феодальным гнетом, начавшиеся в 20-х го¬
дах XVI в. Великой крестьянской войной в Германии, в дальней¬
шем, в первой половине XVII в., прошли почти по всему миру —
от Франции до Японии: в 20—40-х годах XVII в. во Франции
(кульминация — «Восстание босоногих», 1639 г.), в первом деся¬
тилетии XVII в. в России (кульминация — Восстание Болотни¬
кова, 1606—1607 гг.), в 90-х годах XVI в.— начале XVII в. в Ос¬
манской Турции (Восстание Кара-ясыджи, 1600 г.), в 20-х годах
XVII в. в Персии (Восстание Абиль-паши, 1629), в 20—40-х го¬
дах XVII в. в Китае (кульминация — Восстание Ли Цзы-чэна,
1639—1645 гг.), в 20—30-х годах XVII в. в Японии (Восстание в
Симабара, 1637—1638 гг.). При этом по масштабу, по значению
Великая крестьянская война в Китае стоит рядом с Великой кре¬
стьянской войной в Германии. И это не случайно: Китай в XVI—
XVII вв. отнюдь не был страной, стоявшей по уровню своего исто¬
рического развития ниже Германии XVI в. Общее же истори¬
ческое значение этих восстаний раскрывается именно при полном
изучении всего этого процесса: только тогда и выступает исто¬
рический облик этих восстаний как своеобразного крестьянского
«пролога» будущей буржуазной революции; только тогда стано¬
вится полностью понятным, почему после всех этих народных
движений во всех странах, где они имели место, сложился при
всех местных особенностях в общем одинаковый по своей при¬
роде политический порядок — тот порядок, который называют
феодальным абсолютизмом. Можно ли понять все это, оставаясь
в рамках истории одной какой-либо страны?
Для обоснования положения, что лишь всемирно-исторический
аспект открывает природу исторических явлений во всей ее пол¬
ноте и значении, можно привести множество фактов и притом из
самых различных отраслей деятельности человека. Так, напри¬
мер, в XIV в. в Италии началось движение, впоследствии полу¬
чившее наименование «Возрождения». Наименование это появи¬
лось потому, что люди той эпохи считали возникшие тогда в фи¬
лософии, литературе и искусстве новые явления возрождением
философии, литературы и искусства, существовавших когда-то в
европейской античности — в Древней Греции и Древнем Риме.
Движение это нам хорошо известно, но будет ли полным пони¬
мание его исторического смысла без учета того, что совершенно
так же возрождением своей античности считали китайцы VIII в.
те новые явления в философии и литературе, которые тогда на¬
чали возникать и которые определили всю эпоху? Китайцы,
правда, говорили не о «возрождении древности», а о «возвраще¬
нии к древности», но это одно и то же: и само движение по сво¬
ему содержанию в существенных чертах совпадает с тем, что мы
наблюдаем в XIV—XV вв. в Италии. А это заставляет ставить
вопрос об «эпохе Возрождения», как о явлении, которое законо¬
мерно возникает на определенном этапе истории средневекового
'453
общества у народов с большой предшествующей историей, имев¬
ших в прошлом свою «античность».
Далеко за пределы одного какого-нибудь народа выходит и
история любой отрасли человеческого знания. Достаточно вспо¬
мнить хотя бы, что само название таких отраслей математики,
как «алгебра», говорит о самом серьезном участии арабов в сло¬
жении этих дисциплин; и в то же время известно, сколь многим
сами арабы обязаны в этой области древним эллинам и индийцам.
История логики открывает нам три линии развития этой обла¬
сти теоретического знания: индийскую, китайскую и европей¬
скую. Первая НейьуМуа восходит к Акшапада (II в. н. э.), вто¬
рая— к Мо-цзы (V в. до н. э.), третья — к Аристотелю (IV в.
до н. э.). Столь привычные для нас, и, казалось бы, такие «евро¬
пейские» понятия, как «гласные» и «согласные», согласные «губ¬
ные», «язычные», «зубные» и т. д., были хорошо известны китай¬
цам еще в VIII в., а узнали они об этих вещах у индийцев. Фак¬
тов, свидетельствующих, что история человечества есть история
именно всего человечества, а не отдельных изолированных на¬
родов и стран, что понять исторический процесс можно, только
обращаясь к истории человечества,— таких фактов можно при¬
вести сколько угодно и во всех областях. Вся история полна ими.
Это, однако, ни в коей мере не устраняет существования соб¬
ственной истории отдельных народов. Каждый народ, большой
или малый по своей численности, имеет свою индивидуальную
историю, всегда обладающую своими оригинальными, неповто¬
римыми чертами. Можно сказать даже, что история человечества
проявляется именно в истории отдельных народов, через их исто¬
рию. История человечества не какой-то безликий процесс; она
очень конкретна и слагается из деятельности отдельных наро¬
дов, имеющих каждый свое собственное лицо. Но в то же время
как часто смысл исторических событий, составляющих, казалось
бы, принадлежность только истории одного народа, в полной
мере открывается лишь через общую историю человечества! Ни¬
дерландская революция XVI в. освещается данными истории Ни¬
дерландов и, если ограничиваться этим, оказывается эпизодом
истории этой небольшой страны. Но стоит только учесть, что Ни¬
дерланды тогда входили в состав мировой испанской державы,
вспомнить, какую роль играли они в этой державе как ее финан¬
совый, торговый и даже промышленный центр; стоит только при¬
нять во внимание, что вслед за этой революцией развернулась
голландская колониальная экспансия, охватившая и южную
часть Африки, и некоторые пункты Индии, Индонезию, экспан¬
сия, дошедшая до противоположного конца мира того времени —
до Японии; стоит только должным образом оценить появление
голландской Ъст-Индской компании, как первого орудия нового
капиталистического колониализма, сменившего старый, феодаль¬
ный испано-португальский колониализм; стоит только учесть все
454
это,— и революция в Нидерландах сразу же предстает как со¬
бытие всемирно-исторического значения. И, может быть, это по¬
будит историков задуматься над вопросом: не следует ли воз¬
водить начало капиталистического этапа в истории человечества
именно к Нидерландской революции?
Другой пример. Русская революция 1905 г. прежде всего при¬
надлежность истории русского народа. Ее происхождение, ее со¬
держание, форма, наконец, ее судьба мотивируются всем ходом
этой истории. Но стоит только вспомнить, что вслед за этой ре¬
волюцией следовало то огромное по масштабу и значению дви¬
жение, которое Ленин назвал «пробуждением Азии», как это со¬
бытие сразу выходит за рамки истории России. Тем самым с го¬
раздо большей полнотой раскрывается и историческое существо
этой революции.
При всякой попытке осмыслить исторический процесс неиз¬
бежно встает вопрос: имеет ли этот процесс вообще какой-либо
смысл, имеет ли он хотя бы какую-то направленность? В зависи¬
мости от ответа возникают две концепции философии истории:
смысла никакого нет, есть только бесконечное повторение одного
и того же; смысл есть, и история есть непрерывное поступатель¬
ное движение. Наиболее яркое выражение первой концепции —
теория круговорота, второй — теория прогресса.
И та, и другая теория всегда подвергались критике. Критико¬
вать теорию круговорота не трудно. Можно всегда привести лю¬
бое количество фактов, свидетельствующих, что ни одна новая
эпоха не повторяет какую-либо из прошлых, даже когда полу¬
чаются явления как будто бы очень сходные. Вряд ли кто-нибудь
станет утверждать, что демократия европейских стран XIX в.— то
же, что демократия древних Афин; что РйЬгег — рпгшр XX в. в
обстановке тоталитарного режима — то же, что римский прин¬
ципат; что «Федра» Расина есть просто измененное и перерабо¬
танное издание «Ипполита» Еврипида; что «Моисей» Микеланд¬
жело в общем то же, что и «Зевс» Фидия. Действительно рису¬
нок Матисса до удивительности похож на натюрморт с апельси¬
нами, хризантемой и кувшином Шэнь Чжоу, и в то же время
это — вещи, совершенно разные: китайский художник XV в. прие¬
мом сведения предметов к плоским декоративным формам хо¬
тел несколькими ударами кисти передать самую сущность пред¬
мета— в духе эстетического учения чаньского (дзэнского) буд¬
дизма; французский же художник XIX в. этим приемом думал
решить проблему уравновешения формы и цвета — проблему,
абстрактную и целиком принадлежащую западноевропейскому
искусству постимпрессионистической поры.
Всегда подвергалась критике и теория прогресса. Главным
аргументом этой критики было указание на догматичность са¬
мого понятия прогресса, на неясность или во всяком случае спор¬
455
ность того, что считать прогрессивным, на зависимость понима¬
ния прогресса от различных точек зрения; приводились факты,
свидетельствующие о том, что нередко то, что считалось прогрес¬
сивным, по исторической проверке оказывалось вовсе не таким.
Критика теории прогресса с этих позиций очень серьезна, так
как действительно в вопросе о том, что считать прогрессивным,
очень часто исходят из какой-либо предпосылки абстрактно-дог¬
матического порядка.
Нам кажется, что надежный путь решения этого вопроса, яв¬
ляющегося основным в осмыслении истории,— обращение к са¬
мой истории: непредубежденный анализ развернувшейся перед
нами шеститысячелетней движущейся панорамы истории чело¬
вечества.
Мы говорим о шеститысячелетней истории потому, что доступ¬
ная нашему наблюдению, зафиксированная письменными памят¬
никами историческая жизнь началась в IV тысячелетии до н. э.,
когда в двух районах Старого Света — в долине Нила и в бас¬
сейне Тигра и Евфрата — сложились первые государства. Это не
означает, что из истории исключается вся предшествующая
жизнь человечества, но мы знаем о ней только по данным исто¬
рической антропологии и археологии, и об истории в точном
смысле этого слова для той поры говорить нельзя. Но из этого
никак не следует, что эта очень длительная эпоха существова¬
ния человеческого рода не имеет исторического значения. Она
имеет такое значение, и притом огромное.
В самом деле, появление государств есть факт, возможный
только при наличии длительного предшествующего прогресса в
общественном развитии и борьбе. В этом развитии притом имело
место самое главное: приход человека к созданию общественных
форм. Энгельс проникновенно сказал, что за это предшествую¬
щее истории время произошло самое существенное, что опреде¬
лило весь дальнейший ход человеческого развития: человек стал
человеком: эта эпоха «имеет своим исходным пунктом выделение
человека из животного царства, а своим содержанием — преодо¬
ление таких трудностей, с которыми уже никогда не встретиться
будущим ассоциированным людям» (Ф. Энгельс, Анти-Дюринг,—
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 20, стр. 118).
Таким образом, даже эта доисторическая эпоха, и та свиде¬
тельствует, что развитие человечества с самого начала имеет по¬
ступательный характер.
Историческая эра в указанном смысле этого слова началась
с IV тысячелетия до н. э., когда в долине Нила появился Египет,
в Двуречье — Шумер. Особенность открывшейся эры в том, что в
отличие от предыдущего времени, когда ареной служил в сущ¬
ности почти весь земной шар, отныне историческая жизнь свя¬
зывается с определенными географическими районами. Долина
Нила и бассейн Тигра и Евфрата и были первыми такими райо¬
нами.
456
Дальнейшее движение истории открывает нам процесс неук¬
лонного расширения географической и этнической арены исто¬
рической жизни: в нее включаются все новые и новые народы и
страны. Это наглядно видно при самом беглом обзоре прошед¬
шей жизни человечества.
К исторической жизни первых двух центров — египетского и
шумерского — постепенно стали приобщаться прилегающие рай¬
оны.
Движение истории от одного центра, Египта, пошло на юг, в
сторону Эфиопского нагорья, и на восток, в сторону Аравий¬
ского полуострова, главным образом ближайшей его части, по¬
лучившей впоследствии название Палестины, и далее — в при-
средиземноморские части Передней Азии, в район современных
Сирии и Ливана, через них же — в глубь Передней Азии, в сто¬
рону Двуречья. От другого центра, Двуречья, движение пошло
также по двум направлениям: в сторону Малой Азии, Сирии, Ли¬
вана и Палестины и в сторону Закавказья и Ирана. Так в сере¬
дине III тысячелетия до и. э. в историю вошла обширная тер¬
ритория, охватывающая Египет, часть Эфиопии, Палестину,
Сирию, восточную часть Малой Азии, юго-западную часть Закав¬
казья, некоторые районы Западного Ирана и Двуречье. В даль¬
нейшем продолжалось расширение указанной территории в тех
же направлениях и наряду с этим происходило включение в об¬
щую историческую жизнь нового большого района — Эгеиды, т. е.
средиземноморской полосы Малой Азии, островов Эгейского
моря, острова Крита и южной части Балканского полуострова.
Так к середине II тысячелетия до и. э. образовался большой рай¬
он исторической жизни, раскинувшийся на соприкасающихся ча¬
стях трех материков Старого Света и прилегающих к ним терри¬
торий.
В том же II тысячелетии до и. э. образовались еще два рай¬
она, связанные в своей исторической жизни: один — в Индии, в
бассейне Инда и Ганга, другой — на территории современного
Китая, в бассейне Хуанхэ. В долинах Инда и Ганга в III тыся¬
челетии до н. э. появились первые индийские государства: в бас¬
сейне Хуанхэ — Иньское царство, первое китайское государство,
доступное историческому изучению. Таковы были три первых ге¬
ографических центра исторической жизни человечества, три пер¬
воначальных очага культуры.
Исторический процесс в дальнейшем пошел тем же двояким
путем: происходило расширение каждого из трех прежних исто¬
рических кругов и вместе с тем возникали новые. Европо-афро¬
азиатский круг земель расширялся в сторону Ирана, Закавказья
и Малой Азии. С конца II тысячелетия здесь прошла история Ас¬
сирии, Ново-Вавилонского царства — с центром в Двуречье, Ми¬
дии и Персии — с центром в Иране. Царства Урарту в Армянском
нагорье, Хеттской державы, Фригии и Лидии в Малой Азии, Ти¬
ра, Сидона и других финикийских городов-государств в южной
457
части средиземноморского побережья, Сирии, Израиля и Иудеи в
Палестине, Минейского и Сабейского царств в Южной Аравии,
Египта и Эфиопии в долине Нила. В VII—VI вв. до н. э. в сто¬
роне от этой территории возник новый район исторической жиз¬
ни— среднеазиатский, представленный тогда Хорезмом и Бакт-
рией. Этому району суждено было в дальнейшем служить звеном,
связующим три старых центра исторической жизни — европо-
афро-азиатский, индийский и китайский.
Европо-афро-азиатский район расширялся и в сторону запад¬
ного Средиземноморья. Экспансия в этом направлении выра¬
жалась в финикийской, а затем и греческой колонизации. Фини¬
кийская колонизация захватила сначала североафриканское по¬
бережье, главным образом район современного Туниса, где в
814 г. до н. э. был основан Карфаген. Тем самым возник новый
финикийский центр — Карфагенское государство, ставшее круп¬
нейшей для того времени колониальной державой: колонии Кар¬
фагена появились в Сицилии, Сардинии, на Балеарских остро¬
вах, в Испании. Это привело к образованию нового исторического
района, которому и выпала задача связать страны восточного
Средиземноморья со странами западного. Орудием такой связи
служило торговое мореплавание, получившее у финикийцев ог¬
ромное развитие. Финикийцы не только охватили своим море¬
плаванием восточное и западное Средиземноморье, но и произ¬
вели смелую разведку в неведомые тогда места земного шара.
В VII в. до н. э. они совершили первое в истории человечества
плавание вокруг Африки, отправившись с Востока — из Красно¬
го моря, вернувшись же через Гибралтарский пролив, кото¬
рый от них и получил свое первое наименование: Мелькартовы
столбы. Финикийцы первыми добрались и до Британских ос¬
тровов.
Греческая колонизация шла по нескольким направлениям.
Одним из них было западное: греческие колонии возникли в Юж¬
ной Италии и Сицилии; другим — северо-восточное: началась
греческая колонизация северного Причерноморья. Вместе с тем
развивалась и прежняя территория эллинского мира: в первой
половине I тысячелетия до н. э. наблюдался расцвет греческих
городов в Ионии, т. е. прибрежной части Малой Азии; расширя¬
лась эллинская территория на Балканском полуострове — в сто¬
рону средней его части. Входили в историческую жизнь и другие
районы полуострова: в V в. до н. э. в его северо-восточной ча¬
сти возникло Фракийское царство, в IV в. на адриатическом по¬
бережье— Иллирийское. Там же, севернее собственно Эллады,
появляется и Македонское царство.
Вместе с тем постепенно формируется и новый центр истори¬
ческой активности — на Итальянском полуострове. Сначала ве¬
дущей силой в этом районе были этруски, создавшие в VIII—
VI вв. союз своих городов: затем главная роль перешла к лати¬
нянам, основавшим в Лациуме в 753 г. Рим и в V—IV вв. обра¬
458
зовавшим сильное государство, вошедшее в историю под назва¬
нием Римской республики.
Неуклонно шло расширение и второго старого центра истори¬
ческой жизни — индийского. Сначала оно захватывало все но¬
вые области в бассейне Ганга и Джамны: в начале VI в. до н. э.
в этой части Индостана насчитывалось, по преданию, 16 госу¬
дарств. В дальнейшем исторический процесс стал распростра¬
няться и на центральную часть Индии — к югу от Ганга. В IV в.
до н. э. в Северо-Восточной и Центральной Индии усиливается
одно из старых индийских царств — Магадха. Расширение исто¬
рической территории продолжалось и далее. Империя Мауриев,
заменившая Магадху в III в. до н. э. владела почти всей пло¬
щадью полуострова, за исключением его южной части. В III в.
до н. э. в историческую жизнь стала вступать и Южная Индия.
Такое расширение двух старых центров мировой истории при¬
водит их к соприкосновению друг с другом, и дальнейшая исто¬
рическая жизнь в них протекает уже в условиях общения. Это
особенно относится к Северо-Западной Индии, которая превра¬
щается одновременно в северо-западный форпост индийского
мира и в юго-восточный форпост переднеазиатского. Это нашло
свое выражение даже во вхождении этой части Индии на неко¬
торое время в состав переднеазиатских государств — ахеменид-
ской Персии и в дальнейшем — державы Александра Македон¬
ского. Связывается историческая жизнь Северо-Западной Индии
и со среднеазиатским центром. В эпоху Кушанского царства эти
два района даже объединяются в составе одного государства.
Шло расширение и третьего старого центра мировой исто¬
рии — китайского. В течение I тысячелетия до и. э. в общую исто¬
рическую жизнь в этой части мира вступили области не только
бассейна Хуанхэ, но и бассейна второй великой реки Китая —
Янцзыцзяна. Продвигалась историческая территория и на северо-
восток— в сторону позднейшей Маньчжурии, и на северо-за¬
пад — будущей Монголии, и на запад — в сторону современной
провинции Сычуань, и на юго-восток — будущего Вьетнама.
В III в. до н. э. вся эта Обширная территория вошла в состав об¬
разовавшейся тогда империи Цинь — первого государства обще¬
китайского масштаба.
Рядом с этим третьим, все расширявшимся, старым центром
мировой истории к западу от»него в Центральной Азии возни¬
кает новый очаг исторической активности. Главными деятелями
его были гунны. В III в. до н. э. ими был создан обширный пле¬
менной союз, часто именуемый историками «Гуннской держа¬
вой». Она раскинулась на огромной территории от Забайкалья
на севере до Тибета на юге, от Восточного Туркестана на западе
до среднего течения Хуанхэ на востоке. Этому новому центру
предстояло сыграть роль звена, связующего восточноазиатский
центр мировой истории со среднеазиатским.
Так к концу I тысячелетия до н. э. образовалась обширнейшая
459
территория исторической активности народой, й той или иной
мере связанных друг с другом. Она имела уже не три центра, как
в начальную пору мировой истории, а по меньшей мере семь.
К трем старым — европо-афро-азиатскому, индийскому и китай¬
скому— добавились североафриканский — карфагенский, южно¬
европейский— латинский, среднеазиатский и центральноазиат¬
ский. Историческою жизнью были охвачены: основная часть Во¬
сточной Азии, значительная часть Центральной Азии, многие
районы Средней Азии, Иран, Индия, большая часть Закавказья,
Передняя Азия, долина Нила, отдельные районы средиземномор¬
ского побережья Африки, островной мир Эгейского моря, Балкан¬
ский полуостров, северное Причерноморье, Аппенинский полу¬
остров, Сицилия, Испания и некоторые районы Южной Фран¬
ции.
Расширение этой территории неуклонно продолжалось и да¬
лее как путем развития прежних исторических районов, так и
путем возникновения новых. Рост Римской державы привел к
включению в историческую жизнь во II в. до н. э. новой части
североафриканского побережья — Нумидии, в I в. до н. э.— Ис¬
пании, несколько позднее — Галлии и даже Британии. Это была
западная периферия старого европо-афро-азиатского круга зе¬
мель.
Развивалась историческая жизнь и в северной периферии
центральной части этого круга — в северном Причерноморье.
Здесь в IV—II вв. существовало Скифское царство с центром в
Крыму: по обеим сторонам Босфора Киммерийского, т. е. Кер¬
ченского пролива, в те же века раскинулось Боспорское царство.
Прочно входили в историю земли Кавказа и Закавказья — Кол¬
хида, Иберия, Албания. На восточной стороне старого европо¬
афро-азиатского круга подобного расширения произойти не
могло, так как тут этот круг уже давно подошел к своим истори¬
ческим рубежам — к границам индийского круга земель. Зато
крепли и развивались связи между этими двумя соседними райо¬
нами. Насколько велико было значение этих связей, показывает
факт превращения с IV в. до н. э. всего» этого огромного мира,
состоявшего из Северо-Западной Индии, Ирана, Средней Азии в
составе Бактрии и Согдианы, Малой Азии, Сирии, Египта, ост¬
ровов Эгейского моря и Балканского полуострова с Грецией и
Македонией, в один культурно-исторический комплекс, получив¬
ший наименование «эллинистического мира». Влияние этого мира
распространялось и на страны западного Средиземноморья, осо¬
бенно Италию: вполне ощутимые, но еще недостаточно раскры¬
тые веяния его дошли и до стран Восточной Азии — Китая, Ко¬
реи и даже Японии.
Шло расширение и индийского круга земель. Оно направля¬
лось на юг и на восток. На юге в орбиту этого круга с V в. дон. э.
входит Цейлон, заселяемый выходцами из Индостана; в III в.
до н. э. возникают первые цейлонские государства. Индийская
460
иммиграция непрерывным потоком шла и в островной мир Индо¬
незии, тем самым содействуя сближению индонезийского круга
земель с индийским. Ядро индонезийского круга тогда составляла
территория, состоящая из прилегающих друг к другу частей Ма¬
лаккского полуострова, Восточной Суматры и Западной Явы.
В первые же века нашей эры на этой территории сложились пер¬
вые индонезийские государства, в значительной степени индиа-
низированные.
Расширялся и сам индонезийский круг земель, причем не толь¬
ко путем включения в историческую жизнь восточных областей
Индонезии, но и путем колонизации далекого Мадагаскара: за¬
селение этого острова выходцами из Индонезии, смешавшимися
с местным населением, привело к образованию мальгашской на¬
родности, этнически близкой к индонезийцам.
Сближение индийского круга земель с индонезийским привело
к далеко идущим последствиям: благодаря давним связям Индии
с Ираном и Передней Азией с ее эллинизированной культурой
индонезийский круг земель соприкоснулся и с европо-афро-ази-
атским. Морской путь из Индии до гаваней Яваки, как назы¬
валось государство, образовавшееся во II—I вв. в ука¬
занном центре индонезийского круга земель, был известен и
грекам.
Расширялся и третий старый исторический круг земель — ки¬
тайский. В конце II тысячелетия до н. э. в его орбиту входила
Южная Маньчжурия и прилегающие к ней части Северной Ко¬
реи. С I в. до н. э. на территории полуострова образуются три
крупных племенных союза: в северной части — Когурё, в юго-
западной— Пэкче, в юго-восточной — Силла. Все эти земли при
всей самостоятельности своего исторического развития вошли в
состав китайского круга земель. С I в. до н. э. с этим кругом на¬
чинает соприкасаться и Япония.
Китайский круг земель расширялся и в юго-восточном на¬
правлении. В III в. до н. э. на юге современного Китая сложилось
государство Намвьет, в которое входила и северо-восточная часть
Индокитая. Во II в. это царство подпадает под власть китайской
империи Хань, и с этого времени устанавливается прочная связь
этого района Индокитая с Китаем. Но рядом развивается исто¬
рическая жизнь и прочих районов полуострова, заселенных раз¬
личными племенами, среди которых преобладали племена тибето-
бирманской группы и монкхмерские. В IV—I вв. они создают свои
государства.
Индокитайский полуостров был также ареной индийской
иммиграции, которая привела к тем же последствиям, что и в
Индонезии: к «индианизированию» многих частей полуострова.
С северо-востока же проникало влияние Китая, что приводило к
«китаизированию» некоторых областей. Наименование «Индоки¬
тай», данное этому полуострову, вполне оправдано не только гео¬
графией, но и историей.
461
Таким образом в I в. н. э. за пределами «обжитого» историей
круга земель, заселенных народами, так или иначе связанными
друг с другом в своей исторической жизни, оставалось обширное
пространство от берегов Северного и Балтийского морей на
Крайнем Западе до Охотского и Японского морей на Край¬
нем Востоке; северную границу этого пространства состав¬
ляло побережье Северного Ледовитого океана на всем его про¬
тяжении вдоль Европы и Азии; южную границу — территории,
прилегающие с севера к Рейну, Дунаю, северному Причерно¬
морью, Кавказу — в Европе, к Средней Азии, Восточному Турке¬
стану, пустыне Гоби и Саянскому хребту—в Азии. Своей соб¬
ственной жизнью, обособленной от указанного круга земель,
жила континентальная Африка — от Египта и Эфиопии на восточ¬
ном конце и далее к югу от областей, прилегающих к Средизем¬
ному морю, вплоть до Атлантического побережья на западном
конце. Были также «белые пятна» и внутри исторического круга
земель. Наиболее значительным из них был район нынешних
Тибета, гималайских государств и Юго-Западного Китая. Оста¬
валась пока вне общей исторической жизни и восточная часть
островного мира Индонезии. Далее простирались Австралия, Но¬
вая Зеландия, Океания — места, ни в какое соприкосновение с
исторической жизнью прочего мира еще не вступившие. В полном
отрыве от указанных стран Старого Света протекала жизнь за¬
падного полушария — обеих Америк. Известная нам и, по-види¬
мому, действительная история в них возникает сравнительно
поздно.
Дальнейший ход пространственного развития истории нам
хорошо известен. Наиболее существенным в нем было вхождение
в общую историческую жизнь новых районов Европы: северных
частей Западной и всей Восточной. Так с возникновением в
V в. и. э. Франкского королевства в общую историю вошла запад¬
ная часть северной половины Европы; с образованием в IX в.
Германии — центральная часть; с возвышением в VIII в. Дат¬
ского королевства — скандинавский район Европы; с образова¬
нием в VI—VIII вв. союзов полабских славян в общую истори¬
ческую жизнь активно вступила обширная территория бассейна
рек Лабы (Эльбы), Одра (Одера) и Вислы; в VI—VII вв. поя¬
вились государственные образования на землях Чехии, Моравии,
Словении; в VII—IX вв. в общую историческую жизнь вошла
Польша, а с появлением древнерусского государства — и эта
часть Восточной Европы.
Шло расширение территории общей исторической жизни и в
направлении азиатской части Евразийского континента. Оно шло
с двух сторон: со стороны указанного выше восточноазиатского
круга земель и значительно позднее — со стороны Восточной
Европы. На обширной территории от Хинганского хребта до гор
Тяньшаня в конце IV — начале V в. образовался племенной союз
жужаней. На границе со старым среднеазиатским кругом земель
462
в районе Алтая и Семиречья в VI в. образовался союз тюркских
племен, обычно именуемый историками «Тюркским каганатом».
Этот союз включил в состав своих владений земли жужаней,
часть Центральной Азии и даже некоторые районы Северо-Во¬
сточной Азии — вплоть до побережья Желтого моря. В другом
направлении тюрки распространяли свои владения и в Средней
Азии, вторглись в Междуречье Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Их
набеги доходили до областей к юго-востоку от Китайского моря.
Тем самым новая историческая территория вошла в соприкосно¬
вение со среднеазиатским и восточноазиатским кругом земель,
а также со связующей эти два круга полосой, тянувшейся от
Ирана и Средней Азии через Восточный Туркестан и некоторые
части Центральной Азии до западных границ Китая. Позднее
стал включаться в общую историю и район Маньчжурии, бас¬
сейна Амура. В VIII в. на этой территории возникло Бохайское
царство, образованное различными племенами маньчжуро-тун¬
гусского этнического корня. Это царство в свою очередь сыграло
крупную роль в расширении связей между Китаем, с одной сто¬
роны, Кореей и Японией — с другой.
Образование в начале XIII в. Монгольской державы превра¬
тило на некоторое время все пространство от берегов Японского,
Желтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей до
Средней Азии и Ирана включительно и далее через Восточную
Европу до самых Карпат в район связанной исторической жизни.
Позднее исторические связи стали расширяться в Азии и со
стороны Восточной Европы. В конце XIV в. Ногайская Орда,
сформировавшаяся в Поволжье, распространила свои владения
до Иртыша, а в XV в. на территории между Тоболом, Турой,
Иртышом и Обью возникло Сибирское ханство, что и привело к
включению в общую историческую жизнь и Западной Сибири.
Исчезло «белое пятно» истории и между Центральной Азией
и Индией. В VII в. возникает Тибетское государство, расширяв¬
шееся как в сторону Западного Кйтая, так и в сторону Средней
Азии. Входит в историческую жизнь Непал. В связи с этим к
двум старым путям из восточноазиатского круга земель, одно¬
му— через Восточный Туркестан и Среднюю Азию, другому —
через Бирму и Ассам, добавился третий — через Тибет и Непал.
В VIII в. возникло государство в юго-западной части современ¬
ного Китая, прилегавшее с одной стороны к Тибету, с другой —
к Вьетнаму. В китайской историографии оно известно под назва¬
нием Наньчжао. Со времени вступления на историческую арену
арабов и последовавшей за этим арабской экспансией с VIII—
IX вв. начинает приоткрываться историческая завеса и с конти¬
нентальной Африки. Арабские торговцы проникают и в эту часть
Старого Света, арабские географы дают первые сведения о стра¬
нах и народах, обитавших там. В странах Восточного Судана, по
среднему течению Нила, историческая жизнь начала протекать
еще в древности — во времена Египта, но она была изолирована
463
от жизни других стран; связи Судана с прочим миром стали
устанавливаться благодаря арабам, проникшим не только в
Восточный, но и в Западный Судан, где возникли такие государ¬
ства, как Гана, Сонгаи, Мали. Входит в соприкосновение с
жизнью арабских стран и восточное побережье Африки — от
Сомалийского полуострова до Мозамбика; на этом побережье
возникают арабские города, как, например, Малинди, откуда шли
морские трассы в Аден и другие пункты Южной Аравии, а оттуда
в Красное море, в Ормуз и другие гавани Персидского залива
и Аравийского моря; наконец, в Каликут и другие пункты запад¬
ного побережья Индостана. О том, насколько хорошо освоены
были арабами эти морские пути, свидетельствует путешествие
Васко да Гама: обогнув остававшиеся тогда еще неизвестными
части побережья Юго-Восточной Африки, Васко да Гама дошел
до Малинди и очутился в обстановке культурного мира, где путе¬
шествие из Малинди в Каликут не было чем-то необычным.
Строго говоря, не Васко да Гама добрался до Индии, а его при¬
вел туда араб-лоцман Ахмад ибн Маджид.
В дальнейшем исторические связи народов континентальной
Африки с народами других стран происходили в обстановке ко¬
лониальных захватов западноевропейских государств, т. е. раз¬
вивались в форме, задерживавшей собственное историческое раз¬
витие африканских народов. Положение стало изменяться только
с середины XX в., когда обнаружился распад колониальной
системы.
До начала испанских колониальных завоеваний также изо¬
лированно от исторической жизни Старого Света проходила исто¬
рия народов Америки. Историческая жизнь там развивалась
главным образом на территории Мексики и Перу. Насколько на^м
известно, первой народностью на территории Мексики, образо¬
вавшей государство, были майи. Сведения об их истории начи¬
наются с IV в. История Перу была историей инков. Образование
племенного союза относится к XIII в.
Обрисованная картина наглядно свидетельствует, что исто¬
рический процесс имеет географическую направленность: с са¬
мого первого момента, который мы в состоянии установить, идет
распространение исторической жизни на все расширяющееся
пространство, пока наконец в общую историю не входят все
части земного шара, где возможна человеческая жизнь. Столь
же несомненно расширение масштаба и в этническом аспекте:
на арену истории вступают все новые и новые части человечества.
Видны и формы, в которых это происходило: в одних случаях к
старым районам истории добавлялись новые, заселенные наро¬
дами, до этого еще не входившими в орбиту общей исторической
жизни; в других случаях новые народы выходили из мест своего
исконного расселения и вторгались в жизнь старых районов
истории. Примером присоединения к исторической жизни своих
соседей может служить хотя бы история народов Японии, Кореи,
464
латинян в Италии, кельтов в Галлии и т. д. Примером передви¬
жений или продвижений может служить начавшееся в конце
III тысячелетия до н. э. заселение Микенской области, т. е. части
одного из старых исторических районов, греческими племенами;
в начале II тысячелетия — заселение Сирии, Финикии, Вавилона
и Северной Месопотамии арамеями; заселение в VIII в. до и. э.
Закавказья и Малой Азии киммерийцами: начавшееся в IV в. и. э.
заселение северо-восточных, северных и северо-западных обла¬
стей нынешнего Китая сяньбийцами, гуннами, киданиями, чжурч-
женями; начавшееся в том же IV в. продвижение в сторону
Балкан и далее, в южную половину Центральной и Западной
Европы готов, сарматов, славян; начавшееся в VI в. н. э. продви¬
жение тюрков из района Алтая в Среднюю Азию, Восточный
Туркестан, в степи между Аральским и Каспийским морями и
далее — в степи Восточной Европы; начавшееся в XI в. передви¬
жение их из Средней Азии в Иран, Ирак и Переднюю Азию с
захватом Азербайджана и Армении; с XIV в. продвижение их на
Балканский полуостров; начавшееся в VII в. н. э. продвижение
арабов в Палестину, Сирию, Иран, Среднюю Азию — в одном
направлении, в Египет и далее, в страны средиземноморского
побережья Африки, а оттуда в Испанию — в другом направлении,
в Восточную Африку — в третьем; с конца XV в. начинается за¬
селение испанцами Вест-Индии, а затем — Центральной и Юж¬
ной Америки; с XVII в. происходит заселение англосаксами,
голландцами и французами Северной Америки. Все это — раз¬
личные передвижения или продвижения народов, происходившие
в разное время, вызванные разными причинами, имевшие разное
историческое содержание, и приводили они также к разным ре¬
зультатам. Нередко заселение новых земель сопровождалось
подчинением своей власти, а иногда и к полному или значитель¬
ному истреблению их населения. Так, если брать примеры из од¬
ного только нового времени, испанцы полностью истребили ко¬
ренное население островов Карибского моря, голландцы — зна¬
чительную часть бушменов и готтентотов Южной Африки; почти
полностью исчезло население Тасмании, исчезла значительная
часть населения Австралии, индейцев Северной Америки.
Многие из передвижений народов имели как бы цепной
характер, т. е. движение одного народа приводило в движение
и другой народ. Так, например, передвижение киммерийцев в
Малую Азию было вызвано натиском скифов, которые вынудили
киммерийцев уйти из мест их первоначального расселения; сами
же скифы передвинулись в земли киммерийцев под натиском
массагетов. Движение гуннов, начавшееся в I в. до н. э. у стен
Китая и закончившееся в V в. н. э. в центре Европы, сдвинуло
с места целую массу племен центральноазиатских, среднеазиат¬
ских, а за ними и племена Юго-Восточной Европы. Монголы в
своем движении из Центральной Азии на восток и запад тянули
за собой целый конгломерат племен и народностей,
30 Н. И. Конрад
465
В таких великих передвижениях одни племена и народности
исчезали, другие, наоборот, крепли; происходило слияние племен,
приводившее либо к некоторому изменению этнического облика
более устойчивого компонента, либо к образованию нового этни¬
ческого типа. Так, например, растворились в массе китайского
населения перешедшие на его земли гунны, сяньбийцы, кидане,
чжурчжени, но вместе с тем они повлияли на создание антропо¬
логического типа современного китайца. Переселение германских
племен из Восточной Европы в Центральную и Западную привело
к смешению пришельцев с прежним населением и послужило
основой образования западноевропейских народностей нового
времени: англичан, французов, испанцев, итальянцев, немцев.
Так в ходе развивавшегося исторического процесса посте¬
пенно заселялись и осваивались пригодные для человеческой
жизни земли нашей планеты, пока наконец не стала заселенной
и освоенной она вся, разумеется, в возможных для жизни чело¬
века частях. В сложнейшем процессе соприкосновения одних
частей человечества с другими формировались этнически устой¬
чивые племенные группы; на этой основе развивались народно¬
сти, перераставшие в дальнейшем в нации; складывались языко¬
вые группы, а в их рамках — отдельные языки; менялась обще¬
ственная значимость языков: языки племенные развивались в
языки народностей, языки народностей — в языки наций. Во всех
этих аспектах исторический процесс отнюдь не был чем-то хаоти¬
ческим, а имел определенную направленность, разумеется, если
рассматривать его в больших линиях.
Несомненную направленность имеет исторический процесс
и в аспекте деятельности человека, прежде всего хозяйственной.
Перед человеком всегда стояла и стоит задача обеспечения
материальных условий своего существования на земле. Челове¬
ческая мысль еще в древности определила эти условия краткой
формулой: «одежда — пища — жилище». История хозяйственной
деятельности человека, а вместе с нею, как ее неотъемлемая
часть, и история техники и материального производства есть соз¬
дание таких видов «одежды — пищи — жилища», которые соот¬
ветствуют географическим условиям, в которых человек живет,
общественной обстановке, потребностям, созданным этой обста¬
новкой и задачам дальнейшего развития жизни. Это возможно
только при использовании ресурсов, предоставляемых природой,
но для такого использования необходима затрата труда, всегда
требуемая во все возрастающей эффективности. Эффективность
же эта определяется двумя факторами: техническим и соци¬
альным.
В аспекте техническом эффективность зависит от наличия
орудий труда и их качества, от степени владения силами при¬
роды. Это с полной наглядностью раскрывает исторический про¬
цесс: мы видим в нем «век камня», за которым следует «век
металла», в последнем возникает «век меди», «век бронзы», «век
466
Железа», в котором человечество пребывает до сих пор. Но уже
намечаются контуры «века полимеров», и будущие археологи,
может быть, когда-нибудь заговорят о двух великих эрах: эре
материалов естественных, т. е. создаваемых природой, и эре мате¬
риалов искусственных, т. е. создаваемых человеком. Одновре¬
менно наблюдается постепенное овладение и силами природы:
энергией огня, воды, пара, электричества, электромагнетизма,
радиоактивности; намечается уже и овладение энергией атома,
т. е. первоматерией природы, и даже энергией космоса — термо¬
ядерных реакций.
Эффективность труда зависит, однако, не только от уровня
техники; она определяется и формами организации труда, а эти
формы в свою очередь связаны с существующими обществен¬
ными отношениями.
Настоящее человеческое существование возникает тогда,
когда человек начинает действовать вместе с себе подобными.
В таком существовании вырабатываются различные формы обще¬
ственных отношений: формы, основанные на равноправном со¬
трудничестве людей, и формы, основанные на эксплуатации
одних другими. Наиболее старой общественной формой первого
типа является община. В том или ином виде, с теми или иными
функциями, в различных отношениях с другими сосуществую¬
щими общественными формами, в разных положениях в струк¬
туре общества в целом община сопровождает человечество на
всем его, известном до сих пор, пути — от времен первобытного
коммунизма до эпохи социализма. На основе эксплуатации одних
людей другими вырабатываются различные формы общественных
отношений, наиболее ярко выраженными из которых являются
две: одна, в которой эксплуатация осуществляется прямым на¬
силием; другая, где эксплуатация производится средствами эко¬
номического принуждения. И в той и в другой форме сущест¬
вуют всякие разновидности, определяемые тем или иным отноше¬
нием эксплуатируемого к орудиям и средствам производства, а в
связи с этим — различным положением его по отношению к
эксплуатирующему. Таких разновидностей, обнаруживаемых в
этой области истории человечества, очень много — как типовых,
так и переходных. Мы видим рабство, зависимость и свободу в
очень разных проявлениях и степенях. Эти состояния также
сопутствовали человечеству на всем его пути, часто даже при
одновременном существовании, причем такое существование
наблюдалось не только в разных группах человечества, стоящих
на разных уровнях общественного развития, но даже в пределах
одной группы. Так, например, в XVII—XVIII вв. в Англии и
Франции, передовых для того времени странах, были и^феодалы
почти средневекового типа, и буржуа, близкие к типу капита¬
листа, и самые настоящие рабовладельцы в колониальных вла¬
дениях этих стран в Северной Америке.
Общественные отношения определяются состоянием мате-
467
рйального производства и формами хозяйственной деятеЛьй&стй,
но они сами влияют и на формы хозяйственной деятельности, и
на состояние производства. Этот двусторонний процесс в своем
содержании может быть гармоничным, когда состояние произво¬
дительных сил и общественная форма пребывают в соответствии,
и дисгармоничным, когда этого соответствия нет. Как известно,
когда такое несоответствие становится особенно резким, данная
общественная форма заменяется другой, в которой снова на
некоторое время восстанавливается соответствие или во всяком
случае несоответствие становится менее ощутимым. Если про¬
следить исторический процесс в этом аспекте, обнаружится, что
смена эта в целом идет по линии постепенного отмирания форм,
сопряженных с внеэкономическим принуждением, и перехода к
формам, основанным на экономическом принуждении. В текущем
столетии намечаются контуры формы, вообще свободной от
всякого вида принуждения, основанной на равноправном сотруд¬
ничестве всех членов общества.
В такой направленности открывается также поступательный
ход исторического процесса. Несомненно, все общественные
формы, в основе которых лежит эксплуатация человека челове¬
ком, сопряжены со страданиями огромного большинства чело¬
вечества, но все же они, эти формы, не были созданием чьей-то
злой воли. Они были созданы самой историей — теми условиями,
в которых происходило освоение человеком ресурсов природы
и ее сил. Низкий уровень такого освоения заставлял заменять
орудия человеческой силой или рассчитывать главным образом
на нее, как на дополнение к имеющемуся, но малоэффективному
орудию; это и приводило к превращению части человечества в
живые орудия производства — в рабов. Иной оказывается обста¬
новка, когда трудовая деятельность человека обставлена сов¬
ременными орудиями при владении могущественными силами
природы. Тут открывается путь к совершенно иному качеству
трудовой деятельности: в ней устраняется противоположность
между трудом физическим и интеллектуальным; создаются усло¬
вия освобождения человека от подчиненности силам природы в
деле обеспечения своего материального существования. Но тот
же процесс имел и другое значение: с помощью указанных обще¬
ственных форм в соединении со все большим овладением силами
природы человек неуклонно расширял масштабы своего произ¬
водства, выводя его из сферы потребностей отдельной личности
или узкой группы в сферу общественных потребностей во все
возрастающем размере — с переходом через границы государ¬
ственные и национальные, а в наше время — с перспективой
охвата всего человечества. В настоящее время созданы мате¬
риальные предпосылки для обеспечения существования на земле
любого количества людей. Необходимо только установить долж¬
ное соответствие между уровнем производительных сил и обще¬
ственными формами, т. е. создать такой общественный строй,
468
который позволил бы эти предпосылки превратить в реальность.
Мы видим, что в процессе исторической жизни исчезло рабство
в своей исторической форме, исчезло крепостничество; мы ви¬
дим, что и капиталистическая эксплуатация начинает заменяться
в социализме свободным трудом гармонически ассоциированных
людей. Ввиду этого указанная перспектива является вполне
реальной. В свете всего этого становятся особенно ясными не
только направленность исторического процесса и в этой области,
но и его поступательный характер.
На историческом пути человечества развивается самая интен¬
сивная познавательная деятельность. Она сопровождает человека
потому, что этого требует его физическая и общественная жизнь.
Познавательная деятельность обращена в одинаковой мере
и на природу и на общество. Тем самым она, сама вытекая из
опыта и постоянно проверяемая опытом, приводила и приводит
к расширению знаний о природе и обществе. Но наряду с этим
огромной силой проявилось стремление человека осмыслить
внешний мир и самого себя в нем.
Осмысление это принимало различные формы. В Китае в
глубокой древности бытие материальной природы и человека
осознавалось как действие трех сил — «Неба, Земли, Человека».
Под «Небом» разумелись такие явления, как смена дня и ночи,
времен года, климат, погода, атмосферные явления; под «Зем¬
лей»— почва, растительность, животный мир, минералы, металлы
и т. д. Человек с его способностями был поставлен в ряд со всем
этим. В такой форме выразилась концепция природы и человека.
В древнеевропейском осмыслении образовалась концепция чело¬
века— «венца творения», т. е. человека-хозяина, властелина над
всем предоставленным в его распоряжение миром природы.
Также в древности у многих народов образовалась третья кон¬
цепция— человека, угнетенного силами природы и могущего
противостоять им, а тем более властвовать над ними только с
помощью какой-нибудь внешней силы. История осмысления че¬
ловеком природы и своего места в ней, своего отношения к ее
силам представляет сложнейшую картину развития, видоизме¬
нения и борьбы этих трех концепций, в процессе чего подыски¬
вались новые обоснования их, рождались новые понимания их,
возникали их различные сочетания. Смысл всего этого был,
однако, один: все было основано на стремлении отыскать пути
и средства лучшего овладения ресурсами и силами природы для
удовлетворения неуклонно расширяющихся требований, обра¬
щенных к ним. Такая направленность и заложенный в ней посту¬
пательный ход исторического процесса также не подлежат
сомнению.
Познавательная деятельность человека всегда была обращена
и на его общественную жизнь. Так, например, в первой половине
469
I тысячелетия до н. э. в Китае общественная Жизнь осмыслива¬
лась как действие «пяти отношений»; правителей и управляемых,
родителей и детей, мужа и жены, старших и младших братьев
и сестер, друзей, т. е. людей, посторонних друг другу. Нетрудно
увидеть в этой формуле концепции того, что мы называем
семьей, обществом, государством. На этой основе сложились все
прочие концепции общественной жизни: общественного и личного,
принуждения и свободы, господства и подчинения, прав и обя¬
занностей, законности и произвола, справедливости и несправед¬
ливости, общественного блага и зла, подвига и преступления
и т. д. Все это понималось по-разному; особенно различно было
понимание степени их значительности, даже вообще их необхо¬
димости. Началу «архэ» (власти) как символа необходимости
для существования человечества какого-то организованного по¬
рядка, регулируемого общеобязательными нормами, противопо¬
ставлялось начало «анархэ» (безвластия) как символа общест¬
венного устройства, свободного от всякого принуждения. На
рубеже нашей эры римлянин Овидий представлял себе такое
общество, названное им «золотым веком», как время, «когда
люди без всяких судей сами, по собственной воле соблюдают
честность и справедливость». Как бы различно ни понимались и
как бы ожесточенно ни боролись друг с другом эти концепции,
само возникновение их, непрерывная и упорная работа человече¬
ской мысли над их раскрытием, обоснованием, утверждение
одной из них и отрицание другой, все это наглядное доказатель¬
ство поступательного хода познавательной деятельности человека
в этой области.
Не менее ясно раскрывается в истории познавательная дея¬
тельность человека, направленная на самого себя. «Познай
самого себя» — надпись, красовавшаяся, по преданию, над вхо¬
дом в Дельфийский храм, воспроизводила требование, в той или
иной форме представшее перед человеком уже на ранней ступени
его исторической жизни. Строго говоря, в своей исходной форме
это был не вопрос, на который давался какой-то ответ, а некое
внутреннее убеждение, скорее даже самоощущение. Человек соз¬
нательно или бессознательно воспринимал себя как существо
разумное — во-первых, как существо общественное — во-вторых.
Такое самоощущение вытекало из непосредственного опыта, из
прямого наблюдения над собой и себе подобными и укрепля¬
лось по мере расширения опыта и наблюдения. Коротко говоря,
человек осознавал себя так, как впоследствии определили его
биологи: Ьогпо зар1епз; и в то же время так, как охарактеризовал
его Аристотель: гооп ро1Шсоп.
Представление о себе, как существе разумном, проявлялось
у человека и в его познавательной деятельности, и в его твор¬
честве. В своем развитии оно соединялось со стремлением объяс¬
нить происхождение разума как отличительного качества чело¬
века. Объяснение это сводилось к двум концепциям: к концепции
470
получения и к концепции приобретения. В первом случае счита¬
лось, что свой разум человек получил от существа, которое выше
его и само является олицетворением и воплощением разума.
Такое существо обычно выступает в образе божества. Так, на¬
пример, христианство, утверждая вслед за иудаизмом, что чело¬
век создан богом по его «образу и подобию», в то же время о
рождении Христа говорит как о появлении «света разума». Во
втором случае считалось, что человек обретал свойство разума
самим фактом своего сложения как особого вида существа среди
всех прочих. Наиболее отчетливо такое представление прояви¬
лось в буддизме с его учением о том, что все существующее
вообще, в том числе и человек, есть принявшие различные инди¬
видуальные очертания пучки равносильных, неразрывно связан¬
ных друг с другом нитей, тянущихся в не имеющем ни начала,
ни конца потоке бытия, и свойство разума всего только то, что
отличает тот пучок нитей, который именуется человеком. И то и
другое убеждение представлено в истории бесконечным числом
всевозможных вариантов, выраженных в образах мифов, сказа¬
ний, легенд, песенной поэзии, в понятиях религии, философии,
науки. Так, например, разум человек может получать от выс¬
шего существа, может и добиться его отнятия от последнего.
Такое понимание выражено, например, в образе Прометея, по¬
хищающего огонь у Зевса. Может получение разума от высшего
существа пониматься и как естественный акт, основанный на
близости к этому существу или даже на тождестве с ним. Такое
понимание выражено, например, в иудаизме с его учением о
сотворении человека по образу и подобию божества, в индийских
Упанишадах, утверждающих тождество бога и человека; в дру¬
гой форме оно дается в древнегреческом представлении о богах,
как вполне человекоподобных существах. Концепция самостоя¬
тельности обретения человеком разума может соединяться с
представлением о прирожденности этого свойства, например,
в философской мысли древних индусов, в учении черваков, счи¬
тающих разумность свойством самого физического существа че¬
ловека; близко к этому пониманию одно из учений древних
китайцев, отразившееся в трактате, впоследствии получившем
наименование «Чжунъюн». В нем находят у человека три свой¬
ства, присущих самой его приро’де: разумность, человечность,
мужество; эти понятия очень близки к тому, что мы обозначаем
словами «разум», «чувство», «воля». Концепция самостоятель¬
ности в обретении разума может соединяться и с представле¬
нием о развитии в себе этого начала в процессе жизненного
опыта, труда, борьбы. Если просмотреть по этой линии историю
познавательной деятельности человека, предстанет картина не¬
устанной работы мысли, обращающейся к средствам понятий¬
ного познания, образного представления и символического вы¬
ражения и создавшей огромное интеллектуальное богатство.
Познавательная деятельность человека обращалась и к
471
самому основному вопросу: о сущности самого процесса жизни.
Вопрос этот был далеко не абстрактным: он ставился самой дея¬
тельностью человека. В наиболее общей форме он сводился к
следующему: идет ли все в жизни человека независимо от его
воли и желаний или человек сам определяет свой путь и свою
судьбу? От судьбы отдельного человека этот вопрос переходил
на жизнь и судьбу всего общества и далее — всего существую¬
щего вообще, мира. Ответы на этот вопрос давались различные,
но наиболее древними и в то же время наиболее типичными его
вариантами были два: жизнь и судьба человека, общества и
всего мира идет независимо от воли и желаний человека; жизнь
и судьба человека и общества создается самими людьми. При
первом ответе то, что определяет путь человека, общества и мира,
могло выступать либо как некое существо, мыслимое то в образе
божества, то в облике судьбы, либо как некая сила, представляе¬
мая в виде закона, действующего независимо от воли человека.
При втором ответе творцом жизни и судьбы человека и обще¬
ства, творцом самих общественных законов считался сам чело¬
век. Создавался и третий вариант ответа, пожалуй, наиболее рас¬
пространенный: жизнь и судьба человека, общества и природы
направляется некоей силой, но человек может влиять на нее —
просьбой, дарами, угрозами, воздействием на нее особых сил,
находящихся в распоряжении людей и подчиняющих себе даже
богов; или иначе: жизнь всего существующего идет по неким
законам, но законы эти создаются самой жизнью, человек же
может понять их и в какой-то мере управлять их действием.
История религий, философии раскрывает сложную, пеструю кар¬
тину различных оформлений этих и всяких прочих вариантов. Все
же наиболее общей мыслью во всех этих взглядах является
представление о двух началах, направляющих бытие. Одно из
наиболее простых выражений этого представления — образы
Иеговы и Сатаны, Ормузда и Аримана. Эта концепция покоится
на наблюдении в жизни полезного и вредного для человека и
природы, хорошего и плохого. Другое, столь же простое выра¬
жение этой мысли, также основанное на наблюдении — образы
противоположностей: света и тьмы, тепла и холода, твердого и
мягкого, старости и юности, мужчины и женщины и т. д. Такова
созданная философской мыслью древних китайцев концепция
двух сил — Ян и Инь, концепция противоположностей, созданная
греческой мыслью и отраженная в учении Пифагора. У древних
греков подобная концепция выразилась в символике чисел, у
древних китайцев — в символике линий; одно начало символизи¬
ровалось целой линией, другое — разделенной на два отрезка.
В этом нашла свое выражение мысль о действии в мире сил
. сцепления и разделения, интеграции и дифференциации. При
этом была выработана выраженная в графических символах
схема движения двух этих сил: последовательно развертываю¬
щийся процесс их всевозможных комбинаций, переходов, смен.
472
В буддизме закономерность жизненного процесса была осознана
в категориях учения о Карме, о причине — следствии: каждая
причина вызывает свое следствие, но следствие само становится
причиной.
Таким образом, к какой бы сфере познавательной деятель¬
ности человека мы ни обращались, история свидетельствует об
огромной, упорной работе человеческого ума над осмыслением
всего, что относится к самому человеку, к обществу, к природе.
В этой работе возникали новые вопросы, изменялось содержание
старых, менялось понимание их, вырабатывались различные
подходы к их решению, но в целом шел сложный, противоречи¬
вый, но неуклонный процесс расширения знания, уточнения его
частей, причем знание это всегда служило тем задачам, которые
ставились жизнью перед каким-либо народом или человечеством
в целом. Задачи эти ставились и ставятся непрерывно, они ста¬
новились и становятся все сложнее, и познавательная деятель¬
ность, вобравшая в себя накопленный опыт, всегда в той или иной
мере указывает средства и пути решения этих задач.
Если человек создавал и создает историю, то и история в
свою очередь создавала и создает человека. Тот или иной обще¬
ственный строй, устанавливаемый человеком, формирует и его
самого. Знание вырабатывается человеком, но оно само форми¬
рует его интеллект. Поэтому в процессе своей исторической
жизни — своей хозяйственной, общественной деятельности, все¬
гда соединенной с деятельностью познавательной,— совершен¬
ствуется и сам человек, притом в обоих аспектах: как существо
разумное и как существо общественное. Что назвать «совершен¬
ствованием» человека — на этот вопрос существует множество
ответов. Один из самых древних, выработанный китайской
мыслью, дает следующий эталон: человек познает «вещи», т. е.
весь внешний мир; на основе этого познания он создает знание;
знание делает его мысль тождественной истине; истинность
мысли обусловливает «правильность сердца», т. е. эмоций; всем
этим совершенствуется личность человека; когда же личность
человека, он сам совершенен, тогда в порядке семья; когда семья
в порядке, тогда надлежаще управляется государство; когда же
государство надлежаще управляется, тогда в «Поднебесной» —
мир. Эта концепция изложена в древнем трактате, получившем
наименование «Дасюэ» («Большая наука»).
В той или иной форме мысль о возможности и необходимости
совершенствования человека и зависимости состояния общества
от того, в какой мере совершенен сам человек, неотступно сле¬
дует за человеком на всем его историческом пути. Для приве¬
денной древней китайской концепции характерно только убежде¬
ние, что совершенствование личности начинается с познаватель¬
ной деятельности, обращенной на «вещи», т. е. объективно суще¬
ствующий мир; иначе говоря, совершенствование начинается с
действия разума, опирающегося на опыт. Не менее важно в этой
473
концепции и убеждение, что вся деятельность человека по совер¬
шенствованию собственной личности, общественного и государ¬
ственного устройства направлена к одной цели: к достижению
мира в «Поднебесной», т. е. на земле, где живут люди, иначе
говоря, среди людей. Древние слова «на земле мир и в человеках
благоволение» сложились в другое время, у другого народа и в
другой системе представлений, но говорят они о том же и ска¬
заны именно с мыслью о «свете разума». В этих и подобных
выражениях — а их великое множество — запечатлена вековеч¬
ная мечта человека о подлинно человеческом существовании.
Исключительно ярким и притом самым непосредственным
показателем интеллектуального развития человечества служит
его язык. Познание осуществляется через мышление; мышление
же принимает определенную, как бы «вещественную» форму
только в звуковой оболочке языка. Язык, как сказал Маркс, «так
же древен, как и сознание; язык есть практическое, существую¬
щее и для других людей и лишь тем самым существующее также
и для меня самого действительное сознание...» (К. Маркс и
Ф. Энгельс, Немецкая идеология,— К. Маркс и Ф. Энгельс, Со¬
чинения, изд. 2, т. 3, стр. 29). Поэтому по языку и можно судить
о состоянии мышления, о его процессах, о его уровне.
В любом языке в той или иной форме мы находим наличие
неких целых и частей. Языковой акт как выражение акта позна¬
ния состоит в установлении связи между отдельными явлениями,
осознанными в оболочке языка, или в раскрытии целого как
соединения отдельных частей. В таком акте интеграции и диф¬
ференциации раскрывается содержание объективного мира, в
котором все явления представляют собою, с одной стороны,
некии целостности, с другой — соединения отдельных единиц. Это
указывает, что мышление как функция разума определяется бы¬
тием, чем и создается возможность познания действительности.
Язык в этой своей функции раскрывает и формы такого
познания. Действительность может осознаваться в языке понятий,
образов и символов. Язык понятий — орудие науки, язык обра¬
зов— художественной литературы, язык символов — мифа. Но
так только тогда, когда мы имеем в виду, так сказать, «чистые»
формы мышления понятиями, образами и символами, формы,
которые на деле не существуют. Художественное словесное твор¬
чество не может обойтись без языка понятий и символов; без
образа немыслим миф; что же касается символа, то он присут¬
ствует не только в художественной литературе, особенно в
поэзии, но и в науке, принимая в последней, разумеется, свою
особую, специфическую для данной области познания форму —
математического знака, химической формулы и т. д. Все это
свидетельствует о большом многообразии форм мышления, о
всестороннем характере осознания человеком действительности,
474
о возможности охватить ее во всей полноте, т. е. проникая и в
существо познаваемых явлений.
Язык есть и орудие общения. Как сказал Маркс, «подобно
сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятель¬
ной нужды в общении с другими людьми» (там же). В этой
своей функции он выявляет общественную природу человека.
Однако под общением нельзя понимать только один внешний
процесс: в общение прежде всего входит понимание. Общение
посредством языка возможно только потому, что в языке присут¬
ствуют общие для всего данного коллектива категории и формы
мышления; потому, что понятия, образы и символы отложились
в общезначимых для данного коллектива выражениях. Язык не
только орудие общения и совместной деятельности, но и мате¬
риальное выражение интеллектуальной общности данного кол¬
лектива. Недаром единство языка мы считаем одним из важней¬
ших атрибутов нации, т. е. высшей из пока достигнутых челове¬
чеством форм целостного общественного организма.
История и действительность нашего времени показывают
наличие огромного числа языков, и притом очень различных.
Это свидетельствует о том, какие разнообразные пути осознания
человеком действительности существовали и существуют, и как
многочисленны и различны формы языкового выражения этого
осознания. Но в то же время исторический процесс открывает
нам, что эти различные языки неуклонно сближаются друг с
другом.
Не следует думать, что дело здесь заключается в том, что
вместо нескольких разных языков появляется один. Препят¬
ствием в языковом общении людей является не столько различие
языков как таковых, сколько неодинаковость семантической
структуры разных языков, т. е. различия в составе и числе поня¬
тий, образов и символов, различия в содержании их, различия
в условиях и возможностях их соединений. Для общения людей,
для их совместной деятельности необходимо понимание того,
о чем говорит другой, на каком бы языке этот другой ни говорил,
а такое понимание строится на основе одинаковости или во
всяком случае близости интеллектуального уровня, в конечном
счете — уровня культуры и просвещения. В эпоху эллинизма
римляЦе и греки понимали друг друга не только потому, что
очень многие из них владели обоими языками: они и легко овла¬
девали ими потому, что эти оба народа стояли тогда на одном
уровне интеллектуального развития, имели одну и ту же куль¬
туру. Корейцы и японцы средних веков понимали китайцев не
только потому, что знали китайский язык, но и потому, что содер¬
жание их мышления в очень многом определялось тем же, чем
оно определялось у китайцев. Единство семантической системы
в языках народов Европы в эпоху Возрождения было той почвой,
на которой так многосторонне и эффективно развивалось в ту
эпоху международное общение.
475
Исторический процесс показывает, что языки отдельных
частей человечества неуклонно идут к сближению именно в этом
смысле, при сохранении и даже развитии своих самобытных черт.
Такое сближение есть отражение в языке процесса расширения
и усиления связей между народами, обмена знаниями, просве¬
щением, культурой, что в свою очередь обусловливается все воз¬
растающей необходимостью международного сотрудничества.
Можно сказать, что в наше время огромная часть человечества,
во всяком случае его ведущая часть, обладает общим языком.
Общность языка в этом случае — одинаковость семантической
системы, при разных формах ее выражения. Такая общность
поддерживается и развивается в процессе совместной жизни и
деятельности, а им в настоящее время охвачено по существу все
человечество, в него вовлечены все области науки и культуры.
Масштабы этой общности привели к новым и весьма показа¬
тельным для направления этого процесса явлениям. В рамках
одного языка возникло то, что мы называем массовой коммуни¬
кацией, т. е. почти беспредельное расширение масштаба языко¬
вого общения. Разумеется, такое расширение вызвано настоя¬
тельной необходимостью общественной жизни в ее развитии и с
ее противоречиями. Необходимость же эта вызвала появление
новых средств языковой коммуникации, средств, приспособлен¬
ных именно для общения в масштабе масс. Средства эти — радио,
телевидение, кино, сигнализация и другие формы звуковой и
оптической коммуникации, широкая пресса и другие формы мас¬
совой печати.
В рамках общения на разных языках возникла совершенно
новая форма коммуникации. Ее можно назвать одновременной
разноязычной коммуникацией. Ее орудие — синхронный пере¬
вод. Но самая возможность такой коммуникации появилась
именно потому, что люди говорят на разных языках, но об одном
и том же; они могут по-разному относиться к тому, о чем гово¬
рят, но предметы, на которые направлено отношение — одни и
те же, связи между предметами речи осмысляются одинаково.
Общий язык человечества основан на взаимопонимании в пря¬
мом языковом смысле этого понятия, а без такого взаимопони¬
мания невозможны и развитие и борьба, когда последняя ве¬
дется в интересах развития и имеет в виду общую для всего
человечества цель. Как понимали люди уже в древности, цель
эта — мир.
Язык есть орудие развития и борьбы. Эта его функция свя¬
зана и с первой — познавательной, и со второй — коммуникатив¬
ной; связана потому, что и познание и общение осуществляются
в развитии и борьбе. Особенность же этой функции языка в том,
что в ней проявляется в полной мере вся природа человека, т. е.
и его эмоции. Языкознание уже давно распознало в* языке нали¬
чие так называемой экспрессивной стороны, т. е. выражение
отношения человека к тому, что он говорит, выражение эмоций
476
как реакций на то, что он слышит. К средствам этой стороны
языка относятся и слова, и интонации, и темп речи, и фактура
голоса и многое другое. Всем этим богатым, сложным и разно¬
образным арсеналом человек выражает в языке не только свою
эмоцию, но и свою оценку предмета речи; эмоции же, т. е. не¬
равнодушие, и оценки, т. е. определение своего отношения к ве¬
щам, столь же необходимы для развития и борьбы в указанном
смысле, как и познание.
Состояние человеческого языка и практика языковой дея¬
тельности человека в наше время с полной убедительностью
показывают огромный рост и человеческой личности в целом и
человеческого интеллекта в частности. История языков, рассмот¬
ренная совместно с историей знания, межчеловеческих отноше¬
ний, общества со всеми его институтами, столь же убедительно
свидетельствует о поступательном движении исторического про¬
цесса, как и все прочие аспекты истории человечества.
Итак, за время своего исторического существования человек
неустанно осваивал отведенную ему для жизни землю, ее ре¬
сурсы; овладевал силами природы и ставил их себе на службу
и тем самым мог удовлетворять растущие количественно и каче¬
ственно потребности, доказав возможность для проживания на
земле любого числа людей. В этом процессе он открывал законы
природы и осваивал способы их использования в своих целях,
создавал орудия и приемы труда, показав, таким образом, воз¬
можность непрерывного роста знаний о природе, непрерывного
развития техники.
Столь же неустанно человек работал и над созданием таких
общественных форм, которые были наиболее целесообразными
для данного большого этапа его исторической жизни, для каж¬
дого уже достигнутого им уровня техники и материального про¬
изводства, отменяя формы, пригодные для уже уходящего этапа,
и заменяя их новыми, пригодными для наступавшего этапа. Он
находил наиболее удобные в этом смысле формы организации
общественной жизни, устанавливал нормы, регулирующие отно¬
шения членов общества, уяснял присущие общественной природе
человека и усложняющиеся по мере движения вперед социаль¬
ные требования как общества в целом, так и отдельной личности,
вырабатывал необходимые общественные институты, тем самым
показав возможность неуклонного роста знаний об обществе и
человеке и выработки на основе этих знаний таких обществен¬
ных форм и институтов, которые обеспечивали бы условия для
беспрепятственного существования людей, сколько бы их ни
было на земле, в условиях сотрудничества для достижения по¬
ставленных целей.
Не менее явственным представляется поступательный ход
человечества и в его, соединенной со всем этим, познавательной
477
деятельности. Непрерывно расширялся круг эмпирически приоб¬
ретенных знаний, захватывая при этом не только то, что человек
находил на земле, но и космос. Развитие эмпирического знания
сопровождалось обобщениями, т. е. знанием теоретическим, с
распространением таких обобщений на все расширяющиеся обла¬
сти познания. Происходившее в этом процессе развитие самого
человеческого интеллекта сопровождалось созданием человеком
на помощь своей познавательной деятельности всевозможных
орудий как в виде приборов и инструментов, так и в виде раз¬
личных наук, т. е. приведенных в систему знаний в отдель¬
ных областях жизни. История показала огромные возможно¬
сти и в отношении дальнейшего роста познавательной деятель¬
ности.
О непрерывном росте человека в его исторической жизни
свидетельствуют также созданные им различные формы позна¬
ния и вместе с тем удовлетворения многосторонних потребностей
как отдельного человека с его сложной природой, так и обще¬
ства в целом. Создания эти — наука, религия, философия, а
также искусства, оперирующие словами, музыкальными звуками,
красками, объемными формами материала. Все эти, столь же
древние, как и само человечество, явления создаются челове¬
ком, но вместе с тем и сами влияют на него. Они возникают в
обществе благодаря человеку и через человека, но обретают
свое собственное бытие, превращаясь в факторы, воздействую¬
щие на человеческую жизнь, на жизнь общества, на каждого
отдельного человека. История свидетельствует о непрерывном
развитии и усложнении этих созданий человеческого гения, об
изменении их форм и о все растущем их значении в обществен¬
ной жизни. Всякое вновь изобретенное орудие труда создается
человеком на основе его опыта и знаний, но, будучи созданным,
оно само влияет на своего создателя, направляя его труд и
мысль. Любая общественная форма создается человеческим
обществом, но, будучи созданной, она влияет на общество, ее
создавшее, во многом определяя сознание человека и пути даль¬
нейшего хода исторической жизни. То же относится и к науке,
религии, философии, литературе, искусству.
Разумеется, поступательное движение человечества по этому
пути отнюдь не было равномерным и непрерывным. История
знает эпохи, которые говорят о застое, даже об отступлении
от того, что достигнуто, знает также и эпохи особенно интен¬
сивного движения вперед. Мы знаем также, что внутри эпохи
общее движение бывает обычно неравномерным: в одних обла¬
стях общественной и интеллектуальной жизни человека наблю¬
дается развитие, в других — застой. Но для правильного пони¬
мания движения истории в этом аспекте необходимо учитывать,
что оценки, даваемые современниками своей эпохе и своему
прошлому, могут быть продиктованы узким представлением об
историческом процессе. Таковы, например, оценки, вынесенные
478
итальянскими гуманистами эпохи Возрождения средним векам,
с одной стороны, и античности — с другой. Действительно, с
точки зрения задач, возникших перед наиболее передовым тогда
в Европе обществом — обществом итальянским, жить тем же,
чем жило общество до этого, т. е. в века, которые гуманисты
назвали «средними», означало бы во всяком случае застой, и для
того, чтобы оторваться от существовавшего, необходимо было
обосновать такой отрыв. Таким обоснованием и послужила ха¬
рактеристика средневековья как эры темноты и упадка. Но эта
характеристика была оценкой с точки зрения желаемого для
настоящего и будущего, но не с точки зрения того, от чего отошли
когда-то сами эти средние века. При определении значения вся¬
кой эпохи истории необходимо каждое время оценивать с точки
зрения того, что оно, это время, принесло с собой нового в срав¬
нении с предыдущим и каково это новое: содействовало ли даль¬
нейшему движению или нет.
Столь же осторожно следует относиться и к оценкам прош¬
лого как к чему-то исключительному — такому, с чем не может
сравниться ничто в более поздние времена. Так гуманисты отно¬
сились к европейской античности — истории древней Греции и
древнего Рима. Для правильного отношения к подобного рода
оценкам необходимо учитывать, что авторы их брали идеальную
для них эпоху не целиком, а выбирая из нее то, что им казалось
особенно примечательным. Необходимо также помнить, что по¬
добная оценка прошлого бывает в сущности представлением о
желаемом настоящем или будущем, проецированием в прошлое
идеалов, обращенных к современности. Такое проецирование
вызывается тем, что именно этим путем легче бывает представить
себе желаемое в конкретных образах. Античность боготворили
и в век буржуазии, когда буржуазия играла еще прогрессивную
роль: в своих усилиях создать демократический режим в тех
рамках, в которых буржуазия могла его создать, буржуазия пре¬
возносила афинскую демократию, демократию республиканского
Рима. Излишне, конечно, разъяснять, что античная демократия
по своей исторической и социальной сущности совсем не то, что
демократия буржуазии. Поэтому при установлении поступатель¬
ного хода истории с подобного рода оценками считаться следует,
но главным образом для того, чтобы представить себе более
конкретно то, что общество данной эпохи желало или не желало
для себя, что оно считало прогрессивным. Историческое значение
каждой эпохи познается путем сопоставления с тем, что было до
этого, и вместе с тем в свете того, что было потом; для каждой
«современности» — в свете того, что хотят, что ожидают люди от
будущего, что они в нем видят.
Принимая во внимание все подобные оговорки, мы тем не
менее, оперируя не отдельными моментами исторической жизни,
а ее общим ходом, должны признать факт поступательного хода
479
истории, факт неуклонного развития человечества во всех аспек¬
тах его существования. Остается только решить: что же, это и
есть прогресс?
Ответ на этот вопрос целиком зависит от того, что считать
прогрессом. Замена стрелы огнестрельным оружием, кремневого
ружья — автоматом говорит о развитии техники. И не одной
техники: всего сопряженного с ней знания, науки. Что же это —
прогресс? Переход от боя лицом к лицу, с одинаковым риском
для каждого участника, к убийству издали, когда одна сторона
находится в безопасности, несомненно связан с развитием науки
и техники. Это тоже прогресс? Возможность убить сразу целую
массу людей, конечно, тоже обусловлена развитием науки и тех¬
ники, да еще какого высокого уровня! Это что — прогресс? За¬
мена раскаленных щипцов электрическим током при пытках
стала возможной благодаря огромному развитию науки и тех¬
ники, благодаря великому открытию электричества. Значит, и
это — прогресс? А страдания, горе, преступления, человеконена¬
вистничество, которыми заполнена вся история человечества с
самого своего начала и которые все время в разных формах,
масштабах повторяются,— свидетельства прогресса?
Отрицать наличие многого, подобного этому, не только в
прошлом, но и в настоящем невозможно. Почти всему, что проя¬
вилось в истории как нечто положительное, можно противопоста¬
вить что-либо отрицательное; об очень многом, положительном
в одном аспекте, можно сказать как об отрицательном — в дру¬
гом. Поэтому для решения вопроса, свидетельствует ли движение
истории о прогрессе, необходимо сначала определить, что надле¬
жит считать прогрессом.
Чтобы не впасть в этом случае в догматизм, при попытке
ответить на этот вопрос следует исходить из какой-то данности.
Такой данностью является сам создатель истории — человек со
своей природой, представляемой при этом не отвлеченно, а кон¬
кретно: как она проявилась в его исторической деятельности.
История удостоверяет, что человек — существо разумное и обще¬
ственное. Поэтому прогрессивным можно считать то в историче¬
ской деятельности человека, что отвечает этим началам в его
природе и способствует все более полному их выявлению.
Необходимо только учитывать, что эти два начала присут¬
ствуют в человеческой природе не изолированно, а сопряженно
друг с другом, что выявление одного из них соединено с выявле¬
нием и другого. Поэтому нельзя считать прогрессивным только
то, в чем проявляется человеческий разум, только то, что осво¬
бождает его от всяких пут, как обусловленных его собственным
развитием, так и создаваемых самим человеком и обществом:
подлинно прогрессивной деятельность разума может считаться
только тогда, когда она координируется с действием общест¬
I
480
венного начала. Прогрессивным может казаться все то, в чем
проявляется общественное начало в природе человека, что содей¬
ствует все большему развитию деятельности человека как носи¬
теля этого начала, но подлинно прогрессивной эта деятельность
бывает тогда, когда она координирована с действием разума.
Все же и этого недостаточно для определения прогрессивного.
Разумность и общественность всего лишь свойства одного це¬
лого — человека, а это значит, что они подчинены какому-то
обобщающему началу, характеризующему человека именно как
целостность.
Начало это человечество осознало уже очень давно. Обозна¬
чалось оно разными словами и понималось в разное историче¬
ское время различно, но сущность его воспринималась одинаково.
Римляне обозначили его на своем языке словом ЬшпапНаз.
Оно восходит к слову Ьото, «человек» и означает «человечность»,
«человеческое начало».
Китайцы еще в древности знали слово жэнь со значением
«человечность», «человеческое начало» и оно восходит к другому
слову жэнь со значением «человек».
Таким образом, на двух концах мира, у двух огромных мас¬
сивов человечества вполне независимо друг от друга появилось
одно и то же понятие — «человеческое начало», и осознавалось
оно одинаково через понятие «человек». Система взглядов и
правил поведения, основанная на этом понятии, получила наи¬
менование у нас — «гуманизм», у китайцев — жэньдао. И эти¬
мологически и по реальному значению оба эти слова тождест¬
венны. Что же означало ЬшпапНаз, жэнь конкретно? Ответ на
этот вопрос дает история.
В середине I тысячелетия до н. э. Конфуций или те, кто вкла¬
дывал свои мысли в уста этого мудреца, на прямой вопрос: «что
такое жэнь?» — ответили: «любовь к людям». Приблизительно
в ту же эпоху у другого народа, в другом, индийском, центре
исторической жизни человечества сложилась концепция, выра¬
женная словом таИгуакагипа «сострадание». В сущности это —
та же «любовь к людям», рассматриваемая под особым углом
зрения. С буддизмом требование сострадания проникло в созна¬
ние всех народов Центральной и Восточной Азии. На рубеже на¬
шей эры в третьем, переднеазиатском, центре исторической
жизни, в Иудее, устами Иисуса из Назарета была провозглашена
заповедь «любите друг друга». Вместе с христианством она пере¬
шла к народам Европы. Такова была концепция гуманизма в
древности. Она в своей основе сохранила свое значение и в наше
время.
Но она, эта концепция, не стояла на месте: общее содержание
ее не менялось, но объем расширялся, и — что особенно важно —
менялась доминанта. С этой стороны особенно существенное
значение имеет вклад в понятие «гуманизма», который сделала
эпоха Возрождения.
31 Н. И. Конрад
481
Эпоха Возрождения, по-видимому, отнюдь не принадлежит
к одной истории итальянского народа, т. е. это не «частный слу¬
чай» исторической жизни человечества; это — один из этапов
истории древних народов, имевших в прошлом свою древность
и свое средневековье. Эпоха Возрождения у них особая истори¬
ческая полоса, лежащая на грани между ранним и поздним сред¬
невековьем, т. е. один из этапов феодального периода. Такой
эпохой, видимо, надо считать VIII—XV века в истории китай¬
ского народа, IX—XIII века в связанной между собой истории
народов Ирана, Средней Азии и Северо-Западной Индии, XIV—
XVI века в истории Европы.
Историческая действительность в канун этой эпохи показала,
что развитие общественной жизни, прогресс культуры не мог
идти далее на основе принципов, созданных и разработанных
предшествующей эпохой. Дело было не столько в том, что они
застыли в определенной форме и превратились в догму, т. е. ско¬
вывали человеческую мысль. В Китае это была догма конфу¬
цианская, в Иране и Средней Азии — мусульманская, в Ита¬
лии— христианская. Для движения вперед надо было сбросить
эти оковы и пойти по пути свободной творческой мысли.
Вполне естественно, что такое стремление одушевлялось
представлением о самодовлеющей ценности человека, человече¬
ской личности. Это представление и стало той почвой, на которой
развивался гуманизм эпохи Возрождения.
Гуманисты в разных странах усматривали ценность человече¬
ской личности в разном: в своих воззрениях они, естественно,
зависели от своих исторических условий. Деятели китайского
Возрождения видели ценность человеческой личности главным
образом в способности человека к самосовершенствованию;
гуманисты Ирана и Средней Азии — преимущественно в том, что
человеку доступны высшие моральные качества: душевное бла¬
городство, великодушие, дружба; представители Ренессанса в
Италии воспринимали человека главным образом как носителя
разума, считая разум высшим проявлением человеческого начала.
Таким образом, для определения подлинно прогрессивного
есть критерий, выработанный самой историей. Критерий этот —
гуманизм в двояком аспекте: как обозначение специфических
свойств человеческой природы и как оценка этих свойств в
смысле высшего разумного и вместе с тем этического начала
I человеческого поведения и всей общественной жизни.
В свете этого положения можно иначе о'гнестись ко всякому
мрачному в истории — к тому океану горя и страданий, в кото¬
рый было ввергнуто и продолжает быть ввергнутым человече¬
ство. Все это было и есть, но поистине великим достижением
человечества и, пожалуй, наивысшим проявлением прогресса
было то, что люди распознали это, назвали зло злом, насилие
насилием, преступление преступлением. Ведь эти слова не просто
обозначение каких-то поступков или явлений; это — оценка,
482
суровое осуждение их. Слова эти выстраданы, они родились в
процессе развития и борьбы.
Разумеется, в эти понятия вкладывалось разное содержание.
Они не абстракция: они конкретны, но конкретность их истори¬
ческая. В классовом обществе в эти понятия, как и в понятие
гуманизма вообще, вкладывалось и вкладывается то содержа¬
ние, которое должно служить интересам данного класса. Оно
могло быть и обычно бывало разным и для одного и того же
времени: классовое общество состоит из классов-антагонистов,
имеющих свое собственное представление о том, что такое зло
в общественном смысле, что есть преступление. Конечно, бывало,
что главным злом действительно было то, что считалось злом
в данном классе: это бывало тогда, когда этот класс был для
своего времени передовой общественной силой. Но и в классовом
обществе лучшие представители человечества, выразители его
совести, никогда не утрачивали представления о добре и зле как
о чем-то касающемся в равной мере всех, т. е. переводили поня¬
тие добра и зла в сферу общих интересов всех людей. Пусть
такое представление в их историческую эпоху и не могло реали¬
зоваться, все равно оно играло огромную роль — служило вели¬
ким ориентиром на историческом пути человечества.
Оценочный характер понятий зла, насилия, преступления про¬
явился в сознании обязанности бороться со всем этим, обязан¬
ности устранять зло из человеческой жизни. Такая борьба велась
всегда, и она в свою очередь сама служит наглядным свидетель¬
ством прогресса.
Борьба велась, естественно, прежде всего с тем, что было
главным злом для своего времени. Поэтому на протяжении исто¬
рии непосредственный объект борьбы менялся. Прогресс в этой
сфере проявлялся главным образом в том, что борьба направ¬
лялась не только на проявление зла, но и на его причины. Про¬
гресс проявлялся во все большем уяснении общественной при¬
роды зла, в возрастающем умении определять, что является
в данном случае главным источником зла и каким должен быть
наиболее эффективный путь борьбы с ним.
В чем мы видим главный источник общественного зла в наше
историческое время, когда развитие производительных сил, на¬
ших знаний, нашего умения подчинять человеку силы природы
подвело нас вплотную к возможности ставить как вполне реаль¬
ную задачу обеспечение материальной основы достойной чело¬
века жизни в рамках всего человечества?
В чем мы видим главный источник зла в наше историческое
время, когда прогресс общественного развития открыл нам эру
бесклассового общества, могущего обеспечить культурную, ду¬
ховную основу достойной человека жизни в рамках всего чело¬
вечества как сообщества «гармонически ассоциированных лю¬
дей»?
483
Для ответа на первый вопрос необходимо учитывать одну
особенность нашего времени: дело идет о нашем отношении
к природе.
Были времена — и они еще не прошли,— когда человек и
природа рассматривались как две противостоящие друг другу
силы. Их взаимоотношения оценивались как борьба, как вечная
борьба человека с силами природы. На этой почве образовались
две противоположные концепции: концепция полной зависи¬
мости человека от природы и концепция человека — царя при¬
роды.
Были, однако, мыслители, судившие иначе: они не подчиняли
человека природе, не противопоставляли и природу человеку;
они видели в них две силы, сосуществующие в одной и той же
сфере — сфере жизни: силы, не только сосуществующие, но и
взаимодействующие.
В настоящее время человек подошел к овладению самыми
сокровенными, самыми великими силами природы, и это поста¬
вило его перед острым вопросом — вопросом о себе самом. Кто
он, человек, овладевающий силами природы? Каковы его права и
его обязанности по отношению и к природе и к самому себе?
И есть ли предел этих прав? А если есть, то каков он?
Если видеть в гуманизме то великое начало человеческой
деятельности, которое вело человека до сих пор по пути про¬
гресса, то остается только сказать: наша задача в этой области
сейчас — во включении природы не просто в сферу человеческой
жизни, но в сферу гуманизма, иначе говоря, в самой решитель¬
ной гуманизации всей науки о природе. Без этого наша власть
над силами природы станет нашим проклятием: она выхолостит
из человека его человеческое начало.
Ответ на второй вопрос — в чем мы видим сейчас главный
источник зла в общественной жизни — уже дан со всей ясно¬
стью: важнейший источник зла — эксплуатация человека челове¬
ком и обращение к войне как к способу разрешения конфликтов.
Борьба за уничтожение такой эксплуатации, за устранение из
практики истории войн и составляет сейчас главное содержание
гуманизма нашего времени.
Эксплуатация человека человеком для истории дело хорошо
знакомое. Мы понимаем, что на определенных исторических эта¬
пах, на определенном уровне развития производительных сил
она была неизбежной. Столь же понятным бывало и обращение
к войне. Но вместе с тем понимаем и то, что на нынешнем
уровне развития производительных сил эксплуатацию человека
человеком можно устранить: при нынешнем интеллектуальном и
моральном качестве человека эксплуатация, как и война,— пре¬
ступление. Этим убеждением мы также обязаны гуманизму.
К чести человечества следует отнести то, что совесть лучших
представителей человеческого рода во все времена никогда не
принимала ни того, ни другого. Призывы к братству и миру раз¬
484
давались в истории многократно и на самых разных концах
земли.
Эти призывы сначала исходили из уст пророков, мудрецов,
учителей человечества, позднее — из уст поэтов, мыслителей,
ученых. Но они говорили тогда за всех, вернее, их устами гово¬
рили человеческие массы, простые люди земли.
Сейчас эти простые люди уже говорят сами, своим собствен¬
ным голосом. И в этом — великая сила их призывов. Поэтому
мы, продолжающие борьбу с источниками общественного зла,
которую столько веков вели наши предшественники, хможет быть,
теперь и доведем эту борьбу до вожделенного конца. Наш обще¬
ственный строй, социализм, принципиально не совместим ни
с эксплуатацией человека человеком, ни с войной. В этом его
великая — и совершенно особая по своей природе общественная
сила. Поэтому именно в русле социализма мы и можем ждать
успеха в этой борьбе.
А если так, то можем ли мы не относиться к нашему буду¬
щему с надеждой? Конечно, наше будущее отнюдь не прямое,
гладкое восхождение к обществу, обеспечивающему человече¬
ству достойную человека жизнь. Так никогда в истории не бы¬
вало. Но основной путь ясен: он открыт нам нашей действитель¬
ностью. И это и делает нас оптимистами.
Но для того чтобы утвердиться в таком оптимизме, нужно
еще одно условие.
Гуманизм является идеей по своему общественному содержа¬
нию, может быть, важнейшей из всех великих идей, выдвинутых
человечеством на протяжении многих тысячелетий его истории.
Идея гуманизма — результат огромного исторического опыта в
его наиболее глубоком восприятии, результат осознания чело¬
веком в процессе такого опыта самого себя, своих общественных
задач. Идея гуманизма есть высшая по своей общественной зна¬
чимости и этическая категория. Она всегда была высшим крите¬
рием настоящего человеческого прогресса.
Энгельс в одном из своих писем к Мерингу назвал нелепым
представление, будто бы Маркс и он, не желая признавать за
различными идеологическими областями самостоятельного исто¬
рического развития, тем самым якобы отрицали за ними и вся¬
кое воздействие на историю. «В основе этого,— писал Энгельс,—
лежит шаблонное недиалектическое представление о причине и
следствии, как о двух неизменно противостоящих полюсах,
и абсолютно упускается из виду их взаимодействие».
Не подойдет ли человеческое общество с ликвидацией экс¬
плуатации человека человеком, с отказом от войны — тех источ¬
ников зла, которые причинили и причиняют человечеству столько
страданий, с гуманизацией всей науки о природе к такому со¬
стоянию, когда откроется возможность объединить развитие
истории и движение порожденных мыслью этических категорий,
а в их составе — важнейшей по своему общественному значению
485
категории гуманизма? И не будет ли такое объединение дости¬
гаться все большим и большим превращением этических катего¬
рий вообще и категории гуманизма в первую очередь в нормы
не только человеческого поведения, но и всей общественной, го¬
сударственной жизни? Вся прошлая история человечества, вся
наша современная действительность взывают к этому. И мы жи¬
вем сейчас с надеждой, что так и будет.
Что же, это и есть предел? На этом и заканчивается посту¬
пательное движение человечества?
Ответ на этот вопрос зависит от ответа на другой: может ли
вообще быть предел такому движению? Видимо, да и нет. Нет —
потому, что мы не в состоянии предугадать, какие формы и виды
зла могут вообще возникнуть в будущем после устранения суще¬
ствующих. И в то же время предел есть. Вернее, не предел,
а мысль о пределе. Мысль эта представала и предстает в образе
идеального состояния общества. Рисоваться этот образ может
очень различно. Китайскому народу в глубокой древности, в
IX в. до н. э., идеальное состояние общества представлялось
в образе «счастливой земли», и он выразил свою надежду до¬
стигнуть ее в словах песни: «Есть счастливая земля! Да, счаст¬
ливая земля! В той земле, в краю ином, мы найдем наш новый
дом». У древних эллинов и римлян идеальное состояние обще¬
ства рисовалось в образе «золотого века». В каких бы образах
мысль об этом пределе ни выступала, она никогда не покидала
человечество и вдохновляла его на борьбу с тем, что препятст¬
вует достижению идеального, достойного человека, состояния
общества. Об этом с великой яркостью и силой сказал русский
писатель Достоевский: «Золотой век — мечта самая невероятная
из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь
свою и все свои силы, для которой умирали и убивались про¬
роки, без которой народы не хотят жить и не могут даже уми¬
рать». И эта мечта есть, может быть, самое высокое проявление
человеческого в человеке, проявление того же гуманизма, кото¬
рый всегда был и остается величайшей идеей общественной про¬
граммы.
1961—1965 гг.
И. Ю. КРАЧКОВСКИИ — ВОСТОКОВЕД-ФИЛОЛОГ
(ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ)
Вскоре после кончины (24 января 1951 г.) академика Игна¬
тия Юлиановича Крачковского Совет Министров СССР предло¬
жил Академии наук СССР издать собрание избранных работ
этого выдающегося советского востоковеда. В настоящее время
вышли из печати все шесть томов этого издания.
Издание важнейших работ И. Ю. Крачковского — дело, имею¬
щее серьезное научное и общественное значение и притом в
высшей степени своевременное.
И. Ю. Крачковский, как известно, был востоковедом-араби-
стом. По образованию, по направлению научной деятельности,
полностью отвечавшему его интеллектуальному складу, он был
филолог. А быть востоковедом-филологом для него, как и для
каждого подлинного филолога, всегда означало самозабвенно
погружаться в постижение жизни и культуры, проявление кото¬
рых он равным образом видел и в том, что находил в покрытом
пылью веков памятнике письменности, и в том, что являет нам
кипучая, бьющая ключом, насыщенная противоречиями жизнь
народа.
Мало кто, может быть, так цельно олицетворял собою этот
тип востоковеда-филолога, как И. Ю. Крачковский. Он мог, забыв
обо всем на свете, неотрывно сидеть над сложной арабской руко¬
писью в каком-нибудь книгохранилище, где царит благоговейная
тишина. Мог, также забыв о времени, бродить по Бейруту, Дама¬
ску, Каиру, жадно всматриваясь в раскрывающуюся перед ним
жизнь. Мог подолгу беседовать на какой-то маленькой станции
близ Каира с мальчиком-арабом, чистильщиком сапог, и унести
с собой эту беседу, рассказать о ней много-много лет спустя, как
это он сделал в одном этюде из сборника «Над арабскими руко¬
писями». Новейшая история арабской нации с особенной ясно¬
стью показала нам, насколько проницательны и жизненны были
взгляды И. Ю. Крачковского на арабскую культуру, насколько
правилен был его призыв тщательно и всесторонне ее изучать.
487
В этих этюдах И. Ю. Крачковский не раз отмечал, что книги
у него часто побеждали людей. «Неожиданно и причудливо пере¬
плетались, часто неразрывно, в моих скитаниях по Востоку люди
и книги. Но чем дальше шло время, тем больше книги оттесняли
людей»,— пишет он в одной из своих статей. Но тут же делает
характерное замечание. «Книги вводили меня в новый мир и по¬
казывали мне людей легче и быстрее, чем это удавалось мне са¬
мому при непосредственном наблюдении». Что же значат эти
слова, как не признание того, что и книги были ему нужны только
для познания людей? Недаром статья заканчивается знамена¬
тельными словами: «Жизнь, однако, меня научила, что людей
нельзя отделять от книг; книги опять привели меня к людям, и
только тогда я понял по-настоящему историю нашей науки».
Эти слова были написаны И. Ю. Крачковским в самом конце
его жизненного пути. И разве может не волновать нас это явив¬
шееся как бы итогом всей его жизни сознание, что работа уче¬
ного — истинного ученого — только одним по-настоящему и вдох¬
новляется— чувством своей неотделимости от людей, от жиз¬
ни, пусть даже и не исполненной мира и тишины книгохрани¬
лищ...
Вот это никогда не покидавшее И. Ю. Крачковского сознание
и привело его к работе, которая стала одним из подвигов его
научной жизни: к изучению новой арабской литературы.
Надо знать историю нашего востоковедения, чтобы понять,
что это означало тогда, в дни молодости И. Ю. Крачковского.
В те времена начинающий ученый мог рассчитывать на самую
активную поддержку своих учителей, когда они видели его сидя¬
щим над средневековой арабской рукописью. И не так просто
было тогда молодому ученому сказать, что он с вниманием читает
и недавно вышедший роман какого-нибудь современного сирий¬
ского, ливанского или египетского писателя. И не только читает,
но и считает возможным писать о нем. И не только писать, но и
считать изучение творчества современного арабского писателя
наукой. Тем самым И. Ю. Крачковский преодолевал упорно дер¬
жавшееся среди части востоковедов того времени убеждение, что
наука и современность — «вещи несовместимые». Это помогло
И. Ю. Крачковскому стать не только первоклассным знатоком
средневековой арабской письменности, но и первым по времени
и лучшим тогда знатоком новоарабской литературы. И знамена¬
тельно: к этой литературе обратило его живое соприкосновение с
людьми на Арабском Востоке. «Впервые, наконец, передо мной
открывалась здесь новая арабская литература»,— пишет он в
одном из этюдов своего сборника. Понятен поэтому тот пиетет,
которым окружено имя И. Ю. Крачковского в странах Арабского
Востока. Когда образовалась в Дамаске Академия наук — пер¬
вая национальная Академия наук у арабов,— И. Ю. Крачков¬
ский стал ее членом. В дни чествования И. Ю. Крачковского в
1935 году, по случаю 30-летия его научной деятельности, один из
488
крупнейших писателей современного Египта Махмуд Теймур пи¬
сал: «Я шлю ему искреннейший привет, выражая чувства дружбы
и благодарности, которые питает к нему весь арабский мир, а в
частности народ Египта. Ведь человек, который всю свою жизнь
посвятил ознакомлению западного мира с арабской культурой,
который открыл нам путь, помогающий занять нашей литературе
подобающее место среди мировых литератур, достоин высочай¬
шего сана в наших сердцах». Не случайно и то, что делегация
арабских ученых, побывавшая у нас не так давно, по приезде в
Ленинград первым делом выразила желание побывать на могиле
знаменитого советского арабиста.
И. Ю. Крачковский был арабистом-филологом. Что же это
собственно означает? Звания кандидата и доктора филологиче¬
ских наук у нас сейчас присваивают и лингвистам и литературо¬
ведам. Был И. Ю. Крачковский лингвистом или литературове¬
дом? И да, и нет. Он был филологом в самом точном смысле
этого слова.
Настоящий филолог не имеет права быть только лингвистом.
За явлениями языка он должен видеть самый язык, а через
него — мышление, ум. За романом или стихотворением он дол¬
жен уметь разглядеть творческий гений народа. Филолог должен
быть и историком, но таким, который видит в истории всю цело¬
стность жизни, борьбы и творчества.
И. Ю. Крачковский не был склонен к широким обобщениям.
Это был мастер скрупулезных специальных исследований. Но
писал ли он о «значении слова аннаджм в Коране», т. е. работу
лингвистическую, или о творчестве новоарабского писателя
Амина Рейхани, т. е. работу литературоведческую, или о каком-
нибудь арабском документе — памятнике средневековой истории
и культуры, т. е. работу историческую, за всем единичным он
видел общее — творческую деятельность народа. Трудный, слож¬
ный, но всегда созидательный в своих больших линиях путь на¬
рода был неизменно перед глазами филолога И. Ю. Крачков-
ского.
Быть филологом-арабистом для И. Ю. Крачковского означало
с полной свободой читать любой арабский письменный документ
любой эпохи; читать документ, написанный любым почерком —
и куфическим, и магрибинским, и всяким другим. Быть исследо¬
вателем для него означало — на каком бы языке ни была напи¬
сана научная работа на тему, его интересовавшую, он должен
был уметь эту работу прочитать.
. В статье «Аль-Андалус и Ленинград» он перечисляет те
языки, которые должен знать современный арабист-филолог:
английский, французский, немецкий, итальянский, испанский,
голландский, датский, шведский, чешский, польский, сербский,
болгарский, украинский. «Список необходимых языков ширится
и ширится; если выдвинуть эту фалангу всю сразу, она может
устрашить, но при постепенном движении человеческой жизни
489
ею часто овладеваешь как-то незаметно для самого себя»,— уте¬
шает он молодого арабиста. К сказанному надо добавить: ара¬
биста И. Ю. Крачковского не затрудняли и языки персидский,
турецкий, эфиопский.
Даже полученное им образование в какой-то мере обеспечи¬
вало все это. На старом восточном факультете Петербургского
университета не было отделений арабского, персидского, турец¬
кого, а было отделение арабско-персидско-турецкое, не было
отделения китайского, отделения японского, а было отделение
китайско-японо-корейское; было там и отделение еврейско-сирий¬
ско-арабское. Справлялись со всем этим. А те, кто не справ¬
лялся, быстро исчезали с восточного факультета, и никто их не
задерживал. Да и вряд ли надо было задерживать.
О трудностях работы на факультете хорошо рассказал сам
И. Ю. Крачковский, передав услышанный им в библиотеке раз¬
говор двух старых библиотечных «служителей», как их тогда
называли,— верных и испытанных друзей нашей научной мо¬
лодости.
— Вот Крачковский и по вечерам стал ходить: сегодня опять
сидит.
— Видел! — раздается слегка недовольная реплика Петра.—
Дня ему мало!
— Верно торопится,— продолжает свои мысли, точно не
слушая, Иван.— Скоро его на Восток к арабам в командировку
пошлют, пускай еще там поучится.
— Ходить-то он ходит,— как бы начиная исподволь задирать
собеседника, басит недовольно Петр.— А вот прок какой будет?
— Почему не будет? — все еще спокойно говорит Иван.—
Походит, походит, а там смотришь и диссертацию напишет, защи¬
тит, магистром будет. Восточники — это что классики,— настоя¬
щий народ, не то что юристы. Юрист раз в месяц придет в биб¬
лиотеку и уже книгу написал: что это за работа? А вот филолог
или восточник — года два каждый день сидит, это дело на¬
стоящее.
Была в И. Ю. Крачковском и еще одна черта настоящего
большого ученого, часто проявлявшаяся на наших глазах.
В начале 1930 года ему привезли из Йемена две бронзовые
таблички с южноарабскими письменами. Что следовало делать
ученому в этом случае? Прочитать таблички и определить их
достоверность. «Такой задачи мне никогда еще не приходилось
решать,— пишет Крачковский.— Приступать к первому опыту
было жутковато, но и отказаться от него было нельзя. Этого
не допускало достоинство нашей науки; неудобно было в самом
деле, ввиду отсутствия у нас специалистов, послушаться совета
некоторых наших представителей и послать надписи на экспер¬
тизу в Италию». А это ему предлагали и некоторые иностранные
ученые. «Пойти на это — значило бы, с моей точки зрения, соз¬
наться в своем бессилии и, не исчерпав всех средств, отказаться
490
к Тому Же бт приоритета нашей науки. Мне делалбсь как-То
стыдно».
И, конечно, И. Ю. Крачковский эту работу сделал, заставив
всех скептиков за границей замолчать. Вот это постоянное созна¬
ние ответственности за отечественную науку, за ее достоинство,
никогда не покидающее истинного ученого — патриота своей
страны, было присуще Крачковскому всегда и проявлялось оно
не в виде крикливых, назойливых деклараций, а сдержанно,
скромно, но твердо.
Вспомнить о замечательном нашем востоковеде сейчас умест¬
нее, чем когда-либо. Нельзя в. настоящее время думать о возрож¬
дении такого типа ученого-филолога, каким был Крачковский.
Он и сам это хорошо понимал.
«Арабист современного поколения с первых шагов самостоя¬
тельной работы должен считаться с непреложным законом —
дифференциации науки. Теперь нельзя уже, как бывало раньше,
стать специалистом во всех трех областях — лингвистики, лите¬
ратуроведения, истории. Каждая из них настолько развилась,
накопила такие большие материалы, что человеческой жизни
мало для овладения этим богатством даже по одной из трех ли¬
ний»,— писал Крачковский.
Да, сейчас у нас должен быть востоковед-лингвист, востоко¬
вед-литературовед, востоковед-историк. Это — бесспорно. Но
одно остается непреложным: прежде чем стать одним из таких
специалистов, нужно пройти школу востоковеда-филолога, быть
вооруженным всем филологическим знанием, владеть методом
филологического исследования.^ Лишь оно, такое знание, дает
возможность стать в дальнейшем полноценным специалистом по
языку, литературе, истории какого-либо народа Востока.
Мы имеем право идти только вперед. А идти вперед в востоко¬
ведении можно, лишь отправляясь от того, что было достигнуто
прежним русским востоковедением. Уровень достигнутого ярко
демонстрируют крупнейшие востоковеды нашего прошлого и
среди них не так давно ушедший от нас И. Ю. Крачковский. Оста¬
ваться только в этих пределах мы уже не можем, слишком
усложнились и расширились задачи нашего востоковедения. Но
мы не можем ни шагу сделать действительно вперед, если не
овладеем этим уровнем.
1965 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПИСЬМА Н. И. КОНРАДА ИЗДАТЕЛЯМ
ЯПОНСКОГО ПЕРЕВОДА КНИГИ «ЗАПАД И ВОСТОК»
Москва, 22.1Х.69.
Дорогой Комияма-сан!
На днях я получил от Вас посылку: один экземпляр 1-го тома «Запада и
Востока» и три экземпляра 2-го тома. Таким образом вместе с томами, полу¬
ченными ранее, у меня теперь есть три комплекта японского издания моей
книги.
Извещая Вас об этом, приношу Вам свою большую благодарность. И не
только за присылку этих экземпляров, но вообще за издание моей книги в
Японии. Вашей доброй воле я обязан тем, что этот сборник моих научных ра¬
бот стал отныне существовать и для японских читателей. Такой факт в жизни
всякого научного работника является событием первостепенной важности. Я от¬
дал много десятков лет изучению Японии — ее языка, ее истории, ее литера¬
туры, ее культуры — и на склоне жизненного пути получить такой подарок из
Японии для меня особенно радостно.
Выражая свою благодарность Вам как инициатору и организатору этого
издания, я должен добавить, что я весьма тронут тем изящным еззеу, которое
Вы — с подзаголовком «слово издателя» (канко:ся-но котоба) приложили к
1-му тому. В этих ваших «словах» я увидел отражение того доброго отноше¬
ния к себе, которое я всегда чувствовал в Вас и при наших личных встречах
в Москве.
Прошу Вас передать мою самую искреннюю благодарность и всем пере¬
водчикам моих статей. Я хорошо понимаю, какая это была для них нелегкая
задача! Особенно — в статьях, посвященных философии и литературе Китая.
Но, насколько я могу судить, все они превосходно справились со своим делом
и я им очень обязан. Из редакционного предисловия я узнал, что участие в
переводе отдельных мест, особенно — терминов, приняли и сотрудники редак-
492
ЦйонНоГо отдела Вашего издательства, й даже Члены «Ниссо Хонъяку сЮПпан
конвакай». Позвольте через Вас передать мою сердечную благодарность и им.
Ведь, благодаря всем этим участникам японского издания моей книги, мои
научные мысли теперь открыты японским читателям в правильном свете. А как
они были именно правильно поняты, я вижу по замечательному изложению ос¬
новного содержания моей книги, сделанному автором «кайсэцу» Такахаси. Ему
я выражаю особую благодарность.
Как филолог — языковед, я не могу не остановиться на некоторых деталях
работы переводчиков. Например, я с удовольствием увидел, что слова «Воз¬
рождение» и «Ренессанс», которые так часто встречаются в моей книге, пере¬
даны по-японски не словами «бунгэй фукко», как это обычно делается в япон¬
ской научной литературе, а словом «Рэнэсансу», которое стало общим для всех
языков культурного мира обозначением особой исторической эпохи. Слово это
выбрано правильно, так как явление Ренессанса я толкую гораздо более ши¬
роко, чем только «бунгэй фукко» («Возрождение литературы и искусства»).
Это была эпоха великого духовного подъема общества в целом, настоящая
революция в общественной мысли и в отношении человека к жизни и к куль¬
туре.
Мое внимание остановилось на слове «дзиммон-кагаку» *, появившемся у
переводчиков. Термин этот, как известно,— старый; он был создан еще в те
времена, когда наука об обществе и человеке еще не расчленилась на отдель¬
ные отрасли — философию, историю, социологию, литературоведение, искус¬
ствоведение и т. д. Он исчез из обращения, когда такое расчленение произошло.
Но в наше время — при всей не только сохраняющейся, но и увеличивающейся
дифференцированности знания — во всей своей силе открылась глубинная
связь всех наук о человеке и об обществе и чувствуется необходимость в одном
общем термине. В японском языке «дзиммон-кагаку», по-моему, как раз очень
подходит для этого. Может быть, можно в наше время вспомнить и парал¬
лельные ему другие старые термины — тимонгаку и тэммонгаку **.
Во всяком случае теперь я на вопрос, в какой научной области я работаю,
буду отвечать: в «дзиммон-кагаку»! Вот — одно из неожиданных следствий
появления японского перевода моей книги. А сколько разных следствий еще
будет!
Итак, еще раз спасибо, дорогой Комияма-сан! «Русское спасибо» Вам.
Ваш Н. Конрад
Не могу удержаться от того, чтобы не рассказать Вам об одном неожид ац-
ном для меня впечатлении от японского перевода моих статей.
Когда я бегло просматривал эти книги, переворачивая одну страницу за
другой, у меня возникло ощущение, будто бы я погружаюсь в мир каких-то
понятий. Так как я только перелистывал книгу, а не читал ее, что в ней гово¬
рится, я уловить не мог, но о чем говорится мне было совершенно ясно. И тут
я подумал: чем такое впечатление вызвано? Ответ получился само собой: по-
* Дзиммон-кагаку — старое обозначение комплекса гуманитарных наук
(дзин — человек, мон — литература и гуманитарные знания — в противополож¬
ность военным).
** Тимонгаку — старое обозначение комплекса наук: географии, геологии,
топографии и т. п. (ти — земля); тэммонгаку — астрономия (тэн — небо).
493
Лучйлбсь потому, что перед коим взором был канамадзирибун; лучше скё-
зать — кандзиканамадзирибун *!
Какой замечательный способ письма,— подумал я. В нем не просто соеди¬
нились, объединились два великие культурные изобретения человечества:
письмо идеографическое и фонографическое. Мелькавшие перед моими глазами
иероглифы непрерывно давали мне точную информацию — о чем тут напи¬
сано! А если бы я захотел знать, что именно об этом написано, такую инфор¬
мацию дала бы мне кана! Но так как первое, что хочет знать человек, откры¬
вая новую для себя книгу, это — о чем в ней написано, получается, что нали¬
чие иероглифов дает на это быстрый и точный ответ при одном взгляде. При
европейской системе письма мы должны были бы прочитать весь текст или по
крайней мере отдельное слово всё полностью. При японской же системе письма
первая, начальная информация получается наиболее быстрым и экономным
путем — через одни иероглифы.
Нет, не отменяйте у себя иероглифы! Конечно, не надо теперь писать так,
как писали пятьдесят лет тому назад. В январском номере за этот год жур¬
нала «Тюо корон» я прочитал очень интересную статью о Токутоми Рока во
время процесса Котоку Сюсуй. В этой статье приведены два письма Рока, ад¬
ресованные правительству того времени и императору. Разумеется, так писать
в наше время не надо: такая форма написания (я говорю именно о графиче¬
ской форме, а не о содержании) для того времени была в подобном случае
естественной и нормальной, но она совершенно не «синхронна» для сегодняш¬
ней японской жизни. Но форма канадзимадзирибун, какую я вижу в японском
издании моей книги, мне кажется чрезвычайно удобной и для нашего времени.
Как Вы знаете, японская система письма в этом пункте уникальна: такое объ¬
единение двух прямо противоположных графических принципов произведено
только в Японии. Берегите это национальное достояние!
Пожалуйста, не сочтите, что эти мои строки являются «вмешательством
во внутренние дела», запрещенным уставом ООН. Нет, это ни в коем случае не
кансё. А что же? Может быть «тадзан-но ней»? **
Как видите, и в моем письме получилось «приложение». Видимо, без «фу-
року» никак не обойтись!
Москва, 23 сентября 1969 г.
Дорогой Такахаси-сан! I
На днях я получил 2-ой том японского издания моей книги «Восток и За¬
пад» и увидел в ней Ваше кайсэцу — в новой, сравнительно с прежней Вашей
статьей об этой книге, редакции.
Уже тогда, когда я прочитал ту Вашу прежнюю статью, я написал Вам,
как меня взволновал этот Ваш отклик на мою книгу, в то время существовав¬
шую только в русском издании. Я знал, что читать мою книгу нелегко, что
* Соединение иероглифов с фонетической азбукой.
** «Камень с чужой горы» — говорится о скромной помощи со стороны.
494
темы ее — сложные, и никак не мог думать, что найдется в Японии кто-нибудь,
кто захочет с ней ознакомиться. Теперь, после прочтения Вашего кайсэцу, мне
снова захотелось написать Вам.
Прежде всего, конечно, для того, чтобы от души поблагодарить Вас. Это —
само собой разумеется. Но еще и для другого: чтобы подивиться Вам.
Да, я удивляюсь, что Вы, специально не занимающийся вопросами, подня¬
тыми в моей книге, обратили внимание на нее и нашли время ее прочесть.
Я удивляюсь, что Вы не разложили содержание моей книги, как это обычно
делается, «по полочкам»: это — хорошо, это — плохо... а свое внимание сосре¬
доточили на общем замысле моей книги и на научной личности ее автора. Ко¬
ротко говоря, Вы захотели понять и книгу, и автора!
И Вы этого достигли. Укажу лишь на два места в Вашей кайсэцу, которые
мне это открыли.
Первое — то, что Вы пишете о моей статье о Крачковском. Вы поняли, что
этой статьей я воздавал должное лучшему в старом востоковедении, благода¬
рил это старое востоковедение за всё то, чему оно меня научило, и вместе с
тем заявлял, что теперь я перешел к новому востоковедению. И тут Вы напи¬
сали поистине золотые слова: к новому востоковедению, «которое также можно
назвать западоведением и даже мироведением (сэкайгаку)». Этих Ваших слов
уже достаточно, чтобы увидеть, что Вы поняли научный пафос моей книги.
Второе — то место Вашей статьи, где Вы приводите строки Пушкина. Меня
прежде всего восхищает, как Вы хорошо знаете Пушкина! Ведь те стихи, ко¬
торые Вы вспомнили, не принадлежат к числу общеизвестных и постоянно ци¬
тируемых *. Но я особенно ценю, по какому поводу Вы эти строки вспомнили:
Вы написали, что отныне моя книга будет жить и в Японии и что она встре¬
тит, конечно, разные оценки. И Вы захотели этими строками Пушкина как бы
ободрить меня.
Сердечное спасибо!
Я. Конрад.
* Цитированные строки — из «Евгения Онегина», из последней строфы
1-й главы:
Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу;
Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам.
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!
СОДЕРЖАНИЕ
От автора 5
Старое востоковедение и его новые задачи 7
О рабовладельческой формации 29
Полибий и Сыма Цянь 47
Средние века в исторической науке 77
Хань Юй и начало китайского Ренессанса 103
Три поэта 132
Восемь стансов об осени Ду Фу 150
Философия китайского Возрождения (о сунской школе) .... 174
Об эпохе Возрождения 208
Шекспир и его эпоха 245
«Витязь в тигровой шкуре» и вопрос о ренессансном романтизме 265
Средне-Восточное Возрождение и Алишер Навои 273
Проблемы современного сравнительного литературоведения . . . 290
К вопросу о литературных связях 315
О литературном «посреднике» 329
Проблема реализма и литературы Востока 344
Роман Т. Такакура «Воды Хаконэ» и вопросы японской литера¬
туры и культуры 366
Нобори Сёму. К вопросу о взаимоотношениях японской и русской
литератур 382
Толстой в Японии 400
► О некоторых вопросах истории мировой литературы 415
• О всемирной литературе в Средние века 432
* О смысле истории 446
И. Ю. Крачковский — востоковед-филолог (вместо послесловия) 487
» Приложение 492
Редактор В. В. Кунин. Художник Я. Г. Д н е п р о в. Художественный редак¬
тор И. Р. Бескин. Технический редактор М. М. Ф р и д к и и а. Корректоры
К. Н. Драгунова и Н. Б. Осягина
Сдано в набор 5/У 1971 г. Подписано к печати 4/1У 1972 г. А-05657. Формат
60 X 90‘/1б. Бум. № 1. Печ. л. 31 + 0,125 п. л. вкл. Уч.-изд. л. 33,22. Тираж
Николай Иосифович Конрад
ЗАПАД И ВОСТОК
статьи
Утверждено к печати
Институтом востоковедения
Академии наук СССР
К. Н. Драгунова и Н. Б. Осягина
в набор 5/У 1971 г. Подписано к печати 4/1У 1972 г. А-05657.
(|в* Бум. № 1. Печ. л. 31 + 0,125 п. л. вкл. Уч.-изд. л. 33,22.
15 000 экз. Изд. № 2836. Зак. № 457. Цена 2 р. 29 к.
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16,
'Ш
г*
{ I
ч
с;
го